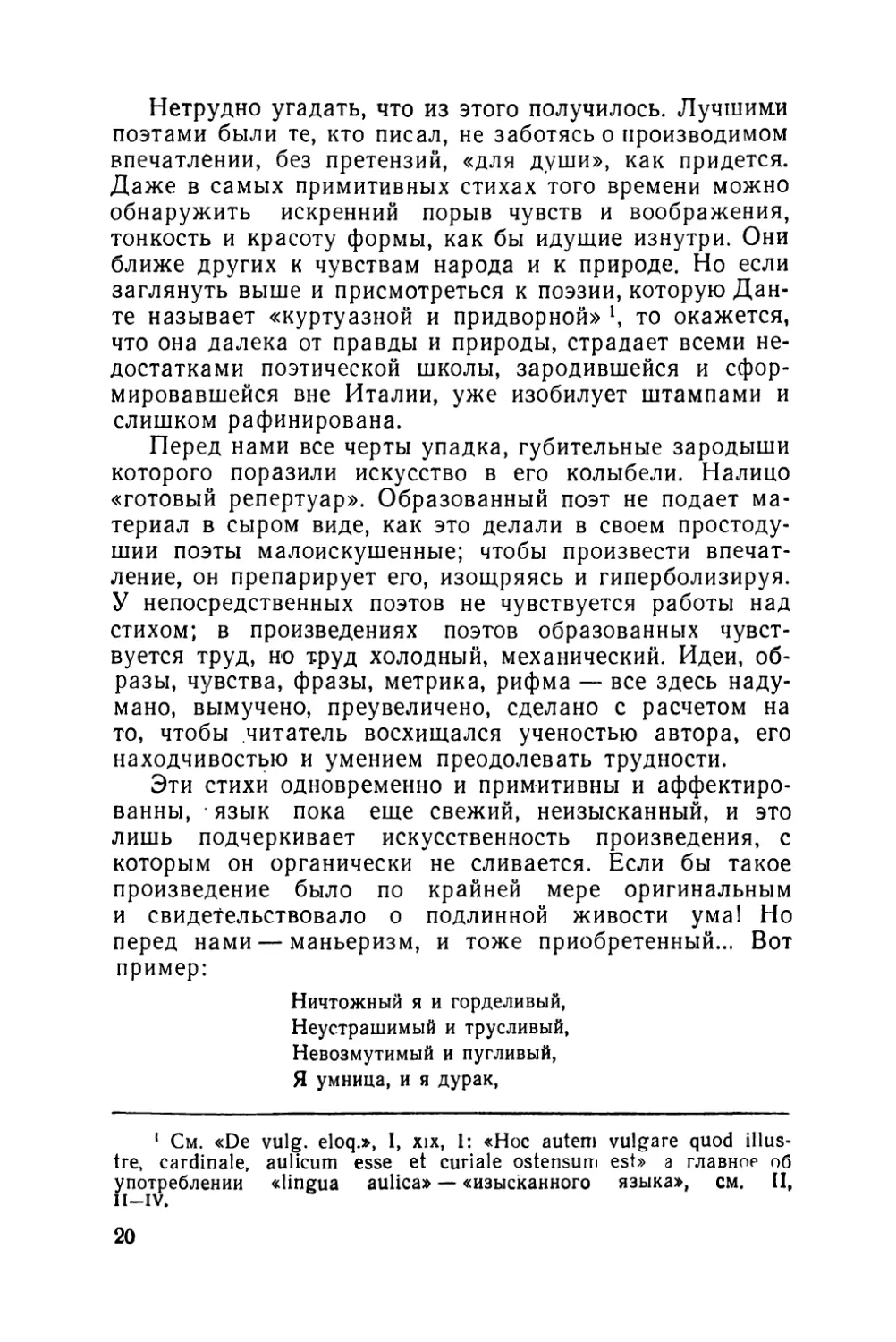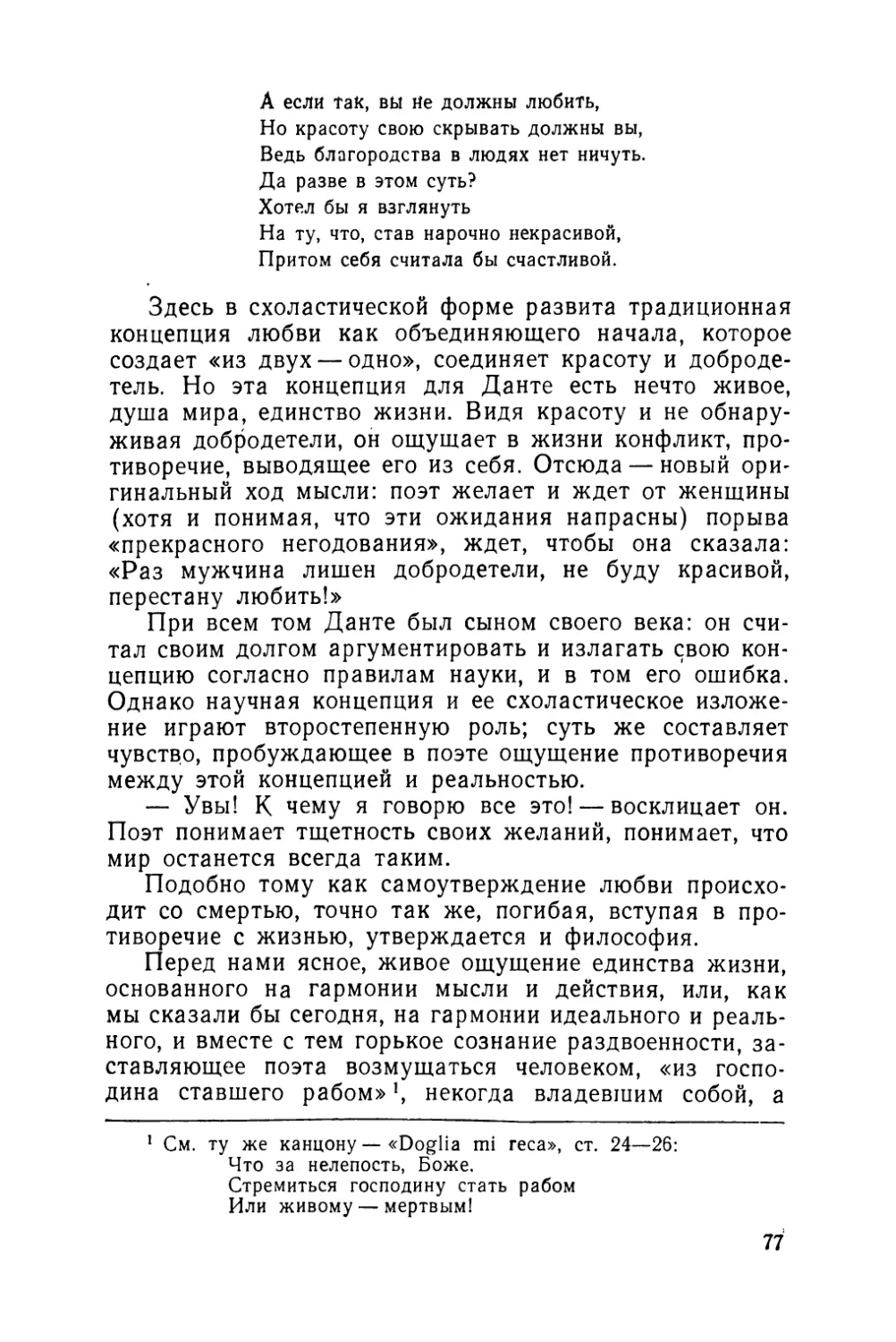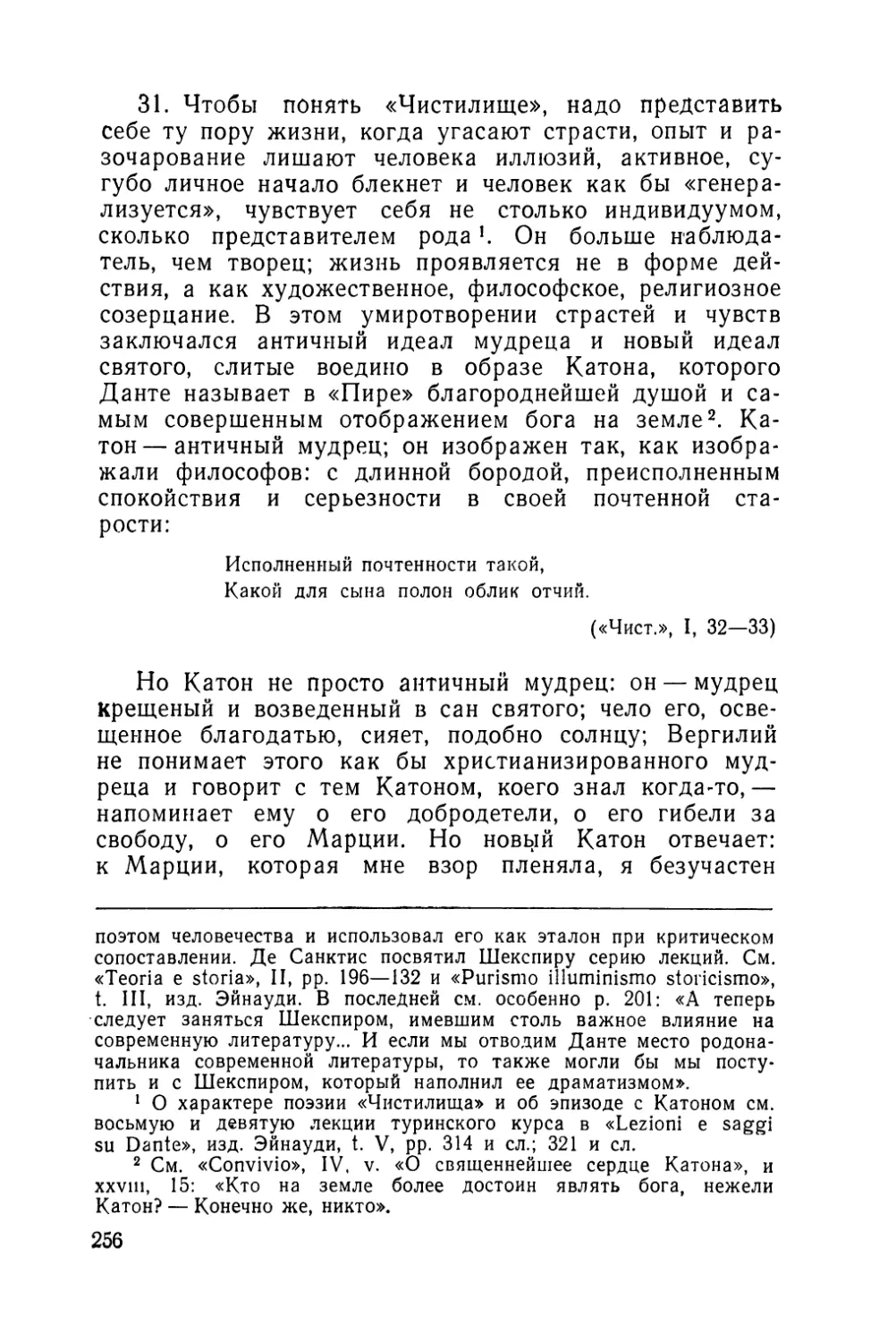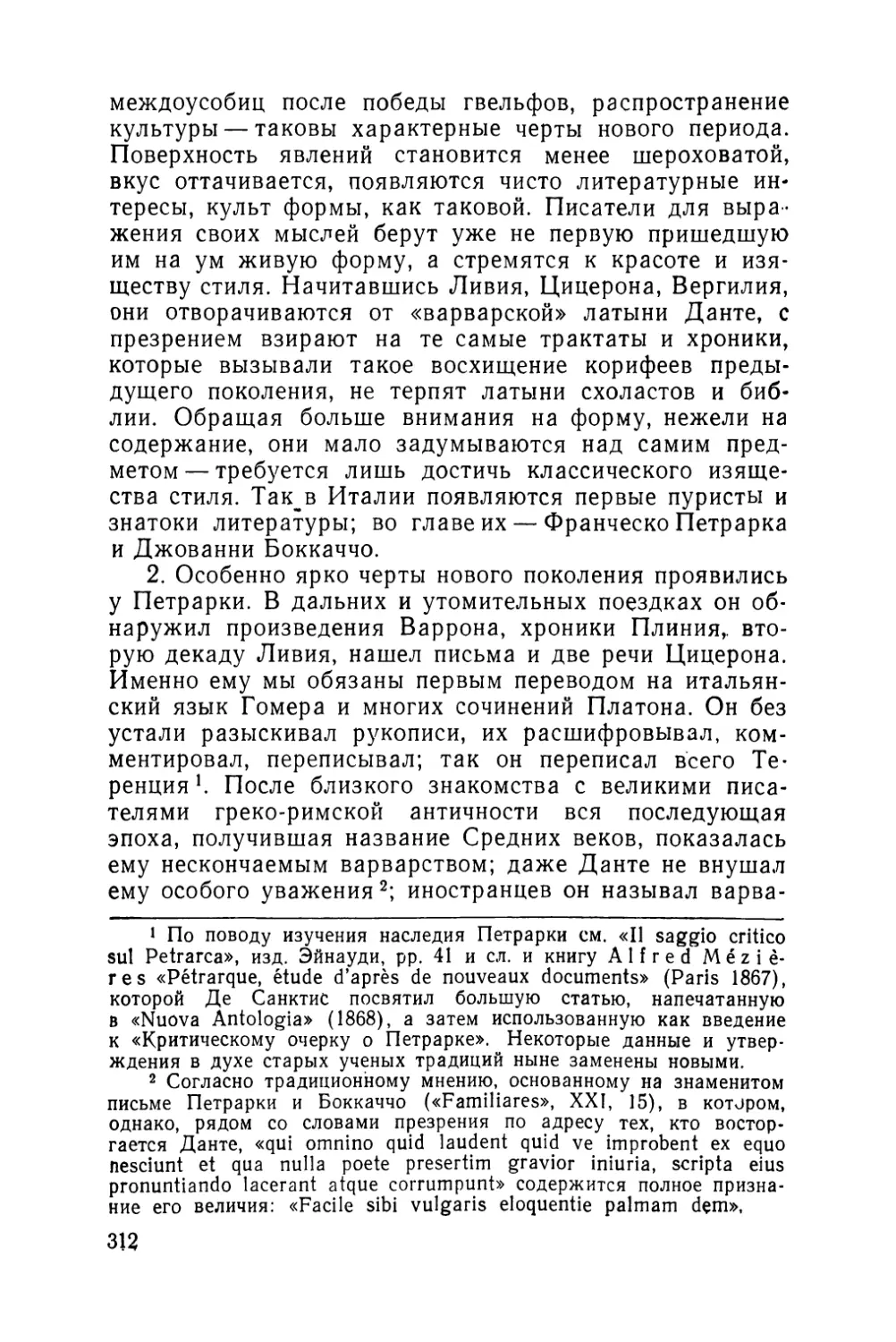Текст
*
*
*
*
*
*
t
Francesco De Sanctis *
Storia t
*
della letteratura italiana I
Torino 1958
*
I
I
*
*
I
I
I Франческо Де Санктис
*
*
*
История
i итальянской
литературы
*
*
*
| Том I
*
*
*
* Перевод с итальянского
* Под редакцией
Ж
* Д. Е. Михальчи
*
*
*
*
*
*
* Издательство иностранной литературы
* Москва 1963
Перевод Ю. А. Добровольской и Р. И. Хлодовского
Стихи в переводе Е. М. Солоновича
Книга крупнейшего итальянского литературоведа и
критика, философа и видного общественного деятеля
периода Рисорджименто Франческо Де Санктиса
(1817—1883) «История итальянской литературы» посвя-
щена изучению литературного процесса в Италии начи-
ная от истоков до 60-х годов XIX века. Книга издается
по последнему итальянскому изданию 1958 года и со-
стоит из двух томов. В первом томе подробно рассма-
тривается период становления итальянской литературы,
творчество Данте, Петрарки, Боккаччо, Полициано,
поэтов и прозаиков Чинквеченто.
Издание рассчитано на литературоведов, препода-
вателей высшей школы, студентов гуманитарных фа-
культетов и всех интересующихся итальянской литера-
турой.
Редакция литературы по филологическим наукам
%к
u
Франческо Де Санктис
От Издательства
Несколько лет назад, когда вся Италия готовилась отметить
столетие Рисорджименто, прогрессивное туринское издательство
Эйнауди закончило издание полного собрания сочинений одного из
виднейших представителей тех слоев и групп итальянского обще-
ства, которые стояли в первых рядах борцов за освобождение
Италии. Имя его — Франческо Де Санктис (1817—1883). Вся жизнь
этого общественного деятеля и выдающегося ученого была свя-
зана с демократическим движением, охватившим Италию в сере-
дине XIX века. Он выступил как один из его идеологов и активных
участников, совмещая научную и публицистическую деятельность
с открытой политической борьбой. Революция 1848 года, тюрьма,
участие в борьбе против неаполитанских Бурбонов, наконец дея-
тельность на посту министра народного просвещения освобожден-
ной Италии — таковы вехи политической деятельности Де Санктиса,
всегда находившегося на левом крыле движения Рисорджименто.
Когда партия Кавура, придя к власти, постаралась ограничить свою
деятельность разрешением только национальных проблем Италии,
Де Санктис организовал левую группировку, сплотив ее на борьбу
за проведение социальных преобразований.
Свою научную деятельность Де Санктис начал в Неаполе, где
он читал курс лекций по философии и эстетике Гегеля. Но посте-
пенно Де Санктис все более отходил от гегельянства. Став одним
из идеологов движения Рисорджименто, он пересмотрел свои фило-
софские взгляды так, что в его лице итальянская революционно-
демократическая мысль имела одного из своих наиболее последова-
тельных выразителей.
Важнейшим полем научно-критической деятельности Де Санк-
тиса была история и теория литературы — область, которую про-
грессивные деятели XIX века не раз использовали для выражения
своих философских и политических воззрений. Большинство его
работ посвящено истории итальянской литера гуры и творчеству ее
лучших представителей — Данте, Петрарки, Боккаччо, Макиавелли,
Леопарди. В них Де Санктис выступает как ученый, придержи-
вающийся последовательно демократических взглядов на сущность
и задачи литературы в обществе. Демократизм политических убе-
ждений, глубина поэтического ощущения мира, стремление повести
итальянскую литературу по пути реализма в интересах освободи-
тельного движения народа — таковы черты Де Санктиса как пред-
5
ставителя передовой итальянской общественной мысли XIX века.
В этом отношении Де Санктис напоминает великого русского кри-
тика В. Г. Белинского.
Предлагаемая вниманию советского читателя «История италь-
янской литературы» — одна из последних работ Де Санктиса. В ней
с наибольшей полнотой проявились его передовые общественно-по-
литические и литературно-эстетические воззрения. Рассматривая
историю итальянской литературы с момента ее зарождения до
30-х годов XIX века, Де Санктис подвел итог всем своим исследо-
ваниям в области литературы, подчеркнув ее неразрывную связь
с общественной жизнью, с демократическим, гуманистическим дви-
жением, пронизывающим историю человечества. Передовые обще-
ственно-политические и литературно-критические воззрения Де
Санктиса во многом созвучны устремлениям лучших представителей
литературно-теоретической мысли нашей современности с ее оже-
сточенной борьбой в области литературного творчества. Этим и
объясняется то, что работы Де Санктиса не теряют своей актуаль-
ности по сей день.
Конечно, было бы неправильно считать, что Де Санктис в своей
литературно-критической деятельности полностью освободился от
идеалистических взглядов на явления общественно-политической и
литературной жизни Италии; не смог он в силу объективных исто-
рических условий подняться до понимания литературного процесса
в духе исторического материализма. Отсюда проистекает некоторая
нечеткость в оценках деятельности отдельных представителен
итальянской литературы и общественной мысли, односторонность
в трактовке общественных и литературных явлений. Надо также
учитывать, что Де Санктис в ряде случаев пользуется терминоло-
гией, отличной от той, которая принята в современных обществен-
ных науках; это обстоятельство надо иметь в виду и при чтении
настоящей его книги.
Русский перевод сделан по изданию Эйнауди под редакцией
Карло Мушетты. Примечания (с небольшими сокращениями) взяты
из итальянского издания.
ft-***************************************** **
1
Сицилийцы'
1. «Контрасто» или «Прение» Чулло (Чьело) д'Алькамо,
безличное по форме, рисует непосредственную и подлинную
картину первых десятилетий XIII века. 2. Разложение латин-
ского языка и преобладающая роль диалектов в период ран-
него средневековья. 3. Возрождение латыни и формирование
народного итальянского языка как итог культурного и соци-
ального развития Сицилии в период от начала арабского вла-
дычества до установления господства швабов. 4. Канцоны Ри-
нальдо д'Аквино и Одо делле Колонне — образчики подлинно
народной поэзии. Король Энцо, Фолько ди Калабриа, Фоль-
каккьеро деи Фолькаккьери. 5. «Первородный грех» сицилий-
ской поэзии: разработка идей и форм, не имевших ничего об-
щего с жизнью народа. Придворная и куртуазная поэзия. т
Губительные зародыши маньеризма поражают искусство в его
колыбели: Гвидо делле Колонне и Якопо да Лентино. 6. «Ин-
теллидженца и сонет о соколе. 7. Конец господства швабов
и быстрый упадок сицилийской поэзии.
1. Древнейшим памятником нашей литературы
принято считать кантилену или канцону Чулло
(уменьшительное от Винченцо) из Алькамо2 и канцону
1 По вопросу о сицилийских поэтах и о проблеме соотношения
языка и литературы следует обращаться к неоконченной статье Де
Санктиса, написанной в виде письма Де Мейсу, и к введению
в курс лекций о Данте, прочитанных им в Цюрихе в 1856 г. и опу-
бликованному Бенедетто Кроче в «Ricerche e documenti desanctisi-
ani» IV, Frammenti di estetica di F. De S., Napoli 1914, pp. 19—24
и р. 25. В издании Эйнауди см.: «TEpistolario» и «Lezioni e saggi
su Dante», vol. V, p. 391.
2 По поводу народного характера «Контрасто» Чьело д'Алькамо
и того, что это произведение является «памятником, наводящим на
мысль о существовании в ту пору целого поэтического цикла», см.
также: «Saggio critico sul Petrarca», vol. VI издания Эйнауди, р. 48.
Особое внимание критики к этому произведению и с давних пор ве-
дущиеся дискуссии о происхождении и об имени знаменитого стихо-
творца возникли намного позже появления «Истории итальянской
7
Фолькаккьеро из Сьены х. Спорить о том, какая из этих
канцон древнее, было бы наивно, ибо они обе отнюдь не
начало, но лишь часть творческого наследия определен-
ной литературной школы; возникла она задолго до их
появления и достигла расцвета в годы царствования
Фридриха II, чьим именем и была названа.
Фридрих II, германский император и король Сици-
лии, которого Данте, прозвавший его «великим клири-
ком»2, считал образованнейшим человеком своего вре-
мени, был, как сказано в «Новеллино», благороднейшим
синьором; ко двору его в Палермо съезжались «люди,
обладавшие всевозможными талантами, — музыканты,
трубадуры и искусные рассказчики» 3. Вот почему поэ-
тов того времени, даже если они происходили из других
областей Италии, называли сицилийцами.
Что представляет собой кантилена Чулло?
Это тенцона или диалог между влюбленным и моло-
дой женщиной — «Мадонной»; влюбленный взывает к
мадонне, та вначале неумолима, но затем уступает на-
стояниям. Тема эта весьма часто встречается в народ-
ных песнях всех времен и народов; я обнаружил ее даже
в наше время во Флоренции, в канцоне, в которой пере-
дается спор между Фрустино и Крестайей.
Каждый вопрос и ответ заключены в строфу из вось-
ми строк: шесть семисложных (из них три — с ударе-
нием на третьем слоге от конца и три — рифмованные)
и две обрамляющих рифмованных, одиннадцатисложных.
литературы» Де Санктиса. Что касается термина «кантилена», кото-
рым пользовались историки литературы в XIX веке, см. у На.ч-
нуччи (Nannucci V., Manuale della letteratura del primo secolo
della lingua italiana, Firenze 1856) и П. Эмилиани-Джудичи
(P. Emiliani-Giudici, Storia della letteratura italiana, I,
Firenze 18552, lezione II, p. 75.).
1 Канцона «Tutto lo mondo vive sanza guerra» (см. ниже), по
словам Канту, является «самой старинной канцоной, написанной на
нашем языке» («Storia della letteratura italiana», Firenze 1865,
p. 26). Эти два стихотворения сочинены почти одновременно: пер-
вое— в период с 1231 по 1250 г., а второе, несомненно, не позже
1250 г.
2 «Он славу громкую снискал как великий клирик, хотя был
светским человеком», Convivio, IV, X, 6.
3 «Novellino», XXI, ed. Gualtieruzzi. Здесь так же, как во мно-
гих других случаях, Де Санктис цитирует не целиком все высказы-
вание, а лишь главную мысль, и частично свободно его пересказы-
вает.
а
Язык ее еще шероховатый и по своим грамматическим
формам и окончаниям неустоявшийся, изобилует лекси-
кой сицилийского, неаполитанского, провансальского,
французского, латинского происхождения. Приведем для
примера две строфы1:
Кавалер: Много женщин встречается
Смотри, чтоб не раскаялась ты вскоре.
Смирить их речью мудрою
И поучать их смеет.
Он до тех пор упорствует,
Пока не одолеет.
Слабее женщина мужчины в споре.
Смотри, чтоб не раскаялась ты вскоре.
Дама: Чтоб я, чтоб я раскаялась?
Лучше мне быть в могиле!
Не хочу, чтобы женскую
Честь по свету срамили.
Вчера явились вечером,
Куда с друзьями спешили?
Слова твои, обманщик, надоели.
Иди же с миром поскорей отселе *.
Канцона написана как бы на одном дыхании, она
безыскусна, полна живости и драматизма, динамична,
без тени нарочитости и риторики2, вся она конкретна,
«вещна». Хотя ее форма еще недостаточно обработана
и отточена, канцона не лишена известной тонкости и
благородства. Это делает ее самым ценным памятником
тогдашней литературы, ведь о даровании поэта той эпо-
хи можно судить лишь по его мыслям и чувствам, по
живому, быстрому темпу диалога; форма же почти без-
лична: она прямо и непосредственно соответствует духу
-времени.
Анализируя эту форму, нетрудно прийти к выводу,
что новый язык к тому времени уже сложился — быть
1 С i е 1 о d'Alcamo, «Rosa fresca aulentissima» (Роза све-
жая, благоуханнейшая), vv. 49—64 (N а п n u с с i, op. cit). Как уже
указывалось выше, цитаты даются так, как это делает Де Санк-
тис, — лишь кое-где отмечаются наиболее заметные отклонения от
текста.
* Перевел И. Н. Голенищев-Кутузов.
2 См. аналогичное высказывание в «Saggio critico sul Petrarca»,
cit., p. 48: «Диалог живой, динамичный, насыщенный драматиче-
скими моментами».
9
может, не окончательно, но настолько, что на нем уже
не только говорили, но и писали. Возникла и поэтиче-
ская школа, со своей лексикой, своими представлениями
и закрепленной техникой стихосложения.
Всякий, кто знает, сколь длителен процесс формиро-
вания нового языка до той стадии, когда на нем можно
уже писать и слагать песни, поймет, что язык канцоны
Чулло, хотя и находился в стадии сложения, по-види-
мому, был в употреблении уже за много веков до него.
И понадобилось по меньшей мере столетие, чтобы но-
вая поэтическая школа, вступив в последний период
своей истории, созрела настолько, что ее представления,
чувства и поэтические формы устоялись, как слова в сло-
варе, и стали общим достоянием.
2. Как и когда началось разложение латинского язы-
ка, на каких диалектах говорил народ, как и когда
сформировались новые, современные романские языки,
как и когда появился наш народный итальянский
язык — вол ьг а ре, — можно лишь предполагать с боль-
шей или меньшей достоверностью; утверждать что-либо
определенное невозможно из-за недостатка документаль-
ных данных. Да здесь и не место заниматься рассмотре-
нием глубоких филологических проблем, по сей день яв-
ляющихся предметом изощренных и страстных споров.
Можно утверждать лишь следующее. Латинским языком
всегда пользовалась образованная часть общества, на
нем говорили и писали клирики, ученые, педагоги и их
ученики. Фридрих II, по словам Рикордано Малеспини,
владел «и нашим латинским, и нашим народным язы-
ком» К
Следовательно, у нас существовало два националь-
ных языка: латынь и вольгаре — народный язык. Дока-
зательством того факта, что наряду с латынью суще-
ствовал народный язык, употреблявшийся в повседнев-
ной жизни, могут служить сохранившиеся с тех времен
«договоры» и нотариальные акты, написанные на латин-
ском языке, весьма напоминающем перевод с народно-
го, где часто рядом с латинским словом можно встре-
тить употреблявшееся тогда простонародное речение с
пометкой: «vulgo dicitur», или «dicto».
] «Сгопаса», CVII (Nannucci, op. cit. II, p. 21). О Малеспини
см. далее.
10
По существу этот народный язык представлял собой
не что иное, как латынь, приспособленную для нужд по-
вседневной жизни, так называемый романо русти-
ко — римский деревенский язык. В 812 году Турский со-
бор рекомендовал священникам читать проповеди на
«римском деревенском языке». По словам Эразма, этот
римский или романский язык был столь досту-
пен испанцам, африканцам, галлам и жителям прочих
римских провинций, что его мог понимать самый послед-
ний ремесленник, «лишь бы оратор придерживался на-
родной манеры». Стало быть, простой народ говорил
тогда на языке, весьма близком к римскому; наш на-
родный язык был, по-видимому, очень на него похож.
В основных формах они почти совпадали; отличия были
во второстепенных признаках — в окончаниях, ударе-
ниях, аффиксах, звучавших в различных диалектах по-
разному. Таким образом, для всех романских языков
существовал прототип, и итальянский, как отмечал Лей-
бниц, стоял к нему ближе всего.
С упадком римской культуры диалекты брали верх.
В церквах, школах, в официальных документах употреб-
лялась варварская латынь, весьма походившая
на язык, бытовавший в народе. Народный язык не был
узаконен как разговорный, но был вездесущ и служил
прототипом, на который ориентировались все диалекты,
и критерием их принадлежности к данной языковой семье.
Эта особенность наших диалектов проявлялась в сход-
стве слов и грамматических форм, а также в том, что
в них на смену просодии и синтетизму, свойственным
латыни, пришли средства мелодические и аналитиче-
ские. Новый язык, дабы отличить его от латыни, назва-
ли «вольгаре» (народным). Так, Малеспини говорил:
«Наш латинский язык и наш вольгаре», — имея в виду
новый язык, на котором в форме различных диалектов
говорил народ всей Италии.
По мере пробуждения культуры одни диалекты про-
должали оставаться грубыми и «варварскими», как и
говорившие на них люди, другие же очистились и
проявили явную тенденцию к освобождению от мест-
ных и простонародных элементов, стали приобретать
культурный облик и приближаться к тому общему эта-
лону, который они никогда не теряли из виду и кото-
рый как бы служил критерием для разграничения более
И
или менее сходных между собой диалектов, а именно
к языку, получившему наименование вольгаре, столь
близкому к романо рустико.
3. Культуре свойственно: будить новые идеи и духов-
ные запросы, создавать прослойку образованных и про-
свещенных граждан, устанавливать с их помощью связи
с иноземной культурой, сближать и делать доступными
языки, развивая в них не местные, а общие элементы.
Итальянская культура вызвала к жизни два таких
явления, как возрождение латыни и создание воль-
гаре. Наиболее культурные люди, с одной стороны, ста-
рались писать на правильном, неиспорченном латинском
языке, с другой же, желая отразить задушевные чув-
ства, рождаемые новой жизнью, они, предоставив «пре-
зренной черни» родные диалекты, стали искать иные,
более тонкие языковые средства, создали некий общий
язык. В этом языке все еще давал себя знать то один,
то другой диалект, но отчетливо проступало уже стрем-
ление отойти от них и следовать речевой норме, приня-
той среди воспитанных людей, с тем чтобы как можно
больше отличаться от простонародья.
Этот общий язык формируется успешнее всего в круп-
ном культурном центре, там, где много образованных
людей, куда отовсюду съезжаются знаменитости. Таким
центром был город Палермо, двор Фридриха II, куда
устремлялись сицилийцы, апулийцы, тосканцы, романь-
ольцы, или, как говорилось в «Новеллино», «куда со
всех сторон стекались люди, блиставшие талантами»1.
По признанию Данте, сицилийский диалект уже
тогда занимал первое место2. Именно в Сицилии пели и
писали на народном языке, который, еще не будучи италь-
янским языком, уже не был сицилийским диалектом и,
несмотря на наличие в нем местных элементов, стано-
вился языком, на котором писали все итальянские поэ-
ты. Все более и более утрачивая диалектальные при-
знаки, он превращался в общий язык культурных людей.
История Сицилии знала к тому времени две великие
культурные эпохи: арабскую и норманскую. С арабами
туда проник фантастический, чувственный восточный
1 Новелла XXI, уже упоминавшаяся.
2 См. «De vulg. eloq.», I, xn, 2: «Как кажется, сицилийское
вольгаре претендует на то, чтобы славиться больше, чем другие».
12.
мир; норманны же, так отличившиеся в крестовых похо-
дах, принесли мир германского рыцарства. Сицилия, бо-
лее чем какая-либо другая область Италии, жила впе-
чатлениями, воспоминаниями и чувствами, порожден-
ными великой эпохой от Готфрида до Саладина; песни
трубадуров, восточные новеллы, романы Круглого сто-
ла, непосредственное общение с народами, столь свое-
образными по обычаям и культуре, поразили воображе-
ние сицилийцев и оживили их духовную и нравствен-
ную жизнь. Сицилия стала центром итальянской
культуры. Начиная с 1166 года итальянские трубадуры
ездили ко двору норманского короля Вильгельма II.
Однако при Фридрихе II центром итальянской культуры
стала его столица — Палермо. Всех писателей имено-
вали тогда сицилийцами. Исторические труды и
трактаты писали на латинском языке, который не был
уже грубым, — напротив, он стал изысканным и подчас
претенциозным, как это можно наблюдать у Фалькан-
до1. А чувства и новые мысли выражались на том «рим-
ском деревенском» языке, который стал основой всех
диалектов и языком культурных людей, вольгаре, ближе
всех остальных романских языков стоявшим к латыни.
4. Язык Чулло — уже не сицилийский диалект, а на-
родный язык, которым пользовались все итальянские
трубадуры; правда, он был еще «варварским», неустояв-
шимся, со множеством местных элементов, представляя
собой как бы необработанное «сырье».
Мы находим у Чулло весьма искусную и музыкаль-
ную поэтическую форму с хорошо продуманной игрой
рифм, богатством и непосредственностью языка и мыс-
лей. Потребовался длительный период работы, чтобы до-
стичь этого уровня. Творчество Чулло — это отражение,
пока еще в грубоватой форме, той новой жизни, которая
зародилась в Европе во времена крестовых походов и
нашла свое проявление также в Италии и особенно в
норманской Сицилии.
1 Книга Фалькандо (U g о Falcando, Historia (Liber) de regno
Siciliae), изданная Муратори (M u г a t о г i, «Rerum italicarum scrip-
tores», Milano 1725, VII, pp. 247—344), была перепечатана Джузеппе
Дель Ре в «Cronisti e scrittori sincroni napoletani», Napoli 1845,
pp. 277—400, с переводом Бруто Фабрикаторе. Подобное упомина-
ние о древнем летописце имеется у Эмилиани-Джудичи (op. cit., I,
р. 64).
13
Все еще простоватым и безыскусственным, но уже.
более благородным, непосредственным и менее окрашен-
ным в местный колорит отражением этой новой жизни
являются романс, приписываемый королю Иерусалима,
и песнь-жалоба возлюбленной крестоносца, принадлежа-
щая перу Ринальдо д'Аквино. Благородные и нежные
чувства выражены здесь искренним языком в сугубо
итальянской простой и правдивой манере, в мягкой то-
нальности. Этот романс, который выступающая в нем
влюбленная женщина называет сонетом, пропетый в со-
провождении музыкальных инструментов, должно быть,
производил глубокое впечатление. Начинается он так:
С веселием я в ссоре
И без конца тоскую.
Суда из порта вскоре
Уйдут в страну иную,
И милый в край далекий
Отправится за море.
Останусь одинокой.
Как пережить мне горе?
О том, что уезжает,
Он не сказал мне даже,
Обманщик не желает
Со мной проститься. Я же
Все дни и ночи эти
С собой борюсь, вздыхаю
И на каком я свете
Уже не понимаю.
Далее в песне мягко и естественно перемежаются
мольбы и жалобы, женщина то поручает своего возлюб-
ленного богу, то жалуется на свой крест:
В кресте мои муки таятся,
Я богу молиться не в силах,
За что погубил меня ты,
Крестовый поход, не знаю.
Из-за тебя, проклятый,
Я вся как есть пылаю. (Ст. 27—32)
Заканчивается песнь словами:
Ты видишь, теперь, Дольчьетто
Как трудно мне на свете,
14
Ему про все про это
Ты отпиши в сонете,
Я и порой ночною,
И целый день в печали:
Любимый не со мною —
В заморской дальней дали.
(Ст. 57—64)
Язык здесь неправильный, но это уже, несомненно,
итальянский язык, к тому же по мелодике и основным
контурам весьма развитой.
Влюбленный, молящий и требующий любви, влюб-
ленная, жалующаяся на разлуку с любимым или выска-
зывающая опасения, что он ее покинет, страдания и ра-
дости любви — таковы основные простые темы. Это
первое излияние охваченного любовью сердца. Эти сти-
хи, простые и незатейливые, задушевны и искренни. Они
отражают первые впечатления, юные и новые чувства,
поэтичные сами по себе, еще чуждые анализу и утончен-
ности.
Такова и песнь-жалоба по случаю отъезда возлюблен-
ной в Сориа, принадлежащая перу Руджероне да Па-
лермо \ и песнь мессинского поэта Одо делле Колонне,
в которой влюбленная в нежных жалобах изливает свои
страдания и ревность. Вот как начинается эта песнь:
О жизни безутешной
Я расскажу своей,
Любви доверюсь нежной,
Чтоб сказ мой был полней.
Хотя я и безгрешна,
Нет мук моих страшней.
Есть у меня желанный,
Ему я не нужна,
И гордость постоянно
Моя уязвлена,
И с этой сердца раной
Мириться я доажна.
1 Канцона «Oi lasso non pensai», приписываемая литературо-
ведами более позднего периода Фридриху II, по мнению Наннуччи
(op. cit., I, p. 53), была написана Руджероне да Палермо. Там же,
pp. 86—88, фигурирует упоминаемая ниже канцона Одо делле Ко-
лонне.
15
С необычайной силой
В меня вселилась страсть,
И надо мною милый
Обрел такую власть,
Что игры я забыла
И не смеюсь я всласть.
Познала я волненье,
Попала я в беду.
От мук освобожденья
Нетерпеливо жду,
Но в смерти лишь спасенье
Я, кажется, найду.
Ему была нужна я,
Со мной наедине
Шептал он: «Ты, родная,
Дороже жизни мне.
Тобою обладая,
Я б счастлив был вполне». (Ст. 1—30)
Чувства эти элементарны, непроизвольны, безотчет-
ны: они выливаются в своей пер созданной нетронутости,
не облеченные в четкие образы и идеи. Эту примитив-
ность, элементарность формы можно встретить у всех то-
гдашних поэтов, даже наименее непосредственных; все
они пишут, как говорит один народный поэт, «как зву-
чит природа», воспроизводя со всей искренностью свое
первое, непосредственное впечатление. Тогда-то язык
стиха становится живым, точным, музыкальным, приобре-
тая неувядающую свежесть («только что распустился»1—
невольно скажешь о нем), являя резкий контраст с дру-
гими, довольно грубыми строками той же песни.
Есть у короля Энцо2 несколько тяжеловесная кан-
цона, но кто терпеливо прочитает ее до конца, тот най-
дет в ней следующие блестящие строки:
1 «...зеленее свежего листка» (Данте, Божественная комедия,
перев. М. Лозинского, М., 1961, «Чист.», VIII, 28). Далее всюду
стихи из «Божественной комедии» цитируются в переводе М. Лозин-
ского и в указанном издании.
2 Канцона «S'eo trovasse pietanza» Наннуччи (op. cit. I, p. 64)
говорит о короле Энцо: «Несмотря на то что в стиле Энцо сказы-
вается грубость эпохи, его стихи подчас достойны сравнения со
стихами самых выдающихся поэтов».
16
Я, как волна морская,
Не знаю дня покоя.
Зачем все помнишь, сердце?
Расстанься с телом — и болеть не будешь:
Ведь лучше смерть однажды,
Чем вечные страданья. (Ст. 33—38)N
В весьма примитивной канцоне старинного поэта
Фолько ди Калабриа 1 в конце есть строки, выражающие
то же чувство; они по своей форме не так совершенны,
как стихи Энцо, но им свойственны та же простота и
искренность:
Но лучше раньше срока
Навеки смерть принять,
Чем мучиться жестоко
И на судьбу пенять,
Как будто нытик вечный. (Ст. 42—46)
В холодной и надуманной канцоне Фолькаккьеро из
Сьены (она была напечатана) сквозь неприкрытую на-
ивность чувств, изливаемых с примитивной непосред-
ственностью, нет-нет да блеснет изящная строка. По-
слушайте эти стихи:
Мне кажется, что людям я не нужен.
Цветы другими стали,
Как будто потускнев,
А ведь они светились,
И сладостный напев
Влюбленных птиц звучал среди дерев. (Ст. 5—10)
Эти проявления любви для поэта — нечто новое, он
преисполнен удивления, они его трогают, интересуют, и
он не чувствует никакой потребности их развить или
приукрасить. Он повествует, а не изображает, не опи-
сывает. Это еще пока не история, а лишь хроника жиз-
ни его сердца.
Но ему далеко до наивности и искренности Риналь-
до д'Аквино или Одо делле Колонне. Эти два поэта соз-
дали выдающиеся образцы подлинной и естественной на-
родной поэзии.
1 «D'amor distretto vivo doloroso» — канцона, впервые опубли-
кованная Трукки, который, «судя по творческому методу Фолько»,
делает вывод, что расцвет его творчества относится к 1180 году.
2 Дс -Саиктис
17
5. У сицилийской литературы был свой «первород-
ный грех». Рыцарская тематика с примесью восточных
реминисценций и колорита была привнесена извне и не
связана с народной жизнью. «Веселая наука», кодекс
любви, романы Круглого стола, истории о французских
королях, арабские новеллы *, Тристан и Изольда, Карл
Великий, Саладин, Султан — все это пришло в Италию
издалека и, хотя и поражало воображение, оставалось
чуждым духу и реальной жизни. При дворах этой моде
подражали. У нас тоже были свои трубадуры, жонглеры,
новеллисты. Вошли в моду переводы, подражания, под-
делки поэм, романов, рыцарской лирики. Недавно от-
крытая поэма «Интеллидженца»2—это подражательное
произведение именно такого рода. Любовь стала искус-
ством со своим кодексом законов и обычаев. Речь шла
не о конкретной женщине, а о женщине, наделенной раз
и навсегда данными чертами в соответствии с канонами
рыцарской литературы. Все женщины в ней похожи
одна на другую. Точно так же и мужчины — «рыцари»,
с надуманными, заимствованными из книг чувствами.
Однако сицилийская культура осталась уделом выс-
ших слоев общества, она не проникла вглубь, в народ,
и ее век был недолог. Возможно, если бы швабская ди-
настия одержала верх, Италия освоила бы эту рыцар-
скую феодальную культуру. Но падение швабской ди-
настии и победа коммун в Центральной Италии свели
1 О рыцарских романах см. ниже, гл. IV. Кроче по этому по-
воду замечает: «Это следует понимать широко, имея в виду не
только сочинения Андреа да Барберино и «Тысячу и одну
ночь».
2 Первые шестнадцать стансов этой поэмы опубликовал Трукки
(Truce hi, «Poesie italiane», I, pp. 3—17), который охарактеризо-
вал их как «ценный памятник арабско-сицилийско-норманской куль-
туры и литературы». Через четыре года Озанам издал поэму цели-
ком, приписав ее Дино Компаньи («Documents inedits pour servir a
Thistoire litteraire de l'ltalie», Paris 1850). Позднее «Интеллидженца»
была издана Э. Камерини (Milano 1863) и Д. Карбоне (Firenze
1867). Де Санктис положился на авторитет Трукки и авторитет
Наннуччи, который, хотя и включил в свой «Manuale» (cit., I,
pp. 488 и ел.) большую часть поэмы как произведение Компаньи,
все же высказал на этот счет серьезные сомнения и выдвинул пред-
положение, что «Интеллидженца» — произведение «сицилийского»
происхождения.
18
рыцарство к миру фантазии — такому же, как легендар-
ные сказания о Риме, Фьезоле и Трое 1.
Поскольку мысли, чувства и образы рыцарской лите--
ратуры не были найдены и выработаны нами самими,
а пришли к нам в готовом виде, они так и остались особ-
няком, причем рафинированные бродячие сюжеты всту-
пали в явное противоречие с еще неустоявшейся, при-
митивной формой. Эти понятия и мысли были оторваны
от породившего их чувства и поэтому не производили
впечатления. Ум и сердце поэта, разрабатывавшего их,
оставались невозмутимыми. Поэт говорит, что «любовь»
побуждает его искать — «троваре», делает его «трова-
торе» — трубадуром; это любовь, раз и навсегда зафик-
сированная в кодексе и в поэтических текстах; в стихах
поэта не чувствуются его переживания, его волнения.
Вместо вдохновения — реминисценции, модные идеи. Со-
чинялись тысячи стихов, но, все они звучали на один
лад, все настолько походили друг на друга, что подчас
трудно определить, когда и кем они написаны, если —
как то нередко случается — данные о них противоречивы
либо вовсе отсутствуют.
Поэзия не была безудержным излиянием чувств, а
лишь развлечением, увеселением, забавой, модой, га-
лантной игрой. Она была таким же времяпрепровожде-
нием, как оды любви; за этой «веселой наукой» при-
ятно провести время, легко завоевать репутацию остро-
умца и образованного человека; кто лучше овладевал
«наукой любви», тот вызывал большее восхищение. На-
прасно искать в песнях Фридриха, Энцо, Манфреда,
Пьера делле Винье2 следы того, что их беспокоило и
волновало, — в них все тот же кодекс любви и неизмен-
ные общие места.
Искусство превращается в ремесло, где все условно:
идеи, фразы, формы, метрика; впрочем, вся эта сложная
механика, должно быть, приводила в.восхищение простой
люд, особенно если стихотворцем была женщина.
Какая-нибудь Нина Сицилийская или флорентийка
Компьюта Донцелла казались чудом.
1 Перефразированы слова Данте: «И домочадцам речь вела ча-
сами про славу Трои, Фьезоле и Рим», «Рай», XV, 125—126.
2 Де Санктис всегда придерживается такого традиционного на*
писания этого имени.
2* 19
Нетрудно угадать, что из этого получилось. Лучшими
поэтами были те, кто писал, не заботясь о производимом
впечатлении, без претензий, «для души», как придется.
Даже в самых примитивных стихах того времени можно
обнаружить искренний порыв чувств и воображения,
тонкость и красоту формы, как бы идущие изнутри. Они
ближе других к чувствам народа и к природе. Но если
заглянуть выше и присмотреться к поэзии, которую Дан-
те называет «куртуазной и придворной» {, то окажется,
что она далека от правды и природы, страдает всеми не-
достатками поэтической школы, зародившейся и сфор-
мировавшейся вне Италии, уже изобилует штампами и
слишком рафинирована.
Перед нами все черты упадка, губительные зародыши
которого поразили искусство в его колыбели. Налицо
«готовый репертуар». Образованный поэт не подает ма-
териал в сыром виде, как это делали в своем простоду-
шии поэты малоискушенные; чтобы произвести впечат-
ление, он препарирует его, изощряясь и гиперболизируя.
У непосредственных поэтов не чувствуется работы над
стихом; в произведениях поэтов образованных чувст-
вуется труд, но труд холодный, механический. Идеи, об-
разы, чувства, фразы, метрика, рифма — все здесь наду-
мано, вымучено, преувеличено, сделано с расчетом на
то, чтобы читатель восхищался ученостью автора, его
находчивостью и умением преодолевать трудности.
Эти стихи одновременно и примитивны и аффектиро-
ванны, • язык пока еще свежий, неизысканный, и это
лишь подчеркивает искусственность произведения, с
которым он органически не сливается. Если бы такое
произведение было по крайней мере оригинальным
и свидетельствовало о подлинной живости ума! Но
перед нами — маньеризм, и тоже приобретенный... Вот
пример:
Ничтожный я и горделивый,
Неустрашимый и трусливый,
Невозмутимый и пугливый,
Я умница, и я дурак,
1 См. «De vulg. eloq.», I, xix, 1: «Hoc autem vulgare quod illus-
tre, cardinale, aulicum esse et curiale ostensum est» а главное об
употреблении «lingua aulica» — «изысканного языка», см. II,
II—IV.
20
Я злобствую, и я добряк...
Скажет всяк:
Вот, мол, я какой.
Не сумеет так
Никто другой.
Так начинается канцона Руджиери Пульезе, в том
же духе она выдержана и до конца: примитивность и
пренебрежение формой свидетельствуют об отсутствии
серьезной работы; это бесконечная вереница заимство-
ванных там и сям, небрежно нанизанных парадоксов.
Среди сицилийских поэтов этого жанра наибольшей
славой пользовались в те времена Гвидо делле Колонне
и нотариус Якопо да Лентино. Гвидо — «доктор», или,
как тогда говорили, «судья»1, — был человеком весьма
образованным. Он был автором хроник и летописей, ко-
торые он писал по-латыни. Гвидо перевел с греческого
на латинский язык книгу Дареса «История падения
Трои» (впоследствии с латинского варианта Гвидо кни-
га неоднократно переводилась на итальянский язык).
Гвидо делле Колонне считал ниже своего достоин-
ства писать на народном языке и стремился возвысить
свой язык до величественной серьезности латыни; вслед-
ствие этого он удостоился похвалы Данте, назвавшего
его канцоны «трагическими», то есть самого благород-
ного и безупречного литературного жанра2.
Но Гвидо не был по природе поэтом, его ученость и
долгие годы писательского труда помогли ему лишь усо-
вершенствовать свою технику, которая до того не была
образцовой. Он добился стройной фразы, гармонии и
серьезности стиля, научился искусным переходам, од-
нако во всем этом ощущается холодная книжная наро-
читость. Чувства нет, и Гвидо заменяет его прозорливо-
стью и ученостью, пытаясь произвести эффект при по-
мощи редкостных образов, утрированных и изощренных
мыслей, которые выглядели бы смешными, если бы не
были облечены в строгую и столь искусную форму. Вот
пример:
1 За эту неточность, подмеченную еще Кроче, несет ответствен-
ность Наннуччи: «Его прозвали Джудиче — судья, ибо это слово
в те времена означало то же, что в наши дни — доктор (op, cit.,
I, p. 73). У Наннуччи же взяты и сведения, приводимые ниже,
в том числе данные о переводах. «Historia destructions Troiae».
2 См. «De vulg. eloq.», II, vi, 6.
21
Вода поиооде огненной чужда.
И пламень разъяренный
Перед водой студеной
Становится покорным без труда.
Когда б не так все было, пламень оный
Погас бы навсегда
Иль высохла б вода:
Их вечность — в их судьбе объединенной.
Так и душе влюбленной
Моей Амур внушил
Свой драгоценный пыл.
Дотоль была душа водой холодной,
Но мне ее согрел
Тот пламень благородный,
Был горек мой удел,
Но вам благодаря,
Владычица моя,
Во мне любовь живет,
Которая воспламеняет лед. (Ст. 1—19)
Гвидо на этом не останавливается — он и дальше
толкует о воде, пламени и снеге, говорит, что его душа
далеко и что «та душа, что у меня в груди, полагаю,
ваша»; в заключение он заявляет, что любимая при-
тягивает его к себе, словно магнит, посвящая сравне-
нию и объяснению свойств магнита целую строфу.
Банальность, избитость мыслей маскируется искусной
формой; и действительно, если в приведенном Ьтихотво-
рении Гвидо интересоваться только построением периода,
искусством переходов, строго логичной взаимосвязью
мыслей и умением найти нужные слова для выражения
тонких и сложных понятий, то не остается желать луч-
шего.
У Якопо да Лентино такая манера граничит с экс-
травагантностью, особенно в сонетах. Правда, ему
нельзя отказать в живом воображении и темпераменте:
Когда бы побороть
Сумело сердце плоть
И на свободе билось,
Оно б вам не открылось нипочем
Любовью я объят,
Будь я ползучий гад;
22
Я б не остался гадом,
А перед вашим взглядом стал цветком 1.
Но все это тонет в сравнениях, ухищрениях и баналь-
ностях, которые особенно бросаются в глаза из-за гру-
бой, небрежной формы; стихи эти — плод многочислен-
ных реминисценций, показной учености. Любви поэт не
испытывает, он лишь изощряется в ее описании:
Любовь сердцам любезным суждена,
И к родственному сердцу сердце рвется,
Из двух страстей рождается одна,
И с ней алмаз поспорить не возьмется,
Так эта страсть любовная сильна,
Что не ломается она, не рвется ...
Следуя по такому пути, он доходит до совершенно
нелепой, фальшивой и аффектированной манеры выра-
жения, как, например, в начальных строках сонета:
При лицезреньи напрягаю зренье,
В моем воззренье я взираю зрело,
Но зренье вызывает подозренье,
И вот уже прозрение назрело...
Однако, несмотря на то что эти поэтические упраж-
нения не затрагивали серьезных проблем и внутреннего
содержания жизни людей, они сыграли немалую роль
в формировании вольгаре, способствуя развитию грам-
матических форм, синтаксиса, периода и мелодики. Осо-
бенно показательно творчество Гвидо делле Колонне. Но
даже в стихах самых неискушенных поэтов можно най-
ти строки, содержащие краски и звучания, в которых
предугадывается Петрарка. В доказательство приведем
четыре стиха из канцоны, приписываемой королю Ман-
фреду 2:
Я прав, когда о вас я говорю,
Что всех достоинств вы соединенье,
Прекрасней нет, чем вы, любовь моя;
И жизнью смерть за вас почел бы я.
1 Стихи 73—80 канцоны «Madonna, dir vi voglio» (N a n n u с с i,
op. cit., I, pp. 107 и ел).
2 Стихи 17—20 канцоны «Donna, lo fino amore».
23
6. Подражательная по своему характеру аллегориче-
ская поэма «Интеллидженца» отличается редким совер-
шенством языка и стиля, что говорит о чутком, любя-
щем сердце ее безвестного автора, глубоко чувствующем
природу, и позволяет предположить, что вольгаре до-
стиг высокого совершенства. В поэме есть описание вес-
ны, не новое по мысли, но отличающееся такой вырази-
тельностью и мягкостью, какие доступны лишь человеку
с тонкими чувствами. В ней говорится:
Остановившись в рощице прибрежной
Под сенью пинии густой, в низине
Я видел, как река текла небрежно
И утопали берега в жасмине.
Дул ветерок перед закатом нежный,
И птицы пели на своей латыни,
И вдруг почуял я, как мне пронзило
Стрелой Амура сердце Это было
Как свет, как весть, что новый день отныне.
Вот как описывает поэт свою любимую:
Все перед нею было мной забыто:
Подобное одной звезде Диане,
Ее чело прекрасное открыто,
Черты ее полны очарованья,
Прозрачней хрусталя ее ланиты
И колоса весеннего румяней.
Рот маленький смеется то и дело,
А шея свежая, как розан белый,
И плавно речи сладкое звучанье.
И косы светлые, и добрым светом
Ее глаза прекрасные сияют,
И сердце воском плавится нагретым
Всегда, едва мои глаза встречают
Ее глаза: они глядят с приветом,
И словно вместе с миром всем играют...
Здесь подлинное лирическое вдохновение, тонкое
восприятие природы и красоты; отсюда та гибкость и
мягкость формы, которую после незначительных ис-
правлений можно было бы вполне принять за современ-
ную, настолько она молода и свежа.
Если сонет о коршуне принадлежит перу Нины и ес-
ли он относится к тому же времени, что вполне воз-
24
можно, то это еще один пример, подтверждающий, что
уже в то время итальянский язык, когда им пользовал-
ся человек, наделенный нежной душой и пылким во-
ображением \ был языком высокоразвитым.
К несчастью, сокол сердцем овладел,
И, от любви великой умирая,
Я поступала так, как он хотел,
Во всем ему напрасно потакая.
Теперь вознесся в дальний он предел,
За облака, откуда не видна я,
И, налетавшись вволю, в роще сел,
Где женщина пленит его другая.
О сокол мой, тебя я берегла,
Тебе златые сны я навевала,
Чтоб в клетке жизнь была тебе мила;
Но, наподобие морского вала,
Поднялся ты, освободил крыла,
И клетка этому не помешала.
7. После падения швабской династии яркая и цвету-
щая сицилийская культура, не успев созреть и оконча-
тельно оформиться, вступила в период застоя. Сицилий-
ская культура погибла, не оставив следа, и даже
сейчас, после упорных исследований, приходится доволь-
ствоваться предположениями и наталкиваться на зна-
чительные белые пятна.
Будучи вначале феодальной, куртуазной, эта куль-
тура уже начала распространяться среди низших клас-
сов и приобретать особый южный колорит. Харак-
терная черта ее — не сила, не возвышенность стиля,
1 См. Truce hi, op. cit., I, pp. 53—54: «Кто эта поэтесса
XIII века, так и остается невыясненным, ибо стихотворение ее вклю-
чено в сборник (Кодекс Ватиканского собрания, 3793) без указания
имени автора. Судя по манере, можно предположить, что это была
Нина Сицилийская, некоторые стихи которой дошли до нас». В том
же духе высказывается Наннуччи (op. cit., I, p. 327). Следует от-
метить, что Де Санктис высказывается по поводу атрибуции с боль-
шей осторожностью. Легенда о так называемой Дантовой Нине
была развеяна А. Боргоньони через несколько лет после опублико-
вания «Истории итальянской литературы» Де Санктиса (см. А. В о г-
g о g n о n i, La condanna capitale d'una bella signora», «Studi d'eru-
dizione e d'arte», II, Bologna 1877).
25
а нежность, размягченная воображением, нега и сладо-
страстье на фоне ликующей природы. Эта нега окраши-
вает и язык сицилийской поэзии, придавая ему само-
забвенность и музыкальность, — кажется, будто слу-
шаешь человека, который, предаваясь сладостному от-
дыху, не говорит, а поет (что характерно для всех юж-
ных диалектов).
Гибеллины, потерпев поражение у Беневенто, уже
больше не смогли подняться. Благородный синьор 1 им-
ператор Фридрих и «высокородный» король Манфред
уступили место папам и их верным сторонникам — Ан-
жуйской династии. В Тоскане одержала верх народная
партия: города-коммуны добились свободы.
Культурная жизнь страны, так и не получившая на
юге Италии глубокого развития, в форме рыцарской,
феодальной культуры сосредоточилась в Тоскане. Тос-
канским был назван итальянский язык, тосканцами
были названы и итальянские поэты. О сицилийцах
же осталась лишь как бы надгробная надпись:
Кто первыми, не то что ныне, были 2.
1 См. упоминавшуюся ранее XXI новеллу из «Новеллино» («Им-
ператор Фридрих был благороднейший синьор...»).
2 Pet г а гс a, Trionfo d'Amore, IV, 36.
**^******жжжж****жж****жжж*ж^жж***ж***^***^*.
II
Тосканцы
1. Новая жизнь в городах Центральной Италии. Тенцона
Чакко дель Ангвиллара — свидетельство зрелости вольгаре —
народного итальянского языка, образчик чувства меры и изя-
щества. 2. Изящество, правильность и простота языка тоскан-
цев (Компьюта Донцелла, Бондие Диетаюти, Алессо ди Гвидо
Донати); прогресс в языке, но не в содержании, которое
остается неизменным, застывшим, отвлеченным и условным.
3. Принципы рыцарской поэзии чужды итальянской нацио-
нальной традиции. 4. Итальянская национальная культура и
увлечение наукой в ученой Болонье. Наука — мать итальян-
ской поэзии: Гвидо Гвиницелли. Не народное, а ученое про-
исхождение нашей литературы. 5. Высокая нравственность
Гвиттоне д'Ареццо, тонкого стихотворца-мыслителя. 6. Яко-
поне да Тоди и народная литература на латинском языке;
искусство еще не «спиритуализирует» жизнь. Готика и гро-
теск— первые художественные формы средневековья. Старин-
ные рифмованные поговорки и поучительные мысли Якопоне.
7. Политическая поэзия и ее ограниченность в связи с замкну-
той жизнью городов-коммун; сатирические сонеты Рустико
ди Филиппо. 8. Контраст между ранним расцветом науки и
примитивными формами итальянской жизни. Высшее достиже-
ние тогдашней науки, энциклопедический труд Брунетто Ла-
тини — по сути, лишь необработанное «сырье». 9. Новая то-
сканская школа, отвечавшая требованиям научного мышления
эпохи: Чино да Пистойя и его «риторика для нужд любви».
10. Чино и пробуждение художественного сознания во Фло-
ренции. Первый итальянский поэт Гвидо Кавальканти: ощуще-
ние реальности и тяга к ней, полная гармония между чув-
ством и его выражением. 11. «Новые рифмы» Данте и основ-
ные принципы поэтики «Нового сладостного стиля»: научность
содержания и риторичность формы. Идеал любви и философ-
ский мистицизм.
1. Пока пышным цветом расцветала сицилийская
культура,, привлекая к себе самые светлые умы Италии,
в городах Центральной Италии шел незаметный, но
упорный процесс формирования и очищения вольгаре.
27
Главными центрами были Болонья и Флоренция; за
ними шли Лукка, Пистойя, Пиза, Ареццо, Сьена, Фаэн-
ца, Равенна, Тоди, Сардзана, Павиа, Реджо.
В стихах этих давних времен нельзя не найти южной
живости и нежности: они разумны, просты, лишены на-
пыщенности и претенциозности; их язык, уже гораздо
более отточенный и лексически правильный, не лишен
изящества.
Мне попалась тенцона флорентийца Чакко дель Ан-
гвиллара, на ту же тему, что и упомянутая тенцона Чул-
ло. У Чулло под грубой формой — больше разнообра-
зия, порывистости, изобретательности. Тенцона Чакко —
вся на один лад, стих в ней льется медленно, однообраз-
но, спокойно, но зато такого правильного, уверенного
языка не встретишь у самого отменного и искусного по-
эта-сицилийца. Начинается она так:
Влюбленный: О самоцвет прелестный,
Селяночка младая,
И без речей известна
Твоя краса младая.
Ты, милостию Божьей
Добра и благосклонна,
Одна помочь мне можешь, —
Я твой слуга влюбленный.
Донна: Прелестные каменья
В земле, в реке и в море
Лежал как утешенье
Одних, другим на горе.
Я -ни одним не буду
Из этих трех сокровищ:
Ищи свое повсюду —
И ты его откроешь.
Наряду с точностью и уверенностью в употреблении
слова и фразы, говорящих о том, что вольгаре уже окон-
чательно сформировался как разговорный язык, следует
отметить чувство меры и изящество, столь несвойствен-
ные размягченности, сладострастной неге южан. Дока-
зательством может служить конец тенцоны, по своей
тонкости удивительно несхожей с плебейской поэзией
Чулло:
28
Донна: Ты говорил прекрасно,
Молил меня так долго,
Что я помочь согласна.
Скажи, чего ты хочешь?
Влюбленный: Все бросить, что имею,
Для вас готов, поймите.
С любовию моею
Меня вы примирите.
Прошу об этом или
Мне ничего не надо.
Вы мне любовь внушили,
И стала жизнь отрадой.
(Ст. 61—72)
Эти диалоги точно воспроизводят живую разговор-
ную речь и красноречиво свидетельствуют о том, какой
тонкости и изящества достиг вольгаре в Тоскане, осо-
бенно во Флоренции. Вот отрывки из другого диалога
Чакко 1:
Я на коне скакал
И девицы упреки
Несчастной услыхал:
— Давно прошли все сроки,
Нет мужа у меня.
Ты виновата, мама,
В том, что без мужа я.
И жить на этом свете
Я больше не хочу...
— Дитя, когда б сразила
Тебя любовь своей
Стрелою легкокрылой,
Гы б мучилась сильней.
— Твои слова я знаю,
Ты мне твердишь одно,
Но это бесполезно,
Страдаю все равно.
Мое желанье просит
Того, что не имею,
Что света солнца много раз светлее,
И мне лишь не дано. (Ст. 1—9, 13 — 16. 20—27)
1 По варианту, приводимому Трукки (Trucchi, op. cit., 1,
pp. 73-75).
29
2. Во всех своих проявлениях, не абстр: актных, не на-
думанных, а вполне определенных и кошкретных, поэт
искренен, он, так же как и народ, инстинк:том чувствует,
как ему поступать и что говорить; он не оэписывает сво-
их чувств, ибо не отдает себе в них отчетна, целиком со-
средоточиваясь на окружающих его предмеетах; при этом
он говорит о них так, что заставляет испытывать те же
впечатления, что и он. Поэт ограничивается изложением
события и своего непосредственно от негсэ впечатления,
не вдаваясь в рассуждения, поскольку, п«о его мнению,
все говорит само за себя. Такая простсгта у южан —
явление редкое, им свойственна гораздо большая экспан-
сивность; однако для языка флорентийцев простота —
наиболее характерная черта. Замечательным примером
тому может служить сонет флорентийской поэтессы
Компьюты Донцеллы («божественной Сибиллы», как
ее называет Торриджано 1)
Когда пора цветенья настает,
Ей больше всех возлюбленные рады:
Они в сады спешат, где в свой черед
Выводят птицы новые рулады.
И люди, не имевшие забот,
Идут в полон, не требуя награды,
И девушку любую счастье ждет.
Лишь я одна не ведаю отрады.
В родном отце моей тоски причина:
Без моего желания он сам
Надумал навязать мне господина.
И всякий час я предаюсь слезам
И, горькою измучена кручиной,
Не радуюсь ни листьям, ни цветам.
Очень сходен с приведенным сонетом — по идее и по
ходу мысли — сонет Бондие Диетаюти: возможно, он
менее динамичен, изящен и свеж, но зато гораздо со-
вершеннее и искуснее по форме:
Когда минует срок неясных дней,
Мир в радости великой пребывает,
1 Ср. сонет «Esser una donzella di trovare dotta», см Trucchi
op. cit., I, p. 133, vv. 9—11:
Природу защищая, откровенно
Скажу —- божественная, вы пришли,
Сибилла, чтобы печься о^ вселенной.
30
Журчит прозрачная вода ключей,
И свежая трава благоухает,
И трудится, как прежде, соловей
И сладостные гимны вспоминает,
И с наступлением поры своей
Влюбленный счастье вновь переживает,
А я страдаю по чужой вине:
Любимая неласкова со мною
И за любовь презреньем платит мне.
Я не могу любить и быть слугою;
От общего веселья в стороне,
Я не живу, а мучаюсь весною.
Оба сонета отличаются большой простотой и движе-
нием мысли, великолепным чувством меры. Поэт как бы
передает, что он видит и ощущает, не предаваясь раз-
мышлениям и эмоциям, но столь живо и красочно, что
сказанное им производит ярчайшее впечатление. С точки
зрения поэтической техники второй сонет безукоризнен
и свидетельствует о большей культуре; чувствуется, что
новый язык уже не только оформился, но приобрел изя-
щество, для каждого выражения найдены нужные сло-
ва; мне все же больше нравится совершенная простота
сонета, принадлежащего перу поэтессы: в нем больше
живости, непосредственности, естественности.
Правильность, изящество и простота — вот те «три
грации», которые украшают вольгаре, то есть народный
итальянский язык Тосканы; эти три свойства обнаружи-
ваются даже там, где, казалось бы, особенно трудно их
проявить, — когда поэт в силу внутреннего нетерпения
рвет путы и выдает самые сокровенные тайны своей
души; чем старательнее он раньше подавлял их в себе,
тем смелее и увереннее демонстрирует теперь, в созна-
нии своей правоты. В приводимом ниже мадригале Алес-
со ди Гвидо Донати 1 эта неистовость смягчается неуло-
вимой грацией стиха и естественным чувством меры:
1 Этот мадригал, как известно, был написан в более поздний
период (Алессо ди Гвидо Донати жил во Флоренции в последние
десятилетия XIV века), но в нем использован мотив, весьма рас-
пространенный в лирике XIII века, близкой к народной поэзии.
Трукки, хотя и не без колебаний, все же включил его в число
стихотворений «первого века». См. «Poesie italiane», cit., I, p. 253.
31
Я маюсь в одиночестве постылом,
Здесь взаперти меня содержит мать,
Следит, чтоб не могла я убежать.
Но я клянусь перед распятьем Божьим,
Что скоро у меня не хватит духу
И я пошлю ко всем чертям старуху,
И от шитья противного сбегу
К тебе, любимый. Больше не могу!
Эта прекрасная форма — остроумная, живая, безу-
коризненно правильная, простая, полная изящества —
развивалась не потому, что того требовало содержание,"
а в противовес ему, поскольку оно оставалось пустым и
абстрактным. Она совершенствовалась не под воздей-
ствием содержания, не благодаря усилиям того или ино-
го поэта, а как бы в результате естественного развития
«тосканского духа», художественного чутья, направлен-
ного к совершенствованию формы и совершенно равно-
душного к содержанию. Вот почему эти особенности вы-
ступают рельефнее там, где поэта связывает традицион-
ное содержание и где он описывает события и движения
души так, как они предстают перед ним в конкретных
жизненных ситуациях, такими, какими они бывают в дей-
ствительности. Когда содержание и форма стали едины-
ми, тогда-то и появилось лучшее из всего созданного в
ту пору тосканским гением; примером могут служить
некоторые из уже цитированных стихотворений.
Конечно, нам бы хотелось думать, что создание
итальянского языка и итальянской поэзии протекало од-
новременно, что это был такой же единый, естественный,
происходящий в народе процесс, какой наблюдался в
других странах. Но подобное желание бесплодно. В дей-
ствительности же язык формировался, а раз и навсегда
сложившееся содержание оставалось привычным и ус-
ловным: язык менялся, а содержание было неизменным,
даже у самых даровитых писателей; имена их ныне за-
быты, ибо выживает лишь то, что облечено в форму,
являющуюся плодом активного, реального содержания,
то, что живет как единое целое.
А содержание произведений большинства тогдашних
поэтов не было таким. В Тоскане, так же как и в Сици-
лии, мир поэтических образов и идей создавался не по-
32
степенно, не по мере формирования вольгаре, который
задолго до того уже получил четкие и постоянные очер-
тания. Существовали устоявшаяся поэтика и общепри-
нятый словарь. Все трубадуры жили одинаковыми пред-
ставлениями и пользовались одинаковыми словами. «Ма-
донна» и «Мессере» обладали столь же незыблемыми
чертами, как позднее маски комедии дель а р т е, то
есть традиционные комические персонажи, которые ни-
кто никогда не вздумал бы менять.
3. Мадонна, «аманца», или обожаемый предмет,
представляла собой верх совершенства; это была не та
или иная определенная женщина, а женщина вообще, и
любовь к ней походила на обожание и культ. «Мессере»
(«meo sere» — мой господин), влюбленный, представ-
ляет собой ценность лишь потому, что он любит. Чело-
век без любви — человек без достоинств. Способность
любить отличает благородное сердце. Кто любит — тот
кавалер, подчиняющийся законам чести, он защитник
справедливости, покровитель слабых; покорный раб и
служитель любви, ради своей Мадонны он охотно пой-
дет на любые муки. Будучи любим, он становится весе-
лым,- но без хвастовства, «без бахвальства», он презирает
богатство, ибо кто любим, тот истинно богат. Любовь —
это «слияние двух желаний», она не может «быть не-
удачной», все низменное ей чуждо, она безгрешна и до-
вольствуется одним взглядом. Даже в раю счастье влю-
бленного состоит в созерцании своей Мадонны, без нее
«ему не хотелось бы туда попасть». Кодекс любви
описывает мысли и чувства «утонченных» и «кур-
туазных» влюбленных. В рыцарском кодексе перечис-
ляются законы чести, обязанности рыцаря без страха
и упрека. Из сказанного следует, что понятие любви
охватывало жизнь во всех аспектах, включая бога, ро-
дину, закон; женщина была божеством этих простых
сердец.
Идеал чистой и всемогущей женщины, воплотившей
в себе всю Вселенную, мы обнаруживаем уже в памят-
никах самой древней старины. Он сохранился и в на-
чальный период существования современного общества
в Германии, во Франции, в Провансе, в Испании, в Ита-
лии. В соответствии с этим представлением слагалась
история. Троянцев и римлян изображали странствующи-
ми рыцарями; точно так же рисовали арабов, сарацин,
3 Де Санктнс
33
tvDok Султана и Саладина. Парис и Елена, Пирам и
Тисба такие же герои романа, как Ланселот и Дже-
ниевра Трисган и белокурая Изольда. В этом всеоб-
щем братстве действуют ангелы, святые, творятся чуде-
са* рай самьим странным образом смешивается с фан-
тастикой и сладострастием Востока, и все это называет-
ся рыцарством.
Общие идеи еще не настолько созрели, чтобы их вы-
сказать открыто, и выступают в виде аллегории. Нрав-
ственные идеи отражены в пословицах и поговорках.
Литература этой отроческой эпохи представлена рома-
нами новеллами, сказками и прибаутками, аллегориче-
скими поэмами и сонетами в их первоначальном зна-
чении то есть стихами, сопровождаемыми музыкой,
пением и танцами, откуда и произошли канцона (canzo-
ne-песнь) и баллата (ballata — танец).
Рыцарство не привилось в Италии. Замки и их вла-
дельцы, окруженные жонглерами, трубадурами, рас-
сказчиками и отменными поэтами, не особенно привле-
кали народ, который разрушил замки и зажил в горо-
дах-коммунах. После победы над Фридрихом Барба-
россой и свержения швабской династии городские
коммуны утвердились окончательно и феодально-монар-
хические традиции утратили всякое реальное влияние.
Правда, в памяти людей они сохранились, но не как
идеал, достойный подражания, а как чистая игра вооб-
ражения. Никто не верил в этот рыцарский мир, ему не
придавали серьезного практического значения; он суще-
ствовал только для «увеселения духа», не заполняя
жизнь служа лишь мгновенной забавой. А когда содер-
жание' литературного произведения не связано с вну-
тренней жизнью общества, остается лишь в пределах
воображения, оно становится легковесным и условным,
как мода, и теряет всю искренность и серьезность.
Но оставаясь в рамках заранее данного, неизменного
содержания, и воображение поблекло и иссякло; иначе и
не могло быть в условиях, когда литература складыва-
лась не вместе с национальной жизнью, а насаждалась
извне через переводы. Поэтому в ней не было ничего
национального и самобытного, ни полета фантазии, ни
движения чувства, ни разнообразия; в ней царило такое
однообразие, что подчас трудно отличить одного поэта
от другого.
34
Эти рыцарские сюжеты обретут жизненность лишь
позднее, после преобразования и переработки их нацио-
нальным гением. То самое художественное чутье, кото-
рое привело к замечательным результатам в языке, пре-
образит и рыцарскую тематику, даруя ей движение и
дыхание.
4. К тому времени Италия уже обладала своей соб-
ственной национальной и весьма развитой культурой:
вся Европа ездила учиться в ученую Болонью. Теоло-
гия, философия, правоведение, естественные науки, клас-
сическая филология — все эти отрасли знаний каждая
по-своему действенно помогали духовному развитию
нации.
Рыцарские сюжеты должны были казаться легко-
мысленными и поверхностными людям, воспитанным на
Вергилии и Овидии, читавшим Фому Аквинского и Ари-
стотеля, изучавшим законы Юстиниана и каноническое
право, постигшим чудеса астрономии и естественных
наук. Любовные тенцоны представлялись этим ученым
мужам, столь искушенным в научных спорах, детской
забавой. Для людей, в совершенстве владевших всеми
тонкостями риторики, этот вид поэтического творчества
был слишком грубым и бедным. Так родилось прекло-
нение перед наукой, своего рода новое «рыцарство», ко-
торое сбросило с пьедестала старое. Та же неудержимая
сила, которая притягивала Европу к Иерусалиму, теперь
влекла ее в Болонью. Историки весьма красочно описы-
вают эту властную тягу к знанию, главным центром ко-
торого стала Италия.
Наука была матерью итальянской поэзии, первое по-
этическое вдохновение родилось в стенах университета.
Первый поэт был прозван мудрецом1: это был отец на-
шей литературы болонец Гвидо Гвиницелли — благо-
родный, величайший, как говорит Данте2, и высоко-
чтимый.
Любовь и благородство суть едины,
Как сочиненье Мудреца гласит.
Vita Nuova, XX, 1—2. Как говорит Данте [Прим. авт.].
2 «Convivio», IV, хх, 7: «Как сказал благородный Гвидо Гвини-
целли», и «De vulg. eloq.», I, xv, 6: «Maximus Guido» — «величайший
Гвидо». Обе цитаты и следующая, из «Чистилища», взяты из Нан-
нуччи (op. cit., I, p. 32). Таким образом, ошибочной фразе о нем
(«Гвидо, по словам Бенвенуто да Имола, преподававший гумани-
3*
35
Кого считали
Отцом и я и лучшие меня,
Когда любовь так сладко воспевали.
(«Чист.», XXVI, 98-99)
Гвидо Гвиницелли в 1270 году преподавал литера-
туру в Болонском университете. Вольгаре к тому вре-
мени уже сформировался; в отличие от латыни его на-
зывали материнским современным языком. Гвиницелли
занялся им со всем пылом человека, изощрившего свой
ум сложнейшими философскими размышлениями и по-
стигшего чудеса астрономии и естествознания. В его кан-
цоне о природе любви 1 раскрывается новый мир науки
с его свежими впечатлениями. Как правило, в стихах
трубадуров мысли механически нанизывались одна на
другую, не получая никакого развития. Здесь же изла-
гается всего одна идея, весьма часто встречающаяся у
трубадуров и выраженная в знаменитом стихе:
Любовь и благородство суть едины...
(«Vita Nuova», XX, 1)
Но в ней для Гвидо Гвиницелли заключен целый мир,
мир, предстающий перед ним в совершенно новых ра-
курсах. Давая волю воображению, он черпает образы
не из рыцарских романов, а из физики и астрономии, из
прекраснейших явлений природы; он творит радостно,
увлеченно и самозабвенно, излагая и объясняя свои соб-
ственные открытия. Из-за обилия, нагромождения срав-
нений кажется, будто попадаешь в волшебный мир и
переходишь от чуда к чуду. Приведу несколько от-
рывков:
Лишь в сердце благородном непременно
Любовь живет, как в чаще леса птица.
Природою самой одновременно
Им было суждено на свет родиться:
Так до восхода солнца
тарные науки в Болонье в 1270 году, был человеком мудрым и
красноречивым») следует приписать выдвигаемое ниже неверное
положение, будто Гвиницелли преподавал в Болонском университете.
1 О знаменитой канцоне Гвиницелли «Al cor gentil ripara sempre
amore» см. «Saggio critico sul Petrarca», cit., pp. 50 и ел. (Собр.
соч. Де Санктиса, т. VI, изд. Эйнауди.},
36
Не озарялось все вокруг лучами,
Идущими от солнца.
Любовь от благородства происходит,
И ей подобно пламя,
Что в свете собственном тепло находит.
Любовный пыл с душою благородной
Сроднился, как сокровище с сияньем,
Когда скользит не звездный свет холодный,
Но солнечный по благородным граням... (Ст. 1—14))
Любовь пылает в благородном сердце,
Как пламя на вершине канделябра... (Ст. 21—22)
В возвышенных сердцах любви начало, —
Так прячется алмаз в куске металла.
Пред солнцем грязь трусливая повсюду
Сдается, исчезая постепенно.
Кричит гордец: «Я благородным буду!»
Он — грязь, а солнце жаркое бесценно.
Понять, о человек, сумей,
Что благородство — высший дар природы,
Достойный королей.
Не свойственно оно душе презренной.
Все отражают воды:
И свет звезды, и солнца свет нетленный.
(Ст. 28 и 30; 31—40)
Кое-что здесь не ясно, подчас ощущается даже не-
которая затрудненность, сбивчивость мысли, но в то же
время сверкают яркие проблески света, свидетельствую-
щие о глубоком, пытливом уме, чуждом избитых истин,
о большом опыте наблюдателя.
Содержание этих стихов еще внутренне не перерабо-
тано, это еще не поэзия, то есть не жизнь, не действи-
тельность, но это уже научный факт, рассмотренный и
проанализированный пытливым умом, со всей серьез-
ностью и глубиной, с которой он способен проникать в
научные проблемы; ум этот окрылен воображением,—
воображением, подстрекаемым не пылким чувством, а
опять-таки глубиной мысли. Гвидо не чувствует любви,
не испытывает на себе и не выражает любовных чувств,
он созерцает любовь и красоту взором философа. Перед
37
ним даже не идеализированный человек, а чистая идея,
в которую он влюблен, как в живое существо, со всей
силой чувства, влекущего философа к интуитивно уга-
данной им и созерцаемой умом истине. Так любил свои
идеи Платон: платоническая любовь была не чем иным,
как любовью через интуицию, созерцание, своеобразным
родством, устанавливаемым между созерцающим и пред-
метом созерцания: я тебя созерцаю и делаю тебя своей.
Гвидо любит плод своих размышлений, любовь будит
его воображение, помогает ему находить самые яркие
краски, так что его идея предстает в роскошном одея-
нии. Художник пока лишь философ, он еще не поэт. Пла-
тон и философское созерцание заняли место фривольной
и условной рыцарской поэзии, давшей столь обильные
всходы в странах, где она родилась, и столь скудно воз-
росшей на нашей почве, куда ее «импортировали». Поэта
еще нет, но уже есть художник. Мысль движется, вообра-
жение работает. Наука рождает искусство.
Рыцарская культура, хотя и способствовала форми-
рованию вольгаре, мешала свободному и естественному
выражению чувств народа; она создала искусственный,
поверхностный, далекий от жизни мир, сделавший без-
вкусным и пресным начальный этап развития нашей ли-
тературы, столь интересный у других народов. Под пе-
ром Гвидо это застывшее содержание пришло в дви-
жение; в качестве пружины выступало не самое чувство
любви, а научное созерцание любви и красоты; оно не
согревало сердца, но хотя бы будило воображение.
Итак, следует помнить, что наша литература была в са-
мом зародыше засушена рыцарской поэзией и, не сумев
проникнуть в жизнь народа, осталась фривольной и не-
значительной. Затем ее сбила с пути наука, уводя ее
все дальше и дальше от свежести и наивности народ-
ного чувства; наука создала новую поэтику, что оказало
немалое влияние на дальнейшее развитие литературы.
Итальянское искусство родилось не в гуще народной, а
в школьных стенах, под влиянием Фомы Аквинского и
Аристотеля, Бонавентуры и Платона.
Недостатки поэзии Гвидо Гвиницелли проистекают из
самой ее природы: когда он хочет рассказать о чувствах,
которых не испытывает, глубина переходит в изощрен-
ность, воображение — в риторику. Пытаясь описать свое
38
состояние после того, как его «пронзила стрела любви»,
он говорит, что эта стрела:
Врывается в меня, как ураган,
Врывается в окошко башни злобно,
Сметая все внутри и все круша.
И я стою, как медный истукан,
Безжизненному существу подобный,
Которое покинула душа 1,
Это, разумеется, совсем не похоже на безвкусные ухи-
щрения Якопо да Лентино. Здесь чувствуется человек
с талантом и мыслящий ум. Но витиеватые рассуждения
и фантазии на тему о любви все же нельзя принять за
язык влюбленного.
Поэзия Гвидо произвела огромное впечатление, если
судить по словам Данте, который не раз ему подражал2,
называл своим отцом, использовав великолепную третью
строфу приведенной выше канцоны о природе любви в
своей канцоне о Благородстве; придерживаясь той же
поэтической школы, Данте отмечал, сколь прославлен-
ными были оба Гвидо3, добавляя:
Может быть рожден
И тот, кто из гнезда спугнет их вместе.
Гвидо Гвиницелли затмил всех трубадуров и пользо-
вался большой славой у читателей, жадно тянувшихся
к науке и наделенных, как и он сам, живым воображе-
1 Стихи 9—14 сонета «Lq vostro bel saluto e '1 dolce sguardo»
(Nannucci, op. cit., I, p. 42).
2 Наннуччи (op. cit., I, pp. 45—48) тоже отмечает у Данте
следы влияния Гвиницелли. См., например, стр. 48: «То, что учите-
лем Данте был Гвидо, с особой очевидностью показывает его глу-
бокая канцона о Благородстве, то есть третья канцона «Пира»,
представляющая собой комментарий к строфе Гвидо, начинающийся
со слов «Fere lo Sol lo fango tutto 'l giorno». Точно так же и
Кардуччи говорил, что молодой Данте был многим обязан старому
учителю: «Данте в своей канцоне о Благородстве лишь расширил
и облек в убедительную форму мысль, лаконично выраженную бо-
лонцем» («Delle rime di Dante», 1865—1874). Следует сказать, что
станс, о котором идет речь, не третий, а четвертый станс канцоны
(упомянутой выше), ст. 31—40.
3 Гвидо Гвиницелли и Гвидо Кавальканти (Прим. автора),.
«За Гвидо новый Гвидо высшей чести Достигнул в слове...» («Чист.»,
XI, 97—98), а затем следует конец терцины, приведенный в тексте.
39
нием, — у тех образованных читателей, для которых поэ-
зия была мудростью и философией, прекрасной одеждой,
облекающей истину, и которые признавали стихи лишь
постольку, поскольку в них было сокрыто «наставленье»:
И всякий наставленье да поймет,
Сокрытое под странными стихами!
(«Ад», IX, 62—63)
Каков поэт, таковы и читатели. Так постепенно воз-
никла поэтическая школа, программа которой изложена
в дантовом «Пире».
5. Гвидо Гвиницелли прославил Болонью. Проела- -
вили свои города и другие поэты. Гвиттоне — Ареццо,
Якопоне — Тоди, Брунетто Латини —Флоренцию.
Данте считал Гвиттоне одним из тех, кто «во всех
своих словах и выражениях старался подражать на-
роду»1. О некоторых сонетах, приписываемых Гвиттоне,
но, судя по их строению и манере, написанных гораздо
позже, этого не скажешь2. Что же касается его канцон
и прозы, то вряд ли кто усомнится в справедливости
1 Эта цитата, так же как и другие, касающиеся Гуиттоне, взята
из Наннуччи (op. cit., I, pp. 161—163). Впрочем, в «Manuale» она
звучит несколько иначе: «Кто всякий раз в словах и выражениях
старался подражать простому народу». Так перевел Триссино из-
вестный отрывок из «De vulgari eloquentia», 11, vi, 8.
2 Четыре сонета — «Donna del Cielo, glonosa madre», «Gia
mille volte, quando Amor m'ha stretto», «Infelice mia stella e duro
fato», «Quanto piu mi distrugge il mio pensiero», содержащиеся в
сборнике, изданном Джунто («Sonetti e canzoni di diversi antichi
autori toscani», Firenze 1527), и обычно приписывавшиеся Гвиттоне,
были включены Наннуччи в его «Manuale» (I, pp. 163—166) и Эми-
лиани-Джудичи в «Florilegio dei lirici piu insigni d'ltalia» (Firenze
1846, pp. 163—165). Уже Фосколо показалось, что они принадлежат
к более поздней эпохе: «Дошедшие до нас стихи Гвидо для того
времени были бы замечательными. Не столько по содержащимся в
них идеям, сколько по стилю, подчас не уступающему стилю
Петрарки. Однако, признаться, я считаю, что стихи Гвидо д'Ареццо —
это остроумная выдумка какого-нибудь талантливого человека, жив-
шего в эпоху Льва X» («Epoche della lingua italiana», discorso II
in «Opere», IV, Firenze 1850, p. 169). To же пишет Де Санктис в
своем «Saggio critico sul Petrarca», ed. cit., vol. VI, p. 67: «Столь
велик разрыв между этими и другими приписываемыми ему сти-
хами, что начинаешь сомневаться, могут ли принадлежать те и дру-
гие перу одного человека». Эти подозрения подтвердил, по край-
ней мере в отношении одного из сонетов — «Quanto piu mi distrugge
il mio pensiero» — Эмилиани-Джудичи, обнаруживший его среди
9тИхов Триссино, напечатанных Шипионе Мафеи в 1727 г. См. «Sto-
ria», cit. 18552, I, p. 108.
40
мнения Данте. Для Гвиттоне характерно прежде всего,
что в поэте чувствуется человек, личность. Резкая и
даже грубая форма его стихов не может скрыть ориги-
нальности и своеобразия его ума, нравственной чистоты
и энергии. Перед нами — личность, не нежный влюблен-
ный, а высоконравственный, верующий человек, и сила
его — в искренности убеждений. Гвиттоне к тому же
человек образованный, обладающий умом, отточенным"
размышлениями и окрепшим в ученых спорах. В его сти-
хах нет непосредственного изображения жизни, они
представляют собой тонкий, искусный рассказ, которому,
по-видимому, с восторгом внимали его эрудированные
читатели. Слава Гвиттоне была столь велика, что в тече-
ние некоторого времени он считался первым среди поэ-
тов; однако в старости его затмили новые знаменито-
сти — по крайней мере Петрарка говорит:
Гвиттон д'Ареццо
Впадает в гнев, поняв, что он не первый.
(«Trionfo d'Amore», IV, 32—33)
Тем не менее у Гвиттоне оставалось немало" почита-
телей и последователей, к великому возмущению Данте,
который восклицал: «Довольно с нас поклонников неве-
жества, восхваляющих Гвиттоне д'Ареццо!»
Гвиттоне не поэт, он стихотворец-мыслитель; его
стихи лишены грации и тех красот, которыми с такой
неистощимой изобретательностью уснащал свои рассу-
ждения Гвиницелли. Он не поэт и не художник: ему
недостает того чувства меры и музыкальности, с по-
мощью которых другие поэты, стоявшие неизмеримо
ниже его по культуре и дарованию, оттачивали свой
вольгаре. Он лишен вкуса и изящества К
6. Стихи Якопоне заслуживают большого внимания,
ибо они знаменуют собой новое направление в нашей
литературе2. Это стихи святого, вдохновляемого
1 О «философской» поэзии Гвиттоне см. ниже, а общее сужде-
ние о его личности см. «Saggio critico sul Petrarca», ed. cit. vol. VI,
pp. 65—67.
2 Страницы, посвященные Якопоне, представляют собой целый
критический очерк. Это первая работа, в которой поэзия Якопоне
рассматривается по-новому, шире, чем это делали обычно критики-
просветители XIX века и в молодости сам Де Санктис—в лекциях,
посвященных проблеме литературных ж.анров. Он писал: «Нет ничего
41
любовью к всевышнему. Он не знает ни о провансальцах,
ни о трубадурах, ни о кодексах любви: этот мир ему не-
ведом. Он не печется об искусстве, не заботится о кра-
сотах языка и стиля, более того — утрирует народную
речь с тем же удовольствием, с каким святые облачались
в рубище. Он хочет одного: излить переполненную лю-
бовью и охваченную религиозным чувством душу. Теоло-
гия и философия чужды ему, он далек от всякой схола-
стики. Не удивительно, что образованные читатели вскоре
забыли такого немодного поэта, и стихи его сохрани-
лись и дошли до нас не как литературное произведение,
а как молитвенник. Однако поэзии Якопоне присущи
вдохновенная искренность, народность и безыскусствен-
ность, которых мы не найдем у поэтов, упомянутых
выше. Если бы любовь, о которой писали тысячи италь-
янских трубадуров, пылала в их сердцах так же сильно,
как тот пожар, который она зажгла в религиозной душе
Якопоне, наша поэзия была бы менее ученой, менее со-
вершенной, но зато более народной и искренней.
Якопоне отражает одну из сторон итальянской жиз-
ни, но с гораздо большей искренностью и правдивостью,
чем любой из трубадуров. Он передает религиозное чув-
ство в его начальном, первичном виде, так, как оно про-
является у необразованных людей, без намека на теоло-
гию и схоластику, религиозное чувство, переходящее в
мистицизм и экстаз. Поэт чувствует столь близкую духов-
ную связь с богом, пресвятой девой, святыми и ангелами,
что разговаривает с ними запросто, давая полную волю
воображению; он описывает их с такими трогательными
и почтительными подробностями, на какие способна
лишь фантазия, вдохновляемая любовью. Предмет его
особого обожания — Мария; он обращается к ней с не-
посредственностью и настойчивостью человека, твердого
в своей вере и преисполненного сознания своей любви.
Скажи, Мария, как Владыка мой,
Твой сын Христос взлелеян был тобой?
Наверное, когда ты разрешилась,
Мучений не изведав от того,
живого и в поэзии Якопоне: его творчество аскетично, лишено
лиризма и поэтичности». См. «Teoria e storia della letteratura» под
редакцией Б. Кроче, Bari 1926, I, р. 146, и в изд. Эйнауди — «Ри-
rismo illuminismo storicismo», т. II.
42
Ты, добрая-предобрая, склонилась
Над колыбелью сына своего.
Ты пеленала бережно его,
И с детства был на нем наряд простой.
Какое счастье, радости какие
Ты, на руках держа его, познала!
Поведай мне, утешь меня, Мария,
Чтоб на душе моей спокойней стало.
Ты личико младенца целовала
И повторяла: «О сыночек мой!»
Скажи, какими только именами
Ты не звала родного малыша!
Какой любовью полнилась душа,
Когда он грудь твою искал губами!
Как нежно ты следила, чуть дыша,
За лепетом его, его игрой!
Когда под вечер спал он безмятежно,
Ты торопилась рай себе вернуть,
Губами губ его касалась чуть,
Чтоб снова слышал он твой шепот нежный,
И говорила: «Умницею будь,
Иначе спать не сможешь в час ночной» 1.
Религиозное чувство помогает Якопоне тонко угады-
вать радости и прелести материнской любви. Он вос-
принимает бога, божественное не абстрактно, подобно
теологу или философу, а как существо в человеческом
обличье, с человеческими чувствами. Он как бы рисует
сцену семейной жизни, рисует с натуры, причем интуи-
ция помогает ему подметить ее прелесть, найти верный
колорит. Молитвы, гнев, безумства любви, мечты, экстаз,
видения в изображении Якопоне полны естественности,
он чувствует их нутром; его стихи то предельно просты
и трогательны, то грубы и вульгарны. Форма стиха
1 Эта лауда, опубликованная Алессандро Мортара в «Sette can-
tici inediti di Jacopone» (Lucca 1819), была перепечатана Наннуччи
(op. cit., I, pp. 395 и ел.). Де Санктис — как и Кардуччи— не ставит
под сомнение авторство Якопоне. Окончательную ясность в этот
вопрос внес позднее д'Анкона, установивший, что автором приве-
денной лауды был Джованни Доминичи (1357—1419), написавший
«Locula noctis». См. «Studi sulla letteratura italiana dei primi se-
coli», Ancona 1881.
43
продиктована самим чувством: то он мягок, убедителен,
почти из^Щен» то причудлив и простонароден. У Якопоне
легкое п^Р°» что подчас ему вредит, и порывистость,
исключающая какую-либо шлифовку. Но при этом из-
под его яера нередко выходят такие удачные, свежие
строки, которым не гнушались подражать даже Данте и
Тассо l. On умеет живописать не только приятное, но и
страшное; стоит привести некоторые отрывки:
Смотри на Иисуса.
В ту пору был он мал.
Цвели земля и небо,
Когда он засыпал:
Такую негу сладкую
Он, спящий, источал2.
Лик младенца Иисуса, рождество, святая дева, душа,
отлетаюшая в рай, ангелы — все эти образы полны гра-
ции, убедительны. Когда рождается Иисус:
И ангельская стая
На землю снизошла.
Как светлячки сверкая,
Огнем цвели крыла,
Несущие тела.
За ИисУс°м идет процессия женщин, которые тан-
цуют вокрУг него. Это Целомудрие, Скромность, Мило-
сердие, Надежда, Бедность, Воздержание, — нечто, на-
поминающе сцену с тремя сестрами из знаменитой кан-
цоны Данте з.
Вот как Якопоне описывает Скромность:
С косой пушистой, белой,
Смиренна и честна,
Какие песни пела
1 Это заметил Наннуччи (op. cit., I, pp. 384 и ел.), который при-
водит ряд б<?лее или менее убедительных примеров, свидетельствую-
щих о влиянии Якопоне на этих двух поэтов.
2 Стихи 63—68 лауды «Per li tuoi valori», по-видимому, не
аутентичной, не вошли в первое издание—1490 года — и были
опубликованР1 в сборнике стихов Якопоне под редакцией Трезатти
(Tresatti, VeHezia 1617). Де Санктис взял эту цитату у Наннуччи.
Не совсем точно передан и следующий отрывок (ст. 37—41 лауды
«Dolce amor, Cristo bello»).
3 КанцоИа «Тге donne mtorno al cor mi son venute».
44
Веселые она.
И, доброты полна,
Головкой мне кивала,
Как будто приглашала
Меня заговорить1.
Его воображение подсказывает ему не только прият-
ные сцены. С ужасающей наглядностью рисует он муче-
ния грешной души в час страшного суда:
Кто этот муж сердитый
И важный? Кто такой?
Я, ужасом убитый,
Исчез бы под землей.
Земля, мне будь защитой
И от него укрой.
Иначе как со мной
Безжалостный поступит? 2
Прибежища нигде я не найду,
В лесу, в пещере мне его не будет.
Повсюду я у Бога на виду,
И всюду страх меня средь ночи будит...
Одновременно горы разомкнутся,
И ветры разъяренные уймутся,
И все моря на свете разольются,
Речные воды вместе соберутся, —
Тогда тебя найдут.
И грянет глас трубы небесной тут,
И из могил усопшие придут,
И сам Христос возглавит страшный суд,
И ветры адский пламень понесут
Со скоростью великой.
1 Стихи 36—43 лауды «Chi Gesu vuole amare», опубликованной
Мортара (op. cit.), и Наннуччи в «Manuale» (I, pp. 392 и ел.),
также, по-видимому, не аутентичной.
2 Стихи 61—68 лауды «О согро enfracedato», вошедшей в первое
издание и воспроизведенной Наннуччи (op. cit., I, p. 381). Стихи,
следующие ниже (27—30 лауды о страшном суде «Udii una voce
che pur qui mi chiama» и 80—89 другой лауды на ту же тему —
«Al nome di Dio santo onnipotente»; обе лауды были опубликованы
Трезатти), приводятся Наннуччи (op. cit. pp. 381—382).
45
Якопоне — не одиночное явление: его поэзия связана
с народной латинской литературой, пропитанной рели-
гиозным чувством. Мы находим здесь и «Salve Regina»,
и «Ave maris stella», и «Dies irae» *, а также драмы и
жития святых, сочиненные красноречивыми и страстными
людьми. Песнопения и гимны стали появляться и на
вольгаре: так, от папы Бонифация2 до нас дошло не-
большое, довольно грубо сделанное песнопение в честь
пресвятой девы. Библейские сюжеты, страсти и смерть
господни, видения и чудеса святых, жалобы и молитвы
кающихся душ, мистические радости рая, ужасы ада —
таковы те распространенные темы церковных проповедей
и представлений, которые давались в церквах и на пло-
щадях и получили название мистерий или виде-
ний, празднеств и моралите.
Сохранилось описание одного видения ада, с по-
мощью которого папа Григорий VII, когда он был про-
поведником, поражал воображение слушателей. От на-
рисованных им в мрачных красках фантастических кар-
тин ада бросало в дрожь.
Я вспоминаю, что в Морра, у меня на родине, во
время праздника Мадонны, когда процессия доходила
до площади, появлялся ангел с благой вестью. По-види-
мому, этот обычай был продолжением давней традиции,
согласно которой ангел открывал представление, воз-
вещая его тему. У всех у нас на памяти большое пред-
ставление— видение того света — во Флоренции, когда
деревянный мост через реку Арно обрушился и многие
поплатились жизнью3.
Эти религиозные сюжеты, которые вдохновили на
создание стольких шедевров живописи, скульптуры
1 «Salve Regina» Эрманно Контратто (1013—1054); «Ave maris
stella» неизвестного автора X или XI века; «Dies irae» Томмазо да
Челано, умершего примерно в 1250 г.
2 «Stava la Vergin sotto della cruce» приведено Наннуччи (op.
cit., I, pp. 421—422). Перу Бонифация VIII приписал эти строки
Амати, обнаруживший их в одном из кодексов Ватиканской библио-
теки, и Пертикари. Песнопение представляет собой сделанный не-
известным перевод одной секвенции из требника Йорка, напоминаю-
щей «Stabat mater».
3 Историю эту рассказывают Джованни Виллани, Антонио
Пуччи в «Centiloquio» и Вазари в «Vita di Buffalmacco». Де Санк-
тис, по-видимому, лучше всего запомнил рассказ Виллани («Chro-
nica», VIII, 70^
46
и архитектуры, таили в себе мощный источник поэзии;
сочетая вымысел и любовь, божественное и человече-
ское, изображая все ступени, от ада до рая, они застав-
ляли трепетать все струны человеческой души. Эту
слишком аскетическую и спиритуальную тенденцию ре-
лигиозных представлений преодолевал народный здра-
вый смысл, который всему придавал языческий, «очело-
веченный» характер. В эти религиозные истории, изобра-
жавшие жизнь на том свете, по отношению к которой
обычная земная жизнь есть не более чем приготовление,
человек вносил свои земные страсти, свою месть
и ненависть, свое миропонимание, свою любовь. Мария
служила тем связующим звеном, которое соединяло
землю и небо: благочестивый поэт обращается к ней за-
просто, напоминает ей, что и она была когда-то обык-
новенной женщиной. Якопоне говорит:
О женщина, хочу слезами я
Омыть твои колена.
Что я твой брат, а ты сестра моя,
Ты знаешь несомненно 1.
К ней взывает трубадур, говоря о своей грешной
любви, к ней и по сей день обращается за помощью
отъявленный разбойник, перед тем как идти на грабеж.
Но Марии, Иисуса, святых, ангелов и Люцифера пока-
залось мало; народная фантазия породила целую вере-
ницу образов, персонификацию всех добродетелей, в виде
аллегорических фигур, окружавших божество; каждый
изображал их по-своему — так у Якопоне и на много-
численных барельефах, в произведениях скульптуры и
живописи. И поскольку язычество в последний период
его существования тоже истолковывалось аллегориче-
ски, то и образы древней мифологии — такие, как Юпи-
тер, Плутон, Амур, Аполлон, музы, Харон, — были вклю-
чены в этот вымышленный мир, разумеется, не в их
буквальном, а в более общем значении.
Как папа стремился подчинить себе весь мир, так и
религиозная история посягала на то, чтобы впитать
1 Стихи 29—32 лауды «Maria Vergine bella», приводимые Нан-
нуччи (op. cit., I, pp. 389 и ел.) и Кардуччи в очерке о Мандзони.
Д'Анкона установил, что автором лауды был Леонардо Джусти-
ниан. См. «Studi sulla letteratura italiana», cit., p. 92.
47
в себя историю всех времен и народов. В этом всемирном*
смешении, являвшемся плодом примитивного и пока еще
грубого воображения, мы не увидим ровного света и сли-
яния красок; преобладает темный фон, идея потусторон-
него мира, чего-то бесконечного, не поддающегося кон-
кретному изображению, выходящего за пределы формы,
заполняющего пространство огромными тенями. Эта
смесь божественного и земного, древнего и современного,
серьезного и комического не органична; напротив, от-
дельные ее ингредиенты столь плохо сочетаются друг
с другом, что, вместо того чтобы создавать ощущение
гармонии, производят впечатление чего-то несовмести-
мого и противоречивого. Недостаток света — это готика,
а отсутствие гармонии — гротеск; готика и гротеск — та-
ковы первые художественные проявления этого мира,
еще наивного, еще не побежденного, не покоренного
искусством. Апогей готики — в «Страшном суде» Яко-
поне, где, не видя бога, чувствуешь его повсюду, ощу-
щаешь отчетливо, но зрительно представить себе не мо-
жешь. Затрубили трубы, поднялся ветер, воздух непо-
движен, реки перестают течь, море бушует, в воздухе —
огненный вихрь... грешник, наблюдая все это, повсюду
чувствует руку творца, но не видит его, не ощущает его
формы; это не образ, это лишенное формы чувство,
заполняющее своей тенью все зрелище. Вот почему
так изумляют две превосходные строки, полные дви-
жения и гармонии (по существу, написанные настоя-
щим десятисложным стихом в оболочке одиннадцати-
сложного):
Повсюду я у Бога на виду,
И всюду страх меня средь ночи будит...
Это то самое ощущение, которое охватывает, когда
стоишь под мрачными сводами собора.
Но преобладает у Якопоне гротеск, смесь самых не-
совместимых вещей, свидетельствующая о полном отсут-
ствии чувства соответствия и гармонии; при нарочитости
это дает комический эффект, в результате же примитив-
ной наивности рождает гротеск. Непристойное, отврати-
тельное соседствует с самыми благородными чувствами;
то же самое характерно для святых с их экстазами и не-
лепыми причудами.
48
Такой контраст отнюдь не результат стремления про-
извести определенный художественный эффект, просто
такова грубая натура поэта, противоречивая и много-
образная, как сама жизнь. Вот начало 48-го песнопения:
Пожалей меня, Господь,
Исцели больную плоть;
Без конца меня знобит,
И к тому же все болит:
Голова, глаза, живот,
Зуб покоя не дает,
Бок болит. Я еле жив.
А еще вскочил нарыв 1,
Поэзия Якопоне прямо противоположна поэзии тру-
бадуров. Эта последняя абстрактна, условна и одно-
образна, лишена какой-либо связи с жизнью. Поэзия
Якопоне — это реальная жизнь в «естественном виде»,
еще не одухотворенная искусством; своего рода «сырье»,
много противоречий, ничего законченного, гармонично-
го, но кое-где прекрасные строки.
Параллельно с религиозными сюжетами с их непо-
средственностью появляются попытки отразить жизнь
нравственную, показать нормы поведения; они тоже не-
посредственны и примитивны. Это еще не голос разума
и не философия, а чистый опыт и традиция, облеченные
в форму поговорок или пословиц, подытоживающих
житейскую мудрость предков. Рифмованная по-
говорка (motto)—самая древняя форма поэзии
1 В рукописи первоначально следовало: «О родах божьей
матери» он говорит:
Вот случай приключился!
Малыш на свет родился,
Из чрева появился
У девы непорочной.
Замок не сдвинув с места,
Родился сын прелестный,
Покинул замок тесный,
Который заперт прочно.
Цитата взята из Наннуччи, op. cit., I. p. 378, лауда «О Vergin piu
che femina».
4 Де Санктис
49
на вольгаре. Вот несколько таких поговорок весьма
древнего происхождения:
Где госпожа слаба умом,
Служанке подчинен весь дом.
Не появись на свет
В семье, где мира нет.
Кто слышит, видит и молчит,
Тот жить спокойно норовит.
Кто слова бережет,
Уважаем тот.
Подобными изречениями изобилует одна из песен
Якопоне, представляющая собой нечто вроде свода
правил на все случаи жизни; она иллюстрируется обра-
зами или сравнениями — подчас нелепыми, но подчас и
удачными по содержанию и по форме. О суетности
жизни он говорит так:
С утра расцвел цветок,
А к ночи занемог.
Выраженная в такой безыскусной форме, эта истина
впечатляет гораздо более, чем изящный вариант того
же двустишия, принадлежащий Полициано и напоми-
нающий тщательно оштукатуренную и отделанную ста-
тую Венеры:
Свежа поутру роза; на закате
Она красу надменную утратит.
Поговорки Якопоне — это моральные сентенции в
форме конкретного примера или образа, как это харак-
терно для народного творчества; лаконичность и соч-
ность— их главное достоинство.
Туда, где ждут опасности,
Не торопись напрасно.
Умей из праха выделить
Ты самоцвет прекрасный,
Разумным сделай глупого,
Колючку — розой красной
И отучи невежливых
От грубости ужасной.
Берет пример с животного
Тот, кто не мыслит ясно.
50
Меняют вещи качество,
Примеров есть немало:
Кувшины были глиною
Презренною сначала.
Когда б не черви мерзкие,
И шелка бы не стало.
Стекло из пепла делаем,
А деньги из металла.
Ты людям не навязывай
К природе небреженье... (Ст. 15—34)
Мартышек не упрашивай
Исправить поведенье,
Не требуй, чтобы сладостно
Осла звучало пенье.,. (Ст. 81—86)
В делах, тебя достойных,
Ты проявляй старанье:
Умей восторги сдерживать,
Коль ты в священном сане.
Меч не украсит женщину,
Мужчину — вышиванье... (Ст. 81—86))
Пусть на законном месте
Пребудет вещь любая.
Не перепутай ноги
Ты, обувь надевая.
Вовсю кричать не надо,
Спокойный текст читая,
И долгой делать паузу,
Где только запятая.
По отношенью к ближнему
Веди себя достойно... (Ст. 113—122)
Не заводи ты недругов,
Коль хочешь жить спокойно... (Ст. 127—128)
Куда б ни занесло тебя,
Считайся ты с другими:
Будь генуэзцем в Генуе
И римлянином в Риме... ^Ст. 165—168)
Не знайся с проходимцами,
Не то жалеть придется.
Лисицу не расспрашивай,
Куда она несется.
51
И на себя не взваливай
Всего, что подвернется:
Кто гору сдвинуть силится,
Домой ни с чем вернется...
Когда сдержаться можно,
То силой не грози ты:
Не разрушай все здание,
Коль двери не закрыты...
Свою судьбу не связывай
С обманщиком синьором,
Не то тебя ограбит он,
Назвав при этом вором,
И справедливость сильного
Все будут славить хором..
Запомни, людям дружба
Нужна, как замку стены.
Ценна такая дружба,
В которой нет измены:
Не ей бояться бедности
И муки откровенной.
Того, что дома делаешь,
Не обсуждай с другими,
Врачуй ты раны мазями,
Не пламенем, а ими...1
(Ст. 193—200)
(Ст. 249-252)
(Ст. 275—280)
(Ст. 321—322)
(Ст. 325—332)
Так, нанизывая одно изречение на другое (связь их
совершенно случайна, иногда более, иногда менее удач-
на), Якопоне сочинял свои стихи в форме сентенций или
поучительных примеров, характерных для народного
творчества еще до появления басни и рассказа. Эти пер-
вые неуклюжие поэтические опусы, отражающие повсе-
дневную жизнь и чувства людей, обладают большим вку-
сом, нежели сонеты и моральные канцоны Онесто, Сем-
пребене и других трубадуров, написанные с большим зна-
нием формы, но слишком витиеватые и схоластичные2.
1 Из канцоны «Perche gli uomini dimandano», опубликованной
Наннуччи (op. cit., I, pp. 401—421).
2 Наннуччи приводит одну баллату и шесть сонетов Онесто
Болоньезе, или Онести (op. cit., I, pp. 153—160); Семпребене да Бо-
лонья принадлежит канцона «Come lo giorno quando ё dal mattino»
(ibid., pp. 136—138).
52
7. Эти люди, сыпавшие пословицами и почитавшие
Мадонну и святых, с воображением, наполненным ле-
гендами и рыцарскими похождениями, жили еще более
активной политической жизнью, чем наши современ-
ники, так как в ту пору политическая жизнь не охва-
тывала, как сейчас, бескрайние пространства, именуе-
мые королевствами, а была сконцентрирована в неболь-
ших пределах городов.
Нравы постепенно устоялись, так же как язык; тем
не менее религия и рыцарство, мистерии и романы, дей-
ствуя на воображение, не обладали достаточной силой,
чтобы сдерживать и направлять страсти, бушевавшие
с неистовством в городах-коммунах. Слишком реальна
и бурна была окружающая жизнь, слишком близка по-
вседневью, чтобы воспринимать ее с безмятежностью
и размеренностью искусства. То ли дело сочинить при-
баутку-издевку, остроумную шутку. Например:
Ревет осел — считай, что гвельф родился1.
Эта примитивная форма выражения ненависти к по-
литическим врагам, пропитанная горечью даже в при-
баутке и эпиграмме и, увы, процветавшая у нас и в бо-
лее культурную эпоху, никогда не выходила за пределы
четырех городских стен. Эти опыты так изобиловали
местными деталями и намеками на личности, что для
непосвященного были неинтересны: доказательством
служат сонеты Рустико 2. Правда, на примере его ста-
ринной политической сатиры можно убедиться, какого
совершенства достиг к тому времени вольгаре, и почув-
ствовать остроту и живость, столь характерные для
флорентийского гения. Но что нам за дело до донны
Джеммы и мессера Фастелло, мессера Мессерино и сэра
Чербиолино с его привычкой говорить намеками, ныне
никому не понятными!
То, что касается одного человека, умирает вместе
с ним. Город — как заколдованный замок: входя в него
1 Этот стих взят из Трукки («Гвиттоне писал: «Если ревет осел,
значит, родился гвельф»; op. cit., I, p. 228).
2 В период, когда писалась «История итальянской литературы»,
была известна лишь часть сонетов Рустико. Первый сборник сонетов
(куда вошли тридцать сонетов, то есть половина им написанных)
был сделан Трукки, который поставил своей целью показать глав-
ным образом реалистическую и бурлескную сторону творчества
этого флорентийского поэта.
63
V
человек отрезает себя от всего, что живет и движется'
во внешнем мире. Никаких следов великих событий,
ареной которых Италии довелось быть, никаких наме-
ков на великий спор между папством и империей, ме-
жду гвельфами и гибеллинами, никаких высказываний,
которые свидетельствовали бы о широких политических
взглядах, о беспокойстве за судьбы страны. Все
мизерно, все сводится к мелкому злословию на город-
ской площади. Туманный намек на события, происхо-
дившие в те годы в Италии, можно найти в сонете
Орландино Орафо: итальянцы были встревожены тем,
что Карл Анжуйский собирался напасть на короля Ман-
фреда в Беневенто. Однако Орландино интересуют от-
нюдь не политические последствия, не "дальнейшая судь-
ба страны, а лишь предстоящее кровопролитие:
И,схватятся они между собой,
И в схватке той от смерти неминучей
Немногих случай добрый охранит.
И коням не поможет никакой
Доспех стальной от гибели летучей.
Погибни лучше, кто не победит 1.
Орландино безразлично, кто окажется победителем,
кто побежденным. Главное для него — это сама схватка,
с ее перипетиями. Он — зритель, который, не разделяя
опасностей и страстей враждующих сторон, следит за
битвой, испытывая лишь жажду сильных ощущений.
8. Эта- грубость итальянской жизни во всех ее ас-
пектах — религиозном, моральном, политическом — вы-
ступает особенно наглядно-в свете контраста, который
она составляла с рано развившейся наукой, сосредото-
чившей на себе главное внимание в то время. Наука
была как бы новым миром, и все спешили в него загля-
нуть. Но она была словно евангелие: ее изучали и
с ней не спорили. Подобно тому как троянцы, древние
римляне, франки и сарацины, святые и рыцари состав-
ляли в воображении людей того времени единый мир,
точно так же Аристотель и Платон, Фома Аквинский и
1 См. Trucchi, op. cit., I, p. 182. Это — ст. 9—14 сонета
«О tu, che se'errante cavaliero», входящего в тенцону, — по поводу
политических событий, развернувшихся после битвы при Беневенто
и в связи с борьбой гвельфов с гибеллинами, вновь разгоревшейся
после прихода в Италию Конрадино Швабского,
54
Бонавентура представляли единую науку. Важнее всего
было знать: кто знал больше других, вызывал наиболь-
шее восхищение; никто не задавался вопросом, насколь-
ко гармоничны и глубоки эти знания. Вот почему так
велика была слава Брунетто Латини. Его «Тезоро»
(«Сокровище») и «Тезоретто» («Маленькое сокро-
вище») в течение долгого времени были притчей во язы-
цех: люди поражались, как мог один человек владеть
столькими премудростями и изложить в стихах Ари-
стотеля и Птоломея. Но сегодня о Брунетто Латини
никто бы и не вспомнил, если бы Данте не увековечил
его имя и его книгу в знаменитых стихах:
Храни мой Клад, я в нем живым остался,
' Прошу тебя лишь это соблюсти.
(«Ад», XV, 119—120)
Наука у Брунетто — такая же сырая, необработан-
ная материя, как религиозная жизнь у Якопоне и поли-
тическая — у Рустико. Его главная забота — выложить
все свои знания, и он высказывает их, не пропустив
через горнило своего разума, в том хаотическом виде,
в каком они были преподаны ему учителями. Все, что
он говорит, представляется ему столь важным и, каза-
лось, настолько важным 'его современникам, что ни
о чем ином он и не помышляет; впрочем, иного от него
и не требовали. Упомянутая выше энциклопедия Бру-
нетто была не чем иным, как рифмованной прозой.
9. Брунетто был учителем Гвидо Кавальканти и
Данте, которые окончили Болонский университет, — так
же как и Чино да Пистойя. У всех троих чувствуется
школа Гвидо Гвиницелли. Любовь освобождается от
рыцарских традиций и становится объектом теологии
и философии. Спорят о происхождении любви, о ее про-
явлениях, о ее значении. Любовь в примитивном пони-
мании — это совсем не та сила, которая движет солн-
цем и звездами *; любовь в. ее буквальном значении поэт
предоставляет плебеям, сам же посвящает себя поискам
ее высшего значения, значения теологического и фило-
софского, по отношению к которому ее буквальное
1 Здесь, так же как во многих других местах, Де Санктис
использует образы и выражения Данте. См. «Рай», XXXIII, 145:
«Любовь, что движет солнце и светила».
55
значение выступает лишь как внешняя оболочка. Чита-
тель с его тягой к науке пренебрегает любовью как тако-
вой и ищет за ней науку. По его глубокому убеждению,
все сущее есть лишь оболочка мысли, форма ее сущест:
вования. Чино да Пистоля называет Генриха Люксем-
бургского «формой блага»1; тело — это бренная оболочка
духа; женщина — воплощение морального и интеллекту-
ального совершенства. Здесь религиозный спиритуализм
и платоновский идеализм сливаются в единую доктрину.
Аллегория, эта первоначально естественная форма ма-
лоразвитой культуры, утверждается как основная форма
теологической и философской мысли, как преобладаю-
щее умонастроение, чему способствовал распространен-
ный обычай аллегорически истолковывать мифологию и
библию. Но научная мысль, отточенная в схоластических
спорах, достигла такой зрелости, что могла существо-
вать самостоятельно и найти свою собственную, прямую
форму выражения. Поэтому наряду с аллегорией в по-
эзию проникла научная мысль в неприкрытом виде, раз-
виваемая в научном диспуте по всем правилам схоласти-
ки. Чино, Кавальканти и Данте были самыми образован-
ными и тонкими мастерами спора, когда-либо выходив-
шими из стен Болонского университета. Их недюжин-
ный ум был приучен находить в предметах общее и аб-
страктное и развивать эти отвлеченные понятия с помо-
щью логики и риторики. Они были учеными, прежде чем
стать поэтами, и, сочиняя стихи, они снискали восхище-
ние современников своей ученостью.
Чино, учитель Франческо Петрарки2 и великого
Бартоло, был образованнейшим юристом. Его коммен-
1 Из канцоны «L'alta virtu che si ritrasse al Cielo», ст. 43.
Говоря о Чино, Де Санктис, по-видимому, пользовался изданием
его стихов под ред. Кардуччи («Rime di Cino da Pistoia e d'altri»,
Firenze 1862).
2 Это ошибочное мнение принадлежит Трукки (op. cit.t I,
p. 287); Де Санктису, должно быть, не хотелось отказаться от этой
мысли, поскольку он знал о дружбе, связывавшей Чино и Петрарку,
и о сонете Петрарки, написанном по случаю смерти Чино. Что же
касается знаменитого законоведа Бартоло да Сассоферрато, то
певец Сельваджи был действительно его учителем: это было в Пе-
рудже в 1326 году. Мнение Бартоло о Чино приводит Трукки:
«Комментарий, написанный его учителем («Lectura in codicem»),
Бартоло называет превосходным и говорит, что спорить с высоко-
чтимым наставником было равносильно тому, чтобы спорить с целой
коллегией знатоков гражданского права».
56
тарий к первым восьми томам «Кодекса» считался чу-
дом того времени. Он восстановил римское право, от-
крыл перед наукой новые пути; по словам Бартоло, ни-
кто не сделал для разработки гражданского права
столько, сколько Чино.
Любовь к Сельвадже сделала его поэтом, но заста-
вить себя мыслить по-иному он не мог. Вместо того
чтобы описывать свои чувства как поэт, Чино как кри-
тик анализирует их, предаваясь тонким рассуждениям.
Поставив себя вне всякой связи с природой, целиком
оставаясь в сфере абстракций, поэт утрачивает ощуще-
ние реальности и с теми самыми ухищрениями, с по-
мощью которых он связывал воедино самые несхожие
понятия и вопреки фактам и здравому смыслу извлекал
из них доказательства и выводы, он создает схоластиче-
скую поэтику, или, согласно его терминологии, «рито-
рику для нужд любви», изобилующую образами и пре-
увеличениями; «маленькие духи любви» у него бродят,
словно живые существа, а желания говорят между со-
бой. Вместо живых людей — условные фигуры.
В одном из своих лучших сонетов, написанном с
большим мастерством, Чино хочет сказать, что его лю-
бимая, будучи средоточием благоденствия, столь совер-
шенна, что это непостижимо для разума и остается
лишь одно: умереть. Чистая риторика и по странной, аб-
сурдной постановке вопроса и по форме изложения,
схоластически ученой!
Ту, что живет в сознании моем,
Амур печатью отличил своею,
И в сердце каждого разбужен ею
Любезный дух, уснувший было в нем.
Что стал я трус, она повинна в том:
В ее глазах — Амур, и я робею
И лишний раз в них заглянуть не смею
В то время, как мы рядом с ней идем.
И вдруг привет в ее очах прекрасных
Я замечаю, в самой глубине,
В какую разум мой не проникает.
И мужество отказывает мне:
Душа моя, источник вздохов страстных,
Навек проститься с сердцем помышляет,
67
Столь странное преувеличение не может быть оправ-
дано силой, накалом страсти; страсти*здесь нет и следа:
поэт развивает некую отвлеченную тему, одну из тех,
что предлагались учащимся для упражнения в ритори-
ке. Первый катрен — это первая посылка силлогизма; ра-
зум, душа, сердце, вздохи, действенная честь и дух благо-
родства— отвлеченные понятия, употребляемые в школах.
Чино, находясь в изгнании, как гибеллин, узнает
о походе Генриха Люксембургского1, и в нем пробу-
ждаются большие надежды; получив весть о смерти
Генриха, он пишет канцону. Какая обильная пища для
поэтических раздумий! Надежды и разочарования, меч-
ты и страдания скитальца. Но нет, Чино сочиняет науч-
ный трактат о могуществе смерти и бессмертии добро-
детели.
Еще более абстрактна и суха канцона о природе.
любви, написанная Гвидо Кавальканти2, большим зна-
током философии и риторики. Современники считали ее
совершенным чудом.
Итак, религиозная жизнь, мораль, политика находи-
лись в зачаточном состоянии; культура, пышным цветом
расцветшая в Болонье, тоже представляла собой еще
«сырье» и сводилась к версификации научных истин.
Вторая половина тринадцатого века. Сицилия, хотя
там еще творит Нина, оказалась в тени. Итальянская
культура сосредоточена в двух центрах: в Болонье и во
Флоренции. Болонья — очаг науки, Флоренция — центр
искусства. В Болонье преобладает латынь, язык ученых
эрудитов, во Флоренции — вольгаре, язык искусства.
Начавшееся в Болонье увлечение наукой распро-
странилось и на поэзию; оно вытеснило поверхностную
галантность трубадуров: читателей интересовали жиз-
ненные события, а не слова. Так сформировалось науч-
1 Ранее упомянутая канцона о Генрихе Люксембургском. Кан-
цона о его смерти (1313) «Da poi che la natura ha fine posto»,
(«Rime», cit., p. 122). В ранних лекциях о сатирической поэзии
вопрос трактовался иначе: «И тогда гнев породил божественное
произведение — «Комедию» Данте, а позднее политические сонеты
Петрарки и несколько канцон сладкозвучного Чино» («Teoria e sto-
ria», изд. Эйнауди, 1, р. 144, и «Purismo illuminismo storicismo»,
cit. II).
2 О знаменитой канцоне «Donna me prega perch'io voglia dire»
см. ниже, а также «Saggio critico sul Petrarca», изд. Эйнауди,
vol. VI, p. 51,
58
ное мышление и в соответствии с ним поэтическая
школа. Время случайных и народных поэтов кончилось
навсегда.
Поэт нового типа пишет по продуманному плану. Он
не столько поэт, сколько светоч мысли: Брунетто Ла-
тини — энциклопедист, Чино — крупнейший юрист своего
времени, Кавальканти — отменный философ \ Данте —
первейший ученый, непревзойденный в искусстве спора.
Они пишут стихи, дабы вещать истину, разъяснять наи-
более загадочные явления духа и природы. Поэзия
для них — лишь орнамент, прекрасное облачение истины
и философии, «любовный опыт мудрости», как говорит
Данте в «Пире»2. Следовательно, эти поэты движимы
двумя побуждениями: первое касается науки, второе —
искусства, то есть стремления орнаментировать, укра-
шать. Художник сопутствует ученому. Такова и двой-
ственная сущность Гвидо Гвиницелли.
10. Эта концепция искусства родилась в Тоскане —
прежде всего во Флоренции. Вольгаре, к тому времени
уже достигший большого совершенства, здесь звучал
в устной речи и на письме точно и изящно; подобного
нельзя было встретить в любой другой части Италии.
В Болонье, как говорилось выше, не нравились поверх-
ностные поэты, во Флоренции не признавали поэтов ма-
лообразованных и грубых. Даже Гвиттоне и Брунетто
не смогли продержаться долго: возникла новая школа;
в Болонье ее основу составляла наука, а во Флорен-
ции — искусство.
Это первое пробуждение художественного сознания
было ранее отмечено у Чино. В его стихах отчетливо
проступает стремление к отточенной, красивой рифме,
он обращает внимание не только на правильность, но
и на изящество сказанного. У Чино была мягкая, чув-
ствительная душа, он обладал музыкальным слухом.
Быть может, его стихам недостает убедительности и
энергии, свойственных сильным натурам, зато ему
1 Ср. Lorenzo d e' Medici, Epistola a Federigo d'Aragona:
«Тонкий флорентиец Гвидо Кавальканти, искуснейший диалектик и
философ своего замечательного времени». Цитата приведена Трук-
ки (op. cit., I, p. 276) и Наннуччи (op. cit, I, p. 265).
2 «Convivio, III, XII, 12: «И если то, о чем выше было ска-
зано, сводится к запоминанию, то философия есть любовный опыт
мудрости, особо угодный богу».
59
нельзя отказать в мелодичности и изяществе, окрашен-
ных задушевностью. Чино — предшественник своего ве-
ликого ученика Франческо Петрарки.
Вот пример, характерный для его манеры:
Коль скоро созерцанием Мадонны
Не удается мне насытить взор,
До тех я буду пор
Смотреть, пока счастливым я не стану.
Точь-в-точь, как, обитая над землею
И видя пред собою
Создателя, святым стал Серафим,
И я, земной, творение людское,
Любуясь красотою
Той, что над сердцем властвует моим,
Здесь, на земле, сумею стать святым К
Рекомендую вниманию исследователей канцону о
глазах любимой, которая вдохновила Петрарку напи-
сать своих «трех сестер»2, где он воспроизвел изящный
финал стихотворения Чино.
Для блага тех, кому вы.
Глаза любимой, всё еще опасны,
Уж лучше были б вы не столь прекрасны.
Глазам противницы моей упрямой
Скажи, о песня, прямо:
— Какие вы, тогда поймете сами,
Когда с другими встретитесь глазами. (Ст. 52—58)
У Чино есть много сонетов, в которых он не фило-
софствует, не мудрствует, а довольствуется простым
описанием своего состояния; они звучат нежно, со
страстью. Чем менее он блистает ученостью, тем больше
в нем сказывается художник.
Художественное сознание проявляется у Чино и в
технике стиха, в особенностях поэтической формы. Его
главные старания направлены на то, чтобы подчеркнуть
1 Стихи 1—11 («Rime», cit., pp. 57—58).
2 По поводу трех знаменитых канцон Петрарки, так называе-
мых «трех сестер», см. прежде всего «Saggio critico sul Petrarca»,
изд. Эйнауди, VI, pp. 139—153. Канцона Чино о глазах «Quando
amor gli occhi rilucenti e begli», из которой взяты нижеследующие
строки, входит в «Rime», cit., pp. 41 и ел.
60
музыкальность языка и стиха. Никогда дотоле ни у од-
ного поэта итальянский язык не звучал так нежно, на-
поминая собой прекрасный, гладко отполированный
мрамор, с поверхности которого удалены все шерохова-
тости и неровности.
Но более серьезные и глубокие достоинства проявил
Гвидо Кавальканти. Он также достиг большого техни-
ческого' совершенства, более того — возвел его в науку.
Влюбленный в родной язык, Кавальканти приложил
немало стараний, чтобы его очистить и упорядочить:
написал грамматику итальянского языка и книгу «Об
умении говорить». Как отмечает Филиппо Виллани,
Кавальканти, увлекавшийся /проблемами риторики, упо-
требил ее достижения для сочинения прекрасных и ис-
куснейших стихов на вольгаре. Стоит ли удивляться,
что на современников Гвиттоне и Брунетто Латини эта
новаторская манера излагать научные истины в искус-
ной форме произвела неизгладимое впечатление.
Так Гвидо Кавальканти стал главой новой поэти-
ческой школы, создателем нового стиля и затмил Гвидо
Гвиницелли.
За Гвидо новый Гвидо высшей чести
Достигнул в слове... («Чист.», XI, 97—98)
Но поэтической славы ему было мало. Ведь для Ка-
вальканти язык, поэзия стояли на втором месте и пред-
назначались лишь для украшения: основой была фило-
софия. Поэтому он пренебрежительно отзывался о Вер-
гилии; ему казалось, пишет Боккаччо, что «философия,
в том виде, в каком она существует ныне, намного выше
поэзии». «Тончайший диалектик» — такое прозвище ему
дал Лоренцо Медичи — Гвидо Кавальканти привнес в
поэзию все тонкости риторики и схоластики и ратовал
за то, чтобы поэт говорил не только красиво, но гово-
рил бы о важном.
Современники изучали его канцону о любви, как
изучают философский трактат: составляли к ней ком-
ментарии, как к сочинениям Аристотеля или Фомы Ак-
винского; в более поздние времена Фичино искал в ней
отражение учения Платона. Итак, Гвидо Кавальканти
слыл не только изящным и искусным художником слова,
но и крупнейшим философом.
-61
Такова была поставленная им себе цель,* и он ее до-
стиг, заняв первое место среди современников. В нем
прославляли ученого и художника.
Но Гвидо Кавальканти был больше эрудит, чем уче-
ный исследователь. Его заслуга перед наукой состоит
в том, что он ее популяризировал, а не в том, что он
внес в нее новый вклад. И он был скорее «мастером»,
чем художником, поскольку главное внимание уделял
чисто механической, технической стороне творчества, не-
маловажной для искусства, но составляющей лишь его
внешнюю сторону.
Славу Гвидо Кавальканти составило то, что служило
ему лишь отдохновением, передышкой. Сам того не же-
лая и не зная, он стал художником и поэтом. Есть люди,
величие которых не в состоянии правильно оценить ни
они сами, ни их современники. Об истинном величии
Гвидо Кавальканти не знали ни современники его, ни
он сам.
Гвидо Кавальканти — первый итальянский поэт, до-
стойный этого имени, ибо он первым почувствовал и по-
любил реальную жизнь. Бессодержательные рассужде-
ния трубадуров, на смену которым пришли затем на-
учные рассуждения и риторика, ожили под его пером:
сочиняя для развлечения или для того, чтобы дать вы-
ход своим чувствам, он отражает подлинные впечатле-
ния и свои чувства. Уделом поэзии раньше было раз-
мышлять и описывать, теперь она повествует и изобра-
жает — не по-простецки и грубо, как это делали ранние
поэты, а с изяществом и тонкостью, которые стали воз-
можны благодаря достижениям итальянского языка,
коим Гвидо Кавальканти владел в совершенстве. Вот
две хорошенькие, отлично очерченные крестьянки, выну-
ждающие поэта открыть им, кого он любит. А вот
пастушка, которая повстречалась ему в роще: следует
любовная сцена, нарисованная с натуры1. Темы — те
же, что занимали трубадуров, однако Кавальканти их
«реализует»: дает не только наружную отделку, но
перерабатывает по существу, вводя характеры, образы,
1 О поэзии Кавальканти Де Санктис говорил в своих первых
неаполитанских лекциях. (См. «La Giovinezza», cap. XXVI, изд.
Эйнауди, т. VI.) По поводу пастореллы и баллаты об изгнании см.
также «Saggio critico sul Petrarca», изд. Эйнауди, т. VI, pp. 67—69,
62
чувства, то есть реальную жизнь и действие. В этих
стихах чувствуется душа поэта — то веселая и безмя-
тежная, полная неуловимого изящества, как в баллатах
о крестьянских девушках и в пасторелле, то проникнутая
грустью, мягко переходящей в приятную игру вообра-
жения и описание нежной привязанности, как в лебеди-
ной песне поэта — баллате, написанной им перед
смертью в изгнании, в Сардзане. Здесь ученый исчезает,
риторика забыта. Все рождается изнутри, естественно,
просто и сдержанно, с превосходным знанием игры чув-
ства и формы его выражения. Поэт не старается уго-
дить читателю, произвести эффект, поразить ученостью
и риторикой: он пишет о себе, о чувствах, которые обу-
ревают его в таком душевном состоянии, не имея иной
цели, кроме желания излить душу, высказаться, наме-
чая путь, по которому столь далеко ушел Данте. По-
томки с полным основанием могли сказать о нем то, что
Данте сказал о себе:
Когда любовью я дышу,
То я внимателен; ей только надо
Мне подсказать слова, и я пишу.
(«Чист.», XXIV, 52—54)
Этого не произошло ни с Лентино, ни с Гвиттоне,
оставшимися вне «нового сладостного стиля» \ потому
что они преувеличивали чувства, выходили за рамки
естественности, чтобы угодить и понравиться чита-
телям.
Вот все, на взгляд хоть самый изощреннмй,
Чем разнятся и тот и этот лад.
(«Чист.», XXIV, 61—62)
Предшественником «Нового сладостного стиля» был
Гвиницелли, его создателем — Чино, а поэтом — Каваль-
канти. В сущности, новая поэтическая школа — это не
что иное, как более ясное представление об искусстве.
Было признано, что одной философии недостаточно:
1 См. «Чист.», XXIV, 55—57:
...Я вижу, в чем для нас преграда,
Чем я, Гвиттон, Нотарий далеки
От нового'пленительного лада,
63
требовалась форма. Гвиттоне д'Ареццо уже больше ре
ставился столь высоко, как прежде, хотя он, как*говорил
Лоренцо Медичи, и был «весьма искушен в философии,
серьезен и поучителен», но стиль его был «зело груб
и суров и не пламенел сладостным светом красноре-
чия» 1. Бенве'нуто да Имола тоже называет «голыми»
стихи Гвиттоне и хвалит его не за стиль, а за серьез-
ные поучения. Так во Флоренции родилось новое чув-
ство: чувство формы.
В этот период ожесточенных политических распрей
тосканская литература переживала период расцвета.
Данте да Майяно с сицилийкой Ниной были отголоском
трубадуров; Гвиттоне, Брунетто, Орбичани да Лукка
были поэты: ученые, но грубые, как и болонцы Онесто и
Семпребене. Однако внимание к форме, любовь к пре-
красному уже чувствуется у многих поэтов. Гвидо Ка-
вальканти выделяется из целой плеяды поэтов, включав-
шей Дино Фрескобальди, Рустико ди Филиппо, Гвидо
Новелло, Лапо Джанни, Чекко д'Асколи.
11. Однако вскоре рядом с именем Гвидо Каваль-
канти появилось имя Данте Алигьери; поэтов связывала
дружба, прерванная лишь смертью. «Новые стихи»2
произвели такое глубокое впечатление, что автор их тот-
час занял место рядом с Кавальканти. Казалось, что,
сумев облечь глубокую научную мысль в прекрасную
форму, Данте решил стоявшую перед поэзией задачу.
Вот почему так популярна была его канцона:
О женщины, разумные в любви,..
(«Vita Nuova», XIX, I)
А также следующая:
Вы, кто разумно правит третьим небом.
(«Пир», II)
Данте придерживался тех же взглядов. Эрудирован-
ный питомец Болонского университета ставил перед со-
1 Из упомянутого «Письма к Федеркго Арагонскому». Цитата из
Наннуччи (op. cit., I, p. 162) и там же отрывок из Бенвенуто да
Имола.
2 «Чист.», XXIV, 49—50:
Но ты ли тот, кто миру спел так внятно
Песнь, чье начало я произношу...
Следует предположить, что, работая над мелкими произведе-
ниями Данте, Де Санктис пользовался изданием Фратичелли (Fi-
renze 1861—18622).
64
■^-wmwM
шшвшт
tfrme (с фрески Джотто)
бой задачу с помощью поэзии сделать доступной науку,
прибегая к простым приемам, понятным среднему чело-
веку. В канцоне, призывающей женщину презирать муж-
чину, ибо он «далек от добродетели», Данте говорит:
Когда для вас мои полезны речи,
То буду я стараться
Яснее выражаться,
Чтоб вы постигли слов моих значенье.
Туманные реченья
Не без труда до разума доходят,
И с вами нужно говорить открыто К
Когда же Данте вынужден излагать свои мысли за-
вуалированно, он добавляет прозаический комментарий
и, таким образом, раскрывает заключенную в них док-
трину. Таков его комментарий к канцоне «Voi che inten-
dendo il terzo ciel movete» («Convivio», II).
И так как ему кажется, что без этого комментария
канцона не дойдет до сознания рядового читателя, он
заканчивает ее словами:
Тебя услышав, далеко не каждый
До смысла истинного доберется, —
Настслько, песня, ты тяжеловесна.
Когда тебе случайно доведется
С людьми такими встретиться однажды,
Что отзовутся о тебе нелестно,
Тогда утешь себя, сказав им честно:
— Гнушайтеся не вдруг моим рассказом:
Прекрасен он, лишь напрягите разум.
(«Пир», II, 53-61)
Итак, Данте намеревался пропагандировать научные
истины — в непосредственной ли форме рассуждения или
под прикрытием аллегории, — лишь бы поэзия, даже не
будучи понятна всем, имела ценность сама по себе, была
прекрасной и доставляла наслаждение2.
1 «Rime», CVI (XVIII в изд. Фратичелли). Это канцона о Щед-
рости «Doglia mi геса ne lo core ardire», vv. 22 и 53—59.
2 См. туринский курс лекций о Данте, прочитанный зимой и
весной 1854/55 учебного года и прежде всего в отношении коммен-
тария к канцоне «Voi che 'ntendendo il terzo ciel movete», шестую
лекцию «Vittoria del genio sulla critica», в «Lezioni e saggi su
Dante», изд. Эйнауди, I, pp. 108 и ел.
5 Де Санктис
65
Такова была теория новой поэтической школы в её
наивысшем выражении, таково было художественное
сознание, наиболее четкое и высокоразвитое.
Уважение, питаемое к научной истине, столь велико,
что Данте был не в состоянии понять, как любовь, бу-
дучи не субстанцией, а лишь акциденцией, случайностью,
может, словно человек, заставить его смеяться и разго-
варивать !. И в свое оправдание приводит тот довод, что
стихотворцы, сочиняющие стихи на вольгаре, имеют те
же привилегии, что и поэты, а поэтами он называет ла-
тинян— Вергилия, Овидия, Лукана, Горация, которые
вдохнули жизнь и дар слова в неживую материю; Данте
называет это «сочинять, облекая стихи в образы или
цвет риторики», и именует глупцами тех поэтов, которые
в случае необходимости не могут «освободить свои слова
от такого облачения»2. Отсюда следует, что Данте и Ка-
вальканти, которого Данте называет здесь своим лучшим
другом, презирали и глупых стихотворцев, употребляв-
ших одну риторику, лишенную содержания3, и тех,
кто заполнял свои сочинения одной наукой, без рито-
рики.
В этом высказывании заключен основной принцип
новой поэтической школы, на протяжении долгих веков
остававшийся последним словом итальянской критики и
позднее так сформулированный Тассо: «Истину надобно
преподать в форме нежного стиха» 4.
В соответствии с этой теорией и этим образом мыслей
были созданы многие канцоны и сонеты, представляю-
щие собой научные рассуждения, украшенные риторикой,
цветистое изложение научной истины. К ним принадле-
жит канцона о благородстве, начинающаяся так:
Любовные стихи, что я слагал... («Пир», IV)
1 «Vita Nuova», XXV, 1—3.
2 «Vita Nuova», XXV, 10: «было бы великим стыдом тому, кото-
рый сочинил бы вещь в одеянии риторической фигуры, а затем,
будучи спрошен, не мог бы этого одеяния снять со слов так, чтобы
в них был настоящий смысл».
3 Там говорится так: «Этот-то первый мой друг и я, мы
хорошо знаем таких, которые слагают стихи именно так бессмыс-
ленно». «Vita Nuova», XXV, 10. — Прим. авт.
4 «Gerusalemme liberate» I, 3.
66
И другая \ которая звучит так:
Амур, ты видишь женщину вот эту...
где поэт, пользуясь риторическим описанием любимой,
изображает впечатление, производимое на ее душу изу-
чением философии. Любовь, явления природы не столько
изображаются автором, сколько толкуются им научно,
как, например, зима в канцоне:
Я завершил движение по кругу...
Или любовь в канцоне:
Амур, что с неба шлет нам благодать...
Красота в той же канцоне;
Амур, кому мой разум подчинен... («Пир», III)
Из аллегорических и ученых канцон самой понятной
и доступной была та, в которой описывались три жен-
щины: Прямота, Широта и Сдержанность, родные сестры
Любви; люди прогнали их от себя, и они живут мило-
стыней 2.
Они с растерянным и грустным видом,
Усталые, гонимые жестоко,
Плетутся одиноко,
И благородству женщин грош цена.
А были времена,
Когда, по их рассказам, их любили;
Теперь все три презренны, как одна. («Пир», 9—15)
1 «Rime», СП (X в изд. Фратичелли). По существу это сексти-
на из трех или двух куплетов. Изображение зимы в канцоне «1о
son venuto al punto della rota» («Rime, C; XI в изд. Фратичелли)
в ст. 14—65. По другой упомянутой здесь канцоне «Amor che muovi
tua virtu dal cielo» («Rime», XC; XII в изд. Фратичелли) см. далее.
2 Это знаменитая канцона о Справедливости «Тге donne in-
torno al cor mi son venute» («Rime», CIV; XIX в изд. Фратичелли),
о которой уже говорилось выше. Эта канцона, сочиненная Данте
в изгнании, по мнению Де Санктиса, один из шедевров дантовой
поэзии. См. прежде всего «Saggio critico sul Petrarca», cit.,
pp. 76—79 («Самая прекрасная аллегорическая канцона, какая была
когда-либо написана»), ранние лекции о лирике Данте («Здесь
аллегория, облачение мысли — прекрасна и нравится». «Teoria ё
storia», Эйнауди, I, р. 134, «Purismo illuminismo storicismo», cit. II,
«La Giovinezza», cap. XXVI, изд. Эйнауди, vol. II.
5*
67
Здесь поэт не рассуждает, а рассказывает и изобра-
жает. Научная мысль побеждена живым изображением
и возвышенностью чувства. Риторическая окраска здесь
не украшает, но составляет основу канцоны.
В своих ученых канцонах Данте показал неизмеримо
большую силу, живость и богатство мыслей и красок,
чем оба Гвидо1. Он выступил как комментатор собствен-
ных стихов, разъяснил в «Новой жизни» и в «Пире»
повод к их написанию, их мысль и форму. Что касается
технической стороны дела, употребления языка, стиха,
рифмы, то в трактате «De vulgari eloquio» («О народном
языке») Данте показал, как великолепно он разбирается
в сложнейших деталях проблемы. Современники счи-
тали эти стихи непревзойденным образцом тогдашней
поэтической школы, основной закон которой гласил:
наивысшая ученость в изящном риторическом обла-
чении.
Содержание лирики, лирического мира Данте было
таким же, как и у его предшественников, только более
разнообразным и более четко осознанным. Бог этого
мира — Любовь, сначала выраженная в форме восхище-
ния, мук и мечтаний молодости, а потом в виде мистики
и философского восторга. Любовь находит себе приют
лишь в благородных сердцах, поэтому тонкость и кур-
туазность — неотъемлемые черты влюбленного. Источ-
ник благородства — вовсе не знатное происхождение или
богатство, а добродетель. Высокие добродетели — сестры
Любви, а посему они заставят сиять ее стрелы до тех
пор, пока на земле почитают добродетель. Но доброде-
тель украшает немногих, вот почему и любовь — «немно-
гими живет». Предмет любви — это красота, не «та кра-
сота, что снаружи», видная всем, а «сладкий плод», до-
ступный лишь тому, кто друг добродетели. Красоту
следует показывать лишь тому, кто ее понимает: недаром
в старину любовь называли «разумением», и Данте гово-
рит не «испытывать любовь», а «познавать смысл любви»2.
1 Имеются в виду слова Петрарки: «ессо i duo Guidi che gia
fur in prezzo» («Trionfo d'Amore», IV, 34).
2 См. канцону «О женщины, разумные в любви...» («Vita Nuo-
va», XIX). Слово «понимание» в значении «любовь» употреблено,
между прочим, Джованни ди Бриенне в его стихотворении, упомя-
нутом выше.
68
Чтобы утолить любовь, достаточно лицезреть, созер-
цать. Лицезреть — значит любить, любить — значит по-
нимать.
Кто не влюбился, повстречавшись с нею,
Тот не узнает никогда любви 1.
Небесный разум способен приводить в движение звезды:
Вы, кто разумно правит третьим небом...
Бог разумом приводит в движение Вселенную:
Подумал прежде тот, кто создал мир2.
А любовь есть не что иное, как «новый разум, кото-
рый влечет человека ввысь», приближает его к изна-
чальному разуму. Женщина, средоточие красоты, — это
«благородный разум»:
. О благородный разум,
Сегодйя год, как ты на небесах.
Следовательно, женщина —это «лик знания», пре-
красное лицо науки, она пленяет человека и пробу-
ждает в нем новый разум, помогает ему познавать.
Значит, женщина —это и есть наука, философия в ее
прекрасном облачении, это и есть та красота, сладкий
плод которой доступен немногим. Понимать — значит
любить, а любить — значит действовать согласно пони-
манию; поэтому философия- есть «любовный опыт муд-
рости», наука, превратившаяся в действие через посред-
ство любви. Такая добродетель есть не что иное, как
мудрость, добродетель — это жизнь по начертаниям
1 Стихи 6—7 баллаты «Г mi son pargoletta bella e nova»,
(«Rime», LXXXVII; VIII в изд. Фратичелли), по поводу которой
см. ел. главу.
2 «Convivio», III, канцона «Amor che ne la mente mi ragiona>\
ст. 72. Затем здесь же перефразированы стихи 3—4 сонета XLI
«Vita Nuova».
«Над сферою, что тише всех кружится:
То новая Разумность, что с тоской
Дала ему Любовь, в нем ввысь стремится»
(перев. А. Эфроса).
Далее следуют стихи 13—14 сонета:
«Видали очи, сколько состраданья»
(«Vita Nuova», XXXV).
69
науки. Поэтому влюбленного называют мудрецом; жен-
щина прежде всего мудра, а затем уж красива:
Не сразу мудрой женщины краса
Является влюбленному...
Красота — это лик мудрости, вот почему она нравится
и пленяет сердце.
Этому философскому мистицизму соответствовала
религиозная мистика, согласно которой тело есть тем-
ница духа, красота же — свет истины, лик божий, выс-
ший разум, созерцание ангелов и святых. Богу, ангелам,
раю и здесь отводится свое место. Теология и филосо-
фия идут рука об руку.
Эта теория впервые формулируется с такой полно-
той и превосходным знанием. Это идеализм той эпохи,
воплощенный в наиболее подходящую форму — в форму
аллегории. Добавим сюда работу воображения, прида-
вавшу!9^-е6р"аТам живость^!! квдщжт, — и перед нами
наибблее совершенное воплощение, нд^ какое только
эжно было в то время рассчитывать.
Ill
Лирика Данте'
1. Искренность вдохновения в «Новой жизни». 2. Страда-
ние — подлинная муза лирики Данте. Любовь, высказанная
лишь после смерти любимой, — новая ситуация в истории на-
шей поэзии. 3. «Пир»: отчетливое и живое ощущение единства
жизни и философии, горькое сознание раздвоенности и юно-
шеская гордость своей ученостью. 4. Лирический мир Данте —
отражение средневековой идеологии, спиритуалистической по
содержанию, ученой по форме и трудно поддающейся изобра-
жению. 5. Мощное воображение Данте. Канцона «Donna pie-
tosa e di novella etate». 6. Эстетические противоречия лириче-
ского мира Данте. Данте — больше поэт, чем художник.
1. До сих пор Данте рассуждал. Если же мы спросим
у него: «Что дальше?» — он ответит, как Рафаэль: «Ко-
гда любовью я дышу, то я внимателен»2, подчиняюсь
вдохновению. И действительно, если мы хотим узнать
подлинного Данте, мы должны искать его там, где
1 Как уже указывалось выше, цитируя стихи и другие мелкие
произведения Данте, Де Санктис пользовался изданием Фратичелли.
Но следует иметь в виду, что «Стихи» и «Новая жизнь», как, впро-
чем, и «Божественная комедия», были любимыми книгами Де Санк-
тиса с юных лет; следовательно, он пользовался и более ранними и
менее достоверными изданиями. К тому же он чаще всего приводит
цитаты по памяти. Как бы то ни было, при составлении примеча-
ний, указывающих на наиболее заметные отступления от текста,
использовалось издание Фратичелли. По вопросу о лирике Данте
следует обращаться прежде всего к первым неаполитанским лек-
циям, собранным в «Teoria e storia», I, pp. 133—136 и в «Purismo
illuminismo storicismo», cit., II, а также ко множеству упоминаний,
имеющихся в «Lezioni e saggi su Dante», cit., II и в соответствую-
щих вступительных статьях. О значении, которое Де Санктис при-
давал этой главе, см. в «Epistolario», письмо от 14 декабря 1869 года,
адресованное Джузеппе де Лука.
2 «Чист.» XXIV, 52—53. Ссылка на Рафаэля связана с извест-
ным высказыванием художника в письме писателю Кастильоне после
окончания работы над «Галатеей» (1514): «Говорю вам, что для
71
кончаются его сознательные рассуждения, в егоспонтан*
ном вдохновении.
Подчиняясь вдохновению, Данте серьезен и искренен.
Прочитав «Новую жизнь», нельзя усомниться в его
искренности. Перед нами воспитанник Болоньи, голова
его полна астрономией и кабалистикой, философией и ри-
торикой, Овидием и Вергилием, классическими поэтами
и новыми стихотворцами, но все это отнюдь не соста-
вляет сути книги, а лишь придает ей определенный коло-
рит, составляет ее орнаментальную сторону. Под плащом
студента бьется чистое сердце нового человека, жадно
впитывающее впечатления, одинаково склонное к обо-
жанию и к отчаянию, скрывается бурное воображение,
уносящее поэта ввысь, далеко от земли, в царство при-
зраков.
Любовь к прекрасной девушке в пурпурном плаще1,
которую он зовет Беатриче, — типично юношеское чув-
ство, первая любовь, чистая и целомудренная, живущая
скорее в воображении, чем в сердце. Беатриче больше
похожа на мечту, на призрак, на неземной идеал, чем на
конкретную реальность, оказывающую воздействие на
окружающих. Один взгляд, мимолетное приветствие —
вот и вся история любви. Беатриче умерла, отлетела,
подобная ангелу, не успев стать женщиной; любовь, го-
воря современным языком, не успела перерасти в
страсть, так и оставшись мечтой, вздохом2.
Именно в связи с тем, что образ Беатриче так мало
реален и обезличен, он живет больше в сознании Данте,
того, чтобы нарисовать одну красавицу, мне надо смотреть их мно-
жество. При этом Вы, Ваша Светлость, должны были бы находить-
ся при мне, дабы выбрать наилучшую. Но поскольку нынче пере-
велись и ценители красоты и красивые женщины, то я решил
использовать некую идею, которая пришла мне в голову. Не знаю,
предполагает ли она наличие высокого искусства; однако, я поста-
раюсь его достичь». Выражение «некая идея» получило особый
смысл и распространение в годы расцвета эстетики романтизма. См.
также очерк Томазео (Tommaseo, Dell' ideale) в «Delia bellezza
educatrice». Venezia 1838, p. 52 и прежде всего Гегеля — «Cours
d'esthetique», Paris, 1840—1852, vol. I, p. 307, в переводе на фран-
цузский, который, как известно, был тщательно изучен Де Санктисом.
1 «Vita Nuova», III, 4.
2 В ранних лекциях о лирике Данте говорится: «У Данте мы
не найдем описаний внешности или движений, в которых проскаль-
зывала бы грациозная чувственность, как у Петрарки. Описывае-
мая им красота носит сугубо духовный характер. Движения, речь,
72
нежели вовне, переплетаясь и смешиваясь с идеалом
трубадура, с идеалом философа и христианина. Создавая
эту «смесь», поэт руководствовался самыми благими на-
мерениями, поэтому его не упрекнешь ни в фальши, ни
в условности. То, что у других поэтов было сплошной
схоластической и риторической абстракцией, здесь ото-
двинуто на задний план, не составляет сути картины,
а служит лишь ее обрамлением. Эта картина изображает
Беатриче, — изображает не настолько реально, чтобы
полностью приковать к себе возлюбленного, но на-
столько, чтобы глубоко воздействовать на его сердце и
воображение. Перед нами, собственно, не влюбленный,
а поэт, который под влиянием малейших перипетий
любви ощущает потребность излить свои чувства в со-
нете или канцоне.
Когда душа его безмятежна, тотчас же дает о себе
знать ученый муж, знаток риторики, стихотворец; когда
же душу охватывает подлинное эолнение, Данте отбра-
сывает в сторону свой докторский берет, правила рито-
рики, поэтические реминисценции и полностью отдается
вдохновению. И тогда Беатриче, одна Беатриче зани-
мает его мысли и к его впечатлениям, именно в силу
их непосредственности и искренности, почти не примеши-
вается ничто постороннее. Любовь его выступает такой,
какой она была для него в действительности, скорее
обожание, преклонение перед любимой, а не страсть
к женщине. Об этом говорит сонет:
Любезна так и до того мила.
(«Vita Nuova», XXVI)
В том же духе выдержана баллата, где Беатриче
с грацией и наивностью существа, сошедшего с небес,
произносит следующие слова:
Я дева небывалой красоты,
Неведомой для вас. Пришла сюда я,
Чтоб вам явить красу иного края.
улыбка Беатриче дышат благородством, добродетелью, и, восхи-
щаясь, поклоняясь ей, испытываешь почти робость. Более того, ее
улыбка не поддается описанию: чувство, которое она вызывает, не-
возможно выразить. Ее появление исторгает из груди Данте вздох:
не воздыхание, которое у древних возвещало о страсти, а вздох
души» («Teoria е storia», cit., I, pp. 135—136; «Purismo illurninismo
storicismo», cit., II).
73
Я ненадолго с неба отлучилась,
Где всем на радость воссияю вновь.
Кому при встрече я не полюбилась,
Тот не узнает, какова любовь...
Мои глаза созвездий отраженье
Омыло новым светом доброты,
И мир земной повержен в изумленье
Моей красою — даром высоты.
(«Rime», LXXXVII, 1-7, 11-14)
Это и не аллегория, и не научная концепция. Вернее,
здесь есть и то и другое, но они глубоко скрыты, пре-
даны забвению, полностью «выведены в реальность» в
соответствии с чертами того первого идеала женщины,
который предстает юношескому воображению.
2. Если в словах, выражающих это наивное восхище-
ние, слышатся ноты старого репертуара и налицо стрем*
ление отдать дань науке, то описание страдания — под-
линной музы этой лирики — звучит правдиво и самостоя-
тельно. Ибо в конечном итоге краткая история любви
отмечена лишь редкими мгновениями безмятежной, со-
зерцательной радости. Смерть отца Беатриче, ее скорбь,
предчувствие смерти Беатриче и ее смерть — вот основ-
ное содержание книги и трагический мотив ее поэзии.
Пока Беатриче жива, поэт, прибегая к самым тонким
ухищрениям, хранит ее в своей душе как тайну. Рассказ
пока малоинтересен и свидетельствует о рассчитанном,
холодном стремлении скрыть правду; но когда идеалу
юности поэта грозит опасность, когда Беатриче умирает,
жизнь утрачивает для поэта смысл, он чувствует себя
одиноким, ему кажется, что он тоже гибнет. Возникает
совершенно новая в истории нашей поэзии ситуация1:
едва зародившаяся любовь, любовь, подобная первым
мимолетным мечтам юности, обретает реальность со
смертью и после смерти любимой. Любовь обнаруживает
i О понятии «ситуация», которым Де Санктис пользовался на
разных этапах в своих критических работах, см. замечания Контини
в его вступительной статье к «Scritti storici di Francesco de Sanctis»
(Torino 1949, p. 16) и очерк W. Binni «Amore del concreto e situa-
zione nella prima critica desanctisiana», 1942, а также «Critici e
poeti», Firenze 1951, pp. 99 и ел.
74
себя через смерть *. И тогда она освобождается от
искусственности и условности, привнесенной трубаду-
рами и наукой. Это уже не концепция и не аллегория,
а чувство и воображение. Теперь, когда Беатриче
умерла, любовь к ней, так и не реализованная при ее
жизни, находит свое подлинное, чистое выражение.
С этой ситуацией связана лучшая и наиболее поэтиче-
ская часть лирики Данте.
Далее описываются более умеренные чувства. Поэт,
воспевая покойную, утешает себя: Беатриче, вознесшись
на небо, становится Истиной, любимым образом, в кото-
ром поэт воплощает свои размышления, прекрасным ли-
ком Мудрости. Это уже не «Новая жизнь», это «Пир».
3. Любовь — уже не чувство индивидуума, а прин-
цип, на котором зиждется жизнь в небесах и на земле.
Беатриче в результате своего чудесного перевоплощения
становится символом, сладкозвучным именем, которым
поэт нарекает свою новую любовь —Философию2.
■ ^ Но философия для Данте не абстрактная наука, а
JS Мудрость, иными словами, наука жизни. Провозглашая
щ! себя другом философии, он преисполнен гордости; Данте
^J хочет быть и другом высоких добродетелей, что заста-
вь вляет человека презирать богатства, почести, знатность,
^ дает подлинное благородство, которым человек обязан
лишь самому себе, а не другим. В основе всякого деяния,
по мнению Данте, должно лежать понимание, а силой,
приводящей в действие разум и укрепляющей волю,
является любовь. В этой триаде заключено единство
жизни: одно не может существовать без другого.
Следует заметить, что это рассуждение Данте не
носит характера спекулятивного умозаключения или
1 Те же слова находим у Эдгара Кине, книгу которого «Revolu-
tions d'ltalie», Paris 1848, I, pp. 98—99, Де Санктис, по-видимому,
хорошо знал.
2 Кроче в своем издании «Истории итальянской литературы»
дает примечание: «Философия в «Пире» — это не Беатриче». Од-
нако следует вспомнить замечательные слова Де Санктиса в один-
надцатой лекции цюрихского курса о Данте: «Этот новый идеал
Данте — наука, которую он называет благородной женщиной и ца-
рицей мира. Его вторая любовь сливается с первой, его второй
идеал присоединяет к себе первые два. Это идея, воплощенная в
женщине, в Беатриче, в гётевском «вечно женственном» («Lezioni
е saggi su Dante», cit, pp. 483—484).
| Библиотека I
I У Г П И I
I r«p. Ижевск J
показной эрудиции. Его любовь — подлинное чувство,
глубокое, сильное нравственное начало, подобное вере в
бога у истинно верующих. Философия поглощает чело-
века целиком, пронизывает все стороны жизни.
Несмотря на обилие изощренных схоластических рас-
суждений, благодаря серьезному искреннему чувству
поэзия Данте достигает высокого морального звучания;
оно ощущается во всем — в тоне, в колорите, в стиле; и
чем оно менее отчетливо, тем более поэтично.
Таков, например, великолепный ответ Любви изгнан-
ницам сестрам и неожиданное обращение поэта к са-
мому себе:
Изгнанник, я изгнанием горжусь *.
Благодаря этому чувству становится терпимым даже
педантизм канцоны о подлинном благородстве2.
Этой возвышенности чувств сопутствует у Данте из-
вестная— я бы сказал аристократическая — гордость от
сознания, что он — один из тех немногих, кому бог даро-
вал мудрость. Вот как высоко ставит Данте идеал науки
и добродетели:
...Их можно за богов принять:
Такая в них сокрыта благодать,
Какую лишь Господь душе дарует3.
Но чувство удовлетворения переходит в грусть, а под-
час приобретает оттенок глубокого презрения к людской
толпе — к «животным, лишь похожим на людей»4. Там,,
где нет добродетелей, нет любви и не должно быть кра-
соты, поэтому поэт призывает женщин бежать красоты:
Завет Амура древний вы презрели:
Для благородных целей
Амуром вам дана краса такая.
Заветы не в почете
У вас, но я надеюсь — вы поймете,
Что благородство наше
Дано с красою вашей
Единственно любви соединить.
1 «Rime», CIV (XIX в изд. Фратичелли), ст. 76. Из знаменитой
канцоны «Тге donne intorno al cor mi son venute».
2 Convivio, IV. Канцона «Le dolci rime d'amor chT solia».
3 Стихи 114—116 канцоны «Le dolci rime d'amor».
4 Перефразирован стих 23 канцоны «Doglia mi геса». Далее
следуют стихи 7—21.
76
А если так, вы Не должны любить,
Но красоту свою скрывать должны вы,
Ведь благородства в людях нет ничуть.
Да разве в этом суть?
Хотел бы я взглянуть
На ту, что, став нарочно некрасивой,
Притом себя считала бы счастливой.
Здесь в схоластической форме развита традиционная
концепция любви как объединяющего начала, которое
создает «из двух —одно», соединяет красоту и доброде-
тель. Но эта концепция для Данте есть нечто живое,
душа мира, единство жизни. Видя красоту и не обнару-
живая добродетели, он ощущает в жизни конфликт, про-
тиворечие, выводящее его из себя. Отсюда — новый ори-
гинальный ход мысли: поэт желает и ждет от женщины
(хотя и понимая, что эти ожидания напрасны) порыва
«прекрасного негодования», ждет, чтобы она сказала:
«Раз мужчина лишен добродетели, не буду красивой,
перестану любить!»
При всем том Данте был сыном своего века: он счи-
тал своим долгом аргументировать и излагать свою кон-
цепцию согласно правилам науки, и в том его ошибка.
Однако научная концепция и ее схоластическое изложе-
ние играют второстепенную роль; суть же составляет
чувство, пробуждающее в поэте ощущение противоречия
между этой концепцией и реальностью.
— Увы! К чему я говорю все это! — восклицает он.
Поэт понимает тщетность своих желаний, понимает, что
мир останется всегда таким.
Подобно тому как самоутверждение любви происхо-
дит со смертью, точно так же, погибая, вступая в про-
тиворечие с жизнью, утверждается и философия.
Перед нами ясное, живое ощущение единства жизни,
основанного на гармонии мысли и действия, или, как
мы сказали бы сегодня, на гармонии идеального и реаль-
ного, и вместе с тем горькое сознание раздвоенности, за-
ставляющее поэта возмущаться человеком, «из госпо-
дина ставшего рабом» \ некогда владевшим собой, а
См. ту же канцону — «Doglia mi геса», ст. 24—26:
Что за нелепость, Боже?
Стремиться господину стать рабом
Или живому — мертвым!
77
ныне превратившимся в раба своих животных ин-
стинктов.
Но сознание этого противоречия не лишает Данте оп-
тимизма и веры, как обычно бывает у современных по-
этов. Душа его молода, полна непреклонной веры; разо-
чарования лишь облагораживают и закаляют ее. Мучи-
тельное ощущение дисгармонии отнюдь не приводит его
к отрицанию философии, напротив, Данте ее просла-
вляет, он любит ее еще пламеннее, гордится, что владеет
ею, что вместе с немногими избранными чтит ее и по-
сему чувствует себя чуть ли не богом среди людского
стада.
Итак, первую отличительную черту лирического мира
Данте составляет психологическая правдивость. При
всей нарочитости и условности вторичных признаков
основа — подлинная, ибо в основе — искреннее отраже-
ние того, что происходит в душе поэта. Чувствуется, что
перед тобой — человек, вдумчиво относящийся к жизни.
Жизнь — это философия, реализованная истина, а поэ-
зия— это голос и лик истины. Друг философии с не
меньшей гордостью называет себя поэтом, борцом за
истину. Философ и поэт, он считает, что на него возло-
жена великая миссия; он обращается к толпе автори-
тетно и уверенно, как апостол, постигший истину.
4. Однако чувство, движущее этим столь серьезным и
искренним лирическим миром, не является сугубо лич-
ным, или субъективным. Напротив, личное, случайное
у Данте едва намечено. Это чувство характерно для
поэтического мышления людей той эпохи, для их образа
жизни, мыслей, переживаний, для их манеры выра-
жаться. Девочка-ангел, сошедшая с неба \ девочка, ко-
1 Это много раз употребляемое выражение, относящееся к жен-
щине, «спиритуализированной-» поэтами нового стиля и Данте, взято
из мадригала Петрарки («Rime» CVI): «Безвинный ангел быстрым
крылом — слети с небес (перев. А. Эфроса). В словах, следующих
далее, перефразируется знаменитый отрывок из сна о смерти
Беатриче:
Моим слезами застланным глазам
Казалось, что струится с неба манна —
То ангелы на небо возвращались,
И, с легким облачком встречаясь там,
Кричали все наперебой: «Осанна!»
(«Vita Nuova», XXIII, canzone «Donna
pietosa e di novella etate», vv. 57—61)
78
торой не суждено стать женщиной, мимолетное видение,
белым облачком улетающее обратно ввысь в сопрово-
ждении ангелов, поющих ей осанну, но в то же время
пребывающая на земле как светоч истины, апостолом
которой становится ее возлюбленный, — вот религиозно-
философский роман, типичный для того времени. Это
было время, когда правду жизни искали в ином мире.
Здесь же, на земле, была лишь Беатриче — явление, ви-
дение, скрывавшее вечную истину.
Если земля — место временного пребывания и тяжких
испытаний, то поэзия живет не на земле, а в царстве исти-
ны. Беатриче начинает жить лишь с момента своей смерти.
Этот мистический, спиритуалистический по своей сути
и столь ученый по форме мир можно изображать алле-
горически, скажем, в скульптурных образах; его движе-
ния, оттенки, неопределенность могут быть отражены в
живописи, в музыке, но очень трудно изобразить его
с помощью слова. Ибо слово предполагает анализ, чле-
нение, уточнение; с его помощью можно изображать
лишь нечто определенное и не всю картину в целом, а
последовательно, одну деталь за другой. Попробуйте
проанализировать этот мир — и он растает. Анализ не-
избежно приведет вас к рассуждениям, к размышлениям
в форме ученого сочинения, что является отрицанием
искусства. Не следует забывать, что в основе лириче-
ского мира людей этой эпохи, в его содержании и в
форме была наука — «чистая» наука, еще не проникшая
в жизнь и не обретшая конкретности. Правда, Данте го-
ворит, что наука должна быть не абстракцией, а реаль-
ностью. Но в том-то и дело, что «должна»! Основываясь
не на том, что есть, а на том, что должно быть, поэзия
Данте не изображает, а рассуждает, убеждает, да еще
к тому же в аллегорической форме, усложняющей вос-
приятие и без того осложненного, сугубо научного содерг
жания.
Современники Данте ощущали эту трудность и пыта-
лись преодолеть ее с помощью риторики, украшая свои
научные рассуждения цветистыми оборотами. Данте
тоже полагал, что можно сделать философию поэтичной,
придав ей прекрасный облик. Разумеется, то было дви-
жением вперед, но пока мы лишь на пороге искусства,
в царстве воображения. Ни Гвиницелли, ни Чино, ни
Кавальканти не з состоянии увлечь нас, не под силу это
79
и Данте при всей мощи его воображения. Более того, он
даже отстает от своих предшественников в этом искус-
стве украшения и расцвечивания: они прилагали к тому
все усилия, поскольку изображаемый ими мир был лишь
плодом их воображения, в то время как для Данте его
лирический мир составлял его сущность, был частью его
самого, имел значение сам по себе. Вот почему Данте так
сдержан, суров, не склонен «угождать» и зачастую поль-
зуется до примитивности скупыми средствами. Для него -
орнаментация — не упражнение в риторике, не само-
цель: если он и прибегает к ней, то лишь для того, чтобы
сделать более осязаемой и выпуклой свою мысль.
И Данте выходит часто победителем именно потому, что
этот мир — плоть от его плоти, часть его души, потому
что он оказывает воздействие не только на его разум, но
на все его существо. И все же, чтобы стать поэтом, од-
ной безграничной веры Данте в этот мир было бы недо-
статочно. Вера—основа, предпосылка, обязательное
предварительное условие всякой поэзии, но не сама поэ-
зия. Поэт должен верить, ноне всякий верующий — поэт;
это может быть и святой, и апостол, и философ. Данте не
был ни святым, ни апостолом, ни философом своего вре-
мени— он был поэтом. Вера пробудила в нем удиви-
тельный поэтический талант, дарованный ему природой.
5. Данте в высокой мере обладал таким важнейшим
для поэта даром, как фантазия, которую не следует сме-
шивать с воображением, способностью гораздо менее цен-
ной. Воображение — это способность украсить, расцве-
тить, пригладить; самое большее, на что оно способно,
это воссоздать подобие жизни в виде аллегории или.
персонификации. Фантазия же — дар творческий, интуи-
тивный, спонтанный, подлинная муза, «deus in nobis» \
которая владеет секретом жизни, умением схватить его
налету, даже в самых мимолетных явлениях, создать
впечатление, дать тебе его почувствовать. Воображение
пластично: оно рисует образ, облик: «Pulchra species,
sed cerebrum non habet»2. Образ — его конечная цель.
1 Слова Овидия (Fasti, VI, 5: «Est deus in nobis, agitante
calescimus illo») часто используются Де Санктисом для определения
поэтической фантазии.
2 «Прекрасен внешний облик, но ум отсутствует» (Fedro,
I. 7, 2).
80
Фантазия действует внутри, затрагивая внешнюю сто-
рону лишь для более полного раскрытия внутренней
жизни. Воображение — это анализ: чем больше оно стре-
мится украшать, рисовать, расцвечивать, тем больше от-
даляется оно от сути, от того целого, в чем заключена
жизнь. Фантазия — это синтез: она нацелена на главное,
одним штрихом создает впечатление, чувства живого
человека и его образ1.
Плод воображения — это образ, но образ, замкну-
тый в себе, тусклый; плод фантазии —прозрачный «при-
зрак» с едва намеченными очертаниями, который мы
мысленно дорисовываем сами. В воображении много ме-
ханического, им пользуются и в поэзии и в прозе, оно
доступно и великим и посредственным; фантазия же не-
что весьма органичное, она дается лишь тем немногим,
что именуются поэтами.
Поэтический мир Данте или, вернее, поэтический мир
его века, пропитанный мистикой и спиритуализмом, все-
ми силами противится воображению. Попав в его власть,
он остается риторичным и искусственным, внешне краси-
вым, но по существу холодным и абстрактным. Таков
и поэтический мир Гвиницелли, Кавальканти и Чино.
Естественным же выразителем этого поэтического мира
была фантазия, а его формой — призрак. Его первым и
единственным поэтом был Данте, ибо Данте владел ис-
кусством создавать его; именно он создал первую фан-
тазию современного мира.
Данте не любуется образом и задерживается на нем
лишь тогда, когда образ как бы источает свет и по ассо-
циации будит нужную мысль. Приведем для примера
его канцону, обращенную к Любви:
Любовь, твоя живая благодать
От неба происходит.
Где благородство луч ее находит,
Становится она сама собой...
И ты зажгла меня,
Как отраженье зажигает воды.
1 О различии между фантазией и воображением см. также
одиннадцатую лекцию об искусстве Берше в «Mazzini e la scuola
democratica», изд. Эйнауди, pp. 170 и ел,
@ Де Санктис
81
Ее краса тобою рождена,
Коль можно чье-то усмотреть влиянье
В достойном столь созданьи,
Так солнце — знак огня, его предвестье,
И потому при нем огонь не в счет,
Но где-то в третьем месте,
Где солнца нет, огонь свое берет1.
Эти образы не уподобляются самой мысли, они ел-у-
жат лишь для сопоставления действий и объяснения
мысли. Такой же была и манера Гуиницелли. Но он так
преисполнен спесивой гордости, пользуется своим мето-
дом с такой пышностью и помпой, что топит мысль в
образе. Данте более строг, потому что мысль ему не без-
различна; он не отвлекает от нее вашего внимания. Под-
час он настолько озабочен тем, чтобы донести мысль до
читателя, что подает ее в совершенно обнаженном,
«естественном» виде. Но он глубоко проникает в мир
мыслей, и этот мир становится его романом, историей
его души. Тогда мысль не только не нуждается в осве-
щении, истолковании с помощью взятого извне образа,
но преобразуется и сама становится образом. В этом
процессе преобразования мысли в образ и проявляется
фантазия. И тогда, согретая пламенной фантазией Пиг-
малиона, мраморная статуя становится живым суще-
ством2. Воспетая трубадурами абстрактная, безымян-
ная, образцовая по красоте и добродетели женщина,
превратившись в философскую платоническую идею,
ожила: это Беатриче, девочка-ангел, сошедшая с неба,
возвещающая людям о своем приходе и о том, как она
прекрасна:
Мои глаза созвездий отраженье
Омыло новым светом доброты.
1 «Rime», XC (XII в изд. Фратичелли), ст. 1-^4, 26—27, 39—45.
2 Миф о Пигмалионе, упоминаемый Де Санктисом не впервые,
взят из Овидия (Metam., X, 243—297). Но в памяти Де Санктиса
запечатлелась не столько легенда, переданная латинским поэтом,
сколько знаменитая версия Шиллера, которого он в молодости
очень любил:
«Как древле рук своих созданье
Боготворил Пигмалион —
И мрамор внял любви стенанье
И мертвый был одушевлен».
(«Мечты», перев. В. Жуковского)
Ю
Но этот процесс преобразования не заходит настоль-
ко далеко, что мысль оказывается погребенной, предан-
ной забвению в образе (подобное чудо знало только гре-
ческое искусство), и причина тому не недостаток пыла
или фантазии. Данте ушел всеми корнями в свой науч-
ный и мистический мир, и его фантазия уже не может
выйти за пределы этого мира, материализовать его.
В такой диссонанс впадает художник, равнодушный к
содержанию и занятый лишь усовершенствованием фор-
мы, не поэт, преклоняющийся перед миром своего твор-
чества, замыкающийся в нем, живущий по его законам,
в его пределах. Данте не может придать языческий от-
тенок этому духовному миру, ибо это его дух, его мир,
его чувства, его образ мыслей. Образ, создаваемый Дан-
те, — образ запоминающийся и трансцендентный; едва
набросав его очертания, поэт тут же лишает его телес-
ности и сводит к впечатлению, ощущению. Данте не опи-
сывает: как можно фиксировать, определять образ, не-
постижимый разумом! Перед поэтом нечто неуловимое,
свет разума, не поддающийся изображению, нечто такое,
что не может быть увидено и узнается лишь по произ-
водимому на нас впечатлению. Поэт дает не сам образ,
а представление о нем. Его воображению с гораздо боль-
шей ясностью предстает не тело, а дух, не образ, а то,
чем он «кажется», — впечатление:
Какой улыбка кажется ее,
Представить или рассказать неможно:
Ведь это — новоявленное чудо.
(«Vita Nuova», XXI, 12—14)
Казалось, весь ее смиренный вид
Об умиротвореньи говорит.
(«Vita Nuova», XXIII, 69—70)
И кажется, слетает с уст ее
Легчайший дух, исполненный любови,
Который говорит душе: «Вздыхай».
(«Vita Nuova», XXVI, 12—Г4)
Последние три стиха составляют изумительный фи-
нал сонета, в котором Данте задался целью описать
Беатриче, но выражает лишь свои впечатления от нее.
Рассмотреть Беатриче так и не удается. Она — как
всевышний в храме: ее не видишь, но ощущаешь ее
6*
83
присутствие, ибо все вокруг полно ею. Беатриче скорбит
о смерти отца. Но взор поэта направлен не на нее: ты
видишь ее, глядя на искаженное страданием лицо поэта,
слыша рыданья стоящих вокруг него женщин, которые
улавливают ее голос, но не осмеливаются на нее взгля-
нуть:
Кто пожелает ею любоваться,
Тот перед нею замертво падет.
(«Vita Nuova», XXII, 2 сон., 13-14)
Беатриче приветствует, и у поэта
...Дрожит и отнимается язык,
И очи на нее взглянуть не смеют.
(«Vita Nuova», XXVI, 3—4)
Поэт не дал никакого описания, никакого изображе-
ния этой девушки, недоступной взору, не воспроизвел ни
одного ее слова или жеста, ограничившись только двумя
моментами — рождением и смертью: девочка-ангел со-
шла с небес и улетела обратно, подобно белому облачку.
Данте не видел, как она умерла. Он видит ее во сне, уже
мертвую, когда женщины накрывают ее покрывалом К
Изображение смерти отсутствует, зато как отчетливо мы
ее ощущаем:
...Смерть, тебя высоко чту:
Должна ты кроткой быть и благородной.
С тех пор как ты в любимой побывала,
Должна ты гнев сменить на доброту.
Лелею встретиться с тобой мечту
И, будучи твоим единоверцем,
Зову тебя всем сердцем.
(«Vita Nuova», XXIII, 73—79)
Вместе с Беатриче умирает вся Вселенная:
Казалось мне, но где — не знаю сам,
Я видел толпы женщин на дороге,
Стенающих, печалью опаленных
И горьким предающихся слезам.
1 См. канцону «Donna pietosa», «Vita Nuova», XXIII, v. 68:
«Vedea che donne la covrian d'un velo». Эта канцона, по мнению
Де Санктиса, как и канцона о Справедливости, представляет собой
одно из высочайших достижений поэзии Данте. По этому поводу
см. «La Giovinezza», cap. XXVI, и особенно «Saggio critico sul
Petrarca», cii, p, 72 тт. I, VI изд. Эйнауди.
84
Я глянул в небо и увидел Там,
Что солнце сникло, плача, и тогда
Заплакала звезда,
И птиц движенье приостановилось.
Земля зашевелилась,
И человек предстал моим очам
И новостью потряс меня ужасной:
— Скончалась та, что столь была прекрасна.
(«Vita Nuova», XXIII, 45-56)
Так прекрасна! Таков образ. Данте достаточно на-
звать ее прекрасной, назвать по имени: Беатриче. Поэт
обращается к паломникам, безучастным к такому горю:
Никто из вас не плачет почему,
Страдающий пересекая город.
Мне сердце шепчет, что всего скорей,
Узнай вы, что произошло здесь нынче,
И вы бы разрыдались в свой черед.
Своей лишился город Беатриче,
И все, что скажет человек о ней,
До слез кого угодно доведет.
(«Vita Nuova», XL, 5—6 и 9-14)
Жизнь и смерть Беатриче показаны через других лю-
дей, через чувства, которые она в них вызывает. Образ
тотчас же преобразуется в чувство. Этот спирцтуализи-
рованный образ и есть та «полуреальность», которая
именуется призраком, существующим больше в вообра-
жении читателя, нежели в словах поэта. Каждый пред-
ставляет себе Беатриче по-своему, в меру силы своего
воображения. Мы — в музыкальном царстве неопреде-
ленного. Беатриче — это «reve», мечта, сон, видение1.
Даже ее смерть и та сновидение или, как говорит Данте,
фантазия, сопровождаемая патетическими, трагическими
подробностями2, ибо поэт — жертва своих призраков, он
живет в этом мире, переживает и отражает все впечатле-
ния.
1 По поводу «reve» — одного из ключевых терминов Де Санк-
тиса, а также по поводу различия между «мечтой», «фантазией» и
«reve» см. лекцию о Берше в «Mazzini e la scuola democratica», cit.,
p. 171, § 3.
2 См. много раз цит. канцону, посвященную сну о смерти,
«Donna.pietosa», v. 13.
85
Беатриче умирает, потому что
...эта жизнь с ее тоской
Не стоила красавицы такой.
(«Vita Nuova», XXXI, 27-28)
Вернувшись в сиянии славы на небо, она становится
«великой духовной красотой», озаряющей небеса светом
любви к удивлению ангелов К
Эта духовная красота или, как Данте говорит в дру-
гом месте, «свет разума, полный любви»2, есть поэти-
ческий мир, реализованный в иной жизни, где призрак
исчезает, а истина предстает перед тобой во всем блеске
интеллекта, как чистый разум, духовная бесплотная
красота.
Призрак, эта полуреальность с расплывчатыми, неяс-
ными очертаниями, воспринимаемая, видимая лучше
через впечатления и ощущения, чем непосредственно,
была лишь предчувствием, покровом, подготовительной
формой этого царства чистого духа, тенью духа. Ныне
же свет разума рассеял тень: больше не остается ничего
неопределенного, ничего телесного: мы — в царстве фи-
лософии, где все точно и догматично, все ясно и уточ-
нено по всем правилам схоластики. И так как филосо-
фия не смогла стать высокой добродетелью, — на земле
ей места нет, — то ее удел — быть чистой, далекой от
жизни наукой. Наконец, последнее впечатление состоит
в том, что земля — это царство теней и призраков, лес
невежества и пороков, трагедия, неизбежно оканчиваю-
щаяся смертью и страданием, и что подлинная реаль-
ность, вечная и божественная комедия — в мире ином.
6. Такого лирического мира, необъятного по охвату,
глубокого по мысли, гармоничного по построению и по
форме, такого личного и в то же время общечеловече-
ского, не было создано ни до, ни после Данте. В нем от-
ражен поэтический мир средневековья с его абстрак-
циями и видениями, голос тогдашнего человечества.
1 См. канцону «Quantunque volte, lasso!, mi rimembra» (Rime,
XXVII; VII в изд. Фратичелли), ст. 22—26:
Великая духовная краса
Венчает небеса
Любовным светом, с ангелами дружит,
Их тонкий разум восхищая всей
Любезностью застенчивой своей.
2 «Рай», XXX, 40.
85
Тайну этого религиозно-философского мира составляет
«любезная» Смерть1, понимаемая как переход от тени
к свету, от призрака к реальности, от трагедии к коме-
дии, или, как говорит Данте, к покою («расе»). Смерть
есть начало жизни, преобразование. Поэтому истинный
центр Дантовой поэзии — это сон о смерти Беатриче,
где звучит подлинный голос поэта, где присутствуют обе
жизни — земная и загробная. Когда солнце проливает
слезы, земля содрогается, а ангелы поют «осанну», Беа-
триче как бы говорит: «Я обрела покой» 2. Перед нами
и страждущая земля и благолепие на небесах — таин-
ство единства поэтического мира Данте.
Пожалуй, во всей средневековой поэзии нет произве-
дения, которое могло бы сравниться со сном Данте:
поэт достиг здесь редкого совершенства благодаря без-
ошибочной интуиции, гармонии красок, глубине чувства,
четкому развитию мысли, простоте и правдивости выра-
зительных средств.
Но если логически этот поэтический мир един, то в
эстетическом отношении он неоднороден, ибо земля и
небо не сливаются, они стоят особняком друг от друга
и оба не безупречны. Подчас призрак напоминает в
большей мере аллегорию, чем реальность; он статичен,
не дан в развитии, в движении, у него нет прошлого.
Реальность же — чистая наука в ее схоластической
форме. Есть все основания говорить, что там, где в этом
лирическом мире начинается реальность, поэзия уми-
рает, фантазия и чувство иссякают. Таков органический
недостаток этого мира: он не поддается искусству, не
поддается и Данте.
С другой стороны, Данте проявляет себя здесь в
большей мере поэтом, нежели художником. Он относится
к этому миру слишком серьезно, чтобы воспринимать
его только инстинктом художника. Его нисколько не бес-
покоит, что поверхность шероховата: лишь бы под ней
чувствовалось живое биение жизни. Вот почему Данте
всегда прямолинеен, часто сух и примитивен. Италия
обрела своего поэта, но еще не обрела художника.
1 См. «Donna pietosa», vv. 73—-75:
...Смерть, тебя высоко чту:
Должна ты кроткой быть и благородной,
С тех пор как ты в любимой побывала.
2 См. там же, стихи 23—70,. и особенно 49—53 и 69—704
j^*******************************************
IV
Проза
1. Французские романы и их прозаические переводы на
вольгаре. Первые хроники: Маттео Спинелли и Рикордано
Малеопини. 2. Слабое развитие в Италии рыцарских тем в
простонародной интерпретации. «Новеллино»: изящество и
правильность языка при общей сухости повествования. 3. Раз-
витие городской культуры и формирование интеллигенции из
мирян; вольгаре как естественное орудие этой культуры, слу-
жившее популяризации науки. 4. Предметы, особенно привле-
кавшие внимание переводчиков, — этика и риторика. «Книга
Катона» и «Цвет риторики». Трактаты Альбертано и «Цвет
философов». 5. «Сад утешения» Брунетто Латини. Философия
берет верх над верой неискушенных людей, что свидетель-
ствует об утверждении культуры. Успех Боэция. «Введение в
добродетели» Боно Джамбони и «легенда души» — общерас-
пространенная концепция, изложенная в стихах и прозой.
6. Бедность выразительных средств тогдашней прозы, которая
сводилась к компиляции. Главная заслуга XIII века в том,
что он подготовил почву для следующего столетия.
1. В создание итальянского народного языка внесли
свой вклад — в не меньшей мере, чем стихотворцы или
устные поэты, — так называемые фавеллатори —
сказители. Слово фа вел л а (язык) связано с фа-
бел л а — побасенка, вот почему современные языки
были названы фавелле, то есть языками сказителей,
Фавеллатори при дворах государей и в замках расска-
зывали новеллы, подобно поэтам, читавшим стихи о
любви. Поэтому и говорится о нашем языке:
В стихах любви и в сказах он сильнее.
(«Чист.», XXVI,. 118)
Проза, как и стихи, создавалась на готовом, заим-
ствованном репертуаре. Стихотворцы черпали свои темы
в любовном кодексе, а новеллисты, или сказители, — в
88
романах Круглого стола, именуемых также романами
о Карле Великом. Традиционный герой тех и других —
странствующий рыцарь.
Все эти произведения —переводы. Таковы «Рассказы
о древних рыцарях», «Круглый стол», «Французские
палладины» 1. Тристан, Изольда, Ланселот^ король Ме-
лиадус, волшебник Мерлин, Карл Великий, Роланд —
все это были герои, созданные народным воображением.
Еще и поныне можно услышать в Неаполе сказителей,
рассказывающих жадной до необычайных историй про-
стонародной публике об удивительных подвигах Роланда
и Ринальдо.
Подобным же образом трактовалась и история Рима.
Имеется старинная книжка под названием ^«Лукан в
прозе», представляющая собой итальянский вариант
романа в стихах «Юлия Цезаря», написанного Жаком
де Форестом 2. Описание войны между Цезарем и Пом-
пеем выдержано здесь в целом и в деталях в стиле ры-
царских романов. «Знаток риторики» и «отличный кли-
рик», Цицерон так начинает свою речь к Помпею: «Ко-
роли, графы, бароны и прочие люди требуют и просят,
дабы ты не медлил». Не удивительно, что рыцарская те-
матика проникает даже в хронику. Такая книга, как
«Диурнали» (по-современному «Газеты») Маттео Спи-
нелли — самая старинная итальянская хроника3,—
1 Впервые опубликованные Пьетро Фанфани рассказы «I conti
di antichi cavalieri» (Firenze 1851) были включены Наннуччи в его
Manuale (II, pp. 83 и ел.). Наннуччи указывает: «Нет сомнения, что
речь идет о переводе с провансальского». Перевод «Круглого
стола», о котором говорит Де Санктис, был издан тем же Наннуччи
(ibid., II, pp. 155 и ел.) по «Codice Riccardiano» 2543. Позднее их
опубликовал -полностью Пароди («II Tristano riccardiano», Bologna
1896). О «Французских палладинах» см. выше.
2 См. Nannucci, op. cit., II, pp. 172 и ел. Другой перевод
был опубликован Л. Банки в Болонье в 1863 г. Эту книжку счи-
тали переводом романа, переделанного Жаком де Форестом из
«Истории Юлия Цезаря» Ж. Тюэна. Последующие цитаты (N а п-
nucci, op. cit., II, pp. 179—180) даются в сокращенном и упро-
щенном виде.
3 Автор продолжает придерживаться Наннуччи («Маттео напи-
сал историю, озаглавленную «Диурнали», то есть «Ежедневники»...
историю, которой нет цены, ибо она представляет собой первую
итальянскую хронику»; op. cit., II, р. 2), а также других авторов
истории литературы того времени (Emiliani-Giudici, Storia
della lett. it., cit. I, pp. 1Ц — 112; Cantu, p. 17). Выдвинутый Бер-
нарди j(W. Bernhardi, Matteo di Giovinazzo, eine Falschung des
89
читается не без удовольствия даже сегодня; прежде всёгй
потому, что она написана просто и естественно, на диа-
лекте, весьма близком к вольгаре; кроме того, события
изложены в ней столь занимательно, что автор скорее
выступает как сказитель, чем как историк.
Более внушительна по объему история Флоренции от
основания города, принадлежащая перу Рикордано Ма-
леспини и доведенная им до 1282 года. Рассказывая о
событиях своехо времени, Малеспини выступает как оче-
видец, правдивый и точный; несмотря на пристрастие
к гвельфам, он не искажает исторических фактов. Но,
как только он выходит за рамки своей эпохи, сразу ста-
новится видна вся беспомощность тогдашней культуры,
анахронизмы и географические ошибки, принятие на
веру самых нелепых россказней и чудес, почерпнутых из
рыцарских романов *. Так, Малеспини утверждает, буд-
то церковь Св. Петра была основана при Октавиане
(когда ни святого Петра, ни Христа еще не было и в
помине); что во времена^ Катилины во фьезоланской ка-
нонике служили мессу по случаю троицы, что храм
Св. Иоанна во Флоренции был основан после смерти
Христа, что название города Пизы происходит от глагола
«пизаре» или «пезаре», — весить, взвешивать, города
Лукки — от «луче», свет, а Пистойи — от слова «писто-
ленция», чума. Когда читаешь о любви Катилины к ко-
ролеве Белисее, супруге2 короля Фьорино, и о приклю-
чениях дочери Белисеи, Теверины, кажется, что эти стра-
16. Jahrh., Berlin, 1868) тезис о фальсификации признан бесспорным
после появления книги Капассо (С а р a s s о, Su i diurnali di Matteo
Spinelli, Napoli 1872).
1 Cm. Emiliani-Giudici, Storia della lett. it., cit., I,
pp. 113—114: «Когда он говорит о древней истории, он лишен здра-
вого смысла: он безоговорочно верит всему, что рассказывалось по
поводу того или иного факта, переносит в свой труд анахронизмы,
путаницу, манеру рыцарских романов». Анахронизм у Малеспини
подмечают также Канту (op. cit., pp. 17 и ел.) и Наннуччи (op. cit.,
II, pp. 6 и ел.). Кроче подчеркивает: «Де Санктис ничего не знал
(а впрочем, и не мог знать) также о сомнениях относительно Ма-
леспини и достоверности его флорентийской хроники. Ведь статья
Scheffer-Boichorst «Die Geschichte der Malespini, eine Falschung»
появилась лишь в 1870 г. в «Historische Zeitschrift». Впрочем, боль-
шая часть этих сомнений не подтвердилась.
2 Так, в тексте Малеспини (см. N a n n u с с i, cit., II, pp. 9—10);
совершенно очевидно, что это опечатка: в рукописи и в изд.
Морано стоит «дочь».
90
ницы взяты из какого-нибудь популярного рыцарского
романа.
Язык этих переводов и хроник еще грубый, неустояв-
шийся: окончания неблагозвучные, а подчас нелепые,
грамматических ошибок — множество, стройного пе-
риода нет и в помине, нет никакого речевого колорита;
писательского «я», индивидуального почерка автора еще
не чувствуется.
2. Рыцарская проза, так же, как и поэзия, привилась
в Италии слабо. Не было создано ни одного оригиналь-
ного романа и даже ни одного подражательного произ-
ведения. Чудеса рыцарского эпоса описывались так же
сухо и индифферентно, как это делал Малеспини, даже
когда он рассказывал о таких трогательнейших собы-
тиях, как смерть Манфреда или Бондельмонте. Учиты-
вая, что малокультурный человек обычно говорит лучше,
чем пишет, следует предположить, что сказители, изла-
гая свои истории, делали это с гораздо большей жи-
востью воображения и большим темпераментом, чего
нет в новеллах и хрониках.
Сборник новелл под названием «Новеллино» вклю-
чает, собственно, не рассказы, а небольшие наброски и
заметки, напоминающие темы, которые обычно предла-
гают школьникам при обучении письму. Книгу эту стали
называть «цветом изящной речи», и на самом деле она
написана на редкость изящным, правильным языком.
Трудно поверить, что она была создана в XIII веке.
Более вероятно, что примитивные и особо популярные
рассказы были позднее обработаны и собраны в «Новел-
лино».
Но хотя* язык «Новеллино» гораздо правильнее и со-
временнее «Рассказов о древних рыцарях» и романов
того времени, все эти произведения написаны одинаково
сухо. Событие излагается в общих чертах, без указания
сопутствующих обстоятельств и деталей, которые рас-
цветили бы его, без описания впечатлений и чувств, ко-
торые придавали бы ему интерес. Впрочем, когда факт
прост и изложен лаконично, подача его не требует осо-
бого искусства: эффект достигается уже за счет про-
стоты и сдержанности, сквозь которые сквозит правда.
Приведем пример:
«О короле Конрадо, отце Конрадино, читаем,
что, будучи юношей, он проводил время в обществе
91
двенадцати сверстников. Когда королю Конрадо случа-
лось провиниться, то наставники, коим он был препору-
чен, наказывали не его, а его товарищей. Король гово-
рил: «Отчего же вы сечете их, а не меня? Ведь вина же
моя». И наставники отвечали: «Оттого, что ты — наш
господин. А их мы сечем вместо тебя из того расчета,
что если сердце у тебя доброе, то тебе должно быть
больно, что другие наказаны за твою вину». Оттого, го-
ворят, король Конрадо, их жалеючи, всемерно старался
не проштрафиться» 1.
Роман и новелла не получили у нас распространения
и не достигли художественного совершенства потому,
что этот столь поэтический жанр появился в период,
когда язык и искусство еще переживали в Италии свое
раннее детство. Не проникнув в жизнь и быт народа, ро-
ман и новелла, так же как и рыцарская поэзия, служили
лишь «чтивом». А поскольку сочиняли их люди мало-
грамотные, то жанр этот так и не смог развиться и сфор-
мироваться, тем более что вскоре наступило возрожде-
ние классической культуры, расцвели науки, которые и
привлекли к себе все внимание культурных слоев обще-
ства.
3. Хотя слова «клирик» и «ученый» все еще восприни-
мались как синонимы, а с амвонов и с университетских
кафедр по-прежнему звучала латынь и на латинском
языке писались научные труды, из стен университетов
выходила мощная плеяда образованных людей не духов-
ного звания, со всем жаром молодости веривших в на-
уку и в свои силы. Если монах стремился сделать науку
уделом немногих, привилегией своей касты, то свет-
ские ученые старались способствовать ее распростране-
нию, популяризировать, сделать ее всеобщим достоя-
нием.
В обстановке свободных городов, открывших доступ
к общественной жизни всем классам общества, созда-
лась и окрепла деятельная светская интеллигенция, ко-
торая не желала более довольствоваться латынью. Сфор-
мировавшись в стенах университетов, гордая своими зна-
ниями, повседневно общаясь с другими классами, она
к тому времени уже выработала определенный ком-
плекс идей, легших в основу новой культуры. Вступив
1 «Novellino», XLVIII, ed. Gualteruzzi; у Nannucci loc. cit,
92
в действие, эти новые культурные силы направили италь-
янскую жизнь в верное русло.
Этим людям рыцарские романы и рассказы казались
забавой для бездельников, потехой для простонародья.
Религиозные идеи, как они проповедовались с амвона,
в их глазах были малопривлекательны. Простота и гру-
боватость их изложения, конечно, не импонировали лю-
дям, привыкшим все кодифицировать и строить силло-
гизмы.
Сие отнюдь не значит, что новеллисты и проповед-
ники вовсе перевелись в Италии. Но культурная часть
общества от них отвернулась; вот почему рассказы о ры-
царях и жития святых так и остались уделом необразо-
ванных людей и как жанр не получили никакого откли-
ка, никакого развития.
Перед обществом стояла задача популяризировать
науку, распространять полезные знания, использовать
культуру прошлого — как языческую, так и христиан-
скую. Героями дня стали Вергилий, Овидий, Ливии, Ци-
церон, Аристотель, Платон, Гален, Юстиниан, Боэций,
Августин и Фома Аквинский. Вольгаре стал естествен-
ным орудием этой культуры. Поэты писали на научные
темы в стихах, прозаики переводили с латинского клас-
сиков, моралистов, философов. Это движение, выразив-
шееся в овладении науками и в освоении античной куль-
туры, длилось много веков и оказало огромное воздей-
ствие на нашу литературу.
4. Охотнее всего переводчики обращались к таким
предметам, как этикз и риторика, то есть искусство хо-
рошо поступать и хорошо говорить. К числу старейших
переводов принадлежит «Книга Катона», или «Перевод
с латинского на итальянский книги о нрава'х», — произ-
ведение, написанное латинским дистихом и состоящее из
четырех книг. «Книга Катона» была столь популярна,
что ее переводили трижды1; ссылки на нее можно найти
у многих писателей. Да и не удивительно: мораль пре-
подносится в ней в самой популярной форме — каждое
1 Один из старинных переводов на итальянский язык знамени-
того сборника изречений о морали, приписываемого Катону, со
II века и в эпоху средневековья фигурировавшего среди наиболее
популярных и часто переводимых произведений, был издан Манни
во Флоренции в 1734 году. Еще два перевода были изданы М. Ван-
нуччи (Милан, 1829).
93
\
правило доброго поведения изложено в двух стихах и
облечено в форму легко запоминающейся пословицы, по-
говорки или сентенции. Например: «Virtutem primum esse
puto, comprescere linguam Proximus ille Deo est, qui scit
ratione tacere». Что неплохо переведено так: «Первейшей
добродетелью я считаю — придерживать свой язык; тот
больше всех угоден богу, кто умеет с умом промолчать».
Было бы весьма полезно нашей молодежи сравнить
все три варианта перевода, это покажет разные стадии
формирования языка. Третий вариант был опубликован
Манни вместе с «Этикой» Аристотеля и «Риторикой» Ци-
церона. Перевод книги Цицерона, озаглавленный «Цвет
риторики», одни приписывают болонскому монаху Гви-
дотто, другие — что более правдоподобно — Боно Джам-
бони К Его первые слова таковы: «Здесь начинается
«Новая риторика» Туллия, переведенная на народный
итальянский язык монахом Гвидотто из Болоньи». О важ-
ности риторики и о том, какие она может творить чуде-
са, переводчик говорит следующим образом: «Великая
наука риторика по важности все прочие науки прево-
сходит, ибо повседневно для обсуждения важных дел
применяется: и при вершении законов, и в городских
делах, а также в сражениях — дабы войсками командо-
вать, и в беседах с рыцарями о делах имперских, коро-
левских и княжеских, и при управлении народами,
королевствами, городами и селами, и в общенье с чуже-
земцами и прочими людьми мира. Основателем и знато-
ком ее был один благородный и добродетельный муж
родом из города Капуи, что в королевстве Апулии, пере-
ехавший на жительство в благородный город Рим. Зва-
ли его Марк Туллий Цицерон».
Книга посвящена королю Манфреду, который мог
найти в ней «вдоволь ценных указаний по части публи'ч-
1 «Этика» Аристотеля, опубликованная Манни вместе с «Книгой
Катона» во Флоренции в 1734 году, представляет собой перевод
J с латинского (приписываемый Боно Джамбони) шестой книги «Со-
кровище» Брунетто Латини; см. Nannucci, op. cit. II, pp. 382—
383. Сомнения о личности автора перевода книги Де Санктис раз-
деляет с Наннуччи (op. cit. II, pp. 114 и ел.). И действительно,
имеется две редакции: одна — принадлежащая Гвидотто и посвя-
щенная королю Манфреду (опубл. Б. Гамба в Венеции, 1821, и
Л. Муцци, в Болонье, 1824) и вторая — Джамбони, фигурирующая
в сборнике Манни. Дальнейшие цитаты с незначительными изме-
нениями взяты из «Manuale», cit., pp. 117—118.
94
ных выступлений и бесед в узком кругу». Рядом с Ци-
цероном фигурирует великий поэт Вергилий, «который
свое великое искусство извлек из риторики, о чем на-
глядно свидетельствуют его писания».
Монах, вдохновленный «высокими достоинствами»
Цицерона, добавляет: «Я был побуждаем желанием пере-
вести некоторые отрывки из «Цвета риторики» с латин-
ского на наш язык так, как то делают лица недуховного
звания». Отсюда следует, что перевод на вольгаре был
делом светских ученых, поскольку клирики писали по-
латыни.
В этих цитатах дан «портрет» эпохи. Из них видно,
какое сильное впечатление производили на умы Верги-
лий и Цицерон, «мастерски владевший сим замечатель-
ным оружием [риторикой], умнейший муж, смелый и
скромный, кладезь премудрости, открыватель всех ве-
щей». В них чувствуется безграничная вера в чудеса
науки: казалось, достаточно изучить правила этики и ри-
торики— и воцарятся добрые нравы, люди научатся
красноречиво выражаться публично и в узком кругу.
На вольгаре переводились не только произведения
античных писателей, но и современные труды, написан-
ные по-латыни. Приведу для примера ученейший труд
Альбертано да Бреша, написанный им в тюрьме и пере-
веденный на итальянский язык пистойским нотариусом
Соффреди дель Грациа. Первый трактакт «О любви к
богу и к ближнему и о том, как честно жить» был сочи-
нен в 1238 году1. Книга произвела фурор и была переве-
дена на французский и на английский языки. Действи-
тельно, в ней было собрано все, что в тогдашней на-
уке— светской и церковной — говорилось о «честной
жизни».
Увлечение книгой Альбертано было столь велико,
что под ее влиянием образованнейшие люди того време-
ни принялись переводить или составлять грамматики,
писать пособия по риторике, трактаты о морали, книги
1 Полное название трактата «Dell' amore e della dilezione di
Dio e del prossimo e delle altre cose, e della forma della vita onesta»,
то есть «О любви к богу и к ближнему и о прочих вещах, а также
о том, как честно жить». Перевод этого трактата и двух других
(«О том, как говорить и молчать», «О совете и об утешении»),
принадлежащий Соффреди дель Грациа, был опубликован С. Чампи
во Флоренции в 1832 году и затем Наннуччи (op. cit. II, pp. 42
и ел.).
95
по физике, по медицине. Ристоро ди Ареццо написал
«Сотворение мира»1, Кавальканти составил грамматику
и учебник риторики, Брунетто перевел трактат Цицерона
«De inventione» и множество речей Саллюстия и Ли-
вия, а в книге под названием «Цвет философов и многих
мудрецов» собрал изречения и факты из жизни антич-
ных философов Пифагора, Демокрита, Сократа, Эпи-
кура, Теофраста и таких знаменитых людей, как Папи-
рий и Катон. Вот, например, что он рассказывает о Пла-
тоне:
«Платон был великий мудрец и мастер слова. Он го-
ворил:
Не води дружбы с безумным человеком и не дове-
ряйся ему: легче вынести ненависть людей безумных и
злобных, чем их общество.
Не слишком сближайся с людьми. Человек — суще-
ство единоличное; он не терпит себе подобных: стоящим
выше завидует, нижестоящих презирает, с равными с
трудом ладит.
Хуже и злее всего те враги, на лице у коих улыбка,
а в сердце — отрава».
5. Согласно риторической терминологии того времени,-
«цветом» называли сборник отрывков из произведений
лучших античных писателей, преподносимых читателям
как бы в виде красивого букета. Такие сборники назы-
вали также «садом». Боно Джамбони в своей книге,
представляющей собой перевод & латинского2, писал:
«Книга эта названа «Садом утешения»; подобно тому
как мы тешимся, входя в сад и находя там много фрук-
тов и цветов, тешится благосклонный читатель, взяв в
1 Так в рукописи и в изд. Морано. Избранные отрывки из
«Composizione del mondo» можно найти у Наннуччи (op. cit, II,
pp. 192 и ел.). Его же (ibid. pp. 249 и ел.) Де Санктис придержи-
вается, говоря чуть ниже о переводах Латини. Что касается «Цвета
философов», то следует иметь в виду, что в своем издании А. Кап-
пелли (Болонья, 1865) доказал, что нет никаких оснований при-
писывать труд Брунетто.
2 См. N a n n u с с i, op. cit., II, p. 460. «Это не оригинальное
произведение, поскольку Джамбони и основную мысль и всю канву
заимствовал из более ранней книги неизвестного автора, написанной
по-латыни: «Viridarium consolationis». Тот факт, что «Viridarium»
была написана Якобо ди Беневенто примерно в 1350 году, был
установлен позднее, после выхода «Истории» Наннуччи (см. «Giorn.
stor. d. letter ital.». LVIII, 1911, p. 271). Дальнейшая цитата — из
пролога к «Саду», см. Nannucci, loc. cit.
96
руки эту книгу, где собрано много прекрасных речений,
назначение коих — услаждать и тешить душу благоче-
стивого читателя!»
Эта прекрасная книга, написанная простым, изящ-
ным слогом, посвящена описанию пороков и доброде-
телей, причем каждое утверждение проиллюстрировано
изречениями мудрецов и святых отцов. Автору поистине
удалось «собрать лучшие цветы» *.
Вот глава «Об опьянении»:
«Опьянение, по словам Августина, есть гнусная мо-
гила разума и затмение ума. Он говорит: пьянство —
льстивый дьявол, сладкий яд, приятный грех. Он так-
же говорит: пьянство многих сгубило и лишило рас-
судка, оно приводит к болезням, бередит воображение,
будит похоть, мешает хранить тайну, толкает к скверно-
словию. Святой Василий гбворит: пьяница думает, что
пьет, а он уже пьян; подобно рыбе, с жадностью загла-
тывающей приманку и незаметно с ней вместе крючок,
пьяница с вином, сам того не замечая, впускает в себя
врага. А святой Павел говорит: не опьяняй себя вином,
ибо от вина — похоть».
Сборники такого рода именовались не только «Цве-
том» или «Садом», но также «Сокровищницами» и
«Пирами» («Сокровищница» — как бы выставка драго-
ценных камней; «Пир» — стол, уставленный изысканней-
шими яствами). Автор «Цвета» Брунетто еще раньше
написал «Сокровищницу» на романском или француз-
ском языке—«самом приятном и наиболее распростра-
ненном из всех языков; она была затем переведена на
вольгаре Боно Джамбони 2.
«Сокровищница» — это «Космос»3 того времени, свод
всех наук, преподававшихся в университетах, сумма и
компендиум всех знаний, или, выражаясь словами Бру-
нетто, «соты с медом, собранным с разных цветов»,
«краткое изложение всех областей философии». Он на-
чинает с философии, как «корня, от коего произрастают
все науки»: дает описание бога, человека, природы.
1 Цитируется стих 36 канцоны Петрарки «Poi che per mio de-
stine*» («Rime», LXXIII); «cose cercando il piu bel fior ne colse».
2 Перевод Джамбони «Сокровищница» опубл. N a n n u с с i, op.
cit., II, pp. 353 и ел., см. там же дальнейшие цитаты.
3 Имеется в виду «Космос» Александра фон Гумбольдта (1769—
1859), переведенный также на итальянский язык (Милан, 1846).
7 Де Санктис
97
Затем идет этика или практическая философия, потом ри-
торика, за которой в виде приложения следует политика,
то есть искусство управления государством. Таков был
«учебный план» первого факультета университета, по
окончании которого молодежь могла переходить к изу-
чению специальных наук. Эта обширнейшая беспример-
ная компиляция произвела тогда ошеломляющее впечат-
ление. Однако еще большее значение имели специальные
трактаты, в которых писатели демонстрировали ориги-
нальность мысли — как, например, три трактата Альбер-
тано и знаменитый трактат образованнейшего неаполи-
танского патриция Эджидио Колонны1 «De regimine
principum», переведенный на вольгаре одним тосканцем.
Философия заняла место, которое раньше отводи-
лоеь вере. Это отнюдь не означает, что философия отри-
цала веру; напротив, верить всему, что написано, было
характерной чертой того времени. Но в такой форме са-
моутверждалась культурная часть общества, проводи-
лась грань между нею и невежественными простолюди-
нами. Излюбленным персонажем всех историй был мно-
гострадальный Иов — злополучный человек, на которого
то и дело обрушиваются многочисленные удары судьбы.
Поначалу он проклинает жизнь, а позднее находит спа-
сение и утешение в философии, вернее, в изучении наук,
в лицезрении того, что сотворено богом и людьми.
Огромная популярность, какой пользовалась книга
Боэция «Об утешении», была основана именно на такой
ситуации. Философию Боэций изображает «в образе
женщины, облаченной в широчайшие одежды и наделен-
ной столь удивительной мощью, что она могла, когда
ей того хотелось, расти до необъятных размеров, так,
чтобы доставать головой до звезд и неба, опираясь но-
гами в горы и долины»2.
1 Виновник ошибки (ибо Эджидио Романо принадлежал к
семье римских аристократов Колонна) — Наннуччи (op. cit., II,
р. 323): «Из благородной неаполитанской семьи». Неверны и
сведения о переводе неизвестного флорентийца, ныне он приписы-
вается переводчику из Сьены. Перевод, переписанный в 1288 году,
издан Ф. Кораццини (F. С о г a z z i n i, Del reggimento dei principi,
Firenze 1858).
2 «Tresor», libro I, cap. I, перевод Джамбони, изд. Наннуччи,
op. cit., II, p. 358. След. цитата ibid., cap. VIII: «и тогда каждому
была назначена своя судьба».
98
Тот же мотив звучит в «Маленькой сокровищнице»
Брунетто Латини, который полагает, что жизнь человека
«течет по предначертанному руслу».
Так они и поступали
Постоянно, как вначале:
Умирали, зачинали...!
На той же мысли построена книга Боно Джамбони
«Введение в добродетели», описывающая «©павшего в
несчастье юношу», который рассказывает о себе в сле-
дующих словах2.
«И я начал, подобно Иову, проклинать час и день сво-
его рождения и прихода в эту несчастную жизнь и пи-
щу, вскормившую меня. С трудом подавляя стенания и
вздохи, вырывавшиеся из глубины моей груди, я ска-
зал: «Боже всемогущий, зачем ты заставил меня жить
в этом жалком мире, где я терпел эти мучения, пере-
нес такие трудности и страдал от стольких бед? Почему
ты не убил меня в утробе матери моей или тотчас после
появления моего на свет? Или тобою руководило жела-
ние показать людям, что человеческое несчастье беспре-
дельно?» (гл. I).
«Так сетовал я в ночной тиши на свою судьбу и
плакал навзрыд. Вдруг над головой моей появилась
какая-то фигура и изрекла: Сын мой, удивительно мне,
что ты, будучи человеком, уподобился скотине — ходишь,
опустив голову долу, и посему видишь только темные
земные предметы. Оттого ты и занемог опасным неду-
гом. Если бы ты поднял голову и глянул на небо, да
присмотрелся бы, как положено человеку, какие там тво-
рятся чудеса, все твои* хвори прошли бы и увидел бы ты,
что заблуждался, и скорбел бы об этом. Или ты запа-
мятовал, что сказал Боэций? «Вся животная тварь смо-
трит в землю в силу естества своего, и токмо человеку
дано смотреть на небо, небесные предметы созерцать и
видеть» (гл. II).
«Сказав это, говоривший передохнул немного, в ожи-
дании, не дам ли я какого ответа, не скажу ли что-
1 «Tesoretto», cap. V, Nannucci, op. cit., I, p. 433.
2 Nannucci, op. cit., II, pp. 431 и ел. Цитированные отрывки
взяты из глав I, II, III; первые два — почти без изменений.
7*
99
нибудь, и, видя, что я нем и говорить не намерен, подо-
шел ко мне и краем своей одежды утер мне глаза, рас-
пухшие от слез 1...
И тогда открыл я глаза, огляделся вокруг и увидел
близ себя самое прекрасное существо, какое только мог-
ла сотворить природа. И исходил от него свет столь ос-
лепительный, что смотреть на него пристально было
больно: немногие были способны долго созерцать его.
И шли от того света семь необъятных, чудесных сияний,
озарявших весь мир. Глядя на эту фигуру, столь пре-
красную и лучезарную, я вскоре убедился, что напрасно
я вначале испугался, подумав: не может такой ясный
свет исходить от чего-либо плохого. И начал я, насколь-
ко то позволяло мне мое слабое зрение, пристально ее
рассматривать. И, насмотревшись вдоволь, я удостове-
рился, что та, с кем я столь долго был вместе, — фило-
софия. И тогда дар речи вернулся ко мне и я молвил: —
Наставница добродетелей, что делаешь ты глубокой
ночью в обители слуг твоих?» (гл. III).
Далее следует диалог между этим служителем фило-"
софии и самой философией, смысл которого сводится к
следующему: земная жизнь дана человеку для испыта-
ния, подлинная же жизнь — на небесах. Кто хочет быть
истинным сыном божьим, а не внебрачным ребенком, тот
должен «смиренно сносить все мучения и невзгоды, па-
мятуя, что кто будет с господом в час испытаний, тот
будет с ним и в час утешения».
Философия заключает свою речь следующей жало-
бой:
«О род людской, сколь тщеславен ты! Даны тебе
глаза, но ты не видишь. Ты наслаждаешься богатством
и славой, удовлетворяешь свои плотские желания. Они
длятся одно мгновенье — ведь жизнь человеческая бы-
стротечна,— но они — смерть твоя, ибо за них на том
свете ожидают тебя вечные муки. Ты стенаешь и жа-
луешься на бедность и невзгоды, но ведь они недолго-
вечны; а в них-то и заключается жизнь твоя, ибо если
ты покорно несешь свой крест, то на том свете тебе воз-
дастся за то сторицей. Вот что сказал мудрец: земные
1 Опущены слова: «А после того, как мне утерли слезы, мне
показалось, будто с глаз моих спала пелена: то была зловонная
короста, нечисть от земных предметов, отягощавшая мою голову».
100
радости длятся одно мгновенье, а муки на том свете —
вечно».
Далее автор цитирует слова апостола Павла, св. Пе-
тра и Соломона.
То был традиционный мотив всех проповедей, но
здесь в роли проповедника, выступает философия: она
излагает волю божью, цитирует Соломона, св. Петра и
отцов церкви. Эта концепция лежит в основе христиан-
ской «легенды» — фантастической истории, лейтмотивом
которой является история грешника, либо осуждаемого
на вечные муки, либо спасающего свою душу. Главные
герои этих легенд*— бог и дьявол. Бог, который вме-
сте со своими ангелами и добродетелями призывает ду-
шу к отречению от мирских благ и к, лицезрению не-
бесных предметов, и дьявол, который своими происками
приковывает ее к земле. Человек, поддаваясь естествен-
ным склонностям, ради земного счастья продает дьяволу
душу, и история заканчивается во тьме и адском пла-
мени. Но часто трагедия переходит в комедию, когда ду-
ша побеждает и ликует, когда милостью божьей ей уда-
ется избавиться от дьявола и попасть в рай.
Борьба бога с дьяволом — это и есть борьба между
пороками и добродетелями, которую во «Введении
в добродетели» Джамбони философия показывает
своему служителю, дабы укрепить его веру через им
увиденное.
Та же идея легла в основу популярнейшей в эпоху
средневековья легенды о докторе Фаусте, продавшем ду-
шу дьяволу, — легенды, которую сделал бессмертной
Гёте. Она же составляет и главную мысль поэтического
мира Данте, где Беатриче становится философией, а ра-
дости и порести земной любви исчезают, переходя в умо-
зрительное созерцание Науки.
6. Итак, к конце XIII века и в прозе, и в поэзии го-
сподствует одна мысль. Идеи Брунетто, Джамбони и
Данте совпадают, или, вернее, господствует единая идея,
которая вырабатывалась на протяжении всего средневе-
ковья, к концу же XIII века она получила вполне за-
конченную, четкую, осознанную форму.
Однако в прозе она была выражена хуже, чем это
сделал Данте в своей лирике; Такая же неудача, какую
потерпели новелла и "рыцарский роман, постигла ле-
генду и религиозный «спиритуальный» роман, Писатели
101
были больше склонны к компиляции, нежели к сочини-
тельству. Среди множества «Цветов», «Садов» и «Сокро-
вищниц» нет ни одного «древа жизни» — ни одной твор-
ческой души, которая бы создала оригинальное произве-
дение. Писатели переводили и компилировали, но пока
еще не ассимилировали и в еще меньшей степени сочи-
няли. Перед ними были рассыпаны такие богатства, что
все силы ума уходили на собирание их, а не на созда-
ние нового. Чтение этих переводов и компиляций утоми-
тельно: авторы их ничего не утверждают без ссылки на
первоисточник. То и дело наталкиваешься на «ipse di-
xit» («тот сказал») или, еще чаще, «ipsi dixerunt» («те
сказали») — на сплошные цитаты. В этих «Садах»
читателю не дают передышки: ни одного отступления,
никакого разнообразия. Перед тобой неизменно твой чи-
чероне, невыносимо однообразный и монотонный. Ни-
какого полета воображения, никакого чувства, никаких
признаков повествования или описания. Такое голое по-
учение перенасыщает ум и убивает душу.
Самыми выдающимися выразителями идей этого ве-
ка были ученейшие писатели: Брунетто Латини и Боно
Джамбони — неутомимые переводчики и компиляторы.
Достаточно сказать, что Джамбони, кроме упомянутых
раньше произведений, перевел также «Историю» Павла
Орозия, «Искусство войны» Флавия Вегеция и «Фор-
мулу честной жизни» Мартина из Думио 1.
Заслуга этого столетия, открывшего эру культуры,
состоит в том, что оно подготовило следующий век, оста-
вив ему в наследство богатый запас сведений, переве-
денных на вольгаре, а также сформировавшиеся в своей
технологии язык и поэзию. Переводы сослужили весьма
полезную службу, придав новому языку форму, стабиль-
ность и ту гибкость и четкость, которые проистекают из
необходимости передать точный смысл чужой мысли.
Крупнейшим мастером, «королем» переводчиков был Бо-
но Джамбони: язык его настолько ясен и свеж, что мно-
1 Nannucci, op. cit., II, pp. 389 и ел., 424 и ел., 407 и ел.
Книга «Delle storie di Paolo Orosio contro i Pagani libri VII, volga-
rizzamento di Bono Giamboni» уже была опубликована Ф. Тасси во
Флоренции в 1849 г. Перевод двух других книг: Flavio Vegezio,
Epitoma rei militaris, написанной в конце IV — начале V века,
и Martino da Braga (515—580), основателя монастыря в Ду-
мио, «Formula honestae vitae», также приписывается Джамбони.
102
гие страницы его книг после незначительных поправок
вполне могли бы сойти за современные, особенно там,
где описываются животные или где говорится о добро-
детелях и пороках.
Эта дидактическая проза далека от искусства — да
она и не претендовала на художественность. Ее сухие,
голые рассуждения современникам Чино, Кавальканти
и Данте казались довольно убогими. И все больше рас-
пространялось мнение, что вольгаре хорош лишь для
того, чтобы говорить о любви, о серьезных предметах,
однако надлежало писать по-латыни, как то обыкновен-
но делали маститые писатели.
/
М*Ж***Ж*****Ж*Ж**Ж*^****Ж****^**Ж'***********
V
Мистерии и видения1
1. Странствующий рыцарь и рыцарь во Христе. Религиоз-
ная идея — главный источник вдохновения литературы XIII ве-
ка. Аллегория души. Литургическая символика, поклонения и
мистерии. 2. «Поклонения страстного четверга и страстной
пятницы». 3. Содержание религиозных представлений и отсут-
ствие в них художественности. Представление «О монахе, ко-
торый пошел в услужение к богу». 4. «Комедия души» — мо-
ральный кодекс века. 5. Абстрактное религиозное содержание
ограничено в себе, не проникает в жизнь и не включает в себя
общество». Реальность — лишь во внешней оболочке рели-
гиозной доктрины; аллегория и трактат. 6. Видение — един-
ственный вид представления, направленного против всякой
попытки индивидуализации и творчества; все земное прокли-
нается, подлинная реальность — на том свете. 7. Беатриче —
первый индивидуализированный поэтический образ, предчув-
ствие, поэтическая догадка о грядущем мире, еще не вышед-
шем из лона науки и далеком от жизни.
1 В своем кратком очерке аскетической литературы до появле-
ния «Божественной комедии» Де Санктис пользовался как основ-
ным источником работой Шарля Лабитта (Charles L a b i 11 e, La
Divine Comedie avant Dante, les predecesseurs et les inspirateurs de
Dante), появившейся в сентябрьской книжке 1842 года «Revue des
deux Mondes» (serie IV, xxxi, pp. 704—742). Этому вопросу он
уделил большое внимание в своем курсе лекций, прочитанных в Ту-
рине и позднее в Цюрихе (см. «Lezionj e saggi su Dante», cit.,
pp. 531 и ел., и очерк 1857 года («DelT argomento della Divina Corn-
media»). Некоторые данные и сведения он почерпнул из работы
P. Emiliani-Giudici, «Storia del teatro in Italia», Firenze 1860,
и прежде всего из работы J. L. Klein «Geschichte des Drama», IV:
«Das italienische Drama», Leipzig 1866. Цитировал Де Санктис по
изданию Франческо Палермо «Allegorie cristiane dei primi secoli
della favella», Firenze 1856 и «I manoscritti palatini di Firenze ordinati
ed esposti», 3 voll., Firenze 1853—1868. Для цитат из «Commedia
spirituale dell'anima», которая в издании Палермо имеется лишь
в отрывках, он, несомненно, использовал одно из старинных изда-
ний, вышедших в конце XVI — начале XVII века. Наиболее вероят-
но, что он пользовался первым флорентийским изданием 1575 года,
104
1. Итак, перед нами полная картина XIII века. Ран-
нюю литературу питают два источника: рыцарский эпос
и священное писание.
Герой рыцарской литературы — это человек, который
добивается на земле торжества идеалов правды и спра-
ведливости, воплощенных в образе женщины — пред-
мете его обожания и любви. Жизнь его активна, полна
приключений и необычайных событий. Образ рыцаря
встречается уже в самых ранних стихах, новеллах, ро-
манах и хрониках. Но рыцарская литература, завезен-
ная к нам издалека чужеземцами, захватившими нашу
землю, не пустила корней, не развилась, не создала ори-
гинальных произведений. Впоследствии она вовсе утра-
тила свою серьезность, граничившую с религиозностью,
и свелась к простой игре воображения, примешивавшей-
ся в качестве обязательного довеска к любой истории,
взятой из священного писания или из языческих преда-
ний.
Иначе обстояло дело с религиозными идеями, пропи-
тывавшими чувства, быт, нравы, установления той эпохи
и сопровождавшими человека на всех ступенях его жиз-
ни. Христианского героя тоже называли «рыцарем», «ры-
царем во Христе», но его героизм созерцателен; как пра-
вило, это монах, отшельник, святой.
Он, подобно странствующему рыцарю, тоже отказы-
вается от земных благ и презирает их. Но тот воюет, а
этот созерцает. Оба они ратуют, по сути, за одну идею;
но первый служит ей как солдат, а второй — как жрец.
Эти два образа часто переплетаются: монах стано-
вится храмовником или кавалером мальтийского ор-
дена \ борцом за веру, и странствующий рыцарь кон-
чает отшельником и кающимся грешником. Но рыцарь,
бросаясь навстречу приключениям, забывает о небе сам
и заставляет забывать о нем других: внимание целиком
сосредоточивается на необычайных событиях, причем
подвиги сарацин вызывают такое же любопытство
которое, по мнению Д'Анконы, относится к году написания книги и
которое имелось в Национальной библиотеке во Флоренции (собра-
ние Ландау).
1 Кроче в примечаниях к своему изданию «Истории» Де Санк-
тиса говорит: «Если быть точными, то следовало бы говорить
о кавалере ордена св. Иоанна, ибо кавалеры мальтийского ордена
появились позднее».
105
и такой же интерес, как и подвиги христиан, в итоге тон
повествования остается сугубо «земным». Другой, напро-
тив, постится, живет в бедности, блюдет обет целомуд-
рия, молится; перед глазами его постоянно возникает
картина того света. Его созерцательная жизнь глубоко
религиозна, более того — она само совершенство,
здесь — самый высокий идеал века.
«Страсть души» состоит в том, что она прикована к
телу,.к плоти, а благодать души, святость ее — в том,
чтобы отделиться от плоти и жить во Христе: к этому
путь лежит через созерцание и молитву.
В трех аллегорических рассказах о душе, опублико-
ванных Палермо, говорится: «Всякое благо и доброде-
тель, какую бы вы ни назвали, хороши сами по себе, но
только молитва притягивает к себе все прочие добро-
детели». В этих аллегориях фигурируют три состояния,
соответствующие трем стадиям приобщения к святости:
«Человеческое», «Очищение» и «Обновление».
Вначале душа, погрязнув в земном, в «Человече-
ском», может различать истину лишь в определенном об-
разе, через ощущение. Вторая стадия — стадия «Очище-
ния», добродетель очищает и освобождает душу от зем-
ных привязанностей; наконец наступает «Обновление»,
свет разума, «целиком обновляющий душу, показываю-
щий истину в ее неприкрытом, не затемненном виде» 1.
Эти три стадии приобщения к святости и составляют
всю жизнь христианского рыцаря. Будучи в плену чув-
ственности и плоти, он видит лишь проблеск истины; пол-
ного же света разума он достигает только на последней
ступени, очистившись и освободившись от всего земного.
Он — тоже воин, но борется он против дьявола и плоти,
которую всячески подавляет и истязает, оружием ему
служат созерцание и молитва. Необычайная сторона
этой жизни заключается не только в чудесах, но в силе
воли, помогающей человеку победить свои чувства и
естественные наклонности, как это видно на примере
св. Алексея, наиболее трогательном образе «рыцаря во
Христе».
Сотворение мира, первородный грех, пророчества, яв-
ление Христа, страсти господни, смерть и перевоплоще-
ние Христа, антихрист и Страшный суд — такова эпопея,
1 «Allegorie cristiane», cit.t p. 37,
106
исторический фон, на котором показана жизнь многих
святых. В таком виде история человечества ежедневно
преподносилась народу — во время проповеди, исповеди,
богослужений, праздников. Ведь месса — это, по суще-
ству, не что иное, как символический, спектакль на темы
этой истории, драма, невольно разыгрываемая священ-
ником и верующими. Каждый жест священника полон
значения и есть не что иное, как мимическое предста-
вление. Первая часть мессы — эпическая или повество-
вательная. Экспозиция — это «Verbum dei», в него вхо-
дят пророчества и евангелие и под конец — проповедь.
Вторая часть — драматическая, представляющая собой
действие, «Sacrificium» — исполнение пророчеств. Третья
часть — лирическая, здесь — хоровые ответы верующих
священнику, чередование двух хоров при исполнении
песнопений, гимнов и молитв, что преимущественно
имеет место во время музыкальной мессы. Если доба-
вить сюда изображения святых и картины на сюжеты из
Ветхого и Нового завета на стенах капелл, на разноцвет-
ных окнах и. под куполами, темные своды, суживающиеся
кверху громады соборов с устремленными к небу кре-
стами, то вы получите зрительный и музыкальный образ
этой отрешенности от земли, этого стремления души
к богу.
Иногда после чтения евангелия, чтобы еще сильнее
подействовать на воображение прихожан, проповедник
показывал очередную евангельскую историю в форме
представления (так делают и поныне, великим постом).
Монахи и священники изображали событие, а проповед-
ник восполнял картину своими объяснениями и коммен-
тариями. Это и были «поклонение» или «мистерия» —
литургическое представление, связанное с отправлением
религиозного культа, являвшееся его частью.
2. К таким представлениям относятся два «покло-
нения», которые разыгрывались обычно в страстной чет-
верг и в страстную пятницу; вернее, это два действия
одного представления *. Первое открывается трапезой,
устроенной в честь Христа в доме Лазаря в страст-
ной четверг. Христос прибывает из Иерусалима, его
1 Оба «поклонения» в отрывках изданы. Палермо. Затем их
полностью напечатал Д'Анкона в 1875 году в «Rivista di filologia
romanza», II, pp. 1—24.
107
встречают Мария, Магдалина и Марфа. Мария умоляет
сына не возвращаться больше в Иерусалим, потому что
там ищут его смерти. Христос отвечает, что обязан под-
чиниться отцу. Однако она не должна тревожиться — ни-
чего не будет сделано без ведома матери. К концу тра-
пезы Христос все открывает Магдалине: он отправится
в Иерусалим, где будет распят на кресте, и просит ее
позаботиться о матери. Христос выходит. Приближается
Мария, заметившая, что сын чем-то взволнован, просит
Магдалину рассказать ей, о чем говорил с ней Христос.
Но Магдалина молчит. Тогда мать, заливаясь слезами,
подходит к Христу и говорит:
Печаль какая у тебя, скажи,
Скажи, сыночек мой пригожий.
И отчего ты сразу не пришел
Ко мне, несчастной, отчего же?
Страданье вены разрывает мне,
И вздохов грудь вместить уже не может.
Сыночек милый, кровь моя и плоть,
Скажи мне все, о мой Господь К
Христос отвечает, что ради спасения мира должен
идти на смерть; Мария падает без чувств. Придя в себя,
сокрушаясь, она поручает сына Иуде, который дает ей
двусмысленный ответ: «Я знаю, что мне делать». Потом
она обращается к Петру, и он обещает защищать ее
сына даже против всего мира.
Они подходят к городским воротам. Мария не хочет
разлучаться с сыном; не видя его более рядом и зная,
что он через другие ворота вошел в Иерусалим, она
обращается к народу с горькими сетованиями:
О где ты, мой сыночек, мальчик мой?
Куда ушел ты, за какой заботой?
О мальчик мой, какие за тобой
Закрылись, пропустив тебя, ворота?
О мальчик мой любимый, дорогой,
Тебя все время огорчало что-то!
Скажите люди, ради Бога, мне,
В какой сыщу я сына стороне? 2
1 «Devozione del Giovedf Santo», см.: Palermo, Manoscritti
palatini, cit., II, p. 275.
2 «Devozione del Giovedi Santo», ibid., II, p. 277.
108
Далее рассказ соответствует библии. Слова Христа,
взятые из евангелия, произносятся по-латыни. «Покло-
нение» заканчивается пленением Христа.
В «Поклонении», разыгрываемом в святую пятницу,
показаны страсти господни и смерть Христа. Проповед-
ник прерывает представление своими объяснениями, за-
тем по его знаку действие продолжается. Большая роль
здесь отводится Марии. Пока Христос молится за своих
врагов, она так обращается к кресту:
Склони скорее ветви, крест высокий,
Достоин отдыха создатель твой:
Сложи на землю дорогое тело
И больше мертвого не беспокой К
Христос просит Иоанна позаботиться о матери, а тот,
стоя перед Марией на коленях, целуя ее ноги, старается
ее утешить. Но Мария, обняв крест, плачет:
О мальчик мой, любимый мой сынок,
Одна теперь я, горемыка!
О мальчик мой, когда бы знать ты мог,
В какой тоске я остаюсь великой!
Терновый на тебя надет венок,
И кровью вся забрызгана туника.
Другого сына не желаю я,
О мой цветочек, о любовь моя2.
Когда Христос умирает, Магдалина стоит у него в
ногах, Иоанн — в головах, Мария — посредине. Она це-
лует тело Христа, его глаза, щеки, губы, руки, «коими
благословлял он людей», ноги, «орошенные током слез
Магдалины»3.
1 «Devozione del Venerdi Santo», ibid., p. 284.
2 Ibid., p. 283.
3 Cm. Palermo, Manoscritti palatini, cit, p. 287. Здесь
имеется длинное- пояснение: «Матерь плачет над истерзанными чле-
нами Христова тела, целует их, а прежде — голову. Начинается
жалоба матери: поцеловав его голову, целует глаза, лицо, губы,
руки, бока, все тело. И разговаривает сама с собой. Дойдя до рук,
оборачивается к св. Иоанну, показывает, как они изранены.
Св. Иоанн отвечает со слезами, соболезнуя: «Сии руки святые,
о женщина. Он ими всех благословлял». А дойдя до ног, матерь
обращается к Магдалине: «О дочь моя, Магдалина! Над этими
святыми ногами плакала ты навзрыд!». «Орошенные током слез
Магдалины» — по-видимому, отголосок стиха Петрарки: «Quante
lacrime ho gia sparte» («Rime», CCCLXVI, 79),
109
3. Такие представления давались издавна. Они пи^
сались по-латыки, как, например, «Ludus paschalis»,
(«Пасхальная игра»), в которой участвовал антихрист1.
Два «Поклонения», содержание которых было изложено
выше, по-видимому, представляют собой подражание
или варианты более старинных сюжетов, исполнение
которых вошло в традицию. К их числу принадлежит
также представление «Наш господь Иисус Христос», со-
стоявшееся в Падуе в 1243 году, и трилогия «Ludus Chri-
sti» («Игра о Христе»), поставленная церковнослужи-
телями в Чивидале в последние два дня мая 1298 г. Во
время Троицы и трех последующих дней духовенство
этого города в присутствии епископа и патриарха акви-
лейского организовало мистерии на следующие темы: со-
творение Адама и Евы, пророчество или благовещение,
рождение, смерть и воскресение Христа, сошествие Свя-
того духа, антихрист, приход Христа в день Страшного
суда. Таким образом, была представлена вся библей-
ская эпопея; впечатление усиливалось за счет музыки,
пения, живых сцен, мимики, выразительного слова. По-
добное представление под названием «Страсти» состоя-
лось в Колизее в страстную пятницу 1264 года.
Эти представления, мужские и женские роли в кото-
рых исполнялись священниками, были выдержаны в тор-
жественном тоне религиозных церемоний или празд-
неств. Соответствующая роль отводилась в них дьяволу-
йскусйтелю, но речь его была серьезна и проста, так же
как он сам; в нем не было ничего гротескного или смеш-
ного. Местом действия служил церковный или мона-
стырский двор или же площадь перед епископским двор-
цом; мистерии не меняли своей традиционной формы и
не приобретали художественных черт, о чем можно су-
дить по сей день по аналогичным церемониям во время
деревенских праздников.
1 Это утверждение, так же как и последующие, взято из ра-
боты Palermo «Manoscritti palatini», cit., p. 327. Факт, касающийся
выступления римской труппы Compagnia del Gonfalone, приве-
ден Клейном и, судя по рукописи, явно добавлен позднее.
Кроче по этому поводу отмечает: «Впоследствии возник спор о дате
организации труппы —было ли это в 1264 или в 1260 году и
исполняла ли она «Страсти» с самого начала своей деятельности
(прим. к «Storia», 1912, cit.). По этому вопросу см.: De Barth'o-
lomaeis, Qrigini della poesia drammatica, Torino 19522, pp. 357
и ел.
110
Мораль этих пьес сводилась к тому, что все помыслы
человека должны быть направлены к потусторонней жиз-
ни, или, как тогда говорили, к спасению души, и что для
достижения этой цели надо подражать Христу, страдать
в этом мире, чтобы блаженствовать в том. Поэтому
идеалом, героизмом, или совершенством жизни, счита-
лось пренебрежение земными благами, борьба со всеми
естественными наклонностями, пребывание духом в ином
мире путем созерцания и молитвы. Ведь такова жизнь
святых, о которой часто рассказывалось верующим в ми-
стерии. Одно из самых древних представлений на эту
тему (текст его до сих пор не опубликован) называется
«О монахе, который пошел в услужение к богу», — по-
видимому, его разыгрывали в каком-то монастыре сами
монахи1.
Герой — некий юноша, который, несмотря на слезы
матери, на строгое запрещение отца и на искушения,
которым подвергает его кум, постригся в монахи и от-
правился в пустыню, где его приютил и обласкал как
сына отшельник. Но юношу ждут здесь еще более труд-
ные испытания. Как-то отправился он за пропитанием —
корнями, фруктами, каштанами и орехами; тем време-
нем отшельник, творя молитву, движимый любопыт-
ством, спросил у бога, какое место уготовано его по-
слушнику в раю; ангел ответил ему, что тот будет
осужден на муки. Узнав об этом, юноша, однако, не сму-
тился и спокойно ответил, что намерен и впредь любить
бога и служить ему. Напрасно дьявол вводил его в ис-
кушение, говоря, что он «пошел против естественной люб-
ви» и что лучше всего вернуться в отчий дом, — тогда,
может быть, бог над ним смилуется. Юноша, открещи-
ваясь, убегает от дьявола и остается тверд в своем реше-
нии. Тогда ангел объявляет отшельнику, что его послуш-
ник спасен. Монах и отшельник поют молитву «Те Deum».
В эпилоге, или прощании, зрителей призывают умерщ-
влять плоть и обращать все помыслы к вечной жизни..
1 Palermo, Manoscritti palatini, cit., II, p 337. Палермо счи-
тает, что эта драма написана в конце XIV века. Д'Анкона и Торрака
относят ее к следующему веку. Де Санктис опубликовал ее пол-
ностью по рукописи «Codice palatino» 445, в очерке «Un dramma
claustrale», появившемся в мартовской книжке «Nuova Antologia»
за 1870 год. См. издание Де Санктиса Эйнауди, vol. XIV, «L'arte,
la scienza e la vita».
Ill
Главное здесь -г- непреклонная вера молодого монаха'
в то, что молитва и созерцание — верная защита от гре-
ха и искушения плоти и что, отрекаясь от мира и устрем-
ляясь духом к богу, человек приобщается к святости.
В схоластической форме эта мысль выражена в пес-
не монаха, несколько отрывков из которой приводятся:
Чувствительная, слабая душа
В мирских утехах видит наслажденье,
Тем самым против Господа греша...
Душа, имеющая к Богу рвенье,
Стремится насладиться тем Добром,
В котором истинное наслажденье.
Когда она в стремлении своем
Неудержима, плоти тяготенье
Душе мешает, и она притом
Смиренно плачет, сетуя тоскливо:
— О, почему нельзя мне быть счастливой? —
Она чиста и вечна, это в ней
Живет Господь, и все у них согласно...
Блаженствуя всей сущностью своей,
Одним она расстроена ужасно:
Чтобы к Христу приблизиться, она
Покинуть плоть постылую должна К
4. Мистерия под названием «Комедия души» — иде-
альный вариант жития святых, своего рода логика, где
сформулированы главные идеи приобщения святости,
«костяк» любого из житий. Из рук бога душа выходит
чистой, по образу его и подобию. Бог созерцает ее с
любовью и говорит:
Когда я созерцаю существо,
Живущее в моем воображеньи,
Я поражаюсь чистоте его,
Вселяющей в меня благоговенье.
Беречь его бы надо от всего,
Что может стать предметом огорченья:
1 Palermo, Manoscritti palatini, cit., II, pp. 346—347. Из
«Комедии души» («Commedia spirituale dell* anima»), о которой
говорится в следующем параграфе, Палермо опубликовал, как было
указано, лишь несколько отрывков (ibid., pp. 410—414). Поэтому
Де Санктис прибегнул к старинному изданию, возможно — к пер*
вому, вышедшему во Флоренции в 1575 году.
112
Ведь образ Божий в нем, и я б хотел,
Чтоб ангел чистый за него радел К
Но дьявол не может смириться с тем, что «столь
подлая вещь будет наслаждаться царством, коего он
лишен», и готовится дать ей бой. Ангел-хранитель укреп-
ляет душу, знакомит ее с подвластными ему силами —
Памятью, Умом и Волей. После Памяти слово предо-
ставляется Уму:
Второй защитник твой надежный — я,
Не бойся, Разумом зовут меня.
Я вечное ищу повсюду Слово,
Насытясь им, покой бы я обрел,
Но здесь, в изгнаньи на земле суровой,
Я на него пока что не набрел.
Зато в пределах царствия иного
Сумею вечный отыскать Глагол,
Остановившись на звезде блестящей,
Где я покой познаю настоящий.
В порыве над собою воспари
И на орнамент погляди небесный
И угадай, что у него внутри
Скрывается за внешностью чудесной.
Все внешнее, душа моя, отринь,
И станет истина тебе известна:
Святые мир не любят потому,
Что цену знают верную ему2.
Воля говорит:
Я — Воля, и обязанность моя
Все выполнять, что мне прикажет Разум.
Для этого и существую я,
Чтоб следовать во всем его приказам...
И плоть не видит ровно ничего
Без веры и участья моего3.
1 «Commedia spirituale», stanza III. Ниже пересказаны первые
три стиха IX станса:
Я разрываюсь от негодованья...
Представить не могу такую дрянь я
В том царстве, какового сам лишен.
2 Ibid., stanze XIV (ripresa, vv. 9—10), XV, XVI.
3 «Commedia spirituale», stanza XIX, vv. 1—4, 7—8. Речь, с ко-
торой Разум обращается к Воле, ibid., stanza XXII, vv. 1—4.
8 Де Санктис
113
Ум обращается к Воле со словами:
Твоя задача — подчиняться строго
Во всем предначертаниям моим.
Ты призвана любить, как должно, Бога
И действовать всегда в согласьи с ним.
А Воля отвечает:
И даже если он слегка надуман,
В твоем кругу я действовать должна.
Когда ж блаженства вечного достигну,
Тогда сама любую вещь постигну !.
Душа, укрепившись, возносит молитву богу, и ангел-
хранитель добавляет:
Прошу, Господь, воспламени ее,
Чтоб защитить от злобного дракона:
Ты видишь — в плоть она заточена,
И без тебя беспомощна она2.
Иначе говоря, чтоб быть угодной господу, Душе
мало обладать тремя естественными силами — Памятью,
Умом и Волей; требуется еще божья милость—горящее
пламя, отпугивающее дракона-дьявола. Бог посылает
в помощь ей теологические добродетели — Веру в не-
бесно-голубом одеянии с крестом в правой руке и с
бокалом и золотой тарелкой для просфоры — в левой,
Надежду в зеленом облачении, устремившую взгляд
свой в небо и скрестившую руки на груди, Милосердие,
одетое в красное и держащее за руку ребенка. Тем вре-
менем дьявол призывает себе на помощь Ересь, Отчая-
ние, Чувственность и все прочие подвластные ему силы
во главе с Ненавистью. Три добродетели окружают
Душу. Вера рассказывает о себе, и святой Иоанн Зла-
тоуст восхваляет ее могущество. Но Неверие упрекает
Веру следующими горькими словами:
Кто легковерен, тот и легковесен.
И ты во прах повержена почти,
И я сужу о пораженьи Веры.
1 «Commedia spirituale», stanza XIX, vv. 5—8
2 Ibid., stanza XXV, vv. 3—6. В следующем абзаце почти пол-
ностью приводится кусок текста о теологических добродетелях,
114
Ты у мужей ученых не в чести,
А прежде славили тебя без меры...
Иди на Запад, на Восток иди,
И сколько за меня людей, гляди 1.
Тогда на помощь Вере приходит Надежда:
Взгляни туда, на город в небесах,
Что выстроен без гения людского.
Но Душа, зная, сколь она слаба, высказывает опа-
сение:
День отпостившись, я бледна ужасно,
Как будто полотно, ни дать ни взять,
На первой лавке я уснуть согласна,
А телу мягкую подай кровать2.
Надежда приводит ей в пример святых и прежде
всего святого Августина:
Когда он жаловался: — О Всевышний,
Нет утешенья сердцу моему,
Ты только можешь дать покой ему.
Тогда на' Душу нападает Отчаяние, говоря:
Ты в свой черед предстанешь пред судом,
А ты не так уж мало нагрешила.
О, знаю, скажешь ты: — Надеюсь я,
Бог милостив, и он простит меня 3.
Но Душа, в ответ на издевку, отгоняет его от себя:
Прочь убирайся, подлая скотина!
Далее вновь следует спор между Милосердием, хвалу
которому возносит св. Павел, и Ненавистью. В словах
последней появляется нечто похожее на характерность,
нечто от хвастливого воина:
Тому, что я скажу тебе, внемли
И на седины не косись мои.
Гляди, перед тобой старик изрядный,
От жизни долгой поседевший в пух.
1 «Commedia spirituale», stanza XL, v. 8, XLI, vv. 1—4, 7—8.
2 Ibid., stanze XLIV, vv. 1—2, XLVII, vv. 3—6.
3 Ibid., stanze XLVIII, vv. 6—8, XLIX, vv. 5—8. Следующий
стих тот же, что второй стих репризы того же станса XLIX.
8*
115
В деяниях я молодой и жадный,
И я к несправедливости не глух,
И рассуждаю быстро я и складно
И на людей имею верный нюх.
Любовь тебе внушает всепрощенье,
Ее не слушай — вот мое сужденье.
Прощает тот, кому прощать не лень
И кто душою слабой обладает.
Тебя бранят, а ты стоишь как пень,
Ну что ж, терпи, тебя сильней облают.
А будь построже с ним: узду надень
На храбреца, он тут же отступает.
Плати такому тем же, не жалей:
Заслужит — по башке его огрей...
Я, Ненависть, в руке сжимая меч,
К тебе явилась в боевом доспехе.
Сам Сатана — и тот мне не перечь.
Что посулю, то будет без помехи.
Людская кровь должна все время течь,
Ведь лучше не придумаешь потехи.
Оседланным коня держу всегда,
Чтобы поспеть могла я хоть куда...
И в городах убийства, и в селеньях,
И видя это, радуется взор.
С религией я в добрых отношеньях,
Вхожу в монастыри — и там раздор.
Преуспевая в тайных наущеньях,
Я довожу людей до вечных ссор,
И снова в путь пускаюсь я, и скоро
Я — при дворе какого-то синьора К
Последнее сражение происходит между Чувственно-
стью и Разумом. Душа молится, но чувствует, что плоть
берет верх:
Готова я тебе служить, Господь,
Но грешное мне тело докучает:
' Я бодрствую, но спать желает плоть,
Чуть что не так — ив страх ее бросает,
Она себя не может побороть.
1 «Commedia spirituale», stanze LV (ripresa, vv. 9—10), LVI,
LVII, LIX, LX.
116
А Чувственность при этом причитает:
— Без крыльев собираешься в полет?
Ну что ж, больнице неплохой доход1.
Услышав эти последние слова, Чувственность на-
смешливо замечает:
Ты вырядилась эдак для небес,
И я тебе признаюсь без обмана:
Безумная, тебя попутал бес,
Так бей же в грудь себя ты покаянно.
И стужа, и жара тебя страшат,
Но небесам не нужен твой наряд2.
Но вот что говорит Душе Разум:
Душа моя, поведай, что случилось, —
Я только-только погрузился в сон.
И узнав, о чем шла речь, так отзывается о своем не-
друге (Чувственности):
Она опасный и коварный зверь,
Не следует ни в чем ей подчиняться.
Ее почаще без раздумья бей
И никогда при этом не жалей.
— Но как я должна была поступить? — спрашивает
Душа.
Тебе бы, засучивши рукава,
Потолще и покрепче взять дубину
И хорошенько поломать ей спину.
Чувственность, однако, не испугалась; после неболь-
шой перебранки она продолжает:
Рассудок этот — лицемер и лжец,
И он двух слов не свяжет наконец.
Напрасно терпишь этого злодея,
Скорее от себя его гони.
Ты выбери кирпич потяжелее
И на башку мерзавцу урони.
Он день и ночь, коленей не жалея,
Мусолит Страсти Божий одни...
1 «Commedia spirituale», stanza LXIII.
2 Ibid., stanza LXIV, vv. 3—8. Далее идут стансы LXV, vv. 1—2,
LXV1, vv. 5-8, LXVII, vv, 6—8, LXX, vv. 7—8.
117
Потешь себя, мое используй средство:
Он небольшую встряску заслужил1.
Разум побежден, и Душе приходится уступить. Ей
хочется иметь гирлянду с бантом:
Такую же, как видела я где-то.
А дьявол добавляет:
Ты шапку красную сооруди
Из бархата и рясу заведи.
Значит, Разум без божьей милости бессилен. Появ-
ляется сам Бог:
Оборотись ко мне без нареканий,
Тебя я ждал и жду на покаянье.
Душа, раскаиваясь в дурных мыслях, отвечает:
За грешность мыслей не достойна я
Того, чтоб быть услышанной тобою.
С насмешкою глядишь ты на меня,
Хоть я и этой доброты не стою.
Но без тебя сама я не своя,
Не знаю, с кем я сердце успокою.
Ты за меня, Господь мой, кровь пролил,
Без помощи твоей мне свет не мил.
Тогда Бог посылает ей на помощь главные доброде-
тели— Осторожность, Умеренность, Твердость, Справед-
ливость, Сострадание, Бедность, Терпение, Скромность.
Каждая рассказывает о себе, время от времени цити-
руя библию. Вот несколько пассажей:
Осторожность: Одно тебе рекомендую я —
Будь осмотрительною, как змея 2.
Умеренность: Придерживайся середины вечной,
И ты счастливой будешь и беспечной.
Сила: Недаром Туллий всем по доброй воле
Советует в моей учиться школе...
1 «Commedia spirituale», stanza LXXI, vv. 1—6 и реприза. Да-
лее идут стансы LXXII, vv. 1—2, 6, 7—8, LXXV, vv. 7—8, LXXVI.
2 Ibid., stanza LXXXVIII, реприза. Далее стансы XCIII, vv. 7—8,
XCVI, реприза, XCVIII, vv. 7—8, CV, vv. 7—8 и реприза; CVI,
vv. 7—8, CVII, vv. 1—2, CVIII, vv. 5—8.
118
Матфею верь, когда не знаешь сам,
Что сильные по нраву небесам.
Справедливость: А вот о Справедливости Давид
Как о деснице Божьей говорит.
Сострадание: О Справедливость Божия, терпенье!
Имей к несчастным душам снисхожденье...
Прощеньем никого не обдели
Из тех, кто заточен в горшок земли.
Того и жди, что треснет пополам
Горшок, в себя вместивший радость эту...
И каждый шаг душе горшок диктует,
Пока она томится в жизни сей.
Но помощь ей Господняя нужна,
Ведь без нее теряет все она.
Бедность: Я Бедностью зовусь, о город мой,
И здесь меня чурается любой.
Владетельные господа поспешно
Меня послать подальше норовят,
И кроме тех, кто мир покинул грешный,
Общению со мной никто не рад.
* Чем кланяться богатйм безуспешно,
Уж лучше побираться во сто крат.
Евангелие Божий рай пророчит
Тому, кто следовать за мной захочет \
Терпение: А я — Терпенье, стало быть, я то,
Кого теперь не слушает никто.
Достойнейшая Бедность, ты прекрасна,
И оказал тебе Господь почет...
Кто не чуждается тебя напрасно,
Тот вечное блаженство обретет.
Счастливцам этой жизни, как известно,
Надеяться нельзя на рай небесный.
Бедность: Мне больно видеть,
Что в людях совершенства нет почти.
1 «Commedia spirituale», stanza CIX, реприза и СХ. Далее стан-
сы СХИ, реприза и CXIII, vv. 1—2, 5—8, CXV, vv. 5—8, CXVI,
vv. 1—4, CXVIII, реприза.
119
Когда-то не стыдились- жизни бедной,
Но это время кончилось бесследно.
Терпение: Кто в небеса избрал пути иные,
Тот сам себя надумал обмануть.
Христом, любимым детищем Марии ....
Единственный туда указан путь...
И на кресте последние страданья
Он смело принял людям в назиданье.
Смирение: А я — Смиренье. В том и ужас весь,
Что на меня никто не смотрит здесь.
Не забывайте, люди, о Христе:
Не видите, как быстро время мчится?..
Заказан рай для тех, кто жил не так,
И не войдет в него, кто Богу враг.
Давайте, сестры, все дела отложим
И счастья по земле искать пойдем,
И ежели увидим в стаде Божьем
Со светлым хоть одну овцу умом,
Я б не хотело, чтоб она потом
Судила нас по платьям непригожим:
На добродетель нынче спроса нет,
Зато в почете тот, кто разодет *.
Душа, раскаявшаяся и укрепленная, поет Богу песнь:
Господь, свою судьбу тебе вверяю,
Принадлежит тебе мой каждый год.
Другого никого не почитаю.
Покинула я грешный мир невзгод,
Где горести меня не покидали:
Не знает счастья тот, кто в нем живет.
Он предвещает радости вначале,
Он обещает мир, сулит покой,
А после — только слезы и печали.
1 «Commedia spirituale», stanza CXIX, реприза, CXX, vv. 1—2,
CXXI, vv. 7—8 и CXXII. Далее следуют терцины песнопения к богу
(vv. 10—22) и две репризы станса CXXXVI.
120
О мрачный мир, фальшивый и слепой,
Ты множеству людей любовь внушаешь,
При этом яд умело пряча свой.
А после их страданьем отравляешь.
Охваченная сильным недугом, Душа молит:
Недуг меня тяжелый поразил,
Уже держусь я из последних сил.
Что означает это? Умираю.
Христос, приди на помощь, умоляю.
Около умирающей ангел и дьявол вступают в по-
следнюю схватку. Доводы, приводимые ангелом, можно
резюмировать в следующих трех строках:
Обычай у людей — впадать в ошибки,
А в ангельских обычаях — парить...
И только дьявол до конца порочен 1.
Бог принимает Душу и объявляет свой приговор:
Последнее решение мое —
Явиться ей и тем спасти ее.
Ангел говорит:
В дорогу все, достойно Душу встретим,
И музыкой сошествие отметим.
Хор провожает Душу, отлетающую на небо, следую-
щей песней:
От плоти ты оторвалась постылой,
Счастливая, и к Богу вознеслась.
Не опочила ты, а получила
Иную жизнь от Бога в добрый час,
И в подвенечном платьице прелестном
Предстанешь ты на празднике небесном.
Так заканчивается это представление, которое име-
нуется «комедией», поскольку оно завершается спасе-
нием, а не гибелью души. Его называют также «мисте-
рией» ввиду аллегоричности. Это одна из древнейших
1 «Commedia spirituale», stanza CXL, vv. 1—2, 8. Далее стансы
CXLII, vv. 7—8 и реприза, CXLVI, vv. 1—3, 6-8.
121
литургических мистерий, несколько подправленная, под-
чищенная, модернизированная и получившая светскую
трактовку во времена Лоренцо Медичи или даже в бо-
лее позднюю эпоху, о чем можно судить по ее неприну-
жденной, свободной форме, по попытке придать ей не-
которую художественность, сказывающейся, например,
в образах Дьявола, Ненависти, Чувственности и Бедно-
сти, и по той неуловимой насмешливо-гротескной инто-
нации, которая свидетельствует о не слишком большой
серьезности и благочестии как сочинителя мистерии, так
и зрителей.
Но если узор современный, то сама материя, безу-
словно, давнишняя. Она напоминает спор Чувственно-
сти с Разумом, многократно описанный в итальянских
произведениях предшествующего периода, битву Поро-
ков с Добродетелями из книги Джамбони и три христи-
анские аллегории. Более того, эта «Комедия души» сама
есть не что иное, как три аллегории, воплощенные в
спектакле. Мы находим здесь также три стадии приоб-
щения к святости — Человеческое, Очищение и Обновле-
ние. Душа здесь тоже сначала не может устоять перед
Чувственностью и попадает в ее тенета (ибо «это так
человечно: впадать в ошибку»), потом кается, очищает-
ся от греховной скверны и, как говорит Данте1, «соеди-
няется со всемилосердным» или, как говорит сам автор,
«предстает на небесном пиру в прекрасном свадебном
одеянии».
Эти три ступени: 1) Чувственность, сугубо Человече-
ское, предоставленное самому себе; 2) Очищение, или
покаяние, освобождающее или очищающее душу, и
3) Обновление, или свет разума, благодать — соответ-
ствовали религиозной схеме ад — чистилище—рай.
Такова главная идея, лежавшая в основе представле-
ний, действие которых разворачивалось на том свете,—
например, мистерии, о которой упоминает Джованни
Виллани и которая была показана во Флоренции2. Это
была история, или, как тогда говорили, комедия, ду-
ши, сумевшей освободиться от человеческой оболочки,
1 «Чист.», XXIII, 81: «Благая боль пред богом облегчила...»
2 «Cronica», VIII, 70 Это место выше уже упоминалось. С той
же целью его приводил Эмилиани-Джудичи (Emiliani-Giudici,
Storia della lett. it., cit. I, p. 366).
122
от тела, от плоти, избавиться от ада лишь с помощью
покаяния, освобождения от грехов, очищения: покаяв-
шись и очистившись, душа становилась легкой и возно-
силась на небо.
Я постарался дать возможно более точное изложе-
ние содержания этой «Духовной комедии души», по-
скольку она представляет собой своего рода моральный
кодекс той эпохи, в котором обобщены понятия, нашед-
шие свое отражение в житиях святых, легендах, тракта-
тах, лирике «Spiritus intus alit» l; то есть дух, пронизы-
вающий всю тогдашнюю прозу и поэзию, это и есть
«комедия души».
5. Но во всех многочисленных произведениях, напи-
санных прозой и стихами, пока не ощущается авторской
индивидуальности, творчества. Содержание не выходит
за рамки абстрактной простоты, за пределы безыменной
и безличной «души». И поскольку в основе лежало не
действие, а созерцание или «отрицательное» действие —
борьба с естественными инстинктами и чувствами, — то
литературное произведение не проникало в жизнь, не от-
ражало ее «форм, не было проявлением жизни народа.
Что говорить, это «отрицательное» действие, если оно
показано просто и тонко, очень поэтично, квинтэссенция
религии, оно трогает сердце. Но в борьбе религиозного
чувства с природой гораздо больше трогает зов при-
роды; так, в жалобах матери св. Алексея или жалобах
св. Евгении2, в скорби Исаака в «Жертвоприношении
Авраама», который, узнав о предстоящей смерти, взы-
вает к матери:
1 «Дух изнутри питает...» (перев. В. Брюсова и С. Соловьева).
Слова Вергилия (см. Аеп. VI, 726—727: «Spiritus intus alit totamque
infusa per artus/mens agitat molem et magno se corpore misceb),
использованные Джордано Бруно, Де Санктисом восприняты роман-
тически.
2 См. «Житие святого Алексея» и «Житие святой Евгении». Обе
истории включены в «Vite de* Santi Padri» Domenico Cavalca, изд.
под ред. Базилио Пуоти, 4 voll., 1838, vol. II, pp. 133, 162 и ел.
Несмотря на то что Манни исключил их из своего издания (Firenze
1731—1735), а Дель Лунго вновь высказал свои сомнения относи-
тельно их атрибуции (см. I. Del L u n g о., Leggende del secolo XIV,
Firenze 1863), Де Санктис по-прежнему доверял мнению своего
учителя. По поводу издания «Vite», предпринятого Де Санктисом
в 1836 году, см. «La Giovinezza», cap. VIII.' В частности, о Ка-
валька смотри ниже, в гл.аве, посвященной писателям XIV века.
123
Святая Сара, если бы ты здесь
Была со мной, тогда бы я не умер...
Агонии сопротивляюсь я
И чувствую себя таким усталым.
Ты говорила мне, что плоть моя
Должна для стольких жизней стать началом.
Страдания, погибель мне суля,
Пришли на смену радостям бывалым.
Господь, на муки тяжкие взгляни,
Продли мои всемилостиво дни 1.
Пусть это одна из самых сокровенных сторон чело-
веческой жизни, столь богатой и разнообразной по свое-
му содержанию; но сколько в ней противоречий, сколько
градаций; это непочатый край для настоящего художе-
ственного творчества!
Однако на заре своего развития литература прояв-
ляет ту же особенность, что и в пору упадка: ^тенденцию
к натуральности, к «материализации» содержания.
Сколько любопытнейших биографий, историй, легенд,
видений, разнообразных новых ситуаций! Но сочинители
предпочитали зрелища, стремились поразить воображе-
ние невероятными ситуациями, вместо того чтобы рабо-
тать над темой и развивать ее.
Им не хватало умения взглянуть на вещи со стороны
и подвергнуть их творческой переработке: реальность,
даже взятая в натуральном виде, была сама по себе так
необычна, что для достижения эффекта достаточно было
ее простого и непосредственного воздействия на сочини-
теля и читателей.
Кроме того, ведь содержание произведений основы-
валось на религиозной доктрине, раз навсегда установ-
ленной и неизменной, что мало способствовало разви-
тию свободного, художественного начала, даже тогда,
когда представление происходило за пределами церкви
или монастыря, при участии светских лиц, как было и
с мистерией. Если бы писатель вздумал вольно обра-
1 Feo Belcari, Rappresentazione di Abramo e Isak, stanze
XXVIII, vv. 1—2, XXIX (относится к 1449 году). Не следует забы-
вать, что вплоть до конца XVIII века Фео Белькари считали авто-
ром «Житий святых отцов»; забегая вперед почти на целый век, Де
Санктис здесь и далее поступает согласно известному принципу
Джордани: «Апельсин в январе то же, что плод XIV века — в XV»,
124
щаться с содержанием, попытался бы лишить его аб-
страктности, выразить в произведении свою индивидуаль-
ность, то это сочли бы профанацией. Автор стремился
сделать религиозную доктрину доступной простым лю-
дям с помощью поучительных примеров, сентенций и ал-
легорий, подобных библейским. Материя, конкретность
имели вес лишь как внешняя оболочка для изложения
религиозной доктрины. Вот, например, каким образом в
«Комедии души» описывается рай:
На той горе, где Бог царит всечасно,
Источника веселая игра,
В котором бьет ключом напиток ясный.
Из золота струя и серебра,
И изумруды вкруг ее на суше,
И городом украшена гора.
На эту гору вознеситесь, души,
Где милостям Господним нет числа
И где при входе встретите радушье К
В последних словах заключен смысл всего образа.
Оказывается, из фонтана струилось божье милосердие.
Сочинитель при существовавшей в ту пору тенденции
довольствовался простым олицетворением, и ему каза-
лось, что, создав образ, который делает мысль ясной и
ощутимой, он уже достиг многого. Кроме того, образо-
ванный человек того времени, гнушавшийся немудре-
ными, примитивными формами, предназначенными для
рядового прихожанина, стремился придать религиозной
доктрине научный характер, облекал.ее в схоластиче-
скую форму и превращал эту свою рассудочную, начи-
ненную силлогизмами веру в философию — дщерь божью.
Главной задачей литературы того века было не столько
изображать, сколько выводить в виде аллегории и до-
казывать, не столько показывать жизнь в движении и
действии, сколько разъяснять, освещать, популяризиро-
вать, осмыслять. Вот почему литературные произведе-
ния этой эпохи носили форму аллегории и трактата,
а те немногие, что пытались изображать, остались
на примитивной ступени развития. Читая их, никогда
1 «Commedia spirituale», финальные терцины, следующие за
стансом CXLII,
125
не чувствуешь себя стоящим обеими ногами на земле,
среди живых людей с их характерами, страстями и обы-
чаями. Автор как бы стоит в стороне от общества и его
борьбы, не выходит за пределы монотонной абстрактно-
сти созерцания. Если же он снисходит до изображения
жизни, то оказывается в царстве мистерий, легенд и ви-
дений — на том свете.
6. И на самом деле, задумав изображать действи-
тельность, сочинитель не мог найти более естественной
формы, чем видение. Жизнь и реальность суть чувствен-
ность, плоть, грех, и писатель либо их вовсе не замечает,
либо если и останавливает на них свое внимание, тс
лишь для того, чтобы проклясть, изобразить не так, как
они представляются людям на земле, а с позиций «того
света». Таким образом, видение рисует картину жизни
после смерти — вот тут-то автор дает волю своему во-
ображению.
Если мистерия — это комедия, ибо в финале ее про-
исходит приобщение к святости, блаженству, то в виде-
нии часто изображаются адские муки, как их рисовали
в меру своего воображения проповедники, епископы, мо-
нахи, святые отцы, всячески старавшиеся запугать свою
паству К Серные озера 2, долины, покрытые льдом или
бушующим пламенем3, бочки с кипятком; пресмыкаю-
щиеся, черви; изрыгающие огонь драконы4; дьяволы,
1 Говоря на этой странице и далее о видениях святых и о ре-
лигиозной литературе XIV века так же, как и в первой лекции ту:
ринского курса о Данте (см. «Lezioni e saggi su Dante», cit.,
pp. 73—77), Де Санктис прежде всего ориентировался на указания
Лабитта. Поэтому следующее описание, взятое из упомянутой выше
лекции, изобилует выражениями и образами, почерпнутыми из тех
отрывков, которые приводит Лабитт.
2 См. С a v а 1 с a, Vita di San Macario Romano, см. L a b i 11 e,
op. cit., p 715.
3 Cm. Labitte, op. cit., pp. 717—718. Образ взят из «Visioni
di Dritelmo», входящей в «Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum»
(lib. V, 13), написанную Бедой (Beda, 673—735). У того же Лабитта
на стр. 722—773 — следующий образ, взятый из легенды о Карле
Толстом.
4 См. Labitte, op. cit., p. 729: «А над этими несчастными воз-
вышались огнедышащие драконы, которые, казалось, пожирали их,
яростно раздирая их своими огненными зубами» (из «Чистилища
святого Патрика». Видение монаха Альберико), и ibid., pp. 719—721,
из видения монаха Веттина (IX век)—описание демонов, воору-
женных копьями.
126
г<
вооруженные пиками, хлыстами \ огненными молотками;
гниющие, кишащие червями трупы; скелеты, дрожащие
под ледяным дождем; грешники, пригвожденные к земле
и «утратившие облик человеческий», подвешенные за
ногти в клубах серного дыма, влекомые быстро враща-
ющимися огненными колесами, наподобие «красных ко-
лец», нанизанные на гигантский вертел, который черти
поливают расплавленным металлом2, — вот та «реаль-
ность», которая самыми яркими красками изображается
в видениях.
Три монаха, отправившиеся на поиски земного рая,
после сорокадневных скитаний проходят через ад.
«И видят они огромное озеро, кишащее огнедыша-
щими змеями, и слышат голоса людей, их стоны и крики
из озера, как бы тех удивительных народов, которые
плачут и завывают. А когда монахи очутились меж двух
высоких гор, предстал их взору человек неимоверного
роста, чуть ли не в сто локтей, прикованный четырьмя
цепями —двумя к одной горе, а еще двумя — к другой.
Вокруг него бушевало пламя и кричал он так сильно,
что слышно было за сорок миль кругом. Потом стран-
ники оказались глубоко под землей, в месте жутком,
скалистом и пустынном, и увидели там схваченную
огромным драконом голую, уродливую, растрепанную
женщину. Когда она силилась открыть рот, чтобы заго-
ворить или закричать, дракон засовывал в ее рот свою
пасть и яростно кусал ей язык, а волосы у той жен-
щины были длинные, до земли» 3.
В «Житии святой Маргариты» имеется следующее
описание дракона:
«Появился разъяренный и страшный дракон: сам пе-
стрый, а борода и волосы — будто из золота, зубы же-
лезные, глаза — пронзительные, огнем горят, в пасти
1 См. С a v а I с a, Vita di Santa Margherita. Далее намек на ле-
генду о св. Брандане и на видение Бернольдо; см. L a b i 11 e, op.
cit.f pp. 725—727.
* «Purgatorio di San Patrizio» (L a b i 11 e, op. cit., p. 729).
8 С a v a 1 с a, Vita di San Macario Romano, cit. «Легенда о трех
монахах, отправившихся на поиски земного рая» была опублико-
вана К. Бозио в Венеции в 1846 году. Об этом мотиве земного рая
см. также: L a t i n i, Tresor, III, 2. Следующий отрывок взят из
упомянутого выше «Жития святой Маргариты».
127
разверзнутой шевелится язык, а ноздри и рот изрыгают
пламя и серное зловонье».
Особой известностью пользовалось видение под на-
званием «Чистилище святого Патрика», принадлежащее
перу монаха Альберико1, и видение Гильдебранда, впо-
следствии Григория VII, который в своей проповеди, про-
изнесенной в присутствии папы Николая II2, рассказал
о некоем графе, богатом и в то же время честном чело-
веке, что, по его словам, «для таких людей было ред-
костью». Один святой человек видел этого графа через
десять лет после его кончины: граф сидел на вершине
длиннейшей лестницы, возвышавшейся среди бушую-
щего пламени и упиравшейся своим основанием в пре-
исподнюю. На каждой ступеньке ее сидел один из пред-
ков графа; когда кто-нибудь из графской семьи умирал,
он садился на верхнюю ступеньку, а тот, кто занимал ее
до него, спускался на одну ниже; за ним соответственно
все остальные спускались на ступеньку ближе к пропа-
сти, куда в конце концов все они один за другим долж-
ны были попасть.
Когда у святого спросили, за что граф, стяжавший
себе на земле такую добрую славу, был осужден на
вечные муки, послышался чей-то голос, пояснивший, что
предок графа в десятом колене отнял у блаженного
Стефана участок земли, принадлежавший церкви в Ме-
це, и за это преступление всем членам графского семей-
ства уготована одинаковая кара.
Кара, постигшая целый род> — что может быть по-
этичнее! Ад ждет нечестивцев в неопределенном буду-
щем как нечто неизбежное, неумолимо, ступень за сту-
пенью, приближающееся к каждому из них.
Подобно тирану, заранее извещающему свои жертвы
о предстоящей им смерти, жестокосердный священник
хочет, чтобы его прихожане всегда ощущали близость
ада.
1 «Чистилище святого Патрика» — ирландская легенда, написан-
ная в XI веке монахом-бенедиктинцем Генрихом из Солтри
(Saltrey) и получившая распространение в последующие века на
разных языках.
2 Видение Гильдебранда изложено Лабиттом (op. cit., p. 727)
и Вильмэном (Villemain) в первой лекции его «Tableau de la litte-
rature au Moyen age», Paris 1828, pp. 27—28.
128
Итак, из видений, мистерий, стихов и прозы следует,
что цепляться за земную жизнь, считать ее самым суще-
ственным— грех; что добродетель — в отрицании зем-
ной жизни и в созерцании жизни потусторонней; что
земная жизнь не есть подлинная реальность, а лишь ее
тень и видимость; что подлинная реальность не в сущем,
а в том, что должно быть. А посему наука, истина и как
идея и как ее воплощение — это иной мир — ад, чисти-
лище и рай, мир, соответствующий истине и справедли-
вости. А именно потому, что индивидуум есть «pulvis et
umbra» \ а реальность сводится к чистой науке и поту-
стороннему, всякая попытка индивидуализировать и
творить, естественно, исключается.
Даже любовь при всем своем могуществе бессильна
и не может привести хоть к какому-нибудь успеху: она
лишь отголосок и образ божественной любви. Женщина
в своей сущности — сосуд греховный, становится чем-то
вроде «медиума», звеном между человеком и богом.
7. Наибольшей реалистичности литература этой эпо-
хи достигла в лирике Данте. Женщина тех лет получила
имя и облик: это Беатриче, девушка, которая, подобно
душе в духовной комедии2, вышла незапятнанной из рук
божьих, чтобы вскоре под сопровождение ангельского
пения вернуться на небо. Ее жизнь на земле свелась
к рождению и смерти. Ее подлинная жизнь начинается
после смерти, в ином мире. Она — свет разума, истина,
наука, философия. Но не та полнокровная философия,
которая связывает идею бога или понятие истины
с жизнью, а чистая наука, не способная изображать, су-
ществующая лишь в схоластической форме трактата и
изложения. Это наука не «реализованная», бестелесная;
это пока не видение, а лишь идея, — дидактика, а не ко-
медия, не мистерия. Перед нами — мистерии и видения,
но нет Мистерии и Видения, то есть живого мира во
всей совокупности, во всех аспектах, где была бы реа-
лизована теологическая и философская мысль человече-
ства, характерная для этого века и пока выраженная
в форме ученой абстракции.
1 Слова Горация: «Pulvis et umbra sumus» (Odi, IV, 7, 16:
«Будем лишь тени и прах», пер. А. П. Семенова-Тян-Шанского).
2 См. выше стр. 112 и ел. «Комедия души»,
9 Де Санктис
129
Тринадцатый век подходил к концу, оставляя в на-
следие потомкам сформированный язык, разнообразную
метрику, поэтику, риторику, философию и все еще ди-
дактическую и аллегорическую концепцию жизни, отме-
ченную пока робкими и неуклюжими попытками творить
и индивидуализировать. Первый индивидуализирован-
ный образ тогдашней поэзии — Беатриче — это как бы
предчувствие нового, поэтическая догадка о грядущем
мире, еще не вышедшем из лона науки и далеком от
жизни.
^*ж*****ж******.************^****.************
VI
Треченто
1. Юбилейный 1300 год. Идеи XIII века получают инди-
видуализированную, творческую трактовку, и это основная
особенность и слава нового века. 2. Аскетическая литература:
«Цветочки» и «Жития» Кавальки; художественность без лите-
ратурного замысла. Христианские добродетели святого, пре-
дающегося созерцанию, однообразие и монотонность повество-
вания. 3. «Зерцало истинного покаяния» Пассаванти — един-
ственного художника этого аскетического мира. 4. Екатерина
из Сьены и конкретное восприятие ею абстрактного; ее
«Письма» — кодекс христианской любви. Совершенство языка
как малых, так и крупных прозаиков. 5. Литература реального
мира. Хроники и исторические труды Альбертино Муссато, его
«Ecerinis» — трагедия, где конфликт преимущественно этиче-
ский, а не политический. 6. Дино Компаньи, личность, его
стиль, отсутствие литературного замысла. Главные недостатки
и достоинства его «Хроники». Сравнение с Зиллани. Содержа-
ние произведения. 7. Данте в период от крушения полити-
ческой карьеры до увлечения философией. Разум, любовь,
действие — их тройственность и единство. Его вторая Беа-
триче. «Пир» и восхваление вольгаре. 8. Трактат «De vulgari
eloquentia»; идеальный итальянский язык — изысканный и без-
упречный. 9. Трактат «О монархии» и идея независимости
светской власти. 10. Данте — не философ и не мыслитель.
Характеристика его трактатов, их недостатки. 11. Религиозные
произведения на вольгаре, не пользующиеся авторитетом
у образованных людей. «Таинство души» — принцип, общий
для тех и других; его философское, теологическое и полити-
ческое толкование. 12. Абстрактность — общий грех обеих
литератур, аскетической и ученой. Царство науки или царство
божие, воплощенное творческим гением Данте в конкретные
образы.
1. Четырнадцатый век, получивший название золо-
того, осуществил то, что было задумано и подготов-
лено предшествующим, тринадцатым. Впоследствии под
«Треченто» стали понимать большой период развития
итальянской литературы и включать в него не только
9* ^ 131
писателей четырнадцатого, но также тринадцатого и
пятнадцатого столетий. И не без оснований: хронологи-
ческие данные об этом периоде столь скудны и неточны,
что подчас нелегко определить годы жизни и творчества
писателя, строго следовать хронологии. Займемся тем,
что для нас гораздо важнее: проследим за развитием
мысли и формы, не тратя времени на пустые догадки и
уточнения хронологии и придерживаясь лишь общей
периодизации.
Четырнадцатый век начался с важного события:
с юбилея, отмеченного папой Бонифацием VIII, в Рим
устремился весь христианский мир—люди разного воз-
раста, пола и звания, жаждущие получить отпущение
грехов и обеспечить себе вечное блаженство на том
свете. Они были движимы мыслью, которая на все лады
перепевалась в многочисленных произведениях прозы и
поэзии: да будет проклята земная жизнь и плоть, все
суеты земных благ и забот; подлинная вожделенная
жизнь — там, на небесах. Претворению в самых разных
областях культуры этого повсеместно распространенного
принципа и служил высокоторжественный юбилей на-
чала века.
Священники и монахи по-прежнему пользовались у
народа особым уважением. Не только потому, что они
были служителями религии, но также из-за своей уче-
ности, составлявшей их привилегию; недаром Виллани,
воздав хвалу образованности Данте, добавлял: «Хотя он
и был мирянином»1; образованных людей, даже если
они не были духовными лицами, называли «клирика-ми».
Вся Италия, движимая едиными помыслами, являла
собой живое отражение этой единой идеи и этой много-
образной культуры. Это было время созерцателей-от-
шельников, уединившихся в пустыне или в келье, истя-
завших себя постами, веригами и бдениями, — живых
героев мистерий и легенд. Были там и нищие духом,
движимые примитивным религиозным чувством, воспри-
нимавшие науку как нечто нечестивое, и ученые, про-
поведники, знатоки библии и писаний отцов церкви. Там
собрались схоласты и эрудиты, теологи и философы,
1 Giovanni Villani, «Cronica», libro nono, cap. CXXXVI,
cd. Firenze 1832, t. IV, p. 145: «Он был великим знатоком почти во
всех науках, хотя И был мирянином».
132
бдинаково высоко почитавшие античных классиков и от-
цов церкви, испытанные мастера спорить по всем вопро-
сам, в том числе и о вере, отлично изъяснявшиеся на
латинском языке — разговорном и ученом, на том энер-
гичном, стремительном, живом латинском языке, в кото-
ром уже чувствовался идущий ему на смену вольгаре —
народный итальянский язык. Они провозглашали себя
друзьями философии с тем же пылом, с каким другие
объявляли себя слугами господа. Но их философия от-
нюдь не отвергала веру, а, напротив, подкрепляла ее,
иллюстрировала, разъясняла с помощью силлогизмов,
сентенций и цитат из высказываний одновременно Ци-
церона и св. Павла.
Гордые своей ученостью и своей латынью, с презре-
нием относившиеся к вольгаре, они-то и были авторами
тех трактатов, комментариев, «соммариев» и историче-
ских трудов, которые приводили в восхищение весь
мир.
Рядом с этими «ясновидцами» веры и философии,
рядом с этой интенсивной жизнью духа бурно разверты-
валась жизнь светская; одна и та же мысль занимала
феодалов-князей и мелких тиранов, приоров и старей-
шин республик, рыцаря из романа и купца из хроники.
Там, у подножия Колизея предприимчивому дельцу, по
имени Джованни Виллани, пришло в голову, что его
Флоренция, дочь Рима, не менее других достойна иметь
свою историю, и он написал ее К Несмотря на всю славу
и мощь духовенства, презренный «мирянин», то есть
человек, не имеющий духовного звания, начинал подни-
мать голову и задумываться об античном Риме и о до-
чери Рима — Флоренции.
1 См. «Cronica», libro ottavo, cap. XXXVI; ed. cit., t. Ill, pp. 58
и ел. Выражение «Флоренция — дочь Рима» употреблял также
Данте («Convivio», I, v). По поводу «Хроники» Виллани и всего
сказанного о юбилее 1300 года см.: Q u i n e t, op. cit., I, p. 100.
(«He забывайте об этом нашествии паломников; юбилей 1300 года
привлек в Рим более двух миллионов иностранцев, желавших по-
клониться памятникам древнего христианского Рима. Виллани рас-
сказывает, что вид этой бесчисленной толпы, преклонившей колени
у древних развалин, привел его к мысли написать историю»...) См.
также Cesare Balbo, Vita di Dante, Firenze 1853, pp. 138—139.
Следует заметить, что эта книга Бальбо впервые появилась в Ту-
рине (Pomba, 2 voll. 1839) и вскоре, в 1840 году, была опублико-
вана в Неаполе с примечаниями Эммануэле Рокко,
133
Как то бывает в великие периоды истории человече-
ства, здесь возникло немало дружеских союзов, произо-
шло немало примирений: исчезли гвельфы и гибеллины,
оптиматы и пополари, бароны и вассалы, все объедини-
лись под одним знаменем, под одним лозунгом: единый
бог, единый папа, единый император. Папство пережи-
вало свой последний великий день, лелеяло последнюю
мечту о всемирной монархии, развеявшуюся после по-
щечины, полученной папой Бонифацием VIII в Ананьи.
Описание юбилея помогает нам составить представ-
ление о литературе четырнадцатого века. Она унаследо-
вала от предшествующего столетия сюжеты, методы и
главную идею, столь блестяще продемонстрированную
юбилеем. Эта идея застыла в форме умозрительной ал-
легорической абстракции, с едва наметившейся в мисте-
риях и видениях попыткой представить ее образно, ~-
идея безыменная, если не считать Беатриче, этого мимо-
летного облачка, тотчас же испарившегося в отвлечен-
ных научных рассуждениях; четырнадцатый век вдохнул
эту идею в жизнь, научил индивидуализировать и тво-
рить: в этом его особенность и заслуга.
Человеку, с чьим именем связана вся культура этого
века, было в ту пору тридцать три года *; он уже создал
Беатриче, и в уме его рождались грандиозные, способ-
ные воспламенить человечество замыслы. В нем боро-
лись философ и поэт: «Пир» и «Комедия». Но, для того
чтобы по достоинству оценить результаты осуществлен-
ного им глубокого синтеза, следует прежде заняться ана-
лизом и познакомиться с общей картиной века в лице
его более скромных представителей, познавших лишь
тот или иной аспект современного им мира.
2. Прежде всего обратимся к монастырской, аскети-
ческой, мистико-религиозной литературе, продолжавшей
традицию фра Якопоне в прозе; впрочем, проза эта
полна поэзии. Доменико Кавалька, Гвидо да Пиза, Бар-
толомео да Сан Конкордио, Якопо Пассаванти, Джован-
ни далле Челле — не абстрактные, безличные сочини-
тели, какими были писатели предыдущего века. Даже
по их переводам чувствуется, что эти люди принимают
1 В упомянутых выше примечаниях к «Истории итальянской
литературы» Кроче уточняет: «Тридцать пять лет, если принять
за дату рождения 1265 год».
134
близко к сердцу то, о чем пишут, живут в книге, остав-
ляют в ней след своего характера, ума и нравственного
облика. Кончилось время абстрактных трактатов, «Са-
дов», «Цветов» и «Сокровищниц». Литература соприка-
сается с реальностью жизни, вступает в подлинный
«сад» искусства. Сочинители XIV века не рассуждают,
не спорят и редко цитируют; их ученость почти не вы-
ходит за пределы библии и писаний отцов церкви. Они
рассказывают о том же, о чем повествовали мистерии,
жития святых, легенды и видения; но они рассказывают
живее, правдивее, чем мистерия XV века — подновлен-
ный, приглаженный вариант старинной мистерии, к со-
жалению, утратившей первоначальную чистоту и вдох-
новенную безыскусственность.
Все сочинители этого времени, как правило, монахи;
всем им присущи черты одиноких людей: наивность,
прямота, доброта. Они наивны, как дети, которые слу-
шают с широко раскрытыми глазами, и чем необычай-
нее и удивительнее рассказ, тем охотнее они ему вни-
мают и-всему верят. Наивность — типичная черта «Цве-
точков святого Франциска» — самой привлекательной из
всех этих примитивных книг1. Воображение, распален-
ное уединением, рисует предметы живо и верно, как бы
сплошным потоком: они предстают не только живыми,
но и красочными, отражая свежие впечатления, которые
они произвели на автора.
И чем более воздержанной, замкнутой жизнью жи-
вет писатель, тем живее, неистовее, лиричнее его чув-
ства: природа как бы мстит за себя, особенно там, где
ей сильнее противятся. В этой прозе нет никаких следов
художественного замысла, не заметно никакого стремле-
ния отточить форму, никаких колебаний в выборе
средств. Основной ее недостаток — отсутствие связую-
щего начала, распределения материала и его града-
ции. Тем не менее художественный эффект налицо; он
достигается благодаря искреннему, мощному порыву во-
ображения и чувства. В результате перед нами — стра-
ницы, полные жизни, впечатляющие гораздо больше, чем
многие современные романы.
Приведу для примера историю об отшельнике Авра-
1 По поводу «Цветочков» и Кавальки, речь о котором пойдет
ниже, см, главу XI из «La Giovinezza»,
135
аме1, который, нарядившись светским кавалером, ест
хлеб, пьет вино и ходит в таверны, чтобы обратить в
истинную веру свою племянницу Марию. Встреча Авра-
ама с Марией в таверне, ее безудержное кокетство, а
затем удивление и стыд, охватывающие ее, когда в кра-
сивом кавалере она узнает своего дядю, его мягкие
упреки и отчаянные, душераздирающие крики раскаяв-
шейся красавицы создают подлинно драматическую сце-
ну, равной которой не найдешь во всей итальянской дра-
матургии.
Эта книга Кавальки («Vite»), хотя и переводная,
благодаря свежести и естественности языка и волнению
ее автора, которое в ней отразилось, представляет собой
оригинальное сочинение. Главная идея века выражена
в ней по-новому: она избавлена от теологической, схо-
ластической абстрактности, как бы «обрела плоть», мо-
ральную и материальную сущность2.
Доказательством того, что идея воплощается в жи-
вом человеке, служит образ самого святого; он изобра-
жается по-новому, открывая перед христианином новый
нравственный мир, мир действенный, меняющийся, от:
раженный в жизни этого святого. Основой этого нрав-
ственного мира по-прежнему является вера в реальность
жизни на том свете и борьба со всеми инстинктами и
земными чувствами, воздержание и долготерпение1—
«sustine et abstine». Высшей добродетелью почитается
победа человека над самим собой, над своей природой.
Отсюда призыв к смирению, всепрощению, бедности, це-
ломудрию, послушанию. Если бы этой победе предшест-
вовала борьба, то картина была бы бесподобной по
своему благородству. Но чаще всего святой появляется
на сцене уже окруженный ореолом святости и невоз-
мутимо демонстрирует свои христианские добродетели;
лишь иногда вмешивается дьявол-искуситель; но доста-
точно произнести заклинание или перекреститься, чтобы
1 С a v а 1 с a, Vita di Abraam romito, cit., ed. Puoti I, pp. 79
и ел.
2 См. аналогичное суждение в «La Giovinezza», cap. VIII и в
ранних лекциях о языке и стиле: «Фео Белькари и Кавалька к пре-
красному языку присовокупили такие качества, как мягкость и кра-
соту. Второй из них, особенно в своих «Vite de'Padri», достигает
большой силы и величия стиля» («Teoria e storia», cit., I, p. 69 и
«Purismo illuminismo storicismo», cit. II).
136
он сгинул; это производит скорее комическое, нежели
возвышенное впечатление. Святой слишком уж свят для
того, чтобы на примере его жизни были видны противо-
речия и борьба между небом и природой — то, что при-
дает такой драматизм жизни Августина и Павла.
В этих однообразных рассказах — множество повто-
рений, контрасты редки, так что чтение их наводит
скуку, утомляет. Музой, вдохновляющей эти христиан-
ские добродетели, является не сила, не действие, а лю-
бовное томление, излияние добрых и нежных чувств,
поэтические настроения, экстазы и молитвы, бурные по-
рывы естественных чувств, тут же заглушаемые и сми-
ряемые, безвестный героизм самопожертвования, за ко-
торый сторицей воздается после смерти, даже на земле.
Из этих книг одна из наиболее интересных и по-
пулярных— описание жития святого Алексея1, который
в день свадьбы покидает благородный дом отца, моло-
дую жену и отправляется странствовать и нищенство-
вать. Вернувшись много лет спустя на родину, никем не
узнанный, не признаваясь ни матери, ни жене, он по-
ступает в услужение в родительский дом. Слуги награ-
ждают его тумаками и пощечинами, но он смиренно все
сносит.
Такая победа над природой не производит впечатле-
ния, ибо у Алексея отсутствует «homo sum»2, нет
борьбы, нет сознания приносимой жертвы. Быть истинно
добродетельным — то, что нам представляется чем-то
недостижимым, почти невероятным, — для него просто
и естественно. Сверхъестественное для него в порядке
вещей, такова его природа, но это — аскетическое, мо-
ральное совершенство, а не совершенство в искусстве.
Интересное начинается тогда, когда природа противится
и в борьбе с ней святой побеждает.
1 Ср. с оценкой Де Санктиса в «La Giovinezza»: «По сей день
помню, с каким волнением я читал «Жизнь святого Алексея». Меня
до сих пор до глубины сердца трогают слова матери: «Пропустите
меня, дайте мне увидеть сына, которого я вскормила своей
грудью!» — и возмущают слуги, «награждавшие его пощечинами»
(«La Giovinezza», cit., cap. XI). Там же приводится рассказ о пер-
вом драматургическом опыте молодого Де Санктиса, темой кото-
рого был образ св. Алексея.
2 Имеется в виду неоднократно упоминаемое изречение Терен-
ция: «Homo sum; humani nil a me alienum puto» — «Я человек и
ничто человеческое мне не чуждо», «Heautont.», I, 25.
137
Когда папа римский, узнав о случившемся, прибы-
вает в сопровождении несметной толпы и славит жал-
кого слугу, раздается крик: «Пропустите меня, дайте
пройти, дайте мне увидеть сына, которого я вскормила
своей грудью!» Рассуждая так, как ей подсказывает ма-
теринское сердце, женщина обвиняет сына в бессерде-
чии; потом, сокрушаясь, она воздает ему хвалу и вспо-
минает, как слуги награждали его пощечинами.
Подобных сцен немало в этих «Житиях»: напомню
историю матери Евгении и Марию Магдалину, слезы
которой говорят о глубоком страдании 1.
3. Художественный замысел мы обнаруживаем в
«Зерцале истинного покаяния» Якопо Пассаванти—
сборнике проповедей в форме моральных трактатов, об-
рамляемых легендами и видениями того света. Монах
рассчитывает произвести впечатление и склонить верую-
щих к покаянию убедительным показом пророков и воз-
мездия. Муза Кавальки — любовь, основная тема — рай;
это чувствуется сразу же по тому духу милосердия и
кротости, которым проникнута его проза, сообщающему
ей такую мягкость колорита. Муза Пассаванти — страх,
основная тема — порок и ад, изображаемые не столько
в гротескном плане, как миф, сколько в плане человече-
ском, с целью вызвать угрызения совести, «крик души».
Его диалоги в отличие от беглого, ясного, живописного
стиля повествования грешат длиннотами и монотонно-
стью. По-видимому, запугивая и мучая читателя, он
испытывает наслаждение: он подбирает образы, детали,
краски, словно это орудия пытки, и доводит читателя
до панического страха, до галлюцинаций.
Пассаванти — подлинный художник в этом аскетиче-
ском мире. Он умело строит предложение, речь его
льется бегло, свободно; большое внимание он уделяет
логической связи отдельных частей и переходам, распре-
делению деталей и красок, умеет градуировать; ощуще-
ние мрачной гармонии окрашивает все его произведение.
4. Но вот среди множества авторов историй о святых
появляется святой собственной персоной, — святой, ко-
торый сам берет перо в руки и описывает себя; это
1 Cava lea, Vita di Santa Eugenia, p. 117, nota 2 и Vita di
Maria Maddalena, ed. Puoti, cit., rispettivamente voll. II, pp. 162 и
ел. и voll, I, pp. 121 и ел.
138
Екатерина из Сьены1. Покинув мать и братьев и по-
стригшись в монахини, Екатерина изнуряет свое тело
веригами и постами, живет в состоянии экстаза, в мире
видений. Она пишет, вернее, диктует, проявляя при этом
удивительную ясность духа. Пишет папам и князьям,
королям и королевам, матери и братьям, монахам и мо-
нахиням, говоря с ними с высоты своей святости неиз-
менно ровным тоном мягко выражаемого превосход-
ства. Она высказывает свое непоколебимое суждение
о самых запутанных делах, советуя и чуть ли не при-
казывая следовать той линии поведения, которая, как
ей кажется, соответствует учению Христа. Я сказал
«как- ей кажется», но должен был бы опустить эти три
слова, ибо Екатерина никогда не испытывает сомнений
и колебаний: сложные, заумные учения не представляют
для нее трудности и просты, как то, что она видит и
к чему прикасается. Она обладает способностью зри-
тельно представлять себе любую абстракцию, придавать
ей телесность, осязаемость. Отсюда ее образный язык,
метафорическая манера письма, подчас доводимая до
абсурда и поэтому быстро приедающаяся. Отчасти это —
результат подражания библии, отчасти — дань тогдаш-
ней моде, но, помимо всего прочего, такова форма ее
мышления. Живя только духовной жизнью, Екатерина
воспринимает духовные категории как осязаемую, види-
мую материю и в состоянии узреть не только Христа и
ангелов, но любую идею и мысль. Благодаря долгому
опыту она научилась ориентироваться в этой духовной
сфере как у себя дома, сосредоточила в ней весь свой
мир, всю жизнь души и тела.
Глубокая интуиция в сочетании с обостренностью
чувств и искренней верой помогает ей находить тонкие,
изысканные формы, достойные подлинного художника.
Однако обилие повторений, поучительный тон, беспре-
рывные утомительные советы, проповеди, наставления
придают книге тяжеловесность и однообразие.
Нравственный мир, показанный Екатериной в жи-
тиях, экстазах, видениях святых, преподан в форме
1 Тексты писем Екатерины из Сьены и историко-критический
материал о ней Де Санктис черпал из издания, вышедшего под ре-
дакцией Томмазео (Firenze 1860, 4 voll.), главным образом из боль-
шого вступительного очерка «Lo spirito, il cuore, la parola di Ca-
terina da Siena»,
139
суровой аскетической доктрины. Это кодекс любви хри-
стианского мира. Идеал его— «умереть для себя»1, или,
как выражается Екатерина, умереть для воли, для на-
клонностей, для человеческих чувств, пожертвовать всем,
вплоть до любви к детям, — все помыслы обратить к
богу, все принести ему в жертву. В ее любви к Христу
отчетливо проступают черты чисто женской нежности,—
так Екатерина, сама того не сознавая, дает выход чув-
ству. Все свои письма она заканчивает словами: «По-
грузитесь в Христову кровь, омойтесь ею». Она испыты-
вает горячую жалость к ближнему. «Возлюбите, возлю-
бите друг друга!» — взывает святая и проповедует мир,
согласие, смирение, всепрощение. Но то был глас во-
пиющего в пустыне. Королева Джованна отвечала свя-
той Екатерине как нельзя более почтительно и продол-
жала вести разнузданный образ жизни2. Религиозные
распри приводили к кровавым стычкам на улицах Рима.
Чем выше и чище был идеал святой, тем меньше было
его воздействие на людей.
Жизнь Екатерины можно охарактеризовать двумя
словами: любовь и смерть. Большую известность полу-
чило ее письмо о человеке, которого она утешала перед
его казнью: «Он склонил голову ко мне на грудь, и тогда
я возликовала и услышала запах крови его; с ним сме-
шивался и запах моей крови, которую я желаю пролить
ради нареченного моего Иисуса Христа»3. Упоминание
о крови Христовой приводит ее в состояние экзальтации
и исступленного сладострастия. Одной «слуге господней»
она пишет: «Упивайтесь кровью, насыщайтесь кровью,
покрывайтесь кровью». Излюбленные выражения ' ее:
«исходить кровью», «превращаться в кровь», «черпать из
крови нежность и любовь». Из своей кельи она «делает
небо» и наслаждается здесь «блаженством бессмертных,
1 См. очерк Томмазео, p. LXXXVIII: «Верх совершенствова-
ния — победа над собой. Это качество Екатерина определяет сло-
вами «умереть для своей воли и для своей любви»; последующую
цитату см', там же, p. CXXV.
2 Об отношениях между Екатериной и Джованной Неаполитан-
ской—ibid., pp. XXIII—XXVII.
3 Из письма о смерти Никколо ди Тульдо см.: Tommaseo,
op. cit., pp. CXXX1V—CXXXV. Оттуда же две последующие ци*
таты.
140
ибо бог обволакивает ее великим пламенем любви»1.
При экстазе и видении или экзальтации она падает
обессиленной, ей кажется, что душа расстается с телом
и что тела больше нет. Члены ее тела, говорит Екате-
рина, тают, подобно воску на огне2. В другом месте она
пишет: «Мне чудилось, будто нет меня больше в моем
теле, будто оно не мое, чужое». Это горение души, про-
светление ума и муки любви описаны с простотой и
убедительностью, говорящими о ее искренности. Душа
ее, «любящая, жаждущая любви, задыхающаяся» в том-
лении по кресту, «утопившая свою волю» в любви к
«сладкому любовному Глаголу»3, обитает в теле, но на
самом деле как бы вне его. Поскольку предмет ее люб-
ви— по ту сторону жизни, то она живет, умирая, пребы-
вая всеми своими помыслами в мире потустороннем. Но
такой духовной смерти ей мало: «Я умираю и не могу
умереть»4, — говорит святая. Последние дни ее жизни
прошли в борьбе с искушением, в беседах с Христом.
Жертва неутоленного желания, Екатерина умерла три-
дцати трех лет от роду.
Итак, «комедия души» как религиозная идея теперь
полностью «реализована»: она получила свое литератур-
ное воплощение. Теперь у этой «души» есть имя, она
воплощена в живом человеке — Алексее, Евгении, Ека-
терине. В рассказах Пассаванти дьявол и плоть — об-
разы, полные жизни. А аллегорические добродетели,
одна за другой появляющиеся на сцене, — это деяния,
воля, страсти и мысли святых. Божественная комедия,
преобразование и прославление души, Беатриче, возвра-
щающаяся белым облачком под ангельское песнопение
на небо5, здесь обретают форму экстаза, душевных
1 Т о m m a s e о, op. cit., p. CXXXVIII: «Она, из кельи желав-
шая сделать небо (игра слов: «cella» — келья, «cielo»— небо.—
Прим. перев.), наслаждалась блаженством бессмертных, ибо бог
обволакивал ее великим пламенем любви».
2 Ibid., p. CXL. «Я упала, и показалось мне, что душа рас-
стается с телом»; «что тела больше нет»; «что члены мои тают по-
добно воску на огне». Сл. цитата оттуда же.
3 Ibid., pp. CXXIII («Amore crociato ё il suo, ansietati desiderii»),
CXIX: «II dolce innamorato umile Agnello», «L'amoroso Verbo», «II
dolce amoroso Verbo».
4 Ibid., письмо № 27£ и № 373 (с последних днях жизни).
6 См. «Vita Nuova», XXIII, неоднократно приводившиеся выше
стихи 59—60 из канцоны «Donna pietosa e di novella etate».
141
порывов, бесед с богом, мистического союза с Христом и
после смерти — приобщения к лику святых и созерцания
вечного сияния. Эта идея, возникшая на основе аб-
страктности науки и аллегории, на основе ее отвлеченно-
сти, теперь обрела конкретность, воплотилась в человеке.
Итальянская проза этого времени приобретает кон-
кретность, краски, теплоту чувств, простоту и естествен-
ность— особенно при описании задушевных, простых
чувств — и являет собой превосходный образец типично
христианского стиля, впоследствии столь испорченного.
Для полной безупречности ей не хватает более четкой
логической связи, более строгого отбора деталей и грам-
матически более правильного, менее механического по-
строения фразы. После незначительных поправок многие
отрывки этой прозы могли бы выдержать сравнение с
самыми лучшими произведениями современной лите-
ратуры.
«Подражание Христу» стоит, конечно, намного выше,
ибо оно написано в более просвещенную эпоху1. В нем
чувствуется более зрелая мысль, более строгая логика,
не обремененная тем педантизмом начетчиков, который
проникал даже в стены монастырей. Но по своим орга-
ническим, внутренним качествам, составляющим квинт-
эссенцию жизни, по искренности вдохновения и теплоте
чувств «Подражание Христу» не имеет преимуществ.
А подчас этой прозе, замечательной по своей точности и
правильности, недостает энергии и интуиции святой Ека-
терины.
В этом искусстве преуспевали уже не одиночки, но и
многие менее выдающиеся писатели, интересовавшиеся
проблемами духа. Приведу отрывок из письма одного из
учеников Екатерины, в котором он извещал о ее
смерти2.
1 На «Подражание Христу» («De Imitatione Christi»), обычно
приписываемое Фоме Кемпийскому и впервые изданное в итальян-
ском переводе в 1488 году, ссылается и Томмазео (op. cit.,
p. CLXV): «Хвалят, и с великими на то основаниями, книгу «Под-
ражание Христу». Но у Екатерины встречаются страницы столь же
пламенные и ученые, сколь сердечные, как то и положено, может
быть, женщине».
2 Письмо сироты Ниджи ди Доччо от 22 мая 1380 года. Текст
письма приводится Твммазео (op. cit., pp. CXCIII—CXCIV). Де
Санктис дает его в сокращенном и несколько упрощенном графи-
чески виде.
142
«Полагаю, что тебе уже известно о смерти почтенней-
шей и дражайшей матери нашей, которая отлетела в рай
в воскресенье 29 апреля (1380), хвала спасителю на-
шему, Иисусу Христу, распятому и благословенному.
Чувствую себя осиротевшим, ибо она была моей утеши-
тельницей, и не могу удержаться от слез. Оплакиваю я
не ее, а себя, понесшего столь великую утрату. Большее
горе не могло меня постигнуть, и ты это знаешь. За нее
надобно радоваться. Зато те, кто остался жить в этом
бренном мире, достойны жалости и большого сочув-
ствия. И некому мне излить свою скорбь, кроме как
тебе, коему я обязан всем своим счастьем. Утешением
служит мне лишь то, что образ матери нашей остался
и живет в моем сердце ярче прежнего и теперь я ее
знаю, по-моему, хорошо. И подумать только, что мы, не-
счастные, видя ее так часто, знали ее плохо и были не-
достойны ее присутствия. Дражайший брат мой, прости,
что пишу тебе невпопад, — под гнетом тяжелой утраты
совсем лишился памяти. А посему кончаю».
Того же стиля придерживаются Джованни далле
Челле, Стефано Макони и другие монахи.
Вот какими трогательными, простыми словами опи-
сываются некоторые подробности кончины святой Ека-
терины:
«В воскресенье она потеряла сознание; здоровье ее,
поддерживаемое силой духа и, казалось, от пустяков не
слабевшее, пошатнулось. На следующий день случился
второй обморок, после чего она долго лежала как мерт-
вая, но, придя в себя, встала как ни в чем не бывало.
Приступила к великому посту, исправно выполняя по-
лагающийся и столь тешивший душу ее обряд. Каждое
утро, причастившись, ложилась в кровать без сил. Но
часа через два отправлялась в Сан Пьетро, а ведь до
него не меньше мили, и там молилась до вечера. И так
до. третьего воскресенья великого поста, пока болезнь ее
не одолела. Восемь недель пролежала она, не имея сил
повернуть голову, с невыносимыми болями. Но при
каждом новом приступе поднимала голову и, довольная,
благодарила бога. Было воскресенье, канун Вознесенья.
Она исхудала, превратилась в скелет; нижняя половина
тела была парализована, но лицо сияло. Она была очень
143
слаба, чуть дышала; казалось, это конец. Ее соборо-
вали» 1.
Тот же прекрасный язык мы находим в переводах
классиков и модных в ту пору романов и повестей; в ка-
честве примера можно привести переводы Ливия и Сал-
люстия, «Подвиги Энея», а также «Наставления древ-
них», переведенные Бартоломео да Сан Конкордио с
мастерством, достойным переводчика Саллюстия2. Перед
нами зрелая проза, написанная бойко, горячо, изобрета-
тельно, красочно, на живом разговорном языке, достиг-
шем своего расцвета.
Романы оказывали на народ не меньшее воздействие,
чем духовная литература. В голове читателей царила
путаница: Христова рыцаря они не отличали от рыцаря
Карла Великого и с одинаковой жадностью читали жи-
тие Алексея, приключения Энея и историю любви Лан-
селота и Джениевры. Из рыцарской литературы почерп-
нула многие свои образы даже Екатерина. Она назы-
вает Христа «сладким рыцарем», «рыцарем сладко
вооруженным», а воскресение — «турниром смерти с
жизнью» 3.
Но рыцарская литература не получила развития и не
дала оригинальных произведений. Переводы рыцарских
романов делались несерьезно, бедным, небрежным язы-
ком, с расчетом на то, что занимательность — их глав-
ное достоинство. Сами переводчики считали их только
легким чтением для времяпрепровождения и, не находя
в них ничего общего со своим мироощущением, не вкла-
дывали в свой труд души.
5. Рядом с этим духовным миром, миром духа'и во-
ображения, существовал реальный мир, мир плоти, или,
как тогда говорили, земной жизни; можно было его про-
клясть, но он от этого не переставал существовать. Этот
мир нашел свое отражение в хрониках, которые реги-
1 Письмо Бардуччо Каниджани; приводится Томмазео (op. cit.,
pp. CXCI—CXCIII).
2 В ранних лекциях о языке XIV века читаем: «Таких писате-
лей, как Бартоломео да Сан Конкордио, Компаньи и Пассаванти,
следует ценить за лаконичный и крепкий стиль. Первый оставил
нам «Ammaestramenti degli antichi» и перевод Саллюстия» («Teoria
е stoiia», cit. I, p. 69, а также «Purismo illuminismo storicismo»,
cit., II). По поводу «Fatti di Enea» Гвидо да Пиза см. «La Giovi-
nezza», cap. XVIII.
3 T о m m a s e o, op. cit, pp. XXXVI—XXXVII.
144
стрировали день за днем все, что происходило, — невоз-
мутимо и бесстрастно, как словарь или приходо-расход-
ная книга. Те летописцы, которые попутно ставили
перед собой определенную художественную задачу, дик-
товали свои воспоминания по-латыни и называли их исто-
рией. На латинском же языке сочинялись научные трак-
таты,-труды по проблемам искусства. Религиозная, ду-
ховная и рыцарская литература предназначалась для
народа, и ученые люди ставили ее невысоко. Они с пре-
небрежением относились к вольгаре и полагали, что он
годен лишь, чтобы говорить о любви и на фривольные
темы; о серьезных же материях, по их мнению, должно
было говорить по-латыни.
Среди них выделялся талантом, культурой и пламен-
ной любовью к родине Альбертино Муссато, увенчанный
лаврами поэта в родном городе Падуе. Наследие его ве-
лико, и некоторые его труды еще не изданы. Он написал
в четырнадцати книгах историю «De gestis Henrici VII
Caesaris» и в двенадцати книгах «De gestis italicorum
post mortem Henrici VII» \ причем некоторые из книг
написаны гекзаметром. Муссато сочинял эпистолы, эк-
логи, элегии, написал две трагедии: «Achilleis» и «Eceri-
nis». В этой последней трагедии выведен тиран Эцце-
лино, своей жестокостью снискавший себе славу сына
сатаны, и показана победа городских коммун, объеди-
нившихся в борьбе против него. В трагедии мало действия:
здесь, как в мистериях, преобладает напряженно-нерв-
ное повествование, в патетических же местах выступает
хор, им высказываются все моральные суждения. Траге-
дия написана угловатой, сухой латынью, в ней явствен-
но ощущается средневековье с его дикими проявле-
ниями ненависти и мести, необузданными страстями,
1 Кроче в своих примечаниях к книге де Санктиса говорит: «De
gestis Henrici» или «Historia Augusta» Муссато состоит из шестна-
дцати, а не из четырнадцати книг; «De gestis Italicorum» же—из
пятнадцати, а не из двенадцати. Трагедией «Ecerinis» уже много
занимались Эмилиани-Джудичи («Storia della lett. it.», cit.,I, pp. 360
и ел.) и Сеттембрини («Lezioni di lett. italiana», I, 1865, pp. 220
и ел.). Что касается второй трагедии, по традиции приписываемой
Альбертино Муссато, то Да Скио давно опубликовал ее с указанием
имени подлинного автора — гуманиста из Виченцы Антонио Лоски
(1368—1441): Achilles, Prototragedia Antonii de Luschis, Padova 1843.
Вслед за трагедией он опубликовал монографию «Sulla vita e sugli
scritti di Antonio Loschi», Padova 1858t
Ю Де Санктид
145
отсутствием склонности к размышлению и с эпическими
масштабами во всем, включая и драматургию.
Эццелино очерчен недостаточно выпукло, чтобы стать
подлинно трагическим персонажем: он, подобно Фари-
нате, выведен в эпическом одеянье. Он — сын сатаны,
знает это и гордится этим и действует, как гений зла,
вполне сознательно, что придает его образу величие. Об-
ращаясь к сатане, он говорит:
Рука, не дрогнув, совершит злодейство.
О Дьявол, испытай такого сына!1 *
Он как бы высечен из монолита: анализ характера
отсутствует, а без этого анализа нет драмы. В основе
пьесы — скорее моральная, нежели политическая проб-
лема, хотя описываются события сугубо политические:
борьба свободных коммун с феодальными тиранами. Ра-
зумеется, в Муссато говорит гвельф и падуанец, он вдох-'
новлен и взволнован, и все же коллизия, лежащая в
основе трагедии, носит только моральный характер.
Эццелино наказан не потому, что он враг свободы, а
потому, что «кто поднимет меч, от меча и погибнет» («qui
gladio ferit, gladio perit»). Вот как заключает эту мысль
хор:
...ждет каждого награда,
Назначенная за его деянья 2.
Так аскетическое представление об аде получает
«земное» преломление. Но это первое изображение зем-
ной жизни в литературе носит расплывчатый морально-
этический характер; интересы и цели земного существо-
вания, земные страсти и политические идеи не получили
пока отражения, а ведь только на их основе и могла
возникнуть драма. Не хватало ощущения реальности,
чтобы драма стала возможна, не сложилось еще созна-
ние коллектива, партии, общества; был лишь индиви-
дуум и едва наметившаяся тенденция к анализу его
внутреннего мира, индивидуум, изображаемый либо доб-
рым, либо злым и получающий по заслугам, — то есть
1 «Ecerinis», I д., vv. 111 — 112 (у М и г a t о г i, Rerum italicarum
scriptores, Milano 1727, vol. X, p. 790).
* Латинские стихи и цитаты даются в переводе И. Н. Голени^
щева-Кутузова.
2 «Ecerinis». V д., хор в финале, vv. 5—6 (ibid., p. 800}\
146
первая простейшая форма изображения реальной жиз-
ни. Ужасы и гротеск при изображении адских мук пере-
кликаются с бесчеловечной жестокостью Эццелино и с
постигшей его страшной карой.
Хотя в этой моральной концепции жизнь еще не
отражается полностью во всех ее аспектах, однако кон-
цепция эта уже не сводится к поговорке, нравоучению, к
«fabula docet» («басня нас учит»), то есть к поучению
в прозе и стихах, как это было в предыдущем столетии;
она — сама жизнь в действии, учитывает особенности че-
ловеческой личности, жизнь духовную и практическую,
в образе ли угольщика, описанного Пассаванти \ или в
Эццелино, в трагедии Муссато.
Муссато оказывались необычайные почести: его ста-
вили наравне с классиками, которые в то время были
еще мало известны.
В Венеции были свои латинисты-историки — Андреа
Дандоло и Мартин Сануто2. Особенно много хроник на
латинском языке было написано в северной. Италии.
Вольгаре не получил там большого распространения.
Теологию, философию, юриспруденцию, медицину препо-
давали и изучали по-латыни. На латыни писали свои
произведения Марсилий Падуанский, Чино да Пистойя,
Бартоло и Бальдо 3.
1 «Specchio di vera penitenza», Distinzione terza, cap. II. О зна-
менитом примере угольщика из Ниверс см. также очерк G. Prati,
«Satana e le Grazie», опубликованный в «Cimento» за апрель 1855,
а также в «Saggi critici» (см. «La crisi del gusto romantico», cit.):
«Изумительная легенда Пассаванти об угольщике написана с такой
фантазией и силой стиля, которые напоминают «Божественную ко-
медию».
2 Так, в рукописи и в изд. Морано, как, впрочем, и у Канту
(«Storia», cit., p. 189), следует читать: «Марин Санудо» — речь идет
о Санудо старшем или Торселло (1270—1343), авторе «Opus Теггае
Sanctae», черпающем примеры из истории Венецианской республики.
Одновременно с ним упоминается его современник Андреа Дандоло
(1310—1354), друг Петрарки, с которым он переписывался, написав-
ший по-латыни историю Венеции.
3 Бартоло да Сассоферрато (1314—1357), автор «Комментариев»
к «Corpus iuris», трактатов «De Tyrannia», «De regimine civitatis»
и др. Бальдо дельи Убальди (1319 или 1327—1400), ученик Бартоло
и автор знаменитых «Consilia». Имеются в виду и другие труды по
праву, принадлежащие перу Марсилия Падуанского (годы жизни
1275 или 1280—1343), автора «Defensor pads» (1324), и Чино, ав-
тора «Consilia», «Lectura in codicem», cit., и «Lectura in Digestum
vetus».
10*
147
6. Первым написал хронику на вольгаре Малеспини
в Тоскане. Его примеру последовал Дино Компаньи, опи-
савший на вольгаре события из жизни Флоренции в пе-
риод 1270—1312 годов. Компаньи, бывшего свидетелем
и участником этих событий, глубоко волнует то, что он
описывает; умелой рукой он рисует целую серию неза-
бываемых портретов. Его труд не просто хроника, вос-
поминание о минувшем: все дано в движении, в дей-
ствии; выпукло обрисованы нравы, страсти, место дей-
ствия, характеры, замыслы людей. Писатель вездесущ,
он во все вмешивается, во весь голос говорит о своих
впечатлениях, высказывает свои суждения. Так из-
под его пера вышел незабываемый исторический
труд.
Это история страшной катастрофы, которую Ком-
паньи предвидел, но не смог предотвратить. Он не по-
нимал, что причиной ее в немалой степени был он сам.
Вернее, кое о чем он смутно догадывался; будучи, как
говорится, «задним умом крепок», он то и дело повто-
ряет: «Ах, если бы я знал! Но кто мог предположить?..»
Дино Компаньи грешил по доброте душевной, дру-
гие же—по злому умыслу, за что Дино их беспощадно
бичует. Он принадлежал к партии Белых, но выше своей
принадлежности к партии ставил честность и любовь к
родине. Ему казалось, что причиной вражды Черных и
Белых, Донати и Черки была лишь погоня за должно-
стями и, стоило разделить их поровну между враждую-
щими сторонами, всем разногласиям пришел бы конец.
Ему казалось, что все любят родной город так же, как
он что ради его свободы и чести все способны посту-
питься своими интересами и забыть о ненависти и вра-
жде. Компаньи полагал, что отпрыск королевского рода
не способен солгать или нарушить клятву и что невоз-
можно не сдержать слова, скрепленного печатью. Ему
казалось также, что его окружают друзья и что по пер-
вому его знаку они выполнят его волю. Каких только
иллюзий не строил себе добряк Дино! С таким умона-
строением и приступил он к управлению республикой.
Так впервые столкнулись принципы, изложенные судьей
Альбертано и позднее Екатериной, то есть мораль книж-
ная и мораль житейская. Противоречие это было тем бо-
лее вопиющим, что Компаньи столкнулся с ним впервые.
Соприкосновение с внешним миром кончилось для Дино
148
горьким разочарованием; в его наивных признаниях вся-
кий раз звучит удивление и возмущение. А сталкиваться
ему довелось с Бонифацием VIII, Карлом Валуа и
Корсо Донати, то есть с самыми коварными и же-
стокими людьми того времени. Компаньи был оскорблен
в своих лучших чувствах, и в этом секрет его красно-
речия.
В его книге не ощущается литературного замысла.
Повествование развивается энергично, естественно, по-
рой даже грубовато. Книга изобилует серьезными недо-
статками: в ней немало необработанного, сырого мате-
риала, собранного и перемешанного в беспорядке, без
отбора и распределения. Автору неведомо искусство под-
чинять и градуировать материал; нет переходов, связую-
щих звеньев, изложение событий нередко обрывается на
полуслове. Зачастую в тоне повествования слишком явно
сказывается раздражение, нервозность автора.
Вместе с тем книге присущи черты, сделавшие ее бес-
смертной: искренность, вдохновенье, сила и чистота чув-
ства автора, цельность его характера и полнота картины
того времени, удивление, негодование, скорбь и страст-
ность историка, сумевшего придать рассказу динамич-
ность и жизнь.
Джованни Виллани писал свою «Историю Флорен-
ции», доведя повествование до 1348 года, в менее смут-
ное время; его брат Маттео и племянник Филиппо ее
продолжили. Виллани стремится запечатлеть события,
о которых ему так или иначе удалось узнать, он перепи-
сывает, компилирует труды своих предшественников. Он
перечисляет факты, скрупулезно описывает все мелочи
жизни и быта Флоренции — продукты питания, одежды,
монеты, порядок получения ссуды; все это очень ценно
для истории. Но факты описываются бесцветно и без-
лично, без связи с внутренней жизнью, их порождав-
шей, и поэтому изложение однообразно и быстро на-
доедает.
Хроника Дино Компаньи и три хроники Виллани ох-
ватывают целый век. В первой рассказывается о паде-
нии Белых, в остальных — о правлении Черных. Среди
побежденных был и сам Дино Компаньи и Данте. Вил-
лани принадлежали к победителям. Вот почему они по-
вествуют со спокойным безразличием, как будто состав-
ляют инвентарный список, тогда как Дино и Данте
149
«пишут острием кинжала»1. Кто довольствуется поверх-
ностным изложением событий — может удовлетвориться
хрониками Виллани. Но кому хочется понять страсти,
нравы, характеры, внутреннюю жизнь, подоплеку фак-
тов, тот пусть читает Дино.
До сих пор нам не представлялось необходимым об-
ращаться к истории, так как писатели, в каком бы жан-
ре они ни писали — аскетическом, рыцарском или нраво-
учительном, — творили вдали от мира. Но Дино Ком-
паньи живет среди людей, то, о чем он рассказывает,
близко касается его самого, составляет часть его суще-
ства, поэтому его «Хроника» — это зеркало эпохи, в ко-
тором отражается не отвлеченная область науки, не
вымышленный мир рыцарства и аскетизма, а реальная
общественная жизнь.
В междоусобице, раздиравшей тогдашнюю Флорен-
цию, были повинны две партии. Их по установившейся
еще в Пистойе традиции называли Черными и Белыми.
Черными руководили Донати, Белыми — Черки, два бо-
гатых и могущественных семейства. Данте, надеясь, что
он сможет положить конец вражде в городе, отправил
в изгнание двух самых влиятельных и беспокойных гла-
варей обеих партий — Корсо Донати и Гвидо Каваль-
канти. Вскоре Кавальканти заболел, и ему было разре-
шено вернуться на родину, а Корсо Донати остался в
изгнании, что вызвало много пересудов, поскольку Дан-
те принадлежал к Белым и был другом Кавальканти.
Черные были чистыми гвельфами, опирались на по-
поланов и на папу, благо до него было недалеко и он
пользовался большим влиянием, являясь центром всех
1 См. Q u i n e t, Revolutions cit., по поводу стиля Макиавелли:
«Эти страницы написаны острием кинжала» (II, р. 128). О Виллани
см., кроме «La Giovinezza», cap. VIII, упоминание в ранних лекциях
(«Teoria e storia», cit., I, p. 69 и «Purismo illuminismo storicismo»,
cit., II): «По языку Виллани превосходит всех, хотя синтаксис —
его слабое место». О Дино Компаньи см. «La Giovinezza», cap. XXII,
страницы об одной ранней лекции посвящены автору «Хроники»,
от которой не осталось и следа: «Я сделал обзор всей «Хроники»,
останавливаясь на отдельных отрывках... Не могу сказать, что эти
мысли появились у меня внезапно, они давно приходили мне в го-
лову, но в тот вечер я их выразил сжато, красочно, гладко. Эта
лекция мне настолько понравилась, что я вопреки своему обыкнове-
нию на следующий год повторил ее еще раз. Она осталась у меня
в памяти, и добрую половину ее я включил в свою историю лите-
ратуры».
150
интриг и заговоров гвельфов. Бонифаций VIII, после
юбилея еще более возгордившийся, призвал к себе Кар-
ла Валуа, «Безземельного», и, задобрив множеством обе-
щаний, послал его во Флоренцию — якобы для замирения
города, в действительности же с целью восстановления
партии Черных. Тут и разыгралась трагедия, столь кра-
сочно описанная нашим Дино во второй книге хроники.
Данте согласился ехать легатом в Рим. По расска-
зам, его одолевали сомнения: «Если я уеду, то кто же
останется?» ! — говорил он. Остался бедняга Дино. Ко-
нечно, Данте принес бы больше пользы во Флоренции,
где после его отъезда в Рим противник получил полную
свободу действий. К тому же в Риме он ничего не до-
бился: его ждали там лишь льстивые речи папы Бони-
фация.
Свой рассказ Дино начинает взволнованно, тоном
пророка, или проповедника, который обрушивается на
Гоморру или Иерусалим.
«Восстаньте же, о недостойные граждане, вечно вра-
ждующие между собой, вооружитесь огнем и мечом и
обнаружьте ваши злодеяния. Не терзайтесь, идите и
рушьте красоты своего города. Пролейте кровь братьев.
Забудьте о вере и о любви, отказывайте ближнему в под-
держке и помощи. Или вы думаете, что нет больше
божьей справедливости? Зато людское возмездие на-
стигнет вас всех до одного. Не мешкайте, несчастные:
ведь за один день войны можно совершить столько,
сколько не совершить за долгие годы мирной жизни, и
достаточно малой искры, чтобы разрушить великое ко-
ролевство» 2.
Это говорит не политический деятель, а человек,
рассматривающий жизнь в чисто моральном, религиоз-
ном плане, как это делали аскеты. Идея — та же, из-
менилась лишь тема. Жизнь при подходе к ней под
1 См. Boccaccio, Trattatello in laude di Dante, XII. «В ответ
на это Данте, весьма взволнованный, сказал: «Если я уеду, кто же
останется? Если я останусь, кто поедет?»
2 Compagni, «Cronica», libro II, cap. I. Кое-что пропущено и
упрощена орфография. По-видимому, Де Санктис пользовался не
столько изданием R. Карбоне (Firenze 1867), по которому сверяли
цитаты Кроче и Кортезе, сколько изданием более ранним, — воз-
можно, вышедшим под редакцией Гуасти (Prato 1846) и посвящен*
ным маркизу Пуоти. Для удобства читателя главы указываются,
согласно изданию Исидоро Дель Лунго (Firenze 1889 и ел.).
151
таким углом зрения оказывается не такой, какой Дино ее
себе представлял; вместо признания своей ошибки он
ополчается против жизни и проклинает ее. Его заблу-
ждения происходят от неправильного понимания людей
и событий. В результате он стал игрушкой тех и других,
потерял власть над городом и, как это всегда случается
с побежденными, стал жертвой клеветы. Тогда он взялся
за перо и проклял всех, Черных и Белых, излагая факты
с такой безмерной наивностью, что становятся очевид-
ными не только пороки и злодеяния его врагов, но и его
собственное чрезмерное благодушие.
Пока послы торговались с Бонифацием, не скупив-
шимся на посулы, «лишь бы была выполнена его воля» \
во Флоренции были избраны новые хозяева города, среди
них оказался и Дино. Выбор пришелся Дино по душе, ибо
пал *на «людей вне подозрения, хороших и мужественных,
выразивших желание действовать сообща, ибо, по их мне-
нию, «то было единственным выходом». Так думал Дино
о себе и своих коллегах. Но их противники не теряли
надежды взять верх2, ибо знали, что вновь избранные
«были людьми слабыми и миролюбивыми, и, прикры-
ваясь мирными намерениями, легче было их обмануть».
Что за умница этот Дино! Он сам себя достойно оценил.
Черные, «сговорившись меж собой, по четыре и по
шесть человек» приходили и говорили: «Вы — честные
люди, такие нашему городу и нужны. Вы видите, как
враждуют между собой граждане; вы должны их поми-
рить, иначе город погибнет. В ваших руках бразды пра-
вления, а посему мы вручаем вам с открытой душой тре-
буемые средства и людей».
«В тех фальшивых словах усомнившись и полагая,
что в льстивых речах таился дурной умысел», Дино все-
таки «по наущению своих товарищей» отвечал: «Доро-
гие и верные граждане, ваши предложения мы прини-
маем охотно и немедля даем им ход: дайте же нам
1 «Cronica», cap. IV. В тексте постоянно встречаются куски из
«Хроники», излагаемые Де Санктисом в сокращенном виде. Де
Санктис имел обыкновение, говоря о своих любимых произведениях, ,
для пущей убедительности и живости рассказа свободно (без кавы-
чек) использовать наиболее примечательные высказывания писателя.
В отличие от изданий Кроче и Кортезе здесь заключены в кавычки
лишь цитаты, выделенные в рукописи или в печатном издании,
,то есть те, которым автор придавал особое значение.
2 «Cronica», cap. V; отсюда же и дальнейшие цитаты.
152
совет, поразмыслите, как наш город привести в мирное
состояние». Действительно, каковы злодеи и каковы до-
бряки! Можно ли было лучше передать коварство одних
и невинность других!
Впоследствии, излагая события этих дней, Дино бьет
себя в грудь и говорит: «mea culpa» («моя вина»).
«Так мы упустили первый момент, не решившись ни
закрыть двери, ни прекратить беседы с этими гражда-
нами. Мы обещали им мир, в то время как надо было
точить оружие».
Поскольку зашла речь о мире, Белые притихли, зато
осмелели Черные. Дино сам отмечает этот первый пе-
чальный результат своей чрезмерной доброты: «Те, что
стояли за Черки, малодушничали, говоря: «Стоит ли
стараться, раз будет мир». Тем временем противная сто-
рона продолжала вершить свое черное дело».
Когда разнесся слух, что Бонифаций VIII настроен
против Черки и что Карл Валуа едет во Флоренцию,
Черные осмелели настолько, что расценили действия
Дино, продиктованные искренним миролюбием, как при-
знак слабости и страха. Они изображали дело таким
образом, будто за миролюбивыми делами новых властей
города таилось предательство.
Сила и власть находились еще в руках у Дино, но.
моральный перевес был на стороне его более решитель-
ных противников, уверовавших в близость победы. Об-
становка в городе изменилась. Заговорили другим язы-
ком не только рядовые граждане, но и видные сторон-
ники партии Черки. Посланец Карла Валуа, выступив-
ший перед флорентийцами с речью, доложил своему гос-
подину, что многие, выслушав его, «поднялись и в горя-
чих выражениях ^прославляли мессера Карла» из чего
следовало, что «партия Донати весьма воспрянула, а
Черки — унижены» К
Дино, желая воспрепятствовать вступлению Карла
Валуа в город и не решаясь взять на себя ответствен-
ность за такое решение, поскольку «очень уж важна была
сия новость», предоставил решать вопрос своим сограж-
данам. Плебисцит, задуманный слабым, пошел на пользу
сильному: так бывает всегда, но добрый Дино того не
знал. Лишь флорентийские пекари показали себя достой-
1 «Cronica», cap. VI; отсюда же и следующие цитаты.
153
ными людьми, заявив: «Ни встречи ему, ни почестей от нас
не будет, ибо он прибывает на погибель нашему городу» {.
Тогда Дино, как ему казалось, нашел выход, потре-
бовав у Карла «письмо за всеми печатями с обязатель-
ством не присваивать себе никаких прав над городом, ни
своей властью, ни императорским именем, ни другим
каким способом и не менять флорентийских законов и
обычаев». Дино полагал, что Карл ни за что не даст та-
кого обязательства, и распорядился, чтобы его не про-
пускали в город и «запретили бы в нем проживание».
Однако письмо было прислано. Дино рассказывает: «Я
его просмотрел и велел переписать2, когда же Карл
прибыл, я его спросил, по своей ли воле он писал. Тот
ответил; «Да, разумеется».
С письмом Карла Валуа в кармане Дино чувство-
вал себя в безопасности.
Дино пришла в голову «святая и честная мысль».
Он пишет: «Представил я себе: приедет этот синьор и
увидит, что граждане враждуют меж собой. Не годится
так!» 3 Собрал Дино флорентийцев в церкви Сан Джо-
ванни и обратился к ним с речью, в которой призвал их
поклясться «над святой купелью, в коей их крестили»,
жить в мире и согласии. Сердце подсказало Дино эти
простые, трогательные слова.
В эту эпоху жесточайших междоусобиц в душе мно-
гих хороших и честных людей — от Альбертано до Ека-
терины— жило стремление ко всеобщему согласию. Но,
пожалуй, даже у Екатерины не найти таких теплых, про-
стых слов, какие произнес Дино. Он сказал: «Синьоры,
почему вы стремитесь погубить^ такой прекрасный го-
род? С кем вы хотите драться? Со своими братьями?
Что сулит вам победа? Только слезы» 4,
И флорентийцы поклялись. Дино с горечью добав-
ляет: «Те самые граждане, которые проливали слезы
умиления и целовали священную книгу, больше всех от-
личились при разрушении города» 5.
1 «Cronica», cap. VII.
2 Ibid., cap. VII, cit. В тексте: «и я попросил снять с письма
копию и сохранил его до приезда синьора»
3 Ibid., cap. VIII; из этого отрывка взята и вольно пересказан-
ная речь Дино.
* Ibid., cap. XXIV.
5 Ibid., libro II, cap. VIII.
154
Бедный Дино: он сокрушается, раскаивается: «Я про-
лил немало слез, — пишет он, — по поводу этой клят-
вы, размышляя над тем, сколько душ будет осуждено за
свое коварство».
Карл Валуа прибыл во Флоренцию, а вслед за ним
якобы для того, чтобы воздать почести высокому гостю,
потянулись синьоры из Лукки и Перуджи. Приехали
Канте д'Агоббио и многие другие, группами по шесть,
по десять человек, все — враги Черки, но «каждый ста-
рался выдать себя за друга». Дино, вопреки пословице,
предоставил вступающему в город врагу мост из золота.
И Карл Валуа сосредоточил во Флоренции тысячу две-
сти всадников 1.
Что же предпринял Дино? Назначил сорок граждан
из обеих партий для охраны и спасения города. О на-
строениях, царивших тогда во Флоренции, ярко свиде-
тельствует следующий отрывок: «Кто задумал недоброе,
молчал. Остальные же растерялись... Бальдино Фаль-
коньери, подлый человек, говорил: «Синьоры, мне хо-
рошо, ибо раньше я не спал спокойно»2. Лапо Сальта-
релли, чтобы польстить папе, оскорблял Синьорию и
прятал дома политического ссыльного. Альберто дель
Джудиче публично поносил членов Синьории; но то не
было гражданской доблестью, а трусостью и изменой.
Враги молчат. Друзья ругают Синьорию, дабы задоб-
рить будущих хозяев. Началось и прямое предательство.
«Приоры тайно написали папе. Но Черные обо всем
узнали, ибо те, кто поклялся хранить тайну, слова сво-
его не сдержали».
Наконец Дино решился поделить должности между
представителями враждующих сторон. Прочувствованно
и трогательно говорил он о спасении города. Но было
слишком поздно. Черные не хотели делить власть, они
требовали ее всю.
«Тогда выступил Ноффо Гвиди. Он заявил: «Я скажу
такое, за что ты меня сочтешь жестоким гражданином».
Я велел ему замолчать, но он все же продолжал гово-
рить и дошел до такой наглости, что предложил мне
представлять в Синьории интересы его партии, что было
1 «Cronica», cap. IX.
2 Ibid., cap. X. Последующие отрывки взяты из глав XI и XII.
155
равносильно просьбе распустить мою партию и уподо-
биться Иуде.
И я ответил, что скорее отдам своих детей на
растерзание псам, нежели совершу такое предатель-
ство».
Карл хотел прибрать к рукам членов Синьории и
часто приглашал их разделить с ним трапезу. Те отка-
зывались на том основании, что это якобы запрещалось
законом, но на самом деле «боясь, что Карл их задер-
жит против их воли» К
Как-то раз он объявил, что хочет произнести речь
за городом, в Санта Мария Новелла, и просит Синьорию
присутствовать. Дино послал лишь троих своих коллег,
«коим не сказал ни слова, зная, что посылает их на
верную смерть».
«Многие граждане горевали вместе с нами, ибо всем
думалось, что идут те на муки. А когда они вернулись,
то люди воздали хвалу богу, избавившему посланных
от неминуемой гиОели».
Если бы Синьория явилась туда в полном составе,
Карл Валуа «приказал бы их убить, дабы управлять го-
родом вместо них».
Что же делал тем временем Дино?
Далее следует замечательный отрывок, впечатляю-
щий, как картина. Рассказывается, как Дино проводил
дни, мучаясь от сознания своего бессилия:
«На синьоров наступали со всех сторон. Добрые
граждане просили охранять их самих и их город. Сквер-
ные же осаждали их вопросами. Так в вопросах и ответах
и проходил день. Бароны мессера Карла вели с ним не-
скончаемые беседы. Так и жили, не зная покоя».
Выход из положения подсказал монах Бенедетто:
«Устройте процессию, — посоветовал он, — и главная
опасность будет предотвращена». Дино устроил процес-
сию, и многие его высмеяли, говоря, что «лучше точить
оружие». В заключение Дино так говорит о себе и о
своих помощниках: «Все наши усилия были напрасны,
ибо мы действовали мирным путем, а хотели быть гото-
выми к бою и сильными. Разве можно смирением оси-
лить большое коварство!»
1 «Cronica», cap. XIII, откуда взяты также последующие ци-
таты.
156
Факты поданы выпукло, как в драматическом пред-
ставлении. Перед нами как живые — Черные, которые
собирают на улицах народ, склоняют его на свою сто-
рону, похваляются свой силой. Они говорят:
«У нас есть хозяин в доме. Папа — наш покровитель.
Противники же наши не готовы ни к войне, ни к миру.
Денег у них нет, жалованье солдатам не выплачи-
вается» К
Черные готовились к наступлению, призвали окрест-
ных жителей, вернули в город всех политических ссыль-
ных. Черные вооружались, а Белые — нет, ибо то про-
тиворечило закону и Дино грозил строгим наказанием.
Впоследствии, пытаясь оправдаться, он объяснил, что
виной была жадность: оказывается, он говорил сторон-
никам Черки: «Запасайтесь оружием за свой счет и пе-
редайте это всем своим друзьям».
Черные, «зная трусость и слабость своих врагов»2,
взялись за оружие. Медичи убили смелого пополана Ор-
ланди. Люди кричали приорам: «Вас предали, воору-
жайтесь!»
Наконец над окнами взвилось знамя справедливости.
Многие тайком перекинулись на сторону Черных. Но
в Синьорию спешили солдаты, которые не были подкуп-
лены, и другие люди, кто пешком, а кто верхом. Насту-
пил момент, когда надо было действовать решительно.
Однако «синьоры, неопытные в военном деле, были за-
няты тем, что выслушивали бесконечных челобитчиков.
А там и стемнело». Подеста не показывался. Капитан,
будучи «человеком, более склонным к покою и миру, чем
к войне», не трогался с места, а «собравшиеся так ни-
чего и не посоветовали». День прошел в бездействии;
люди, устав, разошлись по домам, и каждый стал ду-
мать о себе. Чем занимался Дино в это время? Аудиен-
циями.
Черные длинными речами старались сбить Белых с
толку. Так, члены семейства Спини обращались к Скала
со следующими словами: «Ну зачем мы так делаем?
Ведь мы с вами друзья и родственники, и все мы гвель-
фы. Наше единственное стремление — избавиться от це-
пей, коими народ опутал и вас и нас. И тогда сила наша
1 «Cronica», cap. XIV, откуда взяты также последующие цитаты.
* Ibid., cap. XV, откуда и последующие цитаты.
157
удвоится. Боже правый, так давайте же действовать за-
одно, как тому положено быть» 1.
Слыша такие слова, Белые готовы были расчувство-
ваться, а сторонники их вели себя все подлее.
Тем временем гибеллины, решив, что о них забыли,
разбежались кто куда, а те, что были в изгнании, напра-
вились во Флоренцию. Карл настаивал, чтобы Синьория
поручила ему охрану города и городских ворот, и заве-
рял, что строго и справедливо накажет преступников.
Но, отмечает Дино, в этих словах таился коварный за-
мысел. Как- бы там ни было, при всей своей проница-
тельности Дино поручил Карлу охрану городских ворот
по ту сторону Арно.
Послушаем, что он сам говорит по этому поводу:
«Ключей от ворот ему не дали; но назначили охра-
нять ворота за Арно: сняли с поста флорентийцев и по-
ставили французов. Приближенные Карла поклялись
мне, Дино, что будут печься только об общественном
благе. Разве мог я подумать, что столь важный синьор,
отпрыск королевского дома Франции, не сдержит слова!
Не прошло и нескольких часов, как через ворота, кото-
рые мы поручили ему охранять, он впустил многих само-
вольно возвратившихся из изгнания».
В одном месте проломали стену, и в город проникли
и другие изменники. А синьоры, потеряв надежду на
мирный исход дела, постановили: если окрестное насе-
ление поддержит Карла, занять оборону. Но пока суд
да дело — время шло: слабохарактерные люди, как и
следовало предполагать, поплатились за свою нереши-
тельность и потерпели поражение, не успев даже взять
в руки оружия. Все перекинулись на сторону сильных:
«Коварные вилланы их покинули, слуги предали.
Многие солдаты перешли на службу к врагу. А подеста
всячески старался услужить Карлу».
Карл слал своих людей к приорам, чтобы «отвлекать
их долгими разговорами»2 для выигрыша времени, они
клялись, что их господина обманули и что он жестоко
расправится с изменниками: «Если наш господин не ото-
мстит за сие злодеяние, прикажите отрубить нам голо-
1 «Cronica», cap. XVII, откуда взяты также другие куски —
в виде вольного пересказа или цитат
2 Ibid., cap. XVIII, откуда взяш и все цитаты, приводимые
дальше.
158
вы». И тут Дино отмечает: «Однако же мессер Карл
лгал: Корсо Донати вернулся с его ведома».
Карл выразил готовность вооружить своих всадников
и постоять за город, но при условии, что ему будут вы-
даны самые влиятельные люди из обеих партий. Дино
согласился.
«Черные пошли с доверием, Белые же — с опаской.
Карл приказал взять всех под стражу, но затем Чер-
ных отпустил, а Белых продержал всю ночь даже без
соломы, на голой земле, как преступников».
Тут Дино, более не в силах сдерживаться, разра-
жается такой тирадой:
«О король Людовик, ты, столь добрый и богобояз-
ненный, скажи, где же честь королевской династии
Франции? В грязь ее втоптали без стыда и без совести.
О коварные советчики! Из отпрыска столь благородного
королевского рода не солдата вы сделали, а убийцу;
заключить в тюрьму ни в чем не повинных граждан,
изменить своему слову, опозорить королевскую династию
Франции!»
Возмущение Дино равно его удивлению: он никак не
мог примириться с тем, что потомок Людовика Святого,
отпрыск французского королевского рода, оказался
клятвопреступником и убийцей.
Выход стали искать тогда, когда положение уже бы-
ло безвыходным. Дино приказал бить в большой коло-
кол, что было равносильно призыву к оружию. Но ни- -
кто не откликнулся: «Им, растерявшимся, не удалось
добиться того, чтобы сторонники Черки вышли из домов.
Не появилось ни одного вооруженного человека, ни кон-
ного, ни пешего» 1.
Даже небо не осталось безучастным; над дворцом
приоров появился алый крест. «А посему люди, его
узревшие, и я сам, ясно его видевший, все поняли, что
господь на наш город гневается».
За шесть дней город был разграблен. Вот какую кар-
тину рисует нам Дино несколькими меткими штрихами:
«Многие, боясь преследований, прятались в доме дру-
зей. Враги осыпали друг друга оскорблениями. Начались
1 «Cronica», cap. XIX. Так дано в цитируемом авторо-м изд.
Гуасти. В изд. Дель Лунго и в позднейших изданиях сказано:
«Люди, растерявшись, бездействовали. Из дома Черки не вышел ни
один человек» и т. д. Последующие цитаты взяты из той же главы.
159
пожары. Не прекращались грабежи: разворовывали иму-
щество у беззащитных людей. Почувствовав свою силу,
Черные требовали от Белых денег, принуждали девушек
к замужеству, мужчин убивали. Когда горел чей-нибудь
дом, мессер Карл спрашивал: «Что сие значит?»
На это следовал ответ, что горит лачуга, тогда как
в действительности горел богатый дворец.
Приоры еще ухудшали и без того отчаянное положе-
ние; наконец, не видя выхода, они покинули приорат.
К власти пришли Черные.
Дино уподобился Пьеру Содерини, он стал своим соб-
ственным Макиавелли *, никто не смог бы изобразить
его с большей достоверностью, чем это сделал он сам.
В этой удивительной хронике нет ни одного лишнего
слова. Все в действии, которое развертывается стреми-
тельно, без задержки, вплоть до развязки. При этом по-
казаны характеры, глубокие страсти. Одна фраза, один
штрих — и перед нами живой человек. Карл, вытянув у
флорентийцев много денег, отправился в Рим, чтобы вы-
просить денег у Бонифация. «Но я же предоставил в твое
распоряжение золотую жилу!» — возразил папа2. В этом
эпизоде портретно отражен характер того и другого.
Запоминаются и высказывания других персонажей:
перед нами живые люди, с их характерами и представ-
лениями. Их слова производят гораздо большее впечат-
ление, нежели выдержанные в классическом духе наду-
манные речи-проповеди более поздних хроник.
Дино — не столько мыслитель, сколько мастер пере-
дачи впечатлений; он с первого взгляда угадывает сущ-
ность людей и явлений и обладает даром портретиста,
создающего незабываемые образы.
Так, о Бонифации VIII он говорит: «Это был реши-
тельный человек, обладавший недюжинным талантом;
церковью он руководил по-своему и унижал тех, кто с
ним не соглашался»3.
Замечательно описан Корсо Донати.
«Сей муж походил на Катилину, но еще превосходил
того жестокостью. Принадлежал он к знатному роду,
1 См. в т. II, глава XV.
2 «Cronica», libro II, cap. XXV: «И когда он стал просить у па-
пы денег, тот ответил, что и без того подпустил его к золотой
жиле»,
3 Ibid., libro I, cap. XXI.
160
был хорош собой, обладал даром слова, тонким умом и
воспитанием. Мысли его всегда были направлены на
злодейство, благодаря чему к нему льнули отъявленные
разбойники: сторонников у него было великое множе-
ство. Много пожаров и грабежей учинил он, много добра
нажил и высоко вознесся. Вот каков был мессер Корсо
Донати, прозванный за свое высокомерие Бароном. За-
видев его, люди кричали: «Да здравствует Барон!» —
как будто ступал он всюду по собственной земле. Руко-
водило им тщеславие, и много им было содеяно»1.
Та же уверенная рука чувствуется и в описании об-
становки и событий. Автор динамичен, краток, конкре-
тен: его интересуют только факты, и он окрашивает их
всей гаммой своих ярких переживаний, неподдельным
удивлением и искренним возмущением. Особенно пора-
зило его то, что «за каких-нибудь несколько дней многие
начали говорить совсем иным языком» 2. Дино не хочет
примириться, перечисляет этих людей одного за другим,
напоминает им, что они говорили, какими они были
прежде. Он не может понять, как можно так меняться,
приспосабливаясь к событиям.
«Донато Альберти, что же ты прячешься за печкой?
Где твоя былая удаль? А ты, мессер Лапо Сальтерелли,
гроза правителей, вечно тебе не угождавших, где ты
укрылся? Отсиживаешься в доме у Пульчи. Где твое
оружие, мессер Манетто Скали, жаждавший быть вели-
ким и внушать страх? А вы, пополаны, вы требовали
мест и почестей, захватывали дворцы правителей, где
же вы были, когда надо было защищать город? Вы по-
грязли во пжи и притворстве, поносили друзей и восхва-
ляли врагов, лишь бы спасти свою шкуру. Теперь опла-
кивайте свою участь и свой город»3.
Жестокости и крайности, сопутствующие, как прави-
ло, всякому перевороту, вызывают у Дино безмерное
удивление, как нечто неслыханное, и рождают в его
честной душе глубокое и красноречивое негодование.
Именно этими чувствами продиктованы следующие заме-
чательные строки: «С помощью злодеяний возвеличи-
лись и многие другие; распоясавшись, они охотились
1 «Cronica», libro II, cap. XX.
2 Ibid., cap. XXI.
3 Ibid., cap. XXII. Наиболее интересные отрывки из знаменитых
«инвектив».
11 Де Санктис 161
за гражданами, лишали их имущества и жизни. Много
семей разрушили и многих покарали, как то у них было
заведено и предписано. Никому не удалось избежать пе-
чальной участи. Не принимались в расчет ни родство, ни
дружба. Ни смягчить, ни заменить наказание не было
никакой возможности. Новые браки в расчет не прини-
мались, каждый друг становился врагом, брат отрекался
от брата, сын от отца, все привязанности, все человече-
ские чувства потеряли силу. Слова никто не держал.
Люди не знали ни пощады, ни жалости. Кто больше
всех призывал: «Убьем, убьем предателей», тот сам был
первым предателем» *.
7. Среди осужденных на изгнание был Данте. Приго-
воренный заочно, он так и не увидел больше родины.
Гнев и жажду мести, боль и презрение, тревогу за дела
общественные и свои личные — все чувства, на какие
способно человеческое сердце, испытал он на чужбине.
О настроениях Данте можно судить по гневным тирадам
Дино Компаньи.
Началом его крушения было, по его собственным сло-
вам, избрание в приоры2, но оно же знаменовало и на-
чало его славы. Данте не был рожден политическим дея-
телем: для этого ему недоставало гибкости и житейской
мудрости. Он, как и Дино, был цельной натурой. Став
приором, он задался недостижимой целью добиться все-
общего согласия, но в результате был обманут во Фло-
ренции Черными, а в Риме — Бонифацием.
Высокое общественное положение, на которое он, че-
ловек блестящего ума и весьма доблестный, был
вправе рассчитывать, в изгнании было утрачено безвоз-
вратно: люди более напористые и предприимчивые опе-
редили его. Не желая ни противиться их планам, ни
поддерживать их, Данте уединился и создал «партию
самого себя». Отойдя от общественной деятельности,
замкнувшись в себе, он дал простор всем силам своего
ума и поэтического дарования.
1 «Cronica», cap. XXIII.
2 См. Леонардо Бруни: «Его деятельность на посту приора и
привела к его изгнанию. Она была причиной всех его злоключе-
ний,— он сам это признает в одной из своих Эпистол (писем),
в коей пишет: «Все мои беды и неприятности начались с тех пор,
как я стал приором» (Leonar do Bruni «Vite di Dante, Petrarca
e Boccaccio», ed. Solerti, Milano 1904, p. 100).
162
После смерти Беатриче Данте с таким рвением взял-
ся за работу, за книги, что испортил себе зрение. Вскоре
он закончил «Новую жизнь» — в надежде, что ему уда-
лось «сказать о Беатриче то, что никогда не было ска-
зано ни об одной другой женщине» К Он превратил
предмет своей первой и единственной любви в «прекрас-
ную, добродетельнейшую дочь владыки мира, которой
Пифагор дал имя Философии» 2. Плодом этих усиленных
занятий были аллегорические и ученые канцоны.
Так в этих трудах родилась вторая Беатриче — ду-
ховный свет, идеальное единство, любовь, соединяющая
разум и действие, науку и жизнь. Разум, любовь, дей-
ствие— вот та триада, которая стала предметом второй
любви Данте, его философией. Беатриче превратилась
в символ, поэзия растворилась в науке.
Этот поэтический мир, на наш взгляд столь абстракт-
ный, современникам Данте показался недостаточно «спи-
ритуальным». Его первую любовь они считали чувствен-
ной, а вторую так и не смогли понять. Тогда Данте,
дабы положить конец досадному недоразумению и
объяснить ученость «сокрытую в образе аллегории»3,
решил сам проиллюстрировать и прокомментировать
свои канцоны.
Данте был образованнейшим человеком. Он обладал
глубокими знаниями в теологии, философии, истории,
мифологии, юриспруденции, астрономии, физике, мате-
матике, риторике, поэтике. Обо всем он судил с яс-
ностью, свободно владея материалом.
Первоначальный план свой он расширил: голосу по-
эта вторил ученый. Он решил изложить в четырнадцати
трактатах — соответственно числу канцон — все данные
науки, касающиеся морали. Аналогичный труд Бру-
нетто Латини назвал «Сокровищницей», другие писатели
называли такие работы «Цветом» или «Садом». Данте
же озаглавил свой трактат «Пир», уподобляя его столу,
уставленному яствами, «хлебом ангелов»4, «пищей
1 «Vita Nuova», XLII.
2 «Convivio», II, xv, 12: «Говорю я и утверждаю, что женщина,
которую я полюбил вслед за первой своей любовью, была необы-
чайно красива и добропорядочна».
3 Ibid., I, и, 17.
4 Ibid., I, i. Замечание о переводе «Этики» (о которой см.
главу IV о прозе XIII века)—в самом «Convivio», I, x, 10.
И*
163
мудрости». Брунетто написал «Сокровищницу» по-фран-
цузски, остальные писали о науке по-латыни. Излагать
научные темы итальянской прозой считалось неумест-
ным, особенно после неудачной попытки перевести на
итальянский язык «Этику» Аристотеля, предпринятой
неким Таддео — знаменитым врачом по прозвищу «гип-
пократист».
Каких только тонких соображений не высказывает
Данте в оправдание своего намерения писать по-италь-
янски! Он воздает должное «вечной и нетленной» 1 ла-
тыни, способной «выразить многие вещи, рожденные
разумом, которые итальянским языком выразить не да-
но», отмечает, что «итальянский язык рожден буднями,
а латынь — искусством» и что посему латынь «красивее,
мужественнее, благороднее». Однако в силу тех же при-
чин латинский комментарий не «подчинялся бы канцо-
нам», написанным на вольгаре, а «возвышался бы над
ними». Комментарий же по природе своей — слуга, а не
господин и должен повиноваться, а не командовать. Ла-
тынь не может подчиняться, ибо по отношению к воль-
гаре она — властелин и повелитель2. И как может ла-
тынь комментировать народный язык, не зная его?
А что латыни чужд вольгаре — это очевидно, «ибо кто, жи-
вя в Италии, привык изъясняться по-латыни, тот не мо-
жет отличить народного провансальского от немецкого»3.
Суждения, формулировки и ухищрения истинно схо-
ластические!
Введенное Данте новшество — изложение научных
тем на вольгаре, равносильное тому, чтобы потчевать
гостей «вместо зерна овсом» 4ч, — представляется ему
столь важным, что, оправдываясь, он посвящает этому
вопросу восемь глав, являющих собой типичный образец
схоластической варварской речи.
1 «Convivio», v, 7, и последующие цитаты, там же, 12, 14 и 7.
2 Ibid., vii, 5: «Если латинский язык выше вольгаре, как дока-
зано нами, то как объяснить, что канцоны, написанные на народ-
ном языке, столь услаждают слух».
3 Ibid., I, vi, 8. Так в издании Фратичелли. В лекции это место
звучит так: «Выходец из Италии не отличает народный английский
язык от немецкого; немец же не отличит народный итальянский от
провансальского».
4 Ibid., х, 1. В тексте буквально так: «Черный хлеб вместо бе-
лого». Последующие цитаты см, там же, XIII, 4—5 и 8—9; XI, 12,
14; XI, 5—7 и 9.
164
Если оставить в стороне частности, суть его рассуж-
дений сводится к следующему. Данте пользуется воль-
гаре потому, что это его родной язык и язык «его пред-
ков»; он привел его к изучению латыни, то есть наставил
«на путь науки, являющейся высшим совершенством».
На вольгаре Данте писал свои стихи, им же он пользо-
вался, «вынося суждение, толкуя и споря». Ребенком он
услышал на нем первое ласковое слово, на нем загово-
рил. Вольгаре — его друг, и обойтись без него он не мо-
жет. А те, кто «подлым считают итальянский и изы-
сканным — провансальский», дабы оправдать свое не-
умение на нем изъясняться, только сваливают свою вину
на вольгаре: простонародье — или, как говорит Данте,
простолюдины — попадается «в сию западню» по нера-
зумению. «Ведь стоит только начать одному, и люди,
овцам уподобляясь, способны кричать «да здравствует
наша смерть» или «да умрет наша жизнь».
Иные впадают в эту ошибку из тщеславия, из за-
висти или из малодушия. Данте считает, что нелюбовь
к родному вольгаре и преклонение перед чужим языком
равносильны измене. В заключение он гневно воскли-
цает: «Достойны всяческого презрения те скверные италь-
янцы, кои считают подлым наш прекрасный вольгаре;
если что и можно поставить ему в упрек, так это то, что
он звучит в продажных устах сих изменников» 1. И по*
этому Данте пишет свои комментарии на вольгаре, чтобы
«выявить высокие качества, в нем сокрытые», доказать,
что достоинства вольгаре проявляются не только в сти-
хах, но и в прозе, когда он не украшен рифмой и ритмом
и подобен красивой женщине, чья «природная красота не
нуждается в пышных нарядах и украшениях». На италь-
янском языке можно правильно, исчерпывающе и подо-
бающе выразить самые благородные и самые новые
идеи, «почти так же, как по-латыни». Заканчивает Данте
следующими пророческими словами: «То будет новый
свет, новое солнце; оно взойдет, и все отжившее померк-
нет» 2.
Неистовость, с какой Данте бросает свои обвинения
инакомыслящим, и пылкость, с какой он превозносит
1 «Convivio», I, xi, 21; последующие цитаты см. там же, х, 9, 12.
2 Ibid. I, хш, 12. Это знаменитый финал первой книги трак-
тата.
165
вольгаре, свидетельствуют о том, сколь глубоко укоре-
нилось и распространилось заблуждение «слепцов» \
полагавших, что итальянский язык непригоден для про-
зы. Но Данте не достиг своей цели. Латынь по-прежнему
продолжала занимать первенствующее положение. Он
сам, прервав на середине свой «Пир», принялся писать
по-латыни о риторике и политике — предметах, которым
наряду с этикой посвящались научные трактаты.
8. Книга «De vulgari eloquio» («О народном красно-
речии») вопреки тогдашнему обыкновению не представ-
ляла собой образца риторики, нагромождения отвлечен-
ных, заимствованных у античных писателей правил. Это
был актуальнейший, подлинно критический труд, насы-
щенный новыми, здравыми мыслями. По мнению Данте,
фундаментом всего здания должен быть язык — благо-
родный, изысканный, «придворный», «высокий», на кото-
ром говорят повсюду и нигде в частности, язык, кото-
рый он хотел показать в «Пире». Этот идеальный италь-
янский язык «высок» в силу того, что он свободен от
местных особенностей, характерных для диалектов, и
приближается к величественной серьезности латыни —
образцового языка. Данте хотел сделать из вольгаре
то же,, чем был латинский: не язык простонародья, а
вечный, нетленный язык образованных людей. Мечта
Данте напоминает стремление создать универсальный
язык с помощью искусственных научных методов. Каза-
лось бы, что может быть проще и логичнее: взять ото-
всюду понемногу, отобрать все лучшее и создать еди-
ный, совершенный язык. Но это противоречит природе.
Языки, так же как нации, достигают единства лишь в
результате медленного и длительного процесса истори-
ческого развития й формируются не искусственно, а пу-
тем постепенного впитывания, поглощения более слабых
элементов.
В гибеллине, который презирал местные диалекты,
ратовал за единый итальянский язык и набросал его
общие контуры, уже чувствовался будущий автор «Мо-
нархии».
9. Трактат «De Monarchia» («О монархии») состоит
из трех книг. В первой Данте доказывает, что самой
совершенной формой правления является монархия,
1 «Convivio», xi, 5, Здесь перефразировано,
166
во второй — что эта совершенная форма правления на-
шла свое воплощение в римской империи, существование
которой прекратилось, но не навсегда, ибо она «ниспо-
слана богом», в третьей он определяет отношения между
империей и церковью, между единым императором и
единым папой.
Превосходство монархии связано с единосущностью
бога. Един бог, един и император. Олигархия и демокра-
тия — это «путь кривды», они действуют «по воле слу-
чая», а посему «несовершенны» К
До сих пор все сходились во мнениях, и гвельфы и
гибеллины. Двух философских систем не существовало.
Обе партии исходили из одних и тех же предпосылок.
И те и другие признавали различие между духом
и телом и превосходство духа, что составляет основу
христианской философии. Отсюда вытекала правомер-
ность наличия двух властей — духовной и светской,
власти папы и власти императора. Разногласия же каса-
лись выводов.
Если дух господствует над телом, делал заключение
Бонифаций VIII, то папа стоит над императором. «Ду-
ховная власть, — говорил он, — вправе устанавливать
светскую власть и судить ее, если она того заслуживает.
А тот, кто этому противится, противится воле божьей —
если только, подобно манихеям, не верит в два начала,
что мы считаем заблуждением и ересью. Как бы то ни
было, дсе люди должны подчиняться папе римскому, и
мы заявляем, что сие необходимо для спасения души»2.
Что может быть яснее, проще, популярнее, неодо-
лимее подобной философии! С бесспорными посылками
ее были согласны все, вполне очевидными казались и
выводы. Если дух — главное, а тело — сосуд греха, не
более, чем внешняя оболочка, форма существования ду-
ха, то кем же еще могли быть короли и императоры,
олицетворявшие светскую власть и получавшие ее
из рук папы, как не исполнителями папской воли?
Гвельфы, если не считать их приверженности к неза-
висимости своей коммуны, безоговорочно соглашались
1 «De Monarchia», I, xn, 9.
2 Цитата из Ламеннэ, из введения к его переводу «Божествен-
ной комедии» (Lamennais, Oeuvres posthumes E. D. Forgues,
Paulin et le Chevalier, Paris 1855—1858, vol. I, cap. V),
167
и с посылками и с выводами и именовались «партией
святой церкви».
Данте был согласен с посылками, но не с выводами
и в обоснование своей точки зрения говорил, что дух и
материя живут самостоятельной жизнью, не смешиваясь,
и делал из этого вывод о самостоятельности духовной и
светской власти. Обе они, говорил Данте, «вершат бо-
жий закон» на земле, пользуются равными привиле-
гиями, «каждая — сама по себе»1; обе руководят людь-
ми, одна — в делах божьих, другая — в делах людских;
одна ведет их к божественной благодати, другая — к зем-
ному благополучию. А посему папа не может соединить
обе функции — быть пастырем духовным и держать меч
в руке. Напротив, как истинный слуга божий и Христов
наместник на земле, он должен презреть блага и суету
мира сего и воздать кесарево кесарю.
Император же, памятуя, что дух выше тела, со своей
стороны обязан папу почитать. Поскольку люди ко-
рыстны и злы, а общество погрязло в пороках и анар-
хии, долг императора — установить в мире справедли-
вость и согласие, восстановив законную империю. Нечего
опасаться, что он превратится в тирана: силу обуздать
себя найдет он в своем же всемогуществе. Он будет ува-
жать права свободных коммун и независимость наций.
Таковы были утопические планы Данте, вернее, ги-
беллинов. Данте привел их взгляды в систему, стал их
философом. Во второй книге, где он переходит к прак-
тическим выводам, он доказывает высшее превосходство
римской монархии. История ее делится соответственно
трем этапам человеческой жизни. Римом на заре его
существования, «в детстве», правили цари. Когда он
«повзрослел» и им правил народ, совершавший замеча-
тельные подвиги — настоящие чудеса, свидетельствую-
щие о том, что ему уготована великая миссия, — Рим
подготовил себя к «зрелой поре» — годам правления
Августа, которого Фома Аквинский называл викарием
Христа, а Данте вслед за Вергилием — потомком Энея v
волей божьей основателем империи2. Именно в ту пору
1 «De Monarchia», III, 1, 5 «Чист.», XVI, 107—108. По поводу
следующих строк см. там же, 109—НО и 127—128.
2 Встречается много раз в его произведениях «De Monarchia»,
I, 1—2; «Convivio», IV, xvi, v. 6—8; «Epistole», VII, 14.
168
родился Христос — «подданный той империи». Пока Ав-
густ вершил мирное дело созидания империи, Христос
осуществил великое дело очищения душ 1.
Исходя из этих исторических посылок, Данте делает
вывод, что Риму в соответствии с божьим промыслом,
суждено быть столицей мира, что справедливость и мир
на земле восторжествуют лишь с восстановлением богом
предопределенной2 римской империи, самым лучшим
уголком которой, ее садом является Италия.
На первый взгляд Данте звал назад к прошлому, но
в действительности его теория содержала в себе ростки
будущего: в ней был призыв к предоставлению само-
стоятельности светской власти, к созданию более круп-
ных территориальных единиц. Гвельфы замыкались в
своей коммуне3, здесь же проступают очертания всей
нации, а за ней — всего человечества, конфедерации го-
сударств. То была утопия, наметившая путь развития
истории.
Гвельфы и гибеллины сходились на том, что обще-
ство погрязло в пороках и хаотично, что нужен
миротворец. С описания густого леса, символизирующего
людскую испорченность, начинают и гвельф Брунетто и
гибеллин Данте. Но гвельфы в дни междоусобицы назы-
вали миротворцем папского легата Карла Валуа, кото-
рый, по словам Данте, сражался копьем Иуды4. Гибел-
лины же призывали императора. Многие считают, что
Данте написал свой трактат «О монархии», чтобы
1 См. «Convivio», IV, v. 8: «Никогда на свете не было и не бу-
дет такого порядка, как тогда, при сем властелине римского народа
и военачальнике...»; см. «Рай», VI, 80—81: «Он подарил земле такой
покой, Что Янов храм был заперт повсечасно».
2 Ibid., IV, v. 4. По поводу следующих строк см. очерк
1858 года «Carattere di Dante e sua Utopia», опубликованный в «Ri-
vista Contemporanea» (Турин), а также в «Saggi critici» (см. «Le-
zioni e saggi su Dante», cit., pp. 547 и ел.). Ошибочно рассматривал
утопию Данте как призыв вернуться к прошлому немецкий ученый
Франц Вегеле (1823—1897), опубликовавший в 1852 году в Иене
свою монографию «Dante Alighieri's Leben und Werke, kulturgeschicht-
lich dargestellt».
8 В рукописи далее написано и зачеркнуто: «Они уповали лишь
на папу, называли его легатов «миротворцами», призванными раз-
решать все споры. Одним из них был, например, Карл Валуа, кото-
рый, прибыв во Флоренцию в роли миротворца, по выражению
Данте, пустил в ход «копье Иуды», повел себя как предатель.
4 «Чист.», XX, 73—74.
169
подготовить почву к приходу императора Генриха VII
Люксембургского, который затеял умиротворение Ита-
лии, но умер, едва приступив к решению этой сложной
задачи. Данте его воспевал, Муссато прославлял, Чино
горько оплакивал *. Ни гвельфы, ни гибеллины в ту пору
еще не знали, что призвать миротворца значило сделать
его полным хозяином своей судьбы и что все завоева-
тели захватывают чужую землю под предлогом «наве-
дения порядка» и «избавления от раздоров».
Письма свои Данте тоже писал по-латыни. Одно из
них предназначалось как раз Генриху и было написано
по случаю его похода в Италию 2.
Если собрать воедино все латинские произведения
Данте, самым оригинальным из которых является трак-
тат «О народном красноречьи», и присовокупить сюда
«Пир», то можно составить себе точное и правильное
представление о его научной деятельности.
10. Данте был образованнейшим человеком, но он
не был философом 3. И хотя к философии устремлялись
все его помыслы, она для него была не призванием, а
лишь отправной точкой. В том виде, в каком ее препо-,
дали ему в университете, он овладел философией в со-
вершенстве. Он знал все, но ни на чем не оставил следа
своей творческой мысли, ибо занимался не столько ис-
следованием, сколько изучением предмета. Он усвоил
все, даже самые нелепые суждения и большинство за-
блуждений и предрассудков своего времени. С одинако-
вым пиететом цитирует он Цицерона и Боэция, Ливия
и Павла Орозия, писателей языческих и христианских.
Цитата — это неопровержимый довод.
Дефекты философского мышления Данте характерны
и для того времени. Он доказывает все, даже бесспор-
ное, и всему придает равное значение. Он нагромождает
доводы самого различного свойства, в том числе весьма
наивные. Часто не схватывает сути вопроса, увлекается
деталями и излишними подробностями. К этому добав-
ляется его схоластическая терминология и бесчислен-
ное множество категорий. Но коль скоро читатель все-
1 См. «Чист.», XXX, 136—138; Muss a to, De gestis и канцону
Чино да Пистойя см. в гл. II.
2 «Epistole», VII.
3 Это положение развито в очерке «Carattere di Dante e sua
utopia», cit., и в «Lezioni e saggi su Dante», cit., p. 556.
170
Такй выбирается из этого лабиринта, значит «Мо-
нархия» обладает широтой, единством замысла и ком-
позиционной целостностью, в которых уже дает себя
знать великий архитектор величественного здания «того
света».
Недостатки, характерные для латинских произведений
Данте, свойственны и его «Пиру». Они отяжеляют его
стиль, нарушают естественность, плавность речи, благо-
даря которым трактат мог бы быть доступным понима-
нию менее подготовленных читателей — а ведь именно
для них он и предназначался. Теория «высокого языка»
уводит его от мягкости и простоты итальянской прозы.
В то время как другие «вульгаризируют» латынь, Данте
«латинизирует» вольгаре, стремясь придать ему благо-
родство и величие с помощью перифраз, замысловатых
оборотов и инверсии. Он пишет на некоем смешанном
языке, не итальянском и не латинском, на языке, лишен-
ном динамики и живости, присущих диалекту, и далеком
от величавой размеренности, которую Данте так ценит
в латыни и к которой явно, но тщетно стремится. На-
гради его природа более тонким художественным чутьем,
быть может, он и стал бы отцом итальянской прозы.
Прозе Данте недостает изящества. Слог его при всем
стремлении Данте к изяществу остается шероховатым.
В прозе, как и в лирике, Данте, за редкими исключе-
ниями, когда страсть его горячит и делает особо красно-
речивым, как художник не достиг еще совершенства.
Ни философия, ни проза не были его призванием.
Того, к чему он стремился, он не смог достичь ни в нау-
ке, ни в прозе.
«Чего ты ищешь?» — спросил его один монах. — «По-
коя» К
Покоя, мира жаждали все современники Данте. Под
миром подразумевалась гармония между царством
1 Об этом случае упоминается в письме монаха Иларио и
у Боккаччо (Boccaccio, Vita di Dante). Этот романтический эпи-
зод привлек к себе внимание критиков XIX века (С. В a i b о, Vita
di Dante, libro secondo, cap. VI; S e 11 e m b r i n i, Lezioni, cit.). Ту
же историю рассказывает и Кине (op. cit., I, p. 130). Особое внима-
ние ей уделил Карло Тройя (Carlo Т г о у а, II Veltro allegorico dei
ghibellini (1826), Bari 1932, pp. 61—62). По вопросу о подлинности
письма монаха Иларио см. G. В i a g i, Un episodio celebre della
vita di Dante, Modena 1910. По поводу его текста см.: P. R a j n а,
Dante e la Lunigiana, Milano 1909, pp. 233 и ел.
171
земным и небесным, между душой и богом —царство
божие на земле. «Adveniat regnum tuum» («Да приидет
царствие твое»). Истинного мира на земле быть не мо-
жет, истинный мир — в боге, на небесах. Беатриче перед
смертью будто бы сказала: «Я обрела мир»1. Жизнь
есть испытание, срок, отпущенный для того, чтобы как
можно ближе подойти к небесному идеалу и заслужить
вечный покой.
11. Цель жизни — спасение, упокоение души в' ином
мире. Земная жизнь и смерть даны человеку ради жизни
на небесах. Жизнь есть история души — ее «таинство».
Выходя незапятнанной из рук бога, «который на нее не
нарадуется», душа должна познать на земле скорбь и
страдания; она сможет вернуться на свою родину лишь
очищенной от земной скверны 2.
Чтобы достичь покоя, надо пройти три ступени, три
состояния: бытие, очищение и обновление, ко-
торым соответствуют три мира: ад, чистилище и
рай. Таинство души и ее история на первом этапе со-
стоит в том, что душа, запутавшись в тенетах бытия,
терпит поражение в борьбе с дьяволом и оказывается в
его власти. Это трагедия души, трагедия Фауста—до
того как Гёте, вдохновленный Данте, не освободил его.
Но когда душе удается справиться с дьявольским
искушением и когда она отказывается и очищается от
человеческого, она удостаивается вечного покоя. Это
ком едия души.
Стало быть, таинство души — трагедия или комедия,
в зависимости от того, что превалирует, человеческое
или божественное, земное или небесное, — составляло
основу всех мистерий и легенд того времени. Если таин-
ство изображали на сцене, оно называлось представ-
лением, мистерией, если излагали в виде расска-
за— легендой или житием. Таинство души, изо-
браженное в условных образах, представляло собой
аллегорию, а в форме прямой, непосредственной —
видение. Вернее, эти две формы переплетались, и
часто аллегория представляла собой видение, а видение
подавалось аллегорически.
1 «Vita Nuo^a», XXIII, из неоднократно упоминавшейся канцоны
«Donna pietosa», ст. 70.
2 Намек на аллегории души см, стр. 106 и на «Комедию
души».
172
Итак, аллегории, видения, легенды, представления
(мистерии) были различными формами изображения
таинства души; философски его обосновали теологи,
а излагали проповедники, часто добавлявшие к книж-
ному тексту от себя пример, легенду или видение — как
это наблюдается в «Зерцале истинного покаяния».
Таинство души, по сути дела составлявшее целое ме-
тафизическое религиозное учение, охватывавшее самые
тонкие и важные проблемы жизни, наложило глубокий
отпечаток на всю культуру того времени, на весь облик
человека и общества, на философию и литературу.
Итальянская религиозная литература в собственном
смысле слова имела к тому времени двухсотлетнюю исто-
рию— от Франциска Ассизского и Якопоне до Екате-
рины. «Аллегория души», «Представление о монахе, ко-
торый пошел в услужение к богу», «Введение в доброде-
тели», «Комедия души» воплощают в литературе теорию
этого таинства, в совершенстве разработанную в пись-
мах Екатерины, и обретшую конкретную историческую
реальность в «Цветочках», легендах и видениях Домени-
ко Кавалька и Пассаванти. Однако образованный слой
общества — главный двигатель культуры — не принимал
этой литературы. Данте презирал латынь библии как
лишенную мягкости и гармонии. Писать, как говорят,
без затей считалось варварством, неотесанностью. Обра-
зованные люди стремились выражаться языком высоким
и благородным, величественным, как латынь, слогом,
малоудачным примером которого служит язык дантов-
-ского «Пира». Им не нравились бесхитростные рассуж-
дения и недостаточная ученость этой литературы. Да
и не мудрено: после университета голова их была
полна философии и прочей церковной и светской пре-
мудрости.
Но, приемля лишь частично эту литературу, кото-
рую они считали бедной и грубой, они придерживались
тех же представлений о жизни, которые выражались
в ней. Теологи философствовали, а философы «теологи-
зировали». Основы божественного откровения остава-
лись незыблемыми-и воспринимались как аксиома. Это
были идеи единства бога, бессмертия души и загробной
жизни как цели земного бытия. При всем этом они рас-
ширили круг своих интересов, включив в него наряду с
библией и писаниями отцов церкви все, что было
173
известно об античном мире. Более свободной ctajia и.
форма: под прикрытием аллегории вводились языческие
элементы; христианская лексика переплеталась с форму-
лами Аристотеля и Платона.
Царство божие они называли царством философии.
Установить царство божие значило приспособить мир
к требованиям философии, свести воедино разум и дей-
ствие. Посредником при этом выступала Любовь — нача-
ло всего божественного и человеческого, любовь не чув-
ственая, каковая почиталась за грех, а интеллектуаль-
ная: любовь к философии. Плод любви — это мудрость,
она не тождественна чистому разуму; мудрость — это
разум в соединении с действием, и вместе они состав-
ляют высокую добродетель. Следовательно, царство бо-
жие на земле — это царство добродетели, или, как тогда
говорили, царство справедливости и мира.
Орудием установления царства божия являются
исполнители божьей воли на земле: два солнца, два ору-
дия бога —папа и император. Политика — это искус-
ство, ставящее своей целью установление царства спра-
ведливости и мира, дабы сделать всех людей доброде-
тельными и счастливыми. В политике руководствовались
лишь чисто этическим критерием, как то видно на при-
мере судьи Альбертано, Эджидио Колонны, Муссато и
Дино Компаньи. Для создания этого критерия исполь-
зовались высказывания Вергилия; сочинения Вергилия
ставились ничуть не ниже библии. И ждали монархии,
предопределенной богом, то есть восстановления рим-
ской империи.
12. Итак, в течение этих двух веков в Италии суще-
ствовали две развивавшиеся все время почти параллель-
но литературы. Одна — чисто религиозная, сосредото-
чившая свое внимание на созерцании жизни, — не вы-
ходила за пределы библии и писаний святых отцов и
создавала гимны, песнопения, мистические песни (лау-
ды), духовные представления, легенды, видения. Вторая,
впитав в себя все знания, сводила их к философской си-
стеме, охватывала самые различные аспекты жизни и
создавала «своды», энциклопедии, трактаты, хроники,
летописи, сонеты и канцоны. Где-то в промежутке между*
той и другой литературой, как отзвук рыцарства, витали
новелла и роман: они не привились и развития не полу-
чили, как чтение легкое и грубое.
174
Образованные люди старались содействовать распро-
странению культуры в народе, в первую очередь популя-
ризируя такие более доступные и практические области
науки, как этика и мораль. Этим объясняется появление
множества переводов и сборников поучительных изрече-
ний, выходивших под названиями «Цвет», «Сад», «Со-
кровищница», «Наставления». Попыткой в этом жанре
была и «Маленькая сокровищница».
В первой части лирики Данте дается история святой,
чистота которой победила дьявола и искушения плоти.
Это — таинство души, тот его вариант, который соот-
ветствует «Комедии души». Душа, вышедшая чистой из
рук бога и после недолгого скитания по земле возвра-
щающаяся на небо в виде духовной красоты, света ра-
зума,— это Беатриче. Беатриче — святая, которой покло-
няются образованные люди, безымянная женщина, пред-
мет платонической любви поэтов, обретшая имя и ореол
святости.
Во второй части Беатриче уподоблена философии,
принципы которой изложены в «Канцонах» и в «Пире».
В мире чистой науки, в схоластическом изложении основ
морали зазвучал голос поэзии.
Народная литература завершается однообраз-
ными, доктринерскими письмами Екатерины («врожден-
ный порок» этой литературы — абстрактность аскетиз-
ма), а ученая литература — схоластическими
ухищрениями «Пира» (существеннейший недостаток
ее — абстрактность науки). У них общая болезнь — аб-
страктность и ее неизбежный спутник в литературе—-
аллегория.
Но мир Данте не мог оставаться в этих рамках, вер-
нее, этот мир был чужд его натуре, не соответствовал
его духу, его гению; Данте блуждал в нем как непри-
каянный.
Сила Данте не в даре научного исследования, отли-
чающем людей со спекулятивным мышлением. Науку он
воспринимал как догму: ум его при схоластических
упражнениях оставался пассивным. Данте обладал
слишком живым воображением, чтобы пребывать в
области отвлеченных идей; он больше стремился облечь
их в образы и расцветить, нежели подвергнуть обсуж-
дению и анализу.
175
Творческая фантазия, острое ощущение реальности,
горячая страстность обманутого в своих надеждах и
оскорбленного в лучших чувствах патриота, пережива-
ния, связанные с общественной и личной жизнью,— все
это не могло найти своего отражения в абстрактном
мире науки, которым Данте так дорожил. Он чувствовал
потребность создавать, творить, а не излагать. Он хотел
создать царство науки — то царство божие, к которому
все так стремились, — и вдохнуть в него жизнь.
Мир — это темный лес, где все погрязло в пороках
и невежестве. Спасение — только в науке, и мир должен
быть приведен в соответствие с ее принципами. Наука
составляет идеальный мир, мир, каким он должен быть.
Идеал этот осуществлен на «том свете», в царстве бо-
жием, на основе истины и справедливости. А посему,
чтобы выбраться из темного леса, есть только один путь:
созерцание и видение иной жизни. Следуя по этому пу->
ти, душа, поборов чувственность и очистившись, обре-
тает покой, «вечную комедию», блаженство.
На этом простом и в ту пору общераспространенном
представлении построено созерцание или видение, назы-
ваемое «Комедией», — аллегорическое изображение цар-
ства божия, таинство или комедия души.
VII
Комедия1
1. Главная идея поэмы не нова, не оригинальна и не
исключительна. Слияние воедино аскетической народной ли-
тературы и литературы ученой. Аллегорическая форма.
2. Создание универсальной культуры, к которой стремились
просвещенные слои общества, достигается путем сочетания
науки, с традициями религиозной и светской литературы.
3. Сюжетная канва и аллегория: Данте как личность и как
олицетворение человеческого общества. 4. Аллегория: неогра-
ниченная свобода выбора форм и невозможность создать
совершенный художественный образ. Ложность средневековой
поэтики. 5. Античная мораль и христианство. «Тот свет» как
отражение морали. Проблема назначения человека, проблема
индивидуума и общества; христианская, философская и Дан-
това трактовка этой проблемы. 6. Наука приведена в систему,
но еще не освоена, не ассимилирована, еще не «окунулась
в реальность», не способна создавать поэзию. Данте и его
намерение «реализовать» науку. 7. Аллегория — первая, пере-
ходная форма искусства. 8. «Иной мир» — уже не «образ»
действительности, а сама действительность, не абстрактное
религиозное понятие, а нечто, спустившееся до реальности и
конкретизированное как реальная жизнь. Данте — истинный
«микрокосмос», живое средоточие христианско-политического
круга идей. 9. Замысел произведения. 10. Данте-философ не
1 Глава о «Комедии» является итогом долгого труда Де Санк-
тис начал исследование поэзии Данте в своих ранних лекциях
в местечке Бизи (см. «Teoria e storia», cit., I, pp. 214—221 и в «Pu-
rismo illuminismo storicismo», изд. Эйнауди, 1. II). Наиболее интен-
сивно Де Санктис работал над Данте в 1854—1858 гг. (см. туринские
и цюрихские лекции, а также первые очерки, опубликованные в «Ri-
vista contemporanea»). В 1868 году, незадолго до выхода «Истории
литературы», Де Санктис вновь вернулся к Данте, уже с другим
умонастроением, и написал несколько крупных работ о Франческе
Фаринате и Уголино, опубликованных в 1869 году. По поводу всех
работ Де Санктиса, написанных после ранних лекций, см. т. V, изд.
Эйнауди «Lezioni e saggi su Dante». О критических работах по
Данте, появившихся до Де Санктиса, см. работу D. M a 11 a 1 i a
(«I classici italiani nella storia della critica», Firenze 1954, vol. I.
pp. 3—93).
12 Де Санктис
177
хочет пренебречь идеей, лежащей в основе образа: «двупла-
новость» Дантовой поэмы. 11. Скрытый смысл произведения
и попытки критиков истолковать его. 12. Зыбкость аллегори-
ческого замысла. «Комедия» — произведение искусства, ото-
бразившее независимо от воли автора реальную жизнь эпохи
средневековья. Законченность, доступность, совершенство
поэмы в литературном отношении, передача в ней не только
буквы, но и духа, не только символа, но самой реальности.
13. Расхождение между намерениями автора и результатом
его творчества; противоречивые элементы, движущие развитие
общества в эпоху Данте, и художественная ограниченность
поэмы. 14. Видение потустороннего мира. Жизнь эпохи, пере-
несенная в вечность. 15. Загробный мир, увиденный с земли;
взаимодействие двух миров, присутствующих один в другом;
их органическое единство, проявляющееся в единстве созна-
ния. Единство и дуализм, имманентно заложенные в данной
ситуации. «Комедия» кладет начало дальнейшему развитию
содержания и формы. 16. Спасение души или постепенный
распад форм, его три стадии, соответствующие этапам интел-
лектуального и исторического развития общества (религии,
науки, философии, морали, политики). 17. «Ад» как царство
зла; уродство в природе и в искусстве. Полнокровность и бо-
гатство жизни в этой кантике. 18. Закон, регулирующий жизнь
ада: постепенное затемнение духа вплоть до полного его
угасания и превращения в материю. Первый круг: равнодуш-
ные. 19. Лимб и языческий пантеон. 20. «Ад» в плане мораль-
ном и поэтическом. Живучесть страстей. Трагические персо-
нажи первых кругов. Апогей вечности, тьмы и отчаяния.
21. Насильники и прекрасное отрицание, противоестественное
естество и мучения грешников. Люцифер и другие демониче-
ские образы. 22. Группы: от апогея трагизма к апогею отри-
цания. 23. Невоздержанные и насильники. Великие поэтические
персонажи. 24. Обманщики: плебейский мир «Злых щелей», за-
темнение и материализация духа; деформация и разложение
природы. «Комедия» — эстетическая форма этого мира. Описа-
ние вместо драматизма. 25. Личность, стоящая особняком:
Улисс (Одиссей), великий одиночка «Злых целей», 26. Несо-
стоятельность Данте в комической форме. Сублимат комизма,
достигающий впечатления ужаса и отвращения. 27. Ирония:
«земной» дьявол. 28. Песнь симонистов. Гнев Данте убивает
комизм: сарказм. 29. Колодезь предателей: от человека-живот-
ного к человеку-льду. Уголино. 30. «Ад» как изображение
человеческой личности в искусстве. Первое появление жизни
в современном мире. 31. «Чистилище». Умиротворение страстей
и чувств; жизнь как художественное, философское и религиоз-
ное созерцание. 32. Реальность как оболочка духа. Примеры
из истории. 33. Видение-экстаз и видение-символ в последних
песнях. 34. Внутреннее успокоение душ: идиллия. Печаль —
чувство, новое в поэзии: Пия, Казелла и Адриан V. 35. Жизнь,
показанная преимущественно через род, а не через инди-
видуум: группы и хоры. Привлекательность, но и монотон-
ность спокойствия. Поэтическое несовершенство песен и анге-
лов. Природа, ангелы и души — единый лирический мир.
Раскрытие таинства души, 36, Земной рай: Данте, гений
178
драматизма, более совершенен в сцене покаяний и очищения*
Литургический, символический характер действия. 37. «Рай»
как царство духа не поддается художественному воплоще-
нию. «Потустороннее» в языческом и христианском пони-
мании. 38. Человеческий рай Данте, доступный восприятию
чувств и пониманию. Лиричность и музыкальность. 39. Исто-
рия и развитие рая: количественные различия его единствен-
ной формы — света. Небесные сферы. Земля проникает в рай
через сравнения — подлинные жемчужины этой кантики.
40. Две дополнительные формы: пение и интеллектуальное
видение. Группы: единая индивидуальность, которой наделены
все души, лирическая основа рая и, одновременно, его слабая
сторона. 41. Земля как противовес жизни в раю, полной
любви и покоя: возмущение и инвектива. 42. Настоящее,
осуждаемое прошлым. Каччагуида. 43. Интеллектуальное
видение и созерцательность, догматичность науки. Бог и при-
рода, подлинно поэтические персонажи. Шлак среди россыпей
красоты. 44. Блаженство: приобщение к божеству в вечном
веселии. Эмпирей. 45. Подлинный лиризм рая в гимне Данте
и Беатриче и в гимне св. Бернарда: рай, увиденный с земли
глазами живого человека, с его чувствами и восприятиями.
46. История души. Данте вложил в свой труд всю свою силу
художника, поэта, философа-христианина. Ясная и глубокая
интуиция — особенность Дантова гения. Основные формы об-
разности в «Божественной комедии».
1. Кто внимательно следил за ходом моей мысли, тот
понимает, что божественная «Комедия» отнюдь не вы-
двинула какой-то новой, оригинальной, из ряда вон вы-
ходящей идеи, не явилась изобретением Данте, неожи-
данно представшим восхищенному человечеству. Напро-
тив— и в этом ее сила, — заключенная в «Комедии»
идея была общераспространенной, она составляла осно-
ву всех литературных жанров — литургических представ-
лений, легенд, видений, трактатов, «сокровищниц», «са-
дов», сонетов и канцон. «Аллегории души» и «Комедия
души» — таковы схемы, категории и основные контуры
этой идеи.
Основу «Пира» составляла этика; излагая ее на на-
родном языке, Данте стремился сделать ее доступной
неученому читателю. Здесь же проблема поставлена
иначе. В основу «Комедии» положены традиции и фор.-
мы народного искусства, связанные с таинством души,
то есть с идеей, составляющей содержание всех мисте-
рий и легенд. Именно в рамки этих представлений и
вмещает Данте всю культуру своего времени. Благодаря
этой счастливой мысли, приняв за основу традиции и
формы народного искусства, Данте удалось объединить
12*
179
обе соперничавшие литературы вокруг принципа, вдох-
новлявшего и ту и другую, а именно вокруг идеи таин-
ства души. Под пером Данте действо и легенда пере-
стают быть грубыми и примитивными и достигают высот
науки* Наука же выходит из своего святилища, попу-
ляризируется, облекается в форму мистерии и легенды.
Отсюда огромная популярность этой книги, которую не-
образованные люди понимали буквально, а ученые трак-
товали как научный труд, подобный «Своду» Фомы
АквинскогоГНарод воспринимал стихи «Комедии» так же,
как воспринимал проповедь священника, молитву или
литургическое представление, а посему не удивительно,
что, глядя на задумчивое, отрешенное лицо Данте, люди
говорили: похоже, что он и впрямь побывал в аду1. Эру-
диты старались проникнуть в тайный смысл странных
стихов»2, а Боккаччо сочинил комментарии, которые
подчас еще более сгущают мглу, вместо того чтобы
разверсть «грядущего покрывало».
В действительности же «Божественная комедия»
представляет собой не что иное, как видение, аллегори-
ческое изображение «того света». С точки зрения хри-
стианской религии видение и созерцание потусторонней
жизни есть долг всякого верующего, совершенство, к ко-
торому каждый должен стремиться. Святой живет ду-
шой своей в ином мире. Экстаз, в коем он пребывает,
видения, кои ему являются, приобщают его к «иной
жизни», на которую он уповает. Данте принимает за
основу этот столь распространенный в ту пору аскети-
ческий принцип: созерцание и видение того света есть
1 Это только один из множества анекдотов, связанных с име-
нем Данте и вновь введенных в обиход* в связи с романтической
интерпретацией биографии и творчества великого поэта. Он v был
рассказан Боккаччо в гл. VIII «Trattatello».
2 «Ад», IX, 61—63:
«О вы, разумные, взгляните сами,
И всякий наставленье да поймет,
Сокрытое под странными стихами!»
Употребляемые де Санктисом далее слова «грядущего разверзши
покрывало» тоже взяты у Данте («Ад», XXXIII, 27). Оценка бок-
каччевских комментариев Данте связана с отрицательным отноше-
нием Де Санктиса к произвольному толкованию великой поэмы, ко-
торое характерно для критиков прошлых веков и для критиков
современных. См. среди прочего очерк «Dell'argomento della «Di-
vina Commedia», опубликованный в «Rivista contemporanea» за
1857 год и впоследствии включенный в «Saggi critici» (1866); и
«Lezioni e saggi su Dante», изд. Эйнауди, t. V, pp. 531 и ел,
180
путь к спасению. Чтобы выбраться из лесной чащи по
роков и невежества, он предается созерцательной жизни,
мысленно лицезреет «тот свет» и рассказывает о том,
что видит. Таков лейтмотив всех видений, такова исто-
рия всех святых, тема всех проповедей; к тому же сво-
дится и сюжет «Комедии» — видения того света как пути
к спасению души.
Но видение это в то же время и аллегория. «Тот
свет» аллегорически изображает земную жизнь; по су-
ществу, это история или таинство души, ее три состоя-
ния, фигурирующие в «Аллегории души» под названием
бытие, очищение и обновление и соответ-
ствующие трем мирам: аду, чистилищу и раю.
Душа, в ее сугубо человеческом состоянии отягощенная
чувственностью, отрешаясь и очищаясь от плоти, обнов-
ляется, вновь обретает чистоту и божественность. Эта
популярнейшая аллегория была знакома каждому гра-
мотному человеку. Каждый смотрел на «тот свет» «мир-
скими глазами», приписывая ему земные страсти и инте-
ресы. Проповедники — особенно когда они описывали
адские муки — пользовались образами, порожденными
земными страстями. Таинство души лежало в основе
любого вымысла, это была легенда . легенд. В центре
всех популярных историй — вспомним «Введение в до-
бродетель» и «Комедию души» — был человек, впавший
в ошибку и в ничтожество, который в конце концов либо
продает душу дьяволу, либо очищается и спасается.
«Комедия души» — это история о том, как душа, вый-
дя чистой из рук божьих, вступает на земле в борьбу
с плотью, с дьяволом и с божьей помощью побеждает.
За обладание душой сражаются — подобно гомеровским
богам — пороки и добродетели; добродетели побеждают,
душе уготовано спасение. Во «Введении в добродетель»
рассказывается о юноше, впавшем в ничтожество, ему
является утешительница — философия, его наставница
и госпожа; она показывает ему борьбу пороков и добро-
детелей, и юноша, презрев земные блага, возносится на
небо1.
Философия выступает в роли божественной утеши-
тельницы и у популярнейшего философа Боэция и у
1 О «Введении в добродетель», а также по поводу нижеследую-
щего замечания о популярности книги Боэция «De consolatione phi-
losophiae» см. гл. IV.
181
Данте. «Благородная дочь владыки мира»1 является пб'
эту после смерти Беатриче и делает его своим другом и
слугой.
Порок и невежество, затем с помощью бога или фи-
лософии обращенные к вере, приобщение к лику святых,
лицезрение бога и науки —таково то общее место и
в литературе простых людей и в литературе образован-
ных. Данте соединяет обе литературы, связывает в своей
аллегории воедино философию и богословие, разум и
божественную благодать, бога и науку, создавая гармо-
ничный мир, в котором и тому и другому отводится свое
место. Поскольку в аду и в чистилище душа еще не
избавилась от земного, то и руководит ею «свет есте-
ственный» — разум или философия. Но разума без боже-
ственной благодати недостаточно, и в раю свободная,
очистившаяся, обретшая легкость душа препоручена бо-
жественной благодати или богословию — «свету разума»,
который являет ей науку без покровов, иными словами,
бога в его сущности.
2. Поскольку «тот свет» аллегоричен как история
души, поэт не связан религиозными, литургическими ка-
нонами и витает в вольном мире воображения. Положив
в основу традиции и формы христианской религии, -поэт
для возведения здания «Комедии» пользуется всеми ма-
териалами богословской и мирской науки, языческими
сказаниями и мифами, смешивая вместе Энея и св. Пав-
ла, Харона и Люцифера, образы классические и христи-
анские. Так, Данте сумел сделать то, что до него сде-
лать не удавалось: создал универсальный мир культуры,
о котором так мечтали образованные люди его эпохи,—
мир, христианский по духу и по форме, но в который
уже проникала со всех сторон античность. Такая смесь,
в произведениях многих его современников выглядящая
странной и нелепой, у Данте оправдана аллегорией, пре-
доставившей поэту свободу в выборе форм, с его точки
зрения наиболее подходивших для изложения его идей.
Языческая культура • и «мирская» наука служат ему
лишь строительным материалом, из которого он возво-
дит христианский храм, подобно тому как египетские и
греческие колонны, подпирающие сооружения новой
эпохи, становятся символом и формами нового времени
1 «Convivio», II, xv, 12. Отрывок приведен полностью в гл. VI.
182
и новых идей. Итак, в создании этого гигантского зда-
ния принимают участие все эпохи и все формы, слитые
воедино и «крещеные», проникнутые единой идей: идеей
христианства.
3. Сюжетная канва произведения крайне проста: это
история или таинство души в том простейшем ее выра-
жении, в каком ее находили в «Комедии души». Она
«Ад», Песнь I
ясна с самого начала, с первой песни. В день юбилея,
когда папа Бонифаций демонстрировал человечеству
свою власть и весь христианский мир устремился к его
престолу, Данте заблудился в темном лесу и уже изне-
могал под напором страстей, явившихся ему в образе
пантеры, льва и волчицы, когда на помощь ему пришел
Вергилий: он вывел поэта из чащи и повел за собой, дабы
тот узрел ад, а затем чистилище. Там, покаявшись
в своих грехах, Данте, ведомый Беатриче, при ослепи-
тельном сиянии света возносится все выше и вышед
в рай, предстает перед ликом божьим. Аллегорически
в Данте символизирована душа, в Вергилии — разум,
в Беатриче —божья благодать; «тот свет» —это земная
183
жизнь, изображенная в ее этико-моральном аспекте,
как бы этика в действии, то есть мир, каким он должен
быть в соответствии с законами философии и мо-
рали, мир справедливости и покоя, царство божие на
земле.
В Данте символизирована душа, но душа не отдель-
ной личности, а человеческого коллектива, человеческо-
го общества, человечества в целом. Общество, так же
как личность, развращено, оно разобщено и может
обрести мир, лишь установив царство справедливости
или царство закона, избавившись от произвола многих
и вручив свою судьбу одному человеку.
Далее вводится идея Вергилия: идея монархии, пред-
начертанной богом и основанной потомком Энея Авгу-
стом, идея Рима как столицы мира по божественному
праву. Эта политическая идея отнюдь не притянута ис-
кусственно,— напротив, это все та же этическая кон-
цепция Данте, излагаемая в применении к личности и
к обществу. Эта взаимосвязь столь глубока, что одну и
ту же аллегорию можно трактовать и в чисто этическом
плане — с точки зрения личности, и в плане политиче-
ском— с точки зрения общества. Не удивительно поэто-
му, что одно и то же явление поддается без труда самым
различным толкованиям.
4. Но если аллегория, с одной стороны, дает Данте
неограниченные возможности в многообразии форм, то,
с другой, она затрудняет их художественное воплоще-
ние. Коль скоро образ должен воплощать в себе идею,
он не может выступать как свободный, независимый
персонаж, чего требует искусство, и выступает^ лишь
как персонификация или символ той или иной идеи,
вследствие чего он содержит лишь те черты, которые
связаны с данной идеей, и отражает существо предмета
лишь в той мере, в какой это позволяет отражаемая
идея. Следовательно, аллегория расширяет поэтический
мир Данте и вместе с тем убивает его, мешает ему жить
своей жизнью, превращает его в символ некой чуждой
ему идеи. Перед нами два разных плана, существующих*
независимо один от другого, одновременно и отобра-
жающих и затемняющих друг друга. Поскольку образ
должен выступать не как таковой, а как нечто иное, то
он лишен органичности и представляет собой некий чу-
довищный агрегат, значение которого — вне его, как,
184
а...
М8
DEL
СЛ
Ml
NO
Dl
НА
VI
!ГА
cfoe U itncu йй m 'tmmk*
trm». QtHsaiu б» «Лиж* * шасшяг* 1кшш*е
:■■■-■■..■ V ■:: •...■ . ■ : ; '
ДО» й* или :
яЫЬго роса, bshtMas» JUt© ^ ш brwwe the
*.--i ■'- н ^idkStskl
^«<Ье1*»с%шкаг&&6г^*«»Ыв: *шшк»*с
с* %вткщ>ш€ |»«*©ft0 «he щНт< t «* Alii
Acre m&msk n mmmt qm.lk l«$u*fa <ju3A»
:■
"- " ' ''■ ••' &<:. .■:.:. : : ■ ,
-.:■:::-:■ ■ г-:'»':
« per rraoar «W b*a <#iks ш troua*
diiro «УЫУм reft ■ -f« «k (<ru %
emtm .ради «ЬГашк* ед&* «|wr? jjwtto
dbc Ыеш* <ш afcfeaa*cfo*y*
Guardbt matte «t ш4$ fefue fgttile
■■■":; ■-. ■;.:. : ■'■ --£;;: = :^;.K-.;:'.,;
■ gs calk
d« Rcibgo <&! «Ьге:«»«*«fttrro
iraoc*% d«© psik em £адв*|к«а
«эдак «NxmsfeS© Ц?»а«феа* 4s «§*»l$o п Л i
до^имхж&тя^Ья^^ jh^ Ааш« в&<$Шгтхюф&(&
Ьтто я^г*ае4<<ш» «t ab&iwmMi«iibet»№te6 4»<йртшг»|ш^шш14*.МАЬетЬгаЛе
^ ,, :■•..:.:.."'. ., . •. '...■•.' . ' . .:. .... ,■■■:. ; >■;.?,-.=.-,,.,;
,:;::■- - :*:,:: . :; ' :.:< • ■ . '. .
. ...-■. ' . - i. ', ,
te f«w»A»i» СЫ|«* «et шявв АН* mi» ш*$**ш се «sd prjaofsio «t tw$m« 4Шм eta Ьдаш» й>
-1 &':s*
; ■-■ ■: ■■
■"''..■!:'." :". >:■■■:
;0теЩШт: -iiaima.lm
.. .
...,■■' ' .
:
|К»гш» поп 6j ••- -uowt «brjgtop
4 '
</h;
Начальная страница «Божественной комедии»
флорентийского издания 1481 г. -
(Флоренция, Национальная библиотека)
например, грифон в «чистилище», орел в «раю», Люци-
фер и Данте с семью Р на лбу1.
Поэзия еще не смогла освободиться от аллегории.
Христианство во имя своего бога воевало не только
с идолами, но и с поэзией, ее презирало, именовало
«сводней» и «притворщицей»: оно желало голой правды2.
А правду олицетворяли философия или история: правда
поэтическая сюда не входила. Поэзию считали хитро-
сплетением лжи; слово «поэт» было равнозначно слову
«лжец», передает Боккаччо. По свидетельству св. Иеро-
нима стихи называли пищей дьявола3. А посему по-
эзию допускали лишь как символ и облачение истины,
аллегория служила ей своего рода охранной грамотой,
благодаря которой она могла снова появиться среди
людей.
Поэтов, которые облекали научные истины в поэти-
ческую форму — образную или прямую, — в отличие от
народных поэтов называли «торжественными». Данте на-
зывает поэзию «воительницей за правду», «скрытую под
покровом вымысла», так что читатель «находит под
жесткой корой, под цветистой речью полезные и прият-
ные сведения»4. Итак, поэзия сама по себе есть не более
как «прекрасная ложь», и ценнюсть ее состоит лишь
в том, что она служит оболочкой для истины.
» См. «Чист.», XXIX, 106 и ел.; «Рай», XVIII, 94 и ел. и XIX;
«Ад», XXXIV, 28 и ел.; «Чист.», IX, 112-114.
2 Об аллегории см. главным образом шестую и седьмую лек-
ции туринского курса лекций о Данте («Lezioni e saggi su Dante»
изд. Эйнауди, t. V, pp. 108 и ел., 116 и ел.).
3 «Carmina poetarum sunt cibus demoniorum» (San Giro-
la m o, Epistola «De filio prodigo» к папе Дамазу», — «Песни поэ-
тов суть пища дьяволов». Эту фразу приводит Боккаччо в своих
«Комментариях к «Божественной комедии» («Commento alia Divine
Commedia», ed. Guerri, Bari 1918, i, p. 141).
4 Эти цитаты взяты не столько из аналогичного пассажа, имею-
щегося в «Пире» («Convivio», II, i, 3): «Другой зовется аллегори-
ческим, то есть таким, который прячется под покровом вымысла,
когда истина скрыта под прекрасной ложью» — и связанного со сло-
вами Данте: «Сокрытое под странными стихами» («Ад», IX, 63),
сколько из упомянутых комментариев Боккаччо: «...поэты в меру
своего таланта многое придумывали и обо многих вещах не гово-
рили правды, но то, что в заблуждении своем они почитали исти-
ной, они скрывали под покровом вымысла, что явственно видно
на примере «Буколик» моего непревзойденного учителя Франческо
Петрарки: кто возьмет сию книгу и откроет ее, не с завистью,
а с почтительным уважением, тот найдет под жесткой корой полез-
ные и приятные сведения» (ed. Guerri, I, pp. 141—143).
185
На основе такой ложной поэтики, влияние которой на
наших поэтов мы не раз констатировали, Данте и обра-
батывает абстрактные идеи. Он отбирает ряд идей и за-
тем создает соответствующее количество предметов.
В ту пору люди привыкли к такому методу генерализа-
ции. Как правило, объектом исследования схоластиче-
ской философии были сущность и прочие абстракции.
Привычка к силлогизмам приучила всех, в том числе
и поэтов, искать в любом предмете нечто большее,
общее утверждение. Этот мир концепций и есть ось
«того света».
5. Каковы эти идеи, скажу почти словами Данте.
Родина души — небо; она, как говорит Данте, нисхо-
дит к нам со своего «вышнего обиталища» К Душа при-
частна божественной природе. Выйдя из рук божьих, она
«наивна», «ничто ей не ведомо», но она обладает двумя
врожденными свойствами — разумом и «аппетитом», то
есть «добродетелью, подающей советы», и тенденцией
«поддаваться всему, что нравится», быть «влюбчивой»2.
«Аппетит» (привязанность, любовь) влечет ее к
добру3. Но в своем неведении, невежестве она не умеет
отличить добро от зла, гонится за всем, что выступает
под видимостью добра, и обманывается. Невежество по-
рождает ошибку, а ошибка порождает зло4. Зло или
грех коренятся в материи, в чувственном наслаждении5.
Обиталище добра — дух; высшее благо — бог, чистый
дух6. Значит, человек, чтобы стать счастливым, должен
1 «Convivio», IV, xxv 9: «Небесная душа поселилась в нас,
сошедши из вышнего обиталища».
2 «Из рук того, кто искони лелеет
Ее в себе, рождаясь, как дитя.
Душа еще и мыслить не умеет,» («Чист.», XVI, 85—88);
«И вам дана способность править суд»; «В душе к любви зало-
жено стремленье и все, что нравится, ее влечет» («Чист.», XVIII,
62 и 19—20). Стих 19 следует читать так: «L'animo ch'e creato ad
amar presto». — Прим. авт.
3 «Все смутно жаждут благ...» («Чист.», XVII, 127). — Прим. авт,
4 «Он устремил шаги дурной стезей
К обманным благам»...
(«Чист.», XXX, 130—131). — Прим. авт.
5 «Мои шаги влекла тщета земная» («Чист.», XXXI, 34—35. —
Прим. авт.
6 «Один лишь грех его лишает воли,
Лишая сходства с Истинным Добром». («Рай», VII, 79—80),-з
Прим. авт.
186
противостоять плоти, должен стремиться приблизиться
к высшему благу, то есть к богу. На то дан ему ра-
зум— советчик, отсюда и проистекает свобода выбора
и моральность действий К
Разум с помощью философии дает нам возможность
познать добро и зло. А посему изучение философии есть
долг человека, есть путь к добру, к нравственности.
Нравственность — это «красота философии»2, а этика—'
«королева наук», «первое кристальное небо»3.
Для занятия философией необходимо любить. Лю-
бовь («аппетит») может посеять добро или зло в зави-
симости от ее объекта. Ложная любовь — это «аппетит,
не оседланный разумом»4. Подлинная любовь заклю-
чается в изучении философии, в «духовном слиянии ду-
ши с любимым предметом».
Философия — это «содружество с мудростью», друж-
ба души с мудростью5. Для низменных натур любовь
это лишь «чувственная услада». Только как «мыслящее
существо человек испытывает любовь к истине и добро-
детели» (то есть к философии). Подлинное счастье со-
стоит лишь в созерцании истины6.
В этих идеях была заключена квинтэссенция морали
древних. Еще языческие философы указывали на фило-
софию как на единственную тихую гавань в море
1 «Вот почему у вас ответ несут,
Когда любви благой или презренной
Дадут или отпор, или приют»
(«Чист.», XVIII, 64—66);
«И те, чья мысль была проникновенной,
Познав, что вам свобода врождена,
Нравоученье вынесли вселенной» («Чист.», XVIII, 67—69).—
Прим. авт.
2 «Convivio», III, xv, 2.
3 Ibid., II, xiv, 14: «Кристальное небо, которое считают перво-
двигателем, вполне можно сравить с моральной философией».
4 Ibid., IV, xxvi, 6. Следующая цитата — оттуда же, III, ш, 3:
«Любовь, если разобраться, есть не что иное, как духовное слияние
души с любимым предметом».
6 Ibid., Ill, xi, 6: «Философия есть не что иное, как содруже-
ство с мудростью или с подлинным знанием». По поводу «чувствен-
ного удовольствия» и «человека как мыслящего существа см. там же,
III, ш.
6 Ibid., Ill, xi, 14—15: «Цель философии состоит в том высшем
удовольствии, кое не терпит никакого вмешательства или недо-
статка, в том подлинном счастии, которое достигается созерцанием
истины».
187
житейских невзгод. Быть философом значило, да и по
сей день значит, противостоять страстям и бежать удо-
вольствий, побеждать самого себя, хранить душевное
равновесие в житейских превратностях. Но вот насту-
пила христианская эра. Человечество, расплачиваясь за
первородный грех, стало послушным рабом своих стра-
стей, и для его спасения одного разума и любви уже не-
достаточно. Разум блуждал ощупью и ввергал в ошибку,
философы «блуждали наугад»1, а любовь, оставшись без
«руля», свелась к голой чувственности. Для спасения
человечества необходимо было вмешательство сверхъ-
естественной силы. И тогда бог, приняв человеческий
образ, спас человечество 2, принеся себя в жертву во ис-
купление грехов.
Благодаря этой жертве разум был укреплен верой,
любовь — божьей благодатью, а философия, путем слия-
ния с теологией обретшая законченность, стала откро-
вением.
После того как человечество было спасено, каждый
человек получил возможность с божьей помощью обре-
сти спасение. Ведомый разумом и верой, укрепленный
любовью и божьей благодатью, человек может освобо-
диться от плена чувств и постепенно возвыситься до са-
мого бога, до высшего блага.
Этот путь от материи или от греха до духа или до
блага и составляет область морали, этику. Следователь-
но, знание морали (естественной и познанной как откро-
вение— иными словами, знание философии и теологии)
необходимо для здравия души.
Мораль — это «Nosce te ipsum», то есть познание са-
мого себя. Человек при жизни находится в одном из
трех состояний, составляющих содержание морали: в
состоянии греха, раскаяния или благодати.
«Тот свет» есть отображение морали. Ад олицетво-
ряет зло или порок, рай — добро или добродетель, а чи-
стилище есть переход от одного состояния к другому
через раскаяние и покаяние. Следовательно, «тот свет»
1 «Рай», XIII, 124—126. «Примерами перед людьми стоят Брис,
Парменид, Мелисс и остальные, которые блуждали наугад». О любви,
которая «призвана быть рулем», см. «Convivio», III, ш, 10.
2 По поводу истории грехопадения и спасения человека см.
«Рай», VII, 25 и ел.
188
отражает различные состояния, через которые человек
проходит на земле К
Таким образом, изображение «того света» — это как
бы этика в действии, наглядная этика, моральная исто-
рия человека в том виде, в каком она существует в его
сознании. У каждого человека внутри свой ад и
свой рай.
Путешествие по «тому свету» изображает путь души
к спасению. И Данте проделывает его.
Заблудившись в темном лесу (в состоянии невеже-
ства и заблуждения, — следует вспомнить лес ошибок
в «Пире») 2, он видит живописный холм, начало и перво-
причину всякой радости (блаженство), освещенный
солнцем, которое для всякого служит путеводителем
(наука), но три диких зверя (плоть, чувственные влече-
ния) преграждают ему путь. Человек сам не в силах взо-
браться на холм, не может достичь душевного спасения»
поэтому является «deus ex machina» — сверхъестествен-
ная помощь: требуется не только разум, но и вера, не
только любовь, но и благодать. Вергилий (олицетво-
ряющий разум и любовь) сопровождает поэта до тех
пор, пока, исповедавшись и покаявшись в грехах3, пол-
ностью очистившись от земной скверны, Данте не
попадает в руки Беатриче (олицетворяющей разум, суб-
лимированный в вере, любовь, сублимированную в бла-
годати). С ее помощью он выходит из состояния невеже-
ства и заблуждения (лес) и устремляется по стезе науки
(тот свет, мир, устроенный согласно этике и морали).
Сначала взору Данте предстает ад (душа в стадии
зла): он познает природу зла, его разновидности и пло-
ды его деяний (смотри песнь XI) 4. Затем он проникает
в чистилище (раскаяние и искупление), где еще
1 «Poeta agit de inferno isto, in quo, peregrinando ut viatores me-
reri et demereri possumus» (из письма к Кан Гранде). — Прим. авт.
Приведенные слова фигурируют в виде примечания Фратичелли к
упомянутому письму в «Codice Magliabechiano», (op. tit., Ill, p. 540,
nota 1).
2 «Convivio», IV, xxiv, 12. Несколько ниже перефразированы
стихи 78 и 18 первой песни «Ада».
3 Вспомним слова Данте: «И, сокрушенно исповедь содеяв»
(«Ад», XXVII, 83). Далее слово «пятно», «скверна», по-видимому,
перекликается с началом гл. V, 1 кн. «Пира»: «Ибо сей хлеб очищен
от пятен случайных...»
4 А именно «Ад», XI, 22 и далее.
189
сохраняются воспоминание о зле и инстинкт зла. Нако-
нец, осознав свое состояние (через покаяние и очищение),
Данте обретает свободу (от власти плоти или от греха).
Он возвращается к состоянию невинности, в котором че-
ловек пребывал до первородного греха, и взору его от-
крывается земной рай и Беатриче (вера и благодать).
Ведомый Беатриче, он возносится в рай (душа в стадии
блаженства), постепенно он восходит к тому, чтобы по-
знать и возлюбить (благостное лицезрение) бога, выс-
шее благо, и в этом мистическом единении человече-
ского с божественным обрести покой (блаженство).
Спасение общества происходит так же, как и спасе-
ние отдельных людей. Общество, если оно «служанка
материи», погрязает в анархии и раздорах и сбито с пу-
ти невежеством и заблуждениями. И, подобно человеку,
который может обрести покой, только победив свою
плоть и подчинившись разуму, общество способно до-
биться согласия, лишь если оно подчинится высшему
правителю (императору), благодаря которому воцарился
бы закон (разум), призванный быть руководством и уз-
дой их стремлений К
На этих общих положениях основаны все знания
того времени — метафизика, мораль, политика, история,
физика, астрономия и т. д. В центре, вокруг которого
сосредоточена вся эта обширная энциклопедия, стоит
проблема назначения человека, краеугольный камень
1 «Omne quod bonum est, per hoc est bonum, quod in uno consis-
ts... Malum pluralitas principatuum; unus ergo princeps» («все, что
хорошо, хорошо потому, что заключено в одном»... «для лучшего
состояния рода человеческого необходимо, чтобы в мире был мо-
нарх») («De Monarchia»).
«Ничтожных благ вкусив очарованье,
Она бежит к ним, если ей препон
Не создают ни вождь, ни обузданье,
На то и нужен, как узда, закон;
На то и нужен царь, чей взор открыто
Хоть к башне Града был бы устремлен.
Законы есть, но кто же им защита?»
(«Чист.», XVI, 91— 97). — Прим. авт.
Обе фразы взяты из трактата «О монархии»: первая из тома I,
xv, 4 (точнее она звучит так: «Omne quod est bonum»...), вторая —
из той же книги I, хп, 6: «Et hanc rationem videbat Phylosophus
cum dicebat: «Entia nolunt male disponi; malum autem pluralitas
principatuum: unus ergo princeps».
190
всех религий, всех философских систем, — мистерия ду-
ши; она пронизывает всю итальянскую литературу во
всех ее разновидностях. Проблема поставлена и решена
в христианском духе: человечество утратило и вновь вер-
нуло себе рай; эта эпическая история, позже описанная
Мильтоном, предваряет постановку этой проблемы1.
Человечество вернуло себе рай, вернее, каждый че-
ловек обрел силу, чтобы достичь спасения. Но как? Ка-
ков путь к спасению? «Комедия» дает ответ на этот во-
прос, дает решение проблемы.
Христианство в первый бурный период своего суще-
ствования' отвечало: человек спасает себя, подражая
Христу, спасшему все человечество, спасает себя через
любовь. Надо отвернуться от земной жизни, следовать за
богом, его любить, его созерцать. Отсюда предпочтение,
•отдаваемое созерцательной жизни, которую Данте на-
зывает «наипрекраснейшей, приближающейся к боже-
ственной»2. А отсюда — прямой путь к восхищенному
лицезрению бога, к общению души с богом, к мистицизму,
игравшему большую роль в итальянской литературе на
вольгаре. Люди, устав от мирской суеты, искали покоя
и забвения в монастырях, питали душу мыслью о смер-
ти, размышлениями о потусторонней жизни. Святые
отцы настойчиво призывали верующих обратить свои
помыслы к миру иному. Да и поныне все проповеди, свя-
щенные книги, молитвенники твердят об одном и том
же: «memento mori» — помни о смерти. Знаменитая фра-
за «помысли, душа моя»3 звучит зловеще: за ней так и
чудится страшный суд и адский пламень. Если все зем-
ное бренно, земные блага «обманны и ложны изнача-
ла» 4, если смысл жизни — в мире ином, если истина,
подлинная реальность — лишь там, то «Илиадой», поэ-
мой жизни является «Комедия», история того света.
1 В своих ранних лекциях Де Санктис говорит о «Потерянном
Рае» как о «поэме всего человечества, но несовершенной поэти-
чески» (см. «Teoria e storia», изд. Эйнауди, т. I, pp. 91 и 231—232
и в «Purismo illuminismo storicismo», cit., II.). Там же есть упоми-
нание о «Возвращенном Рае» как о «неудачном и старческом про-
изведении».
2 «Convivio», II, iv, 11—-12.
3 Выражение взято из речи, с которой Разум обращается к Па- .
мяти в «Commedia spirituale deiranima», stanza XVI, v. 4: «Затем
помысли, душа моя, о том, что есть внутри».
4 «Чист.», XXX, 132: «К обманным благам, ложным .изначала...»
191
В те времена науку не считали обязательной для
спасения души; более того, христиане кичились своим не-
вежеством, говоря: «Блаженны нищие духом». А стал-
киваясь с ученейшими людьми, знатоками языческого
мира, отвечали им: «ex abundantia cordis» — с самоуве-
ренностью и красноречием, внушаемыми религией и
пламенным языком веры. Однако чем дальше, тем аргу-
менты этих наивных душ, принижавших науку, бывшую
еще легковесной и сухой, становились все более шат-
кими. В университетах царил Аристотель, наука про-
никла в богословие, превратила его в изощреннейшую
гимнастику ума. Даже мистицизм принял наукообраз-
ную форму, превратившись под пером Августина, Бер-
нарда и Бонавентуры в аскетизм, в науку о приобщении
к святости. Таким образом, любовь обретает определен-
ное содержание, становится наукой, а единство любви и
науки — «философией», «любовным применением муд-
рости».
Тем не менее наука не противоречит вере, не уничто-
жает ее, а, напротив, подкрепляет и подтверждает все
ту же концепцию жизни. Данте тоже считает, что свя-
тость заключается в созерцании, что объект созерца-
ния — бог, что узреть бога значит достичь блаженства.
На вершине лестницы блаженных он помещает созер-
цателей, а не людей действия. Но, чтобы достичь едине-
ния с богом, недостаточно хотеть, надо знать, нужна муд-
рость, которая состоит из любви и науки, представляет
собой единство мысли и действия. Вот почему Вергилий
не может символизировать разум без любви, а Беатри-
че— веру без божьей благодати. Данте сам одновремен-
но знает и желает, — каждое его действие, связанное с
познанием, влечет за собой действие, связанное с жела-
нием. На вершине лестницы — разум; любовь должна
сочетаться с пониманием: надо иметь «разум любви».
К такому выводу приходит Данте. Та же проблема
возникает через четыре столетия: изменятся лишь фор-
мулировки. Отправной точкой будет не невежество —
«темный лес», а пресыщение, опустошенность науки, не-
удовлетворенность созерцательностью, потребность в ак-
тивной деятельности. Место мудрой Беатриче займет не-
вежественная наивная Маргарита. Фауст уже не созер-
цает, а действует. Более того, он слаб именно там, где
он созерцателен, в его занятиях наукой. Выход он ищет
192
в тем, чтобы вновь окунуться в освежающие волны
жизни К
Но во времена Фомы Аквинского разум едва вступал
в пору юности. После долгих лет бездействия он просы-
пался — любознательный, легковерный, острый и тем бо-
лее доверчивый, чем менее он разбирался в себе самом и
в окружающем. К нему предъявлялись неограниченные
требования, и он все обещал. Он должен был дать лю-
дям философский камень нравственного мира — счастье.
Наука ставила перед собой не только спекулятивные, но
и практические цели. По мнению Данте, наука как об-
ласть спекулятивного мышления исчерпала себя и упо-
добилась книге, закрытой за ненадобностью, так как все
страницы ее были исписаны. Но наука призвана воздей-
ствовать также на волю людей, вести их к добродетели
и счастью. Если этого чуда еще не произошло, если дей-
ствительность еще не соответствовала требованиям на-
уки, то виновато было, по мнению Данте и по мнению
его современников, невежество. Следовательно, необхо-
димо было сделать доступной науку, поставить перед
ней нравственную цель и направить ее на путь достиже-
ния этой цели. Отсюда то значение, какое придавалось
этике и риторике, то есть науке о нравах и искусству
спора.
6. Все предпринятые дотоле попытки, включая «Пир»,
были неудачными. Ведь истину лишь излагали, задачи
доискиваться до истины не ставилось — для этого у всех
писателей, в том числе и у Данте, недоставало ни зна-
ний, ни научного рвения. И само изложение не было
свободно, зависело от господствовавших схоластических
1 Свои соображения об аллегорическом, духовном мире Данте
Де Санктис формулировал уже в четвертой цюрихской лекции, от-
рывки из которой были опубликованы Кроче в «Atti dell'. Accademia
Pontaniana», 1914, IV, и позднее в «Pagine sparse». (Эта лекция,
которая должна была составить одну из глав проектировавшегося
сборника работ Де Санктиса о Данте, ныне полностью вошла в
обоих вариантах в «Lezioni e saggi zu Dante», изд. Эйнауди, pp. 568 и
ел., 600 и ел. Почти в тех же словах Де Санктис высказал эту мысль
в своем докладе «Наука и жизнь» в неаполитанском университете
16 ноября 1872 года. В изд. Эйнауди он включен в т. XIV «Искус-
ство, наука и жизнь». О параллели, проводимой между Данте и
Гёте, и о всей постановке вопроса в этом отрывке см.: Qui net,
op. cit., I, pp. 133—134: «Данте знаменует отрочество человеческого
духа. Он никогда не одобрял бессилия человеческой мысли и пре-
клонялся перед философией так же, как и перед религией. Он
убежден, что в его тигеле заключено «чистое золото» правды и что
13 Де Санктис
193
схем. А при таких условиях не могло возникнуть фило-
софской литературы, произведений, какие пишутся людь-
ми, склонными к размышлению, в которых показывается
не только сама идея, но и как она зарождается, как ты
ее себе представляешь, какие чувства сопутствуют ее
рождению, как в самом процессе изложения склады-
ваются новые мысли — пока еще смутные, неуловимые,
зачаточные, но уже вырисовывающиеся в сознании. Та-
кова высшая форма философии, создаваемая непосред-
ственно работой мысли, приводящей в движение все про-
чие человеческие способности, включая воображение.
Содержание же философских трактатов того времени со-
ставляет не научное исследование, предпринимаемое с
того места, до которого оно доведено предшественника-
ми, а изначальные, уже известные истины; их прини-
мают как аксиому, в том сыром виде, в каком они пре-
подносились в школе. Земля ближе тому, кто ее обраба-
тывает, а не тому, кто ею владеет. Данте принадлежат
обширные владения, но сам он к ним не приближается,
с ними не соприкасается, не живет жизнью полей, не об-
рабатывает их, знает их лишь по отчетам. Вот почему
это только абстрактная собственность, без фактического
вступления во владение, без освоения достояния, которое
не становится как бы частью самого существа, частью
души. Нет научного исследования, нет и страсти, поро-
ждаемый умственным трудом, которому предаются с лю-
бовью. Философ проникает через оболочку и погру-
жается в подземный мир, где, как говорит Мефистофель,
• коренятся истоки науки Л Здесь наука остается на по-
в одной книге могут быть заключены все тайны вселенной, что
силлогизмы Сижье распахнут перед ним двери всех тайн. Он при-
льнул к истокам этой наивной науки, как ребенок к материнской
груди, уверенный, что упивается божественной мудростью. Наоборот,
Фауст в изображении Гёте — это человеческий дух в старости: чем
больше он познает, тем больше сомневается, чем глубже проникает
в тайны науки, тем более отдаляется от цели. Устав мыслить, он
хотел бы забыться. Эти противоречия особенно проявляются в раз-
ном отношении поэтов к любви. Данте ставит женщину превыше
всего, женщина для него — воплощение мудрости и философии.
Какова же Беатриче Фауста, «пресыщенного наукой»? Кто является
для него олицетворением счастья? Простая девушка из народа,
предельно, божественно невежественная».
1 Эту мысль Мефистофель высказывает в своей беседе с импе-
ратором (одна из сцен «Фауста», переведенных Де Санктисом
в период 1851—1853 годов); «Фауст», II, акт первый, императорский
дворец, Тронный зал.
194
верхности и пожинает свои плоды без всякого труда.
Все дано заранее: сама наука, ее доказательства, ее
язык. А коль скоро общие очертания науки остаются
незыблемыми и неизменными, мозгу предоставляется
возможность осуществлять лишь последнюю, наи-
менее сложную операцию: классифицировать и рассу-
ждать.
Поскольку в основе всего построения лежала наука,
то отсюда возникла и та ложная поэтика, о которой го-
ворилось выше. «Торжественная», ученая литература
стала орудием науки, средством ее популяризации. Она
придерживалась двух путей: прямого изложения или из-
ложения аллегорического. Именно так, а не иначе мыс-
лил Данте, изображая «тот свет». Подобно философам,
которые проповедуют свою концепцию на примере не-
коего утопического общества, основанного на пропове-
дуемых ими принципах, Данте строит аллегорический
мир науки; однако он находит способ изложить некото-
рые основные положения и в прямой форме.
Он как бы говорит: вы хотите спасти свою душу?
Тогда следуйте за мной на тот свет. Там из уст умер-
ших мы услышим философию морали, науку спасения.
И вот мертвецы говорят, они излагают основы наук,—
особенно часто это происходит в раю, уподобившемся,
таким образом, самой настоящей университетской ка-
федре или амвону. Наука содержится не только в речах
мертвецов, она лежит в основе всего построения и изоб-
ражения «того света», где она выступает в виде образов,
в аллегорической форме.
Научная система преследует поэта, бродящего среди
вымышленных им фигур, она как бы предупреждает.
Помни, ты пришел сюда не из любопытства, не для
того, чтобы наблюдать и описывать. Цель твоя — при-
общать к науке людей ради спасения их души. Не забы-
вай о науке! А поэтика ему внушает: помни, что твой
вымысел, как бы прекрасен и увлекателен он ни был,
есть не более чем глупая ложь; ведь поэзия — лишь
оболочка, под которой должна быть сокрыта ученость.
А посему поэт заставляет саму жизнь «производить»
науку: наука стоит за реальностью, подобно тому как
за тенью непременно стоит предмет: наука подоб-
на предмету, а действительность — тени, «предвестью
13*
195
правды»'. Вернее, действительность — нечто еще мень-
шее, чем тень, ибо в тени заключены по крайней мере
очертания предмета. Действительность — азбука науки,
так же как слова — азбука мысли; но это азбука не бук-
венная, а из предметов, каждый из которых символизм
рует ту или иную идею.
Таковы представления того времени. Теперь ясно,
почему главная идея эпохи — таинство души или назна-
чения человека — еще не получила своего воплощения
в искусстве. Ведь искусство — это отражение действи-
тельности, живой действительности, ценность и смысл
которой заключается в ней самой. Здесь же наука, вме-
сто того чтобы «погрузиться» в действительность и слу-
жить ей, впитывает ее в себя, растворяет в себе.
Итак, народная литература в таинстве души изобра-
жала действительность, реальность в ее грубом, прими-
тивном виде, а ученая, «торжественная» литература
облекала ее в форму трактата или аллегории. Данте
овладел этой идеей и попытался воплотить ее в произ-
ведении искусства. Но он принялся за дело, располагая
теми же намерениями и теми же формальными сред-
ствами, как и его предшественники. Он взял грубую
реальность аскетов и решил сделать из нее «смутное
предвестье правды», аллегорию науки. Но такой замы-
сел не мог привести к созданию произведения искусства.
Нельзя создать художественное произведение, прямо
излагая научную тему. Поэт, задумавший сделать это,
ставит перед собой неосуществимую задачу, ибо нельзя
придать телесность тому, что по природе своей бесте-
лесно. Поэтому поэзия становится лишь внешней обо-
лочкой, как бы служит «нарядом», а не пронизывает
идею, не поглощает ее; идея по-прежнему остается аб-
стракцией. Для достижения цели Данте пускает в ход
все силы своего воображения. Только он смог с такой
силой «атаковать» науку в ее же расположении, на ее
почве. Но этот союз поэзии с наукой, который он назвал
в «Пире» «брачным союзом навек»2, не органичен: под-
1 См. «Рай», XXX, 76—78.
...«Река, топазов огневых
Взлет и паденье, смех травы блаженный —
Лишь смутные предвестья правды их».
2 В «Convivio», III, хи, 13 (сказано о философии и божествен-
ной мудрости).
Д96
линного слияния не получилось; под пером Данте поэзия
и наука продолжали жить раздельно. Подчас поэзия
делает науке ценные подношения; она может облачить
ее в пышные одежды, увешать драгоценностями, окру-
жить ее лаской, разукрасить, но не овладеть ею. Овла-
деть ею поэзия может лишь тогда, когда наука переста-
нет жить отдельно от нее, станет ее жизнью и душой,
реальностью.
7. Аллегория — первая, переходная форма искусства.
Это уже реальность, но реальность, ценность которой
состоит пока не в ней самой: она выступает как образ,
смысл и значение которого — вне ее, в том, что она ото-
бражает,— в предмете, в идее.
И поскольку в отображаемом всегда присутствует не-
что, чего нет в образе, а в образе — нечто, чего нет
в отображаемом, то реальность в аллегорическом изо-
бражении неизбежно выступает в искаженном и урезан-
ном виде: либо поэт приписывает ей черты, свойственные
не ей самой, а тому, что она отображает (например,
пес, вкушающий мудрость и добродетель) J, либо за-
печатлевает лишь некоторые ее стороны, — останавли-
ваясь на них не потому, что они для нее характерны,
а потому, что они отражают определенную идею (гри-
фон в «Чистилище») 2. В обоих случаях реальность
не живет в самой себе, вернее, вовсе не живет, весь
интерес сосредоточен на том, что она отображает, — на
мысли.
Мысль же либо затемнена, и тогда всякий интерес к
ней отпадает, либо может быть истолкована по-разному,
и тогда она оставляет читателя безучастным и холод-
ным, либо ясна — но в таком случае она выступает э
своем абстрактном виде, лишенная поэтичности.
Лес есть отображение земной жизни. И земная жизнь,
именно в силу того, что она подается как отображение
некоей идеи, предстает перед нами без всяких подроб-
ностей, — а ведь только через них и в них она может
себя проявить, — абстрактная и застывшая, как идея.
Этот обедненный образ обречен, подобно Пьеру делле
Винье, на то, чтобы взирать на свое тело, «повиснувшее
на кусте колючем», не надеясь когда-либо воплотиться
» «Ад», I, 103—105.
2 См. «Чист.», XXIX- XXXII.
197
в н'его вновь К И не совсем свое, ибо это своеобразное
тело, называемое образом, служит двум хозяевам, оно
есть оно и нечто другое, одновременно символ и образ,
тело с двумя душами, изображенное таким образом, что
поначалу кажется самим собой, лесом, но, если присмо-
треться внимательнее, обнаруживаются следы чего-то
иного. Подчас образ заставляет забыть о том, что он
должен изображать, иногда, наоборот, иносказательный
смысл душит самый образ. Чаще всего в буквальный
текст проникают посторонние подробности, которые его
искажают и портят; в результате, вместо того чтобы уго-
.стить вас двумя яствами, вас оставляют голодным.
Как бы то ни было, в этом выражении искусство еще
отсутствует. Реальность подается либо как отображение
абстрактной, не связанной с текстом мысли, либо как
символ, воплощающий в себе некое столь же абстракт-
ное и не связанное с текстом содержание. Взаимопро-
никновения между ними нет. Мысль не проникает в изо-
бражение, не пронизывает его. Перед нами лишь первые
заготовки, искусства как такового еще нет.
Данте принялся за свой труд, располагая именно
этими формами, ставя именно эти задачи. Если, с одной
стороны, аллегория позволила ему создать широчайшую
панораму и растворить в христианском мире всю антич-
ную культуру, мифологию, науку и историю, то, с другой
стороны, лишив его свободы и спонтанности в изобра-
жении действительности, она в зародыше убила его сме-
лый замысел, сведя его к мысли, к символу, к заранее
запланированному сооружению, умозрительному по со-
держанию и аллегорическому по форме. Если бы «Коме-
дия» полностью соответствовала данному определению,
она заняла бы то же место, что до нее занимали «Ма-
ленькая сокровищница», а после нее — «4 царства» с
его несуразным нагромождением абстрактных идей2.
8. Но рядом с миром абстрактного мышления суще-
ствовал мир конкретный и реальный, история которого
1 «Ад», XIII, 103—104: «Пойдем и мы за нашими телами, но
их мы не наденем в судный день».
2 О «Маленькой сокровищнице» см. выше, гл. II, IV, VI. «4 цар-
ства» — прототип аллегорического ученого произведения — был из-
дан в XV—XVI веках, затем вышел в 1725 году в изд. Фолиньо и
был вновь опубликован Антонелли (Venezia 1839) в сборнике «Par-
naso classico italiano» о Латини и Федерико Фрецци см. ниже,
198
была рассказана в примой и аллегорической форме в
Ветхом и Новом завете и который уже имел свою лите-
ратуру— аллегории, мистерии, кантики, лауды, видения,
легенды. Эту литературу создавали неискушенные, ни-
щие духом люди. Они видели путь к спасению души не
в аллегорических, вымышленных творениях науки, а в
созерцании конкретных существ и предметов — бога, пре-
чистой девы, Христа, ангелов, святых, ада, чистилища,
рая — всего того, что они называли «загробным миром»,
миром, бывшим для них не отображением земной жизни,
а единственно реальным и истинным. Созерцанию или
ясновидению предавался святой, пророк, апостол, пропо-
ведник слова божьего. Данте же, будучи другом филосо-
фии, созерцая царство божие, становится не только его
философом, но пророком и апостолом. Он открывает и
проповедует людям правду, выступает как миссионер
загробного мира. Эту священную миссию поручает ему
сам св. Петр, разверзший его уста:
И ты, мой сын, сойдя к земной судьбе
Под смертным грузом, смелыми устами
Скажи о том, что я сказал тебе!
(«Рай, XXVII, 64—66)
К этому христианскому миру, пророком которого он
стал, к его духу и букве Данте относится с той же серь-
езностью, что и все верующие. Данте говорит о нем язы-
ком науки, видит его через призму науки. Наука не под-
тачивала этот мир, а, напротив, иллюстрировала его и
подкрепляла. Предположить, что этот мир был для Дан-
те лишь образом, лишь формой воплощения его научных
взглядов, значило бы впадать в анахронизм: забегать
вперед вплоть до Гёте. Наука проникает в этот мир;
в виде либо рассуждения, либо аллегории она объяс-
няет его структуру и его идею, подобно тому как фило-
соф толкует природу. И, так же как природа для фило-
софа, загробный мир для Данте значит гораздо больше,
чем образ; для него он конкретная и серьезная действи-
тельность, имеющая свою ценность и свое значение.
Но христианский мир в изображении Данте не пред-
стает таким отвлеченно-абстрактным, каким его рисует
религия, а также кантики, проповеди, мистерии и ле-
генды. Вместо жизни созерцательной — жизнь активная,
конкретизируемая как реальная действительность.
199
Поскольку с точки зрения религии совершенство со-
стоит в пренебрежении земными благами, все истинно
верующие люди начиная с Франциска Ассизского и до
Екатерины не могли спокойно смотреть на распущен-
ность клира и монашества, на разложение, царившее
в «святом граде», где Христос стал «вседневным това-
ром», они возмущались, что папа стал светским госуда-
рем, преследовавшим земные цели и земные интересы,
запятнавшим себя преступной связью с королями 1. На
этот счет мнения святых и Данте совпадали, и чем глуб-
же была их вера, тем больше негодование. Мы уже упо-
минали о том, что Бонифаций заключил союз против
императора с Филиппом Красивым (что Данте называет
«любодейным грехом»), послал Карла Валуа во Фло-
ренцию прогнать оттуда Белых и помочь утвердиться
Черным гвельфам. Гвельфизм был в тот период орудием
церкви, той самой церкви, которая была «блудливой
наложницей» короля Франции, вскоре после этого вы-
дворившего ее в Авиньон, гнездом раздоров, зачинщицей
всех гражданских смут. Обладая светской властью и
руководствуясь светскими интересами, она была не толь-
ко главной виновницей падения нравов века, но мешала
созданию национальных государств, служила основным
препятствием на пути Италии, которая призвана — упра-
вляемая народной властью или властью императора —
стать прообразом единства царства божия. Прогнивше-
му миру церкви противопоставлялась чистота евангель-
ских времен, мирная2, скромная жизнь городов, прежде
чем там воцарились продажность и распущенность нра-
вов, дурной пример которых подавала сама церковь.
Из сказанного следует, что политические проблемы
проникали в этот христианский мир и играли в нем
существенную роль. Политика еще не стала к тому вре-
мени наукой, обладающей своими специфическими зада-
чами и методами, а составляла пока приложение к этике
1 Этот отрывок изобилует выражениями из «Комедии». «Рай»,
XVII, 51: «Там, где Христос вседневным стал товаром»; «Ад», XIX,
108: «И деет блуд с царями многих стран»; «Рай», IX, 142: «Из-
будут вскоре любодейный грех». Аллегория, связанная со словом
«блудница» (см. ниже), фигурирует в «Чист.», XXXII, 148—153.
2 Имеются в виду Дантовы слова:
«Те ой прекрасный, мирный быт граждан,
В гражданственном живущих единенье»
(«Рай», XV, 130^-131);
200
и риторике. С точки зрения реальной жизни идеалом
ее был христианский мир, точнее —ранний этап его су-
ществования, как бы «золотой век» христианства.
Для Данте этот христианско-политический мир уже
не был предметом абстрактного и философского созер-
цания. Живя активной жизнью, Данте выступал как его
судья, как боец. Обиженный Бонифацием, изгнанный
из Флоренции, он бродил по свету, обуреваемый то на-
деждами, то сомнениями, раздираемый самыми противо^
речивыми чувствами — ненавистью и любовью, жаждой
мести и нежностью, возмущением и восхищением; все
свои помыслы он устремлял к родному городу, который
ему не суждено было больше увидеть, глубоко пережи-
вая трагедию Италии, которая была его собственной
трагедией, ни у кого не находя поддержки своим мне-
ниям; жизнь была сломлена в расцвете лет, чувства че-
ловека и гражданина оскорблены.
О чем бы ни размышлял, о чем бы ни фантазировал
Данте, он пишет кровью сердца. Он — не Гомер, невоз-
мутимый и безличный созерцатель, он весь здесь, всем
своим существом, настоящий «микрокосмос», жизненный
центр этого мира, его апостол и вместе с тем жертва.
Таким образом, как философ и писатель, Данте, пол-
ностью разделявший вкусы и взгляды своей эпохи, за-
думал построить этическую или научную картину миро-
здания в форме аллегории; вступив в созданный им мир,
он обнаружил нечто большее, нежели его отображение,
картину. Подобно тому художнику, который, увидев, что
нарисованный им образ св. Иеронима ожил 1, преклонил
1 Здесь, так же как и в очерке 1855 года о «Беатриче Ченчи»
Гверраци и в «Saggio critico sul Petrarca» (изд. Эйнауди, t. VI),
Де Санктис, по-видимому, имеет в виду эпизод из жизни какого-то
художника: установить, откуда этот эпизод им почерпнут, не уда-
лось. Во всяком случае следует отвергнуть предположение Руссо,
высказанное им в примечании к упомянутому очерку о Гверраци
(«Saggi critici», ed. Laterza, I, p. 39), согласно которому речь идет
об одной картине, на которой художник якобы изобразил себя,
в экстазе взирающим на святого. Более вероятно другое предпо-
ложение, связанное с рассказами старинных биографов Доменикино;
так, Беллори пишет: «[Доменикино] говорил, что, рисуя, следует не
только созерцать и судить о результатах, но чувствовать их на себе
самом, творить и одновременно испытывать на себе плоды содеян-
ного. Вот почему он иногда разговаривал вслух сам с собой, ис-
пускал стоны и крики радости в соответствии с теми чувствами,
какие вызывала его картина...» Следует иметь в виду, что во вре-
201
перед ним колена, Данте, стремившийся лишь создать
Художественный образ, нашел реальность, полную жиз-
ни, нашел самого себя.
Кроме того, Данте был подлинным поэтом. Напрасно
он твердил, что поэт значит пророк, воитель за правду.
Какое святое заблуждение! Он сам не знал, в чем со-
стояло его величие. Он был поэтом и восставал против
аллегории. Вымысел, то, что он называл прекрасной
ложью, воодушевлял его, захватывал, увлекал; Данте-
отдавался творчеству целиком, не умел останавливаться
на полпути. В порыве вдохновения он не в силах по-
стоянно думать о втором, скрытом смысле, создавать
куцые образы, в которых все было бы рассчитано до
мельчайших деталей, что удается посредственностям.
Реальность врывается стремительным потоком, опроки-
дывает аллегорию, становится самой собой, и в этой
полноте жизни, в изобилии конкретных деталей тонет
отображаемая идея. Вполне понятно поэтому отчаяние
комментаторов. Создав свой мир, Данте как бы сказал
людям: спорьте и решайте сами...
Дабы привести в соответствие свою поэтику со своей
поэзией, Данте утверждает в «Пире», что буквальный
смысл произведения должен быть независимым от алле-
гории, то есть должен быть понятен сам по себе 1. Через
эту лазейку он вырвался из тисков аллегории и обрел
творческую свободу, обеспечил свободу и независимость
созданным им образам. Пусть загробный мир задуман
как отображение науки: но это прежде всего загробный
мир, а Вергилий — это Вергилий, Беатриче — это Беат-
риче, Данте — это Данте, и если есть у нас на что посе-
товать, так это именно на то, что скрытый смысл втор-
гается в повествование, искажает образ, разрушает ил-
люзию 2.
мена Де Санктиса еще славились художники болонской школы и
что самая известная картина Доменикино — это как раз колено-
преклоненная фигура причащающегося св. Иеронима (хранится в
Ватикане).
1 «Convivio», II, 1, 8—15.
2 По поводу поэтической самостоятельности образов поэмы см.
размышления Шеллинга: «Поэму Данте нельзя назвать аллегориче-
ской в том смысле, что ее образы имеют лишь аллегорическое зна-
чение и сами по себе не означают ничего. Однако в ней нет и таких
образов, которые были бы столь самостоятельны по своему значе-
нию, чтобы выступать как сама идея, как нечто большее, чем алле-
202
Следовательно, в «Комедий», как во всяком произ-
ведении искусства, следует различать замысел автора и
результат его творчества, то, что поэт хотел сказать, и
то, что он сказал. Человек делает не то, что он хочет,
а то, что он может. Поэт приступает к работе, распола-
гая поэтикой, формами, идеями своей эпохи, разделяя
настроения своих современников. И чем менее он ода-
рен, тем точнее он выполняет свой замысел. Возьмем,
например, Брунетто и Фрецци. У них все ясно, логично,
стройно, у них реальность не более чем отображение
идеи. Но если поэт — подлинный художник, то возни-
кает противоречие: замысел уступает искусству1.
9. Как родилась у Данте тема «Комедии» — сказать
трудно. Гении не писали тогда мемуаров, а по тому, что
известно, трудно угадать ход мыслей художника, когда
он приступал к работе. Трудно производить геологи-
ческие изыскания в произведении искусства и обна-
ружить в его окончательной форме следы предвари-
тельной работы. Возможно, что Данте задумал свою
«Комедию» еще в молодости, как подражание столь
модным в ту пору комедиям души и видениям загроб-
ного мира, и что поначалу он помышлял лишь просла-
вить Беатриче и изобразить загробный мир. Кое-какие
отрывки и даже отдельные песни, по-видимому, были
написаны еще до того, как в голове Данте сложился
гория идеи. Для поэмы Данте характерно нечто особое, нечто сред-
нее между аллегорией и ее объективным олицетворением в виде
символа. На этот счет нет никаких сомнений, и это заявляет сам
поэт, говоря, например, что Беатриче есть аллегория богословия.
Аллегоричны также образы ее подруг и другие персонажи. Но они
имеют вес и сами по себе, они выступают не только как символы,
но и как исторические лица» («Considerazioni filosofiche sopra
Dante», перев. и изд. Никколини, Niccolini G. В. «Ореге», Firenze 1844).
По этому вопросу и прежде всего об образе Вергилия см. ран-
ние лекции о «Божественной комедии»: «Действующие лица рас-
сказывают нам о себе, сознавая свою сущность, без иллюзий. Такую
манеру повествования можно назвать исторической, ибо что это
иное, как не история! Удивительная роль отведена в поэме образу
Вергилия. Если Данте — человек, испытывающий настоящие чело-
веческие страсти, то Вергилий — умиротворенный и сдержанный —
выступает в роли Пилада при Оресте, то есть в новой роли разума,
истории». См. «Teoria e storia», cit., t. I, pp. 216—217 и «Purismo
illuminismo storicismo», cit., t. II.
1 О «полноте жизни» в поэзии Данте и о проблеме символики
в искусстве см. шестую лекцию туринского курса «Победа гения
над критикой» в «Lezioni e saggi su Dante», cit., t. V, pp. 108—116.
203
точный и стройный план произведения. Этот период
жизни поэта, менее всего известный критикам, был на-
пряженнейшим периодом колебаний, внутренней
борьбы, первых поэтических опытов и блужданий, пе-
риодом интенсивной внутренней жизни. Начав думать
над темой «Комедии», поэт сразу же обнаружил, что
соответствующая теме сторона реальности как бы на-
чала таять; ее мерцающие очертания проступали отку-
да-то снизу, как сквозь облака пара; деревья, коло-
кольни, дома, очертания людей и предметов как бы
дробились, выступали кусками. Кто не в силах унич-
тожить реальность, тому не под силу и воссоздать ее.
Эти «куски» уже наполнены притягательной силой,
чувством, они тянутся друг к другу, соединяются, как
бы движимые желанием, неясным предчувствием уго-
тованной им новой жизни. Подлинное творчество начи-
нается с того момента, когда этот беспорядочный, раз-
розненный на куски мир находит свой центр притяже-
ния. И тогда он перестает быть беспредельным и, сле-
довательно, расплывчатым, обретает устойчивую форму.
Вот тогда он рождается и живет, то есть развивается
по своим законам. Мир Данте нашел свою основу в
моральной идее.
10. Эта моральная идея отнюдь не навязана извне,
она переплетается с замыслом поэта, с концепцией
«того света», без нее было бы непонятно само суще-
ствование загробного мира. Итак, основа, на которую
опирается Данте, подлинная: она органически входит
в тему. И если налицо дефект, то искать его следует в
самой теме. Но Данте, размышляя об этом не как
поэт, а как философ, «перешагнул» через тему. Она не
доставляет ему радости, но он ее показывает и развер-
тывает. Впрочем, он не довольствуется и этим. Идея
становится философией, цельной и стройной системой
представлений, она уже составляет не просто основу,
внутренний смысл «того света» (как дух в природе), а
самое существенное содержание, тему, цель.
И вот живая действительность, испаряясь, стано-
вится «философской абстракцией», весь смысл произ-
ведения о «том свете» сводится к морально-политиче-
скому наставлению. Автор спонтанных народных сти-
хов превращается в ученого, «торжественного» поэта.
Данте кажется пустым занятием, достойным лишь
204
третьесортных стйхопЛёТбй, описывать загробный мир
попросту, таким, каким он представляется каждому.
Представление об аде существует, но оно — для про-
фанов, людей неискушенных, улавливающих только
внешнюю сторону вещей. Он же пишет для посвящен-
ных, для людей с недюжинным умом; он советует им
не останавливать свое внимание на оболочке, а смот-
реть глубже. И все принялись «смотреть глубже».
И. Так родились два Дантовых мира: один — бук*
вальный, видимый, второй — скрытый: образ и отобра-
жаемая им идея. И поскольку главный интерес заклю-
чался в скрытом смысле, в сокровенном, то ученые и
принялись за его поиски. Они его искали, но не нашли,
долго спорили, гадали, наконец победил здравый
смысл в лице Вольтера, который сказал: итальянцы
называют его божественным, но его божественность
сокровенная. Поистине нет пророка в своем отечестве.
Слава его нетленна, оттого что никто его не читает К
Вольтер хочет сказать: «Мы трудились над твоей «Ко-
медией» до седьмого пота в течение многих веков. Но
ты не пожелал открыться. Бог с тобой!» И еще: «А
стоит ли тратить на это силы? Божественность, если
она остается скрытой, сомнительна».
Тем не менее ни «вето» Вольтера, ни его пренебре-
жительные высказывания о Данте не приостановили ис-
следований и не охладили пыла комментаторов. Италь-
янские и иностранные филологи с удвоенным рвением
принялись за толкование «Комедии», этого двуликого,
или, вернее, «двупланового» Януса, в одном плане ви-
димого, в другом — невидимого. Каждый старался хоть
сколько-нибудь приоткрыть покров тайны, окутывав-
шей божество. Но, несмотря на свою проницательность,
на огромную эрудицию, на глубокое знание эпохи, на
терпеливое изучение всего наследия Данте, ученые так
1 Знаменитое отрицательное суждение Вольтера в его «Письме
о Данте», вошедшем в «Философский словарь»: «Вы хотите знать
Данте. Итальянцы называют его божественным, но его божествен-
ность — сокровенная. Поистине, нет пророка в своем отечестве. Есть
много комментаторов Данте, быть может, это еще одна причина,
почему он остается непонятным. Имя его будет завоевывать все
больший авторитет, потому что его почти не читают. Есть штук
двадцать цитат, которые все знают наизусть: этого достаточно,
чтобы не утруждать себя изучением всего остального» («Oeuvres
completes», L. Diet, phil, IV, p. 113, Paris 1784—1785).
205
и tie сумели пойти дальше гипотез и Догадок1. В ста*,
рину толкователи Данте расходились в деталях; проти-
воречия современных комментаторов оказались го-
раздо более глубокими; существуют целые системы
комментирования Данте, причем одна полностью опро-
вергает другую. По сей день каждое немецкое издание
Данте сопровождается новыми объяснениями К Читая
критическое исследование «Комедии», неизбежно по-
гружаешься в целый ворох проблем. Имя Данте, со-
пряженное с тысячью силлогизмов и скрытых намеков,
стало отпугивать, так что невольно возникает вопрос:
каков же настоящий Данте? Ведь каждый коммента-
тор рисует его по-своему, каждый приписывает ему
свои мнения, чувства, заставляет петь на свой лад.
Один изображает его апостолом свободы, человечности
и человечества, сторонником национального единства;
другой — предтечей Лютера, третий —отцом церкви.
Ищут Данте там, где его нет, возводят в достоинство
его недостатки, и не удивительно, что Ламартин, кото-
рый тоже искал его и не нашел, поспешил сделать вы-
вод: «Значит Данте не существует»2.
Я же прихожу к другому заключению. Раз его нет
здесь, будем искать в другом месте. О величии боже-
ства следует судить не в его святилище, но там, где оно
проявляет себя с особенной пышностью. В погоне за
чудесами воображаемого мира мы не замечаем чудес,
1 См. четвертую цюрихскую лекцию (op. cit., p. 179) об умозри-
тельной аллегорической системе Данте. Упоминание о еще более
точных указаниях относительно толкования Данте, сделанных Кан-
негиссер, Витте и Вегеле, имеется в приведенном очерке «Carattere
di Dante e sua Utopia», см. «Lezioni e saggi su Dante», изд. Эй-
науди, pp. 547 и ел. и соотв. прим.
2 Слова Ламартина, тоже получившие известность, взяты из
«Cours familier de litterature»: «Он сам себя наказал: он — певец
своего времени, потомки его не понимают... Данте совершил одну
ошибку. Он думал, что потомки, очарованные красотой его стихов,
поддержат его борьбу против каких-то людей, с которыми он
враждовал во Флоренции. Дружба и вражда этих никому не из-
вестных людей совершенно безразлична потомкам: всей этой рифмо-
ванной хронике событий, развернувшихся на площади перед «Па-
лаццо Веккио» во Флоренции, они предпочтут хорошие стихи, удач-
ный образ, тонкое чувство. Но стиль, каким Данте написал эту хро-
нику иного мира, остается нетленным...»
Эти строки до включения их в «Общий курс литературы» были
опубликованы в газете «Le Siecle», 10. XII. 1856 г. Статья Ламар-
тина вызвала ожесточенные споры.
206
рассыпанных рядом. На все лады воспевая «Комедию»
и в ее буквальном и в «потаенном» смысле, обычно
искусственно преувеличивали значение умозрительно-
аллегорической стороны произведения — хотя бы по-
тому, что на изучение ее было потрачено столько труда.
Если бы Данте ожил и услышал, что в образе Беатриче
видят ересь или ее уподобляют душе самого поэта, что
гарпии — это монахи доминиканского ордена, а Люци-
фер — папа и что язык «Комедии» — это жаргон особой
секты \ если бы он увидел, сколько тайных мыслей
ему приписывают, он бы многим надрал уши и сказал:
«Это «но» не мое!»2
Можно было бы ему возразить: «Вы сами виноваты,
выражались бы яснее! Вы обещали аллегорию: почему
же не сдержали своего обещания? Ваш образ не соот-
ветствует отображаемой идее. Зачем вы сделали его
таким прекрасным, зачем придали ему такую реаль-
ность? Как отыскать аллегорию во всем этом многооб-
разии деталей? Не удивительно, что один и тот же об-
раз, по-моему, значит одно, а по-вашему — другое! Не
удивительно, что в одном и том же образе достаточно
материала для доказательства правильности трех или
1 Имеется в виду толкование Габриеле Россетти, подобно Фос-
коло, усматривавшего в «Божественной комедии» аллегорическую
поэму, в которой отстаивается необходимость глубокого обновления
церкви в гибеллинском духе. Этот тезис, который Россетти разви-
вал в нескольких своих работах, был затем подхвачен Э, Ару. По
поводу его позиции см. очерк Де Санктиса о Пьетро делле Винье
(«Lezioni e saggi su Dante», cit., t. V, p. 353) и прежде всего суро-
вое суждение, высказанное в лекциях по итальянской литера-
туре XIX века: «Россетти, карбонарий, привыкший оперировать сим-
волами, после глубокого изучения своих любимых книг — Данте и
библии, впитав в себя образы и видения, которые мы называем
«библейскими», решил, что Данте, библия и другие книги не
должны трактоваться буквально, что они написаны языком некоей
секты, от которой произошли затем карбонарии. В одной из своих
книг, комментируя некоторые песни «Ада», он высказал это ориги-
нальное мнение, показавшееся всем весьма странным и вызвавшее
целую бурю во Франции, Англии и Италии: в ответ появились но-
вые книги, статьи, отклики, составившие целую литературу...» (См.
«Mazzini e la scuola democratica», изд. Эйнауди, t. XII, р. 80.) По
поводу различных толкований аллегорического и политического
смысла поэмы см. также ниже, в этой же главе.
2 Саккетти пишет: «Данте Алигьерй, услышав, что какой-то по-
гонщик осла поет его стихи и время от времени понукает живот-
ное криком «но!», ударил его, говоря: «Это «но» не мое!» («Триста
новелл», CXV).
?Q7
четырех толкований! Был бы хоть единый смысл! Ни
нет, вы даете понять, что, помимо аллегорического
смысла, есть еще моральный и «анагогический», мисти-
ческий. Как распутать этот клубок? Ваши аскеты кри-
чат, что тело — лишь оболочка духа, но грешник при
всем своем уважении к духу преклоняется перед
плотью. Вы тоже кричите: стихи — лишь оболочка уче-
ности — и, уподобляясь упомянутому грешнику, забы-
ваете об идее, увлекаетесь ее отражением, делаете его
таким сочным и «упитанным», что «оболочка» стано-
вится непроницаемой, через нее уже ничего нельзя раз-
глядеть, а посему можно разглядеть все — и то, что хо-
тите разглядеть вы, и то, что хотим разглядеть мы.
Кто виноват, что ваша аллегория уподобилась тени
Банко, вставшей между нами и скрывшей вас от наших
глаз, что ваша поэма — это необъятный иероглиф, за-
гадочный мир, открыть тайну которого безуспешно
пытались многие Колумбы? Не виновата ли ваша
непоследовательность — то, что вы задумали одно, а
сделали другое? Упреки эти звучат, однако, как по-
хвала.
12. Итак, Данте можно упрекнуть в непоследова-
тельности: он сделал совсем не то, что хотел. Человек
остается самим собой, помимо своей воли, даже если
ему хочется быть иным. Данте прежде всего поэт, и,
занимаясь абстрактными выкладками, он находит ты-
сячу лазеек, через которые проникают воздух и свет.
Попав в силу традиций своей эпохи в тенета ошибоч-
ной концепции, он «перешагивает» через тему, оказы-
вается в мире чистых идей, изображение которых ставит
своей целью, но захватывает с собою всю окружаю-
щую его действительность, которая по первоначаль-
ному замыслу должна была служить лишь образом для
воплощения этих идей. Но как только он прикасается
к реальности, он находит себя, творчески загорается,
попадает в свою стихию. Образы обретают плоть и
кровь, начинают жить собственной жизнью. И если бы
«благословенный» замысел автора пудовой гирей не
пригибал бы их к земле, не мешал бы кое-где их дви-
жениям, то их вполне можно было бы назвать свобод-
ными, самостоятельными персонажами. Так этот доро-
гой сердцу поэта мир идей и замыслов при свете реаль»
ного мира померк и рассеялся, подобно туману, и
остался только этот реальный мир. Все остальное —
абстракция, дань прошлому, не сама «Комедия», а ее
потусторонняя дымка; правда, эта дымка кое-куда про-
никает, оставляя густую тень, которую комментаторы
стараются расширить, преобразить в сплошное темное
пятно. Подобно тому как геологи по некоторым призна-
кам определяют формирование новой породы, мы в
«Комедии» находим отдельные, изолированные, бес-
плодные следы прозаического, умозрительного, аллего-
рического замысла, с которыми можно мириться в
большей или меньшей степени в зависимости от того,
насколько удалось поэту подать их, облечь в более
совершенную форму, подсказанную его гением, во-
преки заблуждениям его поэтики. Эти следы — «окаме-
нелости» «Божественной комедии»: они давно мертвы
и представляют интерес только для эрудитов, для «гео-
логов от литературы», и если умирая, они не унесли с
собой в могилу все остальное, то лишь потому, что это
«остальное» составляет суть произведения и обладает
такой свежей, неувядаемой жизненной силой, что осве-
щает своим светом даже отмершие куски.
Эти абстракции живы только потому, что являются
составной частью произведения. Отделите их от него,
изолируйте, и о них никто не вспомнит.
Что же представляет собой «Комедия»? Это средне-
вековье, «реализованное» в форме произведения искус-
ства, помимо воли автора, помимо воли его современ-
ников. Смотрите, что получается! Ведь средневековью
было чуждо искусство, более того, эта эпоха была ан-
типодом искусства. В религии господствовала мистика,
в философии — схоластика. Первая не признавала
искусства, предавала огню художественные образы,
приучала людей отрешаться от всего земного. Вторая
питалась абстракциями, отвлеченными формулами и
цитатами, тренируя ум изощренными выкладками, ма-
нипулируя словами и отвлеченными понятиями, именуе-
мыми «сущностями». Превалировала тенденция к аб-
страктному: писатели охотнее устремлялись в мир идей,
чем в мир реальный, что искусству противопоказано.
В стихах простых поэтов была реальность, но реаль-
ность грубая, неоформленная, —реальность мистерий,
видений и легенд. У поэтов «торжественных» мы на-
ходим либо сухие наставления, либо аллегорическую
\4 Де Сан^ти?
т
образность. Подлинного искусства еще не существовало.
Был образ, но не было реальности во всей ее свободе
и своеобразии.
Данте унаследовал от мистерий комедию души
и положил ее в основу своего видения загробного мира.
Это религиозное действо составляет лишь буквальное
содержание поэмы: видение носит аллегорический ха-
рактер, действующие лица — образы-символы, а не жи-
вые люди. Но деятельная, активная сторона Дантова
ума влечет его к самому образу, а не к воплощенной в
нем идее. Поэтическая натура Данте, в силу традиции
закованная в строгие рамки теологических и схоласти-
ческих абстракций, восстает и заселяет его мозг при-
зраками, побуждает его конкретизировать, материали-
зировать, облекать в реальную форму даже такое сверх-
духовное и недоступное органам чувств понятие, как
бог.
Это «буквальное содержание» заворожило Данте,
оно преследовало его, не давало покоя дс тех пор, пока
он не придал ему законченной формы. И тогда оно
перестало быть «буквальным»: в него вдохнули жизнь.
Перед нами уже не образ-символ, а реальность, за-
конченная, понятная, превосходно «реализованная»
картина мира. Видение и аллегория, трактат и легенда,
хроника, история, лауды, гимны, мистика и схоласти-
ка — все литературные жанры, вся культура Дантовой
эпохи сосредоточились и ожили в этом великом таин-
стве души или человечества, в этой вселенской поэме,
запечатлевшей жизнь всех народов и всех тех веков,
которые именуют средними.
13. Но это произведение искусства, родившееся из
противоречия между намерениями поэта и кх вопло-
щением, не вполне гармонично, оно не чистая поэзия.
Ложная поэтика мешает гениальной самобытности
Данте, налагает на поэму отпечаток какой-то неуверен-
ности, незавершенности и проявляет себя в смешении
несочетаемых красок.
Слишком большое место занимает в ней мысль, то
выступающая во всей своей схоластической обнажен-
ности, то приукрашенная образами, которым, однако,
не удается побороть ее абстрактность. Подчас аллего-
рические фигуры Данте больше напоминают восточных
чудовищ, чем прекрасные в своей простоте памятники
9.19-
греческого искусства: бйй скорее персонификация от-
влеченных идей, нежели свободные живые люди 1. Все
время памятуя о необходимости придавать образу
«скрытый смысл», поэт часто наделяет его чуждыми
чертами, которые мешают читателю, отвлекают его и
нарушают иллюзию. Постоянное присутствие этого
второго смысла, как бы витающего между строк и
время от времени вторгающегося в повествование, на-
рушает ясность и гармонию поэмы.
Страдает от этого и стиль: отягощенный далекими,
трудноуловимыми ассоциациями, он кое-где теряет
свою ясность, становится путаным и темным. Нет, это
не греческий храм, это храм готический, полный глубо-
ких теней, где сталкиваются противоположные, не гар-
монирующие между собой элементы. Перед нами то
поэт ученый, «торжественный», то народный, он то те-
ряет реальность из своего поля зрения и предается
изощренным рассуждениям, то схватывает ее на лету и
передает с удивительной простотой. То он выступает
как немудреный летописец, то как законченный ху-
дожник. То он запутывается в абстракциях, то вдруг
вызывает ростки жизни. В одном месте он наивен как
ребенок, в другом достигает высочайших вершин. За-
нятый разработкой какого-нибудь силлогизма, тут же
он вдруг блеснет удачным образом. Рядом с богослов-
скими рассуждениями вырывается пламя искреннего
чувства. Иногда перед нами холодная аллегория, и
вдруг чувствуешь, что внутри нее бьется живая плоть.
То улыбаешься его легковерию, то поражаешься не-
виданной смелости.
Это целый маленький мир, в котором отражена вся
жизнь той эпохи. Противоречивые элементы, служив-
шие ферментом в этом обществе, переживавшем пе-
риод становления, боролись и в душе Данте. Причем
сам Данте не отдавал себе в этом отчета. Если по-
смотреть, к чему он стремился, то нам откроется кар-
тина, полная гармонии. Данте-философ мечтает о том,
чтобы наступило царство науки и добродетели. Данте-
христианин предается созерцанию царства божия.
Данте-патриот воздыхает о торжестве справедливости
1 В отношении всего излагаемого на данной странице см. ше-
стую лекцию упомянутого выше туринского курса в «Lezioni e saggi
su Dante», изд. Эйнауди, t. V, pp. 113 и ел.
14*
211
и Мира. Данте-поэт стремится к Поэтической форме,
полной света, прекрасных пропорций и гармонии, к со-
вершенному стилю; его любимый писатель — Верги-
лий К Чем больше свирепствовали вокруг варварство и
грубость, тем более страстно поэт мечтал о мире гармо-
нии и согласия. Но он сам причастен к этой грубой
реальности, к этой дисгармонии форм, и они его му-
чают, лишают необходимой всякому художнику ясности
духа. И вот он создает произведение искусства, которое
в большей своей части «реализовано», но которому все
же присущи некоторая угловатость, шероховатость,
свидетельствующие о неполном овладении материалом.
14. Войдем в этот мир, познакомимся с ним, зада-
дим ряд вопросов. Ведь тема, выбранная Данте, отнюдь
не представляла собой «tabula rasa», на которой можно
начертать все что вздумается; мрамору уже были при-
даны определенные контуры и очертания, в нем уже
были заложены идея и законы ее развития2. Самое
главное свойство гения — это умение найти свою тему
и слиться с ней, отрешившись от всего, что к ней не
причастно. Он должен увлечься ею, жить ею, стать ее
душой или ее совестью. Точно так же и литературоведу
не следует руководствоваться отвлеченными правилами
и применять одну и ту же мерку к «Комедии» и «Илиа-
де», к «Освобожденному Иерусалиму» и «Неистовому
Орландо».; он должен изучить мир, созданный поэтом,
проанализировать его, узнать природу этого мира, —
ведь с ней тесно связана и поэтика, то есть внутрен-
ние законы создания этого мира, его концепция, форма,
происхождение, стиль.
Что такое загробный мир? Это решение проблемы
назначения человека, раскрытие таинства души, конец
человеческой истории, совершенный мир, увековеченное
сущее, постоянная (непреоборимая) необходимость. В
природе больше нет случайности, человек более не сво-
боден. Жизнь природы предрешена и предопределена
в соответствии с существующей логикой и моральной
идеей. Реальное и идеальное тождественны. Видимость
и сущность совпадают. Человек больше не может рас-
i «Ад», I, 85—87.
2 По поводу этого замечания и приводимых ниже см. работу
1857 года «О теме «Божественной комедии» в «Lezioni e saggi su
Dante», изд. Эйнауди, t. V, pp. 531 и ел.
212
поражаться собой, судьба его, так же как жизнь при-
роды, предрешена и скована. Всякое действие прекра-
щено, все узы, связывающие людей на земле, разо-
рваны: нет ни родины, ни семьи, ни богатства, ни чинов,
ни обычаев. Нет ни наследования, ни развития, нет ни
начала, ни конца: повествование и драма отсутствуют.
Индивидуума нет; есть род. Характер, личные свойства
не находят почвы для своего проявления. Есть только
вечные муки и вечное блаженство — всегда одинаковые,
без отклика, без контрастов и градаций. Это не эпопея,
ибо в поэме нет действия, и не драма, потому что от-
сутствует свобода.
Лиризм поэмы монотонен, звучит все время на од-
ной и той же ноте; остается человеческое существова-
ние, поданное отчужденно, в его неподвижности, опи-
сание природы и человека.
Что же такое загробный мир с точки зрения искус-
ства? Это видение, созерцание, описание, «естественная
история». Но в это видение проникает легенда или
таинство, ибо в нем показывается комедия или спасе-
ние души, ее странствие от человеческого к божествен-
ному, «из стен Фьоренцы в мудрый град и здравый» К
Таким образом, перед нами — нечто вроде драмы, дей-
ствие которой развертывается на том свете и действую-
щими лицами которой являются Данте, Вергилий, Ка-
тон, Стаций, Люцифер, Мательда, Беатриче, святой
Петр, святой Бернард, Пресвятая Дева, бог — драма
аллегорическая, поскольку аллегорической была и «Ко-
медия души».
Я говорю «нечто вроде драмы», поскольку прибли-
жение к святости достигается не действием, а созерца-
нием, и Данте созерцает, а не действует; другие же
лишь показывают и объясняют. Таким образом, драма
распыляется в созерцание.
Таков был тот мир таинств и легенд, который уче-
ные мужи сделали миром теологии и схоластики. Данте
его «реализовал», воплотил в образы искусства, создал
в этом мире природу и человека. И если его мир в
художественном отношении не совершенен, то виноват
* «Рай», XXXI, 37—39: «То я, из тлена в свет небесной славы,
В мир вечности из времени вступив, Из стен Фьоренцы в мудрый
град и здравый.£.»
213
не автор, а этот мир, где человек —это природа, а при-
рода — это наука, откуда изъяты случайность и сво-
бода, то есть два важнейших фактора реальной жизни
и искусства.
Будь Данте монахом или философом, далеким от
реальной жизни, он замкнулся бы в этом мире и не
вышел бы за пределы его условных форм и аллегорий.
Но, вступив в царство мертвых, Данте приносит туда
все страсти живых людей, всю грешную землю К За-
бывая о том, что он — лишь символ, лишь аллегориче-
ская фигура, Данте остается самим собой — самой вы-
дающейся личностью своего времени, сосредоточившей
в себе все черты своей эпохи, с ее склонностью к аб-
страгированию, с ее восторгами, эксуазами, с ее неисто-
выми страстями, ее культурой и дикостью.
При виде живого человека, услышав его слова, души
умерших на минуту оживают, возвращаются к преж-
ней жизни, вновь становятся людьми. В царстве веч-
ного вновь появляется время, в лоне будущего живет
и бурлит Италия, вернее, вся тогдашняя Европа. Так
поэзия объемлет всю жизнь, небо и землю, время и
вечность, человеческое и божественное. Поэма о сверхъ-
естественном становится человечной и земной; человек
и эпоха оставили на ней неизгладимый отпечаток. В
ней появляется земная природа — то для контраста, то
в виде сравнения или реминисценции; возникают слу-
чайность и время, история и общество в своих внешних
и внутренних проявлениях; подхватывается вергилиев-
ский мотив: идея Рима как столицы мира и монархии,
предопределенной, предустановленной свыше. В таком
великолепном обрамлении Данте рисует картину эпохи:
Бонифаций VIII, Роберт, Филипп Красивый, Карл Ва-
луа, семейства Черки и Донати, новая и старая Фло-
ренция, история Италии и история его собственной
жизни — его гнев и ненависть, его месть, увлечения,
наклонности и вкусы.
1 Здесь Де Санктис развивает — но с большей убедитель-
ностью— следующую мысль Шлегеля: «Путник, проходящий три
ступени, где пребывают души, — соответственно их нравственному
состоянию — это естественный человек. Но в то же время это он,
поэт Данте Алигьери, со всеми особенностями его биографии»,
(F. Schlegel, Dante, Petrarque et Boccace, «Revue des. deux Mon-
des», 1836, p. 408).
214
15. Таким образом, картина жизни восполняется:
«тот свет» перестает быть ученой и мистической аб-
стракцией, небо и земля смешиваются, и живым вопло-
щением, синтезом этого грандиозного миропонимания
выступает Данте — свидетель событий, их участник и
судья. Жизнь, наблюдаемая с «того света», предстает
в новом аспекте, вызывает особое отношение, новые
ощущения и впечатления. «Тот свет», наблюдаемый с
земли, живет земными страстями и интересами. Сло-
жилась некая очень своеобразная концепция — новая
природа и новый человек. Получилось два взаимопро-
никающих и взаимодействующих мира: они сменяют
друг друга, чередуются, перекрещиваются, перепле-
таются, объясняют и освещают друг друга, все время
переходя один в другой. Их единство основано не на
единстве действия, не на том, что у них один и тот же
протагонист, одна и та же абстрактная, чуждая мате-
рии цель. Единство заключено именно в материи. Это—
внутреннее, не зависящее от воли человека, органиче-
ски неделимое единство, элементы которого восприни-
маются поэтом не как механическое сочетание отдель-
ных деталей, а как нечто взаимопроникающее и взаимо-
воплощающееся, как сама жизнь К Это нерушимое и
гармоничное единство заключено в самой природе обоих
миров, «материально» различных, но объединяемых
единым сознанием. Ведь небо и земля — понятия кор-
релятивные, одно немыслимо без другого. Чистая реаль-
ность и чистая идея суть не более чем абстрактные по-
нятия. Каждой реальности присуще идеальное начало.
Каждый человек носит в себе свой ад и свой рай; в
душе каждого человека живут все боги Олимпа: скеп-
тик может не верить в ад, но не может отрицать созна-
ние. И поскольку два мира олицетворяют жизнь в ее
двух аспектах, то внутри этого единства и возникает
глубочайший дуализм, вернее, непримиримое противоре-
чие: на «том свете» живые люди превращаются в тени;
1 По поводу подготовки и окончательного созревания этих важ-
ных мыслей о взаимозависимости двух Дантовых миров и об опре-
делении взаимоотношений между миром и «сверхмиром», между
поэзией и аллегорией см., помимо туринского курса лекций о Данте,
прежде всего упомянутую выше работу 1857 года «Dell'argomento
della «Divina Commedia» в «Lezionj e saggi su Dante», изд. Эй-
науди, t. V, pp. 531 и cjj.
m
люди с их привязанностями, величием, славой стано-
вятся бесплотными. Но в этих бесплотных тенях еще
бурлит жизнь, бушуют желания, и безмятежные своды
небес содрогаются от их земных проклятий.
Оказывается, люди, их страсти, пороки и доброде-
тели остаются вечными, как статуи: в том виде, в ка-
ком запечатлел их художник, — охваченными нена-
вистью, презрением, любовью. Но загробный мир, уве-
ковечивая земную жизнь, перенося ее в себя и проти-
вопоставляя ей бесконечность, подчеркивает ее сует-
ность и ничтожность: люди всегда одинаковы, на какой
бы сцене они ни выступали, и в этом заключена глу-
бокая ирония.
Это единство и вместе с тем дуализм, проистекаю-
щий из самой сущности ситуации, проявляются в самых
различных формах — то в форме обращения оратора,
го в форме беседы, жеста или действия, то в описании
природы, то в изображении человека. Этому единству
свойственно величайшее разнообразие: трудно найти
другое произведение искусства, границы которого были
бы столь строго очерчены и в то же время столь не-
объятны. В избранной поэтом теме нет ничего такого,
что принуждало бы его изображать именно данный
персонаж, данную эпоху, данное действие; в его распо-
ряжении — вся история человечества, все аспекты че-
ловеческой жизни и деятельности; он может дать пол-
ный простор своему таланту, своим чувствам и мыслям,
может, не нарушая единства произведения, наряду с
главной темой разрабатывать второстепенные. В ре-
зультате изображаемая им вселенная обретает еще
большую поэтическую достоверность; в нерушимом
единстве выступает и все то, что возникает как резуль-
тат свободы человеческой личности и как порождение
случайности, приходят в движение в различных сочета-
ниях все противоречия, необходимость и свобода, судь-
ба и случай.
Что же это за поэтический жанр? В поэме есть эпи-
ческий элемент, но это не эпопея, есть лирические мо-
тивы, но это не лирика, есть драматическая ситуация,
но это не драма. Это — одно из тех гигантских и пер-
вых литературных сооружений, подлинных энцикло-
педий, национальных «библий», произведение, которое
не относится ни к одному из известных жанров, а со*
21Q
держит ё себе в зачаточном виде все поэтические фор-
мы и жанры и является как бы зародышем всего даль-
нейшего развития литературы К Ни один поэтический
жанр не выступает здесь в четко выраженной форме:
один переходит в другой, один дополняется другим.
Подобно тому как взаимопроникновение двух миров ме-
шает нам сказать: «Здесь кончается один и начинается
другой», смешение различных жанров не позволяет
разглядеть разделяющие их границы и заявить: «Этот
отрывок — чисто эпический, а этот — драматический».
Поэма Данте универсальна по содержанию; по от-
ношению к ней все поэтические опыты — не более чем
фрагменты. Это «священная поэма»2, нетленная гео-
метрия и логика творчества, воплощенная в трех хри-
стианских мирах; она — град божий, в котором отра-
жен город человека во всей конкретности места и вре-
мени; она — неподвижная богословская сфера, внутри
которой бушуют все человеческие страсти.
16. Идея, лежащая в основе всего этого грандиоз-
ного поэтического сооружения и сообщающая ему
жизнь, движение, это идея спасения души, стезя, по ко-
торой душа идет от зла к добру, от заблуждения к
истине, от анархии к закону, от многообразия к един-
ству, Это новая, христианская идея единства бога, при-
шедшая на смену языческому многобожию. Но одной
этой идеи — если бы она была лишь принесена извне,
изложена как мысль в форме некой учебной абстрак-
ции или воплощена в аллегорической форме как об-
раз— было бы недостаточно для создания произве-
дения искусства. Здесь она не привнесена извне, она
1 Аналогичное мнение высказывает Джоберти в своей работе
«О Примате» («Del primato», Bruxelles 1844, II, p. 128): «Божест-
венная комедия» является как бы первоисточником, откуда берут
свое начало христианская литература и искусство, поскольку в про-
изведении Данте в зародыше имеются все явления, типичные для
современной эстетики... Поэма Данте поистине представляет собой
сотворенную человеком библию новой культуры; а по времени и по
ценности — первое отражение библии, сотворенной богом... Она уни-
версальна и как поэтическое произведение, и как образчик красно-,
речия и художественности, ибо заключает в себе в зародыше все
виды и подвиды подобных произведений, фантастических и ярко
индивидуальных; в своем воплощении она содержит все концепции
и, так сказать, мотивы художественного творчества».
2 «Рай», XXV, i: «Коль в некий день поэмою священной».
217
заключена внутри, выступает не только как науки, как
продукт философской и критической мысли, но как ак-
тивное начало, заложенное в человеке и в природе, на-
чало, созидающее и формирующее этот мир, лежащее в
основе его истории и его развития.
Это активное начало — если абстрактные понятия об
истине, о благе, о добродетели и о законе можно на-
звать частью живой и деятельной реальности — есть
дух, выступающий в роли антипода материи или плоти,
в которой он заключен, как в тюрьме, и из .которой он
силится выйти. А посему жизнь есть непримиримое про-
тиворечие, борьба духа с плотью, бога с дьяволом. А
история ее есть история постепенной и неумолимой по-
беды духа, история того, как дух мало-помалу познает
себя, обретает свободу — в тех формах, в которых он
существует, — «утончается», становится бестелесным,
«идеализируется» вплоть до бога, абсолютного духа,
Истины, Доброты, Единства, высшего идеала. Следова-
тельно, идея Данте, дух, витающий в созданном им
мире, — это постепенное разложение материальных
форм, неумолимый переход от плоти к духу 1, освобож-
дение от материи и чувственности через искупление и
страдание, столкновение дьявольского с божественным,
ада и рая, рабства и свободы. Гомер переносит богов
на землю и материализует их. Данте переносит людей
в загробный мир и спиритуализирует их. Материя —
только оболочка, существует лишь дух. Люди не более
как тени; события человеческой жизни проносятся в
памяти, подобно призракам. Сама земля — лишь вос-
поминание, витающее перед взором, как видение. В ка-
честве реального, сущего выступает бесконечный дух,
все прочее — «пустота, имеющая облик тела»2.
Это «утончение» происходит неумолимо: «оболочка»
становится все прозрачней. Ад — местопребывание ма-
терии, царство плоти и греха. Земное здесь живет не
только в виде воспоминания, оно здесь присутствует.
Наказание не изменяет ни характера грешника, ни вла-
деющей им страсти. Грех, земное находят свое продол-
жение в ином мире и навек воплощаются в душах,
неспособных к раскаянию: вечный грех, вечные муки.
1 «Чист.», XXX, 127: «Когда я к духу вознеслась от тела».
2 «Ад», VI, 36: «8,.по пустоте, имевшей облик тел»,
218
В чистилище тьма рассеивается, вновь появляется солнце,
свет разума, дух. Земное живет лишь как мучительное
воспоминание, которое кающийся старается прогнать от
себя, а дух, освобождаясь от телесности, устремляется
к полному обладанию самим собой, к спасению. В раю
человеческая личность исчезает, все формы раство-
ряются и устремляются к свету. Чем выше, тем полнее
происходит это чудесное превращение материального в
идеальное, — пока, наконец, пред ликом божества,
абсолютного духа, форма не растворяется полностью:
остается лишь чувство.
Таков и я: во мне мое виденье
Чуть теплится, но нега все жива
И сердцу источает наслажденье;
Так топит снег лучами синева;
Так легкий ветер, листья взвив гурьбою,
Рассеивал Сибиллины слова.
(«Рай», XXXIII, 61—66)
Эта концепция пронизывает всю науку, всю исто-
рию; она не только помогает строить Дантов мир, но
и движет им; мы встречаемся с ней на всем -пути раз-
вития мысли и общества в ту эпоху в самых разных
формах; она наличествует во всех проблемах, встаю-
щих перед поэтом, — в религии, в философии, в поли-
тике, морали, то есть получает конкретное преломле-
ние и применение во всех областях жизни.
В области религии это путь от буквы к духу, от сим-
вола к идее, от Ветхого завета к Новому; в науке — от
невежества и заблуждения к разуму, а от разума к от-
кровению; в морали — от зла к добру, от ненависти к
любви через искупление греха; в политике — от анар-
хии к единству. Будучи подчинена пространству и вре-
мени, эта концепция выступает как история — как дея-
ния данного человека, данного народа, данного века.
В области религии встает вопрос о католической церк-
ви, о папстве: поэт хочет, чтобы они отрешились от
мирских забот и страстей и обратились к заботам ду-
ховным; в философии различаются две науки: «народ-
ная наука» и наука истины в раю; в морали перед
вами предстают страсти, раздоры, грехи и пороки вар-
варской эпохи, от которых, следуя по пути к высшему
Благу, вы мало-помалу отдаляетесь; в политике — Ита-
219
лия, снедаемая анархией и кровопролитиями, Италия,
которую поэт мечтает наставить на путь мира и согла-
сия под эгидой единого императора. Таким образом,
эта единая концепция пронизывает все как с точки
зрения формы, так и с точки зрения мысли и истории.
Никогда дотоле человеческая мысль не порождала бо-
лее всеобъемлющего и стройного миропонимания. Не-
которые видят здесь лишь отражение загробного мира,
воспринимая все остальное как инородное тело, чуть
ли не как профанацию. Так, Эдгар Кине шокирован
(курсив Де Санктиса) тем, что страсти преследуют
Данте вплоть до рая К Другие считают, что поэма Данте
с помощью образов-символов создает картину полити-
ческой жизни эпохи. «Комедию» определяют то как ре-
лигиозную, то как политическую, то как моральную
поэму, то как поэму толкований, ее сводят к борьбе ка-
толиков и протестантов, к спорам гвельфов и гибелли-
нов. Но на нее смотрят не с вершины горы, а как бы
из долины, воспринимая отдельные части как нечто це-
лое. Каждый создает малый мирок по-своему и заяв-
ляет: таков мир Данте2. На самом же деле мир Данте
включает-в себя эти отдельные «миры»: это универсаль-
ный мир средневековья, «реализованный» искусством.
Этот огромный материал в соответствии с упомяну-
той концепцией располагается и развивается в виде трех
1 См. также упомянутую работу Де Санктиса «Deirargomento
della «Divina Commedia» (1857): «Эдгар Кине весьма «шокирован»
тем, что земные страсти, обуревающие певца, нарушают даже по-
кой рая» («Lezioni e saggi su Dante», cit., p. 541). Но, как уже от-
мечал Нери в «De Sanctis e la critica francese» (op. cit., p. 286,
в «Revolutions d'ltalie») Кине ни слова не говорил по этому поводу.
По-видимому, Де Санктис имел в виду высказывание о «суетности»
Данте (ср. «Revolutions...», cit., I, p. 107): «Если вы обратите вни-
мание на детали, вас удивит, что он избежал казни. Ведь этот че-
ловек своей властью осуждает князей церкви, непогрешимых на-
следников св. Петра, наместника божьего!.. И бросая святых
в огонь преисподней, он помещает на райский престол язычников
Стация и Рифея».
2 О различной интерпретации поэмы подробно говорится в ран-
них лекциях о «Божественной комедии». См. «Teoria e storia», cit.,
I, pp. 214—215, и «Purismo illuminismo storicismo», изд. Эйнауди,
t. II. По поводу мнения отдельных людей, — Боккаччо, Тройя, Мар-
кетти, Шлегеля и Ару — см. упомянутые очерки о Пьетро делле
Винье (1855) и «DeH'argomento della «Divina Commedia» (1857)
в «Lezioni e saggi su Dante» и относящиеся к ним примечания, изд.
Эйнауди, t. V, pp. 353 'и ел., 531 и ел.
220
миров; из них два — ад и рай — олицетворяют антагони-
стические силы: плоть и дух, ненависть и любовь, а
третий — чистилище — представляет собой среднюю,
или переходную, ступень; эти три мира, столь убогие в
изображении ранней литературы, наполнились жизнью и
обрели законченность благодаря Дантовой фантазии.
17. Ад — это царство зла, смерть души, торжество
плоти, хаос: с точки зрения эстетической это — урод-
ство К
Говорят, что уродливое не может являться предме-
том искусства^что искусство предполагает изображение
красоты. Но искусство — это все живое; в природе нет
ничего такого, что не могло бы явиться предметом
искусства. Вне пределов искусства — лишь то, что не-
совершенно по форме, противоречиво, бесформенно, ис-
кажено, деформировано. А посему вне искусства — то,
что смутно, непоследовательно, негармонично, манерно,
надуманно, аллегорично, абстрактно, слишком общо
или слишком частно; то есть то, что не есть жизнь, что
является незрелым плодом усилий немощного худож-
ника. А то, что живет — будь оно от природы красиво
или уродливо, — в эстетическом отношении всегда прет
красно.
Что значит уродливое в природе? Это материя, пре-
доставленная инстинктам, не контролируемая разумом:
она порождает нечто такое, что оскорбляет наше нрав-
ственное и эстетическое чувстве). Сталкиваясь с урод-
ством, поэт обнаруживает, что оно претит его сознанию,
ему самому, а посему воспринимает его как таковое и
говорит: «Ты уродливо». И чем более развито у поэта
нравственное и эстетическое начало, тем сильнее его
впечатление, тем живее и достовернее уродство пред-
стает его воображению. Значит, его не надо маскиро-
вать и еще менее приукрашивать, а, напротив, выявлять
и запечатлевать присущими ему красками.
Стало быть, уродливое необходимо и в природе и в
искусстве: ведь именно из противоречия между прав-
дой и ложью, добром и злом, красотой и уродством ро-
ждается жизнь. Исключите 3to противоречие — и жизнь
1 О понятии уродства в «Аду* см. прежде всего двенадцатую
и тринадцатую лекции туринского курса, а также первую, и вторую
лекции цюрихского курса в «Lezibni e saggi su Dante», cit., t. V,
pp. 149 и ел., 417 и ел.
221
окаменеет. Эта истина столь очевидна, что, по пред-
ставлениям древних народов, в жизни происходит
борьба двух активных начал: добра и зла, любви и не-
нависти, бога и дьявола; борьба эта нашла свое отра-
жение во всех великих произведениях искусства. Следо-
вательно, уродство в природе, как и в искусстве, имеет
такое же право на существование, как и красота, при-
чем часто оно дает больший эффект, что объясняется
внутренними противоречиями, терзающими душу поэта.
Ведь красота есть не более чем красота; уродство же,
помимо того, что оно является таковым, еще и антипод
красоты; оно таит в себе противоречие, а потому жизнь
его разнообразнее, в большей мере чревата драматиче- •
скими ситуациями. Стоит ли удивляться поэтому, что
художественное изображение уродства зачастую го-
раздо любопытнее и поэтичнее. Мефистофель интерес-
нее Фауста, и ад поэтичнее, чем рай 1.
Данте понимает ад как падение души, предоставлен-
ной ее естественным наклонностям, страстям, желаниям,
инстинктам, не управляемым разумом и рассудком, и
подчеркивает это противоречие с возмущением чело-
века, оскорбленного в своих нравственных чувствах:
...томятся тени,
Свет разума утратив навсегда.
(«Ад», III, 17-18)
Что вольность всем была разрешена.
(«Ад», V, 56)
Кто предал разум власти вожделений.
(«Ад», V, 39)
1 Мысль о художественном превосходстве «Ада» по сравнению
с другими двумя кантиками «Божественной комедии» Де Санктис
высказал уже в своих ранних лекциях: «Если в «Аду» цель (изо-
бражение страстей} полностью достигнута, то в «Раю» поэт был
вынужден прибегать к богословию и к аллегории и все-таки не
сумел передать красоту добродетели так, чтобы она могла сопер-
ничать с грехом, столь живо описанным в «Аду». Данте выполнил
свой замысел, 'нарисовал мир добродетелей и совершенства, но не
сумел его «реализовать» («Teoria e storia», cit., p. 218, «Purismo illu-
minismo storicismo», cit., II). В более зрелые годы, создавая свои
«Очерки» и «Историю литературы», Де Санктис ставил эту проблему
в гораздо более многогранной и сложной форме.
222
Душа осуждена на вечные муки за ее вечную не-
раскаянность; она грешила при жизни и продолжает
грешить в аду — если только грех совершен не в по-
мыслах, а деянием. Поэтому земная жизнь воспроизве-
дена в аду такой, какова она в реальной действитель-
ности: грех живет, и осужденный грешник чувствует
землю совсем рядом. Это и дает аду полнокровную
жизнь, а в других двух мирах жизнь «спиритуализи-
руется», становится бедной и монотонной. На смену ин-
дивидууму приходит вид, а вид сменяется родом. Чем
дальше, тем личность все более обезличивается, гене-
рализируется. Может быть, это знаменует совершен-
ство с точки зрения христианства и нравственности, но
отнюдь не с точки зрения искусства. Искусству, так же
как и природе, свойственно творить, и его творения не
вид, не род, не тип, не экземпляр, а индивидуум, «вещь»,
а не «раб вещей». Вот почему ад живет более разнооб-
разной и полной жизнью и наиболее понятен среди
трех миров. Следует добавить, что земную или «ад-
скую» жизнь поэт рисовал с натуры, находясь в самой
гуще действительности; в нарисованной им эпической
картине варварства клокочут неудержимые страсти и
кипучая жизнь. Данте и сам варвар — бесстрашный,
полный гнева, мести и страсти, натура свободолюби-
вая и деятельная. Напротив, жизнь в «Чистилище» и
«Рае» не имеет ничего общего с реальной действитель-
ностью, она — плод чистой фантазии, построена на
отвлеченном понятии долга, на идее, навеяна востор-
гами и экстазами аскетической, созерцательной
жизни.
18. Поскольку ад — царство зла или материи «в
себе», материи, не поддающейся духу, историю или раз-
витие ада регулирует закон постепенного и неумолимого
затмения духа, завершающегося его угасанием, пере-
ходом в абсолютную материю.
Отправная точка ада — безразличие, лишенная лич-
ности и воли душа, равнодушие. Характер здесь заклю-
чается в полном отсутствии такового. В этом чреве рода
человеческого нет ни греха, ни добродетели, ибо нет
активной силы. Это еще не ад, а его преддверие, прелю-
дия к аду. Но если в нравственном отношении равно-
душные пребывают на самой первой ступени адской
223
лестницы и представляются Данте скорее «жалкими» *,
нежели грешными, то поэзии такой моральный облик
остается чуждым и служит лишь для классификации
грешников. Поэт придерживается совершенно иных
критериев. В то время как мораль помещает равнодуш-
ных в преддверии ада, поэзия считает, что они заслу-
живают кары более суровой, чем самый отъявленный
злодей, которого Данте уважает больше, нежели этих
полулюдей. Поэзия — заодно с энергичным нравом ве-
ликого поэта и его современников.
У этих закаленных телом и душой людей такие пас-
сивные, незначительные существа должны были вызы-
вать величайшее презрение. И это презрение помогает
Данте находить клеймящие слова. Это люди, прожив-
шие свой век, «не зная ни славы, ни позора», вернее,
вовсе «не живши» 2; инертные при жизни, они осуждены
на то, чтобы их вечно подстегивали. Наказание легкое,
но их моральная немощь столь велика, таким мучи-
тельным им кажется их наказание, что они источают
слезы и издают исступленные крики, сотрясающие воз-
дух, «как бурным вихрем возмущенный прах». У ног их
извивается червь — их явное подобие. Равнодушных —
несметное множество; это люди без имени. Данте за-
метил мельком лишь одного из них, «того, кто от вели-
кой доли отрекся в малодушии своем». Мучение их со-
стоит в том, что они сознают свою трусость, чувствуют
себя презренными, отвергнутыми и небом и адом. Не-
которые выражения в перечне этого бессмертного и
популярнейшего эпизода стали поговорками. Нарисован-
ная Данте картина поэтична именно в силу своей пре-
дельной прозаичности, в силу того, что она являет со-
ббй отрицание поэзии и жизни. Завершается она тер-
циной, в которой достигнута вершина отрицательной
оценки:
Их память на земле не воскресима;
От них и суд, и милость отошли.
Они не стоят слов: взгляни — и мимо!
1 «Ад», III, 34—69. См. ст. 64, цитируемый также ниже: «Вовек
не живший, этот жалкий люд...»
2 «Ад», III, 36 и 64. На этой странице использованы еще вы-
ражения из первых песен «Ада». Дальнейшие цитаты взяты из этой
же III песни (ст, 30, 59—60, 49—51).
224
19. Если равнодушные не попали в ад потому, что
им не хватало сил ни творить добро, ни творить зло,
то невинные души некрещенных праведников не до-
пущены в рай и находятся в Лимбе потому, что не
знали веры. Данте и здесь памятует о теологической
концепции, но применяет ее из соображений классифи-
кации. Поэзия возникает из иных впечатлений, иных
критериев. Поэтически ценность человека заключена не
в нравственности и не в вере, а в его жизненной энер-
гии; поэтичность образа не в идее, а в силе. Вот по-
чему равнодушие в эстетическом плане есть крайний
предел отрицательного качества: ведь оно — отрицание
силы, безжизненность. Поэтому отсутствие веры здесь,
в Лимбе, — лишь деталь; главный интерес сосредото-
чен на внутренней ценности человека как живого су-
щества, как силы. Бог придерживается того же крите-
рия, что и поэзия, и отводит некоторым обитателям
Лимба особое место, не в награду за их добродетель, а
за ту славу, которую принесли им на земле их талант и
труд:
Именем своим
Оли гремят земле, и слава эта
Угодна небу, благостному к ним.
(«Ад», IV, 76—78)
Принцип, отнюдь не аскетический и не ортодоксаль-
ный! Но бог стал поэтом вместе с Данте и соору-
дил языческие Елисейские поля, пантеон великих лю-
дей. Кто хочет воссоздать чувства Данте, возводившего
сей великолепный храм античной истории и культуры,
и представить себе впечатление, производимое им на
современников, тот пусть вспомнит о настроениях поэта,
когда он юношей, на школьной скамье впитывал чу-
деса древнегреческой и латинской культуры. Аристо-
тель, Гомер, Вергилий, Цезарь, Брут — сколько воспо-
минаний, сколько фантазий навевало каждое из этих
имен! Данте ограничивается перечислением имен, от-
мечая лишь несколько характерных черт героев — того,
«чьи песнопенья вознеслись над светом», или того, кто
был «учитель тех, кто знает». Данте, при виде слав-
ного синклита «возликовавший сердцем», сам венчаю-
щий себя лаврами поэта, провозглашающий себя пер-
вым поэтом нового времени, «шестым средь столького
15 Де Санктис
225
ума»1, — это не Данте, странствующий по загробному
миру, а Данте Алигьери. Это-то и делает таким инте-
ресным Лимб и преддверие ада — обитель равнодуш-
ных: два оригинальнейших Дантова творения, рожден-
ные глубоким чувством реальной жизни и оставшиеся
нетленными в веках. Многие крылатые фразы из них и
поныне бытуют в народе.
:Ад», Песнь X
20. Как «Ад» задуман и устроен, объясняет в один-
надцатой песне сам поэт — философ и архитектор, со-
здавший огромное здание. Царство зла разделено на
три части в соответствии с тремя главными категория-
ми преступлений: невоздержанность и насилие, веро-
ломство и хладнокровно предумышленное злодеяние.
Каждая из этих категорий подразделяется на роды,
виды, круги и сферы. Эпический принцип этой шкалы
преступлений состоит в том, что провинность считается
тем тяжелее, чем больший нанесен вред, причем изме-
1 «Ад», IV, 95: «Чьи песнопенья вознеслись над светом»; 131:
«Я увидал: учитель тех, кто знает»; 119—120: «Предстали взорам
доблестные тени, И я ликую сердцем, их видав»; 102: «И стал ше-
стым средь столького ума».
22(5
ряется он не столько деянием, сколько намерением.
Поэтому вероломство и обман — хуже, нежели невоз-
держанность и насилие, а хладнокровное, предумышлен-
ное предательство — хуже, чем вероломство. Отсюда
историческая последовательность, в какой расположены
части ада: за наименее грешными —невоздержанными
идет город Дит, где казнятся насильники 1, ниже распо-
ложены «Злые Щели» и, наконец, в глубине колодезь
предателей. Таков ад научный, или, вернее, этический,
но он пока еще не поэтический.
Поэзии надлежит превратить сей умозрительный
мир в живую натуру. Научной стороне поэмы соответ-
ствует ряд отвлеченных идей, а стороне поэтической —
серия образов, фактов, персонажей. Первая демонстри-
рует преступления, вторая — людей, виновных в престу-
плениях, но не людей вообще, а конкретные личности.
Делить людей на категории — значит рассматривать
их не с точки зрения того, что представляет собой
каждый человек в отдельности, а с точки зрения того;
что общего у него с группой, к которой он принадле-
жит. Такая классификация, то есть полное, точное рас-
пределение по родам и видам, разумеется, возможна.
Но лишь поэзия возвращает человеку его яркую инди-
видуальность, рассматривает его не как «моральное су-
щество», а как живую, деятельную силу.
И чем больше в нем жизни, тем больше поэзии.
Если ад в этическом плане представляет собой посте-
пенную деградацию духа — так, вслед за насилием, ко-
торое свойственно и человеку и животному, идет веро-
ломство, «зло, присущее лишь человеку», а за веролом-
ством — хладнокровное, предумышленное злодеяние, —
то с точки зрения поэзии эта мысль бесплодна: она слу-
жит лишь целям классификации. Для живой природы
или воплощения ад знаменует постепенное умирание;
ведь жизнь — это движение, в аду же оно мало-помалу
1 См. упомянутую раньше четвертую лекцию об умозрительно-
аллегорическом мире Данте в «Lezioni e saggi su Dante», изд. Эй-
науди, t. V, p. 611: «Трагичнее всего в человеческой судьбе то,
что бесконечность, Вселенная заключена в индивидууме: он дорог
нам не как часть бесконечности, а сам по себе; песчинка приобре-
тает для нас значение вечности! Отсюда трагедия фатума и смерти.
В поэзии индивидуум сохраняет ту же ценность; конечный резуль-
тат поэтического творения не идея, а индивидуум, конкретный инди-
видуум, образ, — Франческа или Джульетта».
15*
227
замирает, вплоть до полной неподвижности, до превра:
щения материи в «абсолютную» материю; а вместе с
жизнью умирает и поэзия. На этом и основана история
ада.
Поначалу положение трагично: лейтмотивом служит
страсть, в которой жизнь проявляется во всей своей
силе, ибо в страсти сосредоточивается вся та внутрен-
няя энергия, которая в повседневной жизни обычно рас-
сеивается, распыляется; и тогда дух обретает сознание
своей бесконечной свободы.
Дух, взятый сам по себе, изолированно от деяния,
обладает беспредельной силой, с которой не может
совладать даже бог, ибо даже он не в силах сделать
так, чтобы дух не мыслил, не чувствовал, не желал,
если он мыслит, чувствует и желает. Любая бабенка,
если она охвачена страстью, чувствует в себе безгра-
ничную силу. «Я тебя люблю и буду любить всегда, —
говорит она. А если существует любовь за гробом, то
я буду любить тебя вечно: лучше вместе с тобой в аду,
нежели без тебя в раю». Таково красноречивое бого-
хульство, вырывающееся из уст человека, охваченного
страстью,, превращающей в героинь даже робкую
Джульетту и нежную Франческу.
Но на пути страсти возникает еще одно препятствие:
существующий порядок, устои общества; будучи частью
этого общества, человек чувствует свое бессилие. От-
сюда проистекает трагическая коллизия между страстью
и судьбой, человеком и богом, — грех. В жизни ни
страсть, ни фатум не выступают в чистом виде: у
страсти есть свои слабости и колебания; судьба же
либо обусловлена случаем, либо выступает в форме
различных препятствий, чинимых протагонисту приро-
дой или людьми. В аду, однако, душа изолирована от
деяния, она — чистая страсть, чистый характер, а по-
тому неуязвима и всемогуща; фатум же — это бог как
вечная справедливость и моральный закон: вот почему
первая часть ада, где невоздержанные и насильники —
трагические существа, объятые страстью, — даже пред-
став перед богом, по-прежнему обуреваемы своими чув-
ствами; это трагедия трагедий, вечная борьба в эпиче-
ских размерах.
Весь этот трагический мир проникнут единой идеей.
Природа ада пока еще не безобразна, не уродлива; на-
228
против, она наделена чертами, в силу которых она вы-
ступает как полное отрицание: эти черты — вечность,
отчаяние, мрак. Вечность абсолютна, потому что, как
бы близко ты к ней ни приближался, потустороннее {
предстает твоему взору неизмененным; отчаяние абсо-
лютно, так как внушает тебе: что бы ты ни делал, как бы
ни старался, цель недостижима; мрак абсолютен, по-
тому что он есть отрицание формы, смерть воображе-
ния — потому же, почему абсолютны смерть, зло, ничто.
Прочтите, что написано у входа в ад. В первых трех
строках неподвижная вечность твердит о себе: муки,
муки, муки, те края, те края, те края, для меня, для
меня, для меня, — пока наконец в сознании грешника,,
как крик отчаяния, не возникают слова: «Входящие,
оставьте упованья» 2.
Свет, точнее, «отрадный свет» делает абсолютной
тьму: наступает смерть солнца, звезд, глаз — «беззвезд-
ная тьма», «где свет немотствует всегда», — так, что
поэт «над ним склонялся по-пустому и ничего в нем раз-
личить не мог» 3.
Конечно, вечность, тьма и отчаяние — черты, общие
для всего ада, но они поэтичны лишь здесь, когда ад
предстает воображению впервые, со всей силой и све-
жестью первого впечатления. Потом к ним привыкаешь,
как к солнцу, наблюдаемому повседневно.
Данте, который в своих научных построениях исхо-
дит из заранее предпосланных принципов, действует
непроизвольно, полностью отдаваясь впечатлениям, ко-
гда он создает и «лепит» свои миры. Впервые ад появ-
ляется в третьей песне: как чувствуется в ней свежесть
первого впечатления, как отчетливо проступает
1 По поводу термина «потустороннее», часто встречающегося
в «Истории литературы» и в других работах Де Санктиса, см.
очерк «По ту сторону», который был передан Де Санктисом 24 ноя-
бря 1883 года для напечатания в «Album pel IV Centenario di
Martino Lutero», опубликован в 1884 году вместе с лекцией «Пятое
мая» и вторично издан Кроче в «Scritti vari, inediti о rari», Napoli
1898, II, pp. 209—210.
2 Более полный анализ этой песни см. в девятнадцатой лекции
туринского курса в «Lezioni e saggi su Dante», изд. Эйнауди, t. V,
pp. 195 и ел.
3 Эти выражения взяты из первых песен «Ада»: «Отрадный
свет» — X, 69; «беззвездная тьма» — Ш, 23; «где свет немотствует
всегда» — V, 28; «я над ним склонялся по-пустому И ничего в нем
различить не мог» — IV, 11—12.
229
восторженность поэта, взволнованного представшим ему
видением, как бы осажденного словами и образами, ко-
торые рвутся на волю I В «обрывках всех наречий, ропо-
те диком» 1 слышишь не только вопль равнодушных, но
и первый вопль всего ада. Эта песнь абсолютна,
варьируемая на разные лады на одной и той же ноте,—
вечность, тьма, ужас, бесконечность ада, обрушиваю-
щиеся на поэта и вдохновляющие его, выливающиеся в
яркие, нарисованные под свежим впечатлением карти-
ны, — поистине песнь царства мертвых, «мертвого на-
рода» 2, древо жизни, с которого поэт с каждым новым
шагом срывает по листку; уходит надежда:
Входящие, оставьте упованья...
(«Ад», III, 9)
Исчезают звезды:
Во тьме беззвездной были так велики...
(«Ад», III, 23)
Исчезает время:
Сливались в гул, без времени, в веках
Кружащийся во мгле неозаренной...
(«Ад», III, 28-29)
Исчезает небо:
Забудьте небо, встретившись со мною!
(«Ад», III, 85)
Исчезает бог:
Свет разума утратив навсегда..,
(«Ад», III, 18)
21. Эта абсолютная природа — поначалу неопреде-
ленная, неочерченная — не более как сфера, некое ме-
сто; ее можно было бы назвать полой, если б ее не на-
полняли вечность и тьма, смерть и отчаяние. В царстве
насильников она обретает форму. Перед нами уже не
абсолютное, а прекрасное отрицание. Там — все то, что
на земле имеет очертания, определенный порядок, про-
порции. Более того, даже город имеет свое, как у лю-
1 «Ад», III, 25.
2 Там же» VIII, 84-85
«Кто он, что сюда идет.
Не мертвый, в царство мертвого народа?»
230
дей, название: город Дит. Здесь есть леса, озера, гроб-
ницы. Поэтический эффект достигается тем, что в Дитё
мы находим те же «земные» предметы, но они лишены
свойств, которые на земле делают их прекрасными:
Там бурых листьев сумрачен навес,
Там вьется в узел каждый сук ползущий,
Там нет плодов, и яд в шипах древес.
(«Ад», XIII, 4-6)
Природа, лишенная жизни, неба, света, надежд, —
это абсолют, нечто леденящее душу ужасом. Натура,
лишенная своей красоты, — это прекрасное отрицание,
полное муки и тоски. Это — противоестественное есте-
ство, символ греха: вместе с добродетелью ушла и кра-
сота, лик добродетели.
Это «противоестественное естество» выявляется осо-
бенно живо в страданиях. Ведь идея, заложенная в
природе, неподвижна — так же как в архитектуре и в
скульптуре; в страдании же она выступает в самых раз-
нообразных ракурсах и аспектах. Страдания — это ма-
териализованное сознание; здесь они выражают неисто-
вость страсти. В этой вечной, окутанной тьмой природе
слышится вой — «словно воет глубина морская» 1, дроб-
ный стук града, рокот толпы, то есть нечто, связан-
ное с беспорядочным движением, столь же неистовым,
как движения души.
Перед нами огненные могилы, озера крови, плачу-
щие и говорящие деревья — естество, искаженное, изу-
родованное грешником. Причудливые сочетания произ-
водят впечатление чего-то необычайного и фантастиче-
ского, но оно длится недолго, сменяясь чувством страха
и ужаса. Поэт относится к созданному им миру .слиш-
ком серьезно, чтобы смаковать детали и бить на эф-
фект; едва коснувшись аргумента, он идет дальше, не
задаваясь целью поразить твое воображение: ему важ-
но воздействовать на сознание.
Фантастика занимает особенно большое место в лесу
самоубийц, но и здесь за описанием тотчас же следует
объяснение, и удивление сменяется глубокой печалью.
1 «Ад», V, 29. «И словно воет глубина морская». Далее речь
идет о мучениях чревоугодников, скупцов и расточителей. Там же,
VI, 10 и ел, VII, 22.
231
Однако идея еще не обрела субъективности, она еще
не душа. Первая ступень этой формы — дьявол. Сонмы
ангелов и чертей издавна населяли небо и ад, запол-
няя промежуток между человеком и богом, человеком и
сатаной. Это история борьбы добра и зла, происходя-
щей в нашей душе, процесс «обожествления» или «оса-
танения». Демоны, принимавшие разные названия и
«Ад», Песнь XVII
разные обличья в зависимости от форм религии и ци-
вилизации, в основе своей «градуируются» в соответ-
ствии, с различными ступенями зла, а по форме олицет-
воряют все гигантское, чудовищное, сугубо земное; они
символизируют животное начало в человеке, зачастую
превалирующее — как, например, в сфинксе, химере,
Цербере. Демон в изображении Данте уже не имеет
своей истории, как на земле, где он выступает в роли
змея-искусителя человека и злого духа, восставшего
против бога и соперничавшего с ним. В аду демон —
вне развития, так же как и человек; история его окон-
чена; что ему остается? Мучиться самому и мучать дру-
гих, быть одновременно жертвой и палачом, символом и
образом греха, бичующим грешника. Сатана Мильтона
232
и Мефистофель, которые были борцами против бога
и человека1, — законченные поэтические образы.
Здесь иная ситуация, иной и образ демона. Он по-
бежден богом, он значит меньше, чем человек, ибо че-
ловеческого в нем лишь одно: греховность. Поэтому
демон Данте — скорее тип, вид, символ, нежели персо-
наж. Он стоит на самой нижней ступеньке лестницы
одушевленных лиц, олицетворяет собой дух в переход*
ной стадии между человеком и животным; интеллект
в нем — лишь инстинкт, а воля — желание. Живые, ди-
намичные образы, олицетворяющие грех, они, однако,
не более, чем образы-символы, очерченные только
внешне: у них еще нет характера, нет страсти, нет ин-
теллекта, нет воли. Фигура демона среди невоздержан-
ных и насильников — трагическая и серьезная. Действия
его сводятся к мимике, к чисто внешним проявлениям;
это страсть, выраженная языком движений и жестов,
без слов, если не считать коротких проклятий. Природа
дает конфигурацию образа и цвет: здесь образ дви-
жется, цвет живет; это образ в действии. Поэт отряхнул
пыль с древних языческих представлений, переделал
их и обновил. Подобно тому как для сооружения ада
он позаимствовал формы у земли, а выхватив их из
назначенного им круга, переставил и сочетал по-новому,
создав новую натуру, точно так же, для того чтобы вы-
разить дух, он взял из мифологии всех демонов — Ми-
носа, Харона, Цербера, Плутона, Гериона, гарпий, фу-
рий—и поместил в своем аду. Когда он их брал, они
1 По поводу сравнения Сатаны Мильтона с Люцифером Данте,
впервые сделанного Шатобрианом («Genie du Christianisme», p. II,
1. IV, cap. ix, «Caractere de Satan») и подхваченного Ламарти-
ном и Ламеннэ, см. очерк «L'Ugolino di Dante», в «Lezioni e saggi
su Dante», cit., pp. 680—681. Характер мильтоновского Сатаны был
отлично вскрыт Де Санктисом в его ранних лекциях: «Внимание
привлекает образ Сатаны, превалирующий в поэме именно в силу
того, что он повествует об истоках зла на земле и предвосхищает
поэзию скептицизма и отчаяния, — Руссо, Байрона, Леопарди» («Тео-
ria e storia», изд. Эйнауди, t. I, pp. 213—232 и «Purismo illuminismo
storicismo», изд. Эйнауди, II). По поводу гётевского Мефистофеля
следует обратиться к семнадцатой лекции туринского курса:
«Мефистофель Гёте — один из великих и наиболее законченных и
реалистических поэтических образов, земное начало, которое, по за-
мыслу Гёте, соприкасается с Фаустом, чтобы бороться с «небесным»
началом его натуры» («Lezioni e saggi su Dante», изд. Эйнауди,
t. V, p. 183).
233
были лишены содержания, идеи, жизни, религии; Дантё
их воссоздал, окрестил, оставив на каждом из них след
своей мысли, своей веры. Демон, наименее далекий от
человека, это Харон, у которого появляются некоторые
черты характера: он нетерпелив, сварлив, драчлив, он
орет.и дерется. Данте остерегся акцентировать комиче-
скую сторону этого характера: образ Харона остается
строгим и суровым, ничем не диссонируя с торжествен-
ностью природы ада.
Образ Судьи Миноса дан чисто внешне, пластично,
через восприятие и поведение грешной души, которая
Промолвила, вняла и вглубь слетела...
(«Ад», V, 15)
Остальные образы демонов едва намечены. С тон-
кой выдумкой подан Герион, вдохновивший Ариосто на
одну из самых прекрасных его октав К
22. Теперь посмотрим на строение отдельных песен.
Прежде всего поэт описывает природу места и харак-
тер наказания. Демон выступает либо в начале, либо
в конце песни; затем предстают грешники — все вместе,
вперемешку, не по отдельности, а как коллективный че-
ловек, группами, от которых время от времени отры-
вается один, привлекающий внимание читателя.
Эти группы выражают чувства, наполняющие всех
грешников в аду; их связывает родство по преступле-
нию: так, в одном и том же озере крови казнятся ти-
раны Эццелино и Аттила, убийцы с большой дороги
Риньер да Корнето и Риньер Паццо2.
Облик этих грешников, так же как природы и де-
мона, поначалу суров и трагичен. Они как бы выра-
жают предел духа — отчаяние. Человеку необходимо
иметь перед собой нечто, к чему он стремится; мысль
рождается мыслью, сердце живет, лишь если чувство
рождает другое чувство; человек живет лишь тогда,
1 «Ад», XVII, 1—27. Упомянутая октава Ариосто —не та, в ко-
торой описывается круговой полет гиппогрифа, а другая, описываю-
щая Обман: «Приятный лик, наряд благопристойный» (Ариосто,
Неистовый Роланд, XIV, 87, перев. А. И. Курошевой, Л., 1938) — и
навеянная портретом Данте: «Он ясен был лицом и величав»
(«Ад», XVII, 10).
2 Там же, XII, ПО, 134 и 137—138. См. восемнадцатую лекцию
туринского курса 1854 года и пятую лекцию об «Аде» цюрихского
курса, посвященные группам в аду, в «Lezioni e saggi su Pante»,
изд. Эйнауди, t. V, pp. 187, 431 и ел,
234
когда oft охвачен лавиной мыслей и чувств; отчаяние —
это. уничтожение нравственной жизни, застой мыслей и
чувства, смерть, ничто, хаос, затмение духа, полное от-
рицание. Подобно тому как апогей тьмы — это угасание
света, апогей отчаяния — это гибель надежды:
Им нет надежды на смягченье мук
Или на миг, овеянный покоем.
(«Ад», V, 44—45)
В эстетическом плане выражением отчаяния служит
проклятие, бурная реакция души, от которой все гиб-
нет, которая, погибая, увлекает за собой всю вселен-
ную:
Выкрикивали господу проклятья,
Хулили род людской, и день, и час,
И край, и семя своего зачатья.
(«Ад», III, 103—105)
Страсть искажает лицо человека, даже спокойное
от природы; грех накладывает свой отпечаток на его
лбу, пылает в глазах. Описывая свои «группы», Данте
выхватывает скоротечную деталь и увековечивает ее.
Скупцы стоят, сжав кулаки, гневливые вонзаются ног-
тями в свое тело. Неистовость страстей, но не низость,
не подлость: при виде их испытываешь ужас, но не
презрение.
Представьте себе пирамиду. У ее широчайшего
основания — адская природа. Выше демон, звероподоб-
ное существо с человеческим лицом, подчас зверь во
всех своих проявлениях, и он никогда не достигает пол-
ного сходства с человеком. Обратите взор еще выше, и
вы увидите группы грешников, охваченных неодолимой
страстью. Это идея, развивающаяся испиритуализирую-
щаяся, в итоге чего на тройном основании высится
сам-а статуя — свободный индивидуум, идея в своем
индивидуальном выражении, точнее — нечто большее,
обретшее свободу. Именно из этой смешанной толпы,
из этих групп и выходят великие люди ада или, вернее,
земли; именно на этой тройной основе вечности и по-
является время, история, Италия и, главное, сам Данте
как человек и гражданин.
23. Ад невоздержанных и насильников — это царство
великих поэтических образов. Здесь, как в портретной
галерее исторических героев, мы находим Франческу,
235
Фаринату, Кавальканти, Пьетроа делле Винье, Брунетто
Латини, Капанея, Данте, рок, бога и Фортуну. Здесь
присутствуют великие силы, энергия страсти и неумо-
лимость рока. Здесь Франческа навек соединилась со
своим Паоло, а Фортуна, не внемлющая людским про-
клятьям, пребывает в блаженстве К
То тебя сражает глас божьей справедливости, раз-
дающийся в вечности, то поражает объятый пламенем
Капаней, который ке страшится стрел Зевса. На этом
трагическом фоне возвышается фигура свободного че-
ловека, во всем блеске его талантов. Здесь мы выходим
из области мистических и схоластических абстракций и
соприкасаемся с реальностью. Женщина уже не Беат-
риче, не идеал трубадуров, колеблющийся между аб-
страктной идеей и реальностью; здесь обретает харак-
тер историчность, страсть, разносторонняя и яркая
личность — образ Франчески да Римини, первой жен-
щины нового мира. Человек — это уже не святой с его
экстазами и видениями; у него есть родина, дело, поли-
тические убеждения, семья, страсти, характер. Таковы
Фарината, Кавальканти, Брунетто, Пьетро делле Винье,
Данте Алигьери, чью гордую натуру Вергилий восхва-
ляет в следующих словах:
Суровый дух,
Блаженна несшая тебя в утробе!
(«Ад», VIII, 44—45)
Ад придает им еще большую реалистичность, со-
здает новые образы и новые краски. Пьетро делле Винье
клянется своих «корней ужасной кровью»2. А Фари-
ната говорит:
Больнее мне, чем ложе мук моих...
(«Ад», X, 78)
1 «Ад», VII, 94-96.
«Но ей, блаженной, не слышна хула:
Она, смеясь меж первенцев творенья,
Крутит свой шар, блаженна и светла».
Об эпизоде с Фортуной (там же, VII, 67—96), «бессмертном
примере того, как наука может стать поэзией», см. «Lezioni e saggi
su Dante», изд. Эйнауди, t. V, pp. 19—20 и ел.
2 Там же, XIII, 73: «Моих корней клянусь ужасной кровью».
О Пьетро делле Винье см. туринские лекции и очерк, опубликован-
ный во флорентийском «Spettatore» (I, № 23, 8 июля 1855), в «Le-
zioni е saggi su Dante», изд. Эйнауди, t. V, pp. 245 и ел., 353 и ел.
236
Узнав о смерти сына, Кавальканти
Рухнул навзничь и исчез из глаз.
(«Ад», X, 72)
Брунетто препоручает Данте свой «Клад» («Tesoro»);
он чувствует, что в книге осталась жить частица его
существа. Капаней вправе говорить: «Каким я жил,
:Ад», Песнь XIX
таким и в смерти буду» К А Франческа в несчастье
вспоминает счастливые времена. Ад — это пьедестал,
на котором они «чело и грудь вздымают властно»2,
утверждая свое человеческое достоинство. Появляются
новые, дотоле неизвестные ситуации и формы, которые
придают выпуклость всем образам и чувствам.
24. Этот трагический мир, где введены в действие
все жизненные силы, где взрываются страсти и неисто-
вы характеры, превосходно воплощен в таких вечно
1 «Ад», XV, 119—120: «Храни мой Клад, я в нем живым остался;
Прошу тебя лишь это соблюсти», — а также XIV, 51.
2 Там же, V, 121—123: «...Тот страждет высшей мукой, Кто
радостные помнит времена В несчастии»; и X, 35: «А он, чело и
грудь вздымая властно».
237
живых, неувядающих популярных образах, как Ахилл-
и Гектор. Это мир большой поэзии, эпопеи и трагедии.
Какой контраст! Оставив позади «широкие огневые
платки» и песок, воспламеняющийся, «как под огни-
вом трут», мы оказываемся в вонючей луже, «неснос-
ной для глаз и для ноздрей»1. Расставшись с тра-
гическими демонами античных времен, с кентаврами и
гарпиями, мы встречаем бесов с рогами, вооруженных
хлыстами, и трусливых людей, проворно удирающих
после первого удара, не ожидая, «пока второй обру-
шится иль третий»2. Вместо Капанея с гордым челом,
первый же человек, которого мы видим, бредет, скры-
вая облик свой, склонив чело3. Данте, до сих пор столь
почтительный, участливый и даже возмущающийся,
становится ехидным и насмешливым: -на губах его по-
является сардоническая улыбка. Он называет эту зло-
вонную кучу «крутой приправой», «как будто взятой из
отхожих ям». Кто-то, разозлившись, кричит ему: «Ты
что облюбовал меня из всех, кто вязнет в этой прели?» 4
И Данте, глядя на его вымазанную нечистотами го-
лову («вряд ли кто бы отгадал, мирянин это или по-
стриженный») , безжалостно напоминает грешнику о том,
1 «Ад», XIV, 38—39: «...как под огнивом трут» и XVIII, 106—
108: «Откосы покрывал тягучий клей От снизу подымавшегося чада,
несносного для глаз и для ноздрей».
2 Там же, XVIII, 34—39. На этой странице, а также на после-
дующих, где речь идет о последних двух кругах, использованы и
отчасти воспроизведены материалы туринского курса лекций о
«Злых Щелях» (II—V), опубликованных в «Lezioni e saggi su
Dante», изд. Эйнауди, t. V, pp. 260 и ел.
3 Там же, XVIII, 46—47: «Бичуемый, скрывая облик свой,
Склонил чело...». Несколько ниже стихи 51: «Ты заслужил приправу
столь крутую» — и 113—114: «Предстали толпы влипших в кал
зловонный, Как будто взятый из отхожих ям».
4 Там же, XVIII, 118—119. В следующих строках перефрази-
рованы стихи 115—117:
Там был один, так густо отягченный
Дермом, что вряд ли кто бы отгадал,
Мирянин это или постриженный
и 121—124:
И кудри у тебя тогда блестели;
Я и смотрю, что тут невдалеке
Погряз Алёссио Интерминелли.
И он, себя темяша по башке..*
238
что он видел его на земле, когда «кудри у него бле-
стели». А тот выражает свою скорбь тем, что «темя-
шит себя по башке». Здесь все иное — природа, дьявол
и человек, образы и стиль: все плебейское. Кто эти
люди? Льстецы и блудницы *, осужденные на одну и
ту же муку, поскольку одни продают душу, а другие
торгуют телом. Затем мы переходим в следующий круг,
где казнятся обманщики.
В эстетическом плане обманщики олицетворяют
прозу жизни, низверженную с пьедестала идеальности
и превратившуюся в сплошную вульгарность. Это —
страсть, перешедшая в порок, характер, превративший-
ся в привычку, сила, выродившаяся в вероломство.
Страсть поэтична, ибо ей свойственно приводить в дви-
жение все силы души, заставлять их свободно выры-
ваться наружу; порок же — это страсть, перешедшая
в привычку, повторение одних и тех же поступков, сле-
дование установившемуся обычаю; это художник, пре-
вратившийся в ремесленника, искусство, ставшее ре-
меслом. Человек, охваченный страстью, одухотворяет
действие, вкладывает в него всего себя; у порочного
человека душа дремлет, его действия — лишь бессмыс-
ленная материя, механический акт, к которому дух не
причастен. Страсть создает характер, сильную волю, ко-
торые являются как бы продолжением страсти; порок
сопровождается вялостью и низостью души, ибо низость
души — это и есть отречение и отступничество от соб-
ственной души. Орудием характеров цельных, уверен-
ных в себе является сила: их порывистость граничит
с опрометчивостью, простота с легковерием; орудием
душ вялых является хитрость и вероломство, осознавая
свое бессилие, они, как ночные совы, нападают сзади и
не решаются смотреть опасности в лицо.
Здесь внешние изменения являются следствием из-
менений внутренних: нет больше характеров и страстей,
есть лишь порок, низость, вероломство; дух затемнен
и «материализован», жизнь разлагается. За неопреде-
ленными, расплывчатыми кругами, за пламенеющим
городом Дитом, после земных имен и фигур приходит
нечто, не имеющее названия и что поэт именует при-
чудливым именем «Злые Щели» — бесформенная,
«Ад», XVIII, 130 и ел. (изображение Фаиды).
разлагающаяся природа, крутые скалы, подвижные
утесы, служащие мостиками, а ниже — заболоченные
равнины, где стоит и гниет некогда бурливая и стреми-
тельная вода, узкие долины, ущелья, складки. Все бо-
лее и более сужаясь, они превращаются в колодезь:
жалкие остатки разрушенной, гниющей природы. Место
разъяренного и страстного мифологического демона за-
нимает рогатый бес — существо гротескное; бесов мно-
го, они ходят гурьбой, вмешиваются в гнусные раз-
говоры с самыми отвратительными людьми, издеваются
и сами служат предметом издевок; они вероломны,
лживы, грубы, непристойны.
Вместо грозных явлений природы — вихря, града,
пламени — разлагающаяся материя, все страдания че-
ловеческой плоти, какие можно увидеть на поле боя,
все недуги, какие можно наблюдать в больнице. Та-
кова здесь природа, таков демон, таковы мучения.
А посмотрим на человека. До сих пор человеческий
облик оставался нетронутым: в воображении поэта
страсть окрашивала румянцем лицо Франчески; вели-
чие души отражалось на* лице человека, чье «от чресл
и выше видно тело» К Здесь же человеческий об-
лик исчезает: вместо него — карикатура, непристойно
исковерканные тела. Мы видим людей, воткнутых в яму
головой вниз, ногами вверх, лица, повернутые назад,
так, что слезы их стекают по пояснице; лица, глаза,
тела грешников укутаны, закрыты капюшонами; люди
высовывают лягушачьи морды из кипящей смолы; по-
всюду тела-обрубки, изуродованные, раскромсанные или
гниющие, разлагающиеся, чесоточные, чахоточные, раз-
дувшиеся от водянки. Самой яркой фигурой, являющей
собой пример такого изуродованного, искаженного че-
ловеческого облика, является Бертран де Борн, чье без-
головое тело «срезанную голову держало за космы, как
фонарь»2.
. В этом прозаичном и плебейском мире, начинаю-
щемся с Фаиды и кончающемся мастером Адамо, мате-
рия или животное начало превалирует настолько, что
часто напрашивается вопрос: кто же они, люди или
1 «Ад», X, 33. Речь идет о Фаринате.
2 Там же, XXVIII, 121 и ел. Этот эпизод подвергнут подробному
анализу во второй лекции туринского курса 1855 года. См. «Lezioni
е saggi su Dante», изд. Эйнауди, t. V, pp. 260 и ел.
240
животные? Еще не животные, но человек в них уже
умер:
Еще не черен и уже не бел...
(«Ад», XXV, 66)
Человеческое и животное начала в них перемешаны,
и самая глубокая идея, заложенная в «Злых Щелях»,
состоит как раз в этом перевоплощении человека в жи-
вотное и животного в человека: им свойственны жи-
вотные желания и инстинкты, и в то же время они
обладают человеческим сознанием. Сознавая себя
людьми, они являются животными. В том и заключает-
ся их наказание: сознавать себя людьми.
Эстетическая форма этого мира — комедия, изобра-
жение пороков и недостатков. Личность поблекла; ве-
ликий человек, индивидуум отодвинут в тень; на пер-
вый план выступает описательная, внешняя сторона.
В «трагическом» аду описания кратки, лаконичны; глав-
ный интерес сосредоточен на действующих лицах, беру-
щих слово; здесь же перед нами безмолвное стадо, ви-
димое издалека. Вергилий говорит Данте: Смотри, вон
Мирра, вон Ясон, а вот Манто 1.
Данте едва удостаивает несколькими словами неко-
торых из этих великих персонажей, Так, о Ясоне он
говорит:
Ему и боль не увлажняет глаз.
(«Ад», XVIII, 84)
Вначале мы говорили: песнь, посвященная Франче-
ске, Фаринате, Брунетто Латини; а теперь говорим:
песнь о ворах, о поддельщиках, об обманщиках. Речь
идет о группах людей, а не об отдельных людях. На-
лицо описание, а не драма. А раз лишены величия дей-
ствующие лица, то не испытывает сострадания и зри-
тель. При виде человеческого существа, изуродованного
настолько, что слезы, лившиеся из глаз его, орошали
ягодицы, Данте заплакал2. «Ведь я человек» («homo
sum»). Человеческое достоинство его уязвлено. Но Вер-
гилий выговаривает поэту:
Ужель твое безумье таково?..
...Здесь жив к добру тот, в ком оно мертво.
(«Ад», XX, 26, 28)
1 «Ад», XXX, 37—41, XVIII, 83 и ел., XX, 52 и ел.
2 Там же, XX, 19 и сл%
J6 Де С^нктис 241
Превалирует описание; наделенный мощным вооб-
ражением, Данте, сталкиваясь с необходимостью опе-
рировать понятиями, не существующими в природе, не
только не испытывает никакого замешательства, но
шутя преодолевает препятствия, легко и спонтанно изо-
бражая самые различные и странные явления: язык
пламени говорит у него, как человеческий; ноги плачут
и дрожат1. Вершины фантазии поэт достигает в два-
дцать пятой песне, описывая превращение людей в жи-
вотных (хотя чрезмерное увлечение деталями подчас
приедается).
25. Среди этого множества групп кое-где выделены
отдельные персонажи, в которых особенно ясно выра-
жена идея «Злых Щелей». Серьезной стороной этой
идеи является положение, согласно которому дух пере-
ступает предначертанные ему границы. Если бы разум
был в состоянии узреть все, «то не должна бы и ро-
ждать Мария»2. У опыта были свои Геркулесовы
столпы; были свои границы и у разума.
Эта идея серьезна, она не сублимирована, не тра-
гична, ибо человек, ринувшийся с Горациевым бесстра-
шием выведывать у природы ее тайны3, здесь не вос-
стает против бога, подобно Прометею или Капанею: он
сражен, порабощен, в нем нет и следа неповиновения,
гордости, протеста:
«Куда ты,
Амфиарай? Что бросил ратный стан?»
А он все вглубь свергался без оглядки,
Пока Миносом не был обуздан.
(«Ад», XX, 33—36)
Человек у Горация велик, потому что он деятелен,
ты чувствуешь в нем непреоборимое желание вкусить
от запрещенного плода, действовать вопреки богу и
природе. Амфиарай —н(е более чем имя; охваченный
невыразимым ужасом, он устремляется все дальше и
дальше в глубь преисподней. Далее следует гротеск:
1 «Ад», XXVI, 88—89: «Туда клоня вершину и сюда, Как если б
это был язык вещавший»; и XIX, 45: «Кто так ногами плакал,
в яме сжатый».
2 «Чист.», III, 39.
3 Речь идет о третьей оде первой книги, ст, 37 и далее.
Ты видишь — в грудь он превратил лопатки
За то, что взором слишком вопль проник,
Он смотрит взад, стремясь туда, где пятки.
(«Ад», XX, 37—39))
Улисс (Одиссей), который проник дальше Геркуле-
совых столпов, по божьему веленью («как назначил
Кто-то»1) был поглощен морской пучиной.
«Ад», Песнь XXI
Одиссеева отвага присуща и самому Данте, вложив-
шему в уста Улисса благородные слова, свидетельствую-
щие о жгучей любознательности, о тяге к знаниям, от-
личавшей его современников. Создается полное впечат-
1 «Ад», XXVI, 141: «Нос канул книзу, как назначил Кто-то».
Об образе Улисса см. третью лекцию курса 1855 года в «Lezioni
е saggi su Dante», изд. Эйнауди, t. V, pp. 269 и ел. По поводу
нижеследующего замечания о Колумбе см. аналогичные размышле*
ния Ламеннэ в его введении к «Божественной комедии» в собствен-
ном переводе: «Поэт воплощает самого себя в своем вымысле, он
передает своим творениям свой дух, дух своей эпохи, снедаемый
жаждой знаний, влекомый туда, где заходит солнце, за бескрайние
моря, томимый смутным предчувствием, что где-то существует не-
ведомый мир, мир, два века спустя открытый Колумбом»,
ление, что речь идет о путешествии Колумба. И грех
оборачивается добродетелью. Если, согласно гибеллин--
ской логике, автор заговора против Трои — колыбели
Священной Римской империи —должен был оказаться
в аду, то поэзия водружает памятник этому предше-
ственнику Колумба, — он показывает рукой на новые
моря и новые миры и как бы говорит своим товарищам:
Подумайте о том, чьи вы сыны:
Вы созданы не для животной доли,
Но к доблести и к знанью рождены.
(«Ад», XXVI, 118—120)
Улисс — единственный великий человек в «Злых Ще-
лях». Он подобен пирамиде, возвышающейся среди
грязи. Отовсюду проникает комизм, а с ним грязь, не-
пристойность, мерзость. Дух, выродившись в веролом-
ство, деградировал, а одновременно омрачился и облик
человека. Даже фигура Улисса в наказание за его ве-
роломство окутана пламенем. Мы — в мире комиче-
ского.
26. Вершина комизма — карикатура, недостаток,
схваченный в виде образа и идеализированный. Это в
том случае, когда персонаж действует непосредственно,
грубо, как бы не осознавая своего недостатка, что мы
наблюдаем на примере блестящих комических характе-
ров Санчо Панса и дона Аббондио. Таковы грешники,
казнимые в «Злых Щелях»: они циничны и потому
смешны — как и дьяволы из двадцать второй песни,
драчливые, отвратительные, тщеславные и тупо жесто-
кие в своих поступках. Таковы воры, мошенники, мздо-
имцы — всякий сброд, в ком порок укоренился так глу-
боко, что они его даже не замечают.
Таков и папа Николай III: он настолько кичится
своим высоким саном, что полагает, будто Данте явился
в ад специально ради того, чтобы его увидеть К Та-
ковы же Синон и мастер Адамо2.
1 «Ад», XIX, 46 и ел. Наряду с упоминанием о папе, осужден-
ном на адские муки, почтительно говорится о папской власти
(«папский посох» — там же, II, 27).
2 Там же, XXX, 49 и ел. О комическом в аду и, в частности,
об эпизоде с Синоном и мастером Адамо, а также о песне лихоим-
цев см. третью туринскую лекцию 1855 года, в значительной мере
здесь использованную, в «Lezioni e saggi su Dante», изд. Эйнауди,
t. V, р. 267 и ел.
244
Они показывают себя в натуральную величину —и
их можно показать прямо, непосредственно, отшелу-
шив, обособив данный недостаток от всего превходя-
щего и возведя его в идею, создав тем самым некий
«негатив» — образ, противоположный тому образцу совер-
шенства, который мысленно представляет себе каждый.
Так получается карикатура: Данте изображает комиче-
ское в самом его плебейском, простецком варианте. При-
ведем в качестве примера ссору Синона с мастером Адамо.
Здесь чистая буффонада, то есть самая примитив-
ная форма комизма. Поэт, этот могущественный созда-
тель трагических образов ада, показывает себя сухим и
холодным в этом чуждом ему мире. Ситуации комичны,
но комизм их груб, не художествен: не удался сам об-
раз— карикатура, и она не вызывает смеха. Ссоря-
щиеся падают в кипяток, и только тогда прекращается
драка. Смешно? Вряд ли. Поэт говорит:
Их сразу жгучесть пекла разняла.
(«Ад», XXII, 142)
Сказано живо, но выпуклого образа не получилось,
и читатель остается холодным. Поэт не сумел подме-
тить жест, гримасу дерущихся в момент, когда, ошпа-
рившись, они отпрянули друг от друга. Карикатура
удалась в сцене, когда Синон ударил мастера Адамо
кулаком в живот и — «как барабан, откликнулась
утроба» 1. Однако следующие далее слова:
Но мастер по лицу его огрел
Рукой, насколько позволяла злоба —
звучат невыразительно.
Карикатура поэту чаще всего не удается: самые
смешные его стихи не вызывают смеха. Чтобы создать
карикатуру, надо сосредоточить внимание на комиче-
ской стороне предмета, потешаться самому, увлечься,
создать некий «антиобразец». Данте не обладает даром
увлекаться комизмом, ему не хватает снисходительно-
сти, мягкости. Он боится запятнать себя соприкоснове-
нием с этими людьми и, когда прислушивается к их
словам, заставляет Вергилия2 упрекать себя за это,
а останавливаясь возле них, извиняется:
1 «Ад», XXX, 103: «Как барабан, откликнулась утроба».
2 Там же, XXX, 148: «Позыв их слушать — низменный позыв».
245
вот уж в милом
Сообществе! Но в церкви, говорят,
Почет святым, а в кабачке — кутилам!
(«Ад», XXII, 13-15)
Смех его горек: за шуткой слышится гнев, и часто
бич в его руке превращается в кинжал.
Смех умирает, когда комический персонаж сознает
свой порок и, вместо того чтобы устыдиться, использует
его как пьедестал. И тогда не ты над ним смеешься,
а он сам .«рядится» в свой недостаток, «украшает себя»
им, запахиваясь в него, как в королевскую мантию,
венчая им себя, как короной, как ореолом, как бы изы-
скивая наилучшую позу, чтобы сказать: «Взгляните-ка
на меня!», чтобы как можно нагляднее продемонстри-
ровать свой порок. Животное не скрывает своего по-
рока и не краснеет: краснеет от стыда лишь человек.
Если человек знает о своем недостатке, но пренебрегает
им, «оголяет» свой облик, его называют наглым, бес-
совестным, но карикатура здесь убивает сама себя; ко-
мизм, доведенный до предела, исчезает, порождая чув-
ство крайнего отвращения, омерзения, это — абсолют-
ный комизм... Проповедь собственной отвратительности,
похвальба ею вызывают отвращение и почти что ужас.
Вот тогда Данте чувствует себя в своей сфере. Его ге-
рой — Ванни Фуччи К
Мастер Адамо подобен животному, не осознающему
своей низости; Ванни Фуччи все осознавал, но все по-
давил в себе; они — на двух противоположных полюсах
шкалы порока: один никогда не поднимался до чело-
века, другой хоть и считался человеком, но вновь опу-
стился до животного. Он чувствует себя животным и
подает себя таким, не упуская случая заявить об этом:
Я был любитель
Жить по-скотски, а по-людски не мог,
Да мулом был и впрямь; я — Ванни Фуччи,
Зверь, из Пистойи, лучшей из берлог.
(«Ад, XXIV, 123—126)
1 О переходе от комизма к иронии в описании «Злых Щелей»
и об образе Ванни Фуччи см. четвертую лекцию туринского курса
1855 года, которая здесь дана в виде краткого резюме. См. «Lezioni
е saggi su Dante», изд. Эйнауди, t. V, pp. 275 и ел.
246
А вот человек, который открыто издевается над
богом: Капаней из «Злых Щелей», человек, превра-
тившийся в животное и идеализирующий животное на-
чало.
27. Но человеческое начало никогда полностью не
умирает. Человек становится животным, но животное
вновь превращается в человека. С глубоким волнением
заставляет Данте залиться краской стыда даже наглое
лицо Ванни Фуччи, уличенного в краже:
И от дурного срама стал багров.
(«Ад», XXIV, 132)
Человек, сознающий свой порок и стыдящийся его,
вместо того чтобы показывать его в подлинном виде,
что выглядит карикатурно, старается замаскировать его
совершенно противоположным качеством: трус выдает
себя за храбреца. Так рождается противоречие между
«быть» и «казаться»; ситуация становится комической
и выступает в форме иронии. Заведомо снисходитель-
ный и готовый посмеяться зритель делает вид, будто
верит обману и согласен со всем, что ему говорят: раз
ты изображаешь себя смельчаком, ладно, буду звать
тебя Орландо (Роландом); но, слыша пискливый голос,
гаденький смешок, он понимающе подмигивает, как бы
говоря: я-то тебя знаю. Следовательно, суть иронии не
в образе, она — между строк: спонтанность уступает
место отражению, образ утончен, переходит в чувство.
Весьма тонкий прием, ибо зритель при виде недо-
статка, который пытаются от него скрыть, не испыты-
вает гнева, не старается «сорвать маску», а, напротив,
сам «маскируется», сохраняя невозмутимость и сдер-
жанность, нарочитость которых проступает в каждом
движении, в каждом жесте. Прием, характерный для
эпохи развитой культуры и встречавшийся весьма редко
в древние времена в поэзии на начальной ее стадии.
Данте — цельная натура, всегда нахмуренный, резкий,
такой, каким мы видим его на портретах, слишком по-
лон желчи и гнева, чтобы ему удавались карикатура и
ирония. И тем не менее именно ему принадлежит честь
создания одного из тех творений, которые являются ве-
личайшими открытиями в истории искусства и соста-
вляют целый новый мир: это черный херувим, вырвав-
ший у святого Франциска душу Гвидо да Монтефель-
247-
тро1, — отец Мефистофеля. Данте создал дьявола,
определил образ его мыслей и его роль. Дьявол — во-
площение иронии; не существует на свете хитреца, ко-
торого дьявол не мог бы перехитрить, и самого его,
разумеется, тоже никогда не расстраивает людская хит-
рость.
Человек может обмануть другого человека, но обве-
сти вокруг пальца дьявола ему не под силу, ибо в ху-
дожественном плане дьявол — это он сам, его совесть,
встречающая громким смехом его же софизмы, на все
его доводы отвечающая контрдоводами, совесть, кото-
рая, насмехаясь, говорит:
А ты не думал, что я логик тоже?
(«Ад», XXVII, 123)
28. Уродство, так же как и красота, будучи дове-
дено до абсолюта, гибнет. Уродство абсолютно тогда,
когда оно оскорбляет наше нравственное и эстетическое
чувство и вызывает у нас острую реакцию. Вспыхивает
гнев, возмущение, охватывает ужас: и комизму тут же
приходит конец. Когда я вижу недостаток в обнажен-
ном виде, я прибегаю к карикатуре. Когда я вижу, что
недостаток пытается замаскироваться, я тоже надеваю
маску и употребляю иронию. Но когда этот недостаток
меня оскорбляет, выводит из себя, провоцирует, высту-
пает как нечто прямо противоположное моему внутрен-
нему «я», то мое сознание, столь грубо оскорбленное,
восстает. Я срываю с порока маску, показываю его под-
линное лицо в его уродливой обнаженности. И тогда
карикатура и ирония переходят на более высокую ста-
дию— выливаются в сарказм; входя через эту дверь,
мы оставляем позади комизм и вступаем в область
большой поэзии2.
В сарказме вновь появляются карикатура и ирония,
но лишь для того, чтобы исчезнуть: стоит лишь карика-
туре, появиться, как она уже испорчена; маску срывают,
как только она появляется. Она гибнет оттого, что
1 «Ад», XXVII, 112 и ел., см. об эпизоде с черным херувимом
(ст. 113) и, главное, об образе дьявола в поэзии, ту же четвертую
лекцию, «Lezioni e saggi su Dante», изд. Эйнауди, t. V, pp. 284—
285.
2 О сарказме в песне, посвященной симонистам, см. пятую лек-
цию 1855 года в «Lezioni e saggi su Dante», изд. Эйнауди, t, V,
pp. 286 и ел.
248
в саркастической форме, в которую облекается урод-
ство, заключена идея для нее смертоносная, ее
антипод.
Сарказм совершает свой победный выход на сцену
в песне, посвященной святокупцам. Гнев Данте столь
велик, что комизм умирает. Противоречие между тем,
что он видит вокруг, и тем, что испытывает в душе, вы-
ражается в форме непривычных сравнений, вроде
«Топча благих и вознося греховных», «Сребро и злато —
ныне бог для вас» \ а подчас в словах, имеющих двой-
ной смысл, что, собственно, и составляет суть сарказма.
Таковы, например, вошедшие в поговорку слова о при-
служничестве церкви. «Любодейным грехом» он назы-
вает также симонию, «идолопоклонством» —жадность,
попутно упоминая о святости брака, о святыне божьей2,
то есть подавая уродливое одновременно с его осужде-
нием.
Но сарказм должен действовать как очистительное
пламя и снедать самого себя. До тех пор пока речь идет
о частностях и об отдельных людях, Данте говорит яз-
вительным, желчным языком, подобно Ювеналу или
Менцини3. Но поэт не останавливается на этом, он
стремится оторваться, стать выше, расширить горизонт,
голос его должен звучать убедительно, стать гласом
истины, объективным выразителем совести. Нет сомне-
ния, что в этой песне о святокупцах Данте обессмертил
месть обманутого человека — Бонифацию заранее уго-
товано место в аду, — выразил возмущение гибеллина
1 «Ад», XIX, 105 и 112.
2 Имеются в виду несколько выражений из поэмы «Рай», IX,
142: «Избудут вскоре любодейный грех» — и прежде всего — из
песни XIX «Ада», ст. 1—4:
«О Симон волхв, о присных сонм злосчастный.
Вы, что святыню божию, добра
Невесту чистую, в алчбе ужасной
Растлили ради злата и сребра»;
108:
«И деет блуд с царями многих стран»;
113:
«И даже те, кто молится кумиру».
3 «Сатиры» Бенедетто Менцини упоминаются в «Истории
итальянской литературы» лишь однажды (см. т. II, гл. XX), но
о нем самом см. также неаполитанские лекции — раздел о сатири-
ческой поэзии — «Teoria e storia» и «Purismo illuminismo storicismo»
cit., t. I, p. 145 и t. II, изд. Эйнауди.
249
и христианина, усматривавшего в светской власти пап
камень преткновения и причину всех раздоров.
Но хотя личные чувства и страсти и вдохновляли
поэта, делали неисчерпаемой его изобретательную фан-
тазию, они не проникли в ткань повествования. Чтобы
разгадать, что толкнуло Данте на создание страшных
«Ад», Песнь XXIII
картин, надо знать историю. В поэте чувствуется глу-
бокая убежденность и искренность, гнев его неподделен
и не продиктован личными мотивами; вот почему так
непроизвольно льются из уст его слова, рисующие кар-
тины, столь богатые образами и мыслями. Сначала
гнев Данте обрушивается на папу Николая, очерчен-
ного несколькими скупыми мазками, — маленького, ни-
чтожного человека, напуганного до потери сознания.
Вначале он обращается к нему на «ты», вступая с ним
в «рукопашный бой»,— с горькой иронией, которая по-
степенно переходит в разящий, как кинжал, сарказм:
И крепче деньги грешные храни,
С которыми на Карла шел так смело.
(«Ад», XIX, .98-99)^
250
Но в самый разгар гневной тирады поэт вдруг спо-
хватывается, этот переход заслуженно считается непре-
взойденным: незначительная фигурка папы Николая ис-
чезает: автор переходит на «вы», говоря о папах и
о папстве, мысли становятся шире, не утрачивая, од-
нако, своей силы, и, наконец, гнев переходит в печаль,
без всякогю оттенка раздражения; поэт уже не возму-
щается, а сетует:
О Константин, каким злосчастьем миру
Не к истине приход твой был чреват,
А этот дар твой пастырю и клиру!
(«Ад», XIX, 115-117)
Таковы «Злые Щели» — неисчерпаемые залежи ко-
мических характеров, одно из самых оригинальных тво-
рений искусства, где комизм появляется и растворяется.
Комические формы не совсем удались поэту, зато он
непревзойден, развивая их,когда смех переходит в гнев,
в своей инвективе, — в изображении Бертрана де Борна,
в мучениях Ванни Фуччи. Мастера комического изобра-
жения появятся в Италии позже. Хотя и здесь, в этой
области, которую Данте едва наметил, живет бессмерт-
ный образ черного херувима.
29. В колодезе, в котором казнятся предатели, жизнь
опускается еще на одну ступень: человек-животное пре-
вращается в ледяного человека, в окаменелость, в ис-
копаемое. В этом обратном развитии ада, по пути чело-
вечества вспять, мы приходим к.страшным истокам че-
ловеческого рода, в царство бессмысленной, бездушной
материи, к сугубо земному, представленному сынами
земли — гигантами, восставшими против Зевса, суще-
ства, наделенного небесными, духовными качествами,
уступающего им по физической силе, но зато вооружен-
ного молнией:
...те, кого
Дий, в небе грохоча, страшит поныне К
Этот миф перекликается с библейской легендой
о восставших ангелах. В поэме у входа мы находим
1 «Ад», XXXI, 44—45. О выражениях, следующих ниже —о ги-
гантах и о пейзаже круга, где казнятся предатели, — см. седьмую
лекцию туринского курса в «Lezioni e saggi su Dante», изд. Эй
науди, t. V, pp. 303 и ел, В той же лекции разобран эпизод с
Уголино.
251
гигантов, а в конце — Люцифера: мифология и библия
перемешаны, выражают одну и ту же идею. Борьба
окончилась; гиганты закованы в цепи. Люцифер не бо-
лее как огромная глыба бессмысленного мяса, низшая
ступень лестницы демонов. Великаны — это поэзия ма-
терии; но здесь их образы пусты и неподвижны, про-
заичны К
Между гигантами и Люцифером находятся греш-
ники, скованные льдом. Гнилые воды «Злых Щелей»,
овеваемые необъятными крыльями Люцифера, замер-
зают, отвердевают, становятся морем стекла, через ко-
торое просвечивают, точно «в стекле сучки»2, люди,
предавшие родственников — они в Каине, изменившие
родине, они — в Антеноре, предавшие своих друзей,
они — в Птоломее, благодетелей — в Джудекке. Кара—
одна для всех, но наказание меняется в зависимости от
преступления. Движение постепенно приостанавливает-
ся, жизнь окаменевает, пока не остается ничего — ни
слезы, ни слова, ни жеста.
Самый яркий образ этого застывшего царства —
бездыханный, неподвижный череп архиепископа Руд-
жери, в который зубами вгрызся Уголино.
Уголино — одна из самых необычайных и интерес-
ных фантазий Данте. Благодаря Уголино в это мертвое
море, где и природа, и дьявол, и человек — лишь бес-
смысленная, тупая материя, _ вторгаются жизнь и поэ-
зия. С точки зрения морали предательство — самое
тяжкое преступление, но здесь отсутствует «орган»
вины3, крик совести как бы «обледенел» вместе с ви-
новным. Этот крик вырывается из груди Данте, взи-
1 Об отрицательном характере демонических фигур см. Hegel,
Cours d'esthetique, cit., vol. I, p. 205: «Описание жестокости, не-
счастья, насилия допустимо в повествовании, но при условии, что
они приподняты величием характера и облагорожены целью, пресле-
дуемой действующими лицами. Дьявол, сам по себе, в эстетическом
плане плохой образ, для искусства неподходящий, поскольку он —
воплощение лжи и, следовательно, лицо в высшей степени прозаи-
ческое».
2 «Ад», XXXIV, 12: «Сквозят глубоко, как в стекле сучок».
3 Яснее эта мысль выражена в упомянутой седьмой лекции
(«Lezioni e saggi su Dante», изд. Эйнауди, t. V, p. 306). «Истори-
чески он — предатель и жертва предательства, но в поэтическом
плане он — только жертва предательства, ибо поэтичен здесь не
рассказ о том, как он предал, а рассказ о том, как предали его,
рассказ о страданиях человека, ставшего жертвой предательства...»
252
рающего на это, как уже было в «Злых Щелях», где
комический эффект переходил в страстную инвективу.
Здесь все обстоит лучше. Данте помещает своего Уго-
лино среди окаменевших созданий; он, так же как и
все, покрыт льдом, ибо он — тоже предатель; но он гры-
зет голову Руджери, потому что тот, кто предал его,
«Ад», Песнь XXXIV
был предателем и палачом. Жертва поднимает голос
против предателя, впивается зубами в его голову, уто-
ляя этим свою ненависть и бессознательно служа ору-
дием божьего возмездия. Так родился Уголино — самый
многогранный, самый современный, самый знаменитый
образ Данте, образ, в котором особенно глубок психо-
логический анализ и который при всей своей необычай-
ности поражает своей человечностью и правдивостью.
Возьмем теперь топографическую карту ада и взгля-
нем на эту опрокинутую пирамиду, на это воронку;
сверху у нее огромное основание, где в кромешной тьме
круги едва различаются, затем они приобретают очер-
тания пламенеющего города, потом очертания гнилой,
зловонной ямы и колодезя с застывшей, окаменевшей
233
природой; сверху — бесконечность, снизу — «...зловещее
жерло, куда спадают все другие кручи» 1 — и вы полу-
чите наглядную схему ада, обрисованного выше в плане
эстетическом.
30. «Ад» — это человек, «реализованный» как лич-
ность, во всей полноте и свободном проявлении своих
сил. О величии произведения Данте может судить лишь
тот, кто ознакомился с заметками Дино Компаньи,
с худосочным «Эццелино»2, с примитивными текстами
мистерий и легенд. Человеческая личность была еще
абстрактной, скованной формулами, аллегориями, аске-
тизмом. В этих бескровных абстракциях женщина и
мужчина даны лишь как род, как символ, как душа;
индивидуум еще отсутствует, отсутствует настолько, что
зачастую лишен даже имени: его зовут «мадонна», или
«юноша», или «святой человек». Сколько было напи-
сано стихов и легенд, а в истории искусства не сохрани-
лось от них ни одного имени! Данте тоже задумал на-
писать мистерию души: погрузился в аллегории и
формулы, но фантазия его родила человека, с его же-
ланиями и способностями, в расцвете молодости и сил,
человека, вырвавшегося из скорлупы, в которую его за-
точило средневековье. Художники изображали святых,
разрисовывали купола церквей; философы размышляли
над отвлеченными понятиями; лирики увлекались Пла-
тоном, аскеты предавались созерцанию и молились, а
Данте задумал изобразить .ад и здесь, среди разгула
плоти и неистовых страстей, обнаружил Адама, открыл,
из какого теста сделан Человек, в чем его величие и
слабости, и не только описал, но изобразил его в дей-
ствии, показал его поступки и даже их сокровеннейшие
мотивы.
Так на поэтическом горизонте появились Франческа,
Фарината, Кавальканти, Фортуна, Пьетро делле Винье,
Брунетто, Капаней, Улисс, Ванни Фуччи, Черный херу-
вим, папа Николай III и Уголино. Затрепетали все
струны человеческого сердца. А вокруг этой плеяды
бессмертных образов мы видим бесконечное количество
людей, самых разных по поведению, по виду, по чув-
1 «Ад», XXXII, 2—3.
2 Об «Эццелино», принадлежащем перу Альбертино Муссато,
см. в гл. VI.
254
ствам, по характерам; одни проходят перед нашим взо-
ром едва очерченные, другие — лишь перечисленные и
названные по имени, третьи — отмеченные какой-нибудь
незабываемой, обессмертившей их фразой — как, напри-
мер, Фаида, Моска, Ясон, Гомер, Аристотель, папа Се-
лестин, Бонифаций, Климент, Брут, Бокка дельи Абати,
Бертран де Борн.
В Царстве мертвых впервые почувствовалось бие-
ние жизни в hqbom мире. Каким прекрасным кажется
Кавальканти «отрадный свет» К Какая печаль царит
в лишенном зелени лесу самоубийц! Как трогателен
Брунетто, препоручающий Данте свой «Клад», и Пьетро
делле Винье, который просит сохранить о нем память.
Как улыбается Франческе сад греха! Живому ощуще-
нию сладости жизни, красоты природы сопутствует и
любовь к семье. Во всей итальянской поэзии нет сцен,
равных по силе той, где отец рухнул наземь при вести
о смерти сына, и той, где Уголино, обреченный на го-
лодную смерть, всматривается в лица сыновей, а Ан-
сельмуччо спрашивает его: «Что с тобой?» А Гаддо
умоляет: «Неужели ты мне не поможешь?»
Каждый находится в напряженнейшем состоянии.
Чувства обнажены, доведены до апогея, что придает
предметам грандиозность. Все огромно и все есте-
ственно. А посредине возвышается Данте — самый ад-
ский и самый живой из всех, отзывчивый и разгневан-
ный, мягкий и суровый, полный сарказма, мстительный
и жестокий, Данте, с его обостренным чувством мо-
рального долга, с его культом величия и науки, с его
презреньем к трусам и подлецам, Данте, возвышаю-
щийся над толпой, столь изобретательный в своей ме-
сти и предельно красноречивый в своих инвективах.
Эти великие образы, возвышающиеся на своих пье-
десталах, эпические и неподвижные, как статуи, как бы
ждут, чтобы пришел художник, взял их за руку, толк-
нул в водоворот жизни, наполнил драматизмом. Но
этим художником оказался не итальянец: это был
Шекспир 2.
1 См. «Ад», X, 69: «Отрадный свет его очам не светел». Далее
использованы выражения из песни XIII, 4—15; XV, 11&—120; XIII,
76—78; V, 121—136; X, 72; XXXIII, 47—69.
2 Ссылками на Шекспира изобилуют все произведения Де Санк-
тиса, который, как указывает Кроче, считал Шекспира величайшим
255
31. Чтобы понять «Чистилище», надо представить
себе ту пору жизни, когда угасают страсти, опыт и ра-
зочарование лишают человека иллюзий, активное, су-
губо личное начало блекнет и человек как бы «генера-
лизуется», чувствует себя не столько индивидуумом,
сколько представителем рода К Он больше наблюда-
тель, чем творец; жизнь проявляется не в форме дей-
ствия, а как художественное, философское, религиозное
созерцание. В этом умиротворении страстей и чувств
заключался античный идеал мудреца и новый идеал
святого, слитые воедино в образе Катона, которого
Данте называет в «Пире» благороднейшей душой и са-
мым совершенным отображением бога на земле2. Ка-
тон — античный мудрец; он изображен так, как изобра-
жали философов: с длинной бородой, преисполненным
спокойствия и серьезности в своей почтенной ста-
рости:
Исполненный почтенности такой,
Какой для сына полон облик отчий.
(«Чист.», I, 32—33)
Но Катон не просто античный мудрец: он — мудрец
крещеный и возведенный в сан святого; чело его, осве-
щенное благодатью, сияет, подобно солнцу; Вергилий
не понимает этого как бы христианизированного муд-
реца и говорит с тем Катоном, коего знал когда-то, —
напоминает ему о его добродетели, о его гибели за
свободу, о его Марции. Но новый Катон отвечает:
к Марции, которая мне взор пленяла, я безучастен
поэтом человечества и использовал его как эталон при критическом
сопоставлении. Де Санктис посвятил Шекспиру серию лекций. См.
«Teoria e storia», II, pp. 196—132 и «Purismo illuminismo storicismo»,
t. Ill, изд. Эйнауди. В последней см. особенно р. 201: «А теперь
следует заняться Шекспиром, имевшим столь важное влияние на
современную литературу... И если мы отводим Данте место родона-
чальника современной литературы, то также могли бы мы посту-
пить и с Шекспиром, который наполнил ее драматизмом».
1 О характере поэзии «Чистилища» и об эпизоде с Катоном см.
восьмую и девятую лекции туринского курса в «Lezioni e saggi
su Dante», изд. Эйнауди, t. V, pp. 314 и ел.; 321 и ел.
2 См. «Convivio», IV, v. «О священнейшее сердце Катона», и
xxviii, 15: «Кто на земле более достоин являть бога, нежели
Катон? — Конечно же, никто».
256
стал; но если ты посол жены небесной без всякой льсти-
вой речи г:
Достаточно и слова твоего. («Чист.», I, 93)
Что такое чистилище? Это мир, в котором реализо-
ван двойной идеал: мир Катона, то есть мир свободы,
где дух освобождается от плоти, ищет свободы:
Он восхотел свободы, столь бесценной,
Как знают все, кто жизнь ей отдает...
(«Чист.», I, 71—72)
Совсем иная концепция, иная природа, иной чело-
век, иная форма, иной стиль. Это уже не «Илиада», это
«Одиссея», новая поэма. Сравнивать «Ад» с «Чистили-
щем» и удивляться, что здесь нет красот, которыми мы
любовались там, это все равно, что удивляться тому,
что чистилище — это чистилище, а не ад2. Если же мы
непременно хотим чему-либо удивляться, так будем
удивляться тому, что поэт сумел отрешиться от своего
прежнего «я», от своей прежней манеры творить, рас-
полагать материал, придавать ему определенную окра-
ску и что, погрузившись в этот новый мир, он смог с та-
кой непринужденностью, как будто сам того не замечая,
измениться, направить свое воображение в новое русло,
на создание новых образов.
32. Ад — царство плоти, которое постепенно опу-
скается вниз, вплоть до Люцифера. Чистилище же —
царство духа, простирающееся ввысь, ступень за сту-
пенью, вплоть до рая. Там-то и раскрывается мистерия,
комедия души, которая, воспрянув из пучин зла, начи-
1 См. «Чист.», I, 85—86, 88—93:
«Мне Марция настолько взор пленяла,
Пока я был з том мире...
Теперь меж нас бежит зловещий вал;
Я... к ней безучастен стал...
Но если ты посол жены небесной,
Достаточно и слова твоего
Без всякой льстивой речи...»
2 По поводу беспочвенности утверждения, согласно которому
«Ад» превосходит «Чистилище» или, наоборот, «Чистилище» следует
предпочесть «Аду», см. первую часть упомянутой восьмой лекции
курса 1855 года в «Lezioni e saggi su Dante», изд. Эйнауди, t. V,
pp. 314 и ел. Де Санктис там явно намекает на мнение Фосколо и
Россетти о превосходстве первой кантики и на мнение Чезаре
Бальбо о «Чистилище» (см. В а 1 b о, Vita di Dante, cit., pp. 358—359).
17 Де Санктис
257
нает чувствовать сама себя и через искупление и стра-
дания очищается и спасается. Поэтому глубокий смысл
заключен в том, что чистилище начинается сразу же
после последней щели ада: взобравшись на плечи «по-
велителя тьмы» Люцифера, Данте вновь увидел звезды.
У чистилища тоже есть преддверие, где плоть яв-.
ляется в последний раз. Власть ее окончилась: душа
уже свободна; а о теле остается лишь мрачное воспо-
минание— привычка. Из этой тончайшей комической
постепенности проступает бессмертный образ Белаква,
чей облик, жесты, слова создают удачнейшую карика-
туру, тем более комичную, что Белаква старается со-
блюдать серьезность, прибегая к иронии, которая обо-
рачивается против него же1.
Это преддверие чистилища представляет собой не-
кую переходную ступень от ада к чистилищу: грех еще
есть, но в то же время его уже нет: он еще сохранился
в привычке, но не в душе; дьявол изображен в виде
змея-искусителя Евы; он прячется среди травы и цве-
тов, и два ангела в зеленых одеждах с зелеными крыль-
ями— зеленый цвет символизирует надежду — его про-
гоняют. Он появляется, чтобы исчезнуть, как бы свиде-
тельствуя о том, что ему предстоит сойти со сцены
навсегда. У врат чистилища дьявол исчезает и плоть
умирает, но вместе с плотью пропадает и значительная
доля поэзии.
Душа уже не принадлежит телу, осталось лишь вос-
поминание о том времени, когда оно было ее господи-
ном. Плоть — уже не конкретная реальность, как в аду,
а воспоминание. В семи кругах, соответствующих семи
смертным грехам, души вспоминают о грехах, чтобы
осуждать их, и мысленно созерцают добродетели, чтобы
им умиляться.
Это воспоминание о грехах есть не что иное, как по-
явление, образа ада в чистилище, дабы его осуждать, а
упоминание о добродетелях есть проникновение в чи-
стилище райского света, дабы о нем мечтать, к нему
стремится. Ад дан как воспоминание, рай — как мечта.
Ни плоть, ни дух не являются реальностью: тирания пло-
ти—лишь воспоминание, а свобода духа—лишь желание.
* «Чист.», IV, 106 и ел. По поводу анализа этого эпизода см.
упомянутую девятую лекцию в «Lezioni e saggi su Dante», изд.
Эйнауди, t. V, p. 324 и ел.
25b
И поскольку реальность существует не наяву, а в
воображении, она подана не в виде драматического дей-
ствия, а как некий образ духа, наподобие того, как мы
мысленно представляем себе очертания отсутствующего
предмета, рисуем этот неуловимый плод воображения.
Вот такая нарисованная воображением реальность и
представлена на стенах и на барельефах чистилища.
В аду и в раю картин нет, ибо там реальность — это жи-
вая природа, тот оригинал, портрет которого помещается
в чистилище. Стало быть, в чистилище присутствуют и
ад и рай, но в виде нарисованных картин, в виде про-
шлой и будущей жизни души, невидимых воочию, а жи-
вущих в воображении. Эти картины — их memento
(«помни»), напоминание о том, кем они были и кем бу-
дут,— напоминание, которое служит им стимулом, при-
водя в действие их разум, с тем чтобы на поучительных
примерах они обретали тонкость душевную, очищались
от скверны.
Итак, мы — за пределами жизни. Страсти есть, но
они уже не принадлежат душам, они — вне души, и на
них взирают глазами раскаявшегося грешника. Добро-
детели тоже существуют вне душ; их созерцают со сто-
роны, как примеры для подражания-. Души — лишь
сторонние свидетели, они наблюдают и созерцают,
но не действуют. Страсти — будь то хорошие или дур-
ные — не присутствуют и не действуют, они — лишь
видения духа, мысленно изображенные как резьба или
живопись.
Эта столь простая и, по существу, верная идея, ле-
жащая в основе живописи и скульптуры, изобразитель-
ных искусств, обретает форму слова, становится поэ-
зией. Ибо поэт не рисует, а описывает нарисованное.
Слово может воспроизвести пространство лишь посте-
пенно, следовательно, оно не в состоянии создать образ
так, как это делает кисть или резец. Впрочем, Данте и
не задается целью рисовать, соревнуясь с художни-
ком,— это было бы абсурдным. Он облекает в словес-
ную форму идею картины, показывая не сам образ,
а то, что он выражает, и впечатление, которое он про-
изводит. Сила воображения такова, что она приводит
образ в движение: он обретает чувство и дар речи. Вот
приближается Траян — парят его орлы; плачет-убивает-
ся вдовица; в чертах Марии можно прочесть: «Вот
17*
259
слуга божия»; участливо склоненный ангел не кажется
молчащим 1.
Он, я бы клялся, «Ave!» говорил.
(«Чист.», X, 40)
Танцующий Давид «и больше был, и меньше был
царя», а напротив него Мелхола
Имела облик гневной и скорбящей.
(«Чист.», X, 69)
Это были времена Джотто; первые шаги искусства
казались чудом. В высоком живописном идеале Данте
уже чувствуются грядущие достижения итальянской
кисти. В воображении поэта жили одушевленные, гово- *
рящие образы, нарисованные тем, «кто нового не видел
никогда»2, — гораздо более живые, нежели те, что спо-
собны были создать его современники.
33. Но чем дальше, тем живописи все меньше и
меньше: не опираясь на ощущение, существуя само-
стоятельно, дух воспринимает интуитивно добро и
зло, помнит добрые и дурные примеры, видит сам и ви-
дит в себе. Реальность не только не имеет самостоя-
тельного существования как нечто ощущаемое, воспри-
нимаемое органами чувств, но и как изображение
в виде живописи: она превращается в непосредственное
видение духа, уже действующего свободно, независимо
от ощущения. Появляется другая форма искусства —
видение-экстаз. Душа чувствует вдруг, как внутри
нее возникает свет, насыщенный сотнями образов, ко-
1 Здесь перефразированы некоторые стихи X песни; 80—81:
«И в золоте колеблемых знамен
Орлы парили...»; 76—77:
«Вдовица, ухватясь за удила,
Молила императора Траяна»; 43—44:
«В ее чертах ответ ее смиренный»
«Ессе ancilla Dei»; 38—39:
«Так живо, что ни в чем не походил
На молчаливые изображенья».
И после цитирования стиха 40 — стихи 65—66:
«Смиренный Псалмоцевец, пляс творящий
И больше был и меньше был царя».
О примерах добродетели см. одиннадцатую лекцию туринского
курса 1855 года в «Lezioni e saggi su Dante», изд. Эйнауди, t. V,
pp. 335 и ел.
2 «Чист.», X, 94.
260
торые, подобно пузырькам воды, то появляются, то
исчезают; видимый мир при появлении этого внутрен-
него света растворяется — даже «сотни труб»1 не мог-
ли бы нарушить созерцания. Данте находит новые, дей-
ственные формы для описания этого явления. Образы
«хлынули в воображение»2; дух «всего себя собрав»
В самом себе все прочее отринул,
С тем, что вовне, общение прервав.
(«Чист.», XVII, 23—24)
Воображение «крадет» извне, так что человек
Не слышит рядом сотни труб гремучей 3.
А душа, объятая экстазом, прикована взором к об-
разу— казалось, она
Шептала богу: «Я одним полна».
(«Чист.», VIII, 12)
Среди этих видений особенно выделяется прекрас-
ное описание мученичества св. Стефана — контрастная
картина, изображающая рассвирепевшую толпу, громко
требующую: «На муку его, на муку», и фигуру святого:
отяжелевшее в предсмертных мучениях тело его уже
клонится к земле, но глаза обращены к небу с мольбой
о мире и прощении: идея нетленности души, когда она
расстается с телом.
Итак, перед нами чисто созерцательная жизнь, про-
цесс «сантификации» (освящения). В аду — грозы и
бури реальной жизни, распаляемые разгулом страстей;
здесь мы вступаем в мир отшельников и святых, в столь
популярный в ту пору мир таинств и экстазов; в мире
Иеронима, Франциска Ассизского, Бонавентуры черпала
вдохновение живопись4.
1 Взято из стиха 15 XVII песни, цитируемого несколько ниже.
2 «Чист.», XVII, 25: «Затем в мое воображенье хлынул».
3 «Чист.», XVII, 13—15:
«Воображенье, чей порыв могучий
Подчас таков, что, кто им увлечен.
Не слышит рядом сотни труб гремучей».
4 См. в гл. VI страницы, посвященные «Фьоретти» — «Цветоч-
кам» и переводу Кавалька «Жития святого Иеронима». По поводу
Бонавентуры да Баньореа и его «Dieta salutis» см. далее в этой
главе.
261
Предаваясь видению-экстазу, дух достигает первой
ступени святости; он добился освобождения от чув-
ственности, обрел свой рай; но это лишь внутренний
рай, образ и желание рая, а не «реальный» рай, како-
вой грядет лишь тогда, когда дух узреет свет и образы
не только в себе, но и вне себя, когда они обретут
предметность, перестанут быть лишь образами. Чисти-
лище—царство образов, призрак ада, подобие рая.
В видении-эстазе дух сохраняет активность, созна-
тельность; в сновидении он пассивен и бессознателен;
сон — более высокая форма видения, достигаемая не
только без вмешательства чувств, но и без вмешатель-
ства духа; это — божественное видение, дело рук
божьих. А посему сон «Вещает то, о чем и не гадали» *,
а душа
Бывает как бы вещи прозорлива.
(«Чист.», IX, 18)
Во сне проясняется значение видений и образов чи-
стилища. Что означают эти картины и эти экстазы?
Что такое чистилище? Это — царство разума и истины,
где с чувственности снята ее красивая, привлекатель-
ная оболочка и она показана такой, какова она есть,—
уродливой и зловонной. Призрак принимает облик си-
рены.
«Я, — призрак пел, — я нежная сирена,
Мутящая рассудок моряков,
И голос мой для них всему замена».
(«Чист.», XIX, 19—21)
Но святая женщина, именуемая Истиной, срывает
с нее покровы и показывает ее такой, какова она в дей-
ствительности,— «гугнивой и желтой»2. Она открыла
ей живот и (говорит Данте)
Меня он разбудил несносным смрадом.
(«Чист.», XIX, 33)
После того как чувственность и обманчивая види-
мость побеждены, поэт видит во сне образ, символизи-
1 «Чист.», XXVII, 93.
2 «Чист.», XIX, 7—33. Имеются в виду прежде всего стихи 7—9:
«В мой сон вступила женщина: гугнива,
С культями вместо рук, лицом желта,
Она хромала и глядела криво».
262,
рующий жизнь —не такой, какой она представляется,
а такой, какова она есть на самом деле, то есть истин-
ную жизнь, о которой поэт мечтает и которая соста-
вляет цель его странствий. И он видит жизнь в первой
из двух ее форм: жизнь активную, заключающуюся
в трудах и благих делах ради достижения блаженства
созерцательной жизни.
Портрет сирены груб и схематичен: Данте явно не
хватило темперамента; да и в самом стихе чувствуется
какая-то затрудненность, усталость.
Лия — одно из самых свежи* созданий Данте, пер-
сонаж типичный и в своем роде совершенный, так же
как и Фортуна. Испытываемое ею счастье — это еще не
блаженство, которым охвачена монахиня, живущая со-
зерцанием бога «своего стекла»1, но именно поэтому
Лия интереснее и поэтичнее. Она более человечна, бо-
лее близка нам, эта красивая девушка, которая весело
бродит по лугу, рвет цветы, плетет венок и смотрится
в зеркало.
Таков первый из образов, часто являющихся юноше
во сне.
Последняя форма, в какой выступает реальность,
это символическое видение, в котором форма уже озна-
чает не то, что она изображает, а нечто совершенно
иное. Чистилище наполнено символами: это рай, являю-
щийся в душе в виде образов. Например, Христос —
это грифон, а колесница, в которую он запряжен, — это
церковь; тут Данте является целая серия странных ви-
дений, символически представляющих историю церкви2.
Так полнокровная, бурная реальность ада разря-
жается, утончаясь, чтобы превратиться в истинную
реальность — в дух или рай. Этот переход от плоти
к духу и есть чистилище, где преобладающей формой
являются живопись, экстаз, сновидение, символ. Сим-
вол— уже более не форма, а чистый дух, работа мысли.
Под образом скрыта новая, истинная реальность, гото-
вая развиться и проявиться непосредственно, как та-
ковая.
1 «Чист.», XXVII, 104—105:
«Сестра моя Рахиль с его стекла
Не сводит глаз и недвижима днями».
2 «Чист.», XXIX, 106 и ел.; XXX—XXXII.
263
34. Этому состоянию души соответствуют и чувства,
испытываемые обитателем чистилища. Основная его
особенность — внутреннее спокойствие, весьма напоми-
нающее безмятежность добродетельного человека, ко-
торый средь житейской суеты возносит дух свой на
крыльях веры и надежды в рай. Объятые пламенем
тени «чужды скорбям»1; чувства их мягки и умеренны,
желания лишены беспокойства, нетерпения. Возникает
идиллическая картина, напоминающая золотой век, где
царят мир и благоволение и где щедро проявляются
чистые радости искусства, нежные чувства дружбы.
В этом мире живописи и скульптуры Данте окружил
себя художниками: появляются Каселла, Сорделло,
Гвидо Гвиницелли, Буонаджунта да Лукка, Арнаут
Даниель, Одеризи, Стаций; поэт рисует трогательные
эпизоды, которые заставляют трепетать самые тонкие
струны человеческого сердца. Напомню его встречу с
Каселлой, портрет Сорделло, интереснейшие замечания
об искусстве, высказанные в беседе с Гвиницелли и Буо-
наджунтой, встречу Стация с Вергилием2. Это совсем
новая сторона жизни, весьма характерная для той
эпохи, когда семья, искусство, дружба служили прибе-
жищем, укромным уголком, в котором можно было спа-
стись от потрясений политической жизни. Как трогает
сердце дружба Данте с Форезе — братом его злейшего
врага Корсо Донати, его расспросы о Пиккарде!3
Порывы искреннего чувства, неподдельное удивле-
ние подмечены поэтом так удачно, что строки эти по
сей день живут в народе. Незабываемо глухое и долгое
«О!»4, вырвавшееся из груди обитателей чистилища при
виде тени Данте, или сравнение с овцами5, а Сорделло,
который вначале взирал на пришельцев «с осанкой от-
дыхающего льва», узнав же Данте, ринулся к нему
в порыве радости; а Стаций, бросившийся в объятия
Вергилия и забывший, что он —лишь тень; а души,
1 «Ад», I, 118: «Потом увидишь тех, кто чужд скорбям». Анало-
гичные и более подробные высказывания о характере поэзии «Чи-
стилища» имеются в восьмой лекции упомянутого туринского курса.
См. «Lezioni е saggi su Dante», изд. Эйнауди, t. V, pp. 314 й ел
2 «Чист.», II, 76—133; VI, 58—66; XXVI, 23 и ел.; XXIV, 19 и ел.;
ХХ1> 100 и ел.
8 «Чист.», XXIII, 37 и XXIV, 10 и ел.
4 «Чист.», V, 27; «Их песнь глухим и долгим «О!» сменилась»,
5 «Чист.», III, 79 и далее VI, 66; XXI, 130; II, 75, 79—81.
264
ы£\\
P FwI*Pn* ^*»»m«|p v«anbnVif^*
ото <• amftjjo nyvtutp
дай »jti»mo ^||о^Лт1ПоН«. T<tm<nc
ей сов-
i i^.vr
jncvC ■ roit
|! - : , -»!■-■; "\ *§«#
|j!lk**t# ШМ1 ||ИШМ. It Щ fV
*^{efirnt Ла«С *mcbt %tep#»
t с*1ц» ASSm fess**
ч*ш llm-Jlf iwt:lef« fpittri*-
| | \ W iffflffi*
^. Wn««» «m» mite* AfWmejtf*.
»|W «Щ -«if» |Ш*%«1««И» ««А
fdtttlA tNKX» Г?^Г Ccn«ntt
uefcn^b »*ef<Pi «Jim» no mfu.i fwu
^"vtftt mm fv<n mCiwtirt <r*titc ,
&o%+ тогслй tlWMbto* fwEwtnetk
о C«t«ntr«»rwr^%«vo (ГЦ
vnxreo me u*Cj*Sfcb *&ttie t»tt
*~* «not i&Pm т«ь:де^||*т*е»
foam* «*|«ии «»р& {tmiglu-
v «ХЛ. WV W,*
l warn
4h|»t«M>u«i8b c$*SfejU«^ w.un
':" ч2£ b***^| «|ш!ш#% «asps' ш|*| «ч; «*ое»ч1и»:
tkw««rtn "%'vnute Дет** g-mre
mintnti ^nt|e mtmtt
%j|t»WtA ^П»|*«р1*Л a»[tut
'%У^
^f:;
Начальная страница «Чистилища»
(Милан, библиотека Тривульциана)
окружившие Данте, почти «забыв стезю высот и чаянье
прекрасного удела»; а Каселла, который, отделившись
от других душ, раскрыв объятия, приблизился к Данте:
О призрачные тени! Троекратно
Сплетал я руки, чтоб ее обнять,
И трижды приводил к груди обратно.
(«Чист.», II, 79—81)
Эта задушевность, это стремление сохранить в серд-'
це укромный уголок, защищенный от внешнего мира,
предназначенный для семьи, друзей, искусства, при-
роды, — своего рода домашний храм, недоступный для
непосвященных, — таков мир «Чистилища». Даже вос-
поминание о самых прискорбных событиях лишено го-
речи, смягчено надеждой последнего дня. У Манфреда
не находится слов проклятья для врагов, он просит про-
щенья и сам уже простил:
Себя я предал, с плачем сокрушенья,
Тому, которым я, злодей, прощен.
(«Чист.», III, 119—120)
Буонконте ди Монтефельтро описывает душеразди-
рающие подробности своей смерти со спокойствием и
невозмутимостью, которые можно было бы счесть за
равнодушие, если бы тайну его чувств не раскрывали
следующие строки:
...и замер мой язык
На имени Марии; плоть земная
Осталась там, где я к земле поник.
(«Чист.», V, 100—102)
В укромном уголке сердца каждый сберег свой «до-
машний храм». Каждый хочет, чтобы близкие сохра-
нили о нем память. Как трогательно звучат слова Фо-
резе о «его Нелле»:
Моя вдовица, милая жена...1
Буонконте вспоминает свою Джованну и других — тех,
кто его забыл; Манфред хочет, чтобы о нем вспомнила
Костанца; Якопо просит фанезцев молиться за него;
1 «Чист.», XXIII, 87 «Моею Неллой» и 92. Далее цитируются
отрывки из V, 89; III, 142—145; V, 67—72.
265
и только у Пии нет никого в ее «домашнем храме»;
вспомнить о ней может только Данте:
Ты вспомни также обо мне, о Пии!
(«Чист.», V, 133)
Этот мир сердечной теплоты проникнут печалью —
совершенно новым чувством, рожденным здесь, в «Чи-
стилище», оно займет значительное место в новой поэ-
зии. Это чувство охватывает тебя, когда слушаешь
Пию, такую беззащитную в одиночестве своего сердца,
хотя она не одна — она хранит память о драгоценном
залоге любви. Нежные, тонкие чувства располагают
душу к печали, боль эта сладка, ибо смягчена доро-
гими, милыми сердцу образами. Поэтому души должны
пребывать в состоянии сосредоточенности, должны
жить воображением, быть «задумчивыми» *, не отвле-
каться мирскими делами, замкнуться в себе. Печаль —
самый нежный плод этого внутреннего мира. До глу-
бины сердца доходит тоскливый напев касатки в тот
час, когда она идет зарю встречать2, и раздающийся
издалека звук,
Подобный плачу над умершим днем...
(«Чист.», VIII, 6)
и вечерняя пора, когда отплывают корабли и стран-
ников
нежит мысль о том,
Как милые их утром провожали...
(«Чист.», VIII, 2—3)
Здесь Данте отбрасывает в сторону астрономию, по
вине которой его зори и весны выглядят сухими и не-
выразительными, и рисует всю прелесть печальной при-
роды. Его встреча с Каселлой — одна из самых теплых
и грустных сцен. Она начинается с изъявления чувств.
Данте и Кассела бросаются друг другу в объятия.
Каселла говорит:
1 См. прежде всего описание чревоугодников в шестом круге:
«Толпа теней, смиренных и молчащих» (XXIII, 21).
2 «Чист.», IX, 13—14:
«В тот час, когда поет, зарю встречая,
Касатка, и напев ее тосклив».
266
Как в смертном теле...
Тебя любил я, так люблю вне тленья.
(«Чист.», II, 88—89)
В ответ Данте восклицает: «Мой Каселла!» — и про-
сит его спеть, как он делал это при жизни, это пение
умиротворяло его душу, а сейчас душа поэта в таком
смятенье! И Каселла поет песнъ на слова Данте; Данте,
Вергилий и души столпились вокруг и, очарованные,
слушают, забыв, что они в чистилище, не обращая вни-
мания на окрики Катона. Катон не прощает, зато про-
щают музы.
Это забвение чистилища, эта музыка будит дорогие
воспоминания о жизни, земные настроения, которые до-
стигают загробного мира, овладевают душами и заста-
вляют их забыть о том, что они — лишь тени: им хочет-
ся обнять друзей, они жадно вслушиваются в пение
Каселлы — это поэзия. Здесь чувствуешь тоску по ро-
дине, слышишь Голос человека, которому еще в моло-
дости хотелось уединиться на каком-нибудь острове со
своей Биче, с друзьями и их возлюбленными и превра-
тить его в верное прибежище для своих чувств, забыть
весь мир 1.
Сюда примешивается печаль, характерная для чи-
стилища, новое, отрешенное отношение к земным бла-
гам и земным чувствам, развенчание жизни, утрата
всех иллюзий:
Мирской молвы многоголосый звон —
Как вихрь, то слева мчащийся, то справа;
Меняя путь, меняет имя он.
(«Чист.», XI, 100—102)
Один из интереснейших образов чистилища —папа
Адриан. Вспоминая о былом величии, он говорит:
Душа, я видел, как и встарь томима,
А выше стать в той жизни я не мог, —
И этой восхотел неудержимо.,
(«Чист.», XIX, 109—111)
Папа Адриан утратил все иллюзии; многочисленная
и вероломная родня его умерла для него, — все, за ис-
ключением племянницы Аладжи:
1 См. «Rime», LII (в изд. Фратичелли — второй) сонет, начи-
нающийся со слов «Guido i'vorrei che tu e Lapo ed io».
267
Там у меня нет никого другого, —
(«Чист.», XIX, 145)
говорит он, и слова эти окрашены печалью.
35. Благодаря философскому спокойствию, с каким
смотришь на жизнь с высоты чистилища, обнаруживая
ее тщету и ничтожность, суживается значение личности,
значение всей земной действительности. Лица появ-
ляются и исчезают, едва очерченные; им присуща кра-
сота, но также монотонность и неподвижность спокой-
ствия. Они похожи скорее на людей, которые спорят и
рассуждают, расположившись в зале, нежели на людей
взволнованных и темпераментных. Нет больше великих
исторических личностей, незабываемых творений фан-
тазии.
Жизнь проявляется не столько в отдельных лицах,
сколько в группах людей; индивидуум играет меньшую
роль, большую — род. Коллективная душа находит свое
выражение в пении. В аду хоров нет, ибо нет единения,
достигаемого любовью. Любовь — это взаимное влече-
ние, гармония; ненависть же одинока; музыка и пение
достигают эффекта путем согласного сочетания разных
голосов и инструментов. Здесь души — это существа,
наделенные музыкальностью, рождаемой их индиви-
дуальным сознанием, проникнутые одним духом мило-
сердия:
И речи соблюдались, и напев
Одни и те же, в полном единенье.
(«Чист.», XVI, 20—21)
Души появляются группами и поют псалмы и гимны,
выражая то скорбь, то надежду, то мольбу, то веселие,
то хвалу господу. Достигнув врат чистилища, они поют
«In exitu Israel de Aegypto»l («Когда Израиль вышел
из Египта...»), а вступив в долину — «Salve Retina»
(«Славься царица...»), по вечерам слышится гимн «Те
lucis ante terminum Rerum creator poscimus» («Тебя
у предела света, Творец всех вещей, мы просим...»),
войдя в чистилище, снова слышишь «Те Deum» («Тебя,
1 «Чист.», II, 46. По поводу лирической темы «Чистилища» —
пения см. восьмую лекцию цюрихского курса в «Lezioni e saggi su
Dante», изд. Эйнауди, t. V, pp. 475—476 и ел. Выражения, цитируе-
мые ниже, взяты из песен VII, 82; VIII, 13; IX, 140.
268
бога, хвалим...»). Эти псалмы и гимны пелись в церк-
вах, и поэт приводит из них слова начала. Создается
полное впечатление, что находишься в церкви и слу-
шаешь пение прихожан. В ту пору все знали эти ла-
тинские песнопения наизусть; их пели все во время
церковной службы, значит, стоило произнести началь-
ную строку — и все понимали, о каком идет речь. Поэт
считал, что первых слов гимна было достаточно, чтобы
зажечь в сердцах религиозный восторг. Возможно, что
в отношении его эпохи, когда религиозные песнопения
будили столько связанных с религией ассоциаций и об-
разов, расчет Данте был правильным. Сила поэзии
здесь заключалась не в ней самой, а в особенности
мышления тогдашних читателей и тогдашней эпохи.
Одного имени, одного слова было достаточно, чтобы
произвести неизгладимое впечатление; прежнее имя и
слово больше не звучит.
Многое в поэме Данте сводится к сухому перечню
имен и фактов; особенно устарели политические на-
меки; когда-то они представляли живейший интерес, но
сегодня они мертвы. Мертва и вся лирика чистилища.
Ибо чувства, описываемые Данте, родились не в его
сердце: он нашел их в готовом виде в латинских песно-
пениях и довольствовался тем, что называл их первую
строку. Хотя в самом положении кающихся душ заклю-
чен высочайший лиризм: они не индивидуализированы,
они живут сообща, и выражением этой общей души,
проснувшейся в них, служит волна чувств, выливаю-
щаяся в пении. Но великому поэту не хватило вдохно-
вения и сил, и он препоручил Давиду то, что надле-
жало сделать ему самому К Ведь содержание жизни
чистилища в гораздо большей степени составляют не
видения, символы и нарисованные картины, а именно
лирическое излияние чувств — скорби, надежды, люб-
ви, — этот внутренний пожар, освещающий души изну-
три, объединяющий их в едином порыве милосердия.
1 В упомянутой выше восьмой лекции цюрихского курса гово-
рится: «Если бы поэт сам сочинил песни, которые выражали бы
испытываемые душами чувства — скорбь, любовь, раскаяние, моль-
бу, — они засверкали бы в поэме драгоценными каменьями; но ав-
тор строго придерживался церковных песнопений, цитируя по-ла-
тыни их первую строку («Lezioni e saggi su Dante», изд. Эйнауди,
t. V, pp. 475—476).
269
Как хорошо сумел он изобразить эти охваченные пла-
менем души, которые встречаются, лобызаются и про-
должают свой путь, влекомые ввысь, на небо!
Вдруг вижу — тени, здесь и там, лобзаньем
Спешат друг к другу на ходу прильнуть
И кратким утешаются свиданьем.
Так муравьи, столкнувшись где-нибудь,
Потрутся рыльцами, чтобы дознаться,
Быть может, про добычу и про путь.
(«Чист.», XXVI, 31—36)
Он мог и умел замечательно выражать их чувства,
подмечать не только то, что было в них расплывчатого,
неопределенного, но и характерного, своеобразного; он
мог сам выступать как Давид в своем чистилище, о чем
наглядно свидетельствует его «отче наш» — единствен-
ный в своем роде во всей поэме К
Мимолетное появление ангелов — это как бы первые
признаки рая в обители надежды. Ангелы лишены вся-
кой субъективности и имеют форму эфирных существ,
одетых светом, парящих, подобно Мистическим виде-
ниям экстазов, хотя каждый из них имеет свой облик
и повадку:
Такой, что счастье — даже речь о нем.
(«Чист.», II, 44)
И, зеленее свежего листка
Одежда их, в ветру зеленых крылий,
Вилась вослед, волниста и легка.
(«Чист.», VIII, 28—30)
Я различал их русый цвет волос,
Но взгляд темнел, на лицах их почия,
И яркости чрезмерной я не снес.
(«Чист.», VIII, 34-36)
Прекрасный дух, представший нам тогда,
Шел в белых ризах, и глаза светили,
Как трепетная на заре звезда.
(«Чист.», XII, 88—90)
Для живописи — много, но для поэзии — мало. Нет
слова, нет индивидуальности. У ангела есть тело, но
1 «Чист.», XI, 1 и ел,
270
сам ангел отсутствует. Под нежные звуки, в сонме ан-
гелов душа устремляется вперед, «средь стольких пред-
варений Всевечной неги» К Соответственно окрашена и
природа чистилища, представляющая собой гору — ле-
стницу в рай, па которой первоначально взбираться
трудно, но:
Чем дальше вверх, тем мягче крутизна.
Поэтому, когда легко и чудно
Твои шаги начнут тебя нести,
Как по теченью нас уносит судно,
Тогда ты будешь у конца пути.
(«Чист.», IV, 90—94)
Гора освещена отраженным светом, излучаемым
солнцем и звездами, сияющими в Дантовом раю. Свое
первое впечатление о свете, который поэт узрел у вы-
хода из ада, он облекает в прекрасный образ:
Отрадный свет восточного сапфира,
Накопленный в воздушной вышине,
Прозрачной вплоть до первой тверди мира,
Опять мне очи упоил вполне.
(«Чист.», I, 13—16)
Природа — это музыкальный аккорд, голос «нутра»;
здесь природа, ангелы и души составляют единую
песнь, единый лирический мир.
Великолепна сцена, описанная в седьмой песне, где
царит удивительная гармония между душами, мирно
восседающими и поющими «Salve Regina», и отрадным
зрелищем усеянного цветами луга:
Природа здесь не только расцветала,
Но ка& бы некий непостижный сплав
Из сотен ароматов создавала.
«Salve Regina» — меж цветов и трав
Толпа теней, внизу сидевших, пела.
(«Чист.», VII, 79—83))
Души плачут и поют. Пред ними расстилаются аль-
пийские просторы, веселые солнечные поляны и души-
1 «Чист.», XXIX, 31—32:
«Пока я шел средь стольких предварений
Всевечной неги, мыслью оробев...»
271
стые поля !; но этому контрасту наступает конец, когда
душа, вольная в своем выборе, поднимается до «луч-
шего порога», где, «растворив пенистый налет, мрача-
щий ее совесть»2, обретает чистую радость. Подобно
тому как в аду спускаешься вплоть до ледяного коло-
дезя смерти, в чистилище все поднимаешься вплоть до
земного рая — рая в земном образе, — куда душа яв-
ляется очистившейся от греха и плоти, вновь обретшая
красоту и непорочность. Здесь все радует глаз и тешит
воображение: смеющееся н-ебо, пение птиц, прелесть
цветов, шелест листвы и вод журчанье; все это описано
так мягко, мелодично и в то же время с таким безуко-
ризненным чувством меры, которое не оставляет места
для разнеженности и сладострастия: приятное чувство
не нарушает спокойствия.
Чистилище — центр мистерии или комедии души:
здесь развязывается узел. Данте не только наблюда-
тель, он — действующее лицо. У выхода из ада, когда
Данте лишь вступил в чистилище, ангел начертал на
его лбу семь букв «Р», знаменующих семь смертных
грехов, от которых душа очищается, пройдя семь кру-
гов3. По мере того как Данте проходит один за другим
все круги чистилища, исчезают с его лба буквы «Р» и
он вступает в земной рай «чистым и достойным»4.
Поэт переходит из одного состояния в другое во сне,
иными словами, благодаря божьей благодати, без уча-
стия собственного сознания. По чистилищу его водит
в состоянии сна или сновидения Лучиа, «враг жесто-
ких» 5.
1 В этих явно книжных оборотах чувствуются реминисценции
из итальянской поэзии, в частности из стихотворения Леопарди
«Воспоминания».
2 «Чист.», XXI, 69:
«Свободное желанье лучшей доли»;
XIII, 88—89:
«Да растворится пенистый налет,
Мрачащий вашу совесть...»
3 «Чист.», IX, 112 и далее.
4 «Чист.», XXXIII, 142—145:
«...Я шел назад, священною волной
Воссоздан так, как жизненная сила
Живит растенья зеленью живой,
Чист и достоин посетить светила».
5 «Ад», II, 100. Сон Данте, о котором здесь идет речь, описан
в «Чист.», IX, 13, и далее.
272
Так сокровенная история души, история ее заблу-
ждений, страстей, падений и раскаяний обретает внеш-
нее, символическое оформление; драма уничтожена в
зародыше. Кризис драмы, кульминационная точка, где
развязывается узел, это раскаяние, момент, когда душа
узнает себя и прогоняет грех, устыдившись, кается и
исповедуется. Здесь драма приобретает глубокую чело-
вечность; по тому, что Данте1 сумел здесь сделать,
можно судить, на что он был способен; но описать глу-
бокую личную драму человеческой души, такую, какая
передана в «Фаусте», в эпоху эпики, символики, ми-
стики и схоластики было невозможно.
Здесь сталкиваются все действующие лица драмы.
С одной стороны — Данте, Вергилий; Стаций, с дру-
гой— Беатриче с ангелами, а посредине протекает раз-
деляющий их поток, разветвляющийся на две реки:
реку забвения Лету и Евней — источник силы. В одной
душа очищается от груза прошлого, в другой черпает
силу, чтобы подняться к светил-ам.
То было бы нарушить божий рок —
Пройти сквозь Лету и вкусить губами
Такую снедь, не заплатив оброк
Раскаянья, облитого слезам^.
(«Чист.», XXX, 142—145)
А там — Мательда; после того как души уплатят
цену раскаянья, она их окунает и переводит на другой
берег в исконном состоянии безгрешности. Мательда —
зерцало обновленной души; небесное создание, она еще
наделена человеческим обликом; она танцует, рвет
цветы с наивной радостью девочки, с легкостью силь-
фиды, со стыдливым взором девственницы, с лицом,
озаренным внутренним светом2. Такова Лия во сне поэ-
та — как предчувствие Мательды, вестник земного рая.
1 «Чист.», XXXI. В восьмой лекции туринского курса 1855 года
говорится: «Поэзия здесь драматична, как в «Аду». Действитель-
ность «Ада» — это грех, а действительность «Чистилища» — раская-
ние, а посему драматизм «Ада» заключается в грехе, в изображении
страстей, а драматизм «Чистилища» — в раскаянии, — смотри испо-
ведь Данте, полную подлинного драматизма, самое замечательное
место «Чистилища» («Lezioni e saggi su Dante», изд. Эйнауди,
t. V, p. 318).
2 В рукописи — «райским светом». Сон о Лии: «Чист.», XXVII,
94 ц ел.
18 Де Санктис
273
36. В сцене, в которой происходит развязка мисте-
рии души, соблюден весь священный и торжественный
ритуал литургического таинства — одного из религиоз-
ных действ, которые исполнялись во время религиозных
процессий.
Воодушевленно в движении процессии выступает
церковь: семь светильников издали кажутся семью зо-
лотыми деревьями, а за ними—люди в белом облаче-
нии, поющие «Осанну»; пламя свечей оставляет за со-
бой длинный светящийся след1; под небом, озаренным,
огнями, торжественно движется процессия. Вот по двое
шествуют пророки и патриархи Ветхого завета—два-
дцать четыре старца, увенчанных лилиями:
Все воспевали песнь: «Благословенна
Ты в дочерях Адама, и светла
Краса твоя и навсегда нетленна!»
(«Чист.», XXIX, 85-87)
Далее следует символ церкви — триумфальная ко-
лесница о двух колесах (символизирующих два завета),
сопровождаемая четырьмя животными (четыре еванге-
лия), влекомая грифоном — символом Христа; справа от
него — Вера, Надежда и Любовь; слева — облаченные
в алые одежды Мудрость, Справедливость, Мужество
и Умеренность; позади — два старика: св. Лука и
св. Павел, а за ними «смиренных четверо»2 — возмож-
но, авторы «Посланий» и одинокий старец с закрытыми
глазами — св. Иоанн Апокалипсиса:
И одинокий старец вслед за ними
Ступал во сне, с провидящим челом.
(«Чист.», XXIX, 143—144)
Раздается раскат грома. Процессия останавливает-
ся. Начинается религиозное действие. Вергилий пора-
жен не менее, чем Данте. Смысл этой аллегорической
процессии ускользает от него. Миссия языческого муд-
реца окончена. Перед нами — новая доктрина, Христова
церковь с ее пророками и патриархами, евангелистами
и апостолами, с ее священным писанием.
1 «Чист.», XXIX, 73—75: "
«А огоньки все ближе надвигались,
И, словно кистию проведены,
За ними волны, крася воздух, стлались».
2 «Чист.», XXIX, 142: «Прошли смиренных четверо потом».
274
Процессия останавливается, кто-то один поет,
а остальные вторят: «Veni, sponsa, de Libano» («Гряди,
о невеста, с Ливана, гряди»). На колесницу взбирается
сонм ангелов, которые поют и бросают цветы.
И каждый пел: «Benedictus qui venis» —
И, рассыпая вверх и вокруг цветы,
Звал: «Manibus odate lilia plenis».
(«Чист.», XXX, 19—21)
В этом облаке цветов появляется женщина под бе-
лым покрывалом, в венке из олив, в зеленом плаще,
в платье огненно-алого цвета1 — точь-в-точь как мадон-
на во время религиозных процессий, осыпаемая цве-
тами, которые верующие бросают ей из окон. Данте ее
не видит, но он чувствует: это Беатриче.
Этот апофеоз Беатриче, первое появление возлюб-
ленной поэта, окруженной ореолом славы, еще с «заве-
шанным челом», освобождает воображение поэта от
оков символов и ритуала, и оно свободно летит на
крыльях искусства. Драма становится человечной, по-
являются человеческие образы и чувства.
Как иногда багрянцем залиты
А небеса прекрасны и чисты,
В начале утра области востока,
И солнца лик, поднявшись невысоко,
Настолько застлан мягкостью паров,
Что на него спокойно смотрит око, —
Так в легкой туче ангельских цветов,
Взлетавших и свергавшихся обвалом
На дивный воз и вне его краев,
В венке олив, под белым покрывалом,
Предстала женщина, облачена.
В зеленый плащ и в платье огне-алом.
(«Чист.», XXX, 22—33)
При появлении Беатриче Вергилий исчезает. Аб-
страктность символа преодолена. Перед нами — душа
живого человека. Эта женщина — его Беатриче, пред-
мет его юношеской любви; Вергилий, нежный отец, ис-
чезает как раз тогда, когда он очень нужен Данте;
1 «Чист.», XXX, 31—33. См. ниже,
18* 275
с испугом во взоре, с каким ребенок ищет мать, Данте
оборачивается и, не видя своего отца и вождя, мысленно
трижды его окликает. Литургическое действо преобра-
зуется в современную драму.
И дух мой, — хоть умчались времена,
Когда его ввергала в содроганье
Одним своим присутствием она,
А здесь неполным было созерцанье, —
Пред тайной силой, шедшей от нее,
Былой любви изведал обаянье.
Едва в лицо ударила мое
Та сила, чье, став отроком, я вскоре
Разящее почуял острие.
Я глянул влево, — с той мольбой во взоре,
С какой ребенок ищет мать свою
И к ней бежит в испуге или в горе, —
Сказать Виргилию: «Всю кровь мою
Пронизывает трепет несказанный:
Следы огня былого узнаю!»
Но мой Виргилий в этот миг нежданный
Исчез, Виргилий, мой отец и вождь,
Виргилий, мне для избавленья данный.
(«Чист.», XXX, 34—51)
За описанием слез Данте следует великолепный пе-
реход, чтобы вывести на сцену Беатриче:
Дант, оттого что отошел Виргилий,
Не плачь, не плачь еще; не этот меч
Тебе для плача жребии судили.
(«Чист.», XXX, 55-57)
Взор Данте обращен к женщине, назвавшей его по
имени.
«Взгляни смелей! Да, да, я — Беатриче.
Как соизволил ты взойти сюда,
Где обитает счастье и величье?»
(«Чист.», XXX, 73—75)
Увидев в воде фонтана свое отражение и не будучи
в силах вынести собственного вида, Данте отводит
глаза.
276
Глаза к ручью склонил я, но когда
Себя увидел, то, не молвив слова,
К траве отвел их, не стерпев стыда.
(«Чист.», XXX, 76—78)
Здесь первый и единственный раз Данте изображает
действие в его развитии, как в таинстве, и проявляет
при этом недюжинный драматический талант. Он под-
мечает самые сокровенные и мимолетные движения
души. Оба действующих лица, участвующие в сцене —
Данте и Беатриче, — отлично очерчены; ангелы обра-
зуют хор и тоже вступают в действие. Сцена протекает
быстро, темпераментно, полна движения и тонких, глу-
боко подмеченных нюансов.
От чувства стыда, без слез, без вздохов Данте мало-
помалу доходит до безудержных рыданий. Поначалу
он скорее удивлен, нежели огорчен, но когда в пении
ангелов слышится нечто, похожее на сочувствие, — они
как бы говорят: «О госпожа, зачем так строг твой
суд!»1 — Данте разрешается слезами. То, чего не до-
стиг упрек, достигло сочувствие. Очень верное, глубоко
подмеченное наблюдение, выраженное на редкость вы-
пукло. После предложения Беатриче сказать ей правду
Данте, смущенный и пристыженный, преодолевая под
ее напором последние колебания, наконец исторг из
себя «да», но такое, которое можно было лишь увидеть,
а не услышать:
...Лишь глаза его бы распознали.
(«Чист.», XXXI, 15)
Чувства, испытываемые поэтом, настолько искренни
и натуральны, что чуть не граничат с гротеском; когда
Беатриче говорит: «Вскинь бороду», наш ученый доктор
пускается на академическом языке в следующее рас-
суждение:
И, бороду взамен лица назвав,
Она отраву сделала жесточе.
(«Чист.», XXXI, 74—75)
Вдруг среди этих слез и вздохов как будто док-
торская шапочка на мгновение появляется на голове
1 «Чист.», XXX, 94—96:
...они зовут
Простить меня, усердней, чем словами:
«О госпожа, зачем так строг твой суд!»
277
Данте и придает замечательной историй сердца специ-
фический колорит.
Эти нюансы связаны со словами Беатриче. Здесь нет
диалога: говорит только она, ответы Данте только от-
ражают испытываемые им эмоции. И тем не менее в
стихах нет ни монотонности, ни декламации: все выте-
кает из достоверной, психологически тонкой ситуации.
Суровая Беатриче «с царственно взнесенной голо-
вой» 1 смягчается, слыша пение ангелов. Она обра-
щается теперь не к Данте, а к ним и рассказывает исто-
рию поэта. Ситуация становится менее напряженной, но
более возвышенной: никогда дотоле язык поэзии не до-
стигал такого благородства; христианский спиритуа-
лизм обрел свою музу:
«Когда ваш облик скрылся от меня».
И силой возросла и красотой,
Его душа к любимой охладела.
Он устремил шаги дурной стезей,
К обманным благам, ложным изначала,
Чьи обещанья — лишь посул пустой».
(«Чист.», XXX, 127-132)
Затем она обращается к Данте, и слова ее приобре-
тают личную окраску, они настойчивы, неумолимы в
своей логике. В них в разных выражениях звучит одна
и та же мысль — упрямая, настойчивая, требующая от
Данте ответа. Ты мужчина, у тебя — борода: как мог
ты предпочесть мне преходящие земные блага, «де-
вичку» «иль прочий вздор, который миг живет»?2 Об-
ретая наконец дар речи, Данте ответил:
«...Обманчиво маня,
Мои шаги влекла тщета земная,
Когда ваш облик скрылся от меня».
(«Чист.», XXXI, 34-36)
1 «Чист.», XXX, 70.
2 «Чист.», XXXI, 55—56:
«Ты должен был при первом же уколе
Того, что бренно, устремить полет»,
и 58—60:
«Не надо было брать на крылья гнет,
Чтоб снова пострадать, — будь то девичка
Иль прочий вздор, который миг живет».
278
Это конец давней борьбы между чувственностью и
разумом: трагическая жизнь души, протекающая в за-
блуждениях и борьбе с чувственностью, здесь завер-
шается комедией, то есть венчается счастливым концом,
победой духа.
Идея более чем очевидна, она сформулирована
прямо, языком богословия. Но она «погружена» в ре-
альную действительность и выливается в подлинно дра-
матическую сцену, в которой земное и небесное, страсть
и разум, конкретное и абстрактное настолько слиты
в единое целое, что в нем нетрудно обнаружить фак-
туру, из которой позднее возникла испанская драма К
Добродетели, служанки Беатриче, ведут покаявше-
гося Данте, принявшего омовение в водах реки Леты,
к Беатриче:
«Мы нимфы — здесь, мы —звезды в тьме высот;
Лик Беатриче не был миру явлен,
Когда служить ей мы пришли вперед.
Ты будешь нами перед ней поставлен.
Но вникнешь в свет ее отрадных глаз».
(«Чист.», XXXI, 106—110)
И Беатриче явила ему свой лик. Поэзия не в силах
описать то, что Данте увидел, то, что он почувствовал.
О света вечного краса живая,
Кто так исчах и побледнел без сна
В тени Парнаса, струй его вкушая,
Чтоб мысль его и речь была властна
Изобразить, какою ты явилась,
Гармонией небес осенена,
Когда в свободном воздухе открылась?
(«Чист.», XXXI, 139-145)
,
1 На связь с Кальдероном указывает также Кине (op. cit., I,
р. 109 и ел.): «Autos sacramentales» Кальдерона — это испанская
«Божественная комедия»... Данте стоит несравненно выше, как
художник; Кальдерон более ортодоксален... Но я чуть было не
упустил из виду, что наиболее свободомыслящий из них жил на
три с лишним века раньше». Относительно испанской драмы см.
резюме ранних лекций («Teoria e storia», cit., II, pp. 30 и ел. и
«Purismo illuminismo storicismo», изд. Эйнауди, t. Ill); ряд заме-
чаний о театре Кальдерона имеется в очерке 1856 года «Федра»
Расина», опубликованном в «Rivista contemporanea» anno III, № V.
(В издании Эйнауди, см. t. IV.)
279
По окончании представления процессия возобно-
вляется, доходит до древа жизни, где в порядке про-
тивопоставления святой Христовой церкви появляется
аллегорический вид церкви земной, «пронзенной» импе-
рией, подтачиваемой ересью, испорченной «даром Кон-
стантина», расчлененной Магометом и, наконец, превра-
тившейся в наложницу короля Франции. Великолепная
мысль: показать земную жизнь в самом конце чисти-
лища, как порождение злосчастного древа Адамова
греха! Иными словами, земное появляется уже после
того, как оно исчезло навсегда не только как явь, но
и как воспоминание. Мы на пороге рая.
Так заканчивается эта Дантова процессия, одна из
самых грандиозных замыслов поэмы, вернее, — если рас-
сматривать ее самостоятельно, — целая поэма, где перед
нами вереницей проходят все выдающиеся деятели свя-
той церкви, являющей собой в миниатюре картину цар-
ства божия, апофеоз христианства, в рамках которого
происходит самое высокое литургическое таинство—
комедия души.
Эта процессия должна была производить большое
впечатление в эпоху, когда процессии, мистерии и алле-
гории, в которых принимали участие ангелы, доброде-
тели и пороки, Христос и сам господь бог, были столь
популярны. Но именно в силу того, что эта часть поэмы
носит литургический, символический характер, так по-
страдала в ней поэзия. Особенно отрицательно это ска-
залось на изображении земной церкви; орел, лиса, дра-
кон, великан и блудница измельчили прекрасную мысль,
обеднили столь интересную историю К
С тем же противоречием Данте сталкивается в сцене,
где мантуанец Сорделло, услышав, что Вергилий —
тоже родом из Мантуй, нарушает свое «львиное» спо-
койствие 2:
«О мантуанец, я же твой земляк,
Сорделло!» И они объятья слили.
1 «Чист.», XXXII, 109 и ел.
2 Там же, VI, 65—66:
«Нас, на него идущих, озирая
С осанкой отдыхающего льва», цитата — ст. 74—75,
280
Данте вспоминает о своей Флоренции, где
...И они грызутся,
Одной стеной и рвом окружены.
(«Чист.», VI, 83—84)
Здесь аллегория не связывает ему руки. У Данте
вырываются негодующие, убедительные слова, рождаю-
щие «вещную» поэзию, в которой отражаются самые
разнообразные движения души — скорбь, возмущение,
сострадание, ирония, тихая грусть.
«Чистилище» — прибежище для покойной старости.
Когда жизнь утрачивает в наших глазах свою прелесть,
когда мы поворачиваемся к ней спиной и уединяемся
в кругу родных и друзей, наслаждаемся произведе-
ниями искусства и достижениями человеческой мысли,
то «Чистилище» загорается для нас ярким огнем, ста-
новится нашей настольной книгой и мы обнаруживаем
в нем массу неуловимых красот, обнаруживаем самих
себя. Недаром «Чистилище» было любимой книгой Ла-
меннэ, Бальбо, Шлоссера х.
37. Затем следует рай. Иная концепция, иная жизнь,
иные формы. Рай — царство духа, обретшего свободу,
сбросившего с себя власть тела или чувственности, а
поэтому сверхчувственного, или, как говорит Данте,
«пречеловеческого», внечеловеческого, потустороннего2.
1 См. Ламеннэ, введение к его переводу «Божественной коме-
дии»: «В нем есть что-то нежное и грустное, как сумерки, воздуш-
ное, как мечта. Неистовые душевные порывы стихли. Физические
страдания походят на те, что описаны в «Аду», но они производят
совершенно иное впечатление...»
По поводу концепции Ламеннэ см. упомянутый выше очерк
о переводе «Божественной комедии» и двенадцатую лекцию турин-
ского курса 1855 года о «Чистилище» («Lezioni e saggi su Dante»,
изд. Эйнауди, t. V, pp. 349—369 и ел.). Что касается точки зрения
Чезаре Бальбо о второй кантике «Божественной комедии», см.
выше в настоящей главе и восьмую лекцию того же туринского
курса в «Lezioni e saggi su Dante», cit., p. 314. О Фридрихе Кри-
стофе Шлоссере, авторе книги «Dante Studien» (Leipzig, 1855)\ см.,
помимо «Epistolario», tt. XVIII—XX и «Lezioni e saggi su Dante»,
изд. Эйнауди, tt. V. VI, «Saggio critico sul Petrarca», cit., p. 215
«Почтенный Шлоссер, выступая в скромной роли комментатора,
по-молодому взволнован; взор его прикован к раю, наслаждается
его образами»..
2 «Рай», I, 70: «Пречеловеченье вместить в словах нельзя». По
поводу «потустороннего» понятия, упоминаемого выше, см. в § 20
этой главы.
281
Это — то самое царство философии, которое, по мысли
Данте, должно воцариться на земле, царство мира, где
разум, любовь и действие суть одно и то же. Любовь
ведет дух к высшему разуму, а высший разум является
одновременно высшим действием. Эта триада предста-
вляет собой единство. Когда человек с помощью любви
достиг бога, мы имеем единение человеческого с боже-
ственным, высшее благо, рай.
Этот аскетизм или мистицизм не абстрактная док-
трина, это форма человеческого существования. Наш
дух содержит потустороннее, нечто, именуемое чувством
бесконечности и обнаруживающее себя более доступ-
ным возвышенным натурам.
Античное искусство «материализовало» это потусто-
роннее, «очеловечив» небо, а философия, исходя из са-
мых различных посылок, пришла к практическому вы-
воду, что идеал мудрости и, следовательно, счастья, за-
ключается в душевном равновесии, ранее именовав-
шемся апатией, то есть в освобождении от гнета стра-
стей и плоти: в том языческом спокойствии, которым
дышат безмятежные, ясноликие и простые древнегрече-
ские статуи.
Это философское спокойствие мы обнаруживаем в
исторических образах Лимба:
Их речь звучна и медленна была...
Их облик был ни весел, ни суров...
(«Ад», IV, 114 и 84)
Самый типичный их представитель — Вергилий: ка-
ковы бы ни были его впечатления, самое большее, что
он себе позволяет, это вздох или тотчас же сдерживае-
мый жест. Спокойствием проникнут весь облик чисти-
лища, спокойствие — наиболее характерная черта насе-
ляющих его душ: мысль о небе их не тревожит, и они
уверены, что рано ил-и поздно туда поднимутся. Но уже
им свойственно нечто новое: экстаз, поглощенность, со-
зерцание; там — Катон, но его образ пронизан светом.
С приходом христианства эта беспокойная потусто-
ронность обуяла дух и вскоре заняла большое место
в жизни, вернее, стала главным предметом всей жизни.
И соответственно шло развитие искусства и литературы.
Кто хочет получить ясное представление о новом че-
ловеке того времени, пусть посмотрит замечательную
282
мозаику с изображением картин рая под куполами собо-
ров св. Марка и Сан-Джованни Латеранского \ а также
застывшие в экстазе, иссушенные молитвой лики свя-
тых. Эта потусторонность, небесное, божественное про-
ступает на их лицах, так же как в «Граде божьем»
(«De Civitate dei») св. Августина и в «Пути к спасению»
(«Dieta salutis») св. Бонавентуры. Этот образ вдох-
новлял в тринадцатом веке и создателя «Небесного
Иерусалима» — монаха Джакомино да Верона.
Это потустороннее, увиденное в экстазах, снах, виде-
ниях, в аллегориях чистилища, и составляло содержа-
ние рая. Будучи увидено в жизни, оно бы имело форму
и могло бы быть искусством, но в чистом виде, как цар-
ство духа, оно не может быть «увидено» и, следова-
тельно, изображено. Рай может быть лирической пес-
ней, содержащей не описание предмета, ибо он — вне
формы, а смутное стремление души к «чему-то боже-
ственному»2, хотя и тогда объект желания, при том, что
он остается «неким непостижимым сплавом», черпает
свою красоту из земных образов, — как мы наблюдаем
это в шиллеровском3 «Желании» и «Путешественнике»
1 Замечание носит общий характер, но, по-видимому, Де Санк-
тис имел в виду мозаику центрального купола венецианского собора
св. Марка, изображающую церковь при жизни Христа, и боль-
шую мозаичную картину в абсиде собора Сан-Джованни в Риме
(во времена Де Санктиса еще не реставрированную), где в образе
Христа был изображен небесный Иерусалим.
2 «Рай», III, 58—59:
«...Ваш небывалый вид
Блистает так божественно и чудно».
По поводу «некоего непостижного сплава» см. «Чист.», VII, 81.
3 Речь идет о двух лирических стихотворениях Шиллера:
«Sehnsucht» и «Der Pilgrim»; о втором из них Де Санктис упоми-
нает также в статьях «Versioni e comenti di liriche tedesche» («Пере-
вод немецких стихов и комментарии к ним»), опубл. в «Piemonte»
(1855) и позднее вошедших в «Saggi critici». См. «La crisi del gusto
romantico», cit. По этому поводу Лаурини замечает: «Де Санктис
говорил мне о своем намерении перевести эти два стихотворения
Шиллера в 1855 году. Но потом он уехал преподавать в Цюрих и
к этому вопросу больше не возвращался» («Esposizione critica della
Divina Commedia», Morano, Napoli 1921).
Стихи Тассо, о которых говорит Де Санктис, см. в «Gerusalem-
me liberata» II, 36.
«Mira il ciel com'e bello e mira il sole,
che a se par che n'inviti e ne console».
«На небо глянь — светило к нам взывает
И как бы утешенье обещает».
283
и в следующих прекрасных стихах «Чистилища», кото-
рым впоследствии подражал Тассо:
Вкруг вас, взывая, небеса кружат,
Где все, что зримо, — вечно и прекрасно.
(«Чист.», XIV, 148—149)
38. Чтобы создать «Рай» как художественное произ-
ведение, Данте придумал рай человеческий, доступный
органам чувств и воображению. В раю нет ни пения, ни
света, ни смеха, но, поскольку Данте смотрит на рай
как земной наблюдатель, он усматривает в нем земные
очертания:
К природе вашей снисходя, Писанье
О божией деснице говорит
И о стопах, вводя иносказанье.
(«Рай», IV, 43-45)
Так Данте удалось примирить богословие и искус-
ство. Рай теологический — это дух вне чувства, вообра-
жения, разума; Данте придает ему человеческий облик,
делает доступным чувствам и пониманию. Души
смеются, поют, рассуждают, как люди, что и делает рай
доступным искусству.
Перед нами — последняя стадия распада формы.
Полнокровная и материальная в «Аду», живописная
и фантастическая в «Чистилище», здесь она лирична,
музыкальна; это ближайшая видимость духа, абсолют-
ный свет без содержимого, оболочка, окружение духа,
не сам дух. Чистилище, подобно земле, получает свет
от солнца и светил, а те — непосредственно от бога,
а посему очищающиеся души, подобно людям, видят
солнце; а в солнце — бога, в народном воображении
издавна существовавшего как эманация света; но бла-
женные интуитивно воспринимают бога через свет,
струящийся непосредственно от него:
Свет, нам дающий созерцать его.
(«Рай», XIV, 48)
Стало быть, рай — наиболее спиритуальное проявле-
ние бога; поэтому из всех форм остается лишь свет, из
всех привязанностей — лишь любовь, из всех чувств —
блаженство, из всех действий — созерцание. Любовь,
блаженство, созерцание тоже приобретают форму света;
духи греются в лучах любви; блаженство или радость
264
сияет в глазах, искрится в смехе, а истина, как в
зеркале, отражена «в предвечном взгляде» 1:
Умопостижный свет, где все — любовь,
Любовь к добру, дарящая отраду,
Отраду слаще всех, пьянящих кровь.
(«Рай», XXX, 40—42),
Чувства и мысли душ проявляются в виде света; от
гнева св. Петра меняются цвета всего рая 2.
39. У рая тоже есть своя история и свое будущее,
как у ада и у чистилища. Это постепенный переход
духа или бога во все более тонкую форму, до полного
исчезновения, процесс воспарения к божеству, который
соответствует различным планам или ступеням доброде-
телей. Подъем от звезды к звезде равносилен переходу
от одной добродетечи к другой, вплоть до эмпирея, где
пребывает бог.
Единственной формой, выражающей этот постепен-
ный переход, служит свет. Следовательно, здесь нет,
как в аду или в чистилище, качественного различия,
есть лишь количественное: больше или меньше. Пона-
чалу свет не столь ярок, чтобы изменять черты чело-
веческого лица; но чем выше и свет сильнее, формы
расплываются, теряют очертания, как в святилище.
Подобен свету и смех Беатриче — некое «крещендо»,
не поддающееся определению; фантазия, формирующая
образы, не поспевает за разумом, назначение кото-
рого—различать. Сознавая грандиозность и трудность
задачи, поэт напрягает все силы своего таланта:
«Здесь не бывал никто по эту пору:
Минерва веет, правит Аполлон,
Медведиц — Музы указуют взору. («Рай», II, 7—9)
1 «Чист», XXVIII, 43—44:
«О женщина, чья красота согрета
Лучом любви...»
«Рай», И, 144:
«Как радость сквозь зрачок излучена»;
там же, V, 1—2:
«Когда мой облик пред тобою блещет
И свет любви...»;
там же, X, 103:
«Вот этот пламень льет, не угасая»;
там же, XVII, 39:
«Отражено сполна в предвечном взгляде».
2 «Рай», XXVII, 19 и ел,
285
На первых порах поэта увлекает этот мир, его фак-
тура; его прельщает новизна и чудодейственные явле-
ния, предстающие взору; образы получаются яркими,
изящными; потом, как бы утомившись, поэт становится
сухим и пускается в изощренные умствования К Но да-
лее он все более находит себя и достигает недосягае-
мых высот — спокойный, невозмутимый; можно поду-
мать, что преодоление трудностей лишь тешит его, но-
визна придает смелости, бесконечность приводит в во-
сторг.
Рай в собственном смысле слова — это эмпирей, не-
подвижное небо, центр вселенной, приводящий все
в движение. Там-то и пребывают духи, в соответствии
со степенью своих достоинств, на девяти небесах, вра-
щающихся вокруг Земли, Луны, Меркурия, Венеры,
Солнца, Марса, Юпитера, Сатурна, неподвижных звезд
и первого, подвижного неба. На первых семи небесах —
семи планетах — перед нами предстает вся земная жизнь.
Луна — это своего рода преддверие рая. Равнодушные,
показом которых начиналось изображение ада и чисти-
лища, вводят также в рай. Равнодушные рая грешили
не по собственной, а по чужой воле. Заслуга их неве-
лика, им не хватило той силы воли, которая помогла
1 Вот примеры сухих, изощренных умствований:
...как нежен был в тот миг
Священный взор, — молчат мои скрижали.
(«Рай» XVIII, 8-9)
«И так сиял восторг очей прекрасных,
Что я пройти в безмолвье принужден».
(XXIII, 23-24)
«И стал таким, каким пред вашим зреньем
Юпитер был бы, если б Марс и он,
Став птицами, сменились опереньем».
(XXVII, 13-15)
«И так разросся свет в одном огне,
Что, будь у Рака сходный перл, зимою
Бывал бы месяц о едином дне».
(XXV, 100-102)
(Прим. авт.)
После примечания в рукописи зачеркнуты слова: «По-моему,
недостойно похвалы и когда свет в сфере Юпитера принимает
форму букв, слагающихся в слово, а затем образующих очертания
орла («Рай», XVIII, 70 и ел.). Легкие, эфирные формы рая от таких
излишних подробностей лишь проигрывают».
св. Лаврентию не сойти с решетки, а суровому Муцию
не отнять руку от огня К
В них поэтому еще осталось что-то от земли: челове-
ческий облик. На Меркурии, Венере, Солнце, Марсе,
Юпитере прославляется деятельная жизнь, законода-
тели, влюбленные, ученые, мученики, правдолюбцы.
Сатурн знаменует венец и совершенство жизни, со-
зерцателей. По прошествии всех ступеней добродетели
начинается веселие, или, как говорит поэт, торжество
блаженства2. А неподвижные звезды символизируют
торжество Христа, первое подвижное небо — торжество
ангелов, эмпирей — лицезренье бога, слияние человече-
ского с божественным, где умиряется желание.
Эта история рая в соответствии с различными сту-
пенями блаженства имеет свою форму, выраженную
градацией света. Свет — оболочка, облачение душ, един-
ственная из оставшихся земных форм; вернее, это уже
не настоящая форма, а видимость, иллюзия, свойствен-
ная зрению смертных.
В глазах Данте блаженство, веселие душ имеет та-
кой вид:
Я от тебя весельем утаен,
В лучах его сиянья незаметный,
Как червячок средь шелковых пелен.
(«Рай», VIII, 52—54)
Эта видимость внутренней радости, выступающая
в самых различных положениях, очертаниях, сочета-
ниях, есть не что иное, как чувства или мысли душ,—
такую они приобретают форму. С этим связана и при-
рода рая, представляющая собой особые — новые, не-
виданные формы света, принимающие то вид орла, то
вид крестов, то круга, то созвездия, то лестницы. Эти
комбинации света есть не что иное, как группы душ,
выражающих свои мысли путем движения и поз. Чтобы
i «Рай», IV, 82—84:
«Будь воля их тот целостный оплот,
Когда Лаврентий не встает с решетки
Или суровый Муций руку жжет».
2 «Рай», XXIII, 19—21:
«.И Беатриче мне: «Вот ополченья
Христовой славы, вот где собран он,
Весь плод небесного круговращенья!»
287
сделать понятным видимые очертания этого мира света,
поэт привлекает земную природу, отбирает из нее са-
мые мимолетные, тонкие явления и делает ее как бы
зеркалом небес.
Так земля проникает в рай — не по существу, а по
форме, в отражении, как проявление небесного облика.
Но именно земное делает приятным рай Данте, именно
чувство природы вселяет жизнь в эти хитроумные сим-
волические комбинации. Свою долю «райского» имеет
и земля. Те явления, которые волнуют и возвышают
душу, располагают ее к нежности и любви; поэтому
здесь взято все самое эфирное, самое неуловимое, самое
нежное, что есть на земле. И так как эстетическое впе-
чатление складывается именно на основе этого глубо-
кого ощущения земной природы, то и выходит, что чи-
татель запоминает то, с чем сравнивают, а не то, что
сравнивают. Эти Дантовы сравнения — настоящие жем-
чужины «Рая»:
Как под лучом, который явлен зренью
В разрыве туч, порой цветочный луч
Сиял моим глазам, укрытым тенью,
Так толпы светов я увидел вдруг,
Залитые лучами огневыми,
Не видя, чем так озарен их круг.
(«Рай», XXIII, 79—84)
Как солнце, чье чрезмерное сверканье
Его же застит, если жар пробил
Смягчающих паров напластованье,
Гак он, ликуя, от меня укрыл
Священный лик среди его же света
И, замкнут в нем, со мной заговорил.
(«Рай», V, 133—138)
Как птица, посреди листвы любимой,
Ночь проведя в гнезде птенцов родных,
Когда весь мир от нас укрыт, незримый,
Чтобы увидеть милый облик их
И корм найти, которым сыты детки, —
А ей отраден тяжкий труд для них, —
288
Начальная страница «Рая»
(Ватиканская библиотека)
Час упреждая на открытой ветке,
Ждет, чтобы солнцем озарилась мгла,
И смотрит вдаль, чуть свет забрезжит редкий.
(«Рай», XXIII, 1—9)
И как часы зовут нас в час рассвета,
Когда невеста божья, встав, поет
Песнь утра жениху и ждет привета.
И зубчик гонит зубчик и ведет,
И нежный звон «тинь-тинь» — такой блаженный,
Что дух наш полн любви, как спелый плод.
(«Рай», X, 139—144)
...исчезая под напев
Как тонет груз и словно тает вьяве.
(«Рай», III, 122—123)
Как жаворонок, в воздух вознесенный,
Песнь пропоет и замолчит опять,
Последнею отрадой утоленный.
(«Рай», XX, 73—75)
Казалось мне — нас облаком накрыло,
Прозрачным, гладким, крепким и густым,
Как адамант, что солнце поразило.
И этот жемчуг вечно нерушим.
Нас внутрь воспринял, как вода — луч света,
Не поступаясь веществом своим.
(«Рай», 11,31—36)
Как войско пчел, которое слетает
К цветам и возвращается потом
Туда, где труд их сладость обретает.
(«Рай», XXXI, 7—9)
И свет предстал мне в образе потока,
Струистый блеск, волшебною весной
Вдоль берегов расцвеченный широко.
Живые искры, взвившись над рекой,
Садились на цветы, кругом порхая,
Как яхонты в оправе золотой;
19 Де Санктис 289
И, словно хмель в их запахе впивай,
Вновь погружались в глубь чудесных вод;
И чуть одна нырнет, взлетит другая.
(«Рай», XXX, 61—69)
Эти три последние терцины изумительны по естест-
венности и выпуклости образов. Поэт окружил небесные
существа 1 всем тем, что есть на земле самого веселого,
яркого. Мы в эмпирее. Взор утомлен, но при звуке слов
Беатриче он вновь загорается — появляется поток света,
и, укрепив свое зрение видом этого потока, этих пьяня-
щих цветов, этого золота, этих рубинов, этих ярких
искр, Данте в священном сиянии исступленного веселия
различает оба небесных престола. По правде говоря,
ряды блаженных гораздо менее поэтичны, чем описание
этих двух потоков чудесной весны.
Но форма как видимость духа — нечто примерное,
приблизительное — слово, «не вмещающее мысль»2. Это
бессилие формы приводит к созданию абсолютного от-
рицания, которое Данте выражает с такой интеллекту-
альной силой, на которую способен лишь человек, остро
чувствующий бесконечность.
...близясь к чаемому страстно,
Наш ум к такой нисходит глубине,
Что память вслед за ним идти не властна.
(«Рай», I, 7—9)
И всякому, чья маломощней сила,
То Благо охватить возбранено,
Что без границ, само себе — мерило.
(«Рай», XIX, 49—51)
И разум, данный каждому из нас,
В смысл вечной справедливости вникая,
Есть как бы в море устремленный глаз:
Он видит дно, с прибрежия взирая,
А над пучиной тщетно мечет взгляд;
Меж тем дно есть, но застит глубь морская.
(«Рай», XIX, 58—63)
1 По аналогии со словами «смиренные существа», обращенными
Беатриче к ангелам в земном рае, см. «Чист.», XXX, 101.
2 «Рай», XXXIII, 121—122: «О если б слово мысль мою вме-
щало».
290
Отрада, движущая душами и «превозмогающая лю-
бую скорбь» \ это и есть блаженство. Блаженства души
достигают благодаря восторгу любви и свету разума,
или, как говорит Данте, «умопостижному свету, где
все — любовь». Веселию предается их сердце, веселием
полон и разум. В сердце их вечное желание и вечное
удовлетворение. В мозгу их истина «отражена»2.
40. Свет — несоразмерная форма для выражения
блаженства. Он дает видимость, но не чувство, не мысль.
Поэтому появляются другие формы: пение и умозрение.
То, что в чистилище — дружба, в раю — любовь, пла-
мя желания, всегда смиряемого, но никогда не удовле-
творяемого бесконечного, как сам дух. Состояние, полное
лиризма и музыкальности, находящее свое выражение
в мелодии и в песне. Одинаковость желания, грани-
чащего с восторгом, рождает общность душ; личность
не индивидуум, а часть группы, подобно тому как в ве-
ликие моменты общественной жизни человек — лишь ча*
стица людской массы. Группы здесь не хоры, сопрово-
ждающие и выполняющие функцию индивидуума, а ин-
дивидуальность, рассеянная во многих душах, или, если
мы хотим непременно называть их хорами, то это хор
невидимых, немых персонажей: Христа, Марии, бога.
Вот, например, хор Марии:
Спустился в небо светоч огневой
И, обвиваясь как венок текучий,
Замкнул ее в свой вихорь круговой.
Сладчайшие из всех земных созвучий,
Чья прелесть больше всех душе мила,
Казались бы как треск раздранной тучи,
В сравненьи с этой лирой, чья хвала
Венчала блеск прекрасного сапфира,
Которым твердь светлейшая светла.
«Я вьюсь, любовью чистых сил эфира,
Вкруг радости, которую нам шлет
Утроба, несшая надежду мира;
1 По поводу этой и следующей цитаты см. терцину, приведен-
ную выше («Рай», XXX, 40—42).
2 «Отражено сполна в предвечном взгляде» («Рай», XVII, 39).
19* 291
И буду виться, госпожа высот,
Пока не взыдешь к сыну и святые
Не освятит просторы твой приход».
Такой печатью звоны кольцевые
Запечатлелись; и согласный зов
Взлетел от всех огней, воззвав к Марии.
(«Рай», XXIII, 94—111)
Как утоленный молоком желанным
Младенец руки к матери стремит,
С горячим чувством, внешне излиянным,
Так каждый из огней был кверху взвит
Вершиной, изъявляя ту отраду,
Которую Мария им дарит.
Они недвижно представали взгляду,
«Regina coeli» воспевая так,
Что я доныне чувствую усладу.
(«Рай», XXIII, 121—129)
Этот светоч — ангел Гавриил, а хор — хор ангелов.
Ангелы и блаженные души проникнуты единым духом,
живут одной и той же жизнью, если не считать того, что
добродетель ангелов — невинность, безгрешность, а их
веселие безотчетно. Ангелов — эту «парящую» меж бла-
женными и богом «густоту»1 поэт изобразил несколь-
кими удачными штрихами; они снуют туда и сюда с
детской беспечностью и веселием, ликующие и бесную-
щиеся с экспансивностью, которую поэт называет искус-
ством и игрой:
Кто этот ангел, взором погруженный
В глаза царицы, что слетел сюда,
Любовью,- как огнем, воспламененный?
(«Рай», XXXII, 103—105))
Дружбу или общность душ поэт именует «сонмом»2.
Их движения — танец, их голоса — пение; но в этом со-
1 «Рай», XXXI, 19—21:
«То, что меж высью и цветком парила
Посереди такая густота,
Ни зрению, ни блеску не вредило».
2 Там же, XXIV, 1: «О сонм избранных к вечере великой».
292
гласии голосов, в этом вихре движений личность исче-
зает: это музыка, в которой звуки сливаются, теряясь
в одной-единственной мелодии.. Внешнее различие от-
сутствует, все — на одно лицо.
Эта общность жизни составляет лирический фон
«Рая», но это и его слабая сторона, потому что поэт, до-
вольствуясь цитированием первых слов церковных пес-
нопений, оказался скованным и не сумел создать лирики
рая, вложив в райское пение чувства небесного сонма.
А о том, что он мог это сделать, свидетельствуют молит-
ва св. Бернарда — подлинный гимн Пречистой Деве и
гимны Франциску Ассизскому и св. Доминику: при всей
их грубоватой «вещной» простоте они гораздо более ис-
кренни, нежели высокопарные современные церковные
гимны К
Души поют песни, лишенные содержания, это го-
лоса без слов, музыка, но не поэзия: а все — сплошная
волна света, мелодии и голосов, увлекающая за собой:
«Отцу, и сыну, и святому духу —
Повсюду — слава!» —раздалось в Раю.
И тот напев был упоеньем слуху.
Взирая, я, казалось, взором пью
Улыбку мирозданья, так что зримый
И звучный хмель вливался в грудь мою.
О радость! О восторг невыразимый!
О жизнь, где все — любовь и все — покой!
О верный клад, без алчности хранимый!
(«Рай», XXVII, 1—9)
Это всемирная гармония, гимн созиданию. Свет, пре-
одолевая телесную непроницаемость и смешивая свои
лучи, выражает и вовне это взаимопроникновение душ;
индивидуальность исчезла в море бытия. Поэт — госпо-
дин, вернее, тиран языка — образует смелые слова, при-
званные обозначить это любовное отождествление су-
ществ в бытии: отсюда все эти «онебесить» («inciela»),
«обраить» («imparadisa»), «обожествлять» («india»),
1 Песни XXXIII, XI и XII. По этому поводу см. в восьмой лек-
ции цюрихского курса, посвященной «Раю», несколько иное мнение
о похвальных словах св. Франциску и св. Доминику: «Они мало
поэтичны в силу того, что автор увлекся второстепенными де-
талями».
293
«втебеить» («intuassi»), «вомнеить» («immei»), внейить
(«inlei»), «вбудущиться» («s'infutura»), «внеметь» («s'il-
luia»), одно время преданные забвению, а теперь возрож-
дающиеся вновь. Спасение души выражается в посте-
пенном избавлении ее от эгоизма сознания; индивидуаль-
ность ее гнетет — она чувствует себя несовершенной,
неполной, дисгармоничной и вздыхает об идеальности
универсальной жизни.
Такова жизнь в раю. Здесь исчезает не только об-
лик человека, но в большой мере и индивидуальность.
Одни живут в других, и все — в боге.
41. Этот распад форм и даже самой индивидуально-
сти превращает рай в нечто монотонное, звучащее на
одной струне, но, к счастью, сюда проникает земля, а с
ней другие формы, другие страсти. Земля проникает сю-
да в противовес этой жизни, полной любви и покоя.
Жизнь, наполненная ненавистью и суетой, вызывает
гнев и сарказм у небожителей.
Есть, впрочем, пассажи, в которых этот «противовес»
высоко поэтичен. Поэту, представшему в лучезарном
сиянии солнца перед Беатриче, открывается вся тщета
земных забот:
О смертных безрассудные усилья!
Как скудоумен всякий силлогизм,
Который пригнетает ваши крылья!
Кто разбирал закон, кто — афоризм,
Кто к степеням священства шел ревниво,
Кто к власти чрез насилье иль софизм,
Кого манил разбой, кого — нажива,
Кто в наслажденье тела погружен,
Изнемогал, а кто дремал лениво.
(«Рай», XI, 1—9)
Еще одно очень поэтичное место — когда поэт с вы-
соты неподвижных звезд смотрит на землю:
...и видел этот шар
Столь жалким, что не мог не усмехнуться.
(«Рай», XXII, 134—135)
Земля, «родящая в нас такой раздор» \ увиденная
1 «Рай», XXII, 151 —154; эта терцина цитируется ниже. Упоми-
наемый тут же отрывок из «Освобожденного Иерусалима» следует
за сном Готфрида, XIV, станс II.
294
Данте с неба, кажется ему жалким «клочком». Эта
мысль, впоследствии так приукрашенная и разработан-
тая Тассо, здесь звучит сурово, как в проповеди. Поэт
уже чувствует себя гражданином неба и смотрит на пре-
зренную твердь мимоходом, едва удостаивая ее улыб-
кой, тут же переводя взор и созерцая Беатриче:
С нетленными вращаясь Близнецами,
Клочок, родящий в нас такой раздор,
Я видел здесь, с горами и реками.
Потом опять взглянул в ^прекрасный взор.
(«Рай», XXII, 151-154)
Тем не менее именно этот «клочок» будит в бла-
женных душах самые разнообразные чувства и страсти,
заставляет дрожать новые струны. Рядом с гимном по-
является сатира во всех ее разновидностях: от остроум-
ной шутки, карикатуры и иронии до сарказма. В каче-
стве примера шутки приведем намек на Карла Мартел-
ла — косвенный, но весьма ядовитый:
А царство отдаете казнодею.
(«Рай, XXIX, 115-1171
Беатриче, весьма сведущая в теологии, не менее ис-
кусна в карикатуре и иронии. Вот как она бичует тог-
дашних проповедников из простонародья:
Теперь в церквах лишь на остроты падки
Да на ужимки; если громок смех,
То куколь пыжится, и все в порядке.
(«Рай, XXIX, 115—117)
Юстиниан заканчивает свой благороднейший рассказ
о злоключениях и славе древнего Рима неистовыми уг-
розами врагам имперского орла — гвельфам *. Больше
всего достается папе и монахам. Св. Фома, воздав хвалу
св. Франциску, ругает францисканцев, св. Бенедикт —
1 «Рай», IV, 106—108: «И гвельфам нет надежды на успех
С их новым Карлом...» По поводу других выражений, упоминаемых
в этом отрывке, см. XII, 115 и далее; XXII, 73 и далее; XXVII, 19
и далее. В этой последней песне, где имеется инвектива святого
Петра против коррупции, царя.'цей в Риме, выражение «кровавая
грязь» взято из стихов 25—26: «На кладбище моем сплошные горы
Кровавой грязи...»
295
бенедиктинцев, св. Петр — папу. Беспощадно, до крови
бичует Данте королей той эпохи. Можно ли ждать от
святых снисхождения к человеческим слабостям! Са-
тира Данте зла; ее муза — возмущенье, ее обычная фор-
ма— инвектива. Элементы комизма уничтожаются в са^
мом зародыше и выливаются в сарказм. Сарказм здесь
выступает не в форме мысли или остроты, а как живой
портрет порока с применением довольно грубых выраже-
ний, вроде «кровавая грязь», подчеркивающих уродство
порока, его омерзительность. Порок обличается не в
общей декламационной форме, а на примере людей кон-
кретной эпохи, конкретных ее аспектов, с обильными
подробностями и с точным воспроизведением колорита.
Шедеврами можно назвать изображение бенедиктин-
цев и инвективу св. Петра.
42. Это противопоставление неба земле есть не что
иное, как противоречие, разделяющее на земле людей
добрых и злых, хороших и плохих, — точнее, противопо-
ставление золотого века христианства тем временам
упадка, в кои жил поэт: это настоящее, заклейменное
прошлым; прошлое, возвеличенное благодаря контра-
сту, который оно составляет с царящим ныне разложе-
нием. Возьмем бенедиктинцев, но ведь был же и св. Бе-
недикт! Возьмем Бонифация и Клемента, но ведь был
же св. Петр, а затем — Лин, Клет, Сикст, Пий, Каликст
и Урбан!! Здесь, как в Пантеоне, собраны все люди,
прославившиеся в тот золотой век своей святостью и
ученостью; это героический мир христианства, пришед-
ший на смену героическому миру язычества, описанному
в Лимбе, которому Юстиниан в раю произносит панеги-
рик.
Золотой век, славное прошлое, которое Данте срав-
ниваете печальной действительностью своей эпохи, вдох-
новил поэта на одну из самых интересных сцен, а имен-
но — на изображение древней и новой Флоренции, дан-
1 В упомянутой инвективе св. Петра («Рай», XXVII, 40—45)
говорится:
«Невеста божья не затем взросла
Моею кровью, кровью Лина, Клета,
Чтоб золото стяжалось без числа;
И только чтоб стяжать блаженство это,
Сикст, Пий, Каликст и праведный Урбан,
Стеня, пролили кровь в былые лета».
296
ное рыцарем Каччагвидой, одним из предков Данте.
Здесь гимн и сатира слиты воедино: перед нами — идеал
золотого века; семейное счастье у домашнего очага, про-
стота нравов, скромность жизни и тут же — мужик из
Агульоне и «бесстыжие флорентинки»1. Финал этой се-
мейной сцены приобретает эпическое звучание; Данте
своими руками воздвигает себе пьедестал.
В словах Каччагвиды, предсказывающего поэту из-
гнание, столько грусти и тепла, что нетрудно предста-
вить себе, какой глубокой печалью было объято сердце
пожилого и усталого поэта. Тяжесть изгнания он видит
не в материальных лишениях: самое большое стра-
данье— такое испытание уготовил бог великим лю-
дям— это расстаться со всем, что тебе дорого и про-
сить кусок хлеба у чужих людей, зависеть от их само-
дурства. Эту невыносимую муку, постигшую многих
несчастных, поэт обессмертил в стихах, которые вошли
в поговорку; их можно услышать и из уст бедняка, и из
уст великих мира сего2. Но эта скорбь мужественна;
поэт тотчас поднимает голову и с высоты своего гения
и поэтического подвига взирает на власть имущих всей
земли так, словно они — у его ног.
43. Благостное, радостное состояние душ, их отра-
да — это не только любовь, но еще и разумное видение.
Свет именуется «светом разума» оттого, что и свет и
смех есть проявление способности душ к совершен-
ному видению3. Вот как объясняет поэту свой смех Беа-
триче:
«Когда мой облик пред тобою блещет
И свет любви не по-земному льет,
Так, что твой взор, не выдержав, трепещет,
1 «...Чем чтобы с вами жил пропахший смрадом Мужик из
Агульоне иль иной Синьезец...» («Рай», XVI, 55—58).
Выражение «бесстыжие флорентинки», которое Данте вложил
в уста Форезе («Чист.», XXIII, 101), употреблено здесь для нагляд-
ности, чтобы ввести один из мотивов обвинительной речи Качча-
гвиды о падении нравов во Флоренции. Об эпизоде с Каччагвидой
(песни XV—XVII) см. девятую — одиннадцатую лекции цюрихского
курса, посвященные «Раю», в «Lezioni e saggi su Dante», изд. ЭЯ-
науди, t. V, pp. 501 и ел.
2 «Рай», XVII, 55—59,
3 «Рай», XXX, 40,
297
Не удивляйся; это лишь растет
Могущественность зренья, и, вскрывая,
Во вскрытом благе движется вперед». («Рай», V, 1—6)
Блаженство — в созерцании, а созерцание — это и
есть совершенное интеллектуальное зрение. Вот почему
души не занимаются анализом, спорами, доказатель-
ствами, а просто смотрят и описывают истину, являю-
щуюся им не как идея, а как живая натура. По словам
Беатриче, на земле существует лишь видимость истины,
поэтому и имеется столько философских систем:
Там, на земле, не направляют разум
Одной тропой: настолько вас влекут
Страсть к внешности и жажда жить показом.
(«Рай», XXIX, 85—87|
Истина вырисовывается в раю во всем своем вечном
величии; в боге связано любовью воедино то, что рас-
пылено, «разлистано», по всей вселенной1: видеть бога —
значит видеть истину. А это значит видеть не только
предметы, но и мысли и желания. Блаженные души,
чтобы видеть мысль Данте, не нуждаются в его объяс-
нениях.
Науке, в понимании современников Данте находив-
шейся в супружестве с теологией, надлежало иметь кон-
кретную и индивидуальную форму, быть объектом для
созерцания и одновременно быть высокопоэтичной2.
Персонифицированный бог — неподвижный двигатель,
производящий через любовь образцовую идею мирозда-
ния, чистый разум и чистый свет, который проникает,
сияя в одном месте больше, в другом меньше3; светила,
1 «Рай», XVII, 39: «Отражено сполна в предвечном взгляде» —
и XXXIII, 85—87: «Я видел — в этой глуби сокровенной Любовь как
в книгу некую сплела То, что разлистано по всей вселенной».
2 См. двенадцатую лекцию цюрихского курса, посвященную
соотношению поэзии и науки в «Рае», и прежде всего следующие
слова: «Во времена Данте теология занималась совершенно конкрет-
ными вопросами, и, вместо того чтобы оставаться в сфере чистой
мысли, поэт может созерцать ее как нечто сущее, и, следовательно,
вместо того чтобы толковать, он может изображать» («Lezioni e
saggi su Dante», изд. Эйнауди, t. V, p. 508). О характере науки
в эпоху средневековья см. также очерк «Carattere di Dante e sua
Utopia», cit., ibid., pp. 554—555.
3 «Рай», I, 2—3:
«...и струят
Где — большее, где — меньшее сиянье»,
298
куда являются блаженные, влияющие на судьбы людей
и руководимые разумами, управляющими их движением
и смыслом их круговращенья; небо — эмпирей — центр
^сех космических кругов и местопребывание чистого све-
та; Вселенная — сияние божества, где разбросано все
то, что в боге соединено воедино; порядок и гармония
во всем сущем, начиная от самой низшей твари до де-
вяти чинов ангельских; грехопадение человека и его
спасение благодаря перевоплощению и силе Слова;
откровение истины, недоступной разуму и видимой
сердцу, укрепленному верой, утешенному надеждой,
охваченному пламенем милосердия1, — в этой науке о
сотворении мира мысль настолько конкретна, «телесна»,
что поэт может созерцать ее как нечто сущее, как при-
роду. Поэтому форма, принятая в науке, носит характер
не столько рассуждения, сколько описания, применимого
к предмету, который доступен зрению, и не нуждающе-
муся в проявлении себя.
Способность ясно видеть блаженные души является
привилегией Данте: никто не может сравниться с ним в
силе и ясности видения.
Будучи в плену догм, человек верующий и настроен-
ный поэтически, Данте, принимает рай как абсолютную
истину; он не размышляет, он лепит. Он как бы мыслит
с помощью воображения, подстегиваемого величием и
достоверностью зрелища. Так родились смелые мета-
форы и изумительные сравнения.
Согласование божьего промысла со свободой воли —
один из самых сложных и запутанных вопросов; но
здесь он решается не теоретически, а как видение, как
зрелище, — такова сила Дантова воображения:
Возможное, вмещаясь в той тетради,
Где ваше начерталось вещество,
Отражено сполна в предвечном взгляде,
Не став необходимым оттого,
Как и ладьи вниз по реке движение
От взгляда, отразившего его.
Оттуда так, как в уши входит пенье
1 См. песни XIII, II, XXX, XXXIII, X, XXVIII, XXIX, XXVII,
VII, XIV, XXV, XXVI. — Прим. автг
299
Органных труб, все то, что предстоит
Тебе во времени, мне входит в зренье.
(«Рай», XVII, 37-45|
Поэт идет дедуктивным путем, рассматривая вещи
с высоты рая, все более и более углубляясь и доиски-
ваясь причин явлений; вместо того чтобы повествовать и
показывать, как то свойственно поэзии, Данте пользует-
ся созерцательным, догматическим методом, рисуя об-
ширные горизонты в одном измерении:
Взирая на божественного Сына,
Дыша Любовью вечной, как и тот,
Невыразимая Первопричина
Все, что в пространстве и в уме течет,
Так стройно создала, что наслажденье
Невольно каждый, созерцая, пьет.
(«Рай», X, 1—6))
Эта поэтическая форма, в которую облечена наука,
это видение разума, в «Тезоретто» едва намеченное,
здесь доведено до совершенства. Секрет состоит в уме-
нии так поставить предмет, подчеркнуть его, чтобы глаз
воображения охватил его полностью. И ничто так не
противоречит этому принципу, как схоластика с ее кос-
ными формулами и абстракциями; но благодаря вообра-
жению в нее проникают воздух и свет — происходит чу-
до, творимое двумя великими свойствами Дантова ума:
даром синтеза и даром формы. Вспомним, какое потря-
сающее описание движения светил дает Беатриче: оно
немногим уступает такому шедевру, как история тво-
рения 1.
Наука о процессе творенья охвачена сразу, момен-
тально, с такой строгой и стремительной последователь-
ностью, что все устройство мирозданья предстает как
одна простая мысль. Некоторые положения с большим
трудом поддаются объяснению — например, о единстве
света при его многообразии или о несовершенстве при-
роды, препятствующем достижению полного идеала.
У Данте эти положения никогда не претворяются в аб-
стракцию — они выражены в виде живых сил, вершите-
1 «Рай», II, 112 и далее; история творения: «Чист.», XXV, 34
и далее.
300
лей созидания — света, неба, природы; перед нами не
рассуждение, а одушевленная история, рассказанная с
такой ясностью и мощью убеждения, которые превра-
щают бога и природу в подлинно поэтические персо-
нажи:
Все, что умрет, и все, что не умрет,—
Лишь отблеск Мысли, коей Всемогущий
Своей Любовью бытие дает.
Затем что животворный Свет, идущий
От Светодавца и единый с ним,
Как и с Любовью, третьей с ними сущей,
Струит лучи, волнением своим,
На девять сущностей, как на зерцала,
И вечно остается неделим.
(«Рай», XIII, 52—60)
Эти три терцины являют собой поразительный при-
мер той ясности и убедительности, с какой можно выра-
зить самую сложную мысль. Не меньшую силу интуиции
проявляет Данте и в конце, когда, сравнивая идеал с во-
ском, добавляет:
Но естество его туманит мглой,
Как если б мастер проявлял уменье,
Но действовал дрожащею рукой.
(«Рай», XIII, 76—78)
Дрожит рука и у Данте: недаром среди россыпей кра-
соты — немало шлака. Нередко мы видим перед собой
не поэта, а ученого мужа, голова которого полна почерп-
нутыми в парижском университете1 формулами и силло-
гизмами. Многие вопросы носят слишком специальный
характер, чересчур много схоластической дичи, дефини-
ций, дифференциаций, цитат, доводов. Тому причиной не
слабость Данте как поэта, а ложно понятое назначение
поэзии. Ему кажется, что эта премудрость — венец поэ-
зии, и он хвастается своей ученостью и насмехается над
теми, кто пытался угнаться за ним «в челне зыбучем».
«Идите откуда пришли, — говорит он им, — ибо моя
1 По-видимому, намек на те занятия, которыми Данте, согласно
версии Боккаччо, увлекался в Париже О том, как охотно было
подхвачено критиками романтической школы предположение о по-
ездке поэта в Париж, см.: В а 1 b о, Vita cit., p. 316 и ел. и особенно
Кине (op. cit., I, p. 132}.
301
книга предназначена для тех немногих, кто способен
вкусить от ангельского хлеба»1: а ведь то были фило-
софы и равные ему ученые мужи. Вот почему «Рай» чи-
тают мало и без удовольствия. Особенно утомляют его
монотонность: подчас он напоминает серию вопросов и
ответов, беседу учителя с учеником.
44. Интеллектуальное видение есть блаженство. Из-
ложение научных истин выливается в песнопения и гим-
ны, причем последние слова ясновидца сливаются с
осанной, звучащей в небе:
Когда я смолк, по огненным кругам
Песнь «Бога хвалим» раздалась святая,
И горний тот напев неведом нам.
(«Рай», XXJV, 112-114)'
Едва я смолк, раздался, торжествуя,
Напев сладчайший в небе: «Свят, свят, свят!» —
И Беатриче вторила, ликуя.
(«Рай», XXVI, 67—69)
Так разрешается таинство души. В чистилище оно
было затемнено символами и аллегориями; здесь же
раскрывается как божественная комедия души ее при-
общение к богу в вечном веселии. Сила, притягивающая
Данте к богу, столь же стремительна, как водная ла-
вина, «когда она с вершины вниз течет»2; это любовь
Беатриче, которая его «возносит к вышине»3.
Беатриче сама по себе — квинтэссенция рая, зеркало,
в котором он отражается в своих превращениях. Ее мож-
но живописать, когда она разговаривает с Вергилием
или когда с «царственно взнесенной головой» осыпает
упреками возлюбленного4; но здесь Беатриче настолько
спиритуализирована, что кисть была бы бессильна. Да-
же словами невозможно описать ее смех, ее изменчивую
красоту: можно передать словами только эффект, какой
1 «Рай», II, 1—2: «О вы, которые в челне зыбучем, Желая
слушать...» и 10—12: «А вы, немногие, что испокон Мысль к ан-
гельскому хлебу обращали».
2 Там же, I, 136—138:
«Дивись не больше... Тому, что всходишь, чем стремнине вод-
ной, Когда она с вершины вниз течет».
3 Там же, XV, 54: «Та, что тебя возносит к вышине!»
1 «Ад», II, 55 и ел. и «Чист.», XXX, 70 и ел.
302
она производит на Данте и на небожителей. Вот один из
наиболее удачных примеров:
Такая радость в ней зажглась, едва
Тот светоч нас объял, что озарилась
Сама планета светом торжества.
И раз звезда, смеясь, преобразилась,
То как же — я, чье естество всегда
Легко переменяющимся мнилось?
Как из глубин прозрачного пруда
К тому, кто тонет, стая рыб стремится,
Когда им в этом чудится еда,
Так видел я — несчетность блесков мчится
Навстречу нам, и в каждом клич звучал:
«Вот, кем любовь для нас обогатится!»
(«Рай», V, 94—105)
Спиритуализировано тело, спиритуализирована и ду-
ша. Любовь очистилась: в ней не осталось никакой чув-
ственности. Данте, который в чистилище почуял «следы
былого огня»1, здесь внимает Беатриче с чувством, весь-
ма близким к почитанию. Когда она удаляется, поэт не
жалуется: все земное в нем сгорело, иссякло. В словах
его звучит тепло, любовь, которая скорее похожа на по-
чтительную благодарность: по первому же знаку Беа-
триче любовь мужчины плавно, как тень, перешла в лю-
бовь к богу; она любит его в боге:
Так я воззвал; с улыбкой, издалека,
Она ко мне свой обратила взгляд;
И вновь — к сиянью Вечного Истока.
(«Рай», XXXI, 91—93)
Подобно тому как Данте смог войти в земной рай и
увидеть символ торжества Христова, лишь заплатив
«оброк раскаянья»2, точно так же он смог достичь со-
звездья Близнецов или неподвижных звезд и созерцать
там торжество Христа, лишь поведав о своей вере.
1 «Чист.», XXX, 48: «Следы огня былого узнаю!»
2 Там же, 144—145:
«...не заплатив оброк
Раскаянья, обильного слезами».
303
И тогда св. Петр увенчал его лавровым венком поэта/ а
поэт — значит воитель за истину. Св. Петр ему говорит:
«Скажи о том, что я сказал тебе!»
(«Рай», XXVII, 66)
Таким образом, комедия священна, у нее есть своя
миссия. Она — истина, и небо ратует за нее, а Данте
становится ее апостолом и пророком: это священная
поэма К С тем же сознанием своего величия, с каким он
поставил себя шестым «средь столькогоума»2, он встает
здесь рядом со св. Петром и становится выразителем
его мыслей, объединяет венец мудреца и венец святого,
древнюю и новую культуру, он в одном лице философ
и теолог.
Изложив свою веру, освященный и увенчанный по-
этическими лаврами, Данте считает, что он приблизился
к богу. Он уже рассматривал божество в человеческом
плане, как богочеловека. Торжество Христа, праздник
Воплощения выступают как реминисценции церковной
службы с ее главными действующими лицами — Хри-
стом, Пресвятой Девой, архангелом Гавриилом. Хри-
стос и Дева Мария невидимы, как в храме: празднество
протекает помимо них, около них. Далее следует торже-
ство ангелов, затем эмпирей и триумф бога.
Эмпирей — это град божий, прибежище блаженных
душ, рай в подлинном смысле слова. Беатриче излучает
такое сияние, что поэт признает себя сраженным, «как
не бывал сражен своей задачей Трагед иль комик, ни
один певец»: тема исчерпана; он отказывается от мысли
продолжать описание ее красоты,
Как тот, чье мастерство уже не властно3.
В эмпирее есть свет разума, который становится види-
мым:
1 «Рай», XXV, 1: «Коль в некий день поэмою священной».
2 «Ад», IV, 102.
3 «Рай», XXX, 19—33. См. преимущественно ст. 22—24 и 31—33:
«Здесь признаю, что я сражен вконец,
Как не бывал сражен своей задачей
Трагед иль комик, ни один певец...
Но ныне я старался бы напрасно
Достигнуть пеньем до ее красе г,
Как тот, чье мастерство уже не властно».
304
...в котором божество
Является очам того творенья,
Чей мир единый — созерцать его.
(«Рай», XXX, 100—102)
Свет имеет форму окружности, подобной сердцевине
розы, чьи белые лепестки простираются в бесконеч-
ное пространство и служат местопребыванием блажен-
ных. Описывает и разъясняет устройство чудесного сада
св. Бернард. Ярче всего сияет то место сада, куда обра-
щен «возлюбленный и чтимый богом взор» \ где на-
ходится Пресвятая Дева и ангелы. Это место — алая
орифламма, мирный стяг рая, знамя мира. Сад, роза>
орифламма — образы изящные, но несоразмерные. Все
эти пышные метафоры не стоят одной терцины, где дается
описание св. Бернарда, — такое человечное и такое по-
нятное:
Дышали добротою безмятежной
Взор и лицо, и он так ласков был.
Как только может быть родитель нежный.
(«Рай», XXXI, 61—63)
45. Нельзя описывать рай слишком определенно и
точно, не принижая его, — на то он и рай. Самой подхо-
дящей для этого формой является чувство, вечное весе-
лие, так хорошо показанное в образе множества порхаю-
щих «меж высью и цветком» ангелов2, вносящих неко-
торое оживление в спокойствие рая.
Лирический смысл рая выражен в гимне Данте к
Беатриче и в гимне св. Бернарда, обращенном к Деве
Марии3: в них поэт смотрит на рай с земли, вкладывает
в свои слова человеческие чувства и впечатления. Даже
блаженные становятся интересными, когда в сиянии рай-
ского света появляются «любви достойные лица» и «по-
чтенные и спокойные облики»4 или когда души с моль-
бой «воздевают руки» к Деве Марии.
1 «Рай», XXXIII, 40.
2 Там же, XXXI, 19-20:
«...меж высью и цветком парила
Посереди такая густота».
3 Там же, XXXI, 79—90 и XXXIII, 1—39.
4 Там же, XXXI, 49: «Я видел много лиц, любви достойных»;
51: «И обликов почтенных и спокойных».
.Словами «воздевают руки» оканчивается молитва св. Бернарда.
20 Де Санктис
305
Данте пожелал описать даже бога: он видит в нем
Вселенную, Троицу, перевоплощение, соединение чело-
веческого с божественным, в котором утихают желания,
а любовь уже «стремила страсть и волю».
Как если колесу дан ровный ход.
(«Рай», XXXIII, 144)
Данте видит, но его видение, облаченное в слова, не
имеет формы: есть интеллект, но нет более воображе-
ния: оно превратилось в обычный свет и в проблеск.
Форма исчезает: видение почти прекращается — уцелело
лишь чувство: #
...во мне мое виденье
Чуть теплится, но нега все жива
И сердцу источает наслажденье;
Так топит снег лучами синева;
Так легкий ветер, листья взвив гурьбою,
Рассеивал Сибиллины слова.
(«Рай», XXXIII, 61—66)
В этих прекрасных строках промелькнул последний
луч умирающего воображения — «здесь изнемог высо-
кий духа взлет» *, а вместе с воображением умирает и
поэзия.
46. Так заканчивается история души. Переходя из
одной формы в другую, меняя один облик на другой, она
находит и узнает самое себя в боге, превращается в
чистый разум, чистую любовь, чистое деяние. Именно
в этом согласии она и усмиряет свои желания и обре-
тает мир. В аду господствует анархическая материя:
формы ее разнообразны, они ярко выражены, ориги-
нальны, полнокровны, индивидуальны. В чистилище ма-
терия уже не главное, она — лишь момент: дух обретает
сознание своей силы и в борьбе и страданиях завоевы-
вает свою свободу. Реальность существует в воображе-
нии как воспоминание души о прошлом, от которого она
освобождается, как мечта о будущем, к которому она
приближается; а поэтому формы чистилища — не столь-
ко реальные предметы, сколько призраки, плод вообра-
жения: картины, сны, видения-экстазы, символы и песни.
В раю дух, уже обретший свободу, постепенно приоб-
1 «Рай», XXXIII, 142: «Здесь изнемог высокий духа взлет»,
306
щается к богу; качественные различия растворяются и
все формы «испаряются», превращаясь просто в свет, в
бесцветную музыкальную мелодию, в чистую мысль.
Здесь реализована всеобщая мечта о мире, царство
божье, царство философии, то «потустороннее», которое
было причиной таких терзаний и манило к себе столь-
ких людей.
Новая культура, незаметные и отдельные ростки ко-
торой изредка появлялись и ранее, в поэме Данте нашла
свое всеобъемлющее отражение, впитав все достижения
науки и культуры, всю историю. И тот, кто воздвиг это
грандиозное сооружение, вложил в свой труд всю свою
силу художника, поэта, философа, христианина. Будучи
человеком высокой морали и недюжинного ума, Данте
считал создание «Комедии» своим долгом перед роди-
ной, перед потомками, священным долгом, выполнение
которого бог поручает гению и который облагораживает
другие, менее благородные мотивы, побуждающие поэта
к творчеству, — его политические симпатии, жажду ме-
сти изгнанника. В ней дан человек во весь рост, таким,
как он есть: как Адам 1 и как бог.
С годами Данте глубоко вжился в мир, порожденный
его фантазией; он стал спутником поэта до его послед-
них дней; поэт запечатлел в нем, как в книге мемуаров,
свои страданья, надежды и проклятья. Рожденный по
образу и подобию окружающей действительности, при
всей своей символике, мистике и схоластике; этот мир ме-
няется, окрашивается и наполняется его, Данте, суще-
ством, становится его детищем, его портретом.
Уму Данте ненавистна поверхностность, он смотрит в
глубь вещей; фантазии его претит абстрактность, она
все облекает в конкретную форму. Отсюда та ясная и
глубокая интуиция, которая является характерной чер-
той Дантова гения. Предмет предстает перед ним не
только в конкретной форме, но вместе с впечатлениями
и чувствами. В результате этого рождается форма,
являющая собой одновременно и образ и чувство, — об-
раз, столь полный жизни и движения, что через него
просвечивает цвет крови, бурление страсти.
Образом все сказано: Данте не задерживается, не
развивает его, легко переходит, от предмета к предмету
1 «Чист,», IX, 10: «Когда, с Адамом и существе своем...»
20* 307
и пренебрегает деталями. Для достижения нужного эф-
фекта ему зачастую достаточно одного выразительного
слова, рождающего перед читателем целую группу обра-
зов и чувств; а иной раз слово живописует благодаря
одному своему присутствию: необходимая эмоция воз-
никает из самой гармонии стиха.
Все здесь сочно, «вещно»: вещи даны целиком, нетро-
нутыми, как в жизни, не расчлененными рефлексией и
анализом. Мир Данте, говоря его же словами, — это
книга, в которой сплетено все,' «что разлистано по всей
вселенной». Это мир задумчивый, сосредоточенный,
ушедший в себя, малообщительный, похожий на нахму-
ренный лоб погруженного в мысли человека. 'Прошли
века, а люди продолжают черпать в глубинах этого мира
вдохновение и новые мысли. В нем, еще пока в скрытой,
угловатой и полной тайн форме, уже живет тот мир, ко-
торый, будучи подвергнут анализу, приближен к чело-
веку и к реальности, будет назван современной лите-
ратурой К
1 Ту же мысль, высказанную еще в ранних лекциях, посвящен-
ных поэме Данте, см. в «Teoria e storia», cit., I, pp. 215—216 и
в «Purismo illuminismo storicismo», изд. Эйнауди, t. II. «Таким
образом, Данте посеял, зерно, которое дало свои всходы под пером
всех позднейших поэтов, от Шекспира до Кальдерона, Леопарди и
Мандзони». См. там же, стр. 220—221: «Ламартин прав, говоря,
что Данте — поэт нового времени. Литература нового времени про-
возгласила принцип национальной поэзии (Шлегель), но и Данте —
поэт национальный. Она ввела исторический элемент в сочетании
с художественным вымыслом (Мандзони), но и Данте строит свое
произведение на основе исторических фактов своей эпохи. Она вос-
стала против извечного соперничества между наукой и литерату-
рой, продолжавшегося и после Дантова периода, вновь ввела науку
и философию в литературу, но не как инородный элемент, а как
источник вдохновения (Леопарди), тем самым придя к тем же вы-
водам, к которым пришел XIV век и Данте. Она требовала, чтобы
поэты участвовали в общественной жизни и выражали нужды и
идеалы людей, не уходили бы в свои личные переживания, но и
Данте — поэт общественной жизни... Она требовала, чтобы жизнь
была показана в ее противоречиях, чтобы в произведении сочета-
лось высокое и комичное, благородное и вульгарное, прекрасное и
ужасное; античная трагедия — это трагедия Софокла; современная
драма — это драма Шекспира; но именно так подходил к искусству
и Данте, изобразивший после любви Франчески обжорство Чакко».
VIII
Канцоньере'
1. Историческое значение «Божественной комедии». Но-
вое поколение и формирование нового литературного сознания.
Изучение классиков и культ формы. 2. Петрарка и возрожде-
ние классики. Гордость за нацию и язык латинян: канцона
«Italia mia» («Моя Италия») и «De Africa» («Африка»).
3. Лирическая натура Петрарки. Действительность, открытая
путем тонкого психологического анализа. 4. Чувство прекрас-
ного, муза Петрарки. Лаура — образ скорее живописный, чем
поэтический. Очеловечение образа Лауры после ее смерти,
Лаура — плод свободного воображения. 5. Стихи «На жизнь
Лауры» и таинство любви. Неосознанное противоречие между
чувством и разумом, между воображением и мыслью; трагедия
превращается в элегию. 6. Петрарка — в большей мере худож-
ник, чем поэт: эстетический подход к мысли и чувству.
7. Печаль как отражение внутреннего разлада и невозмож-
ности его преодолеть. Средневековье в состоянии брожения:
мистическое в интеллекте и тяга внутренней природы чело-
века к новому миру, в рамках воображения. 8. Элегическое
спокойствие стихов. «На смерть Лауры», примирение сердца
с разумом. 9. Человеку далеко до художника. Диссонанс
между отделанной и гармоничной формой и слабым, противо-
речивым содержанием. Петрарка — великий больной — безот-
четно выражает настроения переходной эпохи.
1 Де Санктис посвятил Петрарке серию лекций своего первого
туринского курса («Teoria e storia», t. I, 136—139, «Purismo illumi-
hismo storicismo», изд. Эйнауди, II; см. о них «La Giovinezza»,
cap. XXVI); они легли в основу концепции, к которой он потом
вновь вернулся и которую развил в цикле лекций, прочитанных
в Цюрихе в 1858 году. Эти лекции были им отредактированы и
изданы отдельной книгой лишь десять лет спустя, под названием
«Критический очерк о Петрарке» («Saggio critico sul Petrarca»,
Могапо, Napoli; 1869, в изд. Эйнауди t. VI. При написании данной
главы «Истории литературы», Де Санктис сформулировал в сжатом
виде, на немногих страницах, мысль, подробно изложенную им
в «Критическом очерке», к которому мы и отсылаем читателя, же-
лающего ознакомиться с более глубоким анализом отдельных вопро-
сов и конкретным разбором произведений поэта. По поводу крч-
309
i. Данте умер в 1321 году. Его «Комедия» заполнила
собою весь век. Современники назвали ее «божествен-
ной», воспринимая чуть ли не как священное писание,
как книгу о загробной жизни или как «книгу о душе».
Некий Тромбетто!, живший в XV веке, упоминает ее
среди святынь и книг о душе, «кои надлежит изучать во
время поста» наряду с «Житиями святых» и «Житием
святого Иеронима». Стихи из «Комедии» распевали даже
в деревне, воспринимая в простоте душевной Дантов
вымысел за действительность. Люди образованные вос-
хищались ученостью, скрытой под покровом фантазии,
хотя некоторым суровым критикам, как, например, Чекко
д'Асколи, эти покровы не нравились2. ФациодельиУбер-
ти в своем «Dittamondo» — «dicta mundi» счел необхо-
димым убрать эти покровы, оставив одну сухую ученость.
Книга воспринималась не просто как явление лите-
ратуры. Восхищались ее изысканной формой, но видели
в ней не только поэзию. Ее считали книгой жизни, кни-
гой истины и вскоре начали ее толковать и комментиро-
вать как библию или как Аристотеля, относясь к ней
с такой же серьезностью, с какой она была задумана.
Несмотря на то что многие детали, политические и
исторические намеки затемнены, произведение Данте в
целом настолько понятно и просто, что его можно охва-
тить одним взглядом. Наука жизни или созидания изло-
жена в главных чертах с предельной ясностью и логикой.
Гармония интеллекта находит живое выражение в архи-
тектонике произведения, логически последовательного,
тических работ о Петрарке, написанных до Де Санктиса, см. преди-
словие к упомянутому изданию «Saggio critico sul Petrarca», а также
E. Bonora в Classici italiani, ed. Binni., cit., vol. I, pp. 95—166.
1 Этот факт приводится в «Storia della lett. italiana», cit. Emi-
liani-Giudici, I, p. 187, прим. 1. См. «Поэму о подвигах графа
Уго Аверниа» Микеланджело Тромбетто, написанную в 1488 году.
Рукопись ее хранится в библиотеке «Лауренциана». На странице 166
автор заключает свое рассуждение словами: «Сии книги — книги
о душе—и читать их надлежит во время поста». Далее следует
список священных книг, среди которых «Житие святых отцов», «Жи-
тие святого Иеронима», Данте Алигьери и другие.
2 См. Emiliani-Giudici, Storia della lett. italiana, I,
p. 234 и прежде всего примечание, в котором приведены знаменитые
стихи «Accrba» (Суровость), направленные против Данте:
Здесь петь нельзя на лягушиный лад,
Здесь петь нельзя, поэту подражая,
Что воспевает мелочи подряд..,
310
полного глубокого значения в своих главных линиях и
тщательно отработанного в мельчайших деталях. Ад,
чистилище и рай четко воспринимаются даже ленивым
воображением. Новая мистическая, спиритуалистическая
мысль, которая вырабатывалась на протяжении долгих
веков, здесь выступает в совершенной, гармоничной фор-
ме и полная жизни. В этом рассудочном и догматиче-
ском мире, полностью соответствовавшем тогдашнему
миропониманию, развертывалась история, таинство души
во всем многообразии, так что в ней отражалась вся
нравственная жизнь в самом серьезном и высоком зна-
чении слова. Семейные узы, живое восприятие природы,
любовь к родине, стремление к порядку, к единству, к
внутреннему миру в противовес беспорядку и распущен-
ности нравов в общественной и личной жизни, нетерпи-
мость и презрение ко всякому проявлению низости и
вульгарности, мужество и гордость, стремление к более
совершенным порядкам, интенсивная духовная жизнь,
проводимая в созерцании, как бы в отрешении от земли,
чувство справедливости и долга, проповедь истины, осу-
ществляемая в конечном счете ради потомков, религиоз-
ная вера в сочетании с большой любовью, глубокая
убежденность в своей правоте, сознание поэтом значимо-
сти своей личности, своего величия, своей миссии — все
это составляет самую благородную, самую возвышенную
сторону человеческой натуры. И даже проступающие
кое-где шероховатости, подчас граничащая с грубостью
угловатость отражают картину еще пока варварской, но
героической молодости нового мира.
Однако известность «Комедии» не выходила за пре-
делы Центральной Италии. Новая литературная школа
еще не давала себя почувствовать в остальных частях
страны, где господствующим языком продолжала оста-
ваться, школьная и церковная латынь. Несмотря на бле-
стящий пример Данте, многие еще не были уверены, что
в стихах можно говорить не только о любви. Этого же
мнения придерживался и Чино да Пистойя — единствен-
ный оставшийся в живых представитель той бессмертной
школы, из которой вышла «Комедия». Но на сцену вы-
ходило уже новое поколение.
Изучение классиков, открытие новых шедевров, бо-
лее упорядоченная общественная жизнь — во всяком
случае в ее внешних проявлениях, — прекращение
311
междоусобиц после победы гвельфов, распространение
культуры — таковы характерные черты нового периода.
Поверхность явлений становится менее шероховатой,
вкус оттачивается, появляются чисто литературные ин-
тересы, культ формы, как таковой. Писатели для выра-
жения своих мыслей берут уже не первую пришедшую
им на ум живую форму, а стремятся к красоте и изя-
ществу стиля. Начитавшись Ливия, Цицерона, Вергилия,
они отворачиваются от «варварской» латыни Данте, с
презрением взирают на те самые трактаты и хроники,
которые вызывали такое восхищение корифеев преды-
дущего поколения, не терпят латыни схоластов и биб-
лии. Обращая больше внимания на форму, нежели на
содержание, они мало задумываются над самим пред-
метом— требуется лишь достичь классического изяще-
ства стиля. Так_в Италии появляются первые пуристы и
знатоки литературы; во главе их — Франческо Петрарка
и Джованни Боккаччо.
2. Особенно ярко черты нового поколения проявились
у Петрарки. В дальних и утомительных поездках он об-
наружил произведения Варрона, хроники Плиния,, вто-
рую декаду Ливия, нашел письма и две речи Цицерона.
Именно ему мы обязаны первым переводом на итальян-
ский язык Гомера и многих сочинений Платона. Он без
устали разыскивал рукописи, их расшифровывал, ком-
ментировал, переписывал; так он переписал всего Те-
ренция1. После близкого знакомства с великими писа-
телями греко-римской античности вся последующая
эпоха, получившая название Средних веков, показалась
ему нескончаемым варварством; даже Данте не внушал
ему особого уважения 2; иностранцев он называл варва-
i По поводу изучения наследия Петрарки см. «II saggio critico
sul Petrarca», изд. Эйнауди, pp. 41 и ел. и книгу Alfred Mezie-
res «Petrarque, etude d'apres de nouveaux documents» (Paris 1867),
которой Де Санктис посвятил большую статью, напечатанную
в «Nuova Antologia» (1868), а затем использованную как введение
к «Критическому очерку о Петрарке». Некоторые данные и утвер-
ждения в духе старых ученых традиций ныне заменены новыми.
2 Согласно традиционному мнению, основанному на знаменитом
письме Петрарки и Боккаччо («Familiares», XXI, 15), в котором,
однако, рядом со словами презрения по адресу тех, кто востор-
гается Данте, «qui omnino quid laudent quid ve improbent ex equo
nesciunt et qua nulla poete presertim gravior iniuria, scripta eius
pronuntiando lacerant atque corrumpunt» содержится полное призна-
ние его величия: «Facile sibi vulgaris eloquentie palmam dem»,
312
рами, а итальянцев — людьми «благородной латинской
крови»1. Он хотел возродить античность, но это пока
было неосуществимо, и причину этого он видел в упадке
нравов.
Звали его Петракко, но он стал называть себя Пет-
раркой и перекрестил всех своих друзей, назвав их
Петрарка*(по рисунку конца XIV в.)
Сократами, Лелиями, а те в свою очередь перекрестили
его, дав ему имя — Цицерон. На склоне лет он писал
послания Цицерону, Сенеке, Квинтилиану, Титу Ливию,
Горацию, Вергилию, Гомеру, с которыми мысленно
1 «Rime», CXXVIII, 74. Сообщаемые Де Санктисом сведения
о Петрарке-гуманисте почерпнуты им главным образом у Фосколо
(Foscolo, «Saggio sopra il carattere del Petrarca» и «Saggio sopra
la poesia del Petrarca», Opere cit., vol. X, pp. 85, 64). В письмах
Петрарки «Сократом» именуется Лудовик из Кемпена, а «Лелио» —
римлянин Лелло ди Пьетро Стефани.
313
общался всю жизнь; а незадолго до смерти написал
письмо потомкам, которых призывал хранить в памяти
его имя.
Так занялась заря Обновления. Италия повернулась
ч средневековью спиной и после многих перипетий
обрела себя и утвердилась как римский и латинский на-
род. Кола да Риенцо возвестил об этом с высоты Капи-
толия. Слова «гвельф», «гибеллин» попали под запрет.
Схоласты уступили место ученым-эрудитам и знатокам
литературы; богословие изъяли из программы общего
обучения — оно стало наукой для клириков; первое ме-
сто среди наук заняла философия; аллегории, видения,
экстазы, легенды, мифы, мистерии отделились от питав-
шего их корня и превратились в чисто литературные,
подражательные произведения; люди, получившие воз-
можность наслаждаться Вергилием и Гомером, осудили
за варварство весь этот богословский мир, мистический
по своей концепции и схоластический, аллегорический по
форме.
Эта новая Италия, вернувшаяся к своим давним тра-
дициям, чувствующая себя римской и латинской и за-
являющая о своем существовании другим народам —
«чужеземцам и варварам», — вдохновляет молодого Пет-
рарку на создание его первой канцоны1.
Нет больше гвельфов и гибеллинов, нет римлян и
флорентийцев: есть Италия, как и прежде сознающая
себя королевой всех стран, есть итальянцы, с гордостью
заявляющие о превосходстве своей расы и вспоминаю-
щие Мария так, будто тот только вчера умер, а его исто-
рию — как свою собственную. Звучит голос юного поэта,
живущего впечатлениями этого классического мира: он
находит в нем своих предков, могущественную и про-
славленную Италию, Италию Мария. Национальная гор-
дость и ненависть к варварам—таков лейтмотив кан-
цоны, дух, пронизывающий ее от начала до конца. В ней
Петрарка уже обнаруживает качества большого худож-
ника.
1 Канцона «Моя Италия» («Italia mia»), 74 строка которой при-
водилась выше. Исходя так же, как и Леопарди, из ошибочной
датировки, Де Санктис считал, что канцона была сочинена в
1327—1328 гг. во время итальянского похода Людовика Баварского.
Комментарии к этой канцоне см. в «Saggio critico sul Petrarca» t. VI
изд. Эйнауди, pp. 158—164.
314
Ясный, блестящий стиль, умелое сочетание красок,
искусство светотени, великолепно отшлифованная гар-
моничная речь, сдержанность в изложении мысли и в
проявлении чувств, мягкая теплота, разлитая всюду,
без нарушения равновесия, спокойствия и изящества
формы — все это делает канцону «Моя Италия» одним
из совершеннейших произведений искусства. У Италии
уже был поэт; теперь у нее появился совершенный ху-
дожник.
Естественно, что в эти годы возрождения античной
Италии латинский язык стал считаться не только язы-
ком ученых, но и национальным языком, а история
Рима представляться итальянцам их собственной исто-
рией. Эти настроения породили «Африку», которая дол-
жна была казаться подлинной «Энеидой», великой на-
циональной эпопеей, — ведь речь в ней шла о победонос-
ной борьбе против Карфагена, открывшей Риму путь
к мировому господству. Эта поэма настолько отвечала
настроениям итальянского общества, что Петрарка был
увенчан лаврами «князя поэтов» и снискал такую славу
и такие почести, каких не знал дотоле ни один человек.
Новый Вергилий, возымев желание соревноваться и
с Цицероном, охотно принимал иностранных послов, что
служило ему поводом для публичных выступлений. Он
писал эклоги, трактаты, диалоги, эпистолы, и все — на
латинском языке. Эти произведения, высоко оцененные
современниками, были вскоре забыты: культура вы-
росла, вкусы стали тоньше, и латынь Петрарки стала
казаться такой же варварской, какой ему самому пред-
ставлялась латынь Данте, Муссато, Ловати и Бонати,
в свое время тоже слывших новоявленными Горациями
и Вергилиями *.
1 По поводу решительного намерения Де Санктиса дать оценку
«Канцоньере» в противовес требованию превозносить Петрарку как
автора латинского языка см. прежде всего написанное о книге
М ё z i ё г е s, в «Saggio critico sul Petrarca», (cit., pp. 16 и ел. и
особенно 17): «Не будь «Канцоньере», Петрарку знали бы лишь
ученые и эрудиты». Это мнение совпадает с точкой зрения анти-
петраркиста Сисмонди: «Латинские сочинения, с помощью которых
Петрарка думал прославиться и которые в двенадцать или в пят-
надцать раз превосходят по объему его сочинения на итальянском
языке, читают сегодня только эрудиты» (S i s m о n d i, «De la lite-
rature du midi de TEurope, Paris 1813, vol. I, p. 421). Бонато (Тира-
боски в своей «Storia», Venezia 1796, vol. V, p. 548 называет его
«Бонатино»), также упоминаемый вместе с Альбертино Муссато и
315
Но латинский язык был так же мало способен возро-
диться, как и латинская Италия. В школьной латыни
еще теплилась жизнь, поскольку писатели поддержи-
вали язык, модернизировали его, прилагали старания
для его сохранения. Но на классической латыни могли
быть созданы только подражательные произведения.
Писатель, исполненный почтения к высокому образцу,
думает не о том, чтобы его ассимилировать и перерабо-
тать, а о том, чтобы как можно больше к нему прибли-
зиться. Все его помыслы сосредоточены на классической
фразе, предстающей перед ним в своем общем виде,
лишенной конкретных деталей, будивших мысль совре-
менников и составлявших главную ценность и внутрен-
нюю суть стиля. Он старается избегать деталей и част-
ностей, увлекается перифразами и описательными обо-
ротами; язык его беден образами, красками, лишен
внутренней динамики. Он пишет не о том, что ему под-
сказывает сердце, не так, как ему хочется, а то, что по-
зволяет данная форма, что соответствует образцу: эти
недостатки легко заметить и в «Африке».
Так возникло сугубо литературное сознание — увле-
чение формой ради формы со всеми ухищрениями и
уловками риторики; в ту пору именно так. понимали
изящество, изысканность и благородство языка; эта
искусственная манера письма, из-за которой даже поли-
тические канцоны Петрарки, например канцона о Кола
да Риенцо, выглядит скорее делом рук умелого литера-
тора, нежели творением поэта, ценилась весьма вы-
соко по крайней мере до тех пор, пока такая искус-
ственность продолжала господствовать в Италии 1.
3. В действительности Петрарка был совсем не тем
римлянином или латинянином, каким ему хотелось ка-
заться: он мог латинизировать свое имя, но не душу.
Ловато де' Ловати в «Критическом очерке о Петрарке» (р. 43),
это — Джамбоно д'Андреа де' Боватини — падуанский юрист и гума-
нист, умерший в изгнании в Венеции в 1315 году.
1 Подробный анализ канцоны («Rime», LIII: «Spirto gentil che
quelle membra reggi») см. в «Saggio critico sul Petrarca», изд. Эй-
науди, pp. 154—158. Точка зрения, вкратце намеченная здесь Де
Санктисом, отражает его непримиримую позицию в отношении ака-
демизма и риторики классических писателей.
Канцона LIII соответствует 29 канцоне русского издания
(Петрарка, «Избранная лирика», Москва, 1955); «Высокий дух,
царящий в этом теле».
316
Ведь латинский писатель всем своим существом — во
внешнем мире, в практических делах и вещах; он пол-
ностью погружен в жизнь, ему как бы некогда загля-
нуть в самого себя, задуматься. Тога Цицерона не под-
ходит Петрарке; даже современники, слушая его, хло-
пали в ладоши и смеялись. Во всей этой цицероновской
*
wear**
j^frjnj^im^ti^ wot гооЭДКтд'
Источник Copra в Воклюзе. Рисунок и автограф Петрарки
декламации они не чувствовали человека. Вернее, чело-
век был, но он больше походил на отшельника и свя-
того, чем на Ливия или Цицерона, был склонен к меч-
там и экстазам, а не к действию. Обладая созерцатель-
ной натурой, склонный к одиночеству, Петрарка видел
во внешней жизни не поле деятельности, а лишь воз-
можность отвлечься: его подлинная жизнь протекала
внутри «я». Отшельник из Воклюза был певцом себя
самого. Данте возвысил Беатриче до Вселенной, стал
ее совестью и глашатаем; Петрарка же сосредоточил
317
всю Вселенную в Лауре, создал из нее и из себя свой
мир. Вот в чем состояла его жизнь, вот что принесло
ему славу.
На первый взгляд — это шаг назад, в действитель-
ности же — это движение вперед. Мир этот гораздо
меньше, он — лишь небольшой фрагмент огромного об-
общения Данте, но фрагмент, превратившийся в нечто
законченное: мир полноценный, конкретный, данный
в развитии, подвергнутый анализу, исследованный
вплоть до сокровенных тайников. Вместо Беатриче, ро-
дившейся из символа, из схоластики, здесь Лаура —
четкий, индивидуализированный женский образ. Лю-
бовь, освобожденная от пут вселенских проблем, здесь
не идея, не символ, а чувство; влюбленный — неутоми-
мый исследователь своего внутреннего мира, ни на ми-
нуту не покидающий сцену, рассказывает нам историю
своей души. И в ходе этого психологического анализа
на горизонте появляется жизнь понятная, естественная
и свободная от всех обволакивавших ее до того тума-
нов. Наконец-то мы освобождаемся от легенд, от симво-
лов, от богословских и схоластических абстракций и
выходим на свет, вступаем в храм человеческого разума.
Между нами и человеком больше нет никаких преград.
Тайна сфинкса раскрыта: человек найден. Правда, тео-
рия остается прежней. Женщина — ступень к создателю,
любовь — начало, движущее Вселенной. Но все это —
второстепенное, условное; сущность же книги состоит
в подробном описании тончайших переживаний челове-
ческого сердца.
Петрарка, выросший в Авиньоне, где царили про-
вансальские традиции и куртуазные нравы, сформиро*
вавшийся уже после того, как Франческо да Барберино
опубликовал свои «Любовные документы» и «Поведе-
ние и нравы женщин»1 — сборник галантных заповедей
и обычаев, — черпал свои знания в том же арсенале,
оперировал той же риторикой, теми же аллегориями,
идеями, приемами и галантными шутками. С особым
1 О сходстве вкусов Да Барберино — автора двух поэм и лири-
ческого поэта Петрарки — см. также Cantu, «Storia», cit., p. 93. «Лю-
бовные документы» («I Documenti d'amore») были написаны в Про-
вансе в 1309—1313 годах; там же была завершена работа над
книгой «Reggimenti e costumi di donna», начатая за несколько лет
до этого во Флоренции»
318
усердием он старается доказать то, Чему никто не ве-
рит, а именно, что любовь его лишена чувственности,
что она — не более, чем' духовная дружба, источник
добродетели. Данте воспринял как бесчестие обвинение
его в том, что он внес слишком много чувственности
в описание своей любви и, чтобы покончить с «подлыми
наветами», превратил Беатриче в философию и стал
писать философские канцоны1. Однако беспрерывные
протесты и заявления Петрарки ни на кого не действо-
вали, потому что именно тело Лауры — не прекрасный
лик мудрости, а тело — тревожит его воображение.
Лаура скромна, целомудренна, мила, украшена всеми
добродетелями, но все эти качества абстрактны, и не
в них заключена ее поэтичность. Волнует влюбленного
и вдохновляет поэта совсем другое: Лаура и ее белоку-
рые волосы, молочная белизна шеи, пылающие щеки,
ясные очи, нежное лицо. Он изображает ее каждый раз
по-новому, в тысяче разных поз и положений: на фоне
прекрасного пейзажа, на зеленой лужайке, под дождем
из цветов, рядом с журчащим ручьем, заставляя при-
роду быть эхом Лауры2.
4. Это ничем не омраченное чувство прекрасных
форм, прекрасной женщины и.прекрасной природы и
есть муза Петрарки. Лаура напоминает нам натуру,
модель, в которую художник влюблен, но не как муж-
чина, а как художник, стремящийся не столько обла-
дать ею, сколько точно изобразить. Сама Лаура — не-
многим больше, чем модель, прекрасный неподвижный
предмет, предназначенный для того, чтобы на него смо-
1 См. «Convivio», I, и 16: «Опасаюсь я подлости тех, кто, читая
упомянутые канцоны, полагает, что страстью я был охвачен, како-
вая подлость после сих слов моих полностью прекратилась, что
доказывает: не страстию, а добродетелью я был движим».
2 О природе, которая вторит Лауре, см. «Saggio critico sul
Petrarca», изд. Эйнауди, р. 89, а по поводу всех дальнейших выска-
зываний — всю главу IV, озаглавленную «Лаура и Петрарка». Эта
тема ясно звучит уже в ранних лекциях Де Санктиса о лирике:
«У Петрарки — противоречие между любовью и добродетелью; лю-
бовь становится идеальной, платонической, чем-то вроде софизма, с
помощью которого он успокаивает свою совесть и надеется прими-
рить любовь с долгом и добродетелью. Но в лирике Петрарки на-
личествует не только эта платоническая абстрактность, но и Лаура,
что делает эту лирику подлинной поэзией» («Teoria e storia», изд.
Эйнауди, I, р. 132; «Purismo illuminismo storicismo», изд. Эй-
науди, II).
319
треть и его рисовать, — скорее объект живописи, чем
поэзия. Она — не конкретная женщина в том или ином
расположении духа, она — Женщина; не лик, не символ,
а женщина, носитель красоты. Индивидуума еще нет:
есть родовая обобщенность. В ее покое и невозмути-
мости еще много от идеала женщины, наделенной боже-
ственными чертами, стоящей над страстями, вне собы-
тий, не затрагиваемой земными невзгодами: опустить ее
на землю и сделать человеческим существом с точки
зрения поэта значило бы осквернить ддеал. Петрарка
называет ее богиней, и она на самом деле — богиня: она
еще не женщина. Она еще возвышается, подобно статуе
на пьедестале, она не смешалась с людской толпой, не
очеловечилась.
Те, кто хочет понять душу этого безгласного, замкну-
того создания, раскрыть его тайну, поступают вопреки
воле поэта: ищут женщину там, где он видел богиню.
На наш взгляд образ Лауры однообразен и даже не-
сколько пресен. Но если мысленно перенестись в ту
давнюю эпоху, эпоху легенд и аллегорий, то окажется,
что Лаура была самым реалистическим созданием, ко-
торое могло породить средневековье.
Лаура очеловечивается после смерти, когда она —
небесное существо. Любовь уже не может быть чув-
ственной: любовь к умершей женщине, живущей на
небе, может свободно изливаться из души поэта. Он
больше не воспевает ее золотые кудри, розовые паль-
цы и красивую ножку, о прикосновении которой так
мечтают зеленая травка и разноцветные цветы !.
И тем не менее эта не описываемая конкретно Лау-
ра прекраснее и главное живее, она «менее высоко-
мерна»; она гораздо менее богиня, больше женщина,
когда является к возлюбленному, садится на край его
постели и осушает его слезы своей столь желанной
рукой2. Возносясь в сопровождении ангелов на небо,
1 Имеется в виду ряд мест из «Rime»: XC «Erano i capei d'oro
a l'aura sparsi»; CCXLIII, 7—8: «va or contando ove da quel bel
piede/aegnata ё ГегЬа e da quest'occhi ё molle»; CXCII, 9—11; «L'er-
betta verde e i fior di color mille sparsi sotto quell'elce antiqua e
negra pregan pur che '1 bel pie li prema о tocchi».
2 См. сонет «Levommi il mio penser in parte ov'era», «Rime»,
CCCII, анализируемый в «Saggio critico sul Petrarca», изд. Эйнауди,
pp. 223—226. О поэтической правдивости образа Лауры в стихах на
320
она оборачивается, как бы ожидая кого-то, а пребывай
в высшем блаженстве, тоскует о прекрасном теле и
о возлюбленном и вступает с ним в нежную беседу.
Таким образом, тайна Лауры разрешается на том
свете, так же как и в «Комедии», все противоречия кон-
чаются. Освободившись от условий реальности, пребы-
вая вне плоти, превратившись в плод свободного вооб-
ражения, Лаура обретает ясность, характер, перестает
быть святой и становится женщиной. Молчаливые, рас-
плывчатые создания при жизни, Беатриче и Лаура на-
чинают жить после смерти 1.
5. Разрешается также и тайна самого Петрарки.
Пока Лаура была жива, его раздирало противоречие
между чувством и разумом, между плотью и духом. Хотя
эта основная идея средневековья у Петрарки очищена
от символики и схоластики, она тем не. менее остается
его религиозным и философским кредо. Теоретическим
выходом из противоречия считалась платоническая или
духовная дружба, родство душ, лишенное всех низмен-
ных желаний; но из такой абстракции могла получиться
лишь доктринерская, бледная, бескровная лирика, в ко-
торой не было ни влюбленного, ни любимой, ни любви.
В жизни Петрарки случались довольно спокойные, про-
заические периоды, когда он мог предаваться этой за-
баве. Тогда он подражал манере трубадуров со всеми ее
недостатками, скрашивая их изысканным изяществом
формы. В этих стихах много условного, манерного; в них
мы находим все правила и тонкости любовного кодекса
и прежде всего благодаря острому уму Петрарки —от-
четливую мысль. Он описывает себя не в момент полу-
чения впечатления, а после, когда впечатление произ-
ведено: он анализирует это впечатление со стороны и
истолковывает его как критик или философ. Мы —вне
непосредственного впечатления, впечатление обобщено,
ее смерть, см. ibid., pp. 206 и ел. Аналогичные мысли высказывает
Кине, op. cit., I, p. 151: «После смерти Лауры в 1348 году наступает,
как мне кажется, третий период его творчества. Воображение
поэта, блуждавшее в пустоте хитроумных рассуждений, вдруг
вышло на путь правды. Поэт следует за Лаурой на христианское
небо, о котором он совсем забыл, и видит, что она не столь не-
возмутима, как Беатриче Данте, а, напротив, полна жизни, гораздо
больше, чем то было на земле».
10 любви, «проявляющейся через смерть», см. также гл. III.
21 Де Санктис
321
объяснено, так же как в большинстве стихов из Цикла
«На жизнь Лауры». Здесь в изобилии антитезы, калам-
буры, ухищрения, рассуждения, облаченные в претенци-
озную и кокетливую форму. Все ясно, все объяснено на
основе учения Платона и кодекса любви. Перед нами —
обычные для того времени стихи о прекрасной даме, о
любви, облаченной в пышные одежды. Чувствуется рука
замечательного мастера, большой культуры, дарование
красочное, острое и изящное, но это еще не поэт и не
художник. Однако когда он получил впечатление, когда
он охвачен беспокойством и волнением, окружен виде-
ниями, выявляется его личность, перед нами предстает
поэт и художник. То, что он чувствует, вступает в проти-
воречие с тем, что он думает. Он думает, что плоть гре-
ховна, что его любовь платоническая, что Лаура указы-
вает ему путь на небеса1, что тело — не более чем обо-
лочка духа. Если бы Петрарка удовольствовался таким
кредо, то мы бы имели еще одного Данте и еще одну
Беатриче. Но ему такого кредо мало: классическое об-
разование и инстинкт художника восстают против аб-
страктности этого сверхспиритуализма, в нем пробу-
ждается новый дух, чувство реального и конкретного,
столь сильно развитое у художников языческой куль-
туры.
Петрарка не удовлетворен как художник и как че-
ловек: его томит тревога, он не совсем уверен' в том, во
что он верит и во что хочет заставить верить других;
страсть не дает ему покоя, он тоскует по женской люб-
ви. И тогда возникает противоречие или «таинство». Лю-
бовь Петрарки не столь сильна, чтобы он восстал про-
тив своих убеждений, но и вера его не столь глубока,
чтобы лишить чувственности любовь. Отсюда постоян-
ный разлад, «да» и «нет», «хочу» и «не хочу»:
Чего хочу, не разумею сам 2.
Отсюда — таинство любви, выступающей в самых раз-
ных аспектах. Поэту никак не удается составить о ней
ясное представление.
1 См. «Rime», LXXII, канцону, упоминаемую также ниже: «Gen-
til mia donna, i'veggio», 3: «che mi mostra la via ch'al ciel conduce».
2 «Rime», CXXXII, 13. Несколько ниже приводятся строки 1—2
того же сонета. Де Санктис, работая над стихами Петрарки, поль-
зовался, безусловно, изданием с примечаниями Леопарди (Lemon-
nier, Firenze 1845), по которому и произведена сверка цитат.
322
Коль скоро это не любовь, то что же?
А если и любовь, то в чем она?
Петрарка не в силах разрешить это противоречие, и
чем больше он мечется, тем больше запутывается в нем.
Стихи «На жизнь Лауры» —-это история его душевного
разлада.
То ему кажется, что противоречия нет, и он на неко-
торое время примиряет небо с землей, разум с чувством,
глаза, «указующие путь к небесам», нежностью трепет-
ного взгляда, в котором —
Возлюбленных последняя отрада 1.
Так бывало в минуты душевного равновесия и при-
лива сил, когда движимый в большей мере поэтическим
вдохновением, чем любовью, он создает яркие описа-
ния прекрасного тела, создает три канцоны-сестры2.
То он, охваченный беспокойством, позволяет потоку
впечатлений и образов увлечь себя; видя добро, хва-
тается за зло3, как говорится в финале канцоны:
Задумавшись, иду и сам себя...
где описывается внутренняя борьба между разумом и
чувством — между разумом, взывающим к благоразу-
мию, и страстью, что терзает. Разум иной раз берет верх,
и поэт обращается к богу, кается, исполненный намере-
ния выкорчевать из своего сердца обманчивую негу,
Которую предатель-мир дает.
(CCLXIV, 29)
Таким образом, «Канцоньере» не представляет собой
чего-то цельного, слитного, постепенного перехода от од-
ного к другому.
В нем постоянно бродят самые разные впечатления в
зависимости от обстоятельств и настроений, складывав-
1 См. ст. 72—75 канцоны «Gentil mia donna»:
Моим слезам конец...
Положит нежность преданного взгляда —
Возлюбленных последняя отрада.
2 Канцоны о глазах «Perche la vita ё breve» (LXXI), «Gentil
mia donna» cit., «Poi che per mio destino» (LXXIII).
Подробный разбор их см. в «Saggio critico sul Petrarca», ed.
cit, pp. 139—153.
* Подробный разбор канцоны см. в «Saggio critico sul Petrarca»,
ed. cit., pp. 122—130, а также следующую главу о Боккаччо, стр. 343.
21* 323
шихся в тот или иной период жизни. Слитного рассказа
не получилось, потому что поэт не отличается сильной
волей и не имеет перед собой ясной цели: его влечет то
туда, то сюда, он полностью во власти минутных впе-
чатлений. Это приводит к неуравновешенности, к дис-
гармонии, к внутреннему разладу.
Впервые появившуюся в искусстве реальность про-
клинают, именуя «обманчиво-сладостным беглецом», и
все-таки ее желают, хотя желание смутно ограничено
рамками воображения; ему вяло противятся, вяло усту-
пают. Чем слабее надежда, тем сильнее желание, кото-
рое, не имея доступа к реальности, находит себе почву
в воображении. Так рождается жизнь, состоящая из
грез, экстазов, мечтаний, из всего того, к чему стремится
душа, не питаемая надеждой достичь желаемого, а, на-
против, сознающая всю его тщету.
Поэт мечтает, он знает, что это — лишь мечты, и ему
нравится мечтать
И верить больше в торжество добра.
(CXXV, 76)
Ибо для того, чтобы обрести большую определен-
ность, надо приостановить поток фантазии, а тогда на-
ступит отрезвление. Так и живет он в мечтах, теша себя
вымыслами, часто прерываемыми рефлексией и вздоха-
ми— «О горе мне!» — в бесконечном потоке иллюзий и
разочарований. Внутренний разлад именно в том и со-
стоит, что воображение строит воздушные замки, а реф-
лексия их разрушает — род духовного недуга. Дух зане-
мог оттого, что он слишком долго чуждался природы и
чувства, в результате чего воображение восстало про-
тив него; воображение же недужно оттого, что против
него восстает рассудочность, рефлексия, которая в мгно-
вение ока рассеивает все построенные им воздушные
замки.
Дух так и остается чистой рефлексией или абстракт-,
ным разумом, он не в силах подчинить себе волю вслед-
ствие противодействия, оказываемого ему воображе-
нием. Воображение же так и остается воображением,
ибо оно не способно воздействовать на волю; оно ничего
не предпринимает для того, чтобы реализовать сладо-
стные мечты из-за противодействия, оказываемого реф-
лексией.
324
Если бы одна из этих двух сил могла подчинить
себе другую, установилось бы равновесие и душевное
здоровье; но они все время борются, хотя и безре-
зультатно: решительного «я хочу!» мы так и не слышим;
в душе поэта все время идет спор между «да» и «нет».
Вот почему жизнь не дает никаких внешних результа-
тов, не выражается в действии, сосредоточивается в
мыслях и образах, все протекает внутри:
И мысли вечно заняты мои
Владычицею нашею — Любовью.
(«Стихи», СХП, 13—14)
Дух иссушает себя в бесполезных мечтаниях и бес-
полезной рефлексии. Он наказан за свои же грехи. Он
хотел впитать в себя все, но остался в одиночестве, слов-
но коршун, пожирающий сам себя. А когда пришла
усталость и погас огонь желаний, когда жизнь, в кото-
рой он чувствует себя чужим, стала для него несносной,
поэт отворачивается от мира и удаляется в Воклюз, где
остается один с самим собой, наедине со своими раз-
думьями и мечтами и со своим ненасытным «коршуном»:
Не торопясь, пустынными полями
В задумчивости я один бреду.
(XXXV, 1—2)
Это настроение породило две самые глубокие канцо-
ны Средних веков: одна из них мало известаа, другая
очень популярна, но обе мало изучены. Одна начинается
словами:
От мысли к мысли, от горы — к другой,
другая: f
Прозрачные и сладостные воды 1.
Если бы Петрарка отдавал себе ясный и полный от-
чет в своей недуге, в этой бесполезной и бесцельной
внутренней борьбе, медленно, но неумолимо иссушавшей
его дух, неспособный вырваться из собственного плена и
приобщиться к реальной действительности, то получи-
лась бы трагедия души (подобно тому, как у Данте по-
лучилась ее комедия)—трагедия, в которой средневе-
ковье увидело бы свое бессилие и прочло бы свой при-
говор; в муках противоречий мы увидели бы гибель
1 Канцоны CXXIX и CXXVI. Об этих канцонах см. подробнее
в «Saggio critico sul Petrarca», cit., pp. 172—189.
325
мистицизма и раскрепощение реальности, мы были бы
свидетелями того, как чувство и человеческое тело, ве-
ками пребывавшее под запретом и почитавшееся гре-
ховным, вновь заняло подобающее место в жизни. Но
борьба, происходящая в Петрарке, лишена силы. Ему
не хватает стойкости, которой в избытке обладал Данте,
которая помогла Данте возвыситься до идеала, слиться
со Вселенной. Замкнувшись в себе, в своем внутреннем
мире, Петрарка не находит сил для сопротивления, по-
этому трагедия выливается в печальную элегию.
Петрарка склонен к излияниям, он легко источает
слезы и жалобы. Ум его скорее острый, чем глубокий;
он не исследует причин своего недуга, а довольствуется
описанием его проявлений, которые сводит к выпуклым
образам и вошедшим в поговорку изречениям.
Нежный и впечатлительный, более склонный к эмо-
циям, чем к сильным страстям, он недолго предается
своему горю; вскоре наступает облегчение: он разра-
жается слезами и жалобами. Будучи в большей мере
художником, нежели поэтом, Петрарка без труда нахо-
дит утешение— стоит лишь воображению найти для него
какое-нибудь подобие реальности, отсутствие которой
он так чувствует:
И мой повсюду взор ее находит, —
Пусть заблужденье это не проходит.
(CXXIX, 38-39)
Для такого поэта, как Данте, семья, родина, приро-
да, любовь были реальными вещами, заполнявшими
жизнь и составлявшими цель существования. Для Пет-
рарки же это прежде всего — материал для изображе-
ния: для него образ равен самому предмету. Но посколь-
ку он понимает, что образ есть все-таки не более, чем
образ, а не сам предмет, то полного удовлетворения он
не получает; где-то в глубине души его гнетет сознание
собственного бессилия; он как бы говорит: «Не имея до-
ступа к самой реальности, я довольствуюсь ее подобием».
Отсюда и элегическое «сладко-горькое» чувство пе-
чали,— чувство, присущее всем людям с нежной душой;
которые не выдерживают долгих страданий, не ре-
шаются взглянуть в лицо своему недугу, окружают себя
приятными видениями и живут сладкими иллюзиями.
Петрарка не обладает высоким сознанием причины
своей муки; чувства его лишены глубины. Более того,
326
бн стремится скрыть ее от себя, стараясь забыться в
объятиях спасительного воображения. Эти настроения
хорошо отражает канцона:
Прозрачные и сладостные воды.
(«Стихи», CXXVI, I)
Небо, поначалу хмурое и мрачное, с помощью игры
воображения постепенно светлеет, светлеет и наконец
озаряется райским светом:
Она, конечно, родилась в раю.
(CXXVI, 55)
Поэта так сильно влечет к себе этот мир, созданный
его фантазией, что, очнувшись, он вопрошает:
Как я попал сюда? Когда?
(CXXVI, Б2)
И столь глубоко погружается он в забвение, в грезы,
так сильно они походят на реальность, что ему кажется,
будто он на небе, а не там, где он есть. Эта сладкая пе-
чаль составляет то истинное, что есть в его вдохнове-'
нии, она — его гений. Когда он пытается от нее уйти, то
впадает в риторику: в его гневных тирадах и восторжен-
ности звучит преувеличение, излишняя изысканность —
свидетельство надуманности. Но когда он увлекается, то
стих его сочетает в себе правду и величие и являет со-
бой образец простоты и естественности.
6. Дело в том, что природа, не наделив его великой
целеустремленностью, страстностью и глубиной Данте,
сделала его законченным художником. В создании об-
раза он находит удовлетворение не только как худож-
ник, но и как человек. Он живет без родины, без семьи,
вне общественных интересов, отдавшись литературным
занятиям, один в тиши своего кабинета, в тесном обще-
нии с античными мудрецами; весь смысл существования
заключается для него в эстетических проявлениях, по-
добно тому как жизнь святого состоит в экстазах и со-
зерцании. Данте был изгнан из Флоренции, но душа
его всегда оставалась с ней. Петрарке же приходится
доказывать свое итальянское происхождение:
Где, как не здесь, учился я ходить?
(CXXVIII, 81)
327
Данте не нужна пышная риторика. Он чувствует
себя итальянцем, его волнуют те же страсти, что и его
соотечественников, их трепет и волнение звучат в его
поэзии. Если же присмотреться к замкнутому внутрен-
нему миру Петрарки, то поражает его отрыв от реаль-
ности; его слабые попытки приобщиться к реальной
жизни не выходят за рамки сладких грез воображения.
Все сводится к воображению, все представляется ему
лишь объектом ощущений: мысль и чувство для него —
предмет эстетического созерцания, прекрасная форма К
Петрарку привлекает больше всего не торжество ра-
зума, не нравственное или патриотическое чувство, а со-
зерцание как таковое, созерцание прекрасного, чисто
эстетическая сторона.
Лаура плачет, а он говорит: «Как прекрасны эти
слезы!» Лаура умирает, а он говорит:
В ее чертах прекрасной Смерть казалась
(Trionfo della Morte, I, 172),
Он фантазирует на тему своей смерти. И вот Лау-
ра молится на его могиле,
И впитывает слезы легкий саван...
(CXXVI, 39)
1 Де Санктис сопоставлял Данте с Петраркой уже в своих ран-
них лекциях. См. «Teoria e storia», cit., I, pp. 138—139 и «Purismo
illuminismo storicismo», изд. Эйнауди, II: «Фосколо приписывает
глубокое различие между Петраркой и Данте разнице эпох, тем
пятидесяти годам, которые их отделяют друг от друга; по его мне-
нию, один исторический период породил мужественную, сильную
поэзию Данте, другой — мягкую, изящную поэзию Петрарки. Но
прихода нового короля или папы недостаточно для изменения
эпохи; глубокое различие, существующее между Петраркой и Данте,
объясняется не тем, что прошло определенное время, а тем, что
Петрарка жил в совершенно иной обстановке. Более того, оба
поэта придерживались одинаковой концепции любви, значит эпоха,
по всей вероятности, не претерпела особых изменений; оба они
столь же далеки от абстрактности, сколь от чувственной любви;
и для того и для другого женщина есть путь к добродетели и
к богу. Но у Данте больше непосредственности, у Петрарки —
больше рефлексии. Данте в большей мере поэт, а Петрарка — бо-
лее совершенный художник. Поэзия Данте проникнута силой, лю-
бовью, язык ее подчас неправилен, груб; поэзия Петрарки одухотво"-
ренная, ровная, безукоризненно правильная; у одного — гармония,
у другого — мелодия». Подробнее о «петрарковских обстоятель-
ствах» говорится в трех центральных глаьах «Saggio critico sul
Petrarca», cit., pp. 117—189.
m
Для Данте красота — это символическая видимость,
прекрасный лик мудрости: за ней — жизнь во всей ее
сложности, жизнь умственная и нравственная. Здесь же
красота уже не символ, она — сама по себе, она суще-
ственна, свободна, независима, каким бы ни было со-
держание— нейтральным, фривольным или отвратитель-
ным. Содержание красоты, некогда столь абстрактное
и ученое, вернее даже схоластическое, здесь впервые
выступает в своем чистом виде, как художественная
реальность.
Петрарка не довольствуется тем, что создаваемый
им образ живой, как довольствовался Данте; он хочет,
чтобы образ был прекрасным. При создании образа им
движет не идея, связанная с историей, философией или
этикой, а эстетическое наслаждение, испытываемое им
в процессе созерцания.
Это чувство прекрасной формы настолько присуще
его натуре, что оно пронизывает от начала до конца
все его творчество — стиль, язык, стих. Данте, даже от-
делывая тончайшие детали, всегда помнит о содержа-
нии, никогда не упускает его из виду, ибо оно волнует
его прежде всего; Петрарка же охотно задерживается
на внешней стороне и не успокаивается до тех пор, пока
не добьется технического совершенства. Создавая свои
образы, сравнения, идеи, он не стремится к новизне и
оригинальности, а, напротив, охотно черпает их у клас-
сиков и у трубадуров, помышляя не о том, чтобы искать
или находить, а о том, чтобы лучше выразить уже ска-
занное другими. Цель его поэзии — не предмет, а об-
раз, способ его подачи. Вот почему он достиг такой тон-
кости выразительных средств, при которой итальянский
язык, стиль, стих, до него находившиеся в стадии не-
прерывного совершенствования и формирования, обрели
устойчивую, окончательную форму, служившую образ-
цом для последующих столетий. Язык итальянской поэ-
зии поныне остается таким, каким его оставил нам Пет-
рарка; нцкому не удалось превзойти его в искусстве
стихосложения и в стиле. Славный (illustre) язык, о
котором так мечтал Данте для прозы, Петрарка создал
в поэзии, полностью устранив все то грубое, негармо-
ничное, вульгарное, гротескное, угловатое, что еще про-
являет себя в «Комедии». Форма его прекрасна не
только с точки зрения ее соответствия идее, но и сама
329
по себе; она благородна, аристократична, изящна, мело-
дична. Роль слова состоит не только в его значении, но
и в нем самом. В стихе, оказывается, важна не только
гармония или соответствие внутреннему содержанию, но
и мелодия, музыкальность как таковая.
Ъ Однако эта прекрасная форма достигается не за
счет чисто технической, механической сноровки, не сво-
дится к пустой звучности, а, напротив, порождается
страстным, увлеченным воображением, каковое является
самоцелью. Это воображение сосредоточено на самом
себе, оно нетрансцендентно; лишь изредка оно подни-
мается до фантазии или до чувства, а чаще избегает
призраков и стремится к созданию законченных, четко
очерченных, ясных и точных образов. Если бы оно этим
довольствовалось, то перед нами была бы языческая и
пластическая поэзия. Но великий художник даже в ми-
нуты самых гениальных взлетов своего творчества чув-
ствует какую-то пустоту, ему чего-то не хватает, он не
удовлетворен и посему печален. Чего же ему недостает?
Ему недостает, как уже было сказано, реальной
жизни, обладания, наслаждения ею, ее осмысленности,
серьезности, ее силы. Как художник он чувствует себя
неполноценным; живя лишь воображением, он чувствует
себя изолированным от мира; правда, жить воображе-
нием ему нравится, однако он понимает, что воображе-
ние не равноценно жизни: оно служит ему отдушиной,
но не дает полного удовлетворения. Это ощущение пу-
стоты, охватывающее поэта в самый разгар игры вооб-
ражения и внезапно отрезвляющее его, это воображе-
ние, которое, сознавая себя не реальностью, а лишь
воображением, рисует людей со слезами желания на
глазах, это неистребимое желание, рождаемое самим
искусством и подтверждающее, что искусство есть лишь
тень, лишь видимость, а не жизнь, — такова оригиналь-
ная и новая основа всей поэзии Петрарки.
Создаваемый поэтом образ печален с момента своего
зарождения, ибо он появляется с сознанием того, что он
лишь образ предмета, а не сам предмет; гнетущее со-
знание смягчается лишь тем, что этот образ неизмеримо
прекрасен и привлекателен. Создается ситуация, испол-
ненная таинственности, противоречий, света и теней,
рождающая это «сладко-горькое» нечто, зовущееся пе-
чалью, вместе с ощущением угасания и сладкой тоски,
330
\
Что сладостно всего меня снедает.
(LXXII, 39).
Печаль — муза христианства; она томила Данте и
всех лучших людей его эпохи. Но печаль, которую ис-
пытывал Петрарка и все группировавшиеся вокруг него
люди нового поколения, была совсем иного рода: она
была знамением нового времени.
Печаль Данте коренилась в самом духе средневе-
ковья, которое усматривало цель жизни в потусторон-
нем, в соединении человеческого начала с божествен-
ным (тот же принцип лежит и в основе «Божественной
комедии»). Души чистилища охвачены печалью, ибо
вздыхают о благе, которое могут узреть лишь в виде
картин, символов, экстатических видений. Такие радости,
получаемые только благодаря силе воображения, еще
более обостряют желание. Образа' им мало, они хотят
самой реальности, и это желание, лишь смягчаемое при-
сутствием изображения,.рождает печаль. Души лишены
рая, но они рисуют его в своем воображении и надеются
рано или поздно туда подняться, «выше взвиться» — вот
почему они, палимые пламенем, все-таки довольны1. По-
ложение очищающихся душ весьма напоминает положе-
ние людей, живущих на земле: их точит тот же червь.
Телесная жизнь — лишь оболочка, видимость того поту-
стороннего, о чем так ясно говорили, взывая к уму и
к воображению, религия и наука; а посему телесная
жизнь, плоть считалась грехом, адом, сосудом или тем-
ницей души, в которой она томится; день смерти для
нее есть начало жизни и освобождения. Душа стремится
не погружаться в реальность, впитывать ее в себя, а от-
делиться от нее, жить духовной жизнью или воображе-
нием, рисуя себе подобие того потустороннего мира, в
который она стремится попасть. Отсюда тенденция к
аскетизму, одиночеству, экстазу, мистике. Именно та^
-кую печаль испытывала святая Екатерина, когда гово-
рила: «Умираю, а умереть не могу»2.
1 См. «Ад», I, 118—120:
«Потом увидишь тех, кто чужд скорбям
Среди огня, в надежде приобщиться
Когда-нибудь к блаженным племенам».
Выражение «выше взвиться» взято из следующей терцины: «Но
если выше ты захочешь взвиться»!
2 О печали. Екатерины см. в главе VI.
331
Та же тенденция и та же печаль свойственны Пет-
рарке. Он тоже старается создавать тени, подобие Лау-
ры, он тоже ищет забвения и покоя в грезах воображе-
ния. Когда святая и поэт встретились в Авиньоне, они
должны были почувствовать свое духовное родство.
У поэта была такая же тяга к одиночеству, такая же
склонность к созерцанию, к сосредоточенности, к экста-
зу, к грусти. Внешне у обоих были одни и те же веро-
вания и стремления. Слова Екатерины «умираю, а уме-
реть не могу» перекликаются с криком, вырвавшимся
из груди поэта:
Темница, где я заточен, откройся
И к жизни той пути не преграждай!
(LXXII, 20—21)
Но здесь есть привкус риторики, а в словах Екате-
рины живет обнаженное, сильное чувство, наполняющее
всю ее душу: недаром Екатерина сгорела в тридцать
три года. Такая концентрация всех душевных сил на
чем-то одном — а ведь именно это и есть серьезный
подход к жизни — недоступны Петрарке. Однако все же
его мир — это мир Екатерины и Данте, только очищен-
ный от схоластической, символической шелухи, обрет-
ший более ясную и художественную форму. Правда,
этот мистический мир им владеет не целиком; он не-
пререкаемо верховодит его интеллектом, но не всеми
жизненными силами. В поэте наблюдается какое-то
распыление и рассеивание сил, словно его увлекают за
собой самые противоречивые течения; Петрарка хотел
бы избрать один путь, но у него недостает сил, и он
плывет по воле волн, противясь им, недовольный собой.
Замечательная цельность натуры Данте, который по-
нимал жизнь как гармонию разума и действия, осуще-
ствляемую через любовь, здесь нарушена. Вместо нее —
внутренний разлад, бунт, противоречие:
И к худшему от лучшего бегу....
(GCLXIV, 136)
Печаль Екатерины есть не что иное, как нетерпели-
вое желание умереть, соединиться с Христом; печаль .
Данте — это противоречие между божественным миром
и темным лесом — земной жизнью, но эта печаль пре-
исполнена силы, надежды и выливается в действие.
Печаль Петрарки идет от сознания внутреннего раз-
332
лада, от неспособности побороть его; она неизлечима, ибо
недуг гнездится не в разуме, а в воле, которая не склон-
на к борьбе, так как слаба и противоречива. Дабы сгла-
дить противоречие, поэт прибегает к софистике и рито-
рике, пуская в ход свои самые блестящие приемы, са-
мую тонкую аргументацию, но то лишь временные пере-
дышки, после которых еще горше сознание недуга.
Дело в том, что в его душе средневековые настрое-
ния пришли в состояние «брожения», а к ним без ведо-
ма поэта примешались новые элементы: рядом с хри-
стианином-аскетом появился эрудит, писатель, худож-
ник, впитавший в себя языческую культуру, мирянин
со всеми инстинктами и тенденциями, настойчиво дик-
туемыми природой. И, как то случается в переходную
эпоху, он превратился в существо, раздираемое проти-
воречиями,— еще не стал новым человеком, но уже пе-
рестал быть человеком прошлого.
Следовательно, печаль, гнетущая Петрарку, это уже
не печаль средневековья — созревшей, переходной эпо-
хи, осуждающей дух на земле за то, что он связан с те-
лом,— а тоска по новому миру, который незаметно для
человеческого сознания уже зреет в лоне средневековья,
но чувствует себя в нем несвободно, стремится вы-
рваться из его тисков, хотя еще не в силах сделать
этого из-за сопротивления разума. Ведь разум еще во
власти средневековья: он лишь снял со средневековых
доктрин их грубую оболочку, не изменив существа.
Новый, пластичный, языческий мир, возникший как
реакция природы против мистицизма, еще так слаб, так
неопределенен, что разум может его осуждать, прокли-
нать или же софистически делать вид, будто он его при-
нимает; когда же изгнанный из реальной жизни новый
мир появляется в воображении, то разум способен про-
никнуть и туда, чтобы заявить: «Ты — лишь призрак!»
Если при* жизни Лауры это нарождающееся новое
чувство более близкое человеку и природе, усиленно
скрывается с помощью самых хитроумных софизмов,
как если бы это был грех, который надо таить от лю-
дей, то после смерти Лауры оно проявляется более энер-
гично, в очищенном и преображенном виде. Беатриче
после смерти становится для Данте олицетворением нау-
ки, голосом потустороннего мира, к которому обращены
все помыслы людей при жизни. История Беатриче — это
333
История развития идей и доктрин в лирике и в «Коме-
дии». Смех ее —свет разума, луч интеллекта. История
Лауры, напротив, глубоко человечна и реальна, она —
отголосок самых тонких и нежных чувств, самых живых
впечатлений, испытываемых человеком на земле.
8. В стихах цикла «На жизнь Лауры» доминирует
интеллект, софистская и риторическая рассудочность,
рефлексия, которая искажает чистоту чувств, усложняет
образы, снижает силу впечатления, а своими тщетными
попытками добиться примирения еще более подчерки-
вает борьбу «да» и «нет», происходящую в душе слабо-
вольного поэта. В стихах цикла «На смерть Лауры»
борьбы нет; исчезли без следа софизмы и риторика, ибо
примирение, которого так упорно добивались и кото-
рое так и не было достигнуто, произошло само собой,
в силу естественной природы вещей.
После смерти Лаура становится созданием вообра-
жения; она перестает быть самостоятельной личностью,
противящейся чужой воле, становясь податливым виде-
нием. Поэт делает ее своим творением; он может заста-
вить ее испытывать те чувства и те мысли, какие ему
по душе; он может ее. оплакивать, может на нее смот-
реть, может заставить ее говорить с собой, принудить
к духовному общению. Ситуация проста и человечески
понятна. Любимая женщина, которой нет больше на
земле, является тебе во сне, осушает твои слезы, берет
тебя за руку, беседует с тобой; грустное утешение омра-
чает лишь слеза, пролитая при пробуждении. Данте
осушает ее тотчас же, чтобы ринуться в бурные волны
жизни; он создает себе новый идеал и дает ему имя
Беатриче. Ему некогда плакать, потому что в груди
его — два века и он обладает силой, достаточной для
того, чтобы понять их и реализовать.
Петрарка подходит к этой черте уже усталым и ра-
зочарованным, с душой отшельника, пустынника, и ему
лишь хватает сил плакать:
И я из тех, кому на пользу слезы.
(XXXVII, 69)L
Он оплакивает конец иллюзий, тщету земного суще-
ствования, гибель всего:
Воистину мы только прах и тень.
(CCXCIV, 12)
334
Так, после крушения несбыточных надежд, после на-
прасных страхов, эта нежная, впечатлительная душа
отказывается от борьбы, сникает, отдаляется от мира,
в который безуспешно пыталась проникнуть, и замы-
кается со своей Лаурой в одиночестве своего воображе-
ния, ища отклика на свои жалобы у соловья, у порхаю-
щей птички, у долин и лесов, у зари и волны 1.
Внутренний разлад уступает место элегическому спо-
койствию: утомленное сердце примиряется с разумом.
Прошлое, с его радостями и терзаниями, похоже на сон;
жизнь кажется ему пресной, бессмысленной; жить —
значит видеть мимолетный сон; умереть — значит про-
снуться в окружении избранных душ; когда глаза на-
всегда закрываются, лишь тогда они открыты для веч-
ного света2... Христианский мир, которому Петрарка
разумом никогда не противился, проникает теперь в его
сердце, представляется ему новым миром, который он
описывает словами, полными радостного изумления:
Изменчив мир! Всему, что бесконечно
Меня смущало, я сегодня рад.
Страдания душе покой сулят,
И краткие боренья — отдых вечный.
(ССХС, 1-4)
Вот как описывает поэт свое новое состояние в гим-
не Пречистой Деве:
С младенческих времен, с тех самых пор,
Как я бродил над берегами Арно,
Вся жизнь моя была полна невзгод.
Заполонила душу в свой черед
Мне нрасота земная.
О Дева Пресвятая,
Быть Может, это мой последний год,
И дни моих грехов и злоключений,
Что молнии подстать,
Умчались вспять, и Смерть сулит забвенье.
(CCCLXVI, 82—91)
Этот человек, окидывающий прошлое взглядом, пол-
ным разочарования, называющий свою жизнь убоже-
1 См. «Rime», CCCXI: «Quel rosigniuol che si soave piagne»;
CCCLIII, «Vago augelletto che cantando vai», CCCIII, «Amor, che
meco al buon tempo ti stavi».
2 Ibid., CCLXXIX, 13-14.
335
ством и грехом, видя, что прожитые годы промелькнули,
не оставив никакого следа, дает обещание создать еще
один «Канцоньере», на сей раз — в честь Девы Марии,
но слишком поздно. «Уже не смогу, устал!» — сетует он.
В «Триумфах» он пытается расширить свой гори-
зонт, выйти за пределы своего «я» и обозреть все чело-
вечество, но если и есть в этих стихах что-либо пред-
ставляющее интерес, так это связанное с его прошлым
и прежде всего сон Лауры, которому так много подра-
жали впоследствии К
9. Всякий, кто прочтет «Канцоньере», почувствует,
что он заключает в себе абстрактный, риторический, не
лишенный софистики мир; этот мир создан еще труба-
дурами, но в нем появляются более человеческие, реаль-
ные чувства, более ясные, выпуклые формы, значит этот
мистико-схоластический, внечеловеческий мир, воспри-
нимаемый разумом, уже отвергается сердцем и осу-
ждается воображением. С точки зрения формы этот мир
утратил свою символичность и ученость, которые ста-
вили его вне жизни и вне искусства, — очеловечился,
обрел образ и чувство. Готический собор превратился
в прелестный греческий храм с изысканным орнамен-
том — изящный, освещенный ровным светом, предельно
симметричный, вдохновленный Венерой — богиней кра*
соты и грации. Гротеск, готика, углы, шпили, тени, рас-
плывчатость, диссонансы, многословие, все лишнее,
вульгарное, бесформенное изгнаны из этого храма гар-
монии, чуда искусства, замыкающего одну эпоху и воз-
вещающего о наступлении другой.
Художник наслаждается, но человек недоволен, по-
тому что под прекрасной, отточенной, чистой формой
бьется бедное человеческое сердце, питаемое желания-
ми и образами, к которым влечет его природа, но от
которых его уводит разум; его сердце не в силах побо-
роть противоречие и не обладает достаточно твердой во-
лей, чтобы осуществить свои желания. Человек в нем
менее совершенен, чем художник. Художник не успокаи-
1 «Trionfo della Morte», II. О «Триумфах», см. «Saggio critico
sul Petrarca», cit., pp. 237 и ел. Наиболее известные подражания,
о которых говорит Де Санктис и в других местах, это сон Гот-
фрида («Gerusalemme liberata» XIV, 1—19), In morte di Carlo Imbo-
nati Manzoni («На смерть Карло Имбонати» Мандзони) и И Sogno,
Leopardi («Сон» Леопарди),
вается до тех пор, пока окончательно не отшлифует свое
любимое творение; человек же не решается взглянуть
на себя, он подмечает каждое движение своей души,
мечется, точно боясь остановиться на чем-нибудь од-
ном, определить свое желание и решиться на что-
либо.
Вот почему эта прекрасная поверхность остается хо-
лодной: под ней нет глубокой пытливой мысли, сильной
воли, убежденности. Ситуация могла бы быть трагич-
ной, но она остается элегической. Пред нами —поэзия
слабой и нежной души, которая, грустя, предается
сладким стенаниям и довольна, если может жить
воображением: человек растворяется в художнике.
Дело в том, что Петрарке не хватало той серьезной,
глубокой веры в свой мир, которая сделала Екатерину
святой, а Данте поэтом. В его мозгу этот мир, к кото-
рому примешались совсем иные божества, начал «рас-
падаться», пришел в брожение.
Серьезнее всего в нем — увлечение искусством, со-
провождаемое любовью к античности и знанию. Это в
зародыше тот идеал, который получит широкое распро-
странение в последующие века, средь новых поколе-
ний, властителем чьих дум стал Петрарка. Искусство
утверждает себя и завладевает жизнью.
Так средневековая культура, которая у других наро-
дов лишь начала к этому времени развиваться, у нас,
рано созрев, разлагается, не успев проявить себя во
всех областях искусства, в частности в области драма-
тической формы. Данте, который должен был бы воз-
главить целую литературу, знаменовал ее конец. Его
мир, столь совершенный внешне, внутри противоречив
и слаб; он — плод созерцания, но не веры, не чувства.
Этот диссонанс между тонко отделанной и гармоничной
формой и таким" слабым, противоречивым содержанием
выражается в чувствах, типичных для переходной эпо-
хи,— в печали, нежности, ранимости, в склонности к
мечтам, исполненным неги и сладострастия.
«Великий больной», гонимый по волнам житейского
моря в этом двойственном мире, мире прошлого и гря-
дущего, человек, столь тонко и изящно изобразивший
противоречие, разрешить которое ему не хватило воли
и сил, это и есть Франческо Петрарка.
22 Де Санктир
IX
«Декамерон»1
1. Боккаччо — глашатай в литературе нового, нарождаю-
щегося мира. Преодоление философской и этической концеп-
ции средневековья. Конец теократической литературы.
2. Ослабление интереса к вопросам совести и культ прекрасной
формы — факторы, характеризующие новое поколение. 3. По-
беда гвельфов и политическая и религиозная индифферент-
ность нового культурного общества. 4. Джованни Боккаччо
и его первые литературные опыты; новый духовный мир —
«Жизнь Данте». 5. Боккаччо — придворный, эрудит, худож-
ник— отображение нового буржуазного общества. 6. Латин-
ские произведения. Богословско-схоластическая оболочка за-
меняется мифолого-риторической: «Филоколо». 7. «Тезеида»
и костяк героической поэмы. 8. «Филострато»: античное
обрамление внутреннего мира Боккаччо. Поэзия частного слу-
чая. 9. Новый человек в борьбе со старыми формами: «Лю-
бовное виденье» — бессознательная пародия на «Комедию».
Быстротечность впечатлений и развязок, высокое представле-
ние об искусстве в сборнике стихов «Rime» 10. «Фьямметта»
и «Ворон»; удачный выбор темы делает их началом совре-
менной литературы. ' «Фьямметта» — роман многословный и
скучный из-за формы, перегруженной мифологией и ученостью.
11. «Ворон» —не изображение пороков в произведении
1 Глава написана в апреле 1870 года (см. в «Epistolario»
письмо к Морано: «Сейчас пишу о Боккаччо; с десяток дней
просматривал книги, перечитывал его произведения, более восемна-
дцати томов») и была опубликована в два приема в «Nuova Antolo-
gia» («Le орете minori» в июне 1870 г. и «II Decamerone» в авгу-
сте). Это издание использовано нами для внесения в текст исправ-
лений. Де Санктис посвятил Боккаччо некоторые из своих ранних
лекций (см. «Teoria e storia», изд. Эйнауди, I, pp. 267—269 и «Ри-
rismo illuminismo storicismo», cit., II). При этом он вернее всего
пользовался изданием Мутье («Ореге volgari», Firenze 18^7 и ел.),
по которому и были сверены цитаты.
О критических работах по Боккаччо и концепции его творчества
у Де Санктиса см. G. Petronio в «Classici italiani» di Binni cit.,
vol. I, pp. 167—228,
№
искусства, а трактат о морали. Комизм в «Вороне». 12. «Спокой-
ствие» Боккаччо характерно для нового содержания. 13. Нату-
ралистическая языческая идиллия: «Фьезоланские нимфы» и
пастораль «Амето». Восхваление конца варварства и воца-
рения новой культуры. 14. Синтетические формы становятся
условными; новая аналитическая форма; дух беспокойства
в аллегориях и видениях и спокойный характер идиллий; пер-,
вые произведения Боккаччо отражают колебание между ста-
рым и новым. 15. Сюжеты новелл «Декамерона» — продукт
коллективного труда. 16. Мир природы передан поверхностно,
лишен своей внутренней духовной силы, серьезных целей и
средств и представляет собой бурную реакцию на мистицизм.
Карнавал воображения Боккаччо. 17. Мир Боккаччо — пери-
петии человеческой жизни, определяемые свободой воли и
случаем. Неожиданное и чудесное — пружина этого мира.
«Доблесть» мецената — великодушие и любезность; она при-
звана поражать воображение. Скорбь как средство усилить
радость. 18. Внутренняя уравновешенность Боккаччо; он не
бунтует против социальных порядков и не стремится к ре-
формам. Апофеоз таланта и образованности и высокомерие
буржуа. Облик боккаччиева мира, его серьезность в изобра-
жении комического: католичество и верующее простонародье
ставятся неизмеримо ниже культурной буржуазии. Обилие и
типичность комических характеров. 19. Преемственность свет-
ского духа во всей литературе: «реформа», осуществленная
«Комедией», и революция, произведенная «антикомедией»,
человеческой комедией Боккаччо. Царство «Злых Щелей» —
единственное плодотворное начало, уцелевшее от Дантова
мира. 20. Непримиримость папства, одержавшего победу; за-
стой, отсутствие реформ в Италии; конформизм в теории и
свобода нравов. Пропасть, отделяющая культурных людей от
остальной части общества. Два общества в одном, изобра-
женные в «Декамероне» в единстве и движении. Нравоучи-
тельный комизм Рабле и смех ради смеха у Боккаччо.
21. Комизм от интеллекта; простаки и пройдохи; те и дру-
гие — объект насмешек со стороны умной и образованной
публики. Остроты и шутки — достояние народного языка —-
становятся лишь стилистическим средством. 22. Не столько
чувство, сколько ощущение; не столь фантазия, сколь вообра-
жение; в меньшей мере страсть, чем чувственность. Аналити-
ческое описание предмета — прием, свойственный комиче-
скому жанру: карикатура у Боккаччо детально разработа-
на; взрыв смеха подготовлен исподволь, постепенно. Ирония —
форма вспомогательная. 23. О к т а в а и период — формы,
соответствующие новому содержанию, свойственные новой ли-
тературе. Латинизированный период, усложненный и скучный
в серьезном жанре, здесь — податливое орудие мысли и чув-
ства, живое, оригинальное (Sui generis) создание боккаччиева
таланта при изображении комической и чувственной стороны
жизни: не проза, а поэтическое повествование. 24. Мир Бок-
каччо — циничный, чувственный, плебейский; в то же время —
изящный, культурный, буржуазный. Средневековье изгнано из
храма искусства.
22*
339
1. Открывая «Декамерон» впервые, едва прочитав
первую новеллу, пораженный как громом с ясного неба,
восклицаешь вместе с Петраркой: «Как я попал сюда и
когда?» 1 Это уже не эволюционное изменение, а ката-
строфа, революция — ты как будто сразу оказываешься
в другом мире. Здесь не только отрицание средневе-
ковья, но издевка над ним.
Сер Чапперелло2 — персонаж, на несколько веков
предвосхитивший Тартюфа, с той лишь разницей, что
мольеровский Тартюф вызывает у нас отвращение, омер-
зение и подан так, что публика возмущается его лице-
мерием, а Боккаччо пишет для потехи, стремясь не столь-
ко восстановить читателя против лицемера, сколько что-
бы заставить посмеяться над добряком-исповедником,
над легковерными монахами и простофилями из просто-
народья. Следовательно, оружие Мольера — саркастиче-
ская ирония, а оружие Боккаччо — веселая карикатура3.
Чтобы выработать такие формы и достичь этих целей,
нужен Вольтер. Джованни Боккаччо и был в известном
смысле Вольтером четырнадцатого века.
Многие ополчаются на Боккаччо, считая, что он ис-
портил, развратил итальянцев. Да и сам он в старости,
охваченный угрызениями совести, стал монахом и осу-
дил свою книгу. Но книга не была бы написана, если бы
так называемая порча не проникла глубоко в сознание
итальянцев. Ведь если бы Боккаччо смеялся над тем,
что всеми почиталось (предположим, что могло быть
так), он навлек бы на себя гнев современников. В дей-
ствительности же произошло обратное. Книга явно со-
ответствовала давно назревшим настроениям, в ней
вслух говорилось о том, о чем люди по секрету делились
между собой; она вызвала бурное одобрение и имела
1 «Rime», CXXVI, «Chiare, fresche e dolci acque», v. 62.
2 «Декамерон», I, 1.
3 Впервые это сопоставление встречается уже у Кине, op. cit.,
I, p. 159: «Если Петрарка проложил путь всем одиноким мечтателям
от Камоэнса до Руссо, то Боккаччо возглавил плеяду писателей-
сатириков, от Рабле до Мольера». Тому же критику — автору «Re-
volutions» принадлежит мысль о сходстве между мессером Чаппе-
летто, монахом Чиполла и мольеровским Тартюфом: «Боккаччо об-
рушивается на светское общество лишь после того, как он вдоволь
посмеялся над церковью, над мнимыми святыми, мнимыми релик-
виями, над Тартюфами XIV века, которые торгуют пером архангела
Гавриила»; ibid., p. 165.
340
такой успех, что бедняга Пассаванти даже перепугался
и счел нужным противопоставить ей свое «Зерцало по-
каяния».
Стало быть, Боккаччо облек в литературную форму
то, что уже смутно зрело в сознании людей. Все знали
некий секрет; Боккаччо его разгадал, и его наградили
рукоплесканиями. Стоит подумать об этом факте, а не
предаваться проклятиям.
Самая характерная черта средневековья — трансцен-
дентность, стремление встать над человеком, над при-
родой, вне природы и человека, отделить род, вид от ин-
дивидуума, материю от формы, разум от души, совер-
шенство и добродетель от жизни, закон от разума, дух
от тела, а цель жизни вынести за пределы, реального
мира. В основе этой философской теологии лежат все-
общие понятия — универсалии. Теологи населили
мир существами или интеллектами, о природе которых
шли нескончаемые споры: что это — божественные
идеи или реальные роды и виды? Можно ли их пони-
мать? Это сооружение уже трещало по всем швам под
ударами номиналистов, которые отрицали наличие
родов и видов, считая их не более, как «именами» —
«номина» и признавая наличие только единичного, инди-
видуального. На их знамени был начертан девиз, впо-
следствии получивший большое распространение: «Не
следует без нужды умножать понятия» К
Естественным следствием этой доведенной до пре-
дела теократии был аскетизм. Земная жизнь утратила
смысл и ценность. Человек всеми своими помыслами
жил в мире ином. А верх совершенства заключался в
экстазе, молитве и созерцании.
Так родилась теократическая литература — легенды,
мистерии, видения, аллегории; так родилась «Коме-
дия» — поэма о загробной жизни.
Мысль не находила конкретного преломления; она не
проникала в человека, в природу, а пребывала вовне,
1 Перевод латинского выражения «Entia non sunt multiplicanda
sine ratione», которое в свою очередь является переводом двух
фраз Аристотеля («Метафизика», XII, 45 и «Физика», I, 59). В ру-
кописи далее зачеркнуты слова: «В плане моральном авторитет
закона находился вне сознания, в воле божьей, которая неиспове-
дима. Плоть была поглощена духом, дух — богом, а бог — толко-
вателем его воли — папой».
341
вращалась вокруг природы и понятий, которые по сути
своей были не чем иным, как силами человека и приро-
ды, но были отделены от индивидуума и существовали
самостоятельно. Абстракции, рождаемые духом, пре-
вратились в живые существа. А поскольку абстракций,
являющихся плодом интеллекта, неистощимого в изо-
бретении классов и подклассов, — бесчисленное множе-
ство, то эти существа и заполнили острый ум схоластов.
Мир схоластики был населен абстрактными существами,
а мир поэзии соответственно — аллегорическими: среди
них были человек, душа, женщина, любовь,
добродетели, пороки. Это не были живые люди,
подобные языческим .божествам, а лишь их олицетво-
рения.
Чувство как плод естественной человеческой склон-
ности почиталось за грех. Страсти предавались ана-
феме. Поэзию считали матерью лжи, театр — пищей
дьявола. Новелла и роман слыли низменными жан-
рами. Все это вместе именовалось «чувственностью»,
и лейтмотивом сего аскетического мира, от монаха
Гвиттоне до Франческо Петрарки, была борьба чув-
ственности с разумом К
Чувство, вырванное из человеческого сердца, за-
клейменное как чувственность и вынужденное суще-
ствовать как разум, тоже стало универсальным внеш-
ним фактором, выраженным то в символической, то
в схоластической, или, как тогда говорили, в платониче-
ской форме. Мать всех чувств — любовь стала фило-
софским понятием, скрепляющей силой, единством ра-
зума и действия. Так родилась платоническая лирика
поэтов от Гвиницелли до Петрарки.
1 См. главы II и VIII. В VIII главе анализируется канцона
«Г vo pensando, e nel penser m'assale» («Rime», CCLXIV), в кото-
рой, по мнению Де Санктиса, звучит мотив, наиболее характерный
для мироощущения Петрарки. См. по этому поводу его ранние лек-
ции о лирике («Teoria e storia», cit., I, p. 137 и «Purismo
illuminismo storicismo», cit., II): «Главное, что определяет
позицию Петрарки, это любовь к женщине, принадлежащей Дру-
гому, то есть любовь, противоречащая добродетели. А будучи чело-
веком добродетельным, он сознает это противоречие. В противном
случае его страсть приобрела бы такое же звучание, как у Ана-
креонта или у Боккаччо. Однако же, если бы добродетель все
время торжествовала, то поэт не вышел бы за пределы поучений и
был бы прозаичен. Поэтичность его лирики в том и состоит, что ее
раздирает противоречие между страстью и разумом».
342
Чувственность и воображение бунтовали против
этого платонизма. Величие лирики Петрарки именно
в этом бунте, как бы мало он сам его ни анализировал
и ни акцентировал. Ведь изображать волнения сердца
и картины, рисуемые воображением, в их естественном,
сокровенном звучании было запрещено. И человеком,
больше чем кто бы то ни было вкусившим от этого за-
претного плода, был Петрарка.
Воображение было орудием разума, предназначен-
ным для создания форм и символов абстрактных идей.
Бедный Данте знал это хорошо. Ни у кого не было та-
кого беспокойного воображения, как у него. Родились
символические, умозрительные формы, в отвлеченности
которых утонул человек с его индивидуальностью. То
были формы типические, не столько индивидуум,
сколько род и вид. Королева форм — женщина тоже не
смогла уберечься от засилья универсалий и так и оста-
лась идеалом скорее божественного, чем человеческого
свойства, прекрасным ликом, и только ликом мудрости;
скорее любимая, чем любящая, она была любима не
как женщина, а как ступень к достижению небесной
благодати. Так родились Беатриче и Лаура *.
Конечно, никто не имеет права говорить об этом
мире авторитетов без должного уважения, ибо он пред-
ставлял собой интереснейший этап развития человече-
ского духа и в какой-то мере был связан с реальной
жизнью. «Иллюминизм» 2 или мистицизм,- экстатическое
видение — это то, к чему естественно влечет дух в про-
цессе его «отчуждения» от тела, то, что в ту пору назы-
валось «жить абстрагируясь»: минута экзальтации и
восторга, когда человек как бы становится чем-то боль-
шим, чем он есть, словно в нем заговорил бог или
демон. Вот почему такое состояние восторженности
называли божественным вдохновением или наитием —
качеством, присущим пророкам и поэтам, что с точки
зрения Данте было одно и то же.
1 В рукописи далее зачеркнуты слова: «Таков был этот мир
авторитетов. В идеально чистом виде он представлен Екатериной
из Сьеиы».
2 Неоплатоническое, мистическое обозначение понятия «внутрен-
ней просветленности». Ср. с немецким «illuminismus» и с француз-
ским «illuminisme».
№
Сама по себе такая возвышенность души, подни-
мающейся над обычными границами реальной жизни,
составляет героическую сторону человечества, преиму-
щество молодости, свойственна всякому обществу на
первоначальной стадии его развития, когда, справив-
шись с материальными трудностями, оно просыпается
к духовной жизни. А все то, что заставляет человека
презирать жизнь, богатство и удовольствия, достойно
уважения.
Однако долго такое состояние напряженности и
неуравновешенности длиться не могло. Искусство, куль-
тура, знания и жизненный опыт сыграли свою преобра-
зующую роль.
2. Искусство, овладевая этим миром, делает его бо-
лее гуманным, приближает к человеку и природе, при-
мешивает к нему другие элементы, привносит в него
чувственность и неистовость страстей. Равновесие еще
не установилось, жизни в ее конкретном проявлении,
где были бы перемешаны рай и ад, еще нет, но ад уже
противопоставлен раю; рядом с Беатриче мы видим
Франческу да Римини, а рядом с Данте, олицетворяю-
щим все человечество, стоит Данте Алигьери, человек
с ярко выраженной индивидуальностью. В «Кан-
цоньере» этот мир избавляется от теологии, схоластики,
аллегории и обретает более человечную, естественную
форму.
И даже если бы он еще долго жил в сознании лю-
дей, искусство, несомненно, пробило бы себе дорогу,
подобно тому, как видение и легенда перешли в «Коме-
дию», Сельваджа стала Беатриче, а Беатриче — Лаурой;
из лона мистерий-родилась бы драма и созрели бы мно-
гие литературные жанры, например гимн и сатира,
в начальном состоянии намеченные уже в «Комедии».
Но уже в «Канцоньере» этот мир утратил былой пыл во-
сторгов и веры, частично растворившись в изысканной
форме лирики Петрарки. Религиозные, политические,
моральные чувства слабо развиты у Петрарки, а осво-
бодившееся место заняло искусство.
Это ослабление интереса к вопросам человеческого
сознания и культ прекрасной формы на фоне бурного
вторжения греко-римской античности составляют две
характерные черты нового поколения, пришедшего нз
344
смену мужественному, верующему и страстному поко-
лению Данте.
Люди нового поколения уже не увлекаются науч-
ными доктринами и не ищут истину, «сокрытую под
странными стихами»1; они довольствуются «прекрас-
ным облачением». В своих занятиях они более не руко-
водствуются поисками истины: их влечет сам процесс
познания, накопление эрудиции; ведь подобно тому, как
существует искусство для искусства, существует и зна-
ние ради знания. Вместо «цветов», «садов», «пиров»
и «сокровищ», в которых духовная и светская наука
служила моральным целям, стали появляться сборники,
где различные памятники культуры не толковались,
а только публиковались. К тому времени еще не
перевелись и схоласты; они называли Петрарку не-
учем 2, но их возмущение тонуло в хоре единодушного
одобрения: все ставили Петрарку рядом с Вергилием.
Не с тем Вергилием, которого считали чародеем, пред-
вестником христианства, «все знавшим мудрецом»3, а с
Вергилием — поэтом, автором нежных и изящных сти-
хов. Если Данте в раю сам увенчал себя лаврами поэта,
пророка и апостола, то Петрарку, автора «Африки»
tf новой «Энеиды», венчали лаврами его современники.
Культура и искусство стали новыми кумирами Италии.
Но расцвет культуры и искусства не шел изнутри,
а, напротив, сопровождался ослаблением сознания и
происходил самостоятельно как фактор внешний и са-
модовлеющий, представлявший собой и средство и цель.
То были «формальная» культура и «формальное» искус-
ство, недостаточно согретые внутренним содержанием.
Новая культура несла в себе тот же мир, каким жил
Данте, но в ней происходила некая борьба разума
с чувством и воображением; то была борьба вялая, без-
результатная, бесперспективная, однако сила религиоз-
ной веры, сила воли сходила на нет.
» См. «Ад», IX, 61—63: ~~ '
«О вы, разумные, взгляните сами,
И всякий наставленье да поймет,
Сокрытое под странными стихами!»
2 Факт взят, по-видимому, из книги Emiliani-Giudici «Storia
della lett. italiana», cit., I, p. 286: «Ученые схоласты... нехотя при-
знававшие за ним известный талант, торжественно объявили его
человеком неграмотным».
3 См. «Ад», VII, 4: «Меня мудрец, все знавший, ободрял».
345-
Дело в том, что мистический мир, чуждый природе
и человеку именно в силу своей одержимости, не мог
иметь ничего общего с реальностью. Он знавал лучшие
времена — «золотой век», о котором с такой грустью
вспоминает Данте; все же с годами он. неизбежно дол-
жен был выродиться в чистую теорию, которой люди по
традиции и по привычке продолжали следовать, но ко-
торую в практической жизни отвергли. Чем выше был
идеал, тем более явным и вопиющим было противоре-
чие. Во времена Данте и Екатерины раздавались гром-
кие сетования и гневные инвективы против упадка
нравов, наблюдавшегося особенно среди пап и священ-
нослужителей, которые своим образом жизни подавали
пример, противоречивший их учению. Эти инвективы
получили широкое распространение в литературе; отго-
лосок их в несколько риторической форме можно услы-
шать и в изящных стихах Петрарки, направленных
против алчного Вавилона1. Однако явление это стало
столь обычным и распространенным, что перестало вы-
зывать всеобщее негодование; несмотря на увещевания
Екатерины и на сатирические сонеты Петрарки, жизнь
шла по прежнему пути. Рядом с мистицизмом процве-
тал цинизм. Возле Екатерины благоденствовала Джо-
ванна Неаполитанская 2.
Упадок нравов отнюдь не проистекал от смелого от-
рицания христианского учения, напротив, все считали
себя добрыми христианами, были особенно нетерпимы
к еретикам, а многие под конец жизни каялись. Наблю-
далось нечто другое, гораздо худшее: равнодушие, ин-
дифферентность к вопросам морали. Христианский мир
еще жил в сознании, но в него не верили и с ним не
боролись — он жил по инерции, не оказывая никакого
влияния на чувства и поступки людей.
1 Имеются в виду три сонета против католической церкви:
«Fiamma del ciel su le tue treccie piova», «L'avara Babilonia ha
colmo il sacco» и «Fontana di dolore, albergo d'ira» («Rime»,
CXXXVI—CXXXVIII). В «Saggio critico sul Petrarca», cit., p. 155
говорится: «...они знамениты по сей день, не столько как об-
разец большой поэзии, сколько как пример политической борьбы?..
По стилю, тонкости стиха и значительности особенно примечатель-
ным мне кажется первый сонет».
2 Об отношениях между Екатериной и Джованной Неаполитан-
ской см. в главе VI,
346
При таком умонастроении культура неизбежно дол-
жна была оказывать отрицательное воздействие. Лю-
дям с живым, трезвым умом легенды, фантазии и чу-
деса должны бы казаться столь же несерьезными, как
и проповеди церковников, целиком противоречившие
жизни. И вот исчезает та детски наивная вера в самые
абсурдные вещи, которая так умиляла нас в писателях
предыдущего поколения. Культурные слои общества на-
чинают обособляться от простонародья и потешаются
над его легковерием. Раньше самые выдающиеся умы
Италии ставили себе в заслугу свою веру в бога; те-
перь же первым признаком высокой культуры стало не-
верие.
С другой стороны, рост культуры, порождавшей бо-
лее живое чувство природы и человека, неизбежно
ускорял гибель этого абстрактного мира, столь дале-
кого от жизни. Реальность, которой так долго пренебре-
гали, должна была взять реванш; должна была реаги-
ровать в свою очередь и природа, которую слишком
подавляли.
Так возникла неизбежная реакция на крайности
спиритуализма: натурализм и реализм в практической
жизни. Вот почему культура, вместо того чтобы погру-
зиться в мистический мир и преобразовать его, реаби-
литировать его в сознании людей, как это было позднее
в Германии, поставила себя вне его и, ничем не возме-
стив образовавшейся в сознании пустоты, всю свою
энергию посвятила наслаждению знаниями и искусством.
Таким образом, этот мир оказался вне сознания, вне
интеллектуальной борьбы, в роли полного, но бездея-
тельного хозяина разума. Конечно, существовали сво-
бодные мыслители, особенно в монастырях, но их было
мало и они были разобщены. В более серьезную борьбу
вступили было гибеллины, однако поражение под Бе-
невенто, победа гвельфов, надолго захвативших власть,
положили конец спорам и исканиям. Люди предпочи-
тали разыскивать и комментировать старинные ману-
скрипты и жить по-своему, предоставляя высказываться
по вопросам веры папе римскому *.
1 По поводу сказанного на этой странице см. Q u i n e t, op. cit., I,
p. 158: «Особенно непоправимый удар был нанесен гвельфской Ита-
лии. Христианство пустило здесь более глубокие корни, поэтому
347
3. Таков был естественный результат победы гвель-
фов. Распри и споры кончились; воцарился религиоз-
ный и политический индифферентизм, тем временем
культура, наука, искусство, торговля, промышленность
расцветали. Имелись налицо все признаки большого
прогресса: более совершенное знание древности, более
тонкий вкус, более развитое художественное чутье,
меньшая склонность к вере, нежели к критике и иссле-
дованию, меньший разгул страстей и большее изяще-
ство форм; кумиром этого общества был Петрарка —
в нем оно узнавало себя и им себя венчало. Но в этом
прогрессе уже коренился зародыш неизбежного упад-
ка— увядание разума.
«Канцоньере», стоящий между этими двумя мирами,
не примкнувший ни к одному из них, такой изящный
внешне, такой немощный и противоречивый внутренне,
представляет собой последнее слово, риторическое, эле-
гическое слово уходящего мира. Современники восхи-
щались его прекрасной формой, не предъявляя никаких
претензий к содержанию и не увлекаясь им, как это
было с «Комедией».
Этот несколько риторичный и условный мир — за-
мкнутый мир литературы и искусства не отвечал более
реальным условиям итальянской жизни. Мистицизм и
экзальтация духа, в последний раз с такой грустью
и нежностью прозвучавшие в стихах Петрарки, соста-
вляли явный контраст с тенденциями и обычаями, ца-
рившими в обществе культурных, образованных людей,
увлекавшихся искусством, предававшихся наслаждениям
и заботам о материальных благах людей, которые умом
еще оставались верующими христианами, не заражен-
ными скепсисом и материализмом, но которые в прак-
тической жизни проявляли полное равнодушие к боль-
шим проблемам человечества. Слова были те же, но за
ними не стояло ничего конкретного. Все были в курсе
этого секрета, но как-то не уяснили и не сформулировали
последствия поражения церкви сказались здесь в первую очередь.
Всемирная империя, которую обещало Италии папство, рухнула.
Что оставалось делать, чтобы довершить ее падение? Смеяться.
И вот человек, взирающий на развалины старого мира, сознающий
гибель своих надежд, вместо того чтобы богохульствовать, доволь-
ствуется улыбкой... Он-то и откроет новую жизнь... это — гвельф,
попирающий мечту гвельфов».
348
решения; тем не менее в практической жизни оно от-
четливо давало о себе знать. Тот, кому суждено было
раскрыть секрет и облечь его решение в литературную
форму, не был представителем ученой среды, а вышел
из лона того самого общества, которое он впоследствии
так хорошо изобразил.
Все великие писатели — Гуиницелли, Чино, Каваль-
канти, Данте, Петрарка — вышли из стен болонского
университета К
4. Джованни Боккаччо родился в 1313 году, на де-
вять лет позже, чем Петрарка, и за восемь лет до
смерти Данте. Еще «не доучив грамматики, — пишет
Филиппо Виллани, — повинуясь отчей воле, он по при-
казу отца, руководствовавшегося материальными сооб-
ражениями, был вынужден заняться счетным делом и
по той же причине много разъезжать»2.
Отец его был флорентийским купцом; к торговле же
он хотел приспособить и сына. В возрасте, когда моло-
дые люди только поступали в университет, наш Джо-
ванни уже разъезжал, говоря современным языком,
в качестве коммивояжера отцовской фирмы, знание
жизни, повседневное общение с людьми заменяли ему
книги. Однако путешествуя по городам, он больше
увлекался приятным чтением и развлечениями, нежели
коммерцией, и отличался скорее остроумием и богатым
воображением, нежели качествами делового человека,
за что и был прозван поэтом 3.
Приехав двадцатитрехлетним молодым человеком
в Неаполь, он стал вести светский образ жизни: бывал
при дворе, общался со знатью, жил' на широкую ногу,
ухаживал за женщинами, пописывал, читал на досуге.
Говорят, что, увидев могилу Вергилия, он задумался и
в эту минуту почувствовал свое поэтическое призвание.
Между тем его добрый родитель, видя, что ему не
1 О том, что Данте окончил болопский университет, сообщает
Боккаччо; во времена Де Санктиса этот факт еще не вызывал
сомнений. См. также у Бальбо (В a lb о, «Vita», cit., pp. 66—68).
2 См. F i 1 i р р о V i 11 a n i, «Vite cTuomini illustri fiorentini»,
Milano 1834, p. 410.
3 По поводу данного утверждения, а также о фактах, излагае-
мых ниже, см. Emiliani-Giudici, «Storia», cit., 1, p. 302. Поездка мо-
лодого Боккаччо в Неаполь относится к более раннему периоду —
к 1323 или к 1325 году.
349
добиться, чтобы сын стал купцом, задумал сделать из
него юриста и усадил его за законы к великому огор-
чению юноши, который впоследствии говорил, что
время, употребленное им на торговое дело и на юрис-
пруденцию, можно считать безвозвратно загуб-
ленным К
Когда, наконец, он смог сам распоряжаться своей
судьбой, то принялся за изучение литературы; как было
заведено в ту пору, он начал с латинского и греческого,
забив себе голову мифологией и историей Греции и
Рима. Жизнь его проходила в занятиях и удоволь-
ствиях; он много путешествовал, но уже не по делам
торговли, а в поисках древних рукописей.
Рассказывают, что 7 апреля 1341 года2 Боккаччо
в церкви Святого Лоренцо влюбился в побочную дочь
короля Роберта Марию: вряд ли при дворе королевы
Джованны, известной своим легкомыслием и фриволь-
ностью, Боккаччо мог получить уроки благонравия и
платонической любви. Он употреблял все свои старания
и талант на то, чтобы своим остроумием увеселять при-
дворных и свою Марию, наградив ее поэтическим име-
нем Фьямметты; она отнюдь не платила ему неблаго-
дарностью.
Петрарка еще не возник на горизонте; все заполнял
Данте, и одним из самых страстных его почитателей
был наш поэт. Плодом этого восхищения и явилась
«Жизнь Данте», одна из юношеских его работ. Однако
Боккаччо мог лишь восхищаться Данте; понять его ему
было не дано, ему был чужд самый дух Данте. Полу-
чив образование вне стен университета, не владея
серьезной схоластической и аскетической культурой,
язычник и отнюдь не мистик по чувствам и поведению,
1 См. «De Genealogiis», XV, 10. Это — знаменитое место о
Боккаччо, о том, как он почувствовал призвание к литературе.
2 Согласно датировке, принятой в те годы. Что касается ниже-
следующего утверждения о «юношеской работе» Боккаччо —
«Жизнь Данте», то биографы и историки литературы при-
шли к единому мнению, согласно которому эта работа была на-
писана после 1350 года. Однако эти критические исследования от-
носятся к периоду более позднему, чем «История литературы» Де
Санктиса. См. Macri-Leone, «Vita di Dante scritta da Gio. Boc-
caccio», Firenze 1888. (Имеется русский перевод в книге: Данте
Алигьери, Божественная Комедия, ч, II, Чистилище, М., i898. (Ред.)
350
Боккаччо изобразил Данте по своему подобию *. Кто
хочет ознакомиться с мнениями и чувствами юного
Боккаччо, пусть прочтет эту книгу: она сделана уже
в той же фактуре, как и «Декамерон». Никакой ориги-
нальности и глубины мысли, никакой тонкости в аргу-
ментации; все резонно и обоснованно; доказываются
даже общеизвестные факты, но в основе доказа-
тельств — не ум, а память; перед вами не мыслитель,
не полемист, а эрудит.
Говоря о неблагодарности Флоренции по отношению
к Данте, он вспоминает Солона, «чье сердце слыло че-
ловечьим храмом божественной мудрости»2, Сирию и
Македонию, греческую и римскую республику, Афины,
Аргос, Смирну, Пилос, Хиос и Колофон, Мантую, Суль-
мону, Венозу и Аквино. «Ты одна, — говорит в заклю-
чение Боккаччо, — как будто все Камиллы, Публиколы,
Торкваты, Фабриции, Катоны, Фабии и Сципионы
своими замечательными делами тебя не прославили
и себя не увековечили... не только не позаботилась
о своем поэте, но изгнала его и, будь на то твоя воля,
лишила бы его даже права называться флорентинцем».
Задумав писать книгу о Данте, он начинает «ab ovo»
с основания Флоренции. Часто, забывая о Данте, он
пускается в пространные рассуждения, из коих осо-
бенно известно рассуждение о природе поэзии. По мне-
нию Боккаччо, поэтический язык изобретен для того,
чтобы воздавать «священную хвалу» божеству слс)-
вами, далекими от «всякого иного плебейского и об-
щепринятого стиля речи» и подчиняющимися «закону
определенных чисел», в силу коего «сии слова призва-
ны вселять сладость и прогонять огорчения и скуку»3.
Поэты подражали «облачению высокого духа»4, по
1 Через пять лет после выхода в свет «Истории итальянской
литературы» Кардуччи говорил: «Он не был доктором универси-
тета, но уже побывал в других странах, знал их язык и обычаи;
он не знал теологии и философии, но зато перечитал уйму француз-
ских романов и с юных лет любил Данте» («Ai parental! di Gio-
vanni Boccaccio», 1875, «Opere», I, pp. 271—272). О том, как эти
слова Кардуччи связаны с утверждением Де Санктиса, см. работу
Кроче (С г о се, «II De Sanctis e il Carducci» 1911 в «Una famiglia
di patrioti», Bari, 1949 3, pp. 263—266).
2 Cm. «Vita di Dante», «Opere» cit., vol. XV, pp. 7 и 41.
3 «Vita di Dante», cit., p. 52.
4 Ibid., p. 54. Следующая цитата ibid., p. 55.
351
примеру священного писания, «каковое мъ\ зовем теол'б*
гией, коль скоро оно показывает — то в виде занима-*
тельной истории, то в форме видения», «высокое таин-
ство воплощения божественного глагола, житие бога,
то, что было во время его смерти и воскрешения;
точно так же поступают и поэты, изображая богов,
показывая всяческие людские превращения, или же
с помощью тонких рассуждений вскрывая причины
явлений и объясняя, каковы плоды добродетелей и
пороков».
Далее автор поясняет, что святой дух хотел показать
костром Моисея, видением Навуходоносора, жалобами
Иеремии и что хотели сказать поэты, изображая Сатур-
на, Юпитера, Юнону, Нептуна, Плутона, превращение
Геркулеса в бога, а Лаокоона — в волка, показывая
красоту Елисейских полей и мрачный город Дит. Возра-
жая тем, кто считал античных поэтов неразумными
людьми, выдумывавшими всякие басни «ни с какой
правдой несовместимые», Боккаччо в заключение гово-
рит, что «теология и поэзия суть почти одно и то же» и,
более того, что «теология есть не что иное, как поэзия
бога», «поэтический вымысел».
Поэт-эрудит на этом не останавливается и чтобы
объяснить, почему поэтов венчали лавровым венком,
излагает легенду о Дафне — возлюбленной Феба, пре-
вращенной в лавр. О внутреннем мире Данте нет ни
слова; зато внешняя сторона его жизни отражена под-
робнейшим образом вплоть до сплетен.
Повсюду проявляется боккаччиева земная любозна-
тельность, особенно интерес к необычайному в челове-
ческой жизни, которую он готов тут же поверхностно
истолковать — как эрудит и сугубо земной человек или,
как тогда говорили, «человек своего века». Последние
страницы книги он посвящает рассуждениям о сне, ко-
торый якобы приснился матери Данте, и вовсю щего-
ляет своей эрудицией. Под его земным взглядом Беат-
риче утрачивает всю свою идеальность, а любовь Дан-
те, низвергнутая со своих аскетических, платонических
и схоластических высот, обретает романтический отте-
нок. Нашему Джованни не понять, как это девятилет-
ний Данте мог полюбить Беатриче. Случай представ-
ляется ему весьма странным, и он ищет объяснений.
Быть может, тому причиной «сходство характеров»,
352
а может быть, «влияние неба»? 1 Но такие объяснений
его не удовлетворяют, и он обращается к третьему, под-
сказываемому ему его житейским опытом. По мнению
Боккаччо, дело было так: Данте увидел Беатриче во
время майского праздника, когда «ласковое небо укра-
шает своим сиянием землю, заставляя ее смеяться ярки-
ми цветами средь зелени дерев; и, как то всегда бывает
в праздничной обстановке, под воздействием приятной
музыки, всеобщего веселья, изысканных кушаний и вин,
сердца людей, и зрелых и юных, раскрываются и обна-
руживают склонность увлекаться тем, что нравится».
Стало быть, юного Данте побудило влюбиться то же,
что побуждает взрослого мужчину; вкусная еда, тонкие
вина, всеобщее веселье — вот что расположило его душу
к любви.
Беатриче была для Данте «прекрасным, незнако-
мым ангелом»2, неуловимым и не имеющим четких очер-
таний, она сошла с неба, дабы явить миру красоту и
добродетель, нисходящую на нее со звезд3. Но сие пони-
манию Боккаччо недоступно, он во что бы то ни стало
хочет уяснить себе, как Беатриче могла обернуться ан-
гелом, и в своем земном воображении рисует очарова-
тельный образ девочки, которую описывает так: «Она
была хорошеньким ребенком, весьма приятным и мяг-
ким в обращении4; ее поступки и слова были гораздо
серьезней и скромней, нежели того требовал ее возраст;
к тому же, черты лица она имела очень тонкие, пра-
вильные и, помимо красоты, обладала такой чистотой и
привлекательностью, что многие считали ее как бы ан-
гелочком».
Ангелочек, прямо скажем, из плоти и крови! Упав с
мистических высот Данте, мы очутились лицом к лицу
1 «Vita di Dante», cit., p. 18. Дальнейшие цитаты относятся
к той же стр. 18.
2 «Rime», LXXXVII, cit., «I'mi son pargoletta bella e nova».
Текст стиха несколько изменен под влиянием 19 стиха той же бал-
латы, где говорится не «ребенок», а «ангелочек» или же по анало-
гии с петрарковской «Nova angeletta sovra l'ale accorta» (ibid.,
CVI) — многие считают, что Данте посвятил эту баллату не Беат-
риче, а другой женщине — возможно, той, о которой говорится
в «Чистилище», XXXI, 59. Де Санктис придерживался точки зре-
ния, принятой в его время, и не исключено, что он «попал в точку».
См. также «Saggio critico sul Petrarca», изд. Эйнауди, р. 71.
3 См. стихи 11 —12 той же баллаты.
4 «Vita di Dante», cit., p. 18.
23 Де Санктис
353
с физиологией и анатомией. Оказывается, Данте полю-
бил потому, что после вкусной еды и прочих удоволь-
ствий сердце склонно к любви, а Беатриче казалась по-
чти ангелом потому, что внешность ее отличалась тем-
то и тем-то. Беатриче умерла рано, двадцати четырех
лет, но нашего биографа это не удивляет, ибо «много
ли человеку надо, чтобы умереть? — стоит простыть или
перегреться...» 1 Родственники и друзья, желая утешить
Данте, подыскали ему жену. «О слепцы, как вы заблу-
ждаетесь!»— восклицает наш заядлый холостяк и враг
законных уз. «Какому врачу придет в голову лечить жар
огнем, а озноб — льдом иль снегом? — Разумеется,
лишь тому, который поверит, что муки любви можно
облегчить при помощи женитьбы»2.
Тут Боккаччо, как человек, умудренный опытом, пу-
скается в рассуждения о природе любви и о ее проявле-
ниях, о женской натуре, о заботах и неприятностях, уго-
тованных мужьям, и оплакивает беднягу Данте. Слова
его звучат уверенно и подчас довольно красноречиво —
еще бы, здесь он как у себя дома. Послушайте, напри-
мер, следующую фразу:
«Мы можем себе представить, сколько страданий
скрывают от нас стены семейного дома, — страданий,
воспринимаемых неискушенным глазом как сплошные
радости»3.
Если верить Боккаччо, Данте очень скоро забыл и о
своей жене, и о Беатриче и стал увлекаться женщина-
ми, из-за чего ему и пришлось совершить свое великое
путешествие по загробному миру, где Беатриче осыпа-
ла его суровыми упреками. Впрочем, нашему холостяку
увлечение женщинами не кажется таким большим гре-
хом: «Какой смертный отважится взять на себя роль
беспристрастного судьи? Только не я». И, пуская в ход
свою эрудицию, он приводит в пример многочисленные
случаи, происшедшие с знаменитыми мужами, поддав-
1 См. «Vita di Dante», cit., p. 20; Много ли человеку надо, что-
бы перейти из бытия в небытие? Стоит простыть или перегреться
(не говоря уже о прочих возможных неожиданностях, коим несть
числа).
2 Ibid., p. 22.
3 Ibid., p. 26. Следующая цитата, ibid., p. 66. Далее выражения
«поэзия бога» и «поэтическим вымыслом» взяты из отрывка, кото-
рый уже приводился выше («Vita» cit., p. 325).
354
шимися женщине: тут Юпитер, Геркулес, Парис, Адам,
Давид, Соломон и Ирод. Все это походит на пародию.
Но Боккаччо серьезен как никогда. Молодой поэт вос-
хищается Данте, называет его богом сред£> людей и на-
деется своей книгой искупить неблагодарность Флорен-
ции, воздвигнуть ему памятник.
5. «Жизнь Данте» — это откровение. Автор книги
высказался в ней до конца со всей непосредственно-
стью и безыскусственностью: мы находим в ней того но-
вого человека, который формировался тогда в Италии.
Он валит в одну кучу культуру церковную и языческую,
библию и мифологию, теологию и поэзию: теологию он
считает «поэзией бога», «поэтическим вымыслом». Это
странное смешение было характерно для всего XIV века
и примеры можно найти даже у Данте. Данте, втя-
гивая древний мир в орбиту своей Вселенной, подверг
его «крещению», спиритуализации. Боккаччо же взял и
«дехристианизовал» всю Вселенную, материализовав ее.
Теоретически он признавал религию и с почтением от-
зывался о теологии, как о науке, которая позволяет нам
познать «божественную сущность и другие отдельные
разумы» ]. На деле же сфера духа нисколько не затра-
гивает ни его ум, ни его сердце. Мистицизм, платонизм,
схоластика, весь этот Дантов мир лишен для него всяко-
го смысла. Он чужд ему не только по своей культуре,
но еще более по мировоззрению. Боккаччо лишен не
только религиозного чувства, но и той высокой нрав-
ственности, которая подчас это чувство заменяет. Он и
не верующий христианин, и не гражданин. Никогда ему
не приходило в голову, что служить родине, быть гото-
вым отдать ей свой талант, свое имущество, свою
жизнь — столь же обязательно, как заботиться о соб-
ственном благополучии. Гражданина сменяет добрый
буржуа, который готов любить родину, но при условии,
что она не будет причинять ему особых беспокойств,
позволит заниматься своим делом и не заставит против
воли бросить дом или лавку.
О гвельфах и гибеллинах забыли настолько, что
Боккаччо считает необходимым при упоминании этих
i «Vita di Dante», p. 16: «И он погрузил свой изощренный ум
в сокровенные глубины теологии ... после усерднейших занятий он,
наконец, узнал о божественной сущности и о других отдельных ра-
зумах то, что доступно человеческому пониманию».
23*
355
слов давать соответствующие пояснения. Он не может
взять в толк, зачем Данте понадобилось вмешиваться в
политические дела, и обвиняет его в честолюбии, как
бы говоря при этом: «Так тебе и надо».
Я отнюдь не хочу сказать тем самым, что Боккаччо
ни во что не ставил религию, нравственность, родину —
напротив, при всей легкости своего нрава он выполнял
свои обязанности в жизни ничуть не хуже других и со-
граждане поручали ему выполнение важных дел. Но ге-
роическая эпоха прошла; новое поколение не понимало
ту борьбу и страсти, которые волновали отцов; утверди-
лась та посредственность, которую еще нельзя назвать
вульгарностью, но которая далека от величия; по фор*
ме от религии и свободы древнего человека еще кое-что
оставалось, но дух прошлого угас. Общественная жизнь
еще теплилась в колыбели культуры — Тоскане; в дру-
гих же местах ее заменила придворная жизнь. Эру-
диция, искусство, деловая деятельность, развлечения
составляли основу этого нового, среднего городского
общества, типичным представителем которого был Бок*
каччо — весельчак, придворный, эрудит и художник.
Если Петрарка с его безысходной печалью являл собой
лишь подобие античного человека, то бездумная весе-
лость, жизнерадостность Боккаччо знаменовала воцаре-
ние материи, греха, плоти, некогда стократ проклятой,
а теперь громогласно, с издевкой возвещающей о себе и
своей победе. То был первый взрыв смеха, которым
разразилось новое более культурное, более умное обще-
ство, склонное посмеяться над старым. То голос при-
роды и человека, и хотя он признавал наличие двух на-
чал, он не желал с этим считаться, ставил себя в центре
всего, рассматривал себя как средство и цель К
1 Аналогично ставит вопрос Кине (см. Q u i n e t, op. cit., I,
p. 167): «Данте, Петрарка и Боккаччо, эти три человека, которых
нельзя воспринимать врозь, знаменуют каждый особую эпоху в по-
литической жизни Италии.
Бросается в глаза тот факт, что гражданские, патриотические
настроения становятся у них все слабее и слабее. Данте был
полностью поглощен политической жизнью Италии. Петрарку эти
вопросы занимали лишь время от времени, а для Боккаччо вовсе
перестали существовать».
Далее ibid., p. 168 читаем: «После суровых страстей средне-
вековья, видя, что этому человеку совершенно чужды, любовь, не-
нависть и муки, заставлявшие биться пульс жизни в прошлом,
я начинаю серьезно беспокоиться о судьбе Италии. Боккаччо — первый
356
Эта эпоха получила название переходной. В душе
людей уживались два мира: мир прошлого, еще суще-
ствовавший если не по духу, то по форме, и новый мир,
утверждавший себя как реакция на прошлое и основан-
ный на реальности, взятой как таковая, без каких-либо
элементов идейности. Налицо был мистицизм с его
устойчивыми представлениями о сверхъестественном и
натурализм в чистом виде. Но мистицизм, уже утратив-
ший свое влияние на умы, стал чем-то привычным, тра-
диционным. В стихах Петрарки он уже воспринимался
и вызывал восхищение не в плане религиозном, а лишь
в плане художественном, литературном.
Что же касается натурализма, то он, напротив, раз-
вивался в полном соответствии с практической жизнью и
с чувствами людей, имелась в нем и прелесть новизны.
Такая смена настроений должна была коренным об-
разом изменить всю основу литературы. Роман и но-
велла, дотоле рассматривавшиеся как «низкие» жанры
и предававшиеся анафеме, сейчас взяли перевес. Лири-
ческий мир с его. экстазами, видениями и легендами, с
его экзальтацией, уступил место миру эпическому или
повествовательному, в котором были свои приключения,
праздники, описания, удовольствия и обманы. Но созер-
цательная жизнь переходит в действенную; потусторон-
ний мир исчезает из литературы; человек уже не живет
как существо «не от мира сего»; он окунается в жизнь,
чувствует ее, наслаждается ею. Небесное и божествен-
ное изгоняется из сознания и в него проникает все че-
ловеческое и естественное. В основе жизни — уже не то,
что должно быть, а то, что есть: Данте завершил одну
эпоху; Боккаччо открыл другую.
6. А теперь заглянем в этот мир Боккаччо. Что мы в
нем обнаружим? Фолианты на латинском языке, подобие
исторического словаря, заключающего в себе всю мифо-
логию, использовавшуюся поэтами и сопровождаемую
аллегорическими пояснениями, а также события из
жизни знаменитых людей и прославленных женщин1,—
итальянец, примирившийся с участью Италии, и не только при-
мирившийся, но утешившийся, нашедший забвение в эпикуреизме».
1 Имеется в виду «De genealogiis deorum gentilium», трактат,
начатый Боккаччо в 1350 году и завершенный им более чем через
десятилетие. «De casibus virorum illustrium», написанный между
1355 и 1360 гг. и пересмотренный им в последующие годы, и «De
Claris mulieribus», завершенный в 1374 г.
357
книги, которые были переведены на французский, не-
мецкий, английский, испанский и итальянский языки, и
многократно переиздавались и встречали самый горя-
чий прием со стороны современных читателей, воспри-
нимавших их как новое открытие античности. Раньше
существовали энциклопедии, «цветы», «сады», в кото-
рых были собраны высказывания древних мыслителей
в области философии, этики, риторики. Боккаччо же ин-
тересовал мир их воображения, интересовали их дела.
Мир чистых мыслей уступил место миру воображения
и действия.
Посмотрим же, что им создано.
Этот человек, владевший всей греческой и латинской
премудростью, восхищавшийся Данте за то, что он су-
мел отлично подражать Вергилию, Овидию, Стацию и
Лукану и сохранил в себе от флорентинца лишь любовь
к хорошему языку и художественное чутье, выполняет
роль трубадура и жонглера при дворе, где охотно сме-
ются его шуткам и рассказам; продолжатель традиций
веселой науки, он знает наизусть французские,
итальянские и провансальские романы, пишет для соб-
ственного удовольствия и для увеселения других. В нем
как бы слились (правда, не до конца): эрудит, худож-
ник, трубадур, писатель и светский человек.
Вот появляется первый плод его воображения —
«Филоколо». Название греческое, так же как и назва-
ния более поздних произведений — «Филострато» и
«Декамерон». Сюжет заимствован из одного испанско-
го романа ! и заключается в описании любви Флорио и
Бьянкофьоре. Но то была языческая Испания, Испания
эпохи языческого Рима, когда туда начало проникать хри-
стианство. Тема давала молодому автору полную воз-
можность развернуться. Влюбленным юношам и милым
1 Неточность, объясняемая, по-видимому, тем, что действие не-
которых сцен первой части романа происходит в Испании. Легенда,
лежащая в его основе, пользовалась популярностью во всей Европе
во французской, итальянской и испанской редакциях. Но Де Санктис
в соответствии с господствовавшим в те годы мнением, полагал, что
«Филоколо» был навеян Боккаччо французским романом «Floire et
Blancheflor» (см. ниже). Вопрос об источниках был поставлен ли-
тературоведами лишь много лет спустя после написания Де Санкти-
сом «Истории итальянской литературы». См. V. Crescini, «И
cantare di Florio e Biancifiore», I, Bologna 1889.
358
девицам посвящает он «новые стихи, в коих,-—го-
ворит он, — речь идет не о жестоких схватках в древ-
ней Трое, не о кровавых битвах Фарсальи, а о прискорб-
ных событиях из жизни влюбленного Флорио и его
Бьянкофьоре, коих вы очень полюбите»1. Прекрасные
юноши и влюбленные женщины2, наверное, предпочли
бы, чтобы эта любовная история была покороче и не
столь учена. Но как устоять перед искушением? И мо-
лодой поэт заполняет книгу мифологией; при малейшей
возможности он заводит речь об истории Греции или
Рима. Юлия, находясь в состоянии крайнего отчаяния
после того, как убили ее мужа, в разговоре с убийцей
приводит в пример Гекубу и Корнелию 3. При этом ми-
фология здесь не постоялец4, не использована для ко-
лорита; она — движущая пружина рассказа, как у Го-
мера и у Вергилия. Если бы Юпитер, Плутон, Венера,
Афина Паллада и Купидон были выведены как живые
люди, то получился бы гротеск, не лишенный приятно-
сти; но это — пышные, риторические фигуры, созданные
по памяти, а не воображением. Кроме того, поскольку,
по мнению Боккаччо, теология и поэзия — одно и то же,
то теология приобретает языческие черты, бог превра-
щается в Юпитера, Люцифер — в Плутона; таким обра-
зом, язычники и христиане, хотя и проникнуты друг к
другу смертельной ненавистью, мыслят одинаково и по-
клоняются одним и тем же богам. Эта механистичность
проникает повсюду и портит естественный язык чувства,
придавая событиям и чувствам героев оттенок искус-
ственности и метафоричности. Желая сказать «влюб-
ленные юноши», автор говорит: «О вы, кто парус разу-
ма своего направили по ветру, что дует от движенья зо-
лотистых перьев младого сына Цитеры»5.
1 «Filocolo», «Opere», cit., vol. VII, p. 9.
2 См. «Orl. Fur.», I, 42.
3 «Filocolo», cit., p. 61: «He думаю, что несчастная Гекуба иль
страдалица Корнелия испытывали большее горе, чем то, на какое
вы меня обрекли».
4 Одно из выражений, сохраненных Де Санктисом и в работах
зрелого периода. См. «Saggio critico sul Petrarca», изд. Эйнауди,
p. 114, она принадлежит Боккаччо («Декамерон», II, 10): «Ступайте
и постарайтесь жить, ибо мне кажется, что в этом мире вы живете
как жилец по искусу, таким чахленьким и хиленьким вы мне ка-
жетесь».
5 «Filocolo», cit., p. 8. Две следующие цитаты — ibid., pp. 15,18.
359
Вот как описано наступление вечера: «Резвые кони
солнца, еще разгоряченные после дневных трудов, ку-
пались в морских водах запада». В другом месте гово-
рится: «Аврора погасила ночные огни, а Феб осушил
заиндевелые травы».
Так родился помпезный, холодный стиль, и автор
безуспешно пытается придать ему теплоту с помощью
риторических фигур, на которые он такой мастер. Он
часто прибегает к риторическим вопросам, обращениям*
восклицаниям, персонификации, чувство как бы идет от
предметов и представляется в пышной, претенциозной
форме. Отважный Лелий убит на поле боя, и поэт про-
износит над ним следующую великолепную риториче-
скую тираду:
«О несчастная Фортуна, сколь напрасны и тщетны
твои усилия в мирских делах! Где те великие сокро-
вища, коими ты щедрой рукой его наделила? Где все
друзья? Где многочисленная родня? Ты, внезапно от-
вернувшись от него, все у него отняла, и тело его лежит
здесь без погребенья в этом отдаленном месте. Ты хотя
бы разрешила старому отцу его пролить слезу над сы-
ном и дрожащими пальцами закрыть застывшие глаза,
отдать последний долг — похоронить».
Юлия падает в обморок: «Блуждающие духи, каза-
лось, пролетели поблизости» *; и далее поэт произносит
длинную речь, обращенную к Лелию, который, убегая
от опасности, покидает Юлию полуживой; он говорит о
Любви:
«Ах, сколь подло повела себя Любовь: своею силою
так долго вас держала вместе, а в час разлуки не
разрешила обменяться поцелуем иль хотя б про-
ститься».
Действующие лица часто произносят пространные
речи со всеми ухищрениями риторики, например в раз-
говоре Плутона с адскими слугами; ему впоследствии
подражал Тассо2.
Часто, сквозь слезы проглядывает чувственность:
Юлия рвет на себе волосы и одежду, и юный автор
осуждает «сей неприличный жест», приведший
1 «Filocolo», cit., p. 42. Отсюда же дальнейшие цитаты.
2 Ibid., pp. 18—19 и «Gerusalemme liberata», IV, 9 и далее.
360
«в беспорядок» ее «белокурые волосы»1, и добавляет:
«Сквозь разорванную одежду розовели части тела, кои
в те времена было принято скрывать».
Кое-где встречаются трогательные места и даже
простые, впечатляющие описания и выражения, но чаще
автор остается вне человека и вне природы, увлеченный
перифразами, эпитетами, пышными тирадами, описа-
тельными выражениями и цитатами: чувствуется явная
тяга к реальности, но ее заглушает риторика и эру-
диция.
Погрузившись в античность и привнеся туда эруди-
цию и риторику, литература, с одной стороны, освобо-
ждалась от теологии и схоластики, создававших барьер
между искусством и природой, а с другой — натыка-
лась на новое препятствие: мифологию и риторику.
7. Успех «Филоколо» вдохновил юного поэта на бо-
лее высокий замысел: он задумал нечто вроде «Энеиды»
и написал «Тезеиду». Но ничто не было так чуждо его
натуре, как героический жанр, ничто так мало не импо-
нировало его эпохе, как трубный глас. В «Тезеиде» изо-
билуют осады, битвы, заговоры богов и людей, помпез-
ные описания, надуманные речи — весь костяк, все ак-
сессуары героической поэмы. Но будучи по духу истым
буржуа, Боккаччо не знает, что значит подлинное вели-
чие: его Тезей, Арцита, Палемон, Ипполит, Эмилия —
эпические герои только по названию. Он склонен видеть
вещи в деталях, но чем больше он пускается в подроб-
ности, тем мельче, тем более расплывчатыми становятся
предметы, и это идет во вред чувству и гармонии. Ору-
жие, виды сражений, жертвоприношения, праздне-
ства — вся внешняя сторона изображена с усердием и
ученостью, достойными эрудита; но где человек и где
природа?
Герои «Тезеиды», увешанные античными эмблемами
и медалями, не остаются в памяти. Вот поле боя. Автор
видит отчетливо то, что изображает, но это — отчетли-
вость, характерная для натуралиста, не сопровождае-
мая взлетом воображения; образ есть, но его ощуще-
ние отсутствует, отсутствуют тот скрытый смысл, те све-
тотени, которые создают чувство и музыку:
1 «Filocolo», cit., p. 52: «И как человек, не владеющий более
своими чувствами, она запустила руки в свои белокурые волосы и
начала их рвать, приведя в полный беспорядок». •
361
Когда жестокий кончился набег,
И звуки брани тишина сменила,
Растаяла эмаль кровавых рек
И скорбный прах погибших обнажила.
И были небеса и человек
Свидетели картины той унылой
И видели сражения следы —
Свирепости ужасные плоды *.
Эта октава прозаична; обычнейшее явление измельчено
ненужными уточнениями и классификацией, достойными
анатома, а не поэта. Тассо, например, концентрирует все
в одной-единственной строке, рисует поле боя в одном
образе:
Вползает прах в бескровные тела.
Прозаично повествование и в следующей октаве:
Струилася ручьями кровь людская
И смешивалась с кровью лошадей,
Все больше поле брани наводняя,
И пыль и дым скрывали все сильней
Воителей, и, кровью истекая,
Бежали те от гибели своей
И наземь падали, и вновь вставали,
И лошадей бессильных погоняли.
(«Тезеида», VIII, st. 87)
Мотив, связанный с кровью,, проанализирован здесь
столь подробно и уснащен таким количеством пустых,
незначительных мелочей, что уже не производит впе-
чатления. После великой сдержанности, динамичности,
насыщенности стиха Данте и Петрарки, воцаряется мно-
гословие, расплывчатость, вульгарность. Если обратиться
к аналогичным описаниям у Ариосто и у Тассо, то мы
найдем те же мотивы, но они поданы живо, динамично,
полны чувства и значения. В двенадцатой песне2 Бок-
каччо описывает красоту Эмилии,*ее волосы, доходящие
до бедер, даже до пят; он подробнейшим образом описы-
вает все части тела и, уподобляясь землемеру/отмечает
1 «Teseida», песнь VIII, 86 («Opere», cit., vol. IX, p. 289). Ссылка
на Тассо (см. ниже) «Gerusalemme liberata», XX, 52.
2 Ibid., песнь XII, 53—64. Две дальнейшие цитаты ст. 5—8
из 55 октавы и 54 октава («Opere», cit., vol. IX, p. 421).
362
не только их качество, но и величину. О ее ресницах он
говорит:
Они всего
Черней и тоньше, и в соседстве с ними
Еще прозрачней кожи белизна,
Да и не больше должной их длина.
Столь же прозаично .звучит и октава, посвященная
волосам:
Ее златыми волосы казались,
Она, замечу, не нооила кос,
Но волосы ее с расческой знались.
И им неведом был и чужд хаос,
И обнаженных плеч они касались,
И не было других таких волос.
И украшала их обыкновенно
Она своей короной драгоценной.
Эти стихи немощны, а их звуковая сторона слишком
вялая и приглушенная.
8. «Тезеида» была посвящена Фьямметте: Боккаччо
описал в ней, прикрываясь греческими именами, подлин-
ную историю своей любви. Но сложность сюжета и ли-
тературные условности оказались сильнее, автор был
вынужден взяться за эпический жанр, для которого он
не был рожден. Удачнее получился у него «Филострато»:
здесь греческая, троянская основа воспроизведена, каза-
лось, точнейшим образом, но насквозь пропитана совре-
менностью. Намек на новую действительность содер-
жится не в том или ином факте, как в «Тезеиде», а в
самом духе произведения. Томление Троила, ухищрения
Пандара-сводника, слабеющее сопротивление Гризеиды,
все более волнующие перипетии счастливой любви, на-
стойчивые ухаживания Диомеда за Гризеидой, его успех
в любви и отчаяние Троила — все это связано с эпиче-
ским или рыцарским жанром лишь постольку, поскольку
действующие лица носят соответствующие имена. В дей-
ствительности же это — страницы из закулисной жизни
неаполитанского двора, картина жизни городского со-
словия, протекающей где-то посредине, между грубой
наивностью простонародья и идеальной жизнью феода-
лов и рыцарей. Здесь впервые любовь, разорвав пла-
тонические покровы, выступает во всей реальности
363
и независимости, без сопровождения своих давних спутни-
ков— чести и религиозного чувства; и это уже любовь
не простонародная, а любовь буржуазная, то есть ра-
финированная, полная нежности и томления, воспитан-
ная культурой и искусством. Поскольку возвышенные
чувства, связанные с общественной жизнью и религией,
отсутствуют, то поэзия сосредоточилась на частной
жизни; последняя же сводится к голой прозе, если цель
жизни —одна нажива, и облагораживается через лю-
бовь. Идеальное в частной жизни, серьезную и прозаи-
ческую сторону которой олицетворяет купец, — это лю-
бовные наслаждения, полное отрешение от почестей и
богатства. Боккаччо достиг этого идеала в своей жизни,
когда отказался заниматься торговлей и посвятил себя
ученым занятиям и любви.
Описав нежнейшими октавами пылкие страсти Трои-
ла и Гризеиды, еще находясь во власти своих фантазий,
поэт восклицает:
Пускай мозгами пораскинут скряги,
Которые влюбленных зло бранят
И каждого, кто не имеет тяги
Природной к накоплению деньжат,
И попытаются понять, бедняги,
Что радостей богатства не сулят,
Сравнимых с теми, что предоставляет
Любовь, когда удачливой бывает.
Они ошибки не признают, нет,
И так же будут ухмыляться криво,
Болтая, что любовь — безумный бред.
Но если вдруг придется им с наживой
Расстаться и остаться без монет,
Они поймут, что не была счастливой
Их жизнь. Ну что ж, пусть, как хотят, живут,
И пусть влюбленные свое берут К
В этих разболтанных, неровных октавах, значительно
уступающих прекрасным стихам предыдущего отрывка,
поэту гораздо легче описывать, нежели рассуждать; и
все-таки в них чувствуешь теплоту, особенно удачна
концовка, подсказанная таким стремительным взлетом
воображения, что у Боккаччо встретишь не часто.
1 «Filostrato», HI. 3.8—39, «Ореге», cit., vol. XIII, p. 93.
364
В плане эпическом этот рассказ представляет собой
новеллу, содержащую все положения, обязательные для
любовных историй: тут и первый огонь желаний, и вме-
шательство соболезнующего друга, и неуступчивость
женщины, и рафинированные наслаждения, и разлука
влюбленных, обещания, клятвы и обмороки женщины,
ее склонность к измене, жалобы и ярость обманутого
любовника.
Несмотря на античный лоск, повсюду проглядывает
внутренний мир Боккаччо, с его изнеженно-чувственным
воображением и склонностью к комизму и сатире. О не-
верности Гризеиды он говорит в стихах, рисующих порт-
рет женщины:
Непостоянна женщина младая,
Она во многих сразу влюблена,
И, зеркалу не больно доверяя,
Кичится юностью своей она.
Красавица она, но не такая,
Как в том она сама убеждена.
И добродетели она не служит,
И как листок, гонимый ветром, кружит 1.
Гризеида сменила Беатриче и Лауру, любовь чув-
ственная любовь платоническую, раньше главным было
стремление души улететь на свою родину, на небо, те-
перь— это радости плоти. Переворот свершился. На
смену Данте пришел Боккаччо.
9. В «Любовном видении» противоречие между ста-
рым и новым приобретает форму бессознательной паро-
дии. Боккаччо подражает «Комедии» во всем: и в са-
мом замысле, и в его выполнении. Ему тоже является
видение. Он тоже встречает прекрасную женщину, кото-
рой суждено вести его ввысь, к «Началу и причине всех
отрад»2, наставить на путь духовного здоровья и покоя.
Но если в «Комедии» происходит переход от тела к духу,
вплоть до высшего Блага, в котором все человеческое
обожествлено или одухотворено, если в «Комедии» выс-
шее благо — это наука и созерцание, то здесь цель
жизни — человеческое, наука же — ее начало, а конеч-
1 «Filostrato», VIII 30, «Ореге», cit., vol. XIII, p. 253.
2 «Ад», I, 78. Далее использованы еще два выражения Данте:
«Когда я к духу вознеслась от тела» («Чист.», XXX, 127) и «звался
Всеблагой» («Рай», XXVI, 134).
365
НЫЙ объект — любовь. Вот как описывает ВоккаччО
пробуждение от сна:
Тогда я вдруг очнулся, пораженный,
Простер объятья, и казалась мне,
Что снова в них была моя мадонна т.
Рай в представлении Боккаччо — это храм человеч-
ности, благородный замок, напоминающий ДантовЛимб,
со множеством великолепных залов, разрисованных, как
стены чистилища. В этих картинах изображена вся исто-
рия человечества. Данте взывает к музам', к гению2, а
Боккаччо — к Венере:
О мудрая богиня, услужи!
Ты правишь третьим небом, ты — святая;
В меня свою уверенность вложи.
К замку ведет узкая лестница, а на небольшой двери
его написано:
...небольшие двери
Ведут к дороге жизни, чьи ступени
Вначале не внушают вам доверья.
В конце подъема — вечное забвенье,
Спешите вверх, и пусть восторжествует
Душа над плотью, утонувшей в лени.
Вот мы в первом зале. Здесь изображены семь наук,
философы, поэты — так же, как у Данте в Лимбе. Вся
пятая песнь посвящена Вергилию и Данте, о котором
он говорит:
Вот флорентинец Данте Алигьери,
Он блага и мученья описал
И смерть великую в блестящем стиле,
И он при жизни музам славу дал,
И здесь они ему не изменили.
(«Amorosa visione», V, 84—88).
Из зала Муз мы проходим в зал Славы. Перед на-
ми— множество знаменитостей, ^как бы картина истории
1 «Amorosa visione», XLIX, 46—48, «Opere», cit., vol. XIV, p. 198.
«Благородный замок», о котором говорится несколько ниже: ibid.,
canto II, p. 9.
2 «Ад», II, 7—9: «О Музы, к вам я обращусь с воззваньем:
О благородный разум, гений свой Запечатлей моим повество-
ваньем!» Обращение к Венере см, в «Amorosa visione», И, 1 и ел.
366
мира. От Сатурна и Юпитера мы переходим к эпохе
гигантов и героев, затем — к мужчинам и женщинам,
прославившимся во времена Греции и Рима; наконец,
появляется вокруг Артура и Карла Великого все рыцар-
ство, вплоть до" последнего своего представителя Фрид-
риха II; мы замечаем здесь и Карла Апулийского, и
Конрадино, и Руджиери ди Лориа, и Манфреда.
Поэт блистает своей богатой эрудицией, стараясь не
столько пояснять приводимые примеры, сколько приу-
множать их. Вот почему ни один из выведеннных им
персонажей не дошел до нас таким живым, какими до-
шли «Гомер» и «Аристотель» из Дантова Лимба и «Го-
мер» Петрарки \ В заключение мы попадаем в зал
Амура и Венеры. Подобно тому, как ранее перед нами
была развернута история, здесь подается мифология;
мы узнаем о любовных похождениях Юпитера, Марса,
Вакха, Плутона, Геркулеса. Затем описывается любовь
Ясона, Тезея, Орфея, Ахилла, Париса, Энея, Ланселота.
Наука, слава, любовь — вот в чем жизнь, если не
вмешивается Фортуна, сражающая Цезаря или Помпея
в момент наивысшего счастья. А по прошествии всех
кругов жизни — веселие или блаженство; но его зна-
менует не пляска священных огней по случаю торже-
ства Христа или ангелов, а полные страстной неги танцы
магометанского рая или неаполитанских нимф в Байе.
Поэт влюбляется, но в момент, когда он предается
любовным утехам и держит в объятиях любимую, он
просыпается и его руководительница ему говорит:
...все, чем во сне
Фантазия твоя располагала,
Получишь ты 2.
Пока видение рассеивается, она препоручает поэта
заботам «хозяйки покоя» — Любви.
С помощью тех же средств и по тому же плану, ка-
кими пользовался Данте, Боккаччо удается отстоять со-
вершенно обратную концепцию — прославления плоти,
в коей заключены отдохновение и покой. Эта новая «бо-
жественная комедия» выведена из сферы сверхъесте-
1 См. «Ад», IV, 86—88, 130—132 и «Trionfo della Fama», III,
10—16.
2 «Amorosa visione», I, 13—15, ed. cit., p. 201. По поводу выра-
жения «хозяйка любви» (ниже) см. финальный стих поэмы.
367
ственного, в которую Данте поместил все человечество,
себя самого и свою эпоху, очеловечена, превращена
в реальный замок, прибежище культуры и любви.
Однако Боккаччо не видел, что созерцательность и
аллегория, столь естественно сочетавшиеся с мистикой,
со сверхъестественным, плохо вязались с сугубо земной,
действенной жизнью, противоречили его поверхностному
мышлению, лишенному глубины и веры в идеалы, а по-
сему впадал в монотонность, многословие и вульгарность.
Сегодня по прошествии многих веков трудно понять,
почему он сразу же не нашел своего жанра, который
заключался в изображении жизни в ее непосредственных
проявлениях, без всякой оболочки, — не только теологи-
ческой или схоластической, но и мифологической или
рыцарской.
Процесс очеловечивания шел медленно, даже когда
это касалось индивидуума: прежде чем найти себя, он
проходил через множество испытаний и колебаний.
Боккаччо, друживший с музами так же, как и его
современники, считал, что «предметы низменные не мо-
гут сделать человека образованным» и что для этого
нужны «более высокие занятия». А под высокими заня-
тиями подразумевались латынь и греческий, знание ан-
тичности. Больше всего он гордился своей обширной
эрудицией, благодаря которой он считал себя выше
Данте и даже выше своего Сильвано — Петрарки.
Эпические формы, введенные Вергилием и Стацием,
лирические формы Данте и Петрарки были освящены
традицией и почитаемы; и Боккаччо решил, вложить
в них тот прозаический мир, которым жил сам. В своих
ранних произведениях он к великому удовольствию своих
современников поставил на первый план греко-римскую
античность, с ее мифологией и историей. Рассказы о любви
Троила и Гризеиды, Арчиты и Палемона пересекли Альпы
и оплодотворили воображение Чосера 1\ исторические и
мифологические сцены его видения вдохновили многих
авторов «Мудрецов» и «Храмов». Если почитать «Reali
1 Об успехе Боккаччо за пределами Италии говорится в книге
Emiliani-Giudici «Storia della lett. italie», cit., I, p. 324, но
наиболее вероятно, что, говоря о переводах Боккаччо на француз-
ский язык и о влиянии его на Чосера, Де Санктис имел в виду со-
ответствующие высказывания Жэнгене (Ginguene, «Histoire litte-
raire d'ltalie», Milan 1820, III, pp. 101 и ел.),
368
di Francia» и многие другие жалкие переводы модных
в ту пору французских романов, то можно понять, от-
чего таким великим чудом показались современникам
«Тезеида», «Филострато» и «Филоколо».
В своих «Rime» («Стихах») Боккаччо тоже предстает
как человек, вступивший в схватку с устаревшими фор-
мами. Мы находим в них традиционный репертуар:
влюбленность, вздохи, желание, раскаяние, обращение
к богу и Мадонне, но замечательное лирическое един-
ство поэтического мира Данте и Петрарки нарушено,
всякая идеальность исчезла. В прежние формы вложено
совершенно иное содержание, которое плохо с ними ужи-
вается. Женщина все еще именуется ангелочком, но что
это за ангел! Это уже не сосредоточенная, скромная, по-
детски наивная Биче, не целомудренно гордая Лаура,
а красавица, которая.
Среди тенистых тысячи дерев
В своей одежде легкой и красивой...
расставляет сети
И глазками и болтовней игривой... '
Перед нами хорошенькая, кокетливая женщина, какую
можно встретить в обычной жизни, и рассеянный влюб-
ленный; он то вздыхает о сугубо земных радостях,
по традиции платонически, то оплакивает своего милого
ангела, то обрушивается на соперников, рассуждает
о смерти, о судьбе и ополчается против женщин:
Не женщины они — одно несчастье;
Без жалости, без веры, без любви:
Им нравится доверчивых мытарить2.
Чтобы точнее представить себе эту дисгармонию тра-
диционной формы и нового содержания, взглянем на
следующий сонет:
На лодке милая моя каталась,
Другими лодками окружена,
И пела песню новую она,
Как только песня старая кончалась.
1 «Rime», sonetto XXXVIII, 1—2 и 4 («Ореге», cit., vol. XVI,
p. 65).
2 «Rime», sonetto XXXV, 12—14, ed. cit., p. 64. Ниже цитируются
сонеты XXXII и XII, ibid, pp. 62, 52.
24 Де Санктис 369
И лодка то у берега качалась,
То подле островов была видна,
И милая моя средь всех одна
С небес сошедшим ангелом казалась.
И сам я видел, следуя за ней,
Что любовалися неравнодушно,
Как новым чудом, ей со всех сторон.
И пробуждалися в душе моей
Все чувства, но, Амуру непослушна,
Не знала милая, как я влюблен.
Начинается сонет хорошо — свободно, свежо, хотя
по технике несколько небрежно. Молодые девушки едут
на лодке в гости к подругам и поют; народ ими лю-
буется... Перед нами истинно неаполитанская сцена; мы
живо представляем себе Байю — место тайных встреч,
вызывающее ревнивую ярость поэта К Но прекрасную
сцену портит плоская концовка, где появляется все та
же Душа, все та же Любовь.
Кто хочет увидеть совершенно современный сонет,
в котором автор избавился от искусственной оболочки
и показал жизнь Байи, с ее негой и вольностями, пусть
прочитает следующие строки:
Усевшись на лугу у ручейка,
Где травы и цветы благоухали,
Три ангельских созданья обсуждали
Любовные дела наверняка.
В тени зеленой веточки слегка
Подружек кудри златом отливали,
И цвет на цвет взаимно набегали,
Послушные дыханью ветерка.
Потом я слышал, как одна спросила:
— Когда сюда явились в миг бы сей
Возлюбленные наши, что бы было?
Мы б убежали? — И сказали ей
Подруги: — Убегать? Сообразила!
Придумать трудно что-нибудь глупей.
1 «Чтоб ты сгинула, Байя» (Прим, авт.) — из IV сонета, ed. cit.,
p. 48.
370
Здесь ощущаешь подлинного Боккаччо, сочетающего
в себе чувственность и лукавство.
Шутки ветерка показаны так, как мог бы восприни-
мать их сатир, пожирающий взглядом свою добычу, а
циничная и такая неожиданная концовка начисто сни-
мает всякую идеальность и создает комический эффект.
Здесь Боккаччо находит себя. Его прозвали «Джо-
ванни от Спокойствия» за его бездумную жизнерадост-
ность, удерживавшую его от излишеств в страстях и
побуждавшую наслаждаться реальной жизнью, смаковать
ее. И хотя он воспринимал это прозвище болезненно,
как оскорбление, и с раздражением от него открещи-
вался \ в этом были его талант и его слава, а не в ще-
гольстве риторической формой, чувством и эрудицией.
Его прозвали также «Человеком из стекла» за быст-
рую смену впечатлений и решений, чему примером слу-
жат и его стихи в сборнике «Rime»; напрасно искать
в них органическое единство «Канцоньере» или пы-
таться обнаружить какой-нибудь замысел: поэт плывет
по воле своих впечатлений реальной жизни, зависит от
своих ученых занятий и классических реминисценций.
Тем не менее, несмотря на обилие плоских мест, мы
обнаруживаем в них высокое художественное чутье или,
как говорит он сам, «любовь к музам, которая спасает
его от ада» (адом он называет землю без муз). «Я ви-
дел»,— поет он,—
...как из лесу невдалеке
В зеленом показалася венке
И мне навстречу устремилась нимфа.
И молвила она: тг-Перед тобой
Та, что тебя навек прославить рада;
Пока я здесь, мгновение лови.
1 О недовольстве, которое Боккаччо высказывал в связи
с прозвищем «Iohannes tranquillitatum», которое дал ему Никколо
Аччайуоли, см. письмо, написанное им в 1353 г. Дзаноби да Страда.
Что касается второго прозвища — «Человек из стекла и внезап-
ности», о котором речь идет ниже и которое было ему дано Фран-
ческо Нелли, см. знаменитое письмо «Lettera al Priore di S. Apos-
tolo, spenditore a Napoli del Gran Siniscalco Acciaiuoli», упоминае-
мое также ниже. Оба письма опубликованы в «Ореге», cit.,
vol XVII, pp. 101 и ел. и 37 и ел.
24*
371
Вставай, идем! — Послушный речи той,
Поднялся я и, за пределы ада
Ступив, попал на празднество любви !,
Этим высоким художественным чутьем подсказан со-
нет о Данте, написанный с такой серьезностью и со
столь необычной для него силой, что даже начинаешь
сомневаться, он ли его автор:
Я Дант, Минерва, темная в ученьи
И слабая в искусстве, и о том,
Чего достиг я собственным умом,
Как о природном чуде ходит мненье.
Прошло моей фантазии паренье
Вначале тартар, небеса потом,
И мой читают благородный том
Для духа и для времяпровожденья.
Флоренция — моя родная мать,
Но стала мачехой она постылой
Для сына, дав его оклеветать.
Меня Равенна в ссылке приютила,
Ей'—тело, душу Бог успел прибрать,
И зависть пред согласьем отступила.
10. То же несоответствие между формой и содержа-
нием мы обнаруживаем и в таких произведениях, как
«Фьямметта» и «Ворон или Лабиринт Любви» («СогЬас-
cio»). Оба они написаны в совершенно новом жанре и
по содержанию сугубо современны. «Фьямметта» — это
психологический роман; молодая женщина, которую лю-
били и бросили, сама рассказывает свою историю, под-
вергая свои переживания тончайшему психологическому
анализу. «Ворон» — сатира, которую мстительный писа-
тель, пострадав от женского вероломства, направил про-
тив женского пола. Темы выбраны весьма удачно. Автор
поворачивается спиной к средневековью и кладет на-
чало современной литературе. От мистики, теологии
1 «Rime», sonetto XVIII, 6—14, ed. cit., p. 60. — Приводимый да-
лее сонет о Данте — CVIII, ibid., p. 103.
372
и схоластики Не осталось и следа. Мы на земле, перед
нами во весь рост человек и природа. Страницы сокро-
венной истории человеческой души во «Фьямметте» по-
даны в серьезной, непосредственной форме, а в «Во-
роне» в форме негативной и сатирической. Литература
носит уже не трансцендентный, а имманентный характер,
иными словами, рассматривает человека и природу не
в оторванной от жизни мифологической или аллегори-
ческой форме, а как нечто, существующее само по
себе.
К сожалению, Боккаччо не удается найти подходя-
щую форму для нового содержания. Для правдивого
изображения действительности ему достаточно было про-
никнуться ею и выразить свои впечатления с той же
естественностью и свежестью, с какой он их получал
сам. Он же, подходя к изображению действительности,
все еще поглощен эрудицией, историей, мифологией и
риторикой, а посему и рисует ее через старую призму.
Впечатление, доходя до его сознания, немедленно иска-
жается и становится неузнаваемым за той плотной
оболочкой, которая, правда, перестала быть теолого-
схоластической, но обрела еще более странную мифолого-
риторическую форму. Так возникла новая трансцендент-
ность — отрыв от реальности, причина которого корени-
лась не в естественном развитии религиозной и фило-
софской мысли, как то было прежде, а в направлении
на классицизм, взятом тогдашней культурой.
Фьямметта, покинутая Панфило, прежде чем пре-
даться стенаниям, заглядывает в Вергилия, чтобы вспом-
нить, как жалуется на свою судьбу покинутая Дидона,
полагая, что ей не положено изливать свою жалобу как-
либо иначе. А пытаясь утешиться и ища товарищей по
несчастью, она создает трактат по истории античного
мира, в котором повествует обо всех случаях несчастной
любви, выпавших на долю богов и героев древности.
Если она видит сон, то ищет толкования его у Овидия.
Желая дать понять, что ей стыдно говорить о наслажде-
ниях любви, она объясняет, что такое стыд и пространно
рассуждает о его влиянии на женщин. Она хочет изо-
бразить радость, надежду, страх, боль, гнев, ревность,
для чего подробно анализирует эти чувства, перечисляя
все главные высказывания Аристотеля»
373
Стоит посмотреть, как усердно поработал, памятуя
об учителях и школьниках, Сансовино 1, который снаб-
дил примечаниями этические и патетические пассажи
«Фьямметты», все случаи заимствования и ссылки на
источники. Данте,— «темная Минерва»2,— умел черпать
материал из реального мира,сквозь туман своих аллего-
рий, потому что был художником; он мог быть схоластич-
ным, но никогда не впадал в риторику; а Боккаччо ни-
как не удается выпутаться из искусственного мира и
изображать природу, ибо внутренняя жизнь его мысли
и чувства лишена глубины, что он старается компенси-
ровать преувеличениями и явными нагромождениями.
Что сказать о его описаниях, столь же подробных, как
и анализ? Они избиты, не подсказаны непосредственным
воздействием природы. Посмотрите, как он описывает
зиму, весну и осень, как изображает мужскую и жен-
скую красоту: точно держит в руках циркуль и линейку!
Вот почему роман получился таким многословным и
скучным, что, слушая бесконечные жалобы Фьямметты,
ожидающей Панфило, хочется сказать: «Панфило, возвра-
щайся скорее, чтобы нам больше не слышать ее стонов!»
11. Сатира на женщин — «Ворон» гораздо ближе
Боккаччо по духу. Но поскольку обманутым оказался он
сам, то и смех обращен против него самого, — осо-
бенно, когда он жалуется на то, что одной женщине
удалось обмануть его, писателя.
Он показывает себя здесь столь же мелочным, как и
в письме к Никколо Аччайуоли, которого Петрарка на-
зывал на греческий лад Симонидом3; в этом письме
1 Ни в одной из работ Франческо Сансовино нет упоминаний
о «Фьямметте»; не фигурирует роман Боккаччо и в вышедших под
его редакцией изданиях. По-видимому, Де Санктис имеет в виду
письмо, которое Сансовино предпослал своему изданию «Амето»
(G. Giolito, Venezia 1545 и 1558), в котором он разъясняет намере-
ния автора, сюжет произведения и настоящее имя героев; об этом
письме говорит также Бальделли (Baldelli, «Vita», cit., p. 49) и
Жэнгене (Genguene, «Histoire litteraire», cit., vol, III, p. 60).
2 См. сонет «Dante Alighieri son, Minerva oscura», приведенный
выше в этой главе.
3 В действительности «Симонид» Петрарки — это Франческо
Нелли; ему же адресовано письмо Боккаччо, уже упоминавшееся
выше, против Аччайуоли. Впервые опубликованное Бишони в «Prose
di Dante e del Boccaccio» (Firenze 1723, pp. 289 и ел.), это письмо,
сохранившееся в итальянском переводе, вошло в «Ореге»* cit., XVII,
pp. 37 и ел.
374
Боккаччо вопит по поводу того, что будучи, приглашен в
Неаполь ко двору, он получил отвратительную комнату
с прескверной кроватью и разражается ругательствами,
угрозами и сплетнями, которые звучат еще комичнее
в форме цицероновской прозы. И даже угрожая, ругаясь
и укоряя, он следовал латинским образам; точно так же
он поступает и в «Вороне»: в сатирическом тоне подает
историю, излагая известные высказывания античных по-
этов и перечисляя факты или выводя аллегории, он на-
громождает массу скучнейших рассуждений.
Сюжет книги весьма прост. Боккаччо, обманутый
одной женщиной, хочет пбкончить с собой, но страх по-
пасть в ад удерживает его от самоубийства и, вняв бла-
горазумию, он решает остаться жить и отомстить за
оскорбление, но мстить не с помощью оружия, а, как и
подобает писателю, «подбирая рифмы» или «сочиняя
прозу» К Погруженный в эти мысли, он засыпает и во
сне попадает в Лабиринт любви или Заколдованную
долину2, напоминающую Дантов лес, где ему является
тень мужа изменившей ему женщины, который в чисти-
лище искупает свою вину, — долготерпение по отноше-
нию к жене. Сей муж перечисляет Боккаччо недостатки,
присущие женщинам, в том числе и его собственной
жене. Отведя таким образом душу, он ведет поэта на
вершину высокой горы, откуда видно то место, где ла-
биринт соединяется с адом. Вид ада излечивает Бокка-
ччо от неправильного понимания любви.
Из сказанного видно, что эта сатира не художествен-
ное произведение, а нечто вроде морального трактата
о женских пороках. Тем не менее в книге встречаются
удачные выражения, небольшие изящные новеллы, яр-
кие описания женских нравов; очень удачно исполь-
зуется в ней флорентийский диалект. Автор рассказы-
вает, например, какова женщина в церкви: «Заведет
свой «отче наш» и бубнит без толку, точно четки то од-
ной, то другой рукой перебирает» 3. Или так описывает
1 См. «Corbaccio» в «Opere», cit. vol. V. p. 249: «Лишь бы хва-
тило мне времени на то, чтобы подобрать рифмы или сочинить
прозу».
2 Ibid., pp. 167—168: «Одни называют это Лабиринтом любви,
другие же Заколдованной долиной».
3 Ibid., p. 232.
375
женщину, допекающую мужа ревностью: «...болтает без
умолку, не останавливаясь, без конца, и пилит, пилит
его с утра до вечера, да и ночью тоже покоя не дает».
В этих перебранках раскрывается подлинное даро-
вание Боккаччо, его неотразимый юмор, облеченный
в на редкость удачную языковую форму, заимствован-
ную из диалекта, который к этому времени уже созрел,
отличался живостью, изяществом, изобиловал меткими,
остроумными словечками и поговорками. Приведем не-
сколько цитат:
«Ты думаешь, я ослепла и не знаю, за кем ты бе-
гаешь, с кем милуешься, с кем день-деньской воркуешь?
Бедная я, бедная, ведь я давно к тебе пришла, а ты
хоть бы разок сказал мне — любушка, добро пожало-
вать. Но, вот тебе святой крест, я тебе заплачу той же
монетой. Иль я тоща? Иль не так пригожа, как та?
Знаешь, что я тебе скажу: если кто двух целует, значит
от одной из них дурно пахнет. Отойди! Даст бог, ты ко
мне больше не притронешься. Иди, бегай за теми, что
тебе подстать, а я для тебя слишком хороша; ты ж
каким был, таким и останешься. Чему быть, того не
миновать» К Это уже написано языком, достойным
Плавта, «Ворон» изобилует такими сценами, достой-
ными автора «Декамерона».
Среди множества грехов, которые обманутый муж
и осмеянный любовник приписывают женщине, фигури-
рует то, что она «вместо «отче наш» читает француз-
ские романы и, запершись у себя в комнатах, млеет над
«Ланселотом» иль «Тристаном», зачитывается "канцо-
ной с игрой слов, историей Флорио и Бьянчефьоре и
тому подобными вещами» 2.
Это — ценнейшие сведения о той светской литера-
туре, которая хотя и была в ту пору под запретом, но
пользовалась большим успехом. Однако если уж говорить
о «грехе», то главным «греховодником» следовало считать
самого Боккаччо, который, чтобы угодить дамам, писал
романы. Впрочем, надо полагать, что они с большим
удовольствием читали первоначальный французский ва-
риант, нежели литературную имитацию, созданную
1 «Corbaccio», cit., p. 189. Цитата дана с некоторыми сокра-
щениями.
2 Ibid., p. 233.
370
Боккаччо под названием «Филоколо», где Бьянче
фьоре (Бланшфлер) зовется на итальянский манер
Бьянкофьоре. Женщинам было мало дела до мифоло-
гии и древней истории; если богатая эрудиция автора
и его упражнения в риторике могли восхищать Пилато,
учившего Боккаччо греческому языку, или латинистов и
эллинистов — тогдашних литераторов, то женщины, ко-
торые искали в книге удовольствия, не особенно це-
нили его произведения; «хуже того, они втаптывали
в грязь и осмеивали Аристотеля, Цицерона, Вергилия,
Тита Ливия и многих других знаменитых людей, кого
он считал своими друзьями и близкими» К По правде
говоря, женщины со свойственным им здравым смыслом
могли лучше судить о литературе, чем Леонцио Пилато
и все прочие ученые мужи.
12. Те, что прозвали нашего Джованни «спокой-
ным», сами не понимали, сколь глубокую мысль они вы-
разили. Именно спокойствие характеризовало то новое
содержание, которое он облекал в языческие формы.
Литература средневековья была далеко не спокойной;
напротив, она была проникнута духом беспокойства,
постоянным стремлением к потустороннему, отсутствием
.надежды когда-либо к нему приобщиться. Человек сред-
невековья — лишь гость на Земле; горящий неистреби-
мым желанием взор его устремлен ввысь. Человек Бок-
каччо, напротив, пребывает в идиллическом спокойствии,
и взгляд его обращен к матери-земле, от которой он
требует — и добивается —- удовлетворения своих же-
ланий.
Но Боккаччо не нравится, когда его называют спо-
койным: он не понимает, что секрет его успеха — в его
жизнерадостности. Он пробует силы в героическом и
рыцарском, а также в лирико-трагическом жанре — ис-
поведь Фьямметты. То были обреченные на неудачу
попытки человека, еще не нашедшего своего пути. Ему
1 См. «Corbaccio», cit., p. 236. Приведенный отрывок дан в. воль-
ном изложении. У Боккаччо он звучит так: «Твои музы, столь то-
бою любимые и почитаемые, здесь были названы безумными, а все,
что ты написал, — бредом сумасшедшего; хуже того, Аристотель,
Туллий, Вергилий, Тит Ливии и многие другие знаменитые люди,
коих ты, как я полагаю, считаешь своими друзьями и близкими,
были ими втоптаны в грязь, осмеяны, изничтожены, точно шелуди-
вые овцы».
377
с его пристрастием к изображению деталей не дано опи-
сывать отвлеченные предметы. Не дано ему и вздыхать:
слишком он любит перечислять одно за другим проявле-
ния чувств. Героическое и трагическое не гармонирует
с его идиллической, чувственной натурой, поэтому все,
созданное им в этом жанре, получилось фальшивым и
риторичным. Боккаччо еще не удалось создать свой
цельный, органичный и гармоничный мир. В изображае-
мый им эпико-трагико-рыцарский мир проникает некий
инородный дух, оказывающий разлагающее действие,
что заведомо исключает создание художественно полно-
ценного произведения; то — дух языческого натура-
лизма, дух непреоборимый, ибо он один живет в его
душе и определяет содержание его внутреннего мира.
И только тогда, когда Боккаччо удается отразить этот
дух во всей его простоте и достоверности таким, каким
он живет в его душе, — лишь тогда он находит себя и
становится художником. Этот боккаччиев мир, кое-где
беспорядочно вкрапленный в его эпические и трагиче-
ские романы, выступает в чистом виде во «Фьезолан-
ских нимфах» и в пасторали «Амето».
13. Здесь автор, простившись с рыцарством и с ге-
роической эпохой, воссоздает с помощью воображения
описанные в старинных преданиях идиллические вре-
мена золотого века, когда боги запросто спускались на
землю, населенную нимфами, пастухами, фавнами и са-
тирами. Мифология выступает здесь не в форме бро-
дячих элементов, остающихся в произведении .инород-
ным телом, а как главное содержание.
Этот примитивный мифологический мир — гимн при-
роде. Во «Фьезоланских нимфах» нимфа Дианы, под-
давшись зову природы, нарушает обет и за это превра-
щена в ручей. Самая соль рассказа — сладкий грех,
в который впадают Африко и Мензола; их грехопаде-
ние— не результат испорченности или распущенности;
такова непреоборимая сила природы; они — безыскус-
ственны и невинны, как сама жизнь, и даже Диана,
узнав о случившемся, проникается к ним жалостью.
Вскоре после этого появляется Атлант; с помощью
сына Мензолы он разрушает храмы Дианы, нимф на-
сильно выдает замуж и сооружает город Фьезоле, поло-
жив этим начало эре цивилизации и культуры. Так гиб-
нет мифологический мир с его дикими установлениями
378
и начинается цивилизованная жизнь в согласии с зако-
нами природы и любви.
Рассказ делится на семь частей или песен и ведется
в октавах. Автор больше не вынужден пыжиться или
изощряться в описании тонких чувств; нежно' убаюки-
ваемый воображением, он погружается в идиллический
мир, описывает картины природы, сцены семейной жиз-
ни, пастушеские нравы с легкостью, подчас граничащей
с небрежностью, но никогда не переходящей в аффек-
тацию или утрировку. Вместо боевой трубы — свирель,
издающая гораздо более скромные, но более ровные и
гармоничные звуки; октава льется плавно и естественно,
подчас чуть замедленно; встречаются хорошие подража-
тельные стихи. Африко и Мензоле пора расходиться,
уже поздно, и поэт говорит:
расстаться не решались,
Сходились вновь, и шли, и возвращались 1.
В другом месте Боккаччо отмечает:
Глядел и слушал, силясь в нашряженье
Почуять каждой нимфы приближенье.
Боккаччо нередко допускает перебой строки в сере-
дине, и это проникновение одной строки в другую, кото-
рое так мешало его «героическим» октавам и нарушало
их цельность, делает идиллические октавы естествен-
ными и изящными. Поэтическая фраза, скачущая и за-
путанная в «Тезеиде», здесь льется гладко, стреми-
тельно; в ней слышится естественная разговорная инто-
нация:
Не он, она увидела сначала —
И полем тотчас в ужасе спешит.
Тут он услышал, как она кричала,
Взглянул, — она взывает и бежит, —
И мысль его как светом осияла:
«Ведь это — Мензола!» Он вслед летит,
Ее зовет и молит, именуя:
«Постой, постой, тебя ведь так люблю я!»
1 «Ninfale fiesolano», V, 54 в «Ореге», cit, vol. XVII, p. 211.
Ниже следуют цитаты из ibid., II, 26—27; vol. cit., pp 36—37. Здесь
и далее «Фьезолан^кие нимфы» даются в переводе Ю. Верховского,
Поэты возрождения, Москва, 1955 г., стр. 142, 66, 79 и 95.
379
Африко спит; отец его говорит жене, Алимене:
И он сказал старушке: «Дорогая
Жена, сынок, сдается мне, уснул,
Лежит в постели, тихо отдыхая,
И разбудить его я не дерзнул:
Грешно, и шутка вышла бы плохая,
Когда б теперь я сон его спугнул».—
«Конечно, — отвечала Алимена, —
И не тревожь: ведь сила сна бесценна».
Не хватает значительности, четкости; чрезмерная нату-
ралистичность влечет к тривиальности и примитиву.
Настоящий художник, который окунется с головой в
этот пока едва намеченный, но все-таки уже возникший
мир природы и любви и облечет его в четкую, совершен-
ную форму, придет позднее.
Аналогична по контурам, но более обширна по
объему пастораль «Амето». Это — торжество природы
и любви над варварством древних времен. Варварство
олицетворяет здесь не нимфа Дианы, а пастух, оби-
тающий в лесу с фавнами и дриадами; он спускается
с альпийских высот на равнину и приобщается к куль-
туре. Поначалу действие происходит во Фьезоле, —'
местности, в древние времена именовавшейся Корито;
в ту пору там еще жили нимфы, — это было до того, как
появился Атлант, который их прогнал и ввел человече-
ские обычаи. Таким образом, между «Амето» и «Фье-
золанскими нимфами» устанавливается преемствен-
ность.
Однажды, устав на охоте, после долгих скитаний по
горам и лесам пастух Амето спускается со своими охот-
ничьими псами в долину, близ Муньоне. Отдыхая и за-
бавляясь с собаками, Амето слышит нежное пенье; он
идет на голоса и видит много девушек, окруживших
красавицу Лию. Это нимфы, но на сей раз — служи-
тельницы не Дианы, а Венеры. В своей песне Лия пе-
редает историю «прекрасного и отважного охотника»
Нарцисса \ который, влюбившись в свое отражение,
отверг женскую любовь и был превращен в цветок.
1 «Ninfale d'Ameto», II, 23; «Opere», cit, vol. XV, p. 12,
380
Амето, задумавшись, удаляется, унося в сердце об-
раз Лии. Весной он вновь приходит в долину, разыски-
вает и зовет Лию, так описывая ее красоту и пригото-
вленные для нее дары:
Ты чище и прозрачнее стекла,
И винограда зрелого ты слаже;
Навек мое ты сердце заняла.
Как пальма вверх стремится, точно так же
Ты много грациозней и резвей
Ягненка непоседливого даже.
Гораздо ты прекрасней и милей,
Чем для телеэ усталых омовенье,
И чем огонь для мерзнущих, теплей.
Твои златые косы в упоеньи
Я сравнивал с соломою сухой:
Они — волос Цереры повторенье...
Приди, и дар тебе вручу желанный,
Поторопись, тебя с цветами жду —
Они прекрасны и благоуханны.
Еще я для тебя нарвал в саду
Черешни, — только б ты не опоздала:
Засохнут ягоды, имей в виду.
С черешней белой и с черешней алой
Попотчую тебя я миндалем,
И земляника ждать тебя устала.
И груши есть, и сливы, а потом
Прекраснейших птенцов на свете — горлиц
Тебе я вместе подарю с гнездом...1
Приближается праздник Венеры; к храму ее сте-
каются пастухи, фавны, сатиры и нимфы; Амето обна-
руживает Лию среди этих прекрасных девушек, чью
красоту он созерцает как опытный и благосклонный
судья. Все окружают пастуха, поющего хвалу Венере и
Амуру. Появляются другие нимфы — они кажутся Амёто
1 «Ninfale fl'Ameto», II, 61—72, 85—96; «Ореге», cit., pp. 26—27.
Эпизод с нимфами, о котором речь идет ниже, см, также р. 37.
381
«не женщинами, а богинями»; он восхищенно взирает на
их небесную красоту и, чувствуя, что из пастуха превра-
щается в нежного влюбленного, говорит: «Я, привыкший
ходить за зверем, недавно врасплох настигнутый лю-
бовью, превращусь во влюбленного, следуя за женщи-
нами»1.
Прекрасные нимфы усаживаются вокруг него, и он
поет Юпитеру хвалебный гимн, в котором славит свое
обращение.
Такова завязка романа; она уснащена изящными опи-
саниями женской красоты в присущей Боккаччо утоми-
тельно подробной манере. Лия предлагает, чтобы каж-
дая нимфа рассказала в песне свою историю и воспела
бы богиню, дабы «не«сидеть день-деньской без дела, упо-
добляясь иным лентяйкам».
Усевшись в кружок вокруг Амето, как вокруг вождя
или жреца, они повели свой рассказ. Их, нимф, семеро:
Мопса, Эмилия, Адиона, Акримония, Агапес, Фьямметта
и Лия; каждая служит своей богине (Палладе, Диане,
Помоне, Беллоне, Венере) и ей поет хвалу. В рассказах
нимф любовь и природа побеждают звериную дикость,
а на смену животной инертности приходит искусство
Паллады, Дианы, Астреи, Помоны и Беллоны, воца-
ряется культура и гуманность. Перед нами проходит вся
история цивилизации, начиная с Афин и кончая Этру-
рией, которой автор по праву гордится как колыбелью
новой культуры. Под конец возникает свет — единый и
тройственный; Амето смотрит на него; Мопса, протерев
ему глаза, снимает с них пелену, после чего он в трой-
ственном свете видит небесную и святую Венеру —; мать
чистой и интеллектуальной любви 2. Лия окунает его в
воды источника; сбросив звериную шкуру и смыв с себя
грязь, Амето почувствовал, что он «более не зверь, а че-
ловек»3 и «разглядел, каковы же те нимфы, что пона-
чалу понравились больше глазам, нежели разуму, а
ныне более разуму нравятся, чем глазам; узрел их
храмы и богинь, коих они воспевали, понял, какова их
любовь, и немало про себя устыдился за грешные свои
мысли». Нимфы, каковые суть не что иное, как науки
1 «Ninfale d'Ameto», II, p. 49. Следующая цитата см. ibid., p. 58.
2 См. «Ninfale d'Ameto» в «Opere», cit., p. 186, 189.
3 См. ibid., p. 194.
382
и искусства цивилизованного общества, возвращаются
к себе на небо, а Амето поет о том, как он перестал быть
дикарем.
Совершенно очевидно, что подобный замысел мог
родиться лишь в голове нового человека, человека, нахо-
дившегося под влиянием всех многообразных элементов
тогдашней культуры. Весьма ощутимы здесь реминис-
ценции, связанные с «Божественной комедией». Лия и
Фьямметта напоминают Мательду и Беатриче. Концеп-
ция, по существу, та же, что и у Данте; это — идея ос-
вобождения человека, который, пройдя через чувствен-
ность и плотскую любовь, с помощью науки возвы-
шается до любви к богу. Аллегорическая форма (а фи-
гуры, выведенные Боккаччо, — не более, чем символы
определенных понятий, образы отдельных разумов,
управляющих звездами и движениями души) тоже напо-
минает о Данте.
Но мифологическая оболочка, в которую Боккаччо
облекает свой рассказ, ее натурализм, сплошь и рядом
переходящий в непристойность, есть отрицание аллего-
рии. В голове писателя, происходит поединок между Апу-
леем и Лонгом, с одной стороны, и Данте — с другой1.
Роман, который по замыслу должен, был получиться
«спиритуальным», в действительности передает живое
чувство прекрасной природы и описывает любовные
услады. В принципе молодой писатель всей душой с Дан-
те, но голова его забита мифологией, греческими и
французскими романами, игривыми похождениями, и он
из всего этого делает смесь. Однако если и есть в этой
скучной книге что-нибудь занимательное, то лишь те ме-
ста, в которых писатель следует своей натуре; напри-
мер, смешной рассказ Акримонии о ее старом муже, в
нем мы узнаем бедного доктора, у которого Паганино
украл жену2; или зарисовки идиллических сцен и неж-
ных чувств.
1 Аналогичную мысль высказал Кардуччи в упомянутом вы-
ступлении о Боккаччо: «Здесь любовная идиллия, подсказанная са-
мой природой, переплетается с историей происхождения Рима,
а чувственные сцены на лужайках и на берегах ручьев так же
дикарски чисты, как в «Дафнисе и Хлое». (См. «бреге», cit., I,
р. 275.)
2 «Ninfale d'Ameto», cit., p. 106: «Хилый молодой человек,
совсем для меня не подходящий». О Паганино см. «Декамерон»,
II, 10: «Таким чахленьким и хиленьким вы мне кажетесь».
383
И все же в этом негармоничном произведений ясно
звучит молодое увлечение культурой и человеком.В нем
дает о себе знать новая эпоха, избавляющаяся от гру-
бого варварства и уверенно встающая на путь создания
более культурного и совершенного общества. Амето
сбрасывает грубую одежду средневековья и, руководи-
мый музами, приобретает благородный, человеческий об-
лик. Тени мистицизма рассеиваются в храме Венеры.
Данте воспел возрождение души на том свете. Боккач-
чо воспевает воцарение культуры после многих лет вар-
варства. Таков дух нового времени, впитав который по-
явятся позднее Лоренцо Медичи и Полициано.
14. Окинув единым взглядом все эти произведения,
мы можем четко определить характерные черты новой
культуры. Идеи в принципе остаются неизменными: об-
раз мыслей Боккаччо — тот же, что и у Данте. Но в дей-
ствительности человеческий дух покидает небо и обосно-
вывается на земле; он утрачивает свою идеальность и
беспокойство, обретает покой, полностью погружается
в материю и добивается удовлетворения своих желаний.
На смену лирическому миру неясных устремлений,
выражавшихся в видениях и экстазах, приходит мир эпи-
ческий, исчерпывающий себя в конкретных фактах чело-
веческой жизни. Поэт вместо того чтобы идеализиро-
вать, материализирует, иными словами, избегает синте-
тических форм, увлекающих дух в потусторонние сферы,
и изыскивает такую форму, в которой воображение на-
шло бы себе простор. Нет больше ничего предполагае-
мого, кажущегося, смутного, как бы оболочки чего-то
иного; есть законченная, замкнутая в себе, явственно
осязаемая форма, в которой предмет подвергнут деталь-
ному анализу; терцине наследует аналитическая октава.
Вернее, терцины, видения, аллегории, сонеты и кан-
цоны остаются, но носят чисто условный, подражатель-
ный характер, ибо они оторваны от своей питательной
почвы. Прошлое продолжает существовать в новом, из-
менившемся мире в виде отживших мертвых форм. Но
на смену им приходят молодые и новые формы, более
соответствующие эпическому содержанию. Над беспо-
койным миром аллегорий и видений вырастает безмя-
тежный и спокойный языческий мир с его очеловечен-
ными божествами, с его одушевленной природой, живым
чувством прекрасного и бескорыстным стремлением
384
к художественному созерцанию. Эти тенденции не нахо-
дили себе применения в произведениях с героическим и
рыцарским содержанием, ибо героическая, рыцарская
жизнь канула в прошлое вместе со средневековьем, не
отражалась более в сознании людей, а посему сводилась
лишь к литературным подражаниям, к упражнениям в
риторике.
Гораздо больше подходила для этих новых форм
жизнь идиллическая; устав от политической борьбы, от
вечно тревоживших ее призраков иного, трансцендент-
ного мира, душа нашла в идиллической жизни, в ее без-
мятежности, простоте и ясности тихую гавань и обрела
покой.
Идиллия была первой формой, в которой проявило
себя новое поколение; это поколение при всей своей
культуре и эрудиции было слабым и усталым; оно назы-
вало предыдущее поколение варварским и, взывая к Ве-
нере и Амуру, приветствовало приход новой эпохи —
эпохи культуры и гуманизма. Боккаччо был «зеркалом»
этого общества, отразившим все его колебания и тенден-
ции, его стремление к подражанию. Характерная для
него неустойчивость и внутренние несозвучия происте-
кали из сосуществования в его душе элементов старого
и нового, живого и отжившего, перемешавшихся между
собой. Боккаччиев мир природы еще окутан как тума-
ном двойной оболочкой мистики и мифологии.
Но, будучи во власти этих колебаний, он уже вына-
шивал «Декамерон». В нем Боккаччо распрощался с
рыцарством, мифологией, аллегориями, со всем своим
классицизмом, реминисценциями из Данте, ограничил
себя рамками своего общества, стал жить его жизнью
и наслаждаться этим, ибо он был его частицей и нашел
в нем себя.
Казалось бы, нет ничего проще, как черпать мате-
риал непосредственно в обществе, в котором живешь, но.
из сказанного видно, какой долгий и трудный подгото-
вительный процесс был нужен для того, чтобы писатель
смог создать произведение, соответствующее своему
Духу.
15. Мир этот существовал уже до появления «Дека-
мерона». В Италии было много романов, новелл, «латин-
ских песен» вольного содержания. Женщины, как мы ви-
дели, тайком зачитывались этими фривольными книгами;
25 Ае Санктис
385
Новеллисты развлекали -веселые компании приятными
и пикантными историями.
Действие всех романов протекало на фоне приклю-
чений рыцарей Круглого стола и палладинов Карла Ве-
ликого. Боккаччо в «Любовном видении» называет мно-
жество таких героев и героинь: Артур, Ланселот, Гале-
от, белокурая Изольда, Кедино, Паламидес, Лионелло,
Тристан, Орландо (Роланд), Уливьеро, Ринальдо, Гот-
фрид, Роберто Гвискардо, Фридрих Барбаросса, Фрид-
рих II. Он, чтобы доставить удовольствие женщинам, сам
писал романы; закончив переделку романа о Флорио и
Бьянкофьоре, он решил обратиться к героическим и па-
триархальным временам, представлявшим наподобие
древнегреческих более благоприятную почву для приме-
нения его классических знаний.
Тем не менее новеллы пользовались, по-видимому,
большей популярностью и спросом, так как более соот-
ветствовали тогдашним временам и нравам. Их приду-
мывалось великое множество, всех сортов — серьезных и
комических, высоконравственных и непристойных, варь-
ируемых и украшаемых каждым рассказчиком в соответ-
ствии со вкусами публики.
Следовательно, новелла представляла собой живой
литературный жанр, дававший полный простор вообра-
жению, но поскольку он считался фривольным и низмен-
ным, то люди культурные им пренебрегали. С новеллой
соперничала легенда с ее чудесами и видениями.
Культурные люди не снисходили до этой литературы,
предоставляя «Цветочки святого Франциска» и житие
блаженного Коломбина ] монахам, а простодушного Ка-
ландрино и малопристойные похождения Алатьель2 ве-
сельчакам.
1 Кроче и Кортезе ставят слова «житие блаженного Колом-
бино» в кавычки, рассматривая их как название книжки Фео Бель-
кари, появившейся в более позднюю эпоху, почти сто лет спустя
после «Декамерона». Не исключено, что Де Санктис, по примеру
Фосколо («Discorso sul testo del «Decamerone» в «Opere», cit.,
vol. Ill, p. 10), имел в виду произведения того же Джованни Ко-
л'Ьмбини (1304—1367), его письма, опубликованные Бартоли
(в Лукке, в 1856 г.), и «Житие блаженного Петрония», о котором
говорит в своей «Речи» Фосколо.
2 См. «Декамерон», VIII, 3 и 6; IX, 3 и 5; а по поводу похо--
ждений Алатьель — 11,7.
386
Боккаччо вошел в этот фривольный языческий мир
с единственной целью — написать приятную вещицу, да-
бы доставить удовольствие даме, которая его о том про-
сила К Он взял всю эту бесформенную грубую писанину
полуграмотных людей и создал из нее гармоничный мир
искусства.
Ученые немало потрудились над исследованием ис-
точников, к которым прибегал Боккаччо, создавая свои
новеллы. Но тот факт, что большинство рассказов Бок-
каччо не были им придуманы, отнюдь не умаляет его
славы, как то полагают многие; ведь заслуга художни-
ка—не в том, чтобы изобрести новый сюжет, а в том,
чтобы облечь его в художественную форму. Действи-
тельно, содержание таких произведений, как «Комедия»,
«Канцоньере» и «Декамерон», не явилось плодом мысли
одного человека, а было создано коллективным трудом
и принимало разные формы до тех пор, пока, наконец,
к нему не прикоснулась рука гения, которая придала
ему окончательную форму и увековечила.
Новеллы под разными названиями существовали во
всех романских странах, но все же новеллы как жанра
еще не существовало, не было и сборников новелл, в ко-
торых отдельные рассказы составляли бы единое целое
и создавали бы органичный мир. Эту однородность внес
Боккаччо; из самых разнообразных рассказов, из раз-
ных эпох, отражавших разные обычаи и тенденции, он
создал живой мир своего времени, современное ему об-
щество, отрицательные и положительные тенденции ко-
торого были и в нем самом.
16. Боккаччо — отнюдь не человек, который взирает
на общество сверху вниз и вскрывает его достоинства и
недостатки, полностью отдавая себе в них отчет. Он —
художник, чувствующий себя неотъемлемой частицей об-
щества, в котором живет; он рисует его в полусознатель-
ной манере, столь характерной для людей, склонных к
быстрой смене впечатлений и не дающих себе труда вду-
маться и проанализировать их. Эта черта существенно
отличает его от Данте и Петрарки, склонных к сосредо-
точенности и глубокому раздумью. Боккаччо — весь на
1 См. письмо Боккаччо, адресованное Майнардо Кавальканти
и приведенное в книге G i n g u e n ё, «Histoire litter, d'ltalie», cit. Ill,
pp. 76—77, а также в книге В а 1 d e 11 i, «Vita di Giovanni Boccac-
cio», Firenze 1806, pp. 161 — 162.
25*
,387
виду; жизнь его протекает в развлечениях, приятном до-
суге и прочих занятиях подобного рода; они его целиком
поглощают и удовлетворяют, и ему никогда не случается
сосредоточиться, склонить в задумчивости голову. Мыс-
ли никогда не бороздили морщинами его лоб, и подозре-
ния не омрачали его сознание. Недаром его называли
«Джованни от Спокойствия». С появлением Боккаччо из
итальянской литературы уходят замкнутость, сосредото-
ченность, экстаз, беспокоящая глубина мысли, интенсив-
ная духовная жизнь, питаемая призраками и таинствами.
Жизнь выходит на поверхность, «приглаживает» себя и
прихорашивает. Мир духа уходит, на его место приходит
мир природы.
Этот поверхностный мир именно в силу того, что он
лишен внутренних духовных сил, не имеет серьезных
средств и целей. Им движет не бог, не наука и не лю-
бовь, соединяющая разум с действием и служившая ос-
новой средневековья, а инстинкт или естественная склон-
ность: это бурная реакция на мистицизм.
Перед нами — веселая компания, которая хочет за-
быть житейские невзгоды и неприятности, проводя зной-
ные часы дня в приятной беседе. Вокруг свирепствует
чума, и люди, чувствуя смертельную опасность, считая,
что их больше не связывают никакие условности, дают
полную волю своему воображению1. Этот карнавал во-
ображения писателя был подготовлен его жизнью при
неаполитанском дворе, где он провел свои лучшие дни,
питая свое вдохновение из этого навоза, который Музы
и Грации усеяли столь пышными розами.
Нечто подобное мы наблюдали уже в пасторальном
варианте «Декамерона» — «Амето»; но там рассказы но-
сят аллегорический характер и приспособлены к зара-
нее поставленной отвлеченной цели: не обладая внутрен-
ней силой «Божественной комедии», они построены по
тому же принципу. Здесь же ставится только одна цель:
i Основные контуры этой картины уже набросал Кине (op. cil.,
I, p. 162): «Декамерон» насквозь пропитан трудносдерживаемой ра-
достью, охватывающей человека, только что вырвавшегося из тис-
ков средневековья. Страхи, нагнетавшиеся религией, начинают рас-
сеиваться; призраки исчезли, занялась заря нового мира; земля и
небо вновь заулыбались; пьянящая радость охватила сердца. Не
случайно Боккаччо предпослал своим вольным рассказам описание
чумы 1348 года...»
388
приятно провести время. Рассказы «Декамерона» дей-
ствительно играют роль посредников в любовных де-
лах— принца Галеотто (итальянское название сборника
новелл Боккаччо, стыдливо прикрытое греческим сло-
вом) К
Персонажи, рожденные фантазией разных времен и
народов, принадлежат одному миру, пустому изнутри, но
зато весьма осязаемому снаружи. Действующие лица,
исполнители, зрители и автор принадлежат к одному
миру, характерной особенностью которого является стре-
мление жить внешней жизнью, не нарушая безмятеж-
ного спокойствия.
17. В этом мире — широкий простор для всякого
рода перипетий, происходящих по воле судьбы, регу-
лируемых только случаем. Бог или провидение при-
сутствуют лишь номинально, как бы по молчаливому
' уговору людей, индифферентно относящихся к религии,
политике и морали. Отсутствует и та внутренняя взаи-
мосвязь, из которой вытекает логика событии и необ-
ходимость их развития; напротив, прелесть новелл за-
ключается как раз в обратном, в том, что человеческие
поступки по капризу случая приводят к совершенно
неожиданным результатам, противоположным тем, кото-
рые нам представляются вероятными. Это совершенно
иная разновидность чудесного — не результат вмеша-
тельства в жизнь сверхъестественных сил в форме виде-
ний или чудес, а необычайного стечения обстоятельств,
которые невозможно ни предвидеть, ни направлять.
В итоге складывается впечатление, что миром правит
случай. Божеством, «deus.ex machina» этого мира дей-
ствительно являются столкновения человеческих чувств
и страстей в результате всякого рода житейских пре-
вратностей. А поскольку пружиной служит чудодей-
ственное, непредвиденное, случайное и необычайное,
то главный интерес рассказа сосредоточен не на нрав-
ственной стороне поступков, а на тех необычайных
обстоятельствах, которые их вызвали и к которым
они привели. Не следует полагать, что проблемы мо-
рали и религии неведомы Боккаччо, что он искажает
существовавшие в ту пору представления о добре
1 Название сборника: «Начинается книга, называемая Декаме-
рон, прозванная Prencipe galeotto...»
389
и зле; они попросту его не интересуют и не волнуют.
Его мало тревожит, является ли описанный им факт
положительным или предосудительным.: ему важно,
чтобы он будил любо-
пытство необычайностью
обстоятельств и характе-
ров.
Изображая доброде-
тель, Боккаччо тоже стре-
мится поразить воображе-,
ние: она для него — не
более чем средство до-,
стижения необходимого
эффекта, а посему он ут-
рачивает чувство меры и
простоты, доходя до та-
кой утрировки, которая
обнаруживает его полное
равнодушие к вопросам
совести и морали К
Наглядным примером
может служить Гризель-
да — самый добродетель-
ный персонаж боккаччие-
ва мира. Чтобы показать
себя хорошей женой, она
заглушает в себе есте-
ственные чувства, пода-
вляет свою личность и
волю. Автор, желая на-
рисовать образец необык-
новенной добродетели и
поразить слушателей, вы-
звать у них восхищение,
Боккаччо, Рисунок карандашом впадает в тот самый ми-
конца XIV в. стицизм, против которого
сам восстает и который
высмеивает: он усматривает идеал женской доброде-
тели в отказе от личности, рассуждая в духе теоло-
гии, которая видит идеал в поглощении плоти духом,
1 Аналогичные замечания (которые при всей их справедливости,
стоят неизмеримо ниже обшсго уровня этих страниц) имеются
в ранних лекциях, посвященных «Декамерону» и прежде всего но-
390
r->^nJW
TiFifb^&^EVuZ^^^^BT^&v^*
а духа — богом. Перед нами опять — авраамова жертва;
бог, подвергающий природу столь жестокому испыта-
нию, олицетворен здесь в образе мужа. В столь же
Начинается книга, называемая Декамерон,
прозванная Principe Galeotto, в которой содержится
сто новелл, рассказанных в течение десяти дней
семью дамами и тремя молодыми людьми.
далекой от естественности форме показана и доброде-
тель Тито и Джизиппо: она не привлекает к себе как при-
мер, достойный подражания, а поражает, подобно чуду.
веллам десятого дня: «В новеллах десятого дня автор отходит от
всей этой грязи и приступает к описанию возвышенных чувств, до-
бродетельных и благородных поступков. Но насколько естественны
и удачны страницы, где он придерживается своего комического лу-
кавого тона, настолько искусственно все в этой новой для него
теме. Здесь он то и дело впадает в крайности: либо так утрирует
добродетель (например, в новелле о Гризельде и о двух друзьях),
что она становится нелепой, либо сводит ее к великодушию и лю-
безности (как в новеллах о Саладине и других), кои называет
«добродетелью», хотя речь идет о качествах, часто встречающихся
и поныне и служащих для достижения поставленной цели» («Teoria
е storia», cit., I, p. 269 и «Purismo illuminismo storicismo», cit. II).
По поводу новелл о Гризельде, о Тито и Джизиппо, упоминаемых
ниже, см, «Декамерон», X, 10 и 8, См, о них также ниже.
391
Но такие необычайные поразительные добродетели
появляются редко; гораздо чаще перед нами традицион-
ная добродетель рыцарских и феодальных времен: бла-
городство и великодушие королей, принцев, маркизов —
отголосок рыцарских героических повестей, не забытых
и в буржуазную эпоху. Добродетель здесь в том, что
принц употребляет свою власть для защиты слабых, —
прежде всего людей одаренных и образованных, кото-
рым почему-либо не благоприятствует фортуна; такими
были, например, Примассо и Бергамино, обласканные
аббатом Клиньи и Кан Гранде делла Скала К Точно так
же воздается хвала первому Карлу Анжуйскому, кото-
рый вместо того, чтобы воспользоваться представив-
шейся ему возможностью похитить и взять силой двух
красивейших девиц, дочерей одного гибеллина, счел
за благо дать им богатое приданое и выдать за-
муж2.
Добродетель у этих власть имущих состоит в том,
чтобы не употреблять во зло силу и, напротив, вести
себя великодушно и любезно. К этому времени уже ста-
ла появляться новая разновидность писателей — тех, что
жили за счет этой добродетели, воздавая хвалу велико-
душию, от которого перепадало кое-что и им. Гордой на-
туре Данте трудно было с этим мириться: необходи-
мость «за кусом кус» просить на пропитанье, «сходить
и восходить по ступеням»3 сыграла не последнюю роль
в его трагической судьбе.
Но героические времена прошли: Петрарка уже без-
ропотно принимал помощь меценатов, а Боккаччо охотно
жил за счет неаполитанского двора и смешно ругался,
когда его обслуживали хуже, нежели ему полага-
лось; в зависимости от того, была ли хороша иль нехо-
роша пища, которой его угощали, он разражался либо
панегириком, либо сатирой4.
Вот что понимали в боккаччиевом мире под доброде-
телью, под великодушием и любезностью, которые из
замков проникали в города и даже в леса, служившие
i «Декамерон», I, 7.
2 Там же, X, 6.
3 Имеются в виду два известных места из «Рая», VI, 141: «За
кусом кус прося на пропитанье» и XVII, 59—60: «...как тр'удно на
чужбине Сходить и восходить по ступеням».
4 См. упомянутое выше письмо к Франческо Нелли.
392
прибежищем для разбойников (вспомним Натана, Сала-
дина, Альфонсо, Гино ди Такко и колдуна Ансальдо) 1.
Пусть это — не добродетель в собственном смысле
слова, не высокое нравственное чувство, а лишь стремле-
ние быть великодушным, но оно смягчало нравы и ли-
шало понятие добродетели ее теологического и мистиче-
ского характера, заключавшегося в самоотречении и
страданиях, придавало ей приятный смысл, более соот-
ветствовавший настроениям культурного и веселого об-
щества.
Правда, поскольку судьбами этого мира вершит слу-
чай, то царящее в мире веселье время от времени омра-
чается печальными происшествиями, нарушающими без-
облачное спокойствие. Но то — лишь мимолетное обла-
ко; оно тут же рассеивается, после чего солнце кажется
еще краше. Как говорит Фьямметта, «грустная задача
дана нам... с целью умерить несколько веселье»2.
Если вдуматься как следует в эти слова, то мы пой-
мем, что радость располагает небольшим числом струн:
значит, она была бы монотонной, скучной, а следова-
тельно, и не столь уж радостной — как то часто бывает
в идиллических поэмах, — если бы к ней не примеши-
валось страдание с его большим разнообразием и богат-
ством гармонических струн, таящих в себе вариации жи-
вых чувств — страдание с любовью, ревностью, нена-
вистью, гневом, возмущением. Страдание существует
здесь не само по себе, а лишь как средство достижения
радости; оно бередит душу, держит ее в напряжении и
тревоге до тех пор, пока не улыбнется судьба или слу-
чай и не рассеются тучи. И даже тогда, когда история
завершается печальным концом — как, например, во
всех рассказах четвертого дня, — чувство грусти, вызы-
ваемое при этом, носит поверхностный, внешний харак-
тер; оно приглушается, смягчается описаниями, рассу-
ждениями и размышлениями и никогда не выливается в
раздирающую сердце боль, как у Данте. Мимолетные
1 См. «Декамерон», X, новеллы 3, 9, I, 2, 5.
2 «Декамерона» IV, I: «Грустную задачу дал нам сегодня для
рассказов наш король, когда подумаешь, что нам, собравшимся по-
веселиться, предстоит повествовать о чужих слезах... Может быть,
он сделал это с целью умерить несколько веселье...» [Здесь и по-
всюду цитаты из «Декамерона» даны в переводе А. Н. Веселовского
по изданию Гослитиздата, М., 1955. (Ред.)]
393
трагические нотки, изредка звучащие в этом мире при-
роды и любви, вызваны столкновением природы и любви
не с высоким моральным принципом, а с добродетелью
рыцаря — рыцарской честью. Блестящим примером то-
му может служить, помимо истории Джербино, новелла
о Танкреде1. Узнав о своем позоре, Танкред убивает
возлюбленного дочери и посылает ей его сердце в золо-
том кубке; та, окропив сердце любимого отравленной во-
дой, выпивает ее и умирает. Трагедия заключается в ос-
корблении рыцарской чести: Танкред считает себя опо-
зоренным не только любовью дочери, но з еще большей
мере тем, что она отдала свою любовь человеку низкого
происхождения. Но дочь, апеллируя к законам природы
и отстаивая принцип, согласно которому истинное благо-
родство — не в унаследованной от отцов крови, а в до-
стоинствах человека, сумела доказать отцу законность
своей любви и своего выбора. Последняя сцена изобра-
жает осуждение охваченного поздним раскаянием отца,
рыдающего над трупом дочери. Танкред показан не как
человек, совершивший акт справедливой мести за пору-
ганную честь, а как человек, восставший против при-
роды и любви. Эстетическое воздействие новеллы та-
ково, что она вызывает сострадание и к отцу, и к дочери:
благородная дочь и добрый по натуре отец — оба пали
жертвой не собственных недостатков, а условий, царив-
. ших в мире, в котором они жили. Окончательный вывод
новеллы: тот, кто нарушает законы природы и любви,
жестоко за это расплачивается. Стало быть, трагедия
здесь определяется противодействием боккаччиеву миру,
его осуждением, а вызываемая ею легкая мимолетная
печаль, близкая к состраданию, служит как бы припра-
вой к радости, которая ведь тоже в конце концов, если
ее ничем не сдобрить, приедается.
18. Итак, изменилась самая основа трагедии. У гре-
ков она выражалась в ужасе, охватывавшем зрителей,
когда непостижимый фатум неумолимо вел к катастро-
фе; в Дантовом аду — в искуплении грехов, происходя-
щем согласно законам высшей справедливости; здесь же
мир предоставлен самому себе, слепым силам природы,
и в их столкновении любви принадлежит некое высшее
право, и никому не дано его нарушать.
1 «Декамерон», IV, 4 и I.
394
Природа, в Дантовом мире почитавшаяся за грех,
здесь считается единственным законодателем; ей проти-
востоит не религия, не мораль — их нет и в помине, хотя
в принципе на словах они признаются, — а общество,
регулируемое тем комплексом законов и обычаев, кото-
рые именуются честью.
Однако столкновение противодействующих сил
остается на поверхности, определяясь счастливым или
«Декамерон», IV,1
Танкред, принц Салернский, убивает любовника
дочери и посылает ей в золотом кубке его
сердце; полив его отравленной водою, она вы-
пивает ее и умирает.
злосчастным стечением обстоятельств, случаем, тем или
иным поворотом судьбы; оно не доходит до настоящей
внутренней борьбы, которая развязала бы страсти и
определила характеры. Поэт не восстает против суще-
ствующих социальных порядков и отнюдь не выступает
реформатором, он принимает мир таким, каков он есть,
и если все его симпатии — на стороне жертв любви, то
он вовсе не осуждает тех, кто, будучи невольниками че-
сти, совершает жестокие поступки, ибо они тоже достой-
ны уважения, они тоже жертвы. Так, Боккаччо воспевает
Джербино, который предпочел нарушить присягу, дан-
ную им своему деду — королю, нежели преступить
395
закон любви и прослыть трусом; однако автор не осуж-
дает и короля, приказавшего убить Джербино, «желая
скорее остаться без внука, чем прослыть королем, не
держащим слова» К
Отсюда при всей напряженности внешних событий
возникает какое-то внутреннее спокойствие, некое равно-
весие, при котором волнение возникает лишь в той мере,
в какой это необходимо для того, чтобы оживить и раз-
нообразить существование. Вот почему трагедия не про-
никает в этот буржуазный мир, мир индифферентный и
натуральный, она остается на поверхности, как щепка
на волнах бескрайнего моря. Динамика действия не идет
от сознания людей, от их глубокой приверженности той
или иной идее, от страстей, рождаемых столкновением
характеров, а выливается в игру воображения, в худо-
жественное изображение разных случаев из жизни, рас-
считанное на то, чтобы поразить и привлечь внимание.
Проще говоря, смысл добродетелей и пороков сводится
здесь к приключениям, к необычайным происшествиям,
происходящим по воле случая.
Слушателей интересует во всем этом только занима-
тельность, только возможность приятно провести время;
стало быть, и добродетель, и страдание здесь — лишь
средство.
Но мир, в котором божеством является случай, а ве-
дущим началом — природа, не только беспечен и весел,
но еще и комичен. Уже одно то, что события не воспри-
нимаются всерьез, а рассматриваются лишь как чистая
игра воображения, что главное в рассказе — причудли-
вое сплетение случайных обстоятельств и что внутрен-
нее равновесие сохраняется, несмотря ни на какие зло-
ключения,— одно это создает естественную почву для
комизма. Веселость, если она ни на что не направлена
и лишена смысла, пресна, безвкусна: такую часто встре-
чаешь у глупцов. Чтобы смех был озорным или умным,
он должен быть целенаправлен и осмыслен, должен со-
держать комизм. Именно благодаря комическому этот
мир имеет свое лицо и серьезность.
Общество, в котором живет Боккаччо, в избытке со-
держит комический материал, ибо нет ничего комичнее
1 «Декамерон», IV, 4,
396
беспечного чувственного мира, из которого выходят та-
кие персонажи, как Дон Жуан и Санчо Панса. Но это
общество представляло все самое умное, самое культур-
ное, что имелось в мире, и оно сознавало это. А раз так,
значит оно могло претендовать на то, чтобы все прини-
мали его всерьез, и на то, чтобы самому смеяться над
всеми. По сути дела в новеллах Боккаччо есть два серь-
езных момента: это, во-первых, восхваление таланта и
образованности — их были вынуждены признавать и
уважать даже могущественные синьоры — и, во-вторых,
некая гордость буржуа, отвоевывающего свое место под
солнцем и провозглашающего себя столь же благород-
ным, как любой барон или граф. Таковы характерные
черты того класса, к которому принадлежал Боккаччо,
класса образованного, умного, считавшего себя един-
ственным носителем культуры, а всех остальных — вар-
варами К
Комизм проистекает именно отсюда: умный человек
в карикатурном виде изображает людей, находящихся
на более низкой ступени умственного развития. Куль-
турному обществу противостояли монахи и священники
или, как говорит Боккаччо, католичество — молитвы, ис-
поведи, проповеди, посты, умерщвление плоти, видения
и чудеса; а далее стоял простой люд с его ограничен-
ностью и легковерием. На эти явления и обрушивает
Боккаччо бич своего смеха.
Он показывает, к чему приводят молитвы, — напри-
мер, «Отче наш» святого Юлиана — как служат богу
-в пустыне2, как противоречит подлинная жизнь монахов,
1 В данном аспекте произведения Боккаччо анализирует и
Кине, в op. cit., I, pp. 163—164: «Декамерон» проникнут тем же
духом, что и городские республики Тосканы с их «жирным наро-
дом», весь мир мерявшим на свой аршин... Как можно отрицать
республиканскую, демократическую направленность «Декамерона»?
Ею пропитана каждая страница книги. Эта на первый взгляд не-
винная «ж а к е р и я» положила конец феодальной литературе и от-
крыла эпоху литературы буржуазной и народной... Вы чувствуете,
что, с одной стороны, перед вами общество, которое гибнет, «испа-
ряется» — верования его высмеиваются, легенды пародируются;
с другой — общество возрождающееся в радости жизни и смехе».
См. также ниже.
2 См. «Декамерон», II, 2 и III, 10. Новеллы о монахе Пуччьо и
о монахе Альберто, о которых идет речь ниже, см. ibid., Ill, 4; IV, 2.
397
священников и монахинь их проповедям, в чем за-
ключается искусство приобщения к святости, преподан-
ное монаху Пуччьо, каковы чудеса и явления святых (на
примере архангела Гавриила), каково простодушие на-
рода, ставшего игрушкой в руках обманщиков. Прежде
всего бунтует плоть: она восстает против чрезмерных
строгостей духовенства, которое, дабы вы попали в рай,
запрещало посещать театр и читать романы, предписы-
вало поститься и ходить во власяницах. Этот бунт, есте-
ственно, начинается со всякого рода вольностей и ци-
низма. Веками подавлявшаяся плоть мстит за себя и
называет «meccanici» («куклами») своих зоилов, людей,
тупо повторяющих избитые истины. Таким образом, ду-
ховная сфера в ее крайних проявлениях стала в глазах
культурных людей чем-то низменным, вульгарным. Лег-
ко себе представить, с каким наслаждением вырвалась
на волю эта долго подавлявшаяся плоть, с каким упое-
нием она описывала одну за другой свои радости, выби-
рая для этого самые недозволенные обороты и выраже-
ния и нередко придавая непристойный смысл священным
изречениям и образам.
Так начался открытый бунт языческого мира, кото-
рый сорвал узду, выбил из седла и начал изображать
своего бывшего хозяина в карикатурном виде. На этом
комическом фоне происходит множество переплетаю-
щихся между собой историй, героями которых являются
два бессмертных персонажа, без коих не обходится ни
одна комедия: тот, кто смеется, и тот, над кем смеются,
ловкачи и простаки, причем особенно достается ни в чем
не повинным мужьям.
В ходе всех этих историй вырисовывается целая га-
лерея комических характеров, некоторые из которых ста-
ли типическими; как, например, придурковатый Калан-
дрино и мстительный школяр, «у которого было злое на
уме» К
1 О Каландрино см. «Декамерон», VIII, 3 и 6; IX, 3 и 5. Но-
веллу о школяре см. «Декамерон», VIII, 7. Термин «мстительный»,
употребленный в отношении школяра и в отношении Каландрино
(«очень потешались женщины над мстительным Каландрино»), взят
из этой последней новеллы.
О новеллах, упоминаемых ниже, см. ibid., X, 10, 8; И, 8, 6, 9;
IV, 8, 5, 1; III, 4; VIII, 5, 2; VII, 4, 1.
398
Положительные, серьезные характеры, такие, как
Гризельда, Тито, граф Анверский, мадам Беритола1,
Джиневра и Сальвестра, Изабетта и дочь Танкреда, не
столь типичны; они представляют собой скорее исключе-
ние из правила. Живую, характерную и наиболее впе-
чатляющую часть этого мира составляют комические
характеры, отражающие общечеловеческие черты, на каж-
дом шагу встречающиеся в повседневной жизни, та-
ковы кум Пьетро, маэстро Симоне, монах Пуччьо, мо-
нах-болван, глупый судья, монна Бельколоре, Тофано,
Джанни Лоттеринги, — кого тут только нет! — ведь
«глупцов бесчисленное множество»2. Постепенно этот
беспечный жизнерадостный мир вырисовывается, приоб-
ретает отчетливые очертания, свой особый облик и ста-
новится «человеческой комедией».
19. Так на протяжении короткого времени появились
«комедия» и ее антипод, «Божественная комедия» и па-
родия на нее — человеческая комедия! На одной и той
же почве одновременно жили Пассаванти, Кавалька,
Екатерина из Сьены, но их загробные голоса потонули
в громком смехе язычника Джованни Боккаччо.
Веселая наука выходит из склепа на свет божий со
своим чистым смехом; трубадуры и новеллисты, задох-
нувшиеся было от поповского ладана, оживают и вновь
принимаются за танцы и веселые песни в гвельфской
Флоренции. Новелла и роман, ранее гонимые, теперь
сами подвергают гонению и становятся полными хозяе-
вами литературы. Разумеется, перемена не происходит
внезапно, наподобие землетрясения: светское начало
всегда играло заметную роль в литературном процессе
и сохраняло преемственность; как мы видели, даже «Бо-
жественную комедию» включали в число священных,
«угодных богу» книг, пытались заставить мирянина
Данте заговорить тоном проповедника и апостола3. Но
1 Так в рукописи, в издании Морано и неоднократно — в тексте
Боккаччо. Кроче, а за ним и Кортезе исправили на «мадонна Бе-
ритола».
2 Petrarca, Trionfo del Tempo, 84.
3 Обратимся снова к упоминавшейся выше книге Кине: «В этих
легких страницах, где Боккаччо праздновал веселую тризну по сред-
ним векам, скрывалась революция...» («Revolutions», cit., I, p. 163).
Но по поводу светской направленности литературы XIV века от
Данте до Боккаччо см. прежде всего Settembri ni, «Lezioni»,
cit., I, p. 167. «Декамерон» знаменовал великую революцию, проис-
399
Данте действовал осмотрительно, с расчетом на то,
чтобы сооружение стояло прочно, чтобы основа его оста-
валась незыблемой. Его «комедия» была реформой, а
«комедия» Боккаччо — революцией, в результате кото-
рой все здание рухнуло, а на его развалинах был зало-
жен фундамент нового.
«Божественная комедия» вскоре выпала из списка
живых книг; ее толковали как классическое произве-
дение, читали мало, а понимали того меньше; нравилась
она очень немногим, но всегда вызывала восхищение.
Она была «божественной», но не была больше живой 1
и увлекла за собой в могилу все те литературные жан-
ры, которые в зачаточном состоянии так ярко блеснули
в бессмертных Дантовых зарисовках: трагедию, драму,
гимн, лауду, легенду, мистерию. Одновременно погасли
и чувство привязанности к семье, любовь к природе, к
родине, вера в существование лучшего мира, не стало
сосредоточенности, экстаза, тихой радости дружбы и
любви, веры в идеалы и смысл жизни.
Единственное, что оказалось плодотворным в этом
огромном мире, рухнувшем прежде, чем созреть и дать
все, на что он был способен, это «Злые Щели», царство
коварства, место действия человеческой комедии. «Злые
Щели», которые по замыслу Данте утопают в грязи, где
смех заглушается возгласами отвращения и возмуще-
ния, сейчас на земле задают тон; украшенные грациями,
они провозглашают себя подлинным раем, как то понял
дон Феличе и не понял бедный монах Пуччьо2.
И действительно, мир здесь как бы перевернут с ног
на голову. Для Данте комедия — это небесное блажен-
ство, Комедия для Боккаччо — блаженство земное, пред-
усматривающее среди прочих удовольствий также воз-
шедшую в сознании людей: страх прошёл, началась эпоха смеха и
скепсиса. Эту революцию начал еще Данте, противопоставивший
разум и науку авторитету религии и поддерживавший борьбу импе-
рии против церкви; а завершил ее Боккаччо, противопоставивший
народный здравый смысл лицемерию духовенства и смеявшийся и
над церковью, и над империей».
1 См. начало главы VIII о «Канцоньере». В связи с упомина-
нием о «Злых Щелях» см. выше, где дан анализ эстетической сто-
роны царства обманщиков.
2 См. «Декамерон», III, 4 (ссылка на эту новеллу уже имеется
выше).
400
можность рассеять грусть насмешками над небом. Плоть
забавляется, и жертвой этой забавы становится дух.
20. Если бы реакция на сверхспиритуализм, оторван-
ный от практической жизни, вытекала из идейной борь-
бы, то этот процесс происходил бы медленнее, наталки-
вался бы на большие препятствия, но зато, как в других
странах, был бы более плодотворным. Необходимость
преодолевать препятствия у одних укрепила бы веру, у
других — убежденность в своей правоте и породила бы
могучую, содержательную литературу, в которой была
бы представлена страстность Лютера, .красноречие Бос-
сюэ, сомнения Паскаля и другие формы, возможные
только там, где есть интенсивная и здоровая внутренняя
жизнь1. Таким образом, процесс был бы одновременно
отрицательным и положительным, разрушение являлось
бы и созиданием.
Но после того, как веками неумолимо подавлялась
всякая смелая мысль, после того, как было потоплено в
крови сопротивление гибеллинов и папство, став безраз-
дельным хозяином, притаилось совсем рядом, бдительно,
с подозрением следя за происходящим, мир религии,
столь же развращенный в повседневной жизни, сколь
непримиримый в проповеди своей доктрины и уродливо
нелепый в своих внешних проявлениях, мир религии, ко-
торому противостояли быстро возросшая культура и воз-
мужавший, созревший в процессе изучения античных
писателей разум, не мог восприниматься культурными
людьми как нечто серьезное; а ведь именно от них зави-
село, в каком направлении будет развиваться жизнь на-
ции. Так возникла пропасть, отделявшая культурных
людей от прочих, составлявших, однако, большинство и
остававшихся во власти проходимцев типа священника
из Варлунго, дона Джанни, монаха Ринальдо и монаха
Чиполлы2.
Не удивительно поэтому, что для образованных лю-
дей мир религии был миром простонародья и «кукол» и
уметь над ним потешаться стало как бы признаком
1 О формировании нового европейского духа в период от люте-
ровской реформы до английской и французской революций см. ран-
ние лекции «Teoria e storia», cit., I, p. 152, и «Purismo illuminismo
storicismo», cit., II. О Боссюэ см. очерки «L'ultimo de'puristi» и
«Giuseppe Parini» в томах I и XIV издания Эйнауди.
2 «Декамерон», VIII, 2; IX, 10; VII, 3; VI, 10.
26 Де Санктис
401
культуры; это делали даже духовные лица, претендо-
вавшие на звание образованных людей. Эти два столь
разных общества жили бок о бок, не причиняя друг
другу особых беспокойств. Свобода мысли отсутствовала;
подвергать сомнению абстрактную религиозную доктри-
ну запрещалось, но практически дело обстояло совсем
иначе: люди жили и давали жить другим, забавляясь и
развлекаясь во славу бога и Марии. Пример подавали
сами проповедники, стараясь развлечь слушателей
острым словцом, прибауткой или ужимкой *, это перево-
рачивало душу добродетельному Данте, а Боккаччо сме-
шило; в своем заключении к «Декамерону» он писал:
«...принимая во внимание, что проповеди монахов с уко-
ризнами людям за их прегрешения по большей части
наполнены ныне острыми словами, прибаутками и по-
тешными выходками, я рассудил, что все это не будет
не у места в моих новеллах, написанных с целью разо-
гнать печальное настроение дам».
Дантово возмущение кануло в прошлое: люди стали
смеяться над чем угодно. Ведь в ярость приходит тот,
кто видит, что профанируется его вера в нечто незыбле-
мое: такова была ярость святых и всех людей с чистой
совестью. Но культурное общество боккаччиевой эпохи,
в вопросах религии и морали проявлявшее полное рав-
нодушие, не было расположено портить себе кровь из-за
человеческих недостатков. «Бесстыжие флорентинки»2
здесь соблазняют, предаются сладострастью и, как гово-
рят (и делают) сегодня, устраивают «живые картины».
Торговля священными предметами, которая послужи-
ла главным поводом религиозного раскола в Германии
и которую Данте в порыве благородного гнева назвал
«любодейным грехом»3, здесь — не более, чем объект
беззлобных, добродушных шуток. Исповедь — неисся-
каемый источник смешных недоразумений, проделок
мирян и мирянок, жертвой которых становятся «тол-.
1 «Декамерон», заключение. Имеются в виду слова Данте
из инвективы Беатриче против проповедников («Рай», XXIX,
115—117), которую имеет в виду и Боккаччо:
«Теперь в церквах лишь на остроты падки
Да на ужимки; если громок смех,
То куколь пыжится, и все в порядке».
2 «Чист.», XXIII, 101.
3 «Рай», IX, 142: «Избудут вскоре любодейный грех», См, также
в гл. II.
402
стые» — «пузатые» священники, вроде исповедника сэра
Чаппеллетто или одного из наиболее удачных комиче-
ских персонажей — глупого монаха1. Рассказ о чуде-
сах— например, история о садовнике Мазетто, о зло-
счастном Мартеллино, о монахе Альберто или о монахе
Чиполле2, о мнимых святых и о творимых ими «чуде-
сах», как, например, сэра Чаппеллетто, — ведется непри-
нужденно и весело, с позиций образованного неверующе-
го человека. Такая профанация вызывает смех, а то, что
подвергнуто осмеянию, более не пользуется уважением3.
Жизнь общества отражена в «Декамероне» такой, ка-
кой она была в ее повседневных событиях; получилась
всеобъемлющая картина, рисующая действительность во
всем многообразии характеров и обстоятельств, спо-
собных поразить воображение; на самом видном месте —
«Злые Щели»: их взяли из ада и вынесли на авансцену;
а внутри этого чувственного, разнузданного мира хитро-
сти и невежества живет, не смешиваясь с ним, мир куль-
туры и просвещенности, мир куртуазности, оставшейся
еще от рыцарских времен, но одетый на буржуазный
лад, — мир, блещущий остроумием, полный изящества,
талантов, великодушия; самой привлекательной фигурой
его надо признать Федериго дельи Альбериги 4. Мир «Де-
камерона» населяют священники и монахи, крестьяне и
ремесленники, безвестные горожане и купцы с соответ-
ствующим женским окружением, но их не умолкающий,
как.на карнавале, плебейский смех перекрывается голо-
сами дам и кавалеров, звоном мечей, любовными при-
знаниями, любезностями и подвигами образованного об-
щества, блещущего остроумием, культурой, талантами,
изяществом; оно тоже предается веселью, но это — ве-
селье воспитанных, сдержанных людей, которые совер-
шают великодушные поступки, приятны внешне, при-
стойны в речах и манерах. Эти два общества при всем
1 «Декамерон», III, 3; в упоминаемой ниже новелле о глупом
монахе, таком же наивном, как и тот, что исповедовал сэра Чаппел-
летто («Декамерон», I, 1), говорится: «Один монах, который, не-
смотря на свою толщину...»
2 Там же, III, 1; II, 1; IV, 2; VI, 10.
3 О карикатурном изображении персонажей у Боккаччо «Воль-
тера четырнадцатого века» см. также выше.
4 «Декамерон», V, 9. Далее приводятся в пересказе начальные
строки «Неистового Орланда».
26*
403
своем различии легко уживаются друг с другом и про-
изводят впечатление единого и гармоничного мира, мира
бездумного и поверхностного, который живет на виду,
радуясь жизни и полностью завися от превратностей
судьбы.
Этот двуплановый мир, столь гармоничный при всем
своем разнообразии, окрашен в тот тон, какой захотел
придать ему автор и веселая компания, которая нам его
рисует. Автор и его рассказчики принадлежат к куль-
турным и умным людям. Они часто взывают к богу, с
уважением отзываются о церкви, соблюдают религиоз-
ные обряды — например, отдыхают по пятницам, ибо в
этот день господь «претерпел смерть ради нашей жиз-
ни» \ поют песни платонического, аллегорического со-
держания; они ведут жизнь веселую, но пристойную, ка-
ковая и приличествует благородным господам.
По остроумию, тонкости, культуре и любви к искус-
ству это общество не уступает самым изысканным круж-
кам нашего времени. Мерилом служил ему тот унасле-
дованный от эпохи феодализма и приукрашенный куль-
турой и новыми духовными ценностями куртуазный мир,
которому подражала культурная и богатая часть бур-
жуазии. Феодалов увеселяли шуты и жонглеры; были
свои увеселители и у нового общества: в роли шутов и
жонглеров выступал весь густо населенный мир священ-
ников, монахов, крестьян, ремесленников, причем поте-
шались над всеми: и над простаками, и над пройдоха-ми.
Комизм Боккаччо не преследует никаких серьезных,
высоких целей; автор не ставит перед собой задачи бо-
роться с предрассудками или расшатывать устои обще-
ства, искоренять невежество или читать мораль, требо-
вать реформ; в этом смысле Рабле и Монтэнь, отразив-
шие бунт здравого смысла против окружавшего их ис-
кусственного, условного мира, стоят неизмеримо выше2.
Их смех серьезен, он оставляет след в сознании людей;
здесь же — смех ради смеха, чтоб прог.нать печаль, раз-
веять скуку. Боккаччо смотрит на этот плебейский мир,
как художник на натуру, им движет одна мысль: как
1 «Декамерон», II, 10: «...пятницу достоит чествовать ввиду
того, что в этот день тот, кто претерпел смерть ради нашей жизни,
понес страдание».
2 Об иронии Рабле и о здравом смысле Монтэня см. также
речь «La scienza e la vita» (изд. Эйнауди, vol. XIV),
404
можно вернее передать его очертания, акцентируя то,
что может лучше позабавить благородную компанию.
Единственное, что уцелело после полного крушения, это
серьезное отношение к литературе и искусству, находив-
шее себе опору в новых достижениях культуры. Благо-
даря этому и родился шедевр, созданный для умных,
чувственных людей гениальным художником, ставшим
кумиром молодых женщин, которым он Посвятил свое
произведение.
21. Нетленность боккаччиева комизма в том, что Бок-
каччо изображает общество таким, каким оно было на
самом деле, с его невежеством и обманами, таким, ка-
ким оно представало взору умных людей, расположив-
шихся будто в театральной ложе, чтобы понаблюдать и
поаплодировать. В основе комизма у Боккаччо — не
нравственность, а интеллект. Культурные люди смеются
над людьми некультурными, которых большинство. Вот
почему главный мотив, определяющий комизм ситуа-
ции,— это ограниченность малокультурных людей, осо-
бенно рельефно выступающая при соприкосновении с
хитростью и составляющая основную особенность харак-
тера глупца. С глупостью часто сопряжены легковерие,
тщеславие, хвастовство, низменность желаний. Хитрость
придает характеру глупца более четкие свойства, еще
более выявляя его смешные стороны. Но много комизма
заключено и в ней самой — разумеется, не для глупца,
а для умных слушателей, которые ее замечают. Таким
образом, оба действующие лица — и глупец, и хитрец —
участвуют в создании комического эффекта. Такова ос-
нова боккаччиевой комедии. Культура, переживающая
свое первое цветение, обретает самосознание и делает
мишенью своих шуток невежество и хитрость низших
классов. Комизм приобретает особую пикантность, когда
в роли обманутого выступает тот, кто, как правило, об-
манывает сам, то есть когда над пройдохой, издеваю-
щимся над простаком, посмеется умный человек- (как в
случае с монахом, которого провела исповедовавшаяся
ему дама) К
Иногда комический эффект достигается благодаря
остроте или шутке, окрашивающей всю ситуацию и
1 «Декамерон», III, 3, упомянутая выше. Ниже имеется в виду
новелла о еврее Аврааме («Декамерон», I, 2),
405
вызывающей неудержимый взрыв смеха, — сегодня мы бы
назвали такой рассказ анекдотом. Это — короткие но-
веллы, вся соль которых, так же как у сонета, в концовке.
Такова, например, новелла о еврее, который, насмотрев-
шись на развращенность христианской церкви, принял
христианскую веру. Финал новеллы настолько неожидан
и столь противоречит завязке, что эффект получается
«Декамерон», 111,3
Под видом исповеди и чистосердечного при-
знания одна дама, влюбленная в молодого
человека, побуждает некоего почтенного
монаха, не догадывавшегося о том, устроить
так, что ее желание возымело полное удов-
летворение.
огромный. Подобных новелл порядочно, но многие из
них не особенно удачны вследствие того, что автор чаще
всего использует уже известные острые сюжеты. Таковы
новеллы о маркизе монферратской, о Гвильельмо Борсь-
ере и о маэстро Альберто 1. Эти остроты и шутки, фейер-
верком сверкавшие в изысканной среде (ведь умение сы-
пать ими являлось непременным условием для всякого,
кто желал прослыть остроумным человеком), представ-
ляли собой наиболее броскую и в то же время обычную
форму остроумия. Кузницей острот, шуток, прибауток,
1 «Декамерон», I, новеллы 5, 8, 10.
406
эпиграмм, каламбуров была в свое время школа труба-
дуров и школа «веселой науки». Большая часть этих
острот уже бытовала к тому времени во флорентийском
диалекте наряду со многими другими, придуманными
самими флорентийцами, которые славятся своей живо-
стью и остроумием. «Декамерон» усеян ими. Но эти
остроты, именно в силу того, что они стали неотъемле-
мой частью итальянской лексики, звучали не более, как
слова и фразы, как мертвая часть словаря; коллекцио-
нировать и нанизывать их, как то делал Буркьелло1, не-
достойно остроумного человека. Так можно добиться
комической окраски, но не подлинного комизма. Эти
шутки стали достоянием всей нации, а значит, утратили
свежесть, прелесть новизны, составляющую главную осо-
бенность подлинного остроумия, и могли дать опреде-
ленный эстетический эффект лишь в сочетании с чем-то
новым и неожиданным: с писательской находкой. Пото-
му-то Буркьелло пресен, а Боккаччо остроумен; для
Боккаччо остроты и шутки — не самоцель, а лишь стили-
стический прием, способ придать определенный колорит.
Остроумие в высоком смысле слова составляет для
комического жанра то же, что чувство для жанра серьез-
ного, а именно — черту таланта. Подобно чувству, остро-
умие— великий конденсатор: оно ускоряет процесс вос-
приятия, помогая мгновенно уловить в самых разных
явлениях элементы сходства и различия; то, чего прони-
цательность достигает путем размышления, остроумие
помогает понять вмиг и интуитивно. Сыновья графа
Уголино в крайнем напряжении чувств говорят:
«Ты дал нам эти жалкие тела, —
Возьми их сам...»2
Здесь чувство в серьезном жанре производит тот же
эффект, что остроумие — в комическом: в одну-един-
ственную фразу оно вкладывает несколько мыслей и об-
разов. Но чтобы добиться такого гениального варианта-,
необходимо, чтобы остроумие тоже было чувством, чув-
ством смешного; иными словами, автор, живя в обще-
стве, должен разделять его чувства, жить его жизнью,
1 О Буркьелло и об обстановке, сложившейся во Флоренции
в XV веке, см. также ниже, гл. XI.
» «Ад», XXXIII, 62—63,
407
а смеясь над ним, должен относиться к нему с той же
глубокой заинтересованностью, с какой другие относятся
в повседневности к самым серьезным вещам. Однако ис-
пытываемое им волнение должно быть волнением ум-
ного наблюдателя, а не человека, который сам попал в
водоворот событий: писатель должен хранить спокой-
ствие, проявлять находчивость и присутствие духа, что-
бы мы могли смотреть на изображаемый им мир как бы
со стороны; ведь недаром подлинно остроумные люди
смешат других, но сами не смеются. Благодаря этому
невозмутимому спокойствию остроумие является безраз-
дельным владыкой боккаччиева мира; оно на все накла-
дывает свой отпечаток, сводит концы с концами, раскры-
вает характеры, рисует образы, распределяет краски.
22. Остроумие Боккаччо идет не столько от ума,
сколько от воображения, основано не столько на поисках
далеких ассоциаций, сколько на создании комических
образов. Если его предшественники направляли свои
усилия на то, чтобы «спиритуализовать», то Боккаччо
стремится воплощать. Причем он обращает внимание не
на ту или иную черту, а на комплекс, на сочетание мно-
1их деталей, выступающих все вместе, плотной шерен-
гой. Его предшественники делали наброски, Боккаччо
же дает описания. Их интересовал не столько сам пред-
мет, сколько производимое им впечатление; Боккаччо же
замыкается, окапывается в самом предмете, исследует
его вдоль и поперек, выворачивает наизнанку. Вот по-
чему перед нами возникает в большей мере тело и в
меньшей — впечатление, в большей мере ощущение, чем
чувство, скорее воображение, чем фантазия, чувствен-
ность, чем страсть. Цветы здесь не пахнут, свет не ис-
пускает лучей: он тусклый, оттого что слишком густ, от-
того что слишком повторяет себя. В произведениях
серьезного жанра — таких, как «Филоколо» и «Аме-
то», — эта манера невыносима: читаешь иг не трогаешься
с места, увязая в бесконечных описаниях и словоизлия-
ниях. Кое-где она режет слух и в «Декамероне» — когда,
например, слово предоставляется Тито или дочери Тан-
креда \ изъясняющимся по всем правилам риторики и
логики. Но для произведений комического жанра эта
манера вполне естественна; не удивительно поэтому, что
1 «Декамерон», X, 8; IV, 1.
408
она возникла в искусстве сразу же после примитивного
увлечения прибаутками и пословицами. Ведь комиче-
ский жанр — это торжество конкретности и осязаемости,
а они в противоположность серьезному жанру, начи-
нающему с аллегорий и олицетворения, то есть с аб-
страктных мыслительных форм, проявляются прежде
всего в изображении мельчайших деталей. Первой фор-
мой комического жанра была карикатура.
Карикатура есть лобовое изображение предмета, сде-
ланное с таким расчетом, чтобы подчеркнуть его отрица-
тельную или смешную сторону. Конечно, можно было бы
ограничиться изображением самого недостатка, предо-
ставив, об остальном догадываться. Остроумного замеча-
ния может быть достаточно для того, чтобы наше, вооб-
ражение нарисовало всю картину. Но Боккаччо этим не
довольствуется и рисует, подобно живописцу, всю фи-
гуру, отбирая и распределяя детали и краски таким об-
разом, чтобы больше всего света падало на отрицатель-
ную сторону. В результате смешная черта выступает не
изолированно, а вместе со всем образом, так, что он весь
участвует в создании эффекта, в подготовке и наращи-
вании комического крещендо.
Читая Боккаччо, не засмеешься сразу, не расхохо-
чешься, как это бывает, когда услышишь забавный анек-
дот с неожиданной концовкой; к смеху тебя подводят ис-
подволь; причем это скорее не смех, а некое веселое, спо-
койно-умиротворенное состояние. Рассказ производит не
будоражащее, а умиротворяющее действие. Ты не раз-
дражен, а скорее доволен, не смеешься, но лицо твое раз-
глаживается, ты доволен, в глазах затаилась улыбка, но
совсем не та, что обязательно переходит в приступ кон-
вульсивного смеха. Это связано с тем, что автор основы-
вается не на соотношениях, рождаемых интеллектом, а
на формах, рожденных воображением, — формах полно-
кровных, сочных, выпуклых и тщательно вырисованных.
Погрузившись в этот мир воображения, автор—его ве-
ликий чародей — делает вид, будто не вносит ничего
своего. Попав туда, стоишь как зачарованный. Автор
никогда не отвлекается, не выглянет, чтобы подмигнуть
тебе и рассмешить; он не относится к своему творчеству,
как к чему-то несерьезному, снова и снова оттачивает
рассказ. Новелла, словно навязчивая идея, не отпускает
его от себя ни на минуту, не дает передышки до тех пор,
409
пока не примет окончательной формы. Не отвлекаешься'
и ты, нежно убаюкиваемый созерцанием; даже смех не
может тебя вывести из этого состояния: посмеявшись,
вновь окунаешься в вымысел и следишь за ним, не отры-
ваясь... Рассказ уж окончен, а ты все еще мыслями в нем.
Но это — не мир восточных чудес, где воображение,
как бы одурманенное опиумом, объятое нетерпением, пе-
рескакивает с предмета на предмет, из объятий любви
:Декамерон», 1,1
Сэр Чаппеллетто обманывает ложной испо-
ведью благочестивого монаха а умирает; него-
дяй при жизни, по смерти признан святым и
назван San Ciappelletto.
устремляясь в бесконечные просторы, заставляя тебя ис-
пытывать чувство, именуемое страстью, и олицетворяю-
щее собой бесконечность в чувственности, то нечто неуло-
вимое, неопределенное, музыкальное, что в любовных
объятиях являет бога. Это — мир сугубо чувственный,
замкнутый в себе, проявляющийся в четких округлых
формах и ограничивающийся ими, и ничто в нем не может
тебя оторвать от земли и поднять до недосягаемых вы-
сот. Именно в силу того, что цветы здесь не источают
аромата, а свет не испускает лучей, испытываешь ощу-
щения, а не чувства, обладаешь воображением, а не
фантазией, чувственностью, а не страстью.
410
Мечта испаряется. Взгляд твой больше не застывает
в экстазе. Ты обрел свой рай в этой полнокровной и при-
тягательной действительности. При своем новом появле-
нии на свет ликующая плоть предстает перед тобой со-
вершенно нагая и заполняет наслаждением и ласками
твой рай. Вот почему форма этого рая цинична, и осо-
бенно там, где иронически поданная скромность высту-
пает как кокетство, распаляющее чувственность.
Поскольку основной формой этого мира является ка-
рикатура, рожденная щедрым на детали воображением,
перед нами не отдельные черты и выступы, а весь пред-
мет в целом, во всех малейших его проявлениях. Автор
не задерживается на вступлении и на отвлеченной обри-
совке действующих лиц, а поднимает занавес сразу: мы
тотчас включаемся в их дела и разговоры. И с первых
же слов улавливаем комический мотив, который затем
постепенно развивается, переходя один в другой и на-
растая. Боккаччо проявляет здесь талант, который
французы определяют термином «verve», желая сказать,
что художник творит горячо и легко, а мы — словом
«brio», вкладывая в него понятие веселой гениальности.
Прекрасным подтверждением тому могут служить но-
велла об Алибек 1 и новелла о сэре Чаппеллетто. Чтобы
придать карикатуре большую пикантность, автор прибе-
гает к иронии, играющей здесь роль не основного, а
вспомогательного приема. Она заключена в том добро-
душии и наивности, с какой рассказчик ведет свой рас-
сказ, притворяясь целомудренным и щепетильным: гово-
рить бы не следовало, но он все же говорит, верить бы
не надо, да верит, с ухмылкой, осеняя себя крестным
знамением. Эта ирония играет роль щепотки соли: под-
бавив ее, можно «вкуснее» посмеяться над «отче наш»
святого Юлиана и над чудесами сэра Чаппеллетто.
23. Поскольку в основе боккаччиева мира лежит опи-
сание, иными словами предмет без «лучей» и «запахов»,
вне впечатлений, но зато обладающий конкретными
очертаниями, то ему необходима полнокровная и живая
форма: так родились две формы новой литературы —
октава в поэзии и период в прозе.
1 «Декамерон», I, 1. Новелла об Алибек (ibid., Ill, 10); упо-
мянута выше вместе с новеллой о Ринальдо д'Асти (ibid., II, 2) —
об «отче наш» святого Юлиана, о которой речь пойдет ниже.
411
Мы уже отмечали, с какой восточной пышностью рас-
цвела в поэме «Интеллидженца» «девятая рифма» 1. Ок-
таву изобрел не Боккаччо; не ему принадлежит и честь
изобретения повествовательного периода. Но именно он
придал октаве осязаемость и определенную интонацию.
До Боккаччо октава представляла собой бессвязное слу-
чайное нагромождение самых разнородных предметов,
которые вполне могли бы существовать каждый по от-
дельности. Предметы эти выступали нагими, среди них
не было ни одного, который был бы дан в развитии и в
обрамлении. Октава сводилась к механическому приему,
не обладала органичностью. Боккаччо превратил ее в
нечто органически цельное, где предмет дан в его посте-
пенном развитии.
И все же, хотя в его поэмах немало удачных октав,
в целом они еще запутаны, плохо построены и в самом
ответственном месте расползаются. В героическом жанре
октава Боккаччо звучит искусственно и напряженно, в
жанре идиллическом она банальна и небрежна. Дело в
том, что октава с ее масштабностью и высоким звуча-
нием знаменует наивысшую идеальность поэтической
формы и требует от писателя гениальности, которой
Боккаччо, заблудившийся в мире искусственности и ус-
ловностей, не обладал. Порок заложен внутри, в самой
его натуре: то, что основано на холодном расчете, неиз-
бежно получается слабым, нестройным, и здесь бессиль-
ны любые ухищрения2.
1 См. главу I о сицилийцах.
2 Аналогичные мысли о Боккаччо-стихотзорце высказывает Фос-
коло в- своем «Discorso»: «[Боккаччо] совершенно не обладал той
живописующей фантазией, которая, конденсируя мысли, чувства
и образы, выливается потоком бурных слов, далеких от какой-либо
риторики. Во многих из своих поэтических произведений он про-
являет себя как истинный поэт, но лишь в плане изобретательности,
выдумки, а не стиля» («Ореге», vol. cit., p. 55). Далее, говоря
о прозе Боккаччо, Фосколо отмечает: «Приноравливая флорентий-
ский язык к мертвому языку латинян, он делал его более величе-
ственным, но лишал его свойственной ему энергии... Он коверкает
язык, точно влюбленный. Он приписывает слову способность жить
самостоятельной жизнью, считает, что оно не нуждается в одухо-
творении разумом; тем не менее, «дабы повествование было исчер-
пывающим, он стремится к языку, блистающему выразительностью
и изобилующему великолепными словами» («Фьямметта»,. книга IV).
«А великолепие слов определяло его ухо, весьма чувствительное,
когда он располагал их в форме прозы...» Ibid., p. 59.
412
Зато в «Декамероне» автор чувствует себя как дома:
он рисует мир, в котором живет сам, в чьей судьбе
кровно заинтересован; погрузившись в него целиком, он
отбрасывает всякую искусственную оболочку. Боккач-
чо — нечто большее, чем просто писатель: он купается
в этом мире, хлопочет, суетится, получает свои радости
и утехи. Он создает форму, олицетворяющую этот мир,
бурлящий в его крови и воображении. Так родилась та
форма прозы, которая получила название боккаччиева
периода.
Великое литературное течение, центром которого была
Флоренция, стало незадолго до этого распространяться
за пределами Тосканы. Возрождение античности, рас-
крывавшей перед людьми, наделенными воображением,
новые горизонты, возрождение греческой культуры, с ко-
торой тогда лишь начали знакомиться и которую окуты-
вала поэтому дымка неизвестности, еще более возбу-
ждавшая интерес, привлекало к себе всеобщее внимание.
Язык Данте еще не стал итальянским языком; его назы-
вали языком флорентийским. Настоящим языком про-
должали считать латынь; писатели по-прежнему придер-
живались мнения, что на «вульгарной латыни», то есть
на диалектах, можно было писать лишь о предметах
легкомысленных, о любви. По словам Боккаччо, он пи-
сал на флорентийском языке *, а те, что пользовались
вольгаре, писали на народной латыни. Латынь по-преж-
нему считали языком совершенным, безупречным; идеа-
лом, к которому стремились образованные люди, был
благородный и изысканный родной язык, вольгаре, близ-
кий к этому образцу, вольгаре, доведенный до такого же
совершенства, каким обладала латынь. Такую попытку
предпринял Данте в «Пире»; он был глубоко убежден-,
что вольгаре подходил для выражения самых сложных
научных мыслей в той же мере, что и латынь, и вот этот
схоластический латинский народный язык или вульгар-
ная латынь в ее первозданном виде, угловатый и нерв-
ный, впервые появился на сцене, облаченный в ниспа-
давшую величественными складками римскую тогу.
i См. «Декамерон», IV, вступление: «Это должно представиться
ясным всякому, кто обратит внимание на настоящие новеллы, напи:
санные мною не только народным флорентийским языком, в прозе
и без заглавия, но и, насколько возможно, скромным и простым
стилем».
413
Но смола схоластики прилипла и к Данте: его воль-
ному языку так же тесно в тенетах схоластики, как
крестьянину, вырядившемуся на праздник в городскую
одежду. Достичь полного слияния ему не удалось: в
«Пире» повсюду несоответствия и противоречия К
Боккаччо не учился в университетах; к тому времени,
когда он занялся философией и немного теологией, он
уже был сложившимся человеком, обладал житейским
опытом, набил руку в пользовании вольгаре и начитался
классиков. Так же как и Петрарка, он не выносил схо-
ластов, считал их врагами изящной греко-римской куль-
туры, олицетворением варварства и грубости. Он бук-
вально обожествлял Вергилия и Овидия, Ливия и Цице-
рона; в его глазах ни библия, ни Фома Аквинский не
могли с ними сравниться. Когда Боккаччо хочет отра-
зить какой-либо серьезный моральный или научный ас-
пект действительности, все его старания остаются чисто
внешними, механическими, потому что у него больше
воображения, чем чувства, больше интеллекта, чем ра-
зума. Форма его благородна, подчас непринужденна, но
слишком однообразна и бесстрастна, что временами
усыпляет. Боккаччиев период наводит на мысль о моно-
тонном шуме волн, с трудом приводимых в движение
усталым и сонным морем. Вместо вдохновения — рито-
рика и логика: оказавшись отрезанным от образов, бу-
дучи во власти неопределенности чувств и абстрактно-
сти слов, Боккаччо теряется и сдает. Он обращается с
идеями так, будто они — предметы, и доводит читателя
до бесчувствия своим дотошным анализом и детализа-
цией. Его идеи — это общие места, разбавленные мел-
кими, ненужными подробностями, классификацией, ого-
ворками, условиями, с беспрерывным мельканием всех
этих «если», «но», «хотя», «несмотря на то, что». Излиш-
нее стремление к точности, подробнейший анализ каж-
дой, даже самой незначительной, мысли еще больше
подчеркивают тривиальность и ограниченность идеи.
Форма заметно отделяется от предмета и выступает как
затейливое сооружение, сработанное тщательно, но не
более того. А что за ней? Общее место. Позднее это на-
звали «литературной формой». Нет ничего более анти-
1 О соотношении между латынью и вольгаре — народным язы-
ком в «Пире» см. главу VI о писателях XIV века.
414
научного, чем слово в отрыве от фразы: значение его со-
вершенно меняется в контексте, в перифразе, в плеоназ-
ме. В такой искусственности есть и кое-что положитель-
ное—искусство переходов и градаций, дотоле прозе не-
ведомое и свидетельствующее о зрелом уме, воспитан-
ном на классиках. Но ее оборотной стороной было стрем-
ление превратить каждую мысль в нечто законченное,
в замкнутую цепь; это, образно выражаясь, болото, а не
бегущий ручей.
Боккаччо ненавидит схоластов, однако его период
есть не что иное, как замаскированный силлогизм, об-
щая фраза (вроде «соболезновать удрученным — челове-
ческое свойство»1), которая в конечном итоге выливается
в банальную сентенцию. Арсенал внешних средств стал
действовать безотказно, как хороший механизм, но ос-
нова осталась прежней, схоластической, — ее лишь при-
одели по моде. Если пространный боккаччиев период
походит на замкнутую цепь, где наука теряет свою про-
стоту, гибкость и подвижность, то не менее нелепо он
звучит и при выражении чувства, — духовной силы, ко-
торая, как известно, обладает большей свободой, мень-
шей дисциплинированностью и вырывается наружу, ло-
мая все законы логики. Внезапные бурные порывы души
под давлением множества союзов, скобок и рассуждений
как бы кристаллизуются. Отсутствует какая-либо субъек-
тивность: заглянуть внутрь человеческого «я» трудно;
описываемые случаи необычайны, факты интересны, си-
туации остры, но слеза не туманит взор, ничто тебя не
трогает, потому что переживания облекаются в общую и
витиеватую фразу.
Вспомним новеллу о мадам Беритоле, новеллу о
графе Анверском2: какие бы печальные события и не-
счастья в них ни описывались, форма остается неизмен-
ной, приглаженной и прилизанной. Правда, кое-где ощу-
щается не то чтобы волнение, но некоторая взволнован-
ность, идущая от бурного воображения и приводящая
к порыву чувства, — например, в последних словах до-
чери Танкреда и в некоторых высказываниях Гри-
зельды 3.
1 Этими словами начинается введение к «Декамерону».
2 «Декамерон», II, 6 и 8. См. также выше.
3 По поводу этих двух новелл («Декамерон», IV, 1 и X, 8)
см. выше.
415
Но боккаччиев период, столь мало подходящий для
изложения научных истин и чувств, где он выступает не
более, как некий устроенный на латинский лад меха-
низм, обретает смысл и подвижность, когда в действие
вступает воображение, то есть когда автор оказывается
в гуще событий и описывает не идеи и чувства, а совер-
шенно определенные, конкретные предметы. Таково опи-
сание чумы или сражения Джербино1. Ибо действие не
является, подобно идее, чем-то единым и простым: оно
подобно телу, то есть представляет собой целый ком-
плекс обстоятельств и деталей. Этот комплекс и есть пе-
риод, который, будучи дан в развитии, является тем же,
чем в живописи картина. Сгруппировать обстоятельства,
выделить, какие из них главные, какие второстепенные,
расположить их вокруг одного центра, распределить свет
и тени — в этом искусстве Боккаччо непревзойден. Опи-
сание, если оно носит отвлеченный характер, стоит особ-
няком и не связано с действием, не влияет на воображе-
ние и получается аляповатым, как это часто наблюдается
во введениях. Но когда есть в нем нечто такое, что дви-
жется, развивается и походит на действие, то приходит
в движение и воображение: оно мирно наблюдает за
представлением, рисуя картины в форме широких маз-
ков, именуемых периодами.
Этот прием повествования картинами, разумеется, не
совпадает с естественным развитием действия: спокой-
ный глаз живописующего воображения сдерживает стре-
мительность действия, оно теряет ритм и остроту. Вот
почему он не подходит ни для истории, ни для прозы:
такой прием — прием художественного, поэтического по-
вествования. Эти картины-периоды воспроизводят не
порядок и не взаимосвязь, не значение фактов, а сами
поступки, положения, их оттенки; отсюда тот общий эф-
фект, который зовется внешним обликом или выраже-
нием.
Но есть область, в которой боккаччиев период пред-
ставляет собой нечто «sui generis» — единственное в
своем роде, полное жизни: это — комический и чувствен-
ный аспект описываемого. Дело не в том, что писатель
проявил здесь большее умение или тонкость, а в том, что
1 «Декамерон», I, «Введение» и IV, 4; эта последняя новелла
уже упоминалась выше.
416
таково его призвание. Его влечет этот едкий мир хитро-
сти, чувственности: комизм и чувственность он ощущает
нутром. Природа наделила его только такой гаммой
чувств, и она пронизывает все изгибы формы, застав-
ляет ее звучать по-особому. Боккаччиев период подобен
волнистой линии: она извивается, взлетает вверх в сла-
дострастном изгибе, вновь опускается, прерывается, от-
клоняется в сторону; благодаря этой игре и причудам
стиля перед тобой предстает не прозаически ясное зре-
лище, а лишь его эмоционально-музыкальный мотив.
Эти звуковые волны, эти ниспадающие свободными
складками латинские формы, исполненные серьезности
и достоинства, отражающие величие и блеск обществен-
ной жизни (перенесенной с римского форума в стены
частного дома, где время проходит в безделии и чув-
ственных наслаждениях), поставлены на службу удо-
вольствию, разжигаемому лукавством. Все, что говорят
Тито и Джизиппо1, звучит как риторическое подража-
ние миру, канувшему в прошлое, но, исполняя извест-
ную арию, они делают это как истые буржуа, не пони-
мая ее содержания и нередко искажая мотив и фальшивя.
Здесь же, в этом эротическом и лукавом мире, в ста-
рой арии начинает звучать иной мотив, который подчи-
няет ее себе, ассимилирует, и вот те самые высокопар-
ные речи, которые звучали некогда в устах великих ора-
торов, сейчас на службе у порока, придают ему
законченность и привлекательность.
Латинские писатели для достижения комического
эффекта отбрасывали в сторону тяжелую артиллерию и
пользовались легким оружием; Боккаччо же мыслил,
как Плавт, а писал, как Цицерон. Но замысел его был
столь живым и достоверным, что Цицерон в его вооб-
ражении постепенно превратился в очаровательую гра-
циозную сирену2. Часто, увлекшись сюжетом, он отбра-
сывает всякую мишуру и витиеватость и предстает перед
нами удивительно стройным, динамичным, прямым, ост-
рым. Боккаччо — великий мастер меткого слова и калам-
бура; его воображение, питаемое подлинным чувством,
1 «Декамерон», X, 8. Эта новелла упоминалась неоднократно,
см также выше.
2 В рукописи далее зачеркнуто: «Такое чудо мог сотворить
лишь Боккаччо с этими своими риторическими периодами, которым
так много подражали и которые так плохо поддаются подражанию».
27 Д* Санктис
417
по-хозяйски распоряжается древними и современными
формами, сливает их воедино, выковывает из них свой
собственный мир, отмеченный его особой печатью1. Этот
мир был бы невыносимым и отвратительным, если бы
его не пронизало своим бесконечным обаянием искус-
ство: оно прикрыло его наготу свободными латинскими
формами, как легкой вуалью, которой играет шаловли-
вый ветер. Искусство — вот то единственное, к чему Бок-
каччо относится серьезно, что заставляет его средь раз-
гула воображения задуматься, заставляет при описании
самых разнузданных вольностей нахмурить лоб, как то
было с Данте и Петраркой в минуты самого высокого и
чистого вдохновения.
Так родился стиль, в котором слились все многочис-
ленные стороны боккаччиевой натуры: писатель и эру-
дит, художник и придворный, книжник и светский чело-
век,— стиль специфически боккаччиевскии, настолько
характерный для него и для его эпохи, что всякое под-
ражание оказалось невозможным; сколько ни было под-
делок, но Боккаччо так и остался стоять как огромный,
недосягаемый памятник.
24. Чего не хватает миру Боккаччо? Будучи миром
природы и чувственности, он все же лишен того чувства
природы, того пьянящего аромата, который привнесет в
него Полициано.
Будучи миром комедии, он лишен того высокого чув-
ства комического, которое сумел привнести в него своим
юмором и изобретательностью Ариосто.
А что же собой представляет этот мир?
Циничный, лукавый мир плоти, не вышедший за пре-
делы чувственности и карикатуры, подчас переходящей
в буффонаду; облеченный в изящную, кокетливую форму
плебейский мир, который показывает кукиш миру духа;
1 Аналогичные соображения о прозе Боккаччо имеются в книге
Settembrini («Lezioni», cit., I, pp. 175—176): «Риторика налицо,
но она нравится; есть и переложения, но в периоде — такая звуко-
вая волна и гармония, такое сочетание слов, такие усечения, звуки,
взлеты, скольжение, припрыгивание, покачивание, какие можно на-
блюдать в походке хорошенькой женщины, когда кажется, что она
вот-вот переломится в талии... Риторика и переложения, к которым
прибегает Боккаччо, тщательность, с какой он располагает слова,
его изысканные союзы, красота и шлифовка стиля, периодов и
сентенций соответствуют его идее, составляют красоту той страсти,
которую он испытывает сам и заставляет испытывать читателя».
418
грубый по своим чувствам, но облагороженный, приук-
рашенный воображением мир, в котором живет утончен-
ное буржуазное общество, овладевшее духовными богат-
ствами, культурой и рыцарским наследием.
Это — новая «комедия», но не божественная, а зем-
ная. Данте, запахнувшись в свой плащ, исчезает. Средне-
вековье с его видениями, легендами, мистериями и ужа-
сами, с его тенями и экстазами изгнано из храма искус-
ства. В него с шумом врывается Боккаччо и на долгие
годы увлекает за собой всю Италию К
1 О тогдашней буржуазии как носителе культуры и о новом на-
правлении в литературе, начало которому положил Боккаччо, см.
также Q u i n e t, op. cit., I, p. 169: «После Боккаччо теория искусства
для искусства, то есть независимости искусства от каких бы то ни
было проблем, связанных с родиной и моралью, овладевает умами
всех итальянских писателей. Страна, ее национальные чувства,
гвельфы, гибеллины — эти темы исчезают из их произведений. Заня-
тая лишь мыслью о красоте стиля, о том, чтобы рисовать, воспе-
вать, лепить все более далекие от реальной жизни предметы, Ита-
лия не замечала нависшей над ней опасности; из-за своей гениаль-
ности она слепла и заковывала себя в кандалы».
27*
X
Последний тречентист1
1. Франко Саккетти в самой своей посредственности —
истинное эхо времени. Идиллическое и комическое: «Стихо-
творения» и «Триста новелл». 2. Оплакивание прошлого. Кан-
цона на смерть Боккаччо — надгробное слово Треченто.
«Жалоба» Антонио да Феррара. 3. Утверждение нового
класса — буржуазии. Застой в общественной и религиозной
жизни. Частная жизнь процветает в веселых компаниях.
4. Новая литература, чувственная и насмешливая. Идилличе-
ское сладострастие и комическое веселье. Жизнь Боккаччо —
компендиум итальянской литературной жизни.
1. Последний голос этого века — Франко Саккетти,
«человек невежественный и грубый»2. Писатель дюжин-
ной культуры и таланта немногим выше среднего, но на-
деленный редким здравым смыслом, не слишком смелый
и оригинальный, но исключительно простой и естествен-
ный3, Франко Саккетти в самой своей посредственности
был истинным эхом времени. Его окружала толпа сти-
хотворцев, уныло перепевающих старые песни: лукезец
Гуиниджи и Маттео да Сан Миниато, Антонио да Фер-
рара и Филиппо Альбини, Джованни д'Америго и Фран-
ческо дельи Органи, Бенуччо да Орвьето и Антонио да
Фаэнца, Асторре да Фаэнца и Антонио Кокко, Анджело
1 Цитаты, приведенные в главе, могли быть почерпнуты Де
Санктисом, помимо сборника Rime di Cino da Pistoia e d'altri,
a cura di G. Carducci, ed. cit., из собрания Raccolta di rime antiche
toscane Villarosa, Palermo 1817, vol. IV.
Из этого последнего им взят перечень стихотворцев второй по-
ловины XIV века, упомянутых в начале главы.
2 Trecento novelle, предисловие Silvestri, Milano 1815, p. 68:
«Я флорентинец, Франко Саккетти, человек невежественный и гру-
бый, задался мыслью написать предлагаемую вам книгу...» (Фран-
ко Саккетти, Новеллы, М.—Л., 1962, стр. 13).
3 В рукописи дальше следовало вычеркнутое: «добрый христи-
анин и чудесный человек, а вместе с тем гуляка и весельчак, он был,,.*
420
да Сан Джеминьяно и Андреа Малавольти, Антонио Пьо-
вано и Джованни да Прато, Франческо Перуцци и Аль-
берто дельи Альбици, Бенно де'Бенедетти, который на-
зывал Саккетти «учтивым героем»!, и многие другие.
Наш учтивый герой получал и посылал сонеты, отвечая
на похвалы похвалами. Это последние голоса итальян-
ских трубадуров. Общие места и варварская форма сви-
детельствуют о традиционном и уже исчерпанном круге
идей. Иногда в их стихах обнаруживается религиозное
и нравственное чувство2, но оно холодно и пресно, как
механически повторяемая каждый день молитва. В этом
Саккетти продолжает прошлое; он делает то же, что де-
лают другие, он мыслит так, ибо точно так же мыслят
все прочие; он берет мир таким, каким он его находит,
не давая себе труда получше в него вглядеться. Это
мертвая часть в Саккетти. Но есть в нем и часть жи-
вая — та самая, в которой чувствуется его дух и в кото-
рой проглядывает его личность. И это как раз тот самый
мир, ярчайшим выражением которого является Боккаччо.
Франко — человек воистину мирный. Боккаччо пре-
зирал подобный эпитет3; порой ему хотелось трубить в
военные трубы, он стремился изображать героические
деяния и страсти. Франко же совсем не тщеславен; он
показывает себя таким, каков он есть, и он доволен, что
он именно таков по самой своей сути. Это человек, скро-
енный на старый лад, но живущий в развращенное вре-
мя; добрый христианин и вместе с тем враг ханжей,
недолюбливающий попов и монахов, человек прямой и
открытый, чуждый политическим распрям, благожела-
тельный в равной мере ко всем, порою острый на язык, но
не желчный; скромный в оценке своих талантов, он был
весьма далек от мысли ставить себя рядом с великими
поэтами того времени, каковыми, по его мнению (как и
по мнению его современников), являлись Дзаноби да
Страда, Петрарка и Боккаччо. К чему же стремился этот
добряк? — Жить тихой и спокойной жизнью; он чувство-
вал себя самым счастливым человеком на свете, когда,
1 Сонет «на случай», написанный сэром Бенно де Бенедетти да
Имола: «Если забвенье меня не смущает, Любезный герой...»
(«Raccolta», cit., p. 268).
2 В рукописи следовало вычеркнутое: «Ибо все они люди благо- ■
нравные, особенно Саккетти, но...»
3 См. главу IX о «Декамероне»,
421
находясь в деревне или в городе, мог коротать время в
веселой компании, обмениваясь с друзьями шутками,
рассказывая новеллы или сочиняя сонеты. Ему был свой-
ствен идиллический и юмористический взгляд на жизнь.
Он любил жить в усадьбе, потому что в городе
Зла сколько хочешь, а добро — за деньги !.
В его качче и баллатах нередко ощущается свежее
дыхание полей. Таковы радостное, очень живое стихо-
творение о девушках, которые, резвясь, собирают в роще
цветы, или мило наивная, грациозная баллата о горных
пастушках. В городе Саккетти — шутник, голова кото-
рого набита всевозможными прибаутками, фацециями и
забавными историйками. Он выкладывает свои истории,
в которых ощущается аромат диалекта, одну за другой,
по мере того, как они приходят ему на ум, с простова-
тым добродушным видом, еще более усиливающим впе-
чатление. Сонеты и канцоны Саккетти много ниже его
мадригалов и баллат или танцевальных песен, с их бы-
стрым, веселым ритмом, не чуждых галантному и тон-
кому остроумию. В них за поэтом ощущается человек,
которому они доставляют удовольствие и радость: вооб-
ражение уже унесло его в веселую компанию, где его
стихи будут петься в сопровождении музыки и танцев.
Прочтите баллату о терновнике и мадригал о соколе2.
Содержание новелл Саккетти составляет тот же бок-
каччиев мир, но у Саккетти он более буржуазен и
по-домашнему прозаичен: это остроты, шутки, грубые
любовные приключения, рассказы о лицемерии монахов,
анекдоты, сплетни — низменная простонародная жизнь в
простонародной форме. Некоторые ставят новеллы
1 Сонет «С пословицей хочу не согласиться», ст. 14 («Raccolta»,
cit., p. 181). Упоминающиеся далее две баллаты «Задумчиво по
роще проходя» и «О милые пастушки с гор», ibid., pp. 181, 188. Ли-
тературный портрет Саккетти нарисован согласно традиционной
схеме (сохранявшейся от Куадрио до Гравины и Сисмонди) на
основе его стихотворений (см. также Carducci, pref. cit.), лишь
с легким намеком на автора «Trecentonovelle». Но Де Санктис хо-
тел прежде всего определить нравственные и культурные позиции
Саккетти во время окончательного исчезновения оплакиваемого им
мира прошлого и появления первых проблесков эпохи Возрож-
дения.
2 Баллата «Влюбленный терновник» и мадригал «В дождь из
дождя, из леса в дебри, «Raccolta», cit., pp. 190, 186; «Rime», ed.
Carducci, pp. 483, 495.
422
Саккетти выше «Декамерона» за их простой, естествен-
ный и непринужденный стиль, не лишенный флорентий-
ского остроумия и лукавства. Но естественность Франко
Саккетти—это естественность человека, для которого му-
зы поскупились на свои дары. Саккетти не художник, и он
даже не мечтает об этом. У него отсутствует всякое вдох-
новение. Мир, с таким великолепием организованный в
«Декамероне», у Саккетти — всего лишь грубый, едва
отесанный материал. Поэтому из трехсот его новелл за-
поминается только несколько анекдотов; ни один из его
персонажей не обрел бессмертия.
2. Саккетти пережил свой век. В его веселость вкра-
дываются меланхолические нотки, которые под конец на-
чинают звучать все мрачнее. Не по душе этому доброму
человеку мир, в котором больше значит тот, у кого ко-
шель толще, и он негодует: «Добродетель не приобре-
тешь мошною», «учтивость и добродетель втоптаны в
грязь»1. Он рисует с натуры современных ему адвока-
тов:
Они законы выучили гладко,
Но часто с ними вольно обращаются:
Воров спасают, к прочим придираются.
Они богатых оправдать стараются,
Приходится зато весьма несладко
Тому, кому не по карману взятка 2.
То он ворчит на старух. То ополчается на новые по-
крои одежды, завезенные во Флоренцию из других
стран3. Нападает на толпы рифмачей и сказителей (can-
tori) 4:
Стихи писать охота всем на свете:
Тот не поэт, кто за стихи берется
И только о звучаньи их печется.
1 См. «хвостатый» сонет (с кодой) «Увы я вижу, что бежала
добродетель», стр. 16, и сонет «Что можешь сделать ты, несправед-
ливый мир»; оба в «Raccolta», cit., pp. 178—179, 182 — 183.
2 Сонет «Наш мир наполнен болтовней», ст. 9—14, ibid., p. 179.
3 Помимо небольшой поэмы «La battaglia delle belle donne di
Firenze con le vecchie» — «Битва прекрасных флорентинок со стару-
хами», не включенной в «Raccolta», см. баллату «У старухи
дьявола характер», ibid , р. 189; против новых покроев одежды на-
правлена канцона «Добродетели мало, зато покрой», ibid., p. 197.
4 Так в рукописи и в двух первых изданиях. В третьем изда-
нии, «певцов» (de'cantatori).
423
Повсюду вижу тысячи Маркетти,
Которые, увы, в искусстве — дети !.
А когда умирает Боккаччо, «источник красноречия
бездонный»2, он восклицает:
Поэзии не стало, пуст Парнас.
Какое чудо в том, что горько плачу
Я, утешавший сам себя не раз
Тем, что остался хоть один: Боккаччо?
Теперь и он за жизненной чертой...
...Поэтов не осталось,
И больно мне, что новых не видать,
Которые могли бы обещать
Мне от моей печали исцеленье.
Плох тот, кто пишет ради развлеченья...
(Ст. 1—2, 4-6, 11-15)
Придет ли настоящий хоть один,
Или, как возрожденья медицины,
Его прождать придется лет пятьсот?.*
Быть может, новых всходов
Дождаться юным выпадет на долю,
Но я боюсь, не прозвучит дотоле
Трубы высокий глас,
Что и в могилах долетит до нас...
(Ст. 49—51, 56—60)
Всяк в арифметике мастак, тем боле,
Что с помощью законов умноженья
Легко преуспевать...
И точные науки выбирает,
Кто хочет уваженье заслужить...
(Ст. 64—66, 71—72)
1 Стихи 4—8 мадригала «Тщетно трудится тот, кто сегодня
стихи сочиняет», не включенного ни в «Raccolta», ни в «Rime» под
редакцией Кардуччи.
2 Так в рукописи. В изд. Морано «неисчерпаемый источник изя-
щества», и это принято всеми другими издателями, Цитата взята
из сонета, посланного Саккетти Боккаччо, «когда разнеслась молва,
что он стал монахом неаполитанского монастыря Чертоза». См.
«Raccolta», cit., pp. 183—184, ст. 1—4:
Священной, сладкой влаги Геликона
Испив однажды, вы вошли во вкус
И на Парнасе жили среди Муз,
Источник красноречия бездонный.
424
Я вижу, как юнцы преуспевают,
И в этом ими плоть руководит,
А добродетель только лишь обуза..*
...давно уж не манит
То место их, где праздник правят музы..,
(Ст. 76—78, 80—81)
О новом Данте как могу мечтать,
Когда не видно, чтоб читали Данте?
Да и Джованни школы не оставил...
(Ст. 91—93)
Твердили все, что год шестидесятый
И следующих два десятка лет
Для мира станут временем из лучших,
Но не сбылись пророчества, куда там!
Ни на кого надежды больше нет.
И этот, кажется, не из живучих...
И если ты присмотришься к нему,
Поймешь, что он стихи печет, как булки...
(Ст. 106—111, 116—117)
Эта канцона !, из которой мы привели некоторые от-
рывки, является похвальным словом над гробом Тре-
ченто, произнесенным одним из самых светлых и самых
симпатичных писателей этой эпохи, последним треченти-
стом. В конце века старый шутник бросил меланхоличе-
ский взгляд назад, и пред ним предстала колоссальная
фигура Данте, «Африка» с ее «возвышенным поэтом»,
Джованни Боккаччо, но не с веселым и радостным «Де-
камероном», а с толстыми, учеными латинскими тома-
ми, из которых первый «О славных мужах», второй
«О знаменитых женщинах», третий
«Буколика», «О реках и горах» —
Четвертый том, и пятый — «О богах».
Увы! Данте умер. Умер Боккаччо. Петрарки нет в
живых. Кто же остался? И, оглядевшись вокруг, послед-
ний тречентист отвечает: «Никого». Он припоминает не-
благоприятные предсказания о бедствиях, которые, со-
гласно пророчествам, должны были произойти между
1 См. «Raccolta», cit, pp. 205 и ел. Ниже приводятся другие
места из этой же канцоны: намек на Петрарку (ст. 94—95 —«alto
poeta», в тексте, данном в «Raccolta». Принятое сейчас чтение altro
poeta было установлено Кьяри — Chiari, «II Libro delle rime», Bari
1936, p. 197), намек на Боккаччо, ст. 101—105.
425
семидесятым и восьмидесятым годами, и ему кажется,
что настал конец света. Исчезло ли навсегда то сильное
племя, из которого вышли эти трое великих и столько
еще других ученейших мужей, теологов, философов, юри-
стов, астрологов? Не воскреснет ли оно через пятьсот
лет, как это было с медициной? Или не видать нам его
до страшного суда? Мир теперь во власти счетов и меха-
нических искусств; со всех сторон «оголилась пышно
украшенная школа» *
Ни за одним окном
Достойного не видно.
Новое поколение гонится только за модой, за удо-
вольствиями, за прибылью; оно не печется о доброде-
тели и пренебрегает музами; не осталось никого, кто су-
мел бы прочесть Данте2, а кабинеты ученых превращены
в пекарни. Поэт так расстается со своей канцоной:
О сирота несчастная, слепая,
Нет у тебя надежды никакой,
Но если день-другой
Тебе осталось жить, то поспеши ты
Взмолиться: — Небо, жду твоей защиты.
(Ст. 121—125)
Такими грустными предчувствиями заканчивается
век. Дудженто завершали Чино, Кавальканти и Данте,
к тому времени уже зрелые и прославленные поэты —
оно завершилось зарею, за которой было уже видно, как
занимается новая жизнь, новая эра. Треченто завер-
шается мрачным закатом, столь мрачным и беспросвет-
ным, что добрый Франко думает: «Кто знает, взойдет ли
когда-нибудь солнце?»
Антонио да Феррара, когда разнесся слух о смерти
Петрарки, тоже пропел поэтическую «Жалобу» (La-
mento) 3. Над великим человеком плачут Грамматика,
Риторика, История, Философия; его провожают к пар-
насской гробнице
1 См. «Raccolta», cit., pp. 69—70: «Так со всех сторон оголилась
пышно украшенная школа» и ibid., 67—68.
2 В рукописи дальше следовало вычеркнутое: «понять «Африку»
или книги Боккаччо».
3 Канцона «Я уж читал о плаче троянцев» — «Raccolta», cit.,
pp. 246—250. Определение «Плач» содержится в посылке кан-
цоны: «Ты, Плач, проделал малую дорогу».
426
Вергилий, Ювенал, Овидий, Стаций,
Лукан, Лукреций, Персии и Гораций,
И Галл.
(Ст. 114—116)
Сошедшая из царства ангелов Афина Паллада бе-
режно несет свой венок. В самом конце печальной про-
цессии выглядывает автор, сообщая свое имя, фамилию
и место жительства
И из Феррары де Беккар Антон;
Не много зная, рвется к знаньям он.
(Ст. 138-139)
Он тоже — добрый человек, и ему тоже все пред-
ставляется в черном свете:
Согласие и мир ушли из мира,
Повсюду несогласие царит:
Добро совсем исчезло,
Любви не видит Бог,
И, мнится мне, выходит вере срок К
Это старческие жалобы людей поверхностных и по-
средственных. Они не обнаруживают ни глубины во
взгляде на вещи, ни силы чувства или ума. Тем не ме-
нее в их произведениях запечатлелся пусть даже и в
педантичной форме облик эпохи в последние дни ее су-
ществования.
Меланхолические нотки — это та сила, которая влек-
ла в Чертозу старика Боккаччо, которая обратила к Ма-
рии любовь Петрарки, омрачила последние часы Франко
Саккетти и заставила Джованну склонить колени перед
Екатериной Сиенской. Оспариваемая и отрицаемая в
жизни, сила эта все еще владела умами; посреди оргий
разбогатевшей и наслаждающейся буржуазии она воз-
никала порой как угрызение совести2 и призывала к по-
каянию.
1 См. канцону «Небесная добродетель...», ст. 22—23 и 32—34 —
«Raccolta», cit., p. 250 и ел.
2 В рукописи далее следовало вычеркнутое: «Однако, допускае-
мая и не оспариваемая разумом, она продолжала существовать за
пределами жизни, оказывая очень сильное воздействие не только
на простонародье, но и на все способные к энтузиазму простые
души».
427
3. Вера исчезает, кричит феррарец. Кабинеты ученых
превращены в пекарни, замечает флорентинец1. Нельзя
было лучше изобразить облик, который постепенно при-
нимал век и который сообщался новому поколению. Об-
рисуем его в кратких чертах.
Когда жирный народ берет верх во Флоренции,
в других частях Италии буржуазия тоже формируется,
крепнет и сплачивает свои ряды. Она становится клас-
сом, играющим важнейшую роль в ремесле, торговле, в
умственной и культурной жизни. Возникает глубокий
разрыв между простонародьем и образованным классом.
Но культура не является уже привилегией немногих —
она ширится и распространяется; она делает итальян-
ский народ самым цивилизованным народом Европы.
Общественная жизнь и жизнь религиозная коснеют в
атмосфере всеобщего индифферентизма. Они сохраняют
прежние формы, однако, будучи лишенными того духа,
который прежде внушал к ним благоговение, те же са-
мые личности, те же обряды и тот же язык кажутся те-
перь чем-то комическим и становятся мишенью насме-*
шек в веселых компаниях.
Частная жизнь приобретает все большее значение2.
Это жизнь широкая, беззаботная, приправленная остро-
умием. Люди собираются в кружки и компании не ради
обсуждения серьезных вопросов, а для того чтобы раз-
влекаться в городе и в деревне. Они развлекаются за
счет необразованных классов. Трубадуры, сказители и
рассказчики не являются больше привилегией замка
или двора. Феодальное веселье проникает в дома бога-
тых горожан, которые услаждают свой слух рассказа-
ми и приятными беседами, причем нередко в форме из-
лишне вольной и циничной. Непристойности, словно ще-
котка, возбуждали в то время смех.
4. Так возникла литература чувственная и насмешли-
вая, светская и языческая. Новелла и роман заняли в
ней важнейшее место. Веселая жизнь города отража-
лась в подвижных, изящных лирических формах рис-
петто, страмботто, фроттолы, баллаты, мадригала.
1 См. ст. 34 из цит. канцоны Антонио да Феррара «Мне ка-
жется, что вера исчезает» и ст. 117 «Кабинеты в пекарни уже пре-
вратились» из цит. канцоны Саккетти на смерть Боккаччо.
2 В рукописи вычеркнуто: «Жизнь вместо площади и церкви
сосредоточивается в четырех стенах дома».
428
Веселая жизнь на лоне природы облекалась в формы
качче и идиллий. Всей этой литературе свойственны дух
комического и чувство идиллического.
Форма комического — карикатура, проникнутая лука-
вой, но не злобной иронией. Идиллическая форма — опи-
сание красоты природы, исполненное мягкой чувствен-
ности. Сквозь всю эту литературу как бы просвечивает
определенное внутреннее спокойствие и умиротворен-
ность, свойственные беззаботному и довольному своей
судьбой человеку.
Джованни Боккаччо — вот художник, открывший этот
радостный мир природы.
Мистицизм гибнет, но жестоко мстит за,.сбою гибель,
увлекая вслед за собой религию, мораль, родину, семью,
жизненную простоту и достоинство. На смену ему прихо-
дят новые идеалы: идиллическое сладострастие и коми-
ческое веселье. Это два божества новой литературы.
Если старая литература созерцала свои идеалы
сквозь покровы аллегории и схоластики, то новая была
способна обрести себя только с помощью покровов гре-
ко-латинского мира.
Жизнь Боккаччо — это компендиум итальянской ли-
тературной жизни, того, как будет она развиваться.
В начале своего пути Боккаччо — неутомимый открыва-
тель рукописей, он весь погружен в мифологию, в грече-
скую и римскую историю. Он пока еще не художник,
он — эрудит. Его воображение блуждает по Афинам и
Трое. Он пробует то один, то другой жанр и никак не
может найти себя. Мир этот, словно густая вуаль, кото-
рая изменяет окраску предметов и не дает увидеть их
истинные очертания. Он подражает Данте, подражает
Вергилию, петраркизирует и платонизирует, совсем как
добрый Саккетти. Он пишет толстые тома латинских
сочинений, вызывающие восхищение его современни-
ков. В нем обнаруживается художник только тогда, ко-
гда, отбросив прочь весь этот багаж, он начинает пи-
сать ради забавы, отдаваясь во власть своей гениаль-
ной натуры. И там, где он искал лишь удовольствий, он
обретает славу.
Вот эта-то жизнь с ее поисками и подражаниями, с
ее педантизмом и ее идеалами и является историей но-
вой литературы.
429
XI
Стансы
I. Возрождение литературной культуры на латинском
языке. Формирование культуры, приобретение ею националь-
ного характера. Литературная Италия с центром при дворах.
2. Безразличие к содержанию и инертность мысли. Рождение
литератора и литературной формы. Подражание классическим
формам, новая трансцендентальность, новый покров. 3. Ла-
тынь идиллий Понтано и Полициано. 4. Флоренция. Менее
резкая грань между образованным классом и простым наро-
дом. Сохранение литературы на народном языке и защита
вольгаре. 5. Развитие веселой науки, проникающей даже
в религиозную поэзию. Представление, называемое священ-
ным, сохраняет свою форму, но приобретает новое звучание
и окраску; «мистерия» становится приятной игрой вообра-
жения. 6. Анджело Полициано. «Орфей» — мир чистого во-
ображения, подлинная «мистерия» XV столетия. Его историче-
ское значение. 7. «Стансы». Их единство: живое чувство
природы и красоты. Идиллическое наслаждение и музыкаль-
ная форма — литература воплощает дух общества. 8. Лоренцо
Медичи; празднества и литература — орудия его власти.
Петраркизм. «Лес любви». 9. Натурализм Лоренцо и идеаль-
ность Полициано. Повествовательная поэзия, вдохновляемая
классикой, и бурлескная поэзия. «Ненча». 10. Баллаты и
«Карнавальные песни». Стихи Полициано в народной манере.
11. Рыцарская поэзия; народная традиция и новая мода на
французские романы. Парадный образ рыцарства при кня-
жеских дворах. 12. «Влюбленный Орландо»; исключительность
событий — единственная серьезная черта у Боярдо; отсутствие
у него воображения, остроумия и поэтической фантазии.
13. Луиджи Пульчи и поэтическое претворение рыцарского
мира в понимании простонародья. Характеры «Моргайте»:
Моргайте и Маргутте. 14. Астаротте, — одна из самых серьез-
ных концепций в нашей литературе, грубый и смутный отзвук
века, еще не осознавшего себя. 15. Леон Баттиста Альберти
и синтез культуры века. 16. Идеализированный добрый бур-
жуа: любовь к прекрасной форме, духовная уравновешенность.
Глубокое чувство реального. Артистическая проза, про-
должающая высокую прозу Боккаччо. 17. Первый «век» —
Дудженто, Треченто и «Комедия»; второй «век» начинается с
Боккаччо и завершается Чинквеченто. 18. Кваттроченто — эпоха
созревания и подготовки нового. Религиозный, нравственный
430
и политический индифферентизм; апофеоз культуры и искус-
ства. Савонарола — мимолетное явление буржуазии, скепти-
ческой и наслаждающейся жизнью.
1. Мы в пятнадцатом столетии. Греко-латинский мир
предстает в воображении своего рода Помпеей, кото-
рую все хотят посетить и изучить. Италия обретает
предков, и люди, подобные Боккаччо, встречаются все
чаще. Импульс, данный им и Петраркой, переходит в
лихорадку, или, лучше сказать, в своего рода электри-
ческий ток, который в определенные моменты пронизы-
вает все общество и наполняет его одним стремлением.
Га же сила, которая толкала крестоносную Европу на по-
ход в Палестину, а позднее, направляя ее в Индию, при-
вела к открытию Америки, влекла теперь итальянцев на
раскопки цивилизации, долгое время пролежавшей под
пеплом варварства. Язык ее был их языком, ее знания
были их знанием; итальянцам казалось, что они снова
познали и обрели самих себя, что они вторично родились
для культурной жизни. И новая эра была названа «Воз-
рождение». Такое чувство, однако, возникло вовсе не
внезапно. Согласно очень давней традиции, Рим счи-
тался столицей мира, а все иностранцы — варварами;
согласно этой традиции, итальянцы всегда оставались
древними римлянами: в их жилах текла латинская
кровь и их язык был латинским; их разговорная речь
получила наименование вульгарной латыни--латинско-
го языка, на котором говорил простой народ. Это чув-
ство у Данте связано с его гибеллинскими воззрениями,
а позднее породило «Африку» и латинизировало даже
озорные рассказы Боккаччо. Теперь оно стало всеобщим
и наложило отпечаток на всю эпоху. История с благо-
дарностью вспоминает Ауриспу, Гварини, Филельфо,
Браччолини — колумбов этого нового мира. Они откры-
ватели новых земель и в то же время профессоры и пи-
сатели. За долгими странствиями по Востоку и Западу
следуют лекции, комментарии, переводы. Латинский
язык получает столь широкое распространение, что для
ознакомления читателей с греческими классиками их
перелагают на латынь, подобно тому как дуджентисты
перелагают на вольгаре латинских писателей. Италия
кишит латинистами и эллинистами; страстью к древним,
языкам охвачены даже женщины. Великий стимул здесь
431
не только слава, но и заработок. С распространением
культуры число знатоков литературы увеличивается, они
теснятся у княжеских дворов и, огрызаясь друг на дру-
га, ссорятся из-за объедков. Возникают литературные
центры в больших городах — Риме, Неаполе, Флорен-
ции, позднее' в Ферраре, при дворе д'Эсте. Развившись,
эти литературные центры превращаются в академии.
В Неаполе возникает Понтаниана, во Флоренции —
Платоновская академия, в Риме — Академия Помпонио
Лето и Платины. После падения Константинополя зна-
менитые люди Греции тянутся во Флоренцию. Гемист
толкует Платона флорентийским купцам. Марсилио Фи-
чино, переводчик Платона, читает его произведения с
церковной кафедры как библию. Умерший тридцати
одного года, Пико делла Мирандола изумляет Италию
ученостью и, переступая пределы греческого мира, ищет
колыбель цивилизации на Востоке.
^ Характерные признаки этой культуры легко ощу-
тимы.
Прежде всего поражает ее универсальность. Цент-
ром движения не является больше только Болонья и
только Флоренция. Падуя соперничает с Болоньей. Пос-
ле долгой спячки снова занимает свое место в истории
литературы! юг, и Панормита заставляет предчувство-
вать Понтано и Санадзаро. В Рим стекаются все эру-
диты, их привлекает щедрость папы Николая V. Куль-
тура приобретает национальное лицо, становится италь-
янской! Говоря на вольгаре, образованные люди прино-
равливают его к латыни, он очищается от местных и
диалектальных элементов и также получает итальянское
обличье.
Но центр тяжести этой Италии литераторов — кня-
жеские дворы. Движение затрагивает лишь верхний
слой, оно не идет от народа и не спускается в народ.
Или, лучше сказать, народа не существует. Республики
пали, нет идейной борьбы, отсутствуют политические
страсти. Голос многолюдного оборванного и суеверного
простонародья заглушается веселыми возгласами при-
дворных и ученых знатоков, изливающих свою радость
в латинских стихах. Литераторам — слава, почет, день-
ги; их властителям — фимиам, клубами которого оку-
таны для нас папа Николай, Альфонс Великодушный,
432
Козимо, отец отечества, затем — Лоренцо Великолеп-
ный, Лев X, герцоги д'Эсте. Писатели поступали точно
так же, как капитаны наемников: они служили тому,
кто им больше платил: сегодняшний враг завтра стано-
вился покровителем. Странствуя от двора к двору, очи
продавали себя с аукциона.
2. Слабохарактерность и сервилизм в сочетании с глу-
боким религиозным, нравственным и политическим ин-
дифферентизмом, ростки которого мы видим уже во вре-
мена Боккаччо, настолько усиливаются, что становятся
характерными для нравов и обычаев всего общества;
они проявляются с откровенностью, которая теперь ка-
жется цинизмом. Сохраняется известная доля лицеме-
рия при изложении теорий не общепризнанных; если
же изображается жизнь, то она предстает перед читате-
лем во всей своей наготе. Это литература без покровов,
еще более беззастенчивая на латинском языке, чем на
вольгаре.
Для литературы характерно теперь безразличие к со-
держанию. Важно не что говорится, а как говорится.
Большинство писателей"—секретари князей, они всегда
готовы облечь в свою латынь чужие мысли. Прекрасное
жизненное единство, любовное согласие разума и дел-
ения, которое грезилось Данте, окончательно нарушено.
| Поэт не обязан иметь собственных суждений, а тем бо-
Члее жить в согласии с ними. Идея для него — какова бы
она ни была — есть нечто данное, привнесенное извне,
ему остается только дать ей одеждьь', Его .ум — это
склад фраз, сентенций и изящных выражений; слух его
заполнен каденциями и гармониями; все это" пустые
формы, без содержания. Так рождается литератор и ли-
тературная форма.
Движение, начатое в Болонье, было интеллектуаль-
ным: у древних искали знание, науку. Теперь движение
носит чисто литературный характер: у древних ищут пре-
красную форму. Появляется критика в окружении грам-
матик и риторик; вкус утончается, древних писателей
уже не смешивают друг с другом в равном обожании:
их оценивают, критикуют, определяют место каждого.
Филологические исследования эрудитов представляют
наиболее серьезную и важную по своему историческому
значению сторону этой культуры. Особенно выделяются
28 Де Санктис
433
«Изящества»1 Лоренцо Баллы. Уже само это заглавие
дает представление об облике века.
Эта придворная и чисто литературная культура,
имеющая свои центры во всей Италии, вызвала некото-
рый творческий застой, инертность мысли, подражание
античным формам, принимаемым за абсолютные образ-
цы; на человека и природу стали смотреть сквозь эти
формы. Это новая трансцендентность, новый покров. Пи-
сатель не говорит о том, что он думает, чувствует, вооб-
ражает, ибо то, что перед ним, — не образ, а фраза из
Горация или Вергилия. Он видит мир не в его непо-
средственности, а таким, как он изображен у классиков;
так и Данте смотрел на Беатриче через Аристотеля и
св. Фому.
Однако не шелуха мешает искусству. Ведь мог же
Данте временами отбрасывать шелуху, ибо был худож-
ником. Если бы этой культуре были присущи серьезные
элементы духовной жизни и высокого вдохновения, не-
сомненно, появился бы большой художник, у которого
они прозвучали бы и в латинских формах. Что бурлит
в недрах общественной жизни, рано или поздно выры-
вается на поверхность, разрывает любые покровы. В том,
что этогс не случилось, винят латынь: если у нас сред-
ние века не развили все свои формы, если внутренний
мир сознания оказался слабым, то виноваты в этом
классики, сделавшие языческими жизнь и литературу!
Но это неверно, классики тут не виноваты. Миру Гомера
и Вергилия, Фукндида и Ливия не свойственна мягкоте-
лость и фривольность. Если латинисты воспроизводили
лишь его внешнюю оболочку, а под этой оболочкой —
пустота, то это потому, что пусто у них в душе. Никто
не может дать того, чего сам не имеет. Наполненное
сердце найдет способ излиться даже в самых искус-
ственных 11 неприглядных формах.
1 Такую же оценку дает Сеттембрини («Lezioni», cit., p. 251):
«Я ощущаю ее (жизнь) даже в «Изяществах» («Eleganze») Баллы,
начинающихся с аблативов на «abus», ибо во введениях и в заклю-
чениях обнаруживаю писателя, открыто и смело затрагивающего
самые серьезные вопросы своего времени». Де Санктис более четко
подчеркивает историческое и идеологическое значение «Elegantiarum
latinae linguae», этой первой гуманистической грамматики. Надо
помнить и о той известности, которую принесло Балле в эпоху
Рисорджименто его знаменитое сочинение «De falso credita et emen-
tita Constantini donatione», написанное весной 1440 года.
434
Прочитайте этих латинистов. Чем они живут и что
ими движет? В их стихах и прозе витает дух Боккаччо:
идиллическая безмятежность и комическая соль, обле-
ченные в изящную и изысканную форму. Забота об изя-
ществе формы, безмятежный досуг в загородном имении
и приятное общество в городе — вот в основном и. все, из
чего складывалась жизнь эрудита.
3. Пока век изнурялся в мистических абстракциях и
изощрялся в диспутах, латынь была схоластической. Те-
перь же, когда истинный и единственный мир поэзии со-
ставляют идиллический натурализм и комизм Боккаччо,
латынь становится идиллической; я сказал бы даже —
художественной и живой. Огромный оркестр Данте уже
у Петрарки сменяется жалобной элегией. На этой изы-
сканной латыни печаль элегична, а наслаждения — идил-
личны. Жизнь сводится теперь к ее внешним проявле-
ниям; это смех природы, и души; сама элегия — сладо-
страстный экстаз чувств. На брегах Мерджеллины
Понтано воспевает «Любовь» и «Купанья в Байе» 1 то ла-
сково и томно, то посмеиваясь и балагуря. Мерджеллина,
Позилипо, Капри, Амальфи — острова, холмы, источники
превращаются в его языческой фантазии в прелестных
нимф, веселящихся на свадьбе его Лепидины. Грубая
чувственность исчезает в тонкой грации воображения и
очарования изящного слога. Муза Понтано, подобно его
голубке «fugit insulsos et'parurn venustos» («Избегает
пошлых людей и лишенных изящества также»), «odifsor-
ditiem» («Неизменное ненавидит»), отказывает в своих
дарах тем, кто является «illepidi atque inelegantes» («не-
отесанным и неэлегантным») и «gaudet nitore» («ра-
дуется красе»), она похожа на его «puella», который ни-
кто не «vivit mundior elegantiorve»2 («нет изысканней
1 Во время Де Санктиса «Parthenopei sive Amorum» «Hendeca-
syllaborum seu Baiarum» и упоминаемая далее «Lepidina» имелись
лишь в изданиях XVI века (Pontani Opera, «Urania, Meteororum»,
ecc, Aldus, Venetiis 1533 e J. J. Pontani Opera, Basileae 1556).
Биография Понтано, написанная Франческо Коланджело, была из-
дана в Неаполе в 1826 году, но Де Санктис использовал страницы,
посвященные Понтано у Сеттембрини («Lezioni», cit., I, p. 275):
«Его стихи, особенно «Лепидина», «Любовь», «Купанья в Байе»,
«Эриданус», исполнены той опьяняющей чувственности, которой ды-
шит воздух Неаполя...» Он приводит те же самые цитаты.
2 Amores, I, 5, Ad pueros de columba, vv. 9, 8, 6—7, 11—13
(Settembrini, «Lezioni», cit., I, p. 278)»
28*
435
и нет утонченней»).'Изящество и остроумие — вот поэти-
ческий мир образованной и довольной жизнью буржуа-
зии, воспевавшей свои досуги, коротавшей время за
Квинтилианом, Цицероном, Вергилием, на купаньях, охо-
те и в любовных приключенияхТ|Так проводят время, та-
кова атмосфера на купаниях в Байе и в загородных по-
местьях во Фьезоле. Понтано пишет «Лепидину» под
шорох морского прибоя; Полициано создает «Рустикус»
(«Деревенский житель»), дыша ароматом своей фьезо-
ланской усадьбы. Оба произведения навеяны красотой
сельской природы, но уШонтано больше фантазии, а у
Полициано — чувства.J Прелестны «лазурная» нимфа
Позилипо и чистая, невинная Мерджеллина; а желание
поэта стать птицей и пасть на женское лоно — удачный
галантный образ, ^свидетельствующий о чувственности
его воображения 1.':. Понтано — метафоричен, он весь —
нега и остроумие. Полициано проще, он ближе к приро-
дёГи дает ее почувствовать:
Здесь любимой сосны заманчивый шепот услышишь,
Здесь скиталец зефир поет в кипарисах средь шишек,
Здесь и быстрый ручей вскипает прозрачной волною,
Скачет игриво, бурлит и пестрые камешки катит2.
Этот латинский язык, такой изящный и непринужден-
ный, не производит впечатления мертвого языка, стихи
на нем нельзя расценивать как плод чистой эрудиции и
подражания. Лоренцо Валла говорит о латыни «наш
язык»; по всякому, сколько-нибудь серьезному вопросу
в это время пишут только по-латыни; вольгаре изгоняют
из литературы так же старательно, как и диалекты. Да-
же Данте объявляют «поэтом сапожников и пекарей»3.
В это время не казалось чем-то невозможным про-
должать пользоваться латинским языком, как греки
1 «Lepidina», II, vv. 3—4 (см. Settembrini, Lezioni, cit., I,
p. 276).
2 «Rusticus», vv. 11—14. Приведены Кардуччи в предисловии
к его изданию Полициано (Le Stanze, 1'Orfeo e le Rime, Firenze
Barbera 1863, p. CXXXVI). Из очерка Кардуччи Де Санктис по-
черпнул как цитаты, так и большую часть историко-литературных
сведений, приводимых им на последующих страницах.
3 Знаменитое суждение Николо Никколи, переданное Леонардо
Бруни в «Диалогах, посвященных Петру Истрийскому»: «Прочь вар-
вара из сонма писателей! Предоставим его сапожникам, пекарям и
подобному сброду, ибо он говорит так, что, по-видимому, желает
стать близким этой породе людей».
436
продолжали пользоваться греческим, говорить на уни-
версальном языке, языке науки и культуры, понятном
всем образованным людям.
4. Но эти тенденции встречают естественное сопро-
тивление во Флоренции, где вольгаре пустил прочные
корни и приобрел столь громкую славу, что писать на
языке Данте и Петрарки не могло быть зазорным. Во
Флоренции не существовало резко обособленного обра-
зованного класса; «жирный» и «тощий народ» все еще
были народом и имели один облик. Флорентинцы вос-
торгались классиками, толпились на лекциях Ландино,
Хризолора, Полициано; разинув рот они слушали Геми-
ста, Фичино и Пико, спорили о Платоне и Аристотеле,
затевали ученые дискуссии, бесцельные и бесплодные;
аплодировали Полициано, когда он воспевал красоту
Альбьеры, или оплакивали ее смерть, когда он пел о
глазах Лоренцо — «purus appolinei sideris nitor» («Чи-
стый блеск светил Аполлона»), — словно это были глаза
Лауры К Но вместе с тем вольгаре во Флоренции защи-
щали как национальную славу. Филельфо объяснял
Данте, а Ландино комментировал Петрарку; Леонардо
Бруни утверждал, что вольгаре был разговорным язы-
ком древнего Рима, Лоренцо Медичи отдавал предпочте-
ние Петрарке перед латинскими поэтами, называл Дан-
те несравненным, восторгался красноречием и весело-
стью Боккаччо, расточал похвалы Чино, Кавальканти и
другим, менее знаменитым поэтам, обнаруживая при
этом тонкость и зрелость суждений. У народного языка
были противники — грамматики и педанты, называвшие
Данте вздорным поэтом, невеждой,«rerum omnium igna-
rum» («несведущий во всех равно предметах»), очень
скверно писавшим по-латыни2. Однако во Флоренции
1 Об элегии на смерть Альбьеры и об эпиграмме о глазах Ло-
ренцо («Epigr.», VII, 6) см. Carducci, pref. cit., pp. XXXVI и
XXIX. Ibid., pp. XV и XVII—XIX— сведения о лекциях, читанных
во Флоренции Франческо Филельфо и Кристофоро Ландино, а также
о литературно-критических произведениях Лоренцо Медичи («Ком-
ментарий к стихам» и «Послание Федериго Арагонскому»).
2 См. Carducci, pref. cit., p. XV: «Поразительно, что даже
во Флоренции эрудиты и собиратели рукописей, вроде Николо Ник-
коли, возмущаются тем, что кто-то находит изумительные места
у Петрарки, Боккаччо и особенно у Данте. Как этот «невежда»
(«rerum omnium... ignarum»), этот «вздорный» («errantem»), этот
«неотесанный поэт, не стеснявшийся столь скверно писать по-ла-
тыни», ставится выше Вергилия?
437
прижиться они не могли. Кристофоро Ландино в «Сту-
дио», где он объяснял в одно и то же время Данте и
Вергилия, комментируя Петрарку, учил, что тосканский
язык не менее совершенен, чем латинский, и точно так
же должен подчиняться правилам грамматики и рито-
рики. Конечно, привычка к латыни приводила к тому,
что в вольгаре, попавший в руки к педантам, проникали
латинские слова, фразы и обороты, которые ощущаются
вплоть до Макиавелли; но, доведенная до крайности, по-
добная варварская мешанина вызывала смех и не могла
изменить формы вольгаре, установленные писателями и
живущие в устах народа. Вольгаре никогда не переста-
вали пользоваться; Леонардо1 написал на нем жизне-
описание Данте и Боккаччо, на вольгаре писал Фео
Белькаре жития святых и религиозные драмы, на нем
по-прежнему создавались риспетти, страмботты, фрот-
толы, качче, баллаты — различные жанры народной ли-
рики, связанные с общественными и частными праздне-
ствами и развлечениями, с маскарадами, турнирами, се-
ренадами, театральными спектаклями, играми, вызова-
ми на дуэль. Не так-то легко было одолеть или испор-
тить язык, столь тесно связанный с жизнью.
5. Сила народного языка была именно в том, что он
отражал общественную и частную жизнь, став неотъем-
лемой частью общества, его нравов и настроений. По-
этому если образованные люди, увлекаемые общим тече-
нием, и писали по-латыни, дабы приобрести славу, то в
повседневной жизни они пользовались Еольгаре, достиг-
шим к этому времени высшей степени отточенности и
изящества как в своей разговорной, так и в литератур-
ной форме. В народной литературе, однако, произошли
огромные изменения. Мир аскетизма, мистики и схола-
стики, характерных для предшествовавшего столетия, не
смог оправиться от ударов, нанесенных ему Петраркой и
особенно Боккаччо; он считается теперь грубым и вар-
варским и продолжает существовать как мир, привычно
условный, лишенный души. Напротив, мирская литера-
тура, веселая наука находится в состоянии твор-
ческого подъема и развития, она накладывает свои кра-
ски даже на религиозные произведения. Лауды распе-
ваются на те же мотивы, что и риспетти, а мистерии
1 Имеется в виду Леонардо Бруни. — Прим. ред.
438
приобретают романтический колорит модных в то время
новелл и романов. «Стелла» во многом напоминает
приключения злополучной красавицы Джиневры, «шесть
лет ходившей, блуждая, по свету»1. В религиозные про-
изведения нередко вводится комическое и буффонада,
так что начинает казаться, что слышишь, как на пло-
щади ссорятся кумушки. Лауда тяготеет к риспетто,
легенда — к новелле.
Легенда — это волшебный рассказ, порожденный ду-
хом мистики и аскетизма, с экстазами, видениями и чу-
десами. В основе его лежит вера, которая движет го-
рами и поднимает вас над сферой чувственного восприя-
тия, которая подчиняет себе чувства и наделяет их
крыльями воображения. Этот волшебный мир духа, став-
ший столь осязаемым, словно он обладает телесностью,
изображается с большой наивностью, без малейшего
стремления придать ему правдоподобность, ибо истин-
ность его не вызывает сомнения ни у рассказчика, ни у
слушателей. Такое впечатление производят легенды
Пассаванти и «жития» Кавалька2.
Тот же самый мир обнаруживается в священных пред-
ставлениях или мистериях этого века. Старые священные
представления переделываются заново, перелицовывают-
ся и приспосабливаются ко вкусам более образованной
публики. Перед вами проходят св. Авраам, Алексей,
Абрам, Евгения и Магдалина, святые, монахи и отшель-
ники Кавалька. Вместе с природной грубостью исчезли
простота и облик святости, религиозное и аскетическое
чувство. Чудо предстает только как чудо, то есть меха-
низм волшебства, оно играет ту же роль,, что фортуна
в новеллах Боккаччо. Драматический мотив составляет
впечатление, которое производят на зрителей огромные
и неожиданные перемены в нравственном и физическом
состоянии героев; поэтому мистерия не знает переходов,
теней и оттенков; контуры ее четки и ясны; действие
i Много раз издававшееся вплоть до XVII века «Благочестивое
представление о Стелле» подробно изложено Эмилиани-Джудичи
(«Storia della lett. it.», cit., I, pp. 368—373) и вновь воспроизведено
им же в «Storia del teatro in Italia», cit., pp. 249 и ел. О Джиневре
см. «Декамерон», II, 9. Из этой новеллы взяты конечные строки:
«Государь мой, я — бедная, злополучная Джиневра, шесть лет хо-
дившая, блуждая, по свету под видом мужчины».
2 О Пассаванти и Кавалька, об упоминаемых далее персонажах
«житий» «Vite», см. гл. VI.
439
чисто внешнее и протекает целиком на поверхности;,оно
останавливается лишь тогда, когда неожиданные пере-
мены вызывают лирические взрывы радости, горя, изум-
ления. Здесь тот же поверхностный лиризм и та же эпи-
ческая ясность, которые характерны для Боккаччо. Ли-
рика священна лишь по имени, ей несвойственно то
устремление души к вышнему миру, которое вы ощу-
щаете у Данте или Екатерины; есть молитвы, но нет
чувства. Действие вульгарно и буржуазно; оно обладает
прозаической ясностью, не одушевлено чувством и не
преобразовано воображением. Это дантовский мир в
буржуазном обличье; его скорбь — элегия, его мистиче-
ские восторги — идиллия; ему недостает чувства ужас-
ного и возвышенного, недостает негодования и инвек-
тивы; если в этих красочных представлениях, ставя-
щихся торжественно, с пышными декорациями, и
имелось еще что-то серьезное, то это было лишь эхом, от-
голоском мира, сознание которого угасало. Еще суще-
ствовали братства, которые тратили большие деньги на
постановку священных представлений, но «братья» — не
так, как во время Данте, — не были ни авторами, ни
зрителями. На священные представления они ходили,
как на карнавал, — чтобы развлечься. И развлекались,
как подобает людям образованным и со вкусом, насла-
ждаясь выдумкой и остроумием. Мистерия была для них
приятной игрой фантазии, отдохновением для души. Ко-
гда сознание пусто, а жизнь сводится лишь к ее внеш-
ним проявлениям, драма так же мало возможна, как
трагедия, как священное красноречие, так же неспособ-
на к обновлению, как видение и как легенда. Не потому
ли все эти гладенькие и подчищенные священные пред-
ставления остались безжизненными, не смогли обрести
глубины и серьезности подлинного драматизма, что
в Италии, как утверждали некоторые, не было дра-
матического гения? Словно гений является волшебным,
не имеющим корней плодом и падает прямо с неба! Или
же, как утверждали другие, это произошло потому, что
латинский язык привлек к себе всех образованных лю-
дей и мистерия оказалась в пренебрежении как жанр на-
родный; словно авторами мистерий не были образован-
нейшие люди того времени и словно латынь, которая не
смогла убить вольгаре, смогла бы убить душу нации, ес-
ли бы нация действительно обладала душой? Все дело
440
в том, что бедная латынь не могла ничего убить, ибо
убивать было нечего: не существовало серьезного религи-
озного политического, нравственного, общественного или
личного чувства, из которого могла бы возникнуть дра-
ма. Весь этот беспечный и чувственный мир мог поро-
дить только идиллию и комедию; несмотря на замеча-
тельный расцвет культуры, предрасположенность к ис-
кусству и художественное воспитание, мир этот не мог
породить ничего, кроме себе подобного мира чистой фан-
тазии. Мистерия — выкидыш, ее религиозное содержа-
ние, ничего больше не говорящее ни уму, ни сердцу, ли-
шенное сколько-нибудь серьезных мотивов, преобразо-
вано культурными людьми в чистую игру воображения;
ангелы и демоны, рай и ад столь же мало серьезны, как
Аполлон, Диана и Плутон. Серьезность и величествен-
ность темы находились в явном противоречии с чувствен-
ной и чисто внешней формой, с веселым и беспечным
миром чистой фантазии, с миром комико-элегико-идил-
лическим. Возникла мистерия, которую могла создать
Италия в подобном состоянии духа, и появился гений —
каким мог быть тогда итальянский гений. Этой мисте-
рией был «Орфей», а гением — Анджело Полициано.
6. Полициано — наиболее яркий представитель лите-
ратуры этого века'1. В нем уже ясно запечатлен образ
писателя, совершенно отстранившегося от общественной
жизни, полностью лишенного религиозного, политиче-
ского и нравственного сознания, придворного, любящего
жизненный покой, чередующего ученые занятия с ча-
сами приятного досуга^ Он нашел в Лоренцо покрови-
теля и друга, став его +енью, товарищем его публичных
и тайных развлечений. Выдающийся эллинист и лати-
нист, он в начале своего жизненного пути перевел на
латинский язык «Илиаду». Он сочинял латинские эпи-
граммы с легкостью импровизатора. Изо всех стран
1 В юношеских лекциях Де Санктис редко и лишь в самых об-
щих чертах касался Полициано. Гораздо чаще он обращался к нему
в своих зрелых работах, отмечая его изящество и тонкость, его «чу-
десное» совершенство (см. «Saggi critici» и «Saggio critico sul Pet-
rarca»). Говоря об Амброджини и давая на последующих страни-
цах истолкование искусства Лоренцо, Де Санктис принимает и
в основном разделяет точку зрения Сисмонди (S i s m о n d i, Litte-
rature du Midi, cit.). Историю предшествовавшей Де Санктису кри-
тики двух этих поэтов см. у Б. Майера (В. М a i е г, в Classici
Binni, cit., vol. I, pp. 229—276).
441
Европы приезжали слушать его объяснения к Гомеру
и Вергилию. Он вызывал восхищение не только своими
знаниями, но и как человек со вкусом и поэт, который,
вдохновившись текстом, вводит в комментарий свои чув-
ства, впечатления и песни. Его «Студио» * и его поместье
во Фьезоле являются воплощением спокойной, безмя-
тежной жизни, оборвавшейся в сорок лет.
г "Полициано обладал тонким чувством формы, безраз-
личной к содержанию. Храм был пуст: он ввел в него
Аполлона и заполнил его образами и гармонией.7Там,
где исчезали призраки средневековья, душой сразу же
завладевал античный мир7В Боккаччо еще ощущаются
средние века, и вы видите, как он схватывается вруко-
пашную с канонами, теологией и схоластикой, с дантов-
скими формами; ветхий и новый Адам борются в нем так
же, как в Петрарке; это переходная эпоха. В Полициано
все ясно и согласно: борьбы уже нет. Богословие, схола-
стика, символизм — средневековье в его формах и содер-
жании, прозаическое воспоминание о котором заметно
в лаудах и мистериях, — мир, абсолютно чуждый куль-
туре и чувствам Полициано. Все это для него варвар-
ство. И ему совсем не надо изгонять его из своей души:
оно в ней не обитает. Чувство прекрасной формы, столь
значительное уже у Петрарки и Боккаччо, становится у
него всем; тот мир прекрасной формы, к которому с пер-
вых дней своей жизни неустанно стремились Боккаччо и
Петрарка, — это его мир, он живет в нем так, словно в
нем родился; он обладает не только его сознанием, но и
вкусом. Это была культура, гуманизм, возрождение, это
гордость общества — ученого, артистического, идилличе-
ского, чувственного, — облик которого намечен уже у
Боккаччо и которое теперь отражалось в Полициано, как
в своем идеальном образце2. Ибо и это поколение, пад-
шее так низко, расслабленное и лишенное сознания, об-
ладало тем не менее своими идеалами, своими богами и
гордилось достигнутой культурой, чувством формы. Его
маскарады, выезды на охоту, серенады, турниры, празд-
нества, занимавшие столь значительное место в безза-
ботной и веселой жизни, были облагорожены духовным
1 Здесь речь идет о флорентийском университете «Студио»,
где с ноября 1480 года Полициано читал лекции по литературе и
философии.
2 Ср. Foscolo U. Epoch e, Discorso quinto, Opere IV, р. 232.
442
искусством и радостями воображения. Когда, вернув-
шись на родину, кардинал Гонзага устраивает обще-
доступные празднества и хочет украсить их поэзией,
молодой Полициано за два дня пишет для него «Ор-
фея» 1. А что такое «Орфей»? Почему на ум ему пришел
Орфей? Джованни Боккаччо в «Фьезоланских нимфах»
и в «Амето» описывает конец варварства, воспевает цар*
ство культуры и человечности2. Душа грубого Амето под
влиянием искусства и муз открывается для красоты и
любви; он чувствует, что из зверя стал человеком. Ат-
лант превращает лес Дианы в город, выдает замуж нимф
и вводит городские нравы. Орфей — великий герой этого
царства культуры; юный и"славный, он пришел из ан-
тичности в песнях Овидия и Вергилия. Основатель куль-
туры, он звуком лиры и сладостным пением укрощал зве-
рей и людей, разжалобил смерть и очаровал ад.' Это
триумф искусства и культуры над грубыми инстинктами
природы, освященный мученической смертью того, кто
в поругание всех естественных законов был отдан во
власть пьяных, неистовых вакханок. После того как па-
мять о нем надолго исчезла в ночи второго варварства,
Орфей снова возродился в празднествах новой цивили-
зации, предвещая наступление царства человечности,
или, лучше сказать, гуманизма, Такова мистерия этого
века; в ней идеал возрождения (risorgimento). Изгнан-
ные из городов священные представления влачат теперь
жалкую жизнь в деревне; они предаются забвению и
лежат, покрываясь пылью, в библиотеках.
«Орфей» — мир чистой фантазии. Мистерии уходили
своими корнями в мир аскетизма, который, традицион-
ный и условный, обладал тем не менее реальностью для
подавляющего большинства зрителей. Здесь же все
знают, что Орфей, дриады, вакханки, фурии, Плутон
и его подземное царство являются плодом фантазии.
1 См. письмо Полициано к Карло Канале, предпосланное «Ска-
занию об Орфее»: «которое по требованию нашего достопочтенного
мантуанского кардинала было в течение двух дней в непрекращаю-
щейся сутолоке... мною написано». См. также Carducci, pref. cit,
p. LX, где разбирается вопрос датировки. Согласно традиции, счи-
тают, что «Орфей» был написан в 1472 году; Кардуччи предлагал
отнести время его создания к 1480—1483 годам. Это, впрочем, не
противоречит тому, что Де Санкгис пишет «молодой» Полициано.
2 О двух «Ninfali» («Фьезоланские нимфы» и «Амето») см.
выше, гл, IX.
443
На турнирах-джострах, нарядившись рыцарями, купцы
воспроизводили мир рыцарства; теперь же эти новоявлен-
ные афиняне испытывали огромное удовольствие, когда
Анджело Полициано и Джулиано Медичи
(деталь фрески Доменико Гирландайо в церкви
Тринита во Флоренции)
перед их взором проходили тени античного мира в его
облике и одеждах. Какой восторг для всех, когда Баччо
Уголини, одетый Орфеем и с кифарой в руках, сошел с
горы, славя в великолепных латинских стихах кардина-
ла: Redeunt saturnia regna К Казалось, вернулись вре-
1 Verg. Buc, IV, 6. («Приходит Сатурново царство», пер.
С. Шервинского). О Баччо Уголини, первом исполнителе роли
Орфея на спектакле в Мантуе, см. Е m i 1 i a n i - G i u d i с i, Storia
della lett. it. cit., I, p. 387 и особенно Carducci, pref. cit.?
444
мена Афин и Рима; зрители приветствовали несмолкае-
мыми криками восторга Орфея, возвещающего людям
наступление новой эры, новой культуры. В средние века
говорили: «жить в духе», и это означало экстаз души,
вознесшейся над плотью к высшему миру. То, что неко-
гда внушало религиозное чувство, теперь внушает чув-
ство эстетическое; искусство — единственная религия,
которая уцелела, — теперь живут в фантазии. Подобно
тому как богачи украшают дома своих дедов, они укра-
шают искусством и ,свои развлечения.
А как красив этот «Орфей»!.Под античными форма-
ми в этих стихах живет и дышит все этаобщество, идеа-
лизированное в гармоничной душе поэта. Это мир измен-
чивый и поверхностный, мир быстро ускользающих виде-
ний; не успеваешь охватить его взглядом, как призрак
уже исчез: слова, словно пьяная влага, испаряются в
звуках и песнях; мысль, едва возникши, захлестывается
музыкальными волнами; трагедия оказывается элегией,
гимн — идиллией; возникает элегико-идиллический мир,
проникнутый сладостной грустью, которая вас не только
не волнует, но, напротив, чарует и убаюкивает, пока этот
прекрасный мир искусства не рассеивается, как туман,
и вы неожиданно не^ просыпаетесь, разбуженные буй-
ством пьяной страсти. Песнь Аристея, хор дриад, дифи-
рамб вакханок — три этапа этого очаровательного мира,
идиллическое спокойствие которого, проникнутое груст-
ным и нежным элегизмом, исчезает в вакхическом неис-
товстве. Одно только чтение «Орфея» не может дать о
нем полного представления. Надо добавить к этому ак-
теров, декорации, пение, музыку, а также восторг и опья-
нение общества, увидевшего в «Орфее» живое изображе-
ние себя самого. Его идеал, его Орфей —легкий призрак,
колеблемый волнами тонких ароматов, и когда вы под-
ходите к нему слишком близко, он исчезает, как.Эвриди-
ка. Это мир, серьезность которого определяется его спо-
собностью будить фантазию; страсти в нем — эмоции,
события — мимолетные видения, герои — тени; жизнь
поет и танцует, она не останавливается, и вы не можете
pp. XLV—XLVI: «Представляю себе неистовые аплодисменты и
крики, которыми разразилась ученая аудитория, когда Баччо Уго-
лини, облаченный в белую столу греческого жреца, с лавровым вен-
ком на юной голове и ученой лирой в руках сошел с горы, читая
глубоким и звучным голосом эти изящнейшие сапфические строфы».
445
ее схватить. Той же легкостью проникнуты формы, гиб-
кие, разнообразные по своей модуляции; метры, перепле-
таясь между собой в единой гармонии, как бы образуют
оркестр. Сеттенарий смягчает эндекассилабы; баллата
дает крылья октаве; рифмы сладострастно тянутся друг
к другу; диалект приобретает изящество, язык — величе-
ственность; вас то увлекает за собой стремительный бег
sdrucciolo, то останавливает и баюкает тронкированный
стих (il tronco); и во всем этом такая легкость и непри-
нужденность, что кажется, будто поэт играет, развле-
кается своими художественными средствами.
Так вновь рождается Орфей, сын Аполлона и Кал-
лиопы; так становится он посланцем Возрождения. Чис-
ло изданий «Орфея» все увеличивается; он с придворной
сцены проникает даже в деревню; вызывает подража-
ния — появляется «История и сказание об Орфее»; даже
теперь в тосканских долинах можно услышать мелодию
«Сладкострунного Орфея», повести в октавах К Герой
хорошо угадан, он именно в свой час вошел в новый мир,
став символом и знаменем века.
7. «Орфей» родился на празднествах в Мантуе; на
празднествах во Флоренции родились «Стансы». Мир
буржуазной куртуазности, так хорошо изображенный в
«Декамероне», воспроизводит на своих джострах свет-
ский мир романов и новелл — рыцарство. Под звуки фан-
фар поэты воспевают «триумфальные шествия и суровые
игры»2, купцов, изображающих паладинов и облекаю-
щихся в военные доспехи героев; все это перестало
быть реальностью: все это стало уделом фантазии. Тур-
ниры-джостры были, по существу, театральными пред-
ставлениями, а их участники — актерами, исполняющими
роли героев рыцарских романов. Нечто подобное про-
исходит сегодня на бегах, лишь с тем преимуществом,
что актерами выступают лошади. Смехотворны поэты,
которые в напыщенных выражениях, взятых из -рыцар-
ских романов, повествуют о подвигах участников подоб-
ных турниров, словно перед ними Роланд и Карл Вели-
1 О «Historia e favola d'Orfeo» (Firenze 1558) и о народной
переработке мифа в «Storia d'Orfeo dalla dolce lira» (перепечатана
в Прато в 1860) см.: Carducci, cit. pref., p. LXIX. О судьбе мифа
об Орфее в конце XV века см.: L. М а г г о п е, II mito d'Orfeo nella
let'teratura italiana в «Studi di letter, itab, XII (1922), pp. 126—145,
2 «Stanze per la giostra», I, I.
446
кий, подробно описывают их одежды, девизы, гербы и с
напускной серьезностью рассказывают об их схватках.
Джулиано Медичи тоже устроил свой турнир и стал ге-
роем небольшой поэмы, названной потомками «Стансы».
«Стансы» начинаются под звуки военной трубы. Поэт
желает воспеть славные подвиги,
Чтобы имен величия и дел
С годами тлен коснуться не сумел. («Стансы» I, i 7—8)
Но замечательные деяния и великие имена забыты.
Что же осталось? Остались «Стансы», разрозненные по-
этические формы, связи между которыми никто не ищет:
каждая из них закончена в себе. В юной голове поэта
нет места рыцарскому роману, его заполнили Стаций и
Клавдиан с их «Лесами», Феокрит и Еврипид, Овидий
с «Метаморфозами», Цергилий с «Георгиками», Петрар-
ка с Лаурой; все в ней мир колеблющихся, разрознен-
ных образов, рассыпанных, словно звезды по небу, кото-
рыми любуется простой пастух1. Мир этот предстает пе-
ред нами в искусственных и механических связях, о не-
прерывной нити его развития никто не заботится — ведь
турнир не мотив этого мира, а всего лишь предлог. Его
единство не в хилом и незаконченном действии, не в
бедном сюжете. Оно в нем самом, в том духе, который
им движет, в том живом чувстве природы и красоты, ко-
торое со времен Боккаччо является миром культуры.
Весна, ночь, жизнь на лоне природы, охота, дом Венеры,
сад Амура — все это не эпизоды,-это сам мир в своей
сущности, проникнутый одним дыханием. Это апофеоз
Венеры и Амура, прекрасной природы, нового божества.
Природа не обладает более той туманной неясностью,
которая погружает в думы и навевает смутную грусть;
вы больше не в царстве тайн и теней, музыкальном
1 Carducci, pref. cit., pp. XLVIII и ел.: «Стаций и Клав-
диан — те древние писатели, которые больше всего повлияли на
формирование своеобразия его поэтического воображения». «Джули-
ано, презирающий Амура и его последователей («Stanze», 1,8—16),—
это в значительной мере Ипполит Еврипида и отчасти Нарцисс
Овидия («Metam.», Ill, 388)... Описание царства и дворца Венеры
(«Stanze», I, 69—120) наш поэт целиком перенес из «Свадьбы Го-
нория и Марии» Клавдиана («Epith. Honor. Aug. et Mar.», 47
и ел.)». Указания на «Георгики» и Петрарку также имеются у Кар-
дуччи (loc. cit.). Завершающее фразу сравнение — намек на «про-
стого пастуха» из «Ночной песни» Леопарди.
447
царстве чувства: вы в царстве фантазии. Венера обнажена;
Изида сбросила покрывало. Пред вами не эскизы Данте,
а картины Боккаччо; не лики Джотто, а тела Перуджи-
но1; не замкнутая в себе терцина, а стремящаяся впе-
ред октава. Здесь представлено то идиллическое чув-
ство и та чувственность, которые вдохновили Боккаччо,
и тончайший аромат, ощущаемый в «Лепидине» и «Ру-
стикусе». В них расслабленная душа как бы нежится, не
предается фантазии, а лишь время от времени делая за-
рисовки и наброски, словно по каплям смакует насла-
ждение. Это не подробные, анатомические и зачастую
грубоватые описания Боккаччо; природа предстает перед
вами, словно чудесный пейзаж, но вы не понимаете, как
и откуда к вам доносятся шепот, нежные звуки и мело-
дии: это как бы голос божества, сокрытого в ее лоне.
Процеженная сквозь столь сладостные звуки чувствен-
ность теряет свою грубость и оказывается очищенной;
это не кокетливая муза Боккаччо, а целомудренная муза
Парнаса, она прикрывает свою наготу, набрасывая на
себя девичий плащ. У Боккаччо плоть распаляет вооб-
ражение, у Полициано воображение — своего рода ти-
гель, в нем золото очищается от примесей. Чувственная
и вульгарная Гризеида2 освобождается от земного и
превращается в изящную Симонетту, воплощение кра-
соты, сбросившей покровы дантовского и петрарковско-
го аллегоризма, с четкими и законченными контурами
и все же божественную в своей реальности:
Покой в ее движениях — обман:
В густых бровях таится ураган.
Между поэтом и его миром нет непосредственной
общности; между ними — Вергилий, Феокрит, Гораций,
Стаций, Овидий, предоставившие поэту свои образы и
краски. ;Но у поэта столь тонкий вкус и столь изыскан-
ное чувство формы, что все, что он берет у других,
1 О Боккаччо см. выше. Сближение с художниками Возрожде-
ния имеется уже у Кардуччи (Carducci, pref. cit., p. L). «Вы
чувствуете, что эпоха Джотто и Фра Анджелико, для которых вся
жизнь фигуры заключена в сиянии вокруг чела и созерцательном
взгляде, кончилась; чувствуете и узнаете Мазаччо, Росселли, Пе-
руджино...»
2 О земной, мещанской любви в «Filostrato» см. гл. IX. Два
следующих стиха, рисующих Симонетту, взяты из «Stanze», L 43,
ст. 7—8.
448
1
—-
Рафаэль Санто, Парнас (Рим, Витикан)
выходит с его печатью и как новое произведение. Его духу
присуще изящество, облагораживающее грубый натура-
лизм того времени, ему свойственна тонкость вкуса,
помогающая выбрать самый прекрасный цветок.' Не-
значительное, грубое, плебейское не проникает в его
воображение: в нем все изящно и благоуханно; он не
успокаивается, пока не достигнет полнейшей утонченно-
сти совершенства. Его классические и мифологические
реминисценции всего лишь художественные средства
изображения, колорит: вот Венера, Диана, та или иная
фраза Овидия или Вергилия; но поэт не скользит по
поверхности, схватывает воображением живые вещи и
показывает их ясно и естественно. Изящество у него не
риторично и — что встречается не часто — естественно,
ибо он воспринимает вещи просто и непосредственно.
Фиалка, роза, плющ, виноградная лоза, овцы, козы,
птицы, дуновения ветерка, трава, цветы — все одуше-
вляется идиллическим воображением и принимает прият-
ные, благородные формы. Это проявление не чувствен-
ности, а наслаждения, восприятия, выросшего в чувство,
которое расплавляет пластическую форму и заставляет
звучать ее внутреннюю музыку. Поэт достигает огромного
художественного эффекта самыми простыми средствами,
часто только путем размещения объектов, группируя их
вместе или разграничивая, всегда вкладывая в них
душу, словно в живые существа. Так фиалочка — это
молоденькая девушка, стыдливая, робко потопившая
глаза, плющ ковыляет на кривых ногах, трава дивится
своей красе, она — белая, голубая,' матовая и алая1.
Пробуждаемое подобными образами чувство не отвле-
кает от реальности, погружая в бесконечность; напротив,
оно сосредоточивает на созерцании действительности и
побуждает довольствоваться ею, как тем, в чем заклю-
чен весь мир; вы не стремитесь выйти за ее пределы и
рассматриваете действительность постепенно во всем
многообразии ее красоты. Поэтическое вдохновение воз-
буждает не дух в его трансцендентной и музыкальной
сущности, как у Данте, а тело, и тело не как прекрасный
покров, прекрасная видимость, но как нечто законченное
и успокоившееся в себе самом, как то обнаруживается в
повествовательном периоде и в октаве — аналитических,
1 «Stanze», I, 78, vv. 1—2; ibid., 83 v. 8 и 77, vv. 7—8.
29 Де Санктио 449
описательных формах, разработанных Боккаччо и стай-
ших основой новой литературы. Но у Боккаччо октава
еще расплывчатая, «пешая» (прозаическая), невырази-
тельная; у Полициано она кристаллизуется и приобре-
тает лицо. Каждый станс — маленький мир, изображае-
мый объект не мелькает в нем, подобно быстро усколь-
зающему видению, но- покоится перед вами как образец
и раскрывается во всей своей красоте1. Период не
строится композиционно, как картины, где основной пер-
сонаж выделяется среди второстепенных фигур, состав-
ляющих фон; это как бы ряд, в котором перед вами вы-
ступают один за другим элементы этого маленького ми-
ра. Как будто в этой прекрасной действительности все
интересно, в ней нет главного и второстепенного; октава
приспособлена гением человека, для которого все важно
и ничто не безразлично, который хочет все превратить
в пурпур и золото. Здесь не слияние образов, а их дви-
жение, вещь раскрывается перед вами, прежде чем ваш
дух сумеет ее исследовать и преобразовать. Станс пере-
дает не целое, а частности, не внутреннюю глубину
явления, а его видимую поверхность. Однако детали по-
добраны так хорошо, последовательность столь строго
соблюдена, что целое все же возникает, хотя и поро-
жденное не описанием, а чувством. Описывая весну,
поэг развертывает ряд явлений:
Зефир, цветов несущий аромат,
Всю осушил росу на горных склонах,
И ласточка в гнездо свое назад
Вернулася на крыльях утомленных,
И птичьи голоса на нежный лад
Уже звучали в пробужденных кронах.
И с первым светом мудрая пчела
С раскрывшихся цветков нектар брала 2.
1 Сущность поэтики Полициано была раскрыта уже в первых
неаполитанских лекциях о развитии лирики: «Возникла яркая по-
этическая индивидуальность Полициано, на которого петраркизм не
оказал никакого воздействия и который, кажется, возвращается
к Чино да Пистойа; с Петраркой его объединяют только культура
и изящество (Пульчи же груб, хотя и естествен). Если бы литера-
тура пошла по пути, открытому Полициано, мы имели бы непосред-
ственную лирику...» («Teoria e storia», cit., I, p. 140 и «Purismo illu-
minismo storicismo», cit., II).
2 «Stanze», I, 25.
450
Явления отобраны так хорошо, связаны между со-
бой в такой согласованности тонов и пауз, гармонизи-
рованы в столь свежие и сладостные звучания, кажу-
щиеся голосами единой мелодии, что вы воспринимаете
их не только глазами, но и душой; в вас возникает то
чувство внутреннего удовлетворения, которое вызывает
весна, наслаждение природой. У Данте нет наслажде-
ния, у него опьянение: в этом — трансцендентность.
У Боккаччо не наслаждение, а чувственность: Наслажде-
ние— муза новой литературы, это идеал плоти, чувствен-
ного восприятия; это — само чувственное восприятие,
перенесенное в сферу фантазии, очищенное, ставшее
чувством. Наслаждение у Полициано полностью идил-
лично, это — радостное восприятие природы, незнающее
ничего, кроме самой радости, в забвении обо всем
остальном; вы ощущаете первые свежие дуновения мира
природы, впитываемого душой, Вселенной для которой
была фьезоланская усадьба, облагороженная и укра-
шенная присутствием Феокрита и Вергилия. Искреннее
наслаждение природой в сочетании с чистым и тонким
ощущением формы и красоты, развившимся и сложив-
шимся в школе классиков, было тем источником вдох-,
новения, из которого вышел новый идеал литературы,
идеал «Стансов» — умиротворенность и внутренняя
удовлетворенность, полная грации и утонченности при ве-
личайшей отточенности и изяществе формы; то, что мы
можем определить двумя словами: идиллическое насла-
ждение. Содержание этого идеала составляет золотой
век и жизнь на лоне природы со всеми ее мифологически-
ми атрибутами — нимфами, пастухами, фавнами, сати-
рами, дриадами, небесными и сельскими божествами, и
во всем ее диапазоне — от самого высокого и чистого до
соблазнительного и непристойного. Форма его переда-
чи — описание, проникнутое мягкой и нежной музыкаль-
ностью, ее мы и видим в «Орфее» и «Стансах», двух
образцах литературы, начало которой было положено
Боккаччо и которая существовала вплоть доМетастазио.
Литература эта не является плодом усилий одино-
кого писателя, творящего в тиши кабинета, она — сам
дух общества, каким он обнаруживает себя в народных
праздниках и нравах. Центром всего этого движения
является Лоренцо Медичи и хор ученых и литераторов
вокруг него: Фичино, Пико, братья Пульчи, Полициано,
29*
451
Руччелаи, Бенивьени и все академики. Литература
выходит на сцену среди танцев, празднеств и пир-
шеств.
8. У Лоренцо не было культуры и идеальности Поли-
циано. Он обладал острым умом и большой фантазией—
двумя качествами образованной итальянской буржуа-
зии. Он был самым что ни на есть флорентинцем среди
флорентинцев, но, понятно, не старого склада. Формаль-
но христианин, платоник по школе, в действительности
же эпикуреец и человек, совершенно равнодушный к во-
просам веры, Лоренцо прикрывал княжескими одежда-
ми свою натуру пополана и купца, любящего острое сло-
вечко и соленую шутку; веселый, общительный, ищущий
наслаждений как для тела, так и для души; он посещал
церковь и кабаки, писал лауды и страмботти и переме-
жал ночные оргии спорами в академии; он был раз-
вратником и развратителем. Он был классиком по куль-
туре, тосканцем по дарованию, великолепным знатоком
всех тонкостей и красот диалекта. Он владел вольгаре
с тою же легкостью, с которой правил народом, идущим
за тем, кто умеет его понять и угождать его характеру
и стремлениям. Кто понимает человека, тот его госпо-
дин. Лоренцо-довел до высокого совершенства то новое
искусство управления государством, которого требовало
это общество, превратив празднества и саму литературу
в орудия власти. На смену насилию пришло еще более
действенное коварство: кинжал Бандини убил принца,
но не принципат; медицейская же коррупция убила на-
род. Впрочем, сказать точнее, Лоренцо тоже был на-
родом, только образованным и осознавшим себя; народ
и Лоренцо стоили друг друга. Каков народ, таков и го-
сударь. Медицейская коррупция была тем более опасна,
что она именовалась цивилизацией и была облачена
в обольстительные красоты культуры.
Молодой Лоренцо, еще пахнущий школой Ландино
и Фичино, ученик Данте, Петрарки, Платона, наполнен-
ный классическими реминисценциями и образами, во-
шел в толпу стихотворцев, писавших традиционные со-
неты и канцоны. Их было множество и во всех частях
Италии; образованный человек дебютировал тогда со-
нетом — обычай, сохранившийся до наших дней. В тот
век появилось большое количество стихотворных сбор-
ников; но теперь едва-едва помнят о Джусто де'Конти
452
и Бенивьени1. Продолжать Петрарку значило реализо-
вать его, развить тот чувственный, идиллический, элегиче-
ский элемент, который лежал под пластом его плато-
низма и представлял новый элемент. Но бедный Петрар-
ка был человеком больным, а авторы сонетов испускали
поэтические вздохи из пустой и равнодушной души. От
Петрарки остался труп: образы и метафоры, оторван-
ные от мира, в котором они родились, повисли в воз-
духе, лишенные всякой почвы. Не было больше органи-
ческого мира, существовало лишь беспорядочное, слу-
чайное, монотонное соединение форм, ставших условны-
ми. Отсутствовали воображение, тоска, экстазы — истин-
ные двигатели петрарковского мира; остались платони-
ческие абстракции и остроумие в соединении с безвку-
сицей пустой изощренности; пример тому столь знаме-
нитые когда-то стихи Чео, Ноттурно, Серафино, Сассо,
Корнаццано, Теба^ьдео2. Лоренцо тоже начинает с
вещи, напоминающей «Новую жизнь», и рассказывает о
своей влюбленности, разъясняя сонеты пространной,
торжественной прозой на манер латинской, хотя и более
свободной и естественной3. В его канцоньере тоже по-
являются условные формы и идеи; в нем тоже господ-
ствует остроумие, которым Лоренцо был наделен в изо-
билии. Но на сборнике лежит своя печать; в нем при-
сутствует идиллическое чувство и живость изображе-
ния, которое порой освежает вас и позволяет терпеливо
1 Это единственное указание на автора «Прекрасной руки».
Сборник стихотворений Джусто де'Конти после изданий XV и XVI
веков был переиздан в Вероне в 1750 и 1753 годах; ему была пред-
послана биография автора, написанная Маццукелли. Пятьдесят че-
тыре неизданных сонета Джусто де'Конти были опубликованы Аль-
берготти в 1819 году во Флоренции. Два его сонета помещены
у Трукки («Poesie inedite», cit., II, pp. 255—256). О Джироламо
Бенивьени (1453—1542), авторе канцоны «О небесной любви», напи-
санной под влиянием Фичино и ставшей знаменитой благодаря ком-
ментарию Пико делла Мирандола, см. ниже.
2 См. также: Carducci, pref. cit., p. XX: «Вот почему, за-
глянув в сборники стихов Чео, Ноттурно, Аквилано, Сассо, Кор-
наццано, Тебальдео, кто-нибудь, возможно, поразится, обнаружив
в них многие черты, предвосхищающие Сеиченто».
3 См. «Comento sopra alcuni de'suoi sonetti», составление кото-
рого, несомненно, относится к году, более позднему, чем 1476. Де
Санктис располагал медицейским изданием «Ореге» (4 voll., Firenze
1825), а также сборником избранных стихов, изданных G. Car-
ducci (Barbera, Firenze 1859), предисловие к которому он отчасти
использовал.
453
продвигаться дальше. В нем не найдешь сонета или кан-
цоны, которые можно было бы назвать совершенными,
но имеются довольно хорошие стихи, то тут, то там воз-
никают сравнения, образы, метафоры, останавливающие
ваше внимание.
Сонет и канцона являются формами как бы священ-
ными и не подлежащими изменению; к ним не осмели-
вается прикоснуться рука непосвященного. Поэтому они
остаются формами застывшими, неразвивающимися.
Новый дух прокладывает себе дорогу в новой форме —
в октаве или стансе. В ней обнаруживает себя свой-
ственная этому времени идиллико-элегическая любовь;
форма, конденсированная Петраркой, распускается и
растекается в торжественном движении октавы; исче-
зают изысканные метафоры и сопоставления; перед вами
живое повествование и красочные описания. Даже там,
где метафора дантовская, как, например, в стансах Бе-
нивьени, который, оставив первую чистую любовь и
устремившись к сирене, чувствует, что превратился в
пантеру, форма остается роскошной и грациозной, более
подобающей сирене, нежели целомудренной даме1. Об-
разцом этого рода поэзии является «Лес любви» Ло-
ренцо, произведение в стансах, написанное в широкой и
щедрой манере, порой несколько утомительной. Недо-
статок его составляет именно чрезмерный натурализм:
незначительная действительность созерцается и воспро*
изводится очень точно во всех ее внешних проявлениях,
она не обрабатывается гибким и тонким искусством, не
идеализируется, У Лоренцо более всего обычно восхи-
щаются описанием золотого века, где этот недостаток
проявился наиболее отчетливо2. Вы видите человека,
живущего на своей вилле и занятого созерцанием; фан-
тазия его одушевляет природу, но он не чувствует ее.
Перед вами наблюдатель, а не художник.
Прекрасно, но в равной мере и утомительно описа-
ние действия, которое оказывают на природу глаза его
1 Имеется в виду не канцона «О небесной любви», на которую
указывает в своих примечаниях Кортезе, а маленькая аллегориче-
ская поэма в октавах о любви, написанная Бенивьени в подражание
«Selve» Лоренцо Медичи. О Бенивьени и его стансах о любви см.:
A. Pellizzari, Un asceta del Rinascimento: G. Benivieni — в Dal
Duecento all'Ottocento, Napoli 1914, pp. 255—369.
2 «Selve d'Amore», II, stanze 84 и ел.; Opere, cit., II, pp. 46 и ел.
454
дамы. Чрезмерная точность губит иллюзию и усыпляет
воображение. Взгляните на эту октаву К
Как зверолов, который у тигрицы
Беспомощных детенышей крадет.
Где б ни была она, быстрее птицы
На помощь детям хищница придет,
Чтобы в охотника когтями в-питься.
Но вдруг она тигренка узнает
В стремительно бегущей рядом тени
И замедляет нехотя движенье.
Здесь перед вами человек, который в столь волную-
щий момент сохраняет прозаическое спокойствие, на-
блюдает и объясняет явление, изображает его правдиво,
но не воспроизводит чувство: описание точно, но в нем
отсутствуют тепло и гармония. А теперь взгляните на
художника, на Полициано.
Как будто бы тигрица, чей приплод
Охотник выкрал из норы. Шныряет
Она по чаще леса взад-вперед
И окровавить когти помышляет,
Но вдруг над тенью собственной встает,
Детеныша ей тень напоминает,
И умиляется свирепый взор,
И безнаказанно уходит* вор.
9. Лоренцо, так же как и Полициано, описывает ро-
зы. Но сравните эти описания. То, что у Лоренцо нату-
рализм, у Полициано идеальность. У одного — внешняя
сторона явления, подсвеченная воображением, другой
дает почувствовать во внешнем внутреннее. Лоренцо го-
ворит:
Там розы разноцветные вокруг:
Навстречу солнцу тянется иная,
Чтоб прямо на глазах раскрыться вдруг,
Перестает бутоном быть другая,
А третья, что еще совсем мала,
Стоит, от света лепестки скрывая,
А та, что рядом с нею, отцвела 2.
1 «Selve d'Amore», II, stanza 131, Ореге, cit., II, p. 61. Приведен-
ная ниже октава Полициано: «Stanze», I, 39.
2 «Egloghe», I. «Corinto», vv. 169—175; Ореге, cit., II, p. 87.
Соответствующее место у Полициано в «Stanze», I, 78; приведены
455
Тщательный анализ, исключительная 1ючнос1ъ на-
блюдения, замечательный подбор слов. А теперь посмо-
трите, как у Полициано те же розы дышат, словно жи-
вые существа: вы ощущаете их аромат, хрупкость, све-
жесть:
Одна играет шляпкою зеленой,
Ломается другая у дверей,
А третья, что недавно вся пылала,
На луг роняет лепестки устало.
В том повествовательном и описательном жанре,
образец которого Боккаччо дал во «Фьезоланских ним-
фах», поэт не обязан всю жизнь изощряться и платони-
зировать по поводу своей поэтической страсти. Он
изображает любовь других людей и, вместо того чтобы
погружаться в исследования тончайших нюансов сущно-
сти и проявлений любви, черпает новые, свежие краски
в жизненных событиях, в природе, в обстоятельствах
персонажей, выводимых им на сцену. Женщина сходит
с облаков и обретает человеческую судьбу. Как трога-
тельны эти воспоминания любящей женщины, которая
возвращается домой и не находит там своего возлюблен-
ного!
Здесь я ждала его нетерпеливо,
Его шаги пыталась угадать,
Здесь руку подала ему стыдливо,
Здесь предложила робко: — Ты присядь. —
И здесь он рядом сел со мной, счастливый,
Здесь я решила все ему отдать...
О жаркое биенье двух сердец!
О быстротечность времени, как скоро
Часам счастливым наступил конец!
Здесь я осталась, полная желаний,
Когда сказал он утром: —До свиданья 1.
«Амбра», «Коринто», «Венера и Марс», «Ненча»—
небольшие поэмы подобного жанра. По теплоте и ярко-
сти изображения особенно выделяется «Амбра», изящ-
ное произведение, вдохновленное Овидием и Боккаччо,
vv. 5—8. О знаменитой Полициановой октаве о розе и ее сравнение
с «розой» Ариосто см. дальше, в главе о «Orlando furioso» (т. 2).
1 «Selve d'Amore», II, stanze 58 (vv. 1—6) и 60 (vv. 4—8);
в Ореге, cii., II, pp. 37—38.
456
Но подлинным шедевром является «Ненча», похожая на
страницу из «Декамерона». Лоренцо оставляет здесь
мифологию, а также сентиментальную и идиллическую
любовь и погружается в современную ему жизнь, изо-
бражая любовь двух крестьян — Валлера и Ненчи, но
в таком тоне, что не поймешь, шутит он или же говорит
серьезно. В этом обнаруживается буржуа, склонный по-
издеваться над простонародьем. В «Ненче» чувствуется
Флоренция; это город высмеивал деревню. К идиллии
примешивается соль комизма, которая ощущается в опи-
сании священника из Варлунго и монны Бельколоре1;
в ней истинная гениальность Лоренцо; достаточно вспом-
нить «Пьяниц». Кто любит сопоставления, пусть сравнит
Беку, Ненчу и Брунеттину — эти три образа крестьянок.
В «Беке» Пульчи чувствуется вонь деревни: карикатура
отвратительно вульгарна и непристойна. В «Ненче» при-
сутствует комическая идеальность: карикатура нарисо-
вана изящно и весело, внешне совершенно добродушно
и искренне. В «Брунеттине»2 идеальная крестьянка,
изображение, лишенное какого-либо комизма. Это сель-
ская Венера; образ ее написан в мягких, хорошо подо-
бранных красках; он мил и грациозен, подан необычайно
тонко и изящно. Примечательна в нем прежде всего
правдивость колорита и совершенная реальность.
На праздниках оживает народная поэзия. Вы видите,
как, подобно королю Манфреду, по улицам ходит Ло-
ренцо, играя на лютне и распевая песни в окружении
своих собратьев по перу. "Здесь поэт «Ненчи» у себя дома.
Он становится запевалой этого распущенного и насмеш-
ливого общества. Преобразование совершилось: мы до-
шли до сознательной пародии. «Пьяницы» или «Пир»,
пародируют «Божественную комедию», также и «Три-
умфы», если не по композиции, то в фразеологии: свя-
щенные образы Алигьери вывернуты наизнанку, чтобы
передать безобразие и гнусность пьянства. К этим же
поэтическим упражнениям следует отнести «Охоту с со-
колом», содержание ее фривольно и незначительно, но.
рассказана она изящно и остроумно, в непринужденных
1 О Бельколоре и Ненче см. ниже, в связи бурлескной поэ-
зией Пульчи.
2 Имеется в виду баллата «La brunet'.ina mia», принадлежность
которой Полицианс была поставлена под сомнение еще Кардуччи
(см. «Rime», cit., p. 342),
457
стансах, сдобренных солью и живостью диалекта. Так
весело проходило время.
Повеселиться, куманек, люблю
И тыщи рифм из сахара леплю 1.
В этом цель и одновременно значение подобного опи-
сания нравов.
10. Тем же духом проникнуты баллаты и карнаваль-
ные песни: в них чувственность облагорожена радостью
и веселым юмором. Условный мир трубадуров отошел в
прошлое, вместе с ним исчез и их словарь. Вы ощущаете
себя среди праздничного и острого на язык народа, ко-
торый порвал путы и вырвался на волю. Бездумное и
беспутное веселье — основной мотив этих песен; лю-
бовь— это не чувство, а развлечение, средство быть
веселым. Общий девиз — быстротечность жизни, страх
перед старостью: сорвать розу, пока она цветет,—своего
рода «Edamus et bibamus: post mortem nulla voluptas»
«Будем есть и будем пить, нет после смерти насла-
жденья» 2. Прибавьте к этому карикатуру на проповед-
ников морали и благочестия в исповеди Лоренцо и в его
молитве к богу, направленной против злоречивых лю-
дей3. В этом нарисованном с натуры в его жизненной
непосредственности мире вы находите не утонченные ме-
тафоры, а живые изображения нравов и чувств: нетер-
пеливого ожидания в канцоне4:
И большего безумства я не знаю,
Чем ждать того, чего я сам желаю.
досады на ревнивцев5:
' * «La Caccia col falcone», stanza 45, vv. 7—8; «Rime», cit., II,
p. 129.
2 Знаменитые слова Сарданапала у Цицерона, Tusc. Disput., V,
35, 101. О цветущей розе см. баллату Полициано «I'mi trovai fan
ciaulle, un bel mattino», vv. 25—26:
Когда совсем распустится она,
Прекрасную в саду срывают розу.
8 См. баллаты: «Дамы и девушки, я сознаюсь» («Rime», ed.
Carducci, cit., p. 418) и «Молю Бога, чтобы все злоречивые»
(Ореге, cit., I, p. 227).
4 Следует читать: «Канцона для танца». Это десятая баллата
в цит. изд. Ореге (vol. I, p. 217); восемнадцатая в изд. Simioni,
Laterza, Ban 19392, vol. II, p. 210.
5 Третья баллата в Ореге cit., I, p. 195; четвертая в изд. Si-
mioni, vol. II, p. 195. Упоминаемая сразу же вслед за этим «Кан-
458
Ми за тебя, ни за себя не больно,
Поскольку помогает боль, не больно;
желания и нежелания дамы в канцонетте о безумии или
в другой канцонетте, как бы вырывающейся на одном
дыхании, столь она стремительна и насыщена:
Не мешает раз хотя бы
Правду высказать тебе.
Этот непрекращающийся карнавал проявляется во всей
своей необузданности в «Карнавальных песнях» и в
«Карнавальных триумфах». На карнавале, как это-
обычно бывает и теперь, появляются пышно разукра-
шенные повозки, показываются мифологические пред-
ставления, так, «Триумф Вакха и Ариадны» — с сатира-
ми, Силеном и Мидасом; корпорации искусств и ремесел
представлены песнями о «Вафельщиках», «Сапожни-
ках», «Прядильщиках», «Пирожниках»; тут же социаль-
ные зарисовки — в песнях о «девушках», о «юных да-
мах», об «отшельниках», о «бедняках»1. Основной мо-
тив — чувственная любовь — приправлен перцем дву-
смысленностей и намеков, распаляющих воображение.
Это цинизм Боккаччо, вышедший на площадь и достиг-
ший своего триумфа. Изображения жизни, нравов, об-
щественных условий и веселая карикатурность, которая,
так же как в карнавале Гёте2, является душой этого
рода литературы, теряются в мрачных подвалах плебей-
ской непристойности. Чем теперь могут быть «Лауды»
Лоренцо, как не пародиями? Кончетти, антитезы, сла-
щавость и холодность.
цона для танца о безумии» — это канцона, начинающаяся словами:
«Хочу сказать тебе, моя дама» (Ореге cit., Ill, p. 156), другая,
следующая за ней, ibid.; p. 158. У Simioni, vol. Ill соответственно
pp. 291, 217.
1 Все упомянутые карнавальные песни и канцоны для танца
в Ореге, cit., за исключением песни о сапожниках («Этим красивым
сапогам, туфлям») и песни о пирожниках («Пирожники, дамы и
пряники»); обе они в «Rime», ed. Carducci, cit., соответст.
pp. 434 и 429.
2 См. описания празднества на Жирный Вторник при дворе
Императора во второй части «Фауста» (Гёте, Фауст, М., 1957.
Маскарад, стр. 274—309; особенно песню Пьяного (стр. 282) и при-
мыкающий к ней хор (стр. 283); они перекликаются со структурой
строфики карнавальных песен итальянского Возрождения. В пере-
работке Гёте пышный маскарад, как известно, приобрел по преиму-
ществу демоническо-аллегорический характер. Вся эта сцена и?
Фауста была переведена Де Санктисом. Об этом см. гл. VII.
459
В зловонной луже, попав в руки к литераторам, за-
канчивают свой век серенаты, маттинаты, дипартиты,
риторнаты, эпистолы, страмботты, качче, маскераты,
фроттолы, баллаты. Мир Боккаччо и Саккетти теряет
свое изящество и прелесть в плебейских сонетах кано-
ника Франко1 и ему подобных поэтов, не обладающих
остроумием и праздничным блеском Лоренцо.
Народ был менее развращен, чем его писатели. В на-
родных песнях вы, конечно, не обнаружите ни платони-
ческой, ни аскетической любви, ни утонченных метафор,
но вы не найдете в них также скабрезных намеков Ло-
ренцо и грубостей Франко.
Наиболее чистым и неподдельным голосом этой на-
родной литературы является Анджело Полициано. Он
редко грешит двусмыслицами. Он шутит, острит, но
вежливо и пристойно; например, в своих советах дамам:
Должен я вам подсказать,
Как вам должно поступать2.
В изображении старухи или в очень грациозной баллате:
Дамы, вам полезно знать:
Я тому попу под стать.
В баллатах Полициано ощущается изящество и гра-
ция «горных пастушек» Франко Саккетти3, особенно
когда в основе их лежит идиллия, как в баллате о пи-
чужке, или вот в этой:
Я очутился, девы, утром ясным
Весной в саду зеленом и прекрасном.
В его канцонах и канцонеттах, «Письмах»4 и в
1 Де Санктис имеет в виду сонеты против Пульчи, опублико-
ванные в издании XVI века и перепечатанные в книге «Sonetti di
Matteo Franco e di Luigi Pulci assieme con la confessione», Lucca
1756. Один из сонетов Франко фигурирует также в сборнике «Li-
rici antichi seri e giocosi lino al secolo XVI», Venezia 1784.
2 Баллата XXV («Rime», ed. С a r d u с с i, cit., pp. 320 и ел.).
Упомянутое вслед за этим изображение старухи содержится в бал-
лате «Старуха мной любовалась» (Ibid., XXIII, p. 315). Следующая
баллата «Дамы мои, вам не известно», ibid., XVII, р. 301.
3 Баллата «О милые горные пастушки» упоминалась в гл. X.
Две баллаты Полициано, на которые указывается далее, это соот-
ветственно четвертая — «Однажды я оказался слин-одинешенек» и
третья, ст. 1—2 («Rime», ed. С а г d u с с i, cit., pp. 282, 280).
4 Имеется в виду «Lettera in istrambotti о Serenata» «О востор-
жествовавшая надо всем красота» («Rime», ed. С а г d u с с i, cit.,
pp. 196 и ел.).
460
«Риспетти» вы не найдете новых мыслей, образов, ситуа-
ций, даже личного, субъективного отпечатка, как у Пет-
рарки. Это секретарь народа, облекающий в изящные
формы общие мотивы и сюжеты народных песен всей
Италии. Поэтому в них отсутствует свежесть и оригиналь-
ность идиллических стансов: ощущается торопливость и
небрежность поэта, пишущего как бы наспех и на случай.
Вы видите, как вновь повторяются все те же мысли,
лишь слегка видоизмененные, — о быстротечности жи-
зни, о том, что надо срывать цветущую розу. Словарь
народных идей составляет маленький том, и в руках
Полициано он не увеличивается. Эти немногие идеи вра-
щаются вокруг самых общих и простых ситуаций: кра-
сота возлюбленного или возлюбленной, ревность, рас-
ставание, ожидание, надежда, просьба, отчаянье, мысли
о смерти, объяснения в любви и отказ в ней. В них про-
является коллектив, а не определенный индивидуум.
Таковы они у Полициано К Названия меняются в зави-
симости от сюжета: идет речь об отъезде — дипартита,
о возвращении — риторната; соблюдается соответствие
времени дня — серената, ноктюрн, матината. Но формы
остаются теми же. Чаще всего это стансы с различным
чередованием рифм, как в баллатах и риспетти, гибкие
и легкие в канцонеттах, где преобладают семи- и восьми-
сложный размер. Нередко перед вами всего лишь один
различно модулированный мотив с изящными повтора-
ми, словно в трели или в тремоло.
Поверить я готов, что и в гробу
-Меня бы разбудили ваши речи.
Услышь я голос ваш, в аду горя,
Решил бы враз, что в царстве вечном я2.
Повтор — характерный признак тосканского риспет-
то. В нем ум отдыхает на музыкальных волнах; он не
устремляется от одной мысли к другой, а останавли-
вается на этой мысли и с наслаждением вслушивается
в нее, пока она не отдаст ему всей своей гармонии. На-
родной поэзии свойственно стремление потрогать мысль
и поласкать ее законченную в себе, но еще не отзвучав-
1 См. «Rispetti spicciolati»; «Rime», ed. Carducci, cit.,
pp. 232—274.
2 «Rispetti», cit., VII, vv. 5—8; «Rime», ed. cit. pp. 234—235.
461
Шую: ведь она бедна идеями, но богата образами и зву-
ками. Слово у народа больше музыка, чем идея. Суще-
ствовало выражение «петь на мотив», то есть не обра-
щая внимания на содержание песни или как говорит
поэт, «что ни взбредет в голову» 1. Так пели лауду «На
кресте, с головой поникшей» на мотив неприличной
канцоны 2.
Такого рода впечатления породили канцону о мае,
приветствие весне:
Наступит май,
И знай одно — гуляй.
Ее пели приходившие во Флоренцию крестьянки еще два
века спустя, как утверждает Гваданьоли3. В ней обна-
руживается тонкое изящество поэта, превращающего в
золото все, к чему он ни прикасается 4, сочетающееся с
ясностью, делающей его понятным также и необразован-
ным людям. Если Лоренцо выражает шутливую и чув-
ственную сторону народной жизни, делая вид, что он
принимает участие в жизни народа и в то же время под-
смеиваясь над ней, то Полициано набрасывает даже на
самые фривольные ее проявления пурпурную мантию,
он всегда бывает изящным, грациозным и мягким.
К идеальности Полициано Лоренцо несколько прибли-
зился только в «Триумфе Вакха и Ариадны».
11. Лоренцо и Полициано являются литературным
средоточием народных песен, распространявшихся по
всей Италии не только на диалекте, но и на вольгаре.
От некоторых из них сохранились начальные строки: «О
жестокая дама, покинувшая меня»; «В далекий город
красавица ушла»; «Кто хочет спасти свою душу, пусть
1 По-видимому, намек на двустишие Фортегверри (Ricciardetto,
I, i).
2 Об обыкновении петь лауды на мотивы мирских песен см.
Settembrini, Lezioni, cit., I. pp. 301 и ел. Но здесь Де Санктис,
вероятно, использовал указание Кардуччи («Poesie di Lorenzo»,
pp. LX—LXI): «Человек благочестивый ужаснется, прочитав, что
«На кресте, с головой поникшей» пелась так же, как «Женщина
тонкой любви», одна из самых неприличных баллат того времени».
3 Вслед за Кардуччи (pref. cit., p. CXXX). Свидетельство Гва-
даньоли содержится в «Poesie», Lugano 1858, II, примечания
к «Menco di Cadecio».
4 См. «Триумф Вакха и Ариадны» Лоренцо, ст. 38: «Чего он
коснется, становится златом».
462
будет добр к пилигримам» и др. * С народными песнями
смешивались лауды, религиозные рассказы и небольшие
поэмы с той же интонационной окраской. Их заносили
в самые глухие селения рапсоды, странствующие поэты
и слепцы с гитарой или лютней на шее, которые корми-
лись этим ремеслом. Они назывались кантасториями,
когда исполняемые ими песни были романцеттами или
романами, рассказами о необычных приключениях,
пересыпанными шутовскими проделками и солеными
шутками. Эта мирская и запрещенная литература, как
мы уже видели, во времена Боккаччо служила развлече-
нием даже для образованных и утонченных дам. В моде
были переводы французских рыцарских романов, их пере-
работки и подражания им на народном языке. Наряду
с риспетти и баллатами в это время растет число рома-
нов. При княжеских дворах складывался напыщенный
ритуал рыцарства; отдаленно напоминали рыцарство на-
емные отряды кондотьеров. Рыцарь и конь все еще были
историческим типом, героическим идеалом, прославляв-
шимся на турнирах-джострах и изображаемым в рома-
нах. Романы писались на диалектах и на вольгаре. Из
них достойны упоминания: «Аспромонте», «Влюблен-
ность Карла», «Влюбленность Орландо», «Ринальдо»,
«Трапезунд», «Цветочки о паладинах», «Персиан», «Тро-
ян», «Круглый стол», «Жизнь Энея», «Жизнь Алексан-
дра Македонского», «Тезей», «Помпеи римлянин», «Чи-
риффо Кальванео»2. Больше всего к ним привлекала
возможность свободы выдумки; книжные страницы за-
полнялись болтовней и бреднями, как говорил Петрар-
ка3, и кто нагромождал их больше, почитался за луч-
шего. Элемент сказочной фантастики проник также и в
мистерии, подобно тому как в лауды проникла народная
песнь. «Священные представления» приобрели романти-
ческую окраску; не имея возможности черпать силу сво-
его воздействия в ослабевшем религиозном чувстве, они
1 Эти же песни указаны у Сеттембрини («Lezioni», cit., I,
pp. 231 и ел.).
2 Перечень романов («romanzi»), списанный с рукописи 82 Лау-
ренцианы, приведен у Эмилиани-Джудичи (op. cit. I, p. 412); см.
ibid., p. 402 соответственные указания на рыцарские романы на диа-
лекте.
3 «Trionfo d'Amore», III, 79; «Вот те, кто заполнили бреднями
страницы».
463
пытаются почерпнуть его в разнообразии и фантастич-
ной необычности изображаемых событий; пример тому
«Святой Иоанн и Павел» Лоренцо.
Роман, таким образом, проник во все слои общества;
из княжеских дворов он спускался в самые отдаленные
селения, а оттуда снова поднимался к княжеским дво-
рам. У простонародья были свои кантастории, при дво-
рах свои новеллисты. И те и другие не довольствова-
лись изложением событий так, как они передавались в
хрониках и в устной традиции: они вносили в них от
себя не только колорит и новые подробности, но и при-
думывали новые приключения. Боккаччо читал при дво-
ре и в веселых компаниях свои романы, точно так же
как там читали его новеллы. Его Флорио, Тезей, Троил
оставили после себя незначительный след, ибо сюжеты
этих романов Боккаччо были малопопулярны и им вре-
дили ученость и мифология К Но влияние он оказал
большое, и баллата, новелла, роман — все, что именует-
ся мирской литературой, — отложили отпечаток на ли-
тературу всего столетия от Франко Саккетти до Лорен-
цо Медичи. Рыцарство в собственном значении слова —
это герои Круглого стола и паладины Карла Великого.
В старину весьма популярен был Круглый стол, и дол-
гое время первое место занимали Тристан и Изольда.
В «Любовном видении» Боккаччо упоминает основных
героев норманской традиции2 как персонажей, уже ши-
роко известных. Но Францию знали лучше, французские
романы были более распространены, а Карл Великий
был определенным образом связан с Италией как рели-
гиозный герой, покровитель папы, победитель сарацинов
и предшественник крестовых походов. Уже появился ро-
ман «Влюбленность Орландо». А Маттео Боярдо создает
«Влюбленного Орландо», большое полотно в шестьдесят
девять песен, оборванное его смертью.
12. Боярдо, граф Скандиано, вырос при дворе д'Эсте,
ставшем наряду с Неаполем, Римом и Флоренцией круп-
ным литературным центром. Здесь литература тоже
1 О «литературном» характере «Филоколо», «Тезеиды», «Фило
страто» см. посвященные им параграфы в гл. IX.
2 В своих примечаниях Кроче замечает- «Иными словами —
бретонской». О героях рыцарских романов см. «Amorosa visione»,
гл. XI.
464
к,;.;
Боттичелли Сандро, Весна
Боттичелли Сандро, Рождение Бенеры
рождалась в обстановке турниров-джостр, зрелищ и
танцев. Человек очень образованный, знавший греческий
и латинский языки, старательно изучавший Данте и Пет-
рарку, Боярдо остался в стороне от того направления,
которое придал тосканской литературе Боккаччо. В его
сонетах, канцонах, баллатах нетрудно заметить какую-
то отвлеченность и холодность; в них чувствуется чело-
век сдержанный и несколько скованный. Ему свойствен-
на та серьезность, которая в этот век пародий кажется
анахронизмом. Боярдо любит читать свои песни в весе-
лых компаниях и выслушивать за них похвалы; но бес-
печность и шутка ему не свойственны, он почел бы за
профанацию насмешку над своими героями/'Он повест-
вует с серьезностью Гомера, и приветствовали его как
Гомера Италии./Конечно, он не верит в описываемые им
чудеса, в них tie верят и его образованные-слушатели;
это неверие иногда выражается через какую-нибудь иро-
ническую деталь; но эта насмешка культуры над рыцар-
ством не основной мотив, а лишь незначительный прида-
ток к повествованию. И как могло в это время относить-
ся серьезно к рыцарству итальянское сознание? В жиз-
ни от него не осталось ничего, кроме торжественного
церемониала и празднеств княжеских дворов. После того
как исчезло героическое и религиозное чувство, более
того, когда его отрицали и пародировали, формы эти
стали столь же бессодержательны, как и церковные це-
ремонии. Тщетно старался Боярдо отнять у простона-
родья роман и придать ему строгие пропорции эпопеи1.
Гомеровский мир — это живой организм; чувства,
мысли, нравы, события в нем полностью реализованы и
гармонизированы. Рыцарский мир при отсутствии всяких
внутренних мотивов — это прикрытый эпическими фор-
мами простонародный мир фантазии, сказочная фанта-
стика, не считающаяся с законами времени и простран-
ства, лишенная серьезности целей и средств, витающая
1 Аналогичное в лекциях о рыцарской поэзии: «Рыцарство могло
быть чем-то серьезным только как религиозный принцип, поскольку
оно представляло борьбу между магометанством и христианством;
или как политический институт. Но время крестовых п.оходов про-
шло; папство было дискредитировано и подвергалось нападкам.
Образованные классы находились в открытой оппозиции к церкви,
дух Реформации уже носился в воздухе...» См. в изд. Эйнауди,
vol. VII, «Verso il realismo».
30 Де Санктис
465
вокруг заколдованных замков и ударов меча. В «Или-
аде» Елена, здесь Анджелика — центр событий в Ев-
ропе и Азии, но если Елена — просто предлог и остает-
ся пассивной в повествовании, то Анджелика — подлин-
ный двигатель колоссальной машины, сама сказочная
фантастика, она — волшебница. ^Чудеса существуют, но
их совершают не святые, а волшебники и волшебницы.
И чудо больше не машина или орудие, а самоцельДЧудо
не является больше средством для достижения серьез-
ной цели, для развития занимательного действия,
как это было в легендах и примитивных рыцарских
поэмах, вдохновленных верой; так как в мире Боярдо
нет ничего серьезного, кроме самого чуда, то целью
оказывается стремление поразить слушателей невероят-
ностью событий., Мотивы действия надо искать не в
серьезности религиозного, нравственного, героического
мира, ставшего, подобно миру христианскому, условным
и традиционным, но в свободной игре страстей и харак-
теров под влиянием таинственных сил. Это порождает
|$лир, полный движения, где личность, силы которой не
Одерживаются законами и высшими авторитетами, раз-
бивает все свои природные возможности и творит такие
Ve чудеса, как колдуны и волшебники.уОрландо и Ри-
нальдо поражают вас не меньше, чем Маладжиджи и
Анджелика. Мир этот столь по самому своему существу
фантастичен и в то же время столь мало серьезен для
поэта и для его слушателей, что является в основе своей
тем самым куртуазным миром, который благодаря Бок-
каччо вошел в среду буржуазии, стал современным и
был снова возвращен Боярдо к его истокам. Феррарский
поэт считал, что он сделал его серьезным, придав ему
благородные строгие формы, освободив его от вольно-
стей и неупорядоченности народных романов. Но именно
эта внешняя серьезность лишает привлекательности его
повествование1. Сказочная фантастика народных рома-
нов производила серьезное впечатление на необразован-
ных и наивных слушателей; но образованные «господа
1 Так же оценивал это и Жэнгене: «Боярдо допускает весьма
большую ошибку, относясь слишком серьезно к игре своего рыцар-
ского воображения и желая почти всегда говорить тоном рассудка
о том, чему он так же мало свойствен, как сказкам о странствую-
щих рыцарях и феях» («Histoire litteraire», cit., vol. IV, p. 477).
466
и рыцари» !, которым читал Боярдо свои песни, видели
во всех этих фантастических рассказах всего лишь чи-
стую игру воображения и посмеивались над простона-
родьем, которое слушало их, широко раскрыв глаза и
разинув рот. Этот мир, таким образом, мог стать бур-
жуазным, только будучи перенесен в сферу фантазии и
только с помощью иронии. Но оба эти условия отсут-
ствуют во «Влюбленном Орландо».;Боярдо очень изоб-
ретателен: герои и события бурлят под его пером." Ко-
нечно, не все тут придумано им самим: он берет ото-
всюду; перед ним огромный материал, накопленный
веками; но он делает его своим, выбирая, комбинируя,
подчиняя его себе. Его цель — я сказал бы даже, его
тщеславное желание — состоит в том, чтобы поразить
слушателей богатством и разнообразием сюжетных ин-
триг, вплетенных в самые невероятные приключения.
Однако Боярдо не обладает качествами большого ху-
дожника и прежде всего теми двумя, которые нужнее
всего для изображения этого мира: воображением и
остроумием. Иногда он пытается шутить, но у него это
не получается: ему не хватает блеска, легкости, изяще-
ства. Ему недостает остроумия, к тому же он лишен того
высокого художественного воображения, которое име-
нуется фантазией2. Он видит ясно и четко рисует, слов-
но имеет дело с историческим миром; и именно поэтому
в мире столь фантастическом он остается прозаичным и
мелочным; он не отрывает вас от реального, не ломает
рамок обыденности, не увлекает в очарованное царство.
Этому великому изобретателю всевозможных волшебств
природа отказала в самом необходимом из них — в вол-
шебстве стиля. Оригинальнейшие замыслы, увлекатель-
нейшие ситуации рушатся на самом интересном месте:
вы только погрузились в фантастическое, как тут же на-
талкиваетесь на вульгарность; Анджелика превращается
1 См. «Orlando innamorato», I, i: «Господин и рыцарь, что тут
собрались...»
2 В цит. лекциях о рыцарской поэзии: «У него большая вы-
думка, это был итальянский поэт, который собрал большой и разно-
образный материал, и не только по количеству, но и по качеству.
Без способности к выдумке поэт немыслим, в этом смысле Боярдо
превосходит Пульчи. Но этого еще недостаточно: в искусстве вы*
думка значит меньше всего» («Verso il realismo», cit.).
30*
467
в пошлую бабенку, а Орландо в простофилю1. Это про-
исходит не вследствие сознательного стремления к ко-
мическому эффекту, а из-за чрезмерной жесткости кра-
сок, в которых отсутствуют переходы и полутона. Таким
образом, тот самый мир, который по самой природе
своей должен быть фантастическим и комическим, ока-
зывается нередко изображенным вульгарно и прозаиче-
ски. Ни одна ситуация, ни один образ не сохранились
как жизненные. Рассказывают, что знатный граф прика-
зал бить в колокола, когда ему удалось найти имя Ро-
дамонте, словно самое главное — имена или факты. Но
остался все же в веках не Родамонте, а Родомонте.
13. Если Боярдо читал свои песни феррарским синьо-
рам, то Луиджи Пульчи оживил чтением стансов своего
«Моргайте» праздники и пиры Лоренцо. Здесь мы об-
наруживаем литературный облик века в его градации
от Буркьелло, «расхлябанного и без ветрил»2, по выра-
жению Баттиста Альберти, до Лоренцо Медичи.?Пульчи
по прямой линии восходит к Боккаччо и к Саккетти и
развивает их традицию более энергично, чем Полициа-
HQ и Лоренцо.
Пульчи берет роман таким, каким он находит его на
улицах, как беспорядочное смешение религиозного и
мирского, серьезного и шутовского, И он не помышляет
о том, чтобы придать ему героический характер; ничто
так не противно его натуре, как звуки военной трубы.
Создаваемый им мир уменьшил свои масштабы, стал
буржуазным: герои сошли с пьедестала, они утратили
свой ореол и проходят перед вами как простые смерт-
ные? Нет ничего вульгарнее Карла и Гано. Карл—впав-
ший в детство старик; Гано — мошенник и лишен ка-
кого-либо величия; оба они вульгарны, и интриги их
тоже вульгарны. Ринальдо — воришка, укравший меч;
Уливьери — бабник, а его Меридиана всего лишь обыч-
ная бабенка. Тут нечего и говорить о характерах и
страстях; это мир поверхностный и чрезвычайно по-
движный; вы перескакиваете с одного на другое и не
1 В тех же лекциях: «Так что это — герой, или же, не скажу
Дон Кихот, а лишь шут поэмы?»
2 В сонете «Буркьелло, расхлябанный и без ветрил» («Ореге
volgari di Leon Battista Alberti», ed. Bonucci, Firenze 1843—1849,
V, p. 354) Буркьелло ответил Альберти сонетом с теми же рифмами:
«Баттиста, чтоб не казалось, что ты устрашил».
468
можете ни в чем разобраться. Гано замышляет коварно
погубить паладинов; Форизена выбрасывается из окна;
рушится Вавилон; Ринальдо отнимает у Карла корону —
все эти большие события едва-едва очерчены, кажется
Пульчи
(деталь фрески Доменико Гирландайо в церкви Тринита во
Флоренции)
что они результат не действия людей, а прикосновения
волшебной палочки; автор изображает их с той же бес-
печностью и легкостью, с которой Моргайте съедает
слона и раскалывает киту череп1. Это рыцарство
1 Эта оценка получила широкое.развитие и обоснование в цит.
лекциях, посвященных «Моргайте». Отношение Де Санктиса к
Пульчи — это отношение к нему всей романтической критики от
Фосколо (см. очерк «О поэмах повествовательных и романтических»,
Ореге, X) до Жэнгене (op. cit., IV, pp. 195 и ел, и Сеттембрини
' («Lezioni», cit., I, pp. 325 и ел.).
469
в представлении простонародья й преобразованное им.
Кантасторий — в сущности, жонглер, или, вернее, на-
родный буффон, который низводит мир рыцарства до
своего уровня и до уровня своих слушателей; торжест-
венно воззвав к богу, к святым и к мадонне, он за-
тем отдается своим лацци и заставляет вас лопаться
от смеха. /Персонаж второстепенный в рассказах и ко-
медиях, буффон является здесь главным действующим
лицом и душой всего повествования^Наиболее серьез-
ным эпизодом в романе, несомненно, является смерть
Орландо, но сколько и тут всяких лацци! Вот начало
великой битвы:
Макона кто готов сварить живьем,
А кто зажарить заживо другого.
Итак, к сраженью прямо перейдем:
Стесняться смерти — смысла никакого,
И острый серп ее меня зовет
Пустить мое перо и копья в ход *,
В аду ликование: ожидается прибытие язычников;
Люцифер «задыхался под падающими градом душами
сарацинов»; а св. Петр поджидает души христиан:
И так как стар привратник Петр и плох,
Я думаю, в тот день устал он рано.
И хорошо уже, что не оглох
Святой от криков многих душ: «Осанна!»
Их ангелы носили без числа,
И мокрой борода Петра была.
При описании сражения образность заимствуется из
мира мясников и поваров; сила ударов мечей так грубо
преувеличена, что сама смерть воспринимается смеш-
но; чудеса столь необычны и утрированы, что теряют
серьезность: так, умерший Орландо превращается в го-
лубку, которая садится на плечо к Турпину и целиком
залезает к нему в рот2.
Будь буффон искренне наивным, будь он в самом
деле легковерен и глуповат, мы имели бы гротеск, как
в примитивных романах. Но здесь буффон — человек
1 «Моргайте», XXVI, st. 49, vv. 3—8. Две следующие цитаты
см. там же, XXVII, st. 54, vv. 3—4 и XXVI, st. 91, vv. 3—8.
2 «Моргайте», XXVII, st. 158—159.
470
образованный и слушатели у него образованные; он
даже и не буффон, а только прикидывается им, пере-
дразнивая кантастория и простонародье, которое довер-
чиво его слушает. Здесь то же настроение, которое по-
родило Бельколоре и «Ненчу»; это буржуа потешается
над простонародьем К Вы обнаруживаете это в мнимой
серьезности, с которой поэт, неся явную чушь, ссы-
лается на свидетельство Турпина или же когда в са-
мом торжественном месте он начинает кривляться и
высмеивать свой сюжет и своих героев. Пародия еще
более комична оттого, что она очень тщательно скрыта
и редко обнажается; чаще всего она в самом описы-
ваемом факте и не является формальным приемом; так,
убивающий кита Моргайте погибает от укуса краба, а
Маргутте умирает, лопнув от смеха. Он будет смеяться
вечно, замечает при этом архангел Гавриил, превра-
щая тем самым индивидуума в тип 2. Манера изображе-
ния тоже соответствует простонародной пародии. Про-
стонародье не анализирует и не описывает; но оно об-
ладает хорошим чутьем и живым восприятием, оно
схватывает увиденное как в натуральную величину, так
и в увеличенных формах, не задерживается на увиден-
ном и идет дальше. Форма здесь целиком внешняя и
стремительная; «копья и перо»3 приходят в движение
одновременно; автор водит пером и видит, как в это
время летят копья, он видит то, о чем пишет; образы
отдельных персонажей вырываются из массы и ярко
предстают перед вами; вы охватываете их одним взгля-
дом^, Октава не имеет периода, а рифмы не играют
друг с другом: стихи текут безостановочно, поспешно;
неотделанные, они налезают один на другой, и часто
единый стих передает целую картину. Этому способ-
ствует диалект, мастерски использованный, особенно в
его лексическом богатстве. Все простонародно: действие,
страсти и язык. Шедевр этой простонародности — раз-
гром Сарагоссы и казнь Гано и Марсилия. «А я желаю
быть палачом», — говорит архиепископ Турпин4. Мар-
1 См. выше страницы, посвященные Лоренцо Медичи.
2 Три эти эпизода соответственно в песне XX, st. 45—51, XIX,
st. 148—149, XXVII, st. 139—140.
3 Ibid., XXVI, st. 49, v. 8.
4 «Моргайте», XXVII, st. 268, v. 5: «Сказал Турпин: «Желаю
.(5ыть палачом»..
471
силию, желающему в свой последний час принять
христианство, Ринальдо отвечает так, как ответил бы
грубый мужлан К
Роман — комедия, помимо воли автора оборачиваю-
щаяся трагедией. Но это бурлескная трагедия, в ней
отсутствует чувство. Дух повествования составляет низ-
кий комизм, комизм бессодержательный и бездумный,
протухший в застоялой воде вульгарного воображения
и не поднимающийся до фантазии. Наибольшее остро-
умие свойственно Лоренцо и Боккаччо, которые сме-
шиваются с простонародьем, но не принадлежат к нему
и смотрят на простонародье несколько сверху вниз.
Пульчи же, хотя он человек образованный, по своим
чувствам и склонностям — простолюдин, в силу чего,
разыгрывая роль простонародного буффона, он сам
становится простонародным буффоном. Поэтому он ли-
шен всех высоких качеств комического художника:
изящества, тонкости, глубины иронии, и нередко оказы-
вается также и по форме грубым, поверхностным,
вульгарным и небрежным. Ему присуща не только гру-
бость, но и узость простонародного воображения. Его
герои не обладают большим богатством 'характеров,
тем разнообразием душевных побуждений, чувств, ин-
стинктов, которые превращают индивидуумы в целый мир
в миниатюре. Ринальдо, Орландо, Уливьери, Астоль-
фо, Сансонетто, Риччардетто, паладины — все они на
одно лицо, отличаются они друг от друга только физи-
ческой силой2. Маладжиджи незначителен. Гано, Фаль-
сероне, Бьянчардино, Марсилий, Карадоро, Манфредо-
нио, Фальконе, Салинкорно, — все язычники едва очер-
чены, и нередко это просто имена/ Больше всего по
душе автрру два его любимых героя — Моргайте и
Маргутте.ЛМорганте — оруженосец Орландо и подлин-
но главный герой, душа рассказа. Он не рыцарь, он
'оруженосец, герой этой простонародной эпопеи; она вся
проникнута его духом, и он живет в ней даже после
;своей смерти. Моргайте представляет героические и
1 «Моргайте», st. 275 и ел.
2 О недостаточной выпуклости героев «Моргайте» см также
в цит. очерке Фосколо: «Пульчи создает богатство сказочной фан-
тастики, любовные приключения у него не представляют большого
интереса, за исключением четырех-пяти основных героев, его харак-
теры не являются чем-то значительным» (Ореге cit., X, р. 176).
472
рыцарские черты простонародья, ом не только обжора,
бахвал, невежда, но и добр, верен, мужествен,'? Язык
от колокола, которым он сражается, — соперник Ду-
ринданы. Маргутте — это простонародье, выродившееся
и развратившееся; он неблагороден, он насмешник, вор,
плут и недалеко ушел от животного. Два эти существа
дополняют и объясняют друг друга. Будь большим раз*
рыв между этими вульгарными героями и рыцарством,
дуализм или антагонизм между ними породили бы
истинную пародию, образы, подобные Санчо Панса и
Дон Кихоту. Но духом плебейства проникнуты также и
рыцари; Маргутте и Моргайте не часть, а целое, высо-
кий образец, дающий направление всей повести, с пол-
ным основанием озаглавленной «Моргайте».
14. Оригинально задуман* Астаротте. Рогатый дья-
вол Данте, уже видоизменявшийся у него же в черного
херувима, искушенного в логике !, похожего на докто-
ра из Болоньи, принимает здесь земное обличье; он —
добрый товарищ.I Подобно тому как черный херувим
подражал схоластам/Астаротте воплощает в себе но-
вый дух века; он — остряк, скептик и свободный мысли-
тель, прикидывающийся богословом и астрологом; он.
на свой лад толкует библию и обзывает ослами Диони-
сия и Григория, ибо каждый заблуждается;
...попадает всяк,
Судя о небе на земле, впросак.
(«Моргайте», XXV, 159, ст. 6—8) 2
Астаротте был серафимом, одним из первых; ему из-
вестно многое, чего не знают «поэты, философы и мора-
листы», и он говорит только правду;/он не поступает, как
мелкие бесы, которые кружатся в воздухе и обманывают
людей, «создавая видимость того, чего нет»:
Кто человека околпачить рад,
Кто философией пустою занят,
Кто собирается напасть на клад,
Кто врет насчет того, что с миром станет.
(«Моргайте», XXV, 161, ст. 3—6)
1 «Ад», XXVII, ст. 113 и ел. О «черном херувиме» см. гл. VII.
2 Об интерпретации образа Астаротте романтической критикой
см. Foscolo, Saggio cit., pp. 173 и ел., G i n g u e n ё, Histoire litter.,
IV, pp. 221 и ел.
473
Философия оказывается тесно связанной с астроло-
гией и другими способами одурачивать людей.
Но Астаротте обещал говорить правду и держит
слово, как честный дьявол:
Порядочность и в пекле хороша.
(«Моргайте», XXV, 161, ст. 8)
Истину он познает не разумом, а основываясь на
опыте, как нечто зримое и осязаемое, и в подтвержде-
ние ссылается также на авторитет библии. Там, где
требуется отвлеченный разум, как, например, в вопросе
о провидении, вокруг которого «род людской наплетает
столько заблуждений», он говорит: «Того не знаю, потому
и не отвечу» *. Но когда дело касается фактов, он гово-
рит смело и решительно. Астаротте утверждает, что, за
исключением евреев и сарацин, богу угодны все народы,
сохраняющие верность своей религии; так относились к
.религиям и древние римляне, на которых снизошла ве-
ликая небесная благодать2, Утверждает, что за герку-
лесовыми столпами находился второе полушарие, тоже
обитаемое, и что туда можно легко доплыть, что жи-
вущие там люди — часть семьи Адама' w что они тоже
спасутся, ибо в противном случае бог оказался бы при-
страстным 3. Замечает, что на шатре Лучаны нарисо-
ваны не всё звери, и пополняет их список, описывая
большое количество малоизвестных животных4. Жад-
ный до знаний Ринальдо намеревается пуститься в не-
изведанные моря и открыть новый мир, о котором рас-
сказал Астаротте. Поэзия предугадывает Христофора
Колумба, или, вернее, развитие науки, потому что уче-
ный черт Астаротте, по сути, не кто иной, как славный
Тосканелли, друг и суфлер Пульчи 5.
1 «Моргайте», XXV, st. 158, v. 2—3: «...вижу, что род людской
наплетает столько заблуждений на этот навой...» и st. 157, v. 8:
«Так как того не знаю, потому и, не отвечу».
2 Там же, st. 235 и ел.
3 Там же, st. 229 и ел.
4 Там же, st. 307 и ел. Шатер Лучаны, там же, XIV, st. 42
и ел.
5 Сведения о Новом свете, которые Астаротте сообщил Ри-
нальдо, см. «Моргайте», st. 229—230, цит.; отплытие паладина
с целью «обшарить весь свет, подобно Улиссу», — там же, XXVIII,
st. 29 и ел. Сведения о Тосканелли у Фосколо, — cit, pp. 175—176:
«Чтобы возвестить об этом, Пульчи выпускает на арену дьявола;
474
Концепция образа Астаропе — одна из самых сервг
езных в нашей литературе и одна из лучше всего очерч
ченных и развитых идей «Моргайте». В ней проявляете^
век в его внутренних и еще не ясных тенденциях, век,*
который, повернувшись спиной к схоластическим фор-'
мам и аскетической созерцательности, не доверяет аб-
страктным рассуждениям- и жадно стремится к откры-
тию природы и человека.;Мир становится шире, и в то
время как одни, повторяя пути истории, восстанавли-
вают Афины и Рим, другие, отбросив теологию, фило-
софию, астрологию, колдовство и прочие «глупые бред-
ни», обманчивые видения мелких бесов, объезжают всю
землю и в своем воображении находятся уже за океа-
ном. Век начинает овладевать землей; естественная
история, физика, мореходство, география вытесняют
споры о сущностях и существовании универсалий, ре-
альные факты и опыт более занимают теперь умы, чем
тонкие рассуждения. Прибавьте к этому иронию, способ-
ность касаться всего легко и как бы вскользь, видимость
скептицизма и неверия, когда отрицание религии и скеп-
тицизм еще отсутствуют, и вы получите образ века,
портрет Астаротте. Но автор, по-видимому, как бы не
замечает поразительности своей концепции; он и ее раз-
рабатывает кое-как. Ему недостает подлинного осозна-
ния и понимания тех новых путей, на которые вступил
век; ему недостает той возвышенности души, которая
делает человека красноречивым, когда перед ним от-
крываются новые горизонты. Улисс Данте величествен;
Ринальдо Пульчи мелок. И Астаротте становится вуль-
гарным и смутным эхом века, еще не осознавшего
себя 1.
15. Пульчи, Боярдо, Полициано, Лоренцо, Понтано,
все эрудиты и стихотворцы этого века — всего лишь
но сам он узнал об этом от своего согражданина Паоло
Тосканелли, знаменитого астронома и математика, который
в старости писал Христофору Колумбу, побуждая его снарядить
экспедицию».
i Аналогичное суждение об образе Астаротте у Кине (op. cit.,
I, pp. 179—180):' «Хотите обнаружить прообраз Мефистофеля? Он
в Астаротте Пульчи, своего рода Кандиде с раздвоенным копы-
том... Где мы? В средних веках или в восемнадцатом веке? Не
там и не здесь, ибо Пульчи примиряет обе крайности. Под его
смехом обнаруживаются остатки веры, а в его религиозности про-
глядывает ирония...»
475
фрагменты его литературного мира, находящегося еще
в.стадии формирования, без обобщения.
Появляется человек, который в своей универсально-
сти, казалось бы, хочет объять все; я имею в виду Лео-
на Баттисту Альберти, живописца, архитектора, поэта,
эрудита, философа, писателя. Флорентинец по проис-
хождению, он родился в Венеции \ воспитывался в Бо-
лонье, вырос в Риме и Ферраре и долгое время прожил
во Флоренции подле Фичино, Ландино, Филельфо; к
нему благоволили папы, синьор Мантуи Джован Фран-
ческо, Лионелло д'Эсте, Федериго ди Монтефельтро;
современники прославляли его как «человека величай-
шей учености и чудесного таланта»; «vir ingenii elegan-
•t'is accerrimi indicii, exquisitissimaeque doctrinae», —
говорит о нем Полициано2. В совершенстве овладев
рыцарскими искусствами, Альберти завершил свое об-
разование в Болонье, где изучил все гуманитарные
науки от литературы до права, а затем страстно от-
дался математике и физике. Ему мы обязаны фасадом
Санта Мария Новелла, капеллой Сан Панкрацио, па-
лаццо Руччелаи, церковью СантАндреа в Мантуе и цер-
ковью Сан Франческо в Римини. Он изобрел камеру-
обскуру, сетку для живописцев и прибор для измерения
глубины моря, названный альбертиановым болидом. В
его «Математических забавах» вы обнаруживаете не-
мало любопытных проблем, а в книгах «О зодчестве»,
принесших ему славу современного Витрувия, — указа-
ния на многие открытия, либо сделанные им, либо
предугаданные. Его «Начала» и «Элементы живописи»3,
1 Приводя сведения об Альберти, Де Санктис обращался к его
биографии, предпосланной Бонуччи своему изданию «Ореге volgari»,
цит. выше. См. там же сообщение (теперь оно по традиции прини-
мается), согласно которому Альберти родился в Венеции. По
этому же изданию приводятся все цитаты.
2 См. письмо, адресованное Лоренцо А^едичи и предпосланное
трактату «О зодчестве» («De re aedificatoria», ed. Bonucci,
pp. LXXXV—LXXXVI). Перевод латинской фразы Полициано:
«Муж изящного ума, острейшего разумения, отменной учености»,
см. Леон Баттиста Альберти, Десять книг о зодчестве,
перев. В. П. Зубова, ,и фрагмент анонимной биографии, перев.
Ф. А. Петровского, М., 1935, т. I, стр. 3.
8 Заглавия как в цит. предисловии Бонуччи, стр. L. «Rudimenti»
и «Elementi» вышли под общим заглавием «Delia pittura». Приве-
денные далее сведения о «Philodoxus» см. ibid., pp. XIV—XV.
476
а также его «Статуя» содержат ценные практические
указания об- этих искусствах.
Он так хорошо владел латинским языком, что на-
писанная им в двадцатилетнем возрасте драматическая
шутка «Филодоксиос» всеми эрудитами от Альберто
д'Эйба до Карло Марсупини, профессора риторики во
Флоренции и секретаря республики, была сочтена за
произведение древнеримского писателя. Не менее хо-
рошо владел он вольгаре как в прозе, так и в стихах,
а когда вместе с Козимо Медичи и другими изгнанни-
ками возвратился во Флоренцию, научился превосход-
но пользоваться диалектом. В своих «Застольных
беседах», в «Апологах», в «Моме», написанном в 1451 го-
ду в Риме, диалоге, в котором он изобразил самого
себя, Баттиста мило шутит, сохраняя светскую обходи-
тельность. Он писал традиционные сонеты и канцоны, а
кто не писал их тогда и кто не писал их потом? Лучше
получались у него «Эклоги» и «Элегии», любовные идил-
лии, вошедшие в моду после Боккаччо. В моде был
также Платон, и он подражал ему. Однако его столь
практическому и столь чуждому абстракциям гению не
мог прийтись по вкусу платоновский мистицизм, приво-
дивший в восхищение его друга Фичино, а как худож-
ник, он следовал своему гению в диалоге «О спокой-
ствии души», в диалоге «О семье», третья часть которого
долгое время приписывалась Пандольфини !, и в диалоге
«Теодженио» (о гражданской и сельской жизни); а
также в таких произведениях, как «Экатомфилеа»,
«Деифира», «Семейная трапеза», «Софрона», «Деичиар- ,
хиа»2. Его излюбленная манера — диалог, простая, не- I
пгжнужденная беседа, чуждая какого-либо схоластиче- |
/едуя Бонуччи, Де Санктис принимает положе-
/рибуции «Управления семьей» как произведения
/ни. Этот трактат был опубликован также Пуоти
/ судьбе его в школе пуристов см. «Юность»,
науди. «Управление» является, как известно, пере-
/книги «О семье» (см. F. С. Ре 11 е g г i n I, Agnolo
/verno della famiglia, in «Giorn. stor. d. letter, ital.»,
я ел.).
/дании Бонуччи. Следует читать «De iciarchia»
шии»). О том, что Альберти был автором «Amiria»
[инаемых далее, в изд. Бонуччи ничего не говорится,
ia переиздана Э. Камерини в «Mescolanze d'amore»,
>, Daelli, Milano 1863.
477
t
ского педантизма; i ее обнаруживаешь и там, где гово-
рит только он один, как, например, в «Эфебиях», в
письме «О любви», в «Амирии». Кто измеряет талант
количеством произведений и разнообразием мыслей,
должен будет, подобно его современникам, почесть его
за талант необычайный. -Несомненно, он был самым об-
разованным человеком своего времени и наиболее со-
вершенно выражал свой век в его основных тенденциях.
16.^Баттиста уже целиком и полностью новцй чело-
век, формирующийся в это время в Италии.^/Утратив
I условные ф.ормы, наука становится у него приятной и
, обыденной./ Он оставляет теологические и онтологиче-
ские рассуждения. (-(Область его исследований — мораль
Ы физика во всем*их объеме, то есть человек и при-
■рода.,/,уЭто художник, ибо он1 не только изучает и по-
стигает действительность, но также созерцает ее, лю-
шуется ею, любит человека и природу. Обладая душой
идиллической и невозмутимой, человек, чуждый поли-
тическим страстям, ушедший в покой семейных радо-
стей, чувствующий себя лучше на загородной вилле,
чем в городе, не помышляющий о богатстве и поче-
стях, лишенный алчности и тщеславия, он создал соот-
ветственную философию, основа которой aurea medioc-
j ritas — умеренность и уравновешенность духа, исклю-
чающая всякие потрясения. ; В его любви к сельской
природе нет ничего сентиментального и неопределенно-
го, ничего, что могло бы возбудить вашу фантазию; на-
против, природа изображается им четко, с проницатель-
ностью умного наблюдателя .и в то же время со све-
жестью восприятия человека, взгляд и душу которого
она радует. И это не природа сама по себе, которая
вас нежит и .убаюкивает, как в «жанровых картинах»
\ Полициано, [а человек в природе, пейзаж — едва наме-
ченный фонр^на нем протекает сельская жизнь в той
\ своей умеренности и, безмятежности, в которой заклю-
\ чен идеал счастья.; Подлинным главным героем яв-
ляется поэтому человек, как его тогда понимали, убе-
жавший от бурь общественной жизни, ищущий покоя
и отдыха в семье и среди полей, целиком поглощенный
своими .личными делами и своими скромными развле-
^ чениями^Нр вместе с тем это человек цивилизованный,
образованный, гуманный, который беседует и рассуж-
дает в кругу друзей и домочадцев, давая им полезные
478
уроки в искусстве жйзнйТ! Искусство это Может быть
сведено к следующему положению: человек должен из-
бегать страстей и душевных потрясений и во всем со-
блюдать порядок и меруГТЭто внутреннее равновесие,
цель эпикурейцев, умиротворенность, которую Данте
искал в ином мире и которую Баттиста предлагает вам
в мире земном; новый этический принцип, восходящий
к древним моралистам, остроумно названный Лоренцо
Валлой «наслаждением» («volutta») К Аскетическая
идея о том, что человек не может обрести истинного
счастья на земле, чужда Кватроченто, который не от-
рицает и не утверждает небесное и занят только зем-
ным. Баттиста не создает философии, основанной на
строгих дедукциях; он не перестает оставаться добрым
христианином и почитает религию; он не подозревает
так же, как этого не подозревают и все его современ-
ники, к каким опасным последствиям приведет подобное
направление. Он не философ, а художник, живописец
жизни — такой, какой она пред ним предстает. В своих
рассуждениях -он отталкивается не от философских
принципов, а от высказываний древних моралистов, от
исторических примеров и больше всего от собственного
жизненного опыта.] Его человек — не . абстракция, не
идея, сформулированная априори; человек берется им \
таким, каков он в практической жизни, с его привыч- !
ками и склонностями.)"Он более рисует и описывает, '
чем доказывает, и это не чисто литературные, ритори-
ческие описания — они живы, ярки, концентрированы,
он пишет как человек, перед глазами которого стоит
реальный объект, оказывающий на него живейшее впе-
чатление.; Это сделало его несравненным живописцем
нравов и сценок жизни семейной, деревенской, граждан-
ской. Вы не обнаруживаете у него, как это часто бы-
вает у Лоренцо, чисто внешнего блеска;/за всем, что он
пишет, скрывается новый идеал мудрого" и счастливого
человека, стоящего перед вами в спокойной и сдержан-
ной красоте своих черт и нередко противопоставляемого
негармоничному облику человека беспорядочного и
1 Натурализму Баллы, проявившемуся прежде всего в диалоге
«De Voluptate», Сеттембрини посвятил целую главу («Lezioni», I,
pp. 250—265). См. особенно заключение о voluptas Понтано:
«Но можно сказать, что Валла единственный, кто выразил то, что
заключал в себе его век».
479
смятенного.': Это идеализированный буржуа, сменивши-й
аскетический и рыцарский тип средневековья, буржуа
подчищенный и подправленный, лишившийся своей на-
смешливости и склонности к непристойностям. Живым
воплощением этого идеала был сам Баттиста, высшей
добродетелью которого было то терпение, с которым
он сносил даже самые жестокие несправедливости и са-
мые суровые жизненные невзгоды. «Protervorum impe-
tum patientia frangebat», — говорит он о себе1, — луч-
ший способ не портить себе крови! Это терпение, ду-
ховная уравновешенность — гениальная черта новой
литературы, запечатленная на спокойном челе Боккач-
чо, Саккетти, Полициано и нашего Баггисты; их ча-
руют ясные и спокойные формы, внутренняя гармония
которых проявляется в красоте и изяществе. Любовь к
прекрасной форме не только как к таковой, но и как
к выражению внутреннего спокойствия является музой
Баггисты. Говоря о себе, он писал: «Praecipuam et sin-
gularem voluptatem capiebat spectandis rebus, in quibus
aliquod esset specimen formae ac decus. Senes praeditos
dig'nitate aspectus et integros atque valentes iterum at-
que iterum demirabatur, delitiasque naturae sese vene-
rari praedicabat. Quicquid ingenio esset hominum cum
quadam effectuum elegantia, id «prope divinum» dicebat.
Gemmis, floribus, ac locis praesertim amoenis visendis,
nonnumquam ab aegritudine in bonam valetudinem re-
diit2.
Этот человек, который, глядя на красоты природы,
чувствовал, как к нему возвращается здоровье, который
v любовался величавостью здоровой и бодрой старости,
1 Перевод латинской фразы: «Он сокрушал нападки наглецов
терпением», Леон Баттиста Альберт и, Десять книг о зод-
честве, М., 1935, т. I, стр. XXII. Древняя биография Leonis Baptistae
de Albertis vita, опубликованная уже Муратори и включенная Бо-
нуччи в его издания, принадлежит неизвестному автору. Приведен-
ное место в etf. cit., I, p. XCVIII, следующая цитата ibid., pp. CXIV
и ел.
3 «Особенное и исключительное удовольствие доставляло ему
смотреть на что-нибудь выдающееся своим совершенным видом и
красотой; Он непрестанно восторгался почтенным обликом бодрых
и здоровых старцев и по'торял, что преклоняется перед очарова-
нием природы... Всякое проявление изящества путем человеческих
дарований он считал прямо божественным... Смотря на почки, цветы
и особенно на приятные виды, он нередко выздоравливал от бо-
лезни...» (Альберти, Десять книг о зодчестве, стр. XXIX).
480
*"*•%*
''"гЗвЛ^
Рафаэль Санто, Галатея (Рим, Фарнезский дворец)
который называл божественными изящные произведе-
ния гения и испытывал наслаждение от созерцания пре-
красных форм, сочетал утонченную идеальность с глу-
боким чувством реального, позволявшим ему проник-
нуть в тайны природы и даже истории, как то доказы-
вают его письма к Паоло Тосканелли, в которых он с
большой проницательностью предсказывает многие
события, грядущие судьбы князей и пап, а также город-
ские волнения К Вот почему в его зарисовках вы обна-
руживаете техническое совершенство, правдивость
колорита и большую выразительность; это сама реаль-
ность, законченная и наглядная, выявляющая в своих
формах впечатления и чувства. Взгляните в «Управле-
нии семьей» на картину жизни в усадьбе, на описание
пира, на чудесную семейную сцену, когда Аньоло, уви-
* дев, что его жена накрасилась и напомадилась, гово-
рит: «Горе мне! И где это ты так вымазала себе лицо?
Или в кухне на тебя свалилась сковорода? Умойся,
чтобы над тобой не смеялись». Она выслушала меня
и расплакалась. Я дал время ей смыть слезы и румя-
на» 2. В том же духе изображены игроки в «Семейной
трапезе» и «Деичиархии» («О долгоправленьи»), а в
«Теодженио» описана спокойная и счастливая жизнь Дже-
нипатро, в образе которого угадывается сам Баттиста3.
«Я нахожусь еще в возрасте уважаемом, почитае-
мом, ценимом; со мной советуются; меня слушают, как
отца; обо мне не забывают; просят меня рассудить их
споры; увещаниям моим внемлют и следуют; а если
чего мне недостает, то я знаю, что недалеко до гавани,
где я отдохну от всех докук жизни, если бы она ока-
залась, а это вовсе не так, мне в тягость. Ничего я еще
не нахожу в жизни такого, что бы мне не нравилось,
и поэтому чувствую себя сейчас счастливее, чем когда-
либо, ибо самому-то мне все нравится. Я радуюсь сей-
1 См. «Vita», cit., ed. Bonucci, cit, p. CXII. В русском пере-
воде: «Существуют его «Письма к Паоло Физику», где он предска-
зал будущие события на своей родине на целые годы вперед; кроме
того, его друзья и близкие засвидетельствовали его предсказания...
как о судьбе пап, так и о событиях во многих других городах и
о сменах владетельных особ» (стр. XXVIII).
2 «Trattato del governo della famiglia», ed. Bonucci, cit., V,
pp. 48 и ел. и 78 (вместо «Аньоло» читать «Антонио»).
3 «Cena di famiglia», ed. Bonucci, cit., I, pp. 178 и ел.; «De
iciarchia», ibid., Ill, p. 146; «Teogenio», ibid., pp. 178 и ел.
31 Де Санктис
481
час, беседуя здесь с вами; радуюсь, будучи один, читая
книги; радуюсь, обдумывая и взвешивая те вопросы, о
которых я с вами беседую, и им подобные; вспоминая
свою хорошо прожитую жизнь и изучая вещи тонкие и
редкие, я чувствую себя счастливым. И мне кажется,
что я живу меж богов, когда определяю расположение
воздействующих на нас небес и их планет. Высшее
\ счастье — жить, нимало не заботясь о бренных и хруп-
; ких дарах фортуны, с душой, свободной от заразы те-
ла, и, убежав от шумной и суетливой черни в одино-
чество, беседовать с природой, создательницей столь-
ких чудес, рассуждая с самим собой о причине, сути-,
мере и порядке ее совершеннейших и превосходных тво-
рений, благодаря и славя отца и прародителя стольких
благ».
Кажется, что слышишь Цицерона, рассуждающего о
старости, о дружбе, о литературе, о счастливом чело-
веке. В «Теодженио» чувствуется превосходство ума
над силой и над судьбой, культуры над варварством
и простонародной грубостью; блаженство человека,
ушедшего в науку, в семью, в жизнь на лоне природы,
страсть к открытиям, культ искусства, все то, из чего
слагается облик века. Тем же духом проникнуты послед-
ние страницы «Спокойствия души», где Баттиста изу-
мительно' изобразил самого себя 1. В «Экатомфилее» вас
поражают еще более свежие и яркие картины; как, на-
пример, любовники либо слишком юные, либо слишком
старые, любовь людей, «расцветающих в пору зрелости
и возмущения»; изображения эти вдохновили Ариосто
на прекрасные октавы. О легкомысленных вертопрахах
Баттиста говорит:
«Безрассудством кажется мне любить этих бездель-
ников и лентяев, которые, не имея других дел, сде-
лали из любви что-то вроде упражнения и ремесла. В
своих паричках и в своих расшитых узорами камзолах,
обнаруживающих их легкомыслие, тщеславясь и смеясь,
снуют они повсюду. Бегите от них, дочки мои, бегите;
ведь они вовсе н,е знают любви: так они убивают день,
не к вам они стремятся, а убегают от скуки».
1 «Delia tranquillita dell'animo», ed. cit., I, pp. 126 и ел. Упоми-
наемые в следующей фразе места из «Ecatonfila», ibid., Ill, pp. 243,
245 Отрывок из Ариосто см. «Orlando Furioso», X, стансы 7—9.
482
История любви и ревности Экатомфилы кажется чу-
десным отрывком из утраченного физиологического ро-
мана К По тонкости и точности наблюдений она во мно-
гом превосходит «Фьямметту» Боккаччо, подражание
которой отчетливо заметно в «Экатомфилее» и еще
больше в «Деифире» и в «Послании пылкого влюблен-
ного»2— в тех любовных стонах и жалобах, в которых
добрый Баттиста, изменяя своей природе, впадает, по-
добно Боккаччо, в риторику. Большой писатель обнару-
живается в Баттисте, когда он живописует и описывает,
как в послании о любви, навеянном «Вороном»; описа-
ние женщин и возлюбленного не уступают лучшим стра-
ницам «Ворона». И наконец, посмотрите, как в «Спо-
койствии духа» описан флорентийский собор, с какой
идеальностью при замечательной отчетливости всех по-
дробностей:
«Храм этот обладает грацией и величием, и я ра-
дуюсь, видя, как в храме этом милое изящество соче-
тается с прочностью и основательностью, так что, с од-
ной стороны, кажется, будто каждая его часть призвана
служить красоте, а с другой — понимаешь, что все в
нем создано на века. В одних звуках здесь слышится
благочестие, а в других, которые древние называли ми-
стериями, необычайная сладость. Эти церковные песни
и гимны оказывают на меня то воздействие, ради кото-
рого, как говорят, они и были созданы: они прогоняют
все волнения души и вызывают во мне какое-то душев-
ное умиление, преисполненное почтения к Богу. И ка-
кое же сердце окажется столь твердым, что оно не
смягчится, услышав, сколь нежно и гармонично подни-
маются, а затем спускаются эти чистые и неподдельные
звуки? Уверяю вас, всякий раз, как я слышу во время
исполнения мистерий и погребальных церемоний призыв
1 Так во всех изданиях. В рукописи соответствующие страницы
отсутствуют. Де Санктис, несомненно, написал «физиологический»,
имея в виду натуралистический анализ французского типа (см.
«Физиологию брака» Бальзака); точно так же, как когда он говорил
(гл. IX) о «Жизни Данте» Боккаччо. Именно этот аналитический
и рассудочный характер отличает «Экатомфилею» от «Фьямметты»
«романа интимного и психологического».
2 Ed. Bonucci, cit., vol. Ill, pp. 362 и ел. и 411 и ел. Сопо-
ставление с Боккаччо см. там же, критические замечания, пред-
посланные «Деифире» («Deifira»). Упоминаемое далее письмо о
любви см. «Lettere amatorie», ed. Bonucci, V, pp. 325 и ел.
31*
483
к помощи божьей в наших человеческих горестях, я не
могу сдержать слез».
Как истинны эти впечатления! И как хорошо они
переданы. «Милое изящество», «душевное умиление» —
это новые формы, исполненные идеальности. Изгнан-
ное из сознания религиозное чувство преобразуется в
чувство эстетическое и воздействует на душу, как архи-
тектура и как музыка.
Выдающийся живописец Баттиста не является столь
же счастливым, когда он рассуждает или повествует.
Рассуждения его не оригинальны и не глубоки, кажется
что они порождены скорее памятью, нежели умом; его
новелла о Лионоре де'Барди \ живая и динамичная,
остается поверхностной и весьма далекой от своего об-
разца — Боккаччо.
Баттиста хотел достичь в прозе той же идеальности,
которой впоследствии достиг Полициано в поэзии. Оба
они мастерски владеют диалектом, но питают отвра-
щение к простонародной грубости и стремятся придать
форме благородство и изящество. Подобно тому как
Полициано возмечтал о высокой поэзии, Баттиста про-
должает высокую прозу Данте и Боккаччо. На его
стиль явно повлияла латинская проза и манера Бок-
каччо. В его трактатах и диалогах встречаются чисто
латинские выражения: bene est, etiam, idest, praesertim,
а также латинские слова, конструкции и обороты: «proi-
bire» и «vietare», причастия настоящего времени и ин-
финитивы с латинской конструкцией: «affirmare», «asse-
guire», «conditore di leggi», «duttore», «valitudine» и
множество подобных слов. В порядке слов и в построе-
нии периода он тоже латинизирует. Но он не варвар,
преподносящий вам нелепую смесь; напротив, он чело-
век образованный и изящный, в сознании его имеется
конструкция, которую он пытается реализовать. Он
стремится говорить как благородный человек, если не
с латинским величием, то, во всяком случае, со свет-
ской и изящной строгостью. А так как он тосканец и,
более того, флорентинец, то латынь смягчается и уме-
ряется у него живостью и грацией народной речи. Если
мы сравним его с тречентистами, то в построении
1 «Istorietta amorosa fra Leonora de'Bardi e Ippolito Buondel-
monte» ed. Bonucci, cit., Ill, pp. 275 и ел.
484
периода, в искусстве связей и переходов, в более тесном
сцеплении идей, в более умелом распределении дета-
лей, в более прочном костяке мы увидим прозу более
мужественную и дух более цивилизованный, созревший
под воздействием классического воспитания. Однако,
если во всем этом Баттиста и превосходит треченти-
стов, он все-таки несравненно ниже Боккаччо и весьма
далек от совершенства. Проза пока еще не родилась:
г существует артистическая проза, в ней писатель занят
больше формой, чем содержанием, и стремится прежде
всего к изяществу, грации и звучности. С точки зрения
искусства зарисовки Баттисты являются самым закон-
ченным из того, что дала в этот век проза. Но зари-
совки его только фрагменты, почти всем им недостает
последнего мазка, ни об одной из них не скажешь, что
она столь же совершенна, как картина Полициано.
17. Так что же сохранилось от Баттисты? Из три-
дцати пяти его произведений не сохранилось ни одной
столь же целостной вещи, как «Декамерон». Сохрани-
лись яркие фрагменты, разрозненные картины. Век под-
ходит к концу, а вы все еще не имеете книги века, та-
кой, которая вобрала бы в себя и обобщила все его са-
мые существенные черты. Если вы назовете веком эпоху,
которая, подобно индивидууму, развила и сконцентри-
ровала в себе все свои внутренние тенденции, то пер-
вый век включает в себя Дудженто и Треченто, и его
основной книгой является «Комедия», а второй век на-
чинается с Боккаччо и получает свое завершение, свой
синтез в Чинквеченто. Петрарка — это переход от одно-
го века к другому.
18. Кватроченто — это век созревания и подготовки
нового. Это переход от эпохи героической к эпохе бур-
жуазной, от рыцарского общества к обществу граждан-
скому, от веры и авторитета к свободному исследова-
нию, от аскетизма и символизма к непосредственному
изучению природы и человека, от схоластического вар-
варства к классической культуре. Вы видите глубокие
изменения в идеях и в формах, о которых сам век
по-настоящему не подозревает^ТТоэтому вы видите без-
граничное разнообразие формой мыслей: перед вами
фрагменты и нет книги; вы наблюдаете анализ и не об-
наруживаете синтеза.,Век обладает различными и раз-
розненными тенденциями; но он их не осознал. Ясно
32 Де Санктис
485
й отчетливо в его сознаний лишь то, что совершенство У
классиков и что необходимо ориентироваться на этот
образец. Отсюда стремление к изяществу, к прекрасной
форме независимо от содержания. Поэтому, по при-
знанию современников, великим человеком века был
Анджело Полициано, который в «Стансах» ближе всего
подошел к этому классическому идеалу.
Но это великое движение, которое позднее прояви-
лось в Европе в религиозной борьбе, выражалось в
Италии по большей части в религиозном, нравственном
и политическом- индифферентизме в сочетании с апо-
феозом культуры и искусства. Его бог—Орфей, идеал—
идиллия, «Стансы». Изящество и внешняя красота
формы сопровождались распущенностью нравов и ду-
хом насмешки, которой подвергались монахи, священ-
ники и простонародье. Не существовало формирующей-
ся буржуазии; была буржуазия, которая уже проделала
свою историю; среди необычного расцвета культуры и
искусства она разлагалась под внешним покровом сча-
стливой и радостной жизни. Чтобы разогнать вакханалии,
на исходе века появился брат Джироламо Савонарола.
Кажется, что мрачная, мстительная тень средневековья
неожиданно возникла среди монахов и простонародья,
бросила в костер Петрарку, Боккаччо, Пульчи, Поли-
циано, Лоренцо и прочих грешников, опрокинула
колесницу Вакха и Ариадны и, выпрямившись на
повозке Смерти, угрожающе вытянула вперед руку и
голосом, предрекающим бедствия, крикнула людям:
«Покайтесь! Покайтесь!» Крик ее сопровождался хором
мертвецов:
Муки, слезы, покаянье —
Нынче наш удел таков.
Это братство мертвецов
Громко стонет: «Покаянье!»
Мы-то были вам подобны,
Станете, как мы сейчас.
Перешли мы в мир загробный,
Скоро здесь увидим вас
И услышим покаянье1.
1 «Cairo della Morte» (vv. 7—10) Антонио Аламани, упоминае-
мая также Сеттембрини (op. cit., I, p. 299, но он цитирует из нее не
те стихи, что Де Санктис). Де Санктис воспользовался, вероятно,
486
Наслаждающаяся жизнью й скептическая буржуа-
зия окрестила этих людей плаксами. Люди эти требо-
вали от своего монаха какого-нибудь чуда, а так как
чудо совершить было невозможно, они обратились про-
тив монаха. Ни в чем так ярко не проявился разрыв
„между образованной, неверующей буржуазией и неве-
жественным, суеверным простонародьем. Из подобных
элементов построить что-либо монах не мог. Он хотел
восстановить веру и добрые нравы, ополчась на книги,
на картины, на празднества, словно они были причи-
ной зла, а не следствием. Зло находилось в сознании,
а в сознание ничего нельзя вложить силой. Потребова-
лись столетия, прежде чем сформировалось коллектив-
ное сознание; сформировавшись, оно не могло переде-
латься за один день. Кто следил за моим изложением и
видел, какими трудными и непроложенными путями
шло формирование итальянского сознания, может су-
дить, сколько ума и здравого смысла было в подобном
предприятии монаха. В истории, так же как и в при-
роде, существует невозможное. Монах, пожелавший
вернуть Италию к варварству, чтобы оздоровить ее,
столкнулся с невозможным К
Савонарола появился ненадолго. Преисполненная
веры в свои силы, гордая своей культурой, Италия
снова пошла своим путем. Сорок лет мира, медицейская
лига Неаполя, Флоренции и Милана, изобретение кни-
гопечатанья, усвоение мира латинской культуры, вос-
крешение и изучение греческого мира, знакомство, хотя
и отдаленное, с миром Востока, смелые морские путе-
шествия, жажда открытий, а также блеск и привлека-
тельная пышность дворов Неаполя, Флоренции, Урбино,
Мантуи, Феррары, необычайное процветание, зажиточ-
ная и беспечная жизнь, широкое распространение утон-
сборником «Trionfi e canti carnascialeschi», Cosmopoli 1750, p. 417,
или «Sonetti ed altre rime» Аламани, которые впервые были со-
браны Микеле дел по Руссо, Неаполь, 1864, стр. 37—38. Описание
маскарада мертвецов, «который привел весь город в ужас и в изу-
мление», — у Вазари, «Жизнь Пьеро ди Козимо».
1 О Савонароле и значении его деятельности см. аналогичное
суждение Кине (op. cit., II, cap. II и особенно р. 74): «Италия
сожгла своего пророка, и этим все было сказано. Небеса и люди
предостерегали ее; она осталась глуха; ей оставалось только не
обращать внимания на угрозы и укрыться за пышно расцветшим
искусством».
32*
487
ченной культуры, любовь к искусству — все это аосста*
новило творческие силы, ослабшие в первую половину
столетия, и породило столь мощное движение культуры,
что его не смогли ни остановить, ни задержать самые
великие катастрофы. Вокруг Боярдо, Пульчи, Лоренцо,
Полициано уже подрастало новое поколение. Этих мо-
лодых людей звали Николо Макиавелли, Франческо
Гвиччардини, Лодовико Ариосто, Леонардо да Винчи,
Микеланджело, Рафаэль, Бембо, Берни — целая фа-
ланга, предназначенная завершить дело отцов. Один
век так тесно переплетается с другим, что нельзя ска-
зать, где кончается один и где начинается другой. Один
служит продолжением другого, их объединяет непре-
рывное стремление к единому идеалу.
#*********+*********************************
XII
Чинквеченто
1. Замкнутое царство искусства и идиллический идеал.
«Аркадия» Санадзаро. Ирония и чувственность при высокой
культуре выражают безразличие к вопросам веры и мате-
риализм. 2. Нашествие иноземцев; в первую половину века
ренессансное движение достигает высшего совершенства. Про-
гресс культуры; итальянский язык, литературный и условный,
и его народная тосканская форма. 3. Стихотворцы и лати-
нисты. Меценатство и придворная литература. Идеал формы,
безразличие к содержанию, позитивная и негативная сторона
движения. 4. «Афинская школа», собор Святого Петра, «Не-
истовый Орландо» — величайшие синтезы века. 5. Двойной
аспект новой литературы, представленный в «Неистовом Ор-
ландо». Ирония и чистое искусство. 6. Роман; попытки в эпи-
ческом жанре Джан Джорджо Триссино и Бернардо Тассо.
7. Идиллия — истинная муза итальянской поэзии, изнеженная
праздность уставшей буржуазии: Мольца, Ручеллаи, Аламани.
8. Идиллия — сельский досуг, карнавал — досуг городской.
Академии и бурлескные «чиколаты». 9. Франческо Берни:
буржуазия создает карикатуру на себя; высмеивающая
себя культура. 10. Новеллисты, идущие по стопам Боккаччо.
В каждом центре Италии свой «Декамерон». Маттео Бан-
делло и Страпарола. Большая свобода и большее изящество
выражения у тосканцев: Ласка. Кристаллизация элемента
фантастического и элемента трагического. Выживает коми-
ческое, низменное, поверхностное. Загнивание Декамерона.
И. Формирование нового содержания: вера в науку. Пом-
понацци. Материализм — продукт общества, материалистиче-
ского по своим тенденциям. 12. Лютер — варвар. Невозмож-
ность Реформации в Италии — стране утонченной куль-
туры. Лютером Италии был Макиавелли. 13. Макиавелли:
учение о человеке, рассматриваемом не только как индивидуум,
но и как существо общественное, как класо, народ, общество,
человечество. Глубокое чувство действительности порождает
науку и прозу, знаменует собой новое направление в искусстве.
1. Вы видите пока лишь признаки, примеры, фрагмен-
ты идеала, очертания которого были оттенены Джованни
роккаччо. Позитивную сторону его составляет чувствен-
489
пость, облагороженная культурой и трансформирован-
ная в культ формы как таковой, — замкнутое в себе цар-
ство искусства, утвердившееся в спокойной и идилличе-
ской душе. Философское выражение этого вы находите
в Платоновой Академии, особенно у Фичино и Пико,
а выражение литературное — у Альберти и у Полициано,
к которым по своим тенденциям, но развиваемым с мень-
шим формальным и художественным мастерством при-
мыкает Боярдо. Главный герой этого нового мира Ор-
фей, а его самый чистый и совершеннейший образец —
«Стансы». Рядом с Полициано, живописцем природы,
стоит Баттиста Альберти, живописец человека. Вокруг
них возникают эклоги, элегии, буколические поэмы, па-
сторальные и мифологические драмы. В эти годы мира
и благоденствия счастливую Италию волнуют судьба
Кефала и любовь Эргасто и Коримбо К Академии, празд-
нества, кружки образованных людей были литературной
Аркадией, и в период духовной опустошенности и лени
публика принимала в ней самое живое участие. В Неа-
поле, во Флоренции, в Ферраре жили нювеллами, рома-
нами и эклогами. Люди, бывшие некогда заговорщиками,
ораторами, политическими деятелями, патриотами, ока-
зываясь то жертвами, то палачами, вздыхали теперь
вместе с нимфами и пастухами. Мне понятен огромный
успех «Аркадии» Санадзаро, которая представлялась
современникам наиболее чистым и законченным образом
идиллического идеала. Однако от этого неаполитанского
Вергилия не осталось ничего, кроме нескольких удачно
выраженных сентенций, вроде:
Завистливость себе самой вредна...
Дряхлеет, миру зло творя, она 2.
Читать его «Аркадию» в настоящее время — занятие
невыносимое и из-за сухой, искусственной прозы, моно-
тонной в своем изяществе, и из-за скудости и бледности
действия и чувства, превосходно выражающих внутрен-
1 Так в рукописи и в изд. Морано. По всей вероятности, «Ко-
ринто» — намек на эклогу Лоренцо Медичи, о которой см. в гл. XI.
Кефал — главный герой «Fabula di Caephalo» Никколо да Корреджо;
Эргасто — один из персонажей «Аркадии», лучше всего выражаю-
щий идиллически пасторальное чувство поэтического мира Са-
надзаро.
2 Arcadia, egloga sesta, vv. 13 и 111.
490
нюю духовную леность, которую мы назвали бы теперь
скукой, но тогда она заключала в себе то самое спокой-
ствие и безмятежность жизни, в котором полагали идеал
.счастья.
Негативной стороной этого идеала было комическое,
чувственность, бесстыдная, веселая и насмешливая, ко-
торая во имя земного высмеивала небесное и с.позиций
культуры более высокой иронизировала над предрассуд-
ками, простоватостью, нравами и языком менее образо-
ванных классов. Именно эта чувственная, циничная и
остроумная культура породила тот самый эпитет «плак-
сы», который оказался для Савонаролы более смертель-
ным, чем папское отлучение от церкви. Карнавальные
песни являются типом жанра: его поэт — Боккаччо, ис-
торик— Саккетти, гистрион — Пульчи, его центр — Фло-
ренция. К этой негативной стороне примыкает Помпо-
наццо1, который разрывает все связи между небом и
землей, отрицая бессмертие души. Это было истинное
слово, тайна века, философское сознание общества, рав-
нодушного к религии и материалистического, общества,
которое окрестило себя платоновским, которое обруши-
валось на турок и евреев, которое желало своего папы,
своего Александра VI, столь хорошо его представлявше-
го, и которое не могло позволить Помпонаццо громко
разглашать его тайны, в то время когда оно само еще
не спросило себя: «Что я такое? И куда я иду?»
2. Это общество, занятое танцами, празднествами,
песнями, идиллиями и романами, в один прекрасный
день оказалось захваченным чужеземцем и было выну-
ждено пробудиться. Произошло это в конце века. Пон-
тано забавлялся латинскими стихами, Санадзаро дудел
на свирели, а монархия распалась и рухнула при первом
же натиске чужеземца. Карл VIII пришел и завоевал
Италию с куском мела в руках2. Он нашел народ, кото-
рый называл его варваром. Культура и умственные
силы итальянского народа были в полном расцвете, но
душа его была пуста и он был внутренне слаб. Фран-
1 Так в рукописи и в изд. Морано в соответствии с написанием,
принятым в XIX веке.
2 «Князь», XII: «Потому-то Карлу, королю Франции, и можно
было захватить Италию только с куском мела в руках» (Н. М а-
киавелли, Сочинения, т. I, М.-Л., 1934, стр. 263). Выражение.
Коммина, приписываемое папе Александру VI.
491
цузы, испанцы, швейцарцы, ландскнехты заливали кро-
вью Италию, пока после героической гибели Флоренции
она наконец не пала и не отдалась в руки чужеземца.
Борьба продолжалась полстолетия, и в эти пятьдесят
лет борьбы Италия развила все свои силы и осуществи-
ла тот идеал, который был завещан ей Кватроченто.
В начале века мы встречаем Макиавелли и Ариосто,
подобно тому как в начале Треченто мы находим Данте.
Макиавелли был тогда тридцать один год, двадцать
шесть лет было Ариосто. В этих двух великих писателях
концентрируется и обобщается литературное движение,
достигая своего высшего совершенства!'
Если мы бросим взгляд на целое, то увидим очевид-
ный прогресс культуры во всей Италии. Латинский и гре-
ческий языки получают широкое распространение; нет
ни одного образованного человека, который не писал бы
правильно и даже изящно на вольгаре, начинающем в
это время безоговорочно называться итальянским язы-
ком К Но за пределами Тосканы язык отдаляется от ме-
стных и исконных элементов и сближается с латынью,
создавая таким образом ту общую форму речи, которую
Данте называл придворной и высокой. Презирая диалек-
ты и стремясь к общему типу, видя, по примеру Боккач-
чо и Баггисты Альберти, в латыни совершенный образец,
литераторы приноравливают язык к латыни. И не толь-
ко язык, но также и стиль, стремясь к строгости, торже-
ственности, изяществу в ущерб живости и естественности.
Подобному представлению о языке и стиле искусствен-
ным и чисто литературным — следовали также и в Тос-
кане писатели второстепенные, вроде Варки или Нарди,
и даже первостепенные, как Гвиччардини, а порой и
Макиавелли. Эта латинская форма письма, сочетавшая-
ся у Боккаччо и Альберти с грацией и красочностью
диалекта, обнаженная и абстрактная, находит свое пе-
дантичное выражение в «Азоланах» Бембо и достигает
всего того совершенства, на которое она способна, в «Га-
латее» Каза и в «Придворном» Кастильоне. Однако в
Тоскане подобная искусственная форма языка и стиля
раньше всего встретила энергичное сопротивление.
1 Так же у Сеттембрини: «Все итальянцы на всем полуострове
писали на общем языке, называемом ими безоговорочно итальян-
ским, или volgare, народным» («Lezioni», cit., II, pp. 182 и ел.).
492
У тосканских писателей ощущается привкус диалекта,
то своего рода аттическое изящество, которое поро-
ждается живым словоупотреблением, тем, что писатель
не только говорит, но чувствует и мыслит в данной
манере. Это видно в «Новеллах» Ласки, в «Причудах
бочара» и в «Цирцее» Джелли, в «Золотом осле» и в
«Беседах животных» Аньоло Фиренцуолы. Но как у тос-
канцев то тут, то там вы встречаете признаки новой,
цицероновской, боккаччиевской манеры, так и у прочих
итальянцев присутствует живость гения, сближающая их
с тосканской грацией и непринужденностью. Пример
тому — «Оборванцы» Аннибала Каро, его «Письма» и
«Дафнис и Хлоя». Долгое время шла борьба между фло-
рентийской формой языка и той формой, общей и высо-
кой, которую окрестили итальянским языком, то есть
между живой и народной формой и формой условной и
литературной. В Тоскане образованные люди тоже не
довольствовались возможностью говорить о вещах по-
просту и без претензий, как то делали Ласка и Бенвенуто
Челлини, но ориентировались на установленный тип и
стремились к благородной и украшенной форме. Бур-
жуазия желала иметь свой язык, и разрыв между ней и
народом все более увеличивался.
3. Стихотворцев все прибавлялось, В каждом уголке
Италии сочинялись сонеты и канцоны. Баллаты, риспет-
ти, сторнелли, эти гибкие формы народной поэзии, мало-
помалу выходят из употребления. Петраркизм завоевы-
вает мужчин и женщин. Последующие поколения забыли
петраркистов; из огромного количества стихотворцев
едва сохранились, сопровождаемые некоторыми похваль-
ными эпитетами, Каза, Костанцо, Витториа Колонна,
Гаспара Стампа, Галеаццо ди Тарсиа и немногие дру-
гие, возглавляемые Пьетро Бембо, боккаччистом и пет-
раркистом, считавшимся тогда князем прозаиков и
поэтов.
Несомненно, прозаические произведения и стихи по
формальной структуре отличались добротной отделкой.
Самый последний прозаик и стихотворец писал тогда
правильнее и упорядоченнее, чем многие почитаемые пи-
сатели прошедших веков. И потому что все писали хо-
рошо и каждый умел написать сонет или благозвучный
период, количество писателей в это время очень возра-
стает и'делаются опыты во всех жанрах. Появляются
493
комедии, трагедии, сатиры, речи, истории, послания-—
все на манер древних. Триссино пишет «Освобожденную
Италию» и «Софонисбу», Луиджи Аламани изобра-
жает из себя Ювенала, а монсеньер делла Каза подра-
жает Цицерону. Мистерии сменяются комедиями и тра-
гедиями, которые ставятся в пышных декорациях. В язык
вкрапливаются не только формы латинской речи, но и
мифология: клянутся «бессмертными богами» \ а Апол-
лон, музы, Геликон, Парнас, Диана, Нептун, Плутон,
Цербер, нимфы, сатиры становятся общими местами как
в стихах, так и в прозе. Латынь — это не было заслу-
гой— тогда знали все, как теперь французский; в разго-
вор вставляли латинские слова, по привычке или для
большего эффекта. В то время при дворах существовали
импровизаторы, которые не сходя с места сочиняли эпи-
граммы и фацетии с той же легкостью, с какой сейчас
сочиняются тосты. В награду за это они получали золо-
той или бокал доброго вина; Лев X дал своему «архи-
поэту», импровизатору дистихов, вино, разбавленное во-
дой, за то, что дистих у того плохо вышел 2. Немало лю-
дей в то время великолепно знали латынь и писали на
ней с редким совершенством: Санадзаро, Фракосторо,
Вида; их латинские поэмы — самые изящные из всего,
что когда-либо было написано на этом языке в новое
время. Прибавьте к ним оды и элегии Фламинио.
Латинисты и стихотворцы составляли две наиболее
плотные когорты писателей. Главное в их произведе-
ниях— фразы, известная изощренность выражения, об-
наруживающая культуру автора и его знание классиков.
Не менее культурные и начитанные читатели приходили
в восхищение, обнаруживая в их произведениях следы
Боккаччо или Петрарки, Вергилия или Цицерона. По-
добное подражание казалось верхом гениальности. И
мне понятно, почему тогда столь почитались люди
i О паганизации формы см. длинный ряд примеров у Канту
(op. cit., pp. 278—279) и особенно в связи с цитатой Де Санктиса,
р. 279: «Параллели с язычеством у Бембо граничат со святотат-
ством: Лев X становится папой по решению бессмертных богов».
2 См. снова Канту (op. cit., p. 277). Эпизод с Камилло Кверно,
архипоэтом Льва X, подробно рассказан у Тирабоски (Т i г а-
boschi, Storia, cit., VII, pp. 1310 и ел.) и у Сеттембрини («Le-
zioni», pp. 34—35). Об этом см. также письмо Аретино к Манфреди
Коллальто от 10 октября 1532 года в «Primo libro delle lettere»,
Ban 1916, pp. 37—38.
494
весьма посредственные, вроде Пьетро Бембо, главы всей
школы, монсеньера Гвидиччони, Бернардо Тассо и им
подобных скучнейших писателей. Однако сухая, пресная
фраза не могла в достаточной мере питать деятельность
бодрой и энергичной буржуазии, облагораживавшей
свою чувственность и свои досуги духовными наслажде-
ниями. Ей требовались пикантные остроты, невероятные
и из ряда вон выходящие происшествия, переплетенные
между собой таким образом, чтобы все время подстеги-
валось любопытство и ни на минуту не затухал интерес.
Основой новелл, романов, комедий и трагедий стано-
вится интрига, такая запутанная, что она граничит с не-
разберихой. В сюжетах ищут новое и необычное, возбу-
ждающее воображение, — буффонаду и непристойности
в комедии, чудовищное и ужасное в трагедии. С одной
стороны — фраза, голое звучание, с другой —факт, го-
лый факт, порожденный случайностью; и как чересчур
изящная'фраза оказывается манерной у Бембо или же-
манной и кокетливой у Фиренцуолы и Каро, точно так
же стремление к чрезмерной остроте ситуации делает со-
бытие либо непристойным, либо чудовищным и всегда
абсурдным. Реализм, намеченный у Боккаччо и разви-
тый Кватроченто, быстро идет сейчас к своим крайним
следствиям — к нравственному разложению и к порче
вкуса. Однако в итальянском обществе имеется еще не-
тронутая сила, которая сохраняет ему жизнь даже в та-
кой развращенности. У публики — это любовь и уваже-
ние к культуре, у художников и литераторов — культ пре-
красной формы, эстетическое чувство. В литературной и
академической форме итальянцы видели как бы перевод
с живого языка, повседневную речь, идеализированную
согласно образцу, который считался совершенным. По-
этому они были щедры не только на похвалы, но также
на деньги и почести виртуозам формы. Число литератур-
ных центров увеличивалось; возникали новые академии;
самые маленькие дворцы становились местами встреч
литераторов; самые захудалые князья желали держать
при себе секретаря, придающего хороший стиль их пись-
мам, а также художников и писателей, которые могли
бы их позабавить. Основной центр был в Риме, при дво-
ре Льва X; сюда, как некогда ко двору Фридриха II,
• стекались со всех сторон новеллисты, импровизаторы,
буффоны, латинисты; художники и литераторы. Даже
495
кардиналы держали при себе секретарей и подобного
рода параситов; даже богатые горожане вроде графа
Гамбара в Брешии, Киджи и Саули в Генуе, Сансеве-
рино в Милане. В Венеции вокруг Доменико Веньеро
группировались Бернардо Тассо, Трифон Габриэле, Трис-
сино, Бембо, Наваджеро, Сперон Сперони; в Неаполе
подле Виттории Колонна образовали кружок престаре-
лый Санадзаро, Костанцо, Рота, Тарсиа. Эти известные
имена могут дать представление и о толпе писателей
второстепенных К Пенсии, подарки, должности, аббат-
ства, каноникаты были той манной, которая сыпалась на
их головы. Кроме того, их окружала слава; сваливая
в одну кучу великих и мелких, не делая между ними ни-
какого различия, их почитали, прославляли, обожествля-
ли. Вместе с Микеланджело и Ариосто божественными
называли Пьетро Аретино, Бембо и Бернардо Аккольти
прозванного также Несравненным (el'Unico) 2. Послед-
ний, став герцогом, выходил в сопровождении прелатов
и швейцарской гвардии; там, где он появлялся, иллюми-
нировались города, закрывались лавки, и люди сбега-
лись слушать его ныне забытые стихи. Подобные поче-
сти не оказывались и Петрарке. Литераторы осознали
свое значение; жалкие и льстивые, они обнаглели и вы-
ставляли себя на продажу, суть их может быть сведена
к известному выражению Бенвенуто Челлини: «Я служу
тому, кто мне платит»3. Статуи, картины, храмы созда-
вались по поручению, истории, эпиграммы, сонеты, са-
тиры писались на заказ, и брань нередко оплачивалась
дороже, чем похвалы. В столь развращенной атмосфере
даже не слишком порочные люди становились лакеями
и шарлатанами, чтобы набить себе цену. Нельзя без
боли смотреть, как гений склоняется перед богатством,
слышать, как Макиавелли выпрашивает жалкие дукаты
1 Перечень стихотворцев, а также дальнейшие сведения о меце-
натстве почерпнуты у Канту (op. cit., pp. 149—150).
2 См. «Orlando Furioso», XLVI, станс. 10: «И великий аре-
тинский светоч, несравненный Аккольти». Следующий период дол-
жен был восходить к одному месту у Канту (op. cit., p. 150): «Он
выходил, окруженный прелатами и швейцарской гвардией; он был
провозглашен герцогом Непи, и когда он появлялся, в его честь
устраивалась иллюминация; а если он читал свои стихи? В Риме
закрывались лавки...» О «Virginia» Аккольти см. т. 2, гл. XVIIL
3 Об этом и последующих примерах см. Канту (op. cit.,
pp. 246—247).
49а
у Климента Vll, как Ариосто жалуется своему синьору,
что ему не на что заштопать плащ, видеть Микеланд-
жело, когда, — негодует Альфьери, — ему преступный век
белел героя описать постельных дел К С помощью наг-
лости, шарлатанства, интриг и низости торжествовали
посредственности; трусливые и угодливые, они то вгры-
зались, то втирались в жизнь. Старая история; надо
думать, то же самое было во времена Фридриха и
.Роберта. Только тогда ученость была редким товаром,
и требовалось много труда, чтобы приобрести ее. Те-
перь же культура и знание получили широкое распро-'
странение, писание стихов и прозы стало занятием чи-
сто механическим, легко постижимым, не требующим
вдохновения, и благодаря внешнему сходству величай-
шие и посредственные писатели удостаивались равных
похвал. Если судить как современники, век этот напол-
нен великими людьми. В своей элегии «De poetis urba-
nis» Франческо Арсилли приводит список сотни латин-
ских поэтов, живших только при дворе Льва X, и даже
сам Ариосто прославляет ныне забытые имена2. Бер-
нардо Тассо, Ручеллаи, Аламани, Джовио, Скалигер,
Муцио, Дони, Дольче, Франко и другие бесчисленные
писатели, которых теперь никто уже не читает, счита-
лись в то время людьми выдающимися. И все-таки
у большинства, даже у самых посредственных писате-
лей, жила вера в свое искусство и существовало стрем-
ление к совершенству.
Джовио был продажным, почтительным придворным
был Бернардо Тассо, но, когда они брались за перо,
в их душе возникало что-то, что их облагораживало, и
это было стремление к совершенству, серьезное отноше-
ние к.своему ремеслу.
Это была единственная сила, единственная доброде-
тель, сохранившаяся нетронутой. Развращенность и ве-
личие века не были заслугой и виной князей или писа-
телей: и то и другое лежало в самой природе движения,
1 «Etruria vendicata», I, st. 54.
2 См. Francesco Arsilli, De poetis urbanis ad Paolum
Jovium, опубликованное в приложении к «Coryciana» (Roma 1524)
и перепечатанное Тирабоски (Tiraboschi, Storia, t. VII, parte IV,
pp. 1376 и ел.). Но Де Санктис, по всей вероятности, почерпнул
сведения у Канту (op. cit., p. 153). Обзор, сделанный Ариосто, см.
«Неистовый Орландо», XLVI, 10 и ел.
497
к ним приведшего й обнаруживавшегося в это времй
со всей резкостью, движения, порожденного не идей-
ной борьбой и новыми верованиями, как это было у дру-
гих народов, а глубоким религиозным, политическим,
нравственным индифферентизмом, сопровождаемым ши-
роким распространением культуры, прогрессом сил ра-
зума и развитием эстетического чувства. В этом заро-
дыш жизни и в этом зародыш смерти; в этом величие
века и в этом его слабость.
Движение это как бы в миниатюре сконцентриро-
вано уже в Боккаччо, который живо воспроизводит его
внешнюю сторону, не сознает его и не понимает, какой
новый мир складывается в его циничных карикатурах.
Фрагменты этого нового мира возникают у Саккетти и
Пульчи, фиксирующих его негативную и комическую
сторону, в то время как его идеал проступает уже
у Альберти, у Боярдо, у Полициано. Жестокая реакция
Савонаролы только ускорила это движение, увеличила
его силу и позволила ему осознать себя. Шестнадцатый
век в своей первой половине представляет не что иное,
как это самое движение, выясненное до самых своих ос-
нов, взятое в своей целостности и доведенное в его раз-
личных формах до полного завершения. Это синтез, сле-
дующий за анализом.
В чем позитивная сторона этого движения? В идеале
формы, почитаемой и изучаемой как форма, независимо
от содержания.
А в чем его негативная сторона? Именно в безразли-
чии к содержанию, в своего рода эклектическом подходе
у одних —у Рафаэля, Винчи, Микеланджело, Фичино,
Пико, которые охватывают любое содержание, ибо вся-
кое содержание принадлежит культуре, искусству, мыс-
ли,— в эклектизме, сопровождающемся у других весе-
лым и беззаботным высмеиванием тех отошедших в
прошлое принципов, форм и нравов, в которые еще ве-
рят необразованные классы.
Божественным в этом движении является идеал
формы, или, говоря более понятно, культура, взятая
сама по себе и обожествленная. Сторона комическая и
негативная является не чем иным, как проявлением
культуры.
4. Лимб Данте и «Любовное видение» Боккаччо за-
ставляли уже предчувствовать то гордое самосознание
498
новой эпохи, которое пронизывало всю культуру и со-
ставляло ее славу. Звуки лиры Орфея возвещают на-
чало новой цивилизации, апофеоз которой — «Афин-
ская школа» Рафаэля, произведение дантовского вдох-
новения, ставшее столь популярным, потому что в нем—
дух века, его синтез и его божественность. «Афинская
школа» вместе с тремя связанными между собой карти-
нами, изображающими теологию, юриспруденцию и
поэзию в их историческом развитии, является поэмой
культуры столь же широких масштабов, как рай Данте
в сочетании с Лимбом К Картина передает то видение,
которое представало пред взором Данте, когда он со-
здавал образы чистилища: его св. Стефан и Давид2
находят соответствие в «Вечере», в «Святом семей-
стве», в «Преображенье», в «Суде», в этих поэмах, пол-
ных местами драматических предчувствий. Живописец
восторгается красотой формы; подобно Альберти и По-
лициано, он' старается по возможности не нарушить,
слишком живым волнением ясности и спокойствия ли-
ний. Поэтому образы получаются скорее эпическими,
чем драматическими. Та необычайно радостная безмя-
тежность, которая чувствуется в стансах Полициано и
которая приобщает вас более к спокойствию природы,
чем к взволнованности человека, та «умиротворенность,
не омраченная никакою печалью» 3, является характер-
ным признаком этих прекрасных форм, с тою лишь раз-
ницей, что умиротворенность эта уже не «подобна той,
что божественна в рае»; то уже не музыкальный идеал,
как Беатриче и Лаура, но возникает в результате изу-
чения действительности во всех ее мельчайших подроб-
1 Давая краткий очерк изобразительного искусства XVI века,
Сеттембрини остановился на этих же фресках Станц Рафаэля в
Ватикане, видя в них самое высокое выражение не только искус-
ства, но и культуры того времени («Lezioni», cit., II, pp. 188 и ел.)
«Три связанные между собой картины» — это «Спор о причастии»,
«Парнас» и два изображения юриспруденции: «Юлий II и Декрета-
лии», «Юстиниан и Пандекты».
2 «Чист.», XV, 106—114 и X, 64 и ел. «Тайная вечеря» Леонардо,
картины Рафаэля и микеланджеловский «Страшный суд» также
упоминаются в цит. главе «Лекций» Сеттембрини.
3 Р е t г а г с a, Rime, LXXIII, 67. Цитируемый далее стих —
"гридцать третья строка канцоны Леопарди «Alia sua donna» —
«К своей даме», представляющая, по мнению Де Санктиса, поэзию
«идеала». См. об этом очерк «Alia sua donna», напечатанный в «Ci-
mento» (1855), а затем в «Saggi critici» в изд. Эйнауди, t. IV.
499
ностях. Чувствуется, что живописец имеет перед собой
модель, тщательно им изученную и с любовью созер-
цаемую, которая преобразуется его воображением и
приобретает ту чистоту и ясность формы, которую Ра-
фаэль называл «некоторой идеей» К Эта «некоторая
идея» включает в себя кое-что от классики, от условно-
сти, от школы; однако подобного рода недостатки едва
различимы в гениальных произведениях, в которых гос-
подствует чувство прекрасного и знание действитель-
ности. Так возникли мадонны XVI века, в обликах ко-
торых запечатлены не внутренняя тревога, отрешен-
ность и экстазы святой, но наивная и идиллическая
безмятежность девственности и невинности. Лица ма-
донн становятся все более реальными, а венецианское
воображение Тициана делает их почти что чувствен-
ными.
Ту же широту мысли, проявляющуюся в чистоте и
простоте линий, вы обнаруживаете в архитектуре. Бру-
неллески преодолевает готику; дерзновение сочетается
с простотой у Микеланджело, Палладио. Кто помнит,
как Альберти изобразил флорентийский дуомо, легко
представит собор Святого Петра, громаду, средневеко-
вую в своей основе и новую в своих мотивах, подлин-
ный и глубокий синтез всего этого великого движения,
которое по видимости дает вам все тот же мир прош-
лого, те же формы, те же имена, те же нравы, те же ме-
тафоры, то же содержание, но существенно преобразо-
ванные в их мотивах, порожденные сознанием и став-
шие чистым эстетическим идеалом, идеалом формы.
Это старое содержание, проникнутое новым духом в ши-
роких эпических масштабах, где слились все элементы
новой культуры, дает вам и литература в «Неистовом
Орландо». «Афинская школа», собор Святого Петра,
«Неистовый Орландо» являются тремя величайшими
синтезами века.
5. «Неистовый Орландо» представляет новую лите-
ратуру в двух аспектах — позитивном и негативном.
Это мир, лишенный религиозных, патриотических и
нравственных мотивов, чистый мир искусства, цель
1 Известное выражение, принятое в период Романтизма как
формула совершенства художественного воплощения; см. письмо
Рафаэля к Кастильоне, цитировавшееся в гл. V.
500
которого — осуществить в сфере воображения идеал
формы. Автор «Неистового Орландо» бьется только над
тем, чтобы придать своему материалу высшее совер-
шенство как в целом, так и в мельчайших подробнос-
тях. Поэта больше нет, но есть артист, продолжающий
Петрарку, Боккаччо, Полициано и завершающий в
поэзии цикл искусства. Однако так как этот столь пре-
красный и искусно построенный мир является лишь
игрой воображения, то в него проникает высшая иро-
ния, насмешка над ним и самый веселый юмор. Просто-
народность, занимающая в «Декамероне» просцениум,
находится здесь за кулисами, со всеми своими непри-
стойностями и сальными шутками; на первый план
выступают куртуазность и доблесть во всем их блеске,
сопровождаемые ощущением того, что все это — пре-
красный сон: действительность побеждает и разрушает
заколдованный замок. Это печальное видение богатой
души, изливающейся в милых фантазиях, элегической
в своих печалях, идиллической в своих радостях, не
знающей иной серьезной цели, кроме художественного
творчества. В изобразительных искусствах творчество
сопровождается полным растворением души в ее созда-
нии: Рафаэль целиком заключен в своем произведении,
он не смотрит на него со стороны и осуществляет свой
идеал с той же серьезностью, с которой Данте строит
иной мир. Форма, выражающая с такой серьезностью
свой идеал в изобразительных искусствах, не сознает
еще, что она — голая форма, голая игра воображения.
Но в поэме Ариосто искусство выражает и ощущает
себя чистой формой, оно знает, что реальный мир не
таков, и сопровождает улыбкой свое создание. В этой
улыбке, в этом сознании и присутствии реального в са-
мых гениальных вымыслах заключена негативная сто-
рона искусства, зародыш и разложения и смерти К
6. Вокруг этого мира Ариосто кишат поэмы, рома-
ны, новеллы. Не буду касаться «Джирона» и «Авар-
кида» Аламани, чисто подражательных поэм, лишен-
ных какого-либо значения. Скажу лишь несколько
слов о двух писателях, пробовавших новые пути —
о Триссино и Бернардо Тассо. Обоим им не нравилась
1 Интерпретация Де Санктисом «Неистового Орландо» строится
в основном на рассмотрении иронии у Ариосто. См. гл. XIII, т. 2.
501
улыбка Ариосто. Триссино, точно так же как и герцогу
д'Эсте1, Орландо и Ринальдо представлялись глупостью,
болтовней и капризами праздного ума. Ища вдохнове-
ния в истории и взяв за образец Гомера, он написал
«Италию, освобожденную от готов». По его замыслу,
она должна была стать серьезной и героической поэ-
мой, вроде «Илиады», и призвать Италию к высоким
и доблестным целям. Но Триссино был всего лишь эру-
дитом, он не был ни поэтом, ни патриотом и не мог
вдохнуть в других героизм, которому были чужды его
душа и скудное воображение. От героики в его поэме
только оружие и гербы: человек в ней отсутствует. Трис-
сино был наказан равнодушием и забвением. Не желая
видеть у себя недостатка таланта, бедняга обиделся на
сюжет и разразился:
Да будут каждый час и день неладны,
В какие воспевал я не Орландо 2.
Бернардо Тассо не спас и рыцарский сюжет. Тассо в
своем «Флориданте» и в более известном «Амадиджи»
возмечтал создать эпическую картину по всем прави-
лам искусства и свободную от тогсЗ, что он называл
вольностями Ариосто. Читателям он не понравился,
хотя понравился Сперону Сперони, как Варки понра-
вился «Джирон1». И читатели были правы. Они не раз-
бирались в Аристотеле и Пжере и не могли прини-
мать всерьез рыцарских героев, даже если тех звали
Орландо и Амадисом. Бернардо очень поверхностен
1 Так по явному недосмотру в рукописи и в изд. Морано;
Кроче, а вслед за ним и другие издатели исправили: «кардиналу».
2 Знаменитое двустишие, приписывавшееся в то время Джан-
джорджо Триссино. Как двустишие Джанджорджо Триссино оно
приведено у Канту (op. cit., p. 231) и у Эмилиани-Джудичи («Storia
della lett. italiana», cit., II, p. 116). Об «Italia liberata dai Goti»
см. в лекциях первой неаполитанской школы: «Поэма по замыслу
автора должна была превзойти поэму Ариосто и иметь прямо
противоположный характер. Однако ничего подобного в «Италии,
освобожденной от готов» Триссино мы не обнаруживаем; не буду
говорить об этой поэме, ибо она уже превосходно оценена Вольте-
ром. Триссино подражал Гомеру, но не в том, что у того было
всеобщим и вечным, а лишь в частностях, и оказался напыщенным,
сухим, холодным («Teoria e storia», I, p. 227, и «Purismo illuminismo
storicismo», II cit.). Суждение Вольтера о поэме Триссино содер-
жится в «Опыте об эпической поэзии» («Essai sur la poesie epi-
que», V).
502
и слащав, он столь же манерен и многословен, сколь
Триссино сух и небрежен; оба они скучны до чрезвычай-
ности. Приятен, однако, «Влюбленный Орландо» в пере-
делке Берни. Чрезмерная и однообразная серьезность
оригинала смягчена в нем комическими формами и
эпизодами, введенными в поэму Берни. Но комизм
остается на поверхности, он не проникает в самую глу-
бину этого мира, не преображает его; Берни произво-
дит на меня впечатление того шута в комедиях, кото-
рый смешит публику своими лацци, в то время как
насупившиеся актеры сохраняют свою трагическую
позу К
Писание романов становится ремеслом; эпопея
Ариосто раздирается на куски, и ее эпизоды превра-
щаются в романы. Лодовико Дольчи написал их шесть,
в том числе «Первые подвиги Орландо». Феррарец
Брузантини воспевает «Влюбленную Анджелику», Бер-
ниа воспевает Родомонте, Пескаторе — Руджеро,
а Франческо де'Лодовичи — Карла Великого2. Романы
с равной легкостью пишутся, прочитываются и забы-
ваются. Наряду с подражателями Петрарки и Боккач-
чо появляются подражатели Ариосто.
7. Мир Ариосто своей позитивной стороной связан
с идиллией, а негативной — с сатирой и новеллой.
От Петрарки и Боккаччо до Полициано идиллия —
истинная муза итальянской поэзии, это та материя,
в которой дух осуществляет идеал чистой формы, ис-
кусство как искусство. В условиях общего социального
разложения поэзия оставляет город и ищет свой идеал
на лоне природы, среди пастухов и нимф, вне общества,
или, вернее, в обществе примитивном и естественном.
1 О переделке Берни, который «всегда исправляет лишь внеш-
нее», см. цит. лекции о рыцарской поэзии, т. VII, изд. Эйнауди. См.
также дальше.
2 Имена писателей и названия произведений воспроизведены
в порядке, принятом Канту (op. cit., pp. 224—225). Поэма Дольчи
была издана посмертно в Венеции в 1572 году, «Angelica innamo-
rata» тоже была издана в Венеции в 1550 и 1553 годах. Она уви-
дела свет также в XIX веке в «Parnaso italiano» (Венеция 1837).
Берниа, псевдоним Марио Телуччини, написал «Pazzie amorose di
Rodomonte secondo». У Джамбаттисты Пескаторе две поэмы о ге-
роях Ариосто: «Morte di Ruggiero» (1548), «Vendetta di Ruggiero»
(1556). Поэма в терцинах Лодовичи «Trionfi di Carlo» была напе-
чатана в 1535 г.
503
Там находите вы то внутреннее равновесие, то яс-
ное спокойствие образа, ту совершенную гармонию
чувств и впечатлений, которые назывались идеалом
прекрасного или прекрасной формы. Этим объясняется
огромная популярность «Стансов», в которых идеал
этот получил свое совершенное воплощение. Подража-
нием им являются «Тибрская нимфа» Мольца и «Тирси»
Кастильоне. В «Тибрской нимфе» имеются хорошие
стансы. Вот как описана Эвридика, преследуемая влюб-
ленным Аристеём:
Бежать легко мешает ветер ей —
За юбку и за волосы хватает,
Но все равно она стрелы быстрей
И оставаться в чаще не желает,
Проворно прыгает через ручей,
И страх ее смертельный украшает.
И Аристей, покинув лес густой,
Вот-вот ей в кудри вцепится рукой.
Десницу трижды он к концу погони
К ее кудрям зовущим простирал,
И трижды ветер он сжимал в ладони,
Покуда силы все не растерял !.
Строгая манера — и ничего больше. В этих стансах
отсутствует движение, живость, чувство, или, вернее,
идиллическая нега Полициано. Такой же скромной по-
хвалы достойны и две другие идиллические поэмы:
«Пчелы» Ручеллаи и «Уход за садом» Аламани. В них
есть естественность, но нет души.
Идиллия была модна в Италии в годы мира и бла-
годенствия. Ею нежилась буржуазия, уставшая от
борьбы и с наслаждением ушедшая в частную жизнь
с ее досугом и изысканными удовольствиями. Теперь
же, когда бряцают оружием, в жизни происходят серь-
езные события и потрясения, на смену идиллии прихо-
дит рыцарский роман. Идиллия перестает быть живым
жанром и разделяет судьбу платонизма и петраркизма.
Ангелы и рай, Юпитер и Аполлон, озаренные солнцем
1 «Ninfa tiberina», st. 75—76. См.- F. M. Molza, Poesie vol-
gari e latine, pubblicate dal Serassi, 3 voll., Modena 1747—1754. Там
же, в биографии Мольца, предпосланной Серасси первому тому,
содержатся сведения, далее приводимые Де Санктисом, о том, что
Мольца написал своего рода декамерон; об этом см. ниже.
504
CQ
S
Я
О*
X
к
<
4
та
tr;
m<:
,
Рафаэль Санто. Афинская школа — деталь, голова Аристотеля
прибрежья, и милые холмы, томления Тирси и волне-
ния Аристея соединяются вместе и порождают широ-
кий репертуар общих мест, к которому обращаются
поэты и поэтессы. Поэтессами этот век тоже богат.
8. Кватроченто колебалось между идиллией и кар-
навалом — досугом в поместье и досугом в городе.
Когда умерли все прочие идеалы, идиллическая безмя-
тежность осталась единственным идеалом общества,
чувственного и циничного, вся жизнь которого была од-
ним непрекращающимся карнавалом. Большую славу
приобретают карнавал в Венеции и Римский карнавал.
Карнавальные песни облетают всю Италию. Буффона-
да, непристойная двусмысленность, грубая шутка ста-
новятся важным элементом литературной прозы и поэ-
зии, печатью итальянского духа. Академии являются
рассадниками подобных произведений. Они напоминают
те веселые компании гуляк и бездельников, которые
вдохновили Боккаччо на «Декамерон» — образец этого
жанра. Члены академий — литераторы и эрудиты, ум
которых ничем не занят и которые, чтобы позабавиться,
сочиняют стихи и прозу на самые фривольные темы:
чем вульгарнее сюжет, тем больше восхищения вызы-
вала живость их остроумия и изящество формы. Стран-
ны наименования этих академий и прозвища этих ака-
демиков: Мазила, Обманщик, Растеряха и т. д. Они
произносят болтливые речи, или, как они называют их,
«чиколаты», о салате, о пироге, об ипохондрии, они за-
няты трудоемкими пустяками. Такого же рода «чико-
латы» в стихах назывались «капитоли»: Каза воспе-
вает ревность, Варки — крутое яйцо, Мольца — фиги,
Мауро — ложь, Каро — длинный нос ]; воспеваются
1 Перечень взят у Канту (op. cit., pp. 233—234, 248). Названия
академий см. у Эмилиани-Джудичи («Storia della lett. italiana», cit.,
II, p. 68). Отдельные неточности, встречающиеся здесь у Де Санк-
тиса, восходят к Канту. Делла Каза написал о ревности не «капи-
толо», а знаменитый сонет «Забота, что растет и питается страхом»
(«Сига che di timor ti nutri e cresci»), по характеру своему отнюдь
не бурлескный (см. об этом юношеские лекции, «Teoria e storia»,
I, р. 142, и «Purismo illurninism storicismo», cit., t. П.).«La- Nasea»
Аннибаль Каро — шутливая речь в прозе (она была вновь напеча-
тана Камерини вместе с «Straccioni» и «Ficheide» в «Biblioteca гага»
Daelli, Milano 1863). Для цитируемых далее текстов Де Санктис
обращался к сборнику «II primo, il secondo e il terzo libro delleopere
burlesche del Berni, del Casa ecc.» Usecht al Reno, 1771, и особенно
33 Де Санктис
505
вещи самые вульгарные и даже мерзкие, нередко с не-
пристойными двусмысленностями и намеками на манер
Лоренцо, мастера подобного жанра. Карнавал перено-
сится с площади в академии и становится в них более
утонченным, а также и более пошлым. Одной из этих
академий была Академия виноградарей в Риме. В ней,
окруженные прелатами и монсеньерами, читали свои
произведения Мауро, Каза, Мольца, Берни. Больше
всех нравился Берни, его капитоли обсуждались и хо-
дили по рукам.
9. Франческо Берни, «отец и учитель бурлескного
стиля» *, впоследствии названного «бернеско», является
героем этого поколения, наследником Джованни Бок-
каччо и Лоренцо в своей чувственности, декорирован-
ной культурой и искусством. Восторгаясь «первым и ис-
тинным трубадуром», Ласка говорит:
Не о Буркьелло я бы говорил:
Совсем не дело говорить о черте,
Тогда как есть архангел Гавриил.
Берни — весельчак и праздный гуляка, он любит
удобства и сладостное безделье, он боготворит более
досуг, чем наслаждение.
Охота, музыка, балы, забавы —
Все эти развлечения его
Не привлекали...
Считал он, что приятнее всего
Раздетым растянуться на постели,
Из многих дел избрав одно — безделье.
Однако чтобы заработать себе на жизнь, бедня-
га вынужден был трудиться и, подобно почти всем
для Берни к изданию Барбера («Rime e lettere di F. Berni», Fi-
renze 1863). В связи с этими и следующими страницами см. цит.
лекции первой неаполитанской школы о сатирической поэзии, «Тео-
ria e storia», I, pp. 144—145, и «Purismo illuminismo storicismo»,
cit., II.
1 См. в «Primo libro delle opere burlesche», cit., p. XI, пред-
посланный стихам Берни сонет Ласка: «О voi, ch'avete non gia
Tozzo о vile» — «Вы, у кого уже не грубый или низкий...» Из него
приведена восьмая строка, а сразу же за ней цитируется седьмая:
«Кто был первым и подлинным трубадуром». Затем следуют
vv. 12—14. Сонет приведен в изд. Барбера, р. V,
506
литераторам того времени, быть секретарем то у одного,
то у другого кардинала.
Под мышкой письма, письма на груди,
Навалом письма спереди и сзади,
И голову ломал он писем ради !.
Потакая капризам своего хозяина, он однажды не
выдержал: ему хотелось спать, а надо было стоять и
смотреть, как патрон играет в карты:
Что делать милой, ежели усталый
Из-за каких-то в карты игроков
Не раньше, чем в одиннадцать часов,
Я попадаю к ней под одеяло?
Они же недовольны: — Что-то вяло
Он за игрой следит? Нахал каков! —
Прикажете не спать до петухов?
Пошли вы лучше все... куда попало!2
Смерть папы Льва повергла литераторов в ужас.
Они увидели, что кормушка опустела, особенно когда
преемником Льва X оказался Адриан VI, испанец3, чу-
жак, скупердяй, мужлан и еще бог знает что, согласно
тем эпитетам, которыми его наделяет негодующий
Берни:
Как только мне послышится «чужак»,
Из бледного пунцовым становлюсь я:
Ведь idest — крови итальянской враг.
Берни был, в сущности, добрый малый, человек не
желчный, хороший собеседник, с которым приятно про-
вести четверть часа; он обладал спокойной, ленивой
душой, которой были чужды честолюбие, алчность,
страсти, а также и идеи. Он знал греческий язык, еще
лучше — латынь и, как того требовало время, тоже
1 «Orlando innamorato», LXVII, st. 45, vv. 1—3, 6—8, и st. 39,
vv. 6—8. Обе цитаты приводятся как в «Terzo libro delle opere bur-
lesche», так и в обращении к читателю в изд. Барбера, соответств.
стр. XVII и XIII.
2 Сонет VIII, 1—8, в «Rime e lettere», ed. Barbera, p. 162.
3 Так в рукописи и в изд. Морано. Кроче исправил прямо
в тексте: «фламандец». Последующую цитату см. в Капитоло
XXIV против папы Адриана, vv. 175—177 и 178 («О пьяница, плут,
мужлан»), в «Rime e lettere», cit, p. 110.
33*
507
сочинял добротные латинские стихи и петраркистские
сонеты. Чаще всего он писал для «облегчения ума, своего
величайшего развлечения». Не желая утруждать себя,
он не стремился к изяществу и покрывался «смертель-
ной испариной», когда оказывался вынужденным, отве-
чая на элегантные письма, «облекаться в парадное
платье» и сочинять «на заданные созвучия или риф-
мы» К Сам процесс писания был ему в тягость. «Будем
жить, пока не умрем, — писал он Бини, — назло нашим
недоброжелателям, и лучше уж весело, на утешение
вам, в ожидании пиршеств, устраиваемых в Риме, и бе-
рясь за перо как можно реже; quia haec est victoria
quae vincit mundum»2. Он называет себя человеком,
«скупым на слова, простецким и погрязшим в раб-
стве»,— чудесные оправдания для собственной лени.
А когда на него наседают, когда к нему пристают дру-
зья и жалуются на то, что он им не отвечает, что он их л
забыл и не любит, он раздражается:
Зачем ты зря терзаешься, ответь,
Приули мой? Нет для упреков пищи,
Ведь я тебя люблю, как мед медведь.
Ты знаешь, что душа моя, дружище,
Заполнена тобой, ты в ней застрял
Сильней, чем в твердой почве корневища.
И если я письма не написал...
Но здесь раздражение проходит, побеждает лень,
и письмо заканчивается обычным eccetera. Благосло-
венная лень заставляла его говорить «как придется»
1 См. письмо от 11 ноября 1522 года к мессеру Аньоло Ди-
вицио: «О, умоляю, не лишайте меня этого облегчения ума, ибо
оно самое большое развлечение, какое у меня есть» (ed. cit.,
pp. 299—300). «Смертельная испарина» — в письме от 21 ноября
1524 года к монсеньеру Джамбаттиста Монтебуона: «Когда слу-
чается, что они (письма) оказываются столь длинными или столь
прекрасными, что у меня не хватает мужества отвечать на них
в рифмах, Поверьте, я покрываюсь смертельной испариной; именно
это произошло с вашим письмом, обладающим и тем и другим ка-
чеством; я с удовольствием не писал бы вам вовсе, чтобы' только
не облачаться в парадные одежды, отвечая на созвучия» (ed.
cit., p. 318).
' * Письмо от 29 июня 1529 года Франческо Бини, («Rime e let-
tere», cit., p. 353).
508
и писать письма, являющиеся «чистейшим рафинадом» ',
обычно испещренные краткими латинскими выраже-
ниями, но самые сочные, простые, непринужденные из
тех, что появились в этот век секретарей, когда их пи-
салось множество и когда они были такими вымучен-
ными. Но мало того, что его вынуждали писать письма,
от него требовали еще капитоли и хвостатые сонеты.
Напишите капитоло об игре в «премьеру»!
«Кум, — пишет бедняга, — я не сумел как следует
защититься и все-таки был вынужден сочинить этот
проклятый капитоло и комментарий к премьере. Уверяю
вас, сделал я это не потому, что жажду печататься, и
не для того, чтобы обессмертить себя, подобно кава-
леру Касио, а дабы избежать хлопот и недоброжела-
тельства очень многих людей, которые, требуя от меня
капитоло и не получая его, готовы вогнать меня ь гроб.
Чтобы дать им его, мне нужно было либо самому напи-
сать этот капитоло, либо поручить- написать его кому-
нибудь; и то и другое не было мне по душе, потому что
мне не хотелось ни утруждать себя, ни обязываться»2.
Итак, его вынудили написать капитоло, а затем на-
печатать его. Он стал бессмертным вопреки своему же-
ланию. И он пишет об угре, устрицах, чуме, персиках,
студне и об Аристотеле, который
С изяществом толкует о любом
Предмете, так что ощущаешь, как он
Ум заполняет, чтоб остаться в нем3.
Так рождались капитоли, сонеты, послания, напол-
ненные капризами и причудами праздного и веселого
ума. Они имели огромный успех. Его объясняют тем,
что Берни был флорентинцем и достаточно хорошо вла-
дел языком. Но это еще мало о чем говорит. Правиль-
нее другое: Берни обладает ясным и непосредственным
восприятием действительности, которое придает его об-
разам жизнь и свежесть, а вместе с тем легкость
1 Оба выражения содержатся в цит. письме к Дивицио («Rime
е lettere», pp. 300, 291).
2 Письмо от 27 августа 1526 года монсеньеру Борджанни Ба-
рончи, предпосланное «Commento» к капитоло об игре в премьеру
«sul gioco della primiera» (op. cit., p. 324)!
3 См. соответственно капитоли XI, XII, II и III, IV, XIII и
XVI «In lode d'Aristotile», vv. 34—36.
509
и блеск. Между ним и действительностью не стоит ни-
чего— ни принципа подражания, ни искусственности
стиля, ни готового инвентаря художественных средств.
Он черпает непосредственно из действительности, сооб-
разуясь с образом, возникающим в его сознании. И
образ оказывается самой действительностью в карика-
турной форме, то есть действительностью, рассматри-
ваемой с такой точки зрения, с которой обнаруживает-
ся весь ее комический аспект. Аспект этот возникает
перед нами неожиданно, ибо он складывается не из
отдельных кусков и отрывков описания, но выступает
как целое, благодаря неожиданным сравнениям или
контрастам. Так нарисованы маэстро Гваццалетто и
мул Флоримонте; так же, пародируя петрарковскую
Лауру, Берни описывает красоту своей дамы К В его
тесно связанных друг с другом картинах нет ничего,
что застаивалось бы и чахло. Произведение обладает
непрерывностью движения, оно вас захватывает и не
отпускает, пока поэт, торжествуя победу, не попро-
щается с вами:
Вот вам фигура
Араба, вот вам гарпия, к тому ж —
От анатомии сбежавший муж.
До сих пор мы видели, как от Боккаччо до Пульчи
высмеивались монахи и простонародье. Берни пробует
делать то же самое в «Катерине» и в «Женитьбе», по*
дражательных произведениях, перегруженных просто-
народными словечками и выражениями, значительно
уступающих «Ненче» в изяществе и естественности. Но
обычно Берни высмеивает ту самую буржуазию, среди
которой живет. Это уже не культура, которая смеется
над грубостью и невежеством; это культура, которая
осмеивает сама себя: это буржуазия создает карика-
туру на себя. Главный герой уже не пакостник
1 См. соответственно сонеты IV «О spirito bizzarro del Pistoia»
(«О причудливый ум Пистойа»), VII «Del piu profondo e tenebroso
centro» («Из глубочайшего мрачного центра») и III «Chiome d'ar-
gento fine, irte e attorte» («Волосы чистого золота/ колючие и лох-
матые»), ed. cit., pp. 153, 160 и 153. Цитируемые ниже стихи
являются заключением хвостатого сонета «Chi vuol veder quantun-
que puo natura» («'Кто хочет увидеть, на что способна природа»),
ibid., p. 150,
510
Каландрино, а буржуа, тщеславный, ленивый, льстивый,
раздражительный, чувственный и литературно образо-
ванный. Его прообразом является сам Берни, доведший
до крайних пределов свою леность и чувственность. В его
произведениях привлекательно именно то полнейшее
чистосердечие, с которым поэт смеется над своими и
чужими недостатками, как над общими и проститель-
ными слабостями, способными вызвать негодование
лишь у человека недостаточно остроумного. Буржуазия
уже настолько испорчена, а нравственное чувство на-
столько смутно, что нет необходимости в лицемерии, и
люди, во всем прочем вполне достойные, выставляют
напоказ свое лакейство и чувственность. Таковы очень
многие литераторы, и наш Берни «честный и любез-
ный» \ по выражению Ласка, Берни совершенно спо-
койно* изображает свое лакейство и чувственность, ни
на минуту не задумываясь о том, что это может вы-
звать к нему чувство презрения. Когда некоторые по-
роки становятся присущи всему обществу, не вызывают
более отвращения и являются превосходным источни-
ком комизма, они могут легко уживаться со всеми
остальными качествами образцово благородного чело-
века. Берни — лентяй, развратник, придворный, и он
не скрывает этого; над этим можно посмеяться, и он
выставляет себя напоказ, находя в этом комическую
сторону, как то делает остроумный человек, уверенный,
что'репутация его при этом нисколько не пострадает.
Эта уверенность или полнейшая простосердечность обу-
словливает у Берни возможность для чистого, ничем
не запятнанного комизма. Он смотрит на свои недо-
статки, не думая о возможном порицании, с полней-
шей свободой художника. И само собой разумеется, что
в образах Берни отсутствует какая-либо глубина или
серьезность мотивов; затронута лишь внешняя обо-
лочка. В этом видна веселая и беспечная буржуазия,
у которой не было еще времени заглянуть в себя, кото-
рая вся вовне, скользит по поверхности. Эта поверх-
ностность и беспечность тоже комична и является не-
пременной частью образа. Поэтому комическая форма
1 См. цит. сонет Ласка: «О voi, ch'avete non gia rozzo о vile»,
yv. 3—4: «Придите все воздать хвалу нашему Берни, честному и
любезному».
611
редко поднимается до иронии и остается простой кари-
катурой, движением пылкого воображения; это ведь
характерно для всех итальянских юмористов, начиная
с Боккаччо. Там, где художественное воображение от-
сутствует, комическое не развивается и вместо него по-
является прозаическое и поэтому безобразное, что
свойственно всем писателям, сознательно стремящимся
к непристойности. Непристойное, неизбежный ингре-
диент той эпохи, проникает и в образы Берни; но не
в нем черпает он вдохновение, и не оно нам в нем нра-
вится. Его вдохновляют не непристойные наслаждения
или соблазны порока, но наслаждения воображения,
наслаждения художника, дающие себя чувствовать
в блеске и легкости стиля; стимулируя его мозг, они
помогают ему отыскать множество новых форм, обра-
зов, сопоставлений; примером тому является образ его
служанки или — подлинный шедевр — изображение его
семьи К Вот почему Берни намного превосходит своих
подражателей и соперников, холодно и балаганно не-
пристойных. Но балаганные непристойности становятся
необходимой принадлежностью банкетов, академий и
светских бесед, они наводняют литературу, являясь как
бы приправой и солью остроумия. Статуя Пасквино де-
лается эмблемой культуры. Прежде существовали ка-
питоли и сонеты: теперь возникают целые бернескные
поэмы, вроде «Жизни Мецената» Капорали, произведе-
ния, в своей натуралистичности нередко пошлого и
вульгарного, вроде его же «Путешествия на Парнас»,
вроде «Гигантеи» Арриги и «Нанеи» или «Нани, побе-
дители великанов» Граццини2. Из огромного числа
поэтов в стиле Берни теперь упоминают одного лишь
Капорали. Тем не менее бернескная лирика —един-
ственная живая лирика в XVI веке. Те же самые поэты
1 См. сонеты X и XI («Rime e lettere», pp. 164 и ел.).
2 Имена писателей и названия произведений см. у Канту (ор.
cit., p. 234). Вопрос об авторе «Gigantea» пока еще не решен;
в настоящее время поэма идет под именем Джироламо Амелонги,
«пизанского горбуна». «Nanea» принадлежит Микеланджело Сера-
фини, автору мадригалов и флорентийскому академику. То, что он
спутан с Граццини (Де Санктис написал и оставил в печатном
тексте «Grassini», как Канту loc. cit.), надо объяснить, по-видимому,
тем что у Граццини была сходная поэма «La guerra de' mostri»
(«Война чудовищ»), написанная, как и «Нанеа», по образцу «Ги*
гантеи».
512
нагоняют скуку, петраркизируя, и становятся легкими,
забавляясь. Их любовные вздохи, заимствованные из
устаревшего инвентаря метафор и фраз, уже не соответ-
ствуют реальному состоянию общества и его духу,
в этих же поэтических забавах — все от века и от них
самих; тут они не имеют еще ни готовых образцов,
ни условных форм и кое-что им все-таки приходится
придумывать самим.
Карнавальные песни, так же как риспетти, баллаты,
серенаты, были связаны с общественной жизнью, те-
перь круг жизни суживается. Литература обитает в
академиях и в частных собраниях. По площадям еще
бродят кантастории и еще звучат простонародные пес-
ни. Но культура отдаляется от них, вы обнаруживаете
ее при дворе, или в академии, или в светских общест-
вах, ставших центрами безмятежного и бездумного ве-
селья; там она в руках у людей образованных, знаю-
щих латынь и греческий, восхищающихся прекрасными
формами и стремящихся в своих забавах к элегантно-
сти, или, как выражались тогда, к хорошему стилю.
Там читаются капитоли, сонеты, бурлескные поэмы,
рыцарские поэмы и новеллы. Однако, когда искусство
является редким товаром, а литературная продукция
поставляется в огромном количестве, публика делается
менее строгой и готова развлекаться чем угодно, не за-
ботясь о тонкостях. В сущности эта беззаботная и
праздная буржуазия, облекавшая себя в столь изящ-
ные формы, была самым настоящим простонародьем.
Ею двигали те же грубые и неглубокие инстинкты —
любопытство, шутовство, чувственность, и,' когда эти ин-
стинкты получали удовлетворение, она принимала все—
даже посредственное, даже самое скверное, и это был
явный признак недалекого упадка.
10. Литература комическая или негативная разви-
вается очень бурно. Наряду с капитоли и романами
возрастает число новелл. Кантастории становится геро-
ем буржуазии. И перед всеми лежит одно и то же еван-
гелие— «Декамерон». Петраркизм был поэзией пере-
ходного периода; в этот век он уже столь же странный
анахронизм, как подражания Вергилию или Цицерону.
Но «Декамерон» еще несет на своих плечах всю эту ли-
тературу, он то зерно, из которого выросли Саккетти,
Пульчи, Лоренцо, Берни, Ариосто и все прочие.
513
Почти в каждом центре Италии свой дека ме-
рой1. Мазуччо читает свои новеллы в Салерно, Мольца
создает в Риме свой декамерон2, Ласка пишет «Тра-
пезы» во Флоренции, Джиральди «Экатоммити» (сто
сказаний) в Ферраре, Антонио Мариконда —«Три дня»
в Неаполе, Сабадино — «Порретанские новеллы» в Бо-
лонье, сорок новелл сочиняет миланец Ортензио Ландо,
Франческо Страпарола пишет в Венеции «Тринадцать
веселых ночей», Матео Банделло создает свой сборник
новелл, и семнадцать новелл публикует Парабоско.
В Риме издаются новеллы Кадамосто да Лоди и мон-
сеньера Бревио да Венеция. В Мантуе публикуются но-
веллы мантуанца Асканио де'Мори, а в Венеции выходят
в свет «Шесть дней и ночей» венецианца Себастьяна
Эриццо и двести новелл флорентинца Челио Малеспини.
Во Флоренции Джунти издают «Увеселения» Шипионе
Баргальи. Прибавьте к этому еще «Джульетту» Луид-
жи да Порто из Виченцы, а также приписываемую Спе-
рону Сперони «Элоквенцию».
Все эти писатели, от кватрочентиста Мазуччо до
Баргальи, относящегося уже отчасти к XVII веку, объ-
являют себя учениками и подражателями Боккаччо. Не-
которые из них усваивают его дух, другие — сюжеты и
манеру. Тосканцы, для которых Боккаччо свой, домаш-
ний, пишут с большей свободой; им свойственно изяще-
ство и благородство выражений, прикрывающее гру-
бость чувств и метафор; таковы Ласка и Фиренцуола
в своих новеллах, включенных впоследствие в «Беседы
животных», и в своем «Золотом осле». Другие дей-
ствуют более робко и оказываются тяжеловесными, как
Джиральди, Бревио, Баргальи, или же грешат не-
брежностью и неряшливостью стиля, как Парабоско,
1 Последующий список новеллистов в значительной части под-
сказан Канту (op. cit, pp. 201 и ел.); он соответствует также, как
это заметил еще Кортезе, сборнику новелл, изданному Джироламо
Дзанетти (Girolamo Zanetti, Del novelliero italiano, vol. 4,
Venezia 1754).
Этим сборником Де Санктис пользовался для цитат и брал
из него историко-биографические сведения.
2 Сведения о «декамероне» Мольца, помимо тех, что содер-
жатся в сборнике Дзанетти (vol. П, р. XVIII), были приведены
Серасси (Serassi, Vita del Molza, I, p. LXXXVIII). Четыре но-
веллы Мольца были напечатаны в Лукке в 1561 году, еще одна
опубликована в «Novelle di vari autori», Milano 1804.
514
Страпарола, Кадамосто. Язык их — это тот общий италь-
янский язык, которым уже пользуется образованный
класс в письменной, а иногда и в разговорной речи, при-
нявший искусственную, на манер латыни, форму, назы-
ваемую литературной, ислещренной неологизмами, вар-
варизмами, латинизмами, а также местными словечками
и словосочетаниями. Только у самых образованных пи-
сателей вроде Мольца он приближается к непринуж-
денности и сочности языка тосканцев.
Занимающий такое большое место в «Декамероне»
прекрасный мир куртуазии уходит из новеллы, переко-
чевывая в рыцарские поэмы. Исчезает также тот раз-
рыв между буржуазией и простонародьем, то сознание
культурного превосходства, проявлявшееся в карика-
турном изображении простонародья, то веселое высмеи-
вание монашеских и простонародных суеверий и пред-
рассудков, которое столь привлекает во флорентийских
новеллах и даже в «Ненче». Этот внутренний мир тоже
исчезает. Новелла берет все общество, с его пороками,
тенденциями, происшествиями, и не ставит перед собой
иной цели, кроме как развлечь собравшуюся компанию
забавными историями. Интерес в исключительной не-
обычности самого факта: в неожиданных поворотах
судьбы, в хитрых проделках, направленных на приоб-
ретение денег или на обладание возлюбленной, в зани-
мательных проявлениях порока и добродетели. В но-
велле фигурируют короли, князья, рыцари, доктора,
разбойники, мошенники — в ней изображаются все
классы и все характеры, комические и серьезные, а так-
же самые различные ситуации, от незатейливого анек-
дота до самой невероятной фантастики. Существуют ты-
сячи новелл; это богатейший арсенал, из которого чер-
пали Шекспир, Мольер и многие другие иностранные
писатели.
Большинство этих новелл — это только голые фабу-
лы, тощие, как скелеты, облеченные в жеманную и вме-
сте с тем в неотделанную форму. Главное — возбудить
любопытство читателя, воздействовать на него, исполь-
зуя его безнравственность, и вульгарность. Потому здесь,
с одной стороны, комическое, а с другой — фантастиче-
ское.
В сфере комического новеллисты, за исключением
тосканцев, которым помогает грация диалекта, обнару-
515
живают крайне скудное остроумие. Одной из лучше
всего построенных новелл является новелла Банделло
об обезьяне, которая напялила на себя платье умершей
старухи и напугала ее домашних, вообразивших, что
старуха воскресла. Факт сам по себе комичен, но изло-
жение сухо и поверхностно, комическое чувство и вос-
приятие еле-еле намечены К
Довольно остроумная по замыслу новелла имеется
у Страпаролы; в ней рассказывается о способе, с по-
мощью которого муж сделал свою жену послушной, и
о том, как глупо подражал этому способу его брат; но-
велла эта подсказала Мольеру «Школу мужей»2. Но
остроумен в новелле только замысел, да и то не очень:
столь тривиально и неискусно она изложена. Хороша
по идее новелла Ландо о крестьянине, давшем урок
астрологу, но она бедна комическими находками и поло-
жениями3. Тем не менее Ландо — писатель живой и гиб-
кий, описания у него удачны и живописны. Крестьянин
предсказывает дождь; но астролог видит, что небо ясное:
«Задрав голову вверх, он оглядел все вокруг и,
тщательно осмотрев все, увидел, что небо совер-
шенно чистое, солнце печет, горы не в облаках; по-
том, обратив внимание на то, что с юга веет прият-
ный ветерок, начал тщательно определять, в каком
знаке находится солнце и в каком градусе, что на-
ходится посреди неба и в каком знаке находится
сторона противоположная. Не будучи в состоянии
никаким способом узнать, что дождь пойдет, он по-
вернулся к крестьянину и сказал ему зло и презри-
тельно:— Бог и Природа могли бы заставить пойти
дождь, но одна Природа сделать этого не смо-
гла бы».
1 См. В a n d е 11 о, Novelle, III, 65; приводится у Дзанетти, ed.
cit., vol. Ill, pp. 307 и ел. Столь же суровое суждение о новеллисти-
ке Чинквеченто и в юношеских лекциях о литературных жанрах:
«Во всех новеллах Ласка, Банделло и многих, многих других нет и
тени чувства; все они были бы забыты, не будь они памятниками
языка» («Teoria e storia», cit., I, p. 269, и «Purismo illuminismo stori-
cismo», cit., II). О Ласка, однако, см. следующие страницы.
2 Новелла Страпаролы в «Piacevoli notti», VIII, 2, опубликована
Дзанетти (vol. cit., p. 205). Дзанетти тоже указывает на Мольера
(р. 479, nota 3).
3 Ортензио Ландо, пятая новелла, у Дзанетти, vol. cit., pp. 171
и ел. Два приводимых дальше охрывка — там же, pp. 172—173.
516
Через некоторое время дождь хлынул как из ведра,
и Ландо так описывает причиненные им разрушения:
«Рушились башни, с корнем вырывались дубы,
валились прекраснейшие дворцы, сотрясались бе-
рега Адиджи, казалось, что небо упало на землю и
что вся мировая машина вот-вот разлетится на
куски».
Вся новелла написана такой же непринужденной про-
зой и читается с удовольствием, но чувство комизма в
ней отсутствует; ей недостает поэтичности языка и мест-
ного колорита.
У Ласка перед Ландо имеется огромное преимуще-
ство. Его дает Ласка не ос?роумие, культура или искус-
ство, а язык, ибо он пользуется тосканским диалектом,
богатым острыми, солеными словечками, комическими
выражениями и прибаутками, орудием, отделанным и
доведенным до совершенства тосканскими писателями
от Боккаччо до Берни. Обычной темой Ласка является
простоватость людей «глупых и неотесанных» 1, над ко-
торой потешаются мошенники и ловкие негодяи. Это но-
велла в контурах, приданных ею Боккаччо. Каландрино
Боккаччо у Ласка — это Джан Симоне или Гуаспарри,
высмеиваемые и одурачиваемые мошенниками, которые
пользуются их доверчивостью2. Боккаччо выводит на
сцену священников и монахов, Ласка — астрологов, при-
давая религиозным предрассудкам меньше значения,
чем народным верованиям в «чудовищ, колдуний и
ведьм», в духов и дьяволов. В наши дни существуют
люди, занимающиеся спиритизмом и магнетизмом; тогда
существовали маги и астрологи. Они тоже претендовали
на знание будущего и умение излечивать больных, на
знание чужих дел и умение йызывать мертвых или лиц
отсутствующих. Это был такой же неисчерпаемый источ-
ник смешного, как и «чудеса», совершаемые монахами.
Если Боккаччо высмеивает сверхъестественный мир ре-
лигии, то Ласка потешается над сверхъестественным
миром науки. Фантастика еще царила во всей Италии;
но во Флоренции ее убила ирония Боккаччо, Саккетти,
1 Выражение Боккаччо («Декамерон», I, 1), см. гл. IX.
2 «Gene», II, новеллы четвертая и шестая. Из четвертой но-
веллы взяты приводимые ниже отрывки (у Дзанетти, op. cit^
pp. 79 и ел.).
517
Лоренцо и Пульчй, и не плаксам было дано воскресить
ее. Наш Ласка не обладает ни остроумием, ни тонкостью
Боккаччо; он не владеет иронией и груб в своих карика-
турах; однако он легок, исполнен непринужденной весе-
лости, ясен и находит в диалекте прекрасные готовые
комические образы и формы, даже не утруждая себя их
отыскиванием. Вот, например, превосходное изображе-
ние астролога Зороастро:
«Это был человек лет тридцати шести — сорока,
высокий и стройный, с лицом оливкового цвета, на
вид суровым и грозным, с черной лохматой боро-
дой, доходившей ему до груди, выглядевший весьма
странно и фантастически; он предался алхимии,
ушел в ней далеко и занялся колдовскими штуч-
ками; у него были печати, буквочки, амулеты, тали-
сманы, всякого рода колбы, реторты и горны, дабы
перегонять траву, землю, металлы, камни и дере-
вяшки; кроме* того, имелись у него клочки перга-
мента, глаза рыси, слюна бешеной собаки, хребет
летучей рыбы, кости мертвецов, веревки повешен-
ных, кинжалы и шпаги, которыми были совершены
убийства, ключ и нож Соломона, травы и семена,
посеянные под разными фазами луны и различным
расположением звезд, и еще множество всякой
дребедени, чтобы нагонять страх на дураков; зани-
мался он Астрологией, Физиогномикой, Хироман-
тией и тысячью других глупостей; очень верил в
ведьм, а еще больше в духов, но при всем том ни-
когда не мог сделать ничего такого, что нарушило
бы обычный порядок природы, хотя и рассказывал
о своих чудесах сотни историй и басен и уверял,
будто может научить им и других; не имея ни отца,
ни матери и обладая некоторым достатком, он
большую часть времени проводил в доме один, так
как не мог отыскать служанку или слугу, которые
решились бы жить вместе с ним, и радовался этому
чрезмерно; когда, поработав немного, он шел до-
мой с перепутанной, никогда не расчесываемой бо-
родой, вечно засаленный и грязный, простой народ
почитал его за великого философа и некроманта».
Бесконечный, удачно построенный период — словно
портрет человека во всем богатстве подробностей и де-
518
талей; и сказано о них теми своеобразными словечками,
которые можно найти в одном лишь флорентийском на-
речье. Существует выражение «таять от любви», и вот
Ласка преобразует это серьезное чувство в комическое,
используя средства диалекта: я заставлю ее «так влю-
биться в вас, что для нее не будет иного бога, она будет
чахнуть и таять по вас, как соль в воде, и побежит за
вами быстрее, чем ягнята за посоленным хлебом». Говоря
о пирушке, которую устроили на деньги наивного Джан
Симоне астролог и его товарищи по плутням Скеджа,
Пилукка и Монако *, Ласка пишет: «И они представили
прелатский счет за это искрящееся вино». Ласка многим
обязан диалекту, но он обладает также и индивидуаль-
ными, личными достоинствами, ставящими его рядом с
Берни,— живым и ясным восприятием действительности,
позволяющим ему рельефно ее изображать. Так с путе-
шествием Монако по воздуху, в которое Зороастро за-
ставляет поверить Симоне:
«Зороастро растянулся на земле и что-то про-
бормотал; потом встал и, перекувырнувшись два
раза, вошел в круг коленопреклоненных людей, вни-
мательно посмотрел в горшок и сказал: — Монако
наш уже получил остаток и направился с салатом
к Скорнячной улице, чтобы вернуться домой; но в
это мгновенье я приказал дьяволам невидимо под-
нять его над землей. О, вот он уже над дворцом
епископа. О, дело у него пошло хорошо, он уже
над пьяцца ди Мадонна. О, теперь он над старой
Санта Мария Новелла, скоро он войдет в Гваль-
фонду. Вот он уже на полпути. До него не больше
пятидесяти локтей. Вот, вот он уже у самого окна.
Сейчас он окажется в кругу в туфлях, в плаще,
в капюшоне, с салатом и редиской в руках. И сразу
же вслед за этим, испустив пронзительный крик, он
принялся- вопить что есть мочи»2.
1 Собственно: щепка, обирало и монах.
2 Текст приведен с той же лакуной, что и в сборнике Дзанетти
(loc. cit.). Последняя фраза отрывка звучит так: «Сейчас он ока-
жется в кругу. — Услышав эти слова, Монако, стоявший за дверью,
распахнул окно и вскочил в круг в туфлях, в плаще, в капюшоне,
с салатом и редиской в руках. И сразу же вслед за этим, испустив
пронзительный крик, он принялся вопить что есть мочи».
519
Наш аптекарь, ибо тот, кого в Академии мокрых зва-
ли Ласка, был аптекарь Антон Мариа Граццини \ изо-
бражает так выпукло все потому, что он ясно видит опи-
сываемое в своем воображении. Он не бьется над формой
и не прибегает ни к каким ухищрениям, он пишет, как
говорит. Не менее ясен и разговорен он в диалоге. Си-
моне, когда у него прошел страх и он разделался с
плотской любовью, не желает уплатить астрологу обе-
щанные двадцать пять флоринов. Он говорит Скеджа:
«— Клянусь тебе моей верой, что из меня вышла
вся плотская любовь и до вдовы мне нет теперь ни-
какого дела. О, какой на меня напал вдруг страх!
Волосы дыбом поднимаются, как только вспоми-
наю об этом. Так что поблагодари Зороастро и
скажи, что он свободен. — Скеджа, услышав такие
его слова, весь съежился и, прикинувшись весьма
обиженным, сказал: — Ну что это вы мне говорите,
Джан Симоне? Смотрите, как бы некромант не рас-
сердился. Что за дьявол внушил вам подобные
мысли? Неладное вы задумали. Сильно я опаса-
юсь, как бы Зороастро, узнав об этом, не рассвире-
пел, оказавшись в дураках, и не выкинул бы с
вами какой-нибудь страшной шутки. Нечего ска-
зать, хорошенькое дельце — не сдержать слова!
Порядочные люди так не поступают. А потом не
следует, Джан Симоне, приводить его в ярость.
Хорош у вас будет вид, когда он превратит вас
в какую-нибудь скотину. — Лицо у того от страха
стало, как белая тряпка, и он сказал в ответ на
слова Скеджа: — Клянусь кровью всех дьяволов,
завтра же с утра пойду к Восьми и расскажу им
обо всем; а потом, будь я неладен, что меня удер-
живает, чтобы не отправиться к ним теперь же.—
Как только Скеджа услышал о Восьми, он тоже
переменился в лице и сказал себе: «Теперь надо
держать ухо востро; сделаем так, чтобы дьявол не
сорвался с цепи»; затем, обратившись к нему, он
начал говорить с ним ласково и сказал; — Теперь,
Джан Симоне, вы пошли по неверной дорожке;
если Зороастро узнает о том, что вы сказали, я не
1 Так же и у Дзанетти (loc. cit.)i надо: «Антон Франческо
Граццини».
529
Рафаэль Санто, Афинская школа—деталь, Гераклит
захотел бы и за тысячу золотых флоринов оказать-
ся в вашей шкуре. Или вы не знаете, что коллегия
Восьми имеет власть лишь над людьми, а не над
демонами? У него тысячи способов погубить вас,
когда ему заблагорассудится, и так, что никто об
этом и не узнает».
В чем недостаток Ласка? Он «действовал дрожащею
рукой» х. Праздный, беспечный, чудаковатый, веселый и
гибкий Ласка обладал задатками большого комического
писателя; но ему недоставало культуры и серьезного от-
ношения к искусству, он писал как придется, недоделы-
вал написанное и оставался поверхностным; всегда жи-
вой и естественный, он нередко оказывался пошлым,
грубым и небрежным, особенно в композиции и в общем
рисунке новеллы.
Это низко комическое, простонародное и буффонное,
в границах простой карикатуры, а потому поверхностное
и внешнее, являющееся портретом образованной бур-
жуазии, обладающей остроумием и вместе с тем легко-
мысленной и беззаботной, имеет тот же источник, из ко-
торого вышел «Моргайте», а затем капитоли и сонеты
Берни, это—«бернеск» в искусстве, буффонада, облаго-
роженная грацией стиля и поднявшаяся до карикатуры,
манера, последовательно разрабатываемая писателями
от Боккаччо до Ласка, проникшая в диалект и ставшая
формой тосканской литературы. В других частях Италии
буффонада лишена грации, нередко чрезмерно утриро-
вана и далека от той естественной и непринужденной
веселости, которая ощущается у Берни и Ласка2. Один
из самых бездарных здесь — Парабоско.
Комическое сочетается с фантастическим. Вместо того
чтобы присматриваться к действительности, изучать ха-
рактеры, нравы, чувства, новеллист стремится к такому
соединению событий, которое вызывало бы любопытство.
1 «Рай», XIII, 77—78: «...проявлял уменье, но действовал дрожа-
щею рукой». В связи с последующей оценкой Ласка см. у Сеттем-
брини («Lezioni», cit., II, p. 131): «Кажется, что видишь, как этот
чудак сидит в лавке и рассказывает бесконечные истории, приклю-
чившиеся в городе и в деревне... Он пишет их так, словно рассказы-
вает их на своем приятном и красочном диалекте».
2 В рукописи следовало вычеркнутое: «и порой у Капорали».
§4 Де Санктие §21
Встав на этот путь, новелла идет от нового к необычному
и от необычного к фантастическому, к сверхъестествен-
ному, к нелепому. Скептическая буржуазия, смеявшаяся
над чудесами, потешавшаяся над сверхъестественным
в религии и не желавшая слышать о мистериях и леген-
дах, считая их варварскими формами, слушает теперь
разинув рот о волшебницах, магах, говорящих живот-
ных, которые дразнят ее любопытство. Мариконда с
риторической серьезностью рассказывает об Арахне,
о Пираме и Тисбе и другие мифологические сказки К И
с тою же серьезностью Франческо Страпарола собирает
в своих «Ночах» самые невероятные выдумки того вре-
мени, грабя при этом всех новеллистов — Апулея, Бревио
и больше всего неаполитанца Джироламо Морлини, ав-
тора восьмидесяти новелл на латинском языке2. В них
фантастическое доведено до крайней нелепости. Вы ви-
дите кольцо, которое превращается в прекрасного юношу,
заколдованных рыб, лошадей, соколов, змей и кошек,
совершающих чудеса, сатиров, людей одичавших или
обращенных в свиней, воскресших мертвецов, беседую-
щих ослов и львов, волшебниц, некромантов и астроло-
гов3. Те рассказы, которые Страпарола именует «сказ-
ками», сочетаются в «Веселых ночах» с фацетиями, с
рассказами непристойными, или, по его словам, «сме-
хотворными», в которых повествуется о злых шутках над
людьми простыми и грубыми, или, как он выражается,
«материальными». Предлог к написанию новеллы —
вульгарная мораль fabula docet, но на самом деле автор
просто хочет сделать свои «Ночи» приятными, возбу-
ждая смех и дразня любопытство. Он не претендует на
1 Все они помещены у Дзанетти (vol. HI); «Aracne e Minerva»
(Giornata, I, 10), p. 125; «Piramo e Tisbe» (II, 10), p. 134; ibid.,
pp. 145 и ел. Еще одна новелла на мифологический сюжет «Cefalo
е Procri» (III, 10).
2 О новеллах Страпаролы см. Канту (op. cit., p. 202): «Восьмью-
десятью пошло-непристойными латинскими новеллами неаполитанца
Джироламо Морлини воспользовался Джан Франческо Страпарола
(sic) ди Караваджо, который разделил их на ночи, переполненные
фантастическими и невероятными историями». На самом деле Мор-
лини написано по-латыни не восемьдесят, а восемьдесят одна но-
велла. Ошибка порождена первым изданием (Неаполь, 1520), в ко-
тором под одним и тем же номером 72 помещены две новеллы.
8 «Piacevoli notti», IV, 3; XI, 1; II, 1; X, 2.
№
литературность, разве только в своих описаниях, в кото-
рых неуклюже подражает Боккаччо; он сам называет
свой стиль «низким» и «простецким» и говорит, что ему
принадлежат не сюжеты, а лишь способ их пересказа К
Вы не найдете у Страпаролы стилистической тонкости,
изощренности, вычурности; он пишет попросту и наспех,
на общеитальянском языке, по форме более близком к
латинскому, чем к тосканскому, пересыпанном венециан-
скими, бергамскими и даже французскими словами, как,
например, follare (fouler) в значении «топтать». Страпа-
рола не задерживается на описаниях и на деталях, не
заботится о красках и оттенках, он идет прямо к цели,
думая больше о сюжете, чем о его изложении. И сю-
жеты, не важно, его они или чужие, нередко оказы-
ваются у Страпаролы весьма оригинальными. Таковы
рассказы о португальском студенте Нерино, поведавшем
о своей любви профессору Брунелло, не зная, что тот
является мужем его милой (Мольер почерпнул отсюда
замысел «Школы жен») 2, об осле, который, расхвастав-
шись, одурачил льва; о бергамцах, ловко проведших
флорентийских докторов; о мести студента посмеяв-
шимся над ним дамам; о Фламинио, отправившемся на
поиски Смерти; о женитьбе дьявола.
Новеллы Страпаролы имели огромный успех; в тече-
ние непродолжительного времени книга была издана
свыше двадцати раз; многие сказки из нее помнят по
1 См. письмо Страпаролы к первому изданию его новелл «Orfeo
dalla carta alle piacevoli ed amorose donne», Venezia II gennaio 1550.
Письмо перефразировано Дзанетти (vol. cit., p. XIV): «Он про-
сит не обращать внимания на низкий и простецкий стиль автора,
потому что тот писал новеллы не как хотел, а как услышал их от
тех дам, которые их рассказывали...» Впрочем, автор именует свои
новеллы «приятными Сказками» и в одном из упомянутых писем
признается, что они принадлежат не ему. Эпитет «смехотворные»
см. «Notti», VI, 2.
2 Говоря о зависимости комедии Мольера от новеллы о сту-
денте Нерино («Notti», IV, 4), тот же Дзанетти приводит слова ав-
тора предисловия к парижскому изданию сочинений Мольера (1739):
«Комедия взята из книги синьора Страпаролы, озаглавленной «Весе-
лые ночи»; в одной из содержащихся в ней историй молодой чело-
век ежедневно "рассказывает своему другу о том, сколь благо-
склонна к нему возлюбленная, не подозревая, что тот является его
соперником; это составляет сюжет и прелесть «Школы жен» (vol.
cit., pp. XIV—XV). Упоминаемые далее новеллы см. «Веселые ночи»,
X, 2; IX, 5; II, 2; IV, 5; II, 4>
34*
523
сей день. Непристойное, смешное, фантастическое было
тем, чем питалась эта эпоха. Кроме того, несовершенная
и небрежная форма без излишних украшений и заклю-
чавшаяся прежде всего в живости рассказа, делала кни-
гу Страпаролы более легким чтением, чем скучные и
вычурные по форме «Экатоммити» Джиральди, новеллы
Эриццо и Баргальи. Однако успех ее был непродолжи-
тельным. «Филениа» Франко тоже приравнивалась к
«Декамерону», но была тут же забыта 1. Страпароле не-
достает творческого пыла, он оказывается прозаическим
и материальным, даже изображая самые комические и
самые рискованные по своей непристойности положения,
даже рассказывая о таких занятных фантастических
происшествиях, как воскрешение убитых персонажей.
Он повествует о чуде с таким равнодушием, словно рас-
сказывает о самых повседневных явлениях. Страпарола
напоминает мне человека, которого долгая привычка
сделала тупым и черствым, у которого нет страстей, а
есть только пороки. Кто желает убедиться в этом, пусть
сравнит его «Женитьбу дьявола» с написанным на сход-
ный сюжет «Бельфагором» Макиавелли, и его мститель-
ного студента со знаменитым школяром Боккаччо2. Он
увидит, что Страпароле недостает не столько комиче-
ского таланта, сколько искусства формы. Но что в том?
Страпарола стремился всего лишь раздразнить чувст-
венность и любопытство, и кто довольствуется этим,
тому он нравится. Чтобы лучше достичь этой цели, Стра-
парола присоединял к рассказу «энигму», загадку в сти-
хах, внешне неприличную, но разгадка которой оказы-
вается совсем не такой, как это можно было предполо-
жить на первый взгляд. Так ныне праздные умы от
скуки составляют или отгадывают шарады и ребусы.
Фантастическое не менее питало праздные умы, чем
1 О «Filena» Франко, любовной истории, написанной по образцу
«Фьямметты», и о ее судьбе см.: A. Albertazzi, Romanzieri e го-
manzi nel Cinquecento e nel Seicento, Bologna 1891, pp. 33—46.
Возможно, что Де Санктис почерпнул сведения у Канту (op. cit.,
р. 202): «В какой-то момент «Филена» Никколо Франко была по-
ставлена выше «Декамерона», но потом забыта».
2 Обе упомянутые новеллы см. «Piacevoli notti», II, 4 и 2.
О новелле Боккаччо («Декамерон», VIII, 7) см. в гл. IX; о «Bel-
fagor» см. в гл. XV т. 2,
524
энигма или бесчисленные рыцарские поэмы. Искус-
ство сделалось ремеслом; лишь бы говорить о новых
и необычайных происшествиях, ни к чему иному даже и
не стремились.
Однако воскрешать фантастику в среде чувственной
и скептической буржуазии было занятием бесполезным.
В старых легендах чудо ощущается, есть чудесное и в
старых рыцарских романах; теперь же отсутствуют
наивность и простота, искусство уже не может изобра-
жать фантастическое без иронической усмешки, не
подсмеиваясь над ним. Поэтому единственная новелла,
которую можно назвать произведением искусства,—
новелла о Бельфагоре, дьяволе с макиавеллической
улыбкой.
А что живого в вульгарном и буржуазном дья-
воле Страпаролы или в его Теодозии, этой трактир-
ной легенде? 1
Если не была возможна реставрация фантастиче-
ского, то как можно было реставрировать трагическое?
Тем не менее имелись и трагические новеллы, написан-
ные в интонациях «Декамерона» и даже «Фьямметты».
Некоторые из них могут считаться образцами ритори-
ки. В них бездна воображения и ни капли чувства.
Каждый может представить, сколь много героического,
страстного и благородного было при всех этих дворах
и во всех этих академиях. Кто жаждет примеров рито-
рики, пусть заглянет в «Джульетту» Луиджи да Порто
или почитает у Банделло монологи Аделазии и Але-
рамо и у Эриццо жалобы короля Альфонса над моги-
лой Джиневры2. Древних римлян возбуждал вид кро-
ви; чтобы расшевелить эту сонную и скучающую бур-
жуазию, требовалось самое жестокое и вульгарное.
Дочь принца Танкредау Боккаччо — существо благород-
ное, вульгарные чудовища — Розимонда Банделло или
Орбекке Джиральди. Тем не менее из-за холодной ис-
кусственности формы они не наполняют вас ужасом, не
1 Имеются^ в виду две только что упомянутые новеллы.
2 Новелла* да Порто, опубликованная первый раз без имени
автора (1531), а затем неоднократно переиздававшаяся, была снова
опубликована в «Lettere storiche di Luigi Da Porto», Firenze 1857.
Новеллы Банделло и Себастьяно Эриццо см. «Novelle», соответ. 11,
27 и «Sei giornate», XXXIV. Приведены в числе прочих у Дзанетти.
525
потрясают вас и не волнуют1. Из писателей элегантных
элегантнейшим является Баргальи, использующий бла-
городные и торжественные формы даже там, где в основе
смешное; пример тому его «Лавинелла», комическая си-
туация в форме серьезной и даже ораторской2.
Живым в этой литературе остается не фантастичен
ское и не трагическое, а комическое, нередко непри-
стойное, низкопробное и поверхностное, не идущее даль-
ше карикатуры и чаще всего заключенное в самом
факте, а не в красках. Иной раз встречается намек на
мир более благородный, особенно у Эриццо и у Бан-
делло, как, например, в новелле последнего о королеве
Анне3, но в целом, подобно тому как при самых циви-
лизованных дворах величественными, привлекательными
формами прикрыты грубость и разврат, неприличное
и плебейское содержание новелл находится в гротеск-
ном контрасте с торжественным и благородным стилем,
бывшим для нее чем-то чисто искусственным и механи-
ческим. Комическое истощилось от повторений и стало
прозаическим и бесстыдным. Капитоло умирает с Берни,
с Ласка умирает новелла.
Это как бы загнивание Декамерона. Недостаток ка-
питоло в том, что капитоло стремится более к абстракт-
ным сочетаниям остроумных мыслей и образов, чем к
живому изображению действительности. Это тот же не-
достаток, что и у петраркизма: Франческо Берни был
Петраркой для капитоло, а его подражатели — как бы
петраркистами; в погоне за необычными сочетаниями и
соответствиями они приходят к холодности и изощрен-
ности. Недостатком новеллы является прозаическая
чувственность и пустая занимательность: то и другое в
ней лишено идеалов и красок и часто облекается в пе-
дантичную и вымученную форму. Кроме того, у капитоло
и у новеллы имеется общий недостаток — поверхност-
ность, скольжение по внешним покровам действитель-
ности, без проникновения вглубь, словно мир — это не
человек и природа, а ряд случайных явлений. Так как
1 Розимонда Банделло («NoveHe», III, 18); новелла об
Орбекке («Ecatommiti», II, 2), у Дзанетти, vol. cit.fpp. 299 и ел. и 19 и
ел. Новелла Боккаччо в «Декамероне», VI, 1; о ней см. выше.
2 Scipione Bargagli, Novelle, V, ed. Zanetfi, cit., vol. IV,
pp. 250 и ел.
3 «Novelle», I, 45; в изд. Дзанетти,- cit., vol. Ill, p. 225 и ел.
526
все не больше чем игра воображения, не затрагиваю-
щая ни ума, ни сердца, комическая форма, в которой эта
игра осуществляется, оказывается карикатурой, выродив-
шейся до прямой буффонады. Остроумие превращает
в пустую игру даже ту игру воображения, которая
носила очень серьезный характер у Боккаччо, Сак-
кетти, Великолепного, у Полициано, Пульчи, Берни,
Ласка; в «Неистовом Орландо» оно стало органическим
миром искусства и низводит Ариостову иронию до от-
кровенной буффонады, оглушительно осмеивая все бо-
жества воображения, и древние и новые. Новому искус-
ству, вышедшему из религиозного и политического раз-
ложения средневековья и оказавшемуся в пустоте,
влюбившемуся в самого себя, как Нарцисс, было су-
ждено погибнуть от руки монаха-расстриги Теофило
Фоленго: оно умерло, смеясь надо всем и над самим
собой. «Макаронеа» Фоленго завершает собой негатив-
ный и комический цикл итальянского искусства К
11. Однако имелась также и позитивная сторона.
В то время как всякое содержание обращалось в игру,
а искусство, изгнанное даже из царства воображения,
обнаруживало пустоту формы, итальянский ум выра-
батывал новое содержание, которое проникало в созна-
ние и восстанавливало в нем внутренний мир, возро-
ждало веру уже не религиозную, а научную, ища своей
опоры не в мире сверхъестественного и сверхчеловече-
ского, но в самом человеке и в природе. Помпонаццо,
отрицая существование универсалий, отвергая чудеса,
провозглашая смертность души и разрывая все связи
между землей и небом, закладывал основы науки о че-
ловеке и природе. Платоники и сторонники Аристотеля,
идя различными путями, провозглашали автономность
науки, ее независимость от теологии и догмы. Церковь
давала свободно развиваться фривольной и непристой-
ной литературе, она не чинила препятствий распущен-
ности, такой, как при дворе Льва X; но она не могла
смотреть без тревоги на пробуждение умственной жиз-
ни в школах. Житейский материализм и религиозный
индифферентизм были явлениями стародавними. Цер-
ковь страшил материализм, поднявшийся до учения, и
индифферентизм, превратившийся в открытое отрицание,
О «Бальдусе» и макаронической поэзии см. т, 2, гл. XIV.
§27
лицемерно разграничивший идеи на истинные, осно-
ванные на вере, и ложные, основанные на науке.
О тревоге церкви свидетельствует латеранский собор.
Лев X объявил подобное разграничение ересью, запре-
тил изучение Аристотеля и приказал подвергать книги
церковной цензуре1. Но во имя чего? Материализм был
лозунгом века. Сам Лев X был материалист, точно так
же как при всем своем платонизме материалистом был
и Лоренцо. Материалистами были Пульчи, Берни, Лас-
ка, хотя они и остерегались в этом признаваться. Дру-
гие же откровенно выражают свой воззрения, как, на-
пример, Ладзаро Бонамико2, Джулио Чезаре Скалигер,
Симоне Порцио, Андреа Чезальпино, Сперон Сперони
и профессор Кремонино да Ченто, который приказал
высечь на своей могиле «Hie jacet Cremoninus totus»
(«Здесь Кремоний покоится весь»)3. В то время студен-
ты, если они знакомились с новым профессором и видели,
что тот уходит от прямых заявлений, сразу же его
спрашивали: «А что вы думаете о душе?»
Когда появился материализм, общество было уже
материалистическим в своих тенденциях. Материализм
был не началом, а результатом. До этого догма всегда
была основой философии и ее видом на жительство.
1 Сведения и цитаты на этой и последующих страницах взяты
у Канту (op. cit., pp. 272—282). Однако, очерчивая идейное движе-
ние XVI века, Де Санктис мог также пользоваться работой Ф. Фио-
рентино (F. F i о г е n t i n о, Pietro Pomponazzi, studi storici su
la scuola bolognese e padovana, Firenze 1868).
2 Здесь опущено, как это делал Кроче и последующие изда-
тели, имя «Симоне Порта», дублируемое именем Симоне Порцио,
неаполитанского философа и натуралиста, который упомянут не-
сколько далее. Ошибка восходит к Канту (op. cit., p. 281). О Порта,
или Порциа (Неаполь, 1496—1554), авторе «De mente» см. Flo-
rentine op. cit., pp. 270—286.
3 См. Канту (l°c' ctt-)' «Когда Пий IV сказал Сперону Спе-
рони: «В Риме ходит слух, будто вы слабы в вере», — тот ответил:
«Значит, я кое-что выгадал, вернувшись из Падуи: там говорили,
что я вовсе не верю»; перед смертью он воскликнул: «Через пол-
часа я выясню, смертна ли душа или бессмертна». Чезаре Кремо-
нино да Ченто, профессор в Ферраре и в Падуе, решительно и анти-
философски оборвал связь между верой и философией, сказав:
«Intus ut libet, foris ut moris» («Про себя — что хочешь, а на лю-
дях — как принято»); он умер восьмидесяти лет от чумы и хотел,
чтобы даже его могила (во всяком случае, так говорят) протесто-
вала против бессмертия своей эпитафией — «Hie jacet Cremoninus
totus» («Здесь Кремоний покоится весь»).
528
Подразумевалось, что разум не может противоречить
вере, а когда противоречие обнаруживалось, искали
компромисса и примирения. Так в течение длительного
времени уживались вместе Христос и Платон, бог и
Юпитер: вся культура была заключена в искусстве и
в мысли, и никто не думал, насколько логично, орга-
нично и благоверно подобное соединение. Во имя куль-
туры паганизировались самые святые католические
формы. Это делали в своих религиозных поэмах Санад-
заро и Вида. Паганизировал даже св. Петр, и Лев X
тоже паганизировал. Все это было искусство, культура;
культура не только не встречала препон, напротив, она
всячески поддерживалась и поощрялась, выступить про-
тив нее значило бы заклеймить себя как варвара и
невежду. Терпели даже Пасквино, то есть ту всеобщую
буффонаду, за которую более всего расплачивались
священники, монахи, епископы и кардиналы1.
В условиях столь широкого разложения, особенно
среди духовенства, самое время было сказать: «peti-
musque, damusque vicissim» («рука руку моет») 2. Все
смеялись, и прежде всех высмеиваемые. О религии не
говорили; когда это требовалось, с ней как бы вежли-
во раскланивались, по привычке соблюдали форму, но
не придавали этому никакого значения. Под обличием
равнодушия скрывалось отрицание. В столь беспре-
дельной пустоте не устояло ничего, кроме культуры
для культуры и искусства для искусства. Но именно
отрицание возникало в искусстве под комической фор-
мой и формировало его содержание. Чем было это ис-
кусство? Выражением итальянского духа. Созерцанием
совершенной формы при полном безразличии к содер-
жанию или при его отрицании. В искусстве общество
любовалось самим собой. Но это было легкомыслен-
ное и академическое общество, которое еще не загля-
нуло в глубь себя и не разобралось в своем сознании.
А когда оно впервые посмотрело себе в душу и спро-
сило: «Что же я такое? Откуда я вышло? Куда я
иду?» — ответ мог быть только один: «Я плоть: из земли
1 В рукописи далее вычеркнуто: «люди тоже образованные и
народ остроумный, умевшие первыми смеяться над подобными шут-
ками».
2 Гораций, Искусство поэзии, 11.
529
й вышла и б землю вернусь, к alma parens, к великой
древней родительнице» К Такой ответ сперва привел
всех в ужас: он казался открытием и вызвал опреде-
ленные последствия. Он овладевает университетами и
навлекает на себя молнии Собора. «Тише!» — призы-
вает довольная и бездумная буржуазия, не желающая,
чтобы тревожили ее глубокий сон. И все остается по-
прежнему. «Intus ut libet, foris ut moris», говорит Kpe-
моний, то есть верьте, как хотите, но говорите, как
принято. Смелые высказывания Баллы и Помпонаццо
затерялись в шуме вакханалий. Имелись реальные ве-
щи, но требовались слова. Материализм был во всем —
в жизни, в литературе, во взглядах на мораль, на по-
литику, на человека и на природу. Но материализм не
назывался материализмом. Он именовался образовани-
ем, искусством, эрудицией, культурой, красотой, изя-
ществом. Объясняется это иногда лицемерием, иногда
недопониманием. Все жили весело и в полном согласии,
а когда разливалась желчь, ее было куда излить, обру-
гав священников или даже папу; все предавались плот-
ским наслаждениям, а затем шли к мессе, крестились и
негодовали на еретиков, особенно на этих господ люте-
ран, которые со своей теологической нудой грозили
миру новым варварством. Принимать всерьез теоло-
гию! Для наших литераторов это значило вернуться
вспять на два столетия.
12. Как раз в это время Лютер, напуганный, как и
Савонарола, видом столь глубоко развращенной Ита-
лии, провозгласил Реформацию и подарил миру очи-
щенную и подправленную теологию. Если в глазах пап-
ства Лютер был еретиком, то итальянской буржуазии
он, как и Савонарола, казался варваром. Действитель-
но, его теология находилась в разительном противоре-
чии со. всей итальянской культурой. Теология Лютера
основывалась на возрождении духовной цельности й
безразличия к формам, иными словами, она отрицала
то единственное божество, которое еще жило в италь-
янском сознании,—культ формы и искусства. Религиоз-
ная реформа не была возможна в этой стране высоко-
1 См. у Вергилия («magna parens», Georg., II, 173) и у Пет-
рарки («Trionfo della Morte», I, 88—89):
Слепцы, к чему так мучиться? К своей
Великой древней матери вернитесь..,
530
развитой культуры, где давно уже привыкли насмехаться
над той развращенностью, что вызывала негодование
в Германии, и итальянская мысль уже вычеркнула
небо из книги бытия. Италия уже миновала теоло-
гическую эру, она верила теперь только в науку,
Лютер и Кальвин должны были казаться ей новыми
схоластами. Поэтому Реформация не смогла привиться
у нас и осталась чуждой нашей культуре, развивав-
шейся своими путями. Уже освободившись от теоло-
гии и охватив в едином объятии все религии и всю
культуру, Италия Пико и Помпонаццо утвердилась на
руинах средневековья и не могла строить фундамент
нового здания на теологии; им могла стать только
наука. И Лютером Италии стал Николо Макиа-
велли К
13. Макиавелли — это сознание и мысль века, обще-
ство, которое рассматривает себя, задает себе вопросы
и себя познает; это самое глубокое отрицание средне-
вековья и вместе с тем самое ясное утверждение но-
вого времени; это материализм, скрываемый как уче-
ние и признанный на практике, приложенный ко всем
явлениям жизни.
Не следует забывать о том, что новая итальянская
культура является реакцией против мистицизма и край-
него религиозного спиритуализма, или, говоря более
конкретно, против аскетизма, символизма, схоластики,
против всего того, что именуется средневековьем. Реак-
ция эта предстает, с одной стороны, как разложение и
отрицание: отсюда берет начало элемент комический
или негативный, идущий от «Декамерона» до «Мака-
ронеа». Но вместе с тем в ней имеется и позитивная
сторона. Она состоит в тенденции рассматривать чело-
века и природу в их самостности, отсекая от жизни все
элементы сверхчеловеческие и сверхъестественные. Это
натурализм, мощно поддерживаемый культом класси-
ков и прогрессом разума и культуры. Отсюда происте-
кает то идеальное спокойствие человеческого облика,
то изучение реального и пластического, та тонкость
i О значении такого сближения и вообще о десанктисовском
понимании Возрождения и Реформации см. статью Д. Кантимори
(D. С а п t i m о г i, De S. e il Rinascimento), напечатанную в «So-
cieta», a. IX n. 1—2, 1953.
•531
контуров, то идиллическое чувство природы и человека,
которые открывают новые пути перед пространствен-
ными искусствами и ощущаются в образах Альберти, в
«Стансах», в «Неистовом Орландо» и даже в шутках
Берни. В этом позитивная сторона итальянского мате-
риализма. Она — в максимальном приближении к ре-
альному и к опыту, в отбрасывании всех теологических
и схоластических туманностей, рассматриваемых как
абстракции. Мыслью, или сознанием, этого нового
мира — и в том, что он отрицает, и в том, что он ут-
верждает,— является Макиавелли.
Идея Макиавелли состоит в следующем: вещи надо
рассматривать в их «настоящей» правде, то есть таки-
ми, какими их дает опыт и какими их видит разум.
Силлогизм был буквально поставлен с головы на ноги,
и основная доктрина средневековья оказалась опроки-
нута. Эта идея была совсем по-иному революционной,
чем возвращение к чистому духу Реформации. Именно
она станет тем рычагом, который подвинет современ-
ную науку.
Примененная к человеку, идея эта дает вам «Кня-
зя», «Рассуждения», «Историю Флоренции» и «Диалоги
об ополчении» К И Макиавелли нет нужды ее доказы-
вать: она выступает у него как очевидность. Это слово
века, которое он нашел и которое все признали.
тТак рождается наука о человеке, не таком, каким он
может или должен быть, а каков он на самом деле; о
человеке, не только как индивидууме, но как о существе
общественном, — о классе, народе, обществе, человече-
стве. Целью науки становится познание человека; девиз
«nosce te ipsum» дает первый толчок науке, когда она
освобождается от сверхъестественного и утверждает
свою независимость. Все средневековые универсалии
исчезают. Божественная комедия становится комедией
человеческой и, развертываясь на земле, именуется ис-
торией, политикой, философией истории, новой наукой.
Наука о природе развивается позже. Уже не верят
в чудо, но еще верят в астрологию. Подождите еще
немного, и идея Макиавелли в приложении к при-
1 Так в рукописи и в изд. Морано. Кроче и другие издатели
заменяют это подлинным заглавием: «Диалоги о военном искусстве»,
532
роде даст вам Галилея и славную когорту натура-
листов.
Здесь не место спорить об истинности и ложности
учений. Я пишу не историю философии и тем более не
философский трактат. Я пишу историю литературы.
И мой долг отметить то, что развивается в итальянской
мысли. Потому что только то живо в литературе, что
живет в сознании.
Идея Макиавелли порождает не только современную
науку, но и прозу. Подобно тому как в науке играли
большую роль воображение, вера, чувство, точно так же
и проза была проникнута этическими, риторическими, по-
этическими элементами, заключенными в ту условную
боккаччиевскую форму, которая именовалась литератур-
ной формой и которая стала теперь уже манерой и фор-
мализмом.
Макиавелли разрывает эту оболочку и создает
идеальный образец прозы, насыщенной содержанием и
мыслью, предельно свободной от влияния воображения
или чувства, обладающей прочной структурой при ка-
жущемся пренебрежении формой.
И эта же идея должна была создать новый критерий
жизни, а значит, и искусства. В средние века основа
человека и природы лежала вне их самих, в ином мире;
движущие ими силы персонифицировались как универ-
салии и обладали самостоятельным существованием.
Подобное представление о жизни породило «Божествен-
ную комедию». Двигатель истории находился вне исто-
рии и назывался «провидением». У Боккаччо таким дви-
гателем является случай, фортуна. У него это уже не
провидение, но еще и не наука. Необычное не назы-
вается больше чудом, над чудом даже потешаются; но
оно именуется интригой, переплетением исключительных
обстоятельств. Страсти, характеры, идеи не являются
силами, управляющими миром; над ними господствует
новый рок, капризная и непостоянная фортуна. Макиа-
велли восстает и против фортуны и против провидения;
он ищет в самом человеке управляющие им законы и
силы. Идея его состоит в том, что мир таков, каким мы
его творим, и что каждый несет в себе самом свое про-
видение и свою фортуну. Идея эта должна была корен-
ным образом преобразовать искусство.
533
Итальянская поэзия вышла из средневековья сво-
бодной от груза аллегорий и схоластики, но вместе с тем
и лишенной всякого содержания, являясь чистой фор-
мой. Ее истинное содержание составляет негативность,
иными словами, насмешка над собственным содержа-
нием, рассматриваемым как игра воображения, как
упражнение в остроумии. Эти два элемента искусства
были названы Чекки «смешное» и «узловатое» К Под
узловатым он понимал узел, клубок, переплетение не-
обычных и разнообразных событий. Блестящий образец
осмеяния чудесного дает Макиавелли в своем «Бель-
фагоре». Новелла, роман, комедия являются естествен-
ным театром этой поэзии, «Божественной комедией» но-
вого искусства. Однако в понимании Макиавелли жизнь
не является фарсом провидения: она не причудливая
игра фортуны, но управляется естественными человече-
скими силами и законами. Поэтому основу искусства
составляет не авантюра или интрига, а «характер»; если
вы хотите узнать, что произойдет, посмотрите, каковы
актеры и какие силы заставляют их играть. Искусство
не может довольствоваться одной лишь внешней обо-
лочкой и изображать события как случайное сцепление
исключительных происшествий, оно должно проникать
вглубь и отыскивать внутри человека те причины, кото-
рые кажутся провиденциальнъши или случайными. Так
искусство перестает быть пустой и праздной игрой во-
ображения и становится серьезным изображением жиз-
ни в ее реальности, и не только внешней, но и внутрен-
ней. Это искусство, ищущее свою основу в науке о че-
ловеке, дает «Мандрагору» и «Историю Флоренции», а
позднее «Историю Италии» Гвиччардини и его «За-
метки».
Так осуществляет себя та великая, названная Воз-
рождением эпоха, которая тянется от Боккаччо до вто-
рой половины шестнадцатого столетия. С одной сто-
роны, потому что отсутствуют все идеалы, религиозные,
политические, нравственные, и в сознании не остается
ничего прочного, кроме любви к культуре и искусству,
содержание не имеет никакой ценности и становится
1 В прологе к комедии «Maiana», vv. 23—25: «...если эта коме-
дия не покажется вам смешной, узловатой, как того мы хотели»
(«Commedie inedite», Firenze 1855, p. 351).
534
просто материалом, с которым как ему вздумается об-
ращается воображение, превращая его в свое создание,
а часто и в свою игру, в игру, обретающую свою иде-
альность в иронии Ариосто и разлагающуюся в карика-
туре «Макаронеа». Но, с другой стороны, в то время
как искусство творит свои чудеса, полностью пренебре-
гая содержанием, формируется и проникает в сознание
новое содержание, возникающее при изучении человека
и природы самих по себе, содержание, которое ищет
свою основу в опыте, а не в воображении и не в пустых
рассуждениях. Это глубокое чувство реального поро-
ждает науку и прозу и знаменует собой в «Мандрагоре»
возникновение нового направления в искусстве.
Таким образом, если мы хотим как следует познать
этот век, нам следует искать его тайны у двух великих
писателей, представляющих его синтез, — у Лодовико
Ариосто и у Николо Макиавелли,
Оглавление
I. Сицилийцы. Перев, Добровольской /О. А 7
II. Тосканцы. Перев. Добровольской Ю. А 27
III. Лирика Данте. Перев. Добровольской К). А 71
IV. Проза. Перев. Добровольской Ю. А °
V. Мистерии и видения. Перев. Добровольской Ю. А. . . . 10'
VI. Треченто. Перев. Добровольской Ю. А 13v
VII. Комедия. Перев. Добровольской Ю. А 177
VIII. Канцоньере. Перев. Добровольской Ю. А 30£
IX. Декамерон. Перев. Добровольской Ю. А 33£
X. Последний тречентист. Перев. Хлодовского Р. И. . . . . 420
XI. Стансы. Перев. Хлодовского Р. И. 43f
XII. Чинквеченто. Перев. Хлодовского Р. И. Ш
— ■ 1 им— Ыц/«ЮИ I ,. ■ -
Де Санктис
ИСТОРИЯ ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Редактор С. Д. Комаров. Переплет художника И. А. Литвишко
Художественный редактор Б. И. Астафьев
Технические редакторы В. А. Доценко и А. В. Грушин. Корректор И. С. Додолева
Сдано в производство 17/XII-1962 г. Подписано к печати 16/V-1963 г.
Бумага 84х10878а=8,7 бум. л. 28,5 печ. л., в т/ч 10 вкл. Уч.-изд. л. 30,2
Изд. № 13/0218. Цена 2 р. 02 к. Зак. № 946
ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва, 1-й Рижский пер., 2
Типография № 2 им. Евг. Соколовой УЦБ и ПП ЛeнcoвнapxoзaJ
Ленинград, Измайловский пр., 29