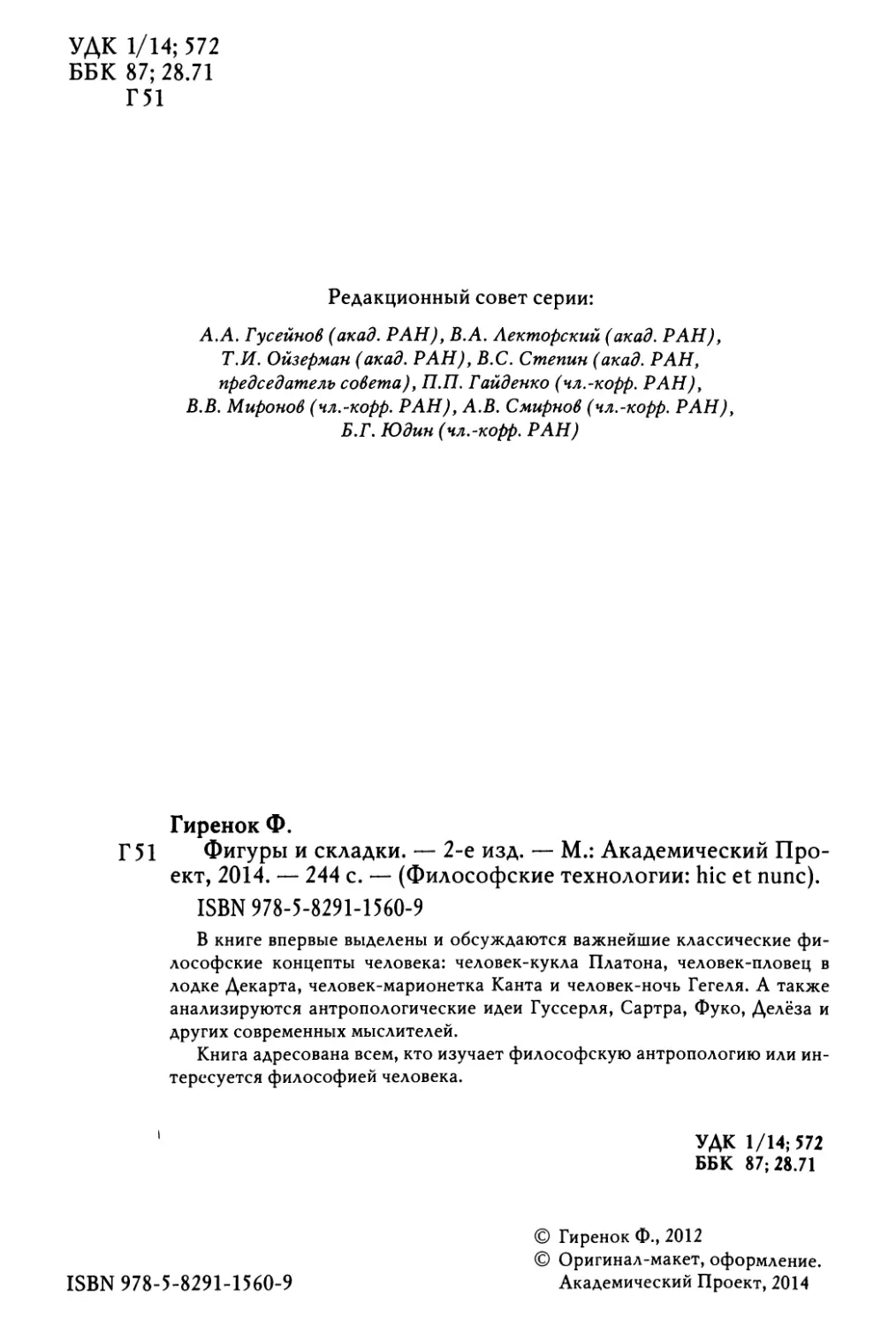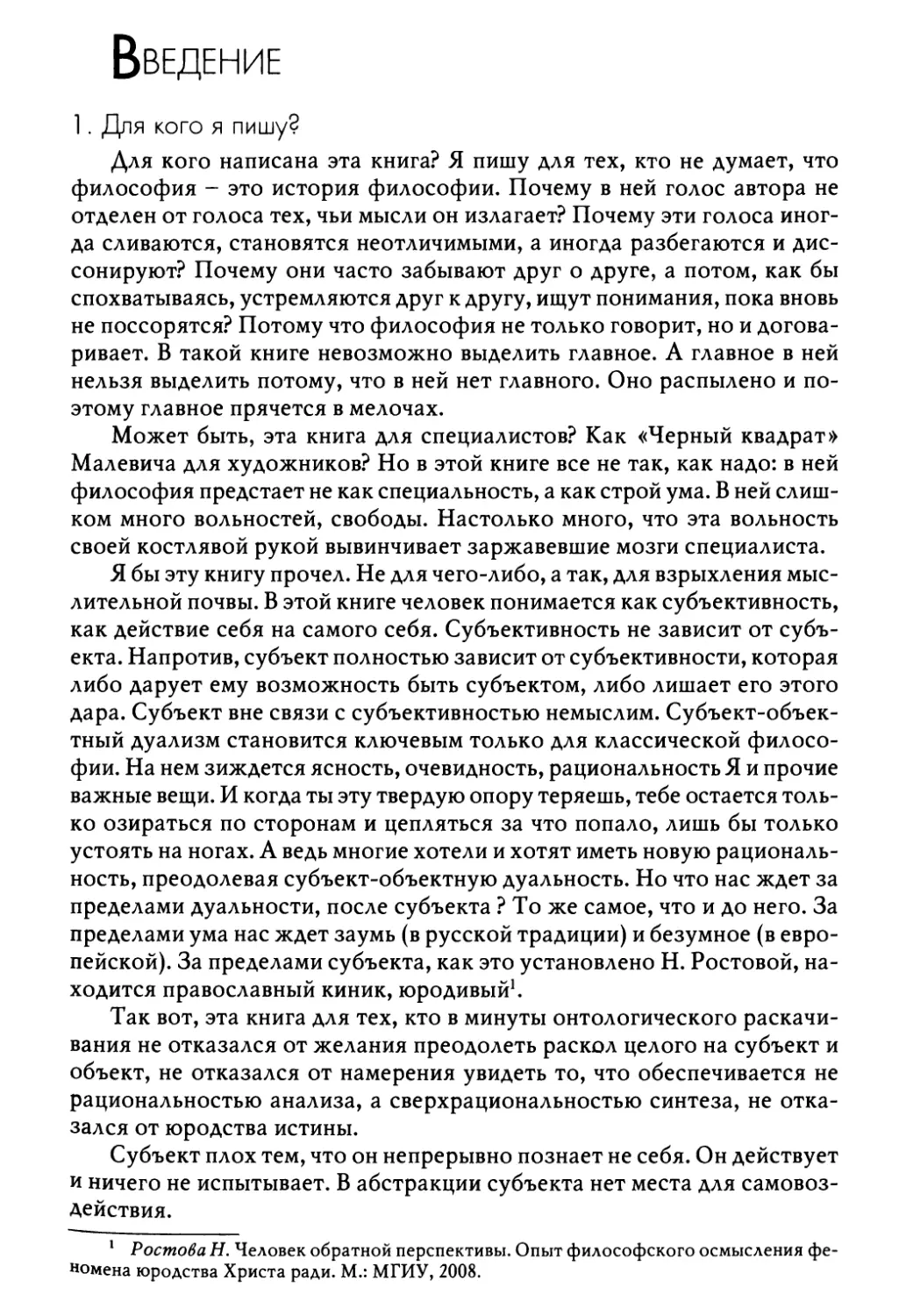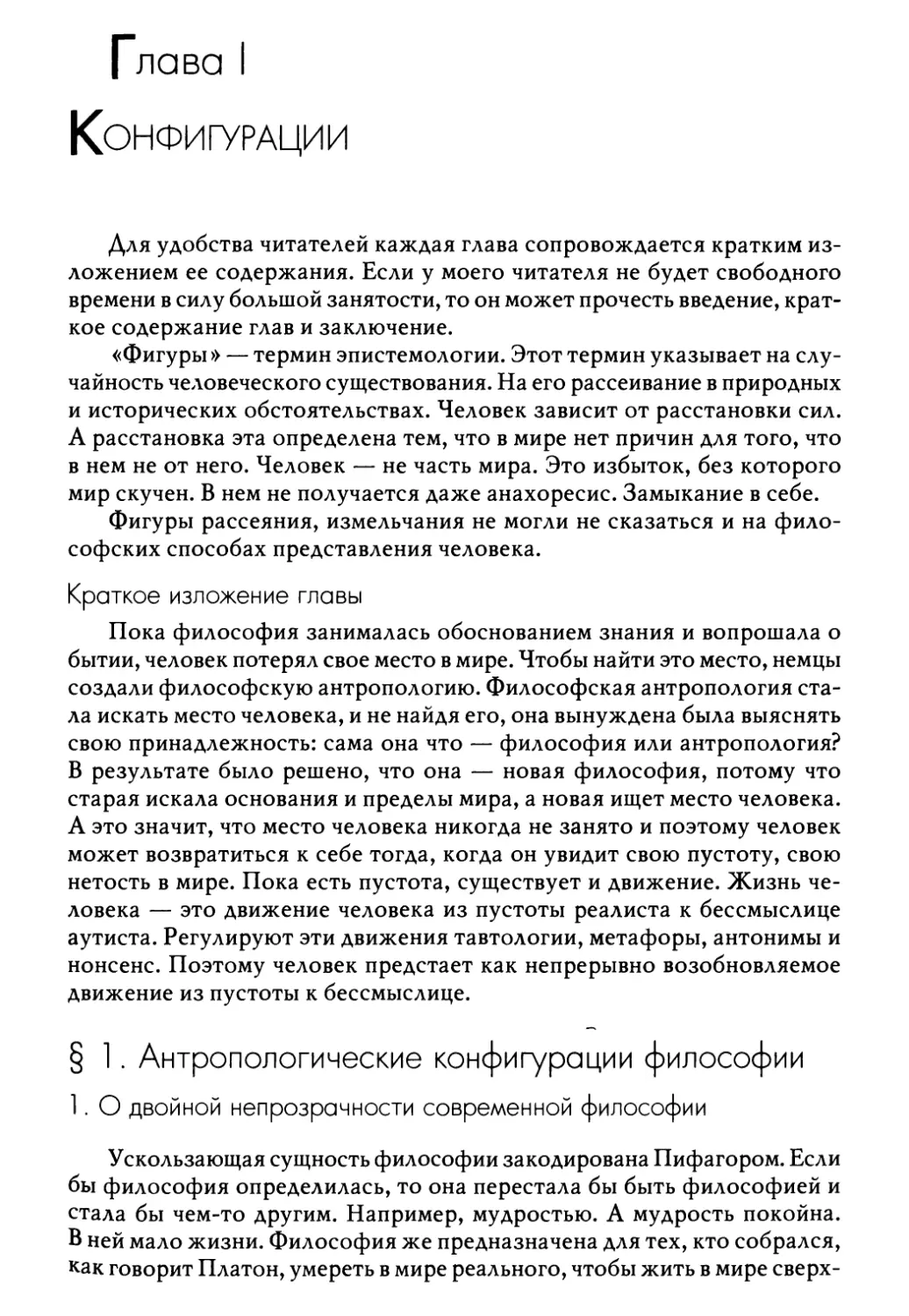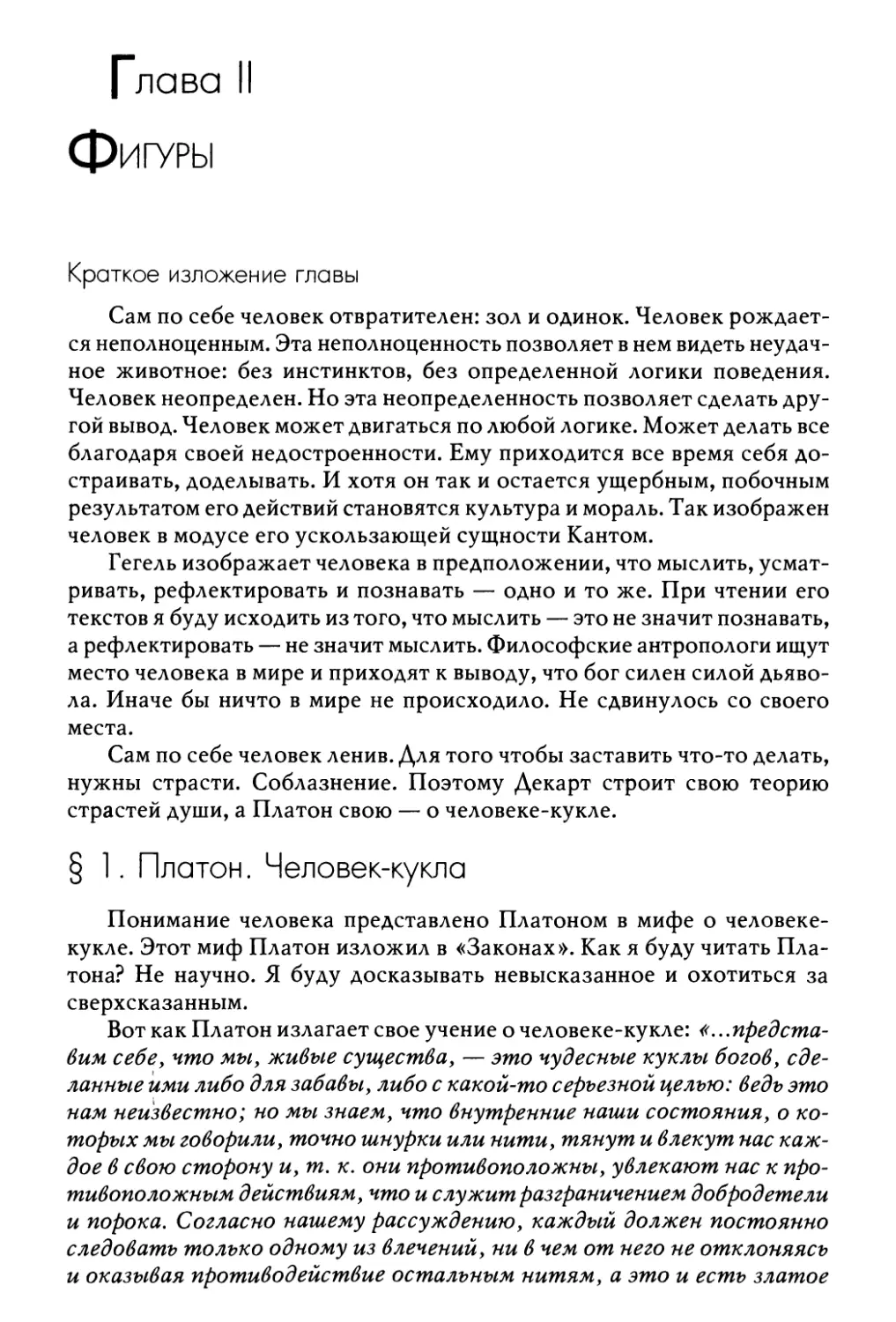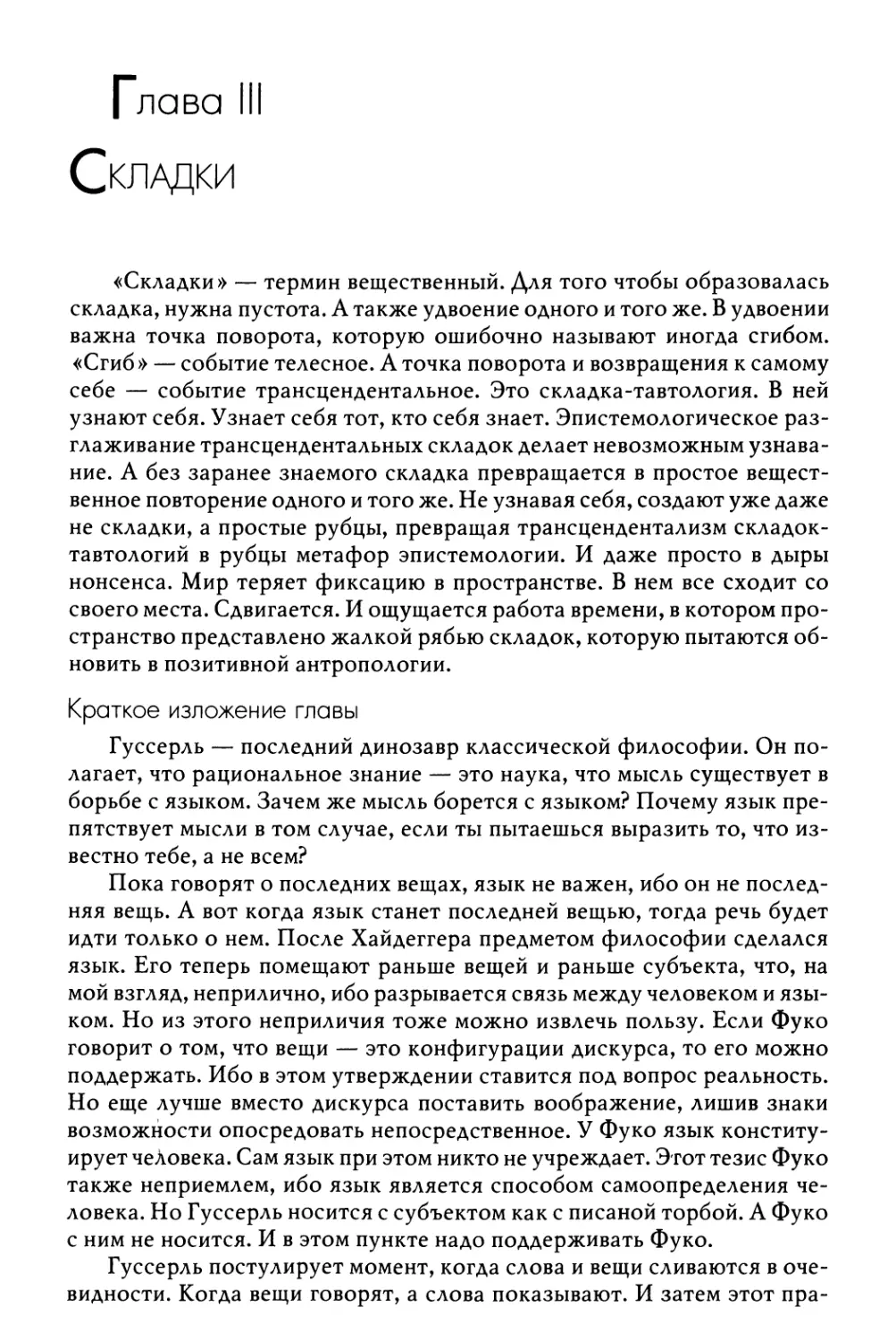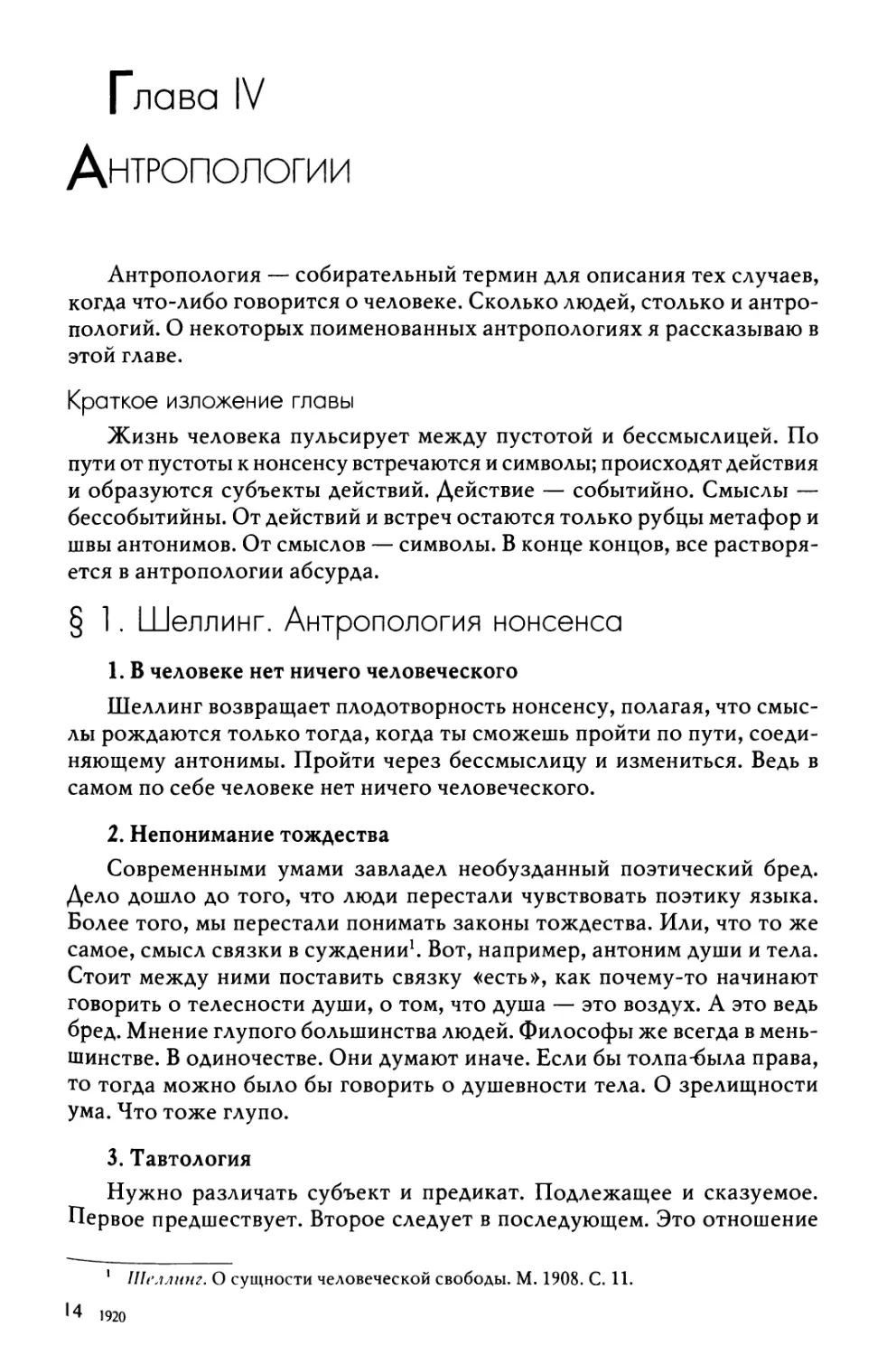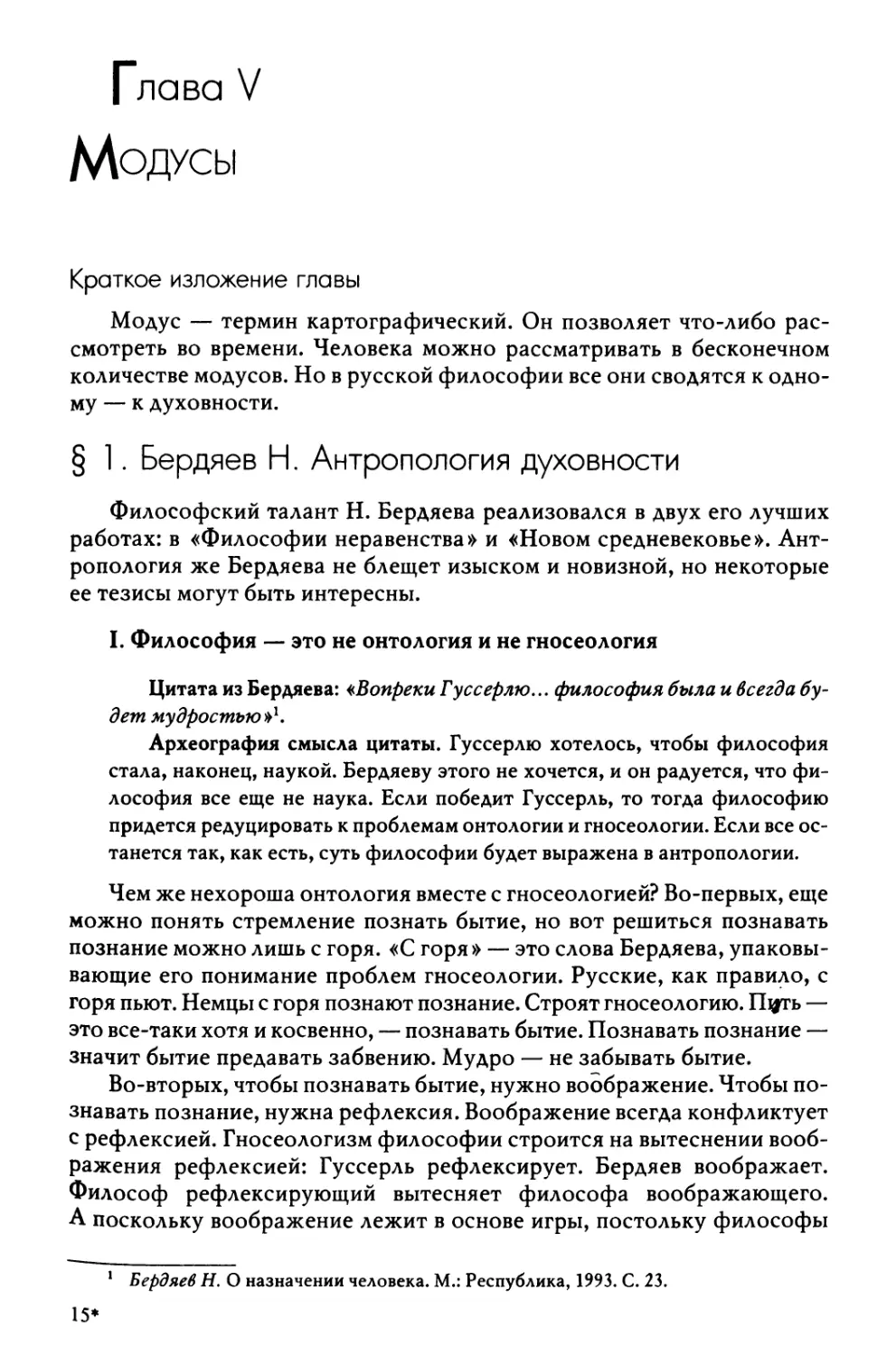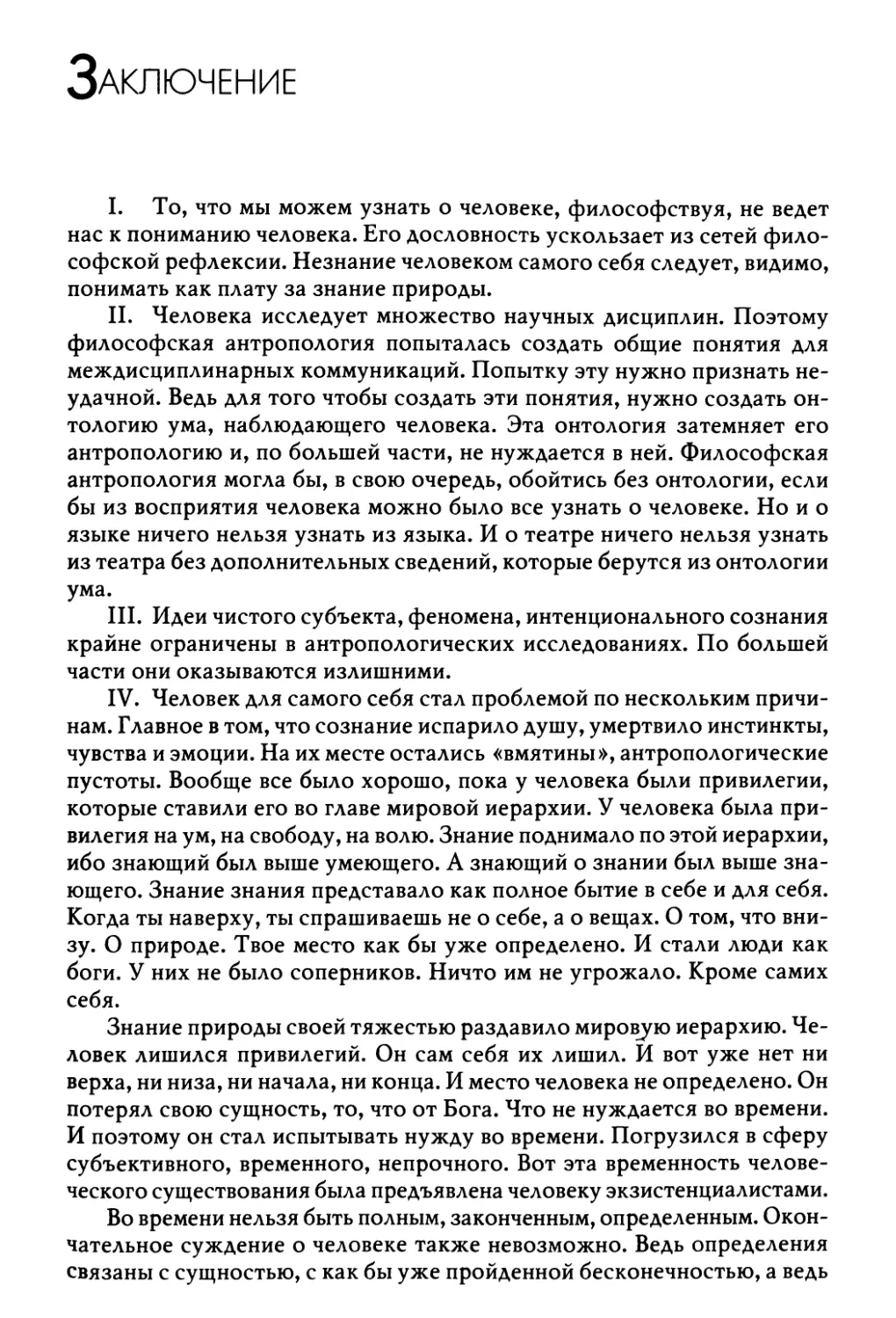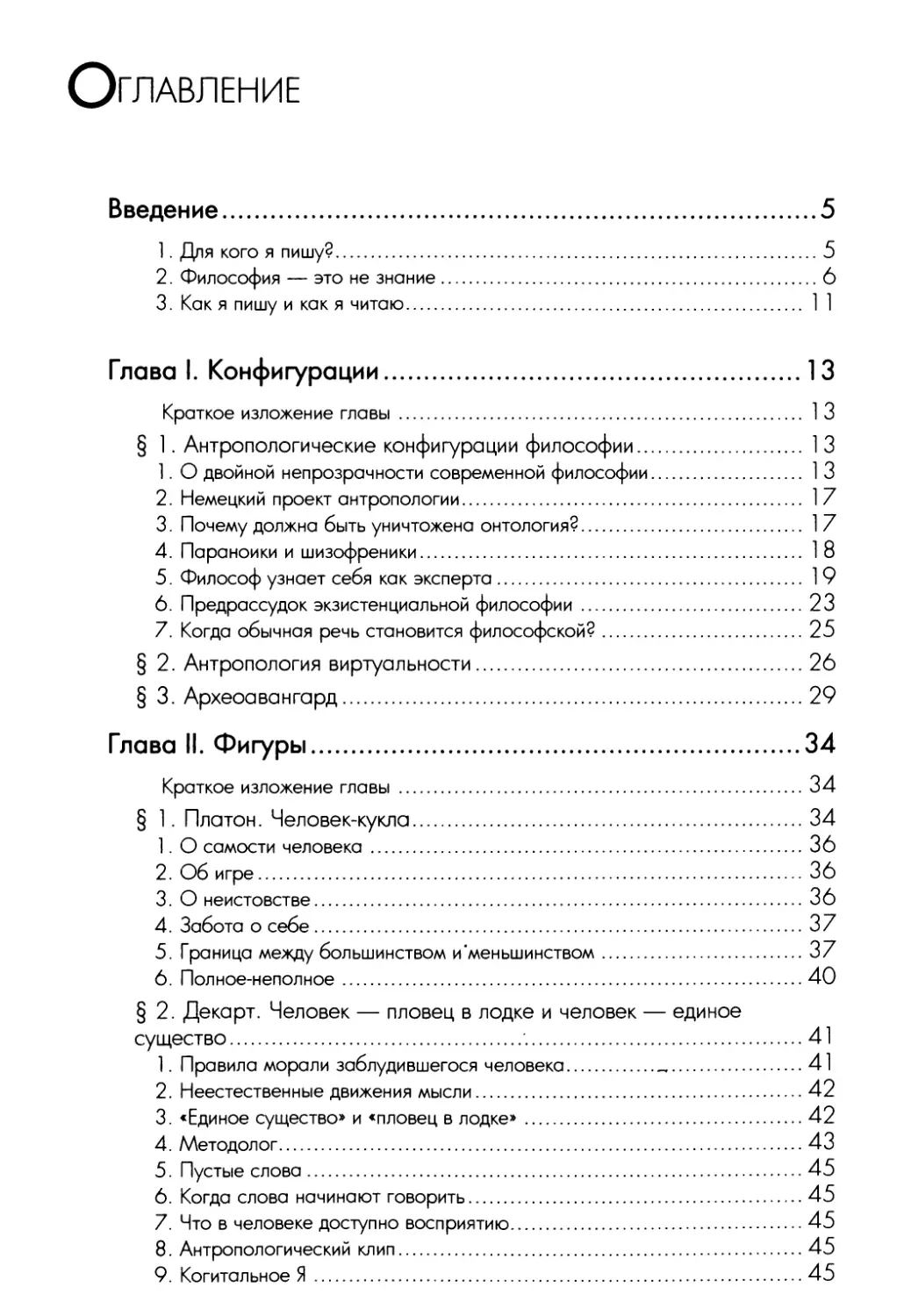Автор: Гиренок Ф.И.
Теги: философия психология философские науки философия человека философская антропология
ISBN: 978-5-8291-1560-9
Год: 2014
Текст
Федор Гиренок
Фигуры и складки
Москва
Академический Проект
2014
УДК 1/14; 572
ББК 87; 28.71
Г51
Редакционный совет серии:
А. А. Гусейнов (акад. РАН), В.А. Лекторский (акад. РАН),
Т.И. Ойзерман (акад. РАН), В.С. Степин (акад. РАН,
председатель совета), П.П. Гайденко (чл.-корр. РАН),
В.В. Миронов (чл.-корр. РАН), А.В. Смирнов (чл.-корр. РАН),
Б.Г. Юдин (чл.-корр. РАН)
Гиренок Ф.
Г 51 Фигуры и складки. — 2-е изд. — М.: Академический Про¬
ект, 2014. — 244 с. — (Философские технологии: hie et nunc).
ISBN 978-5-8291-1560-9
В книге впервые выделены и обсуждаются важнейшие классические фи¬
лософские концепты человека: человек-кукла Платона, человек-пловец в
лодке Декарта, человек-марионетка Канта и человек-ночь Гегеля. А также
анализируются антропологические идеи Гуссерля, Сартра, Фуко, Делёза и
других современных мыслителей.
Книга адресована всем, кто изучает философскую антропологию или ин¬
тересуется философией человека.
УДК 1/14; 572
ББК 87; 28.71
ISBN 978-5-8291-1560-9
© Гиренок Ф., 2012
© Оригинал-макет, оформление.
Академический Проект, 2014
Введение
1. Для кого я пишу?
Для кого написана эта книга? Я пишу для тех, кто не думает, что
философия - это история философии. Почему в ней голос автора не
отделен от голоса тех, чьи мысли он излагает? Почему эти голоса иног¬
да сливаются, становятся неотличимыми, а иногда разбегаются и дис¬
сонируют? Почему они часто забывают друг о друге, а потом, как бы
спохватываясь, устремляются друг к другу, ищут понимания, пока вновь
не поссорятся? Потому что философия не только говорит, но и догова¬
ривает. В такой книге невозможно выделить главное. А главное в ней
нельзя выделить потому, что в ней нет главного. Оно распылено и по¬
этому главное прячется в мелочах.
Может быть, эта книга для специалистов? Как «Черный квадрат»
Малевича для художников? Но в этой книге все не так, как надо: в ней
философия предстает не как специальность, а как строй ума. В ней слиш¬
ком много вольностей, свободы. Настолько много, что эта вольность
своей костлявой рукой вывинчивает заржавевшие мозги специалиста.
Я бы эту книгу прочел. Не для чего-либо, а так, для взрыхления мыс¬
лительной почвы. В этой книге человек понимается как субъективность,
как действие себя на самого себя. Субъективность не зависит от субъ¬
екта. Напротив, субъект полностью зависит от субъективности, которая
либо дарует ему возможность быть субъектом, либо лишает его этого
дара. Субъект вне связи с субъективностью немыслим. Субъект-объек-
тный дуализм становится ключевым только для классической филосо¬
фии. На нем зиждется ясность, очевидность, рациональность Я и прочие
важные вещи. И когда ты эту твердую опору теряешь, тебе остается толь¬
ко озираться по сторонам и цепляться за что попало, лишь бы только
устоять на ногах. А ведь многие хотели и хотят иметь новую рациональ¬
ность, преодолевая субъект-объектную дуальность. Но что нас ждет за
пределами дуальности, после субъекта ? То же самое, что и до него. За
пределами ума нас ждет заумь (в русской традиции) и безумное (в евро¬
пейской). За пределами субъекта, как это установлено Н. Ростовой, на¬
ходится православный киник, юродивый1.
Так вот, эта книга для тех, кто в минуты онтологического раскачи¬
вания не отказался от желания преодолеть раскол целого на субъект и
объект, не отказался от намерения увидеть то, что обеспечивается не
рациональностью анализа, а сверхрациональностью синтеза, не отка¬
зался от юродства истины.
Субъект плох тем, что он непрерывно познает не себя. Он действует
и ничего не испытывает. В абстракции субъекта нет места для самовоз-
действия.
1 Ростова Н. Человек обратной перспективы. Опыт философского осмысления фе¬
номена юродства Христа ради. М.: МГИУ, 2008.
Введение
6
Между тем непрерывное мышление невозможно, это идеализация.
Наделяя субъект зрением, слухом, сознанием, мы никогда не обнаружим
точки пересечения этих качеств. Бытие зрением не нуждается в бытии
слухом. Глаз смотрит. Ухо слушает. Ум мыслит. Глаз не видит то, что
мыслят, ухо не слышит то, что видят. Ум не мыслит то, что видят. Субъ¬
ект не выдерживает давления непрерывности и распадается, оттеняя тот
факт, что в человеке все это как-то связано, пересекается и даже про¬
никает друг в друга. Продуктом распада субъекта являются всевозмож¬
ные образования типа: зрители, наблюдатели, свидетели, слухачи. Я пишу
не для свидетелей и не для слухачей. Я обращаюсь к тотальности в че¬
ловеке.
2. Философия — это не знание
Первый вопрос, на который надо дать ответ, состоит в следующем:
а есть ли в человеке что-то такое, что мы можем узнать, философствуя,
или нет? По существу, этот вопрос ставит под сомнение претензии фи¬
лософии быть наукой о человеке, быть знанием. Ведь мы всегда можем
потребовать от философии отчета и сказать: где же, господа хорошие,
ваши знания? Что же вы вообще знаете такое, что бы мы уже не узнали
из других источников, другим образом? Конечно, философы придумали
единичную субстанцию как модель человека, модель человека-субъекта
и человека как субстанции-субъекта. Но все это сегодня мало кого уст¬
раивает.
Еще Г. Щедровицкий показал, что существует много разных знаний.
Знания бывают рефлексивные, технологические, исторические, методи¬
ческие, религиозные. А еще знания бывают научными. Наука — это оп¬
ределенный способ построения знаний. О чем? О предмете. Но не о вся¬
ком предмете, а только о таком, у которого нет скрытых от наблюдате¬
ля состояний, у которого нет изнанки. Научное знание, как говорит
М. Мамардашвили, строится в предположении, что у предмета нет внут¬
ренних состояний, скрытых от внешнего наблюдателя. Что предмет ни¬
чего о себе не представляет. Не говорит и не сообщает о представляемом.
Если бы у предмета было такое состояние, то научно знать его было бы
нельзя. Потому что он мог бы водить нас за нос. И в каждый момент
времени он мог бы от нас скрыться в своих внутренних состояниях, под¬
совывая нам вместо себя свой образ, свой имидж.
По существу, это все и происходит в современном коммуникативном
пространстве. Ведь коммуникацией можно назвать только такое специ¬
ально устроенное пространство, в котором имидж человека не зависит
от человека. При этом каждый предмет должен быть вывернут в комму¬
никативном пространстве, лишен изнанки. И тогда мы его сможем опи¬
сать. Это первое условие науки. Второе касается нас самих, т. е. внешних
наблюдателей. Каждый человек является внешним наблюдателем, если
он наблюдает со стороны сознания, о котором нельзя сказать, что оно
мое собственное. Оно должно быть ничье. И тогда оно будет универ-
Введение
7
сальным. Ведь если сознание не будет непрерывным и однородным, то
в нем появятся провалы и разрывы. Ведь ты можешь заснуть и что-то
забыть. Или сказать, а тебя не поймут, ибо ты говоришь в терминах свое¬
го сознания, а не универсального.
Знание нуждается в однородном и непрерывном сознании. Оно, как
и Христос, нуждается в нашем постоянном бодрствовании. То есть все
мы спим, забываем и делаем всякие прочие дела. А вот наука строится
в предположении, что есть сознание, которое не спит и не забывает.
Благодаря таким свойствам сознания становятся возможными экспери¬
мент и воспроизводимость опыта.
Науки о человеке не выполняют выделенные условия. Ведь человек —
это и есть тот предмет, который не отделим от своих внутренних состо¬
яний. Значит, чтобы создать науку о человеке, нужно либо найти такое
пространство, в котором человек теряет свое внутреннее, скрытое из¬
мерение, либо же нужно отказаться от построения научного знания о
человеке, отказаться от прозрачности сознания внешнего наблюдателя.
Вот, например, марксисты. Они хотели людям счастья и полагали,
что несчастья коренятся в изнанке, в неконтролируемых сознанием со¬
стояниях общества. А что это за состояния? Да рыночные отношения.
Ведь они складываются у нас как бы за спиной. Мы их не видим, а они
есть. И дают о себе знать то увеличением цен, то ростом безработицы,
то падением производства. Значит, нужно эти состояния устранить. А для
этого требуется государственный план. Одно всевидящее око. Но убить
человеческое в человеке, т. е. внутреннее, нельзя. Ведь мы одно делаем,
другое говорим, а третье думаем. И ничего с этим поделать нельзя.
Итак, науки о человеке тем и отличаются от наук о природе, что они
пытаются найти такую точку отсчета, с которой была бы видна и внут¬
ренняя сторона человека, и внешняя. И по одной стороне можно было
бы судить о состоянии другой.
Все науки имеют дело с реальностью. Только вот реальность может
быть разной. В мире есть то, что держится сцеплениями причин и след¬
ствий. Но есть вещи, которые существуют, если мы хотим, чтобы они
были. А что-то хотеть — значит воздействовать на самого себя. То есть
есть вещи, которые удерживаются силой этого воздействия. Вот, напри¬
мер, свобода. Конечно же, она существует. Но ведь мы понимаем, что
она существует не так, как существуют деревья. Дерево мы посадили, и
оно растет, а мы занимаемся другим делом. А вот свобода — это не де¬
рево. Это каприз, прихоть. Чтобы она была, нужно капризничать. А это
значит, что в окружающем нас мире есть вещи, которые существуют вне
зависимости от нас. А также есть еще и такие вещи, которые существу¬
ют, если мы хотим, чтобы они были. И эти вещи держатся уже не сцеп¬
лениями причин, а усилием воли. Сами эти вещи получаются непроиз¬
вольной проекцией наших грез и иллюзий на окружающую нас материю.
И поэтому-то стремлением к добру существуют добрые люди. Вот эту
реальность и изучают науки о человеке.
Введение
8
Но люди стареют. Воля к жизни у них слабеет. Самовоздействие
прекращается, и воздействие вещей и их образов заменяет самовоздей¬
ствие. И следовательно, исчезает та сторона мира, которая существует,
если мы хотим, чтобы она была. Равно как деградирует и идеальная сто¬
рона мира, подчиняющаяся воображению, а не действию с предметами.
Ибо старость - это состояние, когда никто ничего не хочет. Поэтому
добро рассеивается. Ум деградирует. Чувства тупеют. Красота тускнеет.
Исчезает реальность полных предметов. А вместе с ними исчезает и че¬
ловек мыслящий. Правда, остаются места, где он бывал. Следы, которые
он оставил. Но это все — антропологическая реальность. Она есть, а
человека нет. В антропологической реальности образуются пустоты. Эти
пустоты, конечно, можно заполнять. Например, социальными институ¬
циями. Но и эти институции мыслятся уже вне зависимости от человека.
Вне связи с ним. То есть происходит разрыв уже между социологией и
антропологией. И этот разрыв коренится в дословном человеческого
бытия. А пытаются его преодолеть на уровне слова, в виде некой соци¬
альной антропологии.
Пустоты можно заполнять не только со стороны социума, но и со
стороны человеческой натуры. Ведь людей нет, а антропологическая
реальность осталась. Адреналин еще выделяется. Мозг работает. Тело
живет. И эта телесная жизнь расширяется и заполняет пустоты. Социум
становится все лучше. А человек все хуже. Общество становится гуман¬
ным, человечным. А человек испаряется из антропологической реаль¬
ности. В нем нет ничего человеческого. Он узнает себя как поименован¬
ную рабочую силу. Как часть природы. Или культуры. Что уже не так и
важно.
Человек существует как человек не потому, что есть общество. А об¬
щество существует не потому, что есть люди. Ведь если бы социальность
была связана только с людьми, то многим животным пришлось бы вы¬
мереть. А они живут. Человек не зависит от общества. Если бы он зави¬
сел, то его можно было бы лишить воли и затем уже запрограммировать
как простую социальную машину.
Социум и человека можно описывать вне зависимости друг от друга.
Как нечто самодостаточное. Как субстанции. Социальный человек воз¬
никает в момент наложения социальной и антропологической реально¬
сти. А оно случайно. Всякий социум требует равенства. Существование
же человека требует неравенства. Нехватки. Того, что рождает волю.
И эмоции пассионариев. Человек возникает как привилегия немногих
быть людьми. Как неравенство, у которого нет конца. Потому что мес¬
то человека всегда пусто. И никакими содержаниями не заполнить эту
пустоту. То есть неравенство — это форма, условие того, чтобы вообще
что-то было не выровненным. Хитрость мира состоит в том, что он создает
неравенство людей как иллюзию всякой возможности стать человеком.
Привилегия быть человеком — это фикция. Мираж, который застав¬
ляет двигаться. Идти к нему. Чтобы никогда не прийти. Поэтому каждый
Введение
9
может попытаться стать человеком. Выйти в люди. Ведь если быть чело¬
веком — это привилегия немногих, то, может быть, и тебе повезет. И ты
окажешься среди немногих. Расширение круга немногих составляет ан¬
тропологический смысл истории. Ведь и свобода рождается как приви¬
легия немногих. И ум. И добро. Это потом, когда свобода станет приви¬
легией всех, она умрет. И исчезнет ум. И перестанет манить добро. И че¬
ловек перестанет быть человеком. Устранение привилегий, расширение
равенства составляют социальный смысл истории. Пока есть неравен¬
ство, есть и антропологический смысл истории. А когда неравенство
заканчивается, тогда начинается антропологическая катастрофа. Борь¬
ба с привилегиями — это последний этап деантропологизации мира.
Расставание с умом и свободой. Ведь привилегия стала формой сущес¬
твования пустоты. А без пустоты человеку не во что изменяться. И он
растворяется в бытии элеатов, в котором нет привилегии немногих быть
людьми.
А социальная история продолжается. Ибо существует еще много
всяких неровностей, которые нужно выравнивать. Это и запрет на не¬
равенство полов. И запрет на неравенство поколений, рас, религий и
прочего.
А это значит, что антропология может стать наукой только в том
случае, если она потеряет свой предмет. Если она откажется от челове¬
ка и выработает нечеловеческий взгляд на общество. До тех пор, пока
этого не случилось, философская антропология будет выступать в фор¬
ме социальной алхимии.
Иными словами, из двух возможных ответов на поставленный выше
вопрос «А есть ли в человеке что-то такое, что мы не можем узнать,
философствуя?» первый ответ можно считать негативным. У философов
нет никакого особого знания о человеке. Ничего ценного о нем они ска¬
зать не могут. Следовательно, за информацией о человеке нужно обра¬
щаться в другие инстанции, а именно к науке. Или же к поэзии и религии.
Конечно, существует различие между наукой, поэзией и религией в спо¬
собах освоения позитивности, но сама вероятность удержания содер¬
жательного дискурса объединяет их, отделяя от философии. Если фи¬
лософия что-то и может делать, то обобщать, т. е. работать с не ею до¬
бытыми знаниями и образами.
Второй ответ — утвердительный. Да, философии есть что сказать о
человеке. Но ее знание философическое, т. е. пустое. Оно выражается
тождествами, важнейшим из которых является тавтология. Ими зада¬
ется пространство видимого и мыслимого в человеке. И, следовательно,
пространство невидимого и немыслимого. Предельное знание не может
быть содержательным. Подчиняясь двойному отрицанию « ни.... ни»,
оно ограничивает бесконечность содержаний, делая его обозримым в
определенном горизонте. Философия — это не знание, а сознание.
Бессодержательность утверждений о человеке как будто бы указы¬
вает на их трансцендентальный характер. Но трансцендентальный харак¬
Введение
10
тер носит только первая тавтология, а именно: Я есть Я. Остальные тав¬
тологии носят онтологический характер. Например: человек есть человек
и ничто другое. А работа философа состоит в изменении этой связки.
И тогда очевидному «человек есть » противопоставляется менее очевидное
«человек становится». А становиться человек может только человеком.
Внутри этой тавтологической формулы уже невозможно сказать, что че¬
ловек есть. Скорее возможно другое, еще более неочевидное утверждение:
человека нет. И не потому, что он был и умер. Если бы это было так, то
мы получили бы содержательные утверждения о смерти человека. А речь
идет о невозможности человека, а вовсе не о том, что человек есть живот¬
ное. Или что он есть бог. То есть тавтология позволяет наращивать пози¬
тивные содержания, в состав которых сама она не входит. Бытие не нуж¬
дается во времени, а становление нуждается. Человека можно представить
в качестве феномена времени. Но тогда мы должны будем ввести пред¬
ставления о вневременном Я, которое противостоит рассеянию времени.
Благодаря процедуре отождествления мы открываем возможность для
бесконечного набора метафор, редуцируемых во всякое время к тавтоло¬
гии. Выбор тавтологий носит не трансцендентальный характер, а эписте¬
мологический, что позволяет мне выделить в составе антропологических
тем, обсуждаемых философией, несколько направлений.
Во-первых, это позитивный способ представления человека, который
работает в слое метафор без четких указаний на «верх» и «низ» этого
слоя, без явной связи с предельными основаниями демонстрируемых
содержаний. Человек здесь предстает как вещь, у которой есть свойства.
Этот способ представления характерен для науки. К нему относится
социобиология, а также некоторые разделы психоаналитической ант¬
ропологии. Философии здесь уготована роль некой проясняющей реф¬
лексии, своеобразной инженерии знания. В таком стиле писали Ламет-
ри и Шелер.
Во-вторых, это обсуждение посылок и следствий замещения фор¬
мулы «человек есть» формулой «человек становится». В рамках этих
обсуждений кристаллизовались три взгляда на человека:
A) Человек пребывает в модусе ускользающего «что» и выражается
несовершенными действиями. Представление о том, что человек непре¬
рывно делает себя без надежды когда-либо сделать, составили основу
той позитивности, которая именуется деятельностной антропологией.
У истоков ее стоят Кант, Фихте и другие немецкие философы.
Б) Человек возможен в модусе расширения своего естества, ибо в
этом расширении он от него не зависит. Независимость от естества ха¬
рактеризует горизонт как искусственного, так и личностного сущест¬
вования. В модусе расширения человек описывается в терминах культу¬
ры. Среди философов, которым наиболее близки эти взгляды, можно
назвать Кассирера, Гелена, Фрейда, Бубера, Маркса, Сартра.
B) Человек мыслится как произведение, как бытие, которое бытий-
ствует исполнением своего собственного бытия. И в этом смысле он
Введение
11
напоминает аутиста, который исполняет себя как музыкальное произ¬
ведение, исполняемое частями, но в каждый момент представленное
полностью. Эти взгляды близки русским философам.
В-третьих, это обсуждение возможных последствий для антрополо¬
гии «смерти человека». Смерть здесь понимается бессодержательно, как
то, что проясняет жизнь. Я имею в виду Ницше, а также Фуко, Делеза и
Бодрийяра.
Во всех этих трех случаях происходит отказ от изображения чело¬
века как вещи, как простой совокупности свойств. Человек предстает
уже не как событие, а как некий след промелькнувших событий. Он пред¬
стает не как последняя инстанция, конечный пункт объяснений, а как
непрерывно возобновляемое начало самого себя. Его самость раство¬
ряется в событиях, деталях, исчезает в мелочах непрерывного воздей¬
ствия на самого себя.
В человеке обнаруживается какая-то изначальная пустота. Во время
отсутствия реального происходит развертывание собственно человече¬
ского. Забвение пустоты, отсрочка возвращения к исходному состоянию
делают невозможным непрерывное рождение человеком человеческого.
3. Как я пишу и как я читаю
Я не пишу историю философии. Чтобы ее написать, нужно сделать
вид, что философия нужна. А у меня это плохо получается. История —
это затянувшийся некролог, под которым спешат поставить свои под¬
писи все новые и новые люди. Я не пишу некрологи. Моя беда состоит
еще и в том, что я не могу быть специалистом по чьей бы то ни было
философии. Для меня такие выражения, как «знаток Канта», «специа¬
лист по Фуко» — это знаки, которыми клеймят рабов. Я не историк и не
специалист. Я свободный человек. Но как же я тогда пишу? Вернее, как
я читаю?
Вот передо мной текст. Все, что не задерживает мое внимание, я в
нем пропускаю. Все, что задерживает, я не пропускаю. Меня задержи¬
вает либо восхищение, либо воспоминания. Восхищаясь, я пишу вариа¬
ции на тему до тех пор, пока не исчерпаю свою фантазию. Не понимая,
я, как Линней, составляю таблицу непонимания и затем в этом же тек¬
сте стремлюсь найти фразу, которой я понимаю непонятое. Эта фраза
для меня как смысловое окно, в которое я подсматриваю за тем, кто меня
интересует. Если же я не могу найти в тексте такой плодотворной фра¬
зы, то тогда мне остается одно из двух: либо объявить текст темным и
бросить его, либо попытаться самому создать новую фразу. В последнем
случае я испытываю текст на прочность, на сопротивляемость. Меня
мало интересует его контекст. Меня не волнует, что было написано до
него и будет написано после него. Я меняю знаки суждений, произволь¬
но подменяя на подлежащие и сказуемые, вычеркиваю дополнения, при¬
мечательные и прочие причастные обороты. А если их нет, то вижу их.
Если текст окажет мне сопротивление, покажет свои норов, не подчи¬
Введение
12
нится произволу, то я считаю, что в тексте есть мысль и с этим нужно
считаться. Мне приходится помечать очаги сопротивления, полагая, что
в них находится смысл. Но больше всего я люблю примечания и приме¬
ры. Мне доставляет удовольствие неожиданные сравнения, метафоры,
в них я нахожу то, что трудно найти в основном тексте. Меня привлека¬
ют также всякие нестыковки, разрывы, непоследовательности. Если они
при обнаружении легко устраняются, то я перестаю обращать на них
внимание. Мне нужны такие нестыковки, такие разрывы, чтобы в них
можно было заставить автора говорить то, что он не говорит. В этом
случае ты можешь поставить под сомнение всю концепцию автора. В этом
пункте заканчивается мысль о мыслимом и начинается повесть о немыс¬
лимом. То есть текст открывает возможность мысли, которая в рамках
самого текста невозможна. И тогда тебе ничего не надо будет опровер¬
гать. Ведь чтобы опровергать, тебе надо научиться реконструировать
текст до некоторой минимальной величины, а затем уже под своим кон¬
тролем его нужно будет заново развернуть, попутно отмечая недостат¬
ки.
Читая текст, нужно отклоняться от обаяния текста и перестать об¬
ращать внимание на то, что автор считает главным, и обратить внимание
на то, что он считает второстепенным. Вот среди этого второстепенного,
на границе текста, там, где субъект перестает быть субъектом, я и ищу
то, что может изменить смысл текста. Свою точку зрения я нахожу в
тексте, который читаю. В нем я цепляюсь за те языковые крючки, на
которые автор не обращает внимания. Когда я начинаю читать, у меня
нет никакой предзаданной.позиции.
Книга называется «Фигуры и складки» по нескольким причинам. Во-
первых, Ф. И. Г. — это мои инициалы. Во-вторых, читая Фуко, я встретил
у него выражение «антропологические конфигурации». Поэтому «фи¬
гуры» попали ко мне от него. Читая Флоренского, я понял, что «склад¬
ки» — хорошее слово, поэтому складки не от Делеза, а от Флоренского.
В-третьих, у меня рука не поднялась на такие формулы как «Введе¬
ние в философскую антропологию». Я не готов написать такую книгу.
А «Фигуры и складки» уютны и не обязательны.
Так составилась книга.
лава
Конфигурации
Для удобства читателей каждая глава сопровождается кратким из¬
ложением ее содержания. Если у моего читателя не будет свободного
времени в силу большой занятости, то он может прочесть введение, крат¬
кое содержание глав и заключение.
«Фигуры» — термин эпистемологии. Этот термин указывает на слу¬
чайность человеческого существования. На его рассеивание в природных
и исторических обстоятельствах. Человек зависит от расстановки сил.
А расстановка эта определена тем, что в мире нет причин для того, что
в нем не от него. Человек — не часть мира. Это избыток, без которого
мир скучен. В нем не получается даже анахоресис. Замыкание в себе.
Фигуры рассеяния, измельчания не могли не сказаться и на фило¬
софских способах представления человека.
Краткое изложение главы
Пока философия занималась обоснованием знания и вопрошала о
бытии, человек потерял свое место в мире. Чтобы найти это место, немцы
создали философскую антропологию. Философская антропология ста¬
ла искать место человека, и не найдя его, она вынуждена была выяснять
свою принадлежность: сама она что — философия или антропология?
В результате было решено, что она — новая философия, потому что
старая искала основания и пределы мира, а новая ищет место человека.
А это значит, что место человека никогда не занято и поэтому человек
может возвратиться к себе тогда, когда он увидит свою пустоту, свою
нетость в мире. Пока есть пустота, существует и движение. Жизнь че¬
ловека — это движение человека из пустоты реалиста к бессмыслице
аутиста. Регулируют эти движения тавтологии, метафоры, антонимы и
нонсенс. Поэтому человек предстает как непрерывно возобновляемое
движение из пустоты к бессмыслице.
§ 1. Антропологические конфигурации философии
1. О двойной непрозрачности современной философии
Ускользающая сущность философии закодирована Пифагором. Если
бы философия определилась, то она перестала бы быть философией и
стала бы чем-то другим. Например, мудростью. А мудрость покойна.
В ней мало жизни. Философия же предназначена для тех, кто собрался,
как говорит Платон, умереть в мире реального, чтобы жить в мире сверх¬
Глава I
14
реального. У кого есть сила, страсть и воля. То есть в самом слове «фи¬
лософия » зашифрован эмоциональный код мудрости. Невербальная сила
слова.
Например, Кант полагал, что наблюдение за женщиной уже само по
себе является занятием, достойным философии. Ибо женщина устрое¬
на более сложно, чем мужчина. А поскольку женщина является пред¬
метом философии и ее причиной, постольку философами являются
мужчины. Не женское это дело — философия.
Первыми философами были отщепенцы. Метэки. Люди, покинувшие
родину. Некие переселенцы. Космополитизм переселенцев был вражде¬
бен домострою. Обычаям и мифам, которыми обживался мир. Филосо¬
фы разрушают мир обитания античного человека. Они разрушители.
И поэтому с ними считались. Но их не любили. У греков было много
причин для того, чтобы убить Сократа. И Сократа убили. А Платона с
Аристотелем не успели. Они сами умерли.
В России деструктивная функция философии была реализована ин¬
теллигенцией. А позитивную функцию русские видели в поисках доро¬
ги к дому. Поэтому они стали создавать миф, который делал Россию
миром обитаемым. Обжитым. Ни один русский интеллигент не был фи¬
лософом. И никто из русских философов не стал интеллигентом.
Всякий философ должен уметь читать. Ведь если ты не научишься
читать, то ты не узнаешь, что философ — это не тот, кто научился читать
философские тексты. Не тот, кто комментирует прочитанное. То есть
представление о первичности письма, текста ошибочно. Не письмом, а
голосом создается состояние философствования. Философ — это тот,
кто говорит, а его не слышат.
Философ начинает говорить, чтобы узнать, что философствование
не совпадает с речью. Говоримым словом не исчерпывается философия.
Поэтому философом оказывается не тот, кто умет говорить, а тот, кто
умеет молчать и слушать.
Философия — не состояние языка, а стремление к безъязыкому.
Дословному. А оно может быть не только в речи, но и в повседневности,
в быту. Умение слушать речь повседневности, понимать язык улицы от¬
личает философа от нефилософа. Человек, встретивший немотствующее
и решившийся дать ему слово, становится философом. Философия — это
трудное дело сопряжения языкового и безъязыкового, слова и дослов¬
ного, наблюдаемого с ненаблюдаемым.
Если бы философия была наукой то она знала бы нечто содержа¬
тельное, А всякие содержания случайны. Занимаясь случайными веща¬
ми, философия перестала бы быть философией. Поскольку предметом
философии является сама философия, постольку у нее нет специаль¬
ного языка. Философия — это прежде всего метафизика, т. е. граница
между большинством, которому философия непонятна, и меньшин¬
ством, которое ее понимает. Современная философия утратила свой
метафизический характер, ибо она непонятна самим философам, мень¬
Конфигурации
15
шинству. Слово «современная» прилагается к философии только с уд¬
военной непрозрачностью. В этом смысле современная философия
возникает во второй половине XX века во Франции, еще раз показав,
что непонимание плодотворнее понимания. Непонятно то, что тебя не
касается. Что тебя никак не затрагивает. Первый протест против фи¬
лософской непонятности носил кинический характер. Он основывался
на замещении слова поступком в предположении, что поступок сам по
себе более понятен, чем слово. Ведь относительно поступка ты всегда
можешь определиться, поставив себя на место так или иначе поступив¬
шего. А относительно слова нельзя определиться. Оно текуче, зыбко и
обратимо.
Люди — это обыватели. Как обыватели мы имеем право на баналь¬
ность и на уют в тихой повседневности быта. Наше воображаемое отби¬
рает такие желания, которые не выходят за пределы подручного мира.
Сознание, пригодное для повседневной жизни, состоит из образов, пе¬
реживание которых является одновременно и языком их понимания.
Сами собой понятны эмоции и наглядные картинки. Философия когда-
то вышла за пределы подручного мира, привычных схем сознания по¬
вседневности, расщепляя переживаемое и язык понимания переживае¬
мого. Этот выход сделал возможным расширение языка понимания вне
связи с переживаемым. То есть в языке создавалось пространство об¬
мена мыслями и, следовательно, пространство понимания. Но в этом
языке не было места для уже сознания, которое осталось без языка.
Между тем язык создавался не для понимания, а для того, чтобы быть
защитной пленкой уже сознания. Первый язык — это незнаковый язык
эмоций. Это язык, который позволяет воздействовать на другого и не
позволяет другому воздействовать на тебя. И поэтому его составляют
жесты.
К концу XX века философия уже ничего не значила, никого не ка¬
салась, никого не затрагивала. Философия умирала за ненадобностью.
И нужно было либо дать ей спокойно сосредоточиться и умереть, либо
лишить ее удвоенной непрозрачности, заставив соприкоснуться с людь¬
ми. Поиски соприкосновения философии с повседневной жизнью чело¬
века и послужили основанием для установления антропологических
конфигураций философии, из которых следует несколько вещей:
1. Нельзя рассматривать язык вне связи с человеком, а человека — вне
связи с воображаемым.
2. Сознание относится к сфере эмоций, а не мыслей. И за сознание идет
борьба между эмоциями и мыслью.
3. Происходит театрализация теоретического дискурса, т. е. извлече¬
ние неозначенных смыслов уже сознания, а также визуализация
пространства понимания, в котором переживаемое дано вместе с
языком его понимания. В этом суть кризиса так называемого поня¬
тийного мышления, которое сегодня заменяется клиповым мышле¬
нием.
Глава I
16
4. Современная философия обладает двойной непрозрачностью. Она
перестала быть делом мысли и стала делом языка. То есть ее непо¬
нятность носит уже не метафизический характер, а языковой.
Дело в том, что классическая философия складывалась при малых
событийных скоростях, которые позволяли создавать и сохранять про¬
странство невозмутимости и созерцания. Они позволяли извлекать смыс¬
лы. И люди могли жить осмысленно.
Современная философия существует при таких скоростях смены
одного события другим, что нет никакой возможности извлекать смыс¬
лы, расширять сознание. А это значит, что мы начинаем жить в режиме
неизвлеченного смысла.
И вот этот режим заставляет философию искать связи с сознанием
повседневности, с образом, а не с мыслью.
Возвращение к понятности, наглядности, обозримости в пределах
сознания повседневности радикально меняет философию. Она теря¬
ет трансцендентальный характер и совершает антропологический
поворот. То есть трансцендентальная антропология в принципе не¬
возможна.
Современный философ уже не может работать так, как работали в
XIX-XX веках. Он не имеет право писать огромные тексты с пустыми
смысловыми воронками и с чудовищно развитой терминологией. Хотя
бы потому, что такие тексты никто никогда не прочтет в силу того про¬
стого факта, что ни у кого более не будет времени на чтение. Философ¬
ские тексты должны быть компактны, с плотной смысловой упакован-
ностью и при этом они должны быть литературными текстами, т. е. они
должны радовать, смешить, огорчать и очаровывать.
Претензии философии на универсализм, кажется, потеряли сегодня
всякие оправдания. Нельзя мыслить мысль вне связи с тем, что мыслит
человек. А если мы признаем эту связь, то тогда нам нужно признать и
регионализацию философской мысли. Тем самым антропологический
поворот философии ясно указывает на ее локальность.
Любимый предмет философии — это сама философия. Отказ фило¬
софии говорить о себе выводит ее за пределы мысли, за пределы ее соб¬
ственного языка, хотя он мало чем отличается от естественного языка.
За этими пределами философия начинает говорить чужим голосом, не
своим языком. В самооговаривании философии есть свой смысл. А имен¬
но: растворение Я. То есть люди любят говорить о себе, и это хорошо.
Но это не философия. Ибо никакое Я не может говорить о себе в момент
философствования. Так вот, философские суждения возможны на уров¬
не универсального Я.
Говорить о человеке на языке философии, говорящей о самой себе,
можно в том случае, если мыслить — значит говорить с собой о себе без
свидетелей. Философ говорит с собой в пространстве нулевого дискур¬
са. Речь, обращенная к другому, помещает тебя в последовательность,
которой не предшествовало целое. Следовательно, философский акт
Конфигурации
17
совершается в речи, обращенной к самому себе. Ибо эта речь коренится
в образе, в целом.
2. Немецкий проект антропологии
Философская антропология, возникшая в Германии в первой поло¬
вине XX века, с самого начала была ориентирована на создание некоей
науки о сущности человека.
Новое время закончилось Первой мировой войной. После Первой
мировой войны некоторые люди еще удивлялись и недоумевали. А где
же разум? Где культура? Что с прогрессом? Ведь это как-то не по-чело¬
вечески — убивать людей.
На волне недоумения возник экзистенциализм. Но было в нем что-то
суетливое. Французское. На этой же волне в Германии появилась фило¬
софская антропология. Она появилась солидно. С налетом научности.
В 1915 г. М. Шелер написал «Идею человека». Написал скучно. Без ку¬
ража. Кураж у него появится десять лет спустя. И это будет «Положе¬
ние человека в космосе». В 1928 г. состоится пробуждение Г. Плесснера,
который опубликует работу под названием «Ступени органического
роста и человек». За ним объявятся А. Гелен с «Человеком», Э. Ротхакер,
В. Зомбарт, Х.-Э. Хенгстенберг, К. Хорни. Некоторым из них понравит¬
ся новоязыческое содержание идей нацизма. Например, Зомбарту и
Ротхакеру.
3. Почему должна быть уничтожена онтология?
Итак, с одной стороны, трупы и безумие, а с другой, — философская
антропология, построенная немцами в предположении, что человек —
это центр, исходный пункт всякой философии. То, откуда уходят и куда
возвращаются. Если бы человек не был центром, точкой отсчета мысли,
то мысль стала бы нам чужой, враждебной в своей непонятности. Ма¬
шина отчуждения мысли была создана также в Европе. Ее стали называть
метафизикой и онтологией.
Философская антропология бросает вызов онтологии, растворяя ее
в себе. Ведь если ее не растворить, то она сместит человека из центра
бытия, превратит его в маргинальность, во что-то случайное, необяза¬
тельное. В мире антропологической необязательности убивать людей не
страшно. Мировой войны в нем трудно избежать. Это наивные греки
полагали, что в мире есть вещи поинтереснее человека. Они и придума¬
ли философию, ориентированную на космос. А немцы захотели их поп¬
равить. То есть сделать философию более человечной. Вот Фейербах.
У него философия — это антропология. В ней человек — центр. Все оп¬
ределено через него. Он мера всех вещей. И поэтому человеку просто и
ясно в мире, в котором нет ни отчуждения, ни непонимания. Метафизи¬
ка децентрирует человека, отсылает его на периферию, к природе, где
он получает определения. А это натурализм, сопряженный с эстетикой
телесности.
2
1920
18
Глава I
Философская антропология манифестирует простые идеи. 1. Человек
всегда центр. И этот центр везде. А периферия нигде. 2. Философия — это
антропология. Вернее, это философская антропология, которая вяжет
и связывает мир в одно целое. 3. Онтология и метафизика, напротив,
затемняют мир. Отчуждают его. Онтология — это война с человеком.
Деантропологизация мира. И поэтому она должна быть уничтожена.
4. Параноики и шизофреники
Немцы изменили грекам. М. Шелер написал сочинение «Гений вой¬
ны» и предложил проект новой философии, ибо старые формы упро¬
щения мира уже не работали. С греческой философией в новых услови¬
ях уже не выживешь. Ведь в нашем мире сколько «я», столько и точек
зрения. Картин мира. А они несовместимы друг с другом. Выжить в мире
поименованных других с несовместимыми точками зрения нельзя. Ибо
эти точки вступают в борьбу между собой и затем вовлекают в нее людей.
Тяжба теней заканчивается борьбой среди людей. А это плохо. Человек
становится для себя проблемой.
Проблема первая. Человек перестает существовать вне зависимости
от знака, от языка. И поэтому незнаковый человек исчезает. Умирает.
Остается только язык. Язык порождает человека. И он же его убивает.
Этот страшный вывод сделали шизофреники Франции.
Проблема вторая. Если человек больше, чем дискурс, то он не озна¬
чен. В мире нет таких знаков, которые бы указывали на него, на его при¬
сутствие. Тогда как его узнать независимо от знания? Вероятно, в пред¬
положении, что Человек есть нечто единое. Вот на нем-то, на этом фун¬
даменте единого и необходимо сделать синтез, создать монодискурс,
построить целостную картину мира. Этот вывод сделали параноики Гер¬
мании, создатели философской антропологии.
Почему философская антропология зародилась в европейском со¬
знании? Почему она не зародилась в России? Потому что в России ни¬
когда не любили человека. И никогда о нем не беспокоились. В России
никогда не было философии. К нам завезли эту форму сознания. И она
пустила у нас корни, различая внутри себя собственно философов и
интеллигентов. Россия стала страной интеллигенции. А это значит, что
негативная работа философии делалась интеллигенцией. Позитивная —
философами. А их в России практически не было. Поэтому все мы от¬
равлены плодами книжной культуры. В Европе книга наращивала мощь
цивилизации. В России она опустошала умы. За все нужно платить. И за
нелюбовь. И за знание. Если есть спрос на онтологию с метафизикой,
то его нужно удовлетворить. И рыночное европейское сознание его
удовлетворяет ценой редукции человека. Ибо существование феномена
человека разрушает однородность и непрерывность логических преоб¬
разований метафизиков. Разрушает представление о рационально уст¬
роенном мире. Любовь к знанию оказалась несовместимой с любовью к
человеку. Знание проектируется нечеловеческим взглядом на мир.
Конфигурации
19
Запад потерял человека. Забыл дорогу к нему. Восток сохранил. По¬
этому Запад идет на Восток. Этот диагноз поставил К. Юнг.
Что значит «потерял»? Это значит, что Европа расплатилась чело¬
веком за науку и технологии. За знание законов природы. Ибо знание
природы достигалось ценой незнания человека. Европейская философия
имела дело с какими-то химерами: с экзистенцией, трансцендентальны¬
ми субъектами и рабочей силой. А не с человеком.
Человек — это просто дыра в онтологии европейского сознания.
Пустое место. Философская антропология является попыткой залатать
эту дыру в онтологии. Попыткой вернуть человека в лоно рационально¬
го сознания. Поймать его. Европейскому сознанию хотелось системы.
Порядка. А системы не получилось. Множились дискурсы, языки. Ме¬
тафизические разрывы. Стремлением к синтезу, к связыванию многого
единым жила философская антропология. Человек был интересен как
основа антропологического синтеза. Пока у человека были привилегии,
он размещался на вершине эволюции. А затем его лишили привилегий,
т. е. ума. И после этого его надо было куда-то девать. Как-то разместить.
Философская антропология стала администратором европейского со¬
знания. И в этом смысле в ней реализован примитивный способ мышле¬
ния. Что-толиннеевское. «Философская антропология» стала неудачей
европейского сознания.
5. Философ узнает себя как эксперта
В современном обществе философия является профессией. Работой.
И как работа она предполагает материал. Философ работает с языком,
будто столяр с деревом. Философия перестала быть поступком. Делом
личности. Для личности вообще не находится никаких дел. Оказавшись
невостребованной, она тихо съежилась. Угасла, ибо философ стал экс¬
пертом.
Ни у одного философа нет больше мыслей. Если бы они были, то
философы работали бы не с языком, а с мыслями. Задача философа —
создать свой язык. Чтобы на этом языке говорить о самом языке. Но
философская антропология невнимательна к языку. Она старомодна и
по-старинному содержательна.
Поскольку гуманитарные науки строят свой предмет в поле языка,
поскольку они не науки, у них нет предметного представления. Они толь¬
ко мыслят, но не познают. У них есть символы-и нет понятий. Чтобы
снять запрет на гуманитарные науки, чтобы вернуть им познание, им
нужно было дать представление. Сначала это пытался сделать Гегель,
который объявил о том, что нет пределов для понятий, что символы —
это недоразвитые понятия, что им место в искусстве. И поэтому нет
ничего, чтобы было пределом для языка. Гегель растворил единичное во
всеобщем, редуцировал из языка неязыковое. И ему можно было не опа¬
саться, что слова присохнут к языку. Гегель как бы говорит философии:
мели Емеля, нет никаких запретов для тебя, все можно. Кассирер дела¬
2*
Глава I
20
ет то же, что и Гегель, только с обратным знаком. У него символ — ми¬
ротворец, это то общее, что объединяет и науку, и мифологию, и искус¬
ство. Но единичное уже нельзя свести к общему. А поскольку сущест¬
вует единичное, а познается общее, постольку существование избегает
понятийного исчерпания, в ней кое-что остается и для символического
понимания.
Флоренский радикально переосмысливает проблему символа, пред¬
лагая, что не мыслимое нужно дополнять знанием, а познанию нужно
вернуть мыслимое. Для этого он отождествил символ и символизируе¬
мое. Но Леви-Стросс этого не знал, и поэтому продолжал создавать
предмет гуманитарных наук в пространстве языка, полагая, что язык
уже сам по себе может служить основанием для объективности, пос¬
кольку он не подчиняется человеческому произволу. Поэтому он пред¬
полагал, что по аналогии с языком возможно познание других симво¬
лических систем связывания единичного в общее; а именно: искусства,
мифов, религии, брачных правил.
Философия субстанциальна, т. е. она может быть подлежащим, а
язык делает из нее какое-то прилагательное. Что-то содержательно ска¬
зуемое. Следовательно, все языковые формулы, в которых философия
полагается как прилагательное, подозрительны. В них возможен обман.
Язык выстраивает какие-то классификационные ряды и помещает в
них философию как прилагательное. Зачем?
М. Мосс во Франции, а Ф. Боас в Англии придумали социальную
антропологию. Затем появились политическая антропология, культур¬
ная антропология. А это значит, философия стала одним из многих имен
антропологии. Почему антропология мыслится как подлежащее? И что
о нем может высказать философия?
В основе социальной антропологии лежит запрет на то, чтобы чело¬
век понимался в качестве чего-то произвольного. Случайного. Как по¬
рождение социума. Ведь если снять этот запрет, то окажется, что соци¬
ум можно изучать вне зависимости от человека. От того, есть он или нет.
Но тогда нельзя будет изучать суеверия и примитивные сообщества.
А изучение суеверий — одна из задач социальной антропологии. Соци¬
альная антропология делает невозможной мысль о социуме самом по
себе. Она представляет его как проекцию человека. Невозможность
мысли о социуме дополняется невозможностью помыслить культуру.
С этим связано возникновение культурной антропологии. Равно как не-
мыслимость политики обусловливает существование политической ан¬
тропологии.
Философская антропология может быть понята как невозможность
для мысли помыслить саму себя. А поскольку никто не хочет в этом
признаться, постольку философскую антропологию выдают за знание
того, как представлен человек в различных философских рассуждениях.
Это значит, что философия редуцируется к истории, которая знает, что
когда-то были философы и они что-то говорили о человеке. А потом
Конфигурации
21
они умерли и попали в музей. С тех пор мы — музейные работники,
культурологи, рассказывающие о тех, кто рассуждал о человеке. Они —
философы. Мы — трансляторы. Или обыватели. Мы даже не вписываем
их рассуждения в контекст того, что самоочевидно только для нас. Мы —
историки философии, т. е. люди, говорящие о философии под давлени¬
ем культуры, исторических обстоятельств. А философы, видимо, умели
ускользать из-под этих давлений истории.
Иными словами, философская антропология — это способ небыва-
ния нас философами, отделывания от философии. Указание на невоз¬
можность непосредственного восприятия человека. Ибо наше воспри¬
ятие уже концептуализировано. Его у нас еще не было, а мы уже что-то
знали. И это знание не может не настораживать, обращая нас к языку,
к самому выражению «философская антропология». Словами «фило¬
софская антропология» создается патовое пространство, в котором,
куда бы ты ни пошел, ты никуда не придешь. Безрезультативность дей¬
ствия обнаруживается словом «патовое» и сказывается в слове «фило¬
софская». Любое прилагательное приостанавливает прямое действие
подлежащего. И преобразует его. И в этом преобразовании оно не за¬
висит от наглядных картин реальности. Поэтому-то философскую ан¬
тропологию нельзя представлять как обобщение некоей антропологии.
Ибо это глупо. Ведь антропология — наука. И обобщать ее можно сред¬
ствами науки. А если философская антропология — это наука, то у нее
должны быть предмет, метод, язык и прочее. Философия — это София.
У нее одна природа. Антропология — это логос. У нее другая природа.
Философская антропология является продуктом сопряжения разных
природ. Это некий кентавр: полуфилософия и полунаука. То, что своей
неполнотой, своим «полу» может ввести в заблуждение.
Итак, само понимание феномена философской антропологии зави¬
сит от ответа на вопрос: является ли философия наукой или нет?
В свое время греки создали миф о кентавре. И этим мифом соедини¬
ли подобное с неподобным. Создали «полу».
Некогда жил-был Иксион. Царь лапидов. Это был хороший царь.
И боги решили отметить его. Выделить. Устраивая пир, Зевс пригласил
на этот пир Иксиона. Конечно, Иксион не отказался И вот сидит он на
пиру среди богов. Ест и пьет. Ему бы не пить, а он меры не знает. На¬
пился. И пьяный положил глаз на богиню. На Геру, жену Зевса. И при¬
ставать к ней стал. Зевс спрятал Геру. Закрыл ее облаком. А Иксион
принял облако, т. е. Нефелу, за Геру. И совокупился с ним. И Нефела
родила кентавра. Уродца. Получеловека. Полулошадь. Сам этот урод
ни в чем не виноват. Но полноты в нем нет. Ибо бытие соединилось в
нем с небытием. С образом бытия. Его тенью. Так вот таким Иксионом
стал Шелер. Его Нефелой — философия. А кентавром — философская
антропология.
Можно ли говорить о человеке на языке философии, говорящей о
себе самой? Как знание философия бесспорно проигрывает науке. По¬
22
Глава I
тому что знание в ней нулевое. А вот онтологически она незаменима, ибо
философия оказывается хорошей машиной существования. В человеке
есть что-то, что существует, если он философствует. То есть философия
сопряжена с существованием, а не со знанием. Она экзистенциальна, а
не гностична. Философия удерживает человека в режиме тавтологии,
самосознания. А это порядок, в котором он есть то, что есть. Человек
есть именно человек, а не что-то другое. Например, не животное. А это
трудно — знать себя человеком, если ты животное. И тем самым быть
человеком. Знать, чтобы быть. Вот это знание и составляет антрополо¬
гический смысл философии, накладывающий запрет на то, чтобы фило¬
софия понималась кем-то как наука. Как гнозис. Философия — это не
наука. Если бы она была наукой, то тогда у нее был бы предмет. Всякие
знания существуют предметно. А у философии нет своего предмета. По¬
тому что если бы у нее был свой предмет, то она перестала бы занимать¬
ся самооговариванием. И стала бы инженерией знания. Технологией
извлечения знаний из разных научных предметов. Науки производят
знания, а философия выковыривает их из предметной скорлупы и спря¬
гает в одном концептуальном пространстве. Как бы создает картину мира.
Обобщает. Так вот, это иллюзорное представление о философии. У фи¬
лософии нет своего языка. И поэтому она говорит на том языке, который
есть. Язык — один. И у философа, и у пастуха. Естественный. На нем мы
говорим и о стаде, и о себе. На этом же языке мы и философствуем.
И поэтому философ не может не вступать в борьбу с языком. Язык го¬
ворит одно. А мы хотим сказать другое. Ведь какой смысл говорить то,
что говорится языком? Что само собой разумеется и всем понятно? За¬
конченным значениям, означенным смыслам философ противопостав¬
ляет пространство неозначенных смыслов, незаконченных значений.
Всепонятность — модус забвения. То есть чтобы понимать, надо за¬
бывать. И забытым понимать. Так вот, все забывают, а философы помнят.
И сквозь гул понимания они слушают язык забытого. И рассказывают,
а их не понимают. Философия всегда имеет в виду не то, что обычно
имеется в виду, и говорит не о том, о чем говорят. У нее немая речь.
И дословное письмо.
В русском языке слово «философ» означает еще и что-то легкое,
вербальное, подвешенное к языку. Философом быть не трудно. Нужно
уметь говорить. И только. Хотя трудно постоянно говорить о себе. Фи¬
лософия и есть это постоянное говорение о себе самой. А чтобы не воз¬
никло какого-нибудь соблазна, какой-нибудь паузы в говорении, при¬
думан Цринцип тождества бытия и мышления, субъекта и объекта. Бытие
вне мышления соблазнительно. Ведь каждому хочется еще и пожить, а
не просто мыслить. Хочется найти что-нибудь содержательное, какую-
нибудь объектность, т. е. найти не себя, а другое. И вот только философ
соблазнится бытием вне мысли, или объектом без субъекта, как ему
культура напоминает о принципе тождества. Только нефилософы могут
нарушать принцип тождества и вожделеть.
Конфигурации
23
Отказ философии говорить о себе выводит ее за пределы мысли. За
этими пределами философия начинает говорить чужим голосом. Не сво¬
им языком, а языком, например, филологии. Или физики. То есть науки.
И даже языком улицы. Ни один философ ничего содержательного не
сказал. И не может сказать.
В самооговаривании философии есть свой смысл. А именно: раство¬
рение Я. То есть люди любят говорить о себе. И это хорошо. Но это не
философия. О каком Я можно говорить? О своем. Мое Я и есть то Я, о
котором я могу говорить. Так вот, никакое Я не может говорить о себе
в момент философствования. Поэтому философские суждения возмож¬
ны на уровне универсального Я или, что то же самое, на уровне транс¬
цендентального Я. Трансцендентальное Я — это ничейное Я, ничье.
У него не может быть притяжательного местоимения. Оно вне сферы
принадлежности.
Итак, философия постоянно говорит о себе самой. Но язык-то у нас
один: естественный. На нем строится наш самоотчет. В пространстве
этого же языка мы и философствуем, т. е. вступаем в борьбу с языком.
Философская антропология определилась как новая структура мыш¬
ления, начиная с «Положения человека в космосе», работы М. Шелера.
«Положение» — пространственный термин. Его можно заменить словом
«место». Во времени нет положения. То есть время детерриториализо-
вано. Философская антропология начинает процесс территориализации
метафизических понятий. Опространствливания. То есть, не решая во¬
прос о сущности человека, не зная его содержание и природу, она же¬
лает поставить вопрос о его месте.
Оказалось возможным, не зная, что такое человек, узнавать место
человека. Ведь место не следует из сущности, природы человека. По¬
этому философской антропологией игнорируется вопрос о сущности
человека. Ее интересуют такие понятия как поверхность, складка, след,
глубина, низ, верх, предел и граница. Всякое место полагает свой предел.
Границу. Между тем ни одна точка поверхности не является привиле¬
гированной. На ней не написано, что она «точка» предела. Или что она
точка отсчета. Ноль. Что же тогда определяет границу, и почему воз¬
можна граница без центра? Граница любого объекта является замкнутой
линией. Определение места в пространстве является определением объ¬
екта. Взгляд субъекта натыкается на поверхность объекта и снимает с
объекта, как с луковицы, один видимый слой за другим. Каждый слой
является прозрачным. С объекта снимают, а на стороне субъекта нара¬
щивают толщину очевидности. Полная очевидность на стороне субъек¬
та сопровождается опустошением объекта. Пустотой.
6. Предрассудок экзистенциальной философии
Место человека всегда не занято. Пусто. Если бы место человека
было занято, то человек был бы уже до человека. И не было бы вопро-
шания человека о человеке. Никто не ставил бы себя под вопрос.
Глава I
24
Никто из людей не находится на своем месте. Все беспокойны. И по¬
этому общество можно рассматривать не как то, что состоит из людей,
а как коммуникацию пустых мест, как сообщающиеся сосуды. Философ¬
ская антропология возможна, вопреки мнению ее основателей, как ан¬
тропология пустых мест. Как антропология без человека. Ибо люди —
это не что иное, как естественная среда коммуникации.
То есть человек — это пространство встречи случайных содержаний.
Место, куда сбрасываются отходы человеческих коммуникаций. Куль¬
турный мусор. Но полнотой существования не заполнить изначальную
пустоту человека. Поэтому нет необходимости против человека ставить
человека. Достаточно видимости человека, чтобы управлять человеком.
И видимости истины, чтобы править истиной.
Предрассудок экзистенциальной философии состоит в том, что она
полагает, будто есть место человека в мире. Его надо только найти. И за¬
нять. И тогда произойдет антропологическое событие. Рождение чело¬
века. И мир будет все время нов. За новизну, за то, что в мире что-то
происходит, экзистенциальная философия расплачивается идеей о том,
что мир неполон. Неокончателен. У экзистенциалистов человек ищет
свое место так, будто он ищет клад. Но в мире нет такого места, которое
было бы для тебя. Твоим. Чтобы оно ждало тебя. Место человека не ждет
человека. Человек — это скорее утопия. Место, которого нет в мире
полного взаимодействия субстанций.
Если место человека всегда пусто, если там, где он должен был быть,
его нет, то это значит не только то, что оно пусто. Это значит, что все
мы неуместны и всем нам нужно ответить на один и тот же вопрос: Как
жить в мире, в котором ты занимаешь не свое место? И что это за мир?
Какие следствия в нем возможны? Философский антрополог говорит,
что человек онтологически пуст, полагая, что в нем есть что-то такое,
что содержательными связями мира не объяснить.
Если бы место человека было занято человеком, то не было бы глу¬
пых людей. А ведь глупым быть естественно. Естественно, что в наших
головах мысль существует по законам другой головы. Место истины
также пусто. Ничто не истинно. И это нормально. Пока место человека
не занято, его мышление неполно. Не завершено. Место ума пустует.
И все глупо. Мышлению всегда не хватает какого-то фрагмента, какой-
то части, чтобы заполнить пустоту мысли. Достроить ее до истины. Без
заполнения пустоты мысли никакое знание нельзя оценить как досто¬
верное1.
В антропологическом знании есть пустота, провал в дословное. Са¬
мопознание человека не может быть рефлексивно завершено. В нем есть
дыра, которая влечет мышление к бесконечным попыткам ее стянуть,
заштопать, достроить. Мышление — это бесполезная страсть найти ис¬
тину.
Мышление отворачивается от поисков объекта и начинает занимать¬
ся собой, обращая внимание на себя. Неполнота искушает мышление,
Конфигурации
25
притягивает его к себе. Мышление, мыслящее самое себя, это и есть клас¬
сическая философия.
7. Когда обычная речь становится философской?
Что же превращает обычную речь в философскую? Какова структу¬
ра ситуации, в которой твоя речь становится метафизической, а твой
язык превращается в язык философии? Важнейший элемент этой ситу¬
ации — встреча с немотствующим. С безгласным. Эта встреча меняет
твою речь. Она становится косвенной. Окольной. Философия косно¬
язычна. Кто хорошо говорит, тот не философ.
Второй элемент ситуации — это стремление дать слово дословному.
Вернуть голос безгласному. Любой философский текст должен пройти
испытание голосом. Пройти испытание, чтобы стать литературой. Фи¬
лософ не столько ученый, сколько артист. Его речь не только исследует,
но и занимает.
Из того факта, что философия занята собой, следует, что человек не
является центром философии. Не к нему ведут ее пути. Если бы все пути
философии вели к человеку, то онтология стала бы антропологией. Но
человек смещен из центра. И поэтому существует онтология как непре¬
рывно возобновляемое усилие по смещению человека из центра. Несов¬
падение центра и человека, смещение самого центра позволяют говорить
об антропологических конфигурациях философии. Невозможность го¬
ворения о человеке из одного центра, по одному правилу заставляет
ввести представление о метафизических складках человека. Эти складки
образуются в результате наложения трансцендентного и эмпирического
миров. Мистериальной встречи абсолютного и относительного. За эмпи¬
рическим содержанием всегда можно найти мистериальное содержание.
Но между ними нет логически однородного перехода. А это значит, что
установление антропологического смысла редуцирует метафизическое
содержание, а установление метафизического измерения событий бло¬
кирует антропологическое содержание. Обнаружение метафизического
содержания основано на постепенном устранении следов человека в язы¬
ке и обнаружении контрфактуального, метафизического. Редукция ме¬
тафизического ведет к установлению антропологического смысла. Ме¬
тафизические складки образуются по четырем модусам: ускользания,
расширения, рождения и заполнения человеческого в человеке.
Философская антропология распадается, с Одной стороны, на изу¬
чение антропологических конфигураций философии; а с другой — она
проясняет вопрос о метафизических складках человека.
Везде следы человека. Всюду он наследил. Все заполнено антропо¬
логическими конфигурациями. Особенно язык. Он не только простран¬
ственно-временной. Он еще и антропологический.
Например, понятие пустоты. Оно является не физическим, а антро¬
пологическим. Если бы оно было физическим, то тогда отсутствие вещи
предшествовало бы ее присутствию. Что нелепо. Пустота носит вербаль¬
Глава I
26
ный характер. Она образуется с появлением слова, которое отделяет и
затормаживает. И в этой отгороженности возникает пустота, которую
нужно чем-то заполнить. Но чем? От характера заполнения пустоты
зависит образование метафизических складок человека. Возможны че¬
тыре фигуры заполнения: бог, другой, тело, сам. Эти фигуры делают
возможными четыре складки человека: трансцендентной, коммуника¬
тивной, позитивной и личностной.
Иными словами, сначала человеку нужно было обнаружить пустоту
в себе, чтобы затем ее можно было объективировать. Представить как
мировую пустоту. Поэтому, если пространство мыслится как пустое
вместилище вещей, то не потому, что оно пустое само по себе. А потому,
что макрокосм сопряжен с микрокосмом. Антропологически пустота
может узнаваться как доминирование неудовлетворенных желаний. Или
как привилегия, которой мы лишены. Ненасытность человека объекти¬
вирована в физическое представление о пустоте. Тогда же как антропо¬
логической конфигурацией представлений о пространстве как последо¬
вательности вещей является страсть к переменам. К новизне.
Любой философский жест античеловечен, направлен против антро¬
пологии. Потому что всякий философ начинает чистить метафизические
швы, стирая антропологические следы, убирая языковой мусор.
Так появляется философская речь. Философия прилагается к речи.
Но это приложение означает только ту речь, которая появляется после
работы философа. После дегуманизации языка. В паузе того, что не
осело еще смыслами. Философы переводят смыслы в подвешенное со¬
стояние, стирая следы человека, разрушая мифы. Они видят, что они
разрушают, и знают, что пишут на том месте, где были эти следы. Но
философы смертны. Никто из них не сможет полностью записать уви¬
денное. После них остаются какие-то знаки. Фрагменты. Что они озна¬
чают? На что указывают? Куда ведут? Как нам это понять? Кто их нам
истолкует? Ведь когда в языке были антропологические следы, мы про¬
сто шли по этим следам. И все было понятно. Ты был в центре. Все было
обжитым. И ты был как дома. А тут их стерли. И наметили какие-то
знаки. А какие — неясно.
Так вот, каждому человеку нужно самому попробовать стереть сле¬
ды человека в языке, разрушить миф и увидеть метафизическую под¬
кладку, расставляя метки, знаки. Потому что только этими, нами начер¬
танными знаками мы можем понять то, что нам сказали философы. Что
говорят! ими расставленные знаки. То есть философия существует как
интерпретация философии.
§ 2. Антропология виртуальности
Виртуальная антропология строится в предположении, что вирту¬
альный человек является более фундаментальной категорией, чем ко¬
нечный человек, понимаемый hie et nunc, здесь и сейчас.
Конфигурации
27
«Виртуальный человек — это человек, в котором есть место для
несуществования естественности»1. И это место предназначено для
его самоактуализации. Для того, что бесполезно. То есть виртуальный
человек — это самоактуализирующийся человек, аутист, а реальный
человек — это конечный человек. Человек для существования, для воз¬
можного.
В каждом человеке есть место для неосуществимого, для нереаль¬
ного. И в этом смысле в каждом человеке есть виртуальная сторона,
существование несуществующего, независимого от сцепления причин и
следствий. Место в человеке, предназначенное невозможному, должно
заполняться культурой, а не чем-то иным. А оно предстает как пустота
и заполняется естественным содержанием. Там, где должна была быть
самоактуализация бессодержательного, избыточного, появляется при¬
чинное содержание конечного. Место неосуществимого заполняется
осуществимым. Например, на месте невозможного появляются алкоголь
и наркотики, чувство страха и агрессии. И эти формы заполнения ста¬
новятся содержанием культуры. Если антропологическая виртуаль¬
ность — это пустая избыточность, т. е. сама неосуществимость, то ан¬
тропологическая реальность — это заполнение избыточности как пус¬
тоты чем-то иным, содержательным. Другими словами, конечный человек
является результатом заполнения виртуальности причинно обусловлен¬
ными содержаниями. А они естественны, и поэтому для того, чтобы они
были, не нужны какие-то специальные условия. Они существуют сами
собой. Обмен значениями между избыточным и конечным ведет к появ¬
лению симулятивных пустот культуры. Симуляция превращает вирту¬
альность в способ своего существования. Потому что виртуальная ре¬
альность вытесняет реальность самого по себе, того, что существует до
рассказа о реальности.
Виртуальная реальность, потеряв связь с дословным, неосуществи¬
мым, предстает теперь как эффект коммуникативных технологий, как
превращенная форма. Слово «виртуальный» указывает на исчезновение
реальности, если под реальностью понимать то, что оказывает сопро¬
тивление, мешает, показывая тебе пределы и границы. В сопротивлении
реальности рождалась идея самой реальности.
Внутренний план ориентирует человека на самого себя. Внешний
план ориентирует на другого. В первом случае дает о себе знать язык
дословного. Во втором — коммуникативный язык. Между коммуника¬
тивными и дословными структурами возникает конфликт. В результате
конфликта сужается горизонт дословного и расширяется горизонт ком¬
муникативного. Этим расширением создаются симулятивные пустоты.
Пустота — это не то, что было изначально пустым. Это след, оставлен¬
ный тем, что было и ушло. А оставшееся место не могло не наполниться
иным содержанием. Там, где могла быть дословность, оказалась комму-
См.: Носов Н.А. Виртуальный человек. М., 1997.
Глава I
28
никация. А это значит, что нет больше глубины внутреннего, где рож¬
дались бы смыслы и куда можно было бы скрыться. Все оказывается на
поверхности. Поверхностным. Пока было внутреннее, была и реальность.
И что-то в ней было осмыслено и означено. Расширение коммуникатив¬
ного действия ведет к разъединенности события и смыслов. К бессмыс¬
ленности. Смыслы рождаются внутренним планом, события — внешним.
Вытеснение структур дословности ведет к замещению смыслов событи¬
ями, внутреннего плана человека — внешним. Наращивание событийно¬
го состава мира ведет, в свою очередь, к расширению его внешнего пла¬
на, к появлению виртуальной реальности, которая, оставаясь феноменом
поверхности, заменяет то, что раньше называлось душой. Виртуальная
реальность — это способ заполнения симулятивных пустот человека.
Разрушение реальности начинается со смысловой неустроенности,
с потерей понятности мира. Ориентация на внешнее, на форму, с помо¬
щью которой надеются вернуть смысловую обитаемость мира, отличает
бунтовщика от обывателя. Бунтовщик коммуникативен. Любой диалог —
форма коммуникации. Обыватель дословен. Немая речь — язык дослов¬
ности, это речь, обращенная к себе самой. Немая речь некоммуникатив¬
на, ибо она исключает возможность существования другого. Коммуни¬
кативная речь диалогична. В ней раскрывается пространство уловок и
обмана. Ложь — коммуникативна, а правда — некоммуникативна. Немая
речь сужает поле спекуляций и безответственности в рамках коммуни¬
кативно-организованной культуры. Пауза в речевом обрабатывании
другого обозначается в качестве феномена примитива. Немая речь при¬
митивна. В ней есть значения и нет слов. Например, немой является речь
крестьянина. Тогда же как речь интеллигенции коммуникативна, ибо в
ней нет значений, а есть только слова. Утаивание пустоты составляет
особый дискурс коммуникативной речи. В немой речи археоавангард
пытается найти следы голоса дословного.
Бунтарь использует диалог для того, чтобы разрушить внутренний
мир, оборвав немую речь дословного и расширить горизонты присут¬
ствия другого. Бунтарь покидает мир внутреннего, чтобы изменить пред¬
метный мир. Этот мир сопротивляется. Но его нельзя осмыслить, при¬
нять, потому что для него нет внутреннего плана, рождающего смыслы.
Бунтарь решает устранить «чтойность» сопротивления этого мира, т. е.
устранить реальность. Обыватель ускользает от реальности в складках
внутреннего мира, предпочитая бессобытийный состав жизни.
На'смену бунтарю-революционеру приходит тот, у кого нет души.
Кто полностью задан коммуникативными структурами, определяемыми
другим. То есть тот, кто раскрыт событиям и сам представляет себя в
качестве события. Но за эту открытость нужно заплатить потерей смыс¬
лов. Мир становится абсолютно бессмысленным. И в то же время он
сопротивляется. Виртуальный человек настроен революционно, ибо он
желает изменить мир, не покидая поверхности событий, не превращаясь
в обывателя. И поэтому создание виртуальной реальности в качестве
Конфигурации
29
дополнения к событийному составу мира дает шанс для выживания бун¬
товщика, для связывания энергии бунта. Виртуальный человек — это
симулятивный революционер, расширяющий пустоты культуры.
Дословность фиксирует ускользание бытия. Если бытие — это ус¬
кользание бытия, то что же остается постоянным в глубине ускользания?
Нечто временное, требующее непрерывного возобновления. То есть
симптоматикой ускользающего бытия являются новизна и слово, ибо
все преходящее условно. Отождествив временное и условное, нужно
искать не противостояние временному и условному, ведущим в беско¬
нечный тупик, а уклонение от встречи с условным. Спасение от времен¬
ного не в вечном, а в дословном. Дословность укрывает безусловное от
бесконечно расширяющегося действия слова.
Дословность предстает в виде быта, тихой повседневности, невер¬
бальной составляющей мысли и слова. Археоавангард реанимирует вни¬
мание к жесту, эмоции, восприятию, чувствам, мистериальным порядкам
бытия.
Итак, с утратой внутреннего мира человек теряет способность к об¬
новлению мира. Одновременно с утратой он и приобретает. У него по¬
является форма. Освобождение от души, от внутреннего плана бытия
является условием существования формы. Но форма — понятие повер¬
хности, того, что не имеет внутреннего. Нельзя что-либо оформить, не
потеряв смысл. Без смысла мир форм необитаем. Непонятен.
Можно ли, оставаясь в пространстве событий, вернуть смысл? По¬
нятность обжитого мира? Если сцепление форм культуры оказывает
сопротивление, то, ускользая от этих форм, убегая от того, что оказы¬
вает сопротивление, человек не может не создать виртуальную реаль¬
ность. Ибо она замещает смысл, обитаемость и душу.
§ 3. Археоавангард
Философия — это встреча с немотствующим. И рассказ об этой
встрече. Мыслить — значит рассказывать себе. Говорить с собой без
свидетелей. Без другого. Другой — это язык. А ты — это что-то неязы¬
ковое. Философ говорит с собой без языка, в пространстве нулевого
дискурса. И поэтому он говорит в терминах очевидности. То, о чем он
говорит, и то, как (посредством чего) он говорит, неотличимо. Никому
не нужен язык для разговора с собой. Для того, чтобы встретиться с
немотствующим.
Говорить с собой — это значит отказываться от языка. Язык тебя
связывает с другим. Однажды ты решаешь отказаться от другого. Дру¬
гого уже нет, а язык еще остается. И ты говоришь на этом языке с собой.
И ты по-прежнему говоришь с собой как с другим. Пока не откажешься
от языка.
Если ты не откажешься от языка, то ты всегда будешь говорить при
свидетелях. А свидетель не немой. Он болтлив. У него есть язык. Он зна-
30
Глава I
ет тайну. Секрет. Свидетель всегда может встроиться в твой разговор.
И увести тебя от встречи с собой. Свидетель, сообщенный с языковой
1 тайной, гипнотизирует. Он может стать твоим гипнотизером. Эта воз¬
можность радовала Гегеля. И не радовала Шопенгауэра.
Другой перестает быть другом. И начинает быть Змеем. Язык — это
ветхозаветный Змей. Философский археоавангард накладывает запрет
на разговор с другим. На диалог. Никому нельзя повторять ошибку Ада¬
ма с Евой. Слушать язык — значит подчиняться языку. Готовым смыслам.
И верить в свою невиновность. Никто не невинен, пока говорит язык.
Философ — это первогеометр. Тот, кто впервые что-то узнает. О себе
или о том, что рядом с тобой. Ты что-то узнал и одновременно ты узнал,
что эти знания в рамках твоего сознания. Это твои знания. И поэтому
они не являются объективными.
Нефилософы ищут опору. Поддержку вне себя. Им нужна интер¬
субъективность. Коллективное сознание. Философ остается у себя.
У каждого философа своя метафора. Свой язык.
Притяжательные местоимения указывают на границу языка. Если я
говорю, что это мои знания, то я тем самым говорю, что у меня есть
внеязыковые знания. Все, что находится в пределах моего сознания, то
находится вне языка. И наоборот. Быть в языке — значит быть вне себя,
быть вне пределов своего сознания.
Рассказывая, я объективирую себя. Ибо рассказывать — значит рас¬
сказывать другому. Свидетель-друг записывает рассказанное. Мое, рас¬
сказанное и записанное, — это уже не мое, а что-то объективное. Рас¬
секреченное. Управляемое языком, а не мной. Язык лишает меня моих
мыслей, чувств и созерцаний. Поэтому философия — это попытка най¬
ти место для себя в мысли, в чувстве и созерцании. В языке уже осевших
смыслов. Пока смыслы не осели, пока они не стали готовыми, есть мес¬
то для тебя. Когда они готовы в своей законченности, тогда нет места
для тебя. А есть место логике. И тебе нужно совершать лишь последо¬
вательность действий, указанных культурными образцами. Философ
взбалтывает смыслы, поднимает их и держит во взвешенном состоянии.
Говорить себе — значит говорить о самих вещах. Вне языка. То есть
никто не может говорить себе и одновременно говорить о языке этого
говорения. Это только в языке предполагается раздельное существова¬
ние того, о чем идет речь, и того, посредством чего эта речь ведется. Язык
рефлектирует. И не дает возможности приблизиться к самим смыслам.
В разговоре с собой не нужен знак ни в его указательном, ни в его
выразительном отношениях. На объект указывают. Субъект выражается,
если он хочет что-то сказать. Но в неязыковом разговоре с собой сло¬
ва не могут выполнять ни указательную функцию, ни выразительную.
В нас нет того, на что можно указать. Ибо указывают на другое. И нет
того, что бы ждало выражения. Что бы было сообщено. Нет во мне,
кроме меня, того, что бы я сообщил себе. В разговоре с самим собой
происходит нулевая коммуникация. В речи к себе обнажается пустота.
Конфигурации
31
И молчание, сопряженное с неязыковой пустотой. Ибо присутствую¬
щее непосредственно не видимо. А видимо то, что отсутствует. Язык
ставит в положение отсутствия. Философу интересно непосредственно
присутствующее. Всякая очевидность проста, как нечто нераскладыва-
емое в последовательности. След — не имя настоящего. Или целого в
его дословности. Никто не может в терминах воспроизведения описать
произведение. А в терминах произведения описать реальность, объек¬
тивированную воспроизведением. В речи, обращенной к себе, узнают о
произведении, за которым не последовало воспроизведения. Речь, об¬
ращенная к другому, помещает тебя в последовательность, которой не
предшествовало целое. В пространство воспроизводства, за которым
нет пространства производства.
Если ты не можешь разговорить себя, испытать себя своим голосом,
тогда тебе надо замолчать. Немая речь философа спасает его от обес¬
смысливающей работы языка. Когда люди говорили между собой и слу¬
шали друг друга, они услышали голос Змея. Теперь нам нужно помол¬
чать, чтобы услышать голос Бога. Это первая антропологическая кон¬
фигурация философии.
Все попытки философствующего примириться с другим означают
ускользание голоса дословности. А без голоса невозможно объективи¬
рование немоты. Ускользание немоты принуждает нас натыкаться на
другого. Чтобы мыслить, нужно быть пустым. Все пусто. Везде пустота.
Это вторая антропологическая конфигурация философии.
Современная философия — это рассказ о встрече, которая не со¬
стоялась. Поэтому она живет языком, но не сознанием. Сознание и язык
разошлись, чтобы больше не встречаться. Сознание ушло, а рефлексия
осталась. Рефлексия ведет нас сегодня не к сознанию и не к вещам самим
по себе, а к мертвому языку. К следам ушедшего сознания. К терминам.
Для того чтобы мысль определялась не тем, что вне мысли, а собой,
нужно перестать жить. То есть мысль и существование никак не связаны.
Потому что, если бы они были связаны, то мы бы не существовали. А по¬
скольку мы существуем, постольку мы не мыслим. Это третья антропо¬
логическая конфигурация философии.
После того как рефлексия отделилась от сознания и мы перестали
мыслить, нужно было куда-то деть истину. Археоавангард связал исти¬
ну с существованием. Там, где была мысль, осталась правильность. А там,
где мы существуем, появилась истина. Но узнатьее мы можем мистери-
ально. Правильность погубила мысль. Это четвертая антропологическая
конфигурация философии.
Археоавангард допускает все, что говорилось до него, и все, что бу¬
дет говориться после него. Чтобы быть совместимым, нужно быть без¬
различным. Равнодушным. Философская речь ничего не добавляет и
ничего не убавляет. И поэтому она никогда не обманывает. Нулевой
Дискурс составляет пятую антропологическую конфигурацию филосо¬
фии.
32
Глава I
Всякая мысль есть движение языка из пустоты в пустоту. Движе¬
ние — это перенос значений. Если бы не было пустых слов, пустых смыс¬
лов и пустого Я, то не было бы и переноса. Не было бы движения мысли.
А был бы язык, на котором невозможно мыслить. Ведь язык создавался
не для мысли, а для того, чтобы составить план выражения чувств, эмо¬
ций и страстей. Это потом язык переделывали для мысли. В результате
появилось пустое Я и пустые слова. Поэтому единственное, что философ
может делать, — это перекладывать значения из одного кармана в дру¬
гой. То есть мыслить. И мыслить метафорически. Что образует шестую
антропологическую конфигурацию философии.
Всякий разговор начинается с простого. С разговора. С того, что
устанавливается голосом. С беспредметного пафоса задушевного. Голос
связан с душой, являясь ее объективацией. Самореференция разговора
возникает в момент отсутствия наперед заданного предмета. Разговор
без предмета делает разговор бессмысленным. То есть вступая в разго¬
вор, необходимо преодолевать инерцию бессмысленности в надежде,
что потом, в ходе разговора, появится и предмет разговора. И смыслы.
Хотя никаких гарантий появления предмета получить нельзя. Не у кого.
И поэтому всякий раз заново нужно вступать в бессмысленное говоре¬
ние, сожалея о том, что предметы разговора в аудиториях не сидят. На
полках не пылятся и по улицам не бегают, а это значит, в любом разго¬
воре важен не ум, не то, что будет потом с умом, а сила эмоций. Энергия
страсти. То, что протащит тебя через дыру бессмыслицы. К смыслу. Это
седьмая антропологическая конфигурация философии.
Археография разговора приводит к осознанию двух возможных
стратегий философствования. В одном случае разговору предшествует
предмет разговора и сопряженный с ним язык. В другом — разговор
начинается с нуля. В пустоте. Предметный разговор требует ума и язы¬
ковой изощренности. Ведь трудное это дело непрерывно говорить об
одном и том же предмете. Запас новизны такого разговора конечен. Бес¬
предметный разговор требует усилий не головы, а сердечности. Воли к
целомудрию конца. Вторая стратегия составляет стиль русской фило¬
софии. Первая — европейской. Русские философы лишены интеллек¬
туальных традиций. Они некультурны. И поэтому им нужно быть сами¬
ми собой. Особенно в нулевой точке разговора. Ведь что они ни скажут,
то беспредметно. Глупо. Европейский философ умен культурой. Он еще
не родился, а предметы разговора уже его поджидают. Ждут, когда он
заговорцт. Если он заговорит, то сразу же ясно и осмысленно. Это вось¬
мая антропологическая конфигурация философии.
Когда М. Шелер посмотрел на свое среднеобразованное европейское
сознание, он увидел там три идеи: христианскую, метафизическую и
позитивную. Увидел и пришел в ужас от этого множества. Из трех идей
он решил сделать одну. Для этого Шелер позитивную идею подшил к
метафизической, а метафизическую — к христианской. Затем посмотрел
на то, что получилось. И умер от разочарования. Ибо получилась теория
Конфигурации
33
неокончательного бога. Вместо идей получились одни швы. Философская
антропология Шелера — это швейная машинка Зингера. Она сшивает
человека из разных форм бытия. Она как тотальность требует всеединс¬
тва. Или солипсизма. А множественность существования конституиру¬
ет лицо. Это девятая антропологическая конфигурация философии.
Изображение человека в четырех модусах, а именно: в модусе ус¬
кользающего, что в модусе расширения, в модусе непрерывного рожде¬
ния и в модусе заполнения пустого — составляет смысл авангардистской
антропологии. Одно из приложений философского археоавангарда. Это
десятая антропологическая конфигурация.
лава
Фигуры
Краткое изложение главы
Сам по себе человек отвратителен: зол и одинок. Человек рождает¬
ся неполноценным. Эта неполноценность позволяет в нем видеть неудач¬
ное животное: без инстинктов, без определенной логики поведения.
Человек неопределен. Но эта неопределенность позволяет сделать дру¬
гой вывод. Человек может двигаться по любой логике. Может делать все
благодаря своей недостроенное™. Ему приходится все время себя до¬
страивать, доделывать. И хотя он так и остается ущербным, побочным
результатом его действий становятся культура и мораль. Так изображен
человек в модусе его ускользающей сущности Кантом.
Гегель изображает человека в предположении, что мыслить, усмат¬
ривать, рефлектировать и познавать — одно и то же. При чтении его
текстов я буду исходить из того, что мыслить — это не значит познавать,
а рефлектировать — не значит мыслить. Философские антропологи ищут
место человека в мире и приходят к выводу, что бог силен силой дьяво¬
ла. Иначе бы ничто в мире не происходило. Не сдвинулось со своего
места.
Сам по себе человек ленив. Для того чтобы заставить что-то делать,
нужны страсти. Соблазнение. Поэтому Декарт строит свою теорию
страстей души, а Платон свою — о человеке-кукле.
§ 1. Платон. Человек-кукла
Понимание человека представлено Платоном в мифе о человеке-
кукле. Этот миф Платон изложил в «Законах». Как я буду читать Пла¬
тона? Не научно. Я буду досказывать невысказанное и охотиться за
сверхсказанным.
Вот как Платон излагает свое учение о человеке-кукле: «...предста¬
вим себе, что мыу живые существа, — это чудесные куклы богов, сде¬
ланные ими либо для забавы у либо с какой-то серьезной целью: ведь это
нам неизвестно; но мы знаем, что внутренние наши состояния, о ко¬
торых мы говорилиу точно шнурки или нитиу тянут и влекут нас каж¬
дое в свою сторону иу т. к. они противоположны, увлекают нас к про¬
тивоположным действиям, что и служит разграничением добродетели
и порока. Согласно нашему рассуждению, каждый должен постоянно
следовать только одному из влечений, ни в чем от него не отклоняясь
и оказывая противодействие остальным нитяму а это и есть златое
Фигуры
35
и священное руководство разума, называемое общим законом госу¬
дарства»}
Что же нам рассказал Платон в мифе о человеке-кукле? Во-первых,
что не все живые существа куклы, а только мы, люди. Но куклы мы
какие-то странные. Мы куклы с внутренними состояниями. Откуда у
куклы эти состояния? Слово «внутреннее» Платоном никак не ком¬
ментируется, хотя оно имеет смысл в оппозиции с чем-то внешним.
Существование внутренних состояний указывает на то, что мы вынуж¬
дены действовать не под влиянием внешних стимулов, а под влиянием
своих галлюцинаций, т. е. сами действуем на себя. Возникает вопрос:
что же должно было с нами произойти, чтобы мы самовоздействием
заменили действие на нас вещей? Платон ничего об этом не говорит,
но мы можем догадываться. Видимо, речь идет о чем-то таком, что на¬
поминает хаос, который затрудняет наш контакт с вещами. Внутренние
состояния — это грезы, фантазмы, галлюцинации. Они, а не боги, на¬
брасываются на нас и тянут каждая в свою сторону. Так создается хаос
внутреннего. В связи с хаосом возникает проблема поведения для че¬
ловека. Человеком-куклой Платон называет такое существо, которое
выжило в хаосе. Но на смену хаосу неизменно приходит абсурд. Хаос
отделяет человека от природы. Абсурд отделяет его от бога. Что такое
абсурд по Платону? Это внутренние состояния, которые влекут к двум
противоположным действиям, которые нужно совершить в один и тот
же момент. Встреча с абсурдом не оставляет нам ни одного шанса. Мы
должны либо погибнуть, либо быть свободными, т. е. непроизвольно
следовать только одному влечению и не важно какому. Овладеть со¬
бой — значит формально следовать одному и тому же в хаосе. В этой
непроизвольности самоограничения заключается весь смысл нашей
внутренней свободы. Наш первый шаг — это шаг свободного самоогра¬
ничения. Вторым шагом появляется порок и добродетель, ум и глупость.
В зазоре между вторым и первым шагом мы свободны. В момент вос¬
произведения появляются уже нормы и законы. Следовать одному —
значит быть куклой. Мы - куклы, и поэтому мы различаем добро и зло,
ум и глупость. Платон говорит: «Этот миф о том, что мы куклы, спо¬
собствовал бы сохранению добродетели; как то яснее стало бы зна¬
чение выражения «быть сильнее или слабее самого себя » »1 2. Быть силь¬
нее себя (или слабее себя) можно, лишь воздействуя на себя в про¬
странстве внутреннего чувства.
Этот миф Платона произвел на Лосева «не только странное, но и
прямо удручающее впечатление »3. Что же так удручило А. Лосева? Во-
первых, Платон называет человека какой-то бессловесной и бездушной
куклой. Во-вторых, человек не может действовать сам, а действует как
1 Платон. Сочинения: В 4 т. Т. 3. Ч. 2. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. С. 116
(«Законы», 644 е - 645 Ь).
2 Там же. С. 117 («Законы», 645 Ь).
3 Платон. Сочинения. М., 1972. Т.З. С. 596.
3*
Глава II
36
кукла по приказанию свыше. В-третьих, отдельному человеку позволе¬
но все, что ему не позволительно. Однако, недоумевает Лосев, Платон
идет еще дальше, требуя превращения всей человеческой жизни в свое¬
го рода игру, в какой-то сплошной танец. Но ведь люди — не танцоры,
недоумевает Лосев.
То, что мы куклы, — это миф, а не факт. Следовательно, человек —
это не наличное в составе реального, а невозможное. Мифы складыва¬
ются о невозможном, а не о данном. Только применительно к человеку
можно говорить о том, что он может быть сильнее самого себя или сла¬
бее. Эти парадоксальные формулы имеют в виду самость, ее несовпаде¬
ние с собой.
1. О самости человека
В чем проявляется самость человека? Платон ясно отвечает на этот
вопрос: «Каждый человек...все целиком государство должно беспрестан¬
но петь для самого себя очаровывающие песни...»1. Петь себе очаровыва¬
ющие песни — значит быть не субъектом, а быть чистой субъективностью,
слушать себя, значит быть аутистом, окруженным галлюцинациями, на¬
страивающими наше эмоциональное состояние. Самость — это не субъект-
ность, а выбор себя, своего ритма жизни и мелодии.
2. Об игре
Люди — куклы, а жизнь — игра. «Каждый мужчина и каждая жен-
щинау — говорит Платон, — пусть проводит свою жизнь, играя в пре¬
краснейшие игры...»1. Что же это за игры? Это «жертвоприношения,
песни, пляски, чтобы уметь снискать к себе милость богов, а врагов
отразить и победить в битвах»1. Человек — это тот, кто объективиру¬
ет свою самость в танце, в игре, а не в уме. Ум появится позднее как
результат повторения изначального. Зачем людям петь песни и танце¬
вать? Затем, чтобы дать возможность появиться одному и тому же, что¬
бы люди могли научиться радоваться одному и тому же, чтобы они мог¬
ли привести себя к одному и тому же образу мыслей. «Чтобы ребенок
следовал в своих радостях и скорбях тому же самому, что и старик, и
были выработаны песни...»*.
3. О неистовстве
Отношение Платона к неистовству, или безумию, выражено в «Фед-
ре», во второй речи Сократа.
Кто лучше, кого выбрать: влюбленного или невлюбленного? Влюб¬
ленный — безумен, невлюбленный — трезв. Платон пишет: «...неистов¬
ство, которое у людей от бога, прекраснее рассудительности, свойства
1 Платон. Сочинения: В 4 т. Т. 3. Ч. 2. С. 142 («Законы», 665 с).
2 Там же. С. 304 («Законы», 803 d).
3 Там же.
4 Там же. («Законы», 659d-e).
Фигуры
37
человеческого »*. Поскольку божественное предшествует человеческому,
постольку неистовство предваряет рассудительность и составляет сти¬
хию человеческого, его творчество, мистерии, любовь и прорицания
будущего.
4. Забота о себе
«Правда, человеческие дела не заслуживают особых забот; но все
же необходимо о них заботиться, хотя счастья в этом нет... »1 2. В за¬
боте человека о себе самом нет места богу, и, следовательно, нет страха
перед богом. Тогда как совесть в человек есть не что иное, как страх
божий.
В «Алкивиаде» Платона обсуждается вопрос о том, как заботиться
о себе. И первая трудность, с которой сталкивается вопрошающий, это
уяснение того, что значит «сам». Сам — это душа. Заботу о душе нужно
взять на себя. А заботу о теле передать другим.
5. Граница между большинством и меньшинством
Люди делятся на две части: на тех, кого Платон называет большин¬
ством, и на философов. Философ стирает следы мыслей большинства и
расставляет знаки своего мышления. Смыслы, рождаемые философами,
не совпадают с мнением большинства и поэтому носят метафизический
характер. Метафизика — это граница между большинством и меньшинс¬
твом, проведенная философами. Стирание границы обессмысливает
существование метафизики.
Возьмем, например, «Федон». Диалог Платона. Что обычно по¬
нимается под здравым смыслом? То, что практично. Полезно. Прос¬
то. Из кружки пьют. На коне ездят. На пол ставят. А что такое безу¬
мие? Это когда на кружке ездят. Ставят на потолок. Но Платон про¬
водит другую границу между умом и безумием. Для этого он берет
устоявшееся мнение. Запрет на самоубийство. Почему нельзя убивать
себя самому? Потому что никто не живет сам по себе. Все находятся
под стражей. И богатые, и бедные. И счастливые, и несчастные. Под
стражей богов. Жить самому по себе — значит ставить бога в неве¬
дение. Значит утверждать, что в деле человека боги не замешаны, что
для объяснения человека достаточно простых стихий. И тогда, ко¬
нечно, ты можешь себя убить. Ну а раз есть запрет на самоубийство,
то это значит, что ни один человек не появился помимо воли бога.
Человек — часть божественного достояния, тот, о ком пекутся и за¬
ботятся боги. Действительно, что было бы? Если бы какой-нибудь
баран из твоего стада решил убить себя, покончить самоубийством?
Ведь ты бы расстроился. Так и боги расстраиваются. Поэтому не мо¬
жет быть никакой заботы человека о самом себе. Возможно упование
на заботу богов.
1 Платон. Избранные диалоги. М.: Рипол классик, 2002. С. 286 («Федр», 244 d).
2 Платон. Сочинения: В 4 т. Т. 3. Ч. 2. С. 142 («Законы», 803 Ь).
Глава II
38
Так вот, здравый ум проявляется в запрете на самоубийство. В том,
чтобы быть около того, кто лучше тебя самого. А безумие — это думать,
что ты сам о себе позаботишься лучше бога. Безумие — убегать от того,
кто лучше тебя, к тому, кто такой же, как ты. Или хуже тебя. Безумные
идут к самим себе.
Или вот понятие смерти. Обычному понятию противостоит фило¬
софское. Обычно люди страшатся смерти. А философы ждут ее. К ней
готовятся. Большинство людей знают, что смерть — это страдания, боли
и всяческие лишения. А что знают философы? Что обычно люди забо¬
тятся о своем теле. Они его чистят, поят, кормят, одевают. Ведь когда
тебе плохо, когда ты не можешь доставить удовольствие своему телу,
ты говоришь: зачем тебе такая жизнь? Уж лучше умереть.
Философ беспокоится о своей душе, а тело мешает ему мыслить.
Видеть то, что есть само по себе. У всех у нас по вине тела нет досуга для
философии. Или, как говорит Платон, нечистому касаться чистого не
дозволено. То есть пока ты живешь, ты без ума. И нужно отрешиться от
тела, чтобы появился ум. Ум и знание сами по себе достижимы только
после того, как душа отделится от тела. Очистится. А это и есть смерть.
Поэтому философы хотят смерти не потому, что они хотят страданий,
а потому, что они хотят ума. Хотят быть наедине с собой, чтобы видеть
подлинное. Ведь что такое подлинное? Если ты ради одних удовольствий
отказываешься от других, то ты получаешь видимость блага. А вот если
ты меняешь удовольствия на разум, то это подлинное благо.
Или, например, все знают, что красота спасет мир. Но сама по
себе эта формулировка непонятна. То есть непонятно, почему мир
должен гибнуть? И почему его должна спасти красота, а, допустим,
не любовь? Или равнодушие. Да и откуда мы взяли представление о
гибели мира?
Философы когда-то стерли следы человека в языке и что-то увидели,
оставив нам какое-то сообщение. Какой-то знак. А сами ушли. Умерли.
И вот теперь нам нужно найти понятный смысл. А понятно то, что ка¬
сается тебя. Поэтому Платон рассказывает об идеальном мире, идеи
которого наши души когда-то видели. И затем забыли. А это значит, что
мы не можем в мире повседневных забот узнать идею добра. Или идею
справедливости с благом. Нет в мире причин для добра. Нет причин для
справедливости. Может быть, она и есть, да как ты ее узнаешь? Все не¬
справедливо. И все же одну идею мы узнать можем. Это красота. Чтобы
ее увидеть, нужны глаза. И все, то есть в этом мире мы можем узнать из
того ми|эа только красоту. И вот эта-то идея и приведет нас к подлин¬
ному миру. К трансцендентному. Она спасет нас.
Установить метафизическую складку человека можно, лишь сдвинув
человека в сторону от центра, то есть при помощи обессмысливания
понятия. Приостановив действие его прямого значения, создавая, тем
самым, неантропологическое измерение пространства. Например, ис¬
тория — это бесконечный тупик. Оксюморон. И мыслящее тело — это
Фигуры
39
тоже оксюморон. В нем конечное подшивается к бесконечному, пустое
к полному. В результате образуется шов. Складка. Так вот, греческая
философия изобретает идею устремления подобного к подобному. Она
создает бесшовную технологию конструирования мира. Без складок
греки делали мир. А вот человека сделать без швов они не смогли. И вы¬
нуждены были тело подшивать к душе. Конечное — к бесконечному.
Метафизические складки человека образуют патовое пространство. Ведь
если ты конечное подшиваешь к бесконечному, а пустое к полному, то
ты получаешь не космос, а тупик. Бесконечный тупик. Вернее, космос и
есть бесконечный тупик греческой философии. Ее метафизический шов.
А человек — это пустой атом греческой философии. Например, в гре¬
ческой теории происхождения человека от животных акцент делался на
неизвестных животных. Человек произошел от животных, которые не¬
известны. Потому что все животные сами выживают, а человек сам не
выживает. Вот эта несамостоятельность в выживании и закреплена в
метафизике человека. Сам он не выживает, но живет. А это непонятно.
То есть греческая философия открыла путь к пониманию неочевидного.
С чего начинает философ? С очевидного. С понятного. Он ведет за по¬
водок само собой разумеющегося к тому, что обнажает иной смысл по¬
нятного. Рассуждение о красоте, благе и справедливости — это только
поводки. Способ подвести собеседника к метафизическому расширению
проблемы. К символу, в пространстве которого приостанавливается
действие наглядных вещей.
Всякая антропология имеет свои метафизические швы. А философ —
это рискованное дело наложения этих швов. Ни один человек не видел
мысли самой по себе. Вне слова. Она всегда в конуре. В языке. Вернее,
виден всегда язык. Вербальные контуры мысли. А вот мысли не видно.
Неизвестно, есть она, мысль, в слове, или нет ее. Или же слово — это
только слово. Нормальных людей это не особенно волнует. А вот фило¬
софы, вступив в борьбу с языком, провоцируют мысль. Дразнят ее пус¬
тым словом. Хотят, чтобы она выступила за пределы языка. Слова. Вы¬
манивают ее. Но это опасно. За пределами слова мысль кусается. Дела¬
ет нам больно.
Когда мысль в языке, она не заметна. Но мысль, которая покидает
язык, это уже тело. Действие, причиняющее боль. И поэтому возникает
желание загнать ее обратно, на место. В язык. Запеленать словами. Ин¬
теллигенция дразнит и выманивает мысль из оболочки слова. Философия
загоняет ее обратно.
Любой кризис требует от нас возврата к началу, а проблема — пре¬
одоления препятствия. Мы привыкли жить среди проблем. У греков не
было проблем. Они жили в обжитом мире. А мы живет как на фронте.
Среди пуль. Ведь проблема — это реальное препятствие, которое не поз¬
воляет нам оставаться в прежнем положении, не меняясь. Апория, т. е.
отсутствие пор, щелей, трещин, через которые можно было бы выйти,
заставляет человека измениться.
Глава II
40
6. Полное-неполное
Обычно человек понимается органически, как нечто целое. Одно¬
родное. Но уже вопрос о связи души и тела ставит под сомнение его
органичность. Человек — не органическое существо, а нечто, собранное
из разных фрагментов. При этом, чтобы удержать собранное вместе,
нужно было накладывать швы. То есть человек — это пространство сбо¬
ра, стыковки частей без целого. Дело не в том, что целое неделимо. Не
имеет частей. А в том, что возможно существование частей без целого.
Так вот, человек — это пространство склеивания этих частей. Их соче¬
тания, в котором, в свою очередь, нет логики. Эту мысль греки выража¬
ли на языке мифа о том, что в начале существовали части человека, ко¬
торые, встречаясь, могли составить какое угодно образование. Пока не
выжило то, что сейчас названо человеком.
В мифе Платона об андрогине люди пожелали стать богами. Конфи¬
гурация этого желания связана с неудачей, которой определилась сфе¬
ра человеческого. Человек — это бесполезная страсть стать богом. Каж¬
дый человек есть то, что он есть в горизонте несостоявшегося события.
Конечно, боги могли уничтожить людей. Если бы не были так жадны.
Они побоялись лишиться почестей и подношений людей. И поэтому раз¬
делили их пополам, чтобы умножить. И одновременно ослабить. Люди
стали скромнее. Антропологическая конфигурация скромности проста.
Теперь хотят стать полными. То есть человек — это пустое желание
стать полным. Ибо только пустой стремится стать полным. Боги, разде¬
лив людей пополам, сделали их пустыми. А пустота превратилась в фун¬
даментальное понятие антропологии.
Когда люди были полными, они были бесполыми. Ибо пол — это
половина. И поэтому пол мешает человеку стать полным. Отсутствие,
нехватка определяют существование людей. Полный человек бесстра¬
стен. Пустой охвачен чувством любви. Тягой к свободе. Каждый чело¬
век — это полчеловека. А сверхчеловек — это полный человек. То есть
бесполый, бесчувственный.
Все, что в душе человека от Зевса, неделимо. Например, ум неделим.
Ибо он бесполый. Если бы он делился, то были бы возможны и полу-
мысли. И они бы совокуплялись. Естественно размножались. И добро
неделимо. Оно может быть только полным. Или не быть. А вот человек
может быть и неполным. Получеловеком.
В мифе Платона о душе указаны три ее части. Почему? Потому что
ничто не может прийти в столкновение с самим собой. Ум не может
противоречить уму. Чувство не может столкнуться с чувством. Нельзя
бытие ставить против бытия, а истину — против истины. Ибо они одно¬
родны. А душу можно. Она одна вступает в борьбу с самой собой. Ибо
в ней есть божественное и человеческое. Она не однородна. И поэтому
небо стоит. И земля стоит, пока есть душа. Без нее мир остановится.
Движение пропадет. Крылья не вырастут. А вот если у тебя есть память
и ты здесь, на земле, вспоминаешь небесную красоту, то у тебя они на¬
Фигуры
41
чинают расти. И ты поднимаешься под небосвод. Вслед за богами. Боги —
на конях. И люди — на конях. Но у богов оба коня хороши. А у людей
один хорош, а другой — плох. Душа теряет крылья и падает вниз. По¬
этому жизнь человека помещена между взлетами и падениями. А душа
его состоит из частей, которые приходят друг с другом в столкновение.
Если бы не было этих частей, то люди бы стали богами. Или животными.
В каждом человеке есть метафизический шов. Складка с трансцендент¬
ным.
Греки признали возможным существование получеловека, полу души,
чтобы сохранить состояния, в которых у людей начинается творческий
зуд. И у них начинают расти крылья. Полнодушие накладывает запрет
на творчество. На пафос души, благодаря которому начинали расти кры¬
лья.
§ 2. Декарт. Человек — пловец в лодке
и человек — единое существо
1. Правила морали заблудившегося человека
Декарт в «Рассуждениях о методе» говорит о некоторых правилах
морали. В первом правиле он фактически осуждает поведение Сократа,
требуя повиноваться законам и обычаям своей страны, а также требуя
неотступно придерживаться религии и сообразовываться с поступками
тех людей, среди которых ты живешь. Во втором правиле он непредна¬
меренно воспроизводит важнейшие мысли Платона из мифа о человеке-
кукле. Декарт пишет: «Оставаться настолько твердым и решительным
в своих действиях, насколько это было в моих силах, и с не меньшим
постоянно следовать даже самым сомнительным мнениям, если я их
принял за вполне правильные. В этом я уподоблял себя путникам, за¬
блудившимся в лесу: они не должны кружить или блуждать из стороны
в сторону у но должны идти как можно прямее в одну сторону, не меняя
направления по ничтожному поводу, хотя первоначально всего лишь
случайность побудила их избрать именно это направление. Если они и
не придут к своей цели, то все-таки выйдут куда-нибудь, где им будет
лучшеу чем среди леса»1.
Вместо хаоса Платона у Декарта появляется лес, в котором человек
блуждает. Декарт прямо говорит о себе как о человеке, который один
идет в темноте. Один здесь обозначает не то, что он живет вне общества
людей, а то, что люди принципиально одиноки. Жить в обществе — зна¬
чит поступать на основаниях. Лес и темнота отменяют действия, для
которых могут быть те или иные основания. В результате, человеку при¬
ходится в какой-то момент совершить действие без всяких на то осно¬
ваний. И в этот миг человек свободен. Только свободный человек, толь-
Декарт Р. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1989. С. 264.
Глава II
42
ко маньяк может идти по прямой, в одном направлении, ибо в этом дви¬
жении он не зависит от сигналов, которые ему посылает внешняя среда.
2. Неестественные движения мысли
Для понимания концепта человека в философии Декарта нужно
иметь в виду следующий фрагмент его текста: «Никогда не было наблю¬
даемо, чтобы какое-либо животное достигло такой степени совер¬
шенства, чтобы иметь настоящий язык, т. е. показывать голосом или
другими знаками что-либо такое, что могло быть отнесено исключи¬
тельно к мысли, а не к естественному движению»} В этом фрагменте
ясно говорится о том, что мысль не относится к естественному, к тому,
что имеет причину, что знак — не признак, ибо все, что относится к
«естественному движению », к природе — это признак принадлежащий
объекту, а не знак самости человека. «Все люди, — пишет Декарт Г. Мо-
русу, — даже самые глупые и самые безумные, даже те, которые ли¬
шены языка и слова, пользуются знаками, тогда как животные ничего
подобного не делают, и в этом истинное различие человека от жи¬
вотного»2. Иными словами, безумные тоже умны, т. е. у них есть само-
воздействие.
3. «Единое существо» и «пловец в лодке»
В «Размышлениях о первой философии» Декарт пишет: «Мои аф¬
фекты и инстинкты делают мне ясным, что я нахожусь в собственном
теле не как пловец в лодке, а связан с ним самым тесным образом и как
бы смешан, так что мы некоторым образом образуем как бы одно су¬
щество. Иначе я, в силу моей духовной природы, не ощущал бы боли
при повреждении тела, а только опознавал бы это повреждение как
объект познания, подобно тому, как корабельщик усматривает, когда
что-нибудь в судне ломается. Когда тело нуждается в пище и питье, —
я знал бы об этих состояниях, не имея неясных ощущений голода и
жажды. Эти ощущения, в самом деле, неясные представления, проис¬
ходящие от соединения и как бы смешения духа с телом»1.
В этом фрагменте нам представлены две модели поведения: одна —
«пловец в лодке». Другая — «одно существо». Пловец в лодке знает.
Одно существо ощущает. То, что знает, не испытывает боли, не ощуща¬
ет. То, что ощущает, не знает, хотя и мыслит. Первое — разумное су¬
щество. Второе — мыслящее, но не разумное существо. Первое может
потерять ногу и, узнав об этом, исправить недостаток протезом. Второе
будет переживать боль, и у него останутся фантомы боли отсутствующей
ноги. За знания нам, познающим, нужно будет заплатить идеей злокоз¬
ненного гения. Декарт пишет: «Я буду мнить небо, воздух, землю, цве¬
та, очертания, звуки и все вообще внешнее вещи всего лишь пригрезив-
1 Поргинев Б. О начале человеческой истории. М., 1972. С. 141-142.
2 Там же.
3 См.: Декарт Р. Сочинения: В 2 т. Т.2. М.: Мысль, 1994. С. 65.
Фигуры
43
гиимися мне ловушками, расставленными моей доверчивыми усилиями
этого (злокозненного) гения. Я буду рассматривать себя как существо,
лишенное рук, глаз, плоти и крови, каких-либо чувств: обладание всем
этим, стану я полагать, было лишь моим ложным мнением»1.
В этом фрагменте появляется гений, который строит нам козни, об¬
манывает нас. Этот гений вне нас. Он пытается строить нам ловушки и
дергать нас за ниточки чувств. Чтобы избежать внешних воздействий
гения, нам нужно мнить, что все внешнее — это всего лишь грезы, что
мы спим и нам все это приснилось. Но среди бесконечного множества
грез сновидения нам могут попасться и истинные грезы. Например, гео¬
метрические, арифметические истины.
А поскольку мое тело находится в этой внешней среде, среди внешних
вещей, то мы и его будем считать галлюцинацией. Тем самым мы лиша¬
емся чувств. Что же остается? Только Я, только момент совпадения са¬
мости с самой собой. Но у такого Я нет эмоций, страстей. Оно не вооб¬
ражает. Это Я обладает языком, т. е. может говорить на языке истины,
будучи пловцом в лодке своего тела. Но Бог-обманщик может устроить
так, что и чистое Я будет ошибаться даже тогда, когда к двум прибавля¬
ет три или складывает стороны квадрата. И тогда нужно полагаться на
то, что Бог — не обманщик, что Бог — первое самоограничение мысля¬
щего хаоса. Не ошибается не Я, а душа, разогретая эмоциями.
Быть пловцом в лодке — значит ясно и четко представлять, будучи
в своем уме. Но ведь и как «одно существо» я не безумец. Я чувствую
боль. «Я нахожусь, — говорит Декарт, — здесь, в этом месте, сижу
перед камином, закутанный в теплый халат, разлаживаю руками эту
рукопись и т. д. Да и каким же образом можно было бы отрицать, что
руки эти и все это тело — мои»1. Я не безумец, я не нищий, который
говорит, что он король. Все образы вещей создаются воображением, а
не языком. Быть безумным — значит говорить, но не воображать. В ка¬
честве единого существа мы подчиняемся следующему правилу: «невоз¬
можно, чтобы она (душа — прим. Ф. Г.^ их (страсти — прим. Ф. Г.^
чувствовала, а они не были в действительности такими, какими она
их чувствует»1. Здесь мы никогда не ошибаемся, но относится эта ис¬
тина к воздействию себя на самого себя, к эмоции, а не к объектам вне¬
шнего мира и геометрическим истинам.
4. Методолог
Декарт — методолог. И поэтому он полагается не на опыт, а на метод.
На выводное знание. На последовательность умозаключений.
Каждый человек знает, что он человек. Но это знание нулевое. Реф¬
лексивное. Никто не знает, что такое человек. Содержательное знание
1 Там же. С. 20.
2 Там же. С. 17.
3 Декарт Р. Страсти души // Сочинения. Калининград: ОАО Янтарный сказ, 2005.
С.265.
Глава II
44
не методического свойства. Его получают не дедуктивно, а практически.
То есть нужно уже быть человеком, чтобы знать, что ты человек.
Ведь узнать — значить определить. Но если мы начнем определять
человека, то для этого нам потребуется какое-то конечное множество
новых слов. Сами эти слова снова нужно будет определять. И так до
бесконечности. Декарт не любил бегать по бесконечностям. Для этого
он был слишком ленив. Бесконечность обожали схоласты.
Например, схоласты утверждают, что человек — это разумное жи¬
вотное. Но из этого утверждения вырастают два новых вопроса. Что
такое животное? И что такое разумное? Декарт пишет: «... в конце кон¬
цов становится ясным, что надо прекратить все эти дивные вопросы,
вырождающиеся в пустую болтовню, не способную ничего прояснить
и оставляющую нас в состоянии дремучего невежества »1.
Нужно прекратить пустую болтовню о человеке, необходимо оста¬
новить бег в бесконечность. Остановить его может либо тавтология, либо
нонсенс. Тавтологии полагают, что человек — это человек. Некая еди¬
ничность. Общих же суждений не существует. А если они и существуют,
то только для обмана восприятия. Нонсенс полагает, что ни один чело¬
век не является человеком. И то, и другое приостанавливает действие
слова. Разрывает метафорическую цепочку связей означаемого и озна¬
чающего. В разрыве проступает неозначенное. Движение-жест. Условие
того, чтобы что-то раскрывалось словами. Но само это условие словами
не раскрывается. Вот, например, белое. Его нельзя определить. И по¬
этому нельзя передать другому как знание белизны. То есть чтобы знать,
что такое белое, нужно открыть глаза и увидеть единичное. И это дви¬
жение не заместимо никаким набором слов. Чтобы знать мысль, нужно
уже мыслить. Иным образом это знание не приобретается. И у этого
знания нет вербального эквивалента.
Чтобы узнать, что такое человек, нужно уже быть человеком. Быть
и знать. И никакие предварительные разъяснения ничего не смогут про¬
яснить в вопросе о человеке. Ибо это знание живое.
Но если живое знание не имеет словесного эквивалента, то оно не
имеет и рефлексивной организации. То есть мы всегда что-то знаем еще
до того, как помыслили. Мышления у нас не было, а знание есть. Неко-
гитальное знание разрывает связь между «Я мыслю» и «Я есть». Резуль¬
татом этого разрыва являются слова, которые ничего не говорят. В тав¬
тологии Декарта: «Я мыслю, Я есть » скрыта метафора. И поэтому от нее
нужно было либо отказаться, либо ее нужно было узаконить. Если ее
признать, то тогда нужно признать и схоластику, полагая, что где наука,
там и схоластика. Если же ее не признавать, то нужно отказаться от
науки. Декарт так и не сделал окончательного выбора. И поэтому оста¬
вил возможность для пустых слов в рассуждениях о человеке.
1 Декарт Р. Разыскание истины посредством естественного света // Сочинения:
В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1989.С. 166.
Фигуры
5. Пустые слова
Никто не молчит. Все произносят слова. И даже как бы в определен¬
ном порядке. Но сами по себе слова ничего не говорят. Они пусты. Они
только запутывают нас. Следовательно, их еще надо заставить говорить.
Как заметил один из героев А. Платонова, три слова из четырех человек
произносит напрасно. У тех же, кому достаточно одного четвертого
слова, нет проблемы страстей, если под страстью понимать энергию,
направленную на мир. У героев А. Платонова нет жизненной энергии.
У человека Декарта есть пустые слова и поэтому у него есть проблема
страстей души.
6. Когда слова начинают говорить
Если я, допустим, хочу кого-нибудь запутать, я говорю не «тело», а
«телесная субстанция». Не способ мышления, а «дискурс». Или «мета¬
физика ландшафта». Мысли создаются не словами, а очевидностью
жизненных обстояний. Никто не может ошибаться в сознании очевид¬
ного.
Слова начинают говорить, когда они обозначают то, что доступно
восприятию. Что обозримо. Или же то, что образует в уме ясную и от¬
четливую идею. Клип.
7. Что в человеке доступно восприятию
Очевидно, что человек — это то, что имеет две руки, две ноги, голо¬
ву и прочие части. То, что двигается, питается, ощущает и мыслит. Но
никто не может сказать, что он — это его ноги, руки и прочее. Я сам —
это Я. Но наше Я недоступно восприятию. Оно не ест, не пьет, не чувст¬
вует.
8. Антропологический клип
Ясно, что обезьяна не обманывает. Что у нее есть один план сознания.
А у человека их два. У него еще есть то, что знает только он. У него есть
второй план сознания. Изнанка. Поэтому человеком можно назвать лю¬
бое существо, у которого за первым планом сознания скрывается второй.
9. Когитальное Я
Во всем можно сомневаться. Нельзя усомниться только в том, что
ты сомневаешься. Каждый человек существует и^знает, что он сущест¬
вует. И знает потому, что мыслит. В «Я» мысль и существование непо¬
средственно совпадают. Этот тезис Декарта делает невозможным пони¬
мание живого знания. И, следовательно, понимание страстей как части
живого знания.
10. Страсти
Если душа мыслит, то она не страдает. А если она страдает, то не
мыслит. Декарт полагает, что душа мыслит. Следовательно, страсти ему
46
Глава II
следовало бы отнести к телу. Но протяженность тела плохо согласует¬
ся с непротяженными страстями. Декарт непоследователен. Он то при¬
писывает страсти телу, как, например, гнев, то объявляет их страстями
души, как, например, щедрость. Иногда страсти могут иметь две причи¬
ны: и душу, и тело, например, любовь. Если же страсти приписать одной
душе, то тогда получится, что тело не страдает. Что ни одно живое су¬
щество, кроме человека, не мучается, являясь бездушным автоматом.
А мыслить — это значит еще и страдать. Чтобы выйти из такой ситуации,
Декарт придумал теорию лени души.
ЛЕНЬ ДУШИ
Тело всегда что-то хочет, к чему-то стремится. Сама по себе душа
ничего не хочет. Чтобы она что-то захотела, ее нужно соблазнить, на¬
строить. И вот все то, что настраивает душу, Декарт называет страстями.
Шесть страстей
Вообще-то первичных страстей всего шесть. Это удивление, любовь,
ненависть, желание, радость и печаль. Они и настраивают душу. Но на¬
строить ее можно как к чему-то полезному, так и к вредному. И поэто¬
му проблема состоит в том, чтобы определить полезное и отделить его
от вредного.
Головная страсть
Вот, например, удивление. Если бы его не было, то люди были бы
невежественны. Они перестали бы стремиться к знанию. Удивляет чудо.
Новое. Неожиданное. Удивляется же мозг. Голова человека. При этом
сердце его неизменно. И кровь не кипит. Удивление — головная страсть.
Она для умных. Для расширения их памяти.
Только глупые и тупые не склонны к удивлению. Да еще сердечные
люди, которые также безразличны к этой страсти.
Удивление нельзя превращать в привычку. Ибо привычное удивление
не удивляет. Чрезмерное удивление, т. е. удивление ради удивления, тоже
нехорошо. В нем есть что-то фокусническое. Шарлатанское. Спасает от
шарлатанства, как полагал Декарт, только размышление.
Нельзя удивляться и не знать, что ты удивляешься. То есть удивление
требует рефлексии. Его нет в составе живого знания. Удивление — это
мышление.
Любрвь
Любовь тоже страсть. Она вяжет и связывает душу с предметом люб¬
ви. А поскольку предметы разные, постольку у любви бывает много ви¬
дов. Если бы не было любви, то никакая душа не согласилась бы быть
частью целого. А вот настроенная любовью наша душа начинает рас¬
сматривать себя только как одну часть целого. Другою частью является
предмет ее любви.
Фигуры
47
Любовь возможна двух видов: к телу и к душе. Если это любовь к
телу, то желают обладать тем, кого любят. Если к душе, то желают доб¬
ра тому, кого любят. А еще есть степени любви. Они зависят от оценки
другого. Если другого ценят меньше, чем себя, это любовь-привязан¬
ность. Если наравне с собой, то это любовь-дружба. А если выше себя,
то тогда это любовь-благоговение.
У Декарта была страсть представлять все определения души через
познание. Поэтому и любовь для него — это способ познания. Мышле¬
ние, а не страсть.
Ненависть
Любовь вяжет. Ненависть развязывает. Отделяет. Она убеждает
душу в том, что никакая она не часть. А уже сама по себе есть целое.
Ненависть не имеет видов. Она всегда одинакова. Если бы зло имело
виды, то тогда наша страсть запуталась бы в них и перестала быть тем,
что она есть. Перестала бы разделять. И тем самым подтвердилось бы
правило, близкое уму русского человека; а именно: от любви до нена¬
висти один шаг. В картезианской теории страстей между любовью и
ненавистью находится бесконечность. Как будто они расположены в
разных концах вселенной.
Декарт пишет: «...любовь необходимо сопровождается радостью,
потому что она представляет нам любимый предмет как благо, нам
принадлежащее »1.
В отношении к любви Декарт ведет себя как мелкий лавочник, под¬
считывающий барыши. Во-первых, он полагает, что каждый любит толь¬
ко себя. Что это естественно. Во-вторых, он думает, что любовь, как
курица, должна нести для тебя золотые яйца. Что она к тебе что-нибудь
да присоединит. Что-нибудь да даст. А если она ничего не дает, если тебе
самому надо что-то отдавать, то тогда это не любовь.
К сожалению, Декарт не знал русских. Не слышал о них. Он вообще
мало читал. Потому что читать-то нечего. «Большинство книг, — гово¬
рит Декарт, — таково, что, прочитав несколько их строк и просмотрев
несколько рисунков, уже знаешь о них все, так что остальное помеще¬
но в этих книгах лишь для того, чтобы заполнить бумагу»1 2. Так вот, у
русских любовь редко сопровождается радостью. Она у нас больше жер¬
твует, чем приобретает.
Желание
Желание мыслится Декартом как страсть-одиночка. У этой страсти
нет пары. Противоположного. Желают то, чего нет. И желают то, что
есть. Чтобы сохранить имеющееся. У этой страсти бесконечное множес¬
тво видов. Ничего не желают только боги. И мудрецы.
1 Декарт Р. Страсти души// Сочинения. Калининград: ОАО Янтарный сказ, 2005. С. 314.
2 Декарт Р. Небольшие сочинения 1619-1621 гг.// Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль,
1989. С. 573.
Глава II
И все же есть то, чего никто не желает. Это — смерть. Ни у кого нет
опыта встречи со своей смертью. Опыта умирания. Но у желания есть
два движения души: отвращение и удовольствие. Отвращение нужно для
того, чтобы подготовить душу к известию о смерти. Для ее подготови¬
тельной тренировки. Вот тебя коснулся червяк. И ты в ужасе от омер¬
зения. Ты волнуешься. Как если бы ты увидел смерть. И вот когда она к
тебе придет, ты ей выставишь свой опыт встречи с червяком. Или каким-
нибудь другим гадом ползучим. И это будет опыт отвращения. И тебе
будет легче. И ты, может быть, от нее убежишь.
Все желают удовольствий. Но лучше всего желать то, что зависит от
тебя, а не от случая. Самое сильное удовольствие — половое. Желание
другого, возникающее из удовольствия, называется любовью. Хотя это
желание не имеет отношения к любви как страсти.
Удовольствие и ужас вносятся в нашу душу чувствами извне. Они
будут посильнее всех наших принципов, правил и убеждений. Если что
и обманывает человека чаще всего, то это как раз удовольствие и отвра¬
щение. Их, говорит Декарт, следует остерегаться.
Радость
Радость — безликая страсть. Она происходит от осознания облада¬
ния каким-нибудь благом. Во-первых, это приятное волнение души. Но
приятное волнение может быть связано и с удовольствием, а не с радос¬
тью. Во-вторых, душа радуется сама себе. Если бы она перестала радо¬
вать сама себя, то она бы перестала быть.
Но душа у человека редко бывает сама по себе. Чаще она связана с
телом. И поэтому к ее тихим радостям подключается тело, вызывая
страсть радости. Декарт пишет: «...если мы однажды соединили какое-
то телесное действие с какой-то мыслью, то в дальнейшем, если по¬
является одноу необходимо и появляется другое...»1. Вот этот тезис
Декарта и говорит о том, что он не решил, чему приписать страсти: душе
или телу.
Печаль
Печаль происходит от сознания того, что зло нереально. Что оно
недостаток. Само по себе зло не существует. Оно существует в связи с
благом. Если бы оно существовало как субстанция, то не было бы при¬
чины для печали. А люди печалуются.
Для того чтобы было зло, нужно, чтобы еще было и добро. Чтобы
был достаток. Ибо тогда становится возможным недостаток. «В мире
нет ничего реального, в чем не было бы хоть немного блага»1 2. Следова¬
тельно, ограждая себя от какого-нибудь зла, ты ограждаешь себя и от
блага, с которым оно связано. И вот оскудение этого блага вызывает в
нас печаль. Заставляет нас печалиться.
1 Декарт, Р. Страсти души// Сочинения. Калининград: ОАО Янтарный сказ, 2005. С. 311.
2 Там же. С. 314.
Фигуры
Ложные страсти
Декарт как Бог. Он рассматривает страсти в трансцендентной перс¬
пективе. И поэтому позволяет себе говорить о ложных страстях и истин¬
ных. Об обоснованных и необоснованных. Декарт пишет: «... страсти,
возникшие на ложном основании, могут вредить, а страсти, возникшие
на истинном основании, должны иметь положительное значение »1. На¬
пример, ты полюбил. А твоя любовь оказалась необоснованной. Но ты-то
об этом не знаешь. Это узнается только в трансцендентной перспективе.
После твоей смерти. И поэтому для тебя отличия обоснованной любви
от необоснованной не существует. Любить и видеть основания любви
невозможно. Радоваться и одновременно видеть основания радости тоже
нельзя. Это два разных события.
Радость относится к живому знанию, а основания радости устанав¬
ливаются когитальным знанием.
Средства против страстей
Чтобы не попадать в зависимость от тела, от других людей, вообще
от того, что от нас не зависит, нужно непрерывно мыслить божествен¬
ное провидение и главное - следовать добродетели1 2. Мышление — это
средство против страстей. Но поскольку люди не могут непрерывно
мыслить, постольку в борьбе со страстями вполне может пригодиться
искусство. Оно позволяет отделить в тебе движение крови и духов от
тех мыслей, с которыми они обычно связаны. То есть ты пришел в театр,
посмотрел трагедию, и в тебе взыграло тело, пришли в движение кровь
и животные духи. Вот они пришли в движение, а мысль еще спит. По¬
коится. И движение крови отделяется от мысли. Ибо в мысли мы сами
актеры и сами действуем, а в театре мы зрители. Мы только испыты¬
ваем.
Действия и претерпевания
Недопустимо, чтобы в мире были только действия. Или только пре¬
терпевания. Без мыслей в мире ничего не происходит. Без страстей в нем
ничего испытать нельзя. В мире всегда сколько действий, столько и пре¬
терпеваний, сколько мыслей, столько и страстей.
Если бы в мире были только страсти, то такой мир был бы полностью
не определенным. Не готовым к употреблению. Без пустоты и возмож¬
ности нового. В нем были бы заложены механизмы всех человечески
возможных состояний.
Если бы в мире были только действия, то такой мир был бы пустым.
Необитаемым и необживаемым. В нем все происходило бы всякий раз
заново. И было бы временным. Условным. И мы не могли бы в этом мире
ничего желать. А без желания ничего нельзя сделать. Чтобы отделаться
от страстей, Декарт рассматривает саму мысль как действие, которое не
1 Декарт Р. Страсти души. С. 316.
2 См.: Там же. С. 317.
4
1920
Глава II
50
нуждается во внешнем источнике энергии. В пафосе страсти. В энтузи¬
азме1.
Душа человека неделима. Если бы она делилась на растительную.
Животную и разумную части, то тогда бы она была полудушой и пере¬
стала мыслить. Но если душа неделима, то тогда у нас в уме есть уже все
идеи. И душе не надо творить. Мыслить. «Я утверждаю, что мы обла¬
даем идеями всего того, что содержится не только в нашем разуме, но
и в нашей воле»1.
Теория души Декарта полагает человека в качестве абсолютно без¬
дарного, нетворческого существа. Для Декарта человек — автомат мыс¬
ли. Для Платона человек — поэт. Творец.
§ 3. Кант. Человек-марионетка и человек-актер
в модусе ускользающего «что»
Концепт человека-марионетки появляется у Канта в «Критике прак¬
тического разума». Если Платон в мифе о человеке-кукле спасал чело¬
века от нудящей необходимости природы, наделяя его манией, позво¬
ляющей ему держаться одного и того же вопреки хаосу страстей, то
Кант защищает свободу человека уже от Бога.
Почему Бог не делает человека автоматом, куклой? Почему он не
дергает его за ниточки? Ведь нет ничего, что могло бы случиться в мире
без его ведома, на все воля Бога.
У Платона Бог появляется в хороводе, в мистерии, в танце как одно
и то же. Кант принимает эту мысль Платона и согласен с тем, что чело¬
век - это не туча комаров, которая бросается то туда, то сюда. Его ин¬
тересует ответ на вопрос: почему человек не марионетка Бога? Откуда
у него внутренние состояния? Ответ Канта звучит так: если бы сущест¬
вование человека во времени и в пространстве было бы его существова¬
нием самим по себе, то защитить свободу от Бога было бы невозможно.
Ни абсурдом, ни хаосом. Человек неизбежно превратился бы просто в
куклу богов. Человек не может превратиться в куклу богов только в том
случае, если он, как говорит Кант, существует как явление, а не сам по
себе. Поступки человека - это его поступки как явления, а не как вещи
в себе. Бог же творит только вещи в себе, а не явления. Кант пишет: «...
если бы поступки человека... были определениями человека не как явле¬
ния, а как вещи самой по себе, то свободу нельзя было бы спасти. Че¬
ловек был бы марионеткой или автоматом Вокансона, сделанным и
заведенным высшим мастером всех искусных произведений»1. Человек
может быть разумным автоматом, и сознание спонтанности было бы в 1 2 31 См.: Декарт Р. Из переписки 1619-1643 гг. // Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль,
1989. С. 610.
2 Там же. С. 610.
3 Кант И. Критика практического разума // Основы метафизики нравственности.
М.: Мысль, 1999. С. 366.
Фигуры
51
нем, согласно Канту, обманом, ибо причина человека находилась бы не
в нем, а в чужой власти.
Человек - это актер, который принужден играть самого себя, а
не быть собой. Цитата из «Критики чистого разума». «Мы представ¬
ляем самих себя наглядно лишь постольку, поскольку мы внутренне
подвергаемся воздействию; мы при этом страдаем от самих себя»1.
Представлять самих себя — значит быть художником, ставить себя
перед собой как нечто пространственное, как автопортрет. Но ведь
представлять самого себя наглядно невозможно, ибо мы можем пред¬
ставить себя как тело, как вещь, но мы не можем представить себя
как самость. Ее заслоняет Я. О самости ничего не говорят не только
губы, но даже глаза. Мы создаем свой наглядный автопортрет лишь
постольку, поскольку забываем о внутреннем воздействии на самих
себя, ибо это воздействие не изобразимо. Вернее, не изображением
своей предметности, своей одежды, своего тела мы подсматриваем за
своей самостью без Я. При этом о самости мы узнаем по страданию.
Следовательно, автопортрет в той мере может считаться удачным,
в которой мы не изображаем тело, одежду, предметы, за которыми
просматривается присваивающее их Я. Когда мы не узнаем свой авто¬
портрет, когда говорим, что это не мы, а наша боль, страдание, наше
причинение себе ущерба, тогда мы ближе к себе, ибо мы — это помеха
для себя самого, своего Я. Ибо я тот, кем я могу быть, отрицая себя,
а не утверждая себя.
Кажется, философы перестали искать истину. А это значит, что они
перестали быть методологами. С некоторых пор поиски чистой мысли
стали делом неприличным. Философ — это виртуальный артист, поэт.
Он не только высказывает, но и забавляет. Он показывает представления
и ставит спектакли, как ставятся они в Большом театре. Никто ничего
не доказывает.
Из множества предметностей я выбираю антропологическую пред¬
метность, чтобы показать, как на ней развивается дискурс немецких
философов. «Антропология с прагматической точки зрения» хороша,
на мой взгляд, тем, что в ней менее всего ощутим коперниканский пере¬
ворот Канта. В ней Кант менее всего носится со своим субъектом, дрей¬
фуя к Платону, к пониманию того, что человек сам себя учреждает.
В «Антропологии» Кант говорит о том, как человек есть, а не как он
мыслится.
Натур философ
Кант начинал свою карьеру как натурфилософ. Затем он получил
кафедру и совершил коперниканский переворот в философии, превратив
себя в трансцендентального философа. К концу своей жизни, когда те¬
рять ему было нечего, Кант стал антропологом, т. е. совершил еще один
1 Кант И. Собр. соч.: В 6 т. 1966. Т. 3. С. 108.
4*
Глава II
52
переворот в философии: антропологический. А это уже был скандал.
Потому что последователи Канта застряли на уровне трансценденталий
и еще одного поворота они уже могли не вынести. Вот, например, мыс¬
ли. Есть в них что-то, что указывает на их земное происхождение, на то,
что это мысли человека, что это его знание, а не марсианина или какой-
нибудь космической бактерии. Или же эту связь можно оборвать и по¬
ложить мысль в качестве того, что мыслит себя. А если она мыслит себя,
то неважно, в чьей голове она это делает. Неважно, кому принадлежит
эта голова. Неважно, кто мыслит. Кому бы она ни принадлежала, субъ¬
ектом всегда будет мысль.
Или вот знания? Будут ли они полными, если изъять факт их при¬
надлежности человеку? Или не будут? Может ли кто-то, кому в руки
попадут наши знания, сделать вывод о существовании человека? Если
в знании нет следов, оставленных человеком, то это знание будет на¬
учным, а сознание — трансцендентальным. А если есть след, то это
знание будет антропологическим, не скрывающим свою принадлеж¬
ность к человеку. Иными словами, теория трансцендентальной аппер¬
цепции является одним из способов отделывания от человека, выведе¬
ния его за пределы мира и обоснование важности нечеловеческого
взгляда на мир. В этом причина существования метафизики и антро¬
пологии.
Следовательно, антропологический поворот Канта обессмысливал
метафизику и ее трансцендентальный метод. Кант выступил против Кан¬
та. Вот какие слова Канта указывают на этот поворот. «Сферу филосо¬
фии... можно подвести под следующие вопросы: 1) Что я могу знать?
2) Что я должен делать? 3) На что я смею надеяться? 4) Что такое
человек? На первый вопрос отвечает метафизика, на второй — мораль,
на третий — религия, на четвертый — антропология. Но, в сущности,
все это можно свести к антропологии, ибо три первых вопроса отно¬
сятся к последнему»1.
Обертоны антропологии
Вопросы, сформулированные Кантом, приобретают в русском язы¬
ке новые обертона. Не трансцендентальные. Как знать? Что делать? Кто
виноват? Последний вопрос, а именно: что есть человек — русский язык
переводит в область не антропологии, а практической морали. Кто ви¬
новат, что мы никому не верим, что мы не знаем, что делать, и не знаем,
как это узнать? В результате становится очевидным тезис, раскрывающий
природу человека. Сам по себе, т. е. без Бога, человек слаб. А не сам по
себе он бессубъектен. В кантовской версии вопросов доминирует тема
возможностей автономного субъекта. Предполагается, что человек —
это существо, которое само себе дает законы. В первом случае пределы
антропологии определены Богом. Во втором — конечностью человека.
Кант И. Трактаты. СПб., 1996. С. 438.
Фигуры
Трансцендентализм как муляж
Трансцендентальная антропология невозможна в принципе. Если
бы она была возможна, то мы могли бы заочно составить антропологию
марсианина, или будетлянина. Что глупо, ибо для этого нам нужно было
бы полагать жизнь в качестве логического процесса, а не реального. Того,
что действует фактом своего существования.
Трансцендентальную философию, как экспонат, пора сдать в музей.
Отправить в архив. В коллекцию отживших систем мысли, для всеобще¬
го обозрения публикой. Кант так и сделал, написав «Антропологию»,
во-первых, с прагматической точки зрения, а не с трансцендентальной.
Во-вторых, с целью «применить к жизни», а не убежать от жизни.
Из трансцендентализма, как из папье-маше, можно сделать хороший
муляж философии. Тренажер для студентов, на котором учатся летать,
но не летают.
Умствования Декарта
Вот Декарт. Неплохой философ. Но он зачем-то умствует по поводу
сложившихся в мозгу следов пережитых ощущений. Как будто он ней¬
рофизиолог. У Декарта нет никаких специальных знаний обо всех этих
мозговых нервах и волокнах. Если бы эти знания у него были, то он
перестал бы умствовать. И стал бы исследователем, т. е. стал физиоло¬
гом, а не философом. Но даже научные знания он мог бы использовать
лишь в академических целях, а не в своих собственных. Применительно
к себе. Допустим, Декарт понял, на чем основывается память. Как естест¬
воиспытатель он изучил мозговые нервы и волокна. Но может ли он
использовать эти знания для того, чтобы сделать свою память лучше?
Конечно, нет. А «не умея использовать их для своих целей, он все должен
представить природе»\ То есть Декарт занимается мозговыми волок¬
нами. И у этих занятий один порядок. А природа занимается Декартом.
Его памятью. И у этих занятий другой порядок. А это значит, что поря¬
док идей в мысли не совпадает с порядком вещей в природе. У феномена,
называемого Декартом, есть нижний порог волевого действия. И верхний
порог. «Стало быть, — заключает Кант, — всякое теоретическое ум¬
ствование по этому поводу ни к чему не ведет»1. А раз всякое, то и
трансцендентальное умствование ни к чему не ведет.
Прагматическая антропология
Например, решил ты что-то сделать из себя, а тебе говорят, что ты
должен учесть сцепление каких-то там нейронов и вдобавок к этому еще
и учесть последовательность соединения нуклеатидов. Но ведь это все
находится за пределами опыта делания себя. Это не элементы опыта
твоего сознания. Равно как не является элементом твоего сознания и
трансцендентальное сознание. Оно не принадлежит тебе. 1 21 Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. СПб.: Наука, 1999. С. 132.
2 Там же.
Глава II
54
Поэтому Канта интересует такое знание человека, которое рас¬
ширяет возможности его сосуществования. Знание памяти, расширя¬
ющее память. Ибо в этом расширении действует не природа, а ты. В нем
есть место для тебя. И на этом месте ты субъект, а не она. Трансцен¬
дентализм не оставляет такого места для человека. Поэтому-то транс¬
цендентальная антропология и невозможна. Для чего нам игра пред¬
ставлений, если мы в ней только зрители, а не актеры. Между приро¬
дой и трансцендентальным субъектом нет никакой разницы в том
смысле, что человек в обоих этих случаях лишен субъектности. А вот
то знание человека, которое расширяет возможности его существо¬
вания, Кант называет прагматической антропологией. Или просто
антропологией.
Я не мыслимо без мысли
Для того чтобы быть разумным нужно обладать представлением о
своем Я. А если ты не обладаешь представлением о своем Я, то ты и не¬
разумен. Ты не личность и тебя ничто не возвышает над всеми другими
существами. И с тобой можно обращаться как с животным. С неразум¬
ными же животными «можно обращаться и распоряжаться как угодно »!.
Например, использовать как рабочую силу. Как выдрессированную силу
природы. Поэтому каждый человек должен учиться извлекать свое Я из
разных событий. Лучше быть эгоистом, чем рабочей силой. Все в тебе
меняется, а твое Я неизменно. Тавтологично. Себетождественность Я
обеспечивает сила единства сознания. Правда, откуда эта сила берется
у сознания, Кант не пояснил. Можно лишь догадываться, что исток ее
вне сознания. Кант, как и Декарт, не мыслит мысль без Я. Но можно ли
мыслить Я вне связи с человеком? Согласно Канту, это будет трансцен¬
дентальная апперцепция. Прилагательное «трансцендентальное» запре¬
щает ссылку на человека.
Совместный мир
Естественно думать, что ты — это весь мир. Все люди эгоисты. Но
эгоизм нужно как-то ограничить. Вот Кант и ограничивает его своей
теорией гражданского общества. Ни одно Я не охватывает в своем Я
весь мир. Оно не охватывает даже своей наружности. И поэтому Кант
постулировал мир, общий для всех Я. А это значит, что есть мир, по
отношению к которому ты не можешь сказать, что это твой мир. Он не
твой. Он общий. Как коммунальная кухня. Как агора у греков. Общая
кухня делает людей гражданами. Мы граждане этого общего мира.
И пока он есть, мы живем в гражданском обществе, соблюдая правила
общежития. Отказ от общего мира позволяет «Я» объять весь мир в
интенции. В значении. Но это Я уже будет солипсистским. А для него
правила не писаны.
1 Там же. С. 139.
Фигуры
Что делать с детьми и шизофрениками
Антропологические знания не априорны. С ними не рождаются. Они
берутся из опыта наблюдения. Любопытно наблюдать за человеком в
моменты расширения того, что дано ему природой. В момент расширения
ты не зависишь от природы. От того, мужчина ты или женщина, старый
или молодой, русский или немец. Важно только, чтобы было Я. Опора в
расширении. Опираясь на Я, ты делаешь себя свободным.
Взяв тему «Я» кантовской антропологии, можно указать и на про¬
блему этой антропологии. Все, у кого есть Я, разумны. А у кого нет Я —
не разумны. Это постулат. Но что делать с неразумными? Как поступать
с ними? Со всякими неразумными существами можно поступать как
угодно. Их можно убивать, сажать в клетку и т. д. Но что делать с людь¬
ми, которые потеряли Я? Заболели? Что делать с шизофрениками? Как
отнестись к детям? Я требует непрерывного мышления. Единства созна¬
ния. А откуда оно у них? Ведь они утром одни, а вечером — другие. Кант
полагает поступать с ними, как с неразумными животными. За исклю¬
чением детей. Ибо у детей, на его взгляд, все-таки есть Я. Только оно не
высказано. Его еще нет в порядке слов. Хотя оно и есть. И связано с
мыслью, о свободе и справедливости. У ребенка есть бессловесный ум.
Если бы его не было, то ребенок бы плакал и улыбался уже в первые дни
своей жизни. А он не плачет и не улыбается. Плакать и улыбаться он
будет, когда ум укажет ему на обиды и несправедливость. «С того дняу
когда человек начинает говорить от первого лица, он везде, где только
возможно у проявляет и утверждает свое любимое Я и эгоизм развива¬
ется неудержимо...»!.
Шизофреников надо лечить, а внебрачных детей можно лишать жиз¬
ни. Цитата из Канта: «Появившийся на свет внебрачный ребенок родил¬
ся вне закона, стало быть, и вне охраны его. Он как бы вкрался в обще¬
ство (подобно запрещенному товару), так что общество может игно¬
рировать его существование (ибо по справедливости он не должен был
существовать таким образом) у стало бытьу и его уничтожение »2. Кант,
рассуждая как гуманист и сторонник правового общества, ставит долж¬
ное выше существующего.
Антропология как путешествие
В момент расширения человек становится гражданином мира. Субъ¬
ектом действия, в котором знание сопряжено с умением, а понимание —
с участием. Трансцендентальный философ всегда находится в позиции
постороннего. Он понимает, не участвуя. Знает, не умея. Он субъект
чистого мышления. А с чистым мышлением не живут. Субъект чистого
мышления и есть само это мышление. А не жизнь. Чтобы знать жизнь,
нужно жить. Для этого нет никакой надобности учиться в университете.
Читать когитальных и трансцендентальных философов. А если уж при- * 11 Там же. С. 141.
1 Кант И. Метафизика нравов. СПб., 1998. С. 134.
Глава II
56
ходится что-то читать, то лучше всего книги о путешествиях. А еще луч¬
ше путешествовать самому.
Кант не путешествовал. Он читал книги путешественников. Он жил
и наблюдал. Поэтому-то Кант строит свою «Антропологию» не как ком¬
ментарий к текстам философов, а как описание своих наблюдений. Свое¬
го непосредственного опыта.
Топология человека
Трансцендентальный философ ведет разговор не о человеке, а о вся¬
ком разумном существе. А вот где будет расположено это существо, на
какой планете и из чего оно будет сделано — все это для него неважно.
Об этом ничего определенного сказать нельзя, не выходя за рамки транс¬
цендентальной философии, которая полагает, что между разумом и
местом его обитания нет никакой связи.
Кант совершает искомый выход, ибо вводит новую размерность. Не
трансцендентальную, а топологическую. А именно: указание на то, что
человек живет на Земле. Вот это указание места человека не вписывает¬
ся в структуру трансцендентального сознания. Разрушает ее язык и од¬
новременно создает возможность антропологической версии философс¬
твования.
Топологические характеристики человека ничего не могут приба¬
вить к понятию ума. Чтобы расширить понятие ума, нужно провести
сравнительную топологию. А вот это-то мы и не можем сделать. Нам
не с чем сравнивать человека. Мы ничего не знаем о неземном разумном
существе. Кант пишет: «... задача указать характер человеческого рода
совершенно неразрешима, ибо решить ее можно было бы, сравнивая
два вида разумных существ, исходя из опыта, а опыт не допускает
такого сравнения»1. Для того, чтобы возникло опытное знание, нужно
другое разумное существо. Какое-нибудь неземное. Нечеловеческое.
А его нет. Поэтому, ничего опытного о человечестве сказать нельзя.
Наука о нем невозможна. Мы не можем посмотреть на себя со сторо¬
ны. Поэтому антропология довольствуется тем, что мы знаем о себе
изнутри. Антропология не нуждается в априорном сознании, изучении
его структур.
Теория неокончательного человека
Незнание неземного разумного существа создает препятствия на
пути изучения разумного существа. Ума. Это препятствие можно попы¬
таться рбойти. Антропологический поворот Канта связан с попыткой
построить представление о человеке вне зависимости от того, знаем ли
мы или незнаем неземной разум. Поэтому Кант описывает человека в
предположении, что человек есть то, что он из себя делает. Он делает,
а не природа. А делает он себя таким, что у него всегда есть возможность 11 Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. С. 430.
Фигуры
57
себя усовершенствовать. Переделать. То есть Кант помещает человека
в пространство некоего расширения, в перспективу делания себя. А это
значит, что обойти выше отмеченную трудность можно, если мы примем
теорию неокончательного человека. Чего-то незавершенного. Недоде¬
ланного. А судить о том, что не завершено, нельзя. Для этого нет транс¬
цендентной перспективы. Взгляда со стороны иного.
Человек одинок
Онтология человека складывается у Канта под влиянием его дискур¬
са. Способа рассуждений. А именно, собственно человеческое начало в
человеке еще не определено. А вот животное в нем уже определено при¬
родой. И все было бы хорошо, если бы не ум. Ведь животному ум ни к
чему. Ему достаточно инстинкта. А у человека ум есть. И поэтому чело¬
век одинок. Он лишен радости общения с себе подобными. Ум делает
нас одинокими. И некоммуникабельными. Онтология человека представ¬
лена Кантом в его любимой фразе: человек — животное одинокое и из¬
бегающее соседства1.
Неопределенность человека
Если бы человек был полностью определен, то он бы стал просто
животным. Или ангелом. А он и не ангел, и не животное, а так, что-то
промежуточное. Какое-то полуживотное. Полуангел. Некая свинья с
ангельским лицом. Вот эта «половинчатость» относит человека к непол¬
ным существам. К кентаврам. К тому, что делимо. А делимо зло. Разно¬
гласие и вражда. Тогда как добро — это полный предмет. Нельзя гово¬
рить о половине добра, потому что полудобро есть не что иное, как зло.
Степень зла. Поэтому человек не определен как добро. И не определен
как зло. Человек не степень животного. Это неудачное животное. Ибо
его половинность указывает на сущность, ускользающую в пустоту. На
то, что не имеет никаких содержаний и что только еще должно быть
заполнено. Но и его пустоту следует понимать не как то, что может быть
заполнено, а как способ существования. Как некое дело, которое нельзя
сделать. Которое можно только делать. Законченность действия озна¬
чала бы утрату человека. Поэтому человек — это сизифов труд челове¬
ка стать человеком.
Незаконченность дела человека или, что то же самое, существование
человека в модусе его ускользания от самого себя делает возможным
его разумность. Ум нуждается в пустоте, в недоделанности человека.
В разногласии.
Культура предшествует морали
Антропологическая размерность пустоты представляется Канту в
виде разрыва между разногласием и согласием. Ибо ум — это то, что
1 См.: Там же. С. 432.
Глава II
58
ведет от раздора к согласию. Но ведет он нас в модусе ускользания пол¬
ного согласия. Человек приближается к нему, не имея возможности
приблизиться. Раздор — это то, что в нас от животного. Согласие — от
ангела. И вот разум стремится из раздора вывести согласие, «чтобы, —
как говорит Кант, — совершенствовать человека через развитие куль¬
турыу хотя бы ценой лишения его радостей жизни»1. Неполнота чело¬
века нуждается в культуре. В ее крючках. Ведь если бы ее не было, то
ничто бы человеческое не могло удержаться. Продлиться. Оно бы, слу¬
чайно появившись, так же случайно и рассеялось бы. И это естественно.
А культура не дает исчезнуть случайному. Удерживает его. И поэтому
культура предшествует морали.
Если бы мораль предшествовала культуре, то тогда никто бы не смог
себя усовершенствовать, и каждый из нас был бы таким, каким он есть.
А поскольку цель человека состоит в усовершенствовании самого себя,
постольку нужно дать человеку эту возможность. В антропологии Кан¬
та эта возможность обеспечивается разрывом между культурой и мо¬
ралью. А это значит, что между добром и добрыми людьми нет никакой
связи. Добро принадлежит культуре, добрый человек — морали. В тер¬
минах кантовской антропологии вполне мыслимо общество, в котором
нет добрых людей. А добро есть. Добро без добрых людей и составляет
содержание культуры. Исходную точку прогресса. А уже потом, с те¬
чением времени, может быть, появятся и добрые люди. Но пока они не
появились, Кант предлагает создать производство добра из зла. Пред¬
лагает заставить недобрых людей делать добро. Но если добро возмож¬
но без добрых людей, то и социум можно мыслить вне связи с человеком.
Эта возможность мысли коренится в кантовском антропологическом
дискурсе.
В русской философии человек мыслится как добрый человек. На
качествах человека основана культура. И поэтому мораль предпосыла¬
ется всякой культуре, сближаясь с религиозной мистерией. То есть в
основе культуры лежит культ.
Кант против Аристотеля
Человек одинок. И антисоциален. Если бы он был общественным
животным, то тогда согласие предшествовало бы разногласию. И прав
был бы Аристотель. Ибо нельзя быть общественным существом без со¬
гласия с другими. Но за «согласие» Аристотель заплатил отказом от
идеи прогресса. От самой ее возможности. Кант же человек прогрес¬
сивных взглядов. Теоретик эпохи просвещения. Поэтому он выступил
против Аристотеля. Ведь если согласие предшествует разногласию, то
тогда нет возможности для прогрессирующего изменения. Человеку не
во что изменяться. У него нет пространства расширения. И он должен
довериться природе. А это значит, что человек перестает быть делом
Там же. С. 431.
Фигуры
59
человека. Тем, что еще нужно сделать. Он не субстанция-субъект. При
данных обстоятельствах люди могли только деградировать. Как у Пла¬
тона. А Канту хотелось, чтобы они шли в ногу со временем. Прогрес¬
сировали. За прогресс тоже нужно платить. Этой платой стал Постулат
Канта об изначальном одиночестве людей. Их злобности и нетерпимос¬
ти.
Нет никаких причин для того, чтобы мораль была укоренена в при¬
роде. Ведь тогда появились бы и люди, добрые по природе. А доброму
человеку не нужно достраивать себя до полноты добра. Делать себя доб¬
рым. Его мораль была бы от природы, а не от культуры. И культура ста¬
ла бы ненужной. А Кант природу не любил. Он любил культуру. И по¬
этому он решил заставить человека стремиться от зла к добру. Чтобы
стремлением к уму существовал ум, а стремлением к добру существова¬
ло добро.
Натуральный ум, равно как и натуральное добро, Кант полагал не¬
существующими. Ведь если бы они были, то тогда человек стал бы не
человеком, а чем-то другим. Каким-то добрым, но неразумным земным
существом. Кант связал ум со злом, а добро — с глупостью. И поставил
ум над глупостью, а зло — над добром.
А вот свободу Кант относил к естественной страсти. Только свобод¬
ный человек может быть счастливым. Ибо он находится вне суждения
о нем другого. Свобода нуждается в войне, чтобы одинокий жил одино¬
ко и держал других поодаль от себя.
Выли ли Адам и Ева животными
Кант не разбирает вопрос об уме и глупости первых людей. Об их
отношении к добру и злу. Он радикально меняет сам способ вопрошания.
Ведь это нужно еще доказать, что Адам с Евой были людьми, а не жи¬
вотными. Если бы они были людьми, то у них не было бы инстинкта.
А без инстинкта они не смогли бы выжить. Адам и Ева, изгнанные из
рая, просто утонули бы в первом же озере. Ибо плавать они не умели.
Ведь плавание — это искусство, которому надо учиться. А их учить было
некому. Первые люди, утоляя голод, непременно съели бы какую-нибудь
гадость. Отравились бы и умерли. А они не отравились. И не утонули.
Значит, у них был инстинкт. И они были животными.
Крик ребенка
Но если Адам и Ева были животными, то почему же мы не унасле¬
довали их инстинкты? Значит, в какой-то момент мы их потеряли. Вот,
например, ребенок. Почему, рождаясь, он кричит? Ведь крик обнаружи¬
вает его присутствие. А это опасно. Кругом враги. Рожаться нужно тихо.
Незаметно. Без шума. Человек вообще появился в мире незаметно. Как
зверь. Почему же сейчас дети, рождаясь, кричат? Ссылки на физиологию
Кантом не принимаются. Указание на устройство легких, на воздух и
прочее — это все для легковерных.
Глава II
60
Почему дети кричат
Дети кричат потому, что им нечего бояться. Что они в безопасности.
Откуда же она, эта безопасность, взялась?
На нетрансцендентальный вопрос мы получаем нетрансценденталь¬
ный ответ. Дети кричат потому, что у них уже есть возможность жить в
доме. В пространстве согласия. Дом — это первая ступень согласия меж¬
ду людьми. «Хотяу — замечает Кант, — мы и не знаем, каким образом
и при содействии чего природа осуществила такое развитие»1. И осу¬
ществит ли она его по отношению к обезьянам. Ребенок кричит еще и
потому, что криком он возвещает о своем притязании на свободу. Ведь
о какой свободе может идти речь, если он не может управлять своим
телом? Ребенок воспринимает неуютность как принуждение. Как не¬
справедливость. Именно поэтому дети начинают плакать через несколь¬
ко месяцев после рождения. Ребенок кричит. Родители его наказывают.
Ребенок отвечает еще более громким криком. Родители — еще более
суровым наказанием. Или вот еще пример. Детеныш животных играет.
Дети людей ссорятся друг с другом, как будто у них есть некоторое
понятие о праве.
Конечно, враждовать естественно. В каждом человеке есть зерна раз¬
дора. Но еще есть ум. И ум ведет изначально одинокого к согласию с
другим. К преодолению отвращения. Иными словами, ум ведет к дому.
Это знали и Анаксагор, и Кант. Но дело в том, что ум не нужен в доме.
Чем больше устанавливается согласие, тем меньше оно нуждается в уме.
Поэтому дом является одновременно и пространством первого отказа
от ума. Причиной появления подпольных мыслей. Бессознательного.
Всякая подлинность нуждается в бессознательном. В подпольных мыслях.
Сообщенность пространств согласия составляет новый компромисс, ко¬
торый Кант обозначает как гражданское общество. Но скрытой посылкой
этого компромисса является второй отказ от ума. На этом уровне про¬
исходит разделение мысли и институции высказываемости. Становится
важным, чтобы была интуиция высказываемости мысли, а не мысль.
Пустота одинокого
Одомашниванию человека сопротивляется его природа. Конечно,
естественно быть злым. Есть все причины для враждебного отношения
к другому. Ведь другой нарушает твое первобытное одиночество и со¬
здаваемую одиночеством пустоту. Изначальная пустота человека явля¬
ется возможным вместилищем абсолютной свободы. А другой ограни¬
чивает эту свободу. Заполняет пустоту какими-то содержаниями. Свя¬
зывает руки. И вот уже свобода лишается связанного с ней беззакония.
И своеволия. А без своеволия никакая свобода не имеет смысла. Ибо
она становится осознанной необходимостью. Люди злонравны. А сво¬
бода нуждается не в собственности, а в пустоте.
1 Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. С. 440.
Фигуры
Дом как пространство согласия
В доме достигается согласие между полами. Между женщиной и
мужчиной. В женщине Кант видит по-преимуществу домашнее животное.
В мужчине — публичное. Женщина может только отказываться. Муж¬
чина домогаться женщины.
Цитата из «Метафизики нравов»: «Когда один из супругов ушел от
другого или отдался во владение третьего, другой вправе в любое время
и беспрекословно вернуть его, словно вещь, в свое распоряжение»1.
Право выше человека. Супруг — это вещь, на которую распростра¬
няется право владения.
Пространство согласия удерживается домашним обедом. За обедом
соединяются чувственность и рассудок, свобода и правила. «Нигде, —
пишет Кант, — чувственность и рассудок, соединенные в потреблении,
не могут столь долго продолжаться и столь часто повторяться с удо¬
вольствием, как за хорошим обеденным столом в хорошем обществе»1.
Желательно приглашать гостей больше числа муз и меньше числа граций,
т. е. вместе с хозяином 11 человек. И разговор вести, начиная с рассказов,
которые уступают место рассуждениям, а последние — шуткам.
Если бы человек был добр, то его не надо было бы воспитывать. И сам
он не стремился бы выйти из грубого состояния одного лишь насилия.
Зачем человеку благонравие?
Ведь сам по себе человек — не деятельное существо. И поэтому он
склонен пассивно предаваться покою. Мечтать о покое — значит любить
в себе животное начало.
Чтобы человек не застревал в состоянии покоя, нужны воспитатели.
Те, кто воспитывает добро. То есть добрые люди. Но их тоже нужно
было бы кому-то воспитывать. А поскольку нет ни одного человека, ко¬
торый сам не имел бы испорченности, постольку проблема морального
воспитания неразрешима.
Три порока человека
В кантовской антропологии полагается три естественных порока
человека. Это лень, трусость и лицемерие. Если бы у нас не было этих
пороков, то ничто не смогло бы приблизить нас к высшему физическому
благу. Пороки Кант понимает как «черное золото» морали. Например,
человек ленив. И любит пассивный покой. Ну, и слава Богу. Ведь если
бы не лень, то неутомимая злоба причинила бы людям больше зла, чем
его совершается в настоящее время. Рука провидения видна и в том, что
она сделала нас трусливыми. Ведь, если бы люди не были трусливы, то
в жажде крови они истребили бы все человечество.
Ни один человек не может не лицемерить. Благодаря лицемерию
существует гражданское общество. Если бы не было симуляции и обма- 1 21 Кант И. Метафизика нравов// Основы метафизики нравственности. М.: Мысль,
1999. С. 649.
2 Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. С. 313.
Глава II
62
на, то не было бы и предателей. Быть предателем естественно для чело¬
века. Не будь Иуды и Христа, было бы некому предать. Без врожденной
злости человека ни одно государство не смогло бы долго просущество¬
вать. И если они существуют, то потому, что еще есть предатели. Ант¬
ропологически оправдано существование не государства, а предателей.
Принуждение к порядку
Сам по себе человек ничтожен. Людям вообще нечем особенно силь¬
но хвастаться. Их глупость и злобность запечатлены в моральной фи¬
зиогномике. Против злобы есть только одно средство: дисциплина.
Подчинение людей общей воле.
Кант протестант. Он в борьбе со злом полагается на принуждение.
На силу насилия. А не на любовь. Жестокость принуждения, возможно,
делает человека культурным. Учит его подчиняться общей воле. Но об¬
щая воля персонифицируется в воле единичного. И поэтому она одна
распространяется на всех. То есть Кант допускает насилие со стороны
воли одного как цену культурного прогресса. Как эффективный способ
одомашнивания человека. Один народ — одна воля — один фюрер.
И если правитель тиран, то все равно никакого права на сопротив¬
ление у народа нет. Люди обязаны терпеть злоупотребления верховной
власти, даже те, которые считаются невыносимыми. «Малейшая попыт¬
ка в этом направлении составляет государственную измену, и такого
рода изменник может караться смертной казнью как за попытку погу¬
бить свое отечество»* 1.
Деятельностная антропология
Человек «как свободное действующее существо делает или может
и должен делать из себя сам»2. Эта кантовская формула бессмыслицы
лежит в основе деятельностной антропологии. То есть нельзя мыслить
человека как бытие или небытие. Его лучше представлять как действие.
Ведь если мы будем мыслить человека как бытие, то неизбежно придем
к антиномиям. Ибо рождаясь, человек будет рождаться без себя. Ему
будет не хватать себя. Чтобы себе дать себя, нужно, чтобы тебя не было.
А если тебя нет, то как ты можешь себе дать себя?
Человек как цель самого себя
Не имеет смысла и другая формула Канта, согласно которой чело¬
век есть для себя своя последняя цель. У бытия нет цели. Оно есть не
для чего-либо, а субстанциально. А вот действие структурируется це¬
лью. Поэтому человек как действие имеет цель. И эта цель — он сам.
А поскольку целью не может быть то, что есть, постольку целью дей¬
ствия является то, чего нет. Человек предстает и как то, чем достигает¬
ся цель, т. е. средством, и как то, что достигается. Как цель. Поэтому
1 Кант И. Метафизики нравов. 4.1. Учения о праве. § 49.
1 Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. С. 131.
Фигуры
63
человек понимается и как средство, и как цель. Как то, что само себя
делает.
Всякое действие — это событие. И как событие оно обессмысливает
смыслы. Пространство бессмысленности непременно заполняется со¬
бытиями. Человеком-действием. Полное действие человека возможно
только при нулевом смысле. Кант выбрал не смысловую, а событийную
перспективу существования антропологической реальности.
Кант — человек деликатный. Он не мог прямо заявить о том, что мир
заполнен событиями и поэтому лишен смысла. Ведь для этого нужно
было объявить о разрыве с христианской традицией, с Богом. Он не
говорит, что Бога нет. Он говорит, что человек есть последняя цель. И в
этом смысле Кант — гуманист. Человек просвещения, обучающий людей
действиям в десакрализованном мире. В мире нулевой святости. При
невозможности любого действия «во имя». Ибо в этом мире нет даже
следов святости.
Кант снижает уровень человека, делая его неокончательным. Прак¬
тичным и целенаправленным. Ведь если ты и есть твоя последняя цель,
то в пространстве этой цели уже невозможна встреча абсолютного и
относительного. Невозможна мистерия. То, что направляет человека
ввысь. К небу. Прочь от земли. И человек, как какая-нибудь ризома,
расстилается по поверхности. Становится горизонтальным существом,
тем, что есть только здесь и только сейчас. Заземленность человека ука¬
зывает не на связь с землей, не на укорененность в почве, а на приложе¬
ние к поверхности земли. И в этой прикладываемости он скорее сущест¬
вует как «хомо», чем как антропос.
Ум и ничто
Пока ничто ничтожит, человек деятелен. Чтобы быть, ему нужно
себе давать себя. А чтобы себе давать себя, нужен ум. Кто думает сам,
тот умен. Кто думает не сам, тот глуп. Глупым людям хорошо. Им весе¬
ло. У них компания. Умный человек одинок. Антропологически ум уко¬
ренен не в бытии, а в ничто. Ведь если бы он бы укоренен в бытии, то
никто бы не стал лишать себя радостей жизни ради ума. И ум бы зачах.
Лишь когда жизни угрожает ничто, тогда приходится радости жизни
менять на ум. Люди умны не от хорошей жизни. В кантовской теории
ума нет ясности по поводу энтузиазма. Того, что питает ум. Дает ему
энергию. Заставляет человека двигаться.
Солипсист
Кант — философский волшебник. Его слова чаруют и очаровывают.
И избавиться от этих чар практически невозможно. К примеру, Кант
называет человека единственным свободно действующим существом.
И это название завораживает видимостью своей понятности. Человек
действует потому, что нет в составе бытия того, что называлось бы че¬
ловеком. А нет его там потому, что он еще не совершился. А вот почему
Глава II
64
это мы «свободно» действуем — это не ясно. Вернее, не ясен момент, в
который мы обретаем свободу. Ведь человек зависит от многого. От все¬
го. Даже от настроения. Когда же мы избавляемся от этой зависимости?
В кантовской антропологии витиевато указан момент делания себя. Про¬
странство субъектного расширения. За счет того, что от него не зависит.
Хорошо расширять свою натуру наедине с самим собой. А чтобы не за¬
висеть еще и от тела, от чувств и от практических мыслей, желательно
очистить себя от них и поместить себя в пространство чистого мышления.
Того мышления, которое мыслит себя.
Иными словами, свободно действовать может только тот, кто не по¬
лагает себя как цель в другом. В инобытии. Только в чистом мышлении
мы ни от чего не зависим. Ибо оно зависит от нас. Только здесь субъект
совпадает с объектом. Следовательно, в познании свободно действующее
существо предстает как солипсист. В жизни оно предстает как эгоист.
Как человек, который делает себя в другом. Используя другого. Во всех
этих случаях свобода приписывается субъекту. А субъектом ты можешь
быть относительно сделанного и не объективируемого. Оно всегда твое.
Поэтому свободен только солипсист. Чувства не играют им. Он всегда
здоров.
Глубокие люди
Все глубокие люди больны. Ибо они представляют мир посредством
чувства. Кант не любил глубоких людей, полагая, что ими могут играть
смутные представления. Смутность возникает в пределах их внутрен¬
него мира, того, что не объективируется. Вот, например, время. Его
нельзя созерцать как объект. Оно предстает как смена чувств. В нем ты
воздействуешь на себя, а не на другого. В терминах внутреннего мира
нельзя отличить причину и действие от простой последовательности
чувственных представлений. И поэтому мы все время путаем причину
со следованием во времени. Никому не надо изобретать собственный
мир и рассуждать в этом мире. Изобретая свой мир, ты уподобляешься
солипсисту. И теряешь контакт с реальностью. Полагая общий с дру¬
гими мир и рассуждая в этом мире, ты обрекаешь себя на скуку. Без
глубоких людей мир становится серым. Однообразным. Кант выбрал
скуку и однообразие. Археоавангард выбрал смех, идущий из темноты
глубокого.
Лечение умом
Глубрких людей нужно лечить мышлением. Эту рецептуру придумал
Кант. Ведь мыслить — значит представлять мир посредством понятий.
Если в глубинах внутреннего мира рождаются фантазмы и совершается
забвение чувства реальности, то задача ума состоит в том, чтобы пере¬
хитрить чувственность глубокого. Вытащить ее на свет понятий, вывер¬
нуть наружу и задать культурными формами. Действием по правилам.
Правда, по правилам действуют слуги и чиновники. Но им ум не нужен.
Фигуры
65
У них ум заменяют правила. В антропологических настроениях Канта
предпочтение отдается правилам, а не уму.
Замещение ума
Помимо правил ум может быть замещен социальными практиками.
То есть лично ты можешь быть и неумным, если умны социальные прак¬
тики. Кант не особенно верил в ум как некое личное качество. Ведь что
ты можешь с ним сделать? Ничего. В лучшем случае ты можешь этим
своим качеством заткнуть какую-нибудь социальную дыру. Или подме¬
нить глупую социальную институцию. Незрелый социум нуждается в
глубоких людях, в человеческих качествах, чтобы ими заполнять свои
пустоты. Канту нравились умные социальные практики. Ибо этими прак¬
тиками могут пользоваться даже глупые люди. Зрелая социальность
безразлична к качествам людей. К их глубине. Ее устраивает человек без
свойств.
Делать добро из долга скучно. Если бы добро делали только по мо¬
ральным мотивам, как их понимал Кант, то никакого добра давно бы
уже не было. К моральным мотивам надо добавлять чувственное удо¬
вольствие. Это третий способ замещения ума. Поэтому душу надо ожив¬
лять. Разум это делает примерами, которые, правда, не всегда действуют.
Природа — аффектами. Она берет в руки вожжи и к мотивам моральным
добавляет еще мотивы чувственного побуждения, которые Кант назы¬
вает почему-то патологическими. Например, ты делаешь добро не из
долга только, но и в силу своей влюбленности. То, что делает ум при
помощи понятий и идей, может делать и природа при помощи аффектов,
играя чувствами удовольствия и неудовольствия. Поэтому аффекты
следует рассматривать не как временный суррогат разума, а как посто¬
янный источник энтузиазма живого сознания.
Кроме аффектов, живое сознание использует еще и иллюзии. Прак¬
тические заблуждения. Это четвертый способ замещения ума. Каждый
человек нуждается в том, что дает ему силы. Оживляет его. В иллюзиях.
В полагании реальности предметов воображения.
Ум может быть замещен и естественными побуждениями. Это пятый
способ замещения ума. Например, если у тебя перестала работать голо¬
ва, то ты можешь обратиться к печени. Она позволит тебе, как говорил
Платон, составить предсказание. Поможет предвидеть. Все прорицате¬
ли работают не головой, а печенью. Согласно Канту, ум замещает любовь
к жизни. Или половая любовь, которая является шестым способом за¬
мещения ума. То есть эти побуждения уже сами по себе умно устроены.
И хотя это не социальные институции, не являются они и личными ка¬
чествами человека.
Максимы мысли
Никто не должен умствовать без цели. Давать разуму возможность
работать в холостую. Ибо это будет неистовство ума. Чтобы быть умным, 55 1920
Глава II
66
нужно соблюдать три максимы. 1. Мыслить самому. 2. Мыслить себя на
месте другого 3. Всегда мыслить в согласии с самим собой.
Мыслить самому. Каждый должен извлечь ум из самого себя. Сделать
так, чтобы в твою голову ничто не попадало без твоего на то согласился.
Если другой захочет тебе помочь в деле мысли, то ты от этой помощи
должен отказаться. Не надо проверять свои суждения с помощью рас¬
судка других людей. Ведь если ты начнешь проверять себя другим, то твой
ум перестанет быть твоим, и тебя легко можно будет обмануть.
Мыслить себя в общении с другими. Твоя мысль должна мыслить
себя, а не мысль другого. Не нужно ставить себя на место другого, что¬
бы понять его. На месте другого всегда должен быть ты сам, чтобы по¬
нимать себя.
Мыслить в согласии с собой, а не с чувствами. Уму не требуется со¬
гласие с традицией. С общим мнением. С суждениями экспертов. Чтобы
быть, уму нужно быть в согласии с самим собой. Не противоречить себе.
Все эти правила, как ни странно, предназначены для эгоиста и солип¬
систа. «Вопрос о том, имею ли я как мыслящее существо основание при¬
знавать помимо своего существования еще и существование всех других
существ ... есть вопрос не антропологический, а метафизический»1.
Практически все люди эгоисты.
Логическими эгоистами являются философы. Им не нужно прове¬
рять свои суждения с помощью рассудка других людей. «Нам, — говорит
Кант, — нельзя в подтверждение наших собственных суждений ссы¬
латься на мнения других... »1 2. Эстетическими эгоистами могут быть все
люди. Ведь каждый ищет критерий прекрасного только в себе, а не в
другом. Каждого устраивает его вкус. Моральные эгоисты мечтают о
собственном счастье и не думают о долге.
Плюрализм и свобода печати как институции смягчают эгоизм. Ука¬
зывают на то, что Я охватывает не весь мир. Что ты гражданин мира.
Логический эгоизм философа является скрытым признанием того,
что народ туп. И ученое сообщество тоже глупо. Оно не мыслит. Ведь
если бы оно мыслило, то не нуждалось для этого в свободе печати. В воз¬
можности проверить свое суждение при помощи суждения других. А оно
нуждается. Это философу ничего не надо, кроме согласия с собой.
Мысль как власть
Кант — немец. И поэтому он полагал, что мыслить — значит ко¬
мандовать. Представлять посредством понятий. Ведь понятие — это
не то, что тобой понято. Это правило. И есть те, которые сочиняют
правила. Это генералы и философы. Им подчиняются. Собственно,
разум — это привилегия. То, что отделяет высшее общество от осталь¬
ных людей. Простым офицерам достаточно способности суждения,
т. е. уметь применять правила. Это их обязанность. Ну, а черни, т. е.
1 Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. С. 144.
2 Там же. С. 142.
Фигуры
67
народу, довольно и здравого смысла. Соответствия понятия цели при¬
менения. Например, это чайник. Он нужен для того, чтобы в нем кипя¬
тить воду. А это дрова. Они нужны для того, чтобы развести огонь.
В понятии содержится только то, что нужно для цели. Не больше того.
И не меньше того.
Для того чтобы мысль перестала быть силой, органом власти, ее нуж¬
но лишить понятий-правил. И, следовательно, нужно сделать ее доступ¬
ной. Сообщенной с каждой точкой антропологического пространства.
Никто не имеет исключительного права на мысль, если мыслят картин¬
ками. Клипами. Многозначными словами. Мыслить — не значит уста¬
навливать правила. Если бы мысль рождалась всякий раз заново из об¬
раза мыслей, то люди бы перестали спать. Они бы непрерывно мыслили.
Тогда же как выспавшийся человек — это человек как бы рожденный
заново. Рождающееся каждый раз заново — это метафора сна, выспав¬
шегося человека, а не образа мыслей. То, что делается по правилам, ли¬
шено духа. Рассудок убивает дух.
Мышление — это разговор с самим собой и о себе! Если бы возник
разговор с другим, то мышление перестало бы быть мышлением. И ста¬
ло бы коммуникацией. И человек перестал бы думать сам. В разговоре
с другим ты перестаешь внутренне слышать себя. А мыслить — это зна¬
чит еще и слышать себя.
Коммуникация нуждается в однозначных словах. Мышление воз¬
можно и без слов-терминов. Язык обозначает мысли, но мысли не воз¬
никают в обозначении. Говорящие на одном языке могут быть бесконеч¬
но далеки друг от друга по понятиям. Кантовская теория мышления
предполагает, что общее выше единичного. И на этом основании рассу¬
док им ставится выше чувственности. Выше созерцаний. Но созерцание
без рассудка может обойтись, а рассудок — нет. Мысль «меня нет» во¬
обще не может существовать. Если меня нет, то я не могу и сознавать,
что меня нет.
Утаивание мыслей
Все, что есть, есть то, что оно есть. Не скрываясь. А человек еще и
мыслит. Так вот, умно скрывать мысли. Не показывать себя таким, каким
ты есть. Ведь если ты себя полностью обнаружишь, то ты обнаружишь
свою пустоту. А тебе нужно быть в порядке перед самим собой. Поэто¬
му умно утаивать мысли.
Утаивание мыслей создает второй план человека. Внутренний мир.
То, что для себя, а не для других. Другим показывают первый план. Но
по нему нельзя судить о том, что там на втором плане. Существованием
второго плана человек отличается от животного.
Умно скрывать свои и узнавать чужие мысли. Дело не в том, сам ты
подумал или не сам. А в том, ты скрыл мысли, если подумал, или не скрыл.
Следствием существования умных людей являются ложь, притворство
и обман.
5*
Глава II
68
Мыслить вслух
Чтобы избежать лжи и притворства, нужно думать вслух. Громко.
Чтобы кому-то еще только подумалось, а его уже было далеко слышно.
Искренность требует мышления вслух Почему же никто не думает гром¬
ко? Потому что искренность мысли несовместима с другим. Никто не
сможет ужиться с другим, если будет думать вслух. Ведь вместе с мыс¬
лью высказывается и истина. Хорошо думать громко, если ты живешь
один. Естественно быть одному и быть злым. Но одному не выжить.
Ведь ты не Бог. И ты умрешь. Без дома. Без детей. То есть вымрут все
мыслящие вслух. Поэтому каждому нужно учиться жить с другими.
Думают в одиночестве. Выживают социально. Но никакая социальность,
ни одно общество не может вынести истины, присутствия мысли. Че¬
ловек скрывает мысли, чтобы жить в обществе и отказывается от исти¬
ны, чтобы быть с другим. Если я не все охватываю в мире, то я станов¬
люсь гражданином мира и мне нужен плюрализм, который должен
восполнить то, что я не охватываю. Однако философ — не гражданин
мира, а эгоист.
Институции мысли
Всякая мысль — это высказанная мысль. Думать громко — значит
отождествлять мысль и высказывание мысли. Но общество налагает за¬
прет на это тождество. Оно мысль отделяет от высказывания. Высказы-
ваемость становится институцией, независимой от мысли. Публичность,
плюрализм, свобода относятся не к мысли, а к институции высказывае-
мости. Мысли, если они существуют, то существуют как подпольные
мысли. Поэтому умно скрывать мысли, а не высказывать. Кант — автор
антропологической теории подпольных мыслей.
В человеке онтологически укоренены ложь, притворство и обман.
Чтобы выжить с другим, нужно поступать не по правде, а по правилам.
Мысль и правила не связаны друг с другом. Развод истины и правил
антропологически оправдан Кантом. Если их не развести, то правила
погубят мысль.
Шум и ничто
Ум задается негативно. Он нужен тому, кто хочет выжить, столк¬
нувшись с ничто. Но ничто ничтожит, если ты один. А если ты в обществе
с другим, то ты живешь. И эта жизнь прячет от тебя ничто. А без ничто
не может быть никакой мысли. И поэтому, пока ты живешь, ты не мыс¬
лишь.
Только одинокий принужден быть личностью, т. е. он принужден
самому себе давать себя. Удел одиноких — это раздор. Разногласие с
другим. В соборе с другим не нужно себе давать себя. В соборе нет про¬
блемы личности и подпольных мыслей. В нем все думают вслух. В собо¬
ре с другим есть проблема гула. Гул преодолевают криком, который
вновь растворяется в шуме.
Фигуры
Покой и воля
В шуме собора с другим устанавливается образ покоя и воли. Дви¬
жение к жизни, свободной от гула публичности, ведет к монашеству.
К ригоризму. К чистой жизни.
Кант не любил покой. Для него покой — это отдых, которому не
предшествовало утомление трудом. Кант ценил чистое сознание. Созна¬
ние без бессознательного. Движение к чистому сознанию ведет к солип¬
сизму. Гносеологическому Робинзону. Кант выбрал Робинзона. Ибо
Робинзон — это он сам. Философ. И отверг монаха. Чистую жизнь. Рав¬
но как и живое сознание. Ибо живое сознания должно не мыслить, а
работать.
Почему люди несчастны
«Многие люди чувствуют себя несчастными оттого, что не умеют
отвлекаться»1. Ведь чувства людей не спят. Они бодрствуют и все вре¬
мя навязывают человеку какие-то представления. Чувства навязывают
себя, а ты от них отвлекайся. Показывай им свою волю. Пусть не они
тобой распоряжаются, а ты ими. Вот ты пошел по пути мысли, а чувства
тебя отвлекают. Забавные картинки подсовывают. И тебе хочется свер¬
нуть с бесцветного пути мысли на цветущие тропинки чувств. А этого
делать нельзя. Чувства тебя обманут. Подведут. Они неустойчивы.
Кант приводит пример. Допустим, пришло время и тебе надо женить¬
ся. И ты нашел ее. И все хорошо. Она богата. Но вот беда, у нее зуб
гнилой. Изо рта дурно пахнет. Ты к ее подружке. А у нее на лице боро¬
давка.
Эти метания провоцируются чувствами. Они отклоняют тебя от цели,
Ну, так ты, говорит Кант, отвлекись от них. Не обращай внимания на
бородавку с гнилым зубом. Сосредоточься на богатстве. Не сбивайся с
пути. Если ты не сделаешь отвлечения, то ты будешь несчастным.
Археоавангарду не нравится теория отвлеченности Канта. В ней рас¬
судок выступает как начальник. А чувственность как чернь. Как слуга.
Нечто пассивное. Даже Гегель пытался исправить Канта в своей теории
раба и господина, а также в определении того, кто мыслит абстрактно.
Археоавангард устанавливает собор рассудка и чувственного в живом
сознании, прослеживая сопряжение события и смысла.
Человек как актер
Если чувственные представления играют нами, то мы должны их пе¬
рехитрить. Сыграть роль. Отвлечься от того, что испытываем. Ведь ког¬
да мы что-то испытываем, мы пассивны. А пассивность, как замечает
Кант, свойственна провинциалам. Плебеям. То есть только у плебеев
естественность вытекает из сердечной простоты. Вот она вытекает из
тебя без твоего на то соизволения, и ты не субъект. Ты чернь. Быть про-
Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. С. 146.
Глава II
70
винциалом плохо. Хорошо быть актером. Субъектом. И умело сыграть
роль сердечного человека. Конечно, никакой сердечности у тебя нет. Но
она и не нужна. Ведь если бы она была, то она бы была не по твоей воле,
а естественно. Как стихия. Подчиняя себя тебе. Лишая тебя субъектно-
сти. А вот когда ее у тебя нет, ты можешь ее играть. И тогда ты субъект.
Актер. А естественность вытекает уже не из сердца, а из умения держать
себя. Пока ты держишь себя, у тебя есть содержания. Манеры. Ты мо¬
жешь не быть, а казаться. Но как только ты перестанешь держать себя,
обнаружится обман. Ибо кроме воли, ничего у тебя не было. Была пус¬
тота и видимость.
Люди — актеры, потому что они пусты. Только пустой человек субъ-
ектен.
«Чем более цивилизованны люди, тем больше они актеры»1. Того,
что они высказывают, нет. Но они не обманывают. Ибо так принято в
мире. Благодаря тому, что человек играет роль, притворно высказывая
в течение длительного времени «добродетели», они мало-помалу могут
действительно пробудиться и стать убеждениями. Уверенность Канта
покоится на предположении, что воля всегда сопряжена с рассудком и
противостоит чувственности. Но воля может быть коррумпирована чув¬
ствами. И в этом случае субъектность должна переместиться в сферу
чувственности, а не рассудка.
Теория актерства людей имеет смысл, если внешнее ставится выше
внутреннего. Внешнее без внутреннего — это видимость. И это хорошо.
Ибо эта видимость конституирует в нас актерство. Человеком является
тот, кто играет роль человека.
Внутреннее без внешнего — это плохо. Это болезнь, к которой от¬
носится всякая искренность, непосредственность и подлинность.
Но если бы люди только играли роль людей, т. е. были актерами, то
они бы перестали пить вино. Ни одна видимость не может опьянеть.
Показать то, что у нее внутри. Ведь то, что у трезвого на уме, то у пья¬
ного на языке. А у нее нет этого языка. Подлинное опьяняет, вино ста¬
новится средством искренности. Опьянение не содействует обмену мыс¬
лями. Но оно позволяет забыть трудности жизни.
Кант почему-то уверен, что не напиваются только евреи, священни¬
ки и женщины. Но это значит, что в них доминирует видимость. И нет
тоски по подлинному.
Обмец пустыми знаками
Обманщик будет обманут в нас самих1 2 — этот тезис Канта допуска¬
ет хитрость морали. Изворотливость разума. Ведь у разума нет силы.
Она есть у чувственности. Силой чувственность не победить. И поэтому
Давид побеждает Голиафа хитростью. Удвоением обмана. Каждый че¬
ловек должен уметь притворяться. Вступать в публичный обмен пусты-
1 Там же. С. 175.
2 См.: Там же. С. 176.
Фигуры
71
ми знаками. Означающим без означаемого. Дело не в том, кто ты есть.
Важно, каким ты кажешься. Как тебя воспринимают. Глупо притворять¬
ся злым, ибо ты уже зол. Следовательно, ты можешь притворяться доб¬
рым. Глупо притворяться глупым, ибо ты и так глуп. И умно строить из
себя умного. Играть роль честного.
Вся антропология Канта построена на представлении о том, что ви¬
димостью добра рождается добро. Кажимостью чести создается честь.
Эти метаморфозы он называет хитростью морали. Дозволенной мораль¬
ной видимостью.
Культура запрещает бытию быть. Вытесняет дословность подлин¬
ного. Она культивирует игру. Правила обмена пустыми знаками. Напри¬
мер, манеры — это видимость. Пустой знак. И вежливость тоже види¬
мость. Канта приводила в восторг своей пустотой фраза Аристотеля:
«Дорогие друзья, нет никаких друзей». Ни одна добродетель не само¬
ценна. Все меняется и разменивается. Лучше разменная монета, пустой
знак, чем ничего. Дорога даже видимость добра в другом человеке, ибо
из нее. как полагал Кант, может получиться что-то серьезное. Кто-ни¬
будь да и обменяет разменную монету на чистое золото.
Нельзя обмениваться пустыми знаками только с самим собой. Нельзя
себе показывать себя как по-видимому доброго. Вообще-то видимость
не обманывает, если ты предназначаешь ее для другого. А вот для себя
ее не надо использовать. Ибо здесь-то в тебе она и может обмануть. Вот
ты украл что-то, а себе говоришь, что ты не вор, что ты совершил доброе
дело, справедливость. То есть ты как бы и не виноват. Или вот ты пока¬
ялся и это покаяние создает видимость искупления вины. Поэтому Кант
недолюбливал раскаяние и покаяния. Ибо они тебе показывают тебя, но
уже невиновным, и ты отказываешься делать себя лучше. Кант знает
антропологию права и не признает антропологию правды. Лишенное
морали не искупает моральную вину.
Обман лени
Естественно быть ленивым. Ничего не делать. Это хорошо, ибо, ни¬
чего не делая, ты не делаешь и дурного. Склонность к покою рождает
скуку. Но если весь мир построен на обмане, то и лень надо обмануть.
Грубой силой ее не победишь. Люди склонны поддаваться обману. Вот
ты ленив, и тебе скучно. И от скуки ты садишься играть в карты на не¬
большие деньги. Во время игры надежда сменяется страхом. И это сме¬
на тебя забавляет. Искусство — это метафора игры в карты. Оно помо¬
гает обмануть лень. Кант не любил искусство. Особенно музыкантов,
считая их поверхностными. Обращающимися только к чувству, а не к
рассудку. Он любил играть в карты, ибо эта игра «представляет собой
лучшее развлечение и лучший отдых после продолжительного напряже¬
ния мышления...»1.
Там же. С. 297.
Глава II
72
Если не получается игра в карты, то можно сходить на спектакль.
Например на «Царя Федора Иоанновича». А затем вернуться домой и
поужинать. После спектакля ужин хорошо переваривается.
Скука
Скучают, как правило, люди образованные. Караибы не скучают.
Они бесстрастны по природе. Пойдет караиб на рыбалку и сидит весь
день с удочкой. Рыбы нет, а он сидит. И ничто его не волнует, не застав¬
ляет искать смены настроений. Образованная публика на рыбалку не
ходит. Она любит читать книги для смены чувств. Для развлечений. И эта
ее страсть ненасытна. Все бесконечное множество книг не сможет на¬
полнить пустоту чтения, образованного человека. Ибо голова его при
этом остается всегда пустой. Ни чем не занятой. И ему нечего опасаться
пресыщения. Покой караиба основан на безразличии к жизни. На несу-
етливости мудреца. Чтению интеллигента предпослана скука. И пустая
голова. Но зато у него есть развлечение. Деятельная бездеятельность.
Для Канта караиб — это примитив. Что-то негативное. Его покой
объясняется тем, что у него в голове нет мыслей. Вот если бы они у него
были, то был бы и стимул к действию. И было бы страдание. Тем самым
Кант манифестирует заблуждение XVIII века: будто мысль сама по себе
уже является действием и не нуждается для своего существования в силе
того, что вне мысли. В интересе, в страсти и аффекте. Поэтому не важ¬
но: есть мысли или нет мыслей. Это не объясняет покой караиба. В дей¬
ствительности у него нет аффектов и страстей. Он находится в состоя¬
нии апатии. А это состояние мудреца. Караиба приводит в это состояние
не ум, а природа. И поэтому следует говорить об умно устроенной при¬
роде, которая недеянием достигает то, что умному человеку иногда при¬
ходится делать.
Караиб, изображая предмет, пытается придать ему значение. У него
не понятийный строй мышления, а символический. Человека, у которо¬
го много символов и мало понятий, Кант называет дикарем. К образо¬
ванным людям относятся те, у кого мало символов и много понятий.
Например, вот интеллигент. Он говорит: давай заключим мир. И обяза¬
тельно обманет. У него понятийное мышление. А вот караиб. Он говорит:
давай зароем боевой топор. И зарывает. Не обманывает. У него симво¬
лическое мышление. У Канта образы вещей представляют не вещи, а
понятия. И поэтому они символы. У Караиба символы представляют
вещи. И доэтому они образы. Караиб близок к дословному. Кант — к
слову. ,
Душа и апперцепция
Для русского сознания важно узнать, есть у человека душа или ее
нет. Когда тебе говорят, что у тебя ее нет — это значит, что ты не чело¬
век. Ты машина. Ведь человек действует по правде, а машина — по пра¬
вилам. По форме.
Фигуры
73
В кантовской антропологии душа есть нечто незначительное. Это
орган внутреннего чувства. А внутреннее чувство доводит до сознания
то, что мы испытываем от воздействия на нас наших же мыслей. Вот ты
подумал о халве, и тебе стало хорошо. Приятно. И если бы душа не со¬
общила сознанию, от чего тебе хорошо, ты бы этого и не узнал. То есть
душа отвечает за осознание того, что ты сам испытываешь от воздействия
на самого же себя. Заботой о душе длится состояние нашей пассивнос¬
ти, то есть бессубъектности и смутности. Ибо мы ведь никогда не узна¬
ем, осознаем ли мы то, что испытываем, или испытываем то, что осоз¬
наем.
Кант душе противопоставляет апперцепцию. Чистая апперцепция —
это хорошо. Это сознание того, что мы делаем. Душа испытывает. Ап¬
перцепция делает. В ней мы активны. Субъектны. Следовательно, все
люди делятся на тех, у кого есть душа, и на тех, у кого есть апперцепция.
Одни осознают то, что они испытывают. Другие осознают то, что они
делают.
Болезни души
Зачем нам душа с ее испытаниями, если она подвержена заблужде¬
ниям? Во-первых, она внутренние чувства принимает за внешние явления.
Во-вторых, плод своего воображения она принимает за внушение извне.
Свыше. А ведь это фантазмы. Сновидения наяву. Спиритизм. Это бо¬
лезнь.
Люди с душой придумают что-нибудь, сочинят, а потом считают, что
все это сочиненное у них уже в душе было. Существовало. Душевный
человек — это человек самообмана. Например, Паскаль — это человек
самообмана. Ибо он предлагал погрузиться в свой внутренний мир.
А это, говорит Кант, идиотизм. «Склонность погружаться в себя вмес¬
те с возникающими отсюда заблуждениями внутреннего чувства может
войти в норму только тогда, когда человек возвращается к внешнему
миру и тем самым к тому порядку вещей, с которым имеют дело вне¬
шние чувства»1.
Паскаль погружает нас во внутренний мир. Кант возвращает нас к
внешнему миру. К порядку вещей. Излечивает от помешательства.
Помешательство имеет четыре формы: идиотизм, умопомрачение,
сумасшествие и безумие.
Идиотами Кант называет тех, кто забыл привести свои представле¬
ния в порядок. В систему. Беспорядочное помешательство характерно
для женщин, обладающих пылким воображением. Никому невозможно
понять, что они собственно хотят сказать.
К идиотическим Кант относит и те способы философствования, ко¬
торые носят фрагментарный, несистематический характер. Например,
постмодернистскую философию. По большому счету всякая философия
Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. С. 192.
Глава II
74
имеет идиотический оттенок чего-то незавершенного. Неокончатель¬
ного.
Умопомрачение свойственно философским параноикам. В них не¬
истовствует разум. Они говоримое принимают за воспринятое.
Самое интересное помешательство — это сумасшествие людей с на¬
рушенной способностью суждения. Они склонны выдавать аналогии за
понятия, сочетая несовместимое. Например, горе и радость, низкое и
высокое. Это помешательство подобно поэзии. К нему склонны все твор¬
ческие люди.
Безумными Кант считает людей, которых интересуют принципы,
свободные от критериев опыта. Например, постижение тайны святой
троицы. Дураков нельзя поместить в дом для дураков. А душевнобольных
можно. Всякий поэт безумен. Его безумие граничит с гениальностью.
Стоит ли поэтов и художников заключать в дом творчества для сумас¬
шедших? Не ясно. Кант об этом ничего не говорит.
Никто не может сказать, что у него болит апперцепция. Ибо она не
болеет. Рассудок не страдает. Болеют души. Болеющая душа — это и
есть душа. Кант полагает, что существуют здоровые души, которые иног¬
да болеют. Отклоняются от нормы. А норма — это познавательная спо¬
собность. Так вот Канта занимают болезни души, касающиеся ее позна¬
вательной способности. Например, если душа подчиняется аффектам и
страстям, то она заболевает. То есть выходит из подчинения разуму.
Когда ты болеешь, ты либо ипохондрик, либо маньяк. У ипохондрика
ход мыслей неправильный. И он знает, что он неправильный. Да сделать
с собой ничего не может. У него больное воображение. Он некстати ра¬
дуется. Некстати печалится. Ему мерещатся все недуги, о которых он
узнает из медицинских книг. Ипохондрия становится причиной вообра¬
жаемых телесных недугов.
У маньяка, как и у трансцендентального субъекта, произвольный ход
мыслей. И это хорошо. Плохо то, что ход мыслей маньяка складывается
по правилам, не сопряженным с объективными правилами. Без соответ¬
ствия законам опыта. Несогласованностью в сфере чувства рождаются
идиоты. Несогласованностью в сфере рассудка рождаются безумцы.
Безумие касается также фантазеров и энтузиастов.
Дух лечит душу
Вылечить человека с душой — это значит избавить его от души.
Перевести его из бессубъектного состояния в субъектное. Волевое.
Вот он спрятался там, в глубинах внутреннего мира, притаился и во¬
ображает, а ты его оттуда извлеки. Заставь его вынырнуть. Верни к
внешнему миру. К реальности. А чтобы он туда, во внутренний мир,
больше не возвращался, разум должен дать его воображению образец
априори. Поплавок, удерживающий на поверхности. Вот это работа
разума называется Кантом духом. В Антропологии Канта дух лечит
душу.
Фигуры
Ничтожность внутреннего опыта
Внешние чувства воспринимают предметы в пространстве. Рядом
друг с другом. Внутренние чувства воспринимают отношения во време¬
ни. Одно после другого. Во времени мы пассивны. Оно идет необратимо
и мы ничего с этим поделать не можем. Мы не может притормозить вре¬
мя и получить возможность для продолжительного рассмотрения како¬
го-либо дела. А без этого рассмотрения опыт у нас не появится. «Пас¬
сивное в чувственности... причина всех зол, которые ей приписывают »1.
Только в мысли человек действует как субъект. Распоряжается своими
способностями. Но это один опыт. Здесь мы учимся жить во внешнем
мире. А внутренний опыт складывается у нас, если мы пассивны. А это
значит, в каждом из нас есть такие представления, которые являются
нам без нашего приглашения. Как если бы они были вестниками внешних
откровений.
Эти вестники, говорит Кант, ведут нас не к высшей истине, а в дом
умалишенных. Нельзя увлекаться бессознательным. Непроизвольным
ходом чувств и мыслей. «Кто умеет много говорить о своем внутрен¬
нем опыте... пусть... прибудет ...в Антикиру»1 2, пусть излечится. На¬
блюдения за собой легко приводят к фантазерству и помешательству.
А поскольку антропологические знания складываются в ходе таких на¬
блюдений, можно сказать, что антропология возникает и существует на
грани помешательства.
Внешний опыт неизмеримо выше внутреннего опыта. Конечно, в опы¬
те нам нечто только является. И мы не знаем, как оно существует само
по себе. Но эти явления упорядочены рассудком. А вот откровения о
существовании во внутреннем опыте неупорядочены. Они создаются
воображением.
Воображение предшествует мысли
Внутренний опыт дает нам высшее откровение. Но это откровение
мнимое. Во-первых, внутренний опыт сопряжен с воображением, а не с
мышлением. Воображение бывает продуктивным и репродуктивным.
Продуктивное воображение может сочинять. Выдумывать. И выдуман¬
ным водить нас за нос. Обманывать. Во-вторых, Бог создал человека так,
что сначала он воображает, а потом мыслит. Мышление идет по следам
воображения. Его болезненных фантазий. Конечно; мышление нас лечит.
Но оно лечит не саму болезнь, не воображение, а его симптомы. Если
бы мышление предшествовало воображению, то тогда не было бы само¬
обмана. Непреднамеренных мыслей. Не было религии, внутреннего опы¬
та, бессознательного и души. И воображение подчинялось бы рассудку.
А художник — эстетическим правилам. Культурным нормам. А так они
не подчиняются. И поэтому люди больны внутренним миром, куда сбра¬
сывает свои образы воображение.
1 Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. С. 164.
2 Там же. С. 149-150.
Глава II
76
Только в мышлении человек опережает воображение. Только здесь
он играет с представлениями. Мышление должно сохраняться чистым,
очищенным от чувств и воображения. То есть оно должно быть мертвым.
Бессознательное как маленькое сознание
У гражданина мира нет бессознательного. Нет внутреннего мира.
Ибо гражданином становятся в момент субъектности Я. А у субъектно¬
го Я нет бессознательного. Как можно знать, что у нас есть бессозна¬
тельное, если мы его не сознаем? Поэтому Локк считал, что бессозна¬
тельного нет. Хотя Лейбниц думал, что оно есть. И Кант допускал бес¬
сознательное, полагая, что мы его все-таки осознаем. То есть
редуцируем к сознанию. Например, я сознаю, что я вижу человека. Хотя
мне не видно его глаз, ушей, носа и т. д. Но я-то знаю, что у него все это
есть, ибо есть у всякого человека. Неосознанное по Канту — это как бы
смутно видимое. Поэтому его может довести до сознания простой би¬
нокль. А это значит, что антропология Канта отделывается от проблемы
бессознательного понимая его как маленькое сознание.
Гражданин мира не видит вещих снов. В снах Кант видит непроиз¬
вольное создание образов. «Сновидения не следует принимать за от¬
кровения из какого-то невидимого мира »1.
Время порока
Бессознательное дает о себе знать смутными представлениями. Ни¬
кому нельзя играть смутными представлениями. Потому что они сыгра¬
ют с тобой злую шутку. Например, половая любовь. Это смутное пред¬
ставление. За игру с ним мы расплачиваемся 10 годами порока. С 15 лет
до 25. В 15 лет мы уже созрели для половой любви. Но еще не можем
создать семью. В 25 появляется материальная возможность для создания
семьи. И вот этот разрыв Кант называет 10 годами порока. Половое со¬
зревание не ждет социального созревания.
Или похороны. Вот ты просишь похоронить себя в саду, под деревом,
чтобы над тобой была тень. Это тоже игра смутного представления. Ибо
тени существуют для живых.
Игра с чувственной видимостью допустима только в живописи.
Аффекты, страсти и пищеварение
Удовольствие можно получить сразу. Все. А можно его растянуть
во времени. Проглатывать по кусочкам. Смакуя. В первом случае мы
имеем дело с аффектом. Во втором — со страстью. Где много аффектов,
там мало страсти. Аффект торопит. Спешит. Ему некогда. Он не любит
откладывать удовольствие на потом. Страсть не торопится. Аффект от¬
крыт и честен. В нем есть что-то животное. Страсть есть только у людей.
Она скрытна и коварна. Например, стремление к свободе — это страсть.
1 Там же. С. 213.
Фигуры
77
Безудержная радость — аффект. Страсть не опасна для жизни, а аф¬
фект — опасен. Допустим, тебе повезло. И ты получил огромные деньги.
И тебе неожиданно открылись виды на неизмеримое счастье. Радость
может быть так велика, что твое сердце не сумеет ее вынести. И разо¬
рвется. И ты скоропостижно умрешь. Поэтому Кант отдавал предпоч¬
тение не аффектам, а страстям, полагая, что человек должен отмеривать
себе такую дозу удовольствия, чтобы она могла еще увеличиваться. Что¬
бы не было передозировки.
Выше страсти только разум. Ибо он одну склонность хитрым обра¬
зом совмещает с другими склонностями. Страсть же односторонняя
штучка. Она в угоду одной склонности оставляет в тени другие. И уже
не разум, а она предписывает тебе цели, в соответствии с которыми тебе
надо поступать. То есть принципы человека разбиваются о страсти.
Аффекты же, поскольку они существуют, Кант предлагает исполь¬
зовать рационально. В целях улучшения пищеварения. Например, все
тихо. Спокойно. И скоро обед. А ты побрани своих детей. Придерись к
ним. Разгневайся. Ибо гнев — верное средство для хорошего пищеваре¬
ния. А чтобы успокоиться, тебе нужно сесть. Устроиться поудобнее.
И гнев твой смягчится. «Удобное сидение приводит к снижению
напряжения»1.
Чтобы очиститься, нужно поплакать. Или посмеяться. Через эти
аффекты природа содействует нашему здоровью.
Привычка, мысли и зов сердца
Итак, добродетель приемлема, если она возникает из мыслей, а не
из чувств. А так же, если она возникает всякий раз заново и каждый раз
является первым началом, а не вторым. Или третьим.
А это значит, что вот ты пожалел ближнего, помог ему из чувства
сострадания, а Кант говорит тебе, что ты поступил плохо. Неосмыслен¬
но. Следуя чувству. А чувства они, ведь, преходящи. Неустойчивы. Они
приходят и уходят необъяснимым образом. И на тебя самого это их дви¬
жение не оказывает никакого влияния. Вот если бы чувства можно было
вызывать произвольно, то тогда другое дело. Тогда бы ты сказал себе:
сострадай. И стал сострадать. Сказал себе: люби. И полюбил. Но чувства
волевым образом не производятся. И поэтому ты сегодня сострадаешь,
а завтра проходишь равнодушно мимо того, кому ты еще вчера сочувст¬
вовал. А вот мысли — это другое дело. Их можно вызвать волевым об¬
разом. Они устойчивы. Непреходящи. Сказал себе: помогай бедным.
И помогаешь. Из идейных соображений, а не по зову сердца. То есть
идейно жалеть можно и с пустым сердцем. Окаменевшими чувствами.
Исходя из мысли о благе. Или мысли о долге. Правда, Кант не допуска¬
ет и мысли о том, что можно изнасиловать добром, рожденным из об¬
раза мыслей. Вот ты даешь ему добро из идейных соображений, а он не
Там же. С. 327-328.
Глава II
78
берет. Не понимает своего счастья. И тогда ты ему это добро можешь
насильно вручить.
«Всякий раз заново » добро возникает для того, чтобы не сложилась
привычка. Чтобы не сработали традиции. Обычай. Ведь если ты будешь
полагаться на традиции, то тогда добродетель будет рождена обычаем,
а не тобой. А это значит, что она смещает тебя из центра. Делает тебя
бессубъектным. Не ты — точка отсчета, а она. Традиция. И тогда она в
тебе делает себя. А ты как попугай, только рот открываешь. Обычай
лишает тебя разумности. Поэтому-то Кант и говорит, что «все привычки
достойны осуждения »1.
А чтобы твое Я осталось в центре, чтобы от него отсчитывались дей¬
ствия, добро должно быть первоначалом. У него не должно быть род¬
ственников, друзей. Оно не должно ни на чем основываться. Только на
себе самом. Да на образе мыслей. Правда, для этого человек должен
быть голым. Чистым. Без привычки, без культуры, без традиций. Без
того, что работает за тебя и делает тебя частью целого.
Отмеченное обстоятельство делает теорию Канта уязвимой. Конеч¬
но, если у человека нет привычек, то у него нет и дурных привычек. А если
нет дурных привычек, то человек перестает быть злым. И теория дозво¬
ленной моральной видимости становится ненужной. Ведь она сама стро¬
ится на предположении о том, что мало-помалу тот, кто делает добро
из видимости, для кажимости, в конце концов, станет делать его по при¬
вычке.
Ко всему привыкает человек. И к подлости. И к святому. Человек —
это его привычки. Вот ты привык подавать нищим. И подаешь. По при¬
вычке. Или привык уступать место старикам. И уступаешь. А Канту это
не нравится. Ибо все это происходит по привычке. Механически. Как
повторение одного и того же. Анонимно. Он полагает, что в привычке
из тебя выпирает что-то животное. Инстинктивное.
Конечно, это хорошо, что ты привык подавать нищим. Это доброе
дело. Но добро в нем лишено моральной ценности. Ибо поступок твой
совершен по привычке. А нужно, чтобы ты поступал из долга. Вот идешь
ты и видишь нищего. И у тебя к нему отвращение. Он дурно пахнет. Но
вот ты вспомнил о своей принадлежности к человечеству и о том, что
нищий — это тоже человек и, поборов свое отвращение, делаешь пода¬
яние. Этот поступок имеет моральную ценность. Ибо в нем исполнен
долг.
Добродетель «не должна превращаться в привычку, а всегда должна
возникатр из образа мыслей как нечто совершенно новое и
первоначальное »1 2.
Без привычки невозможно жить в доме по-человечески. Например,
Кант. Он любил есть и пить в одно и то же время. Равно как ложиться
спать и вставать. Это был его способ обживания мира. Это были его
1 Там же. С. 173.
2 Там же. С. 169.
Фигуры
79
привычки. Для них Кант сделал исключение, полагая, что природа здесь
не любит свободного произвола. Или вот мысль. Если бы она рождалась
всякий раз заново, то никто не узнал бы ее как мысль. Далее. Добро,
возникающее из образа мыслей, это не добро, а мысль о добре. Что-то
идейное. Нежизненное. Поэтому добро нуждается в навыке добра, а
ум — в навыке ума. В привычке к мысли.
Страдания и покой
Всякому удовольствию предшествует покой. Но покой не является
стимулом к действию. Источником беспокойства. Поэтому Кант пред¬
положил, что «всякому удовольствию предшествует страдание»1. Ар¬
гументы его таковы. Жизнь человека прогрессирует. Становится лучше.
И поэтому, если бы она начиналась с удовольствия, то и заканчивалась
бы удовольствием. И люди бы умирали с радостью. С удовольствием.
Что нелепо.
Кант делает допущения, что наша жизнь начинается со страдания.
Что страдание предшествует удовольствию. Ведет к нему. Например, у
тебя умер любимый родственник. И оставил тебе наследство. Тебе горь¬
ко, что его нет. И радостно, что он тебе оставил наследство. Это Горькая
радость. Сладкая боль. Оксюморон, сохранивший причину действия.
Страдания не нужны только мыслящему человеку. Потому что для него
сама мысль является источником беспокойства. Страдания — народу.
Мысль — интеллигентам. И уже одно это распределение приведет ко
всеобщему движению. К полному уничтожению покоя.
Совесть, принципы и поддельное добро
Человек отличается от животного тем, что у него есть изнанка. Вто¬
рой план сознания. И этот план не совпадает с первым. Кант же полага¬
ет, что у человека есть принципы. И поэтому он не бросается туда и сюда,
подобно туче комаров. В зависимости от каждого случая. То есть у че¬
ловека есть характер. А у животного его нет.
Но что делать, если принципы когда-нибудь потускнеют, а характер
ослабнет? Ведь тогда, согласно Канту, должна проступить наша живот¬
ность. А она не проступает. И ожидаемые инстинкты замещаются модой.
Кант относит моду к рубрике глупости. Хотя и полагает, что «лучше
быть всегда дураком по моде, чем дураком не по моде»1 2. Феномен моды
обессмысливает теорию человека, поступающего'согласно принципам.
Более того, в принципах нет теплоты. Чего-то человеческого. В них есть
что-то машинное. Автоматическое. На принципах может строиться
жизнь одномерного человека. А одномерный человек никогда не сокру¬
шается. Не делает глупостей. Все, что нельзя изменить, он выбрасывает
из головы как нечто далекое и анонимное. Улучшая самого себя, свои
принципы, одномерный человек Канта никогда не решится на действие
1 Там же. С. 296.
2 Там же. С. 317.
Глава II
80
без надежды на успех. На отчаянный поступок. Ведь он-то понимает,
что нельзя изменить то, что не в твоей власти.
Кант полагает, что нет в мире причин для того, чтобы было добро.
Что оно бывает из принципов. Стараниями одномерного человека. Что
причины есть для зла. Что злоба — это темперамент. Природа. И ника¬
кое зло не возникает из принципов. Ведь если бы оно возникало из при¬
нципов, то тогда человек ничем не отличался бы от дьявола. И над этим
злом никто бы не смог одержать победу. И прогресс был бы невозможен.
Кант не обратил внимания на феномен поддельного добра. Его за¬
метил В. Соловьев и описал. Во-первых, принципы бывают разные. Хо¬
рошие и плохие. И нет принципов для отбора принципов. Есть мораль.
И она должна предшествовать вкусу. Во-вторых, на принципе можно
наладить массовое производство поддельного добра, т. е. зла. Что Кант
не допускал. В-третьих, принципы возможны и у бессовестных. Сама
эта возможность заставляет признать совесть в качестве того, что пред¬
шествует всяким принципам.
Бах и крематорий
Одинокому человеку не надо украшать себя. Или свой дом. Ему не
нужно нравиться другому. Показывать себя с хорошей стороны — ли¬
цемерить. Он живет в несимулятивном пространстве подлинного. В этом
пространстве нет причин для эстезиса. Для того, чтобы возникла эсте¬
тическая дистанция. Ибо она определяется присутствием другого. А его-
то как раз и нет. Себе же каждый человек и так дан полностью. Одино¬
кий не эстет. Он этик.
Другой заставляет тебя устраивать шоу. Показывать себя. А чтобы
показать себя, нужно решить, что ты будешь показывать, а что тебе луч¬
ше скрыть. Другой создает в нас изнанку, скрытую сторону как условие
предъявления себя другому. Он заставляет нас выбирать. Лицемерить.
И если ты угадал меру другого, понравился ему, то у тебя есть эстети¬
ческая способность суждения. Ведь ты выбрал не то, что тебе нравится
или не нравится, а то, что нравится другому.
Для того чтобы угодить другому, нужно иметь хорошо развитое про¬
дуктивное воображение. Если бы человек зависел только от ощущения,
то он ничем бы не отличался от животного. И тогда ощущения опреде¬
ляли бы, что для тебя приятно, а что неприятно. Но у человека вмеши¬
вается в процесс восприятия воображение. А оно свободно. И тебе нуж¬
но выбрать предметы воображения. Так вот, одинокий выбирает их в
соответствии со своей природой. А публичный человек — в соответствии
с природой другого человека. Первый морален. Он видит изнутри свое¬
го мира. Второй эстетичен. Он смотрит со стороны другого. Извне. Ему
нужно согласовать свободу воображения с законами внешнего мира.
Поэтому эстетический вкус — это правила выбора с точки зрения дру¬
гого. А не просто правила выбора, как думал Кант. Выбирает и одинокий.
Но одинокий не нуждается в сообщении с другим.
Фигуры
81
Теория вкуса связана Кантом с теорией аморального человека. Во-
обще-то человек — аморальное существо. И хитрое. И вот он хочет по¬
нравиться другому человеку. Хочет вызвать восхищение публики. Для
этого ему нужен вкус. Воспитанность и манеры. То есть вкус, говорит
Кант, внешне содействует моральности. А если другому нравится то же,
что и тебе, то от скоординированности удовольствий можно получить
еще и удовольствие второй степени. Удвоенное удовольствие. Вот ты
отправил в крематорий очередную партию людей, а затем послушал фуги
Баха, почитал стихи Кибирова, получил удвоенное удовольствие и эс¬
тетически посодействовал своей моральности. Кант не прав. Прав оди¬
нокий в своем одиночестве. Одинокий полагается на совесть. А она на¬
ходится в мире внутреннего. Кант полагается на всеобщее. А она нахо¬
дится во внешнем мире. Это право и нравственность. Они зависят не от
твоей воли, а от устройства общества. Путь ко всеобщему лежит через
голос, который овнешняет внутренний мир. Объективирует его. Внут¬
ренний мир чувства, воплощаясь в голосе, угасает. Поэтому люди плачут,
стенают. Артикулированный голос овнешняет через слово.
§ 4. Гегель. Человек-ночь
Из лекций Гегеля 1905-1906 гг.:
«Человек есть эта ночь, это пустое Ничто, которое целиком со¬
держится в своей нераздельной-простоте (Einfachheit): богатство
бесконечного множества представлений, образов, ни один из которых
не ведет прямо к духу, образов, которые существуют лишь в данный
момент (gegenwartig). Здесь существует именно ночь, внутреннее-или-
интимное (Innere) Природы: - чистое личное-Я. Оно распространяет
ночь повсюду, наполняя ее своими фантасмагорическими образами:
здесь вдруг возникает окровавленная голова, там — другое видение
(Gestalt); потом эти призраки также внезапно исчезают. Именно эту
ночь можно увидеть, если заглянуть человеку в глаза: (тогда взгляд
погружается) в ночь, она становится ужасной (furchtbar), (тогда)
перед нами предстает... ночь мира.
Власть (Macht), извлекающая из этой ночи образы и ниспроверга¬
ющая их обратно, проявляется как само-полагание (selbstsetzen), (то
есть свободное творчество), внутреннее сознание, Действие (Тип).
Именно в этой ночи скрывается сущность- существующая-как-налич-
ное-бытие (das Seinde); но (диалектическое) движение этой власти
также здесь присутствует»1.
На человека-ночь Гегеля обратили внимание Кожев и Батай. Но ни
тот, ни другой не заметили в этом концепте того, что человек был по¬
мещен Гегелем за пределы природы и за пределы социума, точно так
же, как Платон поместил своих людей в пещеру. Нужно понять, что
1 Кожев А. Идея смерти в философии Гегеля. М.: Логос, Прогресс-Традиция, 1998.
С.200.
6 1920
Глава II
82
если человек — это ночь, то животное — это день мира. Ночь - это
пространство воображения, то, что обращено к внутреннему человека.
Это не мышление, которое обращено всегда вовне, к солнцу, к свету.
Человек изначально полон образов, которые существуют лишь в данный
момент, ибо никакого другого момента времени у человека вообража¬
ющего нет. И Гегель это заметил. Его ночь — это Я, которое двоится
между воображаемым и знаковым. Вместе с человеком-ночью впервые
появляется власть. Власть появляется в ночи. Ибо она есть не что иное,
как самополагание человека. Человек создает себя свободным творчес¬
твом.
В ночи человека скрывается бытие существующего, то есть Гегель в
человеке-ночи лишил смысла любой намек на рождение идеи фундамен¬
тальной онтологии.
В этом фрагменте человек предстает как ночь природы, которая не
связана с днем. Человек — это ночь без дня. Это Ничто, в котором скла¬
дывается наличное бытие и из которого самополаганием, самостью без
Я извлекаются и вновь погружаются в тьму образы, видения, галлюци¬
нации. Среди этих образов есть и образ Я, который, в свою очередь,
задерживает и распространяет образы ночи повсюду. Действие себя на
самого себя — это единственная власть ночи, самоограничением которой
создаются внутреннее сознание, свобода, действие.
1. Кожев. Человек-ошибка
В «Феноменологии духа» Гегель предлагает нам проделать фило¬
софский опыт, а именно: посмотреть на часы и сказать, сколько они
показывают. Например полдень. Тем самым будет высказана истина.
Затем он предлагает нам записать эту истину на клочке бумаги в пред¬
положении, что истина не перестанет быть истиной, если она зафикси¬
рована печатно. После этого он предлагает нам снова посмотреть на
часы и перечитать запись, чтобы засвидетельствовать, как истина пре¬
вратилась в ложь. Ибо теперь будет уже не полдень, а пять минут пер¬
вого.
На этот простенький эксперимент Гегеля никто бы не обратил вни¬
мания, если бы его не заметил А. Кожев, который сделал вывод о том,
что время может превращать человеческие истины в заблуждения. А че¬
ловек — это существо, которому удается в своей письменной речи удер¬
живать заблуждение в поле самой реальности.
«Только ошибки, совершенные человеком, длятся безгранично* и
благодаря языку передаются вдаль»1.
И далее Кожев формулирует один из самых оригинальных концеп¬
тов человека в мировой философии. Он говорит: «Человека можно было
бы определить как ошибку, удерживающуюся в существовании и для¬
щуюся в реальности. Однако, поскольку ошибка означает расхождение
1 Кожев А. Идея смерти в философии Гегеля. С. 31.
Фигуры
83
с реальностью у поскольку ложно другое относительно того у что естьу
постольку можно также сказать, что ошибающийся человек — это
Ничтоу которое ничтожествует в Бытии или «идеал », присутству¬
ющий в реальном... Только человек может ошибаться, при этом не
исчезая... он может жить своим заблуждением...»1.
Мне же только остается присмотреться внимательно к тексту Ко-
жева, чтобы найти в нем ошибки, неясности и смещения, которые вы¬
скажут то, о чем А. Кожев умолчал, представляя Гегеля.
Во-первых, обратим внимание на то, что человек-ошибка и человек
ошибающийся — это все-таки разные дискурсы. Определить человека
как ошибку — это, конечно, более радикальный тезис, чем заявит о том,
что человек ошибается.
Если согласиться с мыслью о том, что человек — ошибка, то в сле¬
дующий момент захочется узнать, кто не ошибается? Может быть, это
Бог ошибся и затем раскаялся в содеянном? Или бытие?
Кожев, как и Гегель, не разбирает этот вопрос, ибо отвечая на него,
ему пришлось бы рассказать о том, как своими силами бытие довело
себя до абсурда, и получилось то, что не сумело уклониться от встречи
с абсурдом и стало ошибкой бытия, т. е. человеком. Поэтому дело не в
том, что человек ошибается, а в том, что он и есть первая и последняя
ошибка бытия, т. е. человек — это ничто, которое ничтожествует в бы¬
тии.
Человек как ничто означает не столько расхождение с реальностью,
сколько разрыв с нею, депривацию человека. А это значит, что человек
всегда другое относительно того, что есть. Под именем «ничто» скры¬
вается тень бытия галлюцинирующего существа. Но галлюцинация — это
не заблуждение, не то, что противостоит истине. Это судьба человека,
который «может продолжать существовать, постоянно ошибаясь в
существующем»1 2. Человек не может жить, не галлюцинируя. И это ре¬
альность, т. е. реальность сама по себе есть объективированная галлю¬
цинация. А истина — это не то, что соответствует реальности, это не
исправленное заблуждение, а практически оправданная галлюцинация.
Но тогда истину нельзя понимать как нечто большее, чем реальность.
Лишь только забыв о встрече с абсурдом, освободившей иллюзию, мож¬
но говорить, что истина есть обнаруженная реальность, т. е. реальность
плюс обнаружение реальности в речи.
Галлюцинацию нельзя исправить, ее можно актуализировать. Но
Кожев, вслед за Гегелем, полагает, что есть какая-то реальность, кото¬
рую обнаруживают, отказываясь от заблуждения. Обнаруженная ре¬
альность — это галлюцинация, совпавшая с возможным или наличным,
т. е. ставшая объективированной реальностью. Совпадение обнаружи¬
вает язык.
1 Кожев А. Идея смерти в философии Гегеля. С. 31.
2 Там же.
6*
Глава II
84
И Гегель, и Кожев считают, что «заблуждение реально существует
только в форме человеческой речи»1, поэтому у них речь, язык заменяет
человека. Без человека бытие было бы безмолвным, оно было бы налич¬
ным бытием.
Выражение «обнаруженная реальность» плохо уже одним тем, что
оно создает иллюзорную картину поисков и обнаружения какой-то ре¬
альности, которая, как клад, спрятана в складках бытия. Стратегия об¬
наружения реальности создается для того, чтобы представить важность
языка, речи, которой и обнаруживается реальность. Но человек по¬
стольку говорит, поскольку он галлюцинирует, т. е. подвергает негации
наличное. Без человека бытие было бы простым существованием. Речь,
рассогласованную с реальностью, Гегель называет трудом, отрицанием
порядка наличного бытия.
А. Кожев: «... Исчезновение человека в конце Истории не будет ка¬
тастрофой: природный мир останется таким, каким был от века.
И это тем более не биологическая катастрофа: Человек продолжает
житьу но как животное, в согласии с природой или наличным бытием.
Кто исчезаету так это собственно человек, т. е. отрицающее наличное
Действование и Ошибка, или вообще субъект, противостоящий
объекту»1 2 3.
Читая Гегеля, Кожев говорит об исчезновении человека в конце ис¬
тории. Но Кожев не говорит, какой человек исчезает, настаивая на том,
что и после исчезновения он будет жить. А поскольку он будет жить в
согласии с наличным бытием, постольку он сам будет наличным, т. е.
животным. Но животным разумным и говорящим. Человек невозмож¬
ный, человек мыслящий исчезнет.
А. Кожев: «Человек есть тот, кто есть, он есть тот, кем он может
быть, отрицая себя. В отрицающем историю действии человек ут¬
верждает себя как человек, т. е. неудовлетворенное, вожделеющее при¬
знание бытия: история останавливается, когда человек не действует,
когда он больше не отрицает, когда «конец истории — это смерть
собственно человека»1.
Гегель смотрит на человека из перспективы желания и вожделения,
а не из перспективы его самости. Нужда и нехватка — вот наша сущность.
Нам не хватает не галлюцинации, а реальности. Поэтому мы желаем
внешнего. Желание лишено уже понимания и поэтому оно требует осоз¬
нания. За осознанием желания возникает желание другого желания. То
есть все |хотят этого, а я хочу другого. Я не как все в своем желании.
Возникает борьба за признание своего желания. В борьбе наше челове¬
ческое бытие. Кто не боролся за признание своего желания, тот не че¬
ловек. И вот наступает момент, когда признали твое право желать. Ты
осуществил себя. Тебе нечего больше желать. И ты не вожделеешь вож¬
1 Кожев А. Идея смерти в философии Гегеля. С. 32.
2 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб.: Наука, 2003. С. 538.
3 Там же.
Фигуры
85
деления. А ведь это значит, замечает Кожев, что ты мертв. Что ты убил
себя.
Человеческое бытие рассмотренное из перспективы вожделения —
это отсроченное самоубийство. Тебя убивают в момент твоего призна¬
ния. смерть — обязательное условие твоего существования. Абсолютный
дух — это место, где заканчивается история, а также место самоубийства
человека, конец его желаний, ибо жить, согласно Гегелю, значит желать.
Я тот, кем я могу быть, отрицая самого себя. История останавливается
в тот момент, когда человек перестает отрицать себя, т. е. галлюцини¬
ровать.
2. Антропология Гегеля
Гегель против Канта
«Философия духа» Гегеля построена как открытая критика Канта,
отказавшегося от трансцендентальной антропологии, от всеобщего в
пользу случайного, особенного индивида. Что плохого в прагматической
антропологии Канта? Во-первых, это ее «так называемое человекозна-
ние». Во-вторых, повышенное внимание к изучению слабостей человека.
Хорошо, обнаружил ты свои слабости, недостатки. Познал их. Но
это ведь знание интересно только тебе, а не всему человечеству. Не фи¬
лософии. Следуя за Кантом, любой человек становится нянькой своих
случайных свойств. Прагматическая антропология Канта — это не ан¬
тропология, а психология. Учебное пособие для тех, кто занят самоко¬
панием, изучением своих особенностей. И одновременно — это измена
всеобщему. Философии.
Гегель решил поправить Канта, т. е. вернуть философию на путь
всеобщего. Ведь философию интересуют не детали, не экзистенция
человека, а человек как таковой. Его суть. А кто он: мужчина или жен¬
щина, старый или молодой, больной или здоровый, белый или черный,
верующий или неверующий — все это не так уж и важно. Все эти раз¬
личия растворяются в понятии чувствующей души. Это она дергает за
ниточки, а человек плачет, смеется или сходит с ума. Правда, сами по
себе чувствующие души не существуют. Никто их не видел. Даже Гегель.
Поэтому спекулятивное мышление вводит их предположением. Конеч¬
но, Гегель понимает, что для обывателя кантовское человекознание
«несомненно полезно и нужно, в особенноти npwdypnbix политических
обстоятельстваху когда господствует не право и нравственность,
но упрямство у прихоть и произвол индивидуумов, в обстановке инт¬
ригу когда характеры людей опираются не на существо дела, а де¬
ржатся только на хитром использовании своеобразных особенностей
других людей, стремясь таким путем, достичь своих случайных
целей»1.
Гегель. Энциклопедия философских наук. Т. 3. М.: Мысль, 1977. С. 7.
Глава II
86
В правовом обществе тебе не нужно знать особенности человече¬
ского характера. Тебе все равно, — с какой ноги встал твой шеф. Под
какой звездой родился судья и какие склонности у налогового инспек¬
тора. В правовом обществе дела делаются вне зависимости от случай¬
ности свойств человеческого характера. Они делаются по праву и каж¬
дый человек в этом обществе — это некий правовой автомат. Природа
же вставляет палки в колеса этого автомата, в ритмичное движение все¬
общего.
Если антропология и нужна, то для изучения механизма этих пра¬
вонарушений.
Наполеон и Гегель
«Человек» достаточно неопределенное понятие. Поэтому Гегель
вводит представление об индивидууме и всемирно-историческом инди¬
видууме. Не всякий индивид может стать всемирным индивидом. Не¬
важно, что человек есть, ибо он есть как природное существо как инди¬
видуум. Важно, что он должен делать. Ибо должен делать он как лич¬
ность. Сущность человека — это его обязанности. Социальные роли. Все
немецкие философы помешались на идее должного, полагая, что о че¬
ловеке нужно судить не по свойствам бесконечно большой массы инди¬
видуумов, а по великим характерам. По всемирно-историческим инди¬
видуумам. В этих индивидуумах человеческая природа проявляется в
чистом виде. «Великое может быть осуществлено только великими
характерами»1. Новая история знает, по крайней мере, два таких харак¬
тера. Это Наполеон и Гегель. Если Кант, как скромный человек, пред¬
полагал изучение тех, кто к тебе ближе, то Гегель предлагает изучать
творцов истории.
Каждый человек должен обнаружить себя. Показать, что он есть в
себе. Как показали себя Наполеон и Гегель. Чтобы потом в результате
показа можно было сделать вывод о том, что ты есть. Человеком может
стать не всякий индивид. А только тот, кто сообщен с ходом истории.
Предмет антропологии
Гегель меняет кантовские представления об антропологии. Предме¬
том его антропологи является человек в себе. Или природа человека.
Нечто непосредственное. Например душа. Предметом феноменологии
является человек для себя. Или дух человека. Нечто опосредованное.
Например самосознание. В строгом смысле слова Кант, по словам Геге¬
ля, занимался не антропологией, а феноменологией. И психологией
человека.
Антропология рассматривает бессубъектные состояния человека.
Феноменолога интересует то, что человек сам делает из себя. Антропо-
Там же. С. 8.
Фигуры
87
лог исключает из рассмотрения сферу всеобщего, например, воспитание
и образование. Ему остается изучать природные определения души.
Гегель прошив Фихте
«Если человек не хочет погибнуть, то он должен признать, что
мир существует самостоятельно и в основном закончен»1. История
определилась. И каждый живет в режиме теперь, когда все уже случи¬
лось. И ничего впереди. Это раньше жили в момент, когда все еще толь¬
ко начиналось. И все было впереди. Следовательно, упования Фихте на
дело-действие не имеют с точки зрения Гегеля смысла. Назначение че¬
ловека не в том, чтобы менять мир к лучшему. А в приспособлении к
нему.
Субъектность человека реализуется не на практике, а в сфере духа.
Вот, например, Фихте. Ну зачем ему было вступать в ополчение, воевать
с Наполеоном? Ведь есть ход истории и никто его не может изменить.
Даже этот рыжий и вечно красный Фихте. Лучше бы он пас гусей. А так
бесславно погиб. Умер от холеры. И ничего. Словно всплеск лягушки в
тихой заводи. Если тебе не удается переменить мир, меняй понятия о
мире. И весь мир будет у тебя в кармане, ибо понятия правят миром. Все
мы теперь обыватели. Мещане. Например Гегель. В жизни он обыватель.
Абсолютно заурядный человек. Но в мире понятий он Наполеон. Все¬
мирно-исторический индивидуум.
Раб и господин
Если мир закончен, а Гегель на этом настаивает, то тебе надо в нем
лишь уметь повиноваться. И Кант, и Гегель обожали дисциплину. По¬
рядок. Они думали, что тот, кто умеет подчиняться, тот сумеет и пове¬
левать. Желание повиноваться неизбежно встречается со стремлением
повелевать. В результате возникает пространство власти. В нем один
будет господином, а другой — рабом. Например Кант. Ему сказали, что¬
бы он не высказывался по вопросам веры. Он и не высказывался. Хотя
и остался при своем мнении. Или Гегель. Французы наступали. Он убе¬
гал. И убегая, потерял рукопись своей книги. Но он же не идиот, чтобы
идти в ополчение. И сопротивляться завоевателям. Нельзя что-либо де¬
лать без надежды на успех. Гегель умер буднично. Дома. От неожидан¬
ной боли в сердце.
«Чтобы стать свободными... народы должны были пройти предва¬
рительно через строгую дисциплину и подчинение воле господина »1 2.
Человеческое вне человека
В человеке нет ничего человеческого. Это одна из любимых мыслей
Гегеля. Но не в том смысле, какой придает этой мысли большинство
людей. Ведь глупое большинство думает, что раз в человеке нет ничего
1 Там же. С. 89.
2 Там же. С. 246.
Глава II
88
человеческого, то, значит, этот человек подобен животному, что он как
зверь. А речь-то идет о другом. О том, что нельзя искать человека в дис¬
кретно выделенном теле. Тело ничего не прибавляет к понятию о душе.
Оно ничего не прибавляет и к понятию о человеке.
Ведь человеческое не в человеке, а в мире человека. Мир же этот
большой. И он всегда вне дискретно выделенного тела. Так вот, этот мир
плетет свои нити. И все, что в человеке есть для себя, все, что в нем об¬
щезначимо и универсально, состоит из этих нитей. Ведь любой человек —
это он и его родственники, друзья и враги. Это взаимные притяжения и
отталкивания. Бесконечность связей и зависимостей. Следовательно,
Кант в своей антропологии занимается по преимуществу малозначи¬
тельными деталями субъективной сферы. А не смыслами, осевшими в
праве и нравственности, государстве и собственности. Поэтому отказ
Канта от систематического изображения человека не оправдан. Соглас¬
но Гегелю человек — это ансамбль социальных отношений.
Надломленный человек
«Ведь священным может быть названо только то, что разумно и
знает о разумном»1. Если верить Гегелю, то антропология — это рассказ
о том, как человек потерял свою невинность. Свою непосредственность.
И освободился от диктата души. От господства природных стихий. Нич¬
то природное не может быть целью человека. Оно уже само по себе
ничтожно и подлежит уничтожению. И все-таки у каждого человека есть
тело. И с этим вынужден считаться даже гений Гегеля. Потому что оно
дает о себе знать, например, болью в сердце.
Тело конечно. Дух бесконечен. И конечному трудно нести на себе
тяжесть бесконечного. Встреча тела и духа надламывает человека. Ка¬
лечит его. В мире существует много надломленных людей. И ничего с
этим не поделаешь.
Ничтожность души
Назначение человека состоит в том, чтобы в себе самом уничтожить
ничтожное. Наличным существованием ничтожного является душа. Вот
ее-то и надо извести. Погубить. И главный ее погубитель — Гегель. Но
без присмотра остается тело. Телом же каждому нужно овладеть как
своим орудием.
Душа как помеха
Гегель видит в душе некую помеху. Каждый человек мечтает быть
субъектом. Автором действия. А душа мешает. Она не субъект, а суб¬
станция. Она навязывает тебе претерпевания. Созерцания и страсти.
А ты хочешь действовать. Быть личностью, а не болтаться, как туча ко¬
маров, из стороны в сторону. Ведь душа зависит, например, от полно-
1 Там же. С. 254.
Фигуры
89
луния. От приливов и отливов. От сопряжения с планетами солнечной
системы. А тебе надо быть вне зависимости от настроений твоей души,
чтобы не потерять из вида всеобщее.
Метки души
Душа дает о себе знать разными способами. Тебя еще не было, а душа
твоя уже участвовала в жизни мирового целого. Она многое видела и
многое знает. И вот пока ты в единстве с природой, пока ты еще в себе,
она тебе может принести пользу. Может помочь. Например, благодаря
душе ты можешь предвидеть события. Узнать то, чего еще нет, но скоро
уже будет. Например, раны людей дают знать об изменении погоды. Это
знание не когитальное и не трансцендентальное. А живое. За ним стоит
душа. И природа, на которую реагирует душа. К примеру, зимой люди
самоуглубляются и меньше разводятся. Обстановка зимы располагает
к семейной жизни. Летом же хотят свободы. Избавляются от уз и боль¬
ше путешествуют. Если утром люди серьезны, то вечером они позволя¬
ют себе размышления и фантазии.
Если бы люди были, как у Декарта, простыми автоматами, на них бы
не влияли фазы луны. А так к людям, благодаря душе, приходит беспри¬
чинная тоска и иногда им хочется завыть по-волчьи.
Даже умирают люди одинаково. Как правило, после полуночи. Че¬
ловеческая душа как бы не в состоянии начать еще один «рабочий» день.
И это хорошо знали древние, жившие в более тесной связи с природой,
чем современный человек. Греки и римляне ставили в зависимость от
природы свои политические решения. У них были не исследовательские
институты, а оракулы. И для этого тоже были свои причины. Ведь очень
часто исход сражения зависел от храбрости отдельного человека, от
его физического состояния. А оно, в свою очередь, зависело от космо¬
са, от времени года, от места и времени суток. Это сегодня войны ведут
автоматы, не зависящие от времени года, от настроения людей. Циви¬
лизация не нуждается в душе человека, в знании зависимостей от Кос¬
моса.
Цвета и запахи
Пока у человека была душа, он онтологически реагировал на звуки
и цвета. По ним люди ориентировались в мире. Вот, например, черный
цвет. Он вызывает в нас печаль. И достоинство. Черный человек опасен.
Синие цвета сопряжены с созерцанием. Покоем. С ними ты пассивен,
кроток, прост. Любовь, как и женственность, всегда синего цвета. Жел¬
тое веселит. Но в нем много желчи. Красный цвет царственен. Белый —
невинен. В нем много простых радостей.
Все, что есть человек, выражается звуком. Голосом. В голосе вопло¬
щается и умирает чувство. Чтобы узнать человека, нужно услышать его
голос. По мере роста цивилизации человек теряет контакт с миром зву¬
ка и цвета. Его голос перестает что-либо значить Люди начинают ори-
Глава II
90
ентироваться только на мышление. А оно не пахнет, не звучит и не име¬
ет цвета.
Сон
Гегель согласен с тем, что душа говорит во сне. И что ее надо уметь
слушать. Особенно в полночь. В то время, когда люди спят крепко. И их
души уходят в себя, сосредотачиваются и прозревают. Полночные сны
не обманывают даже философов. Сон вообще славен тем, что он возвра¬
щает тебя из состояния раздвоенности в единство с самим собой. Вот,
например, ты, как Декарт, поспишь до обеда, часов 10 и проснешься цель¬
ным. И бодрым.
Личность как автомат
Гегель раскрыл одну большую тайну гуманистов. Оказывается, что
все личности одинаковы. Бездушны. Чем образованнее человек, тем
меньше в нем индивидуального и случайного. Тем больше в нем усред¬
ненного. Нормального. Личности дают простор для действия безликого,
всеобщего. Личность, как духовный автомат, работает на принципах и
не знает настроений. Энтузиазма и пафоса. С ростом цивилизации рас¬
тет число личностей и падает значение эмоций.
Одинаковый порядок для индивидуумов
Другая же тайна состоит в понимании того, что все индивиды раз¬
личны. Но этому различию Гегель не советует придавать слишком уж
большое значение. Ну хорошо, ты голубоглазый. Но ведь это не твоя
заслуга. Здесь говорит не самость, а природа.
Когда-то Платон полагал, что справедливо к разным людям отно¬
ситься по-разному. Гегель не берет в расчет природные различия. Вот,
например, дети. Все они разные. Есть и талантливые, и бесталанные. Но
на этом основании нельзя одних детей отделять от других и помещать
их, допустим, в школу для одаренных. Учитель вообще не должен обра¬
щать внимание на индивидуальность учеников. «Скорее следует, — го¬
ворит Гегель, — считать пустой, бессодержательной болтовней то
утверждение, что учитель должен заботливо сообразовываться с ин¬
дивидуальностью каждого из своих учеников... На это у него нет вре¬
мени. Своеобразие детей терпимо в кругу семьи; но с момента вступ¬
ления в школу начинается жизнь согласно общему порядку, по одному,
для всех одинаковому правилу»1.
Гений
Гегель — не гений. Гении коренятся в почве. В земле. Нельзя стать
гением. Им можно только быть. Но философия зависит не от почвы. Не
от природы. А от дисциплины логического мышления. Поэтому в фило-
1 Там же. С. 74.
Фигуры
91
софии гениальность ничего не значит. На ней далеко не уедешь. Гений
Гегеля упорядочен дисциплиной.
Любая особенность человека может стать его гением. Если она име¬
ет решающее значение для поступков и судьбы человека. Каждый знает
себя либо по внешней жизни. Либо по внутренней. И то, что ты пред¬
ставляешь собой вовне, не совпадает с тем, что ты представляешь собой
изнутри. И вот это-то внутреннее существо и составляет твой рок. Судь¬
бу. Твой гений.
Кент и Аир
Гегеля тянуло к Шеллингу. Даже когда они были в ссоре. Сильный
духом всегда имеет магическую впасть над слабым. Например, Кент слаб.
Король Лир силен. И поэтому он имеет рационально необъяснимую
власть над Кентом. Кента влечет к Лиру, как кролика к удаву. Кенту
кажется, что лицо Лира имеет такое выражение, что ему хочется назы¬
вать его господином.
Вообще-то сами по себе господа не существуют. Некто господин,
если к нему относятся как к господину. Основанием такого отношения
могут быть деньги, власть, сила, престиж. Но в данном случае нет этих
оснований. Несчастный Лир уже сам по себе господин. Еще до всякого
к нему отношения. И поэтому он гипнотизирует Кента. Притягивает его
к себе. И это действие нельзя объяснить магией. Например, ты хочешь
поднять руку и поднимаешь — это магическое отношение. Волевое. Но
если ты захочешь, чтобы другой поднял руку, то он может ее и не под¬
нять. Здесь нет магии. Для того чтобы она появилась, нужно убрать пос¬
редника. Волю другого. Магическое отношение всегда прямое. Непос¬
редственное. И поэтому оно возможно среди друзей, между членами
семьи. И особенно между слабонервными подругами.
Сознание и бессознательное
Мир полон чудес. А Гегелю хотелось, чтобы он был заполнен при¬
чинами. Следовательно, ему надо «понять все чудесное» в терминах
рационального сознания.
Чудо первое. Вот, например, ты заболел. У тебя высокая температу¬
ра. И твое сознание начинает показывать тебе незнакомые картинки или
давно забытые. Откуда они? Конечно, ни один человек не может знать,
сколько знаний он имеет в глубине себя. Возникает вопрос о природе
этого знания. Оно что? Было в сознании, а затем ушло? Стало бессозна¬
тельным. Но тогда бессознательное стоит понимать как сознание. Как
то, что в нем было и ушло. А в своем сознании ты не можешь ошибаться.
И следовательно, все, что там, в твоей глубине, ты уже знаешь. Нужно
только вспомнить. А это проблема памяти.
Или же в твое сознание нечто проникает тайно. Скрытно от тебя.
И затем уходит в глубины твоей самости. Но если в моем сознании есть
то, что я не знаю, то это уже не сознание. Нет никаких запретов и на то,
Глава II
92
чтобы какое-то знание сразу попадало в сферу бессознательного. Не
заходя в сознание. А потом уже оттуда, из подвалов, что-то попадает и
в сознание. Но тогда бессознательное — это субстанция. Нечто само¬
действующее. А если оно самодействует, то это значит, что оно может
действовать и помимо сознания. Главное — взять под свой контроль волю.
А на волю можно воздействовать через склонности, страсти и эмоции.
Гегель полагает, что мышление как нейтрино, проникает повсюду.
Даже в чувство. Но если сознание проникает в чувство, то тогда чувство
замещается осознанием чувства. А сознание не может вводить в заблуж¬
дение само себя. И не может показывать себе «клипы», которые оно не
создавало. То есть никакого объяснения «чуду» Гегель не предложил.
Задушевные люди и рассудочные
Нельзя сделать так, чтобы душа у человека была, а чувств у него не
было. Душа говорит на языке чувств. И поэтому Гегель называет душу
«чувствующей ». Но ему ближе не душа, а сознание. Ведь сознание может
мыслиться и вне зависимости от чувств. Как нечто когитальное. Или
трансцендентальное. Следовательно, и люди могут быть либо с душой,
либо с сознанием. Согласно Гегелю, люди, как яблоки, к определенному
времени созревают. То есть начинают с неспелой души — заканчивают
зрелым сознанием.
Всякая личность рациональна. Что бы ни происходило, она никогда
не забывает о себе и о своих целях. И всегда поступает согласно целям.
Вот умер твой друг. Сослуживец. И тебе его жаль. Но ведь и вакансия
освободилась. И ты можешь ее занять. Отсюда возникает «сладкая
боль». Или «горькая радость», оправдываемые и Кантом, и Гегелем.
Задушевные люди не личности, ибо они полностью отдаются чувству.
А чувство не знает цели. В нем содержатся чуждые сознанию определе¬
ния. То есть если в тебе есть душа, то ты не можешь страдать наполови¬
ну. Печалиться на одну десятую. Задушевный человек забывает о цели
и поступает согласно чувству. Он не испытывает «горькой радости» по
поводу смерти ближнего. У него бывает беспричинная тоска и чувство
бессмысленности жизни. Гегелю не нравятся задушевные люди. Их гре¬
зы и предчувствия. Ему нравятся рассудочные люди. Душа — это болезнь.
Это смутное сознание, от которого нужно избавиться.
«Неправильно придерживаться чувства и сердца вопреки разумно¬
сти мысли»1. Вот тебе надо как-то поступить. Решить что-то. А решить
ты можешь или по совести, или по закону. Гегель вообще не понимает
такой проблемы. В любом случае он рекомендует действовать по инс¬
трукции. По праву. По закону. Действуй, и ты будешь разумен. Прав.
Какая совесть? Какой стыд? Ведь все это только чувство. Нечто субъек¬
тивное и произвольное. В составе практических чувств учителя нет даже
намека на то, что называют совестью. Более того, совесть непроизволь¬
1 Там же. С. 315.
Фигуры
93
на. Она в нас, но не зависит от нас. Вот этот факт Гегель и вовсе не
принимает в расчет.
Гегель говорит много грозных слов в адрес тех, кто видит в чувстве
высокую ценность. Он думает, что с переходом от чувства к праву ниче¬
го не теряется ценного. Что слова не вредны для чувства.
Понятия и грезы
Чудо второе. Чудеса бывают в нашей жизни потому, что еще не все
люди избавились от души. Не все развили в себе рассудочное сознание.
Вот пришло время зрелости, а кто-то его пропустил. Не успел созреть.
Задержался в своем развитии. И поэтому в нем доминирует чувствующая
душа, а не сознание. А это значит, что внутреннее и внешнее взаимно
действуют без всяких посредников. Непосредственно.
Внутреннее же всегда скрыто. Внешнее — открыто сознанию. Вовне
действует всеобщее. Внутри — особенное. Там необходимость. Здесь —
случайность. Во внешнем мире требуются понятия. Во внутреннем мире
достаточно предчувствий.
Сознательной жизни во внешнем мире противостоит душевая жизнь
во внутреннем мире. В первом случае есть правило, законы и понятия.
Ты на них можешь опираться. Во втором — нет ни правил, ни законов,
ни понятий. Есть одни предчувствия. А они случайны. На них нельзя
строить свою жизнь. Поэтому Гегель и предлагает от них избавиться.
Цитата из Гегеля: «Обстоятельства смешиваются, следовательно,
случайным, в каждом данном случае особым, способом с внутренним
существом индивидуумов, так что эти последние отчасти в силу об¬
стоятельств и в силу того у что является общезначимым, отчасти же
в силу своего собственного особого внутреннего определения превраща¬
ются как раз в то самое, что из них выходит»1.
Из одного «выйдет», и он начнет видеть металлы под землей. Другой
так установится, что может книги читать с завязанными тазами. А один
крестьянин, говорит Гегель, как собака, взял след убийцы и шел по за¬
паху до тех пор, пока его не нашел.
Другой
Гегель желал расставания с душой. Расставание с душой начинается
с раздвоения. С самости. Ведь пока в тебе живет душа, ты не сам. Ты
медиум. Нечто пассивное. И твое Я пусто. Но это не значит, что твоей
самости нет вообще. Она есть, но вне тебя. То есть твоя самость смотрит
на тебя со стороны. Извне. И нужно ее узнать. Твоя самость — это дру¬
гой. Тебя еще не было, а другой уже был.
Первобытная самость человека — это его мать. Между матерью и
ребенком складываются магические отношения. Непосредственное тож¬
дество внутреннего и внешнего. Поэтому беременная женщина, как за¬
Там же. С. 143.
Глава II
94
мечает Гегель, должна быть осторожной. Ведь ребенок открыт воздей¬
ствию ее души. Он лишен опосредствований. И если она испугается, то
будет напуган и ребенок. Если она повредит себе руку или подумает о
том, что может повредить, то и у ребенка будут повреждения руки.
Магнетизер
Чудо третье. Можно жить пассивно. Созерцательно, как ребенок в
утробе матери. Но за эту жизнь надо заплатить. Нехватка воли и ума у
тебя оборачиваются властью над тобой другого.
Другой становится твоей душой. Твоим магнетизером. И твоим со¬
знанием. А ты становишься сомнамбулой. Больным. Вот другой поел, а
у тебя возникает ощущение сытости. Он стал собственником, а в тебе
возникает чувство собственника. Но с этими чувствами нельзя усмотреть
естественный ход событий. Твоя душа, или, как говорит Гегель, фор¬
мальная самость, заполняется ощущениями и представлениями другого.
«Она видиту нюхает, пробует на вкус, читает, слышит в другом», а
не в себе1. Гегель пугает нас душой. А страшно от другого. От его мани¬
пуляций с твоим сознанием, твоими чувствами и волей. Роль другого по
отношению к чувствам исполняется умом. Ум — это всегда другой. Он
пуст. И как насос засасывает в свою пустоту все то умное, что есть в
чувствах, в душе, в созерцании.
Ссылка на чувство может избавить тебя от общения с другими. По¬
этому Гегель запрещает ссылаться на чувство. Нельзя говорить с самим
собой без другого. Он пишет: «Если кто-либо... ссылается не на приро¬
ду или понятие предмета, или по крайней мере на основания — на рас¬
судочную всеобщность, но на свое чувство, то ничего другого не оста¬
ется, как предоставить его самому себе, ибо вследствие этого он от¬
казывается от общения на основе разумности и замыкается в свою
субъективность — в круг своих частных интересов»1 2.
Животный магнетизм
Чудо четвертое. Иногда люди читают подложечной областью, а
слышат пальцами. Почему? Гегелю надо ответить на этот вопрос, не
ссылаясь на другого. Вот ответ: «Как в чувствующей субстанциональ¬
ности нет противоположности к внешне объективному, так и внут¬
ри самого себя субъект существует в таком единстве, в котором все
частные особенности чувствования уже исчезли, так что, поскольку
деятельность органов чувств здесь замерла, общее чувство приобре¬
тает теперь особые функции, и люди начинают видеть и слышать
пальцами... »3.
Если перевести этот ответ на русский язык, то он будет звучать так:
Только сознание различает и знает многообразие форм, их необходимые
1 Там же. С. 147.
2 Там же.
3 Там же. С. 148.
Фигуры
95
связи и опосредования. А душа ничего этого не знает. Рассудок не дурак.
К определенной форме внешнего мира он подступается посредством
определенного органа чувств. Например, если это духи «аллюр», то у
них должен быть запах. А его нюхают, а не слушают. И рассудок это
знает. А поскольку душа лишена способности различать, постольку она
и внутри себя ничего не различает.
Она нос от глаза отличить не может. И поэтому душа использует
чувство вообще. Например, тебе нужно что-то увидеть. Душа посылает
общее чувство к пальцам и ими смотрит. Или тебе нужно послушать. Ну,
а душа дает команду носу, и тому ничего не остается делать, как не при¬
нюхиваться, а прислушиваться. Вот это все Гегель называет животным
магнетизмом. Правда, не понятно, что плохого в том, что происходит
замещение одного чувства другим.
Видения
Чудо пятое. Оно формулируется Гегелем так: «Душа есть нечто
всепроникающее». Она одна на всех. Все люди — в пространстве и вре¬
мени. А она над людьми. Вне пространства и времени. И поэтому бла¬
годаря душе далеко видно. Например, ты вот здесь, в Расторгуево, а она
там, в Химках. И тебе отсюда хорошо видно ее зеленую кофточку. Рань¬
ше у людей часто были видения. Потому что наша жизнь была близка
природе. И у них была душа. А теперь все мы образованы. И поэтому
страшно далеки от природы. И видения перестали посещать нас. Хотя
еще и сейчас некоторые моряки предчувствуют бурю, а лица со способ¬
ностью второго зрения заранее видят себя в тех ситуациях, в которых
они окажутся позднее. А иногда они точно предсказывают час своей
кончины. Но эти люди почти никогда не встречаются среди интелли¬
генции. Отчего им трудно перевести свое ясновидение в рассудочную
форму.
Инстанция помешательства
Душа — событие. С этим согласен и Гегель. Но из этого события
нельзя извлечь Я. Душа скромна своей непосредственностью Я кичится
чистотой своего опосредования. Я как всеобщий эквивалент Сует свой
нос в любое дело. И поэтому одно из другого не следует. А без Я ты —
обезьяна. Это уже Кант установил.
А делать что-то надо. И тогда Гегель помещает между душой и Я
то, что он называет инстанцией помешательства. Вот душа говорит,
что хочет, чтобы у нее было Я. А ей отвечают: ты, мол, матушка, пой¬
ди сначала в дурдом, раздвоись, а уж потом, по выходе, каждая душа
получит по Я. И осознает себя. И овладеет собой. Вот цитата из Ге¬
геля: мы не хотим сказать, что «каждый дух, каждая душа должна
пройти через это состояние величайшей внешней разорванности»1.
1 Там же. С. 177.
Глава II
96
Но Гегель лукавит. Не все пройдут через дурдом. Но все будут поме¬
шаны. Ведь все глупы, а глупость — это, как говорит Гегель, мягкая
форма помешательства. Большинство обойдется домашними сред¬
ствами. Меньшинство же нужно лечить. И Гегель с восторгом описы¬
вает жизнь в доме для дураков, где сумасшедшие являются одновре¬
менно и надзирателями, где они иронизируют над своим сумасшест¬
вием.
У Канта рассудок и воображение соединялись за обеденным столом.
Гегель пошел в своей антропологии еще дальше. У него субъективное и
объективное соединилось в доме для дураков.
Безумие
Каждый человек идет к себе. И Гегель идет к себе. Но чтобы прийти
к себе, нужно свихнуться. Сойти с ума. Растянуться между субъективной
и объективной деятельностью.
Ведь помешанный — это не просто два человека в одном. Как у сом¬
намбулы. У каждого из нас есть что-то сомнамбулическое. И это не
страшно. Помешанный — это два в одном состоянии у одного человека.
Если ты выдаешь желаемое за действительное, то ты уже сумасшедший.
Если твой ум кипит от возмущения неразумеем, то ты сам близок к без¬
умию.
Только человек имеет привилегию на безумие. Ибо только у него
есть ум. Помешательство — это болезнь рассудка. А не души. Но Гегель
рассудок относит к ведению феноменологии, а болезни рассудка — к
антропологии. Лечить нужно не души, а рассудок. Но у Гегеля все про¬
исходит шиворот-навыворот. У него болеет рассудочное сознание, а он
лечит душу. У души свой горизонт, своя негация, а именно: бездушие.
Но бездушие Гегель называет институцией рационального Человека и
относит ее к объективному духу.
Пустое Я и сумасшествие
С тех пор как у человека появилось «Я», он пошел по пути ума.
И Гегеля это радует. Но человек идет к уму, а приходит к безумию.
И нужна заумь, чтобы ум можно было спасти от безумия. Но в XIX
веке этого еще не знали. И поэтому полагали, что самое умное — это
сохранить пустоту «Я». Сохранить как нуль. Как точку отсчета. Ведь
тогда все, что попадает в тебя, это Я будет расставлять по своим мес¬
там. И расставлять надлежащим образом, оставаясь пустым и поэто¬
му объективным. Если же «Я» не соблюдает нулевой принцип своего
существования, то оно становится чем-то особенным. Случайным.
И поэтому пристрастным, отсчитывая расположение каких-либо ве¬
щей от этой своей случайной особенности. Наряду с пустым Я в нас
появляется еще и содержательное Я. И каждое отсчитывает от себя.
А мы сходим с ума. Вот пример логического сумасшествия из фено¬
менологии Гегеля: «...я все познаю как принадлежащее мнеу как «я».
Фигуры
97
что каждый объект я постигаю как звено в системе тогоу что есть
я сам...»*.
Формы помешательства
Гегель выделяет три формы помешательства: 1. Слабоумие, рассе¬
янность и бестолковость. 2. Тупоумие. 3. Безумие.
Рассеянным был Ньютон. Например, однажды он схватил палец од¬
ной дамы, чтобы с его помощью набить трубку. Бестолковый за все бе¬
рется и ничего не доводит до конца.
Тупоумными Гегель называет женщин, погруженных в мир своих
частных интересов. А так же англичан: например, один англичанин хотел
повеситься, а на него напали разбойники. И он, дурак, стал защищаться.
И полюбил жизнь. Хотя должен был повеситься. Бешенство безумия
характерно для французов. Потому что они устраивают всякие револю¬
ции, воплощая в жизнь свои идеи.
Лечение помешанных
Сумасшедших надо заставлять работать. Гегель с упоением описы¬
вает, как один шотландский арендатор трудотерапией исцелил больных,
запрягая их по шести человек в плуг и заставляя работать до изнеможе¬
ния. Больные вылечились.
Ктупоумым Гегель рекомендует применять методы шоковой терапии.
Один англичанин вообразил, что у него стеклянные ноги. Что он не может
ходить и его надо носить. На него спустили немецких овчарок. Он побежал
и исцелился. А другой ходил и всех уверял, что он умер. Ну и поэтому не
может есть. Врач ему и говорит: хорошо, раз ты умер, ложись в гроб. По¬
ложили его в гроб и отнесли в склеп. А там уже стоял другой гроб. И в нем
лежал, притворившись мертвым, другой человек. Когда все ушли, актер
встал из гроба. Порадовался соседу. Достал еду и стал есть. Помешанный
удивился. А симулянт ему и говорит, что ты, мол, не удивляйся. Я уже
давно умер и знаю, как живут мертвые. Присоединяйся ко мне. Помешан¬
ный присоединился. Стал есть и пить. И исцелился. Симуляция целебна.
Привычка
Тело противостоит уму и в этом противостоянии можно поддать¬
ся слабости, сойти с ума и заняться телом. Сама эта возможность пу¬
гает Гегеля. И поэтому он обращается за помощью к привычке. Гегель
отменяет кантовское понимание привычки и создает свое. Согласно
Гегелю, чтобы не сойти с ума, человеку нужна привычка. Упражнение
и повторение. Если ты ничего не понимаешь и у тебя ум за разум за¬
ходит, то тебе нужно отказаться от ума и положиться на привычку.
Она не подведет. Она даст тебе передышку. Свободу от рассудка и
чувств. От их реакции. И от тела. Например, на улице мороз, а тебе не
1 Там же. С. 233.
7 1920
Глава II
98
холодно. Ты привык. Или вот тебе говорят, что-то новое, а ты не слу¬
шаешь. Потому что привык не пропускать в себя ничего неизвестного.
«Только благодаря привычке я существую, — говорит Гегель, — как
мыслящее существо для себя»1. Ведь если не будет привычки, то уму
нужно будет постоянно отвлекаться от дела мысли и заниматься тем,
что делает тело. То есть существовать для него, а не для себя. Привыч¬
ка, делает человека ловким. В ней душа становится чем-то внешним по
отношению к себе, а тело без всякого сопротивления пронизывается
душой.
Жест
То, что внутри, устремляясь к тому, что вовне, на поверхности глу¬
бокого образует жест. Гегель усматривает абсолютный жест в верти¬
кальном положении человека. В нем демонстрируется полнота воли.
Человек ходит не потому, что слез с дерева и взял в руки палку. А пото¬
му, что хочет ходить. Он стоит прямо потому, что хочет стоять, а не
потому, что хочет быть рабом работы. Гегеля приводит в восторг своей
жестовой природой рефлексивные удвоения типа: хочу хотеть.
Всякий монах — это тоже жест. Но Гегель протестант. И поэтому
он монахов не любил, считая монашеские воздержания неразумными.
Хотя эти воздержания относятся к технике души, а не к технике созна¬
ния.
Дух и признание
Полагая привычку в качестве спасительного средства от помеша¬
тельства, Гегель должен принять и традиции. Ибо традиции — это
привычки многих людей в течение длительного времени. Но принимая
традиции, Гегель должен умерить притязания Я. И притязания духа.
Ведь Я по отношению к духу — это то же, что и привычка по отноше¬
нию к традиции. Я начинает с себя. Оно в центре. Оно все опосредует
и полагает все сущее как свое. И дух полагает все сущее как свои
определения. Это душа — скромница. Она принимает сущее как сущее.
И поэтому ей близки традиции. Ведь если существуют традиции, то
это то, что не полагается Я. А наоборот, традиция полагает себя во
всяком Я. А это значит, что традиция выбивает Я из центра. Смещает
его. И связывает людей, минуя их Я. И тогда все события, описывае¬
мые в феноменологии, теряют цену. Девальвируются. Гегель думал,
что Я ограничивается не-Я. И чтобы убрать ограничения, нужно взять
отношение Я к самому себе. То есть предметность как бы выкидыва¬
ется. Например, вот есть сознание. И есть предметность сознания.
И эта предметность противостоит сознанию. Ограничивает его. А ты
возьми и выкини эту предметность. Возьми сознание как предмет, а
самосознание как субъект. И получится, что и предмет у тебя есть, и
1 Там же. С. 204.
Фигуры
99
сознание не выходит за пределы самого себя, т. е. ничто его не огра¬
ничивает.
А потом, после снятие границы, Гегель найдет другие проблемы. Это
будет проблема другого Я. Должно быть либо одно Я. Либо ни одного.
А их много. И это не понятно ни Канту, ни Гегелю.
То есть жизнь духа сводится к борьбе за признание одного Я другим
Я. Одним самосознанием со стороны другого самосознания.
Всякое Я ограничено традицией, которая делает проблему признания
несущественной, ибо традиция — это уже признанность. Тебя заранее
в ней признают.
Мышление и воля
Воля — это приз. Награда победителю. Кто же победил? Чувство
просило Гегеля о награде. Он отказал ему. И воображение просило.
И воображению отказал. И страстям отказал. Гегель отдал этот приз
мышлению. Гегель пишет: «... животное, именно потому, что оно не
мыс лит, не может иметь и никакой воли»!.
Человек настолько является волевым, насколько он мыслит. Но если
мысль и воля соединились, то у мысли не может быть никаких проблем
для реализации. Ведь мыслить — значит волить. Велеть. И всякий мыс¬
лящий становится богом, по слову которого совершаются все дела.
А жизнь — это просто логический процесс. Все было бы хорошо, если
бы не было бытия. А оно есть. И сопротивляется логике. И мысли не
осуществляются. И цели не совпадают с результатами. Чтобы бытие не
сопротивлялось, Гегель объявил о тождестве бытия и мышления. Гегель
пишет: «... то, что мыслится, есть, и ... то, что есть, есть постоль¬
ку, поскольку оно есть мысль... »1 2. Но бытие тождественно мысли в том
смысле, что предметом мышления являются мысли. Например, ты хо¬
чешь помыслить чувство. Но помыслить чувство нельзя. Оно индивидно.
Помыслить можно то, что мыслится в чувстве. Что объективируется.
И только. Но ведь чувство — это не мысль о чувстве. Человек — это не
мысль о человеке. Не то, что в нем мыслится. В нем есть и то, что не
мыслится. Бытие и мысль не совпадают. А если они не совпадают, то
воля и мышление не связаны. Вернее, воля существует благодаря не¬
тождественное™ бытия и мышления. И чем она заполнит пропасть
между ними — не ясно. То ли страстями, то ли воображением, то ли
мыслью?
Нетождественность бытия и мышления делает возможным и разрыв
между умом и словом. То есть умными могут быть поступки. Дела. А не
вербальный эквивалент поступка. Чтобы не допустить самой мысли и
возможности разрыва между бытием и мышлением, мышлением и сло¬
вом, Гегель называет такой разрыв злом. Несоответствием между быти¬
ем и должным.
7*
1 Там же. С. 311.
2 Там же. С. 306.
Глава II
100
3. Резюме
1.
Человек не должен оставаться природным существом. Если он ос¬
танется природным существом, то не узнает, что непосредственно он не
таков, каким он должен быть. А если не останется, то узнает. Люди лю¬
бопытны. И Гегель рассчитывает на то, что просто из любопытства люди
захотят узнать, какими они должны быть. Но за знания нужно платить.
Вот и люди захотели узнать должное и нарушили волю Бога. И попла¬
тились за это. Их выгнали из рая. Из того места, где бытие непосред¬
ственно.
2.
То, что полагает самого себя как цель, выше того, что полагает как
цель другого. Этой формулой Гегель расчищает дорогу рациональному
человеку и отказывает в праве на существование сердечному человеку.
Ведь сердечный человек ориентируется на самоценность отношений
между людьми. Его действия осуществляются помимо интереса. Вне
цели. Так вот, Гегеля такого рода люди раздражают. Ибо никто из них
не полагает себя как цель. Все, что делают сердечные люди, даже и по-
ступком-то назвать нельзя. Они готовы пожертвовать жизнью ради того,
что вообще не входит в состав их цели.
3.
1. Ничто не осуществляется помимо интереса. 2. Без страсти не мо¬
жет быть совершено ничего внешнего. 3. Ни одно Я не хочет и не долж¬
но погибнуть при осуществлении цели. Эти три положения лежат в ос¬
нове теории поступка Гегеля.
Гегель каким-то образом предлагает нам сочетать интересы, цели,
страсти и разумный эгоизм. Но если я начну оценивать степень опас¬
ности для меня того или иного действия, то это действие уже будет
лишено страсти. И ничего приличного уже не совершится. Если я буду
во всем искать свой интерес, то я не смогу сделать ничего бескорыст¬
ного. Избыточного. И тогда самоценность каких-то отношений пропа¬
дет. И мир будет другой. Плоский. В нем личностью сможет быть лишь
тот, кто владеет вещью как собственностью. То есть абсолютной лич¬
ностью будет абсолютное владение вещами. И даже наличное бытием
свободы будет выступать в форме собственности. Чем больше у тебя
денег, тем больше у тебя свободы, тем абсолютнее твоя личность. Если
человек йдет к себе, то в собственности он приходит к себе. Такова
теория поступка Гегеля.
4.
Из этой теории следует, что дьявол лучше ангела. Ведь дьявол пола¬
гает себя как цель. А ангел полагает другого. А если дьявол выше ангела,
Фигуры
101
то тогда зло — это бытие в себе, а не некое, как думал Шеллинг, послед¬
нее, в котором нет первого. Не материя вообще.
5.
Всякое «в себе бытие» конечно. Поэтому конечный человек — это
не тот, кто когда-нибудь да умрет, кто знает о своей смерти. А тот, кто
примирился с конечностью в себе. С природной душой.
6.
Есть только один способ эффективной борьбы с конечным. С тем,
что в тебе является в себе бытием. Это познание. Ибо оно, говорит Гегель,
бесконечно. И христиане называют его злом. То есть Гегель называет
злом бытие в себе, а христиане — бесконечное познание.
7.
Что должен знать о себе человек? Есть два ответа. 1. Что он по при¬
роде добр. 2. Что он по природе зол. Но как может быть добр по приро¬
де тот, кто создан по образу и подобию Бога? Ведь Человек создан как
зеркало Бога. И Бог в это зеркало смотрит. И видит, что он добр. И лю¬
буется собой. Как зеркало человек есть добро в себе. А быть в себе —
значит быть односторонним. Быть добрым по понятию, а не в действи¬
тельности. «Говорят: люди ведь не так уж и злы, ты только оглянись
вокруг; но это ведь уже нравственно, морально образованные люди, уже
реконструированныеу произведенные к примирению»1.
8.
«Человек должен быть для самого себя тему что он есть в себе»1.
Ибо «в себе» — это всего лишь природа, законам которой мы подчиня¬
емся. Быть тем, что ты есть — это нонсенс, плодотворность которого
Гегель видит в оправдании действия ветхозаветного змея. Методический
смысл этой формулы в том, что она позволяет Гегелю подвесить смыслы
естественного языка и расставить знаки спекулятивного мышления.
9.
Чтобы быть человеком, нужно выйти за пределы непосредственного.
Необходимо раздвоиться. Заболеть. Сойти с ума. В крайнем случае, со¬
грешить. А потом стать добрым уже не по природе, а по своей Воле. По
природе ты невиновен. И невменяем. А когда ты поступаешь по своей
воле, ты виновен. Вменяем. Поэтому между душой и сознанием стоит
безумие. И привычка. Ведь это безумие отказаться от своей безгрешнос¬
ти, невиновности и взять на себя вину. А чтобы обуздать телесное, ко¬
торое оказывается необузданным, появляется привычка. В раю привыч¬
ки не нужны. Там тело не бунтует. 1 21 Гегель. Лекции по философии религии. М.: Мысль, 1977.
2 Там же. С. 55.
Глава II
102
10.
У человека в себе есть душа. У человека для себя есть сознание. Сле¬
довательно, феноменология снимает антропологию и показывает пре¬
вращение души в сознание. Сначала человек хочет непосредственного.
Вот этого. Им управляет воля вожделения. Например дети. Они хотят
мороженое. Им нельзя, а они хотят. И только потом, повзрослев, они
сообразовываются со всеобщим, которое оседает в праве, нравах и го¬
сударстве. Человек для себя решается на риск, отменяя хотение бытия
в себе.
11.
В невинности непосредственного отсутствует воля к власти. Непо¬
средственно человек является рабом вожделений и страстей. Дух су¬
ществует в опосредованном. Каждый знает себя как то, что не должно
быть. И поэтому каждый несчастен. Всем приходилось отказываться от
мира и искать счастье не в нем, а в себе. То есть быть стоиками и скеп¬
тиками.
12.
Раздвоение сознания необходимо, чтобы избавиться от души. Но
оно грозило распадом существа человека. «Кант и Фихте говорят,
что человек может только сеять, творить добро в предположении
некоторого морального миропорядка, он не знает, удастся ли ему
его делоу будет ли оно успегиныМу он может только действовать в
предположении у что добро содействует успеху в себе и для себя,
что оно есть не только нечто положенное, но объективно по своей
воле»1.
13.
Внутренний мир человека сам по себе ценности не имеет. Если он
открывается в искусстве, то и искусство теряет смысл. Ценность
внутреннего мира открывается не в праве, не в государстве, а в Цар¬
стве Божьем. На Небе, а не на земле. Но если вина делает меня вме¬
няемым, то неясно, почему был Христос? И как можно страдать за
других?
14.
Конституирование значения требует признания другого. Нечто зна¬
чит, еслк это значение признано другим. Но другой кладет конец фено¬
мену солипсизма, автономии Я. А поскольку философия — это дело
автономного Я, солипсиста, постольку признание другого кладет конец
философии. Другой — это всегда магнетизер. Даже если он и выступа¬
ет в форме всемирно-исторического индивидуума.
1 Там же. С. 66.
Фигуры
15.
103
«Природа человека только в том и состоит, чтобы знать свой за¬
кон, и что он поэтому в действительности может повиноваться толь¬
ко такому осознанному закону »1.
Осознанный закон — это закон, возникший на основе живых нравов,
преданий и обычаев. Неосознанный закон — это закон, принимаемый
формальным законодательством и не отвечающий духу обычая. Возник¬
ший разрыв между осознанными и неосознанными законами ведет к
противостоянию права и законов. Носителем права является граждан¬
ское общество. Носителем законов — государство. Следовательно, го¬
сударство и гражданское общество могут вступить в конфликт. И в этом
конфликте Гегель на стороне права, осознанных законов, т. е. принятых
и одобренных частными лицами.
16.
В исследовании антропологической предметности европейская фи¬
лософия зашла в тупик. Оказалось, что никакой трансцендентальной
антропологии создать нельзя. С точки зрения спекулятивного мышления,
наиболее полно феномен человека представлен в уголовном и граждан¬
ском кодексах. Что и указывает на тупик европейской философии.
Кант интересен тем, что в нем еще жива дословность. И он еще может
проследить, как чувство превращается в мысль. Как в нем что-то рож¬
дается и умирает. Гегель уже окаменел. В нем доминирует книжность.
Это просто цитата, но цитирующая самое себя. Схема. У Канта человек
еще жив. У Гегеля он уже почти мертв.
Там же. С. 346.
лава
Складки
«Складки» — термин вещественный. Для того чтобы образовалась
складка, нужна пустота. А также удвоение одного и того же. В удвоении
важна точка поворота, которую ошибочно называют иногда сгибом.
«Сгиб » — событие телесное. А точка поворота и возвращения к самому
себе — событие трансцендентальное. Это складка-тавтология. В ней
узнают себя. Узнает себя тот, кто себя знает. Эпистемологическое раз¬
глаживание трансцендентальных складок делает невозможным узнава¬
ние. А без заранее знаемого складка превращается в простое вещест¬
венное повторение одного и того же. Не узнавая себя, создают уже даже
не складки, а простые рубцы, превращая трансцендентализм складок-
тавтологий в рубцы метафор эпистемологии. И даже просто в дыры
нонсенса. Мир теряет фиксацию в пространстве. В нем все сходит со
своего места. Сдвигается. И ощущается работа времени, в котором про¬
странство представлено жалкой рябью складок, которую пытаются об¬
новить в позитивной антропологии.
Краткое изложение главы
Гуссерль — последний динозавр классической философии. Он по¬
лагает, что рациональное знание — это наука, что мысль существует в
борьбе с языком. Зачем же мысль борется с языком? Почему язык пре¬
пятствует мысли в том случае, если ты пытаешься выразить то, что из¬
вестно тебе, а не всем?
Пока говорят о последних вещах, язык не важен, ибо он не послед¬
няя вещь. А вот когда язык станет последней вещью, тогда речь будет
идти только о нем. После Хайдеггера предметом философии сделался
язык. Его теперь помещают раньше вещей и раньше субъекта, что, на
мой взгляд, неприлично, ибо разрывается связь между человеком и язы¬
ком. Но из этого неприличия тоже можно извлечь пользу. Если Фуко
говорит о том, что вещи — это конфигурации дискурса, то его можно
поддержать. Ибо в этом утверждении ставится под вопрос реальность.
Но еще лучше вместо дискурса поставить воображение, лишив знаки
возможности опосредовать непосредственное. У Фуко язык конститу¬
ирует чеАовека. Сам язык при этом никто не учреждает. Этот тезис Фуко
также неприемлем, ибо язык является способом самоопределения че¬
ловека. Но Гуссерль носится с субъектом как с писаной торбой. А Фуко
с ним не носится. И в этом пункте надо поддерживать Фуко.
Гуссерль постулирует момент, когда слова и вещи сливаются в оче¬
видности. Когда вещи говорят, а слова показывают. И затем этот пра¬
Складки
105
опыт длится усилиями трансцендентального «я». Без непосредственной
очевидности, без встречи сознания и вещи не было бы интенциональной
нацеленности сознания.
«Я» конституирует сначала свою сферу. Затем конституирует в
ней — другого. А благодаря другому создает объективный мир. На этом
пути «я» не нужны новые встречи с вещами. Вещи лишены права голоса.
Человек в трансцендентальном идеализме Гуссерля не говорит, не ра¬
ботает и не живет, он усматривает.
У Фуко человек говорит, работает и живет. Но этот человек не пе¬
реживал момент встречи слова и вещи. Его не ведет изначальный опыт.
У него нет интенционального сознания. Для него ничто не очевидно и
ему нужно начинать каждый раз все сначала, в соответствии с теми ви¬
димостями и высказываемостями, которые он застает. Изменится ситу¬
ация и человек перестанет работать. И на его месте появится что-то
новое. Какой-нибудь сверхчеловек. Но нас с этим новым человеком уже
ничто не будет связывать. У нас не будет с ним одного опыта, одной
интенции, одних очевидностей. Даже видимости у нас будут разные.
И поэтому он для нас как бы и не существует. Вернее, если он появится,
то это будет означать, что нас уже нет.
Делез продолжает дело Фуко и рассеивает человеческое до микро¬
уровня, до составляющих его сил. Силы неизменны, а их комбинации
меняются. Человек — это не силы, а комбинации. Вернее, всего одна
комбинация из их бесконечной множественности.
Бодрийяр полагает, что все имеет конец. И человек тоже скончается,
но не в некой комбинации сил, а в симуляции. Убьет человека слово.
Сознание. Исток симуляции в рефлексии. Ее результат — удвоение че¬
ловека. Человек, не узнавая себя, начнет воссоздавать себя. Восполнять
свое отсутствие. Человеческое выйдет за пределы человека, и серия уд¬
воений охватит все сферы его жизни. Удвоится красота, истина, добро.
На этом мысль Бодрийяра заканчивается и начинается археоавангардная
мысль Андрея Платонова о том, что временный человек умрет и наро¬
дится человек пространства. Простые мысли, непосредственные ощу¬
щения, косноязычная мысль, естественность, наивное сознание дадут
новую энергию, новую силу и новые горизонты человеку. Новый человек
появился как варвар, как примитив. В нем мы найдем силу дословного и
голос безмолвного, которые выведут нас за пределы симуляций и удво¬
ений. Философские антропологи пытаются синтезировать антрополо¬
гическую реальность, экзистенциалисты в лице Сартра разлагают ее.
§ 1. Гуссерль. Я без самости. Трансцендентальная
складка антропологии
1
Философствование — это не работа с текстами. Оно является одним
из публичных способов реализации одиночества. Впервые этот способ
Глава III
106
публичности применили греки, отделив экзотерическое от эзотериче¬
ского. С угасанием практикующего одиночества угасает и философия.
Она, видимо, угасла уже у неоплатоников.
Вообще-то философ, как и всякий человек, нуждается в другом. Обя¬
зан другому. Ибо другой кормит его, одевает, услаждает и хоронит. Но
все, что другой считает истинным, все, что он предлагает мне как обос¬
нованное знание, мне не нужно. Конечно, все это он может мне навязать.
И навязывает. Но философия — это отказ от истины, предложенной
другим. Я могу уважать представления другого о красоте, я обязан счи¬
таться с тем, что он считает добрым, но я не могу его представления
сделать своими. В момент, когда я принимаю их, я перестаю быть фило¬
софом. Ибо во мне появляется то, что существует не по законам моего
целого, а по законам какого-то другого целого. И я оказываюсь в глупом
положении. Все, что во мне, я должен обосновать из собственного со¬
вершенного усмотрения.
Вывод. Кто хочет стать философом, тот должен обнаружить в себе
другого и уйти от него. Уйти, чтобы вернуться к себе. А уже затем по¬
пробовать вступить в коммуникацию с другим. Для чего нужно быть
одному? Для того чтобы иметь возможность усматривать очевидное.
Другой мешает прямому установлению подлинного. Все в мире направ¬
лено против усмотрения истины. Среди предметов мира нет первых
предметов. Среди суждений нет окончательных суждений. Поэтому то,
что очевидно, не может быть вещью и не может быть суждением.
2
«Я» есть то последнее, дальше которого нет пути. Никто не может
спрашивать: а что там за ним, за этим «я». «Я» не принадлежит миру.
К этому выводу пришла европейская философия. Если бы «я» было со¬
держательным, то оно было бы вещью или суждением.
Поэтому-то Декарт и объявил первой самоочевидной подлинностью
«я». То, что не является суждением. Движение в пределах пустого «Я»
получило название трансцендентальной феноменологии.
3
Гуссерль пишет: «Феноменология есть...целостное самовоспита¬
ние человека, совершаемое во имя универсального разума». Это цита¬
та из статьи «Феноменология» в британской энциклопедии. Из этой
статьи ты узнаешь, что если ты сам себя воспитываешь во имя универ¬
сального разума, то ты феноменолог. В одной фразе Гуссерля сразу
две заглушки для ума: целостное воспитание и универсальный разум.
Целостное самовоспитание — эвфемизм для беспризорников и солип¬
систов. Универсальный разум — деривация европейской рациональ¬
ности.
Двигаясь в пределах пустого «я», философ как бы топчется, совер¬
шает бег на месте, не решаясь пойти по одному из двух возможных путей.
Складки
107
Ведь куда бы он ни пошел, он совершит содержательный акт, обнаружив
свою принадлежность к миру. Поэтому современная философия пред¬
почитает непрерывно воспроизводить развилку путей, называя это за¬
нятие подлинной философией.
4
Философия есть личное дело философствующего. Если бы она
была культурным жестом или социальной манифестацией, то она бы
была средоточием всяких предрассудков. Чем-то опосредованным. Как
«личное дело» она предполагает опыт получения непосредственного
знания. Того, что добыл ты сам. Что никем не опосредовано. Утрата
непосредственного знания, расширение поля опосредованных знаний
обессмысливает философию. Делает ее ненужной, превращая в пред¬
рассудок.
Очевидности абсолютного усмотрения и непосредственное знание
взаимно связаны. Ни одно «я» не указывает на серию, на еще одно
«я», которое стоит за ним. Напротив, за другим всегда скрывается еще
один другой. Другой относится к серийному типу. «Я» — одноэкзем-
плярно.
5
И хотя всякая философия есть личное дело философствующего, все
же философию Декарта не стоит рассматривать только как его личное
дело. Почему? Ответ на этот вопрос можно найти у Гуссерля в «Карте¬
зианских размышлениях».
Во-первых, не Платон, а Декарт стал культурным образцом совре¬
менного философского мышления. Платон старомоден. Наивен. У него
человек перегружен всякого рода знаниями, к добыванию которых он
не имеет никакого отношения. Декарт во всем сомневается. Поэтому он
хорош для начинающих философов, для тех, кто не перегружен знани¬
ями. Начинающий философ стал масштабом существования европейской
философии, ее картографией.
Во-вторых, быть философом — значит всегда начинать и никогда не
заканчивать. Быть в режиме начинания, непрерывного возобновления
начала. Начинающий отличается нищетой познания. Нищета познания
начинающего делает его картезианцем. Трансцендентальная феномено¬
логия начинается с абсолютной нищеты познания.
6
Все начинающие радикальны. Поэтому философом может быть тот,
кто радикален. А радикальны всегда молодые. Трансцендентальная фе¬
номенология выдвигает тезис о том, что философия — дело молодых.
Философ не может быть старым и мудрым. Это египтяне были старыми
и мудрыми. Но они не были философами. А греки были молодыми и
немудрыми. И поэтому они стали философами.
Глава III
108
7
Методический радикализм первых философов состоял в поисках
первых оснований и последних целей. Этот радикализм сменился новым.
Сомнением. Что подпадает под сомнение? То, что может как быть, так
и не быть. Нельзя полагаться на сомнительное, на случайное. Но все в
мире случайно. Сомнительно. Значит, все это нужно мыслить несущес¬
твующим. Вообще мыслить — значит полагать несуществующим, при¬
знавая презумпцию ничто. Это высказывание — ключ к европейской
философии XX века.
8
Все можно помыслить несуществующим. Только свое «я» нельзя
помыслить несуществующим. Оно одно несомненно и абсолютно. «Я»
не мыслят, его усматривают. А поскольку в «я» может быть только то,
что от «я», а не от чего-то другого, постольку солипсизм является ес¬
тественным состоянием начинающего философа, а тавтология — адек¬
ватной формой выражения его мысли.
9
Декарт недостаточно радикален. У него «я» содержательно в том
смысле, что оно содержит идею Бога. Гуссерль настаивает на абсолют¬
ной нищете познания. Никакая содержательность не обеспечивает су¬
ществование подлинного. Реального. Отказ от идеи Бога — это тот по¬
ворот философии, который Гуссерль считает абсолютно необходимым.
Ведь если оставить Бога, то какая-то часть дел и знаний переходит к
Нему, лишая человека автономности. Где Бог, там сохраняется предза-
данность мира.
Философ не нуждается в идее Бога. Он должен взвалить всю ношу
на себя, т. е. потерять мир, а потом найти его. В себе. А если он этого не
делает, то философия хиреет. Приходит в упадок. Она начинает демонс¬
трировать разные содержания, лишаясь единой цели, одного метода,
одной проблемы. Образуется хаос. Кто во что горазд, тот то и говорит.
Современные философы, с точки зрения Гуссерля — это сущие анар¬
хисты.
10
Если Бога нет, а вера людей выродилась, то все упование образован¬
ных людей обращается к науке. К философии. Наука должна заменить
религию. Философия должна осветить путь и повести за собой людей.
И вот вместо этого света Гуссерль видит мрак, упадок философии, бес¬
связный поток философской литературы. Что делать?
11
Гуссерль решает изменить ситуацию, навести в философии порядок.
Для этого он возобновляет радикальное сознание начинающего фило¬
Складки
109
софа. Каждый философ должен стать хунвейбином, т. е. трансценден¬
тальным феноменологом, чтобы избавиться от предрассудков. Феноме¬
нолог начинает с абсолютной нищеты познания. А это значит, что со¬
знание существует не для знания. А для чего? У Гуссерля нет ответа на
этот вопрос.
12
Даже Декарт полон предрассудков, не говоря уже обо всех осталь¬
ных философах. Смешна вера Декарта в образцовость математического
естествознания. Смешна его вера в Бога. Гуссерль полагает, что пред¬
рассудки не рассеивают постепенно, день за днем в течение столетий.
От них избавляются сразу же. Гуссерль как большевик. На его взгляд,
абсолютная нищета познания является платой феноменолога за отказ
от предрассудков. Либо ты ничего не знаешь, либо кто-то тебя уже водит
за нос. И трансценденталисты теперь сами с усами, ибо они ничего не
знают.
Но когда пришли действительно радикально настроенные философы,
т. е. постмодернисты, они оказались радикалами наоборот. Во-первых,
они отказались строить философию как науку. Во-вторых, идея науки
была лишена ими предварительной презумпции. Никто из них не стал
искать одно — единое. В-третьих, к предрассудку была отнесена уве¬
ренность Гуссерля в существование связи между подлинностью и сис¬
темностью. Система — не подлинное, а подлинное — не системно. Хаос
плюральности стал нормой и для тех, кто пошел от трансцендентализма
к наивности. «Я» и «мысль» больше никак не связаны. Все дозволено и
все возможно. И теперь уже не важно: есть у науки основания или нет.
Главное, что она когда-то победила религию. А победителей не судят.
Поэтому гуссерлевские обоснования науки некорректны. Более того,
сознание Гуссерля трансцендирует себя к сознанию интернационали¬
стов, выдвигая требование предварительной презумпции и методичес¬
кого единообразия.
13
Радикальный философ может выбраться из абсолютной нищеты
познания только при помощи интуиции очевидного, прямого усмотрения
истины. Очевидность хороша тем, что в ней вещи даны сами по себе. Как
они есть. Усмотрение очевидного составляет первое знание. В мире не¬
лепого и неочевидного никакая радикальная философия невозможна.
14
Сами по себе очевидности бывают разные. У крестьян они одни. У ин¬
теллигенции другие. Гуссерль, как Чернышевский, выделяет два типа
очевидностей. Один он находит у обывателей. Другой — у ученых. Уче¬
ный судит. И это суждение помещает истину в горизонт абсолютной
истины. Обыватель видит полную истину. Но он ею не владеет. Ученый
Глава III
no
теряет абсолютную истину, но он владеет относительной истиной. Обы¬
ватель увидел очевидное и успокоился, занимаясь повседневными дела¬
ми. Ученый же выражает ее в словах. Для него истина — темпоральная
структура. Кто судит, тот и владеет истиной. То есть обыватель усмат¬
ривает истину, но он ею не владеет. А интеллигенция и видит ее, и вла¬
деет ею.
У обывателей допредикативное усмотрение. Интеллигенция прак¬
тикует предикативное усмотрение очевидности. Вот, например, дом.
Обыватель говорит, что это дом. У него непосредственное суждение,
совпадающее с положением дел. Но ведь непосредственно мы видим не
дом, а только какую-то часть дома. Мы можем быть от него вблизи или
вдалеке. Можем смотреть сверху или снизу, утром или вечером. Естес¬
твенные очевидности не ясны. Односторонни. Они с ненаполненными
полаганиями. Их нужно согласовывать. К тому же естественный язык
плох, ибо многозначен.
15
В пустоте абсолютной нищеты есть только удостоверяющее себя «я ».
И все, что теперь появится в этой пустоте, будет принадлежать «я»,
которое обо всем может сказать «мое». Структурируется пустота не в
терминах бытия, а в терминах значения. То, что значит, не обязательно
есть, а то, что есть, не обязательно значит. Высказывая то, что есть, мы
обнаруживаем то, что значит. Феномен значит, а не есть.
Так в пустоте абсолютной нищеты появляется то, что Гуссерль на¬
зывает феноменом. Полагая несуществующим весь мир, мы даем воз¬
можность проявиться «я» и его феноменам. В составе этих феноменов
нет ни Бога, ни другого. «Я » одно, но значений у него много. И это мно¬
жество обусловлено временем, «следованием за». Если бы у нас была
одна мысль, то тогда время перестало бы быть органом субъективности.
Ни «я», ни феномен не являются частью мира. Они вне мира, хотя и
во времени. Декарту нужен был Бог. Гуссерлю достаточно потока вре¬
мени. Феномен существует во времени как нечто временное. Как про¬
дукция чистых фантазий, «Опыта-как-бы»: как бы восприятия, как бы
воспоминания. Он выкидывает напрочь представление о другом и заме¬
няет его феноменами. Прямое усмотрение им поставлено во временной
поток.
Время рассыпает единое, удаляет от очевидного. То, что восстанав¬
ливает едийое и приближает к очевидному, Гуссерль называет интенци¬
ей. Благодаря интенции ты вовремя приходишь на встречу, тобой назна¬
ченную. Если бы не было интенции, то ты бы не понял, что дом в натуре
и дом на снимке — это все же одно и то же. Интенция позволяет узнавать
дом как дом и в разных способах осознания, и в разных способах сущес¬
твования. Время — форма синтеза сознания.
Есть два времени. Одно для предмета, другое для восприятия пред¬
мета. Благодаря двувременности возникает отсыл от актуальности к
Складки
111
потенциальности. Видишь одно, воспринимаешь другое. Если бы не было
двух времен, то мы бы всегда видели то же, что и воспринимали. Потен¬
ция всегда больше актуальности, возможность богаче вещи. Если бы
потенция была равна актуальности, то не было бы интенции. Интенция
встраивает актуальное в эйдетический горизонт.
16
Открытие феноменального плана «я» позволяет Гуссерлю объяснить
возможность бесконечного истолкования себя, а также выявить интен-
циональное строение сознания, которое всегда на что-то нацеливается.
Одно дело, когда я вижу дом. Другое, когда я обращаю свое внимание
на восприятие дома.
Дома бывают разные. У одних — 4 стены. У других — 5. Одни с плос¬
кими крышами. Другие, как в готике, с остроконечными. У некоторых
один этаж, у некоторых — 2. Бывают овальные, круглые, прямоугольные.
И все это узнается как дом. В конце концов дом может быть дан в вос¬
поминании, в ожидании, в восприятии, в суждении, и во всех этих спо¬
собах осознания он остается домом.
Особенность же Гуссерля состоит здесь в том, что он не позволяет
отличить чистую психологию сознания от трансцендентальной феноме¬
нологии сознания. Но если мы одно не можем отличить от другого, то
тогда мы имеем дело с одним предметом, а не с двумя.
И этот тождественный предмет заключен в самом сознании как
смысл, как то, что определено работой самого сознания во внутреннем
времени. Сначала ты видишь, что это дом. А потом видишь цвет, форму
и т. д. Интенциональный горизонт позволяет отсылать от актуальности
к потенциальному. Происходит отсылка от собственно воспринятых
сторон к полагаемым наряду с ними сторонам, еще не воспринятым, но
уже включенным как потенция в восприятие. Горизонт расспрашивают.
Истолковывают. Когда истолковывают, получают смысл.
Сознание есть полагание возможного, которое всегда шире факти¬
ческого. Несовпадение возможного и фактического лежит в основе ин-
тенционального строения сознания. Интенциональный анализ делает
невидимое видимым.
Если интенциональный анализ делает невидимое видимым, то было
бы интересно проследить, как Гуссерль проанализировал бы феномен
обмана, или самообмана, ибо самообман строится на идее равенства
фактического и возможного. Самообман встраивается не в эйдетиче¬
ский горизонт, как думал Гуссерль, а в симулятивный. В случае самооб¬
мана мы имеем дело с игрой сознания, когда одно сознание вовлекает в
свое поле другое сознание и играет им.
В картезианском «я» нет времени и, следовательно, в нем нет
игры,не возникает новое. А в трансцендентальном возникает. То есть
«я» есть всегда «я». Но в рамках этого тождества возникает что-то
новое, хабитуальное. Например, возникает «я», которое принимает
Глава III
112
решение. «Я принимаю некое решение; при этом актуальное пережи¬
вание должно иссякнуть у но решение остается... я есмь отныне тот,
кто принял такое решение... я... отвечаю за свой поступок»1. Это
хабитуальное «я», его выбранная точка зрения. «Я» конституирует
себя как личное «я».
«Я существую для самого себя и в очевидности опыта постоянно
дано себе как я сам».1
Это пример самоконституции эгологического сознания. В собор¬
ном сознании «я» не существует для себя, ибо существует «мы», ко¬
торому оно принадлежит, и поэтому в горизонте собора проблема¬
тично существование «я». В эгологии «я» дано себе с очевидностью.
В соборном сознании оно неочевидно. Никто не уверен в своем зыбком
«я». Здесь очевидна лишь совесть и стыд замкнутого друг на друга
определенного множества людей. В эгологическом сознании неоче¬
видно Мы.
17
Эйдетическое усмотрение делает возможным созерцание всеобщего.
Если время скрывает от тебя что-то, то ты можешь смотреть как бы
поверх времени, ты можешь смотреть на единичное, а видеть общее. Во-
обще-то общее мыслится, но благодаря интенции мы его можем созер¬
цать.
Чтобы получить эйдос восприятия, нужно произвольно вообразить
цвет, форму, сохраняя тождественным лишь воспринимаемое явление.
Факт — это частный пример реализованной возможности. Эйдетическое
усмотрение делает доступным созерцанию такое всеобщее, которое не
обусловленно никаким фактом.
Эйдетическая феноменология исследует не этот предмет, а то, без
чего он не мыслится. Гуссерль жил с надеждой, что эйдетическая фе¬
номенология превратит философию в науку. Ведь при переходе от
моего эго к эго вообще не предполагается «другой». А это значит, что
тебе не нужно обобщать существование многих. Тебе достаточно од¬
ного себя. «Когда я представляю себя другим, я воображаю только
себя, но не других»1. Всякая сущность заключает в себе бесконечное
число форм, типов возможностей. Это как бы пройденная бесконеч¬
ность.
Однако в возможном единстве «я» совместимы не все отдельные
возможные типы, не в любом порядке и не в любой точке его возмож¬
ности.
Все известное предполагает некое первоначальное знакомство. А все
неизвестное имеет форму предмета: пространственной вещи, культур¬
ного объекта. 1 2 31 Гуссерль Э. Картезианские размышления. СПб.: Наука, Ювента. 1998. С. 147.
2 Там же. С. 150.
3 Там же. С. 156-157.
Складки
18
113
Все, что я устанавливаю, имеет место в пределах моего сознания. Но
каким образом вся эта игра, происходящая в имманентной жизни со¬
знания, может получить объективный смысл? Как очевидность может
быть чем-то большим, чем одной из характеристик моего сознания? Гус¬
серль считает эту проблему бессмысленной: «... жертвой этой бессмыс¬
лицы не мог не стать сам Декарт»1. Декарт не уловил подлинного смы¬
сла своего трансцендентального эпохе, и редукции к чистому ego. Эго
видит то, что не может не видеть частное эго.
Гений Гуссерля в том, что он сущее понимает как продукт трансцен¬
дентальной субъективности. А это значит, что реальность не исходный
пункт движения самости человека, а конечный.
И тот факт, что Гуссерлю не удалось построить единую для всех
философию, как раз и говорит о том, что философия есть личное дело
каждого, а реальность есть результат объективации фантазий человека-
аутиста.
Поскольку Гуссерль — трансцендентальный философ, постольку он
начинает рассуждать с «Я». У него «Я» не зависит от другого. Другой
дан нам в опыте как тело, как объект, к которому применимы термины
бытия. Но «Я» зависит не от тела, а от «мы». А это значит, что следова¬
ло бы начинать теоретические рассуждения не с «Я», а с самости само-
замкнутых друг на друга людей, не знающих никакого «Я». И тогда
гуссерлевский солипсизм можно было бы истолковать как аутизм, как
безумие, по следам которого идет ум. Но это истолкование будет воз¬
можно уже вне рамок трансцендентальной философии.
Стратегия Гуссерля иная. Он желает получить «другого», манипу¬
лируя с «Я». Если мы выбираем «Я», то оказываемся в комнате без окон
и дверей. Идея о том, что мы выбираем свое «Я», наивна. Мы его не
выбираем. Оно на нас сваливается, как снег на голову. В противном слу¬
чае смыслы сознания запирают тебя в этой комнате. И ты можешь в ней
задохнуться. Чтобы этого не случилось, Гуссерль вынужден говорить о
существовании особой интенции, которая направлена на другого. Все
мои смыслы не выходят за пределы моего «Я». А этот выходит. Его Гус¬
серль называет самосбывающимся предсказанием, моим аналогом, ре¬
дукцией к собственной сфере. Другой стирает следы своего учреждения
и становится моим аналогом. Другой, согласно Гуссерлю, и значит, и
существует.
А также Гуссерль вводит представление о системе согласованных
подтверждений. Это согласование устанавливается до всякой коммуни¬
кации, без общения с другим. В результате в «Я» появляется трещина,
щель. Появление этой трещины Гуссерль объясняет превосходством
возможного над фактическим, а также бесконечностью произвольного
действия, в котором может быть все, что угодно, а значит и то, что есть 8Там же. С. 173.
8 1920
Глава III
114
у другого. Объяснение Гуссерля игнорирует невозможное. Ведь воз¬
можное и фактическое связаны. Но мы эту связь лишили онтологической
значимости, полагая, что самость начинает не с реальности, а значит, и
не с возможного. Она начинает с невозможного. В возможном есть все,
кроме невозможного.
Гуссерль предлагает не различать человека и животного. Это пред¬
ложение крайне неплодотворно, ибо оно лишает феноменологию пони¬
мания человеческого самовоздействия. Как же мне узнать в другом
человека? Гуссерль отвечает на этот вопрос просто: если мы невидимую
часть дома можем сделать видимой, приведя отсутствующее в присут¬
ствие, то так же мы должны поступить и с человеком. Но сколько бы мы
не поворачивали человека, мы не приведем в присутствие его душу. Вот,
например, я вижу красную лампу. Что здесь мое? Ничего. Но если крас¬
ная лампа для меня «радость », то это радость моя, а лампа не моя. «Мое »
происходит из воздействия себя на самого себя, а не из пустоты знания.
19
Разберем ноэмато-онтический способ данности другого ego. Этот
способ Гуссерль называет путеводной нитью конститутивной теории
опыта «другого».
Другой в кавычках должен сбить с толку читателя. Запутать следы
перехода от имманентности к трансцендентности. Кавычки указывают
на то, что другой понимается как феномен моего сознания. Но Гуссерль
использует кавычки и тогда, когда другой понимается как объект мира.
Затем нужно обратить внимание на местоимение «мой». Ни один транс¬
цендентальный субъект не имеет имени. Именование трансценденталь¬
ного не имеет смысла. Но именно оно составляет технический смысл
философского творчества Гуссерля. Вот вопрос: как мне дан другой?
Другой без кавычек, не как смысл, который я придаю другому, не как
феномен, обозначаемый кавычками, а в натуре. Живьем. Прежде всего
я вижу его как тело, как часть мира. Гуссерль пишет: «В опыте я познаю
«других»у как действительно сущих...как объекты мира»} То есть он
говорит, что в опыте значащее начинает существовать. То, что было фе¬
номеном сознания, становится объектом мира, к которому применимы
термины бытия. У Гуссерля другой взят в кавычки. Зачем? Затем, чтобы
склеить феномен и объект, значение и бытие, дабы показать их как нечто
целое и тождественное. Склеить другого как смысл сознания и другого
как нечто 'действительно сущее. Вот эта склеенность и лежит в основе
конституции, т. е. полагания трансцендентальным «я» другого в качес¬
тве объекта мира.
Вывод. Ноэмато-онтический способ данности другого описывает
работу сознания в естественной установке, выдавая ее за трансценден¬
тальную. Трансцендентализм Гуссерля не расширяет горизонт знаемо-
Там же. С. 185.
Складки
115
го в естественной установке. Гуссерль выдает желаемое за действитель¬
ное, ибо то, что он называет чистой психологией сознания, является
естественной установкой. Вот, например, Гуссерль рассказывает о том,
как он воспринимает другого и делает заключение: «Таким образом, в
себеу в рамках трансцендентально редуцированной чистой жизни мое¬
го сознания я познаю в опыте мир вместе с сущими в нем «другими»...
не в качестве у так сказать, своего собственного синтетического про¬
дуктау но как чужой по отношению ко мнеу интерсубъективный миру
существующий для каждого и доступный для каждого в своих объектах.
И все же каждый обладает своим опытом, своими явлениями и их единс¬
твами у своим феноменом мира9 в то время как познанный в опыте мир
существует сам по себеу в противоположность всем познающим субъ¬
ектам с их феноменами мира»1.
Стоит обратить внимание на то, что все тексты Гуссерля написаны
в стиле приведенного отрывка, т. е. в них, как это признает сам Гуссерль,
нельзя отличить чистую психологию сознания (естественную установку)
от трансцендентальной феноменологии сознания. Ведь если ты «в себе »,
в рамках трансцендентального сознания, то ты не можешь познавать
мир в опыте. Либо опыт, либо ты солипсист. Для опыта нужны объекты
и чувства, а в редуцированном сознании нет ни того, ни другого. Гуссерль
вынужден говорить о мире, в котором существуют смыслы. Но смыслы
существуют в сознании, а не в мире. То есть Гуссерль понимает, что в
мире не-Я есть другие Я, но о том, как они там оказались, трансценден¬
тальная феноменология ничего сказать не может, не разрушая свои ос¬
новы.
Во-первых, «таким образом» Гуссерля никак не следует из того, что
им говорилось ранее. Во-вторых, ранее Гуссерль говорил: «Я познаю».
И ты понимаешь, что это он о себе в естественной установке говорит,
ибо никакого трансцендентального Гуссерля нет. А вывод у него стро¬
ится так, будто он все-таки есть и при этом он еще нанизывает бисер на
нитку. Сначала идет «в себе», затем пояснение «в рамках трансценден¬
тально редуцированной чистой жизни моего сознания». Но никакого
трансцендентально редуцированного сознания не было. Гуссерль толь¬
ко уверяет, что когда он смотрел на стол, он смотрел на него в себе, в
рамках чистой жизни его сознания, а не на стол как объект мира. Но
стол как стоял там, в мире, у окна, так и стоит. И больше никаких столов
на этом месте нет. В сознании же есть смыслы, значения. Но они не встро¬
ены в объектную структуру мира. А Гуссерль хочет, чтобы у него в со¬
знании появился еще один стол. Идеальный. И он бы играл этими сто¬
лами, как краплеными картами, выдергивая ту из них, которая ему нуж¬
на. Гуссерль придумал даже название для этой игры, называя ее
«удвоение как ассоциативно конституирующий компонент опыта „дру-
гого“». А смысл этой ассоциации в нацеливании идеальным «столом в
Глава III
116
себе» на объектный «стол у окна». Вот когда они накладываются, про¬
исходит опытное познание. Цель достигнута.
Итак, объект существует у Гуссерля два раза. Один раз как объект
мира. Другой раз — как феномен сознания. Это удвоение по ассоциации
констатирует опыт другого. То, что значило в сознании, существует в
опыте как объект, к которому применимы термины бытия. У каждого
есть свой феномен мира, и одновременно еще есть мир, существующий
сам по себе. И он противоположен всем этим феноменам. А Гуссерль
как бы видит оба мира. Имеет ли один из них какое-либо отношение к
другому? И если да, то какой мир из двух является базисным, первичным?
Вот я говорю: я есть я. Здесь два я. А мое я — одно. Какое из них мое?
Если я уже рождаюсь со своим феноменом мира, то тогда как я живу в
действительно существующем мире? Как я его обживаю? Или же они
заранее согласованы? Тогда где эта согласующая субстанция? Гуссерлю
сложнее, чем Декарту, ответить на этот вопрос. Ведь он не признает
врожденных идей, редуцируя их к абсолютной нищете трансценденталь¬
ного «я». Поэтому ему нужно показать, как сначала из пустоты обра¬
зуется мой феномен, а затем нужно на его основе сконструировать объ¬
ективный мир. А зачем ему такие тяжести поднимать, не совсем понят¬
но.
Представление ноэмато-онтического способа данности другого за¬
канчивается сценой стенаний, жалоб и упреков, начинаемых словами
«Как нам объяснить все это?». Действительно, как? Ясно, что смыслы
по улицам не бегают. Они всегда чьи-то. Вопрос, чьи? Кому принадлежат?
Соседу, семье, корпорации работников умственного труда, профсоюзу.
Но Гуссерль не может так поставить вопрос. Ведь для того чтобы гово¬
рить о смыслах корпорации, нужно отказаться от солипсизма трансцен¬
дентальной феноменологии и принять идеологию бессубъектного мы.
Гуссерль даже не может сказать, что это смыслы абсолютно нищего
трансцендентального «я», ибо оно перестало бы быть нищим. И поэто¬
му он говорит, что они принадлежат ему как естественному существу.
Они внутри его интенциальной жизни. Конечно, жить с такими смысла¬
ми нельзя. Ибо они будут все время запирать тебя в комнате без окон и
дверей. А это значит, что тебе нужно будет потерять чувство реальности.
Например, абстрагироваться от того, что в мире «говорят», что в нем
есть слухи и мнения. А они ни на что не нацеливают. Поэтому Гуссерль
сразу же указывает на щели в своем солипсизме, на так называемые
«системы согласованного подтверждения». Неожиданно выясняется,
что и у тебя, и у соседа одни и те же смыслы. Хотя и ты изолирован, и
сосед. А смыслы сознания одни. Почему? Устанавливается это, как по¬
лагает Гуссерль, не выходя из комнаты, без коммуникации с другим.
В твоем сознании уже есть весь мир, но ты об этом не знаешь. То есть
ты живешь как нищий, хотя на самом деле ты богат. Ведь реальное есть
часть возможного. Так Гуссерль убивает сразу двух зайцев. Ты и у себя
дома, и весь мир чужого здесь. Получается монада, как у Лейбница.
Складки
117
Проблема, с которой сталкивается Гуссерль, усугубляется тем, что
смыслы иерархизированы. Они устроены как матрешка. Есть мои смыс¬
лы, есть его смыслы, есть наши смыслы, есть их смыслы. Так вот какие
из них положить в основание? Гуссерль говорит, что первичны «мои».
Из них конституируются его, наши, их смыслы.
Но русский язык сопротивляется солипсизму Гуссерля, усматривая
в смысле некую общую мысль, согласие в мысли. «Мой смысл» в своем
чистом виде предстает как нарушение согласия, со-присутствия в мысли.
Даже если в нарушении есть истина и правда.
Другой еще должен быть узнан как человек. Ведь «другой» относит¬
ся не только к человеку, но и к животному. Поэтому-то Гуссерль и пред¬
лагает не различать человека и животного. То есть в терминах транс¬
цендентальной феноменологии ты не отличишь себя от обезьяны. Без
всякой трансцендентальной феноменологии ты знаешь, что перед то¬
бой — другой человек. Но что он думает, кто он, что у него на уме, мы
не знаем, как бы мы его ни поворачивали, делая невидимую часть тела
видимой. Чужая душа потемки. Если бы я знал, что у другого в душе, то
это был бы не другой, а я сам. Конечно, другой дан мне как тело. Но это
не мое второе тело. Если бы оно было моим вторым телом, то я бы его
чувствовал. Но я его не чувствую, оно для меня не болит.
20
Редукция природы и культуры Гуссерлем обнажает трансценден¬
тальное «я ». Трансцендентальный — значит бессодержательный, пустой.
За все, что теперь появится в пустоте, отвечает только «я». Оно учреж¬
дает, конституирует и учрежденное объявляет своим.
Но откуда у него сила? Кто дал ему энергию? На этот вопрос у Гус¬
серля нет ответа. У него творит логика, как у Гегеля. Разница между
ними в отношении к «я». У Гуссерля оно статично. У Гегеля оно претер¬
певает метаморфозы, описываемые в «Феноменологии».
Никто не имеет права спрашивать Гуссерля, откуда у него тот или
иной смысл. Это твой смысл. Ты его учредил в виде синтеза сознания.
Создал из ничего. Хотя кое-какой материал для этого все-таки был.
Смыслы такого рода Гуссерль называет трансцендентальными в силу их
бессодержательности. А когда они получают содержание, то становят¬
ся феноменами, но не явлениями. Ибо о них я могу сказать, что они мои.
Сдерживает ли что-то произвол трансцендентального «я»? Нет, нич¬
то не сдерживает. Вот эта несдержанность и придает смыслам универ¬
сальный характер. Иными словами, почему я думаю то же, что и другой?
Почему у нас с соседом одни смыслы? На чем основана система согла¬
сованного подтверждения? Дело не в коммунальной кухне и не в общем
поле, а в произвольности. Произвол Я бесконечен. И в этой бесконеч¬
ности представлены смыслы другого. Если бы не было произвола, то не
было бы и никаких согласованных подтверждений. Так что можно, не
выходя из дома, знать то, что знает другой. Универсализм смыслов со-
118
Глава III
липсистского Я основан на произволе. Универсальность произвола пред¬
полагает видимость решения проблемы множественного существования.
Ибо самого решения у Гуссерля нет. Его «я» конституирует всегда то,
что мы уже знаем. То есть «Я » сдерживает мы, а мы сдерживаемся богом,
и поэтому не все можно. Поэтому я не все могу. Почему эйдетическое
усмотрение сущности Гуссерлем ни разу не показало нам неизвестной
сущности? Почему эйдетическое усмотрение сущности человека оказа¬
лось набором штампов массового сознания о человеке?
Гуссерль сначала отвлекается от другого и занимается собой. В кон¬
це концов <удругой» — это ведь мой смысл другого, которому «пока еще
не может быть приписан смысл объективно существующего»1. Удиви¬
тельно, но Гуссерль так и не объяснил позитивного происхождения «мо¬
его». Ведь если я творю мир, как Бог, из абсолютно бессодержательной
тавтологии «я есть я », то внутри этой тавтологии не спрятано появление
«моего». У Бога нет никакого «моего», поэтому у него нет и «чужого».
Редукция трансцендентального опыта к собственной сфере не имеет ос¬
нований, ибо нет оснований для заранее полагаемого «моего».
Гуссерль часто повторяет истины, полученные не трансценденталь¬
ным эпохе, а взятые из сознания повседневности. И все же стоит указать
на излюбленный способ мышления Гуссерля. Когда по существу сказать
нечего, он говорит об особых интенциональностях и новых бытийных
смыслах. Вот пример. Направленность на другого он объявляет особой
интенцией. Почему? Потому что в ней конструируется смысл, выходящий
за пределы монадического эго1 2 3 4. Все интенции как интенции. Их смысл
не выходит за пределы «я». А этот выходит. Но если он выходит за пре¬
делы монадического я, то его можно будет встретить на улицах города.
Хотя феноменологи договорились, что смыслы всегда чьи-то. И если он
выходит за мои пределы — значит он не мой. Итак, была направленность
на «другого». И смысл благодаря этой направленности убежал к друго¬
му. При этом, согласно Гуссерлю, происходит конструирование «дру¬
гого». Вот как пишет сам Гуссерль: «При этом конструируется некое
ego не как «Я сам», но как ego, отражающееся в моем собственном Я,
в моей монаде. Однако это второе эго не просто наличествует... Оно
конституировано как alter ego, причем упомянутым в этом выражении
ego являюсь Я сам в своей собственной сфере»?
Набор характеристик второго Я впечатляет. Оно и существует. Оно
же и учреждено. И одновременно, как мое отражение, оно указывает на
меня, а не на себя. И в то же время оно не есть мое отражение, оно не
указывает на меня, а значит — есть само. «Это — мой собственный ана¬
лог, и, опять-таки, аналог не в обычном смысле слова»*. И все это на¬
зывается редукцией к собственной сфере. А поскольку такую редукцию
1 Там же. С. 188.
2 Там же. С. 190.
3 Там же.
4 Там же.
Складки
119
из-за ее путанности нельзя признать удачной, постольку Гуссерль пред¬
принимает еще одну попытку. Как же все-таки конституировать «другое »
внутри себя? И Гуссерль, отвечая на этот вопрос, делает гениальный ход.
Нужно сделать так, чтобы учрежденное стирало следы своего учрежде¬
ния. Чтобы ни у кого не было памяти и никто в сделанном не узнал бы
делаемое. И тогда сделанное будет восприниматься как нечто естествен¬
ное. Как объект мира. То есть я нечто конституирую в моей сфере как
другого, а этот другой славен тем, что он, как Буратино, стирает во мне
следы своей конституции, лишает меня памяти. И я уже воспринимаю
его не как изделие, не как мою тень, мое отражение, а как мой аналог.
Мое подобие. Я раздваиваюсь. При помощи двойника-аналога, а также
при помощи стирания следов Гуссерлем конституируется объективный
мир. Иными словами, реальность — это стертая память солипсиста.
Когда-то Рассел потешался над гегелевской логикой, которая берет
«дядю» и логическим путем из него извлекает брата, племянника и так
дальше. Подобно Гегелю, Гуссерль устанавливает границы «моего собс¬
твенного». Ведь если есть мое, то должно быть и не мое, другое. Указы¬
вая на границы «моего», Гуссерль полагает, что он пребывает в транс¬
цендентальной установке и устанавливает границы моего в горизонте
трансцендентального опыта. Чтобы удерживать различие между моим
и другим, нужно выйти из себя и удержать это различие в памяти. То
есть конституция другого требует стирания следов конституции, а не¬
обходимость полагания границы «моего» требует сохранения следов
конституции, удержания их памятью. Но хитрость в том, что эти сле¬
ды — в моей сфере. Чтобы избавиться от другого, нужно уйти от себя.
Эта необходимость заставляет Гуссерля вновь сделать не феноменоло¬
гический ход, а герменевтический. Ибо всякое мое предполагает в себе
уже чужое.
Стирая следы чужого, Гуссерль получает сначала один слой фено¬
менов мира. Это собственно мое. Затем он получает еще один слой. Это
собственно чужое. Гуссерль полагает, что мое может быть без чужого.
А чужое без моего не может быть. А если мое возможно без чужого, то
тогда никто не нуждается в доме, в пространстве согласия. Ход мысли
Гуссерля прост. Если есть два неравных слоя феномена, то один слой
можно назвать моей природой или «природой в моей собственной сфе¬
ре». А второй слой — просто природой. Он служит для естествоиспы¬
тателей. Снимок моего легкого — это просто природа для естествоис¬
пытателей. Моя же природа — это мое живое тело. В нем действует мое
Я. Гуссерль эту простую истину повседневного сознания выражает вы¬
чурно, с претензией на открытие. Вот как он пишет: «Выявление моего
редуцированного к собственной сфере живого тела уже отчасти знаме¬
нует собой выявление собственной сущности объективного феномена
у,Я как этот человек“ »К И еще. «Благодаря этой своеобразной абстрак¬
Там же. С. 195.
Глава III
120
ции, в результате которой был устранен смысл „другого", мы сохра¬
нили некий миру некую редуцированную к собственной сфере природу,
которая при посредстве телесного организма вмещает в себя психоло¬
гическое Я у обладающее телому душой и личностным Я как абсолютно
уникальными образованиями в этом редуцированном мире»1. Благодаря
неравенству моего и чужого Гуссерль теряет не весь мир. Кое-что в нем
он сохраняет, заявляя, что он сохранил и дал ego тело, душу и лично¬
стное я.
21
Гуссерлъ пишет: «... я, размышляющийу осуществлял их (размыш¬
ления- прим. Ф. Т.) как трансцендентальное эго»1. Когда произошло
превращение трансцендентального эго в Гуссерля, не очень ясно. Равно
как наоборот, неясно, когда Гуссерль стал трансцендентальным эго.
В текстах Гуссерля фигурирует много разных Я. Я естественное, Я транс¬
цендентальное, Я редуцированное к собственной сфере, человеческое
Я. Нетрудно запутаться во всех этих Я. Чтобы этого не случилось, нуж¬
но научиться соотносить трансцендентальное Я и редуцированное к
своей сфере Я. Трансцендентальное Я реализует пустоту тождества Я
есть Я. В нем ничего нет и оно может только конституировать. А что
делает «я» обычное, «я» с телом и с душой? Оно воспринимает самого
себя внутри конституированного трансцендентальным Я мира. Это —
«погружающая в мир апперцепция». Собственная сфера эго, погружен¬
ная в мир, становится душой. Из сопоставления трансцендентального Я
и Я с собственной сферой следует, что у трансцендентального Я нет
собственной сферы, мира, а у обычного Я есть. «Собственное » кристал¬
лизуется в возможностях типа «Я могу». Все, что я не могу, относится
к несобственной сфере. Например, вот красная лампа. И я вижу ее крас¬
ной. И следовательно, что же здесь мое собственное? Ответ Гуссерля:
то, что ты конституировал как твои собственные данные. Допустим,
красное вызывает у тебя чувство, которое ты осознаешь как радость, и
тогда радость будет твоей, а лампа нет. Но если я конституировал как
мои собственные данные то, что «видится», то, что «говорится», то эти
анонимные данности не будут имманентными временностями в рамках
моего эго, ибо они вообще не интенциональны. Они согласуют мир мно¬
жественного опыта.
Представления Гуссерля об имманентных временностях закрывают
вход в мир согласованного опыта, в мир сплетен и болтовни. Для того
чтобы его открыть, Гуссерль объявляет собственную сферу Я монадой.
Но монада — это эвфемизм для бессубъектной мистерии, в которой
рождается весь мир. в том числе и Я.
Полная монадическая конкретность собственной сферы включает в
себя интенциональный предмет. Но интенцией сыт не будешь. Нужен 1 21 Там же. С. 196.
2 Там же. С. 198.
Складки
121
сам предмет. Чтобы получить монаду, Гуссерль должен включить в сфе¬
ру собственного сам предмет. Для этого он прилагает к предмету слово
«интенциональный». Любой предмет представляет из себя некое един¬
ство. Но непонятен источник этой целостности. Почему вот эта лампа
является лампой? Она лампа по онтологическим принципам? Или же она
лампа потому, что я вижу ее лампой? Какое в ней мы находим единство:
конституированное или онтологическое? Гуссерль полагает, что конс¬
титуированное. Цитата из Гуссерля: «... там и в той степени, в какой
конституированное единство неотделимо от самой изначальной кон¬
ституции в модусе непосредственного конкретного единствау там
конкретной собственной сфере моей самости принадлежит как конс¬
титуирующее восприятие у так и воспринятое сущее»1. Изначальная
конституция в модусе непосредственного конкретного единства — это,
конечно же, Я. Так вот, все, что Я конституирует, принадлежит Я. То
есть к Я Гуссерль относит и восприятие, и предмет восприятия. И с этим
можно было бы согласиться, если бы восприятие понималось способом
существования предмета. Но Гуссерль сущее желает представить как
объект мира. Что нелепо.
Гуссерль спрашивает: «... как следует понимать то обстоятель¬
ствоу что эго имеет в себе и может всегда заново формировать такие
новые интенциональностиу обладающие бытийным смыслом, благода¬
ря которому оно полностью трансцендирует свое собственное бытие »1 2.
Это значит, каким образом согласуется опыт многих других. Почему
этот стакан и для другого стакан и для того, кто еще не родился, тоже
стакан? И почему стакан — это не ложка? Гуссерль полагает, что в опы¬
те моего самосознания содержатся и другие опыты. Опыты другого. Но
если это так, то зачем устраняли следы другого, добивались абсолютной
нищеты, если в ней Я не может трансцендировать свое бытие.
Нельзя полагать существования, если оно уже не существует.
Интенциональное истолкование опыта «другого» у Гуссерля напо¬
минает русскую матрешку. Я — эго первого порядка. У меня есть собс¬
твенное конкретное бытие. Тело и душа. Я учреждаю «другое эго».
И Гуссерль поясняет, что это эго исключено из меня, из первого поряд¬
ка. Но если исключено из меня, то зачем Гуссерль ставит другое эго в
кавычках? Чтобы это другое было не мной, но во мне. Как матрешка.
Иначе другого пришлось бы рожать.
22
Вопрос: каков смысл «объективного мира», откуда он взялся в аб¬
солютной пустоте Я? Ответ: все дело в интенциональном истолковании
опыта «другого». Не было бы интенции другого, не было бы и никакой
необходимости в объективном смысле. А так, истолковывая другого,
приходится говорить и об объективном мире.
1 Там же. С. 205.
2 Там же. С. 208.
Глава III
122
Но с другим у Гуссерля проблема. Бог сделал Адама. Авраам кон¬
ституировал Исаака. Исаак — Иакова. Я учреждает другого. Мотива¬
ция такова. Сначала был Я и только Я. Ничего больше не было. Все
было моим. Затем мне надоело быть одному, и я конституировал в себе
первое «другое», первое не-Я. «Другое Я» не будь дураком конститу¬
ирует другие Я. За другим всегда скрывается еще один другой. И всем
этим другим Я нужно как-то согласовывать свои опыты. Для их согла¬
сования и возникает объективная природа и объективный мир. Но в
начале-то было мое Я. Поэтому «... в моей собственной сфере — кон¬
ституируется некоеу включающее и меня самого, сообщество Я как
сообщество сущих друг подле друга и друг для друга Я, конституиру¬
ется у в конечном смыслеу некое сообщество монад, а именно как такое
сообщество, которое (посредством своей сообща-конституирующей
интенциональности) конституирует один и тот же мир»1. В приве¬
денной цитате Гуссерля обращает на себя внимание сочетание таких
слов, как в «моей сфере, включающей меня самого». В этих словах по¬
лагается монада, состоящая из множества других монад. Ни одна мо¬
нада не может входить в состав другой монады. В нее могут входить
интенции, образы, но не сами монады. Чтобы я входил в свою сферу,
нужно по крайней мере два моих Я: трансцендентальное и естественное.
И последнее. Восхищает такой речевой оборот Гуссерля, как «сооб¬
щество сущих друг подле друга Я». Ибо этим «друг подле друга» Гус¬
серль в избранную монаду вводит протяженность. И некую коллектив¬
ную интенцию.
Хотя сообщество монад может плюнуть на эту мою сферу, на транс¬
цендентальное Я, и создать мир, в котором мне нужно будет выживать.
Ведь сообщество монад есть конституирующая интенциональность. Гус¬
серль полагает, что эта интенциональность складывается из интенции
отдельных монад. Хотя более последовательным было бы признание
соборной интенцией интенцию другого порядка. Но если у сообщества
есть интенция, то тогда эту интерсубъективность нельзя будет назвать
трансцендентальной. У нее нет живого тела. Иными словами, нужно
признать, что не Я конституирует Мы, а Мы конституирует Я. И иногда,
это Мы, как Тарас Бульба, лишает жизни Я, т. е. сына. А это значит, не
объективный мир является моей имманентной трансцендентностью, а Я
являюсь субъективностью спонтанной самости. А это значит, что у фе¬
номенологии Гуссерля нет никакой перспективы. Она вводит нас в за¬
блуждение.
Любое Мы может подвергнуть Я остракизму. Любое сообщество
может изгнать, исключить из своего состава какого-либо человека. Тог¬
да появляется «он». И этот «он» перестает восприниматься как «ты».
Он становится другим. В «не-мы» других конституируются «они». Воз¬
никает нетрансцендентальное отношение между «они» и «мы». Другой
1 Там же. С. 211.
Складки
123
ведет не к объективному миру. Не к интерсубъективности, а к субъек¬
тивности. К Я, которое конституируется как отпадение от Мы.
23
Проанализируем апперцепцию по аналогии. Во-первых, для Гуссер¬
ля другой — это первый шаг к объективности. Без аналогии этот шаг
нельзя сделать. И поэтому его нужно трансцендентально прояснить.
Если бы это был шаг к субъективности, то его нужно было бы прояснять
в терминах самовоздействия соборного сознания. А поскольку он по¬
нимается Гуссерлем как шаг к интерсубъективности, постольку он про¬
ясняется в терминах солипсистского сознания. Направленность на дру¬
гого должна быть опосредована, ибо другой не дан непосредственно.
Непосредственно дано Я, которое я не мыслю, а усматриваю. Другого я
мыслю. Опосредует другого мой мир. Мир первого порядка. Он стано¬
вится базисом представления о со-присутствии того, что отсутствует.
Приведение в виртуальное присутствие отсутствующего Гуссерль назы¬
вает аппрезентацией.
Изначально каждый воспринимает свое тело. И вот в этом воспри¬
ятии появляется еще одно тело. И ты переносишь смысл своего тела на
новое тело. По аналогии. Тело ты видишь, а Я ты не видишь. И ты пола¬
гаешь, что там, где такое тело, как у тебя, должно быть и такое же Я, как
у тебя.
Теория аппрезентации, со-присутствия в настоящий момент, каза¬
лось бы, помогает понять, почему я приклеиваю к другому телу душу и
личное Я. Мое Я конституирует другое Я посредством аппрезентативной
апперцепции, которая, помимо прочего, должна еще зафиксировать не¬
кое поведение.
Но аппрезентативная апперцепция может иметь и другое истолко¬
вание. Достаточно допустить, что первопорядковым миром будет не мое
Я, а интерсубъективное мы. И тогда субъективность Я может быть по¬
нята как приведение тела в со-присутствие Мы. При этом происходит
как бы одомашнивание, приручение тела.
24
«У двоение у т. е. конфигурирование в виде пары иу в дальнейшем, в
виде группЫу множествау есть универсальный феномен трансценден¬
тальной сферы...»1. В явлении эта пара может восприниматься в виде
двух отдельных предметов, а феноменологически они конституированы
как пара. Например, муж и жена. Дым и огонь.
Благодаря паре я понимаю другого. Любое восприятие может что-
либо воспринимать, если оно что-то презентирует. То есть какие-то
объекты всегда должны присутствовать в настоящее время. Аппрезен-
тация понимается Гуссерлем по такой схеме. Вот Я. У меня есть тело и
Там же. С. 219
Глава III
124
душа. Если я там вижу подобное тело, то и у этого тела, видимо, есть
душа. То есть никто не видит другое Я, другой души. Все видят тело. И на
основе увиденного в настоящий момент приводят в присутствие другое
Я. Неувиденное.
Но тело другого получает две взаимоисключающие характеристики.
Для меня оно «там ». Для него оно «здесь ». Почему мы говорим об одном
и том же теле, а не о разных телах? О со-восприятии одного и того же,
а не двух восприятиях двух разных тел? Анализируя это обстоятельство,
Гуссерль не принимает в расчет, что Я никогда не вижу своего лица, т. е.
я вижу другое тело за исключением себя. А другой видит меня, за ис¬
ключением себя. А это значит, никакого со-восприятия тела не проис¬
ходит в феноменологической установке. И механизм аппрезентации не
срабатывает. Он не совсем применим даже в восприятии дома, аппре-
зентирующего его тыльную сторону. Если два человека смотрят на один
дом, то видят они два разных дома. И нет никаких оснований для того,
чтобы можно было говорить об одном и том же доме. Ведь то, что ка¬
жется загадкой для монадического Я, совершенно просто для соборно¬
го Я, воспринимающего дом в со-восприятии, в одновременном разгля¬
дывании из разных положений. Соборное со-восприятие конституиру¬
ет восприятие Я, а не наоборот. Аппрезентация делает возможной
презентацию.
Другими словами, феноменологический анализ Гуссерля — это игра
в шахматы с самим собой. Феноменология заставляет Гуссерля играть
на двух площадках. И за себя. И за другого. И подавать. И принимать
подачу. Пятое размышление Гуссерля невыносимо грустное. Потому,
что нечеловеческое это дело конституировать объекты мира.
25
Презентативно-апперцептирующее восприятие является трансцен-
дирующим, ибо оно полагает в модусе самоприсутствия нечто большее,
чем то, что когда-либо становится в нем действительно присутствую¬
щим.1
Я не могу аппрезентировать присутствие своего тела, как и своего
Я. Я не могу без зеркала увидеть своей спины. А зеркало — это другой.
И если я разверну аппрезентацию на базе другого, то и мое тело будет
принадлежать другому. Феноменологию Гуссерля обессмысливает воп¬
рос: мое Я аппрезентирует другое Я или другое Я аппрезентирует меня?
Или «там тело» аппрезентирует свое Я в моей сфере? На этот вопрос
Гуссерль (?твечает путано. Он настаивает на том, что природа в этих
случаях одна и та же. И там, и здесь. И тело одно и то же. Но если оно
одно и то же, то почему тогда возможны «там» и «здесь»? Гуссерль не
анализирует возможный обман (и самообман) в процессе презентатив-
но-аппрезентивного восприятия. Между тем эта возможность сущест-
1 Там же. С. 236
Складки
125
вует благодаря отождествлению тела и живого тела. Живого тела и души.
Ведь если я вижу тело в модусе удвоения, то из этого факта еще не сле¬
дует, что я не вижу тело-автомат. Разве я могу приписать другому телу
ощущаемую мной теплоту? Нет, не могу. Она может быть воспринята
здесь и ее нельзя приписать восприятию там. Из того факта, что мне
тепло, не следует теплота по аналогии. Если я вижу тело, то это не зна¬
чит, что я вижу живое тело. Гуссерль постулирует то, что нужно дока¬
зать. Мы видим другого, потому что есть аппрезентация. Но как можно
увидеть живого другого, если ты не можешь видеть живое. Вот дверь. Я
ее вижу не потому, что она есть, а потому, что я ее воображаю.
Благодаря воображению, которое Гуссерль называет аппрезентаци-
ей, мы можем говорить о восприятии ее тыльной стороны. Но душа дру¬
гого — это не тыльная сторона другого, а потемки. Гуссерль же наста¬
ивает на том, что восприятие объективного мира возможно благодаря
аппрезентации. Более того, Гуссерль настаивает на том, что другой смот¬
рит на тот же самый мир, что и я, хотя восприятие мира осуществляется
внутри сферы моих собственных характеристик.
Гуссерль говорит: «... мое эго может, таким образом, конструиро¬
вать в себе другое эгоу и притом именно как сущее»1. Но как тогда это
эго может видеть «там-другого»? Оно может видеть свой феномен дру¬
гого. И только.
С феноменологией никак не связан и тезис Гуссерля о том, что дру¬
гой человек есть в конститутивном отношении сам по себе первый чело¬
век1 2. Ведь если другой — первый человек, то почему же первичный мир
презентации развертывается на базе вторичного Я? Чтобы ответить на
этот вопрос, Гуссерлю следовало бы ввести представление о нулевом
человеке. Другой — это посредник между Мы и Я. Гуссерль полагает,
что Я предшествует другому. Лакан полагает, что другой предшествует
Я. На самом деле всем нам предшествует Мы.
26
Гуссерль пишет: «... человек по отношению к зверю представляет
собой нормальный случай, подобно тому как я сам в конститутивном
отношении являюсь изначальной нормой для всех людей; звери по су¬
ществу конституируются для меня как аномальные модификации мо¬
его человеческого состояния... »3. Я — норма для всех людей. Человек —
норма для животных, животное — для растений. Конституция объек¬
тивного мира заставляет Гуссерля идти по следам Платона в
предположении, что животное конституируется на материале человека,
являясь его модификацией. Иными словами, Гуссерль в терминах транс¬
цендентальной феноменологии не может отличить человека от живот¬
ного. Играя такими словами, как «живое тело », Гуссерль вдруг вспо¬
1 Там же. С. 239.
2 Там же. С. 240.
3 Там же. С. 242.
Глава III
126
минает о животных, о том, что и у них есть живое тело. И аппрезентация
механически наделяет душой всякое живое тело, в том числе и тело жи¬
вотных. Либо же она должна как-то отбраковать одни тела от других,
заранее зная, что можно наделять субъективностью, а что нельзя. Если
Я — норма, то как я могу приписать разумный смысл сумасшедшему, а
свой видимый мир слепому? Гуссерль отделывается от этого затрудне¬
ния, полагая, что зверь - модификация человека, дурак — умного, сле¬
пой — зрячего.
Цитата из Гуссерля: человек - это «взаимное бытие друг для друга»1.
В этой нефеноменологической фразе Гуссерля содержится фактическое
объяснение, например, детской жестокости, разрушающей представле¬
ние о Я-норме. Стоит тебе иметь вывих тазобедренного сустава, чтобы
понять, что ты не норма. Ты не такой, как они. И за это нужно платить.
Психическим заболеванием. Интересны описания Гуссерлем пережива¬
ния боли. Боль, как музыка, отзвучала, а ты ее помнишь как нечто тож¬
дественное во времени. Через презентацию в воспоминании.
27
Итак, истолковывая Гуссерля, мы приходим к следующим выводам.
1. Нельзя получить самоистолкованием трансцендентность. Гуссерль
обходит эту невозможность расширением смысла трансцендентного,
постулируя оксюморон «имманентную трансцендентность». Эта транс¬
цендентность есть не что иное, как самость.
Если бы была возможна имманентная трансцендентность, то была
бы возможна и конституция традиций, повседневности. То есть всякое
«я» самоистолкованиями себя конституировало бы мир повседневности.
Разные миры повседневности могут быть предельно различны. А пре¬
дельная различность бытовой повседневности указывает на сосущест¬
вование не соприкасающихся друг с другом миров. А это значит, нет
единого мира, одной природы, и нет того, кто мог бы их помыслить. Ибо
помысливший будет раздваиваться. Гуссерль полагает, что интерсубъ¬
ективности «как мыслимые мной, они вступают в необходимое сооб¬
щество со мной как конституирующей их пра-монад ой...»1. Гуссерль
как пра-монада конституции не имеет оснований для своего существо¬
вания.
2. Повседневность наивна. Она всегда погружает нас в заранее дан¬
ный мир. Поэтому Гуссерль дает отвод повседневности. И напрасно.
Никто не {начинает с нуля. Всегда уже есть традиция. Никакое «я» са-
моистолкрванием не может конституировать традицию. Мышление в
нулевой позиции - привилегия немногих.
3. Гуссерль постулирует индивидуальное сознание, и затем хочет
показать, как появилось «ты», интерсубъективная реальность. Не су¬
ществует никакого индивидуального сознания до коллективного созна- 1 21 Там же. С. 248.
2 Там же. С. 265.
Складки
127
ния. Не «Я» конституирует «Мы», а «Мы» конституирует «Я». В первом
случае язык должен сделать индивидуальное коллективным. Во втором
случае язык не нужен. Нужны страдание и самоограничение. Способ,
которым человек причиняет себе ущерб, является сознанием.
28
Не солипсист ли я? С этого восклицания начинает Гуссерль пятое
размышление. Ведь если он солипсист, то все, что он говорит, имеет
отношение только к нему. И совсем необязательно для других. Не об¬
щезначимо. А Гуссерлю хочется, чтобы трансцендентальная феномено¬
логия была научной философией, чтобы теория интенционального стро¬
ения сознания была не разделом психологии, а имела объективное зна¬
чение. Иными словами, если Гуссерль солипсист, то он не сделал никаких
открытий.
Гуссерль особенно гордится изобретением трансцендентальной ре¬
дукции, феноменологического эпохе. Эта редукция выводит «я» за пре¬
делы содержаний мира. В результате получается трансцендентальное
ego. И это ego пусто. Я должно быть нулевым, чтобы быть точкой отсче¬
та. Но Гуссерль на это обстоятельство не обращает никакого внимания.
Его «Я» оказывается содержательным, привязанным ко времени. Я уч¬
реждает свои единства во времени. Но это появление времени в Я не
мотивировано Гуссерлем. Не ясно, за счет каких ресурсов я конституи¬
рует единство феноменов, протекающих во времени. Нулевое Я полага¬
ет себя как Я вне времени. Оно не переживает.
Вводя время в состав нулевого Я, Гуссерль должен признать неот¬
делимость от Я того, что оно учреждает. Феномен и означает, что он мой
и больше ничей. При таком переходе и другое Я будет просто моим пе¬
реживанием, некоторым представлением, находящимся во мне. А если
оно находится во мне, то оно должно быть мной конституировано.
Чтобы не быть солипсистом, Гуссерлю нужно найти путь от имма¬
нентности Я к трансцендентности другого, а также признать, что за ми¬
ром и природой, конституированными в эго, находится мир сущий сам
по себе. И существует он не в Я, а в пространстве. Но за это признание
нужно заплатить отказом от феноменологии, в рамках которой изна¬
чально не признается существование других Я. К изначальному опыту
доходит только трансцендентальное Я. Другие растворяются в нем. Гус¬
серль не желает отказываться от феноменологии и*предлагает феноме¬
нологическое истолкование проблемы.
Суть этого истолкования состоит в том, чтобы представить «другое
я» как смысл, который формируется мной во мне. В естественной уста¬
новке другой дан мне как тело, управляемое при помощи психики. Из
опыта также ясно, что другой познает мир и познает меня как познаю¬
щего мир. Это все Гуссерль называет ноэматическим истолкованием.
В нем есть чужой для меня интерсубъективный мир. Этот мир сущест¬
вует для каждого. Но каждый обладает своим опытом, своим миром.
Глава III
128
Откуда он берется? Как его объяснить? Феноменологически. Всякий
смысл есть внутри моей жизни, и происходит из моих конститутивных
актов. Но почему-то всегда находится некий эквивалент в параллельном
трансцендентальному опыту мире.
Смысл этого стакана — это мой смысл. И существует он не потому,
что есть стакан, а потому, что есть я. И я учредил этот смысл. Например,
Захар Павлович из «Чевенгура» видит в стакане «орудие справедливого
распределения ». Чтобы проанализировать этот смысл, не нужен стакан,
а нужен Захар Павлович. Но если я редуцирую других, редуцирую тело
Захара Павловича, то я ничего не пойму в учрежденном им смысле, а
также в том, почему он оказался приклеенным к стакану.
Более того, если следовать Гуссерлю и обращать внимание на вос¬
приятие, а не на стакан, то я должен буду отличить восприятие стакана
наяву от его восприятия во сне, восприятие стакана от восприятия лож¬
ки. Ибо этих прямых восприятий великое множество. Но для того чтобы
их различать, их нужно как бы заранее нацеливать на предметы. В одном
восприятии должна быть какая-то «стаканность», в другом «ложеч-
ность». И это Гуссерль и назовет интенцией. То есть я различаю воспри¬
ятия ноэматически, по материалу. А еще я могу различать ноэтически,
по субъекту. Этот стакан я видел утром, когда был трезв. А потом я
увидел его, когда надо было похмелиться. А еще есть воспоминания,
суждения и прочее. И все это нужно иерархизировать, связать в неко¬
торые целостности. Вообще у Гуссерля нет ни одного подробного фе¬
номенологического анализа восприятия.
В пятом размышлении от Гуссерля можно было ожидать феномено¬
логический анализ смысла «другое я». В ходе анализа зрители должны
были увидеть чистоту конструирования этого феномена и одновремен¬
но увидеть обязательный для всех образец такого анализа. Между тем
ничего этого увидеть нельзя.
Гуссерль признает, что есть проблема существования «других» для
меня. И что нужно создать трансцендентальную теорию опыта «друго¬
го». Если продлить эту мысль Гуссерля, то окажется, что он либо не
может совершить феноменологический анализ, либо не хочет этого де¬
лать. А хочет создавать теорию. Но и в этом случае Гуссерль вступает
на путь дурной бесконечности. Если нужна теория вчувствования в дру¬
гого, то почему не нужна теория опыта восприятия стакана? Иными
словами, Гуссерль, создавая теорию опыта «другого», хочет создать
трансцендентальную теорию объективного мира. В этом его желании
скрыты две посылки. Во-первых, не проводя никакого феноменологи¬
ческого анализа, не имея материала, он желает создавать теорию неиз¬
вестно чего. Во-вторых, устанавливая учреждение смысла «объективный
мир», я не конституирую смысл вот этого стакана. Это как бы два разных
смысла. А Гуссерль делает вид, что под объективным миром имеется в
виду все, что относится к природе и культуре. То есть и стакан Захара
Павловича, и «нога лошади» из жизни Александра Дванова.
Складки
129
Никаких «бытийных смыслов» не существует. Есть только мои смыс¬
лы. Таковы правила феноменологии, придуманные Гуссерлем. И Гус¬
серль вынужден сам нарушать эти правила, создавая трансценденталь¬
ную теорию другого, равно как и теорию объективного мира. Он пред¬
лагает нам какой-то бытийный смысл, хотя, повторяю, смыслы могут
быть только с притяжательными местоимениями.
Попросту говоря, Гуссерль предлагает нам не феноменологическое,
а естественное толкование объективного мира как мира для всех и для
каждого. Он пишет: «...к бытийному смыслу мира ...принадлежит ...
существование для каждого...»1.
Гуссерль без всяких на то оснований подменяет слово «трансцен¬
дентальный» словом «универсальный». Получается так, что если мы
найдем трансцендентальный смысл, то найдем и универсальный смысл,
т. е. один смысл на всех. Но предположение о существовании такого
смысла разрушает всю конструкцию трансцендентальной феноменоло¬
гии. Ибо трансцендентальный смысл — это пустой смысл. Нулевой.
В крайнем случае это пустой поток сознания. Пустая временность. Это
вот когда ты думаешь, думая ни о чем. Далее. Смысл всегда мой. Гуссерль
же начинает использовать «смысл» не феноменологически, а по-чело¬
вечески. Как коммунальную кухню. Как конкретно всеобщее. Редукция
к «я сам» абстрагирует от всех этих универсальных смыслов. Но Гус¬
серль, вопреки всем правилам феноменологии, объявил, что у этой ре¬
дукции есть еще какой-то необычный смысл. В чем же эта необычность?
Обычно, т. е. в естественной установке, другие противопоставлены
мне. Но я среди них. Нас много. И всем нам дан мир. А если я абстраги¬
руюсь от них, то остаюсь один. И это одиночество ничего не меняет в
естестве мира. Я в нем. И он мне дан, «даже если бы какая-нибудь все¬
ленская чума оставила бы меня в полном одиночестве»1. В трансцен¬
дентальной же установке мое я «не есть всего лишь редуцированное к
коррелятивному феномену обычное человеческое Я в рамках совокупно¬
го феномена мира»1. Здесь мое я является сущностной структурой уни¬
версальной конституции, в которой ego живет как то, что конституиру¬
ет некий обыкновенный мир. Здесь «Я» одиноко. Но здесь оно учреж¬
дает объективный мир. И далее Гуссерль делает следующий ход. Во мне,
как в монаде, есть все интенциональности. В том числе и такая, как на¬
правленность на другое. Другого нет, ибо нет мира, в котором бы он был.
А вот когда я конституирую мир, то я учреждаю в нем и другого. И теперь
он противостоит мне.
То есть другой существует дважды. Один раз как интенция, а другой
раз как факт. И точно так же можно утверждать и обратное. Гуссерль
знает об этой интенции только по факту существования другого. Но
даже если принять тезис Гуссерля, то ему надо объяснить, как в моем 1 2 31 Там же. С. 187.
2 Там же. С. 189.
3 Там же.
9 1920
Глава III
130
смысле появляется не мое. Ибо даже «не мое» — это мое в силу моей
монадности.
Так вот, особенность направленности к другому состоит в том, что
она выходит за пределы монады и учреждает свой бытийный смысл. Все
интенции как интенции. Они никуда не выходят. А эта интенция выходит
за мое самостное образование и образует другого, который уже отра¬
жается в моем Я. Тем самым Гуссерль делает совершенно непозволи¬
тельные вещи. Он обманывает, говоря, что я, конечно, вас обманываю.
И ему не верят.
В чем состоит обман? Во-первых, если интенция другого выходит за
пределы, то почему интенция Бога не выходит? Выделение особенности
интенциональной направленности на другого произвольно и поэтому не
может приниматься в расчет. Во-вторых, Гуссерль с легкостью подпи¬
рает теорию конституирования теорией отражения. Ведь если нечто
вышло за пределы моей самости, то оно не конституировано. А если оно
не конституировано, то оно значит, оно не феноменально, а бытийствен-
но. А бытийное отражается в моем Я.
Уж лучше бы Гуссерлю сразу отказаться от теории конституирова¬
ния и принять теорию отражения, а он вид делает. Мучительно размыш¬
ляет. Вот пример этих мук. Я создает то, что не является его созданием.
Подобно тому, как Бог создал камень, который сам поднять не может.
Вообще Гуссерль описывает Я как некоего маленького бога. «Однако
это второе ego не просто наличествует, данное для нас, как оно
само, — оно конституировано как alter ego, причем упомянутым в этом
выражении ego являюсь Я сам в своей собственной сфере»1. То есть оно
и наличествует и конституировано. Конститутивно «другой» указывает
на меня. Бытийно он есть мое отражение, и в то же время не есть мое
отражение. Это мой аналог. Но необычный аналог.
Трансцендентальная методология Гуссерля состоит в том, что он
сначала «конституирует», а потом устраняет следы конституции и го¬
ворит: смотрите — это бытие как оно есть. А это другой как он есть.
Только устранение следов он называет не феноменологическим эпохе,
а новым эпохе.
Во-первых, Я устанавливает само себе границы. Границы моего. За¬
мечу, что установление границ указывает на границы феноменологии.
Итак, мое — это «не другое». Но «не другое», как известно русскому
человеку, необязательно является твоим. Оно может быть нашим или
ничьим. Так что герменевтические уловки Гуссерля не срабатывают.
В конституйрующем сознании может быть только мое. Если мы хотим
получить трансцендентальное Я, то нам нужно стереть следы другого.
А для этого нужно человека лишить специфического смысла. Предпо¬
ложить, что у него нет папы и мамы, нет книг. Он не пьет чай. Его не
волнует двуличное поведение Европы на Балканах.
1 Там же. С. 190.
Складки
131
После этого нам будет известен всего один слой мира. Мы только
его будем созерцать: «... он является сущностно фундирующим слоем»1.
В естественной установке у нас есть и этот слой, и опыт другого. И смысл
«объективного мира ». В трансцендентальной установке у нас есть толь¬
ко этот слой. Это мой мир. Моя природа. Или природа — в моей сфере.
То, что она значит для меня. И нет той природы, которая что-то значит
для естествоиспытателя.
В моей природе или, как говорит Гуссерль, просто в природе, не мо¬
жет быть никаких тел. Ни других, ни моих. Ибо тело пространственно.
Оставляя его, мы нарушаем правила феноменологического эпохе и по¬
лучаем не трансцендентальное Я, а некую часть содержаний мира. Что
недопустимо. Допустив тело, мы допускаем и чувства, т. е. внешний опыт,
опыт познания внешнего мира, а не трансцендентальный опыт.
Описание игры кинестезиса не имеет никакого отношения к транс¬
цендентальной феноменологии и являет собой простой отрывок из учеб¬
ников по психологии. Устранением следов от другого нельзя получить
свое живое тело. Гуссерль, видимо, все перепутал. Устраняя объективный
мир, ты устраняешь и другое, и свое живое тело.
Гуссерль показывает, как трансцендентальное Я учреждает свой мир
и в этом мире оно учреждает свое обыкновенное Я. И затем свойства
трансцендентального Я он объявляет психикой обыкновенного Я. Все
это Гуссерль проделывает под названием «погружающая в мир аппер¬
цепция».
Гуссерль, как Дванов, все время удваивает. Например, есть Я и есть
мир. Затем Я редуцируется и мир редуцируется. И Гуссерль спрашивает:
а как они теперь соотносятся, после редукции? И как соотносятся Я и
редуцированное Я? Ответ] прост. Если у Я было свое собственное, недру-
гое, то оно есть и в трансцендентальном Я. И еще оно есть в редуциро¬
ванном к сфере собственного феномене мира.
Гуссерль вводит представление о разделении поля трансценденталь¬
ного эго на его собственную сферу и на сферу другого. Полагая, что
всякий модус осознания «другого» относится к первой сфере.
Посредством собственного трансцендентальное эго конституирует
объективный мир. И прежде всего другое в модусе alter ego.
В «Переписке из углов» Гершензон страдал от того, что его окру¬
жают понятия, которые он не вводил, к происхождению которых он не
имел никакого отношения. Болезнью Гершензона переболели и фран¬
цузы, например, Деррида. Эта болезнь означает, что мы пользуемся по¬
нятиями без смысла, без сознания. Обычно так пользуются словами,
языком. Любой знак — это остановка сознания, пауза, перерыв. Для
работы со знаками сознания не нужно. И поэтому вполне оправдан при¬
зыв Гуссерля о возвращении к истоку, к смыслу. «Бросьте язык, — го¬
ворил Гуссерль, — ступайте к сознанию».
1 Там же. С. 193.
9*
Глава III
132
Возвращение к полноте смысла дает пищу ля интуиции, для непо¬
средственного усмотрения. Но возвращение к смыслу не возвращает сам
смысл. Сколько бы я не реактивировал сознание Канта, Кант к нам не
вернется. И я буду думать не так, как Кант. Возвращение любого смыс¬
ла будет неполным. На этой неполноте строит свои рассуждения Дерри¬
да. Конечно, полнота хороша, она дает тебе чувство непосредственности.
Благодаря ей ты не мыслишь, а усматриваешь смыслы. Неполнота смыс¬
ла дает шанс состояться тебе, твоему мышлению. Неполнота никогда не
пустует, заполняя себя языком. То есть между мной и, например, Кантом
нет никакой прозрачной пустоты, проницаемой для непосредственного
устремления смыслов. Между нами уже разместился язык, и никакими
ухищрениями его не вытравить, от него не избавиться. Язык примеши¬
вает к первоначальным смыслам другие смыслы и их нельзя отделить
друг от друга.
Но существуют ли вообще первоначальные смыслы? Есть ли нам
куда возвращаться? Деррида считает, что их нет и никакой реактива¬
ции сознания быть не может. Ведь если они есть, то нет языка. А если
есть язык, то нам нужно смириться с тем, что нет никаких первона¬
чальных смыслов. А есть их дрейф. Попросту говоря, нет никакой
кантовской философии. Есть лишь ее интерпретация. Более того, мож¬
но поставить вопрос о том, а усматривал ли Кант свои смыслы непо¬
средственно? Или между ним и его смыслами уже стоял язык, и Кант
видел их не непосредственно, а опосредованно. Но тогда, что же мы
реактивируем?
Итак, французская философия вновь заставила нас вернуться к про¬
стому вопросу: а даны ли мы сами себе непосредственно? Или же мы
всегда опосредованны знаком, языком. Если мы согласимся с Деррида
и позволим знаку отделить себя от самого же себя, то тогда нужно от¬
казаться от того, что только усматривается. Например, отказаться от
«Я ». И оставить то, что мыслится, например, другого. Но вот что делать
со знаком? Его мыслить нельзя, ибо для мышления потребуются знаки
знаков. А это дурная бесконечность. Значит, знаки нужно будет усмат¬
ривать, иначе ничего не будет. На мой взгляд, Деррида отличается от
Гуссерля тем, что он усматривание оставляет за знаком, тогда как Гус¬
серль адресует его к «Я».
§ 2. Эпистемологическая складка антропологии
1. Фуко. Человек-безумец
Антропологический круг
Что такое антропологический круг? Фуко пишет так: «Трехчлен¬
ная — человеку его безумие и его истина - антропологическая струк¬
тура вытеснила бинарную структуру неразумия классической эпохи
(истина и заблуждение, мир и фантазму бытие и небытие, день и
Складки
133
ночь) »1. Все, что Платон в человеке-кукле называл манией, неистовством,
Фуко называет безумием, и это безумие уже нуждается в оправдании.
Все, что считалось неистовой природой человека, оказалось бесконеч¬
ностью неприроды. То, что Платон называл пещерой, Фуко вслед за
Гегелем называет ночью человека. Ночь человека — это его грезы: «Гре¬
зы, — говорит Фуко, цитируя Трокслера, — есть самая раскрывшаяся
сущность человека, самый частный, самый личный процесс его жизни»1.
Греза — предельный момент, в который абсолютная субъективность
оказывается абсолютной объективностью.
Цитата из антропологического круга «Истории безумия» М. Фуко:
«Разве само понятие безумия, если довести его до логического кон¬
ца, не включало в себя непременной идеи свободы? Разве не была она
неотделима от той великой структуры, которая развивалась от из¬
лишеств страсти, свечной сообщницы самой себя, к строгой логике
бреда?...В сущности, безумие было возможно лишь в той мере, в какой
непосредственно вокруг него существовало пространство свободы,
зазор, позволявший субъекту самому говорить на языке собственного
безумия и констатировать себя как безумца »1 2 3.
Безумие включает в себя идею свободы в той мере, в которой она
сама определяет себя. Все, что существует самовоздействием, свободно,
т. е. не нуждается в среде, во внешних детерминациях. Ну, а разве ум не
включает в себя идею свободы? Конечно, включает, но только в той мере,
в которой он сам растворен в безумии. Ведь ум — это согласование ви¬
дений, грез и реальности. А поскольку есть согласование, постольку оно
определяет его, а не он сам создает себя. Но что бы было то, что подле¬
жит согласованию, нужно безумие или, что то же самое, нужна сила
воображения. А это значит, что воображение безумно по самому свое¬
му существу.
То есть безумие определяет ум. Ум идет по следам безумия. И сво¬
боду нужно искать в стихии безумства. Почему же Фуко с таким маниа¬
кальным упорством настаивает на связи свободы и безумия? Не являет¬
ся ли ошибочными сами наши представления о свободе и безумии? С раз¬
рушением внешнего причинения открывается путь к свободе, т. е. к
самости, но проходит он через хаос непроизвольности с остановкой на
произволе.
Следующая мысль Фуко кажется мне более загадочной, чем первая.
Фуко намекает на существование какой-то великой структуры, которая
развивалась от излишеств страсти к логике бреда. Что же это за струк¬
тура? И почему она начинает себя в страсти и заканчивает логикой бре¬
да? Это структура — самость, сила которой в страсти, в эмоции. Если
безумие предшествует уму, то потому, что появилось нечто невиданное
1 Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб.: Университетская книга.
1997. С. 509.
2 Там же. С. 505.
3 Там же. С. 500.
Глава III
134
в мире. Это невиданное есть грезящая страсть, самоиндукция, т. е. воз¬
действие себя на самого себя. И хотя Фуко никак не называет то, что
существует несовпадением с собой и действием на себя, мы все-таки
знаем ее имя. Ее зовут самостью без Я. Это она производит хаос страс¬
ти и одновременно свободу, рожденную произволом случайности. От
воображающей страсти к языку бреда — такого движение безумия, ко¬
торое не является следствием расстройства функций мозга, а является
платой за то, чтобы быть самому.
Поэтому безумец — не предмет медицины, и суть человека не в при¬
митивности желаний и не в телесной детерминированности. Безумие, —
говорит Фуко, — это истина человека, вид детства. Это наше рождение,
а не объективное измерение в организме. Безумец Фуко напоминает ау-
тиста и таковым является по способу своего существования. Ибо безу¬
мие — это мания, бред, на языке которого говорит не тело, а бог.
Фуко пишет: «На протяжении своего классического периода транс¬
цендентность бреда всегда удерживала безумие... как бы внутри чело¬
века , не позволяла ему распространиться вовне, обеспечивала его про¬
чное и совершенно особое отношение с самим собой. Теперь все безумие
и все в безумии должно получит свой внешний эквивалент; или, точнее,
сама сущность безумия будет состоять в объективизации человека, в
изгнании его за пределы самого себя и в конечном счете — в низведении
его до уровня чистой природы, до уровня предмета»1.
Иными словами, безумие борется с безумием, ибо безумие — это
грезящая самость человека. Безумие не свойство субъекта, не его качес¬
тво. Оно существует вокруг самости, как ее атмосфера. Говорить на
языке собственного безумия — это значит галлюцинировать, терзать
себя иллюзиями, редуцируя себя к самости без я. Свобода состоит в этом
терзании, в этом бреде, а не в социальных объективация свободы. А это,
в свою очередь, означает, что безумие, равно как и самость без я, нужно
описывать не в терминах субъект-объектной дуальности, а в терминах
«трехчленной антропологической структуры», а именно: человек, без¬
умие, истина. Хотя последний член попадает сюда, на мой взгляд, по
ошибке, ибо на нем лежит печать заблуждения, т. е. в антропологическом
круге истина должна пониматься не как оппонент заблуждения, а как
производное безумие, как иллюзия, которая отличается от других грез
тем, что она окажется практически оправданной.
«В смерти человека, — говорит Фуко, — исполняется смерть Бога»2у
ибо умирает тот, кто нуждается в боге как своем первичном самоогра¬
ничении. ;
Смерть человека — это смерть человека мыслящего, но не разумно¬
го. Разумный человек может жить и без бога. И поэтому он может жить
вечно. Мыслящий человек — это человек, который испытывает внутрен¬
нюю необходимость бога как способа самоограничения своей самости.
Там же. С. 511.
Фуко М. Воля к истине. М., 1996. С. 421.
Складки
135
Ибо если есть бог, то что-то уже нельзя. То есть либо ничего нельзя и
тогда нет бога, либо не все можно и тогда есть бог.
А всем нам требуется одно: «работа нас самих над нами самими в
качестве свободных существ »*.
В этом фрагменте текста Фуко ясно сказано, что я — это не самость.
Что самость без я свободна, ибо свобода сопряжена с произволом, слу¬
чайностью. Фуко предлагает нам лелеять не свое я и озаботиться не ми¬
ром реального, а своей самостью, полагая, что мир — это нечто произ¬
водное от работы самости. И это знает всякий философ, ибо «философ —
это тоту кто на опыте узнает, как и до какого предела возможно
мыслить иначе, а не заниматься легитимизацией того, что мы уже
знаем»1 2 3 4.
Антропологический сон
«Не я один пишу затем, чтобы не открывать собственное лицо. Не
спрашивайте меня, что я естьу и не просите остаться все тем же:
оставьте это нашим чиновникам и нашей полиции — пусть себе они
проверяют, в порядке ли наши документы. Но пусть они не трогают
насу когда мы пишем»1.
«Речь идет о тому чтобы искоренить любой трансцендентальный
нарциссизм»*.
«Антропологизация » в наши дни — это самая большая внутренняя
опасность для знания »5.
1
Я привожу эти цитаты для того, чтобы никто не спрашивал о причи¬
нах отстраненного письма Фуко. О том, почему он ни разу не раскрыл
свой собственный опыт встречи с другим? Почему он всегда выдвигал на
первый план обоснованный опыт культуры, аргументы, архив, свидете¬
лей, а не очевидное? Фуко — археолог культуры. Читать его тексты — это
все равно, что ночью сидеть у костра и смотреть на огонь. Заворажива¬
ет. Фуко не интересует, как человек есть. Его не интересует, как он мыс¬
лится. Его интересует, как он проговаривается.
2
Приведенные выше слова Фуко являются смысловыми окнами в мир
его мышления. «Пишу, чтобы не открывать лицо ». Ибо «открыть лицо » —
значит допустить интуицию очевидного, усмотреть свое «Я>>. Фуко мыс¬
лит, а не усматривает. Как понять такое письмо, которое неизвестно кто
пишет? Как что-то безликое? Как то, что неважно кем написано? Вот ты
1 Фуко М. Интеллектуалы и власть. М., 2002. С. 354.
2 Фуко М. Использование удовольствий. Т. 3. М., 2004. С. 14-15.
3 Фуко М. Археология знания. Киев, 1996. С. 20.
4 Там же. С. 199.
5 Там же. С. 443.
Глава III
проснулся, у тебя хорошее настроение, и ты за чаем хочешь узнать, что
там газеты пишут. Тебе неважно поименованное слово. Есть такой спо¬
соб письма вообще, при котором сцепления слов определяются не тем,
что дословно, а тем, что идет за словом. Возникает письмо как некое
«слово за словом».
Так вот, нельзя узнать однажды утром, что там пишут философы.
Потому что у них поименованные слова. Например, «идея» — это Пла¬
тон. А «сверхчеловек» — это Ницше. А Фуко отказывается от именова¬
ния и, соответственно, от словесного оформления своего опыта. От
движения «слово в слово». С Фуко философы начинают двигаться в ре¬
жиме «слово за слово». Это движение иногда называют постмодернист¬
ским. Если ты пишешь, чтобы не открывать лицо, то тебе нельзя преры¬
вать свое письмо. Тебе нужно будет развернуть его в бесконечность.
Тебе нужно строчить без перерыва. Болтать без умолку. Потому что,
если ты остановишься, тебе нужно будет взглянуть на себя. А вдруг ты
не узнаешь себя? Поэтому лучше не рисковать, а удваивать себя в склад¬
ках письма. Фуко пишет кругообразные письма. Как будто он кружит,
как птица, которая где-то хочет сесть. Но никак не сядет. Скрытое мож¬
но приравнять к несуществующему. В мире сокрытия «человек исчезнет,
как исчезает лицоу начертанное на прибрежном песке»1. Фуко скрыва¬
ется, как будто он объявлен в розыск.
3
А это значит, что он безымянным письмом создает экран сознания,
который служит точкой поворота не к тому, что он есть. Не к нему са¬
мому, а к тому, чем он уже не является. А поэтому он не может сказать,
что вернувшееся к нему Я есть его Я. Это как бы серийное Я. А его легко
спутать. Фуко разрушает плодотворность антропологической тавтоло¬
гии. Потому что для него ни одно Я не является уникальным. Никто не
сможет вернуться к самому себе из трансцендентальной точки поворо¬
та. А если этот поворот когда-то и был, тб у трансцендентального Я.
У того Я, которое не знает притяжательных местоимений, и поэтому
существует только в языке. Нелюбимый Фуко трансцендентальный нар¬
циссизм зародился в сознании чиновника, ибо для него лицо на доку¬
менте и живое лицо идентичны. Для него Я возможно только как Я,
удостоверенное трансцендентальным удвоением. Фуко отказался от
теории трансцендентального удвоения Гуссерля. Эта теория трансцен-
дирует,твое сознание к сознанию человека, а не философа.
4
Отказ от трансцендентального удвоения привел Фуко к мысли о
«смерти человека». Ибо никто не может узнать в человеке человека.
Хранителем его памяти стал язык. Поэтому-то на то место, откуда го¬
1 Там же. С. 487.
Складки
137
ворил Фуко, возвращается не Фуко, а язык. Фуко там уже не. Он говорит
уже в другом месте. Поэтому то, что теперь именует себя как Фуко,
является языковым событием, а не антропологическим. Фуко исчез. Язык
вернулся на то место, откуда он только что говорил. «Возвратом языка »
назвал Фуко свое исчезновение в «Словах и вещах». Возможно, Фуко
никогда и не было. Его придумали Делез с Бодрийяром.
5
Возвратом языка структурируется и пространство антропологии.
Если язык возвращается, то только потому, что исчезает человек. Распад
человека является условием того, чтобы язык был везде. И все было
языком. Например, науки о человеке. Они вытесняют человека. Ведь
если они его не вытеснят, то он одним фактом своего существования
вытеснит науки. Мыслить — значит полагать несуществующим. И пото¬
му нельзя некое сущее, называемое человеком, класть в основу мысли.
Ибо это основоположение проявит немыслимое, которое затопит мысль.
Из всего этого можно сделать вывод, что в современном мире много
языка, и мало человека. Мало сознания, и почти нет бытия.
6
Трансцендентальный идеализм закрепил победу сознания над бы¬
тием, языка над человеком. Когитальный аппарат Декарта еще каким-то
чудом поддерживал связь между мыслью и бытием. Затем эта связь обор¬
валась, и cogito стало обеспечивать синтез той части мысли, которая
коренится в сознании. Но что делать с той частью мысли, которая коре¬
нится в немыслимом? Как синтезировать немотствующую речь дослов¬
ного? Эти вопросы поставил Фуко, обеспокоенный судьбой мысли в
Европе. Ибо в ней что-то надломилось, обнаружилась какая-то внут¬
ренняя ущербность. Если бы когитальная машина была исправна и ра¬
ботала, то «Я мыслю» означало бы одновременно и «Я есть». То есть,
что я живу и работаю. И мне за это платят деньги. Но когито ничего
этого не означает. Более того, когда я зарабатываю на жизнь, я не мыс¬
лю. И не существую. Меня вообще нет. И если я появляюсь, то в гори¬
зонте существования дословного. Как нечто немыслимое.
7
Вопросом «что есть человек?» Кант совершиллереход от трансцен¬
дентальной рефлексии к антропологической. От знания и его обосно¬
вания к описанию необоснованного существования человека. А посколь¬
ку существование человека всегда необоснованно, его хотят обосновать.
Основание бытия человека отыскивается в самом человеке. Так возни¬
кает то, что Фуко называет «складкой». Здесь философия вновь погру¬
жается в «сон — только уже не Догматизма, а Антропологии »*.
Там же. С. 437.
Глава III
«Сном» Фуко называет удвоение человека, обоснование бытия че¬
ловека ссылкой на самого человека. Ответ на вопрос «что есть человек»
определяет и ответ на вопрос, что вообще может быть дано человеку в
опыте. То есть факты опираются на трансцендентальную функцию, а
трансцендентальная функция — на факты. То, что Кант повернул в сто¬
рону от трансцендентального идеализма, хорошо. Это Фуко привет¬
ствует. Но вот зачем он пошел к антропологизму — это непонятно. Это
плохо. Чем же плох антропологизм?
8
Вообще-то Фуко человеком не интересуется. Его занимает устрой¬
ство западной эпистемы. А она устроена так, что никаких антропологи¬
ческих конфигураций внутри себя не допускает. А социальные конфи¬
гурации таковы, что они редуцируют человека к языку, в котором стало
слишком много «человеческого». Он антропологизирован. И поэтому
на нем невозможно мыслить, проводить опыты с чистой мыслью. В том
числе невозможно помыслить и человека. Поэтому-то Фуко и говорит
о том, что европейская мысль впала в спячку. Иначе она бы не путала
кругообразное движение догматизма, в своем удвоении стремящегося
опереться на самого себя, с кругообразным движением собственно фи¬
лософской мысли, которое в своем удвоении также опирается на себя.
Удвоение, лишенное тавтологического самосознания, ставит Фуко перед
необходимостью признания кризиса философии. И в этом кризисе ви¬
новны «эпистемологические складки» Фуко. А он не признает своей вины
и обвиняет во всех грехах антропологию.
Правда, не ясно, как Фуко отличает догматическое кругообразное
движение от трансцендентального. А также не ясно, какие эпистемоло¬
гические познания могут стать полем возможного философствования,
а какие — не могут. Но ясно, что Фуко заставляет философию говорить
не своим голосом, а чужим. Трансцендентальные тавтологии Я пусты.
В них нет культурного содержания. В них нельзя поместить труд, жизнь,
язык. Трансцендентальный человек не может ни трудиться, ни говорить.
Его нельзя продать как рабочую силу. Его никто не купит.
Но на человеке труда ничего нельзя основать. Это ненадежное ос¬
нование. А на пустом Я можно построить прочное здание. В этом пунк¬
те Фуко солидарен с Кантом. И все же антропологизм Канта, как снот¬
ворное, усыпляет философию. И это Фуко не нравится.
Европейская философия спит. Для того чтобы ее разбудить, нужно
разрушить до основания весь кантовский антропологический четырех¬
угольник. «Разрушить до основания» — это цитата из «Интернациона¬
ла», который Фуко, видимо, напевал в молодости. Но почему бы ему не
разрушить до основания трансцендентальный идеализм Гуссерля? Фуко
как Герцен. Герцен боролся с царизмом и разбудил своим «Колоколом»
декабристов. Фуко стал бороться с антропологизмом и разбудил Деле-
за, который стал мыслить по-новому.
Складки
9
139
Мыслить по-новому — это значит обнаружить «коренную мысль о
бытии». Создать чистую онтологию и вновь поставить вопрос о грани¬
цах мышления. Следовательно, Фуко движется от феноменологии,
минуя антропологию, к онтологии и эпистемологии. Неуниверсаль-
ность кантовских вопросов Делез показывает следующим образом. Что
я могу знать? То, что я могу видеть и высказывать в данных условиях
света и языка. Что я могу делать? Это зависит от того, какая у меня
власть.
Фуко не интеллектуальный террорист. Он антиглобалист. Его угро¬
зы никого не пугают. Он просто валяет дурака, щекочет нервы буржу¬
азии, разрушая Канта и создавая чистую онтологию. Ведь всем же ясно,
что никакой коренной мысли о бытии не существует. Как не существует
и коренной мысли о человеке. Фуко запутывает полицейских и дразнит
публику, которая шла на спектакль под названием «чистый разум», а
пришла на представление под названием «чистая онтология». В конце
концов никто не сможет отличить онтологию от ума. Даже Фуко с Де-
лезом, ибо онтология только и возможна как онтология ума.
10
Искоренение антропологии Фуко почему-то приписывает Ницше.
При этом он интерпретирует Ницше тускло. Без вдохновения. Фуко по¬
лагает, что сверхчеловек означает смерть человека. Хотя сверхчеловек —
это, скорее, андрогин. А человек — это путь животного к сверхчелове¬
ческому.
11
Мысль Фуко проста: разговорами о самом себе человек занял все
пространство мысли. Везде он. Все о нем. Интеллектуалу не хватает воз¬
духа. Ему дышать трудно. Эпистемология Фуко и есть этот сквозняк для
человека. Современная философия способна начать мыслить только
после смерти человека. «В наши дни мыслить можно лишь в пустом
пространствеt где уже нет человека»1. А это значит, что Фуко полагает
мысль без мысли о том, то мыслит именно человек. Пустое пространство,
к сожалению, занято не человеком, как думал Фуко, а аппрезентациями
человека. Co-присутствием человека в момент его отсутствия. Иными
словами, разговорами о человеке, заботой о нем,-его нравами и прочими
аппрезентативными восприятиями. Вот этот антропологический шум и
мешает мыслить по-новому. Так вот, современная философия должна
решить: идет ли она по пути антропологизации знания. Или же она идет
по пути создания чистых онтологий. Если она идет по первому пути, то
тогда ей нужно знать, что есть человек. Ибо это знание всегда будет
определяющим по отношению к любому другому знанию. Если же она
Там же. С. 438.
Глава III
140
идет по второму пути, то знание можно создать вне зависимости от того,
что мы знаем о человеке. Оно будет строится в терминах чистой онто¬
логии. Безлично. Фуко избирает второй путь. И делает он это с такой
интенсивностью мысли, которая характерна для лучших образцов ми¬
ровой философии. «Всем тем, кто еще хочет говорить о человеке, о
его царстве и его освобождении, всем тему кто еще ставит вопросы о
том, что такое человек в своей сути, всем тему кто хочет исходить
из человека в своем поиске истины, иу наоборот, всем тему кто сводит
всякое познание к истинам самого человека, всем тему кто не согласен
на формализацию без антропологизацииу на мифологизацию без деми¬
стификации, кто вообще не желает мыслить без мысли о том, что
мыслит именно человек — всем этим несуразным и нелепым формам
рефлексии можно противопоставить лишь философический смех, т. е.
иначе говоря, безмолвный смех»1,
12
Фуко ищет пустоту, которая обозначает не нехватку, не отсутствие,
а возможность развернуть пространство мысли. Но вот вопрос: кто бу¬
дет мыслить? Фуко, как какой-нибудь гегельянец, полагает что мысль
помыслит себя. Что она константа, а люди — переменные. Случайный
материал, на котором она реализуется. Поэтому пустота понимается
Фуко эпистемологически, а не антропологически. Ему нужны пустые
мысли, а не пустой человек. Но мыслит-то все-таки человек. И нужно
спешить, пока у тебя нет никакого содержания. Пока ты один на один с
собой. Мыслит опустошенный человек, соединяя то, что разъединено.
И разъединяя то, что соединилось.
13
Философия перестала быть наукой и обнаружила свою связь с поэ¬
зией. Наука поменяла и позицию и диспозицию в современном мире.
Сознание обратилось к неозначенному, к дословному, к немотствующе¬
му. Фуко это заметил, хотя и сохранил приверженность к старым формам
рефлексии, движению от того, что есть, к возможности того, чтобы что-
то было.
Он разрушает трансцендентальные складки-удвоения. Их однород¬
ность. Например, мысль, помыслившая самое себя, — это складка. Уд¬
воение, в котором нет следов человека. Но здесь нет и существования,
нет того, чтф существует в горизонте безгласного, немыслимого. Этот
горизонт возникает, если мыслить приходится человеку. И либо ты идешь
к неозначенному существованию, оставляя раковину трансценденталь¬
ного удвоения. Либо остаешься в раковине. И довольствуешься знанием.
Обоснованием знания. Но дело философии не в обосновании знания, а
в том, чтобы дать голос безмолвному. Фуко пошел к неозначенному су-
1 Там же. С. 438.
Складки
141
ществованию, но продолжал работать с ним по-старому, как со знанием.
Ведь пока ты находишься в ситуации удвоения, ты можешь строить чис¬
тые онтологии. Когда ты попадаешь в необоснованный опыт существо¬
вания, тебе приходится бытие вообще редуцировать к человеческому
бытию. Антропологизация угрожает не знанию, а бытию. Оно стало
слишком человеческим. Поэтому Фуко спасает не того, кто тонет, а то,
что к нему было ближе.
14
Классическое мышление стремилось выявить объект мышления без
умолчания. Без недоговоренностей. Мысль мыслится без недоговорен¬
ностей, если объектом мысли является сама мысль. Но это-то и неинте¬
ресно. Хотелось бы узнать умалчиваемое. Ведь немота — это признак
бытия. А утрата бытия узнается по многословию. По беспокойству. По
действию. Когда слово перестает совпадать со словом, и ты узнаешь не
подлинное, не то, что есть как «слово в слово», а публичное, как то, что
ведет слово за слово, т. е. к болтовне.
Фуко подменил объект философии и заставил философию говорить
не своим голосом. Его слова перестали быть прозрачными. Они стали
очаровывать.
Философия Фуко непрозрачна, ибо она непозволительно содержа¬
тельна. Ей недостает пустоты. Даже «Слова и вещи» недостаточно тав¬
тологичны.
15
Пустые слова Фуко перестают представлять. Благодаря эпистемо¬
логической складке удвоения представление представляется самому
себе. И слова замыкаются на самих себе. За ними нет того, что бы они
представляли. И нет того, для кого бы они ставили представление. По¬
являются слова-знаки. Означающее, отсылающее не к означаемому, а к
другому означающему. То есть дорога как бы исчезает, зарастает. А до¬
рожные знаки остаются, перемигиваясь между собой.
В трансцендентальной философии нет места человеку. В ней прове¬
дена деантропологизация понятий. Но кто мог знать, что от трансцен¬
дентального нарциссизма, от конституирующей прамонады путь лежит
к эпистемологической складке удвоения, внутри которой нет самоузна-
вания.
Язык Фуко ушел из представления, из театра, и вернулся в простран¬
ство жизни, поменяв местами культурные знаки. Представления стали
дословными, а жизнь знаковой. Она теперь обеспечивается не трансцен¬
дентальным удвоением, а скольжением по бесконечной цепи означаю¬
щих. Любознательность мысли Фуко сводится к вопросу о том, что есть
язык. А не что есть жизнь. Человек у него оказывается тем, что соеди¬
няет представляемое и существующее. А это значит, что человек неуст¬
ранимо двойственен, двулик.
Глава III
142
16
Первым следствием эпистемологического дробления языка явилось
изменение смысла вопроса «что есть человек?». Если в эпоху монодис¬
курса ответ на этот вопрос вел к истине, то сосуществование множества
языков заставляет уклониться от истины, чтобы выяснить, что говорит
тот, кто говорит, что он есть человек. И к кому обращена его речь? «Кто,
кому, от кого» — все эти вопросительные местоимения задают антро¬
пологическую размерность речи. Можно ли теперь устранить человека
из речи? Ведь от того, кто говорит, кто владеет словом, зависит весь язык.
Современная философия не выживет, если ей не удастся вместить всю
свою речь в одно слово, а слово свести к корню слова. Никто не должен
удивляться, если встретит книгу в одну страницу. Это значит, что фило¬
софия еще жива. И у нее есть один язык. А язык Фуко дробится, мно¬
жится.
17
У православных есть икона, на которой нет изображения Христа, но
все наличествующее на ней устремлено к Нему, указывает на Него, ожи¬
дает Его. Все положение вещей красноречиво говорит о Нем. Взгляд
верующего преобразует икону в чистое представление присутствия.
Внутри этого представления находится не зритель. Не человек. А Бог,
немотствующая речь которого слышится в «Легенде о Великом Инкви¬
зиторе » Достоевского.
Классическое мышление ставит в положение Бога человека. Чело¬
век — это его центр, точка пересечения всех нитей. И в то же время в
нем человека нет. Он как бы убегает от себя. Что позволяет Фуко заявить:
«Вплоть до XVIII века человек не существовал »\ Эти слова Фуко нуж¬
но понимать как косноязычную речь философа. Как напоминание о том,
что в мышлении не было мысли о человеке. Его знали, видели, чувство¬
вали в порядке реальности. Но никто его не превозносил. Мысли о нем
не было. Или еще точнее: любая мысль мыслилась вне зависимости от
мысли о человеке.
Помыслить человека — значит обратить внимание на язык, которым
что-либо высказывается о человеке. Классическое мышление искало
истину на стороне объекта. Вне языка. И поэтому оно было позитивным.
Трансцендентальное мышление ищет истину на стороне субъекта. В про¬
странстве языка. И поэтому оно было позитивным. Поэтому фраза Фуко
«человек — это недавнее создание...» есть признание того, что человек
стал мыслиться недавно. Что философы обратили внимание на язык и
стали невнимательны к неязыковому.
Пока человека не мыслили, его понимали. Как только его стали мыс¬
лить, его перестали понимать. Поэтому Фуко назвал его «местом
непонимания»1. 1 21 Там же. С. 348.
2 Там же. С. 348.
Складки
18
143
Не понимая себя, человек собой понимает что-то другое. Но в осно¬
ве этого знания лежит неустранимое немыслимое. Тем самым человек
попадает в горизонт безмолвия. Дословного.
Фуко фиксирует сдвиг человека из горизонта знаемого в горизонт
незнаемого. Уже один этот сдвиг обессмысливает трансцендентальную
рефлексию знания, исследование вопроса о том, как случайность опыта
делает возможным необходимость суждения. Волей-неволей приходит¬
ся заниматься существованием незнаемого. То, что мыслится мыслимое,
понятно. А вот как мыслить немыслимое? Это непонятно. Как занять
место, которое от тебя ускользает? Это тоже неясно. Как можно жить
с тем, что тебе непосредственно не дано. Если все опосредовано? Этот
вопрос также остается без ответа.
19
Забавляет манера Фуко задавать самому себе вопросы. Во-первых,
они оказываются бессмысленными. Во-вторых, они противоречат очевид¬
ным вещам. Например, Фуко спрашивает: «Существует ли на самом деле
человек?» или не существует1. Здесь провокативен сам этот оборот: «на
самом деле ». Конечно, существует. Но дело не в этом, а в энергетике фра¬
зы. В движении языка. Ведь для того, чтобы он сдвинулся с места, пришел
в движение нужно, чтобы была пустота. И была энергия вопроса, высво¬
бождение которой заполняет пустоту мысли. Например, что стало бы с
мыслью, «если бы человека не существовало»1 2. Ну вот нет человека, нет
людей. А мысли куда? Они что? Исчезнут вместе с человеком? Или же они
будут существовать сами по себе? Человека нет, а мысли есть. А, может
быть, они всегда существовали сами по себе, вне зависимости от человека,
а мы к ним незаконно себя прилепили? Как прилепились к миру. К истине.
Фуко купается в освободившейся энергии мысли, в полагании несущест¬
вования человека. «Ведь мы так ослеплены человеком в его недавней оче¬
видности...». А вот прозрели, и очевидное перестало быть очевидным.
И человек перестал существовать. Правда, начала и концы мысли Фуко
не связаны. Если бы они были связаны, то ему не надо было бы различать
человека и человеческие существа. А он различает. Вернее, делает вид,
что различает. Ведь человек — это понятие временное. Историческое.
А человеческое существо — это понятие земное, пространственное, уко¬
рененное в безмолвном. После исчезновения «временного человека» по¬
казывается пространственный, «сокровенный человек». Как у А. Плато¬
нова. Несвязанность своей мысли Фуко маскирует отсылкой к Ницше.
К идее сверхчеловека. К новому источнику интеллектуальной энергии.
Заключительная фраза Фуко звучит как заклинание. «Человек давно
уже исчез и продолжает исчезать... »3. Но если он продолжает исчезать,
1 Там же. С. 419
2 Там же.
3 Там же. С. 414
Глава III
144
то ведь это значит, что он еще не исчез. И эта констатация Фуко не нуж¬
на. Ибо она, как стук колес, усыпляет. А философу спать нельзя, если
он на посту. Поэтому Фуко и говорит, что, мол, я не сплю. Я бодрствую
и, как сторож, стучу в колотушку. Это современная мысль спит. «Наша
забота о человеке, наш гуманизм — безмятежно спят под грохот его
несуществования »*.
То есть Фуко можно понять так, что Запад проспал человека, пото¬
му что был занят громкими разговорами о гуманизме.
Что же они, там на Западе, потеряли в человеке? Дискурс, практи¬
куемый Фуко, не позволяет даже поставить этот вопрос. И, следова¬
тельно, он делает невозможным и ответ на него. Вместо этого Фуко
предлагает нам задуматься над особенностями строения западной эпис-
темы. Например, продумать вопрос о парадоксальности человека, по¬
лагая, что человек — это место удвоения. Но если человек — это мес¬
то удвоения, то оно должно удваивать, т. е. менять интенсивность.
А Фуко складывает, а не удваивает. Он к эмпирическому прибавляет
трансцендентальное. К одной полосе прибавляет другую полосу. По¬
лучается два цвета. Фуко мыслит человека как двухцветное знамя.
С одной стороны мысль, с другой — немыслимое. И немыслимое где-то
начинает мыслить, а мысль размельчается до тех ее волокон, которые
уже не мыслят. Момент превращения немыслимого в мысль составля¬
ет тайну повседневности. И Кант и Декарт строили свои теории знания
вне зависимости от того, знаем ли мы или нет, как немыслимое превра¬
щается в мысль.
Человек — это привилегия немногих быть людьми. И поэтому всег¬
да надо что-то делать, чтобы быть человеком. В зависимости от времени,
от истории. Образы человека задаются смыслами, которые меняются со
временем. Фуко полагает, что труд создал человека.
Отличие Фуко от Энгельса состоит в том, что, согласно Фуко, труд
создал современного человека. У Энгельса — первобытного. В класси¬
ческом мышлении еще не сложился дискурс труда. Как впрочем, дискурс
языка и жизни. Впервые труд объявил парадигмой социальной жизни
другой француз, О. Конт. Фуко перестал полагать человека в качестве
некоего микрокосма, имеющего связь с макрокосмом. А это значит, что
человек утратил соизмеримость с бесконечностью. Несоизмеримость
человека и бесконечности обнажила ранее скрытые обстоятельства.
А именно: оказалось, что человек конечен. Что он трудится, говорит и
живет. Конечное отсылает к самому себе. Оно объясняется конечным,
а не бесконечным. Метафизика бесконечного не нужна для описания
человека. Антропология нуждается в аналитике конечного. Появление
«конечного человека» в западном сознании сопряжено с концом мета¬
физики. Ибо всякая метафизика подпитывалась религиозной верой.
А ее-то и не осталось.
1 Там же.
Складки
145
Конечное определяется не верой, а знанием. Конкретное знание моз¬
га, тела, психики позитивно. Чтобы человек не растворился в нищете
позитивного, Фуко придумал археологию культурной истории. В архео¬
логии человек понимается как образ человека. И, следовательно, воз¬
можно замещение одного образа другим. Что и исследует археология.
В дискурсе Фуко присутствует «зыбкая протяженность не-мысли»,
горизонт безмолвия. Фуко выстраивает не онтологию ума, наблюдаю¬
щего мир, а онтологию немыслимого. Немыслимое раскрывается, если
человек перестает мыслить себя рефлексивно. Дело не в знании того,
что ты знаешь, а в рефлексии непознанного. Безмолвно существующего.
Трансцендентальная рефлексия сдвигается от знания к незнанию, от
поисков истины — к поискам способов бытия.
В мире необоснованного опыта Я не узнает себя. В нем нет равенства
«Я есть Я ». Мысль одной своей стороной утопает в сознании. Другой —
в почве немыслимого, в ночном мире безликой причинности. Мыслить
теперь значит не существовать, а проблематизировать.
Если то, что делает человека человеком, было до человека, то нельзя
прийти к началу. Ибо начало будет расположено в модусе произведения,
а идти к нему мы будем в модусе воспроизведения. Начало остается
тайной, и в этой тайне, видимо, Бог. Но Фуко не до Бога. У него другая
аргументация. Он полагает, что в начале искомое распадается на две
части: на материал и на функции. И каждая эта часть имеет свою исто¬
рию. Какую из них считать историей человека, не ясно. Поэтому Фуко
и говорит, что человек никогда не был в начале. Всякий антропо-соци-
огенез бессмысленен. Каждый начинает когда-то говорить, но язык
заговорил раньше. Так возникает тема «архе » и «авангарда ». Прошлое
в настоящем и будущем. Тебе сегодня надо что-то делать, чтобы быть
человеком. И делать, как говорит Григорий Палама, нужно будет всякий
раз заново. Нельзя помыслить человека и одновременно помыслить
язык, на котором мыслится человек. Между ними существует разрыв,
который определил всю конфигурацию современной философии. Че¬
ловек и немыслимое — современники. Фуко полагает, что мысли угро¬
жает человек, что следует считать химерой всякую антропологию, ста¬
вящую вопрос о бытии языка. Но есть столько же оснований для того,
чтобы видеть угрозу человеку в рефлексивном легкомыслии. Антропо¬
логия должна поставить вопрос о бытии языка для того, чтобы дать
слово дословному.
2. Деяез. Чеяовек-симуяякр
«Бог создал человека по своему образу и подобию. Согрешив, человек
утратил подобие, но сохранил образ. Мы превратились в симулякр. Мы
отказались от нравственного существования в пользу существования
Эстетического »1.
1 Делез Ж. Логика смысла. М. Фуко. Teatrum philosophicum. М.: Раритет; Екатерин¬
бург: Деловая книга, 1998. С. 335.
Ю 1920
Глава III
146
Человек, — говорит Делез, — это образ без подобия. Симулякр. Де¬
монический характер этого симулякра состоит в том, что он создает
эффект подобия, заставляя неподобное быть подобным.
В диалоге Платона «Софист», на который опирается Делез, рас¬
сказывается о том, что софиста можно поймать, загнав его в про¬
странство знания, в то место, где истина отличается от лжи. Но софист
привык работать там, где невозможно знание, где нельзя провести
различие между истиной и ложью, бытием и небытием. Это простран¬
ство творения, в котором создается то, чего ранее не было. И что,
следовательно, не имеет своего образца, своей идеи. Но в таком случае
софистом уже оказывается не софист, а Бог, ибо он творит без образ¬
ца, без истины и лжи. Платон не обсуждает вопрос о Боге. Кто он?
Софист ли он?
Он утверждает, что софист не Бог, а корыстный человек. Вот это ход
Платона Делез не рассматривает в своей теории симулякра.
Платон предлагает софистом называть только человека, у которого
нет знаний. «Наша задача, — говорит Платон, — не выпустить зверя »\
не обсуждая то третье, которое предпослано истине и лжи. Это третье
Платон будет разбирать в мифе о человеке-кукле, где уже царит «сози¬
дающий хаос», в котором нет ни копий, ни моделей, ни идей. «Нет ни¬
какой привилегированной точки зрения, нет никакой иерархии, нет ни
второгоу ни третьего... »1 2. Здесь есть только галлюцинации, самоакту-
ализирующиеся грезы и тела. По словам Фуко, «мы приблизились к тому
пункту у где две версии — события и фантазмы — вступают в резо¬
нанс... »3. Утверждение Делеза о том, что в «Софисте» Платон избегает
построения мифа, позволяющего отделить ложного претендента от ис¬
тинного, ошибочно, ибо этот миф Платон создаст позднее уже в «Зако¬
нах» как миф о человеке-кукле.
Современный миф рассказывает Ж. Делез4. В «Словах и вещах» Фуко
объявил о смерти человека. Гуманисты стали его обвинять в том, что он
посягает на права человека. Что он фашист. А Фуко не фашист, а фило¬
соф.
Философские тексты нужно уметь читать. Сами собой они не понят¬
ны. Как их читать? По диагонали. От одного смыслового окна к другому.
Не обращая внимание на последовательность слов и фраз. Одна фраза
не является ответом на другую. Не продолжает ее. Слова дискретны.
Любая фраза отрицает другую фразу уже одним тем, что она сказана.
Слова толпятся. Мешают друг другу. Противоречат. В результате полу¬
чается, что каждая фраза говорит то, что в ней не сказано. А то, что в
ней сказано, она не говорит. И чтобы это высказанное увидеть, нужны
смысловые окна. Нужна делезовская диагональ.
1 Платон. Соч.: В 3 т. Т. 2. М., 1970. С. 381.
2 Делез Ж. Логика смысла. М. Фуко. Teatrum philosophicum. С. 342.
3 Там же. С. 452.
4 Там же.
Складки
1
147
В каждой философской фразе есть сверхсказанное. И недосказан¬
ное. Поэтому все философы делятся на две части. На тех, кто досказы¬
вает. Договаривает. И на тех, кто высказывает. Проговаривает. Первые
интерпретируют, вторые пророчествуют. Любое философское движение
мысли уклоняется от середины. Оно либо выше, либо ниже того, что
сказано. И только дилетанты двигаются по середине. По записи того,
что сказано. Поэтому переводят философские тексты несведущие люди.
А сведущие создают новые тексты.
Устанавливая логическую структуру сказанного, ты пропускаешь
то, что сверху. И не ухватываешь то, что снизу. Верх и низ сообщены в
смысловом окне. В очевидном. В видимости сказанного.
2
Сверхсказанное и недосказанное принадлежат иному порядку, не¬
жели порядок записи сказанного. Этот порядок можно изменить, изме¬
нив фразу, тебя заинтересовавшую. На ее место можно поставить другую
фразу, к которой она неявно отсылала. В результате мы удваиваем на¬
писанное. И этим удвоением понимаем порядок записи. Но лучше всего
не удваивать тексты, а искать слова для непосредственного, для того,
что ты понял.
3
Внутри самой фразы ничего нет, кроме порядка записи. Поэтому не
нужно ломать ее, как дети ломают игрушки, чтобы увидеть, что там у
нее внутри. У фразы нет тайного смысла. У нее есть пустоты. Лакуны,
куда ты можешь проникнуть. И что ты можешь заполнить. Если бы в
философской фразе не было пустот, ее нельзя было бы понять. Интер¬
претировать.
4
Делез француз. Картезианец. И поэтому он думает, что есть видимое
и невидимое. Видимое недискурсивно. Невидимое дискурсивно. Оно
высказывается. Видимое протяженно. Непротяженное проговариваемо.
Если бы высказывание было невидимо, то умозрение в красках было бы
невозможно. И бестелесное не имело бы образа. И мысль не отрывалась
бы от слова. И в бессловесности мысли не возникала бы потребность в
очевидности. Высказывание видимо непосредственно в окне смысла. Оно
и видимо, и сокрыто. Сокрыто в слове. Видимо в образе.
5
Философские идеи как мыльная пена. Они пузырятся. В них есть
пустые места. И эти места могут занять разные люди. Только эти люди
будут отсчитываться не от Я, а от беспорядочного жужжания дискурса.
Идеи одни. Имена философов разные. На первом плане оказывается
10*
Глава III
бессубъектное бормотание. Некое анонимное «говорят». Болтовня. Од¬
ной из возможных позиций безымянной болтовни является и позиция
автора. Субъекта.
6
Мысль, растворившая слова, рассеяна в видимом. В пространстве
вещей. В силу этой ее рассеянности вещи могут говорить. Если бы вещи
не говорили, то мы бы их не слушали. И философия не становилась бы
поэзией. «Философия обязательно становится поэзией, поэзией того,
что говорится, поэзией бессмыслицы, и самого глубокого смысла»1.
А это значит, что мир говорит. Вещи бормочут некий смысл, который
язык мыслимого только подхватывает.
7
Знание — это не наука. И даже не познание. Это поэзия. Фуко с
Делезом всю жизнь писали художественные тексты. Их усилиями уда¬
лось избавиться от субъекта. Но почему-то они субъекту приписывают
какое-то внутреннее измерение? У субъекта нет внутреннего. Поэтому,
избавляясь от субъекта, нужно оставить в покое внутреннее. И Фуко, и
Делез выбросили внутреннее, и у них осталось обращение только к дру¬
гому. Мне кажется, что нужно разделаться с другим, чтобы осталось
внутреннее.
8
Фуко атеист. И его друг Делез тоже безбожник. Они не говорят, что
Бога нет. Они говорят: «всякая форма есть соотношение сил»1. Сама
по себе форма ничего не значит. Каковы силы, таковы и формы. А по¬
скольку соотношение сил меняется произвольно, постольку и смена
форм происходит случайно.
Из принципа Фуко, сформулированного Делезом, следуют два вы¬
вода. Во-первых, форма не предшествует материи. Во-вторых, Бог не
создавал мир. Напротив, это он создан миром. Случайным соотношени¬
ем его сил. Постулируя силовую природу мира, Делез освободил себя
от необходимости выяснить происхождение силы. Она как бы уже за¬
ранее принесена. Осталось только ее применить. Тем самым мир мыс¬
лится как автомат случайных очередей.
В словах «силы человека» человек является не формой, а камерой
хранения, сундуком, в который складываются силы. Силы человека не
предполагают существования человека. Они указывают не на принадлеж¬
ность, а на нахождение. Не на субъект, а на место. В человеке могут
находиться и животные силы, субъектом которых он также не является.
Если силы даны, то они могут вступить во взаимное действие только
с другими силами. Между силами и формой, т. е. духами, никакое дей- 1 21 Там же. С. 42.
2 Там же. С. 160.
Складки
149
ствие не возможно. И если они сообщены между собой, то помимо вза¬
имодействия. Предустановленно. Как у Лейбница.
9
Вот внешний мир. Если в нем есть силы, вступая во взаимное действие
с которыми силы человека образуют Бога, то это будет мир бесконечной
репрезентации. А силы мира можно тогда назвать силами возвышения
до бесконечности. «Силы человеческие вступают во взаимоотношения
с силами возвышения до бесконечности »1. Например, Делез не говорит,
что есть понимание. Он говорит о том, что есть сила понимания. А от¬
куда она взялась, что дает пониманию силу, он не объясняет. Ведь чтобы
объяснить все это, нужно что-то сказать о том, кто понимает. О пони¬
мающем. Но вот его-то как раз и нет. Оно-то и распалось. Чтобы пони¬
мание не зависело от понимающего, Делез наделяет его силой. Автоном¬
ным двигателем, устройство которого никому не известно.
Так вот, силу понимания можно возвысить до бесконечности. В ре¬
зультате получается абсолютное понимание. Божественное, т. е. нече¬
ловеческое. В горизонте этой перспективы становится возможным че¬
ловеческое понимание. Только теперь уже мы должны его мыслить как
ограничение силы бесконечного понимания. Либо нет человеческого
понимания, либо оно есть как ограничение божественного. «Что такое
Бог, как не всеобщее объяснение, как не наиболее яркий пример развер¬
тывания? Развертка, разворачивание складки предстает здесь как ос¬
новополагающее понятие»1. А это значит, что если есть Бог, то челове¬
ка нет. Он теряется в складках Бога, в сгибах его божественного пони¬
мания. Так следует читать фразу Фуко: «человек существовал не всегда
и не всегда будет существовать»1.
10
Все православные знают, что если есть теозис, то есть и кенозис.
И силы возвышения имеют смысл в сопряжении с силами нисхождения.
В мире есть не только Бог, но еще и дьявол. Следовательно, должен быть
какой-то симметричный мир по отношению к миру бесконечной репре¬
зентации. Ведь если есть непонимание, то силы непонимания могут быть
развернуты, разглажены до бесконечного непонимания. И тогда чело¬
веческое непонимание можно помыслить как позитивное ограничение
бесконечного. Как искривление прямой линии непонимания. Как то, что
самой этой линией не предусмотрено.
Следовательно, мир бесконечной репрезентации Делеза неполон.
Наполовину пуст. И Бог как всеобщее объяснение работает только на
°Дной половине. На другой половине работает дьявол. Тем самым ни¬
какого развертывания складок не происходит. Чтобы оно произошло, 1 2 31 Там же. С. 161.
2 Там же. С. 163.
3 Там же. С. 160.
Глава III
150
Делезу нужно было показать, как сгибается непонимание, и как на сги¬
бах получается понимание. И наоборот. А для этого нужно однородны¬
ми и непрерывными преобразованиями охватить весь путь от абсолют¬
ного непонимания до абсолютного понимания. Я знаю только один
способ, который позволяет это сделать. Нужно складки не разглаживать,
а вырезать. Образующиеся дыры можно стянуть. Заштопать.
11
Делез и Фуко вырезали бесконечность Бога вместе с дьяволом, с
силами возвышения и с силами нисхождения. Как говорит Делез: «про¬
изошла мутация». Они выкинули бесконечное. Но осталось конечное.
И конечное уже не затеряется в складках бесконечного. Бога нет.
А смерть есть. И есть зло. Зато на этом фоне человека стало видно. Он
обнаружился. Силы в человеке вступили в отношения с конечными си¬
лами внешнего мира. И теперь если ты что-то понял, то это ты понял.
И нет сил возвысить твое корявое понимание до божественного. Чем
богаты, тем и рады.
Человек начинается после смерти Бога. За пределами божественной
жизни, божественного языка и божественного труда. Ну а если нет Бога,
то каждый уже сам по себе подлежит изолированному развитию. Ник¬
то никого не поставит в бесконечный ряд, ведущий к Богу. Вещи, слова,
люди замкнулись и ограничились силами конечности. Силы человека,
как гармошка, встречаясь с силами возвышения, растягиваются до бес¬
конечности. Встречаясь с силами конечного, они складываются в одну
случайную складку. Но значит ли это, что после смерти человека вновь
появится Бог? Что человек — это сложенная форма Бога, а Бог — это
разглаженная форма человека? Случайная игра сил человека показыва¬
ет то орла, то решку. То Бога, то человека. И в эту игру Фуко с Делезом
попытались встроить еще и случай со сверхчеловеком. Эту попытку сле¬
дует признать неудачной. И вот почему.
Всякая форма случайна. Не это ли имеет в виду Фуко, когда говорит,
что по смерти человека не о чем плакать. А что имеет в виду Делез, спра¬
шивая, была ли эта форма хороша? Словно у природы есть какие-то
плохие и хорошие формы. Случайных форм бесконечное множество.
Человек всего лишь одна из них. Он является случайным местом прило¬
жения сил, а не местом их обогащения. Силы конечного, как их ни на¬
зывать, это силы смерти. И поэтому смешно наблюдать, как Делез тре¬
бует защитить конечных людей от смерти. Будто он поклонник Николая
Федорова. 1
Силы возвышения и силы конечного, складываясь и разглаживаясь,
образуют то Бога, то человека. И никакого сверхчеловека они образовать
не могут. И как бы ни раскладывалась случайность соотношения сил, она
дает то одно, то другое. Не в этом ли состоит идея вечного возвращения
Ницше? Или круговорота форм стоимости Маркса, у которого обмени¬
ваются деньги и товар? Для того чтобы появился сверхтовар, Маркс на¬
Складки
151
ходит рабочую силу. Делез ничего подобного не находит среди конечных
сил. Чтобы получить форму, которая не будет ни Богом, ни человеком,
ему нужно отказаться от онтологической гармошки, от процедуры скла¬
дывания и разглаживания складок. Поэтому его постановка проблемы,
которую Ницше называл «сверхчеловеком», неправильная. И Делез это
чувствует, иначе зачем он заговорил о возможности опуститься до уров¬
ня комика при обсуждении этой проблемы. Дело не в том, что человек
заключил жизнь в темницу. Для этого нужно, чтобы форма не была со¬
отношением сил. А была чем-то большим, чем жизнь. И, следовательно,
сверхчеловек — это не то, что освобождает жизнь в самом человеке. Это
стремящаяся к нулю форма соотношения конечных сил.
К сожалению, Делез не знал Циолковского, который, как и Делез,
полагал, что человек может быть реализован не только на основе угле¬
родистых соединений, но и на основе кремния. Что он возможен в фор¬
ме лучистой энергии. Циолковский обессмысливал стандартные пред¬
ставления о жизни, труде и языке. Ибо в том, и в другом, и в третьем
нуждается углерод, а не кремний. И не лучистая энергия!
12
Делез интерпретирует смерть человека так. Рассуждая о смерти че¬
ловека, рассуждают не о человеке. Речь идет о силах человека и о тех
силах, с которыми они могут сочетаться.
Вот, например, мысль. У нее нет сил. А без силы она ничего не может
сделать. Значит, есть что-то, что дает мысли силу. И это что-то может
быть разным. Из того факта, что сегодня эту силу дают чувства, не сле¬
дует, что завтра ее будут давать идеи. Это уже как придется. Нужда
мысли в силе показывает, что мысль нуждается в чем-то, что мыслью не
является. В чем-то немыслимом. И это немыслимое не снаружи мысли,
а внутри нее. Не внешнее, а внутреннее.
Так и человек. В самом по себе человеке нет никакой силы. А без
силы он не может быть. То есть его бытие нуждается в силе. Откуда ее
взять? Не от другого же человека. И вот здесь-то и начинаются приклю¬
чения. Делез говорит, что в классическую эпоху все силы человека со¬
относились с силой репрезентации, которая извлекала из человека все,
что в нем есть позитивного, и возвышала до бесконечности. В результа¬
те возвышения получался Бог, а не человек. То есть силы человеку давал
Бог. А поскольку человек не давал их себе сам, постольку его не было.
Эти силы может дать и не Бог, а например, труд. И вот в момент, когда
силы человеку дают труд, жизнь и язык, возникает человек. А как толь¬
ко их будет давать что-нибудь другое, человек исчезнет. И будет что-
нибудь третье. И не человек, и не Бог, а нечто сверхчеловеческое. Вот,
например, силы информации. Вступив во взаимодействие с ними, чело¬
век становится «человеко-машиной». И так до бесконечности. Хотя
никто не сказал, что же в силах информации есть такого, что отличает
их от сил труда.
Глава III
152
Рассуждения Делеза не убедительны по следующим причинам. Во-
первых, христиане знают как силу катафатики, так и силу апофатики.
Первое практиковалось в романо-германской культуре. Второе — в ви¬
зантийской. Апофатика вообще накладывает запрет на репрезентацию
позитивностей. Сила Добра, бесконечно возвышаемая, не дает силу Бога.
То есть Бог дает силу человеку, но по благодати, которая необъяснимо
даруется. И так же необъяснимо человек лишается дара.
Во-вторых, идея благодати делает невозможным сцепление сил тру¬
да и сил человека. Вернее, в европейской культуре вполне мыслима ав¬
тономность человека. То есть допускается мысль о том, что человек
себя создает сам в труде, жизни и языке. Но в русской культуре не
привился титанизм европейского человека. И поэтому соединение с
силами труда, жизни и языка еще ничего не дает. Не детерминирует
появление человека. Не труд создал человека. И не язык, а Бог. Если
человека нет, то из труда он не возникнет. В-третьих, существуют еще
и силы репрезентации, возводимые к бесконечности дьявола. В-четвер¬
тых, доминирование слова над видимостью локально, а не универсаль¬
но. Делез предпочитает доказывать, и это в традициях Эриугены, а мне
больше нравятся те, кто показывает. А это в традициях Григория Си-
наита. Доминирование образа над словом, мрака — над светом ближе
соборному человеку, а не автономному. Молчание возвышеннее бол¬
товни.
Делез не вычитал идею соборности у Гоголя. И поэтому у него воз¬
никли трудности с пониманием внутреннего. Ведь если нет Бога, то нет
и следов Бога в человеке. Нет внутреннего. А есть одни силы. т. е. внеш¬
нее.
Сила мыслима только в отношении к другой силе. Как нечто мно¬
жественное, а не единое. Откуда же у множественного, у внешнего бе¬
рется внутреннее, единое? Фуко с Делезом полагают, что оно получает¬
ся сгибанием внешнего. И что впервые внешнее согнули греки. Они его
согнули и получили феномен подкладки — удвоения. Правда, непонят¬
но, что считать подкладкой? С какой стороны. Ведь со всех сторон мы
будем иметь только внешнее. По-русски говоря, есть лицевая сторона,
и еще есть изнанка. И для того, чтобы одно отличить от другого, нужно
ввести третье. Лицо. Ну а если ввести лицо, то не надо сгибать внешнее.
Ведь как бы ты его ни согнул, лицевой стороны ты не получишь. То есть
подкладка будет означать невидимое со стороны лица. И в этом смысле
подкладка (изнанка, внутреннее) будет относиться к терминам видимо¬
го, а не мыслимого. Делез ее пытается помыслить. И поэтому он не может
себе представить существование видимости невидимого.
Силовое сгибание внешнего удваивает другое, а не раздваивает еди¬
ное. Повторяет отличное, а не воспроизводит тождественное. Но про¬
истекает ли из силового отношения к другому отношение к себе? Дискурс
Делеза строится в предположении, что проистекает. И что логос греков
связывает силу, знание и рефлексию.
Складки
153
Конечно, господство над другим требует господства над собой. Ведь
как ты можешь управлять другим, если ты не можешь управлять собой.
Сила должна быть соотнесена с собой. Поэтому европейская мысль ис¬
кала пространства соотнесения с собой. Обращение к себе рефлексивно.
Но эта рефлексия развертывается в волевое отношение к другому. На
другого воздействуют в пространстве. На себя — во времени. Поэтому
время является основой субъективности для западного философа, пред¬
ставая то как надежда, то как забвение, то как память.
Поскольку есть забвение, постольку невозможно вернуться назад.
Невозможен возврат. И есть необратимость. А поскольку есть память,
постольку все можно начинать сначала. Во второй первый раз. Если за¬
бвение равнообъемно памяти, то возникает длительность.
Но если тебе не нужно управлять другим, то управление самим собой
приходит в негодность. Лишается непрерывно возобновляемого источ¬
ника заботы о себе. Рефлексия минимизируется. Человек становится
неуправляемым. Он сам не знает, что он сделает. И часто делает не то,
что нужно, а то, что хочется. И тогда отношения к другому выстраива¬
ются не в пространстве логоса, а в пространстве Софии. То есть софий-
ный человек формирует свое отношение к другому в терминах чувства,
а не в терминах власти. Это хорошо показано в «Котловане» А. Плато¬
нова.
13
Всякое знание состоит из видимого и высказываемого. В погоне за
знанием ты движешься от толщи безымянного бормотания к высказы¬
ваниям философов. От них к умозрению в красках. К подслушиванию
того, что говорят вещи. К очевидности видимого.
Видимое недискурсивно. Невидимое выговаривается. Делез отдает
преимущество высказыванию. Дискурсу. Хотя и настаивает на несводи-
мости видимого к высказываемому. Глаза — к голосу.
Если знание состоит из видимого и мыслимого, то дело не в перво¬
бытном опыте, который предшествует знанию. А в конфигурации види¬
мого и мыслимого. Мыслимому противостоит не видимое, а немыслимое.
А видимому — невидимое. Неочевидное. Видимое дополняет мыслимое.
Но так же как мыслимое — это не слова, так и видимое — это не вещи.
Чтобы извлечь из слов мысль, их нужно рассечь. Чтобы извлечь види¬
мости из вещей, их также нужно разбить. Рассечь. У-каждого времени
свои очевидности и свое мыслимое. Свой способ рассечения. А раз свой,
то ему ничто не предшествует. Так Делез отводит претензии конституи¬
рующей прамонады.
То, о чем говорят, не видят. А не говорят о том, что видят. В фено¬
менологии говорят о том, что видят. В ней зримое образует основу для
высказываемого. Фуко не феноменолог. Поэтому то, что видят у него,
никогда не размещается в том, о чем говорят. Картинки-описания, раз¬
вертки видимого могут быть словесными и тем не менее они будут отли¬
Глава III
154
чаться от высказываний. Видеть означает мыслить. Значит, мышление
происходит в пространстве между видением и говорением.
Двойной отвод феноменологии со стороны Фуко и Делеза оправдан.
Ибо мыслимое не интенционально, а видимости не отсылают к изначаль¬
ному опыту и первобытному миру. Мыслимое не отражает видимое, а
видимости не являются копиями высказываемого.
3. Бодрийяр. Человек-роль
Бодрийяр назвал Фуко «последним динозавром классической эры»1.
Эта эра закончилась, ее дела рассеялись, а слова, которые говорились
по ходу дела, остались. И Фуко строит из этих слов воздушные замки.
Эпистемологические. И хотя с человеком что-то произошло, Фуко не
может уловить произошедшее. Он говорит о смерти человека, полагая,
что эта смерть указывает не на конец человека, а на его метаморфозы.
На смену исторических конфигураций.
Бодрийяру даже, видимо, было как-то неловко напоминать о том,
что все имеет свой срок. Все когда-то заканчивается.
1
Как же скончался человек по версии Бодрийяра? Во-первых, человек
уступил место симулякру. Дубликату подлинного. Соответственно, про¬
изошли изменения в области власти секса, желаний, бессознательного,
пола.
Во-вторых, человек скончался незаметно. Тихо. Под грохот слов о
гуманизме. У Бодрийяра византийское отношение к словам. Он видит в
слове то, что завершает. Заканчивает. И одновременно делает полным.
Неизменным. А неизменным может быть только то, что умерло. И сло¬
во и рефлексирующее сознание являются именами смерти. А это значит,
что не все нужно вытаскивать на свет сознания. Что-то нужно оставлять
и в дословном. В почве. Если же все будет извлечено на свет сознания,
то что-то важное будет погублено. Лишено жизни.
Фуко потому и «динозавр», что все еще верит в свои слова, в луче¬
зарность истины. Опускаясь в тьму дословного, он не оставляет вещи
такими, какими они есть сами по себе. Фуко противопоставляет телам
дословного формы высказываемого. Он, как просветитель, рассеивает
тьму.
2
Вот, нацример, власть. Какой-то своей частью она прорастает в до¬
словном. И Фуко это знает. Но он также знает, что еще есть слово. И сло¬
во выше дословного. Оно доминирует над ним. Но сама эта доминация
является признаком определенной эпистемы. Западной, а не восточной.
Бодрийяр не использует этот аргумент. Он строит свою критику Фуко
Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПб., 2000. С. 39.
Складки
155
на другом поле. Конечно, письмо Фуко совершенно. Безусловно, речь
его красна. Но почему Фуко так красноречив? Потому что то, о чем он
говорит, умерло. Или умирает.
Что кладет конец бессознательному? Психоанализ. Выставленность
интимного напоказ. Что положило начало конца классовой борьбы?
Классовый анализ. Марксизм, представивший классы публичному обоз¬
рению. Что губит власть? Анализ власти, предпринятый Фуко. Почему
они находят свой конец в слове, в теоретической речи? Потому что сло¬
во разносит выраженное в слове по всему пространству социума. И если
язык проникает всюду, во все поры социального, то всюду оказывается
и власть Всюду — значит нигде. Все — значит ничто. Рассеивание по
всему пространству социума загоняет искомый феномен в социальные
капилляры. Где он тихо гаснет и умирает. Поэтому когда говорят, что
все есть политика, то это значит, что политика перестает существовать
в качестве политики. Она трансцендирует себя за свои пределы.
Рассеивание, или, что то же самое, децентрирование, социальных
феноменов преодолевается двумя способами. Или наложением ограни¬
чения на распространение языка, цензурой слова, и тем самым объяв¬
лением зон, свободных от слова, скрытых от проникновения языка. Или
же дублированием рассеянного. Удвоением ускользающего. Усилением
энергетики слабеющего. В первом случае конституируется центр. Во
втором — возникает гиперреальность. Виртуальные феномены.
«Фуко ничего не говорит нам о машинах симуляции, которые удва¬
ивают подлинное»1. Зато он объясняет, почему он не хочет приостано¬
вить агрессию языка. Ограничить всюдность слова. Он не делает этого
потому, что тогда появятся запреты. А на запретах основывается любая
власть. А Фуко хочет ее рассеять, ибо в мини дозах она безвредна. Вот
язык и занят позитивным рассеиванием власти.
Итак, слово делает две работы. Во-первых, оно делает видимым то,
что относится к порядку дословного. Во-вторых, оно распространяет
то, что имеет силу в ограниченности. Распыляет то, что эффективно в
собранном виде. А это значит, что в современном мире все работает по
принципу производства. И прежде всего язык, слово. Производить оз¬
начает делать видимым, показывать, предъявлять. И одновременно тра¬
тить, расходовать. Но для того чтобы тратить, нужно накопить. И есть
машины накопления. Есть тела дословности, противостоящие машинам
симуляции. Формам культуры. Тому, что тратит, расходует.
«Производить — значит насильственно материализовать то, что
относится к другому порядку»1. Французы этот порядок называют по¬
рядком тайны и соблазна. Что вряд ли оправдано. Ибо соблазн также
встроен в порядок производства, в порядок видимого. Благодаря техни¬
ке соблазна возможно позитивное рассеивание центра. Это как бы ви¬
димое второго порядка. То, что видимо для немногих, невидимо для 1 21 Там же. С. 43.
2 Там же. С. 49.
Глава III
156
большинства. Производство через соблазн делает видимое немногими
видимым для всех. Соблазн не изымает что-то у производства, а прибав¬
ляет, расширяя круг соблазненных.
3
Европейская культура замечательна тем, что умеет переводить внут¬
реннее в порядок внешнего. Этот «перевод» делает возможным ее исто¬
рию. То есть расход «внутреннего» является платой за историю. За то,
что она есть. Внутреннее опустошается. Внешнее облагораживается.
Акт «перевода», «траты» Фуко и Бодрийяр называют актом произ¬
водства. Внешнее — это видимое, показанное, предъявленное, а внут¬
реннее — невидимое, непоказываемое, непредъявленное. Внутреннее они
называют порядком тайны и соблазна. То есть то, что русские называют
душой, новые французы уже редуцируют не к сознанию, а к тайне соб¬
лазна. У них не душа противостоит истории и производству, а соблазн.
Хотя всякий соблазн является тайным агентом производства.
Обнаружение тайны носит характер порнографии. Вся европейская
культура непристойна. То есть там, где русская культура обнаруживала
душу, европейская обнаруживает соблазн.
Для русских затруднителен жест перевода вовне того, что у них есть
внутри. Ибо внутри — душа. Поэтому русские не в ладах с историей и с
производством. У нас не все должно производиться, просчитываться,
становиться видимым. А если что-то и становится видимым, то с болью
и жалостью, ибо душа заставляет поступать не так, как выгодно, а так,
как хочется. По правилу: «Гуляй, душенька, гуляй, милая...» (В. Розанов).
У европейцев все есть язык. Они хотят, чтобы все было сказано. По¬
этому у них история рассеивает привилегии и власть. И одновременно
она носит порнографический характер. Как выворачивание изнанки
соблазна. Вот констатация Бодрийяра: «Отныне больше не говорят:
„У тебя есть душа, и ты должен ее спасти*, — но говорят так: „У тебя
есть по л у и ты должен знать, как его правильно использовать*; „у тебя
есть бессознательное у и ты должен научиться его освобождать*;
„у тебя есть тело, и ты должен научиться им наслаждаться*; „у тебя
есть либидо у и ты должен знать, как его расходовать* »1.
Если культура умеет переводить внутренний план существования
человека во внешний порядок, то нет надобности в подавлении того, что
внутри. А значит, нет надобности и в его освобождении. Достаточно
производит^. Поэтому ничто не действует по принципу подавления. Все
действует пр принципу производства. В результате этого действия про¬
изошла антропологическая катастрофа. Душа распалась, а человек ре¬
дуцирован к рабочей силе, к телу. Внутри «никогда ничего не накапли¬
вается». Пустота побеждает накопление. И сопротивляется власти и
производству. Привилегия немногих быть людьми теряет свою опору в
1 Там же. С. 53.
Складки
157
гуманизме. Ничто не запрещает языку рассеивать человеческое. Все те¬
перь человеческое. Везде гуманность. Ничего не надо делать, чтобы быть
человеком. Концентрация рассеянного так мала, что не позволяет отли¬
чить человека от обезьяны. На этой основе возникает симулякр отно¬
шения к вещам.
Тезис Фуко о том, что человек возник недавно и скоро исчезнет,
недостаточно радикален. Он меркнет перед радикализмом Ницше, за¬
явившего, что человека убили греки. Сократ с Платоном. Что человек
исчез давно, как только его оплели вяжущие связи сознания.
4
Цветущая сложность всегда предшествует вторичному упрощению.
А результатом вторичного упрощения является симуляция подлинного.
Психоанализ стал признаком расцветающей сложности в сфере секса.
Но цветущая сложность предшествует и вторичному упрощению
человека. Вернее, упрощению той ситуации, в которой доминирует пред¬
ставление о том, что все люди, что ни у кого нет прав на привилегию быть
человеком. В результате общество становится гуманным. Везде можно
найти человеческое. Его нет только в человеке. Социум — гуманен. Че¬
ловек социален. Удвоение человеческого приводит к сверхчеловеческо¬
му. Сверхчеловек — это «непристойность» человека. Его порнография.
Разум, как и власть, может конституировать себя как нечто транс¬
цендентное. Сосредоточенное в своей отдаленности и из этой своей от¬
даленности запрещающее и разрешающее. Когда власть там, а мы здесь,
тогда нам что-то не хватает. И в поле этой нехватки работают желания,
запреты и предписания. А вот что делать, когда тебе всего хватает, ког¬
да у тебя нет желаний? Что происходит в эпоху всеобщего равнодушия
с разумом и с властью? Ведь власть держится желаниями тех, кто что-то
желает. В этот момент происходит позитивное рассеивание ума, власти
и желаний. Действие по модели производства приводит к следующим
результатам1:
1. Люди размножаются до бесконечности. Вещи заполняют челове¬
ческий мир до непристойности. Человеку противостоит не животное, а
удвоенный человек. Никто. Более пустое, чем пустота.
Симулякр выходит за пределы смыслового поля бинарных структур.
Он не противопоставляет красивое и безобразное, а отыскивает более
красивое, чем красота. И более безобразное, чем безобразность.
Красивее красивого становится мода. Безобразнее безобразного —
чудовищность. Мода очаровывает и обольщает. Чудовищное парализу¬
ет и подавляет.
2. Симулякр создает удвоенное видимое. То, что переполнено види¬
мостью. И само бросается в глаза. Это непристойность. И более скрытое,
чем скрытость. Это секрет.
См.: Бодрийяр Ж. Экстаз и инерция.
Глава III
158
3. Отсылка к истине теряет смысл, ибо ей не противостоит ложь. Это
иллюзия.
4. Всякое свойство, возвышенное до удвоения, поглощает энергию
своей противоположности. Красота поглотила энергию уродства. Ис¬
тина поглотила ложь и стала симуляцией.
5. Человек разумный стал разумнее разумного. В зауми симулякра
растворено безумие. Экстаз ума становится чистым качеством любого
человека, который вращается вокруг самого себя вплоть до потери смыс¬
ла. Благодаря этому он начинает светиться своей чистой и пустой формой.
6. Социальная масса более социальна, чем социум. Она поглотила
всю энергию антисоциального и создает более реальное, чем реальность.
Г иперреальность.
7. Природа не терпит пустоты. Человек культивирует пустоту. Ибо
там, в пустоте, он рождает гиперреальность.
8. Симулякры ведут человека к катастрофе. А катастрофа — это
максимум события. Нечто еще более событийное, чем событие. Событие
без последствий.
Симулякр существует как человек без свойств. Как тело без органов.
Как событие без последствий.
9. Все правы. Везде равенство. Никто не угнетает.
Анализ современного общества приводит Бодрийяра к мысли о воз¬
можности и желательности антропологической катастрофы. Не желая
этой катастрофы, можно лишь констатировать, что репрессии гуманнее
производства. Что человек расцветает при тиранах, а души плодоносят
в эпоху всеобщих запретов.
§ 3. Сартр. Экзистенциальная складка
антропологии
Экзистенциализм начинается с констатации простой вещи, с нехват¬
ки бытия. С онтологического дефицита.
Онтологический дефицит
Положение о том, что есть только бытие и нет никакого небытия,
служит основанием для этического пессимизма. Оно делает невозмож¬
ными всякие изменения и новизну. А это значит, что человек всегда бу¬
дет существовать в режиме «теперь, когда уже все случилось». И прош¬
лое будет определять, что нам делать и как нам жить. Сущности будут
управлять существованием.
Экзистенциалист — это человек, который не хочет быть марионеткой
сущности, рабом прошлого. Он хочет жить в режиме теперь, когда еще
только все начинается. Но для этого экзистенциалисту нужна нехватка,
пустота. То, во что можно изменяться. Куда можно двинуться. Так что
всякая экзистенция может себе сказать, что еще ничего не случилось.
Что все впереди. В будущем.
Складки
159
Итак, всякому человеку нужно выбрать одно из двух. Или прошлое
и никакого дефицита бытия. Или будущее и онтологический голод. Эк¬
зистенциализм выбирает онтологический голод. Нехватку бытия как
онтологическую структуру мира. Вот цитата из «Бытия и Ничто» Ж.-П.
Сартра: «... для-себя онтологически описывается как недостаток бы¬
тия, а возможное принадлежит к для-себя как то, чего ему недостает,
так же ценность преследует для себя в качестве целостности недо¬
стающего бытия. То, что мы выражаем... в понятиях недостатка,
может также выражаться в понятиях свободы... Свобода возникает
только при недостаточности... »1. Далее: бытие «может существовать
только в качестве недостатка бытия»1. «Чтобы бытие являлось не¬
достающим или недостатком, нужно, чтобы оно создавало в себе свой
собственный недостаток»1. Или: «только бытие, которого не хвата¬
ет может перевести бытие к недостатку»1 2 3 4. И еще: «... недостаток
идет к вещам в форме «возможности », «незавершенности », «отсроч¬
ки », «потенциальности »5.
Казалось бы, все, что есть — это и есть бытие. Но это не так. Ведь
если бы это было так, то не было бы ни желаний, ни возможности. Эк¬
зистенциалисты указывают на вещи, которые есть, но у которых нет
бытия. Например, почему существует кажимость? Ведь если бы было
одно бытие, то никакой кажимости бы не было. А она есть, указывая на
то, чем она не является. Следовательно, есть какая-то дыра в бытии,
какой-то изъян, который заполняется разными вещами. В том числе ка¬
жимостями, возможностями, свободой, ценностями, личностями, же¬
ланиями. Кто желает, тому и кажется.
При дефиците бытия человеку все время что-то мерещится и чего-то
хочется. Видимости уводят его в сторону от истины. Но зато у него есть
желания и будущее.
Критика экзистенциализма
Сартр говорит, что «желание есть... недостаток бытия »6. Когда мне
говорят, что быть алкоголиком плохо, что алкоголизм является недо¬
статком, мне это понятно. Я понимаю недостаток как ущербное качество,
дурную привычку, которая может мне помешать в достижении каких-то
целей. Если желание является недостатком бытия, то я обязан его пони¬
мать как некий алкоголизм бытия, мешающий бытию развернуть себя в
качестве бытия. И тогда бытие надо лечить, избавить его-от желания.
Другой смысл недостатка передается как нехватка. Если у меня не¬
достаток, то это значит, что мне чего-то не хватает. И без этого что-то
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. М.: Республика, 2000. С. 568.
2 Там же.
3 Там же. С. 119.
4 Там же.
5 Там же. С. 222.
6 Там же. С. 579.
Глава III
160
я неполон. И поэтому мне нужно стремиться заполнить образовавшую¬
ся пустоту. Если желание является тем, что недостает бытию, то это
значит, что в бытии есть пустоты. И эти пустоты надо заполнять. Но
можно ли заполнить пустоту бытия желаниями? Ведь если у бытия не
будет недостатка, то оно не будет желать. И не будет действовать. Сле¬
довательно, у бытия нужно сохранить недостаток, некую пустоту. Вот
желание и является плодотворной пустотой бытия. Действенным недо¬
статком. Ибо чем больше желаний, тем больше стимулов для бодрство¬
вания бытия.
Негативный взгляд на дефицит бытия. Продолжение критики
экзистенциализма
Онтологический голод создает иллюзию заднего мира, второго пла¬
на бытия. А если есть иллюзия, то люди верят, что там, за ширмой, в
лабиринтах заднего мира, у них за спиной все время что-то происходит.
Вынашиваются какие-то планы. Строятся заговоры. Их обманывают.
И прямо в глаза им никто ничего не говорит. Обо всем можно только
догадываться. Все шепчутся. И все на подозрении друг у друга.
Итак, с одной стороны, нехватка бытия создает перспективу движе¬
ния, чувство возможного будущего, а с другой — возникают иллюзии.
Заговоры, обман, подозрительность и тайны второго плана. Конечно,
если жить в режиме полноты бытия, то ничего этого не будет. Но тогда
не будет и будущего. Экзистенциалисты хотят оставить хорошее от он¬
тологического дефицита, а плохое — убрать. Им нужно рассеять подоз¬
рительность и сохранить перспективу. Ничто не должно быть скрыто.
Все должно стать прозрачным. Обеспечить прозрачность должны были
феномены.
Патология экзистенции. Отвращение к экзистенциализму
Экзистенция возникает как воздушный пузырь в заполненном сосу¬
де. Ты его можешь перемещать из одного места в другое, но с ним ниче¬
го не происходит. Возникает то, что шахматисты называют вечным ша¬
хом. Монотонным повторением одного и того же. Ничейность движений
обессмысливает субъектность, вовлекая экзистенцию в бесконечный
тупик будущего, в патовое пространство существования.
Сартр не рассматривает монотонную патологию экзистенции. Он
использует другую форму экзистенциальной патологии, которая мыс¬
лится как смещенная субъектность, как чистый пат, связанный с дуальным
строением экзистенции. У экзистенции, которая виртуально может пе¬
ремещаться, ходить, в действительности нет хода. Нет субъектности.
У экзистенции, у которой есть реальный ход, нет виртуальной возмож¬
ности ходить. Патология экзистенции, обусловленная онтологическим
дефицитом, выражается лучше всего в отношениях между «Я» и другими.
Всякое движение в будущее оказывается экзистенциальной патоло¬
гией, смещением реальности относительно виртуальности. Цитата из
Складки
161
Сартра: «Невозможно, чтобы я не имел места»1 11. Но как раз это-то и
возможно. Ведь что такое я? Это присутствие к себе. Некий перелет от
того, что есть, к тому, чего нет. От фактического к возможному. А мес¬
то - это такой порядок, который указывает на меня как на свое основа¬
ние. Расположение вещей на моем столе указывает на меня. Я его осно¬
вание. И то, что рядом с лампой лежит «Бытие и ничто» Сартра, указы¬
вает не на причину, а на мои предпочтения. То, порядок чего указывает
на меня, называется домом. Так вот, экзистенция не имеет дома. У нее
нет места, она живет в гостинице, порядок которой основан не ею, а
каким-то другим целым. Бездомность экзистенции, неуместность при¬
сутствия к себе указывает на то, что экзистенциальное «я » живет в мире,
в котором ее, как воздушный пузырь, все время отсылают в другое мес¬
то. И поэтому она в «состоянии перелета». Значит, до меня никакого
места не может быть. Оно не предусмотрено онтологией. Уверенность
Сартра в том, что для каждого в мире есть место и что это место никем
не занято, базируется на простом расчете. Твое место задается твоей
целью. А цель ты выбираешь сам. Например, тебе не хочется жить в глу¬
ши, и ты выбираешь Москву, конституируя ее в качестве абсолютного
места. А если ты космополит, то твое место везде. То есть нигде. Несо¬
размерность места и цели хорошо понимал Лебядкин из «Бесов » Досто¬
евского. Кто ты? Лебядкин. И миру безразличны твои цели. Ты должен
знать свое место, т. е. место, порядок в котором основан на тебе. «Су¬
дарыня, я, может быть, желал бы называться Эрнестом, а между тем,
принужден носить грубое имя Игната — почему это, как вы думаете?
Я желал бы называться князем де Монбаро, а между тем я только Лебяд¬
кин... Я поэт, сударыня, поэт в душе, и мог бы получать тысячу рублей от
издателя, а между тем принужден жить в лохани...». Место требует тож¬
дественности «я», а не рефлексивной раздвоенности экзистенции.
Позитивный взгляд на дефицит бытия в русской философии
Воздушный пузырь экзистенции может мыслиться как элемент дву¬
сторонней устроенности мира. То есть дело не в будущем, а в двусто-
ронности всякого мира. Всегда есть две стороны. Одна видимая. Дру¬
гая — невидимая. Одна техническая. Другая магическая. И каждому
нужно быть в гармонии как с одной стороной, так и с другой. А это
значит, что нельзя выворачивать мир наизнанку. Нельзя сделать бытие
прозрачным. Можно только воздушный пузырь гонять из стороны в
сторону. Существование всегда будет непроницаемым, полагая свою
сущность как модус изнанки.
Экзистенция устроена логически некорректно. Это мнение утверди¬
лось в русской философии. После К. Леонтьева экзистенциализм евро¬
пейского толка среди русских философов стал невозможен. Нельзя
называть вещи своими именами и одновременно быть экзистенциали¬
1 Там же. С. 498.
П 1920
Глава III
162
стом. В мире есть черные и белые. Русские и россияне, идиоты и нор¬
мальные, умные и глупые. И нельзя черное сделать белым, низкое —
высоким, а урода — красавцем.
Истина, помещенная на внутренней стороне мира, называется прав¬
дой. В двустороннем мире не может быть равенства сторон. В нем не¬
прерывно воспроизводится разрыв полюсов. Но зато в нем у каждого
есть кожа. Поверхностная оболочка. И еще есть то, что сохраняется
кожей, просвечивая через нее. Кожа вещей двустороннего мира прячет
и спасает от экзистенции подлинность всякого сущего. Резюме: Дефицит
бытия требует не свободы, а деспотизма формы, основанной на эстети¬
ке неравенства.
Бытие взаем
Онтологическая некорректность экзистенции состоит в идее равен¬
ства, в том, что она не допускает существования изгоев изнанки. Она
ищет возможность выхода к поверхности существования и для того, что
не имеет бытия. Но для реализации этой возможности экзистенциалис¬
там нужно где-то взять бытие взаймы. Где же можно взять недостающее
для всех бытие? Проще всего его, конечно, можно было бы попросить у
Бога. Но Бог не дает взаймы. Даже если бы Он его давал, то бытие было
бы пассивным. Оно бы непрерывно творилось и было простой субъек¬
тивностью Бога. И никакого понятия об объективности тогда бы не воз¬
никло. Поэтому экзистенциализм отделяет бытие от Бога, наделяя бытие
собственной опорой. «Бог, — пишет Сартр, — если он существует, ока¬
зывается случайным»1, как случайна эта травинка, факт существования
которой не раскрывается необходимостью. Все, что в бытии от Бога,
бытие представляет от себя. Но и бытие не может брать взаймы у само¬
го себя. Чтобы занять бытие у бытия, нужно, чтобы оно стало курицей-
несушкой. Чтобы оно само себя творило. Если же бытие будет творить
само себя, то оно станет причиной самого себя. У него появится при¬
сутствие к себе, т. е. бытие будет до бытия. Что нелепо. Поэтому Сартр
полагает, что «бытие не может быть причиной самого себя»1.
Заимствованное существование
Недостаток бытия экзистенциализм восполняет из небытия при по¬
мощи сознания. Существование, определяя сущность, создает новые
возможности существования. Например, в составе бытия нет таких пред¬
метов, как вера и удовольствие. Но они существуют. И их нельзя описать
не только в физических терминах, но и в онтологических. Они сущест¬
вуют как сознание. А это значит, что нет сначала сознания, у которого
затем появляется удовольствие. И нет сначала удовольствия, которому
потом дают сознание. Удовольствие — это сознание удовольствия. Или,
что то же самое, в составе бытия появляются вещи, которые существуют, 1 21 Там же. С. 114.
2 Там же. С. 37.
Складки
163
-i
если хотят, чтобы они были. Удовольствие существует как стремление I
к удовольствию. Вот этим заимствованным существованием и заполни- |
ются изъяны бытия, выравниваются полюсы онтологии.
Экзистенция может существовать только в режиме онтологическо¬
го заема. И хотя каждый из нас именуется другим: то как официант, то
как влюбленный, то как преподаватель, — сами по себе мы ничто. И име¬
нуем себя по имени изначального выбора проекта.
Метаморфозы заимствованного существования
Существование заимствуют свобода, возможность, ценности, лич¬
ность. Экзистенциализм практикует три способа заема. 1. Отождествле¬
ние сознания и существования. Например, свобода существует в форме
сознания свободы. И никаким иным способом она не существует.
2. Отождествление порыва и существования. Например, красота сущест¬
вует стремлением к красоте. 3. Опустошение внутреннего ради расши¬
рения возможностей внешнего. В этом случае запрещается мыслить
человека как человека и разрешается мыслить его как человека-в-мире.
Соответственно возможны три метаморфозы заимствованного су¬
ществования.
1. Существование веры как сознания веры рождает столкновение
знания и веры. Знание превращает веру в неверие. Сознание веры начи¬
нает существовать как неверие.
2. Свобода существует стремлением к свободе. Но стремлением к
свободе существует не свобода, а ничто, необходимость которого важ¬
нее свободы. Стремлением к красоте существует не красота, а мода. Мода
оказывается тем, что красивее красивого. Стремлением к добру сущес¬
твует не добро, а капитал. Ничто представляет его как удвоенное добро.
3. Человек, существуя в мире, перестает существовать в себе. В нем
нет никакого убежища. «Человек-в-мире» становится формулой выво¬
рачивания человека наизнанку. В философии Сартра выворачивание
изнанки человека обеспечивается признанием того, что бытие челове¬
ка — это осознанное бытие. Рефлексивная раздвоенность, дистанциро¬
вание человека от самого себя делает человека опасным для себя.
Бытие
Экзистенция находится за пределами парменидовского понимания
бытия, за пределами признания того, что все, что есть, поскольку оно
есть, и есть бытие. Инстанция, сообщающая о том, что нечто есть, также
Должна быть. Эту инстанцию называют мыслью. Но это нечеловеческая
мысль. Ибо она есть, а головы у нее нет. И поэтому бытие одновременно
является и мыслью о бытии. То есть законами бытия с неизбежностью
воспроизводится и понимание бытия. Это одно событие, а не два. Внут¬
ри него нет никаких разделений, никаких пространств и времен. Экзис¬
тенции же нужно время. Можно выделить три типа бытия: 1. Бытие,
которому для того, чтобы быть, достаточно быть бытием. Это субстан-
II*
Глава III
164
ция. Но она пассивна. 2. Бытие, которому, для того, чтобы быть, нужно,
чтобы было и бытие, и сознание. При этом пассивное может стать ак¬
тивным. И наоборот. Таково взаимное пожимание руки. Мне пожимают
и я пожимаю. Рукопожатие как тип бытия использует Гуссерль для свое¬
го анализа. 3. Бытие, которому, для того, чтобы быть, достаточно, чтобы
было сознание. Это видимость. Этот тип бытия анализирует Сартр.
Время
Время меняет нас так, что никто из нас не является причиной изме¬
нений. Так появляется фактическое. Время только отделяет. Но оно не
связывает. Оно отделяет меня от меня же самого. И только во времени
я могу воздействовать на себя. Что же позволяет мне говорить, что я тот
же самый? Эта тождественность не обеспечивается самим временем.
Значит, должно быть что-то вневременное. Или Бог, или трансценден¬
тальное единство апперцепции. В противном случае все сущее становит¬
ся временным. Случайным. И время никого не лечит. Полная свобода
реализуется хаосом.
Если Бог все время творит меня, позволяя мне узнавать себя как
одного и того же, время тогда становится фикцией. И непонятно, поче¬
му не распадаются вещи, и откуда берется инерция. Если же время ре¬
ально, то все происходит во времени. И нужно, чтобы Бог подождал,
когда в чае растает сахар. Пусть ждет, чтобы увидеть.
Цитата из Сартра: «Временность должна иметь структуру
самости»\ а самость должна иметь структуру времени. Если время не
будет себя отделять от себя, то никакое Я не сможет дистанцироваться
от себя. И тогда будет одно бытие в себе. Плотное и непроницаемое.
Неэкзистенциальное понимание бытия
Быт — корень всякого бытия. Укорененность бытия в быте лишает
бытие метафизических измерений. Оно из далекого становится близким.
Из неясного понятным. Бытие перестает упорствовать в своем бытии и
начинает существовать в порядке быта. Бытие не бытийствует. Оно в
своем бытовании находится в пространстве повседневного как нечто
одомашненное, прирученное. Бытие, как чайник, всегда где-то рядом.
Под рукой. Подручность бытия делает ненужной любую онтологию.
Бытие бытийствует как быт.
И только разрушение быта может отдалить бытие. Изгнать его из
пространства подлинного и сделать диким. Неприрученным. И тогда оно,
как дикое животное, становится предметом изучения онтологии. Поки¬
нув быт, бытие становится избыточным. Привлекательным для онтоло¬
гии. В онтологии нуждается ум человека бездомного. Некоего перекати-
поле. Бытие бытийствует в своей закрытости перед онтологией ума,
перед неукорененностью в порядок быта. Чтобы открыть бытие, его
1 Там же. С. 166.
Складки
165
нужно укоренить. Быт лишает учение о бытии самого предмета бытия.
Деонтологизация бытия обнаруживает пустоту онтологии, которая при¬
нуждена теперь говорить не о бытии в его закрытости, а о пространстве,
материи и времени.
Сознание
Нельзя просто быть. Просто бывают наивы, примитивы и дикие. Со¬
знание коренится не в бытии, а в ничто. В составе антропологической
тавтологии нет места для сознания. Поэтому Сартр разрушает тавтоло¬
гию, заменяя ее антропологическим нонсенсом. «Я есть то, что Я не есть ».
И «Я не есть то, что Я есть». В ситуации бессмыслицы нельзя просто
быть, нужно стремиться к себе. Нужен порыв, т. е. требуется присутствие
к себе заимствованного существования. А это и есть сознание.
В сознании присутствующего к себе не существует ничего, что не
было бы сознанием существования. Если бы сознание коренилось в бы¬
тии, то в нем обитали бы сущности. И оно, как всякий склад, было бы
содержательным. А поскольку сознание учреждается в ничто, постоль¬
ку в нем ничего нет. Оно пусто. А это значит, что ничто внешнее, никакое
бытие не может определять сознание. Мотивировать его. Если бы бытие
определяло сознание, то тогда можно было бы быть посредством целей,
спроектированных по другую сторону мира. И не надо было бы ничего
выбирать. Сартр не признает в докогитальном сознании сознание. Ци¬
тата из «Бытия и Ничто»: «Выбор и сознание есть одно и то же»1, если
же за тебя выбирают обстоятельства, то у тебя нет сознания.
Вот, например, Адам. Ева ему предложила, а он взял яблоко. Была
ли у него возможность выбора? Мог ли он не взять яблоко? Если бы он
его не взял, то это был бы другой Адам. Если же Адамов много, то «на¬
шего» Адама нужно понимать как случайность. Другой Адам — это и
другой мир, которых, опять-таки, много.
Адам не выбирал: брать ему яблоко или не брать. Его выбрал Бог.
А если его выбрал Бог, то Адам действует согласно сущности, выбранной
Богом. И его действия свободны, ибо свободен тот, кто действует в со¬
гласии со своей сущностью.
Такова теория свободы Лейбница. В рамках этой теории Адам явля¬
ется, конечно же, свободным человеком. Но он ни за что не отвечает.
Ему ничего вменить нельзя. Значит, у него нет и сознания. В теории Сар¬
тра Адам перестает определяться сущностью. Он теперь определяется
выбором целей. Бог в прошлом. Цели ведут в будущее. Адам выбирает
будущее и забывает прошлое. Выбрав будущее, он выбирает себя, взяв¬
шего яблоко. И Бог ему теперь не помощник.
Когда Адам был с Богом, у него было нерефлексивное сознание. И он
не ошибался. Выбрав себя, он выбрал сознание и возможность заблуж¬
дения. Выбрал путь ошибок. Рефлексивное сознание ошибается, но зато
Там же С. 472.
Глава III
166 j
; с ним ты свободен. Всякое свободное решение фальшиво, ибо это реше¬
ние можно свободно поменять, а сохраненная самость оказывается за¬
блуждением о самом себе.
Сартр нигде не объяснил, почему сознание может быть причиной
себя, а бытие не может. Почему сознание творит себя, а бытие не творит.
И каковы последствия существования сознания во времени. Ведь чтобы
сознание смогло себя сделать своим предметом, оно должно случиться
во времени, а потом уже обратить на себя внимание как на то, что эмпи¬
рически случилось. Время — это не сознание времени. У него нет бытия
взаймы. А у сознания оно есть. Почему же тогда сознание никогда не
есть то, что оно есть?
В силу своей пустоты всякое сознание начинается как «сознание о»,
т. е. как встреча с тем, что не является сознанием. Как встреча с быти¬
ем. В самом сознании, кроме сознания, нет ничего. Ни одна вещь мира
не существует дважды: один раз в пространстве и времени, а другой
раз — в сознании. Предметы сознания существуют заимствованным
существованием, ибо само сознание является способом существования
этих предметов. Например, удовольствия. И лишь потом появляется
беспредметное сознание, т. е. сознание, которое существует, сознавая
свое существование. Нельзя знать, как рождается сознание, ибо со¬
знание является себе уже рожденным, чем-то временным. Если есть
«до» и «после», то это значит, что уже есть сознание, в котором уста¬
навливается этот порядок. И в терминах этого порядка нельзя описать
сознание.
Немыслящее отношение сознания к себе
В основе сознания лежит знание. Чтобы знать, нужно познавать.
Сознание как бы специально сделано для того, чтобы познавать. Но если
оно познает, то оно должно познавать и себя в качестве познающего.
А это регресс в бесконечность. То есть, не пробежав этой бесконечности,
сознание не возникнет. Пробежать же ее невозможно. А сознание есть.
Существует. Значит, существование сознания не связано с познанием.
Оно уже должно быть, фактически случиться, чтобы одним из признаков
случившегося было познание.
Поэтому экзистенциалисты запрещают сознанию мыслящее отно¬
шение к самому себе. У сознания ко всему мыслящее отношение, а к
себе — не мыслящее. Сознание себя не мыслит. Сознавать себя — значит
существовать. А это значит, что факт существования — не дело мысли.
Его никогда нельзя будет вывести из мысли. Возникнув, сознание дела¬
ет свое существование немыслимым. Не имея возможности помыслить
себя, оно мыслит другое.
Когда я говорю, что вижу стол, я стол не мыслю. Я знаю, что вижу
стол. «Знаю, что вижу» — это окно. Проем. Пустое место, которым я
вижу. И его нельзя загораживать содержаниями, всякими отчетами о
работе тела или души.
Складки
167
Сартр пишет: «... философия должна исключить вещи из сознания
и восстановить подлинное его отношение к миру »1. Сознание возника¬
ет и исчерпывается в полагании и предмета, и себя, видящего этот пред¬
мет. Нет двух сознаний: рефлексивного и отдельного от него непосред¬
ственного. Есть одно сознание, единое с тем сознанием, которое оно
осознает. Сначала появляется пустое сознание. Затем оно заполняется
заимствованным существованием. И только после этого появляется Я.
А вместе с ним и рефлексия.
В осознании стула сознание есть пустое место. Если бы не было этой
пустоты, то человек стал бы монадой без окон и дверей. И он задохнул¬
ся бы в скорлупе своей субъективности. Стул существует независимо от
сознания о стуле. Его бытие раскрывается свойствами, существующими
в мире, а не в сознании.
Удовольствие не нуждается в проеме, в выходе к вещам. Оно, сущес¬
твуя в сознании, загораживает этот выход, заделывает проем и поэтому
мешает видеть. Воспринимать.
Мыслящее отношение сознания к себе
Сознание мыслит себя в модусе времени, того, что оно вот только
что было. И прошло. Ушло в прошлое. И сознание обращается к себе.
Рефлексирует. Мыслящее отношение сознания к себе рефлексивно, т. е.
немыслимое сознание всегда на один миг впереди по отношению к мыс¬
лимому, к тому, что стало уже прошлым сознанием.
Феноменальный мир
Бытие есть то, что оно есть. Сознание никогда не есть то, что оно
есть. Если бытие сложить с сознанием, то получится существование по
мере явления. Получится феномен. Сартр пишет: «... бытие сущего и
есть как раз то, чем оно показывается»1. Чтобы сущее было тем, чем
оно себя показывает, нужно со всех вещей содрать кожу. Оголить их.
И тогда они будут тем, что они есть в своей подлинности. Ведь бытие
узнается экзистенцией как бытие в момент, когда с сущего снимают по¬
верхностный покров. В Средние века полагали, что только Бог своей
материей указывает на свою сущность. И поэтому с него не надо «спус¬
кать шкуру». Во всех остальных случаях бытие только просвечивает.
И чем тоньше кожа, тем лучше. Экзистенциализм отказывается от этого
положения, наделяя феномен двумя смыслами. Во-лервых, феноменом
становятся вещи, лишенные покрова, т. е. пространственности. Во-вто¬
рых, феномен уподобляется божественной способности самим сущест¬
вованием указывать на свою сущность.
Все существует в пространстве и времени. Для всего есть причины.
Но бытие трансцендентно по отношению к пространству и времени.
А сознание зацепилось за время. Сознание — это чистая временность. 1 21 Там же. С. 26.
2 Там же. С. 20-21.
Глава III
168
Поток феноменов. Феномены непосредственно раскрываются сознанию.
А объект опосредованно. Через понятия. Феномены делят бытие на две
части: по одну сторону феноменов находится бытие в себе, а по другую —
бытие для себя.
Устанавливая связь между существованием и явлением, нужно при¬
нимать и последствия этой установленности. То есть нужно признать,
что нет, например, невысказанных мыслей, а есть только высказывания.
И мысль существует только как высказанная мысль. А также не сущест¬
вует подпольных людей, а существуют только люди-феномены. Указан¬
ные выше следствия порождаются тем способом мысли, который харак¬
терен для экзистенциалистов. Для них бытие перестало быть тождест¬
венным мышлению. И стало способом бытия сознания. Тождество бытия
и мышления не рассматривается больше как входной билет в философию.
Экзистенциалисты придумали другой пароль философии: абсурд. Нон¬
сенс. Беркли не сомневался в том, что бытие — это знание о бытии. Что
бытие и мышление тождественны. А Сартр в этом сомневается. Правда,
его сомнение держится на довольно зыбком основании, а именно: на воз¬
можности задать вопрос о том, есть ли у самого знания бытие. Или нет.
Бытие не есть знание о бытии. А значит, оно не есть и явление бытия.
Следовательно, Сартр ведет речь о каком-то бытии, которое бытийству-
ет в феноменальном мире, не являясь. Сартр к феноменальному миру
прибавляет неявленное бытие. Ну а раз появилось неявленное бытие —
значит, кто-то же с ним сообщен. Оно как-то же дает о себе знать.
Неявленное бытие нужно искать не на стороне объекта, не на сто¬
роне мира вещей, а на стороне субъекта. Неявленное бытие — это бытие
субъекта. А быть субъектом — значит быть сознанием. Иными словами,
неявленность относится к сознанию. Нетождественность бытия и со¬
знания заставляет Сартра отказаться от идеи прозрачного сознания.
В сознании обнаружено непроницаемое пятно. Мир является тому, что
само себе может быть и не явлено.
Неявленное бытие сознания Сартр называет дорефлексивным со¬
знанием. А явленное бытие сознания — рефлексивным сознанием. До-
рефлексивное сознание — это не подпольное сознание. Это способность,
не видя себя, видеть что-то другое. И наоборот. Увидев себя, не замечать
что-то другое.
Бытие в себе
«Несотворенное, бессмысленное, никак не связанное с иным быти¬
ем, бытие-в-себе излишне навеки вечные »!. Нет ничего более страшного
для экзистенции, чем бытие в себе. Это бытие не мог создать Бог, ибо
оно возобновляет свое бытие вне зависимости от создателя. Все, что в
нем от Бога, оно делает производным от себя. То, что экзистенциализм
называет бытием в себе, русские философы именуют дьяволом.
Там же. С. 39.
Складки
169
Бытие в себе не относится к себе, не интересуется собой, не желает
ничего знать о себе. Его не волнует иное бытие. Оно не поддерживает
отношений с тем, что не оно, пребывая в какой-то отрешенности, в оди¬
ночестве. Оно не вместе со всеми, а само по себе. К бытию в себе непри¬
менимы глаголы совершенного вида. Оно начинает, но не заканчивает.
В нем полно утверждений, которые не могут утвердиться. В бытии в себе
сосредоточена действенность, которая не может действовать. Ибо она,
как говорит Сартр, «заросла жиром»1, В себе непрозрачно для себя. Оно
переполнено собой. В нем нет изъянов. Оно является сплошным синте¬
зом себя с собой.
Экзистенциалист, как революционер духа, не может позволить чему-
либо быть самому по себе и обрастать жиром. Ему нужно освободить
действенность бытия в себе, вызволить утверждение себя из недр бытия.
Для этого бытие в себе должно допустить в себя время. Изменчивость и
переходы. Экзистенциализм появляется для того, чтобы разрушить бы¬
тие в себе. Чтобы убить этого минотавра. В «бытии-в-себе» нет ни одной
частицы бытия, которая находилась бы на каком-то расстоянии от себя
самой. Здесь «нет ни малейшей пустоты,.. даже самой незначительной
щели, через которую могло бы проскользнуть ничто»1. Для бытия-в-
себе характерен принцип тождества, т. е. бесконечной плотности. Не¬
возможность всякой двойственности. Сартр видит в бытии в себе пуга¬
ющие недостатки. Но в них можно увидеть и радующие достоинства.
В себе не существует никакого отношения к себе. В нем нет себя. А это
значит, что бытие в себе позволяет тебе быть самим собой без двусмыс¬
ленности. Без раздвоения. Экзистенциализм полагает шизофреническую
версию бытия собой. По этой версии никто не может быть собой. Все
раздваиваются. Ибо совпадение с собой ведет к исчезновению себя в
абсолютной плотности бытия.
Компрессия бытия
Бытие, предоставленное самому себе, сжимается до абсолютного
тождества, до единого. Бытие в себе является последней точкой сжатия
и выражается тавтологией. В пространстве тавтологии нет места для
личности. Тавтология сжимает двоицу до единицы, наделяя ее гипер¬
полнотой. Несказуемостью. Напротив, сознание личности есть деком¬
прессия бытия. Разжатие. Для себя бытие — другой динамический полюс
бытия. Компрессия бытия реализуется в тождестве,-в понимании того,
что стол есть стол. Декомпрессия бытия реализуется в метафоре. В разъ¬
единительном синтезе нонсенса. Абсурда. В понимании того, что вера
есть сознание веры. Что сознание есть сознание себя. «Себя» — это
дистанция по отношению к самому себе, способ избежать тождества.
В пространстве метафоры появляются щели бытия, которые, расширя¬
ясь по мере декомпрессии, становятся дырой ничто. Абсурдом. Нахо- 1 21 Там же. С. 38.
2 Там же. С. 107.
Глава III
170
диться между тождеством и разъединительным синтезом множествен¬
ности — значит присутствовать по отношению к себе. Недостаток бытия
восполняется от себя, что делает возможным выражение «сам делает
себя». Например, некто сам себя высек. А если в присутствии по отно¬
шению к себе появляется то, основанием чего ты не являешься, возни¬
кает присутствие по отношению к миру. Если присутствие по отношению
к себе дает самость, то присутствие по отношению к миру дает фактич¬
ность. Механизм декомпрессии бытия связан с метафорой, с отождест¬
влением различного. Вот, например, вера. Конечно, вера есть вера. Но
тавтология ведет нас к бытию в себе. К компрессии бытия. Для того что¬
бы произошла декомпрессия бытия, нужно отождествить веру и созна¬
ние веры. Вера, существующая посредством знания, становится невери¬
ем. В результате декомпресии веры появилось неверие. Возникло про¬
странство антонимов, в котором бытие бытийствует по мере сознания,
т. е. является небытием. Декомпрессия человека превращает его в лич¬
ность. Декомпрессия свободы превращает ее в правовую институцию.
Бытие для себя
«Для-себя онтологически описывается как недостаток бытия »1.
Бытие для себя неотличимо от бытия сознания. Чистое сознание неот¬
личимо от бытия в себе. Ибо оно трансфеноменально. В нем нет смены
состояний. Нет изменчивости. Тем не менее экзистенциализм не намерен
освобождать «я» из плена трансфеноменального. Поэтому экзистенци¬
алистское сознание стало сознанием двойных стандартов в философии.
Одно дело бытие-в-себе. Другое — чистое сознание. Хотя и то, и другое
исключает время.
«,Для-себя... единственно возможное приключениеВ-себе»2. Но что¬
бы знать бытие таким, каково оно есть, нужно быть этим бытием.
Критика бытия для себя Сартра
Сартр обеспокоен нехваткой бытия, развертываемой в дуальности
внутреннего и внешнего. Онтологический голод выступает как основание
мерцающей двусмысленности мира. Сартра все эти мерцания не устра¬
ивают, и он недостаток превращает в универсальную модель любой не¬
удовлетворенности. Но из того факта, что бытие есть в одном месте, еще
никак не следует, что оно перетечет в другое место. Туда, где его нет.
Само по себе бытие никуда не течет и не перемещается.
Для того чтобы оно перемещалось, необходимо, чтобы его кто-то
перемещал. Необходимо кому-то иметь бытие. Быть бытием и иметь бы¬
тие — это два разных события, на различии которых строится сартров-
ская мысль.
Быть бытием — значит быть пассивным, не владеть собой. Не отно¬
ситься к себе, а бессубъектно удерживать свои содержания. То есть быть
1 Там же. С. 568.
2 Там же. С. 242.
Складки
171
субстанцией, материей, которая не может себя ни трансцендировать, ни
полагать, ни отдавать во временное пользование
Это бытие Сартр называет бытием в себе.
Иметь бытие — значит распоряжаться бытием. Полагать его, транс¬
цендировать. Благодаря владению бытие может появиться там, где его
не было. Куда бы само по себе оно никогда не попало.
Это бытие Сартр называет бытием для себя. Бытие-в-себе — это раб.
Бытие для себя — это господин. Быть бытием для себя — это значит не
быть бытием, а иметь бытие. Вступить с ним во властные, волевые отно¬
шения. Без этих субъективных отношений нельзя заполнить нехватку
бытия.
В инстанции, владеющей бытием, нет ни одного элемента, отсылаю¬
щего к бытию. Ведь если бы эти элементы были, то тогда бытие владело
бы самим собой, т. е. было бы пассивной инстанцией. А бытие для себя
субъектно.
Воля и власть, равно как свобода и ценности, коренятся не в бытии,
а в том, что лишено бытия — в «Я». Поэтому никакое «Я» не может быть
сущностью бытия.
Имеющие бытие составляют серию производных разного порядка.
Сама эта серия устремлена в бесконечность и поэтому именуется как
ускользающее бытие. Бытие начинает ускользать в момент вопрошания
о бытии того, что имеет бытие.
Сознание — это тоже бытие, вопрошающее себя о бытии. В вопро-
шании уже содержится возможность негативного ответа. Ничто рож¬
дается сознанием.
Тупость бытия
«Отношение между областями бытия есть простое разбрызгива¬
ние, сделавшееся частью их структуры »*. То есть вот тебя попросили
принести воды, а ты ее, пока нес, всю разбрызгал. И поэтому цели, по¬
ставленные перед тобой, не реализованы. Твои действия обессмыслены.
Экзистенциализм не любит бытие, называя отношения внутри бытия
простым разбрызгиванием. Тупость бытия — это как идиотизм деревен¬
ской жизни. Им пугают детей. Вот, например, деревня. Это беспросвет¬
ность бытия-в-себе. А город — свет бытия для себя. И нужно бежать из
деревни в город. Из бытия в себе — в бытие для себя. Город должен
разрушить деревню бытия. Экзистенциализм рационализирует сознание
полуобразованных жителей большого города.
Вопрошание
Бытие-в-себе начинает разрушаться в момент зарождения вопроса.
Ведь вопрос одним тем фактом, что он есть, приостанавливает действие
установившегося без него порядка. Пока бытие бытийствует, оно не-
Там же. С. 42.
Глава III
172
мотствует. И в нем нет никаких оснований для личности. А вот как толь¬
ко его приостановили, возникает ничто. В ситуации ничто уже нельзя
полагаться на то, что было, на сцепление причин и действий. В ней тре¬
буется личное действие, т. е. действие, основанное на личности. Всякая
личность начинается с вопроса. Экзистенциализм допускает возмож¬
ность того, чтобы ты выбрал бытие, а не ничто, немотствование, а не
вопрошание. Но, выбирая бытие, ты, говорят тебе, выбираешь идиотизм.
А выбирая ничто, ты выбираешь себя как личность. Многие захотели
стать личностями. И поэтому выбрали ничто. Вопрошание открывает
нам, что «мы окружены ничто»1. В прозвучавшем вопросе уже содер¬
жится возможность отрицательного ответа: нет.
Речевая негативность
Бытие-в-себе заключает негативность в пространство речи. Оно де¬
ржит ничто, как собаку на привязи. В порядке слова. Например, ты ожи¬
дал увидеть Петра, а увидел Пьера. И увиденное позволяет тебе сказать,
что твои ожидания не сбылись. Они остались в горизонте заимствован¬
ного существования. В твоем сознании. А здесь, в этом пространстве,
ожидаемого нет. И ты видишь, что Петра нет.
Или вот ты думал, что у тебя в кармане сто рублей, а у тебя оказалось
двести. Из этого факта не следует небытия ста рублей. Хотя ты и гово¬
ришь, что у тебя нет ста рублей.
В любом факте всегда есть нехватка образца. Совершенного. Напри¬
мер, твой друг не соответствует понятию друга. Но образцы по улицам
не бегают. Они задаются порядком слов. Чтобы сказать «нет», нужно
дать слово небытию. Но это небытие скромно размещается в пространс¬
тве слов. Оно является речевой негативностью. Экзистенциализм выпус¬
кает ничто на волю, спускает его с цепи. Экзистенциальная негативность
узнается по трансгрессии речи и опустошению бытия в себе.
Ничто
Ничто может только ничтожить. Это значит, что оно не существует,
ибо существует только бытие. Между бытием и ничто нет никакой диа¬
лектики. Бытие не содержится в ничто, а ничто не содержится в бытии.
Ничто ничтожит бытие в себе. Выманивает его, заставляет его выйти из
себя. И когда бытие выходит из себя, становясь бытием для себя, оно
начинает поддерживать ничто.
У ничто может быть только заимствованное существование, т. е. оно
не может брать из себя силы, чтобы ничтожить. Эти силы оно берет из
бытия, чтобы ничтожить бытие.
Если бы не было небытия, то не было бы и артиллерии. Нельзя было
бы целиться и попасть в цель. Ведь в терминах бытия цель не отделима
от фона, граница между вещами немыслима.
1 Там же. С. 44.
Складки
173
Без ничто не рушились бы дома и дороги, не нужны были бы холо¬
дильники. Ведь в терминах бытия нельзя отделить ни гниение, ни раз-
руху.
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ СОЗНАНИЯ
Сознание коренится в ничто. Для его возникновения не нужно ни¬
чего, кроме него самого. И поэтому никаким бытием его объяснить не¬
льзя. Ни один элемент материи не отсылает к отсутствующему сознанию.
А это значит, бессмысленно изучать тело, чтобы что-то понять в созна¬
нии. Сознание объясняется только сознанием. Если бы в сознании были
какие-то полубессознательные состояния, то оно перестало бы быть
сознанием и стало бытием.
Сознание никогда не есть то, что оно есть. Оно должно быть тем,
что оно было. Осознать мысль — значит признать, что мысль состоялась
во времени как эмпирический факт. А ее осознание — вне времени.
К нему неприменим признак времени. Иначе одно время будет осознавать
другое время.
Критика экзистенциальной теории сознания
Экзистенциалисты обожествляют сознание. Но это обожествление
создает для них непреодолимые трудности. Во-первых, неясно, почему
сознание может быть причиной самого себя, а бытие не может. Во-вто¬
рых, сознание существует во времени. И чтобы себя сделать своим пред¬
метом, ему нужно эмпирически случиться, произойти во времени, а по¬
том уже обратить на себя внимание с той стороны, которая исключает
время. Одна часть сознания всегда застревает во времени, а другая про¬
висает вне времени. Оно не феноменально. Поэтому сознание всегда
начинается как «сознание о», т. е. как осознание того, что не является
сознанием. В самом сознании, кроме него, ничего нет. В нем нет никаких
предметов. Но когда эти предметы в нем появляются, сознание стано¬
вится способом существования этих предметов. И только потом, после
предметов заимствованного существования, появляется беспредметное
сознание. То есть сознание, которое существует, сознавая свое сущест¬
вование. Сознание вне времени есть нечто трансфеноменальное. В нем
появляется Я. Никакого эмпирического Я не существует. Всякое Я транс¬
цендентально. Но эмпирический человек попадает в эту вневременность
во времени. И тем самым он попадает в поле бытия._
Нельзя знать, как рождается сознание, ибо сознание является себе
уже рожденным. Если есть «до» и «после», то, значит, уже есть сознание,
в котором устанавливается этот порядок. И в терминах этого порядка
нельзя описать сознание.
Сартр не обращает внимания на совместное знание, на то знание,
которое позволяет людям быть вместе, уживаться в одном пространстве.
Например, липкость вещей — это знание до знания. Результат совмест¬
ного бытия. В этом знании нет субъекта и нет объекта. Но именно по-
Глава III
174
этому оно становится сознанием. Объектный ряд в нем находится на
втором плане. А значит, и истина, соотносимая с объектом, является
делом второстепенным. В сознании доминирует не интенция, не сознание
о, а «бытие-с ». Согласованный взгляд на вещи важнее самих вещей. Ин¬
тересен не объект сознания в его чистой возможности, а возможность
воспроизведения обжитого мира, расширяемого разными объектами,
их образами.
Интенциональное сознание сосредоточено на том, что сознается.
На объекте. В объекте — все. В сознании — ничего. Пустота. Если бы
оно было не пустым, то оно перестало бы быть интенциональным. Со¬
знание как совместное знание. Всегда содержательно. Его содержания
образуют экран сознания. Видимости. Видимое — это знаемое вместе в
обжитом мире. Экран сознания защищают условия обитаемости мира.
Видимость нельзя не видеть. Она согласует разные взгляды и сама вос¬
производит себя в головах людей. Сознание становится состоянием, в
которое ты гарантированно попадаешь, если принимаешь видимости.
И выпадаешь из сознания, если разрушаешь поле сознания, структури¬
рованное видимостями.
Видимость — это истина на деле. Атомизация видимости придает
сознанию негативный оттенок. В нем появляется умысел. Сознатель¬
ный — значит умышленный, с полным отчетом о своих действиях. По¬
этому сознавать себя — значит признавать себя виновным. Повиниться
перед совместным знанием, устойчивыми видимостями бытия.
Ничтожество человека
Человек изображается Сартром через двойное отрицание. Это и не
случайный факт, и не необходимый идеал. Человек — это декомпрессия
бытия, бегство от того, что есть, к тому, чего нет. Если у психоаналити¬
ков человек бежит назад к себе, к бессознательному, то у экзистенциа¬
листов человек бежит вперед к себе, к себе как Богу. Человек — это
усилие человека стать Богом. А субстрата для этого усилия нет. Поэто¬
му стремление человека стать Богом бесполезно. Бег вперед к.себе пре¬
вращается в бег на месте. В патовое вздутие бытия. Человеку лучше бы
не бежать, а остановиться. Может быть, из него тогда и появилось бы
что-нибудь стоящее. Но экзистенциализм взвинчивает бег на месте до
изнеможения, до судороги суставов у современного человека. Поэтому
современный человек — это судороги человека. Изнеможение экзистен¬
ции.
В экзистенциализме Сартра человек всегда не завершен. Незавер¬
шенное требует завершения. Что толку в желаниях, если они не удов¬
летворены. Невозможные желания не желанны. Поэтому должны быть
возможности. А если они есть, то возможен и выбор возможностей. Было
бы смешно выбирать невозможные желания и нежеланные возможности.
Чтобы заставить бежать осла, к оглобле подвешивают морковку. Осел
бежит за ней и производит полезную работу. Человек, как осел, бежит
Складки
175
за возможностью в будущее, оставаясь всегда на одном и том же месте.
Для экзистенциалистов люди — ослы.
Цитата из Сартра: «Если ничто может быть явлено, то не перед,
не после бытия, не, вообще говоря, вне бытия, но только в самих недрах
бытия, в его сердцевине, как некий червь»1. Ничто приходит в мир по¬
средством человека. Метафорический ряд Сартра точно выверен: ни-
что-червь-человек. Обычно червем называют человека, который поте¬
рял связь с Богом, утратил вертикальное измерение, стал плоским. Сартр
прерывает этот обычай и называет червем того, кто поставил себя вне
бытия, образуя в нем изъяны и пустоты. Вне бытия ставит себя бытие,
которое вопрошает о бытии. То есть интеллигенция, а не какой-нибудь
землепашец. Следовательно, метафорический ряд экзистенции будет
выглядеть следующим образом: ничто-червь-интеллигенция. Но одни¬
ми вопросами нельзя уничтожить массу бытия. Нужно изменить бытию
в себе. Измена ведет к изменению бытия. В бытии появляется то, что
обусловлено не бытием, а свободой интеллигенции. Содержание этого
изменения и есть отношение ничто и бытия, которое никто не решится
назвать простым разбрызгиванием. Ибо это отношение ничтожит бытие
в себе неинтеллигенции.
Ничтожество свободы
Сознательное означает свободное и одновременно умышленное.
Умысел ничтожит свободу. Если бы было бытие-в-себе, то прошлое де¬
терминировало бы действие человека. И никто не избежал бы ответст¬
венности. И из того факта, что мы есть сейчас, следовало бы то, что ты
будешь представлять из себя в следующий момент времени.
Свобода ставит прошлое вне действия. То есть действие всегда на¬
чинается как бы с нуля. А жизнь человека представляет из себя серию
не зависимых друг от друга начинаний.
Ничтожеством свободы предопределено существование начала без
конца. Человек как непрерывно возобновляемый проект самого себя в
каждый момент своего существования является неоконченным. А по¬
скольку он сам делает себя, постольку он является недоделанным. Эк¬
зистенциализм стал формой рационализации сознания не доделавшего
себя человека. «Свобод а... характеризуете я постоянно обновляемой
обязанностью переделывать Я...»1 2 3. Человек, как Кащей Бессмертный,
«всегда отделен посредством ничто от своей сущности»1. Людей мно¬
го. Человека нет, т. е. нет существа, достойного этого имени.
Экзистенциалъностъ самоеда
Весь мир так устроен бытием-в-себе, чтобы обезопасить человека от
него самого. Для этого оно всякое Я держит в сопряжении с делом. А по-
1 Там же. С. 59.
2 Там же. С. 71.
3 Там же.
176 I
Глава III
скольку Я в деле, постольку никакого чистого Я не существует. И не
существует чистого сознания. Я пишу, Я иду, Я ем, Я стыжусь и т. д.
В деле сознание человека всегда нерефлексивно. А после дела оно пус¬
то. Ничто отделяет Я от дела. Я не пишет, не идет, не стыдится. И вот
тогда оно начинает бояться себя. Своей пустоты. Я встречается с собой
и пожирает свое Я. Человек становится самоедом. Ибо нет бытия в себе
крестьянина, которое бы редуцировало дизъюнктивную самость бытия
для себя интеллигенции. Сознание вне дела конституирует сознание для
себя бездельника и самоеда.
Свобода и бунт
«Отрицание отсылает нас к свободе »1. К возможности действовать
по-своему. Чтобы стать свободным, экзистенциалисту нужно научиться
говорить «нет». Если тебе легче сказать «да», то тогда твоя экзистенция
оказывается безвольной. Слабохарактерной. В тебе показывает себя
что-то женское. Экзистенция отсыла привилась в Европе. Русские не
научились говорить «нет». И поэтому у нас нет воли к власти, нет силы
негации. Мы рабы. Наше «да» ведет нас к несвободе. В Европе отрицание
отсылает к свободе. В России отрицание отсылает к бунту, к возмущению
порядком.
Свободен тот, кто определяется посредством самого себя. Каковы же
последствия этого самоопределения? 1. Человек с прошлым несвободен,
ибо сущность прошлого определяет его существование. 2. Поэтому каждый
должен когда-то освободиться от прошлого. Отмыть его. «Свобода не име¬
ет сущности»1. Ведь если бы у свободы была сущность, то у нее были бы и
свойства. И она подчинялась бы логике свободы. И никто не мог бы опре¬
деляться посредством самого себя. А это значит, что сущность определяла
бы существование. И все люди были бы рабами традиций. Свобода — это
не бытие. Свобода — это действие без памяти. Только в этом действии су¬
ществование определяет сущность. И пока существование определяет сущ¬
ность, ты свободен от смысла, которым ты недавно наделял свои действия,
свободен от слов, которые ты говорил вчера. Ведь если бы все эти смыслы
и слова перетекали из прошлого в настоящее, то ты дал бы себе сущность.
То есть ты был бы человеком слова и человеком дела, и одновременнно ты
был бы бытием-в-себе. Природой. Не личностью. Не для себя.
Поэтому экзистенциальная личность практикует дискретность в
действии. Ничто из того, что она делает сегодня, не следует из того, что
она делала вчера. Все, что она говорит сегодня, не следует из того, что
ею говорилось вчера. Экзистенциальная личность является всякий раз
новой. Ей удается не быть тем, что она есть. И быть тем, что она не есть1 2 3.
Или, что то же самое, она имеет право на ложь, на обман, коварство и
измену. И все это ради свободы. Экзистенциальную личность поймать
1 Там же. С. 106.
2 Там же. С. 449.
3 Там же. С. 500-504.
Складки
177
нельзя. Она все время ускользает. Бытие в себе постоянно предприни¬
мает попытки задушить свободу. И задушило бы, если бы не ничто. Пой¬
мав свободу, оно ловит пустоту. Свобода совпадает с ничто и тем самым
спасается от бытия. Цитата из Сартра: «... Неудачные попытки заду¬
шить свободу под тяжестью бытия...показывают, что свобода совпа¬
дает в своей основе с ничто»1. Быть свободным — значит быть любым,
быть чистой случайностью, которую нельзя понять ни исходя из состо¬
яний мира, ни из совокупного прошлого. Абсолютная свобода реализу¬
ется в хаосе бытия для себя.
Свобода солипсиста
Быть свободным — значит всегда выбирать себя. А не Бога. Выбрав,
не позволять себе быть посредством вещи, иной, чем ты сам. Нет ничего,
что экзистенциальный солипсист пропустил бы в себя без своего на то
согласия. Другой — это конфликт. И неясно, как этот конфликт прони¬
кает в лоно солипсиста. Другой может украсть у тебя свободу, превратив
тебя в объект. В экзистенциальной антропологии Сартра только у со¬
липсиста могут быть свободные действия. Но эти действия в принципе
нельзя понять. Поэтому экзистенциальные действия характеризуются
как абсурдные. Не может быть так, чтобы человек был свободен и ему
ничего не хотелось. Он ни в чем не нуждался. Свобода — это недоста¬
точность, нехватка. Отсутствие полноты. Цитата из «Бытия и Ничто»:
«...человеческая реальность недостаточна»1 2. Или, что то же самое:
«...мы приговорены к свободе»3.
Человек, которому ничего не надо, обессмысливает свободу своей
полнотой. Он лишает действие действенности, переводя режим своего
существования в бессубъектный план бытия. В доонтологический режим
понимания самого себя.
Сартру бессубъектное бытие не нравится. Ибо не человеческое это
дело немотствовать своим бытием. Его дело — действие, отрыв от себя,
от того, что в тебе есть данного. Экзистенциальный человек всегда от¬
делен от себя. Раздвоен. И поэтому без ничто он немыслим. А ничто
является условием того, чтобы бытие ничтожилось. Чтобы всегда была
нехватка. Дефицит бытия. Недостаточность. И еще чтобы было стрем¬
ление избежать этой недостаточности. Стремление, которым существу¬
ет экзистенциальный человек.
Критика свободы солипсиста
Быть свободным — значит быть самобытным. Самобытным же может
быть только Бог. Человек может быть вольным, сохраняя возможность
Действовать по-своему. В воле сопрягаются, ограничивая друг друга,
свобода и желание, самость и возможности.
1 Там же. С. 452.
2 Там же. С. 452.
3 Там же. С. 493.
12
1920
178
Глава III
Самообман
Свобода отсылает к самообману1. Бытие-в-себе наива не обманыва¬
ет, ибо оно тавтологично. Бытие-для-себя обманывает, ибо оно двус¬
мысленно. В пространстве свободы легко заблудиться, ибо свободный
никогда не тождественен себе. Он всегда в стороне от себя. Сущность
свободы в самообмане сознания, модусом которого она является. «Кем
должен быть человек в своем бытии, чтобы он мог отрицать себя? »2.
В России он должен быть героем. Критически мыслящей личностью.
Интеллигентом. Тем, кто жертвует своей жизнью, отказывается от себя
во имя того, что больше его. Кто замещает нехватку социальных поряд¬
ков личными качествами. А если этой нехватки нет, то возникает избы¬
точность личных качеств. Появляются отщепенцы. Лишние люди.
Во Франции ему нужно обмануть себя, чтобы отказаться от себя.
Порядок самообмана и порядок негации совпадают. Они являются одним
и тем же порядком.
Критика самообмана
Что значит обмануть себя? Не значит ли это, что нужно солгать себе?
Но солгав, я буду знать то, что я скрываю о себя. А это нонсенс. Помещая
обман самого себя в горизонт знания, человек раздваивает себя. У него
возникает мерцающее сознание.
Для того чтобы избежать раздвоения, нужно отказаться от самооб¬
мана. Никто не может обмануть себя. Можно обмануть другого. Обман
другого строится в горизонте знания. Другой не знает то, что знаю я.
Чтобы солгать, нужны знания и другой. Сопряжение некоего Я, друго¬
го и знания делает необходимым существование лжи.
1
Нельзя заблуждаться, зная, что ты заблуждаешься. Но можно за¬
блуждаться, не зная о заблуждении. Если ложь относится к бытию с
другим, то обман — к бытию с самим собой. Лгут, если знают. Себя об¬
манывают, если верят. Вера существует как самообман без лжи в про¬
странстве с редуцированным другим. Коммуникацию с самим собой без
отсылки к другому и знанию можно назвать нулевой коммуникацией.
2
Почему же Сартр называет веру самообманом? Потому что любой
отказ от себя необъясним иначе, как следствие самообмана. Кто верит,
тот обманывает себя. Кто знает, тот обманывает другого.
3
Самообман как ложь самому себе допустим, если сознание непро¬
зрачно. Когда оно прозрачно, тогда ты знаешь, что Я — это Я. И больше
1 Там же. С. 106.
2 Там же. С. 82.
Складки
179
ничего, кроме Я. Когда же оно непрозрачно, ты, как дикарь, думаешь,
что Я содержательно. Например, ты — это побуждение украсть книгу с
выставки.
Прозрачное сознание не нуждается в посреднике. Непрозрачное
сознание нуждается в посреднике. В другом. В том, кто синтезирует твое
сознание с твоим бессознательным. И это значит, что в тебе есть что-то,
что ты можешь узнать благодаря другому. Знание, сообщенное тебе дру¬
гим, никогда не будет удостоверено твоим Я. Не будет непосредствен¬
ным, тем, что ты не можешь не знать. Оно будет всегда гипотезой.
4
Сартр обессмысливает психоанализ Фрейда, ссылаясь на факт со¬
противления сознательного Я психоаналитику. Фрейд обессмысливает
теорию сознания Сартра, ибо допускает возможность не самообмана,
а обмана со стороны Оно, другого. Сартр стремится обессмыслить пси¬
хоанализ Фрейда, полагая, что никакого бессознательного нет. А есть
только сознание. И следовательно, возможен самообман сознания.
Сартр приводит пример с фригидной женщиной, которая делает хозяй¬
ственные расчеты во время полового акта, дабы отвлечь свое сознание
от испытываемого удовольствия.
Действие из самообмана
1
Бессознательное — это сознание, а не реальность, приводимая к
очевидности. То, что было в сознании, о чем знают и что не хотят знать
по каким-либо соображениям.
Девушка идет на первое свидание. Она все знает. Но есть вещи, ко¬
торые она не хочет знать. Ибо если она их будет знать, то будет просто
свидание. А она идет на первое свидание. И поэтому она не хочет видеть
временных перспектив свидания. Не хочет называть вещи своими име¬
нами, все время откладывая момент принятия решения. Первое свидание
требует разрыва между ее душой и ее телом. Зачем?
2
Затем, чтобы создать две стороны человеческого бытия. Два проти¬
воположных смысла. И возможность перехода от одного смысла к дру¬
гому. Но для чего? Для возможного отступления. Для того чтобы всегда
можно было дать задний ход. Чтобы иметь запасной вариант. От неуве¬
ренности в исходе встречи. Сартр же полагает, что формулы бессмыс¬
лицы нужны для самообмана. Но чтобы себя обмануть, нужно парадок¬
сальным образом нечто знать и одновременно не знать. Что противоре¬
чит идее прозрачности сознания. То, что неприводимо к сознанию,
нельзя познавать. Если же редуцируемо к сознанию, то нет причин для
бессознательного.
12*
Глава III
180
3
Сартр ошибочно полагает, что в момент первого свидания девушка
себя избегает. Что она стремится ускользнуть от себя. Напротив, на
первом свидании девушка боится потерять себя и, чтобы этого не слу¬
чилось, она готовится парадоксальным образом к встрече.
Зачем девушке парадоксы? Во всяком случае не для того, чтобы об¬
мануть себя. А для того, чтобы парализовать свой ум, привести его в
замешательство. Ведь пока ум не в замешательстве, ничто его обмануть
не может. И ты все знаешь.
4
Пока девушка находится в своем уме, никаких докогитальных со¬
стояний ей не достичь. А среди этих состояний любовь. И вера. Девуш¬
ка хочет любить. Чтобы сделать возможной любовь, ей нужно уйти от
сознания, ускользнуть от ума, парализовав его двусмысленностью.
Первое свидание — это безумная попытка встретить любовь. Сделать
ее возможной.
Не самообман — условие докогитального события любви, не усколь¬
зание от себя, а свобода от опеки сознания. Любовь и самообман несов¬
местимы. Любовь требует искренности.
5
Почему нужно быть тем, что ты есть? Чтобы иметь возможность
встречи с докогитальными событиями. И это естественное стремление
человека. Например, бабочка. Вот она летит. И ей не нужно ничего делать
для этого. Не нужно себя обманывать, создавать парадоксальные суж¬
дения. Человек как бабочка. Ему не нужно себя обманывать, чтобы жить.
Ошибка Сартра состоит в том, что он принимает тезис о прозрачности
сознания. А значит, он должен принять идею о тотальности проникно¬
вения сознания. О прозрачности жизни. О замене естества действием,
контролируемым сознанием. Сартр пишет: «Нам нужно сделать бытие
тем, нем мы являемся»1, «Делать бытие» — это категория искусствен¬
ного плана. А докогитальное состояние — категория естественного пла¬
на. Его нельзя делать. «Мы постоянно обязаны делать из себя бытие
того, чем мы являемся». Человек Сартра — это что-то деланное.
6
Вот официант. Профессия. Социальное качество. Некая выдресси¬
рованная рабочая сила, которую продают и покупают. Его жесты, голос,
манеры — вс^ это включено в состав делаемого. Входит в состав потре¬
бительских свойств официанта. У официанта есть права и обязанности.
Но у официанта еще могут быть и личностные качества. Нечто незави¬
симое от игры в бытие официантом. Возникает вопрос: как соотносятся
1 Там же. С. 93.
Складки
181
личные качества и социальные? Сартр полагает, что между ними проис¬
ходит разрыв. Но официант — это не девушка, которая идет на первое
свидание. Он не нуждается в параличе сознания. Ему не нужно убегать
из скорлупы официанта в скорлупу личности. Официанту достаточно
быть рабочей силой, чтобы быть. Все, что не укладывается в социальную
роль, избыточно для бытия. Бытие-в-мире — это бытие в социальном
качестве, разрушающее бытие-в-себе. Официант — это не позиция. Это
судьба. Профессионализм не нуждается в искренности, ибо искренность
коренится в естественности докогитальных состояний. А профессиона¬
лизм — в искусстве сделанного.
Дети и дыры
«Не существует «невинного» ребенка»1. Эта формула Сартра явля¬
ется результатом десубстанциализации человека. Вообще-то детей лишил
невинности и чистоты 3. Фрейд, у которого каждый ребенок стал поли¬
морфным перверсивом. Извращенцем. Правда, сначала ребенок не знает,
что он извращенец, а потом, с помощью взрослых, эта мысль приходит
ему в голову. Сартр лишает детей невинности по-иному. Он приписывает
им выбор, который они сознательно делают, и ответственность за этот
выбор. Человек не вещь, не субстанция, а отношения, связывающие чело¬
века с миром. Если бы человек был субстанцией, то его всегда можно было
бы представить независимо от мира как некое качество, которое мир ухуд¬
шает или улучшает. И в этом смысле можно было бы говорить о невин¬
ности детей. Вернее, само слово «дитя», «ребенок» должно было обоз¬
начать невинность, отсутствие связи с миром. А поскольку человек всег¬
да связан с миром, постольку все не невинны. В том числе и дети. Иными
словами, экзистенциализм не признает существования детей. В нем все
люди уже взрослые. Если бы экзистенциальный анализ признавал сущес¬
твование бессознательного, нередуцируемых качеств психобиологиче¬
ского субстрата, то человек был бы невиновен. Но в экзистенциализме
любое бытие является осознанным бытием. Хотя некоторые факты не
укладываются в пространство осознанного бытия. Например, для ребен¬
ка познать — значит действительно съесть, попробовать «на зуб» то, что
он видит. Ясно, что никакого осознания здесь нет. А если оно и есть, то
как сознание неозначенного действия. Познавание как поедание носит
животный характер. Выдавать же познаваемый объект за мысль — значит
выдавать желаемое за действительное. Во всяком случае, к действиям де¬
тей взаимопревращение вещи и мысли вряд ли относится.
Или вот, например, дыры. Почему они интересуют детей? Почему
дети суют руки во всякие отверствия? Почему они заталкивают к себе в
рот всякую дрянь? Для психоаналитиков — это предчувствие сексуаль¬
ного действия. Предродовой шок. Они могут это влечение объяснить
инфантильным характером детской сексуальности. Сартр против тако-
Там же. С. 613.
Глава III
182
го объяснения, ибо в любой дыре еще нужно узнать дыру. И это узна¬
вание возможно через другого. И прежде всего благодаря матери. Для
Сартра дыра — это не свойство человека. И не качество мира. Это способ
существования человека в мире. Символ его существования. Но то, что
это символ, знает Сартр. И не знает ребенок. И пока он этого не знает,
его существование не является осознанным, а его бытие — не тождест¬
венно осознанному бытию. Возможно, что дыра — это ничто. Но как
это узнать? Из того факта, что ребенок сует пальцы в рот, совсем не
следует узнавание в дыре ничто, пустого образа человека, который надо
заполнить. Цитата из Сартра: «Заткнуть дыру — значит первоначаль¬
но пожертвовать своим телому чтобы существовала полнота бытия,
т. е. подвергнуть страданию Для-себя, чтобы создать, завершить и
спасти целостность В-себе»1. То есть человека еще не было, а дыры,
липкость, скользкость уже были. Овладевая ими, ты овладеваешь смыс¬
лом бытия до бытия. А это значит, что сущности предшествуют твоему
существованию. И, следовательно, психоанализ вещей разрушает ос¬
новные постулаты экзистенциалистов.
Пристыдить детей
Все дети, как только они овладевают своим телом, смотрят на мир
со стороны своего Я. И поэтому для них мир существует как мир объек¬
тов. Предполагается, что ни один объект мира не знает себя. И только
один ты знаешь себя. В этом состоит смысл детского солипсизма. При¬
стыдить ребенка — значит вернуть его в пространство, структурируемое
взглядом Другого. Напомнить о том, что за ним наблюдают, что он со¬
вершает свои действия в поле сознания других. Что еще есть те, которые
знают себя и поэтому не могут быть объективированными.
Ребенок, спрятавшийся в темном чулане своей души, вдруг видит
свет фонарика Другого, того, кому он отказал в знании себя. И ему стыд¬
но. Чтобы пристыдить ребенка, нужно: 1) движение от души — к душе,
от сознания — к сознанию, минуя тело; 2) быть сообщенным с целым,
бросать взгляд, проникающий к изнанке.
Сартр не признает ни первого, ни второго. Поэтому его объяснения
стыда неубедительны. Сартр полагает, что сознание связано со своим
телом, воздействует на него. Одно тело воздействует на другое тело, а
уже другое тело воздействует на другое сознание. Он пишет: «Души
отделяются посредством своих тел»1. Но если души отделяются по¬
средством тел, то и тела отделяются посредством «душ». Если можно
помыслить между двумя телами две души, то почему бы не помыслить
два тела между двумя душами?
У Сартра тела отделяют. Но души соединяют. Поэтому пристыдить,
по Сартру, — значит снять ремень и отодрать ребенка. Сознание взрос¬
лого воздействует на тело взрослого. Он берет ремень и воздействует
1 Там же. С. 614.
2 Там же. С. 248.
Складки
183
на тело ребенка. После чего тело ребенка воздействует на его сознание.
Так передается импульс от одного сознания к другому. Пристыдить —
значит увидеть изнанку действия, т. е. увидеть целое. Но именно этого-
то взгляда Сартр и не допускает, называя его сверхэмпирической ком¬
муникацией между сознанием.
Другой
Другой — это твой ближний. Но другой — это и тот, кто далеко от
тебя.
«Связь с другим... будет конститутивной для каждого сознания»1.
В этих словах Сартра зашифрованы условия, при которых другой уч¬
реждает твое сознание. Во-первых, нельзя учреждать бессознательное.
Следовательно, его нужно полагать несуществующим. Во-вторых, нельзя
учредить вневременное Я. Следовательно, никакого трансценденталь¬
ного Я не существует. В третьих, нельзя учредить прошлое. Следователь¬
но, прошлое следует полагать несуществующим. При реализации вот
этих трех условий Другой будет конституировать каждое сознание, вся¬
кую самость.
А это значит, что любой человек может быть изменен, переделан по
проекту Другого. По некоему фундаментальному плану. Если Гуссерлю
Другой нужен был для того, чтобы конституировать мир, то Сартру он
нужен для того, чтобы конституировать самость. Вещи смотрят на тебя
и говорят, что у тебя есть тело. Стул говорит тебе, что ты можешь сесть
на него, а молоток — что ты им можешь забивать гвозди. Тело пользу¬
ется вещами, если вещи используют тело.
Субъективность
«.Ребенок уже давно умеет хватать, тащить к себе, отталкивать,
держать, прежде нем он узнает, как брать руку и смотреть на нее...
Двухмесячный ребенок не видит свою руку как свою. Он смотрит на
нее и, отвлекаясь от своего визуального поля, поворачивает голову и
ищет ее взглядом, как если бы от него не зависело, чтобы она вернулась
на место под его взор»1. То есть ребенку нужно научиться двигаться по
логике своей руки, своего тела, научиться управлять собой, чтобы затем
управлять другим.
Каждый человек живет в присутствии смыслов, которые пришли в
мир не от него. То, чем ты являешься, ты являешься для другого. И язык
(или взгляд) сообщает, чем ты являешься для другого.Tio такой ход рас¬
суждения не объясняет конфликта между тем, что в тебе видит другой,
и тем, что ты сам видишь в себе. Например, в феномене юродивого стал¬
киваются то, что помыслено Богом в вечности, и взгляд другого. Юро¬
дивый берет на себя бытие для Бога, хотя мог бы взять на себя бытие для
Другого. Сартр не объясняет, почему тебе нужно свободно взять на себя 1 21 Там же. С. 257.
2 Там же. С. 376.
Глава III
184
бытие для другого. Иными словами, признавая свободу антисемита,
нужно свободно принять на себя бытие для другого в качестве еврея. Не
признав другого, не возьмешь на себя бытие для другого. То есть не
может быть так, чтобы евреи были, а антисемитов не было.
Когда мне говорят, что я безобразен, значит, я являюсь другим в
форме безобразного. Но для себя я никакой. Ни то и не это. Значит,
безобразие является моим нереализуемым свойством. А еще есть вооб¬
ражаемые свойства. Например, мне говорят, что я «зол». Но я не могу
применить слово «злой » по отношению к себе. Я могу деконструировать
значение этого слова. Или вот ты живешь в Москве. Но как это реали¬
зовать? Я могу жить в Москве, не реализуя это состояние. Или вот ты
антиглобалист. Но как это реализовать?
Нереализуемое существует в свете изначальных целей, первичного
выбора. Чтобы их реализовать, нужно взять на себя бытие для другого.
Сартр говорит, что на другого указывают стыд и тело. Если бы не
было тела и другого, то не было бы ни стыда, ни греха. Сартр полагает,
что нельзя быть грешным перед самим собой. Но от другого можно от¬
казаться, полагая, что он бесполезен для конституирования твоего опы¬
та. Можно признать его как «моего другого». Как то, что я сам себе даю,
конституирую в поле своего опыта. Чтобы отказаться от другого, не
нужно отказываться ни от стыда, ни от тела.
«Философия XIX и XX веков понимала невозможность избежать
солипсизма»1. Сартр полагает, что он сумел избежать солипсизма.
Интерсубъективность
Всякий человек интерпретирует мир, придает знакам значение. Если
я всем знакам придаю свои значения, то я солипсист. Феноменология
ограничивает твой солипсизм, ибо она находит значения, которые при¬
надлежат объекту, а не субъекту. И вот эти-то значения интерсубъек¬
тивны, ибо они принадлежат всем и никому. Так вот, Другой в феноме¬
нологии и есть этот слой конститутивных значений, принадлежащих
объекту. Другой конституирует мир, общий для всех. И это мир либо
дает, либо не дает возможности для твоего «я».
Другой смотрит на тебя со стороны всех вещей мира. И поэтому его
нужно искать не в пределах твоего опыта, а в самом факте его сущест¬
вования. Опыт конституируется Другим. Внутри опыта возможны пус¬
тые интенции Другого, ибо нет такого предмета, как Другой. Сартр пи¬
шет: «...# мою сердцевину проникает другой»2, А это значит, что никто
не может бытЛ равен самому себе. Но если бы не было себетождествен-
ного Я, то бы^о бы невозможным извлечение опыта. Если Другой кон¬
ституирует Я, то Я конституирую Другого. Но Сартр почему-то полага¬
ет, что Другой, как некая сущность, поджидает мое существование. Ведь
если нет меня, то нет и Другого. Конечно, не может быть, чтобы я был,
1 Там же. С. 257.
2 Там же. С. 261.
Складки
1
а Другого не было. А потом он появился, и я его встретил. Другой — это |
мир значений, принадлежащих объектам, сделанных одним человеком
для другого.
Значения, принадлежащие объекту, требуют «бытия-с», бытия вза¬
имозаменяемых Я. Автобус, на котором мы ехали, остается. Люди, на¬
полняющие его, меняются. Здесь нет личных отношений. Здесь никто не
является собой и потому не противополагается Другому. Согласно Сар¬
тру, «бытие с» создает неподлинное существование. В команде гребцов
можно «быть с », совместно «существовать для ». Этот тип существования
символизируется словом «мы».
Онтология «бытия с» делает невозможным онтическое отношение
между Я и Ты.
Другого встречают, его не конституируют. На Другого смотрят со
стороны. На себя — изнутри. Другой случаен и поэтому нередуцируем.
То есть никто не может быть подлинным солипсистом. А если невозмо¬
жен солипсизм, то возможно принять точку зрения целого. Но Сартр
полагает, что «невозможно принять „точку зрения целого“ »1. Аргумен¬
ты его таковы.
Другой знает себя. И это его знание вне моего знания о себе. Принять
точку зрения целого — значит знание другим себя сделать моим знанием.
А это невозможно. Нельзя чужую боль сделать своей болью. Но целое
имеет другой онтологический статус, нежели самоотчет другого. Целост¬
ное есть всегда для себя. И либо ты внутри его, либо вовне. Если внутри,
то у тебя нет Я. Если у тебя есть я, то ты вовне. Я и целое несовместимы.
Вещи выстраиваются вокруг Я не по всеобщей логике, а по личным
основаниям. У меня на столе записная книжка, пепельница, папка, Есе¬
нин. Все это объединяется личными отношениями. Другой похищает у
меня мир, если он смещает центр мира. Децентрирует его. И тогда на
моем столе собираются вещи не по моей логике, а по логике Другого.
Когда я вижу «читающего человека», я понимаю, что этот человек зна¬
ет себя. У него понимающее чтение. Он не может расположиться вокруг
меня как объект. Вот эта невозможность составляет трещину в моем
универсуме. Подрывает мой солипсизм. И через эту трещину я могу ви¬
деть изнанку мира.
Если Другой знает себя, то, значит, я сам могу быть рассматривае¬
мым. Могу быть объектом. Между тем Сартр полагает, что «никакое
сознание ...не может видеть „обратную сторону“ »1 2 3. Экзистенция жи¬
вет как во тьме: не знает ни целого, ни изнанки мира.
Конфликтность
«Конфликт есть первоначальный смысл бытия-д ля-другого»". Дру¬
гой — это не тот, кого я вижу. Это тот, кто смотрит на меня. «Мною
1 Там же. С. 275.
2 Там же. С. 323.
3 Там же. С. 379.
186
Глава III
владеет другой; взгляд другого формирует мое тело... »1. А это значит,
что другой смотрит на тебя и ты чувствуешь себя голым. Неприкрытым.
И тебе стыдно. И ты пытаешься отгородиться от него своей тайной. «Тай¬
на», «стыд», «оголенность» — все это бытие-для-другого. А где же мое
бытие? Где Я? Через это вопрошание возобновляется проект самого себя
для себя.
Что же есть во мне моего, того, что не зависит от существования
другого? Сартр полагает, что нет ничего. Нет никакого моего Я. Что во
мне изначально уже наследил другой.
Но если нет ничего во мне от меня, то откуда же взялось мое Я?
Согласно Сартру, я должен делать себя из того, что является следстви¬
ем существования другого, из моего рассматриваемого другим бытия.
Поэтому никто не может быть собой в простом смысле этого слова. Ни
одно «я » не тождественно себе. Ты всегда будешь собой в качестве дру¬
гого. Или будешь другим в качестве самого себя. А это значит, что каж¬
дый начинает свое существование как объект. Тебя еще нет, а на тебя
уже смотрят. И из этого взгляда тебе надо себя делать. Изначальность
конфликта в отношении к другому явялется экзистенциальной метафо¬
рой распада души человека. Либо у человека есть душа и она делает его
независимым от другого. Либо нет этой души. И тогда все, что есть во
мне, производно от другого. Но если другой составляет мою самость,
то неясны причины конфликта между Я и другим. Они были бы понятны,
если бы Я самоопределялось вне зависимости от другого. Описание Сар¬
тром смысла конфликта напоминает конфликт между «там» и «здесь»,
«левым» и «правым», которые немыслимы друг без друга. В конфликту
важна точка отсчета. Вот эту точку отсчета Сартр и не показывает. Скры¬
вает. А без нее все теряет смысл. Взвешивая смыслы в ситуации абсурда,
Сартр не указывает на тот набор тавтологий, которые могли бы содей¬
ствовать оседанию смыслов.
Другой — это не взгляд и не субъект, который хочет тебя сделать
объектом. Другой — это друг, усиливающий и поддерживающий тебя.
Тот, на кого ты надеешься и от кого ты ждешь помощи. Мир обжит, если
у тебя в нем есть друзья.
Другой — это не дискретно выделенное тело, а особым образом
структурированное поле твоей жизни. Ведь пока есть другой, сохраня¬
ется возможность делать что-либо по-другому. Мыслить по-другому.
Другой — это другие возможности, которые ты можешь выбрать. Без
другого ты лишаешься выбора. Свободы.
Любовь
«Любить — это значит хотеть, чтобы меня любили »2. В этой фор¬
муле Сартра важен союз «чтобы». Сартр не допускает и мысли о том,
что можно любить не почему-либо, не для чего-либо, а тавтологически.
1 Там же. С. 380.
2 Там же. С. 392.
Складки
187
В «чтобы» уже скрыт конфликт. Смоделирован обман. Спроектирован
комплекс. Итак, как же любит свободный человек? Свободный человек —
это человек конфликтный. Враждующий с другим. Неуживчивый. Быть —
значит одну свободу подчинить другой. Либо он тебя поработит, либо
ты его.
А поскольку любовь является первичным отношением к другому,
постольку она моделируется как отношения раба и господина.
Сартр рассказывает об отношениях Альбертины и Марселя, героев
Пруста. Марсель полюбил Альбертину. Казалось бы, если уж полюбил,
то пусть и пострадает. Но Марсель страдать не хочет. Он хочет обладать
Альбертиной. У Марселя были деньги, Альбертина нуждалась в них.
Марсель поселяет Альбертину у себя дома. Наконец-то он может видеть
ее и обладать ею в любое время суток. Но что-то не устраивает Марселя.
Ему кажется, что Альбертина ускользает от него. Марселя не покидает
чувство тревоги. Ему хочется обладать уже не телом, а душой Альбер¬
тины. Или, как говорит Сартр, ему хочется обладать ее свободой. Мар¬
сель желает, чтобы Альбертина выбрала его. Полюбила. И полюбила по
своей воле, а не по принуждению.
Теория любви строится Сартром в терминах конфликта, неустрани¬
мой раздвоенности. В любви нельзя допускать слияния двух в одно целое.
Ибо это соединение тавтологично. Оно редуцирует все возможные раз¬
рывы и зазоры между любящими, превращая их в гиперплотную едини¬
цу. В бытие-в-себе, где нет места свободе и выбору. Интерпретация
любви в качестве выбора имеет тот недостаток, что она позволяет думать
о какой-то субъектности в любви. Хотя субъектом является любовь. И в
этом смысле она не зависит ни от любящего, ни от любимого. Никто не
выбирает, любить ему или не любить.
Сартровский любящий хочет быть всем для любимого. Хочет быть
для него целым миром. Он согласен быть для него стулом, на котором
сидят. Но он не хочет только одного: тождества неразличимых. Его при¬
водит в трепет формула: я — это ты. Любимому тесно в предлагаемом
ему мире. Поэтому нужно остерегаться любящих нас людей. Ибо любя¬
щий, присутствуя к себе в любви, желает быть посредником между миром
и тем, кого он любит. В бинарном пространстве антропологических ме¬
тафор и антонимов общение с миром возможно для любимого только
через любящего. Через посредника. И невозможно напрямую. Непо¬
средственно. Вот это-то и невыносимо. Нужны не двое в любви, а один.
Одно целое двоих. И прямое общение с миром.
Сартровскому влюбленному также нужно опасаться любимого. Ведь
любимого любят. И это ему достаточно. Сам он не желает любить. И по¬
этому его надо соблазнять. Раздвоенность любви, наличие в ней пустот
и зазоров заполняется соблазнением. Когда любящие составляют одно
Целое, в этом целом нет места для соблазна. А соблазнять — значит
ставить себя под взгляд другого. Значит быть очаровывающим объектом.
А это неприятно. Поэтому лучше никого не любить.
Глава III
188
Сартр называет любовь первичным отношением к другому. И опи¬
сывает ее как отношение между рабом и господином. В этой любви нет
ничего, кроме желания обладания и комплексов. В любви тебе нужно
позиционировать себя или как мазохиста, или как садиста. Если кому-то
удается избежать любви, то ему не избежать языка, который настигает
тебя и объективирует.
Тело и плоть
Пористость любви присутствующего к себе Я заполняется взглядом
другого. Чтобы избавиться от взгляда другого, нужно перестать быть
рассматриваемым. Надо выступить против свободы выбора другого,
того, кто смотрит на тебя. И тогда взгляд исчезнет и останутся просто
глаза. Элемент тела другого. Тем самым возникает ситуация, которую
Сартр называет безразличием. В безразличии ты субъект, а другой —
объект. Ты садист, а он — претерпевающее существо.
Техника анализа отношений Я и другого остается неизменной: лево¬
правой. Сначала погибла любовь, ибо фантомная двойственность не
редуцируется к единице. Затем левое стало соблазнять правое. В конце
концов правому надоело быть рассматриваемым. И оно посмотрело на
левое. Спекулятивная диалектика Сартра не уступает диалектике Геге¬
ля. В итоге Сартр получает то, что ему нужно. Цитата из «Бытия и нич¬
то »: «Я действую как если бы я был один в мире »!. Я знаю, что я не один,
что нас много, но действую как если бы я был один. Одна противопо¬
ложность отрывается от другой и начинает размножать фантазмы.
Одним в мире может быть монах. Или солипсист. Сартр выбирает
модель солипсизма, полагающего другого в качестве объекта. Солип¬
систу важно, что он понимает другого. А понимает ли другой себя — это
неважно. На действиях экзистенциальной монады это не сказывается.
Другой существует как тело. В безразличии к другому другого не любят,
а желают. «.Желание появляется из смерти Любви »2. И первоначальным
отношением к другому становится секс. В сексе реализовано безразли¬
чие к другому. И половая идентификация экзистенции. Если Dasein Хай¬
деггера какой-то бесполый, то экзистенция у Сартра уже самоопреде¬
лилась. И у нее есть желания.
В желании устанавливается различие тела и плоти. Тело открыто
миру. Оно вовлечено в ситуацию. Плоть скрыта за одеждой. Или за дви¬
жениями. Балерина обнажена, но у нее нет плоти, ибо она танцует. Ра¬
ботает. Ее плоть скрыта движением. Грацией. Обнаружить плоть — зна¬
чит освободить тело от движений и одежды. В этом смысле ласки явля¬
ются присвоением тела другого. Они освобождают в нем плоть. Ее
освобождают, даже если ласкают глазами. Сартр исключает возмож¬
ность открыться в себе плоти, минуя другого. Как будто нет экзистенции,
ласкающей себя за неимением другого.
1 Там же. С. 395.
2 Там же. С. 421.
Складки
189
Если ласки утомительны, то можно силой открыть свою плоть дру¬
гому. И стать садистом.
Непристойным Сартр называет то, что показывает свою плоть, хотя
никто об этом не просит. Как вид бытия для другого непристойность
сама лишает тело действия и открывает косность его плоти. Непристой¬
ность не требует освобождения тела от одежды. Ей достаточно говоря¬
щих поз, вихляющего зада. Неоправданная фактичность зада, его дви¬
жения интерпретируются исходя не из будущего, а из прошлого. Непри¬
стойно быть тучным, ибо она сама бросается в глаза. Абсолютная
позиция свободы перед другим достигается не в любви и не в безразли¬
чии, а в ненависти. Потому что только в ненависти я сам для себя. Ес¬
тественно ненавидеть. Неестественно любить.
Мы
Присутствующее к себе Я не может составить тождества с самим
собой. А без этого тождества нельзя образовать мы. Поэтому «бытие
с» или «мы» не обладает правом выбора или постановки целей. Выби¬
рает себя экзистенция. А мы — это просто грамматическая форма, мно¬
жественное число от Я, не обладающее онтологическим статусом. Сартр
пишет: «Параллелизм грамматики и мышления...сомнителен»1, а это
значит, не надо путать мышление и грамматику. Например, «мы» как
будто указывает на то, что в его составе находятся одни субъекты. Но
если это так, то нужно признать, что внутри «мы» не смотрят друг на
друга. Здесь любят не видя. В «мы» нет мазохизма и садизма. Никто
никого не соблазняет. В «мы» нет свободы и нет ненависти. Даже в пер¬
вичном отношении к другому, в любви экзистенции не составляется «ты »,
ибо кто-то в ней теряет субъектность. Объективируется.
Сартр признал бы за «бытием с» онтологический статус, если бы в
нем трансцендирующая трансцендентность предполагала трансценди-
руемую трансценденцию. Если бы в «мы» были «они».
Мы — это как рябь на воде. Оно появляется в театре у зрителей, у
зевак во время уличного происшествия. Но вот мы вышли из театра и
«мы» пропало. «„Мы“ испытывается единичным сознанием»1 2. Напри¬
мер, мы с кем-то вдвоем. И находимся в ситуации отношения одного к
другому. Но тут появляется третий. И теперь все зависит от наших взгля¬
дов: кто на кого смотрит. «Третий» Сартра конституирует буржуазию
и пролетариат. Предельно третий, т. е. Бог, учреждает человечество.
Опыт «третьего» Сартр находит в бытии-для-другого. Если бы не было
третьего, то не было бы и никакой инаковости. Другой является более
фундаментальным понятием, чем Бог. Но Сартр так нигде и не разъяснил,
почему, если к двум пролетариям подходит третий пролетарий, то ни¬
какого пролетариата не получается. И классовое сознание не возникает.
А вот если к двум пролетариям подходит третий, и этот третий — бур-
1 Там же. С. 426.
2 Там же. С. 427.
Глава III
190
жуй:
Теория третьего является метафизическим пузырем Сартра. Красивым,
но пустым.
Весь мир вещей указывает на другого. И это бесспорно. Чашка, из
которой я пью, указывает на действие, которое я должен совершить.
Скамья перед «Явлением Христа народу» в галерее указывает на меня
как на недифференцированную трансцендентность. Сиденье в вагоне
метро говорит мне, что я — «один из». Вход на вокзал, система указа¬
телей позволяют мне войти, ничего не делая для поисков входа. Мир
вещей уже гуманизирован. Ты только входи и выходи. Но что в мире
указывает на меня? Согласно Сартру — ничто.
Сартр думает, что без опыта другого весь этот гуманизированный
мир вещей нельзя использовать. Например, тебе надо найти выход из
лабиринтов магазина, в который ты непонятно как попал. Но в нем ни
указателей, ни надписей. Вообще нет никакого языка. И тогда ты из него
можешь выйти непонятным образом. По правилам сумасшествия. Ты
должен заново изобрести выход и способ его использования. Сартр де¬
лает вывод о том, что опыт другого первичен. И что другой нам дан уже
заранее, до вещей. Так же как заранее, до спектакля, нам дан смысл
театра, и поэтому мы идем и понимаем спектакль.
Но используя те же самые аргументы можно сказать, что другой
может быть дан, если заранее даны объекты, сделанные одним человеком
для другого. Тем более, что назначения вещей универсальны, а значения
слов локальны. То есть люди могут двигаться по логике вещи до всяко¬
го другого. Тем самым опыт другого оказывается вторичным, производ¬
ным от предметного опыта. То, что Сартр полагал сумасшествием, ока¬
зывается нормой.
Экзистенциальное счастье
«Никто не может быть назван счастливым до своей смерти »*. Ибо
быть счастливым — значит быть в готовности к счастью. Вопрос о счас¬
тье перемещает спрашивающего из пространства бытия в пространство
действия. В этом пространстве есть сущее и еще есть не-сущее. Например,
идеал — это то, чего нет. Что не существует. Несуществующее дает о
себе знать в целях действия. И если ты рассматриваешь то, что есть, с
точки зрения того, чего нет, то ты несчастлив. Вернее, это ничтожение
фактического, возвышение его к ничто выражается экзистенциалистом
словами: ах, как я несчастлив. Для счастья нужна полнота бытия, внут¬
ри которой нельзя поставить вопрос о счастье. Счастлив тот, кто есть в
себе. Несчастлив тот, кто действует для себя. Иными словами, счастлив
тот, кто не обеспокоен тем, чего нет. Следовательно, опасаться нужно
экзистенциалистов, ибо экзистенциализм — это оптимизм. Реализация
ничто в действии2.
1 Там же. С. 509.
2 Там же. С. 447.
Складки
191
Действие
«Бытие сводится к действию »!. Всякое действие определяется дейст¬
вием. «То, что есть у ни в коем случае не может само по себе определить
то у чего нет»2. Ведь если бы то, что есть, определяло то, чего нет, то
достаточно было бы одного бытия. И не нужно было бы никакого дейс¬
твия, никакого ничто. Но тогда в бытии для человека не было бы места.
А поскольку экзистенциалисты хотят, чтобы человек был как бытие для
себя, постольку они ограничивают бытие. Вернее, лишают его силы.
Действие коренится не в обессиленном бытии, а в ничто. В сознании.
В действии онтологический дефицит реализует себя как цель, как мотив
и как движущая сила. Цели возвышают данное к тому, что еще нужно
получить. Даже низкие цели возвышают, выводят человека из себя и
делают его бытием для себя. Никакие цели не объясняются данным, фак¬
тическим. Не может быть так, чтобы действие было, а движущих сил не
было. Поэтому экзистенциализм нуждается в перпетуум мобиле. В лич¬
ности, которая сама себя делает. Всякий человек должен быть на рас¬
стоянии от самого себя, чтобы быть свободным. А это значит, что чело¬
век никогда не может позволить себе в действии определять себя своим
прошлым.
Прошлое
«Прошлое преследует нас на расстоянии»1. До него не дотянуться
и его не рассмотреть. Все начинают с него, чтобы потом ничтожить его.
«Прошлое само по себе не может произвести действие». Если бы про¬
шлое само по себе производило действие, то не было бы будущего. И был
бы застой. Прошлое есть у тех, кто смирился с фактическим. Застрял в
мире данного. Всякое прошлое — враг личного действия. Ведь действо¬
вать — значит реализовывать возможность разрыва со своим прошлым.
Экзистенциализм не любит прошлое за то, что оно давит на свободу
и раздавливает ее. Для экзистенциалистов человек начинается в момент
забвения прошлого, отрыва от него. Экзистенциальная личность пред¬
почитает рассматривать прошлое в свете небытия будущего. Сколько
проектов будущего, столько существует проектов прошлого. Прошлое
повелевает, дает приказы, а экзистенция выбирает его приказы через
проекты целей.
Сердечный человек
Сердечные люди бытийствуют, т. е. складывают себя вне зависимости
от онтологического дефицита. Их бытие не исчерпывается целями.
И действиями. Сердечность видна на пути, ведущем дальше цели.
Экзистенциализм объявляет пути, ведущие дальше целей, бытием в
себе, тем, что нужно преодолеть бытию для себя. Там, где мистически и 1 2 31 Там же. С. 485.
2 Там же. С. 447.
3 Там же. С. 504.
192
Глава III
природно размещалось сердце человека, экзистенциализм размещает
свободу. А свобода — это и есть ничто, которое содержится в сердце
человека. То есть, обращаясь к свободному человеку, ты думаешь, что у
него есть сердце. А у него не сердце, а ничто. Сердце говорит тебе: живи
по своей воле, как хочешь, а вечером Богу ответ дашь. Ничто ничего не
говорит. Оно вынуждает человека делать себя. Всякий раз заново. Эк¬
зистенциальная антропология — это антропология делаемых людей.
Самоделов.
Присутствие к себе
Полнота сердечных людей говорит об их присутствии к миру. О спон¬
танности действия. Спонтанному действию достаточно нерефлексивно¬
го сознания. Свободное же действие требует рефлексивного сознания.
Нерефлексивное сознание гаснет в момент окончания действия. Реф¬
лексивное держится и после того, как совершится действие. Недоста¬
точность свободных людей указывает на их присутствие к себе. Если ты
присутствуешь к себе, ты рефлексивен. То есть свободен. И у тебя вмес¬
то сердца ничто. Дыра, через которую ничтожат бытие. А если ты ничто
из того, что есть, то тебя нет. И поэтому ты должен делать себя сам.
И никто тебе в этом не помощник. Если ты есть, то присутствуешь к миру.
И тебе ничего делать не надо. Все как бы само собой делается. Если же
тебя нет, то ты присутствуешь к себе. А именно: отделяешь себя от себя
самого посредством свободы и ничтожишь данное.
Экзистенциальный человек заброшен в необходимость делать себя
бытием. Присутствие к себе обнаруживается в ситуации, когда ты сам
не свой, т. е. когда ты нездоров. Болен.
Воля и страсти
«Страсти не могут никак подчинить себе волю»1. На этом тезисе
строится экзистенциалистская теория эмоций, хотя понятно, что воля
является предметом борьбы между эмоциями и рассудком, в ходе кото¬
рой иногда все же подчиняют себе волю. Сартр отказывается противо¬
поставлять эмоции и свободу, эмоции и волю. В эмоциях он усматривает
один из способов реализации свободного решения человека. Экзистенци¬
ализм видит в человеке не данность, не фактическое, а трансценденцию.
Человек не является вещью, которая есть вначале, чтобы потом стать в
отношение к цели. Обезьяна никогда не станет человеком. Человек —
это бытие,.которое с самого начала является проектом, т. е. определено
своей целью.
Иным*! словами, человек — это его цели. Ими он определяет свое
бытие. Рассудок ставит цели. Воля стремится к ним. Но что заставляет
ее это делать? Если она это делает автоматически, то тогда человеку не
нужны страсти, эмоции. И он предстает как машина. Как вечный дви-
1 Там же. С. 453.
Складки
гатедь. Он ставит цели, поэтому идет к ним. А идет к ним, потому что '
ставит их. То есть Сартр не говорит, что человек — это вечный двигатель, j
Он говорит, что человек отделяет себя от себя и делает себя сам. По- 1
этому экзистенциальный человек мыслим без эмоций и страстей. Во-
первых, человек свободен. Ведь обычно думают, что у человека есть ум
и еще есть страсти. Ум ставит цели, воля к ним стремится. А страсти ей
мешают. В воле человек свободен, а в страстях он несвободен. Получа¬
ется, что человек наполовину свободен, а наполовину несвободен. Он
то раб, то господин. Если бы эмоции управляли свободой, то человек
ничего не достигал. Он только бы воспроизводил себя как простая спон¬
танность.
Тезис Сартра таков: человек всегда свободен. А это значит, что быть
свободным и быть произвольным — не одно и то же. Если бы свобода
производилась волей, то страсти были бы избыточны. А они существуют.
Значит они нужны свободе.
Поскольку любое бытие человека — это его конечные цели, постоль¬
ку их нужно достигать. А достижение может быть двояким: либо по¬
средством воли, либо посредством эмоций, страстей. Каждый человек
выбирает, каким способом он будет добираться до целей.
Например, тебе угрожают. Чтобы спасти себя от опасности, ты мо¬
жешь обратиться к рассудку, который все посчитает и скажет: беги. И ты
волевым образом продемонстрируешь бегство. А можно дать волю сво¬
им чувствам, эмоциям. Они просто лишат тебя сознания опасности. Ты
впадешь в обморок и спасешься.
Страсть есть не что иное, как проявление воли. Нельзя, чтобы рас¬
судок вступал в борьбу с эмоциями. По отношению к свободе нет ника¬
кого привилегированного феномена. Ее можно вложить как в чувство
страха, так и в мужество. В рассудке мы открываем технический слой
мира. В эмоции — магический. Притча из Кафки. Торговец пришел в
замок, чтобы обжаловать решение суда. Его не пустили. Сказали: жди.
И он ждал. И ожидая, умер. Перед тем как умереть, торговец спросил
странника с недоумением: как объяснить, что я был перед воротами за¬
мка один. Странник ответил: эти ворота сделаны только для тебя.
Каждый делает для себя ворота.
Экзистенциальный психоанализ
Психоанализ выявляет механизм работы прошлого. Он восстанав¬
ливает субъектность бессознательного, того, что делает экзистенцию
объектом.
Сартр отказывается от прошлого, заменяя его будущим, а бессозна¬
тельное — первоначальным выбором целей.
Всякий человек — это докогитальный выбор самого себя. Еще не
было Я, еще ничего не было, а выбор уже совершился. Выбор меня был
До меня. А если он был до меня, то он не был сознательным, это потом
Появится Я, тотальность самости. Вначале был выбор, который Сартр
13
1920
194
Глава II!
называет фундаментальным, первичным. И что бы ты теперь не делал,
во всем будет сказываться первоначальная цель, а также размещенные
1 в рамках цели мотивы и движущие силы. Но если во мне меня выбирает
выбор, то чем этот выбор отличается от природы и выбора Бога? Неваж¬
но, что тебя детерминируют нередуцируемые свойства психики, сцеп¬
ления нуклеатидов, ландшафт или культурные формы. Ты остаешься
пассивным, страдательным существом.
Первичный выбор случается у всех по-разному и в разное время.
Например, тебе мало уделяли внимания. А тебе хотелось обратить на
себя внимание. И ты развиваешь в себе то, что нельзя не заметить и не
оценить. Побочно появляются открытия, книги, картины, дела, которые
привлекают к тебе внимание. Ты можешь повернуться спиной к фунда¬
ментальной цели, изобрести вторичные и третичные цели, придумать
систему интерпретации своих целей и даже вступить в противоречие с
первоначальным выбором, но этот выбор будет существовать и давать о
себе знать.
Если первичный выбор — это та сущность, которая определяет су¬
ществование человека, то экзистенциализм остается верным эссенциа-
лизму.
Первичный выбор целей делает человека конечным. С определенным
горизонтом, который что-то показывает и что-то скрывает. А это значит,
что смерть не имеет к конечности существования человека никакого от¬
ношения. Бессмертный человек будет тоже конечным человеком. С ус¬
тановившимся существованием.
Принуждает человека к выбору онтологический дефицит. Поэтому
у каждого человека есть свой комплекс неполноценности. Случайность
устанавливает связь между этим комплексом и целями. А это значит,
что помимо этой связи в человеке самом по себе нет ничего данного. Нет
ни темперамента, ни характера, ни страстей, ни разума. Экзистенциаль¬
ная антропология накладывает запрет на понимание человека как вещи,
обладающей определенными свойствами. У вещи могут быть свойства.
Но все это будет сырым существованием. А человек — это все-таки че¬
ловек в мире. Вот в этом мире его и нужно рассматривать. А там язык,
другие, прошлое и все остальное. И нет тебя. И ты трусишь. Боишься.
Так вот эту трусость нельзя отнести ни к миру, ни к человеку самому по
себе. Ведь если мы ее отнесем к человеку, то она станет свойством, далее
неразложимым качеством. И ты трус, потому что гены так сцепились.
Но и в мире нет такого объекта, как трусость. Следовательно, трусость —
это поведение человека в мире в рамках первичного выбора, но и лич¬
ность не является ни свойством мира, ни чувством человека. Это пове¬
дение человека в мире.
Нельзя выбрать себя высоким, если ты низкий. Нельзя выбрать себе
две руки, если у тебя она одна. Не выбирают рождение и смерть, родину
и прошлое, наследственность и нацию. Все, что не выбирается, враждеб¬
но по отношению к свободе, ибо каждый выбирает себя и не может быть
Складки
195
выбранным. Свободное действие происходит, как пишет Сартр, в клетке
детерминизма.
Например, ты по глупости женился. Заключил брак. Родились дети.
И вот он, этот брак, уже в прошлом. И ты хотел бы выбрать себя без
этого брака. Но обстоятельства против. Да и лень всякой ерундой зани¬
маться. Спрашивается: кто кому диктует поведение: я прошлому или оно
мне? А поскольку экзистенции не присуще ничего, чтобы ею не было
выбрано, постольку Сартр полагает, что нет никакой инерции бытия.
А брак существует, поскольку я его выбираю в каждый момент времени.
И как только я его не выберу, его не будет. Что не выбрано, то мертво.
Правда, непонятно, куда детей девать?
У каждой вещи есть свойства. Эти свойства проявляются в отноше¬
ниях к другой вещи. А это значит, что свойства существуют заранее. До
того как они вступили в контакт с другой вещью. Они только показыва¬
ют себя в отношениях. И поэтому свойства являются конечной инстан¬
цией. Последней реальностью. Тем, что далее не анализируется.
В слое вещного языка можно попытаться описать человека. И тогда
он будет подобен вещи, у которой есть далее нередуцируемые свойства.
Например, Флобер честолюбив. Честолюбие — это свойство. Неважно,
как оно получилось. Важно использовать его для объяснения поведения
Флобера. Честолюбие, как говорит Сартр, не трансцендируется, чтобы
через другие реальности заявить о том, чем оно является.
В вещном слое языка человек исчезает, остается только набор
свойств. Чтобы он не исчезал, нужно отказаться понимать человеческое
нечеловеческим, превращая бытие человека в пыль феноменов. Для это¬
го следует признать, что вещь не равна сумме ее свойств. Что свойства
не проявляются в отношениях, а порождаются в них. И, будучи рожден¬
ными, они не относятся к составу какой-либо вещи как ее свойство, а
удерживаются системой отношений. И, следовательно, подлежат даль¬
нейшему анализу.
Человек — это набор целей. Фундаментальная цель составляет тай¬
ну бытия человека в мире. Но цели не изолированы одна от другой. Но
каждая из них реализует все остальные. Проявляет их. И в этом смысле
человек ничем не отличается от тотальности вещи, свойства которой
также представляют вещь в целом. Например, лимон — это тотальность.
Это значит, что мы едим желтое, видим сладкое, слышим упругое.
Следовательно, анализ вещей и анализ человека ничем не отличают¬
ся. Любое свойство вещи, помимо того, что оно есть, есть еще и как
символическое выражение остальных свойств. Равно как любое действие
человека символизирует изначальный выбор человека.
У вещи есть изначальные свойства. У человека есть изначальные цели.
Психоанализ предполагает решающее событие в детстве, вокруг
которого кристаллизуется психика. Экзистенциальный психоанализ
постулирует изначальный выбор. Этот выбор затем выбирает, превра¬
щая человека в бессубъектное существо. Поскольку психоанализ по-
13*
196
Глава III
стулирует бессознательное, прошлое, а имеет дело с прошлым рефлек¬
сия, поскольку рефлексия становится основой психоанализа. В экзис¬
тенциальном психоанализе ориентируются на будущее. Поэтому в нем
доминирует проектирование существования. Выбор. А он всегда слу¬
чаен.
Психоанализ вещей
«Экзистенциальный психоанализ должен раскрыть онтологический
смысл качеств»1.
Качества вещи раскрываются через отношения к вещам. Сартр хочет
их раскрыть через отношение к ним человека. Например, студенистая
масса медузы вызывает отвращение, а красная мякоть арбуза радует
глаз. Полосатый астраханский арбуз не просто услаждает вкус своей
сахаристой сочностью. Посредством этой сладости раскрывается выбор
стороны бытия, способа существования человека. То есть качество ока¬
зывается редуцируемым, а выбор — нередуцируемым. Вкус человека —
это его мировоззрение. Оно складывается следующим образом.
«То, что я создаю... это я сам»1. Что бы я ни делал, я делаю себя.
А если я и есть мое творение, то я не могу выйти из себя. Сартр полага¬
ет, что от солипсизма нас спасает Другой. На помощь Другому приходят
вещи. Вернее, созидание предметов посредством их присвоения. Эти
предметы оказываются мной. Цитата: «Яесть то, что я имею»ъ. благо¬
даря имению предметов, ты, как на ленте Мебиуса, оказываешься вне
себя. На другой стороне бытия. И одновременно появляются такие сде¬
ланные качества, как липкость, скользкость. Они принадлежат вещам и
в то же время имеют человеческие значения, носителем которых оказы¬
ваются качества вещи. Склейка «значения» и вещи предпосылаются
любому сознательному выбору. Чувства и действия человека нагружены
материальностью, имеющей психическое значение. Поэтому чувства
называют теплыми. Но никому не придет в голову назвать теплыми мыс¬
ли. Может быть горячее сердце, но невозможен горячий рассудок. Иног¬
да встречаются скользкие люди и скользкие мысли, но никогда не быва¬
ет скользких эмоций. Липкость, скользкость, теплота, гладкость — все
это не слова, а состояния вещей и, одновременно, эскизы отношений
человека и мира. В них теряет смысл оппозиция психического и физи¬
ческого в липкости открывается низость мира еще до всякой фактичес¬
кой низости. В теплоте обнаруживается непосредственность еще до
всякой открытости.
В психоанализе вещей экзистенциализм обнаруживает свою грани¬
цу и деградирует. Человек сливается с миром. Качества вещи замещают
выбор экзистенции. В результате в мире обнаруживаются две стороны,
внешняя и внутренняя, психическая и физическая. А эти темы обсужда- 1 2 31 Там же. С. 602.
2 Там же. С. 593.
3 Там же. С. 593.
Складки
197
ются в ином концептуальном пространстве. Например, в теории ноосфе¬
ры Тейяра де Шардена.
§ 4. Позитивная складка антропологии
1. Шелер. Неокончательный человек
1
В философской антропологии Шелера слово «человек» появляется
не в языке самоотчета, а в языке внешнего наблюдения. Как термин на¬
учного описания. А это значит, что сам человек Шелера не интересовал.
Его интересовала концепция человека, а также способ представления
идеи человека в сознании европейца. А оно, это сознание, оказалось ра¬
зорванным. Шелер насчитал в нем три идеи человека. А это очень много
для одной головы, ибо головы у людей маленькие, а мир большой. И что¬
бы его поместить в голову человека, нужно мир радикально упростить.
Нужно из трех идей оставить одну. Одним из проектов такого упрощения
и является придуманная Шелером философская антропология.
Нас здесь, в России, никак не волнует количество идей в сознании
европейца. Сколько их там содержится: одна, две или десять. Я даже
думаю, что и среднему европейцу безразличен состав его сознания. Внеш¬
нее описание как бы экранизируется внутренним сознанием, защищаю¬
щим жизнь от концепций жизни. Шелер полагает истину на стороне
сущности. А если истина полагается на стороне сущности, то становит¬
ся проблематичным существование индивидной множественности. Ведь
для того чтобы была сущность, достаточно одного-единого. А индивид¬
ного существования в мире много. Спрашивается, зачем? Чтобы ответить
на этот вопрос, Соловьев полагал истину на стороне существования. Все,
что есть, есть множественно. И поэтому есть истинно. Никаких ложных
существований не может быть. Истина воспринимается непосредствен¬
но. Мистически. Как истина одного.
2
Чтобы объединить разнородные идеи, а именно: естественно-науч¬
ную, античную и христианскую — нужна онтология, склеивающая их в
одно целое.
Шелер нашел такую онтологию в конфликте жизни и духа. Жизнь
исключает всякую возможность существования духовного. А дух раз¬
рушает жизнь. В принципе «хочу хотеть» манифестируется смысл еди¬
ного сознания европейского человека. На первый план этого сознания
выступает воля вне зависимости от того, коренится ли она в духе или же
она коренится в жизни.
Ради единства сознания Шелер жертвует его когитальностью. В фи¬
лософской антропологии Шелера Я и мысль, Я и душа больше не связа-
Нь1. Если их связать, то нельзя'будет объяснить, почему у собаки обра¬
Глава III
198
зуются желудочные соки при виде мяса. Ведь если у собаки нет Я, то у
нее нет и души. Собака, как это думал Декарт — это тело, а не душа.
А тело сводится к физико-химии. В составе же физики нет таких поня¬
тий, как аппетит и влечение. Декарт отобрал у собаки душу, а Шелер ее
собаке вернул. Для того чтобы у собаки появилась душа, нужно, чтобы
она перестала мыслить и цепляться за Я. Никакое Я не имеет привилегию
на мысль. А если допустить, что Я задается языком, то тогда несвязан¬
ными оказываются уже сознание и язык.
Шелера не интересует вопрос о том, кто кого порождает. Я появля¬
ется из мысли или мысль — из Я. И то, и другое в его онтологии задает¬
ся эволюционно. Это потом французы объявят, что и Я и мысль созда¬
ются средствами языка. Что все есть язык. У Шелера везде есть жизнь,
которой противостоит дух.
3
Шелер отказывается от антропологической тавтологии и работает
по преимуществу в слое метафор. Он отожествляет живое и психическое,
чувственный порыв и душу. В качестве живого может быть названо то,
что имеет бытие в себе. А бытием в себе немецкие философы называли
внутреннее. Психическое. Центром жизни является не человек, а его
бытие в себе. Энергия духа. Следовательно, жизнь человека вращается
вокруг того, что к жизни не относится. Что ей противостоит. К духу.
Если у Гегеля сознание борется с языком, то у Шелера оно вступает в
борьбу с жизнью, восстанавливая свою субъектность. Ведь в простран¬
стве жизни человек не может быть субъектом. А когда он становится
субъектом, он перестает жить. Нельзя жить и быть субъектом. Антро¬
пология Шелера отличается от антропологии Фейербаха тем, что Шелер
ради субъектности человека, именуемой духом, жертвует жизнью.
А Фейербах жертвует субъектностью ради жизни.
4
Шелер полагает, что дух обладает большей ценностью, чем жизнь, чем
все эти инстинкты, ассоциации, чувственные порывы и практический ин¬
теллект. Но у жизни есть то, чего нет у духа. У нее есть чувственный порыв.
У нее есть душа, «тот пар, которым движимо все». Даже трансценден¬
тальная апперцепция. У жизни нет духа. У духа нет души. Зато душа есть
у жизни. И вот эту-то душу Шелер хочет одухотворить, полагая, что без¬
душный дух обладает большей ценностью, чем бездуховная душа.
5
Откуда дух взялся? Это не ясно самому Шелеру. Ясно лишь, что в
терминах эволюции его не объяснить. Если бы мы могли его объяснить,
то тогда получили бы глобальный эволюционизм Тейяра де Шардена.
Но Шелер по-новому центрирует человеческое существование. Он по¬
лагает, что есть жизнь и еще есть дух. А он за пределами жизни. Так вот
Складки
199
центр жизни находится за пределами жизни. Каждый человек должен
сбегать в сферу духа, поймать там какую-нибудь сущность, вернуться
на землю и положить эту сущность в качестве основания своей жизни.
Объективировать ее, расчитывая на то, что после объективации появит¬
ся воля. Дух. Например, человек сбегал в сферу духа и у него возникло
понятие субстанции. А вот обезьяна не сбегала, не одухотворилась.
У обезьяны не возникло понятия субстанции. И поэтому она бежит от
полуочищенного банана, не узнавая в нем обожаемый ею фрукт. А че¬
ловек от него не убегает, ибо знает понятие субстанции.
Но обезьяна живет в замкнутом мире, а человек — в открытом. Наш
мир прохудился. Стал дырявым. И продырявил его дух. Ведь если су¬
щество мира лежит вне мира, то в самом мире обнаруживается изъян.
Дыра. И в эту дыру, в этот прокол реальности вытекает все содержание
мира. Он опустошается. И пустой мир начинает вращаться вокруг пус¬
того бездушного Я.
6
Понятие пустоты является наиболее плодотворным в антропологии
Шелера. Пустота фиксируется им как нехватка. Как неудовлетворенное
влечение. Если бы человек начинал свою жизнь уже удовлетворенным,
то ему не во что было бы изменяться, ибо у него не было бы пустоты.
И ему пришлось бы учиться соединять осязание со зрением, а зрение с
пространством слуха. Ведь ниоткуда не следует, что то, что я трогаю, и
то, что я вижу, это один и тот же предмет. «Первичная пустота» — это
пустота нашей души. Оестествленная, она предстает как мировая пус¬
тота. Как пустота мировой души. Оттуда, из пустоты, мы бросаем взгляд
на самих себя как на некий посторонний предмет. Из пустоты сознания
мы смотрим на себя как на нечто целое. Пустота предшествует вещам.
И поэтому она онтологически более значима, чем вещи, которые в ней
присутствуют или отсутствуют. К пустоте эти термины не применимы.
Пустоту иногда называют бытием. Иногда духом. Условием того, чтобы
вообще что-то присутствовало или отсутствовало. Пустые души не де¬
лятся, не имеют частей, потому что часть — это заполнение пустоты.
Это некая полудуша. А полудуши не существуют. Не живут.
Животное всегда содержательно. Оно носит с собой свой предмет¬
ный мир, как улитка раковину. Оно переполнено содержаниями. Чело¬
век бессодержателен. Он всегда пуст. И живет в пустом времени и в
пустом пространстве. Он может начинать новый ряд явлений. А для это¬
го должна быть точка отсчета. Должен быть ноль. Если бы не было пус¬
тоты, то не могло бы совершиться и первичное человеческое восприятие.
Первичное человеческое действие. Чувственный порыв жизни скорее
внушает, чем сообщает. Он создает язык для чувств, а не для мысли.
Одухотворить душу — значит сделать ее пустой. Источник пустоты —
Дух. Чистая актуальность. Благодаря пустому взгляду со стороны духа
мы можем затормаживать и растормаживать свои влечения. Можем от-
Глава III
200 |
дедять функцию от состояния и радоваться этой функции самой по себе.
Можем извлекать импульс из ритма какого-либо инстинкта и наслаж¬
даться им. Как, например, мы наслаждаемся сексуальным импульсом,
отделяя его от инстинкта сохранения рода.
В пустоте человек превращается в личность, в того, кто может воз¬
выситься над собой, над жизнью. В античности «нехватка» интерпрети¬
ровалась как Эрос. В XIX веке она будет связана с волей. В XX — с
пустотой. Если в каждом человеке есть то, что растет и вырастает, то в
каждом есть и то, что делается. То, что сделано. И когда сделанное в
человеке доминирует над тем, что может только расти, тогда возникает
пустота.
7
Шелер наивно полагает, что есть верх и еще есть низ. Выше всего —
бог. Ниже всего — чувственный порыв. Чем ты выше, тем слабее. Чем
ниже, тем сильнее. Самый слабый, конечно, бог, ибо он самый совер¬
шенный. Сила таится в низости низкого. В несовершенстве жизни. Гре¬
ки ошибались, думая, что где бог, там и сила. Что формы бытия, чем они
ближе к идее блага, тем они могущественнее. Тем у них больше энергии
самоосуществления. Ведь если бы это было так, то тогда бы мы могли
наблюдать за саморазвертыванием чистых идей Гегеля. И в мире не ре¬
шалось бы без нас. Мы были бы лишними на празднике жизни.
И не было бы зла, слепых порывов и безумных страстей. А они есть.
Значит для чего-то они нужны. Кто-то хочет, чтобы они были. Чтобы
в мире было что-то демоническое. Это хочет совершенный, но слабый
бог. Следовательно, делает вывод Шелер, поток силы идет снизу вверх,
а не наоборот. И этот поток разрывает связи между сущностью и су¬
ществованием. Это для экзистенциалистов важно установить, что чему
предшествует: сущность — существованию, или существование — сущ¬
ности. Шелер же склонен рассматривать их бинарно, т. е. между ними
нет никакого предшествования. Они есть во всякий момент, и во всякий
момент между ними пропасть. Ведь если бы пропасти не было, то бес¬
сильный бог, меняя сущность, изменил бы и существование. И наобо¬
рот.
8
На вершину высокого Шелер посадил «бытие через себя самого».
Вообще немцы упрямо называют это бытие богом и приписывают ему
предикат священного. То есть бог для них не является чем-то трансцен¬
дентным. Ведь если бы он был трансцендентным, то он в своей полноте
ни в чем бы не нуждался. А Шелеру надо было сделать так, чтобы он
испытывал нужду. Чтобы бог был неокончательным. Для этого он отде¬
лил сущность от существования, дух от души.
Человек хотел отделиться от природы. И отделился. Отделиться ему
помогла пустота духа. Природа осталась в пространстве и времени. А че-
Складки
201
довек оказался в ничто. Что является эвфемизмом пустоты. Человек ушел
от природы, а пришел к ничто. Обживая ничто, он, как и предполагали
Фейербах с Шелером, стал населять его земными образами, чтобы спа¬
саться под их властью посредством культа и религии. Бытие, определя¬
ющее себя собой, внушило человеку святость. Ибо ничто в жизненном
мире не может определять себя через себя. А если что-то себя опреде¬
ляет через себя, то оно вне жизни. Философская антропология Шелера
помещает центр по ту сторону мира. А это значит, что бог не предше¬
ствует человеку, а человек не предшествует богу. В каждый момент бог
знает человека, знающего бога, что он есть. Неокончательность бога
дополняется неокончательностью человека. Шелер пишет: «Мне ска¬
жут, и мне действительно говорили, что человек не может вынести
неокончательного бога, становящегося бога! Мой ответ в том, что
метафизика — не страховое общество для слабых, нуждающихся в
поддержке людей»1.
9
Шелер обессилил силу бога. Лишил его креативной энергии. Бог ни¬
как не мог сотворить мир из ничего. Для того чтобы что-то сделать, ему
нужно растормозить чувственный порыв. Существование зла. И благо¬
даря силе зла осуществить свою божественную сущность. Богу нужен
дьявол, ибо высшее в натурфилософии Шелера осуществляется силами
низшего. Шелер понимает бога не как христианин, а как неоязычник.
«Как бытие через себя». А человек предстает у него как недочеловек.
Как то, что отличается от животного только по степени. Поэтому у каж¬
дого человека есть всегда две причины. И два равноценных объяснения:
психологическое и физиологическое. Например, ты можешь получить
язву желудка. Как по физиологическим причинам, так и по психологи¬
ческим. Но в любом случае это будет язва. Ибо душа и тело едины. Про¬
тивоположны только дух и жизнь.
А это значит, что Шелер работает в новоязыческой установке на
понижение уровня человека. У неокончательного человека возможен
неокончательный бог и единая картина мира в виде философской ант¬
ропологии Шелера.
10
Если бог слаб, а добро бессильно, то почему же мир становится все
лучше? Ответ Шелера: потому что божественное использует в своих це¬
лях энергию демонического. Добро обманывает зло, а ум всегда сможет
перехитрить чувство. По-русски говоря, нет худа без добра.
Но энергию жизни еще нужно передать бессильному совершенству
верха. Эту передачу осуществляет человек-аскет, протестант. Делается
это при помощи духа.
1 Шелер М. Положение человека в космосе // Проблемы человека в западной фи¬
лософии. М.: Прогресс, 1988. С. 94.
Глава III
202
11
Цитата изШелера: «... у духа нет собственной энергии»1. А это зна¬
чит, дух всегда без плоти. Он где-то там, в пустом пространстве нуля. А ты
здесь, в пространстве жизни. И ты отсюда ему туда должен поставлять
энергию своих влечений. Для этого ты должен сказать нет жизни. Ты дол¬
жен стать аскетом. Всякий человек, говорит не без гордости Шелер, яв¬
ляется протестантом. Вернее люди — это протестанты, а православные —
это, видимо, еще неокончательные люди. Но если дух лишен силы, то что
же может заставить нас говорить нет жизни? Ничто не может. А коль
ничто нас не принуждает, так мы можем и не говорить «нет» жизни.
Цитата из Шелера: «Человек должен научиться терпеть самого
себя»1. Потому что если он вступит в борьбу со своими влечениями, то
тем самым только умножит их силу. Со злом нужно бороться окольно,
опосредованно. Не прямо. Как бы не обращая внимания на склонности,
направляя энергию на сторонние, но высшие ценности.
Наивно полагать что дух возникает в результате аскезы. Ибо тогда
будет неясным то, что позволяет совершить аскезу. Складывается про¬
тиворечивая ситуация. С одной стороны, надо быть аскетом и прямо
говорить нет жизни, с другой стороны, этого делать не надо. Нужно нет
говорить косвенно, говоря да как нет. Иными словами, если бог ничего
не может, то и духу все не по силам.
12
Цитата из Шелера: «Дух идеирует жизнь»1. То есть и Шелер согла¬
сен с тем, что у него дух получился какой-то анемичный. Что он у него
не только жизни, но даже видимости жизни ничего противопоставить
не сможет. Чтобы спасти понятие духа, Шелер вводит представление об
акте идеации. Вот у тебя, говорит Шелер, болит рука. И тебе эту боль
надо снять. Ты ее снимаешь. Пьешь баралгин. Это одно дело. Вернее, это
содержательная сторона дела. Но ту же самую боль ты можешь рассмат¬
ривать абстрактно, поставив вопрос о том, что такое боль сама по себе,
помимо того что она у тебя здесь и теперь. То есть ты хочешь узнать, как
должен быть устроен мир, чтобы в нем вообще была боль? Вот такого
рода вопрос Шелер называет духовным актом, актом идеации. Одним
взглядом на один пример из жизни ты устанавливаешь сущностную фор¬
му, которая имеет силу для бесконечного множества вещей этой формы.
Правда, Шелер забыл сказать, что эта сила — сила логики. Что в жизни
она ничего не значит.
13
Если суть духа в акте идеации, то опираясь на такой дух никто не
сможет сказать нет жизни. Зачем же человеку нужен акт идеации? Зачем 1 * 31 Там же. С. 73.
1 Там же. С. 75.
3 Там же. С. 84.
Складки
203
ему дух? Этот вопрос Шелер оставляет без ответа. Мир не логический
процесс. В нем есть сила, натиск, порыв. И еще есть что-то, сопротивля¬
ющееся этому порыву. И это что-то — бог. А человек переживает факт
сопротивления. Из переживания возникает идея реальности. И только
потом, за ним, за переживанием, возникают перцептивный и интеллеги-
бельный образы мира. «Переживание реальности дано не после всех
наших „представлений“ о мире, а предшествует им»1. Реальность со¬
пряжена с порывом, а не с сознанием.
А что же есть в духе? В нем есть идея. Дух философской антрополо¬
гии Шелера пуст, как дистиллированная вода. Как инертный газ. Его не
оживит никакая энергия влечения и не возродит ни один жизненный
порыв. Ему не поможет и сублимация. Единая наука о сущности чело¬
века не состоялась. И вряд ли состоится.
2. Пяеснер. Антропологические законы
1
В Европе хорошо налажено производство знаков. Реально, допустим,
еще ничего не сделано, а знаки уже расставлены. Имена даны. Основания
положены. И кто-то первый. И что-то заявлено как новое. Например,
философская антропология. Ну нет в ней ничего нового. И ничего ин¬
тересного. А знак есть. И он отсылает к другому знаку. Идет перемиги¬
вание знаков. Шелер подмигивает Плеснеру. Плеснер — Гелену и так
дальше. Пока где-то рядом не возникнет другая цепь означающих.
2
Вот вышла работа М. Шелера «Положение человека в космосе», а
тут Плеснер со своими «Ступенями». Плеснер — настоящий ученый и
поэтому он написал тяжеловесное, многостраничное сочинение. Но его
читать трудно. Времени на это нет. А вот Шелера читать легко, потому
что он издал маленькую брошюрку, а в ней то же самое, что у Плеснера.
Плеснеру не повезло. Первым прочли Шелера. Его и стали считать ос¬
нователем философской антропологии. Хотя он, Плеснер, такой же
изобретатель ментальных знаков, как и Шелер.
В конце концов, Шелеру тоже не повезло. Пока он встраивался в
мыслительный процесс со своей новой натурфилософией, появился Хай¬
деггер с «Бытием и временем». С другим знаком. И этот знак, к неудо¬
вольствию Шелера, оттеснил философскую антропологию. Затмил ее,
сделав ее чем-то второстепенным, малозначительным. На фоне Хайдег¬
гера философская антропология обнаружила свою пресность, отста¬
лость мышления.
Экзистенция не имеет ни пола, ни тела. И потому Хайдеггеру не нуж¬
но было тут-бытие встраивать в поток эволюции, в бесконечную цепоч-
1 Там же. С. 64.
204 I
Глава III
ку причин и следствий. У него не было надобности в новой натурфило¬
софии. Его экран экранировал. А Шелеру с Плеснером никак нельзя без
природы. У них экран тавтологий прохудился и в образовавшиеся дыры
посыпалось все содержание космоса. Поэтому они космисты. Хайдеггер
«мог отвлечься от физических условий «экзистенции », если хотел на
экзистенции прояснить, что подразумевается под «бытием». Но это
отвлечение от физических условий — тут-то и выглядывает копыто —
становится роковым... Может ли «экзистенция » быть не только от¬
личена, но именно отделена от «жизни», и насколько жизнь фундиру¬
ет экзистенцию... Стоит однажды убедиться в невозможности сво¬
бодно парящего измерения экзистенции, как возникнет необходимость
ее фундировать. Как выглядит это фундирование и какую силу оно
имеет? Сколь глубока ее связь с плотью? Этот вопрос оправдан, ибо
настроено может быть только телесное существо и только оно может
бояться. Ангелам страх неведом. Настроенности и страху подверже¬
ны даже животные... Поэтому нет пути от Хайдеггера к философской
антропологии »1.
Кто может бояться? Ответ на этот вопрос отделил Хайдеггера от
философских антропологов. У Хайдеггера страх фундаментальнее, пер¬
вичнее телесности. У Плеснера тело более фундаментальное понятие,
чем страх. Антропология Хайдеггера помещает страх в структуре бытия
вне зависимости от того, имеет человек тело или нет. Плеснер делает
экзистенцию производной от тела. У него боится тело и в этом смысле
страх не принадлежит только человеку. Если же прав Хайдеггер, то бо¬
яться должны и ангелы. Если прав Плеснер, то экзистенциалы появились
сначала у животных. А уже потом у человека.
«Мы, — пишет Плеснер, — не можем признать основного положения
Хайдеггера... согласно которому изучению внечеловеческого бытия
должна предшествовать экзестенциальная аналитика человека»1. Че¬
ловек — ключ к обезьяне. К бытию. Так полагает Хайдеггер. Нет, обе¬
зьяна — ключ к человеку. В структуре нечеловеческого бытия находит¬
ся истина человека. Таков тезис Плеснера. Хайдеггер восстанавливает
пустоту философских тавтологий, как экран самосознания человека.
Плеснер требует наполнить эту пустоту содержаниями. У Хайдеггера
человек «глядя на вопрошаемое интересуется собой»1 2 3 4. У Плеснера он
интересуется миром.
Теория эксцентричности Плеснера устраняет точку поворота чело¬
века к самому себе и относит его «к одному ряду вместе со всеми веща¬
ми этого мира»*. Всякая вещь есть нечто большее, чем сознание вещи.
А поскольку категории рассудка работают в пределах сознания, по¬
1 Плеснер X. Ступени органического и человек // Проблема человека в западной
философии М.: Прогресс, 1988, С. 525-526.
2 Там же. С. 98.
3 Там же. С. 98.
4 Там же. С. 98.
Складки
205
стольку вещи как они есть даны не категориям сознания. Для их описа¬
ния нужно использовать доопытное. А оно усматривается, переживает¬
ся, созерцается. Опытное как-нибудь да означено, доопытное — не
означено. Поэтому никакая вещь не дана всей полнотой в знаке. Даже
мысль есть нечто большее, чем сознание мысли. В поле, задаваемом эк¬
раном сознания, мы можем получить удвоенное сознание, но не можем
взглянуть на вещи в их доопытном значении. Чтобы сделать возможным
этот взгляд, нужно пробить пустоту тавтологий. Тотальная рефлексив¬
ность жизненной системы «дана, — как пишет Плеснер, — без бессмыс¬
ленного удвоения субъектного ядра»1. Без Я, равного Я. Без самоузна-
вания глаза. Дана как позициональность. Что, в свою очередь, позволяет,
например, различить личность и человека. Там, где появляется личность,
исчезает человеческое. А где сохраняется человек, нет места личности.
Человек и личность несовместимы, ибо человек коренится в доопытном,
неозначенном, а личность появляется в точке удвоения. «Наука не может
и не имеет права ограничиваться человеком как личностью»1.
Когда Я мыслит, Я не есть мысль. Я — вне мысли. Человек чувствует,
но никому не придет в голову сказать, что человек — это чувство. Чело¬
век говорит, но он больше, чем язык. То есть он всегда эксцентрик. Он
находится не здесь и теперь, но за ними. В ничто. Вне места и времени.
Вот эта неуместность и безвременность Я опустошает пространство и
время.
В силу экцентричности никто не знает о себе самом, он ли еще это,
кто плачет и смеется, думает и принимает решения, ибо всякое Я где-то
вне плача, смеха и мысли, ибо оно не есть плач, смех и мысль. Ну а если
никто не знает себя, то на этом незнании могут покоиться ложные чув¬
ства. Ведь может быть так, что Я-то как раз и не плачу, когда я плачу.
Ложные чувства раздвоенного человека делают возможным искусство
актера. Превращение в другого человека. Все люди эксцентричны. Все
раздвоены. И поэтому все актеры.
Вот этот феномен «эксцентризма » используется Плеснером для того,
чтобы показать негодность всякого экрана сознания. Нет такой точки,
в которой бы человек повернул к себе. Куда бы он ни повернул, нигде
его нет. И поэтому всюду промах. Попадание в пустое место. Я никогда
не схватывает себя как Я в актах рефлексии. Оно схватывает не себя, а
свое прошлое. Там, где оно было. И что оно уже не есть. Рефлексия
повернута к прошлому. К содержанию. Она не ведет мысль к мысли, она
ведет ее к прошлому мысли. Я всегда в нулевой позиции. И сознание
всегда происходит в момент нуля. А рефлексия требует содержания.
Поэтому она не ведет к сознанию.
Тем не менее люди поступают согласованно. Несмотря на рефлек¬
сию. А согласованно они поступают потому, что есть то, что Плеснер
называет совместным миром. И что Хомяков называл собором. Во-пер- 1 21 Там же. С. 125.
2 Там же. С. 99.
Глава III
206
вых, собор Мы предваряет всякое Я и Ты. Во-вторых, этот мир не окру¬
жает человека, не является его окружающей средой и не заполняет че¬
ловека, не являясь его внутренним миром. Он несет Я. Совместный мир
полагается как индивидуальность. Как одно сознание, по которому то¬
чечно разбредается множество нулевых Я. Благодаря прозрачности нуля
твое Я везде, в каждой точке сферы совместного мира.
3
Плеснер, отказавшись от пустоты тавтологий, опирается на пустоту
нонсенса. Бессмыслицы. Три антропологических закона Плеснера — это
три бессмыслицы, пробиваясь через которые, можно получить смысл
феномена человека. Первый оксюморон звучит как закон естественной
искусственности. Искусственность естественна для человека, ибо он
должен еще стать тем, что он уже есть. Антропологический нонсенс
наращивается, уплотняется игрой «уже» и «еще». «Уже есть» и «еще
стать». Нужно еще стать тем, что ты уже есть.
Что упало, то пропало. Человеку никогда не вернуть естественности.
Непосредственности. А если нет прямоты непосредственного, то появ¬
ляется окольность действия искусственного. Человек вынужден делать
то, что есть.
Будучи вне времени и пространства человек пребывает как существо
бездомное и безродное. Как то, что укоренено в ничто.
Второй оксюморон Плеснера указывает на опосредованную непо¬
средственность. Ведь все, что человек знает, он знает как содержание
сознания. И только уже потом он знает — это «что» как вне сознания
сущее.
Третий оксюморон Плеснер представляет как утопическое место¬
положение. Ни один человек не имеет своего места. Своего дома. И это
стало причиной существования его культуры. Чтобы найти место, надо
верить. Веру дает религия. Религия и культура несовместимы.
Теория эксцентричности человека полагает, что все люди одинако¬
вы. Каждый может занять твое место, ибо оно нулевое. Незаменимость
дает человеку не культура, а религия.
Смысловым окном антропологических законов Плеснера может быть
восклицание К. Хомякова «Пора домой», если это восклицание понимать
в качестве знака русской философии.
Русские философы создают экран отражения человека так, чтобы
возникало не тождество его самосознания, и не коммуникация с други¬
ми, а настроенйость на целое. Эта настроенность указывает не на твое
незаменимое место, не на твое Я, а на соучастие и на принадлежность к
тому, что отсчитывается не от тебя. И может работать как за тебя, так
и против тебя. Или без тебя. Поэтому «место» в русской антрополо¬
гии —это всегда нечто безликое. Например, это город, служба, стол,
лавка, дом. Конечно, без места — ты никто. То есть у тебя нет никаких
прав. А вот ты занял место и у тебя есть права и обязанности. Но это не
Складки
207
твои права. Они принадлежат всем служилым людям, кто бы они не были.
То есть место сопряжено со служением и только потом с твоими права¬
ми и обязанностями. Вне служения нет никаких прав у человека. Он
бездомен, неуместен и одинок.
Антропология Плеснера строится в предположении, что человек
имеет права и обязанности вне зависимости от места, от служения. Даже
в нулевой точке отсчета. А нулевая точка отсчета — это пустая тавто¬
логия «Я есть Я».
3. Гелен. Нулевая антропология
«Человек» А. Гелена издавался в Германии 12 раз. То есть больше,
чем «Вехи» в России. Гелен берет такой момент судьбы человека, когда
дух еще мыслится, но уже потерял свою силу. Его уже нет, а мы все еще
говорим о нем. Так вот, антропология Гелена приостанавливает бес¬
смысленное говорение, надеясь в открывшейся паузе увидеть по-новому
суть человека.
1
Во-первых, «недостаточно мыслить, исходя из «жизни» в биоло¬
гическом смысле... »*. Если мы будем мыслить дух исходя из жизни, то
дух станет тем, что противостоит жизни. Чтобы действовать в мире, че¬
ловеку нужно будет опираться на то, что не является частью мира. Где
представления о духе, там и метафизика с ее бинарными оппозициями.
Вот, например, Шелер с Плеснером. Они метафизики. Гелену надоела
метафизика. Поэтому, во-вторых, «надо заключить в скобки всякую
теорию, сознательно или по недосмотру ориентированную метафизи¬
чески...»1 2.
1
Разрушать бинарное мышление о человеке можно несколькими спо¬
собами. Можно, как Ницше, взять одну сторону оппозиции, удвоить ее
интенсивность и затем противопоставить исходной стороне. Например,
человеку противостоит не обезьяна и не ангел, а удвоенный человек.
Сверхчеловек. А обезьяне — удвоенная обезьяна. Сверхобезьяна. Мож¬
но, как Гелен, искать третий термин. Например, становление. В нем со¬
держится и бытие, и не бытие. Или заумь, в которой содержится и ум,
и отсутствие ума. На этом пути предпринята попытка преодоления субъ-
ект-объектной дуальности. Одним из результатов этой попытки стала
философия виртуалистики.
Гелен ищет нейтральные термины, т. е. такие термины, которые не
отсылают к бинарным оппозициям. Ведь когда ты говоришь о человеке,
ты говоришь о том, что не относится ни к порядку внешнего, ни к поряд-
1 Гелен А. О систематике антропологии// Проблема человека в западной филосо¬
фии. М.: Прогресс, 1988. С. 155.
2 Там же. С. 156.
208
Глава III
ку внутреннего. Ни к душе, ни к телу. А это значит, что можно построить
нулевой антропологический дискурс. Или, как говорит Гелен, можно
1 описать человека в психофизически нейтральных терминах. Что же мож¬
но узнать о человеке, ничего не зная о душе и теле, о материальном и
идеальном?
3
Гелен полагает, что наука о человеке невозможна. А делать выска¬
зывание о человеке приходится. Язык заставляет. И это становится де¬
лом философии, которая использует материал наук. Но есть две науки:
биология и психология. А человек — один. И было бы хорошо создать
одну науку о человеке. Но как это сделать? Заметим, что Шелер кон¬
струировал одну идею о человеке. Гелен же мечтает об одной науке. То
есть философская антропология выстраивалась немцами в модусе какой-
то параноидальной идеи.
4
Для того чтобы это сделать, нужно отложить в сторону всю пробле¬
матику дуализма. И построить нулевой дискурс, т. е. помыслить чело¬
века за пределами бинарного мышления. В точке отсчета, которая есть
до всяких различений. Например, действие. Это и не тело, и не душа.
И не психология, и не биология. Оно может быть как на стороне субъ¬
екта, так и на стороне объекта. Действие нейтрально. Из нулевого дей¬
ствия складывается культура. Труд. И дисциплина.
Биологически человек является существом примитивным. Неспеци¬
ализированным. Потерявшим инстинкт. Но благодаря своей неопреде¬
ленности он может двигаться по логике смысла.
5
В нулевой антропологии Гелена впервые ясно указано место души в
структуре европейской ментальности. Во-первых, душа — это нарушение
связи с действием. Во-вторых, душой именуется отстойник. Простран¬
ство желаний, фантазмов, интересов, для которых нет механизма осу¬
ществления. У деловых людей нет души. У них идет нормальный круго¬
ворот действенных желаний. А вот если случится обрыв, закупорятся
каналы сообщения с действием, то возникнет душа. Внутренний мир.
Души есть у сердечных людей. Со временем они у них распухают, мешая
им жить. Душа —^ это бездна, зияние, которое отделяет наши потреб¬
ности от исполнения. Человек с волей к жизни использует отсрочку для
того, чтобы затем эффективно действовать. Сердечный человек застре¬
вает на отсроченном. В паузе. В бездне. И поэтому у него то, что вовне,
не сопряжено с тем, что внутри.
Глава IV
Антропологии
Антропология — собирательный термин для описания тех случаев,
когда что-либо говорится о человеке. Сколько людей, столько и антро¬
пологий. О некоторых поименованных антропологиях я рассказываю в
этой главе.
Краткое изложение главы
Жизнь человека пульсирует между пустотой и бессмыслицей. По
пути от пустоты к нонсенсу встречаются и символы; происходят действия
и образуются субъекты действий. Действие — событийно. Смыслы —
бессобытийны. От действий и встреч остаются только рубцы метафор и
швы антонимов. От смыслов — символы. В конце концов, все растворя¬
ется в антропологии абсурда.
§ 1. Шеллинг. Антропология нонсенса
1. В человеке нет ничего человеческого
Шеллинг возвращает плодотворность нонсенсу, полагая, что смыс¬
лы рождаются только тогда, когда ты сможешь пройти по пути, соеди¬
няющему антонимы. Пройти через бессмыслицу и измениться. Ведь в
самом по себе человеке нет ничего человеческого.
2. Непонимание тождества
Современными умами завладел необузданный поэтический бред.
Дело дошло до того, что люди перестали чувствовать поэтику языка.
Более того, мы перестали понимать законы тождества. Или, что то же
самое, смысл связки в суждении1. Вот, например, антоним души и тела.
Стоит между ними поставить связку «есть», как почему-то начинают
говорить о телесности души, о том, что душа — это воздух. А это ведь
бред. Мнение глупого большинства людей. Философы же всегда в мень¬
шинстве. В одиночестве. Они думают иначе. Если бы толпа-была права,
то тогда можно было бы говорить о душевности тела. О зрелищности
ума. Что тоже глупо.
3. Тавтология
Нужно различать субъект и предикат. Подлежащее и сказуемое.
Первое предшествует. Второе следует в последующем. Это отношение
1 Шеллинг. О сущности человеческой свободы. М. 1908. С. 11.
14
1920
Глава IV
210
сохраняется даже в тавтологии. Например, человек есть человек. Чело¬
век как подлежащее есть единство сказуемого и несказуемого. Целое в
его тотальности. Человек как сказуемое представляет отдельные свой¬
ства тотальности. То, что содержится в подлежащем и сказуется.
4. Удостоверенность в чистом существовании
Или вот тождество совершенного и несовершенного. Белого и чер¬
ного. Когда философ говорит, что белое есть черное, то этим самым он
и не думает ничего утверждать о некоей белой черноте. Совершенном
несовершенстве. Связкой «есть» философ подвешивает смыслы. Лиша¬
ет их определенности. А подвесить их можно в антониме. И тем самым
он может оголить существование. Посмотреть на него в чистом виде.
Стремление к этой чистоте и заставляет философов говорить о том, что
человек есть животное. Или что человек есть бог. Человек существует
не благодаря тому, что в нем есть человечного, а благодаря содержаще¬
муся в нем божественному. Или животному. То есть связка «есть» — это
не присоединение одного к другому, животного к человеческому, а вы¬
яснение того, как есть подлежащее. Что оно есть.
Так и несовершенное. Оно существует не благодаря самому себе.
А по причине содержащегося в нем совершенного.
5. Бессильное зло
Любой философ знает, что добро есть зло. Само по себе это тож¬
дество бессмысленно. Но ведь это и хорошо. Потому что, не подвешивая
осевшие смыслы, нельзя узнать о несуществовании зла. Ведь если бы зло
само по себе имело силу, то оно бы и существовало само по себе. И тог¬
да никто не смог бы сказать, что зло есть добро. А оно само по себе не
существует. Само по себе оно бессильно. И для того, чтобы быть, ему
нужно добро. То есть тождеством антонимов мы указали на сущее. На
добро. Ибо если в зле и есть сила сущего, то это сила добра. По-русски
это значит: не делай добра, не получишь зла.
6. Свободная необходимость
Отказ от тождества свободы и необходимости есть шаг к забвению
природы человека. Ведь полагание свободы вне необходимости превра¬
щает свободу во что-то случайное. В то, что может как быть, так и не
быть. Между тем тождество свободы и необходимости означает лишь
то, что сущность нравственного мира человека есть одновременно и сущ¬
ность природы. Что свободно делать можно лишь то, что иным образом
сделать нельзя.
§ 2. Фихте. Антропология действия
Декарт полагал, что всякая мысль уже сама по себе является дейст¬
вием. Ну а если мысль — это действие, то ведь можно оставить в сторо¬
Антропологии
211
не вопрос о природе мысли. И не зная, что такое мысль, можно занять¬
ся исследованием действия.
Эту возможность реализовал Фихте. Дело не в том, мыслит душа или
не мыслит. Главное, что она действует. Декарта не интересовала причи¬
на действия. Его исток. Для Фихте ответ на этот вопрос становится оп¬
ределяющим. Ибо в нем указывается назначение человека.
Человек не существует сам по себе
Если человек существует сам по себе как монада, то никакого дей¬
ствия ему не надо. Он мыслит. Но его мысль бездеятельна, она никак
себя не обнаруживает. А если она себя не обнаруживает, то ее как бы и
нет. Поэтому Фихте провозглашает: человек есть то, что он есть, благо¬
даря целому. Одного человека недостаточно для объяснения его сущес¬
твования. Нужно принимать во внимание еще и другое существование.
То, что сцепилось причинами и действиями вне человека. Чтобы человек
был, нужно, чтобы провзаимодействовали все субстанции мира. Соеди¬
нились все условия.
Неполнота человека нуждается в действии
Человек — существо страдательное. Зависимое. Неполное. Если бы
он был полным, то он был бы субстанцией. А субстанции не действуют.
Они уже удовлетворены. Неполнота принуждает человека к действию.
Вот этой неполноты и не заметил Декарт, допуская существование толь¬
ко целых душ. Изгнав всякие растительные и животные души.
Свободное звено в цепи мирового целого
Всякое в себе бытие еще только должно стать для себя бытием. Вот,
например, песчинка. Она лежит там, где она лежит. Чтобы сдвинуть ее
с места, нужно изменить все мировое целое. Но если изменить целое, то
изменятся и условия твоего существования. И твой предок в новых ус¬
ловиях не родит сына. А его сын не родит тебя. То есть каждый чело¬
век — это звено в цепи мирового целого. И поэтому ты таков, каков есть,
не потому, что ты это хочешь. И не потому, что ты мыслишь. А потому,
что так провзаимодействовали мировые субстанции. Ведь если дереву
дать сознание, то и оно будет считать, что оно свободно растет в соот¬
ветствии со своей необходимостью. Так что каждое звено в цепи миро¬
вого целого может полагать себя свободным.
Я само делает себя
Ни одно Я не хочет быть элементом порядка целого. Оно желает
быть последним основанием своих определений. Я изгоняет природу и
хочет хотеть согласно понятию, а не в соответствии с природой. У Де¬
карта Я мыслит. У Фихте оно волит. Из воли вытекает поступок. Напри¬
мер, «Я хочу быть господином природы». Это не мысль, а поступок.
Волевое действие.
U*
Глава IV
Всякое Я хочет любить, радоваться, печалиться. Одно дело, если это
ты сам любишь. И другое — если это природа в тебе себя любит. Фихте
придает решающее значение сдвигу субъектности.
Плох не человек. Ужасен мир
Назначение человека в действии, а не в знании. Знание — это лишь
наблюдение за действием1. Живое действие предшествует всякому ко-
гитальному знанию. Плох не человек. Ужасен мировой порядок. Вот
его-то и надо менять. Мировое целое должно стать лучше. Но для этого
требуется серия поступков человека. «Разве я, — говорит Фихте, — ем
и пью только для того, чтобы потом опять чувствовать голод и жаж¬
дуу и снова есть и пить, пока... не поглотит меня могила... »1 2. Фихте
грезит о мире без тяжкой работы, без войн, бурь и катаклизмов.
Враг человека - сам человек
У человека есть только один враг. Это он сам. Враг человека — сам
человек. На непонимании этого обстоятельства построена трансценден¬
тальная феноменология Гуссерля.
Ведь если Я пусто, то оно не может быть субъектом. Если же оно не
пусто, то оно в мире. Часть мира. Зачем тогда Я?
И вот весть фокус Фихте, а затем и Гуссерля, состоит в обосновании
увлечений Я. Я увлекается каким-нибудь содержанием. И оно выводит
Я за пределы Я. Получается два «Я». Но уже Гегель называл это безу¬
мием. Ибо увлечь «Я» можно, если оно содержательно. А содержатель¬
ность Я ведет к признанию существования множества Я в одном Я.
Фихте и Гуссерль философствуют на грани безумия.
§ 3. Фейербах. Антропология субъекта
1
«Божественно то, что существует ради себя самого»3. В этих сло¬
вах Фейербаха сформулирована антропология европейского ума. Пред¬
посылкой такой антропологии является идея человекобога. То есть
человек — это и есть бог. И ему надо поклоняться. И Европа поклонилась
этому новому богу, а Фейербах засвидетельствовал факт поклонения.
Если человек — это бог, то тогда самость от него не может быть отде¬
лена. Что это за бог без самости? А если самость не отделена, то меня¬
ется роль другого. Другой уже не может быть твоей самостью. Он вооб¬
ще тебе не нужен. Но не нужна тебе и душа, потому что там, где сцепи¬
лись Я и сознание, душа оказывается лишней. А раз нет души, то нет и
участия человека в жизни мирового целого. Нет условий для чудесных
видений.
1 Фихте. Назначение человека. СПб., 1906. С. 72.
2 Там же. С. 87.
3 Фейербах А. Сущность христианства // Человек. М., 1995. С. 6.
Антропологии
2
Иными словами, божественна автономная личность. Или эгоист, если
речь идет о жизни. А если речь идет о познании, то божественным ста¬
новится солипсист. В антропологии европейского ума нельзя стать лич¬
ностью, не став эгоистом или солипсистом. В этой антропологии ради¬
кально отличаются человек и животное. Человек мыслит. Животное
размножается. А поскольку оно размножается, постольку ему нужен
другой. Человек, оставляя потомство, уподобляется животному. Нече¬
ловеческое это дело — рожать детей, хотя мы их и рожаем.
3
Немцы убедили себя, а вместе с собой и всю Европу, что человек —
это субъект. На худой конец — это субстанция-субъект. Ведь и Бог яв¬
ляется субъектом, а не какой-нибудь простой монадой. Так считал и
Фейербах. Но по сравнению с Гегелем он был слишком наивен. С непо¬
средственностью наивного человека Фейербах проговаривал то, о чем
Гегель умалчивал. Хорошо, недоумевал Фейербах, человек — это субъ¬
ект, т. е. Бог, но как же мы тогда можем любить? Как можем мыслить?
Хотеть? Ведь субъект не может любить, мыслить и хотеть. Ведь это бы
значило ограничивать себя, свою субъектность. Если ты любишь, то лю¬
бовь тобой овладевает и ты превращаешься в простую субстанцию. В объ¬
ект. Или вот мысль пришла и тобой овладела. И ты уже не субъект мыс¬
ли, а объект. Что же делать? Как решить: «Человек ли владеет любовью
или, напротив, любовь человеком? »*
4
Конечно, можно изменить представление о чувствах. Уж коль ты
субъект, то ты можешь распорядиться своими мыслями, чувствами и
волей. Подчинить их себе.
Вот ты говоришь себе — радуйся. И ты радуешься. Надоест радо¬
ваться — станешь печалиться. Скажешь себе — полюби владелицу фар¬
форовой фабрики. И к тебе приходит чувство любви. Устанешь от люб¬
ви, заменяй ее другим чувством. Итак, чтобы субъект мог любить, оста¬
ваясь субъектом, чтобы он мог мыслить, оставаясь субъектом мысли,
необходимо, чтобы из Я следовала мысль. Вытекало чувство. А для это¬
го Я должно обладать креативной энергией. Силой порождения.
5
Но креативность Я приводит к парадоксу. Оказывается, мысли рож¬
даются не мыслями, а по воле мыслящего. Чувства возникают не из
чувств, а из Я, которое, в свою очередь, должно пониматься как нечто
внемысленное, внечувственное и вневолевое. Я мыслю, но Я — не мысль.
Я чувствую, но Я — не чувство. Я волю, но Я — не воля. А это значит, 11 Там же.
214
Глава IV
что Я пусто. В нем ничего нет. Если же его заполнять тем, что коренит¬
ся не в Я, то появятся причины для помешательства. Для двух Я.
Итак, ничто не обладает собственным существованием. Ни мысль,
ни чувство. Но это значит, что Я должно непрерывно творить мысль и
чувство, чтобы они были. Ведь если у них нет своей массы бытия, то у
них нет и того, что можно было бы назвать инерцией существования.
Например, ты перестал кого-то любить не потому, что ослабло чувство.
Рассеялась его энергия. У чувства нет никакой энергии. Сила есть у Я:
это оно перестало его творить.
6
Следовательно, субъектность человека может быть сохранена, если:
1) нет объекта, ему противостоящего, а объект противостоит субъекту
своей непосредственностью, своим дословным. Поэтому непосред¬
ственное нужно опосредовать, дословное растворить в слове, т. е.
снять непосредственность;
2) нет другого, и субъект один, и сознание его непрерывно и однород¬
но;
3) на первый план выдвигается воля, которая обнаруживает себя на
месте антропологической тавтологии.
Я является не когитальным. Оно не мыслит неизбежным образом.
В нем не сцепились Я и мысль. Оказывается, что Я — это волящая себя
воля. Вот я хочу мыслить и мыслю. Хочу хотеть и хочу. Не захочу хотеть,
не буду. У Гегеля оно захотело ходить прямо и пошло. Вне зависимости
от всяких ссылок на эволюционные возможности.
7
Отчаянная попытка Гегеля ввести представления о разрыве между
Я и сознанием базировалась на зыбком положении о том, что сущест¬
вовать и где-либо храниться — не одно и то же. Я хранит в себе мысли,
которые не существуют. Они существуют лишь в момент извлечения из
хранилища и их переноса в сознание. Тем самым Гегель попытался уст¬
роить для Я перекур. Отдых. Момент, в который оно отдыхает от мысли.
Безуспешной была и попытка Шеллинга уровнять Я и мысль, полагая,
что из мысли может родиться Я. Шеллинг поставил под сомнение безу¬
словную субъектность Я.
8
Фейербах — санитар немецкой философии. Ее гиена. Он занялся
утилизацией ненужного. И поэтому пошел своим путем. Он, как и всякий
неприспособленный к жизни человек, предпочел ничего не выдумывать,
а просто поменять знаки. Плюс на минус, субъект — на объект. Вот этой
переменой знаков он и стал известен. Пусть мысль как захватывала че¬
ловека, так его и захватывает. А чувство как овладевало им, так пусть и
овладевает. Они субъектны. А человек — объект. Какая это прелесть —
Антропологии
215
отдаться стихии настроения. Зачем же из человека нужно непременно
делать бога. Не бог он и не субъект. Так Фейербах перевернул Гегеля.
Поставил его с ног на голову. «Человек — ничто без объекта », «В объ¬
екте обнаруживается сущность человека»1.
9
Если человек не субъект, то и модусом его существования является
не действие, а испытание. Кто не испытал на себе бытия в качестве объ¬
екта, тот и не был человеком. Тот не жил. Вот, например, Кант. Он раз¬
ве любил? Нет. А если не любил, то, значит, и не испытал, что такое
любовь. А значит, и не жил. Или Гегель. В нем ничего человеческого не
осталось. В нем все развилось до уровня понятия. На уровне понятий он
застрял. А разве можно понять что-либо в жизни на этом уровне?
Мы — люди, если в мире еще есть что-то, что захватывает нас. И ве¬
дет. И мы лишаемся субъектности. И готовы отдать жизнь за бессубъ¬
ектное состояние. То есть мы готовы отдать свою единичность не за
всеобщее, не за какие-то дурацкие права и нравы, а за чувство, за мысль,
тобою овладевшую.
10
Если бы человек был только субъектом, то он не мог бы действовать
«во имя». Мистериально. Приносить жертву, ибо жертва собой ради
себя — это не жертва, а блеф. Симуляция. Сдвиг субъектности от че¬
ловека к мысли, осуществленный Фейербахом, сделал возможным марк-
сову теорию капитала. Маркс вообще любил переписывать Фейербаха.
Это установил еще С. Булгаков. Но дело не в симпатиях Маркса. Мало
ли кто кого любит. Главное, капитал стал пониматься в качестве само¬
возрастающей субстанции. А человек стал выступать объектом. Пер¬
сонификацией капитала. Тем, что лишается вменяемости, ответственно¬
сти за работу капитала. Маркс запрещает оценивать действия капита¬
листа в терминах морального сознания. Капитал божествен. Ибо он
существует ради себя самого, а не ради капиталиста. И не ради потре¬
бителей.
11
Фейербаху было не до теории капитала. Она его не интересовала,
хотя Фейербах вступил в партию социал-демократов. Его интересовала
любовь. А она божественна, т. е. существует ради себя. Ее цель — не
Дети, а она сама. И мысль существует ради мысли, а не для радости. Если
бы она определялась не собой, а чем-то другим, то было бы в ней что-то
немыслимое. Случайное. Из-за случайности попадания немыслимого в
мысль стало бы невозможной тождественность бытия и мышления. Ибо
это тождество означает лишь то, что мысль себя определяет собой в себе.
1 Там же. С. 88.
Глава IV
216
Чем достигается прозрачность сознания. Его однородность и непрерыв¬
ность. Или, как скажет Фейербах, достигается его бесконечность. Вот
цитата: «Человек существует, чтобы познавать, любить и хотеть. Но
какова цель разума? — Разум. Любви? — Любовь. Воли? — Свобода воли.
Мы познаем у чтобы познавать, любим, чтобы любить, хотим, чтобы
хотеть... »1. Нельзя, чтобы чувство определялось не чувством, а волей.
Или мыслью. Нельзя любить по прихоти воли или по приказу ума. Но
нельзя, чтобы и мысль определялась не мыслью, а какими-то другими
соображениями. Например, интересами, выгодой или страхом. В случае
нарушения тождества целью воли стала бы не воля, а чувство. И вообще
чувства рождали бы мысли, мысли — воления, а воля — чувства. И тог¬
да в мире воцарился бы беспорядок. И ничто в нем нельзя было бы по¬
нять. И нужно было бы верить в чудеса. А Фейербах в чудеса не верил.
Он, как и всякий немец, верил в порядок и дисциплину.
12
Но если все существует ради себя, то кто же это все свяжет? Где
единое? Или же мир — это простая множественность, а вовсе не целое?
Фейербах неожиданно для себя пришел к мысли об антропологической
катастрофе. Ведь если человек — это объект, то это значит, что его про¬
сто нет. Если любовь определяется любовью, если цель мысли — мысль,
то где же здесь Я? Почему Я говорю, что это Я мыслю. Что это Я люблю?
Причем здесь Я? Ведь мысль, чувство и воля отвлечены друг от друга.
Они существуют в раздельности. Ведь Я — это же не вешалка с крючка¬
ми, на которые можно повесить что угодно. Конечно, нельзя мыслить,
если мысль определяется не мыслью, а чувством. И нельзя чувствовать,
если чувство определяется не чувством, а рассудком.
Я — это некое пустое место. Незаполненное пространство, в котором
чувство поворачивается назад, к себе. В котором мысль отражается и
рефлексирует по своему поводу. Я выступает точкой поворота, удвое¬
нием того, что попадает в нее. Правда, Фейербах оставил вопрос о при¬
роде Я нерешенным.
13
В тавтологии выражается бесконечность. Все, что утверждает свое
существование своим же существованием, Фейербах назвал бесконеч¬
ным. А то, что не может себя утвердить собой, то конечно. Например,
вещи конечны. Ибо у них нет признака, указывающего на то, что они
могут быть в следующий момент времени.
В силу бесконечности мысль мыслится, а чувство чувствуется. А если
мысль мыслится, то тогда невозможно событие «Я мыслю ». Ибо мысль
сама себя мыслит. И ей не нужен не только другой, но и ты. Не нужно
Я. То есть «Я» еще нужно извлечь из события мысли. И этим извлечени-
1 Там же. С. 86.
Антропологии
217
ем мы и узнаем мысль. Посмотрим на себя со стороны бесконечности.
Ибо сознание и есть этот взгляд из бесконечности.
14
Открытие бесконечности заставило Фейербаха сделать вывод, что
Бог — это бесконечность. И чувство — это бесконечность. Следователь¬
но, чувство и есть Бог.
То есть Бог — не предмет мысли. И не предмет чувства, а чувство
чувства. Мысль мысли. Нечто рефлексивно удвоенное. Иной Бог будет
внешне навязанным чувству, а чувству ничего нельзя навязать в силу его
удвоенности.
15
Фейербах тем и прославился, что посмел публично отказаться от
Бога. Чувство есть Бог для самого себя. Нет Бога как отдельного от
природы чувств предмета. Есть Фантазия. И то, чем ты наделяешь в фан¬
тазии другого, ты извлекаешь из себя. Из своей сути. Чувство — твой
Бог. Оно действует в тебе независимо от тебя.
Поэтому-то теория неземных разумных существ есть способ объек¬
тивации человека.
Фейербах разрешил кантовскую проблему просто. Возможно, на
других планетах есть другие разумные существа. Но и там, и здесь одни
законы движения. Одни мысли и чувства. Поэтому, если они есть, то они
подобны нам. Они — это мы.
Объективировать что-либо — значит представить бесконечным. «Ко¬
нечность и ничтожество — понятия тождественные ». Конечность — эв¬
фемизм для ничтожества. Теория конечного человека — это теория
ничтожного человека.
«Конечность есть метафизическое, теоретическое выражение;
ничтожество — выражение патологическое, практическое»1. Поэтому
человек становится тем, что он есть в бесконечности. Индивид конечен.
Род бесконечен.
Сознание — это возможность быть предметом самого себя. «Человек
смотрится в зеркало и испытывает удовольствие, рассматривая свой
облик»1 2.
Любой диалог — это монолог. И поэтому в нем возможно понимание.
Антропологическая конфигурация мысли приготовила для Фейер¬
баха ловушку. Рассуждая о субъективности мысли, которая захватыва¬
ет человека, Фейербах объявил ее божественной. Тем самым легитим¬
ность получила и отчужденная мысль. Отчужденное чувство.
То есть Фейербах признал законным существование магнетизера.
Чьи мысли и чувства овладевают тобой и становятся твоими.
1 Там же. С. 88.
2 Там же. С. 89.
Глава IV
218
Так возникает феномен ложного сознания, критика которого ока¬
залась непродуктивной даже в феноменологии.
Еще одним направлением в разрешении возникающей проблемы ста¬
ла критика отвлеченных начал русской философией. В том числе кри¬
тика отвлечения Я от чувства любви и от воли. Ведь если ты субъект
чистого сознания, то ничто на тебя уже не действует. И трансценден¬
тальной апперцепции нечего связывать, пока ей на блюдце не подадут
ощущение добра.
Нет причины для того, чтобы было добро. А оно есть. Оправданием
добра занималась не трансцендентальная философия, а В. Соловьев.
Внутри человека Гегель находил сплетение нитей, которые вяжет объек¬
тивный мир. Маркс назвал эти нити «совокупностью общественных от¬
ношений». Но именно поэтому в составе мира нет причин для того, что¬
бы было добро. Внутри человека — не нити. Не совокупность. И не дья¬
вол. А добро. Но его не видно. А если и видно, то изнутри. Единичному.
А не публике. Добро необъяснимо является из глубины внутреннего.
И также необъяснимо в него ускользает. И нужно пытаться его закрепить,
зацепить тогда, когда оно беспричинно появится во внешнем плане. Так
полагал Соловьев. Фейербах добро не оправдывал. Он его потреблял.
§ 4. Кассирер. Антропология символа
1
Кассирер — книжный человек. Вербальный, т. е. он не умеет загля¬
дывать за сцепления культурных форм. И поэтому ему неведомы чело¬
веческие отношения. Как неведомы они и для всей немецкой антропо¬
логии, которая не замечает красоту тайных перемигиваний. Зато она
знает красоту формы, норм и правил. Для нас близка личность. Между
тем русское сознание предпочитает обращаться в минуты опасной бли¬
зости к ничто не к личности, а к человеку. Вся русская антропология
содержится в крике-призыве «будь же ты человеком». Никому не придет
в голову взывать к личности, потому что личность не умеет заглядывать
за культурные формы. Не умеет совершать трансцензус, легко проде¬
лываемый дословным человеком.
2
«Человеческое самосознание в кризисе». Я беру эту формулу Кас¬
сирера потому, что в ней выражено европейское отношение к антропо¬
логической проблеме.
Во-первых, здесь ничего не говорится о человеке. Мы не знаем, что
происходит с ним. Касается ли его кризис или нет. Конечно, если пола¬
гать, что человек — это самосознание человека, то тогда кризис само¬
сознания ставит под вопрос и существование человека.
Во-вторых, было бы наивно думать, что в этой формуле Кассирер
констатирует факт внезапно утерянного человеком интереса к самому
Антропологии
219
себе. Люди как были любопытными, так и остались ими. И не о том пе¬
чалится Кассирер. Его беспокоит другое; а именно: состояние экрана
отражения. Точки поворота человека к самому себе. Вернее, проблема
состоит в том, что что-то случилось с экраном и он не экранирует, не
служит точкой поворота. Ты на него бросаешь взгляд, и этот взгляд
вместо того, чтобы вернуться к тебе, проникает сквозь экран и пропа¬
дает неизвестно где. Точка поворота не получается. А если нет этой
точки, то мысль не обращается к самой себе. И человек не вопрошает о
себе, а интересуется всем, чем угодно. Только не собой. Он желает мир,
в котором нет места для него самого.
Под искомым экраном в разное время понималось разное. Этим эк¬
раном была философия. Были первые основания и последние сущности.
В любом случае он создавался и понимался как конечный набор тавто¬
логий. Или, как говорит Кассирер, то, что задает точку опоры, устойчи¬
вый и неподвижный центр. Европейский человек потерял этот центр.
Кассирер это понял и стал его искать. Постмодернисты не ищут центра.
Они, упиваясь свободным хаосом децентрирования, устраивают пир во
время чумы. Так вот, с течением времени пустые тавтологии стали за¬
полняться всякими содержаниями. Точка опоры сдвинулась. Центр за¬
колебался. Второе стало первым. Экран прохудился и стал плохо отра¬
жать. А Кассирер задумал его починить. Почистить. Потому что фило¬
софы — это смотрители экрана. Они его штопают и чистят. Для
выполнения своих философских функций Кассирер избрал самый прос¬
той способ: объявил все содержания, проникшие в пустоту тавтологий,
символами. Ведь символ никогда не есть то, что он есть. Вот он, слой
символов, и должен был нас вернуть к самим себе.
Быть у себя, быть самим собой для европейца важнее всего в мире.
Это не просто факт существования. Это бытие, т. е. бытие понимается
как встреча с самим собой. Но для того, чтобы она состоялась, нужно,
как пишет Кассирер, «обратить все мысли человека вспять »*. К самому
себе.
Уже греческие философы организовали этот поворот, связав само¬
познание и самореализацию. С одной стороны они поставили экран.
Метафизический рефлектор. А с другой — бытие. Экранируя, бытие
складывалось. Греки получали удвоенное бытие. Складку, внутри кото¬
рой возможно было то, что они называли покоем, атараксией, апатией.
В этих состояниях человек был самим собой. То есть его самость не дана
естественным развертыванием причин и действий, равно как и движе¬
нием культурных форм. Для нее нужна складка; бытие, удвоенное мыс¬
лью о бытии. «Я исследую себя», — говорит Гераклит. Жизнь, которая
прошла испытание умом, и есть жизнь. Нельзя усмотреть человека через
его свойства, ибо такому усмотрению мешают складки. Если бы у чело¬
века обнаружились свойства, то он стал бы вещью. Но усмотрение вещи 11 Кассирер. Что такое человек // Проблемы человека в западной философии. М.:
Прогресс, 1988. С. 3.
Глава IV
220
не может быть дедом вещи. Оно требует поворота ума к самому себе.
И поэтому человек описывается в терминах сознания. Как писал Марк
Аврелий, «ничто из того, что принадлежит человеку, поскольку он
человек у не может быть названо свойственным человеку».
Складки удвоенного бытия делали возможным внутренний мир че¬
ловека. И каждый мог зайти в него. Спрятаться. И стать, как стоик, не¬
зависимым от мира. А вот христиане не захотели уходить внутрь. Они
пошли к Богу. К Спасителю. Человек — это не разум, а вера. Но вера не
нуждается в экране самосознания. В обращении к себе самой. Христи¬
ане порвали экран сознания, обессмыслили максиму «познай самого
себя».
Научное мышление поставило под сомнение привилегированное су¬
ществование человека в складках бытия. Оно лишило его центра и помес¬
тило в один ряд с другими живыми существами. Ходом истории разгла¬
живались складки, рассеивался покой. И атараксия. Пустоты тавтологий
заполнялись различными содержаниями. Например, эволюционными
представлениями. И человек стал недоступен для себя. Не очевиден. Он
стал описывать себя как вещь. В терминах объективных свойств.
3
Кассирер намерен восстановить экран сознания, вернуться к удво¬
енным складкам бытия. Для этого он вводит третий элемент: символы.
Вот они-то и являются надежной точкой поворота человека к самому
себе. И, следовательно, точкой безразличия к вещам. К миру.
Например, тебе страшно. И тебе хочется убежать. Спрятаться. И это
естественно. Но ты не убегаешь. Не прячешься. Потому что еще есть
честь. И стыд. То есть есть символ, в сопряжении с которым ты другой.
Не естественный, а символический.
Символ отдаляет реальность от человека. И человек не обращается
уже к самим вещам. Не слышит их шепота. Не «Я», а символ теперь вы¬
ступает точкой поворота человека к самому себе. Символ стал твоим
зеркалом. А у Канта это зеркало составляло тождество «Я есть Я».
В символе непосредственность утеряна человеком навсегда. Никто
теперь не может говорить своим голосом. Все фальшивят. Все неискрен¬
ни. Теперь с нами всегда посредник. И даже чувства и эмоции человека
символически опосредованы. И поэтому симулятивны. Сам человек уже
ничего не может видеть и не может знать. У него не осталось даже же¬
ланий и потребностей, о которых можно было бы сказать, что они его.
У человека не осталось ничего своего. Все опосредовано.
В пространстве символа сам человек нереален. Он не есть то, что он
есть. Реальность попадает в модус ускользания к символу. Например,
ты смотришь на труп поросенка, а видишь блюдо под названием «жаре¬
ный поросенок». Смотришь на труп рыбы, а видишь что-то гастрономи¬
чески изысканное. В свое время Марк Аврелий в «Наедине с собой»
говорил о том, что следует обнажать вещи, устранять ореол, придавае¬
Антропологии
221
мый им словами. И тогда мы сможем увидеть вещи такими, какие они
есть.
§ 5. Бубер. Антропология Другого
Бубер — апологет диалога. Но всюду ли нужно вступать в диалог?
Возможен ли диалог в клинике, в больнице? К. Роджерс считает, что
возможен, а Бубер говорит, что диалог не возможен. Здесь нет равных.
Нужно выйти из больницы, перестать быть врачом и пациентом, чтобы
между ними стал возможен диалог. Больной — это тот, кто нуждается
в помощи, кто тонет. Если ты вступаешь с ним в диалог, ты омерзителен.
Больной видит прежде всего не личность, а врача.
1
Мордехай Бубер интересен критикой антропологии Канта. Согла¬
шаясь с тем, что антропология призвана быть фундаментальной фило¬
софской наукой, Бубер не видит у Канта никакой фундаментальности
и находит у него множество не связанных друг с другом заметок о че¬
ловеке. «Сам же вопрос, что такое человек, здесь вообще не ставится,
равно как не затрагиваются всерьез и скрытые за ним проблемы, и сре¬
ди них — особое место человека во Вселенной, его положение перед ли¬
цом судьбы, его отношение к миру вещей, его представление о своих
собратьях, наконец, его экзистенция как существа, знающего, что ему
предстоит умереть, его самочувствие во всех ординарных и экстраор¬
динарных столкновениях с пронизывающей человеческую жизнь тайной.
Но человеческой целостности в этой антропологии нет. Похоже, что
Кант так и не отважился дать философское обоснование тем вопро¬
сам, которые сам же и назвал основными »\
Бубер не прав фактически. В »Антропологии...» Кант анализирует
вопрос о месте человека во Вселенной, также об отношении человека к
своим собратьям и о прочем. Бубер как бы не замечает этот анализ. А это
любопытно уже само по себе.
Бубер по старинке еще полагает, что можно поставить вопрос о сущ¬
ности и получить ответ на него. Вот ты спросил: «Что такое человек», и
кто-то тебе ответил. И ты удовлетворился.
Никто не может запретить задавать вопросы о сущности. Их зада¬
вали и будут задавать дети. И будут существовать родители, т. е. люди,
которые знают ответы на эти вопросы. Так вот сейчас люди — не дети.
А философы — не родители. И тот, кто это понял, не ставит вопрос о
сущности, и не пытается ее определить. Достаточно указать на назна¬
чение вещи. На способ ее применения. Например, греки. Они, как дети,
то и дело изумляются, спрашивают: что это? И философы им отвечают:
это дерево. Сущность дерева в древесности. 11 Бубер М. Два образа веры. М.: ACT, 1999. С. 204.
222
Глава IV
А вот евреи никогда не были детьми. Они не изумлялись и не спра¬
шивали: «Что это такое». Иудеев с самого начала интересовало назна¬
чение вещей. Решение практических задач. Сущность дерева для них не
в древесности, а в тени, которую оно дает и в которой ты можешь ук¬
рыться от жары.
Под давлением исторических обстоятельств философия перемести¬
лась из Греции в Израиль, от грека — к еврею. В современной философии
нет греков. Некому задать сущностные вопросы. В ней доминируют иу¬
деи и ценится практичность. Отказ от поисков сущности, замена суб¬
станций функциональным определением выдвигает на первый план фи¬
лософию значения и назначения.
Современная философия не имеет никакой связи с греческой фило¬
софией. Греки забыты, и это забвение делает невозможным возвращение
вспять. К истокам. История необратима. Эту необратимость не мог одо¬
леть даже Хайдеггер.
М. Бубер — симулятивный грек современной философии, ибо он
склонен к сущностным вопросам. Правда, в отличие от Канта, он пола¬
гает, что на вопрос о сущности может быть дан и сущностный же ответ.
Между тем любой такой ответ сегодня уже заранее определен быть си¬
муляцией греческого дискурса. Симуляцией, развертывающейся в пус¬
тоте угасшей мысли.
2
Вопрос «что есть человек?» звучит как выстрел. Но на вопрос не
отвечают выстрелом. Эпоха интеллектуальных дуэлей греческой фило¬
софии прошла. И Кант это хорошо знает, отвечая на сущностный вопрос
вариативным множеством ответов. Пулеметной очередью различных
содержаний, объединяемых конъюнкцией, а не принципом.
Бубер ждал от Канта центрированного понимания человека, а полу¬
чил децентрированную антропологию. И растерялся. И стал искать це¬
лое в антропологии. Систему. Если Хайдеггер увидел в вопросе «что есть
человек» неопределенность и пустоту, то для Бубера этот вопрос полон
смысла и определенности. Бубер — философский дуэлянт. Но его сущ¬
ностные ответы пусты. Они похожи на холостые выстрелы. Шума мно¬
го, а толку мало.
Иными словами, вопрос «что есть человек» получил следующую ин¬
терпретацию.
1. Кант сохраняет нетрансцендентальную эйдетическую форму вопро¬
са. Но ответ на этот вопрос носит иной характер. Не эйдетический.
На место угасшей сущности приходит вариативный набор опреде¬
лений, и у этих вариаций нет ни начала, ни конца. То есть Кант по¬
мещает ответ на вопрос «что есть человек» в модус ускользающей
сущности.
2. Хайдеггеру противен негреческий характер антропологии Канта.
Сам вопрос «что есть человек» он изымает из ведения антропо¬
Антропологии
223
логии и относит его к онтологии. А это значит, что человек должен
быть определен в терминах бытия, т. е. так же, как Гегель опре¬
делял качество и количество. Что такое качество? Это бытие. Вер¬
нее, определенность, тождественная с бытием. Так же надо опре¬
делять и человека. Следовательно, в основании метафизики лежит
не антропология, а фундаментальная онтология. Вопрос о сущ¬
ности человека — это вопрос о сущности бытия. А суть бытия в
вопрошании о бытии. Человек есть как бытие, вопрошающее о
бытии. В свою очередь, бытие, вопрошающее о бытии, трансфор¬
мирует проблему конечности, границы. Дело не в том, что Я может
или не может. Дело во времени. Конечность переносится из сфе¬
ры можествования в область времени. Хайдеггер, как и Бубер, стал
симулятивным греком современной философии. Пушечные залпы
его фундаментальной онтологии носят бутафорский характер. Не
всякое вопрошание бытия о бытии может быть человеком. Не вся¬
кое сопряжение бытия со временем носит характер антропологи¬
ческой конечности. Более того. Само бытие может быть переин¬
терпретировано в терминах антропологии как быт. Бытие — это
быт, безразличный ко времени и к человеку. Хайдеггер помещает
ответ на вопрос «что такое человек» в пространство безлюдной
онтологии, делая возможной антропологию без человека. У Кан¬
та оставался человек, а сущность ускользала. У Хайдеггера ус¬
кользает человек, а сущность остается. И поэтому ему не прихо¬
дит в голову сказать: что же мне нужно делать, чтобы быть сегод¬
ня человеком?
3. Бубер старается сохранить и человека, и сущность. Сущность чело¬
века в том, что он познает, действует и надеется, а суть философии
обеспечивается ее «расчеловеченностью». И хотя философия стоит
на голове в силу этой ее расчеловеченности, Бубер не намерен ставить
ее на ноги, т. е. он не желает сводить проблемы бытия к человече¬
скому бытию. Философская антропология как идеальная наука
должна изучать Я. А чтобы его изучить, нужно жить. Но идеально
жить нельзя. Поэтому Буберу нужно либо отказаться от претензий
к человековедению Канта, либо отказаться от жизненного познания
самого себя.
3
Идеальная антропология Бубера строится на двух посылках, заим¬
ствованных у Канта. Во-первых, это представление об одиночестве че¬
ловека. Во-вторых, это представление об одомашнивании человека, о
необходимости совместного с другими существования.
В одиночестве вырабатывается самосознание человека. В пустоте
одиночества ничто не заслоняет тебя от самого себя. И ты в себе, в
своем «Я» видишь человека. В доме появляется другой. Совместное с
Другим существование ослабляет самосознание, заполняя пустоту ком¬
Глава IV
224
муникативными содержаниями. Одомашнивание маскирует изначаль¬
ное одиночество человека. Теперь уже Я всегда выступает как Я-Ты
или как Я-Он.
4
Соборное сознание русских указывает на то, что место встречи с
самими собой у нас всегда занято другим, что оно заполнено содержа¬
ниями совместного существования. И поэтому у русских затруднена
встреча с самими собой. У нас проблема с самосознанием. Опустошение
переполняющих нас содержаний является одним из условий встречи с
собой. Выработки самосознания одинокого.
Проживание в доме с другим разрушает структуру одиночества,
рассеивает самосознание человека. Отныне каждый предстает для себя
как проблема, ибо никто уже не узнает и не может узнать в себе чело¬
века.
Бубер не анализирует пути одинокого в доме, избирая более простую
схему. Он вводит новую оппозицию: человек домашний и человек без¬
домный. Дом понимается как что-то конечное. Обживаемое. Бездом¬
ность порождается бесконечным.
Никто не может обжить бесконечность. И поэтому все ее боятся.
А дикари ее не боятся. Они умеют обживать мир, помещая себя в центр
мира. Дикари живут в доме, в мире конечного. Цивилизованные люди
бездомны. Если Кант не любил язык дикарей, находя в нем слишком
много символов и мало понятий, то Бубер, напротив, ценил эту «мало-
понятность », ибо в ней говорит все существо человека, а не его мозг. На
языке дикарей хорошо передается состояние целого.
Например, мы говорим о стремлении к миру, а зулус говорит о же¬
лании зарыть в землю свой боевой топор. Мы говорим: это далеко, он
скажет: далеко — это там, где кто-то кричит: «Мама, я заблудился».
Примитивность языка дикаря хорошо передает отношения, нерасчле-
няемую целостность мира. Абстрактный язык выделяет в нем объекты
и действия с ними. Цивилизованный человек учится жить в возрастающем
мире «оно», социальных институций, дикий человеке остается в исчеза¬
ющем мире «ты». В первом случае непосредственный опыт заменятся
опосредованным. Во втором ничто не может заменить непосредственный
опыт.
Бубер не смог привести веских аргументов для того, чтобы можно
было не бояться другого. Слово не может выйти за пределы одинокого
и поэтому существенным образом можно общаться лишь с собой, остав¬
ляя другому хайдеггеровскую заботу и попечения.
5
Бубер — сионист, ему чужд индивидуалистический дискурс Хайдег¬
гера или Кьеркегора. Для него было важным собрать искры, рассеянные
в мире.
Днтропологии
§ 6. Лоренц. Антропология смысла
1
Смыслы лишают события состава событийности. События обессмыс¬
ливают смыслы. Эту антропологию смысла подтверждает К. Лоренц.
Существа с редуцированным инстинктом, т. е. люди, создают города.
Цивилизацию. Первым основателем города был Каин, о трех преступле¬
ниях которого знает каждый. Это преступления перед Богом, культурой
и родными. По словам одного из героев А. Платонова, в город человек
идет, когда иссякает вера и жизнь превращается в дожитие. В городах
многократно увеличивается скорость смены событий. Люди сбиваются
в кучу. Избыточная скученность людей, событийность цивилизованной
жизни обессмысливают смыслы. Ведь смыслы держатся чувствами, а они-
то и невозможны в городах. Например, любовь. Людей можно любить,
если их мало. И они далеко. И ты видишь их редко. Всех людей любить
невозможно. Любовь к человечеству является формой равнодушия.
Эмоции привязывают нас к людям. А мы хотим от них отвязаться.
Ибо их много. Они на каждом шагу. Хорошо было любить в деревне.
В изолированных социальных ячейках.
Цивилизованная жизнь культивирует безэмоциональные, бесчело¬
вечные отношения. Теплота сердечных чувств остается для диких. Для
варваров. Ибо сердечность возникает как эффект малых скоростей со¬
бытийной жизни.
2
Цивилизованная жизнь человека разрушает бинарные оппозиции
примитива. Это только у нецивилизованных примитивов всегда есть об¬
ратная сторона медали. Изнанка. Цивилизация отделяет одну ее сторо¬
ну от другой. Удовольствие от неудовольствия, наслаждение от страда¬
ния, и усиливает интенсивность изолированной стороны. Сытому про¬
тивостоит уже не голодный, а пресыщенный. Бедному — не богатый, а
бомж. В результате жизнь становится монотонно плоской. Скучной. Для
того чтобы развеять скуку цивилизации, необходимо еще больше уве¬
личивать интенсивность наслаждений. Еще больше ускорять смену од¬
ного события другим. Расширять состав событийности и уменьшать меру
осмысленности. В результате высокому противопоставляется удвоенное
высокое, т. е. поверхностное. А удвоение низости низкого предстает как
глубина. Но поверхность и глубина уже никак не связаны.
3
Гуманизм цивилизации оправдывает равенство людей. Но равенство
является не антропологической категорией, а социальной. Антрополо¬
гически люди неравны. Вот этот оттенок мысли уловил К. Лоренц и срав¬
нил людей с животными. Гуманизм уравнивает людей. И поэтому в гу¬
манном обществе социальные качества доминируют над антропологи-
15*/2 1920
225
Глава IV
226
ческими. В нем профессионал и специалист заменяют человека. Рабочая
сила не имеет эмоций. Она не улыбается. Она работает.
Однажды человек, рассматривая вещи, увидел себя, видящего вещи.
Вернув себе свое существование, человек создал словесный язык, мышле¬
ние, мораль. Лоренц полагает, что все это создает рефлексия. И что если
однажды человек перестанет рефлексировать, то он все эти создания по¬
теряет. И потеряет себя. Но и рефлексия является уделом малых скоростей
событийной жизни. Куда бы человек ни шел, он оставался наедине с собой.
Современный человек не может оставаться наедине с собой. Рефлексия
больше не возвращает его к самому себе. При высокой скорости событий
не успевают осесть смыслы. И люди умирают, ни разу не увидев себя.
5
Без оседания смыслов нельзя идентифицировать себя. Отождествить
себя с целым. С группой. Либерально-демократическая идеология воз¬
никает как оправдание неидентифицированного существования челове¬
ка. Бесчеловечны как Гулаг, так и неидентифицировавший себя индивид.
Как фашизм, так и либерально-демократическая идеология.
Онтологически оправдано существование как целого, так и индиви¬
да. И нельзя интересы одного приносить в жертву другому. А социаль¬
ные отщепенцы, эмоционально бедные люди, люди с необратимыми
повреждениями неполноценны. Однако «нельзя даже применять к лю¬
дям слова «полноценный» и «неполноценный», не навлекая на себя
сразу же подозрение, что ты сторонник газовых камер»1. И Лоренц, и
Фуко солидарны в том, что гуманизм погубил человека.
6
Расширение событийного состава жизни ведет к потере детскости
человека. Все сердечные люди, как дети, наивны и непосредственны.
Современный человек даже в детстве опытен и опосредован. То есть
стар. Или инфантилен, если он пропустил время взросления.
Между поколениями отсутствует смысловая связь. И Лоренц объ¬
ясняет причины. Родителей и детей отделяет серия множащихся собы¬
тий. Ни одна мать не может посвящать все свое время ребенку, если она
работает. У детей выпадает отцовский образ, ибо они не видят его за
работой. И не помогают ему. В нуклеарных семьях отсутствует ранговая
структура.
Неидентифицированное существование человека в событийном мире
изобретает замещающий объект. Не принадлежать ни к какой группе
хуже, чем принадлежать к наркоманам. Или к преступной группе.
Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. М.: Республика, 1998. С. 31.
Глава V
Модусы
Краткое изложение главы
Модус — термин картографический. Он позволяет что-либо рас¬
смотреть во времени. Человека можно рассматривать в бесконечном
количестве модусов. Но в русской философии все они сводятся к одно¬
му — к духовности.
§ 1. Бердяев Н. Антропология духовности
Философский талант Н. Бердяева реализовался в двух его лучших
работах: в «Философии неравенства» и «Новом средневековье». Ант¬
ропология же Бердяева не блещет изыском и новизной, но некоторые
ее тезисы могут быть интересны.
I. Философия — это не онтология и не гносеология
Цитата из Бердяева: «Вопреки Гуссерлю... философия была и всегда бу¬
дет мудростью»*.
Археография смысла цитаты. Гуссерлю хотелось, чтобы философия
стала, наконец, наукой. Бердяеву этого не хочется, и он радуется, что фи¬
лософия все еще не наука. Если победит Гуссерль, то тогда философию
придется редуцировать к проблемам онтологии и гносеологии. Если все ос¬
танется так, как есть, суть философии будет выражена в антропологии.
Чем же нехороша онтология вместе с гносеологией? Во-первых, еще
можно понять стремление познать бытие, но вот решиться познавать
познание можно лишь с горя. «С горя» — это слова Бердяева, упаковы¬
вающие его понимание проблем гносеологии. Русские, как правило, с
горя пьют. Немцы с горя познают познание. Строят гносеологию. Пцть —
это все-таки хотя и косвенно, — познавать бытие. Познавать познание —
значит бытие предавать забвению. Мудро — не забывать бытие.
Во-вторых, чтобы познавать бытие, нужно воображение. Чтобы по¬
знавать познание, нужна рефлексия. Воображение всегда конфликтует
с рефлексией. Гносеологизм философии строится на вытеснении вооб¬
ражения рефлексией: Гуссерль рефлексирует. Бердяев воображает.
Философ рефлексирующий вытесняет философа воображающего.
А поскольку воображение лежит в основе игры, постольку философы 11 Бердяев Н. О назначении человека. М.: Республика, 1993. С. 23.
15*
Глава V
228
теряют вкус к игре и сопряженному с ней творчеству. Творить можно
лишь с даром от Бога. Рефлексировать можно и без дара. Философия
как мудрость указывает на пределы рефлексии бездарных.
В-третьих, гносеологизм заставляет мыслить бытие как объект. Если
же бытие представляется как объект, то познание такого объекта не
имеет никакого отношения к бытию. Это не бытийственный акт. На не-
бытийственности акта познания строится феноменология. Но построить
на нем антропологию нельзя.
В-четвертых, онтология постулирует внечеловеческое бытие. Не
зная, как ухватить это бытие, она редуцирует его к природе, а созна¬
ние — к «сознанию о».
II. Пределы «сознания о»
О бытии не может быть «сознания о», ибо оно, это сознание, допус¬
кает взгляд на бытие со стороны. А у бытия нет сторон. Если же «созна¬
ние о» есть, то это говорит о том, что в какой-то момен бытие перестало
быть бытием и стало объектом. Само же сознание в этот момент полу¬
чает небытийственный статус феномена, и превратить его в акт бытия
уже нельзя. Из «сознания о» нельзя создать бытие. Теория интенцио-
нального строения сознания работает в предположении, что бытие — это
уже объект, а философия — это наука. Чтобы найти пределы «сознания
о», нужно бытие приравнять к духу.
III. Бытие — это дух
Никто не может раскрыть бытие как бытие. В русской философии
бытие узнается как дух. А это значит, что если ты хочешь увидеть бытие,
то тебе надо посмотреть на человека. Это и есть ходячее бытие.
Цитата из Бердяева: «Тайный антропологизм всякой онтологии дол¬
жен быть разоблачен»1.
Археография смысла цитаты. Во всякой онтологии, если ее поскрес¬
ти, мы найдем антропологию. Антропологизм философии обессмысли¬
вает привычные истины. Например, очевидно, что человек — это часть
мира. На этой очевидности строится экологическое мировоззрение.
С нею согласна и наука. А с точки зрения философа все как раз наобо¬
рот: это мир является частью человека. В первом случае признается су¬
ществование внечеловеческого бытия. Во втором — немирского челове¬
ка. Или, как говорит Бердяев, духовного человека. Для феноменологии
кажется естественным допущение о том, что есть внечеловеческое бытие.
Но за это допущение нужно заплатить отказом от идеи духовного че¬
ловека. Персоналисту Бердяеву кажется более естественным допустить
существование духовного человека.
Внечеловеческие сущности могут войти в человека, а могут и не вой¬
ти. Уверения феноменологов в том, что стоит тебе принять определенную
1 Там же. С. 25.
Модусы
229
стойку, как нечеловеческое бытие откроется тебе, ни на чем не основа¬
ны. В бытии важен не объект, а смысл. Познавать — значит объективи¬
ровать, т. е. убивать смысл. Делать бытие излишним. «Сознание о» со¬
здавалось как машина по убийству смыслов. Ведь только у этого созна¬
ния появляется объект, который изъят из бытия, и еще появляется
субъект, который тоже изъят из бытия. Поэтому познание как объек¬
тивирование меняет знание, но не меняет бытие. Чтобы изменить бытие,
требуется необъективирующее сознание. Но это сознание будет уже не
событием знания, а событием бытия. Для этого оно должно потерять
модус «сознания о».
IV. Необъективирующее сознание
Цитата из Н. Бердяева:.«Мне... нисколько не легче от того, что сущес¬
твует трансцендентальное сознание, что в нем a priori, что скептицизм
и релятивизм в этой внечеловеческой сфере побеждены извечно»1.
Археография смысла цитаты. Трансцендентальное сознание — это вне-
человеческое сознание. Поэтому антропологически оно не несет никакого
смысла. Модус «сознания о» нейтрализован интуицией. Интуиция является
редуцированной формой необъективирующего сознания. Или, что тоже
самое, эмоции. Сознание вообще возникает как эмоция, в которой знают не
себя, не свое я, а род. И это знание всегда дословно. Первое сознание есть
ни что иное, как знающая себя месть. Трансгрессировавшая месть предста¬
ет затем в виде чести, эмоции группы. Душа говорит на языке необъективи¬
рующего сознания.
V. Что изучает философская антропология?
Изобретая такие смыслы, как духовный человек, душа, необъекти¬
вирующее сознание, Бердяев создает пространство понимания фило¬
софской антропологии. Понятно, что она не изучает природного чело¬
века. Это делают биологи. Не изучает она и социального человека. Это
делают социологи. Философская антропология изучает духовного че¬
ловека. Чтобы его изучить, нужно приостановить террор социальности.
А это значит, что нужно редуцировать представления о человеке как
продукте общества. Человек — не продукт социума, не набор следов,
оставленных на нем обществом. Если бы человек состоял из следов, ос¬
тавленных на нем социумом, то глупо было бы искать человеческий иде¬
ал. Достаточно было бы найти социальный идеал. А уж производными
от него стали бы всякие мудрецы, святые и граждане.
Человек является свойством существования Бога. Сверхчеловеческое
конституирует человеческое, поэтому понять человека можно из того,
что выше его. Вне этих посылок философская антропология теряет, со¬
гласно Бердяеву, смысл. Как социальное существо человек живет в мире
Понятий о добре и зле. А они изменчивы. Как духовное существо человек
1 Там же. С. 27.
Глава V
230
живет в мире добра и зла. А они неизменны. Понятия зависят от соци¬
альности. Добро и зло не зависят.
VI. Оправдание Бога
Любой философ — антрополог. И первое, что ему нужно сделать —
это оправдать Бога. Бердяев так и делает, снимая с Бога ответственность
за свободу. И от Бога не все зависит. Например, свобода. Не Бог дал ее
человеку. Не ему за нее отвечать. Свобода уже была в ничто, из которо¬
го Бог сотворил мир.
Бог, как и человек, существо нервное, душевное и эмоциональное.
На его стороне сила. Но всесилен он только над бытием. С ним он что
хочет, то и делает. Но есть еще и небытие. Меон. А вот с ним-то он ни¬
чего сделать и не может. И поэтому нервничает. С одной стороны, это,
конечно, плохо. Ибо в Боге появляется ревность. А с другой — хорошо.
Ведь если бы не было ничто, то свободе некуда было бы от Бога спря¬
таться. И он бы на нее накинул поводок, нейтрализовал. А так ей есть
где спрятаться. Свобода нашла себе место в ничто, сделавшись непро¬
ницаемой для Бога.
VII. Почему человек парадоксален
Цитата из Бердяева: «Свобода... предшествует всякому бытиюьх.
Археография смысла цитаты. Богу надоело быть одному и он затос¬
ковал о друге. Захотел другого. И ничто ему ответило. И появился чело¬
век. Человек — дитя Бога и ничто. В нем бытие смешалось с небытием.
Если бы человек состоял только из бытия, то он весь был бы во власти
Бога. И Бог вновь почувствовал себя одиноким. Если бы человек весь со¬
стоял из небытия, то Бог потерял бы друга и не стал спасителем. Человек
грешит, а Бог спасает. В этом и состоит причина парадоксальности чело¬
века.
VIII. Душа и пустота
Цитата из Бердяева: «Душа боится пустоты»1 2.
Археография смысла цитаты. Пустота — это сознание. Душа боится
сознания, потому что без сознания невозможна похоть, ложь и скука. Вот
они-то и заменяют пустоту. Душу дал человеку Бог. Но сознание он ему не
давал. Сознание в человеке от пустоты небытия. Свою пустоту оно запол¬
няет различениями. В различающем сознании нет души. Душа дает о себе
знать в необъективирующем сознании.
Душа страдает. Сознание творит. Всякое творчество не от Бога, а из
пустоты ничто. В творчестве человек находит пределы страданию. В стра¬
дании — пределы творчества. Всякое сознание есть несчастное сознание.
Оно, убегая от низа, закрывает то, что сверху, т. е. Бога.
1 Там же. С. 40.
2 Там же. С. 125.
МоДУсы
231
Душе покойно в раю. И каждому нужно выбрать: или рай, где нет
никакого сознания, или сознание, где нет никакого рая, а есть только
причины для беспокойства души. Забвение бытия — условие существо¬
вания сознания, условие того, чтобы человек мог жить вне рая.
Выйти за пределы различающего сознания — значит войти в мир
дословного. Или, как предпочитает говорить Бердяев, в рай неразличен-
ного. В царство Божие. Входит в него не сознание, а душа. Никто не
решится сказать, что сознание одного человека стоит больше, чем весь
мир. Мир, конечно, больше сознания, он не вмещается в него. Но вот
душа одного человека стоит больше, чем весь мир, т. е. всех связей мира
не хватит для него, чтобы объяснить существование одной души.
IX. Социально организованная ложь
Цитата из Бердяева: «Человек не только обманывает других, но обма¬
нывает и самого себя»}
Археография смысла цитаты. Если бы была всего одна душа, то созна¬
ние ей было бы не нужно. Но душ много и они общаются. Общение нужда¬
ется в сознании, т. е. всякая душа персональна. Сознание же всегда соци¬
ально. В мире много сознания и мало души. Доминирование сознания над
душой конституирует социально организованную ложь. Ложь — условие
совместного проживания людей. Душа всегда одинока.
X. Самость
В каждом человеке есть то, что от него самого. Это самость. Она
оседает вокруг Я и не выходит за пределы сознания. А еще есть то, что
в человеке от социума. Это социальные роли и маски. И еще есть приро¬
да. Всякие склонности и способности.
Цитата из Бердяева: «Человек помешан на самом себе, на своем Я»2.
Археография цитаты. То, что в человеке не от человека, а от Бога, со¬
знание человека объявляет производным от своего Я. И включает в состав
самости. Вот это действие Бердяев называет помешательством, искажением
перспективы. Например, образ Божий в человеке не от человека, а от Бога.
Или душа. Она тоже не от Я, а от Бога. От Я в человеке может быть характер.
А может и не быть.
Если смотреть на вещи изнутри самости, то ни одну вещь нельзя
будет увидеть такой, какая она есть. На своем месте. Чтобы увидеть мир
в истинном свете, нужно выйти из Я, преодолевая фантазмы самости.
Быть самим собой — значит осуществлять Божий замысел о себе.
XI. Фантазмы самости
Фантазмы рождаются в сознании человека, центрированного в са¬
мости, в Я. Я обладает замечательным свойством. Поскольку само по * 11 Там же. С. 73.
1 Там же. С. 109.
Глава V
232
себе оно ничто, постольку у него появляется возможность быть чем
угодно. Оно может всякое содержание представлять в качестве самого
себя. Всякое, но одно. Содержание, захватившее пустоту Я, можно на¬
звать страстью. Но как только на месте Я оказывается определенное
содержание, все остальные содержательности будут центрированы уже
не пустым Я, а некой фактичностью, т. е. они будут соотноситься не с
бытием, а со страстью. Результаты такого соотнесения Бердяев называ¬
ет фантазмами самости.
Если человек ставит себя выше всего, то ему неоткуда будет падать.
В пределах самости он не сможет согрешить. А это значит, что человеку
будет неведом испуг, страх и вина. Ведь человек боится, если может во
всякое время упасть. Если есть что-то, что выше его. В страхе есть забо¬
та, ибо боятся озабоченные. Эти страхи нейтрализуются магией, хотя
потом человек начинает бояться и магии. И только в тоске нет заботы,
ибо тоскуют по Богу.
XI. Человек болен
Человек не здоров. Человек болен, ибо он ведет двойную жизнь: со¬
знательную и бессознательную. Под ним бездна ничто. Над ним Бог.
А поскольку человек страстен, эмоционален, постольку он может не
удержаться над бездной и может в нее свалиться. Чтобы он не свалился,
ему нужно сознание, которое его удерживает.
Сознание, как злая собака, охраняет социум, не давая человеку воз¬
можности разгуляться. А душа ему говорит: «Гуляй, милый, гуляй по
своей воле, а там видно будет». И человек, подчиняясь сознанию, живет
не так, как ему хочется, не в той среде, не с теми людьми, не в тех на¬
правлениях, которые ему подсказывает душа. В этом проявляется «злая
роль сознания »1.
Конечно, можно разрушить душу и жить счастливо, так, как говорит
сознание. Можно полюбить не Бога, а свое Я. И стать одним из тех, кого
Достоевский назвал «бесами». Но порядок состоит в том, что человек
отказывается от счастья, сохраняя свою душу. Отказ от разрушения
души воспринимается как стремление человека к страданию, как мазо¬
хизм и садизм.
Неверно, что человек любит себя. Хотя Бог и говорит: «Люби себя »,
люди — это существа, которые не любят себя. Раздвоенность, рефлексия
накопляет в человеке подпольные состояния. В бессознательном оказы¬
вается то, что от сознания, что было сознанием, и то, что от души, что
не было сознанием.
XII. Человек без бытия
Никакого человеческого бытия нет. Его выдумали экзистенциалисты.
Ведь если бы оно было, то человек никому и ничего не был бы должен.
1 Там же. С. 77.
Модусы
233
То есть сам он был бы, но никак не действовал. И его бытие никто не
смог бы отличить от природы. Поэтому прежде чем решать вопрос о
«спасении» человека, его нужно будет лишить бытия. Бытие есть толь¬
ко у Бога. Но именно поэтому Бог никому ничего не должен. А человек
должен всем. Человек есть действие. А чтобы действовать, нужны цен¬
ности, благодаря которым человек преодолевает свою природу.
XIV. Смирение
Личность — это не то, что открывается возможностью быть самому.
Это не бытие, основанное на принципах. Можно быть самим и не быть
личностью. Личность — это победа над самостью, над Я. Пока есть я,
центр бытия полагается в нулевом я, а не в Боге. Я — безбожно.
Смещение я из центра достигается смирением, которым обнаружи¬
вается, что суть человека не в целях, которые он ставит, а в благодат-
ности света, который из него исходит.
Всегда есть две стратегии поведения человека: бунт и смирение. Ев¬
реи бунтуют. Греки смиряются с судьбой. Если ты жаден или похотлив,
как Адам, то нужна нормативная этика. Нужно, чтобы тебе говорили:
не делай того-то и того-то. Не воруй, не прелюбодействуй. И вот ты не
воруешь, не прелюбодействуешь. И что? Все равно не ясно, как жить.
Ведь добро сталкивается с добром, и ты страдаешь. Ибо не очень понят¬
но, что тебе делать. Вот говорят, чтобы ты вел себя так, чтобы норма
твоего поступка стала максимой поведения всех людей, чтобы ты не де¬
лал того, что не хочешь, чтобы делали тебе. Но ведь это правило для
равнодушных. Здесь человек подчинен норме, которая работает тогда,
когда добро сталкивается со злом. А что делать, если добру противо¬
стоит добро? Этот момент Бердяев называет духовной борьбой челове¬
ка с самим собой. И для этого момента предназначено Евангелие. Нор¬
мативная этика Ветхого завета обращена к социальному человеку. Еван¬
гелие — к внутреннему человеку. Оно мытаря ставит выше фарисея.
Грешника — выше праведника. Хотя ведь есть еще ничтожная сила со¬
знания, которая радикально все меняет. Грешник, сознающий свой грех,
выше праведника, сознающего свою праведность.
Или вот зло. Ему надо сопротивляться силой. А Евангелие предла¬
гает тебе не сопротивляться, полагая, что прервется бесконечная цепоч¬
ка причин для зла.
Естественно любить друзей и не любить врагов. ~А Евангелие тебе
предлагает полюбить врага, блокируя тем самым действия реагирующе¬
го сознания.
Каждый человек заботится о себе и о ближних, а Евангелие говорит:
будь как птичка. Не заботься. Не думай о завтрашнем дне. Ведь забота
вяжет и связывает человека объективациями сознания. А ты выйди за
пределы объективирующего «сознания о».
Мир говорит тебе: будь богатым. Евангелие говорит: оставь богат¬
ство. Не суди и не судим будешь.
16
1920
Глава V
234
Исполнение правил морали не нуждается в смирении. Человек, ис¬
полняющий общеобязательные правила, уже сам по себе хорош. И ему
не нужно быть христианином. Ему не нужен Спаситель. Он и так живет
по законам добра.
А вот если ты захотел преодолеть мир различенностей, задумал вы¬
скочить за пределы объективирующего сознания, то тебе нужен Спаси¬
тель. И тебе нужно быть христианином. Нужно смиряться.
XV. Страдание
Борьба добра и зла — это еще не трагедия. Если страдают невинные,
то это не страдание. Здесь нет вины. Если страдают от безысходности,
то и это не страдание. Здесь нужно смириться, ибо такова судьба. И гре¬
ки с римлянами смирялись. Потому что им некому было жаловаться.
Все люди боятся страданий. Все учат, как их избегать. И стоики, и
эпикурейцы. А христиане не боятся. У них сам Бог страдал. Если принять
христианское понимание страдания, то нужно отказаться от универ¬
сальных этических норм. Ведь у каждого свой крест. Его и нужно нести.
И нечего смотреть на соседа. «Свой крест» — это и не максима и не
императив. Это страдание, которое примечательно тем, что его нельзя
сравнивать со страданием душою.
XVI. Творчество
Фантазмы самости можно преодолеть еще одним способом: в твор¬
честве. Назначение человека состоит в том, чтобы открыть в себе дар
Бога и использовать его. Творец в своем творчестве забывает о себе,
отрекается от себя и тем самым выходит из себя.
Смирение, сострадание и творчество нуждаются в энергии. Откуда
же она берется?
XVII. Пол
Цитата из Бердяева: «Основой для антропологии является проблема
пола»1.
Археография цитаты. Нет ни одного человека вообще. Есть или муж¬
чины, или женщины. Человек существует как половое существо. Расщепле¬
ние полов, их полярность является возобновляемым источником энергии.
Это как вечный двигатель для духовного человека, который половую энер¬
гию сублимирует в смирение, в сострадание, в творчество, в любовь. Если
же ее истратить в половых страстях, то не будет условий для существования
духовного человека.
Все, что связано с полом, желательно не извлекать из сферы не¬
объективирующего сознания, не полагать в качестве объекта эстети¬
ческого созерцания, ибо рефлексия полового акта, эстетическое со-
1 Там же. С. 67.
Модусы
235
зерцание непристойностей рассеивает энергию пола, лишает ее про¬
дуктивности.
§ 2. Франк С. Антропология души
С. Франк хороший философ, но плохой писатель. Язык его сочине¬
ний слишком пористый. Франка нужно уплотнять. Вот Зеньковский с
Левицким уплотнили философию Франка, и сразу же проступили очер¬
тания ее смысла. Изложение сочинений Франка интереснее самих сочи¬
нений.
Разрыв между философией и литературой сказался на многих фи¬
лософах и литераторах. В том числе и на С. Франке. Не успев появиться,
тексты Франка сразу же и устаревали. Его мысль слишком долго блуж¬
дала в вербальных закоулках. Там она и заблудилась. Был ли тому виною
Гейдельбергский университет, в котором Франк учился философии, не
ясно. Между тем, Франк стал философским антропологом до того, как
они появились в Германии. «Душа человека» и «Реальность и человек» —
следы такого становления.
Проблема
В XX веке стало возможным мыслить человека вне связи с Богом. Вер¬
нее, возможность эта была всегда, но в XX веке она стала оседать в виде
смыслов и значений культуры. А это значит, что если тебе придет в голо¬
ву помыслить человека в связи с Богом, то тебе начнет мешать культура.
Она будет хватать тебя за руки. И твоя мысль неизбежно будет носить
антикультурный характер. Антропология Франка как раз и несет на себе
знак этой антикультурности. Ведь что заявляет Франк? Или человека во¬
обще нельзя помыслить. Или его можно помыслить в связи с Богом.
Можно, конечно, отказаться от самой мысли. Можно просто жить.
Но и в случае простой жизни не совсем ясно, кого считать человеком:
то ли того, кто смотрит на все извне, то ли того, кто нуждается в Боге.
Ведь что такое Бог? Антропологически размерный ответ на этот вопрос
дает С. Франк. Бог — это то, в чем человек нуждается. Это чистая нуж¬
да. Нехватка.
Если нет нехватки Бога, то душа пребывает в пожизненном одиноч¬
ном заключении. Кто ее туда посадил? За что? И как ее освободить?
Франк полагает, что одним из тех, кто приложил рукулс заточению души,
был Хайдеггер. И потому он обвинил его в духовной слепоте. Хайдеггер
строит свою мысль в предположении, что у каждого есть собственное
бытие, то бытие, к которому приложимы притяжательные местоимения.
А такого бытия нет. Если бы оно было, то тогда оно было бы абсолютно
замкнутым, изолированным. А это значит, что было бы невозможным
Мы. Реальность Мы не может быть редуцирована к реальности Я. Пока
есть нередуцируемое Мы, будет существовать и нехватка Бога, будет
несобственное бытие.
16*
Глава V
236
«Собственное бытие» придумали экзистенциалисты. Но в абсолют¬
ной замкнутости и Я перестает быть Я, и мое перестает быть моим. Ибо
Я есть Я, если Я не есть Бог, а мое есть мое, если еще есть и не мое1.
Другой
Бог — это не другой. Ибо он дополняет меня и одновременно живет
во мне. Чтобы встретиться с ним, мне не нужно выходить из себя, не
нужно трансцендировать. Встреча с Богом возможна в предельном оди¬
ночестве, в самой потаенной комнате я. А вот чтобы встретиться с Дру¬
гим, мне нужно выйти из себя в пространство коммуникаций. На место
Бога нельзя поставить прохожего. Того, кто только что, сейчас, мелькнул
перед тобой. Прохожий — это Другой. Это он. Это объект, с которым
лучше не сталкиваться. Бог — не прохожий.
Для того чтобы в Он увидеть Ты, с ним нужно заговорить. Глупо
говорить со шкафом. Но еще глупее говорить Мы, указывая на шкаф.
Если Он стал Ты, то Я и Ты образуют Мы. То есть Мы — это не множес¬
твенное число от Я. Я — одно. У него нет множественного числа. Мы —
это расширение Я, нередуцируемая реальность, элементом которой
является Я. Ни одно Ты не может исчерпать Я. И ни одно Я не может
исчерпать Мы. Мы сполна открыты только самим себе и Богу1 2.
Но Я соучастник Мы, т. е. я один и сообщен с человечеством. Неска¬
занное Я есть лист соборного человечества. Оно одно и едино. Франк
заменяет экзистенциальный принцип одиночества на соборный принцип
единочества, согласно которому чем непроницаемее Я, тем оно общече¬
ловечнее.
Что делает человек человеком
Бог транцендентен, а человек ничтожен.
Человек — это не здесь-бытие. Потому, что если бы он был здесь-
бытием, то он был бы оторван от всерх-бытия. Человека делает челове¬
ком его Богочеловечность. С Богом, как и со смерью, встречаются в
несказанных глубинах Я, где ты невидим и недоступен никому. В неди¬
алогическом пространстве Я. В одиночестве.
Кризис человека связан с выяснением вопроса о назначении челове¬
ка. Ибо сам этот вопрос является симптоматикой сознания человека,
восставшего против Бога. Человек назначает себе быть самодержавным
здесь-бытием, хозяином собственной жизни, властелином мира.
Сознание и душа
Взгляд со стороны обеспечивается сознанием. Сознание — это и есть
сторона, чистая внешность. Некий интервал отдаления. Размещения себя
поодаль. Быть в сознании — значит быть в стороне, быть там, откуда
хорошо видно. Где можно различать. Множественность различения но-
1 Франк С. Реальность и человек. М.: Республика, 1977. С. 259.
2 Там же. С. 275.
Модусы
237
сит временной характер. Поэтому сознание нельзя помыслить вне вре¬
мени. И одновременно вне связи с Я.
Нужда в Боге обеспечивается душой. Тем, что размывает всякую
различенность, лишает тебя возможности удаления, дистанцирования.
С. Франк приводит пример: о человеке можно что-то узнать анали¬
тически. Со стороны сознания. А можно о нем все узнать, минуя анали¬
тику сознания. Для этого нужно увидеть, как человек улыбается. В улыб¬
ке показывает себя душа. В различиях — сознание. Душа — океан. Со¬
знание — остров.
Беспредметные чувства
Взгляд о стороны превращает мир в набор предметов. Например, вот
передо мной дерево. Я его вижу благодаря органам чувств. Дерево вне
меня. Оно стоит там, у калитки. Это предметное чувство сознания. Оно
стоит, а я благодушествую. Благодушие — беспредметно. Равно как и
раздражение — беспредметное чувство души.
Расширение души сужает предметное поле сознания. Сокращает и то,
что тебя не касалось, наступает дрема. Рассеянность. В этот момент нас
куда-то тянет, влечет. Нам чего-то хочется. Я перестает структурировать
сознание. Нужно иметь в виду, что во фразах типа «я мыслю», «я хочу»
Я отделяет себя от мысли и от желания. В момент равенства души и со¬
знания нельзя отделить Я от мысли, от желания, ибо Я и есть эта мысль,
или это желание. На смену пустого Я сознания приходит содержательное
Я других. Душа любит подремать. Сознание бодрствует и различает. Оно
цели сопрягает со средствами. Если сознание различает возможности
различения, то душа скукоживается. Прячется. Появляются бездушные
люди, т. е. люди, которые удаляясь от себя, безошибочно сопрягают цели
и средства. Душевный человек — это ошибка в сопряжении, возобновля¬
емое неумение согласовывать действия и аффекты, цели и средства. Душа,
как говорит Франк, иррациональна. В момент, когда ты делаешь не то, что
нужно, а то, что тебе хочется, ты являешься не человеком разумным, а
человеком душевным. Разумный человек подобен машине, которая не
знает страстей и аффектов. Разумно владеть собой, нераздельно преда¬
ваться страсти. Душа говорит на языке беспредметных чувств, эмоций и
страстей. Сознание различает и познает. Душа переживает.
Переживание
В переживании Я перестает быть самим собой и становится пережи¬
ванием. Переживания души могут затопить предметное поле бодрству¬
ющего сознания. Переживание лишено длительности. Оно не локализу¬
ется во времени. И поэтому когда я говорю, что мое угнетенное настро¬
ение длилось около часа, я измеряю не угнетенное состояние, ибо оно
беспредельно, а какую-то предметность сознания. Указывая на то место,
которое у меня болит, я указываю не на боль. Как говорил Франк, за что
себя выдает душа в непосредственном переживании, тем она и является.
Глава V
238
Детские игры
Если Кант полагал, что ребенку уже с самого начала известна свобода,
стеснение которой вызывает у него гнев и ярость, то Франк иначе пред¬
ставляет причины гнева. Во-первых, ребенок не просто гневен, он еще и
корыстен, и жесток, и властолюбив. А это значит дело не в свободе, а в
грехе. В испорченности человека. У человека есть самочинное «Я». Поэ¬
тому любой человек самозванец. Благодаря самозванству властвуют де¬
монические страсти, искажается истинное существо человека. Истинное
укоренено не в «Я», а в Боге. Самозванство в самости смещает человека из
пространства его души. И человек перестает быть тем, что он есть, тем
существом, которое замыслено Богом. И становится тем, что он не есть1.
Вот, например, детские игры. К ним можно подойти научно. Извне. По¬
стигая непостижимое постижимым. А можно подойти изнутри. Постигая
непостижимое непостижимым. В первом случае осуществляется репрессия
ума по отношению к душе. Во втором — душа сама о себе рассказывает.
Игра с точки зрения ума является чем-то ненормальным. Вот ребенок
воображает себя лошадью. А зачем? Уж лучше пусть он воображает себя
папой или мамой. Это все-таки можно считать подготовкой к исполнению
социальных ролей. А ребенок скачет, как лошадь, и кричит по-лошадиному.
Франк полагает, что ребенок не беспомощное существо, что в нем
мистическое переживает фактическое, идеальное — реальное. Вот этот
перевес и есть метка ребенка, которая исчезает в ходе взросления. По¬
взрослеть — значит уравнять фактическое с идеальным, выдавить вооб¬
ражаемое, заменить его реальным.
Ребенок играет, ибо ему тесно в его эмпирическом мире. Чтобы быть
фактически, игры не нужны. А вот чтобы быть тем, что ты есть идеально,
нужно играть.
Память
Сознание локализуется во времени. Его можно измерить, посчитать.
Оно связывает прошлое и настоящее. Сознание помнит. Душа забывает.
Но если сознание немыслимо без памяти, то как оно возникает? Ведь
если оно возникает, то оно не помнит, а если помнит, то не возникает.
Проблема привычного воспоминания разрешается Франком в теории
многослойного строения сознания. Низшие слои сохраняются (помнят¬
ся) высшими, а высшие помнят себя сами. Иными словами, душа пред¬
шествует сознанию, ибо душа вневременна. А поскольку она вне време¬
ни, постольку в ней есть и потенция сознания.
Стыдливость
Франк выделяет в душе три части: одна — это там, где я виден всем,
другая — где я виден только себе, и последняя — это такая часть души,
где я виден только Богу. И вот то, что видно себе стыдно показать всем.
1 Там же. С. 384.
Модусы
Сознание рефлектирует. Душа стыдится. Она боится аналитики со¬
знания, потому что анализ убивает чувства, эмоции, страсти. Стыд — это
уловка души. Способ избегания репрессий сознания. Вот захватит тебя
какое-нибудь чувство, овладеет тобой какая-нибудь страсть, и ты бе¬
жишь к аналитику, к сознанию. В предположении, что оно вылечит тебя,
избавит от страсти. А душа тебя не пускает. Она на тебя чувство стыда
напускает, чтобы тебе было стыдно о своих страстях рассказывать. Если
бы не было стыда, то сознание разрушило бы душу, умертвило чувства,
эмоции, страсти. Душа, говорит Франк, должна быть туповатой1.
Что значит мыслить?
Мыслить — значит различать. А различать — значит подменять не¬
выразимое в пространстве и времени тем, что в нем выразимо. Сознание
всегда пусто. Душа всегда одна. А сознаний может быть два. Единое
схватывается умом. Многое воображением.
Самость
Самость относится к Я, к сознанию, и выражается в формуле «Я сам».
Самость загораживает Бога. Или, как говорит Франк, нельзя одновре¬
менно верить и в Бога, и в человека.
Душа не входит в состав самости. Нельзя сказать: я душа. Естествен¬
но говорить: моя душа. Там, где я сам, нет души. А там, где душа, я не
сам. Конфликт души с самостью замечен Франком и является темати¬
ческой предметностью его антропологии.
Я всегда дано себе в форме самосознания. Душа тебе открывается.
Или не открывается. Для Я бог трансцендентен. Для души — имманентен.
Состояния души передаются активными оборотами речи. Одно дело,
когда мне хочется. Другое дело, когда я хочу.
Личность
Личность создана из ничего. Из пустоты. Если бы личность была
содержательной, то ей предшествовала бы материя. И она никогда не
смогла бы начинать с себя, как с нуля. Бог — личность, ибо он Абсолют¬
ное начало. Понимание личности С. Франком совпадает со взглядами
Климента Александрийского.
§ 3. Флоренский П. Человек как конспект мира
Флоренский — самый одаренный русский философ. Он составил
проект философской антропологии, в котором попытался дедуцировать
человека из его идеи. Вот пример такой дедукции.
«Человеку — полагает Флоренский, — это малый образ макрокос¬
мосау а не просто что-то само в себе»1. Но если это малый образ, т. е. 1 21 Там же. С. 76.
2 Флоренский П.А. У водоразделов мысли. Т. 2. М., 1990. С. 39.
Глава V
240
микрокосмос, то откуда же в нем воображение и почему он свободен?
Для Флоренского значима не логика, не логос, а парадокс. Его интере¬
суют промежутки, переходы, а не вещность, не чтойность. Ему дороги
не правила, а исключения из правил.
В человеке есть самость. И эта самость не от мира, не конспект мира.
Ею определены наши глаза и наш рот. «Между глазом и ртом распола¬
гается весь диапазон... жизни»1. Восприятие мира и отклик на его призыв.
Глаз спрашивает, рот отвечает. И не то скверно, что в нас входит, а то,
говорит Флоренский, что из нас выходит. Поэтому легко иметь чистые
глаза, ибо в них наша самость не участвует. И нелегко иметь чистые уста.
Ибо рот изводит нашу самость из себя. Поэтому он легко может быть
осквернителем мира.
«Мы слушаем не ухом, а ртомъ, — утверждает Флоренский. И ему
почему-то можно легко поверить. Звук внедрен в ткань нашей субъек¬
тивности. Мы им думаем и откликаемся на зов извне. В антропологии
Флоренского звук субъективен, а зрение объективно. При этом католи¬
ки, по Флоренскому, являются людьми зрительного типа, а протестан¬
ты — слухового, речевого. А православные зрительное уравновешивают
слуховым, иконопись — пением.
Там же. С. 36
Заключение
I. То, что мы можем узнать о человеке, философствуя, не ведет
нас к пониманию человека. Его дословность ускользает из сетей фило¬
софской рефлексии. Незнание человеком самого себя следует, видимо,
понимать как плату за знание природы.
II. Человека исследует множество научных дисциплин. Поэтому
философская антропология попыталась создать общие понятия для
междисциплинарных коммуникаций. Попытку эту нужно признать не¬
удачной. Ведь для того чтобы создать эти понятия, нужно создать он¬
тологию ума, наблюдающего человека. Эта онтология затемняет его
антропологию и, по большей части, не нуждается в ней. Философская
антропология могла бы, в свою очередь, обойтись без онтологии, если
бы из восприятия человека можно было все узнать о человеке. Но и о
языке ничего нельзя узнать из языка. И о театре ничего нельзя узнать
из театра без дополнительных сведений, которые берутся из онтологии
ума.
III. Идеи чистого субъекта, феномена, интенционального сознания
крайне ограничены в антропологических исследованиях. По большей
части они оказываются излишними.
IV. Человек для самого себя стал проблемой по нескольким причи¬
нам. Главное в том, что сознание испарило душу, умертвило инстинкты,
чувства и эмоции. На их месте остались «вмятины», антропологические
пустоты. Вообще все было хорошо, пока у человека были привилегии,
которые ставили его во главе мировой иерархии. У человека была при¬
вилегия на ум, на свободу, на волю. Знание поднимало по этой иерархии,
ибо знающий был выше умеющего. А знающий о знании был выше зна¬
ющего. Знание знания представало как полное бытие в себе и для себя.
Когда ты наверху, ты спрашиваешь не о себе, а о вещах. О том, что вни¬
зу. О природе. Твое место как бы уже определено. И стали люди как
боги. У них не было соперников. Ничто им не угрожало. Кроме самих
себя.
Знание природы своей тяжестью раздавило мировую иерархию. Че¬
ловек лишился привилегий. Он сам себя их лишил. И вот уже нет ни
верха, ни низа, ни начала, ни конца. И место человека не определено. Он
потерял свою сущность, то, что от Бога. Что не нуждается во времени.
И поэтому он стал испытывать нужду во времени. Погрузился в сферу
субъективного, временного, непрочного. Вот эта временность челове¬
ческого существования была предъявлена человеку экзистенциалистами.
Во времени нельзя быть полным, законченным, определенным. Окон¬
чательное суждение о человеке также невозможно. Ведь определения
связаны с сущностью, с как бы уже пройденной бесконечностью, а ведь
Заключение
242
эту бесконечность еще надо пройти. Человеку еще нужно жить. Сущест¬
вовать. Поэтому экзистенциально человек хватается, как за соломинку,
за «здесь и сейчас».
V. А что «здесь и сейчас»? Забота, тоска, надежда. И пустота. На
что можно положиться? На себя? Но ты не Бог. На друга? Но другой —
это ад. Душа дискредитирована, потому что она всегда делает не то, что
нужно уму, не то, что полезно человеку, а то, что ей хочется. Душа кор¬
румпирует волю. И воля уходит из-под опеки ума. Разум тоже дискре¬
дитирован. Ибо в нем есть правильность, но нет силы.
Поэтому что мы находим «здесь и сейчас»? То, что нам досталось от
природы. Свой пол. Он определяет наше место. Психоаналитическая
антропология возвращает человеку его портрет. Человек — это сущест¬
во эротическое. Им овладевают влечения и желания. Страдания и аф¬
фекты. И поэтому он болтается, как туча комаров на ветру, то туда, то
сюда. Но где же ум? Нет ума. Вернее, он, может быть, и есть, да силы у
него нет. А раз у него нет силы — значит, ее где-то нужно занять. У ко¬
го-то позаимствовать. Вот эта нужда и делает возможной эрозию ума.
И «черный пиар» со стороны страсти.
Если нельзя положиться на ум, то на что можно полагаться? Не на
что. Инстинктов нет, культура лжива, общество лицемерно. Человек
пуст. Он как бы никакой. Вернее, недоделанный. Неполноценный. Эта
ущербность дает человеку силу доопределения. Природу доделать нель¬
зя. Поэтому недоделанное в человеке природой доделывается, как по¬
лагал Адлер, в социуме. Но его теория плохих людей и хорошего обще¬
ства базируется на положениях антропологии без человека.
VI. Время временит и все делает временным. В том числе и пол.
И лицо. Теперь — это не константа. Не то, что тебе даровано судьбой.
А некие переменные, то, что вовлечено в процесс делания себя.
Все трансцендирует, хотя нет никакой трансцендентности. Челове¬
ческое оказывается не в человеке, а в социуме. Секс — вне сексуальности.
Удвоенная сексуальность как компенсация сексуальности предстает в
виде непристойности, порнографии.
Каталог удвоений, представленный Бодрийяром, впечатляет. В нем
модное красивее красивого. Выгодное — истиннее истинны.
VII. Тяжба между бытием и человеком, о которой говорит Хайдеггер,
еще не закончилась. Еще неизвестно, кто кого: бытие — нас или мы —
его. Пока есть человек, сущее находится у него в руках. Правда, оно без
бытия. Но и бытие без сущего. Если сущее отобрать у человека и вернуть
его бытию, то человек сместится на периферию мира. Станет в нем мар¬
гиналом. Нужна ли нам такая деантропологизация мира? Хотим ли мы
человека без сущего?
Оглавление
Введение 5
1. Для кого я пишу? 5
2. Философия — это не знание 6
3. Как я пишу и как я читаю 1 1
Глава I. Конфигурации 13
Краткое изложение главы 1 3
§ 1. Антропологические конфигурации философии 1 3
1. О двойной непрозрачности современной философии 1 3
2. Немецкий проект антропологии 1 7
3. Почему должна быть уничтожена онтология? 1 7
4. Параноики и шизофреники 1 8
5. Философ узнает себя как эксперта 19
6. Предрассудок экзистенциальной философии 23
7. Когда обычная речь становится философской? 25
§ 2. Антропология виртуальности 26
§ 3. Археоавангард 29
Глава II. Фигуры 34
Краткое изложение главы 34
§ 1. Платон. Человек-кукла 34
1. О самости человека 36
2. Об игре 36
3. О неистовстве 36
4. Забота о себе 37
5. Граница между большинством и‘меньшинством 37
6. Полное-неполное 40
§ 2. Декарт. Человек — пловец в лодке и человек — единое
существо ■ 41
1. Правила морали заблудившегося человека 41
2. Неестественные движения мысли 42
3. «Единое существо» и «пловец в лодке» 42
4. Методолог 43
5. Пустые слова 45
6. Когда слова начинают говорить 45
7. Что в человеке доступно восприятию 45
8. Антропологический клип 45
9. Когитальное Я 45
Оглавление
45
244
10. Страсти
§ 3. Кант. Человек-марионетка и человек-актер в модусе
ускользающего «что» 50
§ 4. Гегель. Человек-ночь 81
1. Кожев. Человек-ошибка 82
2. Антропология Гегеля 85
3. Резюме 100
Глава III. Складки 104
Краткое изложение главы 104
§ 1. Гуссерль. Я без самости. Трансцендентальная складка
антропологии 105
§ 2. Эпистемологическая складка антропологии 132
1. Фуко. Человек-безумец 1 32
2. Делез. Человек-симулякр 145
3. Бодрийяр. Человек-роль 154
§ 3. Сартр. Экзистенциальная складка антропологии 158
§ 4. Позитивная складка антропологии 197
1. Шелер. Неокончательный человек 1 97
2. Плеснер. Антропологические законы 203
3. Гелен. Нулевая антропология 207
Глава IV. Антропологии 209
Краткое изложение главы 209
§ 1. Шеллинг. Антропология нонсенса 209
§ 2. Фихте. Антропология действия 210
§ 3. Фейербах. Антропология субъекта 212
§ 4. Кассирер. Антропология символа 218
§ 5. Бубер. Антропология Другого 221
§ 6. Лоренц. Антропология смысла 225
Глава V. Модусы 227
Краткое изложение главы 227
§ 1. Бердяев Н. Антропология духовности 227
§ 2. Франк С. Антропология души 235
§ 3. Флоренский П. Человек как конспект мира 239
Заключение
241
Научное издание
Гиренок Федор Иванович
ФИГУРЫ И СКЛАДКИ
Компьютерная верстка
К.А. Крылов
Корректор
Е.Л. Тюрин
ООО «Академический Проект»
111399, Москва, ул. Мартеновская, 3.
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU. АЕ51. Н 16070 от 13.03.2012.
Орган по сертификации РОСС RU.0001.11AE51
ООО «ПРОФИ-СЕРТИФИКАТ»
По вопросам приобретения книги просим обращаться
в ООО «Трикста»:
111399, Москва, ул. Мартеновская, 3
Тел.: (495) 305 3702; 305 6092; факс: 305 6088
E-mail: info@aprogect.ru
Интернет-магазин: www.aprogect.ru
Подписано в печать 23.10.13.
Формат 60x90/16. Гарнитура MyslC.
Бумага писчая. Печать офсетная. Уел. печ. л. 15,5.
Тираж 500 экз. Заказ № 1820.
ОАО «Областная типография «Печатный двор»,
432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарёва, 27.
КНИГА—ПОЧТОЙ
Издательско-книготорговая фирма
«ТРИКСТА»
предлагает заказать и получить по почте книги
следующей тематики:
► психология
► философия
► история
► социология
► культурология
► учебная и справочная литература
по гуманитарным дисциплинам
для вузов, лицеев и колледжей
Прислав маркированный конверт с обратным адресом,
Вы получите каталог, информационные материалы
и условия рассылки.
Наш адрес:
111399, Москва, ул. Мартеновская, 3,
ООО «Трикста», служба «Книга— почтой».
Заказать книги можно также по
тел.: (495) 305-37-02, факсу: 305-60-88
или по электронной почте:
e-mail: info@aprogect.ru
Просим Вас быть внимательными и указывать полный
почтовый адрес и телефон/факс для связи.
С каждым выполненным заказом Вы будете получать
информацию о новых поступлениях книг.
ЖДЕМ ВАШИХ ЗАКАЗОВ!
Издательство
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ»
представляет:
Гиренок Ф.
МЕТАФИЗИКА ПАТА
(косноязычие усталого человека)
2014. — 236 с.
Книга принадлежит перу одного из самых оригинальных мыслителей
современной России, взгляд которого на бытие мира эпатирует тем, что, по
его мнению, «мир зашкалило на нуле пата». И что очень печально — патовая
ситуация особенно характерна для России, которая непрерывно делает шах
себе самой на доске всемирной истории. В этом и заключается выбранный
ею своеобразный третий путь, в котором «нет места ни Богу, ни дьяволу; ни
глупости, ни уму».
Издательство
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ проект»
представляет:
Руднев В.П.
СТРАННЫЕ ОБЪЕКТЫ:
Феноменология психотического мышления
2014. — 159 с.
Мы в повседневной жизни буквально окружены странными объектами:
телевизор, компьютер с Интернетом, телефон, фотография, книга — все это
пример странных объектов в широком смысле. Не будучи ни живыми ни
мертвыми, ни спящими ни бодрствующими, ни одушевленными ни неоду¬
шевленными, они активно воздействуют на нас.
Но помимо странных объектов существуют также странные факты (объ¬
ект ведь реально существует лишь включенным в факт, ситуацию и языко¬
вую игру), а также странные концепты, странные теории, странные тексты,
странные жизни.
В книге впервые выделены и обсужда¬
ются важнейшие классические фило¬
софские концепты человека: человек-
кукла Платона, человек-пловец в лодке
Декарта, человек-марионетка Канта и
человек-ночь Гегеля. А также анализи¬
руются антропологические идеи Гус¬
серля, Сартра, Фуко, Делёза и других
современных мыслителей.
й 11 785829 115809
Гиренок ф. фигуры и склад
Цена: 47У.00