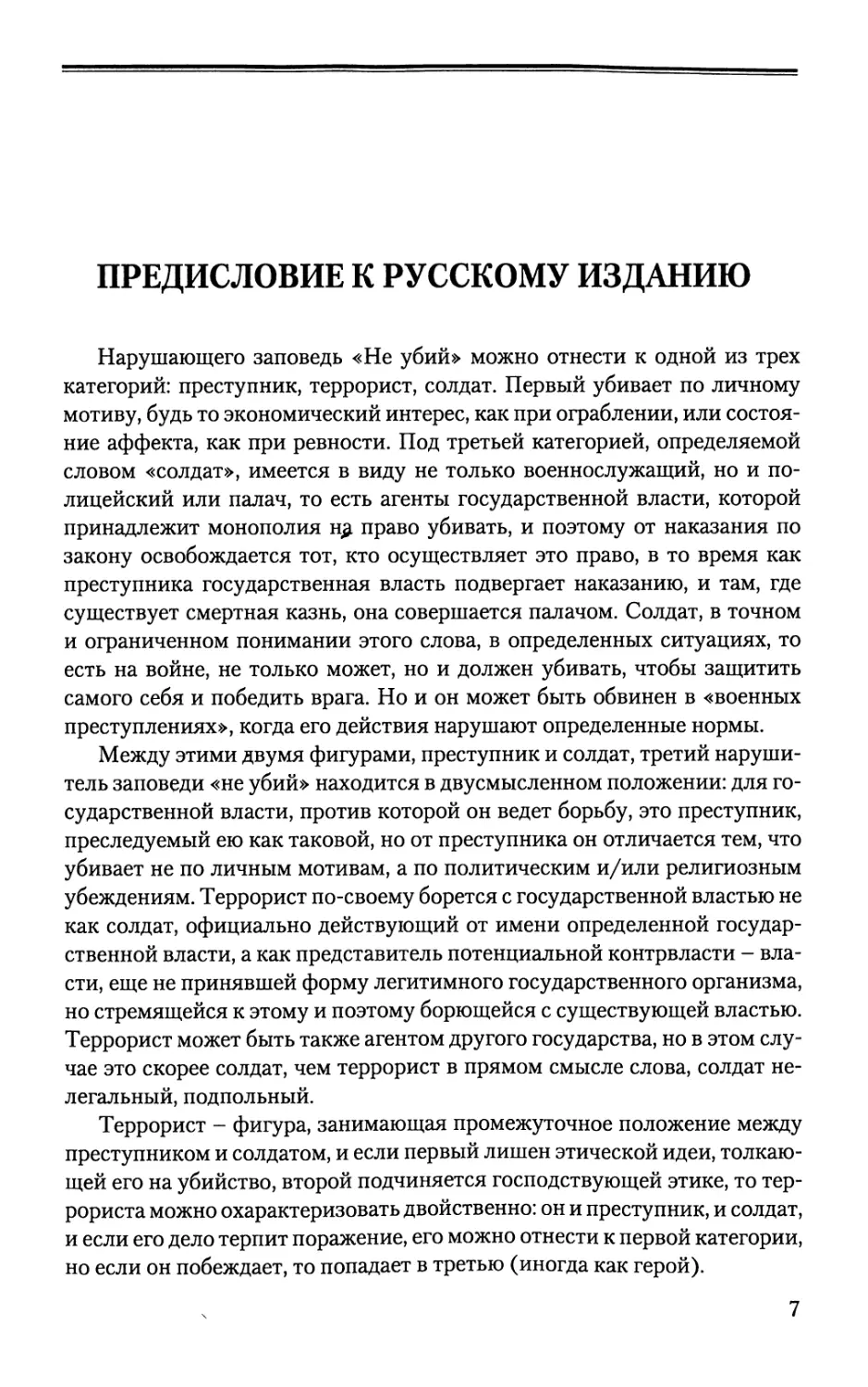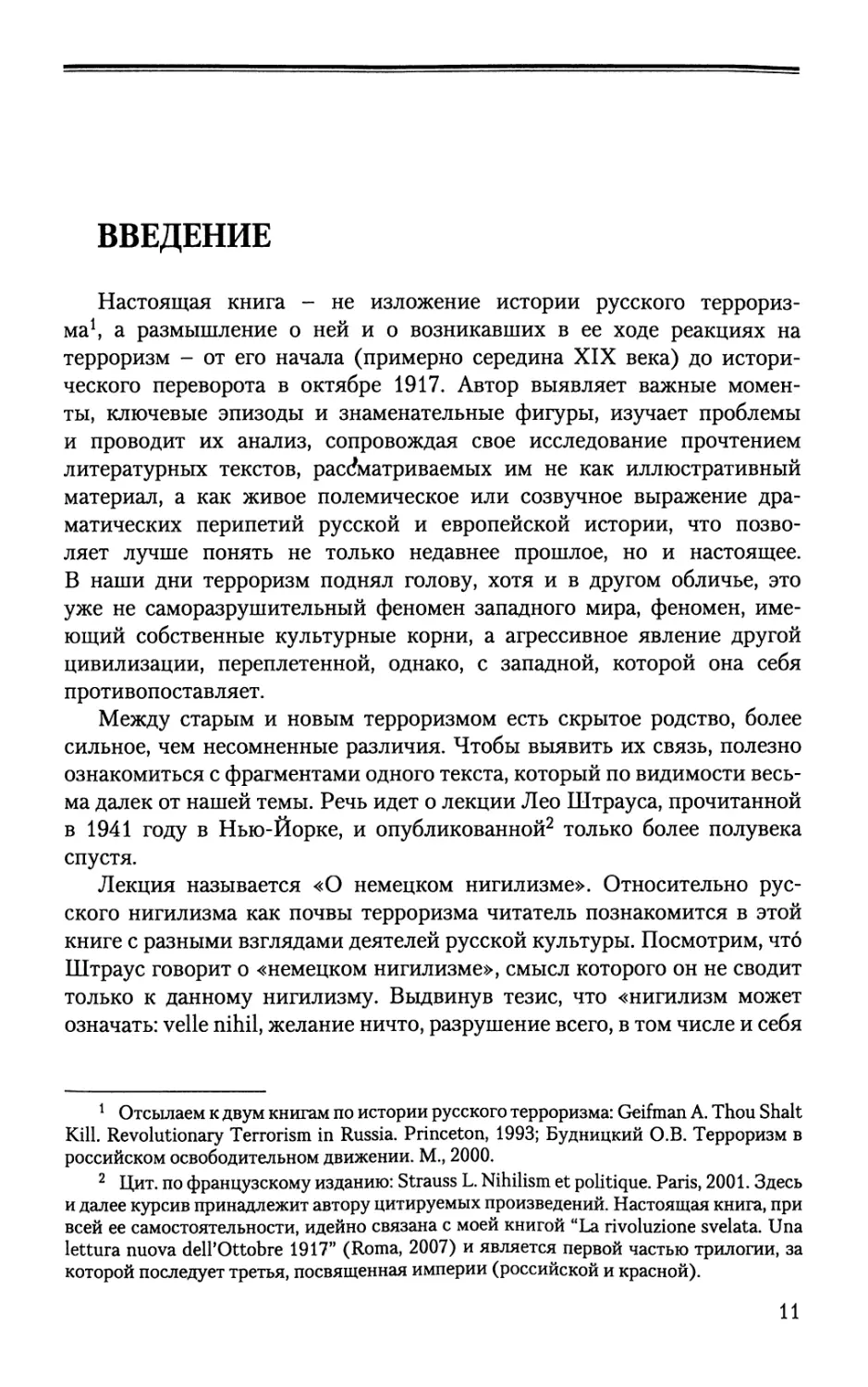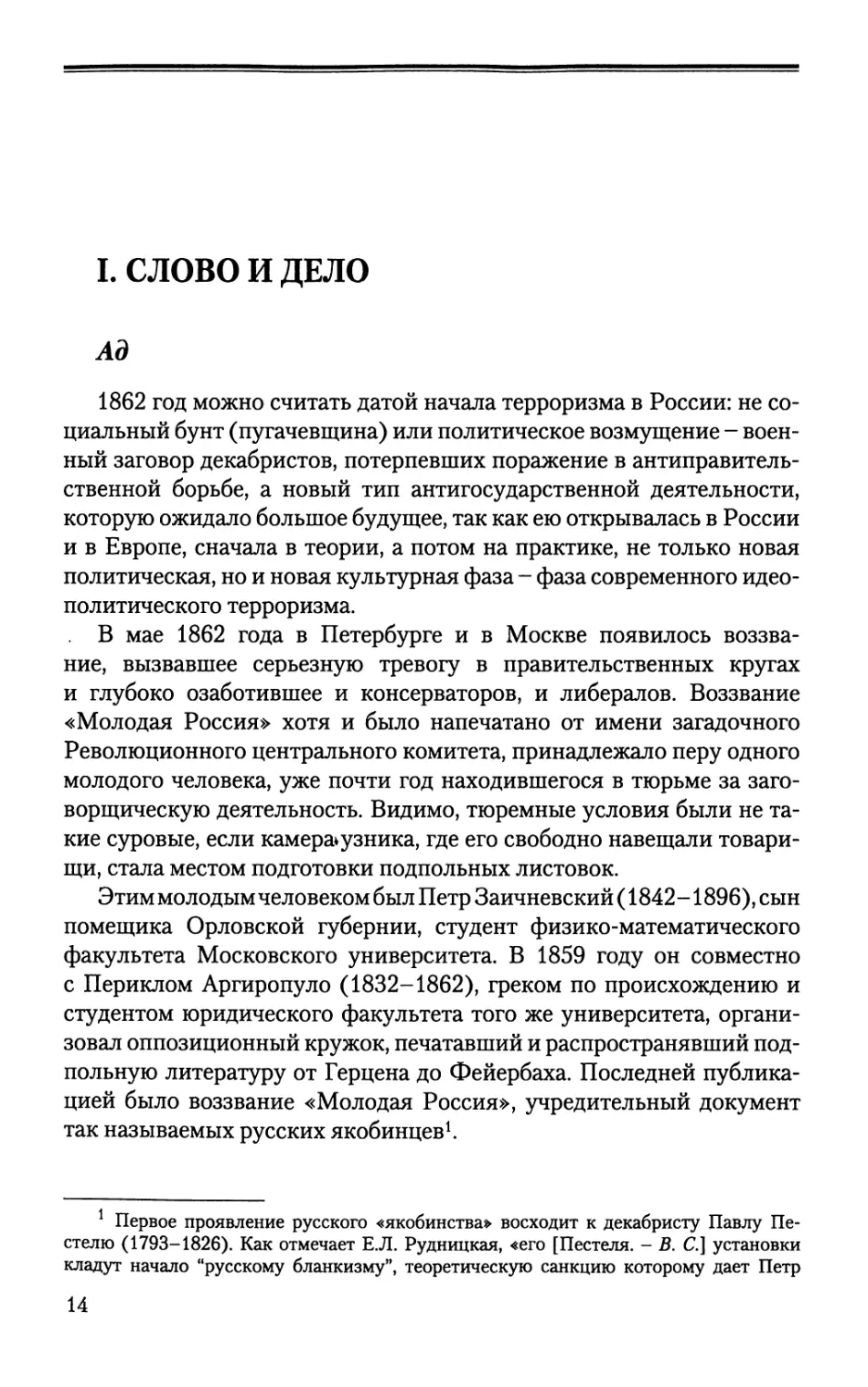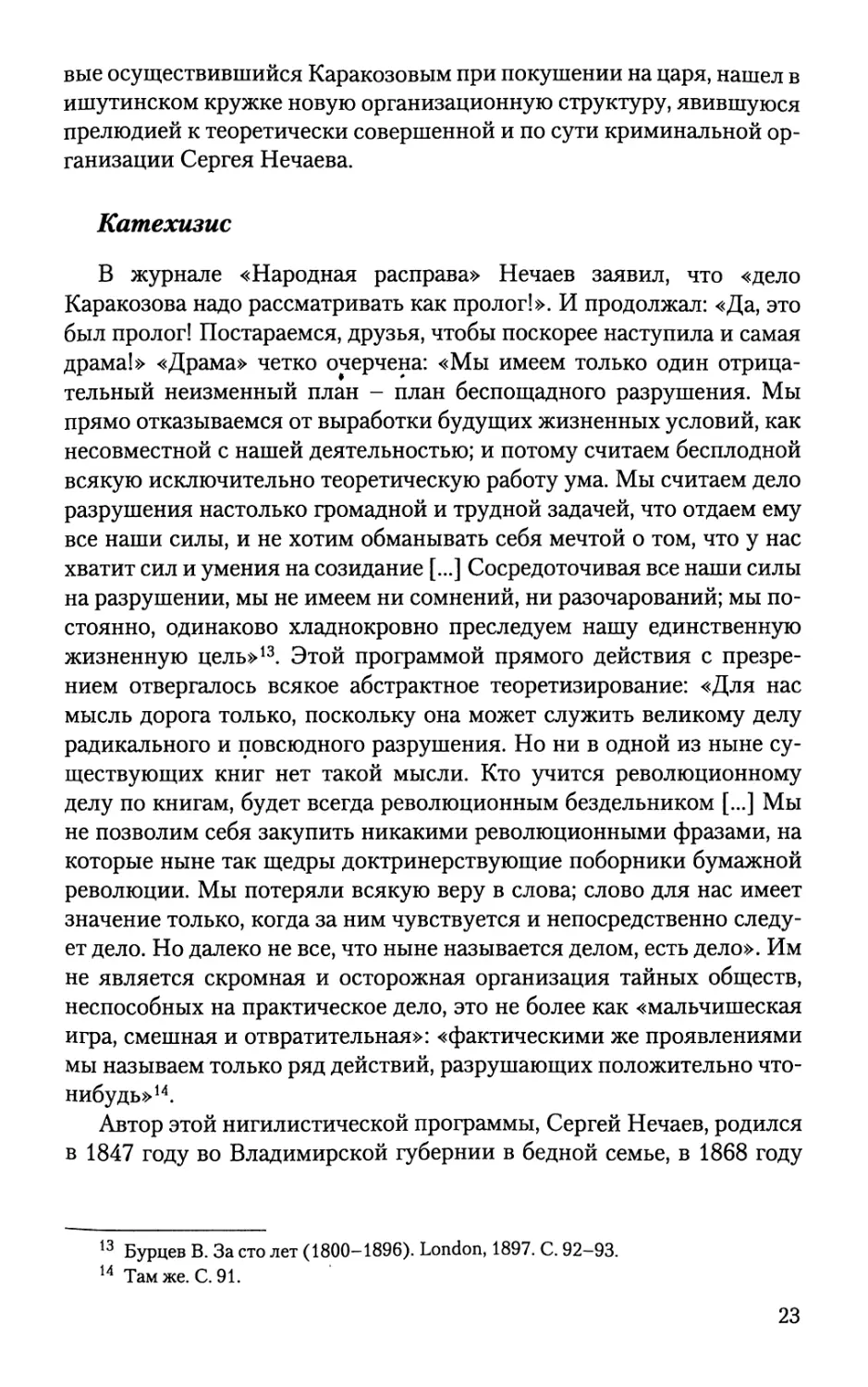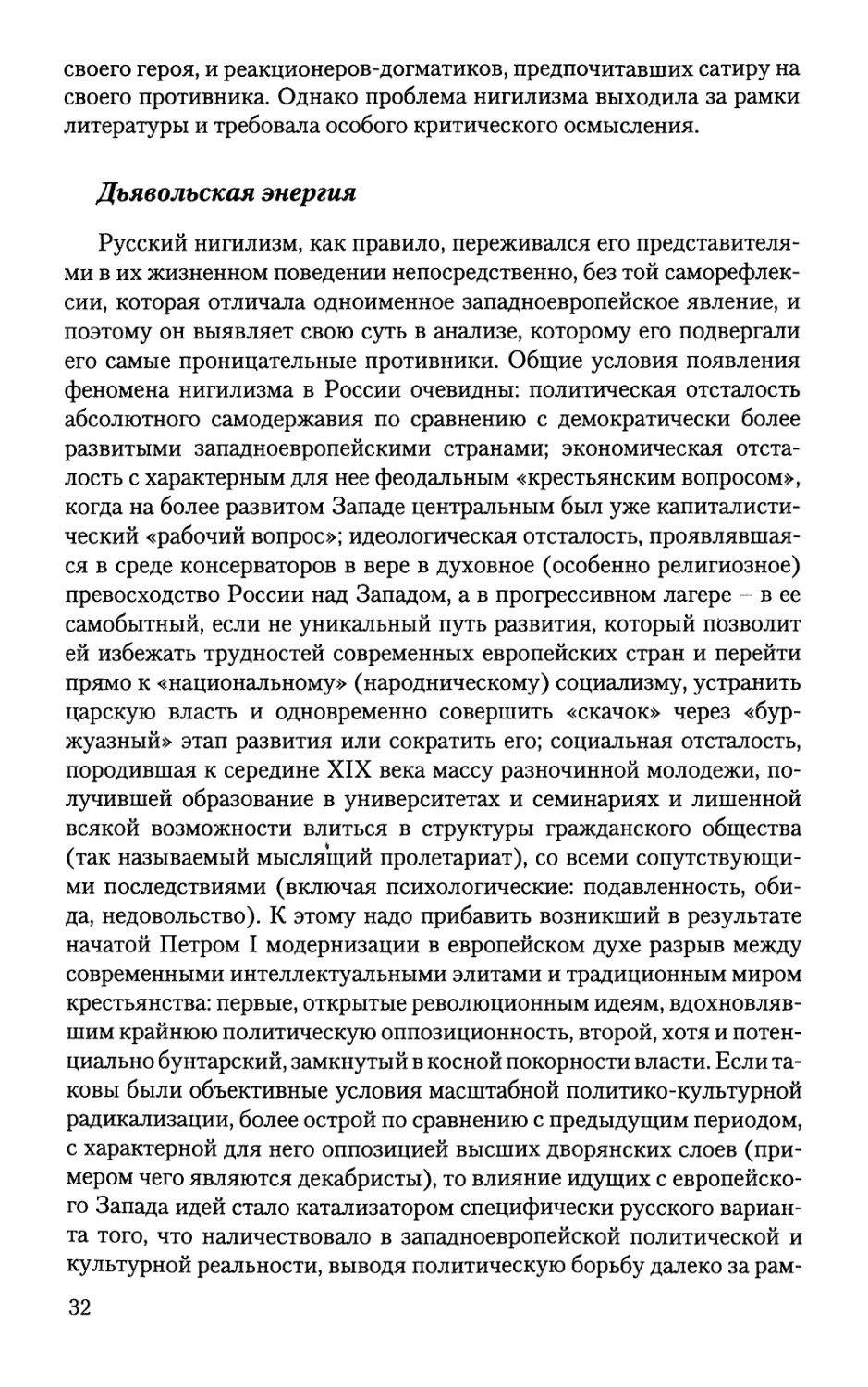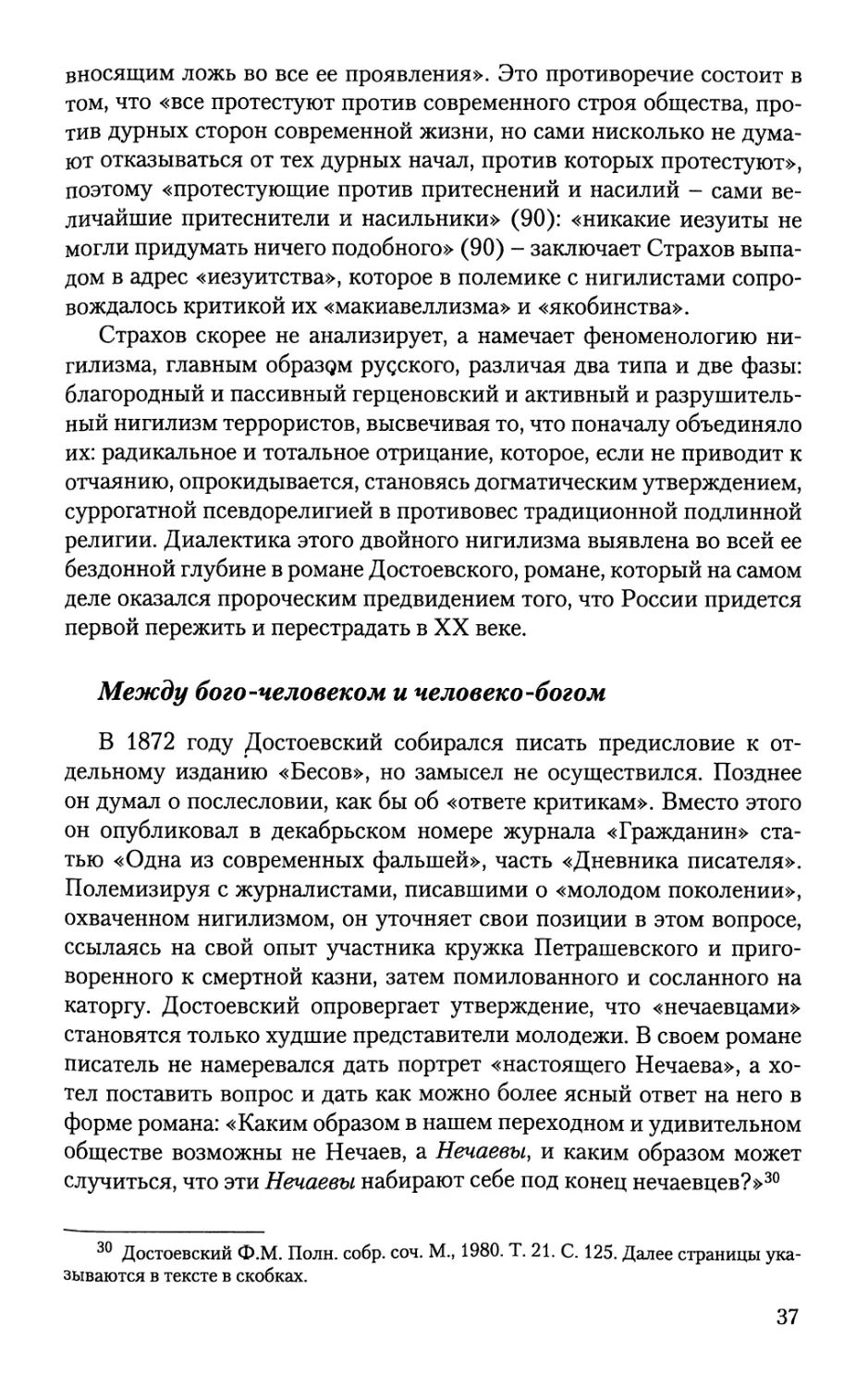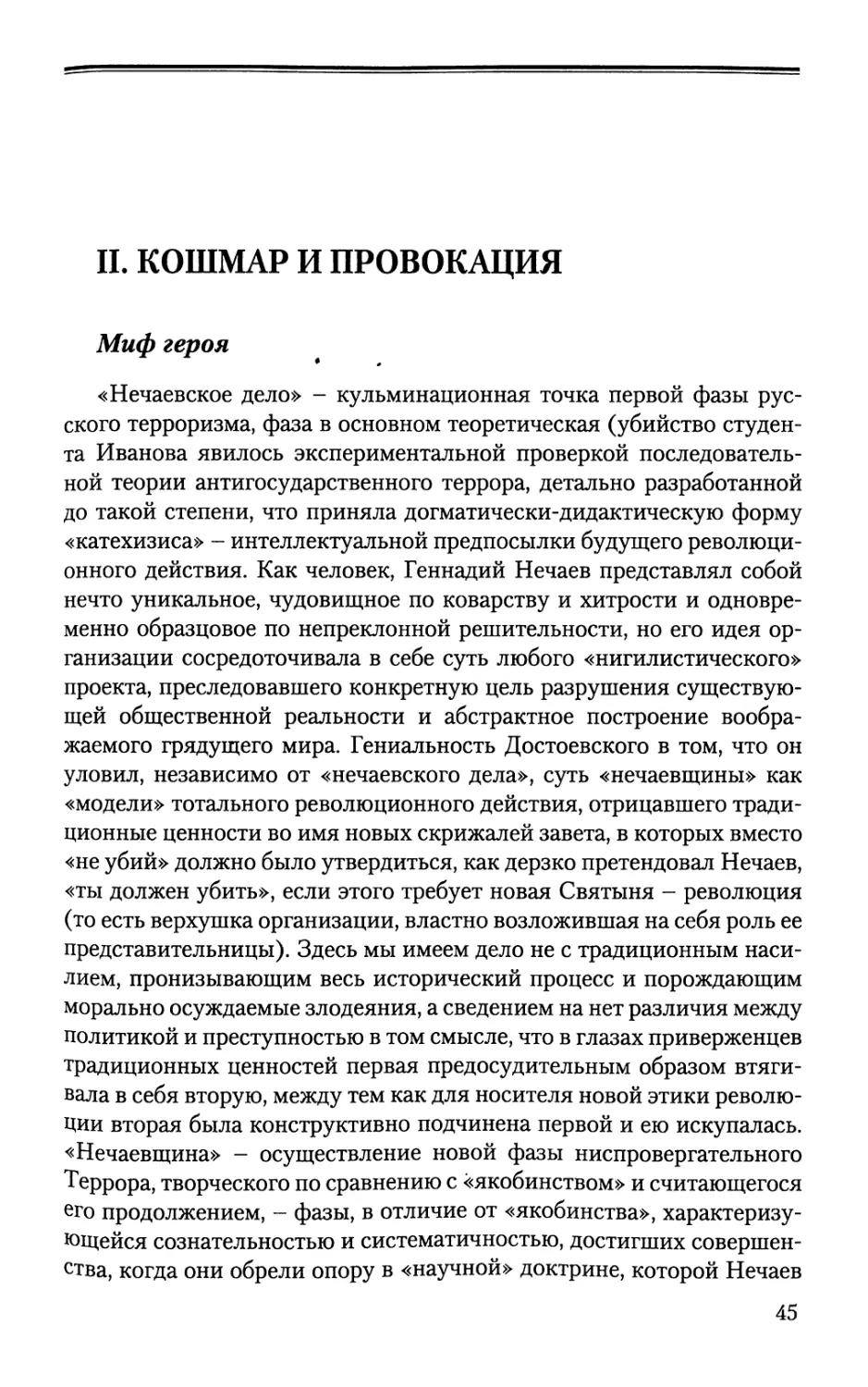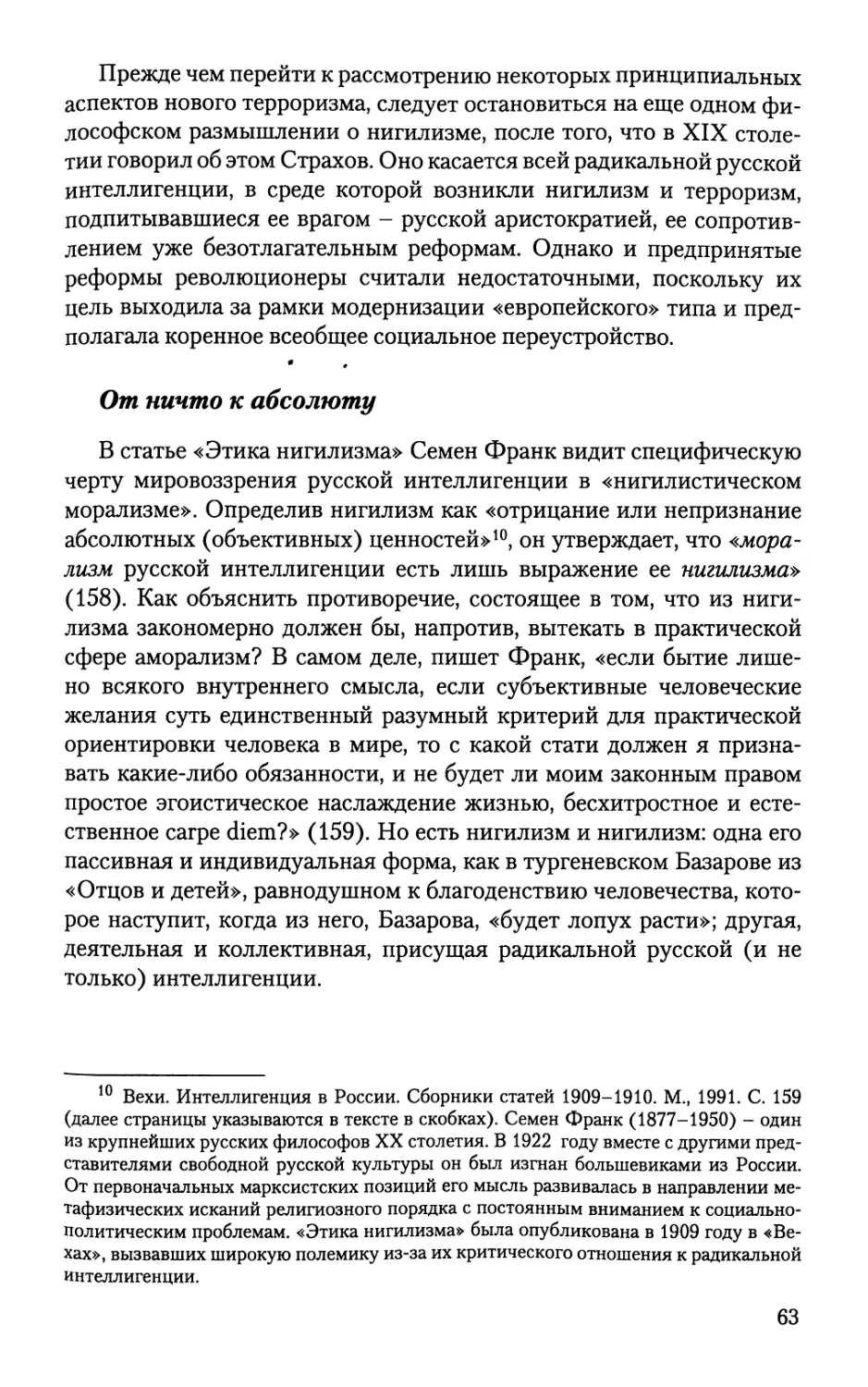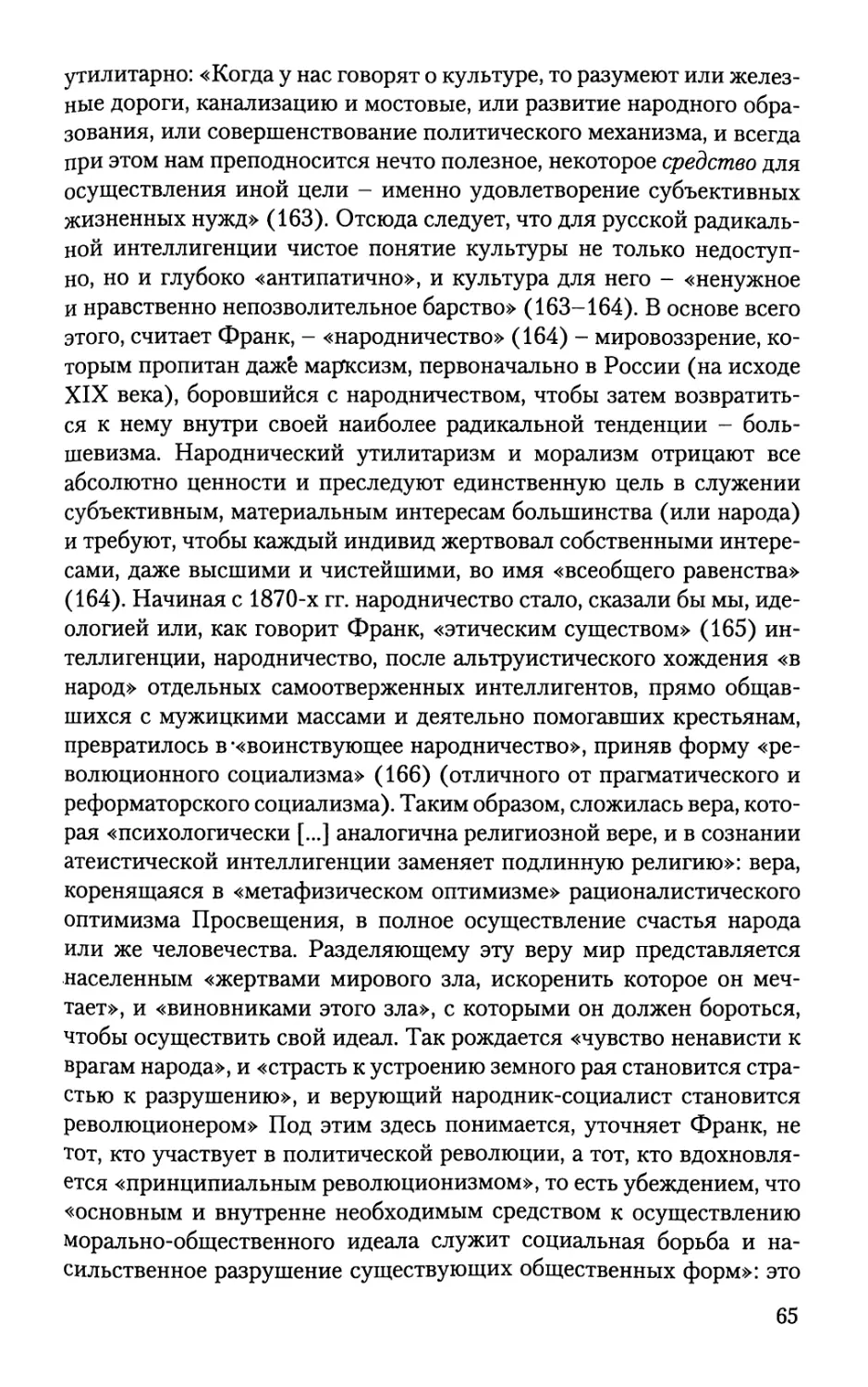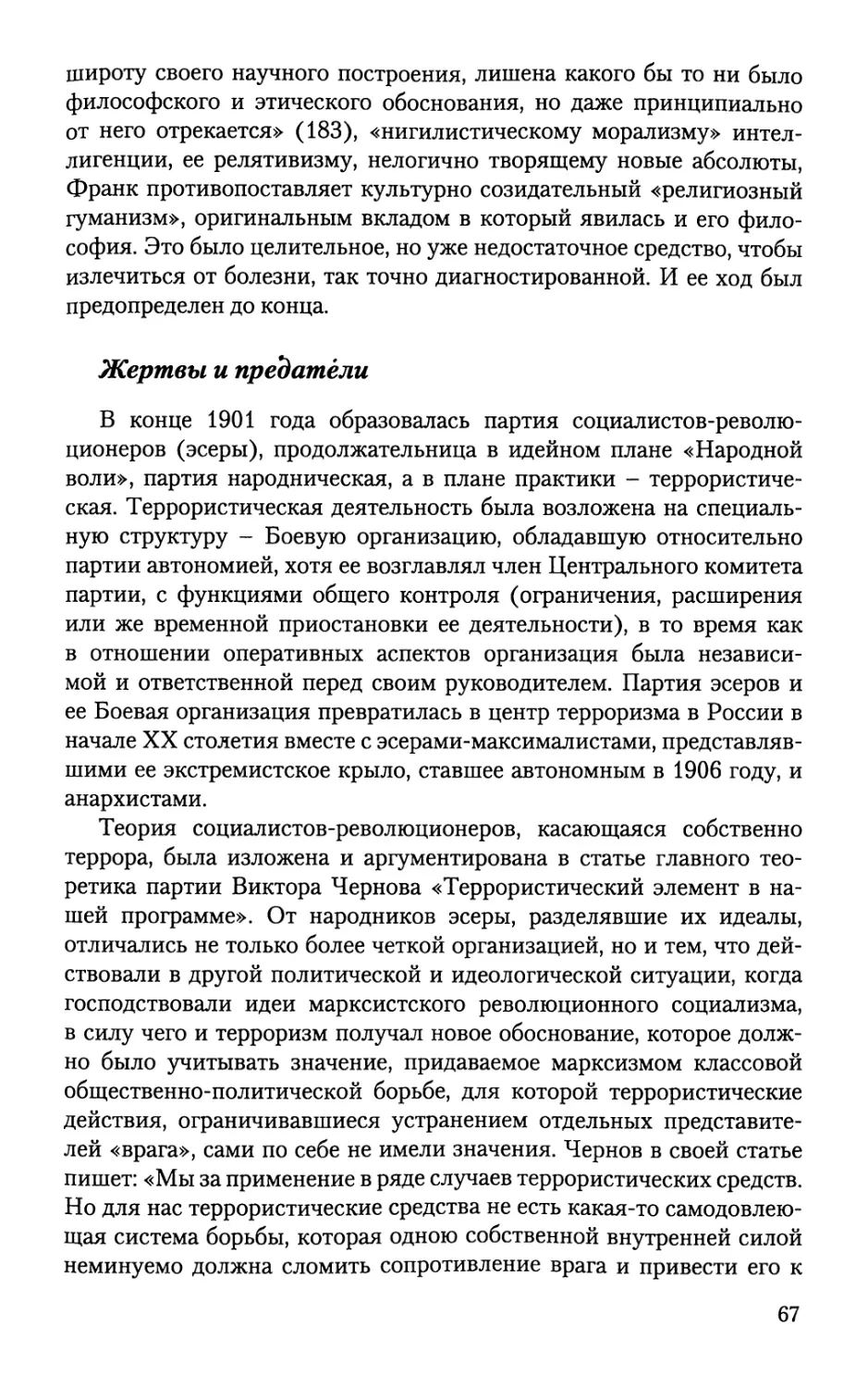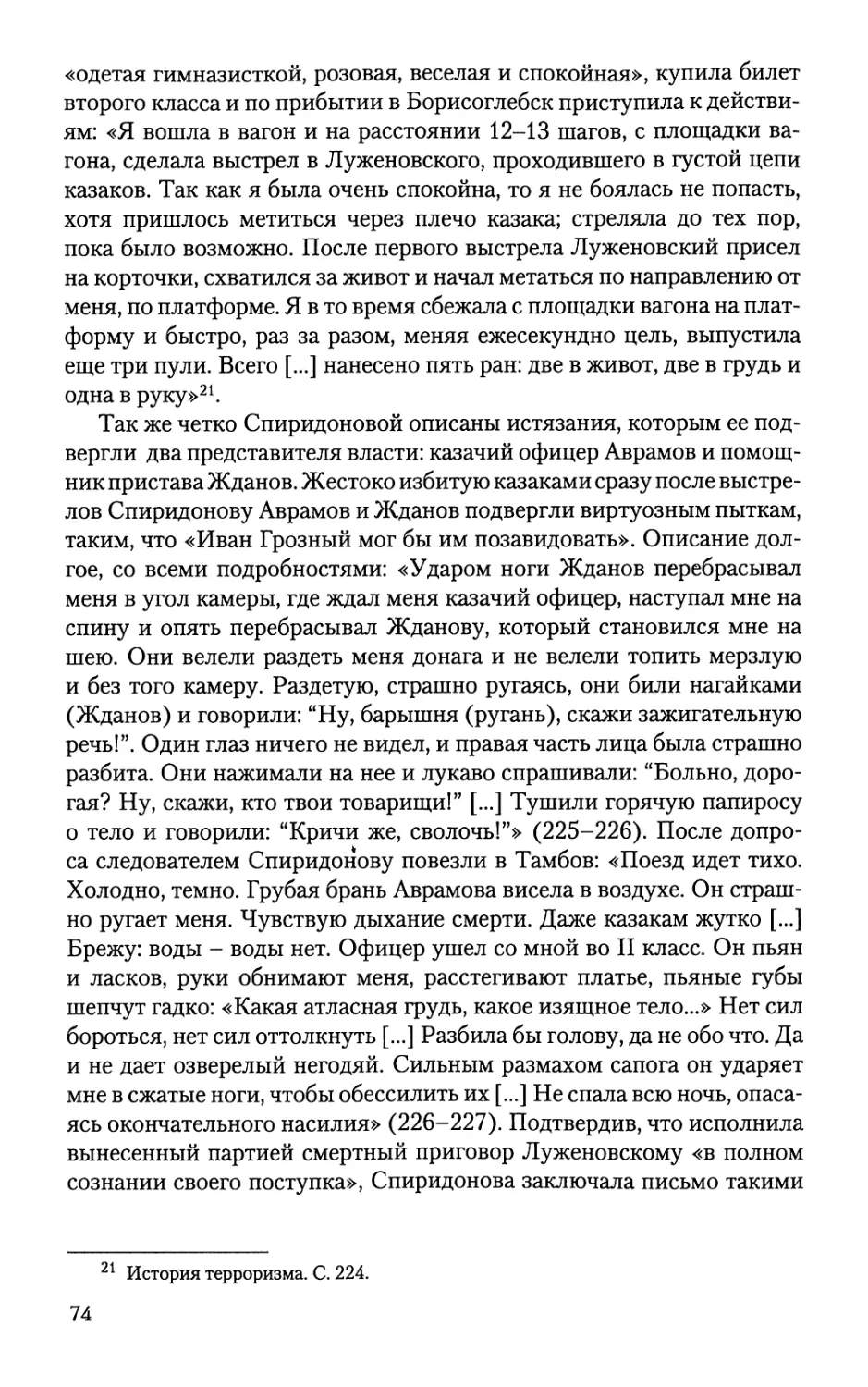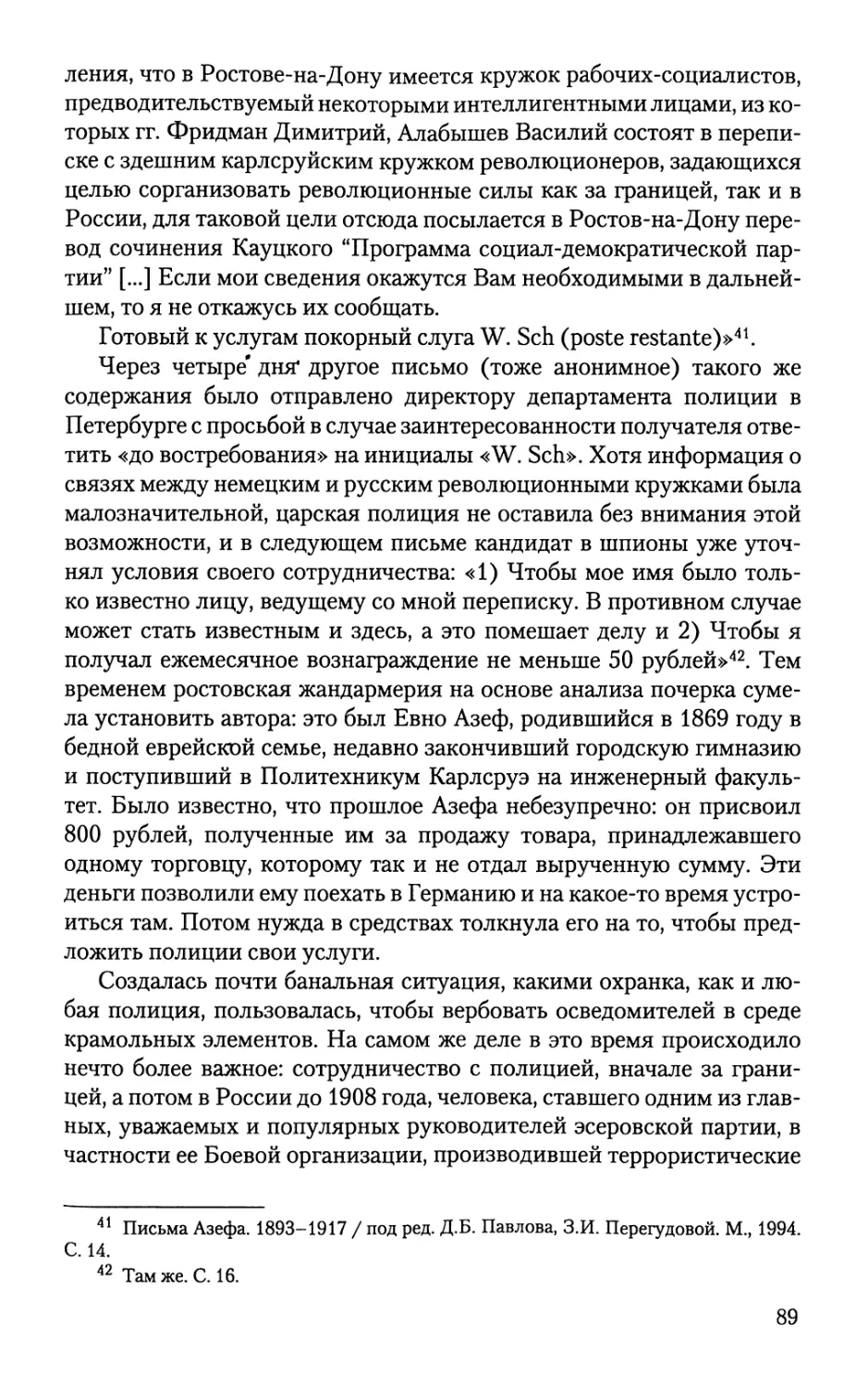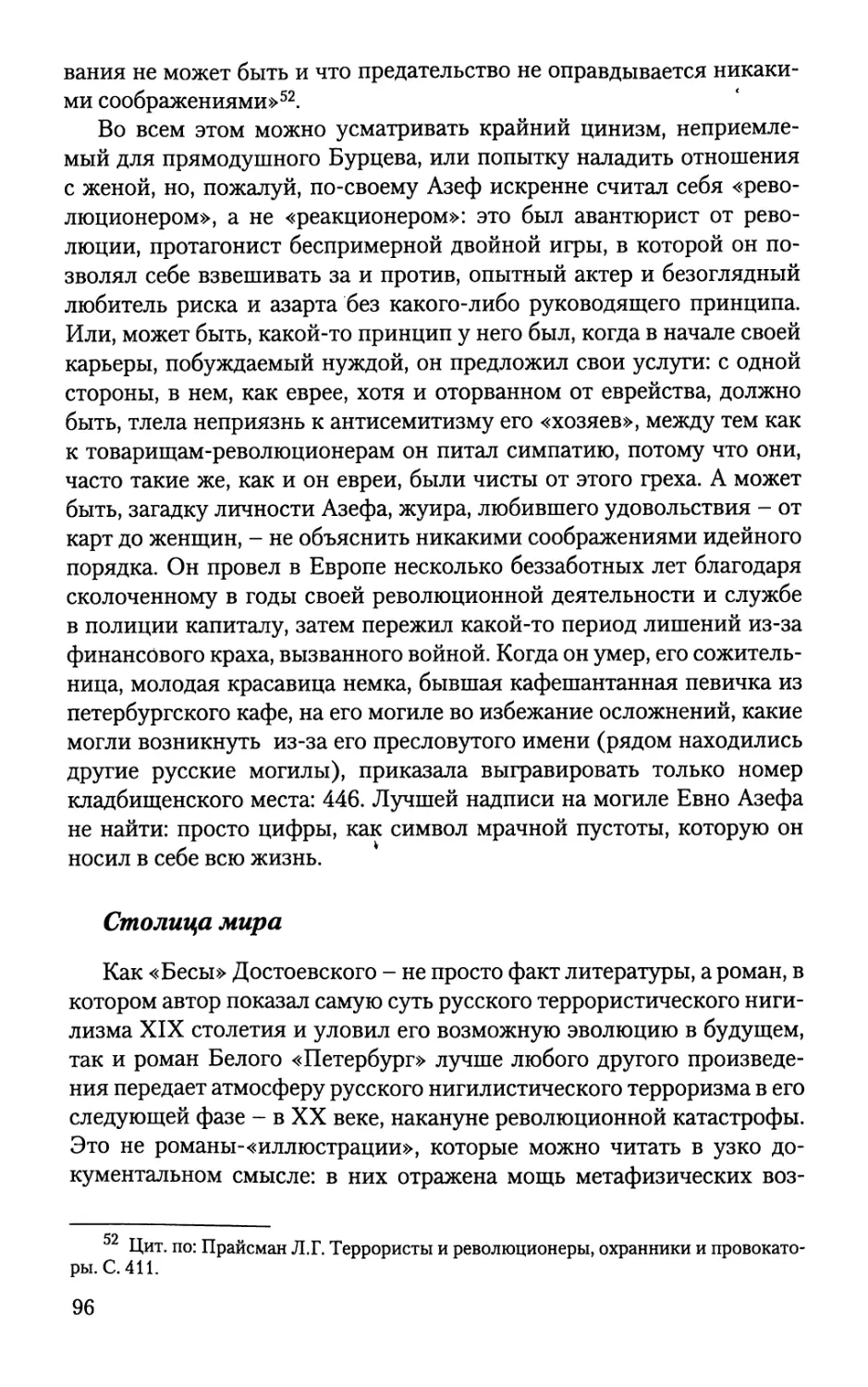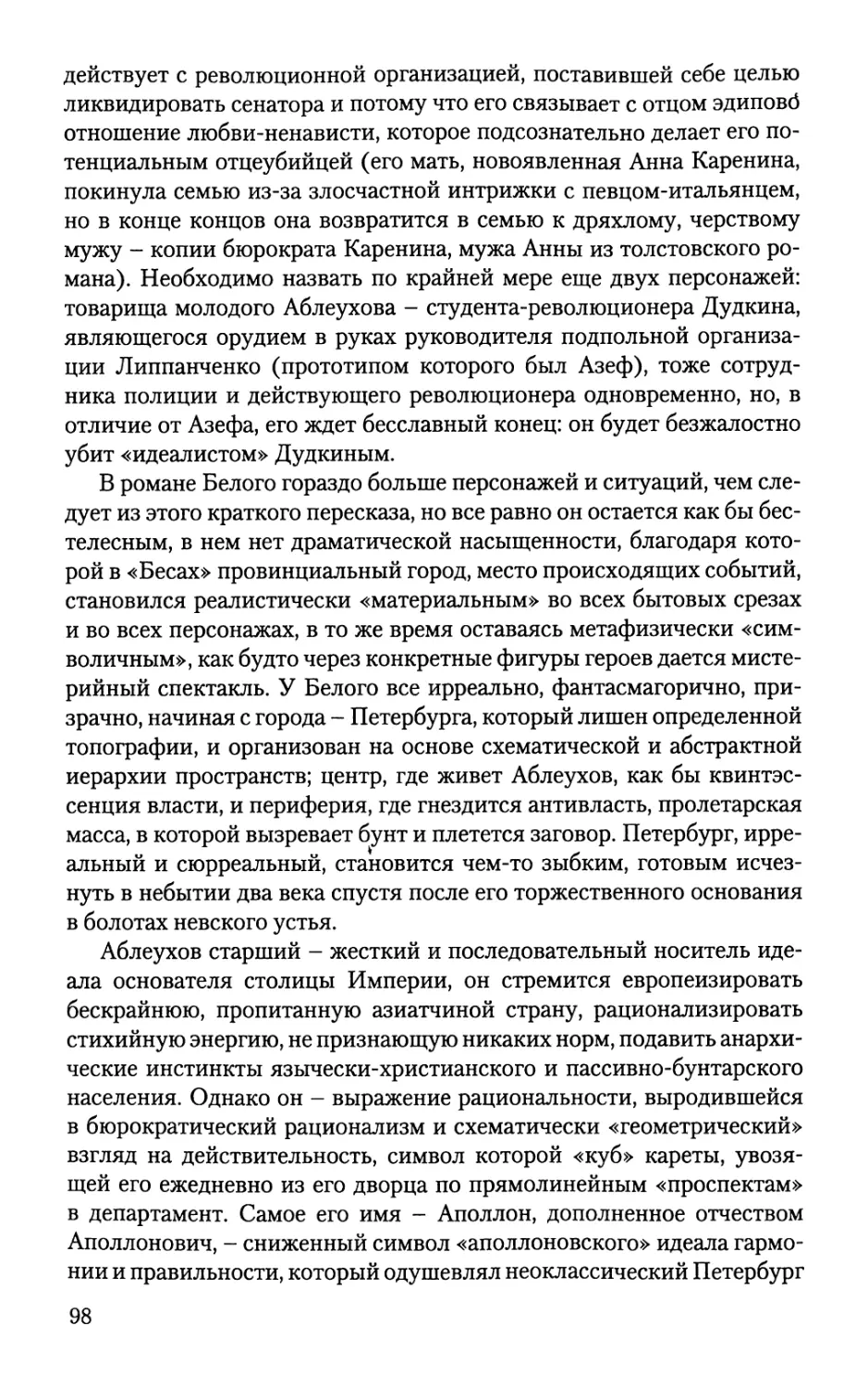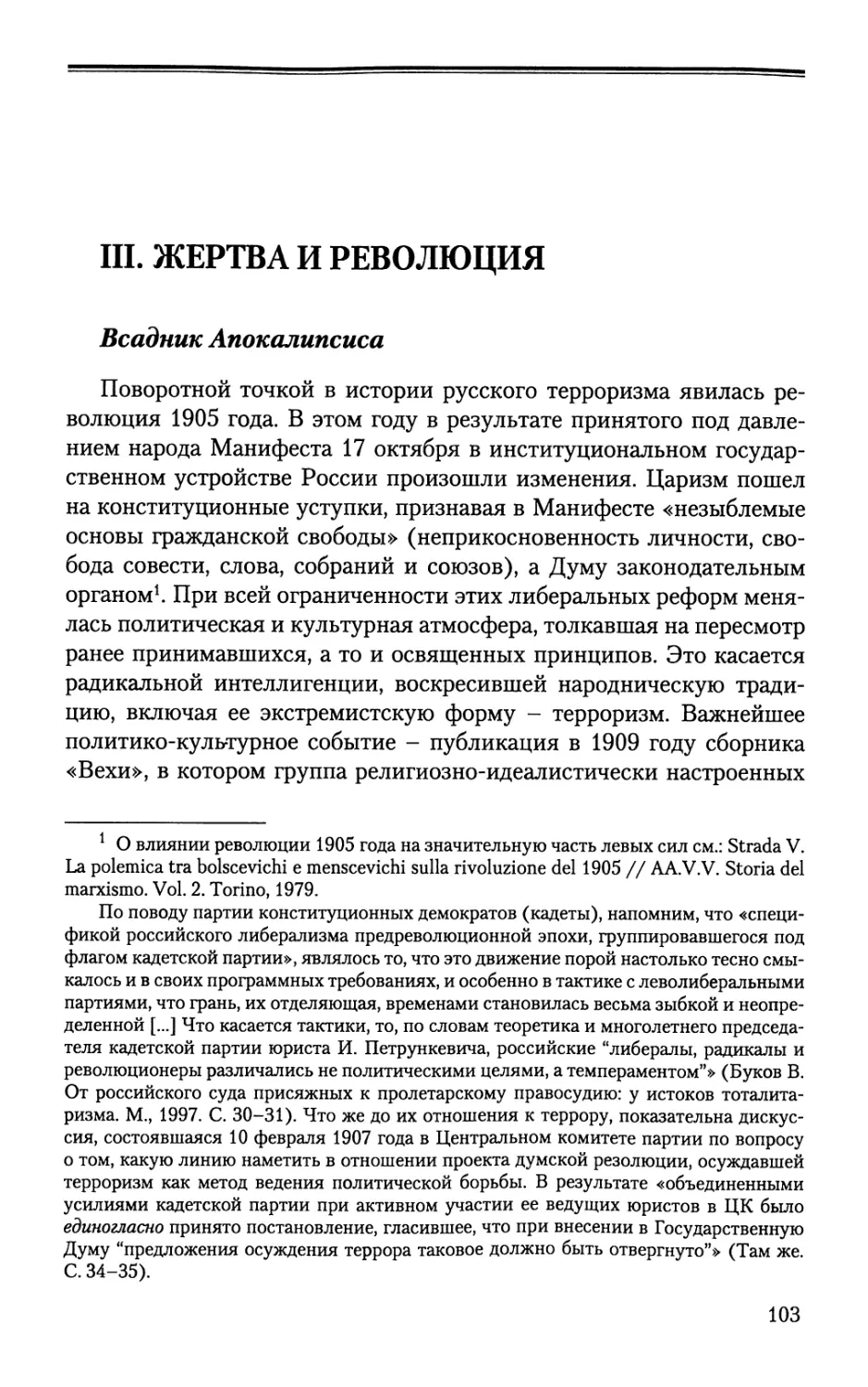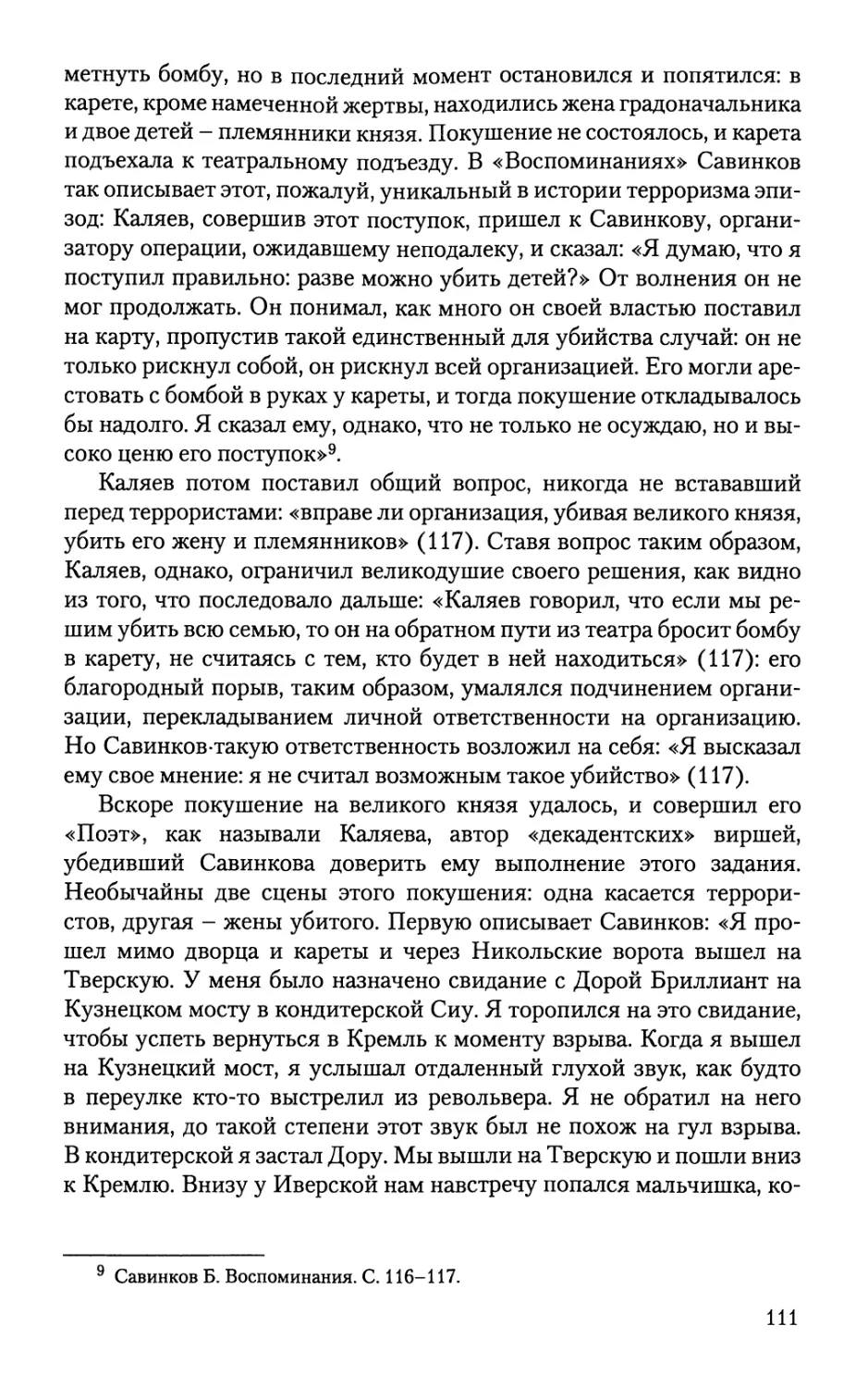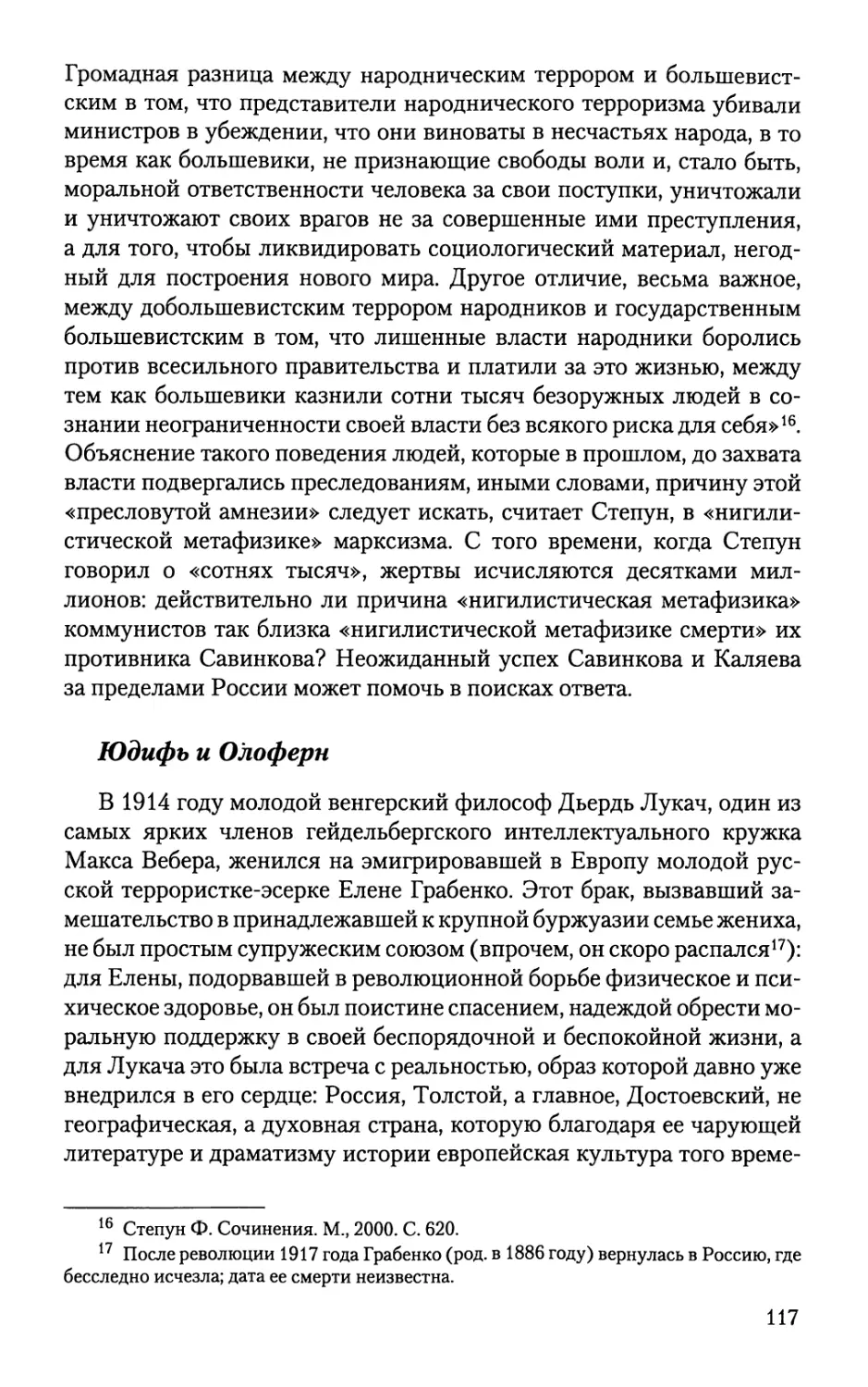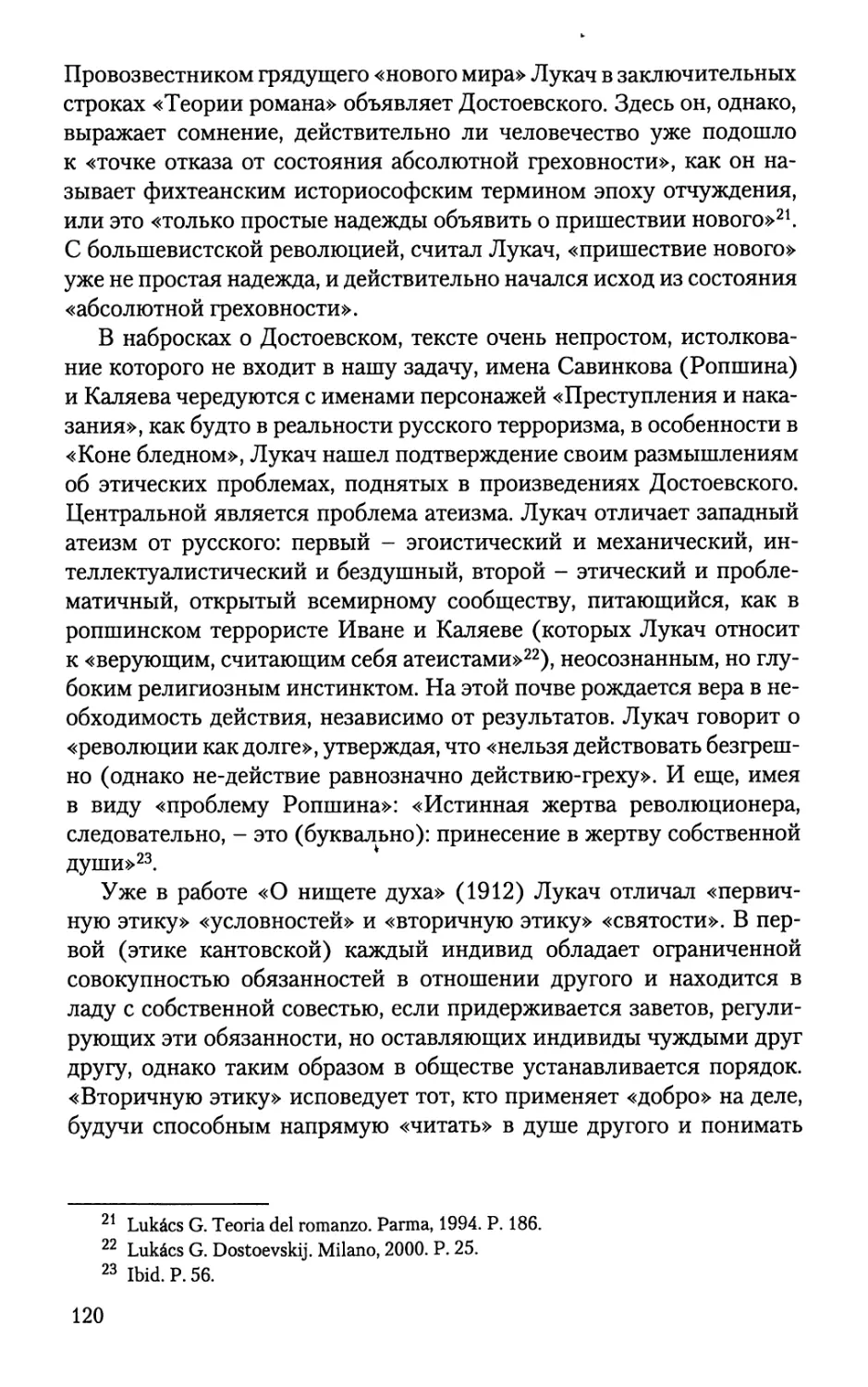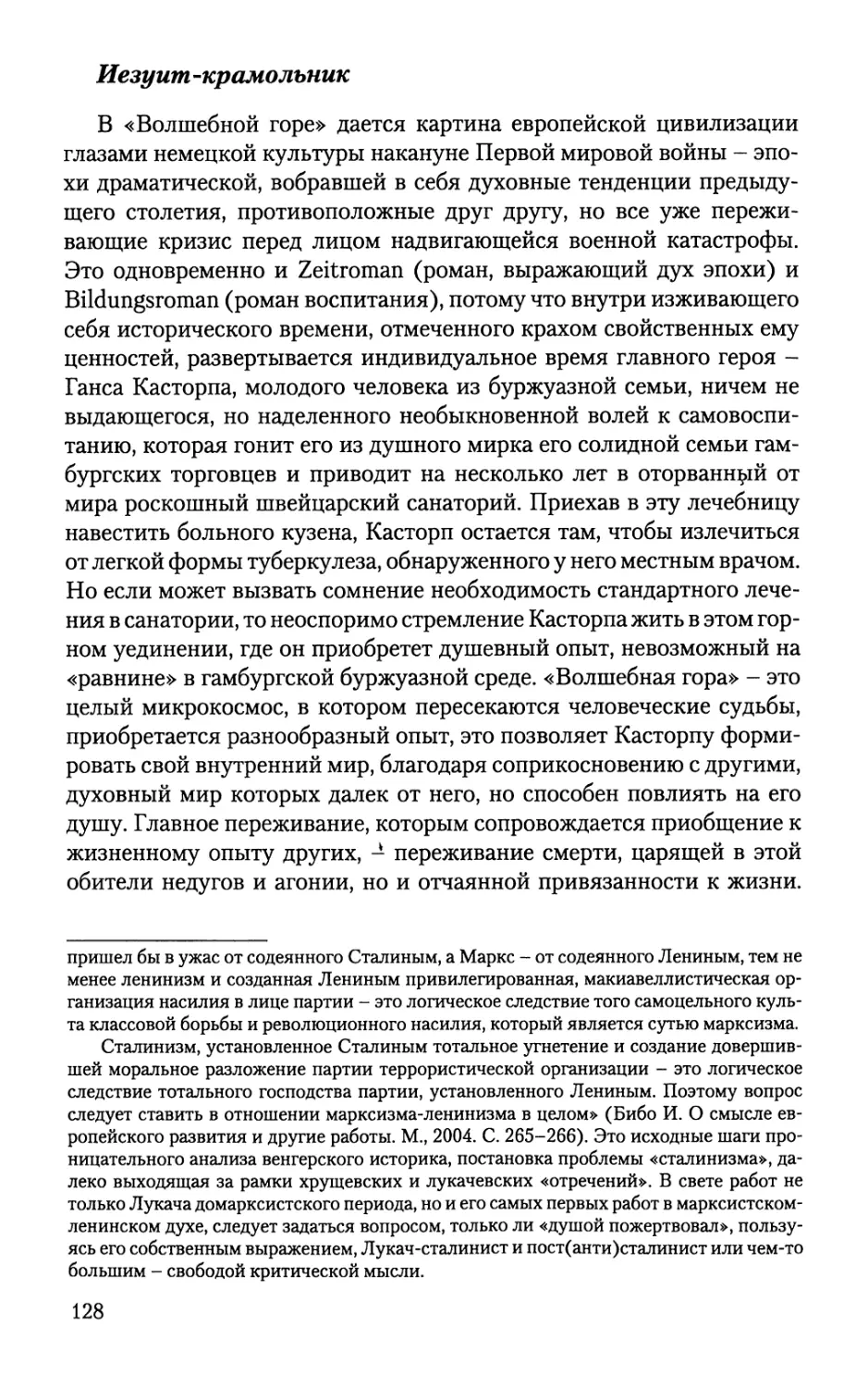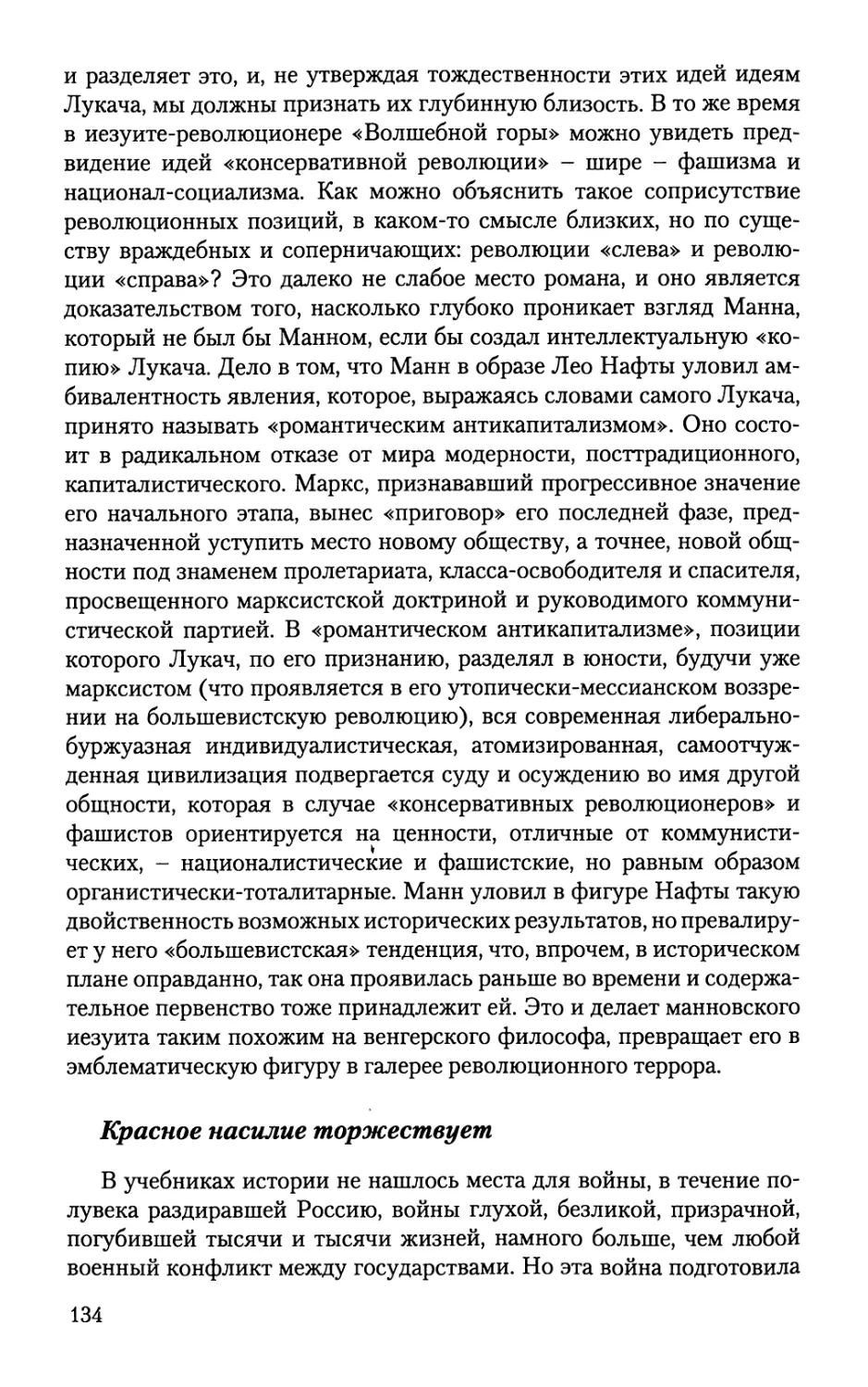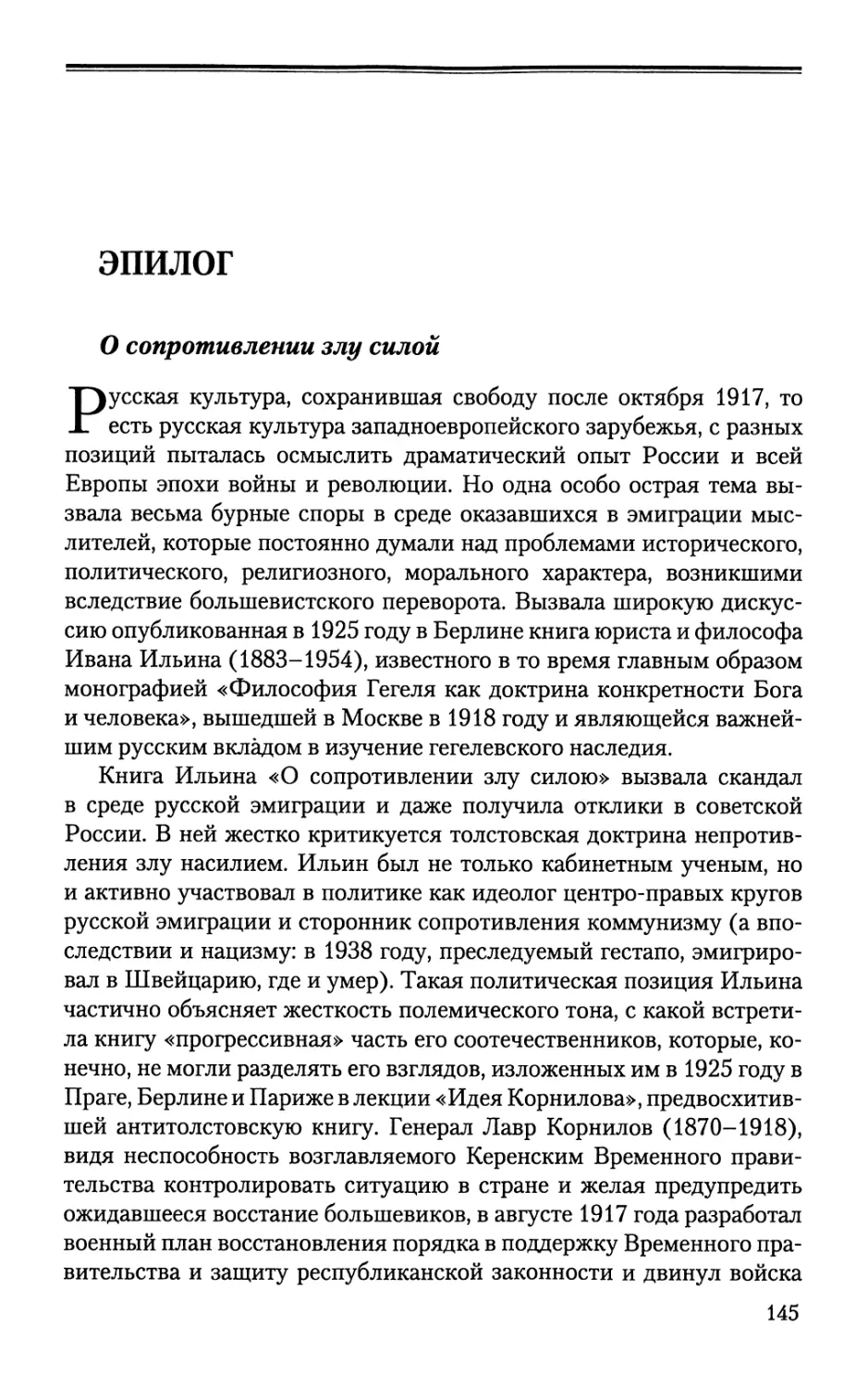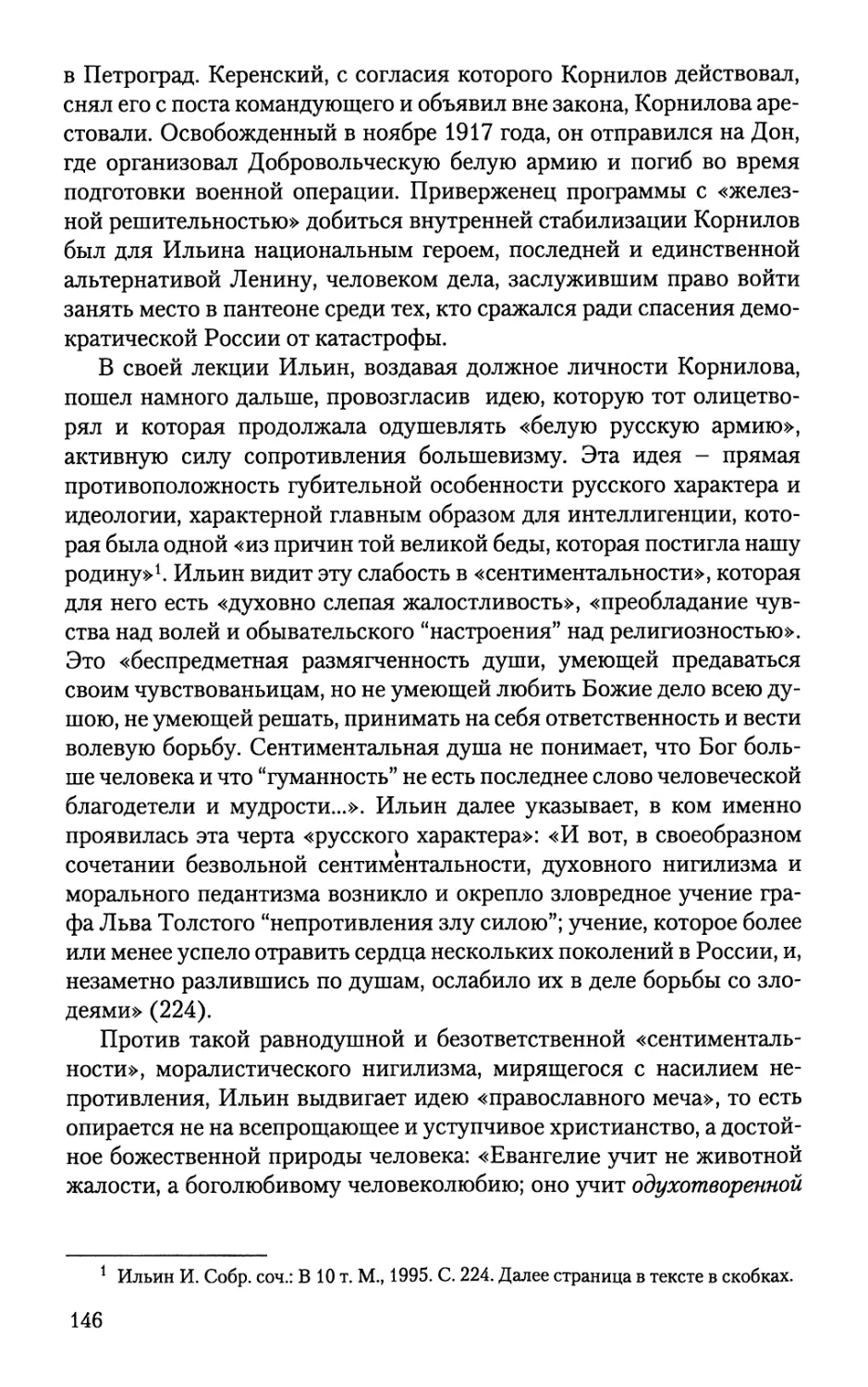Автор: Страда В.
Теги: химическая технология химическая промышленность радиоэлектроника религия терроризм террористические покушения убийство русский терроризм этика террора
ISBN: 978-5-8243-1905-7
Год: 2014
Витторио Страда
ЭТИКА
ТЕРРОРА
От Федора
Достоевского
до Томаса
Манна
Vittorio Strada
Da Fëdor
Dostoevskij
a Thomas Mann
Fondazione Liberal
2008
Витторио Страда
ЭТИКА
ТЕРРОРА
От Федора
Достоевского
до Томаса
Манна
РОССПЭН
Москва
2014
Страда В.
Этика террора. От Федора Достоевского до Томаса Манна /
Витторио Страда ; [пер. с итал. К. Янович-Страда]. - М. :
Политическая энциклопедия, 2014. — 254 с.
ISBN 978-5-8243-1905-7
Первейшая заповедь терроризма - «убей». В отличие от войны, где
столкновение с врагом идет на равных, террористическое покушение
на отдельного человека или группу лиц ассиметрично по характеру
даже в том случае, когда убийство совпадает с самоубийством автора
покушения. Однако под действие категорического императива «Ты
должен убить!» попадает не только тело, но и душа террориста, его
моральная ответственность. Террористическое убийство, если оно не
наемное, совершается во имя некоей абсолютной - религиозной или
общественной - Ценности, в чем посягающий на принципы
порядка, который он хочет сокрушить, находит себе оправдание. Наиболее
ярко и глубоко эта проблематика выразилась в русском терроризме
XIX и XX веков, предвосхитив сегодняшние ситуации. Путем анализа
фигур, событий, размышлений над историей народничества и
большевизма Этика террора по-новому освещает еще не ушедшее прошлое с
привлечением выдающихся литературных произведений, отразивших
эту драматическую тему.
ISBN 978-5-8243-1905-7 © Fondazione Liberal, 2008
© Страда К., перевод на русский
язык, 2014
© Политическая энциклопедия,
2014
Кларе
Революционеры берут тем, что они откровенны.
«Хочу стрелять в брюхо», - и стреляет <...>
И победа революционеров, или их 50-летний успех,
основывается на том, что они - бесчеловечны,
а «старый строй», которого - «мерзавца» они истребляют,
помнит «крест на себе» и не решается совлечь
с себя образ человеческий.
Они - голые. Старый строй - в одежде.
И они настолько и «дышат»,
насколько старый строй не допускает себя тоже «разоблачиться».
В. Розанов. Опавшие листья
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
Нарушающего заповедь «Не убий» можно отнести к одной из трех
категорий: преступник, террорист, солдат. Первый убивает по личному
мотиву, будь то экономический интерес, как при ограблении, или
состояние аффекта, как при ревности. Под третьей категорией, определяемой
словом «солдат», имеется в виду не только военнослужащий, но и
полицейский или палач, то есть агенты государственной власти, которой
принадлежит монополия щ право убивать, и поэтому от наказания по
закону освобождается тот, кто осуществляет это право, в то время как
преступника государственная власть подвергает наказанию, и там, где
существует смертная казнь, она совершается палачом. Солдат, в точном
и ограниченном понимании этого слова, в определенных ситуациях, то
есть на войне, не только может, но и должен убивать, чтобы защитить
самого себя и победить врага. Но и он может быть обвинен в «военных
преступлениях», когда его действия нарушают определенные нормы.
Между этими двумя фигурами, преступник и солдат, третий
нарушитель заповеди «не убий» находится в двусмысленном положении: для
государственной власти, против которой он ведет борьбу, это преступник,
преследуемый ею как таковой, но от преступника он отличается тем, что
убивает не по личным мотивам, а по политическим и/или религиозным
убеждениям. Террорист по-своему борется с государственной властью не
как солдат, официально действующий от имени определенной
государственной власти, а как представитель потенциальной контрвласти -
власти, еще не принявшей форму легитимного государственного организма,
но стремящейся к этому и поэтому борющейся с существующей властью.
Террорист может быть также агентом другого государства, но в этом
случае это скорее солдат, чем террорист в прямом смысле слова, солдат
нелегальный, подпольный.
Террорист - фигура, занимающая промежуточное положение между
преступником и солдатом, и если первый лишен этической идеи,
толкающей его на убийство, второй подчиняется господствующей этике, то
террориста можно охарактеризовать двойственно: он и преступник, и солдат,
и если его дело терпит поражение, его можно отнести к первой категории,
но если он побеждает, то попадает в третью (иногда как герой).
7
Террорист - человек идеи или во всяком случае человек,
направляемый людьми идеи. Это не облагораживает террориста, так как будучи
частью организации, он может быть вовлеченным в самые мутные стороны
ее деятельности (провокация, соперничество, двойная игра и т. д.). Но
действует он под влиянием идеи, принципа, во имя ценностей, ради
которых он готов принести в жертву свою жизнь и жизнь других - в
физическом и (если он наделен совестью) нравственном смыслах. Здесь
возникает важный вопрос для понимания мира террориста и его поведения.
Следует отличать террориста, действующего внутри определенного
гражданского порядка, к которому он принадлежит, и ставящего себе
цель изменить его или уничтожить, поскольку он считает его
несправедливым и видит свою задачу в том, чтобы заменить его другим, на его
взгляд справедливым, а то и совершенным. Убийство совершается им
по принципу «цель оправдывает средства»: жертвы в его глазах
искупаются благой целью, которую он преследует, а кроме того, для него
важна значимость «наказания» представителей системы, которую он хочет
сокрушить, хотя жертвами его действий могут стать и невинные люди.
Если террорист считает правомерной заповедь «не убий», поскольку это
религиозный принцип, преступая ее, он берет на себя «грех»; если он
атеист, и признает запрет на убийство как гражданскую норму, то убийство
для него крайняя мера, имеющая в перспективе высшую цель, и он
возводит смерть, свою и других людей, в ранг героического и жертвенного
поступка.
Иное дело - террорист, не принадлежащий к цивилизации,
которую стремится разрушить или потрясти ее основы, чтобы
утвердить собственную, на его взгляд, высшую и единственно праведную.
Это случай современного исламского терроризма, отличного от
революционного терроризмаk XIX и XX столетий (если не углубляться
в далекое прошлое, где в монархомахии или тираноубийстве XVI-
XVII веков можно увидеть предысторию западного терроризма, в то
время как предыстория исламского терроризма приведет нас к секте
«Ассасинов» XI—XIII веков.). Терроризм этого типа - «на службе Бога»,
и его адепты, часто смертники, уверены, что получат вознаграждение в
загробной жизни, как они ее себе представляют. Вина «восточного»
религиозного террориста перевешивает вину «западного» политического
террориста, потому что первый убивает не отдельного человека, одиозного
или символического представителя ненавистной ему власти, а выбирает
коллективную мишень, совершая акции в общественных местах (метро,
школы, больницы и т. д.), поскольку его враг - современная цивилизация
в целом. Тот же критерий применяется и во внутриисламском
терроризме, и кровь, пролитая по вине его приверженцев, - доказательство
особой ментальности его адептов. Так или иначе, для всех видов терроризма
общим является то, что их цель не отдельная жертва: теракт должен по-
8
трясти все общество, а глобализация мира, включая и медийную, этому
только благоприятствует.
Оставим этот тип религиозного терроризма, ныне и в обозримом
будущем превалирующего и являющегося частью «священной войны»,
которую экстремистская часть исламского мира объявила христианскому
(и постхристианскому) Западу и которая требует анализа «конфликта
цивилизаций» и специфической природы исламской религии. Терроризм
в западном мире еще не угас (некоторое время назад он свирепствовал в
Италии и Германии, в условиях агонии коммунизма) и может
возобновиться с новой силой в связи с терроризмом, порождаемым
столкновением разных цивилизаций, о чем говорилось выше. Терроризм западного
типа, получивший особое развитие в России XIX - начала XX века, не
имеет религиозного характера, но в значительной степени проникнут
своего рода религиозностью - религиозностью социалистической (и
коммунистической) утопии, отличающей его от терроризма
националистического типа, с которым иногда он может взаимодействовать.
Когда мы имеем дело с утопией, следует видеть разницу между
традиционной утопией и утопией нового времени: первая имеет
литературный характер и воплощается в воображаемом идеальном мире,
противоположном реальному миру с его пороками и недостатками. Поворот в
истории утопии произошел, когда она выразила претензии превратиться
из «литературной» фантазии в «научную» теорию, из плодов
воображения трансформироваться в проект, который следует претворить в жизнь.
Этот переход наиболее ярко виден на примере марксизма,
объявившего, что именно им* социалистический идеал преобразован из «утопии в
науку», однако на самом деле «литературная утопия» преобразовалась в
«научную утопию», где «науке» придается особый смысл - она
становится носительницей идеологии (хотя марксистская «наука» считает себя
единственно верной в противоположность буржуазной псевдонауке) и
приобретает квазирелигиозную коннотацию: своеобразная мирская
религия, превращенная в воинствующий атеизм (то, что получит в
дальнейшем название «политической (или "секулярной") религии)».
Следствием такого перехода стало то, что утопия теряет характер
совершенного мира, нарисованного фантазией в литературных утопиях во
всех подробностях, и становится глобальным проектом исторического
развития, которое теоретики «научной утопии» описывают в общих
чертах (отмена частной собственности, отмирание государства и т. п.) и без
представления картины будущего в деталях. «Научная утопия»,
опирающаяся на закономерности развития истории, становится политической и
при реализации дает место произволу тех, кто берет на себя задачу
реализовать ее при помощи двух средств: идеологического убеждения, которое
должно утвердить культурную гегемонию социалистической
(коммунистической) идеи, и революционного насилия в разных формах, не исклю-
9
чая при необходимости и террора. Все это в свою очередь может принять
различные политико-организационные формы, причем в зависимости
от разных научно-утопических проектов, поскольку светлое будущее и
пути его достижения в научной утопии в точности не указаны и
приходится учитывать конкретные исторические обстоятельства,
интерпретируемые неоднозначно. Но при этом каждая интерпретация претендует
на ортодоксальность и правильность соответствующей стратегии и
тактики. Наконец, когда два средства научной утопии дают плоды, то есть
приводят к разрушению старого мира и захвату власти для построения
нового мира, они, приобретая новую форму, начинают играть и новую
роль: идеологическая гегемония становится тоталитарной монополией и
революционное насилие превращается в государственный террор. Таким
образом, парабола терроризма завершена.
В России эта парабола имела «классическое» выражение, но
повторялась с разными локальными вариантами в разных национальных
контекстах - свидетельство того, что это не был эксклюзивный опыт.
Прослеживать этот аспект русской истории не как хронику единичных
событий, а его интеллектуальную суть представляет большой интерес:
Россия - не только «европейская держава», как сказала одна из ее
императриц, но и страна с европейской культурой при всем ее глубоком
своеобразии.
«Этика террора», как и другая моя книга «Россия как судьба», была
написана в этой перспективе.
Витторио Страда
Венеция, декабрь 2013 г.
ВВЕДЕНИЕ
Настоящая книга - не изложение истории русского
терроризма1, а размышление о ней и о возникавших в ее ходе реакциях на
терроризм - от его начала (примерно середина XIX века) до
исторического переворота в октябре 1917. Автор выявляет важные
моменты, ключевые эпизоды и знаменательные фигуры, изучает проблемы
и проводит их анализ, сопровождая свое исследование прочтением
литературных текстов, рассматриваемых им не как иллюстративный
материал, а как живое полемическое или созвучное выражение
драматических перипетий русской и европейской истории, что
позволяет лучше понять не только недавнее прошлое, но и настоящее.
В наши дни терроризм поднял голову, хотя и в другом обличье, это
уже не саморазрушительный феномен западного мира, феномен,
имеющий собственные культурные корни, а агрессивное явление другой
цивилизации, переплетенной, однако, с западной, которой она себя
противопоставляет.
Между старым и новым терроризмом есть скрытое родство, более
сильное, чем несомненные различия. Чтобы выявить их связь, полезно
ознакомиться с фрагментами одного текста, который по видимости
весьма далек от нашей темы. Речь идет о лекции Лео Штрауса, прочитанной
в 1941 году в Нью-Йорке, и опубликованной2 только более полувека
спустя.
Лекция называется «О немецком нигилизме». Относительно
русского нигилизма как почвы терроризма читатель познакомится в этой
книге с разными взглядами деятелей русской культуры. Посмотрим, что
Штраус говорит о «немецком нигилизме», смысл которого он не сводит
только к данному нигилизму. Выдвинув тезис, что «нигилизм может
означать: velle nihil, желание ничто, разрушение всего, в том числе и себя
1 Отсылаем к двум книгам по истории русского терроризма: Geifman A. Thou Shalt
Kill. Revolutionary Terrorism in Russia. Princeton, 1993; Будницкий O.B. Терроризм в
российском освободительном движении. M., 2000.
2 Цит. по французскому изданию: Strauss L. Nihilism et politique. Paris, 2001. Здесь
и далее курсив принадлежит автору цитируемых произведений. Настоящая книга, при
всей ее самостоятельности, идейно связана с моей книгой "La rivoluzione svelata. Una
lettura nuova delPOttobre 1917" (Roma, 2007) и является первой частью трилогии, за
которой последует третья, посвященная империи (российской и красной).
11
и, следовательно, главным образом желание саморазрушения», Штраус
выражает сомнение, что это верно для немецкого нигилизма, который в
действительности «не есть абсолютный нигилизм, желание уничтожить
все, включая самого себя, он есть желание разрушить нечто
специфическое: современную цивилизацию». И уточняет: «Этот ограниченный
нигилизм <...> становится нигилизмом почти абсолютным только по этой
причине: ибо отрицание современной цивилизации, НЕТ, не основано на
ясном позитивном воззрении и не сопровождается им».
Существенно следующее уточнение: «Немецкий нигилизм стремится
к уничтожению современной цивилизации в той мере, в какой эта
цивилизация имеет моральный смысл. Как известно, немецкий нигилизм
особо не противится современным техническим средствам. Моральный
смысл современной цивилизации, против которой выступают немецкие
нигилисты, выражается в утверждениях типа нижеследующих:
облегчить положение человека; или защищать права человека; или наивысшее
счастье для возможно большего числа людей. Каков мотив, лежащий в
основе протеста против современной цивилизации, против духа Запада,
в частности, Запада англосаксонского?». Ответ, говорит Штраус, ясен:
«это моральный протест», и развивает свой анализ применительно к
ситуации в Германии, в частности, к национал-социализму. Этот анализ
выходит далеко за рамки немецкого контекста, останавливаться на нем
в нашу задачу не входит.
Далее читатель увидит, что штраусовский анализ некоторым
образом смыкается с анализом, который в 1909 году русский философ Семен
Франк провел в отношении русского нигилизма, выявив его «этику»,
«морализм», своего рода девиантную «религиозность». Конечно, русский
нигилизм и его экстремистское ответвление - терроризм могли иметь
оправдание, связанное с конкретными обстоятельствами, поскольку шла
борьба с самодержавием во*имя основных свобод и восстановления такой
фундаментальной социальной справедливости, как раскрепощение
крестьянских масс, с большим опозданием освобожденных от крепостной
зависимости по решению сверху и по-прежнему угнетенных и
обездоленных. Но независимо от этих целей идеалом русского нигилизма и
терроризма было новое общество, отличное от современного западного и даже
противоположное ему, стремились ли они, как народники, к
ретроспективной утопии, основанной на сельской общине, или, как социалисты,
к утопии будущего, фундамент которой - пролетарский коллективизм.
Современная техника и ее основа наука отнюдь не отвергались и должны
были обслуживать этот скорее моральный, чем политический проект
построения общества, альтернативного западному капиталистическому.
На этой почве возникает этика нигилизма и терроризма, которая
может довести до тотального разрушения и саморазрушения, но может и
«ограничиться» отрицанием ценностей открытого либерального
общества и в противоположность ему утверждать утопические ценности зам-
12
кнутого на себя соборного общества. В этом смысле новый терроризм,
родившийся от встречи разных культурных традиций, имеет
прерогативу обладания устоявшимся ценностным кодом, веками действующим в
громадных людских обществах (исламских)3, притом что их
антизападный «нигилизм» имеет сильную базу не только этическую, но и
религиозную. Создавшаяся таким образом историческая ситуация является
новой по сравнению с той, в которой возник внутризападный терроризм,
но преемственно связанной с ним, тем более что западная цивилизация
уже «заразила» всю планету и любое антизападничество не может
преодолеть влияния того самого Запада, который оно отрицает.
История русского терроризма, самого продолжительного и
масштабного, приведшего к катастрофическим результатам, поскольку
он был провозвестником коммунистического и косвенно национал-
социалистического тоталитаризма, с его слабо освещенными и темными
сторонами, не только сама по себе захватывающа, но и является
предысторией терроризма наших дней и терроризма будущего: террористы,
которые обрекали себя на смерть, бросая самодельные бомбы в царя и его
министров, стали предтечами террористов-смертников, использующих
куда более технически совершенное оружие против западных или оза-
падненных толп в еще более масштабном конфликте, чем тот, который
раздирал Россию, конфликте, сопровождающемся миграционными
потоками с юго-востока на северо-запад планеты, меняющем природу
европейской цивилизации. Терроризм, как форма уничтожения человеческих
жизней, промежуточная между уголовщиной и военным истреблением,
играет значительную историческую роль как во внутренней борьбе
культурно однородной общности, так и в столкновении соперничающих
цивилизаций, но в любом случае его цель - разрушение основ современного
демократического, либерально-христианского мира во имя становления
закрытого общества религиозного или псевдорелигиозного типа:
вооруженной Утопии, вдохновляющейся неким богом или неким идолом.
Витторио Страда
3 Бертран Рассел, который в большевизме как социальном явлении видел
«религию», а «не нормальное политическое движение», считал, что из всех религий
большевизму ближе всего ислам, поскольку они оба являются «практическими религиями,
социальными, не-духовными, стремящимися к господству в земном мире», см.: Rüssel В.
Teoria е pratica del bolscevismo. Milano, 1963. P. 83-84.
Аналогично Джон Майнард Кейнс полагал, что ленинский коммунизм есть
религия (как говорится, «секулярная» или «политическая»), а «не только партия» и что
«Ленин - это Марат, а не Бисмарк», см.: Keynes J.M. Esortazioni е profezie. Milano, 1975.
P. 224.
Для Жюля Монро коммунизм - это «ислам XX века»: коммунизм,
географический центр которого - советская Россия, откуда идет его распространение, «как
завоевательный Ислам, не делает различия между политическим и религиозным», см.:
MonnerotJ. Sociologia del comunismo. Milano, 1970. P. 56.
13
I. СЛОВО И ДЕЛО
Ад
1862 год можно считать датой начала терроризма в России: не
социальный бунт (пугачевщина) или политическое возмущение -
военный заговор декабристов, потерпевших поражение в
антиправительственной борьбе, а новый тип антигосударственной деятельности,
которую ожидало большое будущее, так как ею открывалась в России
и в Европе, сначала в теории, а потом на практике, не только новая
политическая, но и новая культурная фаза - фаза современного идео-
политического терроризма.
В мае 1862 года в Петербурге и в Москве появилось
воззвание, вызвавшее серьезную тревогу в правительственных кругах
и глубоко озаботившее и консерваторов, и либералов. Воззвание
«Молодая Россия» хотя и было напечатано от имени загадочного
Революционного центрального комитета, принадлежало перу одного
молодого человека, уже почти год находившегося в тюрьме за
заговорщическую деятельность. Видимо, тюремные условия были не
такие суровые, если камера*узника, где его свободно навещали
товарищи, стала местом подготовки подпольных листовок.
Этим молодым человеком был Петр Заичневский (1842-1896), сын
помещика Орловской губернии, студент физико-математического
факультета Московского университета. В 1859 году он совместно
с Периклом Аргиропуло (1832-1862), греком по происхождению и
студентом юридического факультета того же университета,
организовал оппозиционный кружок, печатавший и распространявший
подпольную литературу от Герцена до Фейербаха. Последней
публикацией было воззвание «Молодая Россия», учредительный документ
так называемых русских якобинцев1.
Первое проявление русского «якобинства» восходит к декабристу Павлу
Пестелю (1793-1826). Как отмечает Е.Л. Рудницкая, «его [Пестеля. - В. С.] установки
кладут начало "русскому бланкизму", теоретическую санкцию которому дает Петр
14
Воззвание начинается пророческим заявлением: «Россия вступает
в революционный период своего существования». Далее
подчеркивается, что страна расколота на два непримиримых лагеря: «Проследите
жизнь всех сословий и вы увидите, что общество разделяется на две
части, интересы которых диаметрально противоположны и которые,
следовательно, стоят враждебно одна другой»2; «всеми притесняемая,
всеми оскорбляемая партия, партия - народ» и «партия
императорская», «небольшая кучка людей довольных, счастливых», во главе
которой царь. Между этими двумя партиями давний конфликт,
который почти всегда разрешается не в пользу народа (например, как
во времена пугачевского бунта). Но борьба против «императорской
партии» всегда готова беспощадно возобновиться.
В воззвании была нарисована драматическая картина жизни
России после реформы 1861 года, отменившей крепостное право и
тем самым вызвавшей недовольство помещиков, которые, как
говорится в воззвании, считали, что их лишили «даровой работы» их
рабов. Главным же было недовольство крестьян, считавших землю,
принадлежащей им по праву, но на которых тяжелым бременем лег
выкуп земли. Но тем не менее благодаря крестьянской и другим
либеральным реформам 1860-х годов открывалась новая фаза,
поскольку была отменена цензура на основные периодические издания,
произошли демократические изменения в судебной системе, впервые
были созданы органы местного самоуправления - земства. Однако
ситуации суждено было обостриться.
Автор «Молодой России» дополняет свое видение элементом,
вводящим в европейский контекст нового времени социально-
политическую борьбу, свойственную настолько отсталому и
традиционному жизненному укладу, при котором возможна (а для
революционеров желанна) жакерия, подобно пугачевщине. И таким образом
Ткачев. Уже Пестелем были отчетливо выражены два основополагающих принципа
бланкизма: заговор и революционная диктатура, осуществляемая верхушкой
заговорщической организации», цит. по: Рудницкая Е.Л. Лики русской интеллигенции. М.,
2007. С. 24. Пестель вдохновлялся также идеями «Государя» Макиавелли (один
современник почитал его «человеком умным, но безнравственным; шуткою, по сходству его
лица (личности), называл его Макиавелли», см.: Юсим М.А. Макиавелли в России. М.,
1998. С. 146), он считал политику понятием более широким, чем мораль, выходящим
за рамки этических категорий. Сторонник цареубийства (и истребления всей царской
семьи), он предусматривал в своем проекте после захвата власти установление
диктатуры верхушкой заговорщиков для построения унитарного и сильного
республиканского государства.
2 Революционный радикализм в России. Век девятнадцатый / под ред. Е.Л.
Рудницкой. М., 1997. С. 142. Далее страницы этого произведения указываются в тексте в
скобках.
15
он выходит далеко за рамки простого противостояния самодержавию:
«К этой безурядице, к этому антагонизму партий, который не может
прекратиться, пока будет существовать современный экономический
порядок, при котором немногие, владеющие капиталами, являются
распорядителями участи остальных, присоединяется и невыносимый
общественный гнет, убивающий лучшие способности современного
человека» (143).
Анализ охватывает всю систему ненавистного строя, в которой
«все ложно, все нелепо - от религии, заставляющей веровать в
несуществующее, в мечту разгоряченного воображения - бога, и до семьи,
ячейки общества, ни одно из оснований которого не выдерживает
даже поверхностной критики, от узаконения торговли - этого
узаконенного воровства и до признания за разумное положения работника,
постоянно истощаемого работою, от которой получает выгоды не он,
а капиталист», включая положение женщины, «лишенной всех
политических прав и поставленной наравне с животными» (143).
Перед лицом такой действительности, в которой феодальная
отсталость и нарождающийся капитализм сосуществуют и
взаимодействуют, цель освободительного дела ясна: «Выход из этого гнетущего,
страшного положения, губящего современного человека, и на борьбу
с которым тратятся его лучшие силы, один - революция, революция
кровавая и неумолимая - революция, которая должна изменить
радикально все, все без исключения, основы современного общества и
погубить сторонников нынешнего порядка». И с еще большей яростью
добавляет: «Мы не страшимся ее, хотя и знаем, что прольется река
крови, что погибнут, может быть, и невинные жертвы; мы предвидим
все это и все-таки приветствуем ее наступление, мы готовы
жертвовать лично своими головами, только пришла бы поскорее она, давно
желанная!» И чем жестче будет расправа «императорской партии»,
тем «беспощаднее будет месть»: «Как очистительная жертва сложит
головы весь дом Романовых!» (143-144).
Политическая модель действия, как и анализ ситуации в
откровенно западноевропейском духе, доведена до крайней степени
насилия: «Мы изучали историю Запада и это изучение не прошло для нас
даром: мы будем последовательнее не только жалких
революционеров 48 года, но и великих террористов 92 года, мы не испугаемся, если
увидим, что для ниспровержения современного порядка приходится
пролить втрое больше крови, чем пролито Якобинцами в 90 годах»
(146).
Для осуществления проекта тотальной революции «Молодая
Россия» возлагала свои надежды в первую очередь на молодежь,
которой вместе с армией отводила роль зачинщика переворота с по-
16
следующим присоединением к нему крестьянских масс: «Помни же,
молодежь, что из тебя должны выйти вожаки народа, что ты должна
стать во главе движения, что на тебя надеется революционная
партия!» Тогда революция наступит скоро и под «красным знаменем» и
с криком «Да здравствует социальная и демократическая республика
Русская!» двинется на Зимний дворец, чтобы истребить «живущих
там»: «Может случиться, что все дело кончится одним истреблением
императорской фамилии, то есть какой-нибудь сотни, другой людей,
но может случиться, и это последнее вернее, что вся императорская
партия, как один человек, встанет за государя, потому что здесь
будет идти вопрос о том, существовать ли ей самой или нет». Тогда
«с полной верою в себя, в #свои силы, в сочувствие к нам народа, в
славное будущее России, которой вышло на долю первой
осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик: "в топоры",
и тогда... тогда бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет
она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится
выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на
широких улицах столиц, бей по деревням и селам! Помни, что тогда
кто будет не с нами, тот будет против; кто против - тот наш враг, а
врагов следует истреблять всеми способами» (148-149).
Этот сценарий, как бы предваривший ход революции 1917 года
и по ультраякобинским средствам (призыв к «топору», то есть к
насилию, орудие труда, превращенное в оружие становится символом
борьбы), и по ультрарадикальной программе3 не мог не потрясти все
русское общество, от правительства до оппозиции, тем более что
пожары, охватившие Петербург летом 1862 года, в которых огульно
обвиняли революционных студентов, усиливали напряженность и
вызвали репрессии со стороны власти, использовавшей в своих
интересах дерзкие призывы «Молодой России». Василий Кельсиев,
современник этих событий, эмигрировавший в 1859 году в Англию,
живший в Лондоне, где сотрудничал с Герценом, и вернувшийся тай-
3 Среди предлагаемых автором «Молодой России» социальных мер - отмена
брака как «явления в высшей степени безнравственного и немыслимого при полном
равенстве полов»; отмена семьи, которая является препятствием для развития человека;
передача функции воспитания детей обществу; уничтожение монастырей - «главного
притона разврата» и секуляризация церковной собственности.
Прокламацию «Молодая Россия» высоко оценили Маркс и Энгельс, которые
считали ее своего рода «манифестом» социалистической революции в России.
Большевистский политический деятель Федор Раскольников ставил в заслугу автору
прокламации убеждение, что «лишь пролив море крови, можно добиться освобождения
трудящихся». См.: Твардовская В.А., Итенберг Б.С. Русские и Карл Маркс: выбор или
судьба? М., 1999. С. 58.
17
но на короткое время в Россию, очень точно заметил, что «"Молодую
Россию" никто не хвалил, но многие думали одинаково с нею.
Правда, поставили ей в вину, что она разболтала то, о чем молчать
следовало»4.
Особенно интересна реакция на воззвание Александра Герцена,
основавшего в 1857 году в Лондоне вместе со своим другом Николаем
Огаревым оппозиционный журнал «Колокол», подпольно
распространявшийся в России и пользовавшийся там большим авторитетом.
Автор «Молодой России» критиковал Герцена, что не могло оставить
равнодушным великого изгнанника, так же как он не мог
игнорировать нападки Михаила Каткова, видного политика и
консервативного публициста, когда-то близкого к нему, а затем перешедшего в
правительственный лагерь. Катков обвинил Герцена и Огарева в том, что
они являются закулисными вдохновителями молодых экстремистов,
а то и подстрекателями их безумных актов. Критика Заичневского в
адрес Герцена диаметрально противоположна катковской: он
выражает свое и своих товарищей «глубокое уважение» к Герцену «как
публицисту, имевшему на развитие общества большое влияние», «как
человеку, принесшему России громадную пользу», но «Колокол»,
считает автор воззвания, даже в малой степени не выражает мнения
русской «революционной партии». Герцен, говорит Зичневский,
питает преувеличенные надежды на мирную эволюцию российского
общества, уверенный в том, что реформирование сверху, благодаря
дальновидности царя, решит крестьянский вопрос как предпосылку
дальнейшего обновления. «Его совершенное незнание современного
положения России, надежда на мирный переворот; его отвращение от
кровавых действий, от крайних мер, которыми одними можно только
что-нибудь сделать, - окончательно уронили журнал в глазах
республиканской партии»5.
На эти обвинения Герцен ответил двумя статьями в «Колоколе»:
«Молодая и старая Россия» и «Журналисты и террористы». Поначалу
Герцен, как ранее было с другими легальной русской печати,
минимизировал значение «Молодой России», этого плода незрелости и
юношеской невоздержанности, считая неоправданной тревогу властей:
«Если молодые люди (а для нас не подлежит сомнению, что летучий
лист этот подписан очень молодыми людьми) в своей заносчивости
наговорили пустяков, остановите их, вступите с ними в спор,
отвечайте им, но не кричите о помощи, не подталкивайте их в казематы
4 Цит. по: Козьмин Б.П. Из истории революционной мысли в России. М., 1961.
С. 289-290.
5 Цит. по: Революционный радикализм в России. С. 145.
18
[...] Крови от них ни капли не пролилось, а если прольется, то это
будет их кровь - юношей-фанатиков»6. Но после этих успокоительных
слов, обращенных к властям и консервативной печати, Герцен
подчеркивает отличие своих позиций от позиций новых
революционеров: «Молодая Россия» «вовсе не русская»; это одна из вариаций на
тему западного социализма, метафизика французской революции»
(203), что для Герцена, придумавшего народнический «русский
социализм», означало неверный путь. Как никто связанный с миром
западноевропейской культуры, он был убежден, что историческое
развитие разных национальных ареалов идет не «по законам отвлеченной
логики, а сложным процессом эмбриогении». Поэтому, напоминает
он Заичневскому, «в помощь нашему делу нужна мысль Запада и
нужен его опыт. Но нам столько же не нужна его революционная
декламация, как французам была не нужна римско-спартанская риторика,
которой они говорили в конце прошлого века». И предупреждает:
«Говорить чужими образами, звать чужим кличем - это
непонимание ни дела, ни народа, это неуважение ни к нему, ни к народу. Ну
есть ли тень вероятия, чтоб русский народ восстал во имя социализма
Бланки?..» (204). Ссылкой на Огюста Бланки Герцен указывает,
помимо якобинцев, еще на одного вдохновителя нового русского
заговорщического направления, и поэтому «русское якобинство» с этого
момента можно определять также как «русский бланкизм».
В статье «Журналисты и террористы» Герцен идет дальше в своих
размышлениях и в полемике, признавая своеобразие своей позиции.
Консервативная «старая Россия» обвиняет его в том, что он
вдохновитель террористов-поджигателей, а «Молодая Россия» - в том, что он
«потерял всякую веру в насильственные перевороты». Но, возражает
Герцен, «не веру в них мы потеряли, а любовь к ним». И продолжает:
«Насильственные перевороты могут быть неизбежны; может, будут и
у нас; это отчаянное средство, ultima ratio народов, как и царей, на них
надо быть готовым; но выкликать их в начале рабочего дня, не сделав
ни одного усилия, не истощив никаких средств, останавливаться на
них с предпочтением нам кажется так же молодо и незрело, как
нерасчетливо и вредно пугать ими» (221).
И в дальнейшем7 Герцен будет предостерегать от использования
этой ultima razio - террористического насилия, когда надежды на
мирные средства революционного воздействия исчерпали себя. В этой
6 Герцен А.И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 16. М., 1959. С. 202. Далее страницы этого
издания указаны в тексте в скобках.
7 См.: Herzen A. A un vecchio comapgno, a cura di Vittorio Strada. Torino, 1977.
19
статье, опираясь на идеи реформистского народничества, уповающего
на то, что народная инициатива или государственное вмешательство,
а не заговоры буйных интеллектуальных меньшинств могут
улучшить положение русского крестьянства и нации, Герцен выступает
против идеализации якобинского террора как модели
революционных действий и считает, что «террор девяностых годов повториться
не может» (французская революция. - В. С), потому что он содержал
в себе «наивную чистоту неведения, безусловную веру в правоту и
успех, которых последующие терроры не могут иметь». Более того,
«французский террор всего менее возможен у нас». Герцен в своей
выдержанной и образной манере объясняет, почему, как он считает,
«Россия не повторит Францию на пути революционного террора:
потому, между прочим, что Франция революционная хотела
отрешиться от традиционного быта, веками окрепнувшего, благословенного
мощной церковью», и «возвещала новое, небывалое право - право
человека, и на нем стремилась установить разумный союз
общественный» (222). В то время как «у нас нет ни новых догматов, ни новых
катехизов для оглашения»: в России «переворот должен начаться с
сознательного возвращения к народному быту, к началам,
признанным народным смыслом и вековым обычаем [...] Отрекаясь от форм,
чуждых народу, втесненных ему полтора века тому назад (ссылка на
петровские реформы. - В. С), мы продолжаем прерванное и
отклоненное развитие, вводя в него новую силу мысли и науки» (223).
В столкновении Герцена и Заичневского впервые четко
проявилось расхождение между двумя путями российского исторического
развития: реформаторским и революционным. Первый представлен
Герценом с его утопией народнического «русского социализма», в
лоне которого теперь зарождалась уже не «мирная» тенденция,
впоследствии возобладавшая. Благородным иллюзиям Герцена, которые
толкали его противиться терроризму, для него этически
предосудительному и политически пагубному, очень скоро будет нанесен
сокрушительный удар. Последователи «Молодой России» не пролили
«ни капли крови» хотя бы потому, что сразу были арестованы, но они
открыли путь, на который вступил некоторое время спустя Дмитрий
Каракозов, член другой революционной организации: 4 апреля 1866
года он совершил неудачное покушение на Александра И.
Покушение Каракозова, который впервые нарушил принцип
святости личности монарха, было неудачным не только по исполнению,
потому что, согласно официальной версии, когда император
возвращался с прогулки в Летнем саду к карете на набережной Невы,
человек из толпы (крестьянин Костромской губернии Осип Комиссаров)
ударил по руке целившегося и тот промахнулся (Комиссарова в знак
20
признательности удостоили дворянского титула). Покушение
провалилось еще и потому, что популярность харизма царя была еще очень
сильной, а Александр II, в частности, имел большой авторитет
благодаря своей репутации «царя-освободителя», возвестившего
манифестом об освобождении крестьян. При всей ограниченности этого
акта он был встречен, по крайней мере частью русского общества, как
важный шаг на пути прогресса. Поэтому понятны волна негодования,
обрушившегося на того, кто поднял руку на монарха, и изъявления
любви, отовсюду сыпавшиеся на царя. Герцен, верный своей
антитеррористической позиции, тоже высказал суровые слова, заявив,
что его возмущает «ответственнрсть, которую на себя брал какой-то
фанатик», жест, чреватый губительными последствиями, и
присовокупил, что «только у древних и дряхлых народов история
пробивается убийствами»8. На эти заявления Герцена радикальный народник
Серно-Соловьевич, один из основателей первого тайного общества
«Земля и воля», подвергший реформу 1861 году радикальной
критике с революционных позиций, резко ответил: «Нет, г[осподин]
основатель русского социализма, молодое поколение не простит вам
отзыва о Каракозове - этих строк вы не выскоблите ничем»9. Эта
фраза говорит, насколько глубок был раскол между «умеренным»
Герценом и новым поколением революционеров, которые не считали
террор делом предосудительным и рискованным, наоборот, находили
его необходимым и справедливым, так что один из «молодых»
отказался сотрудничать с Герценом и Огаревым из протеста против тех,
кто называл Каракозова «сумасшедшим», и пожелал, чтобы «рука не
дрогнула взвести курок еще раз»10.
Каракозова, приговоренного к смертной казни (царь не подписал
прошения о помиловании, заявив: «Лично в душе моей давно
простил ему, но как представитель Верховной власти, я не считаю себя в
праве прощения подобного преступника»11), связали с деятельностью
народнического кружка, образовавшегося в Москве в 1863 году
вокруг его двоюродного брата Николая Ишутина и превратившегося
в секретное общество под названием «Организация», которое
установило контакты с петербургскими радикалами, польскими
революционерами и русскими политэмигрантами. Отмечалась особенность
8 Цит. по: Герцен А.И. Собр. соч. Т. 19. М., 1960. С. 58.
9 Цит. по: Будницкий О.В. Терроризм в российском освободительном движении.
М., 2000. С. 37.
10 Там же.
11 История терроризма в России/под ред. О.В. Будницкого. Ростов-на-Дону, 1996.
С 33.
21
Ишутина и ишутинцев по сравнению с другими
революционерами того времени и их родство с Сергеем Нечаевым, которому
скоро предстояло стать центральной фигурой терроризма: от Ишутина
«исходили предложения об убийстве, отравлении, ограблении в
целях добывания средств, и на все замечания относительно
крайней неразборчивости у него был один ответ - "цель оправдывает
средства"»12. А целью было посредством терактов довести
правительство до состояния полного замешательства, чтобы затем
«централизованная партия» могла легко взять власть в свои руки. Помимо
пропагандистской деятельности и создания артелей (переплетные и
пошивочные мастерские и даже школа для бедных детей, в которой
Ишутин предлагал воспитывать будущих революционеров) внутри
«Организации» было образовано строго конспиративное ядро из
тридцати человек под названием «Ад», которое поставило себе цели,
как заявил сам Ишутин в своих показаниях после ареста в 1866 году,
убить царя и, естественно, свершить революцию. Товарищ Ишутина
Дмитрий Юрасов показывал, что члены «Ада» не только должны
были быть неизвестны «Организации», но и «обязаны были
сделаться пьяницами, развратниками, чтобы отвлечь всякое подозрение,
что они держатся каких-либо политических убеждений». В их
задачу входило узнавать, какие лица особенно ненавистны крестьянам и
«убивать или отравлять таких лиц, а потом печатать прокламации с
объяснением, за что было убито лицо» (41-42). Кроме того, члены
«Ада» должны были вести слежку за членами «Организации», чтобы
наказывать смертью «в случае ее отклонения от пути». Назначенный
совершить цареубийство должен был «обезобразить себя и иметь во
рту гремучую ртуть, чтобы, совершивши преступление, раскусить ее,
убить тем самым себя и изуродовать лицо, чтобы не быть узнанным»
(42). Это, объясняет Ишутин, необходимо было сделать «на предмет
безопасности для других членов». Член «Ада», поясняет он, «должен
жить под чужим именем и бросить семейные связи; не должен
жениться, бросить прежних друзей и вообще вести жизнь только для
одной исключительной цели [...] бесконечная любовь и преданность
родине и ее благо» (41), идеал, ради которого член «Ада» должен был
«в случае необходимости жертвовать жизнию своею, не задумавшись.
Жертвовать жизнию других, тормозящих дело и мешающих своим
влиянием» (40).
Народнический революционный терроризм, теоретически
обоснованный «Молодой» Россией, еще до применения на практике, впер-
12 Там же. С. 37. Далее страницы указываются в тексте в скобках.
22
вые осуществившийся Каракозовым при покушении на царя, нашел в
ишутинском кружке новую организационную структуру, явившуюся
прелюдией к теоретически совершенной и по сути криминальной
организации Сергея Нечаева.
Катехизис
В журнале «Народная расправа» Нечаев заявил, что «дело
Каракозова надо рассматривать как пролог!». И продолжал: «Да, это
был пролог! Постараемся, друзья, чтобы поскорее наступила и самая
драма!» «Драма» четко очерчена: «Мы имеем только один
отрицательный неизменный план - план беспощадного разрушения. Мы
прямо отказываемся от выработки будущих жизненных условий, как
несовместной с нашей деятельностью; и потому считаем бесплодной
всякую исключительно теоретическую работу ума. Мы считаем дело
разрушения настолько громадной и трудной задачей, что отдаем ему
все наши силы, и не хотим обманывать себя мечтой о том, что у нас
хватит сил и умения на созидание [...] Сосредоточивая все наши силы
на разрушении, мы не имеем ни сомнений, ни разочарований; мы
постоянно, одинаково хладнокровно преследуем нашу единственную
жизненную цель»13. Этой программой прямого действия с
презрением отвергалось всякое абстрактное теоретизирование: «Для нас
мысль дорога только, поскольку она может служить великому делу
радикального и повсюдного разрушения. Но ни в одной из ныне
существующих книг нет такой мысли. Кто учится революционному
делу по книгам, будет всегда революционным бездельником [...] Мы
не позволим себя закупить никакими революционными фразами, на
которые ныне так щедры доктринерствующие поборники бумажной
революции. Мы потеряли всякую веру в слова; слово для нас имеет
значение только, когда за ним чувствуется и непосредственно
следует дело. Но далеко не все, что ныне называется делом, есть дело». Им
не является скромная и осторожная организация тайных обществ,
неспособных на практическое дело, это не более как «мальчишеская
игра, смешная и отвратительная»: «фактическими же проявлениями
мы называем только ряд действий, разрушающих положительно что-
нибудь»14.
Автор этой нигилистической программы, Сергей Нечаев, родился
в 1847 году во Владимирской губернии в бедной семье, в 1868 году
13 Бурцев В. За сто лет (1800-1896). London, 1897. С. 92-93.
14 Там же. С. 91.
23
как слушатель Петербургского университета принимал участие в
студенческих волнениях. Распустив слухи о своем аресте и побеге
из Петропавловской крепости, Нечаев уехал в Швейцарию. Здесь
он установил тесные контакты с Бакуниным, уверив того, что
является представителем новой волны революционного движения и
вместе с ним издал от имени несуществующего «Всемирного
революционного союза» ряд манифестов, а также первый номер
журнала «Народная расправа». Тогда же он написал свою самую
знаменитую работу «Катехизис революционера». Вернувшись в 1869 году в
Россию с мандатом Бакунина, аттестовавшего его как
представителя вышеназванного «Союза», Нечаев организовал тайное общество
«Народная расправа», членами которого были в основном студенты
Московской сельскохозяйственной академии, входившие в ячейки из
пяти человек («пятерки»), подчиненные «Комитету», состоявшему в
действительности из самого Нечаева. Когда студент Иван Иванов,
недовольный царившими в организации авторитарными методами
и усомнившийся в существовании «Комитета», решил выйти из нее,
чтобы создать собственный «кружок», 21 августа 1869 года Нечаев
убил его, втянув в убийство еще четырех членов «Народной
расправы», чтобы таким образом скрепить их узы членства, и скрылся за
границу. «Нечаевцев» судили, причем власти с целью
дискредитировать революционеров придали процессу максимальную гласность.
Тогда же в «Правительственном вестнике» был напечатан
найденный при обыске текст «Катехизиса революционера». Тем временем
Нечаев выпустил в Женеве второй номер «Народной расправы», где
в программной статье «Главные основы будущего общественного
строя» обрисовал грядущий коммунизм, основанный на
обязательном труде (согласно принципу, что каждый должен «как можно более
производить для общества и как можно менее потреблять») и
управляемый «Комитетом», обладающим абсолютной властью, с отсылкой
к «Манифесту коммунистической партии» Маркса и Энгельса для
«детальной теоретической разработки» изложенных в статье тезисов.
Отвергнутый русскими эмигрантами, в особенности Герценом, и
порвавший с Бакуниным, которого пытался шантажировать, прибегнув
к обману, в 1872 году Нечаев был выдан швейцарскими властями
России как уголовник. Преданный суду и приговоренный к двадцати
годам заключения, в тюрьме Нечаев держался стойко и
мужественно (Александр II не отправил его в Сибирь, а пожизненно заточил
в Петропавловскую крепость). В крепости он оказывал на охрану
магнетическое воздействие и ему удалось установить контакты с
членами «Народной воли», за что в результате доноса ему ужесточили
условия содержания. Умер Нечаев в 1882 году.
24
Об этом удивительном революционере-фанатике оставлено
немало воспоминаний, одно из которых принадлежит его знакомому,
Алексею Капацинскому, арестованному в 1869 году за переписку с
ним. Из показаний Капацинского: «Первое впечатление, которое
производит Нечаев, неприятное, но остро заманчивое; он самолюбив до
болезненности, и это чувствуется при первых встречах, хотя Нечаев
старается сдержать себя [...] в спорах старается какими-то ни было
уловками унизить противника, диалектикой он обладает богатой и
умеет задевать за самые чувствительные струны молодости: правда,
честность, смелость и т. д. Не терпит людей равных, а с людьми более
сильными сурово молчали^ и старается накинуть на этих людей тень
подозрения. Он очень стоек в убеждениях, но по самолюбию,
которому готов пожертвовать всем. Таким образом, главная черта его
характера - деспотизм и самолюбие. Все его речи пропитаны страстностью,
но очень желчны. Он возбуждает интерес к себе, а в людях повпечат-
лительнее и поглупее просто обожание, существование которого есть
необходимое условие дружбы с ним»15.
Другой знакомый помнит его таким: «Как товарищ он был, с одной
стороны, хороший товарищ: честный, правдивый, охотно делящийся
всем материальным с другими, но с другой стороны, был несносный,
много спрашивающий и ничего о себе не говорящий, все толкующий
в дурную сторону, чересчур жестокий в обращении с другими,
пренебрегающий приличиями, способный иногда на цинические выходки.
Но что всего болсе было в нем отталкивающего, это его крайний
деспотизм относительно образа мыслей. Он не мог мириться с тем, что
его знакомые имеют понятия, убеждения не такие, как он смотрит на
вещи, и действуют не так, как он смотрит и действует»16.
Таков был страшный Нечаев, шокировавший даже
ниспровергателя Бакунина, не говоря уже об «умеренном» Герцене, и, в отличие от
других революционеров, тоже экстремистов, вообще не вызывавший
никакой симпатии в среде народников и даже оставшийся у них в
памяти, а не только реакционеров и консерваторов, как фигура
одиозная, всякие отношения с которой были компрометирующими. То же
самое было и в марксистской культуре, где после 1917 года предпоч-
15 Цит. по: Лурье Ф.М. Созидатель разрушения. СПб., 1994. С. 48.
16 Там же. С. 49. См. также речь либерального адвоката В.Д. Спасовича на суде:
«Хотя Нечаев - лицо весьма недавно здесь бывшее, однако он походит на
сказочного героя [...] Этот страшный, роковой человек всюду, где он ни останавливался,
приносил заразу, смерть, аресты, уничтожение. Есть легенда, изображающая поветрие в
виде женщины с кровавым платком. Где она появится, там люди мрут тысячами. Мне
кажется, Нечаев совершенно походит на это сказочное олицетворение моровой язвы»
(Цит. по: Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч.: В 30 т. Т. 12. Л., 1975. С. 204).
25
ли окружить имя Нечаева завесой молчания, игнорируя тот факт, что
его поклонником был Ленин, хотя в его работах автор «Катехизиса
революционера» не упоминается. Но осталось свидетельство
историка и этнографа Владимира Бонч-Бруевича, большевика и друга
Ленина, который вспоминает: «До сих пор не изучен нами Нечаев,
над листовками которого Владимир Ильич часто задумывался, и
когда в то время слова "нечаевщина" и "нечаевцы" даже среди эмиграции
были почти бранными словами, когда этот термин хотели навязать
тем, кто стремился к пропаганде захвата власти пролетариатом, к
вооруженному восстанию и к непременному стремлению
диктатуры пролетариата, когда Нечаева называли - как будто это особо
плохо - "русским бланкистом", Владимир Ильич нередко заявлял о
том, что такой ловкий трюк проделали реакционеры с легкой руки
Достоевского и его омерзительного, но гениального романа "Бесы",
когда даже революционная среда стала относиться отрицательно к
Нечаеву, совершенно забывая, что этот титан революции обладал
такой силой воли, таким энтузиазмом, что и в Петропавловской
крепости, сидя в невероятных условиях, сумел повлиять на окружающих
солдат таким образом, что они всецело ему подчинились»17.
Ленин восхищался организаторским талантом и
конспиративными навыками Нечаева, в частности, его способностью «свои мысли
облачать в такие потрясающие формулировки, которые оставались
памятны на всю жизнь». Больше всего его восхищала формулировка
из нечаевской статьи, где на вопрос: «Кого же надо уничтожить из
царствующего дома?» он отвечал: «Всю большую ектению»,
пользуясь церковным термином, обозначающим в обедне греческого извода
произносимую дьяконом длинную молитву, на отдельные части
которой верующие отвечают: Kirie eleison. Этим Нечаев хотел сказать,
что истребить следует всю семью Романовых, члены которой
упоминались в этой торжественной молитве. Эта кощунственная
формулировка, произнесенная, когда христианская религия была еще жива
в России, являлась для Ленина простой «до гениальности»18, и он
вспомнил о ней и привел ее в исполнение сразу после захвата власти,
как если бы устранением всех Романовых приводил в исполнение
приговор, произнесенный «окаянным» революционером Нечаевым.
В «Катехизисе революционера» сконцентрированы этико-по-
литические и организационно-практические воззрения Нечаева,
авторство которого оспаривается в том смысле, что книга приписыва-
17 Цит. по: Лурье Ф.М. Созидатель разрушения. С. 22.
18 Там же.
26
ется и Бакунину, разделяющему с Нечаевым если не прямое, то хотя
бы духовное авторство. Изложенные в «Катехизисе» правила
строго конспиративны и полностью связывают членов организации,
исключая возможность не соглашаться или передумывать, как в случае
студента Иванова (убитого потому, что не будучи «предателем»,
нарушил эту норму), отвечающую общему духу революционного дела,
как его понимал Нечаев. Показательны в этом смысле положения,
содержащиеся в разделе «Отношение революционера к самому себе»:
«Революционер - человек обреченный. У него нет своих интересов,
ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже
имени. Все в нем поглощено единственным исключительным интересом,
единою мыслью, единою страстью - революцией». Во втором пункте
подчеркивается с логическим нарастанием идея аскетической
миссии революционера, его полной преданности делу, его отказу от всех
ценностей существующего общества: «Он в глубине своего существа,
не на словах только, а на деле, разорвал всякую связь с гражданским
порядком и со всем образованным миром, и со всеми законами,
приличиями, общепринятыми условиями, нравственностью этого мира.
Он для него - враг беспощадный, и если он продолжает жить в нем,
то для того только, чтоб его вернее разрушить»19.
Другие пять пунктов этого раздела «Катехизиса» дополняют
портрет революционера, его образец: его цель - «наискорейшее и
наивернейшее разрушение этого поганого строя», то есть
существующего общества. «Нравственно для него все, что способствует торжеству
революции», между тем «он презирает и ненавидит [...] нынешнюю
общественную нравственность». Революционер - «беспощаден»
к врагу - государству и «образованному» обществу и должен быть
«суровым для себя» и для других, задавив в себе «все нежные и
изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже
самой чести», а жива в нем «единая холодная страсть
революционного дела».
Что же касается «отношения революционера к товарищам по
революции», в пункте десятом объясняется дух отношений между ними:
«У каждого товарища должно быть под рукою несколько
революционеров второго и третьего разрядов, то есть не совсем посвященных.
На них он должен смотреть, как на часть общего революционного
капитала, отданного в его распоряжение. Он должен экономически
тратить свою часть капитала, стараясь извлечь из него наибольшую
19 «Катехизис революционера» опубликован в книге «Революционный террор в
России: век девятнадцатый / под ред. Е.Л. Рудницкой. С. 244-248. Цитаты даются по
этому изданию без указания страниц.
27
пользу. На себя он смотрит, как на капитал, обреченный на трату для
торжества революционного дела. Только как на капитал, которым он
сам и один, без согласия всего товарищества вполне посвященных,
распоряжаться не может».
После этого курьезного рассуждения о «политической экономии»
применительно к революционному «человеческому материалу»,
приравненному к капиталу, который нужно выгодно вложить, прибегнув
к той «части революционного капитала», который представляют
члены второго и третьего разрядов, то есть не полностью посвященные в
секреты организации, Нечаев (и Бакунин, в случае его соавторства)
переходит к разговору об «обществе» (по его словам, «так
называемого образованного мира»), против которого революционер ведет
смертельную, но тайную войну: он должен, прибегая к притворству,
приникнуть в его ряды «с целью его полнейшего, скорейшего
разрушения». Здесь терроризм становится систематическим и
одновременно селективным, поскольку «все это поганое общество должно быть
раздроблено на несколько категорий. Первая категория - неотлагае-
мо осужденных на смерть. Да будет составлен товариществом список
таких осужденных по порядку их относительной зловредности для
успеха революционного дела, так чтобы предыдущие номера
убрались прежде последующих». Далее приводится перечень социальных
категорий, подлежащих истреблению или временному их
использованию, до того как они будут ликвидированы, и следует
перечисление по степеням - от высокопоставленных лиц до «доктринеров»,
«конспираторов» и «революционеров» из «праздно-глаголющих
кружков»; присовокуплены к этому и женщины, они подразделены
на три разряда: «пустые, обессмысленные и бездушные», которыми
можно пользоваться в революционной тактике; «горячие,
преданные, способные», но еще не доработавшиеся «до настоящего»
«революционного понимания», их должно употреблять, как «праздно-
глаголющих» «доктринеров», но в качестве потенциальных
орудий в руках настоящих революционеров; и женщины, «вполне
посвященные и принявшие всецело нашу программу»: они
«драгоценнейшее сокровище наше, без помощи которых нам обойтись
невозможно».
Наконец народ, «освобождение» и «счастье» которого
является целью тайного товарищества. Поясняются стратегия и тактика
действий: поскольку это освобождение и счастье возможно «только
путем всесокрушающей народной революции», которая не должна
останавливаться «перед традициями общественных порядков так
называемой цивилизации и нравственности», как до сих пор было с
революциями, ограничивавшимися «везде низложением одной по-
28
литической формы для замещения ее другою», «товарищество всеми
силами и средствами будет способствовать к развитию и разобщению
тех бед и тех зол, которые должны вывести, наконец, народ из
терпения и побудить его к поголовному восстанию».
«Катехизису», послужившему образцом для всех будущих
революционно-террористических организаций, нельзя отказать в
силе, последовательности, убедительности, и можно понять
энтузиазм, с каким воспринимал его и любой другой нечаевский текст
Ленин, революция под руководством которого и последовавший за
нею Террор формально как будто повторяют в общих чертах
нечаевский проект. С другой стороны, понятно также и смятение, вызванное
«делом Нечаева» в стане врагов этого «окаянного революционера»:
не только в правительственных сферах, но и в «образованном
обществе» и, в частности, в человеке, который в молодости участвовал в
революционном движении, вдохновлявшемся идеями утопического и
мечтательного социализма в духе Фурье, а впоследствии, после
длительного и мучительного переосмысления, пришел к христиански-
консервативному воззрению на русский и европейский мир, поняв
как никто другой, к каким политическим и метафизическим
пропастям толкает новый нигилистический и тотальный революциона-
ризм. Речь идет об авторе «омерзительного, но гениального романа
"Бесы"», говоря словами Ленина. Черты последнего после революции
1917 года многие увидели в герое этого романа Петре Верховенском,
чьим прототипом'был Нечаев.
С Нечаевым связано имя крупнейшего теоретика русского
«якобинства» или «бланкизма» Петра Ткачева (1844-1885), который в
1868-1869 гг. вместе с автором «Катехизиса» входил в
революционный комитет студенческого движения в Петербурге и впоследствии
был судим одновременно с «нечаевцами». Выйдя из тюрьмы в 1872
году, он бежал на Запад, где занимался политической
деятельностью, сотрудничая в журнале Бланки "Ni Dieu, ni Maitre" и издавая
в Женеве и Лондоне журнал «Набат»; умер в Париже в 1885 году в
психиатрической больнице. Его теоретико-политическое наследие
намного обширнее нечаевского, которое сводится к немногим
текстам, написанным в небольшой отрезок времени. Наследие Ткачева
свидетельствует о нем, как о самом последовательном приверженце
заговорщической организации сознательного интеллектуального
меньшинства, основанной на жестокой централизации,
иерархической субординации и строгой дисциплине, организации, готовой не
только вести подрывную работу и взять власть, но и стать органом
революционной диктатуры.
29
В статье «Терроризм как единственное средство нравственного и
социального возрождения России» Ткачев пишет: «Достигнуть [...]
последней цели, т. е. дезорганизовать и ослабить правительственную
власть, при существующих условиях политической и общественной
жизни России, возможно лишь одним способом: терроризированием
отдельных личностей, воплощающих в себе в большей или меньшей
степени правительственную власть. Скорая и справедливая расправа
с носителями самодержавной власти и их клевретами производит на
эту власть, как доказали события последнего времени, именно то
действие, которое, с точки зрения истинных интересов верноподданных,
должно быть для последних наиболее желательным. Она ослабляет
эту власть, нагоняет на нее панику, расстраивает ее функции,
заставляет ее в буквальном смысле этого слова - терять голову. В то же
время она умаляет ее авторитет и разрушает ту иллюзию
неприкосновенности самодержавия, в которую так искренне верит большинство
подданных»20. Следовательно, практический смысл революционного
терроризма не только в дезорганизации и запугивании власти, он
имеет и этическое значение, так как способствует «высвобождению
верноподданных из-под гнета оболванивающего и оскотинивающего
их страха», «содействует их нравственному возрождению»,
перерождению «холопа - верноподданного в человека - гражданина».
Прочитав «Бесов», Ткачев написал в тюрьме, куда был
заключен после суда над «нечаевцами», большую рецензию (1873), в
которой анализировал роман с социально-политической точки зрения,
усмотрев в нем карикатуру на революционное движение, хотя и не
лишенную проницательности в отношении наблюдаемых и
повествуемых явлений. «Больные люди» (таково название статьи) -
революционеры молодого поколения, «помешательство» которых «все-
таки не сделалось явлением общим, а скорее является как некоторое
исключение»21, - пишет Ткачев, признавая ценность поставленного
Достоевским диагноза нигилизму его персонажей (в особенности
Петра Верховенского), но при этом и «спасая» революционное
движение, поскольку «нечаевцы», считает он, случай уникальный,
одиночный, сам по себе, «редкое отступление от общего правила», к тому
же находящее оправдание в социальных обстоятельствах. На
интересную рецензию Ткачева отбрасывает свет его более ранняя статья
1868 года «Люди будущего и герои мещанства», важную для
понимания его представления о революционерах. Отличительная черта
20 Цит. по: История терроризма. С. 153-154.
21 Ткачев П.Н. Избранные сочинения на социально-политические темы в 4-х
томах. М., 1933. Т. 3. С. 33.
30
«людей будущего» в том, что «вся их деятельность, даже весь образ
их жизни определяется одним желанием, одною страстною идеею -
сделать счастливым большинство людей»22. Осуществление этой
идеи «становится единственною задачею их деятельности, потому
что эта идея совершенно сливается с понятием о их личном счастии»
и ей «все подчиняется, все приносится в жертву». Эта абсолютная
революционная идея всеобщего счастья понимается «новыми людьми»
определенным образом и расходится с аскетической христианской,
потому что эта последняя - «отвлеченная» и «не гармонирует» с их
природою, и даже действует против этой природы, «она для них
служит тем же, чем хомут дая лошади, ярмо для осла» (178), оставляя
осадок, с которым идея вступает в конфликт, поэтому «аскет может в
тайне своего сердца горько раскаиваться и стремиться снова
сделаться обыкновенным, нормальным человеком»23. Это невозможно для
«людей будущего» - революционеров, потому что в них «стремление
к осуществлению их идеала составляет самую сильную
непреодолимую, так сказать, органическую потребность их природы» (178),
что освобождает их от всяких внутренних конфликтов из-за
мнимого нарушения общепринятой морали в их деятельности, ибо
«нравственное правило, как все житейское, имеет характер относительный,
и важность его определяется важностью того интереса, для охраны
которого оно создано24. Поэтому нравственность «нового человека»
отличается от нравственности человека, так сказать, «старого»,
«филистера», «мещанина».
В этом портрете «человека будущего» ощущаются черты
революционного террориста, начиная с самого Нечаева, к которому Ткачев
был близок, а также персонажей «Бесов», правдоподобных (и
пророческих) «карикатур», не некоего «исключения», а реальности,
которой в XX веке суждено было все больше и больше утверждаться.
Это реальность нигилизма, который впервые представил и
определил Тургенев в своем романе «Отцы и дети»25 в образе Базарова, не
«монолитного» нигилиста (как описанные Ткачевым «люди
будущего», черты которых воплотились в Нечаеве), но одаренного природой,
не совсем поглощенного революционной деятельностью. Базарова
Тургенев наделил долей христианской человечности, вызвав
недовольство чистых революционеров, которые предпочли бы апологию
22 Ткачев П.Н. Избранные сочинения. М., 1932. Т. 1. С. 174.
23 Там же. С. 194.
24 Там же. С. 178.
25 См.: Leggendo Padri е figli // Strada V. Tradizione e rivoluzione nella letteratura
russa. Torino, 1980.
31
своего героя, и реакционеров-догматиков, предпочитавших сатиру на
своего противника. Однако проблема нигилизма выходила за рамки
литературы и требовала особого критического осмысления.
Дьявольская энергия
Русский нигилизм, как правило, переживался его
представителями в их жизненном поведении непосредственно, без той
саморефлексии, которая отличала одноименное западноевропейское явление, и
поэтому он выявляет свою суть в анализе, которому его подвергали
его самые проницательные противники. Общие условия появления
феномена нигилизма в России очевидны: политическая отсталость
абсолютного самодержавия по сравнению с демократически более
развитыми западноевропейскими странами; экономическая
отсталость с характерным для нее феодальным «крестьянским вопросом»,
когда на более развитом Западе центральным был уже
капиталистический «рабочий вопрос»; идеологическая отсталость,
проявлявшаяся в среде консерваторов в вере в духовное (особенно религиозное)
превосходство России над Западом, а в прогрессивном лагере - в ее
самобытный, если не уникальный путь развития, который позволит
ей избежать трудностей современных европейских стран и перейти
прямо к «национальному» (народническому) социализму, устранить
царскую власть и одновременно совершить «скачок» через
«буржуазный» этап развития или сократить его; социальная отсталость,
породившая к середине XIX века массу разночинной молодежи,
получившей образование в университетах и семинариях и лишенной
всякой возможности влиться в структуры гражданского общества
(так называемый мыслящий пролетариат), со всеми
сопутствующими последствиями (включая психологические: подавленность,
обида, недовольство). К этому надо прибавить возникший в результате
начатой Петром I модернизации в европейском духе разрыв между
современными интеллектуальными элитами и традиционным миром
крестьянства: первые, открытые революционным идеям,
вдохновлявшим крайнюю политическую оппозиционность, второй, хотя и
потенциально бунтарский, замкнутый в косной покорности власти. Если
таковы были объективные условия масштабной политико-культурной
радикализации, более острой по сравнению с предыдущим периодом,
с характерной для него оппозицией высших дворянских слоев
(примером чего являются декабристы), то влияние идущих с
европейского Запада идей стало катализатором специфически русского
варианта того, что наличествовало в западноевропейской политической и
культурной реальности, выводя политическую борьбу далеко за рам-
32
ки решения задач эмансипации масс и освобождения от деспотизма в
сторону проектов радикального преобразования всего общества.
Рассмотрим описание социокультурного типа, незадолго до этого
появившегося на исторической сцене: «С французской революцией
из-за одновременного обрушения религии и гражданских законов
человеческий дух полностью лишился оснований своего равновесия:
он не знал, за что ухватиться, так что стали появляться
революционеры невиданной до того породы, доведшие отвагу до дерзкого
безрассудства, не колебавшиеся ни перед какой новизною, не брезговавшие
ничем, не проявлявшие никакой нерешительности перед любым
замыслом. Нельзя думать, нто эти новые создания были одиночными
мимолетными творениями одного мига, которым суждено было тут
же исчезнуть: они породили вид, увековечивший себя во всех
просвещенных землях мира, везде сохранив тот же лик, те же страсти,
тот же нрав»26. Автор этого выразительного описания уточняет свой
анализ, объясняя, что эта новая каста поставила себя над реальным
обществом, взяв на себя роль политико-интеллектуального
руководства умами, противопоставив себя конкретно правящему
правительственному слою: «Постепенно возводилось воображаемое общество,
в котором все представлялось простым и упорядоченным,
однообразным, равным и отвечающим началам разума»27.
Если бы мы не знали, что эти слова принадлежат Алексису де
Токвилю, который так определяет новый тип революционного
интеллектуала, порожденного просвещенческим рационализмом,
усиленного духом якобинства и перекроенного по лекалам романтического
бунтарства, то есть по л итико-культурными явлениями,
воздействовавшими на русскую интеллигенцию, мы могли бы приписать их
какому-нибудь консервативному критику русской радикальной и
нигилистической интеллигенции, настолько они по существу своему
применимы и к Западу, и к Востоку Европы. В России, конечно, в
контексте описанной выше специфической исторической ситуации
этот новый социально-политический тип приобрел национальные
черты как в литературном персонаже Базарове, так и главным
образом в многоликом ряду реальных нигилистов, послуживших
прототипами героев «Бесов» Достоевского.
Русский нигилизм возник как эволюция и вариант описанного
Токвилем явления, как метаморфоза чего-то, что сложилось на
европейском Западе и что в дальнейшем этот последний, как уже про-
26 A. de Tocqueville, Scritti politici a cura di N. Matteucci. Vol. 1. Torino, 1969. P. 747.
27 Ibid. P. 738.
33
исходило и произойдет впоследствии в других аналогичных случаях,
заново обнаружит в русской реальности в более сгущенных и
доведенных до крайности формах в типичных для этой культуры обликах.
И в самом деле феномен нигилизма найдет отклик в западной
культуре, особенно немецкой, в философии Ницше, первого мыслителя,
подвергнувшего нигилизм как европейский феномен принципиальному
осмыслению, причем не без влияния русской культуры, в частности
Достоевского. Призрак нигилизма бродил по европейским
пространствам вместе с призраком коммунизма, с которым и повстречался.
Русский нигилизм, как уже говорилось, следует рассматривать не
столько в его прямом изображении, сколько в том, как он отразился у
его критиков, наиболее интересным и глубоким из которых является
Николай Страхов (1828-1896). Этот просвещенный консерватор и
умеренный славянофил в русской культуре своего времени
занимает особое место: интеллектуально и лично связанный с Достоевским
и Толстым, он и в полемике против нигилистов продемонстрировал
немалую свободу суждения и при всем своем антизападничестве был
глубоким знатоком современной ему западноевропейской культурно-
политической жизни. Нигилизму Страхов (откликнувшийся также
рецензией на «Отцов и детей», где по-человечески симпатизирует
Базарову) посвятил сборник «Из истории литературного
нигилизма», составленный из полемических статей 1860-х годов, а
впоследствии в трехтомнике «Борьба с Западом» вернулся к этому
фундаментальному явлению русской и европейской культуры.
В очерке о Герцене в книге «Борьба с Западом» Страхов
обрисовывает, какова в его понимании этико-интеллектуальная траектория
этого революционера, диалектика нигилизма, развертывающаяся в
его духовном опыте: вначале в умственном развитии Герцена «было
отречение от религии [...] от всех порядков старого мира, и ожидание
повой веси, возвещенной Европе немецкой философией и
французским социализмом», затем «второй переворот состоял в отречении и
от этих новых верований, в признании того, что человечество
потеряло всякую руководящую нить», что «нет никаких основ, на
которых оно могло бы строить свою будущую жизнь»28. В этом нигилизме
Страхов видит «прогресс в нашем умственном движении»: в своей
чистой форме, как это было у Герцена, нигилизм - «глубокое и
искреннее усилие мысли», он лишен тех «отвратительных черт, в которых
он является на своих низших степенях и в своих обыкновенных укло-
28 Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Т. 1. Киев, 1897. С. 108. Далее
страницы указываются в тексте в скобках.
34
нениях». Это потому, что нигилизм есть «страдание, отчаяние, ужас
и потому вовсе не согласуется с тем безмерным самодовольством, с
тем бесконечным фразерством, которые так часто встречаются у
нигилистов, воображающих, что они владеют какою-то новой
мудростью. Мудрость настоящего нигилизма есть сомнение и безвыходный
мрак. Точно так же нет ничего дальше от настоящего нигилизма, как
мечты о пересоздании общества, о новых отношениях между людьми,
о возможности скорого наступления золотого века» (114). Нигилизм
Герцена не только «настоящий», но и полный: «Это был вольнодумец
столь последовательный, что перед его глазами действительно стали
равны все предметы верований» (117), а «истина и свобода» - его
«всегдашние кумиры» (118). Тем большее значение приобретает для
Страхова финальное убеждение Герцена, что Россия не последует по
пути европейского развития, а выберет собственный путь.
Страхов выдвигает своего рода позитивный нигилизм,
порожденный двойным отрицанием (традиционной религии и ее мирского
суррогата) и впадающий в абсолютную пустоту, из которой
возможно выбраться благодаря новой вере в воображаемую преображенную
Россию, в противоположность негативному нигилизму, грезящему
об абстрактном перерождении. Но эти два антитетические
«верования», считает Страхов, на самом деле родственны по сути и не могут
служить выходом из радикального нигилизма. Мысль Герцена, как
свидетельствуют его последняя работа «Старому товарищу» и
духовная автобиография «Былое и думы», еще более драматична, чем
обрисованная Страховым картина, и его нигилизм был «страданием,
отчаянием, ужасом» при неизменной верности двум своим кумирам
«истине и свободе» и этим отличался от другого нигилизма,
нашедшего для себя выход в утопизме и терроризме.
Но есть и другой нигилизм, который Страхов анализирует в
«Письмах о нигилизме», написанных в 1883 году, тринадцать лет
спустя после очерка о Герцене, когда нигилизм вылился в терроризм,
обретя кульминацию в убийстве Александра II в 1881 году. Это был
негативный и активный, коллективный и организованный,
революционный и крамольный нигилизм, «дьявольская энергия»29 которого
требовала анализа.
Страхов понимает, что проблема не в поведении отдельных
нигилистов, а в сути нигилизма как нового явления, не только русского,
но и европейского. Нигилизм, с жаром утверждает Страхов, - «не
простой грех, не простое злодейство; это и не политическое престу-
Страхов Н. Борьба с Западом. Т. 2. С. 59.
35
пление, не так называемое революционное пламя [...] нигилизм - это
грех трансцендентальный, это - грех нечеловеческой гордости,
обуявшей в наши дни умы людей, это - чудовищное извращение души,
при котором злодеяние является добродетелью, кровопролитие -
благодеянием, разрушение - лучшим залогом жизни. Человек
вообразил, что он полный владыка своей судьбы, что ему нужно поправить
всемирную историю, что следует преобразовать душу человеческую.
Он, по гордости, пренебрегает и отвергает всякие другие цели, кроме
этой высшей и самой существенной, и потому дошел до
неслыханного цинизма в своих действиях, до кощунственного посягательства на
все, перед чем благоговеют люди. Это - безумие соблазнительное и
глубокое, потому что под видом доблести дает простор всем страстям
человека, позволяет ему - быть зверем и считать себя святым» (61).
Страхов высвечивает важнейший аспект негативного активного
нигилизма: аспект религиозный. Свойственный
секуляризированному миру отказ от религии не приводит к отказу от религиозности,
наоборот, ведет к псевдорелигии: религии социальной
справедливости, во имя которой дозволено любое преступление: «Но какая
глубокая разница между настоящею религиею и тем суррогатом религии,
который в различных формах все больше и больше овладевает теперь
европейскими людьми! Человек, ищущий спасения души, выше
всего ставит чистоту души и поэтому избегает всего дурного. Человек
же, поставивший себе цель вне себя, желающий достигнуть
определенного внешнего, объективного результата, должен рано или поздно
прийти к мысли, что цель освящает средства, что нужно жертвовать
даже совестию, если того требует дело». Поэтому «ни за какого
революционера нельзя ручаться, что из него не выйдет преступник» (80).
Заполнить вакуум, создавшийся на месте уничтоженных прежних
ценностей, берет на себя политика. «Нельзя вообще не видеть, что
политическое честолюбие, служение общему благу, заняло в наше
время то место, которое осталось пустым в человеческих душах,
когда из них исчезли религиозные стремления» (78). Следствием этого,
между прочим, является то, что худшие аспекты религии
усваиваются адептами новой политической псевдорелигии. Просвещенные
люди вспоминают инквизицию как «ужасный пример того, до чего
может довести фанатическое суеверие», но «теперь оказывается, что
противники всякого фанатизма и суеверия сами способны доходить
до ужасов, равняющихся ужасам инквизиции, и доходят до них,
загораясь новым, так сказать, обратным фанатизмом, обратным
суеверием» (77). «Нигилизм», заключает Страхов, «есть крайнее, самое
последовательное выражение современной европейской
образованности», и «эта образованность поражена внутренним противоречием,
36
вносящим ложь во все ее проявления». Это противоречие состоит в
том, что «все протестуют против современного строя общества,
против дурных сторон современной жизни, но сами нисколько не
думают отказываться от тех дурных начал, против которых протестуют»,
поэтому «протестующие против притеснений и насилий - сами
величайшие притеснители и насильники» (90): «никакие иезуиты не
могли придумать ничего подобного» (90) - заключает Страхов
выпадом в адрес «иезуитства», которое в полемике с нигилистами
сопровождалось критикой их «макиавеллизма» и «якобинства».
Страхов скорее не анализирует, а намечает феноменологию
нигилизма, главным o6pa3QM русского, различая два типа и две фазы:
благородный и пассивный герценовский и активный и
разрушительный нигилизм террористов, высвечивая то, что поначалу объединяло
их: радикальное и тотальное отрицание, которое, если не приводит к
отчаянию, опрокидывается, становясь догматическим утверждением,
суррогатной псевдорелигией в противовес традиционной подлинной
религии. Диалектика этого двойного нигилизма выявлена во всей ее
бездонной глубине в романе Достоевского, романе, который на самом
деле оказался пророческим предвидением того, что России придется
первой пережить и перестрадать в XX веке.
Между бого-человеком и человеко-богом
В 1872 году Достоевский собирался писать предисловие к
отдельному изданию «Бесов», но замысел не осуществился. Позднее
он думал о послесловии, как бы об «ответе критикам». Вместо этого
он опубликовал в декабрьском номере журнала «Гражданин»
статью «Одна из современных фалыдей», часть «Дневника писателя».
Полемизируя с журналистами, писавшими о «молодом поколении»,
охваченном нигилизмом, он уточняет свои позиции в этом вопросе,
ссылаясь на свой опыт участника кружка Петрашевского и
приговоренного к смертной казни, затем помилованного и сосланного на
каторгу. Достоевский опровергает утверждение, что «нечаевцами»
становятся только худшие представители молодежи. В своем романе
писатель не намеревался дать портрет «настоящего Нечаева», а
хотел поставить вопрос и дать как можно более ясный ответ на него в
форме романа: «Каким образом в нашем переходном и удивительном
обществе возможны не Нечаев, а Нечаевы, и каким образом может
случиться, что эти Нечаевы набирают себе под конец нечаевцев?»30
30 Достоевский Ф.М. Поли. собр. соч. М., 1980. Т. 21. С. 125. Далее страницы
указываются в тексте в скобках.
37
«Бесы» были задуманы Достоевским не как повествовательное
воспроизведение частного факта, каким бы скандальным и
чудовищным он ни был, но отталкиваясь от «нечаевского дела», он поставил
себе целью дать анализ наиболее глубоких слоев русской и
европейской культурной и социальной действительности, сделавшей
возможной такие явления. Журналисты упрощали проблему, утверждая,
что «Нечаевы непременно должны быть идиотами, "идиотическими
фанатиками"». Достоевский возражает: «Да, из Нечаевых могут быть
существа весьма мрачные, весьма безотрадные и исковерканные
многосложнейшей по происхождению жаждой интриги, власти, с
страстной и болезненно-ранней потребностью выказать личность, но -
почему они "идиоты"? Напротив, даже настоящие монстры из них могут
быть очень развитыми, прехитрыми и даже образованными людьми».
Неверно также, что «Нечаевы непременно должны быть фанатиками.
Весьма часто это просто мошенники», как романный Нечаев - Петр
Верховенский, заявляющий: «Я мошенник, а не социалист». Но если
в революционном движении мистификаторов («мошенников»)
хватает, и не все они «фанатики», они хорошо знают «великодушную
сторону души человеческой, всего чаще юной души» и умеют «играть
на ней, как на музыкальном инструменте» (129).
Отвергнув журналистские упрощения, Достоевский переходит к
автобиографическим воспоминаниям: «Я сам старый "нечаевец", я
тоже стоял на эшафоте, приговоренный к смертной казни», и все его
товарищи по несчастью были люди образованные и значительные,
и никакие не «идиоты» и не «фанатики». Действительно, кружок
Петрашевского представлял собой мирное содружество, где
обсуждались идеи утопического социализма, без каких-либо
насильственных планов, но Достоевский совершенно искренне признается: кто
может сказать, что «петрашевцы не могли бы стать нечаевцами, то
есть стать на нечаевскую же дорогу, в случае если б так обернулось
дело! Конечно, тогда и представить нельзя было: как бы это могло
так обернуться дело! Не те совсем были времена. Но позвольте мне
про себя одного сказать: Нечаевым, вероятно, я бы не мог
сделаться никогда, но нечаевцем, не ручаюсь, может и мог бы... во дни моей
юности» (129) (здесь и далее курсив в цитатах авторов
произведений. -В. С).
После такого признания Достоевский переходит от времени, как
он говорит «теоретического социализма», то есть социализма
утопического, ко времени «политического социализма», ставящего себе
целью ниспровержение без серьезного понятия о том, что за ним
последует, возвращаясь, таким образом, к «нечаевскому делу», чтобы
парадоксально защитить нечаевцев: «Чудовищное и отвратительное
38
московское убийство Иванова, безо всякого сомнения, представлено
было убийцей своим жертвам "нечаевцам" как дело политическое и
полезное для будущего "общего и великого дела". Иначе понять
нельзя, как несколько юношей (кто бы они ни были) могли согласиться
на такое мрачное преступление. Опять-таки в моем романе "Бесы"
я попытался изобразить те многоразличные и разнообразные
мотивы, по которым даже чистейшие сердцем и простодушнейшие люди
могут быть привлечены к совершению такого же чудовищного
злодейства. В том-то и ужас, что у нас можно сделать самый пакостный
и мерзкий поступок, не будучи вовсе иногда мерзавцем!» И это не
только в России, а на всем свсте во времена «сомнений и отрицаний,
скептицизма и шатости в основных общественных убеждениях», но в
России «это более чем где-нибудь возможно» (131).
Дело в том, что русский юноша не «может остаться
индифферентным влиянию этих предводителей европейской прогрессивной
мысли», «особенно к русской стороне их учений». Достоевский отдает
себе отчет в странности последних слов и уточняет, в чем состоит эта
«русская сторона» европейских прогрессивных учений: «Состоит она
в тех выводах из учений этих в виде несокрушимейших аксиом
только в России», между тем как в Европе «возможность выводов этих,
говорят, даже и не подозреваема» (132). По историческим причинам,
обусловленным начатой Петром I «европеизацией» сверху, русская
культура и общество таковы, что усилили и максимально довели до
крайностей эти европейские идеи, которые в месте своего
возникновения находят уравновешивающие противовесы, хотя и для самой
Западной Европы могут быть чреваты опасностью, как в случае
отказа от христианских ценностей: «Очень может быть, что [...] цели
всех современных предводителей европейской прогрессивной мысли
человеколюбивы и величественны. Но зато мне вот что кажется
несомненным: дай всем этим современным высшим учителям полную
возможность разрушить старое общество и построить заново, то
выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое и
бесчеловечное, что все здание рухнет, под проклятиями человечества, прежде
чем будет завершено. Раз отвергнув Христа, ум человеческий может
дойти до удивительных результатов. Это аксиома. Европа, по
крайней мере в высших представителях своей мысли, отвергает Христа,
мы же, как известно, должны подражать Европе» (132-133), доведя
до крайности ее новые «аксиомы». Достоевский далее поясняет, что
он, наравне со своими товарищами стоя на эшафоте, почел бы «за
бесчестье отречься от своих убеждений», однако в дальнейшем, пройдя
через страдания и в процессе долгих размышлений, произошло,
говоря его словами, «перерождение моих убеждений», и это привело
39
его ко второму этапу творчества, когда им были созданы великие
романы, в том числе и «Бесы». Это «перерождение» позволило ему
заглянуть в самую глубь феномена нигилизма, в отличие от некоторых
современников-ретроградов, поверхностно подходивших к этому
явлению. Поэтому «Бесы» - «зеркало русской революции», пользуясь
ленинским определением Толстого, который с его анархическим
духом был скорее ее ферментом.
Сложная подготовительная работа, предшествовавшая
окончательной редакции романа, с громадой набросков и черновиков, -
своего рода «роман в романе», - демонстрирует, что «Бесам»
Достоевский придавал огромное значение, и смысл романа выходил
далеко за рамки факта полицейской хроники, потрясшего писателя
и всех его современников и заставившего связать с этим событием
свои личные воспоминания, свое и своих товарищей-петрашевцев
революционное прошлое, особенно с одним человеком, представителем
наиболее радикального крыла этого кружка, человеком, оказавшим
сильное влияние на молодого тогда автора «Бедных людей». Речь
идет о Николае Спешневе (1821-1882). Следственный комитет по
делу Петрашевского и его группы оставил такой интеллектуально-
психологический портрет Спешнева: «гордый и богатый», «он не
имел глубокого политического убеждения, не был исключительно
пристрастен ни к одной из систем социалистских, не стремился, как
Петрашевский, постоянно и настойчиво к достижению
либеральных своих целей; замыслами и заговорами он занимался как бы от
нечего делать, оставлял их по прихоти, по лени, по какому-то
презрению к своим товарищам, слишком, по его мнению, молодым или
малообразованным, - и вслед затем готов был приняться за прежнее;
приняться, чтоб опять оставить»31. Вера Лейкина комментирует эту
характеристику молодого Спешнева, утверждая, что и «его
вызывающая, последовательная готовность на крайности была,
несомненно, головного, логического происхождения»32, что довело Спешнева
«в теории до коммунизма и на словах до терроризма», заставляла его
поддерживать все попытки, «могшие привести к какой-либо
практической революционной цели» и замыслить подпольную подрывную
организацию»33. Атеизм Спешнева был настолько радикален, что
побудил его критиковать распространенные тогда идеи Фейербаха
и объявить «антропотеизм», то есть «обожествление человечества
Цит. по: Лейкина В. Петрашевцы. М., 1924. С. 41.
Там же. С. 42.
Там же. С. 41.
40
или человека»34 не финальной точкой критики религии, а
ограниченной переходной доктриной, ибо «антропотеизм - тоже религия,
только другая. Предмет обоготворения у него другой, новый, но не
нов сам факт обоготворения. Вместо бого-человека мы имеем теперь
человеко-бога. Изменился лишь порядок слов. Да разве разница
между бого-человеком и человеко-богом так уж велика?»35 Николай
Спешнев, под обаяние личности которого попадал всякий, кто
встречался с ним, особенно молодой Достоевский, был, несомненно,
пишет Лейкина, прототипом Николая Ставрогина, загадочного
центрального персонажа «Бесов»: «Его бесстрастие, его холодность,
неудовлетворенный скептицизм, его красота и сила, обаяние, на всех
производимое, и ореол какой-то тайны - все это реальные
элементы в образе Ставрогина»36. Прав был Бердяев, говоря, что
отношение Достоевского к Ставрогину «поражает»: писатель «романтически
влюблен в своего героя, пленен и обольщен им. Никогда ни в кого он
не был так влюблен, никого он не рисовал так романтично. Николай
Ставрогин - слабость, прельщение, грех Достоевского. Других он
проповедовал, как идеи, Ставрогина он знает, как зло и гибель: и
все-таки любит и никому не отдаст его, не уступит его никакой
морали, никакой религиозной проповеди»37. У Достоевского его прямой
личный опыт петрашевца налагается на восприятие им «нечаевского
дела», и эти два аспекта он ощущает как части единой исторической
драмы, момент анализа которой перевешивает момент осуждения,
что позволило ему создать книгу, являющуюся одновременно и
пророчеством и диагнозом, книгу, которая не могла не оказать
решающего влияния на крупнейшего представителя европейской мысли,
мучительно бившегося над проблемами христианской цивилизации
в эпоху ее радикального кризиса, - Фридриха Ницше.
В сборнике заметок «Посмертные отрывки 1887-1888»,
содержащем размышления по поводу «Бесов», непосредственно перед ними
помещены заметки «Дневник нигилиста», с полным основанием при-
ложимые к образу Николая Ставрогина. В них вскрывается
интеллектуальный механизм этого совершенного «нигилиста», точно так как он
представлен в финальной части романа, в письме, которое Ставрогин
написал перед самоубийством (Ницше уделяет этому письму особое
внимание, приводя наиболее существенные фрагменты).
Философские и общественно-политические произведения петрашевцев / под
Ред. В.Е. Евграфова. М., 1953. С. 494.
35 Там же. С. 496.
36 Лейкина В. Петрашевцы. С. 53.
37 Бердяев Н. Типы революционной мысли в России. 1989. С. 99.
41
Ницше говорит об «ознобе от "фальши"», открытия - пустота:
ни одной мысли; сильные переживания, вращающиеся вокруг
ничтожных предметов»38, то есть рисует ужас, охватывающий того, кому
открывается «фальшь» всего окружающего, «его» реальности, с
последующим ощущением внутренней пустоты, между тем как
преобладают «сильные переживания», вращающиеся вокруг того, что
лишено всякой ценности, и «абсурдными» оказываются тенденции «за
и против», как говорится в следующей строке, то есть позитивное или
негативное отношение к тому, что уже только бессмысленно. Следует
замечание: «Выше других, презрительный, холодный с самим собой».
Несколькими строками ниже: «Фаза презрения и к нет... и к
сомнению... и к иронии... и к презрению тоже...» Доминирующее «сильное
чувство» - тотальное «презрение», соединенное с «холодностью» к
себе и с чувством «превосходства», «презрение», которое включает
самое «презрение», как и отрицание («нет») и его проявления -
«сомнение» и «иронию». Строкой выше: «Атеизм как отсутствие
идеалов». Наконец, в заключение этой тотальной аннигиляции - нечто,
чему Ницше дает название «катастрофы» и что определяет через
вопросы: «Не есть ли ложь нечто божественное... не состоит ли ценность
всех вещей в том, что они фальшивы... не есть ли отчаяние чистое
следствие веры в божественность истины... и разве лгать и
фальсифицировать (обращать в фальшивое), включение некоторого смысла
не есть ли как раз ценность, смысл, цель... и не должно ли веровать в
Бога не потому, что он истинный, а потому, что ложный»39.
Далее Ницше, не называя Ставрогина, но явно имея в виду
именно его, озаглавив фрагмент «Психология нигилиста», отсылает к Гете
и утверждает, что «самое почитаемое в человеке» -
«последовательность» - «принадлежит нигилисту». Если привязать это понятие
(«последовательность») к предыдущему понятию «катастрофы» и
вспомнить, что Ставрогин последовательно доводит до заключения
свой абсолютный нигилизм, и катастрофа, к которой он привел себя
и других через самоубийство, что, можно сказать, для Достоевского
логика, и «психология», нигилизма последовательно выливается
в самоубийство, в отличие от Ницше, жизнь которого закончилась
умопомешательством, но его философия предусмотрела выход из
нигилизма в мифе «сверхчеловека» или «метачеловека», мифа,
совершенно чуждого автору «Бесов». Для Достоевского спасение во
Христе, который был для него выше «истины», и в отказе от него -
38 Nietsche F. Frammenti postumi. 1887-1888. Mllano, 1971. P. 99.
39 Ibid. P. 344.
42
первопричина аннигилирования, которое немецкий философ
анализировал, а русский писатель изобразил в своих персонажах, и прежде
всего в Ставрогине.
Следует прочитать ставрогинское письмо, написанное перед
самоубийством, в котором еще преобладает страх перед
«последовательностью» этого исхода, вместе с комментарием Ницше в короткой
главке «Психология нигилиста» - там, где Ставрогин рассказывает о
своей нигилистической карьере: «Я пробовал большой разврат и
истощил в нем силы», Ницше комментирует: «Он склоняет себя к
разврату. Не надо недооценивать логики этого; надо быть философами,
чтобы это понять». И как «философ» уточняет: «Идеи суть иллюзии;
ощущения - последняя реальность... Именно высшее вожделение
истины советует разврат»40. И действительно, разврат Ставрогина -
не распутство тривиального сладострастика в поисках легких
наслаждений, но чисто головной акт, вожделение «последней
реальности» («ощущений»), коль скоро идеи для него стали «иллюзиями»; и
Ставрогин играл этими иллюзиями с полнейшей свободой, раздавая
и внушая их тем, кто его окружал и испытал его обаяние, оказался во
власти его харизмы, проистекающей из его нигилистического
превосходства «игрока» с его «презрением и к нет» и «к презрению тоже».
Еще философ («надо быть философами, чтобы понять это»)
объясняет, по-прежнему применительно к Ставрогину, что стимулом «не
могла бы быть "любовь": все покровы и прикрасы, то есть
фальсификации, должны-"быть" сметены прочь: поэтому речь должна идти о
распутстве, о боли и о сочетании боли с распутством», прибавляя, что
«боль, которую наносишь, реальнее той, которую испытываешь»41.
Эти слова как нельзя лучше подходят к катастрофическим
«амурным» историям Ставрогина, который в своем последнем письме
признается, что боится самоубийства, но должен убить себя, смести себя
«с земли как подлое насекомое», продемонстрировав
«последовательность» вместе, так сказать, со своим экспериментальным распутством
и неспособностью к «любви», которая не была бы болью, скорее
нанесенной, чем испытанной.
Ставрогин в «Бесах» - это неподвижный движитель
(мертвецкая неподвижность, до которой он докатился, прежде чем прямо
включиться в события, составляющие интригу романа, после
предшествующего процесса самоаннигиляции, за последствиями
которого наблюдает читатель) всех второстепенных и второразрядных
40 Ibid. Р. 346-347.
41 Ibid. Р. 347. Тема «Достоевский - Ницше» много шире, чем рассматриваемые
здесь аспекты, но это выходит за рамки нашего тезиса.
43
нигилизмов, бесовски разгулявшихся в романе: нигилизм тех, кто не
может выдержать непостижимого бремени тотального ставрогинско-
го нигилизма, мрачное и жуткое величие которого покорило самого
Достоевского, и ищет суррогата старой донигилистической
«твердой точки» (религиозная вера, традиционные ценности, абсолютные
идеалы) в разрушительной общественной активности, как надежной
предпосылки гадательного общества будущего, возможно, в
чудовищном облике фантастической шигалевской утопии (в «Бесах»), в
новой религии (псевдорелигии), еще более догматичной и жесткой,
чем отвергаемая: антропотеизм, о котором говорил Спешнев,
обнаруживая с точки зрения строгого нигилизма и атеизма
несущественность разницы между верой в бого-человека и человеко-бога.
Русская мысль показала, как нигилизм переходит в утопию,
ниспровержение устоев - в палингенезис, аморальное разрушитель-
ство в моралистический конструктивизм. В анализе этого явления
Достоевский достиг глубин, которые поразили самого Ницше -
другого исследователя великого кризиса европейского сознания.
Нигилизм «бесов» означает начало новой исторической эпохи под
знаком тотальной Революции.
IL КОШМАР И ПРОВОКАЦИЯ
Миф героя
«Нечаевское дело» - кульминационная точка первой фазы
русского терроризма, фаза в основном теоретическая (убийство
студента Иванова явилось экспериментальной проверкой
последовательной теории антигосударственного террора, детально разработанной
до такой степени, что приняла догматически-дидактическую форму
«катехизиса» - интеллектуальной предпосылки будущего
революционного действия. Как человек, Геннадий Нечаев представлял собой
нечто уникальное, чудовищное по коварству и хитрости и
одновременно образцовое по непреклонной решительности, но его идея
организации сосредоточивала в себе суть любого «нигилистического»
проекта, преследовавшего конкретную цель разрушения
существующей общественной реальности и абстрактное построение
воображаемого грядущего мира. Гениальность Достоевского в том, что он
уловил, независимо от «нечаевского дела», суть «нечаевщины» как
«модели» тотального революционного действия, отрицавшего
традиционные ценности во имя новых скрижалей завета, в которых вместо
«не убий» должно было утвердиться, как дерзко претендовал Нечаев,
«ты должен убить», если этого требует новая Святыня - революция
(то есть верхушка организации, властно возложившая на себя роль ее
представительницы). Здесь мы имеем дело не с традиционным
насилием, пронизывающим весь исторический процесс и порождающим
морально осуждаемые злодеяния, а сведением на нет различия между
политикой и преступностью в том смысле, что в глазах приверженцев
традиционных ценностей первая предосудительным образом
втягивала в себя вторую, между тем как для носителя новой этики
революции вторая была конструктивно подчинена первой и ею искупалась.
«Нечаевщина» - осуществление новой фазы ниспровергательного
Террора, творческого по сравнению с «якобинством» и считающегося
его продолжением, - фазы, в отличие от «якобинства»,
характеризующейся сознательностью и систематичностью, достигших
совершенства, когда они обрели опору в «научной» доктрине, которой Нечаев
45
обладал в весьма зачаточной форме (в этом свете следует
воспринимать восхищение Нечаевым со стороны Ленина и его превосходство
над этим «бесовским» революционером). В «Бесах» провидческое
понимание «нечаевщины» не ограничивается непосредственными
представителями этой фазы «нигилизма»: на высшем уровне в образе
Николая Ставрогина, на низшем - Петра Верховенского и
распространяется на окружающее общество (губернаторши - дамы,
открытой «новым идеям», устроительницы катастрофической и гротескной
«прогрессистской» вечеринки), - общество, пассивно потакающее
«бесам», в жертву которым предназначено, - прототип других
аналогичных, причем не только российских, но и европейских и мировых
ситуаций. В этом смысле Достоевский выступает даже не как пророк,
а провозвестник апокалипсиса, и его положительный - православно-
христианский идеал - представляется слишком слабым в качестве
заклинания против внедрившихся в стадо злых духов, а еще слабее
его вера в «Святую Русь», на compore vili которой полвека спустя
будет предпринят тотальный революционный эксперимент.
Два эпизода русского терроризма лучше всего передают смысл
периода, последовавшего за тем, что назван «теоретическим»: в них
проявилась двойственность и двусмысленность террористического
феномена, трудность отделить в его актах тьму от света,
извращенные стороны от благородных намерений, опустошительную
реальность от назидательных идеалов. На этой основе рождается миф, а
то и культ героя-террориста как жертвы, на которую он идет,
совершая преступление: формально ответственный за него, по существу,
является невиновным. Мишень террориста сосредоточивает в себе
одиозность преступной по своей сути системы, и террорист
уничтожает ее в лице ее образцового представителя в акте, который,
имея символическое значение, должен вызвать широкий резонанс с
таким расчетом, чтобы дезориентировать и дестабилизировать всю
социально-политическую систему. А является мишенью отдельный
представитель ненавистной системы или же группа ее членов - это
зависит от типа анализа, проводимого террористом, и идеологии,
которой он руководствуется. В случае террориста, принадлежащего
цивилизации «западного» типа, как в случае «нечаевщины» и ее более
поздних последователей, удар направлен на отдельных противников,
как бы многочисленны они ни были, причем опознаются они исходя
из классовых критериев (или по их сообщничеству с принадлежащим
уничтожению классом), но уже с национал-социалистическим
террором мишенью становится целый народ, определяемый по расовым
или религиозным основаниям. Дальнейшим этап представлен
радикальным исламским терроризмом, для которого противником явля-
46
ется все «западное» общество и в войне против него все его члены (и
его не западные «сообщники»), без всякого различия, и в массе,
представляют законные мишени, поэтому терроризм переходит на другой
уровень, однако отдаленным его прототипом является дьявольски
гениальный «Катехизис революционера». Терроризм, в его
градациях и типологии (против режима, против системы, против «класса»,
против «расы», против цивилизации) позволяет превозносить и
поощрять террориста как мученика, приносящего себя в жертву ради
Блага, которым он по большей части не будет пользоваться: ведь если
он не идет на верную смерть или сознательно не убивает себя во
время совершаемого акта/то высока вероятность, что ему придется
искупать свою «вину» в тюрьме, если, конечно, революционный проект,
носителем и участником он является, не одержит верх, как
произошло в революциях XX столетия, начиная с октября 1917 года, когда
сами террористы часто оказывались раздавлены машиной Террора, в
установлении которого они участвовали, однако нередко оставались
во власти, продолжавшей обеспечивать режим работы этой машины
в ущерб другим.
Остановимся на двух громких покушениях и связанных с ними
процессах в России посленечаевского периода, являющихся
примерами благородства намерений, позволяющего героизировать
террориста, вставшего на путь борьбы с абсолютно злодейским режимом
с целью заменить его другим, в высшей степени справедливым. И в
то же время они суть симптомы состояния русского общества,
безжалостный диагноз которому поставил Достоевский в своем романе,
хотя и не указал способы лечения, поскольку это был уже
неизлечимый недуг.
Июльским днем 1877 года в Петербурге произошла позорная
история, не вызвавшая в тогдашнем обществе возмущения, какое
должна была породить, но через несколько месяцев неожиданно
получила широкую огласку. У петербургского градоначальника
генерала Трепова во время посещения им тюрьмы предварительного
заключения произошла стычка с посаженным за участие в
политической демонстрации заключенным Боголюбовым. Трепову
показалось, что случайно встретившийся ему в тюремном дворе Боголюбов
непочтительно с ним поздоровался. Генерал сделал ему выговор и
сорвал с него шапку. Увидев, что заключенные из своих камер
наблюдают за сценой и подняли шум, он рассвирепел и приказал
высечь Боголюбова розгами. Кстати сказать, такое наказание было
запрещено законом, и сам Трепов, усомнившись в законности своего
распоряжения, приказал приостановить наказание, пока не выяснит
вопрос. Дело, однако, кончилось тем, что Боголюбова высекли, что
47
вызвало возмущение заключенных, а на воле замешательство в среде
сторонников либеральных реформ и поддержку властей, в частности
министра юстиции Константина Палена, к которому Трепов,
называвший себя «солдатом», не разбирающимся в юридических
тонкостях1, обратился за советом.
Несомненно, имел место произвол - доказательство того, с
каким скрипом шли реформы (в данном случае судебная), начатые
Александром II, и какое сопротивление им оказывалось со стороны
консервативных сил и бюрократического аппарата.
Но дело на этом не закончилось. Вера Засулич, узнавшая из газет
о таком произволе, была настолько потрясена, что решила: это
преступление не должно остаться безнаказанным. Между тем интерес
в обществе к «боголюбовскому делу» утихал на фоне появления
новых фактов для критики властей, и Засулич решила сама совершить
правосудие и, покинув Пензу, где работала, отправилась в Петербург
с целью отомстить за незнакомого ей заключенного, достоинство
которого унизил наглый деспот. Январским днем 1878 года Засулич
зашла в заполненную просителями приемную столичного
градоначальника. Он обычно лично принимал просителей, выслушивая их
ходатайства. Всех впустили в соседний зал, Трепов начал прием,
когда подошла очередь Засулич, обратился к ней. Она подала ему запрос
на справку на имя несуществующего человека, и когда Трепов,
прочитав заявление, дал свое согласие и обратился к следующему
просителю, она вынула из-под пелеринки револьвер и выстрелила в
градоначальника, ранив его в бедро. Ее сразу арестовали и предали суду.
Судебный процесс по делу этой первой русской террористки,
которую впоследствии назвали « ангелом мести»2, превратился в громкое
политическое дело. *
1 Кони А.Ф. Собр. соч.: В 8 т. Т. 2. М., 1966. С. 64.
2 Это определение принадлежит Степняку-Кравчинскому (см.: Степняк-
Кравчинский С.М. Избранное. М., 1972. С. 402), писателю и политику-народнику,
автору важных работ по русскому революционному движению, таких как «Подпольная
Россия», первоначально опубликована на итальянском языке (1852), и вышедший в
Лондоне роман «Андрей Кожухов» (1889), в котором восхвалялся «герой-нигилист».
О Засулич Степняк-Кравчинский пишет, что, хотя она не была «террористкой»,
«событие 24 января имело огромное значение в развитии терроризма», так как озарило
его «ореолом самопожертвования» и дало ему «санкцию общественного признания»:
«Оправдание Засулич было торжественным осуждением всей системы произвола,
которая заставила эту девушку поднять на палача свою мстительную руку», а «печать и
общественное мнение единодушно приветствовали приговор присяжных». (Там же.)
В западноевропейских демократических и радикальных кругах популярность
русских террористов была велика. Восхищение ими проявилось, в частности, когда один
из них, народоволец Лев Гартман, в декабре 1879 года бежал на Запад после участия в
покушении на царя. В январе следующего года по требованию русского правительства
48
Вера Засулич родилась в 1849 году в мелкопоместной дворянской
семье в Смоленской губернии. После окончания курсов в Москве
получила диплом частной учительницы. Впоследствии в Петербурге
она случайно познакомилась в университетской студенческой среде с
Нечаевым, тогдашним кумиром фанатически настроенной молодежи,
и эта встреча сыграла в ее жизни роковую роль. Засулич не вступила
в нечаевскую организацию, так как ее не привлекали экстремистские
формы революционной борьбы, и не поддалась «обаянию» Нечаева,
но любезно дала ему свой адрес, на который тот должен был посы-
он был арестован в Париже, но его выдаче воспрепятствовала кампания в его защиту,
в которой принял участие и В. Гюго. После освобождения он отправился в Лондон,
где Маркс и Энгельс организовали в его честь банкет, сердечный прием (Маркс) и
финансовую помощь (Энгельс). Связи Гартмана и Маркса проливают свет на отношение
немецкого революционера к русскому терроризму в рамках его позиций относительно
России, ее истории, ее настоящего и будущего.
Отношение Маркса к терроризму было довольно двусмысленным и менялось
в зависимости от обстоятельств. Его решительная критика бакунинско-нечаевской
авантюры не распространилась на другие ситуации, как, например, на терроризм
«Народной воли», где он усматривал законную форму политической борьбы, целью
которой была крестьянская революция в России. Эта революция, не имея возможности
самостоятельно добиться успеха, могла, однако, послужить искрой для победоносной
пролетарской революции европейского Запада (где Маркс отвергал революционный
терроризм анархистов, который препятствовал его деятельности главы
коммунистического движения). Не углубляясь в эту весьма сложную тему, достаточно напомнить,
что Маркс попросил Гартмана, как тот сообщает в своем письме от 14 мая 1880 года,
передать «русским социалистам», что он считает террор «единственно логичным,
единственно практичным и возможным и полезным делом в России в настоящую
минуту» и что «все программы русских террористов замечательны своею
практичностью, благодаря которой партия террористов и пользуется такою силою и влиянием»
(см.: Русские современники о К. Марксе и Ф. Энгельсе. М., 1969. С. 180). Другой
революционер, Николай Морозов, вспоминает о своей беседе в компании с Гартманом в
доме Маркса, в которой принимала участие дочь Маркса Элеонора, угощавшая их чаем
с бисквитами. Оба русских говорили главным образом о террористической
деятельности «Народной воли», что вызвало живейший интерес Маркса. Он сказал нам, пишет
Морозов, что «наша борьба с самодержавием представляется ему и всем европейцам
чем-то совершенно сказочным, возможным только в фантастических романах» (там
же. С. 83).
В другом письме (2 мая 1880 года) Гартман пишет: «Мисс Маркс дает мне уроки
английского языка, я ей - русского. Маркс учится читать по-русски. Какие-то
причины есть к тому, что Маркс особенно любезен ко мне» (там же. С. 177). Главной
причиной, не считая возможной симпатии, был растущий теоретический, исторический и
политический интерес Маркса к России, интерес негативный не только, разумеется,
к самодержавию, но и к русским революционерам типа Бакунина, которого он не мог
терпеть (и боролся с ним всеми способами), и позитивный к новым революционерам,
на которых оказывала некоторое влияние его теория исторического развития и анализ
капиталистической системы. Совокупность этих непростых отношений между
Марксом и Энгельсом и революционной Россией представляет собой «фантастический
роман», не менее захватывающий, чем роман русского терроризма, «сказочного» для
Маркса и рокового для России.
49
лать письма из-за границы, куда собирался перебраться, чтобы затем
они передавались по назначению. Этого оказалось достаточным для
ее привлечения к нечаевскому делу, хотя ее роль сочли
маргинальной: арестованная в 1869 году, она пробыла в тюрьме до 1871 года, а
затем два года находилась в ссылке в нескольких местах, в
условиях нищеты и притеснений. Суровые испытания тюрьмой и ссылкой,
несоразмерные «вине», и дальнейшее участие в различных
группировках превратили Засулич, как выразился ее защитник в суде, «в
натуру экзальтированную, нервную, чувствительную»3, а главное,
способную не остаться равнодушной к насилию, которому
подвергся Боголюбов. На процессе сама Засулич объяснила причины своего
поступка: «На меня все это произвело впечатление не наказания, а
надругательства, вызванного какой-то личной злобой. Мне казалось,
что такое дело не может, не должно пройти бесследно. Я ждала, не
отзовется ли оно хоть чем-нибудь, но все молчало, и в печати не
появлялось больше ни слова, и ничто не мешало Трепову или кому другому,
столь же сильному, опять и опять производить такие же расправы [...]
Тогда не видя никаких других средств к этому делу, я решилась, хотя
ценою собственной гибели, доказать, что нельзя быть уверенным в
собственной безнаказанности, так ругаясь над человеческой
личностью...». Разволновавшись, Засулич не могла продолжать, и
председатель суда пригласил ее отдохнуть и успокоиться, и немного погодя
она продолжала: «Я не нашла, не могла найти другого способа
обратить внимание на это происшествие... Я не видела другого способа...
Страшно поднять руку на человека, но я находила, что должна это
сделать» (120).
Индивидуальный поступок Веры Засулич, ее покушение на
генерала Трепова, считается началом терроризма в России, хотя речь вдет
о терроризме, не связанном с какой-либо организацией, акте,
мотивированном нравственным чувством, а не политической идеологией,
и поэтому решительно отличавшемся от терроризма,
практиковавшегося впоследствии, и от ранее теоретизированного. Вера Засулич
заслуживает особой оценки, соответственно ее уникальности в
истории русского терроризма: это подтверждается ее последующей
позицией в истории революционного движения, когда, она примкнула к
меньшевистскому крылу российской социал-демократии (важна ее
переписка с Марксом и Энгельсом) и решительно воспротивилась
большевистскому захвату власти в 1917 году. Она умерла в 1919 году,
3 Кони А.Ф. Собр. соч.: В 8 т. Т. 2. С. 149. Далее страницы указываются в тексте в
скобках.
50
«проклиная всю свою революционную деятельность»4 перед лицом
ужасов коммунистической революции, деятельность, начавшуюся
актом самосуда, направленного против «ругательства» над
человеческой личностью, которое совершалось бессчетное число раз в более
бесчеловечных формах и уже без всякой возможности как-нибудь
протестовать.
Но с каким бы уважением не относиться к Вере Засулич,
несомненно, что ее поступок был явным нарушением закона и в
качестве такового требовал судебного разбирательства. Последовавший
судебный процесс стал еще более знаменательным, чем покушение
Засулич и вызвавшее #его самодурство Трепова. Власти решили
передать дело в уголовный суд, так как были уверены, что вина
обвиняемой совершенно очевидна и неоспорима и ее непременно осудят,
не возмутив общественного мнения, как было бы в случае
политического процесса. Суд проходил с соблюдением норм
судопроизводства, с не очень умело построенным обвинением прокурора Касселя,
блистательной защитой адвоката Александрова, по сути,
благорасположенным к подсудимой и уравновешенным
председательствующим - известным «либеральным» юристом Кони (впоследствии
написавшим книгу воспоминаний и размышлений о «деле»5) и советом
присяжных, которые 31 марта, вопреки ожиданиям правительства,
вынесли обвиняемой оправдательный приговор, и она немедленно
была освобождена. Присутствовавшая в зале публика встретила
приговор бурными овациями, а собравшаяся около суда толпа
ликованием: это был подлинный триумф молодой Засулич, которая вскоре под
угрозой нового ареста уехала в Швейцарию и вернулась на родину в
1879 году.
Удовлетворение со стороны радикалов и либералов и
«просвещенных» членов правительственных кругов оправданием Засулич можно
понять. Любопытно, что сам Трепов, узнав о вынесенном вердикте,
перекрестился, воскликнув: «Ну и слава Богу!». И это, пусть даже
чисто показное проявление христианского смирения, - знак суровых и
в какой-то мере диких, но не варварских времен, какие в
антихристианской России наступят полвека спустя. Кони, рассказавший об этой
реакции Трепова, отмечает, что оправдание Засулич выражало собою
прежде всего «сострадание к ее житейским бедствиям», а что
касается решения присяжных, то в нем можно видеть «протест [...] лишь
4 Так в письме Ю. Мартова П. Аксельроду 23 января 1920 года (см.: Мартов Ю.
Избранное. М., 2000. С. 600).
5 Воспоминания о деле Веры Засулич // А.Ф. Кони. Собр. соч.: В 8 т. Т. 2.
С 24-252.
51
против нарушения закона, выразившегося в случае с Боголюбовым,
а отнюдь не стремление оскорбить или унизить (Трепова)». На
самом деле в защитной речи адвоката Александрова, повлиявшей на
решение присяжных, не только превозносилась фигура обвиняемой,
но еще в большей степени звучало обвинение в адрес Трепова. Для
полноты картины добавим, что, если принять на веру анонимное
письмо одного присяжного в III Отделение, то приговор присяжные
вынесли «из чувства самосохранения», потому что в случае
обвинительного приговора «некоторые из них были бы перебиты у самого
порога суда», и «чтобы избавить правительство от скандала
несравненно большего», потому что в таком случае полиция не смогла бы
предотвратить беспорядки, и эти мотивы имеют под собой основания
(453). Нечего и говорить, что в консервативных кругах оправдание
Засулич было встречено с яростью и возмущением. По словам князя
В.П. Мещерского, издателя и редактора крайне реакционной газеты
«Гражданин», «никто не мог понять, как могло состояться в зале
самодержавной империи такое страшное глумление над
государственными высшими слугами (имеется в виду Трепов. - В. С.) и столь же
наглое торжество крамолы» (455). Мещерский и ему подобные не
могли понять, но российская реальность того времени проявилась
именно в таком эпизоде, как «дело Засулич».
Расхождения между ликующими «прогрессистами» и
разъяренными «реакционерами» были естественны, но и для «либерального»
юриста Кони приговор дал пищу для размышлений: ведь покушение
Засулич было неопровержимым фактом, хотя можно спорить,
входило ли в ее намерение убийство Трепова или она хотела его только
ранить. Кони пишет: «Приговор присяжных, быть может, и не
правилен юридически, но он верен нравственному чутью; он не согласен
с мертвой буквой закона, но в нем звучит голос житейской правды»,
в силу чего «общество ему не может отказать в сочувствии...» (180).
Терроризм будущего, предвосхищенный в «Катехизисе
революционера», в «деле Засулич» заявлял о себе аномальным образом, в
облике молодой, испытавшей лишения женщины, которая под влиянием
нравственного порыва решилась на крайний шаг, взяв на себя
личную ответственность. Вскоре и надолго наступит худшее, и его
последствия не поддаются никакому учету. Тогда, во время судебного
процесса, реакции были адекватны жесту Засулич и исполнены
человеческого сочувствия, но с опасным отступлением от «мертвой буквы
закона», который должен быть одинаков для нарушающих его
представителей власти и для тех, кто в знак протеста против этих
нарушений преступает закон, хотя бы и с учетом смягчающих обстоятельств,
как в случае Засулич. Но подобная элементарная логика расходит-
52
ся с диалектикой истории, и произошедшее в России как раз это и
подтверждает.
Закончим историю покушения Веры Засулич Достоевским,
который не мог не присутствовать на суде. Сотрудник «Голоса»,
публицист Григорий Градовский, опубликовавший восторженную статью
об оправдательном приговоре6, в своих воспоминаниях о «роковом
пятилетии» (1878-1882) пишет, что во время «напряженного
перерыва» в ожидании решения присяжных, автор «Бесов» выразил ему
свое мнение: «Осудить нельзя, наказание неуместно, излишне; но как
бы ей сказать: "Иди, но не поступай так в другой раз". К этим словам
милосердия Достоевский присовокупил: "Нет у нас, кажется, такой
юридической формулы [...] а чего доброго, ее теперь возведут в
героини"» (464-465). Понимая, что Вера Засулич - не «бес», он опасался,
что в атмосфере, которую он так глубоко проанализировал в романе,
молодую женщину сделают культом поклонения в пользу «бесов».
Трезвость и прозорливость он проявил и на этот раз.
Второй эпизод относится к совершенно иному покушению: оно
было задумано, чтобы убить, а также тщательно организовано и
успешно, направлено против лица куда более важного, чем
петербургский градоначальник. На этот раз речь идет о самом
императоре. Мы говорим об убийстве 1 марта 1881 года царя Александра П.
Последствия этого события оказались несоизмеримы с
последствиями дела Засулич, они имели историческое значение, и процесс
против покушавшихся соответствовал масштабу события.
Предыстория и история покушения на царя, получившего
название «освободителя» (за отмену крепостного права) и реформатора (за
преобразования в административной и судебной сферах),
одновременно драматична и проста. С момента своего образования в 1879 года
организация «Воля народа», возникшая в результате раскола «Земли
и воли», во главу угла своей деятельности поставила покушение на
Александра П. Весной 1880 года образовалась ее Военная
организация, ключевую роль в которой играл Андрей Желябов, крупная
фигура народовольчества. Он происходил из крестьянской семьи, после
окончания гимназии в 1869 году поступил на юридический
факультет Одесского университета, из которого был исключен за участие
в студенческих волнениях. Вел агитацию и пропаганду («хождение
в народ»); убедившись в безуспешности этой деятельности в среде
6 Г. Градовский (1842-1915) в дальнейшем перешел на консервативные позиции
и порицал «разрушительную работу» крамолы, усилившуюся «кадрами, которые были
втиснуты в нее после дела Засулич» (История терроризма в России. С. 462, далее
страницы указываются в тексте в скобках).
53
крестьян, пришел к выводу (наряду с другими своими соратниками),
что необходимо перейти к политическим террористическим акциям.
Став членом Исполнительного комитета «Народной воли»,
участвовал в его заседании 26 августа 1879 года, где был вынесен смертный
приговор Александру П. 27 февраля 1881 года Желябов, фактически
возглавлявший организацию, был арестован после интенсивного
периода деятельности, включая подготовку неудавшихся покушений на
царя. Харизматический лидер, наделенный огромным обаянием и
недюжинными ораторскими способностями, Желябов вызвал глубокое
чувство у Софьи Перовской, дочери бывшего петербургского вице-
губернатора, еще одной легендарной фигуры русского терроризма,
но не индивидуального, как в случае Веры Засулич. Перовская
являлась членом «Народной воли» и организатором группы, убившей
Александра II (ее арестовали 10 марта 1881 года).
Первое покушение на царя было подготовлено под
руководством Желябова в октябре - ноябре 1879 года под Александровском
Екатеринославской губернии. Под рельсы железнодорожного
полотна, по которому должен был проехать царский поезд, террористы
заложили заряд, но почему-то электрический контакт, включенный
Желябовым, не сработал, и взрыва не произошло. Второе покушение
под Москвой в конце 1879 года было аналогично первому: на этот раз
взрыв был, но пострадал не царский поезд, а состав с
обслуживающим персоналом, так как маршрут первого поезда в последний
момент изменили (обошлось без жертв). Третье покушение произошло
5 февраля 1880 года в Петербурге. Народоволец Степан Халтурин,
рабочий, сын разбогатевшего крестьянина, проник в Зимний дворец
под видом столяра, чтобы убить царя, установил в столовой зале
адскую машину и привел ее в действие. Александр II не пострадал, но
погибло одиннадцать солдат охраны.
Наконец, наступил роковой день - 1 марта 1881 года, когда
произошло два покушения. Предполагалось взорвать царя посредством
спрятанной мины в подкопе под мостовой на пути его следования
из Зимнего дворца в Манеж. На случай, если это покушение будет
неудачным, заговорщики предусмотрели, что в него бросят бомбу
находящиеся неподалеку террористы. Но руководивший операцией
Желябов был арестован накануне 1 марта, и руководство операцией
было возложено на Перовскую.
Казалось бы, и на этот раз уже пятое по счету покушение обречено
на провал, потому что маршрут следования царской кареты
изменили. Но Перовская, лично следившая за ходом операции, догадалась
06 этом и успела дать сигнал бомбистам, находившимся на
набережной Екатерининского канала, куда направился экипаж в сопровожде-
54
нии казаков. Первый террорист, Николай Рысаков, бросил бомбу в
коней, убив одного казака и случайно оказавшегося на тротуаре
подростка. Александр II вышел из кареты и спросил у казаков, схвачен
ли преступник. Рысакова уже схватили и разоружили, отняв
пистолет и спрятанный в кармане кинжал. Полицмейстер умолял царя как
можно скорее удалиться с места покушения. Царь, однако,
замешкался. Тем временем второй террорист, Игнатий Гриневицкий, подойдя
ближе к «мишени», метнул вторую бомбу. Взрыв был
оглушительным. Когда дым рассеялся, на снегу среди многочисленных раненых
обнаружили тело императора, который лежал с раздробленными
ногами и окровавленным лицом, прислонившись к парапету
канала. Рядом с ним было распростерто изувеченное тело убийцы. Оба
скончались в один день. Желябов, узнав в крепости о покушении, до
начала суда над бомбистами обратился с заявлением к прокурору:
«Если новый государь, получив скипетр из рук революции, намерен
держаться в отношении цареубийц старой системы, если Рысакова
намерены казнить, было бы вопиющей несправедливостью сохранить
жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь Александра II
и не принявшему физического участия в умерщвлении его лишь по
глупой случайности. Я требую приобщения себя к делу 1 марта [...]
Только трусостью правительства можно было бы объяснить только
одну виселицу, а не две» (128). Виселиц было пять: к смерти
приговорили, кроме Желябова и Рысакова, Софью Перовскую, Николая
Кибальчича - «техника» взрывных устройств и еще одного члена
организации, Тимофея Михайлова. Казнь через повешение состоялась
на одной из петербургских площадей. Это была последняя публичная
казнь в России.
Убийство Александра II произвело огромное впечатление и было
воспринято как катастрофа. Показательны дневниковые
свидетельства Анны Тютчевой, дочери поэта и жены славянофила Ивана
Аксакова. 25 марта, вернувшись с панихиды, проходившей при
огромном стечении народа, она записала: «Какая загадка -
страстный культ, воздаваемый памяти покойного государя, и возможность
чудовищного покушения, таким ужасным образом прервавшего его
жизнь среди белого дня, в центре его столицы, среди того самого
народа, который его боготворил! Мысль цепенеет перед этой странной
загадкой» (493). Напротив, для представителей власти загадки не
существовало, как видно из реплики нового царя, Александра III,
на слова той же Тютчевой, считавшей, что ответственность за такое
страшное преступление «падает на всю страну»: «Нет, страна тут ни
при чем; это горстка негодных и фанатичных мятежников,
введенных в заблуждение ложными теориями, у которых нет ничего обще-
55
го с народом. Теперь нужно позаботиться оградить школы, чтобы яд
разрушительных теорий, проникших в высшие классы, не проник
в народные массы. К сожалению, выяснилось, что Желябов,
стоявший во главе заговора, - крестьянин и очень способный человек»
(494). Власть именно так восприняла это событие и соответственно
начала действовать, проводя политику, положившую конец
либеральным реформам и направленную на укрепление самодержавия.
Ситуация, однако, была намного сложнее, что и отразилось в
выступлениях по поводу суда над террористами самого крупного писателя
и самого крупного философа России того времени - Льва Толстого и
Владимира Соловьева.
8-15 марта 1881 года Толстой обратился с длинным и немного
путаным письмом к «В[ашему] Щмператорскому] В[еличеству]»,
новому царю Александру III, сыну Александра II, чтобы дать совет, как
поступать «в самых сложных, трудных обстоятельствах, к[оторые]
когда-либо бывали» (469-470), хотя, по его словам, он отдавал себе
отчет в том, «как это странно, неприлично, дерзко». Отбросив
цветы «подобострастного и фальшивого красноречия» и говоря «просто,
как человек человеку», Толстой, после ряда рассуждений, заявляет:
«Знаю я, что я ничтожный, дрянной человек, в искушениях, в 1000 раз
слабейших, чем те, к[оторые] обрушились на Вас, отдавался не
истине и добру, а искушению и что дерзко и безумно мне, исполненному
зла человеку, требовать от Вас той силы духа, к[оторая] не имеет
примеров, требовать, чтобы Вы, Р[усский] Щарь], под давлением всех
окружающих, и любящий сын, после убийства, простили бы убийц
и отдали бы им добро за зло; но не желать этого я не могу, [не могу]
не видеть того, что всякий Ваш шаг к прощению есть шаг к добру;
всякий шаг к наказанию *есть шаг к злу, не видеть этого я не могу»
(472-473).
Да, продолжает Толстой, «около 20 лет назад завелось какое-то
гнездо людей, большей частью молодых, ненавидящих
существующий порядок вещей и правительств. Люди эти представляют себе
какой-то другой порядок вещей или даже никакого себе не
представляют и всеми безбожными, бесчеловечными средствами, пожарами,
грабежами, убийствами, разрушают существующий строй общества.
20 лет борются с этим гнездом» (474). Но безрезультатно, и «гнездо»
это разрастается, и два рода средств, которые употреблялись, чтобы
разрушить его, оказались бессильны: одно - «прямое отсечение
больного, гнилого, строгость наказания», другое - «предоставление
болезни своего хода», ее регулирование. Но и репрессивные, и либеральные
меры провалились. Отчего бы не прибегнуть к третьему средству,
«о к[отором] ничего не знают врачи?» (475). «Отчего не попробовать
56
во имя Бога исполнять только закон Его, не думая ни о государстве,
ни о благе масс. Во имя Бога и исполнения Закона Его не может быть
зла» (476). Неправда, что «христианское прощение и воздаяние
добром за зло хорошо для каждого человека, но не государства», нет,
«если это закон Бога для людей, то он всегда и везде закон Бога» и он
«выше всех других законов и всегда приложим» (479).
И вот бесподобный финальный совет: «Государь, если бы Вы
сделали это, позвали этих людей, дали им денег и услали их куда-
нибудь в Америку и написали бы манифест со словами сверху: а я
вам говорю, люби врагов своих - не знаю, как другие, но я, плохой
верноподданный, был бы собакой, рабом Вашим» (478). И в
заключение: «Только одно слово прощения и любви христианской, сказанное
и исполненное с высоты престола, и путь христианского
царствования, на к[оторый] предстоит вступить Вам, может уничтожить то зло,
к[оторое] точит Россию» (480). Толстой вручил свое письмо Николаю
Страхову, с которым был в дружеских отношениях, чтобы тот
передал его Александру III через прокурора Синода К. Победоносцева,
имевшего сильное влияние на царя своими
ультраконсервативными взглядами. Победоносцев отреагировал двумя письмами: одним
царю, другим - Толстому. В первом письме он горячо советовал
государю не поддаваться никаким уговорам проявить милосердие к
преступникам, избавив их от смертной казни, потому что народ требует
не этого: «Я русский человек, живу посреди русских и знаю, что
чувствует народ и чего требует. В эту минуту все жаждут возмездия. Тот
из этих злодеев, кто избежит смерти, будет тотчас же строить новые
ковы. Ради Бога, Ваше Величество, да не проникнет в сердце Вам
голос лести и мечтательности!» (482-483).
По этим словам, даже не зная взглядов прокурора Синода,
можно догадаться о его ответе Толстому. Свой вежливый отказ передать
государю полученное через Страхова письмо Победоносцев
мотивировал следующим образом: «Прочитав письмо Ваше, я увидел, что
Ваша вера одна, а моя и церковная другая, и что наш Христос - не
Ваш Христос. Своего я знаю мужем силы и истины, исцеляющим
расслабленных, а в Вашем показались мне черты расслабленного,
который сам требует исцеления. Вот почему я по своей вере и не мог
исполнить Ваше поручение» (483-484).
После толстовской «проповеди» утопического анархизма,
пропитанного евангельским смирением, последовал «урок» не менее
утопического национального теократизма, замешенного на
христианской духовности. Преподал его Владимир Соловьев в лекции,
прочитанной 28 марта 1881 года в кредитном обществе о просвещении
в России в XIX столетии (это была его вторая лекция на эту тему).
57
В заключительной части лекции, как бы иллюстрируя свой идеал
царя в качестве носителя и защитника живых в русском народе
христианских начал, философ заговорил о близившемся к окончанию
судебном процессе над террористами по делу 1 марта и выразил
пожелание, чтобы их не приговорили к смертной казни, противником
которой он был, и чтобы царь простил их. Согласно донесению
полковника Андреева петербургскому градоначальнику генерал-майору
Баранову, слова Соловьева звучали так: «В настоящую минуту
(10 часов вечера 28 марта) суд уже осудил совершителей события
1 марта и, вероятно, уже приговорил их к смертной казни, но царь
русского народа, как водитель его и носитель божественной искры,
лежащей в основе духовной жизни русского народа, царь русский,
как царь и христианин, должен помиловать осужденных» (484-485).
Вот действительные слова Соловьева: «Сегодня судятся и, вероятно,
будут осуждены убийцы царя на смерть. Царь может простить их, и
если он действительно чувствует свою связь с народом, он должен
простить. Народ русский не признает двух правд. Если он
признает правду Божию за правду, то другой для него нет, а правда Божия
говорит: "Не убий" [...] Пусть царь и самодержец России заявит на
деле, что он прежде всего христианин» (486). Слова, прозвучавшие в
глубокой тишине, были встречены овацией зала, особенно молодежи.
Поскольку эта речь Соловьева вызвала неоднозначные толкования,
он счел уместным в письме Александру III уточнить свою мысль,
которая, заявлял он, всего лишь исповедание его веры, что «Царь России
есть представитель и выразитель всех лучших сил народа». Отсюда
следовало, что если царь, «вопреки всем естественным чувствам
человеческого сердца, всем расчетам и соображениям земной мудрости»,
сумеет «заявить силу христианского начала всепрощения», он станет
на «высоту сверхчеловеческую» и докажет «божественное значение»
своей власти, покажет, что «в нем живет духовная сила всего
русского народа, потому что во всем этом народе не найдется ни одного
человека, который мог бы совершить больше этого подвига» (491).
Поскольку земная власть, хотя и христианская, не может
отступать от собственных правил, в России того времени суровых (пусть
и весьма далеких от тех, которые утвердились полвека спустя, чему
террористы неосознанно способствовали), министр внутренних дел
Михаил Лорис-Меликов испросил у Александра III указаний, как
вести себя в отношении Соловьева. Он писал, что следует принять
во внимание, что Владимир Соловьев - сын знаменитого историка
Сергея Соловьева, недавно умершего, уточнял министр, что философ
отличается «строго аскетическим образом жизни и склада
убеждений» и предлагал запретить ему «на некоторое время дальней-
58
шее чтение публичных лекций». Но «великий князь Владимир
Александрович (брат царя. - В. С.) и министр народного
просвещения» не находили «нужным принятия против профессора Соловьева
строгих мер взыскания» (490). Александр III, не отличавшийся
интеллектуальной утонченностью, считавший философа «чистейшим
психопатом» и удивлявшийся, что это сын такого «милейшего»
человека, известного историка, согласился с предложением министра
внутренних дел.
Как мы видим, русское общество было весьма многоликим и не
характеризовалось просто расколом между террористами и
аристократией. Революционный лагерь тоже разделялся на сторонников
политической борьбы и теоретиков и практиков насилия, а общество, как
видно из вышеописанного эпизода, - в толковании христианства, его
ценностей и того, как они претворяются в общественной жизни. У
самих террористов-народников одним из источников их нравственного
формирования было Евангелие, и даже переходя на позиции
атеизма или неверия, они видели в Христе лишь пример самоотвержения,
вплоть до самопожертвования, и проповедования общества,
основанного на справедливости и братстве, аналогично (при всех отличиях)
этико-религиозному христианству Толстого.
Конечно, толстовский принцип «непротивления злу насилием»
отвергался как террористами, которые с таким упорством
добивались приведения в исполнение вынесенного им смертного приговора
Александру II, так и самодержавной властью, без всяких колебаний,
по приговору суда отправившей на эшафот пятерых человек,
ответственных за убийство царя. Проблема насилия и контрнасилия,
власти (самодержавной) и контрвласти (революционной, потом, после
захвата власти, еще более самодержавной) существовала в течение
всей русской политической и культурной истории начиная с конца
XIX - начала XX века, и позднее, за пределами России (уже
советской), где не было места свободной мысли, получила дальнейшее
развитие в русском зарубежье.
В заключение истории эпохального эпизода первомартовского
покушения 1881 года выслушаем мнения (отличные от приведенных
выше) двух современников тех событий, по горячим следам
проанализировавших их значение. Юрист и историк либерального
направления Борис Чичерин так характеризует убитого царя: «История
произнесет над Александром II правдивый приговор, не утаивая его
слабостей, но справедливо ценя его высокие качества. Не одаренный
природой ни сильным умом, ни крепкою волею, не получив даже
воспитания, способного дать ему руководящие нити среди тех шатких
условий, в которые он был поставлен, он призван был исполнить
одну из труднейших задач, какие могут представиться самодержав-
59
ному правителю: обновить до самых оснований вверенное его
управлению громадное государство, упразднить веками сложившийся
порядок, утвержденный на рабстве, и заменить его гражданственностью
и свободою, учредить суд в стране, которая от века не знала, что такое
правосудие, переустроить всю администрацию, водворить свободу
печати при безграничной власти, везде вызвать к жизни новые силы
и скрепить их законным порядком, поставить на свои ноги
сдавленное и приниженное общество и дать ему возможность двигаться на
просторе. История едва ли представляет другой пример подобного
переворота». Чичерин пишет, что его конец был мучительный и
гибельный: «Он погиб жертвою стремлений, не им вызванных, не им
разнузданных, а составляющих глубочайшую язву современного
человечества и сталкивающихся в малообразованном обществе в
особенно безобразных формах. Нет в мире ужаснее явления, как
взбунтовавшиеся холопы, а таковы именно нигилисты»7.
По видимости маргинальный аспект трагического царствования
Александра II усугубляет катастрофическое значение первомартов-
ского покушения на последующий ход российской истории. Жесткое
подавление террористической крамолы царь сопровождал
политикой либеральных реформ и в конце его царствования готовилось
принятие так называемой лорис-меликовской конституции. В
действительности это был проект создания при Государственном совете
консультативного органа, в состав которого должны были входить
избранные и кооптированные представители местного
самоуправления. Внимательно наблюдавший жизнь России того времени
француз Анатоль Леруа-Больё писал: «В 1881 году Россия, таким образом,
была накануне назначения представительного собрания, что стало бы
отправной точкой преобразования, на пределы которого ничто не
указывало. Решение было принято, составлена новая конституционная
хартия, получившая одобрение монарха и его наследника. Какой-то
рок остановил ее обнародование и поверг Россию, возможно надолго,
в неизвестность». «Роком» было убийство царя в тот самый момент,
когда он собирался подписать акт для обнародования, «трагическое
событие», - комментирует Леруа-Больё, - «демонстрирующее, с чем
иногда связана судьба властителей и их империй [...] Опоздай Софья
Перовская на один день в своей подготовке, и Россия вступила бы на
путь политических свобод». И заключает: «Какими бы
несовершенными ни казались этот тип совета и эта зачаточная хартия, быть
может, ее опубликование отвело бы руку сбившихся с пути фанатиков,
Александр Второй. Воспоминания. Дневники / под ред. В.Г. Чернухи.
60
быть может, Россия избежала бы великой беды и великой опасности
для династии и страны»8.
Быть может, потому что максималистские планы
революционеров не предусматривали «политических свобод» как таковых, а
имели в виду Россию «социалистическую», для достижения которой эти
свободы являлись необходимым средством. Один русский
(постсоветский) историк так резюмировал ситуацию, подчеркнув, что было
невероятно, чтобы Исполнительный комитет «Народной воли» в
своей «самонадеянности придал этой мере большое значение» и
поэтому в любом случае «рука сбившихся с пути фанатиков» не была
бы остановлена, «убийство же способного идти подчас на довольно
существенные либеральные шаги императора почти на четверть века
поставило крест на движении России в сторону гражданской
свободы». И приводит свидетельство члена Исполнительного комитета
«Народной воли» А. Зунделовича, который, не отвергая своих
революционных убеждений, в 1922 года признавался: «Быть может,
лучше было бы, при выяснившихся впоследствии обстоятельствах,
остановиться тогда и не произвести 1 марта». Историк комментирует:
«Таким образом, стремясь достичь невозможного, "Народная воля"
упустила даже то возможное, чего могла бы добиться [...] В общем
программа "Народной воли" с точки зрения блага России являлась
глубоко ошибочной, утопичной и фантастичной, ее осуществление
было нереально, и если бы даже и произошло, то не принесло бы с
собой ничего положительного», а только «всеобщий хаос», вандализм
и насилие, потому что только что освобожденные от рабства массы,
конечно, не были способны «осуществить план демократических
преобразований»9. Результатом убийства Александра II явилась по-
8 Leroy-Beaulieu A. L'Empire dea tsars et les russes. Paris, 1990. P. 880-881 (первая
публикация 1881-1882 годов).
9 Кан Г.С. «Народная воля». Идеология и лидеры. М. 1997. С. 78-79. О перво-
мартовском покушении революционерка Вера Фигнер высказала исключительно
сдержанное суждение: «Что бы ни говорили о 1-м марта, его значение было
громадно. Чтобы оценить его, необходимо припомнить, среди каких условий оно
совершалось. Оно прервало 26-летнее царствование императора, который открыл для России
новую эру, поставив ее на путь общечеловеческого развития; после векового застоя
он дал ей громадный толчок вперед реформами: крестьянской, земской и судебной»
(Фигнер В. Поли. собр. соч. Т. 3. М., б. г. С. 260). Фигнер подчеркивает, что первая
реформа через пятнадцать лет продемонстрировала свою неспособность улучшить
социально-экономическое положение крестьян, которые впали в состояние нищеты.
Это отразилось в недовольстве определенной части русского общества, вызвав
брожение и революционные шаги, что в свою очередь обострило репрессивную реакцию
правительства.
Важно, что пишет Фигнер о деморализующем воздействии, которое оказывала на
общество борьба между правительством и революцией: «Как всякая борьба, стоящая не
61
литика контрреформ Александра III, упразднившая новаторский дух
предыдущего царствования. Что же до радикального народничества,
оно перешло от идеи совершения революции с народным участием,
посредством мужицкого бунта, к признанию равнодушия и
пассивности масс и к убеждению, что единственным средством борьбы с
самодержавием за социализм является терроризм.
Первомартовским покушением завершается определенный этап
русской истории и русского терроризма, и начинается новый этап,
и тридцать лет спустя произойдет новое покушение, которое будет
иметь аналогичное значение для страны, уже накануне установления
революционного режима. Если говорить о политических
организациях, этот переход от одного этапа к другому выразился в прекращении
существования «Земли и воли», рождении нового народничества -
партии социалистов-революционеров (которая вместе с
анархистами несет основную ответственность за террор в России начала
XX столетия), в образовании марксистской социал-демократической
партии (вскоре расколовшейся на большевиков и меньшевиков) и
либеральной партии (конституционные демократы). Что касается
жертв террора, то во второй половине XIX века их число составляет
примерно сто человек, чтобы в первом десятилетии XX достигнуть
17 тысяч. Русская политическая, а также экономическая и
культурная жизнь в начале XX столетия усложнилась и обогатилась, в то
время как в обществе расширилась практика и возрос потенциал
идейно-политического насилия, терроризм стал почти обыденным
явлением (и вызывал даже сочувствие), что нашло свое отражение и
в литературе.
на почве идей, а на почве силы, она сопровождалась насилием. А насилие, совершается
ли оно над мыслью, над действием или над человеческой жизнью, никогда не
способствует смягчению нравов. Оно вызывает ожесточение, развивает звериные инстинкты,
возбуждает дурные порывы и побуждает к вероломству. Гуманность и великодушие
несовместимы с ним. И в этом смысле правительство и партия, вступившие, что
называется, в рукопашную, конкурировали в развращении окружающей среды. С одной
стороны, партия провозглашала, что все средства хороши в борьбе с противником, что
цель оправдывает средства; вместе с тем она создавала культ динамита и револьвера
и ореол террориста; убийство и эшафот приобретали пленительную силу над умами
молодежи, и чем слабее она была нервами, а окружающая жизнь тяжелее, тем больше
революционный террор приводил ее в экзальтацию [...] Общество, не видя исхода из
существующего положения, частью сочувствовало насилиям партии, частью смотрело
на них как на неизбежное зло, но и в этом случае аплодировало отваге или искусству
борца, а повторение событий вводило их в норму» (265-266). С другой стороны,
правительство отвечало насилием: «Сковывалась мысль, запрещалось слово, отнималась
свобода и жизнь; административная ссылка была обычным явлением, тюрьмы были
переполнены, казни считались десятками» (267).
62
Прежде чем перейти к рассмотрению некоторых принципиальных
аспектов нового терроризма, следует остановиться на еще одном
философском размышлении о нигилизме, после того, что в XIX
столетии говорил об этом Страхов. Оно касается всей радикальной русской
интеллигенции, в среде которой возникли нигилизм и терроризм,
подпитывавшиеся ее врагом - русской аристократией, ее
сопротивлением уже безотлагательным реформам. Однако и предпринятые
реформы революционеры считали недостаточными, поскольку их
цель выходила за рамки модернизации «европейского» типа и
предполагала коренное всеобщее социальное переустройство.
От ничто к абсолюту
В статье «Этика нигилизма» Семен Франк видит специфическую
черту мировоззрения русской интеллигенции в «нигилистическом
морализме». Определив нигилизм как «отрицание или непризнание
абсолютных (объективных) ценностей»10, он утверждает, что
«морализм русской интеллигенции есть лишь выражение ее нигилизма»
(158). Как объяснить противоречие, состоящее в том, что из
нигилизма закономерно должен бы, напротив, вытекать в практической
сфере аморализм? В самом деле, пишет Франк, «если бытие
лишено всякого внутреннего смысла, если субъективные человеческие
желания суть единственный разумный критерий для практической
ориентировки человека в мире, то с какой стати должен я
признавать какие-либо обязанности, и не будет ли моим законным правом
простое эгоистическое наслаждение жизнью, бесхитростное и
естественное carpe diem?» (159). Но есть нигилизм и нигилизм: одна его
пассивная и индивидуальная форма, как в тургеневском Базарове из
«Отцов и детей», равнодушном к благоденствию человечества,
которое наступит, когда из него, Базарова, «будет лопух расти»; другая,
деятельная и коллективная, присущая радикальной русской (и не
только) интеллигенции.
10 Вехи. Интеллигенция в России. Сборники статей 1909-1910. М., 1991. С. 159
(далее страницы указываются в тексте в скобках). Семен Франк (1877-1950) - один
из крупнейших русских философов XX столетия. В 1922 году вместе с другими
представителями свободной русской культуры он был изгнан большевиками из России.
От первоначальных марксистских позиций его мысль развивалась в направлении
метафизических исканий религиозного порядка с постоянным вниманием к социально-
политическим проблемам. «Этика нигилизма» была опубликована в 1909 году в
«Вехах», вызвавших широкую полемику из-за их критического отношения к радикальной
интеллигенции.
63
Франк объясняет: логическое противоречие «ангажированного»
(пользуясь современным выражением) нигилизма, то есть
«нигилистического морализма», «логическим скачком», психологической
инверсией, переводящей мораль с подчиненного места, которое она
занимает у того, кто, не будучи нигилистом, признает «абсолютные
(объективные) ценности», на главное место, замещающее вакуум
ценностей, в силу чего мораль «абсолютизируется и кладется в основу
всего практического мировоззрения» (160). Согласно Франку, «это
умонастроение, в котором мораль не только занимает главное место,
но и обладает безграничной и самодержавной властью над сознанием,
лишенным веры в абсолютные ценности, можно назвать морализмом»
(160), и именно такой нигилистический морализм и присущ русской
радикальной интеллигенции. Следует заметить, что нигилистический
вакуум может быть заполнен другой относительной ценностью,
превращенной в абсолютную, например государственным могуществом,
национальным превосходством, расовой чистотой, в зависимости от
разных ситуаций и культурно-исторических традиций.
Это целиком антирелигиозное воззрение, потому что
религиозному духу присуще «сознание космического, надчеловеческого
значения высших ценностей», между тем как «всякое мировоззрение,
для которого идеал имеет лишь относительный человеческий смысл,
будет нерелигиозным и антирелигиозным, какова бы ни была
психологическая сила сопровождающих его и развиваемых им аффектов»
(180), хотя «нигилистический морализм» принимает форму некоей
новой религии, в которой такие антагонистические мотивы, как
«безверие и фанатическая суровость нравственных требований,
беспринципность в метафизическом смысле - ибо нигилизм и есть отрицание
принципиальных оценок, объективного различия между добром и
злом и жесточайшая добросовестность в соблюдении эмпирических
принципов, то есть по существу условных и непринципиальных
требований» - это «рационально непостижимое», но «жизненно
крепкое» слияние составляет «могучую психологическую силу»,
псевдорелигиозную, у радикальной революционной интеллигенции (162).
«Нигилистический морализм» не только антирелигиозен, но и
противокультурен, так как основан на чисто утилитарном понимании
культуры. В Европе, пишет Франк, культура осознается как
«объективное, самоценное развитие внешних и внутренних условий жизни,
повышение производительности материальной и духовной,
совершенствование политических, социальных и бытовых форм
общения, прогресс нравственности, религии, науки, искусства - словом,
многосторонняя работа поднятия коллективного бытия на
объективно высшую ступень». Напротив, в России к культуре подходят чисто
64
утилитарно: «Когда у нас говорят о культуре, то разумеют или
железные дороги, канализацию и мостовые, или развитие народного
образования, или совершенствование политического механизма, и всегда
при этом нам преподносится нечто полезное, некоторое средство для
осуществления иной цели - именно удовлетворение субъективных
жизненных нужд» (163). Отсюда следует, что для русской
радикальной интеллигенции чистое понятие культуры не только
недоступно, но и глубоко «антипатично», и культура для него - «ненужное
и нравственно непозволительное барство» (163-164). В основе всего
этого, считает Франк, - «народничество» (164) - мировоззрение,
которым пропитан даже марксизм, первоначально в России (на исходе
XIX века), боровшийся с народничеством, чтобы затем
возвратиться к нему внутри своей наиболее радикальной тенденции -
большевизма. Народнический утилитаризм и морализм отрицают все
абсолютно ценности и преследуют единственную цель в служении
субъективным, материальным интересам большинства (или народа)
и требуют, чтобы каждый индивид жертвовал собственными
интересами, даже высшими и чистейшими, во имя «всеобщего равенства»
(164). Начиная с 1870-х гг. народничество стало, сказали бы мы,
идеологией или, как говорит Франк, «этическим существом» (165)
интеллигенции, народничество, после альтруистического хождения «в
народ» отдельных самоотверженных интеллигентов, прямо
общавшихся с мужицкими массами и деятельно помогавших крестьянам,
превратилось в'«воинствующее народничество», приняв форму
«революционного социализма» (166) (отличного от прагматического и
реформаторского социализма). Таким образом, сложилась вера,
которая «психологически [...] аналогична религиозной вере, и в сознании
атеистической интеллигенции заменяет подлинную религию»: вера,
коренящаяся в «метафизическом оптимизме» рационалистического
оптимизма Просвещения, в полное осуществление счастья народа
или же человечества. Разделяющему эту веру мир представляется
населенным «жертвами мирового зла, искоренить которое он
мечтает», и «виновниками этого зла», с которыми он должен бороться,
чтобы осуществить свой идеал. Так рождается «чувство ненависти к
врагам народа», и «страсть к устроению земного рая становится
страстью к разрушению», и верующий народник-социалист становится
революционером» Под этим здесь понимается, уточняет Франк, не
тот, кто участвует в политической революции, а тот, кто
вдохновляется «принципиальным революционизмом», то есть убеждением, что
«основным и внутренне необходимым средством к осуществлению
морально-общественного идеала служит социальная борьба и
насильственное разрушение существующих общественных форм»: это
65
убеждение является существенным моментом «мировоззрения
социалистического народничества» и имеет в нем «силу религиозного
догмата» (169). «Революционизм» есть «лишь отражение
метафизической абсолютизации ценности разрушения» (170), и ненависть в
нем играет роль «глубочайшего и страстного этического импульса»
(171), оплодотворяя почву «внутренней войны», каковой является
революция.
Франк подчеркивает «противоречие между морализмом и
нигилизмом, между общеобязательным, религиозно-абсолютным
характером интеллигентской веры и его нигилистически-беспринципным
содержанием», и это противоречие имеет не только отвлеченное или
теоретическое значение, а «приносит реальные и жизненно-гибельные
плоды». И действительно, «непризнание абсолютных и
действительно общеобязательных ценностей, культ материальной пользы
большинства обосновывают примат силы над правом, догмат о
верховенстве классовой борьбы и "классового интереса пролетариата", что на
практике тождественно с идолопоклонническим обоготворением
интересов партии; отсюда - та беспринципная, "готтентотская" мораль,
которая оценивает дела и мысли не объективно и по существу, а с
точки зрения их партийной пользы или партийного вреда; отсюда -
чудовищная, морально недопустимая непоследовательность в отношении
к террору правому и левому, погромам черным и красным» (180), то
есть неодинаковая оценка насилия в политической и общественной
жизни, в зависимости от его политической и идеологической
принадлежности. Но Франк отмечает нечто худшее в момент написания этой
работы (после революции 1905 года): перерождение этого насилия в
чистую уголовщину: «нигилизм классовый и партийный сменился
нигилизмом личным или попросту хулиганским насильничеством»,
перечеркнув границу между террористами, движимыми «социальной
верой», и грабителями, убийцами, насильниками, так что нигилизм
интеллигенции «как бы сам невольно санкционирует преступность
и хулиганство и дает им возможность рядиться в мантию идейности
и прогрессивности» (181). Революционный социализм, владеющий
умами, восходит, «с одной стороны, к индивидуалистическому
рационализму XVIII в., и с другой - к философии реакционной
романтики, возникшей в результате идейного разочарования исходом
великой французской революции». Со своей «верой» в Маркса русская
радикальная интеллигенция, в сущности, некритически
воспринимает «ценности и идеи, выработанные Руссо и де-Местром, Гольбахом
и Гегелем, Берком и Бентамом», питаясь «объедками с философского
стола XVIII и начала XIX века». «Подавляющему господству» над
умами марксовой доктрины, «системы, которая, несмотря на всю
66
широту своего научного построения, лишена какого бы то ни было
философского и этического обоснования, но даже принципиально
от него отрекается» (183), «нигилистическому морализму»
интеллигенции, ее релятивизму, нелогично творящему новые абсолюты,
Франк противопоставляет культурно созидательный «религиозный
гуманизм», оригинальным вкладом в который явилась и его
философия. Это было целительное, но уже недостаточное средство, чтобы
излечиться от болезни, так точно диагностированной. И ее ход был
предопределен до конца.
Жертвы и предатели
В конце 1901 года образовалась партия
социалистов-революционеров (эсеры), продолжательница в идейном плане «Народной
воли», партия народническая, а в плане практики -
террористическая. Террористическая деятельность была возложена на
специальную структуру - Боевую организацию, обладавшую относительно
партии автономией, хотя ее возглавлял член Центрального комитета
партии, с функциями общего контроля (ограничения, расширения
или же временной приостановки ее деятельности), в то время как
в отношении оперативных аспектов организация была
независимой и ответственной перед своим руководителем. Партия эсеров и
ее Боевая организация превратилась в центр терроризма в России в
начале XX столетия вместе с эсерами-максималистами,
представлявшими ее экстремистское крыло, ставшее автономным в 1906 году, и
анархистами.
Теория социалистов-революционеров, касающаяся собственно
террора, была изложена и аргументирована в статье главного
теоретика партии Виктора Чернова «Террористический элемент в
нашей программе». От народников эсеры, разделявшие их идеалы,
отличались не только более четкой организацией, но и тем, что
действовали в другой политической и идеологической ситуации, когда
господствовали идеи марксистского революционного социализма,
в силу чего и терроризм получал новое обоснование, которое
должно было учитывать значение, придаваемое марксизмом классовой
общественно-политической борьбе, для которой террористические
действия, ограничивавшиеся устранением отдельных
представителей «врага», сами по себе не имели значения. Чернов в своей статье
пишет: «Мы за применение в ряде случаев террористических средств.
Но для нас террористические средства не есть какая-то
самодовлеющая система борьбы, которая одною собственной внутренней силой
неминуемо должна сломить сопротивление врага и привести его к
67
капитуляции. Террористические действия вовсе не должны быть
каким-то замкнутым внутри себя рядом актов, воплощающим собою
всю непосредственную борьбу с врагом. Напротив - для нас
террористические акты могут быть лишь частью этой борьбы, частью,
неразрывно связанной с другими частями; в этой-то живой органической
связи они и почерпают всю свою силу, все свое значение [...] Террор -
лишь один из родов оружия, находящийся в руках одной из частей
нашей революционной армии»11. Но без всякого сомнения, террор
был главным оружием армии социалистов-революционеров, и
действия их Боевой организации оставили глубокий след в жизни
общества того времени.
Не обошлось без «морального» оправдания террора: «Наша
нравственность не витает где-то на недосягаемой заоблачной высоте над
грешной землей. Нет, наша нравственность - земная, она есть учение
о том, как в нашей нынешней жизни идти к завоеванию лучшего
будущего для всего человечества, через школы суровой борьбы и труда, по
усеянным терниями тропинками, по скалистым крутизнам и лесным
чащам, где нас подстерегают и дикие звери, и ядовитые гады. Этр -
боевой клич, а не сентиментальные и прекраснодушные воздыхания
о том, как бы совсем обойтись без "насилия над личностью" - хотя
бы и над личностью насильников: это - учение о трудном и суровом
нравственном долге, а не об утонченно нравственном эпикурействе»
(195). И наконец, излагалась программа строго организованных
террористических актов, которые «могут произвести определенное
положительное действие только тогда, когда за ними чувствуется сила,
когда в них звучит серьезная, роковая угроза на будущее. Случайные
же покушения отдельных лиц, не организованные, не
подготовленные, часто являющиеся только "покушениями с негодными
средствами", способны только раздразнить врага и внушить ему
пренебрежение к силам революционеров» (208).
Таковы теоретические предпосылки нового народнического
терроризма эсеров, а на практике их Боевая организация действовала
весьма свободно, не говоря уже о крыле партии, которое, став
автономным, теоретически обосновало переход от покушений на отдельных
представителей власти к массовому террору, так что сам Чернов
заговорил о «бойне, напоминающей погромы»12. Самый громкий теракт
памятен не только по выбранной жертве - Столыпину (уцелевшему
в покушении), но по произошедшему кровопролитию. Не говоря уже
11 История терроризма в России. С. 204. Далее страницы указываются в тексте в
скобках.
12 Гейфман А. Революционный террор в России. 1894-1917. М., 1997. С. 106.
68
о таком маргинальном факте, даже относительно максималистов, но
не таком уж далеком от их идей и представлявшем знаменательную
их экстремизацию, как публикация в 1907 году в Москве брошюры
под заглавием «Очистка человечества»13, автор которой Иван Павлов
выдвигал теорию разделения человечества на две не этнические, а
этические расы: расу эксплуататоров, с ее аппаратом власти, расу,
по нравственному уровню, находящуюся ниже животных предков
человека, чудовищ, чьи патологические качества не могли не
передаваться из поколения в поколение, и их жертв, эксплуатируемых,
порабощенных ими. После такого различения цель становилась ясна:
уничтожить худшуй) часть, очистивши от нее человечество
посредством решительных и безжалостных мер массового террора. Теорию
и программу Павлова не взяли на вооружение даже максималисты,
хотя они признавали ее остроумие. И в самом деле, не только в
русском революционном движении, но и в движениях других стран не
найти более жуткого, но последовательного предложения «чистки» и
«очищения» человечества исходя из классовых «этических»
принципов. Это предложение несколькими десятилетиями спустя было
реализовано в России и, пожалуй, с еще большей систематичностью в
Китае (и Камбодже) посредством «культурной революции», которую
было бы лучше назвать «варварской революцией».
Вместе с эсеровской партией центральную роль в
террористической деятельности в России играли анархисты, которым
приписывается наибольшее число жертв. Однако следует отметить, что
крупнейшие теоретики анархизма Михаил Бакунин и Петр Кропоткин
принимали практику терроризма со значительными оговорками.
Бакунин, если исключить период его сотрудничества с Нечаевым, не
видел в терроре орудие своей радикальной революции, ставившей
задачей уничтожение собственности и государства, а не его отдельных
представителей, хотя его анархические идеи, столь
распространенные в среде революционных народников второй половины XIX века,
были таковы, что террористические акции не исключали. Впрочем,
нельзя считать случайной его пусть и кратковременную «нечаевщи-
ну», даже если и снять с него прямую политическую и моральную
ответственность за «Катехизис революционера». В соответствии с этой
двусмысленной позицией Бакунин, в отличие от Герцена, не осудил
провалившегося каракозовского покушения на Александра II и в
письме к другу так аргументировал свою особую позицию: «...ни за
что в мире я не бросил бы в Каракозова камня... Ни в каком случае
Там же. С. 118-120.
69
мы здесь не имеем право судить его, ничего не зная о нем, ни о
причинах, побудивших его к известному поступку. Я так же, как и ты, не
ожидаю ни малейшей пользы от цареубийства в России, готов даже
согласиться, что оно положительно вредно, возбуждая в пользу царя
временную реакцию, но не удивляюсь отнюдь, что не все разделяют
это мнение, и что под тягостью настоящего, невыносимого, говорят,
положения, нашелся человек менее философски развитой, но зато и
более энергичный, чем мы, который подумал, что гордиев узел можно
разрезать одним ударом. Несмотря на теоретический промах его, мы
не можем отказать ему в своем уважении и должны признать его
"нашим" перед гнусной толпой лакействующих царепоклонников»14.
Позиция Кропоткина была более нюансированная, и потому еще,
что террор стал распространенным явлением, частью
организованного революционного действия и было невозможно не высказать к нему
своего отношения. Приведем его размышления о первомартовском
покушении, имевшем куда более важные последствия, чем выстрел
Каракозова, размышления, перекликающиеся с бакунинскими по
поводу этого покушения: «Перовская и ее товарищи убили русского
царя, и все человечество, несмотря на отвращение к кровопролитию,
несмотря на симпатии к тому, кто освободил своих крестьян,
признало, что они имели право на этот поступок.
Почему? Не потому, что этот акт был полезным: три четверти
человечества еще сомневается в этом, но потому, что каждый
чувствовал, что Перовская и ее товарищи ни за какие сокровища мира
не согласились бы стать в свою очередь тиранами. Даже те, которым
не известна эта драма в ее целом, тем не менее убеждены, что в этом
поступке сказалось не удальство, не попытка к дворцовому
перевороту или стремление к власти, а ненависть к тирании, ненависть,
доходящая до самоотвержения и смерти. "Эти люди" говорят про них,
"завоевали себе право убивать..."»15
В этих словах Кропоткина чувствуется стремление найти
оправдание, связанное не с «пользой», к тому же весьма сомнительной,
этого акта, но основывающееся на ненависти к тирании и главное - на
нежелании в свою очередь превращаться в тиранов, а это, как учит
история, детская иллюзия, поскольку если бы террористы даже и
избежали какого бы то ни было тиранства, все равно они
расчищали путь к почти несомненной новой тирании. Кропоткин заключает
свое размышление такими словами: «Человечество никогда не отри-
14 Цит. по: Будницкий О.В. Терроризм в российском освободительном движении.
С. 223-224.
15 Цит. по: История терроризма в России. С. 325.
70
цает права пускать в ход силу - будь то на баррикадах или глухом
перекрестке - тех людей, которые уже завоевали себе это право. Но
для того, чтобы подобные поступки могли оказывать глубокое
влияние на умы, необходимо завоевать себе это право. Иначе поступок
как полезный, так и вредный, будет лишь просто актом грубости, не
имеющей никакого значения для идейного прогресса. Его будут
рассматривать как простое перемещение силы, простой подмен одного
эксплуататора другим16.
Проблема в том, как завоевать себе «право убивать» и как не
превращать применение этого «права» в «простой подмен одного
эксплуататора другим», одного тирана другим, одну неправедность
другой, еще большей» и более страшной. Важно, однако, что анархист
Кропоткин ставил такую проблему и искренне пытался найти ее
решение в «этике анархизма» или, беря шире, поскольку терроризм
вышел за рамки анархизма, в своего рода «этике террора», этике
насилия, которая в намерениях, но не в результатах должна была бы
положить конец всякому насилию, а в действительности довела
антинасильственное насилие до пароксизма, каковым является терроризм, а
далее, после захвата власти, к террору государства (которое, в случае
анархистов, подлежало упразднению). Признаваемый и морально
оправдываемый Кропоткиным терроризм возник из движения
сопротивлявшихся и противоборствующих масс и вылился в акт
неукротимого бунтарства («ненависть») вплоть до самоотречения -
высочайшего акта свободы, которая враждебна всякой сегодняшней, но
самое главное, будущей тирании. Но такой терроризм, оправдывать
ли его с Бакуниным или порицать с Герценом, не был терроризмом,
которому принадлежало, особенно в России, настоящее и будущее:
это был уже феномен организованный, феномен не столько
практический, а прежде всего теоретический, практика систематического
насилия, разбудившая возможности, о которых нельзя было и
помыслить, положившая начало новой исторической фазе применения
«силы» и «права убивать» («право», ставшее «долгом») как со
стороны правительственной власти, так и революционной контрвласти,
которой было суждено стать новой властью, вернее, властью нового
типа после победы радикальной революции, властью анархической -
в подрывной подготовительной фазе, коммунистической - в
финальной фазе ее построения.
Не останавливаясь на террористической практике различных
экстремистских и максималистских анархических групп, лишенных
Там же. С. 338-339.
71
нравственной щепетильности Кропоткина, практике покушений и
экспроприации, сиречь убийств и грабежа, к 1906-1907 годам
достигшей апогея, рассмотрим некоторые эмблематические эпизоды
и некоторые знаменательные фигуры терроризма начала XX века,
позволяющие почувствовать драму тогдашней России,
символически представленную в романе, который перекликается с «Бесами»
Достоевского, хотя и не поднимается до высоты этого произведения.
12 февраля 1906 года в либеральном журнале «Русь» появилось
письмо, которое произвело глубокое впечатление не только на
столичных, но и на читателей всей страны. Оно было подписано
заключенной тамбовской тюрьмы Марией Спиридоновой, членом боевой
эсеровской организации. Спиридонова совершила в этом году
покушение на тамбовского городского чиновника Гаврилу Луженовского,
которого партия эсеров приговорила к смерти за жестокое
подавление крестьянских волнений. Луженовский получил пять ранений
и скончался на следующий день после покушения17. Автор письма и
покушения - молодая двадцатилетняя женщина буржуазного
происхождения (ее отец, бывший хозяин паркетной фабрики; потом
банковский служащий), не закончившая гимназический курс из-за
участия в студенческом движении. Это покушение не было из ряда
вон выходящим, чтобы вызвать всеобщее внимание, как в случае
покушений, жертвами которых оказывались персонажи куда более
важные, чем Луженовский. Но резонанс ему придала личность
покушавшейся: красивую, жизнерадостную девушку, как говорилось в
письме, подвергли в полиции истязаниям и насилию, переходившим
все границы даже в те жестокие времена революционного насилия и
правительственных карательных мер. Мария Спиридонова, которую
ожидала в дальнейшем яркая политическая карьера, вместе с Верой
17 В статье «"Окрасился месяц багрянцем..." или подвиг святого террора»,
опубликованной в журнале «Континент» (№ 28), Екатерина Брейбарт выдвигает новую
версию покушения Спиридоновой (эту версию поддерживают и другие): девушка
стреляла в Луженовского, с которым была в любовной связи в гимназические годы, из-
за ревности к оставившему ее любовнику. Левая печать создала «легенду» о
покушении, совершенном во имя революционных идеалов. В связи с этим, не проводя анализ
данной версии, опровергаемой другими историками (Будницкий пишет, что она «не
выдерживает критики», см.: История терроризма. С. 221), следует отметить, что дело
Спиридоновой вошло в историю как акт политического терроризма и что дальнейшая
ее биография - биография революционерки. Можно при этом допустить, что в акте
Спиридоновой соединились два побуждения: ревность, если она имела место, и
идейный мотив протеста, тем более, как известно, в личности террористов индивидуальный
психологический момент и общий идеологический всегда в той или иной мере
присутствовали. Впрочем, «героизация» террориста (или нигилиста, или революционера)
не только в России была частью «левой» культуры, создательницы мифов и легенд
(позитивных для себя) и негативных (для противника).
72
Засулич и Софьей Перовской, вошла в пантеон знаменитых русских
террористок (хотя в советские времена ее лишили этой чести) и стала
своего рода иконой, получив имя «эсеровской богородицы», слегка
ироническое, но не лишенное серьезности, как видно из эпизода тех
лет, характерного для широкого общественного мнения18 культа
«героев» и «героинь» терроризма.
В Киеве шестнадцатилетний юноша, внимательно следивший за
кампанией либеральной печати в защиту Спиридоновой, был
настолько потрясен перенесенными молодой женщиной страданиями,
которые она ярко описала в своем письме, что покончил с собой, когда
суд приговорил ее к смертной казни. В предсмертном письме мальчик
писал, что «молился на ее портрет» и думал, что в случае ее
помилования он «упадет к ее ногам» и выскажет ей свою любовь. Но в
убеждении, что «дорогую Марию» ожидает смерть, он решил покинуть «этот
мир» и пойти туда, где скоро увидит ее19. Подростковая экзальтация,
которая выражает, однако, атмосферу времени и согласовывается с
тем, что сама Спиридонова говорила в одном письме, заявляя, что
желает быть приговоренной к смертной казни, потому что ее смерть
произведет эффект политической «агитации»20. Импульс самоубийства
был связан со смертоубийственной практикой терроризма не только
как непосредственное принесение себя в жертву автором покушения,
но и как стремление к самопожертвованию во имя абсолюта,
который выходил за рамки сиюминутной политики и сосредоточивался в
мифе Революции и Будущего. Самоубийственным было само
террористическое движение, подготовившее переворот 1917 года и в нем
обретшее смерть своих идеалов свободы и справедливости.
В опубликованном в 1906 году письме Спиридонова рассказывает
о совершенном ею террористическом акте в поезде, на котором,
говорит она, «Луженовский ехал последний раз». Поняв, по присутствию
казаков, что намеченная жертва находится в поезде, Спиридонова,
18 Высшее выражение этого - в стихотворении в прозе И.С. Тургенева «Порог»,
написанном, возможно, под впечатлением от суда над Верой Засулич и посвященном
молодой русской женщине вообще, с полным самоотвержением посвящающей себя
революционному делу. Молодая революционерка готова переступить порог, зная, что
ее ожидает «холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, обида, тюрьма, болезнь и
самая смерть», она даже готова на «преступление». Она готова даже к возможности
разувериться в том, чему верит сейчас и «понять, что обманулась и даром погубила
свою молодую жизнь». И все-таки «девушка перешагнула порог - и тяжелая завеса
упала за нею». Кто-то произносит ей вслед: «Дура!», но в ответ раздается голос:
«Святая!» (Тургенев И.С. Поли. собр. соч. и писем. Т. 13. М.; Л., 1967. С. 168-169).
19 А. Гейфман. Революционный террор. С. 242-243.
20 Geifman A. Thou Shalt Kill. Revolutionary Terrorism in Russia. Princeton, 1993.
P. 324.
73
«одетая гимназисткой, розовая, веселая и спокойная», купила билет
второго класса и по прибытии в Борисоглебск приступила к
действиям: «Я вошла в вагон и на расстоянии 12-13 шагов, с площадки
вагона, сделала выстрел в Луженовского, проходившего в густой цепи
казаков. Так как я была очень спокойна, то я не боялась не попасть,
хотя пришлось метиться через плечо казака; стреляла до тех пор,
пока было возможно. После первого выстрела Луженовский присел
на корточки, схватился за живот и начал метаться по направлению от
меня, по платформе. Я в то время сбежала с площадки вагона на
платформу и быстро, раз за разом, меняя ежесекундно цель, выпустила
еще три пули. Всего [...] нанесено пять ран: две в живот, две в грудь и
одна в руку»21.
Так же четко Спиридоновой описаны истязания, которым ее
подвергли два представителя власти: казачий офицер Аврамов и
помощник пристава Жданов. Жестоко избитую казаками сразу после
выстрелов Спиридонову Аврамов и Жданов подвергли виртуозным пыткам,
таким, что «Иван Грозный мог бы им позавидовать». Описание
долгое, со всеми подробностями: «Ударом ноги Жданов перебрасывал
меня в угол камеры, где ждал меня казачий офицер, наступал мне на
спину и опять перебрасывал Жданову, который становился мне на
шею. Они велели раздеть меня донага и не велели топить мерзлую
и без того камеру. Раздетую, страшно ругаясь, они били нагайками
(Жданов) и говорили: "Ну, барышня (ругань), скажи зажигательную
речь!". Один глаз ничего не видел, и правая часть лица была страшно
разбита. Они нажимали на нее и лукаво спрашивали: "Больно,
дорогая? Ну, скажи, кто твои товарищи!" [...] Тушили горячую папиросу
о тело и говорили: "Кричи же, сволочь!"» (225-226). После
допроса следователем Спиридонову повезли в Тамбов: «Поезд идет тихо.
Холодно, темно. Грубая брань Аврамова висела в воздухе. Он
страшно ругает меня. Чувствую дыхание смерти. Даже казакам жутко [...]
Брежу: воды - воды нет. Офицер ушел со мной во II класс. Он пьян
и ласков, руки обнимают меня, расстегивают платье, пьяные губы
шепчут гадко: «Какая атласная грудь, какое изящное тело...» Нет сил
бороться, нет сил оттолкнуть [...] Разбила бы голову, да не обо что. Да
и не дает озверелый негодяй. Сильным размахом сапога он ударяет
мне в сжатые ноги, чтобы обессилить их [...] Не спала всю ночь,
опасаясь окончательного насилия» (226-227). Подтвердив, что исполнила
вынесенный партией смертный приговор Луженовскому «в полном
сознании своего поступка», Спиридонова заключала письмо такими
21 История терроризма. С. 224.
74
словами: «Следствие кончено: до сих пор сильно больна, часто брежу.
Если убьют, умру спокойно и с хорошим чувством»22. Известны слова
из речи ее защитника Николая Тесленко: «Перед вами не только
униженная, поруганная, больная Спиридонова. Перед вами поруганная
и больная Россия»23.
Спиридонову приговорили к повешению, затем это наказание
заменили на каторгу. Специальный вагон, в котором Спиридонову
и других каторжниц везли на место ссылки, на многих станциях
встречали толпы с цветами и красными знаменами. Популярности
Спиридоновой способствовала не только поднятая в ее защиту
кампания либеральных газет, таких как «Русь», но и опубликованная в
1906 году и получившая широкое распространение брошюра «Дело
Марии Спиридоновой» за подписью «СП. М-ин», в которой автор
восторженно описывал молодую героиню. Обаяние этой девушки
только увеличивало ее популярность. Другая либеральная газета
«Новая жизнь» так описывала ее своим читателям: «Представьте
существо чистое, девственное, цвет одухотворенной красоты, какую
только выработала высшая культура России, представьте эту юную,
беззащитную девушку в косматых лапах скотски отвратительных,
скотски злобных и скотски сладострастных орангутангов. Такова
была участь Спиридоновой»24.
Что до орангутангов, их судьба была предрешена: 1 апреля 1906
года Аврамова убили члены эсеровского боевого отряда, 6 мая та же
участь постигла Жданова.
На этом можно было бы закончить историю «эсеровской
богородицы» периода русского террора начала XX века, драматическую
историю, закончившуюся наказанием истязателей героини и ее
осуждением на каторгу. После февральской революции 1917 года
Спиридонова вышла на волю и активно включилась в политическую
жизнь в рядах левого крыла партии эсеров, а после раскола партии
стала лидером партии левых эсеров, сотрудничавшей с большевиками
и поначалу входившей в состав советского правительства. Не входя
во все тонкости отношений большевиков и левых эсеров, отношений,
вскоре разорванных, остановимся кратко на дальнейшей истории
Марии Спиридоновой, вплоть до ее трагической гибели в 1941 году,
потому что ее жизнь - символ судьбы русских террористов, вставших
на сторону победителей в «октябрьской революции», однако очень
Там же. С. 228.
Ср.: Гусев К.В. Эсеровская богородица. М., 1992. С. 52.
Там же. С. 6.
75
скоро обнаруживших, что в России уже утвердилась другая
реальность. Еще одно выступление Спиридоновой, ее «открытое письмо»
в ЦК партии большевиков разъясняет новую ситуацию.
Это письмо Спиридоновой25 - суровый критический анализ
советской внутренней и внешней политики (например, Брест-Литовский
мир, который эсеры отвергали как уступку германскому
империализму в ущерб мировой революции) и в первую очередь обличение
репрессий против левых эсеров: «Никогда еще в самом
разложившемся парламенте, в продажной бульварной прессе и прочих махровых
учреждениях буржуазного строя не доходила травля противника до
такой непринужденности, до какой дошла ваша травля, исходящая
от социалистов-интернационалистов, по отношению к вашим
близким товарищам и соратникам, которые погрешили против
лояльности к германскому империализму, а не к вам и, во всяком случае,
не погрешили в отношении революции и Интернационала» (121).
Подчеркнув, что несогласие левых эсеров не является ни
антибольшевистским, ни антисоветским и что репрессии суть предательство
(«Разгром нашей партии - это разгром советской революции», -
пишет Спиридонова), она бросает коммунистам обвинение, что для
них оппозиция - результат темных заговоров: «Вы перестали быть
социалистами в анализе явлений, совершенно уподобляясь царскому
правительству, которое тоже всюду искало агитаторов и их
деятельностью объясняло все волнения» (122).
Она резко обличает большевиков в притеснении крестьян: «У нас
зарегистрирована порка крестьян в нескольких губерниях, а
количество расстрелов убийств на свету, на сходах и в ночной тиши, без суда,
в застенках, за «контрреволюционные» выступления, за «кулацкие»
восстания, при которых села, до 15 тысяч человек, сплошь встают
стеной, учесть невозможно. Приблизительные цифры перешли давно
суммы жертв усмирений 1905-1906 гг.» (124).
Критика большевистской внутренней политики и ее
разносторонний, подробный, безжалостный анализ, где с особенной силой звучит
обличение коммунистического полицейского насилия этой бывшей
террористки, оставшейся революционеркой и в отказе от массового
террора, косившего жертвы без разбора, по произволу, в интересах
одной партии: коммунистической. «А ваша чрезвычайка! Именем
пролетариата, именем крестьянства вы свели к нулю все моральные
завоевания нашей революции. Когда в вашей собственной среде раз-
25 Брошюра полностью воспроизведена в книге Гусева (с. 11-144), откуда взяты
цитаты с указанием страниц в тексте в скобках.
76
давалось робкое пиканье, осмеливающееся возразить против ее
разгула и требующее добиться неприкосновенности личности хотя бы
для членов комитетов Коммунистической партии и членов ЦИК, то
вы стали доказывать, что в чрезвычайках нет сомнительных
элементов - все сплошь коммунисты» (133). И обращаясь к коммунистам,
поборникам Красного террора, Спиридонова пророчески возглашает:
«Вы скоро окажетесь в руках вашей чрезвычайки, вы, пожалуй, уже в
ее руках. Туда вам и дорога» (136).
Перейдя к рассмотрению распространенного риторического
аргумента, «оправдывающего» коммунистический Террор прецедентом
Террора якобинского, она пишет: «Пользоваться робеспьеровскими
фразами из времен французской революции, бывшей полтораста лет
назад, в совершенно иной обстановке - не аргумент и не
оправдание, но Робеспьер так же подкосил и жестоко повредил террором
французской революции, как вы - русской» (136). И, действительно,
«к каким абсолютам, к каким идеям морали и человечности» можно
апеллировать, когда «вы расстреливали 150 человек за одного члена
чрезвычайки» (136-137) и происходят «ночные убийства связанных,
безоружных, обезвреженных людей, втихомолку, в затылок из нагана
на Ходынке, с зарыванием тут же ограбленного (часто донага) трупа,
не всегда добитого, стонущего на той же Ходынке, в одной яме
многих»? (135). Эти убийства, говорит она, - не «террор»: «С этим словом
связано на протяжении русской революционной истории не только
понятие возмездия или устрашения - это в нем последнее дело - и не
только желание или необходимость физического устранения какого-
нибудь народного палача. Первым и определяющим его элементом
является элемент протеста против гнета и насилия и элемент (путем
психиатрического давления на впечатлительность) пробуждения
чести и достоинства в душе трудящихся и совести в душе тех, кто
молчит, гладя на эту затоптанность [...] И только почти неразрывно
с террором связана жертва жизнью, свободой и пр. для нападающей
стороны. И кажется, только в этом и есть оправдание
террористического акта» (135). По сравнению с этим «героическим» терроризмом
«красный террор» коммунистической полиции (тогдашней Чека,
прототипа всех последующих советских полицейских служб) - нечто
кардинально иное, и аргументация его идеологов свидетельствует о
«невероятном умственном и нравственном убожестве» (136),
отражая «догматизм, диктаторский централизм, недоверие к творчеству
масс, фанатическую узкую партийность, самовлюбленное
отмежевание от всего мозга страны» (139), характерные для
коммунистической ментальности, поэтому левых эсеров, которые отвергают
«принудительный набор масс в Коммунистическую партию» и отстаивают
77
свое «право на инакомыслие» (140), арестовывают и преследуют, как,
следует добавить, поступали с другими «инакомыслящими»
(либералами, демократами, социалистами). Критика Спиридоновой слева
не только проясняет разницу между традиционным терроризмом и
новым коммунистическим государственным и партийным
терроризмом, но и прямо, без обиняков обличает врожденный порок нового
режима, который закономерно приведет к тому, что в тисках террора
окажутся члены коммунистической партии, раньше имевшие
привилегию некоторого иммунитета.
Финал «открытого письма» в высшей степени патетичен:
«Слишком долго я была на самом дне жизни, слишком сильно всеми
помыслами и сердцем люблю революцию, чтобы бояться каких-либо
испытаний и смерти [...] И только убийством вы можете меня изъять
из революции [...] Как у евреев нет другого дома, кроме того, где они
родились, где живут и работают, так и у нас вне социалистической
революции нет места. И как евреев, заплевывали, преследовали, так
делаете вы с нами [...] Но как в то же время в душах евреев
подготовилась "будущность человечества", так и в нашей партии зреет сила
революционно-социалистического возрождения», «революционное
мировое возрождение всего человечества», под знаком
«освобождения Человеческой Личности» (143-144).
В 1941 году, уже давно «укрощенная», то есть отошедшая от
политической деятельности и «лояльная» советской власти,
пережив ряд арестов и ссылок, Мария Спиридонова была расстреляна в
Орловской тюрьме, месте ее последнего заключения.
Представив трагическую историю «эсеровской богородицы», мы
далеко ушли от терроризма первого десятилетия XX века, чтобы
проследить до конца одну символическую судьбу. Возвратимся к
начальному периоду, к еще более значимому с исторической точки зрения
эпизоду, так как он связан с ключевой фигурой русской истории -
Петром Столыпиным, ставшим мишенью наиболее
экстремистского крыла эсеров, так называемых максималистов, которые
впоследствии оторвались от партии и образовали автономную группу. Они
теоретизировали и практиковали терроризм не «индивидуальный»,
направленный против отдельных представителей власти, а
«массовый», то есть не делали различий, поражая неограниченное число
присутствующих, а также проводили крупные «экспроприации», то
есть грабежи с целью самофинансирования. Громкое кровавое
покушение «максималистов» на Столыпина провалилось, предварив
финальное, необычное и неясное, стоившее этому государственному
деятелю жизни в 1911 году, через тридцать лет после того, в котором
1 марта 1881 года погиб Александр II.
78
Сенсационное и беспрецедентное по кровопролитию покушение
1906 года можно рассматривать независимо от политической
значимости намеченной, но оставшейся в живых жертвы - министра
внутренних дел и председателя Совета министров Петра Столыпина, в
то время как второе и окончательное, совершенное в 1911 году,
направленное исключительно на него и удавшееся, было тесно связано
с его политикой, и до сих пор это событие является загадкой и
остается предметов споров.
Для покушения террористы-«максималисты» выбрали дачу
Столыпина на Аптекарском острове Санкт-Петербурга и приемный
день, когда там, кроме юхраны, находилась публика с прошениями к
премьер-министру. 12 августа 1906 года без четверти четыре
пополудни, уже после прекращения записи просителей, к зданию
подъехал экипаж с тремя пассажирами: двое в жандармской форме и один
в штатском. Вот хроника события: «Первым вышел из экипажа
офицер, сидевший на задних местах, и, имея в руках новый черной кожи
и видимо тяжелый портфель, быстро направился к подъезду дачи. По
выходе из ландо этого офицера [...] штатский пересел на его место,
передал вышедшему потом второму офицеру такой же портфель и,
взяв лежавший с ним такой же третий, выскочил через правую дверь
ландо и устремился вслед за офицерами.
Войдя в переднюю, где ожидали посетители, первый офицер
направился к вешалке, намереваясь проникнуть в смежную приемную
комнату, но допущен туда не был. Второго офицера пытался задержать
свидетель Казанцев [...] заметивший у него накладную бороду,
однако выполнить своего намерения не успел и лишь обращенным
генералу Замятину криком "неладное" мог предупредить об угрожавшей
опасности. К остановившимся у вешалки двум офицерам подбежал
штатский, и они все трое, с возгласами: "Да здравствует свобода!", "Да
здравствует анархия!", подняли вверх портфели и одновременно
бросили их перед собой, после чего раздался оглушительный взрыв»26.
Вот как это событие описано главой Охранного отделения Санкт-
Петербурга: «Вся дача была окружена густыми клубами дыма. Весь
передний фасад здания разрушен. Кругом лежат обломки балкона
и крыши. Под обломками - разбитый экипаж и бьются раненые
лошади. Вокруг несутся стоны. Повсюду клочья человеческого мяса и
кровь»27. В результате взрыва погибло примерно тридцать человек
(включая террористов), ранено около шестидесяти человек. Среди
История терроризма. С. 271.
Цит. по: Гейфман А. Революционный террор. С. 107.
79
раненых были дети Столыпина: четырнадцатилетняя дочь и сын
четырех лет.
Сам Столыпин, находившийся у себя в кабинете, единственной
комндте, не затронутой взрывом, остался невредим. Довершим
картину петербургской жизни при терроре любопытной подробностью
из воспоминаний дочери Столыпина Марии: «В момент взрыва папа
сидел за письменным столом. Несмотря на две закрытые двери
между кабинетом и местом взрыва, громадная бронзовая чернильница
поднялась со стола на воздух и перелетела через голову моего отца,
залив его чернилами. Ничего другого в кабинете взрыв не повредил,
и среди десятков убитых и раненых в комнатах рядом и наверху, папа,
волею Божьей, остался цел и невредим»28. В покушении 1911 года
«воля Божья» не проявила себя и вместо чернил, как бы символа
реформаторской деятельности, пролилась кровь этого человека,
которого ненавидели как революционеры, так и реакционеры, да и сам
царь, Николай II, ради которого Столыпин неутомимо работал, его
не жаловал.
Покушение на Аптекарском острове произвело сильное
впечатление и на эсеров, которые, порвав окончательно с
«максималистами», заявили о своей непричастности к этому акту и о несогласии
со способом его осуществления (вовлечение в него публики). Зато
лидер «максималистов» Михаил Соколов (по прозвищу «Медведь»)
так комментировал тот факт, что покушение привело к посторонним
«жертвам»: «Эти "человеческие жизни?" Свора охранников, их
следовало перестрелять каждого в отдельности... дело не в устранении
[Столыпина], а в устрашении, они должны знать, что на них идет
сила. Важен размах... Каменную глыбу взрывают динамитом, а не
расстреливают из револьверов»29. Это крыло терроризма отличалось
от терроризма Засулич и Спиридоновой (хотя и были террористы
этого толка всегда готовые жертвовать собственной жизнью) и
приближалось к массовому террору, который утвердится уже на
государственном уровне после октября 1917 года.
Покушение на Столыпина в 1911 году нельзя рассматривать в
отрыве от его личности, проводившейся им политики и реакции на нее
кругов самодержавной власти, которые, возможно, не были причаст-
ны к убийству, хотя совершивший его молодой революционер Бог-
ров - фигура двусмысленная, как и его акт. Как столыпинская
политика, так и его устранение - темы весьма непростые, являющиеся
28 История терроризма. С. 301-302.
29 Цит. по: Будницкий О.В. Терроризм в российском освободительном движении.
С. 179.
80
предметом обширных и продолжающихся исторических
исследований. Здесь будут рассмотрены моменты, существенные для
понимания этой мутной фазы русского терроризма, зараженного интригами
и провокациями охранки и скатившегося к экстремистским
эксцессам после начального «героического» (тем не менее преступного)
периода. Терроризм переживал «мутацию», чреватую опасностью, что в
дальнейшем он переродится в массовое истребление людей.
Личность Столыпина, вызывавшего в свое время противоречивое
и враждебное к себе отношение, по-разному оценивается в
историографии, хотя в основном суждения о нем и его политике справедливы
и уравновешенна. Его методы борьбы с подрывными силами были
жестоки30, как жестоки были действия крамольных
террористических сил. Но «усмирение» страны для него означало не реставрацию
прежних порядков, а программу глубоких реформ, которые должны
были устранить причины социального бунта: «Реформы во время
революции необходимы, так как революцию породили недостатки
внутреннего уклада. Если заняться исключительно борьбой с
революцией, то в лучшем случае устраним ее последствия, а не
причину, залечим язву, но зараженная кровь породит новые изъязвления».
План реформ был выражен с такой же четкостью: «Преобразованное
по воле Монарха отечество наше должно превратиться в государство
правовое, так как, пока писаный закон не определит и не оградит прав
отдельных русских подданных, права эти и обязанности будут
находиться в зависимости от толкования и воли отдельных лиц, т. е. не
будут прочно установлены»31.
Центральной идеей программы, в которую Столыпин вложил ум,
страсть и ораторский талант, была аграрная реформа как база и
предпосылка институциональной, гарантировавшая крестьянину право
на индивидуальную земельную собственность и создававшая
социальную почву, на которой только и могли взрасти гражданские
свободы и повыситься уровень благосостояния населения: «Пока
крестьянин беден, пока он не обладает личною земельной собственностью,
пока он находится насильно в тисках общины, он останется рабом, и
никакой писаный закон не даст ему блага гражданской свободы. Для
того чтобы воспользоваться этими благами, ведь нужна известная,
хотя бы самая малая доля состоятельности. Мне, господа,
вспомнились слова нашего великого писателя Достоевского, что "деньги -
это чеканенная свобода". Поэтому правительство не могло не идти
30 Цит. по: Степанов С.А. Загадка убийства Столыпина. М., 1995. С. 35.
31 П.А. Столыпин. Нам нужна великая Россия... Полное собрание речей в
Государственной думе и Государственном совете. 1906-1911. М., 1991. С. 105.
81
навстречу, не могло не дать удовлетворения тому врожденному у
каждого человека, поэтому и у нашего крестьянина, чувству личной
собственности»32. Такая откровенная защита частной собственности
шла против русского традиционного крестьянского уклада,
сохранившегося и после реформы 1861 года и основанного на сильной
общине, столь милой славянофилам, которые усматривали в ней
нравственное превосходство русского народа над индивидуалистическим
Западом, и народникам, видевшим в ней предпосылку будущего
социалистического общества. Поборник конституционной монархии
и националист-реформатор, Столыпин оказался ненавистен обоим
этим лагерям. Не вызывал он особых симпатий и у царя,
преданнейшим слугой которого себя считал. Царь предпочел Распутина, а не
этого политика, считавшего, что для сохранения монархии
необходима пусть и ограниченная, но модернизация, и наперекор крайне
правым утверждал, что реставрация абсолютной самодержавной власти
нереальна, так как это, по его словам, является провокацией в пользу
нового революционного взрыва.
Что касается противоположного лагеря, от крайне лев'ых
(террористов) до умеренных левых либералов, то оставляя в стороне
анализ разных позиций, достаточно привести типичные и
показательные суждения будущего убийцы Столыпина, Богрова, чьи
взгляды колебались между анархо-коммунистическими и эсеровскими.
Отцу и брату, критически относившимся к репрессивной политике
Столыпина, но вполне благосклонно смотревшим на его
реформаторскую деятельность, Богров возражал, что именно поэтому для России
он самый опасный политик: «Все его реформы были справедливы и
полезны в частности, но они не приведут к глубоким изменениям и к
полному и решительному повороту, если не к подлинному
перевороту, в котором нуждается Россия: наоборот, затормозят его»33. С
точки зрения радикальной революционной программы такое суждение
безупречно, так как строится на принципе «чем хуже, тем лучше».
Этому «лучше» в тогдашней России препятствовали и противились
оппозиционные политические, социальные, культурные силы, не
считая того, что неминуемо надвигалась военная буря, которая
радикально изменит ситуацию. Столыпин олицетворял последнюю
представившуюся России (неосуществившуюся) возможность
«нормального» развития, возможность, которая, независимо от присущей
ограниченности, была задушена интригами царского двора и охранки,
Цит. по: Степанов С.А. Загадка убийства Столыпина. С. 87.
Там же. С. 10.
82
вступившей в кровавые игры с террористами в попытке через своих
агентов контролировать и обезвредить их. Такой симбиоз был чреват
катастрофическими последствиями. Сам Богров стал агентом
охранки - случай, как увидим, отнюдь не единичный среди эсеров и не
самый из ряда вон выходящий. Покушение 1911 года на Столыпина
созрело в среде темных махинаций и само остается неразгаданным,
давая пищу разным домыслам. Остановимся сначала на неясных
моментах, предшествовавших этому событию.
1 сентября 1911 года было для Киева особым днем. В городском
театре вечером давали праздничный спектакль (оперу Римского-
Корсакова «Сказка о царе Салтане») по случаю торжеств в связи с
открытием памятника Александру II, пятидесятилетие реформ
которого отмечалось в этом году. Присутствие Николая II, его свиты и
большинства министров, высокопоставленных сановников и
представителей власти требовало особых мер безопасности, принимать
которые начали задолго до этой даты. Общее руководство полицейскими
мероприятиями осуществлял министр внутренних дел (в то время им
был Столыпин), возлагавший, как правило, их организацию, в
случае нестоличного города, на местного губернатора. Отступив от этого
правила, Столыпин почему-то поручил это дело своему заместителю
по Министерству внутренних дел генералу Курлову. Такое решение
вызвало недовольство губернатора и не прошло без последствий,
ослабив эффективность системы безопасности.
Тем временем товарищи Богрова по партии, узнав о его связях
с полицией, поставили ему ультиматум: во искупление своего
предательства он должен совершить покушение на полицейского чина,
намеченной жертвой стал начальник киевской охранки. Богров был
слишком амбициозен, чтобы совершить акцию против такой
незначительной персоны, и он решил убить того, кого считал самым умным, а
значит, наиболее опасным для России политиком: Столыпина.
Связи Богрова с политической полицией оказались весьма
полезными при подготовке террористического акта. Именно главе киевской
охранки он сообщил, как будто речь шла о доносе, что на Столыпина,
приезжающего с царем в украинскую столицу, готовится покушение.
Ни у кого не возникло сомнений в правдивости информации агента
Богрова, который ранее неоднократно снабжал ценными
сведениями правоохранительные органы, и таким образом «революционер»
Богров смог без помех следить за Столыпиным после приезда того
в Киев, хотя и не воспользовался несколькими представившимися
случаями осуществить план. Наконец 1 сентября Богров решил идти
ва-банк. Вход в театр в этот вечер посторонним был строжайше
запрещен, ввиду присутствия царя, министров (в числе которых был
83
Столыпин) и властей; пройти можно было только по специальным
приглашениям. Богров, как верный агент, получил его в порядке
исключения от начальника киевской охранки.
Во время второго антракта Столыпин, прислонившись к парапету
оркестровой ямы, вел беседу с некоторыми официальными лицами.
К ним подошел молодой человек во фраке, вынул из кармана
браунинг и выстрелил в премьер-министра два раза. Свидетель
рассказывает: «Столыпин, казалось, не сразу понял, что произошло. Он
наклонил голову и посмотрел на свой белый сюртук, который с правой
стороны под грудной клеткой уже заливался кровью. Медленными и
уверенными движениями он положил на барьер фуражку и
перчатки, расстегнул сюртук и, увидя жилет, густо пропитанный кровью,
махнул рукой, как бы желая сказать: "Все кончено". Затем он грузно
опустился в кресло и ясно и отчетливо, голосом, слышным всем, кто
находился недалеко от него, произнес: "Счастлив умереть за царя"»34.
Царь в своей ложе видел все происходящее, но не отреагировал
на жест Столыпина, который знаками просил его удалиться,
впоследствии не посетил его в больнице и не счел нужным отменить
намеченные мероприятия. Он не знал, что теряет политика, сделавшего
последнюю попытку спасти его самого и Россию - попытку
безнадежную, как стало ясно несколько лет спустя, когда Николай и его
семья, включая несовершеннолетних детей, погибли ужасной
смертью в особенно зверском террористическом акте, каковым было
екатеринбургское кровопролитие, совершенное наследниками
революционного террора начала XX века.
5 сентября Столыпин скончался. В ночь с 10 на 11 сентября Богров,
приговоренный судом к смертной казни, был повешен.
Относительно смерти (Столыпина существует множество версий.
До настоящего времени говорят о «загадке» его убийства из-за
возможном участии в его организации охранки. Но разгадка этого
«детектива» может заключаться в личности двадцатичетырехлетнего
убийцы Дмитрия Богрова. Богров родился в Киеве в зажиточной
еврейской семье и пошел по стопам отца, выбрав изучение
юриспруденции. В отличие от старшего поколения, исповедовавшего
либеральные взгляды, молодой Богров придерживался радикальных
идей, примкнув к группе анархо-коммунистов, хотя сам был скорее
анархо-индивидуалистом, так что даже заявил: «Партия - это я»35,
в убеждении, что революционер должен действовать независимо от
Убийство Столыпина / под ред. С. Серебренникова. New York, 1989. P. 97.
Там же. С. 129-130. *
84
какого-либо контроля и указаний. В конце 1906 или начале 1907 года
Богров начал сотрудничать с охранкой, которую снабжал сведениями
о подпольных кругах. Он решился на этот шаг потому, что
разочаровался в своих революционных товарищах, а также из-за пристрастия
к игре; ему стало не хватать денег, которые давали родители, и
получаемые от полиции 150 рублей покрывали его игорные траты. Но
Богров не смотрел на это как на измену идеалам, которым по-своему
оставался верен, это представляло для него скорее экстремальную
форму азартной игры, поиск сильных ощущений и предельных
ситуаций, свойственные его исковерканному характеру. Вот как
описывает Богрова, хорошо анавший его анархист Иуда Гроссман-Рощин:
«Помню его таким: высокого роста, худой, на щеках разлит румянец -
но не производит впечатления физического избытка, скорее румянец
чахоточного [...] В лице - нет движения. Оно недоуменно застыло...
Казалось, что этот человек никогда не знал простой радости, не знал
"глупого" счастья, не изведал приступа буйства жизни... В душе была
осень, мгла [...] романтика Богрова - если о ней можно говорить -
то только как бы протест против нудной обыденщины и
смертоносной "обнаженности", что жила в нем и грызла его [...] С Богровым я
встретился в Париже. Он был все тот же. Внутренне безрадостный,
осенний». Гроссман-Рощин спрашивает, что могло толкнуть Богрова
на покушение, и отвечает словами из его письма: «Нет никакого
интереса в жизни. Ничего, кроме бесконечного ряда котлет, которые мне
предстоит скушать в жизни. И то, если моя практика это позволит.
Тоскливо, скушно, а главное одиноко...»
Гроссман-Рощин комментирует: «Может, Дмитрию Богрову
наскучили не только тщетные попытки заполнить внутреннюю
пустоту?.. Может, им двигало и нечто другое? Ведь Богров - в этом я
убежден - презирал до конца хозяев политической сцены, хотя бы
потому, что великолепно знал им цену... Может быть, Богрову
захотелось, уходя, "хлопнуть дверью", да так, чтобы нарушить покой пьяно-
кровожадной, дико-гогочущей реакционной банды?..»36
Дополняет портрет Богрова и лучше объясняет его последний
поступок письмо его университетского товарища М. Лятковского
коммунисту Генриху Сандомирскому (впоследствии большевику,
арестованному в 1936 году и попавшему в сибирский лагерь): «Я помню
еще его выражение, что мы, мол (в том числе и он), "мелкие сошки",
что мы, мол, "больше играем в революцию", а главного не делаем.
Спросил его, что он подразумевает под "главным". Он ответил: это
Цит. по: Аврех А.Я. П.А. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1991. С. 219.
85
то, что люди оценили бы; о чем все знали бы...» Лятковский
комментирует: «Он не хотел быть чернорабочим революции, не хотел быть
"мелкой сошкой"; ему нужно было "главное". Поэтому-то он и
вступил в охранку, поэтому-то он и стрелял, чтобы его оценили, чтобы его
знали. Ему нужна была слава, известность. Пусть слава провокатора,
Герострата, лишь бы слава, а не реабилитация...» И заключает: «Для
него те, о ком он упоминал в своем показании, были "мелкими
сошками", а его смерть со славой для него важнее, чем страдание других»37.
Независимо от мутной среды охранки и политических интриг и
сопутствующих им «загадок» киевского покушения, психологические
черты Богрова проливают свет на этот роковой акт и особенно на
новый тип террориста, чей экзистенциальный нигилизм позволял
сочетать службу в полиции с революционными убеждениями. Наиболее
проницательные комментарии, сделанные тогда по поводу убийства
Столыпина, еще больше проясняют эту новую фазу терроризма,
дошедшего до финальной точки, чтобы после 1917 года возобновиться
на совершенно ином уровне и в совершенно иного рода форме. Речь
идет о размышлениях крупнейшего российского мыслителя и
политика того времени Петра Струве и публициста и одного из самых
прозорливых интеллектуалов Александра Изгоева, принадлежавших
к либеральному лагерю (конституционные демократы).
Струве пишет, что «при всей апатичности широкого общества и
при всем глубоко несочувственном отношении его преобладающего
либерально настроенного большинства к политике правительства и
его главы (Столыпина. - В. С), впечатление от выстрела 1 сентября
было все-таки совершенно недвусмысленное. Его можно
охарактеризовать как непреодолимое естественное отвращение». Причина этого
отвращения - «виновник убийства, а не его жертва», то есть в том,
что этот омерзительный акт «с внутренней жизнью самого общества»
никак не связан.
И дело вовсе не в том, что Богров - еврей38, - «обстоятельство
случайное», считает Струве. Главное в том, что «общество в данном
37 История терроризма. С. 514. Далее страницы указываются в тексте в скобках.
38 Александру Солженицыну, давшему Столыпину в романе «Август
четырнадцатого» высокую оценку, принадлежит интересная интерпретация личности Богрова:
«Богров - совсем особенное явление. Всех остальных террористов направляла
организованная сила: иди и убей! и неважно, что будет с тобой. А Богров - его никто
не направляет. Его направляет, страшно сказать, общественное мнение. Вокруг него
существует как бы Поле, идеологическое поле. И в этом идеологическом поле -
государственный строй России считается достойным уничтожения. Столыпин
считается ненавистной фигурой - за то, что он Россию оздоровляет и тем спасает. Никто не
говорит Богрову: пойди убей! Он не связан практически ни с каким подпольем. Ему
86
случае не только не сочувствовало убийству, оно абсолютно не
понимало его». Это, говорит он, был какой-то «технический акт»,
«загадочное происшествие, ключ к которому недоступен общественному
сознанию. Вот почему в обществе почти ожесточенно спорят на тему
о том, чем же был на самом деле Богров, "охранником" или
"революционером"» (514-516). Струве подходит к главной части своего
размышления: общество не способно понять такого «революционера»,
как Богров, но остается фактом, что «народился новый тип
революционера». «Он был подготовлен - незаметно для общества и каждого
из нас - в дореволюционные годы (то есть до революции 1905 года. -
J5. С.) и родился в 1905-1906 гг. "Максимализм" означал слияние
"революционера" с "разбойником", освобождение революционной
психики от всяких нравственных сдержек. Но "разбойничество" в конце
концов есть только средство. Душевный переворот шел глубже
абсолютной неразборчивости в средствах, в революцию ворвалась струя
прожигания жизни и погони за наслаждениями, сдобренной "сверх-
24 года, и он в 24 года решает, что он, пожалуй, убьет Столыпина и повернет
направление России. Это сложный, структурно более тонкий способ манипуляции - не
простого подполья, а идеологического поля, общего настроения. Но это еще страшнее, потому
что, как видите, само идеологическое настроение общества может создать террор» (см.:
Солженицын А. Публицистика: В 3 т. Ярославль, 1997. Т. 3. С. 179-180).
Факта, что Богров был еврей, Солженицын не мог игнорировать, усматривая в
затаенном в душе покушавшегося раздражении, вызванном антиеврейской
правительственной политикой, мотив его действий, что заставило некоторых
недоброжелательных критиков привычно обвинить Солженицына в антисемитизме. Еврейство Богро-
ву было присуще, как явствует из его разговора с Лятковским. Темой разговора было
сотрудничество Богрова с полицией и его «реабилитация», на которую побуждал его
Лятковский: «Вы говорите - реабилитировать себя? [...] Только убив Николая (царя. -
В. С), я буду считать, что реабилитировал себя». А потом прибавляет: «Нет, Николай -
ерунда. Николай игрушка в руках Столыпина. Ведь я - еврей - убийством Николая
вызову небывалый еврейский погром. Лучше убить Столыпина. Благодаря его
политике задушена революция и наступила реакция» (см.: Убийство Столыпина. С. 134).
Слова эти доказательство того, как мало сведущ в политике был Богров, считавший,
что царь «игрушка в руках Столыпина». Что же до «реакционности» Столыпина, если
ограничиться «еврейским вопросом», то и здесь все не так. Он не только понимал
причины такого массового участия евреев в революционном и особенно террористическом
движении. В 1906 году в беседе с одним журналистом Столыпин сказал: «Евреи
бросают бомбы? А вы знаете, в каких условиях живут они в Западном крае? Вы видели
еврейскую бедноту? Если бы я жил в таких условиях, может быть, и я стал бы бросать
бомбы» (Степанов С.А. Загадка убийства Столыпина. С. 123-124). Это не только
человеческое понимание. В том же году Столыпин представил царю проект, отменявший
целый ряд ограничений для еврейского населения, но царь отказался подписывать
этот проект. Столыпин настаивал и в попытке заставить свою мнимую «игрушку»
изменить мнение аргументировал тем, что «исходя из начала гражданского равноправия,
дарованного манифестом 17 октября (1905 года. - В. С), евреи имеют законное
основание домогаться полного равноправия», а также из практических соображений таким
образом «успокоить революционную часть еврейства» (Там же. С. 125). Но напрасно.
87
человеческими" настроениями в духе опошленного и оподленного
Пшибышевского»39 (516). Поэтому в случае киевского покушения
общество «не почувствовало ничего своего»: «Тут "революция"
испарилась как общественное движение и превратилась в чисто личную
авантюру современных сверхчеловеков» (517).
Изгоев в своем подробном анализе этого далеко не уникального
сговора между революцией и охранкой, тоже говорит о новом типе
террориста, называя его «спортсменом террора» (525). «Это или
бретер, спортсмен, вступивший раз на дорогу, с которой уже нет
возврата, и хладнокровно, с полным презрением к своей, а также и к чужой
жизни, доканчивающий свой жизненный путь, или
замаскированный самоубийца, в силу тех или иных причин жертвующий своей
жизнью, то в порыве евхаристического отчаяния, то в погоне за
славой Герострата» (529). Это террорист, вскормленный декадентской
культурой или вдохновляемый импульсами к самоубийству не
менее, чем к убийству, экзистенциальный нигилизм которого отличен
от идейного нигилизма первых русских террористов и проявляется
в надломанной, искривленной психологии, напоминающей
психологию некоторых «бесов» Достоевского. Использование русской
политической полицией внедренных в террористические группы агентов,
чтобы изнутри посредством шпионажа и предупредительных мер,
согласно свойственной всем полициям практике, но в России в
масштабах, пропорциональных массовому характеру местного
терроризма, и методами, зеркально отражавшими методы террористов
(убийство), - все это создавало новую ситуацию и для революционного
терроризма, вырождавшегося зачастую в чистую уголовщину. Шла
война двух властей: государства и антигосударства, с тысячами жертв
с обеих сторон. Самодержавное государство слишком медленно
эволюционировало в сторону реформы, которая должна была
преобразовать его в правовое государство, а революционнее антигосударство
навязывало свои права, препятствуя этой эволюции, равным
образом, как реакционные противники действовали внутри государства.
В конце концов победило антигосударство, создав еще более
автократическое, тоталитарное, государство, прямо противоположное
идеалам революционного терроризма40. •
В письме от 06.04.1893, посланном из Карлсруэ (Германия) в
жандармское управление Ростова-на-Дону, анонимный отправитель
писал: «Сим имею честь довести до сведения Жандармского управ -
Станислав Пшибышевский, упоминаемый Струве, польский писатель (1868-
1927), испытал сильное влияние Ницше; был популярен в России в начале XX века.
4 См., например: Э. Розин. Ленинская мифология государства. М., 1996.
88
ления, что в Ростове-на-Дону имеется кружок рабочих-социалистов,
предводительствуемый некоторыми интеллигентными лицами, из
которых гг. Фридман Димитрий, Алабышев Василий состоят в
переписке с здешним карлсруйским кружком революционеров, задающихся
целью сорганизовать революционные силы как за границей, так и в
России, для таковой цели отсюда посылается в Ростов-на-Дону
перевод сочинения Кауцкого "Программа социал-демократической
партии" [...] Если мои сведения окажутся Вам необходимыми в
дальнейшем, то я не откажусь их сообщать.
Готовый к услугам покорный слуга W. Sch (poste restante)»41.
Через четыре' дня* другое письмо (тоже анонимное) такого же
содержания было отправлено директору департамента полиции в
Петербурге с просьбой в случае заинтересованности получателя
ответить «до востребования» на инициалы «W. Sch». Хотя информация о
связях между немецким и русским революционными кружками была
малозначительной, царская полиция не оставила без внимания этой
возможности, и в следующем письме кандидат в шпионы уже
уточнял условия своего сотрудничества: «1) Чтобы мое имя было
только известно лицу, ведущему со мной переписку. В противном случае
может стать известным и здесь, а это помешает делу и 2) Чтобы я
получал ежемесячное вознаграждение не меньше 50 рублей»42. Тем
временем ростовская жандармерия на основе анализа почерка
сумела установить автора: это был Евно Азеф, родившийся в 1869 году в
бедной еврейской семье, недавно закончивший городскую гимназию
и поступивший в Политехникум Карлсруэ на инженерный
факультет. Было известно, что прошлое Азефа небезупречно: он присвоил
800 рублей, полученные им за продажу товара, принадлежавшего
одному торговцу, которому так и не отдал вырученную сумму. Эти
деньги позволили ему поехать в Германию и на какое-то время
устроиться там. Потом нужда в средствах толкнула его на то, чтобы
предложить полиции свои услуги.
Создалась почти банальная ситуация, какими охранка, как и
любая полиция, пользовалась, чтобы вербовать осведомителей в среде
крамольных элементов. На самом же деле в это время происходило
нечто более важное: сотрудничество с полицией, вначале за
границей, а потом в России до 1908 года, человека, ставшего одним из
главных, уважаемых и популярных руководителей эсеровской партии, в
частности ее Боевой организации, производившей террористические
41 Письма Азефа. 1893-1917 / под ред. Д.Б. Павлова, З.И. Перегудовой. М., 1994.
С. 14.
42 Там же. С. 16.
89
акты. Поэтому разоблачение Азефа стало громким политическим
скандалом, не прошло бесследно для партии и вызвало острую
реакцию в российском обществе и даже за рубежом. Конечно, это был не
единственный полицейский агент, действовавший в революционных
организациях, а затем разоблаченный. Но «дело Азефа» можно
считать из ряда вон выходящим из-за той роли, которую он играл в партии
как руководитель, и его высочайшей репутации среди партийных
товарищей, так что долгое время эсеровское руководство отказывалось
верить выдвинутым против Азефа обвинениям, и только перед лицом
неопровержимых доказательств вынуждено было пойти на
попятную. Имя Азефа стало синонимом дьявольски коварного и зловещего
провокатора и предателя43. И потом сама личность Азефа - мрачная,
ускользающая: каков был мотив, толкнувший его на тянувшееся годы
предательство? На чьей стороне была его «душа», если
позволительно говорить о ней? На стороне полиции, которой он оказывал
ценные услуги, и поэтому его вознаграждения постоянно росли (от 50 до
1000 рублей в месяц)? Или же на стороне
революционеров-террористов, для которых он был соратником, и более того - уважаемым
и вызывавшим восхищение руководителем (и так же получавшим
хорошее вознаграждение, поскольку в его ловких руках находилась
богатая касса Боевой организации)? Как Азеф объяснил свои
поступки, когда открылась его двойная игра, и как он провел последние годы
своей невероятной жизни террориста и антитеррориста?
Самым громким актом, в котором Азеф принимал участие, было
покушение на министра внутренних дел Вячеслава Плеве. После
возвращения в Россию из Германии Азефу удалось войти в
неонароднические и неотеррористические кружки, где он занял центральное
место, что позволило ему провести важную работу по объединению
многочисленных разрозненных групп и заставить их влиться во вновь
созданную партию социалистов-революционеров, где Азеф оказался
рядом с политическими лидерами партии - Виктором Черновым и
Григорием Гершуни, возглавлявшим террористическую организацию
партии. Азеф стал руководителем Боевой организации после ареста
Гершуни в 1903 году. Самой вожделенной добычей террористов был
министр внутренних дел Плеве, ненавидимый революционерами,
хорошо помнившими его роль в разгроме «Народной воли», и не
любимый либералами, видевшими в нем главное препятствие политике
Показательны стихи Маяковского из поэмы «Облако в штанах»: «Эту ночь
глазами не проломаем, / черную, как Азеф!». Имя Азефа еще раз встречается в его
стихотворении 1923 года «Муссолини»: «Вначале Муссолини, как и всякий Азеф, социа-
листничал».
90
реформ. В подготовке покушения Азеф действовал очень
изощренно: с одной стороны, руководил организацией, с другой - поставлял
полиции двусмысленную информацию, чтобы и оказывать услуги, и
в то же время не давать возможности охранке эффективно
противодействовать, а также ему необходимо было не вызвать подозрений у
революционеров, что среди них появился доносчик.
После нескольких неудачных попыток цель была достигнута. Для
чего в Петербурге передовой отряд террористов арендовал в
центре города роскошную квартиру в качестве базы для наблюдений и
подготовительных мер. В этой группе самой выдающейся и
блестящей личностью'был' Борис Савинков, интеллектуально наиболее
яркая фигура русского терроризма XX столетия. Следуя
наставлениям Азефа и применяя собственные методы, Савинков считал,
что не нужно жалеть денег, и террористы жили на широкую ногу.
Савинков выдавал себя за богатого англичанина и, не слова не
говоря по-английски (кроме русского, он владел польским и
французским), сумел зарегистрировать свой паспорт в полиции и до въезда
в Россию получил визу в российском консульстве44. Вместе с ним в
квартире жила его любовница - красавица Дора Бриллиант, дочь
богатого торговца, молодой девушкой оставившая родительский дом и
посвятившая себя революционной деятельности45. В распоряжении у
пары были «слуга» и «кухарка», оба, разумеется, профессиональные
революционеры, а другие вели тщательное наблюдение за обычным
маршрутом Плеве, когда он ездил на доклад к царю (самым
находчивым из наблюдающих был Иван Каляев, еще одна значительная
фигура революционера). Утром 15 июля 1904 года, ясным солнечным
днем, при появлении в урочный час экипажа Плеве террорист Егор
Сазонов бросился ему навстречу. Через стекло дверцы он увидел, что
министр, заметил его и откинулся к задней стене кареты в
инстинктивной и напрасной попытке защититься. Бомба, брошенная в
стекло, пробила его и взорвалась. Плеве погиб на месте, а вместе с ним и
кучер с лошадьми. Свидетель Сергей Минцлов пишет: «На середине
мостовой против подъезда гостиницы («Варшава». - В. С.) валялись
разметанные осколки кареты, изорванные в клочья подушки сиденья
и окровавленная шапка; их еще не убирали; на камнях алело несколь-
44 Израильский историк Л.Г. Прайсман, приводя эту деталь, иронически
комментирует: «Свободной страной была царская Россия при самодержавном режиме!»
(Прайсман Л.Г. Террористы и революционеры, охранники и провокаторы. М., 2001. С. 61).
45 Психически неуравновешенная, одержимая мыслями о смерти, посвятившая
себя революционному терроризму вплоть до самопожертвования, Дора Бриллиант
(1879-1907) кончила свои дни в Петропавловской крепости.
91
ко пятен крови. Огромный многоэтажный дом, где помещается
гостиница, стоял без стекол; в домах, что напротив и рядом, стекла выбиты
тоже... Министр остался на месте в страшно изуродованном виде, с
сорванной нижней частью лица; на него было страшно смотреть. На
тело накинули шинель»46. Но, независимо от страшного зрелища,
не совсем необычного для Петербурга и России, смерть Плеве, как
свидетельствует тот же Минцлов, вызвала в публике не «волнение»,
а «любопытство». И действительно, если в среде эсеров удавшееся
покушение породило ликование не только потому, что одна из их
главных целей была достигнута, но и потому, что престиж их партии
исключительно вырос, и в частности, внутри партии вырос престиж
Азефа, который успех операции приписал себе, то в обществе смерть
Плеве не вызвала ни сожаления, ни порицания, мало того,г многие,
в том числе в высоких сферах, ее встретили с чувством облегчения.
Покушение обошлось партии в 30 тысяч рублей47, а в дальнейшем
пополнило кассу Боевой организации за счет «многочисленных
финансовых поступлений» от сторонников, в том числе и состоятельных,
которые обеспечивали поддержку организации для осуществления
«террористической деятельности».
Двойная игра Азефа, защищенного своей репутацией и
уважением, которым он пользовался у товарищей, считавших его героическим
руководителем Боевой организации, могла бы продолжаться еще
долго, если бы не проницательность и упорство Владимира Бурцева,
революционера-народника, сторонника террористической тактики,
независимой от партий, включая эсеровскую, с руководством
которой он был в дружеских отношениях, основанных на доверии. После
долгого периода (с 1889 года) эмиграции в Западной Европе Бурцев
в 1905 году вернулся в Россию, где занялся культурно-политической
деятельностью48, начав издавать исторический журнал «Былое»,
посвященный революционному движению. В хронике разоблачения
46 История терроризма. С. 497.
47 Индивидуальный политический террор в России. Начало XX в. М., 1996. С. 38.
48 После февральской революции Бурцев ( 1862-1942) выступал против
большевиков, обвиняя их в сговоре с германским Генштабом, критиковал Временное
правительство за его нерешительность и поддержал неудавшуюся попытку генерала Корнилова
восстановить порядок. В декабре 1917 года он был арестован, стал одним из первых
политических заключенных нового режима; в феврале 1918 года освобожден и снова
нашел убежище на Западе, где продолжал антибольшевистскую, а потом
антинацистскую публицистическую деятельность. На процессе в Берне 1934-1935 годах,
установившем подложность Протоколов сионских мудрецов, выступал свидетелем.
Протоколы были изданы в 1938 году под его редакцией, здесь он документально доказал
их полицейское происхождение. Преследовался гестапо во время оккупации Парижа,
умер в доме для престарелых.
92
Азефа49 Бурцев рассказывает, что однажды в мае 1906 года в редакцию
журнала пришел молодой человек, попросивший личной встречи по
очень важному вопросу. Этот молодой человек по фамилии Бакай,
сообщил Бурцеву, что работает в Департаменте полиции в охранном
отделении, но имеет эсеровские убеждения и поэтому хочет
сотрудничать, чтобы принести пользу демократическому движению. В ходе
их встреч Бурцев узнал от Бакая, что один из крупнейших
информаторов охранки - руководитель эсеров, работающий в Департаменте
полиции под псевдонимом «Раскин».
Для Бурцева стало делом чести обнаружить, а затем разоблачить
этого предателя" («провокатора», как было принято говорить в то
время), неопровержимые доказательства деятельности которого ему
предоставил Бакай. Бурцеву казалось, что ни один из руководителей
эсеров не способен играть подобную роль, но однажды Бурцев,
знавший, что за ним ведется слежка, во время прогулки увидел в наемном
экипаже двух знакомых: Азефа и его жену. Об Азефе Бурцеву было
известно, что он стоит во главе Боевой организации и, значит,
является, пожалуй, самым опасным русским революционером, а его
жену - простую социалистку, не имевшую отношения к подпольной
деятельности, он знал лично. Его охватил ужас: «Я прекрасно сознавал,
что если за мной идут сыщики и жена Азефа вздумала бы со мной
поздороваться, то, конечно, эта наша встреча могла бы кончиться
роковым образом» (193-194). Все кончилось благополучно: жена Азефа
не поздоровалась, и Бурцев продолжил свою прогулку. Но в голове у
него родились мысли: «Если я издали увидел Азефа и так легко узнал
его, то как же сыщики, которые, конечно, знают его в лицо, могут его
не узнать, когда он так открыто бывает в Петербурге?» (194). Эта
первая догадка после мучительных раздумий, привела его к
неожиданному заключению: «Как-то, неожиданно для самого себя, я задал
себе вопрос: да не он ли сам этот Раскин? Но это предположение мне
тогда показалось столь чудовищно нелепым, что я только ужаснулся
от этой мысли. Я хорошо знал, что Азеф - глава Боевой организации
и организатор убийств Плеве, великого князя Сергея и т. д., и я
старался даже не останавливаться на этом предположении. Тем не менее
с тех пор я никак не мог отделаться от этой мысли, и она, как какая-то
навязчивая идея, всюду меня преследовала» (195).
Навязчивая идея постепенно переходила в уверенность, и в мае
1908 года Бурцев официально заявил Центральному комитету эсе-
49 Текст «Как я разоблачил Азефа» опубликован в книге: Провокатор.
Воспоминания и документы о разоблачении Азефа / под ред. П.Е. Щеголева. Л., 1929 (далее
страницы указаны в тексте).
93
ровской партии, что Азеф является сотрудником полиции, и хотя
обвинение опиралось на серьезные доказательства, руководство партии
отказалось принять его во внимание и выразило свое возмущение
тому, кто осмелился его выдвинуть. Но Бурцев не отступил и стал
собирать новые доказательства, пока не получил окончательное
подтверждение при встрече с Алексеем Лопухиным, бывшим директором
Департамента полиции, когда министром внутренних дел был Плеве.
Человек либеральных идей и тонкого ума, Лопухин отдавал себе
отчет, насколько серьезна ситуация в России, и понимал, что
революционные силы могут добиться успеха и в конце концов, разочарованный
и усталый, во время революции 1905 года оставил государственную
службу. Бурцев искал встречи с Лопухиным, и это ему удалось,
когда он узнал от общего с Лопухиным знакомого, что бывший
начальник Департамента полиции в сентябре 1908 года должен ехать на
поезде из Кельна в Берлин. Бурцев отправился в Кельн и стал
ожидать Лопухина на вокзале. В поезде он вошел в купе, где ехал Лопухин,
и между ними состоялась шестичасовая беседа, которая легла в
основу одной из самых интересных глав бурцевской хроники «Как
я разоблачил Азефа». Здесь достаточно сказать о том, что Лопухин
назвал имя Азефа. Более важного доказательства быть не могло.
Эсерам пришлось вернуться к обсуждению подозрений в осведо-
мительстве Азефа; они, понимая, что подобные обвинения в адрес
члена их партии, тем более доказанные, грозят дискредитировать их
деятельность и всю партию, 26 декабря 1908 года вынуждены были
публично признать, что Азеф работал на охранку. Скандал был
ошеломительный, но некоторые люди все равно отказывались верить в
предательство Азефа. В атмосфере всеобщего конфуза и
замешательства Азефу удалось скрыться, и он под чужим именем бежал за
границу.
Приземистый, грузный, с одутловатым лицом, выступающей
вперед нижней челюстью, непроницаемым выражением лица и
бегающим взглядом, Азеф был далеко не привлекательным мужчиной, но
импонировал людям самоуверенностью и спокойствием. 13 апреля
1913 года Азеф в письме к жене, которая считала его образцом
революционера и после его разоблачения потребовала развода, пытается
обелить себя, как борца: «Я говорю тебе и клянусь дорогими для меня
моими детьми, их жизнью, моей жизнью и жизнью твоей, всем, что
для меня дорого и свято, - я все время действовал как революционер,
и только как революционер, с собою, со своими интересами
никогда не считался. Призови в твоей памяти всю мою личность, всю мою
жизнь, которую ты знала и наблюдала 14 лет, и поверь мне, что я не
лгу и не клялся бы я моими детьми и все, что мною сделано, сделано
94
с радостью революционера. Мною сделана одна ошибка, которая
оказалась роковой»50. В следующем письме (14 июня) он настаивает на
своем и объясняет: «Да, я совершил непростительную ошибку давно-
давно, и собственно, я мог давно снять с себя это позорное пятно,
если бы в известное время пришел к товарищам и сказал - вот то-то
есть, я загладил моей работой - такой-то и такой-то, судите меня.
Я этого не сделал. Почему? Трудно, конечно, теперь сказать
совершенно точно, почему я этого не сделал 4-5 лет тому назад, не сделал,
когда это было так благоприятно для меня. Много причин к тому
было. Желание больше и больше сделать. Я себя ценил, и все меня
ценили как работника. Уйти из работы, мне казалось, - нанести
вред, и большой вред, делу, которому я был предан всей душой
и телом (этому может никто теперь и не поверить, может быть,
даже посмеются, но это было так). Как же я могу доказать теперь
это?!»51
12 августа 1912 года Бурцеву, жаждавшему новых сведений о
тайнах охранки, удалось встретиться в одном из кафе Франкфурта
с Азефом, который согласился на эту рискованную для него
встречу в надежде убедить своих бывших товарищей, что готов
предстать перед их судом, а также смягчить отношение жены (которая в
1913 году сменила фамилию и эмигрировала в Америку) и получить
от нее разрешение видеть сыновей (старший из которых, узнав, кем
на самом деле был его отец, пытался повеситься). В продолжительном
разговоре в своё оправдание Азеф прибегнул к аргументации,
аналогичной той, которая содержалась в цитированном выше письме,
чтобы подтвердить свой образ революционера; как пишет Бурцев, Азеф
«любовался собой и как бы с весами в руках решал, что
перевешивает - то ли то, что он давал охранке, то ли, что давал революционерам.
В эти моменты аморальность Азефа особенно ярко вырисовывалась
для меня. Он, очевидно, совершенно не понимал, что такого взвеши-
50 Письма Азефа. С. 170.
51 Там же. С. 172. Курьезный эпизод приводит Вера Фигнер, рассказывая о
деятельности Азефа как «революционера» и «террориста»: «Говоря о боевых
выступлениях социалистов-революционеров, Азеф под большим секретом посвятил меня в проект
истребления всей царской семьи посредством аэроплана, с которого можно бросить на
дворец достаточное количество бомб. В эти годы авиация делала еще первые шаги в
постройке летательных аппаратов» (см.: Фигнер В. Поли. собр. соч. Т. 3. М. 1929. С. 175).
Азеф рассказал Фигнер, что в Баварии в принадлежащей партии мастерской «свой»
инженер работает над изобретением аэроплана и для реализации своего предприятия
рассчитывает на финансирование одного симпатизирующего им - сына богатого
сахарозаводчика. Все окончилось ничем из-за ничтожности предложенной
предполагаемым финансистом суммы.
95
вания не может быть и что предательство не оправдывается
никакими соображениями»52.
Во всем этом можно усматривать крайний цинизм,
неприемлемый для прямодушного Бурцева, или попытку наладить отношения
с женой, но, пожалуй, по-своему Азеф искренне считал себя
«революционером», а не «реакционером»: это был авантюрист от
революции, протагонист беспримерной двойной игры, в которой он
позволял себе взвешивать за и против, опытный актер и безоглядный
любитель риска и азарта без какого-либо руководящего принципа.
Или, может быть, какой-то принцип у него был, когда в начале своей
карьеры, побуждаемый нуждой, он предложил свои услуги: с одной
стороны, в нем, как еврее, хотя и оторванном от еврейства, должно
быть, тлела неприязнь к антисемитизму его «хозяев», между тем как
к товарищам-революционерам он питал симпатию, потому что они,
часто такие же, как и он евреи, были чисты от этого греха. А может
быть, загадку личности Азефа, жуира, любившего удовольствия - от
карт до женщин, - не объяснить никакими соображениями идейного
порядка. Он провел в Европе несколько беззаботных лет благодаря
сколоченному в годы своей революционной деятельности и службе
в полиции капиталу, затем пережил какой-то период лишений из-за
финансового краха, вызванного войной. Когда он умер, его
сожительница, молодая красавица немка, бывшая кафешантанная певичка из
петербургского кафе, на его могиле во избежание осложнений, какие
могли возникнуть из-за его пресловутого имени (рядом находились
другие русские могилы), приказала выгравировать только номер
кладбищенского места: 446. Лучшей надписи на могиле Евно Азефа
не найти: просто цифры, как символ мрачной пустоты, которую он
носил в себе всю жизнь.
Столица мира
Как «Бесы» Достоевского - не просто факт литературы, а роман, в
котором автор показал самую суть русского террористического
нигилизма XIX столетия и уловил его возможную эволюцию в будущем,
так и роман Белого «Петербург» лучше любого другого
произведения передает атмосферу русского нигилистического терроризма в его
следующей фазе - в XX веке, накануне революционной катастрофы.
Это не романы-«иллюстрации», которые можно читать в узко
документальном смысле: в них отражена мощь метафизических воз-
Цит. по: Прайсман Л.Г. Террористы и революционеры, охранники и
провокаторы. С. 411.
96
зрений авторов при всей глубине их художественного несходства,
что делает роман Достоевского непревзойденным по поэтической
и пророческой силе, а творение Белого остается одним из
крупнейших русских и европейских романов XX века. Для творчества Белого
также характерно то, что, если Ницше был читателем Достоевского
и «Бесы» дали ему импульс для размышлений о кризисе
европейской цивилизации, Белый сам был читателем Ницше, который
своим творчеством повлиял на его духовное формирование. Кроме того,
Достоевский является одним из основных авторов «классической»
русской литературы, начало которой положил Пушкин и которая
для Белого была пройденным этапом, являясь, однако, источником
вдохновения в новом культурном климате XX века (в его случае - в
климате символизма). Новой была сложившаяся историческая
ситуация. «Петербургом» завершается исторический и литературный
так называемый петербургский цикл, начатый Пушкиным
(особенно «Медным всадником»), продолженный Гоголем («Невский
проспект» и «Записки сумасшедшего») и достигший кульминации в
романах Достоевского («Преступление и наказание», «Бесы»53, хотя
действие последнего происходит не в российской столице).
В «Петербурге» Белый размышляет (также и под влиянием
Ницше) об исторической реальности начала столетия и его ключевом
моменте - терроризме, переосмысливая весь «петербургский» цикл
Пушкина, Гоголя и Достоевского: они присутствуют в романе или
непосредственно (Пушкин и «Медный всадник»), или в качестве
косвенных отсылок на понимание России как на парадоксальную часть
Европы, поздно приобщившейся к цивилизации (только с Петром
Великим) и теперь, на рубеже XIX-XX столетий, переживающей
вместе с Западом кризис, одним из сейсмографов и чутких аналитиков
которого был Ницше. Сюжет «Петербурга» прост. На государственного
сановника империи Аполлона Аполлоновича Аблеухова идет охота: в
коробке из-под сардин в его дворце установлена мощная бомба с
часовым механизмом. Орудие покушения - сын сенатора Николай,
изучающий в университете философию, в частности Канта, причем он
орудие не совсем сознательное, потому что вначале его не посвящают
в планы убийства, но по сути он тоже ответствен: потому что взаимо-
53 Окончательно «петербургский цикл» завершится поэмой Александра Блока
«Двенадцать» после переворота 1917 года, когда одновременно завершится и
«петербургский» период русской истории: вскоре столицей уже советского, а не российского
государства стала Москва, а Петербургу, переименованному во время войны в
Петроград, будет навязано имя Ленинград (до 1991 года, когда городу будет возвращено
первоначальное имя), и для города, его жителей и культуры начнется период упадка.
97
действует с революционной организацией, поставившей себе целью
ликвидировать сенатора и потому что его связывает с отцом эдипово
отношение любви-ненависти, которое подсознательно делает его
потенциальным отцеубийцей (его мать, новоявленная Анна Каренина,
покинула семью из-за злосчастной интрижки с певцом-итальянцем,
но в конце концов она возвратится в семью к дряхлому, черствому
мужу - копии бюрократа Каренина, мужа Анны из толстовского
романа). Необходимо назвать по крайней мере еще двух персонажей:
товарища молодого Аблеухова - студента-революционера Дудкина,
являющегося орудием в руках руководителя подпольной
организации Липпанченко (прототипом которого был Азеф), тоже
сотрудника полиции и действующего революционера одновременно, но, в
отличие от Азефа, его ждет бесславный конец: он будет безжалостно
убит «идеалистом» Дудкиным.
В романе Белого гораздо больше персонажей и ситуаций, чем
следует из этого краткого пересказа, но все равно он остается как бы
бестелесным, в нем нет драматической насыщенности, благодаря
которой в «Бесах» провинциальный город, место происходящих событий,
становился реалистически «материальным» во всех бытовых срезах
и во всех персонажах, в то же время оставаясь метафизически
«символичным», как будто через конкретные фигуры героев дается мисте-
рийный спектакль. У Белого все ирреально, фантасмагорично,
призрачно, начиная с города - Петербурга, который лишен определенной
топографии, и организован на основе схематической и абстрактной
иерархии пространств; центр, где живет Аблеухов, как бы
квинтэссенция власти, и периферия, где гнездится антивласть, пролетарская
масса, в которой вызревает бунт и плетется заговор. Петербург,
ирреальный и сюрреальный, становится чем-то зыбким, готовым
исчезнуть в небытии два века спустя после его торжественного основания
в болотах невского устья.
Аблеухов старший - жесткий и последовательный носитель
идеала основателя столицы Империи, он стремится европеизировать
бескрайнюю, пропитанную азиатчиной страну, рационализировать
стихийную энергию, не признающую никаких норм, подавить
анархические инстинкты язычески-христианского и пассивно-бунтарского
населения. Однако он - выражение рациональности, выродившейся
в бюрократический рационализм и схематически «геометрический»
взгляд на действительность, символ которой «куб» кареты,
увозящей его ежедневно из его дворца по прямолинейным «проспектам»
в департамент. Самое его имя - Аполлон, дополненное отчеством
Аполлонович, - сниженный символ «аполлоновского» идеала
гармонии и правильности, который одушевлял неоклассический Петербург
98
XVIII века, теперь окруженный кипящей дионисийской энергией
пока сдерживаемой и подавляемой крамолы. Ее носителем
является его собственный сын, хотя и в уменьшенном масштабе «бунтаря»
внутри властного сословия, в то время как эта энергия бушует в
подпольном мире террористов.
Если Достоевский вводил своих «бесов» в игру тени и света, по
интенсивности напоминающую некоторые полотна Гойи, Белый
создает реальность, распадающуюся на геометрические плоскости,
сочетающиеся по логике кубистических композиций54, и в то же время он
деформирует внешность своих персонажей с резкостью
экспрессионистской тональности, придавая повествованию смысл космически-
апокалиптической драмы. Петербург становится местом не
только русской национальной, но и вселенской катастрофы, которая в
России только предсказана, как будто возникший на окраине Европы
город - столица не партикулярной империи, а целого мира,
охваченного эпохальным кризисом, который Достоевский и Ницше
предчувствовали и предрекали. Мы имеем здесь дело с захватившим целую
цивилизацию историческим кризисом, который революционер-
«ницшеанец» Дудкин пережил в период своего формирования:
«..в тот период пришлось ему развивать парадоксальнейшую теорию
54 На «кубизм» Петербурга обратил внимание Бердяев в статье 1916 года
«Астральный роман. Размышления по поводу романа А. Белого "Петербург"», где читаем:
«Белого можно назвать кубистом в литературе. Формально его можно сопоставить с Пикассо
в живописи. Кубистический метод - метод аналитического, а не синтетического
восприятия вещей. В живописи кубизм ищет геометрического скелета вещей, он срывает
обманные покровы плоти и стремится проникнуть во внутреннее строение космоса. В
кубистической живописи Пикассо гибнет красота воплощенного мира, все разлагается
и расслояется. В точном смысле кубизма в литературе нет. Но там возможно нечто
аналогичное и параллельное живописному кубизму. Творчество А. Белого и есть кубизм в
художественной прозе, по силе равный живописному кубизму Пикассо. И у А. Белого
срываются цельные покровы мировой плоти, и для него нет уже цельных органических
образов. Кубистический метод распластования всякого органического бытия
применяет он к литературе. Тут не может быть и речи о влиянии на Белого живописного
кубизма, с которым он, по всей вероятности, мало знаком. Кубизм его есть его
собственное, самобытное восприятие мира, столь характерное для нашей переходной эпохи.
В известном смысле А. Белый - единственный настоящий, значительный футурист в
русской литературе. В нем погибает старая, кристальная красота воплощенного мира и
порождается новый мир, в котором нет еще красоты [...] Оригинальность Белого в том,
что свой кубизм и футуризм он соединяет с настоящим, непосредственным
символизмом». Бердяев отмечает затем близость Белого Достоевскому с той лишь разницей, что
«Белый более космичен по своему чувству жизни, Достоевский более психологичен и
антропологичен». Белый «погружает человека в космическую безмерность»,
раскрывая «астральный мир». «Петербург» - «астральный роман, в котором все уже выходит
за границы физической плоти этого мира и очерченной душевной жизни человека, все
проваливается в бездну» (см.: Бердяев Н. Типы революционной мысли в России.
Париж, 1989. С. 435-437).
99
о необходимости разрушить культуру, потому что период изжитого
историей гуманизма закончен, и культурная история теперь стоит
перед нами, как выветренный трухляк: наступает период здорового
зверства, пробивающийся из темного народного низа (хулиганство,
буйство апашей), из аристократических верхов (бунт искусств
против установленных форм, любовь к примитивной культуре,
экзотика), из буржуазной среды (восточные женские моды, кэк-уок -
негрский танец; и - далее); Александр Иванович (Дудкин. - В. С.) в эту
пору сожжение библиотек, университетов, музеев; проповедовал он
и призванье монголов (впоследствии он испугался монголов). Все
явления современности разделялись им на две категории: на
признаки уже изжитой культуры и на здоровое варварство, принужденное
пока таиться под маскою утонченности (явление Ницше и Ибсена)
и под этой маскою заражать сердца хаосом, уже тайно взывающим в
душах»55.
Такое видение в частности было присуще и самому Белому: не
потому что он, подобно революционеру Дудкину, превозносил
«зверство» и «варварство» как выход из кризиса культуры, а потому что
думал наравне с символистами, что европейская «культура»
предельно исчерпала себя, растеряв творческую жизненность, и
деградировала в «цивилизацию» - конструкцию механическую, массовидную,
обездуховленную, согласно дихотомии «культура - цивилизация»,
которая была также в центре мировоззрения Александра Блока и
Освальда Шпенглера (Kultur-Zivilisation)56. Для Белого, как и для
55 Цит. по: Белый А. Петербург. М., 1981. С. 292.
56 См.: Aleksandr Blök е Richard Wagner: musica e storiosofia nel simbolismo russo
V. Strada. Simbolo e storia. Aspetti e problemi del Novecento russo. Venezia, 1988.
Ожидание «варваров», которые сметут обветшавшую цивилизацию угнетения и
вольют новую энергию («волна пылающей крови») в «одряхлевшее тело», положив
таким образом начало новому миру, - тема традиционной декадентской мифологии
(и не только русской) вместе с еще одной параллельной темой заката римской империи
и зари христианской эры, с одной стороны, и упадка буржуазного Запада и
наступления социалистической (коммунистической) эры, с другой. Самым непосредственным
образом это отразилось в стихотворении поэта-символиста Валерия Брюсова, слова
которого процитированы выше. Воспевание «грядущих гуннов» (так называется
стихотворение), которые в диком натиске разрушают утонченное, но уже гниющее
общество, частью которого поэт себя ощущает, и в то же самое время он готов встретить
«приветственным гимном» «гуннов», несущих гибель и ему самому. Брюсов строит в
своем воображении будущее, когда «варвары» не только разнесут памятники и храмы,
но и в огромных кострах сожгут книги библиотек - высший символ агонизирующей
культуры. Любопытно, но показательно, что после октября Брюсов не только не погиб
от рук гуннов, но и вступил в коммунистическую партию, в то время, когда победившие
«варвары» расстреляли поэта Николая Гумилева, первого в бесконечном ряду поэтов,
писателей, ученых, интеллигентов и простых русских людей - жертв советской власти,
100
символистов, Петербург был символом негативной метаморфозы
европейского духа, заразившей и Россию: спасением мог стать лишь
конец Петербурга - квинтэссенции лжецивилизации, родившейся в
результате насильственных действий одного царя, и возврат к
самобытной России, не как анти-Европы, а подлинной Европы, творческой
продолжательницы старой европейской культуры, существовавшей
до ее кризиса. В этом смысле Петербург в романе - точка
пересечения космических сил, место, где происходит катастрофа целой
цивилизации: конфликт «отцов и детей» и - шире - противопоставление
«реакция - революция», «порядок - террор», «геометрия - хаос», для
Белого все разрешается преодолением обеих частей диады и на новом
пути спасения, на который как будто встает Николай Аблеухов,
после того как с провалом покушения заканчивается его авантюра, и он,
путешествуя по Европе, пытается вернуться к исконному источнику
мудрости и, оставив Канта, посвятит себя изучению «Книги
мертвых» и чтению украинского философа-мистика XVIII века Григория
Сковороды, открытого в те годы русской культурой57.
Что касается терроризма, то в романе шаг за шагом не
только выявляется некроз бюрократической власти, олицетворяемой
Аполлоном Аблеуховым, но и бесплодие противопоставляемой ей
власти террористической партии, членом и жертвой которой
является Дудкин, а нити интриг находятся в руках подлого «провокатора»
Липпанченко; сталкиваются две противоположные и подобные силы:
темная и разрушительная власть и контрвласть. Их конфликт Белый
видит в гротескно-трагикомическом свете, как бы в театре
очумелых и помраченных ряженых, как в кульминационной сцене, когда
Дудкин убивает «главаря» Липпанченко, распоров маленькими
ножницами его тучное тело: «Когда утром вошли, то Липпанченки уже не
было, а была - лужа крови; был труп; и была тут фигурка мужчины -
с усмехнувшимся белым лицом, вне себя [...] мужчина на мертве-
и именно в то время, когда книги, осужденные как враги коммунистической
идеологии, книги, пусть и не отправленные на костер, стали жертвами тотальной цензуры:
их запрещали читать, изымали из библиотек, а часто просто сдавали в макулатуру.
Позднее книжные костры развели другие «варвары», немецкие национал-социалисты,
вызвав справедливое возмущение не только среди антифашистов-демократов, но и
иезуитское негодование тех, кто прямо или косвенно был ответствен за систематическое
уничтожение книг при коммунистическом режиме. Все это эмблематически выражает
тоталитарную суть XX столетия и роль, которую часто играли поэты.
57 Григорий Сковорода (1722-1794), украинский философ и поэт, мысль
которого основана на изучении Библии, патристики и Платона. Белый познакомился с
личностью и творчеством этого мыслителя, прочитав книгу философа Владимира Эрна
(1882-1917) «Григорий Саввич Сковорода. Жизнь и учение» (М., 1912).
101
ца сел верхом; он сжимал в руке ножницы; руку эту простер он; по
его лицу - через нос, по губам уползало пятно таракана. Видимо, он
рехнулся»58.
«Рехнулась» реальность - петербургская, русская, европейская -
во власти террора и насилия.
58 Белый А. Петербург. С. 386. Страницы, посвященные ранее автором
«Петербургу», не имели целью дать исчерпывающее аналитическое «прочтение» такого
сложного и богатого символическими смыслами произведения, тем более что его следовало
бы рассматривать в совокупности всех вариантов (Белый начал его писать в конце
1911 года и опубликовал в журнале в 1913-1914 годах, а затем в новой редакции в
1922 году).
III. ЖЕРТВА И РЕВОЛЮЦИЯ
Всадник Апокалипсиса
Поворотной точкой в истории русского терроризма явилась
революция 1905 года. В этом году в результате принятого под
давлением народа Манифеста 17 октября в институциональном
государственном устройстве России произошли изменения. Царизм пошел
на конституционные уступки, признавая в Манифесте «незыблемые
основы гражданской свободы» (неприкосновенность личности,
свобода совести, слова, собраний и союзов), а Думу законодательным
органом1. При всей ограниченности этих либеральных реформ
менялась политическая и культурная атмосфера, толкавшая на пересмотр
ранее принимавшихся, а то и освященных принципов. Это касается
радикальной интеллигенции, воскресившей народническую
традицию, включая ее экстремистскую форму - терроризм. Важнейшее
политико-культурное событие - публикация в 1909 году сборника
«Вехи», в котором группа религиозно-идеалистически настроенных
1 О влиянии революции 1905 года на значительную часть левых сил см.: Strada V.
La polemica tra bolscevichi e menscevichi sulla rivoluzione del 1905 // AA.V.V. Storia del
marxismo. Vol. 2. Torino, 1979.
По поводу партии конституционных демократов (кадеты), напомним, что
«спецификой российского либерализма предреволюционной эпохи, группировавшегося под
флагом кадетской партии», являлось то, что это движение порой настолько тесно
смыкалось и в своих программных требованиях, и особенно в тактике с леволиберальными
партиями, что грань, их отделяющая, временами становилась весьма зыбкой и
неопределенной [...] Что касается тактики, то, по словам теоретика и многолетнего
председателя кадетской партии юриста И. Петрункевича, российские "либералы, радикалы и
революционеры различались не политическими целями, а темпераментом"» (Буков В.
От российского суда присяжных к пролетарскому правосудию: у истоков
тоталитаризма. М., 1997. С. 30-31). Что же до их отношения к террору, показательна
дискуссия, состоявшаяся 10 февраля 1907 года в Центральном комитете партии по вопросу
о том, какую линию наметить в отношении проекта думской резолюции, осуждавшей
терроризм как метод ведения политической борьбы. В результате «объединенными
усилиями кадетской партии при активном участии ее ведущих юристов в ЦК было
единогласно принято постановление, гласившее, что при внесении в Государственную
Думу "предложения осуждения террора таковое должно быть отвергнуто"» (Там же.
С. 34-35).
103
авторов либерально-реформистского толка подвергла глубокой и
суровой критике ценности этой интеллигенции, вскрыв губительные"
недостатки последней, выразив надежду на ее скорый конец и на
появление интеллектуалов нового типа, отвечающих потребностям
модернизации России в «европейском ключе»2. Сенсация и полемика вокруг
«Вех» были грандиозными. Параллельно внутри самого
революционного терроризма наметились серьезные, по сравнению с недавним
периодом, изменения, отражавшие, с одной стороны, новые веяния в
культуре (в частности, в «декадентской» литературе начала века), а с
другой - настоящий кризис менталитета и практики терроризма,
средоточием которого была партия социалистов-революционеров. Этот
кризис открывал путь другим формам политической борьбы и
другим революционным силам, левое социал-демократическое крыло
(большевики) которых десятилетием позже одержит верх, утвердив
новые формы террора, уже не индивидуального, а массового.
Не останавливаясь на сложном комплексе этих глубоких
изменений в умонастроении и душевном складе людей русской
культуры тех лет, то новое, что складывалось внутри терроризма, вернее, в
его средоточии, можно проанализировать на примере одного
человека. Речь идет о Борисе Савинкове (1879-1925) - личности
исключительной, ярком политике и организаторе, человеке выдающегося
ума и незаурядного литературного дара, оставившем глубокий след
в российской политике и литературе и оказавшем немалое влияние
на умы своего времени. Савинков родился в семье судьи и
писательницы и по окончании гимназии в Варшаве поступил на юридический
факультет Петербургского университета, но за участие в
студенческих беспорядках был исключен и продолжил образование в
университетах Германии. Разнообразный революционный опыт привел его
в партию социалистов-революционеров, здесь он вошел в ее Боевую
организацию, сотрудничал в тесном контакте с возглавлявшим ее
Азефом, не подозревая того в двойной игре, и даже восторгался его
организаторскими способностями, деловыми качествами и
твердостью в проведении операций. После разоблачения Азефа Савинков
стал в эсеровской организации террористом номер один и завоевал
авторитет не только внутри партии, но и в культурной среде, где его
особо ценили Дмитрий Мережковский, поэт, романист и
политический мыслитель, и его жена, поэтесса Зинаида Гиппиус, -
центральные фигуры русского символизма. В литературу Савинков вошел
2 См.: AA.W. La svolta. Vechi. L'<<intelligencija» russa tra il 1905 e il 1917. Milano,
1970; AA.W. La critica del marxismo in Russia agli inizi del secolo. Milano, 1991; Strada V.
Tradizione e rivoluzione nella letteratura russa. 2 éd. Torino, 1980.
104
поэтическим сборником, но главные его произведения - романы
«Конь бледный»3 и «То, чего не было», подписанными псевдонимом
«В. Ропшин».
Прежде чем рассматривать, как неординарная фигура Савинкова-
террориста воспринималась в революционных кругах и какой
отклик вызвал его первый роман «Конь бледный» - свидетельство
кризиса народнического терроризма, стоит остановиться на второй
части его биографии, не менее феноменальной, чем первая, когда он
стоял в центре организации громких покушений. Во время Первой
мировой войны Савинков был близок к взглядам «отца русского
марксизма» Георгия Плеханова, разделяя его антигерманские
патриотические и антибольшевистские позиции, и с одобрением
отнесся к Февральской революции, видя в ней итог освободительной
борьбы, которую десятилетиями вели революционное движение и
его экстремистское террористическое крыло. Он сотрудничал с
главой Временного правительства Александром Керенским в качестве
военного министра, с успехом проводя работу по укреплению армии
и усилению войсковой дисциплины и борясь с пораженчеством,
политикой, которую вели большевики. Чтобы предотвратить распад
страны, он сделал ставку на выступление генерала Корнилова,
который по договоренности с Керенским должен был со своими
войсками навести порядок и укрепить власть в столице: эта запоздалая
попытка закончилась неудачей, в том числе и из-за уклончивости и
вероломства Керенского. Таким образом, была упущена последняя
возможность для Временного правительства защититься от
враждебных акций большевиков. После победы последних у Савинкова не
оставалось иного пути, как вооруженная борьба с новой властью, а
затем эмиграция в Европу, где в поисках поддержки России он
установил контакты с рядом европейских государственных деятелей, от
Клемансо до Черчилля. В 1923 году он опубликовал в Париже
роман «Конь вороной». Коммунистическая политическая полиция,
более эффективная и беспощадная, чем царская, организовала на
Савинкова настоящую охоту, и он попал в ловушку (его уверили, что
в России его хотят поставить во главе подпольной
антибольшевистской организации либерально-демократического толка, которую в
ГПУ «сколотили» специально, чтобы обмануть его). В 1924 году он
был арестован в Минске, возможно, из-за предательства близкой ему
женщины, и препровожден на Лубянку. Вскоре трибунал приговорил
его к смертной казни, которую заменили на десятилетний тюремный
Борис Савинков на Лубянке. Документы. М., 2001.
105
срок. Период, проведенный Савинковым во внутренней лубянской
тюрьме, исключительно интересен, как явствует из опубликованных
недавно лубянских архивных материалов4. 7 мая 1925 года Савинков
погиб при невыясненных до сих пор обстоятельствах. Одни
утверждают, что чекисты выбросили Савинкова в лестничный проем. По
другой версии, он сам выбросился из окна кабинета следователя на
пятом этаже. Эта версия представляется более убедительной, так как
больше соответствует характеру Савинкова, его деятельной и бурной
жизни террориста и борца. В сентябре 1924 года Савинков публично
признал свое поражение в небольшой записке «Почему я признал
советскую власть»5.
4 Савинков объясняет, по каким соображениям он перешел на сторону советской
власти после нескольких лет ожесточенной борьбы с нею. Это в основном
соображения патриотического порядка: «Я не коммунист, но и не защитник имущих классов. Я
думаю о России и только о ней. При царе Россия была сильна, - и стала жандармом
Европы. Советская власть, укрепившись, объединила в равноправный союз народы
бывшей Российской империи. Она стремится к усилению и процветанию СССР. Пусть
во имя Коммунистического Интернационала. Значит ли это, что Россия приносится
ему в жертву? Нет, это значит, что в глазах миллионов русских людей вчерашний
жандарм, Россия, станет завтра освободительницей народов. Для меня достаточно
восстановления ее. Но меня спросят: как же восстанавливать без свободы? Я на это отвечу: а,
если бы были белые, разве бы не было диктатуры? Я предпочитаю диктатуру рабочего
класса диктатуре ничему не научившихся генералов» (Савинков Б. Воспоминания. М.,
1990. С. 396). Посредством таких аргументов, частью надуманных, ибо временная
военная диктатура в любом случае есть нечто совершенно иное, чем тотальная и
устойчивая диктатура большевиков, которую вряд ли можно считать «освободительной»,
Савинков объясняет свою «сдачу» не как признание личного поражения, а как
констатацию исторического краха всей политики: «Мы верили, что русский народ, рабочие и
крестьяне, с нами - с интеллигентской или, как принято говорить, мелкобуржуазною
демократией. В этой вере было оправдание нашей борьбы... Что же? Не испугаемся
правды. Пора оставить миф о белом яблоке с красною оболочкой. Яблоко красно
внутри» (397), то есть русский народ тот, что есть, и «мелкобуржуазная демократия» не
для него, поэтому те, кто «сохранит "душу живу"», «доверятся русскому трудовому
народу» и скажут: «Мы любили Россию и потому признаем Советскую власть» (399).
Так заканчивается этот текст Савинкова, продиктованный, по словам автора, не
«желанием спасти жизнь», но кажется он одним из тех «признаний» или отречений, какие
будут делать «враги народа» в советских трибуналах - запутанный клубок
«искренности» и «двурушничества». Смерть Савинкова (как бы она ни произошла: то ли от него
избавились сами чекисты, выбросив его как выжатый лимон, то ли он сам покончил с
собой в последнем отчаянном порыве гордости) доказывает, что на самом деле он не
примирился с властью своих преследователей, хотя реалистически признал их победу,
а главное, собственное банкротство. Для его бывших товарищей, демократов и
социалистов в изгнании на Западе, Савинков стал ренегатом, авантюристом, завершившим
свою карьеру подлым предательством из оппортунистических соображений, ради
спасения готовым сотрудничать с врагами - своими и России.
5 Уинстон Черчилль так пишет о конце Савинкова: «Физических пыток не
применялось. Своему архиврагу они (коммунисты. - В. С.) приберегли более изощренные
и утонченные истязания. Впоследствии эти методы стали рутиной и показали свою
эффективность в выбивании признаний. Измотанный в камере обманчивыми надеж-
106
Возвращаясь к России, до победы большевиков еще
боровшейся за гипотетический или воображаемый социализм, к терроризму,
как крайней форме этой борьбы, и к Савинкову - активисту Боевой
организации, возможно, нет лучшего документа для понимания
личности Савинкова и для сравнения старого народнического
терроризма с новым, олицетворением которого был Савинков, чем
воспоминания знаменитой революционерки-народоволки Веры Фигнер. Их
общение строилось на взаимной живой симпатии, но в 1908 году они
прервали отношения из-за отрицательной реакции Фигнер на
разрыв Савинкова с женой. Показательны слова Фигнер, что из всех
людей, которых она когда-либо встречала, Савинков «был самым
блестящим»6. Она уточняет: «Савинков был для меня человеком, не
как все. Он был загадочным и оригинальным; был типом, совершенно
новым в революции, и, как таковой, понятно, чрезвычайно
интересовал меня» (189). Между ними возникали горячие споры о
терроризме, и Фигнер вспоминает, как он говорил «о тяжелом душевном
состоянии человека, решающегося на жестокое дело отнятие
человеческой жизни», на что она, сомневаясь в искренности этого
признания и ощущая некоторую рисовку, ответила с обезоруживающей
простотой: «Нельзя идти на террористический акт с раздвоением в
душе. Внутренняя борьба понятна, когда вопрос решается, но если
он решен, все сомнения должны быть преодолены и остаться позади;
не должно быть никаких терзаний» (188). Наоборот, для Савинкова
такое «раздвоение» - характерная черта психологии революционера
нового типа.
Это четко выявлено в следующем их диалоге: «Савинков
говорил: "идя на террористический акт, несущий смерть тому, против
которого он направлен, так и тому, кто его исполняет, человек отдает
революционному делу самое ценное, что у него есть, - свою жизнь".
И подчеркивал ценность отдаваемого, несоизмеримость отдачи этой
дами и ложными обещаниями, раздавленный изощреннейшим нажимом, он наконец
решился написать свое пресловутое письмо с отречением и объявить большевистское
правительство освободителем мира. Опозоренный перед историей, заклейменный
своими друзьями как Иуда, он должен был каждую неделю ощущать ужесточение
тюремного режима, и его последнее обращение к Дзержинскому было встречено
издевательски. Убили ли его спокойно в тюрьме, или же он совершил самоубийство во власти
отчаяния - неизвестно, да и неважно. Его раздавили физически и духовно. Они свели
его жизненные усилия к бессмысленной гримасе, его заставили оскорбить собственное
дело и замарать навсегда память о нем. И все-таки, в итоге, мало кто порывался на
большее, дал больше, смел больше и страдал больше ради русского народа». (Churchill W.
Great Contemporaries. London, 1937. P. 133.)
6 Фигнер В. Поли. собр. соч. Т. 3. С. 179. Далее страницы указываются в тексте в
скобках.
107
ценности с какой бы то ни было другой жертвой, потерей свободы,
например. Это подчеркивание удивляло меня и являлось новым в
психологии террориста. Савинков так настойчиво говорил на эту тему,
что я невольно взвешивала разницу между террористом "Народной
воли" и современным с.-р., если Савинкова считать типичным
представителем террористов партии. Мы о ценности жизни не
рассуждали, никогда не говорили о ней, а шли отдавать ее, или всегда были
готовы отдать, как-то просто, без всякой оценки того, что отдаем или
готовы отдать. Это казалось так естественно!» (194).
Объясняя разницу между «цельным» терроризмом своего
времени и «раздвоенностью» терроризма начала века, Фигнер оставляет в
тени два момента: во-первых, гибнет не только террорист, но и его
жертва, подчас совершенно невинная, а во-вторых, террорист
жертвует собственной жизнью не только чисто физически, но и морально,
как показывает Савинков в своем романе «Конь бледный». Фигнер
объясняет разницу двух типов террориста социологически тем, что
«с тех пор за период в 25 лет у революционера поднялся
материальный уровень жизни, выросла потребность жизни для себя, выросло
сознание ценности своего "я" и явилось требование жизни для себя.
У народовольца, определившего себя, не было внутренней борьбы.
"Если берешь чужую жизнь - отдавай и свою легко и свободно" -
таково было его настроение» (194).
Савинков считал, что такое умонастроение умаляет значение
террористического акта: «Но если вы не ценили свою жизнь, если не
взвешивали ценность ее, то отдавали революции очень мало; вы
отдавали только то, что вам не нужно, и совершали, можно сказать,
политическое самоубийство» (£95) - утверждение, не лишенное
истинности в отношении террориста-народника, но при этом оно верно и для
террориста нового типа, движимого тем же инстинктом смерти и
вместе с тем «раздвоенного» в духе героев Достоевского. В персональном
случае Савинкова имел место эстетско-декадентский элемент, как
видно из других его слов, сказанных изумленной Фигнер: «Морали
нет. Есть только красота. А красота состоит в свободном развитии
человеческой личности, в беспрепятственном развертывании
всего, что заложено в его душе. [...] Что касается морали - это правила,
ограничительные предписания: о должном, дозволенном,
недозволенном, недопустимом. Эти правила с колыбели навязываются
человеку воспитанием, примером, внушением и непрерывными влияниями
окружающей среды. Они не дают человеку развиваться свободно, из
самого себя, и всю жизнь тяготеют над ним, не позволяя быть самим
собой. От всего этого, извне навязанного и связывающего личность,
человек должен освободиться. Он должен порвать все наложенные
108
на него путы, чтобы все, что только есть в душе, могло без
подавления чего-либо, невозбранно раскрыться в его индивидуальности»
(190-191). На возражение Фигнер, что «человек совершенствуется
только путем подавления эгоистических инстинктов и вредных для
него и общества склонностей и страстей», Савинков отвечал: «Если
человек будет подавлять что-либо в себе - он превратится в мешок с
мертвыми костями» (491).
В письме к Фигнер (3 июля 1907 года) Савинков говорит о своих
«ересях», в которых он видит «попытку, может быть, слабую - все
равно, - революции духа, борьбы с той стороной человеческого "я",
которая, я замечал, во всех даже самых свободных людях, несвободна
и глубоко консервативна. Я говорю именно о духе - о старой морали,
старых традициях, я смел бы сказать - старой рутине. Этой старой
моралью, этим духом позитивизма и рационализма питается все наше
поколение. Я им питаться не могу и не хочу». Но со «своим
поколением» - товарищами по революции и террору он, такой непохожий в
«мыслях», в «делах» поступает в унисон7. Эти «мысли»,
принимавшие у Савинкова эстетски-декадентскую форму, были свойственны
новому революционному волюнтаристски-имморалистическому
менталитету, не всегда явному, часто завуалированному «духом
позитивизма и рационализма» или же парадоксальным образом
слитому с ним.
Другое интересное свидетельство о Савинкове принадлежит
У. Черчиллю, который был прямо связан с ним в период
сопротивления большевизму. Черчилль так описывает Савинкова, отметив
предварительно, что это был первый представший перед ним во
плоти «русский нигилист»: «Небольшого роста; движения сведены к
минимуму, тихие и осторожные; необыкновенные зелено-серые глаза
на почти мертвенно-бледном лице; говорит спокойным, низким,
ровным, почти монотонным голосом; бесконечные сигареты. Держится
конфиденциально и в то же время с достоинством; речь
непосредственная и церемониальная, ледяная, но не леденящая сдержанность.
Все это давало ощущение личности необычайной, наделенной
скрытой, строго подконтрольной мощью»8.
Описав внешность этого «русского нигилиста», Черчилль так
говорит о его не менее сложном и ускользающем внутреннем мире:
«Вся жизнь Бориса Савинова ушла на подпольную деятельность. Без
какой-либо религии, подобной тем, которые проповедуют Церкви;
7 Минувшее. Исторический альманах. Т. 18. СПб., 1995. С. 196.
8 Churchill W. Op. cit. P. 124-126.
109
без какой-либо морали, какие предписывают люди; без дома или
страны; без жены или детей или близких; без единого друга; без страха;
охотник и предмет охоты; неумолимый, неукротимый, одинокий.
И все-таки он нашел себе утешение. Его существование было
организовано вокруг одной темы. Его жизнь была посвящена единому делу.
Этим делом была свобода русского народа. Не было ничего, на что
бы он не осмелился или чего бы не вытерпел ради этого дела. У него
не было даже стимула фанатизма. Это был необыкновенный продукт:
террорист с умеренными целями. Целями были "разумный и
просвещенный политический порядок", наподобие парламентского
английского, аграрная система, как во Франции, "свобода, терпимость
и солидарность" - блага, которых он готов был добиваться, в случае
необходимости, «при помощи динамита ценой жизни». Тогда
понятно, что «царь и Ленин были для него одно и то же, только
называемое по-разному, та же тирания под разными эмблемами, та же самая
преграда на пути русской свободы» и в борьбе против обоих тиранов
Савинков «продемонстрировал мудрость государственного деятеля,
качества полководца, отвагу героя и стойкость мученика».
В этом портрете, богатом точными наблюдениями и в то же
время восторженно-идеализированном, Черчилль в одном неправ по
неосведомленности: по крайней мере один друг, сотоварищ по
террористической деятельности, у Савинкова был, да и завоеванные
им женщины приносили ему какое-то облегчение в «одиночестве».
Этот друг - Иван Каляев (1877-1905), легендарный террорист, по
кротости души ставший предметом своего рода культа, сыгравший
главную роль в покушении 4 февраля 1905 года, жертва которого -
великий князь Сергей Александрович, дядя царя и муж сестры
императрицы, приверженец крайне реакционного политического курса.
На это, одно из самых громких в начале века, покушение и его
«героя» Каляева стоит обратить особое внимание.
Техника покушения была обычной: бомба в карету жертвы. Но
то, что предшествовало взрыву и что последовало за ним,
выходило за рамки обычного. После подготовительного периода
наблюдений за привычными маршрутами намеченной жертвы прибывшая
22 января в Москву и остановившаяся в гостинице специалистка по
взрывным устройствам Дора Бриллиант изготовила две бомбы и
вечером этого же дня при встрече с Савинковым передала ему их. Тот
в свою очередь отнес их к двум «бомбистам», одним из которых был
Каляев. Он расположился около здания Думы, мимо которого Сергей
Александрович проезжал в Большой театр (другой террорист вел
наблюдение за другим возможным маршрутом). Увидев в начале
девятого карету великого князя, Каляев бросился к ней и уже было решил
НО
метнуть бомбу, но в последний момент остановился и попятился: в
карете, кроме намеченной жертвы, находились жена градоначальника
и двое детей - племянники князя. Покушение не состоялось, и карета
подъехала к театральному подъезду. В «Воспоминаниях» Савинков
так описывает этот, пожалуй, уникальный в истории терроризма
эпизод: Каляев, совершив этот поступок, пришел к Савинкову,
организатору операции, ожидавшему неподалеку, и сказал: «Я думаю, что я
поступил правильно: разве можно убить детей?» От волнения он не
мог продолжать. Он понимал, как много он своей властью поставил
на карту, пропустив такой единственный для убийства случай: он не
только рискнул собой, он рискнул всей организацией. Его могли
арестовать с бомбой в руках у кареты, и тогда покушение откладывалось
бы надолго. Я сказал ему, однако, что не только не осуждаю, но и
высоко ценю его поступок»9.
Каляев потом поставил общий вопрос, никогда не встававший
перед террористами: «вправе ли организация, убивая великого князя,
убить его жену и племянников» (117). Ставя вопрос таким образом,
Каляев, однако, ограничил великодушие своего решения, как видно
из того, что последовало дальше: «Каляев говорил, что если мы
решим убить всю семью, то он на обратном пути из театра бросит бомбу
в карету, не считаясь с тем, кто будет в ней находиться» (117): его
благородный порыв, таким образом, умалялся подчинением
организации, перекладыванием личной ответственности на организацию.
Но Савинков-такую ответственность возложил на себя: «Я высказал
ему свое мнение: я не считал возможным такое убийство» (117).
Вскоре покушение на великого князя удалось, и совершил его
«Поэт», как называли Каляева, автор «декадентских» виршей,
убедивший Савинкова доверить ему выполнение этого задания.
Необычайны две сцены этого покушения: одна касается
террористов, другая - жены убитого. Первую описывает Савинков: «Я
прошел мимо дворца и кареты и через Никольские ворота вышел на
Тверскую. У меня было назначено свидание с Дорой Бриллиант на
Кузнецком мосту в кондитерской Сиу. Я торопился на это свидание,
чтобы успеть вернуться в Кремль к моменту взрыва. Когда я вышел
на Кузнецкий мост, я услышал отдаленный глухой звук, как будто
в переулке кто-то выстрелил из револьвера. Я не обратил на него
внимания, до такой степени этот звук был не похож на гул взрыва.
В кондитерской я застал Дору. Мы вышли на Тверскую и пошли вниз
к Кремлю. Внизу у Иверской нам навстречу попался мальчишка, ко-
9 Савинков Б. Воспоминания. С. 116-117.
111
торый бежал без шапки и кричал: "Великого князя убило, голову
оторвало!"» (121-122). Один из сообщников, изображавший извозчика,
посадил их к себе в сани и подтвердил новость. Тогда, продолжает
Савинков: «Дора наклонилась ко мне и не в силах более удерживать
слезы зарыдала. Все ее тело сотрясали глухие рыдания. Я старался
ее успокоить, но она плакала еще громче и повторяла: "Это мы его
убили... Я его убила... Я..." "Кого?" - переспросил я, думая, что она
говорит о Каляеве. "Великого князя"» (122).
А тем временем в Кремле плакала другая женщина -
великая княгиня Елизавета Федоровна, жена, теперь уже вдова Сергея
Александровича, чье тело каляевской бомбой в нескольких шагах
от кареты разнесло в клочья и разметало гпо мостовой, а голову
отбросило так далеко, что нашли ее не сразу. Находившаяся во дворце
великая княгиня, услышав взрыв, сразу поняла, что жертва - ее муж,
и бросилась на близлежащую площадь: «Добежав до места взрыва,
она, рыдая, пала на колени и стала собирать окровавленные остатки
мужа»10. Собравшаяся толпа равнодушно взирала на происходящее, а
великая княгиня тщетно умоляла: «Как вам не стыдно? Что вы здесь
смотрите? Уходите прочь!». Люди уже привыкли к
террористическому насилию, к тому же к убитому при жизни испытывали такую
ненависть, что его смерть вызвала не скорбь, а скорее злорадство.
Завершение истории не менее драматично. Каляева
приговорили к смертной казни, во время его заключения в тюрьме его
неожиданно посетила великая княгиня. Этот эпизод, рассказанный самим
Каляевым, обогатил его образ кроткого террориста, созданный
благодаря его решению не бросать бомбу в карету, где, кроме намеченной
жертвы, находились невинные дети. Но и в этом случае
трогательная сцена встречи террориста и вдовы убитого испорчена тем, как он
ее пережил и истолковал. Вот начало его рассказа: «Мое свидание с
великой княгиней произошло вечером 7-го февраля в канцелярии
арестного дома [...] куда меня привели нарочно. Я не был
предупрежден о свидании, я не звал великую княгиню к себе. Когда она вошла
ко мне, вся в черном, медленной походкой разбитого горем человека,
со слезами на глазах, я не узнал ее и первоначально предположил, что
это, должно быть, кто-нибудь из арестованных для опознания. "Жена
я его", - прошептала великая княгиня, приблизившись ко мне. Я не
встал перед нею, и она беспомощно опустилась на соседний стул и
продолжала плакать, опустив голову на мои руки»11. Великая княгиня
10 Цит. по: Прайсман Л.Г. Террористы и революционеры. С. 108.
11 Памяти Каляева. М., 1918. С. 71. Далее страницы указывается в тексте в
скобках.
112
промолвила: «Вы, должно быть, много страдали, что вы решились...»,
но Каляев перебил ее и придал разговору политическую окраску,
оправдывая свой поступок тем, что это единственное «средство
протестовать против жестокостей правительства» (72), и заявил, что не
следует затевать с ним разговор после того, как совершено убийство.
Великая княгиня возразила: «Я не могу вести с вами политический
разговор...» и добавила: «Я прошу вас, возьмите от меня на память
иконку. Я буду молиться за вас». Каляев взял подарок, истолковав
это как «символ признания с ее стороны моей победы, символ ее
благодарности судьбе за сохранение ее жизни и покаяния ее совести за
преступления великого князя» (73). Такое слишком ограничительное
толкование не позволило ему увидеть в жесте вдовы убитого им
человека простой христианский порыв, а не эгоистичную
признательность за сохранение жизни. Информация о встрече, просочившаяся в
печать, породила целую полемику. Представленную газетами версию
Каляев воспринял как оскорбление в свой адрес и отреагировал
раздраженным, язвительным письмом великой княгине,
продемонстрировав тем самым отсутствие чуткости. Считая ее ответственной за
интерпретацию их разговора как доказательства «торжества
православия», Каляев заявлял, что она «недостойна» его «великодушия»
и сожалел, что согласился принять ее визит, утверждая: «Мне
думалось с первого момента свидания, что за личиной христианского
смирения, с которым Вы пришли - ко мне, в Вашей душе скрывалось
самое обыкновенное земное чувство благодарности к судьбе за
сохранение Вашей жизни» (76). Что касается «религиозности», то Каляев
говорит, что она у него есть, но это особая, его собственная
религиозность, он выполнял задание Боевой организации своей партии «с
истинно религиозной преданностью»: «В этом смысле я "религиозный"
человек, но моя религия - социализм и свобода, а не мрак и насилие.
Моя религиозность против Вас, а не с Вами, что я доказал делом 4-го
февраля»12 (77). Здесь можно закончить историю покушения
Каляева (и Савинкова) на великого князя Сергея Александровича,
недостойного мужа такой женщины, как Елизавета Федоровна. Она по-
12 Каляев, как и другие террористы, принимают смерть в теракте или на эшафоте
не только как неизбежное следствие. Для них смерть - это главным образом
наивысшее утверждение идеи, за которую они борются, как если бы их мученичество
окружал религиозный ореол. В этом культе «смерти» чувствуются отголоски книги Ницше
«Так говорил Заратустра» (одна из глав которой называется «О свободной смерти»).
Тогдашнее влияние Ницше на русскую культуры было особенно сильным, от
символистов до Горького (в поэмах и прозе которого тоже воспевается смерть героя как
высочайшая жертва во имя идеального будущего). Подробнее об этом см.: Mazlish В. The
Revolutionen Ascetic. Evolution of a Political Type. New York, 1976.
113
гибла в другом террористическом акте, который, может быть,
ужаснул бы самого Каляева: зверски убитая большевиками, как почти все
члены семьи Романовых. В 1992 году ее заслуженно канонизировала
Русская Православная Церковь.
Теперь посмотрим, как новая ситуация русского терроризма
отразилась в романе Савинкова «Конь бледный», где рассказана
история подготовки и совершения покушения на высокого сановника
небольшой группой террористов во главе с Жоржем, в котором
легко узнать самого Савинкова. Другой член группы, Ваня, воплощает
«религиозный» тип террориста, посвятившего себя Делу вплоть до
самопожертвования и задумывающегося о нравственном смысле
убийства, что напоминает нам Каляева. Четкость намеченного
плана операции нарушается из-за поведения Жоржа. Это не цельный
герой, чистый идеалист, без остатка посвятивший себя достижению
революционных целей, а человек, подчиненный ледяному
интеллектуализму и эгоцентрическому волюнтаризму, его психическая
энергия направлена как на террористический акт, так и с не
меньшей пылкостью на удовлетворение собственных влечений, что
приводит его к необоснованно абсурдному преступлению: увлекшись
женщиной, с которой вступил в связь, он убивает ее мужа. Контраст
между «не убий» морального кодекса и заповедью терроризма «ты
должен убить» - мучительная проблема героев романа, вопрос
границы между допустимостью преступления по политическим мотивам
и недопустимостью преступления, как в случае Жоржа, по личным
мотивам: если все основывается на рассудке и воле, то почему
совесть должна терзаться из-за преступления второго типа и, наоборот,
принимать первое? «Конь блсдный» перекликается с проблематикой
Раскольникова и Карамазовых.
Герои романа, охотясь за жертвой, ломают голову над этим
вопросом с непосредственностью, что свидетельствует о подлинности их
внутреннего разлада и знаменует кризис когда-то цельной идеологии,
и вместе с тем с жесткостью, которая есть выражение напряженности
их душевного мира, нацеленного на уничтожение врага. Террорист
приносит свою жизнь в жертву не в силу латентного импульса
самоубийцы, для него это акт по своей природе религиозный, потому
что в жертву он приносит не только свое тело, но главным образом
душу, так как сознает, что, убивая, переступает за черту морального
абсолюта. Иная ситуация для нигилиста второго типа, вроде Жоржа,
который признает и открыто исповедует революционный идеал, не
являющийся пружиной действия, заполняющего его внутреннюю
пустоту, удовлетворяет личные желания и оттягивает финальное
самоубийство, перечеркивая границу между политическим и личным
114
преступлением. Революционер «религиозного» типа жертвует собою,
собственной душой, убивая с чистосердечной убежденностью, что
делает это «чтобы потом не убивали», «чтобы потом люди по-Божьи
жили» и «чтобы любовь освящала мир»13. На партийного же
функционера, старого революционера, который не принимает прямого
участия в убийстве, Жорж смотрит со снисхождением, как на «бедного
взрослого ребенка» (173), наблюдающего ребяческий героизм
террористов, «религиозно» преданных преступлению во имя лучезарного
будущего.
Диалектику революционного насилия Савинков (и «его» Жорж)
вскрывает изнутри: в отличие от критики со стороны противников
революции, это беспощадно трезвый взгляд человека, испытавшего
ее на себе, вплоть до трагического исхода в самоубийстве. Жорж, по
его собственному определению, - «чужой» (151), «посторонний», и в
то же самое время уважаемый товарищами террорист-революционер,
которые, видя в нем «иного», ценят его холодную решимость и
прагматизм. Жорж организует покушение, а заодно напрасно убивает
своего соперника и делает несчастной свою соратницу-террористку
(ее прототипом была, вероятно, Дора Бриллиант), которая
болезненно-страстно в него влюблена, но он уже не отвечает ей
взаимностью (даже если предположить, что когда-либо действительно
любил ее, а не просто «пользовался» ею в своих альковных
похождениях). Так что все кончается ее самоубийством. В предпоследней
записи своего дневника он замечает: «Я понял: не хочу больше жить.
Мне скучны мои слова, мои мысли, мои желания. Мне скучны люди,
их жизнь. Между ними и мной - предел. [...] Я невинно любил
людей, радостно любил жизнь. Я не люблю теперь никого. Я не хочу
и не умею любить. Проклят мир и опустел для меня в один час: все
ложь и суета» (213). В последней записи он вспоминает Ваню,
знавшего, что значит любить и знавшего Бога, хотя Жорж сомневается,
знал ли. И заключает описанием окружающего его сумеречного
пейзажа, как сумеречна вся атмосфера романа: «Когда звезды зажгутся,
упадет осенняя ночь, я скажу мое последнее слово: мой револьвер со
мной» (213). Для Савинкова «последним словом» был не револьвер,
а прыжок из лубянского окна. Понятно, что такой роман, как «Конь
бледный», замечательный по повествовательной силе и
эмоциональному воздействию, вызвал скандал в обществе, где еще
господствовали революционные мифы, хотя и на время потускневшие. На месте
этих мифов и олицетворявших их героических фигур, развенчанию
Савинков Б. (В. Ропшин). То, чего не было. М., 1992. С. 166.
115
которых способствовал и роман Савинкова14, стали возникать мифы
большевистского извода в одеждах марксистской пролетарской
идеологии, и начало новому циклу воспевания революции было положено
романом Горького «Мать».
После Веры Фигнер и Уинстона Черчилля послушаем, что говорит
о Савинкове философ Федор Степун, который после Февральской
революции был ему близок и написал о нем безжалостные и
беспристрастные воспоминания: «Оживал Савинков только тогда, когда
начинал говорить о смерти. Я знаю, какую я говорю ответственную
вещь и тем не менее не могу не высказать давно преследующую меня
мысль, что вся террористическая деятельность Савинкова и вся его
кипучая комиссарская работа были в их последней, метафизической
сущности лишь постановками каких-то лично ему, Савинкову,
необходимых опытов смерти. Если Савинков был до конца захвачен в
жизни, то лишь постоянным самопогружением в таинственную
бездну смерти»15. Далее Степун замечает, что только литературой
оживлялась иногда «его заполненная ставрогинским небытием душа», и
высказывает мысль, что все, что написал Савинков и что читается «не
только с захватывающим интересом, но и с волнением», вызвано не
банальным тщеславием литератора, а чем-то более существенным:
«Чтобы не разрушать себя своею нигилистическою метафизикою
смерти, он должен был стремиться к ее художественному
воплощению. Не даруя смерти жизнь, жить смертью нельзя» (146-147).
В заключение этой части нашего исследования, которая
касается Савинкова и Каляева, но, в сущности, завершает эпоху русского
терроризма накануне начала другой (не только русской, но и
международной) эпохи коммунистического террора, лучше всего прочесть
сделанное Степуном сопоставление «традиционного» -
народнического и нового - большевистского террора: «Совсем иное дело террор
большевистский. В многолетних спорах народников с марксистами
социал-демократы утверждали, что террор нецелесообразен. Это
утверждение, вероятно, было одной из главных причин их победы
над народниками, разочарованными их тактикой. Однако после
победы над Временным правительством большевики резко поменяли
свою точку зрения. Не отказываясь от своего убеждения, что
применение террора в отношении отдельных лиц нецелесообразно, они
превратили его в весьма эффективное средство классовой борьбы.
14 Еще более сильным признаком кризиса традиционной революционной
интеллигенции был сборник «Вехи» (см. примеч. 2 на стр. 104).
15 Степун Ф. Портреты. СПб., 1999. С. 145. Далее страница указывается в тексте в
скобках.
116
Громадная разница между народническим террором и
большевистским в том, что представители народнического терроризма убивали
министров в убеждении, что они виноваты в несчастьях народа, в то
время как большевики, не признающие свободы воли и, стало быть,
моральной ответственности человека за свои поступки, уничтожали
и уничтожают своих врагов не за совершенные ими преступления,
а для того, чтобы ликвидировать социологический материал,
негодный для построения нового мира. Другое отличие, весьма важное,
между доболыпевистским террором народников и государственным
большевистским в том, что лишенные власти народники боролись
против всесильного правительства и платили за это жизнью, между
тем как большевики казнили сотни тысяч безоружных людей в
сознании неограниченности своей власти без всякого риска для себя»16.
Объяснение такого поведения людей, которые в прошлом, до захвата
власти подвергались преследованиям, иными словами, причину этой
«пресловутой амнезии» следует искать, считает Степун, в
«нигилистической метафизике» марксизма. С того времени, когда Степун
говорил о «сотнях тысяч», жертвы исчисляются десятками
миллионов: действительно ли причина «нигилистическая метафизика»
коммунистов так близка «нигилистической метафизике смерти» их
противника Савинкова? Неожиданный успех Савинкова и Каляева
за пределами России может помочь в поисках ответа.
Юдифь и Олоферн
В 1914 году молодой венгерский философ Дьердь Лукач, один из
самых ярких членов гейдельбергского интеллектуального кружка
Макса Вебера, женился на эмигрировавшей в Европу молодой
русской террористке-эсерке Елене Грабенко. Этот брак, вызвавший
замешательство в принадлежавшей к крупной буржуазии семье жениха,
не был простым супружеским союзом (впрочем, он скоро распался17):
для Елены, подорвавшей в революционной борьбе физическое и
психическое здоровье, он был поистине спасением, надеждой обрести
моральную поддержку в своей беспорядочной и беспокойной жизни, а
для Лукача это была встреча с реальностью, образ которой давно уже
внедрился в его сердце: Россия, Толстой, а главное, Достоевский, не
географическая, а духовная страна, которую благодаря ее чарующей
литературе и драматизму истории европейская культура того време-
16 Степун Ф. Сочинения. М., 2000. С. 620.
17 После революции 1917 года Грабенко (род. в 1886 году) вернулась в Россию, где
бесследно исчезла; дата ее смерти неизвестна.
117
ни открыла для себя, захваченная ее загадочной глубиной, видя в ней
альтернативу холодной и плоской реальности
рационализированного мира капиталистического Запада. Приоритет этого открытия
принадлежит Франции, где Эжен-Мельхиор де Вогюэ в книге "Roman
russe" (1886), впоследствии переведенной на другие языки, впервые
представил французской и европейской публике мир удивительной
литературы. То же самое происходило в Германии, где контакты с
русским духовным миром приняли философский характер, что
наиболее очевидно для Макса Вебера и его окружения. Лукача особенно
притягивал миф о России под влиянием романов Достоевского и
деятельности революционеров: эти два элемента сливались для него в
одну этико-политическую проблему и, казалось, нашли воплощение
в Елене Грабенко.
Эрнст Блох объясняет, что значила для Лукача эта молодая
русская женщина, «державшая на руках взятого у кого-то ребенка, под
пеленками которого спрятала бомбы». Это было странное создание,
«через нее Лукач, так сказать, обручился с Достоевским: он женился
на своей России, России Достоевского, какой на самом деле не
существовало». И продолжает: «Эта женщина была для него Соней или
каким-нибудь другим персонажем Достоевского, олицетворением
"русской души"». Блох разъясняет причины такой страстной любви
к России, любви, в Германии разделявшейся Вебером, Шпенглером и
тем же Блохом: «Это был не только нравственный, но и религиозный
импульс» в сторону «русского христианского мира, духовного мира
Толстого и Достоевского», «русской души», прибегая к банальному
выражению, к «чему-то», что «светилось перед нашими глазами, но в
действительности не существовало»18.
Такая восторженность роковым образом оказала глубокое
влияние на мысль Лукача и на его жизнь: он уже тогда стал работать над
монографией о Достоевском, оставшейся в набросках, и закончил
очерк «Теория романа» с посвящением Елене Андреевне Грабенко,
который должен был стать введением к несостоявшейся монографии.
Главное же, Лукач пришел к большевистской революции и
большевизму через свою любовь к России, путем интенсивных и сложных
18 Löwy M. Per una sociologia degli intellettuali rivoluzionari. Milano, 1978. Об
огромном интересе немецкой культуры начала века к Достоевскому, в основном в
«антизападном» ключе, свидетельствует факт, что такой интеллектуал, как Меллер ван
ден Брук (Moeller van den Brück), в дальнейшем идеолог консервативной революции»,
подготовил в 1906-1914 годах для издателя Пипера (Piper) полное собрание
сочинений русского писателя в 22 томах.
118
размышлений над этической, политической и религиозной
проблематикой романов Достоевского и эсеровского терроризма.
Для Лукача, вообразившего Елену персонажем романов
Достоевского, она была настоящей героиней-террористкой, связавшей его
с современной ему «подпольной Россией» Савинкова и Каляева,
мир которых был близок Лукачу, мучимому этическими
проблемами вины и насилия, как они исследованы у Достоевского. Сам Лукач
в двух письмах 1915 года Паулю Эрнсту свидетельствует о
впечатлении от чтения работ Савинкова. В первом из них он признается:
«Если бы я был русским, то несомненно стал бы революционером
и вполне возможно террористом»19. В другом, рассматривая прозу
Савинкова «как документ», а не «художественное произведение», он
видит в ней новое выражение древнего конфликта между кантовской
«старой этикой (долг по отношению к структурам)», то есть к
институтам государства, и «второй этикой (императивы души)», то есть в
отношении самих себя, и говорит о «диалектических осложнениях»,
на которые наталкивается «иерархия приоритетов», когда «душа
обращена не на себя, а на человечество», как у революционера. Лукач
недвусмысленно заключает: «Здесь - ради спасения души - нужно
пожертвовать именно душой: исходя из мистической этики,
требуется стать жесткими реалполитиками и преступить абсолютную,
относительно структур не обязательную заповедь "Не убий"»20.
Приводимый им пример взят не из Савинкова, хотя именно этика
героя «Коня бледного» Ивана, знающего, что грех переступить через
абсолютную заповедь, и сознательно жертвующего собственной
душой (и жизнью) в террористическом акте. Для иллюстрации своего
тезиса Лукач ссылается на драму Геббеля «Юдифь», в которой
героиня убивает Олоферна, говоря себе: «И если между мною и моим
поступком пролегает грех, кто я, чтоб уклониться от него?». Библейский
эпизод оправдывает в новой ситуации для новых людей нарушение
заповеди через преступление, цель которого не менее абсолютна, чем
нарушенная заповедь, и касается человечества, будущего, путей
выхода из эпохи и общества, в высшей степени греховных. Лукач, как
мы увидим, повторяет слова геббелевской героини, чтобы оправдать
этический и экзистенциальный выбор, которому он останется верен
до конца жизни: он признает коммунистическое революционное
насилие во имя рационально обоснованной им утопии конца царства
отчуждения и рождения органического человеческого общежития.
19 Lukâcs G. Epistolario. 1902-1917. Roma, 1984. P. 358.
20 Ibid. P. 360.
119
Провозвестником грядущего «нового мира» Лукач в заключительных
строках «Теории романа» объявляет Достоевского. Здесь он, однако,
выражает сомнение, действительно ли человечество уже подошло
к «точке отказа от состояния абсолютной греховности», как он
называет фихтеанским историософским термином эпоху отчуждения,
или это «только простые надежды объявить о пришествии нового»21.
С большевистской революцией, считал Лукач, «пришествие нового»
уже не простая надежда, и действительно начался исход из состояния
«абсолютной греховности».
В набросках о Достоевском, тексте очень непростом,
истолкование которого не входит в нашу задачу, имена Савинкова (Ропшина)
и Каляева чередуются с именами персонажей «Преступления и
наказания», как будто в реальности русского терроризма, в особенности в
«Коне бледном», Лукач нашел подтверждение своим размышлениям
об этических проблемах, поднятых в произведениях Достоевского.
Центральной является проблема атеизма. Лукач отличает западный
атеизм от русского: первый - эгоистический и механический, ин-
теллектуалистический и бездушный, второй - этический и
проблематичный, открытый всемирному сообществу, питающийся, как в
ропшинском террористе Иване и Каляеве (которых Лукач относит
к «верующим, считающим себя атеистами»22), неосознанным, но
глубоким религиозным инстинктом. На этой почве рождается вера в
необходимость действия, независимо от результатов. Лукач говорит о
«революции как долге», утверждая, что «нельзя действовать
безгрешно (однако не-действие равнозначно действию-греху». И еще, имея
в виду «проблему Ропшина»: «Истинная жертва революционера,
следовательно, - это (буквально): принесение в жертву собственной
души»23.
Уже в работе «О нищете духа» (1912) Лукач отличал
«первичную этику» «условностей» и «вторичную этику» «святости». В
первой (этике кантовской) каждый индивид обладает ограниченной
совокупностью обязанностей в отношении другого и находится в
ладу с собственной совестью, если придерживается заветов,
регулирующих эти обязанности, но оставляющих индивиды чуждыми друг
другу, однако таким образом в обществе устанавливается порядок.
«Вторичную этику» исповедует тот, кто применяет «добро» на деле,
будучи способным напрямую «читать» в душе другого и понимать
21 Lukâcs G. Teoria del romanzo. Parma, 1994. P. 186.
22 Lukâcs G. Dostoevski!. Milano, 2000. P. 25.
23 Ibid. P. 56.
120
его духовные запросы, посвящая себя их служению. Последняя есть
этика Сони Мармеладовой, князя Мышкина и Алеши Карамазова.
Она не задумывается, к каким результатам может привести и не
учитывает причинных отношений, устанавливающихся в
окружающем мире. Поэтому «добрые люди», как перечисленные персонажи
Достоевского, могут даже вызвать катастрофический беспорядок:
«Кому оказался полезен князь Мышкин? Разве он не посеял трагедий
на своем пути? А ведь у него, конечно, таких намерений не было». Но
его поступки и поступки ему подобных - это «опускание неба на
землю», «настоящая и подлинная жизнь» стремление спасти другого,
которое отрывается от «общей, обязательной и чуждой человеку этики»
и подчиняется этике парадоксально «имморальной». Соня, Мышкин,
Алеша - «гностики в мире действия», для которых «нет и не может
быть теоретического объяснения», потому что «в их поступке всякая
теоретическая невозможность реализуется в действительности»24.
Превосходные слова. А если Соня, Мышкин и Алеша, сходя со
страниц романов, становятся революционерами и террористами,
воображая себя благодетелями человечества?
На эту позицию Лукача отреагировал Макс Вебер, высоко
ценивший венгерского философа, но не разделявший его идей,
которые вскоре привели того к безоговорочному принятию коммунизма.
В лекции «Политика как профессия», прочитанной в 1918 году,
Вебер ставит проблему отношения этики и политики и трактует ее с
образцовой интеллектуальной трезвостью, не называя того, с кем
имплицитно спорит, хотя нетрудно догадаться, что это Лукач. Вебер
поясняет, что любое этически направленное действие может колебаться
между двумя несовместимыми друг с другом принципами: «этикой
убеждения» и «этикой ответственности», уточняя, что это вовсе не
означает, что первая сопряжена с отсутствием ответственности, а
вторая с отсутствием убеждения. Но разница между этими двумя
принципами коренная. Принцип этики убеждения, представленной
в терминах религии, звучит так: «Христианин поступает как
праведник, а исход перелагает в десницу Божию». Между тем как действие
по принципу этики ответственности утверждает, что «надо отвечать
за (предполагаемые) последствия своих действий»25. Действующий
по этому принципу скажет, что последствия его поступков надлежит
предписать его деятельности, в то время как «нравственный человек,
согласно этике убеждения, чувствует себя "ответственным" толь-
24 Lukâcs G. Sulla povertà dello spirit. Bologna, 1981. P. 104-105.
25 Weber M. Il lavoro intellettuale come professione. Torino, 194(?). P. 142. Далее
страница указывается в тексте в скобках.
121
ко относительно долга поддерживать пламя чистого убеждения».
Из приводимого здесь Вебером примера ясно, что он имеет в виду
и личность религиозную, и революционера, Богом которого
является земной Абсолют - Революция как создательница «нового мира».
То есть этот пример - пример «протеста против несправедливости
социального устройства», в постоянном раздувании которого состоит
цель «абсолютно иррациональных, есл№ судить по их возможным
результатам» действий тех, кто поступает согласно этике убеждения.
Предсказанием звучат слова Вебера о революционерах его
времени, когда он пишет, что «сторонник этики убеждения внезапно
превращается в хилиастического пророка, и те, например, которые
только что проповедовали противопоставить "любовь силе",
мгновение спустя апеллируют к силе - последней силе, которая должна бы
привести к упразднению любой возможной силы, точно так же, как
наши военные командиры перед каждым новым наступлением
говорили солдатам: "Это - последнее, оно приведет к победе, а значит - к
миру"» (144).
Реалистичен и этот пассаж из лекции Вебера, относящийся к
«настоящей эпохе» и касающийся революционной партии: «Тому, кто
хочет силой установить на земле абсолютную справедливость, нужен
генеральный штаб последователей, то есть "человеческий аппарат".
Он должен поставить его перед перспективой непременных духовных
и внешних наград - земного или небесного воздаяния - чтобы он мог
работать [...] Успех вождя полностью зависит от работы этого
аппарата и, следовательно, от побуждений, которыми вдохновляется этот
последний, а не его собственных. И так же зависит от возможности, что
этот генеральный штаб последователей - "красная" гвардия, сыщики,
агитаторы, в которых нуждается вождь, будет иметь
"долговременную гарантию вознаграждения"». Так возникает ситуация, которую
революционный вождь держит в узде до той поры, пока «искренняя
вера в его личность и в его дело воодушевляет по крайней мере часть
этого корпуса последователей». Однако эта вера, даже будучи
субъективно искренней, по большей части есть этическая «"легитимация"
жажды мести, власти, добычи и легкой наживы». Опору этому своему
утверждению Вебер находит в «материалистической интерпретации
истории», которая, говорит он, иронически обращаясь к ее
сторонникам, не «извозчичья пролетка, нанимаемая по прихоти, и она не
останавливается перед делателями революции!». Кроме того, «после
революции, пережитой на уровне чувств, возвращаешься к обычной
повседневной реальности, и герой, созданный верой, а главное, эта
самая вера исчезают или же - что важнее - становится элементами
шаблонной фразеологии ремесленников и техников от политики», и,
122
достигнув власти, генеральный штаб вождя «особенно склонен
переродиться в заурядных искателей выгоды» (149-149).
Отношение Лукача к революции, а следовательно, к насилию и
террору коренным образом отличалось от позиций Вебера, который в
приведенных выше суждениях обрисовал путь революции своего
времени - революции коммунистической, и это было сделано не на
основании чтения Достоевского или Савинкова, а путем анализа
реальности, причем мало чем отличавшегося от подхода автора «Бесов».
В противовес веберовской «Политики как профессии»
рассмотрим теперь две статьи Лукача: «Большевизм как моральная
проблема» (1918) и написанную двумя месяцами позже статью «Тактика и
этика». Эти статьи показывают, как Лукач отошел от критики
большевизма и примкнул к нему через «скачок», что дало повод говорить
о нем, что на пути в Дамаск он из Савла сделался Павлом, однако эти
две его позиции связывает подспудная логическая
последовательность. Их анализ позволит нам возвратиться прямо к проблеме
террора, но на новом историческом уровне и уже не на российской, а на
международной почве.
В первой статье Лукач различает и противопоставляет в
марксизме социологическую теорию (классовая борьба) и философию
истории (коммунизм как конечная цель развития общества). Согласно
социологии, из того факта, что освобождение пролетариата должно
положить конец капиталистическому классовому угнетению, еще не
вытекает, что этим будет положен конец всякому классовому
угнетению, - точно так же, как это не вытекало из победоносного
завершения освободительной борьбы класса буржуазии26. С точки зрения
марксистской социологии просто с победой пролетариата должны
измениться классовые соотношения: бывшие угнетенные становятся
новыми угнетателями. Наоборот, для того чтобы утвердилась
подлинная свобода, без угнетенных и угнетателей, необходимо наличие
«воли к демократическому миропорядку», воли, выходящей за
пределы социологических закономерностей, из них не вытекающей. С
другой стороны, такая воля - существенный элемент социалистического
воззрения, ибо именно эта воля «превращает пролетариат в
социалистического Спасителя человечества» и без этого «мессианского
пафоса» социализм немыслим, то есть он просто превратился бы в
идеологию, прикрывающую новую угнетательскую власть. Перед такой
как будто близкой возможностью утверждения социализма встает
26 Лукач Д. Политические тексты. М., 2006. С. 8. Далее страница указывается в
тексте в скобках.
123
моральная дилемма: «...или мы воспользуемся случаем и осуществим
нашу историческую цель, и тогда нам необходимо встать на позицию
диктатуры, террора, классового угнетения; тогда на- место прежних
форм классового господства мы должны поставить классовое
господство пролетариата, веря, что (не правда ли, похоже на то, как если бы
мы собирались изгонять Сатану руками Вельзевула?) это последнее
и по своей природе самое беспощадное, самое откровенное
классовое господство уничтожит само себя и вместе с собой всякое
классовое господство вообще» (10). После первого положения дилеммы
Лукач излагает второе: использование демократических методов для
осуществления нового мирового социалистического уклада, однако
с риском, что «большинство человечества сегодня еще не хочет
этого нового мирового уклада» и поэтому «мы, не желая распоряжаться
судьбой человечества помимо его воли, вынуждены будем [...] ждать»,
что человечество наконец захочет того, чего сознательные люди хотят
давно, так как «они твердо знают, что это единственное возможное
решение» (10).
Следует уточнить, что «мы» у Лукача означает «мы -
социалисты», потому что дилеммы не возникает для тех, кто не думает, что
на социализм, то есть марксистский коммунизм, возложена «миссия»
спасения человечества. При этом Лукач, говоря о «пролетариате» и
его возможном «беспощадном» господстве, основанном на
«диктатуре» и «терроре», не предусматривает той возможности, что
осуществлять «это господство будет не пролетариат, а партия, выступающая
от его имени и угнетающая самих «пролетариев» и с большей
беспощадностью все другие социальные слои, идеологически прикрываясь
марксовой «философией истории», постулирующей конец
всяческого угнетения благодаря социализму. Не будем прослеживать
дальнейшие размышления Лукача над дилеммой между революционным
путем к социализму, сопровождающимся диктатурой и террором, и
путем, основанным на компромиссе с непролетарскими
демократическими силами с риском, что «внешний» компромисс станет
«внутренним», то есть превратится в самоцель и таким образом навредит
«воле» к социалистическому преобразованию. Нас интересует
заключение статьи, где Лукач возвращается к образу Сатаны, от которого
хотели бы избавиться руками Вельзевула: «Повторяю, большевизм
опирается на метафизическое допущение, будто добро может
происходить из зла, будто, как говорит Разумихин в «Раскольникове»
(в «Преступлении и наказании». - В. С), соврешь - до правды
дойдешь. Автор этих слов не способен разделять подобную веру - и
потому видит в основе большевистской позиции неразрешимую
моральную проблему, в то время как демократия - автор этих строк глубоко
124
верит в это - требует лишь сверхчеловеческого самоотречения и
самопожертвования от тех, кто сознательно и честно хочет идти по
этому пути до конца. Но этот путь, если он, может быть, и требует
сверхчеловеческих усилий, не есть, в отличие от моральной
проблемы большевизма, неразрешимой по своей сути» (13).
В том же месяце, когда была опубликована эта статья, Лукач
признал большевистскую революцию и вступил в коммунистическую
партию, ошеломив этим многих своих друзей. Было ли это
озарение верой, неким credo quia absurdum, «благодатью» обращения?
Объяснение или рациональное обоснование этого «волевого» шага
мы находим в вышедшей вскоре статье «Тактика и этика», в которой
Лукач как будто преодолевает сделанное им различение в
марксизме между социологической теорией и философией истории: «Факт
классовой борьбы - не что иное, как социологическое описание и
поднятие - происходящего на уровень нормативности, предстающей в
социальной реальности; но значение классовой борьбы пролетариата
выходит далеко за пределы этого факта. В своей сущности он
неотделим от этого факта, однако направлен на то, чтобы возник социальный
строй, совершенно отличный от доселе существовавшего общества и
такой, чтобы больше не знать ни угнетающих, ни угнетаемых»27. И
далее, отходя от написанного в предыдущей статье: «Классовая борьба
пролетариата не есть просто напросто классовая борьба [...]
напротив, она есть средство освобождения человечества, средство для
подлинного начала-человеческой истории». Любой компромисс затеняет
именно этот аспект борьбы и потому он - несмотря на преходящие
временные выгоды, и тем не менее абсолютно проблематичные -
губителен в виду этой настоящей конечной цели (8).
Однако моральная проблема не снимается, если вспомнить, что,
как утверждал Лукач в первой статье, «диктатура» и «террор» суть
следствие немедленного осуществления «исторической цели»
социализма. Во второй статье Лукач заявляет по этому поводу: «Любой,
кто в наши дни решится в пользу коммунизма, должен также, в
отношении каждого человека, умирающего в ходе борьбы за коммунизм,
взять на себя ту же самую индивидуальную ответственность, как если
бы он сам лишал жизни всех этих людей» (11), добавляя при этом,
что та же самая ответственность ложится на тех, кто выбирает
другой стан - «в защиту капитализма» (уже не для законной «защиты
демократии», как в первой статье) и ведет войну сопротивления и ре-
27 Lukâcs G. Scritti politici giovanili. 1919-1928. Bari, 1972. Далее страница
указывается в тексте в скобках.
125
ванша: ответственность тех, кто атакует капитализм и демократию со
всеми неизбежными последствиями, и тех, кто встает на их защиту,
уравнена, хотя вторые более «виновны», так как стоят на стороне зла
и не сдаются, между тем как агрессоры - поборники добра, хотя и
притязают на то, чтобы «изгнать Сатану руками Вельзевула».
Сделав выбор и признав таким образом «диктатуру» и «террор»,
Лукач все-таки не может игнорировать свои предыдущие
размышления о революционном преступлении и в заключительной
части статьи возвращается к русским террористам: «Ропшин (Борис
Савинков), главарь террористических групп: во время русской
революции 1904-1906 сформулировал в одном из своих романов
проблему индивидуального террора так: убивать не дозволено. Это
безусловная и непростительная вина. Не "дозволено" этого делать, однако
"должно" быть сделано. В другом месте этой же книги он находит не
оправдание поступка террориста, что невозможно, а последнее
моральное его основание в том, что он ради своих братьев приносит в
жертву не только жизнь, но чистоту, мораль, душу. Иными словами:
убийство, совершенное человеком, который и без всякого сомнения
уверен в том, что убийство нельзя оправдать ни при каких
обстоятельствах, может трагическим образом иметь моральную природу.
Эту мысль о величайшей из трагедий человечества можно выразить
несравненно прекрасными словами Юдифи Геббеля: "И если бы
Господь поставил грех между мною и возложенным на меня делом,
кто я, чтоб уклониться от греха?"» (14). Так заканчивается статья,
положившая начало долгому пути, которым Лукач будет неуклонно
идти до конца жизни (1971). Судьба пощадит его, и он не увидит
бесславного завершения этого рути, закончившегося через двадцать лет
тупиком. Философ, крупнейший представитель (вместе с Грамши)
западного марксизма-ленинизма, принимал на себя ответственность
за все жертвы «борьбы за коммунизм», не подозревая тогда, что их
будет миллионы. Завороженный Савинковым и тем, как тот в
своих романах решал проблему «индивидуального террора», он не
понимал, что новый коммунистический массовый террор несоизмерим
с «романтическим» народническим терроризмом «поэта» Каляева
(и «верующего» Ивана из «Коня бледного») и что новые террористы
от Государства (и Партии), воинствующие атеисты, в их массовом
истреблении классов, вовсе не нуждались в жертве «души», зная, что их
оправдание - в революционной идеологии власти.
А главное, Лукач, полагая, что следует за Юдифью, которая
поощряла себя, совершая «террористический акт» против тирана,
обращением к Богу (марксистским философом отрицаемому), не понимал,
что на самом деле идет в услужение новому Олоферну, тираническо-
126
му притеснителю демократии, за которую боролся Савинков. Что же
касается Достоевского, то Лукач, его страстный поклонник28,
представляется скорее персонажем одного из его романов. Но он также
является героем Томаса Манна, другого романиста, тоже почитателя
автора «Братьев Карамазовых». В «Волшебной горе» Манна
действует интересный, но двусмысленный герой Лео Нафта29, иезуит-
террорист (только в теории, не на практике).
28 В 1931 году Лукач «отрекся» от Достоевского своей молодости, заклеймив
его как «реакционера», согласно господствовавшим тогда в СССР канонам, и заменил
другим.
29 Наш сегодняшний интерес, разумеется, не имеет ничего общего с Лукачем-
коммунистом, начиная с его работы «История и классовое сознание», вызванной ею
дискуссией в среде профессиональных марксистов-ленинистов во имя мнимой и
догматической политико-идеологической ортодоксии (AA.W., Intellettuali е coscienza
di class. Milano, 1977) и ответом Лукача как всегда на тяжеловесном марксистско-
ленинском жаргоне.
Мы не будем прослеживать политико-интеллектуальный путь Лукача марксиста-
лениниста, чьи идеологические разногласия со сталинским советским режимом
отнюдь не умаляют его принципиальной с ним однородности и верности ему. Тем не
менее нельзя не подчеркнуть огромной дистанции, отделяющей его позицию,
изложенную в двух вышеназванных статьях, где он в веберовском духе признавал, что каждый
активист несет личную ответственность за «убийства», совершенные в ходе «борьбы за
коммунизм», и позицию последнего периода, когда он, после XX съезда КПСС,
полностью разделял официальную политику Хрущева, объявившего Сталина первым, если
не единственным, ответственным за преступления режима, начавшиеся, впрочем, до
Сталина, еще во времена Ленина. А уж поставить под вопрос марксистскую доктрину,
то есть начать ее критическое переосмысление в свете порожденной ею исторической
реальности, — это и для Лукача было «святотатством».
Показателен в этом смысле эпизод, участником которого оказался выдающийся
соотечественник Лукача, историк либерально-демократических взглядов Иштван
Бибо. В 1945 году, когда Лукач вернулся из Советского Союза в Венгрию, он стал
проповедником идеи разделения литературы на «прогрессивную» (не обязательно
коммунистическую, которой следует оказывать поддержку) и подлежащую осуждению
«реакционную» литературу, породившую деликатную проблему, кому же проводить
границу между этими литературами, что было сопряжено с практическими
последствиями (также и цензурного порядка).
Против такой позиции, воспринятой в более широком политическом контексте
диктатуры коммунистической партии и гегемонии Советского Союза, выступил Бибо,
обличивший атмосферу террора, воцарившуюся в Венгрии после поражения нацизма.
Для Лукача это означало принадлежность к «правым». Через десять лет, в разгар
трагических революционных событий, Бибо преподнес Лукачу новый урок не только
политической трезвости, но и интеллектуальной и моральной честности, сделав анализ
марксизма и ленинизма, остающийся по сей день образцовым. Полемизируя со своими
«одержимыми идеологическим всезнайством оппонентами», среди которых очевидно
был и Лукач, Бибо излагает некоторые «теоретические истины», которые ранее, под
властью коммунистов, было бы невозможно высказать. Вот первая из них:
«Совершенно недостаточно осудить сталинизм как таковой. Мы не продвинемся ни на шаг, если
ограничимся осуждением идейных установок Сталина, мыслящего весьма узко и
несамостоятельно, и если по-прежнему будем сохранять веру в непогрешимость Ленина и
Маркса, приняв их учение за основу на новом пути развития. Хотя Ленин, безусловно,
127
Иезуит -крамольник
В «Волшебной горе» дается картина европейской цивилизации
глазами немецкой культуры накануне Первой мировой войны -
эпохи драматической, вобравшей в себя духовные тенденции
предыдущего столетия, противоположные друг другу, но все уже
переживающие кризис перед лицом надвигающейся военной катастрофы.
Это одновременно и Zeitroman (роман, выражающий дух эпохи) и
Bildungsroman (роман воспитания), потому что внутри изживающего
себя исторического времени, отмеченного крахом свойственных ему
ценностей, развертывается индивидуальное время главного героя -
Ганса Касторпа, молодого человека из буржуазной семьи, ничем не
выдающегося, но наделенного необыкновенной волей к
самовоспитанию, которая гонит его из душного мирка его солидной семьи
гамбургских торговцев и приводит на несколько лет в оторванной от
мира роскошный швейцарский санаторий. Приехав в эту лечебницу
навестить больного кузена, Касторп остается там, чтобы излечиться
от легкой формы туберкулеза, обнаруженного у него местным врачом.
Но если может вызвать сомнение необходимость стандартного
лечения в санатории, то неоспоримо стремление Касторпа жить в этом
горном уединении, где он приобретет душевный опыт, невозможный на
«равнине» в гамбургской буржуазной среде. «Волшебная гора» - это
целый микрокосмос, в котором пересекаются человеческие судьбы,
приобретается разнообразный опыт, это позволяет Касторпу
формировать свой внутренний мир, благодаря соприкосновению с другими,
духовный мир которых далек от него, но способен повлиять на его
душу. Главное переживание, которым сопровождается приобщение к
жизненному опыту других, - переживание смерти, царящей в этой
обители недугов и агонии, но и отчаянной привязанности к жизни.
пришел бы в ужас от содеянного Сталиным, а Маркс - от содеянного Лениным, тем не
менее ленинизм и созданная Лениным привилегированная, макиавеллистическая
организация насилия в лице партии - это логическое следствие того самоцельного
культа классовой борьбы и революционного насилия, который является сутью марксизма.
Сталинизм, установленное Сталиным тотальное угнетение и создание
довершившей моральное разложение партии террористической организации - это логическое
следствие тотального господства партии, установленного Лениным. Поэтому вопрос
следует ставить в отношении марксизма-ленинизма в целом» (Бибо И. О смысле
европейского развития и другие работы. М., 2004. С. 265-266). Это исходные шаги
проницательного анализа венгерского историка, постановка проблемы «сталинизма»,
далеко выходящая за рамки хрущевских и лукачевских «отречений». В свете работ не
только Лукача домарксистского периода, но и его самых первых работ в марксистском-
ленинском духе, следует задаться вопросом, только ли «душой пожертвовал»,
пользуясь его собственным выражением, Лукач-сталинист и пост(анти)сталинист или чем-то
большим - свободой критической мысли.
128
Внутреннее путешествие Касторпа - это путь инициации к смерти, а
фоном является устремленный к катастрофе мир европейской
культуры, концентрированно представленный в санатории его пестрой и
призрачной публикой.
Некоторые встречи, повлиявшие на формирование юного
Касторпа, имеют основополагающее значение. Такова встреча с
обворожительной, загадочной русской - Клавдией Шоша, которая открыла
безответно влюбленному Касторпу совершенно другой мир (далекий
от упорядоченного, полного условностей мира немецкой буржуазии),
мир рискованной свободы и захватывающей страсти, мир, в котором
можно погубить себя, что для того, кто живет так, более морально,
чем желание любой ценой сохранить самодовольную
посредственность. Выразителен также образ другого гостя санатория, голландца
Пееперкорна, который просто брызжет жизнелюбием, но охваченный
ужасом перед неизбежностью угасания добровольно идет навстречу
смерти, отказавшись от всех ограничений, полезных для продления
его жизни.
Но главные и прямые наставники Касторпа - интеллектуалы из
противоборствующих лагерей, без конца спорящие друг с другом:
итальянец Сеттембрини и еврей Нафта, первый - уроженец
европейского Средиземноморья, второй - Восточной Европы; оба
сформировались в плавильном котле культуры срединной Европы - Германии,
страны, отличной от рационализированного и упорядоченного
европейского Запада.
Сеттембрини - гуманист и рационалист старой закалки,
наследник культуры Просвещения, с оптимизмом верящий в возможность
самосовершенствования человека благодаря научному прогрессу
и институтам демократии, идеалист, для которого истина,
справедливость, свобода - конкретные ценности, призванные
регулировать общественную деятельность и всеобщую солидарность, в чем
он красноречиво (порой впадая в риторику), убеждает Касторпа, с
педагогической целью отвлечь его от чар болезни и смерти, а также
от страсти к Клавдии Шоша и укрепить в нем волю к обновленной
жизни, когда он вернется в общество. Его оппонент Нафта - еврей,
ставший иезуитом, но не рукоположенный в священники по болезни.
На «волшебной горе» он проходит курс лечения и преподает в
местной школе. В своих едких и бурных речах он высмеивает благородное
донкихотство Сеттембрини, выявляет его иллюзии и противоречия
и, переходя от pars destraens к pars construens своих теорий,
утверждает, что подчиняется иррациональному стремлению (и движим им)
к общинности, покорности, коллективной судьбе - идеалам, ради
которых он готов поступиться свободой. При таком мрачном воз-
129
зрении, противоположном розовому видению Сеттембрини, он готов
принять коммунизм и как его условие террор. Их жаркие дискуссии
в присутствии Касторпа, который, не принимая чью-либо сторону,
закаляет свой дух, оценивая их диалектику, напоминают «Поэму
Великий инквизитор» из романа Достоевского «Братья Карамазовы».
Она обыгрывается здесь иронично, потому что Сеттембрини уже
никак нельзя уподобить Христу «Поэмы», сверхчеловеческую силу
которого подчеркивает то, что он все время таинственно молчит, а
в финале загадочно целует Инквизитора. Свидетельство слабости
Сеттембрини - высокое парение его благородных душевных
порывов, сметаемых напористой аргументацией его оппонента иезуита
Лео Нафты, на описании внешности и особенно интеллектуального
облика которого сильно отразилось впечатление, произведенное при
личном знакомстве на Манна Лукачем и его работами.
Существует ряд исследований30, проливающих свет на отношения
Манна и Лукача, в частности, на влияние, оказанное молодым вен-
30 Bourdet Y. Luk es, il gesuita délia rivoluzione. Milano, 1979; MarcusJ. Georg Lukâcs
and Thomas Mann. A Study in the Sociology of Literature. Amherst, 1987.
В качестве прототипа Нафты называлось имя еще одного человека, но после
Лукача. Имеется в виду философ права и политики Карл Шмитт (1888-1985), как и Лу-
кач, решительный противник либеральной демократии и некоторое время близкий
национал-социалистическому режиму. Пьер-Поль Саван (Pierre-Paul Savane)
профессор немецкой литературы из Экс-ан-Прованса, автор исследования романного
наследия Манна, говорил о Шмитте, а не только о Лукаче, в письме автору «Волшебной
горы» (Marcus J. Op. cit. P. 63,164). В феврале 1952 года Манн ответил французскому
ученому, что во время работы над романом труды Шмитта ему были не известны, но
признал, что читал работы Лукача, правда, литературно-критические. Он просил
Савана (безуспешно) не называть в своей работе Лукача в качестве прототипа Нафты,
чтобы не задеть венгерского философа, его поклонника, добавив, что в «Волшебной
горе» он уловил то, что носилось «в воздухе», пропустив реальность через свое
воображение.
Следует напомнить, что еще в середине 1930-х годов в статье «Политика Карла
Шмитта» Делио Кантимори увидел в теориях и фигуре Нафты отзвук идей немецкого
юриста и политика. В «странной смеси философского и исторического опыта,
являющей собою культурный субстрат шмиттовских доктрин» (от «легитимиста и паписта
бывшего масона Де Местра» до «отчаявшегося жесткого теоретика революционной
диктатуры» Донозо Кортеса, от «синдикалиста-моралиста Сореля» до
«отчаявшегося протестанта Кьеркегора», от «Маркса критики капиталистического общества и
инвектив против буржуазного мира» до Бакунина, анархистов, Ленина», «всё народа
решительного, готового утвердить свою силу действием в случае исключительном или
теоретизированием такого решения; готового в хаосе посредством насилия отчеканить
форму») - в этом многообразии мотивов Томас Манн, «заставляя высказаться
одного из самых мрачных своих персонажей, который лучше всего помогает нам осознать
духовную ситуацию многих вчерашних и сегодняшних немцев, анархиста-иезуита
еврея Нафту в "Zauberberg", прибегает к присущим Карлу Шмитту мыслям и
выражениям» (Cantimori D. Tre saggi su Jünger. Moeller van den Brück, Schmitt. Roma, 1985.
P. 73-74).
130
герским философом-неомарксистом и неокоммунистом на автора
«Волшебной горы» при создании им образа Нафты. Это позволяет
нам ограничиться интересующим нас аспектом: терроризмом. Но
уместно сделать два уточнения. Первое касается облика героя: Манн
представляет «своего» Лукача как иезуита. В связи с этим можно
вспомнить замечания Эрнста Блоха, который, подтверждая сходство
между своим товарищем в юношеские годы и манновским иезуитом,
поясняет: «Коммунистическая партия явилась для Лукача
осуществлением его давнего стремления: в молодости он хотел уйти в
монастырь; партия была заменой этого тайного желания. Католичество
привлекало его не как система или доктрина, а как образ жизни,
солидарность, отсутствие собственности, монашеское существование,
такое отличное от жизни крупной буржуазии, к которой принадлежала
его семья, его отец, директор банка»31. Это была мощно проявленная
в «Теории романа» утопическая «ностальгия по общности»,
начальным, традиционным в немецком классическом идеализме,
идеализированием «блаженных времен» греческой античности (для кого-то,
напротив, средневековья) и вообще в немецкой социологии, начиная
с Тенниса с его различением-оппозицией Gemeinschaft и Gesellschaft.
Кроме того, надо заметить (хотя, возможно, Манну это не было
известно), что в русской революционной традиции, в ее
террористическом экстремистском проявлении «иезуитство» было точкой
отсчета, наряду с «макиавеллизмом», как видно из письма Бакунина от
20 июня 1870 года по поводу Нечаева: «Раз убедившись [...] в
необходимости употребления иезуитских правил и средств внутри
организации - (заметьте, что я не говорю об их внешнем употреблении,
которое, и по моему мнению, часто становится необходимостью,
потому что в борьбе против организованного деспотизма, где не можешь
взять силою, надо взять хитростью, но, разумеется, настоящею
хитростью, у которой не было бы написано на лбу: я хитрость)»32. Бакунин
оправдывает употребление, как он называет, «иезуитской системы»
Благодаря огромному творческому чутью Манн, отталкиваясь в лепке своего
героя от Лукача, сумел уловить «странную смесь философского и исторического опыта»,
слившегося в «культурном субстрате» двух таких противоположных по политической
направленности мыслителей, как авторы книг «История и классовое сознание» и
«Категории "политика"» (хотя Манн, судя по его словам, ни одной работы последнего, то
есть Шмитта, тогда не знал). Это одна из сложнейших и насыщенных страниц
великого кризиса европейского сознания XX столетия, кризиса, приведшего в результате к
коммунизму и национал-социализму.
Относительно параллели Лукач - Шмитт см.: John P. McCormick. Carl Schmitt's
Critique of Liberalism. Cambridge, 1999.
31 Löwy M. Op. cit. P. 304.
32 «Cahiers du monde russe et soviétique». Vol. VIII. 1967. P. 106.
131
против «врага» и осуждает ее использование в отношении
товарищей, как делал Нечаев, не различавший «внутренних» и «внешних»
врагов. Но так или иначе, но, согласно полемической антииезуитской
(и антимакиавеллиевской) традиции, ставился знак равенства между
революционностью и иезуитством.
Для «марксиста» Нафты демократический либеральный гуманизм
Сеттембрини есть не что иное, как идеология, маскирующая и
рационально обосновывающая эгоистические торгово-промышленные
интересы буржуазии, ее пацифистская гуманность - иллюзия,
прикрывающая реальный конфликт между соперничающими
капиталистическими нациями, готовыми на войну, которая могла бы
оказаться средством избавления от существующего зла. Сеттембрини
называет рассуждение иезуита «циничным»33 (56), но его аргументы
в пользу мира и демократии нисколько не действуют на Нафту, у
которого ретроспективный идеал - средневековое общество, а в
перспективе - коммунизм. После дифирамбов средневековой
экономике, которой претила «мысль о самопроизводстве денег», когда «под
понятие лихоимства подводили любые ростовщические операции»
и считали, что «всякий богач либо вор, либо наследник вора» (87),
Нафта заключает: «И вот все эти погребенные было в веках
экономические принципы и мерила воскрешены в современном движении
коммунизма», и «в наше время» мировой пролетариат
«противопоставляет буржуазно-капиталистическому загниванию гуманность и
критерии града божьего. Ведь глубочайший смысл диктатуры
пролетариата, этого политико-экономического спасительного требования
современности отнюдь не в господстве вовеки веков, а во временном
снятии противоречия между духом и властью под знаменем креста,
смысл ее в преодолении мира путем мирового господства, в переходе,
в трансцедентности, в Царствии Божием. Пролетариат продолжает
дело Григория (Великого. - В. С). В нем говорит его рвение во
славу Господа Бога, и, подобно папе, пролетариат не побоится обагрить
руки свои кровью. Его миссия устрашать ради оздоровления мира и
достижения спасительной цели - не знающего государства,
бесклассового братства истых сынов Божиих» (87-88). Незадолго до этого,
споря с мирянином Сеттембрини, Нафта заявил, что «рвение во
славу Господню, разумеется, не имеет ничего сходного с пацифизмом,
Григорий сказал: "Да будет проклят убоявшийся обагрить кровью
меч свой"» и продолжал: «Что власть есть зло, мы знаем. Но Царствие
Божие приидет лишь тогда, когда дуализм добра и зла, поту- и посю-
33 Манн Т. Собр. соч. Т. 4. Волшебная гора. М., 1959. С. 56.
132
стороннего, духа и власти, будет на время снят, уступив место
принципу, соединяющему в себе и аскетизм и господство. Вот это я имею
в виду, говоря о необходимости террора» (86).
Сеттембрини, восхваляющему «завоевания Ренессанса и эпохи
Просвещения», - раскрепощение личности, права человека, свободу
(82), Нафта холодно возражает: «Эпоха Ренессанса породила все то,
что именуется либерализмом, индивидуализмом, гуманистической
гражданственностью и так далее - это мне достаточно известно; но
ваше "этимологическое подчеркивание" меня нисколько не трогает,
ибо "воинственная", героическая юность ваших идеалов давно
миновала, идеалы эти мертвы или, вконец одряхлев, находятся ныне при
последнем издыхании. Те, кто бросит их в мусорную яму истории,
стоят у порога. Вы называете себя, если не ошибаюсь,
революционером. Но если вы полагаете, что будущие революции принесут людям
свободу, то глубоко заблуждаетесь. Принцип свободы за пятьсот лет
выполнил свое назначение и изжил себя» (82).
За этим историческим диагнозом Нафты следует оздоровительное
лечение в виде «педагогики» новых тоталитарных революций, для
которых свобода - пустое слово. И ей, в нынешней фазе,
предшествует «анархическая» и вседозволительная педагогика - свидетельство
кризиса буржуазного мира: «Педагогика, которая и поныне считает
себя дщерью просвещения и усматривает в критике, в освобождении
и пестовании своего "я", в разрушении вполне определенных форм
жизни главное средство воспитания, - такая педагогика может еще
одерживать мимолетные риторические победы, но ее отсталость для
людей сведущих не подлежит никакому сомнению. Все
воспитательные союзы, достойные этого наименования, издавна знали, к чему
действительно сводится всякая педагогика: это категорический
приказ, железная спаянность, дисциплина, самопожертвование,
отрицание собственного "я", насилие над личностью. И, наконец, только
бездушным непониманием юношества можно объяснить, будто
молодежь жаждет свободы. В душе она страстно жаждет послушания».
И продолжает: «Нет! [...] Не освобождение и развитие личности
составляет тайну и потребность нашего времени. То, что ему
нужно, то, к чему оно стремится и добудет себе, это... террор» (82-83).
На вопрос Сеттембрини, кто станет «носителем» этого террора,
Нафта, разразившись филиппикой против «всех ужасов
современного торгашества» и «сатанинской власти чистогана» (89), то есть
против буржуазии и капитализма, дает ответ: пролетариат и его
диктатура.
На этом можно прекратить изложение идей Нафты,
являющихся предвидением того, что должно произойти, причем он принимает
133
и разделяет это, и, не утверждая тождественности этих идей идеям
Лукача, мы должны признать их глубинную близость. В то же время
в иезуите-революционере «Волшебной горы» можно увидеть
предвидение идей «консервативной революции» - шире - фашизма и
национал-социализма. Как можно объяснить такое соприсутствие
революционных позиций, в каком-то смысле близких, но по
существу враждебных и соперничающих: революции «слева» и
революции «справа»? Это далеко не слабое место романа, и оно является
доказательством того, насколько глубоко проникает взгляд Манна,
который не был бы Манном, если бы создал интеллектуальную
«копию» Лукача. Дело в том, что Манн в образе Лео Нафты уловил
амбивалентность явления, которое, выражаясь словами самого Лукача,
принято называть «романтическим антикапитализмом». Оно
состоит в радикальном отказе от мира модерности, посттрадиционного,
капиталистического. Маркс, признававший прогрессивное значение
его начального этапа, вынес «приговор» его последней фазе,
предназначенной уступить место новому обществу, а точнее, новой
общности под знаменем пролетариата, класса-освободителя и спасителя,
просвещенного марксистской доктриной и руководимого
коммунистической партией. В «романтическом антикапитализме», позиции
которого Лукач, по его признанию, разделял в юности, будучи уже
марксистом (что проявляется в его утопически-мессианском
воззрении на большевистскую революцию), вся современная либерально-
буржуазная индивидуалистическая, атомизированная,
самоотчужденная цивилизация подвергается суду и осуждению во имя другой
общности, которая в случае «консервативных революционеров» и
фашистов ориентируется на ценности, отличные от
коммунистических, - националистические и фашистские, но равным образом
органистически-тоталитарные. Манн уловил в фигуре Нафты такую
двойственность возможных исторических результатов, но
превалирует у него «большевистская» тенденция, что, впрочем, в историческом
плане оправданно, так она проявилась раньше во времени и
содержательное первенство тоже принадлежит ей. Это и делает манновского
иезуита таким похожим на венгерского философа, превращает его в
эмблематическую фигуру в галерее революционного террора.
Красное насилие торжествует
В учебниках истории не нашлось места для войны, в течение
полувека раздиравшей Россию, войны глухой, безликой, призрачной,
погубившей тысячи и тысячи жизней, намного больше, чем любой
военный конфликт между государствами. Но эта война подготовила
134
одно из самых грандиозных кровопролитий в истории человечества,
так как предрасположила души активно или пассивно участвовать в
истреблении и обеспечить ему политическое оправдание. Речь идет
о войне, анализ которой приведен выше, между официальной
самодержавной властью и революционной «подпольной» контрвластью,
причем обе они сознавали невозможность какого-либо компромисса
и поэтому были беспощадны в своих военных действиях. Силы были
неравны не только потому, что официальная власть численно и по
средствам превосходила «подпольную» контрвласть. И хотя исходом
войны стало поражение официальной власти, моральное
превосходство, которого, на взгляд многих, контрвласть сумела добиться, а
также самоотверженность ее представителей, являются доказательством
того, что общее соотношение сил не сводилось только к
материальной стороне. Поколения и поколения борцов контрвласти под
флагом разнообразных, но родственных идей и идеологий шли на штурм
цитадели самодержавия и потрясли ее фундамент
террористическими действиями, которые состояли не только в подготовке и
осуществлении взрывов, но и в дискредитации противника, в неостановимом
падении его харизмы и престижа.
Бесполезно изрекать сентенции по поводу ужасов этой войны:
можно стоять на стороне одних или других, то есть можно выявить
заблуждения или правду и тех и других, но главное - не оценка этой
более чем полувековой войны как таковой, а того, что создалось в ее
результате, иначе говоря, новой исторической фазы, практически
всего XX столетия, которое уже ушло, но последствия его еще не
изжиты. Конечно, водрузили знамя победы над цитаделью царизма
наследники участников террористической войны с самодержавием,
которому, казалось, удалось отбить первую атаку накануне масштабного
катаклизма, нанесшего русскому самодержавию смертельный удар.
Имеется в виду Первая мировая война, явившаяся следствием
кризиса европейской цивилизации. Катастрофичность этого конфликта
не только в устроенной вооруженными евронациями массовой бойне:
она даже усугубляется вызванными последствиями, о чем
свидетельствует его отражение в европейской культуре, воспринявшей войну
как смертельный симптом болезни целой цивилизации, разделенной
между двумя враждующими лагерями.
Одним из результатов войны стала гибель целого национального
организма - России, выстоявшей в пятидесятилетней междоусобице
и вступившей в новую фазу своей медленной «европейской»
модернизации, которая была прервана сначала военной, а потом
революционной катастрофой. Россия, как было метко сказано, затонула, когда
уже была видна гавань.
135
Непосредственным результатом был распад этого организма: не
народный национальный бунт, а разложение верхов системы,
отречение неспособного править самодержца и установление
недееспособной демократии. В рамках прогрессирующего разрыва всех
связующих элементов государственного и социального организма и
ослабления всех внешних и внутренних запретов, позволяющих
сохранять гражданское общежитие, вспыхнуло нечто беспрецедентное
не по сути, а по масштабам: вакханалия насилия, разгул буйства,
пароксизм преступных инстинктов, каких никогда не встречалось даже
в России34. Мы говорим «даже в России» не потому, что преступные
импульсы были не универсальны и не являлись питательной средой
истории, а потому, что Россия, может быть, больше других стран
знала темные периоды, получившие название смуты, когда весь русский
мир, казалось, находится на краю пропасти (как в начале XVII века)
и все будет сметено апокалиптическим катаклизмом. То, что
произошло в России на волне Первой мировой войны, было смутой, не
имевшей аналогов в прошлом страны, первобытным хаосом, в
котором человеческая жизнь потеряла всякую ценность и жизнь уже не
регулировалась человеческими законами. Этот хаос имел красный
цвет не только из-за океанов пролитой крови: красного цвета были
реявшие над ним знамена.
Насилие было всеобщим и обоюдным, что естественно при таком
буйстве сил, противостоящих друг другу в заведомо смертельной
схватке. Но если насилие в целом приобретало настолько
чудовищные формы, что казалось своего рода психофизической патологией
по сравнению с «нормальным» насилием, проявленным человеком в
ходе всей истории, то обращает внимание и требует объяснения
качество такого насилия, его мотивировка и оправдание в
определенном месте и в определенное время, а именно в Европе XX столетия,
месте и времени никак не беспорочных и все-таки отличавшихся от
предыдущих более мрачных или, вернее, менее «цивилизованных»
эпох. То же самое можно сказать о другой ситуации, сложившейся
несколько лет спустя в Германии, стране с богатой культурой, какой
ранее была и Россия, но «регрессировавшей» до состояния
варварства, прикрытого личиной прогресса, по крайней мере технического,
и притязавшей даже на прогресс политический - реализация проекта
«нового порядка».
34 В российской историографии последних лет этой теме посвящена интересная, но
спорная книга Владимира Булдакова «Красная смута. Природа и последствия
революционного насилия» (М., 1995).
136
Исследователи явления, официально (то есть в терминах
новой - советской - власти) называемого «красным террором» и,
соответственно, «белого» (контрреволюционного) террора, признают
жестокость обеих сторон, хотя в зависимости от своих «идеологических»
симпатий иногда склонны преуменьшать вину одной из них,
выискивая смягчающие обстоятельства и приписывая приоритет в
развязывании насилия другой. Но историки, корректно и
непредубежденно анализирующие источники, признают, что «красное» насилие по
характеру отличалось от «белого» и осуждают оба лагеря, признавая
чудовищность совершенного35. «Белое» ответное насилие в
начавшейся после октября 1917 года Гражданской войне было
«традиционным», таким, которое находит оправдание в изречении «на войне как
на войне», в данном случае войне братоубийственной, а вернее,
междоусобной (потому что абсурдно говорить в некоторых
обстоятельствах о «братьях» и «братстве», хотя первая война между братьями
возникла, когда Каин объявил ее Авелю). А междоусобная война -
самая жестокая из всех, особенно когда, как в тогдашней России,
сорваны все «социальные» тормоза. Напротив, атакующее «красное»
насилие было насилием нового типа, и не потому, что убийство или
пытки меняют свое качество в зависимости от того, кто их
применяет, а потому, что они потеряли свою «спонтанность» и опирались на
железную идеологию, в которой находили свое оправдание и которая
возвела их в систему и увековечила, безмерно увеличив их
разрушительную силу. *
Поэтому «красный» террор продлился десятилетия, практически
в течение всего периода существования коммунистической власти,
достигнув особого размаха в 1930-е годы, и со всей очевидностью
отличаясь от якобинского террора, к которому себя приравнивал.
Большой террор 1930-х годов, в отличие от послереволюционного
«красного террора», обрушился также и на рядовых коммунистов и
партийных руководителей, далеко не «невинных», как и их
преследователи и палачи, в терроре, направленном на их общих врагов,
которые по большей части действительно были ни в чем невиновны или,
если угодно, виновных в том, что были некоммунистами или
антикоммунистами. Трагические 1930-е годы, годы сталинских чисток,
репрессий и процессов, были своего рода возмездием,
осуществившимся внутри революции, безгласными жертвами самых кровавых
35 Первое историческое исследование на эту тему - книга Сергея Мелыунова
«Красный террор в России», изданная в Берлине в 1923 году (а также в Москве в
2006 году). Из последних исследований отметим: Литвин А. Красный и белый террор
в России. 1918-1922. Казань, 1995.
137
преступлений которой были миллионы беззащитных людей, в
первую очередь крестьяне. Нельзя не привести ответ Молотова Феликсу
Чуеву, автору книги, составленной из интервью с этим соратником
Сталина. На вопрос Чуева: «Кто был более суровым, Ленин или
Сталин?», Молотов без заминки ответил: «Ленин, конечно»36. Можно
спорить, кто из двух диктаторов был более «якобинцем».
Рассмотрим два высказывания. Одно содержится в
единственном номере журнала ЧК «Красный террор»37 от 1 ноября 1918 года.
В передовой статье, озаглавленной (как и журнал) «Красный
террор», за подписью крупного руководителя ЧК Мартына Лациса,
после ритуальных фраз типа «Пролетариат и международный капитал
сцепились в мертвой схватке. Одному из них погибнуть. Другого
выхода нет» Лацис, обращаясь к чекистам, пишет: «Мы железною
метлой выметаем всю нечисть из Советской России». И переходит
к более обязывающему тезису: «Мы уже не боремся против
отдельных личностей, мы уничтожаем буржуазию как класс [...] Не ищите в
деле обвинительных улик, восстал ли он против Совета оружием или
словом. Первым долгом вы должны его спросить, к какому классу он
принадлежит, какого он происхождения, какое у него образование и
какова его профессия. Вот эти вопросы должны разрешить судьбу
обвиняемого. В этом смысл и суть Красного террора [...] Да здравствует
Красный террор!» Заявление слишком откровенное, однако оно
проливает свет на подлинные намерения и методы Чека, поэтому такая
неосторожность вызвала у многих недовольство, так что Ленину
пришлось возразить на часть слов Лациса38: не на те, в которых судьба
обвиняемого ставилась в зависимость от его классовой
принадлежности, а на те, которые ставили на одну доску выступление против
советской власти «оружием или словом», хотя в действительности
такого разделения для чекистов практически не существовало.
Другое откровенное заявление содержится в работе Николая
Бухарина «Экономика переходного периода» (1920). В главе
36 Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева. М., 1991. С. 184. Молотов
продолжает: «Он (Ленин. - В. С.) нередко прибегал к самым крайним мерам, когда это
было необходимо [...] Он никакую оппозицию терпеть бы не стал, если б была такая
возможность. Помню, как он упрекал Сталина в мягкотелости и либерализме. "Какая
у нас диктатура? У нас же кисельная власть, а не диктатура!"» (Там же). И приведя
примеры жестких приказов Ленина расстреливать непокорных на месте, а территории
крестьянских восстаний превратить в выжженную землю, заключает: при Ленине была
не диктатура, а «сверхдиктатура» (Там же. С. 185).
37 Цит. по: ВЧК уполномочена сообщить... 1918. Жуковский; М., 2004. С. 275-276.
(Журнал вместе с родственным «Еженедельником ВЧК» воспроизведен в данной
книге.)
38 Ленин В.И. ПСС. Т. 37. М., 1963. С. 140.
138
«"Внеэкономическое" принуждение в переходный период» Бухарин
анализирует в свете марксистской доктрины формы
«принудительного труда», который в социалистическом обществе должен заметить
«свободу труда» (кавычки Бухарина) капиталистической экономики
и утверждает, что «с точки зрения пролетариата, как раз во имя
действительной, а не фиктивной свободы рабочего класса необходимо
уничтожение так называемой "свободы труда". Ибо последняя не
мирится с правильно организованным, "плановым" хозяйством и таким
же распределением рабочих сил. Следовательно, режим трудовой
повинности и государственного распределения рабочих рук при
диктатуре пролетариата выражает уже сравнительно высокую степень
организованности всего аппарата и прочности пролетарской власти
вообще», поэтому «при пролетарской диктатуре впервые
принуждение есть орудие большинства в интересах этого большинства», тогда
как при капитализме «принуждение» служит интересам
«капиталистических групп»39. И наконец, выдвигается наиболее интересный
для нас тезис: «С более широкой точки зрения, т. е. с точки зрения
большего по своей величине исторического масштаба, пролетарское
принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая
трудовой повинностью, является, как парадоксально это ни звучит,
методом выработки коммунистического человечества из
человеческого материала капиталистической эпохи»40 (119).
Такова генеральная линия коммунистов после захвата власти.
Что касается Ленина, то террор принципиально им не отвергался, что
естественно, так как в молодости он участвовал в деятельности
кружков «Народной воли» и сохранил об этой партии высокое мнение.
В 1901 году с прагматизмом, сочетавшимся в нем с идеологической
непреклонностью, Ленин так объяснял, что думает по этому поводу:
«Принципиально мы никогда не отказывались и не можем
отказываться от террора. Это - одно из военных действий, которое может
быть вполне пригодно и даже необходимо в известный момент сраже-
39 Бухарин Н. Путь к социализму в России. New York, 1967. С. 118. Аналогичный
критерий Бухарин применял и в отношении интеллигенции, например, в выступлении
во время важной дискуссии на тему «Судьбы современной интеллигенции», когда
высказался против «свободы творчества»: «Но я должен сказать определенно, что у нас во
всем нашем порядке вещей основная точка зрения заключается в правильном
руководстве. Мы никогда не можем стать на такую позицию, что пускай все совершается само
собой [...] Это не есть руководство страной [...] Нам необходимо, чтобы кадры
интеллигенции были натренированы идеологически на определенный манер. Да, мы будем
штамповать интеллигентов, будем вырабатывать их, как на фабрике» (см.: Бухарин Н.
Судьбы русской интеллигенции. Новосибирск, 1991. С. 39).
40 Там же. С. 119.
139
ния, при известном состоянии войска и при известных условиях»41.
В то время Ленин не считал, что для террора имеются условия «при
отсутствии центральной революционной организации и слабости
местных революционных организаций» и поэтому такое «средство
борьбы» было бы лишь формой «единичного нападения», а не
массового выступления и, стало быть, «несвоевременным» и
«нецелесообразным». Такая поссибилистекая позиция не запрещала прибегать
к террору, что и происходило на деле во время революции 1905 года
и в бандитских «экспроприаторских» налетах в целях
самофинансирования партии42.
После захвата власти большевиками террор перестал быть
«единичным» и превратился в массовый и государственный;
распоряжениям Ленина широко применять террор нет числа43. Особенно
одиозная форма «красного террора» - система заложников, когда случайно
арестованных по «классовому» признаку (офицеры, специалисты и
т. д.) расстреливали десятками в отместку за гибель одного
большевика. Хроника и история «красного террора» полны таких эпизодов,
предвосхитивших нацистские репрессивные меры во время Второй
мировой войны.
Относительно дат начала «красного террора» нет единства. В
качестве реальной и символической можно принять ночь с 16 на 17 июля
1918 года, когда в Екатеринбурге была зверски уничтожена вся
царская семья (включая детей), а также свита и слуги. Троцкий
рассказывает в своем дневнике, что он был за открытый суд над Николаем II,
но решение уничтожить царя и его окружение приняли в его
отсутствие. На вопрос Троцкого: «А кто решал?», Свердлов ответил: «Мы
здесь (в Москве. - В. С.) решали. Ильич считал, что нельзя оставлять
им (контрреволюционерам. - В. С.) живого знамени, особенно в
нынешних трудных условиях»44.
41 Ленин В.И. ПСС. Т. 5. С. 7.
42 Один из самых громких «эксов» был проведен 13 июня 1917 года в Тифлисе
под руководством Сталина и Камо (С.А. Тер-Петросян): террористы бросили бомбы
в охранников, следовавших за каретой сборщика, который вез деньги
Государственного Банка, и захватили сумму от 250 до 340 тысяч рублей (по разным версиям). Эти
деньги были сразу переправлены за границу Ленину. В результате операции десятки
погибших и раненых.
43 См. в частности: Латышев А. Рассекреченный Ленин. М., 1996.
44 Троцкий Л. Дневники и письма. М., 1994. С. 118. Позволительно усомниться в
утверждении Троцкого, что он прямо не участвовал в решении устранить царя и его
семью. Ленин, поклонник Нечаева, как мы видели, давно вынашивал такие планы. Но
свидетельство Троцкого важно, так как подтверждает, что это решение было принято в
Москве в верхах партии. Во время своего изгнания Троцкий был заинтересован в том,
чтобы «спасти» перед демократическим Западом свою личную репутацию в случае та-
140
В России большевистский «красный террор» породил
неизмеримое горе, а за границей он вызвал омерзение и у «прогрессистов» (но
только не у новоиспеченных коммунистов), что нашло отражение в
полемике между Каутским и Троцким.
В 1919 году с небольшим перерывом, одна за другой вышли две
книги с одинаковым названием «Терроризм и коммунизм»: в Берлине
Карла Каутского, в Москве Льва Троцкого. Книга Каутского - это
часть систематической критики, которой глава немецкой социал-
демократии, наряду с другими представителями этой партии, подверг
практику и теорию коммунизма и революцию в России. Незадолго
до этого другая книга Каутского «Диктатура пролетариата» вызвала
раздраженную ответную статью Ленина, тон и дух которой выдает ее
название: «Пролетарская революция и ренегат Каутский».
Реакция Троцкого на новую книгу Каутского, хотя и более
сдержанная, напоминает ленинскую, что является стилем
коммунистической пропаганды: презрение к противнику и его очернение,
игнорирование аргументов и неопровержимых фактов, и одновременно
высокомерная категоричность в декларировании «ортодоксальных»
истин.
Так как предмет полемики - терроризм, рассмотрим вкратце
обмен мнениями сторон, опуская экскурсы Каутского в историю
французской революции и Парижской Коммуны и идеологические
филиппики Троцкого.
Важный пунк*г - отношение политики террора и свободы печати.
Каутский, вызвав иронию Троцкого (который впоследствии, когда
впал в немилость и был изгнан из страны, может быть, оценил
критику Каутского), разоблачал отсутствие в советской России свободы
печати (и мысли) - элементарного условия демократии и наличие
почти тотальной цензуры. Каутский комментирует: «Оправдание
этой системы опирается исключительно на инфантильное
представление, что существует абсолютная истина и что обладают ею именно
коммунисты [...] Никто не сомневается в искренности
встречающихся среди большевистских вождей идеалистов; так как они убеждены,
что обладают истиной одни они, то естественно, что тот, кто думает не
как они, - мерзавец. Но и мужи святой испанской инквизиции тоже
были совершенно искренни. При том режиме особого подъема
интеллектуального и морального уровня масс, думается, не наблюдалось.
Есть, правда, разница между инквизиторами и вождями советской
кого одиозного преступления, хотя он до конца защищал большевистскую революцию
и действия Ленина.
141
республики: первые не стремились к материальному и
интеллектуальному прогрессу народа на земле; они только хотели спасти души.
Пользуясь теми же методами, большевики претендуют возвысить
массы во всех отношениях, но не замечают, к какой деградации
ведут их»45.
Далее Каутский ставит проблему целей и средств: «В
действительности цель может оправдывать не любое средство, а только то,
которое не расходится с самой целью. Средство, противное цели, не
будет ею освящено [...] Благое пожелание может быть предлогом для
тех, кто прибегает к дурным средствам, но эти средства не перестают
быть достойными осуждения, и тем больше, чем больше нанесенный
ими вред» (233). И переходя к «большевистскому терроризму»,
прямо заключает, что «его непосредственная задача - удержать у власти
установленную большевиками систему военно-бюрократического
господства» (233). Анализируя ответ Ленина тем, кто призывал его
избавить партию от всех «карьеристов, бандитов, авантюристов»,
ответ, в котором Ленин утверждает, что «всех карьеристов и
авантюристов мы расстреливаем и будем расстреливать» и выражает надежду
на «общую чистку» с помощью «искренних интеллигентов», не
принадлежащих к какой-либо партии, Каутский пишет: «Расстреливать:
вот "альфа и омега" административной мудрости коммунистов». Но,
говорит он, возможно ли независимой интеллигенции помогать
критическими разоблачениями без того единственного средства, с
помощью которого это можно сделать: свободы печати? Ведь российская
печать полностью в руках тех самых правительственных органов,
где бандиты и авантюристы как раз и угнездились. И какие же
гарантии у Ленина, что они не просочатся также и в революционные
трибуналы и чрезвычайки и, едва там утвердившись, не используют
их для расстрелов именно тех искренних и чуждых всяким партиям
интеллигентов, которые могли бы отделать их на все корки?» (234).
«Чрезвычайки» (местные организации Чека) были всесильны и,
ликвидировав интеллигенцию всех партий, кроме большевистской, как
и сами партии, точно не терпели «чуждых всяким партиям»
интеллигентов, действительно свободных и независимых. И тогда ничего
не оставалось, как «расстреливать», это слово, маниакально
повторяемое в ленинских предписаниях Чека, долгое время держали в
тайне и только в последнее время предали гласности. Перманентный
терроризм как альфа и омега системы, принципиально отвергавшей
45 Kautsky К. Terrorismo е comunismo. Milano; Roma, 1920. P. 195-196. Далее
страница указывается в тексте в скобках.
142
свободу печати и любые другие политические и гражданские
свободы, непрекращающиеся «всеобщие чистки», которые устраивалась по
усмотрению верхушки власти и позднее распространившиеся на ее
членов, объявленных «бандитами» и «авантюристами» (как
произошло, например, с тем же Троцким).
Ответ Троцкого по поводу террора - замысловат: террор
оправдан, если он революционный, и омерзителен, когда реакционный:
«Террор бессилен - и то лишь в "последнем счете" - если он
применяется реакцией против исторически поднимающегося класса.
Но террор может быть очень действителен против реакционного
класса, который не хочет сойти со сцены. Устрашение есть
могущественное средство политики, и международной и внутренней. Война,
как и революция, основана на устрашении. Победоносная война
истребляет по общему правилу лишь незначительную часть
побежденной армии, устрашая остальных, сламывая их волю. Так же действует
революция: она убивает единицы, устрашает тысячи. В этом смысле
красный террор принципиально не отличается от вооруженного
восстания, прямым продолжением которого он является. "Морально"
осуждать государственный террор революционного класса может
лишь тот, кто принципиально отвергает (на словах) всякое вообще
насилие, - стало быть, всякую войну и всякое восстание. Для этого
нужно быть просто-напросто лицемерным квакером»46.
Предвидя возражение «попов либерализма», что тактика
коммунистов не отличается от тактики царизма, Троцкий отвечает: «Вы
этого не понимаете, святоши? Мы вам объясним. Террор царизма
был направлен против пролетариата. Царская жандармерия душила
рабочих, боровшихся за социалистический строй. Наши
чрезвычайки расстреливают помещиков, капиталистов, генералов,
стремящихся восстановить капиталистический строй. Вы улавливаете этот...
оттенок? Да? Для нас, коммунистов, его вполне достаточно» (62).
Троцкому нельзя отказать в откровенности и тогда, когда он
говорит о «свободе» печати (кавычки принадлежат ему). Он
саркастически повторяет формулу Каутского, утверждающего, что печать -
«верное орудие борьбы с коррупцией», и следующим образом
возражает на это: «Этот либеральный рецепт звучит особенно жалко при
мысли о двух странах с наибольшей "свободой" печати - Северной
Америке и Франции, которые являются вместе с тем странами
наивысшего расцвета капиталистической коррупции». Иное понимание
46 Троцкий Л. Перманентная революция. М., 2005. С. 61-62. Далее страница
указывается в тексте в скобках. См. также: Strada V. La rivoluzione svelata. Roma, 2007.
143
свободы печати у коммунистов: «Печать есть орудие не отвлеченного
общества, а двух непримиримых, вооруженных и сражающихся
лагерей. Мы разрушаем печать контрреволюции так же, как мы
разрушаем ее укрепленные позиции, ее склады, ее коммуникации, ее разведку.
Мы лишаем себя кадетски-меньшевистских обличений коррупции
рабочего класса? Зато мы победоносно разрушаем основы
капиталистической коррупции» (64).
Здесь можно бы оставить полемику «ренегата» Каутского и
«Иудушки Троцкого», как несколько лет спустя бывшие товарищи
по партии будут называть теоретика «перманентной революции»,
пользуясь методами и принципами, которыми он сам разделял и
защищал. Но стоит коротко напомнить о том, что он писал
относительно «итальянской партии, входящей в состав III Интернационала»,
партии социалистической, которая «до сего дня терпит в своей среде
Турати и его сторонников»: эта «группировка [...] представляет
собою менее педантический, не столь догматизированный, более
декламаторский и лирический, но тем не менее злейший оппортунизм»,
своего рода «романтизированное каутскианство» (189). До нее руки
«красного террора» за удаленностью не могли дотянуться. Но
скоро ею займется «черный террор» Муссолини, который, по словам
Каутского, - «лишь обезьяна Ленина!»47.
47 Каутский К. Большевизм в тупике. М., 2002. С. 278. Полностью фраза
Каутского, который одним из первых сравнил коммунизм и фашизм, такова: «...фашизм есть не
что иное, как большевизм наизнанку, а Муссолини - лишь обезьяна Ленина!».
эпилог
О сопротивлении злу силой
Русская культура, сохранившая свободу после октября 1917, то
есть русская культура западноевропейского зарубежья, с разных
позиций пыталась осмыслить драматический опыт России и всей
Европы эпохи войны и революции. Но одна особо острая тема
вызвала весьма бурные споры в среде оказавшихся в эмиграции
мыслителей, которые постоянно думали над проблемами исторического,
политического, религиозного, морального характера, возникшими
вследствие большевистского переворота. Вызвала широкую
дискуссию опубликованная в 1925 году в Берлине книга юриста и философа
Ивана Ильина (1883-1954), известного в то время главным образом
монографией «Философия Гегеля как доктрина конкретности Бога
и человека», вышедшей в Москве в 1918 году и являющейся
важнейшим русским вкладом в изучение гегелевского наследия.
Книга Ильина «О сопротивлении злу силою» вызвала скандал
в среде русской эмиграции и даже получила отклики в советской
России. В ней жестко критикуется толстовская доктрина
непротивления злу насилием. Ильин был не только кабинетным ученым, но
и активно участвовал в политике как идеолог центро-правых кругов
русской эмиграции и сторонник сопротивления коммунизму (а
впоследствии и нацизму: в 1938 году, преследуемый гестапо,
эмигрировал в Швейцарию, где и умер). Такая политическая позиция Ильина
частично объясняет жесткость полемического тона, с какой
встретила книгу «прогрессивная» часть его соотечественников, которые,
конечно, не могли разделять его взглядов, изложенных им в 1925 году в
Праге, Берлине и Париже в лекции «Идея Корнилова»,
предвосхитившей антитолстовскую книгу. Генерал Лавр Корнилов (1870-1918),
видя неспособность возглавляемого Керенским Временного
правительства контролировать ситуацию в стране и желая предупредить
ожидавшееся восстание большевиков, в августе 1917 года разработал
военный план восстановления порядка в поддержку Временного
правительства и защиту республиканской законности и двинул войска
145
в Петроград. Керенский, с согласия которого Корнилов действовал,
снял его с поста командующего и объявил вне закона, Корнилова
арестовали. Освобожденный в ноябре 1917 года, он отправился на Дон,
где организовал Добровольческую белую армию и погиб во время
подготовки военной операции. Приверженец программы с
«железной решительностью» добиться внутренней стабилизации Корнилов
был для Ильина национальным героем, последней и единственной
альтернативой Ленину, человеком дела, заслужившим право войти
занять место в пантеоне среди тех, кто сражался ради спасения
демократической России от катастрофы.
В своей лекции Ильин, воздавая должное личности Корнилова,
пошел намного дальше, провозгласив идею, которую тот
олицетворял и которая продолжала одушевлять «белую русскую армию»,
активную силу сопротивления большевизму. Эта идея - прямая
противоположность губительной особенности русского характера и
идеологии, характерной главным образом для интеллигенции,
которая была одной «из причин той великой беды, которая постигла нашу
родину»1. Ильин видит эту слабость в «сентиментальности», которая
для него есть «духовно слепая жалостливость», «преобладание
чувства над волей и обывательского "настроения" над религиозностью».
Это «беспредметная размягченность души, умеющей предаваться
своим чувствованьицам, но не умеющей любить Божие дело всею
душою, не умеющей решать, принимать на себя ответственность и вести
волевую борьбу. Сентиментальная душа не понимает, что Бог
больше человека и что "гуманность" не есть последнее слово человеческой
благодетели и мудрости...». Ильин далее указывает, в ком именно
проявилась эта черта «русского характера»: «И вот, в своеобразном
сочетании безвольной сентиментальности, духовного нигилизма и
морального педантизма возникло и окрепло зловредное учение
графа Льва Толстого "непротивления злу силою"; учение, которое более
или менее успело отравить сердца нескольких поколений в России, и,
незаметно разлившись по душам, ослабило их в деле борьбы со
злодеями» (224).
Против такой равнодушной и безответственной
«сентиментальности», моралистического нигилизма, мирящегося с насилием
непротивления, Ильин выдвигает идею «православного меча», то есть
опирается не на всепрощающее и уступчивое христианство, а
достойное божественной природы человека: «Евангелие учит не животной
жалости, а боголюбивому человеколюбию; оно учит одухотворенной
1 Ильин И. Собр. соч.: В 10 т. М., 1995. С. 224. Далее страница в тексте в скобках.
146
любви [...] Призывая любить врагов, Христос имел в виду личных
врагов, а не врагов Божиих и не кощунствующих совратителей; для них
указано было утопление с жерновом на шее. Призывая прощать
обиды, Христос имел в виду личные обиды человека, а не все возможные
злодеяния; никто не вправе прощать чужие обиды или предоставлять
злодеям обижать слабых, развращать детей, осквернять храмы и
губить родину. И потому христианин призван не только прощать
обиды, но и бороться с врагами дела Божьего на земле [...] В обращении
к злодеям христианин должен проявлять отрицающий лик любви:
он не призван любить зло в человеке или содействовать этому злу
[...] Ему достаточно вспомнить тот великий исторический момент,
когда божественная любовь в обличий гнева и бича изгнала из храма
кощунственно-пошлую толпу» (226).
Здесь Ильин кратко формулирует идеи, развитые и
аргументированные на основании разносторонней религиозной, философской,
юридической и политической доктрины в своем обширном
трактате «О сопротивлении злу силою». Частное их выражение - «идея
Корнилова», этого новоявленного св. Георгия, который,
воодушевленный любовью к родине, поднял меч, хотя и безуспешно, на
революционного дракона. Но, заключает Ильин, идти надо его путем,
«ибо победим мы тогда, когда наш меч станет как любовь и молитва,
а молитва наша и любовь наша станет мечом!..» (227).
Для прояснения позиции Ильина прибегнем к его статье,
написанной по случаю смерти председателя ВЧК Феликса Дзержинского:
«Умер Дзержинский. И не добром поминает его Россия. Да и может
ли быть иначе? Восемь с половиной лет правил он страхом и кровью,
и то, что он сделал - неописуемо и непоправимо. Имя этого
поляка навсегда внесено в русскую историю и записано оно на одной из
самых трагических и позорных страниц ее» (261). Таково начало
«некролога». Но затем Ильин идет дальше личности Дзержинского
и его деятельности, видя в них отражение коллективного
исторического феномена: коммунизма и социализма, и не только русского,
но и всего международного революционного движения, делу
которого Дзержинский посвятил себя: «Ныне коммунисты делают то
самое, чего хотели, о чем мечтали, о чем писали, что готовили социал-
демократы и социалисты-революционеры всех стран. Готовили давно,
весь девятнадцатый век [...] А большевики только отнеслись
серьезно и активно - и к подготовке, и к словам» (263), начинав с Маркса.
И теперь социалисты не могут делать вид, что не несут
ответственности как «младшие братья» таких коммунистов, как Дзержинский:
«В мире началась великая и жестокая гражданская война. В этой
войне не три группировки, две: красная и белая. Социалисты же всех
147
стран искони пребывали и ныне пребывают в красном лагере [...]
Они верят в ту же противоестественную химеру; они идут по тому же
пути; они хотят того же и готовят то же самое. Различие лишь в темпе,
в оттенках и в стремлении переложить на коммунистов черную
работу крови, эксперимента и риска» (265). Поэтому наивно превращать
покойного главу коммунистической политической полиции в
единственного ответственного за кровавый террор, являющийся плодом
международного социализма и коммунизма.
Понятно, что с такими экстремистскими позициями, прямо
возлагавшими на социализм, без надлежащих различий, равную с
коммунизмом ответственность за коммунистическое насилие, не могла
согласиться «прогрессивная» часть русской эмиграции, которая с
возмущением встретила теоретический трактат Ильина «О
сопротивлении злу силою», зачастую не удосужившись с должным вниманием
проанализировать его. Автора трактата объявили Дзержинским
реакции (в теории, разумеется), потому что «"Чека" во имя Божье более
отвратительно, чем "чека" во имя дьявола». Антикоммунизм в таком
случае оказывался едва ли не хуже самого коммунизма. Такое
обвинение содержится в интересной статье Николая Бердяева «Кошмар
злого добра», написанной в ответ на книгу Ильина. В ряду яростных
выпадов в адрес Ильина мы выбрали именно эту статью в силу
авторитетности ее автора, хотя предубежденность не всегда позволяет
Бердяеву вникнуть в доводы противника, которому потом приходится
уточнять свои идеи, защищая их от полемических передергиваний.
Согласно Бердяеву, книга Ильина - «болезненное порождение
нашего времени», потому что ее автор «заразился ядом большевизма»,
ядом, действующим «или в форме приспособления к большевикам,
или в форме заражения его духом во имя целей противоположных,
заражения насильничеством и злобностью» (379). То есть Ильин -
это большевик наоборот: «Большевики считают себя носителями
абсолютного добра и во имя его сопротивляются силой тому, что
почитают злом [...] Эта непомерная духовная гордыня большевиков
свойственна и Ильину». Он «не просветлен тем христианским
сознанием, что весь род человеческий поражен первородным грехом и
потому на может распадаться на расу добрых, специально призванных
бороться со злом силой, и расу злых - объект воздействия добрых»
(380). Такой этико-политический расизм был присущ и
революционной русской (и не русской) интеллигенции, которая «всегда
признавала в значительной своей части сопротивление злу силой, террором,
убийством, вооруженными восстаниями и всегда думала, что этими
средствами она утверждает абсолютное добро и истребляет
абсолютное зло. Только благодаря такому моральному сознанию русской
революционной интеллигенции и стал возможен большевизм. "Чека" у
148
нас морально давно подготовлялась» (380-381). Поэтому неуместна,
продолжает Бердяев, такая ожесточенная проповедь «сопротивления
злу силою», тем более что ничего более «антитолстовского», чем наши
времена, вообразить нельзя и уже ни у кого нет сомнения в
уместности сопротивления злу силой и даже насилием: «Мы живем в одну из
самых кровавых эпох всемирной истории, в эпоху, объятую кровавым
кошмаром, когда всякий уверен в своем праве убивать своих идейных
и политических противников и никто не рефлектирует над
оправданностью действия мечом»2 (380). Проповедь Ильина в пользу силы не
только излишняя, но и показывает себя, считает Бердяев,
антихристианской и даже антинациональной, «чуждой лучшим традициям
нашей национальной мысли»: Ильину «крест [...] нужен лишь для
оправдания меча» (392), к тому же картонного, бессильного против
стального меча победивших большевиков.
2 Констатируя, что «мы живем в одну из самых кровавых эпох в истории»,
Бердяев забывает, что если этому способствовали разные действовавшие в истории силы,
начиная с тех, что развязали мировую войну, то к подлинной количественной и
качественной «мутации» насилия привела большевистская революция, в этом смысле
подготовившая дальнейшее тоталитарное насилие. Один из крупнейших писателей
XX века, нобелевский лауреат Иван Бунин (тоже изгнанник), проницательно
заметил, что «весь адский секрет большевиков - убить восприимчивость» (см.: Бунин И.
Окаянные дни. Тула, 1992. С. 59): можно воспринять убийство одного человека,
десяти человек, но когда убивают тысячами, десятками и сотнями тысяч, а потом и
миллионами, восприятие притупляется, парализуются все чувства. В статье «Несколько
слов английскому писателю» он дает презрительную и трезвую оценку благостным
впечатлениям Герберта Уэллса от посещения коммунистической России, Бунин
пишет: «Это Ленины задушили в России малейшее свободное дыхание, они увеличили
число русских трупов в сотни тысяч раз, они превратили лужи крови в моря крови,
а богатейшую в мире страну народа пусть темного, зыбкого, но все же великого,
давшего на всех поприщах истинных гениев не меньше Англии, сделали голым погостом,
юдолью смерти, слез, зубовного скрежета; это они затопили весь этот погост тысячами
"подавляющих оппозицию" чрезвычаек, гаже, кровавее которых мир еще не знал
институтов, это они, которым вы дерзаете противопоставлять "разбойников" Деникина и
Врангеля, целых три года дробят черепа русской интеллигенции» (Бунин И. Великий
дурман. М., 1997. С. 69-70).
В унисон Бунину писал крупнейший историк греко-римского мира Михаил
Ростовцев, покинувший Россию в 1918 году: «Когда ассирийские цари проходили мечом
и огнем по Вавилонии, Сирии, Иудее и Египту, уничтожали всех взрослых мужчин и
обращали в рабство женщин, детей и стариков, в покоренных городах и деревнях царил
полный порядок, и все беспрекословно слушались. Когда Брут в Ликии вырезал все
мужское население ряда городов и затем управлял этой провинцией Рима, опираясь на
свои легионы, в Ликии царил полный порядок. Когда пролетариат Аргоса вырезал всех
иначе мыслящих, и там установился порядок. Порядок установили и гунны в Европе, и
татары в России, и турки в Армении. Но это был порядок смерти и рабства. Такой
порядок большевики в России установили, и с этим никто не спорит. Страна обессилена
казнями и унижена рабством. Кто мог - бежал, кто не мог - подчиняется. Все это так,
и все это горькая правда» (Ростовцев М.И. Избранные публицистические статьи. М.,
2002. С. 52-53).
149
Оставим в стороне теологическую и философскую часть
споров вокруг книги Ильина: здесь нас интересует главным образом
ее морально-политический смысл, потому, в частности, что
напоминает некоторые моменты размышления Лукача о насилии
и его одобрении во имя высшей цели. Для венгерского
философа - это революционная коммунистическая цель, а для русского -
христианско-консервативная. Для Ильина, в отличие от
полемической интерпретации Бердяева, употребление «христианского меча»
для защиты от революционной агрессии не лишено драматизма для
того, кто к нему прибегает: «Да, путь меча есть неправедный путь, но
нет такого духовного закона, что идущий через неправедность идет ко
греху... Если бы было так, то все люди, как постоянно идущие через
несправедливость и даже через грех, были бы обречены на
безысходную гибель, ибо грех нагромождался бы на грех и неодолимое бремя
тянуло бы человека в бездну. Нет, жизненная мудрость состоит не в
мнительном праведничании, а в том, чтобы в меру необходимости
мужественно вступить в неправедность, идя через нее, но не к ней, чтобы
уйти из нее» (278). А впрочем, есть ли другой путь? Конечно, есть
путь «сентиментального непротивления», «путь предательства
слабых», «соучастия со злодеем» и в довершение «наивно-лицемерного
самодовольства», путь более «спокойный» и «приличный». Но
только «легкомыслие и злая тупость могут не чувствовать, какой ценою
оплачены это "спокойствие" и это "приличие"» (278). Ильин считает,
что «вести государственную борьбу со злодеями есть дело
необходимое и духовно верное; но пути и средства этой борьбы могут быть и
бывают вынужденно-неправедные. И вот только лучшие люди
способны вынести эту неправедность, не заражаясь ею, найти и
соблюсти в ней должную меру, помнить о ее неправедности и о ее духовной
опасности и найти для нее личные и общественные противоядия»
(284). И в самом деле, «желая блага, преданный благу он (деятельный
христианин. -В. С.) видит себя вынужденным во имя своей
религиозно верной цели взять на себя неправедность и, может быть, вину
и как бы отойти от блага; и притом с полным сознанием того, что он
совершает. Положение его является нравственно-трагическим [...]
Подвиг здесь не только в ведении самой борьбы, но и в том духовном
напряжении, которое необходимо для открытого и выдержанного
приятия возможной вины» (280-281).
Кажется, что снова возвращаешься к Юдифи Геббеля и Лукача, с
той лишь разницей, что Ильин испытывает подлинно религиозный
пафос и внутренние страдания, чего нет у марксистского философа,
морально и интеллектуально порабощенного коммунизмом Ленина
и Дзержинского, своими преступлениями внушавших ужас христиа-
150
нину Ильину, да и Бердяеву, тоже христианину, но на другой манер,
от которого, однако, ускользал «трагический» момент христианства
его противника3. Полемика вокруг книги Ильина была
масштабной, его книге присуща глубина, оценить которую здесь нет
возможности. Годы спустя после этих споров справедливую оценку идей
этой книги дал Николай Лосский, один из крупнейших философов
XX века. Согласно Лосскому, Ильин вовсе не усвоил
предосудительный принцип революционеров «цель оправдывает средства», так как
для него существуют ситуации, «неизбежно приводящие к
противоречию между благой целью и несовершенными средствами, в чем
состоит нравственная трагедия человека»4. Трагедия внутри трагедии,
пережитой целым народом и целой эпохой под знаком насилия и
террора, насилия и террора, свирепствующих на «клочке, родящем в нас
такой раздор»5, как Данте называл нашу планету.
3 Это этико-политическая проблема, содержащаяся в розановском фрагменте,
взятом в качестве эпиграфа к нашей книге. С той лишь разницей, что доведенное до
крайнего пароксизма революционное насилие вынуждает иногда и «старый строй»
тоже «разоблачиться». (Розанов В. Опавшие листья. II (1915).
4 Lossky N.O. History of Russian Philosophy. New York, 1951. P. 389.
5 Алигьери Данте. Божественная комедия. Рай. XXII. 151.
Витторио Страда
(род. в 1929 г. в Милане). Окончил
философский факультет Миланского
университета и аспирантуру филологического
факультета МГУ. Заведовал кафедрой
русского языка и литературы
университета Ка' Фоскари в Венеции.
Был директором Итальянского института
культуры в Москве.
Автор ряда книг по истории русской
литературы и культуры, основатель
международных сборников
«Россия/Russia» и инициатор семитомной
«Истории русской литературы», изданной
во Франции и Италии (один том издан на
русском языке издательством «Прогресс»).
В 2013 году в Москве вышла его книга
«Россия как судьба» (издательство
«Три квадрата»). В этом же издательстве
в 2005 году был опубликован Международный
научный сборник «Vittorio», посвященный
его 75-летию.