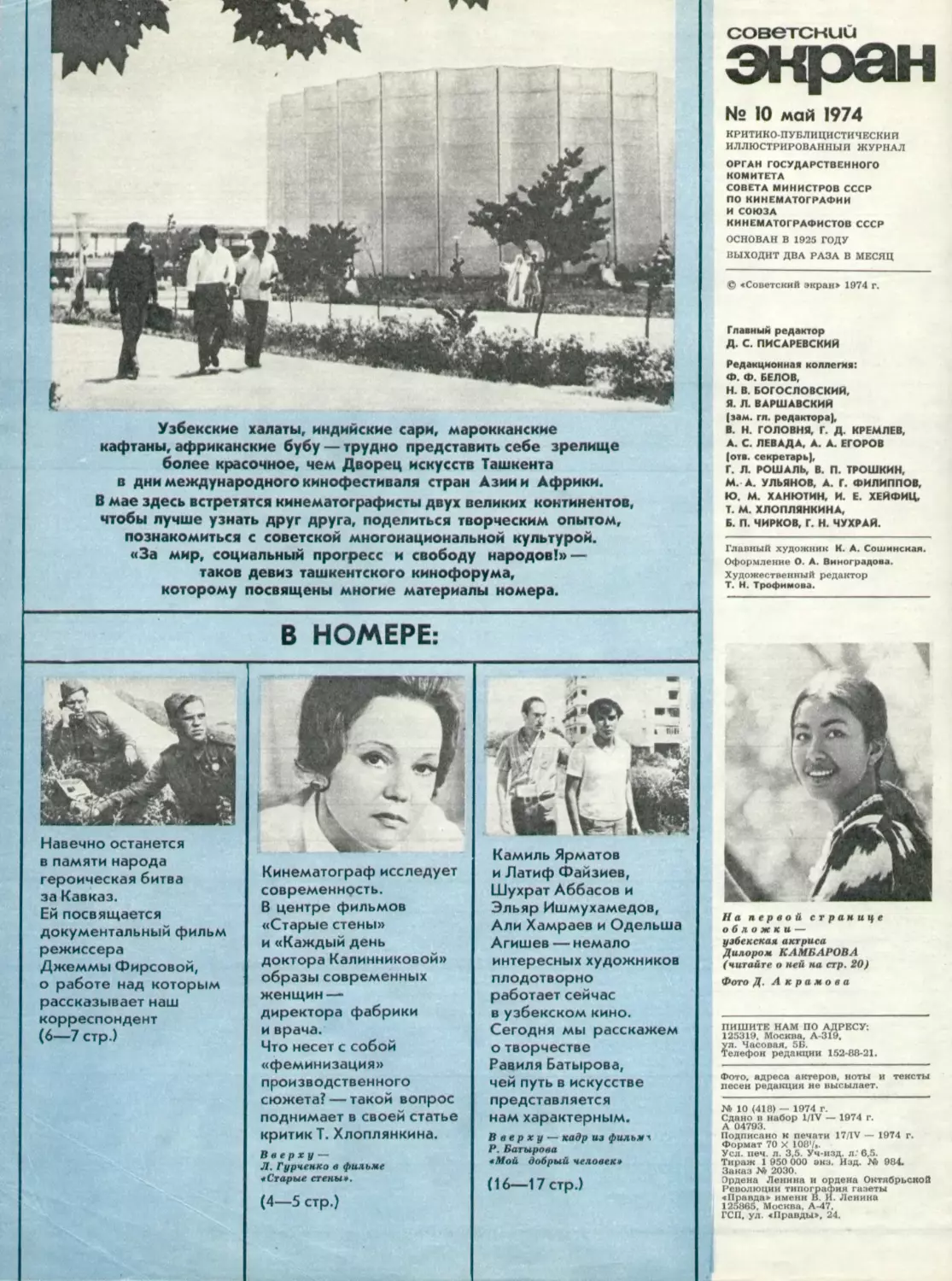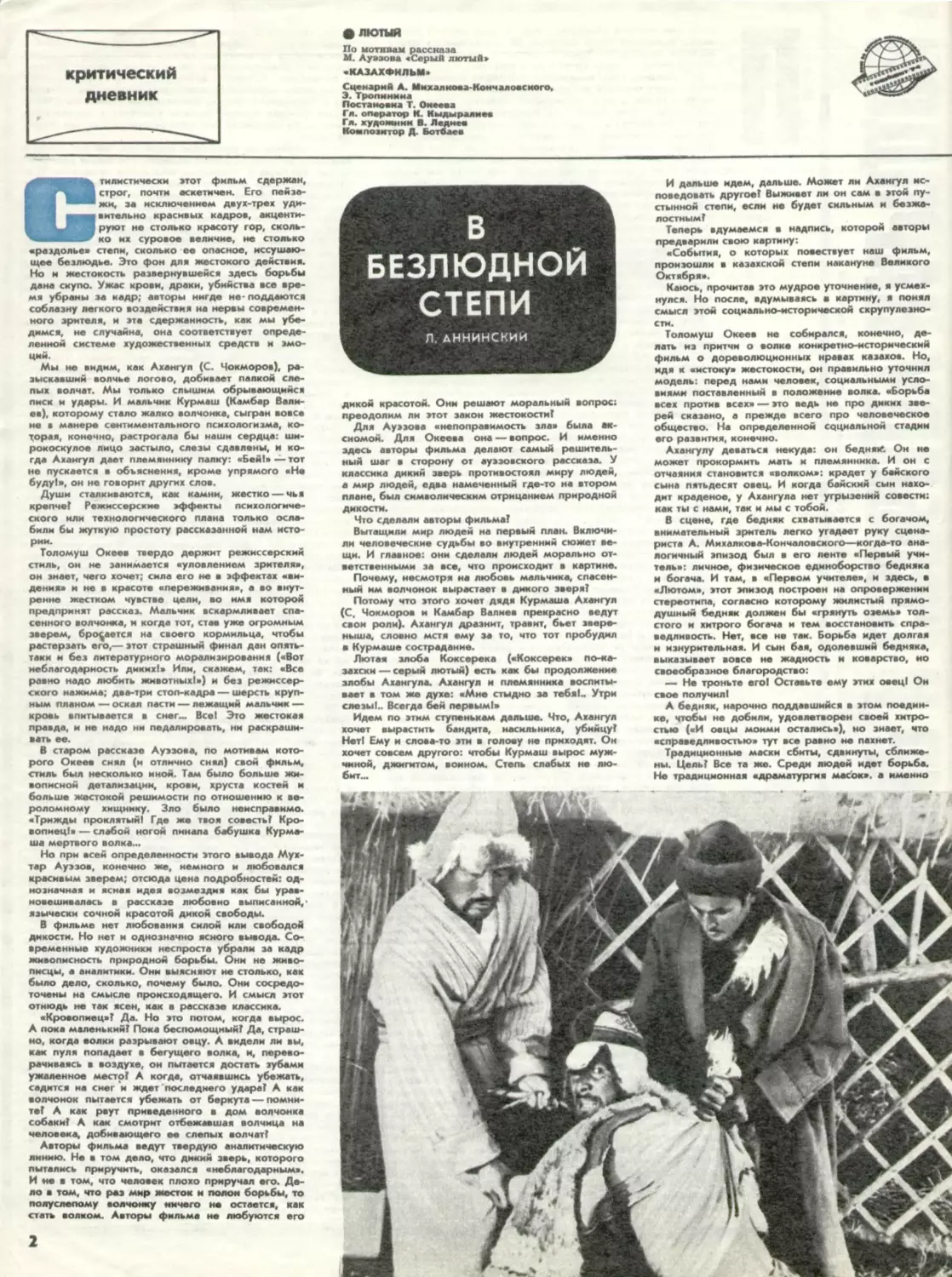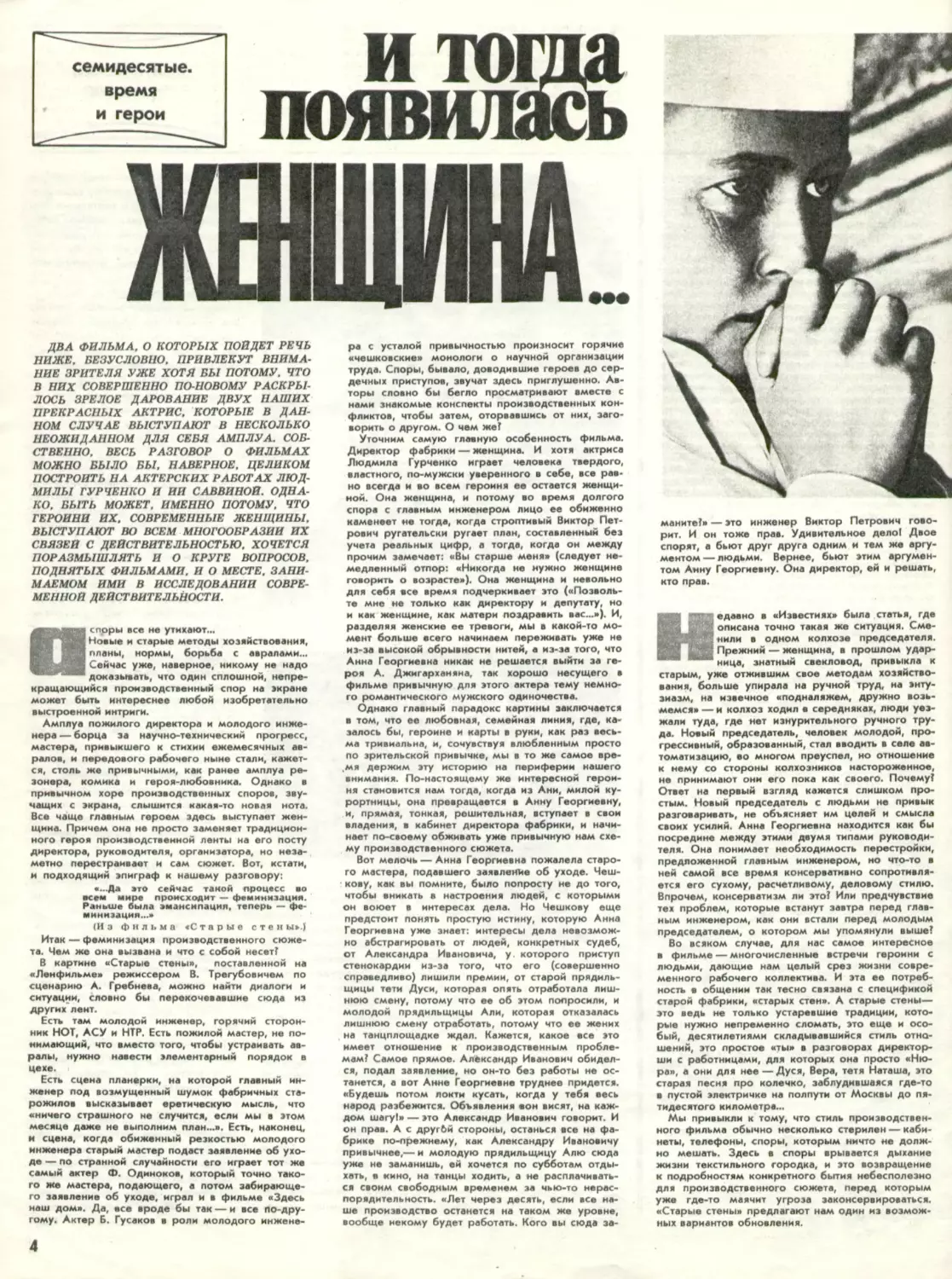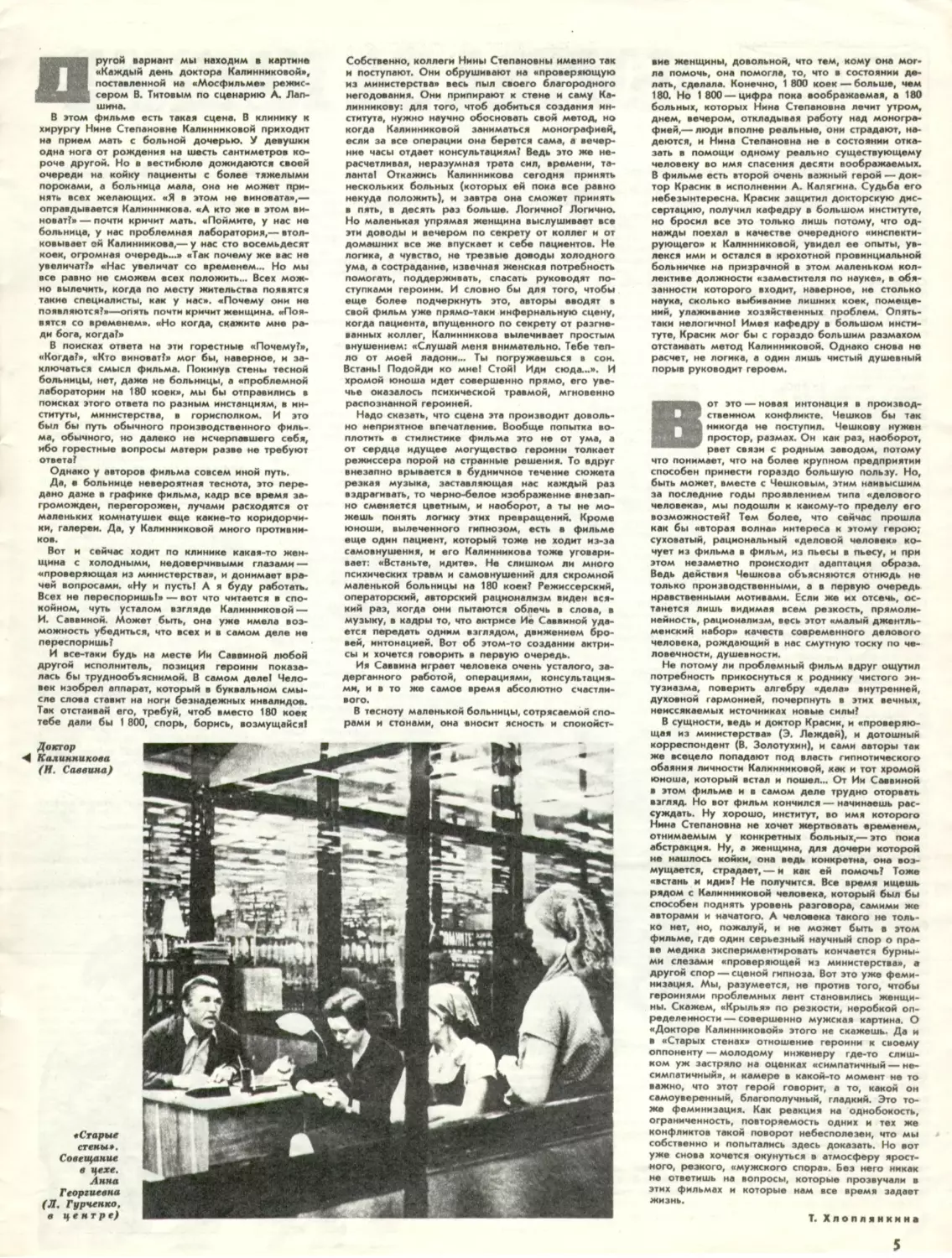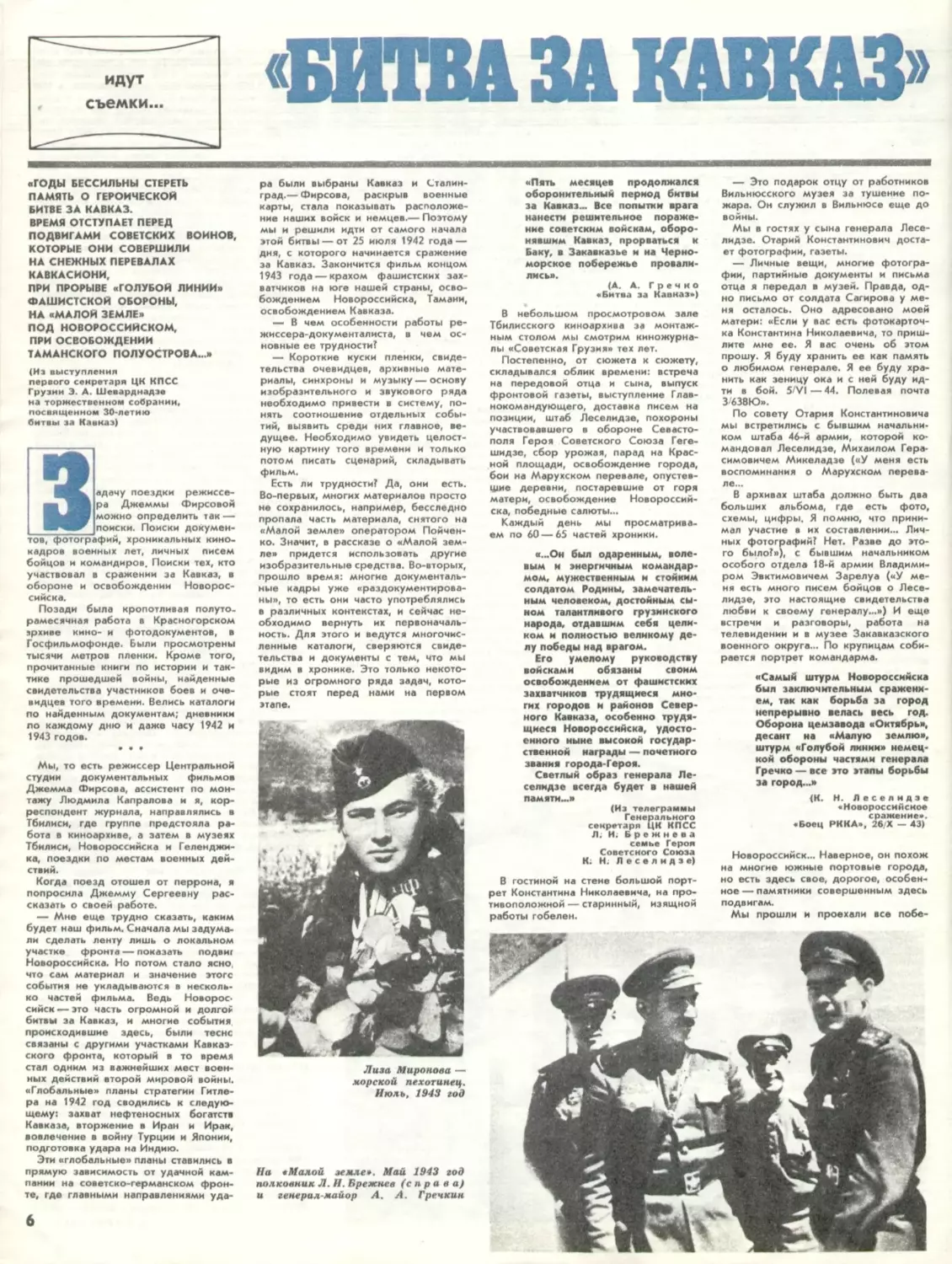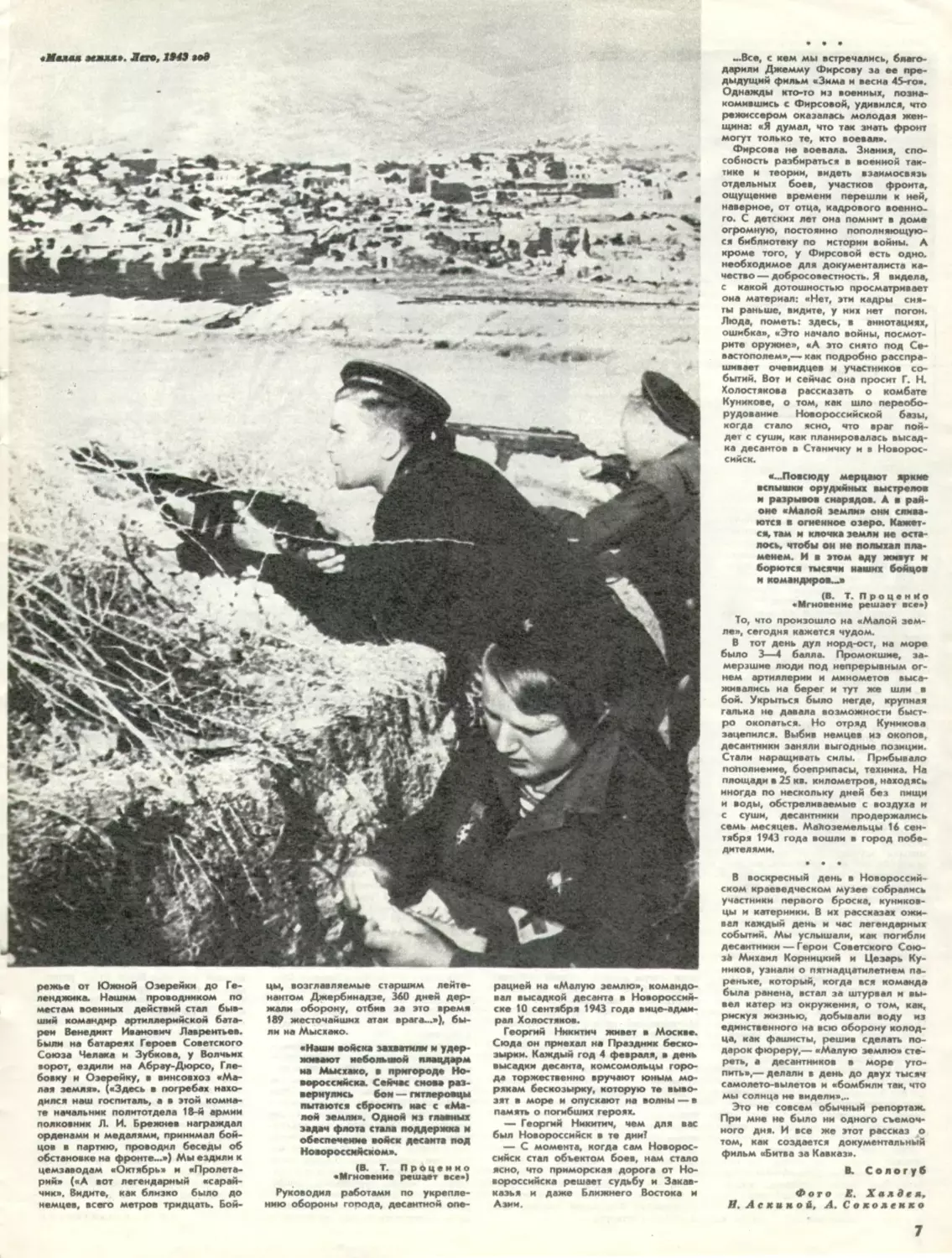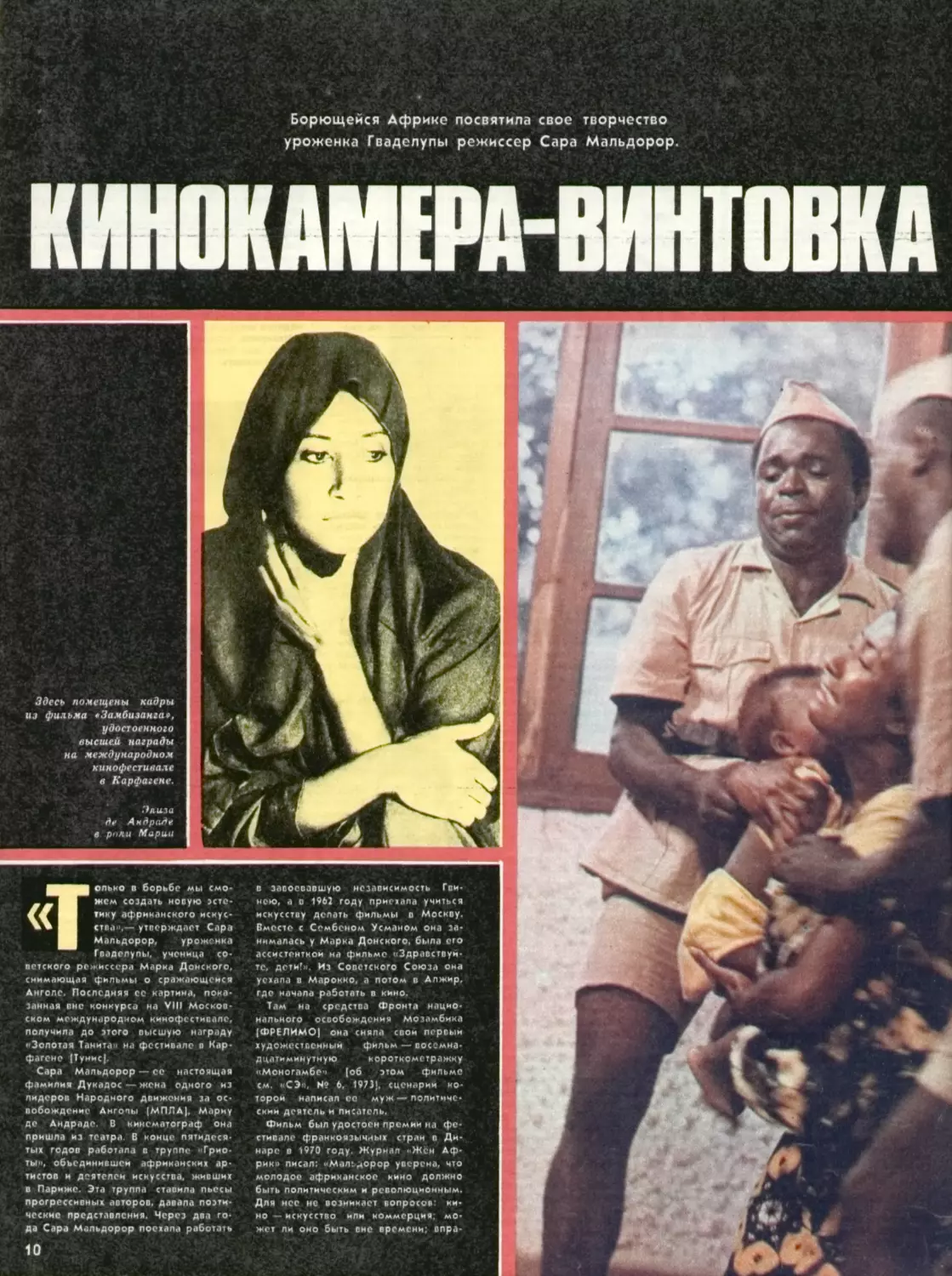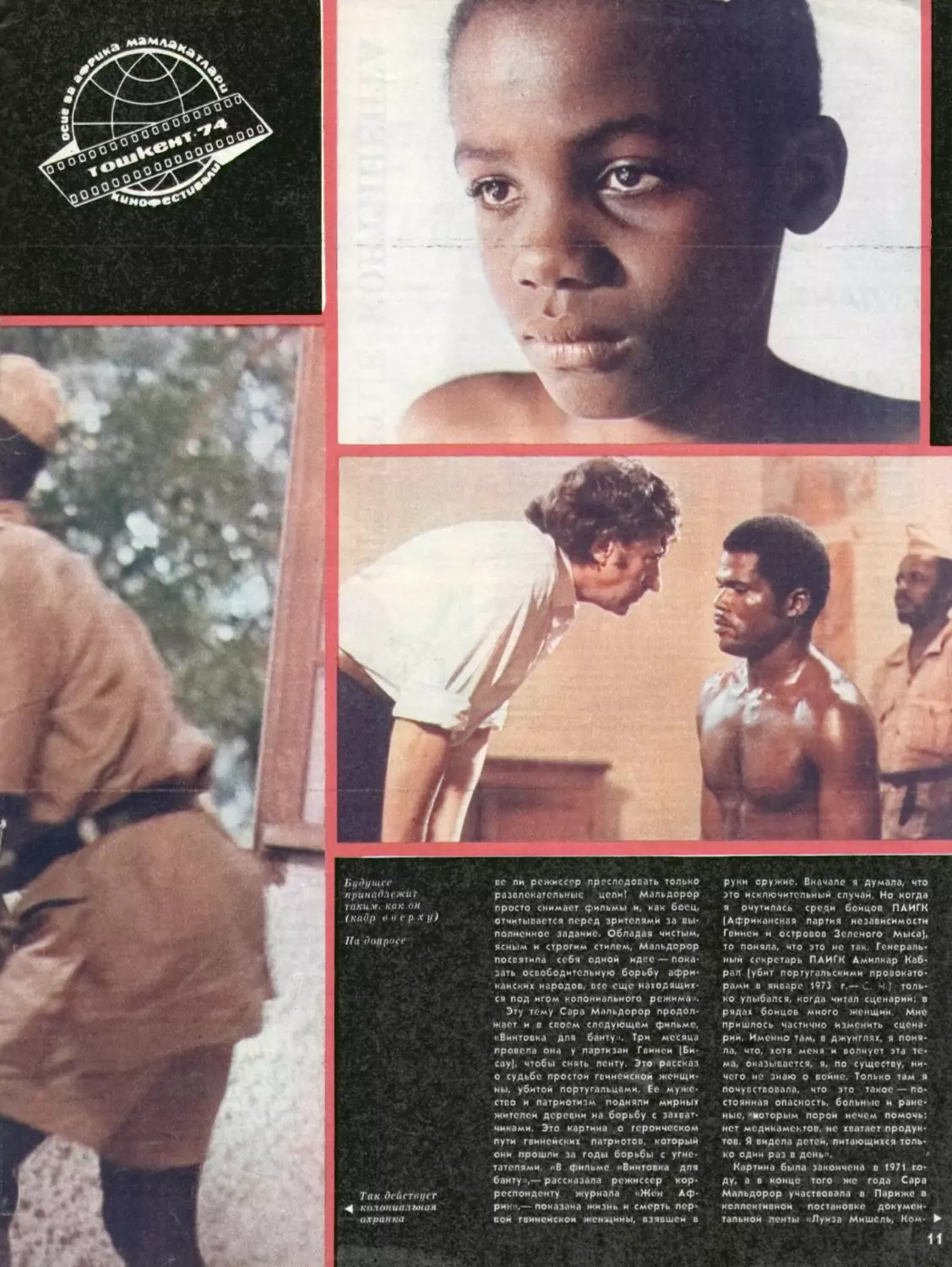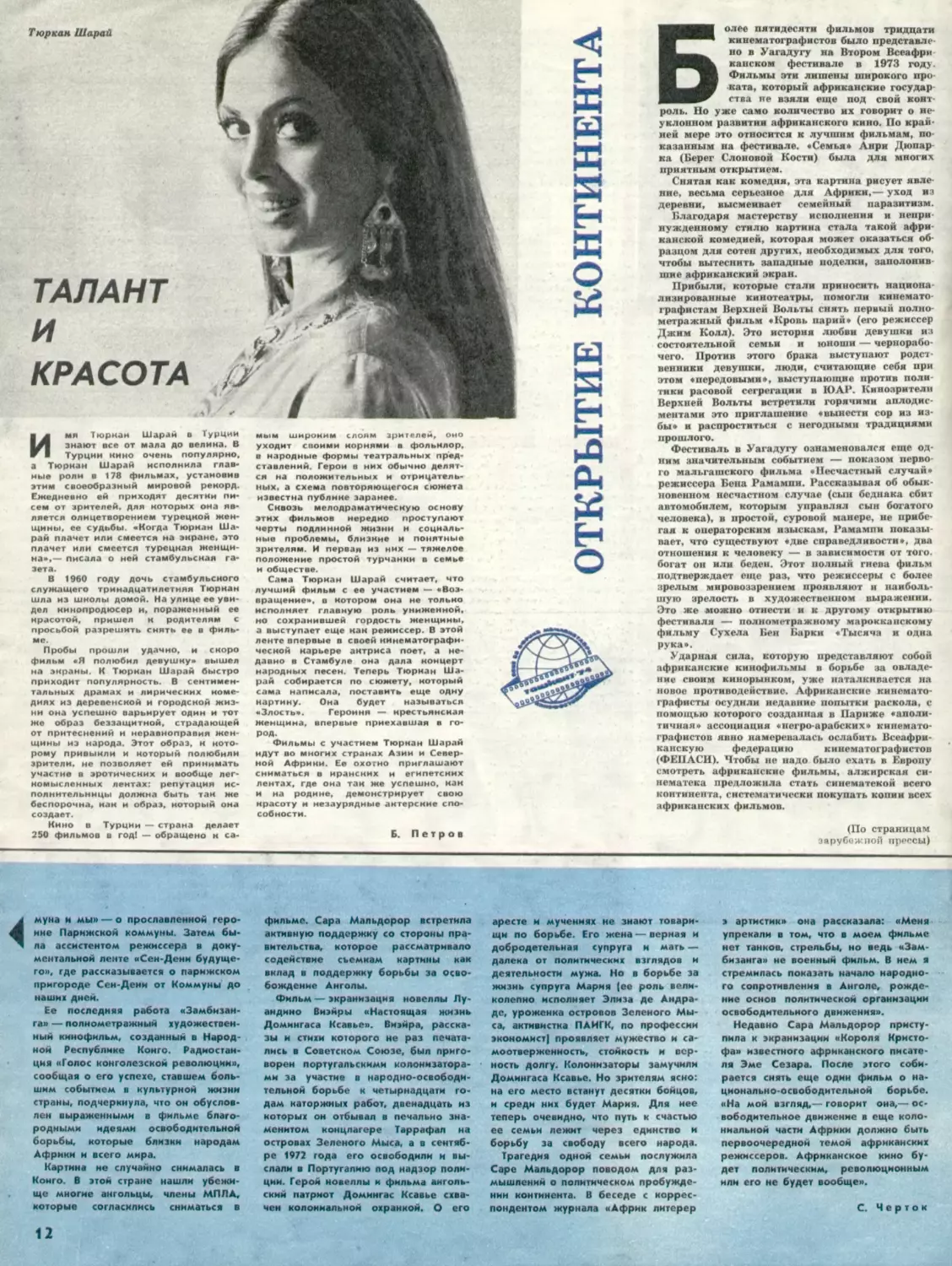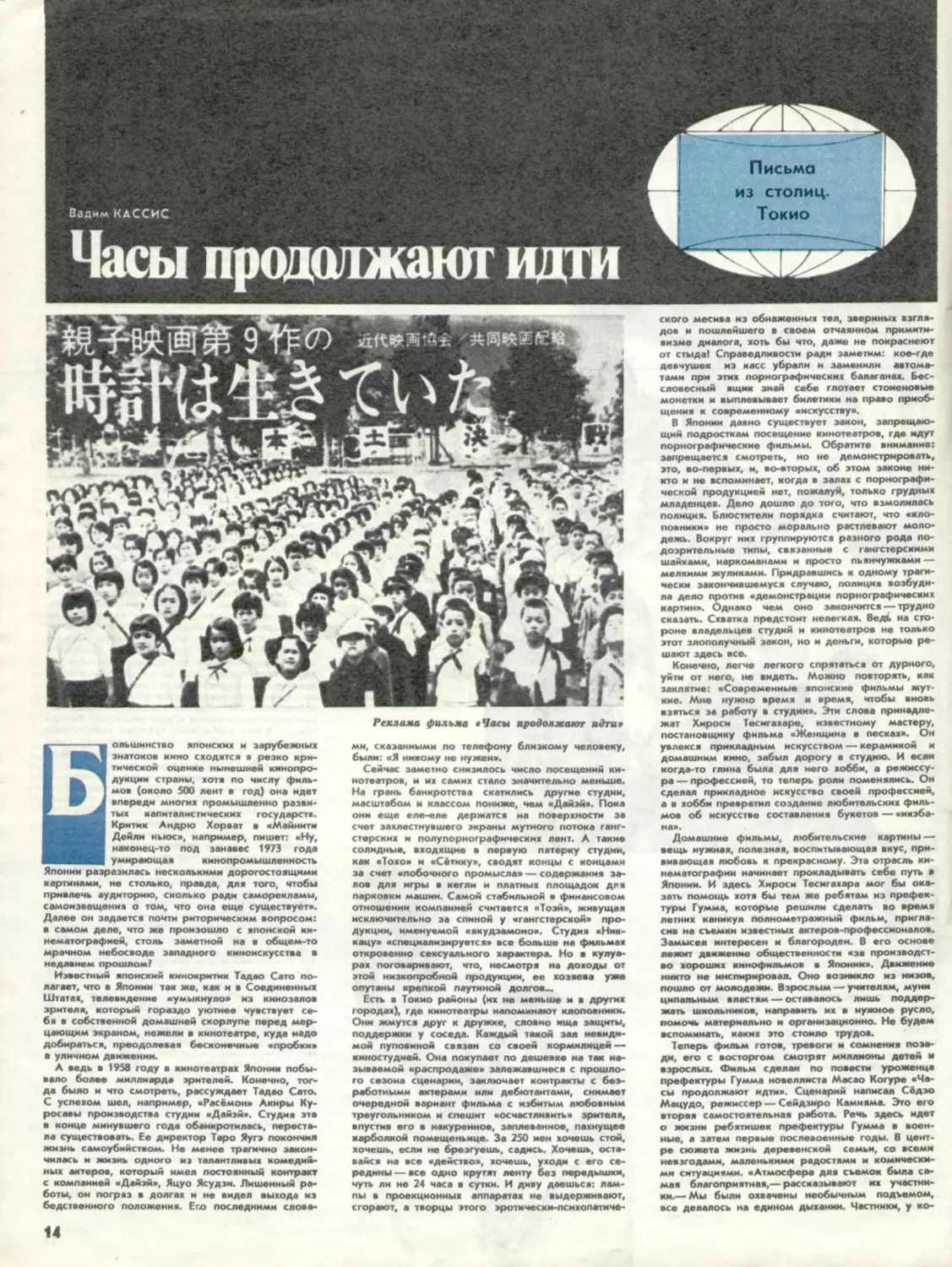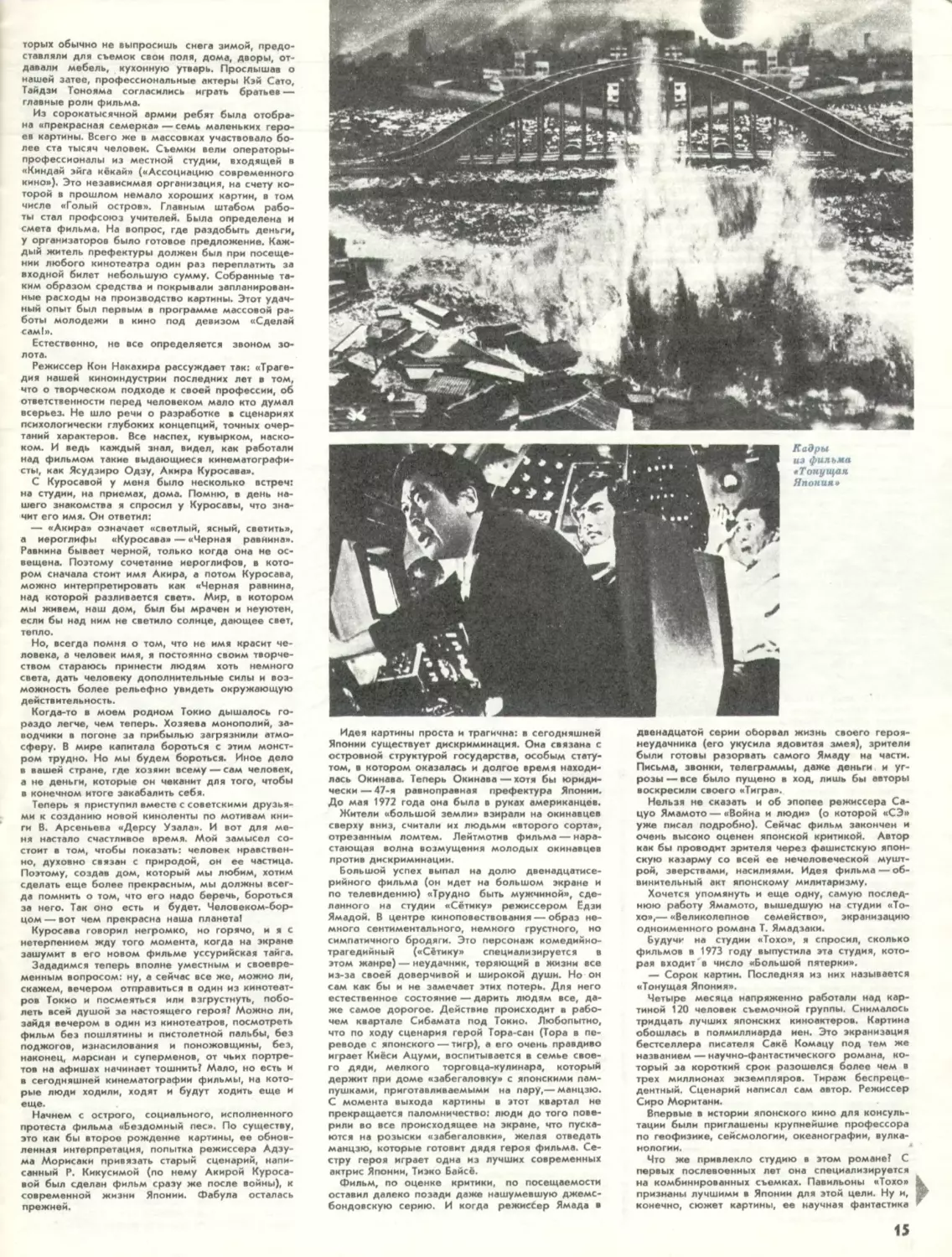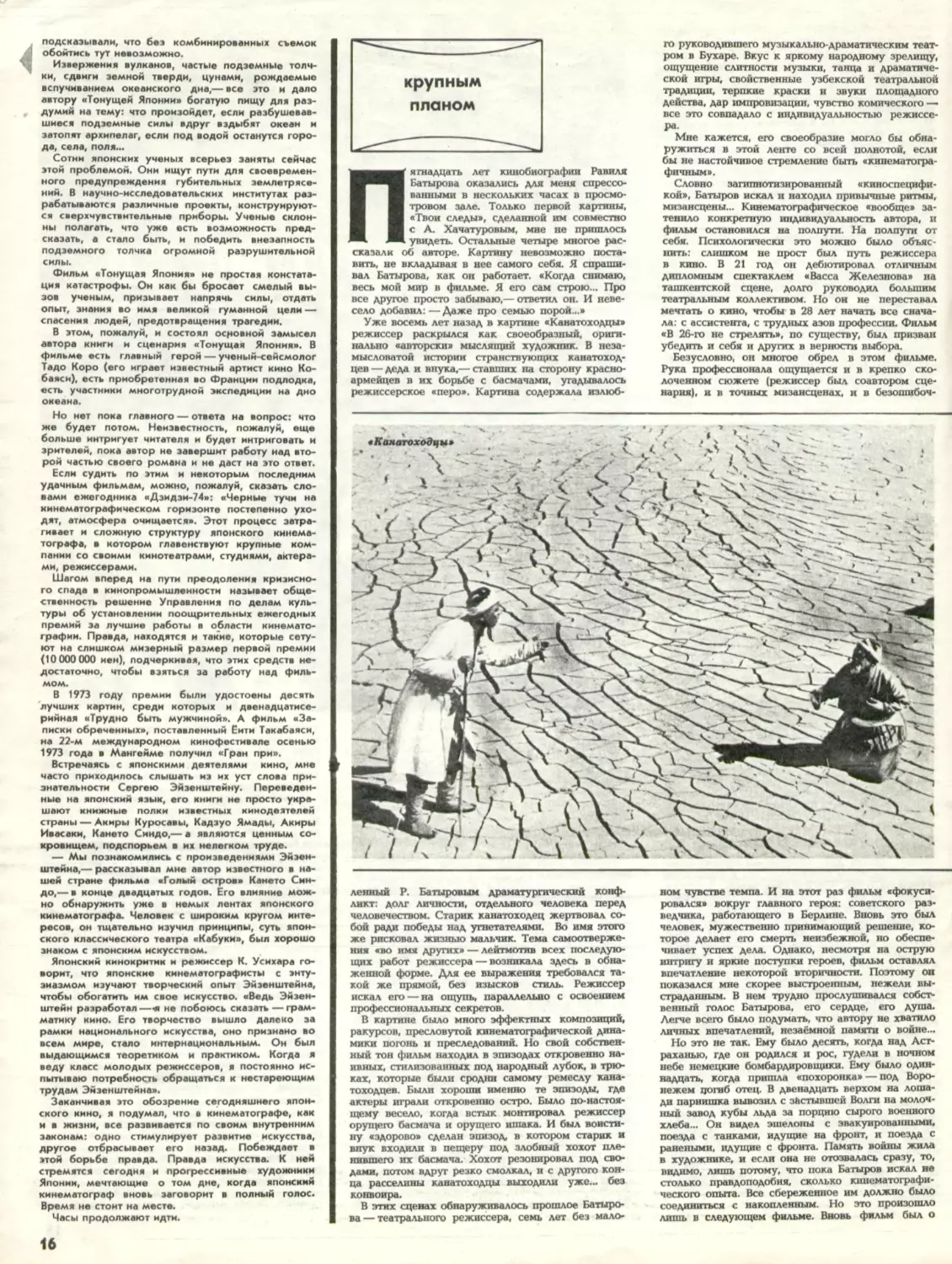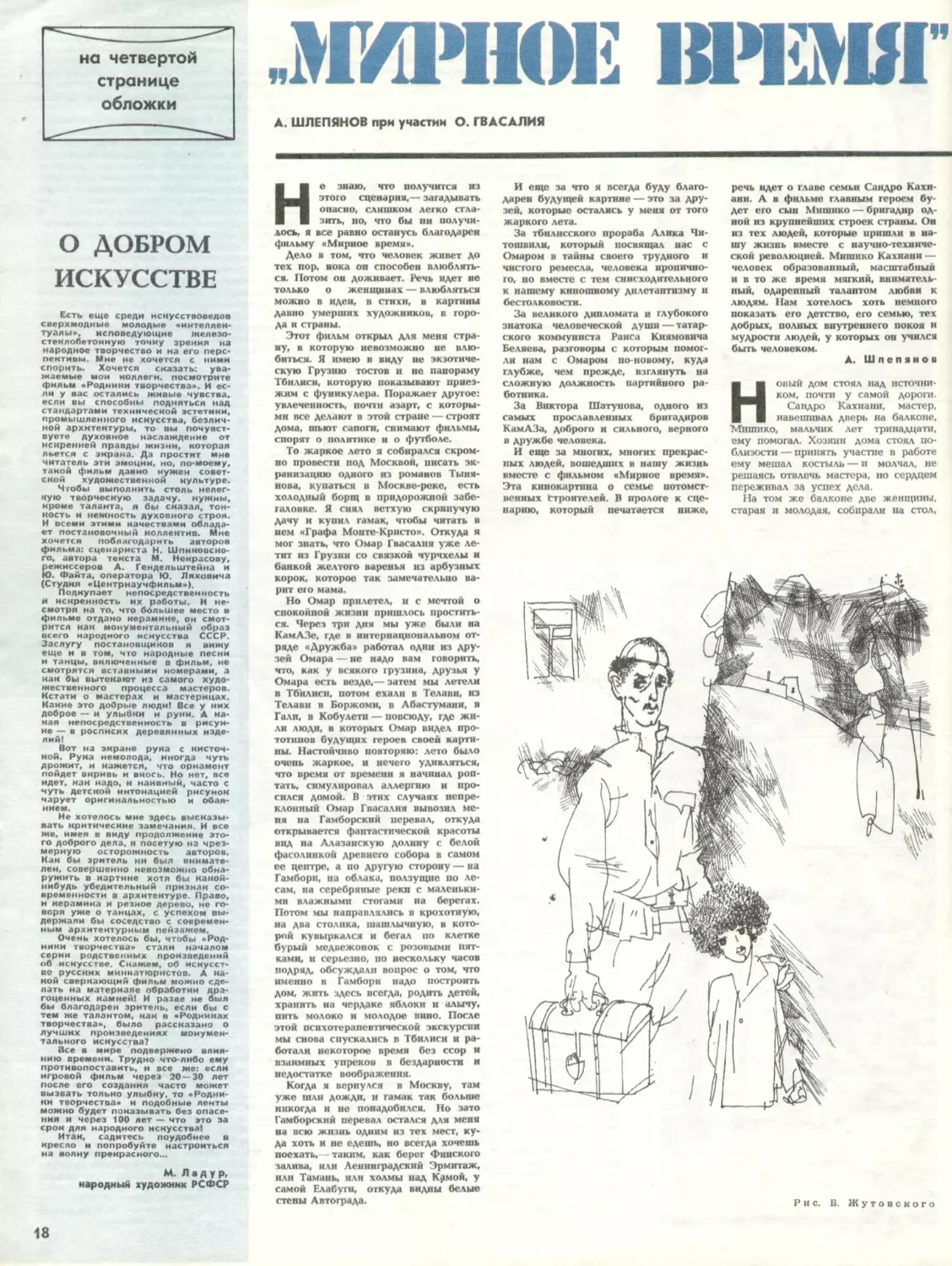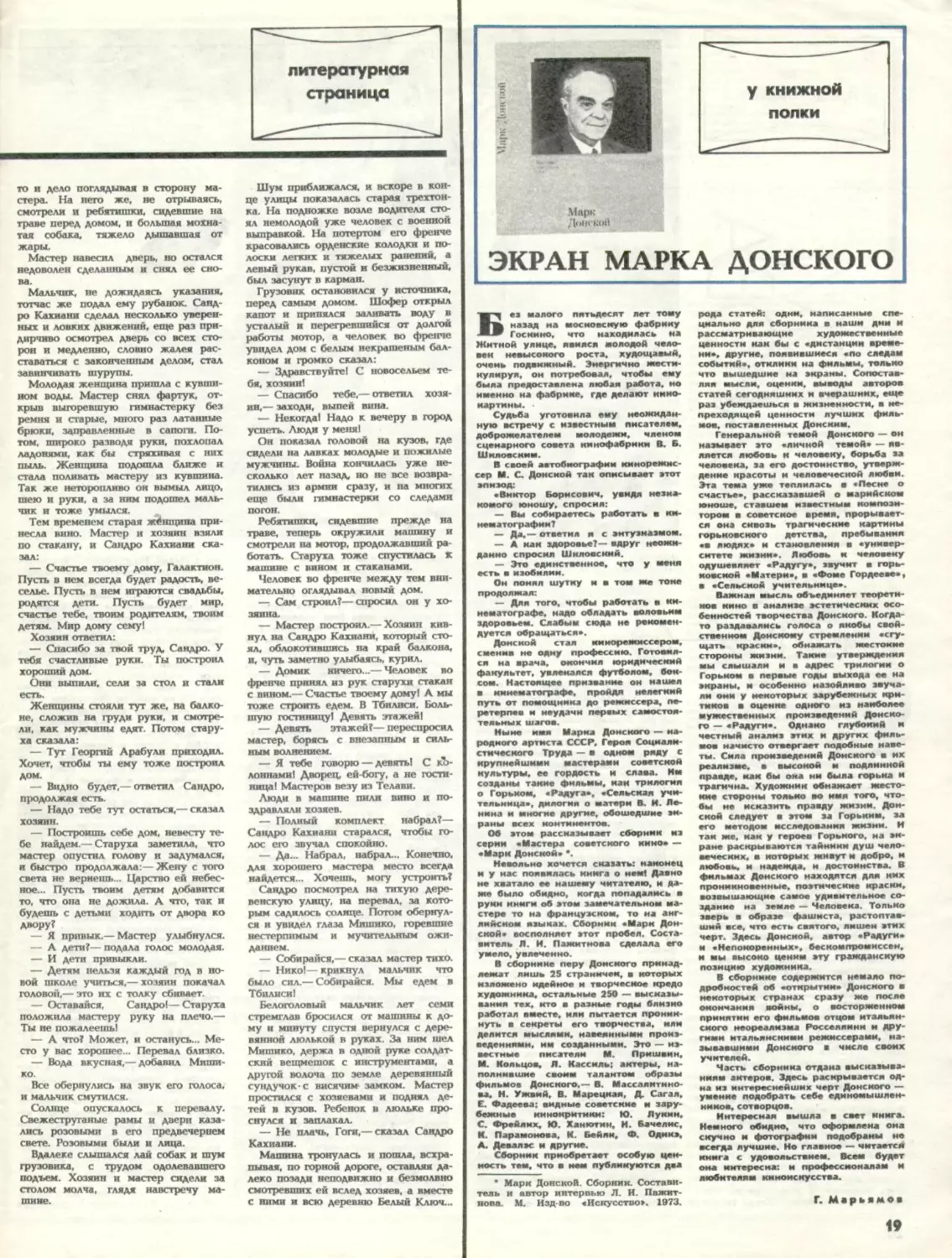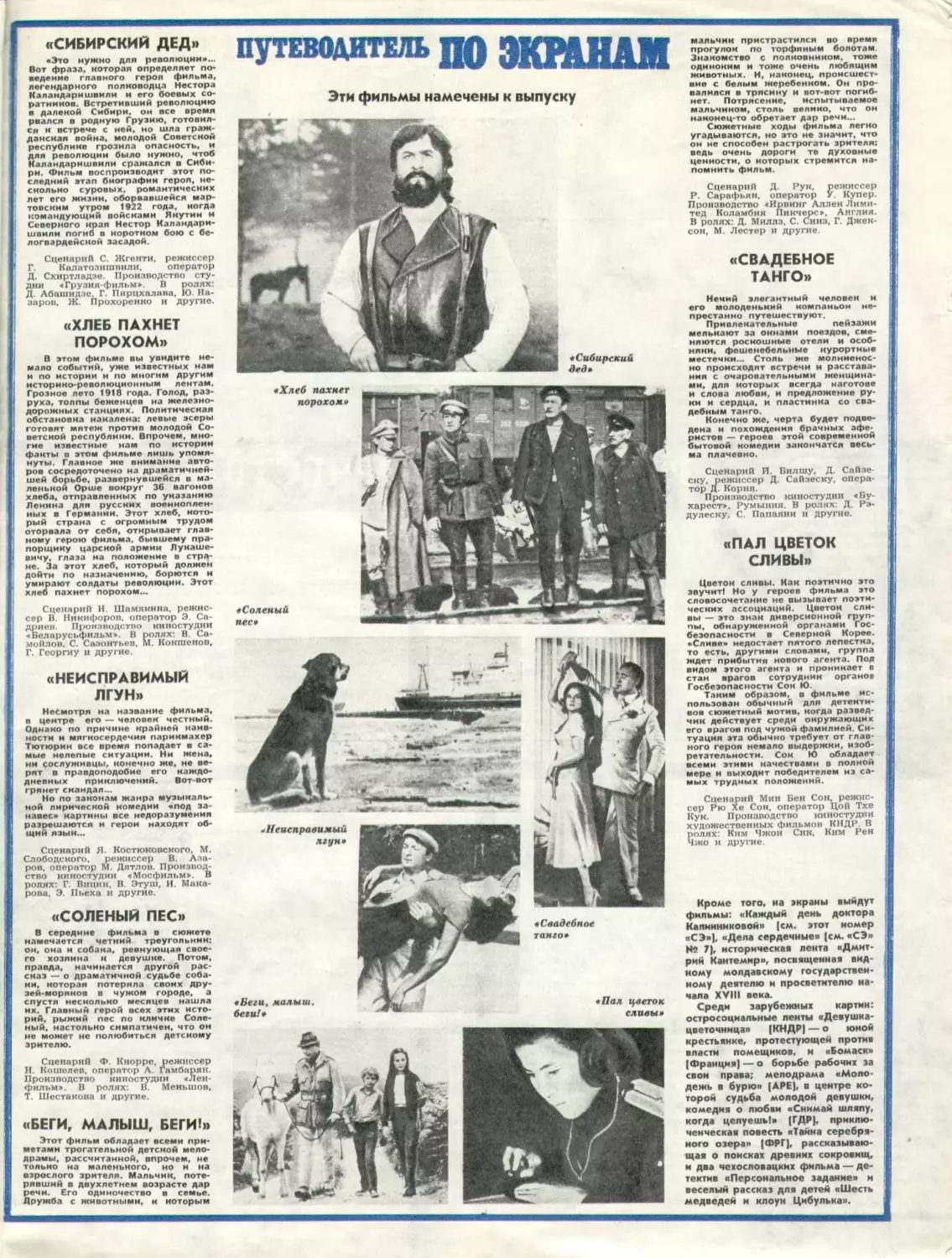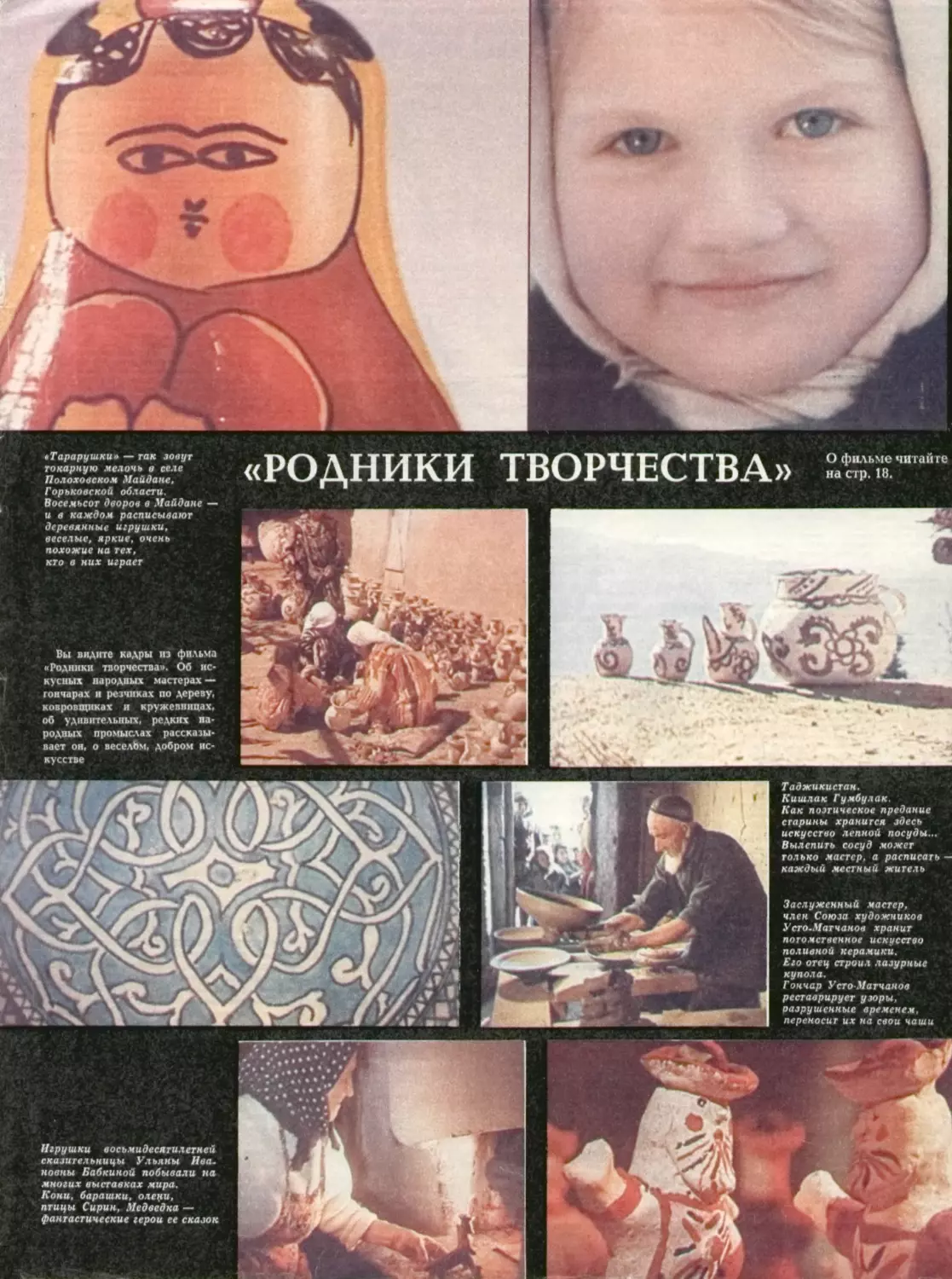Текст
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА». МОСКВА 1974
советский
экран
№ 10 май 1974
КРИТИКО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИИ
иллюстрированный журнал
ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОМИТЕТА
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО КИНЕМАТОГРАФИИ
И СОЮЗА
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ СССР
ОСНОВАН В 1925 ГОДУ
ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В МЕСЯЦ
© «Советский экран» 1974 г.
Узбекские халаты, индийские сари, марокканские
кафтаны, африканские бубу — трудно представить себе зрелище
более красочное, чем Дворец искусств Ташкента
в дни международного кинофестиваля стран Азии и Африки.
В мае здесь встретятся кинематографисты двух великих континентов,
чтобы лучше узнать друг друга, поделиться творческим опытом,
познакомиться с советской многонациональной культурой.
«За мир, социальный прогресс и свободу народов!» —
таков девиз ташкентского кинофорума,
которому посвящены многие материалы номера.
Главный редактор
Д. С. ПИСАРЕВСКИЙ
Редакционная коллегия:
Ф. Ф. БЕЛОВ,
Н. В. БОГОСЛОВСКИЙ,
Я. Л. ВАРШАВСКИЙ
(зам. гл. редактора),
В. Н. ГОЛОВНЯ, Г. Д. КРЕМЛЕВ,
А. С. ЛЕВАДА, А. А. ЕГОРОВ
(отв. секретарь),
Г. JL РОШАЛЬ, В. П. ТРОШКИН,
М. А. УЛЬЯНОВ, А. Г. ФИЛИППОВ,
Ю. М. ХАНЮТИН, И. Е. ХЕЙФИЦ,
Т. М. ХЛОПЛЯНКИНА,
Б. П. ЧИРКОВ, Г. Н. ЧУХРАЙ.
Главный художник К. А. Сошинснал.
Оформление О. А. Виноградова.
Художественный редактор
Т. И. Трофимова.
Навечно останется
в памяти народа
героическая битва
за Кавказ.
Ей посвящается
документальный фильм
режиссера
Джеммы Фирсовой,
о работе над которым
рассказывает наш
корреспондент
(6—7 стр.)
В НОМЕРЕ:
Кинематограф исследует
современность.
В центре фильмов
«Старые стены»
и «Каждый день
доктора Калинниковой»
образы современных
женщин —
директора фабрики
и врача.
Что несет с собой
«феминизация»
производственного
сюжета? — такой вопрос
поднимает в своей статье
критик Т. Хлоплянкина.
Вверху —
Л. Гурченко в фильме
•Старые стены».
(4—5 стр.)
Камиль Ярматов
и Латиф Файзиев,
Шухрат Аббасов и
Эльяр Ишмухамедов,
Али Хамраев и Одельша
Агишев — немало
интересных художников
плодотворно
работает сейчас
в узбекском кино.
Сегодня мы расскажем
о творчестве
Равиля Батырова,
чей путь в искусстве
представляется
нам характерным.
Вверху — кадр из фильмч
Р. Батырова
•Мой добрый человек»
(16—17 стр.)
На первой странице
обложки —
узбекская актриса
Дилором КАМБАРОВА
(читайте о ней на стр. 20)
Фото Д. Акрамова
ПИШИТЕ НАМ ПО АДРЕСУ:
125319, Москва. А-319.
ул. Часовая. 5Б.
Телефон редакции 152-88-21.
Фото, адреса актеров, ноты и тексты
лесен редакция не высылает.
№ 10 (418) — 1974 г.
Сдано в набор 1/IV — 1974 г.
А 04793.
Подписано к печати 17/1V — 1974 г.
Формат 70 X 108'/,.
Усл. печ. л. 3,5. Уч-изд. л: 8,5.
Тираж 1 950 000 акз. Изд. № 984.
Заказ № 2030.
Ордена Ленина и ордена Октябрьской
Революции типография газеты
«Правда» имени В. И. Ленина
125865, Москва. А-47.
ГСП. ул. «Правды». 24.
Рано АБДУЛЛАЕВА, заместитель Председателя Совета Министров Узбекской ССР, председатель Оргкомитета фестиваля
еред Ташкентским Дворцом искусств, вмещающим более
двух с половиной тысяч зрителей, 20 мая взовьются флаги
десятков государств. Здесь открывается Третий междуна-
родный кинофестиваль стран Азии и Африки.
За последние годы изменилась география киноискусства.
Когда будет писаться история кино шестидесятых и семи-
десятых годов, в ней, несомненно, появятся главы, кото-
рых не было и не могло быть раньше,— главы, посвящен-
ные киноискусству азиатского и африканского континентов.
Народы, стряхнувшие иго колониализма, невиданными тем-
пами развивают свою национальную культуру. Одно из вы-
ражений этого процесса — быстрый рост кинематографий
стран Азии и Африки. Еще десять лет назад мы знали
лишь японское, индийское и египетское кино, а теперь мы
видим на экране фильмы, сделанные в десятках азиатских
и африканских стран, идущих по пути независимого разви-
тия. Этот процесс становления молодого кинематографа
был хорошо виден на примере московских международных
кинофестивалей, показавших несомненные успехи не толь-
ко кинематографий, имеющих давние традиции, но и кине-
матографий героического Вьетнама, социалистической Мон-
голии, Сенегала, Алжира, Пакистана, Нигера. Значительность
этих успехов определяется тем, что стало возможно прове-
дение представительного кинофорума афро-аэиатскмх
стран — Международного фестиваля в Ташкенте.
Еще в древние времена в Ташкенте сходились пути из
России и Индии, со Среднего Востока и африканского ма-
терика. Теперь в Ташкент стали приезжать кинематографи-
сты Азии и Африки, чтобы лучше узнать друг друга, поде-
литься творческим опытом, познакомиться с советской
многонациональной культурой, своими глазами увидеть те
великие перемены, которые произошли на узбекской зем-
ле за прошедшие полвека.
Ташкентский фестиваль стал не только праздником ки-
нематографистов двух континентов, но и одним из звеньев
крепнущих культурных связей между народами. В Первом
Ташкентском международном фестивале 1968 года участ-
вовали кинематографисты из 39 стран Азии и Африки. На
Второй фестиваль 1972 года приехали гости из 61 страны.
На фестивале демонстрировалось сто шесть привезенных
ими фильмов, е том числе 58 художественных. Ташкентские
фестивали показали, какие огромные силы, активно дей-
ствующие и потенциальные, имеет прогрессивное кино
стран Азии и Африки. Как стремительно меняется кине-
матографическая карта этих континентов!
На Ташкентском фестивале нет конкурса и обычного при-
суждения призов. Нет потому, что рядом с фильмами
крупнейших кинематографических держав — Японии, Ин-
дии, АРЕ, где кинематограф существует десятилетия, здесь
показываются произведения стран, только начинающих соз-
давать национальное киноискусство,— Уганды, Сомали, То-
го, Туниса, Нигерии и многих других. Кинематографисты
съезжаются в Ташкент не для конкурсного соревнования,
не для борьбы за первенство. Они знают, что подлинную
славу художнику приносят не титулы и награды, а духов-
ная общность с народом, стремление выразить его надеж-
ды и чаяния, смелое обращение к жгучим вопросам совре-
менности, глубина раздумий о судьбах общества и челове-
ка. Неравноценны уровень мастерства, глубина идейного
содержания, важность тем, серьезность подхода к острей-
шим проблемам времени. Но одинаково высок проявляю-
щийся на фестивале дух равноправия, дух уважения наро-
дов друг к другу, доброжелательства.
Ташкентский киносмотр представителен не только по
числу гостей и фильмов. Собранные на фестивальном эк-
ране, эти фильмы складываются в масштабную и целост-
ную картину современной жизни народов Азии и Африки.
Кинематограф Черной Африки родился на наших гла-
зах. В последние десять — пятнадцать лет большинство на-
родов черного континента обрело свою государственность
и стало на путь самостоятельного развития. Деятели куль-
туры этих стран стремятся создать национальный кинема-
тограф, понимая, какое большое место принадлежит ему
в борьбе за социальный прогресс, против неоколониализ-
ма. Сегодня кинематограф в Черной Африке, где еще де-
вяносто процентов людей неграмотно, играет особую роль.
Он заменяет людям книги и учебники, прививает основные
навыки культуры, способствует духовной деколонизации,
становятся источником культурных традиций и духовного
богатства народов, являясь, по выражению сенегальского
кинорежиссера и писателя Сембена Усмана, «вечерней шко-
лой Черной Африки*. Иным картинам африканских кинема-
тографистов недостает еще художественного совершенства,
но в них чувствуется большая искренность, человечность,
тот национальный и духовный подъем, который пережива-
ют народы этого континента.
Кинематографисты развивающихся стран придают ис-
ключительное значение своему участию в международных
киносмотрах, в том числе и ташкентском, на которых они
могут встретиться с коллегами, посмотреть новые фильмы,
обсудить общие проблемы. Пионер кино Черной Африки
Полей Виэйра, выступивший во время прошлого фестиваля
на творческой дискуссии, заявил: «Нужно поехать в Таш-
кент, Париж, Москву, Лос-Анджелес, чтобы увидеть афри-
канские фильмы. Парадоксально, но фильмы Ганы и Сома-
ли я впервые увидел на Первом Ташкентском фестивале.
Там же я познакомился с их режиссерами. Мы не видим
даже фильмов наших соседей. Отличный фильм «Солн-
це О», снятый моим коллегой из Мавритании Медом Хон-
до, я смог увидеть лишь на Втором Ташкентском фестива-
ле. Мавритания находится рядом с Сенегалом, но у себя
мы не видели этой картины».
На Ташкентском фестивале широко представлено и кино-
искусство стран Арабского Востока. Достаточно вспомнить
показанные в Ташкенте алжирскую ленту «Дорога», герои
которой — революционеры, заключенные колонизаторами
в концлагерь, «Опиум и дубинку» — историческую хрони-
ку из эпохи национально-освободительной войны, «Фелла-
ги» («Партизаны»), фильм, поставленный тунисским режис-
сером Омаром Клифи. Активно участвует в ташкентском
киносмотре старейшая кинематографическая страна Афри-
ки Египет.
В показанных на фестивале индийских, так же как и в
арабских, фильмах начинают находить отражение реалисти-
ческие традиции и подлинные жизненные проблемы. Тра-
диционный жанр романтической драмы с искусственным
нагнетанием событий, с неизбежностью рока, перед кото-
рым бессилен человек, уступает место показу новых со-
циальных отношений, пересмотру традиционных семейных
и общественных устоев. Такова, например, остросоциаль-
ная лента «Собеседование», снятая индийским режиссером
Мриналом Сеном.
Знаменательным был успех в Ташкенте кинематографий
Бангладеш, Ирана, Турции, Шри Ланка. Интерес к жизни
простого человека, к его повседневным делам, радостям
и печалям, сочувствие униженным, высокая моральная чи-
стота и душевное благородство героев — эти качества луч-
ших азиатских фильмов обеспечили им симпатии и любовь
советских зрителей.
Против милитаризма и капитализма выступают герои
многих японских фильмов, широко представленных в Таш-
кенте. Здесь показывались в присутствии их авторов анти-
военные ленты М. Кобаяси «Гимн уставшему человеку» и
К. Фукосаку «Под знаменем восходящего солнца», поли-
тический фильм С. Ямамото «Завод рабов», а также кар-
тины К. Синдо, К. Курихара, Т. Имей.
Экран Ташкентского фестиваля отразил освободительную
борьбу народов тех стран, которые еще находятся в ярме
колониализма. Деятели киноискусства не стоят в стороне
от этой борьбы. В Ташкенте показываются фильмы, снятые
мужественными людьми в джунглях Вьетнама, в дебрях
португальской Анголы, в заболоченных лесах Южной Аф-
рики. Эти фильмы — грозное оружие и гневное обвинение
позору XX века — колониализму и империализму. Эти про-
изведения отражают тот факт, что истинный художник не
может быть спокоен, зная, что на земле льется кровь, в ог-
не гибнут люди, гибнут женщины и дети. И если попытаться
подвести итог, то можно сказать, что главным героем, глав-
ным действующим лицом Ташкентского фестиваля стал ки-
нематограф борющийся, утверждающий, воспитывающий и
просвещающий массы, кинематограф, наиболее полно вы-
ражающий девиз ташкентского киносмотра: «За мир, со-
циальный прогресс и свободу народов!»
Картины Вьетнама, просто и правдиво показывающие
героическую борьбу ее свободолюбивого народа против
империализма и его наемников, находились в центре вни-
мания первых двух ташкентских киносмотров. На нынеш-
нем фестивале мы надеемся увидеть и картины, расска-
зывающие об успехах вьетнамского народа в строительстве
мирной, счастливой жизни.
Зрители Дворца искусств в Ташкенте познакомились с
привлекательными образами людей труда, созданными ки-
нематографистами Монголии и Корейской Народно-Демо-
кратической Республики, рассказывающими в своих произ-
ведениях о становлении новых, социалистических отноше-
ний между людьми. Эти фильмы — свидетельства твор-
ческой энергии народов, познавших свои возможности
в условиях строительства социалистического общества.
На Ташкентском фестивале идут серьезные и откровен-
ные разговоры и дискуссии. Самое интересное в этих спо-
рах то, что специфические профессиональные вопросы не
отделяются в них от идеи, которой служит кино и которую
оно защищает, от того, какой социальный заряд несет про-
изведение киноискусства. Экран Ташкентского фестиваля
развертывает перед зрителем великую панораму перемен,
происходящих в Азии и Африке. Тот, кто просмотрит филь-
мы фестиваля, ощутит движение истории.
В фильмах наших гостей мы видим быт, думы, чаяния,
жизнь народов Азии и Африки, их стремления и идеалы,
их сегодняшнюю борьбу за счастливую жизнь. 8 свою оче-
редь, зарубежные коллеги, познакомившись с творчеством
советских кинематографистов, видят бывших кочевников,
которые водят комбайны, добывают уголь, строят электро-
станции и города, поднимаются в заоблачные выси на но-
вейших самолетах, ведут сложнейшие научные работы. Ви-
дят и на экране и в жизни. Обширная программа советских
фильмов на фестивале продемонстрирует торжество ле-
нинской национальной политики, огромные успехи, достиг-
нутые союзными республиками во всех областях жизни,
живительную силу братской дружбы народов Страны Со-
ветов. И хозяева и гости найдут для себя на экране много
интересного, ценного и полезного. Во взаимном обмене
с другими народами обогатится и советская многонацио-
нальная культура. И в этом тоже будет заключаться один
из существенных итогов ташкентского киносмотра.
На фестиваль этого года съедутся делегации народов,
составляющих больше половины населения земли. Столица
Советского Узбекистана гостеприимно встретит друзей-ки-
нематографистов. Личное общение людей необходимо,
стремление к нему заложено в самой природе человека
и в основах любой профессии. Ни письма, ни радио, ни да-
же экран не заменят выражение глаз собеседника. Радуш-
ная встреча гостей — старинная узбекская традиция. Мы
рады дорогим, желанным гостям.
• ЛЮТЫЙ
По мотивам рассказа
М. Аувэова «Серый лютый»
«КАЗАХФИЛЬМ»
Сценарий А. Михалиоеа-Кончаяоеского.
Э. Тропинина
Постановка Т. Онеева
Гл. оператор К. Иыдыралиев
Гл. художник В. Леднев
Композитор Д. БотАаев
Стилистически »тот фильм сдержан,
строг, почти аскетичен. Его пейза-
жи, за исключением двух-трех уди-
вительно красивых кадров, акценти-
руют не столько красоту гор, сколь-
ко их суровое величие, не столько
«раздолье» степи, сколько ее опасное, иссушаю-
щее безлюдье. Это фон дли жестокого действии.
Но и жестокость развернувшейся здесь борьбы
дана скупо. Ужас крови, драки, убийства все аре-
ми убраны за кадр,- авторы нигде не- поддаютси
соблазну легкого воздействии на нервы современ-
ного зрители, и эта сдержанность, как мы убе-
ди мс а, не случайна, она соответствует опреде-
ленной системе художественных средств и эмо-
ций.
Мы не видим, как Ахангул (С. Чокморов), ра-
зыскавший волчье логово, добивает палкой сле-
пых волчат. Мы только слышим обрывающийся
писк и удары. И мальчик Курмаш (Камбар Вали-
ев), которому стало жалко волчонка, сыгран вовсе
не в манере сентиментального психологизма, ко-
торая, конечно, растрогала бы наши сердца: ши-
рокоскулое лицо застыло, слезы сдавлены, и ко-
гда Ахаигул дает племяннику палку: «Бей!» — тот
не пускается в объяснения, кроме упрямого «Не
буду!», он не говорит других слов.
Души сталкиваются, как камни, жестко — чья
крепче? Режиссерские эффекты психологиче-
ского или технологического плана только осла-
били бы жуткую простоту рассказанной нам исто-
рии.
Толомуш Океев твердо держит режиссерский
стиль, он не занимается «уловлением зрителя»,
он знает, чего хочет; сила его не в эффектах «ви-
дения» и не я красоте «переживания», а во внут-
ренне жестком чувстве цели, во имя которой
предпринят рассказ. Мальчик вскармливает спа-
сенного волчонка, и когда тот, стае уже огромным
зверем, бросается на своего кормильца, чтобы
растерзать его,— этот страшный финал дан опять-
таки и без литературного морализирования («Вот
неблагодарность диких!» Или, скажем, так: «Все
равно надо любить животных!») и без режиссер-
ского нажима,- два-три стоп-кадра — шерсть круп-
ным планом — оскал пасти — лежащий мальчик —
кровь впитывается в снег» Все! Это жестокая
правда, и не надо ни педалировать, ни раскраши-
вать ее.
В старом рассказе Ауээова, по мотивам кото-
рого Океев снял (и отлично снял) свой фильм,
стиль был несколько иной. Там было больше жи-
вописной детализации, крови, хруста костей и
больше жестокой решимости по отношению к ве-
роломному хищнику. Зло было неисправимо.
Трижды проклятый! Где же твоя совесть? Кро-
вопиец!» — слабой ногой пинала бабушка Курма-
ша мертвого волка...
Но при всей определенности этого вывода Мух-
тар Ауээов, конечно же, немного и любовался
красивым зверем; отсюда цена подробностей: од-
нозначная и ясная идея возмездия как бы урав-
новешивалась а рассказе любовно выписанной,-
язычески сочной красотой дикой свободы.
В фильме нет любования силой или свободой
дикости. Но нет и однозначно ясного вывода. Со-
временные художники неспроста убрали за кадр
живописность природной борьбы. Они не живо-
писцы, а аналитики. Они выясняют не столько, как
было дело, сколько, почему было. Они сосредо-
точены на смысле происходящего. И смысл этот
отнюдь не так ясен, как в рассказе классика.
«Кровопиец»? Да. Но это потом, когда вырос.
А пока маленький? Пока беспомощный? Да, страш-
но, когда волки разрывают овцу. А видели ли вы,
как пуля попадает а бегущего волка, и, перево-
рачиваясь в воздухе, он пытается достать зубами
ужаленное место? А когда, отчаявшись убежать,
садится на снег и ждет последнего удара? А как
волчонок пытается убежать от беркута — помни-
те? А как раут приведенного в дом волчонка
собаки? А как смотрит отбежавшая волчица на
человека, добивающего ее слепых волчат?
Авторы фильма ведут твердую аналитическую
линию. Не в том дело, что дикий зверь, которого
пытались приручить, оказался «неблагодарным».
И но в том, что человек плохо приручал его. Де-
ло в том, что раз мир жесток и полон борьбы, то
полуслепому волчонку ничего не остается, как
стать волком. Авторы фильма не любуются его
2
БЕЗЛЮДНОЙ
СТЕПИ
Л. АННИНСКИМ
дикой красотой. Они решают моральный вопрос:
преодолим ли этот закон жестокости?
Для Ауэзова «непоправимость зла» была ак-
сиомой. Для Окееяа она — вопрос. И именно
здесь авторы фильма делают самый решитель-
ный шаг в сторону от ауэзовского рассказа. У
классика дикий зверь противостоял миру людей,
а мир людей, едва намеченный где-то на втором
плане, был символическим отрицанием природной
дикости.
Что сделали авторы фильма?
Вытащили мир людей на первый план. Включи-
ли человеческие судьбы во внутренний сюжет ве-
щи. И главное: они сделали людей морально от-
ветственными за все, что происходит в картине.
Почему, несмотря на любовь мальчике, спасен-
ный им волчонок вырастает в дикого зверя?
Потому что этого хочет дядя Курмаша Ахангул
(С. Чокморов и Камбар Валиев прекрасно ведут
свои роли). Ахангул дразнит, травит, бьет звере-
ныша, словно мстя ему за то, что тот пробудил
в Курмаше сострадание.
Лютая злоба Коксерека («Коксерек» по-ка-
захски — серый лютый) есть как бы продолжение
злобы А хан гул а. Ахангул и племянника воспиты-
вает в том же духе: «Мне стыдно за тебя!- Утри
слезы!.. Всегда бей первым!»
Идем по этим ступенькам дальше. Что, Ахангул
хочет вырастить бандита, насильника, убийцу?
Нет! Ему и слоаа-то эти в голову не приходят. Он
хочет совсем другого: чтобы Курмаш вырос муж-
чиной, джигитом, воином. Степь слабых не лю-
бит...
И дальше идем, дальше. Может ли Ахангул ис-
поведовать другое? Выживет ли он сем а этой пу-
стынной степи, если не будет сильным и безжа-
лостным?
Теперь вдумаемся в надпись, которой авторы
предварили свою картину:
«События, о которых повествует наш фильм,
произошли в казахской степи накануне Великого
Октября».
Каюсь, прочитав это мудрое уточнение, я усмех-
нулся. Но после, вдумываясь а картину, я понял
смысл этой социально-исторической скрупулезно-
сти.
Толомуш Окееа не собирался, конечно, де-
лать из притчи о волке конкретно-исторический
фильм о дореволюционных нравах казахов. Но,
идя к «истоку» жестокости, он правильно уточнил
модель: перед нами человек, социальными усло-
виями поставленный в положение волка. «Борьба
всех против всех» — это ведь не про диких зве-
рей сказано, а прежде всего про человеческое
общество. На определенной социальной стадии
его развития, конечно.
Ахангулу деваться некуда: он бедня*. Он не
может прокормить мать и племянника. И он с
отчаяния становится «волком»: крадет у байского
сына пятьдесят овец. И когда байский сын нахо-
дит краденое, у Ахаигула нет угрызений совести:
как ты с нами, так и мы с тобой.
В сцене, где бедняк схватывается с богачом,
внимательный зритель легко угадает руку сцена-
риста А. Михалкова-Кончаловского—когда-то ана-
логичный эпизод был в его ленте «Первый учи-
тель»: личное, физическое единоборство бедняка
и богача. И там, в «Первом учителе», и здесь, в
«Лютом», этот эпизод построен на опровержении
стереотипа, согласно которому жилистый прямо-
душный бедняк должен бы «грянуть оземь» тол-
стого и хитрого богача и тем восстановить спра-
ведливость. Нет, все не так. Борьба идет долгая
и изнурительная. И сын бая, одолевший бедняка,
выказывает вовсе не жадность и коварство, ио
своеобразное благородство:
— Не троньте его! Оставьте ему этих овец! Он
свое получил!
А бедняк, нарочно поддавшийся в этом поедин-
ке, чтобы не добили, удовлетворен своей хитро-
стью («И овцы моими остались»), но знает, что
справедливостью» тут все равно не пахнет.
Традиционные маски сбиты, сдвинуты, сближе-
ны. Цель? Все та же. Среди людей идет борьба.
Не традиционная «драматургия масок», а именно
• МАЛЬЧИК С ОСЛИКОМ
«ТУРКМЕНФИЛЬМ»
Сценарий X. Какабаева,
Б. Худайназарова, А. Чернова
Постановна X. Какабаева
Гл. оператор X. Трандофилов
Гл. художник А. Ожаров
Композитор Р. Реджепов
борьба: обнаженная, жестокая, первозданная. В
этой борьбе нет заведомо обреченных и заведо-
мо выигрывающих: выиграть может и бедный, ес-
ли будет хитер и смел. А раз каждый прав по-
своему, тогда: «Бей первым, мальчик!»
Что могут противопоставить этой волчьей борь-
бе авторы фильма? Они вводят Хасена. Именно
вводят, потому что Хасен ауэзовского рассказа —
всего лишь функциональная фигура: охотник, одо-
левший Лютого. В фильме Хасен — фигура совер-
шенно иная. Это беглый ссыльнопоселенец, бун-
тарь, провозвестник новых социальных идей. Он
пытается решить мучающую авторов фильма про-
блему. Он пытается вселить добро в душу ма-
ленького Курмаша, революционное сознание в
умы бедняков. Всею душой авторы на стороне
Хасена. Но со всею трезвостью видят его бесси-
лие переменить ход событий. Хасена ненавидит
бай, потому что тот бунтует народ, но ненавидит
и Ахангул, потому что Хасен против кражи овец.
Хасен учит Курмаша любви, а волк, с любовью
выкормленный мальчиком, бросается на своего
спасителя. Хасен хочет вылечить искусанного ре-
бенка, но являются жандармы и забирают его на
каторгу...
Жесток и горестен финал фильма. Ахангул кри-
чит, держа искалеченного мальчика на руках:
— Эй, вы люди или звери? За что такого чело-
века забираете?! Ребенка пожалейте, его вчера
волки искусали! Только Хасен может его выле-
чить! Хасен, не оставляй нас! — И плачет, а Хасен,
окруженный конвоем, безмолвно исчезает в ме-
тели.
Потрясенный таким финалом, я шел и думал
обо всей ситуации: каюсь, я искал иных выходов.
Я думал: может быть, это образ Хасена не удал-
ся? И он не умел противостоять Ахангулу? И пес-
симизм перевешивает в эмоциональном балансе
картины? А если бы Хасен был посильнее? Или
так: если бы волк бросился не на доброго Курма-
ша, а на злого Ахангула? Конечно, мне, зрителю,
было бы легче. Да, лет десять назад, наверное,
так и сделали бы финал... Лет десять назад такой
фильм показался бы чересчур жестоким. Или,
может быть, слишком «трезвым» во взгляде на
человека. А теперь? Теперь нет... По странному
стечению обстоятельств в памяти моей стояла
только что прочитанная статья блестящего грузин-
ского критика Гурама Асатиани:
«Шестидесятые годы отмечены были тем свой-
ством, которое... я назвал бы гуманистическим
мягкосердечием. Именно эту заповедь начертали
на своих знаменах многие представители тогдаш-
ней молодой грузинской прозы: терпимость к че-
ловеческим слабостям, доброта, отзывчивость,
сочувствие человеку вообще... У литературы слов-
но согрелся голос. Автор приласкал героев. С
ласковой улыбкой вглядывался он в жизнь и про-
никался бодрящей уверенностью, что добро
реально.
В семидесятые годы возникает совсем иной
тон... Дух «антисентиментализма», проявившийся
за последние годы, является ответом на сенти-
ментальность, характерную для шестидесятых го-
дов...»
Надеюсь, аналогия понятна. Процессы, происхо-
дящие в разных концах нашего многонациональ-
ного искусства, едины. И когда молодой киргиз-
ский режиссер Толомуш Океев ставит фильм на
казахском материале и на казахской студии, он
отвечает на всеобщие вопросы.
Жесткая трезвость его ответов и есть самое
интересное в этом фильме.
Что ж, опыт есть опыт. И я, всею душой при-
вязанный к «гуманистическому мягкосердечию»
шестидесятых годов, меня сформировавших, от-
вечаю согласием молодому художнику семиде-
сятых годов. Если путь к высокому гуманизму ле-
жит через заснеженную степь жестокой трезво-
сти, пойдем!
Ахангул
(С. Чокморов, в центре)
СВЯТАЯ
ЛОЖЬ
ХОММАТА
Р. ЯЛОВЕЦКАЯ
IW
Хоммат
(Ахмет Кулиев)
альчик с осликом». Невольно ждешь
сказочной истории. Забавной, непри-
тязательной, светлой. Предвкушаешь
аромат восточного фольклора, не-
обузданность красок, цветистость ре-
чи. Предполагаешь привычный кине-
матографический антураж — пески
пустыни, оазисы и усталые путники.
А на экране — жизнь без экзотики,
тревожная, насыщенная драматиче-
скими событиями. Авторы фильма эк-
ранизировали новеллу «Хромой поч-
тальон» из книги «Люди песков» из-
вестного туркменского писателя
Б. Худайназарова, действие которой
происходит в годы войны в малень-
ком горном ауле, отдаленном от
фронта тысячами километров.
Война взвалила непосильное бремя
на плечи детства. Маленький Хоммат,
почтальон, стал для людей недобрым
вестником. А совсем недавно эта про-
фессия казалась мальчишке самой
привлекательной.
Именно потому он с такой готовно-
стью согласился заменить ушедшего
на фронт колхозного почтальона. Как
спешил он, размахивая первым дбве-
ренным ему письмом, порадовать те-
тушку Ай-Салтан и как обмер, услы-
шав вслед из кибитки душераздира-
ющий крик...
Как отодвинуть беду?
Мальчик находит наивный способ.
Все письма — как угадаешь, добрые
в них вести или злые?— Хоммат пря-
чет в дупле старой чинары: дерево
нельзя ранить известием, убить го-
рем. У него нет сердца, глаз, слез. И
получают жители аула одни лишь га-
зеты, пока кто-то из стариков не за-
подозрит неладное и не бросит в ли-
цо маленькому почтальону жестокое:
«Ты лжец!»
Дети и война... Обратившись к этой
теме, туркменские кинематографисты
(сценарий написан X. Какабаевым,
Б. Худайназаровым, А. Черновым, ре-
жиссер — выпускник Высших режис-
серских курсов X. Какабаев) нашли
свое решение. Они не только сумели
воссоздать атмосферу нелегкого во-
енного детства, его горький запах и
вкус, но заставили сегодняшнего зри-
теля размышлять над извечными
проблемами человеческой жизни.
Сюжетный стержень картины —
случай, происшествие. Но маленький
трехчастевый фильм обладает боль-
шим нравственным потенциалом. Се-
годня по-прежнему в школьных дис-
путах возникает вопрос: что лучше —
жестокая правда или утешительная
ложь?
Война поставила эту проблему пе-
ред десятилетним человеком. Для
мальчишки-почтальона правда фрон-
товых писем страшна. Правда — это
война, ранения, смерть, горе матери.
Ложь, умолчание внушают надежду,
веру.
Мальчику казалось, что он не
лгал, он только утаивал, отдалял миг
несчастья. Это была своего рода
святая ложь. Его маленькое, неза-
каленное сердце не выдерживало не-
посильной, тяжелой ноши взрослых.
И долго, мучительно преодолевал в
себе это чувство мальчишка, пока ре-
шил сказать односельчанам правду и
вытащить из дупла старой чинары
узелок с солдатскими треугольни-
ками.
Наверно, в этом взрослении, возму-
жании помогли ребенку слова челове-
ка с костылем, возвратившегося с
войны (его играет режиссер X. Нар-
лиев):
«Война — страшная штука. Много в
ней горя. И горя этого не спрячешь.
Его надо пережить, перетерпеть».
Фильм лишен прямых назиданий и
свободен от умилительных интонаций.
Его хочется сравнить с улыбкой чело-
века, испытавшего в детстве потрясе-
ние души и превозмогшего беду.
3
семидесятые,
время
и герои
появ
жвицщ
ДВА ФИЛЬМА. О КОТОРЫХ ПОЙДЕТ РЕЧЬ
НИЖЕ. БЕЗУСЛОВНО. ПРИВЛЕКУТ ВНИМА-
НИЕ ЗРИТЕЛИ УЖЕ ХОТЯ БЫ ПОТОМУ. ЧТО
В НИХ СОВЕРШЕННО ПО-НОВОМУ РАСКРЫ-
ЛОСЬ ЗРЕЛОЕ ДАРОВАНИЕ ДВУХ НАШИХ
ПРЕКРАСНЫХ АКТРИС. КОТОРЫЕ В ДАН-
НОМ СЛУЧАЕ ВЫСТУПАЮТ В НЕСКОЛЬКО
НЕОЖИДАННОМ ДЛЯ СЕБЯ АМПЛУА. СОБ-
СТВЕННО. ВЕСЬ РАЗГОВОР О ФИЛЬМАХ
МОЖНО БЫЛО БЫ. НАВЕРНОЕ. ЦЕЛИКОМ
ПОСТРОИТЬ НА АКТЕРСКИХ РАБОТАХ ЛЮД-
МИЛЫ ГУРЧЕНКО И ИИ САВВИНОЙ. ОДНА-
КО. БЫТЬ МОЖЕТ. ИМЕННО ПОТОМУ. ЧТО
ГЕРОИНИ ИХ. СОВРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ.
ВЫСТУПАЮТ ВО ВСЕМ МНОГООБРАЗИИ ИХ
СВЯЗЕЙ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ. ХОЧЕТСЯ
ПОРАЗМЫШЛЯТЬ И О КРУГЕ ВОПРОСОВ.
ПОДНЯТЫХ ФИЛЬМАМИ. И О МЕСТЕ. ЗАНИ-
МАЕМОМ ИМИ В ИССЛЕДОВАНИИ СОВРЕ-
МЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.
П споры все не утихают...
Новые и старые методы хозяйствования,
планы, нормы, борьба с авралами...
Сейчас уже, наверное, никому не надо
доказывать, что один сплошной, непре-
кращающийся производственный спор на зкране
может быть интереснее любой изобретательно
выстроенной интриги.
Амплуа пожилого директора и молодого инже-
нера — борца за научно-технический прогресс,
мастера, привыкшего к стихии ежемесячных ав-
ралов, и передового рабочего ныне стали, кажет-
ся, столь же привычными, как ранее амплуа ре-
зонера, комика и героя-любовника. Однако в
привычном хоре производственных споров, зву-
чащих с экрана, слышится какая-то новая нота.
Все чаще главным героем здесь выступает жен-
щина. Причем она не просто заменяет традицион-
ного героя производственной ленты на его посту
директора, руководителя, организатора, но неза-
метно перестраивает и сам сюжет. Вот, кстати,
и подходящий эпиграф к нашему разговору:
• ...Да это сейчас такой процесс во
всем мире происходит — феминизации.
Раньше была эмансипация, теперь — фе-
минизация...»
(Из фильма «Старые стены».)
Итак — феминизация производственного сюже-
та. Чем же она вызвана и что с собой несет?
В картине «Старые стены», поставленной на
«Ленфильме» режиссером В. Трегубовичем по
сценарию А. Гребнева, можно найти диалоги и
ситуации, словно бы перекочевавшие сюда из
других лент.
Есть там молодой инженер, горячий сторон-
ник НОТ, АСУ и НТР. Есть пожилой мастер, не по-
нимающий, что вместо того, чтобы устраивать ав-
ралы, нужно навести элементарный порядок в
цехе.
Есть сцена планерки, на которой главный ин-
женер под возмущенный шумок фабричных ста-
рожилов высказывает еретическую мысль, что
«ничего страшного не случится, если мы в этом
месяце даже не выполним план...». Есть, наконец,
и сцена, когда обиженный резкостью молодого
инженера старый мастер подаст заявление об ухо-
де — по странной случайности его играет тот же
самый актер Ф. Одинокое, который точно тако-
го же мастера, подающего, а потом забирающе-
го заявление об уходе, играл и в фильме «Здесь
наш дом». Да, все вроде бы так — и все по-дру-
гому. Актор Б. Гусаков в роли молодого инжене-
ра с усталой привычностью произносит горячие
«чешковские» монологи о научной организации
труда. Споры, бывало, доводившие героев до сер-
дечных приступов, звучат здесь приглушенно. Ав-
торы словно бы бегло просматривают вместе с
нами знакомые конспекты производственных кон-
фликтов, чтобы затем, оторвавшись от них, заго-
ворить о другом. О чем же?
Уточним самую главную особенность фильма.
Директор фабрики — женщина. И хотя актриса
Людмила Гурченко играет человека твердого,
властного, по-мужски уверенного в себе, все рав-
но всегда и во всем героиня ее остается женщи-
ной. Она женщина, и потому во время долгого
спора с главным инженером лицо ее обиженно
каменеет не тогда, когда строптивый Виктор Пет-
рович ругательски ругает план, составленный без
учета реальных цифр, а тогда, когда он между
прочим замечает: «Вы старше меня» (следует не-
медленный отпор: «Никогда не нужно женщине
говорить о возрасте»). Она женщина и невольно
для себя все время подчеркивает это («Позволь-
те мне не только как директору и депутату, но
и как женщине, как матери поздравить вас...»). И,
разделяя женские ее тревоги, мы в какой-то мо-
мент больше всего начинаем переживать уже не
из-за высокой обрывности нитей, а из-за того, что
Анна Георгиевна никак не решается выйти за ге-
роя А. Джигарханяна, так хорошо несущего в
фильме привычную для этого актера тему немно-
го романтического мужского одиночества.
Однако главный парадокс картины заключается
в том, что ее любовная, семейная линия, где, ка-
залось бы, героине и карты в руки, как раз весь-
ма тривиальна, и, сочувствуя влюбленным просто
по зрительской привычке, мы в то же самое вре-
,мя держим эту историю на периферии нашего
внимания. По-настоящему же интересной герои-
ня становится нам тогда, когда из Ани, милой ку-
рортницы, она превращается в Анну Георгиевну,
и, прямая, тонкая, решительная, вступает в свои
владения, в кабинет директора фабрики, и начи-
нает по-своему обживать уже привычную нам схе-
му производственного сюжета.
Вот мелочь — Анна Георгиевна пожалела старо-
го мастера, подавшего заявление об уходе. Меш-
кову, как вы помните, было попросту не до того,
чтобы вникать в настроения людей, с которыми
он воюет в интересах дела. Но Мешкову еще
предстоит понять простую истину, которую Анна
Георгиевна уже знает: интересы дела невозмож-
но абстрагировать от людей, конкретных судеб,
от Александра Ивановича, у. которого приступ
стенокардии из-за того, что его (совершенно
справедливо) лишили премии, от старой прядиль-
щицы тети Дуси, которая опять отработала лиш-
нюю смену, потому что ее об этом попросили, и
молодой прядильщицы Али, которая отказалась
лишнюю смену отработать, потому что ее жених
на танцплощадке ждал. Кажется, какое все это
имеет отношение к производственным пробле-
мам? Самое прямое. Александр Иванович обидел-
ся, подал заявление, но он-то без работы не ос-
танется, а вот Анне Георгиевне труднее придется.
«Будешь потом локти кусать, когда у тебя весь
народ разбежится. Объявления вон висят, на каж-
дом шагу!» — это Александр Иванович говорит. И
он прав. А с другбй стороны, останься все на фа-
брике по-прежнему, как Александру Ивановичу
привычнее,— и молодую прядильщицу Алю сюда
уже не заманишь, ей хочется по субботам отды-
хать, в кино, на танцы ходить, а не расплачивать-
ся своим свободным временем за чью-то нерас-
порядительность. «Лет через десять, если все на-
ше производство останется на таком же уровне,
вообще некому будет работать. Кого вы сюда за-
маните?» — это инженер Виктор Петрович гово-
рит. И он тоже прав. Удивительное дело! Двое
спорят, а бьют друг друга одним и тем же аргу-
ментом — людьми. Вернее, бьют этим аргумен-
том Айну Георгиевну. Она директор, ей и решать,
кто прав.
едаано в «Известиях» была статья, где
описана точно такая же ситуация. Сме-
нили в одном колхозе председателя.
Прежний — женщина, в прошлом удар-
ница, знатный свекловод, привыкла к
старым, уже отжившим свое методам хозяйство-
вания, больше упирала на ручной труд, на энту-
зиазм, на извечное «подналяжем, дружно возь-
мемся»— и колхоз ходил в середняках, люди уез-
жали туда, где нет изнурительного ручного тру-
да. Новый председатель, человек молодой, про-
грессивный, образованный, стал вводить в селе ав-
томатизацию, во многом преуспел, но отношение
к нему со стороны колхозников настороженное,
не принимают они его пока как своего. Почему?
Ответ на первый взгляд кажется слишком про-
стым. Новый председатель с людьми не привык
разговаривать, не объясняет им целей и смысла
своих усилий. Анна Георгиевна находится как бы
посредине между этими двумя типами руководи-
теля. Она понимает необходимость перестройки,
предложенной главным инженером, но что-то в
ней самой все время консервативно сопротивля-
ется его сухому, расчетливому, деловому стилю.
Впрочем, консерватизм ли это? Или предчувствие
тех проблем, которые встанут завтра перед глав-
ным инженером, как они встали перед молодым
председателем, о котором мы упомянули выше?
Во всяком случае, для нас самое интересное
в фильме — многочисленные встречи героини с
людьми, дающие нам целый срез жизни совре-
менного рабочего коллектива. И эта ее потреб-
ность в общении так тесно связана с спецификой
старой фабрики, «старых стен». А старые стены—
это ведь не только устаревшие традиции, кото-
рые нужно непременно сломать, это еще и осо-
бый, десятилетиями складывавшийся стиль отно-
шений, это простое «ты» в разговорах директор-
ши с работницами, для которых она просто «Ню-
ра», а они для нее — Дуся, Вера, тетя Наташа, это
старая песня про колечко, заблудившаяся где-то
в пустой электричке на полпути от Москвы до пя-
тидесятого километра...
Мы привыкли к тому, что стиль производствен-
ного фильма обычно несколько стерилен — каби-
неты, телефоны, споры, которым ничто не долж-
но мешать. Здесь в споры врывается дыхание
жизни текстильного городка, и это возвращение
к подробностям конкретного бьггия небесполезно
для производственного сюжета, перед которым
уже где-то маячит угроза законсервироваться.
«Старые стены» предлагают нам один из возмож-
ных вариантов обновления.
4
И ругой вариант мы находим а картине
«Каждый день доктора Калинниковой»,
поставленной на «Мосфильме» режис-
сером В. Титовым по сценарию А. Лап-
шина.
В этом фильме есть такая сцена. В клинику к
хирургу Нине Степановне Калинниковой приходит
на прием мать с больной дочерью. У девушки
одна нога от рождения на шесть сантиметров ко-
роче другой. Но в вестибюле дожидаются своей
очереди на койку пациенты с более тяжелыми
пороками, а больница мала, она не может при-
нять всех желающих. «Я в этом не виновата»,—
оправдывается Калинникова. «А кто же в этом ви-
новат?» — почти кричит мать. «Поймите, у нас не
больница, у нас проблемная лаборатория,— втол-
ковывает ой Калинникова,— у нас сто восемьдесят
коек, огромная очередь...» «Так почему же вас не
увеличат?» «Нас увеличат со временем... Но мы
все равно не сможем всех положить... Всех мож-
но вылечить, когда по месту жительства появятся
такие специалисты, как у нас». «Почему они не
появляются?»—опять почти кричит женщина. «Поя-
вятся со временем». «Но когда, скажите мне ра-
ди бога, когда?»
В поисках ответа на эти горестные «Почему?»,
«Когда?», «Кто виноват?» мог бы, наверное, и за-
ключаться смысл фильма. Покинув стены тесной
больницы, нет, даже не больницы, а «проблемной
лаборатории на 180 коек», мы бы отправились в
поисках этого ответа по разным инстанциям, в ин-
ституты, министерства, в горисполком. И это
был бы путь обычного производственного филь-
ма, обычного, но далеко не исчерпавшего себя,
ибо горестные вопросы матери разве не требуют
ответа?
Однако у авторов фильма совсем иной путь.
Да, а больнице невероятная теснота, это пере-
дано даже в графике фильма, кадр все время за-
громожден, перегорожен, лучами расходятся от
маленьких комнатушек еще какие-то коридорчи-
ки, галереи. Да, у Калинниковой много противни-
ков.
Вот и сейчас ходит по клинике какая-то жен-
щина с холодными, недоверчивыми глазами —
«проверяющая из министерства», и донимает вра-
чей вопросами. «Ну и пусть! А я буду работать.
Всех не переспоришь!» — вот что читается в спо-
койном, чуть усталом взгляде Калинниковой —
И. Саввиной. Может быть, она уже имела воз-
можность убедиться, что всех и в самом деле не
переспоришь?
И все-таки будь на месте Ии Саввиной любой
другой исполнитель, позиция героини показа-
лась бы труднообъяснимой. В самом деле! Чело-
век изобрел аппарат, который в буквальном смы-
сле слова ставит на ноги безнадежных инвалидов.
Так отстаивай его, требуй, чтоб вместо 180 коек
тебе дали бы 1 800, спорь, борись, возмущайся!
Доктор
◄ Калинникова
(И. Саввина)
•Старые
стены».
Совещание
в цехе.
Анна
Георгиевна
(Л. Гурченко,
в центре)
Собственно, коллеги Нины Степановны именно так
и поступают. Они обрушивают на «проверяющую
из министерства» весь пыл своего благородного
негодоаания. Они припирают к стене и саму Ка-
линникову: для того, чтоб добиться создания ин-
ститута, нужно научно обосновать свой метод, но
когда Калинниковой заниматься монографией,
если за асе операции она берется сама, а вечер-
ние часы отдает консультациям? Ведь это же не-
расчетливая, неразумная трата сил, времени, та-
ланта! Откажись Калинникова сегодня принять
нескольких больных (которых ей пока все равно
некуда положить), и завтра она сможет принять
в пять, в десять раз больше. Логично? Логично.
Но маленькая упрямая женщина выслушивает все
эти доводы и вечером по секрету от коллег и от
домашних все же впускает к себе пациентов. Не
логика, а чувство, не трезвые доводы холодного
ума, а сострадание, извечная женская потребность
помогать, поддерживать, спасать руководят по-
ступками героини. И словно бы для того, чтобы
еще более подчеркнуть это, авторы вводят в
свой фильм уже прямо-таки инфернальную сцену,
когда пациента, впущенного по секрету от разгне-
ванных коллег, Калинникова вылечивает простым
внушением: «Слушай меня внимательно. Тебе теп-
ло от моей ладони... Ты погружаешься в сои.
Встань! Подойди ко мне! Стой! Иди сюда...». И
хромой юноша идет совершенно прямо, его уве-
чье оказалось психической травмой, мгновенно
распознанной героиней.
Надо сказать, что сцена эта производит доволь-
но неприятное впечатление. Вообще попытка во-
плотить в стилистике фильма это не от ума, а
от сердца идущее могущество героини толкает
режиссера порой на странные решения. То вдруг
внезапно врывается в будничное течение сюжета
резкая музыка, заставляющая нас каждый раз
вздрагивать, то черно-белое изображение внезап-
но сменяется цветным, и наоборот, а ты не мо-
жешь понять логику этих превращений. Кроме
юноши, вылеченного гипнозом, есть в фильме
еще один пациент, который тоже не ходит из-за
самовнушения, и его Калинникова тоже уговари-
вает: «Встаньте, идите». Не слишком ли много
психических травм и самовнушений для скромной
маленькой больницы на 180 коек? Режиссерский,
операторский, авторский рационализм виден вся-
кий раз, когда они пытаются облечь в слова, в
музыку, в кадры то, что актрисе Ие Саввиной уда-
ется передать одним взглядом, движением бро-
вей, интонацией. Вот об этом-то создании актри-
сы и хочется говорить в первую очередь.
Ия Саввина играет человека очень усталого, за-
дерганного работой, операциями, консультация-
ми, и в то же самое время абсолютно счастли-
вого.
В тесноту маленькой больницы, сотрясаемой спо-
рами и стонами, она вносит ясность и спокойст-
вне женщины, довольной, что тем, кому она мог-
ла помочь, она помогла, то, что в состоянии де-
лать, сделала. Конечно, 1 800 коек — больше, чем
180. Но 1 800 — цифра пока воображаемая, а 180
больных, которых Нина Степановна лечит утром,
днем, вечером, откладывая работу над моногра-
фией,— люди вполне реальные, они страдают, на-
деются, и Нина Степановна не в состоянии отка-
зать в помощи одному реально существующему
человеку во имя спасения десяти воображаемых.
В фильме есть второй очень важный герой — док-
тор Красин в исполнении А. Калягина. Судьба его
небезынтересна. Красин защитил докторскую дис-
сертацию, получил кафедру в большом институте,
но бросил все это только лишь потому, что од-
нажды поехал в качестве очередного «инспекти-
рующего» к Калинниковой, увидел ее опыты, ув-
лекся ими и остался в крохотной провинциальной
больничке на призрачной в этом маленьком кол-
лективе должности «заместителя по науке», в обя-
занности которого входит, наверное, не столько
наука, сколько выбивание лишних коек, помеще-
ний, улаживание хозяйственных проблем. Опять-
таки нелогично! Имея кафедру в большом инсти-
туте, Красин мог бы с гораздо большим размахом
отстаивать метод Калинниковой. Однако снова не
расчет, не логика, а один лишь чистый душевный
порыв руководит героем.
Вот это — новая интонация в производ-
ственном конфликте. Чешков бы так
никогда не поступил. Чешкову нужен
простор, размах. Он как раз, наоборот,
рвет связи с родным заводом, потому
что понимает, что на более крупном предприятии
способен принести гораздо большую пользу. Но,
быть может, вместе с Мешковым, этим наивысшим
за последние годы проявлением типа «делового
человека», мы подошли к какому-то пределу его
возможностей? Тем более, что сейчас прошла
как бы «вторая волна» интереса к этому герою;
суховатый, рациональный «деловой человек» ко-
чует из фильма в фильм, из пьесы в пьесу, и при
этом незаметно происходит адаптация образа.
Ведь действия Чешкова объясняются отнюдь не
только производственными, а в первую очередь
нравственными мотивами. Если же их отсечь, ос-
танется лишь видимая всем резкость, прямоли-
нейность, рационализм, весь этот «малый джентль-
менский набор» качеств современного делового
человека, рождающий в нас смутную тоску по че-
ловечности, душевности.
Не потому ли проблемный фильм вдруг ощутил
потребность прикоснуться к роднику чистого эн-
тузиазма, поверить алгебру «дела» внутренней,
духовной гармонией, почерпнуть в этих вечных,
неиссякаемых источниках новые силы?
В сущности, ведь и доктор Красин, и «проверяю-
щая из министерства» (Э. Леждей), и дотошный
корреспондент (В. Золотухин), и сами авторы так
же всецело попадают под власть гипнотического
обаяния личности Калинниковой, как и тот хромой
юноша, который встал и пошел... От Ии Саввиной
в этом фильме и в самом деле трудно оторвать
взгляд. Но вот фильм кончился — начинаешь рас-
суждать. Ну хорошо, институт, во имя которого
Нина Степановна не хочет жертвовать временем,
отнимаемым у конкретных больных,— это пока
абстракция. Ну, а женщина, для дочери которой
не нашлось койки, она ведь конкретна, она воз-
мущается, страдает, — и как ей помочь? Тоже
«встань и иди»? Не получится. Все время ищешь
рядом с Калинниковой человека, который был бы
способен поднять уровень разговора, самими же
авторами и начатого. А человека такого не толь-
ко нет, но, пожалуй, и не может быть в этом
фильме, где один серьезный научный спор о пра-
ве медика экспериментировать кончается бурны-
ми слезами «проверяющей из министерства», а
другой спор — сценой гипноза. Вот это уже феми-
низация. Мы, разумеется, не против того, чтобы
героинями проблемных лент становились женщи-
ны. Скажем, «Крылья» по резкости, неробкой оп-
ределенности — совершенно мужская картина. О
«Докторе Калинниковой» этого не скажешь. Да и
в «Старых стенах» отношение героини к своему
оппоненту — молодому инженеру где-то слиш-
ком уж застряло на оценках «симпатичный — не-
симпатичный», и камере в какой-то момент не то
важно, что этот герой говорит, а то, какой он
самоуверенный, благополучный, гладкий. Это то-
же феминизация. Как реакция на однобокость,
ограниченность, повторяемость одних и тех же
конфликтов такой поворот небесполезен, что мы
собственно и попытались здесь доказать. Но вот
уже снова хочется окунуться в атмосферу ярост-
ного, резкого, «мужского спора». Без него никак
не ответишь на вопросы, которые прозвучали в
этих фильмах и которые нам все время задает
жизнь.
Т. Хлоплянкина
5
БИТВА ЗА КАВКАЗ
«ГОДЫ БЕССИЛЬНЫ СТЕРЕТЬ
ПАМЯТЬ О ГЕРОИЧЕСКОЙ
БИТВЕ ЗА КАВКАЗ.
ВРЕМЯ ОТСТУПАЕТ ПЕРЕД
ПОДВИГАМИ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ,
КОТОРЫЕ ОНИ СОВЕРШИЛИ
НА СНЕЖНЫХ ПЕРЕВАЛАХ
КАВКАСИОНИ,
ПРИ ПРОРЫВЕ «ГОЛУБОЙ ЛИНИИ»
ФАШИСТСКОЙ ОБОРОНЫ,
НА «МАЛОЙ ЗЕМЛЕ»
ПОД НОВОРОССИЙСКОМ,
ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ
ТАМАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА...»
(Из выступления
первого секретаря ЦК КПСС
Грузии Э. А. Шеварднадзе
на торжественном собрании,
посвященном 30-летию
битвы за Кавказ)
э
» адачу поездки режиссе-
ра Джеммы Фирсовой
можно определить так —
поиски. Поиски докумен-
тов, фотографий, хроникальных кино-
кадров военных лет, личных писем
бойцов и командиров. Поиски тех, кто
участвовал в сражении за Кавказ, в
обороне и освобождении Новорос-
сийска.
Позади была кропотливая полуто-
рамесячная работа в Красногорском
зрхиве кино- и фотодокументов, в
Госфильмофонде. Были просмотрены
тысячи метров пленки. Кроме того,
прочитанные книги по истории и так-
тике прошедшей войны, найденные
свидетельства участников боев и оче-
видцев того времени. Велись каталоги
по найденным документам; дневники
по каждому дню и даже часу 1942 и
1943 годов.
• • •
Мы, то есть режиссер Центральной
студии документальных фильмов
Джемма Фирсова, ассистент по мон-
тажу Людмила Капралова и я, кор-
респондент журнала, направлялись в
Тбилиси, где группе предстояла ра-
бота в киноархиае, а затем в музеях
Тбилиси, Новороссийска и Геленджи-
ка, поездки по местам военных дей-
ствий.
Когда поезд отошел от перрона, я
попросила Джемму Сергеевну рас-
сказать о своей работе.
— Мне еще трудно сказать, каким
будет наш фильм. Сначала мы задума-
ли сделать ленту лишь о локальном
участке фронта — показать подвиг
Новороссийска. Но потом стало ясно,
что сам материал и значение этогс
события не укладываются в несколь-
ко частей фильма. Ведь Новорос-
сийск — это часть огромной и долгой
битвы за Кавказ, и многие события
происходившие здесь, были теснс
связаны с другими участками Кавказ-
ского фронта, который в то время
стал одним из важнейших мест воен-
ных действий второй мировой войны.
«Глобальные» планы стратегии Гитле-
ра на 1942 год сводились к следую-
щему: захват нефтеносных богатств
Кавказа, вторжение в Иран и Ирак,
вовлечение в войну Турции и Японии,
подготовка удара на Индию.
Эти «глобальные» планы ставились в
прямую зависимость от удачной кам-
пании на советско-германском фрон-
те, где главными направлениями уда-
6
ра были выбраны Кавказ и Сталин-
град.— Фирсова, раскрыв военные
карты, стала показывать расположе-
ние наших войск и немцев.— Поэтому
мы и решили идти от самого начала
этой битвы — от 25 июля 1942 года —
дня, с которого начинается сражение
за Кавказ. Закончится фильм концом
1943 года — крахом фашистских зах-
ватчиков на юге нашей страны, осво-
бождением Новороссийска, Тамани,
освобождением Кавказа.
— В чем особенности работы ре-
жиссера-документалиста, в чем ос-
новные ее трудности?
— Короткие куски пленки, свиде-
тельства очевидцев, архивные мате-
риалы, синхроны и музыку—основу
изобразительного и звукового ряда
необходимо привести в систему, по-
нять соотношение отдельных собы-
тий, выявить среди них главное, ве-
дущее. Необходимо увидеть целост-
ную картину того времени и только
потом писать сценарий, складывать
фильм.
Есть ли трудности? Да, они есть.
Во-первых, многих материалов просто
не сохранилось, например, бесследно
пропала часть материала, снятого на
«Малой земле» оператором Пойчен-
ко. Значит, в рассказе о «Малой зем-
ле» придется использовать другие
изобразительные средства. Во-вторых,
прошло время: многие документаль-
ные кадры уже «раздокументироаа-
ны», то есть они часто употреблялись
в различных контекстах, и сейчас не-
обходимо вернуть их первоначаль-
ность. Для этого и ведутся многочис-
ленные каталоги, сверяются свиде-
тельства и документы с тем, что мы
видим в хронике. Это только некото-
рые из огромного ряда задач, кото-
рые стоят перед нами на первом
этапе.
Лиза Миронова —
морской пехотинец.
Июль, 1943 год
На » Малой земле». Май 1943 год
полковник Л. И. Брежнев (справа)
и генерал-майор А. А. Гречкин
«Пять месяцев продолжался
оборонительный период битвы
за Кавказ... Все попытки врага
нанести решительное пораже-
ние советским войскам, оборо-
нявшим Кавказ, прорваться к
Баку, в Закавказье и на Черно-
морское побережье провали-
лись».
(А. А. Г р е ч н о
• Битва за Кавказ»)
В небольшом просмотровом зале
Тбилисского киноархива за монтаж-
ным столом мы смотрим киножурна-
лы «Советская Грузия» тех лет.
Постепенно, от сюжета к сюжету,
складывался облик времени: встреча
на передовой отца и сына, выпуск
фронтовой газеты, выступление Глав-
нокомандующего, доставка писем на
позиции, штаб Леселидзе, похороны
участвовавшего в обороне Севасто-
поля Героя Советского Союза Геге-
шидзе, сбор урожая, парад на Крас-
ной площади, освобождение города,
бои на Марухском перевале, опустев-
шие деревни, постаревшие от горя
матери, освобождение Новороссий-
ска, победные салюты...
Каждый день мы просматрива-
ем по 60 — 65 частей хроники.
«...Он был одаренным, воле-
вым и энергичным командар-
мом, мужественным и стойким
солдатом Родины, замечатель-
ным человеком, достойным сы-
ном талантливого грузинского
народа, отдавшим себя цели-
ком и полностью великому де-
лу победы над врагом.
Его умелому руководству
войсками обязаны своим
освобождением от фашистских
захватчиков трудящиеся мно-
гих городов и районов Север-
ного Кавказа, особенно трудя-
щиеся Новороссийска, удосто-
енного ныне высокой государ-
ственной награды — почетного
звания города-Героя.
Светлый образ генерала Ле-
селидзе всегда будет в нашей
памяти...»
(Из телеграммы
Генерального
секретаря ЦК КПСС
Л. И; Брежнева
семье Героя
Советского Союза
К. Н. Леселидзе)
В гостиной на стене большой порт-
рет Константина Николаевича, на про-
тивоположной — старинный, изящной
работы гобелен.
— Это подарок отцу от работников
Вильнюсского музея за тушение по-
жара. Он служил в Вильнюсе еще до
войны.
Мы в гостях у сына генерала Лесе-
лидзе. Отарий Константинович доста-
ет фотографии, газеты.
— Личные вещи, многие фотогра-
фии, партийные документы и письма
отца я передал в музей. Правда, од-
но письмо от солдата Сагирова у ме-
ня осталось. Оно адресовано моей
матери: «Если у вас есть фотокарточ-
ка Константина Николаевича, то приш-
лите мне ее. Я вас очень об этом
прошу. Я буду хранить ее как память
о любимом генерале. Я ее буду хра-
нить как зеницу ока и с ней буду ид-
ти в бой. 5/VI—44. Полевая почта
3 638Ю».
По совету Отария Константиновича
мы встретились с бывшим начальни-
ком штаба 46-й армии, которой ко-
мандовал Леселидзе, Михаилом Гера-
симовичем Микеладзе («У меня есть
воспоминания о Марухском перева-
ле...
В архивах штаба должно быть два
больших альбома, где есть фото,
схемы, цифры. Я помню, что прини-
мал участие в их составлении... Лич-
ных фотографий? Нет. Разве до это-
го было?»), с бывшим начальником
особого отдела 18-й армии Владими-
ром Эвктимовичем Зарелуа («У ме-
ня есть много писем бойцов о Лесе-
лидзе, это настоящие свидетельства
любви к своему генералу...») И еще
встречи и разговоры, работа на
телевидении и в музее Закавказского
военного округа... По крупицам соби-
рается портрет командарма.
«Самый штурм Новороссийска
был заключительным сражени-
ем, так как борьба за город
непрерывно велась весь год.
Оборона цемзавода «Октябрь»,
десант на «Малую землю»,
штурм «Голубой линии» немец-
кой обороны частями генерала
Гречко — все это этапы борьбы
за город...»
(К. Н. Леселидзе
«Новороссийское
сражение».
«Боец РККА», 26/Х — 43)
Новороссийск... Наверное, он похож
на многие южные портовые города,
но есть здесь свое, дорогое, особен-
ное — памятники совершенным здесь
подвигам.
Мы прошли и проехали все побе-
«Малал bomb. Лето, 1949 —9
режье от Южной Оэерейки до Ге-
ленджика. Нашим проводником по
местам военных действий стал быв-
ший командир артиллерийской бата-
реи Венедикт Иванович Лаврентьев,
были на батареях Героев Советского
Союза Челана и Зубкова, у Волчьих
ворот, ездили на Абрау-Дюрсо, Гле-
бовну и Оэерейку, в винсовхоз «Ма-
лая земля*. («Здесь в погребах нахо-
дился наш госпиталь, а в этой комна-
те начальник политотдела 18-й армии
полковник Л. И. Брежнев награждал
орденами и медалями, принимал бой-
цов в партию, проводил беседы об
обстановке на фронте—») Мы ездили к
цемзаводам «Октябрь* и «Пролета-
рий» («А вот легендарный «сарай-
чик». Видите, как близко было до
немцев, всего метров тридцать. Бой-
цы, возглавляемые старшим лейте-
нантом Джербинадзе, 360 дней дер-
жали оборону, отбив за это время
189 жесточайших атак врага—»), бы-
ли на Мысхако.
«Наши войска захватите* и удер-
живают небольшой плацдарм
на Мысхако, в пригороде Но-
вороссийска. Сейчас сном раз-
вернулись бои — гитлеровцы
пытаются сбросить иве с «Ма-
лой земли». Одной из главных
задач флота стала поддержка и
обеспечение войск десанта под
Новороссийском».
(В. Т. Проценко
«Мгновение решает все»)
Руководил работами по укрепле-
нию обороны гопода, десантной опе-
рацией на «Малую землю», командо-
вал высадкой десанта в Новороссий-
ске 10 сентября 1943 года вице-адми-
рал Холостяков.
Георгий Никитич живет в Москве.
Сюда он приехал на Праздник беско-
зырки. Каждый год 4 февраля, в день
высадки десанта, комсомольцы горо-
да торжественно вручают юным мо-
рякам бескозырку, которую те выво-
зят в море и опускают на волны — в
память о погибших героях.
— Георгий Никитич, чем для вас
был Новороссийск в те дни?
— С момента, когда сам Новорос-
сийск стал объектом боев, нам стало
ясно, что приморская дорога от Но-
вороссийска решает судьбу и Закав-
казья и даже Ближнего Востока и
Азии.
—Все, с кем мы встречались, благо-
дарили Джемму Фирсову за ее пре-
дыдущий фильм «Зима и весна 45-го».
Однажды кто-то из военных, позна-
комившись С Фирсовой, удивился, что
режиссером оказалась молодая жен-
щина: «Я думал, что так знать фронт
могут только те, кто воевал».
Фирсова не воевала. Знания, спо-
собность разбираться в военной так-
тике и теории, видеть взаимосвязь
отдельных боев, участков фронта,
ощущение времени перешли к ней,
наверное, от отца, кадрового военно-
го. С детских лет она помнит в доме
огромную, постоянно пополняющую-
ся библиотеку по истории войны. А
кроме того, у Фирсовой есть одно,
необходимое для документалиста ка-
чество — добросовестность. Я видела,
с какой дотошностью просматривает
она материал: «Нет, эти кадры сня-
ты раньше, видите, у них нет погон.
Люда, пометь: здесь, в аннотациях,
ошибка», «Это начало войны, посмот-
рите оружие», «А это снято под Се-
вастополем»,— как подробно расспра-
шивает очевидцев и участников со-
бытий. Вот и сейчас она просит Г. Н.
Холостякова рассказать о комбате
Куникоее, о том, как шло переобо-
рудование Новороссийской базы,
когда стало ясно, что враг пой-
дет с суши, как планировалась высад-
ка десантов в Станичку и в Новорос-
сийск.
«...Повсюду мерцают яркие
вспышки орудийных выстрелов
и разрывов снарядов. А в рай-
оне «Малой земли» они слива-
ются в огненное озеро. Кажет-
ся, там и клочка земли не оста-
лось, чтобы он не полыхал пла-
менем. И в этом аду живут и
борются тысячи наших бойцов
и командиров..»
(В. Т. П р о ц в и И о
«Мгновение решает все»)
То, что произошло на «Малой зем-
ле», сегодня кажется чудом.
В тот день дул норд-ост, на море
было 3—4 балла. Промокшие, за-
мерзшие люди под непрерывным ог-
нем артиллерии и минометов выса-
живались на берег и тут же шли в
бой. Укрыться было негде, крупная
галька не давала возможности быст-
ро окопаться. Но отряд Куникова
зацепился. Выбив немцев из окопов,
десантники заняли выгодные позиции.
Стали наращивать силы. Прибывало
пополнение, боеприпасы, техника. На
площади в 25 кв. километров, находясь
иногда по нескольку дней без пищи
и воды, обстреливаемые с воздуха и
с суши, десантники продержались
семь месяцев. МаЛоземельцы 16 сен-
тября 1943 года вошли в город побе-
дителями.
• • ф
В воскресный день а Новороссий-
ском краеведческом музее собрались
участники первого броска, куников-
цы и катерники. В их рассказах ожи-
вал каждый день и час легендарных
событий. Мы услышали, как погибли
десантники — Герои Советского Сою-
за Михаил Корннцкий и Цезарь Ку-
ников, узнали о пятнадцатилетием па-
реньке, который, когда вся команда
была ранена, встал за штурвал и вы-
вел катер из окружения, о том, кая,
рискуя жизнью, добывали воду из
единственного на всю оборону колод-
ца, как фашисты, решив сделать по-
дарок фюреру,— «Малую землю» сте-
реть, а десантников в море уто-
пить»,— делали в день до двух тысяч
самолето-вылетов и «бомбили так, что
мы солнца не видели»-.
Это не совсем обычный репортаж.
При мне не было ни одного съемоч-
ного дня. И все же этот рассказ о
том, как создается документальный
фильм «Битва за Кавказ».
В. Сологуб
Фото К. Халдея,
И. А с кия ой, А. Соколенко
7
Режиссер
X. Нарлиев
А рты к
(М. Аймедова)
«Джинсовет»
Да гони!»—
бритоголовый
белый конь,
рикрути-ка
колесу,
процедил
басмач, и
впряженный в арбу, тро-
нулся...
Кружилось огромное
олесо — сплошной крас-
ный круг — с распятой на нем Ар-
тык — женщиной, осмелившейся вос-
стать против вековых байских зако-
нов. Ветер рвал концы ее платка,
гыйнача, и разматывал мотки крас-
ной пряжи, которую она везла для
ковров первой в Туркмении женской
артели. Казалось, за арбой тянется
кровавый след...
Шла съемка самого драматическо-
го эпизода фильма «Когда женщина
оседлает коня». Колесование — же-
сточайшая пытка старого Востока. И
хотя Майе Аймедовой, исполнитель-
нице главной роли, полагались «дуб-
леры» — две куклы, изготовленные в
цехах «Мосфильма»,— актриса сама
должна была выдержать первые обо-
роты смертельного колеса.
Следовали дубли. До тех пор, пока
оператор X. Трандофилов не остался
доволен «сумасшедшим кадром», а
режиссер, все еще колеблясь, не ска-
зал: «Кажется, финал готов!»
Последние эпизоды фильма снима-
лись в первые съемочные дни в ма-
леньком селении Нохур, сохранившем
облик старых туркменских аулов.
Спрятанный высоко в горах, стисну-
тый скалами, Нохур напоминает ка-
менный мешок. Кажется, не пробить-
ся ручейку, не зазеленеть всходам...
Точно выбранная натура создала об-
раз фильма, символ оплота власти, не-
зыблемости байских устоев.
География фильма часто менялась.
Подымались, к горному водопаду,
чтобы снять эпизод гибели Меред-
бая, спускались в долину, обосновы-
вались в Бахардене и Байрам-Али —
городках, напоминавших старый Аш-
хабад, по улицам которого в 20-е го-
ды под духовой оркестр впервые про-
шли туркменки, снявшие яшмак —
платок молчания.
В Москву группа прилетела на один
съемочный день.
Колонный зал Дома союзов. Ма-
ленькая группка делегаток Востока
рядом с Лениным. Джекей — высокие
бархатные шапки киргизок, узбек-
ские тюбетейки, у штуки — серебря-
ные обручи в волосах таджичек —
все это на мгновение промелькнет в
имей
памяти героини и высветлится самый
яркий для нее миг — встреча с чело-
веком, который как никто понял ее
боль, понял, каких мук и самоотвер-
женности стоила свобода тысячам
женщин Востока.
— С Артык случилось ужасное,—
напоминает режиссер X. Нарлиев
Майе Аймедовой драматическую кол-
лизию предыдущего эпизода.— Одна
из женщин после агитации Артык ос-
мелилась сказать мужу, что ненавидит
его. И тот поднял жену за косу в по-
лоснул саблей. Артык одна хоронит
убитую, хотя, по мусульманскому
обычаю, женщина не имеет права хо-
ронить. Она н< иытывает ст рашные
муки — муж далеко, грудной ребенок
голоден. Сама она стала причиной
смерти. Кому выплакаться?..
На эту съемку X. Нарлиев и
М. Аймедова приехали из Кремля,
где им вручали медали лауреатов Го-
сударственной премии СССР за фильм
«Невестка». Настроение празднично-
сти и торжественности как нельзя
лучше совпало с приподнятым тоном
съемок в Колонном зале.
М. Аймедова сосредоточенна. Ак-
трисе предстоит на миг изменить ма-
жорное звучание сцены. Ее юная турк-
менка Артык среди всеобщего лико-
вания вдруг расплачется и уткнется
лицом в плечо Ильича. И актер
Ю. Каюров, исполняющий роль Ле-
нина, должен суметь в короткие се-
кунды передать удивительную прони-
цательность Владимира Ильича, его
душевную чуткость.
— Можно, я, что-то буду говорить
Ленину по-туркменски? — спрашива-
ет актриса и неожиданно находит
поддержку не только режиссера.
— Тогда в Москве,— вмешивается
в ход репетиции Джемине Полтаева,
участница исторической встречи с
вождем,— каждая из женщин на сво-
ем языке кричала Ленину «Здравст-
вуй!». А одна узбечка сбросила па-
ранджу и обняла Ленина. Он улыбал-
ся и расспрашивал нас о жизни, о
быте. А потом сказал Н. К. Круп-
ской: «Наше дело правое. Раз просну-
лись самые отсталые из отсталых».
Идет репетиция. Пожилые и юные
азербайджанки, узбечки, таджички
устремляются навстречу Ленину. Сце-
на об|>етает динамичность, ритм, эмо-
циональный накал, логическую завер-
шенность. Начинается съемка. Дубли,
дубли, дубли... Лучшие из них войдут
в картину.
— Фильм воскрешает 20-е годы,—
рассказывает режиссер X. Нарлиев,—
установление Советской власти в рес-
публике, в далеких глухих аулах. Он
посвящен «пионерке» Востока Энне
Кулиевой, женщине, возглавившей
первый женотдел республики. Образ
героини собирательный. Создавая сце-
нарий, мы помнили о зверски убитой
учительнице Гюльбахар, аульской ак-
тивистке Аннаджамаль Хыдыр Кызы
и о мнЪпгх других, погибших и остав-
шихся в живых туркменках, пробу-
дившихся к новой жизни. Наша ге-
роиня Артык-гуль — жена революцио-
нера, начальника отряда по борьбе с
басмачами. Название фильма не слу-
чайное. Есть пословица: «Когда жен-
щина сядет на коня, а жаворонок —
на ветку, наступит конец света». Ино-
сказательный смысл ее ясен: женщи-
на должна молчать и никогда не са-
диться на коня — не быть ей равной
мужчине.
Наш фильм — романтическая тра-
гедия, рассказывающая о поэтической
натуре героини, о пробуждении ее
души. Сны Артык должны органично
вплестись в ткань фильма, как ее
неосуществленные мечты и чаяния.
Начало и финал будут откровенно
символичны. Зритель увидит словно
ожившую Артык — женщину удиви-
тельной красоты. Ветер будет разве-
вать ее смоляно-черные косы, разду-
вать парусом красное платье. И
вслед за смеющейся Артык на белых
конях промчатся молодые всадницы
в красных одеждах.
Сценарий написан мной вместе
с М. Аймедовой. Для нее и для од-
ного из самых да|ювитых туркмен-
ских актеров, X. Овангезелова. Худож-
ник А. Ходжаииязов, композитор
Р. Реджепов. В картине снимается по-
пулярный актер X. Муллюк (Азад) и
недавние вгиковцы, мои младшие
братья Нарлиевы—Ходжадурды (Хом-
мат) и Ходжаберды (Берды). Роль
красноармейца Сашк о играет актер
Ашхабадского русского драматиче-
ского театра имени Пушкина А. Крас
вопольский.
Р. Константинов*
8
«УЗБЕКФИЛЬМ» заключил до-
говор о творческом содружестве с
Узбекским комбинатом тугоплав-
иих и жаропрочных металлов. Про-
дукция этого комбината отгружа-
ется более чем по двум с полови-
ной тысячам адресов. Коллективы
комбината и киностудии будут
оказывать друг другу деловую,
конкретную помощь, постоянно
встречаться и подводить итоги ра-
боты, широко информировать друг
друга о ходе выполнения социали-
стических обязательств. Кинемато-
графисты окажут помощь в созда-
нии на комбинате любительской
киностудии. Бригадир наладчиков
комбината К. А. Федотов избран
членом художественного совета
студии. На состоявшемся во Двор-
це иультуры номбината вечере, по-
священном подписанию договора,
кинорежиссеру, Герою Социалисти-
ческого Труда К Ярматову был
вручен значок ударника коммуни-
стического труда. .
«ЛЕННАУЧФИЛЬМ» и ЛОДЗИН-
ЗКАЯ студия в Польше создали до-
кументальный очерк «Пушкин и
Мицкевич». Режиссер В. Гурнален-
но. Оператор В. Мицкевич. Автор
сценария В. Самойлов.
НЕДЕЛЯ СОВЕТСКИХ ФИЛЬМОВ
УСПЕШНО ПРОШЛА в Федератив
ной Республике Германии. В деле-
гацию, возглавляемую заместите-
лем председателя Госкино СССР
В. Головней, входили актрисы Т.
Доронина и И. Мирошниченко, ре-
жиссер В. Жалакявичус, кинокри-
тик Р. Юренев. Показывались доку-
ментальный фильм «Визит Л. И.
Брежнева в ФРГ», художественные
ленты «Мачеха», «Это сладкое сло-
во — свобода!», «Солярке», «Моно-
лог», «Человек на своем месте»,
•Саженцы», «Иван Васильевич ме-
няет профессию», «Точна, точна,
запятая...», а также документаль-
ные и научно-популярные карти-
ны, с которыми познакомились зри-
тели Бонна. Гамбурга и Мюнхена.
ПЕРВОЙ ПОЛНОМЕТРАЖНОЙ
художественной картиной режис-
сера Н. Хубова будет комедийный
фильм для детей «Чужая роль* —
о воспитании чувства ответствен-
ности у школьников младших клас-
сов. Фильм будет поставлен на
Центральной студии детских и
юношеских фильмов имени
М. Горького. В основе сценария
пьеса С. Михалкова.
На этой же студии лирическую
комедию для школьников «Громов
и молнии» поставит режиссер
В. Саруханов — выпускник Высших
режиссерских курсов.
Речь пойдет о подростках, каж-
дый из которых, являясь членом
большого коллектива, представля-
ет индивидуальность, требующую
и себе самого пристального внима-
ния. Герой фильма — школьник
6-го класса, помогая заболевшей
однокласснице, школьникам млад-
ших классов, воспитывается и сам.
Автор сценария К> Алешковский.
ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ В СТРА-
НЕ КИНОТЕАТРОВ. «Аврора», на
Невском проспекте в Ленинграде
отметил свое шестидесятилетие
(это название он носит с 1930 года,
а раньше назывался «Пиккадил-
ли»), В 1924 году здесь дирижиро-
вал оркестром А. К. Глазунов, в
«Авроре» пела начинающая К.
Шульженко. Сегодня «Аврора» —
иомсомольсио-молодсжный киноте-
атр. Здесь действуют интернацио-
нальный киноклуб «Молодежь и
планета». У «Авроры» немало по-
стоянных зрителей. Среди них ле
нинградец И. Пастер, посещающий
кинотеатр со дня его открытия, би-
летер Л. Лебедева работает здесь с
1925 года. На праздновании 60-ле-
тия кинотеатра показывался пер-
вый русский игровой фильм
«Стенька Разин» и первый мульт-
фильм «Стрекоза и муравей», от-
крывшие ретроспективный показ
«Это старое, старое кино».
ПЕДАГОГ ПО ПРИЗВАНИЮ, на-
ходящий в своем нелегком труде
настоящее творческое удовлетво-
рение,— герой фильма «Дневник
директора школы». Эту картину
поставит на «Ленфильме» молодой
режиссер Б. Фрумин по сценарию
А. Гребнева. В центре сюжета —
взаимоотношения героя с двумя
подростками — собственным сы-
ном и одним из учеников; жизнь
и духовный облик директора ста-
новятся для них примером.
Зта печальная история началась с того,
что в большой город приехал моло-
дой человек Грант Саруханян, порт-
ной из ателье под названием
«Олимп».
Он хотел одарить этот город всеми
своими талантами — изящным мастер-
ством шить платья, виртуозным искус-
ством играть на дудуке и необыкно-
венной способностью приносить людям счастье.
Самые радужные надежды Гранта исполнялись
просто и быстро. Ему нашлась работа, нашлись и
партнеры для музыкального трио, повезло с доб-
рой Арпик, на которой он хотел жениться и же-
нился, приняв на себя отцовские заботы о ее
близнецах-сорванцах.
Все это — и дело, которое он любил, и семья,
к которой нежно привязался, и музьжа, без кото-
рой жить не мог,— появилось у Гранта Саруха-
няна. Все это было, но недолго.
Платья, им сшитые, носить не стали. Пришлось
украшать ими манекены в витрине ателье. Арпик
взмолилась, что ей нужен в доме муж, а не тре-
тий ребенок, В довершение всего близнецы про-
дырявили штопором дудук.
Грант Саруханян исчез из города так же вне-
запно, как и появился в нем.
Пора сказать, что речь идет о герое фильма
«Человек из «Олимпа», который на киностудии
«Арменфильм» ставит режиссер Д. Кесаян. Сце-
нарий этой современной лирической драмы на-
писан выпускником Высших сценарных курсов
Э. Акоповым (это его первая работа в кино). Опе-
ратор И. Дилдарян, художник Г. Карапетян, ком-
позитор Ю. Арутюнян. В главных ролях заняты
актеры К. Джангирян (Грант), Л. Вартанян (Ар-
пик), А. Нерсесян и Н. Мнацаканян (партнеры по
трио), Т. Дилакян (заведующий ателье).
Съемки картины уже окончены. Идет завершаю-
щий период работы — монтаж.
Говорит Дмитрий КЕСАЯН:
— Наверное, каждый режиссер в конце рабо-
ты пребывает в полном отчаянии. Думаешь толь-
ко об одном: как бы сохранить хоть крупицу пер-
воначального замысла, как бы сделать, чтобы эта
крупица обрела реальную пластическую форму!
Процесс монтажа всегда мучителен. Надо сложить
картину. Выстроить ее внутренние ритмы и инто-
нации. Убрать все лишнее, мешающее развитию
сюжета. Одним словом, монтаж есть монтаж,
а в нашем фильме он должен быть, как и все, ас-
кетичным, потому что рассказать о Гранте нужно
без назиданий и нажима, без броских эффектов,
на полутонах, чтобы оставить зрителю свободу
размышлений, ассоциаций, чтобы каждый мог
вольно сделать свои выводы.
Грант — натура добрая и наивная.
Он не умеет защищать себя, и это плохо. Но он
печалится не за себя, а за тех, кто поставил его
Грант
(К. Джангирян)
Торжественный
обед
в дурацкое положение. Единственное его ору-
жие — улыбка и слова, слова, слова...
Естественно, что в житейском море забот, дел,
повседневной суете нравственный максимализм
такого человека и «странности» его характера об-
ременяют людей. Но Грант неисправим. Одних
он настораживает, других удивляет, третьим дает
повод для иронического приговора: «Хороший че-
ловек не профессия».
Мы не ставили перед собой задачу восхвалять
дилетантизм, так же, как и выяснять, что луч-
ше — талантливый художник, но негодяй или
бездарный, однако хороший человек. Наверное,
плохо и то и другое.
Трудно быть талантливым художником, еще
труднее — талантливым человеком. Об этом даре
и идет речь.
Дело не в том, что самобытные работы Гранта,
плод его фантазии и труда, не находят спроса.
Все это до поры, до времени.
Суть в его отношении к делу — к той несчаст-
ной ноте, которую он дует о дудук, к этим костю-
мам, которые ему только в убыток, но по чужим
выкройкам он в любом случае шить не будет...
Нам важен не результат, не вещь, им изготовлен-
ная, а сам человек. И мы верим, что духовная
чистота и стойкость, бескорыстие раньше или поз-
же не в одном, так в другом приведут его к
прекрасному итогу.
Есть такая старая армянская пословица: «Иди
умри, приди — полюблю». Смысл ее строг и дра-
матичен: изо дня в день мы не замечаем прекрас-
ное, что находится рядом с нами, и только сила
утраты заставляет нас по-настоящему оценить,
полюбить то, чего лишились. Вблизи мы слепы.
Отношение к Гранту — грустное тому лодтверж-
дение.
Мы и пытались по мере сил рассказать об этом
лишнем и необходимом человеке, о доброте и
равнодушии к ней обывательского «здравого
смысла».
И все-таки что-то он задел в каждом, кто с ним
столкнулся. Так вдруг любимое выражение Гран-
та: «Музыка — хлеб для голодной души» — повто-
ряет непримиримый его антагонист, повторяет,
правда, на свой практический лад: «хлеб для го-
лодного желудка».
Наверное, нсториа с Грантом очень проста. По-
жалуй, она более бесхитростна, чем я пытаюсь
ее истолковать.
С утра и до позднего вечера режиссер Д. Ке-
саян и мастер по монтажу И. Микаэлян смотрят и
смотрят материал. Режут. Сокращают. Сжимают.
Снова и снова прокручивают пленку. Устало вгля-
дываясь в изображение, режут, склеивают, отки-
дывают. Некоторые эпизоды сейчас уходят це-
ликом. Кесаян безжалостен — нельзя выжимать
слезу.
В эти напряженные часы фильм начинает ста-
новиться фильмом, постепенно обретая тот облик,
в котором он предстанет перед нами.
...На маленьком экране монтажного стола вновь
возникает город, по которому бегут близнецы в
поисках исчезнувшего Гранта. Прекрасный город,
что так хотел — не ради славы, но лишь бы «вок-
руг все было хорошо и красиво» — покорить
Грант Саруханян.
Грант-неудачник — Г рант-победитель.
Т. К е й м а х
Ереван
9
Борющейся Африке посвятила свое творчество
уроженка Гваделупы режиссер Сара Мальдорор
независимость Гои-
1961 году припала учиться
делать фильмы о Москоу.
Сембсном Усманом оиа за-
у Марка Донского, была сто
Здесь помещены кадры
из фильма еЗамбизанга»,
удостоенного
высшей награды
на международном
кинофестивале
в Карфагене.
Злиза
де Андраде
в роли Марии
олько о борьбе мы смо-
жем создать новую эсте-
тику африканского искус-
ства",— утверждает Сара
Мальдорор, уроженка
Гваделупы, ученица со-
ветского режиссера Марка Донского,
снимающая фильмы о сражающейся
Анголе. Последняя се картина, пока-
занная вне конкурса на VIII Москов-
ском международном кинофестивале,
получила до зтого высшую награду
"Золотая Танита" на фестивале в Кар-
фагене (Тунис|.
Сара Мальдорор — се настоящая
фамилия Дукадос — жена одного из
лидеров Народного движения за ос-
вобождение Анголы (МПЛА), Мариу
де Андраде. В кинематограф она
пришла из театра. В конце пятидеся-
тых годов работала о труппе «Грио-
ты», обьединившеи африканских ар-
тистов и деятелен искусства, живших
в Париже. Эта труппа ставила пьесы
прогрессивных авторов, давала поэти-
ческие представления. Через два го-
да Сара Мальдорор поехала работать
10
в завоевавшую
нею, а о
искусству
Вместе с
нималась
ассистенткой на фильме «Здравствуй-
те. дети!". Из Советского Союза она
уехала в Марокко, а потом о Алжир,
где начала работать в кино.
Там на средства Фронта нацио-
нального освобождения Мозамбика
(ФРЕЛИМО| она сняла свои первый
художественный фильм — восемна-
дцатиминутную короткометражку
«Моногамбе> (об этом фильме
см. «СЭ’>, N? 6, 19731, сценарии ко-
торой написал се муж — политиче-
ский деятель и писатель.
Фильм был удостоен премии на фе-
стивале франкоязычных стран п Ди-
наре в 1970 году. Журнал «Жен Аф-
рика писал: «Мал*, дорор уверена, что
молодое африканское кино должно
быть политическим и революционным.
Для нее нс возникает вопросов: ки-
но — искусство или коммерция; мо-
жет ли оно быть вис времени; впра-
принадлежит
таким. как он
(кадр вверху)
На допросе
Так действуст
4 колониальная
ихранка
вс пи режиссер преследовать только
развлекательные цепи! мальдорор
просто снимает фильмы и, как боец,
отчитывается перед зрителями за вы-
полненное задание. Обладая чистым,
ясным и строгим стилем, Мальдорор
посвятила себя одной идее—пока-
зать освободительную борьбу афри-
канских народов, все еще находящих-
ся под игом колониального режима >.
Эту тему Сара Мальдорор продол-
жает и в своем следующем фильме,
«Винтовка для банту». Три месяца
провела она у партизан Гвинеи (Би-
сау), чтобы снять ленту. Это рассказ
о судьбе простои гсиненскои женщи-
ны. убитой португальцами. Ее муже-
ство и патриотизм подняли мирных
жителей деревни на борьбу с захват-
чиками. Это картина о героическом
пути гвинеиских патриотов, который
они прошли за годы борьбы с угне-
тателями. «В фильме «Винтовка для
банту»,— рассказала режиссер кор-
респонденту журнала «Жен Аф-
рику— показана жизнь и смерть пер-
вой гвиненскои женщины, взявшей в
руки оружие. Вначале я думала, что
это исключительный случаи. Но когда
я очутилась среди бойцов ПАИГК
(Африканская партия независимости
Гвинеи и островов Зеленого Мыса),
то поняла, что это нс так. Генераль-
ный секретарь ПАИГК Амилкар Каб-
рал (убит португальскими провокато-
рами в январе 1973 г.—С. Ч) толь-
ко улыбался, когда читал сценарии: в
рядах бойцов много женщин. Мне
пришлось частично изменить сцена-
рии. Именно там, в джунглях, я поня-
ла. что, хотя меня и волнует эта те-
ма, оказывается, я, по существу, ни-
чего не знаю о войне. Только там я
почувствовала, что это такое — по-
стоянная опасность, больные и ране-
ные, 'которым порой нечем помочь:
нет медикаментов, не хватает продук-
тов. Я видела детей, питающихся толь-
ко один раз в день».
Картина была закончена в 1971 го-
ду, а в конце того же года Сара
Мальдорор участвовала о Париже о
коллективной постановке докумен-
тальной ленты «Луиза Мишель, Ком- ►
11
Имя Тюрнан Шарай в Турции
знают все от мала до велина. В
Турции кино очень популярно,
а Тюрнан Шарай исполнила глав*
ныв роли в 178 фильмах, установив
этим своеобразный мировой рекорд.
Ежедневно ей приходят десятки пи-
сем от зрителей, для которых она яв-
ляется олицетворением турецкой жен-
щины, ее судьбы. «Когда Тюркан Ша-
рай плачет или смеется на экране, это
плачет или смеется турецкая женщи-
на»,- писала о ней стамбульсная га-
зета.
В 1960 году дочь стамбульского
служащего тринадцатилетняя Тюрнан
мым широким слоям зрителем, оно
уходит своими корнями в фольклор,
н народные формы театральных пред-
ставлений. Герои в них обычно делят-
ся на положительных и отрицатель-
ных, а схема повторяющегося сюжета
известна публике заранее.
Сквозь мелодраматическую основу
этих фильмов нередко проступают
черты подлинной жизни и социаль-
ные проблемы, близкие и понятные
зрителям. И первая из них — тяжелое
положение простой турчанки в семье
и обществе.
Сама Тюркан Шарай считает, что
лучший фильм с ее участием — «Воз-
№
шла из школы домой. На улице ее уви-
дел иинолродюсер и, пораженный ее
красотой, пришел и родителям с
просьбой разрешить снять ее и филь-
ме.
Пробы прошли удачно, и скоро
фильм «Я полюбил девушку» вышел
на экраны. И Тюркан Шарай быстро
приходит популярность. В сентимен-
тальных драмах и лирических коме-
диях из деревенской и городской жиз-
ни она успешно варьирует один и тот
же образ беззащитной, страдающей
от притеснений и неравноправия жен- род.
вращение», о котором она не только
исполняет главную роль униженной,
но сохранившей гордость женщины,
а выступает еще кан режиссер. В этой
ленте впервые в своей кинематографи-
ческой карьере актриса поет, а не-
давно в Стамбуле она дала концерт
народных песен. Теперь Тюрнан Ша-
рай собирается по сюжету, который
сама написала, поставить еще одну
картину. Она будет называться
• Злость». Героиня — крестьянская
женщина, впервые приехавшая а го-
щины из народа. Этот образ, к кото-
рому привыкли и который полюбили
зрители, не позволяет ей принимать
Фильмы с участием Тюрнан Шарай
идут во многих странах Азии и Север-
ной Африки. Ее охогно приглашают
участие в эротических и вообще лег-
комысленных лентах: репутация ис-
полнительницы должна быть таи же
беспорочна, как и образ, который она
создает.
сниматься в иранских и египетских
лентах, где она таи же успешно, как
и на родине, демонстрирует свою
красоту и незаурядные актерские спо-
собности.
Кино в Турции — страна делает
250 фильмов в год! — обращено и са-
Б. Петров
Более пятидесяти фильмов тридцати
кинематографистов было представле
но в Уагадугу на Втором Всеафрх
канском фестивале в 1973 году.
Фильмы эти лишены широкого про-
ката, который африканские государ
ства не взяли еще под свой конт-
роль. Но уже само количество их говорит о не-
уклонном развитии африканского кино. По край-
ней мере это относится к лучшим фильмам, по-
казанным на фестивале. «Семья» Анри Дюпар-
ка (Берег Слоновой Кости) была для многих
приятным открытием.
Снятая как комедия, эта картина рисует явле-
ние. весьма серьезное для Африки,— уход ил
деревни, высмеивает семейный паразитизм.
Благодаря мастерству исполнения и непри-
нужденному стилю картина стала такой афри-
канской комедией, которая может оказаться об-
разцом для сотен других, необходимых для того,
чтобы вытеснить западные поделки, заполонив
шие африканский экран.
Прибыли, которые стали приносить национа-
лизированные кинотеатры, помогли кинемато-
графистам Верхней Вольты снять первый полно-
метражный фильм «Кровь парий» (его режиссер
Джим Колл). Это история любви девушки из
состоятельной семьи и юноши — чернорабо-
чего. Против этого брака выступают родст-
венники девушки, люди, считающие себя при
этом «передовыми», выступающие против поли-
тики расовой сегрегации в ЮАР. Кинозрители
Верхней Вольты встретили горячими аплодис-
ментами это приглашение «вынести сор из из-
бы» и распроститься с негодными традициями
прошлого.
Фестиваль в Уагадугу ознаменовался еще од-
ним значительным событием — показом перво-
го мальгашского фильма «Несчастный случай»
режиссера Бена Рамампи. Рассказывая об обык-
новенном несчастном случае (сын бедняка сбит
автомобилем, которым управлял сын богатого
человека), в простой, суровой манере, не прибе-
гая к операторским изыскам, Рамампи показы-
вает, что существуют «две справедливости», два
отношения к человеку — в зависимости от того,
богат он или беден. Этот полный гнева фильм
подтверждает еще раз, что режиссеры с более
зрелым мировоззрением проявляют и наиболь-
шую зрелость в художественном выражении.
Это же можно отнести и к другому открытию
фестиваля — полнометражному марокканскому
фильму Сухела Беи Барки «Тысяча и одна
рука».
Ударная сила, которую представляют собой
африканские кинофильмы в борьбе за овладе-
ние своим кинорынком, уже наталкивается на
новое противодействие. Африканские кинемато-
графисты осудили недавние попытки раскола, с
помощью которого созданная в Париже «аполи-
тичная* ассоциация «негро-арабских» кинемато-
графистов явно намеревалась ослабить Всеафри-
канскую федерацию кинематографистов
(ФЕПАСИ). Чтобы не надо было ехать в Европу
смотреть африканские фильмы, алжирская си-
нематека предложила стать синематекой всего
континента, систематически покупать копии всех
африканских фильмов.
(По страницам
зарубежной прессы)
муна и мы» — о прославленной геро-
ине Парижской коммуны. Затем бы-
ла ассистентом режиссера в доку-
ментальной ленте «Сен-Дени будуще-
го», где рассказывается о парижском
пригороде Сен-Дени от Коммуны до
наших дней.
Ее последняя работа «Замбизаи-
га» — полнометражный художествен-
ный кинофильм, созданный в Народ-
ной Республике Конго. Радиостан-
ция «Голос конголезской революции»,
сообщая о его успехе, ставшем боль-
шим событием в культурной жизни
страны, подчеркнула, что он обуслов-
лен выраженными в фильме благо-
родными идеями освободительной
борьбы, которые близки народам
Африки и всего мира.
Картина не случайно снималась в
Конго. В этой стране нашли убежи-
ще многие ангольцы, члены МПЛА,
которые согласились сниматься в
фильме. Сара Мальдорор встретила
активную поддержку со стороны пра-
вительства, которое рассматривало
содействие съемкам картины как
вклад в поддержку борьбы за осво-
бождение Анголы.
Фильм — экранизация новеллы Лу-
андино Внэйры «Настоящая жизнь
Домингаса Ксавье». Виэйра, расска-
зы и стихи которого не раз печата-
лись в Советском Союзе, был приго-
ворен португальскими колонизатора-
ми за участие о народно-освободи-
тельной борьбе к четырнадцати го-
дам каторжных работ, двенадцать из
которых он отбывал в печально зна-
менитом концлагере Таррафал на
островах Зеленого Мыса, а в сентяб-
ре 1972 года его освободили и вы-
слали в Португалию под надзор поли-
ции. Герой новеллы и фильма анголь-
ский патриот Домингас Ксавье схва-
чен колониальной охранкой. О его
аресте и мучениях не знают товари-
щи по борьбе. Его жена—верная и
добродетельная супруга и мать —
далека от политических взглядов и
деятельности мужа. Но в борьбе за
жизнь супруга Мария (ее роль вели-
колепно исполняет Элиза де Андра-
де, уроженка островов Зеленого Мы-
са, активистка ПАИГК, по профессии
экономист) проявляет мужество и са-
моотверженность, стойкость и вер-
ность долгу. Колонизаторы замучили
Домингаса Ксавье. Но зрителям ясно:
на его место встанут десятки бойцов,
и среди них будет Мария. Для нее
теперь очевидно, что путь к счастью
ее семьи лежит через единство и
борьбу за свободу всего народа.
Трагедия одной семьи послужила
Саре Мальдорор поводом для раз-
мышлении о политическом пробужде-
нии континента. В беседе с коррес-
пондентом журнала «Африк литерер
э артистнк» она рассказала: «Меня
упрекали в том, что в моем фильме
нет танков, стрельбы, но ведь «Зам-
бизанга» не военный фильм. В нем я
стремилась показать начало народно-
го сопротивления в Анголе, рожде-
ние основ политической организации
освободительного движения».
Недавно Сара Мальдорор присту-
пила к экранизации «Короля Кристо-
фа» известного африканского писате-
ля Эме Сезара. После этого соби-
рается снять еще один фильм о на-
ционально-освободительной борьбе.
«На мой взгляд,— говорит она,— ос-
вободительное движение в еще коло-
ниальной части Африки должно быть
первоочередной темой африканских
режиссеров. Африканское кино бу-
дет политическим, революционным
или его не будет вообще».
С. Чертой
12
СИРИЯ:
РЕШАЮЩЕЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЕ
•Водитель
tpfWUKttf
•Леонард»
Н «смотря на то, что первый сирийский
фильм появился в то же время, когда
возникло египетское кино, то есть в
конце двадцатых годов, кинопроизвод-
ство практически начало развиваться в
стране лишь в последнее десятилетие.
Первые кинематографические работы
в Сирии столкнулись с деспотизмом колониаль-
ных французских властей (Сирия получила неза-
висимость в 1946 году). Так, французская цензу-
ра запретила фильм «Обвиняемый невиновен»
по причине того, что «в фильме снималась жен-
щина-мусульманка, что могло бы вызвать напад-
ки религиозных кругов и нарушить общественное
спокойствие». И это утверждали колонизаторы,
претендовавшие на роль защитников религии, а
на самом деле любыми методами устраивавшие
религиозные столкновения как в Сирии, так и в
Ливане.
С другой стороны, сирийское кино не могло
противостоять конкуренции египетского кино. Си-
рийское кино оставалось немым вплоть до 1948
года, в то время как египетские звуковые фильмы
демонстрировались в Дамаске с 1932 года. Все
зто привело к тому, что публика отвернулась от
немого кино.
Только в 1958 году в Сирии было создано ми-
нистерство культуры, а в нем небольшой отдел,
•Нож»
который занималсв производством короткомет-
ражных фильмов и киножурналов. В этом отделе
работали молодые кинематографисты, вернув-
шиеся из киноинститутов Европы и Америки. Вме-
сте с ними работал в качестве консультанта юго-
славский режиссер Бошко Вучинич, поставивший
первый короткометражный фильм, созданный си-
лами министерства в 1960 году.
Молодые сирийские кинематографисты участво-
вали в создании документальных короткометра-
жек. Фильмы демонстрировались в кинозалах
страны, пользовались успехом у публики и полу-
чили признание со стороны государства. Это при-
вело к тому, что правительство начало поощрять
создание государственного сектора в кино, отра-
жающего основные проблемы развития общества
и участвующего в процессе прогрессивных преоб-
разований. Завершилось зто созданием в 1963 го-
ду Национальной организации кинематографии,
основной задачей которой стало производство
полнометражных фильмов.
Создателем первого из них — картины «Цветок
из города» — был телевизионный режиссер Му-
хаммед Шахин. Этот фильм рассказывает о моло-
дом парне из провинции, который, придя в го-
род в поисках работы, сталкивается с проблема-
ми городской жизни, не может к ней приспосо-
биться, возвращается в свою деревню, убежден-
ный а том, что он никогда не уедет больше из
нее.
Этот фильм призывал к привязанности к своей
земле и работе на ней во имя ее процветания и
богатства.
Однако с точки зрения режиссуры, монтажа и
операторского мастерства фильм был столь слаб,
что и по сей день лежит на полке.
Эта неудача не обескуражила организацию ки-
нематографии, которая вновь обратилась к юго-
славскому режиссеру Бошко Вучиничу с просьбой
взять руководство над созданием художест-
венного фильма «Водитель грузовика», известного
и советским зрителям. Впервые на сирийском эк-
ране была отражена жизнь эксплуатируемого ра-
бочего, борьба трудящихся за увеличение зара-
ботной платы, которая привела к победе вслед-
ствие солидарности водителей грузовиков, и, не-
смотря на многие его недостатки, сирийские ки-
нематографисты считают фильм первой серьез-
ной попыткой социального сирийского кино.
В 1970 году три сирийских реяотссера постави-
ли три новеллы, объединенные а одном фильме
палестинской проблемой. Фильм «Люди под солн-
цем»— постановка Набиль Аль-Малеха, Маруана
Муазнна, Мухаммеда Шахина — явился первенцем
целой серии фильмов, посвященных трагедии па-
лестинского народа. Этот фильм завоевал вторую
премию на кинофестивале в Тунисе, а также де-
монстрировался вне конкурса на Московском ки-
нофестивале 1971 года. На этот же фестиваль Си-
рия представила фильм «Нож» режиссера Каледа
Хамада. В нем изображена трагедия палестинско-
го парня, который пытается преодолеть свою
инертность и безразличие к оккупации и старает-
ся найти себя в борьбе за свободу.
Однако наиболее значительными работами си-
рийских кинематографистов стали фильмы «Обма-
нутые» и «Леопард». Первая картина рассказывает
о судьбе палестинского народа после войны 1948
года под гнетом империализма, сионизма и мест-
ных реакционеров и о стремлении народа пре-
одолеть свою историческую трагедию.
Сирия представила этот фильм на Восьмой Мо-
сковский кинофестиваль, где он был удостоен
приза Советского комитета защиты мира. До этого
фильм был удостоен первой премии на фестивале
в Тунисе в 1972 году (об этом фильме см. под-
робнее «СЭ» № 20 за 1973 год.—Р е д.).
Что касается фильма «Леопард» молодого ре-
жиссера Набиль Аль-Малеха, в центре которого
бунт крестьянина, в одиночку выступившего про-
тив буржуазной и феодальной власти в Сирии до
1946 года, а потому легко попавшего а ловушку
и повешенного, то авторы фильма убедительно
доказывают, что индивидуальный террор не мо-
жет увенчаться успехом, что нужны коллективные
классовые битвы. Однако эта серьезная мысль
была облечена, к сожалению, в форму развлека-
тельной ленты, что не пошло фильму на пользу.
Тем не менее она имела большой успех у публи-
ки и привлекла внимание к ее автору.
Эти беглые заметки о сирийском кино, его про-
шлом и его настоящем свидетельствуют о том,
что в целом наше кино, особенно за последние
десять лет, становится искусством национальным
и прогрессивным.
Саид Мурад,
кинокритик
Дамаск
13
Вадим КДССИС
Часы продолжают жги
Б
ольшинство японских и зарубежных
знатоков кино сходятся а резко кри-
тической оценке нынешней кинопро-
дукции страны, хотя по числу филь-
мов (около 500 лент в год) она идет
впереди многих промышленно разви-
тых капиталистических государств.
Критик Андрю Хорват в «Майннти
Дейли ньюс», например, пишет: «Ну,
наконец-то под занавес 1973 года
умирающая кинопромышленность
Японии разразилась несколькими дорогостоящими
картинами, не столько, правда, для того, чтобы
привлечь аудиторию, сколько ради саморекламы,
самоизвещения о том, что она еще существует».
Далее он задается почти риторическим вопросом:
а самом деле, что же произошло с японской ки-
нематографией, столь заметной на в общем-то
мрачном небосводе западного киноискусства в
недавнем прошлом?
Известный японский кинокритик Тадао Сато по-
лагает, что в Японии так же, как и в Соединенных
Штатах, телевидение «умыкнуло» из кинозалов
зрителя, который гораздо уютнее чувствует се-
бя в собственной домашней скорлупе перед мер-
цающим экраном, нежели в кинотеатре, куда надо
добираться, преодолевая бесконечны» «пробки»
а уличном движении.
А ведь в 1958 году в кинотеатрах Японии побы-
вало более миллиарда зрителей. Конечно, тог-
да было и что смотреть, рассуждает Тадао Сато.
С успехом шел, например, «Расймон» Акиры Ку-
росавы производства студни «Дайэй». Студия эта
в конце минувшего года обанкротилась, переста-
ла существовать. Ее директор Таро Яугэ покончил
жизнь самоубийством. Не менее трагично закон-
чилась и жизнь одного из талантливых комедий-
ных актеров, который имел постоянный контракт
с компанией «Дайэй», Яцуо Ясудэи. Лишенный ра-
боты, он погряз а долгах и не видел выхода из
бедственного положения. Его последними слова-
Ре клала фильма *Часы продолжают идти»
ми, сказанными по телефону близкому человеку,
были: «Я никому не нужен».
Сейчас заметно снизилось число посещений ки-
нотеатров, и их самих стало значительно меньше.
На грань банкротства скатились другие студни,
масштабом и классом пониже, чем «Дайэй». Пока
они еще еле-еле держатся на поверхности за
счет захлестнувшего экраны мутного потока ганг-
стерских и полупорнографических лент. А такие
солидные, входящие в первую пятерку студии,
как «Тохо» и «Сйтику», сводят концы с концами
за счет «побочного промысла» — содержания за-
лов для игры в кегли и платных площадок для
парковки машин. Самой стабильной в финансовом
отношении компанией считается «Тоэй», живущая
исключительно за спиной у «гангстерской» про-
дукции, именуемой «якудэамоно». Студия «Ник-
кацу» «специализируется» все больше на фильмах
откровенно сексуального характера. Но в кулуа-
рах поговаривают, что, несмотря на доходы от
этой низкопробной продукции, ее хозяева уже
опутаны крепкой паутиной долгое...
Есть в Токио районы (их не меньше и в других
городах), где кинотеатры напоминают клоповники.
Они жмутся друг к дружке, словно ища защиты,
поддержки у соседа. Каждый такой зал невиди-
мой пуповиной связан со своей кормилицей —
киностудией. Она покупает по дешевке на так на-
зываемой «распродаже» залежавшиеся с прошло-
го сезона сценарии, заключает контракты с без-
работными актерами или дебютантами, снимает
очередной вариант фильма с избитым любовным
треугольником и спешит «осчастливить» зрителя,
впустив его в накуренное, заплеванное, пахнущее
карболкой помещеньице. За 250 иен хочешь стой,
хочешь, если не брезгуешь, садись. Хочешь, оста-
вайся на все «действо», хочешь, уходи с его се-
редины — все одно крутят ленту без передышки,
чуть ли не 24 часа в сутки. И диву даешься: лам-
пы в проекционных аппаратах не выдерживают,
сгорают, а творцы этого эротически-психопатиче-
ского месива из обнаженных тел, звериных взгля-
дов и пошлейшего в своем отчаянном примити-
визме диалога, хоть бы что, даже не покраснеют
от стыда! Справедливости ради заметим: кое-где
девчушек из касс убрали и заменили автома-
тами при этих порнографических балаганах. Бес-
словесный ящик знай себе глотает стоменовые
монетки и выплевывает билетики на право приоб-
щения к современному «искусству».
В Японии давно существует закон, запрещаю-
щий подросткам посещение кинотеатров, где идут
порнографические фильмы. Обратите внимание:
запрещается смотреть, но не демонстрировать,
это, во-первых, и, во-вторых, об этом законе ни-
кто и не вспоминает, когда в залах с порнографи-
ческой продукцией нет, пожалуй, только грудных
младенцев. Дело дошло до того, что взмолилась
полиция. Блюстители порядка считают, что «кло-
повники» не просто морально растлевают моло-
дежь. Вокруг них группируются разного рода по-
дозрительные типы, связанные с гангстерскими
шайками, наркоманами и просто пьянчужками —
мелкими жуликами. Придравшись к одному траги-
чески закончившемуся случаю, полиция возбуди-
ла дело против «демонстрации порнографических
картин». Однако чем оно закончится — трудно
сказать. Схватка предстоит нелегкая. Ведь на сто-
роне владельцев студий и кинотеатров не только
этот злополучный закон, но и деньги, которые ре-
шают здесь все.
Конечно, легче легкого спрятаться от дурного,
уйти от него, не видеть. Можно повторять, как
заклятие: «Современные японские фильмы жут-
кие. Мне нужно время и время, чтобы вновь
взяться за работу а студии». Эти слова принадле-
жат Хироси Тесигахаре, известному мастеру,
постановщику фильма «Женщина в песках». Он
увлекся прикладным искусством — керамикой и
домашним кино, забыл дорогу в студию. И если
когда-то глина была для него хобби, а режиссу-
ра — профессией, то теперь роли поменялись. Он
сделал прикладное искусство своей профессией,
а в хобби превратил создание любительских филь-
мов об искусстве составления букетов — «икэба-
на».
Домашние фильмы, любительские картины —
вещь нужная, полезная, воспитывающая вкус, при-
вивающая любовь к прекрасному. Эта отрасль ки-
нематографии начинает прокладывать себе путь в
Японии. И здесь Хироси Тес игах ара мог бы ока-
зать помощь хотя бы тем же ребятам из префек-
туры Гумма, которые решили сделать во время
летних каникул полнометражный фильм, пригла-
сив на съемки известных актеров-профессионалов.
Замысел интересен и благороден. В ого основе
лежит движение общественности «за производст-
во хороших кинофильмов в Японии». Движение
никто не инспирировал. Оно возникло из низов,
пошло от молодежи. Взрослым — учителям, муки
ципальным властям — оставалось лишь поддер-
жать школьников, направить их в нужное русло,
помочь материально и организационно. Не будем
вспоминать, каких это стоило трудов.
Теперь фильм готов, тревоги и сомнения поза-
ди, его с восторгом смотрят миллионы детей и
взрослых. Фильм сделан по повести уроженца
префектуры Гумма новеллиста Macao Когуре «Че-
сы продолжают идти». Сценарий написал Сбдзо
Мацудо, режиссер — Сейдзиро Камияма. Это его
вторая самостоятельная работа. Речь здесь идет
о жизни ребятишек префектуры Гумма в воен-
ные, а затем первые послевоенные годы. В цент-
ре сюжета жизнь деревенской семьи, со всеми
невзгодами, маленькими радостями и комически-
ми ситуациями. «Атмосфера для съемок была са-
мая благоприятная,— рассказывают их участни-
ки.— Мы были охвачены необычным подъемом,
все делалось на едином дыхании. Частники, у ко-
14
торых обычно не выпросишь снега зимой, предо-
ставляли для съемок свои поля, дома, дворы, от-
давали мебель, кухонную утварь. Прослышав о
нашей затее, профессиональные актеры Кэй Сато,
Тайдзи Тонояма согласились играть братьев —
главные роли фильма.
Из сорокатысячной армии ребят была отобра-
на «прекрасная семерка» — семь маленьких геро-
ев картины. Всего же в массовках участвовало бо-
лее ста тысяч человек. Съемки вели операторы-
профессионалы из местной студии, входящей в
«Киндай эйга кёкай» («Ассоциацию современного
кино»). Это независимая организация, на счету ко-
торой в прошлом немало хороших картин, в том
числе «Голый остров». Главным штабом рабо-
ты стал профсоюз учителей. Была определена и
смета фильма. На вопрос, где раздобыть деньги,
у организаторов было готовое предложение. Каж-
дый житель префектуры должен был при посеще-
нии любого кинотеатра один раз переплатить за
входной билет небольшую сумму. Собранные та-
ким образом средства и покрывали запланирован-
ные расходы на производство картины. Этот удач-
ный опыт был первым в программе массовой ра-
боты молодежи в кино под девизом «Сделай
сам|».
Естественно, не все определяется звоном зо-
лота.
Режиссер Кон Накахира рассуждает так: «Траге-
дия нашей киноиндустрии последних лет в том,
что о творческом подходе к своей профессии, об
ответственности перед человеком мало кто думал
всерьез. Не шло речи о разработке в сценариях
психологически глубоких концепций, точных очер-
таний характеров. Все наспех, кувырком, наско-
ком. И ведь каждый знал, видел, как работали
над фильмом такие выдающиеся кинематографи-
сты, как Ясудзиро Одзу, Акира Куросава».
С Куросавой у меня было несколько встреч:
на студии, на приемах, дома. Помню, в день на-
шего знакомства я спросил у Куросавы, что зна-
чит его имя. Он ответил:
— «Акира» означает «светлый, ясный, светить»,
а иероглифы «Куросава» — «Черная равнина».
Равнина бывает черной, только когда она не ос-
вещена. Поэтому сочетание иероглифов, в кото-
ром сначала стоит имя Акира, а потом Куросава,
можно интерпретировать как «Черная равнина,
над которой разливается свет». Мир, в котором
мы живем, наш дом, был бы мрачен и неуютен,
если бы над ним не светило солнце, дающее свет,
тепло.
Но, всегда помня о том, что не имя красит че-
ловека, а человек имя, я постоянно своим творче-
ством стараюсь принести людям хоть немного
света, дать человеку дополнительные силы и воз-
можность более рельефно увидеть окружающую
действительность.
Когда-то в моем родном Токио дышалось го-
раздо легче, чем теперь. Хозяева монополий, за-
водчики в погоне за прибылью загрязнили атмо-
сферу. В мире капитала бороться с этим монст-
ром трудно. Но мы будем бороться. Иное дело
в вашей стране, где хозяин всему — сам человек,
а не деньги, которые он чеканит для того, чтобы
в конечном итоге закабалить себя.
Теперь я приступил вместе с советскими друзья-
ми к созданию новой киноленты по мотивам кни-
ги В. Арсеньева «Дереу Узала». И вот для ме-
ня настало счастливое время. Мой замысел со-
стоит в том, чтобы показать: человек нравствен-
но, духовно связан с природой, он ее частица.
Поэтому, создав дом, который мы любим, хотим
сделать еще более прекрасным, мы должны всег-
да помнить о том, что его надо беречь, бороться
за него. Так оно есть и будет. Человеком-бор-
цом — вот чем прекрасна наша планета!
Куросава говорил негромко, но горячо, и я с
нетерпением жду того момента, когда на экране
зашумит в его новом фильме уссурийская тайга.
Зададимся теперь вполне уместным и своевре-
менным вопросом: ну, а сейчас все же, можно ли,
скажем, вечером отправиться в один из кинотеат-
ров Токио и посмеяться или взгрустнуть, побо-
леть всей душой за настоящего героя? Можно ли,
зайдя вечером в один из кинотеатров, посмотреть
фильм без пошлятины и пистолетной пальбы, без
поджогов, изнасилования и поножовщины, без,
наконец, марсиан и суперменов, от чьих портре-
тов на афишах начинает тошнить? Мало, но есть и
в сегодняшней кинематографии фильмы, на кото-
рые люди ходили, ходят и будут ходить еще и
еще.
Начнем с острого, социального, исполненного
протеста фильма «Бездомный пес». По существу,
это как бы второе рождение картины, ее обнов-
ленная интерпретация, попытка режиссера Адзу-
ма Морисаки привязать старый сценарий, напи-
санный Р. Кикусимой (по нему Акирой Куроса-
вой был сделан фильм сразу же после войны), к
современной жизни Японии. Фабула осталась
прежней.
Идея картины проста и трагична: в сегодняшней
Японии существует дискриминация. Она связана с
островной структурой государства, особым стату-
том, в котором оказалась и долгое время находи-
лась Окинава. Теперь Окинава — хотя бы юриди-
чески — 47-я равноправная префектура Японии.
До мая 1972 года она была в руках американцев.
Жители «большой земли» взирали на окинавцев
сверху вниз, считали их людьми «второго сорта»,
отрезанным ломтем. Лейтмотив фильма — нара-
стающая волна возмущения молодых окинавцев
против дискриминации.
Большой успех выпал на долю двенадцатисе-
рийного фильма (он идет на большом экране и
по телевидению) «Трудно быть мужчиной», сде-
ланного на студии «Сётику» режиссером Едзи
Ямадой. В центре киноповествования — образ не-
много сентиментального, немного грустного, но
симпатичного бродяги. Это персонаж комедийно-
трагедийный («Сётику» специализируется в
этом жанре) — неудачник, теряющий о жизни все
из-за своей доверчивой и широкой души. Но он
сам как бы и не замечает этих потерь. Для него
естественное состояние — дарить людям все, да-
же самое дорогое. Действие происходит в рабо-
чем квартале Сибамата под Токио. Любопытно,
что по ходу сценария герой Тора-сан (Тора в пе-
реводе с японского — тигр), а его очень правдиво
играет Киёси Ацуми, воспитывается в семье свое-
го дяди, мелкого торговца-кулинара, который
держит при доме «забегаловку» с японскими пам-
пушками, приготавливаемыми на пару,— манцзю.
С момента выхода картины в этот квартал не
прекращается паломничество: люди до того пове-
рили во все происходящее на экране, что пуска-
ются на розыски «забегаловки», желая отведать
манцзю, которые готовит дядя героя фильма. Се-
стру героя играет одна из лучших современных
актрис Японии, Тиэко Байсё.
Фильм, по оценке критики, по посещаемости
оставил далеко позади даже нашумевшую джемс-
бондовскую серию. И когда режиссер Ямада в
Кадры
из фильма
• Тонущая
Япония»
двенадцатой серии оЬорвал жизнь своего героя-
неудачника (его укусила ядовитая змея), зрители
были готовы разорвать самого Ямаду на части.
Письма, звонки, телеграммы, даже деньги и уг-
розы — все было пущено в ход, лишь бы авторы
воскресили своего «Тигра».
Нельзя не сказать и об эпопее режиссера Са-
цуо Ямамото — «Война и люди» (о которой «СЭ»
уже писал подробно). Сейчас фильм закончен и
очень высоко оценен японской критикой. Автор
как бы проводит зрителя через фашистскую япон-
скую казарму со всей ее нечеловеческой мушт-
рой, зверствами, насилиями. Идея фильма — об-
винительный акт японскому милитаризму.
Хочется упомянуть и еще одну, самую послед-
нюю работу Ямамото, вышедшую на студии «То-
хо»,— «Великолепное семейство», экранизацию
одноименного романа Т. Ямадзаки.
Будучи на студии «Тохо», я спросил, сколько
фильмов в 1973 году выпустила эта студия, кото-
рая входит в число «Большой пятерки».
— Сорок картин. Последняя из них называется
«Тонущая Япония».
Четыре месяца напряженно работали над кар-
тиной 120 человек съемочной группы. Снималось
тридцать лучших японских киноактеров. Картина
обошлась в полмиллиарда иен. Это экранизация
бестселлера писателя Сакё Комацу под тем же
названием — научно-фантастического романа, ко-
торый за короткий срок разошелся более чем в
трех миллионах экземпляров. Тираж беспреце-
дентный. Сценарий написал сам автор. Режиссер
Сиро Моритани.
Впервые в истории японского кино для консуль-
тации были приглашены крупнейшие профессора
по геофизике, сейсмологии, океанографии, вулка-
нологии.
Что же привлекло студию в этом романе? С
первых послевоенных лет она специализируется
на комбинированных съемках. Павильоны «Тохо»
признаны лучшими в Японии для этой цели. Ну и,
конечно, сюжет картины, ее научная фантастика
15
подсказывали, что без комбинированных съемок
обойтись тут невозможно.
Извержения вулканов, частые подземные толч-
ки, сдвиги земной тверди, цунами, рождаемые
вспучиванием океанского дна,— все это и дало
автору «Тонущей Японии» богатую пищу для раз-
думий на тему: что произойдет, если разбушевав-
шиеся подземные силы вдруг вздыбят океан и
затопят архипелаг, если под водой останутся горо-
да, села, поля...
Сотни японских ученых всерьез заняты сейчас
этой проблемой. Они ищут пути для своевремен-
ного предупреждения губительных землетрясе-
ний. В научно-исследовательских институтах раз-
рабатываются различные проекты, конструируют-
ся сверхчувствительные приборы. Ученые склон-
ны полагать, что уже есть возможность пред-
сказать, а стало быть, и победить внезапность
подземного толчка огромной разрушительной
силы.
Фильм «Тонущая Япония» не простая констата-
ция катастрофы. Он как бы бросает смелый вы-
зов ученым, призывает напрячь силы, отдать
опыт, знания во имя великой гуманной цели —
спасения людей, предотвращения трагедии.
В этом, пожалуй, и состоял основной замысел
автора книги и сценария «Тонущая Япония». В
фильме есть главный герой — ученый-сейсмолог
Тадо Коро (его играет известный артист кино Ко-
баяси), есть приобретенная во Франции подлодка,
есть участники многотрудной экспедиции на дно
океана.
Но нет пока главного — ответа на вопрос: что
же будет потом. Неизвестность, пожалуй, еще
больше интригует читателя и будет интриговать и
зрителей, пока автор не завершит работу над вто-
рой частью своего романа и не даст на это ответ.
Если судить по этим и некоторым последним
удачным фильмам, можно, пожалуй, сказать сло-
вами ежегодника «Дзидзи-74»: «Черные тучи на
кинематографическом горизонте постепенно ухо-
дят, атмосфера очищается». Этот процесс затра-
гивает и сложную структуру японского кинема-
тографа, в котором главенствуют крупные ком-
пании со своими кинотеатрами, студиями, актера-
ми, режиссерами.
Шагом вперед на пути преодоления кризисно-
го спада в кинопромышленности называет обще-
ственность решение Управления по делам куль-
туры об установлении поощрительных ежегодных
премий за лучшие работы в области кинемато-
графии. Правда, находятся и такие, которые сету-
ют на слишком мизерный размер первой премии
(10 000 000 иен), подчеркивая, что этих средств не-
достаточно, чтобы взяться за работу над филь-
мом.
В 1973 году премии были удостоены десять
лучших картин, среди которых и двенадцатисе-
рийная «Трудно быть мужчиной». А фильм «За-
писки обреченных», поставленный Еити Такабаяси,
на 22-м международном кинофестивале осенью
1973 года в Мангейме получил «Гран при».
Встречаясь с японскими деятелями кино, мне
часто приходилось слышать из их уст слова при-
знательности Сергею Эйзенштейну. Переведен-
ные на японский язык, его книги не просто укра-
шают книжные полки известных кинодеятелей
страны — Акиры Куросавы, Кадзуо Ямады, Акиры
Ивасакн, Кането Снндо,— а являются ценным со-
кровищем, подспорьем а их нелегком труде.
— Мы познакомились с произведениями Эйзен-
штейна,— рассказывал мне автор известного в на-
шей стране фильма «Голый острое» Кането Син-
до,— в конце двадцатых годов. Его влияние мож-
но обнаружить уже в немых лентах японского
кинематографа. Человек с широким кругом инте-
ресов, он тщательно изучил принципы, суть япон-
ского классического театра «Кабуки», был хорошо
знаком с японским искусством.
Японский кинокритик и режиссер К. Усихара го-
ворит, что японские кинематографисты с энту-
зиазмом изучают творческий опыт Эйзенштейна,
чтобы обогатить им свое искусство. «Ведь Эйзен-
штейн разработал —« не побоюсь сказать — грам-
матику кино. Его творчество вышло далеко за
рамки национального искусства, оно признано во
всем мире, стало интернациональным. Он был
выдающимся теоретиком и практиком. Когда я
веду класс молодых режиссеров, я постоянно ис-
пытываю потребность обращаться к нестареющим
трудам Эйзенштейна».
Заканчивая это обозрение сегодняшнего япон-
ского кино, я подумал, что а кинематографе, как
и в жизни, все развивается по своим внутренним
законам: одно стимулирует развитие искусства,
другое отбрасывает его назад. Побеждает в
этой борьбе правда. Правда искусства. К ней
стремятся сегодня и прогрессивные художники
Японии, мечтающие о том дне, когда японский
кинематограф вновь заговорит в полный голос.
Время не стоит на месте.
Часы продолжают идти.
Пятнадцать лет кинобиографии Равиля
Батырова оказались для меня спрессо-
ванными в нескольких часах в просмо-
тровом зале. Только первой картины,
«Твои следы», сделанной им совместно
с А. Хачатуровым, мне не пришлось
увидеть. Остальные четыре многое рас-
сказали об авторе. Картину невозможно поста-
вить, не вкладывая в нее самого себя. Я спраши-
вал Батырова, как он работает. «Когда снимаю,
весь мой мир в фильме. Я его сам строю... Про
все другое просто забываю,— ответил он. И неве-
село добавил: — Даже про семью порой...»
Уже восемь лет назад в картине «Канатоходцы»
режиссер раскрылся как своеобразный, ориги-
нально «авторски» мыслящий художник. В неза-
мысловатой истории странствующих канатоход-
цев — деда и внука,— ставших па сторону красно-
армейцев в их борьбе с басмачами, угадывалось
режиссерское «перо». Картина содержала излюб-
ленный Р. Батыровым драматургический конф-
ликт: долг личности, отдельного человека перед
человечеством. Старик канатоходец жертвовал со-
бой ради победы над угнетателями. Во имя этого
же рисковал жизнью мальчик. Тема самоотверже-
ния «во имя других» — лейтмотив всех последую-
щих работ режиссера — возникала здесь в обна-
женной форме. Для ее выражения требовался та-
кой же прямой, без изысков стиль. Режиссер
искал его — на ощупь, параллельно с освоением
профессиональных секретов.
В картине было много эффектных композиций,
ракурсов, пресловутой кинематографической дина-
мики погонь и преследований. Но свой собствен-
ный тон фильм находил в эпизодах откровенно на-
ивных, стилизованных под народный лубок, в трю-
ках, которые были сродни самому ремеслу кана-
тоходцев. Были хороши именно те эпизоды, где
актеры играли откровенно остро. Было по-настоя-
щему весело, когда встык монтировал режиссер
орущего басмача и орущего ишака. И был воисти-
ну «здорово» сделан эпизод, в котором старик и
внук входили в пещеру под злобный хохот пле-
нившего их басмача. Хохот резонировал под сво-
дами, потом вдруг резко смолкал, и с другого кон-
ца расселины канатоходцы выходили уже... без
конвоира.
В этих сценах обнаруживалось прошлое Батыро-
ва — театрального режиссера, семь лет без мало-
го руководившего музыкально-драматическим теат-
ром в Бухаре. Вкус к яркому народному зрелищу,
ощущение слитности музыки, танца и драматиче-
ской игры, свойственные узбекской театральной
традиции, терпкие краски и звуки площадного
действа, дар импровизации, чувство комического —
все это совпадало с индивидуальностью режиссе-
ра.
Мне кажется, его своеобразие могло бы обна-
ружиться в этой ленте со всей полнотой, если
бы не настойчивое стремление быть «кинематогра-
фичным».
Словно загипнотизированный «киноспецифи-
кой», Батыров искал и находил привычные ритмы,
мизансцены... Кинематографическое «вообще» за-
тенило конкретную индивидуальность автора, и
фильм остановился на полпути. На полпути от
себя. Психологически это можно было объяс-
нить: слишком не прост был путь режиссера
в кино. В 21 год он дебютировал отличным
дипломным спектаклем «Васса Железнова» на
ташкентской сцене, долго руководил большим
театральным коллективом. Но он не переставал
мечтать о кино, чтобы в 28 лет начать все снача-
ла: с ассистента, с трудных азов профессии. Фильм
«В 26-го не стрелять», по существу, был призван
убедить и себя и других в верности выбора.
Безусловно, он многое обрел в этом фильме.
Рука профессионала ощущается и в крепко ско-
лоченном сюжете (режиссер был соавтором сце-
нария), и в точных мизансценах, и в безопшбоч-
ном чувстве темпа. И на этот раз фильм «фокуси-
ровался» вокруг главного героя: советского раз-
ведчика, работающего в Берлине. Вновь это был
человек, мужественно принимающий решение, ко-
торое делает его смерть неизбежной, но обеспе-
чивает успех дела. Однако, несмотря на острую
интригу и яркие поступки героев, фильм оставлял
впечатление некоторой вторичности. Поэтому он
показался мне скорее выстроенным, нежели вы-
страданным. В нем трудно прослушивался собст-
венный голос Батырова, его сердце, его душа.
Легче всего было подумать, что автору не хватило
личных впечатлений, незаёмной памяти о войне-
Но это не так. Ему было десять, когда над Аст-
раханью, где он родился и рос, гудели в ночном
небе немецкие бомбардировщики. Ему было один-
надцать, когда пришла «похоронка» — под Воро-
нежем цогиб отец. В двенадцать верхом на лоша-
ди парнишка вывозил с застывшей Волги на молоч-
ный завод кубы льда за порцию сырого военного
хлеба... Он видел эшелоны с эвакуированными,
поезда с танками, идущие на фронт, и поезда с
ранеными, идущие с фронта. Память войны жила
в художнике, и если она не отозвалась сразу, то,
видимо, лишь потому, что пока Батыров искал не
столько правдоподобия, сколько кинематографи-
ческого опыта. Все сбереженное им должно было
соединиться с накопленным. Но это произошло
лишь в следующем фильме. Вновь фильм был о
16
войне и назывался он «Яблоки сорок первого
года».
...Это была история трех узбекских стариков,
сумевших правдами и неправдами провезти на
фронт, через голодающую, мерзнущую, изранен-
ную страну, эшелон яблок — подарок колхоза.
Опять любимых героев Батырова направляла са-
моотверженность, и она заставляла их недоедать,
холодать, хитрить, подвергаться опасностям. Но
эти колючие и беспомощные, веселые и впадаю-
щие в уныние, наивные и проницательные, вели-
колепные старики и не думали о самоотверженно-
сти. Они просто не могли иначе.
Ключ к успеху фильма был, вероятно, еще и в
том, как точно было выбрано в нем «дело» для
стариков. Оно соответствовало лучшим традицион-
ным чертам узбекского национального характера.
Радушие и гостеприимство становились здесь дея-
тельным, активным. Знаменитый узбекский «хо-
шар» — общий труд безвозмездно, «в складчину»,
по первому зову — обретал смысл в борьбе со
смертельным врагом и объединял уже не просто
людей — народы.
Мне кажется, что сама суть фильма не могла
не отозваться и на творческих средствах режис-
суры. Словно оттаивали холодные рамки выстро-
енных конструкций, отступали на задний план со-
ображения профессиональные, формотворческие.
Разумеется, фильм в чем-то проигрывал с этой точ-
ки зрения: рано иссякал его сюжетный «завод»,
не везде сходились концы с концами... Но зато по-
рым Батыров выбирает внутреннюю «ось», свою
исконную тему для каждого следующего замысла.
Вновь в центре герой, по самой своей природе не
мыслящий жизни только для себя. Наоборот, весь
смысл существования юного сварщика Тимура
Гулямова в том и состоит, чтобы делать «добрые
дела» для других.
Более того, его искренняя «самоотдача» кое-где
в фильме противопоставляется благородным по-
ступкам по расчету или по обязанности. Режиссер
настаивает на внутреннем тяготении человека к
лучшему, на скрытом в каждом из нас духовном
богатстве. В своеобразной обстановке новострой-
ки, где национальный быт соседствует с совре-
менным колоритом нового города и большого заве
да, особенно зримы черты интернационализма. И
авторы объединяют людей разных национально
стей единой потребностью «спешить делать доб-
рые дела».
Все достоинство фильма заключено именно в
легкости, с которой выражена его высокая идея.
Здесь нет натужных растолковываний и проповед-
нического пафоса. Как будто просто «зарисовки»
работы и быта проходят перед нами: цех, прогул-
ки, кафе, собрания, отдых, семья. Сама стили-
стика ленты делает эти зарисовки как бы подсмот-
ренными в жизни, но отнюдь нс отснятыми для
кино. Актеры здесь много импровизируют, каме-
ра не стремится к «объясняющим» укрупнениям,
исчезают жесткие акценты. Чувство истинности,
проникающее во все,— от манеры речи до убран-
»Ждем тебя,
парень...»
Режиссер
Равиль
Батыров
на съемке
явились ростки свободы и непосредственности.
Впервые у Батырова столь узнаваемо и достовер-
но была передана атмосфера военного времени,
живо и ярко действовали актеры. В улыбке, в точ-
ности наблюдений просвечивал характер режиссе-
ра: ЕГО органичность. ЕГО чувство Юмора. Было
возвращение к себе, но к себе, обогащенному зна-
нием техники и техноло1ии «загадочного кинема-
тографа».
И все же, думается, последний фильм режиссе-
ра «Ждем тебя, парень...» оказался неожидан-
ностью даже для тех, кто хорошо знал его рабо-
ты. Иным стал его кинематографический уровень.
Появилась та уверенная легкость, которая отл>гча-
ет мастерство от «штудий».
Есть все-таки какая-то закономерность в том,
что наиболее полное самораскрытие режиссера
произошло в ленте, посвященной современной те-
матике. В «Яблоках сорок первого года» Батыров
ввел в сценарий мотивы современности. Военная
история в фильме пересказывалась сегодняшним
молодым, «юношам, обдумывающим житье». В
этом было нечто искусственное, так и не сложив-
шееся до конца, хотя чувствовалось тяготение ис-
кренне рассказать о молодых. В фильме «Ждем
тебя, парень...» (сценарий А. Михалкова-Кончалов-
ского и Э. Тропинина) восемнадцатилетние оказа-
лись в центре повествования.
Можно только поразиться постоянству, с кото-
» Яблоки
сорок первого года»
ства комнат, веселая улыбка, увлекательный
ритм,— все это делает заразительным и духовный
мир фильма. Между тем на своем малом плацдар-
ме картина без громких слов отстаивает ценно-
сти значительные и непреходящие: честность,
принципиальность, сознание ответственности за
себя и за других, гражданскую активность й, глав-
ное, верность идее Добра. Идее, как я думаю, ос-
новополагающей для внутреннего мира режиссера
Равиля Батырова. На подходе новая, пятая по сче-
ту лента Батырова. Называется она «Мой доб-
рый человек». Название фильма красноречиво
подтверждает: режиссер держится избранного им
курса.
Итак, явный успех. Но только поверхностному
наблюдателю дорога к нему покажется легкой.
Она шла не только в тяжелом труде, но и в слож-
ной смене побед и поражений. Трудности освоения
кинематографа временами закрывали выход на
экран человеческой и творческой индивидуаль-
ности автора. Рассудочность иногда одерживала
победу над эмоциональностью. Но если все же оп-
ределять коротко, тринадцать лет и пять фильмов
Батырова стали верной дорогой к самому себе.
Режиссер искал и обрел умение говорить на экра-
не ПО-СВОЕМУ О СВОЕМ. Значит, путь только
начат, все впереди.
Л. Гуревич
на четвертой
странице
обложки
МИРНОЕ BPIWI
А. ШЛЕПЯНОВ при участии О. ГВАСАЛИЯ
О ДОБРОМ
ИСКУССТВЕ
Есть еще среди искусствоведов
сверхмодные молодые «интеллек-
туалы», исповедующие железо-
стеилобетонную точку зрения на
народное творчество и на его перс-
пективы. Мне не хочется с ними
спорить. Хочется сказать: ува-
жаемые мои коллеги, посмотрите
фильм «Родники творчества». И ес-
ли у вас остались живые чувства,
если вы способны подняться над
стандартами технической эстетики,
промышленного искусства, безлич-
ной архитектуры, то вы почувст-
вуете духовное наслаждение от
искренней правды жизни, которая
льется с экрана. Да простит мне
читатель эти эмоции, но, по-моему,
такой фильм давно нужен совет-
ской художественной культуре.
Чтобы выполнить столь нелег-
кую творческую задачу, нужны,
кроме таланта, я бы сказал, тон-
кость и нежность духовного строя.
И всеми этими качествами облада-
ет постановочный коллектив. Мне
хочется поблагодарить авторов
фильма: сценариста Н. Шпиноаско-
го, автора текста М. Некрасову,
режиссеров А. Гендельштейна и
Ю. Файта, оператора Ю. Ляховича
(Студня «Центрнаучфильм»),
Подкупает непосредственность
и искренность их работы. И не-
смотря на то, что большее место в
фильме отдано керамике, он смот-
рится как монументальный образ
всего народного искусства СССР.
Заслугу постановщиков я вижу
еще и в том, что народные песни
и танцы, включенные в фильм, не
смотрятся вставными номерами, а
как бы вытекают из самого худо-
жественного процесса мастеров.
Кстати о мастерах и мастерицах.
Канне это добрые люди! Все у них
доброе — и улыбки и руки. А ка-
кая непосредственность в рисун-
ке — в росписях деревянных изде-
лий!
Вот на экране рука с кисточ-
кой. Рука немолода, иногда чуть
дрожит, и кажется, что орнамент
пойдет вкривь и вкось. Но нет, все
идет, как надо, и наивный, часто с
чуть детской интонацией рисунок
чарует оригинальностью и обая-
нием.
Не хотелось мне здесь высказы-
вать критические замечания. И все
же, имея в виду продолжение это-
го доброго дела, я посетую на чрез-
мерную осторожность авторов.
Как бы зритель ни был внимате-
лен. совершенно невозможно обна-
ружить в картине хотя бы какой-
нибудь убедительный признак со-
временности в архитектуре. Право,
и керамика и резное дерево, не го-
воря уже о танцах, с успехом вы-
держали бы соседство с современ-
ным архитектурным пейзажем.
Очень хотелось бы, чтобы «Род-
ники творчества» стали началом
серии родственных произведений
об искусстве. Скажем, об искусст-
во русских миниатюристов. А ка-
кой сверкающий фильм можно сде-
лать на материале обработки дра-
гоценных камней! И разве не был
бы благодарен зритель, если бы с
тем же талантом, как в «Родниках
творчества», было рассказано о
лучших произведениях монумен-
тального искусства?
Ясе в мире подвержено влия-
нию времени. Трудно что-либо ему
противопоставить, и все же: если
игровой фильм через 20 — 30 лет
после его создания часто может
вызвать только улыбну, то «Родни-
ки творчества» и подобные ленты
можно будет показывать без опасе-
ния и через 100 лет — что это за
срок для народного искусства!
Итак, садитесь поудобнее в
кресло и попробуйте настроиться
на волну прекрасного...
М. Л а д у р,
народный художник РСФСР
Не знаю, что получится из
этого сценария,— загадывать
опасно, слишком легко сгла-
зить, но, что бы ни получи-
лось, я все равно останусь благодарен
фильму «Мирное время».
Дело в том, что человек живет до
тех пор, нока он способен влюблять-
ся. Потом он доживает. Речь идет не
только о женщинах — влюбляться
можно в идеи, в стихи, в картины
давно умерших художников, в горо-
да и страны.
Этот фильм открыл для меня стра-
ну, в которую невозможно не влю-
биться. Я имею в виду не экзотиче-
скую Грузию тостов и не панораму
Тбилиси, которую показывают приез-
жим с фуникулера. Поражает другое:
увлеченность, почти азарт, с которы-
ми все делают в этой стране — строят
дома, шьют сапогп, снимают фильмы,
спорят о политике и о футболе.
То жаркое лето я собирался скром-
но провести под Москвой, писать эк-
ранизацию одного из романов Тыня-
нова, купаться в Москве-реке, есть
холодный борщ в придорожной забе-
галовке. Я снял ветхую скрипучую
дачу и купил гамак, чтобы читать в
нем «Графа Монте-Кристо». Откуда я
мог знать, что Омар Гвасалия уже ле-
тит из Грузин со связкой чурчхелы и
банкой желтого варенья из арбузных
корок, которое так замечательно ва-
рит его мама.
Но Омар прилетел, и с мечтой о
спокойной жизни пришлось простить-
ся. Через три дня мы уже были на
КамАЗе, где в интернациональном от-
ряде «Дружба» работал один из дру-
зей Омара — не надо вам говорить,
что, как у всякого грузина, друзья у
Омара есть везде,— затем мы летели
в Тбилиси, потом ехали в Телави, из
Телави в Боржоми, в Абастумани, в
Гали, в Кобулети — повсюду, где жи-
ли люди, в которых Омар видел про-
тотипов будущих героев своей карти-
ны. Настойчиво повторяю: лето было
очень жаркое, и нечего удивляться,
что время от времени я начинал роп-
тать, симулировал аллергию и про-
сился домой. В этих случаях непре-
клонный Омар Гвасалия вывозил ме-
ня ва Гамборский перевал, откуда
открывается фантастической красоты
вид на Алазанскую долину с белой
фасолинкой древнего собора в самом
ее центре, а по другую сторону — на
Гамбори, на облака, ползущие по ле-
сам, на серебряные реки с маленьки-
ми влажными стогами на берегах.
Потом мы направлялись в крохотную,
на два столика, шашлычную, в кото-
рой кувыркался и бегал по клетке
бурый медвежонок с розовыми пят-
ками, и серьезно, по нескольку часов
подряд, обсуждали вопрос о том, что
именно в Гамбори надо построить
дом, жить здесь всегда, родить детей,
хранить на чердаке яблоки и алычу,
пить молоко и молодое вино. После
этой психотерапевтической экскурсии
мы снова спускались в Тбилиси и ра-
ботали некоторое время без ссор и
взаимных упреков в бездарности и
недостатке воображения.
Когда я вернулся в Москву, там
уже шли дожди, и гамак так больше
никогда и не понадобился. Но зато
Гамборский перевал остался для меня
на всю жизнь одним из тех мест, ку-
да хоть и не едешь, но всегда хочешь
поехать, - таким, как берег Финского
залива, или Ленинградский Эрмитаж,
или Тамань, или холмы над К^мой, у
самой Елабуги, откуда видны белые
стены Автограда.
И еще за что я всегда буду благо-
дарен будущей картине — это за дру-
зей, которые остались у меня от того
жаркого лета.
За тбилисского прораба Алика Чи-
тошвили, который посвящал нас с
Омаром в тайны своего трудного и
чистого ремесла, человека иронично-
го, но вместе с тем снисходительного
к нашему киношному дилетантизму и
бестолковости.
За великого дипломата и глубокого
знатока человеческой души — татар-
ского коммуниста Раиса Киямовнча
Беляева, разговоры с которым помог-
ли нам с Омаром по-новому, куда
глубже, чем прежде, взглянуть на
сложную должность партийного ра-
ботника.
За Виктора Шатунова, одного из
самых прославленных бригадиров
КамАЗа, доброго и сильного, верного
в дружбе человека.
И еще за многих, многих прекрас-
ных людей, вошедших в нашу жизнь
вместе с фильмом «Мирное время».
Эта кинокартина о семье потомст-
венных строителей. В прологе к сце-
нарию, который печатается ниже,
речь идет о главе семьи Сандро Кахи-
ани. А в фильме главным героем бу-
дет его сын Мишико — бригадир од-
ной из крупнейших строек страны. Он
из тех людей, которые пришли в на-
шу жизнь вместе с научно-техниче-
ской революцией. Мишико Кахиани —
человек образованный, масштабный
и в то же время мягкий, вниматель-
ный, одаренный талантом любви к
людям. Нам хотелось хоть немного
показать его детство, его семью, тех
добрых, полных внутреннего покоя и
мудрости людей, у которых он учился
быть человеком.
А. Шпепянов
Новый дом стоял над источни-
ком, почти у самой дороги.
Сандро Кахиани, мастер,
навешивал дверь на балконе,
Мишико, мальчик лет тринадцати,
ему помогал. Хозяин дома стоял по-
близости — принять участие в работе
ему мешал костыль — и молчал, не
решаясь отвлечь мастера, но сердцем
переживал за успех дела.
На том же балконе две женщины,
старая и молодая, собирали на стол,
Рис. Б. Шутовского
18
то и дело поглядывая в сторону ма-
стера. На него же, не отрываясь,
смотрели и ребятишки, сидевшие на
траве перед домом, и большая мохна-
тая собака, тяжело дышавшая от
жары.
Мастер навесил дверь, но остался
недоволен сделанным и снял ее сно-
ва.
Мальчик, не дожидаясь указания,
тотчас же подал ему рубанок. Санд-
ро Кахиани сделал несколько уверен-
ных и ловких движений, еще раз при-
дирчиво осмотрел дверь со всех сто-
рон и медленно, словно жалея рас-
ставаться с законченным делом, стал
завинчивать шурупы.
Молодая женщина пришла с кувши-
ном воды. Мастер снял фартук, от-
крыв выгоревшую гимнастерку без
ремня и старые, много раз латанные
брюки, заправленные в сапога. По-
том. широко разводя руки, похлопал
ладонями, как бы стряхивая с них
пыль. Женщина подошла ближе и
стала поливать мастеру из кувшина.
Так же неторопливо он вымыл лицо,
шею и руки, а за ним подошел маль-
чик и тоже умылся.
Тем временем старая женщина при-
несла вино. Мастер и хозяин взяли
по стакану, и Сандро Кахиани ска-
зал:
•— Счастье твоему дому, Галактион.
Пусть в нем всегда будет радость, ве-
селье. Пусть в нем играются свадьбы,
родятся дети. Пусть будет мир,
счастье тебе, твоим родителям, твоим
детям. Мир дому сему!
Хозяин ответил:
— Спасибо за твой труд, Сандро. У
тебя счастливые руки. Ты построил
хороший дом.
Они выпили, сели за стол и стали
есть.
Женщины стояли тут же, на балко-
не, сложив на груди руки, и смотре-
ли, как мужчины едят. Потом стару-
ха сказала:
— Тут Георгий Арабули приходил.
Хочет, чтобы ты ему тоже построил
дом.
— Видно будет,— ответил Сандро,
продолжая есть.
— Надо тебе тут остаться,— сказал
хозяин.
— Построишь себе дом, невесту те-
бе найдем.— Старуха заметила, что
мастер опустил голову и задумался,
и быстро продолжала:— Жену с того
света не вернешь... Царство ей небес-
ное... Пусть твоим детям добавится
то, что она не дожила. А что, так и
будешь с детьми ходить от двора ко
двору?
— Я привык.— Мастер улыбнулся.
— А дети?— подала голос молодая.
— И дети привыкли.
— Детям нельзя каждый год в но-
вой школе учиться.— хозяин покачал
головой,— это их с толку сбивает.
— Оставайся, Сандро!—Старуха
положила мастеру руку на плечо.—
Ты не пожалеешь!
— А что? Может, и останусь... Ме-
сто у вас хорошее... Перевал близко.
— Вода вкусная,— добавил Миши-
ко.
Все обернулись на звук его голоса,
и мальчик смутился.
Солнце опускалось к перевалу.
Свежеструганые рамы и двери каза-
лись розовыми в его предвечернем
свете. Розовыми были и лица.
Вдалеке слышался лай собак и шум
грузовика, с трудом одолевавшего
подъем. Хозяин и мастер сидели за
столом молча, глядя навстречу ма-
шине.
Шум приближался, и вскоре в кон-
це улицы показалась старая трехтон-
ка. Па подножке возле водителя сто-
ял немолодой уже человек с военной
выправкой. На потертом его френче
красовались орденские колодки и по-
лоски легких и тяжелых ранений, а
левый рукав, пустой и безжизненный,
был засунут в карман.
Грузовик остановился у источника,
перед самым домом. Шофер открыл
капот и принялся заливать воду в
усталый и перегревшийся от долгой
работы мотор, а человек во френче
увидел дом с белым некрашеным бал-
коном и громко сказал:
— Здравствуйте! С новосельем те-
бя. хозяин!
— Спасибо тебе,— ответил хозя-
ин,— заходи, выпей вина.
— Некогда! Надо к вечеру в город
успеть. Люди у меня!
Он показал головой на кузов, где
сидели на лавках молодые и пожилые
мужчины. Война кончилась уже не-
сколько лет назад, но не все возвра-
тились из армии сразу, и на многих
еще были гамнастерки со следами
погон.
Ребятишки, сидевшие прежде на
траве, теперь окружили машину и
смотрели на мотор, продолжавший ра-
ботать. Старуха тоже спустилась к
машине с вином и стаканами.
Человек во френче между тем вни-
мательно оглядывал новый дом.
— Сам строил?—спросил он у хо-
зяина.
— Мастер построил.— Хозяин кив-
нул на Сандро Кахиани, который сто-
ял. облокотившись на край балкона,
и, чуть заметно улыбаясь, курил.
- Домик ничего...— Человек во
френче принял из рук старухи стакан
с вином.— Счастье твоему дому! А мы
тоже строить едем. В Тбилиси. !юль-
шую гостиницу! Девять этажей!
— Девять этажей?— переспросил
мастер, борясь с внезапным и силь-
ным волнением.
— Я тебе говорю — девять! С ко-
лоннами! Дворец, ей-богу, а не гости-
ница! Мастеров везу из Телави.
Люди в машине пили вино и по-
здравляли хозяев.
— Полный комплект набрал?—
Сандро Кахиани старался, чтобы го-
лос его звучал спокойно.
— Да... Набрал, набрал... Конечно,
для хорошего мастера место всегда
найдется... Хочешь, могу устроить?
Сандро посмотрел на тихую дере-
венскую улицу, на перевал, за кото-
рым садилось солнце. Потом обернул-
ся и увидел глаза Мишико, горевшие
нестерпимым и мучительным ожи-
данием.
— Собирайся,— сказал мастер тихо.
— Нико!— крикнул мальчик что
было сил.— Собирайся. Мы едем в
Тбилиси!
Белоголовый мальчик лет семи
стремглав бросился от машины к до-
му и минуту спустя вернулся с дере-
вянной люлькой в руках. За ним шел
Мишико, держа в одной руке солдат-
ский вещмешок с инструментами, а
другой волоча по земле деревянный
сундучок-с висячим замком. Мастер
простился с хозяевами и поднял де-
тей в кузов. Ребенок в люльке про-
снулся и заплакал.
— Не плачь, Гоги,— сказал Сандро
Кахиани.
Машина тронулась и пошла, всхра-
пывая, по горной дороге, оставляя да-
леко позади неподвижно и безмолвно
смотревших ей вслед хозяев, а вместе
с ними и всю деревню Белый Ключ...
Марк
Дсяк'ьтй!
ЭКРАН МАРКА ДОНСКОГО
Без малого пятьдесят лет тому
назад на московскую фабрику
Госкино, что находилась на
Житной улице, явился молодой чело-
век невысокого роста, худощавый,
очень подвижный. Энергично жести-
кулируя, он потребовал, чтобы ему
была предоставлена любая работа, ио
именно на фабрике, где делают кино-
картины.
Судьба уготовила ему неожидан-
ную встречу с известным писателем,
доброжелателем молодежи, членом
сценарного совета кинофабрики В. Б.
Шилове иим.
В своей автобиографии кинорежис-
сер М. С. Донской так описывает этот
эпизод:
• Виктор Борисович, увидя незна-
комого юношу, спросил:
— Вы собираетесь работать в ки-
нематографии?
— Да, — ответил я с энтузиазмом.
— А как здоровье?— вдруг неожи-
данно спросил Шкловский.
— Это единственное, что у меня
есть в изобилии.
Он понял шутку и в том же тоне
продолжал:
— Для того, чтобы работать в ии-
нематографе, надо обладать воловьим
здоровьем. Слабым сюда не рекомен-
дуется обращаться».
Донской стал кинорежиссером,
сменив не одну профессию. Готовил-
ся на врача, окончил юридический
факультет, увлекался футболом, бок-
сом. Настоящее призвание он нашел
в кинематографе, пройдя нелегкий
путь от помощника до режиссера, пе-
ретерпев и неудачи первых самостоя-
тельных шагов.
Ныне имя Марка Донского — на-
родного артиста СССР, Героя Социали-
стического Труда — а одном ряду с
крупнейшими мастерами советской
культуры, ее гордость и слава. Им
созданы такие фильмы, иаи трилогия
о Горьком, «Радуга», «Сельская учи-
тельница», дилогия о матери В. И. Ле-
нина и многие другие, обошедшие эк-
раны всех континентов.
Об этом рассказывает сборник из
серии «Мастера советского кино» —
•Мари Донсиой» *.
Невольно хочется сказать: наконец
и у нас появилась книга о нем? Давно
не хватало ее нашему читателю, и да-
же было обидно, когда попадаяись в
руин книги об этом замечательном ма-
стере то иа французском, то на анг-
лийском языках. Сборник «Марн Дон-
ской» восполняет этот провел. Соста-
витель Л. И. Пажитнова сделала его
умело, увлеченно.
В сборнике перу Донского принад-
лежат лишь 25 страничек, в которых
изложено идейное и творческое кредо
художника, остальные 250 — высказы-
вания тех. кто в разные годы близко
работал вместе, или пытается проник-
нуть в секреты его творчества, или
делится мыслями, навеянными произ-
ведениями, им созданными. Это — из-
вестные писатели М. Пришвин,
М. Кольцов, Л. Кассиль: актеры, на-
полнившие своим талантом образы
фильмов Донского, — В. Массалитино-
ва. Н. Ужвий, В. Марецкая, Д. Сагал,
Е. Фадеева; видные советские и зару-
бежные кинокритики: Ю. Лунин,
С. Фрейяих, Ю. Ханютин, И. Бачелис,
К. Парамонова, К. Бейяи, ф. Одни»,
А. Девал эс и другие.
Сборник приобретает особую цен-
ность том. что в нем публикуются два
• Марк Донской. Сборник. Состави-
тель и автор интервью Л. И. Пажит-
нова. М. Изд-во «Искусство». 1973.
рода статей: одни, написанные спе-
циально для сборника в наши дни и
рассматривающие художественные
ценности иан бы с «дистанции яреме
ни», другие, появившиеся «по следам
событий», отклики на фильмы, только
что вышедшие на экраны. Сопостав-
ляя мысли, оценки, выводы авторов
статей сегодняшних и вчерашних, еще
раз убеждаешься в жизненности, не-
преходящей ценности лучших филь-
мов, поставленных Донским.
Генеральной темой Донского — ои
называет это «личной темой» — яв-
ляется любовь к человеку, борьба за
человека, за его достоинство, утверж-
дение красоты и человеческой любви.
Эта тема уже теплилась в «Песне о
счастье», рассказавшей о марийском
юноше, ставшем известным компози-
тором в совете кот время, прорывает-
ся она сквозь трагические картины
горьковского детства, пребывания
«в людях» и становления в «универ-
ситете жизни». Любовь и человеку
одушввяяет «Радугу», звучит в горь-
ковской «Матери», в «Фоме Гордееве»>
в «Сельской учительнице».
Важная мысяь объединяет теорети-
ков кино в анализе эстетических осо-
бенностей творчества Донского. Когда-
то раздавались голоса о якобы свой-
ственном Донскому стремлении «сгу-
щать Красин*, обнажать жестокие
стороны жизни. Такие утверждения
мы сяышали и а адрес трилогии о
Горьком в первые годы выхода ее на
акраны. и особенно назойливо звуча-
ли они у некоторых зарубежных кри-
тиков в оценке одного из наиболее
мужественных произведений Донско-
го — «Радуги». Однако глубокий и
честный анализ этих и других филь-
мов начисто отвергает подобные наве-
ты. Сила произведений Донского в их
реализме, а высокой и подлинной
правде, иак бы она ни была горька и
трагична. Художник обнажает жесто-
кие стороны только во имя того, что-
бы не исказить правду житии. Дон-
ской следует в этом за Горьким, за
его методом исследования жизни. И
так же, иаи у героев Горького, на эк-
ране раскрываются тайиикн душ чело-
веческих, а которых живут и добро, и
любовь, и надежда, и достоинства. В
фильмах Донского находятся для них
проникновенные, поэтические краски,
возвышающие самое удивительное со-
здание иа земле — Человека. Только
зверь в образе фашиста, растоптав-
ший все, что есть святого, лишен этих
черт. Здесь Донсиой. автор «Радуги,
и «Непокоренных., бескомпромиссен,
и мы высоко ценим эту гражданскую
позицию художника.
В сборнике содержится немало по-
дробностей об «открытки» Донского в
некоторых странах сразу же после
окончания войны, о восторженном
принятии его фильмов отцом итальян-
ского неореализма Росселлини и дру-
гими итальянскими режиссерами, на-
зывавшими Донского в числе своих
учителей.
Часть сборника отдана высказыва-
ниям актеров. Здесь раскрывается од-
на из интереснейших черт Донского —
умение подоврать себе единомышлен-
ников, сотворцов.
Интересная вышла в свет книга.
Немного обидно, что оформлена оиа
скучно и фотографии подобраны не
всегда лучшие. Но главное — читается
книга с удовольствием. Всем будет
она интересна: и профессионалам и
любителям киноискусства.
Г. Марьямов
1»
Лйзуль
(•Седьмая пуля»)
С чего все началось!
Я снимал «Без страха»,
съемки шли уже месяц, а
у меня все не было актри-
сы на роль второй герои-
ни. И уже подходило то время, ко-
гда откладывать эпизоды с ее уча-
стием становилось невозможно.
Снимали мы в кишлаке, поблизости
был пионерский лагерь. Однажды я
отдыхал в тени урюковых деревьев,
а мимо меня с песней шел пионер-
ский отряд. В столовую. Не знаю, по-
чему мое внимание привлекла эта
девочка, но она действительно выде-
лялась среди всех остальных. Она
существовала как бы отдельно ото
всех, в совсем другом ритме, вся по-
груженная в какие-то свои мысли,
тонкая, грациозная, с легкими, длин-
ными руками. И если моя героиня
Кумри должна была нести на себе
печать рока, печать трагического кон-
ца, то и у этой девочки была в обли-
ке какая-то своя особая печать —
печать готовности к встрече с судь-
бой. Как будто она предчувствовала,
даже больше — знала наверняка, что
именно сейчас, в эту самую минуту
жизнь ее круто изменится.
Сразу же после обеда пионерво-
жатая привела девочку к нам на пло-
щадку. Девочка стеснялась, не под-
нимала глаз, кусала ногти, и я понял,
что если сейчас не отвоюю ее у ве-
кового смущения женщины Востока,
то второй героини у меня не будет.
Я понял, что не должен дать ей вре-
мени испугаться. Пока ее гримирова-
ли, одевали к кинопробе, учили с
ней текст, я, как мог, внушал ей, что
кино — это не страшно, что ничего
сверхтрудного здесь нет. Девочка
призналась, что уже давно мечтает
стать актрисой, и я ответил ей, что
сейчас все а ее руках. «Когда ты бу-
pfiun, говорить «Да здравствует осво-
божденная женщина Востока!», у те-
бя на глазах должны появиться сле-
зы. Мы будем снимать три дубля, и
три дубля у тебя при этих словах дол-
жны появляться слезы». Она сделала
это — и все три раза блестяще. Вся
группа следила за ней оцепенев. У
всех было чувство, что сейчас на на-
ших глазах родился настоящий твор-
ческий человек. Актриса. В ней было
столько трепета, чувства, правды, что
казалось, это она жила в двадцатые
годы, это она первой сбрасывала па-
ранджу и сама шла на гибель за то,
чтобы ее сегодняшние подруги учи-
лись в университетах, становились
врачами, учеными, государственными
деятелями.
Так Диля Камбароаа пришла в ки-
но. Было ей тогда 14 лет.
А год спустя я снова снимал ее —
на этот раз уже в главной роли. В
фильме «Седьмая пуля» она сыграла
Айгуль — девочку, которая не раз
приходит на помощь командиру Мак-
сумову а его смертельной борьбе с
бандой Хайруллы. По сценарию Ай-
гуль была загнанным зверьком, ди-
каркой, ожесточенной, резкой, поры-
вистой. Диля вдохнула в этот образ
много искренности, природной непо-
средственности и, главное, поэтич-
ности. Характер, который создала
она, был настолько правдив, убеди-
телен, внутренне завершен, что при-
шлось внести коррективы в сцена-
рий, изменить линию взаимоотноше-
ний Айгуль и Максумова. Максумов
у нас ощущает себя как бы старшим
братом Айгуль, он не хочет связы-
вать ее жизнь со своей. Его судьба
слишком трудна, она вся целиком от-
дана революции, борьбе за будущую
жизнь, за то, чтобы могли любить,
радоваться счастью, сяободе такие
девочки, как она. А ее... ее он так и
не сумел уберечь в этой жестокой
схватке.
Для того, чтобы сыграть эту роль,
Диле Камбароаой пришлось обучить-
ся верховой езде (она овладела ею
прекрасно), а также обращаться С
оружием. 8 15 лет она работала на
площадке с такими великолепными
мастерами, как Суйменкул Чокморов,
Хамза Умаров, НурмухагГ Жантурин.
Они все полюбили ее, помогали ей,
они увидели в ней достойного и ин-
тересного партнера. Даже свободные
от съемок дни она проводила на пло-
щадке, сидела у кинокамеры, смот-
рела, как работают ее старшие кол-
леги. Она начала всерьез готовиться
к своей будущей актерской профес-
сии — смотрела фильмы, много чи-
тала.
Роль Айгуль Диля, как и все другие
свои роли, озвучивала сама. Работа-
ла она в паре с таким великолепным
мастером дубляжа, как Алексей Кон-
соеский. Он был поражен ею. Она не
просто озвучивала, она заново проиг-
рывала свою роль, жила ею с той же
полнотой, той же самоотдачей, что и
на съемочной площадке. Диля вооб-
ще актриса первого дубля. С ней не
надо репетировать, не надо расплес-
кивать то чувство, которым она спо-
собна наполниться в работе над ро-
лью — надо только подготовить ее, и
тогда, уже прямо в момент съемки,
она способна проявить такую силу и
глубину переживания, какую нельзя
восполнить никакой актерской техни-
кой.
Специально для нее Андреем Ми-
халковым-Кончаловским и Александ-
ром Адебашьяном был написан сце-
нарий «Поклонник» по рассказу моло-
дого узбекского писателя Уткура Ха-
шимова «Любовь». Это история о де-
вочке из кружка самодеятельности, о
сельском мальчишке-фотографе, о
том, как у них возникает первое чув-
ство. Диля создала здесь образ, со-
всем непохожий на ее прежние ро-
ли,— очень лирический, нежный,
своеобразный.
В одной из сцен Диля исполняла
индийский танец. Когда я снимал эти
кадры, то не предполагал, что когда-
нибудь буду показывать «Поклонни-
ка» в Индии. Но случилось, что имен-
но с «Поклонником» и еще с «Седь-
мой пулей» мне довелось поехать в
эту страну по приглашению Ассоциа-
ции кинорежиссеров юга Индии. Я
показывал свои фильмы в Мадрасе,
Бангалуре, Кочине и других городах.
Диля повсюду пользовалась огром-
ным успехом. А индийский танец в ее
исполнении вызывал всеобщий вос-
торг.
Я слышал много самых горячих
слов об ее игре, ее приглашали в Ин-
дию, индийские режиссеры предла-
гали ей участие в своих картинах. Ди-
лю полюбили и в других странах —
в ГДР, в Египте, в Сирии.
Сейчас на счету у актрисы Дило-
ром Камбароаой еще две роли — од-
на, небольшая, в фильме Э. Хачату-
рова «Этот славный парень» и дру-
гая — в только что завершенной боль-
шой двухсерийной картине Шухрата
Аббасова «Бнруни» — о великом уче-
ном восточного средневековья. Диля
сыграла здесь роль Рейханы — лю-
бимой ученицы Бируни, бывшей не-
вольницы, которую он выкупил, пора-
зившись ее уму, ее познаниям в аст-
рономии, математике, истории. Рей-
хана— образ для Дили новый. Впер-
вые она играет не девочку, а женщи-
ну, уже умудренную опытом жизни,
наделенную не только чувством, но
страстным разумом и огнем таланта.
Диле теперь предлагают разные и
интересные роли, но пока она не сни-
мается нигде. Этот год должен мно-
гое решить в ее жизни. Ей только
что исполнилось семнадцать лет. Она
кончает школу. Ей предстоит вы-
брать, в какой институт поступать. Вы-
берет ли она ВГИК или какое-либо
из театральных училищ Москвы и
Ташкента, или будет поступать в Таш-
кентский университет на Восточное
отделение, посвятит ли она себя
только искусству или станет филоло-
гом, я уверен, что кинематограф на-
всегда останется делом ее жизни, ее
призванием, ее счастьем. И верю, что
из нее вырастет очень хороший че-
ловек, очень счастливый. А актриса...
актрисой она уже стала.
Али Хамраев,
режиссер
Z0
«СИБИРСКИЙ ДЕД»
•Это нужно для революции»...
Вот фраза, которая определяет по-
ведение главного героя фильма,
легендарного полководца Нестора
Каландаришвили и его боевых со-
ратников. Встретивший революцию
в далекой Сибири, он все время
рвался в родную Грузию, готовил-
ся к встрече с ней, но шла граж-
’ дакская война, молодой Советской
республике грозила опасность, и
для революции было нужно, чтоб
Каландаришвили сражался в Сиби-
ри. Фильм воспроизводит этот по-
следний этап биографии героя, не-
сколько суровых, романтических
лет его жизни, оборвавшейся мар-
товским утром 1922 года, когда
командующий войсками Якутии и
Северного края Нестор Иаландари-
I швили погиб в коротком бою с бе-
логвардейской засадой.
Сценарий С. Жгенти, режиссер
Г. Калатозишвили, оператор
Д. Схиртладэе. Производство сту-
дии «Груэия-фильм*. В ролях:
Д. Абашидзе. Г. Пирцхалава. Ю. На-
заров, Ж. Прохоренко и другие.
«ХЛЕБ ПАХНЕТ
ПОРОХОМ»
В этом фильме вы увидите не-
мало событий, уже известных нам
и по истории и по многим другим
историко-революционным лентам.
Грозное лето 1918 года. Голод, раз-
руха, толпы беженцев на железно-
дорожных станциях. Политическая
обстановка накалена: левые эсеры
готовят мятеж против молодой Со-
ветской республики. Впрочем, мно-
гие известные нам по истории
факты в этом фильме лишь упомя-
нуты. Главное же внимание авто-
ров сосредоточено на драматичней-
шей борьбе, развернувшейся в ма-
ленькой Орше вокруг 36 вагонов
хлеба, отправленных по указанию
Ленина для русских военноплен-
ных в Германии. Этот хлеб, кото-
рый страна с огромным трудом
оторвала от себя, открывает глав-
ному герою фильма, бывшему пра-
порщику царской армии Лукаше-
вичу, глаза на положение в стра-
не. За этот хлеб, который должен
дойти по назначению, борются и
' умирают солдаты революции. Этот
। хлеб пахнет порохом...
Сценарий И. Шамякина. режис-
сер В. Никифоров, оператор Э. Са-
дриев. Производство киностудии
«Беларусьфильм». В ролях: В. Са-
мойлов. С. Сазонтьев, М. Кокшенов,
Г. Георгиу и другие.
«НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН»
Несмотря на название фильма,
в центре его — человек честный.
Однако по причине крайней наив-
ности и мягкосердечия парикмахер
Тютюрин все время попадает в са-
мые нелепые ситуации. Ни жена,
ни сослуживцы, конечно же, не ве-
рят в правдоподобие его каждо-
дневных приключений. Вот-вот
грянет скандал...
Но по законам жанра музыкаль-
ной лирической комедии «под за-
навес» картины все недоразумения
разрешаются и герои находят об-
щин язык...
Сценарий Я. Костюковского, М.
Слободского. режиссер В. Аза-
ров, оператор М. Дятлов. Производ-
ство киностудии «Мосфильм». В
ролях: Г. Вицин, В. Этуш, И. Мака-
рова, Э. Пьеха и другие.
«СОЛЕНЫЙ ПЕС»
В середине фильма в сюжете
намечается четкий треугольник:
он, она и собака, ревнующая свое-
го хозяина к девушке. Потом,
правда, начинается другой рас-
сказ — о драматичной судьбе соба-
ки, ноторая потеряла своих дру-
зей-моряков в чужом городе, а
спустя несколько месяцев нашла
их. Главный герой всех этих исто-
рий, рыжий пес по нличие Соле-
ный, настолько симпатичен, что он
не может не полюбиться детскому
зрителю.
Сценарий Ф. Кнорре, режиссер
Н. Кошелев, оператор А. Гамбарян.
Производство киностудии «Лен-
фильм». В ролях: В. Меньшов,
Т. Шестакова и другие.
ии™1-ПО ЭКРАНАМ
Эти фильмы намечены к выпуску
мальчик пристрастился во время
прогулок по торфяным болотам
Знакомство с полковником, тоже
одиноким и тоже очень любящим
животных. И, наконец, происшест-
вие с белым жеребенном. Он про-
валился в трясину и вот-вот погиб-
нет. Потрясение, испытываемое
мальчиком, столь велико, что он
наконец-то обретает дар речи...
Сюжетные ходы фильма легко
угадываются, но это не значит, что
он не способен растрогать зрителя:
ведь очень дороги те духовные
ценности, о которых стремится на-
помнить фильм.
Сценарий Д. Рук, режиссер
Р. Сарафьян, оператор У. Купер.
Производство «Ирвинг Аллен Лими-
тед Коламбия Пинчере», Англия.
В ролях: Д. Миллз. С. Синз, Г. Джек-
сон, М. Лестер и другие.
•Сибирский
дед»
«Хлеб пахнет
порохом»
«СВАДЕБНОЕ
ТАНГО»
Нений элегантный человек и
его молоденький компаньон не-
престанно путешествуют.
Привлекательные пейзажи
мелькают за окнами поездов, сме-
няются роскошные отели и особ-
няки, фешенебельные курортные
местечки... Столь же молниенос-
но происходят встречи и расстава-
ния с очаровательными женщина-
ми, для которых всегда наготове
и слова любви, и предложение ру-
ки и сердца, и пластинка со сва-
дебным танго.
Конечно же, черта будет подве-
дена и похождения брачных афе-
ристов — героев этой современной
бытовой комедии закончатся весь-
ма плачевно.
Сценарий И. Билшу, Д. Сайзе-
ску, режиссер Д. Сайзеску, опера-
тор Д. Корня.
Производство киностудии «Бу-
харест». Румыния. В ролях: Д. Ра-
дулеску, С. Пап«зяни и другие.
•Соленый
пес»
< Неисправимый
лгун»
«ПАЛ ЦВЕТОК
СЛИВЫ»
Цветок сливы. Как поэтично это
звучит! Но у героев фильма это
словосочетание не вызывает поэти-
ческих ассоциаций. Цветои сли-
вы — это знак диверсионной груп-
пы, обнаруженной органами Гос-
безопасности в Северной Корее.
«Сливе» недостает пятого лепестка,
то есть, другими словами, группа
ждет прибытия нового агента. Пор
видом этого агента и проникает в
стан врагов сотрудник органо.
Госбезопасности Сон Ю.
Таким образом, в фильме ис-
пользован обычный для детекти-
вов сюжетный мотив, когда развед-
чик действует среди окружающих
его врагов под чужой фамилией. Си-
туация эта обычно требует от глав-
ного героя немало выдержки, изоб-
ретательности. Сои Ю обладает
всеми этими качествами в полной
мере и выходит победителем из са-
мых трудных положений.
Сценарий Мин Вен Сон. режис-
сер Рю Хе Сон. оператор Цой Тхе
Кук. Производство киностудии
художественных фильмов КНДР. В
ролях: Ким Чжон Сик. Ким Рен
Чжо и другие.
•Беги, малыш,
беги!»
•Пал цветок
сливы»
«БЕГИ, МАЛЫШ, БЕГИ!»
Этот фильм обладает всеми при-
метами трогательной детсиой мело-
драмы, рассчитанной, впрочем, не
только на маленького, но и на
взрослого зрителя. Мальчик, поте-
рявший в двухлетнем возрасте дар
речи. Его одиночество в семье.
Дружба с животными, и которым
Кроме того, на жраны выйдут
фильмы: «Каждый день доктора
Калинниковой» (см. этот номер
«СЭ»), «Дела сердечные» (см. «СЭ»
№ 7), историческая лента «Дмит-
рий Кантемир», посвященная вид-
ному молдавскому государствен-
ному деятелю и просветителю на-
чала XVIII века.
Среди зарубежных картин:
остросоциальные ленты «Девушка-
цветочница» (КНДР) — о юной
крестьянке, протестующей против
власти помещиков, и «Бомаск»
(Франция) — о борьбе рабочих за
свои права; мелодрама «Моло-
дежь в бурю» (АРЕ), в центре ко-
торой судьба молодой девушки,
комедия о любви «Снимай шляпу,
когда целуешь!» (ГДР), приклю-
ченческая повесть «Тайна серебря-
ного озера» (ФРГ), рассказываю-
щая о поисках древних сокровищ,
и два чехословацких фильма — де-
тектив «Персональное задание» и
веселый рассказ для детей «Шесть
медведей и клоун Цибулька».
i .1
• Тарарушки» — так зовут
токарную мелочь в селе
Полоховском Майдане,
Горьковской области.
Восемьсот дворов в Майдане —
и в каждом расписывают
деревянные игрушки,
веселые, яркие, очень
похожие на тех,
кто в них играет
Вы видите кадры из фильма
«Родники творчества». Об ис-
кусных народных мастерах —
гончарах и резчиках по дереву,
ковровщиках и кружевницах,
об удивительных, редких на-
родных промыслах рассказы-
вает он, о веселЬм, добром ис-
кусстве
Игрушки восьмидесятилетней
сказительницы Ульяны Ива-
новны Бабкиной побывали на
многих выставках мира.
Кони, барашки, олени,
птицы Сирин, Медведка —
фантастические герои ее сказок
«РОДНИКИ ТВОРЧЕСТВА»
О фильме читайте
на стр. 18.
Таджикистан.
Кишлак Гумбулак.
Как позтическое предание
старины хранится здесь
искусство лепной посуды...
Вылепить сосуд может
только мастер, а расписать —
каждый местный житель
Заслуженный мастер,
член Союза художников
У сто.Матчанов хранит
потомственное искусство
поливной керамики.
Его отец строил лазурные
купола.
Гончар Усто-Матчанов
реставрирует узоры,
разрушенные временем,
переносит их на свои чаши