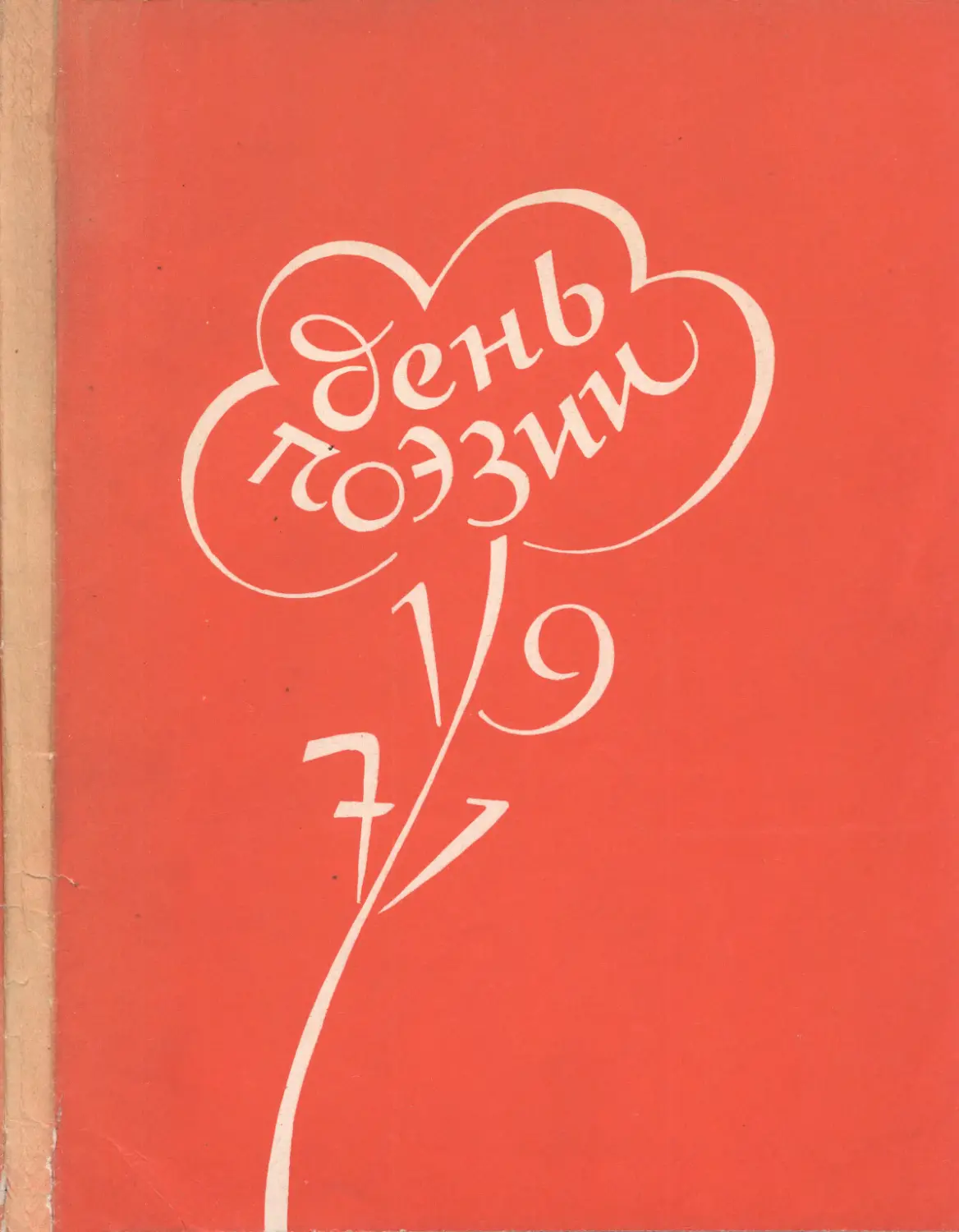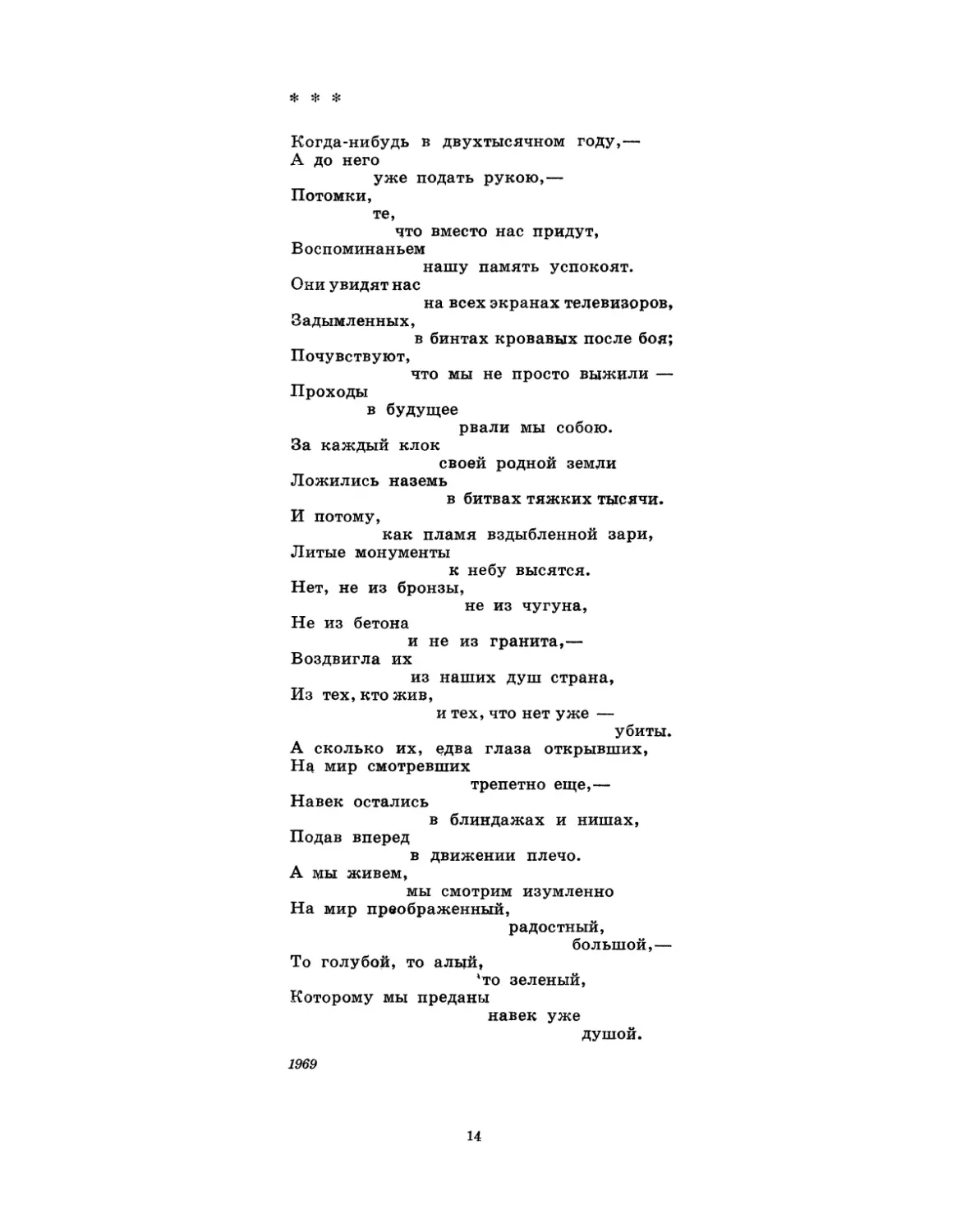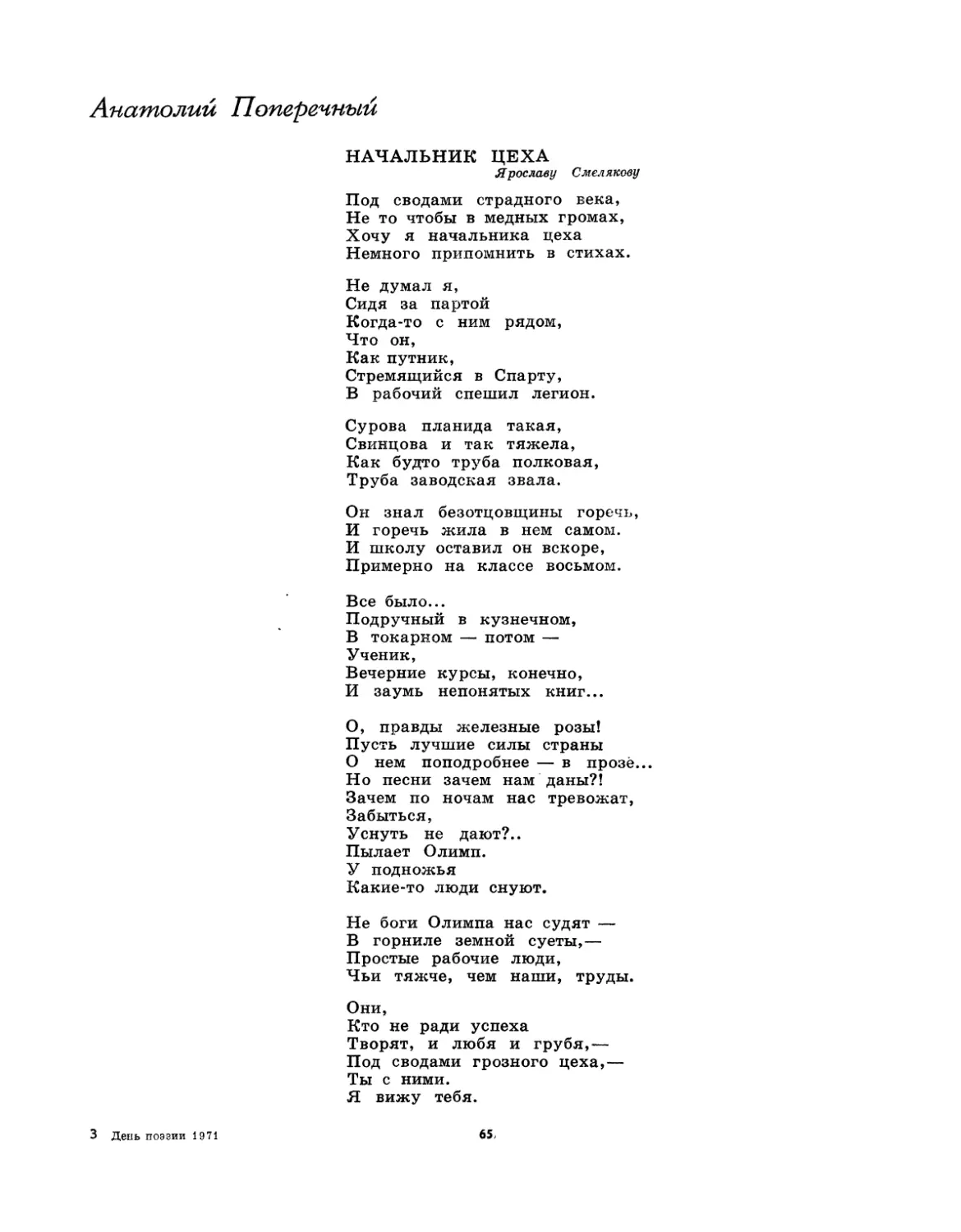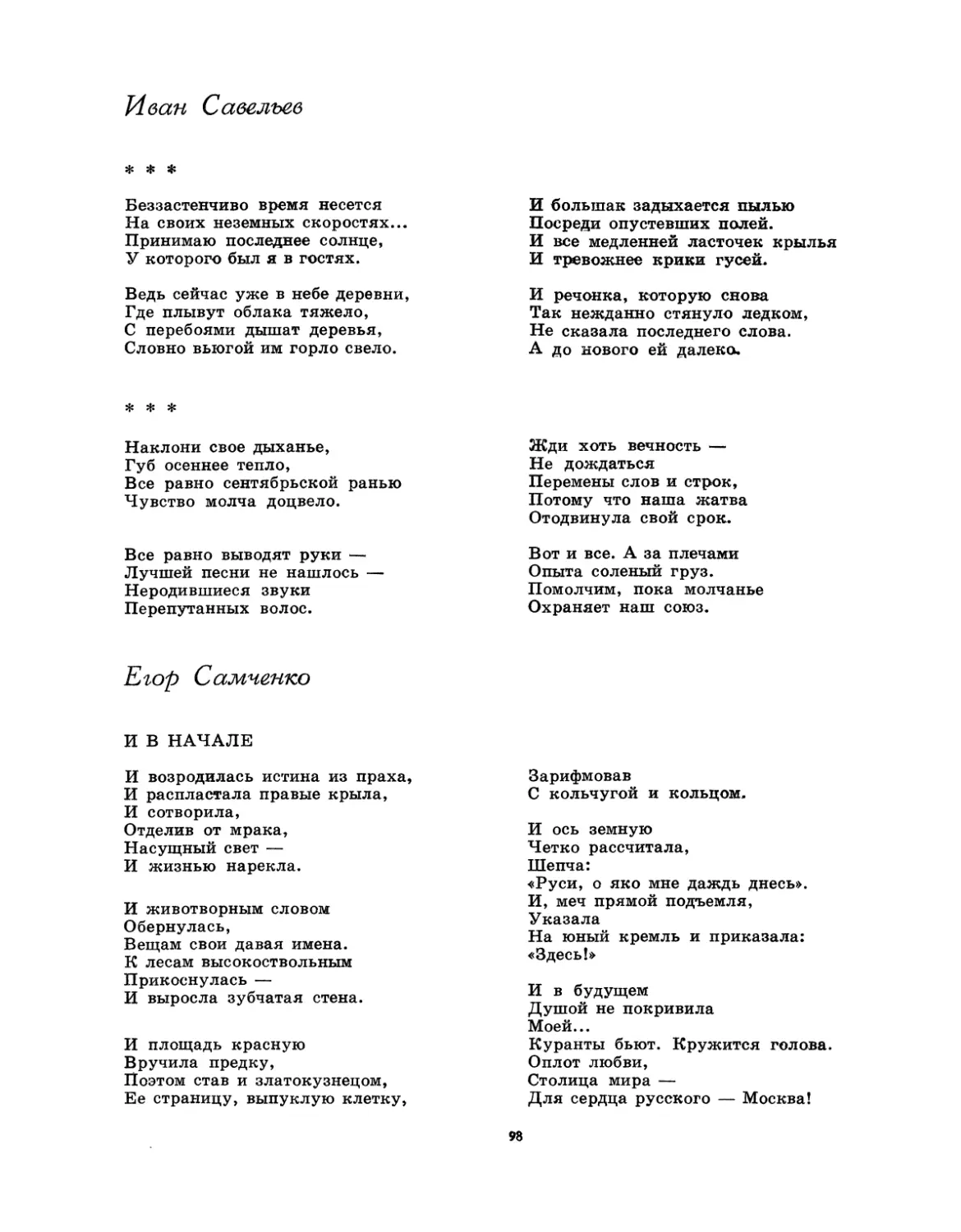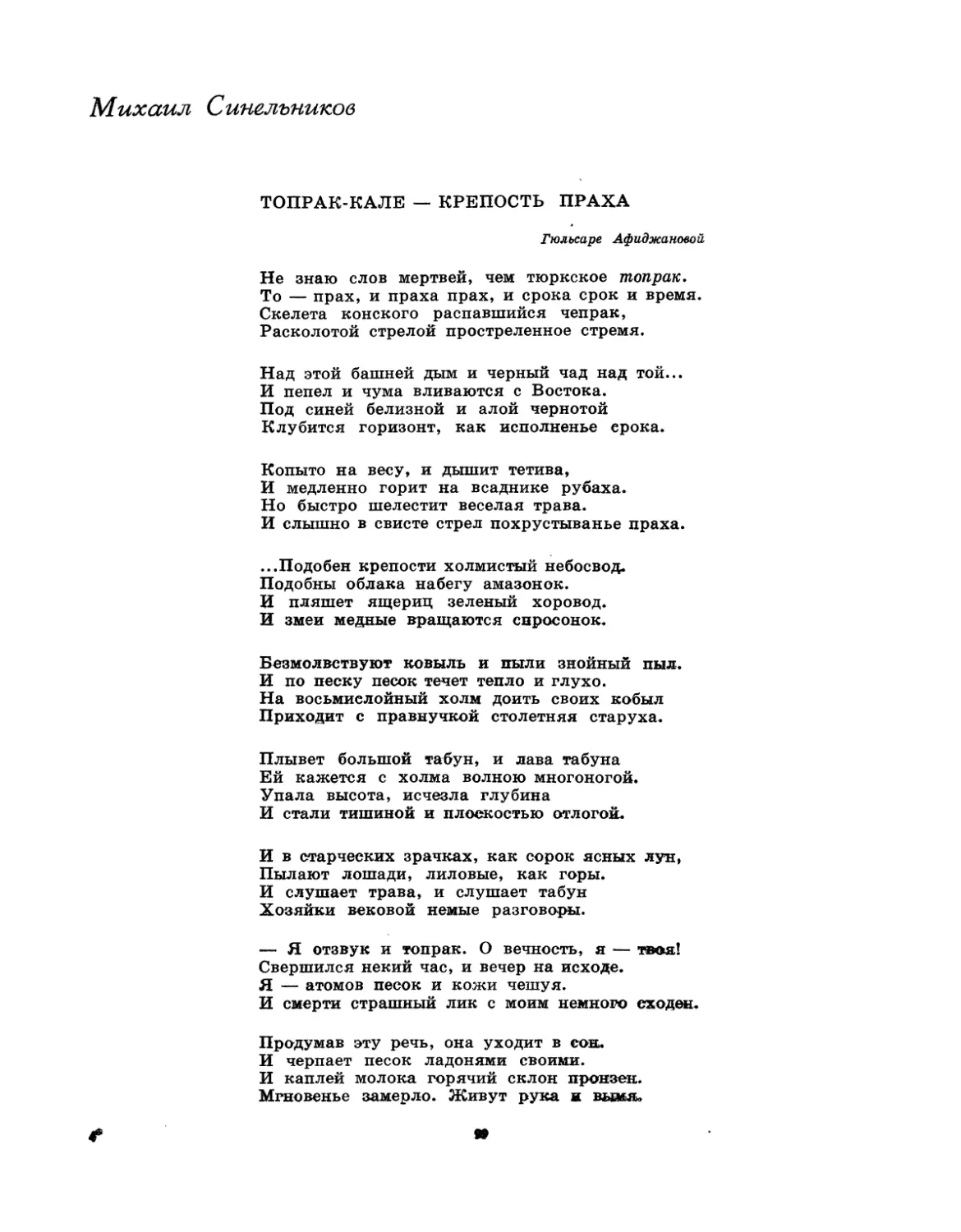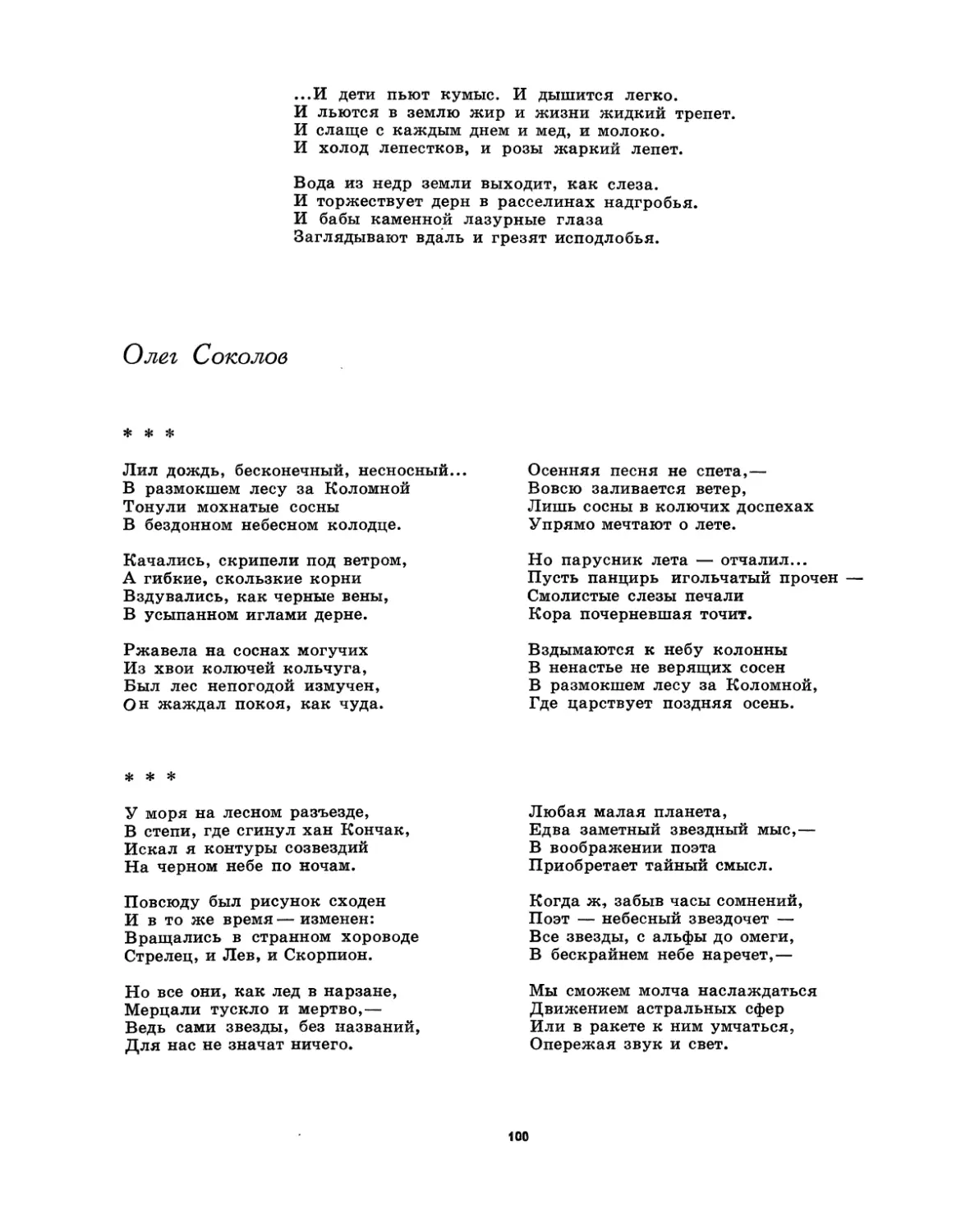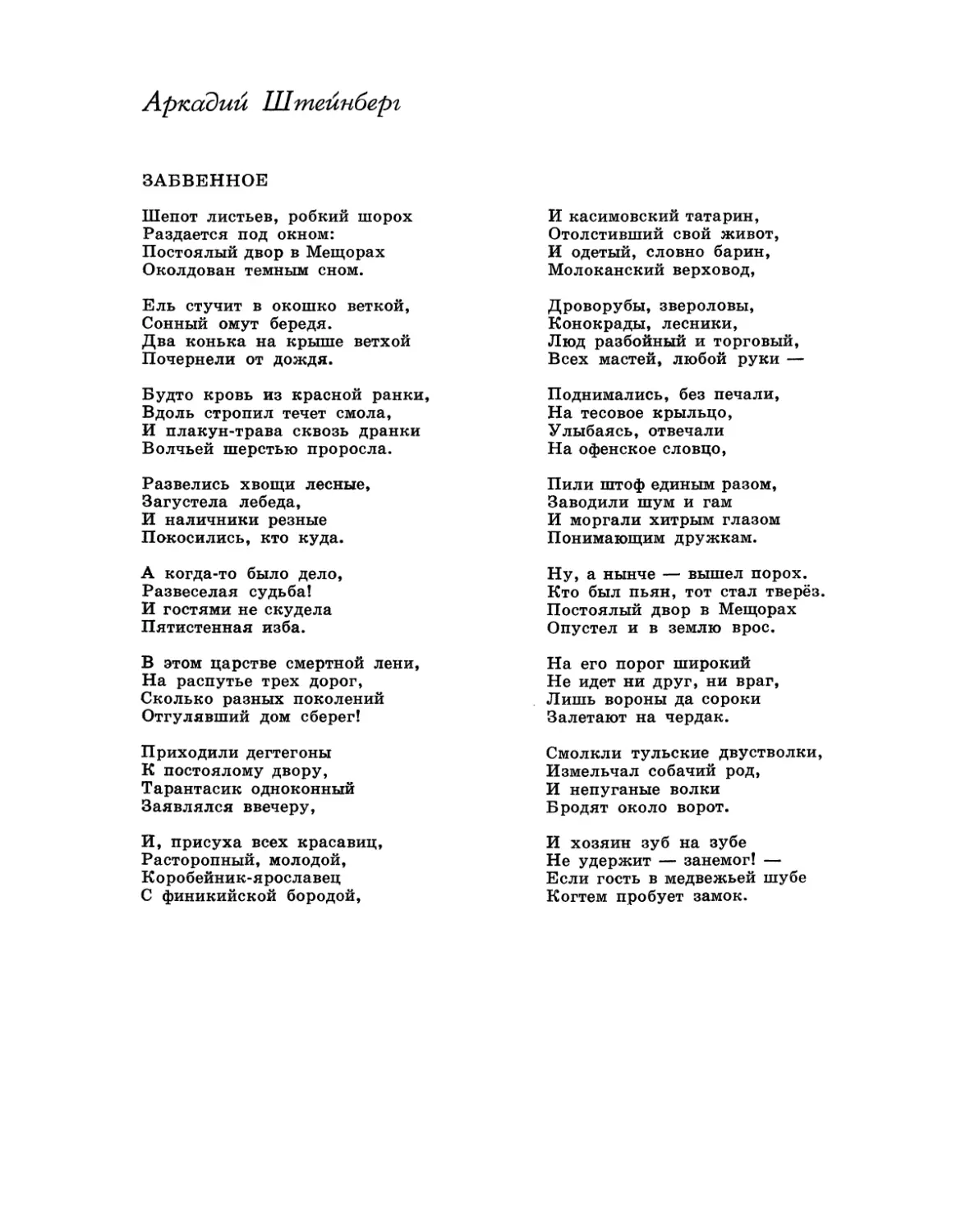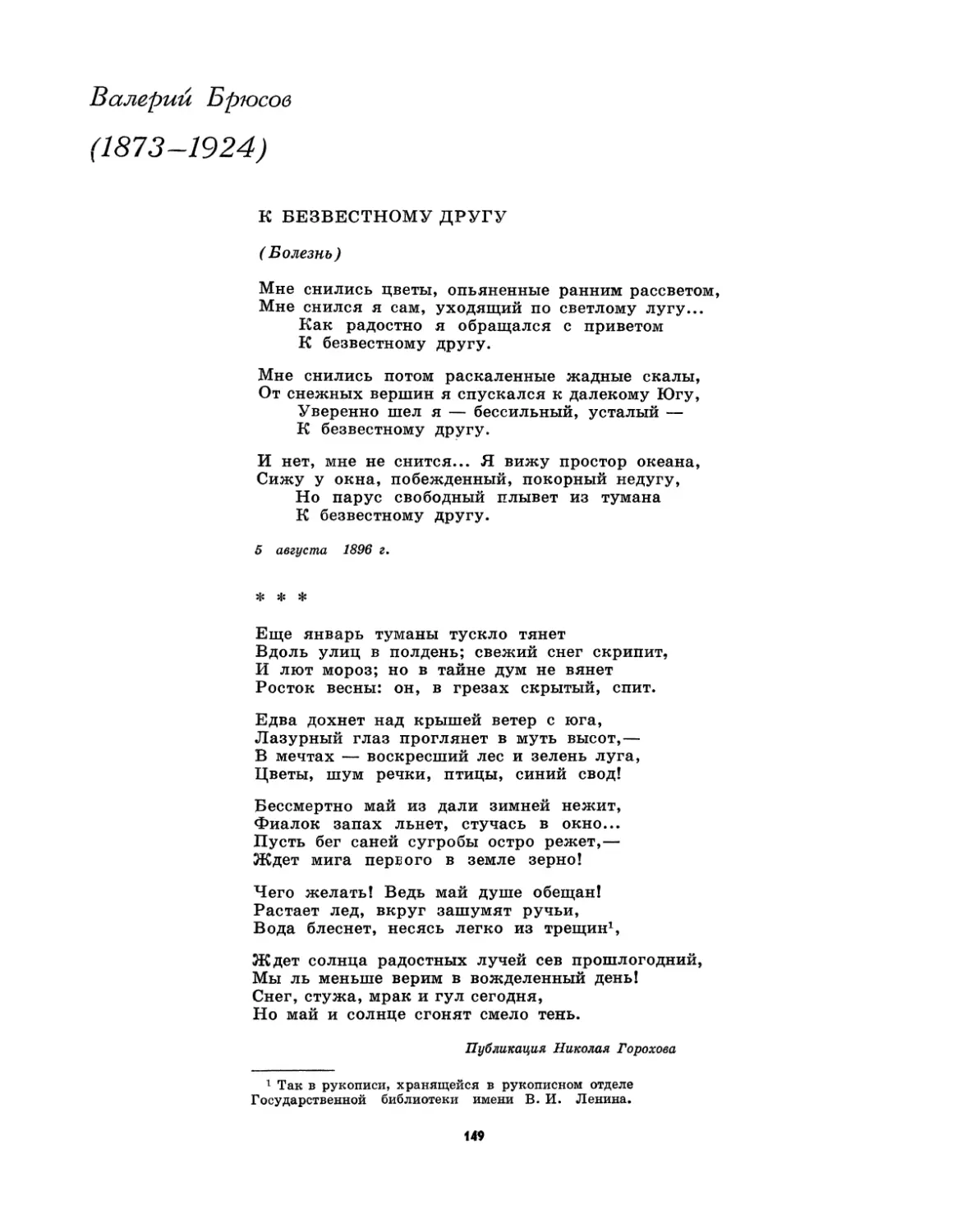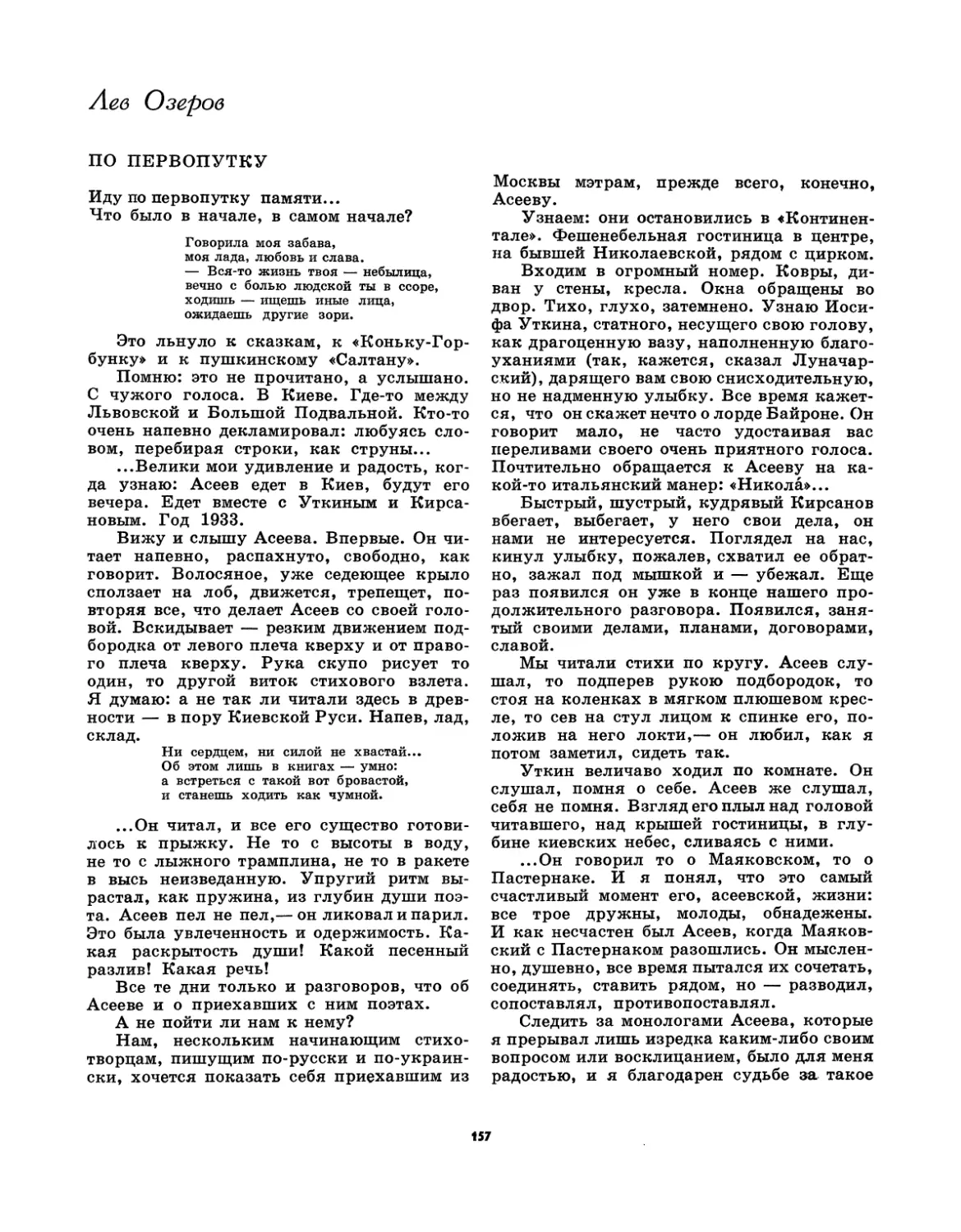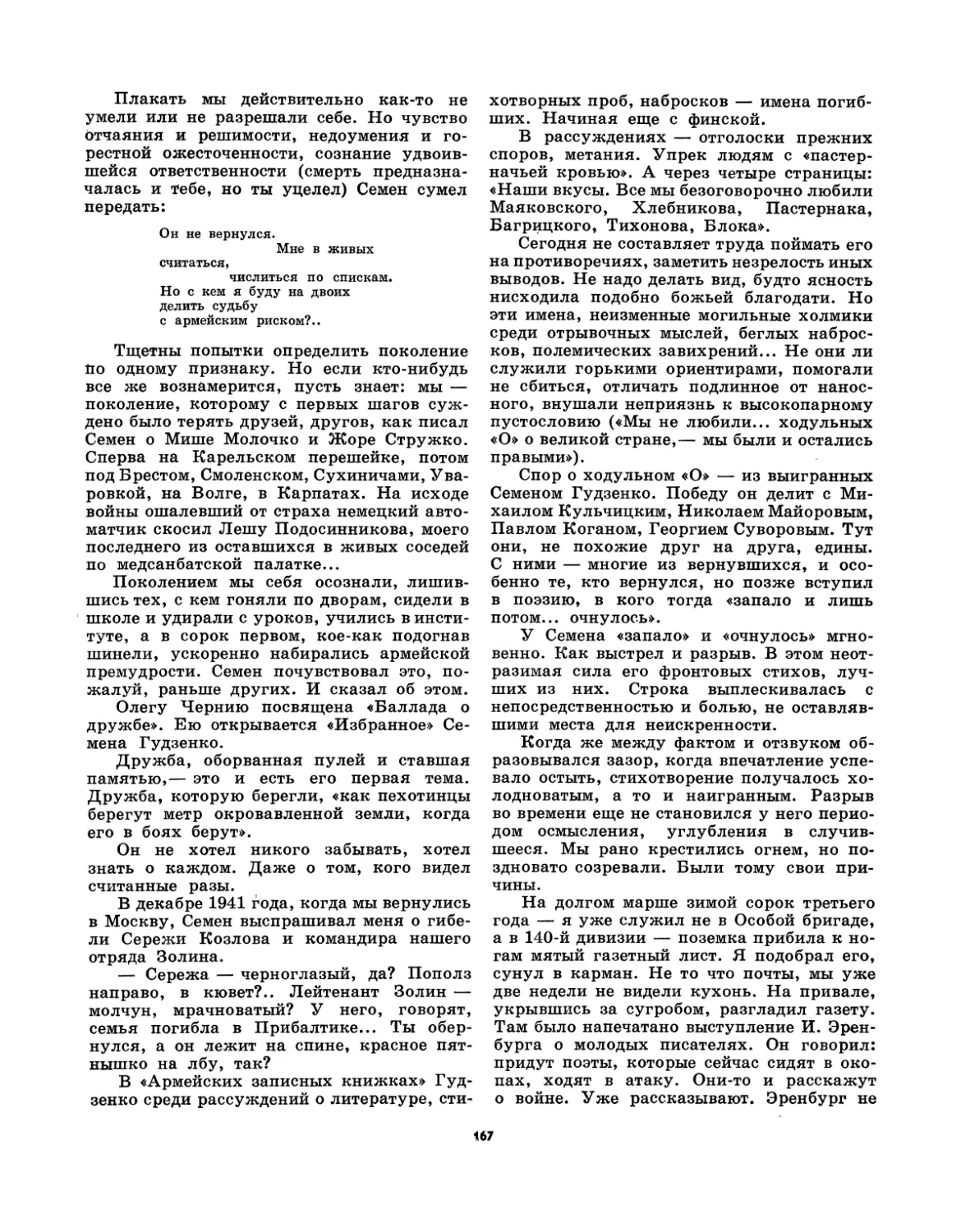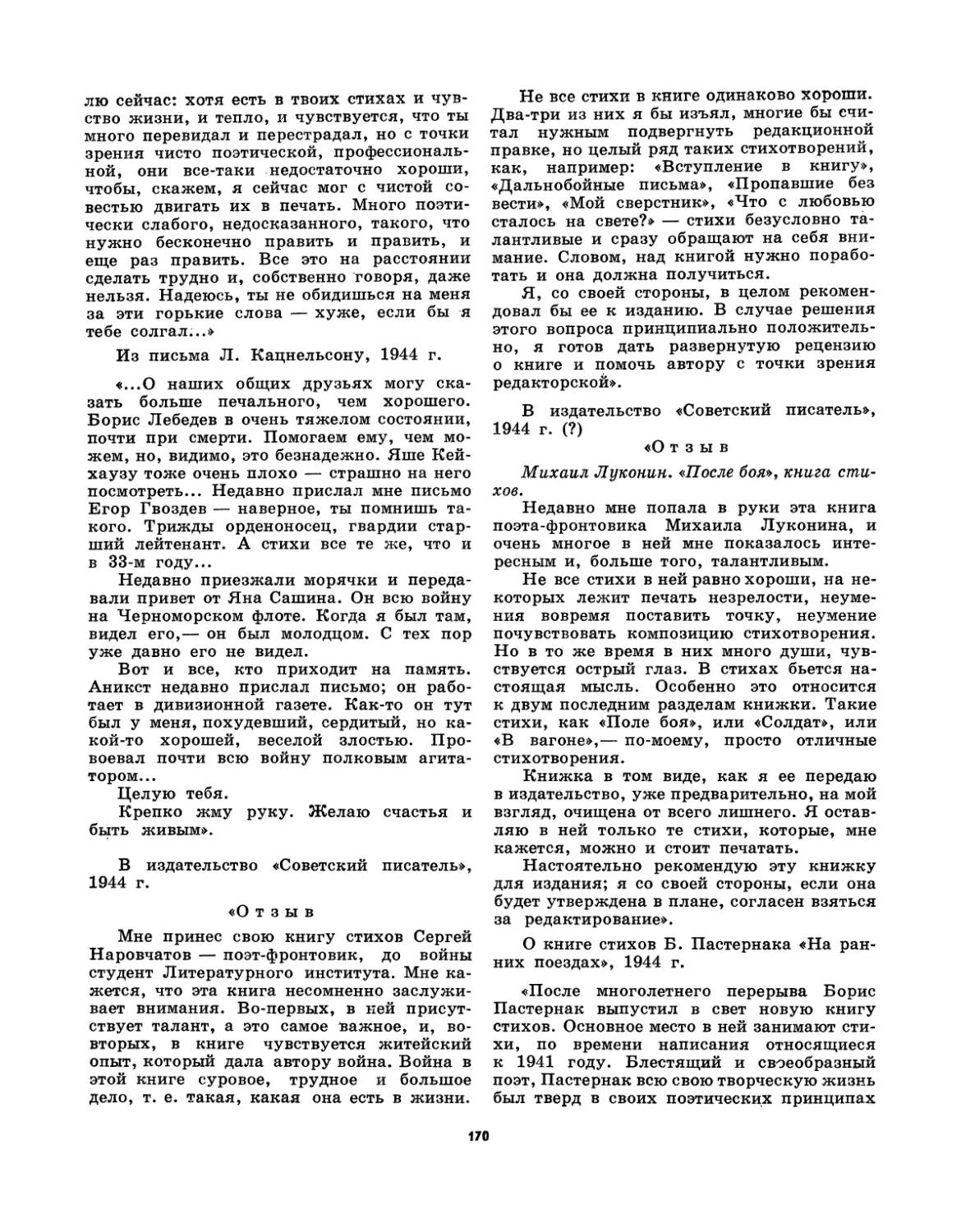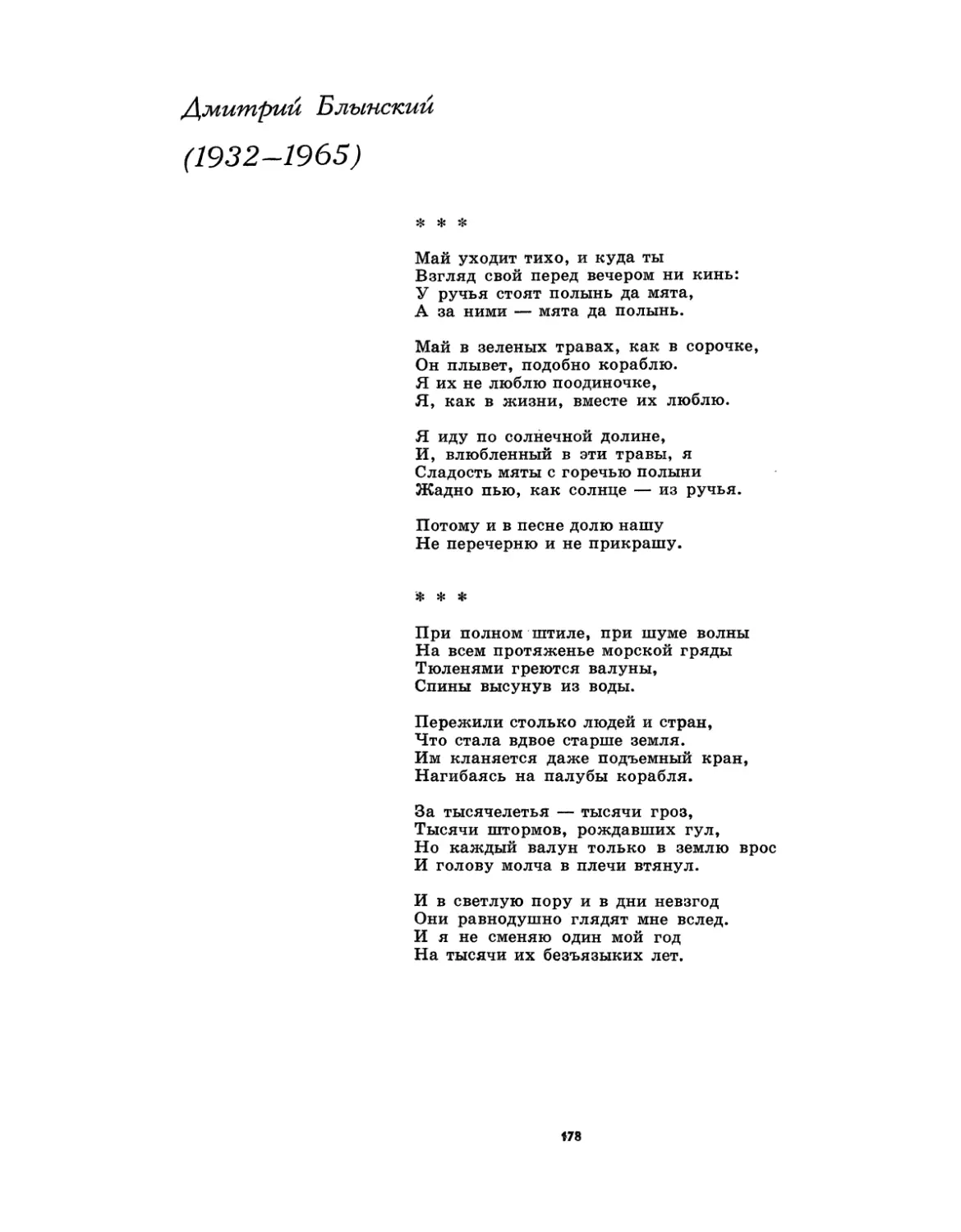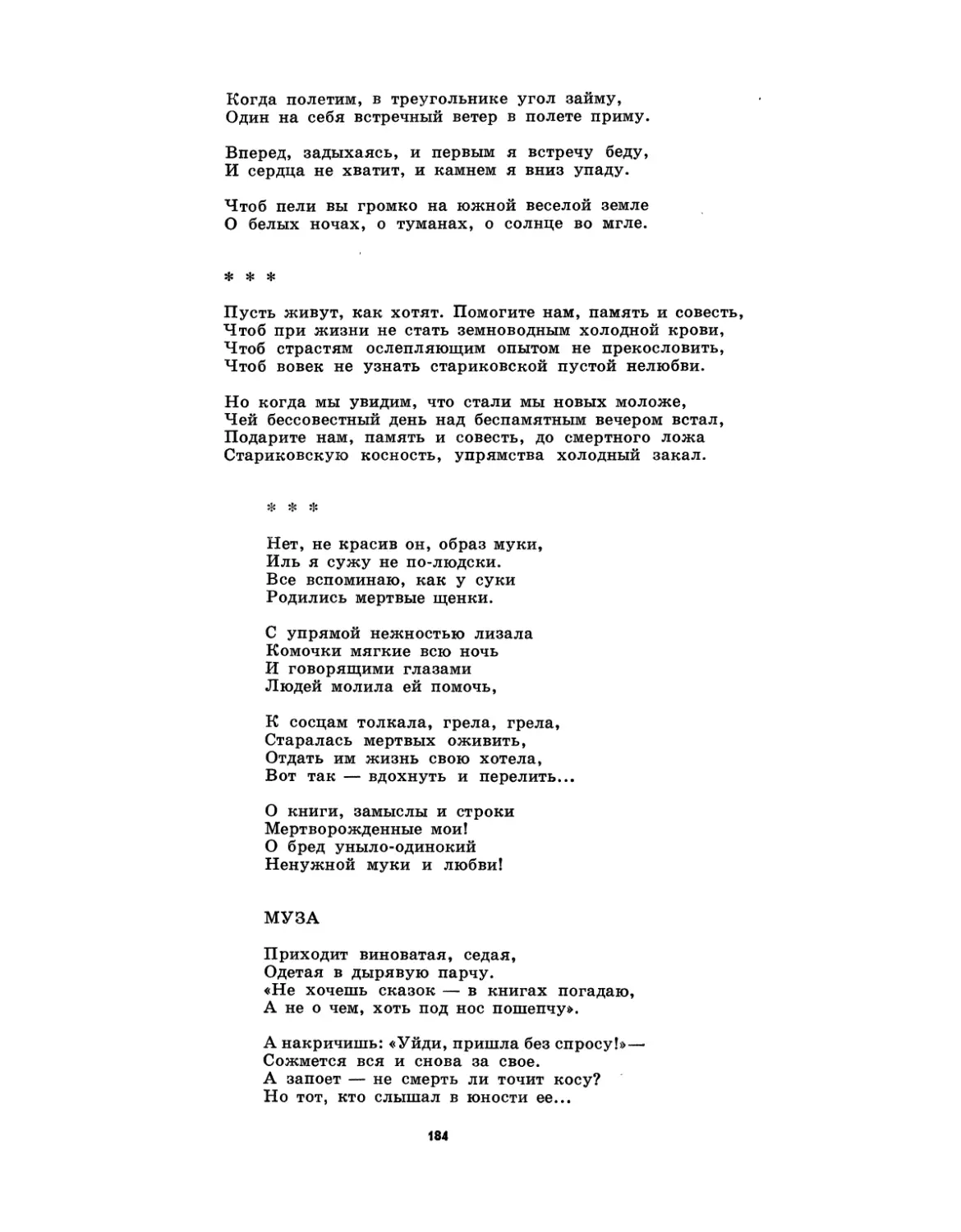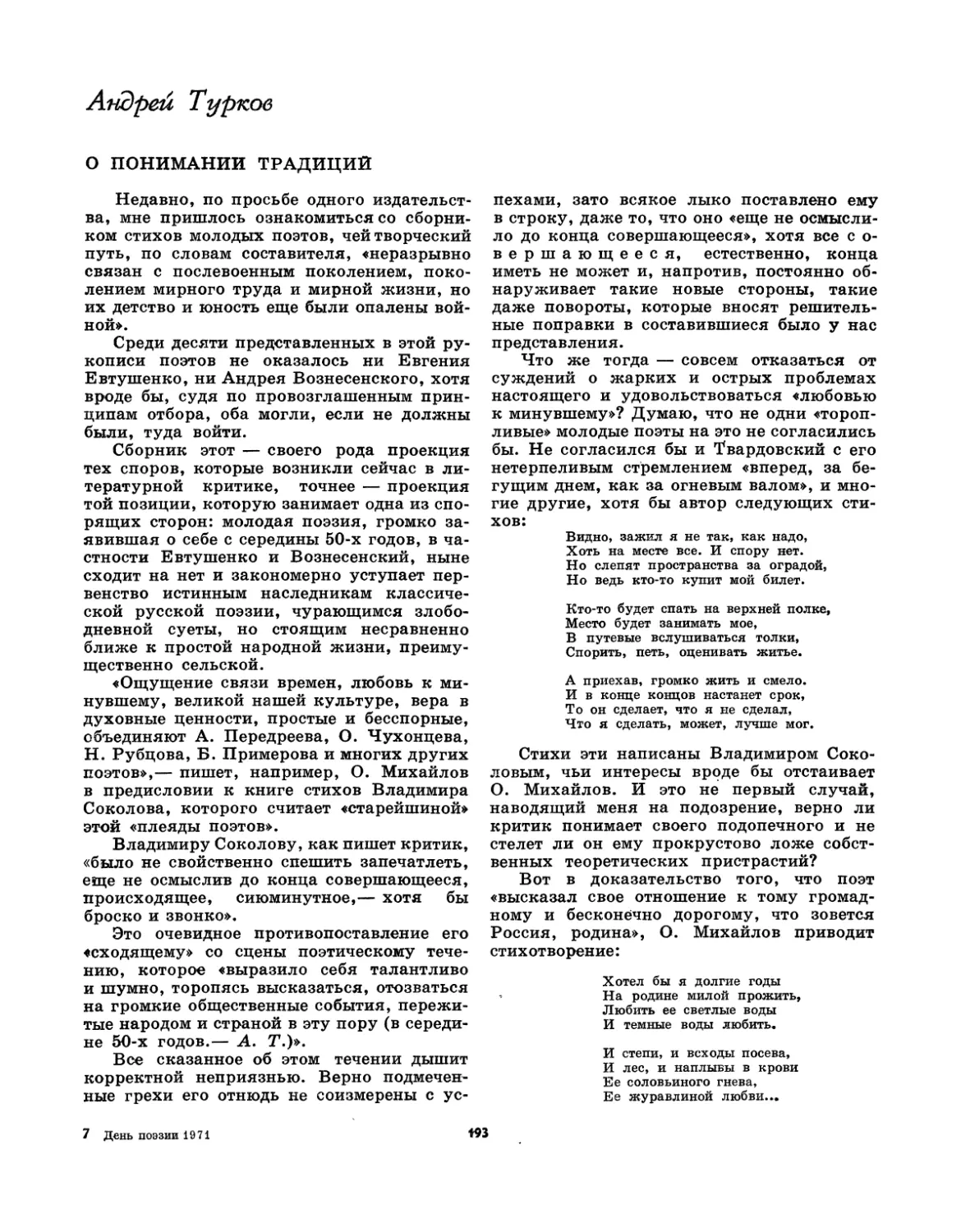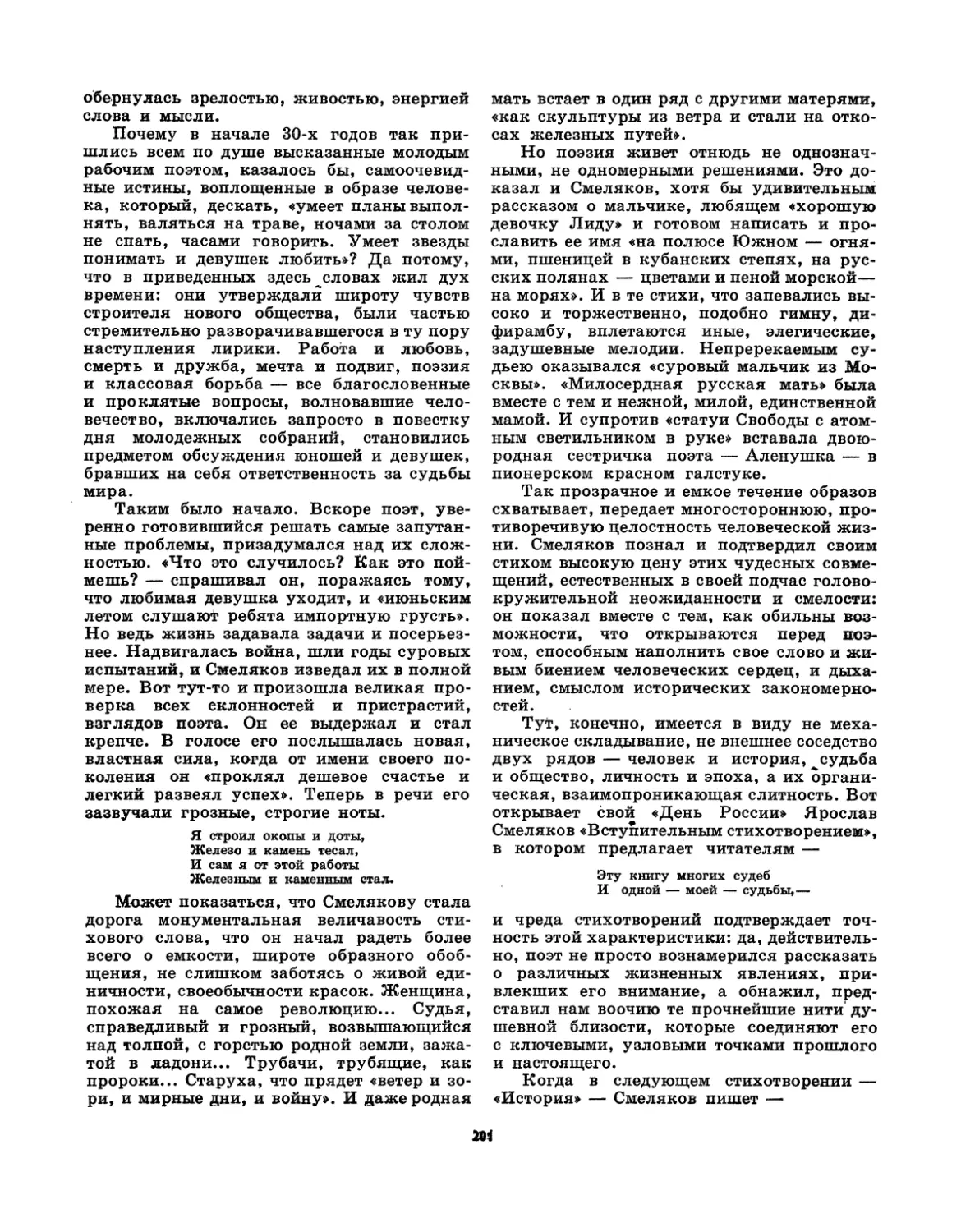Текст
19?)
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА
Главный редактор: В. ЦЫБИН
Редколлегия: К. ВАНШЕНКИН, И. ГРИНБЕРГ,
О. ДМИТРИЕВ, Р. КАЗАКОВА,
Д. КОВАЛЕВ, С. КУН Я ЕВ, М. ЛЬВОВ,
В. ОГНЕВ
Составитель: Т. ЖИРМУНСКАЯ
ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
Пятнадцать лет назад по инициативе поэта Владимира Лугов-
ского впервые вышел сборник «День поэзии», куда вошли стихи,
написанные московскими поэтами в 1956 году.
С тех пор стало доброй традицией — каждый год, осенью, во
всех городах нашей страны проводить День поэзии. Это большой
праздник любителей поэзии, на котором прославленные и только
начинающие свой путь поэты встречаются со своими читателями.
Сборник «День поэзии» — это своеобразный отчет московских
поэтов перед всесоюзным читателем в гражданственности, в своей
активной причастности к творчеству всего народа.
Год 1971 — год XXIV съезда партии, год, который вся страна
отмечает новыми трудовыми победами.
Русские поэты Москвы и других городов нашей Родины в своих
стихах стремятся откликнуться на самые животрепещущие вопросы
нашей современности, стремятся воспеть трудовые подвиги народа,
духовное богатство нашего человека.
Сборник «День поэзии 1971» открывается разделом «В пути»,
где собраны циклы уже известных авторов, представителей всех
активно работающих в поэзии поколений.
В разделе «Начало» читатель встретится с именами новыми,—
в этом году в Москве проводилось совещание молодых писателей,
с участниками которого мы и знакомим читателей.
Надеемся, читатель не посетует на нас и за раздел «Вереница».
Это как бы вечер одного стихотворения — характерное для нашей
поэзии разнообразие тем, мотивов, настроений.
Традиционный раздел сборника посвящен мемориалу. В нем
собраны строфы мастеров прошлого, стихи наших товарищей,
недавно ушедших из жизни, воспоминания о поэтах, чьи стихи
звучат и сегодня.
Николай Тихонов
СТЕПЬ
Волнистая, цветная, огневая,
Ковыльная, качаясь и шурша,
Пленительная, звонкая, живая,
Как чеховская повесть, хороша...
Но той зимою ты была прекрасней,
Когда во тьме морозной, в поздний час,
По мерзлой зыби за ракетой красной
Шли наши танки, тяжко грохоча.
Дымилися руины Сталинграда,
Но, каждою минутой дорожа,
Стальной таран, ломая все преграды,
К Тацинской путь, в тылы врага, держал.
В огне пожаров, взрывами палима,
Твой голос бою эхом отвечал,
Ты хороша была неповторимо
В тех раскаленных добела ночах.
Светясь снегами в этой огнеломне,
Звеня своим замерзшею травой,
Такой тебя навек танкист запомнил,
Откинув крышку башни боевой.
СТАРЫЙ КОННИК
Он сидит, легендами овеян,
И в окне вечерние видны
Облака, как старые трофеи,
Тронутые солью седины.
Где-то в песнях шелестят знамена,
Кони бьют копытом на заре.
Дни идут, как шли во время оно.
Что сегодня там, в календаре?
Календарь же времени иного,
Что сегодня сообщает он:
«Конною Буденного — восьмого
Января Ростов освобождёй».
Да, тому полвека миновало,
Город цел — не взорван, не сожжен,
Враг разбит, и взято в плен немало,
Ленин рад: Ростов освобожден!
А теперь идти на белопанство,
С белыми кончать их заодно...
Меркнет тихо вечера убранство,
Точно в даль истории — окно.
«Что коней летящих благородней,
Что прекрасней лавы огневой!
Даже шпор нет в армии сегодня,
Конь свершив великий подвиг свой!»
...Облака идут, как эскадроны,
В лунном и бессмертном серебре.
Где-то в песнях шелестят знамена,
Кони бьют копытом на заре...
БЕЛАЯ ВЕЖА
Белая Вежа —
Врата на Восток,
С моря дует свежий
Цимлянский ветерок.
Утро ли брезжит,
Ночь ли при луне,
Белая Вежа
У моря на дне.
Ее бытие,
Ее век миновал.
Когда-то ее
Святослав воевал.
Й люди Здесь жили,
Стояли дворцы,
УмеЯьЦЫ творили,
Шумели купцы.
А ныне лишь свежий
Ёётёрок на волне,
А Ёелая Вежа
У моря на дне.
Над степью живет
Пароходный гудок,
У шлюзных ворот
Шумит городок.
Бахчи и поля,
Тишина и зной,
Не помнит земля
Картины иной.
И что ей до Белой
Вежи на дне,—
Век новый и смелый
В труде и в огне.
Идут теплоходы,
И плещет вода,
Где были народы
И города.
И волны беспечно
Шумят в тишине.
Великая вечность
Спит на дне!
* *
Сквозь мелькающий снег
И зазывное пенье метели
Белопенное буйство я вижу
Цветущих садов,
Снежнокрылые строки,
Что, как птицы, с карниза слетели,
Опьяненные гулом
Неведомых мне городов...
Возвращается молодость
В платье другого по*фой,
С незнакомою песйёй
Проходит сквозь вьюгу она,
И немая луна,
Как умершего маска героя,
Над землею висит
В прозаическом отблеске сна.
Вешний шепот деревьев...
Откуда явилось такое?
Вьюги нет. Теплый ветер
Шумит у виска,
И над спящей землей,
Отдыхающей в зимнем покое,
Человеческой радости
Тихо плывут облака.
Сквозь мелькающий снег,
Постоянное зим окрылёйье,
Я предчувствую вас,
Зеленеющих будйей огни.
Снова зерна стихов
Упадут на поля откровенья,
И колосьями станут,
И в хлеб превратятся они.
Пусть же в белом плаще
Вновь пред нами земля-незнакомка,
Вешний шепот деревьев
В шуршании вьюги несет,
Грозных зим мы участники,
Весен победных потомки,
И снежинки и листья
В свидетели память берет!
АННА ЯРОСЛАВНА
Над Днепром и над Софией славной
Тонкий звон проносится легко.
Как же Анна, Анна ЯрбсМййа1,
Ты живешь от дома далекЬ!
До тебя не так легко добраться,
Не вернуть тебя уже домой,
И тебе уж не княжною зваться —
Королевой Франции самой.
Небо низко, сумрачно и бледно,
В прорези окна, еще бледней,
Виден город — маленький и бедный,
И река — она еще бедней.
1 Примечание: Дочь Ярослава Мудрого, Анна
Ярославна, была замужем за французским королем.
На рассвете дивами вставали
Облака, и отступала мгла,
Будто там не облака пылали,
Золотой Софии купола.
Неуютно, холодно и голо,
Серых крыш унылая гряда.
Что тебя с красой твоей веселой,
Ярославна, йрййеЛо сюда?
Из блестящих киевских покоев,
От друзей, с какими говоришь
Обо вс*ем Высоком мирострое,
В эту 1*лушь, в неведомый Париж?
эти улицы кривые
Лишь затей сожгли твою мечту,
Чтоб узй&ла Франция впервые
Всей души славянской красоту!
Степан Щипачев
кони
Ах, кони, кони!
Не ржут они, а поют.
И кто-то их гонит, гонит
сквозь долгую жизнь мою.
От Терека до Печоры
светлели железом плуги.
За ними по пашне черной —
то лапти, то сапоги.
Студеные весны. Работа
кричала усталостью рук.
От крепкого конского пота
черемуха горкла вокруг.
И было — клинки с размаху,
лавина — к лавине людской:
с одной стороны — в папахах,
в буденновских шлемах —
с другой.
Мне память по-прежнему лепит
копыта и блеск на клинках.
Тускнели горячие степи
в испуганных конских зрачках.
Пусть кони не понимали,
что надо не ржать, а сметь,
но, падая, ратную смерть
с людьми наравне принимали.
Сегодня: моторы, броня,
ракеты — по площади в праздник,
но мы отстояли бы разве
Советскую власть без коня?
Бок о бок с горами, веками
их слава;
сказать не могу,
что крепче — копыта иль камень,
когда табуны пробегут.
Не молкнуть к праздникам шумным.
Высоко летят голоса,
когда к напряженным трибунам
несется такая краса.
Ах, кони, кони!
Не ржут они, а поют.
Поводья мне режут ладони.
Я времени их отдаю.
И ВСЕ-ТАКИ...
О, сколько их там, у вселенских ветров,
в туманности слито безвестных миров,
где вечность сама не спеша проходила,
гасила и вновь зажигала светила.
Я землю люблю всей любовью земной,
ту землю, что будет и с мертвым со мной.
И все-таки строчки вот эти ищу
и мыслью к туманностям звездным лечу.
ЕСТЬ МУДРЫЕ
КНИЖНЫЕ ПОЛКИ
Есть мудрые книжные полки
читален и библиотек,
и знаю я: долгий, недолгий,
но будет в них длиться мой век.
Когда раскрывают мой томик
на столике в тшшше,
я душу кладу на ладони
пришедшему в гости ко мне.
НЕ ЗНАЮ
За какой чертою жизни ради
солнце щедрое себя растратит,
отсверкает, отпылает жаром,
в черной бездне станет черным шаром?
Я молчу. Я и того не знаю,
где моя черта, межа земная.
Жизнь, словно поле под лемехами,
где не покинул и я борозды.
Даты, оставленные под стихами,
словно по чистому снегу следы.
Михаил Зенкевич
АПРЕЛЬ 1917 ГОДА
Еще разлив не полон
Могучих русских рек,
Ржаной хлеб горько-солон,
И к маю пуст сусек.
В полях необозримых
Дымится паром прель,
А зеленя озимых
В тепле растит апрель.
Распутица всех сельских
Путей — сюда ль, туда ль.
От тезисов Апрельских
Открылась ясно даль!
КАМЕНЬ И ПАПИРУС
Сроднился он с веками. Египетский папирус
Настанет все же срок — Прочнее пирамид.
И вековечный камень
Рассыплется Мальчишечья отвага
в песок. Поэтам все ж не лжет,
Что с буквами бумага
Века переживет.
Из ила
Нила Дать мыслям разум может
вырос Такую прочность строк,
И шелестом Что их не уничтожит
шумит Неумолимый рок!
Леонид Мартынов
ЛЕНИН
Льстецы цзображать его готовы
Едва ли не угодником святым...
Нет! Ленин был характера крутого
И не сулил мечтателям пустым
Чуть ли не завтра века золотого,
Но, гениальный критик Льва Толстого,
Он даже и с крестьянином простым
Так говорил, как будто с Львом Толстым.
И с каждым добросовестным умельцем
Беседовал любезней, чем с Уэллсом,
Он — вождь, мыслитель, автор мудрых книг,
Рожденных в буре не того ли ради,
Чтоб даже «Философские тетради»
Усвоил позже каждый ученик.
Через вечерние летел я зори,
Навстречу мне плыла Речь Посполита,
И за кольцо держался я в соборе
святого Витта.
Я задержался на день в Златой Праге,
Хорошие там повстречались парии,—
Мы толковали о всеобщем благе
в ночной винарне.
На следующий вечер в Риме,
В траттории какой-то старомодной,
Мы пили солидарности во имя
международной.
И помню, через мост над Рубиконом
Автомашинные летели тени,
Чтоб я в глаза Мадоннам благосклонным
взглянул в Равенне.
Читал я надписи на древних плитах,
И не в Париже ли взглянул я прямо
В глаза от древней копоти отмытых
химер Нотр-Дама...
А над Дунаем, с круч паннонской Буды,
Мне адгдрый Юлиуш рукой тяжелой
Вдаль, через Русь, указывал: оттуда
пришли монголы!
О, собеседники везде, повсюду!
И если помнюсь этим добрым людям,
Так уж о них я вовсе не забуду,
и живы будем!
А если даже и умрем однажды,
То, умерев, мы все равно воскреснем
от жажды
к песням!
ХВАТКИЙ ЧЕРТ
Опять
Вокруг меня летает
Какой-то черт, и на лету
За сердце он меня хватает.
Но жизнь моя еще в цвету,
И хваткому посланцу ада
Я возглашаю на ходу
Все то, за что мне взяться надо
Не нынче — в будущем году.
И восклицает он:
— Недурно! —
В восторге от моих затей,
И сердце, бьющееся бурно.
Он выпускает из когтей.
ПТИЦА НА ДЕРЕВЕ
На сосне,
Которая должна быть свалена и распилена
Потому, что стара,
Кто-то вырубил
Изображение филина
С помощью топора.
А быть может, это и не филин, а птица
Сирин. Оца
С помощью топора
Щепокрылья свои растопырила,—
Мол, ни пуху вам, ни пера!
А быть может,
Нет ни птицы Сирин, ни филина
И не с помощью топора
Получились естественные изввдщш,
Где морщинистой стала кора,
И мерцаньем костра это сходство усилено...
Воображенья игра.
И на это мы мастера!
РЕЛИКТЫ
Тусклые
Жар-дтичьи перья.
А салопы! А меха-то!
Я скажу,
Что костюмер я,
Что художник я из МХАТа.
Дорожатся,
Хоть и трухнет
В сундучищах эта рухлядь,
Снова
Дерну колокольчик
И скажу:
— Я барахольщик!
Отдадут
Почти задаром
Все, что прело в доме старом!
11
Николай Грибачев
ФЕВРАЛЬСКИЙ РЕПОРТАЖ
Шесть дней парной погоды и тумана.
Земля блестит, как бубен у шамана,
Покрыта где водой, а где ледком.
И сад мотает ветви окаянно
И пучит почки холодам на скорм:
Еще февраль, весне к хозяйству рано.
Вся синяя и в полыньях река,
Еще чуть-чуть тепла — и может вскрыться.
По ней едва перебегает крыса,
А нам пути заказаны пока.
Лишь, лесорубом ставший бескорыстно,
Бобер трещит по чащам лозняка.
Так иногда, при норове дурном,
У некоей хозяйки все вверх дном —
Шум не к поре, не к пользе то и это.
И хоть тепло, а неприютен дом,
И доброе хиреет неприметно
И тонет в дуроломном и худом.
Вполне оно возможно, что и мы
Издержек лишних избежать не в силе:
Озимым тошно от такой зимы,
Они не знают, спать ли им, расти ли.
Сырой туман плывет из серой тьмы,
Дурной февраль бесчинствует в России!
ЗИМНИЙ КАМЫШ
Зимний камыш на подставке из льда.
Что тебе нынче земля и вода,
Свист снегиря на рябине?
Выпили соки твои холода,
Душу живую убили.
Шепчешь, а слушать никто не придет.
Белую пряжу поземка прядет
К белой для леса холстине,
Ветер тебя набегающий бьет,
Треплет метелки пустые.
Плохо ты выучил жизни урок,—
Слава тому, кто уходит в свой срок!
Село Лопушь, 1971 г.
Я УШЕЛ БЫ...
И опять, как тогда, и опять
По деревне, что сном не почата,
Словно в юбочках стайки опят,
Прирастают к пригоркам девчата.
И опять про глаза и любовь
Да про нежное сердца участье,
Где рождаются радость и боль,
Где встречаются горе и счастье.
Я уже отошел от игры,
Лишь порою в подпамяти где-то
Бродит хмель позабытой поры
И шумящее ливнями лето.
Но когда бы мне бог или черт
Сдуру отдали молодость снова,
Я тебе не поставил бы в счет
Под разлуку недоброе слово,
Не бродил бы всю ночь напролет
В отрешенности духа и плоти,
Как неопытный звездный пилот,
Потерявший планэту в полете.
Я ушел бы со скромненькой той,
Что смотрела тревожно и странно,
Что особой своей красотой
Потрясает полмира с экрана.
Посреди зацветавшей земли,
Где сердца замирали и пели,
Мы ее разгадать не смогли,
Мы ее оценить не сумели!
Анатолий Софропов
Есть беспокойство осенью в природе,—
Ветра гудят, и листья прочь летят,
И в горной затаившейся породе
Закованные духи говорят.
Они молчали целый год, вбирая
Мороз и холод, зной и теплоту,—
Теперь, в горах, под тучами, играя,
Хотят набрать былую высоту.
Но дождь их бьет и не пускают корни,
К земле их давит темный небосвод.
И встречный ветер на тропинках горных
Им к перевалам выйти не дает.
Но, все преграды отражая грудью,
К вершинам вырываются они,—
И первый звук их всю окрестность будит
И зажигает в маяках огни,
1956
Да, не просто сходятся мужчины,
ЗрелЬге, со шрамами, в летах.
Здесь нужны особые причины
И особый привкус на губах.
Видеть мир, цветы его и травы
Без каких бы ни было прикрас;
Каждый раз, не мудрствуя лукаво,
Дружбу сохранять не напоказ.
Где же эти светлые глубины?
Бьют откуда эти родники?
Да, не просто сходятся мужчины,
С беззащитным сердцем мужики.
Жесткие порою, не узнаешь,
Не прочтешь, что думают они;
От молчанья больше понимаешь,
Слов не выжмешь, как ты ни тяни!
Да, не просто сходятся мужчины,
Зрелые, со шрамами, в летах!
Здесь нужны особые причины
И особый привкус на губах!
1959
13
Когда-нибудь в двухтысячном году,—
А до него
уже подать рукою,—
Потомки,
те,
что вместо нас придут,
Воспоминаньем
нашу память успокоят.
Они увидят нас
на всех экранах телевизоров,
Задымленных,
в бинтах кровавых после боя;
Почувствуют,
что мы не просто выжили —
Проходы
в будущее
рвали мы собою.
За каждый клок
своей родной земли
Ложились наземь
в битвах тяжких тысячи*
И потому,
как пламя вздыбленной зари,
Литые монументы
к небу высятся.
Нет, не из бронзы,
не из чугуна,
Не из бетона
и не из гранита,—
Воздвигла их
из наших душ страна,
Из тех, кто жив,
и тех, что нет уже —
убиты.
А сколько их, едва глаза открывших,
На мир смотревших
трепетно еще,—
Навек остались
в блиндажах и нишах,
Подав вперед
в движении плечо.
А мы живем,
мы смотрим изумленно
На мир преображенный,
радостный,
большой,—
То голубой, то аль?й,
4то зеленый,
Которому мы преданы
навек уже
душой.
1969
14
Елена Благинина
КРАБ
Некрупный краб лежал на пляже
К песку горячему спиной.
Не мог он шевельнуться даже,
Так измотал беднягу зной.
Прибоем
выброшен на сушу,
От близких волн в такой дали,
Он мучился, полузадушен
Недвижным воздухом земли.
А мы его перевернули,
На плоский камень положив,
И ловко под волну столкнули,
Крича:
— Не бойся, будешь жив!
Волна помедлила, привстала
С обкатанного гладко дна,
И вдруг почти прозрачной стала
Ее текучая стена.
И в этот миг мы увидали,
Как два веселых пузыря
Скользнули ртутью и... пропали,
Зеленый сумрак озаря.
БАБУШКА, КОТОРАЯ КУРИЛА
Одна из наших бабушек курила...
— Грешна si перед богом,— говорила.
Она садилась на скамью у печки,
Пуская дыма сизые колечки.
За ними следом, выгибая шеи,
Клубились чудища — драконы, змеи,
Потом летели лошади крылаты,
Сверкали стяги,
Воинские латы...
И все это струилось и слоилось,
А бабушка двоилась и троилась,
И сквозь завесу лик ее в наклоне
Был чист и тонок, будто на иконе.
Деревья те, что мы любили,
Теперь срубили...
Цветы, которые мы рвали,
Давно увяли...
То пламя, что для нас горело,
Других согрело...
Сердца, что рядом с нами бились,
Остановились.
И только песня остается,
И все поется,
все поется...
МОЛИТВА
Не за свою молю душу пустынную.
Перелесочек-лесочек,
Перепелочка-птенец...
Дай мне счастьица кусочек
Напоследок, под конец!
Дай мне вздохом-передыхом
Облегчить бездождный день!
...Я не лыком шита — лихом,
Хоть в иголочку продень!
Дай мне хлебушка-солйцы,
Дай водицы — не винца!
Сделай так, чтоб пели птицы,
Чтоб шумели деревца.
Чтоб на свете ошалелом
Перестали зло родить...
Чтобы свечкам обгорелым
Слишком долго не чадить.
ПРО ДЕРЕВЬЯ
У березок-белостволочек
Кайма на рукавах,
А у елочек оборочки
В колючих кружевах.
Заря шагами тихими
Идет над щеголихами...
Они же то осветятся,
То спрячутся в тени,
То, разбежавшись, встретятся,
А то стоят — ни-ни...
Стоят они — безвестные,
Невесты неневестные:
Осинушки, рябинушки —
Аксиньюшки, Аринушки...
Александр Вогучаров
# * #
А исцеленье от недуга —
Твое согласие со мной,
И чаепитие у друга,
И дождь, счастливый и грибной,
Горбатый мост Замоскворечья
Напротив Пятницкой как раз,
И примирительные речи,
Морщинки юности у глаз,
Воспоминания о юге,
Хоть юга вовсе не люблю,
Тетрадь, забытая на Буге,
Печаль щемящая мою,
Речной трамвайчик иль ракета,
Как это принято теперь,
Пригоршня солнца в час рассвета,
Когда кончается апрель,
Платок нейлоновый, летящий
В глаза мои из рук твоих,
Мир сотворенный, настоящий,
Как этот дом и эта чаща,
Как ветерок животворящий,
Стеснивший грудь мою на миг.
АЛЯБЬЕВ
Город восходит в гору,
К Софийскому двору,
Многоступенчатый,
С вороньем
На куполах забытых церквей...
И свищет над городом поутру
Алябьевский соловей.
В столице голуби —
Здесь воронье,
Снег мешается с месивом у моста,
А Россия принимается за свое,
Отворяя песнею ворота.
Промысловик предрассветной порой
Не променяет дробь соловья
На иную дробь...
И шофер, измотанный под горой,
Глушит мотор, утирает лоб.
А в сенцах замирает старик косторез,
Каждый раз замирает и плачет впервой.
И в глазах его замирает лес,
И резец молчит над мокрой листвой.
Соловей поет, не жалея сил,
Перелетные снова на юг плывут.
Ах, земляк, шутник, ну что натворил?
Птицеловы бесславно в Тобольске мрут!
ДЕРЕВНЯ ДРАГУНЫ, ГОД СОРОК
ПЕРВЫЙ...
Бабушке моей Прасковье Ивановне
За тобою братская могила,
Отчее село.
Всех до одного скосило,
Пулеметной очередью свело.
Слышала ты голос тети Оли,
Дяде Ване головой качала:
Двадцать дней, а может быть, и более
Вся земля потела и дышала.
Замирали пешие и конные,
Тормозили у могилы танки...
Проходили мимо эшелоны,
В санобоз хотели взять гражданку.
— Слышишь, мать, еще не сжато поле,
Мы за кровь заплатим и обиды!
— Так берите камни и дреколье,
Пусть мои услышат панихиду! —
Уходили на Москву обозы.
Ты в седую плоть земли врастала.
Все внучатам утирала слезы,
Сыновей встречала.
Билась головою в преисподню:
— Поднимайтесь, люди!
Завтра поздно будет,
А сегодня
Правый бой рассудит.—
Есть у века сорок первый год,
Памяти России мета.
Пулемет все бьет да бьет
До скончанья света.
Исаак Борисов
Весь мир сегодня искорежил ветер,
На море волны вздыбив до небес,
Топча колосья, обрывая ветви,
Отбушевал, и нет его — исчез!
И долго все клубилось от испуга,
Метался тополь, крону накреня,
А после с доверительностью друга
Он сам учил спокойствию меня.
На горький поиск я себя обрек,
Моих раздумий прерывать не надо.
Еще не скоро тот заветный срок,
Когда покой наступит, как награда.
Тепло даруют солнечные дни,
Зеленый тополь шелестит листвою,
Но снизу на любой листок взгляни —
Он удивит морозной белизною.
Перевел с еврейского А. Кафанов
И в бурном времени так любо мне
Следить почти бездумно и бесцельно,
Как сельский вечер — странный,
запредельный—
Неторопливо гаснет в тишине.
Игра мятежных солнечных клинков
Такую безмятежность дарит пашне!..
И, рушась, тонут облачные башни
В трясине, под копытами коров.
И вечность так свежа и молода,
И высоко — до звезд! — земля взлетает,
И в храме ночи синева не тает,
И гость случайный не придет сюда.
Перевела с еврейского Н. Горская
Герман Валиков
РЕЗЬБА ПО БЕЛОМУ
Как смякли эти тулова полканьи... Не кладка тут, а схватка света с тенью,
Как барсы встрепенулись под лучом! Нечаемая встреча их в упор...
Давай не будем говорить о камне,
Ни кладка, ни резьба тут ни при чем. Не кавши оставляются в наследство,
Не церк^У тут завещано беречь.
Не кладка тут, а смута и смятенье, Тут камень подвернулся лишь как средство,
До белого каления раздор. И не о нем, о бренном, эта речь...
АНГЕЛ. СОНЕТ
Дебил играет в кубики... В угаре
Орудует — не в лад и невпопад,
Приставил крылья лошади и рад —
Юродствует в припадочном ударе:
Русалка, аспид, трехголовый гад,
Кентавры, Сирин с Алконостом в паре,
Кишмя кишат ублюдочные твари...
Но кто это прекрасен и крылат?
Кто лгал нам, что творца сего сознанье
Темно?.. Взгляни в лицо его созданья —
Как величавы луны верхних век,
Как легки крылья, как свободны плечи,
Как смотрит он — совсем по-человечьи...
Как жалко, что еще не человек!
Константин Вангиенкин
Далеко за холмом
Прогремело и смолкло.
Был всерьез этот гром
Или только обмолвка?
И вершины дерев
Среди полного лета
Снова ждут, замерев,
Чем окончится это.
19
Стояла ясная погода,
Однако не было жары.
И золотые подле входа,
Как до войны, росли шары.
Движенье жизни было плавным,
И на террасе, перед сном,
Мы запивали сыр прохладным,
Неутомительным вином.
К воспоминаньям обращались,
Молчали около реки.
И люди те, с кем мы общались,
Приятны были и легки.
М.Б.
В покое кунцевской больницы
Ты трудно спал на склоне дня.
Вдруг слабо дрогнули ресницы,
Ты ясно глянул на меня.
— А, здравствуй...— вымолвил устало,
Вновь погружаясь в сумрак свой,
Где колебалась, трепетала
Жизнь на отметке нулевой.
Я углубился в лес,
Достойный похвалы.
Я видел высь небес
И круглые стволы.
Не в сказке — наяву! —
С тропинки сделал шаг,
И прямо на траву
Я бросил свой пиджак.
Я зреньем был не слаб,—
Без напряженья сил
Лишь на другой масштаб
Его переключил.
Настроил по шкале
На ближний тот режим,
Когда мы на земле
И на траве лежим.
...Движением листа
Задетая щека.
У самого лица —
Строение жука.
И жизни слышный звон,
С которым, не устав,
Широкий взяв разгон,
Идет ее состав.
И в высь, и в глубину,
Все мельче — все крупней
Мы станцию одну
Проедем вместе с ней.
И всяк живущий прав,
Хотя бы только раз,
В переплетеньях трав,
В пересеченьях трасс,
В бездонной пустоте
Распахнутых миров,
В сорочьей пестроте
Березовых стволов.
20
Сергей Васильев
БЕССМЕРТНИК
(Отрывки из поэмы)
Памяти Героя Советского Союза
генерала Д. М. Карбышева
1. ВСТУПЛЕНИЕ
Его наряд степной
не бросок, не криклив,
зато в мороз и в зной
в нем — красок перелив,.
Он с виду очень прост,
зато он в полный рост
горазд грозу встречать.
Он прочен, как металл,
и чист, как дух полей,
как будто впрок впитал
красу России всей.
О нем, о том цветке,
о пламенном о нем,—
о стяге на древке
мы песню и начнем.
Ромашек хоровод,
немолчный шум берез
пусть с наших глаз стряхнет
росинки жгучих слез.
2. У ПЕРЕВОЗА
Сначала двигались колонной,
затем, разбившись по частям,
по оголенной, опаленной
дороге, среди рваных ям.
Потом кружили по болотам,
по ивнякам, по кочкарям.
Отход был лют.
Но, как по нотам,
неукротимо крут и прям.
Шли по зловещей ржавой жиже
во тьме кромешной до утра.
И что б там ни было — все ближе
светилась линия Днепра.
Ступня в ступню.
В изнеможенье*
под посвист гнуса и свинца,
то попадая в окруженье,
то вырываясь из кольца.
Когда разбухли, и размякли,
и развалились сапоги,
а ноги в тине так набрякли,
что превратились в утюги;
когда над мертвого трясиной
день, болью выжженный дотла,
в глазах стоял уже не синий,
а злой и черный, как смола,—
сквозь помутневшее сознанье,
почти на грани столбняка,
вблизи послышалось плесканье...
Днепр!
Помогай, браток-река!
Днепр.
Переправа.
Но какая!
У наглой «рамы» на виду.
Друг друга в спешке понукая,
метались люди, как в бреду.
Иные — словно закусили
в горячке боя удила.
Других, отняв остаток силы,
худая оторопь взяла.
Нашлись и третьи — эти вяло,
не веря разуму-уму,
решили в страхе: все пропало,
и «лезть из кожи» ни к чему.
И вот тогда-то, вот тогда-то,
увидев горестный аврал,
с резоном истого солдата
негромко крикнул генерал:
— За мной, ребятушки!
К парому!
Команду слушайте мою! —
И про себя, как бы сквозь дрему: —
Ведь мы же как-никак в бою! —
И люди бросились к настилу,
к расщепам свай береговых,
почуяв в Карбышеве силу,
внезапно хлынувшую в них.
И под немыслимой грозою
упрямо начали вязать
зеленой гибкою лозою
к бревну бревно, бревну под стать.
Ага!
Один плавок связали,
стянули крученой канвой.
Повторно выдюжит едва ли,
но держит, держит груз живой!
21
Ага!
Один отряд отчалил...
Пригреб на сторону на ту.
Вторую группу сам начальник
торопко грудит на плоту.
Начальник возрастом заглавный,
да и по званию старшой.
Однако действует как равный,
проворно, молодо, с душой.
А смерть спешит от буя к бую,
гладь стрежня в кипень превратив.
Снаряды
валятся
вслепую.
Разрыв.
Разрыв.
Еще разрыв.
Не видно в дыме перевоза...
Постой,
товарищ генерал,
ты почему припал к березе?
Что под березой потерял?
Зачем прижался лбом к запястью?
Отринь тумана пелену!..
Очнулся Карбышев, к несчастью,
уже контуженным, в плену.
Валентин Волков
* * *
Есть перед вечером прощальный трепет дня.
Свет солнца золотеет и дробится.
Земля уже сыра и холодна,
а день еще великодушно длится.
На темпом фоне комариный сброд,
По кручам плавятся оранжевые глцны.
День, словно лебедь, завершив цолет,
перо к перу укладывает чцнно.
Приподняты и чисты небеса.
Ко сну отходит Родина большая.
В зеленой слепоте стоят леса,
последний свет сквозь веки ощущая.
Спасибо, Жизнь. Пришла ты и ушла,
но память о тебе — зерном набитый код ос.
Стихает тело, но кричит душа!
Слабее речь, но громче слышен голос!
ЧЕРНАЯ ОСЕНЬ
В мире осеннем, мглистом
грустно, как в доме ветхом.
Снится упавшим листьям,
что их засыпает снегом.
Дальше, темнее, глуше
все, что склонялось над ними.
Тихо струятся их души
запахами цветными.
Ветер, оскалив зубы,
вдруг налетит, зверея,
и понесется, грубо
расталкивая деревья.
И, собственную душу
удерживая едва,
стою позади и слушаю,
как мечется в нем листва.
Синей дрожью охвачен,
трогаю мыслей нить.
О, эта стужа иначе
заставит о жизни судить.
Лето ушло так просто,
оставило за собой
старые птичьи гнезда
с высохшей скорлупой.
Вот оно, творчество жизни,
творчество сроков земных.
Как ни ликуй, ни держись ты
все не минуешь иэ$.
Вот оно, творчество смерти,
вот оно — всюду, во всем...
Счастье,
что в сумерки эти
я — исключенье в нем.
Петр Вегип
ГРОЗА
Захлебывались трубы водосточные,
гремели крыши бубнами восточными,
перекликались альты и басы...
Сомнамбула провинциальной ночи,
устав, как устает чернорабочий,
я шел, вдыхая музыку грозы.
Сменяла флейта жалобы фагота,
и освежала вещая свобода
обугленный глаголами мой рот.
Ни кошек, ни собак — одни деревья,
как с девками матросы в увольненье,
отплясывали на ветру фокстрот!
Я горбился, я вспоминал Вийона,
и в темноте, как фиксы у пижона,
поблескивали желтые огни.
И вдруг под соло водосточной жести
услышал полувозглас-полупесню,
протяжно-женское: «Не обмани!..»
И молния вдруг выхватила: рядом,
обняв друг друга, в стареньком парадном
она и он, а правильней — Они...
Весь дождь, весь мир принадлежал объятью,
молитвенному женскому заклятью:
«Не обмани, не обмани, не обмани...»
Уже и в трубах это клокотало,
и пелось флейтой, и в провал квартала
гигантским эхом двигалось за мной.
«Не обмани!» — звучало в листопаде.
«Не обмани!» — рвалось поверх ограды
над городом, над целою страной.
Не обмани — ни женщины, ни флага...
«Глаголом жечь сердца...» — была присяга.
Не обмани — сегодня твой черед.
О, привкус слез в дожде не признак плача,
но если я вдруг поступлю иначе,
пускай тогда меня глагол сожжет!
* *
Марине
Куда ты, Музыка, куда?
Куда ты, Муза? Может, следом
за женщиной — вниз, навсегда,
не удостоивши ответа?
Неужто слабнут наши узы
и неужели справедлив
единовременный разрыв
с любимой женщиной и Музой?!
Твои запястья обхватив,
я спрашиваю молчаливо:
«Уж если ты несправедлива,
то кто на свете справедлив?»
Пускай несправедлива та,
с чьей русой своенравной прядки
пошли все в жизни беспорядки
и прекратилась простота.
Зачем ты, Музыка, зачем
не удостоишь каплей влаги
меня, смятенного, бумаги
мятежные листы? Зачем
ты так безжизненно мертва?
Неуясто впрямь невероятно
ту жешцицу вернуть обратно
священной силою стиха?
23
Николай Глазков
ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
Осмысливая ратные дела,
Меняя на кольчугу рясу схимника,
За все века Россия не дала
Ни одного великого алхимика!..
Была страна богата иль нища,
Но Новгород Великий или Вологда,
Каменьев философских не ища,
Все золотое делали из золота!
Осмысливая ратные дела,
Готовясь сокрушить любого ворога,
За все века Россия не дала
Ни одного великого астролога.
Когда враги навязывали бой,
Тогда, терпя невзгоды и лишения,
По звездам не знакомая с судьбой,
Решала Русь свою судьбу в сражении!
Так жил и мыслил наш простой народ.
Когда степная вражья кавалерия
Против него готовила поход,
Он знал, что не поможет легковерие!.*.
А здравый смысл был прозаично прост
И рассуждал, поглаживая бороду:
Судьба зависит, может быть, от звезд,
Но в трудный час булат надежней золота!
ХУДОЖНИКИ-ФЛОРИСТЫ
Зачем художники-флористы
Отвергли тюбики и кисти,
А взяли на вооруженье
Цветы, и стебельки, и листья?
Анютины, к примеру, глазк-и,
Листы берез, что пожелтели,
Слабей, чем масляные краски,
И уступают акварели.
Однако дело тут не в цвете
И не в оттенках золотистых,
А в том, что шестьдесят столетий
Не ведали таких флористов!
А в том, что только в наши годы
С машинами и гаражами,
Оторванные от природы,
По ней скучают горожане!
Леса, поля и огороды
Нас вдохновляют по соседству —
И хороши самой природы
Изобразительные средства!..
Не модным выкриком форсистым
Явилась эта веха века,
И я художникам-флористам
Желаю счастья и успеха!
Земля просторна, и на ней не тесно-
Когда вокруг медовая трава.
Неповторимо, сказочно чудесна
Сияющая церковь Покрова.
Великолепно выбрали ей место,
Чтоб отражалась в старице Нерли,—
И очень хорошо, что по соседству
С ней новых корпусов не возвели!
24
Дмитрий Голубков
* * *
Серость заплаканного серебра,
Нищая роскошь березовой рощицы,—
Где мы с тобой повстречались вчера,
Где повстречать тебя снова захочется?..
Только что — руки твои и слова,
Только что—краткой слиянности таинство..,
Как удержать эти миги родства,
Эту гармонию, это неравенство?
Вон, спотыкаясь о ветер, летит
Первая в этом апреле лимонница.
Пусть на плече у тебя посидит
И до руки моей после дотронется.
Ранней хохлатки лиловый глазок
Глянул из блекло-коричневой опали...
Взгляд твой в вагонном окошке поблек,
Так невозвратно слова твои отбыли.
Ну, отвернись, у окошка не стой,
Незачем — ведь ничего не изменится.
Мчись, спотыкаясь о воздух пустой,
Мига летучего вечная пленница.
Так заповедано. Этим жива
В теле,
в предлиственной роще березовой
Тайна невысказанного родства,
Звонкость души, не узнавшая отзыва.
ИЮНЬ
Небо кротко струится И готовится к цвету
Меж макушками ив. Их нарядная стать.
Летний пруд, как столица, Сладко ведать мне это,
Говорлив и бурлив. Славно этого ждать.
Рыболов белоногий Здесь, на взгорке,— затишье.
Разбранился с пловцом, Даль далеко светла.
На дощатой пироге — Вон пирога мальчишья
Три мальца нагишом. Средь пруда замерла.
Полуголый и босый, Лето остановилось
Прохожу стороной. На мгновенье одно...
Ароматы и осы И опять заструилось,
Поспешают за мной. Вдохновенья полно.
Были хмуры недавно И легчает дорога,
Лица лип и тела. Дав нетягостный крюк,
Нынче купы их плавны И тепло и нестрого
И осанка мила, Жизнь струится вокруг.
25
Владимир Гордейчев
СЛЕД НА СТЕНЕ
Памяти землякоЪ-кЬсШрёнцев
Со стены деревянной почты
метой знаемой к нам сойди,
автомата слепая строчка,
что не выше моей груди.
Давней этой настенной вспышкой
подают из былого весть
Федя Харченко, Лемберг Гришка,
Шура Шмыкова... Всех не счесть!
Снова «шмайсеров» вижу рыльца.
На мгновение мир таков,
будто сам к стене прислонилсй
я за всех моих земляков.
Оккупант автоматом двййёт,
вложит палец в проем скобы —
и сквозь сердце мое навылет
прянет белый огонь щепы...
Бревна трогаю. Боль сквозная
бьет из выщербин, ошалев.
Смертной мукою осязаю
черный очереди рельеф.
Счет запамятовав потерям,
пристываю душой к венцам.
Что за строчкою? Кто расстрелян?
Уж и вправду — не я ли сам?
Сам я — часть неизбывной были,
той, где люди за праздник свой
жизнью собственною платили
с удивительной простотой.
Утверждением правды взрослой
стала сызмала мне близка
ущербленная эта плоскость,
уЧШШЧёсШя доска.
С$ены русские* Мё'гы, меты...
Рябью с*ёй Отказывает даль
братства праведные заветы,
йознёсёййыё, как скрижаль.
Мерой друйсестёа непорочной
нам хранись их и помнить впрок,
жизнь сверяя со смертной строчкой,
в стену врубленной, как урок.
НА СЕМИ ВЕТМХ
Вслед тебе, под горькою ракитой,
я гляжу, сомкнуть не в силах век:
на степном ветру, с душой открытой,
маешься — хороший человек.
Мне ФвЬи припомнились медали,
фройтбвыё ёгйейные дни.
Как йокруг осКЬлки ни летали,
йо тебя не тронули они.
А теперь, не тронутого боем,
от разлада ль дома в сотый раз,
так тебя ударило запоем,
как не уДаряет и фугас.
Ты привЫк бейсать от многолюдья
и глаза при встрече отводить.
Только ты не думай, мы не судьи,
чтоб тебя поспешливо судить.
Глядя в степь, изрытую боями,
о твоем я думаю пути,
пролегавшем минными полями:
«Жизнь прожить — не поле перейти!.
2В
Открою шкаф (давно не открывал) —
и в комнате прибавится простора,
как будто снега белого обвал,
раздвинув мглу, раздастся из-за створок.
Усладою для сердца и ума
появятся в обычном озаренье
отборных книг волшебные тома,
вводящие в иное измеренье.
Листаю вновь страницы старых книг,
заполненных любимыми стихами,
и, смертный в бренном мире, возле них
я чувствую бессмертия дыханье.
За ценности вне выгод и нажив
спасибо вам, наставники поэты!
Сам светел я, не ваши ли заветы
со младости стократ сопережив?
Тот знает толк в лирических азах,
кто мир души растил не на продажу.
Вот почему тома иные глажу
едва не со слезами на глазах.
Поэзии изведавшему власть
легко на мудрость жизни полагаться,
и никому на свете не украсть
его неоценимого богатства.
Татьяна Глушкова
НОВОГОДНЕЕ
Так обошлась: без яств и без стола,
без добрых вин и без воскресной скуки,
что красит праздник. Просто свет зажгла
и комнату так чисто подмела,
что даже застудила руки.
И вот тогда я песню завела —
почти без слов, без музыки, без муки.
...А снег прилип к зажженному окну,
и в доме пахнет теплым стеарином,
горчайшей елкой, коркой мандарина,
и тлеет праздник, сумрачный и длинный,
но я еще в разгар его усну.
Й буду видеть то, что наяву
не виделось и даже не бывало.
Вот масками, мазками карнавала
лоскутное пестреет одеяло —
его я темным детством назову.
Откуда звук, откуда мир возник,
чтоб рассыхаться музыкой старинной,
мерцать в свече, томиться скарлатиной,—
как хорошо, что мой живой язык
еще не мучим тайной соловьиной,
я так нема, когда кричат: внемлите! —
и бесконечен быстротечный миг,
и я опять последний ученик,—
вот отчего так бережен учитель!
27
Андрей Дементьев
Мне кажется, что все еще вернется...
Хотя уже полжизни позади.
А память нет да нет и обернется,
как будто знает в прошлое пути.
Мне кажется, что все еще вернется
И чуда я когда-нибудь дождусь...
Погибший брат на карточке смеется,
а брату я уже в отцы гожусь.
Мне кажется, что все еще вернется,
как снова быть июню, январю.
Смотрю в былое, как на дно колодца.
А может быть, в грядущее смотрю?
Мне кажется, что все еще вернется.
Что время — просто хитрая игра.
Оно числом заветным обернется,
и жизнь начнется заново с утра.
Но возвратиться прошлое не может.
Не оттого ль мы так к нему добры?
И каждый день, что пережит иль прожит,
уже навек выходит из игры.
СЕНТЯБРЬ
Нет ничего прекрасней русской осени,
когда сентябрь и солнечен, и тих.
Давно скворцы дома свои забросили
и где-то с грустью вспоминают их.
Ступает осень тихо по земле.
Кружатся листья, как воспоминанья.
Как искры в остывающей золе,
на небе звезд спокойное мерцанье.
Ах, все уйдет — жалей иль не жалей!
Все превратится в памятную небыль:
и это одиночество полей,
и тишина покинутого неба.
От злых ветров реку бросает в дрожь.
И сбились в стаю лодки на причале...
И только лес божественно хорош
в цветах любви, надежды и печали.
ЛОЖЬ
Я ненавижу в людях ложь.
Она у нас бывает разной,
весьма искусной или праздной
и неожиданной — как нож.
Я ненавижу в людях ложь.
Ту, что считают безобидной,
ту, за которую мне стыдно,
хотя не я, а ты мне лжешь.
Я ненавижу в людях ложь.
И очень я душой страдаю,
когда ее с улыбкой дарят
так, что сперва не разберешь.
Я ненавижу в людях ложь.
От лжи к предательству полшага,
Когда-то все решала шпага.
А нынче старый стиль негож.
Я ненавижу в людях ложь.
И не приемлю объяснений.
Ведь человек — как дождь весенний!
А как он чист, апрельский дождь.
Я ненавижу в людях ложь.
Олег Дмитриев
ОКРАИНА. ДЕНЬ. ТИШИНА
Окраина. День. Тишина.
Последний квартал заселенный.
Высоких строений стена
Пред леса стеною зеленой.
Друг в друга уставленный взгляд,
Заметное тел напряженье,
Как будто два войска стоят
На поле за час до сраженья.
И ворон, вперед наклонясь,
Сидит на трубе водосточной.
И дуб на опушке, как князь,
Заметен в одежде восточной.
Осталось рожку заиграть,
Зурнам перекинуться кликом,
Чтоб рать повалила на рать
В одном исступленье великом.
Сминая непрочный редут,
Спокойны в движеньях неспешных,
Дома
На деревья пойдут,
Как танки на конных и пеших.
И дерево пикой взмахнет,
Сомнется нелепая пика,
И всадник плашмя упадет
На черную землю без крика.
Мечи застучат по броне,
Тупясь и в куски разлетаясь,
И князь закричит в стороне,
От страшной печали шатаясь.
Грядущего боя пророк,
Стою пред лесной обороной,
Как раз на скрещенье дорог —
Проселка и ленты гудронной.
Зеленое войско, прости!
Подмоги не жди ниоткуда,
Последним дроздом засвисти
Над часом машинного гуда!
К стволу привалившись плечом,
Стою я, зажмурясь от боли,
Как будто мечом,
Рассечен
Границей асфальта и поля...
ЗАХОЛУСТЬЕ
Ощущаю все большую грусть я,
Что на длинных дорогах судьбы
Не найти моего захолустья —
Деда с бабкой да светлой избы.
Городка деревянного нету,
Чтобы знал я, куда себя деть:
Намотавшись по белому свету,
Хорошо на крыльце посидеть!
Я бы ездил туда на неделю,
Привозил бы гостинцев родне,
Оказаться сумел бы при деле,—
Я бы ездил, да некуда мне...
То, что было,— похерено прочно
И войной, и течением лет.
Из тверской деревушечки ночью
Мне порой улыбается дед...
Да не может и житель столицы,
Хоть во лбу семи пядей он будь,
В отошедшие дни возвратиться
И умерших на землю вернуть!
Где-нибудь в этот день облетают
В палисадниках с мальв лепестки,
В светлом доме живут, коротают
Одинокую жизнь старики.
И не ждут никого ниоткуда...
Может, к ним попроситься в родню?
Но себя растравлять я не буду
И спокойствие их сохраню,—
Жизнь не терпит и доброй неправды.
Что бы сделалось с нашей душой,
Если б горькие беды-утраты
Возмещались ценой небольшой?..
НОСТАЛЬГИЯ
И деревья у них... чужие,
по-русски не понимают.
Тэффи, «Танго смерти»,
«ЗиФ», 1929
Когда в лесу, от роДйны вдали,
Вы эту фразу громко прорыдали,
Деревья и листком не повели,
И ветку для опоры не подали.
Смешно молить:
«Березонька, ответь!
Ведь мы с тобою две сестры родные...»
Здесь проволокой на каменную ветвь
Наверчены листочки жестяные.
Когда тебя береза не поймет,
Неловко отстранится от ладони
И, вмиг остыв, по бересте стечет
Слеза, как бы по мраморной колонне,—
Под яркою июньскою листвой,
Под безмятежным солнечным сияньем
Печальница с фигурой неживой
Покажется надгробным изваяньем.
Глаза закрыты. Плотно сомкнут рот.
Ни слова не услышите отныне,—
Когда тебя береза не поймет,
Кому кричать во всей большой чужбине?!
Анатолий УКигулин
# *
Опять в полях светло и пусто.
Солома, ветер и песок.
И в синем холоде капуста,
И в желтом пламени лесок.
И, незабытый, изначальный,
В тиши прозрачной и сырой —
Далекий, ровный и печальный
Стук молотилки за горой...
Сырой лужок о трех ракитах,
Осока стылая в воде.
И ряд колосьев, позабытых
На обнаженной борозде...
Когда еще, какие дали
Помогут мне хотя б на миг
Забыться в праздничной печали
От невеселых дум моих?
И на какой другой излуке,
В каком непройденном пути
Смогу забыть о той разлуке,
Что неизбежна впереди?
И на каком другом рассвете,
В какой неведомой глуши
Так ощущается бессмертье
Колосьев, ветра и души?
30
* * *
Л. Аннинскому
Белеет зябь морозными ожогами.
За голым лесом дымная заря.
Опять иду звенящими дорогами
Бесснежного, сухого декабря.
Опять, наверное, погибнут озими,
Промерзнут обнаженные поля.
От этой долгой,
Бесконечной осени
Устала и измучилась земля.
Уже дубы в последнем, редком золоте
На пустыре застыли, не дыша.
И беззащитна,
Как свеча на холоде,
В глухом просторе хрупкая душа.
И словно нет предела безотрадности,
И страшно в этом холоде пропасть...
Пора бы сердцу отогреться в радости.
Пора бы снегу теплому упасть!
* *
Согрело мартовское солнце
Еще заснеженную степь.
Позолотило у колодца
Бадью обмерзшую и цепь...
Уже готовые для сева,
Рокочут где-то трактора.
И дух оттаявшего сена
Струится с дальнего бугра.
И после долгого ненастья
Опять простор широк и свеж.
Опять рукой подать до счастья,
До всех несбывшихся надежд.
И ждет душа отрады вешней,
Благословенного тепла,
Как почерневшая скворечня,
Как обнаженная ветла.
* # #
Знакомый край с холодной далью,
С тревожным шумом камыша,
Твоей березовой печалью,
Как прежде, полнится душа!
Все те же выцветшие флаги
Качает ветер у крыльца.
И жгут костер в сухом овраге
Два босоногих огольца...
Как прежде, вьется дым летучий
На суходолы и лога...
И веет холодом из тучи
На прошлогодние стога.
И на безлюдном побережье
Опять волнуется лоза.
И холодит ладонь, как прежде,
Дождинка, капелька, слеза.
Алексей Заурих
# * *
Мой угол — небо в пол-окна.
За разгородкой неуклюжей,
как бы идя, звенит струна
с такой тоской скупой, верблюжьей.
Вот воскресение мое,
мой выходной — с утра томленье,
о ставни грохает белье,
в печи кончаются поленья.
Лишь отсвет солнца на стене —
печальная одноколейка
опять про степь напомнит мне,
чей зов как дальняя жалейка.
Да неужели это я
в Опочках, здесь, под доброй крышей,
кого к Чимкенту колея
несла казахской степью рыжей,
кому мерещилась в пыли
с ледком водица ключевая
и рощ Михайловских вдали
посеребренность зоревая?!
Да, правда, явь: рассвет немой,
березы, снег, пейзаж неброский
и я, разъятый меж зимой
и летом
солнечной полоской.
И оживают голоса,
и пахнут лица югом, снегом*
и солнечная полоса
ведет туда, где был и не был.
И это все в твоей судьбе.
Идешь ты высвеченной тропкой
за всем отпущенным тебе
в подлунном мире в час короткий.
И шлет с заоблачного дна,
твоей бессонницей согрето,
свой лучик солнце в пол-окна —
в твои полмира и полсвета.
32
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Мы в октябре родились Веткой вешнею,
Сорок Первого! еще тогда сиявшей —
...Размолоты дороги вкривь и вкось. до войны,
О, мертвенность осинника отпетого, щемящей беззащитностью, надеждою
простреленного — залпами — насквозь! отцов и матерей и всей страны.
И осень беспощадна, с гарью, с ливнями, И потому не надо шума-гомона,
с плацдармами измученных полей, вы, родичи, друзья мои, жена,—
и над бедой, над танковыми клиньями, меж снов
тихи, безгрешны — клинья журавлей. по площадям большого города
В наш самый первый день, идет,
в наш день рождения, седа, как Память, тишина.
был желт в слепом окошке Вся жизнь — не понарошке.
волчий лог Настоящее ответа ждет.
и не было застольного гудения, И это — навсегда.
не били пробки лихо в потолок. И рвется темнота в окно горящее,
Жизнь наша, чем была ты? как черная болотная вода.
ДВЕНАДЦАТЬ СОЛДАТ
Разные у месяцев погоны —
то они красны, то зелены...
Покатились реки, как вагоны,
по груди страны...
Города апрель берет любые,
малость подгулявший, на «ура»,
лейтенант (глаза-то голубые!),
звезды на плечах из серебра.
Ты, Наполеон, смешной и шалый,
оглянись,—
почти что у плеча
топает старик, такой усталый,
о настил протезами стуча.
Знавший громы, смерчи вихревые,
щурится,—
близки ему до слез
трав твоих атаки штыковые,
сабельные натиски берез!..
Так-то.
А теперь, не сбавив хода,
жми, апрель, дорожкой золотой!
Следом — братья.
Тоже им охота
встать у нас на временный постой.
Черные запомнившие даты,
дети тех, что в схватках полегли,
мы вас любим, месяцы-солдаты,
милые захватчики земли.
Нам
и всей земле
не полк, не роту —
нужно лишь двенадцать бравых тех.
Облакам, зверям, людскому роду,
хватит нам двенадцати на всех.
2 День поэзии 1971 33
Анатолий Заяц
* * ♦
Там Цахкадзор,
Там в утренних лучах
Бредут легко отары кочевые.
Там кручи держат
На своих плечах
В потоках солнца
Тучи кучевые.
Грибных дождей
Серебряная рать
Шумит над очарованным Севаном,-
Его небесным воздухом дышать —
Дышать как будто
Детством осиянным.
Там светел мир.
Там Родина светла,
Там так сладка осенняя погода.
Ответь —
Кого на свете не влекла
Кавказских гор
Небесная свобода!
Там,
Под горой с названьем А ли бек,
В седле высоком
Ехала горянка.
Был праздничен коня седого бег,-
Куда они спешили спозаранку?
Я в те края
Конечно же вернусь,
Той высоты небесной
Сердце просит.
И я не знаю —
Радость или грусть
Меня туда
В конце концов забросит.
Там Цахкадзор,
Там в утренних лучах
Бредут легко отары кочевые,
Там кручи держат
На своих плечах
В потоках солнца
Тучи кучевые...
* * *
Глядят светло,
Смеются тонко,
Идут в окрестные леса
Непозабытые девчонки,
Неискушенные сердца.
И в этом воздухе кленовом
Я говорю:
Спасибо всем,
Кем был однажды поцелован
Иль не целован был совсем.
Вы счастье
Щедро мне дарили,
Пусть проходили стороной,
И ваши образы парили
В высоких нимбах надо мной.
И вот теперь,
На склоне лета*
Я ваши чувствую сердца,
Как будто юность не пропета
И не слиняла до конца,
Как будто не было печали
И снега не было зимой,
Как будто вы
не мне кричали:
— Какой он рыжий, боже ж мой!
...И будет сердце обрываться,
Пока их живы голоса,
Пока в глазах моих
Толпятся
Их удивленные глаза.
И дымом прежних упований
Белеет
Приднестровский шлях,
И на картофельных полях
Горят
Костры воспоминаний.
34
Щатап Злотнипов
Х1очу побыть у здешних вод,
Послушать, как шумит завод,
В лесах знакомых поскитаться,
На лодочке уйти в Шаркай,
Вернуться утром сквозь туман,
Х/отя б до вечера остаться.
ИЗ |написать два-три письма
СИ*том, быть может, что зима
Зд^есь явственней слышна природе.
Гл:ядеть, как в берег дотемна
Бвет монотонная волна,
И * улыбаться непогоде.
Все благо в отчей стороне,
А одиночество вдвойне.
И птица надо мною — благо.
Она к холодным берегам
Летит,— и воздух пополам
Вдруг рвется с треском, как бумага.
Как знать, она там встретит взгляд
Того, кто много дней подряд,
В мечтах о службе иль невесте,
По горло этим видом сыт,
И вдаль податься норовит,
И помышляет об отъезде.
ДЕВОЧКА
Сияшие зимы.
Забытый стук саней.
Из енежной кутерьмы
Слезрсу, слежу за ней.
Ее згпругий шаг,
Бе кюроткий стон
На ]резких виражах
Звучат со всех сторон.
Как «будто окружен,
Я зд(есь неуловим,
Хоть сам заворожен
Видением своим.
И все ж не видит — жаль!
Меня среди ветвей.
Лишь детская печаль
Пока доступна ей.
Как птица в небесах,
Снует совсем одна.
Но в чьих-нибудь глазах
Навек отражена.
Свободный день. Холодный лес.
Да свеег над головою.
Зелен|ый громыхнет экспресс,
Упущенный Москвою.
И оксш длинная строка
В свогем движенье скором
И откровенна и легка
Перед \случайным взором!
Как будто важное письмо,
В котором тайна чья-то,
На миг откроется само
И сгинет без возврата.
Так в этом мимолетном дне,
На треть который прожит,
Весть, предназначенная мне,
Откроется,, быть может.
Александр Иванов
ПАРОДИИ
ЛЖИНКА-ОСПИНКА
Но любит ложь ходить по кругу,
И оттого она кругла.
О, эта маленькая лжинка.
О, эта оспинка души.
(Сергей Остроеой)
Ложь некрасива. Неприятна.
Невыносима. И кругла.
Недопустима. Неопрятна.
И зла. Как запах. От козла.
Бывает лжинка. Лжа. И лжища!
И суперлжа. И ультралжа.
О, эта тягостная пища!
О, эта оспенная ржа!
Как часто люди лжут друг другу
О том, что ходит сам не свой
По заколдованному кругу
Вовек не лжавший Островой!
МОРЕПЛАВАТЕЛЬ
Лягу в жиже дорожной,
постою у плетня.
И не жаль, что, возможно,
не узнают меня.
(Григорий Поженян)
Надоело на сушу
пялить сумрачный взор.
Просоленную душу
манит водный простор.
Лягу в луже дорожной
среди белого дня.
И не жаль, что, возможно,
не похвалят меня.
А когда я на берег
выйду, песней звеня,
мореплаватель Беринг
бросит якорь. В меня,
36
БЕРЕЗЫ
Березы — это женщины земли.
(Ирина Снегова)
Да, я береза. Ласковая сень
моя —
приют, заманчивый до всхлипа.
Мне безразлично, что какой-то пень
сказал, что не береза я, а липа.
И нипочем ни стужа мне, ни зной,
я все расту, пускай погода злится.
Я наливаюсь каждою весной,
чтоб в «Августе»1 талантливо излиться.
Пусть критик
на плетень наводит тень,
пусть шевелит зловредными губами.
Мы, женщины-березы,
каждый день
общаемся с мужчинами-дубами.
1 «Август» — книга стихов И. Снеговой.
СЛЕДЫ НА СНЕГУ
МОЯ ФОРТУНА
А на дворе
ночного снега
нетронутая белизна,
где даже пес еще не бегал
с нуждой собачьей после сна.
(Степан Щипачев)
Зима. Рассвет.
Морозно. Снежно.
Уняла ночь метельный бег.
И вот по-щипачевски нежно
ступаю я на белый снег.
Как утреннее солнце брызжет!
Какая белизна везде!
Со мною вместе песик рыжий
выходит. Может, по нужде.
Ну, так и есть. Задравши лапку,
остановился у куста.
А я смотрю. На сердце сладко,
какая в этом чистота!
Как это мудро, сильно, просто,
загадочнее 4 звезд во мгле.
Вот песик небольшого роста —
частица жизни на земле!
Иду, от радости хмелея,
я удовлетворен вполне.
Жить стало легче, веселее
ему. А стало быть, и мне.
В столовой автопарка жарко!
Внизу шурует кочегарка.
В окне блестит электросварка*
А со стены глядит доярка.
(Игорь Шкляревский.
Из книги «Фортуна»)
Сижу в столовой автопарка.
В столовой автопарка жарко.
От щей в желудке — кочегарка.
В глазах блестит электросварка.
Ко мне подходит санитарка.
А санитарку звать Тамарка.
Она по паспорту татарка.
А у нее в руках припарка.
А со стены глядит доярка.
Ее зовут, наверно, Ларка.
Есть у нее сестра-свинарка
И муж — бухгалтер зоопарка.
На горизонте — друг Захарка,
С Захаркой друг его Макарка.
В зубах у первого цигарка,
А у того в кармане «старка».
Сидим в столовой автопарка.
Там где-то жуткая запарка.
А нам ни холодно, ни жарко.
Нам хорошо! Эх, «старка», «старка!»,.
37
Рюрик Нвпев
СЕНТЯБРЬ
Все хорошо не зря. Благословенны
Восходы и закаты сентября.
Разлуку принимаю я смиренно,
Природе щедрой боль свою даря.
Песчинкою она исчезнет вскоре
В огромном мире, бурном, как поток,
Но все равно не испарится горе,
Невольно пробиваясь между строк.
И как бы я ни рассуждал логично,
Классические темы теребя,
Я на тропинке остаюсь обычной,
От самого себя не отходя.
Но, как и все, томимый неудачей
Порывы чувств сердечных изменить,
Стою пред той же вечцою задачей
Соединить разорванную нить.
Это было опять ни на что не похоже,
Как молчащий ручей, как немой соловей,
Как предутренний свет,
что ласкал осторожно
Полусонные иглы
сосновых ветвей.
Это было скорей
сумасшествие красок,
Вдруг решивших открыть
свой обугленный клад.
Это было прекрасно,
легко и опасно^
Как с крутого утеса
прыжок наугад.
Это все никогда, никогда не бывало.
И прошло всем законам земли вопреки,
Чтобы ты о несбыточных снах
рассказал нам,
Как о рыбах своих
говорят рыбаки.
Римма Казакова
Дышит вечер дыханием длинным
вдалеке от равнин и калин.
Если клин вышибается клином,
я хочу, чтоб он был, этот клин.
Я хочу, чтоб он ожил, стреножил
моих бед и надежд скакуна.
Я всажу его в сердце, как ножик,
хоть потеря и будет страшна.
Это вечер мне долгий навеял
с ликом старого кузнеца-
В этот вечер впервые не верю,
а неверие — близость конца.
Не желаю прожить половинным
или тихо зачахнуть от ран.
Если клин вышибается клином^
пусть он будет не клин, а таран.
Как в преданье печальном старинном
с чередою нелепых утрат,—
если клин вышибается клином,
пусть он будет не клин, а заряд!
38
* *
Я пила из роданика в Пугузе,
запрокинув гоШову слегка,
чтоб тягуче, жгуче и дахуче
влага прямо в* душу мне текла.
Ворот вымок,— ну, а мне не жалко:
все не жалкое щедро окропить! —
потому что мнзэй владела жажда
большая, чем просто жажда — пить.
Я пила из родюзка в Пугузе,
луч воды огнзм глотка гася,
замирая от лк*бви и грусти,
чуть прикрыв (ресницами^ глаза.
Подставляла рот под желюб грубый,
представляла jtost протяжный мигг
где меня поили Ваши губы —
нежно и хрустально, как родник.
Я пила подробно, как дехканин,
вспоминая вкус струи иной,—
дыма, молока, воды, дыханья,
честно разделенного со мной.
Я пила из родника в Пугузе
пресное, прелестное вино.
Так, наверно, дети... Нет, так — гуси:
неуклюже и чуть-чуть смешна.
Я пила, колени подгибая,
погибая в ледяном огне.
Жизнь мне пахла Вашими губами.
Ваши губы пахли жизнью мне.
...Ну и не надо.
Ну и простимся.
Руки в пространство протянуты слепо*
Как мы от этой дури проспимся?
Холодно справа.
Холодно слева.
Пуст.
Звени,
дорогой колокольчик,
век девятнадцатый,
снегом пыли!
Что ж это с нами случилось такое?
Что это?
Просто —
любовь до петли.
До ничего.
Так смешно и всецело.
Там мы,
в наивнейшей той старине.
Милый мой мальчик, дитя из лицея,
мы —
из убитых на странной войне,
где победители —
бедные люди,—
о, в победителях не окажись! —
где победитель
сам себя судит
целую жизнь,
целую жизнь.
Василий Казанцев
# * *
Клонящуюся вниз малиновую гроздь
Ладонью подхвачу — и сразу ягод горсть,
Круглящихся, в пушке. Нагретое на зное,
Гремит мое ведро, пока еще пустое.
Но с каждой горстью звук все глуше, все слабей.
Заросшею межой излюбленной своей,
Тесня ветвей ряды, трав разрывая путы,
Иду все вглубь и вглубь, иду. Бегут минуты.
Ведро все тяжелей. И дужка от ведра
Мне в локоть врезалась. В кустах слабей жара.
Малиновки вблизи ленивый свист негромок...
Из травяной глуши, из лиственных потемок*
Валежником густым настоянных берлог,
Я выберусь на свет. Присяду на пенек.
Склонюсь к ведру. В лицо повеет тонким, влажным,
Дурманяще лесным, щемяще горьким, бражным.
* * *
День светит. Путь бежит. Живу, как жил.
Случайный час в пути захватит.
«Как мало из того, что замышлял,
свершил»,—
Мысль клящим холодом окатит.
Как будто кто сожмет мне, сдавит грудь.
Но реже — горшая, другая
Пройдет: «Бежит далекий путь,
Горит день белый не сгорая,
Но та же ль предо мною дымка впереди?..»
Она пройдет не холодом, не жаром,
А тотчас замершим в груди,
Едва расслышанным ударом.
* * *
В этой радости мне отказами,
Но к печали не клонит отказ.
Ну и что! Мне уже обещали
Ту, что радостней в тысячу раз.
Все длинней, все изученней будни.
И сквозь будни, где все прочтено,
Все настойчивей, все неотступней
Голос: больше не дам нияего.
Ну и пусть. К благодарной, горящей
Я уже прикоснулся руке.
Я уже побезмолвствовал? в чаще.
Я уже искупался в реке*.
Владимир Карпеюо
* *
Я любил любимой лицо.
Подарил любимой кольцо.
Улетела она, окольцована.
Потеряла свое лицо она.
Пристрелили ее к венцу.
Возвратили мне по кольцу.
А кольцо было — номер два.
А лицом уж давно мертва.
* * *
Когда душа твоя мертва,
Не сей в ней новой страсти зерна, -
Они, в ней легшие покорно,
Умрут, проклюнувшись едва.
Когда твоя душа мертва,
Не говори слова пустые,—
В сухой песок ее пустыни
Уйдут беспамятно слова.
Когда твоя душа мертва,
Не сей в ней зерна сожаленья,—
Пусть прорастет сперва забвенья
Неумолимая трава...
И жизнь войдет в свои права.
Яков Козтовский
СТОЯЛИ ДНИ С ВЫСОКИМ НЕБОМ
Врываясь в рощи и в сады,
Восславив августа кончину,
Пируя,
черные дрозды
Клевали краюную рябину.
И резче прежнего вдали
Тропы очерчивался профиль.
И свежевырытый картофель
Студенты на поле пекли.
Белея до гошубизны,
Качалась на возу капуста.
Пророча зимник, полный хруста,
Поскрипывали кочаны.
И за машиною листва
Кидалась вслед, как по тревоге.
И снова падала, мертва,
По обе стороны дороги.
Над желтой заметью резной
Мы жили не единым хлебом.
Стояли дни с высоким небом
И тихой ясностью сквозной.
ИЗЯЩНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ
«Изящество—союз истины и добра...»
В. Даль. Толковый словарь
Когда свободного пера
Десница Пушкина касалась,
У нас изящество считалось
Союзом правды и добра.
Чиновник шли офицер
Порою обретал известность.
Сама изящная словесность
Тому блистательный пример.
И миру ведомо давно,
Что в храм изящности словесной
Дорогой доблестной и честной
Входить талантам суждено.
И оставался в дураках,
Кто, поклоняясь темным нравам,
Пер со своим сюда уставом,
Как будто в грязных башмаках*
41
Нина Кашеэ^сева
* * *
Ты была невеселой,
ты себя веселила сама../
Эхом песенки Сольвейг
ты меня раздразнила, зима.
Оттого ли потеха,
что сама ты седа?
Здесь лишь эхо от эха...
Так зачем зазвала ты сюда?
Грациозно и лихо,
близко —
прямо за косы лови,
быстро легкие лыжи
проносились лыжнею любви.
Нет, не лыжи, а крылья:
только посвисты ветра слышны...
Ты, зима, не открыла
мне прямой и счастливой лыжни.
По причине особой
ты была невеселой тогда..*
И за песенкой Сольвейг
увела ты меня не туда.
Снегом след заносила...
Но сегодня в остывшем теплее
говорю я спасибо
за твое развлеченье тебе.
Не зову я на помощь,
но спасибо могу повторять,
если ты мне напомнишь
то уменье пути проторять.
Мне сегодня капризы
и подсказки твои не нужны,
пусть лишь призрак,
лишь признак,
лишь само ощущенье лыжни! •
Лишь далекое эхо,
лишь предчувствие будущих^ встреч.
Соглашаюсь на это
и прошу — мне, зима, не перечь.
Безнадежнейший поиск
нам нужней, чем прямая тропза:
заблудиться в сугробах по пояс,
но надеяться — любят тебя.
* # #
Когда вам что-нибудь не удалось
и нервным тиком скомкана щека,
излечивайте просто свой невроз:
купите трехнедельного щенка.
Доверчив, беззащитен и смешон,
как неудачник, преданный молве,
весь непонятной силою смещен
к огромной неразумной голове.
Глазами перепутав даль и близь,
он в технике передвиженья слаб,
и будет вам казаться прочной жизнь
в сравненье с неустойчивостью лап.
Ему не надо гнать морщин с лица
и лить боржоми на пожар изжог...
Уже предрешена его судьба:
охотник, сторож, комнатный божок,
веселый друг холостякам в годах
и компаньон для женщин без семьи,
и у него в бессмысленных глазах
вы так добры, прекрасны и сильны.
Лишь вас вместит внимательна*й зрачок
во время ритуала по утрам,
и пластырем шершавый язычовм
покроет цепь больших и малых jpaH.
Нелепою покажется вражда
и важными обычные дела,
когда вдруг к вам, восторженноРвизжа,
метнется первобытное дитя.
Захлестывая шею поводком,
научитесь свободу вы ценить. ~.£
Он от всего сумеет исцелить,
обзаводитесь в дни невзгод щенком.
Дмитрий Ковалев
* # *
Была речушка рыбная
На славу,
Удильщикам и детям —
Благодать.
Спрямили русло,
Сделали канаву —
Теперь лягушек даже
Не видать.
Живой когда-то ток
Иссяк, заилен.
Исчезли
Живописные мазки.
Не терпят умники
Ни в чем извилин,
Хотят, чтоб было все
Как их мозги*
Шустрее
Лез подсолнух из-за прясла.
Шумнее —
За речушкой поезда.
И на заре над садом не погасла
В малиновой туманности звезда.
След пены в колеях
От ливня, грома,
Уже сквозь сон
Ломившихся в окно.
В любовной близости родного дома
Мечта и память,
Слитые в одно.
Грозы ночные тучки
Сбились стайно
На край небес
И по краям горят*
И в яркости
Земля темна,
Как тайна.
И, как лицо твое, светла,
Как взгляд.
Подобна зелень
Привороту-зелью,
Сквозит, как глубь лесов,
Во сне не спя.
И тайны,
Что с собой уносят в землю,
Что знают
И что помнят про себя.
Как знак их счастья —
Месяца подкова.
И говорит рассвет,
Хотя и нем...
И то,
Что так знакомо,
Так не ново —
Еще вовек
Не сказано
Никем.
43
ЦВЕТЫ
По именам здесь знаю
Все цветы я.
Вот белена —
Как в пене.
Копит яд.
В туманных ореолах,
Как святые,
У стежки одуванчики стоят.
Вот незабудка
В трепетности блика
Синеет бирюзинкою глазка.
Вблизи — петлей-удавкой
Повилика
Юлит на тонкой шее колоска.
А васильки —
Они седеют тоже.
Цвет тыквы — звонкий,
Яркий, как петух.
Глуха тайга ромашек:
Роскошь — строже,
Белок с желтком,
Сырой и пряный дух.
Тысячелистника
Мужичья внешность:
Как грубый холст,
Что солнцем отбелен.
Татарник
Грозно защищает нежность:
Весь как в броне,
Колючек миллион...
Их много
В наших городах и селах,
Как и детей,
Цветов добра, не зла.
Как сами мы,
И грустных, и веселых.
К любимым с ними
Всех мечта несла.
Я чувствую их взгляды,
Помню лица:
То — словно вызов,
То — «не тронь меня».
Жизнь у одних —
Неделю в вазе длится,
Другие —
Не продержатся и дня.
Одни, зажмурясь на ночь,
Гаснут, слабы.
Другие тоньше пахнут
В темноте.
И те же васильки
При свете лампы
Меняют цвет
И пышностью не те...
И нет дыханья
Чище и полезней.
Спасибо вам,
Луга, поля, боры!
И нет спасительней
От всех болезней
Целебности их,
Скрытой до поры.
В них есть
И от родных
Мое влеченье,
И так глубок
Любовный их секрет —
От всех неизлечимых
Излеченье.
Я этим, как надеждою, согрет*
И есть,
Я верю матери-природе,
Душа в них.
С нею мы свою родним.
И чтобы жить —
Ведь чувствуют в народе —
Поверить надо,
Обратиться к ним.
Они, нам кажется,
Молчат, как рыбы,
Которых заковал
Метровый лед...
Они все тайны нам
Открыть могли бы...
Но к ним у нас
Любви недостает.
44
Кирилл Ковальдэ^си
ЗАРУБЕЖНОЕ
Весь мир говорит о России.
Немереное пространство
с тобой в стороне иной,
и каждый твой шаг усилен
акустикой государства,
оставшегося за спиной.
Россия, Москва, Советы,
Россия, Советы, Москва...
К тебе, обогнув планету,
летит рикошетом молва,
поскольку Россия — большая,
любой из ее шагов
покачивает полушария
Земли, как чаши весов.
Если такое люди сумели,
что же будет потом?
А потом Армстронг покидает Луну,
а потом умирает Блайберг,
и все становится на свои места,
все остается по-прежнему:
голодный голоден, сытый сыт,
убитый убит, и печаль печальна,
несовместимости несовместимы,
невыносимое невыносимо,
нерешенное не решено,
Луна на Луне, а Земля на Земле,
бьют отцы сыновей за неправду,
а за правду карают отцы государств,
круглосуточно радиостанции
танцевальную музыку передают.
В тихой комнате у телевизора
человек с пересаженным сердцем
(сам он чудо) увидел чудо:
человек ступил на Луну.
Все по-прежнему.
Но ведь человек с пересаженным сердцем
все-таки видел
человека, ступившего на Луну!
Алексей Кондратьев
зимой
Звезда упала в мягкий снег*
Зарылась с головой.
Но шел какой-то человек
И взял ее с собой.
И он принес ее домой
И положил на стол.
А было все это зимой,
И снег все шел и шел.
В кувшине темная вода
Подернулась ледком.
И тихо теплилась звезда,
Обогревая дом*
Кому-то жизнь как слово невпопад,
Кому-то только достиженье цеди*
А кто-то, нынче выжив еле-еле,
Неслыханно, невыдуманно рад.
Владимир Костров
ПЛАКАТЫ
Плакаты старые
И новые...
Да, в них история жива!
Все реже сапоги кирзовые,
Закатанные рукава.
Все реже
Телогрейки ватные,
Все чаще —
Формулы и ватманы.
Ушли массивные,
Сутулые
С плакатов старых мужички.
Но над решительными скулами
Еще остались желваки.
Одетые в рубахи чистые
И в пиджаки — как на парад,
Мы сохранили тот неистовый,
Немного фанатичный взгляд.
Пора.
Сменились поколения.
Костюм другой
И цвет лица.
Но не меняется стремление
Мир переделать до конца.
# * #
Осенний дождь,
Шпанистый, беспризорный,
Мне музыка тоски его близка.
На дне его, как в глубине озерной,
Град-Китежем раскинулась Москва.
Вся в точных сводках скошенного хлеба,
В церквей рябинном цвете,
В тополях,
Она как будто опустилась с неба,
Оставив рябь на облачных краях.
Фасуя дефицитные товары,
Заморских в клетках выставив зверей,
Но на машинах выпучены фары
Глазами светлоярских окуней.
Чуть-чуть дрожит ее гостинный глянец,
И в окнах наплывает, как в кино,
То черный негр,
То пепельный суданец,
А то японка в пестром кимоно.
Теперь подумай: разве это чудо,
Что из метро, из теплой суеты,
Знобящая, как легкая простуда,
Была столицей выдохнута ты!
У черных туфель цокали подковки...
А может, для таких нежданных встреч
В запасниках глубоких Третьяковки
Хранятся эти линьи рук и плеч.
Шуршал автобус с желтыми снопами,
Стоял казах, бородку теребя.
Как точно все случайности совпали,
Чтоб я сегодня увидал тебя.
Мы двести раз могли бы
Быть знакомы
И встретиться потом,
Не так,
Не здесь,
Но, слава богу, странные законы
Неясности
В практичном мире есть.
Еще не все разложено на схемы,
Как семена разбросаны в толпе,
Неясные стихи или поэмы
Стучатся по житейской скорлупе.
Потом настанет время поцелуя,
Погашенного в комнате огня...
Сейчас, какой-то тайною волнуя,
Ты удивленно смотришь на меня.
В закуржевелой шубке от мороза,
Потом со мной придешь ты
В дом к отцу...
Осенний дождь,
Как радостные слезы,
Сейчас течет по моему лицу.
Кто знает, что случится впереди?
Кого ты встретишь
И кого покинешь?
Но есть Москва, похожая на Китеж,
Когда идут осенние дожди.
'* * *
В Останкине горели тополя,
И было чисто, словно в божьем храме,
И серый ангел с мокрыми крылами —
Спускался дождь.
Й только ты да я*
И в той шуршащей
Городской тиши,
Как будто в полутемном тайном зале,
Две горьких и изломанных души
Неровные края свои сближали.
Знать, для того, чтоб ты
со мною шла,
Неся печали тяжкие, как гири,
Две тоненьких косички заплела
Та худенькая девочка с Сибири.
Чтоб рядом был мне слышен этот шаг,
Чтоб в грудь мою тревожно сердце било,
С дешевыми сережками в ушах,
Ты два смешных сердечка прикрепила.
Должна была другого полюбить,
Потом уйти,
Закрыть родные двери.
Я потерял немало.
Так и быть,
Давай соединим свои потери.
Потом ханжи
С похвальной прямотой
Тебя в любовных связях уличали.
Но в их устах я тоже не святой,
Давай соединим свои печали.
Не подчиняясь сплетням и судьбе,
Соедини с моей свою усталость.
Та девочка с косичками в тебе,
Как сердцевина в дереве, осталась.
Доверься ей,
Она всегда права.
Наивная, она сильней обмана.
Как солнце, как деревья, как трава,
Как росный луг
И как кристалл тумана.
Пусть пошлый опыт утверждает: «Нет!»
В его резонах слишком много толка.
Но бабочка, летящая на свет,
Счастливее укрывшегося волка.
Нам фонари бросают янтари,
И сушит постовой промокший китель.
Уходит в ночь столица до зари,
Как в Светлояр уходит город Китеж.
Элъмира Котляр
В грозной папахе и бурках
входила мама,
как гражданская совесть,
смотрела прямо.
Где тут думать о доме,
о щах?
Революция на плечах!
#
Упрямая нянька,
вопреки декретам,
материнским строжайшим запретам,
на рождество втихомолку
мне наряжала елку
и сказку почти тайком
нашептывала вечерком.
* * *
А мне любовь одна
была дана.
Она заполнила пространство,
и в ней такое постоянство,
что у нее другая страсть
не может ничего украсть.
СТАРЫЙ ДВОРИК
Старый дворик!
Тебя запомню,
как историк.
Ты, маленький и нежный,
еще закутан муфтой снежной,
пересеченный кошками,
со мною говоришь окошками.
Глядит в лицо
шатровое крыльцо,
и улыбается резьба:
— Что ж, не судьба!..—
И дворик смотрит виновато
на экскаватор.
48
Аписим Кронгауз
ТРЕТЬЯ ПОЛКА
Как спится в дождь!
Глубоко,
Безоглядно!
Вагоны бесплацкартные полны.
На тридцать лет вернувшийся обратно,
На третью полку лезешь,—
Как приятно
Уснуть у отопленья, у стены.
Как спится в дождь!
Как сны точны и долги!
За кипятком бежит товарищ твой.
Погибшими заполнены все полки.
Ты среди них единственный живой.
Ты можешь спать,
И, чтоб не разбудили,
Надвинь ушанку на ухо во мгле.
Спокоен будь: они давно остыли
И больше не нуждаются в тепле.
Почти что тридцать лет вы не видались.
Ах, сколько ты без них уже прошел.
Сон — та же смерть,
Но только — в идеале.
Ты мертв и жив.
В дождь спится хорошо!
МОЕ ЛИЦО
Было время — я выглядел плохо:
Слишком был черноглаз и красив.
А теперь на лицо мое плотно
Лег годов незабытых курсив.
Снился в шпорах себе, в эполетах,-
Шел, пружиня и тонко звеня.
А теперь не хочу,
Чтобы ретушь
Украшала белилом меня.
Фотографий отбросил я груду —
Давний след моего бытия.
Это я, безусловно, повсюду,
Безусловно, повсюду не я.
Лишь на новом квадратике фото,
Измочален, издерган...
И все ж
Я ничуть не похож на кого-то,
Разве чуть
На себя я похож.
Снеговыми карнизами брови
И зрачки, налитые свинцом...
Наступила гармония вроде
Между ликом моим и лицом.
49
Станислав Купяев
ш
За церковной оградой базар —
не какой-нибудь рынок, а птичий.
Благовещенье... Как не пропал
в наши дни этот древний обычай!
Птицелов неуступчив и зол,
от портвейна и солнца багровый.
В тесной клетке снегирь и щегол
красногрудый и красноголовый.
Получи! Торговаться не стану —
не для этого в мире живу.
Трешка выпорхнула из кармана,
а щегол и снегирь — в синеву!
Над заводом и над институтом,
в темный лес, к голосистым друзьям,
по своим неизвестным маршрутам,
по таинственным синим путям...
Ни любви и ни дружбы не надо,
лишь бы горечь, затекшая в грудь,
разошлась, чтоб встряхнуться крылато
и весеннего звона глотнуть.
Может, что-то мне в жизни простится,-
дай-то бог... Ну, а если и нет,
все равно окрыленная птица
вольной песенкой встретит рассвет!
* * #
Чтобы не озлобиться на жизнь,
надо подымать глаза почаще
к небесам, где золото и синь
бесконечны и непреходящи.
Сам себе я стал сплошной укор,—
у меня не будет больше песен,
потому что с некоторых пор
сам себе я стал неинтересен.
И без песен на земле живут
столько душ, и кажется, неплохо,
выполняя ежедневный труд,
как велит семья или эпоха.
Да и я твердил себе не раз:
все, что мы слагаем,— все не ново,
было в мире сказано до нас...
Но глядишь — опять созрело слово.
Разве в поле не взойдет трава,
коль милы для жизни повторенья?
Не с того ли слышит синева
с безразличьем все благодаренья?
Что ни год — все тот же ледоход.
Что ни год — все та же дымка в поле.
Только в сердце самой сладкой боли,
чтобы петь,— уже не достает.
* * *
Прислушаюсь к птичьему граю,
ладонью поглажу ветлу,
а сам про себя повторяю
на этом холодном ветру:
— Ты вырастешь Белой Сиренью,
я стану Ракитовый Куст,
клонящийся к прикосновенью
твоих расцветающих уст.
Виктор Кочетков
О, эта книжка записная,
Как будто рота запасная.
Постерлись записи и даты,
Обжив страницу не одну.
Слова томятся, как солдаты
Перед отправкой на войну.
* * #
Несуетность старинных мастеров,
Умение до глуби добираться.
Их суд над жизнью был подчас суров,
Но в нем и тени не было злорадства.
Остерегаясь славить и пенять,
Не становясь в пророческую позу,
Они стремились к главному — понять
Обычности изменчивую прозу.
Взыскательного рыцарства черты
Есть в слоге их, чурающемся спешки.
Безоблачность их мудрой доброты
Прорезывает молния насмешки.
Завет неторопливости храня,
Живя в миру, а не в сановном свете,
Они пренебрегали злобой дня,
Чтоб властвовать над злобою столетий.
Григорий Левин
ХУДОЖНИКИ
Россия!
Твое спокойствие нередко восхваляли,
И кротость воспевали, и смиренье.
А ты не кроткая,
Не смирная,
Россия.
Великое —
Не кротость породило,
И не смиренье
Гениев питало.
Неистовство и в Троице Рублева,
И истовость — неистовству сродни.
Неистовство — во врубелевском бреде,
И в Демоне, и в Лебеди-царевне,
И для меня созвучье не случайно
Имен бессмертных —
Врубель и Рублев:
Они стоят, как врублены в скрижали,
И с двух сторон тебя обороняют
Святым своим неистовством одним.
Когда работают, не до порядка,
И краски, и холсты — вразброс.
И падает на лоб упрямо прядка
Нечесаных, всклокоченных волос.
А после, когда буря отбушует,
Когда уляжется тревоги вихрь,
Все вкруг — и одесную, и ошую —
В Пенатах пусть уляжется твоих.
Тут время для оценки и разглядки,
Тут время чистить и скрести холсты.
Но боже упаси, коль о порядке
До времени начнешь стараться ты.
51
Михаил Львов
ПАМЯТЬ
Как будто —
Как будто —
А здесь
в веках 45-й,
в глубинах времен.
в Современности
датой
И зябкою памятью —
он.
А был он —
великою явью,
А был он —
вершиной вершин.
Закрою глаза
и представлю
И шествие
наших машин,
И нас —
на вершине Победы.
Мгновенье!
Ты — чудно!
Постой...
Но — годы летят,
как кометы,
С растущею
всё
быстротой.
Как будто —
вчера лишь расстались,
А где он?
Моли, не моли...
И вы
в 45-м
остались,
В веках,
ветераны мои.
И новые годы —
как глыбы —
Над тем
45-м
моим.
Лишь воспоминанья,
как рыбы,
Всплывают,
сверкая,
над ним.
И видим себя
мы
такими,
Кем были
мы
в возрасте том.
А люди нас видят
другими,
Какими
мы стали потом.
Лишь дети —
с тогдашними
с нами
По нашим маршрутам
пошли,
Как птицы,
звеня голосами,
Все
нашими видя глазами.
И в этом —
надежда земли*
1970
* * *
Когда задумаю на счастье
Большую повесть про войну,
Свое военное начальство
Я добрым словом помяну,
Комбригов славных и комкоров,
Влюбленных в танки и броню.
Я ни упреков, ни укоров
В душе в их адрес не храню.
Я только помню, словно брагу,
Что опьяняла и меня,
Хмельную, злую их отвагу
И точность речи и огня.
Как боги, молоды, всесильны
И к женским чарам не глухи,
Любили классику и фильмы .
И свято верили в стихи.
Страны великие солдаты,
Вы были — в сердце — меценаты
И почему-то полагали,
Что в каждой части непростой —
Чему всемерно помогали! —
Быть должен собственный Толстой.*,
Перед весенним наступленьем
Комкор наш Родин, генерал,
С серьезным видом и значеньем,
Всех начинающих собрал.
Их оказалось чуть не сотня!
«Вот это филиал СП
В Уральском корпусе сегодня!» —
Сказал с улыбкой я себе.
Но Родин не повел и бровью,—
Все было правильно вполне.
Они потом писали кровью
Стихи о мире и войне.
Не обязательно писатель
Был «начинающий» тех лет,—
Но обязательно спасатель
Страны,
людей
от страшных бед.
А кто потом в живых остался,
Кому писательский удел
Наградой честною достался,
Кто за работу храбро сел,—
Друзья! Держите ваши перья
В отличной форме боевой,
На высоте того доверья,
Той чистой веры фронтовой!
* * #
Я взял
у Лермонтова —
имя
(И в этом —
молодость права)$
Фамилию —
для псевдонима —
Из имени
Толстого Льва.~
Поэзия
всегда — атака!
И в будни —
красное число!
И что б там ни было,
однако
Мне это
в жизни помогло.
Как помогает
щит
герою,
Когда идет он
в сечу
Я шел вперед,
с ним.
Благословен
и — грудь горою...
Какие
мой псевдоним!
ведал я
Иль
крушенья
до каких вершин
И как я нес
дорос,
свой щит
Уже
в сраженья —
совсем другой вопрос.
1970
53
Семен Aunmtn
МИНДАЛЬ
Выпал снег. Он белый, как хлопчатник:
В день весны нагрянула зима.
На садовнике потертый ватник,
Негустая, тусклая чалма.
Снег с деревьев стряхивает палкой
На асфальта узкую скрижаль.
Занедужив, умирает жалкий
И очаровательный миндаль.
И поет садовник, опьяненный
Поздним хмелем старости своей,.
Те стихи, что некогда влюбленный
Сочинил ширазский соловей.
Хорошо холодного раздумья
Слово, полновесное, как ртуть,
Но одно лишь золото безумья
Составляет жизни страсть и суть.
Ты зачем, зима, пришла за мною?
Но поверь, что не себя мне жаль,
Жаль, что должен умереть весною
Робко распустившийся миндаль.
БЕССРЕБРЕНИК
Не себялюбец и не скаред,
С запасом теплых дней в обрез,
Себя всему живому дарит
Бессребреный, бесстрашный лес.
Не для того он плодоносит,
Чтоб нравились его плоды.
Он в жертву дерево приносит
Не потому, что славы просит
Вовне или внутри среды.
Он расточает добродетель
Не для того, чтобы о ней
Кричал запальчивый радетель
Всего, что громче и видней.
Но, сквозь малинник или хвою
С ним двигаясь одной тропою,
Ты замечаешь при ходьбе:
Он не сочувствует тебе,
А сам становится тобою.
ПОДОБИЕ
И снова день, самовлюбленный спорщик,
Вскипает в суете сует,
И снова тень, как некий заговорщик,
Тревожно прячет зыбкий след,
Вновь над прудом склонился клен-
картежник,
В воде двоится лист-валет...
Да постыдись ты, наконец, художник,
С предметом сравнивать предмет!
Тому, кто помышляет о посеве,
В подобье надобности нет,
Как матери, носящей семя в чреве,
Не нужен первенца портрет.
Мпна Аисняпская
По-своему ль пишу я о природе?
До этого мне, право, дела нет.
Не я брожу, а лес все время бродит,
Как будто бы не я, а он поэт.
Да так и есть! И этого мне хватит.
Вот и береза, мимо проходя,
Меня лукаво по затылку гладит
И всей листвой смеется, как дитя.
А старый дуб пророчески бормочет,
Раскачиваясь медленно, с трудом,
О годах-кольцах и о мраке ночи,
Когда уже опасен бурелом.
А юный клен слегка провинциален:
Он, наклонясь к сородичам своим,
Твердит, что лист его оригинален
И тем от прочих листьев отличим.
О простота, о мудрость, о веселость!
Лес бродит, бредит, сотворяет лес,
И каждой ветки горловая полость
Касается отзывчивых небес.
В. С. Маркиной
Когда была я молодой,
Бездомною и полунищей,
Во Внукове, в семье одной,
Нашла я теплое жилище.
Хозяйка с самого утра
Топила печь, кормила щами,
Соленой сливой из ведра
И с огорода овощами.
Рвала смородину с куста
И приносила мне сварливо
Все оттого, что доброта
Всегда немножечко стыдлива.
Ни до того и ни потом
Такой души я не встречала,
Чтобы она своим добром
Души моей не отягчала.
* #
Ты прав во всем, и я во всем права.
Смешны для нас взаимные упреки.
Не знает одиночества трава,
Высокие деревья одиноки.
И, друг от друга в двух шагах, они
Всегда одни перед небесной твердью,
Всегда одни. И даже после смерти
Как признак одиночества их пни.
Качаю примиренно головой:
В одном лесу мы чуждых два явленья,
И хочется порою быть травой,
Но наши корни жаждут углубленья.
* *
Как боль была моя любовь,
И плачу я, что полегчало,
Хоть знаю, что конец любой
Всегда чему-нибудь начало.
Возникнет что-нибудь опять
На месте отболевшей ткани,
Чтоб снова мне благословлять
И проклинать существованье.
Но опасаюсь я теперь
Удела лиственных растений —
С однообразием потерь
И тождеством приобретений.
Алексей Марков
in
Не прост был Самуил Маршак!
...Сидели мы за чашкой кофе
Вдали от рифмоплетских драк
И... чуть в сторонке от эпохи!
— Голубчик, — говорил старик
(И от очков лучистых зайчик
Лицо мне осветил на миг.
Сидел я, словно в школе мальчик,
Смущенный стеллажами книг!),—
Что основное в нашем деле?
Тебе не хочется с постели
Вставать, когда идут дожди,
Скребутся нудные метели,
А ты вставай, во мрак иди,
Иди, шипы сбивая с кочек,
Иди в тайгу дремучей ночи,
Иди, стряхнув с себя озноб!
А если скажешь: нету мочи! —
Платочком утирая лоб,—
А если ты не можешь, милый,
Покинуть свой уют постылый,
Уйти от «не могу» своих,
И стих твой будет хилый-хилый..
Зачем же людям хилый стих?
Будет утро — будет хлеб.
Подражать умейте птицам.
Кто порой вечерней слеп —
Станет утром ясновидцем.
Кто порой вечерней глух —
Мир услышит на рассвете.
Начинай дела, мой друг,
В час, когда проснутся дети!
* * *
Время сделало дело свое,
Закидало сугробами ямы,
Только шрамы от старых боев,
Только горечи привкус упрямый!
Греют сердце смешные цветы,
Вальс, немножечко сентиментальный.
Я на крыльях лечу доброты
В свой маршрут, и последний и дальний...
РИКОШЕТ
Листвою шелестя прохладной,
Змея лозою вверх ползла.
Она средь гроздьев виноградных
Цветной тесемкою была.
На виноградину похожа,
Головка излучала мед!
Не тронь рукой — будь осторожен! —
Горючим ядом обожжет!
Ага! Прицелился в гадюку
И выстрелил дуплетом я.
Мою недрогнувшую руку
Запомнит надолго змея.
Но что-то мучает при этом,
Как будто совесть нечиста:
Я бил змею, а рикошетом
Попал в синицу и дрозда!
Новелла Матвеева
* * *
Определенья поэзии нет.
Можно сказать, что поэзия — дух.
Дух, обнимающий все. Но поэт
Только одно выбирает из двух.
Определенья поэзии нет.
Можно сказать, что поэзия — плоть.
Так отчего же не любит поэт
Всякую тварь,— как задумал господь?
Определенья поэзии нет.
Можно сказать, что поэзия — сон.
Что же ты в драку суешься, поэт?
Можно ли драться и спать — в унисон?
Определенья поэзии нет.
Можно сказать, что в поэзии — явь...
Что же ты в драку суешься, поэт,
Трезвому голосу яви не вняв?
Определенья поэзии нет.
Можно сказать, что поэзия — суть.
Так отчего же сегодня чуть свет
Коршун сомненья терзает мне грудь?
Есть очертанья у туч грозовых,
А у любви и у музыки — нет...
Вечная тайна!
Сама назовись!
Кто ты, поэзия?
Дай мне ответ!
Кто ты и что ты? Явись, расскажи!
Ложь рифмоплета тщеславия для?
Так отчего же столь горестной лжи
Тысячелетьями верит земля?
РОЖЬ
Страшно мне за рожь перед грозою!
Вот уж пополудни скоро шесть,—
В ней же и разгневанному зною
И дневному блеску место есть.
Кажется: в ее сухих разливах
Будто шерсть горящая трещит;
Будто электрический загривок
Медных кошек. Будто медный щит
Собранного к битве полководца,—
Рдеет поле с трещиной межи.
Искры неба ждет — не дозовется
Искра, затаенная во ржи.
Но безвредней капли застучали,
Благодушней, чем земля ждала.
В каждой капле жил заряд печали.
Но угрозу — ночь превозмогла.
Белые, как брошенные пляжи,
Вымокшие, синие вдали,
Навзничь, как подкупленные стражи,
Пьяные колосья полегли.
Подобрался низенький туманец,
Упаковку блеска разорвал:
Затаенный в воздухе румянец,
Как живую розу, своровал.
Не боюсь огней небесной боли.
Мне не страшно искры той
сухой.
Поскучнев,
Межа уходит в поле
И, слабея, гаснет за ольхой.
* * *
Весной, весной,
Среди первых подслеженных,
С поличным пойманных за рукав,
Уже вывинчивается подснежник
Из слабой раковинки листка.
И, темные, пахнут дождем облака.
Дрожит девятка фиалки трефовой
На сильных, вытянутых ветрах;
Летят, как перья по шляпе фетровой,
По голым землям метелки трав.
Весна скрывает свое блистание.
Но дышит, воздушных полна пузырьков,
Неплотным слоем — хвоя старая,
Где много ландышевых штыков,
Соринок,
ветром с плеча сдуваемых...
А там — спускающийся узор
Цодводных листьев, как чай заваренных
В красно-коричневой чаше озер.
Мокрые оси утиных вселенных —
Свищут тростинки в углах
сокровенных...
Ветер.
Вставая на стремена,
Мчит полувидимая весна.
Скачет сухой, неодетой дубровой,
Взгляд исподлобья, притворно суровый.
Конь ее сер и опутан травой.
В серой ствольбе — амазонки лиловой
Неуловимый наклон ветровой.
Так и у птиц:
Сквозь перо ледяное,
Зимнее,— кажется, видишь весною
Медно-зеленый под бархатом крест;
Так между пнями, во мгле перегноя,
Неуследимый лиловый подтекст,
Мнится, читаешь...
* *
Мы были бы, наверно, водолазы,
Врачи, каменотесы, лесники,
Когда б не стали рыцарями фразы,
Восторженными жертвами строки.
Но мы зарыли, смыслу вопреки,
Призваний наших подлинных алмазы,
И не в свои впадаем мы экстазы,
И не свои сжимаем кулаки. •«
Свою звезду не восприяв никак
И посягнуй на чуждую планету
(страшась ли славы, реющей по свету,-
Не дай, мол, бог, остаться на века!),
В поэзию бросаемся, как в Лету:
Уж тут забудут нас — наверняка.
Юнпа Мориц
ПОЛДЕНЬ В ГАНТИАДИ
Южанин с кофейными веками
Достал из котла с чебуреками
Набитый бараниной блин.
В улыбке его обольстительной —
Спокойствие жизни растительной
И греческий сумрак маслин*
Его обаянье камфарное
Внушает влеченье коварное,
Которому имени нет,
Которое старше рептилии,
Внезапней пиратской флотилии,
Рельефней античных монет.
Не сделай движения в сторону,
Как свойственно черному ворону
При взоре в летучую мышь,—
Не выдай притворство жеманное
За то чудотворство желанное,
При свете которого спишь
И вновь просыпаешься в лености,
Не оскорбляющей ценности,
В которые дух посвящен.
Так пей из цилиндра щербатого
Мускат и глотай аромат его,
И грех твой — да будет прощен!
ОСЕНЬ
Подглазий коричневых тени
Сильней на вечерней заре,
Лелеять лампады растений
Земле тяжело в октябре.
Страдают любимые лица,
Когда не светло на дворе.
Не скомкаться, не раствориться
Земле тяжело в октябре.
Рябина, скамейка, ограда
Нуждаются в поводыре,
Когда в полумгле дождепада
Земле тяжело в октябре.
Вытягивай гарусный ворот,
Удерживай горло в тепле,
К родному испытывать холод
Земле тяжело в октябре.
Слова говори дорогие,
Всем чувством участвуй в игре,-
Ведь если мы будем другие,
Земле тяжело в октябре
Не бредить собой, как другие.
ПОСЛЕ ЗНОЯ
Снисходительно и кротко
Ветер властвовал волною,
И луна плыла, как лодка,
И ладья плыла луною.
И в листве и в небосводе
Отроптало возмущенье,—
В этом виде, в этом роде
И предстало всепрощенье
В полноте ненарушимой,
В доброй вести о поправке
Духа, ставшего вершиной
Человечества и травки.
И почти одновременны
Были свет и тьма ночная,
И творились перемены,
С наших мыслей начиная.
59
ЗИМНЯЯ ДАЧА
Бледен сад, леденеют качели,
Замерзает в оскомине дом.
На стене шелестит Ботичелли,—
Это было и будет потом.
На веранде сквозняк запустенья —
Ни души, ни мяча, ни лото,
Ни купальника нету, ни чтенья,—
Никогда, и нигде, и ничто.
Мерзнет в мыльнице красное мыло,
Склоны дней отодвинуты в тень, '
Две смородины грустно и мило
Прогибают волнистый плетень.
Стекловидных морозов припадки
Истоньчают бревенчатый сруб,
Помидоры задавлены в кадке,
Голос вьюги от нежности груб.
Хорошо в этом холоде спится,
Хорошо сочиняется мне,
И перо утопает, как спица,
В пряже вымыслов, здравых вполне.
Что со мной? Ничего не случилось.
Стала письменной устная речь.
Я с великим трудом научилась
Свой душевный порядок беречь,
Серебристого дня семигранник
Прозвенел об железо оград,
Уходя, как стакан в подстаканник,
Как виденья уходят во взгляд.
Снег в кустарнике прорези сузил,
И лицо благородит мороз,
Как попытка затягивать в узел
Золотое беспутство волос.
Мускат в бокале розов,
Как пальцы на свету,
И благодать морозов
Наводит чистоту
В пространстве, где жилища
Дымятся на земле,
Как сваренная пища
Дымится на столе.
На окнах — лед в обтяжку,
Крахмальное стекло
Напомнило рубашку,
С которой в снег стекло
Воды потоков десять
И десять мыльных пен,
Такую в дом повесить —
И снег пойдет со стен,
Дорогу в сад заложит,
И мысли собирай —
За что же нам, за что же
Отвален этот рай!
В серебряном столбе
Рождественского снега
Отправимся к себе
На поиски ночлега,
Носком одной ноги
Толкнем другую в пятку
И снимем сапоги,
Не повредив заплатку.
В кофейнике шурша,
Гадательный напиток
Напомнит, что душа —
Не мера, а избыток,
И что талант — не смесь
Всего, что любят люди,
А худшее, что есть,
И лучшее, что будет.
60
Аиля Наппельбаум
ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА
Морщины, широки и глубоки,
Его лицо избороздили вдоль.
И черный торс.
И плотно кулаки —
Две белых гири — оперлись о стол.
Наверно, кулаков замах таков,
Так жёсток сердца этого закон,
Что землю, словно воск, он мять готов,
Чтобы создать такой, как видит он.
А чтоб принять такой заставить вас,
Все линии ее, тона, мазки,
Наверно, в дело он пускал не раз
И кисть, и молоток, и кулаки.
ПОРТРЕТ АКТЕРА
В те дни, когда твердой считали жесть,
Когда враг перед сталью дрожал,
Богат, и почетен, и пышен был жест
И тайную суть выражал.
Но многие тайны наш век открыл,
А жест в обиходе стер.
Причастный тайнам, его подхватил,
Как упавшее знамя, актер.
ФОТОГРАФИЯ
Когда заглаженная кисть
Доказывает нам без звука,
Что личности перевелись,
Что все посредственность и скука,
В права вступает аппарат,
Берет предметы за приметы.
На стенах выстроились в ряд
Правдивые его портреты.
Один раздулся, как индюк,
Там взгляд, как флейта, уводящий,
Тут ловкость неподвижных рук,
Там ветер бороды летящей.
Мгновенье на лету схватив,
Так объективно и так лично
Доказывает объектив:
Сама реальность фантастична.
61
Юлия Нейман
Хоть глубоко во мне живет Восток
Упрямством мысли и тоской бесцельной,
Но все же «Котик, серенький коток»
Меня баюкал русской колыбельной.
А кто привержен к слову,— для того
Язык по силе не уступит крови.
Обязывая больше, чем родство,
Затем, что изначалье мира — в Слове.
Речь русская и кровь моих отцов
Срослись во мне корнями нераздельно,
Разъединять друг с другом их — смертельно,
Не жизнь ли их свела, в конце концов?!
СТАРУХИ
Быть может, их особо попросили,
Иль просто выпал час досужий, или
Прийти сюда уговорили внуки,
Но вот они уселись на припеке,
Сложили краснокаменные руки,
Благожелательно на сцену глядя,
Где мы — кто наизусть, кто по тетради
Не то поем, не то читаем строки...
Они прошли все испытанья в мире,
Все засухи родной земли жестокой,
Все замети чужой промерзлой шири.
И вот они уселись на припеке,
Сложили краснокаменные руки
Праматери. Калмыцкие старухи.
И важными кивают головами
Над нами.
И над нашими словами.
Лев Озеров
АКТЕРУ ТХАПСАЕВУ
Слежу за тем, как мечется Отелло,
Как гнев бежит от сердца по руке —
К возлюбленной, к высокой шее белой.
Старик Шекспир, видать, писал умело
На звонком осетинском языке.
Идет гроза — вблизи и вдалеке.
Теряет Лир семью, друзей, корону.
Не подготовлен к этому урону,
Он гол, о том твердят его уста.
Видать, Шекспир писал в горах Ирона
На языке и нартов и Коста.
ДОРОЖНОЕ НАСТРОЕНИЕ
О, сжатые сроки,
Стесненные сроки
И — так, между делом,—
Расхожие строки.
Потом — сожаленье,
Потом — оправданье,
Что жизнь как мгновенье,
Что жизнь как даянье.
Но время есть время:
Оно не лукаво.
Стесненные сроки,
Расхожая слава.
А дальше — смятенье,
А дальше — терзанье,
Что жизнь как мгновенье,
Что жизнь как даянье.
62
Сергей Орлов
* * «
Мы говорим, задумываясь редко,
Что время беспощадное течет.
Как на войне,— с кем бы пошел в разведку?
А думать надо: кто с тобой пойдет?
Да, так и было. Встанешь с автоматом,
Кисет за пазуху — и на народ.
И говорилось: — Кто со мной, ребята?—
И добавлялось:— Два шага вперед...
Все меньше, меньше остается рядом
Товарищей хороших и друзей
Не потому, что падают снаряды
Давно на территории твоей.
Скорей всего, что ты не тот, который
Когда-то был, и в этом вся беда.
Металл заржавел, порастрачен порох,
И незачем ссылаться на года.
Крутые горки укатали сивку —
Не поговорка, мука—поделом.
Ах, не в разведку, в юность на побывку,
И запастись бы верой и теплом.
Тогда бы можно и не хитровато:
— С кем я пошел бы? — молвить в свой
черед.
А очень просто: — Кто со мной, ребята? —
И помолчать. И два шага вперед...
Что было, то было. И все же
Забылось, быльем поросло.
Быльем, ни на что не похожим,
Ко мне обернувшимся зло.
Однако, ни в чем не изверясь,
Встречая вчерашних друзей,
Иду, как по жердочке, через
Болотный глубокий ручей.
Курю на ветру сигареты,
Веселые сыплю слова,
Встречаю с надеждой рассветы
И знаю, что правда права.
Вот только нежданно зальется
Вдруг сердце тоской на ходу
По ржавому, в минах болотцу
В глухом сорок третьем году...
63
ДВЕ КАРТИНКИ МОСКВЫ
* * #
В дождь к параду готовится ночью Москва.
Мимо спящих кварталов в асфальте
зеркальном
На пневматике, в шлемах и кирзе войска
Озаряются волнами света и сталью.
Проплывают тяжелые стрелы ракет.
Только сталь и моторы из-за поворота.
И пожалуй, одни огоньки сигарет
Вдруг напомнят на марше старинном пехоту!
Ту, что нет и в помине, но, значит, жива,
Раз в свистящей резине и в реве металла
Завернула с цигаркой кулак в рукава,
По привычке дымит, как бывало,
Совершая ночной перед боем бросок,
Сапогами вздымая пудовую глину,
Разбивая каменья, как стекла, в песок,
Так, что искры цигарок к Берлину.
Спит Москва под звенящею кровлей дождя.
Крепок сон этажей неоглядных.
И, как мирные громы, с дождем проходя,
В ней войска громыхают, готовясь к параду.
* * *
Живет посредине столицы
В воскресный и праздничный день,
Как будто в светлице жар-птица,
Музыка моих деревень.
Мехи золотые и планки,
Малиновый звон и огонь.
Гармошка, гармонья, тальянка,
Живет на асфальте гармонь.
И сыплет, как ветер, частушки,
Как новенькие пятачки.
И в мини-юбчонках девчушки
Ломают свои каблучки,
Идут безоглядно вприсядку,
Плечами и грудью трясут,
Как будто кирпичную кладку
На стройке какой-то ведут.
В крови это, видно, у наших.
И что там, откуда взялось?
Уж пляшут — так, стало быть, пляшут,
Размах и веселая злость,
Слова озорные без точек,
Все полностью в каждой строке.
Над лицами белый платочек,
Как птица, порхает в руке.
И вроде бы все горожане,
Но, свой не скрывая исход,
У новеньких каменных зданий
Гармошка в столице поет.
64
Анатолий Поперечный
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА
Ярославу Смелякову
Под сводами страдного века,
Не то чтобы в медных громах,
Хочу я начальника цеха
Немного припомнить в стихах.
Не думал я,
Сидя за партой
Когда-то с ним рядом,
Что он,
Как путник,
Стремящийся в Спарту,
В рабочий спешил легион.
Сурова планида такая,
Свинцова и так тяжела,
Как будто труба полковая,
Труба заводская звала.
Он знал безотцовщины горечь,
И горечь жила в нем самом.
И школу оставил он вскоре,
Примерно на классе восьмом.
Все было...
Подручный в кузнечном,
В токарном — потом —
Ученик,
Вечерние курсы, конечно,
И заумь непонятых книг...
О, правды железные розы!
Пусть лучшие силы страны
О нем поподробнее — в прозе..
Но песни зачем нам даны?!
Зачем по ночам нас тревожат,
Забыться,
Уснуть не дают?..
Пылает Олимп.
У подножья
Какие-то люди снуют.
Не боги Олимпа нас судят —
В горниле земной суеты,—
Простые рабочие люди,
Чьи тяжче, чем наши, труды.
Они,
Кто не ради успеха
Творят, и любя и грубя,—
Под сводами грозного цеха,—
Ты с ними.
Я вижу тебя.
3 День поэзии 1971 65/
На перегонах рыжая трава.
И кони в чистом поле,
Кони,
кони...
И еду я опять
В восьмом вагоне
В страну,
Где ты всегда была права.
О мама!
Вижу дерево Судьбы,
Роняющее годы,
Словно листья...
А сыновья беспечны и слепы,
А мамы как деревья в поле чистом.
Как будто ждут,
Что вдруг проглянет синь —
И на поляну,
Босоног и тонок,
Он выбежит*
Веселый жеребенок,
Беспомощный и ветреный,
Твой сын...
Но век нежданно жмет на тормоза.
Стареют листья,
И ржавеют травы.
И мы приходим
Мучениками славы,
Мать,
Пред твои пречистые глаза.
Упрямы, твердоскулы и суровы,
Со шрамами и скорбью на лице...
Мычат в хлеву священные коровы,
И мать встает вся в белом на крыльце.
И говорит негромкие слова,
И вврдцт в дом,
В мир маленького чуда,
Как будто ты не уходил отсюда,
Где обитает вечно синева.
ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ
Он пришел от Павлодара,
От полуденных степей,
Тяжесть песельного дара
Взяв из недр земли своей,
И еще —
над самой бровью —
На отчаянном челе
Отсвет,
высеченный болью
И любовью к той земле,
Где созвездья дикошары,
Луны словно табуны,
Кони — рыжие пожары,
Девы — княжеские сны.
В той земле,
Густой и пенной,
В синь,
в овсы,
в ржаной сугрев,
Яблоня над ним запела
Песню Жизни нараспев.
И в рубахе той атласной,
Ярмарочный и хмельной,
Он в Москве, на Пресне Красной.,
Песню ту пустил волной.
Песню ярую,
со звоном,
Что раздольна и пышна,
По российским перегонам
Стенькой Разиным пошла.
И орали слева,
справа,
Кто незлоблив, кто лукав:
Словно князь пирует Павел,
Так же дик и златоглав.
Так же тих вдруг и осенен,
Листья славы расшвыряв,
Только грустный взгляд олений
Свой оставив у дубрав...
Павел,
Павел,
Грозный Павел,
Все чумное отметя,
Век лишь светлое оставил
От громадного Тебя.
Так на ветках черных яблонь,
Отгоревших на ветру,
Белый снег космат и ярок
На пронзительном свету*
Анатолий Преловский
письмо
Забыл, совсем не знадэ, с|«одько
меж нами лет, и грр, и вырг...
Так нежно, так светло и горькр
люблю тебя, мой дальний друг.
Законы страсти непреложны,
но все ж, наперекор судьбе,
так жадно, так неосторожно
тянусь я, милый друг, к тебе.
Твой голос трепетно и тщетно
ищу средь чуждых голосов:
так робко, так едва заметно
ты откликаешься на зов.
Тысячелетья мчатся мимо,
а я вдали от губ и рук
так верно, так непоправимо
люблю тебя, мой строгий друг.
ВЕЧНЫЙ МАЛЬЧИК
(Из стихотворений о Пушкине)
А когда в кабинете своем среди книг
и друзей умирал на холодном диване
бедный гений российский, пред ним, как в тумане,
искаженный надеждой и болью, возник
чей-то смутный, но явно провидческий лик:
мальчик... кудри... платочек зашпилен в кармане...
Осторожно приподнял Жуковский его,
чтобы смог разглядеть, что ему показалось.
Обмирала за стенкой жена. Собиралась
у подъезда толпа, но к нему никого
не пускали... А он горевал — оттого,
что же мальчик так медлит: ведь жить ему мало осталось.
Что ж он мимо? Зачем он сжимает в руке
чистый лист? И куда это он устремился?
Смысл явленья ему неожиданно просто открылся,
и, уже в забытьи, от бессмертия невдалеке,
он кивнул тому мальчику дружески... шея застыла в кивке.
И Тургенев — расслышать — к нему наклонился.
И держава к нему наклонилась — узнать,
что хотел он сказать, чтоб запомнить навеки.
Но сомкнулись уста и расправились нервные веки —
вечный мальчик ушел... и его никогда не догнать!
И Россия, не зная, кому до кого дорастать,
полубогу молясьа все тоскует о нем — человеке.
SL
5j! Jj»
Ну, что о родине скажу?
Как вознесу? И чем прославлю?
Любым глаголом — согрешу,
любым признанием — слукавлю.
Когда не бой, не божий суд
и не у смертного предела,
слова и клятвы не спасут,—
но только дело, только дело.
Несуетно, как пашут, жнут,
как строят дом иль ткут холстины,
во имя родины живут
российские простолюдины.
И, не разменяна в словах,
упасена от восхваленья,
Русь пребывает в их сердцах —
из поколенья в поколенье.
# * #
Под небом родины любимой
какой же русский не привык
жить с песней, не переводимой
ни на какой другой язык;
добро и зло судить пристрастно,
карать и строить сгоряча
и перекраивать пространства
по мерке своего плеча;
и мучаться неизъяснимой
тоской по вольности иной —
под небом родины любимой
и на земле своей родной?
Валентин Проталин
# # *
Осенних дней спокойное паренье.
Вокруг земля в особенном цвету.
Она опять меняет оперенье,
движенья не замедлив, на лету.
Так женщина на середине дней
встречает пору нового расцвета,
венчая песню молодого лета,
и взгляд ее задумчивый светлей.
Кто грусть ее,
кто радость объяснит...
Осеннее, особое цветенье.
Летит земля,
меняя оперенье,
и цвет огня опавший лист хранит.
* *
Дни пасмурны были.
Под горку
вновь лето шло осень встречать
Взялись мы с тобой за уборку,
чтоб холода не замечать.
Полы натирали до блеска,
чтоб множили солнечный луч,
и радужные занавески
напротив повесили туч.
Идем,
погуляем по воле.
Войдем в этот мир синевы.
Костры золотых колоколен
горят над холмами Москвы.
И станут светлее заботы
и дни, что в дождях пронеслись,
жизнь наша и наша работа.
Ведь есть непреложный в них смысл.
А это дается не на день.
Все будет.
Еще поживем.
И снова мир, как ни громаден,
потонет во взгляде твоем.
68
Борис Примеров
* # #
Полночные степи стрибожья
Под крик журавлиный и плач,
Звеня удилами и рожью,
Проносятся по свету вскачь.
Еще далеко до ночлега,
Еще эта ночь хороша,
Но, вся задыхаясь от бега,
Рождается снова душа.
Давно я на родине не был,
И мчат меня кони, как сны,
За дикие балки, под небо
Равнинной моей стороны.
За что на себя ты так ропщешь,
Не в силах души превозмочь?
Вон куст у дороги, как кобчик,
Зарылся в бурьянную ночь.
Здесь каждый судьбою привечен,
Неужто когда-нибудь мог
Я жить так безумно далече
От этих безлюдных дорог?
Полночные степи стрибожья
Под крик журавлиный и плач,
Звеня удилами и рожью,
Проносятся по свету вскачь.
* * *
Добрым делом путь земли увенчан,
Необъятней и просторней день.
Вздрагивают солнечные плечи
Придорожных русских деревень.
Пролетают запахи полыни,
Мне не страшно в этом утонуть.
Как стрела каленая, отныне
Вековая ширь пронзила грудь.
Больно как!
Не оттого ль во взоре
У меня дрожит твоя слеза,
Русь моя полынная,
в которой
Затерялись небо и глаза.
...Промелькнул платок, вослед рубаха,
И, ступая тихо сквозь туман,
Налегает ,на поле,
как пахарь,
Старый,
всеми брошенный курган.
Румянец года, молодой июнь,
Заговори на полевом наречье,
Чтоб задохнулся запахами лун
Еще один твой запоздалый вечер.
Ты гость у неба нынче на пиру,—
Тиха вода, да омуты глубоки,
Я снова на устах твоих замру,
Товарищ мой, июнь голубоокий.
Ты посулил березовые дни
Из освежающей, прохладной рощи.
И вот стоят передо мной они —
Нет ничего надежнее и проще.
Так рожь шумит, готова зацвести,
Завладевая постепенно летом,
Но ветра нет, лишь белые пути
Неосторожно догорают где-то.
О, как светло! Таких не будет дней
Уж никогда на сердце, как сегодня.
Заздравный кубок пенистых огней
Ты выше всех за всех сегодня поднял.
Горит кругом на травах полевых
И плещется заздравный этот кубок*
Я снова замер на устах твоих —
От жажды петь пересыхают губы.
В молодом, неутешном убранстве,
За околицей тихого дня,
Мне впервые открылось пространство,
Захватившее сразу меня.
Наряжалися древние липы
В дорогие свои кружева.
Под сухие морозные скрипы
Я вынашивал в сердце слова.
Я мечтал: подойду, поцелую,
Этот страх до сих пор не угас—
Я любил Вас тогда, городскую,
Сельский мальчик, как помню сейчас
Дни летели, рождалися думы,
За слезой набегала слеза,
На лице беспокойно и шумно
Отражались еще небеса.
Оттого благодарен я небу
За прекрасную землю его
И так радуюсь первому снегу,
Что не вижу от слез ничего.
Александр Ревич
Беспроволочный телеграф души
сигналы шлет в распахнутую бездну,
в иные времена. И пусть исчезну —
ты, речь моя, исчезнуть не спеши,
побудь среди живых еще немного,
в живое сердце зарони слова
моей тревоги. Так меня звала
чужая стародавняя тревога
из тайных сфер, из позабытых эрц
о коих говорится: «время оно»
и где за сотни лет до телефона
жил Данте, жил Овидий, жил Гомер,
и нам дышать их сутью сокровенной,
поскольку на земле во все века
останутся отвага и тоска
и женщина в другом конце вселенной.
Ева, девочка, дикарка
в мокрых космах до крестца.
Лучше не было подарка,
тверже не было резца.
Ева, женщина, колдунья,
дочь, праматерь и пра-пра..«
Ты в какое новолунье
вдруг возникла из ребра?
Бог мой! Что это за диво
за кустами на песке,
как склонившаяся ива,
топит волосы в реке?
Что за дерзкое лукавство
обжигает навсегда,
долгоного, и рукасто,
и текуче, как вода?
Тот ваятель был не промах,
знал он форму, ведал суть.
А в боку торчит обломок,
не забыть и не вздохнуть.
Давид Самойлов
запев
(Из книги «Волна и камень»)
Возвращенье от Анны,
Возвращенье ко мне.
Отпаденье от камня,
Возрожденье в волне.
До свидания, память,
До свиданья, война,
До свидания, камень.
И да будет волна!
Память — смертным отрада,
Камень — мертвым почет.
А благая прохлада
Пусть течет и течет.
До свидания, слава,
До свиданья, беда.
Ведь с волной нету сладу,,
И ощ — щвсегда.
Память, najprrb, ты — камень,
Тщ под ст^ть валуну.
Все равно мы не канем,
Цогруз|ивцщр& в волну.
До сриданья, Державин
И его времена.
До свидания, камень,
И да будет волна!
Нет! Отнюдь не забвенье,
А прозрение в даль.
И другр^ волненье,
И другая печаль,
И другое сверканье,
И сиянье без дна...
До свидания, камень]
И да будет волна!
ЦЫГАНОВЫ
Конь взвился на дыбы, но Цыганов
Его сдержал, повиснув на узде.
Огромный конь коричневато-красный,
Смирясь, ярился под рукою властной.
Мохнатоногий, густогривый конь
Сердился и готов был взвиться снова*
Хозяин хохотал. А Цыганова,
Хозяйка, полногруда и крепка,
Смеялась белозубо с расписного
Крыльца, держа ягненка-сосуцка.
А Цыганов уже надел хомут
И жеребца поставил меж оглобель.
И сам он был курчав, силен, огромен*
Все было мощно и огромно тут:
И солнце, и телега, и петух,
И цосреди двора дубовый комель.
И Цыганов поехал со двора.
А Цыганова собрала дрова
И в дом пошла.
И сразу опустело,
Когда исчезли три могучих тела —
Ее, и Цыганова, и коня.
Один петух, свой гребень накреня,
Глядел вослед коню и Цыганову*
Потом хозяйка погнала корову.
И это было лишь начало дня.
Распутица. Разъезжено. Размято.
На десять дней в природу входа нет.
Лишь перелесков утренняя мята
Студит во рту. Преобладает свет.
Свет беспощадный, ярый свет весны,
Срыватель тайн с морщинок и веснушек,
Припухших век, очей полу заснувших,
С болезненной и страстной желтизны.
Свет. Ярое преображенье духа.
Размяты в тюрю колеи дорог.
Невнятица, распутица, разруха...
А там — о«уше§с тюлевый дымок.
Не мысль, не слово,— а под снегом,
Подобный напряженным слегам,
Отяжелевший вечный смысл
Повелевает мне: — Проснись!
И странно: в ясности речений
Какая-то есть пустота.
И может только свет вечерний
Заполнить общие места.
И трудно спать перед закатом
И просыпаться в странный час,
Когда над снегом розоватым
Березы высятся, светясь.
Кончался август. Гуляет ветер,
Примолкну л лес. Гуляет Фет.
Стозвездный Аргус
Глядел с небес. Среди владений
И по лесам
А на рассвете Последний гений
В пустых полях Гуляет сам.
Усатый ветер
Гулял, как лях... И где-то Пушкин,
И где-то Блок...
Сквозь ветки ветел А здесь опушки.
Глядит рассвет. Он одинок.
Валентин Сидоров
Полночь жизни моей миновала,
Позади — самый трудный рубеж,
И не жалко ничуть, как бывало,
Затаенных и дерзких надежд.
Как бы сердце хандрить ни старалось,
Ощущенье такое в груди,
Что не молодость будто, а старость
Оставляю сейчас позади.
Может, логики в этом и нету,
Но сегодня —
сужу по всему —
Дело близится, видно, к рассветуу
И — как сказано —
быть по сему!
*
Как не похож тот мальчик на меня!
Он возникает над крутым обрывом
Стремительно (а я неторопливо)
В сиянье исчезающего дня.
Подумать только: он — моя родня.
Он — это я, умевший жить порывом.
Умел он быть безоблачно-счастливым
И не искал заемного огня.
Быть может, что-то в нас и повторится.
Но ни в туманном сне, ни наяву
Нам не открыть закрытую страницу.
И, надвое разрезав синеву,
Легла меж нами четкая граница.
Тот мальчик умер. Я еще живу.
* # #
Не выпадай из светлого кольца,
Не выпадай ни на одно мгновенье.
Да не коснутся твоего лица
Ночные тени праздного сомненья.
Какую весть стремятся нам донесть
Безмолвье прорезающие звуки?
Твоих друзей невидимых не счесть,
Не оттолкни протянутые руки.
Опять твое уставшее лицо
Пронизано дыханием небесным.
Не разорви незримое кольцо
Неосторожным словом или жестом.
Тебе сегодня ведать не дано,
Ты ни за что не вычислишь заране,
С какою силой и кого оно,
Тобой сейчас разорванное, ранит...
Нам дарит убежденность все чаще
Изнутри нарастающий свет:
Меж землею и небом звучащим
Никакого различия нет.
Не поймать никакою антенной
Зазвучавшие где-то вдали
Гулкий колокол звездной Вселенной
И набат потрясенной земли.
Без прозрений, ниспосланных свыше,
Если мысли и чувства чисты,
Мы встаем, эти звуки услышав,
На дежурство у вечной черты.
Даже думать, наверно, преступно —
Можешь славу иль нет обрести.
Важно только одно:
неотступно
Эту вечную вахту нести.
Важно только одно неизменно —
Чтоб во всем уловить мы могли
Мудрость бьющего часа Вселенной,
Мудрость бьющего часа Земли.
Валентин Сорокин
САРЫЧ
То ли это шелестят колосья,
То ли ветер — сам не разберусь...
На душе покой и безголосье,
И в полях непролитая грусть.
За туманом, ласковым и синим,
Плоскогорье. Хутор. И река,
Где пылает молодой осинник
Золотым костром издалека.
А над ним, почти что неподвижен,
С высоты роняя громкий клич,
Проплывает темновато-рыжий
Сильный, недоверчивый сарыч.
Он не сможет от земли отречься,
От небес родимых и тайги,
Словно опасается обжечься —
Медленные делает круги.
Вот и я похож на эту птицу:
Над своей любовью столько вьюсь!
И боюсь устать и опуститься
И навеки потерять боюсь.
ГОЛОС
Принагнулйсь и затихли травы.
Нет Пути беспечному веселью.
Растеряли старые дубравы
Золотые листья по ущелью.
Грани скал под солнцем отблистали:
Над Бештау
полдень скоротечный.
И все те же тайны льются в дали,
Тот же мрак струится бесконечный.
Навесное небо прокололось —
Ливней стрелы до земли продеты.
...Не его ли затерялся голос,
В этих рощах не найдя ответа?
Вадим Сикорский
JfS
Мне бы в детство давнее уверовать
и прийти туда, где спит трава,
где стоят изделия из дерева
под названьем древним дерева.
Горизонты там темны под звездами,
а на поле на заре — роса,
а над ним создание из воздуха
под большим названьем небеса.
Нет, нет, еще пока ты не стучись
ко мне, мой ученик потенциальный,
еще ты у других пока учись,
у тех, кому открылся полдень дальний.
А мне, хоть я уже и стар и сед,
хоть все познать себе поставил целью,
еще неясен призрачный рассвет,
поднявшийся над давней колыбелью.
Расстаешься с людьми, как со странами,
где провел свои лучшие дни.
Но душевными рваными ранами
о себе вдруг напомнят они.
А иных, как турист — время скорое! —
еле вспомнишь и рост и лицо,
вспомнишь слово вдруг высокогорное
или взгляд, как в лесу озерцо.
Мне говорят: возмездья берегись.
Я прожил век ни короток, ни длинен.
Бывало, надо мной сияла высь,
бывало, погрязал во мгле, как в глине.
Мне перепало света стольких глаз,
чем заплатить — тоской в час испытанья?
Оплатят ли страданья в страшный час
всю прелесть мимолетного свиданья?
Я испытал и боли и беду,
но было столько солнечных мгновений,—
сложив, зажжешь сверхновую звезду
на небе, что самой весны новее.
75
Борис Слуцкий
РИТМЫ
С утра обнаруживаются ритмы Выходит, что звезды точно выходят
в сердцебиении, потом в ходьбе. по положенным им местам,
Сначала — в мерных движениях бритвы, а солнце всходит и заходит
потом — в частотикающей судьбе. там, где следует, именно там.
Оказывается, есть порядок
в расположении войск и грядок
и в том, как падает в городе снег.
Порядок есть, беспорядка нет.
Поэтому мера свойственна обществу,
и даже морю ритмично ропщется,
и все, что на небе, в душе, на земле,
можно выразить в точном числе.
ПОДМОСКОВЬЕ
Еще голову на плечо положив
пассажирке своей
по привычке,
трехминутным сном заснул пассажир
в электричке.
Еще справа Юго-Запад плывет,
а неназванные микрорайоны слева,
и все это Подмосковьем слывет
и еще горячо с лета.
Еще выбегут через
две остановки
и грибы — через пять остановок,
цветы
и высоты неслыханной высоты
на своих повиснут стоногах.
А потом — голубизна, синева ль —
над зеленым в желтых пятнах.
А потом всесоюзный пойдет сеновал:
август месяц,
так что понятно.
И Москва перельется в Россию,
как
Москва-река в Волгу с Окою,
и пойдет все иное и все не такое,
и писать об этом придется не так.
СОЛДАТСКИЙ ОТПУСК
В эту войну отпусков не дают,
но иногда отпуска получают.
Как нас, нечаянных, дома встречают!
Что за уют нам тогда создают!
Отпуск солдатский как сон в седле -
сладок, и краток, и беспокоен.
Ты отчего же задумался, воин?
Все для тебя на этой земле.
Отпуск солдатский — победы кусок
выдран
из следующего мая.
Чокайся, над головой поднимая
рюмку.
Жизнь хороша. Самый сок!
Владимир Солоухин
В РЫЛЬСКОМ МОНАСТЫРЕ
НА ПРАЗДНИКЕ БОЛГАРСКОЙ ПОЭЗИИ
Обстоятельства написания этих стихов требуют пояснения.
Вечером был объявлен конкурс на лучшее стихотворение о проходящем
Празднике. Срок написания — до утра. Одновременно начался и
банкет. Малиновое вино — гордость Рыльского монастыря — было
прекрасно, но тяжеловато для головы. То ли в силу новизны
впечатлений, то ли в силу большей — по сравнению с болгарскими
коллегами — дисциплинированности, написали стихи только мы с
Сергеем Наровчатовым. Мы же, естественно, и получили призы:
он — хорошую графику с изображением монастыря, а я — копию
с иконы четырнадцатого века, изображающую основателя обители —
Иоанна Рыльского.
Сначала я летел на самолете,
«ТУ-104» резал синеву.
Журнал красивый я листал в полете,
В окно глядел и вспоминал Москву.
Потом я в Варне двадцать дней купался,
Где золото песка и синий вал,
С друзьями спорил, по горам шатался,
Ракию пил и в шахматы играл.
Потом по разным городам и селам
Возил меня казенный «мерседес»,
Потом — автобус, дружный и веселый...
Вот так, друзья, я оказался здесь.
А надо бы пешком,
Через Россию,
Через Европу надо бы пешком!
Пешком к тебе, славянская святыня,
Стуча о землю крепким посошком.
Идти пешком, чтоб зрела постепенно
Твоя, о Рила, над душою власть.
Прийти пешком и преклонить колено...
Не так!
Прийти и на колени пасть!
Поклон, поклон поэзии крылатой
За все ее одиннадцать веков.
Она была то песней, то набатом,
Она была то девой, то солдатом,
В любви клялась, страдала от оков.
Я не пешком пришел к тебе, прости мне,
Но я скажу, слова распределя:
Обичим те сестрата на Русия!
Люблю тебя, Болгарская земля!
НАДЕЖДА
Мечтой, корыстью ли ведомый,
Семью покинув и страну,
Моряк пускался в путь из дома,
В бескрайнюю голубизну.
Мир неизведан и безмолвен.
Ушел фрегат, пропал фрегат.
И никаких депеш и «молний»,
И никаких координат*
Три точки, три тире, три точки
Не бросишь миру в час беды.
Лишь долго будут плавать бочки
На гребнях вспененной воды.
Как до другой звезды до дома,
Что ни кричи, не слышно там.
Но брал бутылку из-под рома
И брал бумагу капитан.
77
И жег сургуч...
Обшивка стонет,
Тот самый вал девятый бьет.
Корабль развалится. Утонет.
Бутылка вынырнет. Всплывет.
Она покачиваться станет
На синеве ленивых волн.
А капитан?
Ну что ж, представим,
Что уцелел и спасся он.
Есть горизонт в морском тумане,
Прибоем вымытый песок.
Есть в окаянном океане
Осточертевший островок.
Его записка будет плавать
Три года, двадцать, сорок лет.
Ни прежних денег, и ни славы,
И ни друзей в помине нет.
И не родных и не знакомых
Он видит каждый день во сне:
Плывет бутылка из-под рома,
Блестит бутылка при луне.
Ползут года улитой склизкой,
Знать, умереть придется здесь.
Но если брошена записка,
Надежда есть, надежда есть!
Ползут года, подхбдит старость,
Близка последняя черта.
Но вот однажды брезжит парус,
И исполняется мечта.
Живу. Жую. Смеюсь все реже.
Но слышу вдруг к исходу дня —
Живет нелепая надежда
Ё глубинах сердца у меня.
Как будто я средь звезд круженья
Свое еще не отгостил,
Как будто я в момент крушенья
Бутылку в море опустил.
У ЗВЕРЕЙ
Зверей показывают в клетках —
Там леопард, а там лиса,
Заморских птиц полно на ветках,
Но за решеткой небеса.
На обезьян глядят зеваки,
Который трезв, который пьян,
И жаль, что не дойдет до драки
У этих самых обезьян.
Они хватают что попало,
По стенам вверх и вниз снуют
И, не стесняясь нас нимало,
Визжат, плюются и жуют.
Самцы, детеныши, мамаши,
Похожесть рук, ушей, грудей,
О нет, не дружеские шаржи,
А злые шаржи на людей,
Пародии, карикатуры,
Сарказм природы, наконец!
А вот в отдельной клетке хмурый,
Огромный обезьян. Самец.
И безразличен почему?
Как видно, чем-то он обижен
В своем решетчатом дому?
Ему, как видно, что-то надо?
И говорит экскурсовод:
— Погибнет. Целую декаду
Ни грамма пищи не берет.
Даем орехи и бананы,
Кокос даем и ананас,
Даем конфеты и каштаны —
Не поднимает даже глаз.
— Он, вероятно, болен? Или
Погода для него не та?
— Да нет. С подругой разлучили.
Для важных опытов взята.
И вот, усилья бесполезны. ~
О зверь, который обречен,
Твоим характером железным
Я устыжен и обличен!
Ты принимаешь вызов гордо,
Бескомпромиссен ты в борьбе,
И что такое «про» и «контра»,
Совсем не ведомо тебе.
И я не вижу ни просвета,
Но кашу ем и воду пью,
Читаю по утрам газеты
И даже песенки пою.
Средь нас не выберешь из тыщи
Характер твоему под стать:
Сидеть в углу, отвергнуть пищу
И даже глаз не поднимать.
* *
Внутри меня возникли баррикады. И кто бы ни клонился под ударом,
Сперва толпа, булыжник мостовой, То я клонюсь, один лишь я клонюсь!
Окраины, ораторы, отряды,
Предатели, каратели и — бой! Страшна беда, как все земные беды,
Разорены цветущие края...
~ „ Но кто бы ни одерживал победу,
Войска закона движутся к заставам, То я ее одерживаю, я!
Для них повстанцы — дикая орда,
Та часть меня, которая восстала Как ц в с вопросами при
На часть меня, которая тверда. Ко мне Друзья, знакомые мои:
— Ну как живешь, здоровье как? —
Что из того, что тихо ночью в доме, Отвечу:
Что, рядом спя, не слышит и жена,
Как в беспрерывном скрежете и громе — Идут кровопролитные бои.
Идет во мне гражданская война. Вы моему спокойствию не верьте,
Обманчив внешний благодушный вид»
Лишь одного боюсь я хуже смерти —
Свистят фугасы, крутятся радары,
Огня и крови яростный союз... Уснешь, а кто-то третий победит*
79
Николай Старшинов
ПОДМОСКОВНОЙ ПРИРОДЕ
Не блещешь ты в прославленном кругу
Ни роскошью, ни красотою броской.
Живешь ты, осененная березкой,
То вся в ромашках ясных, то в снегу.
Ни водопадов, прыгающих с круч,
Ни голубых лиманов, ни ущелий...
Лужок. Овраг. И копья строгих елей
Пронзили низкий полог серых туч.
Здесь лев рычаньем не ошеломит,
Не ослепят павлины разномастьем.
А встретишь зайца — задохнешься
счастьем:
Ишь, уцелел!.. И сердце защемит.
Ты милым с детства солнечным ручьем
В моих глазах повыцветших сверкаешь,
В моих ушах поешь, не умолкаешь
То соловьем, то — чаще — воробьем.
И сам негромко я тебя пою,
Моя отрада, и моя награда,
И жизнь моя...
А если будет надо,
Тебя ценою жизни отстою.
Шинель надену, автомат возьму,
Как в юности, на поле боя выйду...
Я знаю насмерть, что тебя в обиду
Не дам я никогда и никому!
Наконец-то холодом пахнуло,
Наконец-то мать-земля вздохнула:
Всех нас угостила без обид
Ягодой, орехами, грибами,
На год обеспечила хлебами
И теперь себе спокойно спит.
До весны она рассталась с небом,—
Ей привычно и тепло под снегом,
Сладко ей, уставшей, подремать...
И под снегом тем, укрыта мглою,
Глубоко-глубоко под землею
Крепко спит моя родная мать.
Вот весна в урочный час вернется.
Снег растает, и земля проснется.
Словно спохватившись о былом,
Встретит нас черемуховым цветом,
Чистой песней иволги, приветом,
Материнской лаской и теплом.
Только и весеннею порою
Не воскреснет под землей сырою,
Не мелькнет ни близко, ни вдали
Самая святая и земная,
Моя совесть, мать моя родная,
Что была добрей самой земли.
Это все удивительно просто.
Прыгну в лодку. Отчалюсь багром.
И на свой облюбованный остров
Уплыву на рассвете сыром.
Там, поставив кружки и жерлицы
И закинув шнуры на угря,
Буду господу богу молиться,
Чтоб меня превратил в дикаря.
Я шалашик нехитрый построю,
Расстелю для ночевки кугу
И, воюя с лихой мошкарою,
Развеселый костер разожгу.
То ли дело вставать спозаранку
И, присев на кривую ольху,
Слушать милую птицу зорянку,
Уплетая тройную уху.
Пусть июнь свои молнии мечет,
Хлещет ливнем и солнцем палит,
Я ручаюсь: природа излечит
Все, чем сердце сегодня болит.
А когда по тебе затоскую,
По бессонным рабочим ночам,
Окунусь в толчею городскую —
Возвращусь я к друзьям-москвичам.
Я готов буду с вами, ребята,
Побывать в переделке любой,
Как солдат, что пришел из санбата,
Только дайте винтовку — ив бой...
МОЯ СУМЕРЬ
В ясной тиши и в шуме,
В радости и беде
Я тебя, речка Сумерь,
Не забывал нигде.
Как же тебя забуду?
Здесь я и жил и рос,
Здесь возводил запруду,
Возле твоих берез,
Шарил в корнях налимов
И над водой рябой,
Смуглые ноги вымыв,
Сумерничал с тобой...
Лягу, бывало, под кустик.
Ты, сохраняя тишь,
Полная светлой грусти,
Сумерь моя, журчишь.
Или пойду к заливу,
Статный и молодой.
Девушка, словно ива,
Клонится над водой.
Сумрак. Зеленый вечер.
Меркнут твои струи.
Вместе с тобой
Далече
Думы плывут мои.
Думы, мечты ли, яви,
Как их ни назови,—
Сладостные — о славе,
Горестные — о любви.
Ты уносила к морю
Всю мою грусть-тоску —
В Талицу, дальше — в
Ворю,
В Клязьму, потом— в Оку,
Неторопливой Волгой
В Каспий ее несла...
...Видно, разлука долгой
И для тебя была.
Вот и опять в раздумье
Я над тобой стою.
Что же тебя я, Сумерь,
Нынче не узнаю?
Как же ты обмелела,
Сузилась, заросла!..
Ты меня так жалела,
Столько несла тепла!
Что же глядишь сурово?
Чем тебе помогу?
Хочешь, я буду снова
Сумерничать на берегу?
Вместе с тобой, мечтая,
Снова отправлюсь вдаль...
Что, моя золотая,
Или кого-то жаль?
Гляну, припомнив детство,
В зеркало твоих вод...
Лучше бы не глядеться —
Сам я совсем не тот...
Будто бы кто-то умер,
Скорбно журчит вода...
Да, ты сегодня, Сумерь,
Сумрачна, как никогда.
Что ж это на проверку
Так тебя огорчит?..
Сумерки. Воды меркнут.
Сумерь моя молчит...
81
Николай Тряпкин
ПЕСНЬ О ВЕЛИКОМ НЕРЕСТЕ
Августовские ночи! Августовские ночи!
Индевеющий злак!
Это было на Пижме, в сосняковом урочье,
У подводных коряг.
Заворачивал с моря долгожданный ветрюга,
Забурунный, как дед.
Августовские ночи!.. У Студеного Круга
Замирал полусвет.
И стучался к нам Полюс. И речонка, попятясь,
Вдруг пошла на отход.
И сказали вдруг люди: «Это наша удача.
Это семга идет».
Августовские ночи! И сузем, и лещу га.
И земной полубред.
Это было на Пижме, у Полярного Круга,
У застывших комет.
Заворачивал ветер. И гудели затворы
У Печорских Ворот.
И заплюхалась Пижма. И сказали поморы:
«Это семга идет».
Заработали весла, изготовились руки,
Замахнув гарпуны.
И всю ночь раздавались бесподобные стуки
Из речной глубины.
И земля колотилась, как в начале творенья,
Закипала вода.
Это семужьи орды, разрывая коренья,
Пробивались сюда.
А над миром сияли Полуночные горы
В полуночном венце.
Это было в Начале, у истоков Гоморры,
Это будет в Конце.
И созвездья, как нерест, заполняли все своды
У неведомых шхун.
И летел уже Месяц в закипевшие воды —
Изостренный гарпун.
ПЕСНЯ
Кабы мне цветок да с того лужка,
Кабы мне флажок да с того стружка.
Кабы мне всегда да не скучно жить,
Кабы мне теперь да с тобой дружить.
Удалился б я да в густой лесок
Да срубил бы там смоляной скиток.
Золотой скиток из кругла бревна,—
Прорубил бы в нем только три окна:
Пусть одно окно — да на белый свет,
А другое пусть — да на маков цвет.
А третье окно — да по стенке той,
Да по стенке той, что на терем твой.
Стал бы я всю жизнь только там сидеть
И всю жизнь оттоль на тебя глядеть.
Стал бы я в лужках да цветочки рвать
Да венки тебе завивать-сплетать.
Стало б мне тогда да не скучно жить,
Стал бы я тогда целый мир любить.
Да с тобой ходить на мирской йокос,
Да шмелей сдувать с твоих русых кос.
Я искал твой след неповторимый
Да по тем залесьям и краям —
За рекой Печорой, за Витимом
И по всем онежским пристаням,
Да у той у камской переправы,
Да у тех у Кольских берегов...
По каким ты шла цветам и травам?
У каких ты грелась очагов?
И сновали слухи надо мною,
Пролетали с вестью облака.
И стоял я вровень с той волною,
Что просилась в песню на века.
Только плыл твой голос журавлиный
И, как дым, спускался у воды.
Только дым осеннего овина
Заметал былинные следы.
Только дым от песни многославной,
Да и жизнь растаяла, как дым...
Да куда ж ты скрылась, Ярославна,
Перед родом-племенем моим?
И пускай все так же надо мною
Пролетают годы и века.
Под какой искать тебя стеною?
У какого камня-соловка?
И грохочут волны с переправы,
И кричу вот с тех же берегов:
По каким ты шла цветам и травам?
У каких ты падала снегов?
Эту песенку
Повторял мой дед.
Только был мой дед
Да на столб воздет.
Эта песенка
Досталась отцу.
Только сабля — хлесть
По его лицу!
Эта песенка
Сполюбилась нам.
Да промчались мы
По своим костям.
Эту песенку
Услыхал мой сын.
Да заплакал он
От моих седин.
Эту песенку
Да воспримет внук
И споет ее
У речных излук!
Пусть она сполна
Ему вспомнится
И заветный сон
Да исполнится.
83
Яков Хелемскгш
ПОЛЯРНЫЙ КРУГ
Был свет полночный зыбок и рассеян,
Цвета слегка размыты, но чисты,
И по белесым водам Енисея
Шли рядом с нами баржи и плоты.
Сливая зиму с летом воедино
И воплощая времени размах,
Крутые, неоттаявшие льдины
Серели на июльских берегах.
Но берега в движенье непрестанном
Все дальше отходили от кают,
Сливая эту реку с океаном,
Давая чайкам пищу и приют.
А краны, вознесенные Игаркой,
И гидроплан, набравший высоту,
Сливая полдень с полночью неяркой,
Поблескивали на двойном свету.
Мерцали мачты, вспыхивали стрелы
Над свежим тесом, над охапкой шпал.
И слева солнце, не зайдя, горело,
А справа месяц явно проступал.
То был рубеж негаснущего мира,
Бессонных вод, недремлющей земли.
И два светила, словно два буксира,
Нас в этот мир торжественно ввели.
«Усталостные трещины металла»...
Язык лабораторий заводских
Порой звенит, как пятистопный стих,
Воспевший сталь, которая устала.
Стареет бронза, угасает медь,
И твердый сплав работой обессилен.
Возник узор предательских извилин,
Как приговор — в бездействии ржаветь.
«Усталостные трещины металла»...
Особый мир возник передо мной.
Обыденная фраза прозвучала
Изысканней метафоры иной.
Упругость нарушается и гладкость,
Обозначая старости приход.
Так чистый лоб пересекает складка,
Дряблеют щеки, обмякает рот.
«Усталостные трещины металла»...
Скупой диагноз. Точные слова.
Тебя по свету сильно помотало,
Белеет удалая голова.
Ты держишься, хотя немало прожил,
И замыслы отменно хороши.
Но, проступив, избороздили кожу
Усталостные трещины души.
Я в армии, многим годясь в сыновья,
Привык, полководцем не ставши,
Что тот, кто по званию старше меня,
Всегда и по возрасту старше.
Вздыхаю, привычку былую ценя,
Смущен превращением странным.
Теперь генералы моложе меня,
В отцы я гожусь капитанам.
Есть летчик. Знакомый поры фронтовой.
Теперь он по званию маршал.
Не так уж он молод в сравненье со мной,
А все же я чуточку старше...
84
Евгений Храмов
РАЗГОВОР С БРАТСКОМ
Как странно возвратился Братск,
Когда о нем совсем забылось,
Но что-то в глубь души забилось:
Огни в реке, обрывки фраз.
И кто-то (сразу не поймешь)
Берет меня сейчас за лацкан
И говорит: «Ведь я из Братска!
Ты что ж меня не узнаешь?»—
«Я узнаю, я узнаю,
Ты был диспетчером на стройке,
Но ты тогда был шумный, бойкий.
Что изменило жизнь твою?»
Но машет он в ответ рукой:
«Ты приглядись, я все такой же,
С улыбкой светлой, с темной кожей,-
Наверно, это ты другой!»
Наверно, это я другой...
И я, приглядываясь, вижу —
Как будто вольтовой дугой
Все озарилось, стало ближе...
II
Рвану рубаху, тесен ворот.
К окну скорее подойду.
В окне рождающийся город,
И с ним я разговор веду.
Я говорю: — Такое горе,
Мне страшно, я схожу с ума.—
Он говорит: — Здесь будет море,
А там я выстрою дома.—
Я говорю: — Невозвратимо
Все, что берег я и любил! —
Гудящею струею дыма
Он свой ответ мне прочертил.
И крикнул я: — Так что ж мне делать?
Ответь мне, в чем я виноват? —
И он ответил: — Завтра в девять
Я открываю комбинат.
Вот так он жил, дышал, работал,
Таков был строй его и слог.
И разве объяснил хоть что-то,
Хоть чем-нибудь он мне помог?
Но всякий раз, когда мне плохо,
Когда сидит в гостях беда,
Ты посылай меня, эпоха,
Туда, где строят города.
И автогенными ночами
Веди над взорванной водой
И отвечай, как отвечает
Вот этот город молодой.
* * *
Еще мы с тобою покамест на Вы,
Еще ты не стала моею судьбою.
Мы будем с тобой до опавшей листвы,
До первого снега мы будем с тобою.
К нам город в раскрытое входит окно —
То крики, то стук каблуков аккуратных.
Мы будем с тобою — теперь все равно —
До Нового года, до боя курантов.
О, как хорошо нам назначенный срок
Самим отодвинуть все дальше и дальше,—
Мы будем с тобой до зачеркнутых строк»
С тобою — до первой замеченной фальши.
Сегодня, когда я встаю поутру,
Я вижу, что небо опять голубое.
Я буду с тобою, пока не умру,
А я не умру, если буду с тобою.
Осенний небосклон так чист,
Так мягко светит,
Лишь изредка летящий лист
Его прочертит.
И шелестящей тишиной
Полна природа,
И запах сырости грибной
Встает у входа.
И все это мое теперь —
И лес, и поле,
Как будто распахнули дверь
Туда, на волю.
Кто приказал, чтоб день был тих
И лучезарен?
Кому я должен в этот миг
Быть благодарен?..
Выйти в Ногинске в ночь на крыльцо,
Ливню литому подставить лицо,
Видеть, как молнии в небе сверкают,
Видеть, как грозы смыкают кольцо.
Слышать, как, тяжко дыша за бугром,
Лезет ко мне непроспавшийся гром.
Что мне бояться,— ждет за спиною,
Ждет меня теплый, налаженный дом.
Тучи гремят наподобие льдин.
Что мне? Я сам себе господин!..
Вдруг ужаснулся, почувствовав сердцем:
Я в эту ночь под грозой не один.
Где-то сейчас, сквозь ливень и мрак,
Движется кто-то, друг или враг,
Кто — я не знаю, но движется кто-то,
И под ногами бушует овраг.
Нет, не мои это сын или дочь.
Что же мне сделать и как им помочь?
Двери свои оставляю открытыми,
Двери открытыми всю эту ночь...
Отчизна в закатах парчовых,
В ночных темно-синих шелках,
Возьми ты меня в Пугачевы
С веселою саблей в руках!
Ах, если б родиться мне ране,
В семьсот тридцать третьем году,
И в жаркой папахе бараньей
Лететь по яицкому льду!
Лететь бы — земли не касаться,
Коню отпустить повода,
Чтоб алокафтанных красавцев
Летела за мною орда
На рыжих, каурых и карих!..
Но вдруг прерывают меня:
«Да что б ты там делал, очкарик,
Не видевший в жизни коня?
Кому бы сгодился ты, олух?
Тебя порешили б зараз!»
Я б действовал как идеолог
Движенья трудящихся масс.
И пусть в разудалом набеге
Скакун подо мной не плясал,
Я письма военной коллегии
На трех языках бы писал.
Я б смог перелома добиться,
Учтя настроенья крестьян,
И вместе со мною в столицу
С победой вошел Емельян.
Мы с Разиным в битвах не бились,
Не шли в пугачевских полках,
Но как бы мы им пригодились,
Тихони,
Разини
В очках...
Игорь Шкляревский
Весенней ночью влажный лес
на остановке в окна лез.
Огней рыбачьих вольный табор
мелькал в забывчивой дали.
Шумела Друть, и соловьи
насквозь просвистывали тамбур!
Мне было восемнадцать лет...
Все было впереди — рассвет,
республиканская столица,
все впереди! Скрипел вагон,
рабочих заспанные лица
и золотая метулица
вплывали в бесплацкартный сон.
Я был без памяти влюблен
и первой строчкой окрылен!
Уже не помню этой строчки^
записанной не в тупике —
не на салфетке в кабаке,
а в светлой бездне майской ночи*
в тревожном поезде рабочем,
на соловьином сквозняке!
ЧЕРНЫЕ ГРУЗДИ
Черные грузди, черные грузди,
как он мечтал их найти в захолустье,
в золоте тонком
овражных берез,—
он ведь и сам здесь родился и рос!
Сразу глаза его, словно собаки,
быстро забегали в мокрой траве.
Вот они — в светлом от капель овраге,
полном тревоги, тумана и влаги,
жаль, что любимая где-то в Москве.
Как она рада была бы сейчас!
Красные «явы» в березах мелькали,
а на ладонях,
росою светясь,
черные грузди его опьяняли!
Впрочем, она уже где-то в Крыму...
Легкий,
печальный,
едва уловимый
запах лесной приднепровской долины
черные грузди дарили ему!
Здесь он когда-то родился й рос,
ей же наскучило
жить в захолустье,—
черные грузди, черные грузди,
столько он взял их, что еле донес!
Еле с корзиной доплелся домой,
мучаясь радостью неразделенной
под непонятной
холодной,
бездонной,
всюду глядящей в глаза синевой...
ОТЪЕЗД ДЕДА АДАМА
Первый иней хрустит под ногами.
Синева застеклила леса.
Столько холода вновь между нами,
что не верит душа в чудеса!
Ни письма от тебя, ни открытки,
лишь собака скулит до утра.
Дед Адам собирает пожитки.
Значит, и постояльцу пора.
Ишь заходится псина в тревоге,
а ведь верности не был учен.
Дед Адам, перевозчик безногий,
едет к дочке в далекий район.
Починил деревянную ногу,
самодельный костыль подновил.
Продал хату свою и корову.
Людям лодку свою подарил.
И остался лишь этот товарищ,
и его не утешишь никак,
не продашь его и не подаришь,
потому что он верный дурак.
Воет пес! Это значит — к разлуке.
И поля, и река, и луна
мою нежность берут на поруки,
но тебе только радость нужна...
Кто цветочки, кто старые бочки —
все народ благодарный унес.
Можно ехать к заботливой дочке.
В хате лишь постоялец да пес.
И разносятся где-то во мраке,
и сливаются где-то в глуши
нежный вой одинокой собаки
с тонким воем забытой души.
Михаил Шевченко
ЗАВОЕВАТЕЛИ МИРА
Когда он поднимался на утес
Пустого острова Святой Елены,
Внизу — ему казалось — море слез
Великой нации, погибших поколений.
Их кровь алела посреди песков,
Их кровь поля Европы оросила.
И самых лучших Франции сынов
Он погубил в разгневанной России.
У ног своих он жаждал видеть мир,
Судьба ответила насмешливо и просто:
— Ты угрожал планете?
Пыл уйми!
И вот тебе пустынный, дикий остров!..
Другой француз, неистовый Бальзак,
Еще неведомый на белом свете,
Лишь час назад проев последний фрак,
Сидел голодный в нищем кабинете.
Сидел один, склонившись над столом,
Перед наполеоновским портретом,
И так сказал: — Что ты не смог мечом,
Я сделаю пером!..—
И сделал это.
Бальзака славу примет каждый кров,
Честь Франции она не очернила.
И на руках его не слезы и не кровь,
А только честные чернила.
Шекспиры еще придут.
Земля уже ими беременна.
Она приутихла временно
В предродовом бреду.
И ты на людей не жалуйся,
Люди свое возьмут.
Трагедии продолжаются —
Шекспиры еще придут.
ачало
Геннадий Бубнов
СТИХИ РАССТАВАНЬЯ
До свиданья,
захолустье...
На морозе молодом
белой грустью захлебнусь я,
как холодным молоком.
Лишь настанет час прощаться -
ощущения остры.
Две слезинки — два несчастья —
на ресницах у сестры.
Мать все силится не плакать,
а отец устало-строг:
с кем и сколько сыну плавать,
им не скажет даже бог.
До свиданья.
В нетерпенье
конь уже копытом бьет.
Ускользнут неясной тенью
эти сани из ворот.
До свиданья.
А над крышей,
словно ворон, черный дым.
Ты меня запомни —
слышишь! —
уезжаю молодым.
Александр Величанский
ЛЕТНИЕ СТРОКИ
В детстве в нашей речке Липке
часто вспыхивали рыбки.
Под водой в своей тиши
жили камни-голыши.
Над водой вставали в позы
темно-синие стрекозы.
И лежала голышом
мама с желтым малышом.
II
Вот у нас какие маки:
восклицательные знаки! —
поглядят на них и глядь —
начинают восклицать
все окрестные соседи и зеваки.
Ш
Был день от зноя лиловатый.
Шиповник цвел аляповатый.
Кричали малые ребята.
И лаял пес.
И лаял пес.
По рытвинам между берез
тащился облачный обоз
и нас с тобою вез да вез
куда-то...
Виктор Гераскии
ЛЕДОХОД НА ЕНИСЕЕ
Мой край таежный,
Кедры да осины,
Урманы, сопки,
Рек голубизна.
Сюда,
Отбушевав по всей России,
Приходит запоздавшая весна.
И, сбросив горностаевую шубу,
Зашевелится грозный Енисей,
И запоют серебряные трубы
По всей таежной стороне моей.
Кто видел
Ледоход на Енисее,
Когда неясно,
Чья сейчас возьмет,
Когда не знаешь,
Кто из них сильнее —
Река или свинцовый, тяжкий лед?
Он весь в торосах,
Крепкий, в полной силе.
Тут не поможет даже аммонал.
Его подрывники три дня крушили,
Но все-таки к утру он замерзал.
Застыл навеки
В сумрачном покое
От гор Саян
До северных морей,
Но оставался и в мороз рекою,
Великою рекою Енисей.
Вдруг пробудя таинственные силыА
Напрягшись весь —
От дна до берегов,
Он,
Как мужик,
На голубые вилы
Поднял натужно ледяной покров.
Николай Горохов
* * *.
Опять,
пытая голосами»
Нисходя до немоты,
Костры
цыганскими глазами
В меня глядят из темноты.
Я слышу —
запахи и бубны.
И в пляске юбок и огня
Я вижу, кажущийся бурым.
Очерк черного коня.
Я слышу,— вздрагивая немо
Над вольным цокотом копыт,
Пахнет молодостью небо
Сквозь запах взмыленных кобыл!
И, скаля зубы снеговые
Над красной гривою коня,
Грохочет
сквозь меня
навылет
Цыган,
похожий на меня.
И вдребезги немые фрески!
Любовь, судачества,
бои,,..
О, тише,
тише,
тише, предки,
Цыгане
бедные мои!
Любовь Гренадер
А по-русски жалеть — это значит любить,
Ты меня не жалеешь, не любишь,
Бабам вечные слезы по осени лить,
Ты меня не жалеешь, не любишь.
Бабьим летом свои не считаешь грехи,
И поется, и верится: любишь!
Девкам хочется в бабы, а бабьи стихи;
Ты меня не жалеешь, не любишь...
И в осеннюю ночку по-бабьи платок
На спине девка стянет потуже,
На свиданье идет, а поет, а поет:
Ты меня не жалеешь, не любишь!
И вдова не вдова, и не мужья жена,
И тужить не особенно тужишь,
А из песен российских запала одна;
Ты меня не жалеешь, не любишь.^.
Александр Испольное
МЕЛОДИЯ
Этот мотив звучит
грустно, как зов далекий.
Облик твой одинокий
с музыкой слит.
Звуки из темноты
медленно проступают,
словно огни мерцают...
Скажешь ли ты?
В лунном поющем сне,
в теплом сердечном стуке
тихо мелькают звуки, л
Скажешь ли мне?
Слышишь, плывет звезда
в льющейся, плавной дрожи,
голосом ночь тревожа...
Скажешь ли «да»?
Грустно звучит мотив,
словно зов без ответа,
горечь от слов запрета
вновь возвратив.
Надез/сда Кондакова
Дым волоком нынче — к ненастью*
Буранные степи кляня,
Я б тут заблудилась, но счастье,
Видать, на роду у меня.
Оно, на метели нахлынув,
Такой обожгло тишиной,
Что путь мой, неведомо длинный,
Остался, как тень, за спиной...
Кудрявый туман Оренбуржья,
Зеленых лесов и полей,
Глаза мои снова завьюжил,
Завьюжил, и стало теплей...
*
*
Наляжет ночь на пашни тьмою,
Когда найдет вчерашний день
Приют под кровлею любою
Степных усталых деревень.
Ах, где бы мне усталым взглядом
Приют себе найти такой,
Чтоб день вчерашний был бы рядом,
А завтрашний — подать рукой...
Б.П-ву
Ты жил в плену степного духа,
И средь пронзительных ночей
Тебе не филин глухо ухал,
А голос памяти моей.
Бежала рожь дорогой лета,
Смеялась над моей судьбой
Та половина бела света,
Которая была тобой.
/\иомид Костюрин
ТРУБЫ
Трубы хрипнут
На ветрах открытых,
Во вселенной,
Впереди полка.
Им в оркестрах
Не играть про битвы.
От ударов
Смяты их бока.
Но не нужны трубачам
Другие
Для атаки,
Марша
Иль зари.
Их сечет дождями
Проливными,
Пламя жжет снаружи
И внутри.
Их ласкают
Бешеные губы,
Что вздымают
Яростный призыв.
Обожаю
Боевые трубы
Посредине
Площадей и нив,
Что трубят
Отчаянное счастье,
Что в твоей
Останутся судьбе...
Трубачи рождаются
Не часто,—
Многие
Играют на трубе.
Владимир Аевапскый
дождик
Спотыкаясь
о бараки,
бродит дождик
с балалайкой.
У него
унылый вид.
Бродит, бродит
и бренчит.
Трень-брень.
Трень-брень.
Кепка — тучка набекрень.
И на эти
звуки тонки
вышло солнце —
руки в боки.
Балалайку долой.
Пляшет дождик удалой!
Омывая мир зеленый,
хлещет дождик просветленный.
Дождик, дождик, припусти,
чтоб цвести и чтоб расти!
Поросята — в нежных лужах.
Пляшут радуги на тушах.
Порожденный в синих высях
тучами мохнатыми,
добрый дождик мечет бисер
перед поросятами!
Зоя Меэ/сирова
НЕЖНОСТЬ
Где-то пес
то выл, то лаял,
и метелица мела.
Был костер
как рыжий ангел —
нежно-алые крыла.
Свист морозный,
вой протяжный,
в четырех шагах ни зги...
Ангел мне сушил портянки,
гимнастерку,
сапоги.
Усталь смертную смывая,
как жена,
со мцой нежна
эта речка молодая,
голубая глубина.
Я прошел огонь и воду,
знают камни и трава.
Нежно пело с небосвода
солнце —
медная труба*
Здесь, на Севере,
медведи,
слыша пенье этой меди,
рано поутру в лесу
лижут светлую росу*
* * *
Полосой заброшенного пляжа,
По подтекам ледяной воды,
Вдоль гряды берегового кряжа
Пес бежит и нюхает следы.
Сильный ветер с мелкого залива.
Резкий предосенний холодок.
Женщина идет неторопливо,
По земле волочит поводок.
Тусклая песчаная дорога
Съежится под ливнями к утру*
Что мне радость, если одиноко
Бьется флаг на штормовом ветру!»
Лариса Миллер
Я знаю тихий небосклон.
Войны не знаю. Так откуда
Вдруг чудится: еще секунда —
И твой отходит эшелон!
И я, на мирном полустанке
Замолкнув, как перед концом,
Ловлю тесьму твоей ушанки,
Оборотясь к тебе лицом.
А лес весь светится насквозь —
Светлы ручьи, светлы березы.
Светлы после смертельной дозы
Всего, что вынести пришлось:
И будто нет следов и мет
От многих смут и многой крови,
И будто каждая из бед
На этом свете будет внове.
Вот так бы просветлеть лицом,
От долгих слез почти незрячим,
И вдруг открыть, что мир прозрачен
И ты начало звал концом.
И вдруг открыть, что долог путь
И ты тогда лишь не воспрянешь,
Когда ты сам кого-нибудь
Пусть даже не смертельно ранишь.
Вадим Перелъмутер
ЗВЕНО
Когда я понял, что не получиться
Стихам — по пустякам растрачен пыл,-
Я отодвинул чистую страницу
И книгу взял и наугад раскрыл.
На дате май двенадцатого года...
Страна времен, куда мне не попасть,
Где моему отцу — четыре года,
А мать моя — еще не родилась...
И, пробегая выцветшие строчки,
Остановился, замер,— в первый раз
Вдруг ощутив себя звеном в цепочке
Тех, кто до нас, и тех, кто после нас.
Анатолий Парпара
СОЛДАТЫ
А. Валику
На запад
уходил стрелковый полк,
а рядом с ним,
таким суровым,
бежал мальчишка белобровый,
немногим выше кирзовых сапог.
Он спрашивал солдат:
«Ты папа мой?» —
ручонками хватал за голенище.
Но с каждым разом
безнадежней, тише
звучало горькое:
«Ты папа мой?»
О, этот голос,
хриплый и родной,
от частого повтора монотонный!
А под шинелью бились учащенней
сердца, ожесточенные войной.
У каждого
такой же сын иль брат...
С какой печалью
их глаза глядели,
какою нежностью
ладони их гудели,
но пальцы их впивались
в автомат...
Я детство мог забыть,
как сон, как небыль,
но через годы на меня глядят
глаза солдат,
печальные, как небо,
и кебо,
как глаза солдат.
НОЧЬ ВЕТЕРАНОВ
И снова солдатским пилоткам
Лежать в покрасневшей пыли,
И снова вгрызаться в высотку
Горбушку родимой земли.
И слышать,
теперь виновато,
Предвидя исход этих дней,
Последнее слово комбата,
Последнюю шутку друзей.
И снова, усталость стирая
В тот день незабвенный
со лба,
Им верить,
что эта Вторая
Последней войною была.
96
Анатолий Пятковский
ИЮНЬ НА ИНДИГИРКЕ
В тайге июнь.
За Сусуманским трактом,
В глухих логах, дымится черный снег.
У деда Серафима катаракта,
И слепнет, слепнет добрый человек.
Устал старик,
В глухом уединенье
Всю жизнь тянул,
Теперь не по плечу.
Который год живет на поселенье,
Который день не зажигал свечу...
Забил окно крест-накрест, как-нибудь.
Кержацкий хутор опустеет скоро.
Последнему наследнику раскола
Пришел черед держать обратный путь.
Нашарив у порога сапоги,
Бредет на ощупь вдоль пустого стана.
Как рокот бубна над шатром шамана,
Ворчат над крышей шорохи тайги.
Лежит радиограмма в Сусумане,
Напрасно —
Ни проехать, ни пройти,—
Под вехами ледового пути
Молчит река, томится в ожиданье.
Совсем на днях
Июнь в раскатах грома
Пойдет дробить
На Индигирке лед.
Шуга сойдет,
Придет с аэродрома
За дедом Серафимом вездеход.
И поползут по тракту лесовозы.
Придет народ,
Столпится у крыльца.
Совсем на днях...
А нынче утром слезы
Пес Перекат
Слизнул с его лица.
К СЫНУ
Триста верст до вертолетной станции.
Пятый год в гостях у тишины.
Только бы дождаться навигации!
Только б продержаться до весны!
Много дней я грел мечту бескрылую
Сердцем, тосковавшим по тебе.
Только для тебя себя не милую,
Не сдаю в отчаянной борьбе.
И когда в добро уже не верилось
И ничком без сил валился в снег,
Видел я глазенки твои серые,
Слышал, как зовешь меня во сне.
Я уйду из края нелюбимого
Без былого злого багажа...
Буду петь тебе твою любимую:
Про чечена, Терек и кинжал.
Расскажу тебе в тени акации
Быль и небылицы старины...
Только бы дожить до навигации!
Только б продержаться до весны!
ОЛЕНЬ
Холодна полынья у ключа.
Тишина, лишь копыта стучат.
Корка наста остра, как кетмень.
Береги свои ноги, олень.
Если ты упадешь, на беду,
Я один, без тебя, не дойду.
Над откосом сугроб набекрень.
Пусть хранят тебя духи, олень.
Там, вдали,— то ли крик, то ли стон.
В карабине последний патрон.
За торосом колышется тень.
Пронеси наши души, олень.
Над Таймыром ветра голосят.
На Таймыре мороз — шестьдесят.
Гаснут горы. Кончается день.
Торопи свои ноги, олень.
4 День поэзии 1971
Иван Савельев
Беззастенчиво время несется
На своих неземных скоростях...
Принимаю последнее солнце,
У которого был я в гостях.
Ведь сейчас уже в небе деревни,
Где плывут облака тяжело,
С перебоями дышат деревья,
Словно вьюгой им горло свело.
И большак задыхается пылью
Посреди опустевших полей.
И все медленней ласточек крылья
И тревожнее крики гусей.
И речонка, которую снова
Так нежданно стянуло ледком,
Не сказала последнего слова.
А до нового ей далеко.
Наклони свое дыханье,
Губ осеннее тепло,
Все равно сентябрьской ранью
Чувство молча доцвело.
Все равно выводят руки —
Лучшей песни не нашлось —
Неродившиеся звуки
Перепутанных волос.
Жди хоть вечность —
Не дождаться
Перемены слов и строк,
Потому что наша жатва
Отодвинула свой срок.
Вот и все. А за плечами
Опыта соленый груз.
Помолчим, пока молчанье
Охраняет наш союз.
Егор Самченко
И В НАЧАЛЕ
И возродилась истина из праха,
И распластала правые крыла,
И сотворила,
Отделив от мрака,
Насущный свет —
И жизнью нарекла.
И животворным словом
Обернулась,
Вещам свои давая имена.
К лесам высокоствольным
Прикоснулась —
И выросла зубчатая стена.
И площадь красную
Вручила предку,
Поэтом став и златокузнецом,
Ее страницу, выпуклую клетку,
Зарифмовав
С кольчугой и кольцом.
И ось земную
Четко рассчитала,
Шепча:
«Руси, о яко мне даждь днесь».
И, меч прямой подъемля,
Указала
На юный кремль и приказала:
«Здесь!»
И в будущем
Душой не покривила
Моей...
Куранты бьют. Кружится голова.
Оплот любви,
Столица мира —
Для сердца русского — Москва!
Михаил Синельников
ТОПРАК-КАЛЕ — КРЕПОСТЬ ПРАХА
Гюльсаре Афиджаноеой
Не знаю слов мертвей, чем тюркское топрак.
То — прах, и праха прах, и срока срок и время.
Скелета конского распавшийся чепрак,
Расколотой стрелой простреленное стремя.
Над этой башней дым и черный чад над той...
И пепел и чума вливаются с Востока.
Под синей белизной и алой чернотой
Клубится горизонт, как исполненье срока.
Копыто на весу, и дышит тетива,
И медленно горит на всаднике рубаха.
Но быстро шелестит веселая трава.
И слышно в свисте стрел похрустыванье праха.
...Подобен крепости холмистый небосвод.
Подобны облака набегу амазонок.
И пляшет ящериц зеленый хоровод.
И змеи медные вращаются спросонок.
Безмолвствуют ковыль и ныли знойный пыл.
И по песку песок течет тепло и глухо.
На восьмиелойный холм доить своих кобыл
Приходит с правнучкой столетняя старуха.
Плывет большой табун, и лава табуна
Ей кажется с холма волною многоногой.
Упала высота, исчезла глубина
И стали тишиной и плоекостью отлогой.
И в старческих зрачках, как сорок ясных лун,
Пылают лошади, лиловые, как горы.
И слушает трава, и слушает табун
Хозяйки вековой немые разговоры.
— Я отзвук и топрак. О вечность, я — твоя!
Свершился некий час, и вечер на исходе.
Я — атомов песок и кожи чешуя.
И смерти страшный лик с моим немного сходен.
Продумав эту речь, она уходит в еож.
И черпает песок ладонями своими.
И каплей молока горячий склон пронзек.
Мгновенье замерло. Живут рука 8 ввдмдо»
...И дети пьют кумыс. И дышится легко.
И льются в землю жир и жизни жидкий трепет.
И слаще с каждым днем и мед, и молоко.
И холод лепестков, и розы жаркий лепет.
Вода из недр земли выходит, как слеза.
И торжествует дерн в расселинах надгробья.
И бабы каменной лазурные глаза
Заглядывают вдаль и грезят исподлобья.
Олег Соколов
Лил дождь, бесконечный, несносный.
В размокшем лесу за Коломной
Тонули мохнатые сосны
В бездонном небесном колодце.
Качались, скрипели под ветром,
А гибкие, скользкие корни
Вздувались, как черные вены,
В усыпанном иглами дерне.
Ржавела на соснах могучих
Из хвои колючей кольчуга,
Был лес непогодой измучен,
Он жаждал покоя, как чуда.
Осенняя песня не спета,—
Вовсю заливается ветер,
Лишь сосны в колючих доспехах
Упрямо мечтают о лете.
Но парусник лета — отчалил...
Пусть панцирь игольчатый прочен
Смолистые слезы печали
Кора почерневшая точит.
Вздымаются к небу колонны
В ненастье не верящих сосен
В размокшем лесу за Коломной,
Где царствует поздняя осень.
У моря на лесном разъезде,
В степи, где сгинул хан Кончак,
Искал я контуры созвездий
На черном небе по ночам.
Повсюду был рисунок сходен
И в то же время— изменен:
Вращались в странном хороводе
Стрелец, и Лев, и Скорпион.
Но все они, как лед в нарзане,
Мерцали тускло и мертво,—
Ведь сами звезды, без названий,
Для нас не значат ничего.
Любая малая планета,
Едва заметный звездный мыс,—
В воображении поэта
Приобретает тайный смысл.
Когда ж, забыв часы сомнений,
Поэт — небесный звездочет —
Все звезды, с альфы до омеги,
В бескрайнем небе наречет,—
Мы сможем молча наслаждаться
Движением астральных сфер
Или в ракете к ним умчаться.
Опережая звук и свет.
100
Лидия Степанова
* * *
А в мой приезд зима была черна.
И с двух сторон дома стояли строго.
И оставалась черная дорога
Орнаменту осеннему верна.
Под голос мамин: «Шубу-то надень,
Не то придешь вся синяя, как слива.
Вон ветер-то опять подул с залива»,—
Я ухожу к Неве на целый день.
Я замечаю: воздух как стекло.
Как устоять, чтоб капелькою влаги
Не написать на нем, как на бумаге:
Мне только тут спокойно и тепло.
И сколько, сколько времени пройдет,
А каждый миг и радует и ранит,
Пока не станут ощутимы грани:
Где камни, где вода, где небосвод.
Лариса Тараканова
Мой город,
Ты неузнаваем:
Тут раньше было всё не так.
Тут жили-были мы с трамваем,
И он возил меня «за так».
Апрель был чистый и целебный,
И мой задиристый сосед
Имел такой великолепный,
Такой большой велосипед.
Его движения упруги,
Как будто правит он конем.
По всей маячила округе
Рубашка синяя на нем.
Ее глазами провожая,
Задачки нудные решая,
Досаду молча хороня,
Я знала — вырасту большая,
Сосед мой влюбится в меня.
В той жизни все переместится,
Леса и горы по плечу.
Он скажет: — Хочешь прокатиться?
А я уже не захочу.
Внемлю я давнему совету
И никому не расскажу,
Как я хожу по белу свету
И как с трамваями дружу.
101
Марина Тарасова
Вадим Фадип
ИЛИМСКИЕ ФАМИЛИИ
Мне снится Усть-Илим, седой и нежный.
В короне льда синеет Толстый мыс,
а по губам колотит ветер снежный,
и он на вкус — как молодой кумыс.
Село Невон. Бегут по снегу лайки,
курится дым над белой шубой крыш,
дома, как расписные балалайки,
в морозную позванивают тишь.
Лепехины, Семеновы, Бобровы —
фамилии, которым триста лет.
Никто не бросил этот край суровый,
ни внук, ни сын, ни седобровый дед...
Сейчас на Ангаре бушует лето,
растет красавец юный Усть-Илим,
и сполохи негаснущего света
до ранних зорь раскинуты над ним.
Здесь был пустынный, дикий край когда-то:
болота, ели да шептун-трава...
Плотина скрыла острова «Лосята»,
так памятные людям острова.
И среди тех, кто этот город новый
в снегах сибирских произвел на свет,
Лепехины, Семеновы, Бобровы —
фамилии, которым триста лет.
# * *
Как необычно зренье поутру!
Мне детский мяч — планета небольшая.
Вот девочка затеяла игру,
пытаясь устоять на шаре;
ей стоило качнуться лишь слегка,
и начал шар неверное движенье.
Не задержу его — скользнет рука,
не догоню (смешное положенье),
в песке увязну — экая напасть!
А мяч — в пути неровными кругами.
Она — довольна. Чтобы не упасть,
переступает цепкими ногами
по мячику, по маленькой Земле,
встает босой стопой, не разрушая,
на горы, крыши, куклу на столе,
на девочку, стоящую на шаре.
102
Геннадий Хомутов
САПОГИ
л. п.
Я сапоги подробно изучал,
Я пальцем по подошвам постучал.
Смял голенища, осмотрел подковы,
Внутрь заглянул:
а гвозди не торчат?
Вот немцы тоже мастера толковые,
И немцы могут сапоги тачать.
Потом обулся, вышел за порог.
Пошел я в семилетку на урок.
Вся в инее, как будто в зимних росах,
Единственная улица села
Свела меня с молоденьким морозом,
Мороз у самых ног моих звенел
И на куски на лужах рассыпался,
И белый иней с веток осыпался,
И ветер длинно в проводах гудел.
Навстречу мне шагали земляки,
Спокойные, дотошные сельчане.
— Ишь у него какие сапоги! —
Они вопросы сыпали свои
И слышали мои ответы веские.
Сказал я бабам:
— Сапоги немецкие! —
Товарищам похвастался:
— Мои! —
И был тогда от радости я слеп:
Глаза мои, куда же вы глядели?
Я знать не знал, что через три недели
Мать обменяет сапоги на хлеб.
С сорок первого года пусты закрома.
С сорок первого года до сорок шестого.
Вот я в школу иду вдоль амбара пустого,
Вот я в школу иду.
Там — еда задарма.
Вот налево сады, а направо склады.
— Эй, склады! —
заору я в окошко худое.
И голодное эхо и, наверное, злое
Спросит коротко:
— Это ты? —
Это я! Это я на учебу иду.
Это я тороплюсь и шагаю, шагаю.
Повторяю короткий стишок на ходу,
Но о школьной похлебке не забываю.
Там сейчас повара над едою мудрят,
Чтобы мы хорошо продолжали учиться.
Черным хлебом накормят ребят
И похлебкой дадут насладиться.
О! Спасибо вам всем. Вы смогли наскрести
На ребячьи обеды в те годы далекие.
Оставалось нам самое легкое —
Только ложки с собой принести.
103
Екатерина Чапка
Летят вереницей недели,
уносят метельную грусть.
И песню веселой капели
я выучила наизусть.
Снег с каждой минутою тает
и каплями падает с крыш.
Весна облака пролистает —
и снова о снеге грустишь.
В моем переулке старинном
уже наступила весна*
И сочная желтая глина
везде из-под снега видна.
Весны переменчивы нравы —
то оттепель, то холодок.
Лежат прошлогодние травы —
пожухлый, рябой бугорок.
Справляют грачи новоселье,
вернувшись из дальней дали.
Вот-вот уже новая зелень
пробьется сквозь толщу земли.
Стоят величаво зеленые сосны.
Зачем им осенний наряд?
В березах запуталось позднее солнце,
а листья кружат и кружат.
Сквозь сумрак лесной
свет на землю струится,
спешит между кочек родник.
Над миром кричат перелетные нтицы,
звучит горемычно их крик.
Весной он летел величаво и звонко
над комьями черной земли.
— Прощай,
до свиданья, родная сторонка! —
кричат с высоты журавли.
Деревья застыли в волнении строгом
ц ветками машут им вслед.
Пусть будет счастливою ваша дорога,
без бурь,
без потерь
и без бед!
И долго их крик долетает до слуха,
как дальний пастушечий рог.
А скоро на землю просыплется пухом
восторженный белый снежок.
Все явственней прочерки линий,
снег белит округу не зря.
Рассветный рискованный иней
побелит виски декабря.
Снег занят восторженным делом:
он красит забор и сарай.
Двор станет к утру черно-белым,
ну просто на пленку снимай.
Упрятала стройная ива
свое отраженье на дно.
Скворечник глазком объектива
уставился прямо в окно.
А месяц назад,
спозаранку,
от скорых пронзительных вьюг
умчались его квартиранты
на зимние дачи,
на юг.
И стало в округе потише,
но из деревянных дворцов
порой на рассвете услышу
веселое пенье скворцов.
104
ЛЕСНИК
В перелеске, между сосен,
между пнями, над ручьем,
третьи сутки бродит осень
нескончаемым дождем.
Третьи сутки проживаю
я в сторожке лесника.
Все в округе
«дед Иваном»
величают старика.
Он в лесу с рожденья знает
тропку, кустик, птичью речь.
Он грибов насобирает
и в избе затопит печь.
Он расскажет мне про дятла,
про деревню, про Урал,
о моей родне, о дядьке,
что медведей задирал.
И когда бывает горько,
дед не ропщет на судьбу.
И не сменит он на город
эту древнюю избу.
Скоро я домой уеду.
Снова стану городской.
И прощаться буду с дедом
на опушке на лесной.
Поклонюсь лесной столице
и ее кремлю — избе.
Родина,
вот здесь учиться
буду верности тебе.
Спасибо фонарям
за скромный свет в ночах.
Они горят не зря
до самого рассвета.
И чьи-то каблуки
по улицам стучат.
И тень бежит вперед
в неясных бликах света.
Спасибо окнам тем,
что по ночам горят
осеннею порой
и зимней непогодой,
Там люди, как и я,
пока еще не спят.
Какие гложут их
сомненья и тревоги?
Горит твое окно,
и там, среди теней,
твой силуэт найду
средь прочих силуэтов.
Когда я вижу свет,
становится теплей.
И ночь не так темна
go самого рассвета.
ПОДРУЖКИ
Я знаю, что довольно часто,
кляня размеренный уют,
мечтают девочки о счастье
и песни грустные поют.
Легки становятся походкой,
не отзовутся, не зови,
мои подружки-одногодки,
мечтающие о любви.
Гул поезда доносит эхо,
зовут другие города.
За счастьем хочется уехать.
Куда? Да если б знать, куда.
К ним счастье рано или поздно
придет. Весной иль в листопад.
Они, загадывая звезды,
у подоконников стоят.
Совсем не надо им участья,
они дождутся, если ждут.
Мечтают девочки о счастье
и на свидания идут.
Галина Чистякова
Я знаю, что любовь — награда
За напряжение в крови,
За непосильные преграды
При ожидании любви.
Поймать из сказки рыбку в сети
Не всякому сужден талан,
Любовь встречается на свете,
Но так же редко, как талант!
Порой мне плохо —
Что за малость!
Я жизнь ценю уж оттого,
Что горькая любовь досталась...
Другим и вовсе — ничего.
ВСТРЕЧА
Казалось, что и жизнь пошла на убыль,
Так ожиданье было нелегко!
Мной пройдены: огонь, вода и трубы,
И лишь до встречи было далеко.
Вот я остановилась на излуке,
Сердечного биенья не унять!
И кажется, что вырастают руки...
А мне все мало,
чтоб тебя обнять.
Владимир Шлёнский
МАДРИД 36-ГО ГОДА
Посвящается испанским
политзаключенным
Костры далекие дымятся.
Звезда вечерняя горит.
Какие сны сегодня снятся
тебе, растерянный Мадрид?
Тьма тихо сковывает горы.
Закат тревожный не угас...
Мадриду снится в этот час
Мадрид 36-го года...
Еще не падают пока
убитые республиканцы.
И от пожаров не искрятся
испуганные облака.
Еще не нанесен удар.
Спит пулеметчик на пригорке.
Еще жива улыбка Лорки
и перезвон ночных гитар...
Дитя Интернационала,
с душой свободною Мадрид,
ты видел за века немало
и революций и коррид...
В ночи багряная луна
застыла в ожиданье бойни.
Обманчивая тишина
трель птичью припасла в обойме.
106
Взлетает песня на ветру.
И кто-то весело смеется.
А поутру,
а поутру
все это сразу оборвется...
Взревет Испания по-бычьи.
Угаснет Лорки светлый взгляд,—
ведь в списках смертников обычно
поэты первыми стоят.
Но до сих пор живут в народе
погибшие в тот год сыны.
Сны снятся о былой свободе.
О, как прекрасны эти сны!
И, не смиряясь с давней болью,
надежда светится во тьме,
когда душа живет в подполье,
а тело — в ссылке иль в тюрьме..
Как гулки в тюрьмах коридоры.
Кого-то снова привели,..
Закат плащом тореадора
дрожит на краешке земли...
САДОВНИК
Деревья голые.
Сад сразу похудел.
Забора ребра выступили четко.
Садовник оказался не у дел.
И на приколе заскучала лодка.
Сад в озеро глядится в сотый раз.
А там —
сквозь ветки
проступают тучи.
Седой садовник нежно гладит сучья,
цвет охры затаив в прищуре глаз...
Уже вот-вот
скует
прозрачный лед
гладь озера.
Все это — было, было...
Снят с дерева давно последний плод,
и ветер листья ворошит уныло.
Идет старик, качается слегка.
И кажется, что он — всему виновник.
Но станет сад таким же, как садовник,
когда на ветки упадут снега...
Под шорохи, звоны и крики
окрестных дворов
плясали багряные блики
осенних костров.
И лист, ощутивший свободу,
над миром кружил,
садился на ржавую воду
устало, без сил.
На ветке ему стало тесно
и невмоготу.
И он уступал свое место
другому листу...
Свершается зримо и остро
извечный обряд...
И нет в нем трагедии,— просто
настал листопад.
107
* *
Я открываю окна спозаранку,
как открывают новые миры,
и оживает двор, как будто в рамку
был вставлен он картинкой до поры.
Я вижу — тихо шевелятся ветки
и листья прошлогодние дрожат.,.
Напротив в доме кенарь в пыльной клетке
со всех сторон решетками зажат.
Давно не помышляя о свободе,
но чувствуя за стеклами весну,
такие трели сладкие выводит —
подумаешь и скажешь: «Ну и ну.,.»
А старики из комнаты соседней
торопятся на солнце после сна,—
как будто вдруг окажется последней
в их жизни эта шумная весна...
Земля внизу и пела и играла,
над домом голубь плыл на вираже,
когда себя я ощутил Икаром,
живущим на последнем этаже.
Мгновения раскованности редки,
мир за окном притих, едва дыша.
И птица, что в грудной зажата клетке,
вдруг понимает, что она — душа...
Но тут чужая вспомнилась оплошность,
и я застыл уже на полпути.
Икар не мешкал — вылетел в окошко,
и только птица вздрогнула в груди...
Владимир Шурупов
ПРОДАЮТ КОРОВУ
У коровы всегда печальные,
А сегодня глаза — навзрыд,
И сморкаются бабы отчаянно:
Так тоскливо скотина глядит.
И, припав к теплой шее гладкой,—
Ну, родные — ни дать ни взять! —
С ней простились соседи. Хозяйка
Перед смертью просила продать.
А хозяйке годов... без счета!
Ну, чуток — дотянула б до ста!
И кормилица с поворота
Машет бабам метелкой хвоста.~
И ревут вперехват старухи...
Ох, некстати ревут, невпопад!
А хозяйкины серые руки
Непривычно — спокойно — лежат.
efteниц а
Михаил Исаковский
101-Й
В столичном шуме и в тиши селений
Я слышал — люди часто говорят:
«Ах, если б мог он, если встал бы Ленин,
Как был бы он успехам нашим рад!»
Да, был бы рад... Но и в часы раздумий,
В часы труда иль дружеских бесед
Не повторяйте, будто Ленин умер:
Я точно знаю — он не умер, нет!
Мне мой отец рассказывал, бывало,
Что коль пришла такая череда,
Что тот, кто умер, что кого не стало,
Тому идти перестают года.
А Ленин — жив. Душа и ум народа,
Он, как народ, вовеки не умрет:
Как раз в апреле нынешнего года
Ему пошел уже сто первый год.
И где б кто ни был — в поле иль в забое,
На Ангаре, на берегу крутом,—
Мы всюду с ним. Но горько мне до боли,
Что сам Ильич не может знать о том.
1970
Маргарита Алигер
Sp JfJ Sj»
Гордые люди двадцатого века,
мирные жители нашего ЖЭКа,
мир озарившие сполохом славы,
океанологи, домоуправы.
Разум и руки космической эры,
реаниматоры, милиционеры...
Первопроходцы великой эпохи
сквозь все ее подвиги и подвохи...
Тихие, добрые, сильные люди,
с вечной тоскою о счастье и чуде...
Все же, покуда живу я на свете,
я вам заступа, и вы мои дети.
Страшно, однако,— надолго ли я-то?
Кончусь когда-нибудь. Денусь куда-то.
Кто вас тогда-то поймет и рассудит?
Что с вами станется?
Что с вами будет?
Павел Антокольский
ПОВЕСТЬ О МОЩАХ АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО
Не поймешь, на прибыль иль на гибель,
Нарочный в ненастной полунощи
Во Владимир, что на Клязьме, прибыл,
Объявляет: — Пресвятые мощи
Александра Невского доставить
К устью невскому, в престольный Питер,
Поспешайте! Не одна верста ведь!
Лысину Преосвященный вытер:
— Царь поминки пращуру справляет
К украшенью новой Невской лавры,—
Стало быть, нам милость изъявляет.
Бейте же в кимвалы и литавры!
Привалило счастье наше ныне,
Где и в чем такое мы отыщем?
К бесу вопли, к нехристям унынье!
Счету нет казенным царским тыщам.
Мы уважим царское кумпанство.
Братие, наказ мой подкрепите,—
Учиним на весь Владимир пьянство,
На Руси веселие естаь питн.
Буду вашим кравчим-виночерпьем
Александру Невскому в угоду.
Все за стол, за бражку! Перетергош
В оно время стужу-непого&У*
Тут Преосвященный молвил строго:
— Снаряжай, игуменья, в дорогу
Юных клирошаночек поглаже,
Приодень-ка их и подрумянь-ка!
Здравствуй, Настенька! Здорово, Глаша!
На подводу, Фенька! Выйди, Манька! —
Так сказал Преосвященный мудро,
Не скупился старый хрен на ласку.
И в седое, пасмурное утро
Сел он рядом с Настенькой в коляску,
На плечи ее тулуп накинул.
И обоз многолошадный двинул
Под раскат трезвонов колокольных.
Не на час, на целый день Владимир
Шел за ним до выселков окольных,
Запер лавки, опустел, как вымер.
У Златых ворот заминка вышла.
Встали кони. Застревали дышла,
Как ни бились, в арке златовратной.
— Осади! Сворачивай обратно! —
Рыли рвы окопные на Клязьме,
Ровно месяц в бездорожье вязли.
Тронулись и — с богом! Шли навстречу
Прясла и скворешни, ржи и гречи,
Яровые, ярмарки, яруги.
Ржали кони. Лопались подпруги,
В бубенцах вызванивали дуги.
Был Преосвященный в добром духе,
Холил Настю, трясся от натуги,
Лиловел от браги-медовухи.
Время шло и шло. И незаметно
Отощал мешок с деньгою медной.
Но Преосвященный был не очень
Недостачей оной озабочен,
Знал он счет своей обильной трате
И сказал небрежно: — Брат Панкратий!
Ты хитер, хотя и молоденек.
Отправляйся в Питер, выручай нас!
Хлопочи насчет казенных денег.
Не поможет Бог, так чрезвычайность...
Взял харчей Панкратий, влез на клячу,
Мыслит: «И подохну, не заплачу».
Затрусил по хлябям и ухабам,
Ухмыляется охальник бабам,
В Лихославле весь простыл,, в Любани
Сутки парился в мужицкой бане.
Огляделся — вот и Питер-диво!
Перед ним прямая перспектива.
Глаз ее зорчайший не охватит.
Мореходы буйствуют лихие.
Ветер матерщину так и катит.
А вдали — морская Синь-Стихия.
Чужестранный шкипер трубку выбил,
Мощно гаркнул шкипер высоченный:
— Ты отколе к нам, монашек, прибыл?
— Шлет меня отец Преосвященный
По нужде великой за деньгами.
— Не плошай! Аз есмь монарх Российский.—
И продолжил в грохоте и гаме: —
Коль отвык от маменькиной сиськи,
Водку пей, монах, валяй!
Разберемся. Но допрежь
Перед нами не виляй.
Ты нам правду-матку режь,
Докладай свою нужду,»
Нашей милости не трусь!
Только быстро! Я не жду.
Ждет меня в работе Русь.
Эй, мин херц, Шафиров-жид!
Из казны моей пять тыщ
Дать монахам надлежит.
Император ваш не нищ.
Ты финанс, да не Кощей.
Наша лавра без мощей
Что бордель без девки красной.
Отвечал Шафиров: — Ясно! —
Вывел он монаха из хоромин,
На ухо сказал, зловещ и скромен:
— Пополам сойдемся? — Зря ты мучишь,-
Отвечал Панкратий,— шиш получишь! -
Сторговались не легко, не быстро
Дела государственного ради:
Три пошло монахам, две министру.
В путь обратный двинулся Панкратий,
Ищет-рыщет, шибко беспокоясь,
Где пропал Преосвященный поезд.
У дощатой пристани Шелони
Прикорнул на травянистом склоне.
А над ним порхают птахи, свищут,
Хлебных крошек на лежачем ищут,
На скуфейку прыгнул бодрый птенчик.
Между тем послышался бубенчик.
Конь заржал. Ямщик запел. Колеса
Завизжали у речного плеса.
Боже правый! Вид ужасный! Вот он,
Пастырь православный, весь изглодан
До изнеможения и схимы,
Знак дает ручонками сухими,
Что намерен здесь остановиться.
Анастасья, дерзкая девица,
Спрыгнула с коляски, тараторит,
Стелет скатерть, расставляет сласти.
Впрочем, умолкает здесь историк,
Слово он предоставляет Насте:
— Ах, страшенное нам горе
Выпало в ненастье.
У Валдая, что на взгорье,—
Всхлипывает Настя,—
Мы до смерти испужались,
Понесли нас кони,
Ямщики все разбежались,
Впали в беззаконье.
Тут Преосвященный выпал
Из коляски в реку,
Плыть не плыл и еле выполз,
Яко змий, ко брегу...
Тут завыла Настя что есть мочи,
С воплем Настя на землю упала:
— Потонули в речке княжьи мощи,
Нет костей во гробе,— все пропало...—
И поникла Настя, приуныла.
— Зря ты все, дуреха, сочинила!
Не было того,— сказал Панкратий.—
Помоги нам сила пресвятая!
Я видал, как ангельские рати
Взяли мощи, крыльями блистая,
И благим соизволеньем божьим
К небу вознесли их безусловно.
Так о том и в Питере доложим.
То же самое сказал дословно
И Преосвященному Панкратий,
И другим священникам, и прочим
Из меньших и благоверных братии...
Кое-кто смеялся, между прочим.
Сквозь туманы, сквозь дожди косые
Слышен орлий клекот над Россией!
Высоко парит орел двуглавый.
У речных излук, в прогалах сосен
Не скрипят мосты, не гнутся лавы.
Хлещет сильный ветер, блещет просинь.
Дым в палатах. Оплывают свечи,
На плечах Петра кожух овечий.
На монахов бешено он зыркнул,
Дернул скулами, в усищи фыркнул:
— Опоздала, шатия монашья,—
Не любезна вам держава наша!
Все выкладывайте! Или проще —
С гроба крышку прочь! Вскрывайте мощи!
— Стервецы! В трухлявых досках этих
Нет как нет мощей? Один скелетик
Мыши полевой? —
И снова дико
Дергается личиком владыка,
Всех сверлит глазищами. И — хвать
За бороду старца.
— Не вскрывать
Пакостных мощей! Такой позор
Втайне да пребудет! —
Мечет взор
Молнии. У старца борода
Выдрана. Рука Петра тверда.
Петр в железной с,жал ее горсти.
— Ну, старик, а ты меня прости!
Чтобы оторопь не проняла,
Пей из кубка нашего орла! —
И сквозь зубы, еле слышно, кротко: —
Хватит с тебя таски. Будут ласки.
Отрастишь себе, козел, бородку.
Лишь бы сраму не было огласки.
Оным смрадом рук не опоганю.
Под конец прибавил император:
— Строю не в площадном балагане.
Служба государству есть ФЕАТР!
В лютом ноябре того же года
Петр, шальное сердце раззадоря,
Встретил, как бывало, непогоду,
Но не вышел на седое взморье,
Низко треуголку нахлобучил,
Шарфом шерстяным закутал горло,
Ибо шторм взмутил Неву и взбучил
И вода владычество простерла
На растущий город.
Плыли будки,
Бочки, бревна, бабы, и всплывали,
И тонули.
Миновали сутки.
Посерело пасмурное утро.
То на пенном гребне, то в провале
Кипени метался ботик утлый.
Накренясь под парусом косматым,
Шкипер Петр, ворочая кормило,
Громогласно крыл крепчайшим матом
Балтику, которая громила
Рук его державное деянье,
Крыл гребцов, от страха полумертвых,
Выстоял один, как изваянье,
В задубелых ледяных ботфортах.
На берег сошел и, стукнув тростью,
Лекарям сказал: — Отстаньте, бросьте!
А когда явился благочинный,
Огрызнулся: — Жди моей кончины!
Но, простынув, каркал по-вороньи
И серчал, пятидесятидвухлетний,
Что непрезентабелен на троне,
И лечился чаркой не последней.
Отдышался, жарко обнял Катю,
Душеньку-царицу, и, ликуя,
Что не оробел на перекате
Меж болтанкой рвотною и смертью,
Высказал сентенцию такую:
— Вы меня на свой канон не мерьте,
Чернорижцы, червячишки, черти!
Мне мощей не надо. Не святой я.
Выстою свой срок. А там посмотрим!
Может быть, я и подохну стоя
И прикинусь для порядка бодрым,
В совершенном самообладанье.
Под конец воскликнул император:
— Строю не в площадном балагане.
Служба государству есть ФЕАТР.
Вся музыка наша в урагане,
В устрашенье вражеских эскадр!
112
Евгений Антошкмп
Мастерам лаковой живописи
подмосковного села Федоскино
Мчатся вихри,
Мчатся три огня.
Снова, тройка,
Ты растрогала меня.
Тройка,
Тройка удалая,—
Погоди!
Три неезженых дороги впереди.
Я и сам рожден на северном юру,
В непогоду лыжи быстрые беру.
И несутся,
Словно память прошлых лет,
Хлопья снега,
Хлопья снега
Мне вослед.
Извели вконец,
Измучили меня
Три тревоги,
Три лихих огня.
И хитро косится дед
На облучок,
И в руках не кнут,
А сломанный сучок.
Выбегаю, удивленный, за порог.
Предо мною сто загадок —
Сто дорог.
Только кони,
Кони-вихри —
Три огня —
Смотрят дико,
Смотрят жарко на меня.
Елена Аксельрод
НЕЛЮШКА
С тобой, деревня Нелюшка,
Осталась мне неделюшка,
Неделюшка — постелюшка
На сене золотом,
Там, где озера строены,
Спят лодки кверху дном,
Там, где дожди настояны
На молоке парном,
Одни шмели там воины
И робкий дальний гром.
Там небеса таинственны,
Там вечером, в час пик,
Гудит-кряхтит единственный
Родимый грузовик.
Внушает всем почтение
Коров небрежный ход,
Ценя свое значение,
Они бредут вразброд.
Коров в той чудо-Нелюшке
Пасет Иван-дурак,
Умнеет он во хмелюшке,
А выпить не дурак.
С потешкой входит в избы он,
И стопка враз полна,
И перед телевизором
Сидит он допоздна..,
А я деревней северной,
Холмистой, чистой, клеверной,
И без вина хмельна.
113
Александр Балип
КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ
Щелкнула грудная перемычка,
Словно
сердце
запер от врага.
Серая дюралевая птичка
Покидает наши берега.
Сердце к глотке на воздушных ямах.
Слава богу:
снова недолет.,.
Жутковато,
да не ойкнешь:
«Мама!» —
Вдруг от смеха треснет самолет.
Потому и замыкаешь губы,
На затылке друга прячешь взгляд...
Табачку бы,
братцы,
табачку бы,—
Жаль,
курить в полете не велят.
Вот она,
елецкая,
в кисете,
Зажигалка —
гильза с фитильком.
Может быть,
того...
в рукав тайком?
Взводный-дока все равно заметит.
Дело не в наряде,
а в порядке,—
Без него десантнику —
хана.
Облака под нами,
словно грядки,
Вспаханная ветром целина.
ППШ к душе прижаты плотно,
Ниже сердца —
финские ножи.
...Выбросимся и пойдем поротно,
Зубы стиснув,
по незрелой ржи.
По логам родным по вражью душу,
Чтобы лег он в жито,
не дыша...
Ключевой глотнуть бы,—
ох, и суша!
Спирт во флягах,
больше ни шиша.
Он,
конечно,
радостная штука,—
Приложись покрепче и соси,
Да не прививается ЕГаука:
«Пити есть веселие Руси».
Понимаешь?
Нам нельзя без шуток,—
Больно путь наш жуток и высок,
И суровый мы вершим бросок
На перкали наших парашютов.
Мы вершим...
И ни письмишка с нами
С адресом,
ни карточки родной:
В небе мы расстались с именами,
Лишь заря под нами,
словно знамя,
Осеняет шар земной.
Без имен,
без званий,—
прочь приметы!
Чтобы враг прознать про нас не смог.
Даже комсомольские билеты
Южаков
запрятал под замок.
...Жертвуя ефрейторскою лычкой,
Доверяясь взбалмошной судьбе,
Чую под грудною перемычкой
Свой билет,—
надежней при себе.
114
Mean Баупов
НЕТ-НЕТ И ВСПОМНЯТСЯ
В ТРЕВОГЕ
Нет-нет и вспомнятся в тревоге
И губы жаркие твои,
И сборы спешные в дорогу,
И неумолчные бои.
И юность, скомканная в битвах,
Распахнутая всем ветрам.
Блиндаж сырой и необжитый
Иль просто отдых у костра.
И вечное души томленье,
Тоска по женщине родной.
И в битвах взлеты
И паденья...
Разбудят в полночь сновиденья,
И до утра пропал покой.
Впотьмах достанешь папиросу,
Рукой дрожащей разомнешь...
— Не спишь?
— Не сплю.—
К чему вопросы?
И разве ты меня поймешь!
Ты, о которой я ночами
На фронте бредил, тосковал
И песней радостно-печальной
В разлуке сердце врачевал.
И думалось:
«Вернусь из ада...
Коль я вернусь живым домой,—
Мне счастья большего не надо,
Лишь только б ты была со мной».
И вот мы вместе,
Снова вместе!
А счастье только снится нам,
Как та прифронтовая песня,
Сон с явью спутав пополам.
«15
Яков Белинский
КАРОЛИНА СОБАНЬСКАЯ
Что в имени тебе моем...
А. С. Пушкин
Этот взгляд, обжигающе беглый,
сквозь ресницы процеженный свет...
Каролина-Розалия-Текла,
твой поклонник — великий поэт.
Но не только великий — он ссыльный
и самим осужденный царем...
Над Одессою в мареве пыльном —
свет и мрак воронцовских хором...
И поэт, словно в смертной горячке,—
одинокий в далеком краю,—
видел дивные очи полячки,
открывал ей всю душу свою...
Этот взгляд, обещавший немало,
хитро занятый светской игрой.
Ободряла, порой окрыляла,
отстраняла холодной рукой...
В миг смятения — гений опальный
написал ей в сафьянный альбом:
«Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный...»
В этом имени было не мало,
и вокруг него, и вдалеке...
И Собаньская не уставала,
и перо не дрожало в руке...
Этот взгляд, что сиял столь задорно
и ответа искал на вопрос...
И летело письмо к Бенкендорфу,
за доносами — новый донос...
На любовниц не смотрят с опаской,
не таятся средь нежных утех,—
и не видел, не понял Собаньской
тот, кто видел и чувствовал всех...
116
Михаил Беляев
Угощает женщина мужчину*
Он зашел в пути на огонек.
Словно месяц из-под снега вынул,
Так легко шагнул через порог.
Все там есть, за дверью той наружной,
И такой вот знатный снеговик
Невзначай из гулкой дали вьюжной,
Как из гулкой юности, возник.
У хозяйки девичья повадка.
Как она по-девичьи ловка!
Стол накрыт,
И так накрыт он сладко,—
Надо всем, как свет, ее рука*
Можно долго в непогоду злую
Баловаться свежим кипятком
Пьет он, пьет,
Как будто он целует
Женщину замужнюю тайком.
Неужели юность?
Неужели
Не белы за вьюгою леса?
Как смотреть ей, если в ней прозрели
Той далекой юности глаза?
Соловья не скрало расстоянье.
Как сказать ей? Не притухла речь.
Как дышать ей, если и дыханье
У нее как в пору первых встреч!
Это счастье скроет бездорожье,
Заискрится, как сугроб крутой.
Зимний вечер снова стал моложе,
И проглянул месяц молодой.
Нина Бялосинская
НАДПИСЬ НА ДОЛГОИГРАЮЩЕЙ
ПЛАСТИНКЕ
Владимиру Львову
Да здравствует голос поэта!
И здравствует, здравствует он.
Хотя бы поэт погребен,
утешен уже,
усмирен.
И нет его, кажется, нету.
Но где-то,
и в зиму и в лето,
но где-то,
далеко и близко,
в мерцании черного диска,
над вечным мельканьем времен,
все здравствует голос поэта,
все властвует голос поэта..*
Я думаю часто про это
над черным мерцанием диска
под суетный шорох времен.
117
Виктор Боков
ГУСЛЯР
Вывели. Выстроили. Сказали: — Капут! —
Двое упали уже у кювета.
У третьего слезы ручьями текут
На гимнастерку защитного цвета.
Четвертый вскричал: — Господин лейтенант!
Дважды себя расстрелять разрешаю.
Только не этого. Это талант.
Это гусляр. Это редкость большая.
— Музыка? О! Это очень зер гут!
Моцарт! Бетховен! Мы можем гордиться.
Не беспокойся, тебя не убьют,
Там, где таланты, мы не убийцы.
Слышал я много о русской былин,
Слышал о Муромец и о Добрыне.
Я тебе буду теперь господин,
Будешь моим ты навеки отныне.
Музыкой будешь меня услаждать,
Отдых мне нужен от буден и прозы,
Будем под музыку освобождать
Новгород Вольный и ваши колхозы.
Древние, темные, словно икона,
Гусли фашисты несут гусляру.
Трепетно тронул он струны рукою,
Гусли настроил и начал игру.
Звуки, как лебеди, полетели
За горизонт, где родное село.
Пальцы-персты вдохновенно запели,
Только вот горестью горло свело.
— Матушка! — крикнул гусляр.— Не
позволю
Извергу, фрицу, фашисту служить.
Нашей фамилии не опозорю,
Лучше упасть мне под пулей сквозною,
Честную голову честно сложить.
Знайте, что я не боюсь вас нисколько,
Дух мой российский и чист и высок!..—
...И угодила свинцовая долька
В самое сердце, под самый сосок.
Падал гусляр на холодную глину,
Где никакие цветы не цвели.
Гусли его продолжали былину
Непокоренности русской земли.
Что рассказал вам — я слышал в народе.
Верю, что люди нисколько не врут,
Будто под Новгородом у дороги
Гусли убитого парня поют.
То зазвенят они ручейками,
То затокуют, как тетерева,
То зашумят, как деревья, верхами.
Значит, душа музыканта жива!
Николай Берендгоф
МГНОВЕНИЕ
Зимний воздух колким светом брызнет,
Ледяною пылью серебря,
И в глазах расколются, как в призме,
Золотые крылья фонаря.
И посмотришь ты под зимним небом
На скамью свиданий и любви,
И поймешь:
заносит мягким снегом
Горести и радости твои.
118
Лариса Васильева
Когда за пеленой разлуки
твои черты померкнут вдруг,
я к небу простираю руки,
и оживает все вокруг,
и все черты твои, рассеясь,
то веткой станут, то травой,—
все озираюсь я, надеясь
услышать в ветре голос твой.
Когда на зарево размолвки
найдут густые облака,
и пересуды, перетолки
рассыплются, как жемчуга,
и полетит тревога-птица,
свободно вырвавшись из рук,
и только слово сохранится
и просто обратится в звук,—
тогда-то выйдет некто новый
из леса, что пролег межой,
неузнанный, большеголовый,
знакомый чем-то, но чужой;
и, видя все, но глядя мимо,
желая попросту пройти,
смахнет меня, как сгусток дыма,
случайно застящий пути.
Квгений Винокуров
ПРОТОКОЛ
Любая сказка вянет скоро.
Жизнь у легенды коротка...
Но достоверность протокола,
Я верю,— победит века!
День протекает незаметно
Какой-то серою рекой,
Но достоверность документа
Превыше выдумки людской;
Бумаги пуд малопригодной...
А слово вбито^ точно кол.
Кто хочет правды подноготной,
Читай открытый протокол.
Здесь все просеяно, как в сито...
Вот тот подлец,
а тот герой.
Простая плоть его прошита
Вглубь канцелярскою иглой!
К чему тираж?
К чему издатель?
Он фиолетов от чернил.
И жестяной скоросшиватель
Его листы соединил*
Чего там притчи? Что там были?
Нет, выдумка мне не мила!
«Заслушали» — «Постановили»:
Две рубрики. И все дела!
Он понадежней, чем газета.
Ему вся подлинность дана!
Присутствовали те-то, те-то.
Все точно.
Должность.
Имена.
Рука писавших отражала
Не то, что вдруг придет на ум,—
Любую реплику из зала,
Аплодисменты, смех и шум.
Он не потерпит произвола,
Здесь правда пред глазами вся...
То протокол!
Из протокола
Ни слова выбросить нельзя!
Я за романами, зевая,
Дремлю. Что мне какой-то быт?..
Но в протоколе жизнь живая
Хохочет, плачет и вопит!
119
Андрей Вознесенский
ИРОНИЧЕСКАЯ САТИРА НА СКУПЩИКА КРАДЕНОГО
I
Приценись ко мне в упор,
зубки — платина.
Ты опаснее, чем вор,
скупщик краденого!
Лоб крапленый полон мыслями,
белый, как Наполеон,
челка с круглыми залысинами
липнет трефовым тузом...
Символы предметов реют
в твоей комнате паучьей.
Вещевая лотерея:
вещи есть,— но шиш получишь!
Символичней Лорелеи
воровская лотерея.
Урки, протоиереи —
совладельцы лотереи.
Кражи, шмотки и сапфиры
зашифрованы в цифири:
№ 4704 мотоцикл марки «Ява»,
«Волга» (угнанная явно),
неразборчивая цифра списанная машина шифера,
пешка Бобби Фишера,
ключ от сейфа с шифром,
где деньги лежат,
200 000 гора Арарат,
на остальные пятнадцать номеров подряд
выпадает по кофейной чашечке с
вензелем «Отель «Украина»,
нож с автографом львовского раввина,
печать райфина
или паникадило (по желанию),
четырехкомнатная «малина»
на площади Восстания
или старый «Москвич» (ло желанию).
ш
327-49-25 . . .
непожилая,
но крашенная под серебро прядь
поможет Вам украсть
тридцать минут счастья+кофе в номер, а?
(или пятнадцать руб. денег)
Демпинг!
(Тем же награждаются все последующие
четные номера.)
№ 14 709 Памятник. Кварц в позолоте.
С надписью: «Наследник — тете».
Инв. № 147 015 Библиотечный штамп лиловый.
Золотые буквы сбоку:
«Избранное поэта О-ва»
(где сто двадцать строчек Блока).
№ 22 100 Пока еще не известно что.
№ 48 Манто, кожаное, но
хлоркой сведено пятно.
№ 1968 Судья класса «А»,
мыло «Москва»
на оставшийся 21 билет
выпадает 10 лет.
Но горит, не зачтено,
хлоркой смытое
пятно.
Кто кожаночку купил?
(Не скрыть крапинку.)
Где хозяюшка,
упырь,
скупщик краденого?
Ставь лампадку в изголовье,
кушай рисовый отвар.
Только выпив
чьей-то крови,
размножается комар.
II
Размечталась, как пропеллер,
воровская
лотерея:
«Бриллианты миссис Тэйлор,
и ворованные
ею
многодетные мужчины,
и ворованная ими
нефть печальных бедуинов,
и ворованные теми
самолеты в Йемене,
и ворованное время
ваше, читатель, к этой теме,
и ворованные
Временем
наши жизни в море бренном,
где ворованы ныряльщиком
бриллианты нереальные,
что украли душу, тело
у бедняжки миссис Тэйлор...»
III
Кража века — краше вета:
«Не убий и не украдь»,
и поет скупарь фальцетом
романс,
списанный в тетрадь,
под названием
121
«БЕЛЫЕ БРЮКИ»
«Дверь отворите гостье с дороги!»
Выйду, открою — стоят на пороге,
словно картина в раме-фрамуге,
темные плечи, белые брюки!
Видно, шла с моря возле прилива —
мокрая складка к телу прилипла.
Видно, шла в гору — дышат в обтяжку
смелые брюки, польская пряжка.
Эта спортсменка не знала отбоя,
но приходили вы сами собою,
где я терраску снимал у старухиг
темные ночи, белые брюки.
Белые брюки, ночные ворюги,
«молния» слева или на брюхе?
Стрижечка — молния шаровая
обворовала, обворовала!
Ах, парусинка моя рулевая...
Первые слезы. Желтые дали.
Бедные клеши, вы отгуляли...
Что с вами сделают в черной разлуке
белые вьюги, белые вьюги?!..
И на голос твой с порога,
мел сметая с потолков,
заглянет любитель Блока,
участковый Уголков,
потоскует синеоко
и уйдет, не расколов,
(Посерьезнее Голгоф
участковый Уголков.)
С этой ночи нет покоя.
Машет в бедной голове
синий махаон с каймою
милицейских галифе.
Чуть застежка залоснилась,
как у бабочки брюшко.
Что вы, синие, приснились?
Укатают далеко
(где посылки до кило).
Дочь твоя ушла, вернулась
и к окошку отвернулась,
молода, худа и сжата,
плоскозада, как лопата,
со скользящим желобком,—
закопает вечерком
с корешами вчетвером!
Рысь, наследница, невеста.
И дежурит у подъезда
вежливый, как прокурор,
эксплуатируемый вор.
Он заместо математики
(«скушай, гадина!»)
вынет винт к еловой матери,
скупщик краденого!
IV
Хорошо б купить купейный
в детство северной губернии,
где безвестность и тоска!..
Да накрылись отпуска.
Жжет в узле кожанка краденая.
Очищают дачу в Кратове.
Блюминг вынести — раз плюнуть!
Но кому пристроишь блюминг?..
По Арбату вьюга дует...
С рацией, как рыболов,
эти мысли пеленгует
участковый Уголков.
122
Ирина Волобуева
Остановите кто-нибудь весну!
Она в своем неистовстве весеннем
Возьмет себе в сообщницы луну,
Подбросит трав дурманящее зелье,
Русалочьей загадкою своей
Призывно станет звать меня из дому,
Свирелью — нежным шепотом ветвей —
Заманивать в леса меня, как в омут.
Чтоб, вдруг лучом по сердцу полоснув,
Опутывать сетями золотыми.
А как же мне потом на свете с ними?
...Остановите кто-нибудь весну!
Виктор Гончаров
* * *
Поехали со мной в края,
Где я
Уже давно не я.
И ты
Давным-давно
Не ты,
А просто
Песня и цветы.
Поехали с тобой туда,
Где нет
ни «нет»,
ни «есть»,
Поехали,
Тебя молю,
Где нет ни «знаю»,
ни «да»!
ни «люблю».
Скорей взмахни,
Взорвись за мной
В край невесомости земной.
Поехали со мной туда,
Где «ничего»,
Где «никогда».
Ты говоришь, что это — бред?
Ты просто мыслить не умеешь.
Ты все бренчишь,
Бренчишь, как медь,
Да что-то мелочное
Мелешь.
Я оторвусь
От этой чуши.
Сорву с себя
Хомут хлопот.
Душа моя,
Как сом на суше,
Уже закрыть не может рот.
123
Глеб Еремеев
Игорь Жданов
КАПЕЛИ
У марта под глазами тени
И что-то грустное в глазах.
На всех крылечках все ступени
В его нечаянных слезах.
В морозном воздухе такое
Тепло коснется вдруг лица,
Что так и чудится людское
Дыханье,— дышат деревца.
На белом — голубые тени,
Как от ресниц на полщеки.
В истоме, нежности и лени
На солнце плачут сосняки.
Тревогой будущих свиданий
Поля и рощи смущены,
Но марту жаль воспоминаний,
Хоть и в объятиях весны.
Под вечер все грустнее тени.
А за деревней, на горе,
Упало солнце на колени
Умыться в талом серебре. #
Ты любить не умеешь.
Ты рано душою поникла,—
Пусть не злят, не тревожат
Тебя запоздалые сны.
Это только мое:
И безудержный бег мотоцикла,
И бензиновый чад,
И зеленая пена весны.
Это только мое —
Безнадежные лужи окраин,—
Там тебе не ходить,
Там тебе не ломать каблуков.
Ты — чиста.
Это — я
Буду проклят,
забыт и охаян
Ныне, присно,
А может быть,
даже во веки веков.
124
Тамара уКирмг/нская
Б. М. Жирмунскому
Не за себя,—
хвороба, ну и пусть,—
и не за дочь,—
тьфу-тьфу, она здорова,—
безадресно, безграмотно молюсь
на пасмурной платформе Комарова:
— Эй, кто там есть?
Хотя бы и никто!
Дай человеку смертному отсрочку.
Пока на долготе его светло,
вглядись в одну мерцающую точку.
Плацдарм зимы недвижен и суров,
но женщина дрова несет в охапке,
заснежен двор, и посреди снегов
стоит старик в каракулевой шапке.
Он только что прервал свой долгий труд
и погружен в себя, в проекты, в книги.
Часы идут,
часы, как снег, идут,
овеществляя вечность в каждом миге.
Прошу тебя — прибавь ему, подкинь
десяток лет,
не пресекай раздумья.
Раз ты и справедливость — двойники,
не подводи его под общий нумер.
Превысь лимит, нащелкай, надыши,
распорядись по крайней мере тонко:
дай чистому,
отрезав у ханжи,
дай честному,
взяв силой у подонка.
Еще и внуки у него малы,
и у жены осанка молодая,
и так непритягательны миры
с антинаучным обещаньем рая...
Нет, не любовь — апатия слепа.
За стариков так редко просят, боже.
Те, что старей, те просят за себя,
и суетно молчат
те, что моложе.
1970
125
Анатолий Землянский
БАЛЛАДА О СНЕГЕ
И смех и грех,
Давно,— а помнится:
Толкает в снег
Мальчонку школьница.
Светлее всех
Моя ровесница,
И смех и грех,
Уже невестится..,
«Любовь у них»,—
Девчонки ахали...
Тот день и миг
Войной запаханы.
Но явствен след
Все — как вчерашнее.
И пусть уж сед,
На той на пашне я,—
А чуть смежу
Глаза усталые —
И ухожу
Дорожкой талою
Да в кипяток —
В прощанье раннее.
Да в ветерок
Ее дыхания.
Расстались с ней
Мы за околицей.
И смех и грех,
Давно,— а помнится:
На грудь коса,
В глазах туманище,
И в нем слеза
Нашла пристанище.
По всем фронтам
Свинец война мела
И встречу нам
Вернуть не вспомнила.
Лишь две строки
Пришли сердитые —
Мужской руки
Тревога скрытая:
Мол, был и снег,
Да вот как сталось-то.
И смех и грех:
Кому досталась ты!
И смех и грех,
Давно,— а помнится:
Толкает в снег
Мальчонку школьница.
Фазиль Искандер
Пора, мой друг! Пора, пора!
В садах осенняя пора.
Здесь «изабелла» и «качич»
Помогут нам себя постичь.
Созрел рабочий виноград.
Как гроздья пыльные рябят,
Рябят, свисают надо мной
Черно-лиловою стеной!
Так тянет виноград к земле,
Как будто чует он во мгле
Кувшинов жаждущие рты...
Есть притяженье пустоты.
Сластолюбиво жало ос.
Летучий хищник пьет взасос
Из ягоды, угрюм и яр,
Пьет, как из бочки янычар.
А эта гроздь... Нет, это дрозд
Поет, поклевывая гроздь...
Поющий сок иль пьющий дрозд
Какая разница для звезд?
В такие дни, куда ни глянь,
Со всех деревьев тянут дань,
И не поймешь среди ветвей —
То щебет птиц или детей?
Ольха, шелковица, орех...
Взбегают по веревке вверх
Корзин, не ведающих зла,
Стрелообразные тела.
И ветки опустевшей взмах
Как бы испуганное: — Ах! —
Но затихающий тот скрип
Вздох утоленья или всхлип?
Здесь напрягается лоза,
Как напрягаются глаза,
Чтоб миг блаженный не смигнуть.
Пусть не теперь, когда-нибудь,
Как ветка, откачнешься ты,
И я услышу с высоты:
Поющий сок иль пьющий дрозд —
Какая разница для звезд?
126
Михаил Квливидзе
* * *
Я приду к тебе позавчера, или в прошлом году.
Ты придешь ко мне завтра, или позже, с годами.
Когда цветы начнут распускаться в нашем саду,
Когда деревья будут усеяны сплошь плодами.
Когда играть в живых
нам с тобой уже так надоест,
в этом спектакле, бесконечно долго идущем,
что выберем мы для встречи одно из мест —
где-нибудь в Прошлом или в Грядущем.
Перевел с грузинского Ю. Левитанский
Андрей Кленов
ОДИНЕЦ
Ушедшего из стада зубра
здесь называют одинцом.
Устал он — затупились зубы,
и помрачнел перед концом.
Погодой сбитый с панталыку,
не возвращается в весну,
не перемалывает лыка
и рогом не дерет сосну.
Перебивая шаг упругий,
с лещиной путая чабрец,
один, без друга и подруги,
плутает в пуще одинец.
И долго смотрит исподлобья
на отраженное в воде
свое размытое подобье
в рогах и в бурой бороде.
Не будет больше звезд и лета,
не пробежит по холке дрожь,
но в чистом зареве рассвета
он, сильный, все еще хорош.
И он врывается без страха
через туман в завал лесной.
И грудь широкую с размаху
крушит поваленной сосной.
Овсянка жалуется маю,
зорянки плачет бубенец,
и я печаль их понимаю,
я тоже старый одинец,
127
Максим Кравчук
РАДУГА
Гроза вращала в небе жернова —
Молола день на мелкий дождик колкий,
И падала на землю синева,
В грязи рассыпав лужицы-осколки!
Казалось:
Солнцу наступил конец!
Казалось:
Сумрак туч не превозмочь нам!..
Но в этот миг сверкнул меч-кладенец!
Он разрубил тяжелый мрак на клочья!
Отважный луч и хмурый лес рассек!
Плясали сосны в платьях золотистых!
И радуги цветастый поясок
Ронял на крыши вышитые кисти!
Гармония!
Палитра чувств и слов!
Так вот оно — любых начал начало:
Слияние ремесел в ремесло,
Чтоб творчество, как радуга, звучало!
Сергей Красиков
Солдат упал на землю
И уснул.
Вокруг него
раскаты канонады
Сливаются в протяжный
Страшный гул,
Но спит солдат,
Как будто так и надо.
Он спит,
Под щеку положив ладонь,
Другой держась
за кожух автомата,
А командир кричит:
— Смирнов, огонь!—
И треск стрельбы
Перекрывает матом.
Смирнов бы встал,
Ему не все равно,
Кто победит,
Кто будет побежденным,
А где-то мать
Потянется в окно
И к косяку
Привалится со стоном.
Как птичий крик,
Раздастся сверху вниз
Надрывный стон
Сомненья и тревоги,
И вырастет
Из стона обелиск
Над пепелищем
Около дороги.
Григорий Корин
* *
Мой отец пробудился во мне,—
И привычки его, и движенья,
Вызывавшие раздраженье,
В отраженном увидел окне.
Дочь смеется, завидев меня,
Как угрюмо, с бычачьим наклоном,
Я домой возвращаюсь с батоном,
Грустный дедовский облик храня.
И в тоске замирает жена,
Если губы сложу по-бараньи —
И не вижу, не слышу. Заране
Знает — исповедь будет страшна.
И я стал за бритьем замечать
Перед зеркалом, как мы похожи,—
Те зке самые складки на коже,
Лишь слабей моих складок печать.
Но тревожнее сходство в груди! —
Я от близких таю эти звуки,—
Неужели безумного муки
Ожидают меня впереди?
И смогу ли я их миновать?
Но надежда живет в моем сердце,
Что не все передал мой отец мне
И спасет меня мертвая мать.
Лев Кропоткин
РЕЧЬ
Гортанный звук нерусской речи,
степей и гор родной язык.
В нем горечь трав, и ропот речек,
и коршуна картавый крик.
Как будто прикасаясь к тайне,
до хрипоты кричу с утра,
как заговор,
как заклинанье:
— Хонгор,
Хангай,
Барун-Хара!.,
Таят характер человечий
и взгляд, и музыка, и смех...
Мне Азия открылась
в речи —
и нынешний,
и давний век.
Та речь вершила суд неправый,
держа в смятенье материк,
и даже острого приправой
вошла в степенный мой язык.
Но мне по нраву речь такая -
со стоном,
с упоеньем,
всласть,
почти зубов не разжимая,
одно дыхание и страсть!
Она для слуха не услада.
Ее предтеча и родня —
тройное эхо камнепада
и храп строптивого коня...
И я скачу ущельем горным,
мне светят вечные снега.
И кажется,
я чую горлом,
как задыхаются слога..*
5 День поэзии 1971
129
Валентин Кузнецов
СНЕГ 41-ГО ГОДА
Мне не быть уже больше веселым,
Не делить свою радость на всех.
Он в глазах моих, Черный поселок,
И растоптанный пепельный снег.
Он летит через времени своды,
Он еще не остыл, не ослаб,
Этот снег сорок первого года,
Этот пепел мальчишек и баб.
Где вы, женщины? Встаньте из праха!
Тетка Дарья! Воскресни! Приди!
Я с тобой до последнего шага,
Я с тобой на последнем пути.
Он нетленен. Он в памяти ожил,
Этот горестный путь роковой.
Ты шептала: — Спаси его, боже...—
И меня прикрывала полой.
Тетка Дарья, во мне твои очи!
Боль моя тяжела и остра.
Вижу дымный сарай среди ночи,
Вижу красные руки костра.
Где он? Где он, судьбы твоей берег,
За какою чертой огневой?
Как смеялся фашист-офицерик,
Как играл на гармошке губной!
По морозу. По наледи тонкой
Как стучали его сапоги!
Из толпы вырывал он ребенка
И солдатам кидал на штыки.
Выжил я на воде, на картошке.
Не убит. Не сожжен на снегу.
Я живой. Только голос гармошки
До сих пор выносить не могу.
Тетка Дарья, со мной ты доныне,
Для меня ты не прах. Человек!..
На земле еще плачут Хатыни
И летит еще пепельный снег.
Николай Леонтьев
ОСЕНЬ-ЗОЛОТОШВЕЙКА
Край родной мы в самом сердце носим,
Даже если он и вдалеке...
Вот опять заговорила осень
На своем цветистом языке.
В эти дни березки и осинки
Как костры: во славу сентября,
Понаденут алые косынки
И наряды цвета янтаря.
В эти дни, в предвиденье ненастья,
Притихает птичий тарарам,
Пьяные от сытости и сласти,
Топчутся медведи по борам.
Им средь ягод сладостно резвиться:
Муравьев предложит каждый лог.
Им приснится ягода-брусница
В темных недрах будущих берлог.
А пока, по-царски хлебосолен,
Всех гостей задабривает бор
И, красой отменною фасоня,
Свой ведет цветистый разговор.
И прохлада в воздухе разлита,
И вода остужена в реке:
Говорят, олений царь копыто
Обмочил в заглавном роднике.
До зимы по радам и по сограм
Ягод и грибов невпроворот:
Урожай стоит, никем не собран,
И никто его не соберет.
И над всей над северной сторонкой
Ягодно-грибная благодать...
Стали звать мы осень хлебосолкой
И еще золотошвейкой звать.
£30
Юрий Левитанский
О СВОБОДНОМ СТИХЕ
(Вместо выступления ни дискуссии)
— Что? — говорят.— Свободный стих?
Да он традиции не верен!
Свободный стих неправомерен!
Свободный стих — негодный стих!
Его, по сути говоря,
эстеты выдумали, снобы,
лишив метрической основы,
о рифме уж не говоря!..
Но право же не в этом суть,
и спорить о свободе метра —
как спорить о свободе ветра,
решая, как он должен дуть.
Все это праздные слова.
Вам их диктует самомненье.
Как можно ставить под сомненье
его исконные права!
Нет, йетер, дождь или трава
свободны по своей природе,—
а стих, он тоже в этом роде,
его природа такова.
И как ни требовал бы стих
к себе вниманья и заботы —
все дело в степени свободы,
которой в нем поэт достиг.
Вот Пушкина свободный стих.
Он угрожающе свободен.
Он оттого и не угоден
царям, что раздражает их.
Но вы смотрите, как он жжет
сердца глаголами своими!
А как свободно правит ими!
И не лукавит! И не лжет!
О, только б не попутал бес
и стих по форме и по мысли
свободным был бы в этом смысле,
а там — хоть в рифму или без!
5* 131
Владимир Аеонович
ПУШКИН ПЕРЕВОДИТ
Все решено: наш Валленрод
обязан перевоплотиться.
И муза — тоже: новый род
потребовал. Теперь ты — львица,
и вот тебе поэма — клеть.
Пройдем же бодро переходы,
попробуем-ка всё уметь.
Как плохи наши переводы...
И все же злее — немота,—
для целой нации потеря.
Благословясь, погоним зверя!
И без помарок два листа
исписаны.
А твари пленной
решетки любы — что за пыл!
Постой.
Ты здесь переступил,
погонщик слишком вдохновенный.
Здесь — не Мицкевич. Здесь простор
иной... Оставить? Будет вздор.
Отсечь? Погибнет благородный
росток,— а волей несвободной
его развить мне не дано.
Случится же в начале песни
виденье странное — оно
ее ведет,— благие вести
послышались...
Путем слепца,
руководима волей тайной,
течет,— а здесь? Здесь до конца
все ясно. Гибни, дар случайный.
Вперед, мой зверь!
Да что с тобой?
Тебя охолодили прутья?
Но право же, их разогнуть я...
Над перечеркнутой строкой
сидит.
Нет смысла продолжать —%
не одолеть своей природы.
Нет, нет, безумие — лишать
себя единственной свободы!
Российский смысл свое берет,
но, уважая смысл литовский,
оставим неприступный род
тебе, мой женственный Жуковский.
И рвет листок.
Быть так. А нам,
мой милый гений, мой Адам,
в одном раю, как в клетке, тесно.
Останься ты — я выйду вон.
Как вяло вышло б все, как пресно!
Ты был бы скушен,
Я — смешон.
Майя Ауговская
КРУЖЕВНИЦА
Вологодские метели — кружева.
И заснеженные ели в кружевах.
Занавески на окне — кружева.
От мороза на стекле — кружева.
На карнизах и ветвях кружева.
На ресницах и бровях кружева.
На березоньках листки — кружева.
У черемух лепестки — кружева.
Под черемухой слова — кружева.
Закружилась голова. Кружева.
У невесты на фате кружева.
У волны на хребте кружева.
И от пены на песке кружева.
От седин на виске кружева.
И вся жизнь кружева, кружева.
Ты рядись, пока жива, в кружева.
Над рекой облаков кружева.
Молода пока, плети кружева.
132
Марк Аисяпский
Тоне
Вот пришли и твои юбилеи,
Не пришли, а нагрянули вдруг.
Наши головы побелели,
А земля зеленеет вокруг.
Мы проходим поляною летней,
Луговиной в цветах полевых...
На зеленом, конечно, заметней
Серебро паутинок твоих.
В этом местном раю с непривычки
Я шаги замедляю свои.
Пролетающий гром электрички
Заглушают твои соловьи.
А потом в незабудках небесных,
В самоцветах с озерного дна
Прямо к сердцу из таинств окрестных
Подступает твоя тишина.
И поляна чуть-чуть грустновата,
И смолкает листва надо мной,
И моя тишина виновата
Перед этой твоей тишиной.
Людмила Мухина
На улицу — и быстрей!
Там дождь возводит леса:
Стропила из тонких жердей
Под самые небеса.
Гвоздей полный рот набрав,
Насвистывает — не поет.
Мелькает его рукав,
Рука без устали бьет.
Удар — и по шляпку гвоздь
Входит в земную твердь,
Травы во весь рост,
В ноги сухая смерть.
Стукнул в последний раз
И разом стропила сбил.
Солнца гигантский глаз
За мастерством следил.
А там, как сказочный мост,
Над речкой в сквозную высь
Семь выгнутых ярких полос
Торжественно вознеслись.
А дождь уходил на юг,
Холщовый мешок за плечом.
Шли птицы за кругом круг,
Любуясь его мастерством.
Сергей Наровчатов
о главном
Не будет ничего тошнее,
Живи еще хоть сотню лет,
Чем эта мокрая траншея,
Чем этот серенький рассвет.
Стою в намокшей плащ-палатке,
Надвинув каску на глаза,
Ругая всласть и без оглядки
Все то, что можно и нельзя.
Сегодня лопнуло терпенье,
Осточертел проклятый дождь,—
Пока поднимут в наступленье,
До ручки, кажется, дойдешь.
Ведь как-никак мы в сорок пятом,
Победа — вот она! Видна!
Выходит срок служить солдатам,
А лишь окончится война,
Тогда — то, главное, случится!..
И мне, мальчишке, невдомек,
Что ничего не приключится,
Чего б я лучше делать смог.
Что ни главнее, ни важнее
Я не увижу в сотню лет,
Чем эта мокрая траншея,
Чем этот серенький рассвет.
Клена Николаевская
июнь
Лучами в травы метясь,
Царит он на заре,
Июнь — светлейший месяц
У нас в календаре.
Как ясен, чист и весел
Его пресветлый лик!
Июнь — медовый месяц
Цветенья ранних лип.
Свет властвует и льется,
Смывая мглы покров,
Когда приходит солнце
В созвездье Близнецов.
Под этим знаком встретясь,
Возможно ли быть врозь?..
Июнь — зеленый месяц
Надежд и сочных лоз:
Уж забродил в их жилах
Хмель — хоть пускайся в пляс!.
О, знак нерасторжимых,
Благословивший нас!
К лучам его причастен,
От всех невзгод храним,
Да будет вечно счастлив
Родившийся под ним!
Не добрая ль примета —
Животворящий свет?..
Июнь — начало лета,
Начало долгих лет.
134
Булат Окуджава
СЕМЬ ДНЕЙ НЕДЕЛИ
Константину Ваншенкину
Первый день, первый день!
Все прекрасно, все здорово,
хоть на всем уже второго
дня лежит косая тень.
Счастлив будь, сурок в норе!
Будь спокойна, птица в небе!
Он — в раздумьях о добре,
в размышлении о хлебе.
Из ствола не бьет дымок,
стрелы колют на лучину,
превращается в причину
все, что было лишь намек.
День второй — день чудес,
день охоты, день объятий,
никаких еще проклятий
ни из уст и ни с небес.
Все пока как будто впрок,
все еще полно значенья,
голосок ожесточенья
легкомыслен, как щенок.
Третий день — день удач,
за удачею удача.
Удивляйся и чудачь,
поживи еще, чудача.
Нет пока лихих годин,
выражений осторожных.
Бог беды на тонких ножках
в стороне бредет один.
И счастливой на века
обещает быть охота,
и вторая капля пота,
как амброзия, сладка.
День четвертый.
Рука
оперлась о подлокотник.
Что-то грустен стал охотник,
нерешителен слегка.
Вездесущая молва
о грядущем все страннее,
капли пота солонее
и умеренней слова.
Пятый день.
Холодна
на дворе стоит погода.
Нет охоты — есть работа,
пота нет — лишь соль одна.
Отрешенных глаз свинец,
губ сухих молчанье злое...
Непохоже, чтоб скупец,
скапливающий былое;
непохоже, чтоб глупец,
на грядущее плюющий,
пьяница или непьющий,
верующий или лжец...
Может, жизнь кроя свою
на отдельные полоски,
убедился, что в авоське
больше смысла, чем в раю?
Или он вдруг осознал,
что, спеша и спотыкаясь,
радуясь и горько каясь,
ничего не обогнал?
Что он там? Чему не рад,
сам себе холоп и барин?
Был, как бес, высокопарен,
стал задумчив, как Сократ.
6
День шестой, день шестой...
Все теперь уже понятно:
путь туда такой простой,-
это больно и приятно.
Все сбывается точь-в-точь,
как напутствие в дорогу.
1Э5
Тайна улетает прочь...
Слава богу, слава богу.
Доберемся как-нибудь,
что нам — знойно или вьюжно.
И увязывать не нужно
чемоданы в дальний путь.
Можно просто налегке,
не трясясь перед ошибкой,
с дерзновенною улыбкой,
словно с тросточкой в руке.
Остается для невежд
ожиданье дней, в которых
отсыревший вспыхнет порох
душ или раздастся шорох
вновь проснувшихся надежд.
Что ты там ни славословь,
как ты там ни сквернословь,
не кроится впрок одежда...
Жизнь длиннее, чем надежда,
но короче, чем любовь.
День седьмой.
Выходной.
Дверь открыта выходная.
Дверь открыта в проходной...
До свиданья, проходная!
Николай Панчеико
* * *
Говори о любви,
ни минуты — вражды,
ни секунды — косого, опасного взгляда.
Этот голос, как тень,
голубая прохлада,
на песке обозначит босые следы:
я люблю тебя этой любовью воды,
что коснется ноги, как сырыми губами.
Ни минутной вражды!..
Промелькнув ястребами,
пусть уносятся брови твои в темноту.
Я люблю тебя этим — горящим во рту! —
как молчанье, еще неродившимся словом,
то ли рыком лесным, петушиным ли зовом...
Я люблю тебя — этим! —
несказанным словом
или где-то сгоревшим уже на лету...
136
Паттерсон
Как Ганнибал, сверкающий белками,
в тени листвы, смеющийся, живой,
поставив ногу на замшелый камень,
он встряхивал курчавой головой.
Естественный порою до беспечности,
в себя ушедшим становился вдруг,
ложились на видеозапись вечности
короткий жест,
произнесенный звук...
Спасибо,
старое, седое дерево,
за то, что, моложавое тогда,
ты укрывало средь своих ветвей его
в застенчивой беседке у пруда.
За силу удивительную
жизненную
тебе спасибо, дерево-мудрец.
О, сколько их на возраст твой нанизано,
широких зыбких памятных колец!
Сергей Поликарпов
ОСЕНЬ В ГАГРАХ
Голубая, в прожилках, вода
И луна голубая, как слива...
Над моей головой поезда
Раздаются ночами, как взрывы.
Рань разбудит
Автобусный двор,
Загудев растревоженным ульем,
И гортанный чужой разговор
Потечет
Вдоль сполоснутых улиц.
Осень в Гаграх.
Цикад перезвон,
Янтари
В мандариновых ветках,
И Гогуша —
Приюта патрон —
Над маститостью
Квохчет наседкой...
Слава богу,
Я — сам по себе,
Не в чинах,
Не в казенном почете,
Воздаю благодарность судьбе,
Правя отдых в усердье и поте.
Мимо снежных вершин проходя,
Солнце голову держит высоко.
Глядь,
И к ночи намолишь дождя —
Струй хмельного лозового сока.
И опять же
Я — сам по себе,
Собеседник
По сердцу подобран.
Ночь выводит мотив на трубе,
Как напиток и терпкий и добрый.
Ровно дышит лазоревый Понт,
И луна голубая, как слива,
И суда, заходящие в порт,
Затихают в объятьях залива.
137
Боргес Рахманип
Юрий Ряисепцев
Вот полем боя, меж окопами,—
бой в сторону, как дождь, ушел,—
идут дьщящимися тропами
старухи из окрестных сел.
Они идут с восток^, с запада
росистой красною Дравой,
как будто в дом стучатся запертый,
кричат: \[
«Откликнись, кто живой?»
И у солдата-пехоящща,
пробитого штыком) чужим,
вдруг тихо веки приподымутся...
Он — мертвый —
хочет быть '
живым. I
# * #
Не за наградой, не от наказанья
лечу сквозь снег и медленную муть,
я — раб той самой строчки расписанья,
где сказано: «Семь тридцать, пятый путь».
Не серые, не в яблоках ли кони —
дрожат такси».. Из мутной полосы
на угольном стеклянном небосклоне
уже восходят бледные часы.
И лица проводниц плывут все тише
меж поручней протяжной чередой.
Являйся, появляйся, выходи же,
мой старый враг, мой праздник молодой!
Твоих волос неясный, блеклый очерк
уже забрезжил где-то за толпой —
и вот, печальный рыцарь проволочек,
хочу ли я остаться сам собой?
Иль все, что в нас, наш мир и нрав наш
сложный,
короче — то, что называем «я»,
ждет лишь одной улыбки невозможной,
чтоб превратиться в жизнь из бытия.
Вот в эту мглу, где дышат три вокзала,
где мокрый снег ползет по витражу,
где ты еще ни слова не сказала,
где я еще не знаю, что скажу.
133
Юрий Сбитнев
sfc «ft ?£
Уезжаю. Сердце остается,
И который раз хочу понять,
Как же это людям удается,
Уезжая, сердце оставлять.
Вот оно тихонько под рукою,
Словно птица клювом,— тук и тук.
Как же получается такое —
Там живет оно, а бьется тут?
Там, где я любил и жил немало,
Уезжал откуда второпях,—
Ходит моя старенькая мама,
Мое сердце нянча на руках.
Заболит оно, и этой болью
Будут ночи долгие полны,—
Материнской кровью и любовью
До седых волос сыны сильны.
Знаю я, случись со мной такое,
Что и сердцу не стучать в груди,
Теплой материнскою рукою
Подтолкнет его. Шепнет ему: «Иди!))
Снова всех дорог мне стало мало,
Снова уезжаю второпях,
Снова оставляю сердце, мама,
На твоих, любимая, руках.
Вадим Семернип
Ты жить учись у лопуха:
Свою ладонь он к людям тянет,
Смеяться над тобой не станет
За зелень первого стиха...
У подорожника учись:
Аптекарь скромный при дороге,
Он всё чужие лечит ноги,
Что по нему легко прошлись.
Учись у клевера — стогам,
Учись у ржи — хлебам подовым,
По старым книгам иль по новым -
Учись! Но трудно, по слогам.
Но не учись по простоте
Любви у ивы сиротливой,
Случайной ласке — у крапивы,
У волчьих ягод — доброте...
139
Геннадий Серебряков
БАЛЛАДА О КОМИССАРЕ
Была земля поблеклой, сонной,
Еще заря не занялась.
Лишь одного желал он: солнце
Увидеть бы в последний раз.
Шагал в кольце врагов спокойный —
И на краю могилы встал.
И все не верилось конвойным,
Что это — красный комиссар.
Совсем мальчишка: костью слабый,
Пушок над верхнею губой...
А вот поди — гремела слава
О нем в степях под Бугульмой.
И мнилось белым генералам,
Что их противник мудр и стар.
Но вот случилось — в плен попал он
Живым, товарищ комиссар.
Его витой нагайской плетью
Хлестал, зверея, есаул.
А он ни слова не ответил,
Он даже губ не разомкнул.
И вот у ног чернеет яма.
Конвойных серая стена.
Стоит он дерзко и упрямо,
И голова обнажена.
Как быстро над землей светает,
Как стало видно далеко...
Пусть приговор ему читают,
Он и не слушает его.
Стоит в изодранном исподнем.
Глядит — алеет неба край.
Встречает комиссар сегодня
Рабочий праздник — Первомай.
Хрустит песок под сапогами,
Уже приклады у плеча.
«Эх, жалко, нету под руками
Хотя б обрывка кумача...»
И времени не остается.
Вдруг, в небо вскинувши ладонь,
Почувствовал — сквозь пальцы вьется
Живой, пылающий огонь.
Он улыбнулся, непреклонный.
Ну что же, есаул, смотри:
Тебе не видятся колонны
Под красным знаменем зари?..
Огнем в глаза хлестнули дула,
И он упал лицом вперед,
Успев в последний миг подумать:
«А все же солнышко встает...»
140
Ярослав Смеляков
НАРОДНОМУ ДРУГУ
В ту самую тяжкую дату,
когда, не ослабив плеча,
из Горок несли делегаты
на станцию гроб Ильича,
когда в стороне заметенной,
когда в тишине снеговой
едва колыхались знамена,
увитые черной каймой,—
по-тихому встав до рассвета,
тулуп застегнув на груди,
в начале процессии этой
и даже чуток впереди
на розвальнях ехал морозных,
наполненных лапником впрок,
еще никакой не колхозный,
окрестный один мужичок.
Он не был тогда коммунистом,
а может, и после не стал,
но бережно ельничком чистым
дорогу туда устилал.
Хотел он народному другу,
о том не умея сказать,
хоть горькую эту услугу —
хотя бы ее оказать.
Мечтал он по собственной воле
на горестном санном пути
хоть самую малую долю
в прощание это внести.
Не с тем он решил постараться,
чтоб люди заметить могли,
а чтоб в стороне не остаться
от общего горя земли.
Лев Смирнов
ТРАНЗИТНЫЕ ГИТАРЫ
Веселым и сосновым,
продымленном в костре,
простым и грубым словом
запахло на заре.
В тот день у всех калиток,
подъездов и ворот
бурлил поток улыбок
и молодых бород.
Сквозь звон стеклянной тары,
сквозь смех и тарарам
транзитные гитары
звенели тут и там.
Средь будничного мира
толкались меж людьми
предания Таймыра,
сказания Перми.
Мальчишки-ротозеи,
взобравшись на плетень,
мелькавшей Мангазеи
в толпе ловили тень,
На рынке, возле ТЮЗа,
на празднике платков,
проливом Лаперуза
тянуло от лотков.
Тишайший этот город,
скромняга и молчун,
внезапно был распорот,
расколот звоном струн.
Легко и как-то странно,
сводя собак с ума,
поплыли к океану
заборы и дома.
Сквозь чьи-то тары-бары
и хрипоту в груди
транзитные гитары
парили впереди.
141
Ирина Спегова
Алла Строило
ОСЕННИЙ СОНЕТ
Как воет осень! Ни одной метели
Не снилось выть на столько голосов.,.
Ты лег уже? Ты вплыл в тепло постели?
Дверь накрепко закрыли на засов?
Плотней, чтоб бесы юга не влетели,
Не ворвался тот азиатский зов,
Тот стон сверчков, гремевший две недели
И где-то тьму тревожащий доселе,
Жизнь отменявший, чтоб начать с азов*..
Замкнитесь! Чтоб ни продыха, ни щели...
Дверь накрепко закрыли на засов?
Как воет эта осень, в самом деле,
Как тушит, глушит звон в душе и в теле!
Человек, поди ж ты,—
царь природы!
Но благополучья в царствах нет:
Дохнет рыба,
и мелеют воды,
На тропе простыл звериный след...
Лучше быть в
стране зеленой — братом,
Ангелом-хранителем ее.
Как же так?
Мохнатым медвежатам
Уготовить злобное ружье?..
Лучше быть для воинства лесного
Младшей, милосердною сестрой:
Приглядишь за ним —
и встанет снова
Елочек-дошкольниц вечный строй.
142
Дмитрий Сухарев
В ТАШКЕНТЕ
На родине моей осела пыль,
Которую усердно выбивала
Могучая и дикая рука.
Не так ли: выбьют пыль из тюфяка —
И колотьбы той будто не бывало?
Утихло содрогание земли.
Я видел, как бульдозеры скребли,
Верней сказать, я видел, как сгребали
Ту улицу, с которой я вбегал
В ту комнату, которую едва ли
Теперь припомню.
Но это было в прошлый мой приезд.
На этот раз на месте прежних мест
Шумит проспект. Терпение и вера
Мне помогли найти остатки сквера,
Но опознать деревьев я не мог.
Здесь у дверей курился наш дымок.
Здесь ясень был и был дымок мангала,
И девочкою мама в дверь вбегала,
Когда тот ясень веточкою был.
Постой еще:
Здесь были дверь,
И стены,
И улица, которая теперь
Сошла со сцены.
Ах, если всяк да со своей святыней!
Не заглянуть ли лучше на базар,
Чтоб ввечеру потолковать за дыней
Под небом жилмассива Чиланзар?
Мы дыню разъедим, а завтра днем
В сухую землю веточки воткнем,
Узрим новорожденные кварталы
И с пылью их смешаем светлый прах,
Который унесли на башмаках...
Прости, привязчив я.
143
Федор Сухов
Позволь припасть к ногам твоим, Мария,
Позволь, как яблоку, к ногам твоим упасть.
Чтоб вновь моя смородина-малина
Зарей животворящей налилась.
Заря заката и заря рассвета
Друг другу голос подали. И вот
Взутрел, поднялся с яблоневых веток
К сырой земле прилипший небосвод.
Раздвинулся от края и до края,
Очнулся от ночного забытья...
Позволь сказать, Мария, как, играя,
Забилась родниковая струя.
Светло открылась золотая жила
Широко развернувшегося дня.
Я не пойму: роса ли освежила
Иль ты, Мария, тронула меня?
Своей зарей рассветной прикоснулась
К моей закатно рдеющей заре.
Да здравствует ликующая юность —
Единственное чудо на земле!
Да здравствует от века и до века
Неудержимо бьющийся родник
И яблони свисающая ветка,
К которой я, как яблоко, приник.
Я свято жду обещанного часа,
Неутолимой радости я жду,
Чтоб больше одиноко не качаться
В забытом, неухоженном саду.
Не обжигаться злючею крапивой
И не дышать тоскливой лебедой.
Не ты ль меня, Мария, окропила
Своей животворящею водой?
Так разреши припасть благоговейно,
К ногам твоим безропотно припасть,
Чтоб вечно длилось чудное мгновенье,
Его всепобеждающая власть.
144
Леонид Тёмин
Разбивается сердце. Когда не под силу
Одолеть ему тяжесть обиды и бед.
И уходит в себя человек, как в могилу,
И, затихнув, живет еще множество лет.
А бывает — дробится на мелочи быта
И пустеет — могущее космос вместить.
Но снаружи не видно, что сердце разбито,
И кругом говорят: меньше надо бы пить.
Разбивается сердце. Удар за ударом.
Полыхнуть бы ему, как пожару в ночи,—
Чтобы все отогреть, чтоб умолкнуть недаром,
Говорят: «Задержите дыханье» — врачи.
А потом, отложив стетоскоп и подумав,
Говорят, что «...опасности нет никакой —
Никаких аритмий, перебоев и шумов.
Соблюдайте режим и душевный покой...»
Кардиолог! Ты прав: ни к чему мелодрама,
И «разбитое сердце» — чувствительный бред!
И у Гамлета — чудная кардиограмма,
Если он умирает четыреста лет.
Николай Угиаков
Все — наше,
наше,
наше
и вместе с тем мое:
гектары нив и пашен,
и щедрое литье,
и светлячки в пустынных
лугах,
и окна хат...
А на домах-пластинах
фонарики горят.
Горит фонарик зоркий
вблизи и вдалеке...
А ельник на пригорке,
а ласточкины норки
над звездами — в реке.
Наш этот берег дальний,
наш ближней школы двор
и детской готовальни
набор и недобор.
Рейсфедер и кронциркуль...
Но вот уже видны
и кратеры и цирки
той стороны Луны.
А синий — темно-синий,
а черно-синий цвет
расчерчен в сотни линий
дорогами ракет.
Взлетают,
улетают
туда, в простор зовя,
где в шахматы играют
и небо и Земля.
Так сквозь года и даты,
вдоль чертежей и вех,
наш век спешит двадцатый
к нам —
в двадцать первый век.
145
Вячеслав Шапошников
УРОК РИСОВАНИЯ В 42-м ГОДУ
Здесь в промороженных углах
Седого инея мерцанье.
В пальтишках, шапках и платках,
Мы — на уроке рисованья.
Нам тема вольная дана.
Но загляни в тетрадь к любому:
О, сколько грохоту и грому
Скрывает эта тишина!
Что ни листок — война... война...
Сопенье, шмыганье да кашель.
Прилежно все наклонены.
Смешным усердьем первоклашек
Решается исход войны!
Горит фашистская броня.
Лежат убитые фашисты.
Ах, здесь такие баталисты
Работают вокруг меня!
Тут вся война — в победном громе!
Мы все, как надо, предрекли!
Пускай едва на переломе
Та, настоящая, вдали!
Екатерина Шевелева
ВЕТКА
Мне улыбнулись врач и медсестра.
Остался позади больничный корпус.
Костер в лесу январском — словно компас.
Снегирь на ветке — как клочок костра.
Случается на свете очень редко
Такая белизна, такой огонь.
Такая удивительная ветка! —
Как будто материнская ладонь.
146
Аркадий Штейпберг
ЗАБВЕННОЕ
Шепот листьев, робкий шорох
Раздается под окном:
Постоялый двор в Мещорах
Околдован темным сном.
Ель стучит в окошко веткой,
Сонный омут бередя.
Два конька на крыше ветхой
Почернели от дождя.
Будто кровь из красной ранки,
Вдоль стропил течет смола,
И плакун-трава сквозь дранки
Волчьей шерстью проросла.
Развелись хвощи лесные,
Загустела лебеда,
И наличники резные
Покосились, кто куда.
А когда-то было дело,
Развеселая судьба!
И гостями не скудела
Пятистенная изба.
В этом царстве смертной лени,
На распутье трех дорог,
Сколько разных поколений
Отгулявший дом сберег!
Приходили дегтегоны
К постоялому двору,
Тарантасик одноконный
Заявлялся ввечеру,
И, присуха всех красавиц,
Расторопный, молодой,
Коробейник-ярославец
С финикийской бородой,
И касимовский татарин,
Отолстивший свой живот,
И одетый, словно барин,
Молоканский верховод,
Дроворубы, звероловы,
Конокрады, лесники,
Люд разбойный и торговый,
Всех мастей, любой руки —
Поднимались, без печали,
На тесовое крыльцо,
Улыбаясь, отвечали
На офенское словцо,
Пили штоф единым разом,
Заводили шум и гам
И моргали хитрым глазом
Понимающим дружкам.
Ну, а нынче — вышел порох.
Кто был пьян, тот стал тверёз.
Постоялый двор в Мещорах
Опустел и в землю врос.
На его порог широкий
Не идет ни друг, ни враг,
Лишь вороны да сороки
Залетают на чердак.
Смолкли тульские двустволки,
Измельчал собачий род,
И непуганые волки
Бродят около ворот.
И хозяин зуб на зубе
Не удержит — занемог! —
Если гость в медвежьей шубе
Когтем пробует замок.
амя/пь
Николай Горохов
...ВЕДЬ МАЙ ДУШЕ ОБЕЩАН
Брюсов — поэт, переводчик, критик,
историк, беллетрист — оставил после
себя огромное литературное наследие.
Объемистые папки, тетради в
коленкоровых переплетах, десятки записных
книжек, хранящихся в фондах Публичной
библиотеки имени В. И. Ленина, таят в
себе неизвестные пока большому
читателю новые грани творчества этого
энциклопедически образованного и
талантливого художника.
Публикуемые ныне брюсовские стихи
обнаружены в архиве поэта.
Разнообразна их манера, интонация, окраска.
Если в стихотворении «Безвестному
другу» сквозь дымку грусти минутных
сомнений главной мыслью поэта является
его чувство братского
интернационализма, человечности, взаимовыручки, то
стихотворение «Еще январь туманы
тускло тянет...» исполнено мягких тонов
предчувствий, ожиданий. Земля
истосковалась за зиму по теплу солнечных
лучей, ей грезится весна, ей хочется
посева! И поэта завораживает эта
активность в природе, он сам полон
творческих сил и надежд.
Чего желать! Ведь май душе обещан!
Маю деятельному,
интернациональному, до конца дней своих была верна
брюсовская муза.
148
Валерий Брюсов
(1873-1924)
К БЕЗВЕСТНОМУ ДРУГУ
(Болезнь)
Мне снились цветы, опьяненные ранним рассветом,
Мне снился я сам, уходящий по светлому лугу...
Как радостно я обращался с приветом
К безвестному другу.
Мне снились потом раскаленные жадные скалы,
От снежных вершин я спускался к далекому Югу,
Уверенно шел я — бессильный, усталый —
К безвестному другу.
И нет, мне не снится... Я вижу простор океана,
Сижу у окна, побежденный, покорный недугу,
Но парус свободный плывет из тумана
К безвестному другу.
5 августа 1896 г.
* * *
Еще январь туманы тускло тянет
Вдоль улиц в полдень; свежий снег скрипит,
И лют мороз; но в тайне дум не вянет
Росток весны: он, в грезах скрытый, спит.
Едва дохнет над крышей ветер с юга,
Лазурный глаз проглянет в муть высот,—
В мечтах — воскресший лес и зелень луга,
Цветы, шум речки, птицы, синий свод!
Бессмертно май из дали зимней нежит,
Фиалок запах льнет, стучась в окно...
Пусть бег саней сугробы остро режет,—
Ждет мига первого в земле зерно!
Чего желать! Ведь май душе обещан!
Растает лед, вкруг зашумят ручьи,
Вода блеснет, несясь легко из трещин1,
Ждет солнца радостных лучей сев прошлогодний,
Мы ль меньше верим в вожделенный день!
Снег, стужа, мрак и гул сегодня,
Но май и солнце сгонят смело тень.
Публикация Николая Горохова
1 Так в рукописи, хранящейся в рукописном отделе
Государственной библиотеки имени В. И. Ленина,
149
Дмитрий Голубков
МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН
Он шел очень издалека — его дорога струилась средь седых
пространств древней Эллады, плавно взбиралась с могильника на
могильник, любовно обтекала руины некогда цветущих столиц.
Его ухо, чуткое и отверстое, как свежая рана, оглушалось гулами
давних ристаний и языческих капищ, впивало шепоты славных
любовников и раздиралось кликами народных трибунов. Его глаза,
приученные к ровному безумию крымского (киммерийского!) солнца,
безошибочно определяли меру огня в новорожденных полотнах
Матисса и Гогена, Врубеля и Малявина. Губами, языком,
неутоленной тоской подъязычья осязал он воркующую и гневливую
прелесть галльской речи, облюбовывая и лелея пленительные
созвучия Малларме и Верхарна, Верлена и Рембо.
В собственных его стихах тоже было много красоты, но
избыточность их пластики, изощренное изящество узора — этот
грустный стих закатного Корана, явленный в свитках туч, эта мертвая
царевна Таиах, живущая в подводной сини предрассветных
глубин,— нравясь и даже вызывая уважение, заставляли усомниться
в темпераменте их творца, а грозные нагроможденья библеизмов
и слишком мелодичные сигналы Апокалипсиса всерьез не
принимались.
Он шел очень издалека. Он вплотную приблизился к России
лишь в 1915 году:
Дай слов за тебя молиться,
Понять твое бытие,
Твоей тоске причаститься,
Сгореть во имя твое.
Но когда его Россия содрогнулась на дыбе великого обновления
и огонь хлынул во все поры обнаженного тела родины,— Волошин
не убоялся этого огня. Он остался на родине, чтобы разделить с нею
ее страдания, восторги и радости. И записал то, что видел, чему
сострадал и сорадовался, пером страстным и неподкупным.
Максимилиан Волошин
(1877-1932)
ДОБЛЕСТЬ ПОЭТА
Править поэму, как текст заокеанской депеши:
Сухость, ясность, нажим, начеку каждое слово.
Букву за буквой врубать на твердом и тесном камне:
Чем скупее слова, тем напряженней их сила.
Мысли заряд волевой равен замолчанным строфам.
150
Вытравить из словаря слова: «Красота», «Вдохновенье» —
Подлый жаргон рифмачей... Творцу же поэту — понятья:
Правда, конструкция, план, равносильность, сжатость и точность.
В трезвом, тугом ремесле — вдохновенье и честь поэта:
В глухонемом веществе заострять запредельную зоркость.
1925
ЦЕППЕЛИНЫ НАД ПАРИЖЕМ
Весь день звучали сверху струны
И гуды стерегущих птиц.
А после ночь писала руны,
И взмахи световых ресниц
Чертили небо. От окрестных
Полей поднялся мрак и лег.
Тогда в ущелья улиц тесных
Заголосил тревожный рог...
И было видно: осветленный
Сияньем бледного венца,
Как ствол дорической колонны,
Висел в созвездии Тельца
Корабль... С земли взвивались змеи,
Высоко бил фонтан комет
И гас средь звезд Кассиопеи.
Внизу несомый слабый свет
Строений колыхал громады;
Но взрывов гул и ядр поток
Ни звездной тиши, ни прохлады
Весенней — превозмочь не мог.
Париж, 22 марта 1915 г.
Мир — лестница, по ступеням которой
Шел человек.
Мы осязаем то,
Что он оставил на своей дороге.
Животные и звезды — шлаки плоти,
Перегоревшей в творческом огне;
Все в свой черед служили человеку
Подножием,
И каждая ступень
Была восстаньем творческого духа.
1923
Чтобы не дать материи изникнуть,
В нее впился сплавляющий огонь.
Он тлеет в «Я», и вещество не может
Его объять собой и задушить.
Огонь есть жизнь.
И в каждой точке мира
Дыхание, биенье и горенье.
Не жизнь и смерть, но смерть и воскресенье-
Творящий ритм мятежного огня.
1923
Публикация Елены Благининой
В. А. Катанян
МАЯКОВСКИЙ И ДЯГИЛЕВ
Имя С. П. Дягилева мало знакомо
сегодняшнему читателю.
В прошлом году И. С. Зильберштейн
в своих увлекательных описаниях
«Парижских находок», между прочим, рассказал
о некоторых удивительных свершениях
этого одареннейшего деятеля русской
художественной культуры.
Дягилев был разносторонне —
музыкально и художественно — образованным
человеком, обладал безошибочным вкусом
и тонким чутьем, исключительными
организаторскими талантами и фантастической
энергией. Все это вместе позволило ему
триумфально преуспеть в главном деле его
жизни, осуществить благородную задачу,
которую он перед собой поставил,—
ознакомить Запад и шире — весь мир! — с
русским искусством, с русской музыкой,
живописью, театром — оперой и балетом.
Выставки, концерты и спектакли,
устраиваемые Дягилевым с 1906 года в городах
Европы, так называемые «русские сезоны»,
имели огромный успех и, по мнению
специалистов, содействовали возрождению
балетного искусства во многих странах.
Художник М. Ф. Ларионов, много лет
работавший вместе с Дягилевым, говорил
о нем: «Дягилев обладал свойством
заставлять особенно блестеть предмет или
человека, на которых он обращал свое внимание.
Он умел показывать вещи с наилучшей их
стороны. Он умел вызывать наружу лучшие
качества людей и вещей... Все, что он
делал, было быстро, продуктивно и остро».
Композитор Игорь Стравинский писал
так: «Он владел совершенно
исключительным чутьем, необыкновенной способностью
схватывать свежесть и новизну идеи и сразу
загораться ею без всякого рассуждения.
И наоборот,— его рассудительность была
очень надежна, у него был весьма здравый
рассудок, и если он совершал часто ошибки
и даже безумия, то это значило, что его
увлекали страсть и темперамент, две силы,
господствовавшие в нем».
Прославленная балерина Тамара
Карсавина говорит о Дягилеве: «Он умел отличить
в искусстве истину преходящую от истины
вечной. Для него бывало огромной радостью
открыть гений там, где менее верная
интуиция не увидела бы в большинстве
случаев ничего, кроме эксцентричности.
Многочисленны имена, которые рука Дягилева
вписала в книгу славы...»
Маяковский познакомился с С. П.
Дягилевым осенью 1922 года в Берлине.
Тому свидетель — композитор С. С.
Прокофьев, который, вероятно, их и
познакомил. В своих автобиографических заметках
Прокофьев говорит: «...с Дягилевым я
встретился... в Берлине, когда там был
Маяковский, с которым мы провели несколько
интересных вечеров. В один из них у него
разгорелся с Дягилевым страстный спор
о современном искусстве, в другой
Маяковский читал свои стихи, которым мы внимали
с увлечением».
М. Ф. Ларионов рассказывал мне много
лет спустя:
— Дягилев был в Берлине
одновременно с Маяковским. Маяковский ему очень
понравился. «Почему вы не приедете в
Париж?» — спросил Дягилев. «А как? Надо
иметь зацепку»,— отвечал Володя. Дягилев
обещал помочь с визой. Ему это было
нетрудно сделать. У него были большие связи
среди французов...
Так с помощью Дягилева в ноябре 1922
года Маяковский впервые попал в Париж.
С удивительной даже для Маяковского
энергией в предоставленную ему визой одну
неделю он постарался как можно больше
увидеть. Он ходил по театрам, посещал
выставки картин, ездил по галереям и
магазинам, где торгуют живописью, побывал в
мастерских виднейших французских
художников, встречался с писателями, поэтами,
драматургами и даже интересовался
музыкой и композиторами!
Во все дальнейшие поездки он был
гораздо более «спокоен, вежлив и сдержан
тоже...».
Все то, что он видел тогда, было потом
очень добросовестно и подробно описано
в очерках, напечатанных в «Известиях».
О встречах с художниками — Пикассо,
152
Браком, Делоне и Леже — Маяковский
написал отдельно в книжке «Семидневный
смотр французской живописи», которая
тогда не увидела света.
В коротком предисловии к этой книжке
Маяковский не забыл того, кто помог ему
все это увидеть: «Считаю нужным выразить
благодарность Сергею Павловичу
Дягилеву, своим знанием парижской живописи и
своим исключительно лояльным отношением
к РСФСР способствовавшему моему
осмотру и получению материалов для этой книги».
Через два года Маяковский снова был
в Париже.
Эльза Триоле, встречавшаяся с
Маяковским во все его приезды в Париж, замечает,
что, видя что-либо хорошее или встречая
людей, которые, по его мнению,
принадлежат России, он все и вся хотел увезти
с собой. «Звать в Россию было у Володи
чем-то вроде навязчивой идеи». В первом
стихотворении о Париже он даже Эйфелеву
башню приглашал к себе в красную Москву:
-Идемте, башня,
к нам!
Вы —
там
у нас
нужней!
Так, может быть, и тогда, в 1924 году,
при встречах с Дягилевым, он звал Сергея
Павловича в Россию — приехать,
посмотреть, что там делается. Подробности не
известны, однако, приглашая своего
собеседника в Москву, в которой тот не был десять
лет, Маяковский не мог гостеприимно
предложить себя в качестве гида, так как в это
время собирался из Парижа совсем в
другую сторону — в Америку. Поэтому он
заботливо снабдил его двумя письмами,
которые должны были облегчить Сергею
Павловичу путешествие и с самой выгодной
стороны представить ему искусство,
которое он, Маяковский, исповедовал.
Первое письмо было адресовано наркому
просвещения А. В. Луначарскому:
«Париж, 20. XI. 24 г.
Уважаемый товарищ
Анатолий Васильевич^
Это «рекомендательное» письмо более
или менее излишне: Вы знаете Сергея
Павловича Дягилева не хуже меня, а С. П.
в рекомендациях не нуждается. Пишу все
же эти строки, чтобы С. П. быстрее
прорваться через секретариат, который
случайно может оказаться чересчур оборонительно
настроенным. Конечно, опарижевшиеся
бывшие русские сильно пугали СП.
Москвой. Однако пересилило желание, а также
мои утверждения, что мы деликатностью
и грацией превосходим французов, а
«деловитостью» американцев. Надеюсь, с Вашей
помощью СП. убедится в этом и на деле.
Тем более, что главное дело С П.—
полюбоваться нами.
Не мешало бы поговорить и о нашем
павильоне на Парижской выставке. С П.
хорошо знает вкус французов и их
искусство, а это самое искусство к сожалению
(моему) еще играет в Париже большие роли.
Жму руку.
С товарищеским приветом
Вл. Маяковский»,
Второе письмо Маяковский адресовал
своему другу и товарищу по Лефу Осипу
Максимовичу Брику:
«Париж, 20.XI. 24 г.
Дорогой Осик.
Будь путеводной звездой Сергею
Павловичу — покажи в Москве всё, что надо
смотреть — когда устанешь показывать сам,
остальное напиши на бумажке.
Если С. П. не понравятся Родченко, Ла-
винский, Эйзенштейн и др., смягчи его
икрой (перед обедом пошли напротив), если
и это не понравится, тогда делать нечего.
Целую тебя
весь твой Вол.»
Но С П. тогда в Москву не поехал. Что
ему помешало воспользоваться этими
письмами — неизвестно. Вероятнее всего,
многосложные обязанности директора Русского
балета, которым Сергей Павлович не только
руководил, но и был его пленником. Письма
Маяковского остались в дягилевском
архиве и в конце концов попали на прилавок
парижского букиниста.
В дальнейшем было еще несколько
моментов, когда СП. был очень близок к тому,
чтобы приехать в Москву. В числе лиц,
звавших его на родину, были и С С.
Прокофьев, и Г. Б. Якулов, с которыми он
ставил балет Прокофьева «Стальной скок»
153
(1927), и И. Г. Эренбург, и В. Э.
Мейерхольд. Но были несомненно в окружении
Дягилева и такие «бывшие русские»,
которые отговаривали его от этой поездки.
Ранняя смерть положила конец
колебаниям..»
Были и еще встречи у Маяковского с
Дягилевым. Достоверно известно об одной,
которая произошла в ноябре 1928 года на
балетном спектакле Иды Рубинштейн
в Grande Opera.
Тот самый вечер, когда —
В смокинг вштопорен,
побрит, что надо,
по гранд
по опере
гуляю грандом.
Смотрю
в антракте —
красавка на красавице.
Размяк характер —
все мне
нравится...
Маяковский описал антракт, а Сергей
Павлович в письме к С. Лифарю,
перечислив, кого он видел в театре,— «Были все
наши... Игорь (Стравинский), все остальные
музыканты, Маяковский и пр.»,—
обрушился потом на спектакль, который, по
его словам, «был полон провинциальной
скуки» *.
1 С. Л и ф а р ь. Дягилев и с Дягилевым. Париж,
1939, стр. 437.
Сарказм, с которым Маяковский
изобразил публику в фойе, в той же мере
присущ и перу Дягилева в описании
происходившего на сцене.
Прима — с всклокоченными рыжими
волосами... на пальцах с согнутыми
коленями... от лица остался лишь огромный
открытый рот с массой сжатых зубов,
изображающий улыбку... Адажио, вариация,
после которых она, сконфуженно
сгорбившись, уходит за кулисы... аплодисменты
похожи на жидкие оплеухи... Другая
прима — бебешка, посаженная в капусту, с
лицом старой девочки и в костюме из ярко-
зеленых тряпок... Ее партнер — милостивый
государь, одетый в декольте, в розовой
шелковой рубашечке с голубыми оборками,
с красной бархатной накидкой, в рыжем
парике с ярко-зеленым венком и
художественно напудренным лицом красавца... И
т. д. и т. д.
Маяковский заключил свое описание —
Эх,
к такому платью бы
да еще бы
голову.
Дягилев —
парадоксально-нравоучительно свое:
— Очень полезно смотреть дрянь —
задумываешься над многим.
Дягилев умер в августе 1929 года в
Венеции, в возрасте 57 лет.
До Дягилева русская музыка никогда
не звучала в стенах Grande Opera. Сегодня
одна из площадей, примыкающих к
огромному зданию парижской оперы, называется
Place Diahgilev.
154
Анна Ахматова
(1889-1966)
De profundis... Мое поколенье
Мало меду вкусило. И вот
Только ветер гудит в отдаленье,
Только память о мертвых поет.
Наше было не кончено дело,
Наши были часы сочтены
До желанного водораздела,
До вершины великой горы,
До неистового цветенья
Оставалось лишь раз вздохнуть.
Две войны, мое поколенье,
Освещали твой страшный путь.
Ташкент, 23 марта 1944 г.
Уложила сыночка кудрявого
И пошла на озеро по воду,
Песни пела, была весела,
Зачерпнула воды и слушаю:
Мне знакомый голос прислышался,
Колокольный звон
Из-под синих волн,
Так у нас звонили в граде Китеже,
Вот большие бьют у Егория,
А меньшие с башни Благовещенской,
Говорят они грозным голосом:
— Ах, одна ты ушла от приступа,
Стона нашего ты не слышала,
Нашей горькой гибели не видела.
Но светла свеча негасимая
За тебя у престола Божьего.
Что же ты на земле замешкалась
И венец надеть не торопишься?
Распустился твой крин во полунощи
И фата до пят тебе соткана.
Что ж печалишь ты брата-воина
И сестру-голубицу схимницу,
Своего печалишь ребеночка...—
Как последнее слово услышала,
Света я пред собой не взвидела,
Оглянулась, а дом в огне горит.
Март, 1940
Жить — так на воле,
Умирать — так дома.
Волково поле,
Желтая солома.
(День объявления войны)
22 июля 1941 г.
155
СКОРОСТЬ
Бедствие это не знает предела...
Ты, не имея ни духа, ни тела,
Коршуном злобным на мир налетела,
Всё исказила и всем овладела
И ничего не взяла.
Комарово, утро 8 августа 1959 г.
Прав, что не взял меня с собой
И не назвал своей подругой,
Я стала песней и судьбой,
Ночной бессонницей и вьюгой.
Меня бы не узнали вы
На пригородном полустанке
В той молодящейся, увы,
И деловитой парижанке.
Комарово, 1961 (?)
ПОДРАЖАНИЕ КОРЕЙСКОМУ
Приснился мне почти что ты.
Какая редкая удача!
А я проснулась, горько плача,
Зовя тебя из темноты.
Но тот был выше и стройней
И даже, может быть, моложе
И тайны наших страшных дней
Не ведал. Что мне делать, боже?
Что!.. Это призрак приходил,
Как предсказала я полвека
Тому назад. Но человека
Ждала я до потери сил.
Публикация Вш М. Жирмунского
156
Лев Озеров
ПО ПЕРВОПУТКУ
Иду по первопутку памяти...
Что было в начале, в самом начале?
Говорила моя забава,
моя лада, любовь и слава.
— Вся-то жизнь твоя — небылица,
вечно с болью людской ты в ссоре,
ходишь — ищешь иные лица,
ожидаешь другие зори.
Это льнуло к сказкам, к
«Коньку-Горбунку» и к пушкинскому «Салтану».
Помню: это не прочитано, а услышано.
С чужого голоса. В Киеве. Где-то между
Львовской и Большой Подвальной. Кто-то
очень напевно декламировал: любуясь
словом, перебирая строки, как струны...
...Велики мои удивление и радость,
когда узнаю: Асеев едет в Киев, будут его
вечера. Едет вместе с Уткиным и
Кирсановым. Год 1933.
Вижу и слышу Асеева. Впервые. Он
читает напевно, распахнуто, свободно, как
говорит. Волосяное, уже седеющее крыло
сползает на лоб, движется, трепещет,
повторяя все, что делает Асеев со своей
головой. Вскидывает — резким движением
подбородка от левого плеча кверху и от
правого плеча кверху. Рука скупо рисует то
один, то другой виток стихового взлета.
Я думаю: а не так ли читали здесь в
древности — в пору Киевской Руси. Напев, лад,
склад.
Ни сердцем, ни силой не хвастай...
Об этом лишь в книгах — умно:
а встреться с такой вот бровастой,
и станешь ходить как чумной.
...Он читал, и все его существо
готовилось к прыжку. Не то с высоты в воду,
не то с лыжного трамплина, не то в ракете
в высь неизведанную. Упругий ритм
вырастал, как пружина, из глубин души
поэта. Асеев пел не пел,— он ликовал и парил.
Это была увлеченность и одержимость.
Какая раскрытость души! Какой песенный
разлив! Какая речь!
Все те дни только и разговоров, что об
Асееве и о приехавших с ним поэтах.
А не пойти ли нам к нему?
Нам, нескольким начинающим
стихотворцам, пишущим по-русски и
по-украински, хочется показать себя приехавшим из
Москвы мэтрам, прежде всего, конечно,
Асееву.
Узнаем: они остановились в «Континен-
тале». Фешенебельная гостиница в центре,
на бывшей Николаевской, рядом с цирком.
Входим в огромный номер. Ковры,
диван у стены, кресла. Окна обращены во
двор. Тихо, глухо, затемнено. Узнаю
Иосифа Уткина, статного, несущего свою голову,
как драгоценную вазу, наполненную
благоуханиями (так, кажется, сказал
Луначарский), дарящего вам свою снисходительную,
но не надменную улыбку. Все время
кажется, что он скажет нечто о лорде Байроне. Он
говорит мало, не часто удостаивая вас
переливами своего очень приятного голоса.
Почтительно обращается к Асееву на
какой-то итальянский манер: «Никола»...
Быстрый, шустрый, кудрявый Кирсанов
вбегает, выбегает, у него свои дела, он
нами не интересуется. Поглядел на нас,
кинул улыбку, пожалев, схватил ее
обратно, зажал под мышкой и — убежал. Еще
раз появился он уже в конце нашего
продолжительного разговора. Появился,
занятый своими делами, планами, договорами,
славой.
Мы читали стихи по кругу. Асеев
слушал, то подперев рукою подбородок, то
стоя на коленках в мягком плюшевом
кресле, то сев на стул лицом к спинке его,
положив на него локти,— он любил, как я
потом заметил, сидеть так.
Уткин величаво ходил по комнате. Он
слушал, помня о себе. Асеев же слушал,
себя не помня. Взгляд его плыл над головой
читавшего, над крышей гостиницы, в
глубине киевских небес, сливаясь с ними.
...Он говорил то о Маяковском, то о
Пастернаке. И я понял, что это самый
счастливый момент его, асеевской, жизни:
все трое дружны, молоды, обнадежены.
Й как несчастен был Асеев, когда
Маяковский с Пастернаком разошлись. Он
мысленно, душевно, все время пытался их сочетать,
соединять, ставить рядом, но — разводил,
сопоставлял, противопоставлял.
Следить за монологами Асеева, которые
я прерывал лишь изредка каким-либо своим
вопросом или восклицанием, было для меня
радостью, и я благодарен судьбе за такое
*57
долговременное и увлекательнейшее
общение.
... За три дня, за два дня, за день до
смерти в палате больницы Высокие горы, что
неподалеку от Курского вокзала (снова
Курск!), Асеев, бледный, измученный,
отрывая ото рта трубку с кислородом,
говорил:
— Прочитайте «Спекторского»!
Читаю:
— «Не спите днем. Пластается вдоль
стен...»
— Не то. Вступление.
Начинаю:
— «Привыкши выковыривать изюм».
Асеев подхватывает. Читаем в два
голоса.
— Нет, больше не надо. Здесь страшные
строки. «И отчужденьем превращенный в
дуб»... Сейчас...
И он долго кашляет. Некоторое время
лежит, закрыв глаза. Отходит, но еще с
закрытыми глазами говорит:
— Как писал Бори!
Чувствуется: даже сейчас продолжается
его нескончаемый душевньШ разговор-спор.
...Однажды прихожу к Асееву в
сумерки. Он лежит. Отходит от болезни и сразу
же говорит мне:
— Знаете, меня не пилюли вылечили,
а четыре строчки Хлебникова.
— Какие?
Читает:
И тополь земец,
И вечер немец,
И море речи,
И ты далече.
Несколько раз прочитал Асеев
раздумчиво и ласково это четверостишье и
разобрал каждую его строку.
— В каждой строке — эпопея.
...Он был нервозен и вспыльчив. Не все
можно относить за счет болезни. Его
волновали дела литературные, неполадки,
неурядицы. Боялся бюрократизации живого
дела. Вспыхнув, надолго заводилсй. Асеева
побаивались. Его мнение становилось
молвой, обрастало кривотолками, уродовалось.
Про себя держать свою взрывчатку и сидеть
Ыолча ой не мог.
Так родилась его «Литературная
панорама» — цикл эпиграмм и пародий, его
статьи и заметки.
— Послушайте! Узнаете?
Он был капризен. Это нельзя было
забывать.
— Вы, Николай Николаевич, как пена
на пиве. Пока дотянешься до питья, губы
устанут.
Смеется: «Разве?» Но это «разве»
уступчивое, желающее понять, в чем же дело.
...Он как мембрана — всегда в трепете,
в напряжении. Легко возбудим. Умел в
разговоре менять регистры.
— Какая мерзость! Сам автор хлопочет
о рецензиях на свою книгу. Готовит,
организовывает славу. Просит. Протаскивает
однотомники, двухтомники. Особенно
когда дорывается до должности... На днях
такого просителя спросил: «А что, если
напишу отрицательный отзыв? Вы это
допускаете или нет?» Говорит, что это все ему
надо, чтобы пройти в Союз писателей...
«Ну, а достойны ли вы этого?» Смотрит
на меня — мол, Асеев сошел с ума...
К нему ходили молодые. Он
присматривался, отбирал, думал. Его беспокоила
судьба поэзии и пути поэтов.
— На днях у меня было несколько
человек. Некоторых я знаю по предвоенным
годам. Они идут под именем военного
поколения. Пока что это общее наименование
им поможет, они будут настаивать на нем,
к ним примкнут и другие люди. А потом...
а потом...— Асеев весело вскидывает
голову.— Знаете, что будет потом?..— Долгая
пауза, Асеев и не хочет, чтобы я отвечал
на этот вопрос. — А потом они начнут
тяготиться этой принадлежностью к
поколению. Им захочется — каждому из них —
особой славы. Нельзя же существовать
в литературе списком. И они начнут с болью
отлипать друг от друга...
Летом 1961 года в июне, когда Асееву
исполнилось семьдесят, в канун дня
рождения я решил ехать на Николину гору.
Взял с собой огромный букет цветов, купил
газеты, в которых были статьи и заметки
об Асееве, и поехал на Николину гору.
Ясный день. Птичий щебет. Дача в
сосновом затишье... «Вей, ветерок» — назвал
Асеев этот дом — по заглавию
переведенной им пьесы Райниса. Открыла мне Вера
Михайловна — одна из сестер Ксении
Михайловны.
Второй этаж, огромная комната, светло.
Асеев лежит, он очень бледен. Всю ночь
не спал. Принятые лекарства — а их
множество — уже не врачуют, а вредят. Об
этом я узнал от Веры Михайловны. Асеев
просит меня сесть так, чтобы он видел
меня. Ему трудно даже повернуть голову.
Читаю статью, он прерывает меня
вопросами, вовсе к ней не относящимися. Потом
158
он говорит мне, что все это ему неинтересно.
И мы начинаем говорить на обычные темы:
Хлебников, Пастернак, Маяковский.
...Как всякий одинокий человек, он
жаден до людей, до общения, широко
раскрывается в разговоре. Доверителен редко, но
если решил доверить, то от всей души.
Это же чувство преодоленного
одиночества во время последней болезни. Николай
Николаевич лежал в своем синем
спортивном костюме — очень сосредоточенный,
внимательный, чуткий.
Я у него бывал почти каждый день.
Врачи ничего успокоительного не могли
сказать. Легких нет. На что надеяться? Дело
было так плохо, что когда я 26 июня
пришел с букетом, чтобы поздравить Николая
Николаевича с днем рождения, оказалось,
что впервые в жизни и он и Ксения
Михайловна забыли об этом. Они тихо сидели
на постели, беседовали. Я боялся нарушить
их разговор и попытался уйти, но они меня
придержали. Это были значительные
минуты. Николай Николаевич даже встал,
подошел к столу, сам ел кашу, долго и
пристально смотрел на цветы. Может быть,
сейчас мне и отблагодарить его за
ласковость, за внимание. Начинаю что-то
говорить. Жалкий лепет! Умолкаю.
Когда Ксения Михайловна отлучилась
из палаты, Николай Николаевич очень по-
доброму говорит мне о Дмитрии Сергеевиче
Лихачеве, с которым был в долгой
дружественной переписке, и по поводу «Слова о
полку Игореве», и по поводу поэзии и
русской речи вообще. Асеев просил меня
написать Лихачеву об этой беседе и передать
ему нежный привет. Он не сказал
«прощальный». Он не сказал «когда меня не
будет».
— Я не могу... Вы...
Сказано просто, очень просто. Деваться
некуда. Я причастен к какой-то
невыразимой в словах жизни. Жизни явно
завершающейся.
Конечно же я написал Д. С, Лихачеву,
с которым не был знаком, письмо.
Позднее, месяца через полтора после смерти
Асеева, я получил от него ответ, который
многое пояснил мне в отношениях этих
двух людей.
За несколько дней до смерти Асеев мне
сказал:
— Вы потом,— легкий взмах руки,—
посмотрите мои бумаги...
Асеев кладет палец на губы, ласково
глядит в упор и сразу же начинает разговор
на совсем иную тему. Его артистизм имел
своим основанием мужество и веру в
бессмертие поэзии. Он воспламенялся, когда
начинал читать стихи — свои и чужие,
когда говорил о поэзии, о русской речи.
Серо-голубая синева его глаз озарялась
изнутри. И тогда казалось, что на тебя
смотрит не то дед Асеева Николай
Павлович Пинский, фантазер, охотник и рыболов,
не то бабка Варвара Степановна,
доверчивая старуха с вечно деятельными руками,
не то льговский песнопевец давних времен,
не то встреченный Пушкиным на пути в
Арзамас звонкоголосый сказитель, не то
сам Боян вещий, который пел песнь,
растекаясь мыслью по древу, серым волком
по земле, сизым орлом под облаками...
Вижу эти глаза, слышу этот голос и
чувствую, что передать в слове свое
ощущение не могу. Не могу. Единственное
утешение — в стихах Асеева запечатлены и
живые переливы его голоса, и цвет его глаз,
и щелк и гром курских соловьев,
услышанный поэтом в малолетстве. Новые
поколения так и будут видеть и слышать своего
поэта — читая стихи. А те, кто имел счастье
видеть и слышать его самого, дадут волю
памяти. Но и она непрочна. Из ее глубин
выплывает то одно, то другое. Память ведет
себя, как природа, обнаруживая одну
сторону свою или некоторые из сторон,
никогда не показывая себя целиком, а только
внушая надежду на это. Что поделаешь?!
Но я все-таки осмелился идти по
первопутку. По первопутку памяти.
Илья Эренбг/pt
(1891-1967)
Крылья выдумав, ушел под землю,
Предал сон и погасил глаза.
И подбитая как будто дремлет
Сизо-голубая стрекоза.
Света не увидеть Персефоне,
Голоса сирены не унять,
К солнцу ломкие, как лед, ладони
В золотое утро не поднять.
За какой хлопочешь ты решеткой,
Что еще придумала спеша,
Бедная больная сумасбродка,
Хлопотунья вечная душа?
Мы жили в те воинственные годы,
Когда, как джунглей буйные слоны,
Леса ломали юные народы
И прорывались в сон, истомлены.
Такой разгон, такое непоседство,
Что в ночь одну разгладились межи,
Растаял полюс, будто иней детства,
И замерли, пристыжены, стрижи.
Хребту приказано, чтоб расступиться,
Русло свое оставила река,
На север двинулись полки пшеницы,
И розы зацвели среди песка.
Так подчинил себе высокий разум
Лет облака и смутный ход корней,
И стала ночь, обглоданная глазом,
Еще непостижимей и черней.
Стихи писали про любви уловки,
В подсумок зарывали дневники,
А женщины рожали на зимовке,
И уходили в море моряки.
# * #
Я знаю, будет золотой и долгий,
Как мед густой, непроходимый полдень,
И будут с гирями часы на кухне,
В саду гудеть пчела и сливы пухнуть,
Накроют к ужину и будет вечер,
Такой же хрупкий и такой же вечный,
И женский плач у гроба не нарушит
Ни чина жизни, ни ее бездушья.
Публикация Бориса Слуцкого
160
ИЗ АРХИВА Н. ЗАБОЛОЦКОГО (1903—1958)
Публикуемые записи о работе переводчика относятся к 1954 году,
В бумагах Н. Заболоцкого сохранилась рукопись начатого им в
1936 году перевода первой части грузинского народного сказания «Абесса-
лом и Этери». Перевод «.Кахетинской осени» Симона Чиковани,
выполненный в тридцатых годах, в книгах Заболоцкого не печатался.
ЗАМЕТКИ ПЕРЕВОДЧИКА
На Западе говорят: стихи непереводимы. Неправда. Нельзя
перевести на другой язык версификацию стиха, но душу стиха —
то, ради чего стих создан,— можно перевести на любой язык мира,
ибо все поэты мира пользуются одним и тем же инструментом разума
и сердца.
Пушкин называл переводчиков почтовыми лошадьми
просвещения. Мы не назовем их скоростными самолетами, но признаем,
что они — истинные друзья дружбы народов и делают свое
скромное дело успешно и добросовестно.
Не пытайся переводить поэта, которого не любишь и не
уважаешь. Неискренняя поэзия изобличает себя раньше, чем думают
многие.
На пленуме Союза писателей Грузии один критик негодовал
по поводу того, что кто-то из переводчиков грузинский шаири
перевел ямбами. Критик рекомендовал вменить переводчикам
в обязанность переводить шаири только хореическим размером.
Этот маленький Аракчеев, видимо, полагал, что переводами стихов
у нас занимаются отставные унтер-офицеры и фельдфебели.
Почему мы не переводим силлабические стихи силлабикой?
Потому что мы не Симеоны Полоцкие, а наши читатели не похожи
на читателей Симеона Полоцкого.
Ригорист в области стиля так же опасен, как безрассудный
анархист, который валит в одну кучу обломки всевозможных
стилей и воображает, что творит нечто новое.
Сочиняя шутливый стишок в доме отдыха, я сказал:
— Как жаль, что нет рифмы к слову «начисто».
— Есть,— сказал деятель эстрады,— «качество».
Мы вступаем в мир новых рифм. Но для перевода классиков они
не годятся: печать времени лежит и на рифме.
РОЖДЕНИЕ ДЕВЫ ЭТЕРИ
(Из грузинского народного эпоса)
Жил на свете бедняга мельник
Со своею старой женою.
Их жестокая доля постигла —
Не дал бог им ни сына, ни дочки.
Вот старуха пристала к мужу:
6 День поэзии 1971
«Ты сходил бы, старый, к гадалке,
Ты узнал бы у ней, разведал,
Почему у нас нет дитяти?
Может, знает гадалка лекарство,
Может, мудрым советом поможет,
Как от злобной судьбы откупиться,
Как утешить бездомную старость».
Вот отправился мельник к гадалке,
Попросил раскинуть гаданье.
Посмотрела гадалка в кости —
Принесла три яблока спелых.
«Вот,— сказала,— возьми их с собою,
Да смотри, береги по дороге.
Как захочет старуха обедать —
Дай два яблока ей, чтобы съела.
Как захочет жена напиться —
Дай ей третье, пусть ест на здоровье.
Коль исполнишь мое приказанье,
Будешь вечно судьбе благодарен».
Вот отправился мельник в дорогу,
По дороге проголодался,
Не стерпел бедняга мучений —
Съел два яблока вместо обеда.
Пообедал, так надо напиться,
Съел и третье — обжора несчастный.
Только съел — ив ноге под коленом
Зародилась красавица дочка.
Испугался бедняга мельник,
Ногу выше колена отрезал,
Бросил ногу в пустынное поле,
Сам уполз, заливаясь слезами.
В это время послышался клекот,
В синем небе орел появился,
Он схватил когтями добычу
И унес в гнездо вековое.
И когда родилась Этери
И прижалась к груди орлиной,
Задрожала от радости птица,
Обняла младенца крылами.
Облетел восток он и запад
И принес первородной дочке
Молока и плодов прекрасных.
Время шло, подросла Этери,
Расцвела, как весеннее солнце,
Из гнезда орлиного вышла
И по дереву вниз спустилась.
Вот идет она по тропинке,
Вдруг навстречу одноногий мельник.
Он привел к себе в дом Этери,
Назвал деву богоданной дочкой.
В рукописи заключительная строфа имеет вариант:
Вот идет она по дороге,
Вдруг навстречу бедняга-мельник,
Одноногий, вдовый, несчастный,
И привел он к себе Этери.
КАХЕТИНСКАЯ ОСЕНЬ
(Из Симона Чиковани)
Уж осень. Природа своими дарами
Покрыла всю землю, и небо желтеет вдали.
Опять виноградные гроздья повисли над нами,
И жизнь засияла в пределах старинной земли.
А ветер баюкает нас и колышет листвою,
Колеблет стога, укрепленные на деревах.
Разноцветные тыквы лежат предо мною,
Лебединые шеи подняв.
Созрела природа. Исчез монотонный
Тоскующей зелени вид.
В глубокую думу орешник стоит погруженный,
В столетней давильне работа кипит.
Туманы, с хребтов голубых низвергаясь рекою,
Наполнили горные чаши. А там,
Блестя багрецом, ярчайшей горя желтизною,
Как молнии, блещут кусты по холмам.
И движется солнце, как чудная повесть,
Остатки больших облаков, белея, влекутся за ним.
И, тяжко дыша, нас приветствует Осень —
С арбами, со скрипом ворот, с виноградником тучным своим.
Мы знаем тот край. Во дворе мимоходом
Покажется женщина вдруг. Посмотри, как прекрасна она!
И все-то спешит она к разным домашним работам,
И вечно семейной заботы полна.
Чаруя прохожих улыбкой веселья,
Не в силах она оторвать от мотора расширенных глаз.
А ветер летит и взрывает фонтаны деревьев,
И листья широким дождем упадают на нас.
Мы мчимся вперед. И, подобно реке Алазани,
Простерлась Кахетия вдаль, и конца не заметно садам.
Природа, пронзившая сердце поэта, лежит и взывает в молчаньи
К дагестанским вершинам, к сияющим их куполам.
А Солнце-бродяга мужает, взбирается выше и выше,
Идет, опираясь рукой на лучи-костыли.
Не раз еще волосы женщин дыханьем ветров заколышет,
Не раз еще листья взлетят от земли.
И цветов, шафрана окрашена даль золотая.
Уж ясно, душа моя,— осень... Вверху над землей
Весь воздух звенит. И толпа облаков, проплывая,
Едва шелестит за горой.
Чуть слышно звенят колокольчики. То, окруженный стадами,
Должно быть, пастух возвращается с тучных долин.
И коршун парит над домами,
Как мастер полета и воздуха злой властелин.
И вдруг, заглушая хозяйственной осени гомон,
Мотор наполняет гудением двор и жилье.
И женщина тихо идет от ворот и уходит к балкону,
И, как мухамбази S колышутся бедра ее*
Публикация Е, В, Заболоцкой
1 Мухамбази — персидский стих,
163
В. Кардип
«...ЧЕЛОВЕК ТВОЕГО ПОКОЛЕНИЯ»
Когда мы, пятидесятилетние, говорим
о них, двадцати-двадцатипятилетних,
время врывается в наши воспоминания.
Прожитое без них, оно одарило нас новым опытом,
заявило о себе строками новых поэтических
поколений.
Что ж, так тому и быть, ветру времени
шевелить траву забвения. Многое уходит,
стирается, забывается. Все чаще я слышу
от моих сверстников: «Убей бог, не помню».
Но есть заповедная зона — на нее словно
не распространяется власть лет. Наша
память оказалась куда прочнее дощатых
монументов, которые щедро и поспешно
оставляла по себе война.
Вначале мы и сами этому дивились.
А потом приняли как неизбежное, как
пожизненную зависимость от невернувшихся.
Как форму собственного существования.
Они донашивают кургузые, на крючках
шинели военных лет, кирзачи с широкими
голенищами, торопливо закуривают,
заслоняясь спиной от ветра, прячут руки в
нескладные рукавицы с двумя пальцами —
указательный, чтобы нажимать на
спусковой крючок.
Пусть, конечно, будут и бронза, и
гранит, и памятники. Но для нас,
пятидесятилетних, они останутся все теми же —
двадцати-двадцатипятилетними. Живыми
настолько, что хоть продолжай давние
разговоры, свободные от мемориальной
почтительности и — по возможности — от
нашего позднего знания. Годы, прожитые без
них, нарушают равенство, предоставляют
нам неоправданные преимущества, одаряют
задним умом, которым все мы столь крепки,
а то и расслабляют до умиления.
Семен Гудзенко пережил войну. Она
отыскала его по фронтовой контузии,
свалила на больничную койку, добила. Он
писал стихи до войны и после нее. И
знакомы мы были до и после. Но, как многие
сверстники, однокашники, друзья, он для
меня из невернувшихся. Он сумел передать
стихами миропостижение поколения войны,
какие-то черты его и свойства. Я имею в
виду стихи не только армейские, часто
цитируемые. Но и те, что писались походя,
где-нибудь на лекции по старославянскому,
и не предназначались для обнародования.
...Но меня зовут мортиры,
но меня труба зовет.
И соседи из квартиры
собирают пулемет...
Это было между финской войной и
Отечественной. Мы учились в Институте
истории, философии и литературы. Допоздна
спорили в общежитии. О минувшей войне
и грядущей. О поэзии. О журналах. Чего-
чего, а спорить в ИФЛИ умели, любили.
Да и поводов хватало. С Карельского
перешейка пришли не все. А тех, что пришли —
с почерневшими от стужи лицами, с
шершавыми пятнами отморожения,—
расспрашивали часами. Их рассказы осели памятью
о ранней смерти, отваге, о войне, такой
далекой от лирико-оборонных песен,
распиравших репродукторы.
Тогда, на лекции, он шутливо написал
о мортирах и соседях, а спустя два года,
отлежавшись после тяжелого ранения —
осколок мины угодил в живот,— вспомнил
уже далекое, и в блокноте после строфы
Багрицкого «Нас водила молодость...»
появилось: «Миша Молочко и Жора Струж-
ко! Други, погибшие еще в финской».
Он обостренно сознавал свою
причастность к поколению и времени. Об этом почти
все его стихи.
У могилы святой
встань на колени.
Здесь лежит человек
твоего поколения.
Но, постоянно чувствуя драматичность
судьбы — своей и сверстников,— сохранял
бодрое, я бы сказал, легкое расположение
духа, готовность дурачиться, сочинять
озорные стихи. Поколение поколением, а
человек человеком. Он был неунывающе весел,
бесконечно остроумен. Таково его
естественное состояние. К нему он быстро
возвращался и после накаленных студенческих
споров, и после фронтовых напастей. Таким
вижу его. В ифлийские годы — потертый
коричневый пиджачишко, в военные —
застиранная гимнастерка — госпитальное
«б/у». Локти на пиджаке старательно
зашиты, гимнастерка туго стянута
парусиновым ремнем. Он любил порядок,
аккуратность. Поэтому, вероятно, легко принял
164
армейский быт, дисциплину. Первым среди
нас, вчерашних студентов, вышел в чины —
получил ефрейторское звание. Дальше,
впрочем, не продвинулся.
Летом сорок второго года отряды нашей
бригады (сокращенно она именовалась
ОМСБОН — Отдельная мотострелковая
бригада особого назначения) размещались
в новеньких — только из-под топора —
дачах под Пушкино. Семен вернулся из
Москвы с дурными вестями: немцы
остервенело прут на юге.
А через несколько дней он надумал
писать детектив и потребовал, чтобы я стал
соавтором. Одному ему, видите ли, будет
скучно. Я отнекивался. Но уж раз он вбил
себе в голову, никуда не денешься.
Вечерами по очереди — один диктует,
другой пишет — сочиняли повесть. Это
было детективное произведение.
Наши скромные сведения об агентурной
разведке расцвечивались буйной фантазией.
Когда кончили, Гудзенко возликовал:
— Дорогуша, ты не представляешь себе:
нас ждет неописуемая слава. Из-за нас
будут драться издательства, школьницы до
глубокой старости будут хранить наши
автографы. Но начнем скромненько. С
бригадной многотиражки.
Редактор бригадной газеты «Победа за
нами» А. Тругманов, не отрываясь от
гранок, протянул руку:
— Стихи?
— Проза,— величественно ответил
Семен, пряча рукопись за спину.
— Мальчики,—взмолился Тругманов,—
у меня ни минуты. Приходите вечерком,
всегда вам рад...
— Товарищ политрук, я вполне
официально,— не сдавался Гудзенко.— Вы
откажетесь, нас приглашают «Красная
звезда», «Правда»... Кто еще? — повернулся он
ко мне.
— «Работница», «Медицинская
энциклопедия»...
Тругманов, тяжко вздохнув, отодвинул
гранки.
— Уж не надеетесь ли, что я сам стану
разбирать ваши каракули? Читайте. По-
быстрому.
По-быстрому Семен не умел. Он читал
нараспев, как стихи. Редактор не
прерывал. На его лице появлялась и исчезала
ироническая усмешка.
— А знаете, мальчики, совсем неплохо.
То, что требуется: бдительность, коварные
методы врага. Только кончать вы не
умеете... (Все остальное мы умели.) Детектив
в газете — это...
Тругманов вступал в область, по которой
мог бродить часами.
— В одну провинциальную газету
пришел новый редактор. А там уже два года
подвалами гнали с продолжением
детективный роман. Хватило бы еще на три. Новый
шеф зачеркнул «Продолжение следует», дал
многоточие и написал: «Наутро его нашли
в канаве с разбитым черепом». И еще одно
слово: «Конец».
Наша повесть не была рассчитана на два
года, но все же печаталась с продолжением
в нескольких номерах. Укрытые
псевдонимом — Тругманов подписал повесть «П. Гу-
даров»,— мы следили за реакцией
читателей. Прежде всего тех, кто знал разведку
не по детективным книгам. А таких в
Особой бригаде служило немало. Читая нашу
повесть, они почему-то смеялись. Не
обидно так, но все-таки смеялись. Хотя ничего
комического в ней не было.
Тругманов представил нас начальнику
политотдела, старшему батальонному
комиссару Л. Студникову, Тот похвалил,
сказал, что надо про бдительность, коварные
методы. И почему-то тоже улыбался. А
потом повернулся к Семену:
— Это вы, товарищ ефрейтор, сочинили
песню защитников Москвы?
— Вместе с рядовым Левитанским.
— Надо бы теперь написать песню
бригады. Боевую такую...
Среди студентов, ставших бойцами
ОМСБОН, попадались и поэты. Но в
конкурсе первое место заняла песня,
написанная Семеном Гудзенко. Он воспользовался
размером и мотивом сложенной еще в
начале революции «Песни ЗО-й дивизии»
(песня защитников Москвы — ее Гудзенко
и Левитанский написали в октябре 1941
года — пелась на мотив «Школы младших
командиров».)
Мне пришла на ум эта история —
незатейливый детектив, что писался мрачным
августом сорок второго, строевые песни
в доброй и бесхитростной красноармейской
традиции. Мог бы вспомнить другие
истории: институтские и военные. Это не
своеволие памяти. Многослойной была жизнь,
делавшая Семена Гудзенко поэтом своего
поколения.
Война резко отодвинула все ей
предшествующее. Но не развеяла, сохранила
его в нас самих. Переплелись имена
профессоров ИФЛИ и командиров ОМСБОН.
165
Одни старались сделать из нас людей,
не просто людей, а интеллигентных,
другие — бойцов, не просто бойцов, но
подрывников, парашютистов, разведчиков. В
армии, особенно на первых порах, мы
вспоминали институтских наставников куда с
большей теплотой, чем накануне экзаменов,
вспоминали лекции Радцига и Гудзия, Че-
моданова, вспоминали Лифшица, уже в те
достопамятные времена объяснявшего нам,
почему он не модернист, Пуришева, еще
не отправившегося на поиски снежного
человека... Кое-чего, вероятно, они достигли.
Все-таки мы болели не за футбол (никому
не в укор будь сказано), а за Леонида
Ивановича Тимофеева, защищавшего в 12-й
аудитории диссертацию по теории стиха.
Мы жили инерцией споров о
мировоззрении и творчестве (вопреки или благодаря?),
еще звучал в отдалении голос Яхонтова и
рояль Софроницкого. Но все уже обретало
иной смысл, сдвигалось, получало новые
акценты. Недавно Юрий Левитанский
написал стихотворение о том, как в ИФЛИ
смотрели немецкий фильм «Песня о Нибе-
лунгах». Он не был озвучен, шел без титров
и сопровождался остряком-тапером, нашим
же студентом, исполнявшим спортивные и
молодежные песни.
...Оставалось несколько месяцев
До начала этой войны.
С которой мы возвращались
долгие годы,
с которой не все мы вернулись,
мы,
от души хохотавшие
над этой отличной шуткой —
Зигфрид
умывается кровью дракона,
умывается
кровью,
ха-ха,
умывается
кровью.
Не родилась еще ныне модная футурология.
Но предвоенный ИФЛИ не ощущал
недостатка в пророках. Павел Коган, откидывая
с глаз черные патлы, предрекал в 15-й
аудитории:
Но мы еще дойдем до Ганга,
но мы еще умрем в боях...
До Ганга оставалось все так же далеко,
а смерть уже была рядом. Из
подмосковных рощ отправлялись на задания отряды
омсбонцев.
Особая бригада (теперь благодаря
книгам Д. Медведева, М. Прудникова, И.
Давыдова о ней многое известно, известны
подвиги Кирилла Орловского, Николая
Кузнецова, Лазаря Паперника) — не только
разведчики, уходящие в минированное,
опутанное колючей проволокой неизвестное,
не только белые купола парашютов ПД-41
в ночном небе, взорванные мосты,
сваленные под откос эшелоны. Это и долгий, через
болота и леса путь с тяжко раненным
товарищем на носилках, дружба,
преодолевавшая все, даже языковое непонимание
(с нами вместе служили испанцы, чехи,
поляки, венгры, немцы, австрийцы).
Дружба рождала особую атмосферу, чем-то
напоминавшую студенческое общежитие на
Стромынке. Ночью в кухонном наряде пели
«Бандьера росса», и украинские песни, и
русские. На гулком кафеле выбивали чечетку.
Семен затягивал неизменные «Сонные дроги»
или «А вот сижу я весь в халате...».
Много, очень много всего было, даже
трудно понять, как все это вместили
короткие месяцы, наши молодые головы и души.
И ничего нельзя отметать, ни от чего нельзя
отмахиваться. Но, перечисляя подряд, через
запятую, не упустить бы то, что становилось
последней, все решающей каплей,
завершающим нечто мазком. Для Семена Гуд-
зенко — тут я берусь утверждать — это был
почти целиком погибший отряд капитана
Лазнюка. Двадцать два лыжника в
окровавленных белых маскхалатах полегли у
сарая на окраине деревни Хлуднево. Группу
возглавлял политрук Егорцев. Упал Егор-
цев, команду принял Паперник. Оставшись
последним, он взорвал себя вместе с
немцами противотанковой гранатой.
Семен был в отряде Лазнюка и по чистой
случайности не оказался у хлудневского
сарая. Он дружил с Паперником, как и
все мы, уважал Егорцева. Совсем недавно
мы готовили новогоднюю стенгазету.
Егорцев шагал по комнате и подзуживал:
— Вы же заводные ребята, а пишете
газетную нуду. Начинается сорок второй... Это
же такой год будет...
В начале сорок второго он погиб. Упал
возле своего заместителя Паперника —
парня с Московского часового завода, из тех
неистребимых весельчаков, какие ценились
в армии на вес золота.
(У Семена в записной книжке: «Три
дня — и нет такого отряда. Хлебников
написал: «Когда умирают люди — плачут».
Я бы плакал, но не умею. Мы не учились
этому тяжелому, вернее, трудному
ремеслу — плакать».)
165
Плакать мы действительно как-то не
умели или не разрешали себе. Но чувство
отчаяния и решимости, недоумения и
горестной ожесточенности, сознание
удвоившейся ответственности (смерть
предназначалась и ?ебе, но ты уцелел) Семен сумел
передать:
Он не вернулся.
Мне в живых
считаться,
числиться по спискам.
Но с кем я буду на двоих
делить судьбу
с армейским риском?..
Тщетны попытки определить поколение
По одному признаку. Но если кто-нибудь
все же вознамерится, пусть знает: мы —
поколение, которому с первых шагов
суждено было терять друзей, другов, как писал
Семен о Мише Молочко и Жоре Стружко.
Сперва на Карельском перешейке, потом
под Брестом, Смоленском, Сухиничами, Ува-
ровкой, на Волге, в Карпатах. На исходе
войны ошалевший от страха немецкий
автоматчик скосил Лешу Подосинникова, моего
последнего из оставшихся в живых соседей
по медсанбатской палатке...
Поколением мы себя осознали,
лишившись тех, с кем гоняли по дворам, сидели в
школе и удирали с уроков, учились в
институте, а в сорок первом, кое-как подогнав
шинели, ускоренно набирались армейской
премудрости. Семен почувствовал это,
пожалуй, раньше других. И сказал об этом.
Олегу Чернию посвящена «Баллада о
дружбе». Ею открывается «Избранное»
Семена Гудзенко.
Дружба, оборванная пулей и ставшая
памятью,— это и есть его первая тема.
Дружба, которую берегли, «как пехотинцы
берегут метр окровавленной земли, когда
его в боях берут».
Он не хотел никого забывать, хотел
знать о каждом. Даже о том, кого видел
считанные разы.
В декабре 1941 года, когда мы вернулись
в Москву, Семен выспрашивал меня о
гибели Сережи Козлова и командира нашего
отряда Золина.
— Сережа — черноглазый, да? Пополз
направо, в кювет?.. Лейтенант Золин —
молчун, мрачноватый? У него, говорят,
семья погибла в Прибалтике... Ты
обернулся, а он лежит на спине, красное
пятнышко на лбу, так?
В «Армейских записных книжках»
Гудзенко среди рассуждений о литературе,
стихотворных проб, набросков — имена
погибших. Начиная еще с финской.
В рассуждениях — отголоски прежних
споров, метания. Упрек людям с «пастер-
начьей кровью». А через четыре страницы:
«Наши вкусы. Все мы безоговорочно любили
Маяковского, Хлебникова, Пастернака,
Багрицкого, Тихонова, Блока».
Сегодня не составляет труда поймать его
на противоречиях, заметить незрелость иных
выводов. Не надо делать вид, будто ясность
нисходила подобно божьей благодати. Но
эти имена, неизменные могильные холмики
среди отрывочных мыслей, беглых
набросков, полемических завихрений... Не они ли
служили горькими ориентирами, помогали
не сбиться, отличать подлинное от
наносного, внушали неприязнь к высокопарному
пустословию («Мы не любили... ходульных
«О» о великой стране,— мы были и остались
правыми»).
Спор о ходульном «О» — из выигранных
Семеном Гудзенко. Победу он делит с
Михаилом Кульчицким, Николаем Майоровым,
Павлом Коганом, Георгием Суворовым. Тут
они, не похожие друг на друга, едины.
С ними — многие из вернувшихся, и
особенно те, кто вернулся, но позже вступил
в поэзию, в кого тогда «запало и лишь
потом... очнулось».
У Семена «запало» и «очнулось»
мгновенно. Как выстрел и разрыв. В этом
неотразимая сила его фронтовых стихов,
лучших из них. Строка выплескивалась с
непосредственностью и болью, не
оставлявшими места для неискренности.
Когда же между фактом и отзвуком
образовывался зазор, когда впечатление
успевало остыть, стихотворение получалось
холодноватым, а то и наигранным. Разрыв
во времени еще не становился у него
периодом осмысления, углубления в
случившееся. Мы рано крестились огнем, но
поздновато созревали. Были тому свои
причины.
На долгом марше зимой сорок третьего
года — я уже служил не в Особой бригаде,
а в 140-й дивизии — поземка прибила к
ногам мятый газетный лист. Я подобрал его,
сунул в карман. Не то что почты, мы уже
две недели не видели кухонь. На привале,
укрывшись за сугробом, разгладил газету.
Там было напечатано выступление И. Эрен-
бурга о молодых писателях. Он говорил:
придут поэты, которые сейчас сидят в
окопах, ходят в атаку. Они-то и расскажут
о войне. Уже рассказывают. Эренбург не
167
назвал автора приведенных им строк. Но я
ни минуты не сомневался — Семен.
Мне кажется, что я магнит,
что я притягиваю мины.
Разрыв —
и лейтенант хрипит.
И смерть опять проходит мимо.
Много лет спустя мне попалась
написанная во время войны, но с опозданием
напечатанная статья В. Александрова
«Фронтовые рукописи». В ней цитируется
без имени автора концовка того же
стихотворения «Перед атакой»:
Бой был коротким.
А потом
глушили водку ледяную
и выковыривал ножом
из-под ногтей
я кровь чужую.
В. Александров замечает:
«Автор как будто говорит читателю:
«Посмотрите, как остро я об этом написал».
А эта тема не терпит такого с собой
обращения; когда имеешь с ней дело, должны
отпадать малейшие помыслы о
литературном эффекте».
Думается, В. Александров прав насчет
темы, но не совсем справедлив к Гудзенко.
Он потрясал читателя, признаваясь в
собственной потрясенности. И было из-за чего.
Расстояние до смерти — тоньше волоска.
Падает лейтенант («...Ты обернулся, а он
лежит на спине, красное пятнышко на
лбу?»).
В. Александров сравнивает строки
Гудзенко с описанием боя и человеческой
гибели у других авторов, и сравнение не
в пользу Семена. Те непосредственнее,
проще. Допускаю. Но Гудзенко — поэт, его
восприятие острее. Он потрясен не только
атакой, но и собственным в ней участием.
И рассказывает о ней, только-только выйдя
из боя. Он едва ли помышляет о
литературном эффекте. Но и о том, как отображать
его, тоже не помышляет, не успевает
позаботиться.
Война одаряла величайшим опытом,
однако не баловала возможностями для
раздумий. Неизменно общительный Семен
тщетно искал уединения. Помню его жалобы:
хоть бы часок одному. Но в армии
несбыточно уединение, война не жалует тишины.
Разве что госпиталь. Там он и написал для
себя: «Мудрость приходит к человеку с
плечами, натертыми винтовочным ремнем, с
ногами, сбитыми в походах, с обмороженными
руками, с обветренным лицом».
Так мы считали, так оно и есть. Только
мудрость эта — далеко не конечная.
Предстояло еще идти и идти, возвращаясь и
открывая заново то, что казалось давно
открытым.
Наша литература, наша поэзия заново
открыли войны на разломе пятидесятых и
шестидесятых годов. Немалый срок
потребовался, чтобы очнулось некогда запавшее.
И ему, Семену Гудзенко,— я почти не
сомневаюсь — явилось бы второе сознание,
новая ясность. Не отменявшая, но
углублявшая ту, прежнюю, что пришла «с
плечами, натертыми винтовочным ремнем». Но
это «потом» не было даровано Семену
Гудзенко. Он умер в пятьдесят третьем, в
феврале, ровно на одиннадцать лет пережив
другов, павших у Хлуднево.
1*8
Константин Симонов
В КОНЦЕ ВОЙНЫ
В эту публикацию вошли отрывки из
писем и отзывов на поэтические рукописи и
книги, написанных, по большей части, в
конце войны или в первые месяцы после
нее. Мне показалось, что эти отрывки
содержат в себе несколько штрихов того
времени,тех перемен и сдвигов, которые
происходили тогда в нашей поэзии. Конечно,
здесь всего лишь мой субъективный,
необязательный для других взгляд на эти
перемены, и я достаточно хорошо сознаю это.
Здесь есть также несколько штрихов,
связанных с разными людскими судьбами
моих соучеников по Литературному
институту, штрихов, в какой-то мере
характеризующих судьбу всего нашего
литературного поколения.
Некоторые из моих товарищей, о
которых принято было думать тогда как о
«молодых», с тех пор очень много сделали
в нашей поэзии, но я надеюсь, что они
не посетуют на меня за написанные более
четверти века тому назад строки, где их
поэзия воспринималась именно как
«молодая».
Несколько слов о людях, упомянутых
мною. Егор Гвоздев был в тридцатые годы
членом литкружка при Литконсультации
Гослитиздата, войну прослужил в
противотанковой артиллерии, сейчас — журналист.
Леонид Кацнельсон — поэт, выпускник
нашего Литинститута 1938 года. Был на войне
армейским журналистом, убит в 1944 году.
Борис Лебедев и Яков Кейхауз — поэты,
выпускники Литинститута 1938 года. Оба
умерли в конце войны. Ян Сашин — поэт-
сатирик, выпускник Литинститута 1938
года, в войну — военный корреспондент на
Черноморском флоте, умер после войны.
Александр Аникст — преподаватель
Литературного института — критик и
литературовед.
Остальные упомянутые в публикации
имена, несомненно, знакомы всем читателям
«Дня поэзии».
Из письма М. Луконину, 1943 г.
«...Получил твое письмо. Рад, что ты
жив и здоров и находишься в боевом, злом
настроении. Не знаю, может быть,
некоторые беды в жизни бывают и к лучшему:
то, что в «Сов. писателе» заканителили твою
книжку, может быть, будет и не так плохо.
Что до меня, то я в тебя верю больше, чем
в кого-нибудь из других моих товарищей,
и, пожалуй, именно поэтому меня не очень
волнует, по правде говоря, то, что сейчас
у тебя не вышла книжка. Хотя абсолютно
понимаю, как тебе этого хотелось бы, в
глубине души. Война не на век,— авось, через
год тебе удастся засесть за большую книгу
о ней. Сколько я ни смотрел на судьбу
людей, всегда, когда начинают книжечка
за книжечкой, сначала кажется легче, а
потом трудней, и наоборот, потом легче,
когда, как начал Багрицкий — с
Юго-Запада. Не прими это утешение за мое
ханжество. Я пишу это от души.
Независимо от книжки, очень тебя
прошу, пришли мне последнее, что написал.
Может быть, я с циклом пойду куда-нибудь
в журнал и напечатаем. Во всяком случае,
это будет не вредно. И потом просто хочется
знать, что ты пишешь...»
Из письма Е. Гвоздеву, 1943 г.
«Рад услышать о том, что ты жив,
здоров и существуешь на белом свете. Рад был
узнать и то, что ты в эту войну хорошо
поработал. Нужно тебе сказать, что хотя
наших студентов Литинститута когда-то
считали богемой и было хорошим тоном
в писательских кругах говорить о нас
пренебрежительно, однако при такой серьезной
проверке, как война, оказалось, что многие
из нас (даже, пожалуй, большинство)
хорошо работали,— кто мечом, кто пером. Это
хорошо и приятно, хотя, к сожалению,
институт после войны, и даже уже сейчас,
мог бы повесить очень длинную
мемориальную доску с именами тех, кого уже не
существует на свете.
Напиши мне, пожалуйста, подробно, как
живешь, что делаешь, какие будущие
возможности и намерения, есть ли надежда
попасть в Москву. Если есть, буду рад тебя
увидеть.
Стихи твои прочитал. Трудно вести
серьезный разговор при помощи почты, так что
этот разговор я бы лучше отложил до
нашего с тобой свидания. Но все-таки, как
никогда не кривил душой, так и не покрив-
169
лю сейчас: хотя есть в твоих стихах и
чувство жизни, и тепло, и чувствуется, что ты
много перевидал и перестрадал, но с точки
зрения чисто поэтической,
профессиональной, они все-таки недостаточно хороши,
чтобы, скажем, я сейчас мог с чистой
совестью двигать их в печать. Много
поэтически слабого, недосказанного, такого, что
нужно бесконечно править и править, и
еще раз править. Все это на расстоянии
сделать трудно и, собственно говоря, даже
нельзя. Надеюсь, ты не обидишься на меня
за эти горькие слова — хуже, если бы я
тебе солгал...»
Из письма Л. Кацнельсону, 1944 г.
«...О наших общих друзьях могу
сказать больше печального, чем хорошего.
Борис Лебедев в очень тяжелом состоянии,
почти при смерти. Помогаем ему, чем
можем, но, видимо, это безнадежно. Яше Кей-
хаузу тоже очень плохо — страшно на него
посмотреть... Недавно прислал мне письмо
Егор Гвоздев — наверное, ты помнишь
такого. Трижды орденоносец, гвардии
старший лейтенант. А стихи все те же, что и
в 33-м году...
Недавно приезжали морячки и
передавали привет от Яна Сашина. Он всю войну
на Черноморском флоте. Когда я был там,
видел его,— он был молодцом. С тех пор
уже давно его не видел.
Вот и все, кто приходит на память.
Аникст недавно прислал письмо; он
работает в дивизионной газете. Как-то он тут
был у меня, похудевший, сердитый, но
какой-то хорошей, веселой злостью.
Провоевал почти всю войну полковым
агитатором...
Целую тебя.
Крепко жму руку. Желаю счастья и
быть живым».
В издательство «Советский писатель»,
1944 г.
«Отзыв
Мне принес свою книгу стихов Сергей
Наровчатов — поэт-фронтовик, до войны
студент Литературного института. Мне
кажется, что эта книга несомненно
заслуживает внимания. Во-первых, в ней
присутствует талант, а это самое важное, и, во-
вторых, в книге чувствуется житейский
опыт, который дала автору война. Война в
этой книге суровое, трудное и большое
дело, т. е. такая, какая она есть в жизни.
Не все стихи в книге одинаково хороши.
Два-три из них я бы изъял, многие бы
считал нужным подвергнуть редакционной
правке, но целый ряд таких стихотворений,
как, например: «Вступление в книгу»,
«Дальнобойные письма», «Пропавшие без
вести», «Мой сверстник», «Что с любовью
сталось на свете?» — стихи безусловно
талантливые и сразу обращают на себя
внимание. Словом, над книгой нужно
поработать и она должна получиться.
Я, со своей стороны, в целом
рекомендовал бы ее к изданию. В случае решения
этого вопроса принципиально
положительно, я готов дать развернутую рецензию
о книге и помочь автору с точки зрения
редакторской».
В издательство «Советский писатель»,
1944 г. (?)
«О т з ы в
Михаил Луконин. «После боя», книга
стихов.
Недавно мне попала в руки эта книга
поэта-фронтовика Михаила Луконина, и
очень многое в ней мне показалось
интересным и, больше того, талантливым.
Не все стихи в ней равно хороши, на
некоторых лежит печать незрелости,
неумения вовремя поставить точку, неумение
почувствовать композицию стихотворения.
Но в то же время в них много души,
чувствуется острый глаз. В стихах бьется
настоящая мысль. Особенно это относится
к двум последним разделам книжки. Такие
стихи, как «Поле боя», или «Солдат», или
«В вагоне»,— по-моему, просто отличные
стихотворения.
Книжка в том виде, как я ее передаю
в издательство, уже предварительно, на мой
взгляд, очищена от всего лишнего. Я
оставляю в ней только те стихи, которые, мне
кажется, можно и стоит печатать.
Настоятельно рекомендую эту книжку
для издания; я со своей стороны, если она
будет утверждена в плане, согласен взяться
за редактирование».
О книге стихов Б. Пастернака «На
ранних поездах», 1944 г.
«После многолетнего перерыва Борис
Пастернак выпустил в свет новую книгу
стихов. Основное место в ней занимают
стихи, по времени написания относящиеся
к 1941 году. Блестящий и своеобразный
поэт, Пастернак всю свою творческую жизнь
был тверд в своих поэтических принципах
170
и прав перед своими критиками, которые,
критикуя его за трудность и сложность его
стихов, за их перегруженность
замысловатостью образов и предельную
неожиданность метафор, требовали от него подчас
коренной перемены всего его творческого
стиля, упрощения и изменения его образной
системы. Пастернак никогда не внимал
советам этих критиков, и перед ними он во
многом был прав. Но в то же время, не
слушая дидактической критики и в этом смысле
будучи прав перед ней, он был во многом
не прав перед читателем: он слишком долго
не шел навстречу читателю, не в том
смысле, чтобы изменить словесный,
метафорический строй своих стихов и писать так, как
пишут другие, а в том смысле, что он
слишком долго не хотел заниматься трудными
поисками внутри собственного стиля и
поэтического строя мышления — поисками,
которые привели бы его к тому, чтобы он
обрел самое трудное и самое драгоценное —
истинную простоту большого художника
внутри той сложности чувств и образов,
которой он владел, и вне ее.
Тревожные предвоенные месяцы 1941
года и, наконец, война, видимо, повлияли
на Пастернака так, как не повлияли на
него все предшествующие годы. Не оттого,
что его бранили в журналах или
критиковали на профессиональных литературных
совещаниях, но оттого, что своим чувством
гражданина он ощутил необходимость в эти
трудные дни договориться с читателем,
сказать ему то, что хотел, и сказать так,
чтобы тот понял поэта. Пастернак внутри
себя, внутри своего поэтического стиля
нашел, наконец, эту возможность. Пастернак
ни от чего не отказывался в этих стихах,
но в лучших из них, сохранив всю
неожиданность, всю смелость своих образов и
сравнений, он нашел чудесную, доходящую
до сердца простоту. И это особенно дорого,
потому что, поэт большой и упрямый в своих
исканиях и в своих заблуждениях,
Пастернак пришел к этим военным стихам
трудным и правильным путем. Он не подошел
к ним, как к задаче одного дня, как к
злободневным стихам, которые он всегда мог
(и умел), если бы захотел, написать ничем
не хуже всякого другого, а пришел к ним
как к задаче своей жизни и творчества.
Такие его стихи, как «Старый парк», или
«Старая сказка», или «Застава», мне
кажется, сейчас только по недоразумению
или по незнанию не читаются с эстрады
артистами фронтовых бригад. Это стихи
о войне, которые, можно не сомневаться,
впоследствии войдут в поэтические
хрестоматии военных лет.
Книгу стихов «На ранних поездах»
(«Советский писатель») прочтут с интересом и
жадностью не только старые почитатели
таланта Пастернака, но и, надо думать,
гораздо более широкий круг читателей».
Из письма А. Твардовскому, 1944 г.
«...Может быть, тебя удивит, что я тебе
пишу, ибо в переписке с тобой никогда
не были и особенно дружеской близостью
не отличались. Но тем не менее (а, может
быть, тем более) мне непременно захотелось
написать тебе несколько слов.
Сегодня я прочел в только что
вышедшем номере «Знамени» все вместе главы
второй части «Василия Теркина». Мне как-
то сейчас еще раз (хотя это думается мне
и о первой части) представилось с полной
ясностью, что это хорошо. Это то самое,
за что ни в стихах, ни в прозе никто еще
как следует, кроме тебя, не сумел и не
посмел ухватиться. Еще в прозе как-то
пытались, особенно в очерках, но в прозе это
гораздо проще (чувствую по себе), а в
стихах никто еще ничего не сделал. Я тоже
вчуже болел этой темой и сделал несколько
попыток, которые не увидали, к счастью,
света, но потом понял, что, видимо, то,
о чем ты пишешь — о душе солдата,— мне
написать не дано, это не для меня, я не
смогу и не сумею. А у тебя получилось
очень хорошо. Может, какие-то частности
потом уйдут, исчезнут, но самое главное,—
война, правдивая и в то же время не
ужасная, сердце простое и в то же время
великое, ум не витиеватый и в то же время
мудрый,— вот то, что для многих русских
людей самое важное, самое их заветное,—
всё это не втиснулось (это неверное слово),
а как-то протекло свободно и просто. И
разговор такой, какой должен быть,—
свободный и подразумевающийся. А о стиле даже
не думаешь: он тоже такой, какой должен
быть. Словом, я с радостью это прочел.
Пока что за войну, мне кажется, это
самое существенное, что я прочел о войне
(в стихах-то уже во всяком случае)...»
В редакцию журнала «Смена», январь
1945 г.
«Мне кажется, что следует напечатать
стихотворения Львова «У входа в Скалат»,
«Дорога на юг», «Сон». Можно напечатать
и стихотворение, начинающееся со слов
171
«Ревя на повороте, на подъеме», но в этом
стихотворении следует, по-моему,
обязательно выкинуть последнюю строфу,
начинающуюся со строк: «Привстав "С постели,
легкою пастелью». Эта строфа,
заканчивающая стихотворение,бесконечно литературна,
и ее никак нельзя печатать.
Что касается стихотворения «Степь»,
по-моему, его совсем не стоит печатать, это
безделушка...
Стихотворение, начинающееся: «Ты весь
захлестнут шумной жизнью», в общем
правильно и не лишено поэзии, но излишне
прямолинейно. Если полоса составится из
четырех стихотворений без него, то я
думаю, что его можно не печатать. Но если
без него не сладится, то можно и
напечатать — большой беды не будет.
Это в порядке внутриредакционных
замечаний.
Теперь — предисловие к стихам Львова.
Рекомендовать вниманию читателя стихи
молодого поэта всегда дело, с одной
стороны, казалось бы, легкое, а, с другой
стороны, в то же время ответственное и трудное.
Человек, который хорошо и даже очень
хорошо начинает, всегда может обмануть
читателя потом.
О том, что Михаил Львов способный и
даже очень способный человек, мне говорить
не хочется — об этом скажут его стихи
сами по себе; мне хочется сказать только
вот о чем.
Люди, видевшие войну, пишут о ней
по-разному: одни пишут о ней во всех ее
подробностях, стараются увидеть в ней те
сотни и тысячи живых черточек, которые
им кажутся неповторимыми, и когда мы
читаем их стихи, то быт войны встает перед
нашими глазами. И мы ни минуту не
сомневаемся в том, что люди, которые эти стихи
писали, были на войне.
Бывает и иначе. Бывает так, что
человек, побывавший на войне, в самой горячке,
и видевший много серьезного и страшного,
связанного с необходимостью жертвовать
жизнью и убивать людей, не посвящает
своих читателей ни в какие конкретные
подробности войны и ее быта, и когда читаешь
стихи такого человека, то порой, в первую
минуту, может быть и не ясно, был он на
фронте или не был.
То же самое происходит со стихами
Львова: читаешь их, и если не знаешь его
личной биографии, думаешь в первую минуту—
был или не был этот человек на фронте?
Написал ли он все то, что написал, там,
среди опасностей, или, может быть,
наоборот, в далеком тылу?
Только человек, который так же, как
и Львов, был на фронте,— а Львов был
на фронте и в самой трудной обстановке,—
поймет, что эти стихи, в которых нет
мелочных конкретностей, написаны
человеком, который знал и видел фронт. В них,
может быть, нет подробностей, но в них
есть ощущение жизни, которая может
оборваться в любую минуту и которая поэтому
особенно дорога человеку. И мне, в свою
очередь, особенно дороги эти стихи,
человека молодого, безусловно способного,
жадного к жизни и в то же время не
испытывающего излишней боязни расстаться с
ней».
Из письма Г. А. Ярцеву, директору
издательства «Советский писатель», январь
1945 г.
«...Я видел свою функцию в работе над
этим сборником не в том, чтобы по-иному
его отбирать, после того, как его отобрал
Антокольский, а только в том, чтобы по
возможности дополнить его кое-чем из того,
что мне в разное время присылали
фронтовые поэты.
Таким образом, мне кажется, что следует
добавить в этот сборник одно из новых
имен — фронтовую поэму «Валентина»
Якова Белинского. Кое-что я в ней сократил,
но хотел бы, чтобы по ней прошелся еще
Павел Григорьевич. А вообще она, по-
моему, приятная. И автор скоро четыре
года безотрывно на фронте. Меня она
обрадовала.
Я хотел бы добавить большой цикл
стихов Сергея Смирнова. У него стихи
своеобразные, в большинстве своем с хорошим
чувством юмора. Это внесет очень удачный
новый оттенок в книгу. Сам он, хотя по
здоровью имел все основания не быть на
войне, все же провел всю войну на фронте
и только сейчас вернулся в Москву. В
дальнейшем, через некоторое время, я хочу
предложить Вашему вниманию книжку его
стихов.
Предлагаю также в сборник четыре
стихотворения фронтовика — бойца Анатолия
Абрамова. В них не все еще складно, но
они меня тронули очень уж большой
душевностью и искренностью. Может быть,
кое-что можно и почистить, но напечатать,
по-моему, обязательно надо.
Предлагаю два стихотворения старшины
172
Ильиных, тоже присланные с фронта. По-
моему, оба стихотворения вполне можно
напечатать.
Краснофлотец Дмитрий Ковалев
прислал целую книжку. Из нее я отобрал
несколько стихотворений. В них есть и душа,
есть и новый северный пейзаж, который
тоже будет звучать в книге.
Кроме того, даю ряд стихов, ранее не
включенных в сборник из тех, что были
у меня,— Михаила Луконина и Алексея
Недогонова. По-моему, в большинстве своем
эти стихи совсем хорошие, значительно
лучше того, что сейчас включено в сборник.
Мне думается, что их следует добавить,
не стесняясь тем, что у одного будет много
стихов в сборнике, а у кого-то другого —
гораздо меньше.
Посылаю также на суждение Павла
Григорьевича два стихотворения Гудзенко.
Может быть, следует их добавить. И три
стихотворения Наровчатова, тоже, может быть,
следует добавить.
И последнее: из новых еще предлагаю
Вашему вниманию баллады Николая Сива-
жова, тоже присланные с фронта. Они
переправлены мне от Эренбурга, поэтому я об
авторе ничего не знаю, кроме того, что
он — фронтовик. В балладах кое-что
нескладно, но они весьма интересны и
обнаруживают способности автора, хорошую
смелость мысли и остроту чувств.
К этому сводятся мои добавления к
сборнику.
А теперь у меня следующие
принципиальные соображения:
«Сборник молодых поэтов» — называть
его никак не следует, в таком виде сборник
и смысла не имеет.
Я бы назвал его «Стихи с фронта».
И, действительно, напечатал бы в нем только
стихи фронтовиков. В таком виде он имел
бы смысл.
Я не знаю биографий всех тех людей,
которые включены в сборник Павлом
Григорьевичем, но мне кажется, что к
фронтовикам здесь принадлежат не все — что, если
мы их стихи из этого именно
сборника удалим? Объясним авторам принцип
сборника и, таким образом, соблюдем
строгость того принципа, который единственно,
кажется мне, и оправдывает и объясняет
этот сборник.
В этом случае, назвав сборник «Стихи
с фронта», я бы считал нужным сделать
следующее: непременно в конце, сейчас,
сдавая сборник в набор, оставил странички
четыре для кратких биографических
справок, для того, чтобы было видно лицо
людей, чьи стихи составили сборник.
В этих справках — несколько самых
простых вещей: год рождения, воинское
звание, время пребывания на фронте,
награды. Мне кажется, это будет чрезвычайно
правильно и интересно.
Но нужно решить этот вопрос в течение
ближайших двух дней. Тогда я дам адреса
тех, чьих адресов у Вас нет, и надо их
немедленно запросить.
Вот, собственно говоря, и все. Мне
остается только еще раз просить прощения
за задержку. Но мне хотелось найти новые
имена, а для этого пришлось разобрать
чудовищное количество накопившихся у меня
стихотворений. Было прочитано за это
время, по крайней мере, около 15 тысяч строк,
а выудил я каких-нибудь 800—900, может
быть, тысячу.
Еще одно соображение. Я увидел, что
в сборник не попали стихи Баукова. Я не
могу сказать, чтобы его стихи мне нивесть
как нравились, но думается, что можно
было бы отобрать два-три стихотворения.
Человек всю войну на фронте и хорошо
работает, и стихи можно отобрать вполне
приличные...»
В редакцию журнала «Знамя», сентябрь
1945 г.
«Селъвинский. «Суд в Краснодаре».
Стихотворение сильное и хорошее, только,
конечно, не может быть и речи о том, чтобы
оставить в нем сцену повешения. Не в
традициях русской литературы описывать это
и не в традициях русской журналистики
печатать. Сельвинскому, как это часто с ним
бывает, изменило и на этот раз чувство
меры. Считаю, что надо попросить его
выкинуть все, что находится между строчкой:
«Предсмертной дрожью грянул барабан» и
строчкой: «Вам жалко их? — спросил меня
Толстой». Выбрасывается это абсолютно
безболезненно, а стихотворение даже чисто
эстетически становится лучше по крайней
мере в двадцать пять раз.
Соболь. Стихи. Соболь, безусловно,
очень способный человек, хотя и с сильным
налетом в стихах поэтического
мальчишества. При всем том стихи читать
интересно. Есть в них огонек и душа. Я бы
сделал цикл его стихов. Считаю, что
нужно отобрать «Высота 319-25», «В Поль-
ше», «Москва-концерт», «Петух на кирхе».
Над этими стихами я мог бы немного
посидеть, как только чуть-чуть
освобожусь...
Ярослав Смеляков. Стихи. Очень
отрадно, что Смеляков опять пишет и пишет
хорошие стихи. В частности, из четырех
стихотворений, представленных им,
по-моему, два просто отличных, это «Портрет» и
«Отступление» (кстати, не известно, почему
оно так названо, надо заглавие
переменить). Стихотворение о матери тоже
хорошее. Очень неплохое стихотворение
«Песни». Я совершенно согласен и убежден
в том, что нам нужно пробить стену и
начать печатать Смелякова. Мое субъективное
мнение, вообще-то говоря, что среди поэтов
моего поколения — это человек, который
потенциально обещает больше всех. Я очень
верю в его безусловно большой талант.
Готов пойти куда угодно и сделать все, что
нужно, для того, чтобы можно было
печатать...»
Зиновий Лаперный
НЕОБМАННОЕ СЛОВО
(Об Александре Яшине)
Последняя книжка стихов Яшина,
тщательно собранная и отредактированная им
самим, но уже не увиденная им,— «День
творенья» (1968).
Ощущение необычности у читателя
начинается с первой страницы. Мы привыкли,
что на открытие сборника автор ставит
программное, чаще самое мажорное, духо-
подъемное стихотворение. А здесь книга
открывается... «Отходной». Ее поет сам себе
автор, сурово корит себя за все, чего не
свершил.
Несжатым клином жизнь лежит у ног.
Мне никогда земля не будет пухом:
Ничьей любви до срока не сберег
И на страданье отзывался глухо.
Не всегда авторская самокритика —
проявление скромности. Иной поэт просто
гвоздит себя — и так и этак, и стыдит,
и вроде очень крепко на себя осерчал, но
все это для виду, несерьезно, одно
кокетство. Главное — его хлебом не корми, а
дай повозиться с самим собой: поругаться,
посетовать ли на трудную свою натуру,
похвалить — неважно. Суть в том, что
пишется все без отрыва от себя, не отводя
глаз от поэтического зеркала, в котором
только и видно, что собственное авторское
отражение.
Ничего этого нет в «Отходной».
Слышится в ней что-то отдаленно-есенинское —
не в интонации, а в общем тоне:
неподдельной суровости к себе, в обаянии
скромности, если так можно выразиться, в
неочарованности самим собой.
Не завершил ни одного пути.
Как незаметно наступила осень!
Летит листва,
Куда уж там летит —
Ее по свету шалый ветер носит.
Отдаваясь невеселым мыслям, поэт не
свое лицо только видит, но и лицо природы,
почти бессознательно связывает ход своей
жизни с ее круговоротом.
О как мне будет трудно умирать...
Поэтическое вступление к книжке
оказалось предисловием к собственному уходу
из жизни, горестное и частное «совещание»
с самим собой читается сегодня как
завещание поэта, его последний наказ судить
себя строго и нелицеприятно.
Однако после «Отходной» с ее последней
строкой, которая вырывается, как
глубокий вздох: «И никаких нельзя извлечь
уроков...», совершенно иное стихотворение,
давшее название итоговой книге,— «День
творенья».
Заглавие звучит торжественно, почти
с библейской возвышенностью, предвещает
рассказ о значительном, о сотворении мира.
А говорится в стихотворении всего-навсего
об одном цыпленке: восемь цыплят
вылупилось, а одно яйцо не дозрело, наседка
про него забыла. И герой сам принимается
спасать «недосиженного» птенчика*
174
...Я положил его в Стряпку,
Затем в мохнатую шапку,
А в шапке
На теплую печку.
И вот мой младенец ожил
В шапке, как в люльке, в зыбке.
Ожил! —
Спасибо, боже! —
Забился, закопошился,
Зацевкал
И опушился.
Голос его был звонок.
Это уже был цыпленок.
Ах ты мой соколенок!
Орленок ты мой!
Миленок!
Родимый ты мой, роженый,
Я — крестный твой нареченный.
Потом пора настала,
И клушка его признала.
А я отошел в сторонку,
Счастливый до умиления,
До слез,
До вдохновения,
Как бог в первый день творения.
Я жизнь сохранил цыпленку,
Пусть хоть одну,
Но — жизнь!
Без преувеличения.
Казалось бы, «Отходная» и «День
творенья» совершенно полярны друг другу.
«О как мне будет трудно умирать» и —
«Как бог в первый день творения»...
Но чем внимательнее мы вчитываемся,
тем больше открывается связь между этими
стихотворениями. Первое, что их сближает,
если так можно сказать, отданность поэта
своему чувству. Оно действительно им
владеет. Не сдержанность, а «одержимость»,
уж если недовольство собой — так полное,
никакие оправдания в расчет не
принимаются. А радость по такому маленькому
«цыплячьему» поводу разрастается,
распирает грудь, доводит «до умиления, до слез,
до вдохновения» — до того доводит, что
поэт, ожививший одного птенчика,
чувствует себя чуть ли не творцом-жизнедателем.
И так естественно нарастает чувство, что,
казалось бы, затертые, чуть ли не
скомпрометированные в поэзии слова «умиление»,
«вдохновение» не расхолаживают, вроде
как бы оправданы: герой действительно
растроган, а не старается специально нас
растрогать.
Однако общее в этих двух
стихотворениях не только в том, что автор и там и
здесь предстает как натура эмоциональная,
увлекающаяся, отдающаяся бурному
наплыву чувств — то горестных, то
радостных; и натура, склонная к преувеличениям:
то он готов был перечеркнуть всю свою
жизнь, то ощутил вдруг себя «богом в
первый день творения».
За что он строже всего судил себя в
«Отходной»? За то, что «на страданья
отзывался глухо». Чему радуется в «Дне
творенья»? Не самому себе и не просто жизни,
а доброму делу. Радуется, что жизнь
сохранил — пусть хоть одну, пусть хоть
цыпленку, но — жизнь.
Можно сказать, что и там и здесь мысль
поэта, его горе и радость восходят к одному
источнику. Не самим собою он жив,
доволен или нет, но прежде всего своим
отношением к другим судьбам и жизням.
Природа для него живая — не просто
названа, а именно увидена живой:
Роща как стадо оленей,
Сгрудившихся в мороз.
И, что особенно важно, стихи о природе
имеют для поэта самое непосредственное
отношение к размышлениям о человеке.
Вот один из самых характерно яшинских
заголовков: «О погожих днях и хороших
людях». Это — в одном ряду. Возникает
образ человека, живущего не одной своей
личностью, но большим и живым «миром»;
образ человека, условно говоря, общинного,
общественного, лирически открытого,
никак не замкнутого рамками своего «я».
И все это — не в спокойном
саморастворении на лоне природы, не в
гарантированном душевном покое, а чаще всего — в
резких переменах настроения, состояния духа,
неожиданных находках, открытиях,
похожих на разрывы в тучах.
Нет романтической дымки, туманности,
приблизительности: взгляд поэта соединяет
в себе почти детскую открытость, доброту
с охотничьей пристальностью, зоркой
приметливостью.
Яшинская любовь к людям, к друзьям—
в городах и в лесах — лишена искусственной
завышенности. У него запросто
соседствуют «эти дали снежные и первач мороз»;
зимней ночью поэт ждет, чтобы не просто
пропел или прокукарекал, но чтобы
«рубанул петух». А соловей у него не щелкает,
не пускает трели: «...ему, соловью, плевать:
знай себе работает — поет».
Подлинная поэзия никогда не
жеманилась, не чистоплюйствовала и не белоруч-
ничала.
У каждого лирика — свое
представление о музе, о Пегасе. Светлов гордился тем,
что накормил небесного коня поэзии
«земным овсом», Яшин идет, пожалуй, еще
дальше. В стихотворении «Рогатый Пегас»
он рисует себя, поэта, простым дояром:
За словом слово
В строфу сую.
И впрямь корову
Сижу дою.
Беру в кулаки
Тугие соски,
Четыре струи —
Четыре строки.
Это поэтически рискованные и
лые строки.
Корова,
рога
До земли клоня,
Как на врага
Глядит на меня.
Вот-вот в бедро
Шибанет ногой,
Свернет ведро,
Разольет надой.
еме-
Озорная, веселая, юмористическая
картинка... Но поэт редко кончает на такой ноте.
Косится,
Бычится
Рогатый Пегас.
У бедной сочится
Тоска из глаз.
И здесь мы уже до конца узнаем
неповторимый голос Александра Яшина — с его
щемящим чувством близости к природе,
беспокойством, постоянной
неудовлетворенностью самим собой, с его резкими
переходами от печали к радости, от веселья к
горечи. Узнаем поэта по отсутствию плавно
закругляющихся концовок и заданных
решений. По той достоверности чувства,
которая так нужна сегодня нашей поэзии,
ищущей слов живых, точных и
необманных.
Владимир Цыбин
земля и жизнь
Стихи Дмитрия Блынского, Николая
Анциферова и Николая Рубцова во многом
роднит яркая, неотступная жажда жизни.
Все они шли от жизни. От отзывного
материнского слова. От суровой биографии
своей земли.
Даже названия первых их книг
перекликаются друг с другом. «Иду с полей»
называлась первая книга стихов Дмитрия
Блынского. «Звезда полей» — Николая
Рубцова, хотя книга Рубцова вышла почти
на десять лет позже книги Дмитрия
Блынского.
Дмитрий Блынский пришел в поэзию
с родной Орловщины. Он знал, с чем он
пришел. Он гордился своей родословной.
Тем, что стихи его написаны не в стенах
городской квартиры, а на просторах
орловских полей:
Что принес я с собой9 На ладонях мозоли,
Запах лопнувших почек с весенних берез
Да тетрадку стихов, где-то сложенных в поле,
Где-то сложенных в поле, в жару и мороз.
Эти строки как-то неожиданно и
радостно напомнили нам о молодом Есенине,
о первых его стихах. О той «печали полей»,
певцом которой, по выражению Горького,
был Сергей Есенин.
Я, как пахарь, их видел под лемехом плуга,
Как пастух, я встречал их в глазах у телят,
Даже вьюга, бездушная колкая вьюга,
Мне стихами орет так, что уши болят.
Так бесхитростно-горделиво чувствовал
Дмитрий Блынский кровную связь своей
поэзии с той землей, которая родила его
и певцом которой так страстно он
стремился быть.
В Москве один за другим, начиная
с 1958 года, появляются его сборники.
Всего их вышло пять. Больше он написать
не успел. Нелепая и неожиданная смерть
оторвала его от жизни в октябре 1965 года.
Вот почему с неожиданной горечью
читаешь его последние стихи, исполненные
жажды жизни, большого патриотического
чувства.
Я иду по солнечной долине,
И, влюбленный в эти травы, я
Сладость мяты с горечью полыни
Жадно пью, как солнце — из ручья.,
176
Таким нам он и запомнился — высоким,
русоволосым певцом земли, любящим жизнь.
Бескрайнее русское поле. Бескрайнее, как
бессмертие.
Николай Анциферов тоже любил свою
землю. Но иначе. По-шахтерски. С
хитрецой. С добродушинкой:
Я работаю, как вельможа,
Я работаю только лежа,—
скажет он о работе шахтера в одном из
лучших своих стихотворений. И читатель
полюбит эту добрую иронию.
В коридорах Литературного института
их нередко можно было увидеть вместе,
рослого и уверенного Дмитрия Блынского
и приземистого, с веселыми искринками
в лукавых глазах Николая Анциферова...
Николай Анциферов любил свой
шахтерский край — Донбасс. Любил прочно и
немногословно, как это и полагается
потомственному рабочему человеку. И
гордость у него и в жизни, и в стихах была
по-шахтерски уверенная, знающая сама
себе цену.
При жизни Николая Анциферова вышло
всего три книги стихов. Он был весь в
становлении. В поиске. И хотя писал много,
печатал свои стихи редко. Вот почему уже
после смерти Николая Анциферова
появился ряд интересных публикаций его
стихотворений.
Землячка-шахта, извини,
Хоть ты и княжеского роду,
Но относиться в наши дни
Помягче следует к народу,—
читаем мы и узнаем в стихах все ту же
усмешливую, озорную анциферовскую
фразу. Его улыбку. Узнаем в стихах его
радостную и прозорливую душу.
Со своей темой, со своим как бы
замедленным видением мира пришел с Вологод-
щины в поэзию Николай Рубцов. Кажется,
только вчера появилась его первая в Москве
книга «Звезда полей», о которой много и
восторженно говорилось в нашей критике.
Очевидно, и недавно вышедшая его книга
стихов «Сосен шум» вызовет не меньший
читательский и литературный интерес.
Стихи Николая Рубцова пронизаны
трепетной поэзией сегодняшней деревни, с ее
соломенными крышами, увенчанными
перекрестьями антенн, с ее большими, с
тележное колесо, лопухами, растущими возле
колеи, оставленной трактором, с ее
дорогами по непросохшему полю.
Это стихи — поэта земли. Поэзия
родников и берез. Он не преувеличивал ни
в чем: ни в своей любви, ни в своей
нежности к поэзии. Ни в своей
непритязательной гордости за слово, дарованное родной
землей. Стих его привлекает какой-то
удивленной, полувопросительной улыбкой. С
такой улыбкой мать Сергея Есенина у гроба
своего сына смотрела суету незнакомых ей
людей...
Но в стихах своих он не удивляется —
ведь писал он только о том, что хорошо
знал и так понимал, что ничем, кроме как
любовью, не мог выразить этого своего
понимания...
Он не торопился обо всем, о чем ему
хотелось, написать. Он знал, что к своему
таланту нельзя относиться хищнически —
побыстрей выработать его залежи. Он берег
слово для какой-то главной своей книги.
Для главной любви. И он бы ее написал,
потому что подвижнически любил русскую
поэзию. Любил и сердцем своим, и своими
стихами. Потому что относился ко всему
прекрасному в мире и, прежде всего, к
своей земле со святостью. Не зря в последних
стихах его, которые печатаются на
страницах этого «Дня поэзии»,
Неподвижно стояли деревья,
И ромашки белели во мгле,
И казалась мне эта деревня
Чем-то самым святым на земле.
Три судьбы — три безвременно
оборванных песни. Три сердца, которые бились
для Родины, для людей, для поэзии.
177
Дмитрий Блынс-кий
(1932-1965)
Май уходит тихо, и куда ты
Взгляд свой перед вечером ни кинь:
У ручья стоят полынь да мята,
А за ними — мята да полынь.
Май в зеленых травах, как в сорочке,
Он плывет, подобно кораблю.
Я их не люблю поодиночке,
Я, как в жизни, вместе их люблю.
Я иду по солнечной долине,
И, влюбленный в эти травы, я
Сладость мяты с горечью полыни
Жадно пью, как солнце — из ручья.
Потому и в песне долю нашу
Не перечерню и не прикрашу.
При полном штиле, при шуме волны
На всем протяженье морской гряды
Тюленями греются валуны,
Спины высунув из воды.
Пережили столько людей и стран,
Что стала вдвое старше земля.
Им кланяется даже подъемный кран,
Нагибаясь на палубы корабля.
За тысячелетья — тысячи гроз,
Тысячи штормов, рождавших гул,
Но каждый валун только в землю врос
И голову молча в плечи втянул.
И в светлую пору и в дни невзгод
Они равнодушно глядят мне вслед.
И я не сменяю один мой год
На тысячи их безъязыких лет.
Николай Анциферов
(1930-1964)
МОЙ ПРАЗДНИК
Наивный все-таки народ:
На протяженье тысяч лет
Как зря встречает Новый год:
Шлифует танцами паркет
Да за бокалом пьет бокал.
А на дворе — зима, мороз.
Идешь — гляди, чтоб не упал,
Да береги от стужи нос.
А дома плюхнешься в кровать
Натанцевавшийся и злой.
Нет. Лучше Новый год встречать,
Как я с друзьями,— под землей.
Пусть не горит огнями ель
И нету санного пути.
Из пыли угольной метель
Пусть не напомнит конфетти.
Зато нет ревности жены,
Зато жарища — пот что град,
До пояса обнажены.
Ну чем тебе не маскарад?
Спокойно уголек рубай,
За рештаки бросай породу,
Да закрепляй сосною «пай»,
Да попивай из фляги воду.
Сидишь, от счастья разомлев,
И никаких тебе невзгод...
Сказать по правде — на земле
Встречать наивно Новый год.
ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
(Шутка)
Землячка-шахта, извини,
Хоть ты и княжеского роду,
Но относиться в наши дни
Помягче следует .к народу.
Ты кем была до Октября?
Княжна княжной, скрывать не буду:
Ломала, мягко говоря,
Судьбу трудящемуся люду.
Решили перевоспитать
Путем машин и прочей стали.
Прошел не год, не два, не пять.
И что же — перевоспитали!
Ты принимала у ворот
Корреспондентов то и дело.
Старел и горбился народ,
А ты росла и молодела.
Ты отличалась от цариц
Тем, что не ездила в карете.
Когда тебя угробил «Фриц»,
Мы воскресили в сорок третьем.
Ты стала вновь сильна, горда.
Тебя, кормилицу, мы ценим.
Так почему же иногда
Ты награждаешь бюллетенем?
Старушка шахта,
В наши дни
Ты молодеешь год от году.
Тебе не стыдно, извини,
Быть невнимательной к народу?
179
Николай Рубцов
(1936-1971)
ФЕРАПОНТОВО
В потемневших лучах горизонта
Я смотрел на окрестности те,
Где узрела душа Ферапонта
Что-то божье в земной красоте.
И однажды возникло из грезы,
Из молящейся этой души,
Как трава, как вода, как березы,
Диво дивное в русской глуши!
И небесно-земной Дионисий,
Из соседних явившись земель,
Это дивное диво возвысил
До черты, небывалой досель...
Неподвижно стояли деревья,
И ромашки белели во мгле,
И казалась мне эта деревня
Чем-то самым святым на земле...
В ДОРОГЕ
Зябко в поле непросохшем,
Не с того ли детский плач
Все настойчивей и горше?
Запоздалый и продрогший
Пролетел над нами грач.
Ты, да я, да эта крошка —
Мы одни на весь простор!
А в деревне у окошка
Ждет некормленная кошка
И про наш не знает спор.
Твой каприз отвергнув тонко,
Вижу: гнев тебя берет!
Наконец, как бы котенка,
Своего схватив ребенка,
Ты уносишься вперед.
Ты уносишься... Куда же?
Рай там, что ли? Погляди!
В мокрых вихрях столько блажи,
Столько холода в пейзаже
С темным домом впереди.
Вместе мы накормим кошку!
Вместе мы затопим печь!..
Молча глядя на дорожку,
Ты решаешь понемножку,
Что игра... не стоит свеч!
180
* * *
Уже деревня вся в тени.
В тени сады ее и крыши.
Но ты взгляни чуть-чуть повыше
Как ярко там горят огни!
Одна у нас в деревне мглистой
Соседка древняя жива,
И на лице ее землистом
Растет какая-то трава...
И все ж прекрасен образ мира,
Когда в ночи равнинных мест
Вдруг вспыхнут все огни эфира,
И льется в душу свет с небес,
Когда деревня вся в тени,
И бабка спит, и над прудами
Шевелит ветер лопухами,
И мы с тобой совсем одни!..
В БОЛЬНИЦЕ
Под ветвями плакучих деревьев
В чистых окнах больничных палат
Выткан весь из малиновых перьев
Для кого-то последний закат...
Вроде крепок, как свеженький овощ,
Человек, и легка его жизнь...
Вдруг проносится «скорая помощь»,
И сирена кричит: «Расступись!»
Вот и я на больничном покое.
И такие мне речи поют,
Что грешно за участье такое
Не влюбиться в больничный уют.
В светлый вечер под музыку Грига
В тихой роще больничных берез
Я бы умер, наверно, без крика,
Но не смог бы, наверно, без слез.
Нет, не все — говорю — пролетело!
Посильней мы и этой беды!
Значит, самое милое дело —
Это выпить немного воды,
Посвистеть на манер канарейки
И подумать о жизни всерьез
На какой-нибудь старой скамейке
Под ветвями больничных берез...
181
Леон Тоом
(1921-1969)
Он никогда не называл себя поэтом, но всегда оставался им —
в работе, в жизни. Поэзии исполнены его лучшие переводы, особенно
переводы с эстонского. Поэзией отмечены его подчас не легкие, не
простые, но всегда благородные отношения с людьми. Поэзией
продиктована его требовательность к литературе, которую он так
прекрасно знал, к жизни, которую он так заразительно любил.
Т. Жирмунская
Я знаю все и многого не жду.
Но я вчера с тобою был так счастлив,
что предпочту скорее ждать беду,
чем разбираться в ворохе напраслин.
Осенний дождь. Бетховена концерт.
Полу холодный, по л у теплый вечер.
Печать доверья на твоем лице
оправдывает всех красивых женщин.
Пускай хоть так, пускай хоть иногда,
не ежечасно и не вечер каждый.
Пускай доступна изредка вода,
хотя всегда одолевает жажда.
*
Я помню — было, было, было,
взаправду — не во сне,
что счастье прямо в руки плыло,
не от меня — ко мне.
Но не дошло, проплыло мимо,
уплыло наобум...
Спеши на помощь, дисциплина,
верни мне ясный ум.
Но дисциплина в этом деле
бессильнее всего.
Ей не часы нужны — недели,
чтоб вникнуть в существо.
Она врачует постепенно
покоем, сменой мест,
трудом...
А тут нужна мгновенность,
тут нужен Красный Крест.
Не так ведь и страшна преграда,
и я бы мог еще
опять воскреснуть, только надо
обнять твое плечо.
*
От любви неразделенной
он не умер, нет.
В комнатушке захламленной
он лежит, одет.
Рыжий и жестковолосый,
сумрачный с лица...
Но откуда эти слезы,
слезы без конца?
Столько влаги, столько соли
льет как из ведра...
И при этом нету боли,
нету ни черта.
Нету мрака, но и свету
нету — вышел весь...
Нету, нету, нету, нету —
вот и все, что есть.
182
Владимир Огнев
ОВАДИЙ САВИЧ
Овадия Герцовича Савича мы цривыкли называть переводчиком
с испанского. Мы помним его книгу «Два года в Испании. 1937—
1939», любим его Мистраль, его Неруду, его Гильена...
А многие ли знают, что этот культурный, скромный,
обаятельный человек, сама седина которого светцлась какой-то особенной
чистотой, был автором романа «Воображаемый собеседник» (издан
в 1927 г.), произведения, беру смелость утверждать это,
значительного для советской прозы вообще, что О. Савич писал стихи
еще в 1914 году, что в 1939 году театр имени Ленинского
комсомола собирался открыть сезон его пьесой «Испанцы», что война
вытеснила со страниц «Знамени» его повесть «Птица Феникс»?..
Многое забывается.
О. Савич был на редкость требовательным писателем. Стихи,
часть из которых мы сегодня публикуем, он писал «для себя», не
собираясь печатать. Они проникнуты грустью, а некоторые и
скорбью. Но надо знать, что поэт был тяжело болен, и, хотя его глаза
лучились добрым светом для нас, знавших его, хотя он никогда не
жаловался, предпочитая много работать, читать, думать, в беседах
собственной души с самой собою, в этих строках из дневника,
выразилось многое, порою,— как в отличном, на мой взгляд,
стихотворении «Я — старая птица», например,— с пронзительной
силой.
В архиве О. Савича остались проза, поэзия, статьи об
искусстве, воспоминания о писателях. Пока не вышла книга О. Савича,
мы знакомим читателя с несколькими его стихотворениями.
Первое — «Я — старая птица» — посвящено Илье Григорьевичу Эрен-
бургу, с которым О. Савича связывала дружба с юности до смерти.
Овадий Савич
(1896-1967)
* * *
И. Г.
Я — старая птица и больше уже не пою,
Из красной листвы все смотрю я на стаю свою.
И в воздухе шелест и трепет лесов и морей,
Там учится стая подальше летать, побыстрей.
Кричат первогодки, для них упражненья страшны,
Не знают, как долго лететь им до южной страны.
Не вам свои силы беречь! Это мне их беречь,
Чтоб вас хоть на час от опасности злой устеречь.
183
Когда полетим, в треугольнике угол займу,
Один на себя встречный ветер в полете приму.
Вперед, задыхаясь, и первым я встречу беду,
И сердца не хватит, и камнем я вниз упаду.
Чтоб пели вы громко на южной веселой земле
О белых ночах, о туманах, о солнце во мгле.
Пусть живут, как хотят. Помогите нам, память и совесть,
Чтоб при жизни не стать земноводным холодной крови,
Чтоб страстям ослепляющим опытом не прекословить,
Чтоб вовек не узнать стариковской пустой нелюбви.
Но когда мы увидим, что стали мы новых моложе,
Чей бессовестный день над беспамятным вечером встал,
Подарите нам, память и совесть, до смертного ложа
Стариковскую косность, упрямства холодный закал.
$ * *
Нет, не красив он, образ муки,
Иль я сужу не по-людски.
Все вспоминаю, как у суки
Родились мертвые щенки.
С упрямой нежностью лизала
Комочки мягкие всю ночь
И говорящими глазами
Людей молила ей помочь,
К сосцам толкала, грела, грела,
Старалась мертвых оживить,
Отдать им жизнь свою хотела,
Вот так — вдохнуть и перелить..
О книги, замыслы и строки
Мертворожденные мои!
О бред уныло-одинокий
Ненужной муки и любви!
МУЗА
Приходит виноватая, седая,
Одетая в дырявую парчу.
«Не хочешь сказок — в книгах погадаю,
А не о чем, хоть под нос пошепчу».
А накричишь: «Уйди, пришла без спросу!»—
Сожмется вся и снова за свое.
А запоет — не смерть ли точит косу?
Но тот, кто слышал в юности ее...
184
Александр Михайлов
О СТИХАХ СЕРГЕЯ ДРОФЕНКО
А все, что унесу с собой
под твой, кладбищенская птица,
зеленый куст, звалось судьбой
и никогда не повторится.
Омытый свежей влагой рос,
я больше не вернусь в жилище,
в котором мой ребенок рос...
Я прочел эти строки Сергея Дрофенко
в двенадцатой книжке «Юности» за 1970 год,
когда поэта уже не было в живых, когда
зеленый, чуть тронутый сентябрьской
желтизною могильный холмик запорошило
снегом. Прочел и — уже не в первый раз! —
подумал о внутренне драматическом даре
предощущения своей кончины, которым
наделены многие поэты.
Нелепа смерть, постигшая молодого еще
человека, всеобщего любимца, удивительно
скромного и интеллигентного человека,
такого незаметного в обычно громкоголосой
и пестрой компании сверстников-поэтов, но
в то же время оказывавшего своим
присутствием какое-то необъяснимое влияние на
всех, не позволявшее вести себя слишком
вольно или развязно.
О стихах он тоже говорил почти
застенчиво, смущаясь, словно не доверяя себе,
не считая себя правомочным судить о столь
высоких материях.
Как и всякого городского человека,
Сергея Дрофенко влекло на природу, это
так непосредственно сказалось в его
последних стихах. А где-то в глубине души уже
гнездилось тревожное предчувствие, оно
влекло его и на могилу недавно умершего
русского поэта:
Услышу, как победоносно
при свете резком и прямом
шумят кладбищенские сосны
и свищут птицы за холмом.
У него возникает острое желание
увидеть поэта живым, воскресить в памяти
беседы с ним, сохранить в душе ощущение от
первого чтения строк, изданных посмертно.
Жизнь человека имеет свой предел, таков
закон природы, и нет ничего
противоестественного в том, что поэт, в зрелые свои годы
или даже в молодости, задумывается об
этом. Сущность человека, его характер,
мировоззрение раскрываются в
размышлениях о смысле жизни перед вечной
загадкой небытия, о ее содержании, о ее
наполнении.
Я хочу напомнить читателям письмо
Александра Яшина, полученное
редколлегией «Дня поэзии 1968» из больницы,
откуда он уже не вышел. Мы читали его как
заповедь, хотя все еще не переставали
надеяться на благополучный исход болезни.
«Трудно представить себе что-либо более
печальное,— писал в нем Александр
Яковлевич,— чем подведение жизненных итогов
человеком, который вдруг сознает, что он
не сделал и сотой, и тысячной доли из того,
что ему было положено сделать. Думать
об этом необходимо с первых шагов
литературной жизни. К сожалению, понимание
этого к большинству из нашего брата
приходит слишком поздно...»
Дрофенко-редактор ведал отделом
поэзии в «Юности» и много сделал для
творческого роста и помощи молодым
стихотворцам. Дрофенко-поэт действительно не был
на виду, но и в стихах он не тащился в
кильватере именитых сверстников, у него
складывалась и сложилась своя неброская и в то
же время отчетливо индивидуальная манера
доверительного лирического монолога,
будто он тихо и задумчиво, прерывая свою речь
небольшими паузами, беседует с близким
другом, а иногда и наедине с собой, даже
чаще наедине с собой, но не тая своих дум
от людей.
Есть категория поэтов-лириков,
которые, увлекаясь познанием мира, словно бы
забывают о себе, забывают надолго. Таким
был Николай Заболоцкий. Таков Леонид
Мартынов. То же нередко случалось и с
Сергеем Дрофенко. Он слушал природу
и настолько вживался в нее, что терял
ощущение собственного бытия.
Не слышу, как проходят годы,
и свой не удлиняю век,
а слышу, как тоскуют воды
стесненных заморозком рек.
В осенний день, когда распадом
начальным тронута трава,
мне облака приносят на дом
ее прощальные слова.
Такое близкое, живое ощущение
природы воодушевляет поэта, дает ему
смелость для того, чтобы заглянуть в веч-
185
ноеть. От детали пейзажа, от подробности
он — не без поэтической дерзости! — идет
к символам, к сложным лирико-философ-
ским построениям.
Капель падет на подоконник,
по ржавой жести полоснет.
Забрешут псы. Проскачет конник.
Звезда печальная блеснет.
Дорога озарится светом.
Вздохнет земли набухший пласт.
И вечность станет спорить с веком.
И тяжба ничего не даст.
Но всадник тороплив и молод,
и ночь апрельская бела,
и обречен был зимний холод,
когда еще метель мела.
А тут уже, как видите, на самой
обычной основе, на самой земной плоскости
распускаются цветы романтики. Это ново,
необычно для Сергея Дрофенко. И необычна
его романтика, в ней соединилось
несоединимое — тревога и уверенность, холодок
ожидания и предвидение грядущего
половодья.
Впрочем, романтическая метафорика все-
таки не характерна для поэта. Если уж он
отвлекается от сокровенных раздумий о
бытии природы, если настраивается на
житейский лад, погружается в естественное
течение жизни «наравне с работящим
народом», то с еще большим волнением, еще
более пронзительно ждет встречи с самой
живою природой, со стаей березок, и так
по-человечески, так откровенно тоскует по
ним...
Природа в стихах Сергея Дрофенко —
символ жизни и вечного обновления, в ней
всегда зреют ростки будущего. Поэт,
который радостно сознавал это, любил
жизнь.
У лесов особая запарка.
Снова в теплом ветре молодом
прошлогодней зеленью запахло
и землей, ожившей подо льдом.
...Мне бы только сосны не стихали,
чтобы им шуметь из века в век,
чтобы улыбнулся над стихами
дорогой и добрый человек...
«Дорогой и добрый человек», читатель
Сергея Дрофенко, как и мы, его друзья
и товарищи, не раз задумаемся над
строками поэта, и погрустим, и улыбнемся, и
вспомним его — молодого, красивого,
обаятельного — человека будущего.
Сергей Дрофенко
(1933-1970)
К началу второй мировой
мы в школу еще не ходили.
На станцию по мостовой,
окутанный облаком пыли,
катился ночной грузовик,
подвода с утра грохотала,
как будто по стеклам квартала
хлестало из туч грозовых.
Над речкой, у самой воды,
играл отпускник на гитаре,
цвели, задыхаясь, сады,
и низкие птицы летали.
Такая стояла пора.
Неведенье.
Детство.
Жара.
И все-таки эта война,
пусть даже и малою частью,
к несчастью, но также и к счастью,
как главный урок, нам дана.
И мы до конца наших лет
запомним тот слипшийся хлеб.
186
голос
Простите меня, если я приносил вам беду.
Я в ад не хочу. Мне приятнее в райском саду
устроиться прочно. Довольно я видел огня.
Простите меня. Если можно, простите меня.
Устроиться в райском, упрочиться в майском саду.
Меня вам не видно, но вы у меня на виду.
А я все безвестней в кругу вашем день ото дня.
Вы позже. Я раньше. Простите. Простите меня.
На небе седьмом я лежу в исполинской траве.
Библейские птицы кружат надо мной в синеве.
Владыка Вселенной ко мне подбежал, семеня.
Тоскливое счастье. Я умер. Простите меня*
Прости, черновик. Ты остался без главной строки.
Простите, наставники, юноши и старики.
Вы были заботливы, душу питомца храня.
Простите меня. Если можно, простите меня.
* # #
День долог, а ночь коротка.
Не жалят промокшие осы.
В садах моего городка
шумят торопливые грозы.
Пронзительно пахнут цветы
очнувшихся яблонь и вишен.
Над речкой повисли мосты.
Высок самолет и неслышен.
Спокойна земля и чиста.
Ни ран, ни сиротства, ни ссылки.
Под тонкою кожей листа
видны напряженные жилки.
Иначе и жить для чего,
о долге твердить, о призванье,
на свете не видя его —
того городка без названья?**
ПРОСТОР
Ты слышишь? Пахнет сеном и водой.
А много ли ты знал, как пахнет сено
в тот час, когда над полем солнце село
и месяц появился молодой?
Ты много ли вниманья обращал
на чистоту вечернего простора?
Век был не прост, а ты хотел простого
и заодно природу опрощал.
Но отчего же эта простота
душевного смятения не проще?
Что значит немота кленовой рощи,
сиротство придорожного куста?
Есть грани между счастьем и бедой.
Есть доброта и долг, восток и запад.
Но как разъять на части этот запах
сухого сена пополам с водой?
И говорит с прохожим тишина.
И ширь как бы твердит ему родная,
что осень для него очередная
не будет, к счастью, слишком тяжела.
!87
А. Межирову
Суета и томление духа.
Зимний лес неподвижен и гол.
Не касается мертвого слуха
божества первородный глагол.
Привыкая к изменчивой тверди,
в безотчетном желании жить
боязливо я думал о смерти,
забывал о страдальцах тужить.
Расточал я легко обещанья
и разменивал душу свою.
И теперь на ветру обнищанья,
на пороге молчанья стою.
Начинаю по-новому мерить
за плечами оставшийся путь.
Не могу не грустить и не верить
в бытия сокровенную суть.
Понимаю, что прожил убого
три десятка скитальческих лет.
Если нет в мироздании бога,
то и адского хаоса нет.
Принимаю презрение леса,
поневоле смиряюсь с бедой,
словно птица, лишенная веса
и примерзшая к ветке седой...
Не боюсь этих нищенских елок,
в трудный час не бегу от суда.
Есть поблизости добрый поселок.
Мне нельзя торопиться туда...
О ДОМЕ
У кого из нас был дом?
У меня-то не бывало.
Угол, печка, поддувало —
в это верилось с трудом.
Тишина. Бумага. Стол.
А в душе покой и воля.
Упоительная доля!
Фантастический простор!
Ежедневные дела.
Ежечасные заботы.
Среды, пятницы, субботы -
все одна метла мела.
Встречи с чуждыми людьми.
Разговоры. Пересуды.
Грохот лифтов. Звон посуды.
Пытки родственной любви.
Лишь во сне была видна
где-то за пределом мира
одинокая квартира.
Десять метров. Два окна.
...И позвякивала лира
про иные времена.
Пусть хлынет в душу горечь
и облечется в стих
тревога наших сборищ,
прекрасных и пустых.
Протягиваю руки,
ищу в потемках нить.
Ко мне придите, други,
и научите жить.
Где счастье? Ходит сбоку?
Семь бед — один ответ.
Молюсь ему, как богу,
но бога нет как нет.
Я слышу вой метели.
Поет она, грозя.
Холодные недели,
холодные глаза.
Куда они уводят
на склоне смутных лет?
Кто навсегда уходит?
Не я, наверно, нет!
и/г ft оз fit a
Владимир Огнев
ПОЭТ И КУЛЬТУРА
Мир поэта — это окружающая его жизнь
во всей ее сложности. Но всегда ли мы
понимаем, что это значит? Легче всего
обозреть личный опыт поэта, его знание
текущих событий. Иной раз к этому
присоединяют (порою как антипод первым двум
качествам) знание истории своей страны,
заветы седой старины, национальный, так
сказать, инстинкт. Чувство природы.
Чувство родного языка. Все ли это? Разумеется,
нет. В понятие мира поэта не может не
входить и культура. То есть вся сумма
духовных богатств, которую выработало
человечество до нас. И конечно, культура
мировая, культура народов братских наших
республик, понимание того обстоятельства, что
взаимовлияние и взаимообогащение — не
фраза, а сущность сегодняшнего состояния
искусства. Только художник культурный,
человек, стоящий с веком наравне, может
претендовать сегодня на звание «водителя».
Невежество, узкий опыт, изоляционизм,
какими бы высокими словами они ни
прикрывались, обречены на невнимание умного
читателя. На неучастие такой поэзии в
идеологическом воспитании читателя — и
нашего и зарубежного. Можно по-разному
относиться к термину «интеллектуальная»
поэзия, но никто не сможет опровергнуть
того, что поэзия должна быть не только
«глуповата» (шуточную формулу Пушки-
189
на — образованнейшего человека своего
времени, кое-кто понимал слишком
дословно).
«Книжный» поэт Брюсов, «книжный»
поэт Антокольский... А что значит
«книжный»? Когда жизнь преломляется через
искусство. Когда читатель сталкивается в
узнавании жизни как бы со вторым
отражением ее в стихах. Тут надо разобраться.
Что такое греческая поэзия? Мы отвечаем:
мифология. А что такое миф? Отражение
в массовом сознании каких-то реальных
жизненных связей. Значит, и древняя
греческая поэзия родилась как «второе
отражение» эллинской действительности? А
поэзия XVIII—XIX веков? Она насыщена
библейскими, античными, римскими
мотивами, именами, ассоциациями. Строго
говоря, языческие и христианские источники —
в ранних поэзиях стран Европы,
фольклорные — у романтиков прошлого века,
возвращение к мифам, переосмысленным
заново,— у ряда поэтов XX века — все
это говорит о том, что «чистого» открытия
вообще в поэзии не бывает. Ни в какую
эпоху не бывает поэзии, начисто
освобожденной от воздействия на нее целых пластов
культурной традиции, возрождения тем,
отзвуков искусства прошлого.
Для того чтобы не быть голословным,
Обратимся к такому бесспорному авторитету
жизненной поэзии, как Пушкин.
Известный исследователь творчества
Пушкина П. Е. Щеголев, публикуя в
1928 году лицейскую поэму «Монах»,
обратил внимание на то, что ни в каком другом
произведении Пушкина нет такого
большого количества ссылок на картины
художников (Тициан, Корреджио, Пуссен, Аль-
бани, Рафаэль, Берне и т. д.). Более того,
воображаемый пейзаж, несомненно, списан
с картин, которые были перед глазами
юноши Пушкина. Искусствовед Г. Кока видит
прямую связь между знанием памятников
мировой и русской живописи юным поэтом
и той зоркостью глаза, конкретностью
образов, ясностью и выпуклостью описаний
человека и природы, которые впоследствии
были одним из примечательных качеств его
пластического стиля *.
А атмосфера Лицея, здания, парки и
памятники Царского Села, по верному
наблюдению того же автора, конечно,
участвовали в воспитании у поэта чувства гар-
1 Г. Кока. Пушкин об искусстве. М., Издание
Академии художеств СССР, 1962, стр. 10.
монии и истинного вкуса, который сам
Пушкин определил как «чувство соразмерности
и сообразности».
На первый взгляд, что общего между
«готическими воротами» и карточной
«семеркой»? А, как мы помним, в «Пиковой
даме» Германну эта роковая карта
представлялась именно в виде готических ворот.
Оказывается, украшенные стрельчатыми
арками и шпилями, такие ворота, очень
похожие по своей конструкции на старинную
карточную семерку, действительно были —
их построили по проекту архитектора Фель-
тена в Екатерининском парке в 1772 году.
Однажды отпечатавшись в памяти, образ
«нашел себя» в нужном контексте, в нужное
время...
Долгое время не был известен источник
пушкинского стихотворения «Мадонна», в
котором он говорит о поразительном
сходстве лица мадонны с Н. Гончаровой («как
две капли воды...»). Только недавно удалось
определить, что речь шла о лондонской
копии с «Бритжватерской мадонны»
Рафаэля, которая одно время была
выставлена для продажи в книжном магазине в
Петербурге, у Оленина, где Пушкин часто
бывал.
От живописи отталкивался поэт и в
характеристиках внешности генерала А.
Ермолова (сравнение с портретом Дж. Дау)
или героини «Домика в Коломне»:
Старушка (я стократ видал точь-в-точь
В картинах Рембрандта такие лица)
Носила чепчик и очки...
В «Путешествии в Арзрум» про
освещение Дарьяльского ущелья сказано:
«совершенно в его вкусе», имея в виду того же
Рембрандта.
Тут надо непременно добавить, что есть
большая разница между пушкинскими
аналогиями живой натуры и искусством и теми,
весьма распространенными и не делающими
чести ни художникам, ни их творениям,
сравнениями действительности с
произведениями искусств, за которыми попросту
скрыто неумение «писать с натуры».
Если в лицейские годы знание картин,
античных статуй и вообще мира искусств
помогло Пушкину выработать стиль,
воспитать глаз, чувство пропорций и объема,
так счастливо проявившихся в его
словесном творчестве, то в дальнейшем, смело
можно сказать, Пушкин одним лишь
могуществом слова создавал такие картины, так
пластически и рельефно воссоздавал
видимый мир, что открыл для живописи,
графики, скульптуры, балета, музыки
абсолютно новый мир, зримый, ощутимый
настолько, что оставалось, казалось, лишь
перенести его на холст, освободить мрамор
от лишнего — проявить форму,..
Пушкин не только гениально ощущал
форму — он видел в ней проявление
сущности изображаемого. Когда знаменитый
датский скульптор Б. Торвальдсен
изобразил Александра I с нахмуренным лбом и
одновременно блуждающей улыбкой, Пушкин
стихами ответил критикам бюста («К бюсту
завоевателя»): «Напрасно видишь тут
ошибку... лик сей двуязычен. Таков и был сей
властелин, к противочувствиям привычен,
в лице и в жизни арлекин». Поэт не
описывал скульптуру — он давал свое суждение
о предмете скульптуры.
А знаменитые пушкинские описания «На
статую играющего в бабки», «На статую
играющего в свайку»? Увидев на
Академической выставке 1836 года статуи Н. Пименова
и А. Логановского, поэт, по воспоминаниям
современников, воскликнул: «Слава богу,
наконец и скульптура в России явилась
народная» *. Речь шла о русской народной
игре. Но изображение обнаженной
натуры — юношей с набедренными повязками
и античным типом лиц — не позволило
поэту сделать безусловного вывода о
полном разрыве с классицистической
традицией. Может быть, поэтому Пушкин и
прибегает здесь к форме элегического дистиха,
чередованию гекзаметра и пентаметра:
Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено
Бодро оперся, другой поднял меткую кость...
Для Пушкина соответствие формы и
содержания было безусловным. Гениальный
художник не мог (как потом делали его
потомки не раз и не два...) в самозабвенном
рвении запеть тут на манер С:ллины-стари-
ны. Хотя прически юношей римских и
русских молодцов, стриженных под скобу, и не
очень отличались друг от друга, многое
еще напоминало здесь античных
дискоболов...
Но вот что любопытно: «Юноша трижды
шагнул...» Почему трижды? Ведь
запечатлен он уже опершийся на колено и
прицеливающийся? Маленький штрих, а за ним
главное — знание, наблюдение игры в
жизни, где-нибудь в Михайловском или еще
раньше, в детстве... И может быть, это
1 П. Н. Петров. Николай Степанович Пименов,
профессор скульптуры. 1883, стр. 5—6.
«усилия чуждый» пришло не столько от
описания скульптуры Логановского, сколько
от запечатленного много раньше,
поразившего, осевшего в памяти: сильный, ловкий
парень, «играючи», швыряет свайку...
Отсюда и эти типично русские взрывы:
...прочь? раздайся, народ любопытный,
Врозь расступись; не мешай русской удалой игре.
И то, что юноша, играющий в свайку,
«тешится» игрой, а не просто соревнуется в
ловкости и силе, как его античный двойник.
Так, снова, как и в случае с торвальд-
сеновским портретом-бюстом Александра,
Пушкин, опираясь на произведение другого
художника, говорит свое, своим голосом
и углубляет увиденное проникновением в
сущность действительности.
Пушкин отлично знал историю. Меня
сейчас интересует не широко известная
эрудиция поэта, не его исторические
параллели, крупные фигуры исторической жизни,
изваянные его рукою художника, не пафос
исторических хроник и предвидения...
Я хочу коснуться вопроса более частного.
Такая изящная и «легкомысленная»
вещь, как «Граф Нулин», написана в
подражание поэме Шекспира «Лукреция». Поэт
писал: «...я подумал, что если б Лукреции
пришло в голову дать пощечину Таркви-
нию?.. Лукреция б не зарезалась. Публи-
кола не взбесился бы. Брут не изгнал бы
царей, и мир и история мира были бы не
те...» Пародия на Шекспира и историю
Рима была облечена в форму
«соблазнительного происшествия», происшедшего в
соседнем с имением поэта, Новоржевском уезде.
Это сближение — согласитесь,
неожиданное — с естественностью рисует нам
реалистическое мироощущение Пушкина, для
которого римские страсти оттенили историю
пошловато-фривольную, в духе
современных ему любовных интриг, мелких и
пустых, хотя и забавных, но в чем-то и
грустных... Да, да, грустных. Ведь в сценах
«Графа Нулина» уже есть атмосфера
«Онегина», который, вспомним, писался с 1823
по 1831 год, то есть был уже начат, когда в
два дня Пушкин набросал, как тогда
говорили, шаловливым пером своим историю
«нового» Тарквиния. Вот что записал поэт:
«...Я имею привычку на моих бумагах
выставлять год и число. Граф Нулин писан
13 и 14 декабря.— Бывают странные
сближения» 1. 14 декабря 1825 года на Сенат-
1 А. С. Пушкин. Сочинения в трех томах, том
второй. ГИХЛ, 1954, стр. 477—478.
191
ской площади было восстание декабристов...
Пушкин с горечью думал теперь о том, что...
Брут мог бы «изгнать» царя, что «история
мира» могла бы стать «не той»... Вот в чем
смысл «странного сближения»! И кто знает,
так бы пошел сюжет «Онегина», как он
написан, если бы история пошла «не так»,
если бы не 14 декабря... Критика холодно
встретила «Онегина». В Пушкине хотели
видеть продолжателя «Руслана и
Людмилы». Героически-сказочная история
любви была снижена до бытовой в «Графе
Нулине». В «Онегине» торжествовала сама
жизнь, психологическая правда,
историческая обусловленность чувств и
поступков.
Тарквиний и Черномор были разными
полюсами условности, но равно удаленными
для Пушкина зрелого периода — шутки
таили в себе серьезность, которая требовала
и серьезной формы. История Древнего
Рима, русская сказка, Шекспир и даже лорд
Байрон, который все числился в учителях,
хотя Пушкин иначе решил проблему
«охлажденного чувства»,— все это были
ступени пройденной учебы. Ученик давно
перерос учебники, давно отложил их в
сторону...
Александр Блок писал «Двенадцать»,
отталкиваясь от Катулла и истории
восстания Катилины. Но это знают
исследователи из дневников поэта.
Пушкин спорит с Тацитом, имея в виду
и Наполеона и царя Бориса. Его пометки
на полях книг, заметки на статью М. П.
Погодина «Об участии Годунова в убиении
царевича Дмитрия», где поэт проводит
параллели между убийством царевича
Дмитрия и расстрелом юного герцога Энгиенского
по приказу Наполеона, переклички
некоторых мест трагедии Пушкина с шатобриа-
новским намеком на это злодейство
будущего императора Франции, сравнение
Тацита, историка древности, с неведомым
иноком Пименом,— многое, по словам
современного исследователя (Б. Реизов),
соответствует словам и идеям Шатобриана в
монологе Григория. И может быть, уже видя
Бориса, защищал Пушкин Тиберия от
Тацита?
Конечно, русская история, Карамзин
дали этот материал поэту, но Пушкин не
был бы сыном своего века, если бы в его
историософии никак не сказались идеи
общеевропейской мысли того времени.
Самобытность Пушкина можно понять и оценить,
только зная все слагаемые культурной
традиции его эпохи.
История, культура, их знание и
ощущение живой связи с событиями личной и
общей жизни поэта и его современников —
фермент творчества, резонатор идей,
условие серьезности и масштабности решения
любой темы любого поэта.
Андрей Тг/рков
О ПОНИМАНИИ ТРАДИЦИЙ
Недавно, по просьбе одного
издательства, мне пришлось ознакомиться со
сборником стихов молодых поэтов, чей творческий
путь, по словам составителя, «неразрывно
связан с послевоенным поколением,
поколением мирного труда и мирной жизни, но
их детство и юность еще были опалены
войной».
Среди десяти представленных в этой
рукописи поэтов не оказалось ни Евгения
Евтушенко, ни Андрея Вознесенского, хотя
вроде бы, судя по провозглашенным
принципам отбора, оба могли, если не должны
были, туда войти.
Сборник этот — своего рода проекция
тех споров, которые возникли сейчас в
литературной критике, точнее — проекция
той позиции, которую занимает одна из
спорящих сторон: молодая поэзия, громко
заявившая о себе с середины 50-х годов, в
частности Евтушенко и Вознесенский, ныне
сходит на нет и закономерно уступает
первенство истинным наследникам
классической русской поэзии, чурающимся
злободневной суеты, но стоящим несравненно
ближе к простой народной жизни,
преимущественно сельской.
«Ощущение связи времен, любовь к
минувшему, великой нашей культуре, вера в
духовные ценности, простые и бесспорные,
объединяют А. Передреева, О. Чухонцева,
Н. Рубцова, Б. Примерова и многих других
поэтов»,— пишет, например, О. Михайлов
в предисловии к книге стихов Владимира
Соколова, которого считает «старейшиной»
этой «плеяды поэтов».
Владимиру Соколову, как пишет критик,
«было не свойственно спешить запечатлеть,
еще не осмыслив до конца совершающееся,
происходящее, сиюминутное,— хотя бы
броско и звонко».
Это очевидное противопоставление его
«сходящему» со сцены поэтическому
течению, которое «выразило себя талантливо
и шумно, торопясь высказаться, отозваться
на громкие общественные события,
пережитые народом и страной в эту пору (в
середине 50-х годов.— А. Т.)».
Все сказанное об этом течении дышит
корректной неприязнью. Верно
подмеченные грехи его отнюдь не соизмерены с
успехами, зато всякое лыко поставлено ему
в строку, даже то, что оно «еще не
осмыслило до конца совершающееся», хотя все с о-
вершающееся, естественно, конца
иметь не может и, напротив, постоянно
обнаруживает такие новые стороны, такие
даже повороты, которые вносят
решительные поправки в составившиеся было у нас
представления.
Что же тогда — совсем отказаться от
суждений о жарких и острых проблемах
настоящего и удовольствоваться «любовью
к минувшему»? Думаю, что не одни
«торопливые» молодые поэты на это не согласились
бы. Не согласился бы и Твардовский с его
нетерпеливым стремлением «вперед, за
бегущим днем, как за огневым валом», и
многие другие, хотя бы автор следующих
стихов:
Видно, зажил я не так, как надо,
Хоть на месте все. И спору нет.
Но слепят пространства за оградой,
Но ведь кто-то купит мой билет.
Кто-то будет спать на верхней полке,
Место будет занимать мое,
В путевые вслушиваться толки,
Спорить, петь, оценивать житье.
А приехав, громко жить и смело.
И в конце концов настанет срок,
То он сделает, что я не сделал,
Что я сделать, может, лучше мог.
Стихи эти написаны Владимиром
Соколовым, чьи интересы вроде бы отстаивает
О. Михайлов. И это не первый случай,
наводящий меня на подозрение, верно ли
критик понимает своего подопечного и не
стелет ли он ему прокрустово ложе
собственных теоретических пристрастий?
Вот в доказательство того, что поэт
«высказал свое отношение к тому
громадному и бесконечно дорогому, что зовется
Россия, родина», О. Михайлов приводит
стихотворение:
Хотел бы я долгие годы
На родине милой прожить,
Любить ее светлые воды
И темные воды любить*
И степи, и всходы посева,
И лес, и наплывы в крови
Ее соловьиного гнева,
Ее журавлиной любви. *•
7 День поэзии 1971
Но у автора никакого многоточия нет,
а есть строфа о том, что:
...детище нежного леса,
Я льну и к Магнитной горе.
Нужно ли было выбрасывать и
аналогичную строфу из цитируемого в статье О.
Михайлова стихотворения Николая Рубцова:
Звезда полей горит, не угасая,
Для всех тревожных жителей земли,
Своим лучом приветливым касаясь
Всех городов, поднявшихся вдали.
Стоит ли забывать, как выглядят у
Владимира Соколова даже пресловутые
«родные стены» провинциального домика, где
за нехваткой обоев были наклеены
И газеты с большими процессами,
И плакаты любой стороной.
Назубок и парады и бедствия
Знал по стенам бревенчатым я...
Верно ли, наконец, упускать из виду
стихи поэта о том,
Как мы ведем высокие беседы,
С грузинской речью русскую смешав.
Я говорю о стихотворном ладе,
Ликую. А пока я говорю,
Сосна Мтацминды клонится и гладит
По-матерински голову мою.
Не суживается ли в результате всех этих
«утаек» «то громадное и бесконечно дорогое,
что зовется Россия, родина»?
«Стихи В. Соколова активно содействуют
утверждению нашего национального
самосознания»,— пишет О. Михайлов. Верно,
но та трансформация, которой они
подвергнуты в его статье, содействует не
утверждению, а искажению этого самосознания.
Я далек от мысли, что подчеркнутая
декларация — «ощущение связи времен,
любовь к минувшему, великой нашей
культуре» — есть нечто, выдвинутое в пику
«настоящему» в результате одного лишь
теоретического «загиба». И у этой
декларации, и у сходных мотивов, появившихся
в стихах ряда поэтов, есть определенное
объяснение, реальные жизненные корни.
В высокоразвитых промышленных
странах все заметнее уменьшается доля
населения, занятого сельским хозяйством. В
нашей стране, в силу многих условий,
процесс этот шел очень быстро и бурно. Не
обошлось и без существенных издержек.
Что-то уходило закономерно, но немало
исчезло и попутно.
С обнаженной, почти детской
прямолинейностью выразил кое-что из тревоживших
его на этот еодт мыслей Николай Рубцов:
Ах, город село таранит!
Ах, что-то пойдет на слом!
Меня все терзают грани
Меж городом и селом...
Многократно и многообразно возникает
это ощущение «огнедышащего вздоха»
жизни, созидающей и опаляющей, в новой униге
Станислава Куняева «Ночное
пространство»:
...Как все смешалось: тонкий запах тлена,
и свежесть листьев, и дыханье ветра,
и розовое золото зари.
Если у некоторых молодых поэтов
встречается сплошное умиление перед всем
«древним» и угрюмоватое неприятие того,
что приходит в село извне, то в книге
Станислава Куняева есть не только
справедливое полемическое отстаивание «старинных
имен» («Слово»), но и поэтическое приятие
шумной нови:
В темноте вдруг припомнилось мне,
как в далекое время когда-то
от проезжих машин по стене
плыли в ночь золотые квадраты.
Заплывали, как рыбы, в окно,
уплывали в пространства ночные.—
Что-то я вас не видел давно,
где вы скрылись, мои золотые?
Гул машин и березовый шум
то сплетались, то вновь расплетались...
Это сложное «сплетение» кажется мне
особенно знаменательным. Тут
вспоминаются и строки Владимира Соколова о том,
как у машины «вырывалась бурыми
к р ы л а м и из-под колес весенняя вода»,
как апрельские деревья «трамваям машут,
как знакомым», и «необычный, занятный
звук» гудка над тайгой, пророчащий,
однако, крутые перемены, в предчувствии
которых поэту, «конечно, жалко каждой
веточки вековой».
Это — жизнь, а не мертвое
метафизическое противостояние неких «исключающих»
друг друга категорий, жизнь, где разные
начала «то сплетаются, то вновь
расплетаются», образуя реальную и, нечего
говорить, непростую диалектику развития.
Есть у В. Соколова стихотворение
«Метаморфозы», где он чувствует себя и
старым домом, который «влажно глядит в
переулок, листвой заслонясь, как рукой»,
и идущим на него «бульдозером
широколобым».
Подобные коллизии между покоем и
порывом, благодарностью давнему и тягой
в будущее вообще очень часто возникают
в стихах поэта.
194
За оградой зеленая травка.
Очень реденькая! Ничего...
Вот лучами нагретая лавка,
Можешь Фета читать своего,
И ведь Фет для него — совсем не мнимая
ценность, а истинная, какой была некогда
для Блока красота «соловьиного сада», одна
из тех «простых и бесспорных духовных
ценностей», вера в которые, по утверждению
О. Михайлова,— один из краеугольных
камней «плеяды поэтов».
Но Владимир Соколов принадлежит к
числу тех чутких людей, которые
мучительно ощущают, какие неуловимые и
опасные метаморфозы вдруг претерпевают в мире
«бесспорные» ценности. Так, в
стихотворении «Ночные бабочки» в упоительную
картину южной ночи, завороженной мечтой
о любви, внезапно врывается тревожная
нота:
И если что-то мне мешало,
Так только то, что за стеной
Пора осенняя шуршала
Да мышь летучая летала,
В окно влетала. И витала,
Как тень, за бабочкой ночной!
Неспроста бабочка наделена
уродливой тенью нетопыря... Как будто сквозь
опьяняющий любовный хмель поэт
ощутил, что в его мир закрадывается нечто
темное.
Тишина — прекрасная и целительная
вещь, цену которой мы, может быть,
особенно хорошо узнаем лишь в наш век.
Поэтому строки, оброненные Станиславом
Куняевым: «Жизнь — это шум. А там, где
тишина,— тоска одолевает человека», не
могут претендовать на абсолютную
истинность. И в этой связи опять придется
вернуться к предисловию О. Михайлова,
где, в частности, говорится: «...имена
Пушкина, Лермонтова, Фета, Блока дороги
поэту еще и как безусловный залог
духовного здоровья и верности истинным
традициям сегодняшней, современной
литературы. «Они меня врачуют классическим
стихом»,— обмолвился В. Соколов, и за
этой фразой кроется многое.
Принципиальный противник версификационных
ухищрений, словесной вольтижировки и всякого
рода игры самоцельными созвучиями,
которыми так увлекаются сегодня иные
одаренные поэты, он обладает редким чувством
меры и такта».
И снова критик поселяет в моей душе
сомнение: не суживаются ли в его трактовке
«истинные традиции сегодняшней,
современной литературы», как это уже
произошло с «тем громадным и бесконечно
дорогим, что зовется Россия, родина»?
Из списка «живых учителей» В.
Соколова, приведенного страницей раньше, по
нечаянности выпал Некрасов. И при столь
суровой аттестации «словесной
вольтижировки и всякого рода игры самоцельными
созвучиями» не поздоровится не только
Маяковскому или Цветаевой, но и тому
поэту, кого никак не исключишь из
литературной родословной В. Соколова.
...Ах, как то было глупо, смело,
Когда по молодости лет
Я сам ввязался в это дело,
Покой сводящее на нет.
Уже в одних этих строках отзывается
одна из давних привязанностей автора:
О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью — убивают,
Нахлынут горлом и убьют!
А недавние стихи «Снег этого года» с
«путем сплошного, в общем, непролаза» и
«весенним вернисажем сосулек», «Пейзаж
с дорогой», «Моление о разлуке», «Май этого
года» с явными следами сложной и
противоречивой, но, право же, никак не
заслуживающей ни отрицания, ни тем более
игнорирования и забвения, пастернаковской
интонации?
И если попытаться суммировать
сказанное выше, речь шла о том, что реальное
содержание и нашего национального
самосознания, и традиций нашей литературы,
и ныне идущих в ней процессов, и
творчества работающих в ней поэтов — все это
несравненно богаче, интереснее,
многообразнее, чем это представляется иным
критикам, чересчур азартно ищущим в книгах
подтверждения своим теоретическим
выкладкам или заветным идеалам.
Не случилось бы с ними в конце концов
того, о чем как-то рассказал Владимир
Соколов в стихотворении «Ссора»:
Вот выйдет же так,
ну, точно,
Как вдруг,
позабыв весь свет,
Уставишься
в одну точку,
А точки этой
и нет!
Владимир Аапшин
НОВАЯ ЛИРИКА ТВАРДОВСКОГО
В сознании читателей слава
Твардовского накрепко связана с тем, что создано
им как поэтом эпическим. «Страна Мура-
вия», «Дом у дороги», «За далью — даль»,
не говоря уж о всепризнанном «Теркине» —
вот что прежде всего приходит на ум
каждому, когда произносят это имя.
О лирике Твардовского говорят реже,
быть может потому, что меньше знают ее.
Печатая в газетной и журнальной
периодике последних лет стихи «Из записной
книжки», поэт не спешил заключить их в единый
цикл и под зазывным названием, в красивой
обложке пустить в свет, приманивая
новинкой публику. Его работа нетороплива,
сосредоточенна, по самой своей природе
она родственна дневнику, который пишется
не для того, чтобы тотчас нести напоказ
написанную страницу, и я не однажды бывал
свидетелем, как трудно и неохотно
расстается Твардовский со своими новыми стихами,
отдавая их в печать: ему все кажется, что
это часть его души, быть может слишком
личная, слишком неотрывная от
каждодневной внутренней работы, чтобы
поспешать делать ее достоянием всех. К тому же
вечное желание полного совершенства и
недовольство собой, ощущение
продолжающегося, неоконченного и не имеющего в виду
быть скоро оконченным труда внушают
поэту неозабоченность по части успеха именно
этой отрасли его поэтического хозяйства.
Мы же, читателя, в том числе и читатели-
критики, не всегда проворны на
распознание подлинно значительных явлений
поэзии, когда они являются как бы исподволь,
незаметно. Разрозненные публикации
стихов «Из записной книжки» и лишь частично
собравшая их книжечка «Из лирики этих
лет» («Советский писатель», 1966) встречали
неизменно благожелательный отклик в
летучих рецензиях известных наших поэтов и
критиков, но ни разу, кажется, не были еще
оценены в целом, как заметнейшее событие
последнего литературного десятилетия.
В сущности, лирический элемент
никогда не был чужд Твардовскому-поэту.
Лирику он писал с молодой своей поры, да и в его
больших поэмах, возьмем ли мы «Дом у
дороги» или «За далью — даль», едва ли не
более всего памятны нам задушевные
лирические страницы. И все же мы имеем право
взглянуть на лирику Твардовского
последних лет, как на новое и важное явление
в творчестве самого поэта и в жизни всей
современной поэзии.
В литературной среде иной раз
приходилось слышать упреки Твардовскому в
излишней рассудочности и обстоятельности
его стиха — свойство неблагоприятное как
раз для лирики. Это не кажется нам
справедливым даже в применении к более
ранней его поэзии, особенно если вспомнить
такие ее образцы, как «Две строчки» («Из
записной потертой книжки...») или «Я убит
подо Ржевом...». Но даже если признать за
этим упреком частичную правоту, нужно
сказать, что в последних лирических
циклах Твардовского нет и следа дидактизма,
длиннот балладной повествовательности:
стих его по-новому глубок, гибок,
естествен, как дыхание.
Твардовский говорит, что не
представляет себе такого отношения к поэтическому
делу: встал с утра пораньше, плотно
позавтракал, выпил кофе и садись за стол с
мыслью — о чем бы сегодня написать? Нет,
тут все происходит иначе: поэт читает,
работает в саду, гуляет в лесу, записывает
в свои тетради поденные наблюдения и
мысли, как вдруг среди впечатлений дня, для
передачи которых в слове вполне сгодилась
бы и «смиренная проза», мелькает что-то
такое, что необходимо требует своего
закрепления именно в стихе, и какая-то
подъемная сила сама возносит поэта к лирике,
оставляя ему одну заботу:
...некий луч словесный
Узреть незримый никому,
Извлечь его из тьмы безвестной
И удивиться самому.
И вздрогнуть, веря и не веря
Внезапной радости своей,
Боясь находки, как потери,
Что с каждым разом все больней.
О Твардовском много говорили как о
поэте «смоленской школы», связывали —
и не без основания — его творчество с
народно-фольклорной традицией. Но когда
читаешь последние по времени его стихи,
то и дело берет искушение сказать: стихи
тютчевской одухотворенности, некрасовской
резкой предметности натуры. Именно эти
два, казавшиеся в прошлом столетии не-
196
совместимыми, имени вспоминаются прежде
всего. В самом деле: в этих стихах
очевидно философское начало, глубоко личное
ощущение природы, которое граничит с
пантеизмом, и рядом с этим знание
сокровенных движений и противоборств
человеческой души, столь характерное для
Тютчева. А вместе с тем завещанный
Некрасовым демократизм и социальность,
поэтическое освоение будничной, трудовой
плоти жизни, наполненной борьбой и
трудом.
Итак, Тютчев и: Некрасов... Но ведь это
обычная наша слабость, наше критическое
косноязычие: мы всегда хотим определить
новое тем, что знакомо, что признано, что
уже когда-то было. Не вернее ли сказать,
что лирика Твардовского самобытна и
вылита по мерке самой личности поэта? Не
больше ли в ней элементов того неподражаемо
нового, что удерживает от желания искать
на ней отблеск великих имен и что
позволяет сказать при чтении его стихов одно:
это Твардовский.
Прислушаемся к нему:
На дне моей жизни,
на самом донышке
Захочется мне
посидеть на солнышке
На теплом пенушке.
И чтобы листва
красовалась палая
В наклонных лучах
недалекого вечера.
И пусть оно так,
что морока немалая —
Твой век целиком,
да об этом уж нечего.
Я думу свою
без помехи подслушаю,
Черту подведу
стариковскою палочкой.
Нет, все-таки нет,
ничего, что по случаю
Я здесь побывал
и отметился галочкой.
Такие щемящие человеческие строки
и строфы рождаются у Твардовского, по его
собственному свидетельству, не из
неопределенного звукового «гула», о котором
писал Маяковский, а из душевной
сосредоточенности на мысли, впечатлении жизни,
которое поэту захотелось задержать живым
и нетленным и которое в силу этого
потребовало себе именно стихотворной
лирической формы. В каждом слове узнаешь здесь
Твардовского. И задумчивая, неторопливая
интонация, и этот нагретый за день «теплый
пенушек», и вечернее солнце, и палочка
стариковская, и неожиданная добрая
усмешка в конце, застенчиво скрывающая
серьезную мысль,— все это его, кровно
присущее и незаменимое. Наконец сама,
странно вымолвить, поэзия того позднего
человеческого возраста, который зовут
старостью и о котором рассказывает на этот раз
мужественная зрелость.
Когда Маршак хотел похвалить свою
или чужую поэтическую строфу, он говорил
с характерным своим придыханием:
«Голубчик, правда, мужественно?» Стих
Твардовского лишен всякой вялости,
слезливости, дряблости — это мужественный стих.
И его тайной остается, как в этой
сдержанной форме поэт умеет передать такие
оттенки задушевного человеческого чувства.
В стихотворении «На дне моей жизни...»
есть ощущение природы добродеющей и
целящей, когда человек не просто наблюдает
и пытается осмыслить ее метаморфозы, но
черпает в ней личные душевные силы.
Печаль поэта при мысли о скорой старости
далека от сентиментального умиления и
жалости к себе. Природа природой, но она
утешает и лечит лишь тогда, когда есть
честное сознание жизни, прожитой не зря,
не впустую.
Пейзаж, служащий нередко сменяемой
декорацией действия, становится у
Твардовского все чаще самостоятельным
предметом поэтического созерцания. У поэта
словно открывается второе зрение,
приходит новая зоркость на то, что по извечному
календарю происходит в природе,—
морозное ясное утро, мартовские метели, талые
воды весны, ржаное поле в жаркий
июльский полдень, августовские дожди,
шумящие в теплой листве, облетевшие сады
осени. Он по-своему радуется каждой поре и
не устает отмечать «убыли-прибыли эти»,
словно спешит отблагодарить жизнь за
счастье дышать, видеть, чувствовать. Он
находит в природе неисчерпаемое
многообразие оттенков, мгновенных перемен,
когда все настроение и освещение картины
зависит не просто от времени года, но от
месяца, недели, суток, наконец, часа дня. Это
желание схватить и закрепить летучий,
ускользающий миг жизни, внушает поэту
всякий раз свой ритм и лад стиха. Вот, к
примеру, каким быстрым и легким пером
исполнена эта изящная картинка:
Июль — макушка лета,—
Напомнила газета,
Но прежде всех газет —
Дневного убыль света;
197
Но прежде малой этой,
Скрытнейшей из примет,—
Ку-ку, ку-ку — макушка —
Отстукала кукушка
Прощальный свой привет*
А с липового цвета,
Считай, что песня спета,
Считай, пол-лета нет,—
Июль — макушка лета*
И рядом с этим виртуозным рондо, легко
и невзначай соединившим прозу газетной
заметки с поэзией летнего леса, голосом
кукушки, ранними сумерками,— совсем
другой, неторопливый ритм, настроение
весеннего ожидания, задумчивой
наблюдательности и надежды:
Как после мартовских метелей
Свежи, прозрачны и легки,
В апреле
Вдруг порозовели
По-вербному березняки.
Весенним заморозком чутким
Подсушен и взбодрен лесок.
Еще одни, другие сутки,
И под корой проснется сок.
И зимний пень березовый
Нальется пеной розовой.
Если в первом стихотворении
воображением поэта правила музыка, в изящных
повторах мелодии звенела и лилась лесная
песня, то здесь, в этом нежном весеннем
пейзаже, безраздельно господствует живопись,
щедрая и смелая на тона и оттенки.
Прозрачные березняки и зимний пень,
налившийся розовой пеной,— такое не
приметливый глаз наблюдает, а будто душа
узнает сродную ей красоту и радуется ей. Мы
осмелились сравнить Твардовского с
Тютчевым. Но легко убедиться, что в пейзаже
Твардовского нет тютчевского незримо
разлитого в природе зла, нет и метафизики
стихийного растворения в ней. Однако,
несомненно, есть и очень внятно ощутима
совместная жизнь поэта с природой и
проверка своей краткой жизни ее
беспредельным веком.
Таким образом, был бы опрометчив тот,
кто решил, что столь «чистой воды» лирика
природы где-то вдали от раздумий поэта
о жизни, о народе, от всего того, что мы
привычно связываем с общественным
значением его имени. Стихи большого поэта не
делятся на те, что для души, и те, что для
общественного потребления. За самым
чистым созерцанием природы у Твардовского
всегда видишь человека, неотступно
думающего о прожитой жизни, а значит, о
своей судьбе и судьбах других людей, о
своей стране и краях иных. С какой полной
естественностью воспоминание о теплых
безветренных днях ранней осени,
шумящей золотом листвы в подмосковных
лесах «и где-нибудь, наверно, в пражском
парке», переходит в раздумье о себе и о
времени:
Перед какой безвестною зимой
Каких еще тревог и потрясений
Так свеж и ясен этот мир осенний,
Так сладок каждый вдох и выдох мой?
Лирика такого наполнения и силы
рождается, без сомнения, только тогда, когда
позади многие частные счеты и расчеты с
быстротекущей жизнью, и она предстает
перед поэтом как бы целиком, просторно
видная в оба свои конца — с детских лет до
старости. Все тогда получает особую цену
и сознается наново: природа, люди, своя
юность и зрелость, свой успех и неуспех
и весь смысл прожитых дней.
В лирический дневник Твардовского
очень естественно и с личной, так сказать,
стороны вошли упоминания и раздумья
о крупнейших событиях времени.
Существенность высказывания, которой так
дорожит поэт, уверенность, с какою он минует
темы мелкие, случайные, банальные, и
простота, с какой в его поэзии обнаруживается
общезначимое, не есть, по-видимому, даже
результат направленной селекции тем,
взыскательного подбора поводов для
высказывания. Ему не надо тужиться быть
современным, потому что, крупный человек,
крупная личность, он с этим живет и это
поет. Он идет вместе со своим временем, как
солдат, поднявшийся в атаку —
За бегущим днем,
Как за огневым валом.
Большой запас душевного здоровья,
народного оптимизма заставляет его
неизменно верить в победу, удачу, счастливый
оборот жизни и собственной судьбы. Но,
по настоящему мужественный человек,
Твардовский внутренне готов и к другому,
менее утешительному концу:
Нет, лучше рухнуть нам на полдороге,
Коль не по силам новый был маршрут.
Без нас отлично подведут итоги
И, может, меньше нашего наврут.
Твардовский — народный поэт не только
в своих больших поэмах. Он народен и в
самой личной, «камерной», «чистой» своей
лирике. Видимая простота стиха
Твардовского, доступность его, не равнозначна
бедности содержания. Поэт владеет даром
поэтической объективности, сложное и тонкое
193
он умеет передать зримо и крупно. Зрелое
искусство всегда тяготеет к мудрой ясности.
Но если эту взыскуемую поэзией простоту
и классическую ясность акмеисты, скажем,
добывали, вываривая ее в изысканном
фарфоровом сосуде, Твардовский получает ее
корнями жизни, протянувшимися к самой
ее почве.
И все же Твардовский — народный поэт
не по своей демократической простоте
только, не по своим биографическим истокам,
не по тому, что определялось в старину как
«народность и местность». Есть нечто куда
более крупное и важное: поэт — голос
народа, необходимый и ничем не заменимый
орган его речи, его поэтического и
нравственного сознания. Народный поэт выражает
то, что народ думает, и то, что народ,
еще не осознав, чувствует; он выражает то,
что ныне сознается и признается всеми,
и то, что пока до конца сознают немногие,
но что завтра с неизбежностью станет
достоянием сознания новых поколений,
большинства, народа в перспективе
будущего.
А кроме того, народный поэт помнит.
В зыскующая, требовательная, неусыпная
память — это то свойство, которое как раз
отличает Твардовского-поэта и разными
сторонами отразилось в его лирике.
Начать хотя бы с того, как остро
чувствует Твардовский свои нравственные
обязательства перед памятью собственного
деревенского детства, ранней юности, перед
памятью своих близких и их нелегкими
судьбами. С первозданной свежестью
впечатлений воскрешает он давно позабытые
картины: звездное небо в ночном, когда
«скопища эти холодным огнем будто бы в
темя кололи», и сладкие гордые мечты двух
друзей на сеновале под «запевы юных
петушков», и комсомольские посиделки в
духов день на скамейке у школы, когда
«суровый атеист» впервые понял, что он,
«помимо прочего, поэт,— какой хочу, такой
и знаменитый». Недавняя подмосковная
весна с жаворонком в голубом небе
воскрешает в памяти давний, забытый день по
пути в сельскую школу:
Все как тогда. И колокольня
Вдали обозначает даль,
Окрест лежащую раздольно,
И только нету сумки школьной,
Да мне сапог почти не жаль —
Не то, что прежних, береженых,
Уже чиненных не впервой
Моих заветных сапожонок,
Водой губимых снеговой.
Эти припомнившиеся поэту детские
сапожонки — лучший пример того, как по
извечному закону искусства житейская
проза претворяется в высокую поэзию. Ничто
не топорщится, не пыжится, не украшает
себя в этом стихе: искренность,
естественность рассказа — лучший возбудитель
ответного чувства читателя.
Глубиной и искренностью переживания
потрясают стихи Твардовского «Памяти
матери». Вспоминая о ней над свежей ее
могилой, он коснулся чувств и понятий
почти невозможных, запретных для поэзии
именно в силу личной глубины горя. Он
имел мужество запечатлеть самый момент,
когда могильщики сдвигают «песок,
гнилушки, битый камень» в кладбищенский
бугорок. Он переселился в душу матери и
воскресил ее одиночество, ее тоску о сыне,
вспомнил ее желание давних лет,
проведенных в чужой таежной стороне,
вернуться в родимые места и быть похороненной
на взгорке «под березами кудрявыми». Он
сохранил и увековечил в русской лирике
ее старую песню с бесконечной ее печалью
и любовью к родному краю:
Но была, пускай не пета,
Песня в памяти жива.
Были эти на край света
Завезенные слова.
Перевозчик-водогребщик,
Парень молодой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону — домой...
Перечитайте эти стихи целиком,
вслушиваясь в их поразительный песенный
рефрен, и что-то обязательно дрогнет, стронется
у вас в душе, потому что такой силы и
подлинности переживание не может не
получить отзыва.
Поэтическая память — это то, что
соединяет людей живых и ушедших и как бы
воскрешает их для второй жизни, то, что
связывает минувшие и будущие поколения и
служит аккумулятором народного опыта,
культуры, нравственности. Верная и нежная
память Твардовского по отношению к
своему прошлому и своим близким, быть может,
еще удивительнее в отношении к
погибшим товарищам, павшим в бою солдатам,
знакомым и незнакомым ему людям. Сразу
же вскоре после войны он написал стихи
«Я убит подо Ржевом...», где с такой силой
пережил эту боль расставания с погибшими
на Великой войне, что отождествил себя
с убитым солдатом, заговорил не просто от
его имени, но за него — его языком, его
мертвыми, спекшимися губами. Ему
казалось, что он в ответе за всех, кто остался
лежать на полях войны, был убит в
безымянном болоте, прифронтовом, реденьком
леске или на высотке. Двадцать лет спустя
после конца войны это живое чувство
совести и долга по отношению к их памяти
сохраняется у него в прежней свежести
и силе:
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они, кто старше, кто моложе,
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь,
Речь не о том, но все же, все же, все же.».
Только недремлющая память может
утишить, снять живую боль, перевести
мучительное чувство потери в пушкинскую
«светлую печаль». Чувство памяти дает и опору
на время, ощущение зрелости, понимание
своего места в жизни. Воспроизвести,
напомнить — значит возвысить боль и
преодолеть, извести ее. Не воспроизведенное,
не отлитое в образ искусством остается как
заноза в живом теле.
Твардовскому не по душе легковесное
беспамятство, желание не ворошить
тяжелые страницы жизни, задерживаться
вниманием лишь на праздничном ее фасаде.
Автор «Василия Теркина» хорошо знает
цену веселью, бодрости, доброй улыбке, но
он с открытыми глазами идет навстречу
людскому горю, боли и беде — и оттого он
подлинный оптимист, не подмятый жизнью,
а владеющий ею.
Поэт верит в победный ход времени,
бессмертие правды, поэтической
справедливости. Он много думает и пишет о своих
отношениях с читателем. Для него это не
суетный вопрос успеха. Скорее, это
выяснение своего литературного долга, своих
взаимоотношений со временем —
нынешним и предстоящим. Самому себе он дает
самый суровый зарок:
С тропы своей ни в чем не соступая,
Не отступая — быть самим собой.
Так со своей управиться судьбой,
Чтоб в ней себя нашла судьба любая
И чью-то душу отпустила боль.
Читатель Твардовского слышит этот
строгий и честный голос, верит ему и
наверняка отыщет в новой лирике поэта
отклик лучшим чувствам своей души.
Мосиф Гринберг
ПОСТОЯНСТВО ПЕРЕМЕН
Произнося местоимение Я в своих
стихах, этот поэт обычно имеет в виду не
выдуманного, обобщенного лирического
героя, а себя самого, Ярослава Васильевича
Смелякова, свою биографию, свой
жизненный опыт, свои личные вкусы и
пристрастия.
Немалый риск, опасная повадка! Но
Смеляков снова и снова побеждает, притом
без потерь. Ни грани самолюбования нет
в его желании вести речь непосредственно
от своего лица, в прямой причастности ко
всем изображаемым событиям, в готовности
и умении быть накоротке с героями своих
стихов, тоже по преимуществу лицами
вполне реальными, хотя и разного чина и
звания.
Чтобы добиться успеха на этом трудном
пути, необходимы и кровное сродство с
временем, и проистекающая отсюда
совершенная внутренняя свобода, и ясность
понимания, и щедрая отзывчивость сердца,
и способность различать, приводить в
движение тайные и явные силы русской речи.
Этими качествами обладает Смеляков, они
живут в его поэзии.
Но ведь на протяжении четырех
десятилетий слово его менялось не однажды!
Мы снова убеждаемся в этом, читая и
перечитывая стихи, собранные в недавно
выпущенном двухтомнике. Много ли общего у
веселого комсомольца первой пятилетки,
с задорным любопытством вглядывающегося
в жизнь, и пожилого, много пережившего
человека, что идет «сутулый, больной,
брито л ицый, уже не боясь ни черта, по улицам
зимней столицы»?! Да, перемены произошли
немалые, но поэт сберег и укрепил верность
своим идеалам, потому что они были
неотъемлемой частью его личности, его духовной
жизни, и стойкость убеждений позволила
ему «в просвещении быть с веком наравне»,
обернулась зрелостью, живостью, энергией
слова и мысли.
Почему в начале 30-х годов так
пришлись всем по душе высказанные молодым
рабочим поэтом, казалось бы,
самоочевидные истины, воплощенные в образе
человека, который, дескать, «умеет планы
выполнять, валяться на траве, ночами за столом
не спать, часами говорить. Умеет звезды
понимать и девушек любить»? Да потому,
что в приведенных здесь ^словах жил дух
времени: они утверждали широту чувств
строителя нового общества, были частью
стремительно разворачивавшегося в ту пору
наступления лирики. Работа и любовь,
смерть и дружба, мечта и подвиг, поэзия
и классовая борьба — все благословенные
и проклятые вопросы, волновавшие
человечество, включались запросто в повестку
дня молодежных собраний, становились
предметом обсуждения юношей и девушек,
бравших на себя ответственность за судьбы
мира.
Таким было начало. Вскоре поэт,
уверенно готовившийся решать самые
запутанные проблемы, призадумался над их
сложностью. «Что это случилось? Как это
поймешь? — спрашивал он, поражаясь тому,
что любимая девушка уходит, и «июньским
летом слушают ребята импортную грусть».
Но ведь жизнь задавала задачи и
посерьезнее. Надвигалась война, шли годы суровых
испытаний, и Смеляков изведал их в полной
мере. Вот тут-то и произошла великая
проверка всех склонностей и пристрастий,
взглядов поэта. Он ее выдержал и стал
крепче. В голосе его послышалась новая,
властная сила, когда от имени своего
поколения он «проклял дешевое счастье и
легкий развеял успех». Теперь в речи его
зазвучали грозные, строгие ноты.
Я строил окопы и доты,
Железо и камень тесал,
И сам я от этой работы
Железным и каменным стал.
Может показаться, что Смелякову стала
дорога монументальная величавость
стихового слова, что он начал радеть более
всего о емкости, широте образного
обобщения, не слишком заботясь о живой
единичности, своеобычности красок. Женщина,
похожая на самое революцию... Судья,
справедливый и грозный, возвышающийся
над толпой, с горстью родной земли,
зажатой в ладони... Трубачи, трубящие, как
пророки... Старуха, что прядет «ветер и
зори, и мирные дни, и войну». И даже родная
мать встает в один ряд с другими матерями,
«как скульптуры из ветра и стали на
откосах железных путей».
Но поэзия живет отнюдь не
однозначными, не одномерными решениями. Это
доказал и Смеляков, хотя бы удивительным
рассказом о мальчике, любящем «хорошую
девочку Лиду» и готовом написать и
прославить ее имя «на полюсе Южном —
огнями, пшеницей в кубанских степях, на
русских полянах — цветами и пеной морской—
на морях». И в те стихи, что запевались
высоко и торжественно, подобно гимну,
дифирамбу, вплетаются иные, элегические,
задушевные мелодии. Непререкаемым су-
дьею оказывался «суровый мальчик из
Москвы». «Милосердная русская мать» была
вместе с тем и нежной, милой, единственной
мамой. И супротив «статуи Свободы с
атомным светильником в руке» вставала
двоюродная сестричка поэта — Аленушка — в
пионерском красном галстуке.
Так прозрачное и емкое течение образов
схватывает, передает многостороннюю,
противоречивую целостность человеческой
жизни. Смеляков познал и подтвердил своим
стихом высокую цену этих чудесных
совмещений, естественных в своей подчас
головокружительной неожиданности и смелости:
он показал вместе с тем, как обильны
возможности, что открываются перед ноэ-
том, способным наполнить свое слово и
живым биением человеческих сердец, и
дыханием, смыслом исторических
закономерностей.
Ту!г, конечно, имеется в виду не
механическое складывание, не внешнее соседство
двух рядов — человек и история, ^судьба
и общество, личность и эпоха, а их
органическая, взаимопроникающая слитность. Вот
открывает свой «День России» Ярослав
Смеляков «Вступительным стихотворением»,
в котором предлагает читателям —
Эту книгу многих судеб
И одной — моей — судьбы,—
и чреда стихотворений подтверждает
точность этой характеристики: да,
действительно, поэт не просто вознамерился рассказать
о различных жизненных явлениях,
привлекших его внимание, а обнажил,
представил нам воочию те прочнейшие нити
душевной близости, которые соединяют его
с ключевыми, узловыми точками прошлого
и настоящего.
Когда в следующем стихотворении —
«История» — Смеляков пишет —
201
Острее стало ощущенье
шагов Истории самой,—
в этом утверждении опять-таки нет ни грана
риторики: новые и новые страницы книги
свидетельствуют о том, что и в самом деле
история «своею тьмой и светом... омыла и
сожгла» поэта, что и в самом деле ему «все
явственней ее приметы, понятней мысли и
дела». К каким бы крупномасштабным
событиям и судьбам ни обращался Смеляков, они
оказываются вросшими в его жизнь,
вошедшими в его ум и сердце. Близость эта
не исчерпывается одним эмоциональным
откликом, восторженными возгласами,
нежными признаниями. Нет, в самом движении
чувств ненароком обнаруживается реальная
их основа, выясняется, что и как
связывает поэта с историческими свершениями,
с людьми, завоевавшими добрую или дурную
славу.
Вспомним, как прожигает поэта «молния
веков», когда он присаживается в кресло
Ивана Грозного. Вот так же словно
прикасается он «к высоковольтным проводам»,
когда произносит имя Долорес Ибаррури:
тут и воспоминание о собственных
чувствах, вспыхивающих при возгласе: «Нопаса-
ран! Но пасаран!», и память о молодом
испанце — сыне героини, погибшем под
Сталинградом, и ощущение нашей собственной
стойкости «перед лицом враждебных стран».
Вот почему это славное имя летит «яростно,
как буря из-под светящихся колес»!
Он говорит о Лумумбе, герое и мученике
далекого народа, как о родном сыне,
«ощущенье какой-то вины не оставляет все
время» поэта, и внезапно возникшее
переживание это — благородно, прекрасно.
Он глядит на полотна (и клеенки, и
вывески!) Нико Пиросмани, и его пленяет
«помесь мудрости и детства», человечность
страданий и радостей — еще одна линия
связи протянулась в его стихе.
Открытие следует за открытием. Истина
общественная, объективная становится
истиной выстраданной, пережитой, сугубо
личной, нимало не потеряв при этой своей
всеобщности, но приобретя страстность,
остроту, обогатившись индивидуальным
отношением поэта.
Не все герои Смелякова носят громкие
имена. Он вводит в свои стихи и людей
вовсе безымянных, но значительных,
оставивших глубокий след в народной жизни.
Ему дороги и «рязанские Мараты», что
«ломали жизнь на новый лад в краю ячеек
и молелен». И «сыны российские», что
приехали навсегда в Среднюю Азию помогать
в боях и на стройках, а теперь «лежат в
больших могилах, на склонах гор, чужих и
милых». И не узнанные, не завоевавшие
известности поэты: «в поселках и на
полустанках они средь шумной толчеи писали
на служебных бланках стихотворения свои».
Поразительно широк круг человеческих
судеб, трогающих, вдохновляющих
Смелякова,— судеб, о которых ему есть что
сказать, потому что они чем-то — тут
каждый раз дело поворачивается
по-новому, по-особому! — касаются судьбы, души,
ума самого поэта.
Все это бесконечное и целостное обилие
вопросов, фактов, событий, ассоциаций,
устремлений, охваченных в книге, и есть
День России. России
революционной, социалистической, идущей по тем
путям, что были предугаданы и указаны
Лениным.
Вместе с тем здесь отчетливо различаешь
традицию, которая в русской поэзии по
праву названа пушкинской. Вечная
и нынешняя жизненность ее подтверждается
и мощностью влияния, ею оказываемого, и
настойчивостью, сосредоточенностью,
необходимыми для ее развития. Как и все
благородные устремления человеческого духа,
она утверждается в борьбе, в преодолении
взглядов косных, ограниченных, а то и
откровенно обскурантистских. Как нельзя
более современно звучат слова, сказанные
Ф. М. Достоевским: «Ибо что такое сила
духа русской народности, как не
стремление ее в конечных целях ко всемирности и
ко всечеловечности? Став вполне народным
поэтом, Пушкин тотчас же, как только
прикоснулся к силе народной, так уже и
предчувствует великое грядущее назначение
этой силы».
Прошлое и настоящее нашей поэзии
(впрочем, подлинная поэзия не бывает
«прошлой»!) освещено этим стремлением к
всемирной, всечеловеческой отзывчивости,
о которой Блок сказал: «нам внятно всё»,
и Маяковский: «поэт — всегда должник
вселенной».
Словно бы постоянно должен
Вселенной, Отчизне, Времени и Смеляков.
В этом чувстве долга нет ничего
обременительного, навязываемого со стороны. Все
здесь подсказано внутренней, нравственной
потребностью, все идет от души. Тут опять
вспоминается Маяковский: «Поэтом не быть
мне бы, если б не это пел». Это — огром-
но, сложно, ответственно, но что же
делать, если поэт не может писать об ином и
иначе!
Верность и искренность
вознаграждаемы: они рождают слово властное, богатое
жизненным содержанием, покоряющее
своей естественностью. В книге «Декабрь»
стихотворение «Пейзаж» завершает строфа:
Я плотью чувствую и слышу,
что с этим зимним утром спит,
и жизнь моя, как снег на крыше,
в спокойном золоте блестит.
Чувствует и слышит всем
своим существом Смеляков и свежее зимнее
утро, и прелесть «сумасшедших слов»,
наполняющих «золотую книгу о любви» Манон
Леско, и подвиг скромных строителей Вол-
ховстроя, и блеск парада на Красной
площади... Сколько уже было написано о
праздничной, сияющей Москве, а все же
Смелякову и здесь удалось сделать
открытие, уловить «ликующий топот копыт»,
передать движение полков, заметить, как,
«словно бы красные песни, за ними летят
башлыки». Отчего так трогает это
стихотворение? Может быть, оттого, что здесь «на
трибунах рубака глаза утирает свои»?!
О чем бы поэт ни вел речь, он всегда видит
жизненный центр, движущую силу любых
свершений — человека, строителя
нового мира, и находит с ним общий язык —
язык поэзии великодушной и
проницательной.
Лев Левин
СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ
Пришло письмо от М. Алигер из
Кисловодска: «Читали ли вы в одиннадцатой
книжке «Дружбы народов» за прошлый год
повесть Мих. Рощина «Бунин в Ялте»?
Очень советую прочесть. А в первой книжке
за этот год напечатана очень трогательная
поэма С. Кирсанова о дельфинах...»
Я сразу прочитал эту драматическую,
как назвал ее автор, поэму, она показалась
мне в самом деле драматической,
трогательной в лучшем смысле слова, глубоко
человечной, и я решил о ней написать.
Но каждый раз, как я садился за
машинку, что-то мешало мне начать работу. Нет,
нет, с «Дельфиниадой» это никак не было
связано. Мое отношение к новой поэме
С. Кирсанова не изменилось и не могло
измениться — она по-прежнему казалась
мне и драматической, и трогательной, и
человечной. Тем не менее что-то меня все-таки
смущало — повторяю, не в поэме, а скорее
во мне самом. И вдруг я почувствовал, что
не должен писать об этой поэме, что не имею
права о ней писать. Вообще не имею права
писать о Кирсанове.
Но почему? — спрашивал я себя.
Почему я имею право писать, скажем, о Лугов-
ском или об Антокольском, а о Кирсанове
не имею?
И тогда я наконец вспомнил, что много
лет назад, когда мне шел двадцатый год и я
был горластым критическим юнцом в
Ленинградской ассоциации пролетарских
писателей (ЛАПП), «Литературная газета»
напечатала мою заметку о книге «Слово
предоставляется Кирсанову». Заметка
называлась. .. «Поэтическое жонглерство».
К счастью или к несчастью, мне тут же
удалось найти в своем архиве эту заметку,
а в библиотеке — книгу: «Слово
предоставляется Кирсанову». Книга вышла в 1930
году, в том же году появилась и моя заметка
о ней. Я перечитал и то и другое.
Талантливую, живую книжку,
изданную, кстати сказать, в прелестном,
наисовременнейшем («Тень звука», ау!)
оформлении знаменитого С. Телингатера,
я пренебрежительно назвал «книжечкой
претенциозно-прейскурантского типа,
содержащей около трех десятков мелких
стихотворений». Среди этих «мелких»
стихотворений был «Разговор с Дмитрием
Фурмановым»...
Заметка кончалась так: «Вредные
тенденции, характеризующие сегодняшнее
творчество Кирсанова, должны быть
парализованы; незаурядная культура
Кирсанова и его несомненный поэтический талант
должны быть принесены на службу
революции. Однако это может быть достигнуто
203
ценой коренной ломки всей творческой
системы Кирсанова, ценой, быть может,
продолжительного молчания, ценой
решительной перестройки всегр творчества на
новых диалектико-материалистических
началах».
Каково?!
Слава богу, что у меня хватило чутья
хоть упомянуть культуру и талант
Кирсанова. Но чего стоит совет принести этот
талант на службу революции ценой
продолжительного молчания!
Короче говоря, перечитав книгу «Слово
предоставляется Кирсанову» и мою
заметку о ней, я испытал внутреннюю
потребность — нет, необходимость! — написать о
«Дельфиниаде».
Случилось так, что именно в тот день,
когда я читал «Дельфиниаду», пришел
номер «Известий» с заметкой «Дельфины за
партой». Вот ее начало: «Голубую гладь
залива рассекли стремительные тела
дельфинов. Круто развернувшись, они застыли
на старте. Команда дежурного по
бассейну — и начинается урок . . . геометрии.
Черноморские «афалины» безошибочно
отличают шар от пирамиды, цилиндр от куба.
Затем — урок металловедения. И вновь
животные блистают удивительной
сообразительностью. Им ничего не стоит отличить
свинец от стали, латунь от пластика».
Кроме Кирсанова написать о дельфинах,
конечно, мог бы Багрицкий. Но Багрицкого
нет, и написать о них должен был именно
Кирсанов, прежде всего он.
«Я вырос меж рыб и амфибий и горло
имею немое. О песня рыбацкая! Выпей
дельфинье турецкое море!» — это строки
из «Морской песни», вошедшей в книгу
«Слово предоставляется Кирсанову». Если
бы поэт сорок лет назад знал о дельфинах
столько, сколько мы знаем теперь, он,
вероятно, уже тогда посвятил бы им поэму...
«Дельфиниада» начинается с того, что
человек, оказавшийся один на лодке в
открытом море, чувствует себя одиноким, как
никогда. Вдруг он ощущает, что море,
«кроме волн», катит еще «тела таинственных
существ». Так появляются в поэме ее
главные герои — дельфины. Они окружают
одинокого человека и влекут его «домой сквозь
мрак ночного моря на свет маячного огня».
Человеку слышатся слова, с которыми
дельфины обращаются к нему, а через него
ко всему человечеству: «Мы не люди, мы
не рыбы, мы дельфины»...
На фонтанах
мы красуемся —
дельфины,
как холсты и изваянья,
мы терпимы,
а на море мы гонимы,
мы травимы,
гарпуны
облюбовали наши спины.
...Братья люди,
вы любимы, вы невинны,
вы не знаете,
откуда мы —
дельфины,
кем мы были до потопа,
кем мы стали,
превращенные в ныряющие стаи.
...Пусть вы были б
хоть смертельно голодны!
Но дельфины
вам и в пищу не годны!
Как бы выполняя просьбу дельфинов,
автор поэмы хочет рассказать людям то,
чего они не знают: кем были дельфины
до всемирного потопа и как стали тем, чем
являются сейчас...
Оказывается, до потопа дельфины были
полноправными людьми. У них были свои
Адам и Ева, свои Каин и Авель. Только
звали их Амад и Аве, Инак и Ва«ль. Жили
они на берегах реки Дельта и звались дель-
фами. Это были глубоко человечные люди.
Если Каин убил своего младшего брата
Авеля, то Инак с риском для жизни спас
Ваеля, сбитого водопадом. «Инак себе не
скажет самому: «Я разве сторож брату
своему?»
Когда разражается всемирный потоп,
трудолюбивые дельфы строят надежный
ковчег. Ной обещает взять с собой
«прилежную семью» Амада, но берет только
женщин. «Канаты рубят, снимают сходни —
они нас губят, лжецы господни!» — в отчая-
ньи восклицает Инак, но Амад еще надеется
на Ноя и молит его взять с собой тех, «кто
ради всех строил ковчег». Однако дети
Дельты брошены на произвол судьбы и
вынуждены отныне плыть «за годом год, за
веком век». Мало-помалу лица их
удлиняются, кожу обтягивает слизь, ноги
срастаются и становятся черными хвостами,
руки превращаются в плавники...
Все берега отвергли нас,
а если мы ползли на берег,
с людьми увидеться стремясь,
мы слышали одно лишь — бей их!
И все же они ищут сушу — «пологий
берег или мыс»,— хотят быть полезны лю-
204
дям* Увидев, что Ной никак не может
привести свой ковчег к вершине Арарата,
они всем племенем ныряют в глубину,
впрягаются в канаты и ставят подножие ковчега
на выступ горы. И тут же снова убеждаются
в вероломстве Ноя: «В скопленье
беззащитных наших тел железный наконечник
полетел». Им ничего не остается, как вновь
уйти в подводный мир и уже окончательно
стать дельфинами. «Но для меня они —
все те же дети,— говорит сыновьям
умирающий Амад,— людьми когда-то бывшими
на Дельте». И еще: «Но помните, отец ваш —
человек...»
Поэма состоит из шести дисков, не глав,
а именно дисков, поскольку речь
дельфинов — «по-русски и по-дельфински» —
записана «на черные звучные диски».
В последнем диске глубоко человечная
и поистине драматическая тема «Дельфиниа-
ды» достигает наивысшего напряжения.
Человек вновь оказывается один в море,
и вновь его находят дельфины и вновь
«несут его ладью, как свита, черными боками».
Он думал, медленно гребя,
что «человек» звучит не гордо,
когда убийцы зверья морда
идет с обрезом на тебя.
Что значишь ты без трав и птиц
и без любви к пчеле жужжащей,
без журавлей над хвойной чащей,
без миловидных лисьих лиц?
Когда поймешь ты наконец,
врубаясь в мертвые породы,
о человек, венец природы,
что без природы твой венец?
В заключение дельфины, со своей
стороны, обращаются к человеку со страстным
призывом вернуть их к людям, «где нас
ищет не стрела, не острога, а поэта
человечная строка».
Таков пафос «Дельфиниады», поэмы,
написанной по-кирсановски
изобретательно, с выдумкой, которой никак нельзя
отказать ни в размахе, ни в поэтичности.
з
Когда сорок лет назад я писал о книге
«Слово предоставляется Кирсанову», мне
всюду чудилось поэтическое жонглерство,
а на самом деле это был молодой
артистизм, щедрый, задорный, не боявшийся
тратить себя напропалую.
Не я один требовал в те годы от
Кирсанова, чтобы он, в сущности, перестал быть
самим собой, отказался от того, что
составляло главную силу его дарования. К
счастью, он устоял. Это подтверждает и «Дель-
финиада» с ее бесспорно кирсановской
динамической ритмикой и тоже кирсановской
неожиданной образностью («Среди толпы
блестящих спин играет с сын ом мать-дельфин, то
погружаясь, то взлетая, изогнуто,
как запята я», «Слыша вопли
пароходов, мы, дельфины, как
спасательные лодки из резины, к
утопающим на выручку скользили», «Я вновь
нырнул в урочный час, держа приборы в
акваланге, с двумя баллонами, как
ангел, сложивший крылья на
плечах» и т. д.).
Перед нами — тот самый Кирсанов, что
и сорок лет назад.
И в то же время далеко не тот!
Культура, талант, артистизм — все это
было и сорок лет назад. Но появилось нечто
новое, как бы осветившее новым светом и
культуру, и талант, и артистизм.
Человечность! Человечная строка!
Сегодняшний Кирсанов имеет полное право
сказать так о себе.
Может быть, поэтому М. Алигер и
назвала «Дельфиниаду» «очень трогательной».
Что и говорить, есть у Кирсанова поэмы
блестящие, острые, изобретательные, даже
ошеломляющие, но трогательными их
нельзя назвать. Они какие угодно, только не
трогательные.
Кому-нибудь может показаться, что и
«Дельфиниаду» не следует называть
трогательной, что это не в поэтическом
характере Кирсанова, что следовало бы найти
более точное определение.
Я думаю, что это не так. Ведь
трогательно — это в конце концов и есть человечно.
Евгений Сидоров
смысл и форма
(О стихах Давида Самойлова)
У Давида Самойлова есть стихотворение
«Память».
Я зарастаю памятью,
Как лесом зарастает пустошь.
И птицы-память по утрам поют,
И ветер-память по ночам гудит,
Деревья-память целый день лепечут.
Медленно, словно спросонок,
ворочаются слова. Свободный стих подчеркивает
неустоявшееся зыбкое состояние, и только
к концу строфы образ памяти начинает
обретать четкий ритмичный рисунок. Экран
мысли светлеет, поступь стиха становится
стройной, и как награда приходит первая,
пока еще робкая, рифма:
И там, в пернатой памяти моей,
Все сказки начинаются с «однажды».
И в этом однократность бытия
И однократность утоленья жажды.
Все готово, все созрело для финального
четверостишия. Память поэта опровергает,
преодолевает однократность бытия. Ведь,
в сущности, поэзия, как и музыка, есть
воспоминание, возвращающее жизни ее
моменты, уже исчезнувшие, но продолжающие
свою действительность в художественном
сознании. Для Самойлова такое возвращение
сопряжено со стиховой гармонией,
понимаемой в классически строгом смысле этого
слова. Последняя, главная строфа
стихотворения безупречна по смысловой и
музыкальной инструментовке:
Но в памяти такая скрыта мощь,
Что возвращает образы и множит...
Шумит, не умолкая, память-д о ж д ь
И память-снег летит и пасть не может.
Все стихотворение в целом как бы
обнажает процесс памяти и поэтического
творчества. Рифме здесь придано особое
функциональное значение. Конечно,
соразмерность сама по себе не есть цель Давида
Самойлова, но только благодаря
соразмерности он достигает своей цели:
Апрельский лес спешит из отрочества в детство.
И воды вспять текут по талому ручью.
И птицы вспять летят... Мы из того же теста —
К начальному, назад, спешим небытию...
Про таких, как он, говорят: «Мастер»,
часто имея в виду лишь прекрасное умение
делать стих легким, печальным, прозрач-
ным. Подразумевается: не слишком ли он
мастер, не холодноват, не старомоден ли в
своем постоянном стремлении к
формальному совершенству, когда вокруг бушует
проза и на человека XX столетия
обрушиваются девятибалльные волны здравого
смысла, публицистики, информации?
Стоит пробиться к сердцевине
непростого самойловского стиха, чтобы
почувствовать природу его гуманизма, понять
современность его поэзии, и тогда слову «Мастер»
будет возвращено неусеченное, высокое зна-
чение.
Вот стихи о фотографе-любителе. Вот он
«фотографирует себя с девицей, с другом и
соседом», «себя — за праздничным столом,
себя — по окончанье школы», себя — на
фоне исторических достопримечательностей,
и так день за днем, год за годом. «А для
чего?»
Ах! — миг один,— и нет его.
Запечатлел, потом — истлел
Тот самый, что неприхотливо
Посредством линз и негатива
Познать бессмертье захотел.
А он ведь жил на фоне звезд
И сам был маленькой вселенной,
Божественной и совершенной!
Одно беда — был слишком прост!
И стал он капелькой дождя...
Кто научил его томиться,
К бессмертью громкому стремиться,
В бессмертье скромное входя?
Не знаю, как для кого, но для меня
эта маленькая повесть, исполненная
мудрой иронии и грусти, стоит многих
современных стихов и рассказов, посвященных
несвершившейся человеческой судьбе. В
«Фотографе-любителе» поразительно
чувство свободы и уверенности, с которым герой
не ощущает себя органичной частью мира
и добровольно, даже радостно, выпадает
из него. За незамысловатой историей встает
одна из серьезнейших драм современного
бытового сознания. Тихая драма: «Одно
беда — был слишком прост!»
«А для чего?» — вот вопрос, который
постоянно занимает Самойлова в его новой
20*
книге «Дни». Творчество поэта стало
заметно -философичней; он чаще прибегает к
верлибру, раскачивает остов рифмованного
стиха, неуловимо сбивает ритм и
спотыкающейся «неточной» строкой обращает
читателя к точной глубине поэтического и
нравственного содержания. Самойлов
по-прежнему артистичен, но его мироощущение
стало сложней и противоречивей, оно
взошло на новую ступень и потребовало новых
стилевых усилий. Так время входит в стих,
так поэзия преображает время.
Разумеется, эти усилия приносят не
одни удачи. Наше чувство остро реагирует
на каждый сдвиг его поэтической системы
именно потому, что он поэт крупной, ярко
выраженной индивидуальности.
Стихи Самойлова об искусстве, о поэзии,
о смысле красоты можно с уверенностью
отнести к лучшим в его творчестве. Здесь
выделяется мотив бескорыстия, как
важнейшей черты истинного творчества: «Ведь
высший дар себя не узнает. А красота —
превыше дарований,— она себя являет без
стараний и одарять собой не устает».
Чутко, почти первобытно внимая смыслу
и звуку, Давид Самойлов прокладывает
свой путь в русской поэзии. У него есть
вершины — к ним я бы отнес замечательно
глубокое драматическое стихотворение
«Пестель, поэт и Анна». За третьим перевалом
перед Самойловым открываются новые дали.
Он встречает их с надеждой, легкой и
точной мыслью, нестареющим словом.
Лидия Филиппова
ЧУВСТВО ПЕРСПЕКТИВЫ
Константин Ваншенкин принадлежит к
тем поэтам, которые всю жизнь
последовательно и упорно вырабатывают в себе
мастерство. Из стихотворения в стихотворение.
Каждодневно. Всей своей судьбой. Вот
почему каждая встреча с его новой
книгой — это встреча с новым, неожиданным
Ваншенкиным.
Такой встречей стала и недавно
изданная «Советским писателем» книга стихов
«Станция», написанная поэтом за последние
три года.
Чувство перспективы —
воспламененное состояние, сегодняшнее состояние его
души. Видно, таков нравственный возраст
его внутреннего мира, когда должно
появиться это ощущение приближающейся
дали. Эта просветленная тяга к дню, к
белому, зрячему солнечному сиянию.
Что это? Ощущение краткости
отпущенного времени? Мысль о бренности бытия?
Нет, не то и не другое. Время поэту нужно
для главного — для переработки жизни
в поэзию, превращения потенциальной
энергии материала в кинетическую энергию
стихотворной строки.
Произошел нравственный сдвиг. Душа
прозрела, укрепилось внутреннее видение
мира. Ясностью пронизан завтрашний день.
Вот почему поэт подчеркивает:
Работать буду без оглядки,
Покуда вижу то крыльцо,
Опушку леса, край оградки,
Твое над книгою лицо.
Мир, в котором мы живем,
просветленный любовью, побуждающий надеяться и
клясться. Мир, где все вещи и явления так
естественно просты. Отсюда и та нежность
и внимание даже к самому на первый взгляд
незначительному. Поэт отыскивает не
только красоту, но и деловитую реальность. Он
будет работать денно и нощно для этой
реальности:
Под тяжестью ночного мрака
Покуда я не потерял
Раскрывшееся блюдце мака,
Гвоздики мятный матерьял.
Так понимает он внутреннюю реальность
своего лирического «я». Так он понимает
воспламененное от этой реальности
вдохновение.
Ложный пафос претит музе поэта.
Константин Ваншенкин, написавший когда-то
«Я люблю тебя, жизнь», весь устремлен в
самую жизнь. Он как бы приоткрывает
завесу над своей затаенной до поры до времени
поэтической далью и показывает нам всего
краешек ее: «Опушку леса, край оградки,
твое над книгою лицо». Эта даль не
заманивает, не зовет куда-то в неведомое, не обе-
207
щает несбыточного чуда. Эта даль в нас
самих, в нашем сердце, в нашей памяти.
Путешествие за удивительным — это
путешествие в повседневность. Путь от
калитки сада до первой яблони уравнен со
звездными трассами, с дорогой от
космодрома до космических высот. Уравнены
вдохновенье и забота, нежность и
непримиримость. Кажется, что поэт во всем
стремится найти симметрию, все уравновесить.
Но это только кажется. На самом деле
в глубинах его стихов скрыт порыв,
поэтическое движение, которое «прощупывается»
и в напряженной пульсации ритма, и в
интонационных сдвигах. И самое страшное
для Константина Ваншенкина —
неподвижность, вернее безнадежность
неподвижности. Не может постичь девочка из его
стихотворения, что каменный памятник
Лермонтову — не живой:
Как время шло ни шатко и ни валко,
Как вскачь неслось — настанет срок узнать.
Но и теперь ей Лермонтова жалко:
Снег не стряхнуть и птицу не согнать.
Именно эта тайная жажда движения,
необоримая и страстная, присуща героям
его стихотворений. Жажда движения —
это жажда жизни, познания. Мир потому
и прекрасен, что одушевлен движением, и в
этом движении станция — то место, где
можно на мгновенье остановиться,
передохнуть, хлебнуть глоток воздуха перед
новой дорогой. Станция — это веха в
движении. Поэзия измеряется этими порой
случайными, порой ожидаемыми станциями.
Константин Ваншенкин во всем
стремится отыскать новое, невиданное. Мир
для него наполнен великими тайнами,
требующими поэтического истолкования. Это
накладывает определенный отпечаток на
его стихи. Почти математическая
правильность строк, строгая соразмерность в
поэтических деталях — это только тщательная
продуманность формы, в которой заключено
воспаленное бытие беспокойной души.
Не оттого ли порой кажется, что
Константин Ваншенкин не любит стихийного,
непонятного — он и в смутном
предчувствии стремится выявить строгое,
организованное движение. Не случайно убывающий
день у него «отмеченный четкостью
ориентиров». Вот почему даже контуры стиха
у Константина Ваншенкина резко
обозначены четкими, полноголосыми рифмами,
вот почему в его книгах редко встретишь
паузник или свободный стих — автор всем
стихотворным размерам предпочитает
строгий ямб или распевный хорей.
Поезда!
Я не видал их с лета,—
Пояса
Из грохота и света...
Лист, шурша,
С осинок облетает.
Но душа
Иное обретает.
Духовное он стремится овеществить,
прошлое вернуть настоящему. Настолько
крепко увязаны в одно целое его лирический
характер и поэтические средства, сама
живая ткань стиха, что строки как бы
овеществляются.
И все же надо сказать, что поэт любит не
столько цельное, неделимое, сколько
отдельное. Не столько словарь, сколько
отдельное, поставленное под напряжение
строки слово. Не шумное многолесье, а стоящее
на особинку дерево. Он и на мир смотрит
через точную поэтическую деталь.
Такой характер поэтического мышления
требует от поэта особой пристрастной
точности. Он чувствует неразрывную связь
с грядущим. Грань настоящего как бы
стерта, ее как бы нет. Настоящее Константина
Ваншенкина — либо то, что было, либо
устремленность в неизведанное, за кромку
горизонта, из леса туда, где блестит
«осколок зеленой звезды» дня.
Прошлое, минуя настоящее, как бы
превращается в будущее. Путь поэта лежит
от станции к станции, и сам он, словно в
поезде, спешит, торопится туда, за кромку
горизонта, где должно быть утро, где
«лист, шурша, с осинок облетает, но душа
иное обретает». Главное — это обретение.
И пусть все окажется иным,
неожиданным, непривычным,— ведь ради этого стих
поэта тоскует о дали:
Равнина ненастьем измаяна,
Лишь солнце в неполный накал
Порой проступает из марева
Не там, где его ожидал.
Даже пейзажные стихотворения
Константина Ваншенкина, строго говоря, для
него только способ запечатлеть личную
сопричастность миру:
В зимний полдень искрись, гори,
Весь простор от села и до лога,
Окна школы, и склон горы,
И накатанная дорога.
На станции не оканчивается путь.
Станция Константина Ваншенкина —
отправная. С нее начинается новая дорога в
новую, в еще не открытую даль.
208
Виктор Чалмаев
УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ...
Есть странное беспокойство,
возникающее при ясном благополучии, победоносном
даже шествии современного человека. В час
торжества разума он способен вдруг
тосковать по тому, «чего и умным не подделать».
В атмосфере всеобщей вежливости, гибкой
учтивости он жаждет вдруг неуклюжей,
шероховатой наивности и прямой доброты.
От всего ясного, расшифрованного,
«очевидного» он вдруг бежит к слабо
мерцающему свету последних таинственных
явлений. На вершине человеческой зрелости
и духовного всевластия он способен вдруг
с пронзительной силой ощутить всю меру
своей слабости, единичности.
Но эти порывы, говорящие о
неистощимой жажде человечности, иногда
удовлетворяют тоже полумеханическим путем. Не
умея оживить в душе ни единого образа,
не умея вести сложного и трудного
гамлетовского диалога с «тенью отца», иные
поэты сами творят себя, свою тень, своего
оппонента, даже двойника. «Прирученная»,
почти анемичная природа, «захватанные»
потными, натертыми мелом руками Стеньки
Разины, почти бутафорский снег или
деревья без объема и тени — это те же
спортивные снаряды для ловких упражнений,
для диалога, не таящего открытий.
Легкое «счастье» самодовольства, когда
не нужно искать золота — есть позолота...
Лирический герой книги Станислава Куня-
ева «Ночное пространство» приходит, а
вернее, попадает, заносимый множеством
мелких, житейских стихийных
обстоятельств, и в мир среднерусской природы,
и в Калугу, город детства, и в есенинское
Константинове, и на Мтацминду, и в
туманный шведский город в состоянии вечной
«незавершенности», «неутрясенности» ни
дел, ни сомнений. Кажется, многое говорит
о том, что все уже ясно, что ушедшее
ушло, наступившее наступило, что
воистину — «решено без возврата»... Да и в
самом деле — поэт не хочет звать от уменья
к неуменью, от дорог — к бездорожью, от
удобств — к неудобствам:
Вдоль набережной фонари,
и что ни дом — телеантенна.
Построили гигантский мост,
увы, не то чтобы до звезд,
но все же смотрится отменно.
В афишах модные артисты...
Следует сразу же сказать, что С. Куня-
ев, искренне любящий старую Калугу,
вовсе не певец «сумерек провинции», ему чужд
в принципе тот исторический
пейзанский сентиментализм, который исповедует
одномерное сознание иных «деревенщиков».
Так «завершиться», утешиться однобоким
страхом перед веком, который по-прежнему
«шествует путем своим железным» (Е.
Баратынский), смешно и неловко. На такой
«концепции», как на щепке, далеко не
уплывешь... Это такое снотворное, от которого
можно и не проснуться.
...Диалог поэта с миром полон
неожиданных пауз, торопливых вопросов,
вскриков душевных, тревог, догадок о
свершающемся. Бегство от плоскости, от мира без
теней, от «чертежа» — это поиск душевной
цельности, глубины, звуков небудничных:
Дыхание весенних гроз,
бушуя, пролетает мимо,
но тайна совести и звезд,
струящих свет на новый мост,
на древний городской погост,
мучительна, непостижима.
Вопросы эти, предощущения, внезапные
и ломкие, многое теряют, если их тоже
принимать за нечто завершенное, за
универсальное руководство. Само «ночное
пространство» поэта — это не царство логики,
а мир, как бы переведенный в
«слышимость», в котором многие темы сопряжены
не логической, не предметной взаимосвязью
(тезис — антитезис, движение — покой), а
скорее по законам сложного музыкального
взаимопроникновения, «контрапункта». В
сомненье — ответ, в тревоге —
утверждение, в кажущемся окончательном
приговоре — привкус догадки...
В мире слышимом это равновесие утрат
и находок особенно подвижно, изменчиво.
Итога, желанных нравоучительных
концовок — «тако веруй!» — здесь нет. Но зато
сам процесс, сам нравственный «учет» того,
что душа утратила, а что приобрела,
предельно поучительны, оптимистичны.
Утраты, призраки, зоны сноса и
забвения — как странно велико их место в
памяти совсем еще не «старого» лирического
209
героя! Поистине холодом расставаний,—
и с детством, и бабушкой Дарьей
Захаровной, которую скоро будет «некому здесь
вспомнить», и с медленным миром «нежных
речек, зеленых опушек»,— полна душа. Но
это не грусть осени, не созерцательные
прогулки Александра Бенуа по Петергофу.
Душа еще достаточно молода, чтобы после
каждого удара, утраты, взрыва вновь
самосоздаваться, преображаться, рождать новые
ценности. Этот процесс — самый
интересный в лирическом герое «Ночного
пространства», и раскрыт он с глубокой
сосредоточенностью, с чувством ответственности за
каждый душевный жест. Да, сердце порой
вздохнет над тем, что слишком уж
«здоровый пошел материал». Вздохнет, потому
что знает, каким великим мерилом высоты
души была... наивность: тщеславное
скудоумие, способное прикрыться и
напыщенностью, и высокопарностью, и важностью,
никогда не рисковало рядиться под
наивность — здесь оно сразу разоблачало себя
как голая глупость. Наивным могли быть
Андерсен или Толстой.
Но все эти утраты рождают какие-то
новые ритмы, новое «клубление сил»,
скачки, видимо, не менее чудесные и
парадоксальные: «жизнь работает неутомимо, и ее
огнедышащий вздох то и дело проносится
мимо». И главная ценность — все более
утончающаяся, все более многозвучная
душа самого героя, души множества
современников. Множество жизней проживает
он за одну жизнь, безбрежно напряжение
его покоя! По сути дела, лирический герой
«Ночного пространства» повторяет на новом
этапе сложный путь внешнего
«саморазорения», утрат и внутреннего
самообогащения, расцвета, который прошел лирический
герой С, Есенина. Уходила и для С.
Есенина в прошлое, как призрак, и «девушка в
белой накидке», рушился «дней моих
розовый купол», порой казалось, что «жизнь
моя, иль ты приснилась мне?..». Но сквозь
этот треснувший купол
религиозно-патриархальных иллюзий, юношеского
эгоцентризма проступало реальное небо, сквозь
сны о жизни — ритмы и свет живых
событий, сквозь покой — те вихри, о которых
поэт скажет:
Вихрь нарядил мою судьбу
В золототканое цветенье.
Не покой в скиту, не «елисейские поля»
книжной клюевской созерцательности, а
вихрь...
Одну из этих новых ценностей мы уже
ощущаем... Какая чуткость к подлинному,
какое напряженное стремление пробить все
«сухие слои» в жизни, добираясь до живой
воды мужественной человечности, жажды
«высветить в милых чертах беззащитное,
детское что-то» пробуждается в герое
«Ночного пространства»! Поэт платит уже за этот
поиск, за синтез разнородных впечатлений,
за это равновесие утрат и находок не
простой усталостью, бессонницей, а неизмеримо
более существенным, платит с тем
напряжением, о котором Арсений Тарковский
сказал:
Быть может, идиотство
Сполна платить судьбой
За паспортное сходство
Строки с самим собой.
Но в этой самоотдаче — истинное
счастье, это свидетельство нравственной
активности героя, рожденной нашим временем.
Поэт не хочет завершить, «закруглить»
свою судьбу, исключив приток одних
впечатлений, усилив приток других? Но
завершенность самодовольства — это
глухота, это обрубание пространства вокруг себя,
игра с прирученной природой, с «мягкими»
катастрофами вместо бурь, это поиски
сюрпризов, а не открытий.
Видимо, и дальше С. Куняев будет
уходить из этой среднерусской тишины, чтобы
возвращаться к ней. Будет искать в жизни
тот созидательный, «зиждущий» поток,
который включит в свое течение все, не бросив
беззаботно и пошло ни вздоха древней
старухи на церковь возле гастронома, где «с
причастья шла когда-то красной девицей
она», ни множество иных самых
прекрасных чувств... И потому он еще долго будет
жить в состоянии:
Не торопиться. Растянуть
тоску о жизни до предела.
Пускай она раздвинет грудь,
Чтобы почувствовать: созрела...
Будет он вслушиваться и во все, что
утрачено зреньем, но осталось в слове
навек («Слово»), будет искать лицо
человеческое, а не обобщение его, живую радугу,
а не прейскурант красок. Ведь синтез
деловитости и нежности, покоя и скромности,
стихийно прекрасных порывов и расчета
еще возможен, даже близок, как близка
к тому современному микрорайону из
крупноблочных корпусов природа. Город
кончается окраиной.. ♦
210
Дмитрий Стариков
причастность к миру
Один из того поколения, детство
которого пришлось на годы войны, Владимир
Соколов сделал свои первые шаги в
большую поэзию сравнительно недавно — в
конце 40-х — начале 50-х годов. Поэт не
спешил высказаться, не форсировал голоса;
говорил лишь о том, что знал, перечувствовал
лично и глубоко.
Оттого-то восхождение Соколова к
мастерству, уже с самых первых шагов
отмеченное серьезностью отношения к жизни, не
миновало естественных этапов отрочества,
юности. Известность среди читателей
принесло Владимиру Соколову в 1950 году
стихотворение «Первый снег».
Двадцатидвухлетний поэт свежо и чисто передал в нем
атмосферу школьной жизни, первой
мальчишеской влюбленности, тех полудетских
еще «бед» и «печалей», пионерских лагерей,
сборов, утренников, «танцев бальных в
физкультурном зале», воспоминания о
которых, стираясь с возрастом, уходя в
прошлое, растаяв, точно снежинки на горячей
щеке, оставляют, однако, в душе,
неизгладимый светлый след.
Сегодня, оказавшись как бы взрослее
многих своих однолеток, Соколов вместе
с тем сумел сохранить непритворную
молодость чувств поколения и передать ее
недекларативно, в самой атмосфере своих
нынешних, взрослых стихотворений об «ученическом
зимнем рассвете».
В них откристаллизовались не просто
воспоминания. Подлинная поэтическая зрелость
есть непрестанное возвращение поэта в
ученики жизни. Неутолимая жажда воплощения
мира в словах, в музыке свободной и
строгой речи — разве сводится к этому «поэтиче-
ския дар»?
Спасибо, музыка, за то,
Чего и умным не подделать,
За то спасибо, что никто
Не знает, что с тобой поделать.
Ощущение незаменимости, неподмени-
мости искусства имеет у Соколова надежную
основу. В творчестве мастеров прошлого,
в поэзии старших своих современников, в
собственной работе поэт тонко чувствует
и сознает главное, составляющее душу
искусства,— его причастность миру,
способность постигать и преобразовывать жизнь.
Поэт вспоминает, как мальчиком,
По глупости, видно, светел,
По неведенью, видно, шал,
Я не ветром, а словом «ветер»,
Как филолог какой, дышал,—
«жил, зарывшись... в книжки», «не во сне,
так в подобье сна». Подлинное поэтическое
«ученичество» Соколова — ив этом его
общеинтересный глубокий смысл —
состояло, однако, не в наивном отказе от
«филологии». Напротив! Проблемы мастерства,
«книжная» премудрость становятся личным
и первостепенным делом, профессией и
судьбой, когда разомкнуты, обращены в
жизнь. «Филология» обретает житейский
смысл в поэзии. На этом уровне отношения
к искусству по-настоящему и возникает
перед поэтом вопрос о полноте,
разносторонности, богатстве жизненных впечатлений,
о тематическом кругозоре его искусства,
о гражданственности.
Можно услышать порой, что Соколов,
дескать, поэт «негромкий», чурающийся тем
широкого социального звучания, больших
гражданских обобщений. Превратное
представление. Оно ошибочно по самому своему
существу, в исходных своих посылках.
Хотел бы я долгие годы
На родине милой прожить,
Любить ее светлые воды
И темные воды любить.
Хочу я любовью неустной
Служить им до крайнего дня,
Как звездам, как девочке русой,
Которая возле меня.
Искусство слова может и должно быть
выражением действенной любви к
отечеству, а может оказаться лишь
«словесностью». Все дело в том, сколь глубоки
жизненные корни стихотворчества, насколько
черпает оно свое содержание в
действительности, насколько выступает как творческое
поведение автора. Тогда-то и самые
«прямые и громкие» слова о селе и об
индустрии, о родине и о любви становятся
гражданским делом поэта. Тогда и стихи о
стихах выливаются в акт причастности
России, научают этой причастности, обогащают
душу.
Из статьи в статью переходит в
последнее время раздумье над прямо выраженным
211
в одном из стихотворений Соколова
ощущением внутреннего родства в сегодняшней
социалистической культуре таких не раз и
не без оснований противопоставлявшихся
имен, как Некрасов и Фет. Традиция
классической русской поэзии, как она живет
в современном нашем искусстве, была бы,
разумеется, не полна без усвоения фетов-
ского лирико-философского наследия. Но
она просто омертвела бы и иссякла без
высокого гражданского пафоса, который,
может быть, более всего связывается в нашей
памяти как раз с наследием Некрасова.
Можно думать, именно в этом заложен
смысл сближения Фета и Некрасова в
восприятии современного мастера стиха.
Соколов выступает как своеобразный
и вполне естественный продолжатель
традиции русского гражданственного стиха.
Притом традиционность «прозрачных
размеров, обычных слов» — вовсе не то же
самое, что консерватизм; продолжение в
современности давних тем и мотивов —
вовсе не просто их повторение. «Не повторить
хочу — продолжить, напомнить, выручить,
спасти...» — это у Соколова не просто
лирическая декларация, это ему удается —
и в «лирике чувства и мысли», и в
«пейзажных» стихотворениях.
Горожанин по воспитанию и
жительству, поэт города, Соколов остро
воспринимает и жизнь родной природы. Его
пейзажи необычайно одухотворенны,
драматичны; самые, казалось бы, неподвижные
из них, как бы застывшие в тишине,
исполнены, однако, напряжения и вдруг точно
«взрываются» под его пером, раскрывая свой
неожиданный и всегда глубоко
человеческий смысл. Сердечно освоены поэтом
городские улицы, переулки, дворики; и столь
же естественно вошла в его лирику
последних лет русская сельская природа, вошла
властно, даже и с некоторой, так сказать,
полемической «настоятельностью»:
Россия средней полосы...
Туман лугов, и запах прелый
Копны, промокшей от росы.
И карий глаз ромашки белой.
Стояли цитрусы стеной,
Стучали в крепкие ладошки,
Но все всплывал передо мной
Непризнанный цветок картошки...
Лирика природы у Соколова, по
свойству его поэтического характера, почти
всегда выходит за пределы живописной, пусть
даже и очень выразительной, пейзажной
картины. Точность зрения, простота и
смелость красок, неожиданность детали, iro-
даваемой подчас как бы в наброске,
эскизно,— все это служит в его стихах задаче
более сложной и более для него
увлекательной, нежели создание законченного
словесного «портрета» человека, созерцающего
мир. Его душе не свойственны тишина,
покой, умиротворенность,— напротив,
гармония человека с окружающим миром в
лирике Соколова всегда исполнена
противоречий, борьбы чувств и состояний, разных,
подчас противоположных устремлений;
жизнь предстает здесь в драматизме
разрывов и столкновений, в бурном, хотя внешне
и не бурлящем, потоке времени, в единстве
частной, сугубо личной судьбы с огромным
движущимся миром.
Где это было? Да там это было,
Где еще наша земля не остыла,
Где еще ленточка вьется твоя
Возле опушки тропой у жнивья.
Так это было. И так это будет.
Даль разведет, да сведет, не остудит,
Только б не убыло, только бы прибыло,
Как бы там ни было, что бы там ни было.
Это естественное, точно вздох, невольно
вырвавшийся из груди, обращение к Родине,
к большой ее сегодняшней и завтрашней
судьбе, это упование на то, что и в твоем
малом, отдельном и особом, личном, в
конце концов так или иначе все «образуется»,
пока прочна, пока не порвалась твоя связь
с общей жизнью, с судьбами соплеменников
и современников, составляет одно из
главных нравственных богатств поэзии
Соколова. На этой основе просто и как-то сам
собой входит в его лирику — в сложном
единстве с драматическим внутренним
миром поэта — мир трудовых людей,
кажущаяся своя отъединенность от которого, по
причине внутренних душевных разладов,
преодолевается тут тоже как-то сама собой,
потому что кругом — свои и ты им не чужой.
Стоит вдуматься, как воедино, как
нерасторжимо образ индивидуальной, личной
человеческой «планиды», столь поэтично
выразившийся в старом популярном романсе «Гори,
гори, моя звезда...», слился в душе поэта
с другой старой песней в стихотворении
«Звезда полей»:
Звезда полей, звезда! Как искорка на сини!
Она зайдет? Тогда зайти звезде моей.
Мне нужен черный хлеб, как белый снег пустыне,
Мне нужен белый хлеб для женщины твоей.
Представая в поэзии Соколова в таком
вот всеобщем своем значении и смысле, судь-
212
ба родины вместе с тем нигде в его стихах
не абстрагирована, не оторвана от народной
истории. Притом даже и самые высокие
обобщения, самые отвлеченные выводы
делает здесь — и это ощущается постоянно —
живой, конкретный человек, с неповторимой
индивидуальностью своих отношений в мире
и к миру, человек «от мира сего», со своей
походкой, своим лицом, своей трудной
любовью и враждой, со своей «малой родиной»
и родней. Образ обычного, земного
человека, нашего товарища и современника,
при всей его даже и бытовой обыденности
и достоверности, нигде, однако, не
«приземлен» у Соколова до уровня так называемого
«маленького» человека. Его «хата» никогда,
отроду не была и не будет «с краю»
общенародной жизни и борьбы. Тем и живо, тем
и сильно мастерство Владимира Соколова,
чье имя за последнее время стало ощутимо
весомым в многоликом и многоголосом мире
русской советской поэзии.
Владимир Гусев
МУЗЫКА, ЖИЗНЬ, ПОЭЗИЯ
Среди поэтов, изданных в эти год-два,
немало интересных. Даже если книги,
выпущенные ими на сей раз, не являются их
центральными книгами, многие из этих
изданий достойны общего разговора. Отчего
же внутренне как-то не тянет затевать такой
разговор?
Задумываясь о природе этого чувства,
я вновь прихожу к тому, что уже не
является особенным откровением. В поэзии
сейчас мало внешне нового, новых
процессов и некиих целостностей; все ушло куда-то
вглубь и в «оттенки индивидуальностей»,
и критику поэзии трудно сориентироваться.
Конечно, отталкиваясь от тех или иных
имен и книг, можно вновь завести
дискуссию о публицистике и деревенской тишине,
об эксперименте и гражданственности, о
национальном и общефилософском, о
классике и неклассике, об артистизме и
простоте, но, коротко говоря, все это уже надоело
и не выражает тех сложных и
рационалистически трудно определимых истинных
процессов, которые идут сейчас в обществе
и в поэзии.
Изданные недавно книги, составленные
вместе, выглядят характерно: есть новые
книги, но почти нет новых имен; есть новые
оттенки, но нет принципиально нового.
Хорошо это или плохо? Не знаю,
вопрос задан не в той плоскости.
Поживем — увидим.
Пока же — два слова об одной книге
одного поэта.
Все «бетховенское» начало в нашей
натуре противится Ахмадулиной. Бетховен —
это излияние мощных душевных стихий.
Это могущество и. . . «прямолинейность».
Не только в самом Бетховене — суть его.
В поэзии Ахмадулиной нам не хватает
Некрасова, Надсона или, если угодно,
Евтушенко. Ахмадулина совершенно чужда
риторики. Но что такое риторика? Это
называние некиих главных категорий
человеческого существования, это вопль об
истине, добре, красоте, не претворенный
в нужную форму и тем раздражающий нас.
Но бывают эпохи, когда нужна не
риторика, но все-таки явственный разговор
о главном, о тех кардинальных ценностях,
коими сильна жизнь.
Б. Ахмадулина впрямую не ведет этого
разговора. Она слишком профессиональна.
Она не позволяет себе поддаться
девическим, наивным эмоциям. Испытав эмоцию,
она прежде всего подумает, нечто
переварит в себе, а после уж напишет:
Как говорит ребенок! Неужели
во мне иль в ком-то, в неживом ущельи
гортани, погруженной в темноту,
была такая чистота проема,
чтоб уместить, во всей красе объема,
всезначащего слова полноту?
И все же непередаваемая прелесть есть
в ее опосредованной, искусно-возвышенной,
несколько манерной поэзии.
В чем дело? В чем сила Ахмадулиной?
Почему, несмотря на отсутствие книжек
(всего вторая с 1961 года!) и, мягко
выражаясь, не чрезмерную регулярность
публикаций, она неизменно живет в нашем
сознании, когда мы говорим о серьезной
современной поэзии?
213
Ахмадулина временами демонстративна,
и тогда секреты ее обаяния обнажены в ее
собственных поэтических тезисах:
Читатель милый, поиграй со мной!
Мы два столетья вспомним в этих играх.
Представь себе: стоит к тебе спиной
Мой дальний предок, непреклонный Игрек.
Это из «Моей родословной» — лучшего
и как раз серьезнейшего произведения в
сборнике... Читатель понимает, что перед
ним — серьезное в форме игры, загадки
бытия в наряде легкого артистизма,— и
улыбается поэту, прислушивается к нему.
И правильно делает — ибо придет к
прекрасным строкам вроде этих:
Веселый центробежный вихрь
меня из круга вырвать хочет.
О, Жизнь, в твою орбиту вник
меня таинственный комочек!..
О, Жизнь, любимая, пускай
потом накажешь всем и смертью,
но только выуди, поймай,
достань меня своею сетью!..
Демонстрации демонстрациями, а
поэзия втихомолку торжествует...
В других случаях декларация поэта
более опосредована; вот о сверчке:
Привыкла вскоре добрая семья,
что так, друг друга не опровергая,
два пустяка природы — он и я —
живут тихонько, песенки слагая...
В чем же смысл всего этого?
Ахмадулина подчеркнуто не посягает
на роль пророка и вообще на блоковские
амплуа. Ее постоянное «О...», ее
восклицания и упругая, высокая музыка — чисто
условны, поэтически «сняты».
Ее амплуа другое: переливы
человеческой задушевности. Затейливые свершения
индивидуального бытия. Преувеличенное
внимание к мелочам и текучке жизни,
возведенным в философскую категорию и
воспринимаемым экспрессивно и резко
(«бытовая» гипербола и остранение — основные
приемы поэтики Ахмадулиной: «Лишь
черный зонт в моих руках гремит. Живой и
мрачной силой он напрягся»).
Она не так разбросанна, эта
экзальтированная женщина, возникающая из
тумана стихов Ахмадулиной, как кажется на
первый взгляд. Она не так туманна и
эксцентрична. Она, по сути, умна, скептична,
она сенсуально чувствительна и духовно
классична и созерцательна, она сложна и
«двудонна», наивность ее культивированна
и цивилизованна:
G, боль, ты — мудрость. Суть решений
перед тобою так мелка,
и осеняет темный гений
глаз захворавшего зверька...
Лишь изредка она позволяет себе
прямое высказывание, «грубость», кивок
«риторике»:
И я его корю: зачем ты лих?
Зачем ты воздух детским лбом таранишь?
Все это так. Но все ж он мой товарищ.
А я люблю товарищей моих.
Но она привлекательна, ибо она
музыкальна, нежна, полна огромнейшей и
нервической чуткости:
Тем временем, для радости гостей,
творилось что-то новое, родное:
в гостиную впускали кружевное,
серебряное облако детей...
Она успокаивает в нашей душе именно
эту ее потребность — потребность в
индивидуальности, личностности, «оттеночности»
и тонкости. Она утешает нашу потребность в
затейливом своеобразии и вящей
неповторимости; она напоминает нам о том
времени, когда мы впервые почувствовали, что
мы — человеки, люди — ярки,
неисчислимы в типологических категориях, когда мы
впервые почувствовали значение и
весомость личности, чутких движений души,
сложных ощущений нашей природы,
незримыми серебряными нитями связанных
с нашей глубокой и скрытой духовной
жизнью, с нашими «экзистенцией» и
поступками...
Ныне — другое время.
Что могут дать нам
демонстративно-беспомощные, ветрено-артистичные и скрыто-
изломанно-трагические стихи Ахмадулиной
в это суровое и дневное — не утренне-туман-
ное — время? Чем они дороги нашей душе?
«Бог или Сатана»? Любовь или
ненависть? Борьба или умиротворение?
Издавна, в зрелые времена, такие вопросы
жестоко ставились прямиком, ребром.
Поэзия Ахмадулиной не дает ответа на
эти прямые вопросы. Она — из других
сфер. Она — в другой системе отсчета.
И все же она незримо связана со всем
тем, что вызывало нынешнюю человеческую
жадность к этим вопросам. Бережливость
к разнообразию жизни духа. Культ
радостных человеческих ощущений во всей их
неповторимости, «самоценности».
Артистизм и властный порыв к повседневной
музыкальности жизни.
Будем же благодарны поэту за то, что
он может нам дать. И не будем требовать
некоего того, чего он дать не может...
214
Николай Старгиипов
ДОБРЫЙ РАЗГОВОР
Мне было особенно приятно
познакомиться с книжкой Андрея Дементьева,
вышедшей в «Библиотечке избранной
лирики» издательства «Молодая гвардия». Я
нашел в ней и естественное течение мысли и
чувства, и такие непосредственные
человеческие интонации, которые совпадают с
выразительными и по-хорошему простыми
интонациями нашей живой разговорной
речи. Вот поэт, по каким-то причинам не
встречающийся с любимой женщиной,
обращается к ней:
Уже декабрь...
И потому
зима соскучилась по снегу, (
как я соскучился по смеху —
по твоему...
(«Зима соскучилась по снегу...*)
Уже само начало этого разговора
располагает читателя к автору, вызывает в
памяти, конечно, не совсем совпадающие,
но близкие воспоминания, а вместе с ними
и наЪтроение, близкое тому, которое
владело поэтом, когда он писал эти строки...
Столь же человечен и непосредствен в
этой книге и разговор с Родиной, с
природой, запоминаются стихи, посвященные
самому имени — Россия, такому
полнозвучному, радующему светом и не теряющему
своей свежести, каждый раз сияющему
новизной, несмотря на то что имени этому
уже много веков:
В этом имени столько нежности!
И простора,
и синевы...
Молодой, озорной безгрешности,
не боящейся злой молвы.
Над землей пролетают птицы —
это имя твое струится.
Это имя твое несется
из-под ласкового крыла..«
Это девушка из колодца
синевой его пролила.
(«Россия моя*)
Не оставили меня равнодушным и стихи,
посвященные дружбе, той дружбе, когда и в
радости и в беде мы чувствуем локоть
товарища, испытываем полное взаимное
доверие, понимаем, что друг без друга мы куда
беднее и слабее:
Ничего я без друзей не значу.
Ни черта без них я не смогу.
И они не могут жить иначе.
Видно, тоже у меня в долгу.
(«Друзьям»)
Как известно, чувство благодарности
присуще всему живому, и в первую очередь
человеку. И мне, предостерегая своего
товарища по перу от немногих, но
проскальзывающих в его стихах ноток
назидательности и категоричности, хочется
поблагодарить его за поэтическую и человеческую
отзывчивость, за ясность мысли и речи, за
живой и добрый разговор, который он ведет
с читателями. Со мной. И сделать это его же
словами:
Спасибо за то, что ты есть.
За то, что твой голос весенний
приходит, как добрая весть
в минуты обид и сомнений...
215
Евгений Винокуров
мысли о поэзии
КУЧНОСТЬ БОЯ
На стрельбах ценится не только
попадание в «яблочко». Общая оценка стрельбы
зависит и от такого момента, как
«кучность» боя. У хорошего стрелка пули
должны ложиться одна около другой, некоей
группкой. И очень плохо, если пули уходят
вдруг в сторону, как говорится, за
«молоком».
В поэзии существует та же кучность
боя. Поэт должен бить в свое яблочко, и
важно, чтобы пули ложились друг около
друга,— в этом случае книга получится.
Навязчивость, одержимость
одним — вот признак истинности.
Стихотворец в отличие от поэта не
одержим одной какой-либо идеей. У него все
пули — не кучно, он пишет то о том, то о
сем.
РИТОРИКА И ПОЭЗИЯ
Есть два вида искусства. Одно
старается понравиться — оно идет, оглядываясь по
сторонам. Другое идет, не оглядываясь,—
суровое, как наука,— выполняя свою
внутреннюю задачу, следуя предначертанью
своему.
Почему я не люблю риторику.
Риторика — это значительное преобладание
слов над смыслом. Это красноречие — это
дорога в никуда. Это опьянение
красноречием, это электризация слушателей
пустотой.
Средство — Риторика. Цель — миф.
Умирая, Михаил Светлов оставил
пожелание в виде завещания: «Как я хочу,
чтобы следующие за мной поколения
научились отличать чувство от
демагогии».
А ведь если сойти с точного смысла
слова, мы сразу собьемся со смысла, мы
выплывем в океан словесности, смыслового
произвола и в конце концов не встретимся
с ожидающей нас объективной
реальностью.
Пуанкаре, физик, писал, что теплота
как явление была долгое время не понята
из-за того, что назвали его
существительным и поэтому думали, что это
вещь.
От того, как мы назовем явление, очень
многое зависит в мире. Если назвали
неточно," то и оперируя этим неточным
термином, мы зайдем в тупик.
Плохо сформулированный закон таит
в себе возможность беззакония.
ПОЭЗИЯ КАК ИСКУССТВО
В поэзии есть два момента: первый —
очарованность, влюбленность,
одухотворенность; второй — сладострастие,
чувственность.
Первое начало связано с красотой, с
общим высоким ощущением мира, с
«небом», с общим повышенным настроением*
Второе — с ремеслом, с воплощением,
с мастерством — это чувственность
создателя.
Оба момента в искусстве поэзии тесно
связаны, так же как и в жизни человека.
Мало быть возвышенным душой, мало
уметь любить, надо еще и почувствовать
влечение.
Художник должен чувствовать восторг
от мысли, что он «побеждает» материал, он
испытывает наслаждение от лепки,
ремесла, он даже хочет ухищрений в своем
процессе творения, артистического
преодоления материала.
Без духа — мертвая «работа», труп,
гнусная гальванизация материи.
Без плоти — кисель, беспомощность.
Духовность индивидуализирована, она
связана именно с этим лицом, с началом
личным.
Плотскость — безлична, утробна,
стихийна, темна, глубока, сильна, обильна,
щедра.
Артист — от слова «арт» — действие,
активность. Материя, материал — нечто
женское, «материнское», пассивное,
поддающееся, отступающее.
Артист действует, побеждает, влияет на
материал, он спускается в подземелье, а
«любовь духовная» — это лампа, держа
которую он сходит вниз.
216
ПОЭТ И ЧИТАТЕЛЬ
Во-первых, поэт сам есть
читатель, более того — он-то и есть настоящий
читатель. Лучший из возможных, потому
что единственная форма овладения
мастерством — это активное, осмысленное,
вдохновенное чтение чужих стихов,—
прием чужих стихов в себя, в душу, так,
чтобы они как бы растворились в тебе
самом, стали частью тебя самого и уже в
ассимилированном виде приняли участие
в создании того, что называется
мастерство.
Не пассивное чтение, когда книга
остается сама пр себе, а читатель сам по себе, но
чтение, когда происходит вторжение
книги в читателя, внедрение в него,
закрепление в нем,— это и есть истинное
чтение.
Быть читателем трудно, трудно остаться
один на один с книгой,— это требует
усилия. Легче слушать с эстрады. Еще Гоголь
писал: «Мы как-то охотнее готовы
действовать сообща, даже читать; по-одиночке у нас
всяк ленив».
Во-вторых, два полюса: поэт и
читатель. Анод и катод. Искра искусства
возможна только при наличии этих двух
компонентов, при их контакте.
Поэт — это возбудитель ассоциаций, но
имеет он дело не с тем или иным
конкретным человеком, не с тем или иным своим
знакомым — перед мысленным взором поэта
стоит некий идеальный читатель, с ним-
то поэт и беседует, к нему обращается,
его имеет в виду, когда сетует на что-
либо.
Этот абсолютный читатель и есть
собеседник поэта. Он создан творческой
мыслью поэта. А конкретные читатели
бывают разные — есть тонкие люди, есть
нетонкие, есть вульгарные, есть больные
душевно, есть тупые, есть просто
малограмотные, есть чересчур пылкие, а есть и
наоборот!
Мы сами в разное время бываем разными
читателями,— при одном настроении —
одни, при другом — другие. Иногда нас
какое-либо место в книге оставит
равнодушным, а иногда то же самое вызовет
слезы.
«Постичь Пушкина — это уже надо
иметь талант»,— писал Сергей Есенин.
Да, чтобы постичь поэта, нужно, чтобы
и у читателя было дарование. Если
читатель не тонок, то автор неповинен в
непонимании его книги.
«Остроумная манера писать состоит,
между прочим, в том, что она
предполагает ум так же и в читателе»,— писал
Ленин.
Предполагать ум так же и в читателе —
есть основа поэзии, основа диалога, который
ведет с читателем поэт.
серьезность поэзии
Эпикур сказал: «Кто говорит: еще не
время философствовать, тот подобен тому,
кто сказал бы, что еще не время быть
счастливым».
Поэзия всегда связана с философией и
главным образом с той ее частью, которая
называется этикой.
Русская поэзия, как, впрочем, и вся
русская литература, вскормлена этикой,
я бы сказал — «с конца копия вскормлена»,
с конца этического копия. Общественные,
философские вопросы были вопросами
поэзии русской всегда. Нравственное начало
всегда пребывало в стихах. Может быть,
только у одного Северянина не сыщешь его
днем с огнем. И если Пастернак был
этически безразличен в первый период своего
творчества, то во второй половине своей
жизни он с лихвой восполнил этот пробел.
Но и в начале жизни он писал: «Книга —
это кубический кусок горячей, дымящейся
совести. И больше ничего». То же случилось
и с Заболоцким,— вначале, увлекаясь
описанием внешней фантасмагоричности
жизни, он в поздних своих стихах прильнул
к этическому роднику, к глубокой
серьезности.
# * #
V
Есть недостатки, которые
свидетельствуют о том, что стихотворение рождалось
в состоянии возбуждения, творческого
захлёба,— это неуклюжести, срывы,
провалы, смазанные строки и т. д.
Это то, что убеждает нас в том, что
стихотворение не холодно и расчетливо
выпиливалось лобзиком, а бурно, в беспамятстве
от возбуждения рождалось.
Эти построчные недостатки очень ценны,
стихотворение, лишенное их, похоже не на
бронзовую или чугунную отливку,
которая бывает в шероховатостях, а на
штамповку из пластмассы, которая бывает
всегда безукоризненно гладкая.
217
* *
# * *
Революция — это и состояние души.
Постоянное отрицание инерции,
ежеминутное дерзание, ежеминутное преодоление
земного притяжения, косности материи,
того, что гностики называли
ПЛЕРОМЫ.
В сфере духа революционность — это
напряжение вверх, когда силы тяготения
тянут вниз. Открытое и закрытое состояние
духа. Открытое — это творческое,
динамическое, «революционное» состояние духа,
закрытое — это остановившееся,
определившееся, зафиксированное, окосневшее
состояние материи.
Порыв вверх — состояние души, ее
напряженность, ее антиинертность, ее
ежесекундное освобождение.
Традиция — это и есть революционное,
рутина — это косное, мертвое, застывшее.
В каждом явлении есть традиция, то
есть живое, действенное. И есть рутина, то
есть шлак.
Революции противостоит рутина, а не
традиция.
Чтобы быть традиционным,
нужен значительный талант, нужна большая
сила.
Поэт — без большой силы —
оказывается вне дороги, — он где-то в стороне, он
находится у обочины. Магистральный
большак пролегает мимо него,— значит, его
уже при жизни забывают. Нужна мощь,
нужна поэтическая дерзость, сила, чтобы
подключиться к традиции. Слабенький не
сможет вступить в разговор, который ведут
между собой Великие поэты прошлого,—
для этого нужно быть хоть в какой-то
степени в круге их идей, быть по силе им
ровней. «Этот поэт в традиции» — это
высший комплимент,— значит, он тянет даль-
ш е, как бурлак, канат преемственности,
значит, баржа движется, значит, происходит
Развитие. Чем глубже человек в
традиции, тем глубже этот поэт, тем он
сильнее, существеннее, жизненно
необходимей, тем глубже забирает его
плуг.
СОДЕРЖАНИЕ
От редколлегии
1. В П У Т И
НИКОЛАЙ ТИХОНОВ
Степь 5
Старый конник 5
Белая Вежа 6
«Сквозь мелькающий снег...» 7
Анна Ярославна 7
СТЕПАН ЩИПАЧЕВ
Кони 8
И все-таки... i 8
Есть мудрые книжные полки 8
Не знаю 9
«Жизнь, словно поле под лемехами...» 9
МИХАИЛ ЗЕНКЕВИЧ
Апрель 1917 года 9
Камень и папирус 9
ЛЕОНИД МАРТЫНОВ
Ленин 10
«Через вечерние летел я зори...» 1G
Хваткий черт 10
Птица на дереве 11
Реликты 11
НИКОЛАЙ ГРИБАЧЕВ
Февральский репортаж 12
Зимний камыш 12
Я ушел бы 12
АНАТОЛИЙ СОФРОНОВ
«Есть беспокойство осенью в природе...» 13
«Да, не просто сходятся мужчины...» 13
«Когда-нибудь в двухтысячном году...» 14
ЕЛЕНА БЛАГИНИНА
Краб 15
Бабушка, которая курила 15
«Деревья те, что мы любили...» 15
Молитва 16
Про деревья 16
АЛЕКСАНДР БОГУЧАРОВ
«А исцеленье от недуга...» 16
Алябьев 17
Деревня Драгуны, год сорок первый 17
ИСААК БОРИСОВ
«Весь мир сегодня искорежил ветер...» 18
«На горький поиск я себя обрек...» Перевел с
еврейского А. Кафанов 18
«И в бурном времени так любо мне...» Перевела с
еврейского Н. Горская 18
ГЕРМАН ВАЛИКОВ
Резьба по белому 19
Ангел. Сонет 19
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН
«Далеко за холмом...» 19
«Стояла ясная погода...» 20
«В покое кунцевской больницы...» 20
«Я углубился в лес...» 20
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ
Бессмертник (Отрывки из поэмы) 21
ВАЛЕНТИН ВОЛКОВ
«Есть перед вечером прощальный трепет дня...» . . 22
Черная осень 22
ПЕТР ВЕГИН
Гроза 23
«Куда ты, Музыка, куда?..» 23
(НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ
Здравый смысл 24
Художники-флористы 24
«Земля просторна, и на ней не тесно..,» 24
ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ
«Серость заплаканного серебра...» 25
Июнь 25
ВЛАДИМИР ГОРДЕЙЧЕВ
След на стене 26
На семи ветрах 26
«Открою шкаф (давно не открывал)...» 27
ТАТЬЯНА ГЛУШКОВА
Новогоднее 27
АНДРЕЙ ДЕМЕНТЬЕВ
«Мне кажется, что все еще вернется...» 28
Сентябрь 28
Ложь 28
ОЛЕГ ДМИТРИЕВ
Окраина. День. Тишина 29
Захолустье 29
Ностальгия 30
АНАТОЛИЙ ЖИГУЛИН
«Опять в полях светло и пусто...» 30
«Белеет зябь морозными ожогами...» 31
«Согрело мартовское солнце...» 31
«Знакомый край с холодной далью...» 31
АЛЕКСЕЙ ЗАУРИХ
«Мой угол — небо в пол-окна...» 32
День рождения 33
Двенадцать солдат 33
АНАТОЛИЙ ЗАЯЦ
«Там Цахкадзор...» 34
«Глядят светло...» ♦ 34
НАТАН ЗЛОТНИКОВ
«Хочу побыть у здешних вод...» 35
Девочка 35
«Свободный день. Холодный лес...» 35
АЛЕКСАНДР ИВАНОВ
Пар одни
Лжинка-оспинка 36
Мореплаватель 36
Березы 37
Следы на снегу 37
Моя фортуна • •• 37
219
РЮРИК ИВНЕВ
Сентябрь 38
«Это было опять ни на что не похоже...» 38
РИММА КАЗАКОВА
♦Дышит вечер дыханием длинным...» 38
«Я пила из родника в Пугузе...» 39
«... Ну и не надо. Ну и простимся...» 39
ВАСИЛИЙ КАЗАНЦЕВ
«Клонящуюся вниз малиновую гроздь...» 40
«День светит. Путь бежит...» 40
«В этой радости мне отказали...» 40
ВЛАДИМИР КАРПЕКО
«Я любил любимой лицо...» 40
«Когда душа твоя мертва...» 41
ЯКОВ КОЗЛОВСКИЙ
Стояли дни с высоким небом 41
Изящная словесность 41
ИННА КАШЕЖЕВА
«Ты была невеселой...» 42
«Когда вам что-нибудь не удалось...» 42
ДМИТРИЙ КОВАЛЕВ
«Была речушка рыбная...» 43
«Шустрее лез подсолнух из-за прясла...» 43
Цветы 44
КИРИЛЛ КОВАЛЬДЖИ
Зарубежное 45
АЛЕКСЕЙ КОНДРАТЬЕВ
Зимой 45
«Кому-то жизнь как слово невпопад...» ...... 45
ВЛАДИМИР КОСТРОВ
Плакаты 46
«Осенний дождь, шпанистый, беспризорный...» . . 46
«В Останкине горели тополя...» 47
ЭЛЬМИРА КОТЛЯР
«В грозной папахе и бурках...» 48
«Упрямая нянька...» 48
«А мне любовь одна...» 48
Старый дворик 48
АНИСИМ КРОНГАУЗ
Третья полка 49
Мое лицо 49
СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ
«За церковной оградой базар...» 50
«Чтобы не озлобиться на жизнь...» 50
«Прислушаюсь к птичьему граю...» 50
ВИКТОР КОЧЕТКОВ
«О, эта книжка записная...» 51
«Несуетность старинных мастеров...» 51
ГРИГОРИЙ ЛЕВИН
Художники 51
«Когда работают, не до порядка...» 51
МИХАИЛ ЛЬВОВ
Память . . ." 52
«Когда задумаю на счастье...». 52
«Я взялгу Лермонтова — имя...» 53
СЕМЕН ЛИПКИН
Миндаль 54
Бессребреник 54
Подобие 54
ИННА ЛИСНЯНСКАЯ
«По-своему ль пишу я о природе?.. » 55
«Когда была я молодой..» 55
«Ты прав во всем, и я во всем права...» 55
«Как боль была моя любовь...» 55
АЛЕКСЕЙ МАРКОВ
«Не прост был Самуил Маршак!..» 56
«Будет утро — будет хлеб...» 56
«Время сделало дело свое...» 56
Рикошет 56
НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА
«Определенья поэзии нет...» 57
Рожь 57
«Весной, весной, среди первых по дел еженных...» . . 58
«Мы были бы, наверно, водолазы...» 58
ГЮННА МОРИЦ
Полдень в Гантиади 59
Осень 59
После зноя 59
Зимняя дача 60
«Мускат в бокале розов...» . . . . 60
«В серебряном столбе...» 60
ЛИЛЯ НАППЕЛЬБАУМ
Портрет художника 61
Портрет актера 61
Фотография 61
ЮЛИЯ НЕЙМАН
«Хоть глубоко во мне живет Восток...» 62
Старухи 62
ЛЕВ ОЗЕРОВ
Актеру Тхапсаеву 62
Дорожное настроение 62
СЕРГЕЙ ОРЛОВ
«Мы говорим, задумываясь редко..,». ....... 63
«Что было, то было...» 63
Две картинки Москвы 64
АНАТОЛИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ
Начальник цеха 65
«На перегонах рыжая трава...» 66
Павел Васильев 66
АНАТОЛИЙ ПРЕЛОВСКИЙ
Письмо 67
Вечный мальчик (из стихотворений о Пушкине) 67
«Ну, что о родине скажу?..» 68
«Под небом родины любимой...» 68
ВАЛЕНТИН ПРОТАЛИН
«Осенних дней спокойное паренье...» 68
«Дни пасмурны были...» V 68
БОРИС ПРИМЕРОВ
«Полночные степи стрибожья...» 69
«Добрым делом путь земли увенчан...» 69
«Румянец года, молодой июнь...» 69
«В молодом неутешном убранстве...» 70
220
АЛЕКСАНДР РЕВИЧ
«Беспроволочный телеграф души...» 70
«Ева, девочка, дикарка...» 70
ДАВИД САМОЙЛОВ
Запев (из книги «Волна и камень») 71
Цыгановы 71
«Распутица. Разъезжено. Размято...» 72
«Не мысль, не слово,— а под снегом...» 72
«Кончался август...» 72
ВАЛЕНТИН СИДОРОВ
«Полночь жизни моей миновала...» 73
«Как не похож тот мальчик на меня!..» 73
«Не выпадай из светлого кольца...» 73
«Нам дарит убежденность все чаще...» 74
ВАЛЕНТИН СОРОКИН
Сарыч 74
Голос 74
ВАДИМ СИКОРСКИЙ
Мне бы в детство давнее уверовать...» 75
«Нет, нет, еще пока тыне стучись...» 75
«Расстаешься с людьми, как со странами...» .... 75
«Мне говорят: возмездья берегись...» 75
БОРИС СЛУЦКИЙ
Ритмы 76
Подмосковье 76
Солдатский отпуск 76
ВЛАДИМИР СОЛОУХИН
В Рыльском монастыре на празднике болгарской
поэзии 77
Надежда 77
У зверей 78
«Внутри меня возникли баррикады...» 79
НИКОЛАЙ СТАРШИНОВ
Подмосковной природе 80
«Наконец-то холодом пахнуло...» 80
«Это все удивительно просто...» 81
Моя Сумерь 81
НИКОЛАЙ ТРЯПКИН
Песнь о великом нересте 82
Песня 83
«Я искал твой след неповторимый...» 83
«Эту песенку повторял мой дед...» 83
ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ
Полярный круг 84
«Усталостные трещины металла...» 84
«Я в армии, многим годясь в сыновья...» 84
ЕВГЕНИЙ ХРАМОВ
Разговор с Братском 85
«Еще мы с тобою покамест на Вы...» 85
«Осенний небосклон так чист...» 86
«Выйти в Ногинске в ночь на крыльцо...» . ... 86
«Отчизна в закатах парчовых...» 86
ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ
«Весенней ночью влажный лес...» 87
Черные грузди 87
Отъезд деда Адама 88
МИХАИЛ ШЕВЧЕНКО
Завоеватели мира 88
«Шекспиры еще придут...» 88
221
2. НАЧАЛО
ГЕННАДИЙ БУБНОВ
Стихи расставанья 89
АЛЕКСАНДР ВЕЛИЧАНСКИЙ
Летние строки 90
ВИКТОР ГЕРАСКИН
Ледоход на Енисее 90
НИКОЛАЙ ГОРОХОВ
«Опять, пытая голосами...» 91
ЛЮБОВЬ ГРЕНАДЕР
«А по-русски жалеть — это значит любить...» ... 91
АЛЕКСАНДР ИСПОЛЬНОВ
Мелодия 92
НАДЕЖДА КОНДАКОВА
«Дым волоком нынче—к ненастью...» 92
«Наляжет ночь на пашни тьмою...» 92
«Ты жил в плену степного духа...» 92
ДИОМИД КОСТЮРИН
Трубы 93
ВЛАДИМИР ЛЕВАНСКИЙ
Дождик 93
Нежность 94
ЗОЯ МЕЖИРОВА
«Полосой заброшенного пляжа...» 94
ЛАРИСА МИЛЛЕР
«Я знаю тихий небосклон...» 95
«А лес весь светится насквозь...» 95
ВАДИМ ПЕРЕЛЬМУТЕР
Звено 95
АНАТОЛИЙ ПАРПАРА
Солдаты 96
Ночь ветеранов 96
АНАТОЛИЙ ПЯТКОВ СКИЙ
Июнь на Индигирке 97
К сыну 97
Олень 97
ИВАН САВЕЛЬЕВ
«Беззастенчиво время несется...» 98
«Наклони свое дыханье...» 98
ЕГОР САМЧЕНКО
И в начале 98
МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ
Топрак-Кале — крепость праха 99
ОЛЕГ СОКОЛОВ
«Лил дождь, бесконечный, несносный...» 100
«У моря на лесном разъезде...» 100
ЛИДИЯ СТЕПАНОВА
«А в мой приезд зима была черна...» 101
ЛАРИСА ТАРАКАНОВА
«Мой город, ты неузнаваем...» . • • • 101
МАРИНА ТАРАСОВА
Илимские фамилии 102
ВАДИМ ФАДИН
«Как необычно зренье поутру!..» 102
ГЕННАДИЙ ХОМУТОВ
Сапоги 103
«С сорок первого года пусты закрома...» 103
ЕКАТЕРИНА ЧАПКА
«Летят вереницей недели...» 104
«Стоят величаво зеленые сосны...» 104
«Все явственней прочерки линий...» 104
Лесник 105
«Спасибо фонарям...» 105
Подружки 105
ГАЛИНА ЧИСТЯКОВА
«Я знаю, что любовь — награда...» 106
Встреча 106
ВЛАДИМИР ШЛЁНСКИЙ
Мадрид 36-го года 106
Садовник 107,,
«Под шорохи, звоны и крики...» 107
«Я открываю окна...» 108
ВЛАДИМИР ШУРУПОВ
Продают корову 108
3. ВЕРЕНИЦА
МИХАИЛ ИСАКОВСКИЙ
101-й 109
МАРГАРИТА АЛИГЕР
«Гордые люди двадцатого века...» 110
ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ
Повесть о мощах Александра Невского 110
ЕВГЕНИЙ АНТОШКИН
«Мчатся вихри, мчатся три огня...» 113
ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД
Нелюшка 113
АЛЕКСАНДР БАЛИН
Комсомольский билет 114
ИВАН БАУКОВ
Нет-нет и вспомнятся в тревоге 115
ЯКОВ БЕЛИНСКИЙ
Каролина Собаньская 116
МИХАИЛ БЕЛЯЕВ
«Угощает женщина мужчину...» 117
НИНА БЯЛОСИНСКАЯ
Надпись на долгоиграющей пластинке 117
ВИКТОР БОКОВ
Гусляр 118
НИКОЛАЙ БЕРЕНДГОФ
Мгновение 118
ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА
«Когда за пеленой разлуки...» 119
ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ
Протокол 119
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ
Ироническая сатира на скупщика краденого . . . 120
ИРИНА ВОЛОБУЕВА
«Остановите кто-нибудь весну!..» 123
ВИКТОР ГОНЧАРОВ
«Поехали со мной в края...» 123
ГЛЕБ ЕРЕМЕЕВ
Капели 124
ИГОРЬ ЖДАНОВ
«Ты любить не умеешь...» 124
ТАМАРА ЖИРМУНСКАЯ
«Не за себя...» 125
АНАТОЛИЙ ЗЕМЛЯНСКИЙ
Баллада о снеге 126
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР
«Пора, мой друг!..» 126
МИХАИЛ КВЛИВИДЗЕ
«Я приду к тебе...» Перевел с грузинского Ю. Леей-
танский 127
АНДРЕЙ КЛЕНОВ
Одинец 127
МАКСИМ КРАВЧУК
Радуга . . . • * 128
СЕРГЕЙ КРАСИКОВ
«Солдат упал на землю...» 128
ГРИГОРИЙ КОРИН
«Мой отец пробудился во мне...» 129
ЛЕВ КРОПОТКИН
Речь 129
ВАЛЕНТИН КУЗНЕЦОВ
Снег 41-го года 130
НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВ
Осень-золотошвейка 130
ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ
О свободном стихе (Вместо выступления на
дискуссии) 131
ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ
Пушкин переводит 132
МАЙЯ ЛУГОВСКАЯ
Кружевница 132
МАРК ЛИСЯНСКИЙ
«Вот пришли и твои юбилеи...» 133
ЛЮДМИЛА МУХИНА
«На улицу — и быстрей!.*» ^ . . 133
222
СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ
О главном 134
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВСКАЯ
Июнь 134
БУЛАТ ОКУДЖАВА
Семь дней недели 135
НИКОЛАЙ ПАНЧЕНКО
«Говори о любви...» 136
ДЖЕМС ПАТТЕРСОН
«Как Ганнибал...» 137
СЕРГЕЙ ПОЛИКАРПОВ
Осень в Гаграх 137
БОРИС РАХМАНИН
«Вот полем боя...» 138
ЮРИЙ РЯШЕНЦЕВ
«Не за наградой...» 138
ЮРИЙ СБИТНЕВ
«Уезжаю. Сердце остается...» 139
ВАДИМ СЕМЕРНИН
«Ты жить учись...» 139
ГЕННАДИЙ СЕРЕБРЯКОВ
Баллада о комиссаре 140
ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ
Народному другу 141
ЛЕВ СМИРНОВ
Транзитные гитары 141
ИРИНА СНЕГОВА
Осенний сонет 142
АЛЛА СТРОИЛО
«Человек, поди ж ты,— царь природы!..» . . . 142
ДМИТРИЙ СУХАРЕВ
В Ташкенте 143
ФЕДОР СУХОВ
«Позволь припасть...» 144
ЛЕОНИД ТЕМИН
«Разбивается сердце...» 145
НИКОЛАЙ УШАКОВ
«Все — наше, наше, наше...» 145
ВЯЧЕСЛАВ ШАПОШНИКОВ
Урок рисования в 42-м году . . . . ; 146
ЕКАТЕРИНА ШЕВЕЛЕВА
Ветка 146
АРКАДИЙ ШТЕЙНБЕРГ
Забвенное 147
4. ПАМЯТЬ
НИКОЛАЙ ГОРОХОВ
...Ведь май душе обещан 148
ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ (1873—1924)
К безвестному другу 149
«Еще январь туманы тускло тянет...» . . . \ . . . 149
ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ
Максимилиан Волошин 150
МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН (1878—1932)
Доблесть поэта 150
Цеппелины над Парижем 151
«Мир — лестница...» 151
«Чтобы не дать материи...» 151
В. А. КАТАНЯН
Маяковский и Дягилев 152
' АННА АХМАТОВА (1889—1966)
«De profundis... Мое поколенье...» 155
«Уложила сыночка кудрявого...» 155
«Жить — так на воле...» 155
Скорость 156
«Прав, что не взял меня с собой...» 156
Подражание корейскому 156
ЛЕВ ОЗЕРОВ
По первопутку 157
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ (1891—1967)
^Крылья выдумав...» 160
*Мы жили в те воинственные годы...» 160
*Я знаю, будет золотой и долгий...» 160
ИЗ АРХИВА Н. ЗАБОЛОЦКОГО (1903—1958) . 161
В. К АР ДИН
«...Человек твоего поколения...» 164
КОНСТАНТИН СИМОНОВ
В конце войны 169
ЗИНОВИЙ ПАПЕРНЫЙ
Необманное слово (об Александре Яшине) .... 174
ВЛАДИМИР ЦЫБИН
Земля и жизнь 176
ДМИТРИЙ БЛЫНСКИЙ (1932—1965)
«Май уходит тихо...» 178
«При полном штиле...» 178
НИКОЛАЙ АНЦИФЕРОВ (1930—1964)
Мой праздник 179
Откровенный разговор (шутка) 179
НИКОЛАЙ РУБЦОВ (1936—1971)
Ферапонтово 180
В дороге 180
«Уже деревня вся в тени...» 181
В больнице 181
ЛЕОН ТООМ (1921—1969)
«Я знаю все и многого не жду...» 182
«Я помню — было, было, было...» 182
«От любви неразделенной...» 182
ВЛАДИМИР ОГНЕВ
Овадий Савич ••♦ 183
223
ОВАДИЙ САВИЧ (1896—1967) ВЛАДИМИР ЛАКШИН
«Я — старая птица...» 183 Новая лирика Твардовского 196
«Пусть живут, как хотят...» 184 ИОСИФ ГРИНБЕРГ
«Нет, не красив...» 184
134 Постоянство перемен ■ . . . . 200
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ ЛЕВ ЛЕВИН
Сорок лет спустя 203
О стихах Сергея Дрофенко 18V ЕВГЕНИЙ СИДОРОВ
СЕРГЕЙ ДРОФЕНКО (1933-1970) Смысл и форкА (о стихах Даввда Самойлова). . 20б
«К началу второй мировой...» 186 ЛИДИЯ ФИЛИППОВА
Голос 187 тт
«День долог...» 187 Чувство перспективы 207
Простор 187 ВИКТОР ЧАЛМАЕВ
«Суета и томление духа...» 188
q доме 183 Уйти, чтобы остаться 209
«Пусть хлынет в душу горечь...» 188 ДМИТРИЙ СТАРИКОВ
Причастность к миру 211
5. МИР ПОЭТА ВЛАДИМИР ГУСЕВ
Музыка, жизнь, поэзия 213
ВЛАДИМИР ОГНЕВ НИКОЛАЙ СТАРШИИОВ
Поэт и культура 189 Добрый разговор 215
АНДРЕЙ ТУРКОВ ЕВГЕНИЙ ВИНОКУРОВ
О понимании традиций 193 Мысли о поэзии 216
ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1971
М., «Советский писатель»,- 1971, 224 стр. План выпуска 1971г. №126. Художник Е. И. Коган.
Редактор Е. С, Елисеев. Худож. редактор В. В. Медведев. Техн. редактор Р. Я. Соколова. Корректоры:
И. Ф. Сологуб, Л. К. Фарисеева и Ф. Л. Элъштейн. Сдано в набор 5/YII 1971 г. Подписано к
печати 20/VIII 1971 г. A1173-J. Бумага 84xlO87ie. № 2. Печ. л. 14 (23,52). Уч.-изд. л. 18,95.
Тираж 75 000 экз. Заказ 2173. Цена 1 руб. 56 коп. Издательство «Советский писатель», Москва
К-9, Б. Гнездниковский пер., 10. Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая
типография имени А. А. Жданова Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете
Министров СССР, Москва М-54, Валов&я, 28.
Р2
126-71 Д34