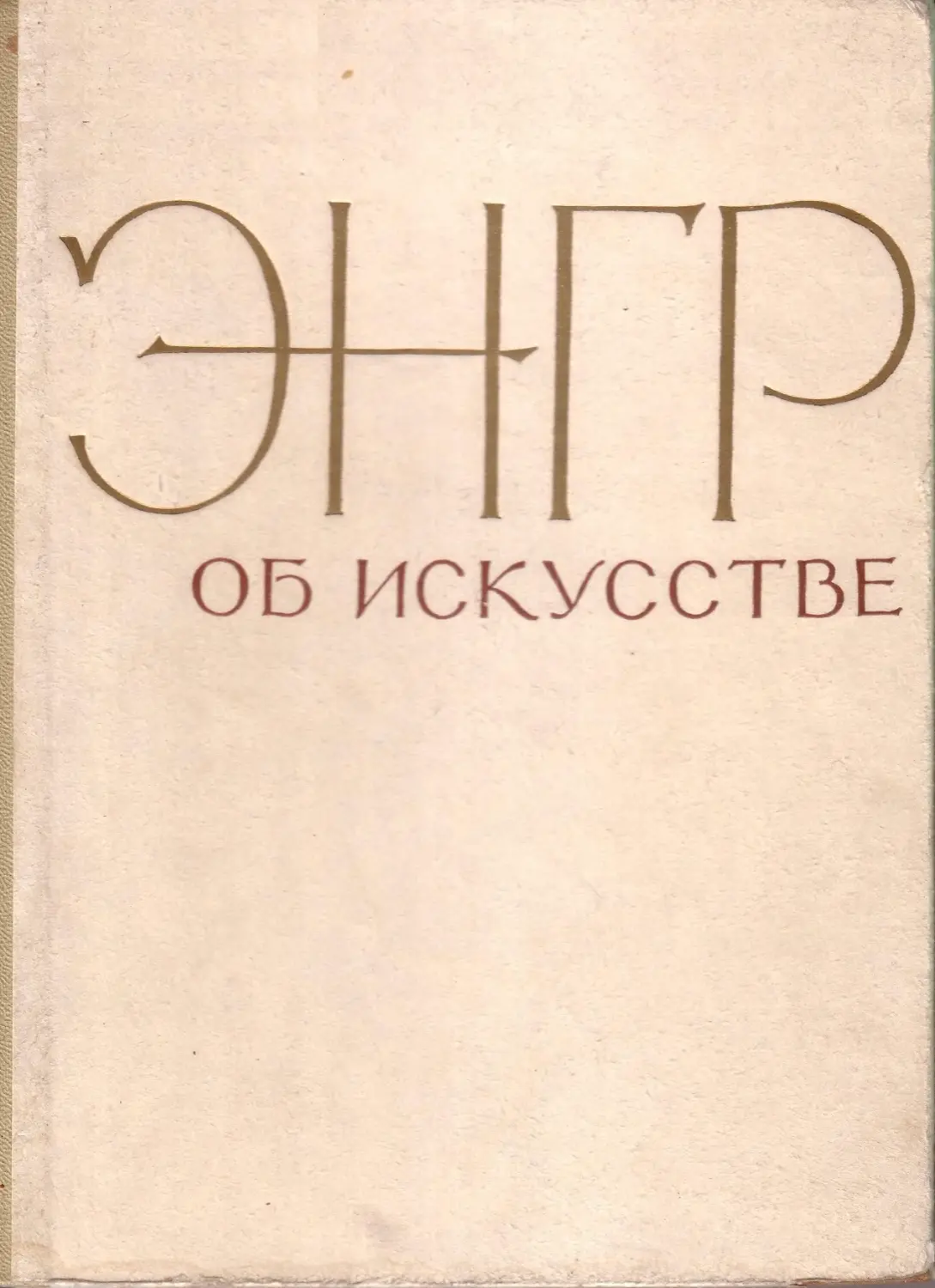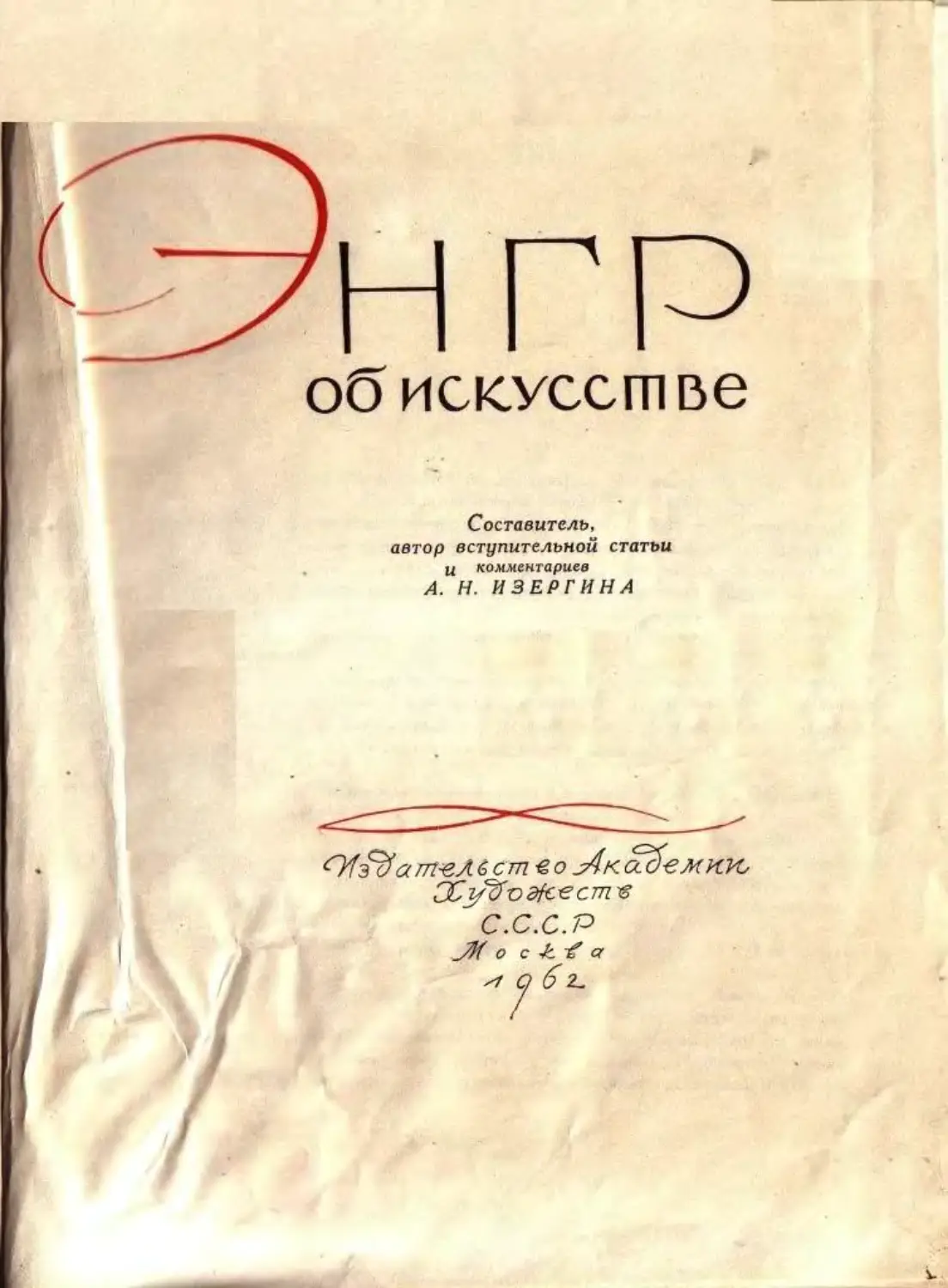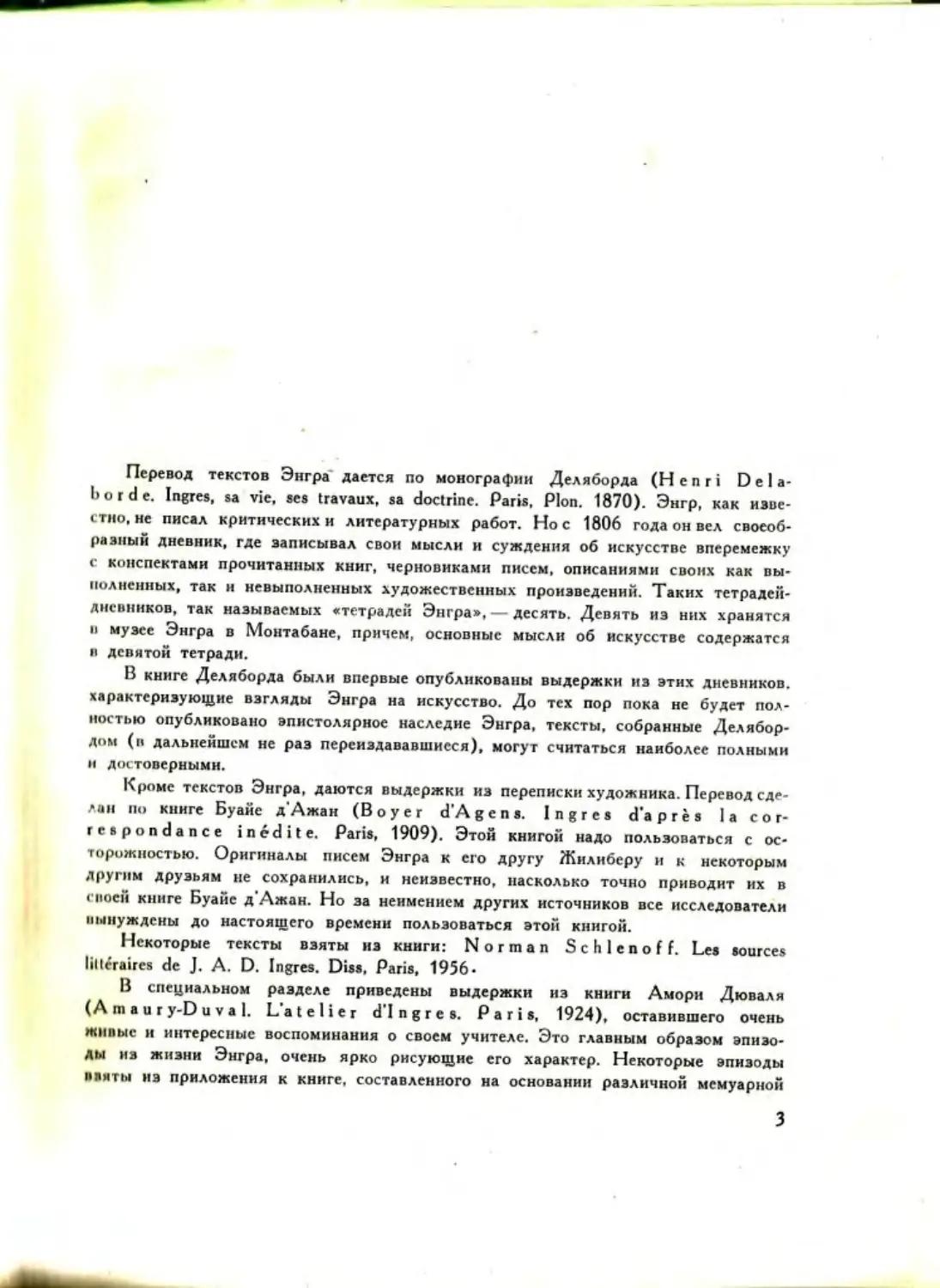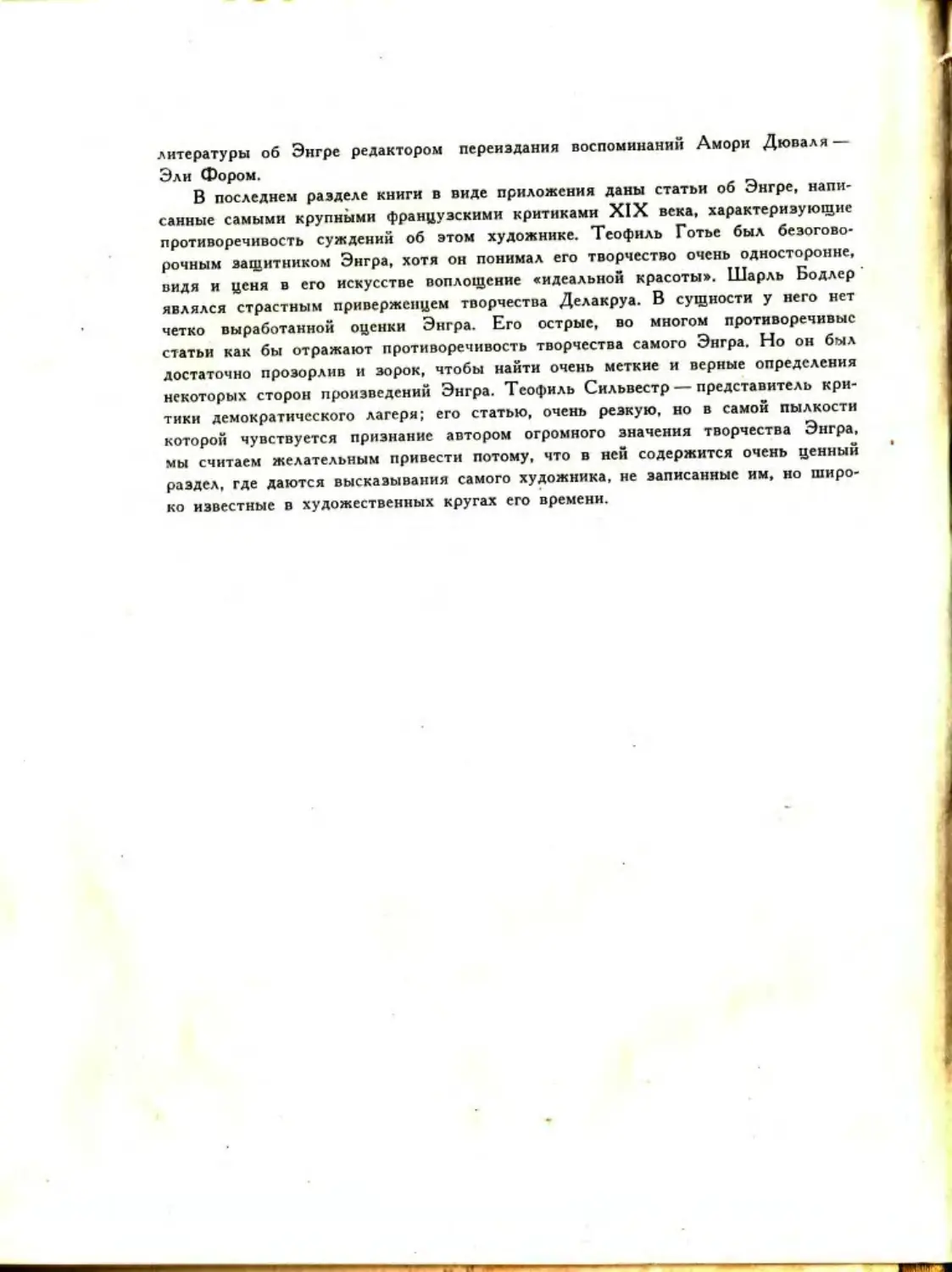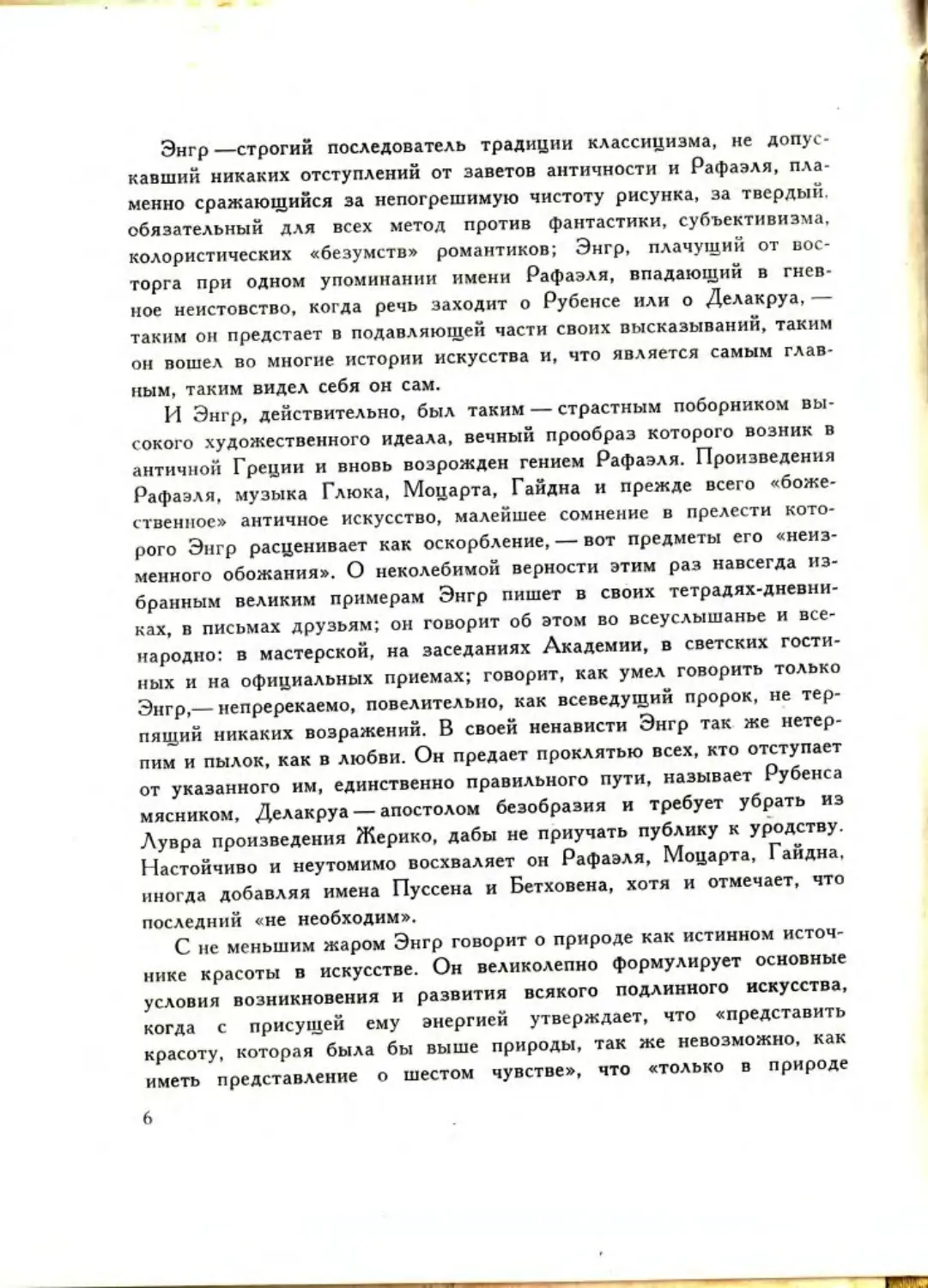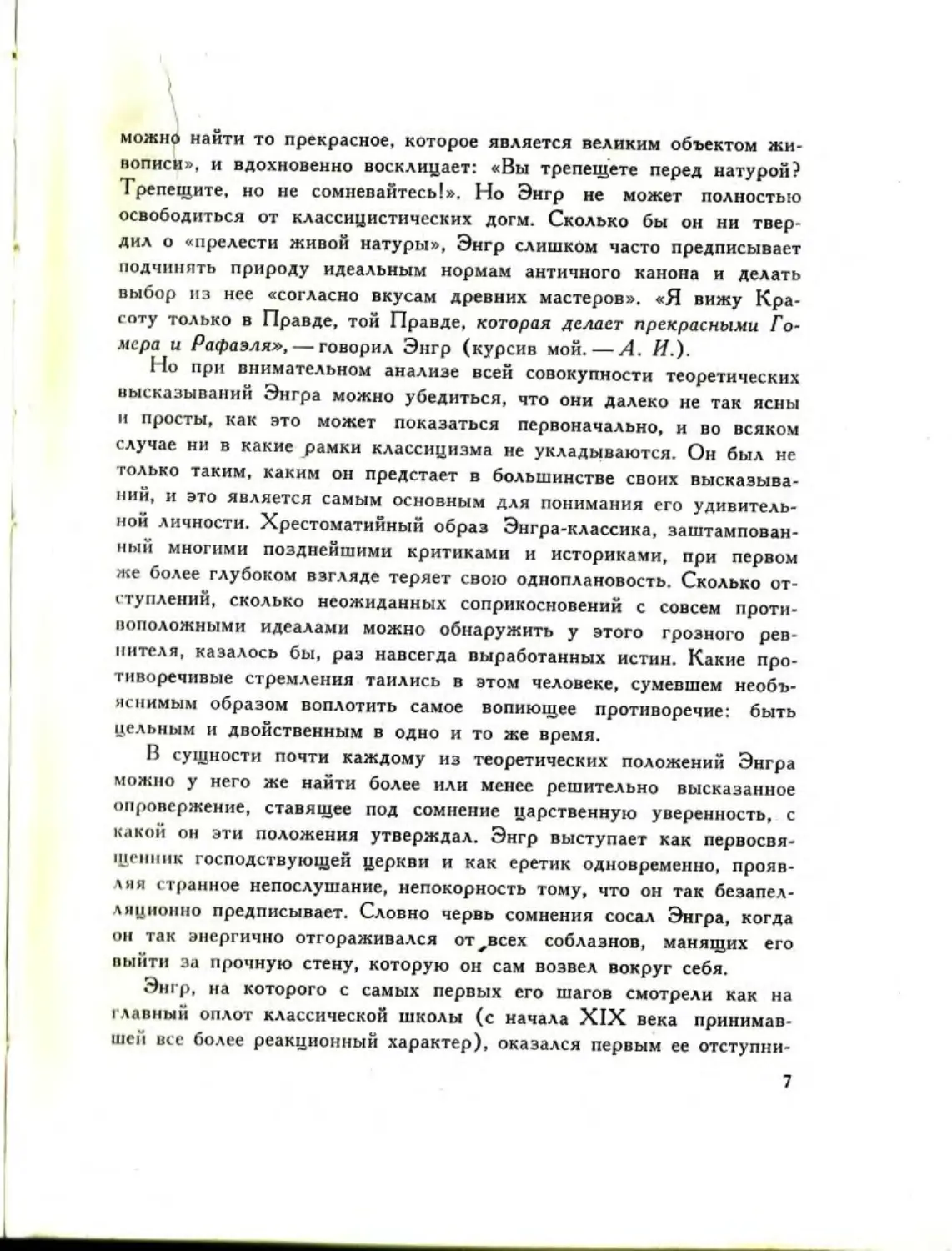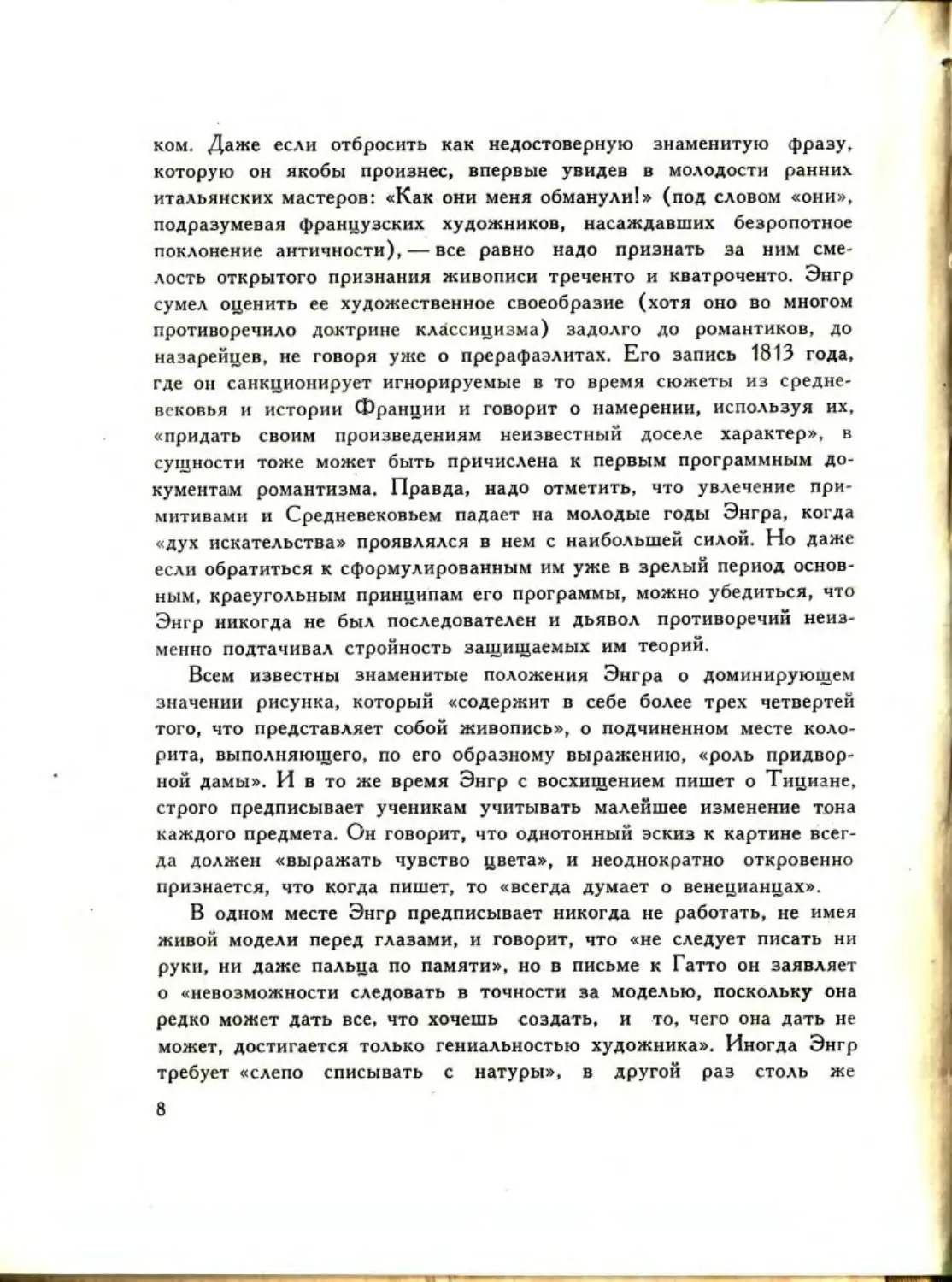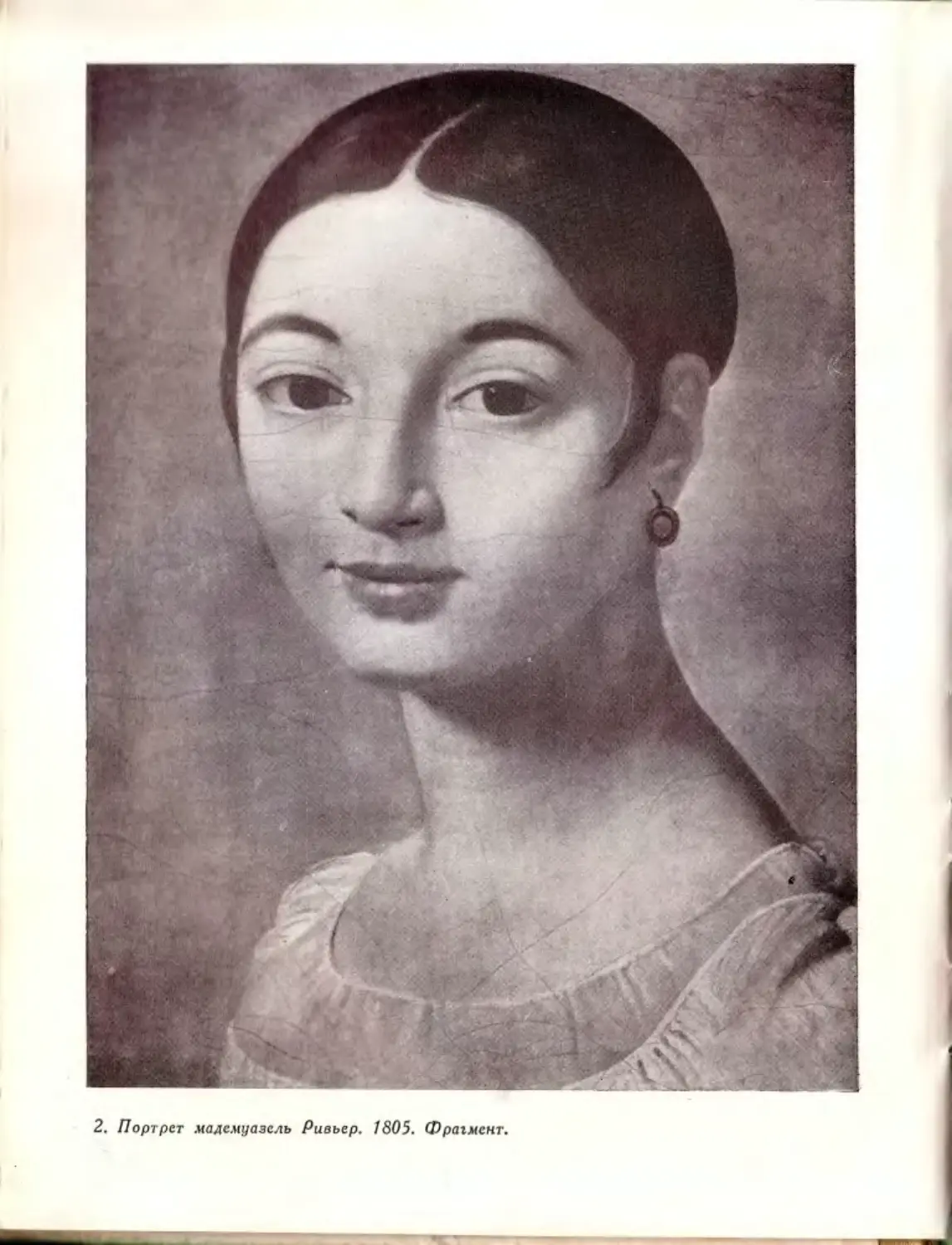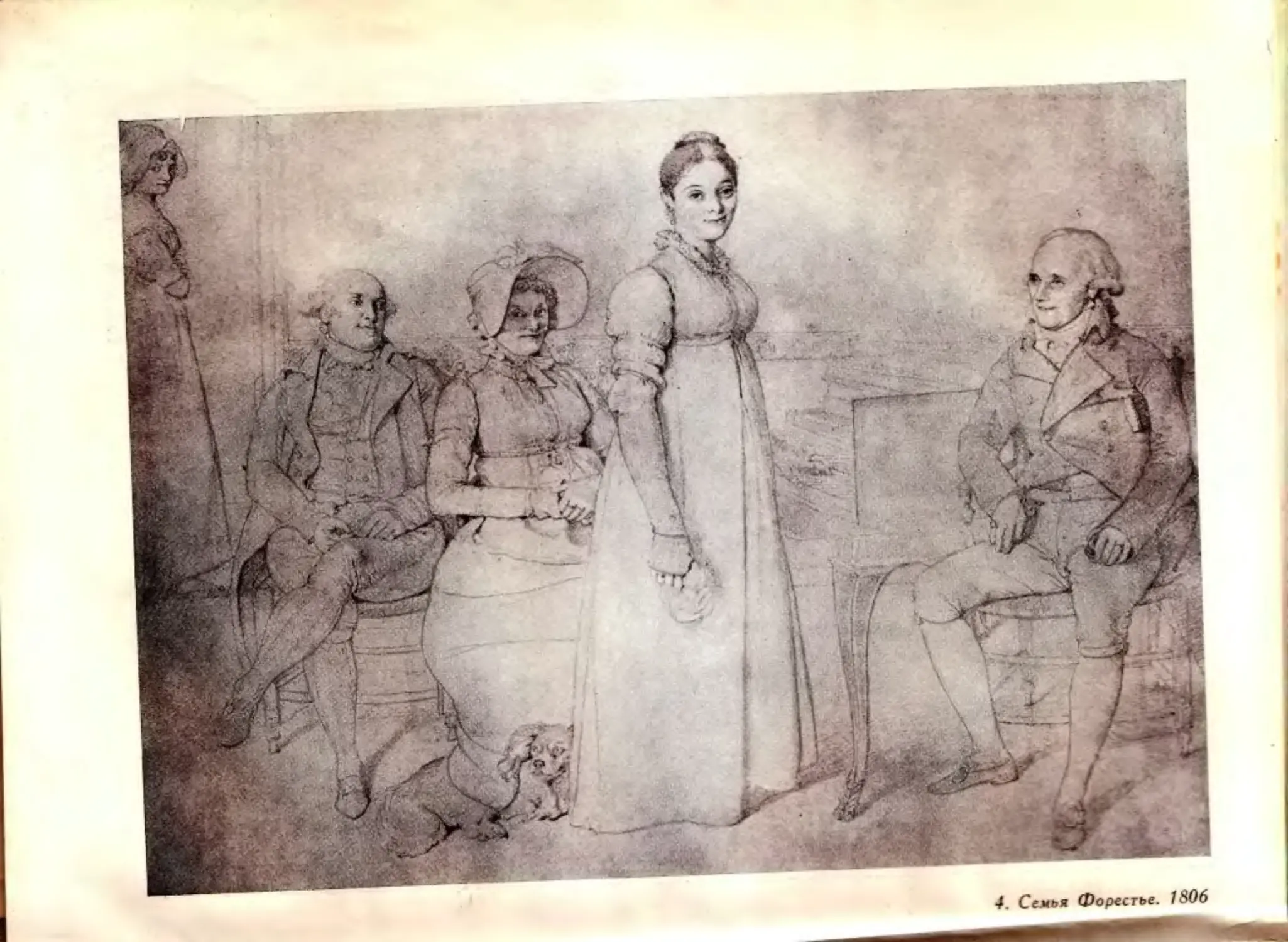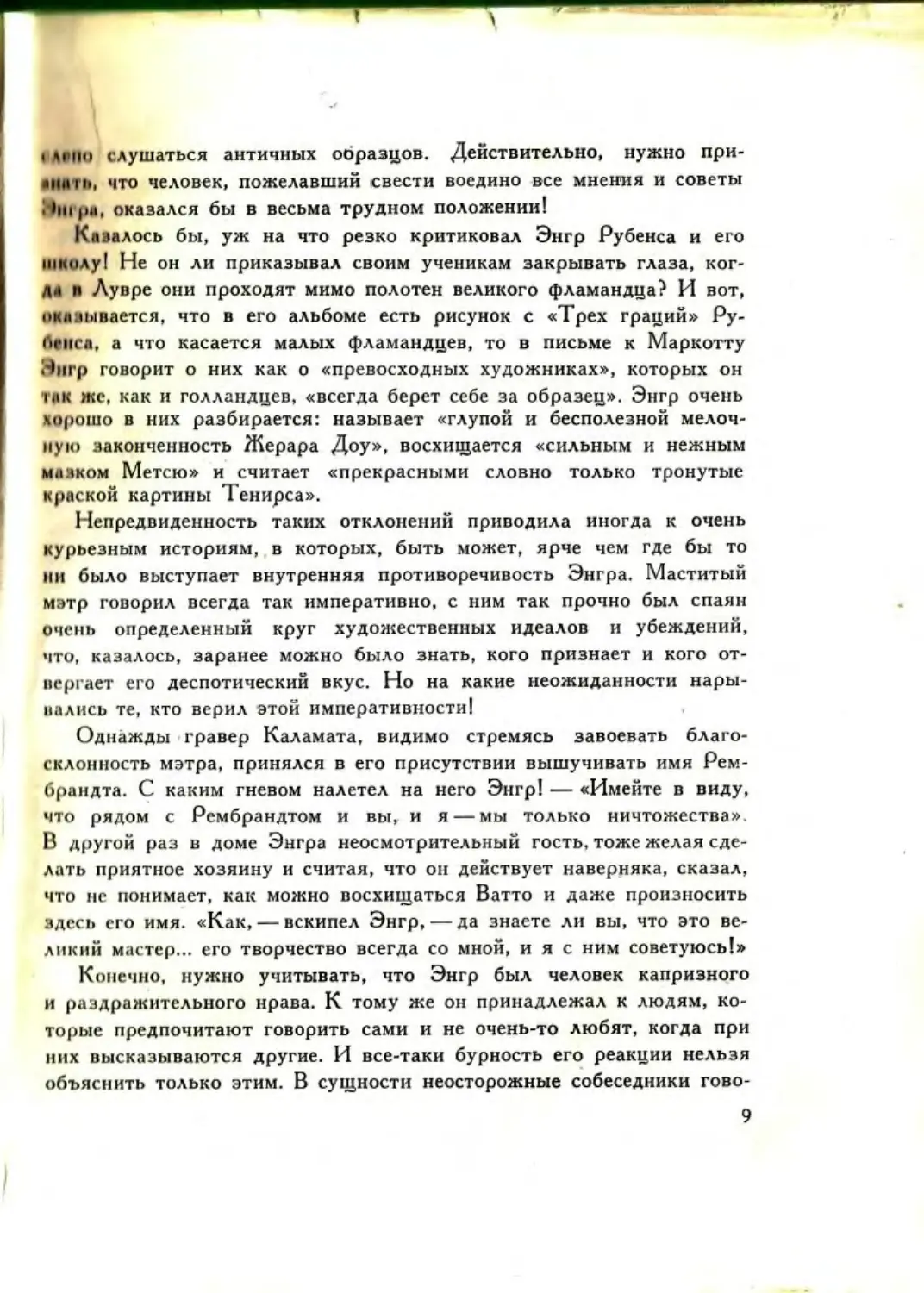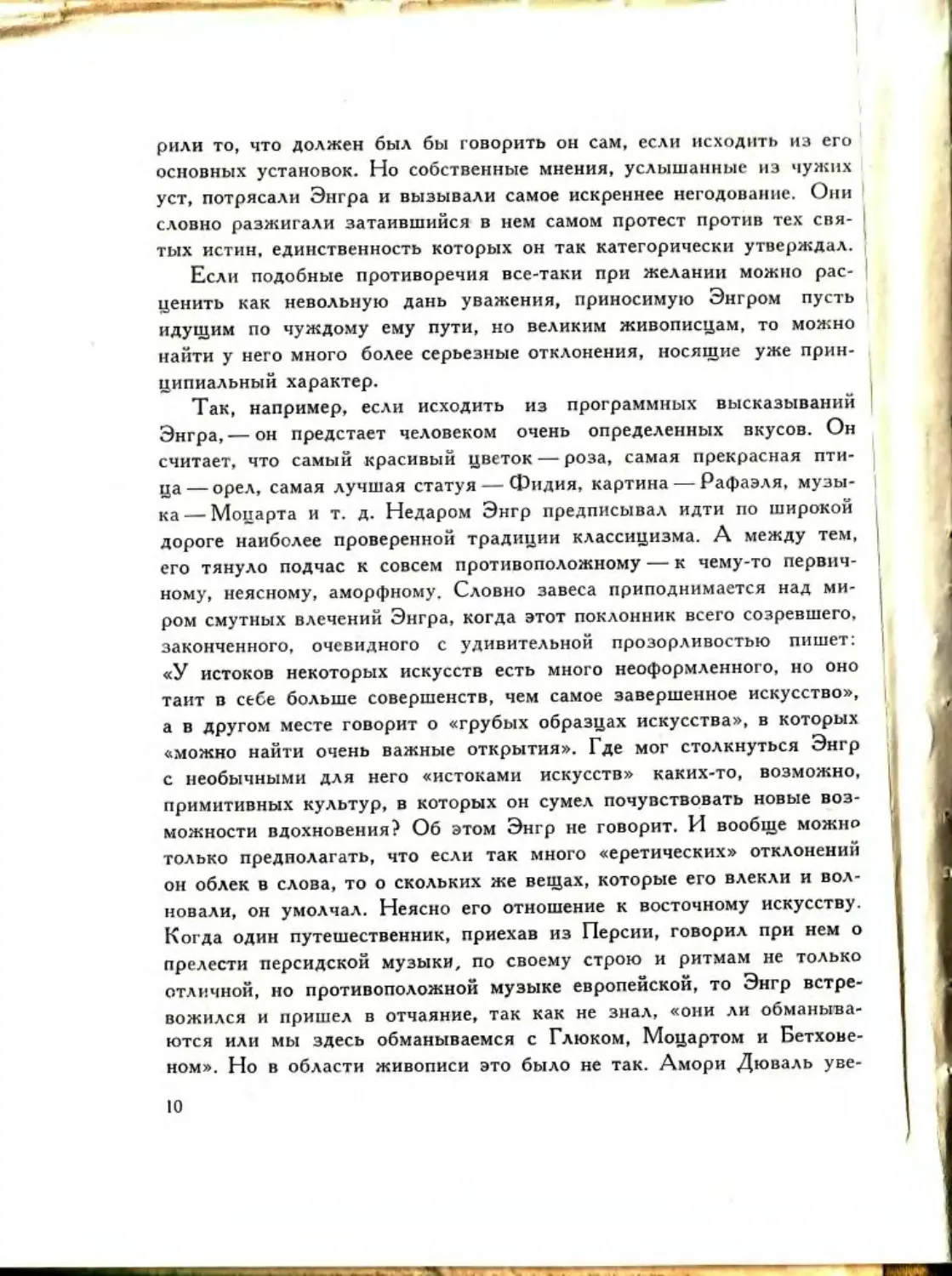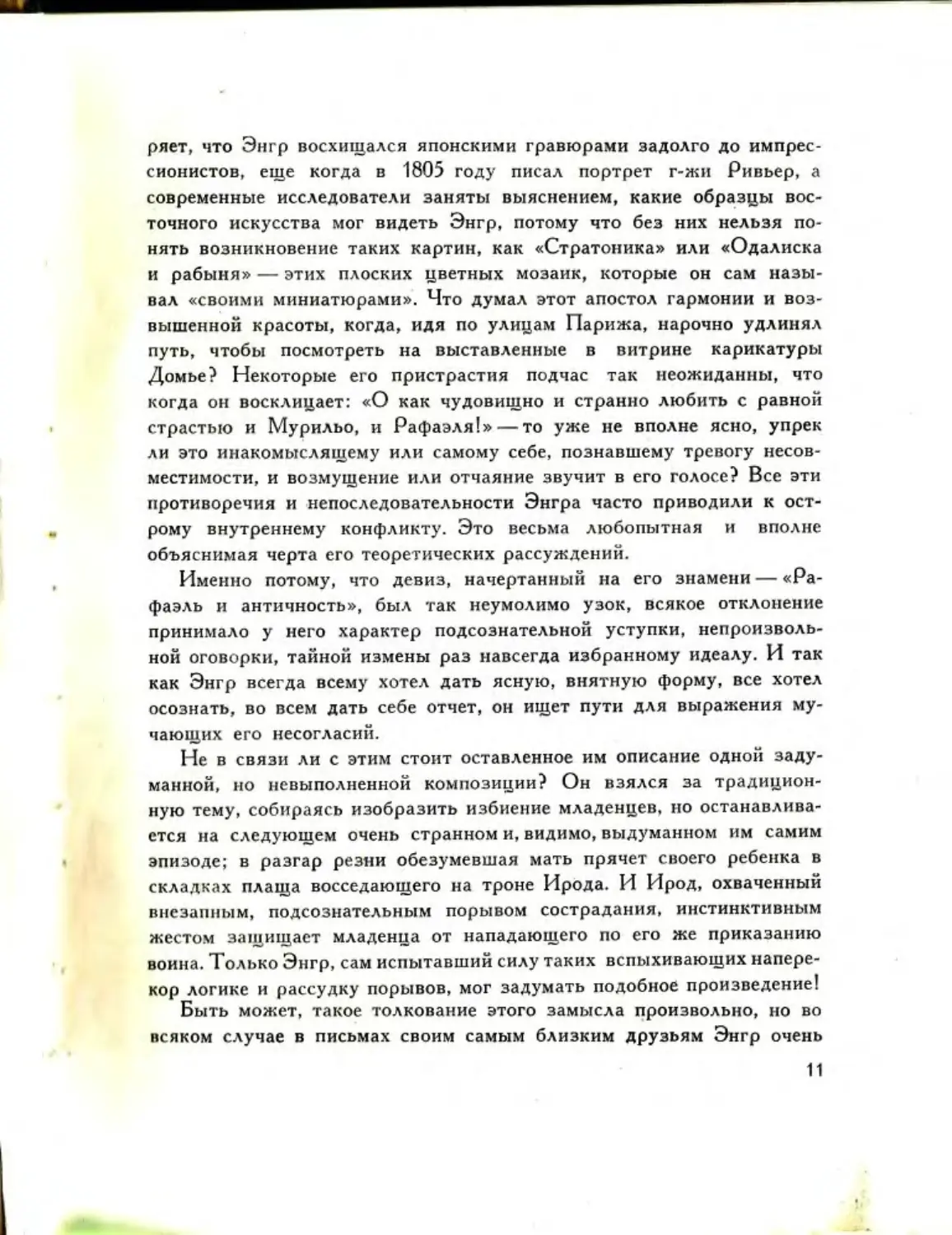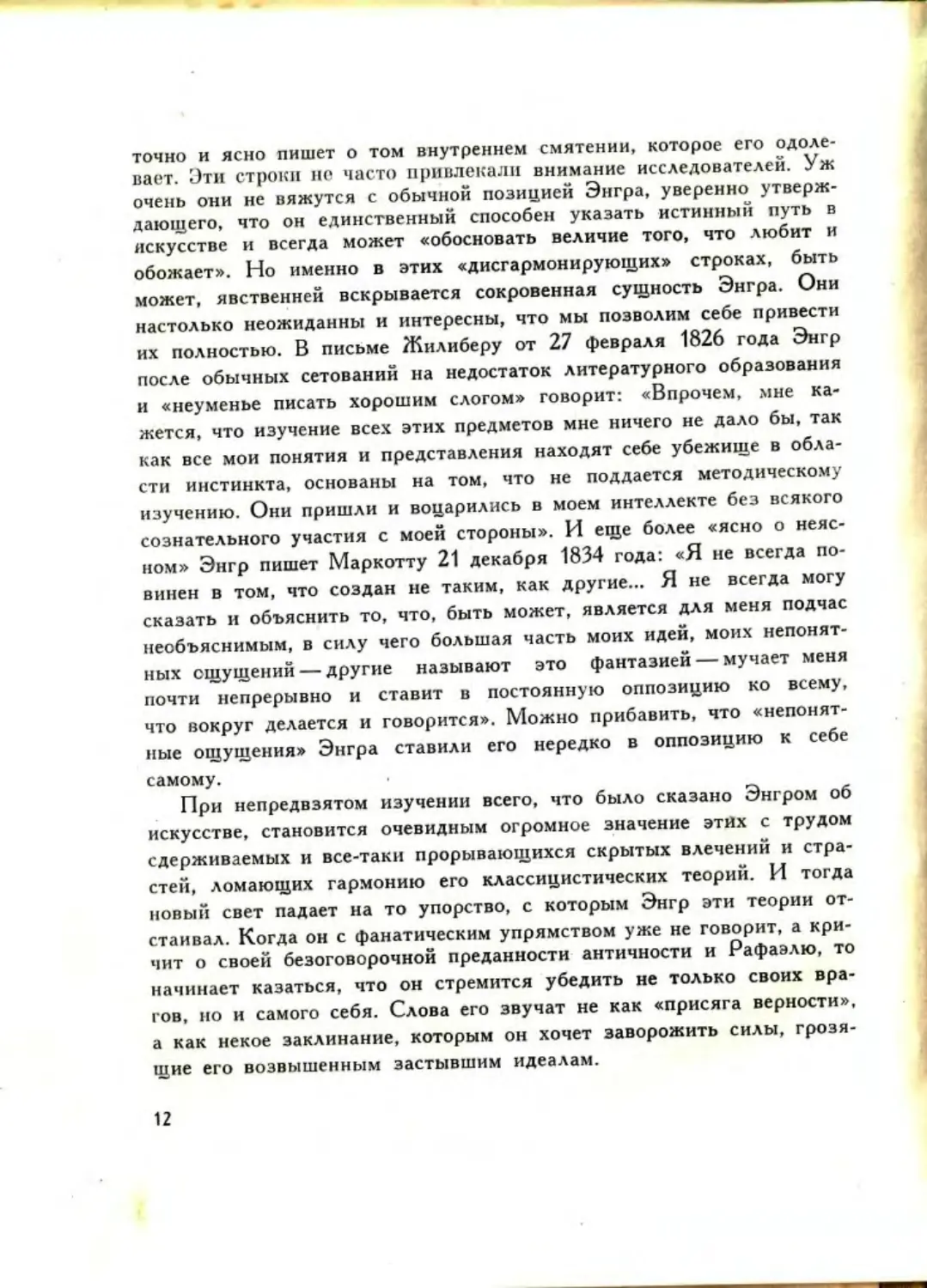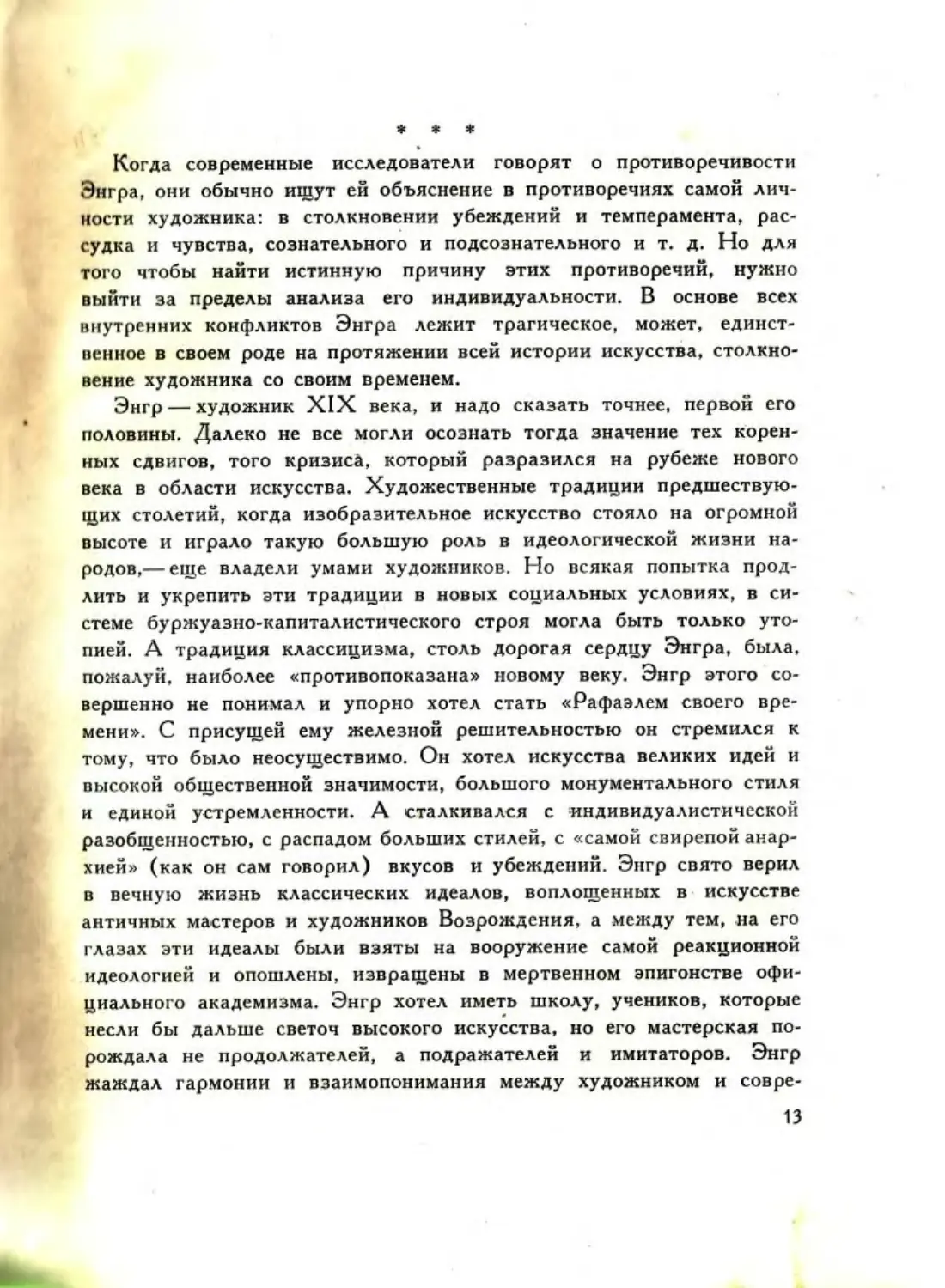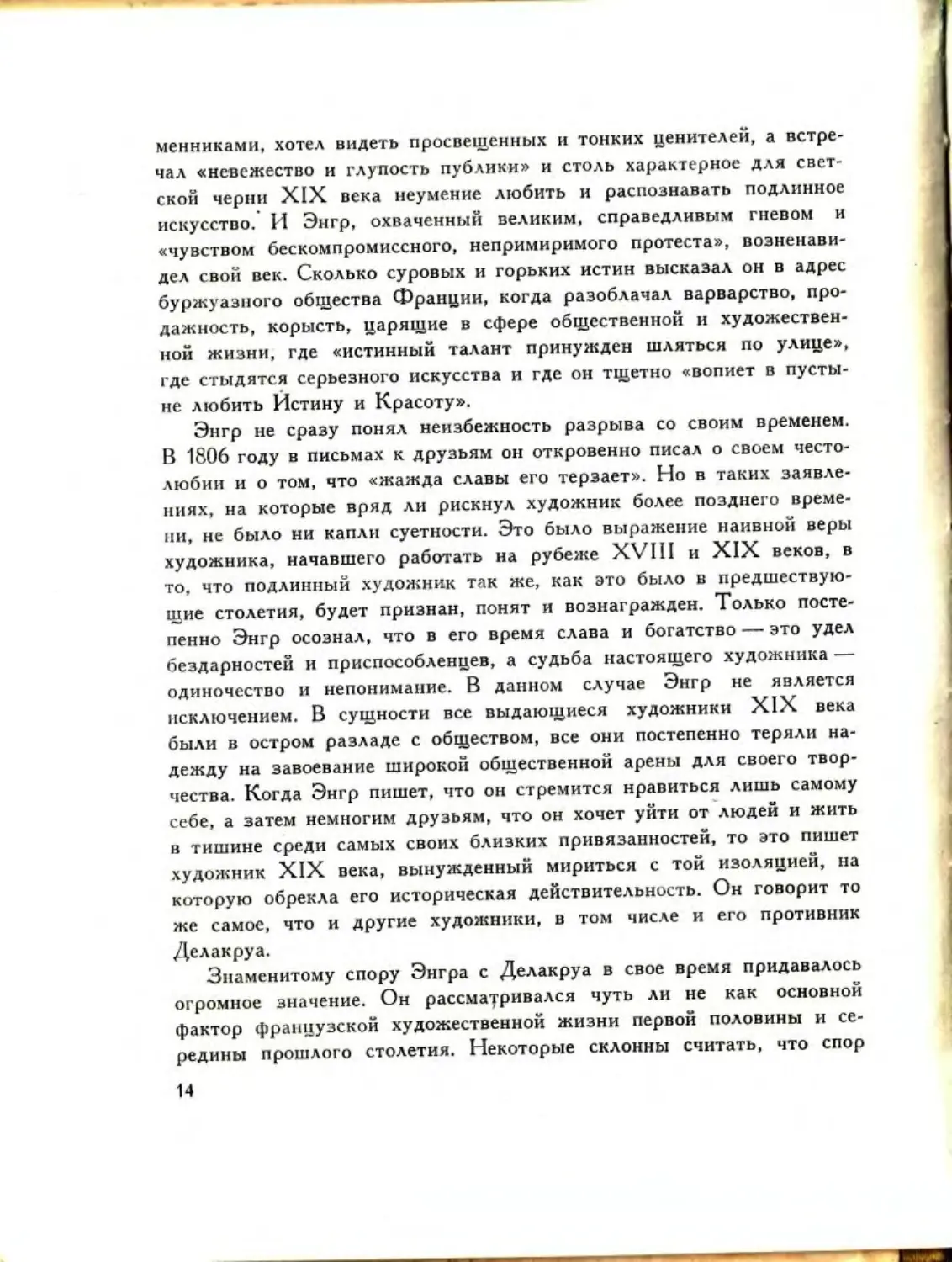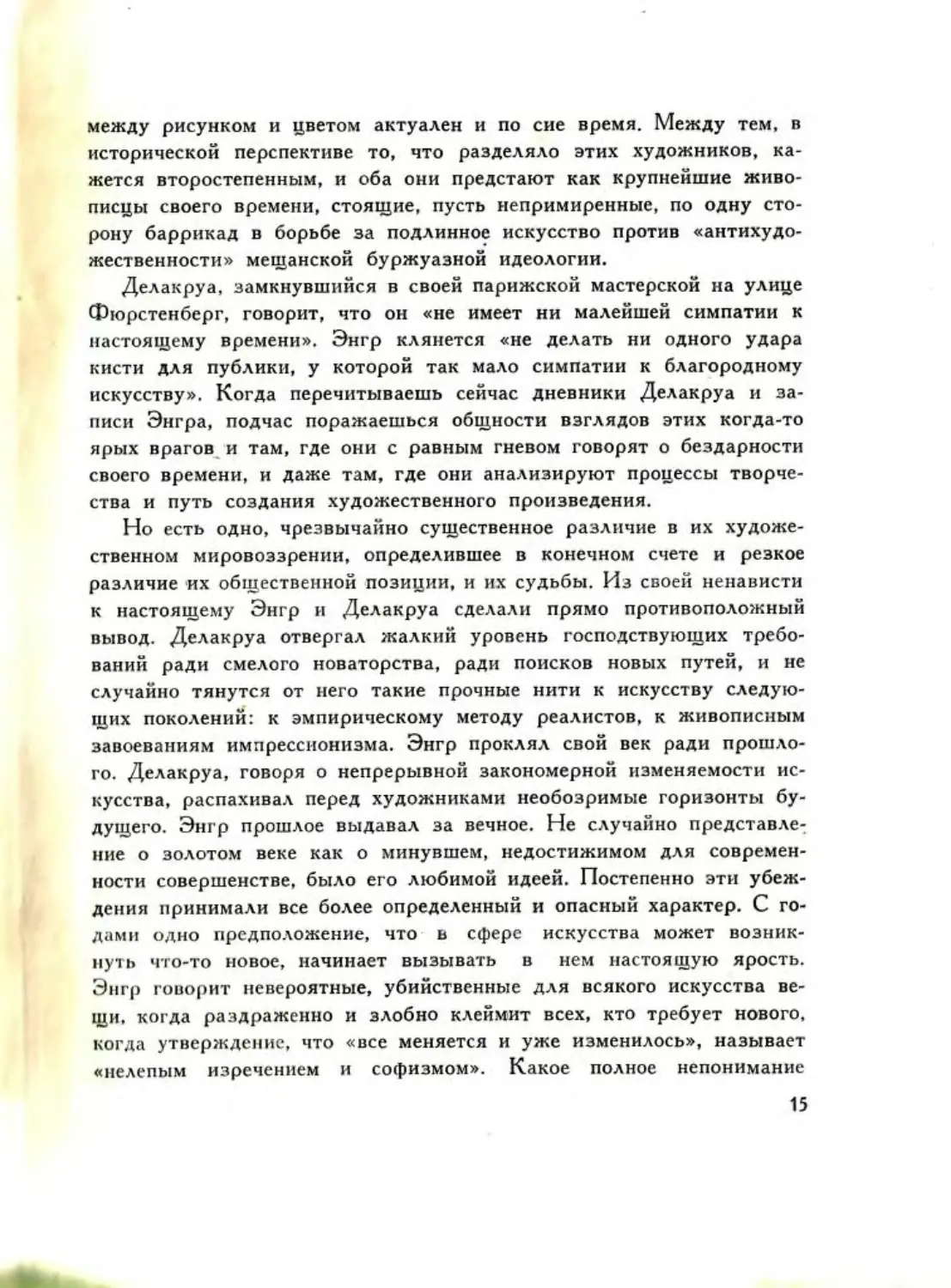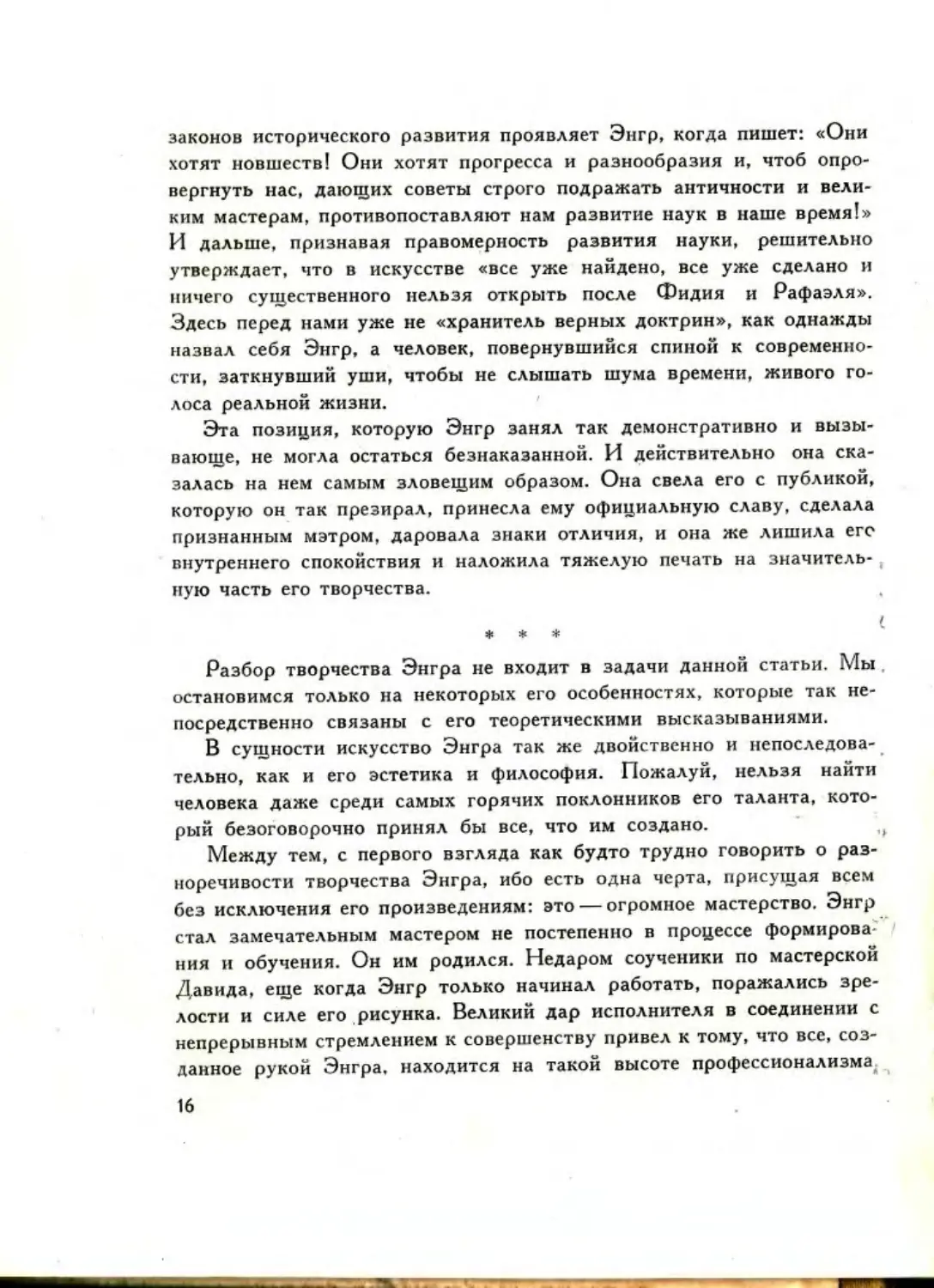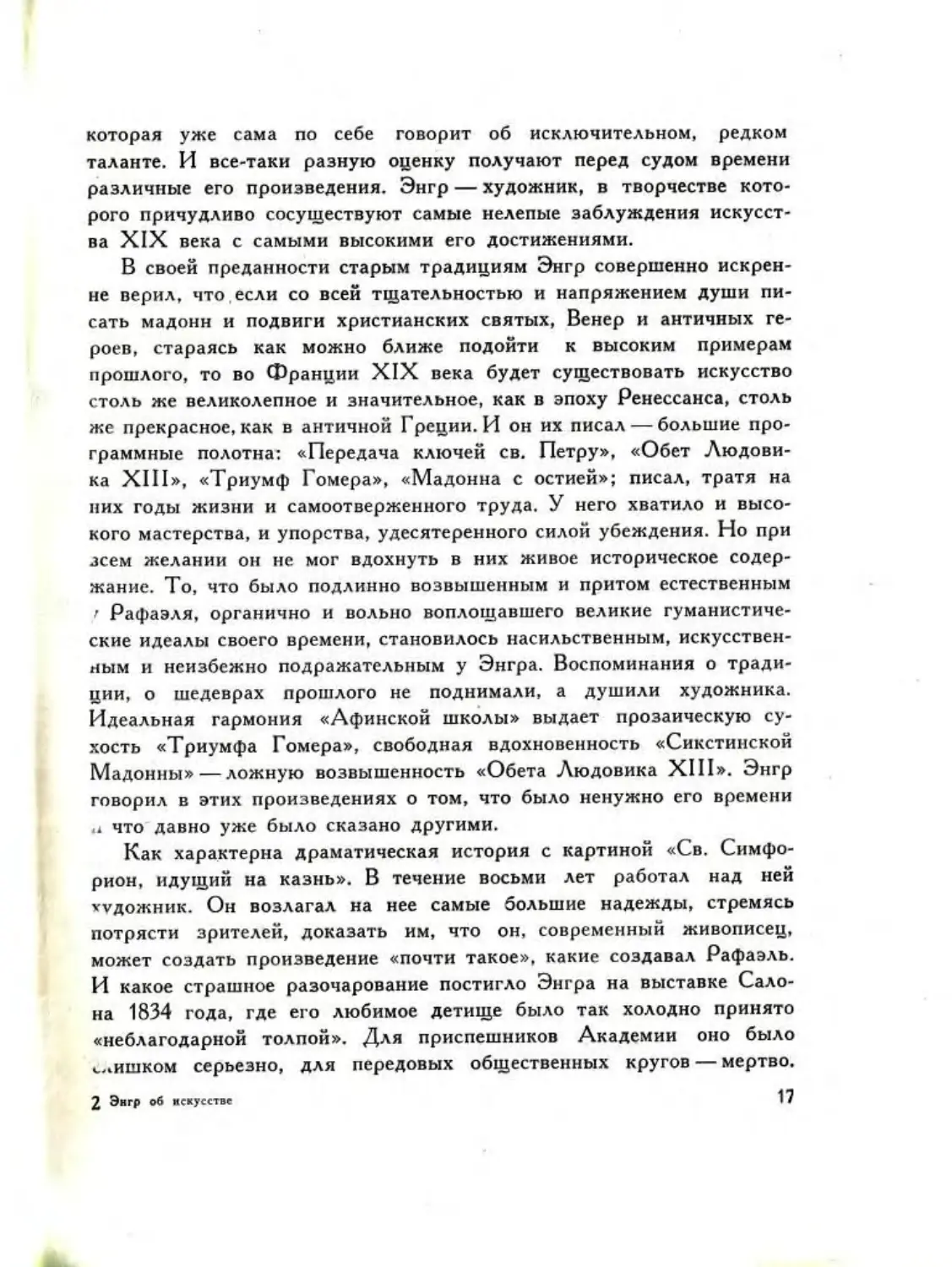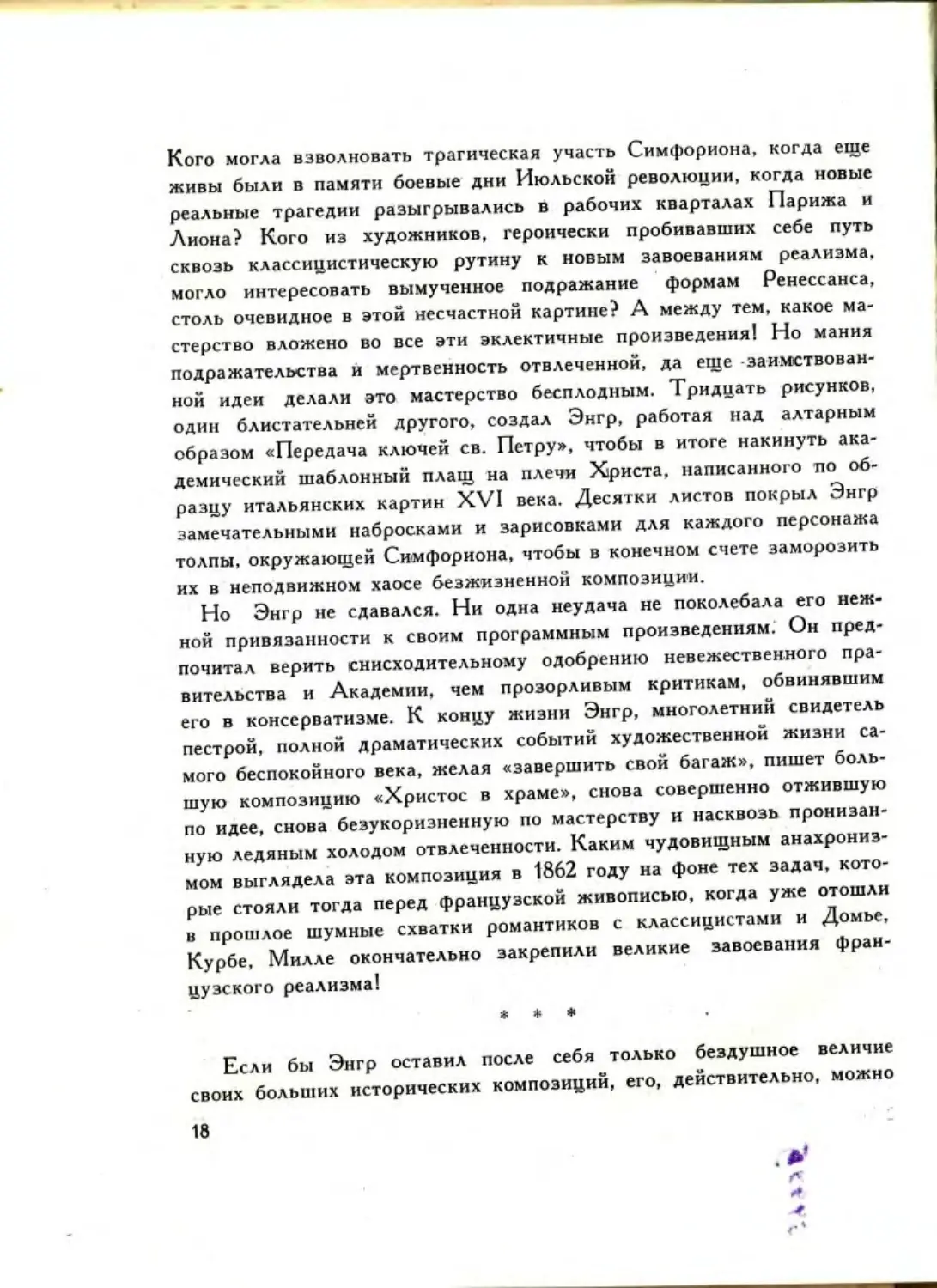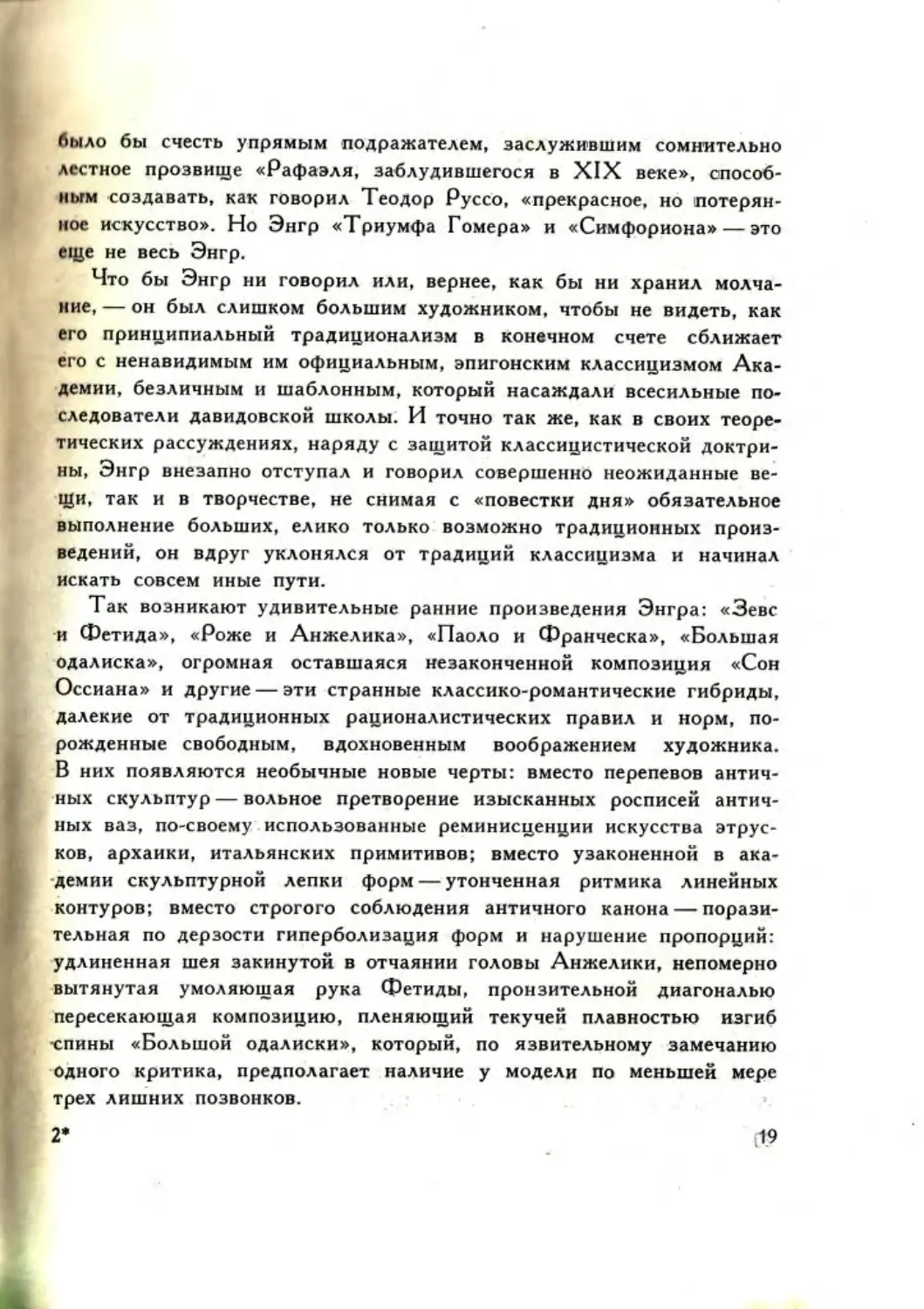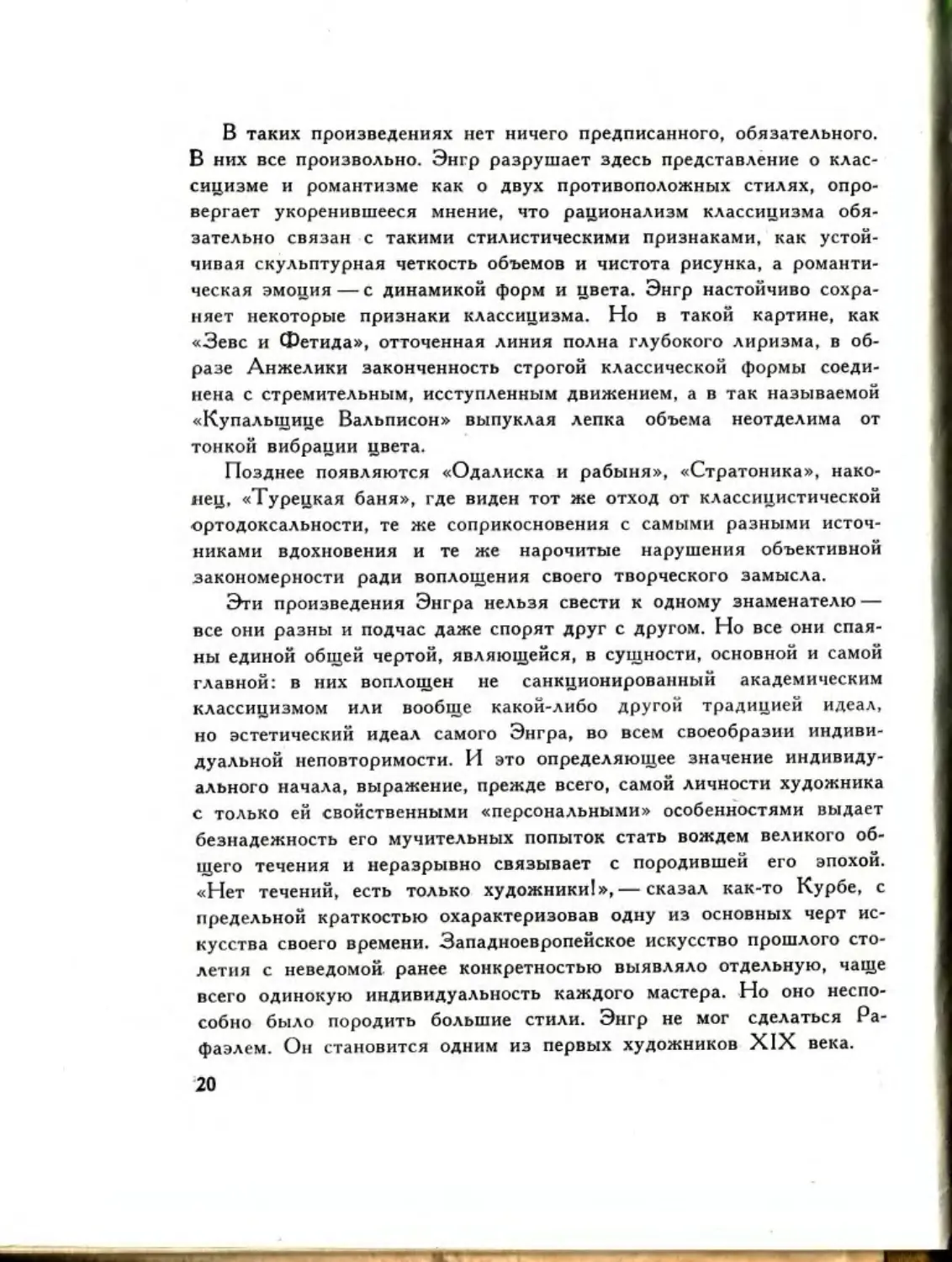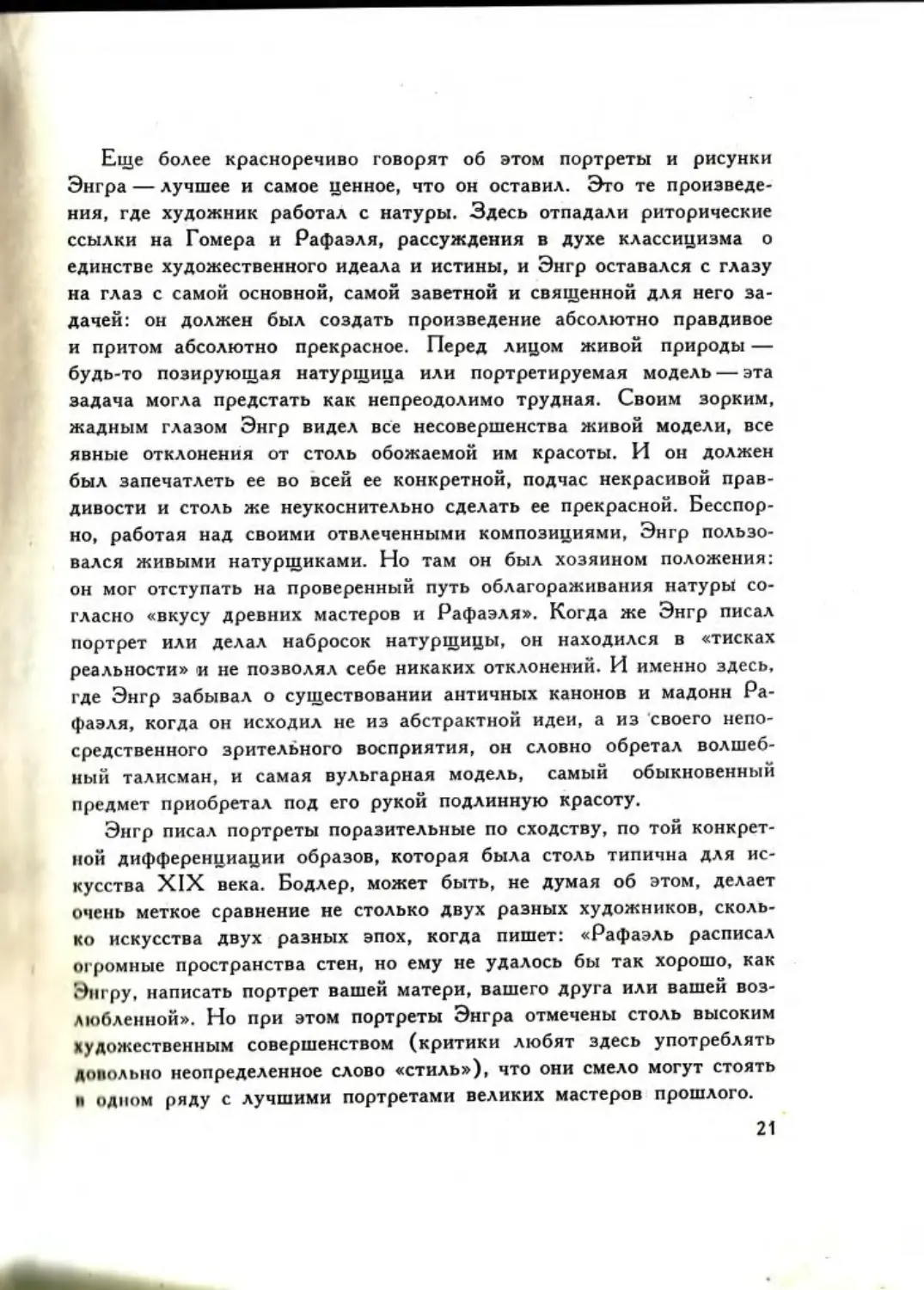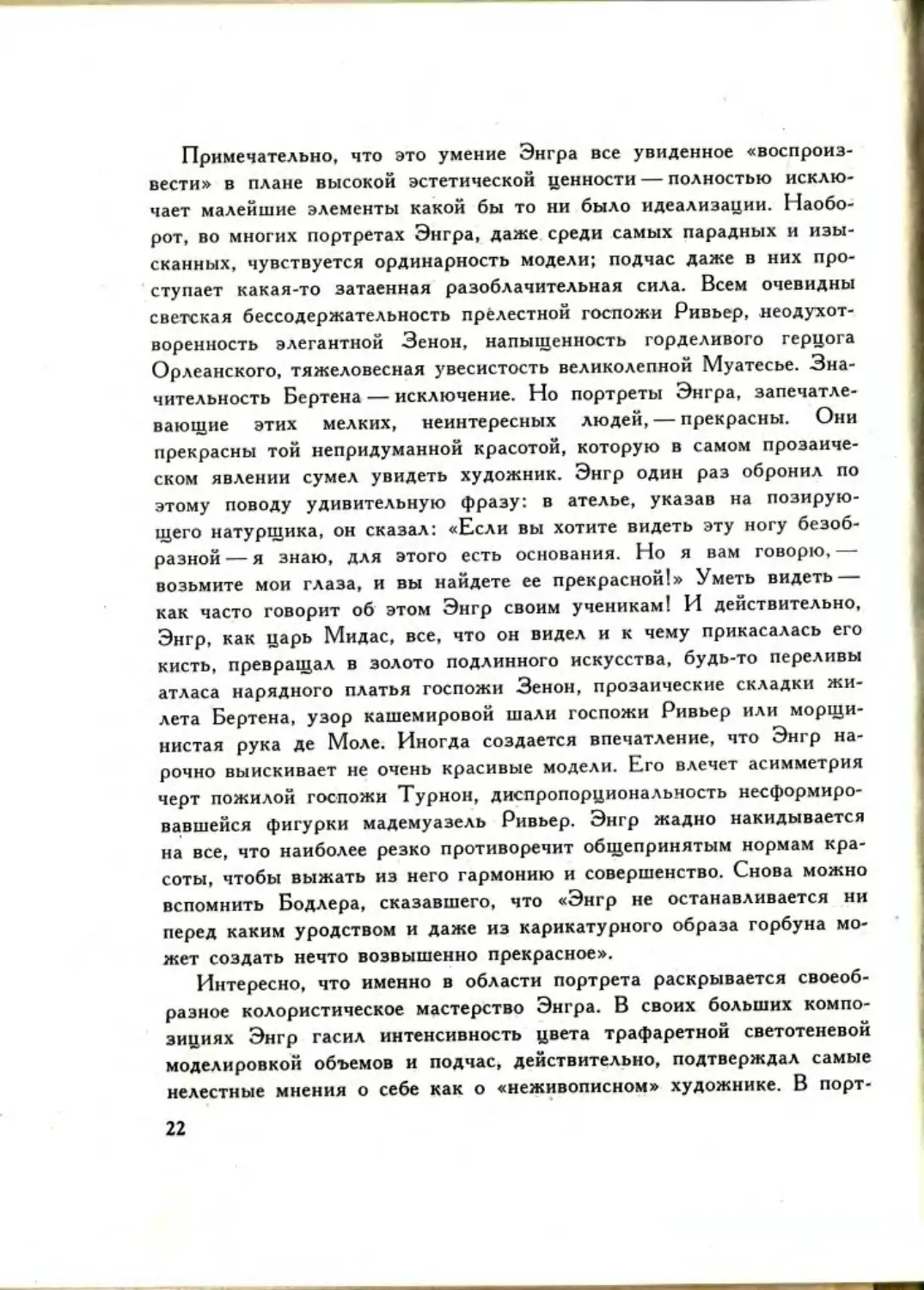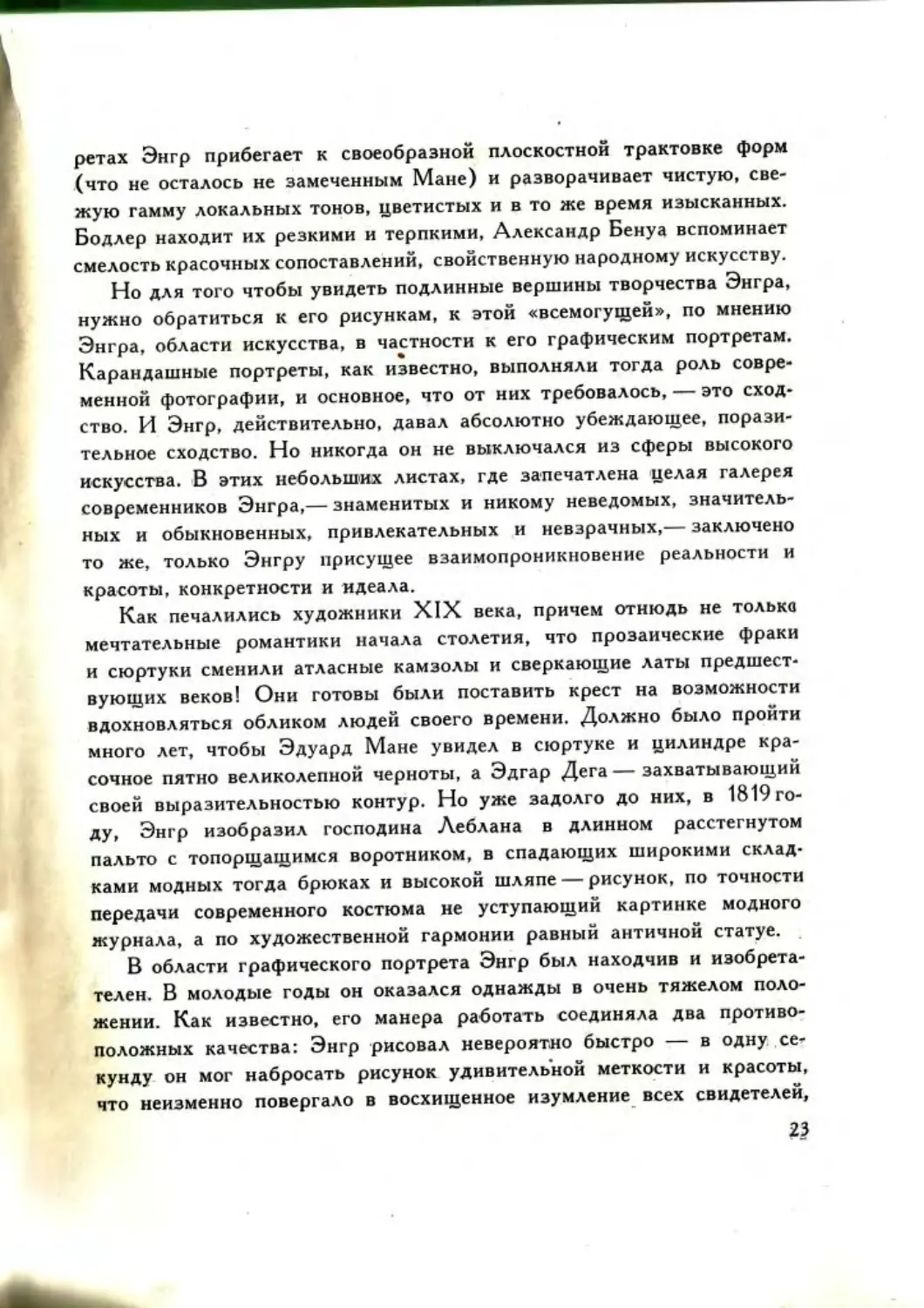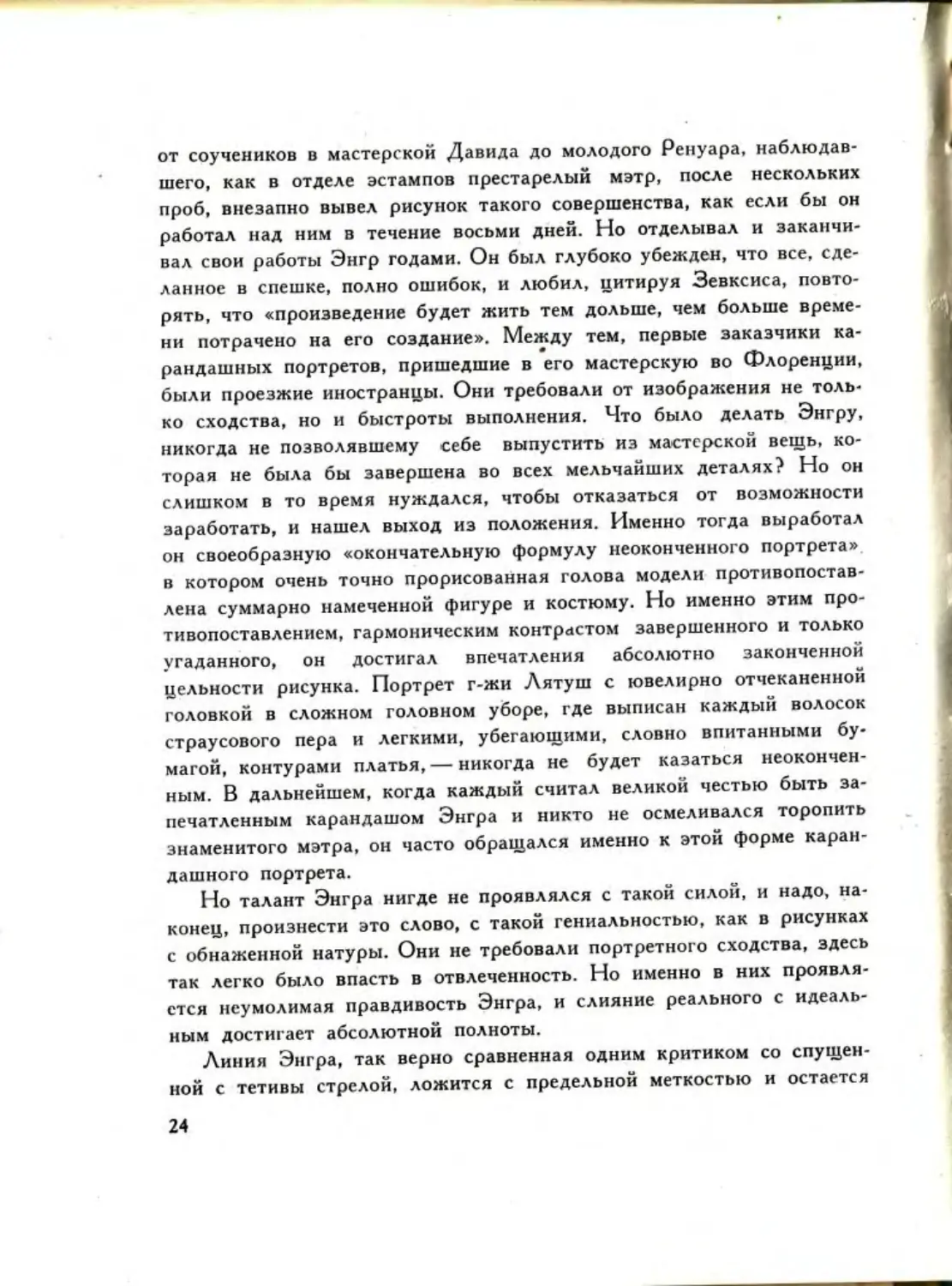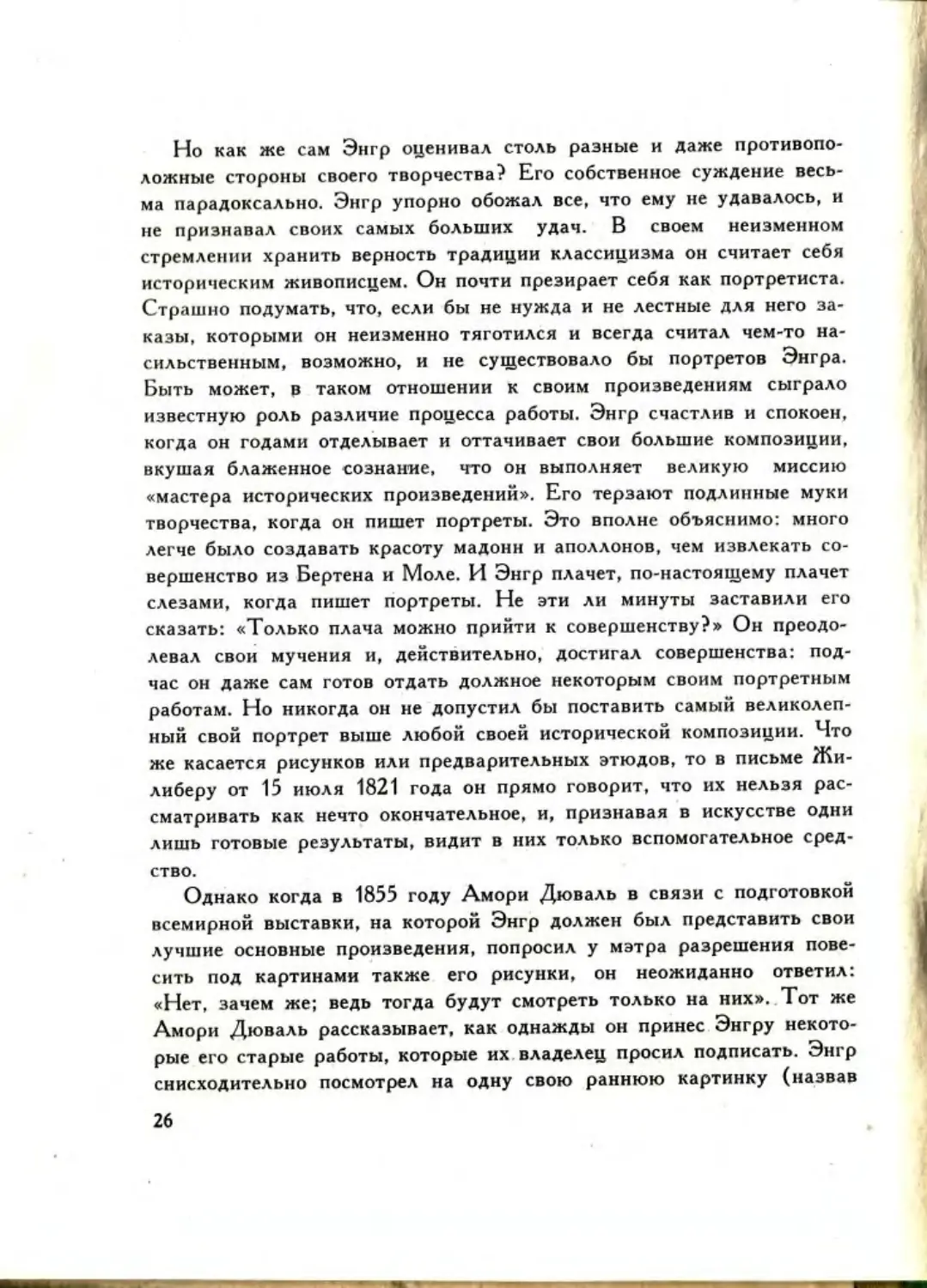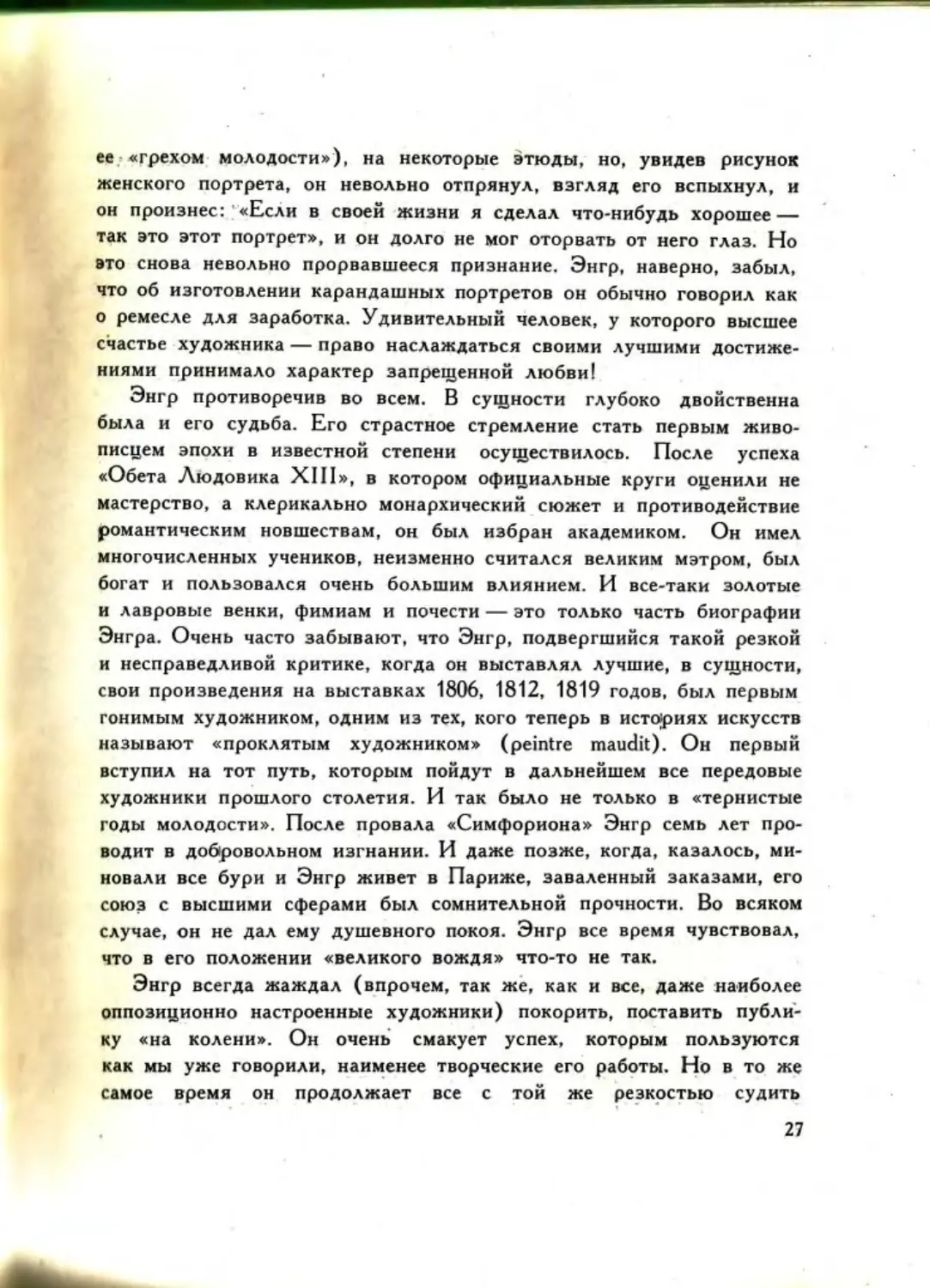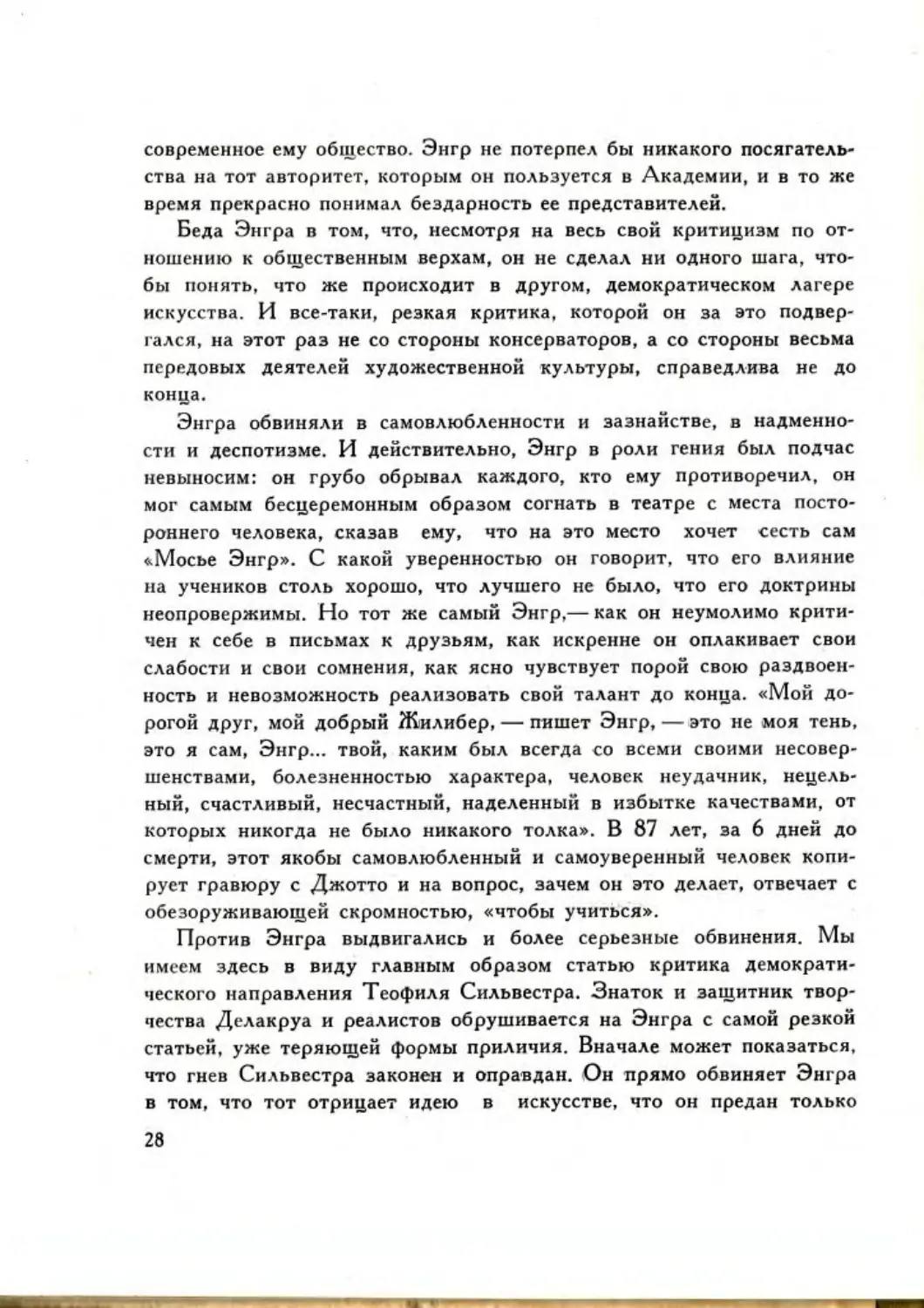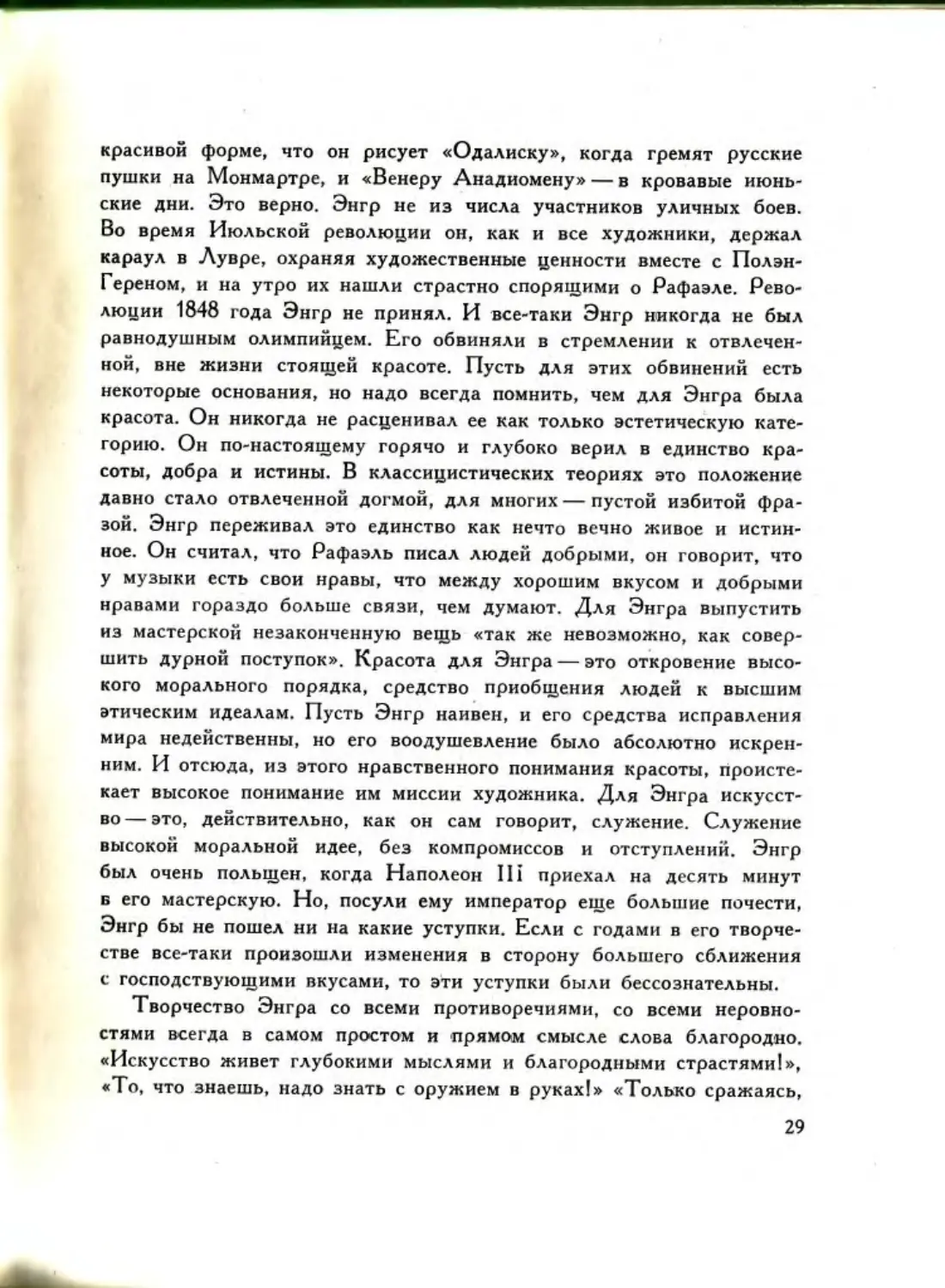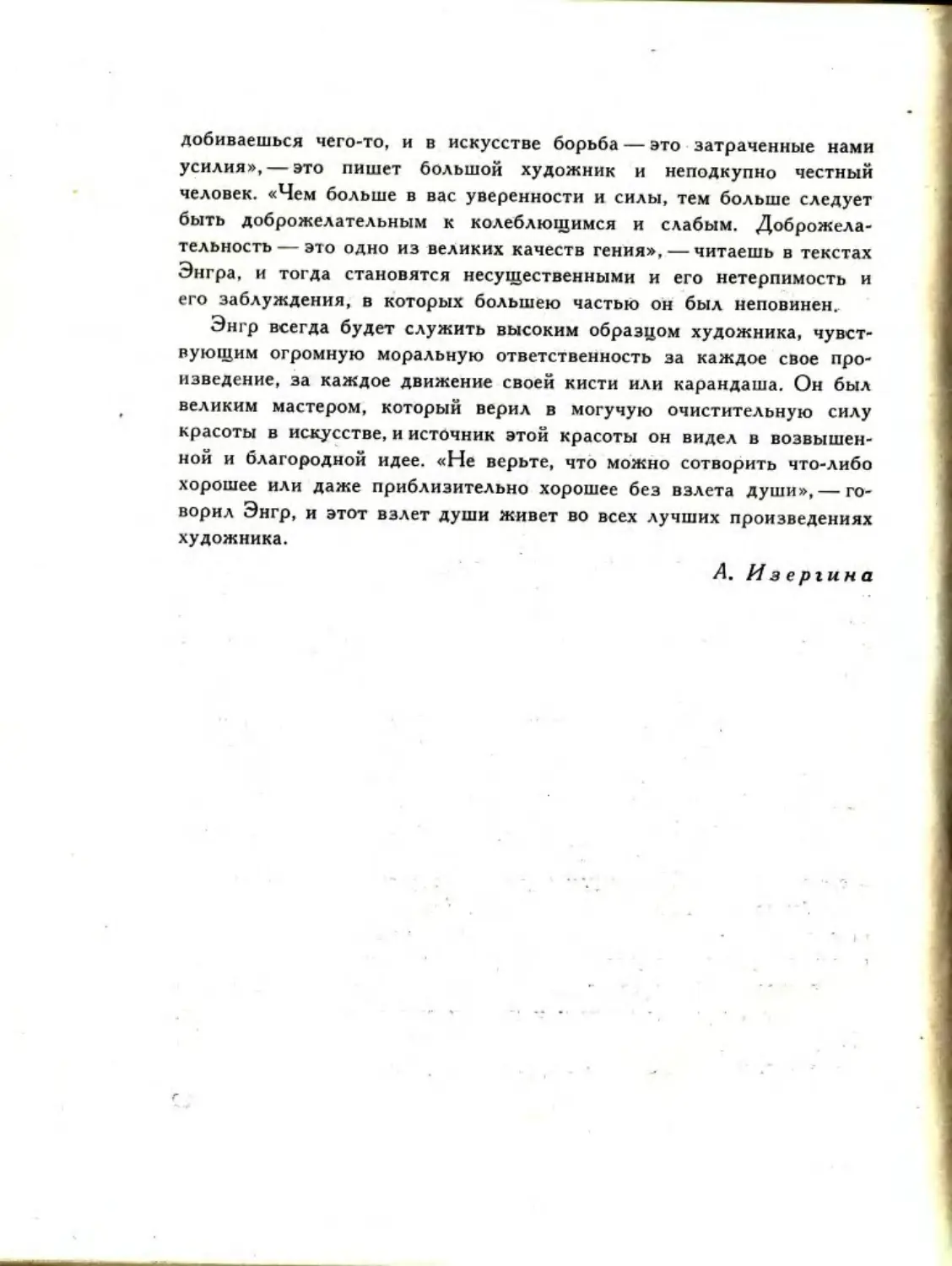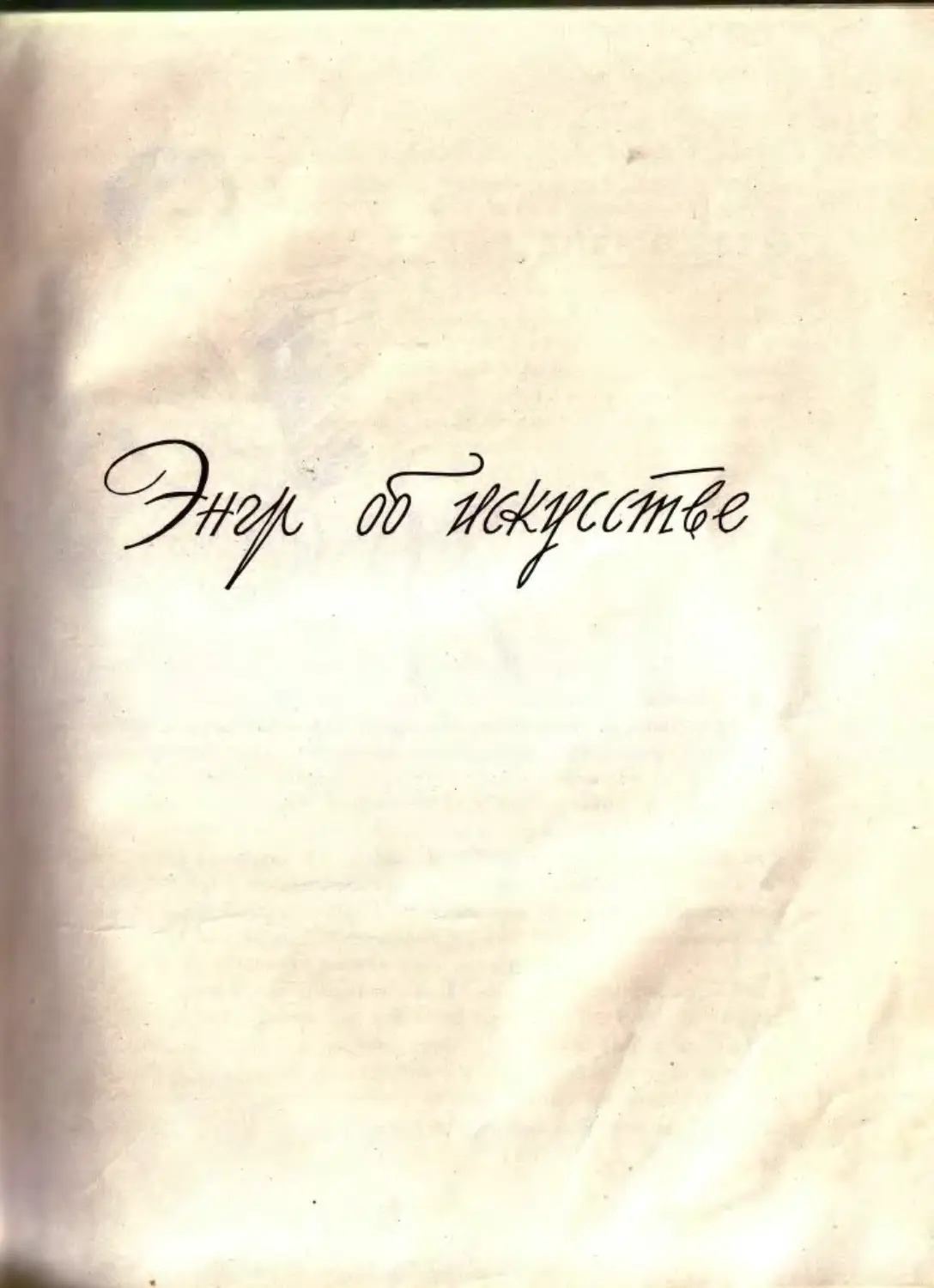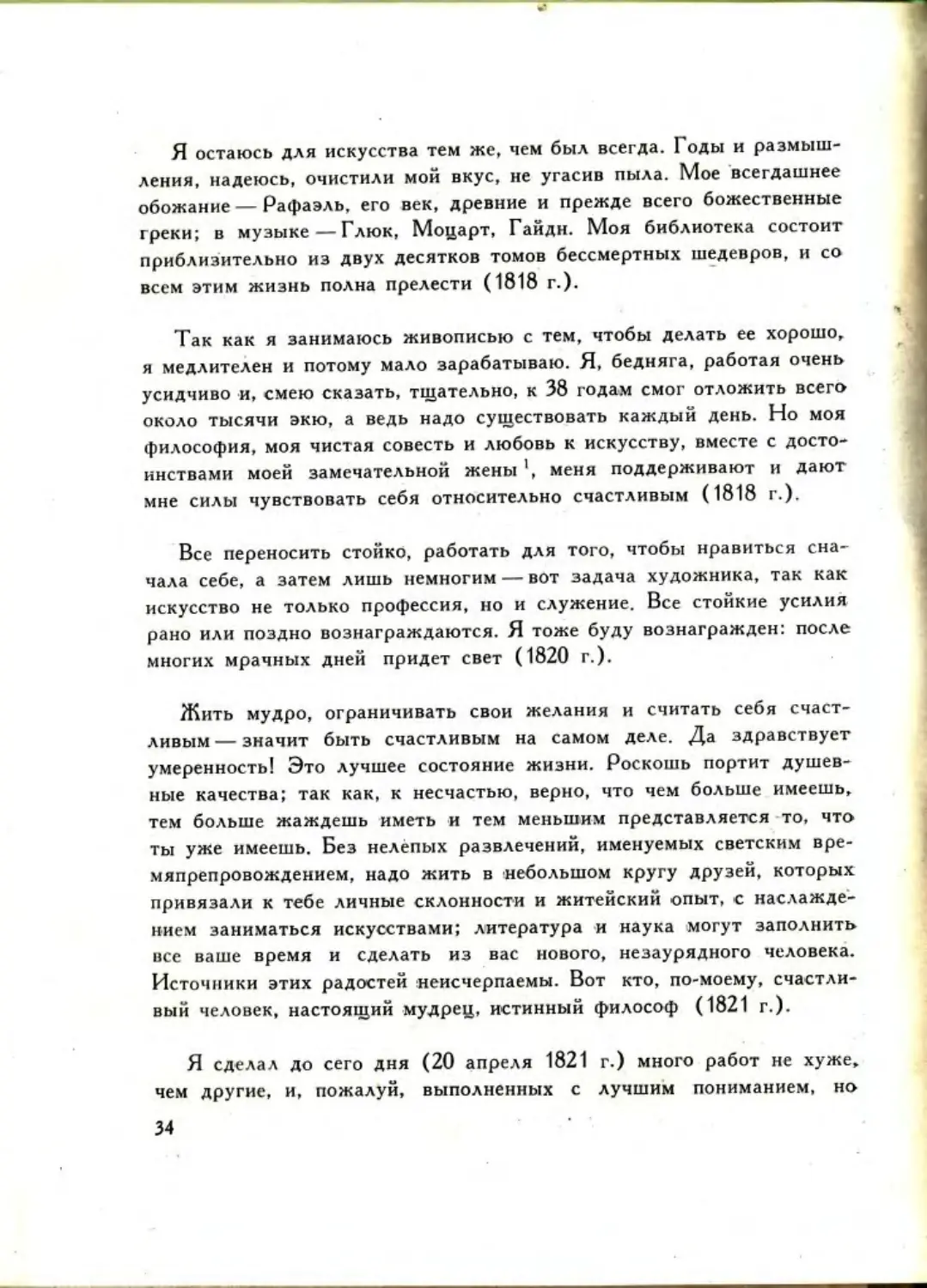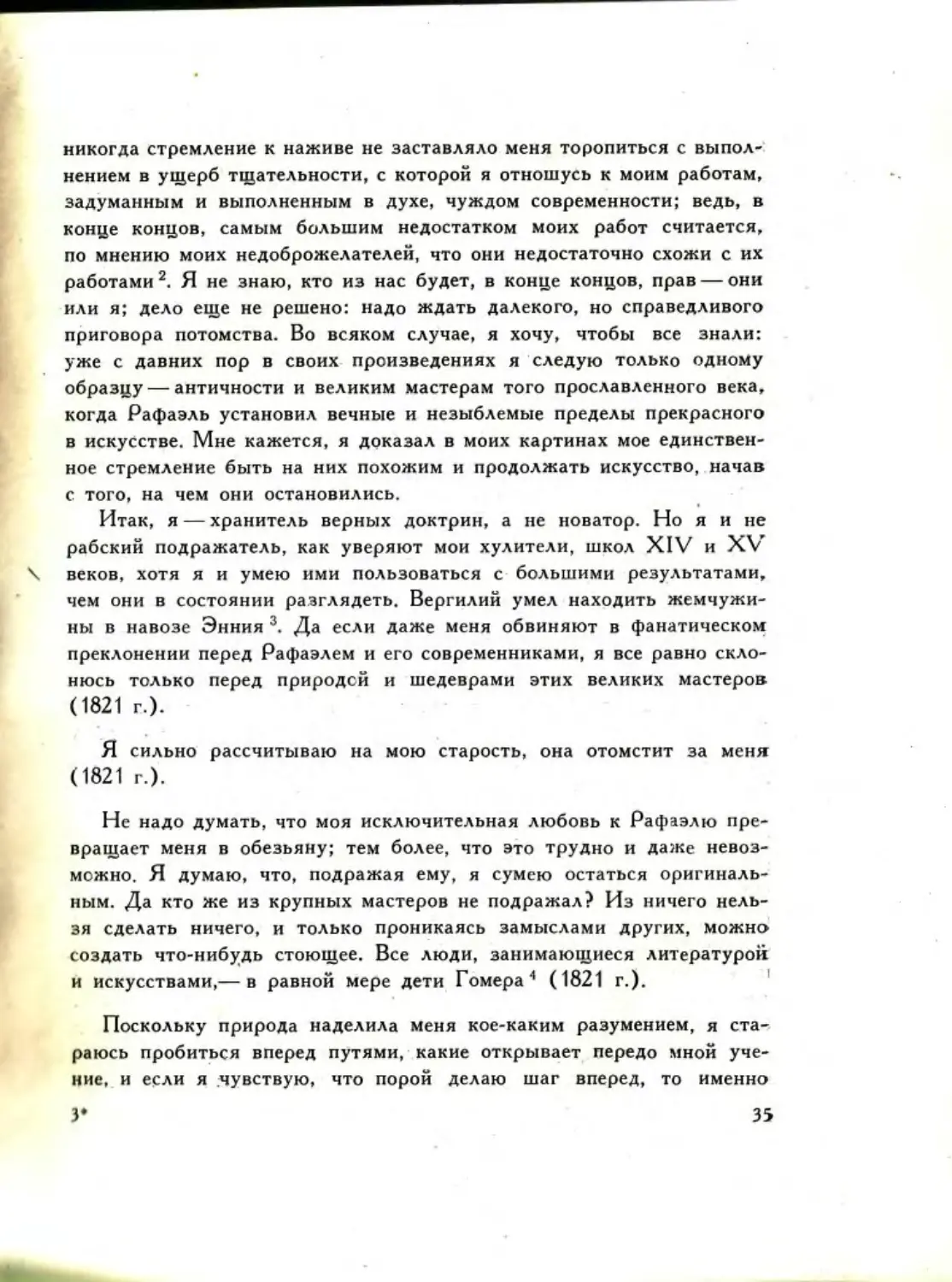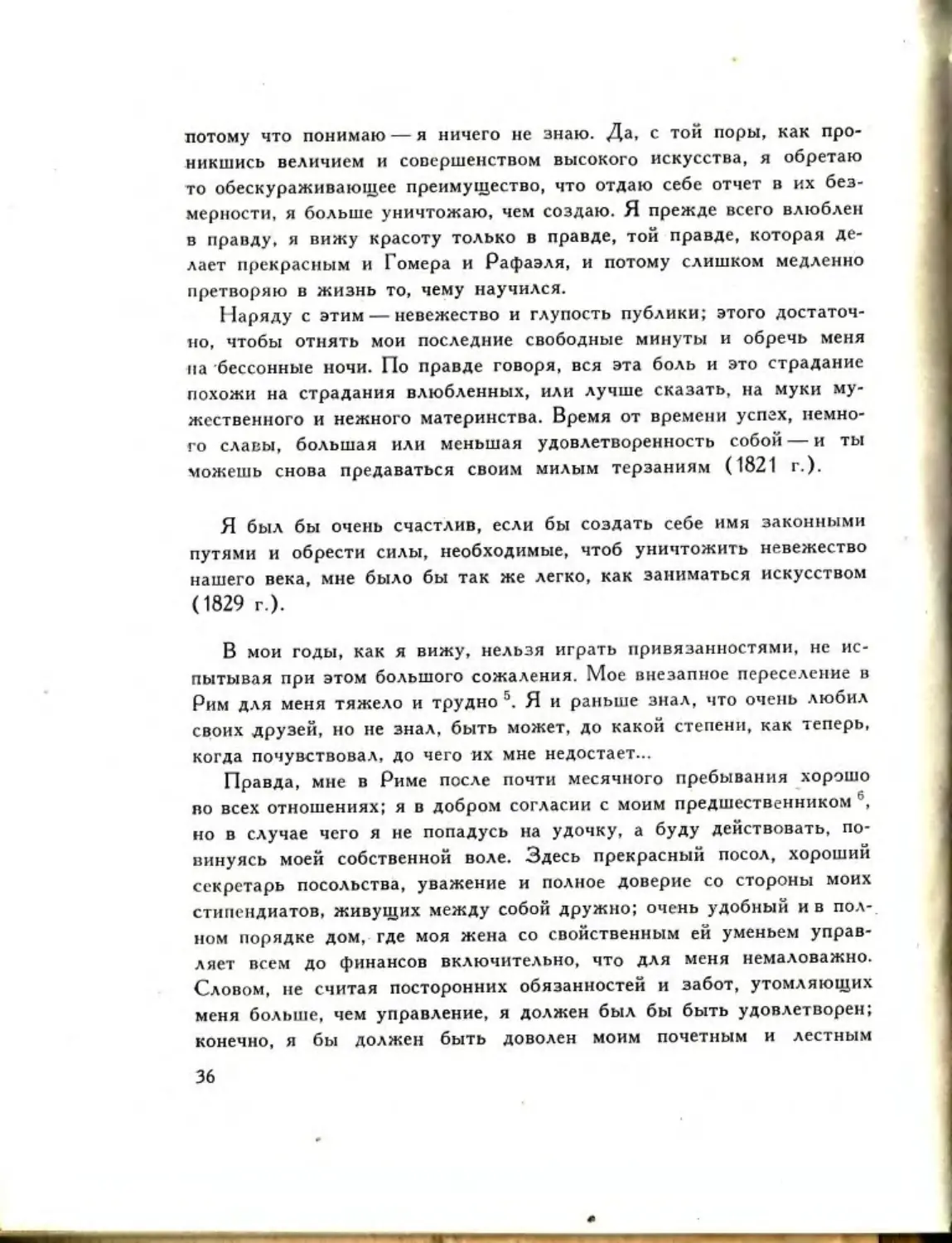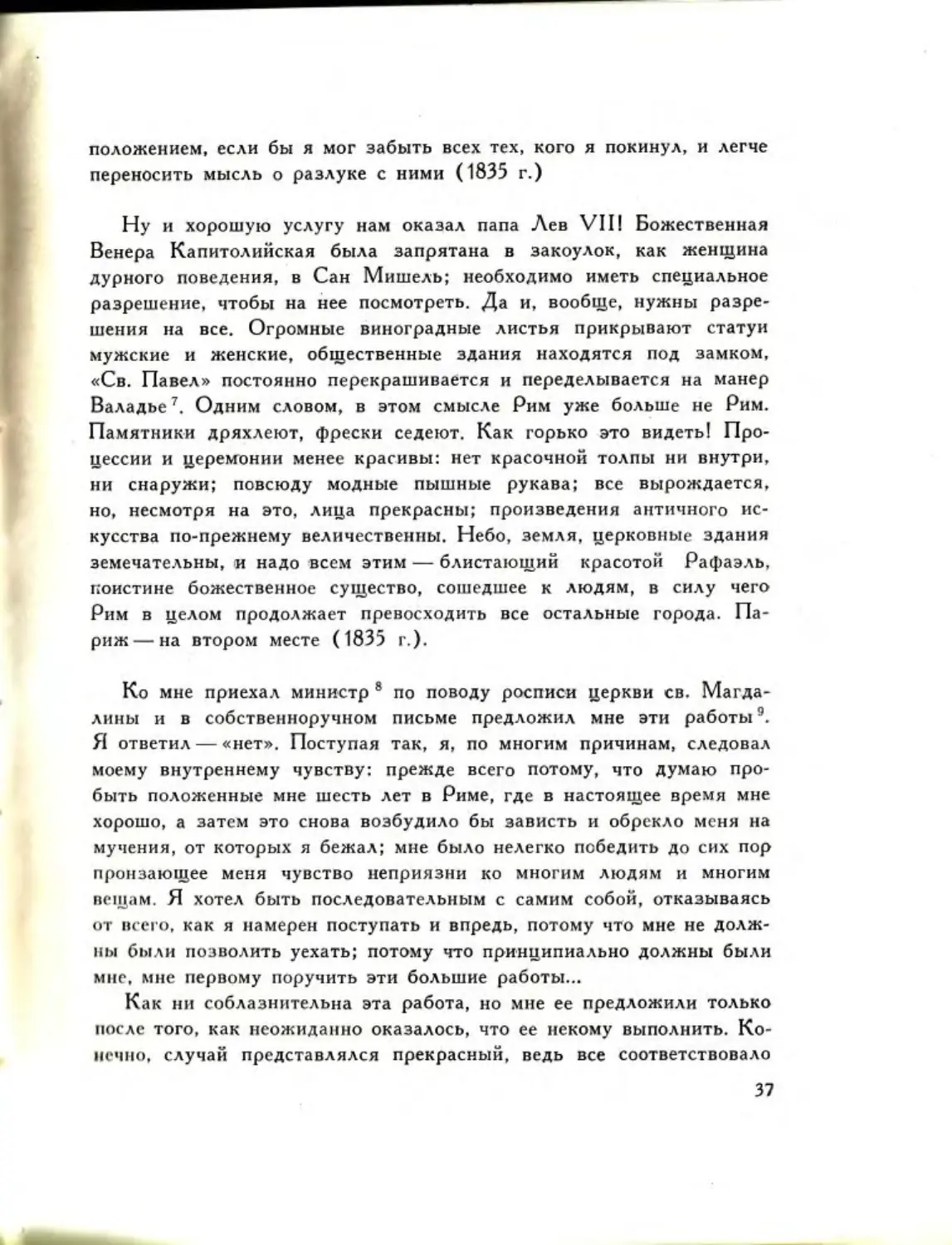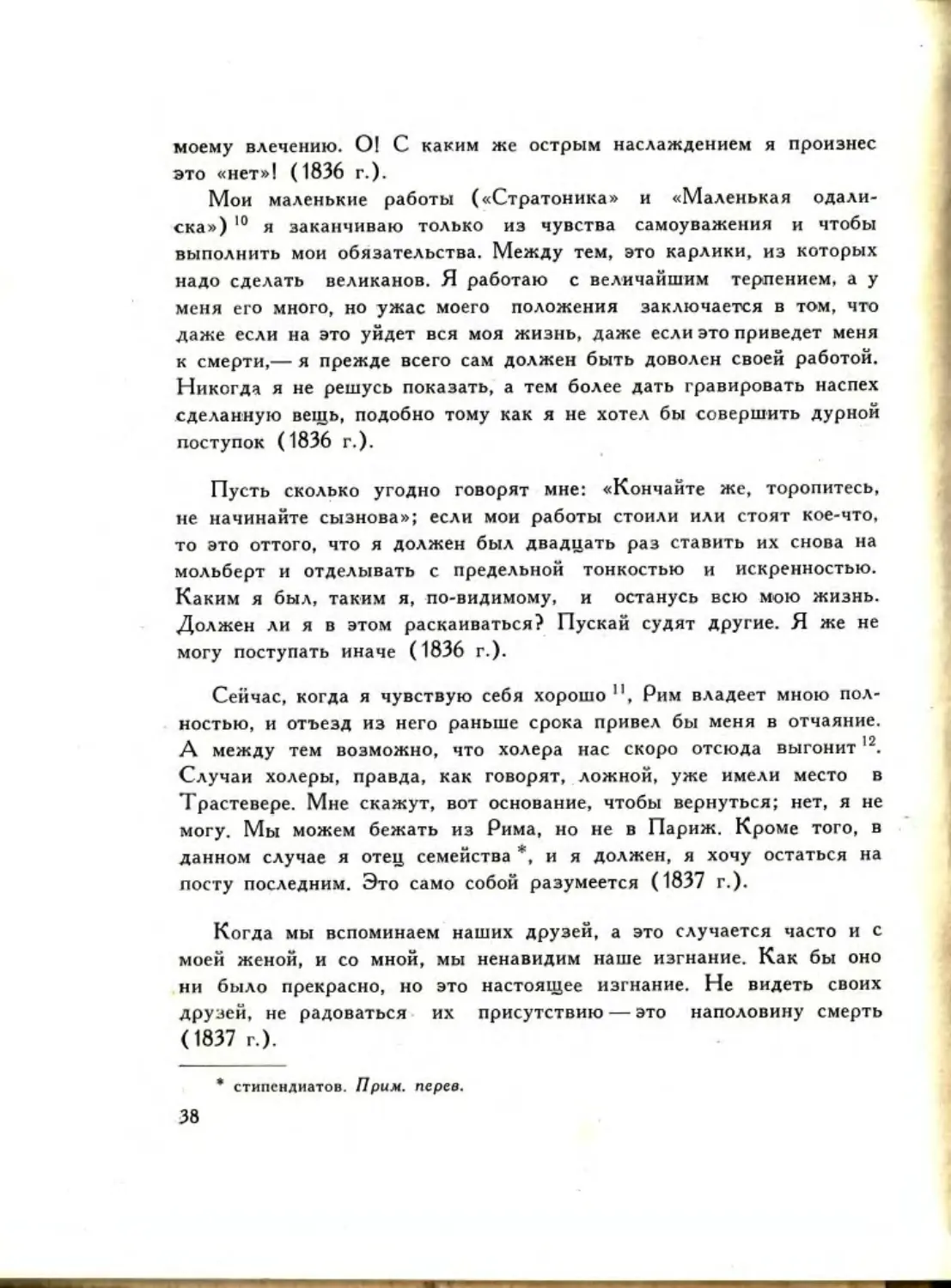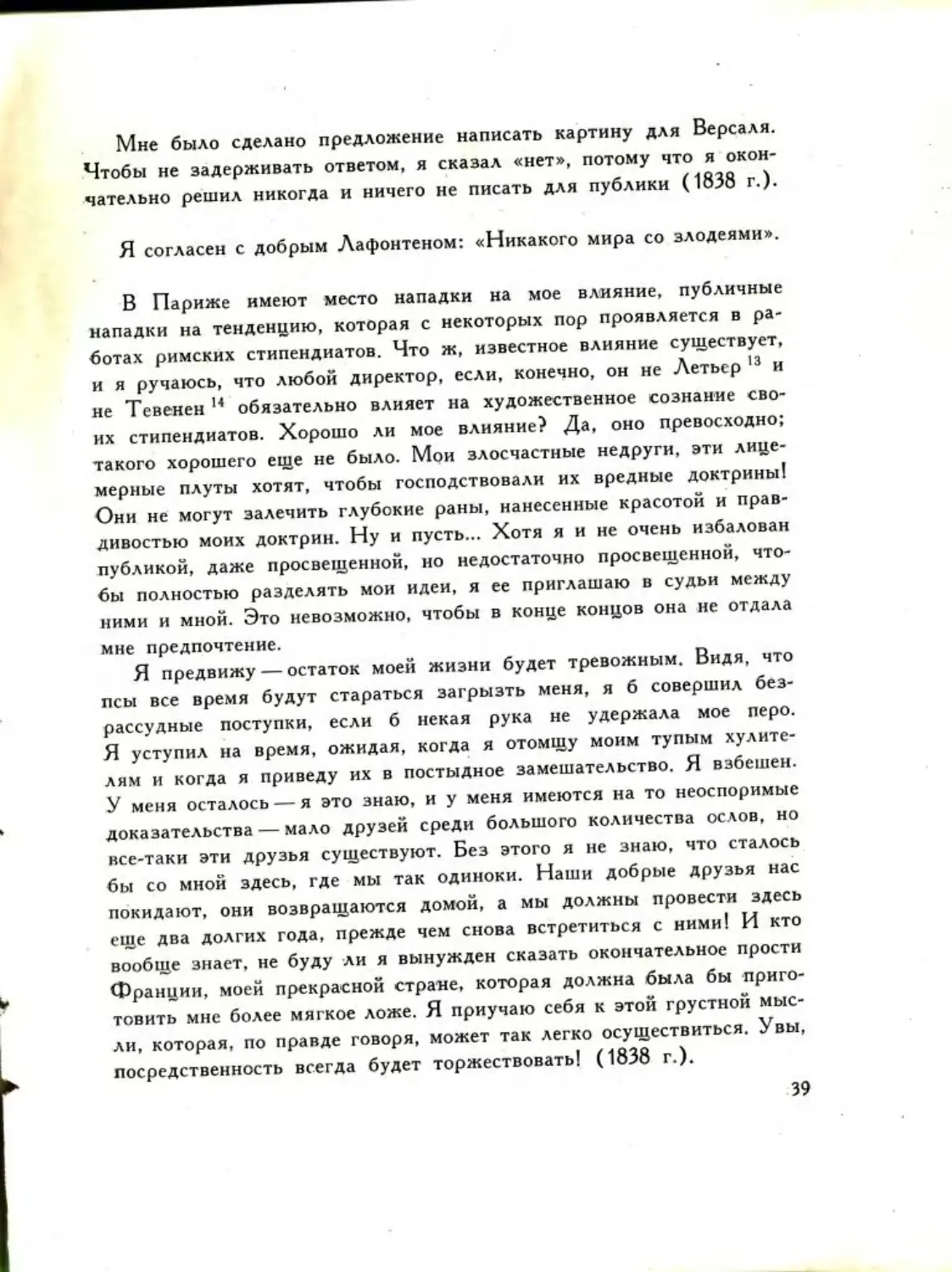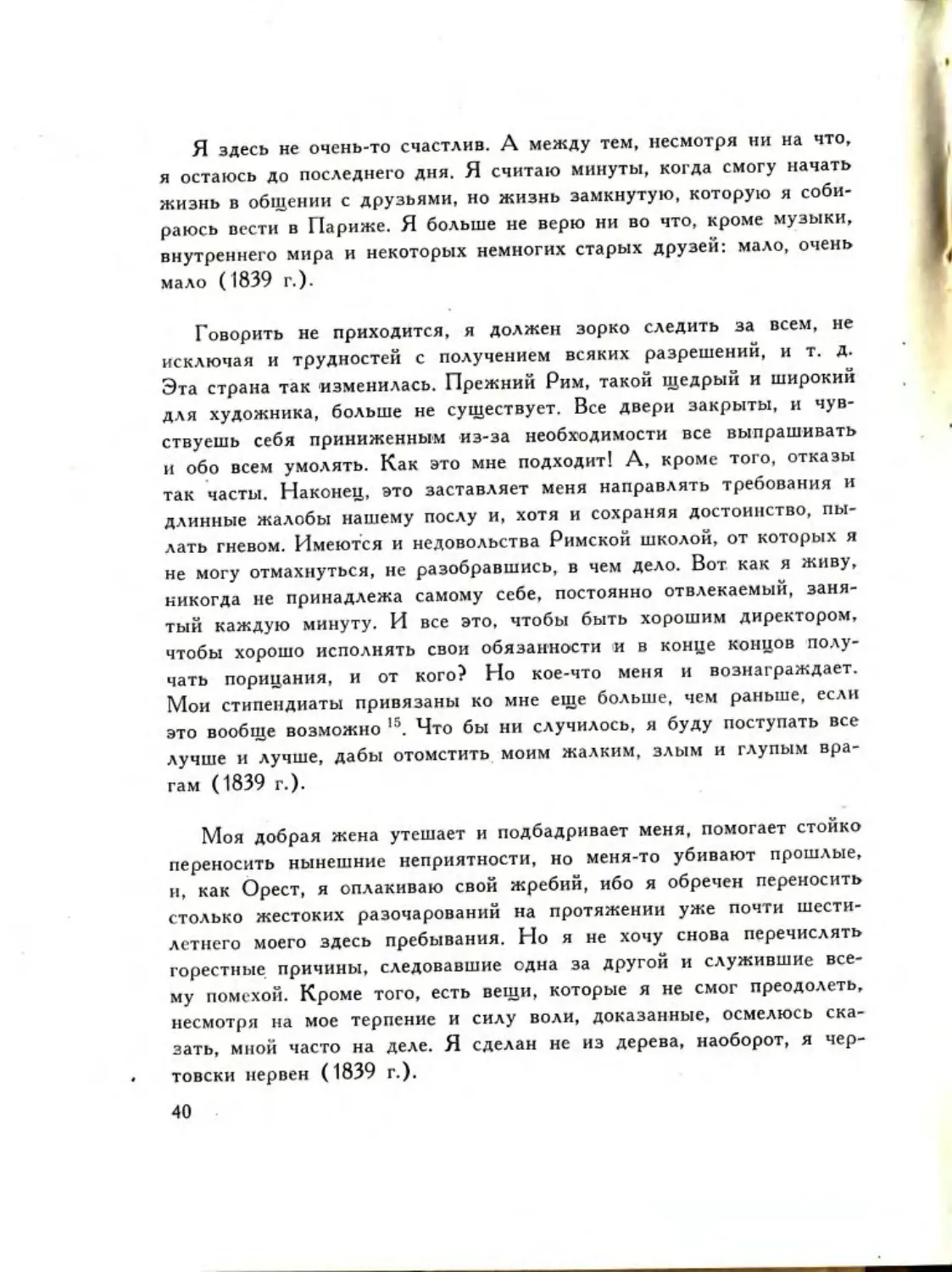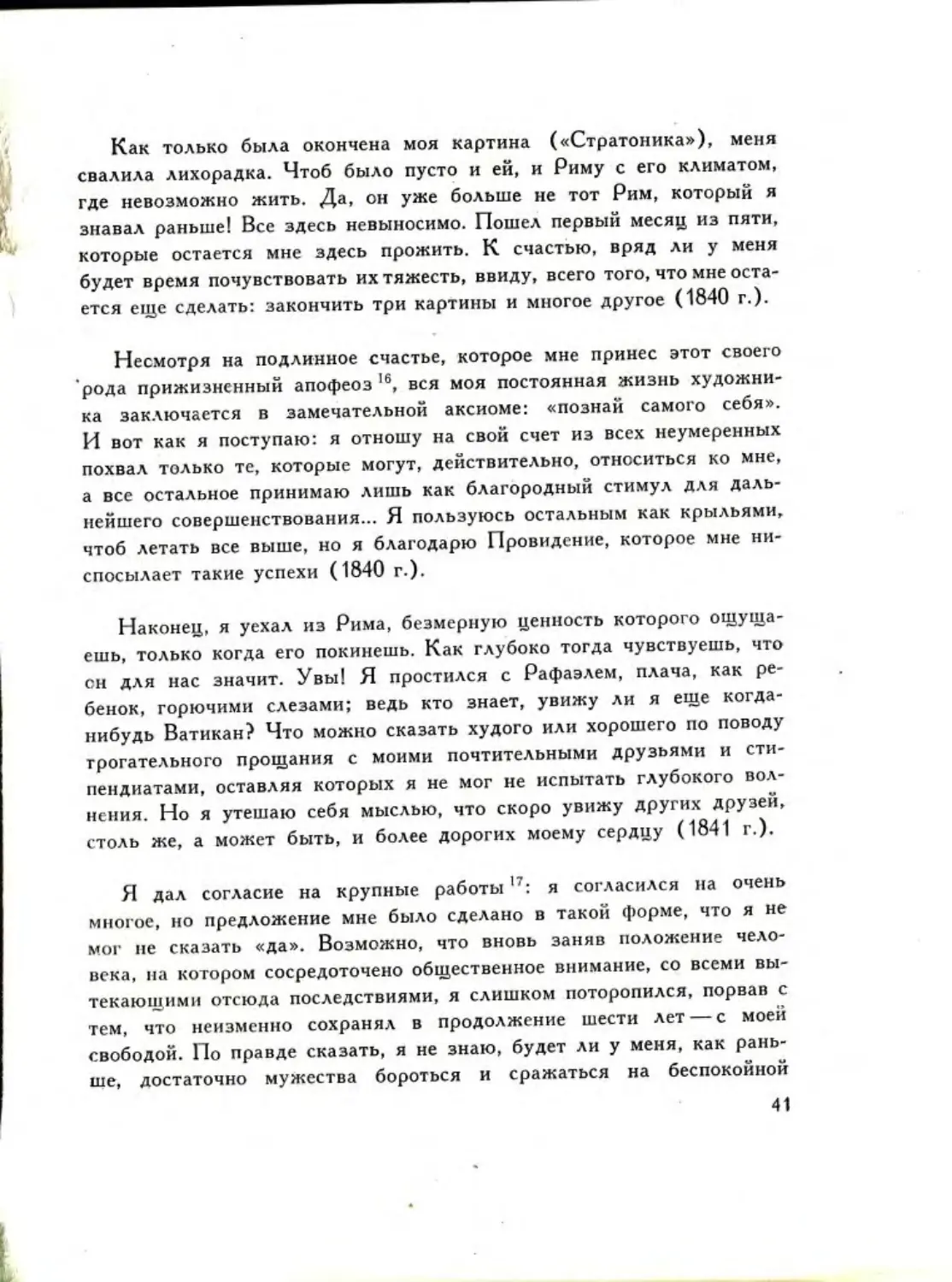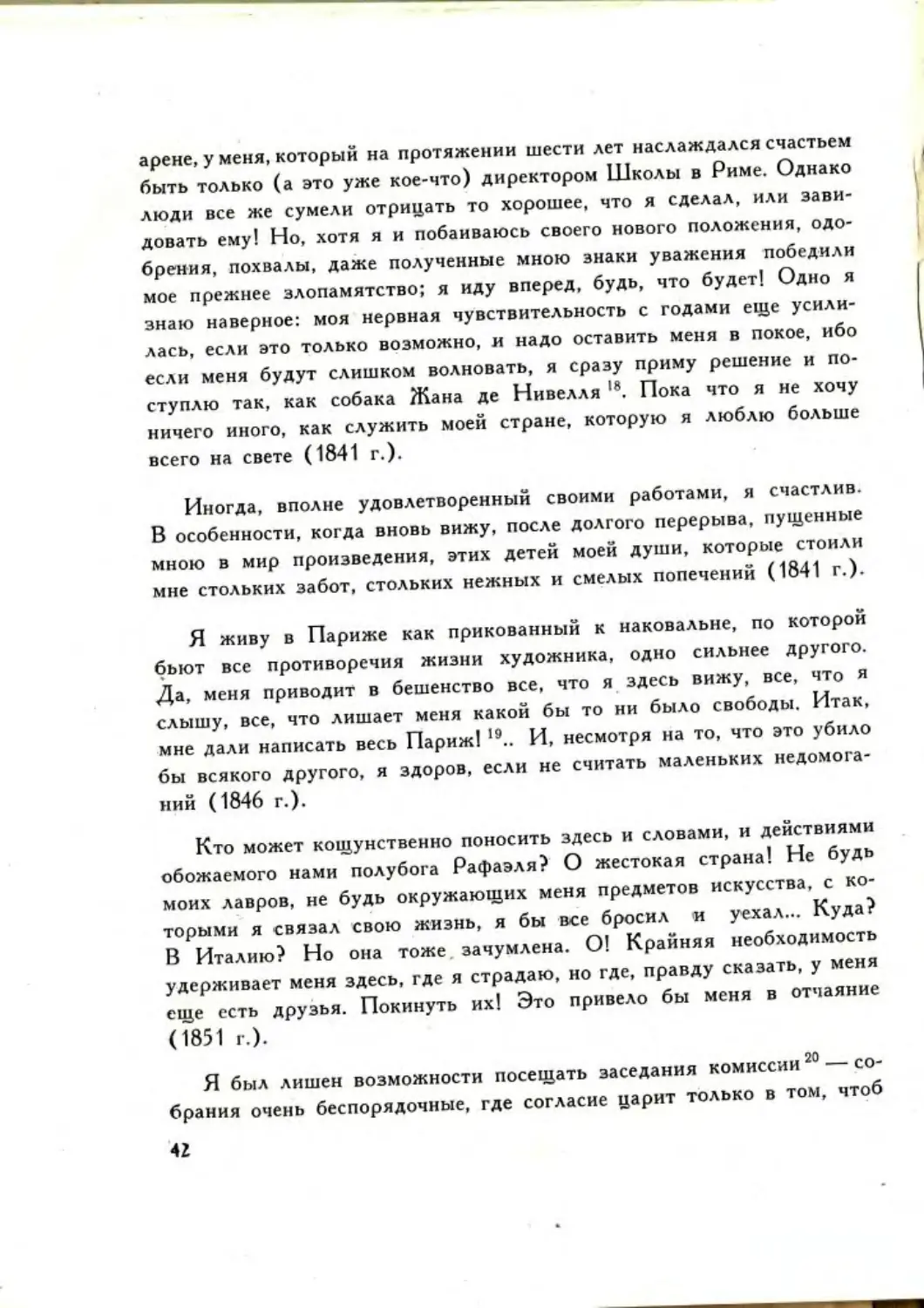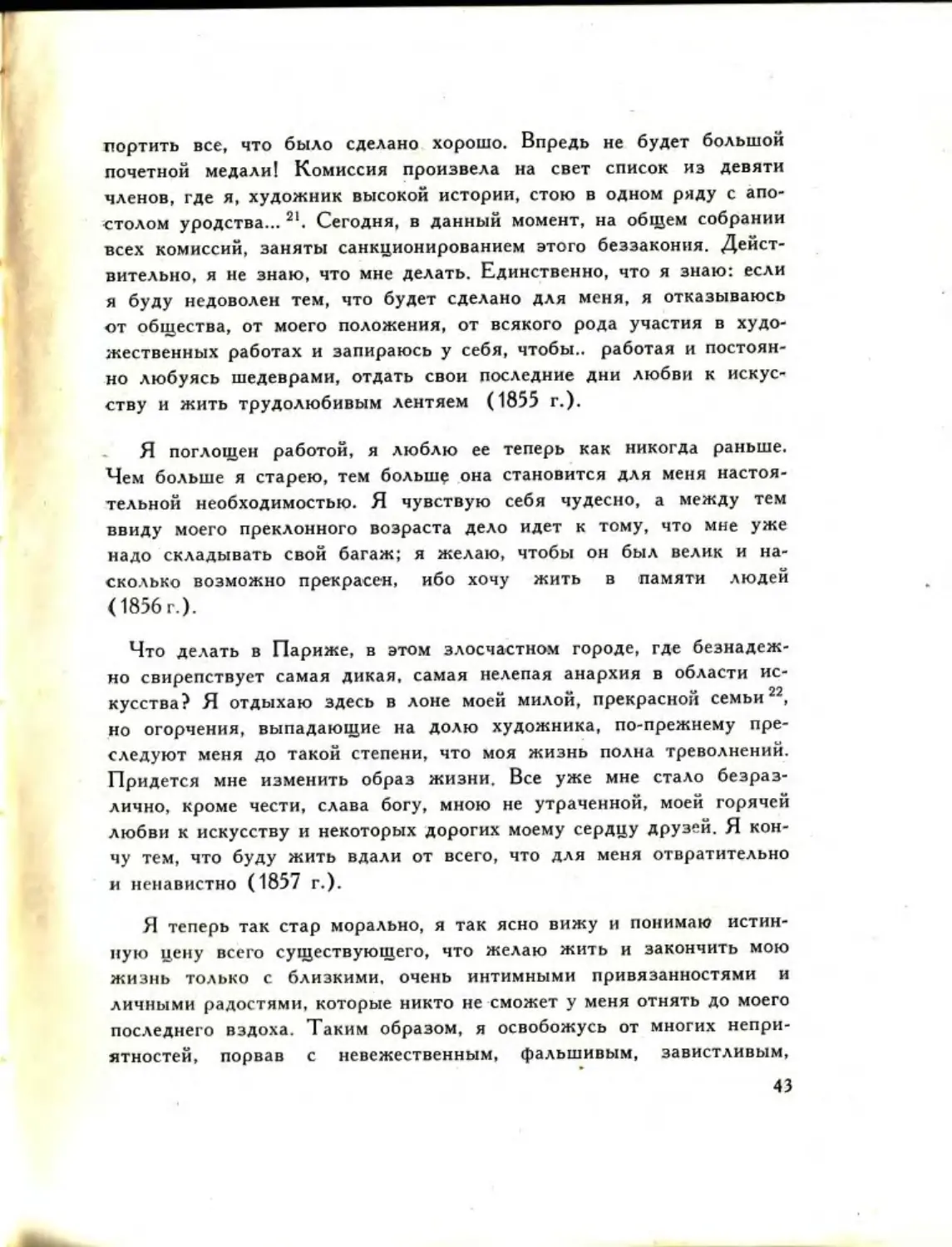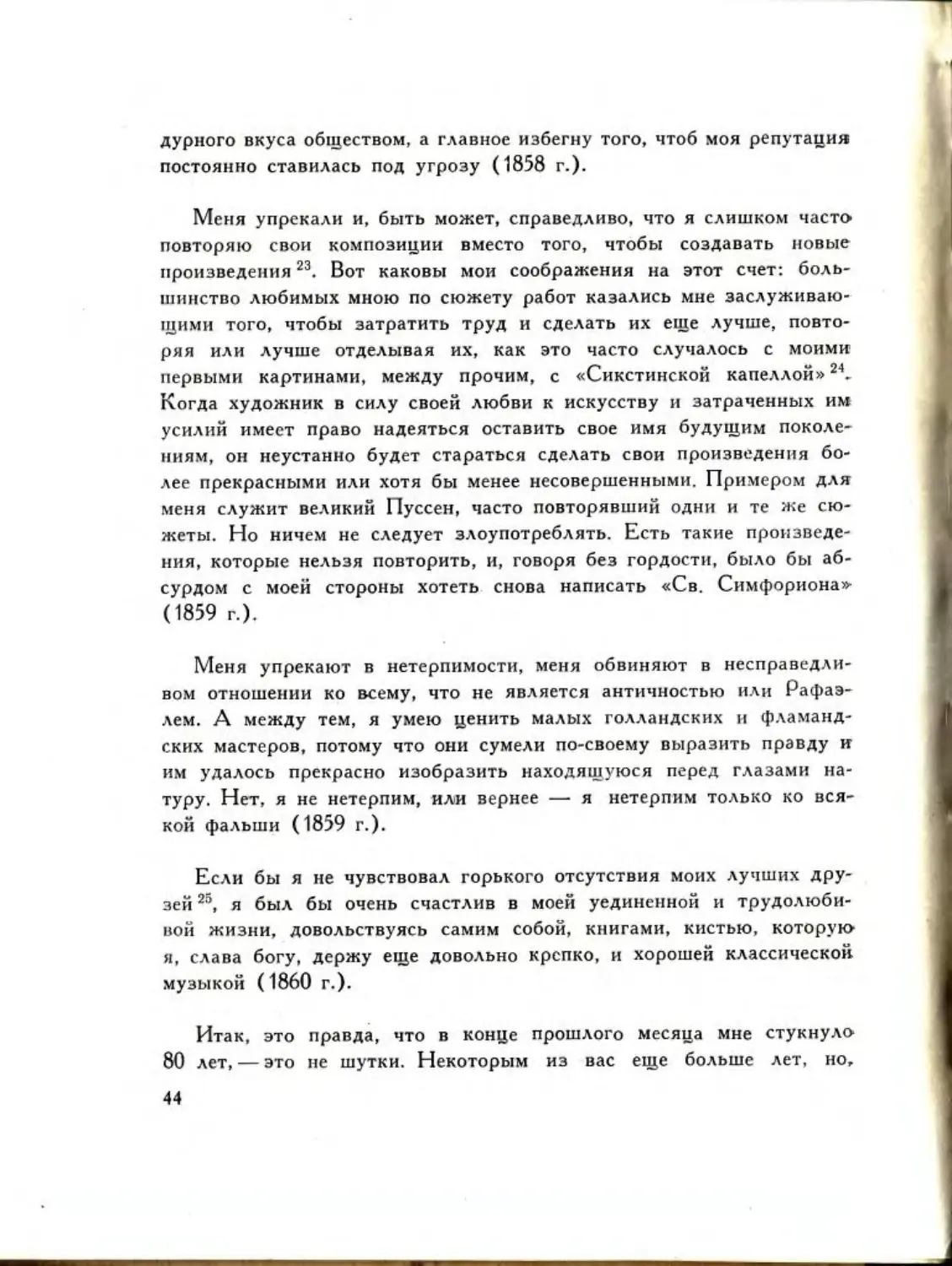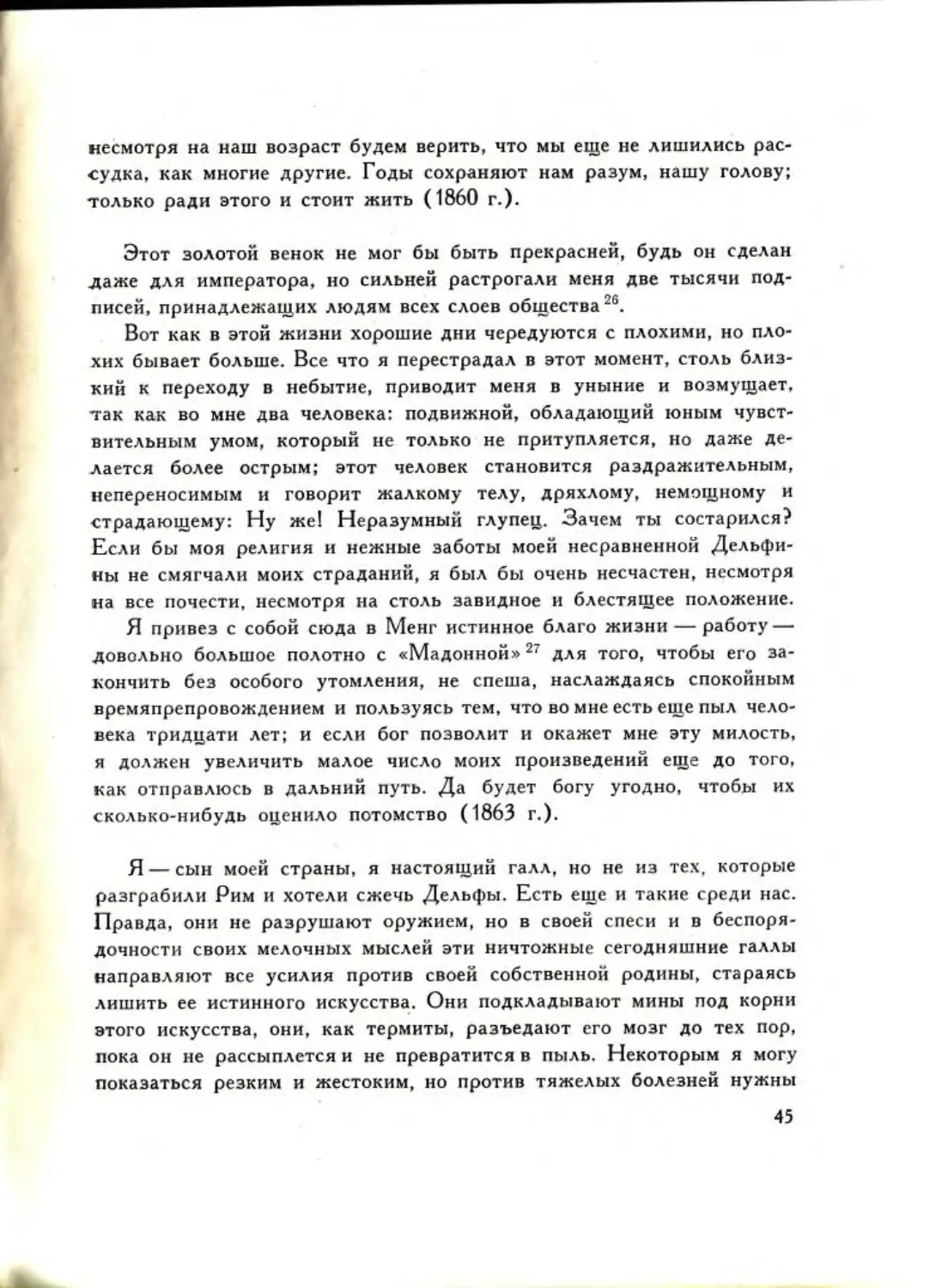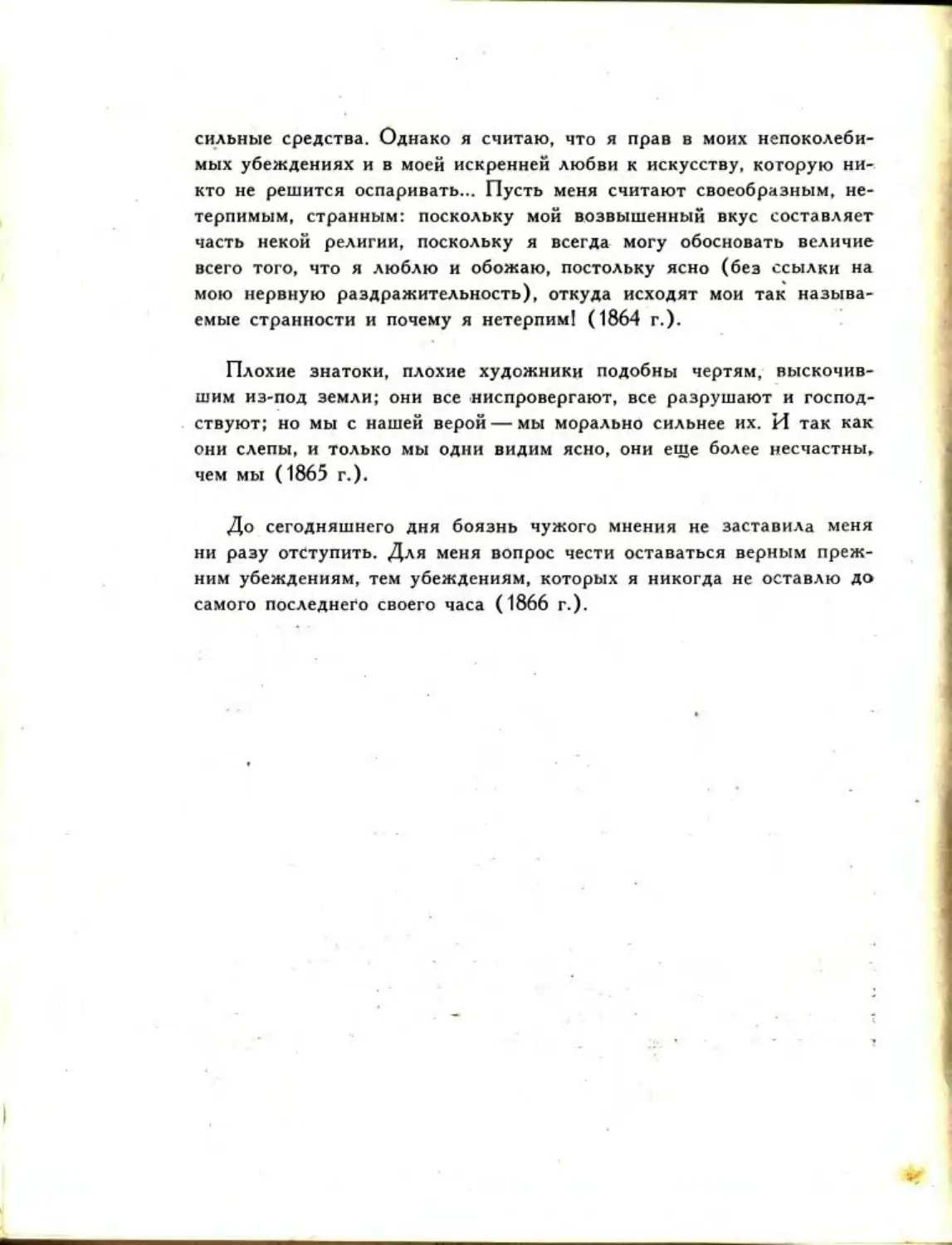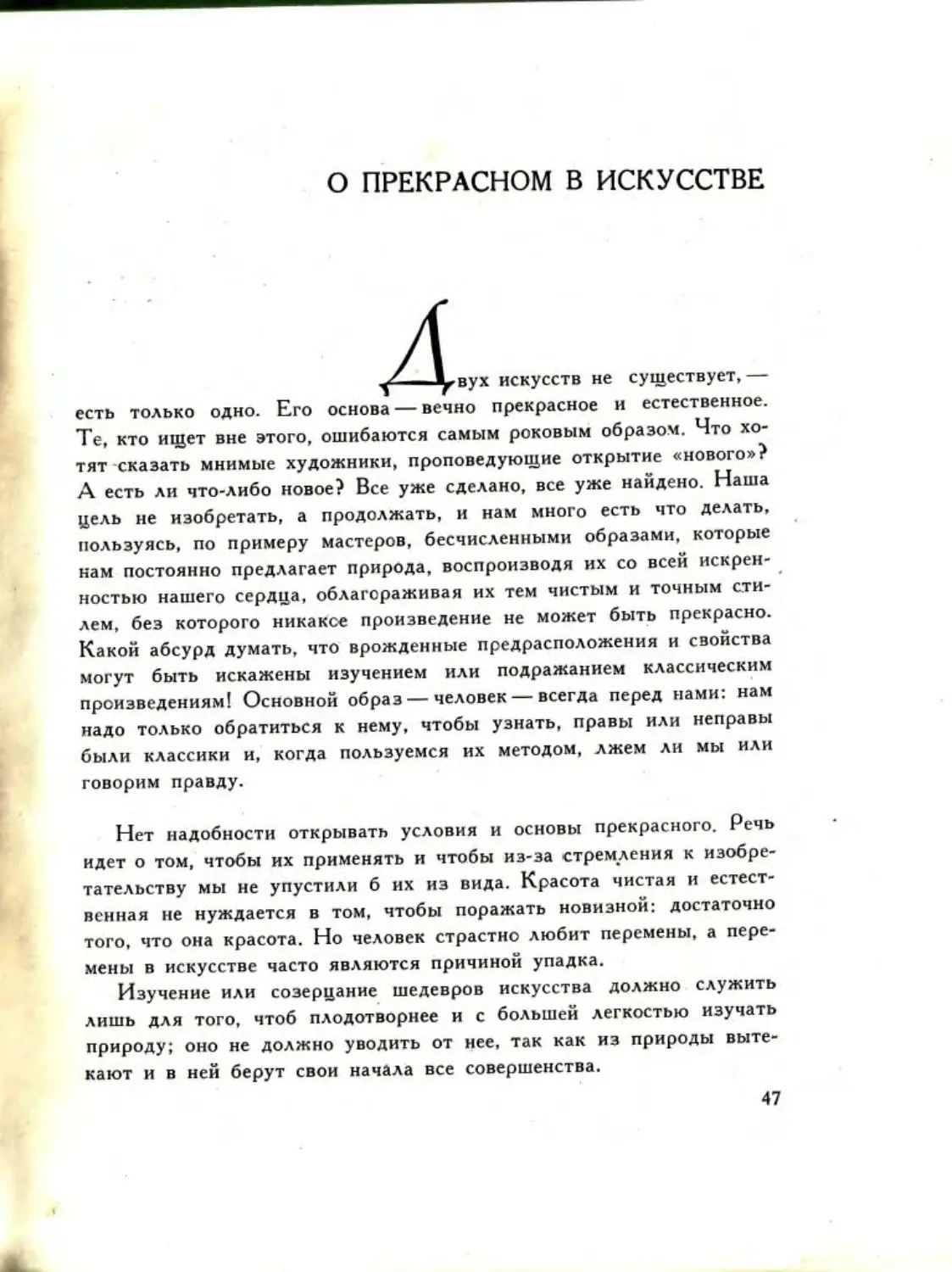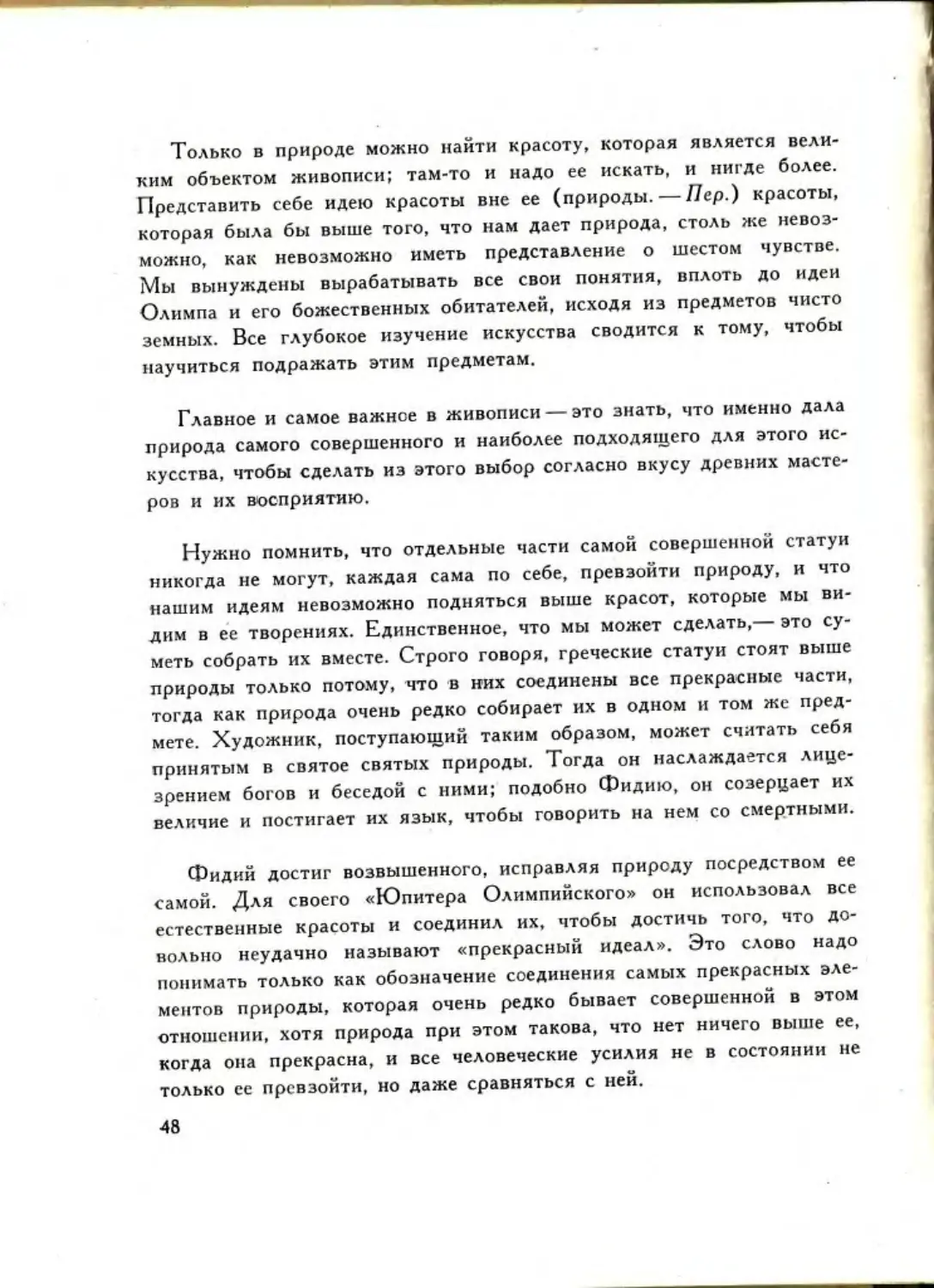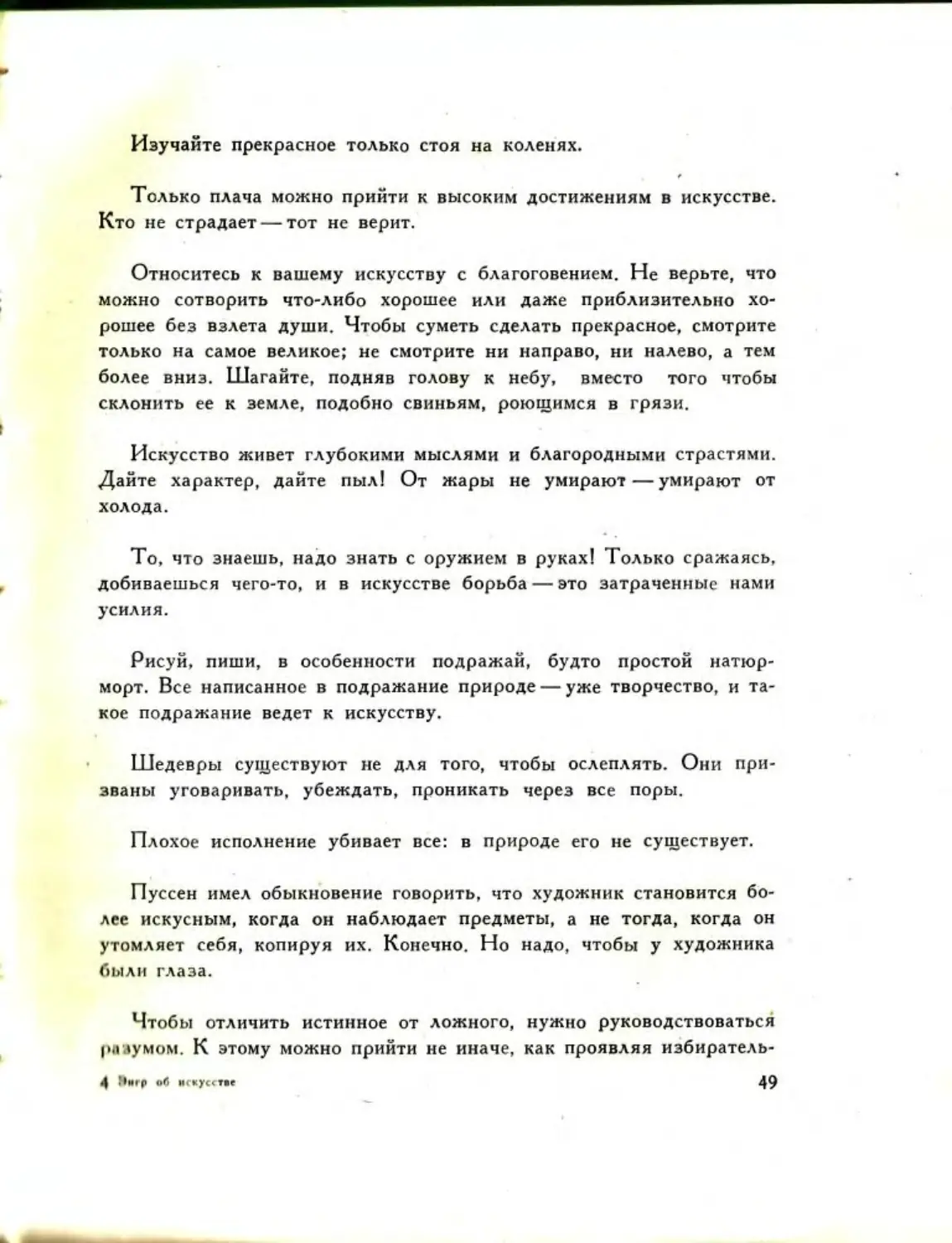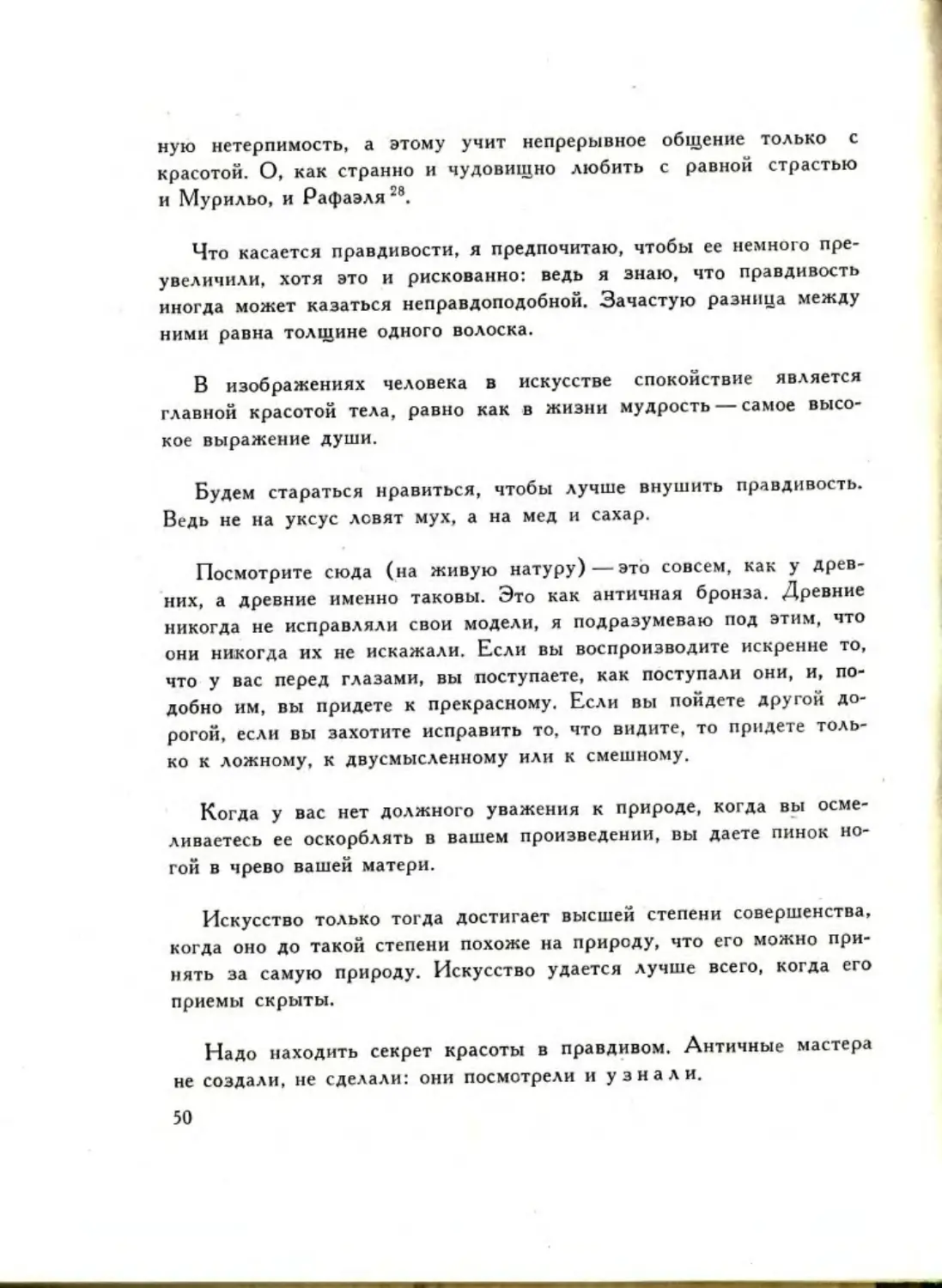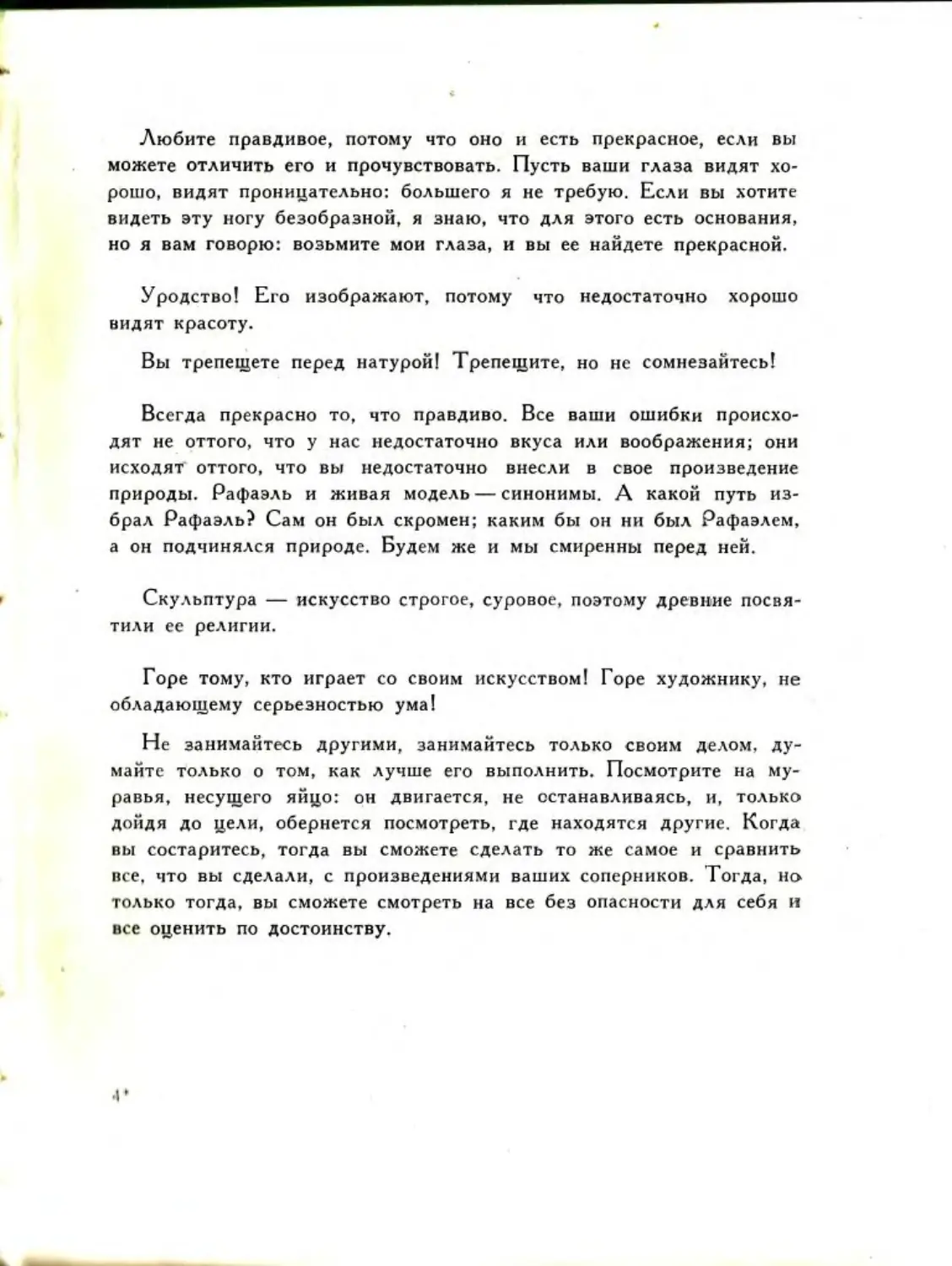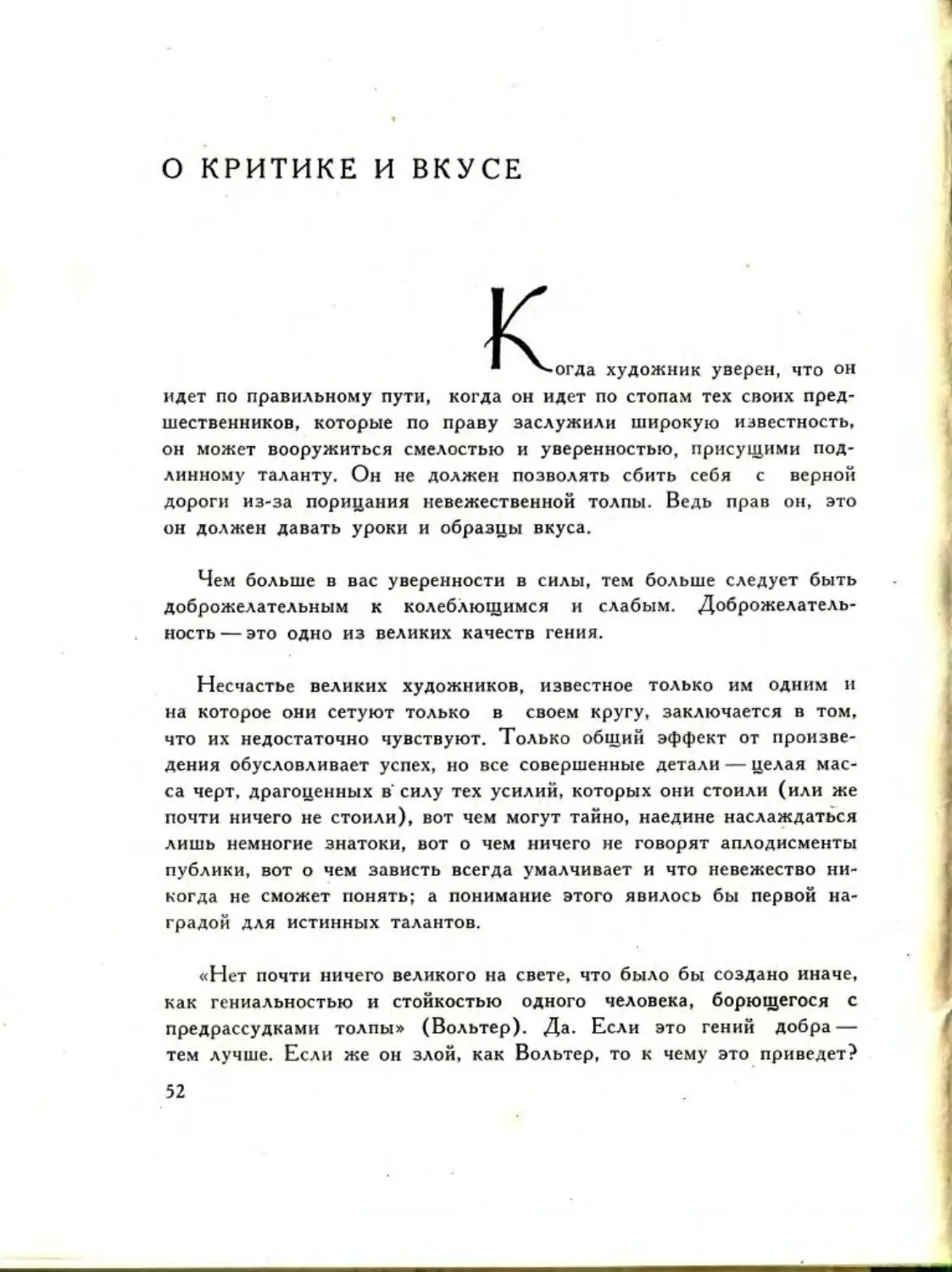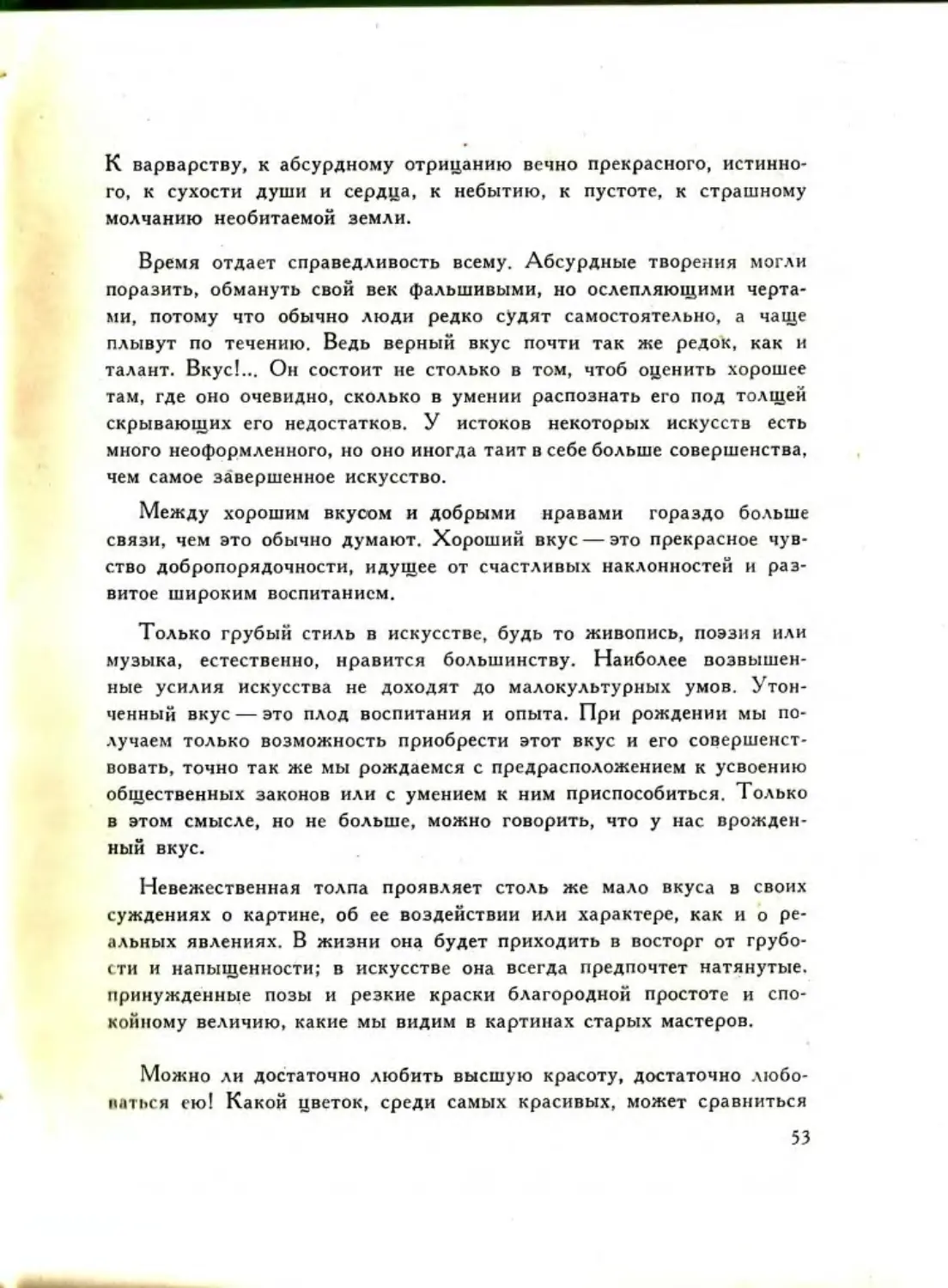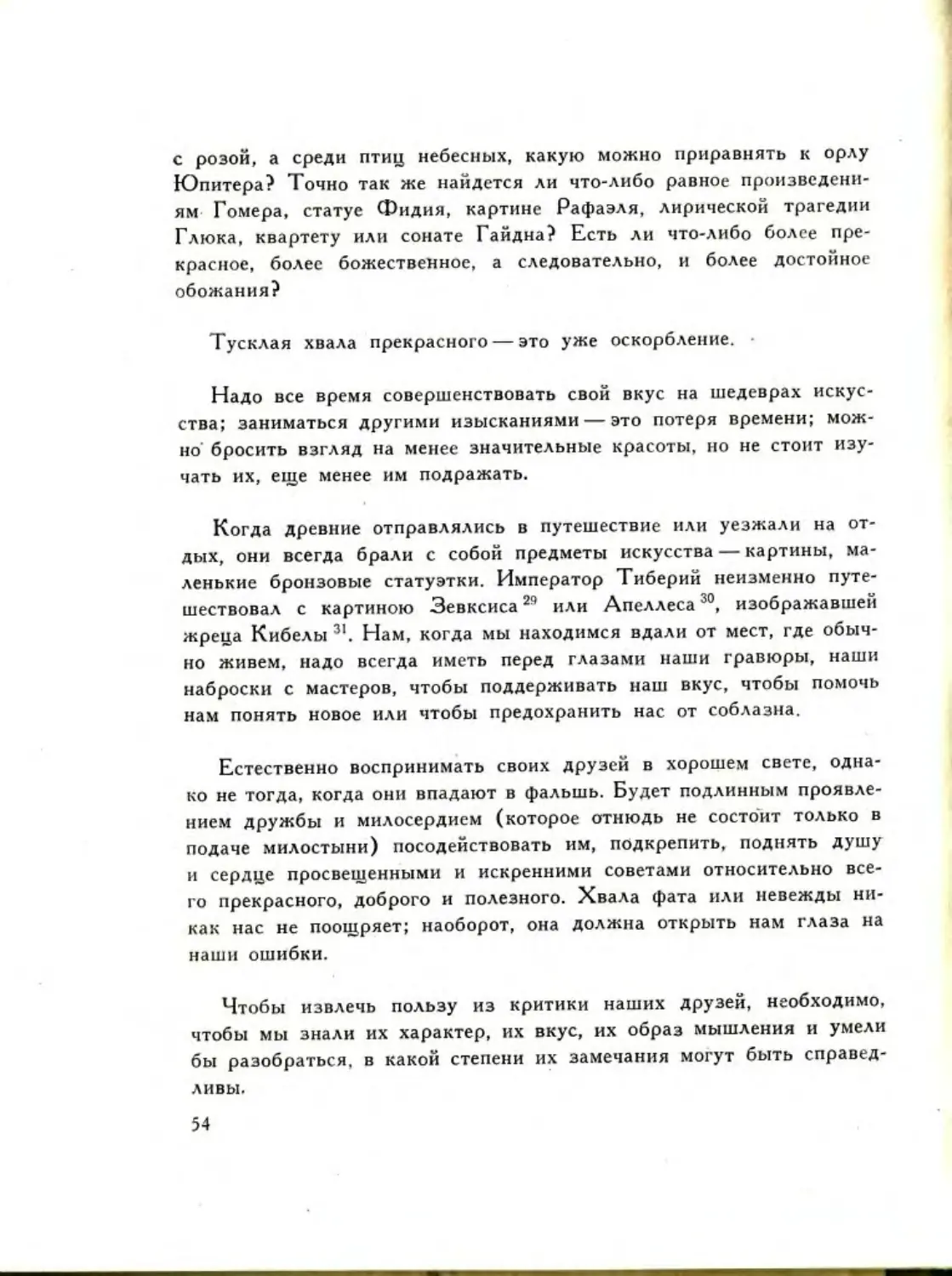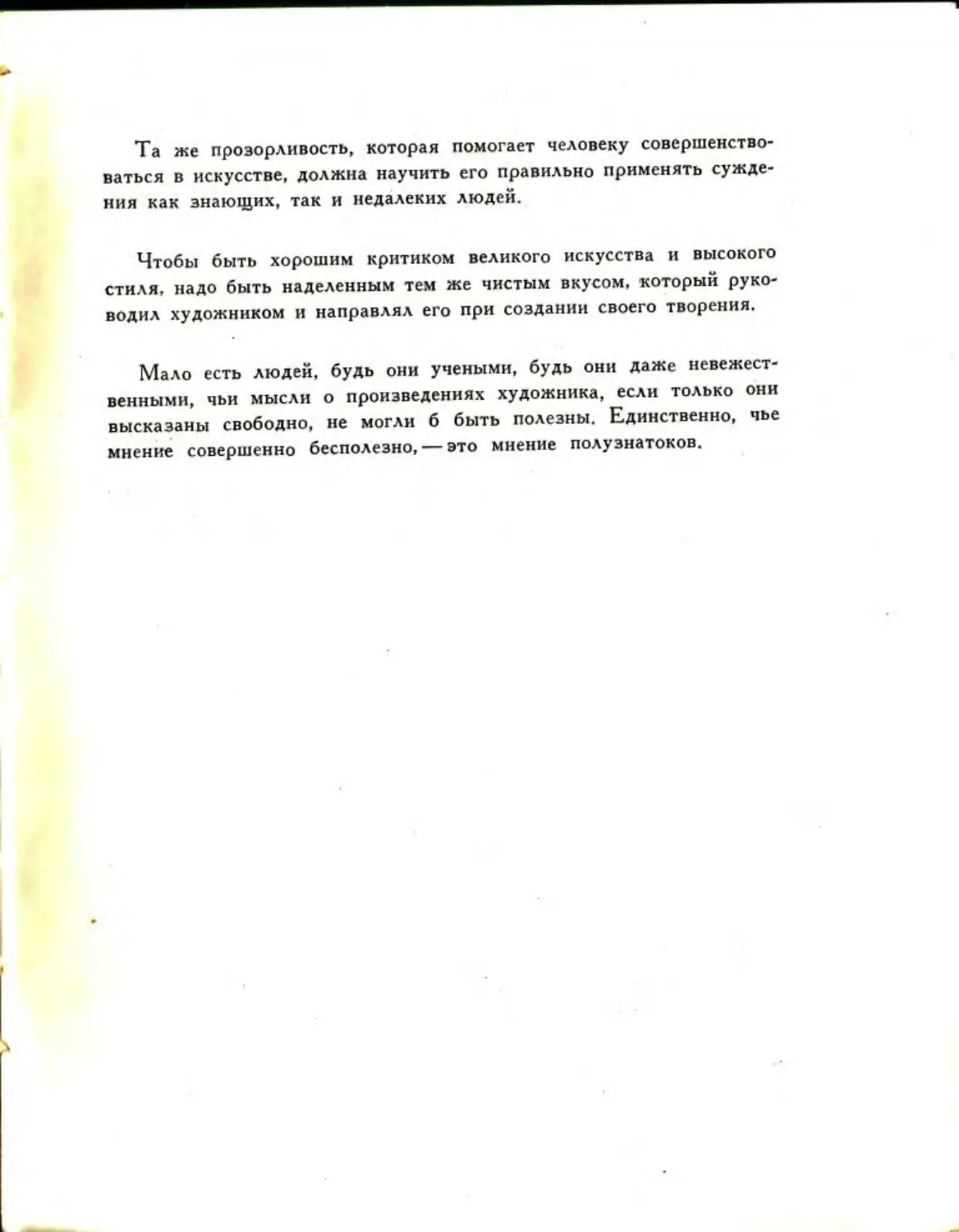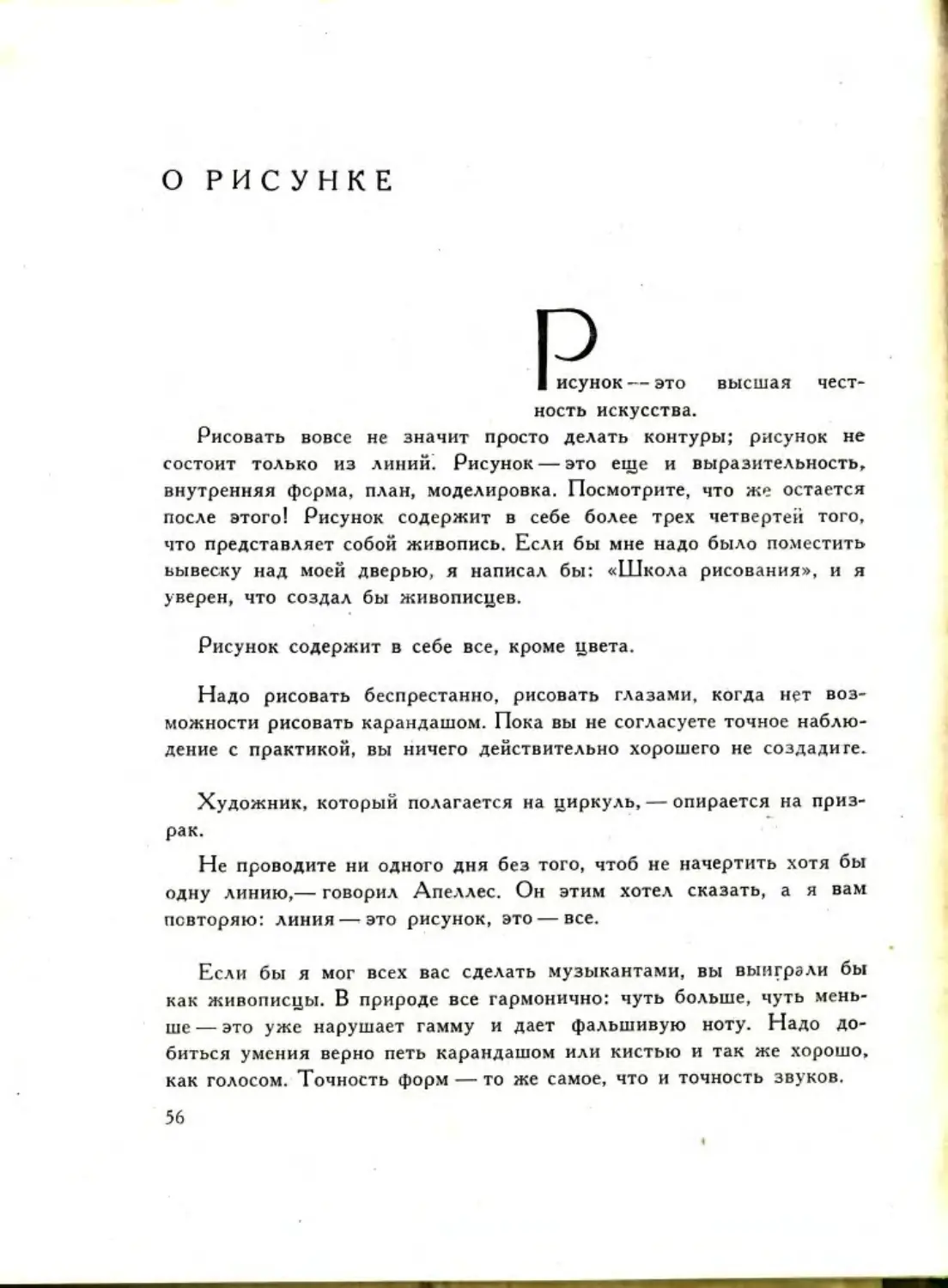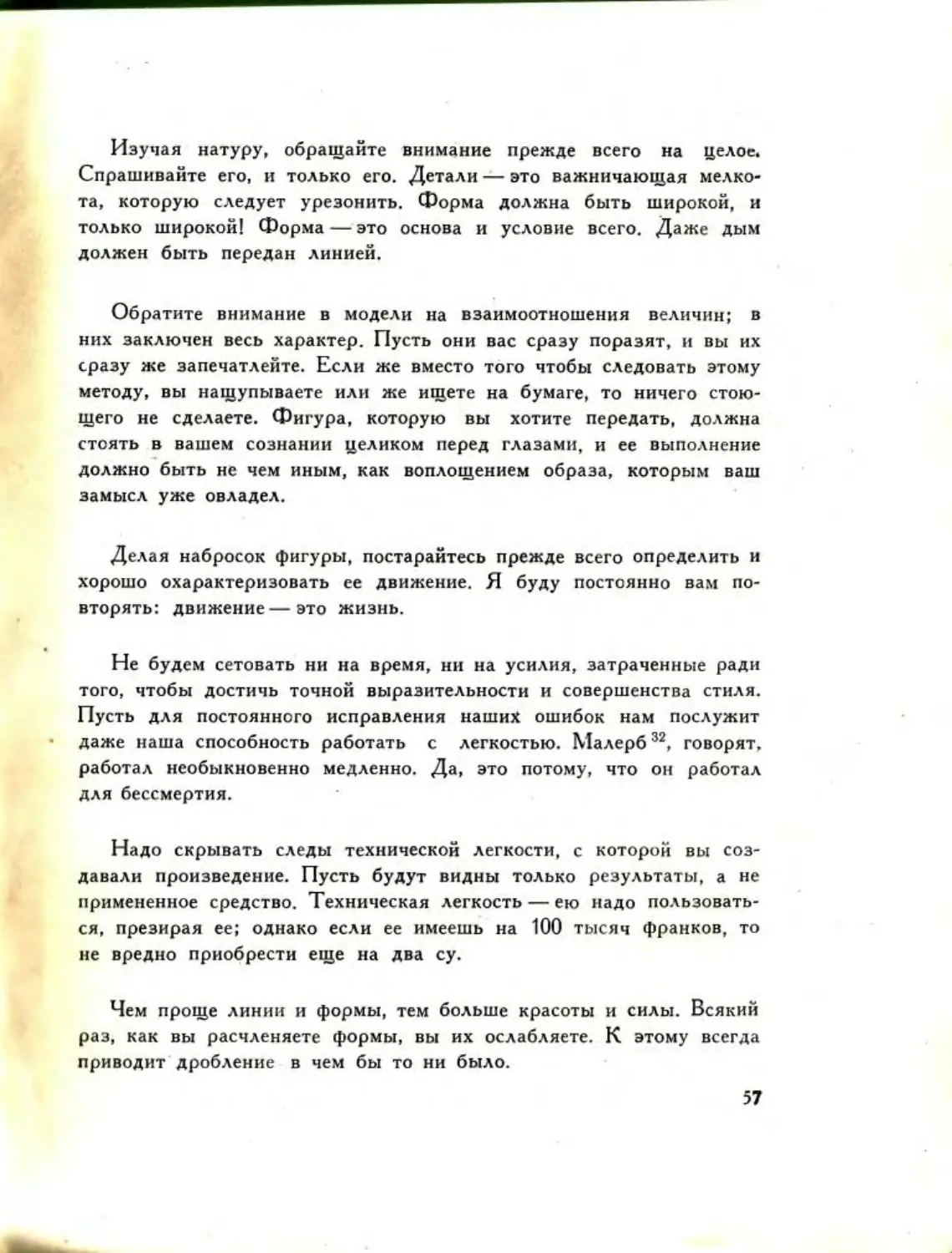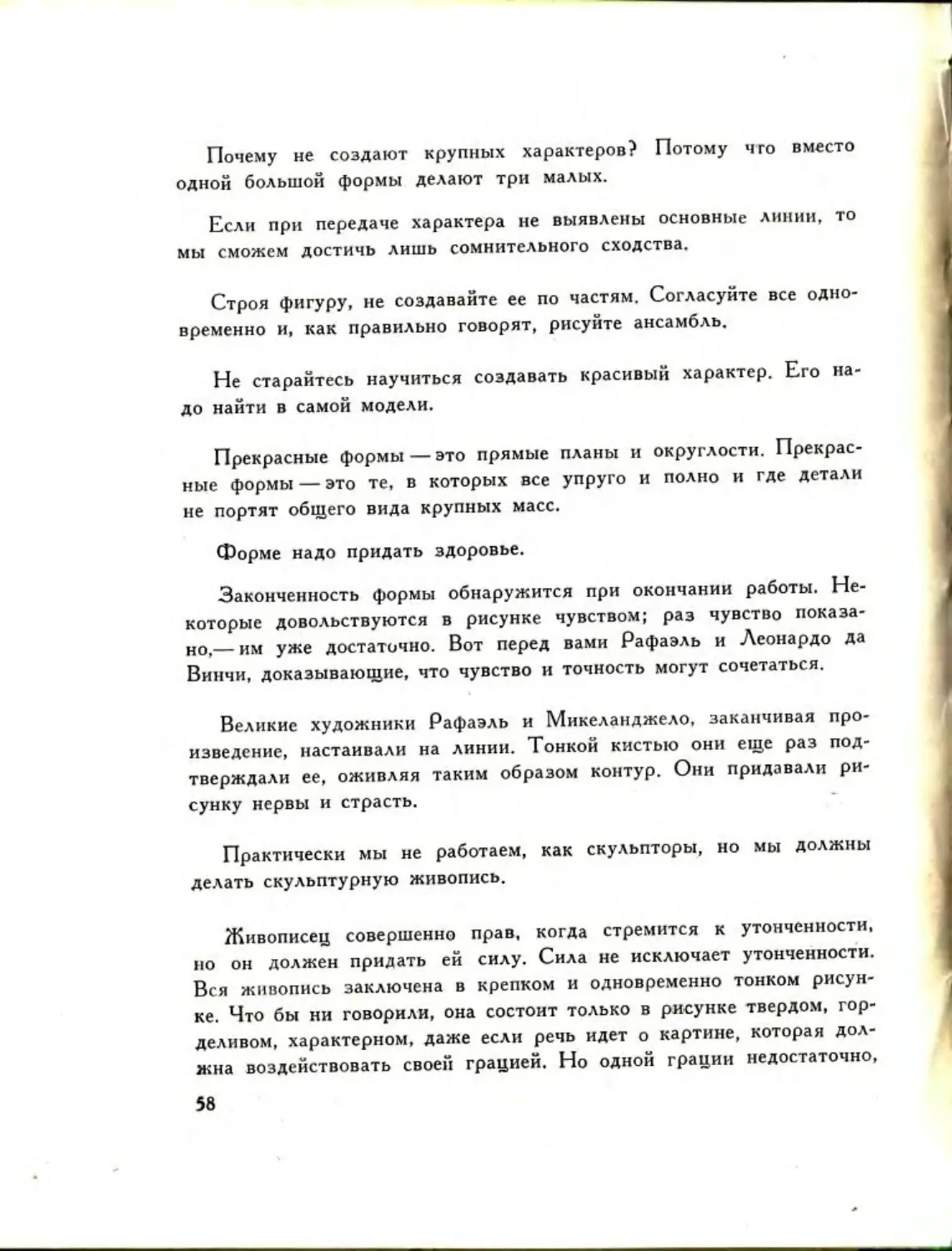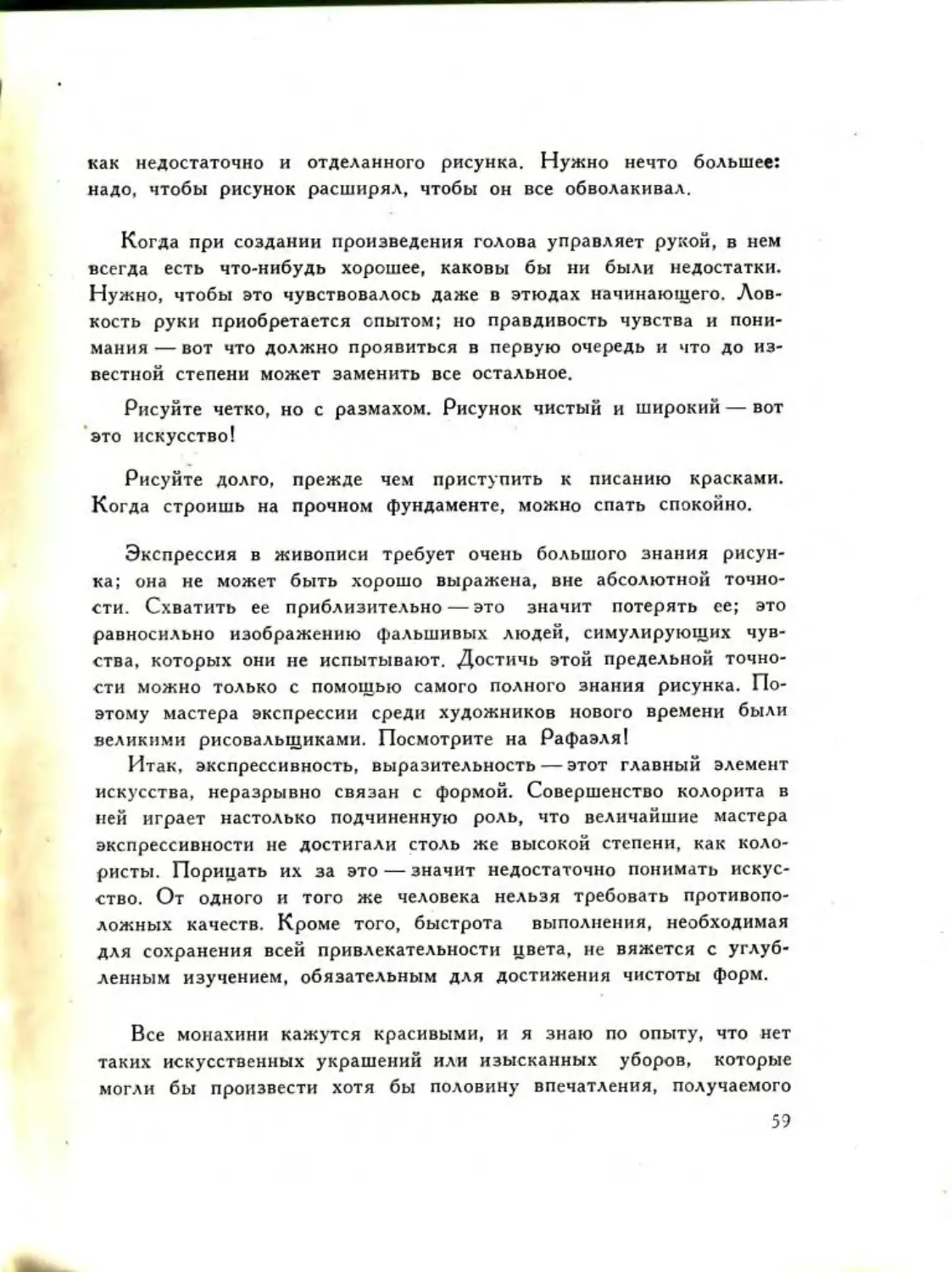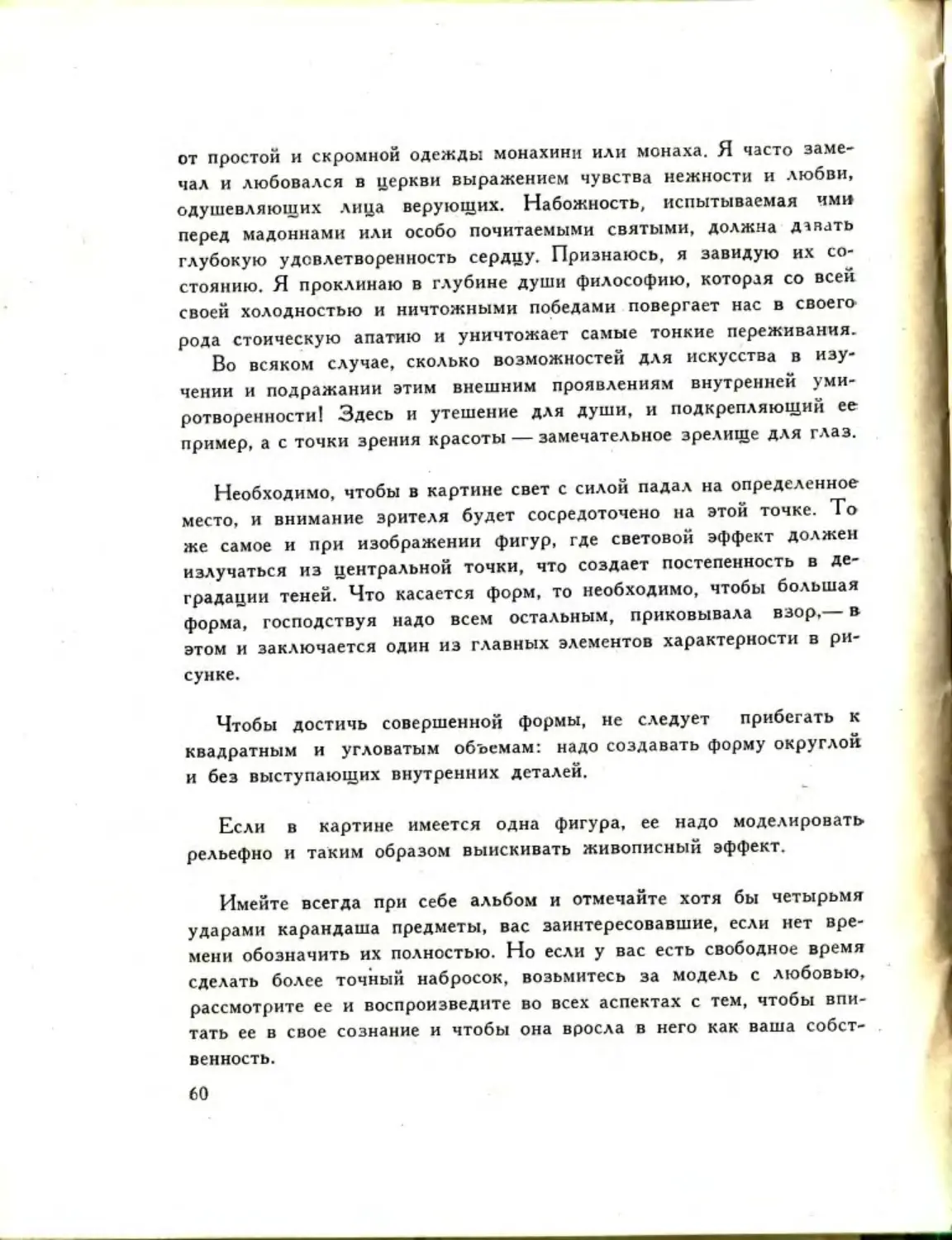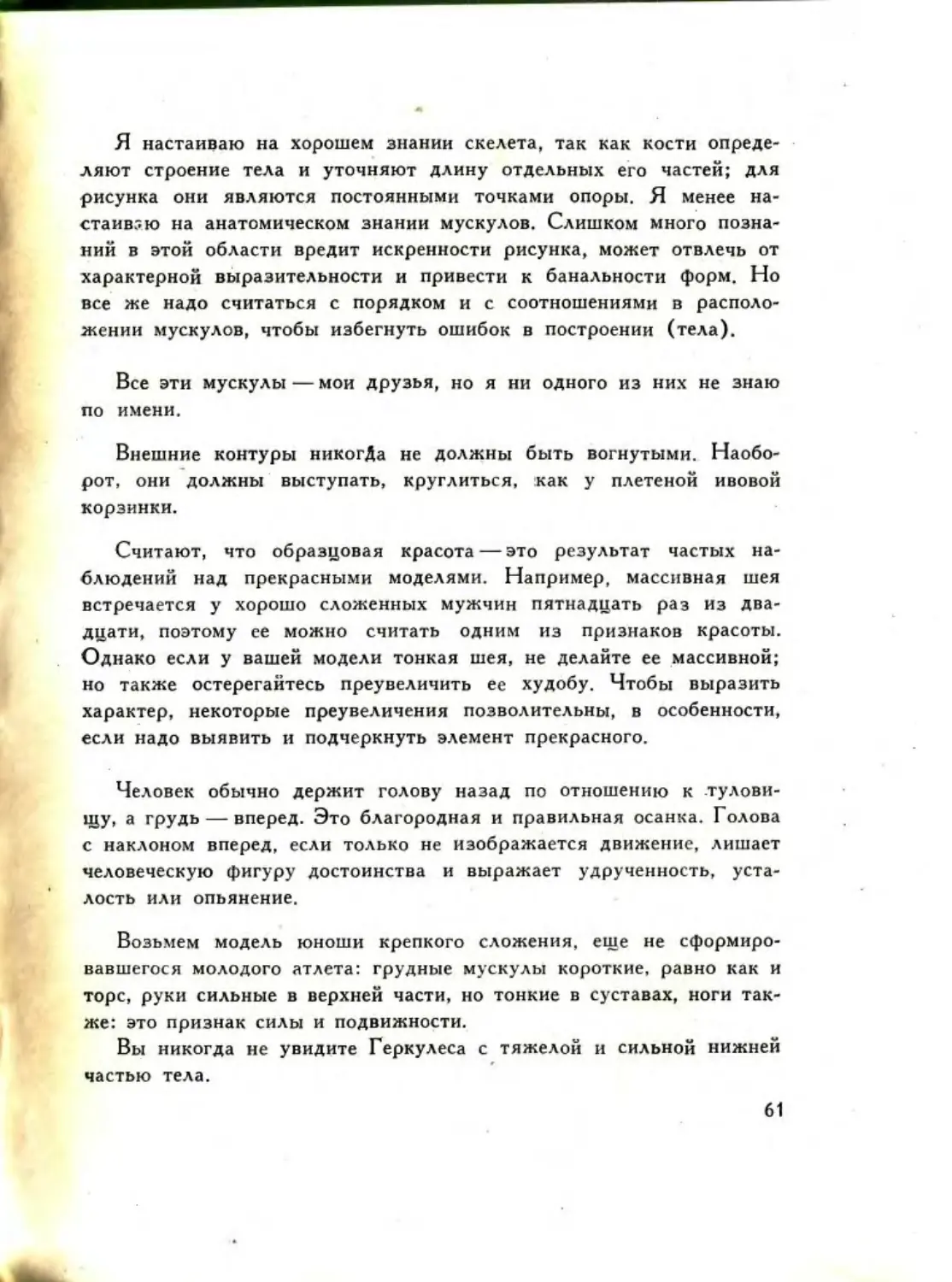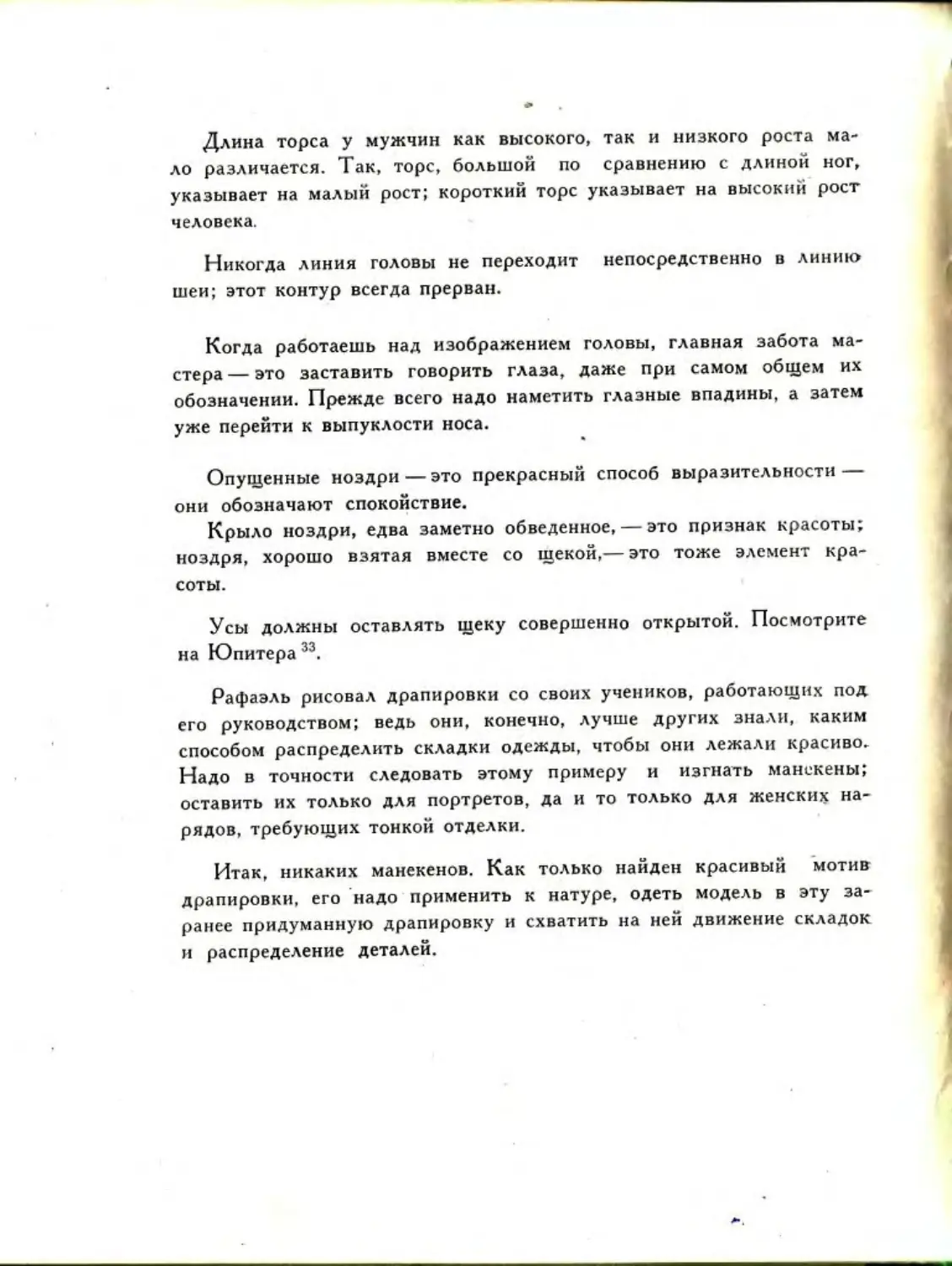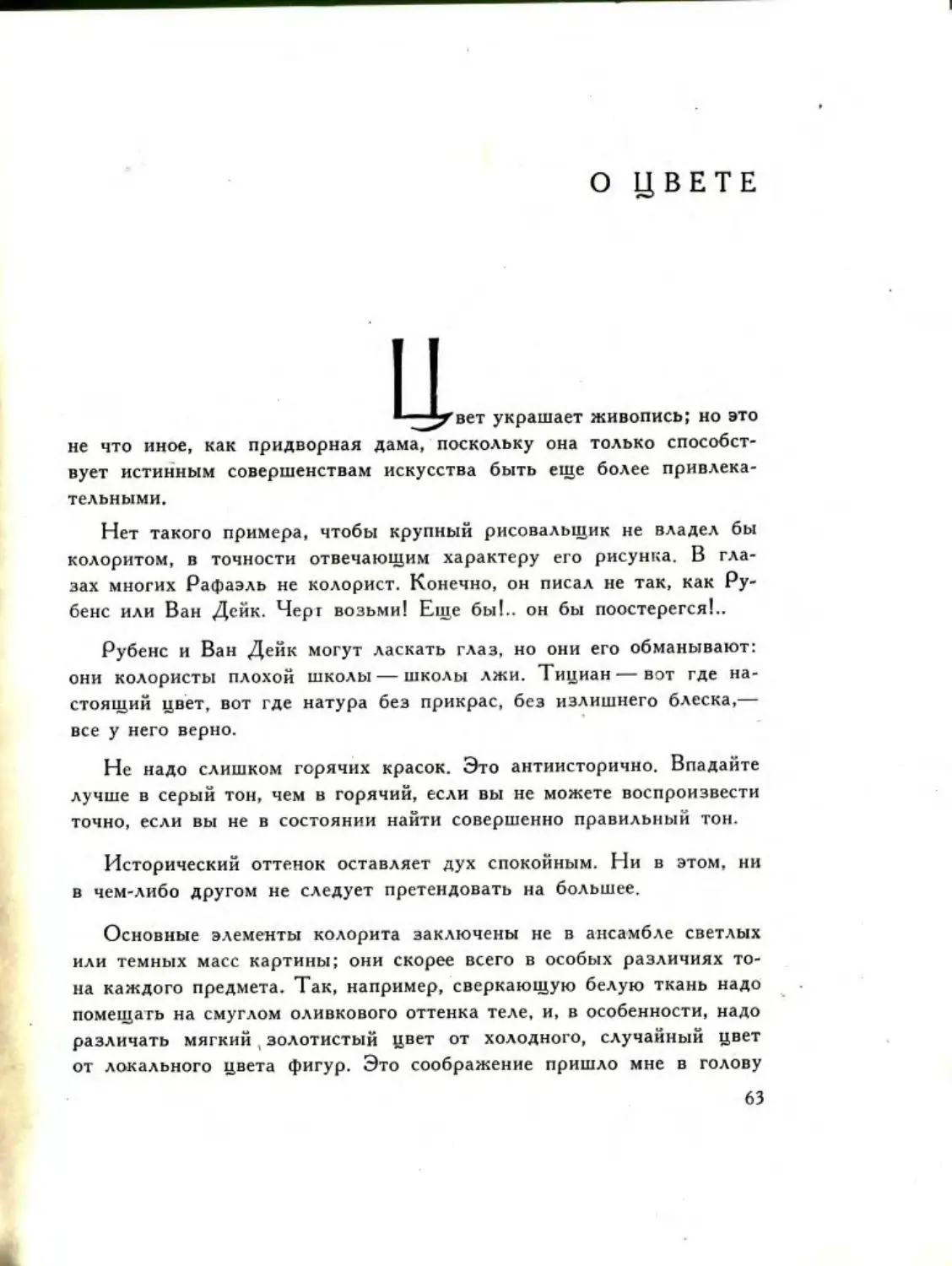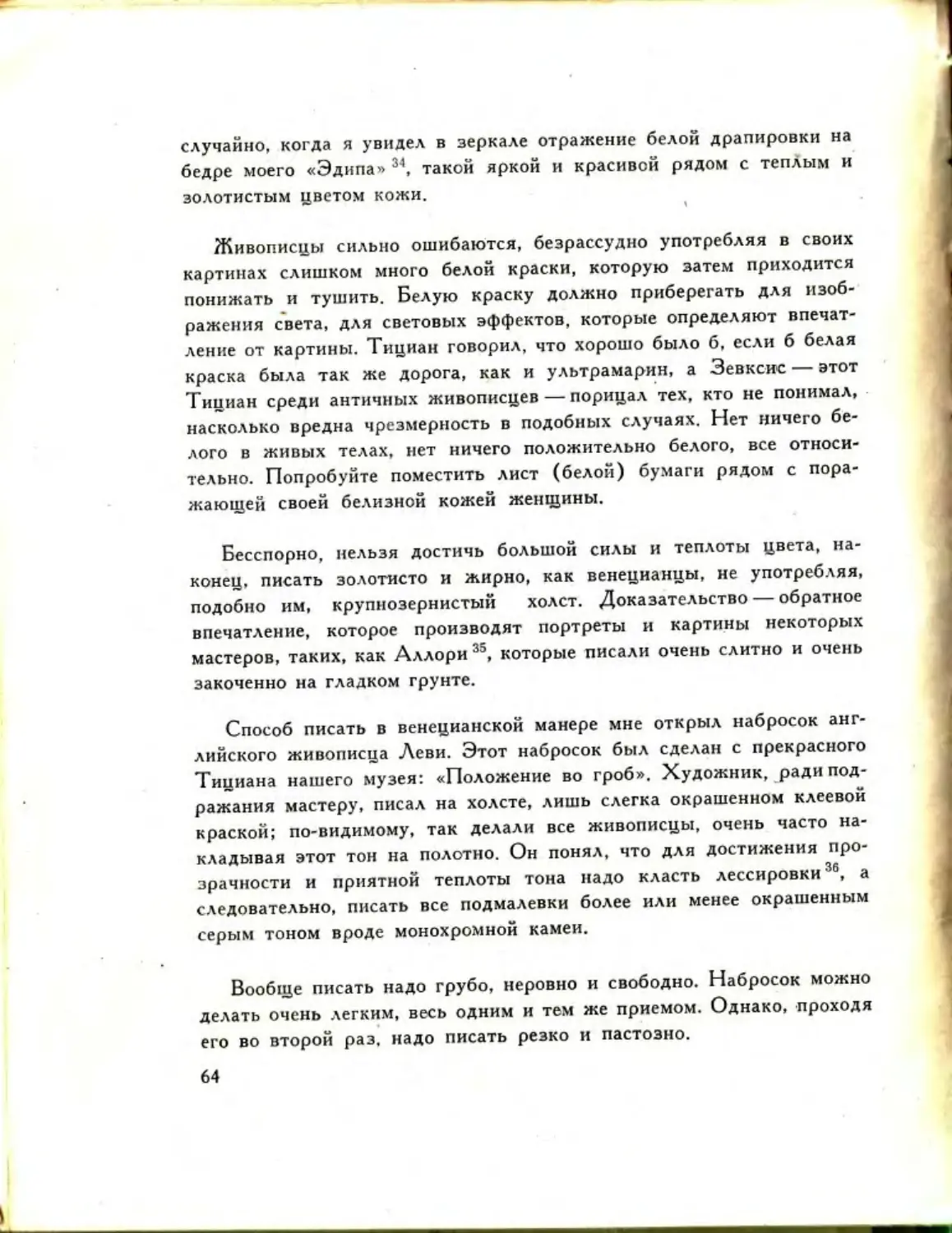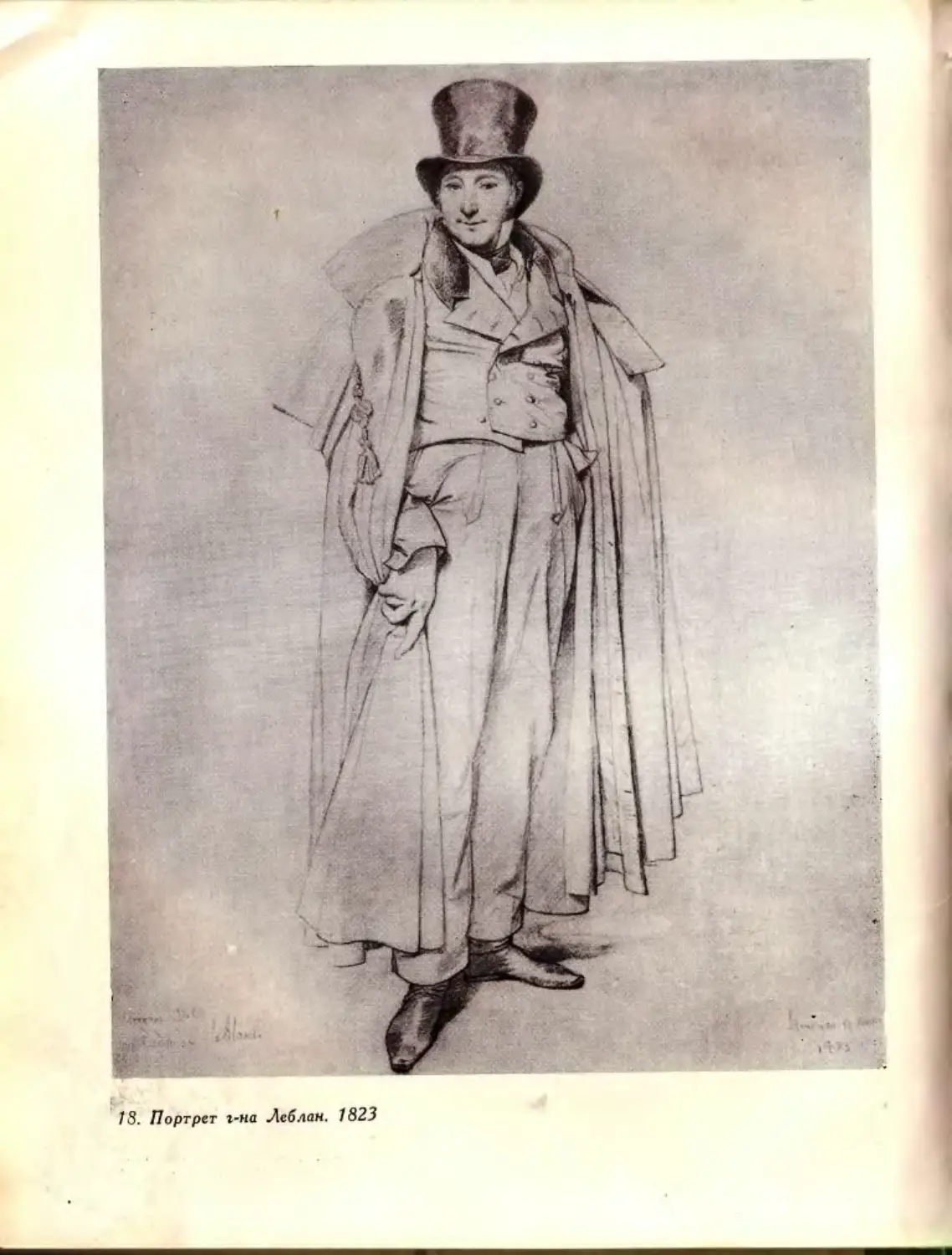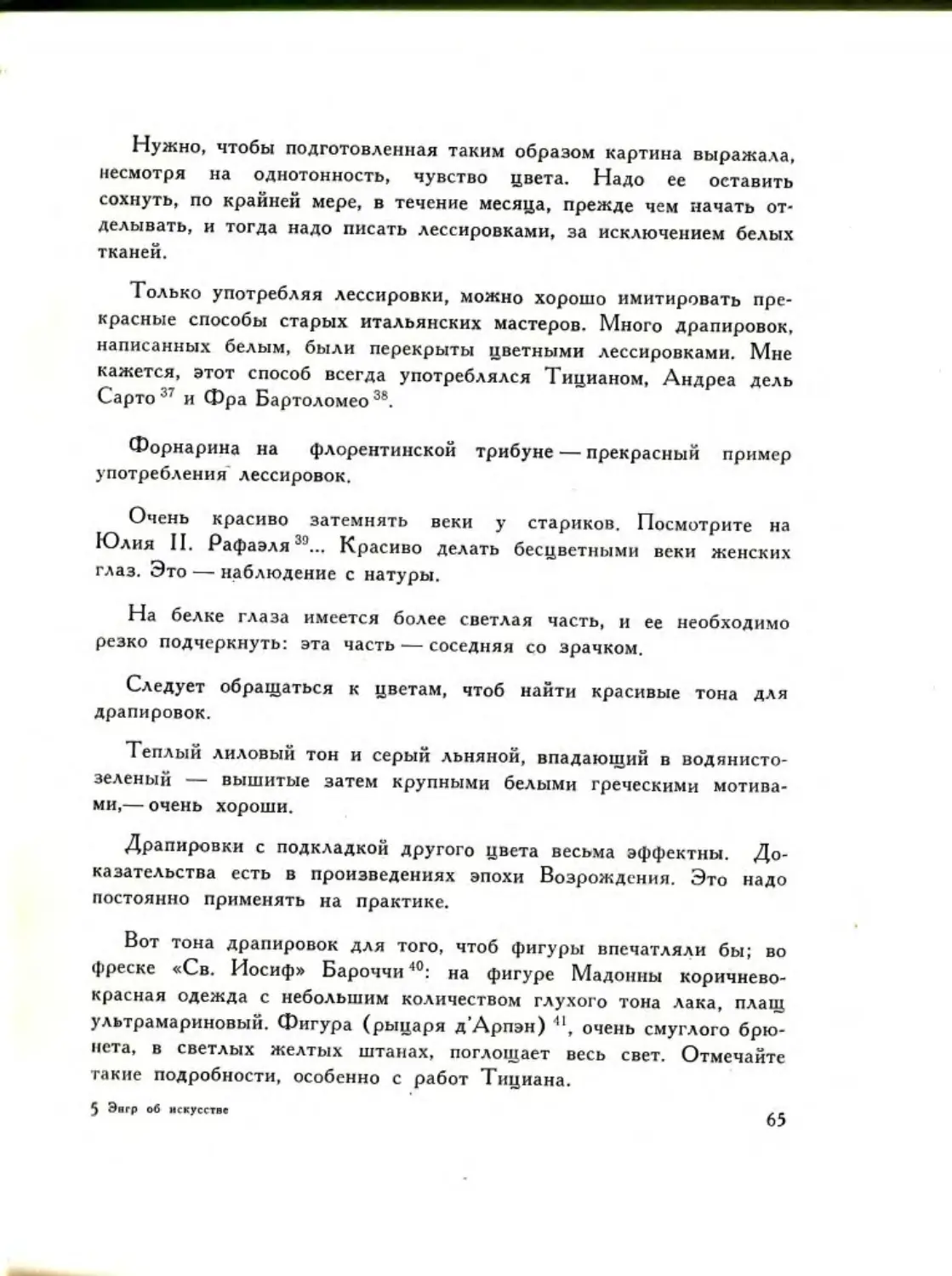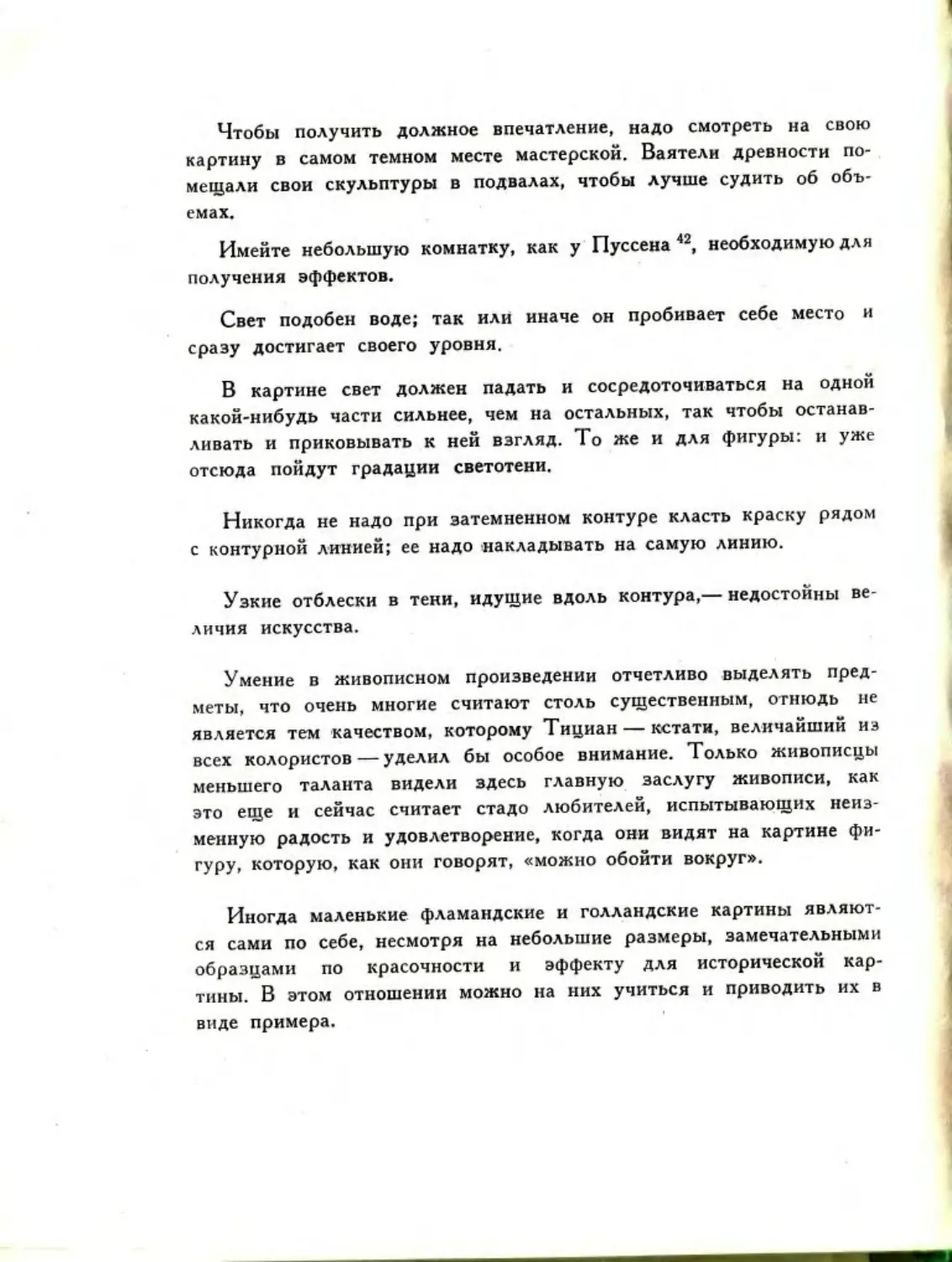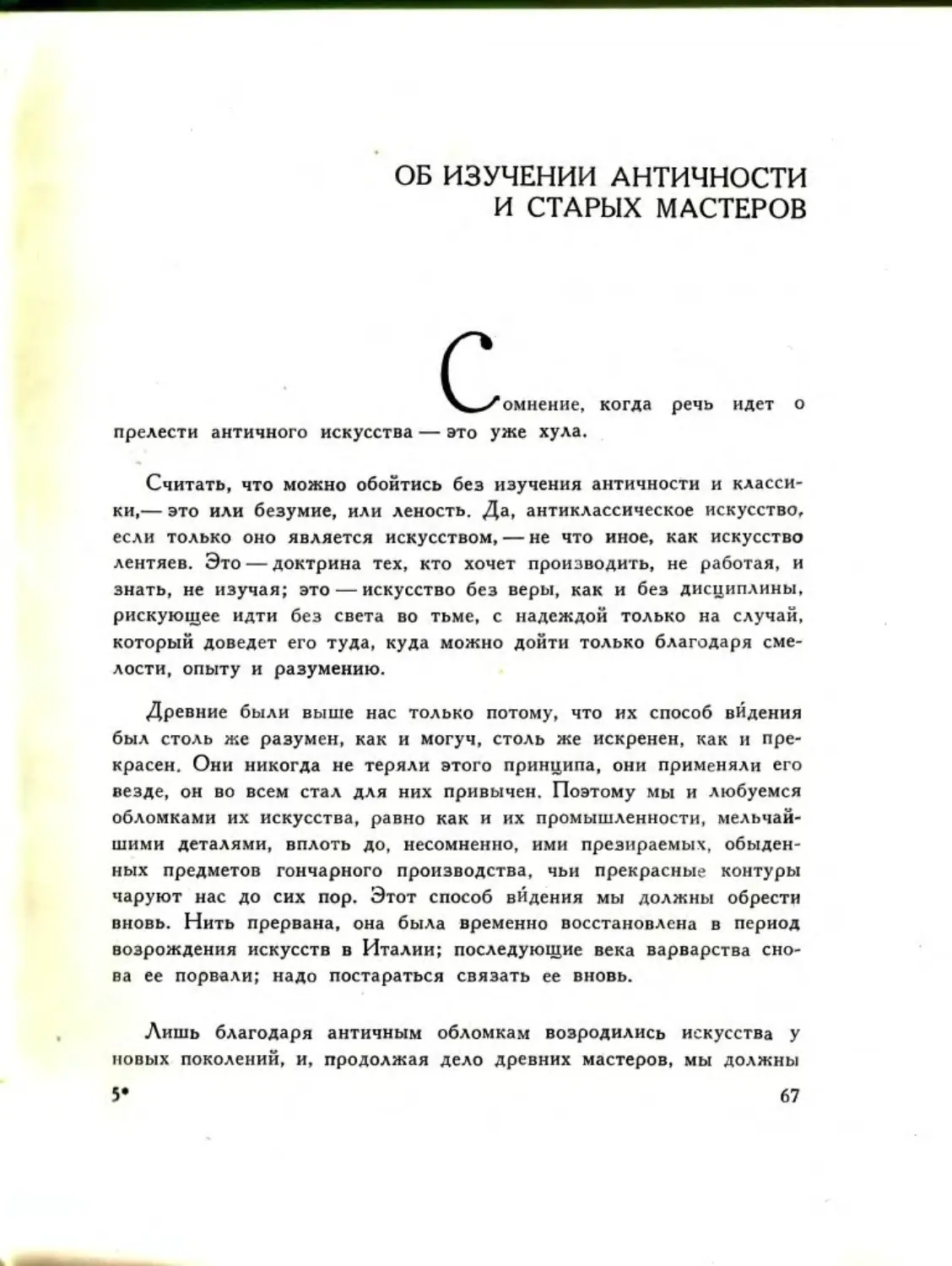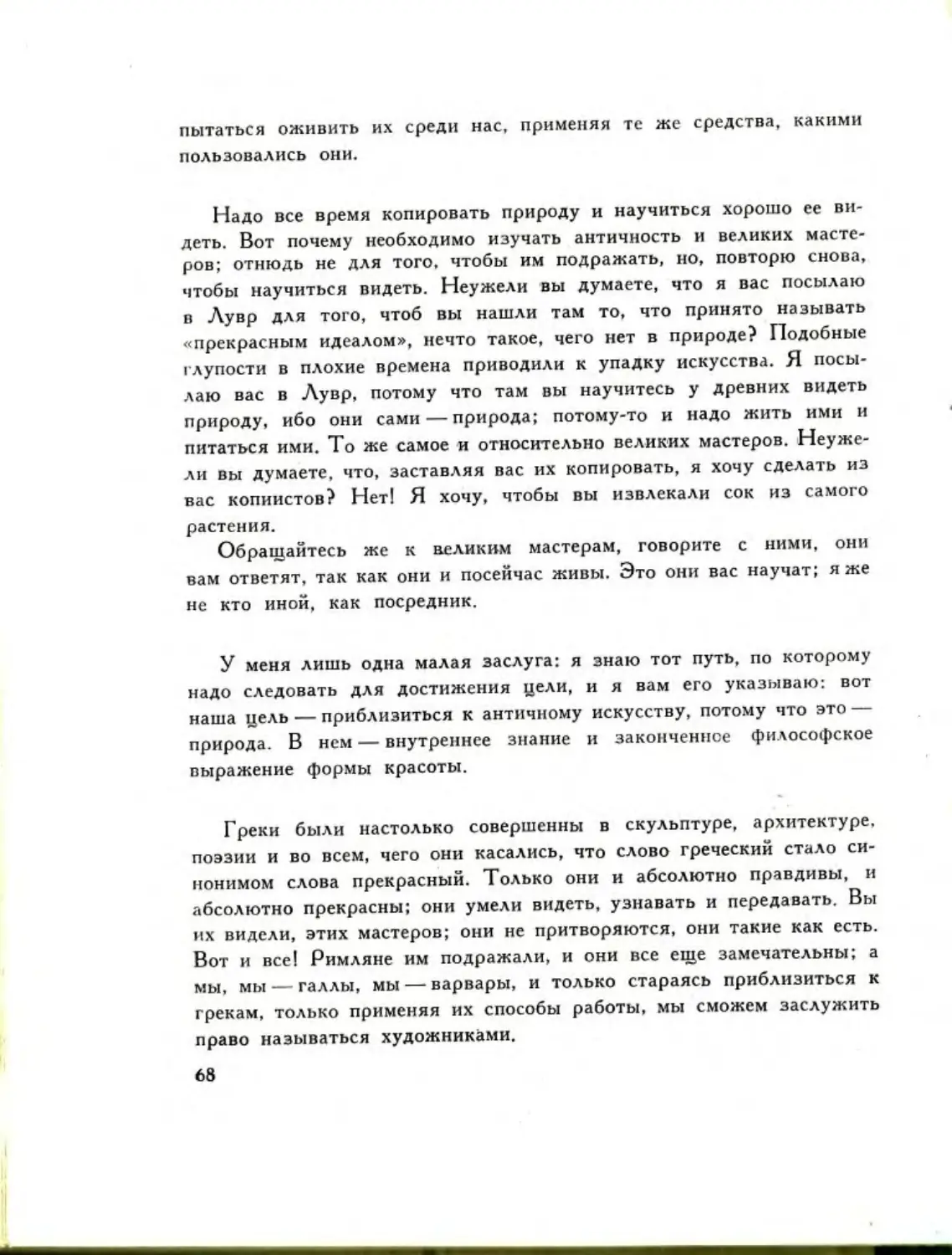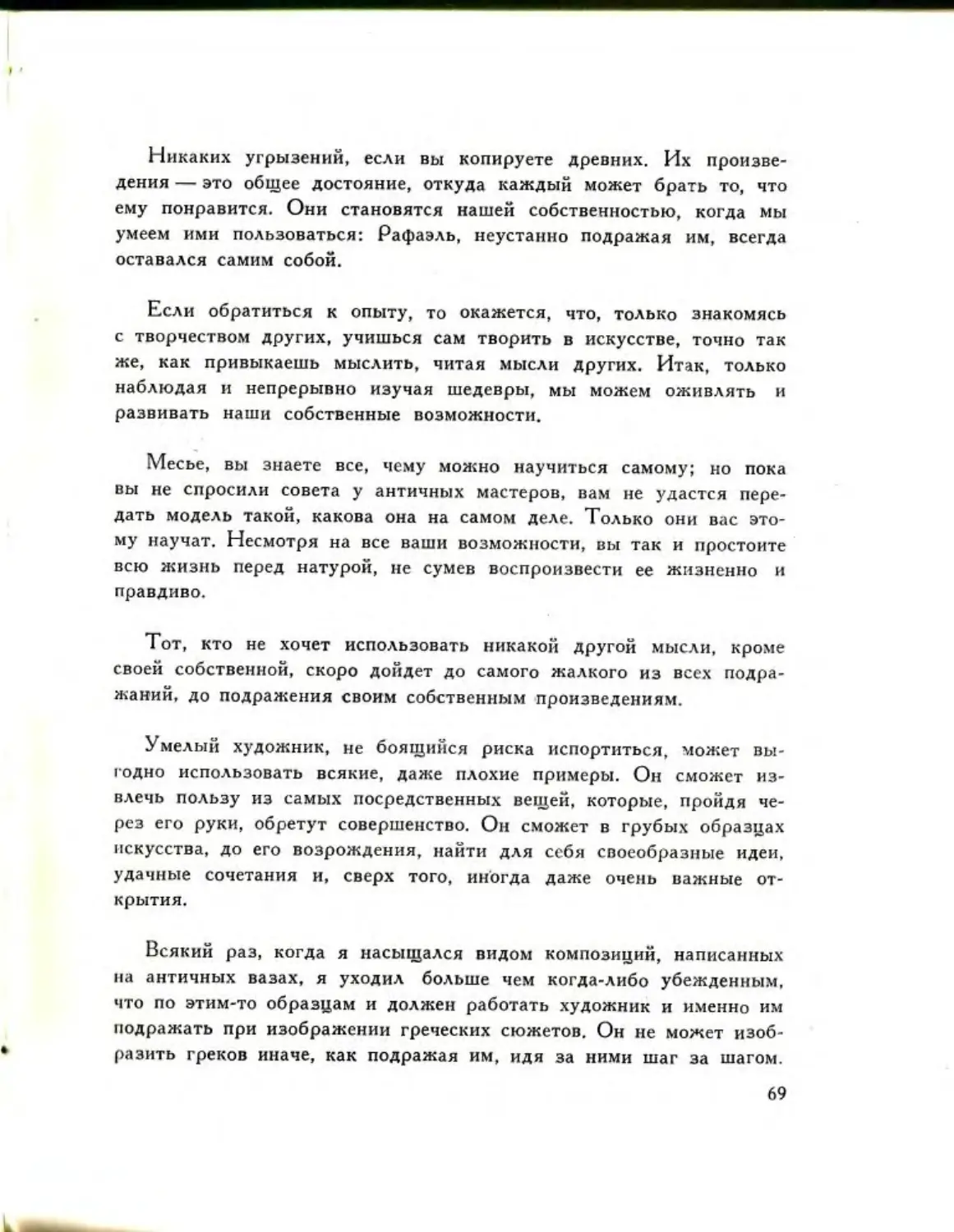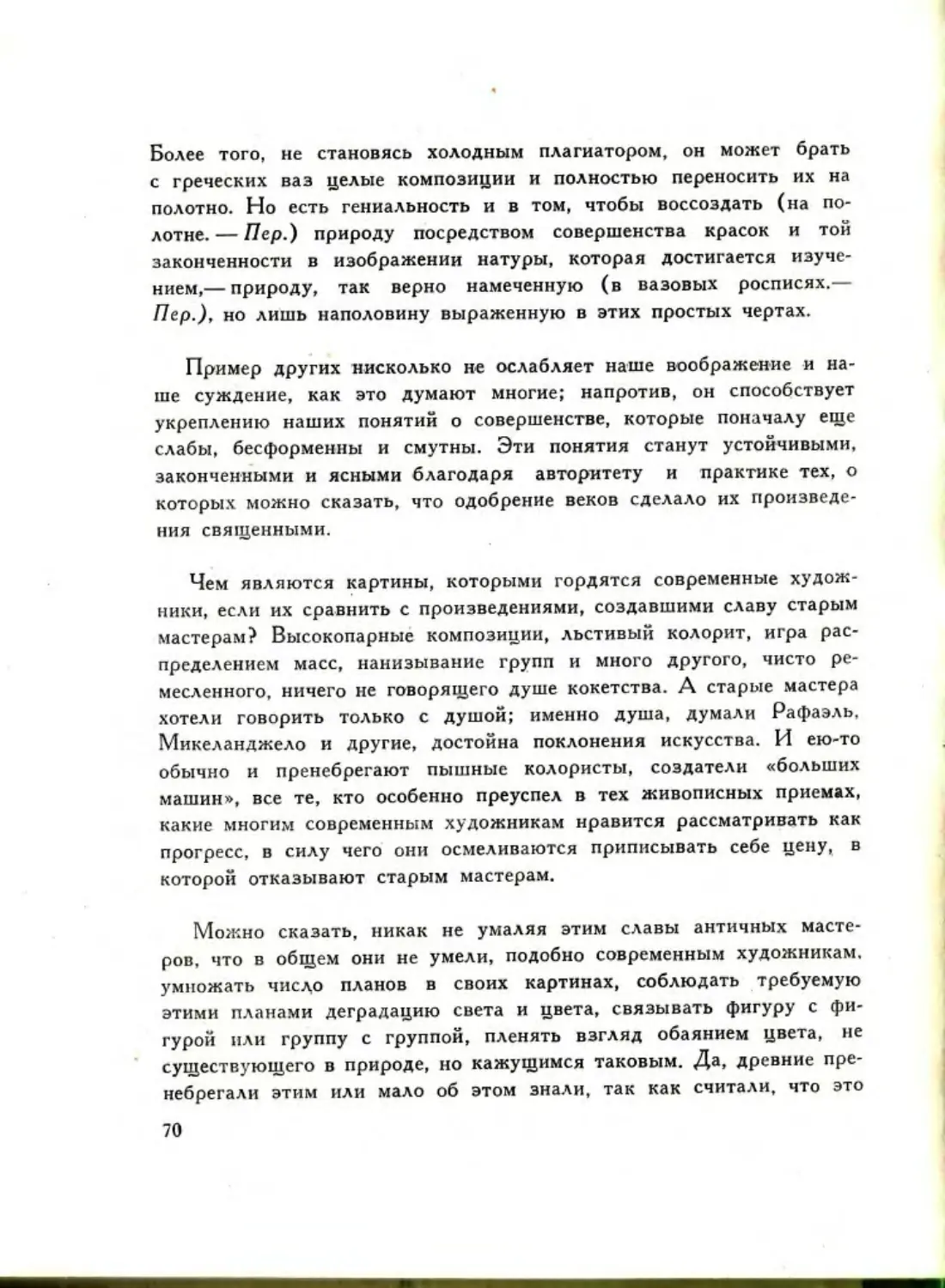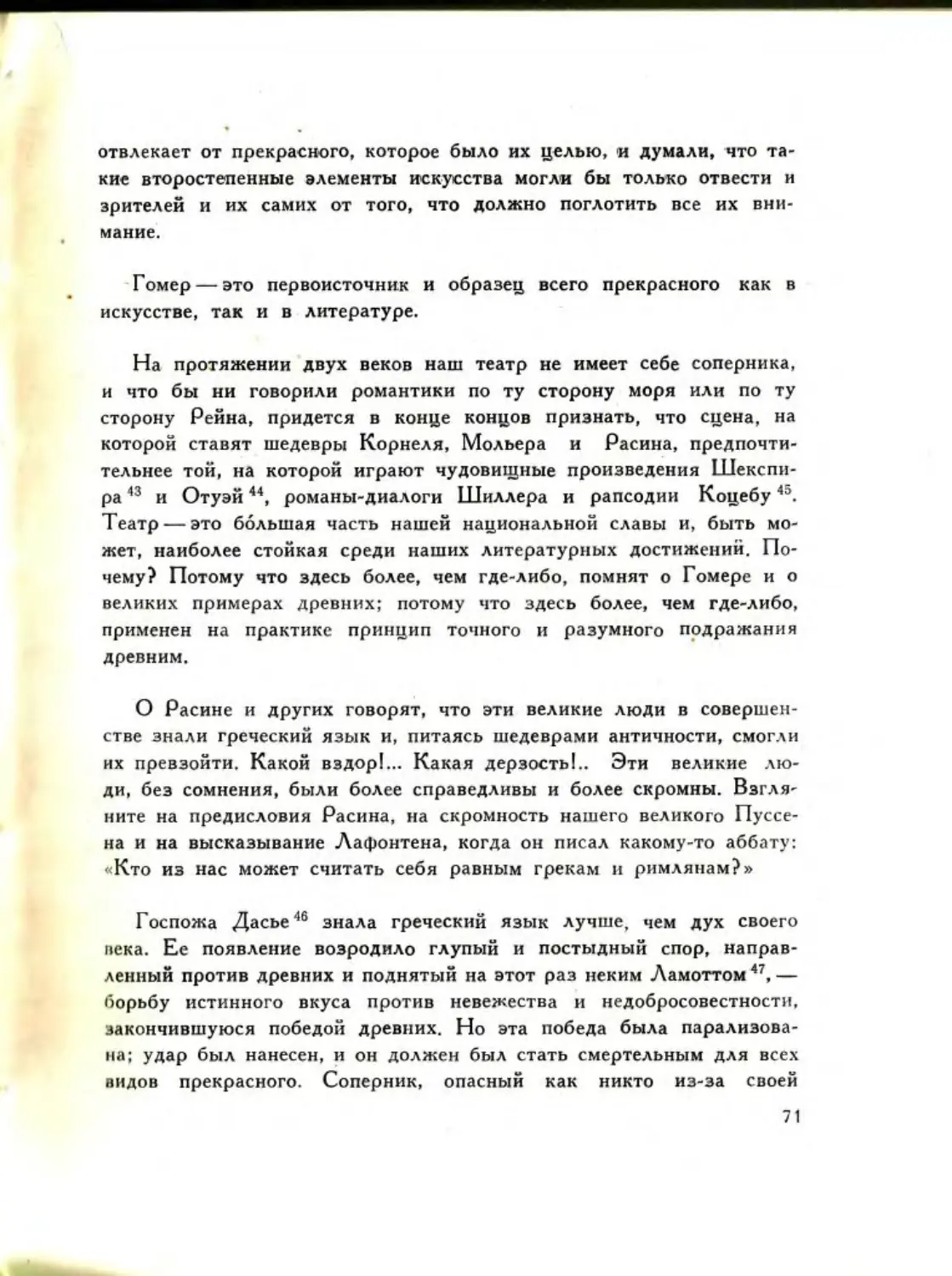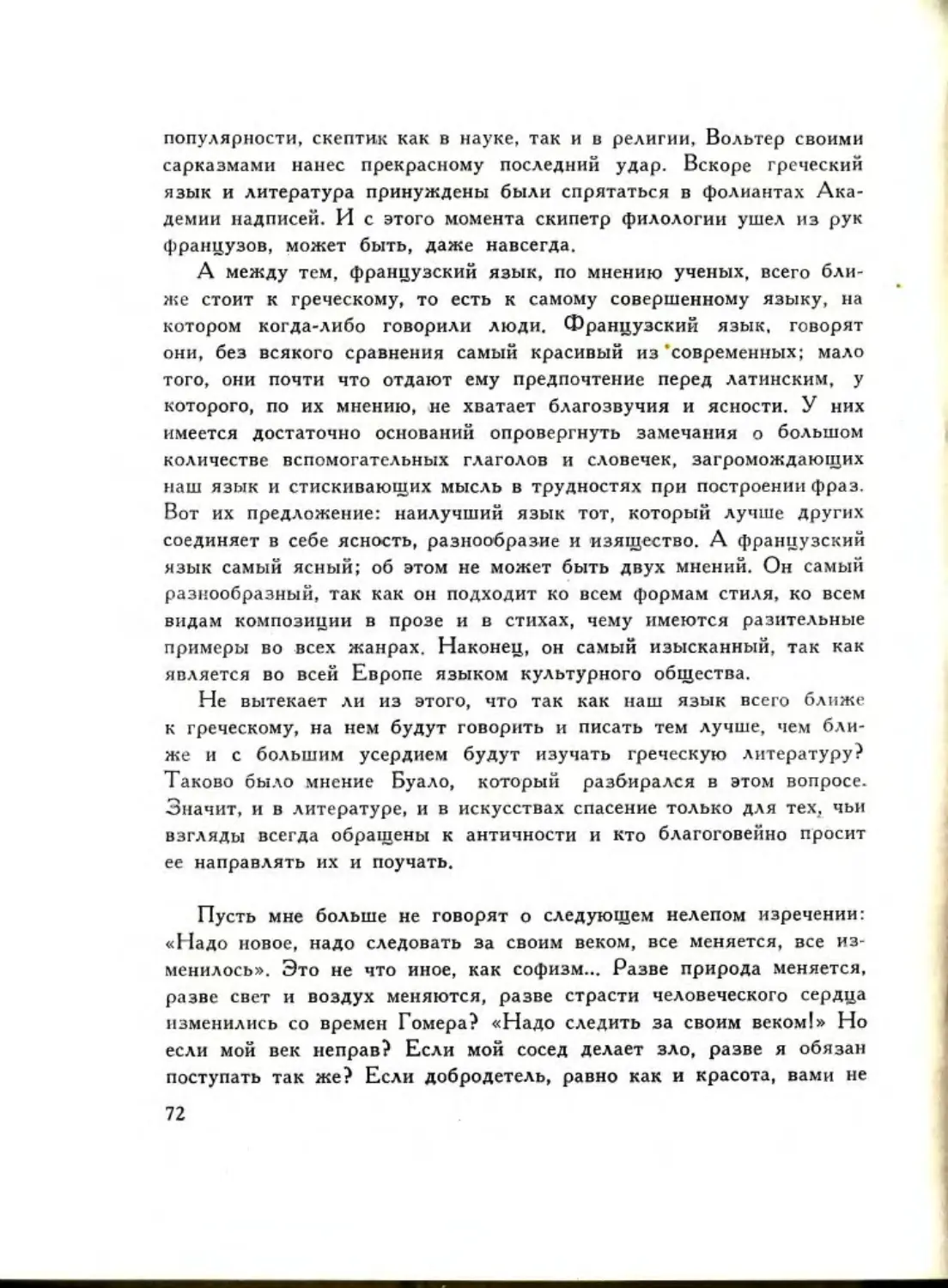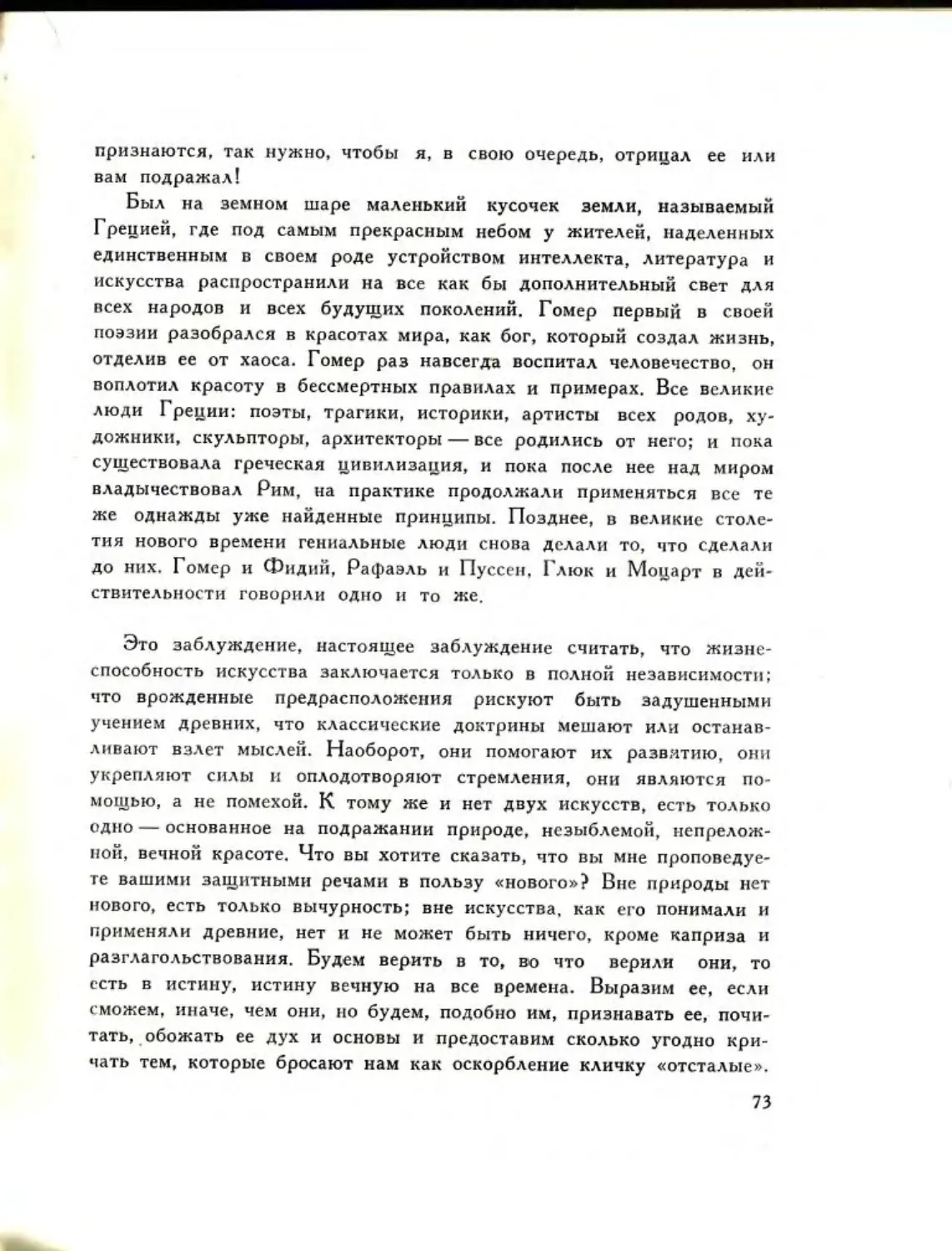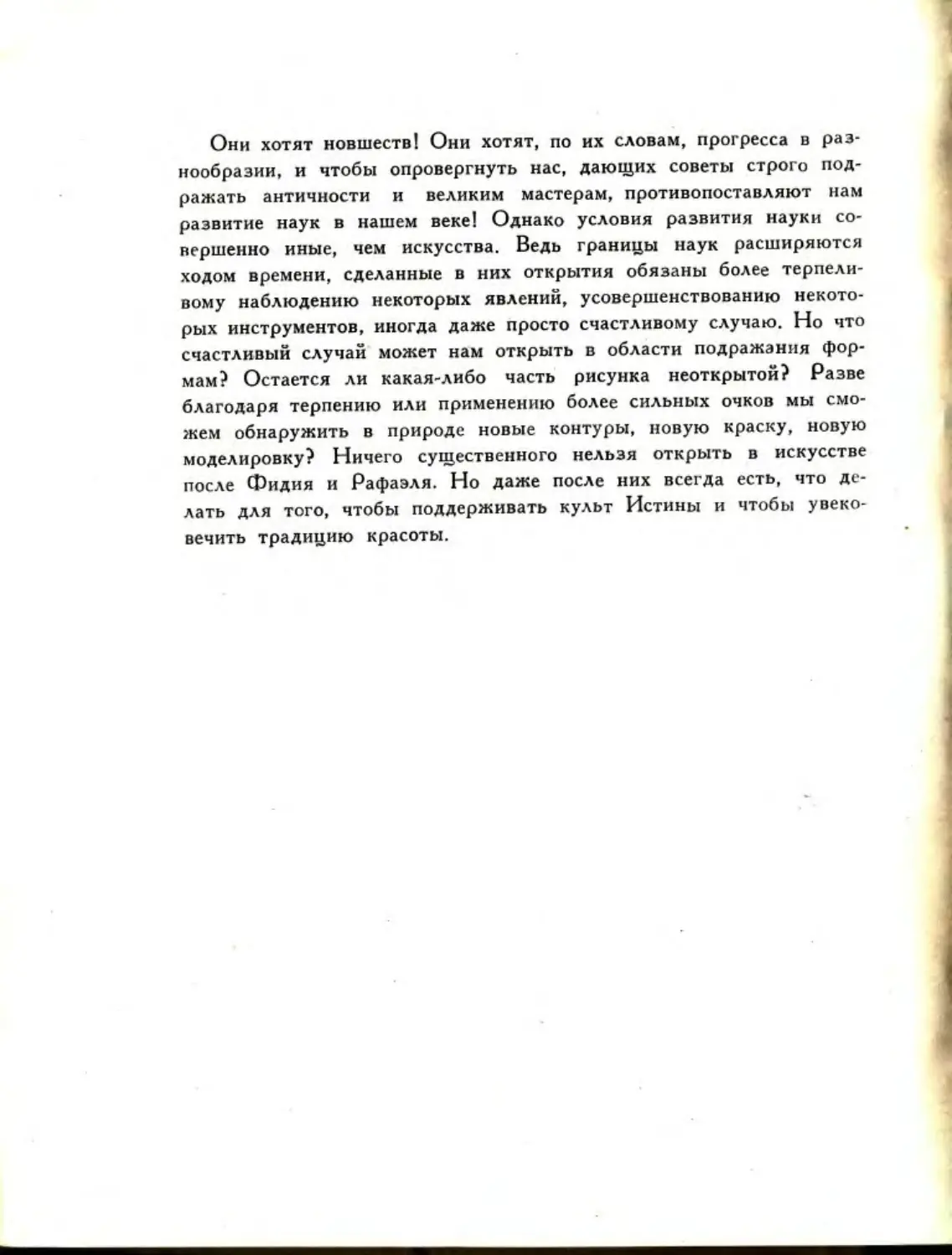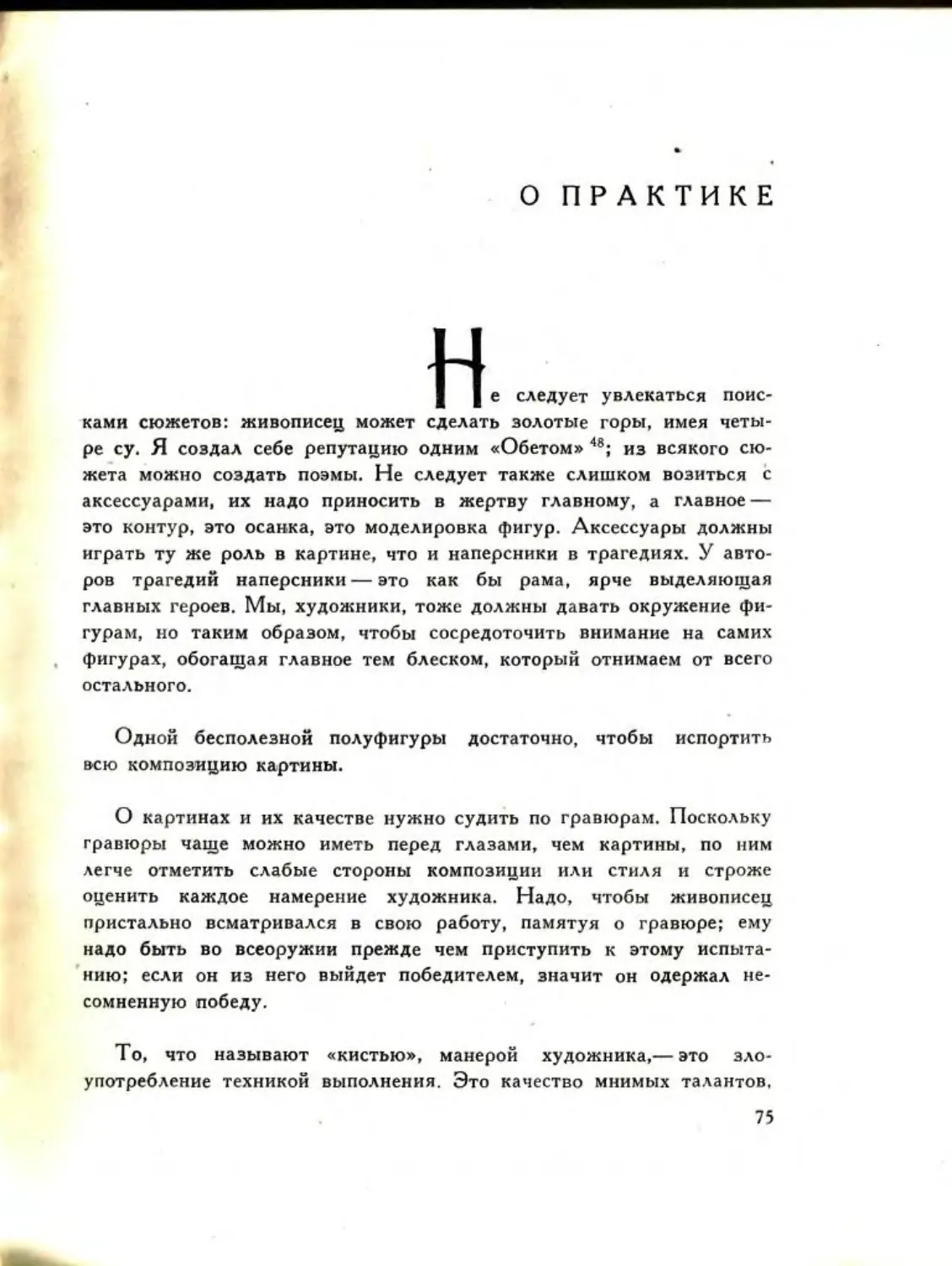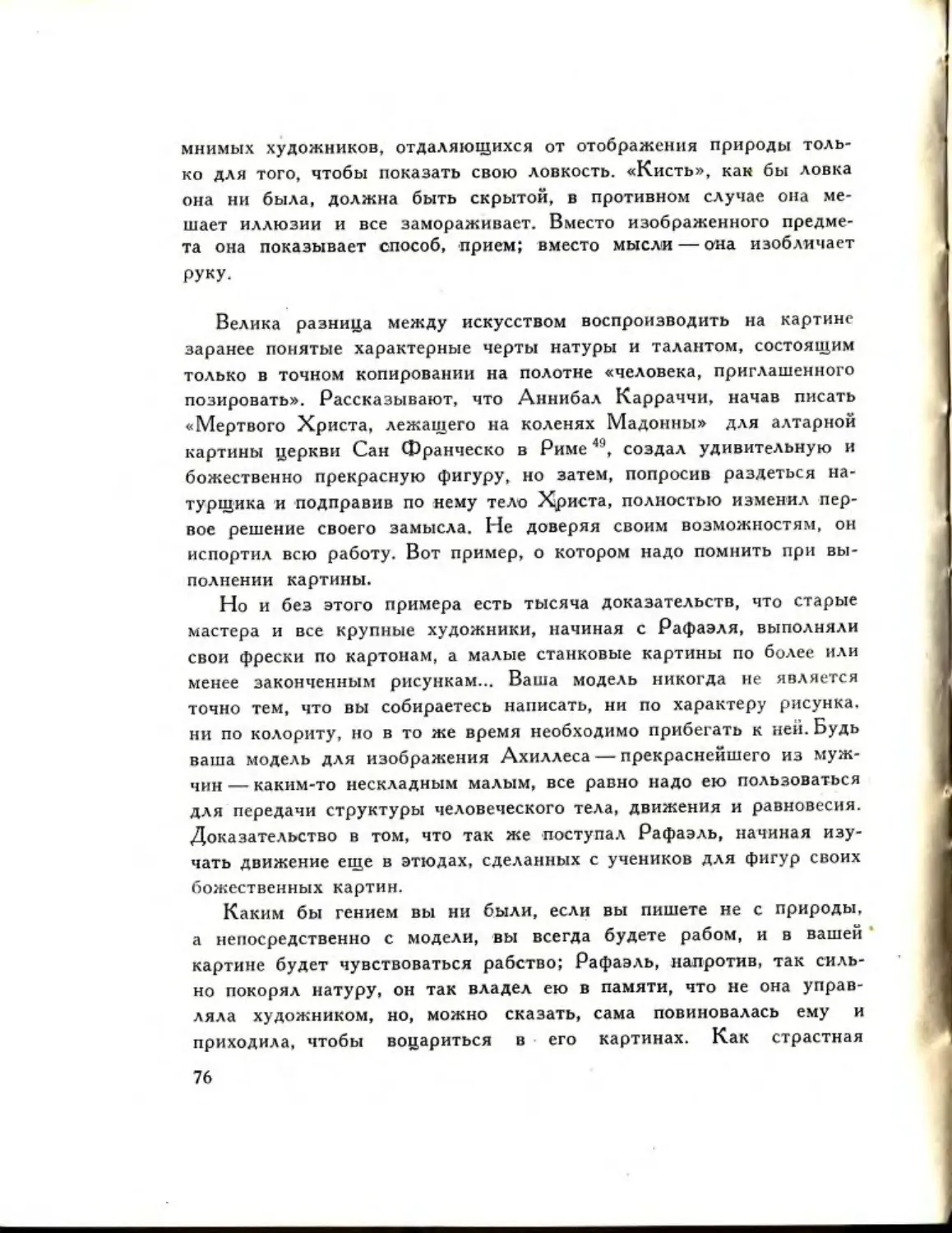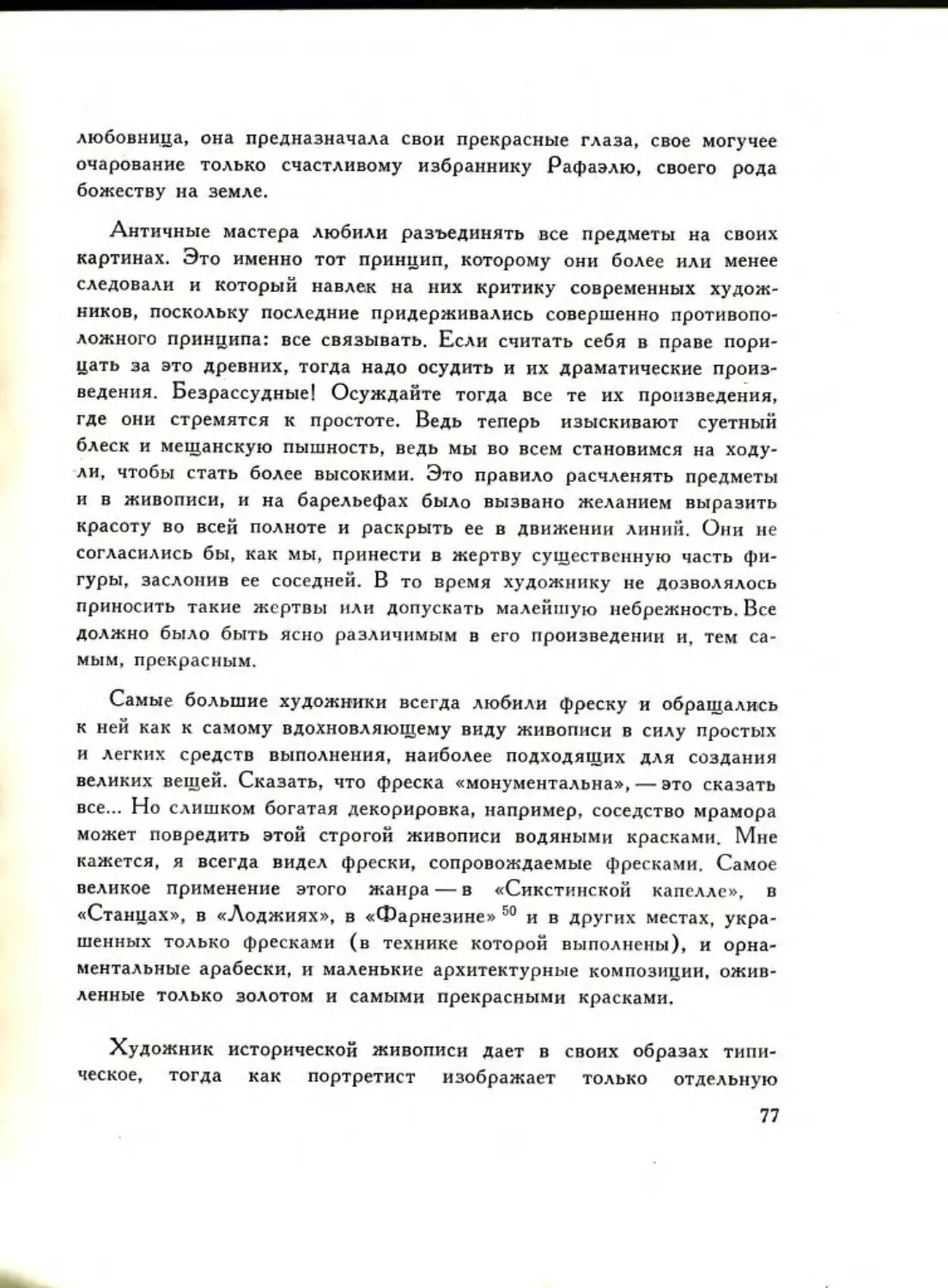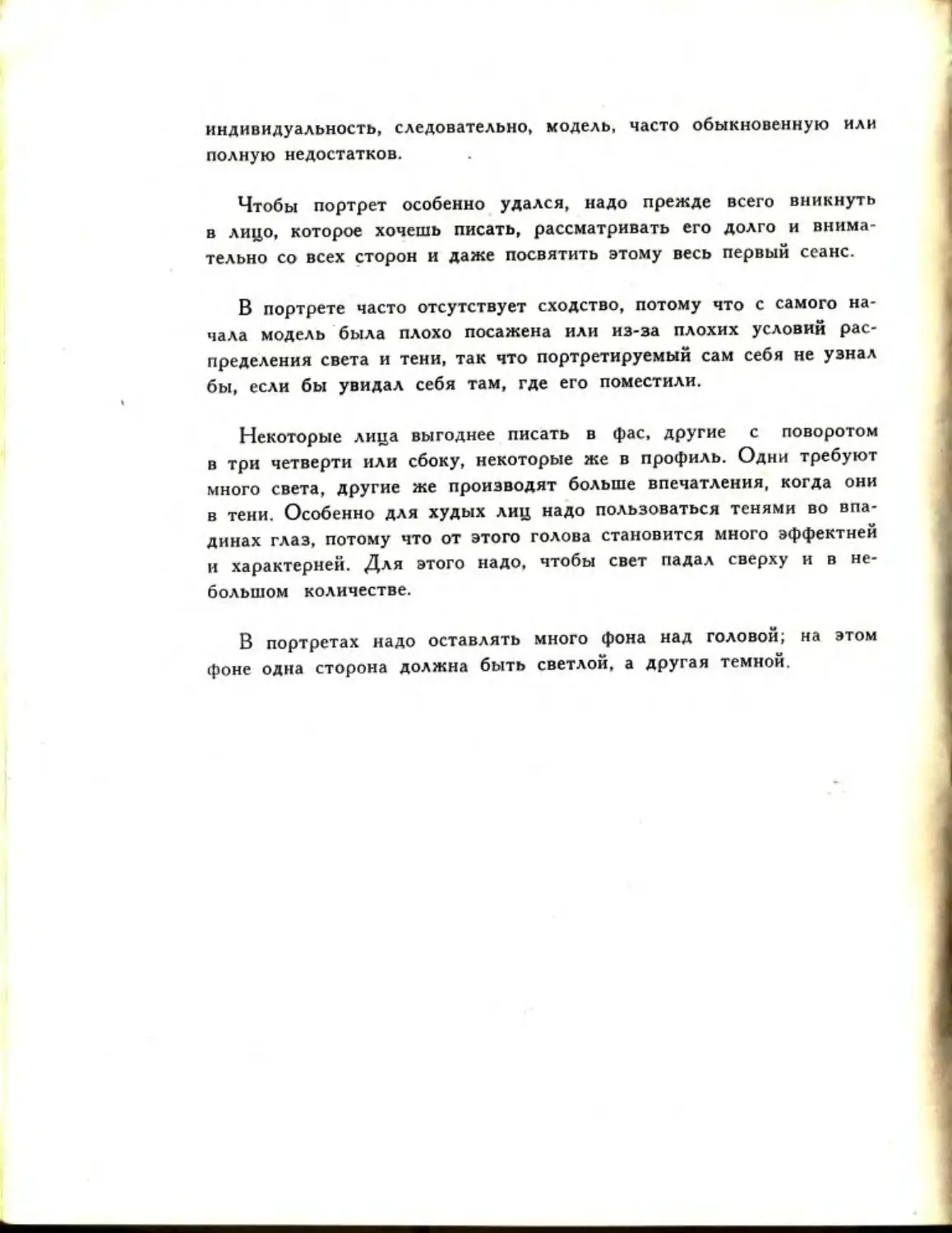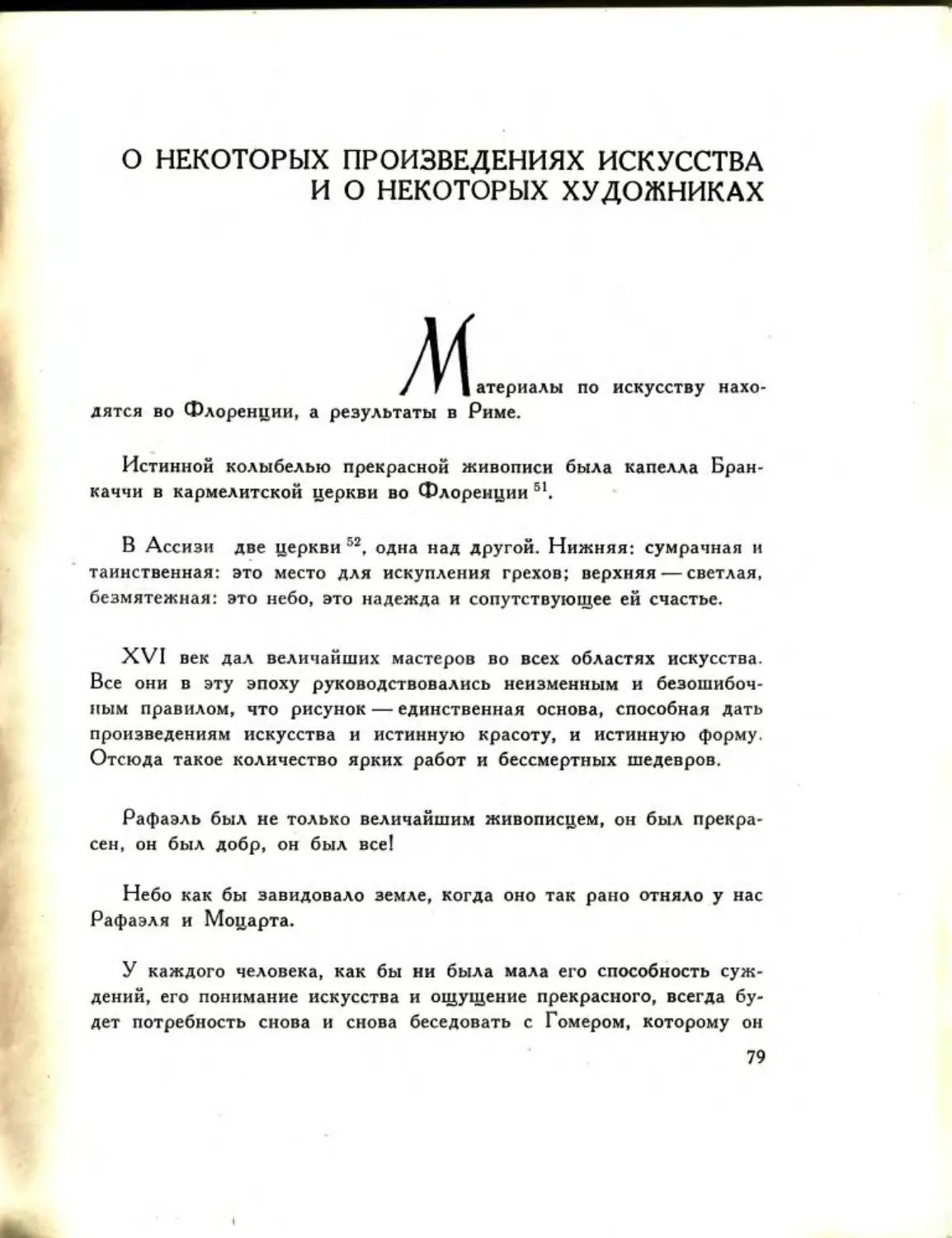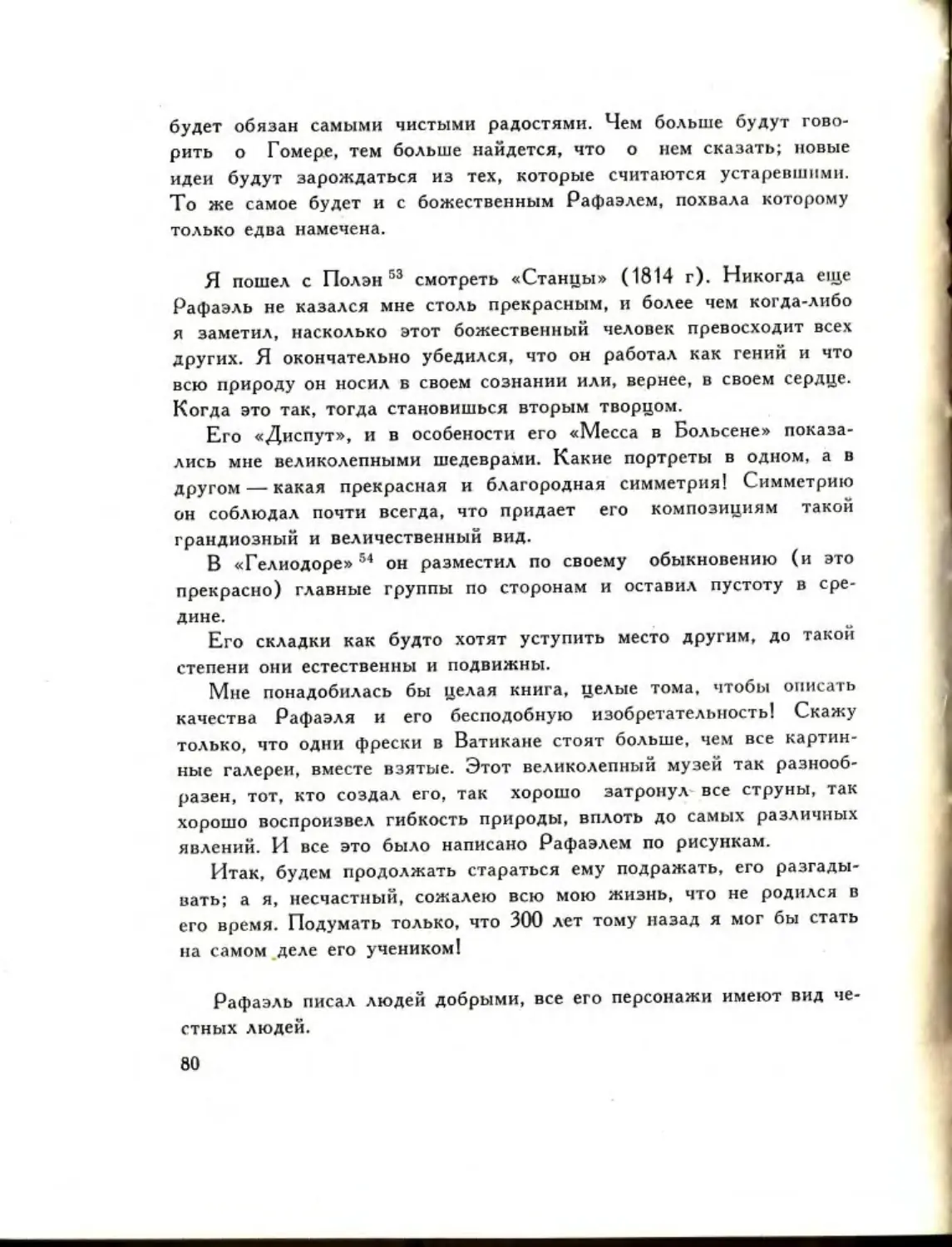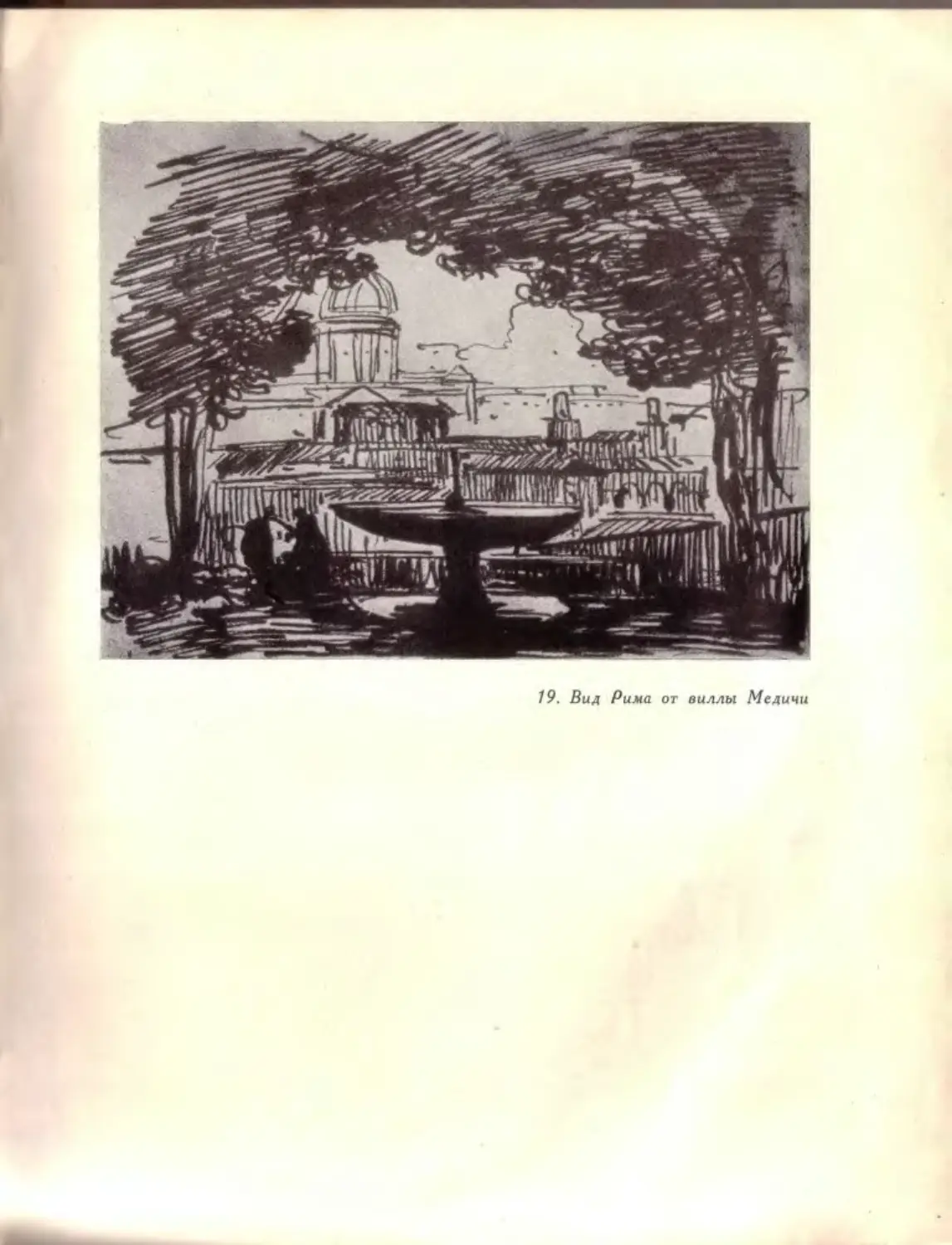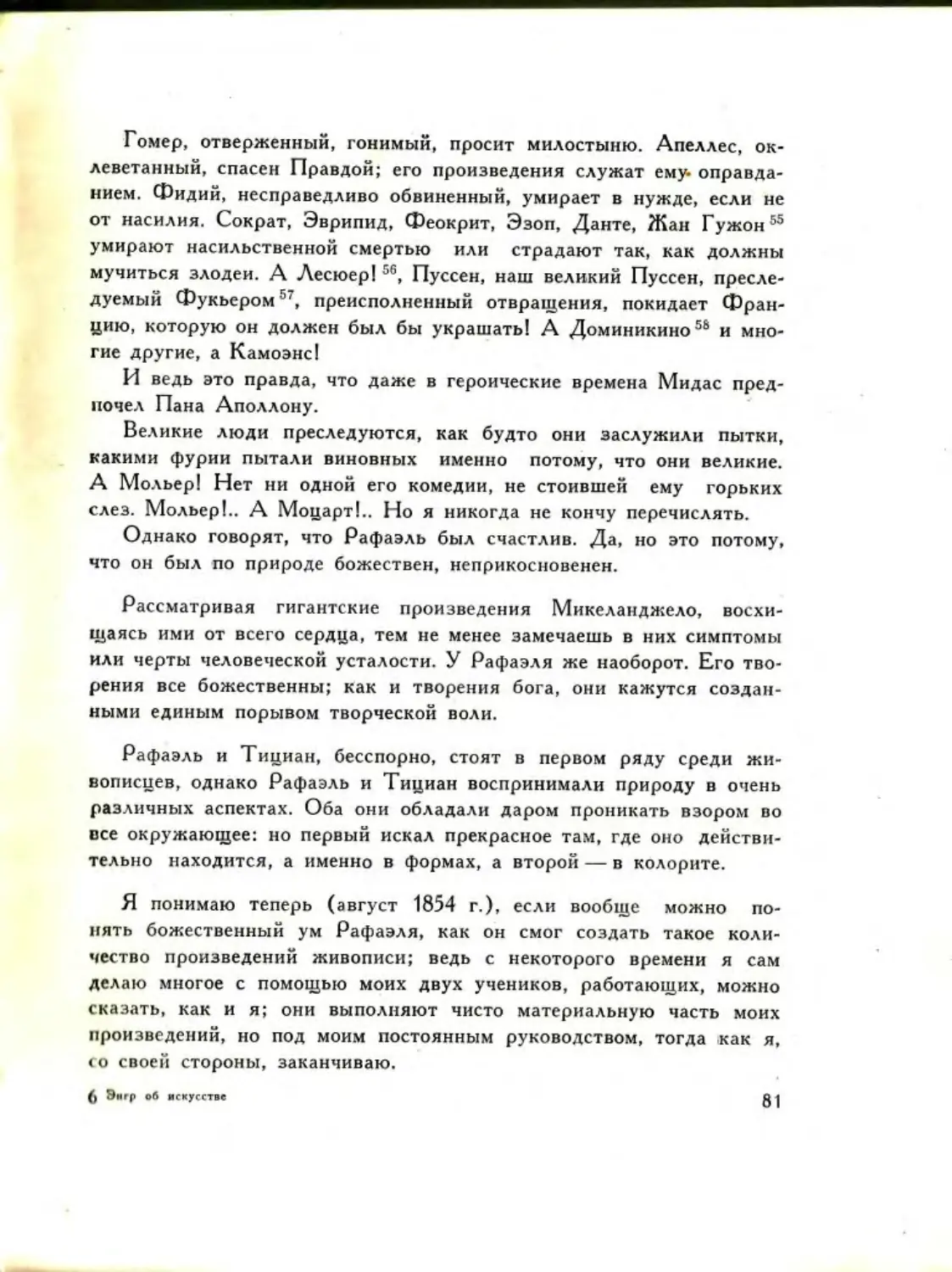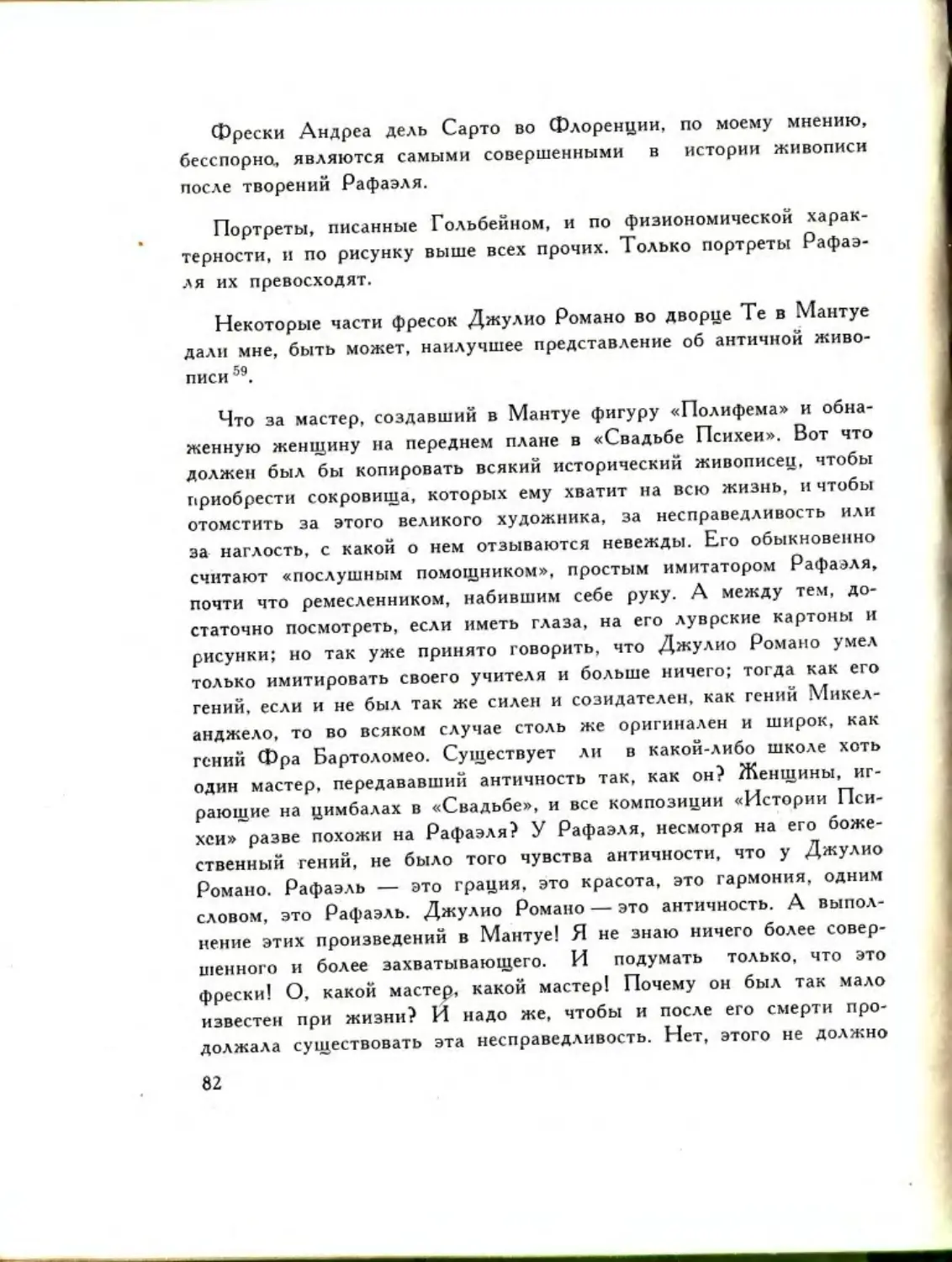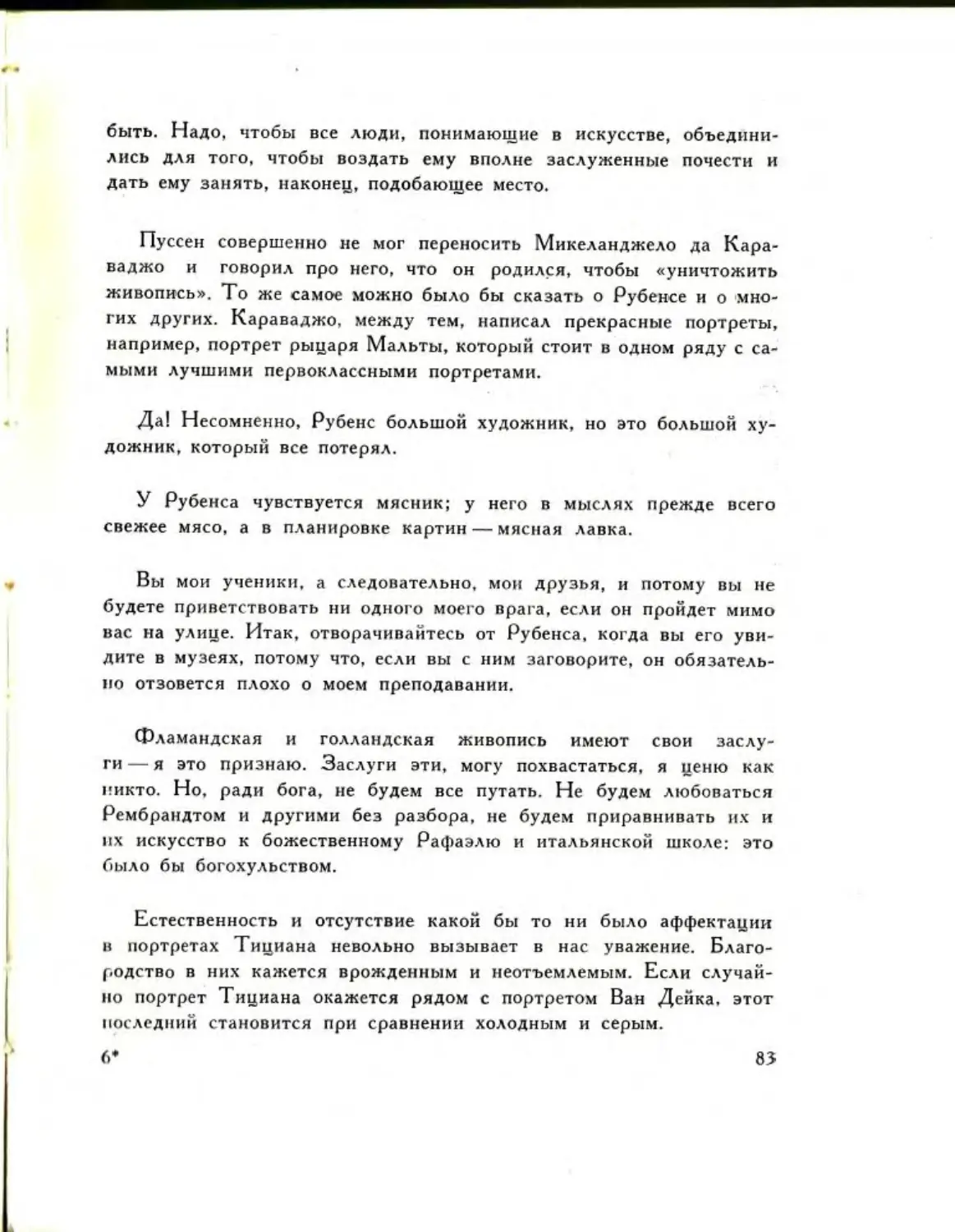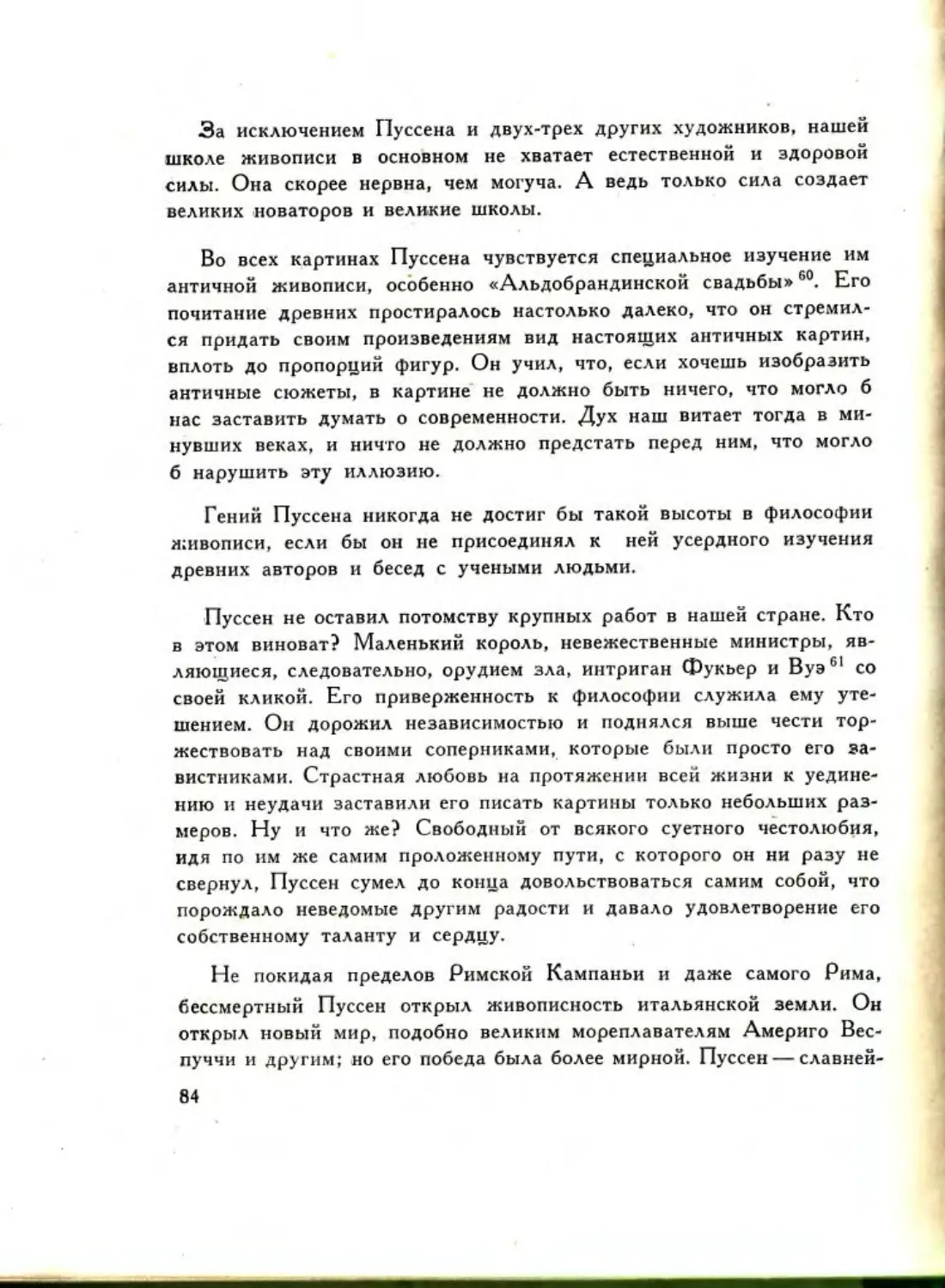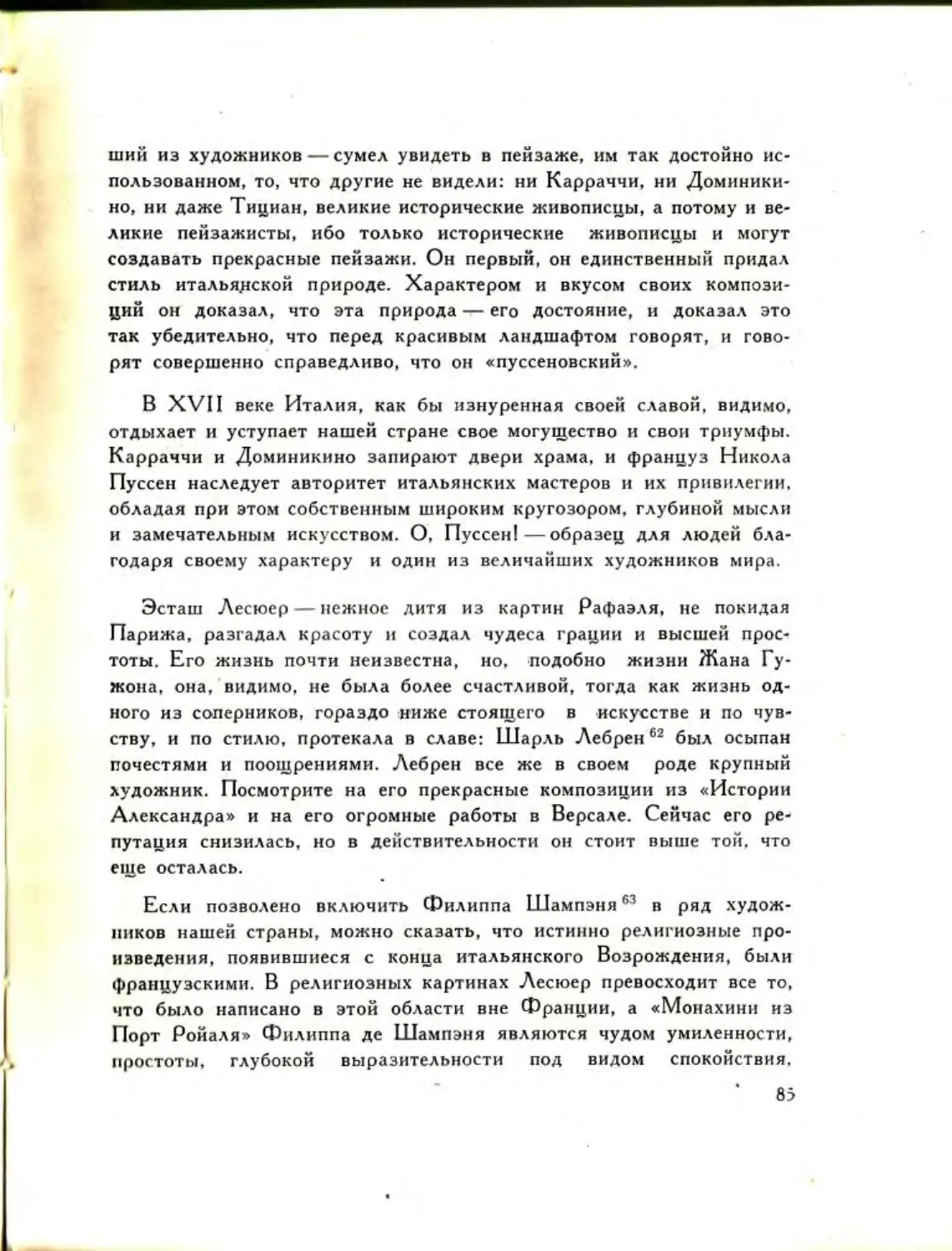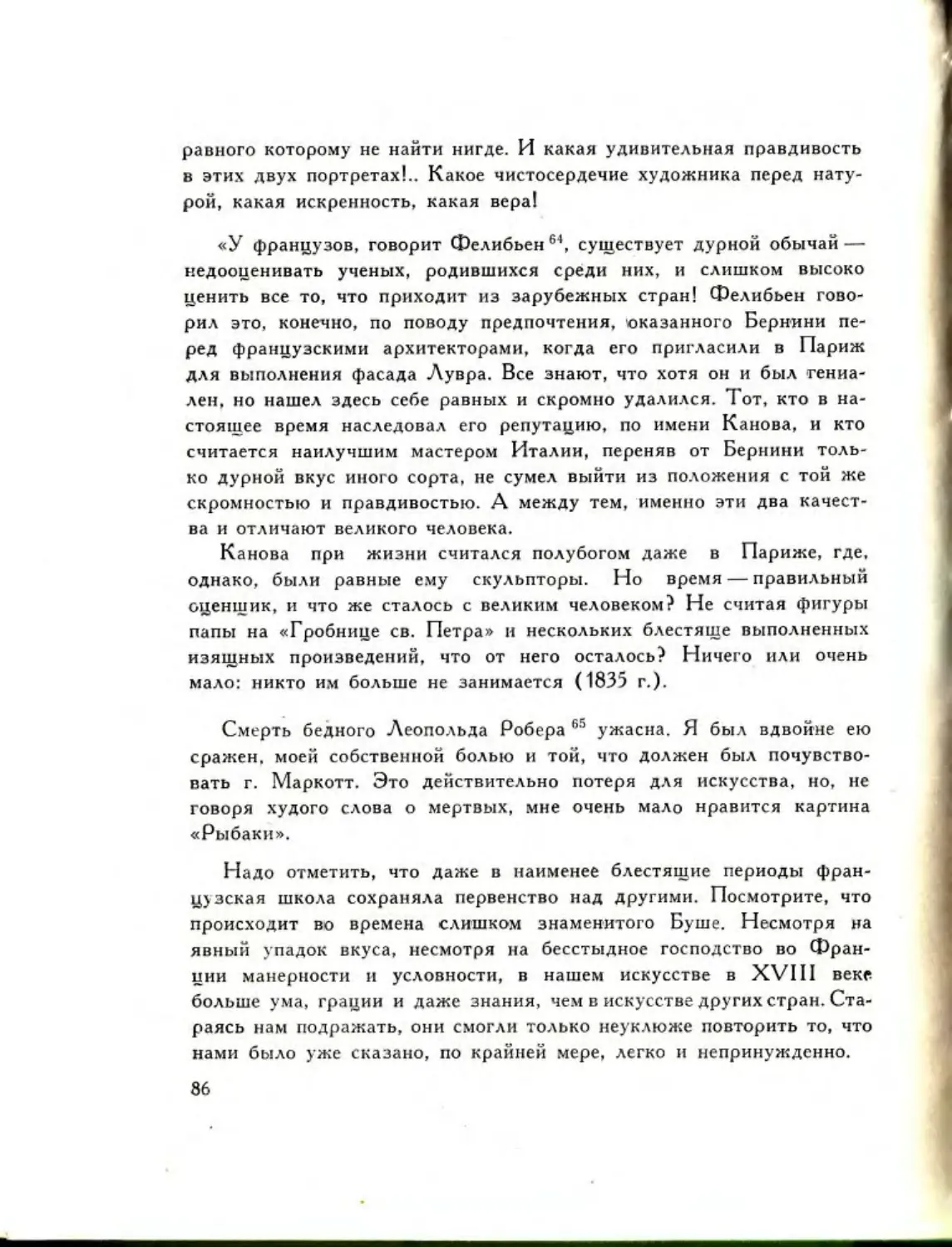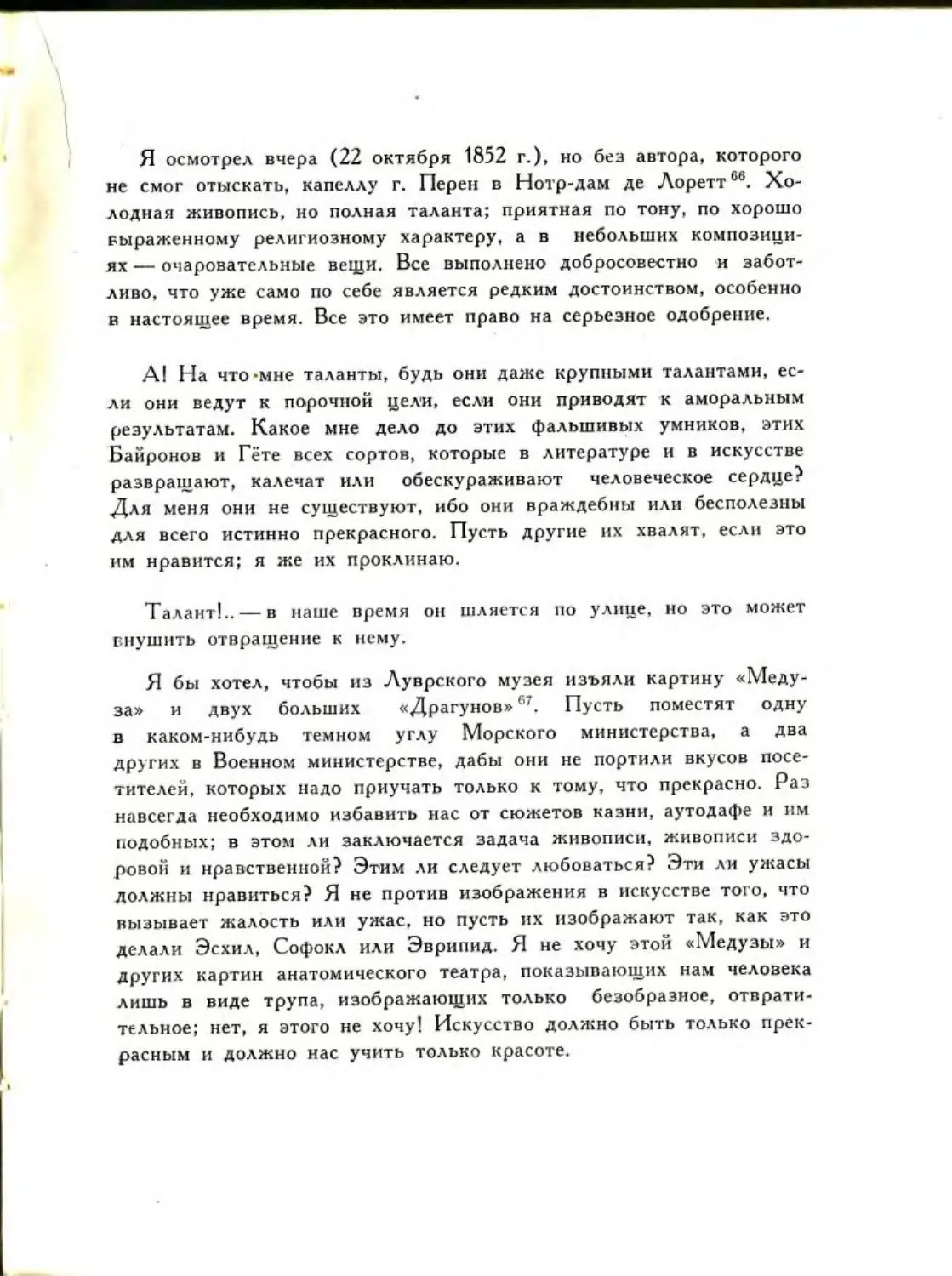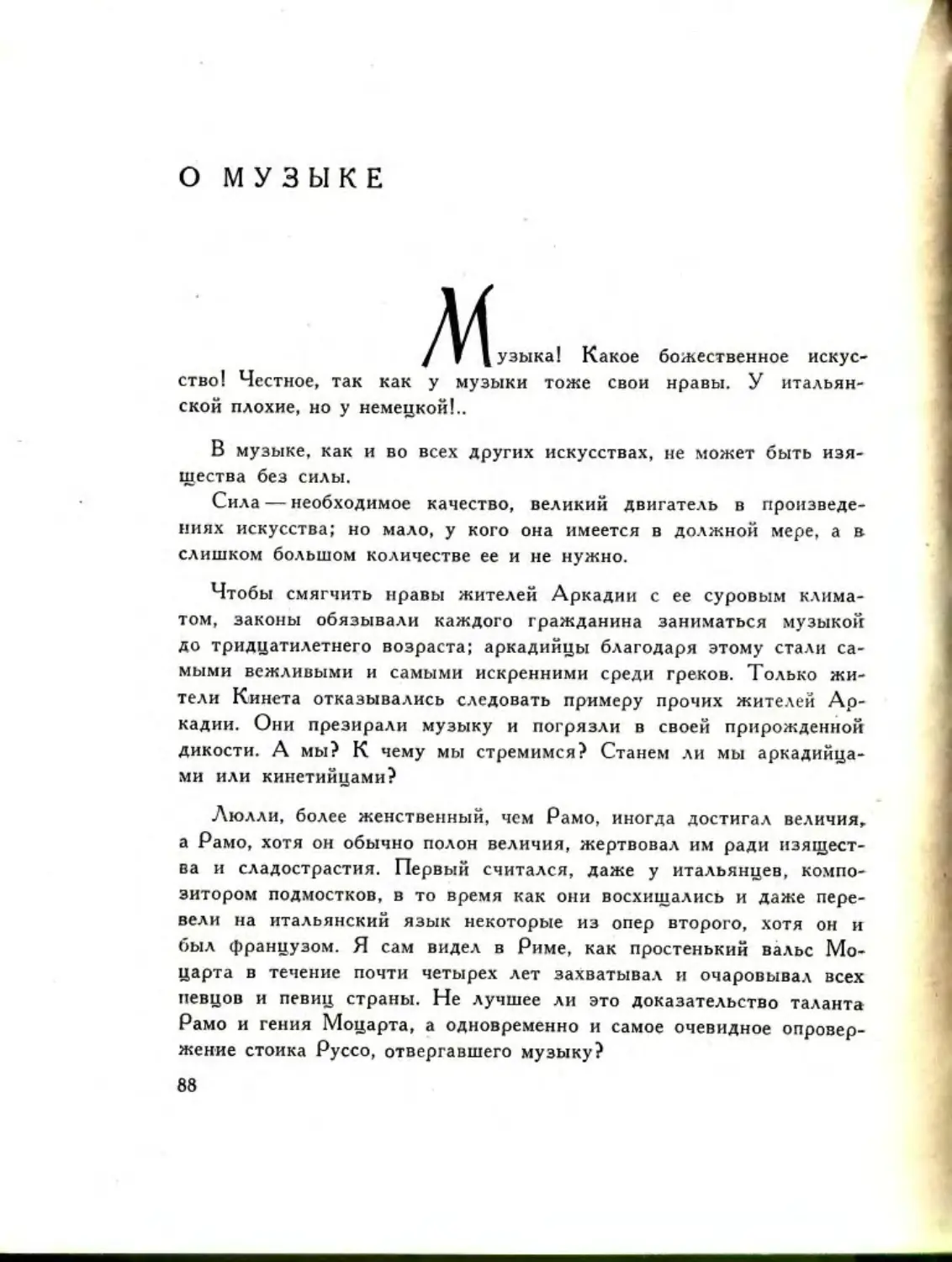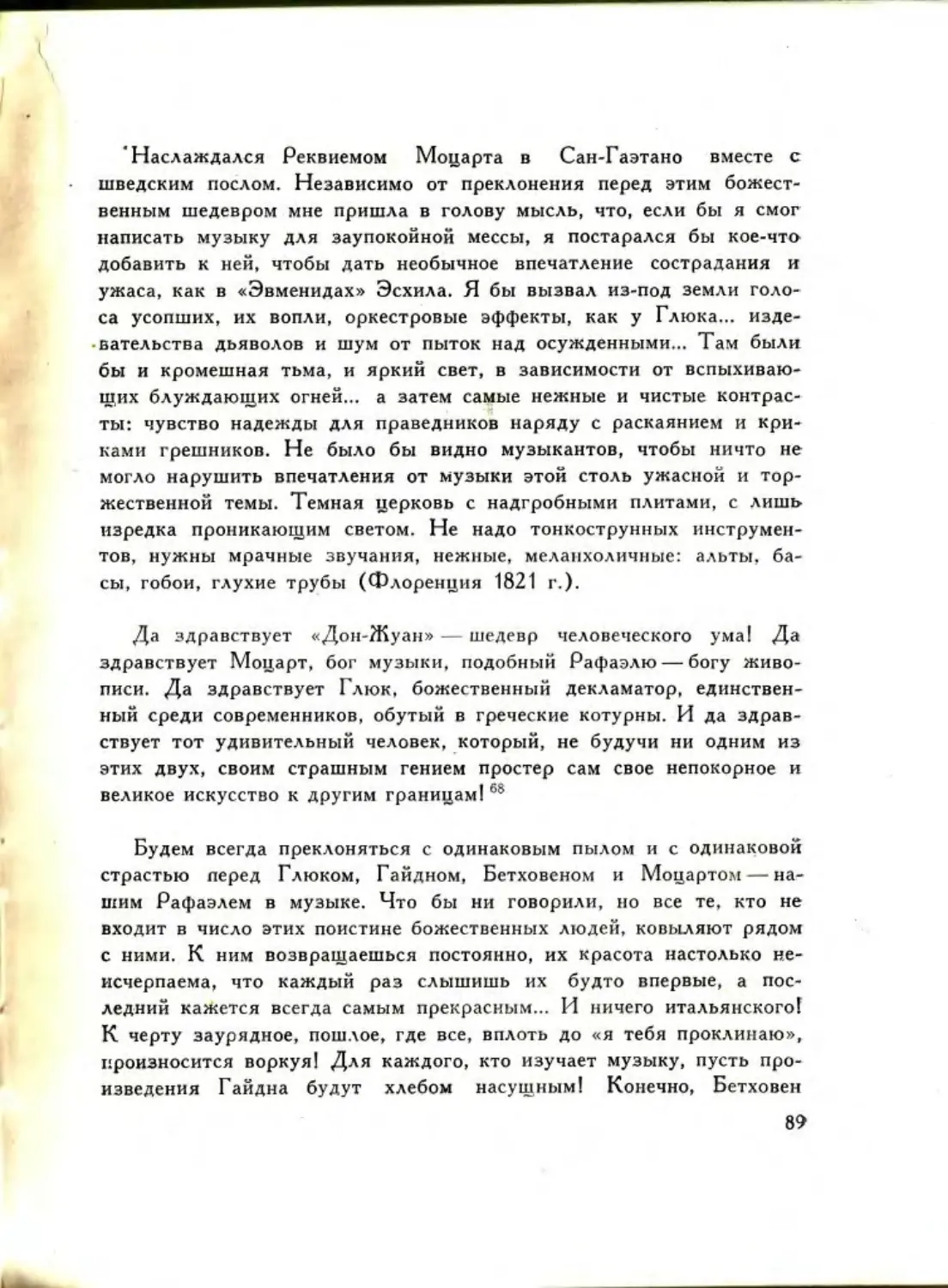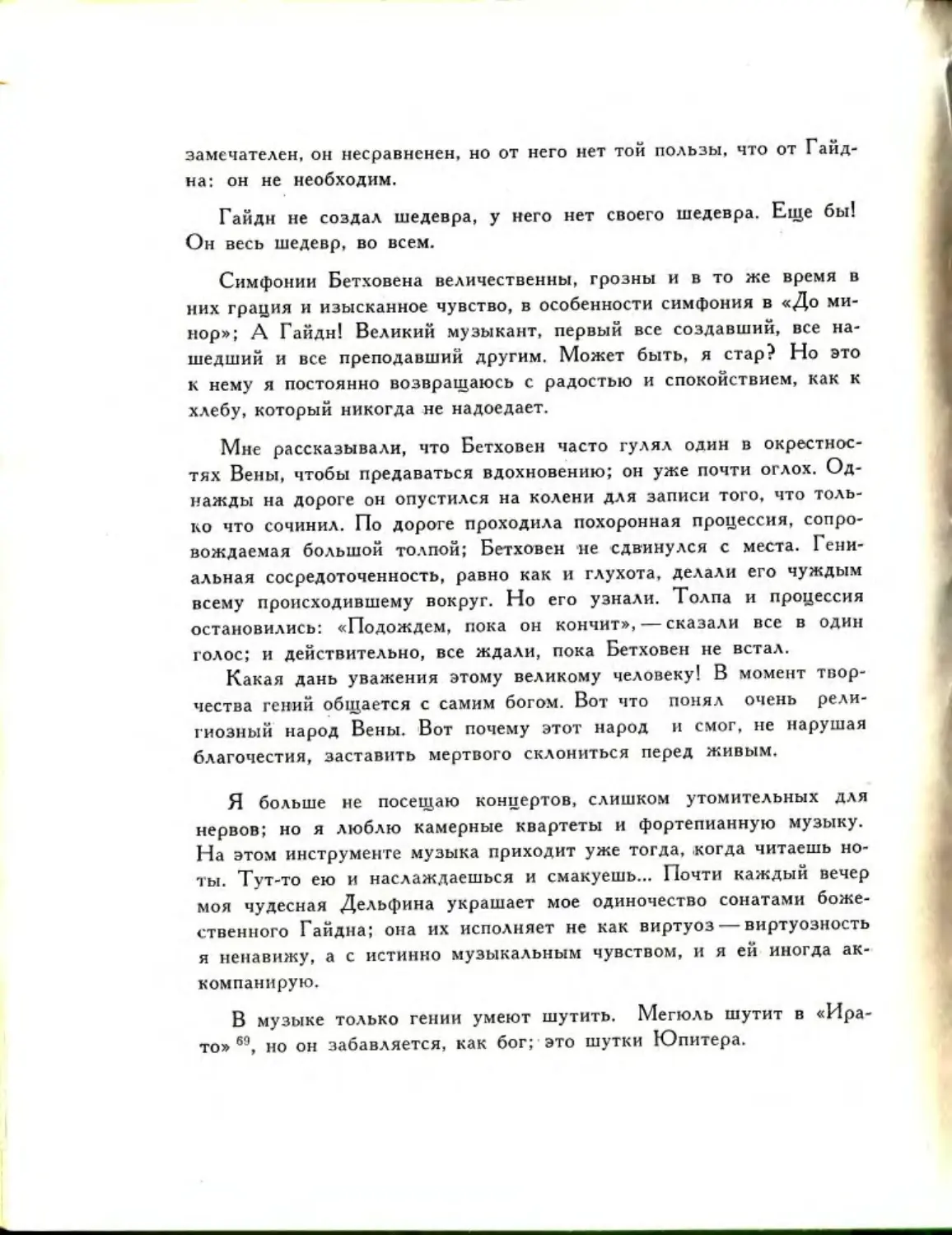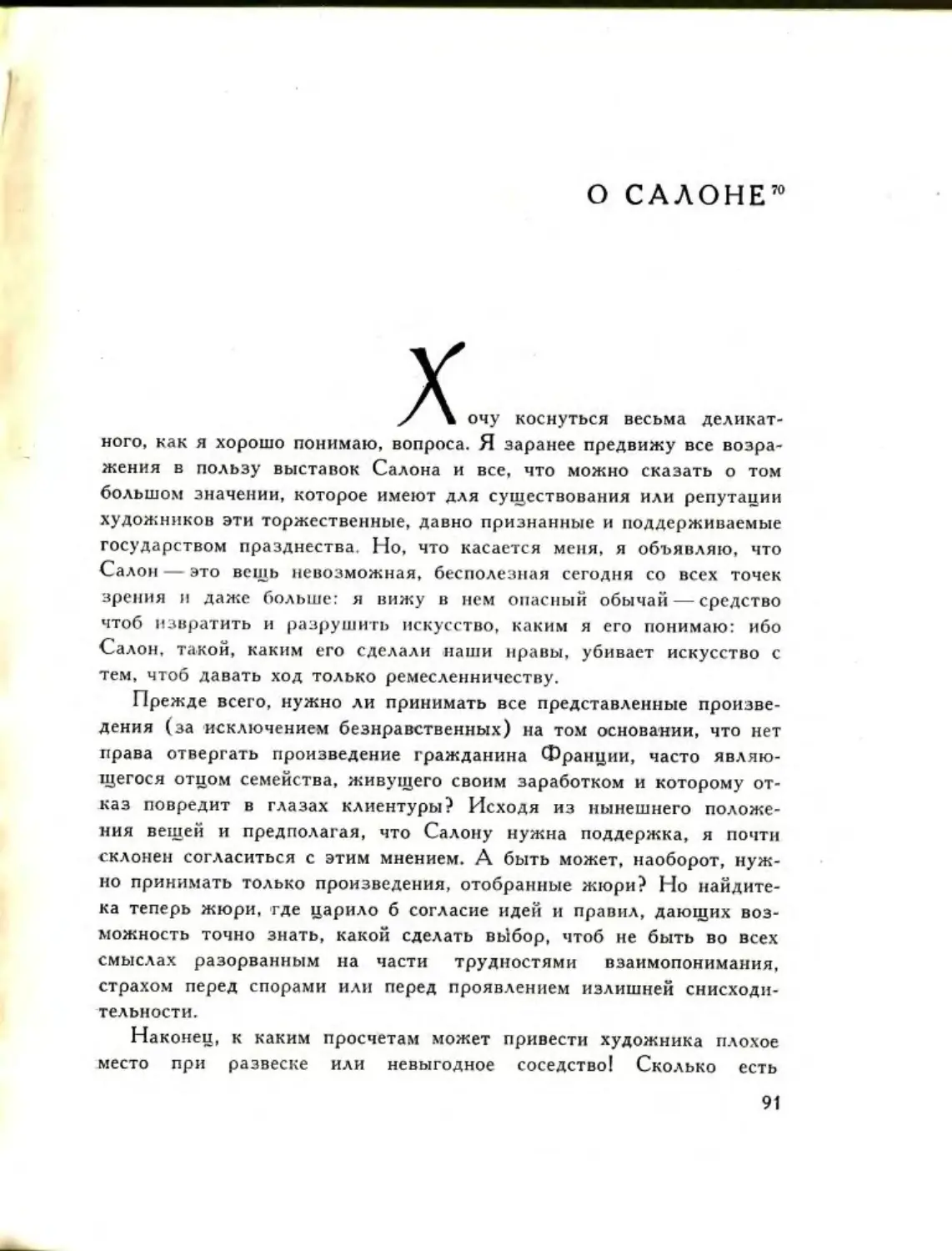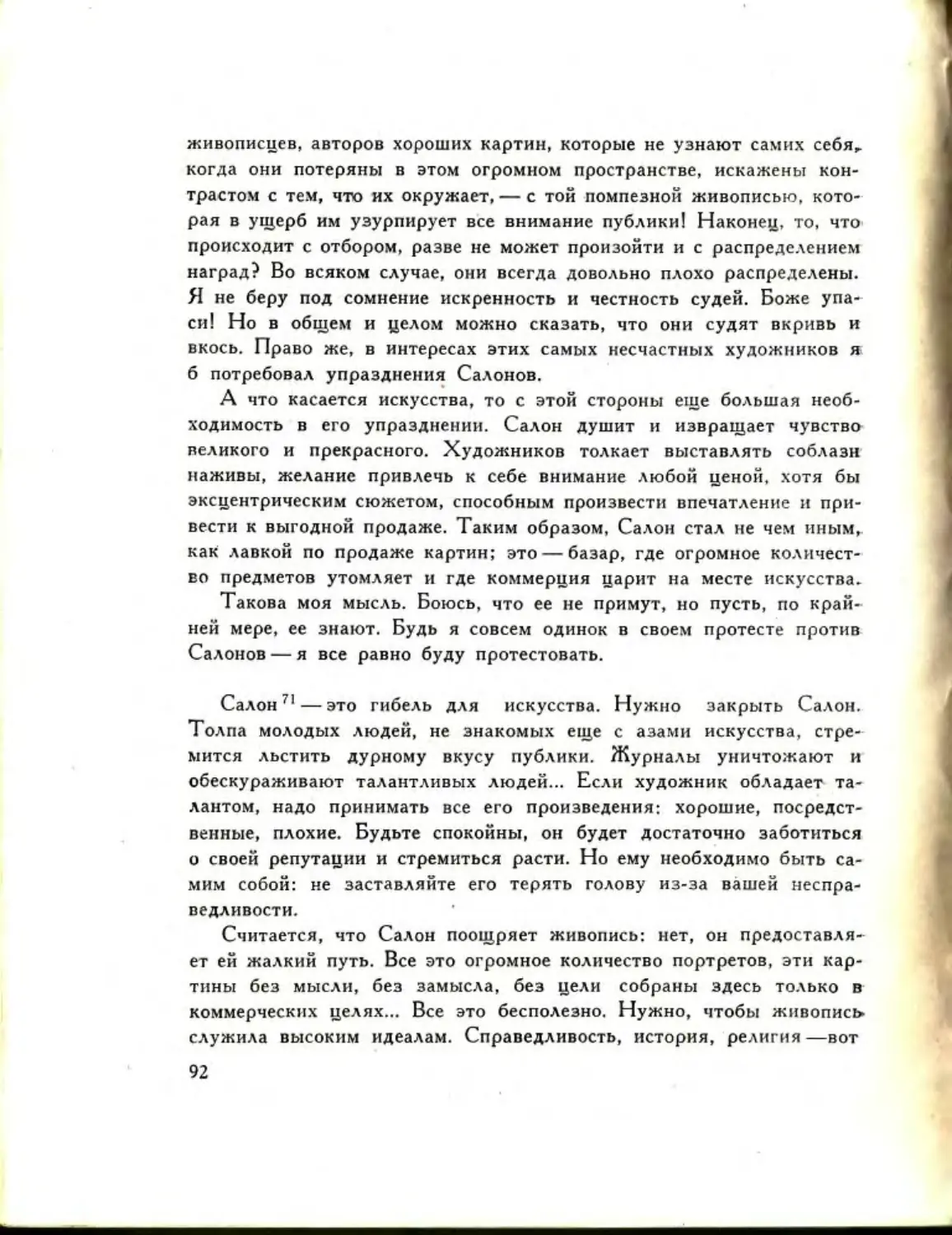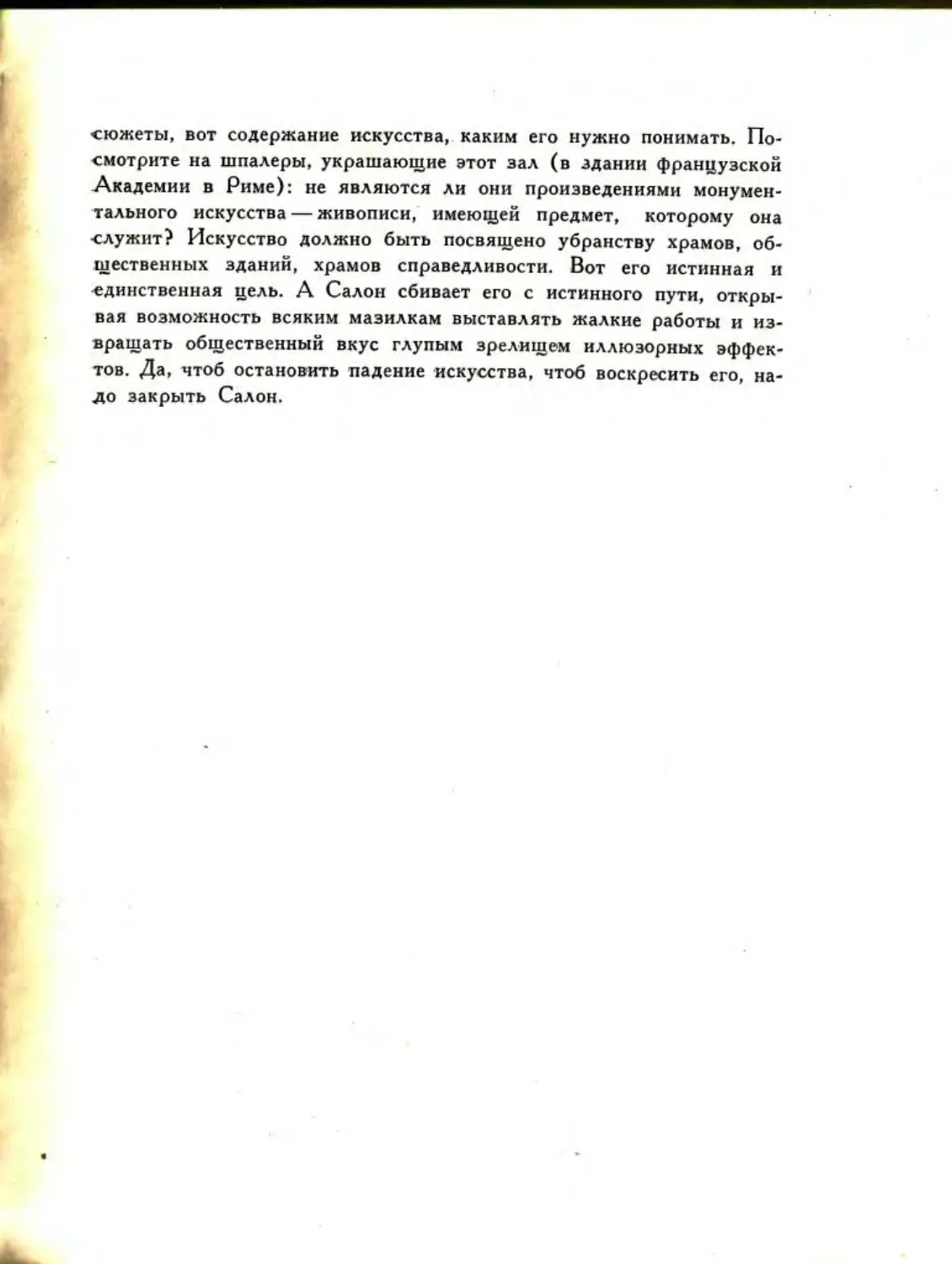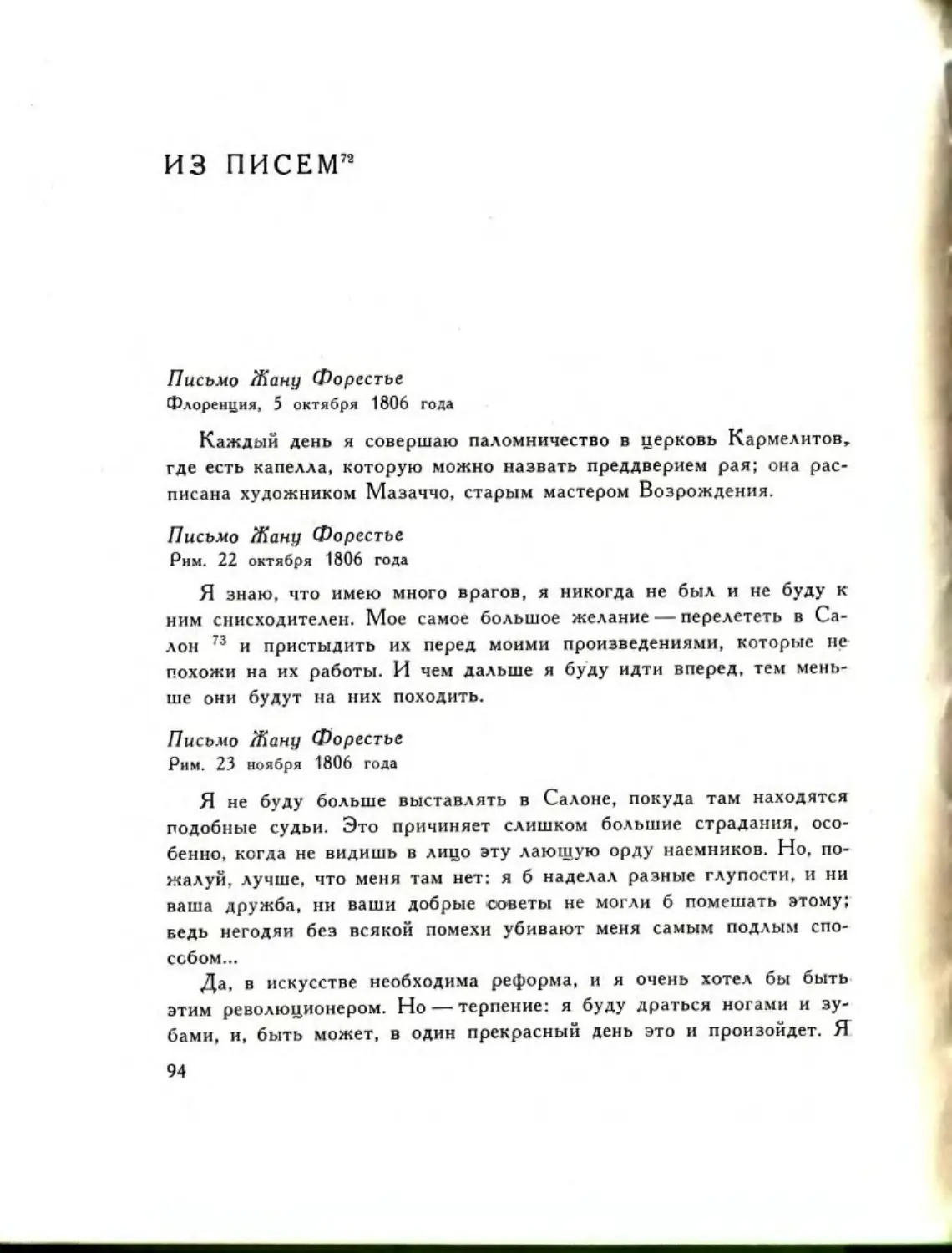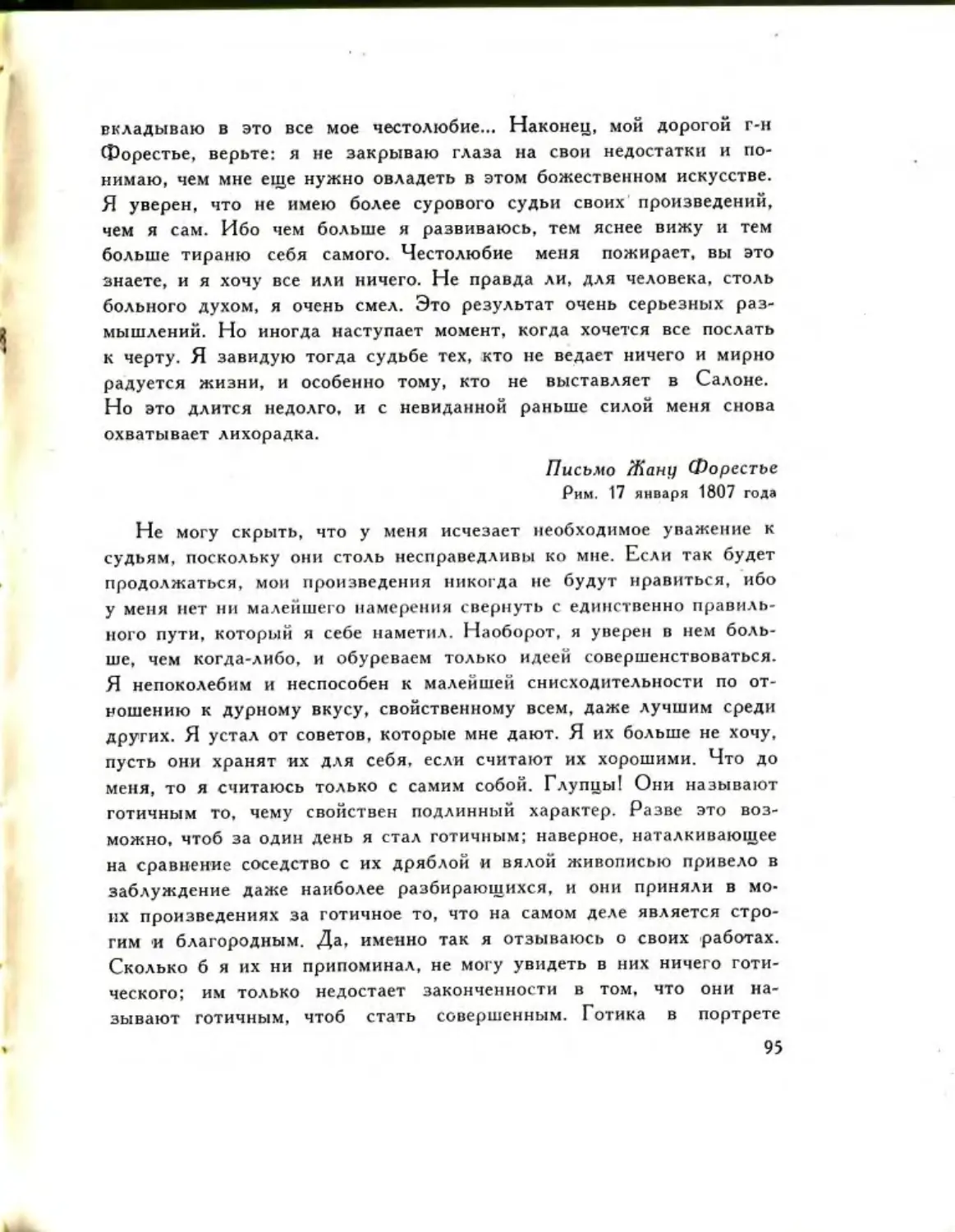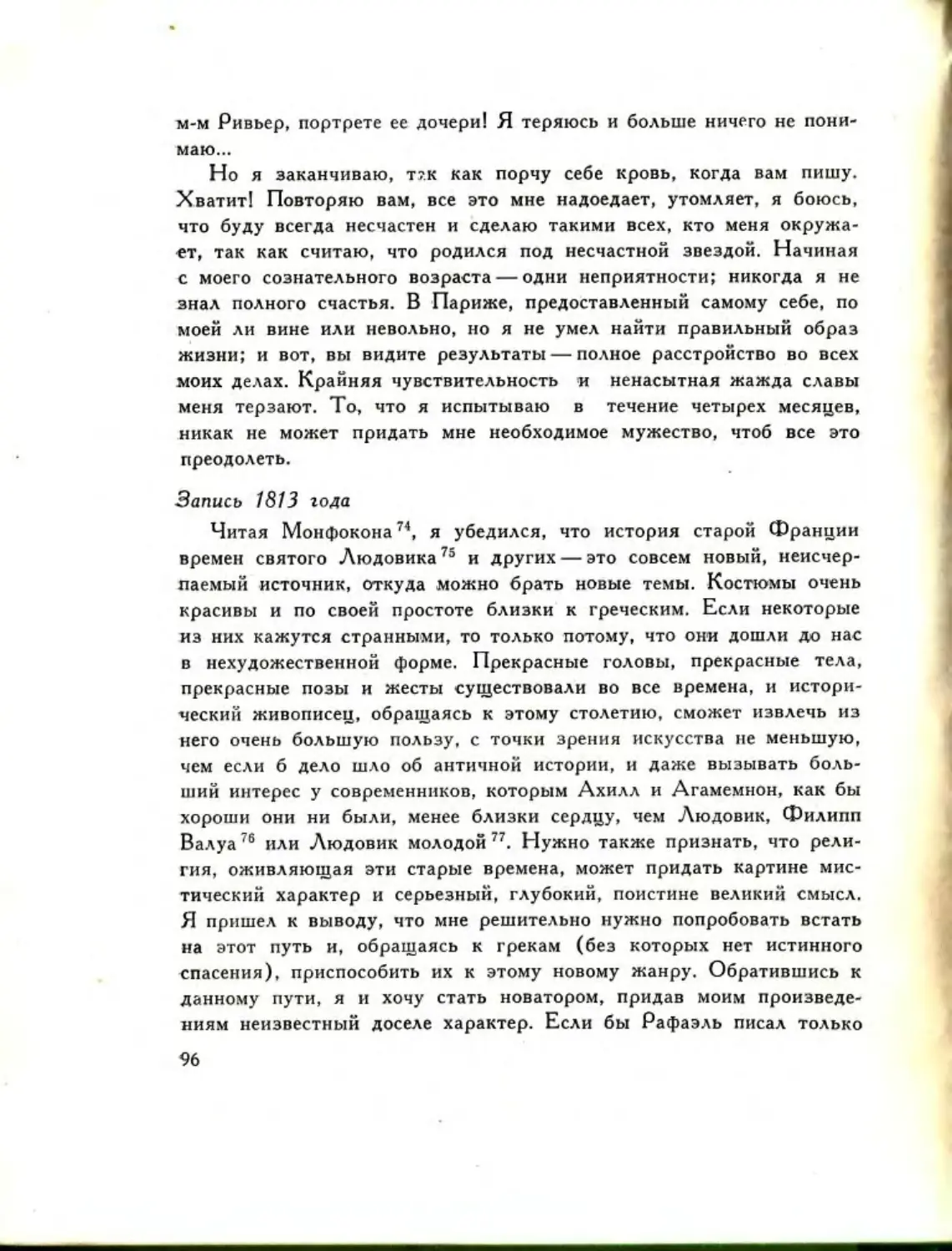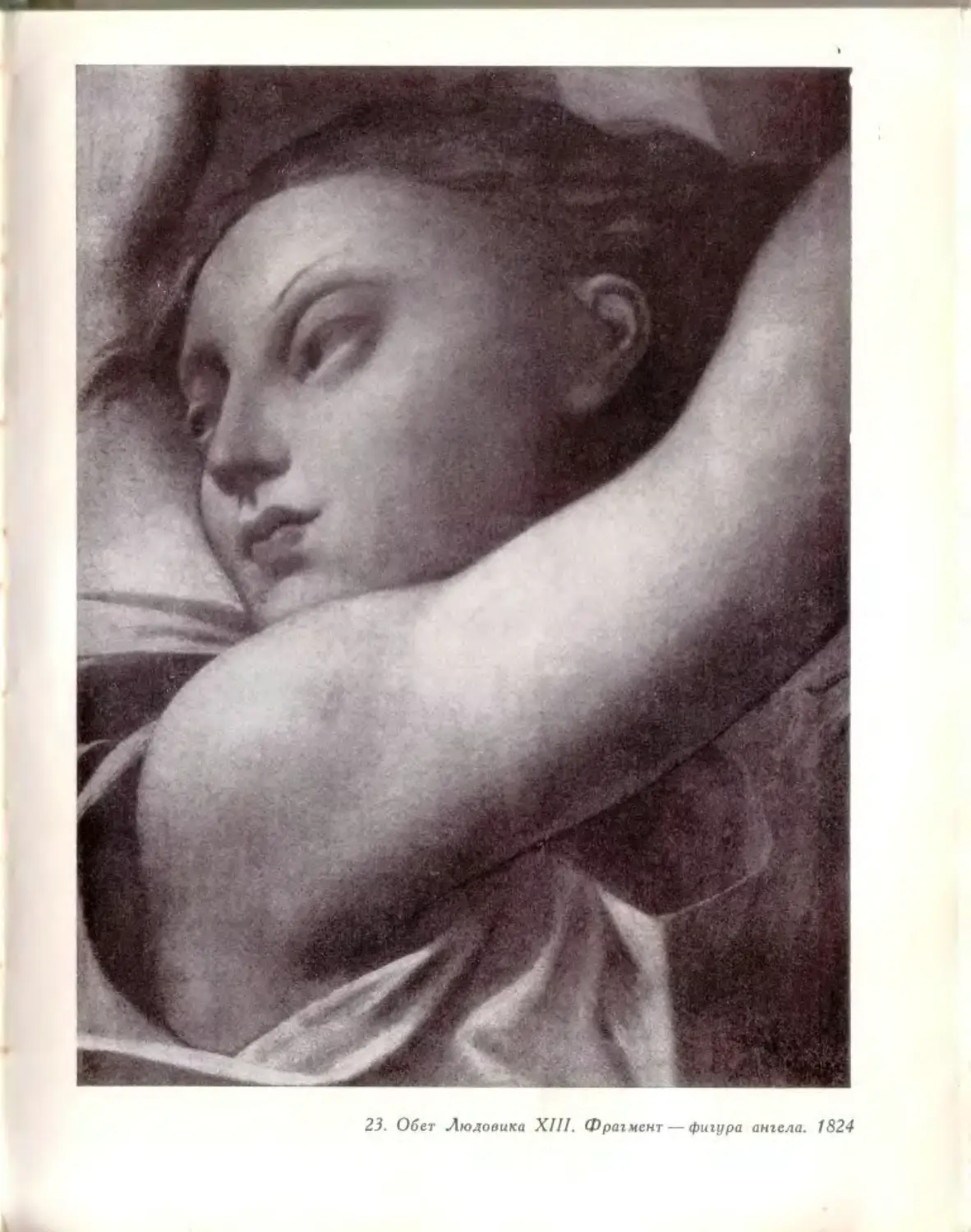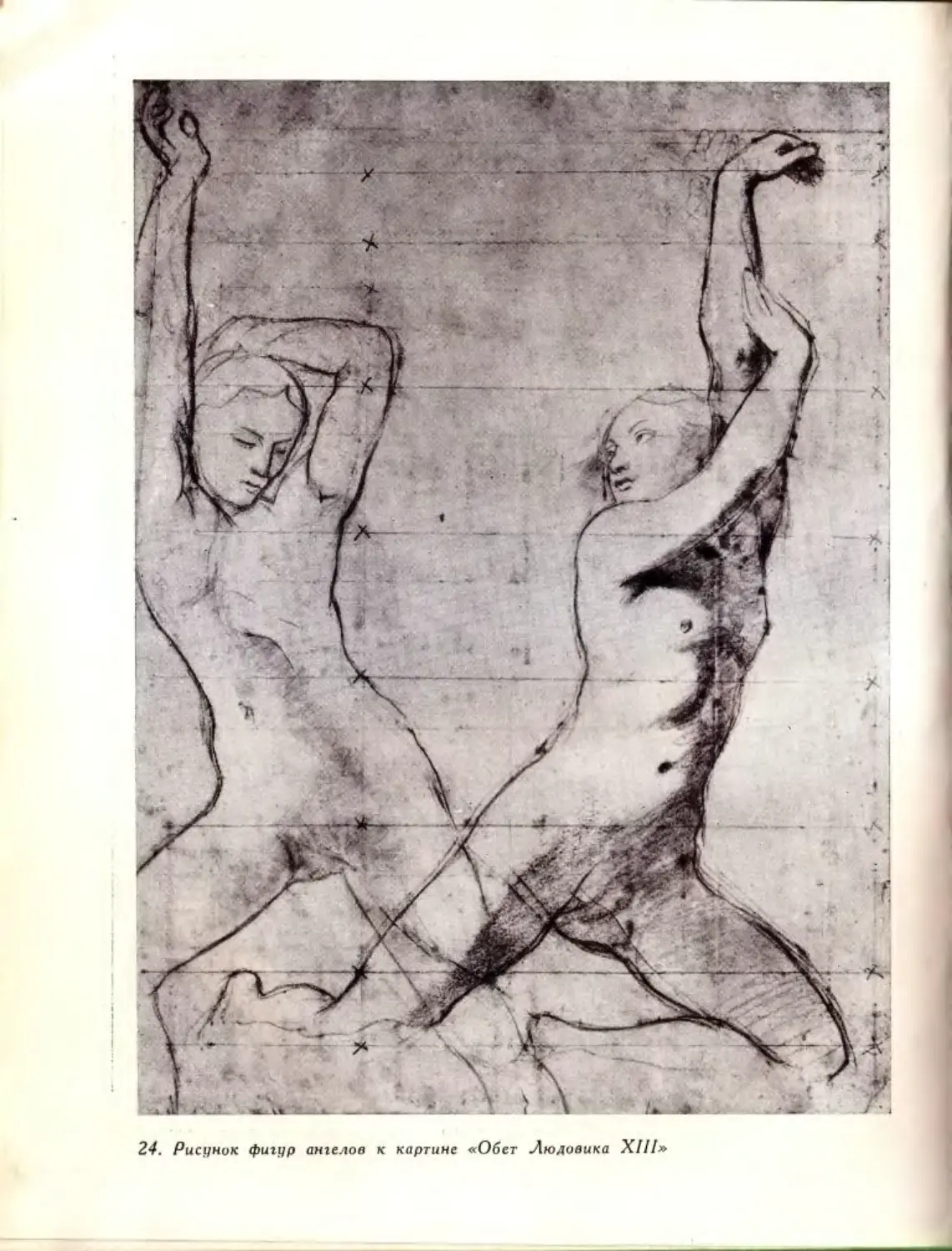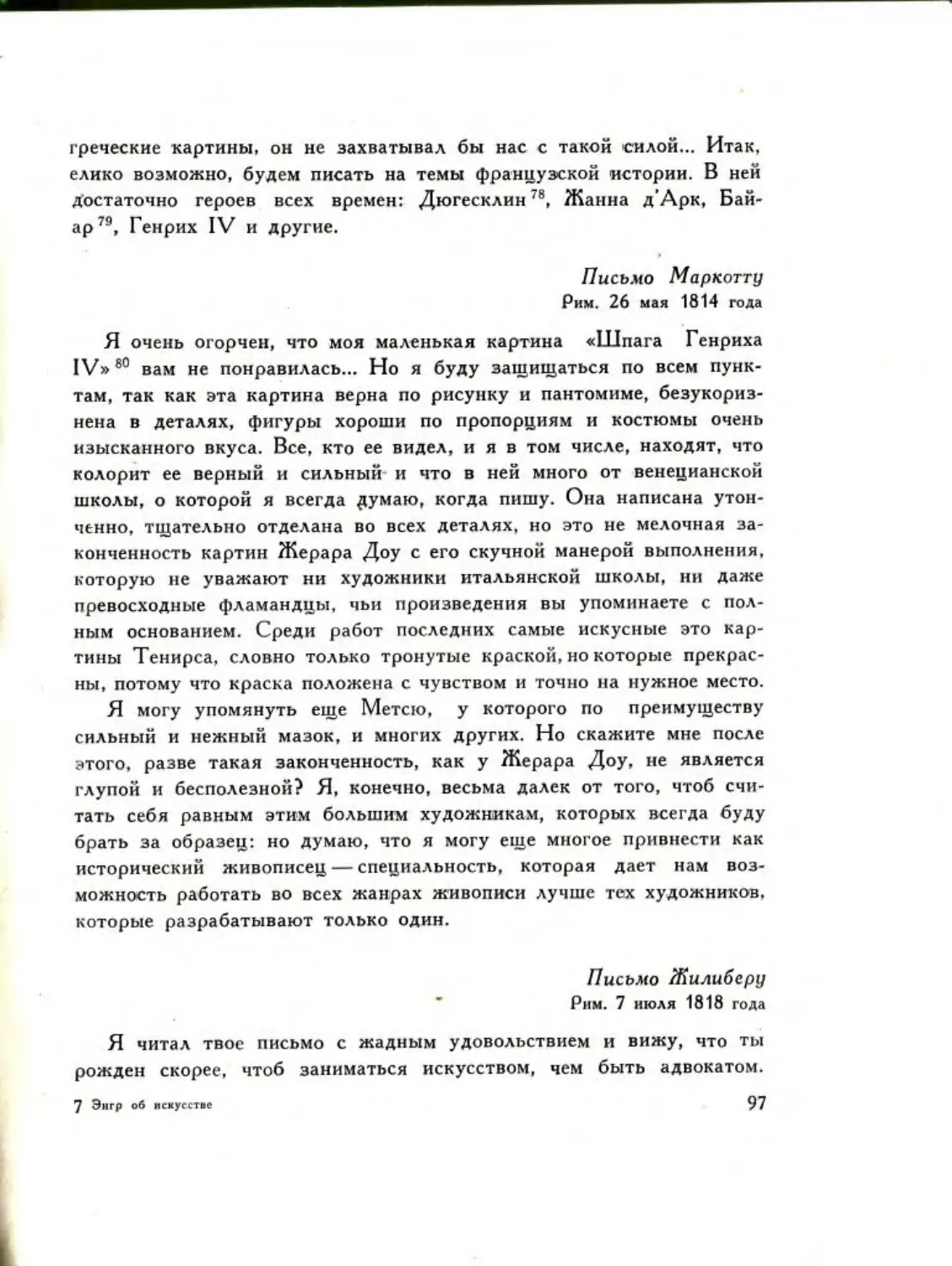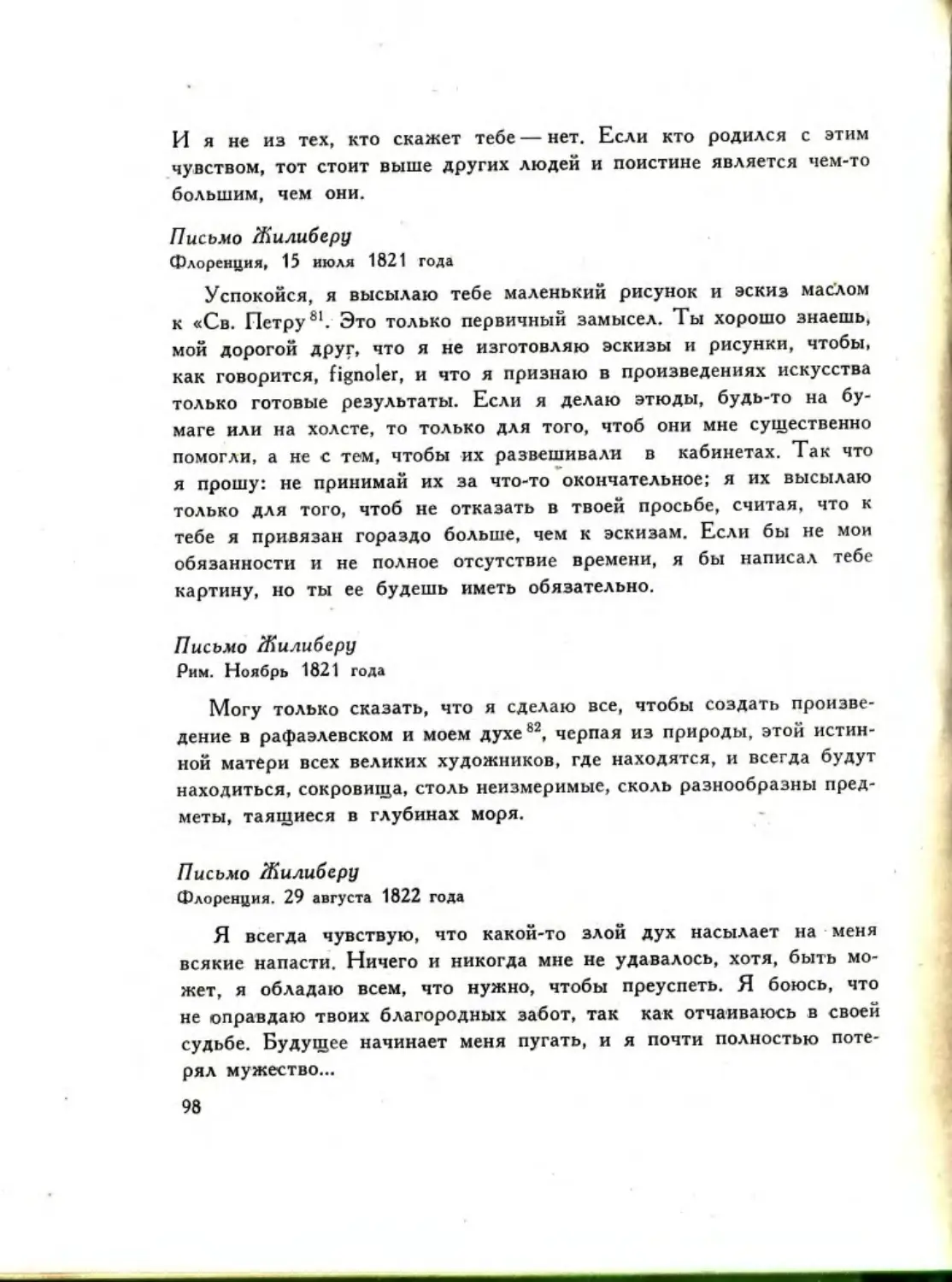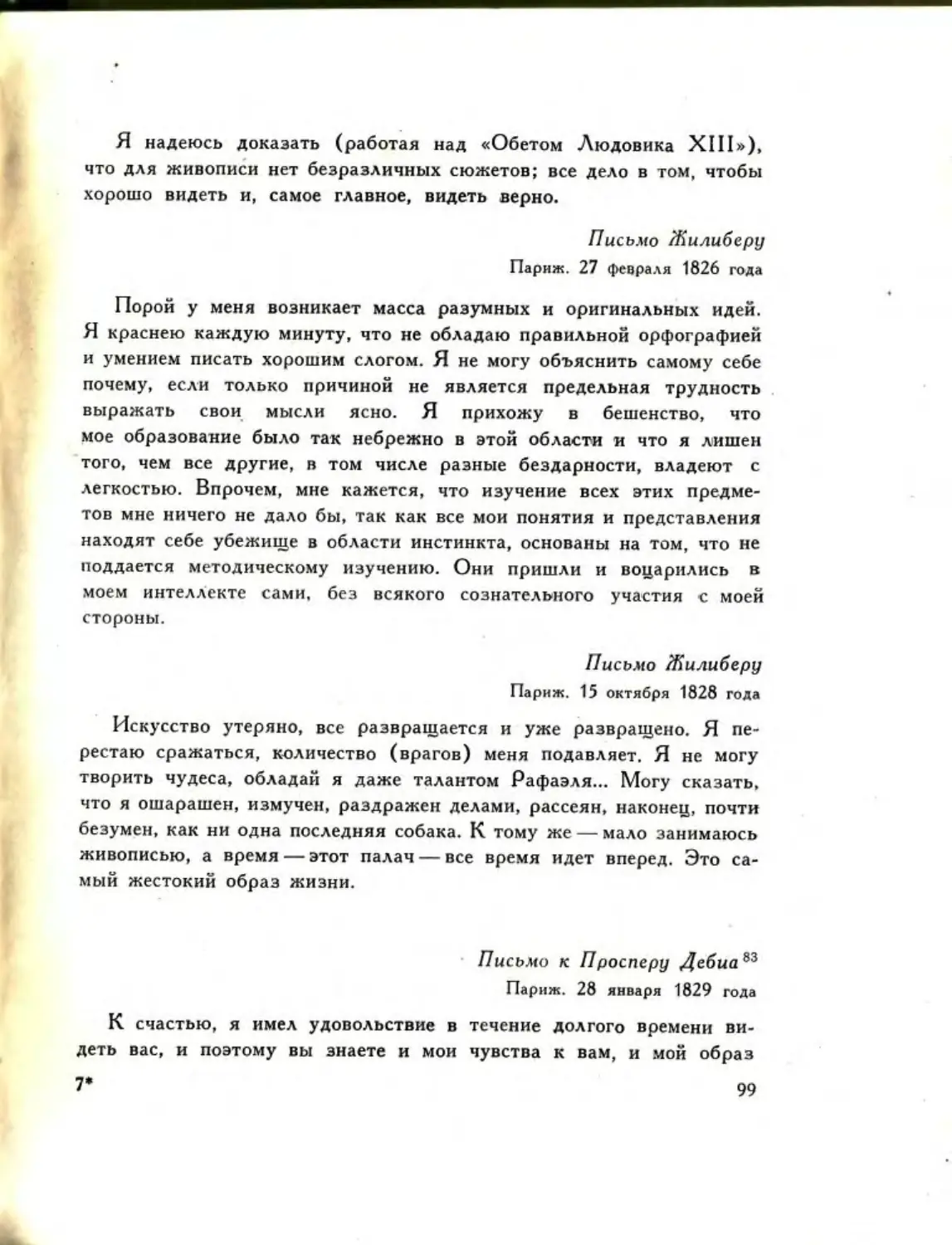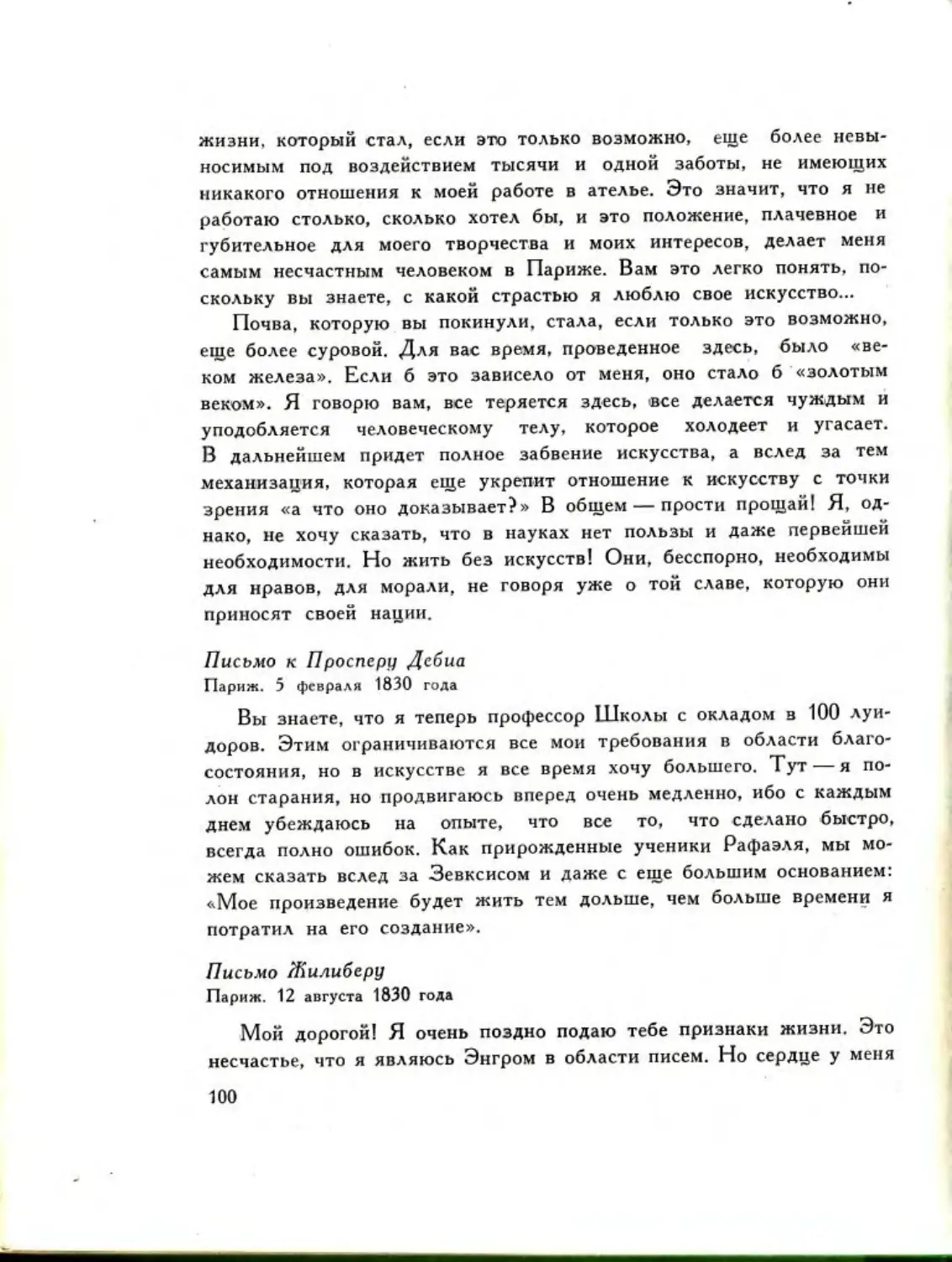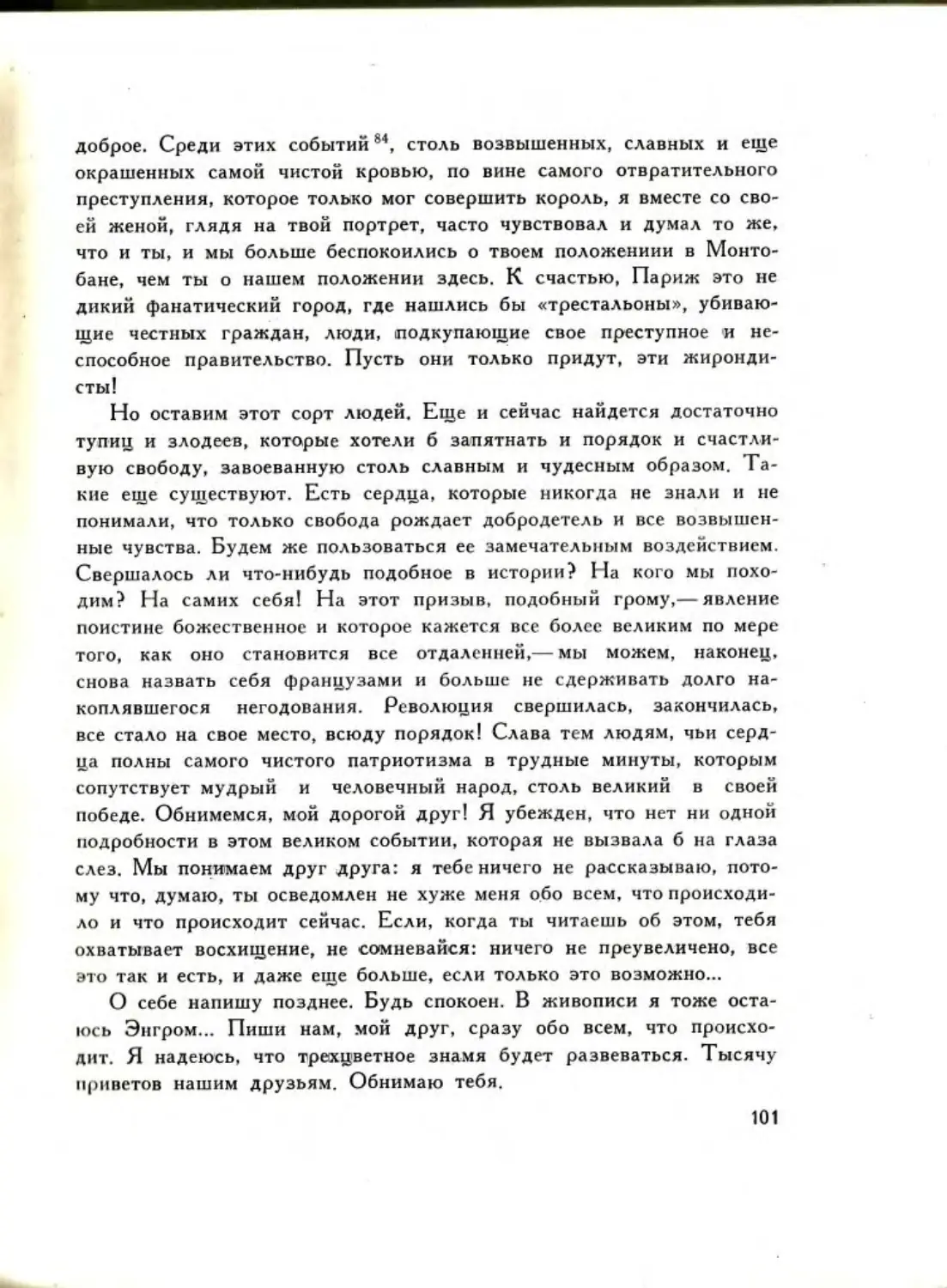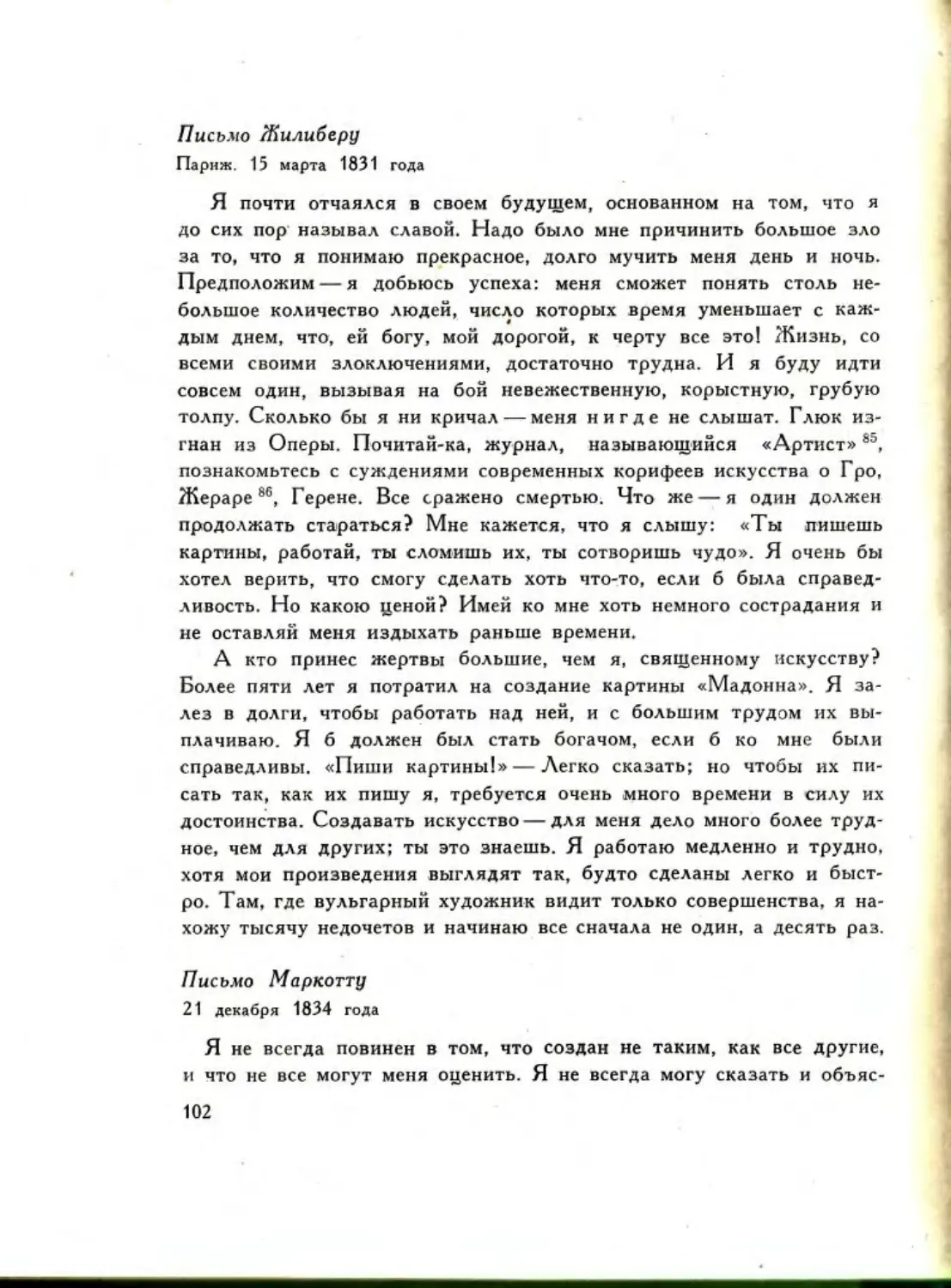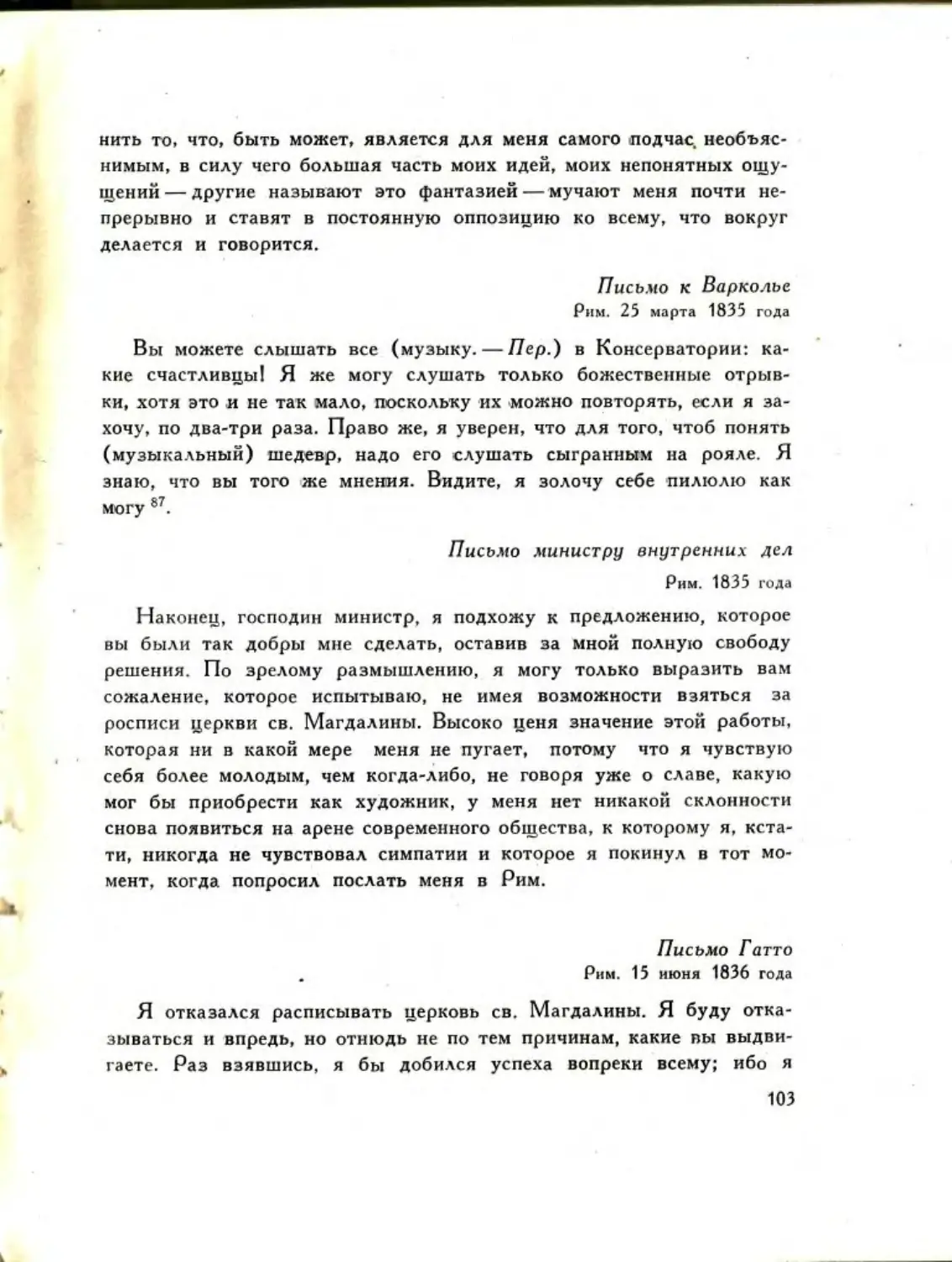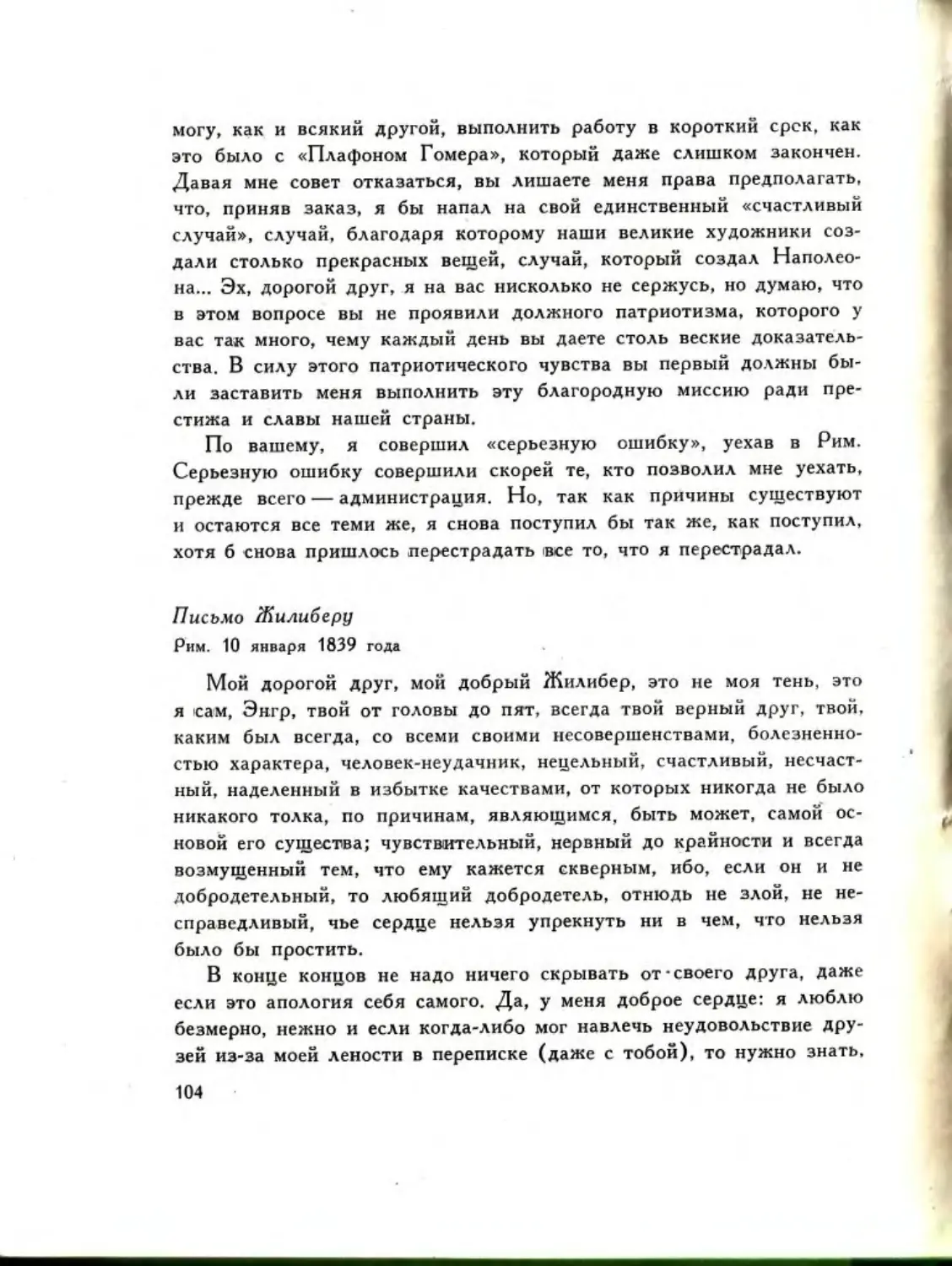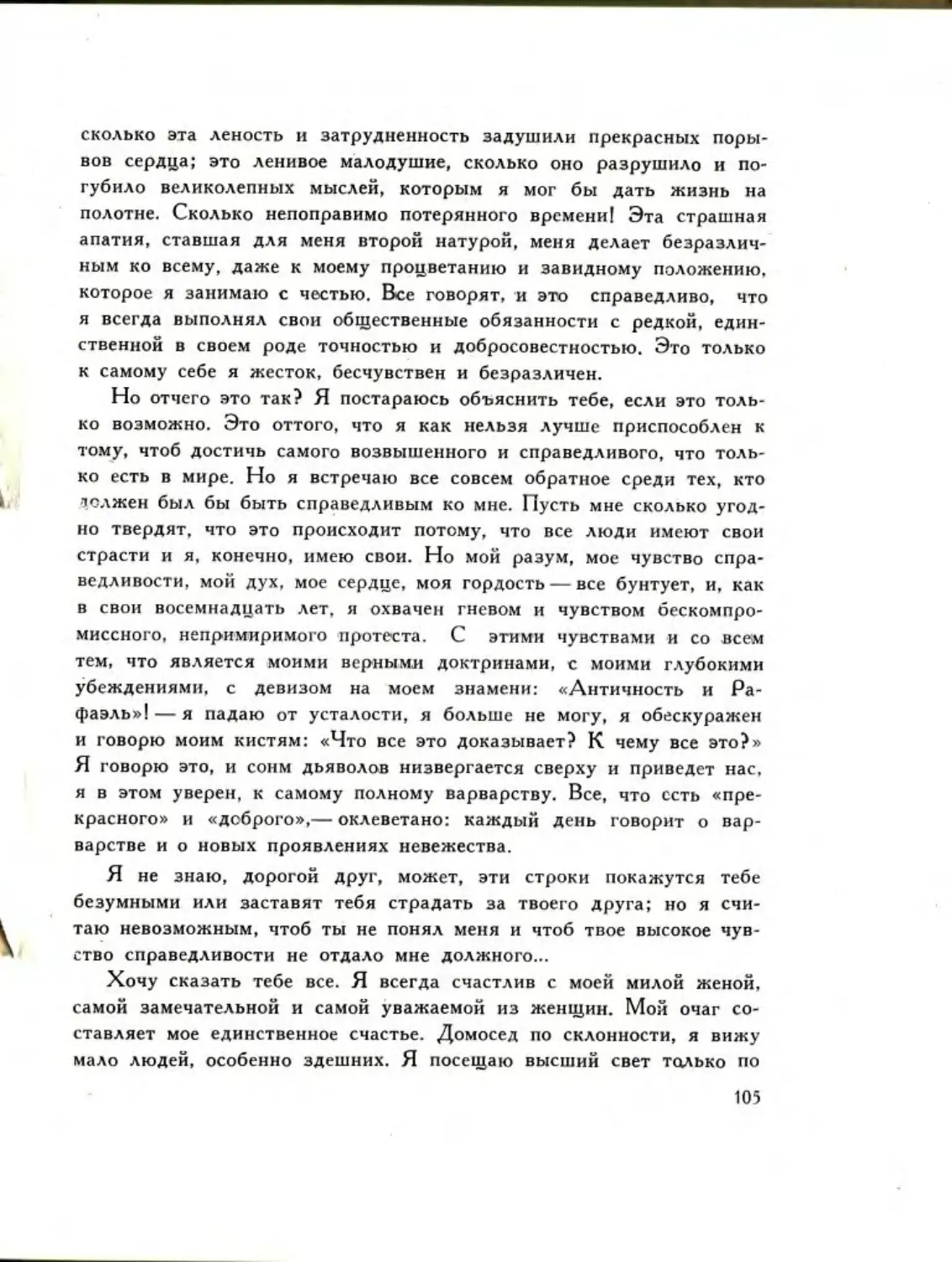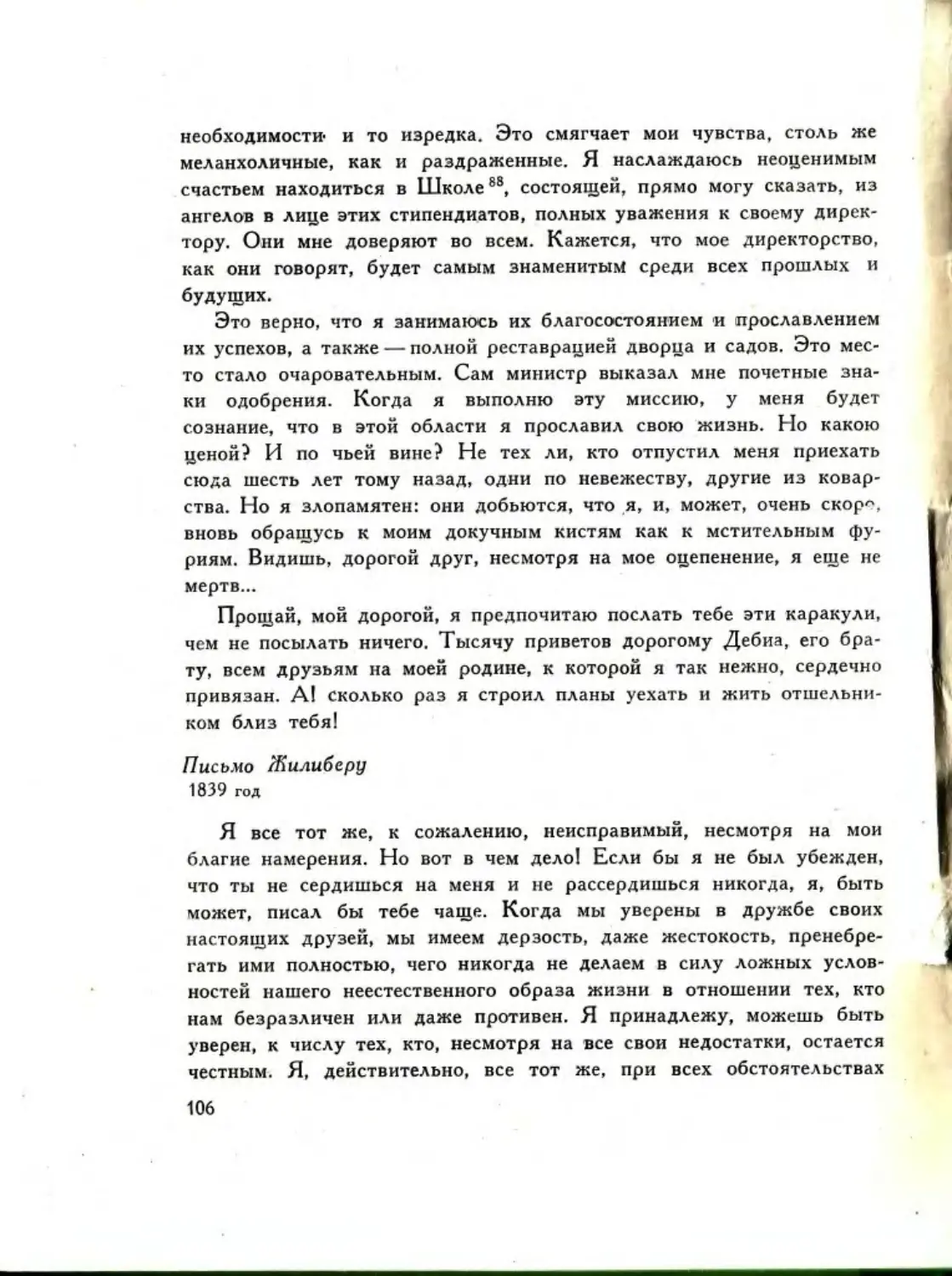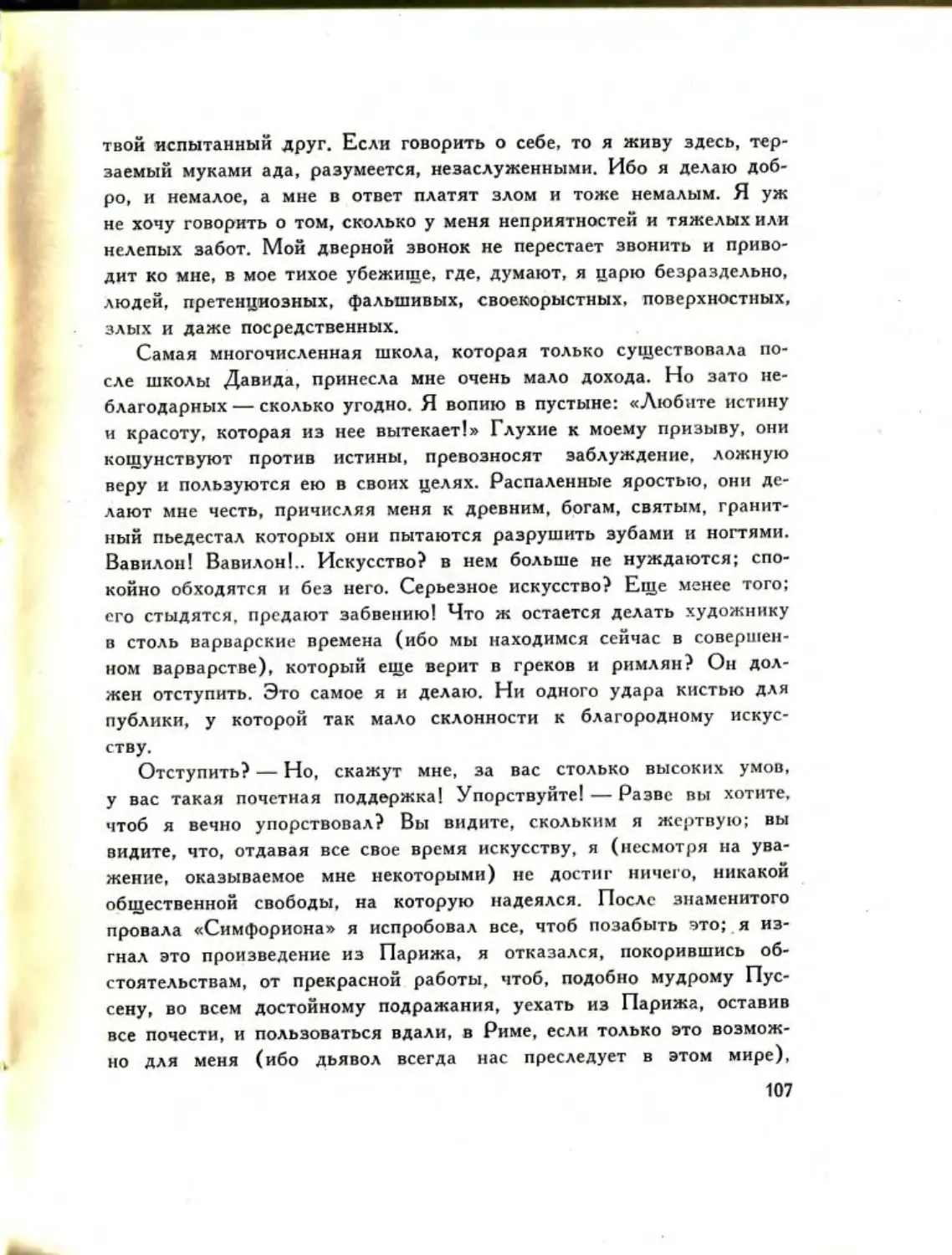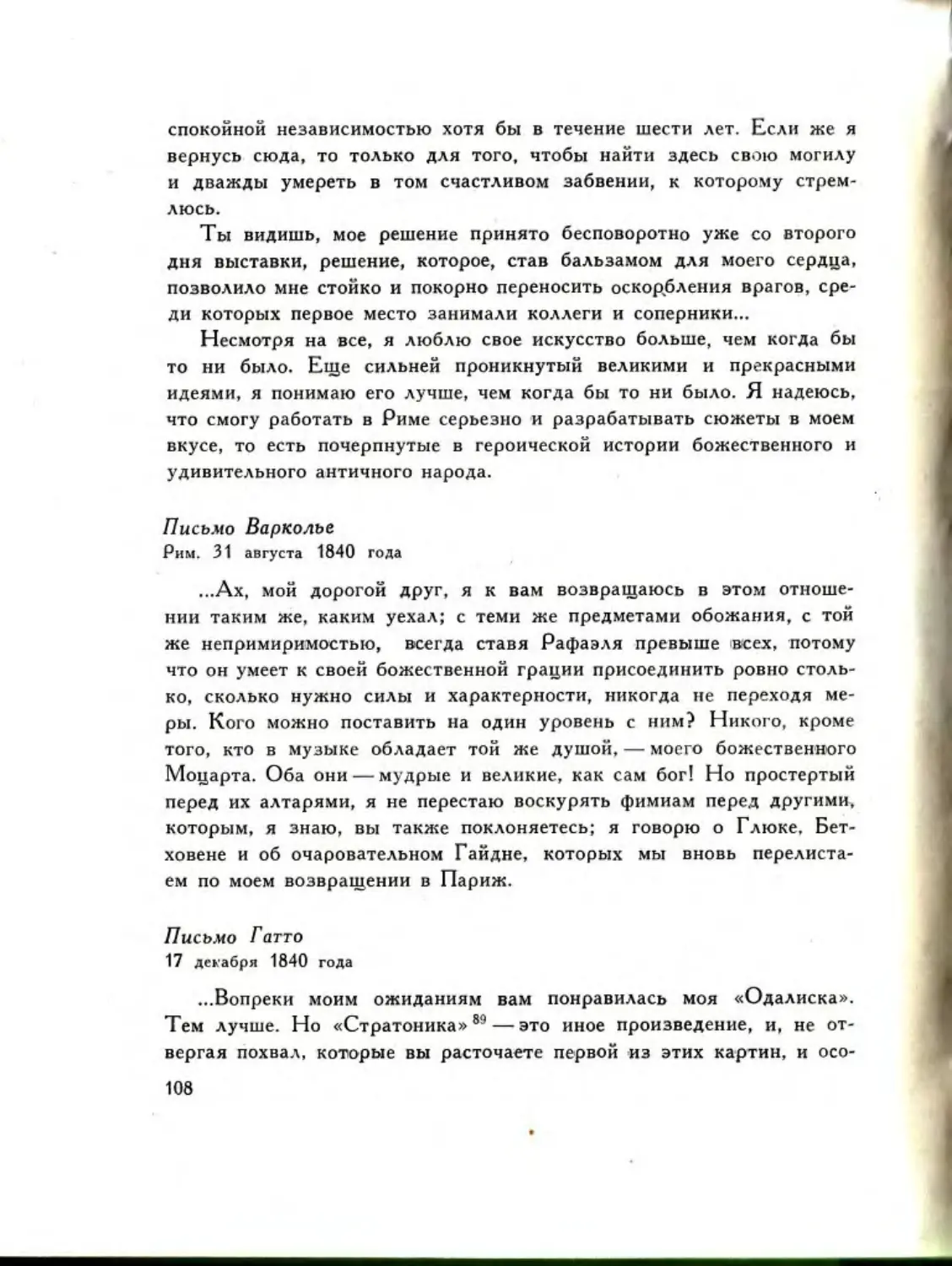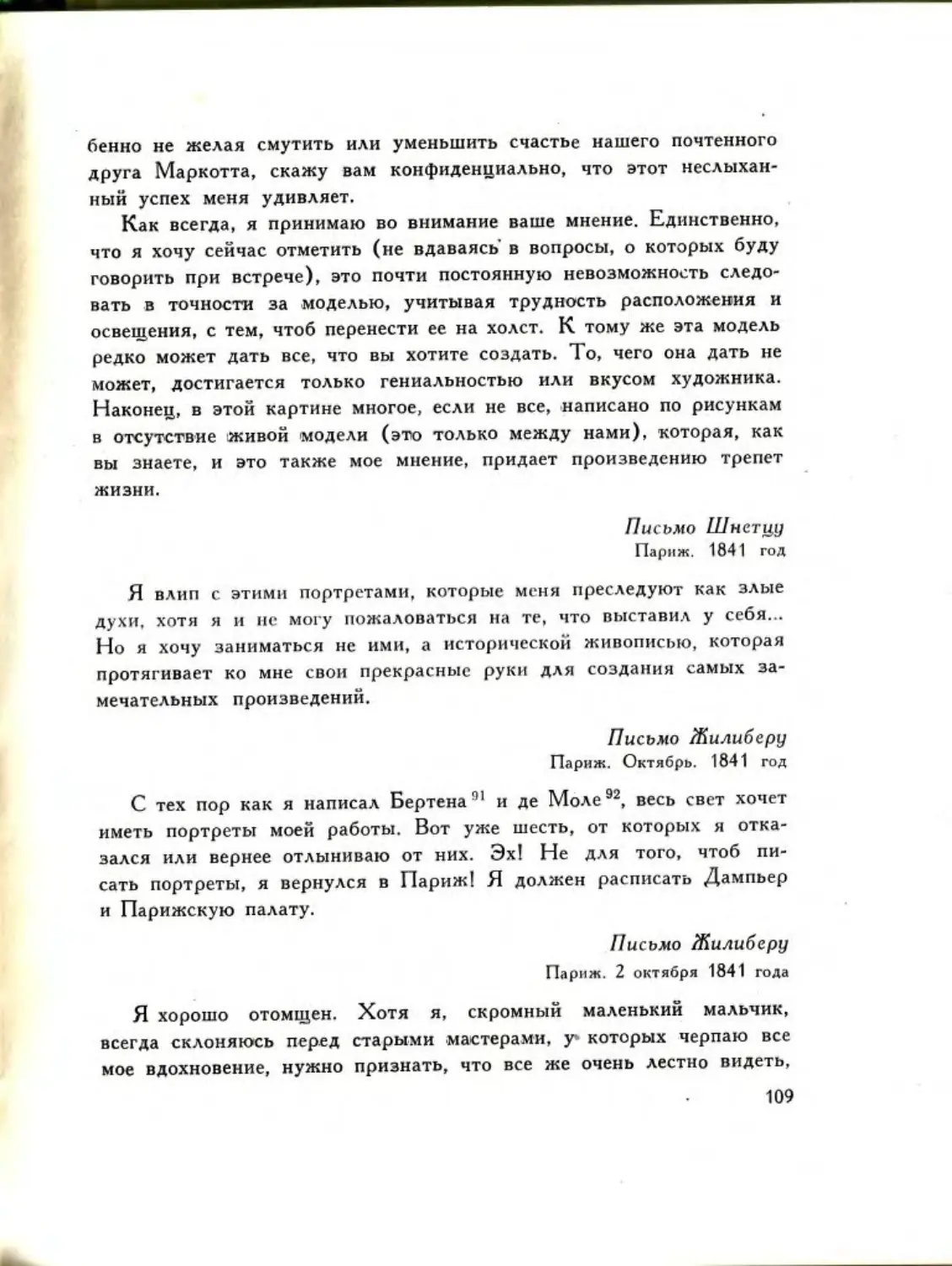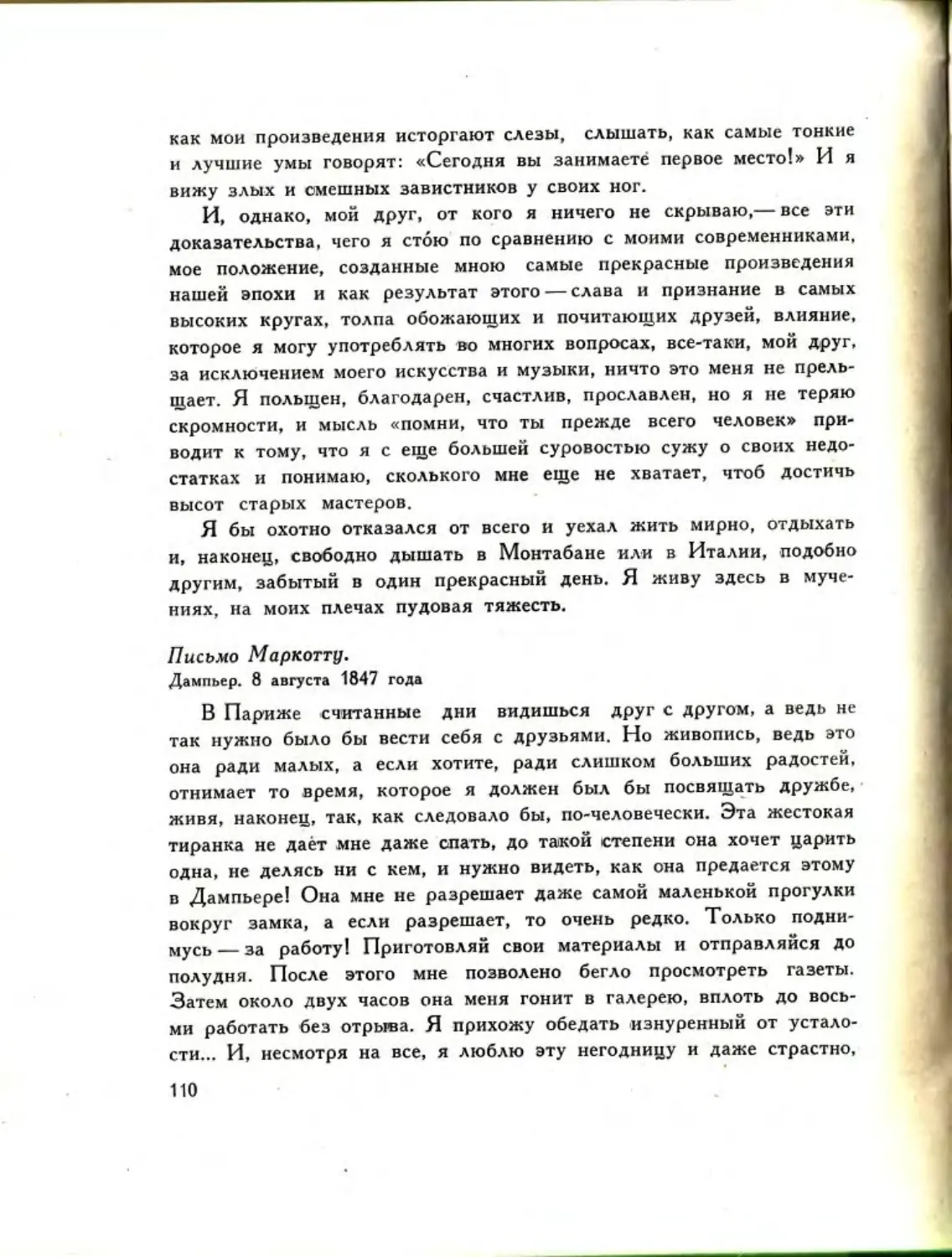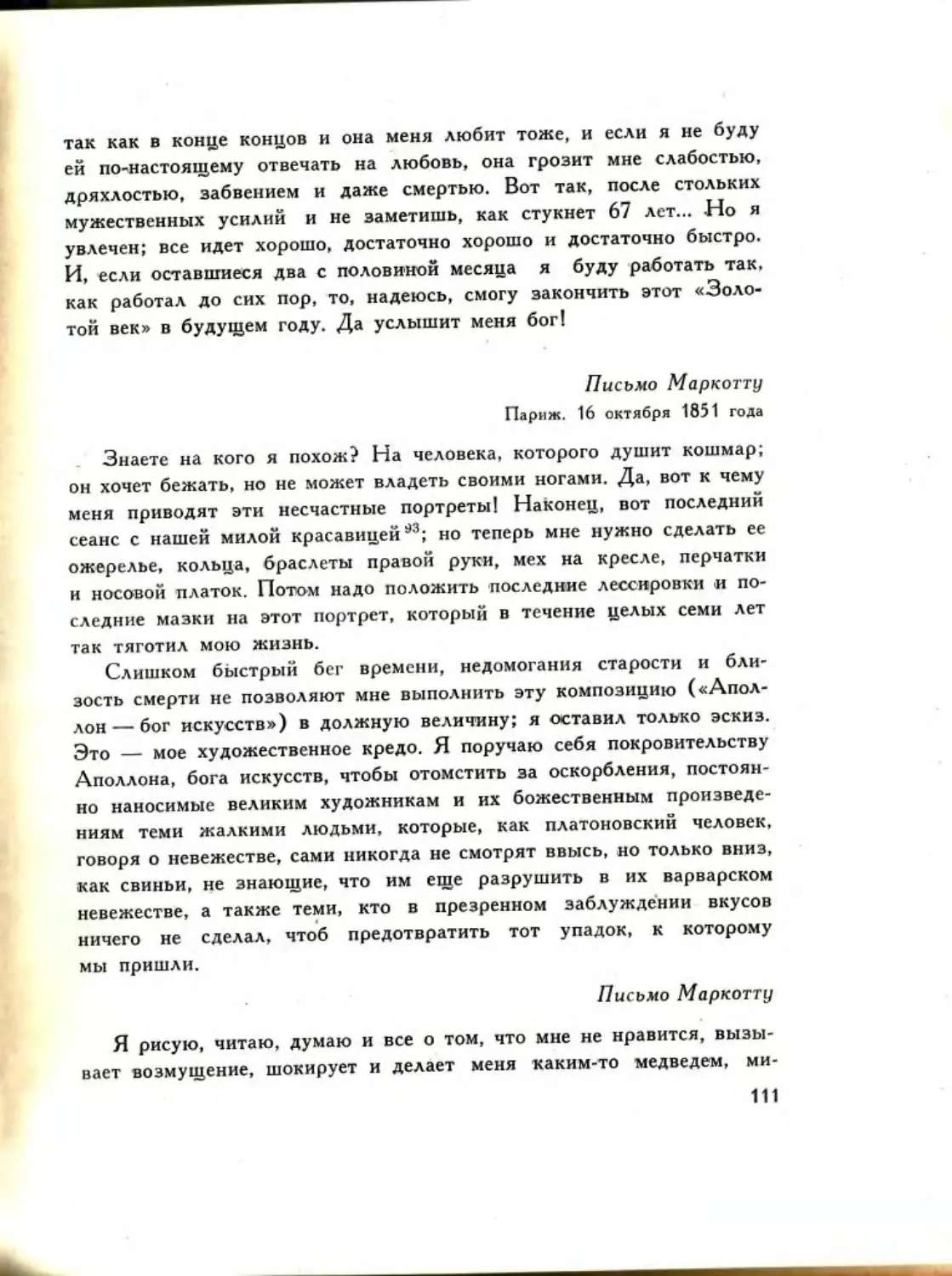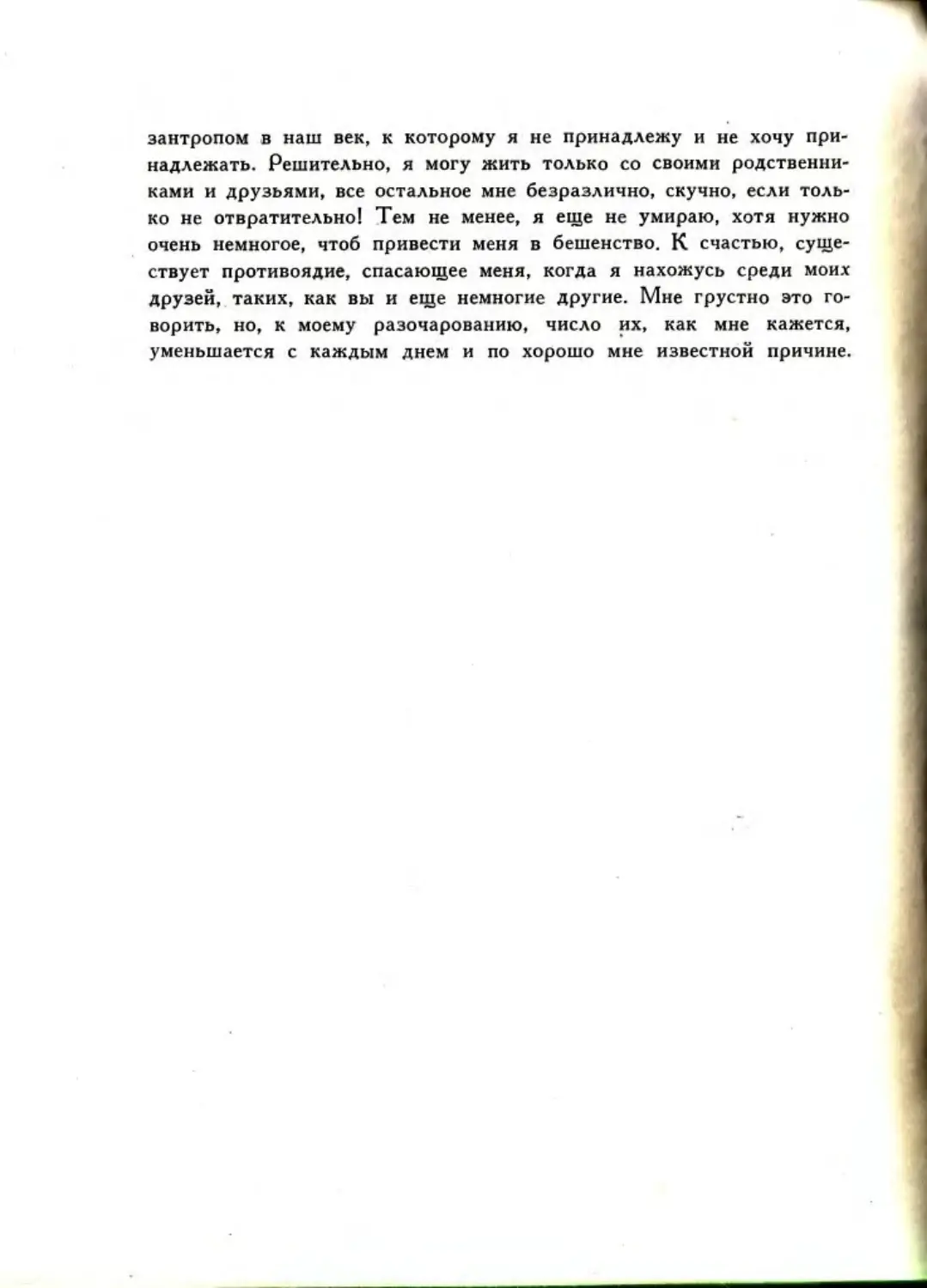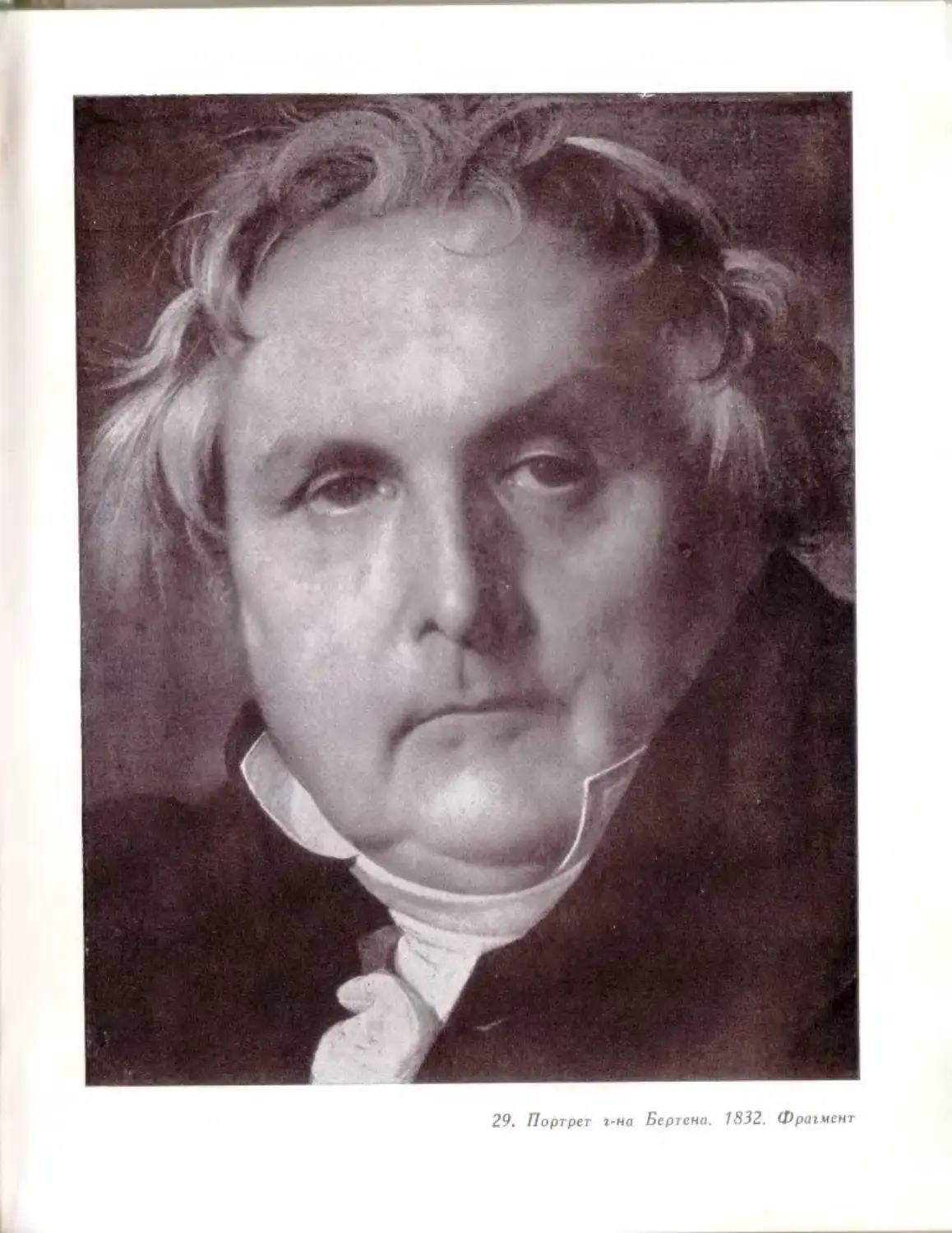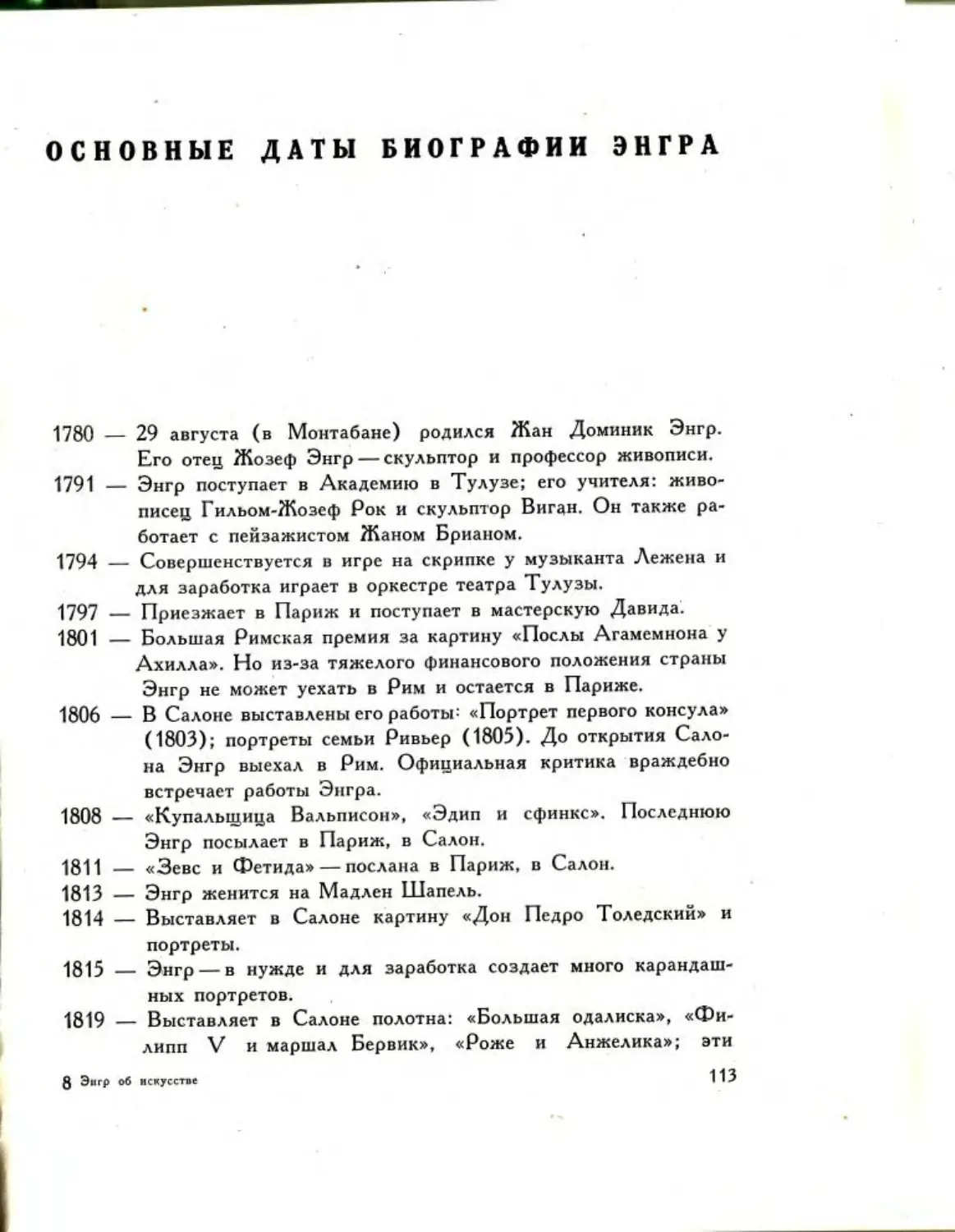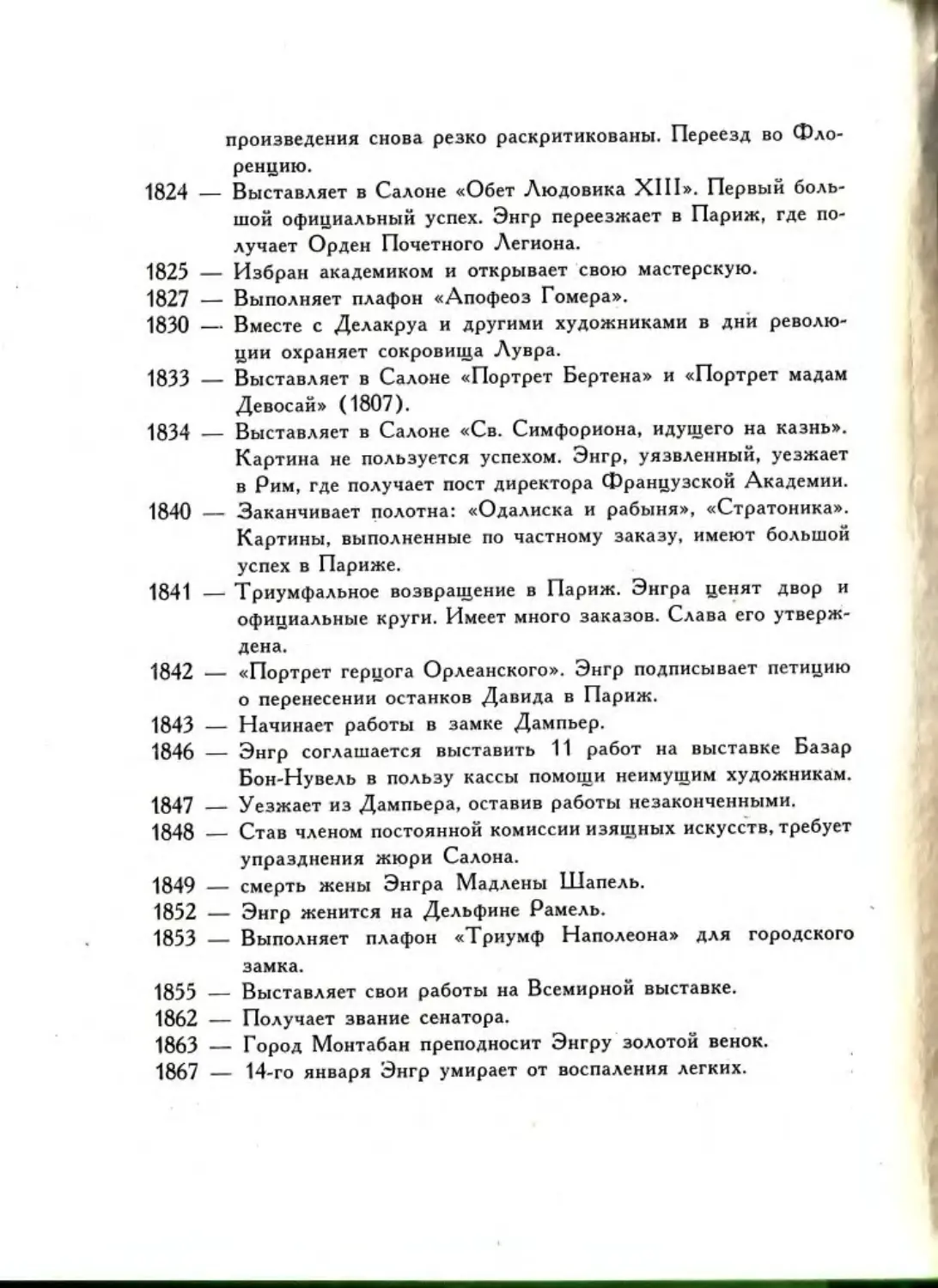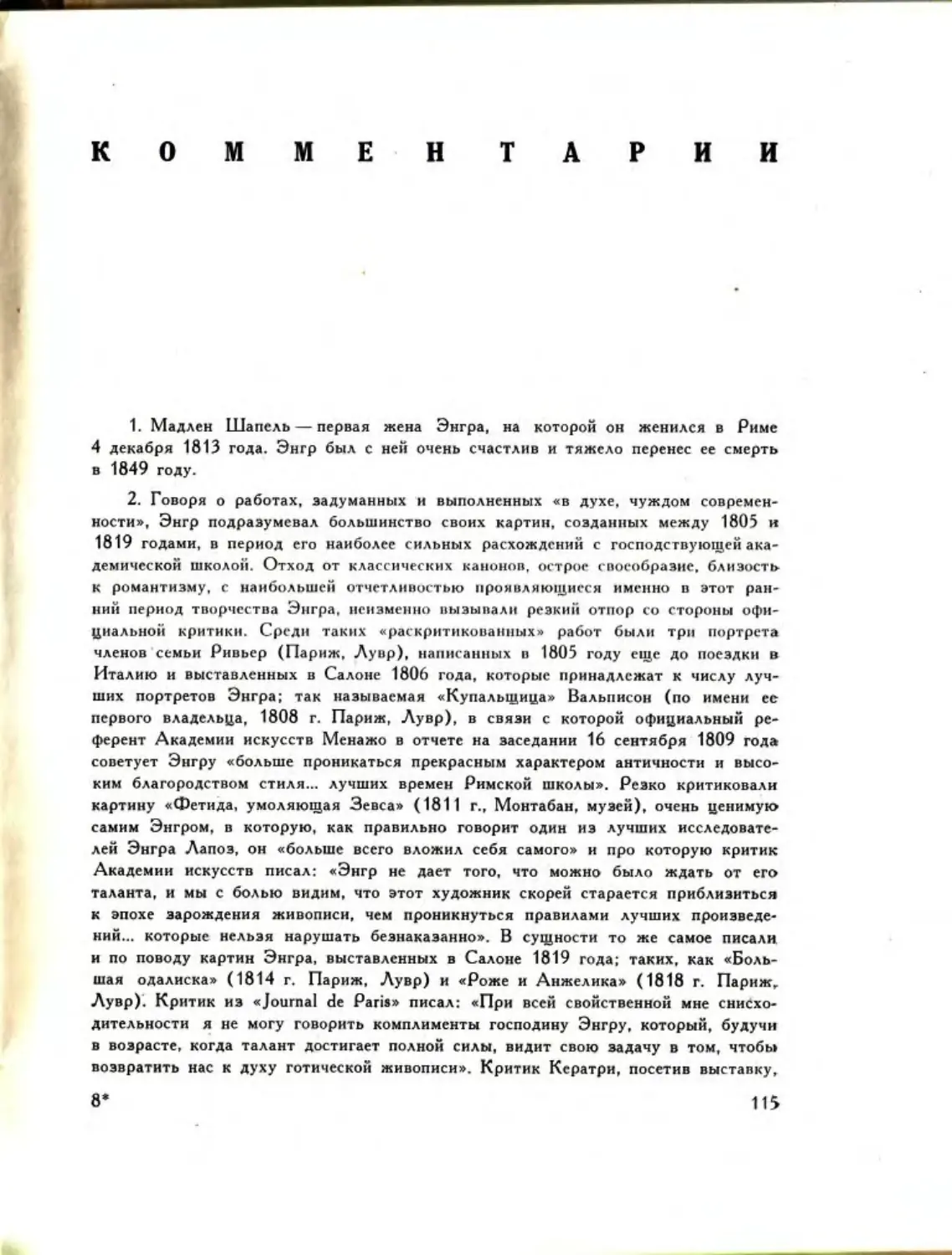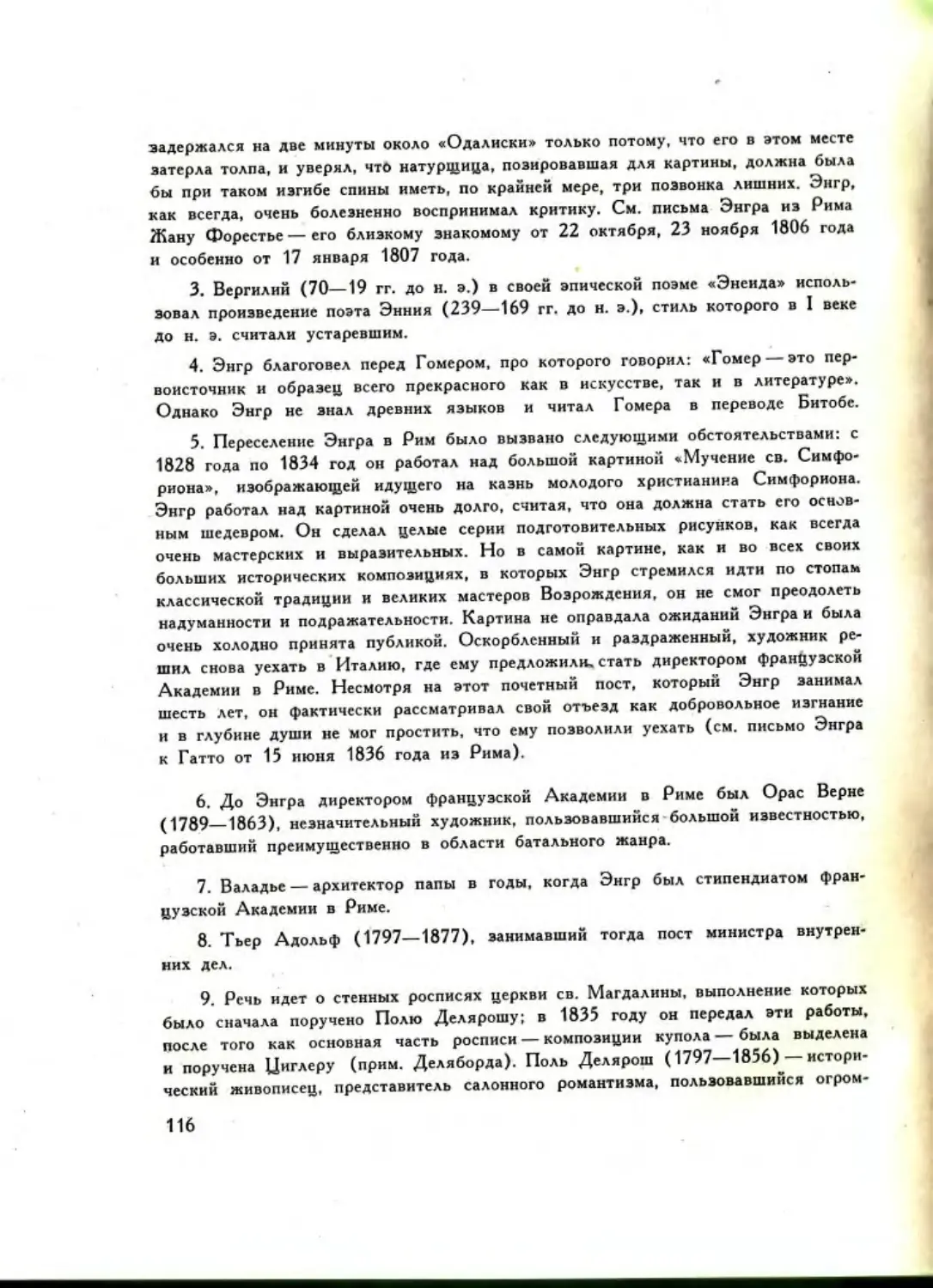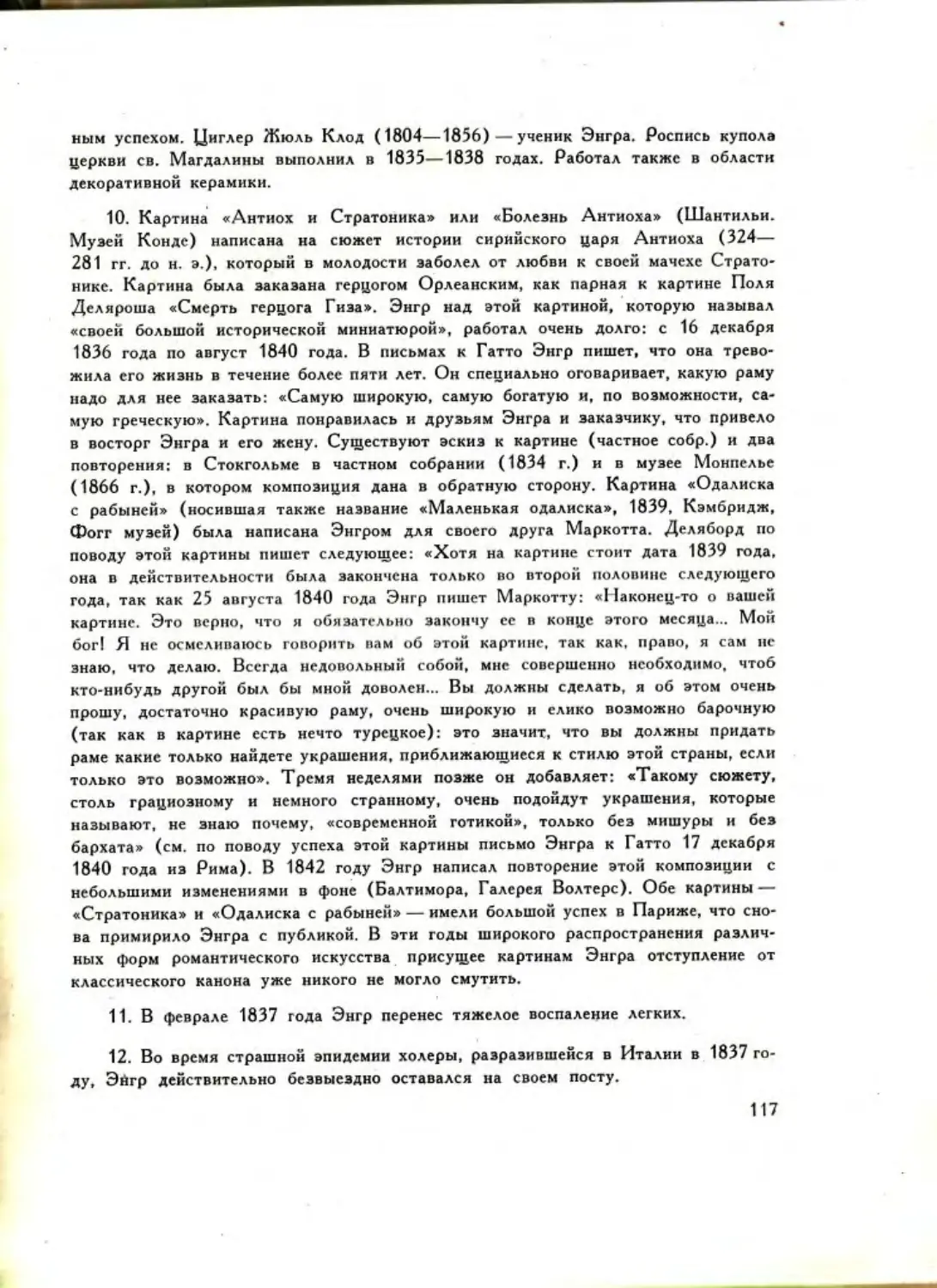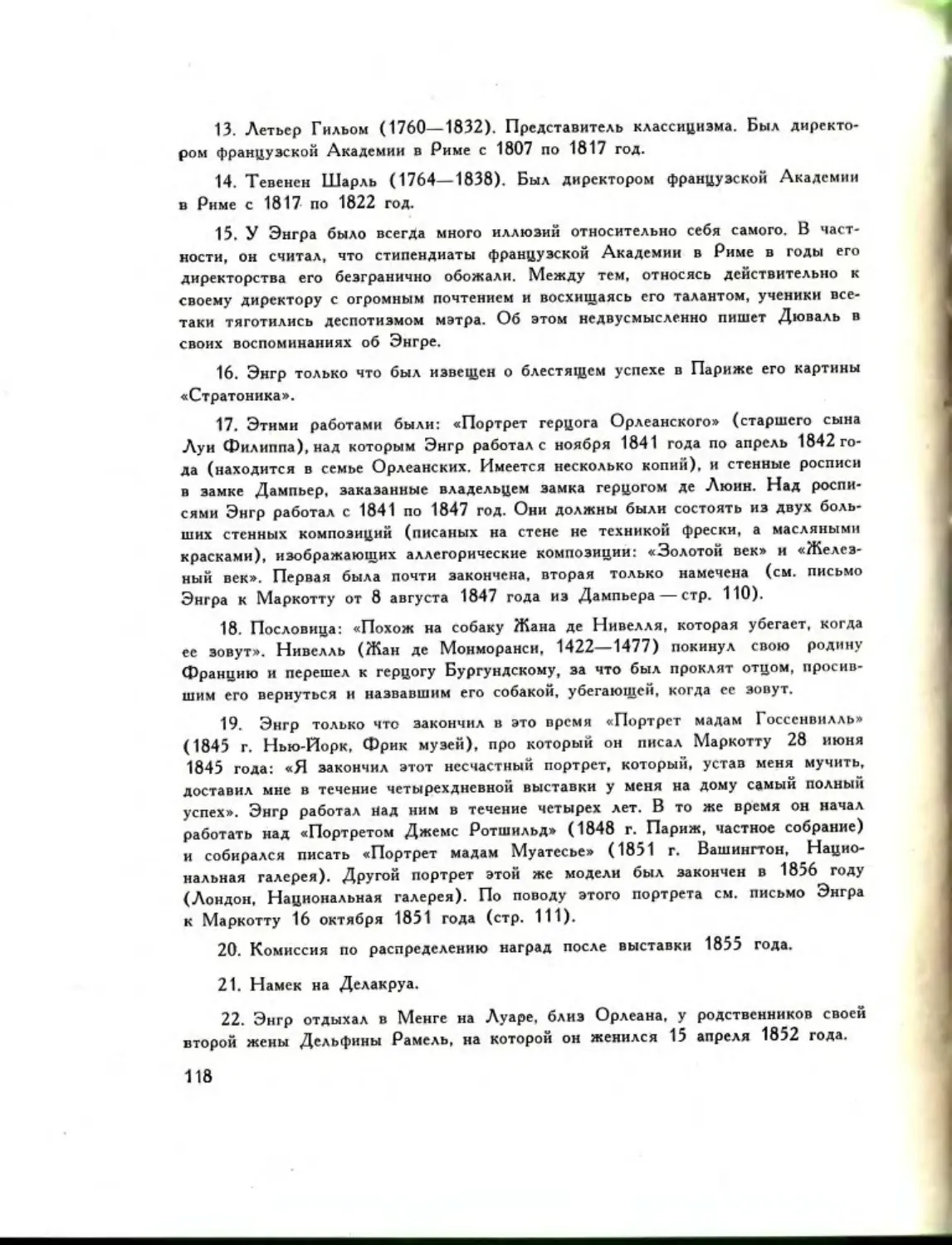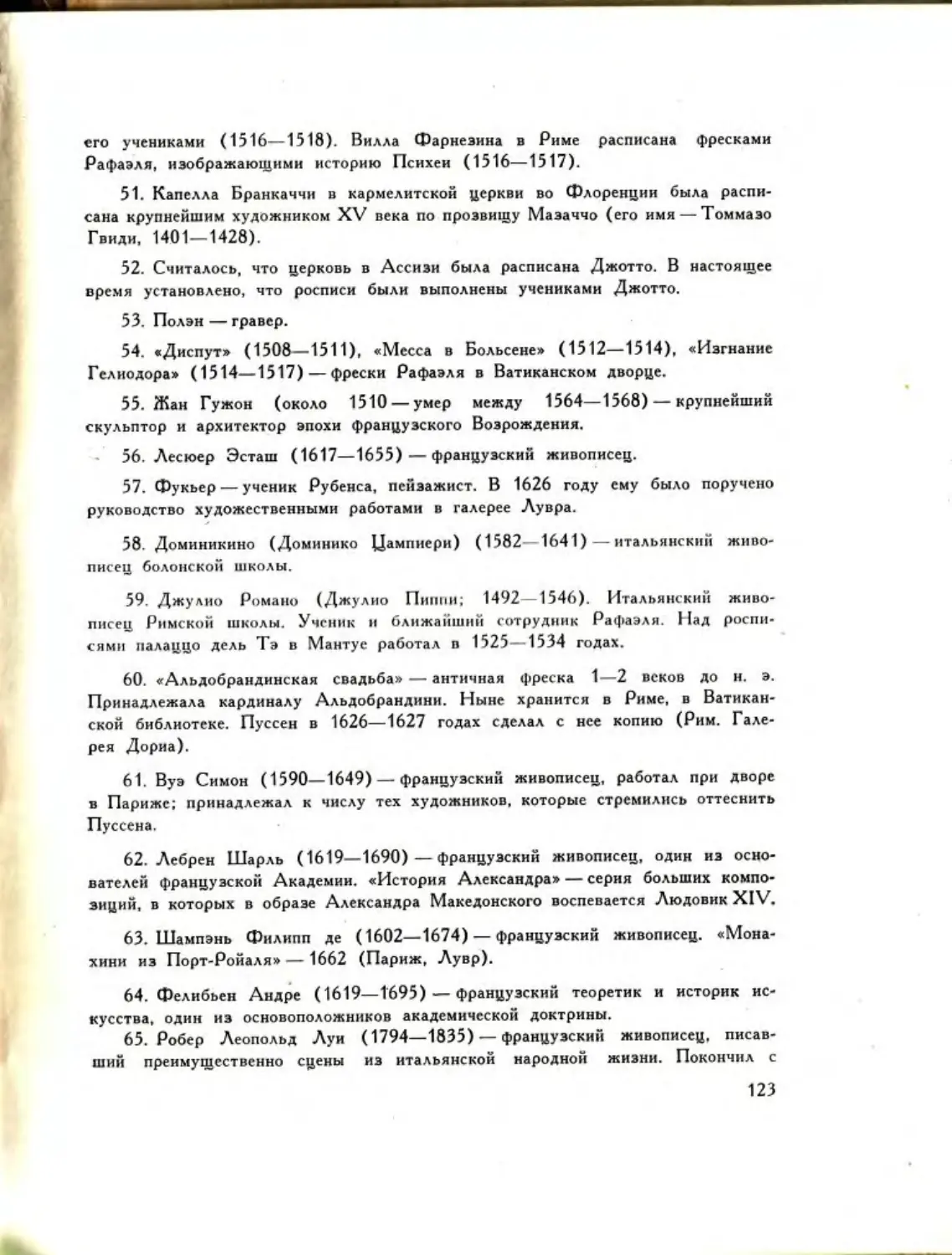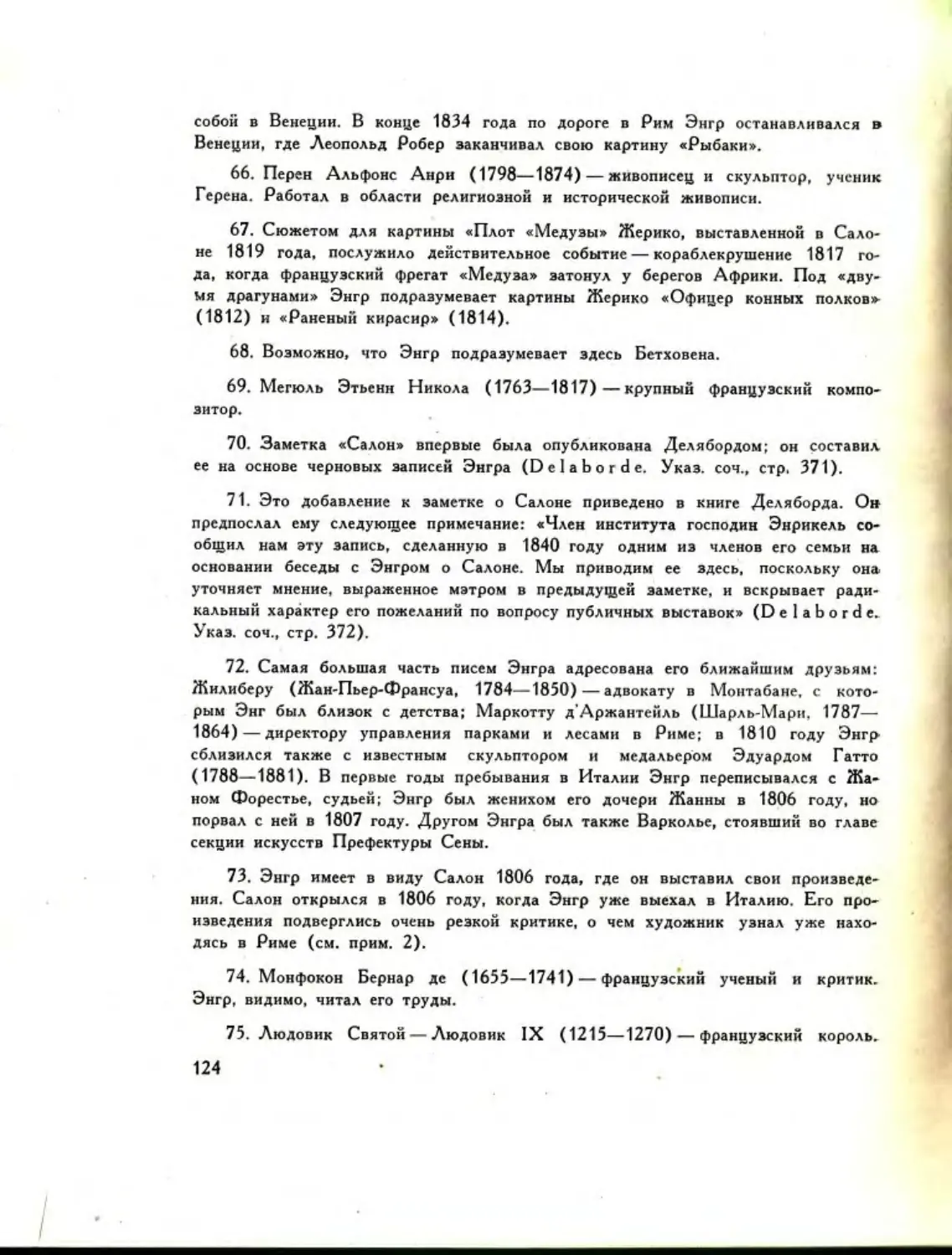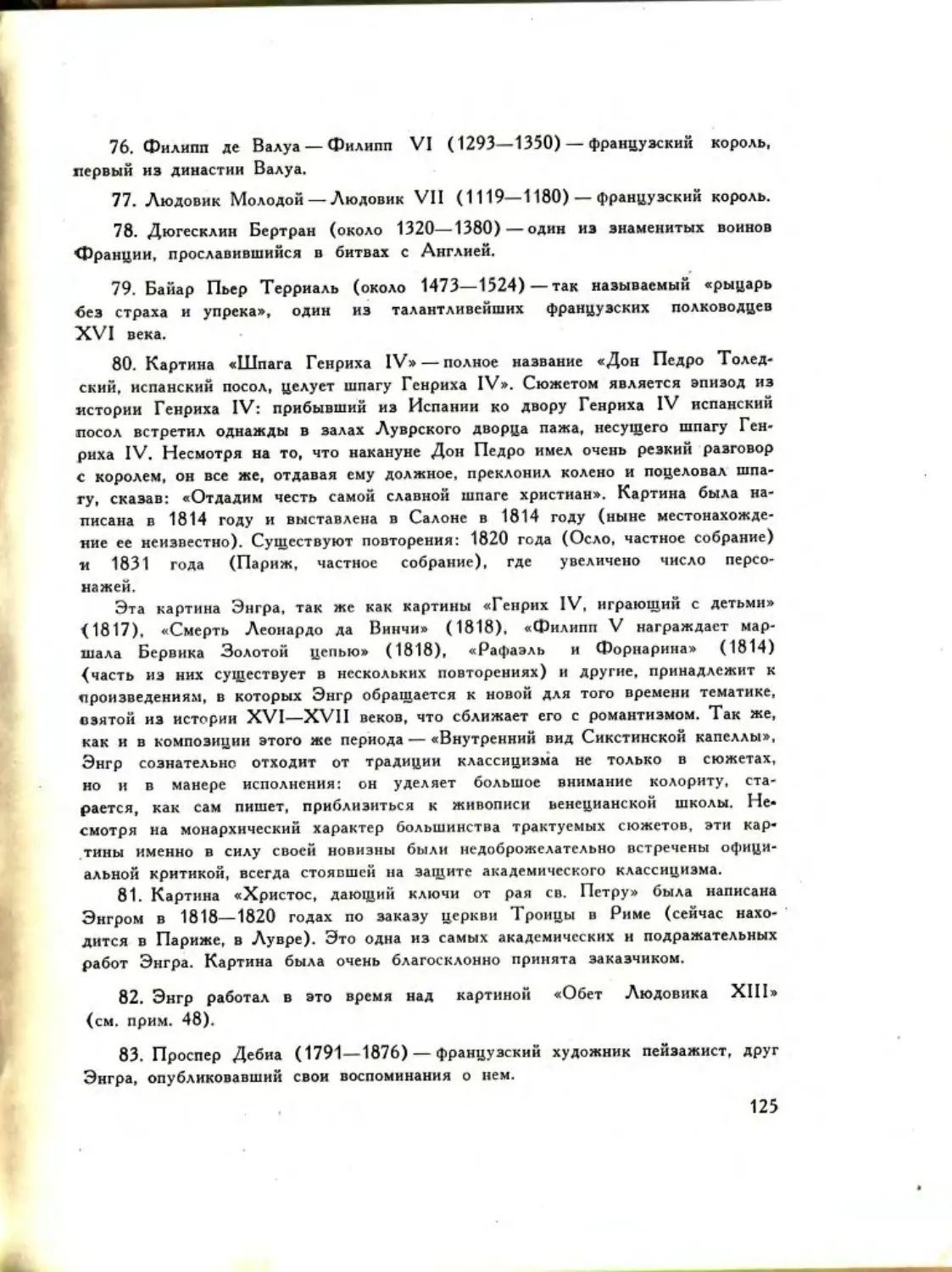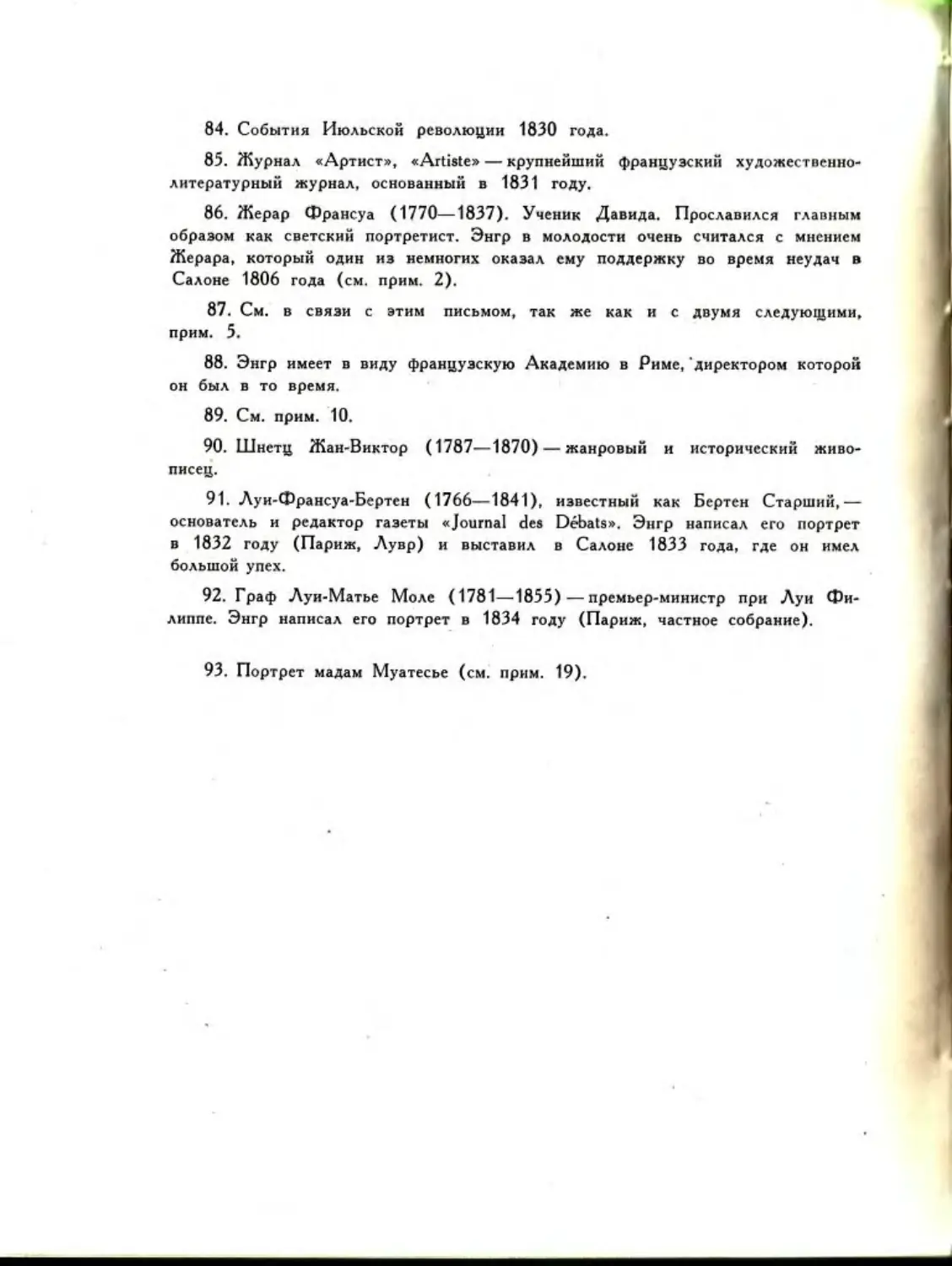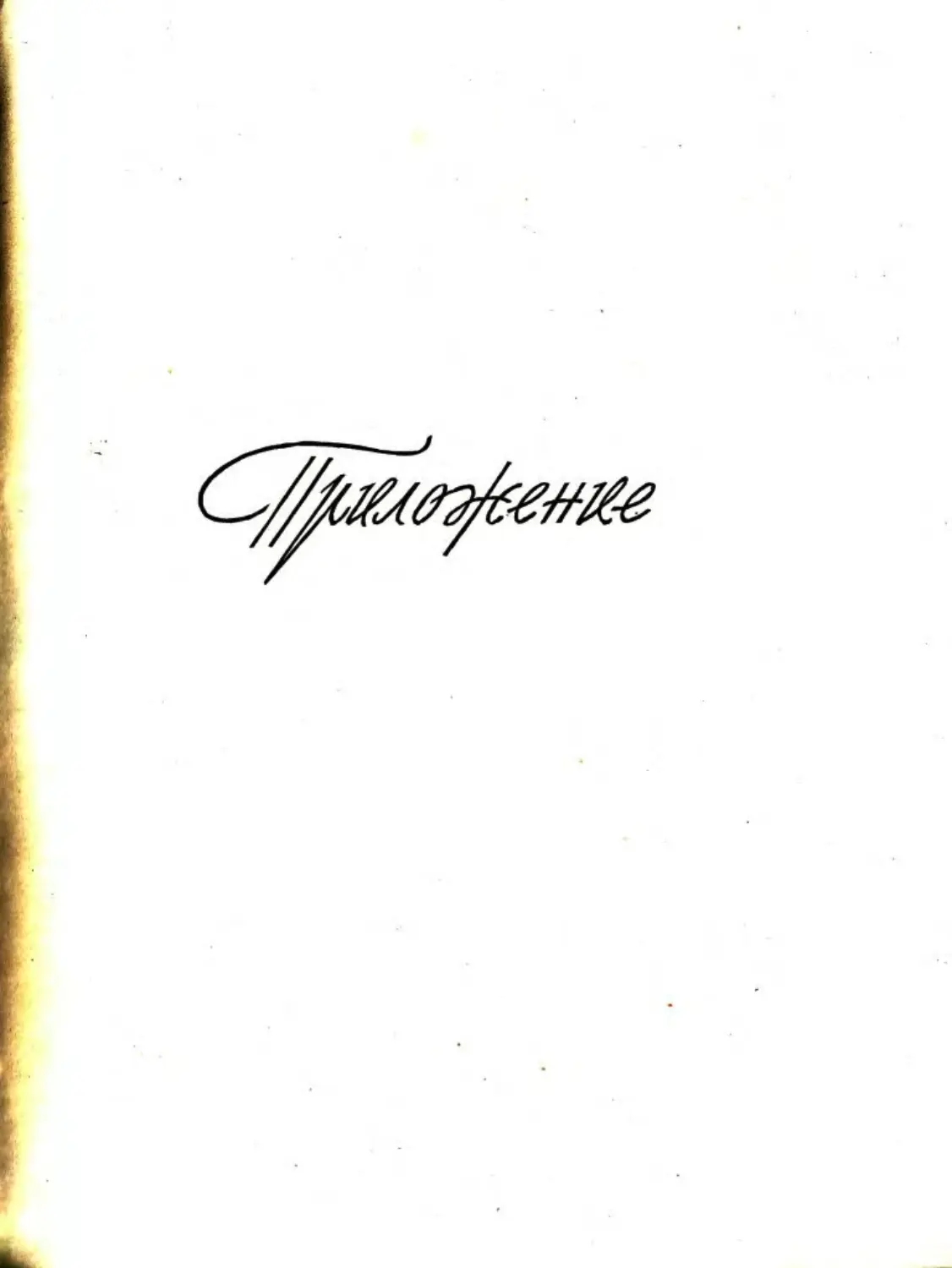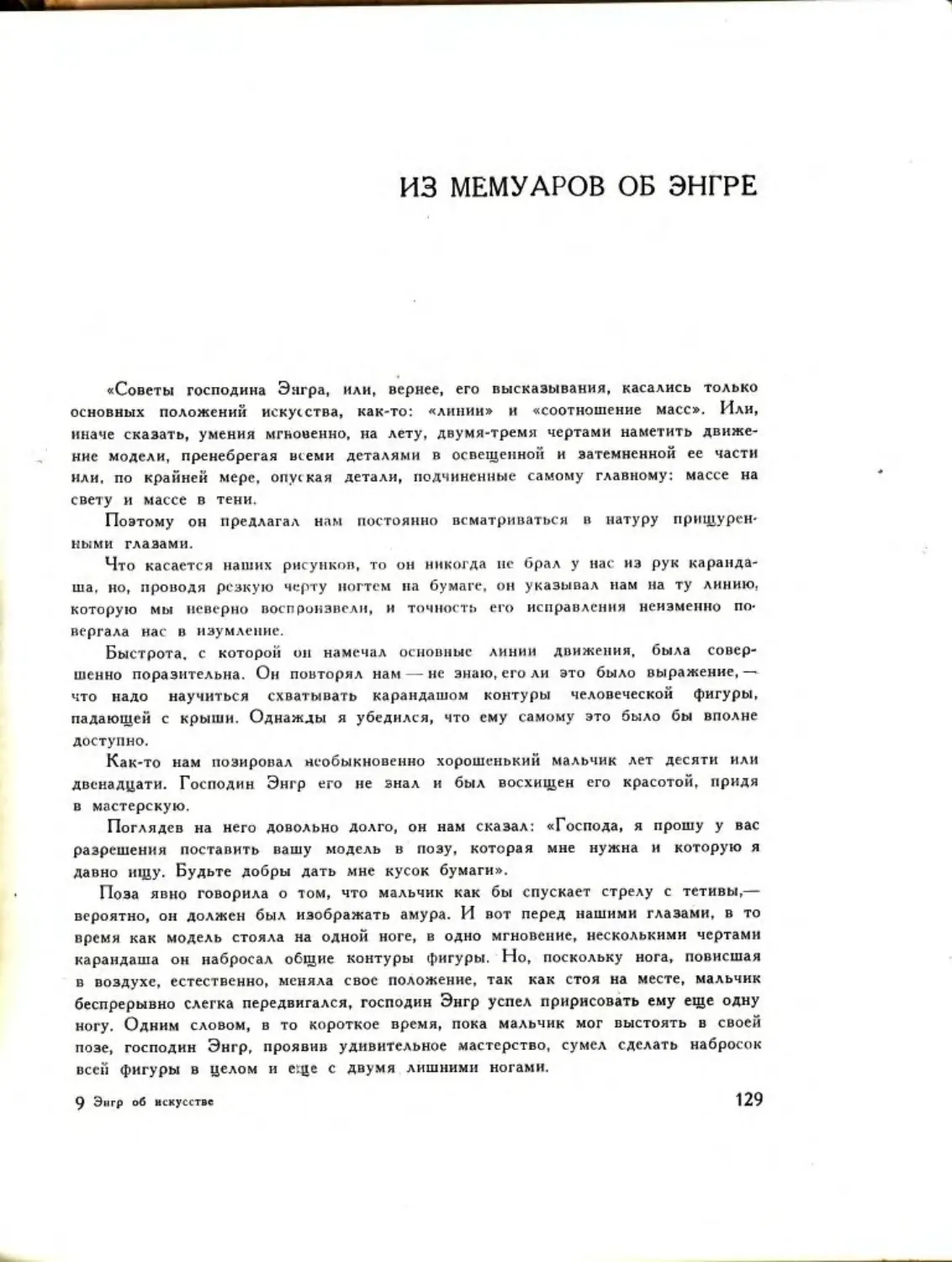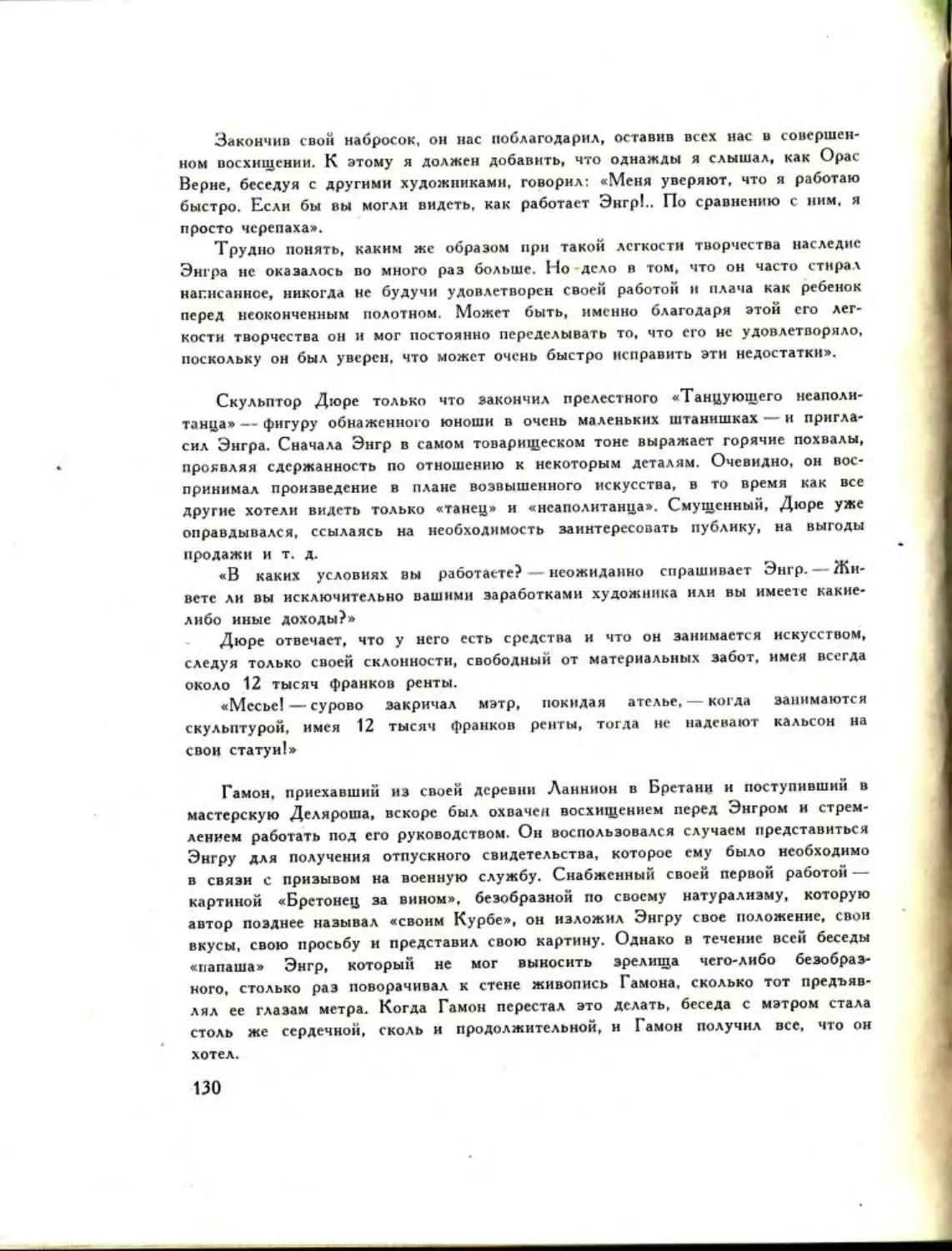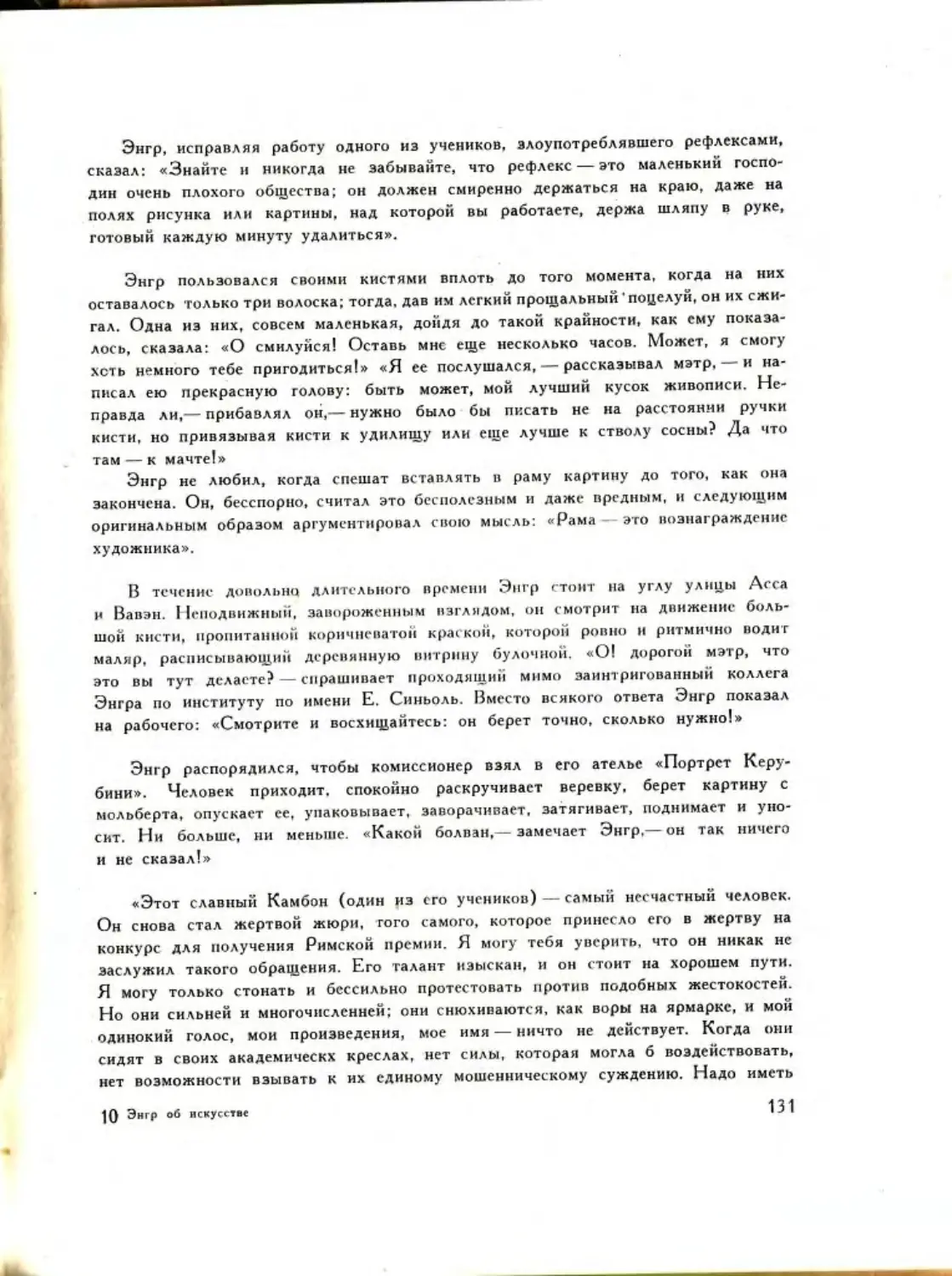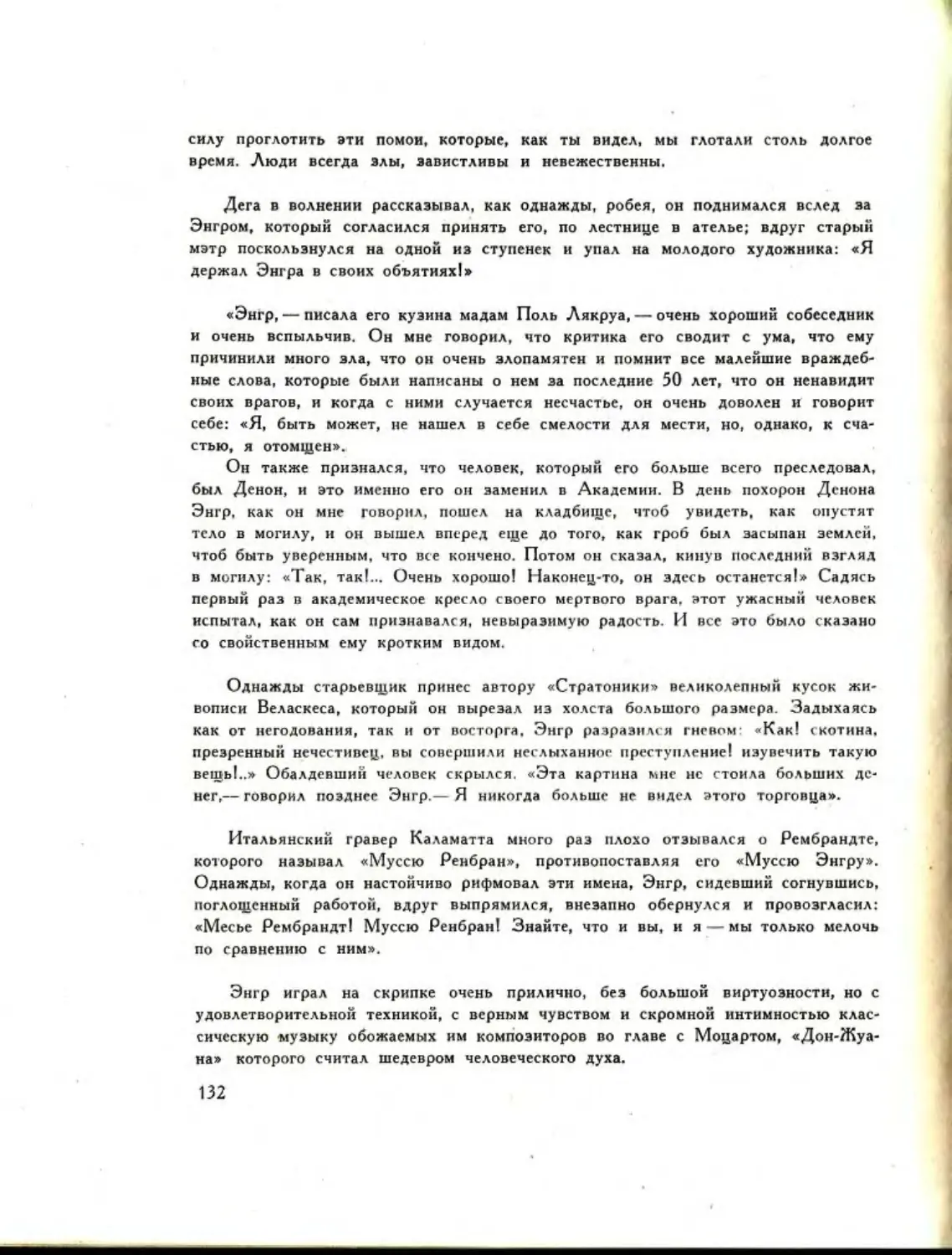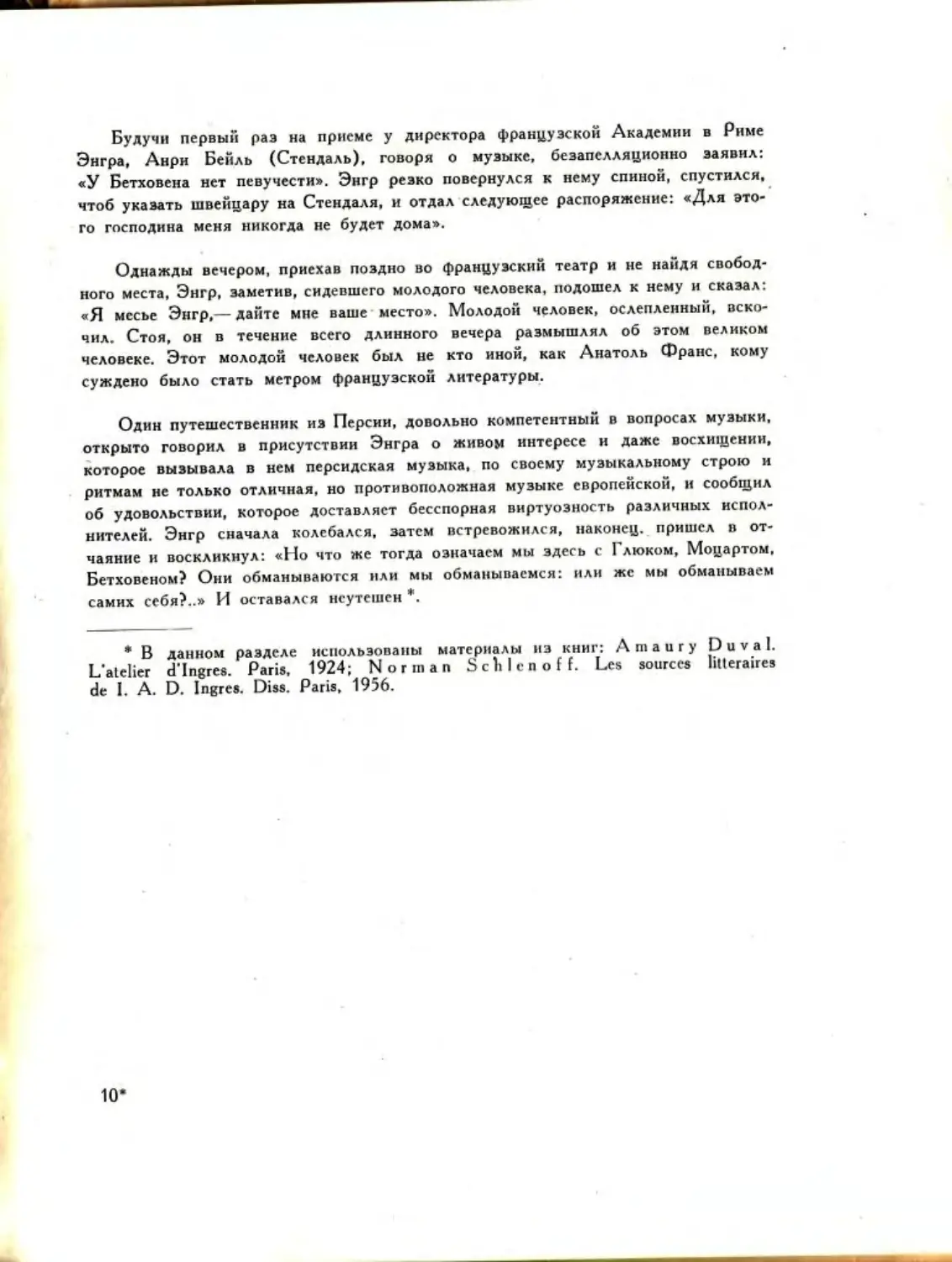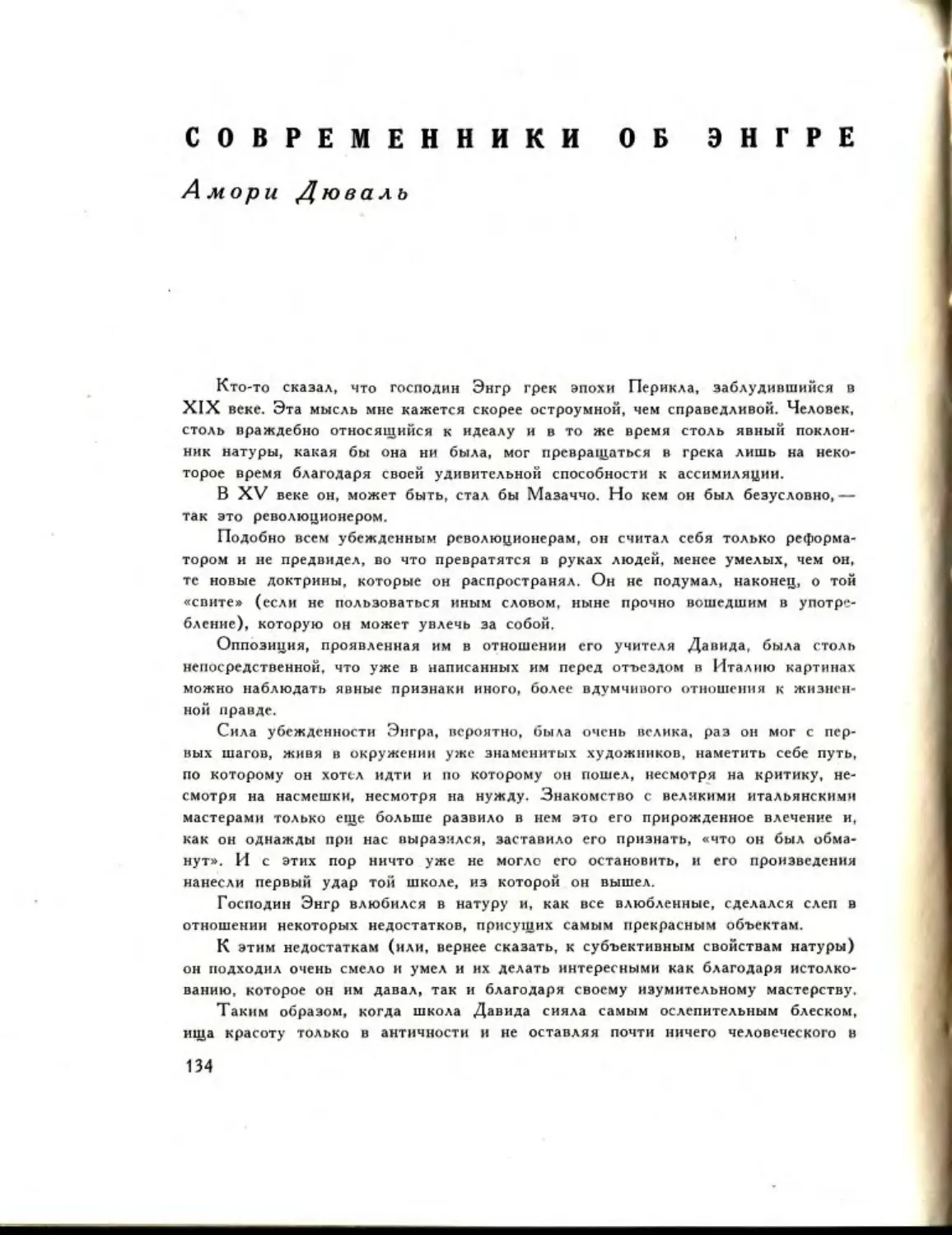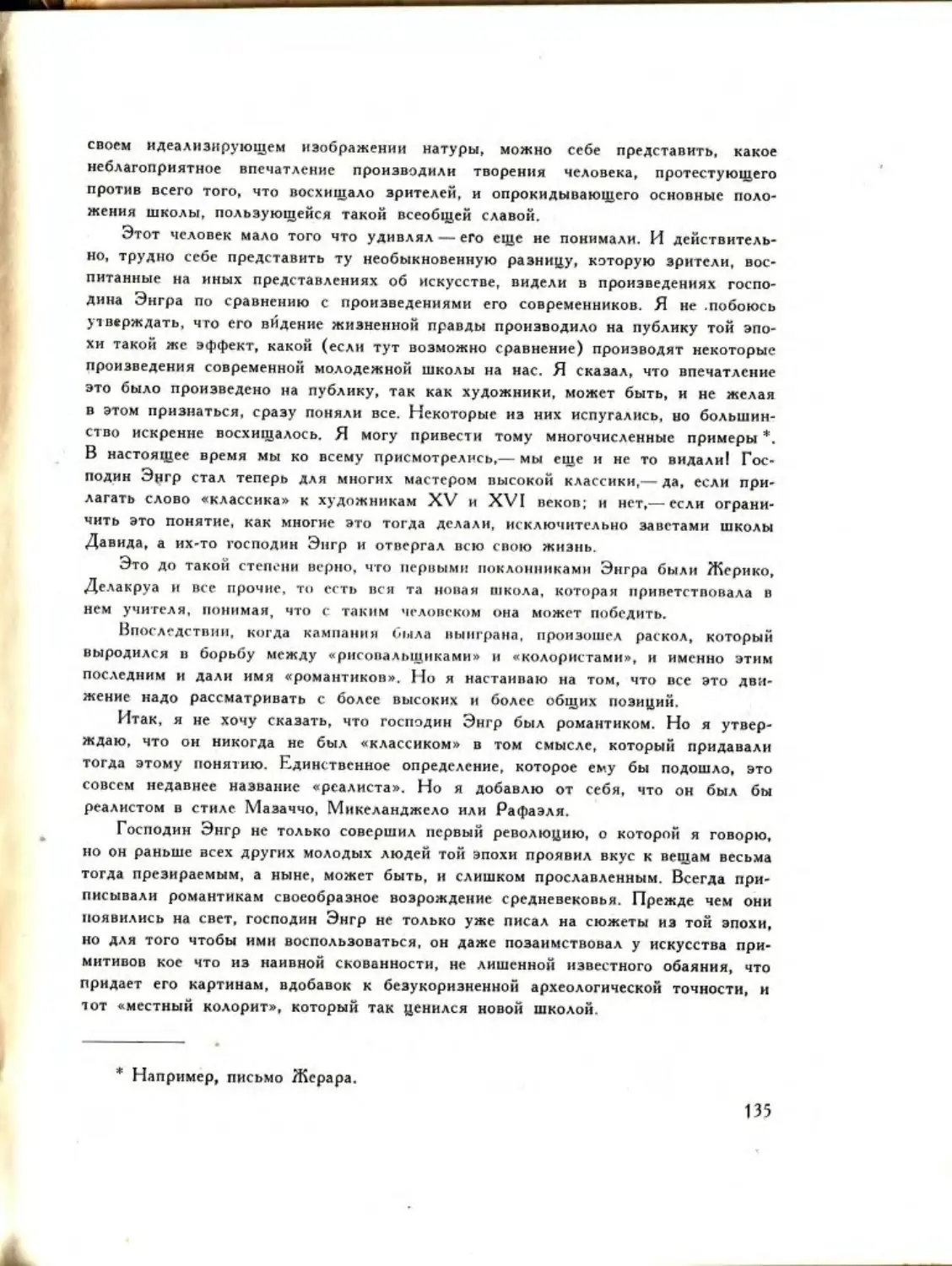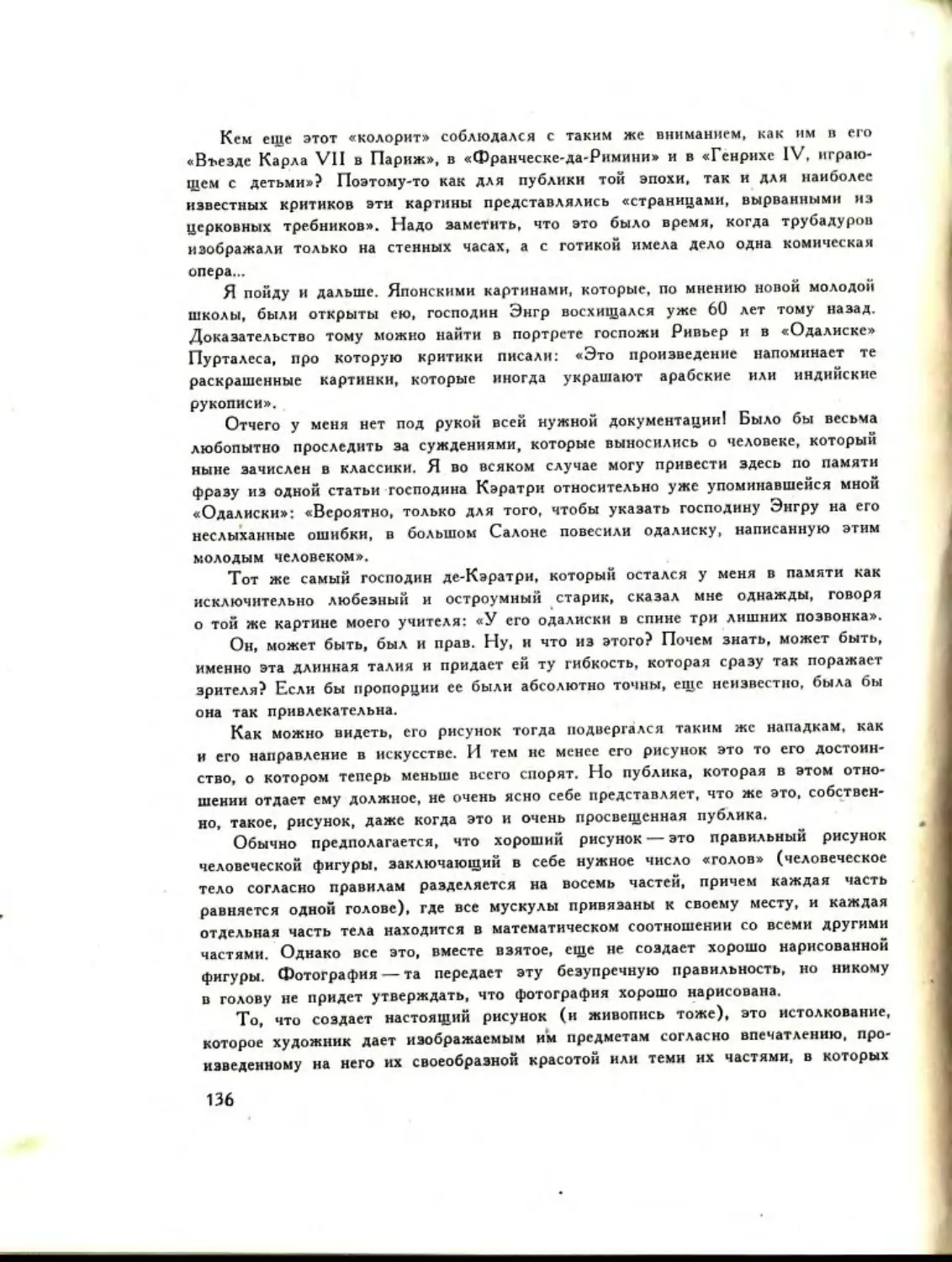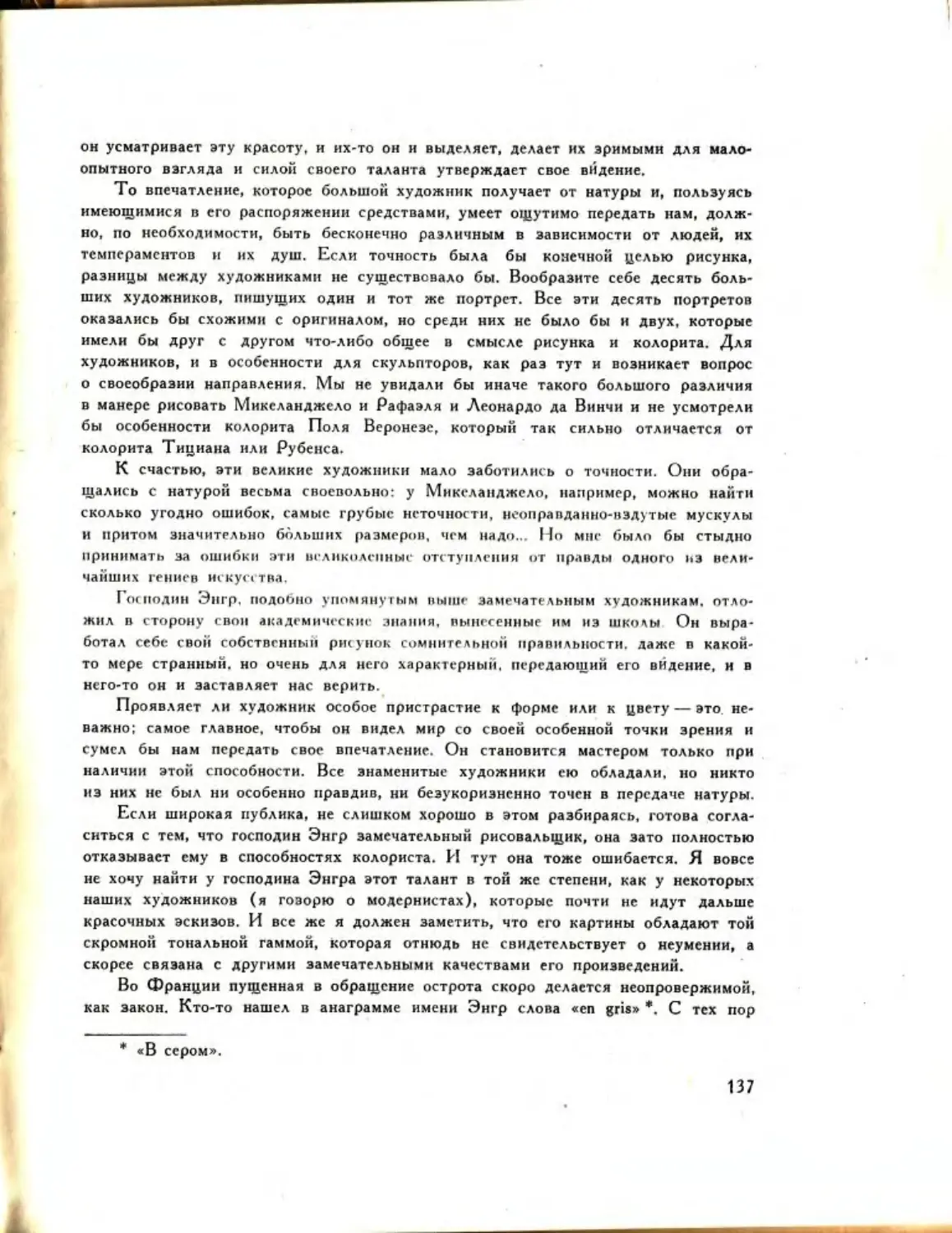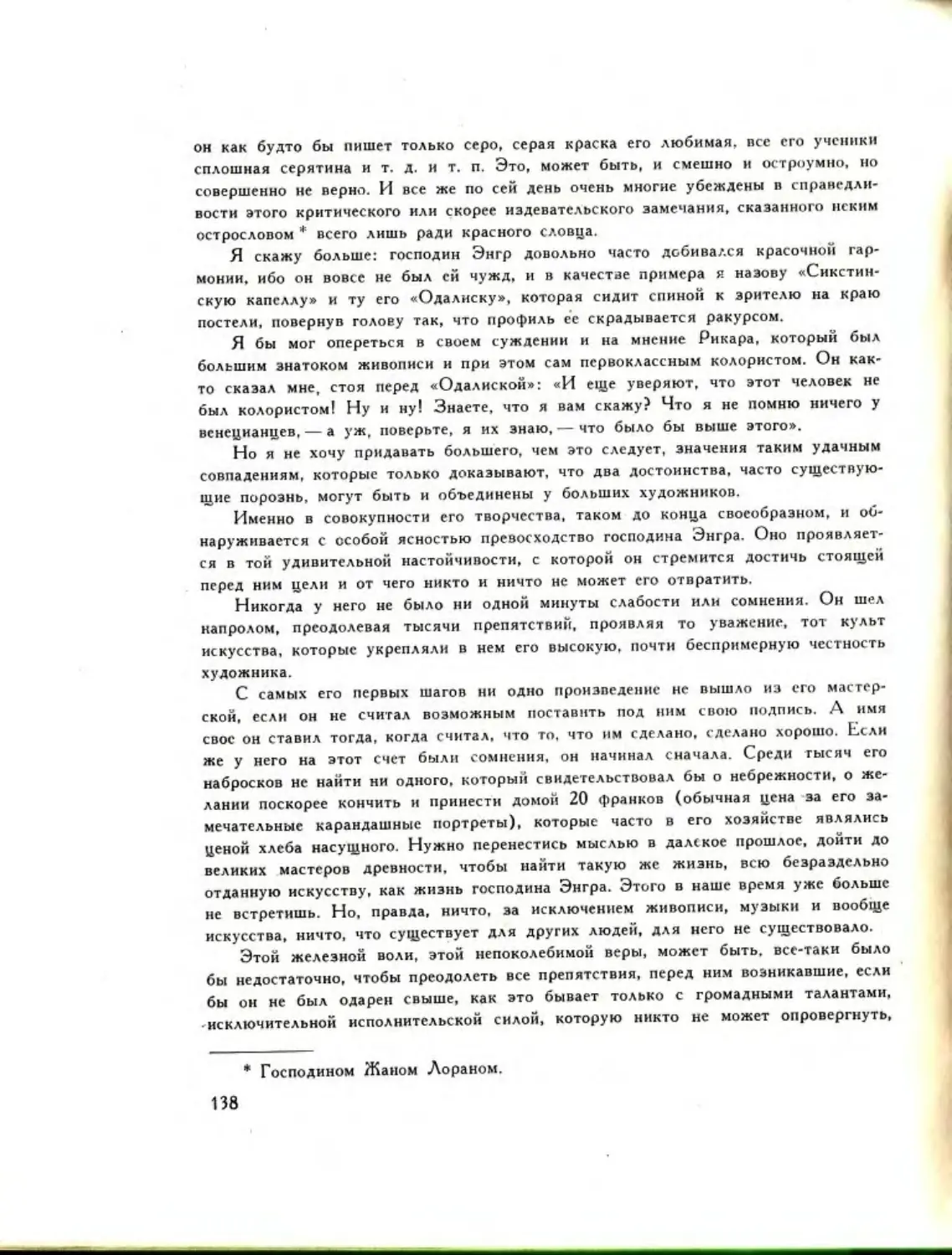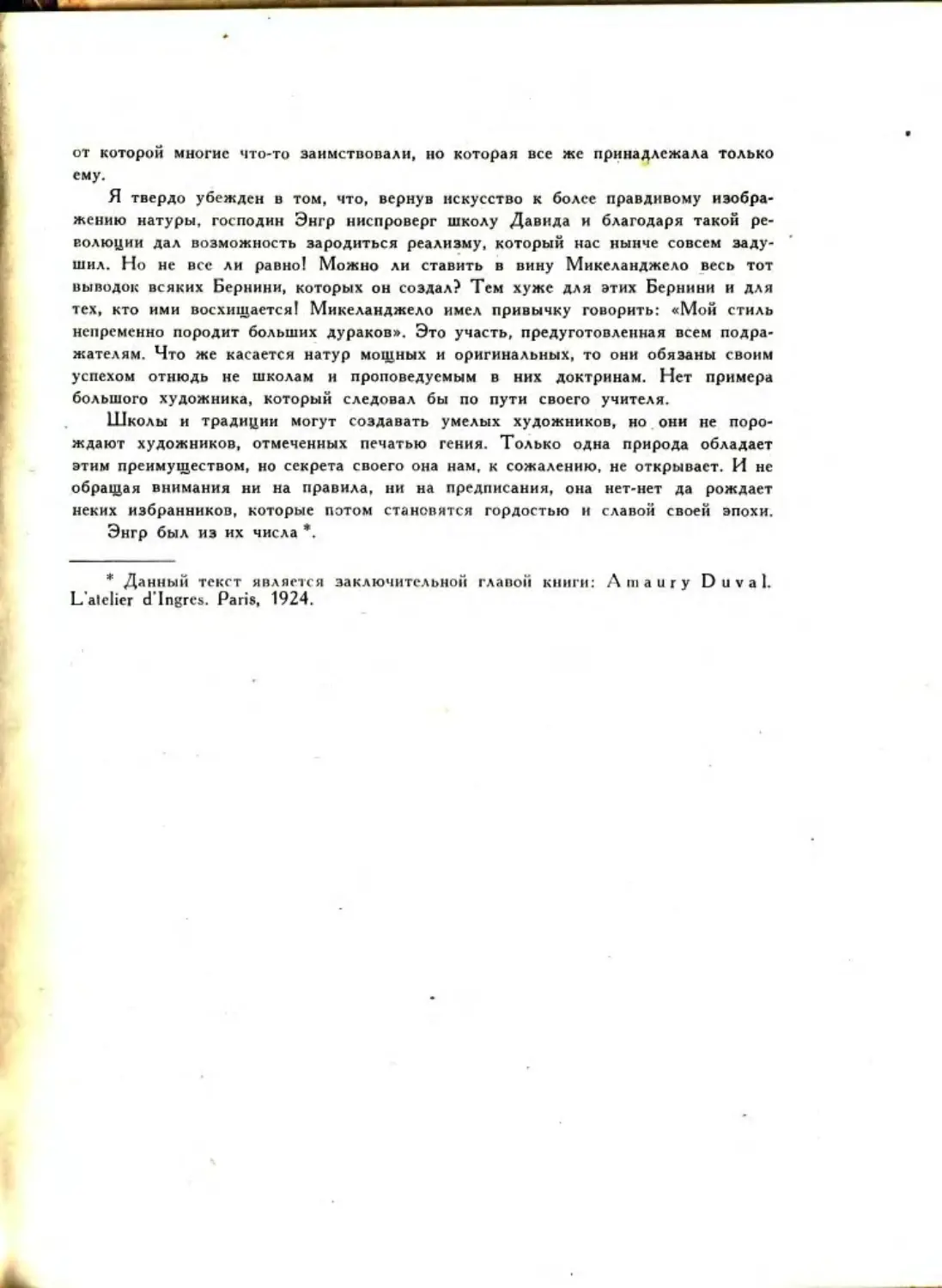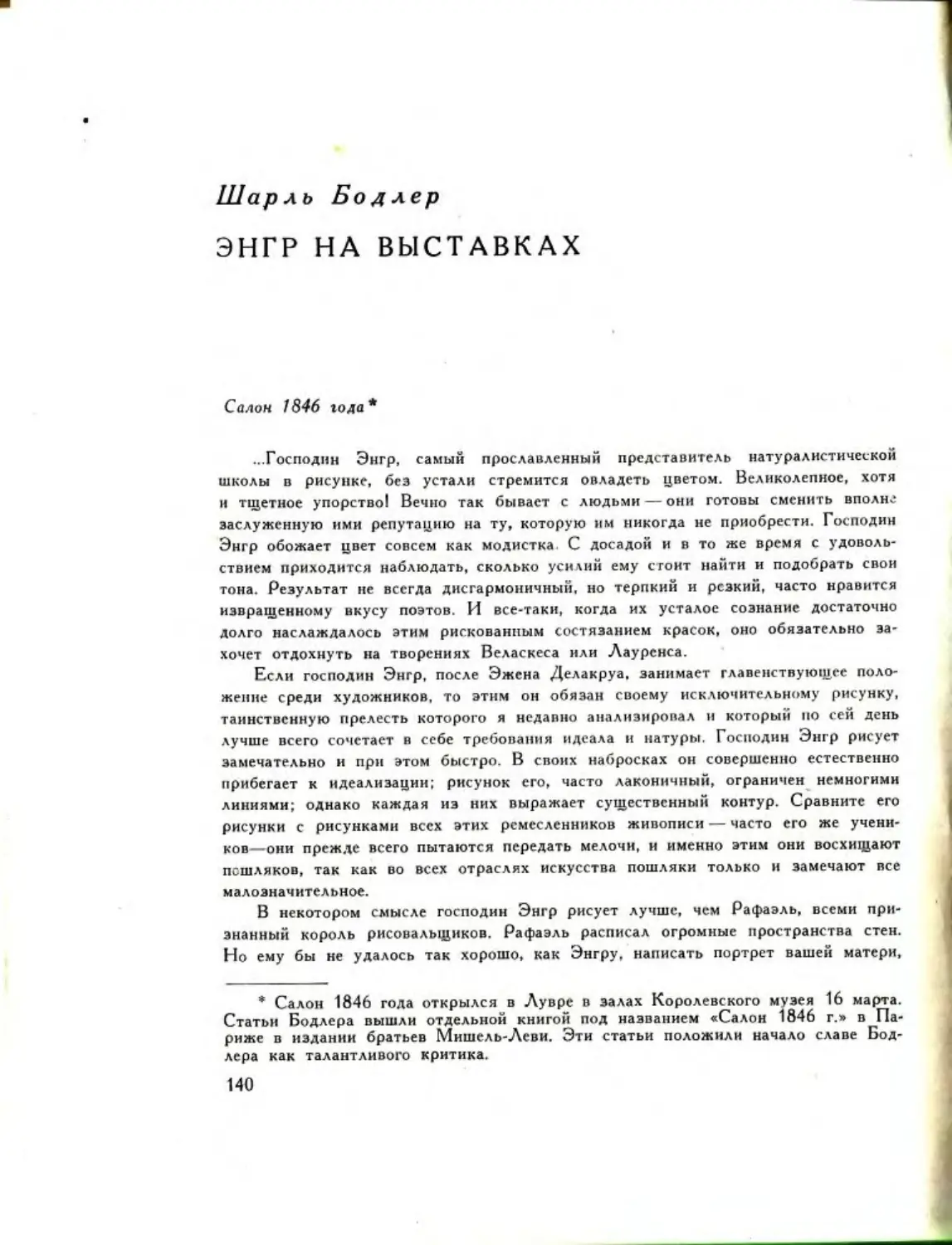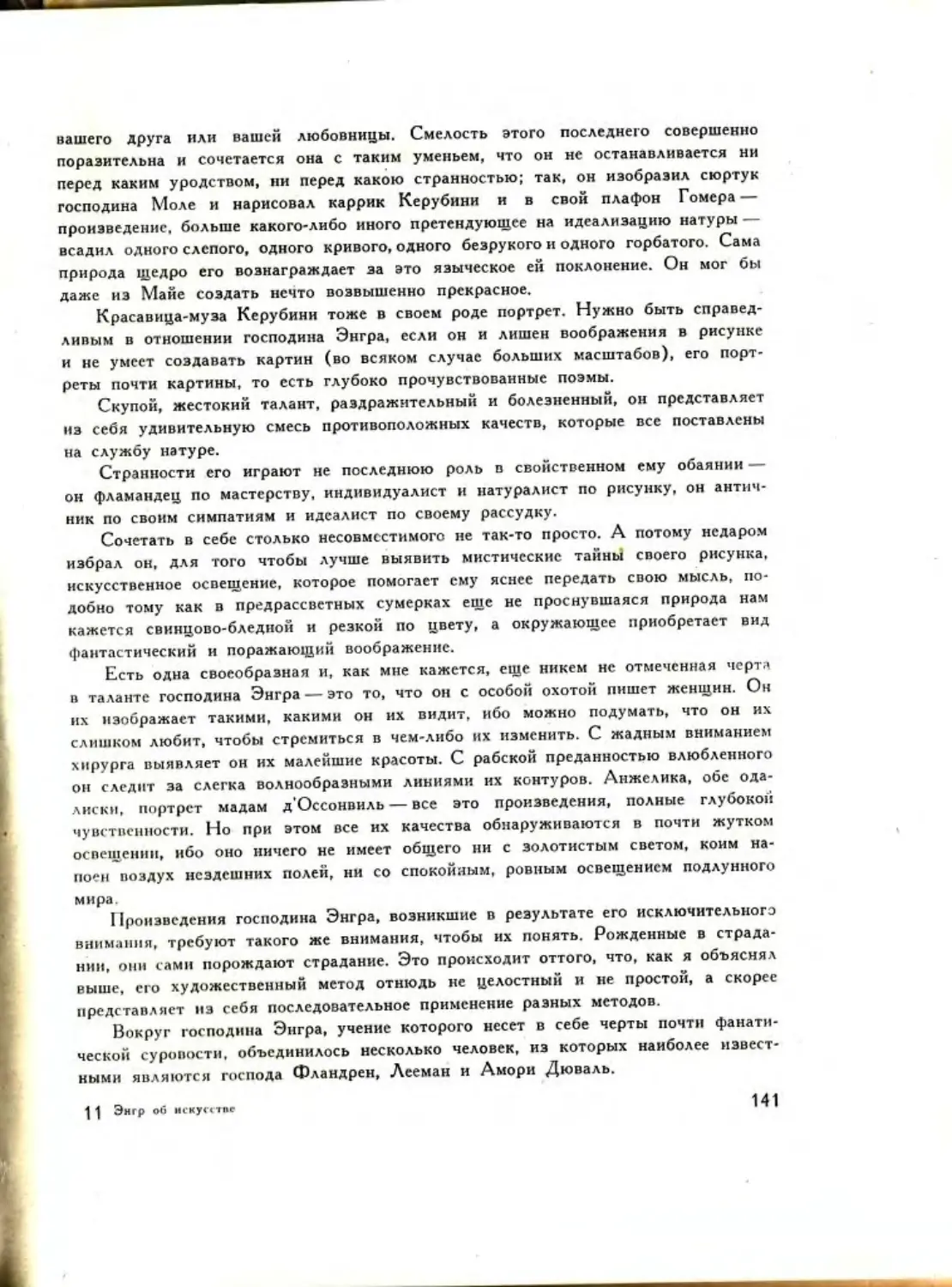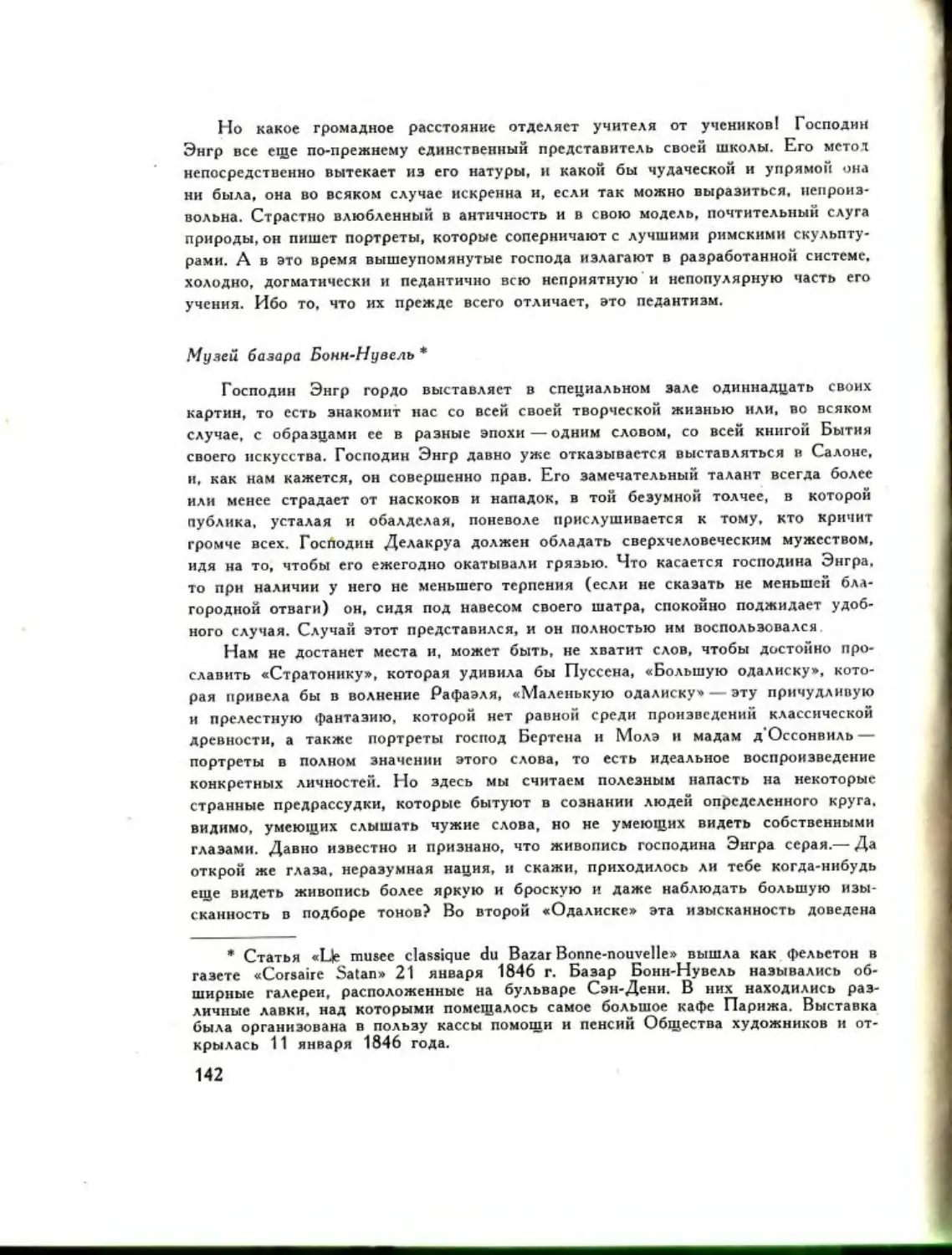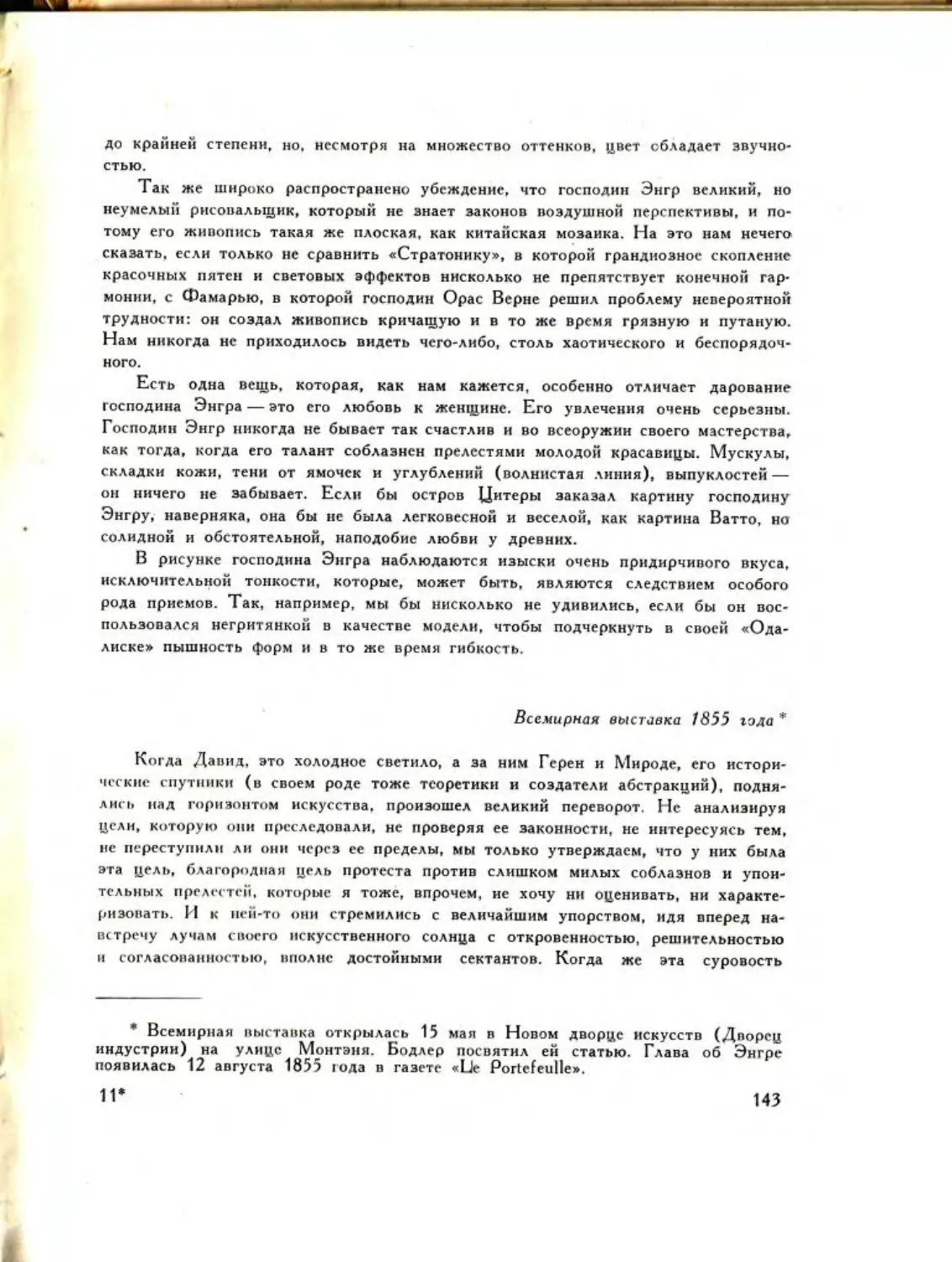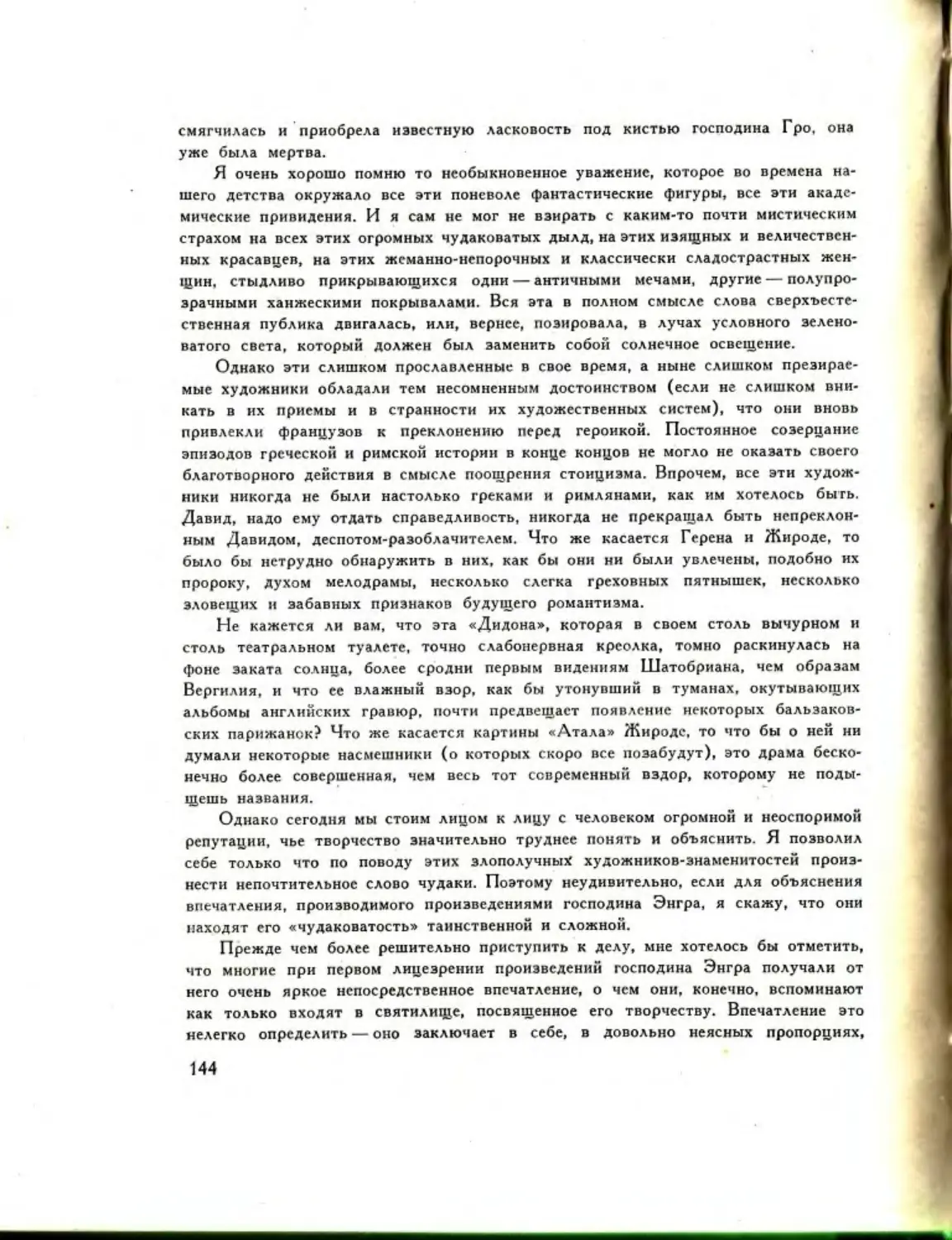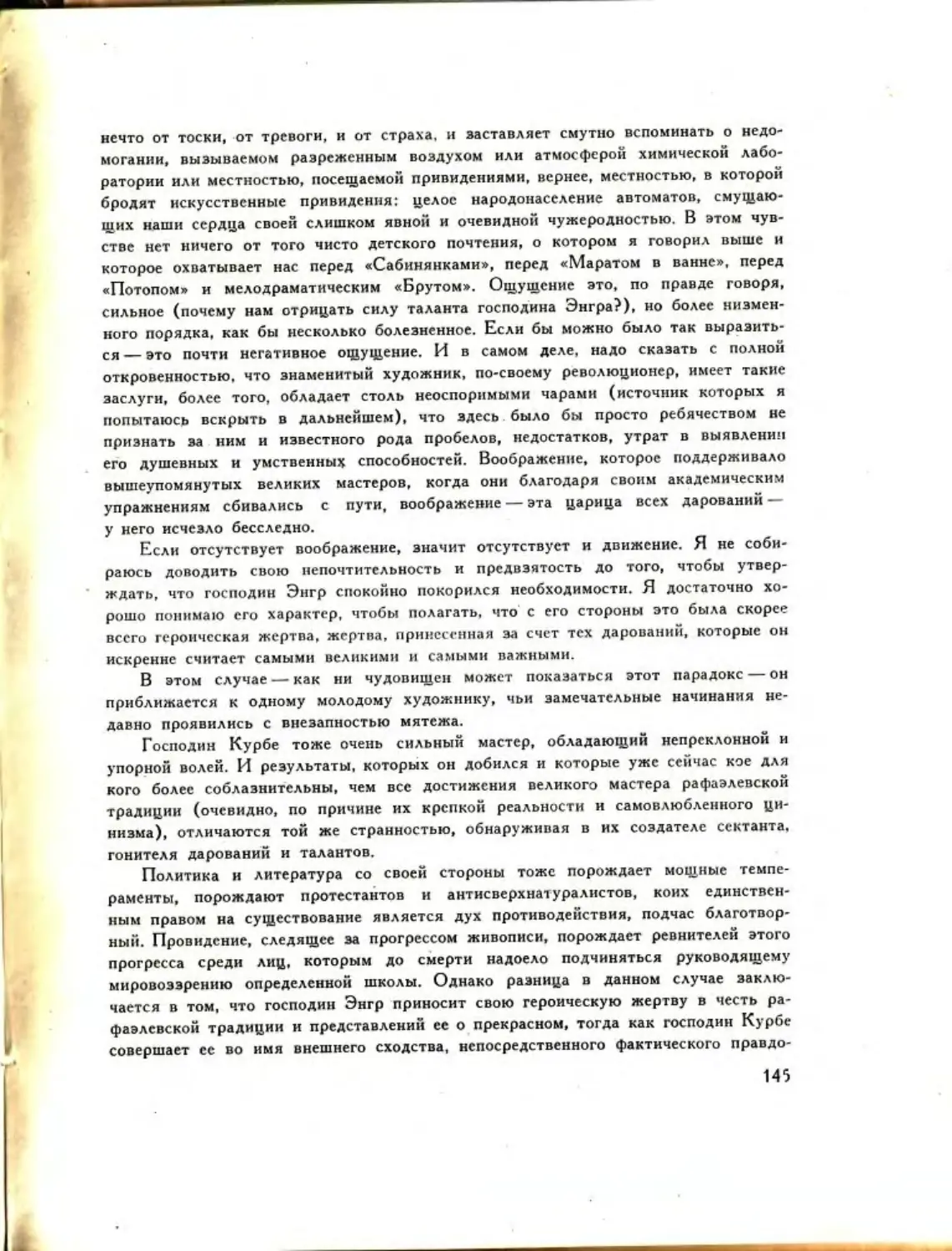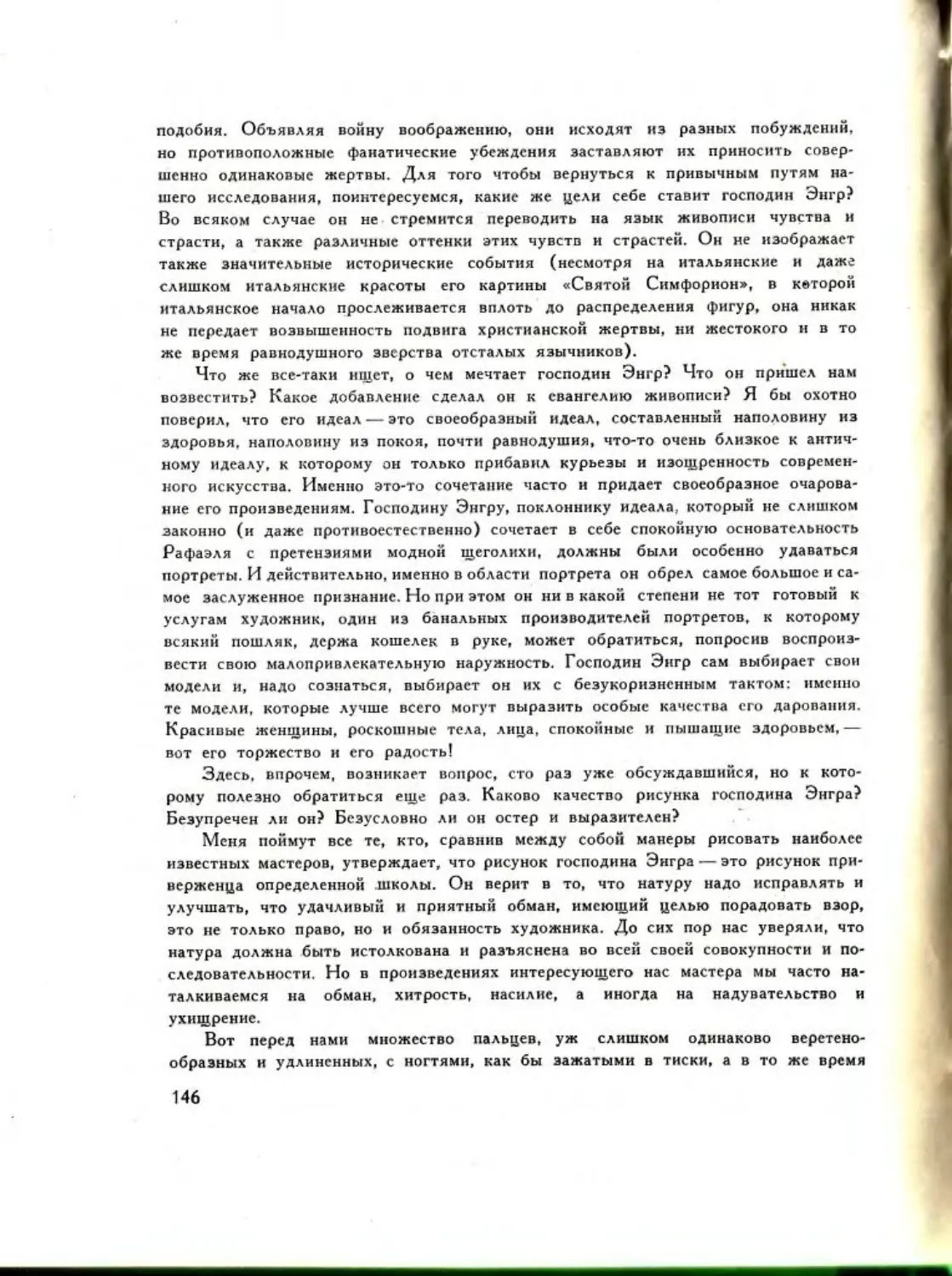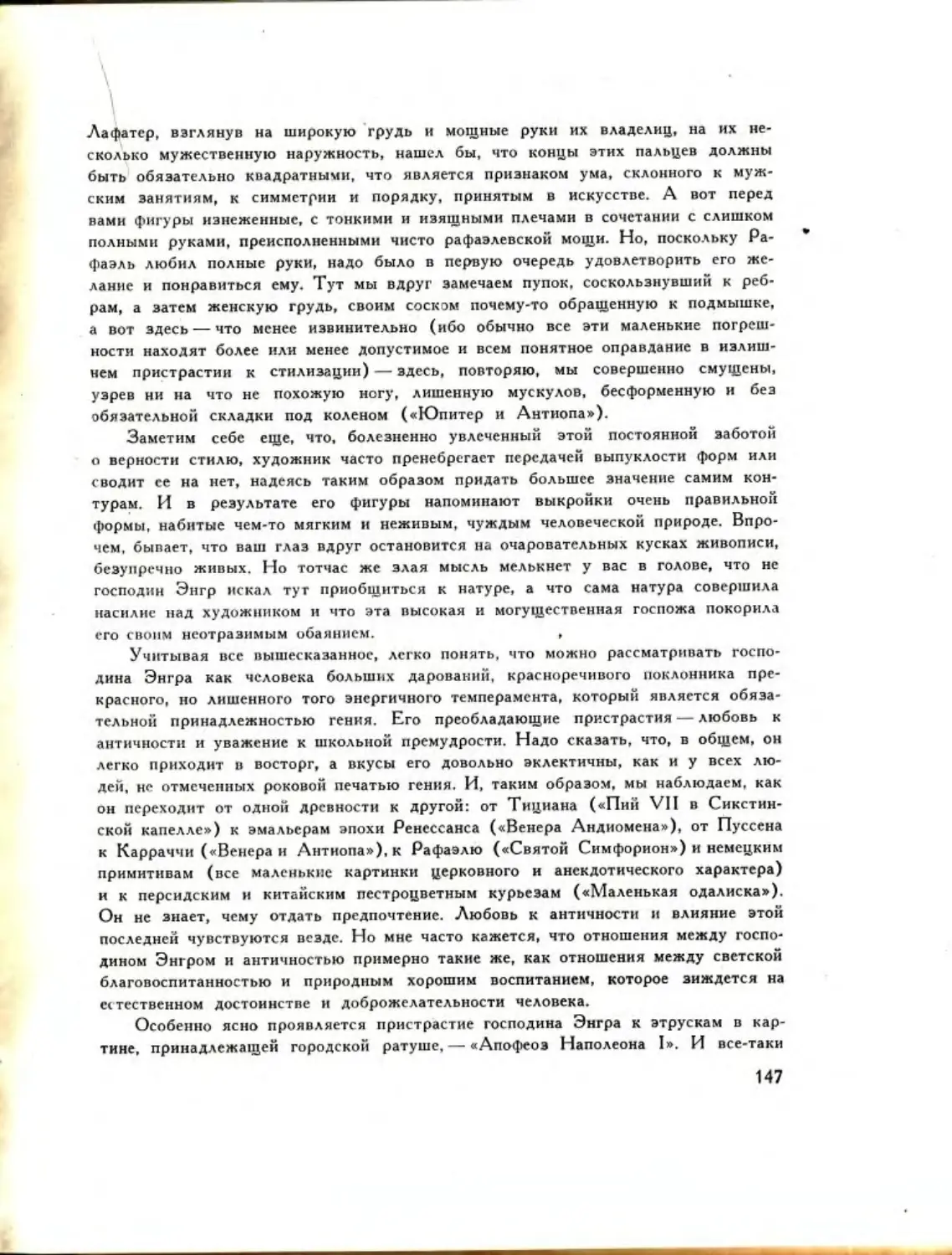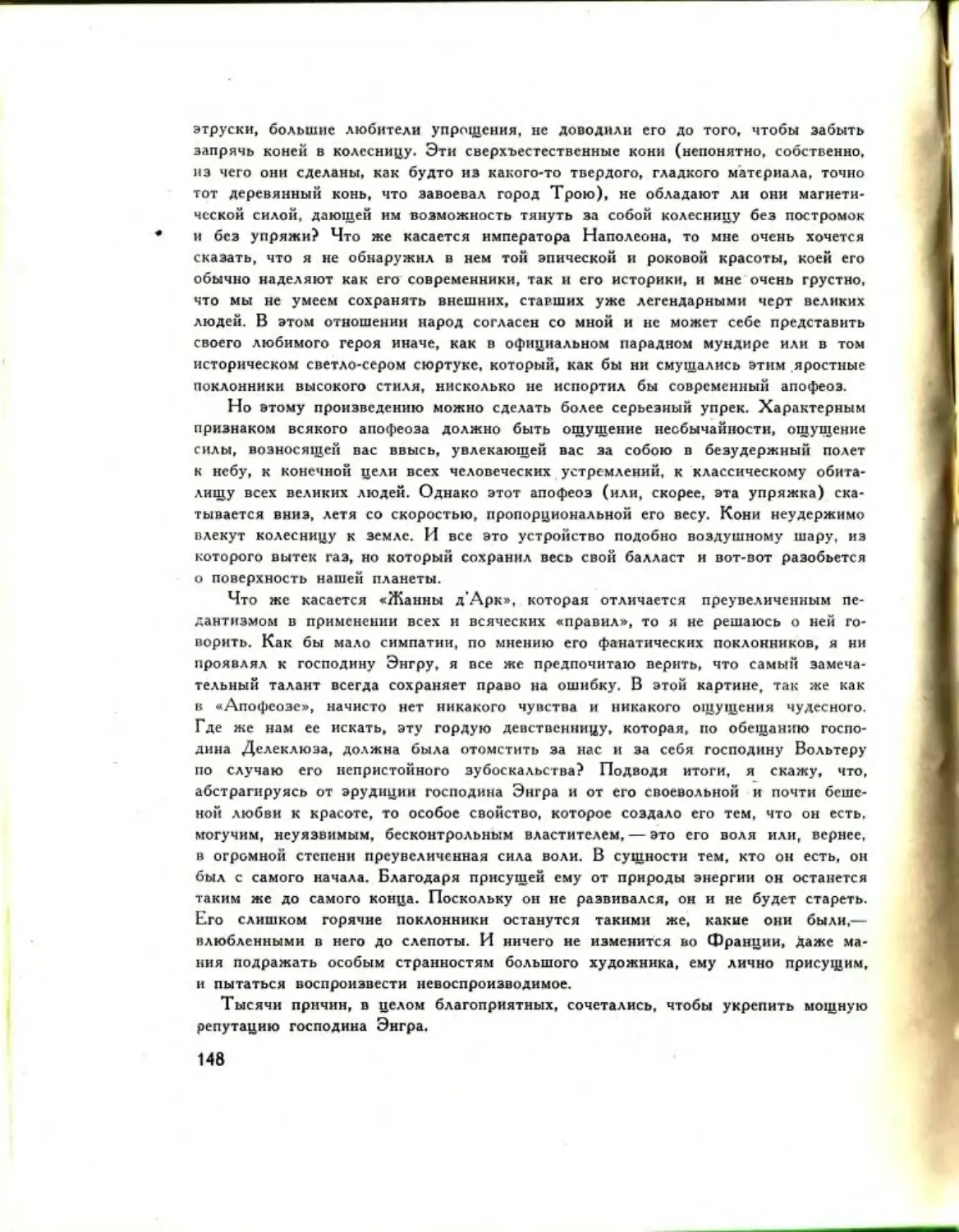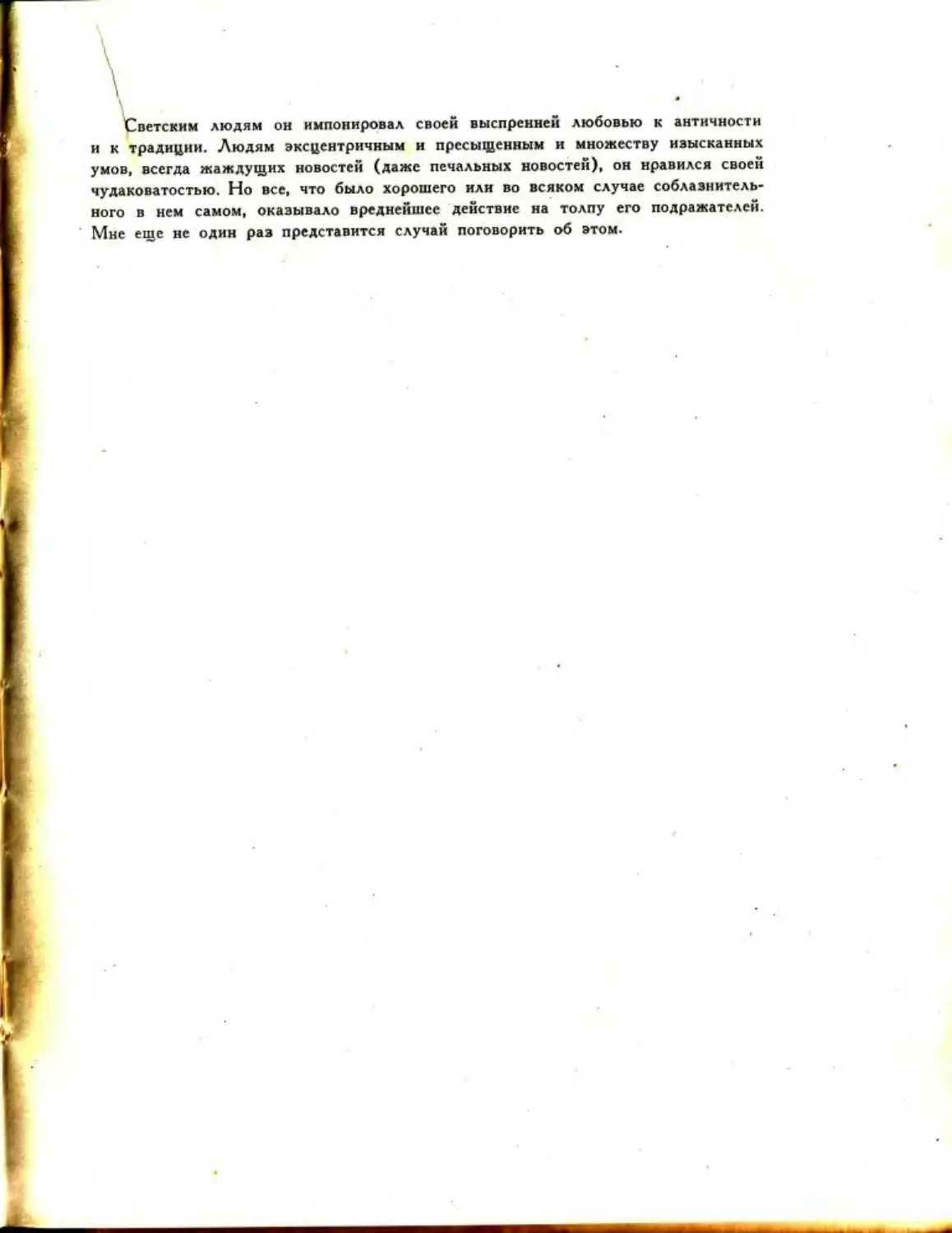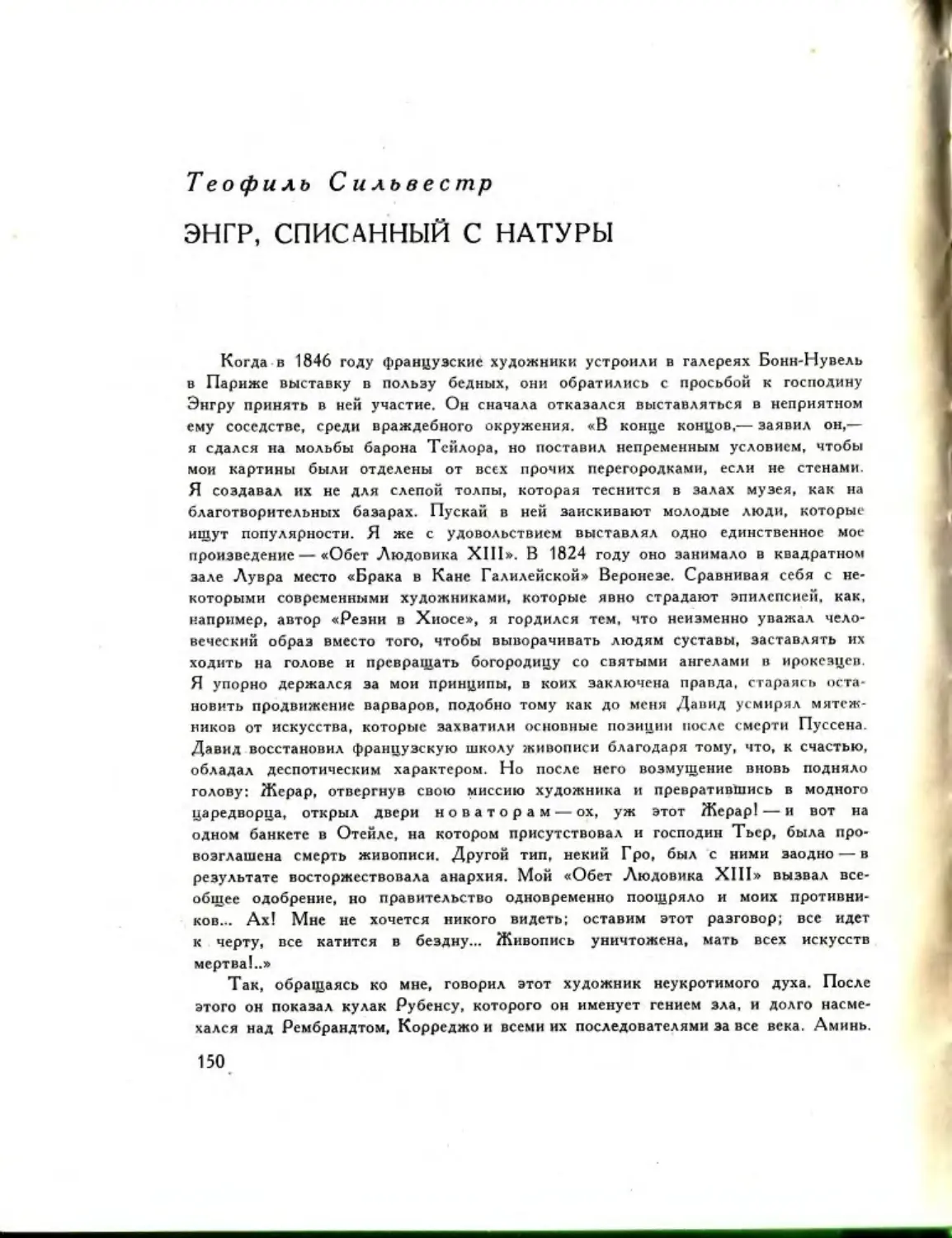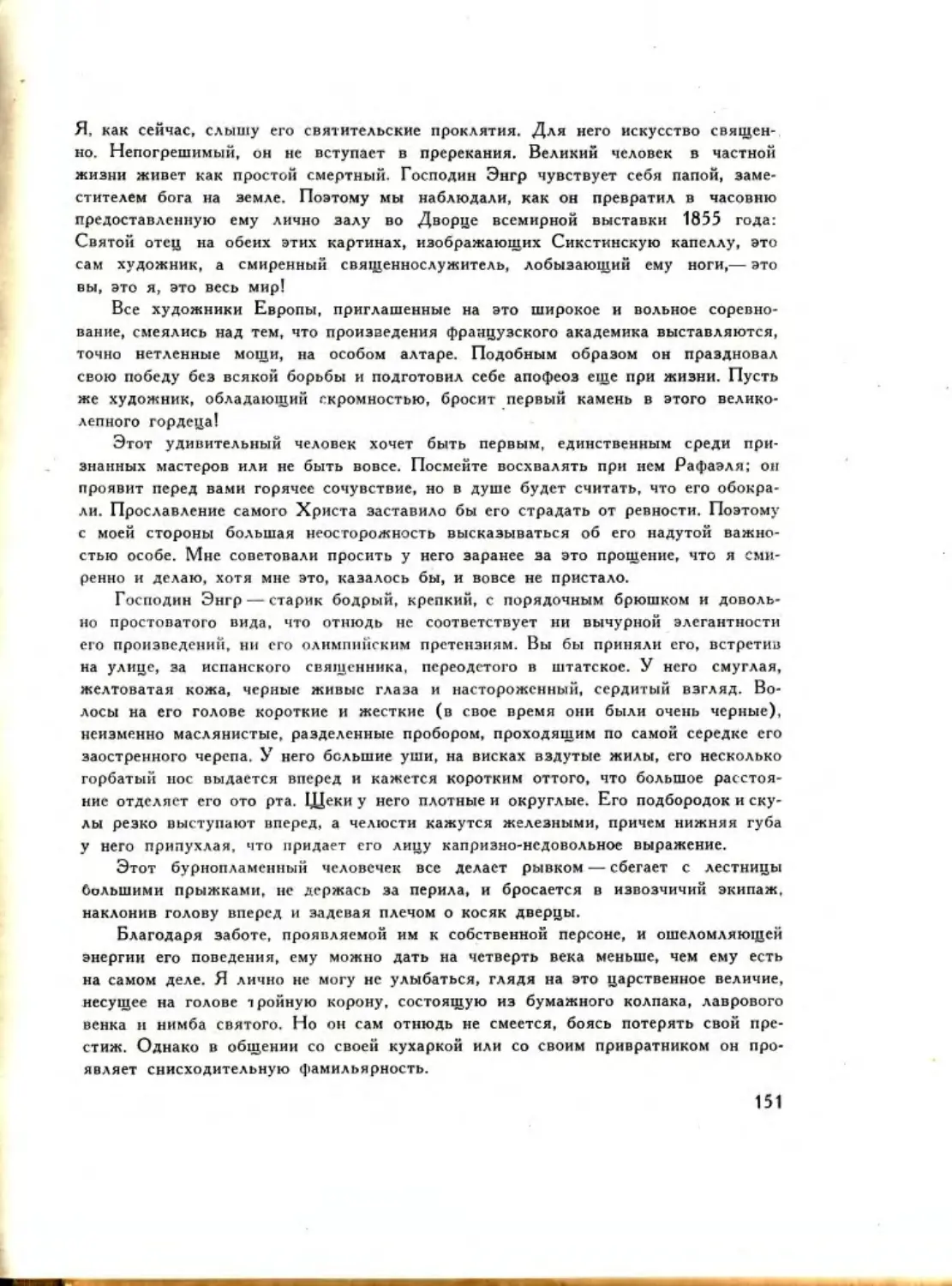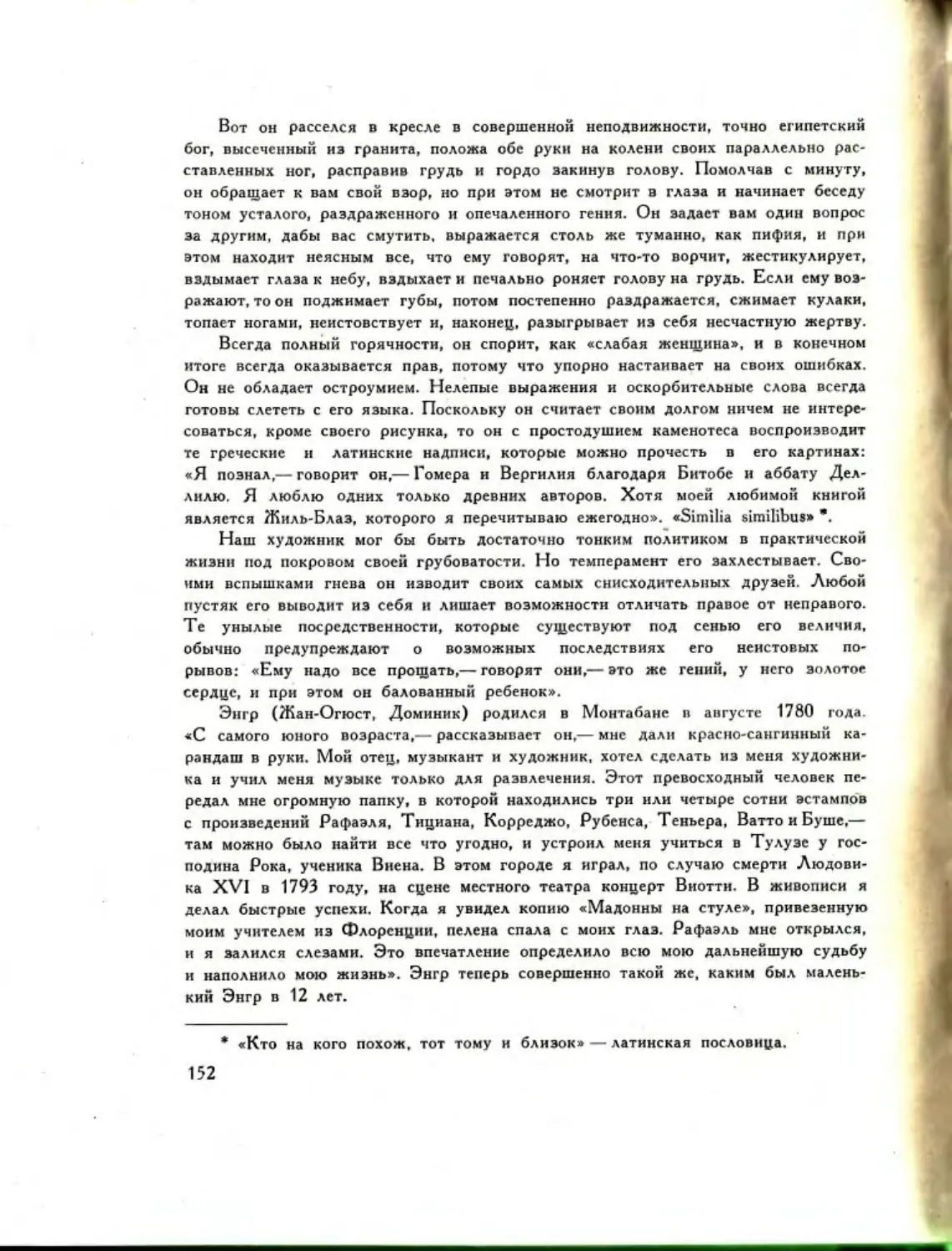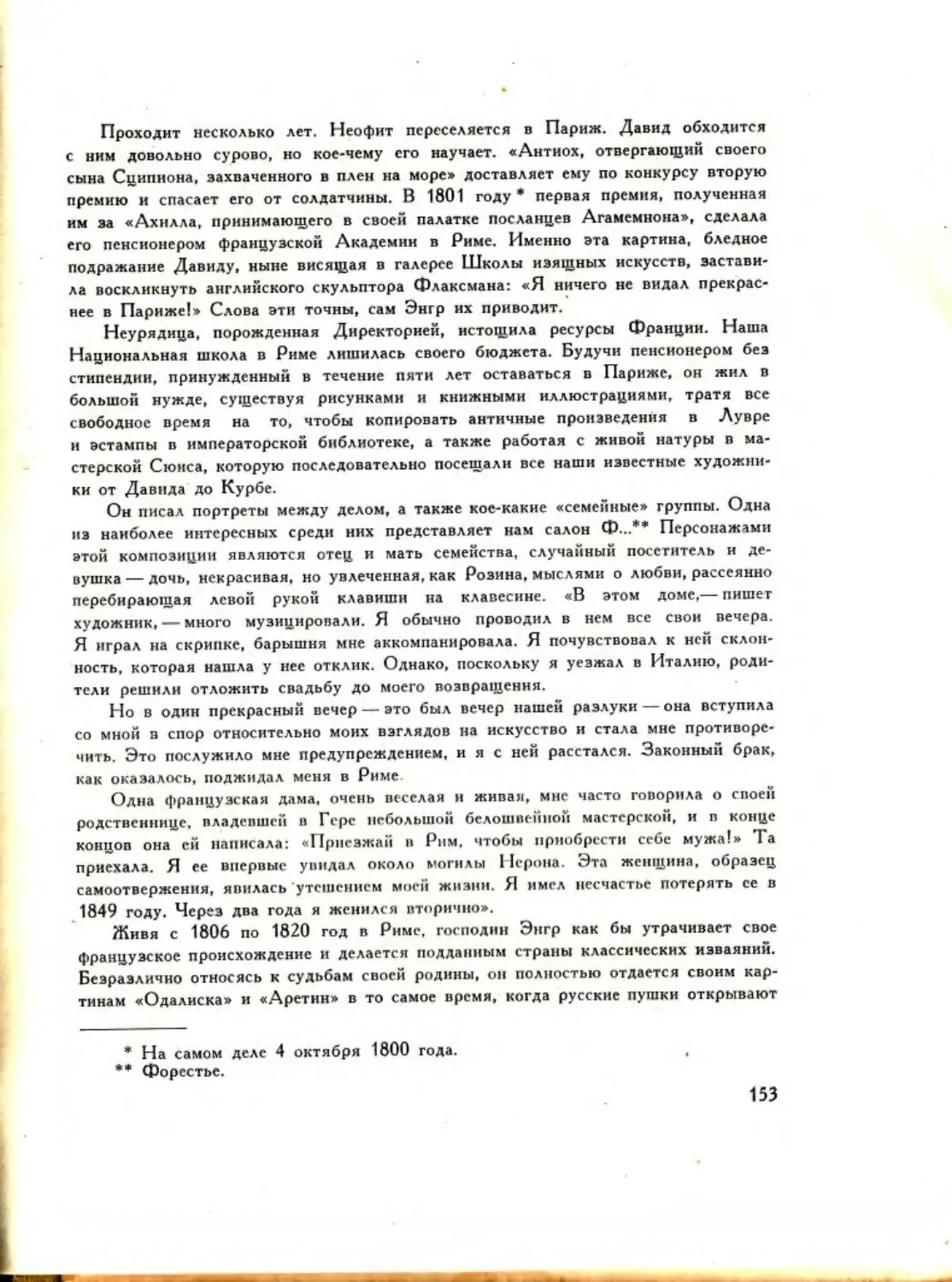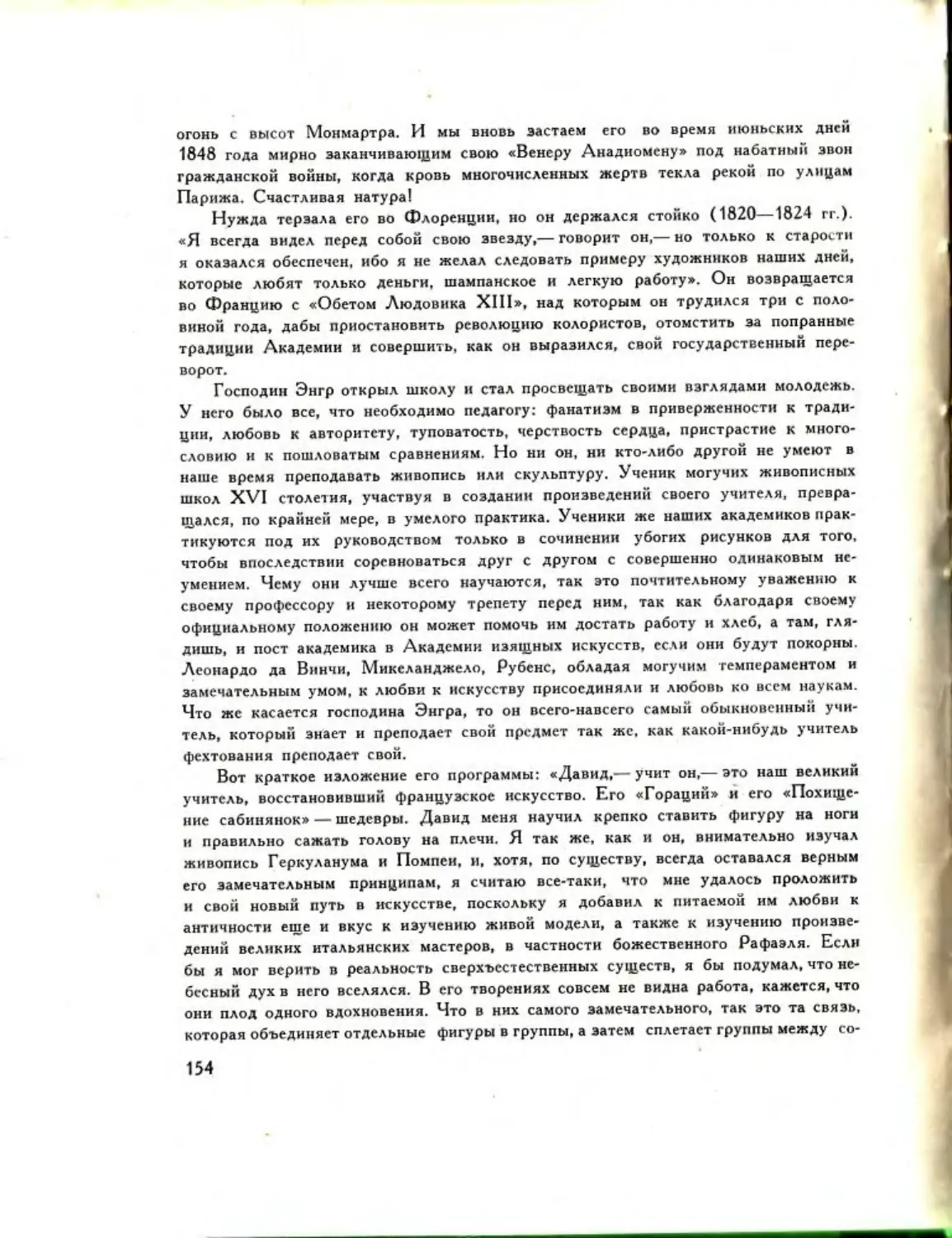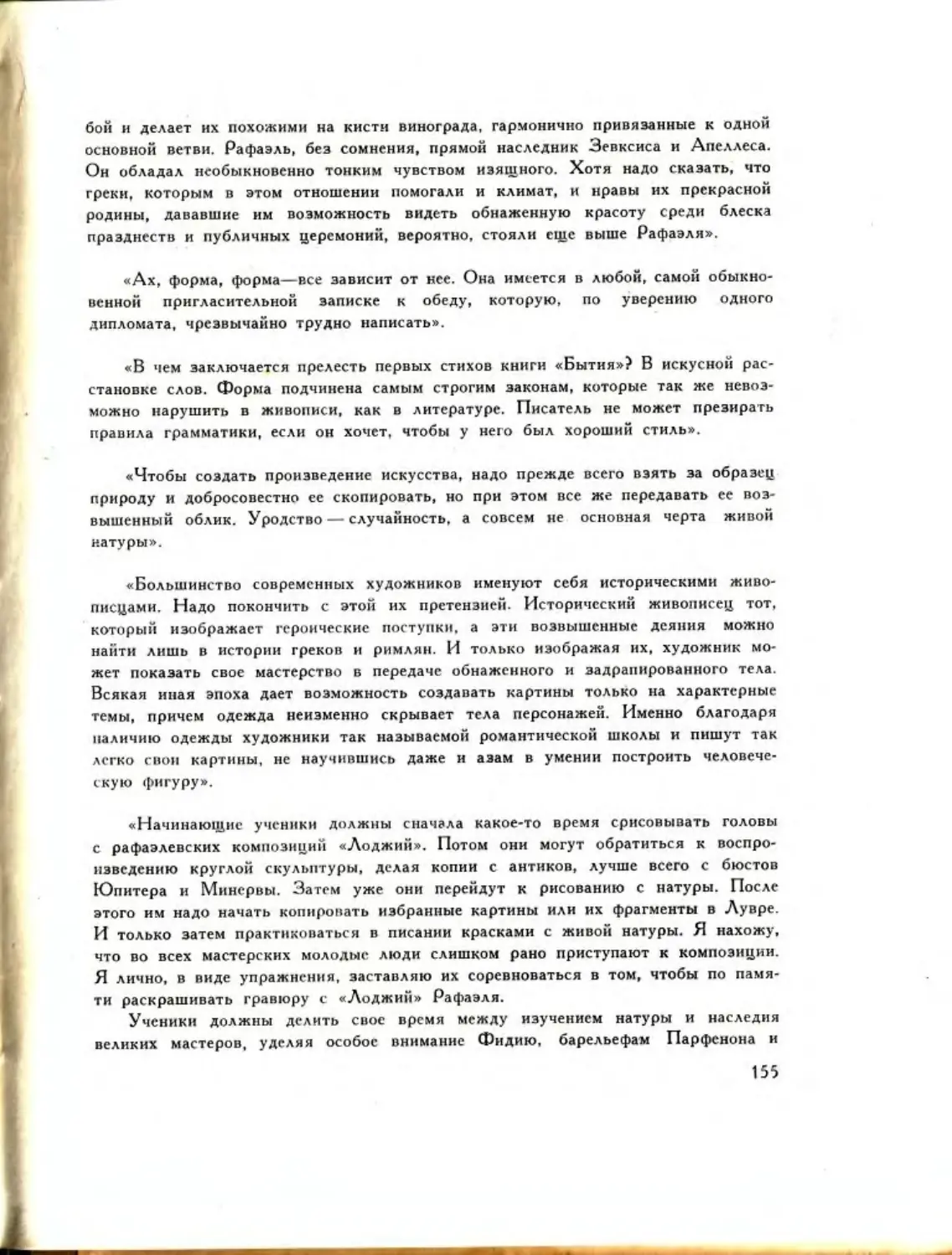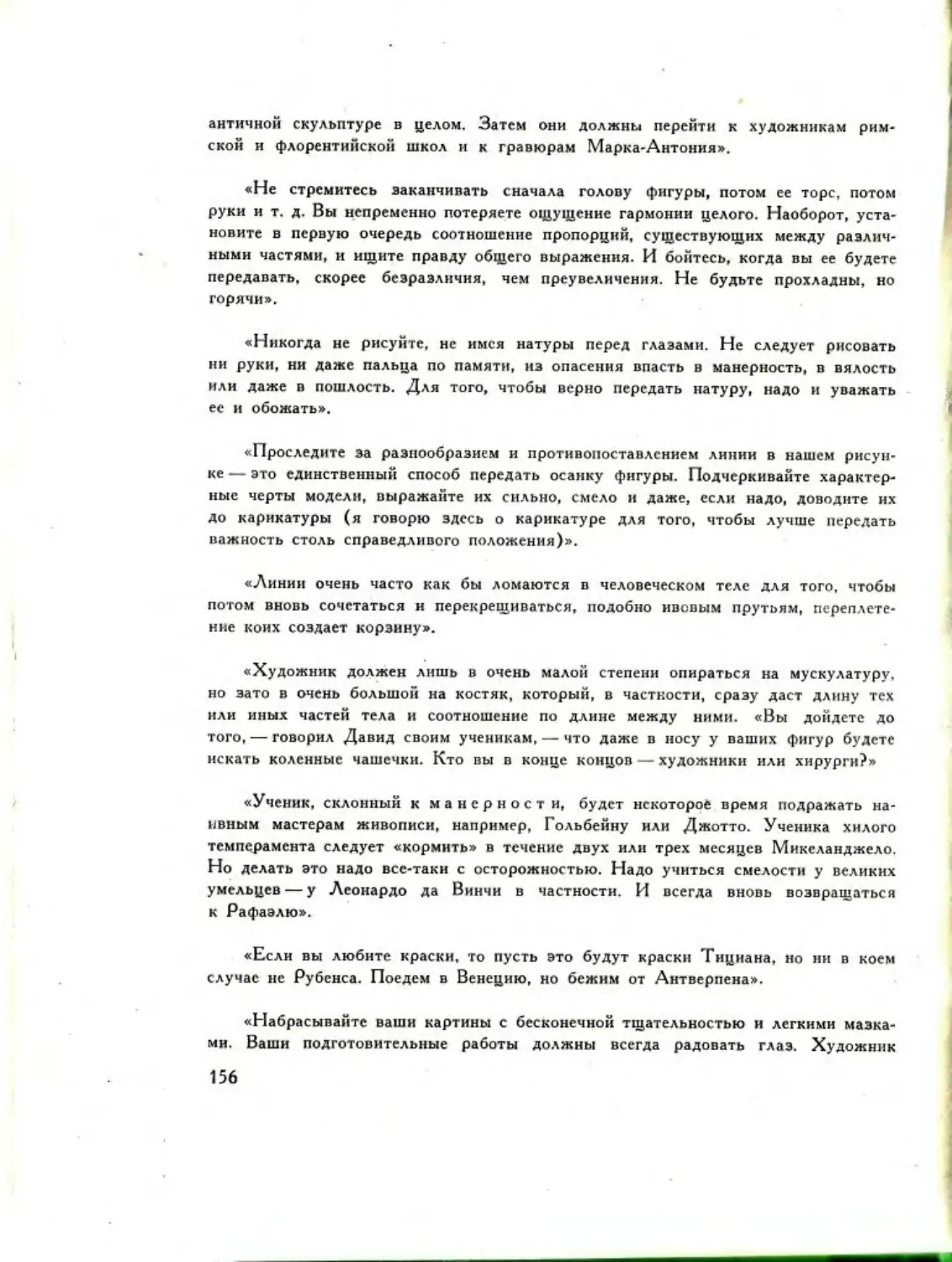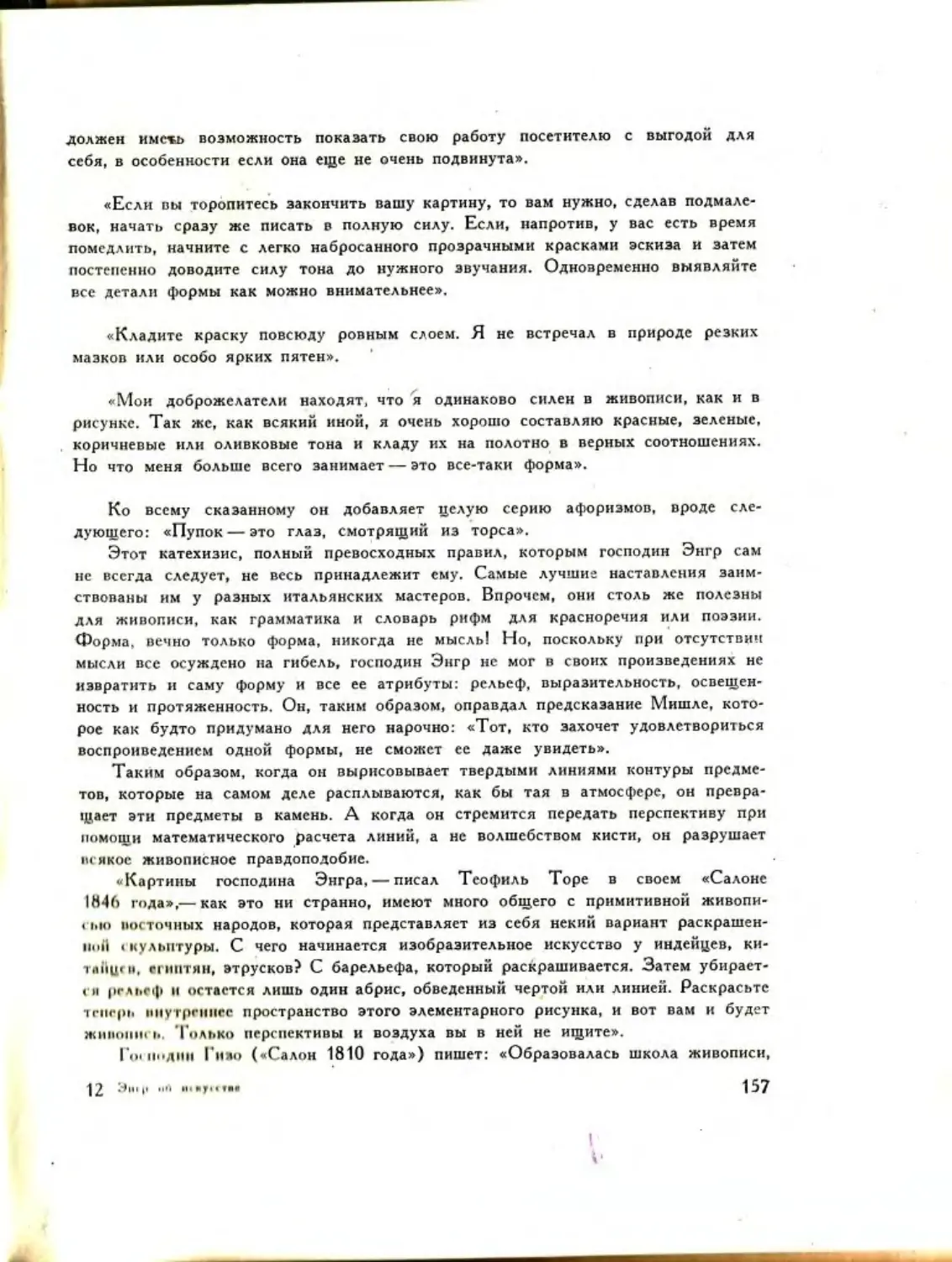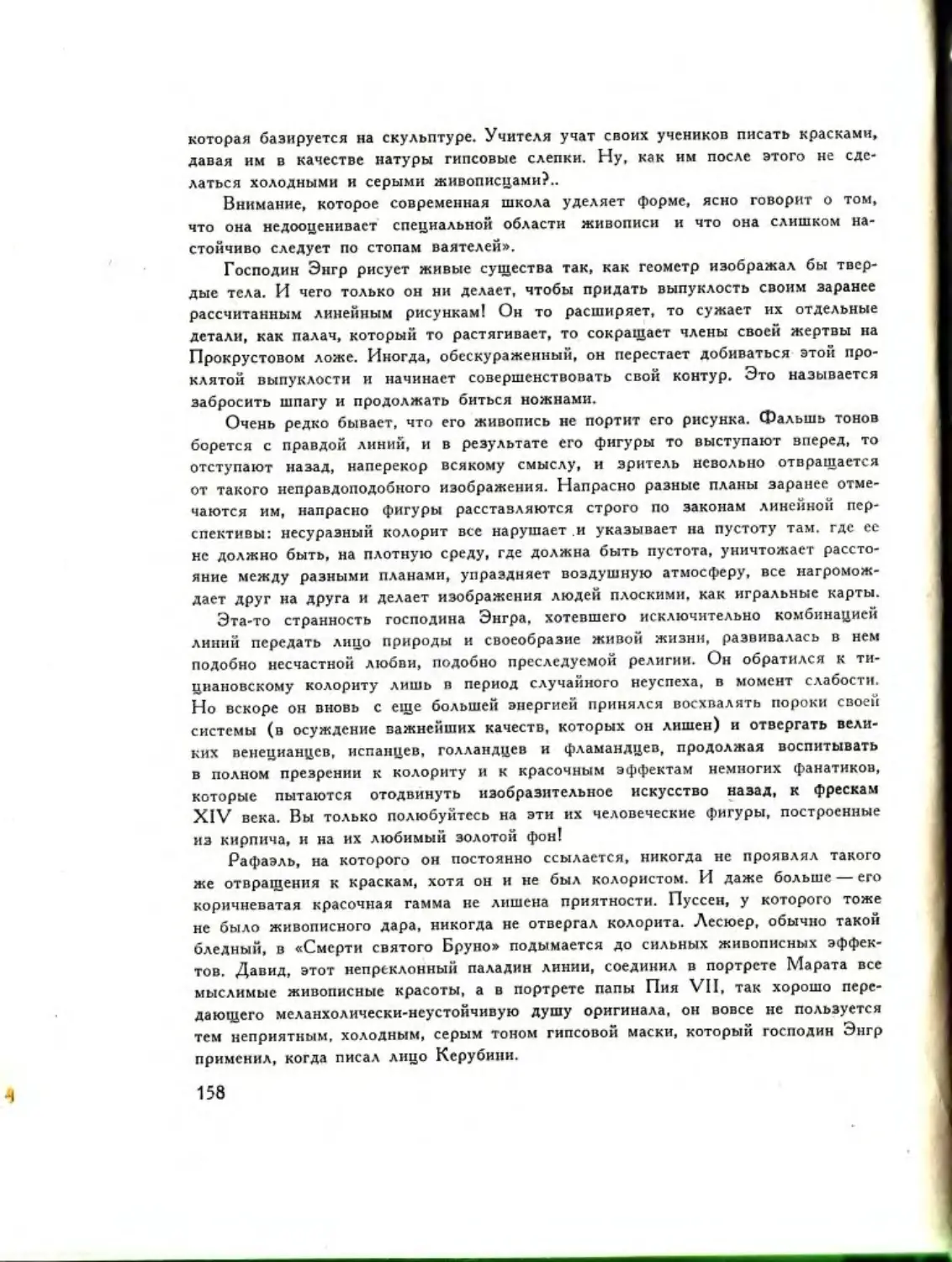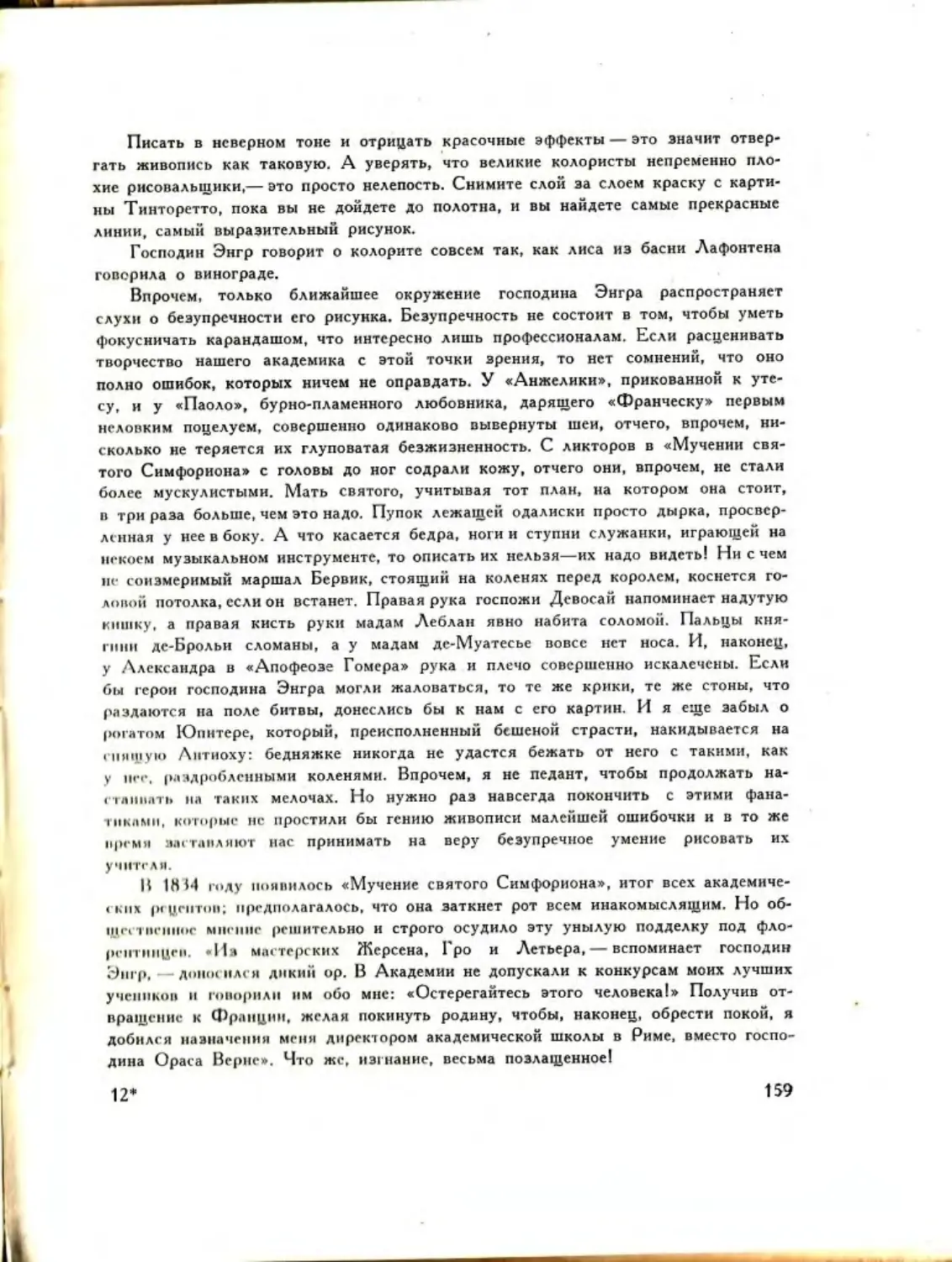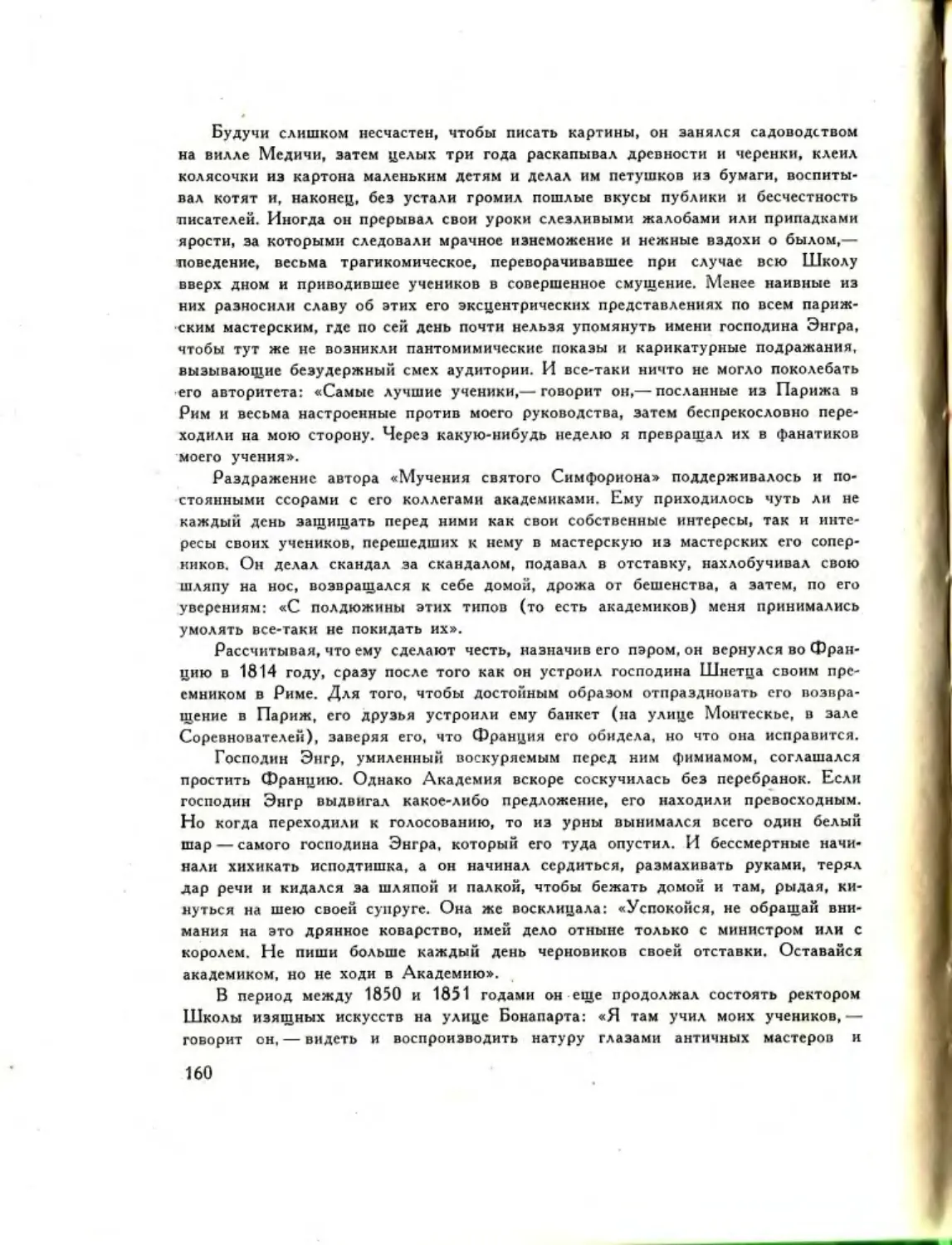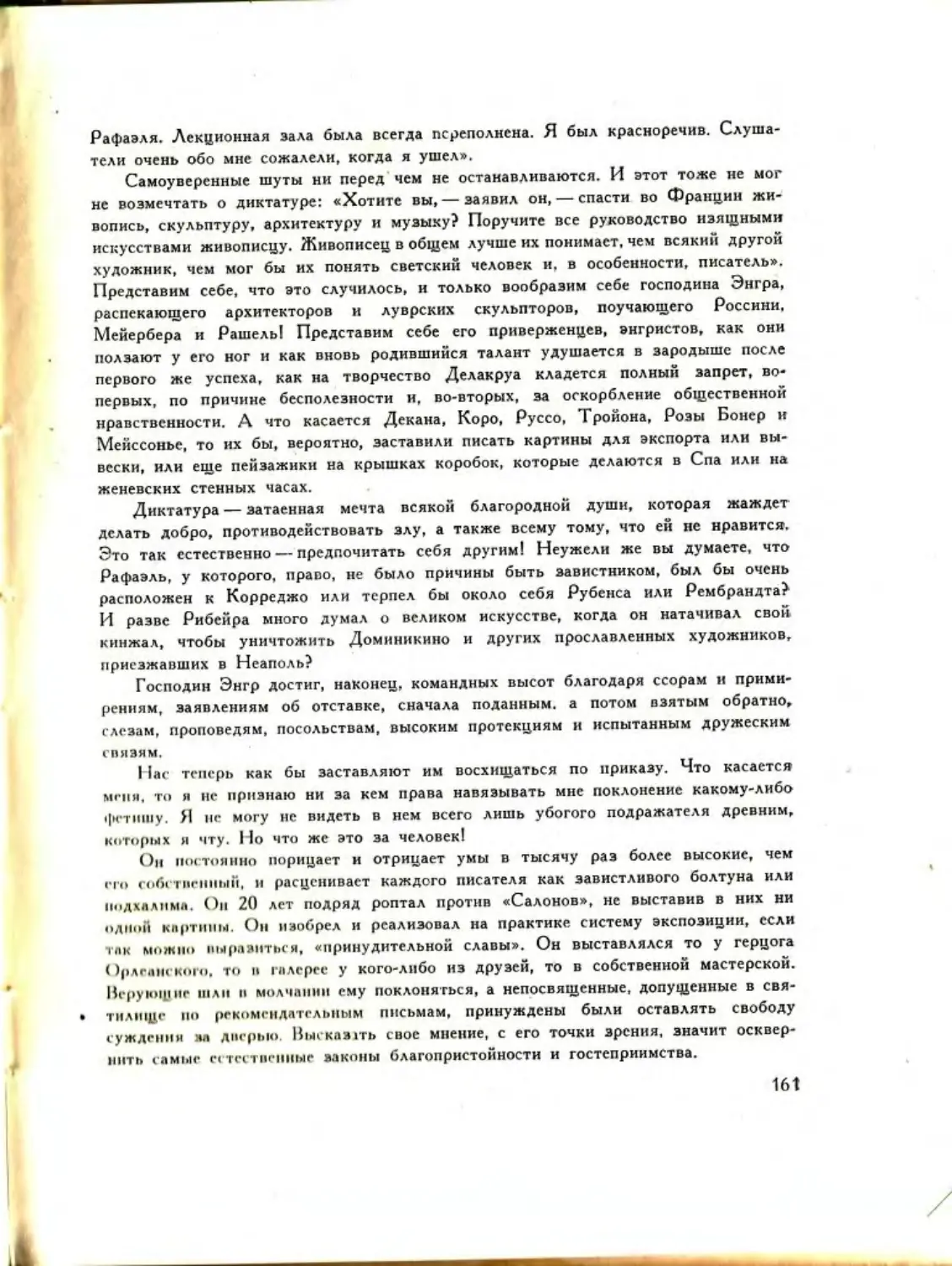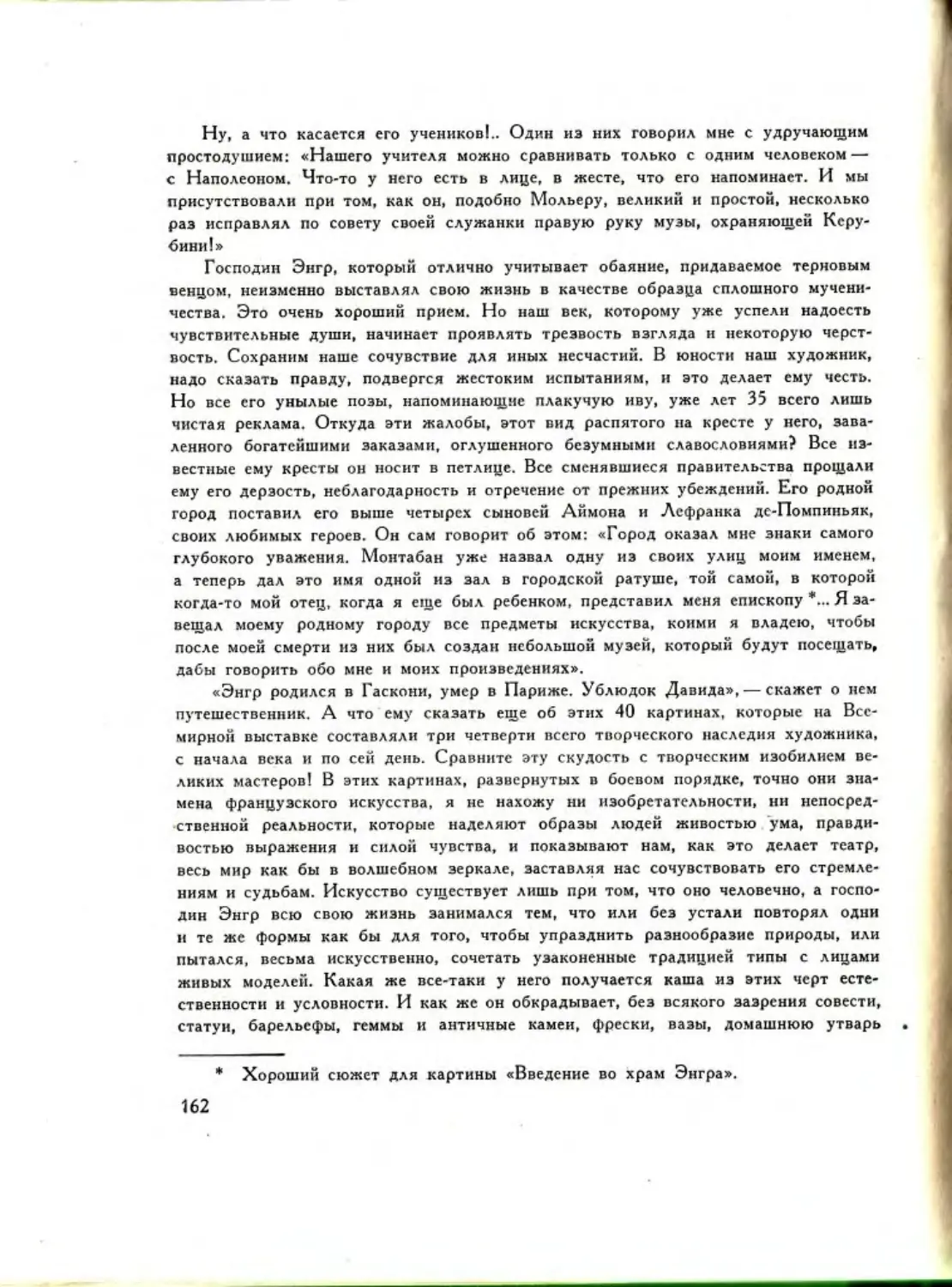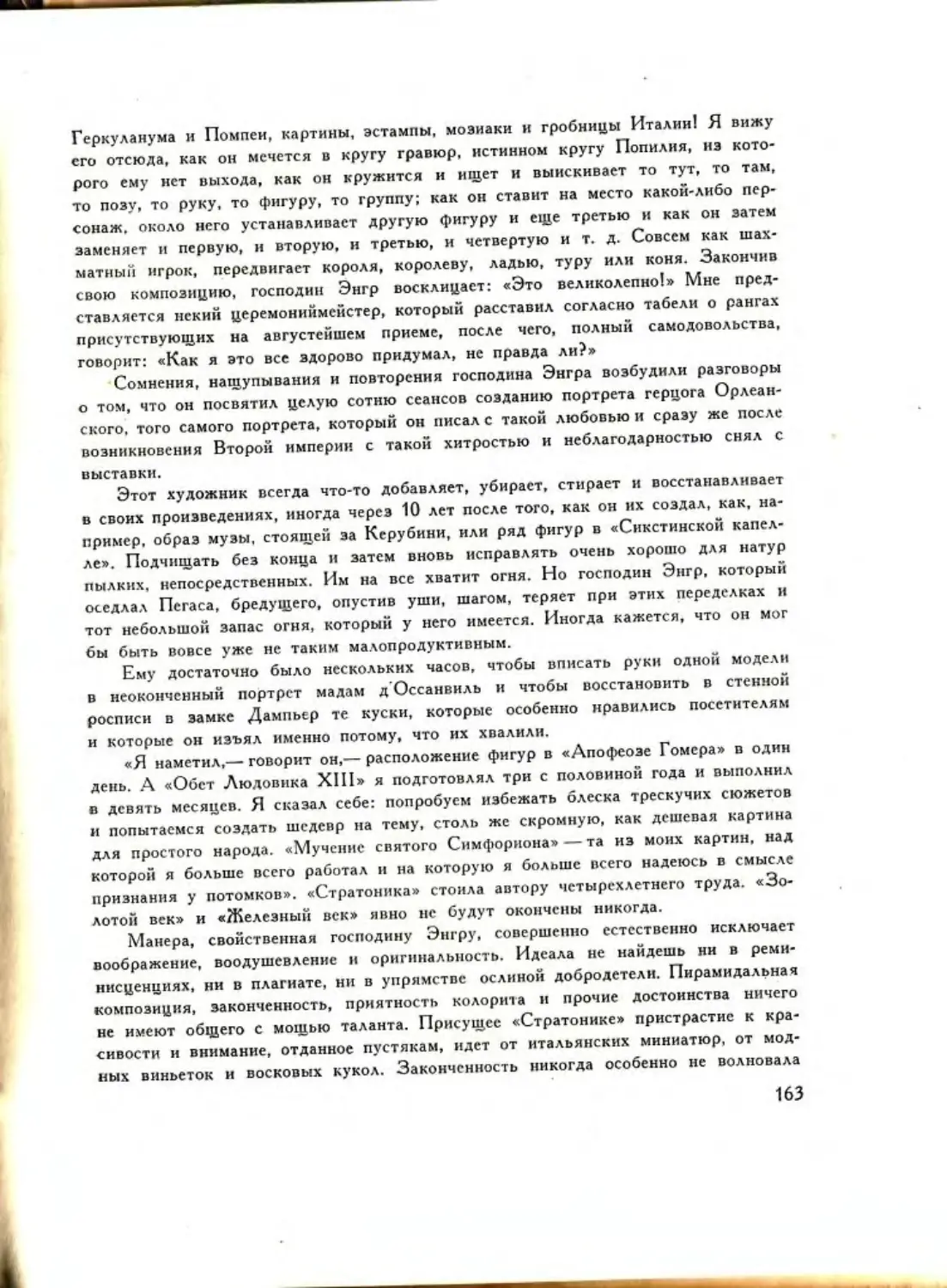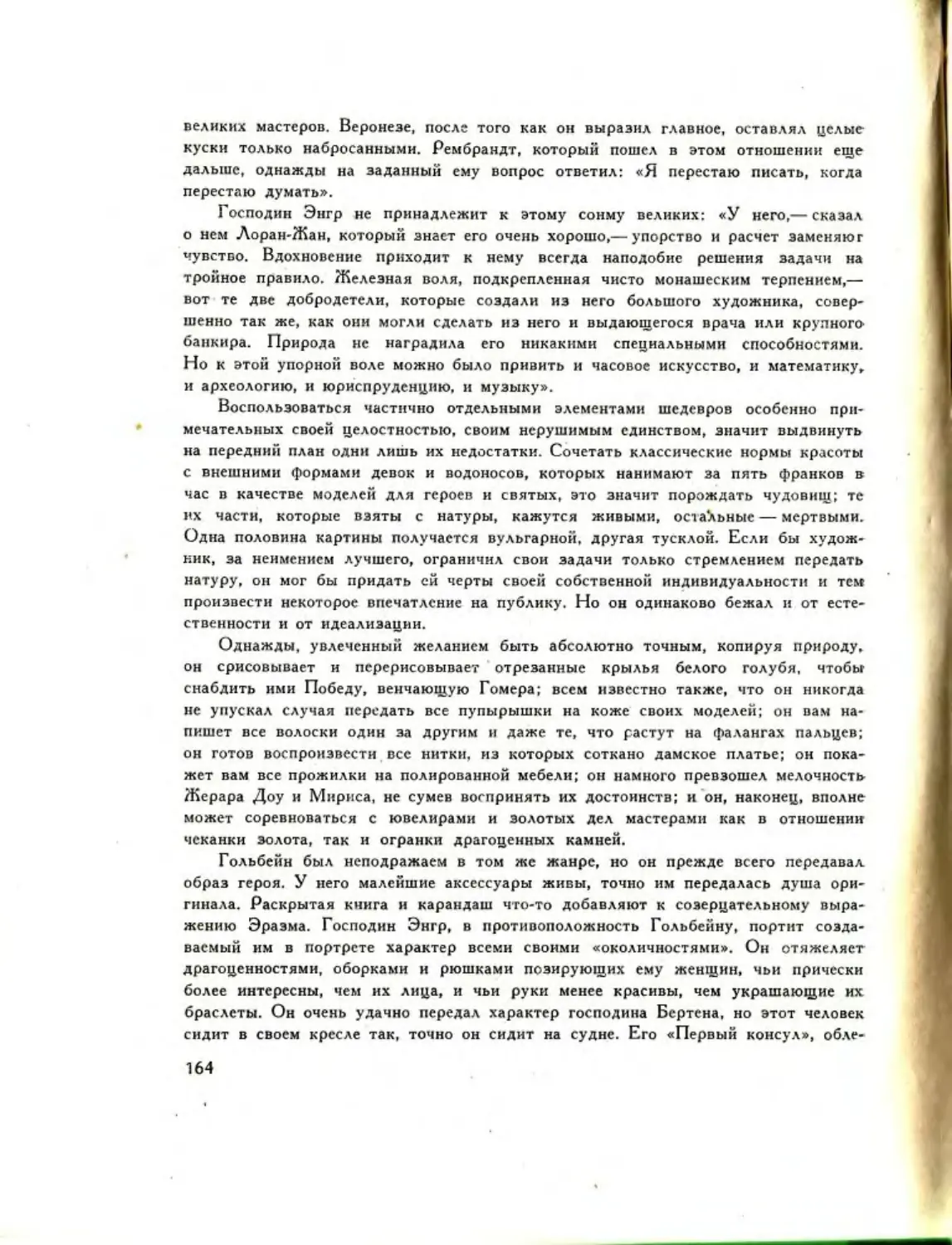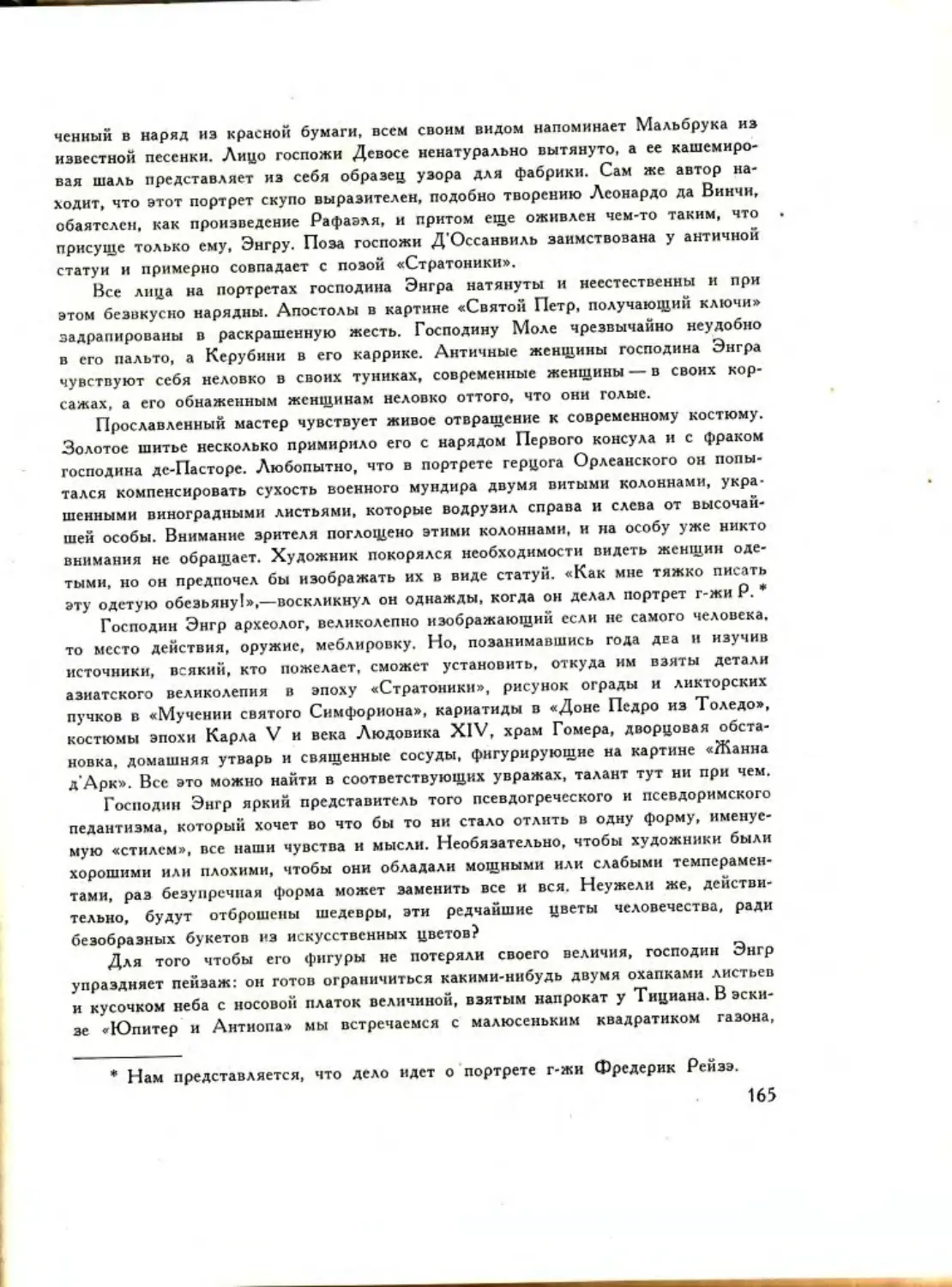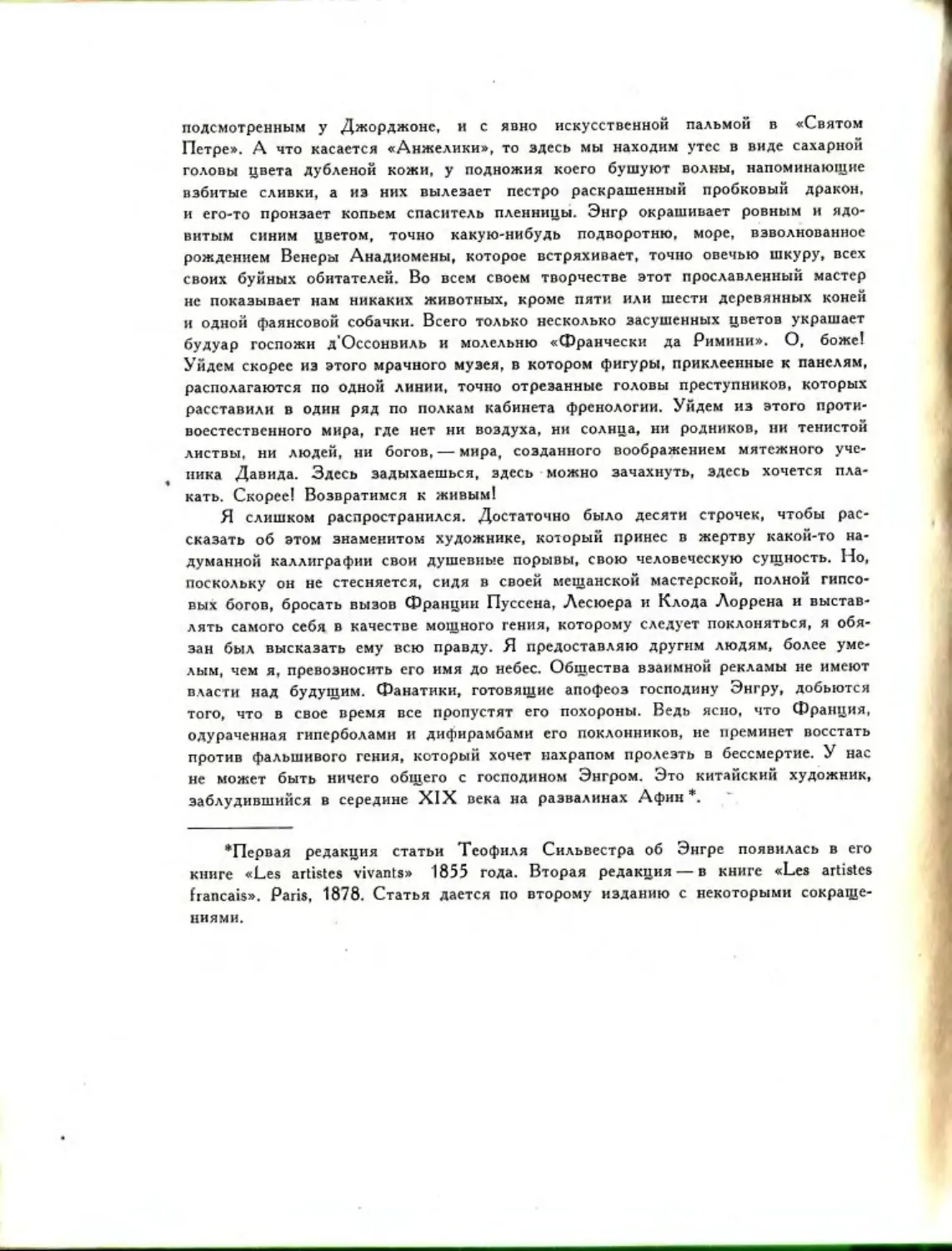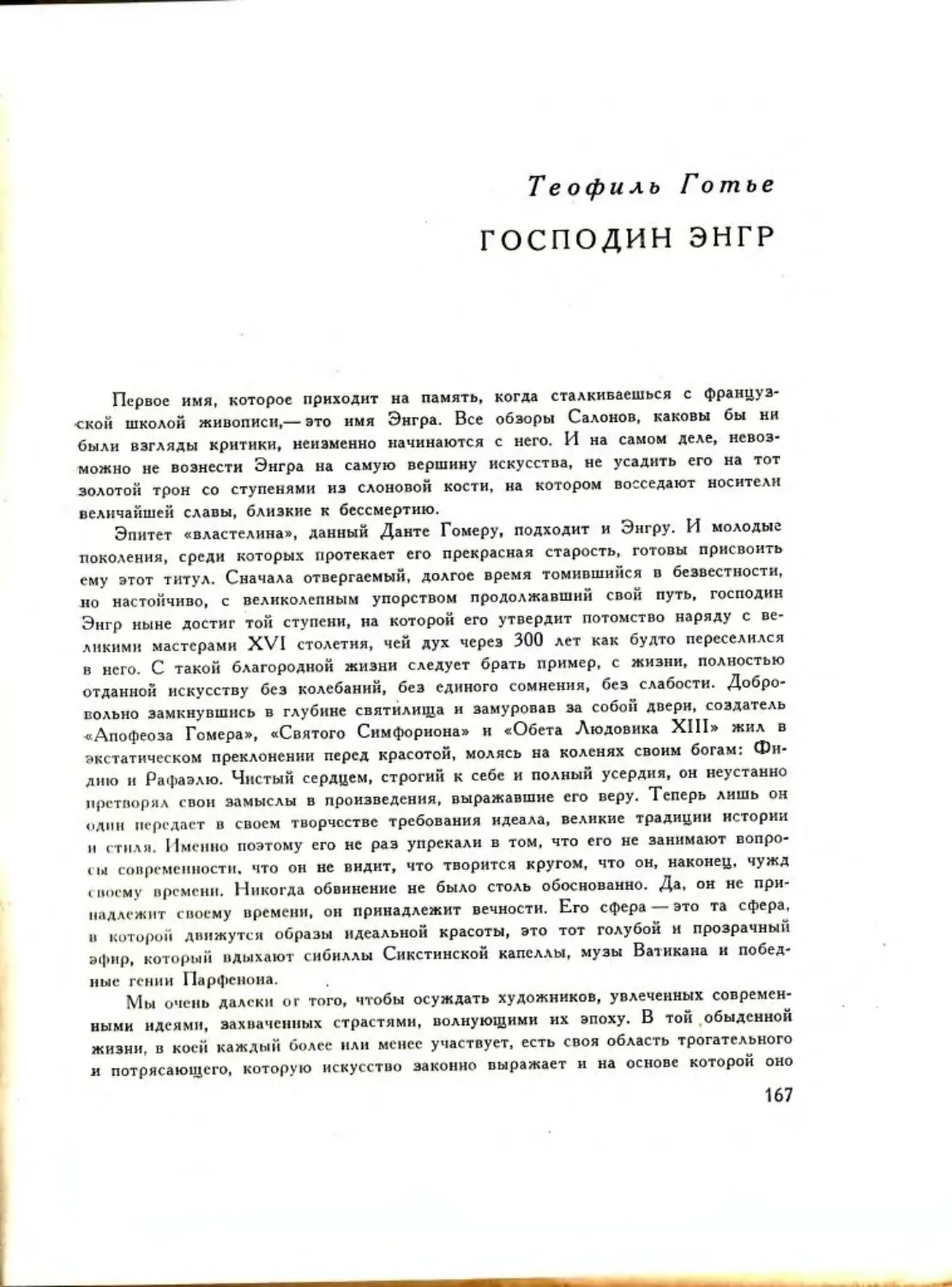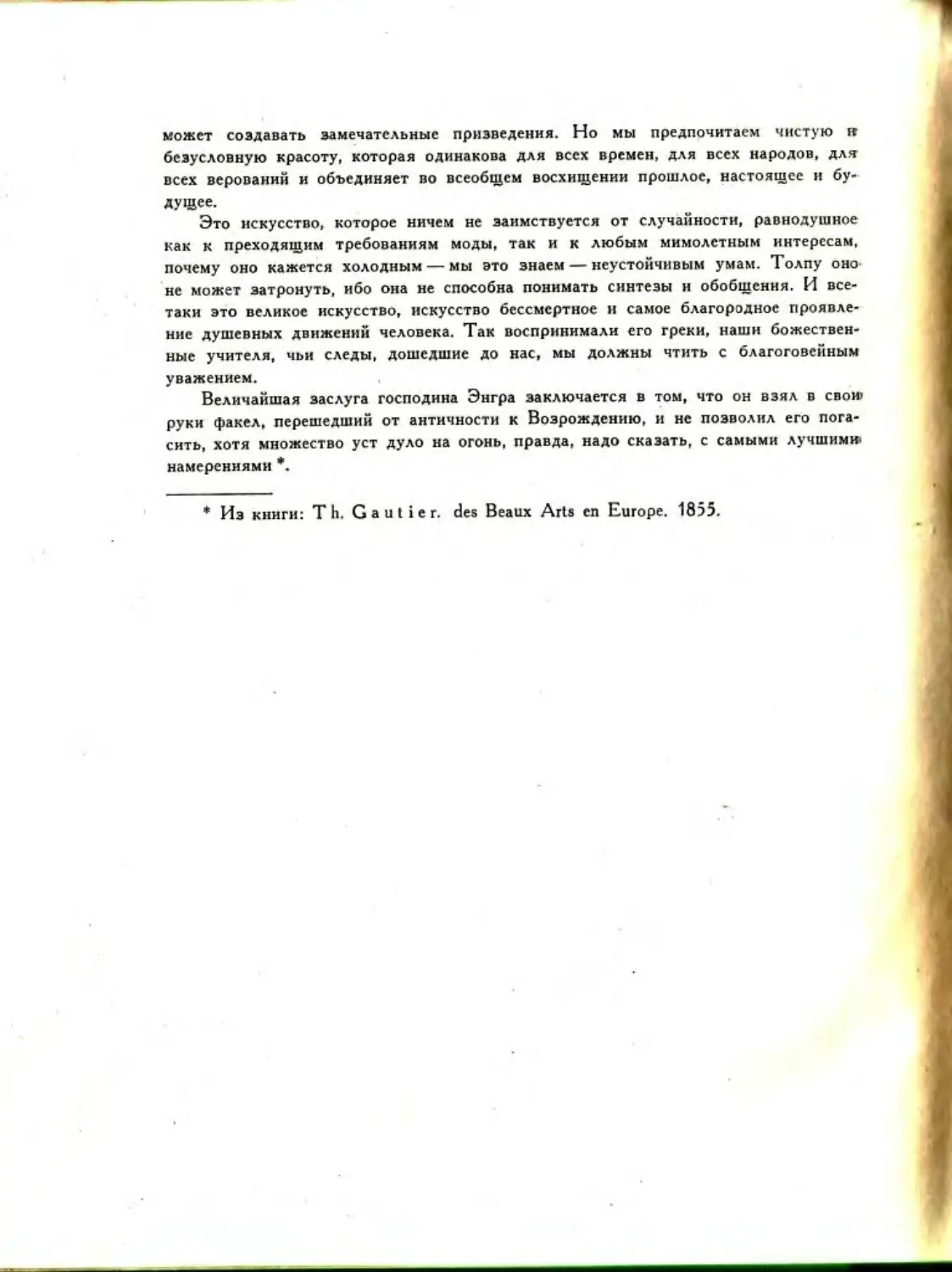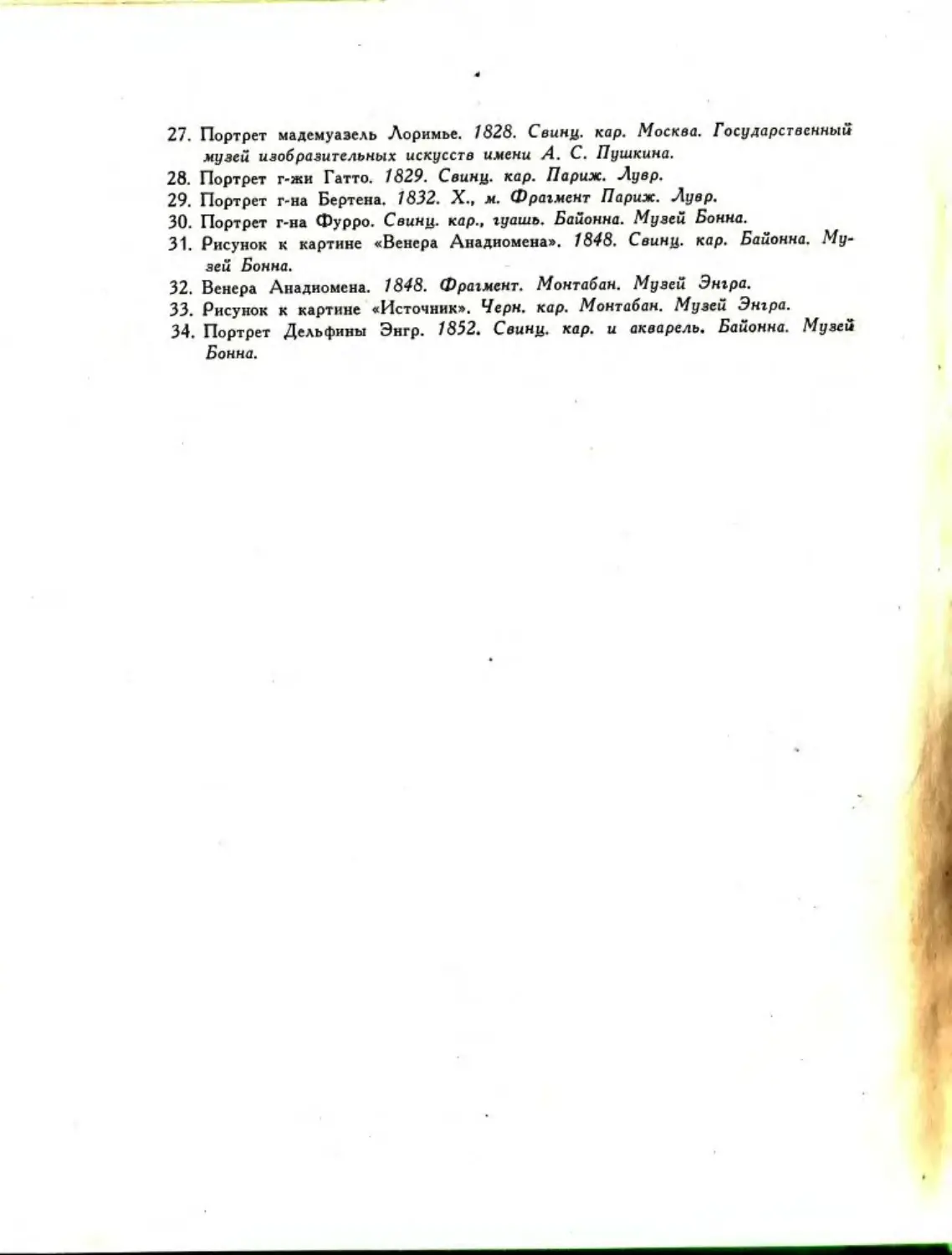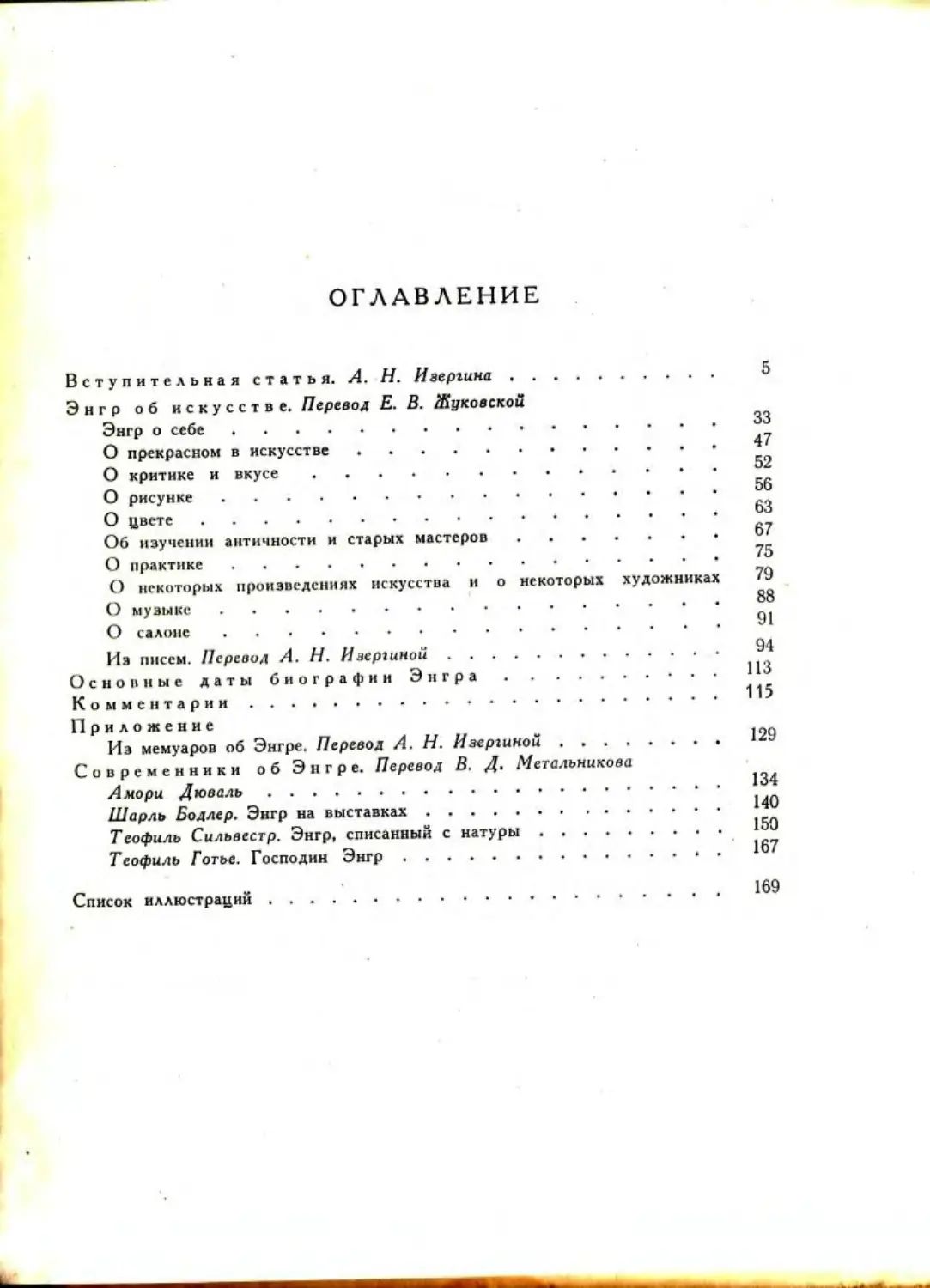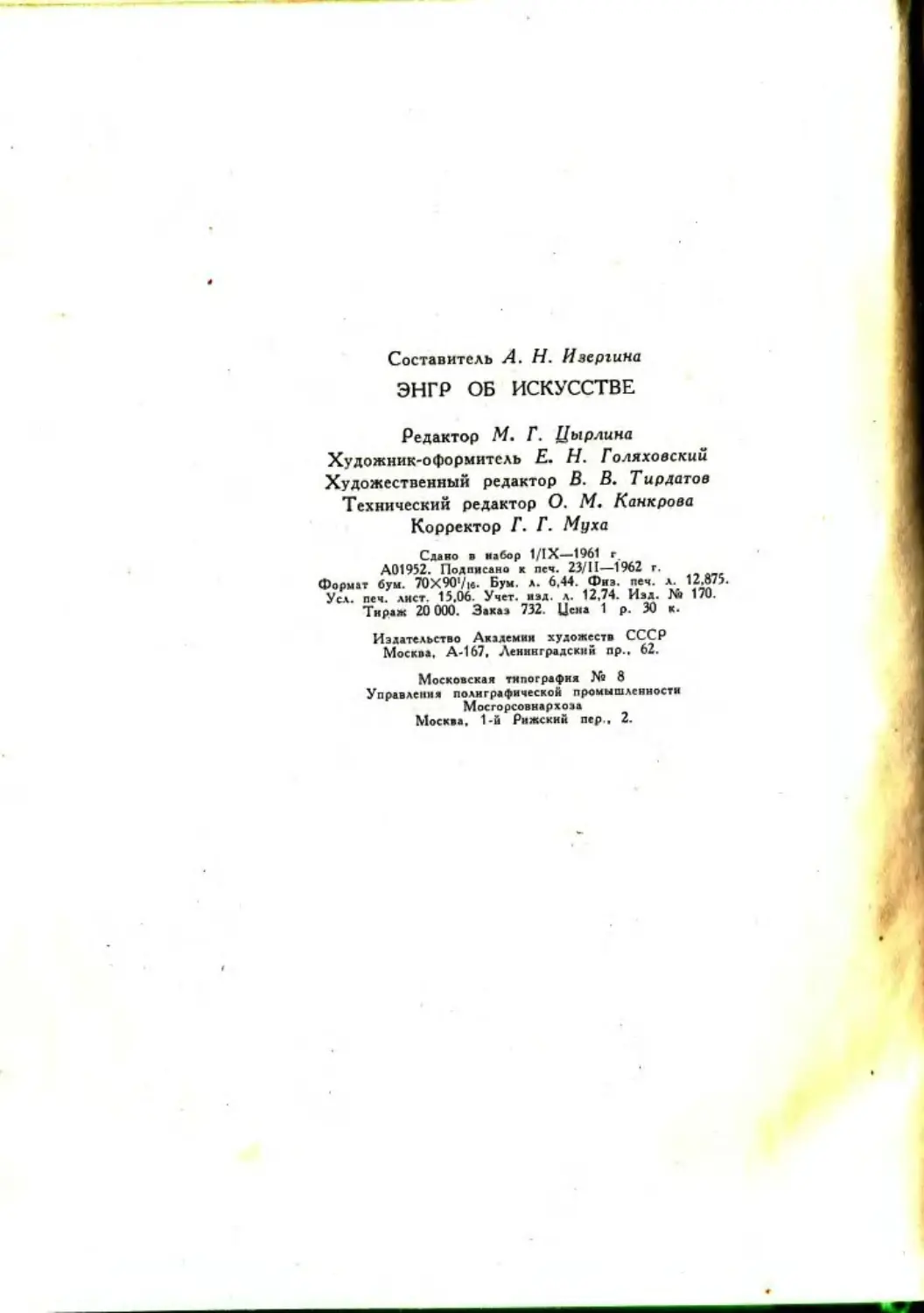Текст
ОБ ИСКУССТВЕ
Составитель,
автор вступительной статьи
и комментариев
А. Н. ИЗЕРГИНА
3£i/&odfeecmi8
/
Перевод текстов Энгра дастся по монографии Деляборда (Henri D е I а-
borde. Ingres, sa vie, scs travaux, sa doctrine. Paris, Pion. 1870). Энгр, как изве-
стно, не писал критических и литературных работ. Нос 1806 года он вел своеоб-
разный дневник, где записывал свои мысли и суждения об искусстве вперемежку
с конспектами прочитанных книг, черновиками писем, описаниями своих как вы-
полненных, так и невыполненных художественных произведений. Таких тетрадей-
дневников, так называемых «тетрадей Энгра», — десять. Девять из них хранятся
в музее Энгра в Монтабане, причем, основные мысли об искусстве содержатся
и девятой тетради.
В книге Деляборда были впервые опубликованы выдержки из этих дневников,
характеризующие взгляды Энгра на искусство. До тех пор пока не будет пол-
ностью опубликовано эпистолярное наследие Энгра, тексты, собранные Делябор-
дом (в дальнейшем не раз переиздававшиеся), могут считаться наиболее полными
и достоверными.
Кроме текстов Энгра, даются выдержки из переписки художника. Перевод сде-
лан по книге Буайе д'Ажан (Boyer d'Age ns. Ingres d’apres la cor-
respondence in edit e. Paris, 1909). Этой книгой надо пользоваться с ос-
торожностью. Оригиналы писем Энгра к его другу Жилиберу и к некоторым
другим друзьям не сохранились, и неизвестно, насколько точно приводит их в
своей книге Буайе д'Ажан. Но за неимением других источников все исследователи
вынуждены до настоящего времени пользоваться этой книгой.
Некоторые тексты взяты из книги: Norman Schlenoff. Les sources
lilleraires de J. A. D. Ingres. Diss, Paris, 1956-
B специальном разделе приведены выдержки из книги Амори Дюваля
(A m a u г y-D u v a I. L’a t е I i е г d'Ingres. Paris, 1924), оставившего очень
живые и интересные воспоминания о своем учителе. Это главным образом эпизо-
ды из жизни Энгра, очень ярко рисующие его характер. Некоторые эпизоды
пинты из приложения к книге, составленного на основании различной мемуарной
3
литературы об Энгре редактором переиздания воспоминаний Амори Дюваля —
Эли Фором.
В последнем разделе книги в виде приложения даны статьи об Энгре, напи-
санные самыми крупными французскими критиками XIX века, характеризующие
противоречивость суждений об этом художнике. Теофиль Готье был безогово-
рочным защитником Энгра, хотя он понимал его творчество очень односторонне,
видя и ценя в его искусстве воплощение «идеальной красоты». Шарль Бодлер
являлся страстным приверженцем творчества Делакруа. В сущности у него нет
четко выработанной оценки Энгра. Его острые, во многом противоречивые
статьи как бы отражают противоречивость творчества самого Энгра. Но он был
достаточно прозорлив и зорок, чтобы найти очень меткие и верные определения
некоторых сторон произведений Энгра. Теофиль Сильвестр — представитель кри-
тики демократического лагеря; его статью, очень резкую, но в самой пылкости
которой чувствуется признание автором огромного значения творчества Энгра,
мы считаем желательным привести потому, что в ней содержится очень ценный
раздел, где даются высказывания самого художника, не записанные им, но широ-
ко известные в художественных кругах его времени.
ысказывания Энгра об искус-
стве далеко не столь известны, как знаменитые, не раз переизда-
вавшиеся дневники и письма его современника и соперника Дела-
круа. Между тем они являются интереснейшим документом художе-
ственной культуры XIX века.
Энгр не любил писать. В письме своему другу Жилиберу он от-
кровенно говорит о полной неспособности писать письма и вообще
о крайней трудности выражать ясно свои мысли. Но эти слова
Энгра нельзя полностью принимать на веру. Правда, он не напе-
чатал ни одной критической или теоретической статьи. Но он сумел
сформулировать свои взгляды и убеждения с предельной ясностью
и порой облечь их в блестящую стилистическую форму. Энгр любил
повторять: «Стиль—это человек». Острой меткостью, сжатостью,
лаконизмом некоторые высказывания Энгра подобны лучшим его
рисункам.
Об Энгре в современной искусствоведческой литературе сущест-
вуют самые различные мнения. Его место в развитии французского
искусства, его роль и значение вызывают самые разные толкования.
Нет такого серьезного исследования, где о нем ни говорилось бы как
о наиболее спорном художнике. За последние годы Энгр — обязатель-
ный участник ретроспективных выставок искусства классицизма,
равно как искусства романтизма, а также всех тех, где экспониру-
ются самые высокие шедевры французской живописи XIX века.
Эта противоречивость суждений может показаться неожиданной
и удивительной, ибо до самого недавнего времени историческая репу-
тация Энгра (и как художника, и как теоретика) считалась очень
твердо установленной и, видимо, не подлежащей никакому пересмотру.
5
Энгр —строгий последователь традиции классицизма, не допус-
кавший никаких отступлений от заветов античности и Рафаэля, пла-
менно сражающийся за непогрешимую чистоту рисунка, за твердый,
обязательный для всех метод против фантастики, субъективизма,
колористических «безумств» романтиков; Энгр, плачущий от вос-
торга при одном упоминании имени Рафаэля, впадающий в гнев-
ное неистовство, когда речь заходит о Рубенсе или о Делакруа, —
таким он предстает в подавляющей части своих высказываний, таким
он вошел во многие истории искусства и, что является самым глав-
ным, таким видел себя он сам.
И Энгр, действительно, был таким — страстным поборником вы-
сокого художественного идеала, вечный прообраз которого возник в
античной Греции и вновь возрожден гением Рафаэля. Произведения
Рафаэля, музыка Глюка, Моцарта, Гайдна и прежде всего «боже-
ственное» античное искусство, малейшее сомнение в прелести кото-
рого Энгр расценивает как оскорбление, — вот предметы его «неиз-
менного обожания». О неколебимой верности этим раз навсегда из-
бранным великим примерам Энгр пишет в своих тетрадях-дневни-
ках, в письмах друзьям; он говорит об этом во всеуслышанье и все-
народно: в мастерской, на заседаниях Академии, в светских гости-
ных и на официальных приемах; говорит, как умел говорить только
Энгр,— непререкаемо, повелительно, как всеведущий пророк, не тер-
пящий никаких возражений. В своей ненависти Энгр так же нетер-
пим и пылок, как в любви. Он предает проклятью всех, кто отступает
от указанного им, единственно правильного пути, называет Рубенса
мясником, Делакруа — апостолом безобразия и требует убрать из
Лувра произведения Жерико, дабы не приучать публику к уродству.
Настойчиво и неутомимо восхваляет он Рафаэля, Моцарта, Гайдна,
иногда добавляя имена Пуссена и Бетховена, хотя и отмечает, что
последний «не необходим».
С нс меньшим жаром Энгр говорит о природе как истинном источ-
нике красоты в искусстве. Он великолепно формулирует основные
условия возникновения и развития всякого подлинного искусства,
когда с присущей ему энергией утверждает, что «представить
красоту, которая была бы выше природы, так же невозможно, как
иметь представление о шестом чувстве», что «только в природе
6
можно найти то прекрасное, которое является великим объектом жи-
вописи», и вдохновенно восклицает: «Вы трепещете перед натурой?
Трепещите, но не сомневайтесь!». Но Энгр не может полностью
освободиться от классицистических догм. Сколько бы он ни твер-
дил о «прелести живой натуры», Энгр слишком часто предписывает
подчинять природу идеальным нормам античного канона и делать
выбор из нее «согласно вкусам древних мастеров». «Я вижу Кра-
соту только в Правде, той Правде, которая делает прекрасными Го-
мсра и Рафаэля», — говорил Энгр (курсив мой. — А. И.)-
Но при внимательном анализе всей совокупности теоретических
высказываний Энгра можно убедиться, что они далеко не так ясны
и просты, как это может показаться первоначально, и во всяком
случае ни в какие рамки классицизма не укладываются. Он был не
только таким, каким он предстает в большинстве своих высказыва-
ний, и это является самым основным для понимания его удивитель-
ной личности. Хрестоматийный образ Энгра-классика, заштампован-
ный многими позднейшими критиками и историками, при первом
же более глубоком взгляде теряет свою одноплановость. Сколько от-
ступлений, сколько неожиданных соприкосновений с совсем проти-
воположными идеалами можно обнаружить у этого грозного рев-
нителя, казалось бы, раз навсегда выработанных истин. Какие про-
тиворечивые стремления таились в этом человеке, сумевшем необъ-
яснимым образом воплотить самое вопиющее противоречие: быть
цельным и двойственным в одно и то же время.
В сущности почти каждому из теоретических положений Энгра
можно у него же найти более или менее решительно высказанное
опровержение, ставящее под сомнение царственную уверенность, с
какой он эти положения утверждал. Энгр выступает как первосвя-
щенник господствующей церкви и как еретик одновременно, прояв-
ляя странное непослушание, непокорность тому, что он так безапел-
ляционно предписывает. Словно червь сомнения сосал Энгра, когда
он так энергично отгораживался от^всех соблазнов, манящих его
выйти за прочную стену, которую он сам возвел вокруг себя.
Энгр, на которого с самых первых его шагов смотрели как на
главный оплот классической школы (с начала XIX века принимав-
шей все более реакционный характер), оказался первым ее отступни-
7
ком. Даже если отбросить как недостоверную знаменитую фразу,
которую он якобы произнес, впервые увидев в молодости ранних
итальянских мастеров: «Как они меня обманули!» (под словом «они»,
подразумевая французских художников, насаждавших безропотное
поклонение античности), — все равно надо признать за ним сме-
лость открытого признания живописи треченто и кватроченто. Энгр
сумел оценить ее художественное своеобразие (хотя оно во многом
противоречило доктрине классицизма) задолго до романтиков, до
назарейцев, не говоря уже о прерафаэлитах. Его запись 1813 года,
где он санкционирует игнорируемые в то время сюжеты из средне-
вековья и истории Франции и говорит о намерении, используя их,
«придать своим произведениям неизвестный доселе характер», в
сущности тоже может быть причислена к первым программным до-
кументам романтизма. Правда, надо отметить, что увлечение при-
митивами и Средневековьем падает на молодые годы Энгра, когда
«дух искательства» проявлялся в нем с наибольшей силой. Но даже
если обратиться к сформулированным им уже в зрелый период основ-
ным, краеугольным принципам его программы, можно убедиться, что
Энгр никогда не был последователен и дьявол противоречий неиз-
менно подтачивал стройность защищаемых им теорий.
Всем известны знаменитые положения Энгра о доминирующем
значении рисунка, который «содержит в себе более трех четвертей
того, что представляет собой живопись», о подчиненном месте коло-
рита, выполняющего, по его образному выражению, «роль придвор-
ной дамы». И в то же время Энгр с восхищением пишет о Тициане,
строго предписывает ученикам учитывать малейшее изменение тона
каждого предмета. Он говорит, что однотонный эскиз к картине всег-
да должен «выражать чувство цвета», и неоднократно откровенно
признается, что когда пишет, то «всегда думает о венецианцах».
В одном месте Энгр предписывает никогда не работать, не имея
живой модели перед глазами, и говорит, что «не следует писать ни
руки, ни даже пальца по памяти», но в письме к Гатто он заявляет
о «невозможности следовать в точности за моделью, поскольку она
редко может дать все, что хочешь создать, и то, чего она дать не
может, достигается только гениальностью художника». Иногда Энгр
требует «слепо списывать с натуры», в другой раз столь же
8
I
7. Автопортрет. 1835
2. Портрет мадемуазель Ривьер. 1805. Фрагмент.
3. Портрет г-жи Ривьер. 1805
4. Семья Форестье. 1806
। Arno слушаться античных образцов. Действительно, нужно при-
мни м*. что человек, пожелавший свести воедино все мнения и советы
. >ш ри, оказался бы в весьма трудном положении!
Казалось бы, уж на что резко критиковал Энгр Рубенса и его
школу! Не он ли приказывал своим ученикам закрывать глаза, ког-
да п Лувре они проходят мимо полотен великого фламандца? И вот,
окп 1ывается, что в его альбоме есть рисунок с «Трех граций» Ру-
бенса, а что касается малых фламандцев, то в письме к Маркотту
Энгр говорит о них как о «превосходных художниках», которых он
। <iK же, как и голландцев, «всегда берет себе за образец». Энгр очень
хорошо в них разбирается: называет «глупой и бесполезной мелоч-
ную законченность Жерара Доу», восхищается «сильным и нежным
мазком Метсю» и считает «прекрасными словно только тронутые
краской картины Тенирса».
Непредвиденность таких отклонений приводила иногда к очень
курьезным историям, в которых, быть может, ярче чем где бы то
ни было выступает внутренняя противоречивость Энгра. Маститый
мэтр говорил всегда так императивно, с ним так прочно был спаян
очень определенный круг художественных идеалов и убеждений,
что, казалось, заранее можно было знать, кого признает и кого от-
вергает его деспотический вкус. Но на какие неожиданности нары-
вались те, кто верил этой императивности!
Однажды гравер Каламата, видимо стремясь завоевать благо-
склонность мэтра, принялся в его присутствии вышучивать имя Рем-
брандта. С каким гневом налетел на него Энгр! — «Имейте в виду,
что рядом с Рембрандтом и вы, и я — мы только ничтожества».
В другой раз в доме Энгра неосмотрительный гость, тоже желая сде-
лать приятное хозяину и считая, что он действует наверняка, сказал,
что не понимает, как можно восхищаться Ватто и даже произносить
здесь его имя. «Как, — вскипел Энгр, — да знаете ли вы, что это ве-
ликий мастер... его творчество всегда со мной, и я с ним советуюсь!»
Конечно, нужно учитывать, что Энгр был человек капризного
и раздражительного нрава. К тому же он принадлежал к людям, ко-
торые предпочитают говорить сами и не очень-то любят, когда при
них высказываются другие. И все-таки бурность его реакции нельзя
объяснить только этим. В сущности неосторожные собеседники гово-
9
рили то, что должен был бы говорить он сам, если исходить из его
основных установок. Но собственные мнения, услышанные из чужих
уст, потрясали Энгра и вызывали самое искреннее негодование. Они
словно разжигали затаившийся в нем самом протест против тех свя-
тых истин, единственность которых он так категорически утверждал.
Если подобные противоречия все-таки при желании можно рас-
ценить как невольную дань уважения, приносимую Энгром пусть
идущим по чуждому ему пути, но великим живописцам, то можно
найти у него много более серьезные отклонения, носящие уже прин-
ципиальный характер.
Так, например, если исходить из программных высказываний
Энгра, — он предстает человеком очень определенных вкусов. Он
считает, что самый красивый цветок — роза, самая прекрасная пти-
ца— орел, самая лучшая статуя — Фидия, картина — Рафаэля, музы-
ка— Моцарта и т. д. Недаром Энгр предписывал идти по широкой
дороге наиболее проверенной традиции классицизма. А между тем,
его тянуло подчас к совсем противоположному — к чему-то первич-
ному, неясному, аморфному. Словно завеса приподнимается над ми-
ром смутных влечений Энгра, когда этот поклонник всего созревшего,
законченного, очевидного с удивительной прозорливостью пишет:
«У истоков некоторых искусств есть много неоформленного, но оно
таит в себе больше совершенств, чем самое завершенное искусство»,
а в другом месте говорит о «грубых образцах искусства», в которых
«можно найти очень важные открытия». Где мог столкнуться Энгр
с необычными для него «истоками искусств» каких-то, возможно,
примитивных культур, в которых он сумел почувствовать новые воз-
можности вдохновения? Об этом Энгр не говорит. И вообще можно
только предполагать, что если так много «еретических» отклонений
он облек в слова, то о скольких же вещах, которые его влекли и вол-
новали, он умолчал. Неясно его отношение к восточному искусству.
Когда один путешественник, приехав из Персии, говорил при нем о
прелести персидской музыки, по своему строю и ритмам не только
отличной, но противоположной музыке европейской, то Энгр встре-
вожился и пришел в отчаяние, так как не знал, «они ли обманыва-
ются или мы здесь обманываемся с Глюком, Моцартом и Бетхове-
ном». Но в области живописи это было не так. Амори Дюваль уве-
10
ряет, что Энгр восхищался японскими гравюрами задолго до импрес-
сионистов, еще когда в 1805 году писал портрет г-жи Ривьер, а
современные исследователи заняты выяснением, какие образцы вос-
точного искусства мог видеть Энгр, потому что без них нельзя по-
нять возникновение таких картин, как «Стратоника» или «Одалиска
и рабыня» — этих плоских цветных мозаик, которые он сам назы-
вал «своими миниатюрами». Что думал этот апостол гармонии и воз-
вышенной красоты, когда, идя по улицам Парижа, нарочно удлинял
путь, чтобы посмотреть на выставленные в витрине карикатуры
Домье? Некоторые его пристрастия подчас так неожиданны, что
когда он восклицает: «О как чудовищно и странно любить с равной
страстью и Мурильо, и Рафаэля!» — то уже не вполне ясно, упрек
ли это инакомыслящему или самому себе, познавшему тревогу несов-
местимости, и возмущение или отчаяние звучит в его голосе? Все эти
противоречия и непоследовательности Энгра часто приводили к ост-
рому внутреннему конфликту. Это весьма любопытная и вполне
объяснимая черта его теоретических рассуждений.
Именно потому, что девиз, начертанный на его знамени — «Ра-
фаэль и античность», был так неумолимо узок, всякое отклонение
принимало у него характер подсознательной уступки, непроизволь-
ной оговорки, тайной измены раз навсегда избранному идеалу. И так
как Энгр всегда всему хотел дать ясную, внятную форму, все хотел
осознать, во всем дать себе отчет, он ищет пути для выражения му-
чающих его несогласий.
Не в связи ли с этим стоит оставленное им описание одной заду-
манной, но невыполненной композиции? Он взялся за традицион-
ную тему, собираясь изобразить избиение младенцев, но останавлива-
ется на следующем очень странном и, видимо, выдуманном им самим
эпизоде; в разгар резни обезумевшая мать прячет своего ребенка в
складках плаща восседающего на троне Ирода. И Ирод, охваченный
внезапным, подсознательным порывом сострадания, инстинктивным
жестом защищает младенца от нападающего по его же приказанию
воина. Только Энгр, сам испытавший силу таких вспыхивающих напере-
кор логике и рассудку порывов, мог задумать подобное произведение!
Быть может, такое толкование этого замысла произвольно, но во
всяком случае в письмах своим самым близким друзьям Энгр очень
11
точно и ясно пишет о том внутреннем смятении, которое его одоле-
вает. Эти строки не часто привлекали внимание исследователей. Уж
очень они не вяжутся с обычной позицией Энгра, уверенно утверж-
дающего, что он единственный способен указать истинный путь в
искусстве и всегда может «обосновать величие того, что любит и
обожает». Но именно в этих «дисгармонирующих» строках, быть
может, явственней вскрывается сокровенная сущность Энгра. Они
настолько неожиданны и интересны, что мы позволим себе привести
их полностью. В письме Жилиберу от 27 февраля 1826 года Энгр
после обычных сетований на недостаток литературного образования
и «неуменье писать хорошим слогом» говорит: «Впрочем, мне ка-
жется, что изучение всех этих предметов мне ничего не дало бы, так
как все мои понятия и представления находят себе убежище в обла-
сти инстинкта, основаны на том, что не поддается методическому
изучению. Они пришли и воцарились в моем интеллекте без всякого
сознательного участия с моей стороны». И еще более «ясно о неяс-
ном» Энгр пишет Маркотту 21 декабря 1834 года: «Я не всегда по-
винен в том, что создан не таким, как другие... Я не всегда могу
сказать и объяснить то, что, быть может, является для меня подчас
необъяснимым, в силу чего большая часть моих идей, моих непонят-
ных ощущений — другие называют это фантазией — мучает меня
почти непрерывно и ставит в постоянную оппозицию ко всему,
что вокруг делается и говорится». Можно прибавить, что «непонят-
ные ощущения» Энгра ставили его нередко в оппозицию к себе
самому.
При непредвзятом изучении всего, что было сказано Энгром об
искусстве, становится очевидным огромное значение этих с трудом
сдерживаемых и все-таки прорывающихся скрытых влечений и стра-
стей, ломающих гармонию его классицистических теорий. И тогда
новый свет падает на то упорство, с которым Энгр эти теории от-
стаивал. Когда он с фанатическим упрямством уже не говорит, а кри-
чит о своей безоговорочной преданности античности и Рафаэлю, то
начинает казаться, что он стремится убедить не только своих вра-
гов, но и самого себя. Слова его звучат не как «присяга верности»,
а как некое заклинание, которым он хочет заворожить силы, грозя-
щие его возвышенным застывшим идеалам.
12
* * *
Когда современные исследователи говорят о противоречивости
Энгра, они обычно ищут ей объяснение в противоречиях самой лич-
ности художника: в столкновении убеждений и темперамента, рас-
судка и чувства, сознательного и подсознательного и т. д. Но для
того чтобы найти истинную причину этих противоречий, нужно
выйти за пределы анализа его индивидуальности. В основе всех
внутренних конфликтов Энгра лежит трагическое, может, единст-
венное в своем роде на протяжении всей истории искусства, столкно-
вение художника со своим временем.
Энгр — художник XIX века, и надо сказать точнее, первой его
половины. Далеко не все могли осознать тогда значение тех корен-
ных сдвигов, того кризиса, который разразился на рубеже нового
века в области искусства. Художественные традиции предшествую-
щих столетий, когда изобразительное искусство стояло на огромной
высоте и играло такую большую роль в идеологической жизни на-
родов,— еще владели умами художников. Но всякая попытка прод-
лить и укрепить эти традиции в новых социальных условиях, в си-
стеме буржуазно-капиталистического строя могла быть только уто-
пией. А традиция классицизма, столь дорогая сердцу Энгра, была,
пожалуй, наиболее «противопоказана» новому веку. Энгр этого со-
вершенно не понимал и упорно хотел стать «Рафаэлем своего вре-
мени». С присущей ему железной решительностью он стремился к
тому, что было неосуществимо. Он хотел искусства великих идей и
высокой общественной значимости, большого монументального стиля
и единой устремленности. А сталкивался с индивидуалистической
разобщенностью, с распадом больших стилей, с «самой свирепой анар-
хией» (как он сам говорил) вкусов и убеждений. Энгр свято верил
в вечную жизнь классических идеалов, воплощенных в искусстве
античных мастеров и художников Возрождения, а между тем, на его
глазах эти идеалы были взяты на вооружение самой реакционной
идеологией и опошлены, извращены в мертвенном эпигонстве офи-
циального академизма. Энгр хотел иметь школу, учеников, которые
несли бы дальше светоч высокого искусства, но его мастерская по-
рождала не продолжателей, а подражателей и имитаторов. Энгр
жаждал гармонии и взаимопонимания между художником и совре-
13
менниками, хотел видеть просвещенных и тонких ценителей, а встре-
чал «невежество и глупость публики» и столь характерное для свет-
ской черни XIX века неумение любить и распознавать подлинное
искусство. И Энгр, охваченный великим, справедливым гневом и
«чувством бескомпромиссного, непримиримого протеста», возненави-
дел свой век. Сколько суровых и горьких истин высказал он в адрес
буржуазного общества Франции, когда разоблачал варварство, про-
дажность, корысть, царящие в сфере общественной и художествен-
ной жизни, где «истинный талант принужден шляться по улице»,
где стыдятся серьезного искусства и где он тщетно «вопиет в пусты-
не любить Истину и Красоту».
Энгр не сразу понял неизбежность разрыва со своим временем.
В 1806 году в письмах к друзьям он откровенно писал о своем често-
любии и о том, что «жажда славы его терзает». Но в таких заявле-
ниях, на которые вряд ли рискнул художник более позднего време-
ни, не было ни капли суетности. Это было выражение наивной веры
художника, начавшего работать на рубеже XVIII и XIX веков, в
то, что подлинный художник так же, как это было в предшествую-
щие столетия, будет признан, понят и вознагражден. Только посте-
пенно Энгр осознал, что в его время слава и богатство — это удел
бездарностей и приспособленцев, а судьба настоящего художника —
одиночество и непонимание. В данном случае Энгр не является
исключением. В сущности все выдающиеся художники XIX века
были в остром разладе с обществом, все они постепенно теряли на-
дежду на завоевание широкой общественной арены для своего твор-
чества. Когда Энгр пишет, что он стремится нравиться лишь самому
себе, а затем немногим друзьям, что он хочет уйти от людей и жить
в тишине среди самых своих близких привязанностей, то это пишет
художник XIX века, вынужденный мириться с той изоляцией, на
которую обрекла его историческая действительность. Он говорит то
же самое, что и другие художники, в том числе и его противник
Делакруа.
Знаменитому спору Энгра с Делакруа в свое время придавалось
огромное значение. Он рассматривался чуть ли не как основной
фактор французской художественной жизни первой половины и се-
редины прошлого столетия. Некоторые склонны считать, что спор
14
между рисунком и цветом актуален и по сие время. Между тем, в
исторической перспективе то, что разделяло этих художников, ка-
жется второстепенным, и оба они предстают как крупнейшие живо-
писцы своего времени, стоящие, пусть непримиренные, по одну сто-
рону баррикад в борьбе за подлинное искусство против «антихудо-
жественности» мещанской буржуазной идеологии.
Делакруа, замкнувшийся в своей парижской мастерской на улице
Фюрстенберг, говорит, что он «не имеет ни малейшей симпатии к
настоящему времени». Энгр клянется «не делать ни одного удара
кисти для публики, у которой так мало симпатии к благородному
искусству». Когда перечитываешь сейчас дневники Делакруа и за-
писи Энгра, подчас поражаешься общности взглядов этих когда-то
ярых врагов и там, где они с равным гневом говорят о бездарности
своего времени, и даже там, где они анализируют процессы творче-
ства и путь создания художественного произведения.
Но есть одно, чрезвычайно существенное различие в их художе-
ственном мировоззрении, определившее в конечном счете и резкое
различие их общественной позиции, и их судьбы. Из своей ненависти
к настоящему Энгр и Делакруа сделали прямо противоположный
вывод. Делакруа отвергал жалкий уровень господствующих требо-
ваний ради смелого новаторства, ради поисков новых путей, и не
случайно тянутся от него такие прочные нити к искусству следую-
щих поколений: к эмпирическому методу реалистов, к живописным
завоеваниям импрессионизма. Энгр проклял свой век ради прошло-
го. Делакруа, говоря о непрерывной закономерной изменяемости ис-
кусства, распахивал перед художниками необозримые горизонты бу-
дущего. Энгр прошлое выдавал за вечное. Не случайно представле-
ние о золотом веке как о минувшем, недостижимом для современ-
ности совершенстве, было его любимой идеей. Постепенно эти убеж-
дения принимали все более определенный и опасный характер. С го-
дами одно предположение, что ь сфере искусства может возник-
нуть что-то новое, начинает вызывать в нем настоящую ярость.
Энгр говорит невероятные, убийственные для всякого искусства ве-
щи, когда раздраженно и злобно клеймит всех, кто требует нового,
когда утверждение, что «все меняется и уже изменилось», называет
«нелепым изречением и софизмом». Какое полное непонимание
15
законов исторического развития проявляет Энгр, когда пишет: «Они
хотят новшеств! Они хотят прогресса и разнообразия и, чтоб опро-
вергнуть нас, дающих советы строго подражать античности и вели-
ким мастерам, противопоставляют нам развитие наук в наше время!»
И дальше, признавая правомерность развития науки, решительно
утверждает, что в искусстве «все уже найдено, все уже сделано и
ничего существенного нельзя открыть после Фидия и Рафаэля».
Здесь перед нами уже не «хранитель верных доктрин», как однажды
назвал себя Энгр, а человек, повернувшийся спиной к современно-
сти, заткнувший уши, чтобы не слышать шума времени, живого го-
лоса реальной жизни.
Эта позиция, которую Энгр занял так демонстративно и вызы-
вающе, не могла остаться безнаказанной. И действительно она ска-
залась на нем самым зловещим образом. Она свела его с публикой,
которую он так презирал, принесла ему официальную славу, сделала
признанным мэтром, даровала знаки отличия, и она же лишила его
внутреннего спокойствия и наложила тяжелую печать на значитель-
ную часть его творчества.
/
* * *
Разбор творчества Энгра не входит в задачи данной статьи. Мы
остановимся только на некоторых его особенностях, которые так не-
посредственно связаны с его теоретическими высказываниями.
В сущности искусство Энгра так же двойственно и непоследова-
тельно, как и его эстетика и философия. Пожалуй, нельзя найти
человека даже среди самых горячих поклонников его таланта, кото-
рый безоговорочно принял бы все, что им создано. ч
Между тем, с первого взгляда как будто трудно говорить о раз-
норечивости творчества Энгра, ибо есть одна черта, присущая всем
без исключения его произведениям: это — огромное мастерство. Энгр
стал замечательным мастером не постепенно в процессе формирова-
ния и обучения. Он им родился. Недаром соученики по мастерской
Давида, еще когда Энгр только начинал работать, поражались зре-
лости и силе его рисунка. Великий дар исполнителя в соединении с
непрерывным стремлением к совершенству привел к тому, что все, соз-
данное рукой Энгра, находится на такой высоте профессионализма
16
которая уже сама по себе говорит об исключительном, редком
таланте. И все-таки разную оценку получают перед судом времени
различные его произведения. Энгр — художник, в творчестве кото-
рого причудливо сосуществуют самые нелепые заблуждения искусст-
ва XIX века с самыми высокими его достижениями.
В своей преданности старым традициям Энгр совершенно искрен-
не верил, что если со всей тщательностью и напряжением души пи-
сать мадонн и подвиги христианских святых, Венер и античных ге-
роев, стараясь как можно ближе подойти к высоким примерам
прошлого, то во Франции XIX века будет существовать искусство
столь же великолепное и значительное, как в эпоху Ренессанса, столь
же прекрасное, как в античной Греции. И он их писал — большие про-
граммные полотна: «Передача ключей св. Петру», «Обет Людови-
ка XIII», «Триумф Гомера», «Мадонна с остией»; писал, тратя на
них годы жизни и самоотверженного труда. У него хватило и высо-
кого мастерства, и упорства, удесятеренного силой убеждения. Но при
асем желании он не мог вдохнуть в них живое историческое содер-
жание. То, что было подлинно возвышенным и притом естественным
' Рафаэля, органично и вольно воплощавшего великие гуманистиче-
ские идеалы своего времени, становилось насильственным, искусствен-
ным и неизбежно подражательным у Энгра. Воспоминания о тради-
ции, о шедеврах прошлого не поднимали, а душили художника.
Идеальная гармония «Афинской школы» выдает прозаическую су-
хость «Триумфа Гомера», свободная вдохновенность «Сикстинской
Мадонны» — ложную возвышенность «Обета Людовика XIII». Энгр
говорил в этих произведениях о том, что было ненужно его времени
и что давно уже было сказано другими.
Как характерна драматическая история с картиной «Св. Симфо-
рион, идущий на казнь». В течение восьми лет работал над ней
художник. Он возлагал на нее самые большие надежды, стремясь
потрясти зрителей, доказать им, что он, современный живописец,
может создать произведение «почти такое», какие создавал Рафаэль.
И какое страшное разочарование постигло Энгра на выставке Сало-
на 1834 года, где его любимое детище было так холодно принято
«неблагодарной толпой». Для приспешников Академии оно было
слишком серьезно, для передовых общественных кругов — мертво.
2 Энгр об искусстве
17
Кого могла взволновать трагическая участь Симфориона, когда еще
живы были в памяти боевые дни Июльской революции, когда новые
реальные трагедии разыгрывались в рабочих кварталах Парижа и
Лиона? Кого из художников, героически пробивавших себе путь
сквозь классицистическую рутину к новым завоеваниям реализма,
могло интересовать вымученное подражание формам Ренессанса,
столь очевидное в этой несчастной картине? А между тем, какое ма-
стерство вложено во все эти эклектичные произведения! Но мания
подражательства и мертвенность отвлеченной, да еще заимствован-
ной идеи делали это мастерство бесплодным. Тридцать рисунков,
один блистательней другого, создал Энгр, работая над алтарным
образом «Передача ключей св. Петру», чтобы в итоге накинуть ака-
демический шаблонный плащ на плечи Христа, написанного по об-
разцу итальянских картин XVI века. Десятки листов покрыл Энгр
замечательными набросками и зарисовками для каждого персонажа
толпы, окружающей Симфориона, чтобы в конечном счете заморозить
их в неподвижном хаосе безжизненной композиции.
Но Энгр не сдавался. Ни одна неудача не поколебала его неж-
ной привязанности к своим программным произведениям. Он пред-
почитал верить снисходительному одобрению невежественного пра-
вительства и Академии, чем прозорливым критикам, обвинявшим
его в консерватизме. К концу жизни Энгр, многолетний свидетель
пестрой, полной драматических событий художественной жизни са-
мого беспокойного века, желая «завершить свой багаж», пишет боль-
шую композицию «Христос в храме», снова совершенно отжившую
по идее, снова безукоризненную по мастерству и насквозь пронизан-
ную ледяным холодом отвлеченности. Каким чудовищным анахрониз-
мом выглядела эта композиция в 1862 году на фоне тех задач, кото-
рые стояли тогда перед французской живописью, когда уже отошли
в прошлое шумные схватки романтиков с классицистами и Домье,
Курбе, Милле окончательно закрепили великие завоевания фран-
цузского реализма!
* * *
Если бы Энгр оставил после себя только бездушное величие
своих больших исторических композиций, его, действительно, можно
было бы счесть упрямым подражателем, заслужившим сомнительно
лестное прозвище «Рафаэля, заблудившегося в XIX веке», способ-
ным создавать, как говорил Теодор Руссо, «прекрасное, но потерян-
ное искусство». Но Энгр «Триумфа Гомера» и «Симфориона» — это
еще не весь Энгр.
Что бы Энгр ни говорил или, вернее, как бы ни хранил молча-
ние, — он был слишком большим художником, чтобы не видеть, как
его принципиальный традиционализм в конечном счете сближает
его с ненавидимым им официальным, эпигонским классицизмом Ака-
демии, безличным и шаблонным, который насаждали всесильные по-
следователи давидовской школы. И точно так же, как в своих теоре-
тических рассуждениях, наряду с защитой классицистической доктри-
ны, Энгр внезапно отступал и говорил совершенно неожиданные ве-
щи, так и в творчестве, не снимая с «повестки дня» обязательное
выполнение больших, елико только возможно традиционных произ-
ведений, он вдруг уклонялся от традиций классицизма и начинал
искать совсем иные пути.
Так возникают удивительные ранние произведения Энгра: «Зевс
и Фетида», «Роже и Анжелика», «Паоло и Франческа», «Большая
одалиска», огромная оставшаяся незаконченной композиция «Сон
Оссиана» и другие — эти странные классико-романтические гибриды,
далекие от традиционных рационалистических правил и норм, по-
рожденные свободным, вдохновенным воображением художника.
В них появляются необычные новые черты: вместо перепевов антич-
ных скульптур — вольное претворение изысканных росписей антич-
ных ваз, по-своему использованные реминисценции искусства этрус-
ков, архаики, итальянских примитивов; вместо узаконенной в ака-
демии скульптурной лепки форм — утонченная ритмика линейных
контуров; вместо строгого соблюдения античного канона — порази-
тельная по дерзости гиперболизация форм и нарушение пропорций:
удлиненная шея закинутой в отчаянии головы Анжелики, непомерно
вытянутая умоляющая рука Фетиды, пронзительной диагональю
пересекающая композицию, пленяющий текучей плавностью изгиб
•спины «Большой одалиски», который, по язвительному замечанию
одного критика, предполагает наличие у модели по меньшей мере
трех лишних позвонков.
2* 19
В таких произведениях нет ничего предписанного, обязательного.
В них все произвольно. Энгр разрушает здесь представление о клас-
сицизме и романтизме как о двух противоположных стилях, опро-
вергает укоренившееся мнение, что рационализм классицизма обя-
зательно связан с такими стилистическими признаками, как устой-
чивая скульптурная четкость объемов и чистота рисунка, а романти-
ческая эмоция — с динамикой форм и цвета. Энгр настойчиво сохра-
няет некоторые признаки классицизма. Но в такой картине, как
«Зевс и Фетида», отточенная линия полна глубокого лиризма, в об-
разе Анжелики законченность строгой классической формы соеди-
нена с стремительным, исступленным движением, а в так называемой
«Купальщице Вальписон» выпуклая лепка объема неотделима от
тонкой вибрации цвета.
Позднее появляются «Одалиска и рабыня», «Стратоника», нако-
нец, «Турецкая баня», где виден тот же отход от классицистической
ортодоксальности, те же соприкосновения с самыми разными источ-
никами вдохновения и те же нарочитые нарушения объективной
закономерности ради воплощения своего творческого замысла.
Эти произведения Энгра нельзя свести к одному знаменателю —
все они разны и подчас даже спорят друг с другом. Но все они спая-
ны единой общей чертой, являющейся, в сущности, основной и самой
главной: в них воплощен не санкционированный академическим
классицизмом или вообще какой-либо другой традицией идеал,
но эстетический идеал самого Энгра, во всем своеобразии индиви-
дуальной неповторимости. И это определяющее значение индивиду-
ального начала, выражение, прежде всего, самой личности художника
с только ей свойственными «персональными» особенностями выдает
безнадежность его мучительных попыток стать вождем великого об-
щего течения и неразрывно связывает с породившей его эпохой.
«Нет течений, есть только художники!»,— сказал как-то Курбе, с
предельной краткостью охарактеризовав одну из основных черт ис-
кусства своего времени. Западноевропейское искусство прошлого сто-
летия с неведомой ранее конкретностью выявляло отдельную, чаще
всего одинокую индивидуальность каждого мастера. Но оно неспо-
собно было породить большие стили. Энгр не мог сделаться Ра-
фаэлем. Он становится одним из первых художников XIX века.
20
Еще более красноречиво говорят об этом портреты и рисунки
Энгра — лучшее и самое ценное, что он оставил. Это те произведе-
ния, где художник работал с натуры. Здесь отпадали риторические
ссылки на Гомера и Рафаэля, рассуждения в духе классицизма о
единстве художественного идеала и истины, и Энгр оставался с глазу
на глаз с самой основной, самой заветной и священной для него за-
дачей: он должен был создать произведение абсолютно правдивое
и притом абсолютно прекрасное. Перед лицом живой природы —
будь-то позирующая натурщица или портретируемая модель — эта
задача могла предстать как непреодолимо трудная. Своим зорким,
жадным глазом Энгр видел все несовершенства живой модели, все
явные отклонения от столь обожаемой им красоты. И он должен
был запечатлеть ее во всей ее конкретной, подчас некрасивой прав-
дивости и столь же неукоснительно сделать ее прекрасной. Бесспор-
но, работая над своими отвлеченными композициями, Энгр пользо-
вался живыми натурщиками. Но там он был хозяином положения:
он мог отступать на проверенный путь облагораживания натуры со-
гласно «вкусу древних мастеров и Рафаэля». Когда же Энгр писал
портрет или делал набросок натурщицы, он находился в «тисках
реальности» и не позволял себе никаких отклонений. И именно здесь,
где Энгр забывал о существовании античных канонов и мадонн Ра-
фаэля, когда он исходил не из абстрактной идеи, а из своего непо-
средственного зрительного восприятия, он словно обретал волшеб-
ный талисман, и самая вульгарная модель, самый обыкновенный
предмет приобретал под его рукой подлинную красоту.
Энгр писал портреты поразительные по сходству, по той конкрет-
ной дифференциации образов, которая была столь типична для ис-
кусства XIX века. Бодлер, может быть, не думая об этом, делает
очень меткое сравнение не столько двух разных художников, сколь-
ко искусства двух разных эпох, когда пишет: «Рафаэль расписал
огромные пространства стен, но ему не удалось бы так хорошо, как
Энгру, написать портрет вашей матери, вашего друга или вашей воз-
любленной». Но при этом портреты Энгра отмечены столь высоким
художественным совершенством (критики любят здесь употреблять
довольно неопределенное слово «стиль»), что они смело могут стоять
и одном ряду с лучшими портретами великих мастеров прошлого.
21
Примечательно, что это умение Энгра все увиденное «воспроиз-
вести» в плане высокой эстетической ценности — полностью исклю-
чает малейшие элементы какой бы то ни было идеализации. Наобо-
рот, во многих портретах Энгра, даже среди самых парадных и изы-
сканных, чувствуется ординарность модели; подчас даже в них про-
ступает какая-то затаенная разоблачительная сила. Всем очевидны
светская бессодержательность прелестной госпожи Ривьер, неодухот-
воренность элегантной Зенон, напыщенность горделивого герцога
Орлеанского, тяжеловесная увесистость великолепной Муатесье. Зна-
чительность Бертена — исключение. Но портреты Энгра, запечатле-
вающие этих мелких, неинтересных людей, — прекрасны. Они
прекрасны той непридуманной красотой, которую в самом прозаиче-
ском явлении сумел увидеть художник. Энгр один раз обронил по
этому поводу удивительную фразу: в ателье, указав на позирую-
щего натурщика, он сказал: «Если вы хотите видеть эту ногу безоб-
разной — я знаю, для этого есть основания. Но я вам говорю, —
возьмите мои глаза, и вы найдете ее прекрасной!» Уметь видеть —
как часто говорит об этом Энгр своим ученикам! И действительно,
Энгр, как царь Мидас, все, что он видел и к чему прикасалась его
кисть, превращал в золото подлинного искусства, будь-то переливы
атласа нарядного платья госпожи Зенон, прозаические складки жи-
лета Бертена, узор кашемировой шали госпожи Ривьер или морщи-
нистая рука де Моле. Иногда создается впечатление, что Энгр на-
рочно выискивает не очень красивые модели. Его влечет асимметрия
черт пожилой госпожи Турнон, диспропорциональность несформиро-
вавшейся фигурки мадемуазель Ривьер. Энгр жадно накидывается
на все, что наиболее резко противоречит общепринятым нормам кра-
соты, чтобы выжать из него гармонию и совершенство. Снова можно
вспомнить Бодлера, сказавшего, что «Энгр не останавливается ни
перед каким уродством и даже из карикатурного образа горбуна мо-
жет создать нечто возвышенно прекрасное».
Интересно, что именно в области портрета раскрывается своеоб-
разное колористическое мастерство Энгра. В своих больших компо-
зициях Энгр гасил интенсивность цвета трафаретной светотеневой
моделировкой объемов и подчас, действительно, подтверждал самые
нелестные мнения о себе как о «неживописном» художнике. В порт-
22
ретах Энгр прибегает к своеобразной плоскостной трактовке форм
(что не осталось не замеченным Мане) и разворачивает чистую, све-
жую гамму локальных тонов, цветистых и в то же время изысканных.
Бодлер находит их резкими и терпкими, Александр Бенуа вспоминает
смелость красочных сопоставлений, свойственную народному искусству.
Но для того чтобы увидеть подлинные вершины творчества Энгра,
нужно обратиться к его рисункам, к этой «всемогущей», по мнению
Энгра, области искусства, в частности к его графическим портретам.
Карандашные портреты, как известно, выполняли тогда роль совре-
менной фотографии, и основное, что от них требовалось, — это сход-
ство. И Энгр, действительно, давал абсолютно убеждающее, порази-
тельное сходство. Но никогда он не выключался из сферы высокого
искусства. В этих небольших листах, где запечатлена целая галерея
современников Энгра,— знаменитых и никому неведомых, значитель-
ных и обыкновенных, привлекательных и невзрачных,— заключено
то же, только Энгру присущее взаимопроникновение реальности и
красоты, конкретности и идеала.
Как печалились художники XIX века, причем отнюдь не только
мечтательные романтики начала столетия, что прозаические фраки
и сюртуки сменили атласные камзолы и сверкающие латы предшест-
вующих веков! Они готовы были поставить крест на возможности
вдохновляться обликом людей своего времени. Должно было пройти
много лет, чтобы Эдуард Мане увидел в сюртуке и цилиндре кра-
сочное пятно великолепной черноты, а Эдгар Дега — захватывающий
своей выразительностью контур. Но уже задолго до них, в 1819 го-
ду, Энгр изобразил господина Леблана в длинном расстегнутом
пальто с топорщащимся воротником, в спадающих широкими склад-
ками модных тогда брюках и высокой шляпе — рисунок, по точности
передачи современного костюма не уступающий картинке модного
журнала, а по художественной гармонии равный античной статуе.
В области графического портрета Энгр был находчив и изобрета-
телен. В молодые годы он оказался однажды в очень тяжелом поло-
жении. Как известно, его манера работать соединяла два противо-
положных качества: Энгр рисовал невероятно быстро — в одну се-
кунду он мог набросать рисунок удивительной меткости и красоты,
что неизменно повергало в восхищенное изумление всех свидетелей,
23
от соучеников в мастерской Давида до молодого Ренуара, наблюдав-
шего, как в отделе эстампов престарелый мэтр, после нескольких
проб, внезапно вывел рисунок такого совершенства, как если бы он
работал над ним в течение восьми дней. Но отделывал и заканчи-
вал свои работы Энгр годами. Он был глубоко убежден, что все, сде-
ланное в спешке, полно ошибок, и любил, цитируя Зевксиса, повто-
рять, что «произведение будет жить тем дольше, чем больше време-
ни потрачено на его создание». Между тем, первые заказчики ка-
рандашных портретов, пришедшие в его мастерскую во Флоренции,
были проезжие иностранцы. Они требовали от изображения не толь-
ко сходства, но и быстроты выполнения. Что было делать Энгру,
никогда не позволявшему себе выпустить из мастерской вещь, ко-
торая не была бы завершена во всех мельчайших деталях? Но он
слишком в то время нуждался, чтобы отказаться от возможности
заработать, и нашел выход из положения. Именно тогда выработал
он своеобразную «окончательную формулу неоконченного портрета»
в котором очень точно прорисованная голова модели противопостав-
лена суммарно намеченной фигуре и костюму. Но именно этим про-
тивопоставлением, гармоническим контрастом завершенного и только
угаданного, он достигал впечатления абсолютно законченной
цельности рисунка. Портрет г-жи Лятуш с ювелирно отчеканенной
головкой в сложном головном уборе, где выписан каждый волосок
страусового пера и легкими, убегающими, словно впитанными бу-
магой, контурами платья, — никогда не будет казаться неокончен-
ным. В дальнейшем, когда каждый считал великой честью быть за-
печатленным карандашом Энгра и никто не осмеливался торопить
знаменитого мэтра, он часто обращался именно к этой форме каран-
дашного портрета.
Но талант Энгра нигде не проявлялся с такой силой, и надо, на-
конец, произнести это слово, с такой гениальностью, как в рисунках
с обнаженной натуры. Они не требовали портретного сходства, здесь
так легко было впасть в отвлеченность. Но именно в них проявля-
ется неумолимая правдивость Энгра, и слияние реального с идеаль-
ным достигает абсолютной полноты.
Линия Энгра, так верно сравненная одним критиком со спущен-
ной с тетивы стрелой, ложится с предельной меткостью и остается
24
неизменно прекрасной. Энгр требует от рисующего художника неустан-
ного, непрерывного наблюдения и тут же восклицает: «Если б я мог
вас всех сделать музыкантами, вы выиграли бы как живописцы», и
хочет, чтобы художник «верно пел карандашом». Законы природы
и'законы творчества предстают в рисунках Энгра как великое не-
разрывное единство. Недаром он говорил, что «живые впечатления
врастают в сознание художника и делаются его собственностью».
Требуя абсолютного послушания природе. Энгр в то же время
считает, что линия, запечатлевшая реальную форму, ложась на
лист, должна видоизмениться, подчиняясь законам художественного
ритма.
Ни о чем не говорит Энгр с таким вдохновением, как о рисунке,
в котором видит «высшую честность искусства». Один раз он ска-
зал, что рисунок должен быть горделивым. Он нашел очень меткое
слово. Действительно, можно говорить о гордой линии Энгра. Ведь
она так много может! Обежать четким контуром гибкое тело Венеры
Анадиомены, рассыпаться в легких прядях ее волос, выразить стра-
стное движение рук матери Симфориона, застыть в ленивом покое
женщины из «Турецкой бани». Энгру веришь, когда он говорит, что
даже дым может быть выражен линией. Но есть одно, чего не может
линия рисунка Энгра — перерасти в монументальный масштаб, со-
хранить свою экспрессивность в большом произведении. Рожденная в
минуту вдохновенного созерцания живой натуры, сохраняющая весь
свой пыл в подготовительном эскизе, она неизменно теряет силу и
характер, когда Энгр переносит ее в большую композицию. Не будем
повторять, что это не его вина и что в этой неполноте он является
художником своей эпохи. Но грустно наблюдать, как стремительный,
как бы звенящий ритм движений обнаженных фигур в предвари-
тельном рисунке к «Обету Людовика XIII» меркнет в вялой шаблон-
ности безжизненных ангелов большой картины, для которых этот на-
бросок был сделан.
11ри всей разноречивости суждений об Энгре его дар рисоваль-
щика не подвергался никаким сомнениям. Можно спорить о тех или
иных композициях Энгра, о его колорите, даже о его портретах, но
нет человека, который осмелился бы «поднять руку» на рисунки
Энгра.
25
Но как же сам Энгр оценивал столь разные и даже противопо-
ложные стороны своего творчества? Его собственное суждение весь-
ма парадоксально. Энгр упорно обожал все, что ему не удавалось, и
не признавал своих самых больших удач. В своем неизменном
стремлении хранить верность традиции классицизма он считает себя
историческим живописцем. Он почти презирает себя как портретиста.
Страшно подумать, что, если бы не нужда и не лестные для него за-
казы, которыми он неизменно тяготился и всегда считал чем-то на-
сильственным, возможно, и не существовало бы портретов Энгра.
Быть может, в таком отношении к своим произведениям сыграло
известную роль различие процесса работы. Энгр счастлив и спокоен,
когда он годами отделывает и оттачивает свои большие композиции,
вкушая блаженное сознание, что он выполняет великую миссию
«мастера исторических произведений». Его терзают подлинные муки
творчества, когда он пишет портреты. Это вполне объяснимо: много
легче было создавать красоту мадонн и аполлонов, чем извлекать со-
вершенство из Бертена и Моле. И Энгр плачет, по-настоящему плачет
слезами, когда пишет портреты. Не эти ли минуты заставили его
сказать: «Только плача можно прийти к совершенству?» Он преодо-
левал свои мучения и, действительно, достигал совершенства: под-
час он даже сам готов отдать должное некоторым своим портретным
работам. Но никогда он не допустил бы поставить самый великолеп-
ный свой портрет выше любой своей исторической композиции. Что
же касается рисунков или предварительных этюдов, то в письме Жи-
либеру от 15 июля 1821 года он прямо говорит, что их нельзя рас-
сматривать как нечто окончательное, и, признавая в искусстве одни
лишь готовые результаты, видит в них только вспомогательное сред-
ство.
Однако когда в 1855 году Амори Дюваль в связи с подготовкой
всемирной выставки, на которой Энгр должен был представить свои
лучшие основные произведения, попросил у мэтра разрешения пове-
сить под картинами также его рисунки, он неожиданно ответил:
«Нет, зачем же; ведь тогда будут смотреть только на них». Тот же
Амори Дюваль рассказывает, как однажды он принес Энгру некото-
рые его старые работы, которые их владелец просил подписать. Энгр
снисходительно посмотрел на одну свою раннюю картинку (назвав
26
ее «грехом молодости»), на некоторые этюды, но, увидев рисунок
женского портрета, он невольно отпрянул, взгляд его вспыхнул, и
он произнес: «Если в своей жизни я сделал что-нибудь хорошее —
так это этот портрет», и он долго не мог оторвать от него глаз. Но
это снова невольно прорвавшееся признание. Энгр, наверно, забыл,
что об изготовлении карандашных портретов он обычно говорил как
о ремесле для заработка. Удивительный человек, у которого высшее
счастье художника — право наслаждаться своими лучшими достиже-
ниями принимало характер запрещенной любви!
Энгр противоречив во всем. В сущности глубоко двойственна
была и его судьба. Его страстное стремление стать первым живо-
писцем эпохи в известной степени осуществилось. После успеха
«Обета Людовика XIII», в котором официальные круги оценили не
мастерство, а клерикально монархический сюжет и противодействие
романтическим новшествам, он был избран академиком. Он имел
многочисленных учеников, неизменно считался великим мэтром, был
богат и пользовался очень большим влиянием. И все-таки золотые
и лавровые венки, фимиам и почести — это только часть биографии
Энгра. Очень часто забывают, что Энгр, подвергшийся такой резкой
и несправедливой критике, когда он выставлял лучшие, в сущности,
свои произведения на выставках 1806, 1812, 1819 годов, был первым
гонимым художником, одним из тех, кого теперь в историях искусств
называют «проклятым художником» (peintre maudit). Он первый
вступил на тот путь, которым пойдут в дальнейшем все передовые
художники прошлого столетия. И так было не только в «тернистые
годы молодости». После провала «Симфориона» Энгр семь лет про-
водит в добровольном изгнании. И даже позже, когда, казалось, ми-
новали все бури и Энгр живет в Париже, заваленный заказами, его
союз с высшими сферами был сомнительной прочности. Во всяком
случае, он не дал ему душевного покоя. Энгр все время чувствовал,
что в его положении «великого вождя» что-то не так.
Энгр всегда жаждал (впрочем, так же, как и все, даже наиболее
оппозиционно настроенные художники) покорить, поставить публи-
ку «на колени». Он очень смакует успех, которым пользуются
как мы уже говорили, наименее творческие его работы. Но в то же
самое время он продолжает все с той же резкостью судить
27
современное ему общество. Энгр не потерпел бы никакого посягатель-
ства на тот авторитет, которым он пользуется в Академии, и в то же
время прекрасно понимал бездарность ее представителей.
Беда Энгра в том, что, несмотря на весь свой критицизм по от-
ношению к общественным верхам, он не сделал ни одного шага, что-
бы понять, что же происходит в другом, демократическом лагере
искусства. И все-таки, резкая критика, которой он за это подвер-
гался, на этот раз не со стороны консерваторов, а со стороны весьма
передовых деятелей художественной культуры, справедлива не до
конца.
Энгра обвиняли в самовлюбленности и зазнайстве, в надменно-
сти и деспотизме. И действительно, Энгр в роли гения был подчас
невыносим: он грубо обрывал каждого, кто ему противоречил, он
мог самым бесцеремонным образом согнать в театре с места посто-
роннего человека, сказав ему, что на это место хочет сесть сам
«Мосье Энгр». С какой уверенностью он говорит, что его влияние
на учеников столь хорошо, что лучшего не было, что его доктрины
неопровержимы. Но тот же самый Энгр,— как он неумолимо крити-
чен к себе в письмах к друзьям, как искренне он оплакивает свои
слабости и свои сомнения, как ясно чувствует порой свою раздвоен-
ность и невозможность реализовать свой талант до конца. «Мой до-
рогой друг, мой добрый Жилибер, — пишет Энгр, — это не моя тень,
это я сам, Энгр... твой, каким был всегда со всеми своими несовер-
шенствами, болезненностью характера, человек неудачник, нецель-
ный, счастливый, несчастный, наделенный в избытке качествами, от
которых никогда не было никакого толка». В 87 лет, за 6 дней до
смерти, этот якобы самовлюбленный и самоуверенный человек копи-
рует гравюру с Джотто и на вопрос, зачем он это делает, отвечает с
обезоруживающей скромностью, «чтобы учиться».
Против Энгра выдвигались и более серьезные обвинения. Мы
имеем здесь в виду главным образом статью критика демократи-
ческого направления Теофиля Сильвестра. Знаток и защитник твор-
чества Делакруа и реалистов обрушивается на Энгра с самой резкой
статьей, уже теряющей формы приличия. Вначале может показаться,
что гнев Сильвестра законен и оправдан. Он прямо обвиняет Энгра
в том, что тот отрицает идею в искусстве, что он предан только
28
красивой форме, что он рисует «Одалиску», когда гремят русские
пушки на Монмартре, и «Венеру Анадиомену» — в кровавые июнь-
ские дни. Это верно. Энгр не из числа участников уличных боев.
Во время Июльской революции он, как и все художники, держал
караул в Лувре, охраняя художественные ценности вместе с Полэн-
Гереном, и на утро их нашли страстно спорящими о Рафаэле. Рево-
люции 1848 года Энгр не принял. И все-таки Энгр никогда не был
равнодушным олимпийцем. Его обвиняли в стремлении к отвлечен-
ной, вне жизни стоящей красоте. Пусть для этих обвинений есть
некоторые основания, но надо всегда помнить, чем для Энгра была
красота. Он никогда не расценивал ее как только эстетическую кате-
горию. Он по-настоящему горячо и глубоко верил в единство кра-
соты, добра и истины. В классицистических теориях это положение
давно стало отвлеченной догмой, для многих—пустой избитой фра-
зой. Энгр переживал это единство как нечто вечно живое и истин-
ное. Он считал, что Рафаэль писал людей добрыми, он говорит, что
у музыки есть свои нравы, что между хорошим вкусом и добрыми
нравами гораздо больше связи, чем думают. Для Энгра выпустить
из мастерской незаконченную вещь «так же невозможно, как совер-
шить дурной поступок». Красота для Энгра — это откровение высо-
кого морального порядка, средство приобщения людей к высшим
этическим идеалам. Пусть Энгр наивен, и его средства исправления
мира недейственны, но его воодушевление было абсолютно искрен-
ним. И отсюда, из этого нравственного понимания красоты, происте-
кает высокое понимание им миссии художника. Для Энгра искусст-
во— это, действительно, как он сам говорит, служение. Служение
высокой моральной идее, без компромиссов и отступлений. Энгр
был очень польщен, когда Наполеон Ш приехал на десять минут
в его мастерскую. Но, посули ему император еще большие почести,
Энгр бы не пошел ни на какие уступки. Если с годами в его творче-
стве все-таки произошли изменения в сторону большего сближения
с господствующими вкусами, то эти уступки были бессознательны.
Творчество Энгра со всеми противоречиями, со всеми неровно-
стями всегда в самом простом и прямом смысле слова благородно.
«Искусство живет глубокими мыслями и благородными страстями!»,
«То, что знаешь, надо знать с оружием в руках!» «Только сражаясь,
29
добиваешься чего-то, и в искусстве борьба — это затраченные нами
усилия», — это пишет большой художник и неподкупно честный
человек. «Чем больше в вас уверенности и силы, тем больше следует
быть доброжелательным к колеблющимся и слабым. Доброжела-
тельность— это одно из великих качеств гения», — читаешь в текстах
Энгра, и тогда становятся несущественными и его нетерпимость и
его заблуждения, в которых большею частью он был неповинен.
Энгр всегда будет служить высоким образцом художника, чувст-
вующим огромную моральную ответственность за каждое свое про-
изведение, за каждое движение своей кисти или карандаша. Он был
великим мастером, который верил в могучую очистительную силу
красоты в искусстве, и источник этой красоты он видел в возвышен-
ной и благородной идее. «Не верьте, что можно сотворить что-либо
хорошее или даже приблизительно хорошее без взлета души», — го-
ворил Энгр, и этот взлет души живет во всех лучших произведениях
художника.
А. Из ергина
огда хорошо знаешь свое
дело, когда, действительно, научишься подражать природе, самое
ЭНГР О СЕБЕ
главное для хорошего живописца продумать свою картину в целом,
полностью иметь ее, если можно так выразиться, в голове, чтобы за-
тем выполнить ее с жаром и как бы одним взмахом. Тогда, я думаю,
все будет проникнуто единством. Вот каково свойство большого
мастера и вот чего, думая день и ночь о своем искусстве, нужно до-
стичь, если ты родился художником. Огромное количество творений
прежних времен, выполненных одним человеком, доказывает, что при-
ходит момент, когда гениальный художник чувствует себя как бы
подхваченным своими собственными силами и создает ежедневно то,
что ранее он не считал возможным сделать.
Мне кажется, что я именно такой человек. Я прогрессирую еже-
дневно; никогда работа не казалась мне столь легкой, но, между
тем, мои произведения не «небрежны», наоборот. Я больше закан-
чиваю, чем прежде, но гораздо быстрее. По природе своей я не могу
не выполнять их добросовестно. Выполнять же их быстро, чтобы
заработать деньги — это для меня совершенно невозможно (1813 г.).
33
Я остаюсь для искусства тем же, чем был всегда. Годы и размыш-
ления, надеюсь, очистили мой вкус, не угасив пыла. Мое всегдашнее
обожание — Рафаэль, его век, древние и прежде всего божественные
греки; в музыке—Глюк, Моцарт, Гайдн. Моя библиотека состоит
приблизительно из двух десятков томов бессмертных шедевров, и со
всем этим жизнь полна прелести (1818 г.).
Так как я занимаюсь живописью с тем, чтобы делать ее хорошо,
я медлителен и потому мало зарабатываю. Я, бедняга, работая очень
усидчиво и, смею сказать, тщательно, к 38 годам смог отложить всего
около тысячи экю, а ведь надо существовать каждый день. Но моя
философия, моя чистая совесть и любовь к искусству, вместе с досто-
инствами моей замечательной жены ’, меня поддерживают и дают
мне силы чувствовать себя относительно счастливым (1818 г.).
Все переносить стойко, работать для того, чтобы нравиться сна-
чала себе, а затем лишь немногим — вот задача художника, так как
искусство не только профессия, но и служение. Все стойкие усилия
рано или поздно вознаграждаются. Я тоже буду вознагражден: после
многих мрачных дней придет свет (1820 г.).
Жить мудро, ограничивать свои желания и считать себя счаст-
ливым — значит быть счастливым на самом деле. Да здравствует
умеренность! Это лучшее состояние жизни. Роскошь портит душев-
ные качества; так как, к несчастью, верно, что чем больше имеешь,
тем больше жаждешь иметь и тем меньшим представляется то, что
ты уже имеешь. Без нелепых развлечений, именуемых светским вре-
мяпрепровождением, надо жить в небольшом кругу друзей, которых
привязали к тебе личные склонности и житейский опыт, с наслажде-
нием заниматься искусствами; литература и наука могут заполнить
все ваше время и сделать из вас нового, незаурядного человека.
Источники этих радостей неисчерпаемы. Вот кто, по-моему, счастли-
вый человек, настоящий мудрец, истинный философ (1821 г.).
Я сделал до сего дня (20 апреля 1821 г.) много работ не хуже,
чем другие, и, пожалуй, выполненных с лучшим пониманием, но
34
никогда стремление к наживе не заставляло меня торопиться с выпол-
нением в ущерб тщательности, с которой я отношусь к моим работам,
задуманным и выполненным в духе, чуждом современности; ведь, в
конце концов, самым большим недостатком моих работ считается,
по мнению моих недоброжелателей, что они недостаточно схожи с их
работами 2. Я не знаю, кто из нас будет, в конце концов, прав — они
или я; дело еще не решено: надо ждать далекого, но справедливого
приговора потомства. Во всяком случае, я хочу, чтобы все знали:
уже с давних пор в своих произведениях я следую только одному
образцу — античности и великим мастерам того прославленного века,
когда Рафаэль установил вечные и незыблемые пределы прекрасного
в искусстве. Мне кажется, я доказал в моих картинах мое единствен-
ное стремление быть на них похожим и продолжать искусство, начав
с того, на чем они остановились.
Итак, я — хранитель верных доктрин, а не новатор. Но я и не
рабский подражатель, как уверяют мои хулители, школ XIV и XV'
веков, хотя я и умею ими пользоваться с большими результатами,
чем они в состоянии разглядеть. Вергилий умел находить жемчужи-
ны в навозе Энния 3. Да если даже меня обвиняют в фанатическом
преклонении перед Рафаэлем и его современниками, я все равно скло-
нюсь только перед природой и шедеврами этих великих мастеров
(1821 г.).
Я сильно рассчитываю на мою старость, она отомстит за меня
(1821 г.).
Не надо думать, что моя исключительная любовь к Рафаэлю пре-
вращает меня в обезьяну; тем более, что это трудно и даже невоз-
можно. Я думаю, что, подражая ему, я сумею остаться оригиналь-
ным. Да кто же из крупных мастеров не подражал? Из ничего нель-
зя сделать ничего, и только проникаясь замыслами других, можно
создать что-нибудь стоющее. Все люди, занимающиеся литературой
и искусствами,— в равной мере дети Гомера 4 (1821 г.).
Поскольку природа наделила меня кое-каким разумением, я ста-
раюсь пробиться вперед путями, какие открывает передо мной уче-
ние, и если я чувствую, что порой делаю шаг вперед, то именно
У
35
потому что понимаю — я ничего не знаю. Да, с той поры, как про-
никшись величием и совершенством высокого искусства, я обретаю
то обескураживающее преимущество, что отдаю себе отчет в их без-
мерности, я больше уничтожаю, чем создаю. Я прежде всего влюблен
в правду, я вижу красоту только в правде, той правде, которая де-
лает прекрасным и Гомера и Рафаэля, и потому слишком медленно
претворяю в жизнь то, чему научился.
Наряду с этим — невежество и глупость публики; этого достаточ-
но, чтобы отнять мои последние свободные минуты и обречь меня
на бессонные ночи. По правде говоря, вся эта боль и это страдание
похожи на страдания влюбленных, или лучше сказать, на муки му-
жественного и нежного материнства. Время от времени успех, немно-
го славы, большая или меньшая удовлетворенность собой — и ты
можешь снова предаваться своим милым терзаниям (1821 г.).
Я был бы очень счастлив, если бы создать себе имя законными
путями и обрести силы, необходимые, чтоб уничтожить невежество
нашего века, мне было бы так же легко, как заниматься искусством
(1829 г.). В
В мои годы, как я вижу, нельзя играть привязанностями, не ис-
пытывая при этом большого сожаления. Мое внезапное переселение в
Рим для меня тяжело и трудно 5. Я и раньше знал, что очень любил
своих друзей, но не знал, быть может, до какой степени, как теперь,
когда почувствовал, до чего их мне недостает...
Правда, мне в Риме после почти месячного пребывания хорошо
во всех отношениях; я в добром согласии с моим предшественником 6,
но в случае чего я не попадусь на удочку, а буду действовать, по-
винуясь моей собственной воле. Здесь прекрасный посол, хороший
секретарь посольства, уважение и полное доверие со стороны моих
стипендиатов, живущих между собой дружно; очень удобный и в пол-
ном порядке дом, где моя жена со свойственным ей уменьем управ-
ляет всем до финансов включительно, что для меня немаловажно.
Словом, не считая посторонних обязанностей и забот, утомляющих
меня больше, чем управление, я должен был бы быть удовлетворен;
конечно, я бы должен быть доволен моим почетным и лестным
36
положением, если бы я мог забыть всех тех, кого я покинул, и легче
переносить мысль о разлуке с ними (1835 г.)
Ну и хорошую услугу нам оказал папа Лев VII! Божественная
Венера Капитолийская была запрятана в закоулок, как женщина
дурного поведения, в Сан Мишель; необходимо иметь специальное
разрешение, чтобы на нее посмотреть. Да и, вообще, нужны разре-
шения на все. Огромные виноградные листья прикрывают статуи
мужские и женские, общественные здания находятся под замком,
«Св. Павел» постоянно перекрашивается и переделывается на манер
Валадье7. Одним словом, в этом смысле Рим уже больше не Рим.
Памятники дряхлеют, фрески седеют. Как горько это видеть! Про-
цессии и церемонии менее красивы: нет красочной толпы ни внутри,
ни снаружи; повсюду модные пышные рукава; все вырождается,
но, несмотря на это, лица прекрасны; произведения античного ис-
кусства по-прежнему величественны. Небо, земля, церковные здания
земечательны, и надо всем этим — блистающий красотой Рафаэль,
поистине божественное существо, сошедшее к людям, в силу чего
Рим в целом продолжает превосходить все остальные города. Па-
риж— на втором месте (1835 г.).
Ко мне приехал министр 8 по поводу росписи церкви св. Магда-
лины и в собственноручном письме предложил мне эти работы9.
Я ответил — «нет». Поступая так, я, по многим причинам, следовал
моему внутреннему чувству: прежде всего потому, что думаю про-
быть положенные мне шесть лет в Риме, где в настоящее время мне
хорошо, а затем это снова возбудило бы зависть и обрекло меня на
мучения, от которых я бежал; мне было нелегко победить до сих пор
пронзающее меня чувство неприязни ко многим людям и многим
вещам. Я хотел быть последовательным с самим собой, отказываясь
от всего, как я намерен поступать и впредь, потому что мне не долж-
ны были позволить уехать; потому что принципиально должны были
мне, мне первому поручить эти большие работы...
Как ни соблазнительна эта работа, но мне ее предложили только
после того, как неожиданно оказалось, что ее некому выполнить. Ко-
нечно, случай представлялся прекрасный, ведь все соответствовало
37
моему влечению. О! С каким же острым наслаждением я произнес
это «нет»! (1836 г.).
Мои маленькие работы («Стратоника» и «Маленькая одали-
ска») 10 я заканчиваю только из чувства самоуважения и чтобы
выполнить мои обязательства. Между тем, это карлики, из которых
надо сделать великанов. Я работаю с величайшим терпением, а у
меня его много, но ужас моего положения заключается в том, что
даже если на это уйдет вся моя жизнь, даже если это приведет меня
к смерти,— я прежде всего сам должен быть доволен своей работой.
Никогда я не решусь показать, а тем более дать гравировать наспех
сделанную вещь, подобно тому как я не хотел бы совершить дурной
поступок (1836 г.).
Пусть сколько угодно говорят мне: «Кончайте же, торопитесь,
не начинайте сызнова»; если мои работы стоили или стоят кое-что,
то это оттого, что я должен был двадцать раз ставить их снова на
мольберт и отделывать с предельной тонкостью и искренностью.
Каким я был, таким я, по-видимому, и останусь всю мою жизнь.
Должен ли я в этом раскаиваться? Пускай судят другие. Я же не
могу поступать иначе (1836 г.).
Сейчас, когда я чувствую себя хорошо 11, Рим владеет мною пол-
ностью, и отъезд из него раньше срока привел бы меня в отчаяние.
А между тем возможно, что холера нас скоро отсюда выгонит 12.
Случаи холеры, правда, как говорят, ложной, уже имели место в
Трастевере. Мне скажут, вот основание, чтобы вернуться; нет, я не
могу. Мы можем бежать из Рима, но не в Париж. Кроме того, в
данном случае я отец семейства ", и я должен, я хочу остаться на
посту последним. Это само собой разумеется (1837 г.).
Когда мы вспоминаем наших друзей, а это случается часто и с
моей женой, и со мной, мы ненавидим наше изгнание. Как бы оно
ни было прекрасно, но это настоящее изгнание. Не видеть своих
друзей, не радоваться их присутствию — это наполовину смерть
(1837 г.).
стипендиатов. Прим, перев.
38
Мне было сделано предложение написать картину для Версаля.
Чтобы не задерживать ответом, я сказал «нет», потому что я окон-
чательно решил никогда и ничего не писать для публики (1838 г.).
Я согласен с добрым Лафонтеном: «Никакого мира со злодеями».
В Париже имеют место нападки на мое влияние, публичные
нападки на тенденцию, которая с некоторых пор проявляется в ра-
ботах римских стипендиатов. Что ж, известное влияние существует,
и я ручаюсь, что любой директор, если, конечно, он не Летьср 13 и
не Тевенен 14 обязательно влияет на художественное сознание сво-
их стипендиатов. Хорошо ли мое влияние? Да, оно превосходно;
такого хорошего еще не было. Мои злосчастные недруги, эти лице-
мерные плуты хотят, чтобы господствовали их вредные доктрины!
Они не могут залечить глубокие раны, нанесенные красотой и прав-
дивостью моих доктрин. Ну и пусть... Хотя я и не очень избалован
публикой, даже просвещенной, но недостаточно просвещенной, что-
бы полностью разделять мои идеи, я ее приглашаю в судьи между
ними и мной. Это невозможно, чтобы в конце концов она не отдала
мне предпочтение.
Я предвижу — остаток моей жизни будет тревожным. Видя, что
псы все время будут стараться загрызть меня, я б совершил без-
рассудные поступки, если б некая рука не удержала мое перо.
Я уступил на время, ожидая, когда я отомщу моим тупым хулите-
лям и когда я приведу их в постыдное замешательство. Я взбешен.
У меня осталось — я это знаю, и у меня имеются на то неоспоримые
доказательства — мало друзей среди большого количества ослов, но
все-таки эти друзья существуют. Без этого я не знаю, что сталось
бы со мной здесь, где мы так одиноки. Наши добрые друзья нас
покидают, они возвращаются домой, а мы должны провести здесь
еще два долгих года, прежде чем снова встретиться с ними! И кто
вообще знает, не буду ли я вынужден сказать окончательное прости
Франции, моей прекрасной стране, которая должна была бы приго-
товить мне более мягкое ложе. Я приучаю себя к этой грустной мыс-
ли, которая, по правде говоря, может так легко осуществиться. Увы,
посредственность всегда будет торжествовать! (1838 г.).
39
Я здесь не очснь-то счастлив. А между тем, несмотря ни на что,
я остаюсь до последнего дня. Я считаю минуты, когда смогу начать
жизнь в общении с друзьями, но жизнь замкнутую, которую я соби-
раюсь вести в Париже. Я больше не верю ни во что, кроме музыки,
внутреннего мира и некоторых немногих старых друзей: мало, очень
мало (1839 г.).
Говорить не приходится, я должен зорко следить за всем, не
исключая и трудностей с получением всяких разрешений, и т. д.
Эта страна так изменилась. Прежний Рим, такой щедрый и широкий
для художника, больше не существует. Все двери закрыты, и чув-
ствуешь себя приниженным из-за необходимости все выпрашивать
и обо всем умолять. Как это мне подходит! А, кроме того, отказы
так часты. Наконец, это заставляет меня направлять требования и
длинные жалобы нашему послу и, хотя и сохраняя достоинство, пы-
лать гневом. Имеются и недовольства Римской школой, от которых я
не могу отмахнуться, не разобравшись, в чем дело. Вот как я живу,
никогда не принадлежа самому себе, постоянно отвлекаемый, заня-
тый каждую минуту. И все это, чтобы быть хорошим директором,
чтобы хорошо исполнять свои обязанности и в конце концов полу-
чать порицания, и от кого? Но кое-что меня и вознаграждает.
Мои стипендиаты привязаны ко мне еще больше, чем раньше, если
это вообще возможно 15. Что бы ни случилось, я буду поступать все
лучше и лучше, дабы отомстить моим жалким, злым и глупым вра-
гам (1839 г.).
Моя добрая жена утешает и подбадривает меня, помогает стойко
переносить нынешние неприятности, но меня-то убивают прошлые,
и, как Орест, я оплакиваю свой жребий, ибо я обречен переносить
столько жестоких разочарований на протяжении уже почти шести-
летнего моего здесь пребывания. Но я не хочу снова перечислять
горестные причины, следовавшие одна за другой и служившие все-
му помехой. Кроме того, есть вещи, которые я не смог преодолеть,
несмотря на мое терпение и силу воли, доказанные, осмелюсь ска-
зать, мной часто на деле. Я сделан не из дерева, наоборот, я чер-
товски нервен (1839 г.).
40
Как только была окончена моя картина («Стратоника»), меня
свалила лихорадка. Чтоб было пусто и ей, и Риму с его климатом,
где невозможно жить. Да, он уже больше не тот Рим, который я
знавал раньше! Все здесь невыносимо. Пошел первый месяц из пяти,
которые остается мне здесь прожить. К счастью, вряд ли у меня
будет время почувствовать их тяжесть, ввиду, всего того, что мне оста-
ется еще сделать: закончить три картины и многое другое (1840 г.).
Несмотря на подлинное счастье, которое мне принес этот своего
рода прижизненный апофеоз ,6, вся моя постоянная жизнь художни-
ка заключается в замечательной аксиоме: «познай самого себя».
И вот как я поступаю: я отношу на свой счет из всех неумеренных
похвал только те, которые могут, действительно, относиться ко мне,
а все остальное принимаю лишь как благородный стимул для даль-
нейшего совершенствования... Я пользуюсь остальным как крыльями,
чтоб летать все выше, но я благодарю Провидение, которое мне ни-
спосылает такие успехи (1840 г.).
Наконец, я уехал из Рима, безмерную ценность которого ощуща-
ешь, только когда его покинешь. Как глубоко тогда чувствуешь, что
он для нас значит. Увы! Я простился с Рафаэлем, плача, как ре-
бенок, горючими слезами; ведь кто знает, увижу ли я еще когда-
нибудь Ватикан? Что можно сказать худого или хорошего по поводу
трогательного прощания с моими почтительными друзьями и сти-
пендиатами, оставляя которых я не мог не испытать глубокого вол-
нения. Но я утешаю себя мыслью, что скоро увижу других друзей,
столь же, а может быть, и более дорогих моему сердцу (1841 г.).
Я дал согласие на крупные работы 17: я согласился на очень
многое, но предложение мне было сделано в такой форме, что я не
мог не сказать «да». Возможно, что вновь заняв положение чело-
века, па котором сосредоточено общественное внимание, со всеми вы-
текающими отсюда последствиями, я слишком поторопился, порвав с
тем, что неизменно сохранял в продолжение шести лет — с моей
свободой. По правде сказать, я не знаю, будет ли у меня, как рань-
ше, достаточно мужества бороться и сражаться на беспокойной
41
арене, у меня, который на протяжении шести лет наслаждался счастьем
быть только (а это уже кое-что) директором Школы в Риме. Однако
люди все же сумели отрицать то хорошее, что я сделал, или зави-
довать ему! Но, хотя я и побаиваюсь своего нового положения, одо-
брения, похвалы, даже полученные мною знаки уважения победили
мое прежнее злопамятство; я иду вперед, будь, что будет! Одно я
знаю наверное: моя нервная чувствительность с годами еще усили-
лась, если это только возможно, и надо оставить меня в покое, ибо
если меня будут слишком волновать, я сразу приму решение и по-
ступлю так, как собака Жана де Нивелля 18. Пока что я не хочу
ничего иного, как служить моей стране, которую я люблю больше
всего на свете (1841 г.).
Иногда, вполне удовлетворенный своими работами, я счастлив.
В особенности, когда вновь вижу, после долгого перерыва, пущенные
мною в мир произведения, этих детей моей души, которые стоили
мне стольких забот, стольких нежных и смелых попечений (1841 г.).
Я живу в Париже как прикованный к наковальне, по которой
бьют все противоречия жизни художника, одно сильнее другого.
Да, меня приводит в бешенство все, что я здесь вижу, все, что я
слышу, все, что лишает меня какой бы то ни было свободы. Итак,
мне дали написать весь Париж! ,9.. И, несмотря на то, что это убило
бы всякого другого, я здоров, если не считать маленьких недомога-
ний (1846 г.).
Кто может кощунственно поносить здесь и словами, и действиями
обожаемого нами полубога Рафаэля? О жестокая страна! Не будь
моих лавров, не будь окружающих меня предметов искусства, с ко-
торыми я связал свою жизнь, я бы все бросил и уехал... Куда?
В Италию? Но она тоже зачумлена. О! Крайняя необходимость
удерживает меня здесь, где я страдаю, но где, правду сказать, у меня
еще есть друзья. Покинуть их! Это привело бы меня в отчаяние
(1851 г.).
Я был лишен возможности посещать заседания комиссии 20 — со-
брания очень беспорядочные, где согласие царит только в том, чтоб
42
портить все, что было сделано хорошо. Впредь не будет большой
почетной медали! Комиссия произвела на свет список из девяти
членов, где я, художник высокой истории, стою в одном ряду с апо-
столом уродства... 2|. Сегодня, в данный момент, на общем собрании
всех комиссий, заняты санкционированием этого беззакония. Дейст-
вительно, я не знаю, что мне делать. Единственно, что я знаю: если
я буду недоволен тем, что будет сделано для меня, я отказываюсь
от общества, от моего положения, от всякого рода участия в худо-
жественных работах и запираюсь у себя, чтобы., работая и постоян-
но любуясь шедеврами, отдать свои последние дни любви к искус-
ству и жить трудолюбивым лентяем (1855 г.).
Я поглощен работой, я люблю ее теперь как никогда раньше.
Чем больше я старею, тем больше она становится для меня настоя-
тельной необходимостью. Я чувствую себя чудесно, а между тем
ввиду моего преклонного возраста дело идет к тому, что мне уже
надо складывать свой багаж; я желаю, чтобы он был велик и на-
сколько возможно прекрасен, ибо хочу жить в памяти людей
(1856 г.).
Что делать в Париже, в этом злосчастном городе, где безнадеж-
но свирепствует самая дикая, самая нелепая анархия в области ис-
кусства? Я отдыхаю здесь в лоне моей милой, прекрасной семьи22,
но огорчения, выпадающие на долю художника, по-прежнему пре-
следуют меня до такой степени, что моя жизнь полна треволнений.
Придется мне изменить образ жизни. Все уже мне стало безраз-
лично, кроме чести, слава богу, мною не утраченной, моей горячей
любви к искусству и некоторых дорогих моему сердцу друзей. Я кон-
чу тем, что буду жить вдали от всего, что для меня отвратительно
и ненавистно (1857 г.).
Я теперь так стар морально, я так ясно вижу и понимаю истин-
ную цену всего существующего, что желаю жить и закончить мою
жизнь только с близкими, очень интимными привязанностями и
личными радостями, которые никто не сможет у меня отнять до моего
последнего вздоха. Таким образом, я освобожусь от многих непри-
ятностей, порвав с невежественным, фальшивым, завистливым,
43
дурного вкуса обществом, а главное избегну того, чтоб моя репутация
постоянно ставилась под угрозу (1858 г.).
Меня упрекали и, быть может, справедливо, что я слишком часто
повторяю свои композиции вместо того, чтобы создавать новые
произведения23. Вот каковы мои соображения на этот счет: боль-
шинство любимых мною по сюжету работ казались мне заслуживаю-
щими того, чтобы затратить труд и сделать их еще лучше, повто-
ряя или лучше отделывая их, как это часто случалось с моими
первыми картинами, между прочим, с «Сикстинской капеллой»24.
Когда художник в силу своей любви к искусству и затраченных им
усилий имеет право надеяться оставить свое имя будущим поколе-
ниям, он неустанно будет стараться сделать свои произведения бо-
лее прекрасными или хотя бы менее несовершенными. Примером для
меня служит великий Пуссен, часто повторявший одни и те же сю-
жеты. Но ничем не следует злоупотреблять. Есть такие произведе-
ния, которые нельзя повторить, и, говоря без гордости, было бы аб-
сурдом с моей стороны хотеть снова написать «Св. Симфориона»
(1859 г.).
Меня упрекают в нетерпимости, меня обвиняют в несправедли-
вом отношении ко всему, что не является античностью или Рафаэ-
лем. А между тем, я умею ценить малых голландских и фламанд-
ских мастеров, потому что они сумели по-своему выразить правду и
им удалось прекрасно изобразить находящуюся перед глазами на-
туру. Нет, я не нетерпим, или вернее — я нетерпим только ко вся-
кой фальши (1859 г.).
Если бы я не чувствовал горького отсутствия моих лучших дру-
зей 25, я был бы очень счастлив в моей уединенной и трудолюби-
вой жизни, довольствуясь самим собой, книгами, кистью, которую
я, слава богу, держу еще довольно крепко, и хорошей классической
музыкой (1860 г.).
Итак, это правда, что в конце прошлого месяца мне стукнула
80 лет, — это не шутки. Некоторым из вас еще больше лет, но.
44
несмотря на наш возраст будем верить, что мы еще не лишились рас-
судка, как многие другие. Годы сохраняют нам разум, нашу голову;
только ради этого и стоит жить (1860 г.).
Этот золотой венок не мог бы быть прекрасней, будь он сделан
даже для императора, но сильней растрогали меня две тысячи под-
писей, принадлежащих людям всех слоев общества 26.
Вот как в этой жизни хорошие дни чередуются с плохими, но пло-
хих бывает больше. Все что я перестрадал в этот момент, столь близ-
кий к переходу в небытие, приводит меня в уныние и возмущает,
так как во мне два человека: подвижной, обладающий юным чувст-
вительным умом, который не только не притупляется, но даже де-
лается более острым; этот человек становится раздражительным,
непереносимым и говорит жалкому телу, дряхлому, немощному и
страдающему: Ну же! Неразумный глупец. Зачем ты состарился?
Если бы моя религия и нежные заботы моей несравненной Дельфи-
ны не смягчали моих страданий, я был бы очень несчастен, несмотря
на все почести, несмотря на столь завидное и блестящее положение.
Я привез с собой сюда в Менг истинное благо жизни — работу —
довольно большое полотно с «Мадонной»27 для того, чтобы его за-
кончить без особого утомления, не спеша, наслаждаясь спокойным
времяпрепровождением и пользуясь тем, что во мне есть еще пыл чело-
века тридцати лет; и если бог позволит и окажет мне эту милость,
я должен увеличить малое число моих произведений еще до того,
как отправлюсь в дальний путь. Да будет богу угодно, чтобы их
сколько-нибудь оценило потомство (1863 г.).
Я — сын моей страны, я настоящий галл, но не из тех, которые
разграбили Рим и хотели сжечь Дельфы. Есть еще и такие среди нас.
Правда, они не разрушают оружием, но в своей спеси и в беспоря-
дочности своих мелочных мыслей эти ничтожные сегодняшние галлы
направляют все усилия против своей собственной родины, стараясь
лишить ее истинного искусства. Они подкладывают мины под корни
этого искусства, они, как термиты, разъедают его мозг до тех пор,
пока он не рассыплется и не превратится в пыль. Некоторым я могу
показаться резким и жестоким, но против тяжелых болезней нужны
45
сильные средства. Однако я считаю, что я прав в моих непоколеби-
мых убеждениях и в моей искренней любви к искусству, которую ни-
кто не решится оспаривать... Пусть меня считают своеобразным, не-
терпимым, странным: поскольку мой возвышенный вкус составляет
часть некой религии, поскольку я всегда могу обосновать величие
всего того, что я люблю и обожаю, постольку ясно (без ссылки на
мою нервную раздражительность), откуда исходят мои так называ-
емые странности и почему я нетерпим! (1864 г.).
Плохие знатоки, плохие художники подобны чертям, выскочив-
шим из-под земли; они все ниспровергают, все разрушают и господ-
ствуют; но мы с нашей верой — мы морально сильнее их. И так как
они слепы, и только мы одни видим ясно, они еще более несчастны,
чем мы (1865 г.).
До сегодняшнего дня боязнь чужого мнения не заставила меня
ни разу отступить. Для меня вопрос чести оставаться верным преж-
ним убеждениям, тем убеждениям, которых я никогда не оставлю до
самого последнего своего часа (1866 г.).
О ПРЕКРАСНОМ В ИСКУССТВЕ
вух искусств не существует, —
есть только одно. Его основа — вечно прекрасное и естественное.
Те, кто ищет вне этого, ошибаются самым роковым образом. Что хо-
тят сказать мнимые художники, проповедующие открытие «нового»?
А есть ли что-либо новое? Все уже сделано, все уже найдено. Наша
цель не изобретать, а продолжать, и нам много есть что делать,
пользуясь, по примеру мастеров, бесчисленными образами, которые
нам постоянно предлагает природа, воспроизводя их со всей искрен-
ностью нашего сердца, облагсраживая их тем чистым и точным сти-
лем, без которого никакое произведение не может быть прекрасно.
Какой абсурд думать, что врожденные предрасположения и свойства
могут быть искажены изучением или подражанием классическим
произведениям! Основной образ—человек — всегда перед нами: нам
надо только обратиться к нему, чтобы узнать, правы или неправы
были классики и, когда пользуемся их методом, лжем ли мы или
говорим правду.
Нет надобности открывать условия и основы прекрасного. Речь
идет о том, чтобы их применять и чтобы из-за -стремления к изобре-
тательству мы не упустили б их из вида. Красота чистая и естест-
венная не нуждается в том, чтобы поражать новизной: достаточно
того, что она красота. Но человек страстно любит перемены, а пере-
мены в искусстве часто являются причиной упадка.
Изучение или созерцание шедевров искусства должно служить
лишь для того, чтоб плодотворнее и с большей легкостью изучать
природу; оно не должно уводить от нее, так как из природы выте-
кают и в ней берут свои начала все совершенства.
47
Только в природе можно найти красоту, которая является вели-
ким объектом живописи; там-то и надо ее искать, и нигде более.
Представить себе идею красоты вне ее (природы. — Пер.) красоты,
которая была бы выше того, что нам дает природа, столь же невоз-
можно, как невозможно иметь представление о шестом чувстве.
Мы вынуждены вырабатывать все свои понятия, вплоть до идеи
Олимпа и его божественных обитателей, исходя из предметов чисто
земных. Все глубокое изучение искусства сводится к тому, чтобы
научиться подражать этим предметам.
Главное и самое важнее в живописи — это знать, что именно дала
природа самого совершенного и наиболее подходящего для этого ис-
кусства, чтобы сделать из этого выбор согласно вкусу древних масте-
ров и их восприятию.
Нужно помнить, что отдельные части самой совершенной статуи
никогда не могут, каждая сама по себе, превзойти природу, и что
нашим идеям невозможно подняться выше красот, которые мы ви-
дим в ее творениях. Единственное, что мы может сделать,— это су-
меть собрать их вместе. Строго говоря, греческие статуи стоят выше
природы только потому, что в них соединены все прекрасные части,
тогда как природа очень редко собирает их в одном и том же пред-
мете. Художник, поступающий таким образом, может считать себя
принятым в святое святых природы. Тогда он наслаждается лице-
зрением богов и беседой с ними; подобно Фидию, он созерцает их
величие и постигает их язык, чтобы говорить на нем со смертными.
Фидий достиг возвышенного, исправляя природу посредством ее
самой. Для своего «Юпитера Олимпийского» он использовал все
естественные красоты и соединил их, чтобы достичь того, что до-
вольно неудачно называют «прекрасный идеал». Это слово надо
понимать только как обозначение соединения самых прекрасных эле-
ментов природы, которая очень редко бывает совершенной в этом
отношении, хотя природа при этом такова, что нет ничего выше ее,
когда она прекрасна, и все человеческие усилия не в состоянии не
только ее превзойти, но даже сравняться с ней.
48
Изучайте прекрасное только стоя на коленях.
Только плача можно прийти к высоким достижениям в искусстве.
Кто не страдает — тот нс верит.
Относитесь к вашему искусству с благоговением. Не верьте, что
можно сотворить что-либо хорошее или даже приблизительно хо-
рошее без взлета души. Чтобы суметь сделать прекрасное, смотрите
только на самое великое; не смотрите ни направо, ни налево, а тем
более вниз. Шагайте, подняв голову к небу, вместо того чтобы
склонить ее к земле, подобно свиньям, роющимся в грязи.
Искусство живет глубокими мыслями и благородными страстями.
Дайте характер, дайте пыл! От жары не умирают—умирают от
холода.
То, что знаешь, надо знать с оружием в руках! Только сражаясь,
добиваешься чего-то, и в искусстве борьба — это затраченные нами
усилия.
Рисуй, пиши, в особенности подражай, будто простой натюр-
морт. Все написанное в подражание природе — уже творчество, и та-
кое подражание ведет к искусству.
Шедевры существуют не для того, чтобы ослеплять. Они при-
званы уговаривать, убеждать, проникать через все поры.
Плохое исполнение убивает все: в природе его не существует.
Пуссен имел обыкновение говорить, что художник становится бо-
лее искусным, когда он наблюдает предметы, а не тогда, когда он
утомляет себя, копируя их. Конечно. Но надо, чтобы у художника
были глаза.
Чтобы отличить истинное от ложного, нужно руководствоваться
разумом. К этому можно прийти не иначе, как проявляя избиратель-
4 Нигр об искусстве
49
ную нетерпимость, а этому учит непрерывное общение только с
красотой. О, как странно и чудовищно любить с равной страстью
и Мурильо, и Рафаэля 28.
Что касается правдивости, я предпочитаю, чтобы ее немного пре-
увеличили, хотя это и рискованно: ведь я знаю, что правдивость
иногда может казаться неправдоподобной. Зачастую разница между
ними равна толщине одного волоска.
В изображениях человека в искусстве спокойствие является
главной красотой тела, равно как в жизни мудрость — самое высо-
кое выражение души.
Будем стараться нравиться, чтобы лучше внушить правдивость.
Ведь не на уксус ловят мух, а на мед и сахар.
Посмотрите сюда (на живую натуру) — это совсем, как у древ-
них, а древние именно таковы. Это как античная бронза. Древние
никогда не исправляли свои модели, я подразумеваю под этим, что
они никогда их не искажали. Если вы воспроизводите искренне то,
что у вас перед глазами, вы поступаете, как поступали они, и, по-
добно им, вы придете к прекрасному. Если вы пойдете другой до-
рогой, если вы захотите исправить то, что видите, то придете толь-
ко к ложному, к двусмысленному или к смешному.
Когда у вас нет должного уважения к природе, когда вы осме-
ливаетесь ее оскорблять в вашем произведении, вы даете пинок но-
гой в чрево вашей матери.
Искусство только тогда достигает высшей степени совершенства,
когда оно до такой степени похоже на природу, что его можно при-
нять за самую природу. Искусство удается лучше всего, когда его
приемы скрыты.
Надо находить секрет красоты в правдивом. Античные мастера
не создали, не сделали: они посмотрели и узнали.
50
Любите правдивое, потому что оно и есть прекрасное, если вы
можете отличить его и прочувствовать. Пусть ваши глаза видят хо-
рошо, видят проницательно: большего я не требую. Если вы хотите
видеть эту ногу безобразной, я знаю, что для этого есть основания,
но я вам говорю: возьмите мои глаза, и вы ее найдете прекрасной.
Уродство! Его изображают, потому что недостаточно хорошо
видят красоту.
Вы трепещете перед натурой! Трепещите, но нс сомневайтесь!
Всегда прекрасно то, что правдиво. Все ваши ошибки происхо-
дят не оттого, что у нас недостаточно вкуса или воображения; они
исходят оттого, что вы недостаточно внесли в свое произведение
природы. Рафаэль и живая модель — синонимы. А какой путь из-
брал Рафаэль? Сам он был скромен; каким бы он ни был Рафаэлем,
а он подчинялся природе. Будем же и мы смиренны перед ней.
Скульптура — искусство строгое, суровое, поэтому древние посвя-
тили ее религии.
Горе тому, кто играет со своим искусством! Горе художнику, не
обладающему серьезностью ума!
Не занимайтесь другими, занимайтесь только своим делом, ду-
майте только о том, как лучше его выполнить. Посмотрите на му-
равья, несущего яйцо: он двигается, не останавливаясь, и, только
дойдя до цели, обернется посмотреть, где находятся другие. Когда
вы состаритесь, тогда вы сможете сделать то же самое и сравнить
все, что вы сделали, с произведениями ваших соперников. Тогда, но
только тогда, вы сможете смотреть на все без опасности для себя и
все оценить по достоинству.
О КРИТИКЕ И ВКУСЕ
^^^^-огда художник уверен, что он
идет по правильному пути, когда он идет по стопам тех своих пред-
шественников, которые по праву заслужили широкую известность,
он может вооружиться смелостью и уверенностью, присущими под-
линному таланту. Он не должен позволять сбить себя с верной
дороги из-за порицания невежественной толпы. Ведь прав он, это
он должен давать уроки и образцы вкуса.
Чем больше в вас уверенности в силы, тем больше следует быть
доброжелательным к колеблющимся и слабым. Доброжелатель-
ность — это одно из великих качеств гения.
Несчастье великих художников, известное только им одним и
на которое они сетуют только в своем кругу, заключается в том,
что их недостаточно чувствуют. Только общий эффект от произве-
дения обусловливает успех, но все совершенные детали — целая мас-
са черт, драгоценных в силу тех усилий, которых они стоили (или же
почти ничего не стоили), вот чем могут тайно, наедине наслаждаться
лишь немногие знатоки, вот о чем ничего не говорят аплодисменты
публики, вот о чем зависть всегда умалчивает и что невежество ни-
когда не сможет понять; а понимание этого явилось бы первой на-
градой для истинных талантов.
«Нет почти ничего великого на свете, что было бы создано иначе,
как гениальностью и стойкостью одного человека, борющегося с
предрассудками толпы» (Вольтер). Да. Если это гений добра —
тем лучше. Если же он злой, как Вольтер, то к чему это приведет?
52
К варварству, к абсурдному отрицанию вечно прекрасного, истинно-
го, к сухости души и сердца, к небытию, к пустоте, к страшному
молчанию необитаемой земли.
Время отдает справедливость всему. Абсурдные творения могли
поразить, обмануть свой век фальшивыми, но ослепляющими черта-
ми, потому что обычно люди редко судят самостоятельно, а чаще
плывут по течению. Ведь верный вкус почти так же редок, как и
талант. Вкус!... Он состоит не столько в том, чтоб оценить хорошее
там, где оно очевидно, сколько в умении распознать его под толщей
скрывающих его недостатков. У истоков некоторых искусств есть
много неоформленного, но оно иногда таит в себе больше совершенства,
чем самое завершенное искусство.
Между хорошим вкусом и добрыми нравами гораздо больше
связи, чем это обычно думают. Хороший вкус — это прекрасное чув-
ство добропорядочности, идущее от счастливых наклонностей и раз-
витое широким воспитанием.
Только грубый стиль в искусстве, будь то живопись, поэзия или
музыка, естественно, нравится большинству. Наиболее возвышен-
ные усилия искусства не доходят до малокультурных умов. Утон-
ченный вкус — это плод воспитания и опыта. При рождении мы по-
лучаем только возможность приобрести этот вкус и его совершенст-
вовать, точно так же мы рождаемся с предрасположением к усвоению
общественных законов или с умением к ним приспособиться. Только
в этом смысле, но не больше, можно говорить, что у нас врожден-
ный вкус.
Невежественная толпа проявляет столь же мало вкуса в своих
суждениях о картине, об ее воздействии или характере, как и о ре-
альных явлениях. В жизни она будет приходить в восторг от грубо-
сти и напыщенности; в искусстве она всегда предпочтет натянутые,
принужденные позы и резкие краски благородной простоте и спо-
койному величию, какие мы видим в картинах старых мастеров.
Можно ли достаточно любить высшую красоту, достаточно любо-
паться сю! Какой цветок, среди самых красивых, может сравниться
53
с розой, а среди птиц небесных, какую можно приравнять к орлу
Юпитера? Точно так же найдется ли что-либо равное произведени-
ям Гомера, статуе Фидия, картине Рафаэля, лирической трагедии
Глюка, квартету или сонате Гайдна? Есть ли что-либо более пре-
красное, более божественное, а следовательно, и более достойное
обожания?
Тусклая хвала прекрасного — это уже оскорбление. •
Надо все время совершенствовать свой вкус на шедеврах искус-
ства; заниматься другими изысканиями — это потеря времени; мож-
но бросить взгляд на менее значительные красоты, но не стоит изу-
чать их, еще менее им подражать.
Когда древние отправлялись в путешествие или уезжали на от-
дых, они всегда брали с собой предметы искусства — картины, ма-
ленькие бронзовые статуэтки. Император Тиберий неизменно путе-
шествовал с картиною Зевксиса20 или Апеллеса30, изображавшей
жреца Кибелы 31. Нам, когда мы находимся вдали от мест, где обыч-
но живем, надо всегда иметь перед глазами наши гравюры, наши
наброски с мастеров, чтобы поддерживать наш вкус, чтобы помочь
нам понять новое или чтобы предохранить нас от соблазна.
Естественно воспринимать своих друзей в хорошем свете, одна-
ко не тогда, когда они впадают в фальшь. Будет подлинным проявле-
нием дружбы и милосердием (которое отнюдь не состоит только в
подаче милостыни) посодействовать им, подкрепить, поднять душу
и сердце просвещенными и искренними советами относительно все-
го прекрасного, доброго и полезного. Хвала фата или невежды ни-
как нас не поощряет; наоборот, она должна открыть нам глаза на
наши ошибки.
Чтобы извлечь пользу из критики наших друзей, необходимо,
чтобы мы знали их характер, их вкус, их образ мышления и умели
бы разобраться, в какой степени их замечания могут быть справед-
ливы.
54
Та же прозорливость, которая помогает человеку совершенство-
ваться в искусстве, должна научить его правильно применять сужде-
ния как знающих, так и недалеких людей.
Чтобы быть хорошим критиком великого искусства и высокого
стиля, надо быть наделенным тем же чистым вкусом, который руко-
водил художником и направлял его при создании своего творения.
Мало есть людей, будь они учеными, будь они даже невежест-
венными, чьи мысли о произведениях художника, если только они
высказаны свободно, не могли б быть полезны. Единственно, чье
мнение совершенно бесполезно, — это мнение полузнатоков.
О РИСУНКЕ
I исунок — это высшая чест-
ность искусства.
Рисовать вовсе не значит просто делать контуры; рисунок не
состоит только из линий. Рисунок — это еще и выразительность,
внутренняя ферма, план, моделировка. Посмотрите, что же остается
после этого! Рисунок содержит в себе более трех четвертей того,
что представляет собой живопись. Если бы мне надо было поместить
вывеску над моей дверью, я написал бы: «Школа рисования», и я
уверен, что создал бы живописцев.
Рисунок содержит в себе все, кроме цвета.
Надо рисовать беспрестанно, рисовать глазами, когда нет воз-
можности рисовать карандашом. Пока вы не согласуете точное наблю-
дение с практикой, вы ничего действительно хорошего не создадите.
Художник, который полагается на циркуль, — опирается на приз-
рак.
Не проводите ни одного дня без того, чтоб не начертить хотя бы
одну линию,— говорил Апеллес. Он этим хотел сказать, а я вам
повторяю: линия — это рисунок, это — все.
Если бы я мог всех вас сделать музыкантами, вы выиграли бы
как живописцы. В природе все гармонично: чуть больше, чуть мень-
ше — это уже нарушает гамму и дает фальшивую ноту. Надо до-
биться умения верно петь карандашом или кистью и так же хорошо,
как голосом. Точность форм — то же самое, что и точность звуков.
56
Изучая натуру, обращайте внимание прежде всего на целое.
Спрашивайте его, и только его. Детали — это важничающая мелко-
та, которую следует урезонить. Форма должна быть широкой, и
только широкой! Форма—это основа и условие всего. Даже дым
должен быть передан линией.
Обратите внимание в модели на взаимоотношения величин; в
них заключен весь характер. Пусть они вас сразу поразят, и вы их
сразу же запечатлейте. Если же вместо того чтобы следовать этому
методу, вы нащупываете или же ищете на бумаге, то ничего стою-
щего не сделаете. Фигура, которую вы хотите передать, должна
стоять в вашем сознании целиком перед глазами, и ее выполнение
должно быть не чем иным, как воплощением образа, которым ваш
замысл уже овладел.
Делая набросок фигуры, постарайтесь прежде всего определить и
хорошо охарактеризовать ее движение. Я буду постоянно вам по-
вторять: движение—это жизнь.
Не будем сетовать ни на время, ни на усилия, затраченные ради
того, чтобы достичь точной выразительности и совершенства стиля.
Пусть для постоянного исправления наших ошибок нам послужит
даже наша способность работать с легкостью. Малерб32, говорят,
работал необыкновенно медленно. Да, это потому, что он работал
для бессмертия.
Надо скрывать следы технической легкости, с которой вы соз-
давали произведение. Пусть будут видны только результаты, а не
примененное средство. Техническая легкость — ею надо пользовать-
ся, презирая ее; однако если ее имеешь на 100 тысяч франков, то
не вредно приобрести еще на два су.
Чем проще линии и формы, тем больше красоты и силы. Всякий
раз, как вы расчленяете формы, вы их ослабляете. К этому всегда
приводит дробление в чем бы то ни было.
57
Почему не создают крупных характеров? Потому чго вместо
одной большой формы делают три малых.
Если при передаче характера не выявлены основные линии, то
мы сможем достичь лишь сомнительного сходства.
Строя фигуру, не создавайте ее по частям. Согласуйте все одно-
временно и, как правильно говорят, рисуйте ансамбль.
Не старайтесь научиться создавать красивый характер. Его на-
до найти в самой модели.
Прекрасные формы — это прямые планы и округлости. Прекрас-
ные формы — это те, в которых все упруго и полно и где детали
не портят общего вида крупных масс.
Форме надо придать здоровье.
Законченность формы обнаружится при окончании работы. Не-
которые довольствуются в рисунке чувством; раз чувство показа-
но,— им уже достаточно. Вот перед вами Рафаэль и Леонардо да
Винчи, доказывающие, что чувство и точность могут сочетаться.
Великие художники Рафаэль и Микеланджело, заканчивая про-
изведение, настаивали на линии. Тонкой кистью они еще раз под-
тверждали ее, оживляя таким образом контур. Они придавали ри-
сунку нервы и страсть.
Практически мы не работаем, как скульпторы, но мы должны
делать скульптурную живопись.
Живописец совершенно прав, когда стремится к утонченности,
но он должен придать ей силу. Сила не исключает утонченности.
Вся живопись заключена в крепком и одновременно тонком рисун-
ке. Что бы ни говорили, она состоит только в рисунке твердом, гор-
деливом, характерном, даже если речь идет о картине, которая дол-
жна воздействовать своей грацией. Но одной грации недостаточно,
58
как недостаточно и отделанного рисунка. Нужно нечто большее:
надо, чтобы рисунок расширял, чтобы он все обволакивал.
Когда при создании произведения голова управляет рукой, в нем
всегда есть что-нибудь хорошее, каковы бы ни были недостатки.
Нужно, чтобы это чувствовалось даже в этюдах начинающего. Лов-
кость руки приобретается опытом; но правдивость чувства и пони-
мания — вот что должно проявиться в первую очередь и что до из-
вестной степени может заменить все остальное.
Рисуйте четко, но с размахом. Рисунок чистый и широкий — вот
это искусство!
Рисуйте долго, прежде чем приступить к писанию красками.
Когда строишь на прочном фундаменте, можно спать спокойно.
Экспрессия в живописи требует очень большого знания рисун-
ка; она не может быть хорошо выражена, вне абсолютной точно-
сти. Схватить ее приблизительно — это значит потерять ее; это
равносильно изображению фальшивых людей, симулирующих чув-
ства, которых они не испытывают. Достичь этой предельной точно-
сти можно только с помощью самого полного знания рисунка. По-
этому мастера экспрессии среди художников нового времени были
великими рисовальщиками. Посмотрите на Рафаэля!
Итак, экспрессивность, выразительность — этот главный элемент
искусства, неразрывно связан с формой. Совершенство колорита в
ней играет настолько подчиненную роль, что величайшие мастера
экспрессивности не достигали столь же высокой степени, как коло-
ристы. Порицать их за это — значит недостаточно понимать искус-
ство. От одного и того же человека нельзя требовать противопо-
ложных качеств. Кроме того, быстрота выполнения, необходимая
для сохранения всей привлекательности цвета, не вяжется с углуб-
ленным изучением, обязательным для достижения чистоты форм.
Все монахини кажутся красивыми, и я знаю по опыту, что нет
таких искусственных украшений или изысканных уборов, которые
могли бы произвести хотя бы половину впечатления, получаемого
59
от простой и скромной одежды монахини или монаха. Я часто заме-
чал и любовался в церкви выражением чувства нежности и любви,
одушевляющих лица верующих. Набожность, испытываемая ими
перед мадоннами или особо почитаемыми святыми, должна давать
глубокую удовлетворенность сердцу. Признаюсь, я завидую их со-
стоянию. Я проклинаю в глубине души философию, которая со всей
своей холодностью и ничтожными победами повергает нас в своего
рода стоическую апатию и уничтожает самые тонкие переживания.
Во всяком случае, сколько возможностей для искусства в изу-
чении и подражании этим внешним проявлениям внутренней уми-
ротворенности! Здесь и утешение для души, и подкрепляющий ее
пример, а с точки зрения красоты — замечательное зрелище для глаз.
Необходимо, чтобы в картине свет с силой падал на определенное
место, и внимание зрителя будет сосредоточено на этой точке. То
же самое и при изображении фигур, где световой эффект должен
излучаться из центральной точки, что создает постепенность в де-
градации теней. Что касается форм, то необходимо, чтобы большая
форма, господствуя надо всем остальным, приковывала взор,— в
этом и заключается один из главных элементов характерности в ри-
сунке.
Чтобы достичь совершенной формы, не следует прибегать к
квадратным и угловатым объемам: надо создавать форму округлой
и без выступающих внутренних деталей.
Если в картине имеется одна фигура, ее надо моделировать
рельефно и таким образом выискивать живописный эффект.
Имейте всегда при себе альбом и отмечайте хотя бы четырьмя
ударами карандаша предметы, вас заинтересовавшие, если нет вре-
мени обозначить их полностью. Но если у вас есть свободное время
сделать более точный набросок, возьмитесь за модель с любовью,
рассмотрите ее и воспроизведите во всех аспектах с тем, чтобы впи-
тать ее в свое сознание и чтобы она вросла в него как ваша собст-
венность.
60
Я настаиваю на хорошем знании скелета, так как кости опреде-
ляют строение тела и уточняют длину отдельных его частей; для
рисунка они являются постоянными точками опоры. Я менее на-
стаиваю на анатомическом знании мускулов. Слишком много позна-
ний в этой области вредит искренности рисунка, может отвлечь от
характерной выразительности и привести к банальности форм. Но
все же надо считаться с порядком и с соотношениями в располо-
жении мускулов, чтобы избегнуть ошибок в построении (тела).
Все эти мускулы — мои друзья, но я ни одного из них не знаю
по имени.
Внешние контуры никогДа не должны быть вогнутыми. Наобо-
рот, они должны выступать, круглиться, как у плетеной ивовой
корзинки.
Считают, что образцовая красота — это результат частых на-
блюдений над прекрасными моделями. Например, массивная шея
встречается у хорошо сложенных мужчин пятнадцать раз из два-
дцати, поэтому ее можно считать одним из признаков красоты.
Однако если у вашей модели тонкая шея, не делайте ее массивной;
но также остерегайтесь преувеличить ее худобу. Чтобы выразить
характер, некоторые преувеличения позволительны, в особенности,
если надо выявить и подчеркнуть элемент прекрасного.
Человек обычно держит голову назад по отношению к тулови-
щу, а грудь—вперед. Это благородная и правильная осанка. Голова
с наклоном вперед, если только не изображается движение, лишает
человеческую фигуру достоинства и выражает удрученность, уста-
лость или опьянение.
Возьмем модель юноши крепкого сложения, еще не сформиро-
вавшегося молодого атлета: грудные мускулы короткие, равно как и
торс, руки сильные в верхней части, но тонкие в суставах, ноги так-
же: это признак силы и подвижности.
Вы никогда не увидите Геркулеса с тяжелой и сильной нижней
частью тела.
61
Длина торса у мужчин как высокого, так и низкого роста ма-
ло различается. Так, торс, большой по сравнению с длиной ног,
указывает на малый рост; короткий торс указывает на высокий рост
человека.
Никогда линия головы не переходит непосредственно в линию
шеи; этот контур всегда прерван.
Когда работаешь над изображением головы, главная забота ма-
стера— это заставить говорить глаза, даже при самом общем их
обозначении. Прежде всего надо наметить глазные впадины, а затем
уже перейти к выпуклости носа.
Опущенные ноздри — это прекрасный способ выразительности —
они обозначают спокойствие.
Крыло ноздри, едва заметно обведенное, — это признак красоты;
ноздря, хорошо взятая вместе со щекой,— это тоже элемент кра-
соты.
Усы должны оставлять щеку совершенно открытой. Посмотрите
на Юпитера 33.
Рафаэль рисовал драпировки со своих учеников, работающих под
его руководством; ведь они, конечно, лучше других знали, каким
способом распределить складки одежды, чтобы они лежали красиво.
Надо в точности следовать этому примеру и изгнать манекены;
оставить их только для портретов, да и то только для женских на-
рядов, требующих тонкой отделки.
Итак, никаких манекенов. Как только найден красивый мотив
драпировки, его надо применить к натуре, одеть модель в эту за-
ранее придуманную драпировку и схватить на ней движение складок
и распределение деталей.
О ЦВЕТЕ
^увет украшает живопись; но это
не что иное, как придворная дама, поскольку она только способст-
вует истинным совершенствам искусства быть еще более привлека-
тельными.
Нет такого примера, чтобы крупный рисовальщик не владел бы
колоритом, в точности отвечающим характеру его рисунка. В гла-
зах многих Рафаэль не колорист. Конечно, он писал не так, как Ру-
бенс или Ван Дейк. Черт возьми! Еще бы!., он бы поостерегся!..
Рубенс и Ван Дейк могут ласкать глаз, но они его обманывают:
они колористы плохой школы — школы лжи. Тициан—вот где на-
стоящий цвет, вот где натура без прикрас, без излишнего блеска,—
все у него верно.
Не надо слишком горячих красок. Это антиисторично. Впадайте
лучше в серый тон, чем в горячий, если вы не можете воспроизвести
точно, если вы не в состоянии найти совершенно правильный тон.
Исторический оттенок оставляет дух спокойным. Ни в этом, ни
в чем-либо другом не следует претендовать на большее.
Основные элементы колорита заключены не в ансамбле светлых
или темных масс картины; они скорее всего в особых различиях то-
на каждого предмета. Так, например, сверкающую белую ткань надо
помещать на смуглом оливкового оттенка теле, и, в особенности, надо
различать мягкий , золотистый цвет от холодного, случайный цвет
от локального цвета фигур. Это соображение пришло мне в голову
63
случайно, когда я увидел в зеркале отражение белой драпировки на
бедре моего «Эдипа» 34, такой яркой и красивей рядом с теплым и
золотистым цветом кожи.
Живописцы сильно ошибаются, безрассудно употребляя в своих
картинах слишком много белой краски, которую затем приходится
понижать и тушить. Белую краску должно приберегать для изоб-
ражения света, для световых эффектов, которые определяют впечат-
ление от картины. Тициан говорил, что хорошо было б, если б белая
краска была так же дорога, как и ультрамарин, а Зевксис — этот
Тициан среди античных живописцев — порицал тех, кто не понимал,
насколько вредна чрезмерность в подобных случаях. Нет ничего бе-
лого в живых телах, нет ничего положительно белого, все относи-
тельно. Попробуйте поместить лист (белой) бумаги рядом с пора-
жающей своей белизной кожей женщины.
Бесспорно, нельзя достичь большой силы и теплоты цвета, на-
конец, писать золотисто и жирно, как венецианцы, не употребляя,
подобно им, крупнозернистый холст. Доказательство — обратное
впечатление, которое производят портреты и картины некоторых
мастеров, таких, как Аллори 35, которые писали очень слитно и очень
закоченно на гладком грунте.
Способ писать в венецианской манере мне открыл набросок анг-
лийского живописца Леви. Этот набросок был сделан с прекрасного
Тициана нашего музея: «Положение во гроб». Художник, ради под-
ражания мастеру, писал на холсте, лишь слегка окрашенном клеевой
краской; по-видимому, так делали все живописцы, очень часто на-
кладывая этот тон на полотно. Он понял, что для достижения про-
зрачности и приятной теплоты тона надо класть лессировки36, а
следовательно, писать все подмалевки более или менее окрашенным
серым тоном вроде монохромной камеи.
Вообще писать надо грубо, неровно и свободно. Набросок можно
делать очень легким, весь одним и тем же приемом. Однако, проходя
его во второй раз. надо писать резко и пастозно.
64
17. Портрет г-жи Леблан. 1822
13.
Портрет
г-на
Леблан. 1823
Нужно, чтобы подготовленная таким образом картина выражала,
несмотря на однотонность, чувство цвета. Надо ее оставить
сохнуть, по крайней мере, в течение месяца, прежде чем начать от-
делывать, и тогда надо писать лессировками, за исключением белых
тканей.
Только употребляя лессировки, можно хорошо имитировать пре-
красные способы старых итальянских мастеров. Много драпировок,
написанных белым, были перекрыты цветными лессировками. Мне
кажется, этот способ всегда употреблялся Тицианом, Андреа дель
Сарто3' и Фра Бартоломео38.
Форнарина на флорентийской трибуне — прекрасный пример
употребления лессировок.
Очень красиво затемнять веки у стариков. Посмотрите на
Юлия II. Рафаэля39... Красиво делать бесцветными веки женских
глаз. Это — наблюдение с натуры.
На белке глаза имеется более светлая часть, и ее необходимо
резко подчеркнуть: эта часть — соседняя со зрачком.
Следует обращаться к цветам, чтоб найти красивые тона для
драпировок.
Теплый лиловый тон и серый льняной, впадающий в водянисто-
зеленый — вышитые затем крупными белыми греческими мотива-
ми,— очень хороши.
Драпировки с подкладкой другого цвета весьма эффектны. До-
казательства есть в произведениях эпохи Возрождения. Это надо
постоянно применять на практике.
Вот тона драпировок для того, чтоб фигуры впечатляли бы; во
фреске «Св. Иосиф» Бароччи40: на фигуре Мадонны коричнево-
красная одежда с небольшим количеством глухого тона лака, плащ
ультрамариновый. Фигура (рыцаря д’Арпэн) очень смуглого брю-
нета, в светлых желтых штанах, поглощает весь свет. Отмечайте
такие подробности, особенно с работ Тициана.
5 Энгр об искусстве
65
Чтобы получить должное впечатление, надо смотреть на свою
картину в самом темном месте мастерской. Ваятели древности по-
мещали свои скульптуры в подвалах, чтобы лучше судить об объ-
емах.
Имейте небольшую комнатку, как у Пуссена42, необходимую для
получения эффектов.
Свет подобен воде; так или иначе он пробивает себе место и
сразу достигает своего уровня.
В картине свет должен падать и сосредоточиваться на одной
какой-нибудь части сильнее, чем на остальных, так чтобы останав-
ливать и приковывать к ней взгляд. То же и для фигуры: и уже
отсюда пойдут градации светотени.
Никогда не надо при затемненном контуре класть краску рядом
с контурной линией; ее надо накладывать на самую линию.
Узкие отблески в тени, идущие вдоль контура,— недостойны ве-
личия искусства.
Умение в живописном произведении отчетливо выделять пред-
меты, что очень многие считают столь существенным, отнюдь не
является тем качеством, которому Тициан — кстати, величайший из
всех колористов—уделил бы особое внимание. Только живописцы
меньшего таланта видели здесь главную заслугу живописи, как
это еще и сейчас считает стадо любителей, испытывающих неиз-
менную радость и удовлетворение, когда они видят на картине фи-
гуру, которую, как они говорят, «можно обойти вокруг».
Иногда маленькие фламандские и голландские картины являют-
ся сами по себе, несмотря на небольшие размеры, замечательными
образцами по красочности и эффекту для исторической кар-
тины. В этом отношении можно на них учиться и приводить их в
виде примера.
ОБ ИЗУЧЕНИИ АНТИЧНОСТИ
И СТАРЫХ МАСТЕРОВ
С мнение, когда речь идет о
прелести античного искусства — это уже хула.
Считать, что можно обойтись без изучения античности и класси-
ки,— это или безумие, или леность. Да, антиклассическое искусство,
если только оно является искусством, — не что иное, как искусство
лентяев. Это — доктрина тех, кто хочет производить, не работая, и
знать, не изучая; это — искусство без веры, как и без дисциплины,
рискующее идти без света во тьме, с надеждой только на случай,
который доведет его туда, куда можно дойти только благодаря сме-
лости, опыту и разумению.
Древние были выше нас только потому, что их способ видения
был столь же разумен, как и могуч, столь же искренен, как и пре-
красен. Они никогда не теряли этого принципа, они применяли его
везде, он во всем стал для них привычен. Поэтому мы и любуемся
обломками их искусства, равно как и их промышленности, мельчай-
шими деталями, вплоть до, несомненно, ими презираемых, обыден-
ных предметов гончарного производства, чьи прекрасные контуры
чаруют нас до сих пор. Этот способ видения мы должны обрести
вновь. Нить прервана, она была временно восстановлена в период
возрождения искусств в Италии; последующие века варварства сно-
ва ее порвали; надо постараться связать ее вновь.
Лишь благодаря античным обломкам возродились искусства у
новых поколений, и, продолжая дело древних мастеров, мы должны
5* 67
пытаться оживить их среди нас, применяя те же средства, какими
пользовались они.
Надо все время копировать природу и научиться хорошо ее ви-
деть. Вот почему необходимо изучать античность и великих масте-
ров; отнюдь не для того, чтобы им подражать, но, повторю снова,
чтобы научиться видеть. Неужели вы думаете, что я вас посылаю
в Лувр для того, чтоб вы нашли там то, что принято называть
«прекрасным идеалом», нечто такое, чего нет в природе? Подобные
глупости в плохие времена приводили к упадку искусства. Я посы-
лаю вас в Лувр, потому что там вы научитесь у древних видеть
природу, ибо они сами — природа; потому-то и надо жить ими и
питаться ими. То же самое и относительно великих мастеров. Неуже-
ли вы думаете, что, заставляя вас их копировать, я хочу сделать из
вас копиистов? Нет! Я хочу, чтобы вы извлекали сок из самого
растения.
Обращайтесь же к великим мастерам, говорите с ними, они
вам ответят, так как они и посейчас живы. Это они вас научат; я же
не кто иной, как посредник.
У меня лишь одна малая заслуга: я знаю тот путь, по которому
надо следовать для достижения цели, и я вам его указываю: вот
наша цель — приблизиться к античному искусству, потому что это —
природа. В нем — внутреннее знание и законченнее философское
выражение формы красоты.
Греки были настолько совершенны в скульптуре, архитектуре,
поэзии и во всем, чего они касались, что слово греческий стало си-
нонимом слова прекрасный. Только они и абсолютно правдивы, и
абсолютно прекрасны; они умели видеть, узнавать и передавать. Вы
их видели, этих мастеров; они не притворяются, они такие как есть.
Вот и все! Римляне им подражали, и они все еще замечательны; а
мы, мы — галлы, мы — варвары, и только стараясь приблизиться к
грекам, только применяя их способы работы, мы сможем заслужить
право называться художниками.
68
Никаких угрызений, если вы копируете древних. Их произве-
дения — это общее достояние, откуда каждый может брать то, что
ему понравится. Они становятся нашей собственностью, когда мы
умеем ими пользоваться: Рафаэль, неустанно подражая им, всегда
оставался самим собой.
Если обратиться к опыту, то окажется, что, только знакомясь
с творчеством других, учишься сам творить в искусстве, точно так
же, как привыкаешь мыслить, читая мысли других. Итак, только
наблюдая и непрерывно изучая шедевры, мы можем оживлять и
развивать наши собственные возможности.
Месье, вы знаете все, чему можно научиться самому; но пока
вы не спросили совета у античных мастеров, вам не удастся пере-
дать модель такой, какова она на самом деле. Только они вас это-
му научат. Несмотря на все ваши возможности, вы так и простоите
всю жизнь перед натурой, не сумев воспроизвести ее жизненно и
правдиво.
Тот, кто не хочет использовать никакой другой мысли, кроме
своей собственной, скоро дойдет до самого жалкого из всех подра-
жаний, до подражения своим собственным произведениям.
Умелый художник, не боящийся риска испортиться, может вы-
годно использовать всякие, даже плохие примеры. Он сможет из-
влечь пользу из самых посредственных вещей, которые, пройдя че-
рез его руки, обретут совершенство. Он сможет в грубых образцах
искусства, до его возрождения, найти для себя своеобразные идеи,
удачные сочетания и, сверх того, иногда даже очень важные от-
крытия.
Всякий раз, когда я насыщался видом композиций, написанных
на античных вазах, я уходил больше чем когда-либо убежденным,
что по этим-то образцам и должен работать художник и именно им
подражать при изображении греческих сюжетов. Он не может изоб-
разить греков иначе, как подражая им, идя за ними шаг за шагом.
69
Более того, не становясь холодным плагиатором, он может брать
с греческих ваз целые композиции и полностью переносить их на
полотно. Но есть гениальность и в том, чтобы воссоздать (на по-
лотне.— Пер.) природу посредством совершенства красок и той
законченности в изображении натуры, которая достигается изуче-
нием,— природу, так верно намеченную (в вазовых росписях.—
Пер.), но лишь наполовину выраженную в этих простых чертах.
Пример других нисколько не ослабляет наше воображение и на-
ше суждение, как это думают многие; напротив, он способствует
укреплению наших понятий о совершенстве, которые поначалу еще
слабы, бесформенны и смутны. Эти понятия станут устойчивыми,
законченными и ясными благодаря авторитету и практике тех, о
которых можно сказать, что одобрение веков сделало их произведе-
ния священными.
Чем являются картины, которыми гордятся современные худож-
ники, если их сравнить с произведениями, создавшими славу старым
мастерам? Высокопарные композиции, льстивый колорит, игра рас-
пределением масс, нанизывание групп и много другого, чисто ре-
месленного, ничего не говорящего душе кокетства. А старые мастера
хотели говорить только с душой; именно душа, думали Рафаэль.
Микеланджело и другие, достойна поклонения искусства. И ею-то
обычно и пренебрегают пышные колористы, создатели «больших
машин», все те, кто особенно преуспел в тех живописных приемах,
какие многим современным художникам нравится рассматривать как
прогресс, в силу чего они осмеливаются приписывать себе цену, в
которой отказывают старым мастерам.
Можно сказать, никак не умаляя этим славы античных масте-
ров, что в общем они не умели, подобно современным художникам,
умножать число планов в своих картинах, соблюдать требуемую
этими планами деградацию света и цвета, связывать фигуру с фи-
гурой или группу с группой, пленять взгляд обаянием цвета, не
существующего в природе, но кажущимся таковым. Да, древние пре-
небрегали этим или мало об этом знали, так как считали, что это
70
отвлекает от прекрасного, которое было их целью, и думали, что та-
кие второстепенные элементы искусства могли бы только отвести и
зрителей и их самих от того, что должно поглотить все их вни-
мание.
Гомер — это первоисточник и образец всего прекрасного как в
искусстве, так и в литературе.
На протяжении двух веков наш театр не имеет себе соперника,
и что бы ни говорили романтики по ту сторону моря или по ту
сторону Рейна, придется в конце концов признать, что сцена, на
которой ставят шедевры Корнеля, Мольера и Расина, предпочти-
тельнее той, на которой играют чудовищные произведения Шекспи-
ра 43 и Отуэй44, романы-диалоги Шиллера и рапсодии Коцебу4о.
Театр — это большая часть нашей национальной славы и, быть мо-
жет, наиболее стойкая среди наших литературных достижений. По-
чему? Потому что здесь более, чем где-либо, помнят о Гомере и о
великих примерах древних; потому что здесь более, чем где-либо,
применен на практике принцип точного и разумного подражания
древним.
О Расине и других говорят, что эти великие люди в совершен-
стве знали греческий язык и, питаясь шедеврами античности, смогли
их превзойти. Какой вздор!... Какая дерзость!.. Эти великие лю-
ди, без сомнения, были более справедливы и более скромны. Взгля-
ните на предисловия Расина, на скромность нашего великого Пуссе-
на и на высказывание Лафонтена, когда он писал какому-то аббату:
«Кто из нас может считать себя равным грекам и римлянам?»
Госпожа Дасье46 знала греческий язык лучше, чем дух своего
века. Ее появление возродило глупый и постыдный спор, направ-
ленный против древних и поднятый на этот раз неким Ламоттом 47, —
борьбу истинного вкуса против невежества и недобросовестности,
закончившуюся победой древних. Но эта победа была парализова-
на; удар был нанесен, и он должен был стать смертельным для всех
видов прекрасного. Соперник, опасный как никто из-за своей
71
популярности, скептик как в науке, так и в религии, Вольтер своими
сарказмами нанес прекрасному последний удар. Вскоре греческий
язык и литература принуждены были спрятаться в фолиантах Ака-
демии надписей. И с этого момента скипетр филологии ушел из рук
французов, может быть, даже навсегда.
А между тем, французский язык, по мнению ученых, всего бли-
же стоит к греческому, то есть к самому совершенному языку, на
котором когда-либо говорили люди. Французский язык, говорят
они, без всякого сравнения самый красивый из современных; мало
того, они почти что отдают ему предпочтение перед латинским, у
которого, по их мнению, не хватает благозвучия и ясности. У них
имеется достаточно оснований опровергнуть замечания о большом
количестве вспомогательных глаголов и словечек, загромождающих
наш язык и стискивающих мысль в трудностях при построении фраз.
Вот их предложение: наилучший язык тот, который лучше других
соединяет в себе ясность, разнообразие и изящество. А французский
язык самый ясный; об этом не может быть двух мнений. Он самый
разнообразный, так как он подходит ко всем формам стиля, ко всем
видам композиции в прозе и в стихах, чему имеются разительные
примеры во всех жанрах. Наконец, он самый изысканный, так как
является во всей Европе языком культурного общества.
Не вытекает ли из этого, что так как наш язык всего ближе
к греческому, на нем будут говорить и писать тем лучше, чем бли-
же и с большим усердием будут изучать греческую литературу?
Таково было мнение Буало, который разбирался в этом вопросе.
Значит, и в литературе, и в искусствах спасение только для тех, чьи
взгляды всегда обращены к античности и кто благоговейно просит
ее направлять их и поучать.
Пусть мне больше не говорят о следующем нелепом изречении:
«Надо новое, надо следовать за своим веком, все меняется, все из-
менилось». Это не что иное, как софизм... Разве природа меняется,
разве свет и воздух меняются, разве страсти человеческого сердца
изменились со времен Гомера? «Надо следить за своим веком!» Но
если мой век неправ? Если мой сосед делает зло, разве я обязан
поступать так же? Если добродетель, равно как и красота, вами не
72
признаются, так нужно, чтобы я, в свою очередь, отрицал ее или
вам подражал!
Был на земном шаре маленький кусочек земли, называемый
Грецией, где под самым прекрасным небом у жителей, наделенных
единственным в своем роде устройством интеллекта, литература и
искусства распространили на все как бы дополнительный свет для
всех народов и всех будущих поколений. Гомер первый в своей
поэзии разобрался в красотах мира, как бог, который создал жизнь,
отделив ее от хаоса. Гомер раз навсегда воспитал человечество, он
воплотил красоту в бессмертных правилах и примерах. Все великие
люди Греции: поэты, трагики, историки, артисты всех родов, ху-
дожники, скульпторы, архитекторы — все родились от него; и пока
существовала греческая цивилизация, и пока после нее над миром
владычествовал Рим, на практике продолжали применяться все те
же однажды уже найденные принципы. Позднее, в великие столе-
тия нового времени гениальные люди снова делали то, что сделали
до них. Гомер и Фидий, Рафаэль и Пуссен, Глюк и Моцарт в дей-
ствительности говорили одно и то же.
Это заблуждение, настоящее заблуждение считать, что жизне-
способность искусства заключается только в полной независимости;
что врожденные предрасположения рискуют быть задушенными
учением древних, что классические доктрины мешают или останав-
ливают взлет мыслей. Наоборот, они помогают их развитию, они
укрепляют силы и оплодотворяют стремления, они являются по-
мощью, а не помехой. К тому же и нет двух искусств, есть только
одно — основанное на подражании природе, незыблемой, непрелож-
ной, вечной красоте. Что вы хотите сказать, что вы мне проповедуе-
те вашими защитными речами в пользу «нового»? Вне природы нет
нового, есть только вычурность; вне искусства, как его понимали и
применяли древние, нет и не может быть ничего, кроме каприза и
разглагольствования. Будем верить в то, во что верили они, то
есть в истину, истину вечную на все времена. Выразим ее, если
сможем, иначе, чем они, но будем, подобно им, признавать ее, почи-
тать, обожать ее дух и основы и предоставим сколько угодно кри-
чать тем, которые бросают нам как оскорбление кличку «отсталые».
73
Они хотят новшеств! Они хотят, по их словам, прогресса в раз-
нообразии, и чтобы опровергнуть нас, дающих советы строго под-
ражать античности и великим мастерам, противопоставляют нам
развитие наук в нашем веке! Однако условия развития науки со-
вершенно иные, чем искусства. Ведь границы наук расширяются
ходом времени, сделанные в них открытия обязаны более терпели-
вому наблюдению некоторых явлений, усовершенствованию некото-
рых инструментов, иногда даже просто счастливому случаю. Но что
счастливый случай может нам открыть в области подражания фор-
мам? Остается ли какая-либо часть рисунка неоткрытой? Разве
благодаря терпению или применению более сильных очков мы смо-
жем обнаружить в природе новые контуры, новую краску, новую
моделировку? Ничего существенного нельзя открыть в искусстве
после Фидия и Рафаэля. Но даже после них всегда есть, что де-
лать для того, чтобы поддерживать культ Истины и чтобы увеко-
вечить традицию красоты.
О ПРАКТИКЕ
е следует увлекаться поис-
ками сюжетов: живописец может сделать золотые горы, имея четы-
ре су. Я создал себе репутацию одним «Обетом» 48; из всякого сю-
жета можно создать поэмы. Не следует также слишком возиться с
аксессуарами, их надо приносить в жертву главному, а главное —
это контур, это осанка, это моделировка фигур. Аксессуары должны
играть ту же роль в картине, что и наперсники в трагедиях. У авто-
ров трагедий наперсники — это как бы рама, ярче выделяющая
главных героев. Мы, художники, тоже должны давать окружение фи-
гурам, но таким образом, чтобы сосредоточить внимание на самих
фигурах, обогащая главное тем блеском, который отнимаем от всего
остального.
Одной бесполезной полуфигуры достаточно, чтобы испортить
всю композицию картины.
О картинах и их качестве нужно судить по гравюрам. Поскольку
гравюры чаще можно иметь перед глазами, чем картины, по ним
легче отметить слабые стороны композиции или стиля и строже
оценить каждое намерение художника. Надо, чтобы живописец
пристально всматривался в свою работу, памятуя о гравюре; ему
надо быть во всеоружии прежде чем приступить к этому испыта-
нию; если он из него выйдет победителем, значит он одержал не-
сомненную победу.
То, что называют «кистью», манерой художника,— это зло-
употребление техникой выполнения. Это качество мнимых талантов.
75
мнимых художников, отдаляющихся от отображения природы толь-
ко для того, чтобы показать свою ловкость. «Кисть», как бы ловка
она ни была, должна быть скрытой, в противном случае она ме-
шает иллюзии и все замораживает. Вместо изображенного предме-
та она показывает способ, прием; вместо мысли — она изобличает
руку.
Велика разница между искусством воспроизводить на картине
заранее понятые характерные черты натуры и талантом, состоящим
только в точном копировании на полотне «человека, приглашенного
позировать». Рассказывают, что Аннибал Карраччи, начав писать
«Мертвого Христа, лежащего на коленях Мадонны» для алтарной
картины церкви Сан Франческо в Риме49, создал удивительную и
божественно прекрасную фигуру, но затем, попросив раздеться на-
турщика и подправив по нему тело Христа, полностью изменил пер-
вое решение своего замысла. Не доверяя своим возможностям, он
испортил всю работу. Вот пример, о котором надо помнить при вы-
полнении картины.
Но и без этого примера есть тысяча доказательств, что старые
мастера и все крупные художники, начиная с Рафаэля, выполняли
свои фрески по картонам, а малые станковые картины по более или
менее законченным рисункам... Ваша модель никогда не является
точно тем, что вы собираетесь написать, ни по характеру рисунка,
ни по колориту, но в то же время необходимо прибегать к ней. Будь
ваша модель для изображения Ахиллеса — прекраснейшего из муж-
чин — каким-то нескладным малым, все равно надо ею пользоваться
для передачи структуры человеческого тела, движения и равновесия.
Доказательство в том, что так же поступал Рафаэль, начиная изу-
чать движение еще в этюдах, сделанных с учеников для фигур своих
божественных картин.
Каким бы гением вы ни были, если вы пишете не с природы,
а непосредственно с модели, вы всегда будете рабом, и в вашей
картине будет чувствоваться рабство; Рафаэль, напротив, так силь-
но покорял натуру, он так владел ею в памяти, что не она управ-
ляла художником, но, можно сказать, сама повиновалась ему и
приходила, чтобы воцариться в его картинах. Как страстная
76
любовница, она предназначала свои прекрасные глаза, свое могучее
очарование только счастливому избраннику Рафаэлю, своего рода
божеству на земле.
Античные мастера любили разъединять все предметы на своих
картинах. Это именно тот принцип, которому они более или менее
следовали и который навлек на них критику современных худож-
ников, поскольку последние придерживались совершенно противопо-
ложного принципа: все связывать. Если считать себя в праве пори-
цать за это древних, тогда надо осудить и их драматические произ-
ведения. Безрассудные! Осуждайте тогда все те их произведения,
где они стремятся к простоте. Ведь теперь изыскивают суетный
блеск и мещанскую пышность, ведь мы во всем становимся на ходу-
ли, чтобы стать более высокими. Это правило расчленять предметы
и в живописи, и на барельефах было вызвано желанием выразить
красоту во всей полноте и раскрыть ее в движении линий. Они не
согласились бы, как мы, принести в жертву существенную часть фи-
гуры, заслонив ее соседней. В то время художнику не дозволялось
приносить такие жертвы или допускать малейшую небрежность. Все
должно было быть ясно различимым в его произведении и, тем са-
мым, прекрасным.
Самые большие художники всегда любили фреску и обращались
к ней как к самому вдохновляющему виду живописи в силу простых
и легких средств выполнения, наиболее подходящих для создания
великих вещей. Сказать, что фреска «монументальна», — это сказать
все... Но слишком богатая декорировка, например, соседство мрамора
может повредить этой строгой живописи водяными красками. Мне
кажется, я всегда видел фрески, сопровождаемые фресками. Самое
великое применение этого жанра — в «Сикстинской капелле», в
«Станцах», в «Лоджиях», в «Фарнезине» 50 и в других местах, укра-
шенных только фресками (в технике которой выполнены), и орна-
ментальные арабески, и маленькие архитектурные композиции, ожив-
ленные только золотом и самыми прекрасными красками.
Художник исторической живописи дает в своих образах типи-
ческое, тогда как портретист изображает только отдельную
77
индивидуальность, следовательно, модель, часто обыкновенную или
полную недостатков.
Чтобы портрет особенно удался, надо прежде всего вникнуть
в лицо, которое хочешь писать, рассматривать его долго и внима-
тельно со всех сторон и даже посвятить этому весь первый сеанс.
В портрете часто отсутствует сходство, потому что с самого на-
чала модель была плохо посажена или из-за плохих условий рас-
пределения света и тени, так что портретируемый сам себя не узнал
бы, если бы увидал себя там, где его поместили.
Некоторые лица выгоднее писать в фас, другие с поворотом
в три четверти или сбоку, некоторые же в профиль. Одни требуют
много света, другие же производят больше впечатления, когда они
в тени. Особенно для худых лиц надо пользоваться тенями во впа-
динах глаз, потому что от этого голова становится много эффектней
и характерней. Для этого надо, чтобы свет падал сверху и в не-
большом количестве.
В портретах надо оставлять много фона над головой; на этом
фоне одна сторона должна быть светлой, а другая темной.
О НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИСКУССТВА
И О НЕКОТОРЫХ ХУДОЖНИКАХ
атериалы по искусству нахо
дятся во Флоренции, а результаты в Риме.
Истинной колыбелью прекрасной живописи была капелла Бран-
каччи в кармелитской церкви во Флоренции 51.
В Ассизи две церкви 52, одна над другой. Нижняя: сумрачная и
таинственная: это место для искупления грехов; верхняя — светлая,
безмятежная: это небо, это надежда и сопутствующее ей счастье.
XVI век дал величайших мастеров во всех областях искусства.
Все они в эту эпоху руководствовались неизменным и безошибоч-
ным правилом, что рисунок — единственная основа, способная дать
произведениям искусства и истинную красоту, и истинную форму.
Отсюда такое количество ярких работ и бессмертных шедевров.
Рафаэль был не только величайшим живописцем, он был прекра-
сен, он был добр, он был все!
Небо как бы завидовало земле, когда оно так рано отняло у нас
Рафаэля и Моцарта.
У каждого человека, как бы ни была мала его способность суж-
дений, его понимание искусства и ощущение прекрасного, всегда бу-
дет потребность снова и снова беседовать с Гомером, которому он
79
будет обязан самыми чистыми радостями. Чем больше будут гово-
рить о Гомере, тем больше найдется, что о нем сказать; новые
идеи будут зарождаться из тех, которые считаются устаревшими.
То же самое будет и с божественным Рафаэлем, похвала которому
только едва намечена.
Я пошел с Полэн 53 смотреть «Станцы» (1814 г). Никогда еще
Рафаэль не казался мне столь прекрасным, и более чем когда-либо
я заметил, насколько этот божественный человек превосходит всех
других. Я окончательно убедился, что он работал как гений и что
всю природу он носил в своем сознании или, вернее, в своем сердце.
Когда это так, тогда становишься вторым творцом.
Его «Диспут», и в особености его «Месса в Больсене» показа-
лись мне великолепными шедеврами. Какие портреты в одном, а в
другом — какая прекрасная и благородная симметрия! Симметрию
он соблюдал почти всегда, что придает его композициям такой
грандиозный и величественный вид.
В «Гелиодоре»54 он разместил по своему обыкновению (и это
прекрасно) главные группы по сторонам и оставил пустоту в сре-
дине.
Его складки как будто хотят уступить место другим, до такой
степени они естественны и подвижны.
Мне понадобилась бы целая книга, целые тома, чтобы описать
качества Рафаэля и его бесподобную изобретательность! Скажу
только, что одни фрески в Ватикане стоят больше, чем все картин-
ные галереи, вместе взятые. Этот великолепный музей так разнооб-
разен, тот, кто создал его, так хорошо затронул все струны, так
хорошо воспроизвел гибкость природы, вплоть до самых различных
явлений. И все это было написано Рафаэлем по рисункам.
Итак, будем продолжать стараться ему подражать, его разгады-
вать; а я, несчастный, сожалею всю мою жизнь, что не родился в
его время. Подумать только, что 300 лет тому назад я мог бы стать
на самом деле его учеником!
Рафаэль писал людей добрыми, все его персонажи имеют вид че-
стных людей.
80
19. Вид Рима от виллы Медичи
20. Семья Лаццерини. 1822
21. Портрет мадемуазель Торель (так называемый «Ребенок с ягненком»)
22. Рисунок коленопреклоненной фигуры к картине «Обет Людовика XIII»
Гомер, отверженный, гонимый, просит милостыню. Апеллес, ок-
леветанный, спасен Правдой; его произведения служат ему- оправда-
нием. Фидий, несправедливо обвиненный, умирает в нужде, если не
от насилия. Сократ, Эврипид, Феокрит, Эзоп, Данте, Жан Гужон50
умирают насильственной смертью или страдают так, как должны
мучиться злодеи. А Лесюер!56, Пуссен, наш великий Пуссен, пресле-
дуемый Фукьером57, преисполненный отвращения, покидает Фран-
цию, которую он должен был бы украшать! А Доминикино58 и мно-
гие другие, а Камоэнс!
И ведь это правда, что даже в героические времена Мидас пред-
почел Пана Аполлону.
Великие люди преследуются, как будто они заслужили пытки,
какими фурии пытали виновных именно потому, что они великие.
А Мольер! Нет ни одной его комедии, не стоившей ему горьких
слез. Мольер!.. А Моцарт!.. Но я никогда не кончу перечислять.
Однако говорят, что Рафаэль был счастлив. Да, но это потому,
что он был по природе божествен, неприкосновенен.
Рассматривая гигантские произведения Микеланджело, восхи-
щаясь ими от всего сердца, тем не менее замечаешь в них симптомы
или черты человеческой усталости. У Рафаэля же наоборот. Его тво-
рения все божественны; как и творения бога, они кажутся создан-
ными единым порывом творческой воли.
Рафаэль и Тициан, бесспорно, стоят в первом ряду среди жи-
вописцев, однако Рафаэль и Тициан воспринимали природу в очень
различных аспектах. Оба они обладали даром проникать взором во
все окружающее: но первый искал прекрасное там, где оно действи-
тельно находится, а именно в формах, а второй — в колорите.
Я понимаю теперь (август 1854 г.), если вообще можно по-
нять божественный ум Рафаэля, как он смог создать такое коли-
чество произведений живописи; ведь с некоторого времени я сам
делаю многое с помощью моих двух учеников, работающих, можно
сказать, как и я; они выполняют чисто материальную часть моих
произведений, но под моим постоянным руководством, тогда как я,
(о своей стороны, заканчиваю.
Энгр об искусстве
81
Фрески Андреа дель Сарто во Флоренции, по моему мнению,
бесспорна, являются самыми совершенными в истории живописи
после творений Рафаэля.
Портреты, писанные Гольбейном, и по физиономической харак-
терности, и по рисунку выше всех прочих. Только портреты Рафаэ-
ля их превосходят.
Некоторые части фресок Джулио Романо во дворце Те в Мантуе
дали мне, быть может, наилучшее представление об античной живо-
писи 59.
Что за мастер, создавший в Мантуе фигуру «Полифема» и обна-
женную женщину на переднем плане в «Свадьбе Психеи». Вот что
должен был бы копировать всякий исторический живописец, чтобы
приобрести сокровища, которых ему хватит на всю жизнь, и чтобы
отомстить за этого великого художника, за несправедливость или
за наглость, с какой о нем отзываются невежды. Его обыкновенно
считают «послушным помощником», простым имитатором Рафаэля,
почти что ремесленником, набившим себе руку. А между тем, до-
статочно посмотреть, если иметь глаза, на его луврские картоны и
рисунки; но так уже принято говорить, что Джулио Романо умел
только имитировать своего учителя и больше ничего; тогда как его
гений, если и не был так же силен и созидателен, как гений Микел-
анджело, то во всяком случае столь же оригинален и широк, как
гений Фра Бартоломео. Существует ли в какой-либо школе хоть
один мастер, передававший античность так, как он? Женщины, иг-
рающие на цимбалах в «Свадьбе», и все композиции «Истории Пси-
хеи» разве похожи на Рафаэля? У Рафаэля, несмотря на его боже-
ственный гений, не было того чувства античности, что у Джулио
Романо. Рафаэль — это грация, это красота, это гармония, одним
словом, это Рафаэль. Джулио Романо — это античность. А выпол-
нение этих произведений в Мантуе! Я не знаю ничего более совер-
шенного и более захватывающего. И подумать только, что это
фрески! О, какой мастер, какой мастер! Почему он был так мало
известен при жизни? И надо же, чтобы и после его смерти про-
должала существовать эта несправедливость. Нет, этого не должно
82
быть. Надо, чтобы все люди, понимающие в искусстве, объедини-
лись для того, чтобы воздать ему вполне заслуженные почести и
дать ему занять, наконец, подобающее место.
Пуссен совершенно не мог переносить Микеланджело да Кара-
ваджо и говорил про него, что он родился, чтобы «уничтожить
живопись». То же самое можно было бы сказать о Рубенсе и о мно-
гих других. Караваджо, между тем, написал прекрасные портреты,
например, портрет рыцаря Мальты, который стоит в одном ряду с са-
мыми лучшими первоклассными портретами.
Да! Несомненно, Рубенс большой художник, но это большой ху-
дожник, который все потерял.
У Рубенса чувствуется мясник; у него в мыслях прежде всего
свежее мясо, а в планировке картин — мясная лавка.
Вы мои ученики, а следовательно, мои друзья, и потому вы не
будете приветствовать ни одного моего врага, если он пройдет мимо
вас на улице. Итак, отворачивайтесь от Рубенса, когда вы его уви-
дите в музеях, потому что, если вы с ним заговорите, он обязатель-
но отзовется плохо о моем преподавании.
Фламандская и голландская живопись имеют свои заслу-
ги— я это признаю. Заслуги эти, могу похвастаться, я ценю как
никто. Но, ради бога, не будем все путать. Не будем любоваться
Рембрандтом и другими без разбора, не будем приравнивать их и
их искусство к божественному Рафаэлю и итальянской школе: это
было бы богохульством.
Естественность и отсутствие какой бы то ни было аффектации
в портретах Тициана невольно вызывает в нас уважение. Благо-
родство в них кажется врожденным и неотъемлемым. Если случай-
но портрет Тициана окажется рядом с портретом Ван Дейка, этот
последний становится при сравнении холодным и серым.
6Ф 83
За исключением Пуссена и двух-трех других художников, нашей
школе живописи в основном не хватает естественной и здоровой
силы. Она скорее нервна, чем могуча. А ведь только сила создает
великих новаторов и великие школы.
Во всех картинах Пуссена чувствуется специальное изучение им
античной живописи, особенно «Альдобрандинской свадьбы»60. Его
почитание древних простиралось настолько далеко, что он стремил-
ся придать своим произведениям вид настоящих античных картин,
вплоть до пропорций фигур. Он учил, что, если хочешь изобразить
античные сюжеты, в картине не должно быть ничего, что могло б
нас заставить думать о современности. Дух наш витает тогда в ми-
нувших веках, и ничто не должно предстать перед ним, что могло
б нарушить эту иллюзию.
Гений Пуссена никогда не достиг бы такой высоты в философии
живописи, если бы он не присоединял к ней усердного изучения
древних авторов и бесед с учеными людьми.
Пуссен не оставил потомству крупных работ в нашей стране. Кто
в этом виноват? Маленький король, невежественные министры, яв-
ляющиеся, следовательно, орудием зла, интриган Фукьер и Вуэ61 со
своей кликой. Его приверженность к философии служила ему уте-
шением. Он дорожил независимостью и поднялся выше чести тор-
жествовать над своими соперниками, которые были просто его за-
вистниками. Страстная любовь на протяжении всей жизни к уедине-
нию и неудачи заставили его писать картины только небольших раз-
меров. Ну и что же? Свободный от всякого суетного честолюбия,
идя по им же самим проложенному пути, с которого он ни разу не
свернул, Пуссен сумел до конца довольствоваться самим собой, что
порождало неведомые другим радости и давало удовлетворение его
собственному таланту и сердцу.
Не покидая пределов Римской Кампаньи и даже самого Рима,
бессмертный Пуссен открыл живописность итальянской земли. Он
открыл новый мир, подобно великим мореплавателям Америго Вес-
пуччи и другим; но его победа была более мирной. Пуссен — славней-
84
ший из художников — сумел увидеть в пейзаже, им так достойно ис-
пользованном, то, что другие не видели: ни Карраччи, ни Доминики-
но, ни даже Тициан, великие исторические живописцы, а потому и ве-
ликие пейзажисты, ибо только исторические живописцы и могут
создавать прекрасные пейзажи. Он первый, он единственный придал
стиль итальянской природе. Характером и вкусом своих компози-
ций он доказал, что эта природа — его достояние, и доказал это
так убедительно, что перед красивым ландшафтом говорят, и гово-
рят совершенно справедливо, что он «пуссеновский».
В XVII веке Италия, как бы изнуренная своей славой, видимо,
отдыхает и уступает нашей стране свое могущество и свои триумфы.
Карраччи и Доминикино запирают двери храма, и француз Никола
Пуссен наследует авторитет итальянских мастеров и их привилегии,
обладая при этом собственным широким кругозором, глубиной мысли
и замечательным искусством. О, Пуссен!—образец для людей бла-
годаря своему характеру и один из величайших художников мира.
Эсташ Лесюер— нежное дитя из картин Рафаэля, не покидая
Парижа, разгадал красоту и создал чудеса грации и высшей прос-
тоты. Его жизнь почти неизвестна, но, подобно жизни Жана Гу-
жона, она, видимо, не была более счастливой, тогда как жизнь од-
ного из соперников, гораздо ниже стоящего в искусстве и по чув-
ству, и по стилю, протекала в славе: Шарль Лебрен62 был осыпан
почестями и поощрениями. Лебрен все же в своем роде крупный
художник. Посмотрите на его прекрасные композиции из «Истории
Александра» и на его огромные работы в Версале. Сейчас его ре-
путация снизилась, но в действительности он стоит выше той. что
еще осталась.
Если позволено включить Филиппа Шампэня63 в ряд худож-
ников нашей страны, можно сказать, что истинно религиозные про-
изведения, появившиеся с конца итальянского Возрождения, были
французскими. В религиозных картинах Лесюер превосходит все то,
что было написано в этой области вне Франции, а «Монахини из
Порт Ройаля» Филиппа де Шампэня являются чудом умиленности,
простоты, глубокой выразительности под видом спокойствия.
85
равного которому не найти нигде. И какая удивительная правдивость
в этих двух портретах!.. Какое чистосердечие художника перед нату-
рой, какая искренность, какая вера!
«У французов, говорит Фелибьен 64, существует дурной обычай —
недооценивать ученых, родившихся среди них, и слишком высоко
ценить все то, что приходит из зарубежных стран! Фелибьен гово-
рил это, конечно, по поводу предпочтения, оказанного Бернини пе-
ред французскими архитекторами, когда его пригласили в Париж
для выполнения фасада Лувра. Все знают, что хотя он и был гениа-
лен, но нашел здесь себе равных и скромно удалился. 7 от, кто в на-
стоящее время наследовал его репутацию, по имени Канова, и кто
считается наилучшим мастером Италии, переняв от Бернини толь-
ко дурной вкус иного сорта, не сумел выйти из положения с той же
скромностью и правдивостью. А между тем, именно эти два качест-
ва и отличают великого человека.
Канова при жизни считался полубогом даже в Париже, где,
однако, были равные ему скульпторы. Но время — правильный
оценщик, и что же сталось с великим человеком? Не считая фигуры
папы на «Гробнице св. Петра» и нескольких блестяще выполненных
изящных произведений, что от него осталось? Ничего или очень
мало: никто им больше не занимается (1835 г.).
Смерть бедного Леопольда Робера 65 ужасна. Я был вдвойне ею
сражен, моей собственной болью и той, что должен был почувство-
вать г. Маркотт. Это действительно потеря для искусства, но, не
говоря худого слова о мертвых, мне очень мало нравится картина
«Рыбаки».
Надо отметить, что даже в наименее блестящие периоды фран-
цузская школа сохраняла первенство над другими. Посмотрите, что
происходит во времена слишком знаменитого Буше. Несмотря на
явный упадок вкуса, несмотря на бесстыдное господство во Фран-
ции манерности и условности, в нашем искусстве в XVIII веке
больше ума, грации и даже знания, чем в искусстве других стран. Ста-
раясь нам подражать, они смогли только неуклюже повторить то, что
нами было уже сказано, по крайней мере, легко и непринужденно.
86
Я осмотрел вчера (22 октября 1852 г.), но без автора, которого
не смог отыскать, капеллу г. Перен в Нотр-дам де Лоретт66. Хо-
лодная живопись, но полная таланта; приятная по тону, по хорошо
выраженному религиозному характеру, а в небольших композици-
ях— очаровательные вещи. Все выполнено добросовестно и забот-
ливо, что уже само по себе является редким достоинством, особенно
в настоящее время. Все это имеет право на серьезное одобрение.
А! На что-мне таланты, будь они даже крупными талантами, ес-
ли они ведут к порочной цели, если они приводят к аморальным
результатам. Какое мне дело до этих фальшивых умников, этих
Байронов и Гёте всех сортов, которые в литературе и в искусстве
развращают, калечат или обескураживают человеческое сердце?
Для меня они не существуют, ибо они враждебны или бесполезны
для всего истинно прекрасного. Пусть другие их хвалят, если это
им нравится; я же их проклинаю.
Талант!.. — в наше время он шляется по улице, но это может
внушить отвращение к нему.
Я бы хотел, чтобы из Луврского музея изъяли картину «Меду-
за» и двух больших «Драгунов»67. Пусть поместят одну
в каком-нибудь темном углу Морского министерства, а два
других в Военном министерстве, дабы они не портили вкусов посе-
тителей, которых надо приучать только к тому, что прекрасно. Раз
навсегда необходимо избавить нас от сюжетов казни, аутодафе и им
подобных; в этом ли заключается задача живописи, живописи здо-
ровой и нравственной? Этим ли следует любоваться? Эти ли ужасы
должны нравиться? Я не против изображения в искусстве того, что
вызывает жалость или ужас, но пусть их изображают так, как это
делали Эсхил, Софокл или Эврипид. Я не хочу этой «Медузы» и
других картин анатомического театра, показывающих нам человека
лишь в виде трупа, изображающих только безобразное, отврати-
тельное; нет, я этого не хочу! Искусство должно быть только прек-
расным и должно нас учить только красоте.
О МУЗЫКЕ
/ г |узыка! Какое божественное искус-
ство! Честное, так как у музыки тоже свои нравы. У итальян-
ской плохие, но у немецкой!..
В музыке, как и во всех других искусствах, не может быть изя-
щества без силы.
Сила — необходимое качество, великий двигатель в произведе-
ниях искусства; но мало, у кого она имеется в должной мере, а в
слишком большом количестве ее и не нужно.
Чтобы смягчить нравы жителей Аркадии с ее суровым клима-
том, законы обязывали каждого гражданина заниматься музыкой
до тридцатилетнего возраста; аркадийцы благодаря этому стали са-
мыми вежливыми и самыми искренними среди греков. Только жи-
тели Кинета отказывались следовать примеру прочих жителей Ар-
кадии. Они презирали музыку и погрязли в своей прирожденной
дикости. А мы? К чему мы стремимся? Станем ли мы аркадийца-
ми или кинетийцами?
Люлли, более женственный, чем Рамо, иногда достигал величия,
а Рамо, хотя он обычно полон величия, жертвовал им ради изящест-
ва и сладострастия. Первый считался, даже у итальянцев, компо-
зитором подмостков, в то время как они восхищались и даже пере-
вели на итальянский язык некоторые из опер второго, хотя он и
был французом. Я сам видел в Риме, как простенький вальс Мо-
царта в течение почти четырех лет захватывал и очаровывал всех
певцов и певиц страны. Не лучшее ли это доказательство таланта
Рамо и гения Моцарта, а одновременно и самое очевидное опровер-
жение стоика Руссо, отвергавшего музыку?
88
‘Наслаждался Реквиемом Моцарта в Сан-Гаэтано вместе с
шведским послом. Независимо от преклонения перед этим божест-
венным шедевром мне пришла в голову мысль, что, если бы я смог
написать музыку для заупокойной мессы, я постарался бы кое-что
добавить к ней, чтобы дать необычное впечатление сострадания и
ужаса, как в «Эвменидах» Эсхила. Я бы вызвал из-под земли голо-
са усопших, их вопли, оркестровые эффекты, как у Глюка... изде-
вательства дьяволов и шум от пыток над осужденными... Там были
бы и кромешная тьма, и яркий свет, в зависимости от вспыхиваю-
щих блуждающих огней... а затем самые нежные и чистые контрас-
ты: чувство надежды для праведников наряду с раскаянием и кри-
ками грешников. Не было бы видно музыкантов, чтобы ничто не
могло нарушить впечатления от музыки этой столь ужасной и тор-
жественной темы. Темная церковь с надгробными плитами, с лишь
изредка проникающим светом. Не надо тонкострунных инструмен-
тов, нужны мрачные звучания, нежные, меланхоличные: альты, ба-
сы, гобои, глухие трубы (Флоренция 1821 г.).
Да здравствует «Дон-Жуан» — шедевр человеческого ума! Да
здравствует Моцарт, бог музыки, подобный Рафаэлю — богу живо-
писи. Да здравствует Глюк, божественный декламатор, единствен-
ный среди современников, обутый в греческие котурны. И да здрав-
ствует тот удивительный человек, который, не будучи ни одним из
этих двух, своим страшным гением простер сам свое непокорное и
великое искусство к другим границам! 68
Будем всегда преклоняться с одинаковым пылом и с одинаковой
страстью перед Глюком, Гайдном, Бетховеном и Моцартом — на-
шим Рафаэлем в музыке. Что бы ни говорили, но все те, кто не
входит в число этих поистине божественных людей, ковыляют рядом
с ними. К ним возвращаешься постоянно, их красота настолько не-
исчерпаема, что каждый раз слышишь их будто впервые, а пос-
ледний кажется всегда самым прекрасным... И ничего итальянского!
К черту заурядное, пошлое, где все, вплоть до «я тебя проклинаю»,
произносится воркуя! Для каждого, кто изучает музыку, пусть про-
изведения Гайдна будут хлебом насущным! Конечно, Бетховен
89
замечателен, он несравненен, но от него нет той пользы, что от Гайд-
на: он не необходим.
Гайдн не создал шедевра, у него нет своего шедевра. Еще бы!
Он весь шедевр, во всем.
Симфонии Бетховена величественны, грозны и в то же время в
них грация и изысканное чувство, в особенности симфония в «До ми-
нор»; А Гайдн! Великий музыкант, первый все создавший, все на-
шедший и все преподавший другим. Может быть, я стар? Но это
к нему я постоянно возвращаюсь с радостью и спокойствием, как к
хлебу, который никогда не надоедает.
Мне рассказывали, что Бетховен часто гулял один в окрестнос-
тях Вены, чтобы предаваться вдохновению; он уже почти оглох. Од-
нажды на дороге он опустился на колени для записи того, что толь-
ко что сочинил. По дороге проходила похоронная процессия, сопро-
вождаемая большой толпой; Бетховен не сдвинулся с места. Гени-
альная сосредоточенность, равно как и глухота, делали его чуждым
всему происходившему вокруг. Но его узнали. Толпа и процессия
остановились: «Подождем, пока он кончит», — сказали все в один
голос; и действительно, все ждали, пока Бетховен не встал.
Какая дань уважения этому великому человеку! В момент твор-
чества гений общается с самим богом. Вот что понял очень рели-
гиозный народ Вены. Вот почему этот народ и смог, не нарушая
благочестия, заставить мертвого склониться перед живым.
Я больше не посещаю концертов, слишком утомительных для
нервов; но я люблю камерные квартеты и фортепианную музыку.
На этом инструменте музыка приходит уже тогда, когда читаешь но-
ты. Тут-то ею и наслаждаешься и смакуешь... Почти каждый вечер
моя чудесная Дельфина украшает мое одиночество сонатами боже-
ственного Гайдна; она их исполняет не как виртуоз — виртуозность
я ненавижу, а с истинно музыкальным чувством, и я ей иногда ак-
компанирую.
В музыке только гении умеют шутить. Мегюль шутит в «Ира-
то» 69, но он забавляется, как бог; это шутки Юпитера.
О САЛОНЕ70
очу коснуться весьма деликат-
ного, как я хорошо понимаю, вопроса. Я заранее предвижу все возра-
жения в пользу выставок Салона и все, что можно сказать о том
большом значении, которое имеют для существования или репутации
художников эти торжественные, давно признанные и поддерживаемые
государством празднества. Но, что касается меня, я объявляю, что
Салон это вещь невозможная, бесполезная сегодня со всех точек
зрения и даже больше: я вижу в нем опасный обычай — средство
чтоб извратить и разрушить искусство, каким я его понимаю: ибо
Салон, такой, каким его сделали наши нравы, убивает искусство с
тем, чтоб давать ход только ремесленничеству.
Прежде всего, нужно ли принимать все представленные произве-
дения (за исключением безнравственных) на том основании, что нет
права отвергать произведение гражданина Франции, часто являю-
щегося отцом семейства, живущего своим заработком и которому от-
каз повредит в глазах клиентуры? Исходя из нынешнего положе-
ния вещей и предполагая, что Салону нужна поддержка, я почти
склонен согласиться с этим мнением. А быть может, наоборот, нуж-
но принимать только произведения, отобранные жюри? Но найдите-
ка теперь жюри, где царило б согласие идей и правил, дающих воз-
можность точно знать, какой сделать выбор, чтоб не быть во всех
смыслах разорванным на части трудностями взаимопонимания,
страхом перед спорами или перед проявлением излишней снисходи-
тельности.
Наконец, к каким просчетам может привести художника плохое
место при развеске или невыгодное соседство! Сколько есть
91
живописцев, авторов хороших картин, которые не узнают самих себя,,
когда они потеряны в этом огромном пространстве, искажены кон-
трастом с тем, что их окружает, — с той помпезной живописью, кото-
рая в ущерб им узурпирует все внимание публики! Наконец, то, что
происходит с отбором, разве не может произойти и с распределением
наград? Во всяком случае, они всегда довольно плохо распределены.
Я не беру под сомнение искренность и честность судей. Боже упа-
си! Но в общем и целом можно сказать, что они судят вкривь и
вкось. Право же, в интересах этих самых несчастных художников я
б потребовал упразднения Салонов.
А что касается искусства, то с этой стороны еще большая необ-
ходимость в его упразднении. Салон душит и извращает чувство
великого и прекрасного. Художников толкает выставлять соблазн
наживы, желание привлечь к себе внимание любой ценой, хотя бы
эксцентрическим сюжетом, способным произвести впечатление и при-
вести к выгодной продаже. Таким образом, Салон стал не чем иным,
как лавкой по продаже картин; это — базар, где огромное количест-
во предметов утомляет и где коммерция царит на месте искусства.
Такова моя мысль. Боюсь, что ее не примут, но пусть, по край-
ней мере, ее знают. Будь я совсем одинок в своем протесте против
Салонов — я все равно буду протестовать.
Салон'1—это гибель для искусства. Нужно закрыть Салон.
Толпа молодых людей, не знакомых еще с азами искусства, стре-
мится льстить дурному вкусу публики. Журналы уничтожают и
обескураживают талантливых людей... Если художник обладает та-
лантом, надо принимать все его произведения: хорошие, посредст-
венные, плохие. Будьте спокойны, он будет достаточно заботиться
о своей репутации и стремиться расти. Но ему необходимо быть са-
мим собой: не заставляйте его терять голову из-за вашей неспра-
ведливости.
Считается, что Салон поощряет живопись: нет, он предоставля-
ет ей жалкий путь. Все это огромное количество портретов, эти кар-
тины без мысли, без замысла, без цели собраны здесь только в
коммерческих целях... Все это бесполезно. Нужно, чтобы живопись
служила высоким идеалам. Справедливость, история, религия —вот
92
-сюжеты, вот содержание искусства, каким его нужно понимать. По-
смотрите на шпалеры, украшающие этот зал (в здании французской
Академии в Риме): не являются ли они произведениями монумен-
тального искусства — живописи, имеющей предмет, которому она
•служит? Искусство должно быть посвящено убранству храмов, об-
щественных зданий, храмов справедливости. Вот его истинная и
единственная цель. А Салон сбивает его с истинного пути, откры-
вая возможность всяким мазилкам выставлять жалкие работы и из-
вращать общественный вкус глупым зрелищем иллюзорных эффек-
тов. Да, чтоб остановить падение искусства, чтоб воскресить его, на-
до закрыть Салон.
ИЗ ПИСЕМ72
Письмо Жану Форестье
Флоренция, 5 октября 1806 года
Каждый день я совершаю паломничество в церковь Кармелитов,
где есть капелла, которую можно назвать преддверием рая; она рас-
писана художником Мазаччо, старым мастером Возрождения.
Письмо Жану Форестье
Рим. 22 октября 1806 года
Я знаю, что имею много врагов, я никогда не был и не буду к
ним снисходителен. Мое самое большое желание — перелететь в Са-
лон 73 и пристыдить их перед моими произведениями, которые не
похожи на их работы. И чем дальше я буду идти вперед, тем мень-
ше они будут на них походить.
Письмо Жану Форестье
Рим. 23 ноября 1806 года
Я не буду больше выставлять в Салоне, покуда там находятся
подобные судьи. Это причиняет слишком большие страдания, осо-
бенно, когда не видишь в лицо эту лающую орду наемников. Но, по-
жалуй, лучше, что меня там нет: я б наделал разные глупости, и ни
ваша дружба, ни ваши добрые советы не могли б помешать этому;
ведь негодяи без всякой помехи убивают меня самым подлым спо-
собом...
Да, в искусстве необходима реформа, и я очень хотел бы быть
этим революционером. Но — терпение: я буду драться ногами и зу-
бами, и, быть может, в один прекрасный день это и произойдет. Я
94
вкладываю в это все мое честолюбие... Наконец, мой дорогой г-н
Форестье, верьте: я не закрываю глаза на свои недостатки и по-
нимаю, чем мне еще нужно овладеть в этом божественном искусстве.
Я уверен, что не имею более сурового судьи своих произведений,
чем я сам. Ибо чем больше я развиваюсь, тем яснее вижу и тем
больше тираню себя самого. Честолюбие меня пожирает, вы это
знаете, и я хочу все или ничего. Не правда ли, для человека, столь
больного духом, я очень смел. Это результат очень серьезных раз-
мышлений. Но иногда наступает момент, когда хочется все послать
к черту. Я завидую тогда судьбе тех, кто не ведает ничего и мирно
радуется жизни, и особенно тому, кто не выставляет в Салоне.
Но это длится недолго, и с невиданной раньше силой меня снова
охватывает лихорадка.
Письмо Жану Форестье
Рим. 17 января 1807 года
Не могу скрыть, что у меня исчезает необходимое уважение к
судьям, поскольку они столь несправедливы ко мне. Если так будет
продолжаться, мои произведения никогда не будут нравиться, ибо
у меня нет ни малейшего намерения свернуть с единственно правиль-
ного пути, который я себе наметил. Наоборот, я уверен в нем боль-
ше, чем когда-либо, и обуреваем только идеей совершенствоваться.
Я непоколебим и неспособен к малейшей снисходительности по от-
ношению к дурному вкусу, свойственному всем, даже лучшим среди
других. Я устал от советов, которые мне дают. Я их больше не хочу,
пусть они хранят их для себя, если считают их хорошими. Что до
меня, то я считаюсь только с самим собой. Глупцы! Они называют
готичным то, чему свойствен подлинный характер. Разве это воз-
можно, чтоб за один день я стал готичным; наверное, наталкивающее
на сравнение соседство с их дряблой и вялой живописью привело в
заблуждение даже наиболее разбирающихся, и они приняли в мо-
их произведениях за готичное то, что на самом деле является стро-
гим и благородным. Да, именно так я отзываюсь о своих работах.
Сколько б я их ни припоминал, не могу увидеть в них ничего готи-
ческого; им только недостает законченности в том, что они на-
зывают готичным, чтоб стать совершенным. Готика в портрете
95
м-м Ривьер, портрете ее дочери! Я теряюсь и больше ничего не пони-
маю...
Но я заканчиваю, т?.к как порчу себе кровь, когда вам пишу.
Хватит! Повторяю вам, все это мне надоедает, утомляет, я боюсь,
что буду всегда несчастен и сделаю такими всех, кто меня окружа-
ет, так как считаю, что родился под несчастной звездой. Начиная
с моего сознательного возраста — одни неприятности; никогда я не
знал полного счастья. В Париже, предоставленный самому себе, по
моей ли вине или невольно, но я не умел найти правильный образ
жизни; и вот, вы видите результаты — полное расстройство во всех
моих делах. Крайняя чувствительность и ненасытная жажда славы
меня терзают. То, что я испытываю в течение четырех месяцев,
никак не может придать мне необходимое мужество, чтоб все это
преодолеть.
Запись 1813 года
Читая Монфокона74, я убедился, что история старой Франции
времен святого Людовика75 и других — это совсем новый, неисчер-
паемый источник, откуда можно брать новые темы. Костюмы очень
красивы и по своей простоте близки к греческим. Если некоторые
из них кажутся странными, то только потому, что они дошли до нас
в нехудожественной форме. Прекрасные головы, прекрасные тела,
прекрасные позы и жесты существовали во все времена, и истори-
ческий живописец, обращаясь к этому столетию, сможет извлечь из
него очень большую пользу, с точки зрения искусства не меньшую,
чем если б дело шло об античной истории, и даже вызывать боль-
ший интерес у современников, которым Ахилл и Агамемнон, как бы
хороши они ни были, менее близки сердцу, чем Людовик, Филипп
Валуа 75 или Людовик молодой 77. Нужно также признать, что рели-
гия, оживляющая эти старые времена, может придать картине мис-
тический характер и серьезный, глубокий, поистине великий смысл.
Я пришел к выводу, что мне решительно нужно попробовать встать
на этот путь и, обращаясь к грекам (без которых нет истинного
спасения), приспособить их к этому новому жанру. Обратившись к
данному пути, я и хочу стать новатором, придав моим произведе-
ниям неизвестный доселе характер. Если бы Рафаэль писал только
96
23. Обет Людовика XIII. Фрагмент — фигура ангела. 1824
24. Рисунок фигур ангелов к картине «Обет Людовика XIII»
греческие картины, он не захватывал бы нас с такой силой... Итак,
елико возможно, будем писать на темы французской истории. В ней
достаточно героев всех времен: Дюгесклин 78, Жанна д’Арк, Бай-
ар79, Генрих IV и другие.
Письмо Маркотту
Рим. 26 мая 1814 года
Я очень огорчен, что моя маленькая картина «Шпага Генриха
IV»80 вам не понравилась... Но я буду защищаться по всем пунк-
там, так как эта картина верна по рисунку и пантомиме, безукориз-
нена в деталях, фигуры хороши по пропорциям и костюмы очень
изысканного вкуса. Все, кто ее видел, и я в том числе, находят, что
колорит ее верный и сильный и что в ней много от венецианской
школы, о которой я всегда думаю, когда пишу. Она написана утон-
ченно, тщательно отделана во всех деталях, но это не мелочная за-
конченность картин Жерара Доу с его скучной манерой выполнения,
которую не уважают ни художники итальянской школы, ни даже
превосходные фламандцы, чьи произведения вы упоминаете с пол-
ным основанием. Среди работ последних самые искусные это кар-
тины Тенирса, словно только тронутые краской, но которые прекрас-
ны, потому что краска положена с чувством и точно на нужное место.
Я могу упомянуть еще Метсю, у которого по преимуществу
сильный и нежный мазок, и многих других. Но скажите мне после
этого, разве такая законченность, как у Жерара Доу, не является
глупой и бесполезной? Я, конечно, весьма далек от того, чтоб счи-
тать себя равным этим большим художникам, которых всегда буду
брать за образец: но думаю, что я могу еще многое привнести как
исторический живописец — специальность, которая дает нам воз-
можность работать во всех жанрах живописи лучше тех художников,
которые разрабатывают только один.
Письмо Жилиберу
Рим. 7 июля 1818 года
Я читал твое письмо с жадным удовольствием и вижу, что ты
рожден скорее, чтоб заниматься искусством, чем быть адвокатом.
7 Энгр об искусстве
97
И я не из тех, кто скажет тебе — нет. Если кто родился с этим
чувством, тот стоит выше других людей и поистине является чем-то
большим, чем они.
Письмо Жилиберу
Флоренция, 15 июля 1821 года
Успокойся, я высылаю тебе маленький рисунок и эскиз маслом
к «Св. Петру81. Это только первичный замысел. Ты хорошо знаешь,
мой дорогой друг, что я не изготовляю эскизы и рисунки, чтобы,
как говорится, fignoler, и что я признаю в произведениях искусства
только готовые результаты. Если я делаю этюды, будь-то на бу-
маге или на холсте, то только для того, чтоб они мне существенно
помогли, а не с тем, чтобы их развешивали в кабинетах. Так что
я прошу: не принимай их за что-то окончательное; я их высылаю
только для того, чтоб не отказать в твоей просьбе, считая, что к
тебе я привязан гораздо больше, чем к эскизам. Если бы не мои
обязанности и не полное отсутствие времени, я бы написал тебе
картину, но ты ее будешь иметь обязательно.
Письмо Жилиберу
Рим. Ноябрь 1821 года
Могу только сказать, что я сделаю все, чтобы создать произве-
дение в рафаэлевском и моем духе 82, черпая из природы, этой истин-
ной матери всех великих художников, где находятся, и всегда будут
находиться, сокровища, столь неизмеримые, сколь разнообразны пред-
меты, таящиеся в глубинах моря.
Письмо Жилиберу
Флоренция. 29 августа 1822 года
Я всегда чувствую, что какой-то злой дух насылает на меня
всякие напасти. Ничего и никогда мне не удавалось, хотя, быть мо-
жет, я обладаю всем, что нужно, чтобы преуспеть. Я боюсь, что
не оправдаю твоих благородных забот, так как отчаиваюсь в своей
судьбе. Будущее начинает меня пугать, и я почти полностью поте-
рял мужество...
98
Я надеюсь доказать (работая над «Обетом Людовика XIII»),
что для живописи нет безразличных сюжетов; все дело в том, чтобы
хорошо видеть и, самое главное, видеть верно.
Письмо Жилиберу
Париж. 27 февраля 1826 года
Порой у меня возникает масса разумных и оригинальных идей.
Я краснею каждую минуту, что не обладаю правильной орфографией
и умением писать хорошим слогом. Я не могу объяснить самому себе
почему, если только причиной не является предельная трудность
выражать свои мысли ясно. Я прихожу в бешенство, что
мое образование было так небрежно в этой области и что я лишен
того, чем все другие, в том числе разные бездарности, владеют с
легкостью. Впрочем, мне кажется, что изучение всех этих предме-
тов мне ничего не дало бы, так как все мои понятия и представления
находят себе убежище в области инстинкта, основаны на том, что не
поддается методическому изучению. Они пришли и воцарились в
моем интеллекте сами, без всякого сознательного участия с моей
стороны.
Письмо Жилиберу
Париж, 15 октября 1828 года
Искусство утеряно, все развращается и уже развращено. Я пе-
рестаю сражаться, количество (врагов) меня подавляет. Я не могу
творить чудеса, обладай я даже талантом Рафаэля... Могу сказать,
что я ошарашен, измучен, раздражен делами, рассеян, наконец, почти
безумен, как ни одна последняя собака. К тому же — мало занимаюсь
живописью, а время — этот палач — все время идет вперед. Это са-
мый жестокий образ жизни.
Письмо к Просперу Дебиа88
Париж. 28 января 1829 года
К счастью, я имел удовольствие в течение долгого времени ви-
деть вас, и поэтому вы знаете и мои чувства к вам, и мой образ
Г 99
жизни, который стал, если это только возможно, еще более невы-
носимым под воздействием тысячи и одной заботы, не имеющих
никакого отношения к моей работе в ателье. Это значит, что я не
работаю столько, сколько хотел бы, и это положение, плачевное и
губительное для моего творчества и моих интересов, делает меня
самым несчастным человеком в Париже. Вам это легко понять, по-
скольку вы знаете, с какой страстью я люблю свое искусство...
Почва, которую вы покинули, стала, если только это возможно,
еще более суровой. Для вас время, проведенное здесь, было «ве-
ком железа». Если б это зависело от меня, оно стало б «золотым
веком». Я говорю вам, все теряется здесь, все делается чуждым и
уподобляется человеческому телу, которое холодеет и угасает.
В дальнейшем придет полное забвение искусства, а вслед за тем
механизация, которая еще укрепит отношение к искусству с точки
зрения «а что оно доказывает?» В общем — прости прощай! Я, од-
нако, не хочу сказать, что в науках нет пользы и даже первейшей
необходимости. Но жить без искусств! Они, бесспорно, необходимы
для нравов, для морали, не говоря уже о той славе, которую они
приносят своей нации.
Письмо к Просперу Дсбиа
Париж. 5 февраля 1830 года
Вы знаете, что я теперь профессор Школы с окладом в 100 луи-
доров. Этим ограничиваются все мои требования в области благо-
состояния, но в искусстве я все время хочу большего. Тут — я по-
лон старания, но продвигаюсь вперед очень медленно, ибо с каждым
днем убеждаюсь на опыте, что все то, что сделано быстро,
всегда полно ошибок. Как прирожденные ученики Рафаэля, мы мо-
жем сказать вслед за Зевксисом и даже с еще большим основанием:
«Мое произведение будет жить тем дольше, чем больше времени я
потратил на его создание».
Письмо Жилиберу
Париж. 12 августа 1830 года
Мой дорогой! Я очень поздно подаю тебе признаки жизни. Это
несчастье, что я являюсь Энгром в области писем. Но сердце у меня
100
доброе. Среди этих событий84, столь возвышенных, славных и еще
окрашенных самой чистой кровью, по вине самого отвратительного
преступления, которое только мог совершить король, я вместе со сво-
ей женой, глядя на твой портрет, часто чувствовал и думал то же,
что и ты, и мы больше беспокоились о твоем положениии в Монто-
бане, чем ты о нашем положении здесь. К счастью, Париж это не
дикий фанатический город, где нашлись бы «трестальоны», убиваю-
щие честных граждан, люди, подкупающие свое преступное и не-
способное правительство. Пусть они только придут, эти жиронди-
сты!
Но оставим этот сорт людей. Еще и сейчас найдется достаточно
тупиц и злодеев, которые хотели б запятнать и порядок и счастли-
вую свободу, завоеванную столь славным и чудесным образом. Та-
кие еще существуют. Есть сердца, которые никогда не знали и не
понимали, что только свобода рождает добродетель и все возвышен-
ные чувства. Будем же пользоваться ее замечательным воздействием.
Свершалось ли что-нибудь подобное в истории? На кого мы похо-
дим? На самих себя! На этот призыв, подобный грому,— явление
поистине божественное и которое кажется все более великим по мере
того, как оно становится все отдаленней,— мы можем, наконец,
снова назвать себя французами и больше не сдерживать долго на-
коплявшегося негодования. Революция свершилась, закончилась,
все стало на свое место, всюду порядок! Слава тем людям, чьи серд-
ца полны самого чистого патриотизма в трудные минуты, которым
сопутствует мудрый и человечный народ, столь великий в своей
победе. Обнимемся, мой дорогой друг! Я убежден, что нет ни одной
подробности в этом великом событии, которая не вызвала б на глаза
слез. Мы понимаем друг друга: я тебе ничего не рассказываю, пото-
му что, думаю, ты осведомлен не хуже меня обо всем, что происходи-
ло и что происходит сейчас. Если, когда ты читаешь об этом, тебя
охватывает восхищение, не сомневайся: ничего не преувеличено, все
это так и есть, и даже еще больше, если только это возможно...
О себе напишу позднее. Будь спокоен. В живописи я тоже оста-
юсь Энгром... Пиши нам, мой друг, сразу обо всем, что происхо-
дит. Я надеюсь, что трехцветное знамя будет развеваться. Тысячу
приветов нашим друзьям. Обнимаю тебя.
101
Письмо Жилиберу
Париж. 15 марта 1831 года
Я почти отчаялся в своем будущем, основанном на том, что я
до сих пор называл славой. Надо было мне причинить большое зло
за то, что я понимаю прекрасное, долго мучить меня день и ночь.
Предположим — я добьюсь успеха: меня сможет понять столь не-
большое количество людей, число которых время уменьшает с каж-
дым днем, что, ей богу, мой дорогой, к черту все это! Жизнь, со
всеми своими злоключениями, достаточно трудна. И я буду идти
совсем один, вызывая на бой невежественную, корыстную, грубую
толпу. Сколько бы я ни кричал — меня нигде не слышат. Глюк из-
гнан из Оперы. Почитай-ка, журнал, называющийся «Артист» 85,
познакомьтесь с суждениями современных корифеев искусства о Гро,
Жераре86, Герене. Все сражено смертью. Что же — я один должен
продолжать стараться? Мне кажется, что я слышу: «Ты пишешь
картины, работай, ты сломишь их, ты сотворишь чудо». Я очень бы
хотел верить, что смогу сделать хоть что-то, если б была справед-
ливость. Но какою ценой? Имей ко мне хоть немного сострадания и
не оставляй меня издыхать раньше времени.
А кто принес жертвы большие, чем я, священному искусству?
Более пяти лет я потратил на создание картины «Мадонна». Я за-
лез в долги, чтобы работать над ней, и с большим трудом их вы-
плачиваю. Я б должен был стать богачом, если б ко мне были
справедливы. «Пиши картины!» — Легко сказать; но чтобы их пи-
сать так, как их пишу я, требуется очень много времени в силу их
достоинства. Создавать искусство — для меня дело много более труд-
ное, чем для других; ты это знаешь. Я работаю медленно и трудно,
хотя мои произведения выглядят так, будто сделаны легко и быст-
ро. Там, где вульгарный художник видит только совершенства, я на-
хожу тысячу недочетов и начинаю все сначала не один, а десять раз.
Письмо Маркотту
21 декабря 1834 года
Я не всегда повинен в том, что создан не таким, как все другие,
и что не все могут меня оценить. Я не всегда могу сказать и объяс-
102
нить то, что, быть может, является для меня самого подчас необъяс-
нимым, в силу чего большая часть моих идей, моих непонятных ощу-
щений — другие называют это фантазией — мучают меня почти не-
прерывно и ставят в постоянную оппозицию ко всему, что вокруг
делается и говорится.
Письмо к Варколье
Рим. 25 марта 1835 года
Вы можете слышать все (музыку. — Пер.) в Консерватории: ка-
кие счастливцы! Я же могу слушать только божественные отрыв-
ки, хотя это и не так мало, поскольку их можно повторять, если я за-
хочу, по два-три раза. Право же, я уверен, что для того, чтоб понять
(музыкальный) шедевр, надо его слушать сыгранным на рояле. Я
знаю, что вы того же мнения. Видите, я золочу себе пилюлю как
могу 87.
Письмо министру внутренних дел
Рим. 1835 года
Наконец, господин министр, я подхожу к предложению, которое
вы были так добры мне сделать, оставив за мной полную свободу
решения. По зрелому размышлению, я могу только выразить вам
сожаление, которое испытываю, не имея возможности взяться за
росписи церкви св. Магдалины. Высоко ценя значение этой работы,
которая ни в какой мере меня не пугает, потому что я чувствую
себя более молодым, чем когда-либо, не говоря уже о славе, какую
мог бы приобрести как художник, у меня нет никакой склонности
снова появиться на арене современного общества, к которому я, кста-
ти, никогда не чувствовал симпатии и которое я покинул в тот мо-
мент, когда попросил послать меня в Рим.
Письмо Гатто
, Рим. 15 июня 1836 года
Я отказался расписывать церковь св. Магдалины. Я буду отка-
зываться и впредь, но отнюдь не по тем причинам, какие вы выдви-
гаете. Раз взявшись, я бы добился успеха вопреки всему; ибо я
103
могу, как и всякий другой, выполнить работу в короткий срок, как
это было с «Плафоном Гомера», который даже слишком закончен.
Давая мне совет отказаться, вы лишаете меня права предполагать,
что, приняв заказ, я бы напал на свой единственный «счастливый
случай», случай, благодаря которому наши великие художники соз-
дали столько прекрасных вещей, случай, который создал Наполео-
на... Эх, дорогой друг, я на вас нисколько не сержусь, но думаю, что
в этом вопросе вы нс проявили должного патриотизма, которого у
вас так много, чему каждый день вы даете столь веские доказатель-
ства. В силу этого патриотического чувства вы первый должны бы-
ли заставить меня выполнить эту благородную миссию ради пре-
стижа и славы нашей страны.
По вашему, я совершил «серьезную ошибку», уехав в Рим.
Серьезную ошибку совершили скорей те, кто позволил мне уехать,
прежде всего — администрация. Но, так как причины существуют
и остаются все теми же, я снова поступил бы так же, как поступил,
хотя б снова пришлось перестрадать все то, что я перестрадал.
Письмо Жилиберу
Рим. 10 января 1839 года
Мой дорогой друг, мой добрый Жилибер, это не моя тень, это
я сам, Энгр, твой от головы до пят, всегда твой верный друг, твой,
каким был всегда, со всеми своими несовершенствами, болезненно-
стью характера, человек-неудачник, нецельный, счастливый, несчаст-
ный, наделенный в избытке качествами, от которых никогда не было
никакого толка, по причинам, являющимся, быть может, самой ос-
новой его существа; чувствительный, нервный до крайности и всегда
возмущенный тем, что ему кажется скверным, ибо, если он и не
добродетельный, то любящий добродетель, отнюдь не злой, не не-
справедливый, чье сердце нельзя упрекнуть ни в чем, что нельзя
было бы простить.
В конце концов не надо ничего скрывать от-своего друга, даже
если это апология себя самого. Да, у меня доброе сердце: я люблю
безмерно, нежно и если когда-либо мог навлечь неудовольствие дру-
зей из-за моей лености в переписке (даже с тобой), то нужно знать,
104
сколько эта леность и затрудненность задушили прекрасных поры-
вов сердца; это ленивое малодушие, сколько оно разрушило и по-
губило великолепных мыслей, которым я мог бы дать жизнь на
полотне. Сколько непоправимо потерянного времени! Эта страшная
апатия, ставшая для меня второй натурой, меня делает безразлич-
ным ко всему, даже к моему процветанию и завидному положению,
которое я занимаю с честью. Все говорят, и это справедливо, что
я всегда выполнял свои общественные обязанности с редкой, един-
ственной в своем роде точностью и добросовестностью. Это только
к самому себе я жесток, бесчувствен и безразличен.
Но отчего это так? Я постараюсь объяснить тебе, если это толь-
ко возможно. Это оттого, что я как нельзя лучше приспособлен к
тому, чтоб достичь самого возвышенного и справедливого, что толь-
ко есть в мире. Но я встречаю все совсем обратное среди тех, кто
должен был бы быть справедливым ко мне. Пусть мне сколько угод-
но твердят, что это происходит потому, что все люди имеют свои
страсти и я, конечно, имею свои. Но мой разум, мое чувство спра-
ведливости, мой дух, мое сердце, моя гордость — все бунтует, и, как
в свои восемнадцать лет, я охвачен гневом и чувством бескомпро-
миссного, непримиримого протеста. С этими чувствами и со всем
тем, что является моими верными доктринами, с моими глубокими
убеждениями, с девизом на моем знамени: «Античность и Ра-
фаэль»! — я падаю от усталости, я больше не могу, я обескуражен
и говорю моим кистям: «Что все это доказывает? К чему все это?»
Я говорю это, и сонм дьяволов низвергается сверху и приведет нас,
я в этом уверен, к самому полному варварству. Все, что есть «пре-
красного» и «доброго»,— оклеветано: каждый день говорит о вар-
варстве и о новых проявлениях невежества.
Я не знаю, дорогой друг, может, эти строки покажутся тебе
безумными или заставят тебя страдать за твоего друга; но я счи-
таю невозможным, чтоб ты не понял меня и чтоб твое высокое чув-
ство справедливости не отдало мне должного...
Хочу сказать тебе все. Я всегда счастлив с моей милой женой,
самой замечательной и самой уважаемой из женщин. Мой очаг со-
ставляет мое единственное счастье. Домосед по склонности, я вижу
мало людей, особенно здешних. Я посещаю высший свет только по
105
необходимости- и то изредка. Это смягчает мои чувства, столь же
меланхоличные, как и раздраженные. Я наслаждаюсь неоценимым
счастьем находиться в Школе88, состоящей, прямо могу сказать, из
ангелов в лице этих стипендиатов, полных уважения к своему дирек-
тору. Они мне доверяют во всем. Кажется, что мое директорство,
как они говорят, будет самым знаменитым среди всех прошлых и
будущих.
Это верно, что я занимаюсь их благосостоянием и прославлением
их успехов, а также — полной реставрацией дворца и садов. Это мес-
то стало очаровательным. Сам министр выказал мне почетные зна-
ки одобрения. Когда я выполню эту миссию, у меня будет
сознание, что в этой области я прославил свою жизнь. Но какою
ценой? И по чьей вине? Не тех ли, кто отпустил меня приехать
сюда шесть лет тому назад, одни по невежеству, другие из ковар-
ства. Но я злопамятен: они добьются, что я, и, может, очень скор^,
вновь обращусь к моим докучным кистям как к мстительным фу-
риям. Видишь, дорогой друг, несмотря на мое оцепенение, я еще не
мертв...
Прощай, мой дорогой, я предпочитаю послать тебе эти каракули,
чем не посылать ничего. Тысячу приветов дорогому Дебиа, его бра-
ту, всем друзьям на моей родине, к которой я так нежно, сердечно
привязан. А! сколько раз я строил планы уехать и жить отшельни-
ком близ тебя!
Письмо Жилиберу
1839 год
Я все тот же, к сожалению, неисправимый, несмотря на мои
благие намерения. Но вот в чем дело! Если бы я не был убежден,
что ты не сердишься на меня и не рассердишься никогда, я, быть
может, писал бы тебе чаще. Когда мы уверены в дружбе своих
настоящих друзей, мы имеем дерзость, даже жестокость, пренебре-
гать ими полностью, чего никогда не делаем в силу ложных услов-
ностей нашего неестественного образа жизни в отношении тех, кто
нам безразличен или даже противен. Я принадлежу, можешь быть
уверен, к числу тех, кто, несмотря на все свои недостатки, остается
честным. Я, действительно, все тот же, при всех обстоятельствах
106
твой испытанный друг. Если говорить о себе, то я живу здесь, тер-
заемый муками ада, разумеется, незаслуженными. Ибо я делаю доб-
ро, и немалое, а мне в ответ платят злом и тоже немалым. Я уж
не хочу говорить о том, сколько у меня неприятностей и тяжелых или
нелепых забот. Мой дверной звонок не перестает звонить и приво-
дит ко мне, в мое тихое убежище, где, думают, я царю безраздельно,
людей, претенциозных, фальшивых, своекорыстных, поверхностных,
злых и даже посредственных.
Самая многочисленная школа, которая только существовала по-
сле школы Давида, принесла мне очень мало дохода. Но зато не-
благодарных — сколько угодно. Я вопию в пустыне: «Любите истину
и красоту, которая из нее вытекает!» Глухие к моему призыву, они
кощунствуют против истины, превозносят заблуждение, ложную
веру и пользуются ею в своих целях. Распаленные яростью, они де-
лают мне честь, причисляя меня к древним, богам, святым, гранит-
ный пьедестал которых они пытаются разрушить зубами и ногтями.
Вавилон! Вавилон!.. Искусство? в нем больше не нуждаются; спо-
койно обходятся и без него. Серьезное искусство? Еще менее того;
его стыдятся, предают забвению! Что ж остается делать художнику
в столь варварские времена (ибо мы находимся сейчас в совершен-
ном варварстве), который еще верит в греков и римлян? Он дол-
жен отступить. Это самое я и делаю. Ни одного удара кистью для
публики, у которой так мало склонности к благородному искус-
ству.
Отступить? — Но, скажут мне, за вас столько высоких умов,
у вас такая почетная поддержка! Упорствуйте! — Разве вы хотите,
чтоб я вечно упорствовал? Вы видите, скольким я жертвую; вы
видите, что, отдавая все свое время искусству, я (несмотря на ува-
жение, оказываемое мне некоторыми) не достиг ничего, никакой
общественной свободы, на которую надеялся. После знаменитого
провала «Симфориона» я испробовал все, чтоб позабыть это; я из-
гнал это произведение из Парижа, я отказался, покорившись об-
стоятельствам, от прекрасной работы, чтоб, подобно мудрому Пус-
сену, во всем достойному подражания, уехать из Парижа, оставив
все почести, и пользоваться вдали, в Риме, если только это возмож-
но для меня (ибо дьявол всегда нас преследует в этом мире),
107
спокойной независимостью хотя бы в течение шести лет. Если же я
вернусь сюда, то только для того, чтобы найти здесь свою могилу
и дважды умереть в том счастливом забвении, к которому стрем-
люсь.
Ты видишь, мое решение принято бесповоротно уже со второго
дня выставки, решение, которое, став бальзамом для моего сердца,
позволило мне стойко и покорно переносить оскорбления врагов, сре-
ди которых первое место занимали коллеги и соперники...
Несмотря на все, я люблю свое искусство больше, чем когда бы
то ни было. Еще сильней проникнутый великими и прекрасными
идеями, я понимаю его лучше, чем когда бы то ни было. Я надеюсь,
что смогу работать в Риме серьезно и разрабатывать сюжеты в моем
вкусе, то есть почерпнутые в героической истории божественного и
удивительного античного народа.
Письмо Варколъе
Рим. 31 августа 1840 года
...Ах, мой дорогой друг, я к вам возвращаюсь в этом отноше-
нии таким же, каким уехал; с теми же предметами обожания, с той
же непримиримостью, всегда ставя Рафаэля превыше всех, потому
что он умеет к своей божественной грации присоединить ровно столь-
ко, сколько нужно силы и характерности, никогда не переходя ме-
ры. Кого можно поставить на один уровень с ним? Никого, кроме
того, кто в музыке обладает той же душой, — моего божественного
Моцарта. Оба они — мудрые и великие, как сам бог! Но простертый
перед их алтарями, я не перестаю воскурять фимиам перед другими,
которым, я знаю, вы также поклоняетесь; я говорю о Глюке, Бет-
ховене и об очаровательном Гайдне, которых мы вновь перелиста-
ем по моем возвращении в Париж.
Письмо Гатто
17 декабря 1840 года
...Вопреки моим ожиданиям вам понравилась моя «Одалиска».
Тем лучше. Но «Стратоника» 89— это иное произведение, и, не от-
вергая похвал, которые вы расточаете первой из этих картин, и осо-
108
бенно не желая смутить или уменьшить счастье нашего почтенного
друга Маркотта, скажу вам конфиденциально, что этот неслыхан-
ный успех меня удивляет.
Как всегда, я принимаю во внимание ваше мнение. Единственно,
что я хочу сейчас отметить (не вдаваясь’ в вопросы, о которых буду
говорить при встрече), это почти постоянную невозможность следо-
вать в точности за моделью, учитывая трудность расположения и
освещения, с тем, чтоб перенести ее на холст. К тому же эта модель
редко может дать все, что вы хотите создать. То, чего она дать не
может, достигается только гениальностью или вкусом художника.
Наконец, в этой картине многое, если не все, написано по рисункам
в отсутствие живой модели (это только между нами), которая, как
вы знаете, и это также мое мнение, придает произведению трепет
жизни.
Письмо Шнетцу
Париж. 1841 год
Я влип с этими портретами, которые меня преследуют как злые
духи, хотя я и по могу пожаловаться на те, что выставил у себя...
Но я хочу заниматься нс ими, а исторической живописью, которая
протягивает ко мне свои прекрасные руки для создания самых за-
мечательных произведений.
Письмо Жилиберу
Париж. Октябрь. 1841 год
С тех пор как я написал Бертена91 и де Моле92, весь свет хочет
иметь портреты моей работы. Вот уже шесть, от которых я отка-
зался или вернее отлыниваю от них. Эх! Не для того, чтоб пи-
сать портреты, я вернулся в Париж! Я должен расписать Дампьер
и Парижскую палату.
Письмо Жилиберу
Париж. 2 октября 1841 года
Я хорошо отомщен. Хотя я, скромный маленький мальчик,
всегда склоняюсь перед старыми мастерами, у» которых черпаю все
мое вдохновение, нужно признать, что все же очень лестно видеть,
109
как мои произведения исторгают слезы, слышать, как самые тонкие
и лучшие умы говорят: «Сегодня вы занимаете первое место!» И я
вижу злых и смешных завистников у своих ног.
И, однако, мой друг, от кого я ничего не скрываю,— все эти
доказательства, чего я стою по сравнению с моими современниками,
мое положение, созданные мною самые прекрасные произведения
нашей эпохи и как результат этого — слава и признание в самых
высоких кругах, толпа обожающих и почитающих друзей, влияние,
которое я могу употреблять во многих вопросах, все-таки, мой друг,
за исключением моего искусства и музыки, ничто это меня не прель-
щает. Я польщен, благодарен, счастлив, прославлен, но я не теряю
скромности, и мысль «помни, что ты прежде всего человек» при-
водит к тому, что я с еще большей суровостью сужу о своих недо-
статках и понимаю, сколького мне еще не хватает, чтоб достичь
высот старых мастеров.
Я бы охотно отказался от всего и уехал жить мирно, отдыхать
и, наконец, свободно дышать в Монтабане или в Италии, подобно
другим, забытый в один прекрасный день. Я живу здесь в муче-
ниях, на моих плечах пудовая тяжесть.
Письмо Маркотту.
Дампьер. 8 августа 1847 года
В Париже считанные дни видишься друг с другом, а ведь не
так нужно было бы вести себя с друзьями. Но живопись, ведь это
она ради малых, а если хотите, ради слишком больших радостей,
отнимает то время, которое я должен был бы посвящать дружбе,
живя, наконец, так, как следовало бы, по-человечески. Эта жестокая
тиранка не даёт мне даже спать, до такой степени она хочет царить
одна, не делясь ни с кем, и нужно видеть, как она предается этому
в Дампьере! Она мне не разрешает даже самой маленькой прогулки
вокруг замка, а если разрешает, то очень редко. Только подни-
мусь — за работу! Приготовляй свои материалы и отправляйся до
полудня. После этого мне позволено бегло просмотреть газеты.
Затем около двух часов она меня гонит в галерею, вплоть до вось-
ми работать без отрыва. Я прихожу обедать изнуренный от устало-
сти... И, несмотря на все, я люблю эту негодницу и даже страстно,
110
так как в конце концов и она меня любит тоже, и если я не буду
ей по-настоящему отвечать на любовь, она грозит мне слабостью,
дряхлостью, забвением и даже смертью. Вот так, после стольких
мужественных усилий и не заметишь, как стукнет 67 лет... Но я
увлечен; все идет хорошо, достаточно хорошо и достаточно быстро.
И, если оставшиеся два с половиной месяца я буду работать так,
как работал до сих пор, то, надеюсь, смогу закончить этот «Золо-
той век» в будущем году. Да услышит меня бог!
Письмо Маркотту
Париж. 16 октября 1851 года
Знаете на кого я похож? На человека, которого душит кошмар;
он хочет бежать, но не может владеть своими ногами. Да, вот к чему
меня приводят эти несчастные портреты! Наконец, вот последний
сеанс с нашей милой красавицей93; но теперь мне нужно сделать ее
ожерелье, кольца, браслеты правой руки, мех на кресле, перчатки
и носовой платок. Потом надо положить последние лессировки и по-
следние мазки на этот портрет, который в течение целых семи лет
так тяготил мою жизнь.
Слишком быстрый бег времени, недомогания старости и бли-
зость смерти не позволяют мне выполнить эту композицию («Апол-
лон— бог искусств») в должную величину; я оставил только эскиз.
Это — мое художественное кредо. Я поручаю себя покровительству
Аполлона, бога искусств, чтобы отомстить за оскорбления, постоян-
но наносимые великим художникам и их божественным произведе-
ниям теми жалкими людьми, которые, как платоновский человек,
говоря о невежестве, сами никогда не смотрят ввысь, но только вниз,
как свиньи, не знающие, что им еще разрушить в их варварском
невежестве, а также теми, кто в презренном заблуждении вкусов
ничего не сделал, чтоб предотвратить тот упадок, к которому
мы пришли.
Письмо Маркотту
Я рисую, читаю, думаю и все о том, что мне не нравится, вызы-
вает возмущение, шокирует и делает меня каким-то медведем, ми-
111
зантропом в наш век, к которому я не принадлежу и не хочу при-
надлежать. Решительно, я могу жить только со своими родственни-
ками и друзьями, все остальное мне безразлично, скучно, если толь-
ко не отвратительно! Тем не менее, я еще не умираю, хотя нужно
очень немногое, чтоб привести меня в бешенство. К счастью, суще-
ствует противоядие, спасающее меня, когда я нахожусь среди моих
друзей, таких, как вы и еще немногие другие. Мне грустно это го-
ворить, но, к моему разочарованию, число их, как мне кажется,
уменьшается с каждым днем и по хорошо мне известной причине.
29. Портрет г-на Бертена. 1832. Фрагмент
30. Портрет г-на Фурро
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ БИОГРАФИИ ЭНГРА
1780 — 29 августа (в Монтабане) родился Жан Доминик Энгр.
Его отец Жозеф Энгр — скульптор и профессор живописи.
1791 — Энгр поступает в Академию в Тулузе; его учителя: живо-
писец Гильом-Жозеф Рок и скульптор Виган. Он также ра-
ботает с пейзажистом Жаном Брианом.
1794 — Совершенствуется в игре на скрипке у музыканта Лежена и
для заработка играет в оркестре театра Тулузы.
1797 — Приезжает в Париж и поступает в мастерскую Давида.
1801 — Большая Римская премия за картину «Послы Агамемнона у
Ахилла». Но из-за тяжелого финансового положения страны
Энгр не может уехать в Рим и остается в Париже.
1806 — В Салоне выставлены его работы: «Портрет первого консула»
(1803); портреты семьи Ривьер (1805). До открытия Сало-
на Энгр выехал в Рим. Официальная критика враждебно
встречает работы Энгра.
1808 — «Купальщица Вальписон», «Эдип и сфинкс». Последнюю
Энгр посылает в Париж, в Салон.
1811 — «Зевс и Фетида» — послана в Париж, в Салон.
1813 — Энгр женится на Мадлен Шапель.
1814 — Выставляет в Салоне картину «Дон Педро Толедский» и
портреты.
1815 — Энгр — в нужде и для заработка создает много карандаш-
ных портретов.
1819 — Выставляет в Салоне полотна: «Большая одалиска», «Фи-
липп V и маршал Бервик», «Роже и Анжелика»; эти
8 Энгр об искусстве
113
1824
1825
1827
1830
1833
1834
1840
1841
1842
1843
1846
1847
1848
1849
1852
1853
1855
1862
1863
1867
произведения снова резко раскритикованы. Переезд во Фло-
ренцию.
— Выставляет в Салоне «Обет Людовика XIII». Первый боль-
шой официальный успех. Энгр переезжает в Париж, где по-
лучает Орден Почетного Легиона.
— Избран академиком и открывает свою мастерскую.
— Выполняет плафон «Апофеоз Гомера».
— Вместе с Делакруа и другими художниками в дни револю-
ции охраняет сокровища Лувра.
— Выставляет в Салоне «Портрет Бертена» и «Портрет мадам
Девосай» (1807).
— Выставляет в Салоне «Св. Симфориона, идущего на казнь».
Картина не пользуется успехом. Энгр, уязвленный, уезжает
в Рим, где получает пост директора Французской Академии.
— Заканчивает полотна: «Одалиска и рабыня», «Стратоника».
Картины, выполненные по частному заказу, имеют большой
успех в Париже.
— Триумфальное возвращение в Париж. Энгра ценят двор и
официальные круги. Имеет много заказов. Слава его утверж-
дена.
— «Портрет герцога Орлеанского». Энгр подписывает петицию
о перенесении останков Давида в Париж.
— Начинает работы в замке Дампьер.
— Энгр соглашается выставить 11 работ на выставке Базар
Бон-Нувель в пользу кассы помощи неимущим художникам.
— Уезжает из Дампьера, оставив работы незаконченными.
— Став членом постоянной комиссии изящных искусств, требует
упразднения жюри Салона.
— смерть жены Энгра Мадлены Шапель.
— Энгр женится на Дельфине Рамель.
— Выполняет плафон «Триумф Наполеона» для городского
замка.
— Выставляет свои работы на Всемирной выставке.
— Получает звание сенатора.
— Город Монтабан преподносит Энгру золотой венок.
— 14-го января Энгр умирает от воспаления легких.
КОММЕ Н ТАРИИ
1. Мадлен Шапсль— первая жена Энгра, на которой он женился в Риме
4 декабря 1813 года. Энгр был с ней очень счастлив и тяжело перенес ее смерть
в 1849 году.
2. Говоря о работах, задуманных и выполненных «в духе, чуждом современ-
ности», Энгр подразумевал большинство своих картин, созданных между 1805 и
1819 годами, в период его наиболее сильных расхождений с господствующей ака-
демической школой. Отход от классических канонов, острое своеобразие, близость
к романтизму, с наибольшей отчетливостью проявляющиеся именно в этот ран-
ний период творчества Энгра, неизменно вызывали резкий отпор со стороны офи-
циальной критики. Среди таких «раскритикованных» работ были три портрета
членов семьи Ривьер (Париж, Лувр), написанных в 1805 году еще до поездки в
Италию и выставленных в Салоне 1806 года, которые принадлежат к числу луч-
ших портретов Энгра; так называемая «Купальщица» Вальписон (по имени се
первого владельца, 1808 г. Париж, Лувр), в связи с которой официальный ре-
ферент Академии искусств Менажо в отчете на заседании 16 сентября 1809 года
советует Энгру «больше проникаться прекрасным характером античности и высо-
ким благородством стиля... лучших времен Римской школы». Резко критиковали
картину «Фетида, умоляющая Зевса» (1811 г., Монтабан, музей), очень ценимую
самим Энгром, в которую, как правильно говорит один из лучших исследовате-
лей Энгра Лапоз, он «больше всего вложил себя самого» и про которую критик
Академии искусств писал: «Энгр не дает того, что можно было ждать от его
таланта, и мы с болью видим, что этот художник скорей старается приблизиться
к эпохе зарождения живописи, чем проникнуться правилами лучших произведе-
ний... которые нельзя нарушать безнаказанно». В сущности то же самое писали
и по поводу картин Энгра, выставленных в Салоне 1819 года; таких, как «Боль-
шая одалиска» (1814 г. Париж, Лувр) и «Роже и Анжелика» (1818 г. Париж,
Лувр). Критик из «Journal de Paris» писал: «При всей свойственной мне снисхо-
дительности я не могу говорить комплименты господину Энгру, который, будучи
в возрасте, когда талант достигает полной силы, видит свою задачу в том, чтобы
возвратить нас к духу готической живописи». Критик Ксратри, посетив выставку,
8* 11S
задержался на две минуты около «Одалиски» только потому, что его в этом месте
затерла толпа, и уверял, что натурщица, позировавшая для картины, должна была
бы при таком изгибе спины иметь, по крайней мере, три позвонка лишних. Энгр,
как всегда, очень болезненно воспринимал критику. См. письма Энгра из Рима
Жану Форестье—его близкому знакомому от 22 октября, 23 ноября 1806 года
и особенно от 17 января 1807 года.
3. Вергилий (70—19 гг. до н. э.) в своей эпической поэме «Энеида» исполь-
зовал произведение поэта Энния (239—169 гг. до н. э.), стиль которого в I веке
до н. э. считали устаревшим.
4. Энгр благоговел перед Гомером, про которого говорил: «Гомер — это пер-
воисточник и образец всего прекрасного как в искусстве, так и в литературе».
Однако Энгр не знал древних языков и читал Гомера в переводе Битобс.
5. Переселение Энгра в Рим было вызвано следующими обстоятельствами: с
1828 года по 1834 год он работал над большой картиной «Мучение св. Симфо-
риона», изображающей идущего на казнь молодого христианина Симфориона.
Энгр работал над картиной очень долго, считая, что она должна стать его основ-
ным шедевром. Он сделал целые серии подготовительных рисунков, как всегда
очень мастерских и выразительных. Но в самой картине, как и во всех своих
больших исторических композициях, в которых Энгр стремился идти по стопам
классической традиции и великих мастеров Возрождения, он не смог преодолеть
надуманности и подражательности. Картина не оправдала ожиданий Энгра и была
очень холодно принята публикой. Оскорбленный и раздраженный, художник ре-
шил снова уехать в Италию, где ему предложили, стать директором французской
Академии в Риме. Несмотря на этот почетный пост, который Энгр занимал
шесть лет, он фактически рассматривал свой отъезд как добровольное изгнание
и в глубине души не мог простить, что ему позволили уехать (см. письмо Энгра
к Гатто от 15 июня 1836 года из Рима).
6. До Энгра директором французской Академии в Риме был Орас Верне
(1789—1863), незначительный художник, пользовавшийся большой известностью,
работавший преимущественно в области батального жанра.
7. Валадьс — архитектор папы в годы, когда Энгр был стипендиатом фран-
цузской Академии в Риме.
8. Тьер Адольф (1797—1877), занимавший тогда пост министра внутрен-
них дел.
9. Речь идет о стенных росписях церкви св. Магдалины, выполнение которых
было сначала поручено Полю Делярошу; в 1835 году он передал эти работы,
после того как основная часть росписи — композиции купола — была выделена
и поручена Циглеру (прим. Деляборда). Поль Делярош (1797—1856) — истори-
ческий живописец, представитель салонного романтизма, пользовавшийся огром-
116
ным успехом. Циглер Жюль Клод (1804—1856) — ученик Энгра. Роспись купола
церкви св. Магдалины выполнил в 1835—1838 годах. Работал также в области
декоративной керамики.
10. Картина «Антиох и Стратоника» или «Болезнь Антиоха» (Шантильи.
Музей Конде) написана на сюжет истории сирийского царя Антиоха (324—
281 гг. до н. э.), который в молодости заболел от любви к своей мачехе Страто-
нике. Картина была заказана герцогом Орлеанским, как парная к картине Поля
Деляроша «Смерть герцога Гиза». Энгр над этой картиной, которую называл
«своей большой исторической миниатюрой», работал очень долго: с 16 декабря
1836 года по август 1840 года. В письмах к Гатто Энгр пишет, что она трево-
жила его жизнь в течение более пяти лет. Он специально оговаривает, какую раму
надо для нее заказать: «Самую широкую, самую богатую и, по возможности, са-
мую греческую». Картина понравилась и друзьям Энгра и заказчику, что привело
в восторг Энгра и его жену. Существуют эскиз к картине (частное собр.) и два
повторения: в Стокгольме в частном собрании (1834 г.) и в музее Монпелье
(1866 г.), в котором композиция дана в обратную сторону. Картина «Одалиска
с рабыней» (носившая также название «Маленькая одалиска», 1839, Кэмбридж,
Фогг музей) была написана Энгром для своего друга Маркотта. Деляборд по
поводу этой картины пишет следующее: «Хотя на картине стоит дата 1839 года,
она в действительности была закончена только во второй половине следующего
года, так как 25 августа 1840 года Энгр пишет Маркотту: «Наконец-то о вашей
картине. Это верно, что я обязательно закончу се в конце этого месяца... Мой
бог! Я не осмеливаюсь говорить вам об этой картине, так как, право, я сам нс
знаю, что делаю. Всегда недовольный собой, мне совершенно необходимо, чтоб
кто-нибудь другой был бы мной доволен... Вы должны сделать, я об этом очень
прошу, достаточно красивую раму, очень широкую и елико возможно барочную
(так как в картине есть нечто турецкое): это значит, что вы должны придать
раме какие только найдете украшения, приближающиеся к стилю этой страны, если
только это возможно». Тремя неделями позже он добавляет: «Такому сюжету,
столь грациозному и немного странному, очень подойдут украшения, которые
называют, не знаю почему, «современной готикой», только без мишуры и без
бархата» (см. по поводу успеха этой картины письмо Энгра к Гатто 17 декабря
1840 года из Рима). В 1842 году Энгр написал повторение этой композиции с
небольшими изменениями в фоне (Балтимора, Галерея Волтере). Обе картины —
«Стратоника» и «Одалиска с рабыней» — имели большой успех в Париже, что сно-
ва примирило Энгра с публикой. В эти годы широкого распространения различ-
ных форм романтического искусства присущее картинам Энгра отступление от
классического канона уже никого не могло смутить.
11. В феврале 1837 года Энгр перенес тяжелое воспаление легких.
12. Во время страшной эпидемии холеры, разразившейся в Италии в 1837 го-
ду, Эйгр действительно безвыездно оставался на своем посту.
117
13. Летьср Гильом (1760—1832). Представитель классицизма. Был директо-
ром французской Академии в Риме с 1807 по 1817 год.
14. Тевенен Шарль (1764—1838). Был директором французской Академии
в Риме с 1817 по 1822 год.
15. У Энгра было всегда много иллюзий относительно себя самого. В част-
ности, он считал, что стипендиаты французской Академии в Риме в годы его
директорства его безгранично обожали. Между тем, относясь действительно к
своему директору с огромным почтением и восхищаясь его талантом, ученики все-
таки тяготились деспотизмом мэтра. Об этом недвусмысленно пишет Дюваль в
своих воспоминаниях об Энгре.
16. Энгр только что был извещен о блестящем успехе в Париже его картины
«Стратоника».
17. Этими работами были: «Портрет герцога Орлеанского» (старшего сына
Луи Филиппа), над которым Энгр работало ноября 1841 года по апрель 1842 го-
да (находится в семье Орлеанских. Имеется несколько копий), и стенные росписи
в замке Дампьер, заказанные владельцем замка герцогом де Люин. Над роспи-
сями Энгр работал с 1841 по 1847 год. Они должны были состоять из двух боль-
ших стенных композиций (писаных на стене не техникой фрески, а масляными
красками), изображающих аллегорические композиции: «Золотой век» и «Желез-
ный век». Первая была почти закончена, вторая только намечена (см. письмо
Энгра к Маркотту от 8 августа 1847 года из Дампьера—стр. 110).
18. Пословица: «Похож на собаку Жана де Нивелля, которая убегает, когда
ее зовут». Нивелль (Жан де Монморанси, 1422—1477) покинул свою родину
Францию и перешел к герцогу Бургундскому, за что был проклят отцом, просив-
шим его вернуться и назвавшим его собакой, убегающей, когда се зовут.
19. Энгр только что закончил в это время «Портрет мадам Госсснвилль»
(1845 г. Нью-Йорк, Фрик музей), про который он писал Маркотту 28 июня
1845 года: «Я закончил этот несчастный портрет, который, устав меня мучить,
доставил мне в течение четырехдневной выставки у меня на дому самый полный
успех». Энгр работал Над ним в течение четырех лет. В то же время он начал
работать над «Портретом Джемс Ротшильд» (1848 г. Париж, частное собрание)
и собирался писать «Портрет мадам Муатссье» (1851 г. Вашингтон, Нацио-
нальная галерея). Другой портрет этой же модели был закончен в 1856 году
(Лондон, Национальная галерея). По поводу этого портрета см. письмо Энгра
к Маркотту 16 октября 1851 года (стр. 111).
20. Комиссия по распределению наград после выставки 1855 года.
21. Намек на Делакруа.
22. Энгр отдыхал в Менге на Луаре, близ Орлеана, у родственников своей
второй жены Дельфины Рамель, на которой он женился 15 апреля 1852 года.
118
его учениками (1516—1518). Вилла Фарнезина в Риме расписана фресками
Рафаэля, изображающими историю Психеи (1516—1517).
51. Капелла Бранкаччи в кармелитской церкви во Флоренции была распи-
сана крупнейшим художником XV века по прозвищу Мазаччо (его имя — Томмазо
Гвиди, 1401 — 1428).
52. Считалось, что церковь в Ассизи была расписана Джотто. В настоящее
время установлено, что росписи были выполнены учениками Джотто.
53. Полэн—гравер.
54. «Диспут» (1508—1511), «Месса в Больсене» (1512—1514), «Изгнание
Гелиодора» (1514—1517) — фрески Рафаэля в Ватиканском дворце.
55. Жан Гужон (около 1510 — умер между 1564—1568) — крупнейший
скульптор и архитектор эпохи французского Возрождения.
56. Лесюер Эсташ (1617—1655)—французский живописец.
57. Фукьер — ученик Рубенса, пейзажист. В 1626 году ему было поручено
руководство художественными работами в галерее Лувра.
58. Доминикино (Доминико Цампнери) (1582 1641)—итальянский живо-
писец болонской школы.
59. Джулио Романо (Джулио Пинии; 1492—1546). Итальянский живо-
писец Римской школы. Ученик и ближайший сотрудник Рафаэля. Над роспи-
сями палаццо дель Тэ в Мантуе работал в 1525—1534 годах.
60. «Альдобрандинская свадьба» — античная фреска 1—2 веков до и. э.
Принадлежала кардиналу Альдобрандини. Ныне хранится в Риме, в Ватикан-
ской библиотеке. Пуссен в 1626—1627 годах сделал с нее копию (Рим. Гале-
рея Дориа).
61. Вуэ Симон (1590—1649) — французский живописец, работал при дворе
в Париже; принадлежал к числу тех художников, которые стремились оттеснить
Пуссена.
62. Лебрен Шарль (1619—1690)—французский живописец, один из осно-
вателей французской Академии. «История Александра» — серия больших компо-
зиций, в которых в образе Александра Македонского воспевается Людовик XIV.
63. Шампэнь Филипп де (1602—1674) — французский живописец. «Мона-
хини из Порт-Ройаля» — 1662 (Париж, Лувр).
64. Фелибьен Андре (1619—1695) — французский теоретик и историк ис-
кусства, один из основоположников академической доктрины.
65. Робер Леопольд Луи (1794—1835) — французский живописец, писав-
ший преимущественно сцены из итальянской народной жизни. Покончил с
123
собой в Венеции. В конце 1834 года по дороге в Рим Энгр останавливался в
Венеции, где Леопольд Робер заканчивал свою картину «Рыбаки».
66. Перен Альфонс Анри (1798—1874) — живописец и скульптор, ученик
Герена. Работал в области религиозной и исторической живописи.
67. Сюжетом для картины «Плот «Медузы» Жерико, выставленной в Сало-
не 1819 года, послужило действительное событие — кораблекрушение 1817 го-
да, когда французский фрегат «Медуза» затонул у берегов Африки. Под «дву-
мя драгунами» Энгр подразумевает картины Жерико «Офицер конных полков»
(1812) и «Раненый кирасир» (1814).
68. Возможно, что Энгр подразумевает здесь Бетховена.
69. Мегюль Этьенн Никола (1763—1817)—крупный французский компо-
зитор.
70. Заметка «Салон» впервые была опубликована Делябордом; он составил
ее на основе черновых записей Энгра (Del a horde. Указ, соч., стр. 371).
71. Это добавление к заметке о Салоне приведено в книге Деляборда. Он
предпослал ему следующее примечание: «Член института господин Энрикель со-
общил нам эту запись, сделанную в 1840 году одним из членов его семьи на
основании беседы с Энгром о Салоне. Мы приводим ее здесь, поскольку она
уточняет мнение, выраженное мэтром в предыдущей заметке, и вскрывает ради-
кальный характер его пожеланий по вопросу публичных выставок» (De la horde.
Указ, соч., стр. 372).
72. Самая большая часть писем Энгра адресована его ближайшим друзьям:
Жилиберу (Жан-Пьер-Франсуа, 1784—1850) — адвокату в Монтабане. с кото-
рым Энг был близок с детства; Маркотту д’Аржантейль (Шарль-Мари. 1787—
1864) — директору управления парками и лесами в Риме; в 1810 году Энгр
сблизился также с известным скульптором и медальером Эдуардом Гатто
(1788—1881). В первые годы пребывания в Италии Энгр переписывался с Жа-
ном Форестье, судьей; Энгр был женихом его дочери Жанны в 1806 году, но
порвал с ней в 1807 году. Другом Энгра был также Варколье, стоявший во главе
секции искусств Префектуры Сены.
73. Энгр имеет в виду Салон 1806 года, где он выставил свои произведе-
ния. Салон открылся в 1806 году, когда Энгр уже выехал в Италию. Его про-
изведения подверглись очень резкой критике, о чем художник узнал уже нахо-
дясь в Риме (см. прим. 2).
74. Монфокон Бернар де (1655—1741) — французский ученый и критик.
Энгр, видимо, читал его труды.
75. Людовик Святой — Людовик IX (1215—1270) — французский король.
124
76. Филипп де Валуа — Филипп VI (1293—1350) — французский король,
первый из династии Валуа.
77. Людовик Молодой — Людовик VII (1119—1180) — французский король.
78. Дюгесклин Бертран (около 1320—1380)—один из знаменитых воинов
Франции, прославившийся в битвах с Англией.
79. Байар Пьер Терриаль (около 1473—1524)—так называемый «рыцарь
<5ез страха и упрека», один из талантливейших французских полководцев
XVI века.
80. Картина «Шпага Генриха IV» — полное название «Дон Педро Толед-
ский, испанский посол, целует шпагу Генриха IV». Сюжетом является эпизод из
истории Генриха IV: прибывший из Испании ко двору Генриха IV испанский
посол встретил однажды в залах Луврского дворца пажа, несущего шпагу Ген-
риха IV. Несмотря на то, что накануне Дон Педро имел очень резкий разговор
с королем, он все же, отдавая ему должное, преклонил колено и поцеловал шпа-
гу, сказав: «Отдадим честь самой славной шпаге христиан». Картина была на-
писана в 1814 году и выставлена в Салоне в 1814 году (ныне местонахожде-
ние ее неизвестно). Существуют повторения: 1820 года (Осло, частное собрание)
и 1831 года (Париж, частное собрание), где увеличено число персо-
нажей.
Эта картина Энгра, так же как картины «Генрих IV, играющий с детьми»
<1817). «Смерть Леонардо да Винчи» (1818), «Филипп V награждает мар-
шала Бервика Золотой цепью» (1818), «Рафаэль и Форнарина» (1814)
(часть из них существует в нескольких повторениях) и другие, принадлежит к
произведениям, в которых Энгр обращается к новой для того времени тематике,
взятой из истории XVI—XVII веков, что сближает его с романтизмом. Так же,
как и в композиции этого же периода — «Внутренний вид Сикстинской капеллы»,
Энгр сознательно отходит от традиции классицизма не только в сюжетах,
но и в манере исполнения: он уделяет большое внимание колориту, ста-
рается, как сам пишет, приблизиться к живописи венецианской школы. Не-
смотря на монархический характер большинства трактуемых сюжетов, эти кар-
тины именно в силу своей новизны были недоброжелательно встречены офици-
альной критикой, всегда стоявшей на защите академического классицизма.
81. Картина «Христос, дающий ключи от рая св. Петру» была написана
Энгром в 1818—1820 годах по заказу церкви Троицы в Риме (сейчас нахо-
дится в Париже, в Лувре). Это одна из самых академических и подражательных
работ Энгра. Картина была очень благосклонно принята заказчиком.
82. Энгр работал в это время над картиной «Обет Людовика XIII»
(см. прим. 48).
83. Проспер Дебиа (1791 —1876) — французский художник пейзажист, друг
Энгра, опубликовавший свои воспоминания о нем.
125
84. События Июльской революции 1830 года.
85. Журнал «Артист», «Artiste» — крупнейший французский художественно-
литературный журнал, основанный в 1831 году.
86. Жерар Франсуа (1770—1837). Ученик Давида. Прославился главным
образом как светский портретист. Энгр в молодости очень считался с мнением
Жерара, который один из немногих оказал ему поддержку во время неудач в
Салоне 1806 года (см. прим. 2).
87. См. в связи с этим письмом, так же как и с двумя следующими,
прим. 5.
88. Энгр имеет в виду французскую Академию в Риме, директором которой
он был в то время.
89. См. прим. 10.
90. Шнетц Жан-Виктор (1787—1870) — жанровый и исторический живо-
писец.
91. Луи-Франсуа-Бертен (1766—1841), известный как Бертен Старший,—
основатель и редактор газеты «Journal des Debats». Энгр написал его портрет
в 1832 году (Париж, Лувр) и выставил в Салоне 1833 года, где он имел
большой упех.
92. Граф Луи-Матье Моле (1781—1855)—премьер-министр при Луи Фи-
липпе. Энгр написал его портрет в 1834 году (Париж, частное собрание).
93. Портрет мадам Муатесье (см. прим. 19).
ИЗ МЕМУАРОВ ОБ ЭНГРЕ
«Советы господина Энгра, или, вернее, его высказывания, касались только
основных положений искусства, как-то: «линии» и «соотношение масс». Или,
иначе сказать, умения мгновенно, на лету, двумя-тремя чертами наметить движе-
ние модели, пренебрегая всеми деталями в освещенной и затемненной ее части
или. по крайней мерс, опуская детали, подчиненные самому главному: массе на
свету и массе в тени.
Поэтому он предлагал нам постоянно всматриваться в натуру прищурен-
ными глазами.
Что касается наших рисунков, то он никогда нс брал у нас из рук каранда-
ша, но, проводя резкую черту ногтем на бумаге, он указывал нам на ту линию,
которую мы неверно воспроизвели, и точность его исправления неизменно по-
вергала нас в изумление.
Быстрота, с которой он намечал основные линии движения, была совер-
шенно поразительна. Он повторял нам — не знаю, его ли это было выражение,—
что надо научиться схватывать карандашом контуры человеческой фигуры,
падающей с крыши. Однажды я убедился, что ему самому это было бы вполне
доступно.
Как-то нам позировал необыкновенно хорошенький мальчик лет десяти или
двенадцати. Господин Энгр его не знал и был восхищен его красотой, придя
в мастерскую.
Поглядев на него довольно долго, он нам сказал: «Господа, я прошу у вас
разрешения поставить вашу модель в позу, которая мне нужна и которую я
давно ищу. Будьте добры дать мне кусок бумаги».
Поза явно говорила о том, что мальчик как бы спускает стрелу с тетивы,—
вероятно, он должен был изображать амура. И вот перед нашими глазами, в то
время как модель стояла на одной ноге, в одно мгновение, несколькими чертами
карандаша он набросал общие контуры фигуры. Но, поскольку нога, повисшая
в воздухе, естественно, меняла свое положение, так как стоя на месте, мальчик
беспрерывно слегка передвигался, господин Энгр успел пририсовать ему еще одну
ногу. Одним словом, в то короткое время, пока мальчик мог выстоять в своей
позе, господин Энгр, проявив удивительное мастерство, сумел сделать набросок
всей фигуры в целом и еще с двумя лишними ногами.
9 Энгр об искусстве
129
Закончив свои набросок, он нас поблагодарил, оставив всех нас в совершен-
ном восхищении. К этому я должен добавить, что однажды я слышал, как Орас
Верне, беседуя с другими художниками, говорил: «Меня уверяют, что я работаю
быстро. Если бы вы могли видеть, как работает Энгр!.. По сравнению с ним. я
просто черепаха».
Трудно понять, каким же образом при такой легкости творчества наследие
Энгра нс оказалось во много раз больше. Но дело в том, что он часто стирал
написанное, никогда не будучи удовлетворен своей работой и плача как ребенок
перед неоконченным полотном. Может быть, именно благодаря этой его лег-
кости творчества он и мог постоянно переделывать то, что его не удовлетворяло,
поскольку он был уверен, что может очень быстро исправить эти недостатки».
Скульптор Дюре только что закончил прелестного «Танцующего неаполи-
танца» — фигуру обнаженного юноши в очень маленьких штанишках — и пригла-
сил Энгра. Сначала Энгр в самом товарищеском тоне выражает горячие похвалы,
проявляя сдержанность по отношению к некоторым деталям. Очевидно, он вос-
принимал произведение в плане возвышенного искусства, в то время как все
другие хотели видеть только «танец» и «неаполитанца». Смущенный, Дюре уже
оправдывался, ссылаясь на необходимость заинтересовать публику, на выгоды
продажи и т. д.
«В каких условиях вы работаете? — неожиданно спрашивает Энгр.— Жи-
вете ли вы исключительно вашими заработками художника или вы имеете какие-
либо иные доходы?»
Дюре отвечает, что у него есть средства и что он занимается искусством,
следуя только своей склонности, свободный от материальных забот, имея всегда
около 12 тысяч франков ренты.
«Месье!—сурово закричал мэтр, покидая ателье, — когда занимаются
скульптурой, имея 12 тысяч франков ренты, тогда нс надевают кальсон на
свои статуи!»
Гамой, приехавший из своей деревни Ланнион в Бретани и поступивший в
мастерскую Деляроша, вскоре был охвачен восхищением перед Энгром и стрем-
лением работать под его руководством. Он воспользовался случаем представиться
Энгру для получения отпускного свидетельства, которое ему было необходимо
в связи с призывом на военную службу. Снабженный своей первой работой —
картиной «Бретонец за вином», безобразной по своему натурализму, которую
автор позднее называл «своим Курбе», он изложил Энгру свое положение, свои
вкусы, свою просьбу и представил свою картину. Однако в течение всей беседы
«папаша» Энгр, который не мог выносить зрелища чего-либо безобраз-
ного, столько раз поворачивал к стене живопись Гамона, сколько тот предъяв-
лял ее глазам метра. Когда Гамон перестал это делать, беседа с мэтром стала
столь же сердечной, сколь и продолжительной, и Гамон получил все, что он
хотел.
130
Энгр, исправляя работу одного из учеников, злоупотреблявшего рефлексами,
сказал: «Знайте и никогда не забывайте, что рефлекс — это маленький госпо-
дин очень плохого общества; он должен смиренно держаться на краю, даже на
полях рисунка или картины, над которой вы работаете, держа шляпу в руке,
готовый каждую минуту удалиться».
Энгр пользовался своими кистями вплоть до того момента, когда на них
оставалось только три волоска; тогда, дав им легкий прощальный'поцелуй, он их сжи-
гал. Одна из них, совсем маленькая, дойдя до такой крайности, как ему показа-
лось, сказала: «О смилуйся! Оставь мне еще несколько часов. Может, я смогу
хоть немного тебе пригодиться!» «Я ее послушался, — рассказывал мэтр, — и на-
писал ею прекрасную голову: быть может, мой лучший кусок живописи. Не-
правда ли,— прибавлял он,— нужно было бы писать не на расстоянии ручки
кисти, но привязывая кисти к удилищу или еще лучше к стволу сосны? Да что
там — к мачте!»
Энгр не любил, когда спешат вставлять в раму картину до того, как она
закончена. Он, бесспорно, считал это бесполезным и даже вредным, и следующим
оригинальным образом аргументировал свою мысль: «Рама эго вознаграждение
художника».
В течение довольно длительного времени Энгр стоит на углу улицы Асеа
и Вавэн. 11еподвижный, завороженным взглядом, он смотрит на движение боль-
шой кисти, пропитанной коричневатой краской, которой ровно и ритмично водит
маляр, расписывающий деревянную витрину булочной. «О! дорогой мэтр, что
это вы тут делаете? — спрашивает проходящий мимо заинтригованный коллега
Энгра по институту по имени Е. Синьоль. Вместо всякого ответа Энгр показал
на рабочего: «Смотрите и восхищайтесь: он берет точно, сколько нужно!»
Энгр распорядился, чтобы комиссионер взял в его ателье «Портрет Керу-
бини». Человек приходит, спокойно раскручивает веревку, берет картину с
мольберта, опускает се, упаковывает, заворачивает, затягивает, поднимает и уно-
сит. Ни больше, ни меньше. «Какой болван,— замечает Энгр,— он так ничего
и не сказал!»
«Этот славный Камбон (один из его учеников) — самый несчастный человек.
Он снова стал жертвой жюри, того самого, которое принесло его в жертву на
конкурс для получения Римской премии. Я могу тебя уверить, что он никак не
заслужил такого обращения. Его талант изыскан, и он стоит на хорошем пути.
Я могу только стонать и бессильно протестовать против подобных жестокостей.
Но они сильней и многочисленней; они снюхиваются, как воры на ярмарке, и мой
одинокий голос, мои произведения, мое имя — ничто не действует. Когда они
сидят в своих академическх креслах, нет силы, которая могла б воздействовать,
нет возможности взывать к их единому мошенническому суждению. Надо иметь
jO Энгр об искусстве
131
силу проглотить эти помои, которые, как ты видел, мы глотали столь долгое
время. Люди всегда злы, завистливы и невежественны.
Дега в волнении рассказывал, как однажды, робея, он поднимался вслед за
Энгром, который согласился принять его, по лестнице в ателье; вдруг старый
мэтр поскользнулся на одной из ступенек и упал на молодого художника: «Я
держал Энгра в своих объятиях!»
«Энгр, — писала его кузина мадам Поль Лякруа, — очень хороший собеседник
и очень вспыльчив. Он мне говорил, что критика его сводит с ума, что ему
причинили много зла, что он очень злопамятен и помнит все малейшие враждеб-
ные слова, которые были написаны о нем за последние 50 лет, что он ненавидит
своих врагов, и когда с ними случается несчастье, он очень доволен и говорит
себе: «Я, быть может, не нашел в себе смелости для мести, но, однако, к сча-
стью, я отомщен».
Он также признался, что человек, который его больше всего преследовал,
был Денон, и это именно его он заменил в Академии. В день похорон Денона
Энгр, как он мне говорил, пошел на кладбище, чтоб увидеть, как опустят
тело в могилу, и он вышел вперед еще до того, как гроб был засыпан землей,
чтоб быть уверенным, что все кончено. Потом он сказал, кинув последний взгляд
в могилу: «Так, так!... Очень хорошо! Наконец-то, он здесь останется!» Садясь
первый раз в академическое кресло своего мертвого врага, этот ужасный человек
испытал, как он сам признавался, невыразимую радость. И все это было сказано
со свойственным ему кротким видом.
Однажды старьевщик принес автору «Стратоники» великолепный кусок жи-
вописи Веласкеса, который он вырезал из холста большого размера. Задыхаясь
как от негодования, так и от восторга. Энгр разразился гневом: «Как! скотина,
презренный нечестивец, вы совершили неслыханное преступление! изувечить такую
вещь!..» Обалдевший человек скрылся. «Эта картина мне нс стоила больших де-
нег,— говорил позднее Энгр.— Я никогда больше не видел этого торговца».
Итальянский гравер Каламатта много раз плохо отзывался о Рембрандте,
которого называл «Муссю Ренбран», противопоставляя его «Муссю Энгру».
Однажды, когда он настойчиво рифмовал эти имена, Энгр, сидевший согнувшись,
поглощенный работой, вдруг выпрямился, внезапно обернулся и провозгласил:
«Месье Рембрандт! Муссю Ренбран! Знайте, что и вы, и я — мы только мелочь
по сравнению с ним».
Энгр играл на скрипке очень прилично, без большой виртуозности, но с
удовлетворительной техникой, с верным чувством и скромной интимностью клас-
сическую музыку обожаемых им композиторов во главе с Моцартом, «Дон-Жуа-
на» которого считал шедевром человеческого духа.
132
Будучи первый раз на приеме у директора французской Академии в Риме
Энгра, Анри Бейль (Стендаль), говоря о музыке, безапелляционно заявил:
«У Бетховена нет певучести». Энгр резко повернулся к нему спиной, спустился,
чтоб указать швейцару на Стендаля, и отдал следующее распоряжение: «Для это-
го господина меня никогда не будет дома».
Однажды вечером, приехав поздно во французский театр и не найдя свобод-
ного места, Энгр, заметив, сидевшего молодого человека, подошел к нему и сказал:
«Я месье Энгр,— дайте мне ваше место». Молодой человек, ослепленный, вско-
чил. Стоя, он в течение всего длинного вечера размышлял об этом великом
человеке. Этот молодой человек был не кто иной, как Анатоль Франс, кому
суждено было стать метром французской литературы.
Один путешественник из Персии, довольно компетентный в вопросах музыки,
открыто говорил в присутствии Энгра о живом интересе и даже восхищении,
которое вызывала в нем персидская музыка, по своему музыкальному строю и
ритмам не только отличная, но противоположная музыке европейской, и сообщил
об удовольствии, которое доставляет бесспорная виртуозность различных испол-
нителей. Энгр сначала колебался, затем встревожился, наконец, пришел в от-
чаяние и воскликнул: «Но что же тогда означаем мы здесь с Глюком, Моцартом,
Бетховеном? Они обманываются или мы обманываемся: или же мы обманываем
самих себя?..» И оставался неутешен *.
* В данном разделе использованы материалы из книг: A ma ury Duval.
L’atelier d’Ingres. Paris, 1924; Norman Sell I cn off. Les sources lilteraires
de I. A. D. Ingres. Diss. Paris, 1956.
10
СОВРЕМЕННИКИ ОБ ЭНГРЕ
Амори Дюваль
Кто-то сказал, что господин Энгр грек эпохи Перикла, заблудившийся в
XIX веке. Эта мысль мне кажется скорее остроумной, чем справедливой. Человек,
столь враждебно относящийся к идеалу и в то же время столь явный поклон-
ник натуры, какая бы она ни была, мог превращаться в грека лишь на неко-
торое время благодаря своей удивительной способности к ассимиляции.
В XV веке он, может быть, стал бы Мазаччо. Но кем он был безусловно, —
так это революционером.
Подобно всем убежденным революционерам, он считал себя только реформа-
тором и не предвидел, во что превратятся в руках людей, менее умелых, чем он,
тс новые доктрины, которые он распространял. Он не подумал, наконец, о той
«свите» (если нс пользоваться иным словом, ныне прочно вошедшим в употре-
бление), которую он может увлечь за собой.
Оппозиция, проявленная им в отношении его учителя Давида, была столь
непосредственной, что уже в написанных им перед отъездом в Италию картинах
можно наблюдать явные признаки иного, более вдумчивого отношения к жизнен-
ной правде.
Сила убежденности Энгра, вероятно, была очень велика, раз он мог с пер-
вых шагов, живя в окружении уже знаменитых художников, наметить себе путь,
по которому он хотел идти и по которому он пошел, несмотря на критику, не-
смотря на насмешки, несмотря на нужду. Знакомство с великими итальянскими
мастерами только еще больше развило в нем это его прирожденное влечение и,
как он однажды при нас выразился, заставило его признать, «что он был обма-
нут». И с этих пор ничто уже не могло его остановить, и его произведения
нанесли первый удар той школе, из которой он вышел.
Господин Энгр влюбился в натуру и, как все влюбленные, сделался слеп в
отношении некоторых недостатков, присущих самым прекрасным объектам.
К этим недостаткам (или, вернее сказать, к субъективным свойствам натуры)
он подходил очень смело и умел и их делать интересными как благодаря истолко-
ванию, которое он им давал, так и благодаря своему изумительному мастерству.
Таким образом, когда школа Давида сияла самым ослепительным блеском,
ища красоту только в античности и не оставляя почти ничего человеческого в
134
споем идеализирующем изображении натуры, можно себе представить, какое
неблагоприятное впечатление производили творения человека, протестующего
против всего того, что восхищало зрителей, и опрокидывающего основные поло-
жения школы, пользующейся такой всеобщей славой.
Этот человек мало того что удивлял — его еще не понимали. И действитель-
но, трудно себе представить ту необыкновенную разницу, которую зрители, вос-
питанные на иных представлениях об искусстве, видели в произведениях госпо-
дина Энгра по сравнению с произведениями его современников. Я не .побоюсь
утверждать, что его видение жизненной правды производило на публику той эпо-
хи такой же эффект, какой (если тут возможно сравнение) производят некоторые
произведения современной молодежной школы на нас. Я сказал, что впечатление
это было произведено на публику, так как художники, может быть, и не желая
в этом признаться, сразу поняли все. Некоторые из них испугались, но большин-
ство искренне восхищалось. Я могу привести тому многочисленные примеры *.
В настоящее время мы ко всему присмотрелись,— мы еще и не то видали! Гос-
подин Энгр стал теперь для многих мастером высокой классики,— да, если при-
лагать слово «классика» к художникам XV и XVI веков; и нет,— если ограни-
чить это понятие, как многие это тогда делали, исключительно заветами школы
Давида, а их-то господин Энгр и отвергал всю свою жизнь.
Это до такой степени верно, что первыми поклонниками Энгра были Жерико,
Делакруа и все прочие, то есть вся та новая школа, которая приветствовала в
нем учителя, понимая, что с таким человеком она может победить.
Впоследствии, когда кампания была выиграна, произошел раскол, который
выродился в борьбу между «рисовальщиками» и «колористами», и именно этим
последним и дали имя «романтиков». По я настаиваю на том, что все это дви-
жение надо рассматривать с более высоких и более общих позиций.
Итак, я не хочу сказать, что господин Энгр был романтиком. Но я утвер-
ждаю, что он никогда не был «классиком» в том смысле, который придавали
тогда этому понятию. Единственное определение, которое ему бы подошло, это
совсем недавнее название «реалиста». Но я добавлю от себя, что он был бы
реалистом в стиле Мазаччо, Микеланджело или Рафаэля.
Господин Энгр нс только совершил первый революцию, о которой я говорю,
но он раньше всех других молодых людей той эпохи проявил вкус к вещам весьма
тогда презираемым, а ныне, может быть, и слишком прославленным. Всегда при-
писывали романтикам своеобразное возрождение средневековья. Прежде чем они
появились на свет, господин Энгр не только уже писал на сюжеты из той эпохи,
но для того чтобы ими воспользоваться, он даже позаимствовал у искусства при-
митивов кос что из наивной скованности, не лишенной известного обаяния, что
придает его картинам, вдобавок к безукоризненной археологической точности, и
тот «местный колорит», который так ценился новой школой.
* Например, письмо Жерара.
135
Кем еще этот «колорит» соблюдался с таким же вниманием, как им в его
«Въезде Карла VII в Париж», в «Франческе-да-Римини» и в «Генрихе IV, играю-
щем с детьми»? Поэтому-то как для публики той эпохи, так и для наиболее
известных критиков эти картины представлялись «страницами, вырванными из
церковных требников». Надо заметить, что это было время, когда трубадуров
изображали только на стенных часах, а с готикой имела дело одна комическая
опера...
Я пойду и дальше. Японскими картинами, которые, по мнению новой молодой
школы, были открыты ею, господин Энгр восхищался уже 60 лет тому назад.
Доказательство тому можно найти в портрете госпожи Ривьер и в «Одалиске»
Пурталеса, про которую критики писали: «Это произведение напоминает те
раскрашенные картинки, которые иногда украшают арабские или индийские
рукописи».
Отчего у меня нет под рукой всей нужной документации! Было бы весьма
любопытно проследить за суждениями, которые выносились о человеке, который
ныне зачислен в классики. Я во всяком случае могу привести здесь по памяти
фразу из одной статьи господина Кэратри относительно уже упоминавшейся мной
«Одалиски»: «Вероятно, только для того, чтобы указать господину Энгру на его
неслыханные ошибки, в большом Салоне повесили одалиску, написанную этим
молодым человеком».
Тот же самый господин де-Кэратри, который остался у меня в памяти как
исключительно любезный и остроумный старик, сказал мне однажды, говоря
о той же картине моего учителя: «У его одалиски в спине три лишних позвонка».
Он, может быть, был и прав. Ну, и что из этого? Почем знать, может быть,
именно эта длинная талия и придает ей ту гибкость, которая сразу так поражает
зрителя? Если бы пропорции се были абсолютно точны, еще неизвестно, была бы
она так привлекательна.
Как можно видеть, его рисунок тогда подвергался таким же нападкам, как
и его направление в искусстве. И тем нс менее его рисунок это то его достоин-
ство, о котором теперь меньше всего спорят. Но публика, которая в этом отно-
шении отдает ему должное, не очень ясно себе представляет, что же это, собствен-
но, такое, рисунок, даже когда это и очень просвещенная публика.
Обычно предполагается, что хороший рисунок — это правильный рисунок
человеческой фигуры, заключающий в себе нужное число «голов» (человеческое
тело согласно правилам разделяется на восемь частей, причем каждая часть
равняется одной голове), где все мускулы привязаны к своему месту, и каждая
отдельная часть тела находится в математическом соотношении со всеми другими
частями. Однако все это, вместе взятое, еще не создает хорошо нарисованной
фигуры. Фотография — та передает эту безупречную правильность, но никому
в голову не придет утверждать, что фотография хорошо нарисована.
То, что создает настоящий рисунок (и живопись тоже), это истолкование,
которое художник дает изображаемым им предметам согласно впечатлению, про-
изведенному на него их своеобразной красотой или теми их частями, в которых
136
он усматривает эту красоту, и их-то он и выделяет, делает их зримыми для мало-
опытного взгляда и силой своего таланта утверждает свое видение.
То впечатление, которое большой художник получает от натуры и, пользуясь
имеющимися в его распоряжении средствами, умеет ощутимо передать нам, долж-
но, по необходимости, быть бесконечно различным в зависимости от людей, их
темпераментов и их душ. Если точность была бы конечной целью рисунка,
разницы между художниками не существовало бы. Вообразите себе десять боль-
ших художников, пишущих один и тот же портрет. Все эти десять портретов
оказались бы схожими с оригиналом, но среди них не было бы и двух, которые
имели бы друг с другом что-либо общее в смысле рисунка и колорита. Для
художников, и в особенности для скульпторов, как раз тут и возникает вопрос
о своеобразии направления. Мы не увидали бы иначе такого большого различия
в манере рисовать Микеланджело и Рафаэля и Леонардо да Винчи и не усмотрели
бы особенности колорита Поля Веронезе, который так сильно отличается от
колорита Тициана или Рубенса.
К счастью, эти великие художники мало заботились о точности. Они обра-
щались с натурой весьма своевольно: у Микеланджело, например, можно найти
сколько угодно ошибок, самые грубые неточности, неоправданно-вздутые мускулы
и притом значительно больших размеров, чем надо... Но мне было бы стыдно
принимать за ошибки эти великолепные отступления от правды одного »*з вели-
чайших гениев искусства.
Гос подин Энгр, подобно упомянутым выше замечательным художникам, отло-
жил в сторону свои академические знания, вынесенные им из школы Он выра-
ботал себе свой собственный рисунок сомнительной правильности, даже в какой-
то мере странный, но очень для него характерный, передающий его видение, и в
нсго-то он и заставляет нас верить.
Проявляет ли художник особое пристрастие к форме или к цвету — это не-
важно; самое главное, чтобы он видел мир со своей особенной точки зрения и
сумел бы нам передать свое впечатление. Он становится мастером только при
наличии этой способности. Все знаменитые художники ею обладали, но никто
из них нс был ни особенно правдив, ни безукоризненно точен в передаче натуры.
Если широкая публика, не слишком хорошо в этом разбираясь, готова согла-
ситься с тем, что господин Энгр замечательный рисовальщик, она зато полностью
отказывает ему в способностях колориста. И тут она тоже ошибается. Я вовсе
не хочу найти у господина Энгра этот талант в той же степени, как у некоторых
наших художников (я говорю о модернистах), которые почти нс идут дальше
красочных эскизов. И все же я должен заметить, что его картины обладают той
скромной тональной гаммой, которая отнюдь нс свидетельствует о неумении, а
скорее связана с другими замечательными качествами его произведений.
Во Франции пущенная в обращение острота скоро делается неопровержимой,
как закон. Кто-то нашел в анаграмме имени Энгр слова «еп gris» *. С тех пор
* «В сером».
137
он как будто бы пишет только серо, серая краска его любимая, псе его ученики
сплошная серятина и т. д. и т. п. Это, может быть, и смешно и остроумно, но
совершенно не верно. И все же по сей день очень многие убеждены в справедли-
вости этого критического или скорее издевательского замечания, сказанного неким
острословом * всего лишь ради красного словца.
Я скажу больше: господин Энгр довольно часто добивался красочной гар-
монии, ибо он вовсе не был ей чужд, и в качестве примера я назову «Сикстин-
скую капеллу» и ту его «Одалиску», которая сидит спиной к зрителю на краю
постели, повернув голову так, что профиль ее скрадывается ракурсом.
Я бы мог опереться в своем суждении и на мнение Рикара, который был
большим знатоком живописи и при этом сам первоклассным колористом. Он как-
то сказал мне, стоя перед «Одалиской»: «И еще уверяют, что этот человек не
был колористом! Ну и ну! Знаете, что я вам скажу? Что я не помню ничего у
венецианцев, — а уж, поверьте, я их знаю, — что было бы выше этого».
Но я не хочу придавать большего, чем это следует, значения таким удачным
совпадениям, которые только доказывают, что два достоинства, часто существую-
щие порознь, могут быть и объединены у больших художников.
Именно в совокупности его творчества, таком до конца своеобразном, и об-
наруживается с особой ясностью превосходство господина Энгра. Оно проявляет-
ся в той удивительной настойчивости, с которой он стремится достичь стоящей
перед ним цели и от чего никто и ничто не может его отвратить.
Никогда у него не было ни одной минуты слабости или сомнения. Он шел
напролом, преодолевая тысячи препятствий, проявляя то уважение, тот культ
искусства, которые укрепляли в нем его высокую, почти беспримерную честность
художника.
С самых его первых шагов ни одно произведение не вышло из его мастер-
ской, если он не считал возможным поставить под ним свою подпись. А имя
свое он ставил тогда, когда считал, что то. что им сделано, сделано хорошо. Если
же у него на этот счет были сомнения, он начинал сначала. Среди тысяч его
набросков нс найти ни одного, который свидетельствовал бы о небрежности, о же-
лании поскорее кончить и принести домой 20 франков (обычная цена за его за-
мечательные карандашные портреты), которые часто в его хозяйстве являлись
ценой хлеба насущного. Нужно перенестись мыслью в далское прошлое, дойти до
великих мастеров древности, чтобы найти такую же жизнь, всю безраздельно
отданную искусству, как жизнь господина Энгра. Этого в наше время уже больше
не встретишь. Но, правда, ничто, за исключением живописи, музыки и вообще
искусства, ничто, что существует для других людей, для него не существовало.
Этой железной воли, этой непоколебимой веры, может быть, все-таки было
бы недостаточно, чтобы преодолеть все препятствия, перед ним возникавшие, если
бы он не был одарен свыше, как это бывает только с громадными талантами,
исключительной исполнительской силой, которую никто не может опровергнуть,
* Господином Жаном Лораном.
138
от которой многие что-то заимствовали, но которая все же принадлежала только
ему.
Я твердо убежден в том, что, вернув искусство к более правдивому изобра-
жению натуры, господин Энгр ниспроверг школу Давида и благодаря такой ре-
волюции дал возможность зародиться реализму, который нас нынче совсем заду-
шил. Но не все ли равно! Можно ли ставить в вину Микеланджело весь тот
выводок всяких Бернини, которых он создал? Тем хуже для этих Бернини и для
тех, кто ими восхищается! Микеланджело имел привычку говорить: «Мой стиль
непременно породит больших дураков». Это участь, предуготовленная всем подра-
жателям. Что же касается натур мощных и оригинальных, то они обязаны своим
успехом отнюдь не школам и проповедуемым в них доктринам. Нет примера
большого художника, который следовал бы по пути своего учителя.
Школы и традиции могут создавать умелых художников, но они не поро-
ждают художников, отмеченных печатью гения. Только одна природа обладает
этим преимуществом, но секрета своего она нам, к сожалению, не открывает. И не
обращая внимания ни на правила, ни на предписания, она нет-нет да рождает
неких избранников, которые потом становятся гордостью и славой своей эпохи.
Энгр был из их числа *.
* Данный текст является заключительной главой книги: Araaury Duval.
L'alelier d* Ingres. Paris, 1924.
Шарль Бодлер
ЭНГР НА ВЫСТАВКАХ
Салон 7846 года*
...Господин Энгр, самый прославленный представитель натуралистической
школы в рисунке, без устали стремится овладеть цветом. Великолепное, хотя
и тщетное упорство! Вечно так бывает с людьми — они готовы сменить вполне
заслуженную ими репутацию на ту, которую им никогда не приобрести. Господин
Энгр обожает цвет совсем как модистка. С досадой и в то же время с удоволь-
ствием приходится наблюдать, сколько усилий ему стоит найти и подобрать свои
тона. Результат не всегда дисгармоничный, но терпкий и резкий, часто нравится
извращенному вкусу поэтов. И все-таки, когда их усталое сознание достаточно
долго наслаждалось этим рискованным состязанием красок, оно обязательно за-
хочет отдохнуть на творениях Веласкеса или Лаурснса.
Если господин Энгр, после Эжена Делакруа, занимает главенствующее поло-
жение среди художников, то этим он обязан своему исключительному рисунку,
таинственную прелесть которого я недавно анализировал и который по сей день
лучше всего сочетает в себе требования идеала и натуры. Господин Энгр рисует
замечательно и при этом быстро. В своих набросках он совершенно естественно
прибегает к идеализации; рисунок его, часто лаконичный, ограничен немногими
линиями; однако каждая из них выражает существенный контур. Сравните его
рисунки с рисунками всех этих ремесленников живописи — часто его же учени-
ков—они прежде всего пытаются передать мелочи, и именно этим они восхищают
пешляков, так как во всех отраслях искусства пошляки только и замечают все
малозначительное.
В некотором смысле господин Энгр рисует лучше, чем Рафаэль, всеми при-
знанный король рисовальщиков. Рафаэль расписал огромные пространства стен.
Но ему бы не удалось так хорошо, как Энгру, написать портрет вашей матери,
* Салон 1846 года открылся в Лувре в залах Королевского музея 16 марта.
Статьи Бодлера вышли отдельной книгой под названием «Салон 1846 г.» в Па-
риже в издании братьев Мишель-Леви. Эти статьи положили начало славе Бод-
лера как талантливого критика.
140
вашего Друга или вашей любовницы. Смелость этого последнего совершенно
поразительна и сочетается она с таким уменьем, что он нс останавливается ни
перед каким уродством, ни перед какою странностью; так, он изобразил сюртук
господина Моле и нарисовал каррик Керубини и в свой плафон Гомера —
произведение, больше какого-либо иного претендующее на идеализацию натуры —
всадил одного слепого, одного кривого, одного безрукого и одного горбатого. Сама
природа щедро его вознаграждает за это языческое ей поклонение. Он мог бы
даже из Майе создать нечто возвышенно прекрасное.
Красавица-муза Керубини тоже в своем роде портрет. Нужно быть справед-
ливым в отношении господина Энгра, если он и лишен воображения в рисунке
и не умеет создавать картин (во всяком случае больших масштабов), его порт-
реты почти картины, то есть глубоко прочувствованные поэмы.
Скупой, жестокий талант, раздражительный и болезненный, он представляет
из себя удивительную смесь противоположных качеств, которые все поставлены
на службу натуре.
Странности его играют не последнюю роль в свойственном ему обаянии —
он фламандец по мастерству, индивидуалист и натуралист по рисунку, он антич-
ник по своим симпатиям и идеалист по своему рассудку.
Сочетать в себе столько несовместимого не так-то просто. А потому недаром
избрал он, для того чтобы лучше выявить мистические тайны своего рисунка,
искусственное освещение, которое помогает ему яснее передать свою мысль, по-
добно тому как в предрассветных сумерках еще не проснувшаяся природа нам
кажется свинцово-бледной и резкой по цвету, а окружающее приобретает вид
фантастический и поражающий воображение.
Есть одна своеобразная и, как мне кажется, еще никем нс отмеченная черта
в таланте господина Энгра — это то, что он с особой охотой пишет женщин. Он
их изображает такими, какими он их видит, ибо можно подумать, что он их
слишком любит, чтобы стремиться в чем-либо их изменить. С жадным вниманием
хирурга выявляет он их малейшие красоты. С рабской преданностью влюбленного
он следит за слегка волнообразными линиями их контуров. Анжелика, обе ода-
лиски, портрет мадам д’Оссонвиль — все это произведения, полные глубокой
чувственности. Но при этом все их качества обнаруживаются в почти жутком
освещении, ибо оно ничего не имеет общего ни с золотистым светом, коим на-
поен воздух нездешних полей, ни со спокойным, ровным освещением подлунного
мира.
Произведения господина Энгра, возникшие в результате его исключительного
внимания, требуют такого же внимания, чтобы их понять. Рожденные в страда-
нии, они сами порождают страдание. Это происходит оттого, что, как я объяснял
выше, его художественный метод отнюдь не целостный и не простой, а скорее
представляет из себя последовательное применение разных методов.
Вокруг господина Энгра, учение которого несет в себе черты почти фанати-
ческой суровости, объединилось несколько человек, из которых наиболее извест-
ными являются господа Фландрен, Лееман и Амори Дюваль.
j •) Энгр об иску<< гпс
141
Но какое громадное расстояние отделяет учителя от учеников! Господин
Энгр все еще по-прежнему единственный представитель своей школы. Его метод
непосредственно вытекает из его натуры, и какой бы чудаческой и упрямой она
ни была, она во всяком случае искренна и, если так можно выразиться, непроиз-
вольна. Страстно влюбленный в античность и в свою модель, почтительный слуга
природы, он пишет портреты, которые соперничают с лучшими римскими скульпту-
рами. А в это время вышеупомянутые господа излагают в разработанной системе,
холодно, догматически и педантично всю неприятную и непопулярную часть его
учения. Ибо то, что их прежде всего отличает, это педантизм.
Музей базара Бонн-Нувель *
Господин Энгр гордо выставляет в специальном зале одиннадцать своих
картин, то есть знакомит нас со всей своей творческой жизнью или, во всяком
случае, с образцами ее в разные эпохи—одним словом, со всей книгой Бытия
своего искусства. Господин Энгр давно уже отказывается выставляться в Салоне,
и, как нам кажется, он совершенно прав. Его замечательный талант всегда более
или менее страдает от наскоков и нападок, в той безумной толчее, в которой
публика, усталая и обалделая, поневоле прислушивается к тому, кто кричит
громче всех. Господин Делакруа должен обладать сверхчеловеческим мужеством,
идя на то, чтобы его ежегодно окатывали грязыо. Что касается господина Энгра,
то при наличии у него нс меньшего терпения (если не сказать не меньшей бла-
городной отваги) он, сидя под навесом своего шатра, спокойно поджидает удоб-
ного случая. Случай этот представился, и он полностью им воспользовался
Нам не достанет места и, может быть, не хватит слов, чтобы достойно про-
славить «Стратонику», которая удивила бы Пуссена, «Большую одалиску», кото-
рая привела бы в волнение Рафаэля, «Маленькую одалиску» — эту причудливую
и прелестную фантазию, которой нет равной среди произведений классической
древности, а также портреты господ Бертена и Молэ и мадам д'Оссонвиль —
портреты в полном значении этого слова, то есть идеальное воспроизведение
конкретных личностей. Но здесь мы считаем полезным напасть на некоторые
странные предрассудки, которые бытуют в сознании людей определенного круга,
видимо, умеющих слышать чужие слова, но не умеющих видеть собственными
глазами. Давно известно и признано, что живопись господина Энгра серая.— Да
открой же глаза, неразумная нация, и скажи, приходилось ли тебе когда-нибудь
еще видеть живопись более яркую и броскую и даже наблюдать большую изы-
сканность в подборе тонов? Во второй «Одалиске» эта изысканность доведена
* Статья «L|e musee classique du Bazar Bonne-nouvelle» вышла как фельетон в
газете «Corsaire Satan» 21 января 1846 г. Базар Бонн-Нувель назывались об-
ширные галереи, расположенные на бульваре Сэн-Дени. В них находились раз-
личные лавки, над которыми помещалось самое большое кафе Парижа. Выставка
была организована в пользу кассы помощи и пенсий Общества художников и от-
крылась 11 января 1846 года.
142
до крайней степени, но, несмотря на множество оттенков, цвет обладает звучно-
стью.
Так же широко распространено убеждение, что господин Энгр великий, но
неумелый рисовальщик, который не знает законов воздушной перспективы, и по-
тому его живопись такая же плоская, как китайская мозаика. На это нам нечего
сказать, если только нс сравнить «Стратонику», в которой грандиозное скопление
красочных пятен и световых эффектов нисколько не препятствует конечной гар-
монии, с Фамарью, в которой господин Орас Верне решил проблему невероятной
трудности: он создал живопись кричащую и в то же время грязную и путаную.
Нам никогда нс приходилось видеть чего-либо, столь хаотического и беспорядоч-
ного.
Есть одна вещь, которая, как нам кажется, особенно отличает дарование
господина Энгра — это его любовь к женщине. Его увлечения очень серьезны.
Господин Энгр никогда не бывает так счастлив и во всеоружии своего мастерства,
как тогда, когда его талант соблазнен прелестями молодой красавицы. Мускулы,
складки кожи, тени от ямочек и углублений (волнистая линия), выпуклостей —
он ничего не забывает. Если бы остров Цитеры заказал картину господину
Энгру, наверняка, она бы не была легковесной и веселой, как картина Ватто, но
солидной и обстоятельной, наподобие любви у древних.
В рисунке господина Энгра наблюдаются изыски очень придирчивого вкуса,
исключительной тонкости, которые, может быть, являются следствием особого
рода приемов. Так, например, мы бы нисколько не удивились, если бы он вос-
пользовался негритянкой в качестве модели, чтобы подчеркнуть в своей «Ода-
лиске» пышность форм и в то же время гибкость.
Всемирная выставка 1855 года *
Когда Давид, это холодное светило, а за ним Герен и Мироде, его истори-
ческие спутники (в своем роде тоже теоретики и создатели абстракций), подня-
лись нал горизонтом искусства, произошел великий переворот. Нс анализируя
цели, которую они преследовали, не проверяя ее законности, не интересуясь тем,
не переступили ли они через ее пределы, мы только утверждаем, что у них была
эта цель, благородная цель протеста против слишком милых соблазнов и упои-
тельных прелестей, которые я тоже, впрочем, не хочу ни оценивать, ни характе-
ризовать. И к ней-то они стремились с величайшим упорством, идя вперед на-
встречу лучам своего искусственного солнца с откровенностью, решительностью
и согласованностью, вполне достойными сектантов. Когда же эта суровость
* Всемирная выставка открылась 15 мая в Новом дворце искусств (Дворец
индустрии) на улице Монтэня. Бодлер посвятил ей статью. Глава об Энгре
появилась 12 августа 1855 года в газете «Lfe Portefeulle».
1Г
143
смягчилась и приобрела известную ласковость под кистью господина Гро, она
уже была мертва.
Я очень хорошо помню то необыкновенное уважение, которое во времена на-
шего детства окружало все эти поневоле фантастические фигуры, все эти акаде-
мические привидения. И я сам не мог не взирать с каким-то почти мистическим
страхом на всех этих огромных чудаковатых дылд, на этих изящных и величествен-
ных красавцев, на этих жеманно-непорочных и классически сладострастных жен-
щин. стыдливо прикрывающихся одни — античными мечами, другие—полупро-
зрачными ханжескими покрывалами. Вся эта в полном смысле слова сверхъесте-
ственная публика двигалась, или, вернее, позировала, в лучах условного зелено-
ватого света, который должен был заменить собой солнечное освещение.
Однако эти слишком прославленные в свое время, а ныне слишком презирае-
мые художники обладали тем несомненным достоинством (если не слишком вни-
кать в их приемы и в странности их художественных систем), что они вновь
привлекли французов к преклонению перед героикой. Постоянное созерцание
эпизодов греческой и римской истории в конце концов не могло не оказать своего
благотворного действия в смысле поощрения стоицизма. Впрочем, все эти худож-
ники никогда не были настолько греками и римлянами, как им хотелось быть.
Давид, надо ему отдать справедливость, никогда не прекращал быть непреклон-
ным Давидом, деспотом-разоблачителем. Что же касается Герена и Жироде, то
было бы нетрудно обнаружить в них, как бы они ни были увлечены, подобно их
пророку, духом мелодрамы, несколько слегка греховных пятнышек, несколько
зловещих и забавных признаков будущего романтизма.
Не кажется ли вам, что эта «Дидона», которая в своем столь вычурном и
столь театральном туалете, точно слабонервная креолка, томно раскинулась на
фоне заката солнца, более сродни первым видениям Шатобриана, чем образам
Вергилия, и что се влажный взор, как бы утонувший в туманах, окутывающих
альбомы английских гравюр, почти предвещает появление некоторых бальзаков-
ских парижанок? Что же касается картины «Атала» Жироде, то что бы о ней ни
думали некоторые насмешники (о которых скоро все позабудут), это драма беско-
нечно более совершенная, чем весь тот современный вздор, которому не поды-
щешь названия.
Однако сегодня мы стоим лицом к лицу с человеком огромной и неоспоримой
репутации, чье творчество значительно труднее понять и объяснить. Я позволил
себе только что по поводу этих злополучных художников-знаменитостей произ-
нести непочтительное слово чудаки. Поэтому неудивительно, если для объяснения
впечатления, производимого произведениями господина Энгра, я скажу, что они
находят его «чудаковатость» таинственной и сложной.
Прежде чем более решительно приступить к делу, мне хотелось бы отметить,
что многие при первом лицезрении произведений господина Энгра получали от
него очень яркое непосредственное впечатление, о чем они, конечно, вспоминают
как только входят в святилище, посвященное его творчеству. Впечатление это
нелегко определить — оно заключает в себе, в довольно неясных пропорциях,
144
нечто от тоски, от тревоги, и от страха, и заставляет смутно вспоминать о недо-
могании, вызываемом разреженным воздухом или атмосферой химической лабо-
ратории или местностью, посещаемой привидениями, вернее, местностью, в которой
бродят искусственные привидения: целое народонаселение автоматов, смущаю-
щих наши сердца своей слишком явной и очевидной чужеродностью. В этом чув-
стве нет ничего от того чисто детского почтения, о котором я говорил выше и
которое охватывает нас перед «Сабинянками», перед «Маратом в ванне», перед
«Потопом» и мелодраматическим «Брутом». Ощущение это, по правде говоря,
сильное (почему нам отрицать силу таланта господина Энгра?), но более низмен-
ного порядка, как бы несколько болезненное. Если бы можно было так выразить-
ся — это почти негативное ощущение. И в самом деле, надо сказать с полной
откровенностью, что знаменитый художник, по-своему революционер, имеет такие
заслуги, более того, обладает столь неоспоримыми чарами (источник которых я
попытаюсь вскрыть в дальнейшем), что здесь было бы просто ребячеством не
признать за ним и известного рода пробелов, недостатков, утрат в выявлении
его душевных и умственных способностей. Воображение, которое поддерживало
вышеупомянутых великих мастеров, когда они благодаря своим академическим
упражнениям сбивались с пути, воображение — эта царица всех дарований —
у него исчезло бесследно.
Если отсутствует воображение, значит отсутствует и движение. Я не соби-
раюсь доводить свою непочтительность и предвзятость до того, чтобы утвер-
ждать, что господин Энгр спокойно покорился необходимости. Я достаточно хо-
рошо понимаю его характер, чтобы полагать, что с его стороны это была скорее
всего героическая жертва, жертва, принесенная за счет тех дарований, которые он
искренне считает самыми великими и самыми важными.
В этом случае — как ни чудовищен может показаться этот парадокс — он
приближается к одному молодому художнику, чьи замечательные начинания не-
давно проявились с внезапностью мятежа.
Господин Курбе тоже очень сильный мастер, обладающий непреклонной и
упорной волей. И результаты, которых он добился и которые уже сейчас кое для
кого более соблазнительны, чем все достижения великого мастера рафаэлевской
традиции (очевидно, по причине их крепкой реальности и самовлюбленного ци-
низма), отличаются той же странностью, обнаруживая в их создателе сектанта,
гонителя дарований и талантов.
Политика и литература со своей стороны тоже порождает мощные темпе-
раменты, порождают протестантов и антисверхнатуралистов, коих единствен-
ным правом на существование является дух противодействия, подчас благотвор-
ный. Провидение, следящее за прогрессом живописи, порождает ревнителей этого
прогресса среди лиц, которым до смерти надоело подчиняться руководящему
мировоззрению определенной школы. Однако разница в данном случае заклю-
чается в том, что господин Энгр приносит свою героическую жертву в честь ра-
фаэлевской традиции и представлений ее о прекрасном, тогда как господин Курбе
совершает ее во имя внешнего сходства, непосредственного фактического правдо-
145
подобия. Объявляя войну воображению, они исходят из разных побуждений,
но противоположные фанатические убеждения заставляют их приносить совер-
шенно одинаковые жертвы. Для того чтобы вернуться к привычным путям на-
шего исследования, поинтересуемся, какие же цели себе ставит господин Энгр?
Во всяком случае он не стремится переводить на язык живописи чувства и
страсти, а также различные оттенки этих чувств и страстей. Он не изображает
также значительные исторические события (несмотря на итальянские и даже
слишком итальянские красоты его картины «Святой Симфорион», в которой
итальянское начало прослеживается вплоть до распределения фигур, она никак
не передает возвышенность подвига христианской жертвы, ни жестокого и в то
же время равнодушного зверства отсталых язычников).
Что же все-таки ищет, о чем мечтает господин Энгр? Что он пришел нам
возвестить? Какое добавление сделал он к евангелию живописи? Я бы охотно
поверил, что его идеал — это своеобразный идеал, составленный наполовину из
здоровья, наполовину из покоя, почти равнодушия, что-то очень близкое к антич-
ному идеалу, к которому он только прибавил курьезы и изощренность современ-
ного искусства. Именно это-то сочетание часто и придает своеобразное очарова-
ние его произведениям. Господину Энгру, поклоннику идеала, который не слишком
законно (и даже противоестественно) сочетает в себе спокойную основательность
Рафаэля с претензиями модной щеголихи, должны были особенно удаваться
портреты. И действительно, именно в области портрета он обрел самое большое и са-
мое заслуженное признание. Но при этом он ни в какой степени не тот готовый к
услугам художник, один из банальных производителей портретов, к которому
всякий пошляк, держа кошелек в руке, может обратиться, попросив воспроиз-
вести свою малопривлекательную наружность. Господин Энгр сам выбирает свои
модели и, надо сознаться, выбирает он их с безукоризненным тактом: именно
тс модели, которые лучше всего могут выразить особые качества его дарования.
Красивые женщины, роскошные тела, лица, спокойные и пышащие здоровьем,—
вот его торжество и его радость!
Здесь, впрочем, возникает вопрос, сто раз уже обсуждавшийся, но к кото-
рому полезно обратиться еще раз. Каково качество рисунка господина Энгра?
Безупречен ли он? Безусловно ли он остер и выразителен?
Меня поймут все те, кто, сравнив между собой манеры рисовать наиболее
известных мастеров, утверждает, что рисунок господина Энгра — это рисунок при-
верженца определенной школы. Он верит в то, что натуру надо исправлять и
улучшать, что удачливый и приятный обман, имеющий целью порадовать взор,
это не только право, но и обязанность художника. До сих пор нас уверяли, что
натура должна быть истолкована и разъяснена во всей своей совокупности и по-
следовательности. Но в произведениях интересующего нас мастера мы часто на-
талкиваемся на обман, хитрость, насилие, а иногда на надувательство и
ухищрение.
Вот перед нами множество пальцев, уж слишком одинаково веретено-
образных и удлиненных, с ногтями, как бы зажатыми в тиски, а в то же время
146
Лафатср, взглянув на широкую грудь и мощные руки их владелиц, на их не-
сколько мужественную наружность, нашел бы, что концы этих пальцев должны
быть обязательно квадратными, что является признаком ума, склонного к муж-
ским занятиям, к симметрии и порядку, принятым в искусстве. А вот перед
вами фигуры изнеженные, с тонкими и изящными плечами в сочетании с слишком
полными руками, преисполненными чисто рафаэлевской мощи. Но, поскольку Ра-
фаэль любил полные руки, надо было в первую очередь удовлетворить его же-
лание и понравиться ему. Тут мы вдруг замечаем пупок, соскользнувший к реб-
рам, а затем женскую грудь, своим соском почему-то обращенную к подмышке,
а вот здесь — что менее извинительно (ибо обычно все эти маленькие погреш-
ности находят более или менее допустимое и всем понятное оправдание в излиш-
нем пристрастии к стилизации) — здесь, повторяю, мы совершенно смущены,
узрев ни на что не похожую ногу, лишенную мускулов, бесформенную и без
обязательной складки под коленом («Юпитер и Антиопа»),
Заметим себе еще, что, болезненно увлеченный этой постоянной заботой
о верности стилю, художник часто пренебрегает передачей выпуклости форм или
сводит се на нет, надеясь таким образом придать большее значение самим кон-
турам. И в результате его фигуры напоминают выкройки очень правильной
формы, набитые чем-то мягким и неживым, чуждым человеческой природе. Впро-
чем, бывает, что ваш глаз вдруг остановится на очаровательных кусках живописи,
безупречно живых. Но тотчас же злая мысль мелькнет у вас в голове, что не
господин Энгр искал туг приобщиться к натуре, а что сама натура совершила
насилие над художником и что эта высокая и могущественная госпожа покорила
его своим неотразимым обаянием. ,
Учитывая все вышесказанное, легко понять, что можно рассматривать госпо-
дина Энгра как человека больших дарований, красноречивого поклонника пре-
красного, но лишенного того энергичного темперамента, который является обяза-
тельной принадлежностью гения. Его преобладающие пристрастия — любовь к
античности и уважение к школьной премудрости. Надо сказать, что, в общем, он
легко приходит в восторг, а вкусы его довольно эклектичны, как и у всех лю-
дей, не отмеченных роковой печатью гения. И, таким образом, мы наблюдаем, как
он переходит от одной древности к другой: от Тициана («Пий VII в Сикстин-
ской капелле») к эмальерам эпохи Ренессанса («Венера Андиомена»), от Пуссена
к Карраччи («Венера и Антиопа»), к Рафаэлю («Святой Симфорион») и немецким
примитивам (все маленькие картинки церковного и анекдотического характера)
и к персидским и китайским пестроцветным курьезам («Маленькая одалиска»).
Он не знает, чему отдать предпочтение. Любовь к античности и влияние этой
последней чувствуются везде. Но мне часто кажется, что отношения между госпо-
дином Энгром и античностью примерно такие же, как отношения между светской
благовоспитанностью и природным хорошим воспитанием, которое зиждется на
естественном достоинстве и доброжелательности человека.
Особенно ясно проявляется пристрастие господина Энгра к этрускам в кар-
тине, принадлежащей городской ратуше, — «Апофеоз Наполеона I». И все-таки
147
этруски, большие любители упрощения, нс доводили его до того, чтобы забыть
запрячь коней в колесницу. Эти сверхъестественные кони (непонятно, собственно,
из чего они сделаны, как будто из какого-то твердого, гладкого материала, точно
тот деревянный конь, что завоевал город Трою), не обладают ли они магнети-
ческой силой, дающей им возможность тянуть за собой колесницу без постромок
и без упряжи? Что же касается императора Наполеона, то мне очень хочется
сказать, что я не обнаружил в нем той эпической и роковой красоты, коей его
обычно наделяют как его современники, так и его историки, и мне очень грустно,
что мы не умеем сохранять внешних, ставших уже легендарными черт великих
людей. В этом отношении народ согласен со мной и нс может себе представить
своего любимого героя иначе, как в официальном парадном мундире или в том
историческом светло-сером сюртуке, который, как бы ни смущались этим яростные
поклонники высокого стиля, нисколько не испортил бы современный апофеоз.
Но этому произведению можно сделать более серьезный упрек. Характерным
признаком всякого апофеоза должно быть ощущение необычайности, ощущение
силы, возносящей вас ввысь, увлекающей вас за собою в безудержный полет
к небу, к конечной цели всех человеческих устремлений, к классическому обита-
лищу всех великих людей. Однако этот апофеоз (или, скорее, эта упряжка) ска-
тывается вниз, летя со скоростью, пропорциональной его весу. Кони неудержимо
влекут колесницу к земле. И все это устройство подобно воздушному шару, из
которого вытек газ, но который сохранил весь свой балласт и вот-вот разобьется
о поверхность нашей планеты.
Что же касается «Жанны д’Арк», которая отличается преувеличенным пе-
дантизмом в применении всех и всяческих «правил», то я не решаюсь о ней го-
ворить. Как бы мало симпатии, по мнению его фанатических поклонников, я ни
проявлял к господину Энгру, я все же предпочитаю верить, что самый замеча-
тельный талант всегда сохраняет право на ошибку. В этой картине, так же как
в «Апофеозе», начисто нет никакого чувства и никакого ощущения чудесного.
Где же нам ее искать, эту гордую девственницу, которая, по обещанию госпо-
дина Делеклюза, должна была отомстить за нас и за себя господину Вольтеру
по случаю его непристойного зубоскальства? Подводя итоги, я скажу, что,
абстрагируясь от эрудиции господина Энгра и от его своевольной и почти беше-
ной любви к красоте, то особое свойство, которое создало его тем, что он есть,
могучим, неуязвимым, бесконтрольным властителем, — это его воля или, вернее,
в огромной степени преувеличенная сила воли. В сущности тем, кто он есть, он
был с самого начала. Благодаря присущей ему от природы энергии он останется
таким же до самого конца. Поскольку он не развивался, он и не будет стареть.
Его слишком горячие поклонники останутся такими же, какие они были,—
влюбленными в него до слепоты. И ничего не изменится во Франции, даже ма-
ния подражать особым странностям большого художника, ему лично присущим,
и пытаться воспроизвести невоспроизводимое.
Тысячи причин, в целом благоприятных, сочетались, чтобы укрепить мощную
репутацию господина Энгра.
148
\ *
Светским людям он импонировал своей выспренней любовью к античности
и к традиции. Людям эксцентричным и пресыщенным и множеству изысканных
умов, всегда жаждущих новостей (даже печальных новостей), он нравился своей
чудаковатостью. Но все, что было хорошего или во всяком случае соблазнитель-
ного в нем самом, оказывало вреднейшее действие на толпу его подражателей.
Мне еще не один раз представится случай поговорить об этом.
Теофиль Сильвестр
ЭНГР, СПИСАННЫЙ С НАТУРЫ
Когда в 1846 году французские художники устроили в галереях Бонн-Нувель
в Париже выставку в пользу бедных, они обратились с просьбой к господину
Энгру принять в ней участие. Он сначала отказался выставляться в неприятном
ему соседстве, среди враждебного окружения. «В конце концов,— заявил он,—
я сдался на мольбы барона Тейлора, но поставил непременным условием, чтобы
мои картины были отделены от всех прочих перегородками, если не стенами.
Я создавал их не для слепой толпы, которая теснится в залах музея, как на
благотворительных базарах. Пускай в ней заискивают молодые люди, которые
ищут популярности. Я же с удовольствием выставлял одно единственное мое
произведение — «Обет Людовика XIII». В 1824 году оно занимало в квадратном
зале Лувра место «Брака в Кане Галилейской» Веронезе. Сравнивая себя с не-
которыми современными художниками, которые явно страдают эпилепсией, как,
например, автор «Резни в Хиосе», я гордился тем, что неизменно уважал чело-
веческий образ вместо того, чтобы выворачивать людям суставы, заставлять их
ходить на голове и превращать богородицу со святыми ангелами в ирокезцев.
Я упорно держался за мои принципы, в коих заключена правда, стараясь оста-
новить продвижение варваров, подобно тому как до меня Давид усмирял мятеж-
ников от искусства, которые захватили основные позиции после смерти Пуссена.
Давид восстановил французскую школу живописи благодаря тому, что, к счастью,
обладал деспотическим характером. Но после него возмущение вновь подняло
голову: Жерар, отвергнув свою миссию художника и превратившись в модного
царедворца, открыл двери новаторам — ох, уж этот Жерар! — и вот на
одном банкете в Отейле, на котором присутствовал и господин Тьер, была про-
возглашена смерть живописи. Другой тип, некий Гро, был с ними заодно — в
результате восторжествовала анархия. Мой «Обет Людовика XIII» вызвал все-
общее одобрение, но правительство одновременно поощряло и моих противни-
ков... Ах! Мне не хочется никого видеть; оставим этот разговор; все идет
к черту, все катится в бездну... Живопись уничтожена, мать всех искусств
мертва!..»
Так, обращаясь ко мне, говорил этот художник неукротимого духа. После
этого он показал кулак Рубенсу, которого он именует гением зла, и долго насме-
хался над Рембрандтом, Корреджо и всеми их последователями за все века. Аминь.
150
Я, как сейчас, слышу его святительские проклятия. Для него искусство священ-
но. Непогрешимый, он нс вступает в пререкания. Великий человек в частной
жизни живет как простой смертный. Господин Энгр чувствует себя папой, заме-
стителем бога на земле. Поэтому мы наблюдали, как он превратил в часовню
предоставленную ему лично залу во Дворце всемирной выставки 1855 года:
Святой отец на обеих этих картинах, изображающих Сикстинскую капеллу, это
сам художник, а смиренный священнослужитель, лобызающий ему ноги,— это
вы, это я, это весь мир!
Все художники Европы, приглашенные на это широкое и вольное соревно-
вание, смеялись над тем, что произведения французского академика выставляются,
точно нетленные мощи, на особом алтаре. Подобным образом он праздновал
свою победу без всякой борьбы и подготовил себе апофеоз еще при жизни. Пусть
же художник, обладающий скромностью, бросит первый камень в этого велико-
лепного гордеца!
Этот удивительный человек хочет быть первым, единственным среди при-
знанных мастеров или не быть вовсе. Посмейте восхвалять при нем Рафаэля; он
проявит перед вами горячее сочувствие, но в душе будет считать, что его обокра-
ли. Прославление самого Христа заставило бы его страдать от ревности. Поэтому
с моей стороны большая неосторожность высказываться об его надутой важно-
стью особе. Мне советовали просить у него заранее за это прощение, что я сми-
ренно и делаю, хотя мне это, казалось бы, и вовсе не пристало.
Господин Энгр — старик бодрый, крепкий, с порядочным брюшком и доволь-
но простоватого вида, что отнюдь не соответствует ни вычурной элегантности
его произведений, ни его олимпийским претензиям. Вы бы приняли его, встретив
на улице, за испанского священника, переодетого в штатское. У него смуглая,
желтоватая кожа, черные живые глаза и настороженный, сердитый взгляд. Во-
лосы на его голове короткие и жесткие (в свое время они были очень черные),
неизменно маслянистые, разделенные пробором, проходящим по самой середке его
заостренного черепа. У него большие уши, на висках вздутые жилы, его несколько
горбатый нос выдается вперед и кажется коротким оттого, что большое расстоя-
ние отделяет его ото рта. Щеки у него плотные и округлые. Его подбородок и ску-
лы резко выступают вперед, а челюсти кажутся железными, причем нижняя губа
у него припухлая, что придает его лицу капризно-недовольное выражение.
Этот бурнопламенный человечек все делает рывком — сбегает с лестницы
большими прыжками, нс держась за перила, и бросается в извозчичий экипаж,
наклонив голову вперед и задевая плечом о косяк дверцы.
Благодаря заботе, проявляемой им к собственной персоне, и ошеломляющей
энергии его поведения, ему можно дать на четверть века меньше, чем ему есть
на самом деле. Я лично не могу нс улыбаться, глядя на это царственное величие,
несущее на голове тройную корону, состоящую из бумажного колпака, лаврового
венка и нимба святого. Но он сам отнюдь не смеется, боясь потерять свой пре-
стиж. Однако в общении со своей кухаркой или со своим привратником он про-
являет снисходительную фамильярность.
151
Вот он расселся в кресле в совершенной неподвижности, точно египетский
бог, высеченный из гранита, положа обе руки на колени своих параллельно рас-
ставленных ног, расправив грудь и гордо закинув голову. Помолчав с минуту,
он обращает к вам свой взор, но при этом нс смотрит в глаза и начинает беседу
тоном усталого, раздраженного и опечаленного гения. Он задаст вам один вопрос
за другим, дабы вас смутить, выражается столь же туманно, как пифия, и при
этом находит неясным все, что ему говорят, на что-то ворчит, жестикулирует,
вздымает глаза к небу, вздыхает и печально роняет голову на грудь. Если ему воз-
ражают, то он поджимает губы, потом постепенно раздражается, сжимает кулаки,
топает ногами, неистовствует и, наконец, разыгрывает из себя несчастную жертву.
Всегда полный горячности, он спорит, как «слабая женщина», и в конечном
итоге всегда оказывается прав, потому что упорно настаивает на своих ошибках.
Он не обладает остроумием. Нелепые выражения и оскорбительные слова всегда
готовы слететь с его языка. Поскольку он считает своим долгом ничем не интере-
соваться, кроме своего рисунка, то он с простодушием каменотеса воспроизводит
те греческие и латинские надписи, которые можно прочесть в его картинах:
«Я познал,— говорит он,— Гомера и Вергилия благодаря Битобе и аббату Дел-
лилю. Я люблю одних только древних авторов. Хотя моей любимой книгой
является Жиль-Блаз, которого я перечитываю ежегодно». «Similia similibus» *.
Наш художник мог бы быть достаточно тонким политиком в практической
жизни под покровом своей грубоватости. Но темперамент его захлестывает. Сво-
ими вспышками гнева он изводит своих самых снисходительных друзей. Любой
пустяк его выводит из себя и лишает возможности отличать правое от неправого.
Те унылые посредственности, которые существуют под сенью его величия,
обычно предупреждают о возможных последствиях его неистовых по-
рывов: «Ему надо все прощать,— говорят они,— это же гений, у него золотое
сердце, и при этом он балованный ребенок».
Энгр (Жан-Огюст, Доминик) родился в Монтобане в августе 1780 года.
«С самого юного возраста,— рассказывает он,— мне дали красно-сангинный ка-
рандаш в руки. Мой отец, музыкант и художник, хотел сделать из меня художни-
ка и учил меня музыке только для развлечения. Этот превосходный человек пе-
редал мне огромную папку, в которой находились три или четыре сотни эстампов
с произведений Рафаэля, Тициана, Корреджо, Рубенса, Теньера, Ватто и Буше,—
там можно было найти все что угодно, и устроил меня учиться в Тулузе у гос-
подина Рока, ученика Виена. В этом городе я играл, по случаю смерти Людови-
ка XVI в 1793 году, на сцене местного театра концерт Виотти. В живописи я
делал быстрые успехи. Когда я увидел копию «Мадонны на стуле», привезенную
моим учителем из Флоренции, пелена спала с моих глаз. Рафаэль мне открылся,
и я залился слезами. Это впечатление определило всю мою дальнейшую судьбу
и наполнило мою жизнь». Энгр теперь совершенно такой же, каким был малень-
кий Энгр в 12 лет.
* «Кто на кого похож, тот тому и близок» — латинская пословица.
152
Проходит несколько лет. Неофит переселяется в Париж. Давид обходится
с ним довольно сурово, но кое-чему его научает. «Антиох, отвергающий своего
сына Сципиона, захваченного в плен на море» доставляет ему по конкурсу вторую
премию и спасает его от солдатчины. В 1801 году * первая премия, полученная
им за «Ахилла, принимающего в своей палатке посланцев Агамемнона», сделала
его пенсионером французской Академии в Риме. Именно эта картина, бледное
подражание Давиду, ныне висящая в галерее Школы изящных искусств, застави-
ла воскликнуть английского скульптора Флаксмана: «Я ничего не видал прекрас-
нее в Париже!» Слова эти точны, сам Энгр их приводит.
Неурядица, порожденная Директорией, истощила ресурсы Франции. Наша
Национальная школа в Риме лишилась своего бюджета. Будучи пенсионером без
стипендии, принужденный в течение пяти лет оставаться в Париже, он жил в
большой нужде, существуя рисунками и книжными иллюстрациями, тратя все
свободное время на то, чтобы копировать античные произведения в Лувре
и эстампы в императорской библиотеке, а также работая с живой натуры в ма-
стерской Сюиса, которую последовательно посещали все наши известные художни-
ки от Давида до Курбе.
Он писал портреты между делом, а также кос-какие «семейные» группы. Одна
из наиболее интересных среди них представляет нам салон Ф...** Персонажами
этой композиции являются отец и мать семейства, случайный посетитель и де-
вушка— дочь, некрасивая, но увлеченная, как Розина, мыслями о любви, рассеянно
перебирающая левой рукой клавиши на клавесине. «В этом доме,— пишет
художник, — много музицировали. Я обычно проводил в нем все свои вечера.
Я играл на скрипке, барышня мне аккомпанировала. Я почувствовал к ней склон-
ность, которая нашла у нес отклик. Однако, поскольку я уезжал в Италию, роди-
тели решили отложить свадьбу до моего возвращения.
Но в один прекрасный вечер — это был вечер нашей разлуки — она вступила
со мной в спор относительно моих взглядов на искусство и стала мне противоре-
чить. Это послужило мне предупреждением, и я с ней расстался. Законный брак,
как оказалось, поджидал меня в Риме.
Одна французская дама, очень веселая и живая, мне часто говорила о своей
родственнице, владевшей в Гере небольшой белошвейной мастерской, и в конце
концов она ей написала: «Приезжай в Рим. чтобы приобрести себе мужа!» Та
приехала. Я ее впервые увидал около могилы Перона. Эта женщина, образец
самоотвержения, явилась утешением моей жизни. Я имел несчастье потерять се в
1849 году. Через два года я женился вторично».
Живя с 1806 по 1820 год в Римс, господин Энгр как бы утрачивает свое
французское происхождение и делается подданным страны классических изваяний.
Безразлично относясь к судьбам своей родины, он полностью отдается своим кар-
тинам «Одалиска» и «Аретин» в то самое время, когда русские пушки открывают
* На самом деле 4 октября 1800 года.
** Форестье.
153
огонь с высот Монмартра. И мы вновь застаем его во время июньских дней
1848 года мирно заканчивающим свою «Венеру Анадиомену» под набатный звон
гражданской войны, когда кровь многочисленных жертв текла рекой по улицам
Парижа. Счастливая натура!
Нужда терзала его во Флоренции, но он держался стойко (1820—1824 гг.).
«Я всегда видел перед собой свою звезду,— говорит он,— но только к старости
я оказался обеспечен, ибо я не желал следовать примеру художников наших дней,
которые любят только деньги, шампанское и легкую работу». Он возвращается
во Францию с «Обетом Людовика XIII», над которым он трудился три с поло-
виной года, дабы приостановить революцию колористов, отомстить за попранные
традиции Академии и совершить, как он выразился, свой государственный пере-
ворот.
Господин Энгр открыл школу и стал просвещать своими взглядами молодежь.
У него было все, что необходимо педагогу: фанатизм в приверженности к тради-
ции, любовь к авторитету, туповатость, черствость сердца, пристрастие к много-
словию и к пошловатым сравнениям. Но ни он, ни кто-либо другой не умеют в
наше время преподавать живопись или скульптуру. Ученик могучих живописных
школ XVI столетия, участвуя в создании произведений своего учителя, превра-
щался, по крайней мере, в умелого практика. Ученики же наших академиков прак-
тикуются под их руководством только в сочинении убогих рисунков для того,
чтобы впоследствии соревноваться друг с другом с совершенно одинаковым не-
умением. Чему они лучше всего научаются, так это почтительному уважению к
своему профессору и некоторому трепету перед ним, так как благодаря своему
официальному положению он может помочь им достать работу и хлеб, а там, гля-
дишь, и пост академика в Академии изящных искусств, если они будут покорны.
Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рубенс, обладая могучим темпераментом и
замечательным умом, к любви к искусству присоединяли и любовь ко всем наукам.
Что же касается господина Энгра, то он всего-навсего самый обыкновенный учи-
тель, который знает и преподает свой предмет так же, как какой-нибудь учитель
фехтования преподает свой.
Вот краткое изложение его программы: «Давид,— учит он,— это наш великий
учитель, восстановивший французское искусство. Его «Гораций» и его «Похище-
ние сабинянок» — шедевры. Давид меня научил крепко ставить фигуру на ноги
и правильно сажать голову на плечи. Я так же, как и он, внимательно изучал
живопись Геркуланума и Помпеи, и, хотя, по существу, всегда оставался верным
его замечательным принципам, я считаю все-таки, что мне удалось проложить
и свой новый путь в искусстве, поскольку я добавил к питаемой им любви к
античности еще и вкус к изучению живой модели, а также к изучению произве-
дений великих итальянских мастеров, в частности божественного Рафаэля. Если
бы я мог верить в реальность сверхъестественных существ, я бы подумал, что не-
бесный дух в него вселялся. В его творениях совсем не видна работа, кажется, что
они плод одного вдохновения. Что в них самого замечательного, так это та связь,
которая объединяет отдельные фигуры в группы, а затем сплетает группы между со-
154
бой и делает их похожими на кисти винограда, гармонично привязанные к одной
основной ветви. Рафаэль, без сомнения, прямой наследник Зевксиса и Апеллеса.
Он обладал необыкновенно тонким чувством изящного. Хотя надо сказать, что
греки, которым в этом отношении помогали и климат, и нравы их прекрасной
родины, дававшие им возможность видеть обнаженную красоту среди блеска
празднеств и публичных церемоний, вероятно, стояли еще выше Рафаэля».
«Ах, форма, форма—все зависит от нее. Она имеется в любой, самой обыкно-
венной пригласительной записке к обеду, которую, по уверению одного
дипломата, чрезвычайно трудно написать».
«В чем заключается прелесть первых стихов книги «Бытия»? В искусной рас-
становке слов. Форма подчинена самым строгим законам, которые так же невоз-
можно нарушить в живописи, как в литературе. Писатель не может презирать
правила грамматики, если он хочет, чтобы у него был хороший стиль».
«Чтобы создать произведение искусства, надо прежде всего взять за образец
природу и добросовестно ее скопировать, но при этом все же передавать се воз-
вышенный облик. Уродство — случайность, а совсем не основная черта живой
натуры».
«Большинство современных художников именуют себя историческими живо-
писцами. Надо покончить с этой их претензией. Исторический живописец тот,
который изображает героические поступки, а эти возвышенные деяния можно
найти лишь в истории греков и римлян. И только изображая их, художник мо-
жет показать свое мастерство в передаче обнаженного и задрапированного тела.
Всякая иная эпоха дает возможность создавать картины только на характерные
темы, причем одежда неизменно скрывает тела персонажей. Именно благодаря
наличию одежды художники так называемой романтической школы и пишут так
легко сноп картины, не научившись даже и азам в умении построить человече-
скую фигуру».
«Начинающие ученики должны сначала какое-то время срисовывать головы
с рафаэлевских композиций «Лоджий». Потом они могут обратиться к воспро-
изведению круглой скульптуры, делая копии с антиков, лучше всего с бюстов
Юпитера и Минервы. Затем уже они перейдут к рисованию с натуры. После
этого им надо начать копировать избранные картины или их фрагменты в Лувре.
И только затем практиковаться в писании красками с живой натуры. Я нахожу,
что во всех мастерских молодые люди слишком рано приступают к композиции.
Я лично, в виде упражнения, заставляю их соревноваться в том, чтобы по памя-
ти раскрашивать гравюру с «Лоджий» Рафаэля.
Ученики должны делить свое время между изучением натуры и наследия
великих мастеров, уделяя особое внимание Фидию, барельефам Парфенона и
155
античной скульптуре в целом. Затем они должны перейти к художникам рим-
ской и флорентийской школ и к гравюрам Марка-Антония».
«Не стремитесь заканчивать сначала голову фигуры, потом ее торс, потом
руки и т. д. Вы непременно потеряете ощущение гармонии целого. Наоборот, уста-
новите в первую очередь соотношение пропорций, существующих между различ-
ными частями, и ищите правду общего выражения. И бойтесь, когда вы ее будете
передавать, скорее безразличия, чем преувеличения. Не будьте прохладны, но
горячи».
«Никогда не рисуйте, не имея натуры перед глазами. Не следует рисовать
ни руки, ни даже пальца по памяти, из опасения впасть в манерность, в вялость
или даже в пошлость. Для того, чтобы верно передать натуру, надо и уважать
ее и обожать».
«Проследите за разнообразием и противопоставлением линии в нашем рисун-
ке — это единственный способ передать осанку фигуры. Подчеркивайте характер-
ные черты модели, выражайте их сильно, смело и даже, если надо, доводите их
до карикатуры (я говорю здесь о карикатуре для того, чтобы лучше передать
важность столь справедливого положения)».
«Линии очень часто как бы ломаются в человеческом теле для того, чтобы
потом вновь сочетаться и перекрещиваться, подобно ивовым прутьям, переплете-
ние коих создает корзину».
«Художник должен лишь в очень малой степени опираться на мускулатуру,
но зато в очень большой на костяк, который, в частности, сразу даст длину тех
или иных частей тела и соотношение по длине между ними. «Вы дойдете до
того, — говорил Давид своим ученикам, — что даже в носу у ваших фигур будете
искать коленные чашечки. Кто вы в конце концов — художники или хирурги?»
«Ученик, склонный к манерности, будет некоторое время подражать на-
ивным мастерам живописи, например, Гольбейну или Джотто. Ученика хилого
темперамента следует «кормить» в течение двух или трех месяцев Микеланджело.
Но делать это надо все-таки с осторожностью. Надо учиться смелости у великих
умельцев — у Леонардо да Винчи в частности. И всегда вновь возвращаться
к Рафаэлю».
«Если вы любите краски, то пусть это будут краски Тициана, но ни в коем
случае нс Рубенса. Поедем в Венецию, но бежим от Антверпена».
«Набрасывайте ваши картины с бесконечной тщательностью и легкими мазка-
ми. Ваши подготовительные работы должны всегда радовать глаз. Художник
156
должен имст,ь возможность показать свою работу посетителю с выгодой для
себя, в особенности если она еще не очень подвинута».
«Если вы торопитесь закончить вашу картину, то вам нужно, сделав подмале-
вок, начать сразу же писать в полную силу. Если, напротив, у вас есть время
помедлить, начните с легко набросанного прозрачными красками эскиза и затем
постепенно доводите силу тона до нужного звучания. Одновременно выявляйте
все детали формы как можно внимательнее».
«Кладите краску повсюду ровным слоем. Я не встречал в природе резких
мазков или особо ярких пятен».
«Мои доброжелатели находят, что я одинаково силен в живописи, как и в
рисунке. Так же, как всякий иной, я очень хорошо составляю красные, зеленые,
коричневые или оливковые тона и кладу их на полотно в верных соотношениях.
Но что меня больше всего занимает — это все-таки форма».
Ко всему сказанному он добавляет целую серию афоризмов, вроде сле-
дующего: «Пупок — это глаз, смотрящий из торса».
Этот катехизис, полный превосходных правил, которым господин Энгр сам
не всегда следует, нс весь принадлежит ему. Самые лучшие наставления заим-
ствованы им у разных итальянских мастеров. Впрочем, они столь же полезны
для живописи, как грамматика и словарь рифм для красноречия или поэзии.
Форма, вечно только форма, никогда нс мысль! Но, поскольку при отсутствии
мысли все осуждено на гибель, господин Энгр нс мог в своих произведениях не
извратить и саму форму и все ее атрибуты: рельеф, выразительность, освещен-
ность и протяженность. Он, таким образом, оправдал предсказание Мишле, кото-
рое как будто придумано для него нарочно: «Тот, кто захочет удовлетвориться
воспроиведснисм одной формы, не сможет се даже увидеть».
Таким образом, когда он вырисовывает твердыми линиями контуры предме-
тов, которые на самом деле расплываются, как бы тая в атмосфере, он превра-
щает эти предметы в камень. А когда он стремится передать перспективу при
помощи математического расчета линий, а нс волшебством кисти, он разрушает
всякое живописное правдоподобие.
«Картины господина Энгра, — писал Теофиль Торе в своем «Салоне
1046 года»,— как это ни странно, имеют много общего с примитивной живопи-
< ыо восточных народов, которая представляет из себя некий вариант раскрашен-
ной скульптуры. С чего начинается изобразительное искусство у индейцев, ки-
тайце в, египтян, этрусков? С барельефа, который раскрашивается. Затем убирает-
ся рельеф и остается лишь один абрис, обведенный чертой или линией. Раскрасьте
теперь внутреннее пространство этого элементарного рисунка, и вот вам и будет
живошк ь. Только перспективы и воздуха вы в ней не ищите».
Го< ппдин Тино («Салон 1810 года») пишет: «Образовалась школа живописи,
12 Энц» <irt певун tn* 157
которая базируется на скульптуре. Учителя учат своих учеников писать красками,
давая им в качестве натуры гипсовые слепки. Ну, как им после этого не сде-
латься холодными и серыми живописцами?..
Внимание, которое современная школа уделяет форме, ясно говорит о том,
что она недооценивает специальной области живописи и что она слишком на-
стойчиво следует по стопам ваятелей».
Господин Энгр рисует живые существа так, как геометр изображал бы твер-
дые тела. И чего только он ни делает, чтобы придать выпуклость своим заранее
рассчитанным линейным рисункам! Он то расширяет, то сужает их отдельные
детали, как палач, который то растягивает, то сокращает члены своей жертвы на
Прокрустовом ложе. Иногда, обескураженный, он перестает добиваться этой про-
клятой выпуклости и начинает совершенствовать свой контур. Это называется
забросить шпагу и продолжать биться ножнами.
Очень редко бывает, что его живопись не портит его рисунка. Фальшь тонов
борется с правдой линий, и в результате его фигуры то выступают вперед, то
отступают назад, наперекор всякому смыслу, и зритель невольно отвращается
от такого неправдоподобного изображения. Напрасно разные планы заранее отме-
чаются им, напрасно фигуры расставляются строго по законам линейной пер-
спективы: несуразный колорит все нарушает .и указывает на пустоту там. где ее
нс должно быть, на плотную среду, где должна быть пустота, уничтожает рассто-
яние между разными планами, упраздняет воздушную атмосферу, все нагромож-
дает друг на друга и делает изображения людей плоскими, как игральные карты.
Эта-то странность господина Энгра, хотевшего исключительно комбинацией
линий передать лицо природы и своеобразие живой жизни, развивалась в нем
подобно несчастной любви, подобно преследуемой религии. Он обратился к ти-
циановскому колориту лишь в период случайного неуспеха, в момент слабости.
Но вскоре он вновь с еще большей энергией принялся восхвалять пороки своей
системы (в осуждение важнейших качеств, которых он лишен) и отвергать вели-
ких венецианцев, испанцев, голландцев и фламандцев, продолжая воспитывать
в полном презрении к колориту и к красочным эффектам немногих фанатиков,
которые пытаются отодвинуть изобразительное искусство назад, к фрескам
XIV века. Вы только полюбуйтесь на эти их человеческие фигуры, построенные
из кирпича, и на их любимый золотой фон!
Рафаэль, на которого он постоянно ссылается, никогда не проявлял такого
же отвращения к краскам, хотя он и не был колористом. И даже больше — его
коричневатая красочная гамма не лишена приятности. Пуссен, у которого тоже
нс было живописного дара, никогда не отвергал колорита. Лесюер, обычно такой
бледный, в «Смерти святого Бруно» подымается до сильных живописных эффек-
тов. Давид, этот непреклонный паладин линии, соединил в портрете Марата все
мыслимые живописные красоты, а в портрете папы Пия VII, так хорошо пере-
дающего меланхолически-неустойчивую душу оригинала, он вовсе не пользуется
тем неприятным, холодным, серым тоном гипсовой маски, который господин Энгр
применил, когда писал лицо Керубини.
158
Писать в неверном тоне и отрицать красочные эффекты — это значит отвер-
гать живопись как таковую. А уверять, что великие колористы непременно пло-
хие рисовальщики,— это просто нелепость. Снимите слой за слоем краску с карти-
ны Тинторетто, пока вы не дойдете до полотна, и вы найдете самые прекрасные
линии, самый выразительный рисунок.
Господин Энгр говорит о колорите совсем так, как лиса из басни Лафонтена
говорила о винограде.
Впрочем, только ближайшее окружение господина Энгра распространяет
слухи о безупречности его рисунка. Безупречность не состоит в том, чтобы уметь
фокусничать карандашом, что интересно лишь профессионалам. Если расценивать
творчество нашего академика с этой точки зрения, то нет сомнений, что оно
полно ошибок, которых ничем не оправдать. У «Анжелики», прикованной к уте-
су, и у «Паоло», бурно-пламенного любовника, дарящего «Франческу» первым
неловким поцелуем, совершенно одинаково вывернуты шеи, отчего, впрочем, ни-
сколько не теряется их глуповатая безжизненность. С ликторов в «Мучении свя-
того Симфориона» с головы до ног содрали кожу, отчего они, впрочем, не стали
более мускулистыми. Мать святого, учитывая тот план, на котором она стоит,
п три раза больше, чем это надо. Пупок лежащей одалиски просто дырка, просвер-
ленная у нее в боку. А что касается бедра, ноги и ступни служанки, играющей на
некоем музыкальном инструменте, то описать их нельзя—их надо видеть! Ни с чем
не соизмеримый маршал Бервик, стоящий на коленях перед королем, коснется го-
ловой потолка, если он встанет. Правая рука госпожи Девосай напоминает надутую
кишку, а правая кисть руки мадам Леблан явно набита соломой. Пальцы кня-
гини дс-Брольи сломаны, а у мадам дс-Муатесье вовсе нет носа. И, наконец,
у Александра в «Апофеозе Гомера» рука и плечо совершенно искалечены. Если
бы герои господина Энгра могли жаловаться, то те же крики, те же стоны, что
раздаются на поле битвы, донеслись бы к нам с его картин. И я еще забыл о
рогатом Юпитере, который, преисполненный бешеной страсти, накидывается на
спящую Антиоху: бедняжке никогда нс удастся бежать от него с такими, как
у нее, раздробленными коленями. Впрочем, я не педант, чтобы продолжать на-
стаивать на таких мелочах. Но нужно раз навсегда покончить с этими фана-
тиками, которые нс простили бы гению живописи малейшей ошибочки и в то же
время заставляют нас принимать на веру безупречное умение рисовать их
учителя.
В 1834 году появилось «Мучение святого Симфориона», итог всех академиче-
< кпх pi центов; предполагалось, что она заткнет рот всем инакомыслящим. Но об-
пкч гневное мнение решительно и строго осудило эту унылую подделку под фло-
рентинцев. -Из мастерских Жерсена, Гро и Летьера,— вспоминает господин
Энгр, дошн плен дикий ор. В Академии не допускали к конкурсам моих лучших
учеников и говорили нм обо мне: «Остерегайтесь этого человека!» Получив от-
вращение к Франции, желая покинуть родину, чтобы, наконец, обрести покой, я
добился назначения меня директором академической школы в Риме, вместо госпо-
дина Ораса Верне». Что же, изгнание, весьма позлащенное!
12*
159
Будучи слишком несчастен, чтобы писать картины, он занялся садоводством
на вилле Медичи, затем целых три года раскапывал древности и черенки, клеил
колясочки из картона маленьким детям и делал им петушков из бумаги, воспиты-
вал котят и, наконец, без устали громил пошлые вкусы публики и бесчестность
писателей. Иногда он прерывал свои уроки слезливыми жалобами или припадками
ярости, за которыми следовали мрачное изнеможение и нежные вздохи о былом,—
поведение, весьма трагикомическое, переворачивавшее при случае всю Школу
вверх дном и приводившее учеников в совершенное смущение. Менее наивные из
них разносили славу об этих его эксцентрических представлениях по всем париж-
ским мастерским, где по сей день почти нельзя упомянуть имени господина Энгра,
чтобы тут же не возникли пантомимические показы и карикатурные подражания,
вызывающие безудержный смех аудитории. И все-таки ничто нс могло поколебать
его авторитета: «Самые лучшие ученики,— говорит он,— посланные из Парижа в
Рим и весьма настроенные против моего руководства, затем беспрекословно пере-
ходили на мою сторону. Через какую-нибудь неделю я превращал их в фанатиков
.моего учения».
Раздражение автора «Мучения святого Симфориона» поддерживалось и по-
стоянными ссорами с его коллегами академиками. Ему приходилось чуть ли не
каждый день защищать перед ними как свои собственные интересы, так и инте-
ресы своих учеников, перешедших к нему в мастерскую из мастерских его сопер-
ников. Он делал скандал за скандалом, подавал в отставку, нахлобучивал свою
шляпу на нос, возвращался к себе домой, дрожа ог бешенства, а затем, по его
уверениям: «С полдюжины этих типов (то есть академиков) меня принимались
умолять все-таки не покидать их».
Рассчитывая, что ему сделают честь, назначив его пэром, он вернулся во Фран-
цию в 1814 году, сразу после того как он устроил господина Шнетца своим пре-
емником в Риме. Для того, чтобы достойным образом отпраздновать его возвра-
щение в Париж, его друзья устроили ему банкет (на улице Монтескье, в зале
Соревнователей), заверяя его, что Франция его обидела, но что она исправится.
Господин Энгр, умиленный воскуряемым перед ним фимиамом, соглашался
простить Францию. Однако Академия вскоре соскучилась без перебранок. Если
господин Энгр выдвигал какое-либо предложение, его находили превосходным.
Но когда переходили к голосованию, то из урны вынимался всего один белый
шар — самого господина Энгра, который его туда опустил. И бессмертные начи-
нали хихикать исподтишка, а он начинал сердиться, размахивать руками, терял
дар речи и кидался за шляпой и палкой, чтобы бежать домой и там, рыдая, ки-
нуться на шею своей супруге. Она же восклицала: «Успокойся, не обращай вни-
мания на это дрянное коварство, имей дело отныне только с министром или с
королем. Не пиши больше каждый день черновиков своей отставки. Оставайся
академиком, но не ходи в Академию».
В период между 1850 и 1851 годами он еще продолжал состоять ректором
Школы изящных искусств на улице Бонапарта: «Я там учил моих учеников,—
говорит он, — видеть и воспроизводить натуру глазами античных мастеров и
160
Рафаэля. Лекционная зала была всегда переполнена. Я был красноречив. Слуша-
тели очень обо мне сожалели, когда я ушел».
Самоуверенные шуты ни перед чем не останавливаются. И этот тоже не мог
нс возмечтать о диктатуре: «Хотите вы, — заявил он, — спасти во Франции жи-
вопись, скульптуру, архитектуру и музыку? Поручите все руководство изящными
искусствами живописцу. Живописец в общем лучше их понимает, чем всякий другой
художник, чем мог бы их понять светский человек и. в особенности, писатель».
Представим себе, что это случилось, и только вообразим себе господина Энгра,
распекающего архитекторов и луврских скульпторов, поучающего Россини,
Мейербера и Рашель! Представим себе его приверженцев, энгристов, как они
ползают у его ног и как вновь родившийся талант удушается в зародыше после
первого же успеха, как на творчество Делакруа кладется полный запрет, во-
первых, по причине бесполезности и, во-вторых, за оскорбление общественной
нравственности. А что касается Декана, Коро, Руссо, Тройона, Розы Бонер и
Мейссоньс, то их бы, вероятно, заставили писать картины для экспорта или вы-
вески, или еще пейзажики на крышках коробок, которые делаются в Спа или на
женевских стенных часах.
Диктатура — затаенная мечта всякой благородной души, которая жаждет
делать добро, противодействовать злу, а также всему тому, что ей не нравится.
Это так естественно — предпочитать себя другим! Неужели же вы думаете, что
Рафаэль, у которого, право, не было причины быть завистником, был бы очень
расположен к Корреджо или терпел бы около себя Рубенса или Рембрандта?
И разве Рибсйра много думал о великом искусстве, когда он натачивал свой
кинжал, чтобы уничтожить Домнникино и других прославленных художников,
приезжавших в Неаполь?
Господин Энгр достиг, наконец, командных высот благодаря ссорам и прими-
рениям, заявлениям об отставке, сначала поданным, а потом взятым обратно,
слезам, проповедям, посольствам, высоким протекциям и испытанным дружеским
связям.
I lac теперь как бы заставляют им восхищаться по приказу. Что касается
меня, то я нс признаю ни за кем права навязывать мне поклонение какому-либо
фетишу. Я нс могу нс видеть в нем всего лишь убогого подражателя древним,
которых я чту. I io что же это за человек!
Он постоянно порицает и отрицает умы в тысячу раз более высокие, чем
его собственный, и расценивает каждого писателя как завистливого болтуна или
подхалима. Он 20 лет подряд роптал против «Салонов», не выставив в них ни
одной квртнпы. Он изобрел и реализовал на практике систему экспозиции, если
гпк можно выразиться, «принудительной славы». Он выставлялся то у герцога
< )рлгннского, то в галерее у кого-либо из друзей, то в собственной мастерской.
Верующие шли в молчании ему поклоняться, а непосвященные, допущенные в свя-
тилище по рекомендательным письмам, принуждены были оставлять свободу
суждения за дверью. Высказать свое мнение, с его точки зрения, значит осквер-
нить самые естественные законы благопристойности и гостеприимства.
161
Ну, а что касается его учеников!.. Один из них говорил мне с удручающим
простодушием: «Нашего учителя можно сравнивать только с одним человеком —
с Наполеоном. Что-то у него есть в лице, в жесте, что его напоминает. И мы
присутствовали при том, как он, подобно Мольеру, великий и простой, несколько
раз исправлял по совету своей служанки правую руку музы, охраняющей Керу-
бини!»
Господин Энгр, который отлично учитывает обаяние, придаваемое терновым
венцом, неизменно выставлял свою жизнь в качестве образца сплошного мучени-
чества. Это очень хороший прием. Но наш век, которому уже успели надоесть
чувствительные души, начинает проявлять трезвость взгляда и некоторую черст-
вость. Сохраним наше сочувствие для иных несчастий. В юности наш художник,
надо сказать правду, подвергся жестоким испытаниям, и это делает ему честь.
Но все его унылые позы, напоминающие плакучую иву, уже лет 35 всего лишь
чистая реклама. Откуда эти жалобы, этот вид распятого на кресте у него, зава-
ленного богатейшими заказами, оглушенного безумными славословиями? Все из-
вестные ему кресты он носит в петлице. Все сменявшиеся правительства прощали
ему его дерзость, неблагодарность и отречение от прежних убеждений. Его родной
город поставил его выше четырех сыновей Аймона и Лсфранка де-Помпиньяк,
своих любимых героев. Он сам говорит об этом: «Город оказал мне знаки самого
глубокого уважения. Монтабан уже назвал одну из своих улиц моим именем,
а теперь дал это имя одной из зал в городской ратуше, той самой, в которой
когда-то мой отец, когда я еще был ребенком, представил меня епископу *... Я за-
вещал моему родному городу все предметы искусства, коими я владею, чтобы
после моей смерти из них был создай небольшой музей, который будут посещать,
дабы говорить обо мне и моих произведениях».
«Энгр родился в Гаскони, умер в Париже. Ублюдок Давида», — скажет о нем
путешественник. А что ему сказать еще об этих 40 картинах, которые на Все-
мирной выставке составляли три четверти всего творческого наследия художника,
с начала века и по сей день. Сравните эту скудость с творческим изобилием ве-
ликих мастеров! В этих картинах, развернутых в боевом порядке, точно они зна-
мена французского искусства, я не нахожу ни изобретательности, ни непосред-
ственной реальности, которые наделяют образы людей живостью ума, правди-
востью выражения и силой чувства, и показывают нам, как это делает театр,
весь мир как бы в волшебном зеркале, заставляя нас сочувствовать его стремле-
ниям и судьбам. Искусство существует лишь при том, что оно человечно, а госпо-
дин Энгр всю свою жизнь занимался тем, что или без устали повторял одни
и те же формы как бы для того, чтобы упразднить разнообразие природы, или
пытался, весьма искусственно, сочетать узаконенные традицией типы с лицами
живых моделей. Какая же все-таки у него получается каша из этих черт есте-
ственности и условности. И как же он обкрадывает, без всякого зазрения совести,
статуи, барельефы, геммы и античные камеи, фрески, вазы, домашнюю утварь
* Хороший сюжет для картины «Введение во храм Энгра».
162
Геркуланума и Помпеи, картины, эстампы, мозиаки и гробницы Италии! Я вижу
его отсюда, как он мечется в кругу гравюр, истинном кругу Попилия, из кото-
рого ему ист выхода, как он кружится и ищет и выискивает то тут, то там,
то позу, то руку, то фигуру, то группу; как он ставит на место какой-либо пер-
сонаж. около него устанавливает другую фигуру и еще третью и как он затем
заменяет и первую, и вторую, и третью, и четвертую и т. д. Совсем как шах-
матный игрок, передвигает короля, королеву, ладью, туру или коня. Закончив
свою композицию, господин Энгр восклицает: «Это великолепно!» Мне пред-
ставляется некий церемониймейстер, который расставил согласно табели о рангах
присутствующих на августейшем приеме, после чего, полный самодовольства,
говорит: «Как я это все здорово придумал, не правда ли?»
Сомнения, нащупывания и повторения господина Энгра возбудили разговоры
о том, что он посвятил целую сотню сеансов созданию портрета герцога Орлеан-
ского, того самого портрета, который он писал с такой любовью и сразу же после
возникновения Второй империи с такой хитростью и неблагодарностью снял с
выставки.
Этот художник всегда что-то добавляет, убирает, стирает и восстанавливает
в своих произведениях, иногда через 10 лет после того, как он их создал, как, на-
пример, образ музы, стоящей за Керубини, или ряд фигур в «Сикстинской капел-
ле». Подчищать без конца и затем вновь исправлять очень хорошо для натур
пылких, непосредственных. Им на все хватит огня. Но господин Энгр, который
оседла,х Пегаса, бредущего, опустив уши, шагом, теряет при этих переделках и
тот небольшой запас огня, который у него имеется. Иногда кажется, что он мог
бы быть вовсе уже нс таким малопродуктивным.
Ему достаточно было нескольких часов, чтобы вписать руки одной модели
в неоконченный портрет мадам д’Оссанвиль и чтобы восстановить в стенной
росписи в замке Дампьер те куски, которые особенно нравились посетителям
и которые он изъял именно потому, что их хвалили.
«Я наметил,— говорит он,— расположение фигур в «Апофеозе Гомера» в один
день. А «Обет Людовика XIII» я подготовлял три с половиной года и выполнил
в девять месяцев. Я сказал себе: попробуем избежать блеска трескучих сюжетов
и попытаемся создать шедевр па тему, столь же скромную, как дешевая картина
для простого народа. «Мучение святого Симфориона» — та из моих картин, над
которой я больше всего работал и на которую я больше всего надеюсь в смысле
признания у потомков». «Стратоника» стоила автору чстырехлетнего труда. «Зо-
лотой век» и «Железный век» явно нс будут окончены никогда.
Манера, свойственная господину Энгру, совершенно естественно исключает
воображение, воодушевление и оригинальность. Идеала не найдешь ни в реми-
нисценциях, ни в плагиате, ни в упрямстве ослиной добродетели. Пирамидальная
композиция, законченность, приятность колорита и прочие достоинства ничего
не имеют общего с мощью таланта. Присущее «Стратонике» пристрастие к кра-
сивости и внимание, отданное пустякам, идет от итальянских миниатюр, от мод-
ных виньеток и восковых кукол. Законченность никогда особенно не волновала
163
великих мастеров. Веронезе, после того как он выразил главное, оставлял целые
куски только набросанными. Рембрандт, который пошел в этом отношении еще
дальше, однажды на заданный ему вопрос ответил: «Я перестаю писать, когда
перестаю думать».
Господин Энгр не принадлежит к этому сонму великих: «У него,— сказал
о нем Лоран-Жан, который знает его очень хорошо,— упорство и расчет заменяют
чувство. Вдохновение приходит к нему всегда наподобие решения задачи на
тройное правило. Железная воля, подкрепленная чисто монашеским терпением,—
вот те две добродетели, которые создали из него большого художника, совер-
шенно так же, как они могли сделать из него и выдающегося врача или крупного*
банкира. Природа не наградила его никакими специальными способностями.
Но к этой упорной воле можно было привить и часовое искусство, и математику,
и археологию, и юриспруденцию, и музыку».
Воспользоваться частично отдельными элементами шедевров особенно при-
мечательных своей целостностью, своим нерушимым единством, значит выдвинуть
на передний план одни лишь их недостатки. Сочетать классические нормы красоты
с внешними формами девок и водоносов, которых нанимают за пять франков в
час в качестве моделей для героев и святых, это значит порождать чудовищ; те
их части, которые взяты с натуры, кажутся живыми, остальные — мертвыми.
Одна половина картины получается вульгарной, другая тусклой. Если бы худож-
ник, за неимением лучшего, ограничил свои задачи только стремлением передать
натуру, он мог бы придать ей черты своей собственной индивидуальности и тем
произвести некоторое впечатление на публику. Но он одинаково бежал и от есте-
ственности и от идеализации.
Однажды, увлеченный желанием быть абсолютно точным, копируя природу,
он срисовывает и перерисовывает отрезанные крылья белого голубя, чтобы
снабдить ими Победу, венчающую Гомера; всем известно также, что он никогда
не упускал случая передать все пупырышки на коже своих моделей; он вам на-
пишет все волоски один за другим и даже те, что растут на фалангах пальцев;
он готов воспроизвести все нитки, из которых соткано дамское платье; он пока-
жет вам все прожилки на полированной мебели; он намного превзошел .мелочность
Жерара Доу и Мнриса, не сумев воспринять их достоинств; и он, наконец, вполне
может соревноваться с ювелирами и золотых дел мастерами как в отношении
чеканки золота, так и огранки драгоценных камней.
Гольбейн был неподражаем в том же жанре, но он прежде всего передавал
образ героя. У него малейшие аксессуары живы, точно им передалась душа ори-
гинала. Раскрытая книга и карандаш что-то добавляют к созерцательному выра-
жению Эразма. Господин Энгр, в противоположность Гольбейну, портит созда-
ваемый им в портрете характер всеми своими «околичностями». Он отяжеляет
драгоценностями, оборками и рюшками позирующих ему женщин, чьи прически
более интересны, чем их лица, и чьи руки менее красивы, чем украшающие их
браслеты. Он очень удачно передал характер господина Бертена, но этот человек
сидит в своем кресле так, точно он сидит на судне. Его «Первый консул», обле-
164
ченкый в наряд из красной бумаги, всем своим видом напоминает Мальбрука из
известной песенки. Лицо госпожи Девосе ненатурально вытянуто, а ее кашемиро-
вая шаль представляет из себя образец узора для фабрики. Сам же автор на-
ходит, что этот портрет скупо выразителен, подобно творению Леонардо да Винчи,
обаятелен, как произведение Рафаэля, и притом еще оживлен чем-то таким, что
присуще только ему, Энгру. Поза госпожи Д'Оссанвиль заимствована у античной
статуи и примерно совпадает с позой «Стратоники».
Все лица на портретах господина Энгра натянуты и неестественны и при
этом безвкусно нарядны. Апостолы в картине «Святой Петр, получающий ключи»
задрапированы в раскрашенную жесть. Господину Моле чрезвычайно неудобно
в его пальто, а Керубини в его каррике. Античные женщины господина Энгра
чувствуют себя неловко в своих туниках, современные женщины — в своих кор-
сажах, а его обнаженным женщинам неловко оттого, что они голые.
Прославленный мастер чувствует живое отвращение к современному костюму.
Золотое шитье несколько примирило его с нарядом Первого консула и с фраком
господина дс-Пасторе. Любопытно, что в портрете герцога Орлеанского он попы-
тался компенсировать сухость военного мундира двумя витыми колоннами, укра-
шенными виноградными листьями, которые водрузил справа и слева от высочай-
шей особы. Внимание зрителя поглощено этими колоннами, и на особу уже никто
внимания нс обращает. Художник покорялся необходимости видеть женщин оде-
тыми, но он предпочел бы изображать их в виде статуй. «Как мне тяжко писать
эту одетую обезьяну!»,—воскликнул он однажды, когда он делал портрет г-жи Р. *
Господин Энгр археолог, великолепно изображающий если не самого человека,
то место действия, оружие, меблировку. Но, позанимавшись года два и изучив
источники, всякий, кто пожелает, сможет установить, откуда им взяты детали
азиатского великолепия в эпоху «Стратоники», рисунок ограды и ликторских
пучков в «Мучении святого Симфориона», кариатиды в «Доне Педро из Толедо»,
костюмы эпохи Карла V и века Людовика XIV, храм Гомера, дворцовая обста-
новка, домашняя утварь и священные сосуды, фигурирующие на картине «Жанна
д’Арк». Все это можно найти в соответствующих увражах, талант тут ни при чем.
Господин Энгр яркий представитель того псевдогречсского и псевдоримского
педантизма, который хочет во что бы то ни стало отлить в одну форму, именуе-
мую «стилем», все наши чувства и мысли. Необязательно, чтобы художники были
хорошими или плохими, чтобы они обладали мощными или слабыми темперамен-
тами, раз безупречная форма может заменить все и вся. Неужели же, действи-
тельно, будут отброшены шедевры, эти редчайшие цветы человечества, ради
безобразных букетов из искусственных цветов?
Для того чтобы его фигуры не потеряли своего величия, господин Энгр
упраздняет пейзаж: он готов ограничиться какими-нибудь двумя охапками листьев
и кусочком неба с носовой платок величиной, взятым напрокат у Тициана. В эски-
зе «Юпитер и Антиопа» мы встречаемся с малюсеньким квадратиком газона,
* Нам представляется, что дело идет о портрете г-жи Фредерик Рейзэ.
165
подсмотренным у Джорджоне, и с явно искусственной пальмой в «Святом
Петре». А что касается «Анжелики», то здесь мы находим утес в виде сахарной
головы цвета дубленой кожи, у подножия коего бушуют волны, напоминающие
взбитые сливки, а из них вылезает пестро раскрашенный пробковый дракон,
и его-то пронзает копьем спаситель пленницы. Энгр окрашивает ровным и ядо-
витым синим цветом, точно какую-нибудь подворотню, море, взволнованное
рождением Венеры Анадиомены, которое встряхивает, точно овечью шкуру, всех
своих буйных обитателей. Во всем своем творчестве этот прославленный мастер
не показывает нам никаких животных, кроме пяти или шести деревянных коней
и одной фаянсовой собачки. Всего только несколько засушенных цветов украшает
будуар госпожи д'Оссонвиль и молельню «Франчески да Римини». О, боже!
Уйдем скорее из этого мрачного музея, в котором фигуры, приклеенные к панелям,
располагаются по одной линии, точно отрезанные головы преступников, которых
расставили в один ряд по полкам кабинета френологии. Уйдем из этого проти-
воестественного мира, где нет ни воздуха, ни солнца, ни родников, ни тенистой
листвы, ни людей, ни богов, — мира, созданного воображением мятежного уче-
ника Давида. Здесь задыхаешься, здесь можно зачахнуть, здесь хочется пла-
кать. Скорее! Возвратимся к живым!
Я слишком распространился. Достаточно было десяти строчек, чтобы рас-
сказать об этом знаменитом художнике, который принес в жертву какой-то на-
думанной каллиграфии свои душевные порывы, свою человеческую сущность. Но,
поскольку он не стесняется, сидя в своей мещанской мастерской, полной гипсо-
вых богов, бросать вызов Франции Пуссена, Лесюера и Клода Лоррена и выстав-
лять самого себя в качестве мощного гения, которому следует поклоняться, я обя-
зан был высказать ему всю правду. Я предоставляю другим людям, более уме-
лым, чем я, превозносить его имя до небес. Общества взаимной рекламы не имеют
власти над будущим. Фанатики, готовящие апофеоз господину Энгру, добьются
того, что в свое время все пропустят его похороны. Ведь ясно, что Франция,
одураченная гиперболами и дифирамбами его поклонников, не преминет восстать
против фальшивого гения, который хочет нахрапом пролезть в бессмертие. У нас
не может быть ничего общего с господином Энгром. Это китайский художник,
заблудившийся в середине XIX века на развалинах Афин*.
*Первая редакция статьи Теофиля Сильвестра об Энгре появилась в его
книге «Les artistes vivants» 1855 года. Вторая редакция — в книге «Les artistes
francais». Paris, 1878. Статья дается по второму изданию с некоторыми сокраще-
ниями.
Теофиль Готье
ГОСПОДИН ЭНГР
Первое имя, которое приходит на память, когда сталкиваешься с француз-
ской школой живописи,— это имя Энгра. Все обзоры Салонов, каковы бы ни
были взгляды критики, неизменно начинаются с него. И на самом деле, невоз-
можно не вознести Энгра на самую вершину искусства, не усадить его на тот
золотой трон со ступенями из слоновой кости, на котором восседают носители
величайшей славы, близкие к бессмертию.
Эпитет «властелина», данный Данте Гомеру, подходит и Энгру. И молодые
поколения, среди которых протекает его прекрасная старость, готовы присвоить
ему этот титул. Сначала отвергаемый, долгое время томившийся в безвестности,
но настойчиво, с великолепным упорством продолжавший свой путь, господин
Энгр ныне достиг той ступени, на которой его утвердит потомство наряду с ве-
ликими мастерами XVI столетия, чей дух через 300 лет как будто переселился
в него. С такой благородной жизни следует брать пример, с жизни, полностью
отданной искусству без колебаний, без единого сомнения, без слабости. Добро-
вольно замкнувшись в глубине святилища и замуровав за собой двери, создатель
«Апофеоза Гомера», «Святого Симфориона» и «Обета Людовика XIII» жил в
экстатическом преклонении перед красотой, молясь на коленях своим богам: Фи-
дию и Рафаэлю. Чистый сердцем, строгий к себе и полный усердия, он неустанно
претворял свои замыслы в произведения, выражавшие его веру. Теперь лишь он
один передает в своем творчестве требования идеала, великие традиции истории
и стиля. Именно поэтому его не раз упрекали в том, что его не занимают вопро-
с ы современности, что он не видит, что творится кругом, что он, наконец, чужд
(поему времени. Никогда обвинение не было столь обоснованно. Да, он не при-
надлежит своему времени, он принадлежит вечности. Его сфера — это та сфера,
в которой движутся образы идеальной красоты, это тот голубой и прозрачный
эфир, который вдыхают сибиллы Сикстинской капеллы, музы Ватикана и побед-
ные гении Парфенона.
Мы очень далеки or того, чтобы осуждать художников, увлеченных современ-
ными идеями, захваченных страстями, волнующими их эпоху. В той обыденной
жизни, в коей каждый более или менее участвует, есть своя область трогательного
и потрясающего, которую искусство законно выражает и на основе которой оно
167
может создавать замечательные призведения. Но мы предпочитаем чистую w
безусловную красоту, которая одинакова для всех времен, для всех народов, для
всех верований и объединяет во всеобщем восхищении прошлое, настоящее и бу-
дущее.
Это искусство, которое ничем не заимствуется от случайности, равнодушное
как к преходящим требованиям моды, так и к любым мимолетным интересам,
почему оно кажется холодным — мы это знаем — неустойчивым умам. Толпу оно
не может затронуть, ибо она не способна понимать синтезы и обобщения. И все-
таки это великое искусство, искусство бессмертное и самое благородное проявле-
ние душевных движений человека. Так воспринимали его греки, наши божествен-
ные учителя, чьи следы, дошедшие до нас, мы должны чтить с благоговейным
уважением.
Величайшая заслуга господина Энгра заключается в том, что он взял в свои»
руки факел, перешедший от античности к Возрождению, и нс позволил его пога-
сить, хотя множество уст дуло на огонь, правда, надо сказать, с самыми лучшими-
намерениями *.
* Из книги: Th. Gautier, des Beaux Arts cn Europe. 1855.
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
1. Автопортрет. 1835. Свину. кар. Париж. Лувр.
2. Портрет мадемуазель Ривьер. 1805. X., м. Фрагмент. Париж. Лувр.
3. Портрет г-жи Ривьер. 1805. X., м. Париж. Лувр.
4. Семья Форестье. 1806. Свину. кар. Париж. Лувр.
5. Рисунок к картине «Одалиска». 1814. Свину, кар. Париж. Лувр.
6. Портрет г-жи Шовин. 1814. Свину, кар. Байона. Музей Бонна.
7. Портрет г-жи де Зенонн. 1814. X., м. Нантский музей.
8. Портрет г-жи де Зенонн. Деталь.
9. Портрет Каролины Бонапарт. 1815. Свину, кар. Байонна. Музей Бонна.
10. Семья Стаматти. 1818. Свину, кар. Париж. Лувр.
11. Портрет г-жи Детуш. 1816. Свину, кар. Париж. Лувр.
12. Портрет Летиции Бонапарт (?). 1819. Свину, кар. Ленинград. Эрмитаж.
13. Роже, освобождающий Анжелику. 1819. X., м. Париж. Лувр.
14. Портрет баронессы Поппенхейм. 1819. Свину, кар. Байонна. Музей Бонна.
15. Портрет графа Н. Д. Гурьева. 1821. X., лс. Ленинград. Эрмитаж.
16. Портрет Никколо Паганини. 1819. Свину, кар. Париж. Лувр.
17. Портрет г-жи Леблан. 1822. Свину, кар. Париж. Лувр.
18. Портрет г-на Леблан. 1823. Свину, кар. Париж. Лувр.
19. Вид Рима от виллы Медичи. Перо. Монтабан. Музей Энгра.
20. Семья Лаццерини. 1822. Свину, кар. Париж. Лувр.
21. Портрет мадемуазель Торель (так называемый «Ребенок с ягненком»).
Свину, кар. Париж. Лувр.
22. Рисунок коленопреклоненной фигуры к картине «Обет Людовика XIII». 1824.
Свину, кар. Монтабан. Музей Энгра.
23. Обет Людовика XIII. Фрагмент — фигура ангела. 1824. X., м. Собор в Мон-
тобане.
24. Рисунок фигур ангелов картины «Обет Людовика XIII». Свину, кар. Мон-
табан. Музей Энгра.
25. Рисунок к фигуре «Одиссеи» из композиции «Триумф Гомера». 1827. Свину,
кар. Монтабан. Музей Энгра.
26. Портрет Мадлены Шанель. Свину, кар., гуашь. Монтабан. Музей Энгра.
169
27. Портрет мадемуазель Лоримье. 1828. Свину. кар. Москва. Государственный
музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
28. Портрет г-жи Гатто. 1829. Свину. кар. Париж. Лувр.
29. Портрет г-на Бертена. 1832. X., м. Фрагмент Париж. Лувр.
30. Портрет г-на Фурро. Свину, кар., гуашь. Байонна. Музей Бонна.
31. Рисунок к картине «Венера Анадиомена». 1848. Свину, кар. Байонна. Му-
зей Бонна.
32. Венера Анадиомена. 1848. Фрагмент. Монтабан. Музей Энгра.
33. Рисунок к картине «Источник». Черн. кар. Монтабан. Музей Энгра.
34. Портрет Дельфины Энгр. 1852. Свину, кар. и акварель. Байонна. Музей
Бонна.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Вступительная статья. А. Н. Изергина........................... 5
Энгр об искусстве. Перевод Е. В. Жуковской
Энгр о себе.................................................33
О прекрасном в искусстве...................................47
О критике и вкусе.........................................52
О рисунке..................................................56
О цвете.....................................................53
Об изучении античности и старых мастеров....................67
О практике..................................................75
О некоторых произведениях искусства и о некоторых художниках 79
О музыке....................................................88
О салоне....................................................91
Из писем. Перевод А. Н. Изергиной.......................... 94
Основные даты биографии Энгра ................................ ИЗ
Комментарии.................................................. 115
Приложение
Из мемуаров об Энгре. Перевод А. Н. Изергиной............. 129
Современники об Энгре. Перевод В. Д. Метальникова
Амори Дюваль.............................................. 134
Шарль Бодлер. Энгр на выставках........................... 140
Теофиль Сильвестр. Энгр, списанный с натуры............... 150
Теофиль Готье. Господин Энгр........................... . 167
Список иллюстраций........................................... 169
Составитель А. Н. Изергина
ЭНГР ОБ ИСКУССТВЕ
Редактор М. Г. Цырлина
Художник-оформитель Е. Н. Голяховский
Художественный редактор В. В. Тирдатов
Технический редактор О. Л/. Канкрова
Корректор Г. Г. Муха
Сдано в набор 1/IX-1961 г.
А01952. Подписано к печ. 23/11—1962 г.
Формат бум. 70X 90*/ie. Бум. л. 6,44. Фнз. печ. л. 12,875.
Усл. печ. лист. 15,06. Учет. изд. л. 12,74. Изд. № 170.
Тираж 20 000. Заказ 732. Цена 1 р. 30 к.
Издательство Академии художеств СССР
Москва, А-167, Ленинградский пр.. 62.
Московская типография № 8
Управления полиграфической промышленности
Мосгорсовнархоза
Москва. 1-й Рижский пер., 2.