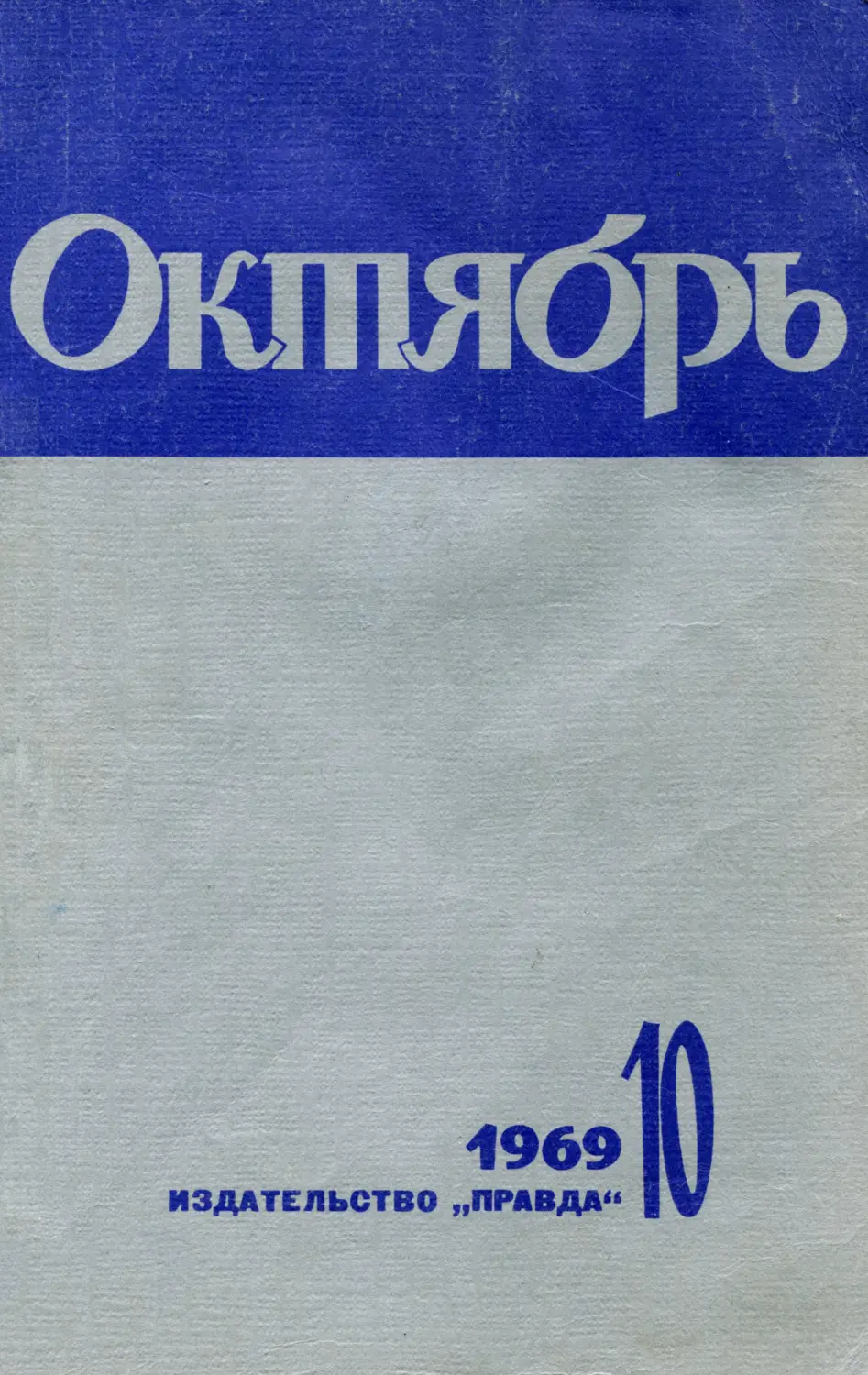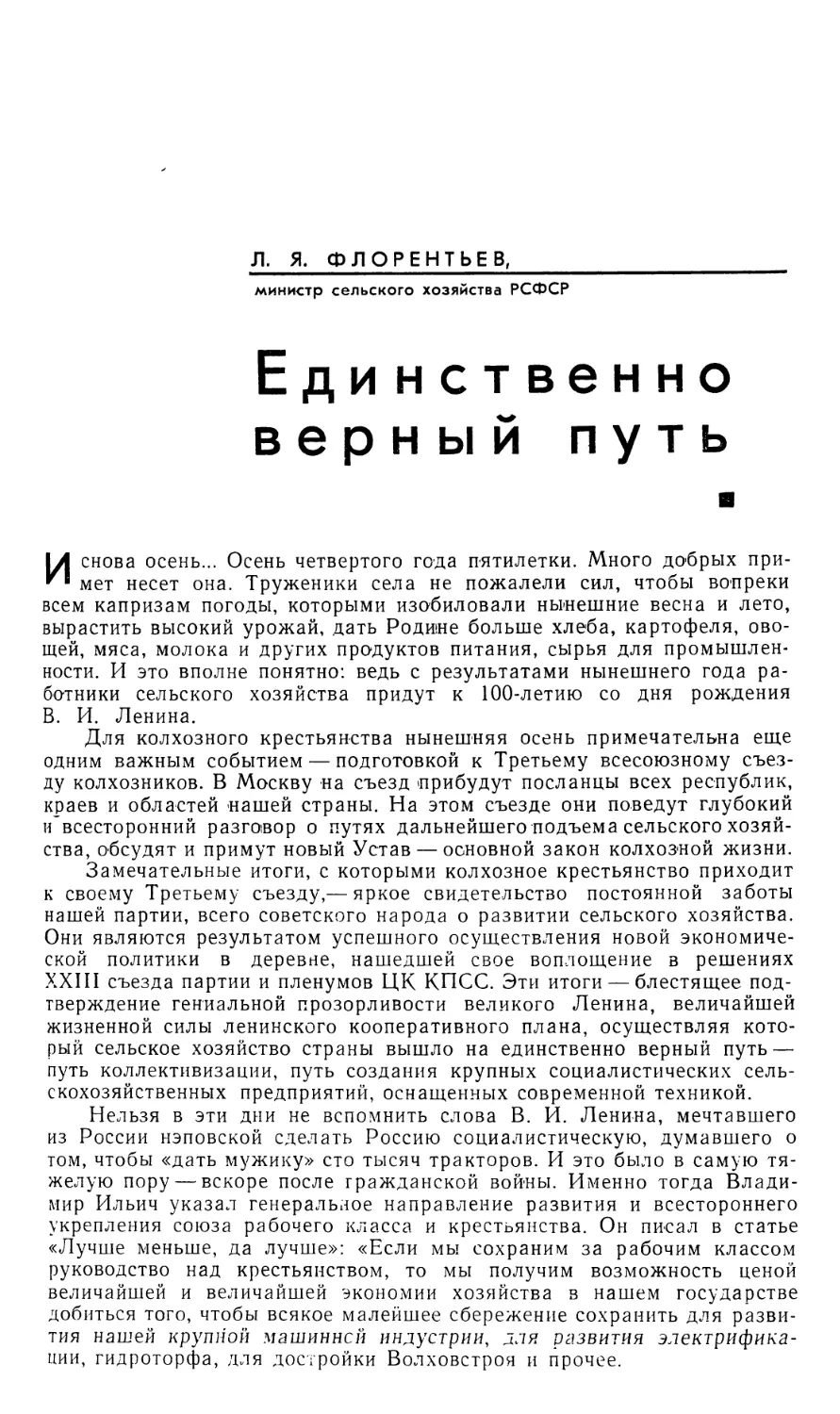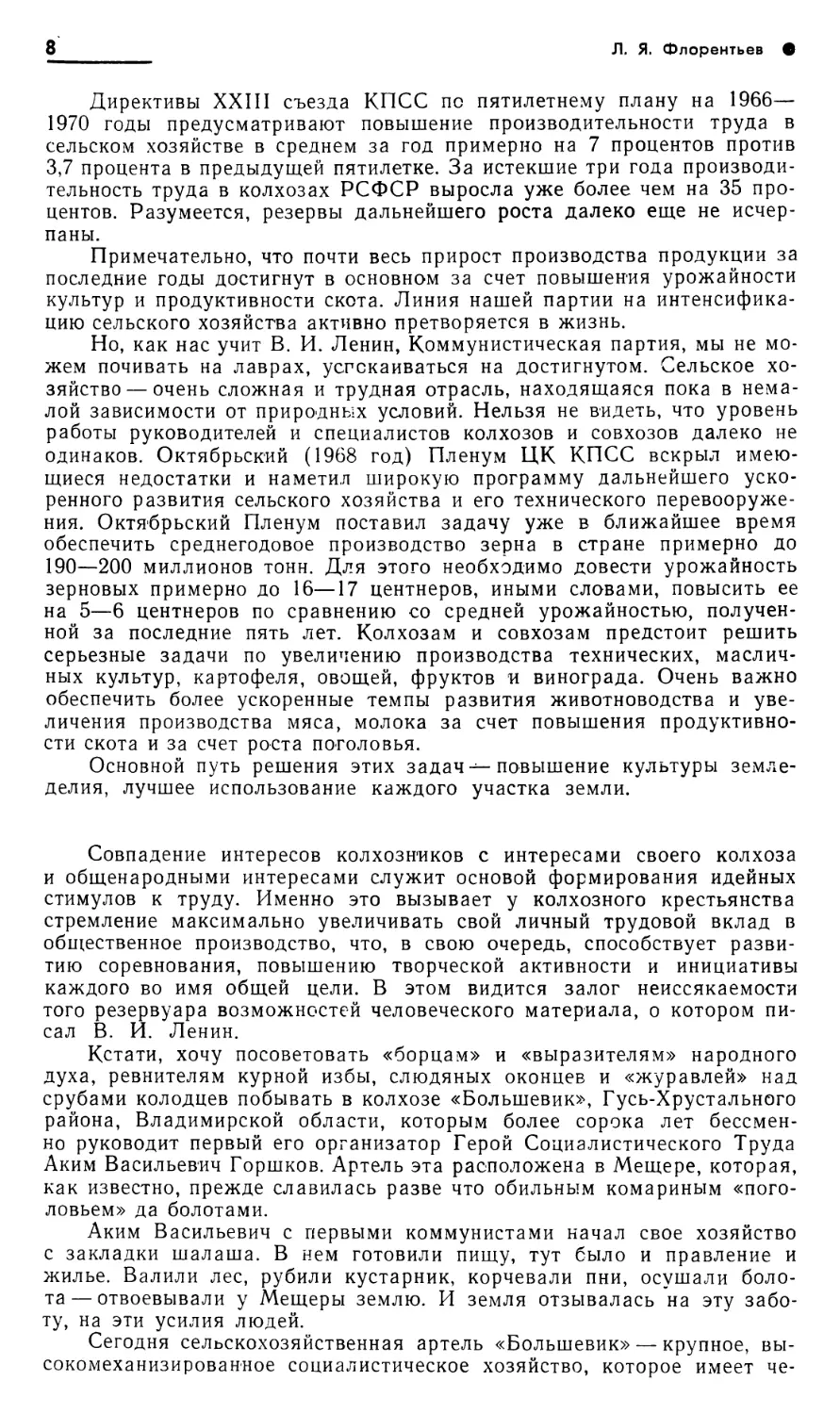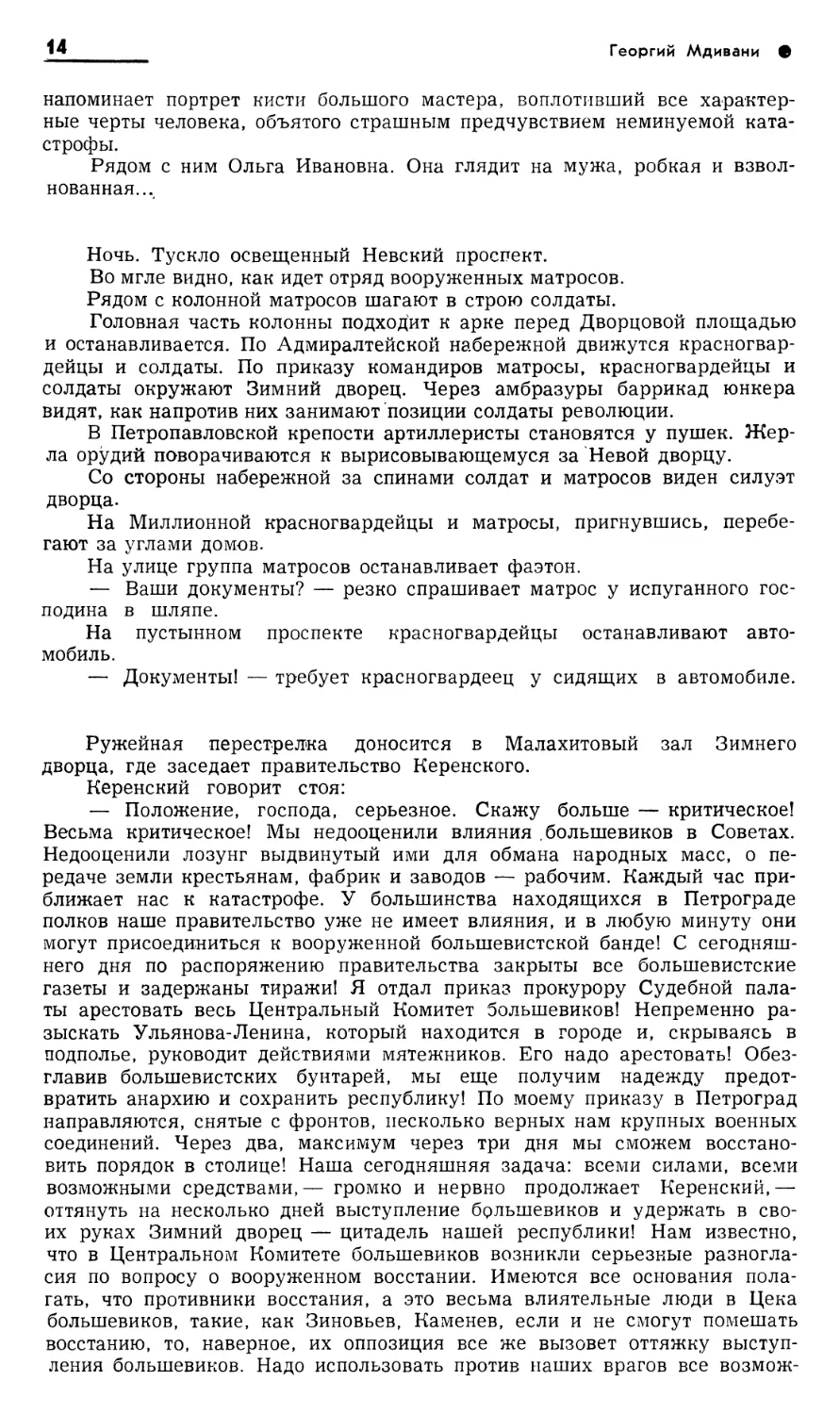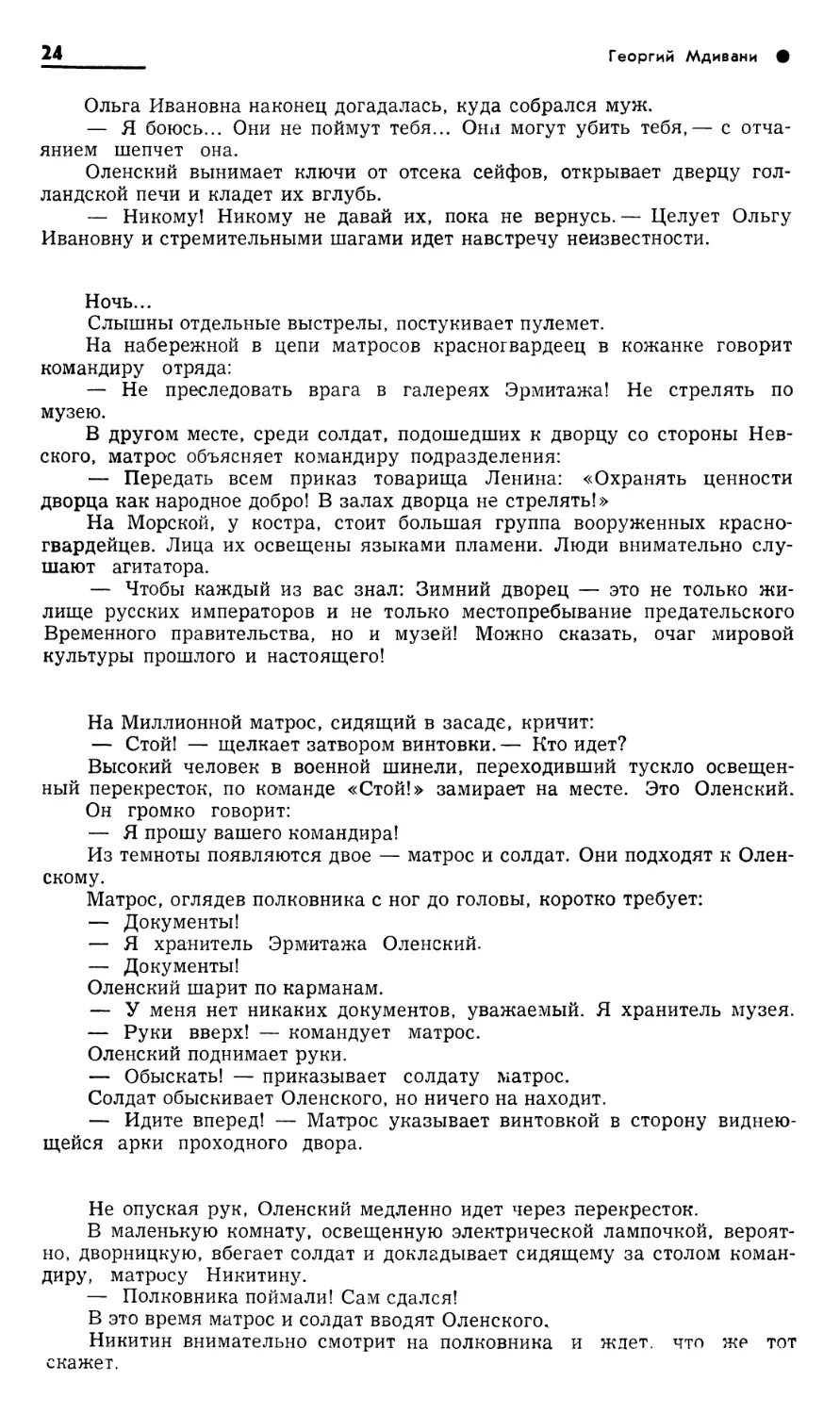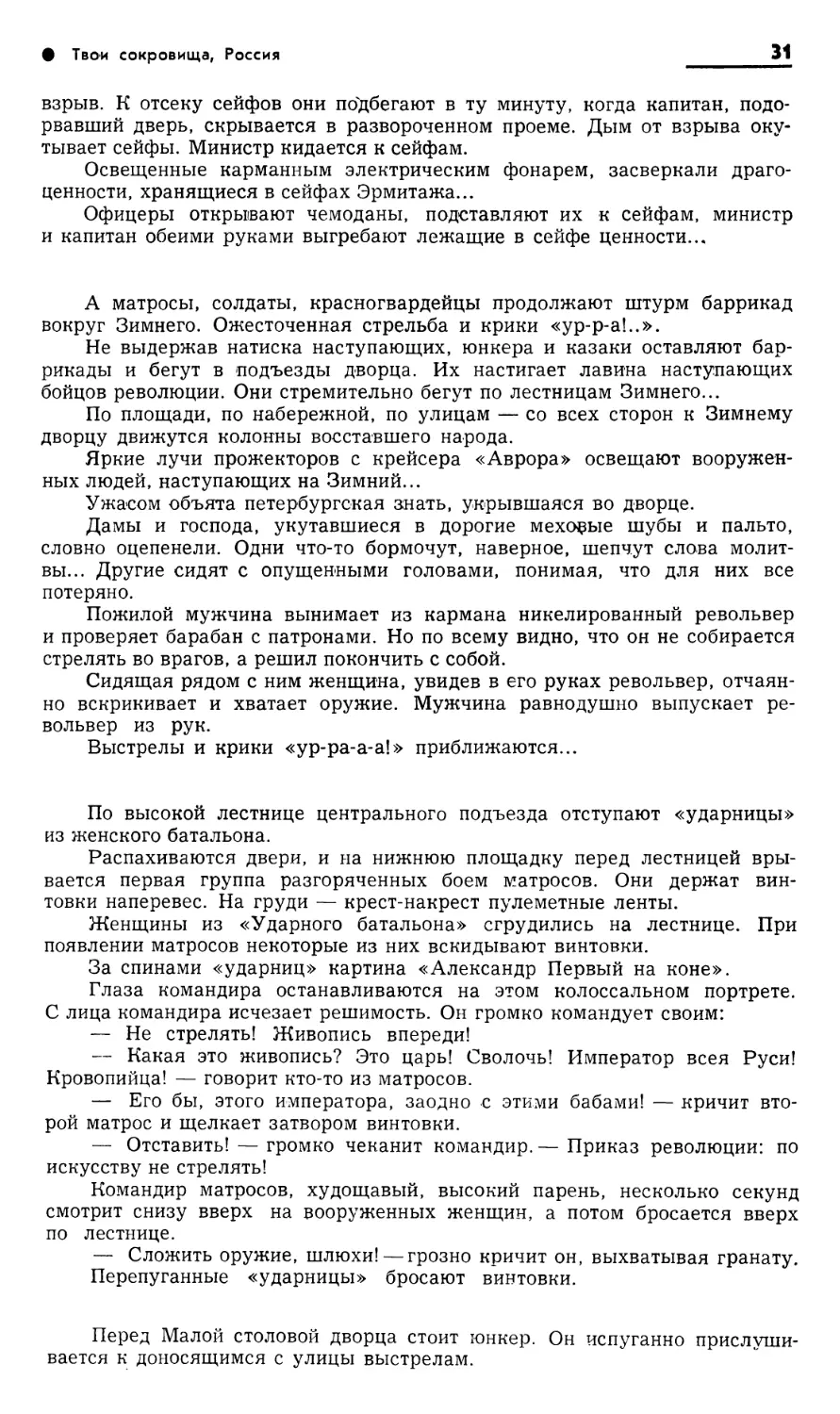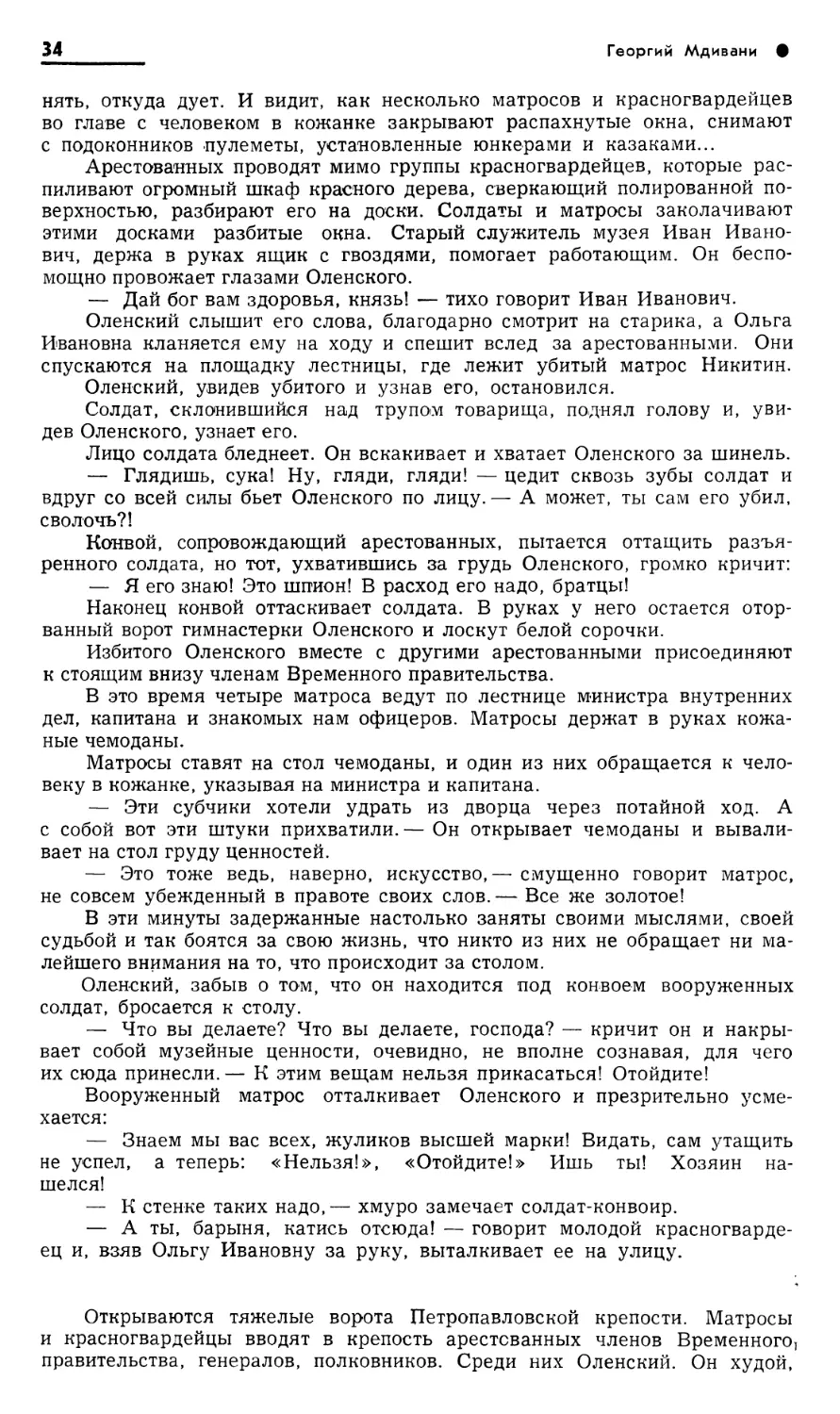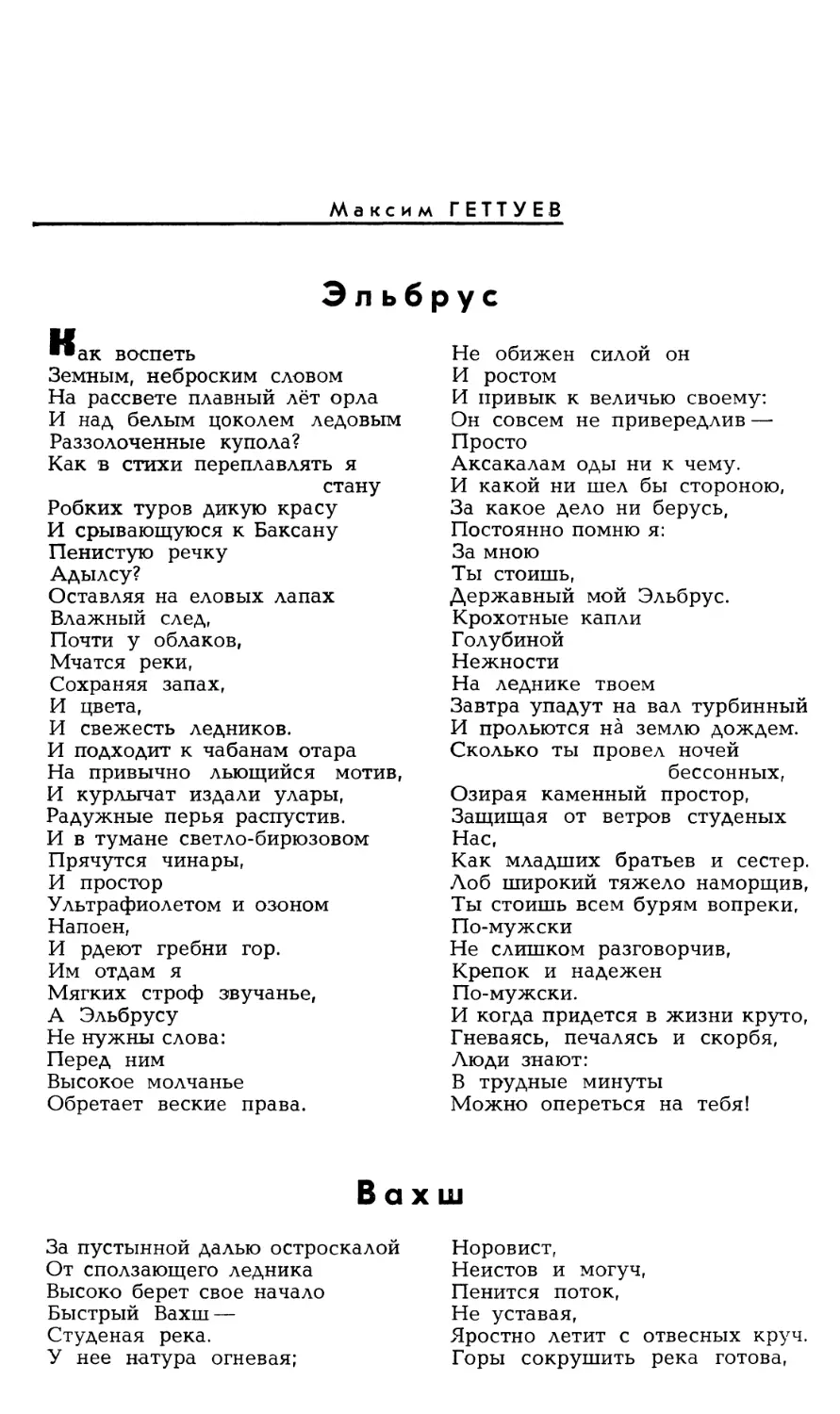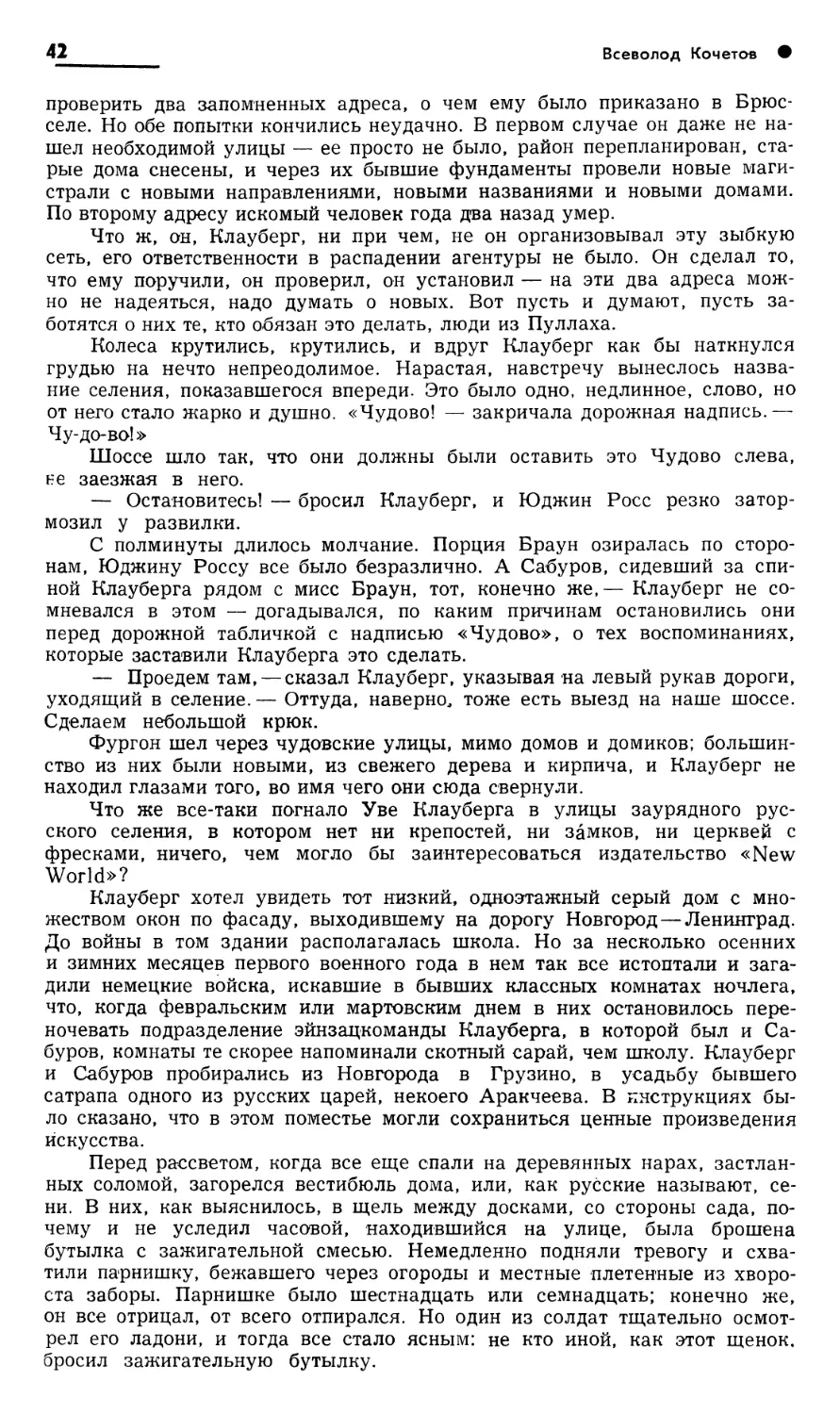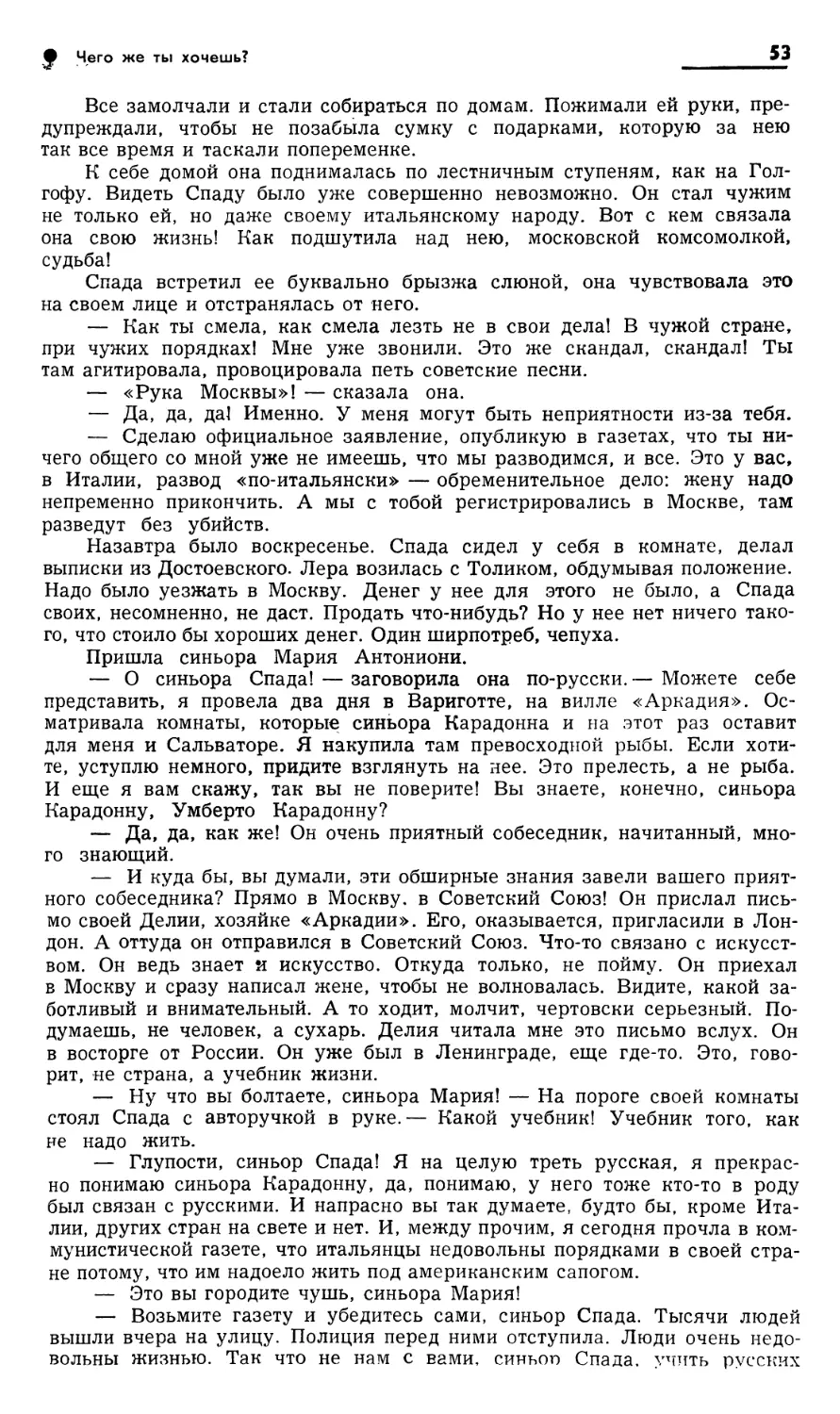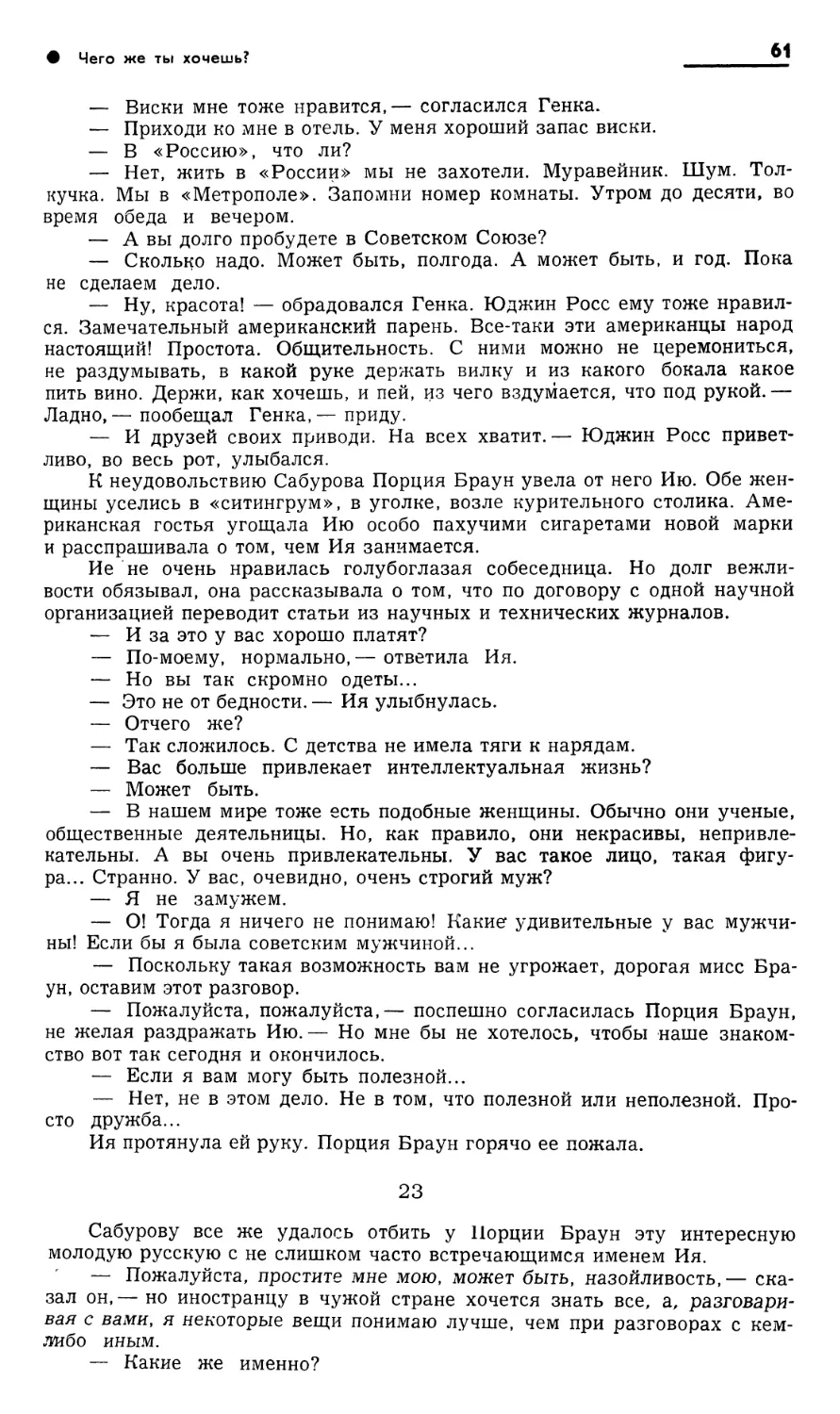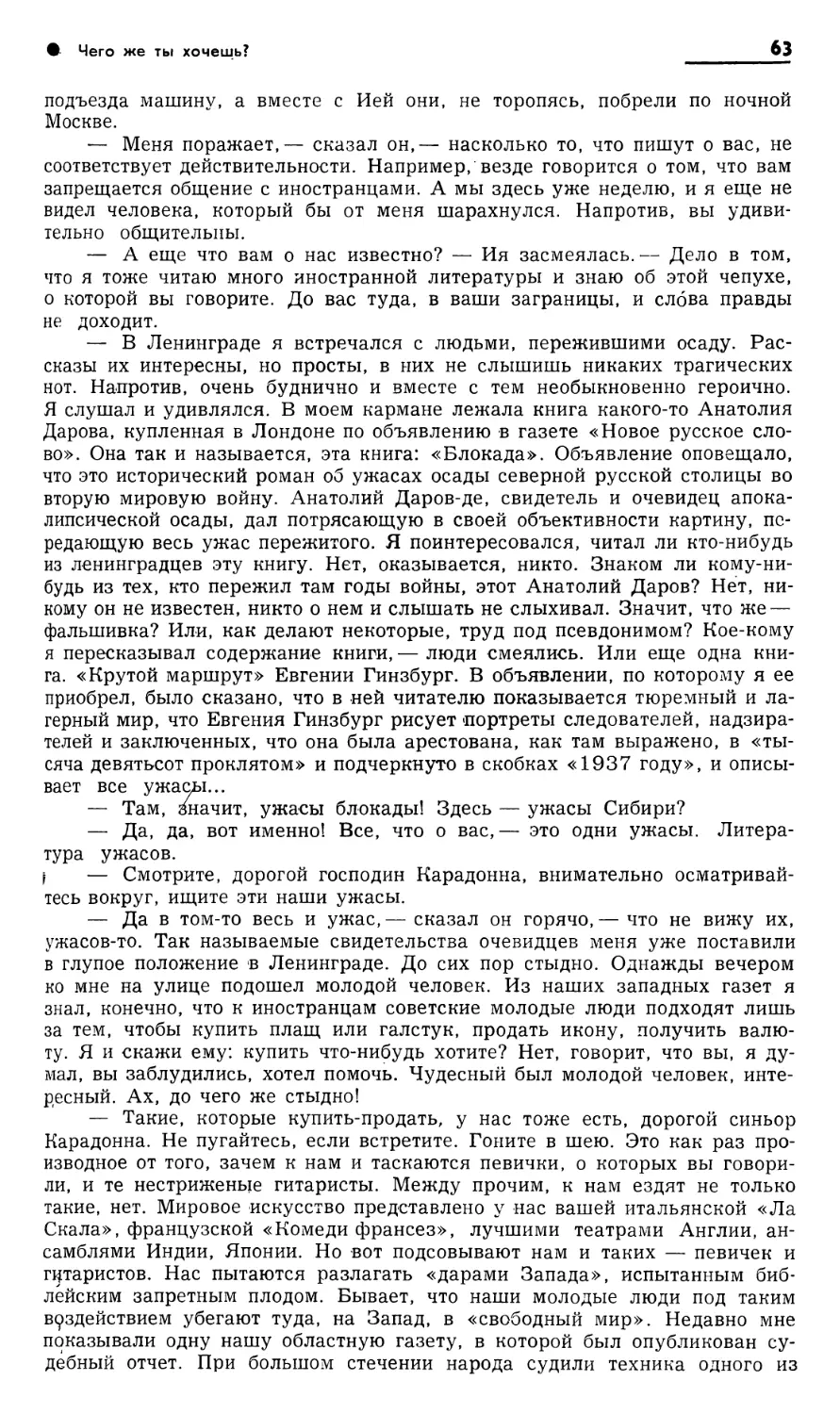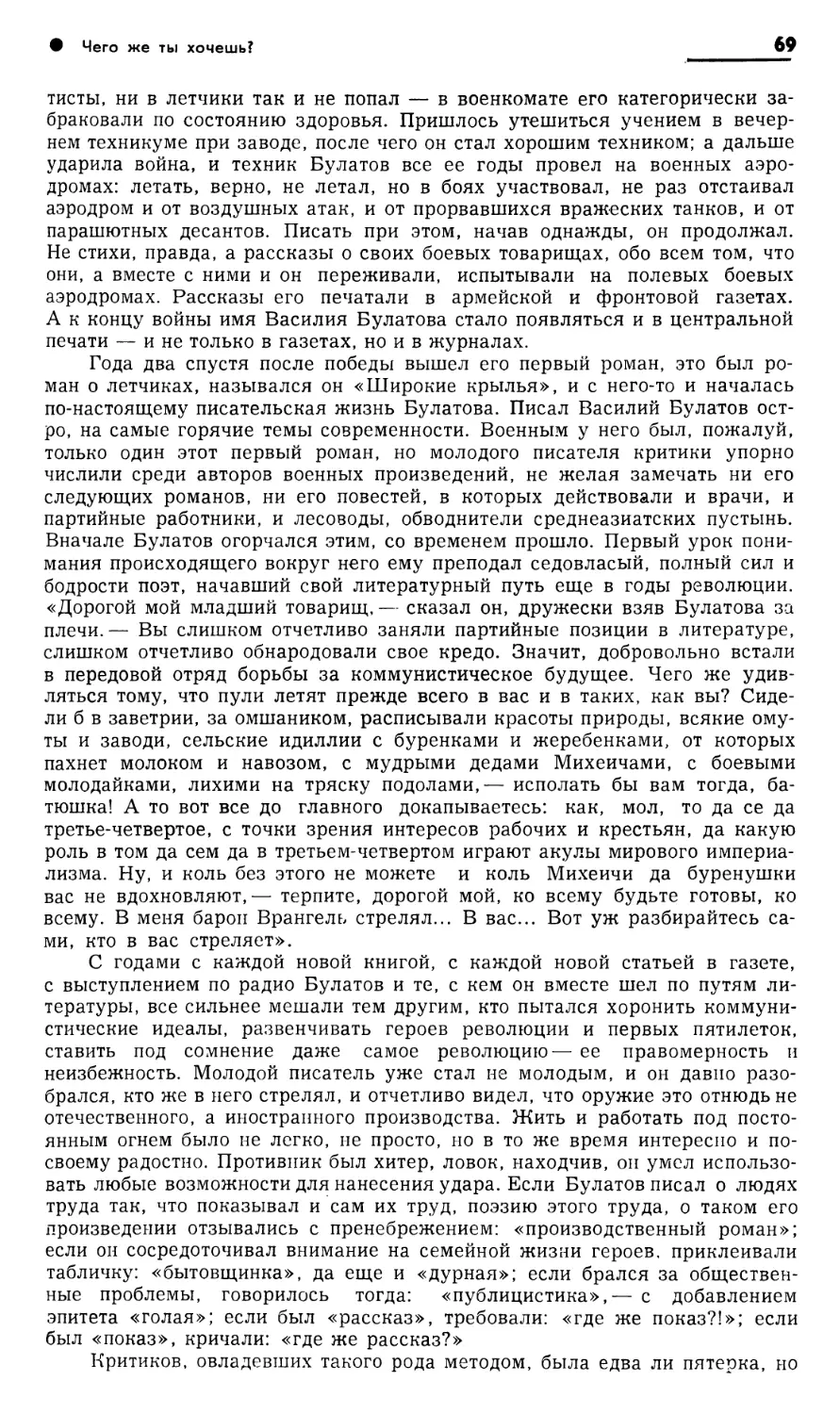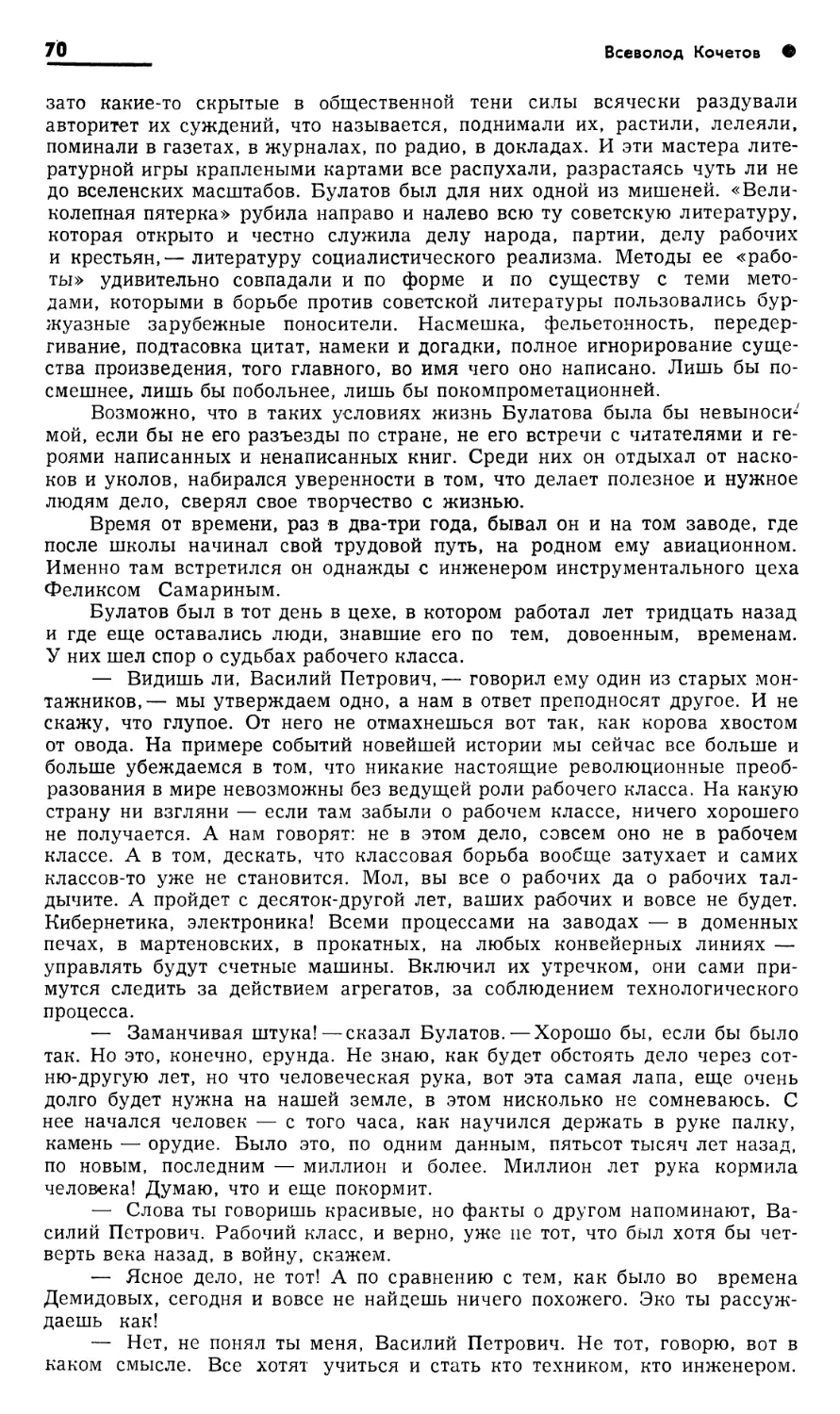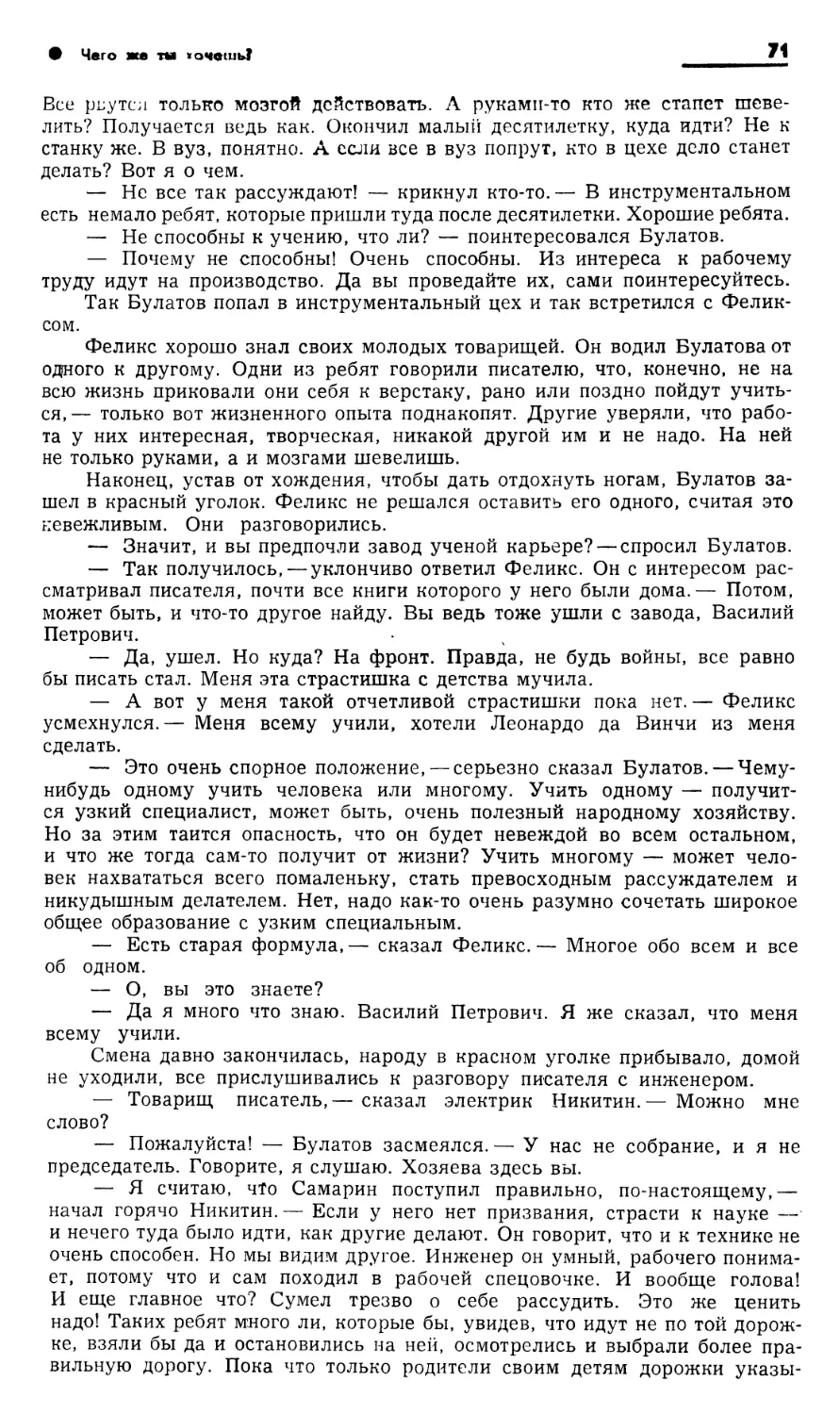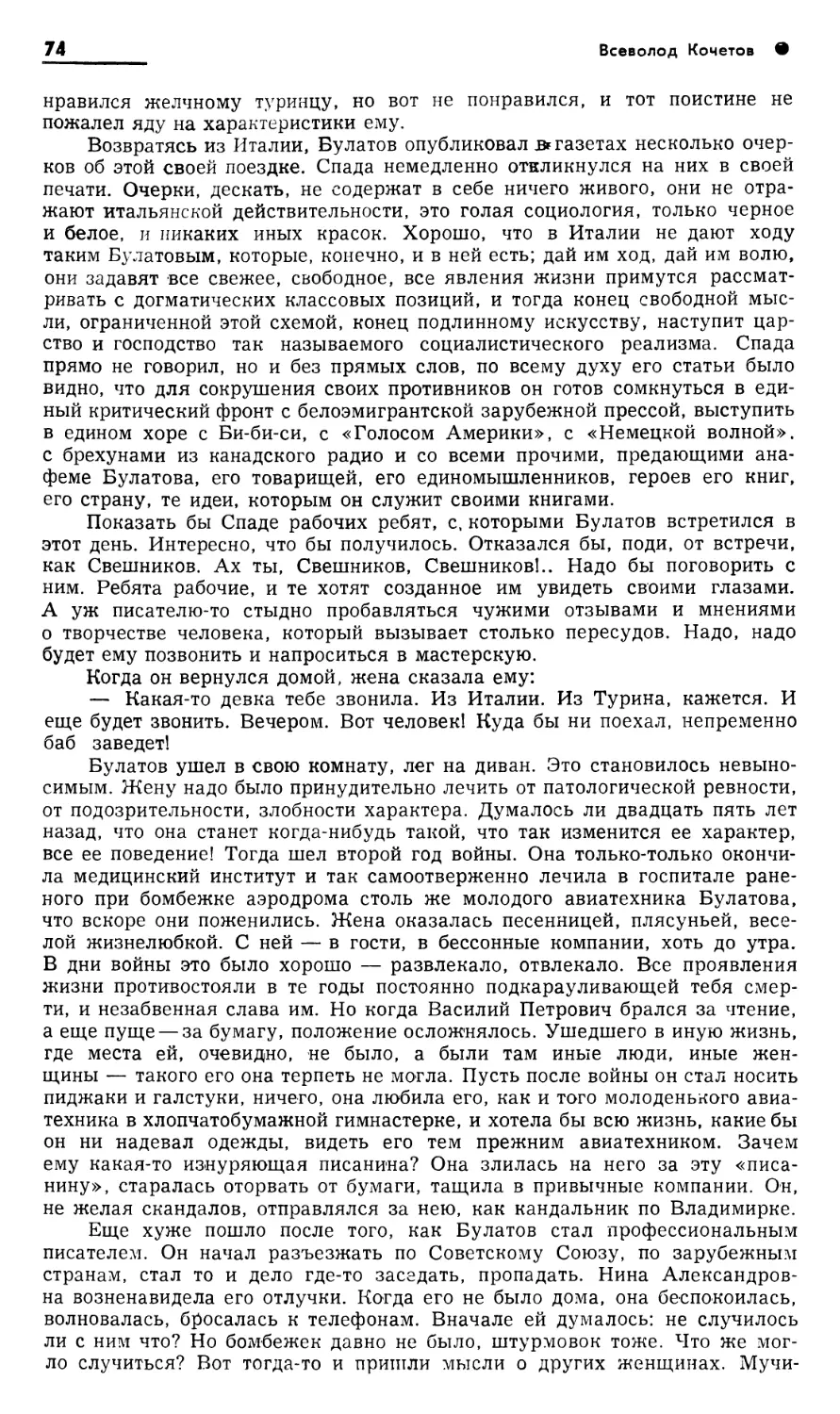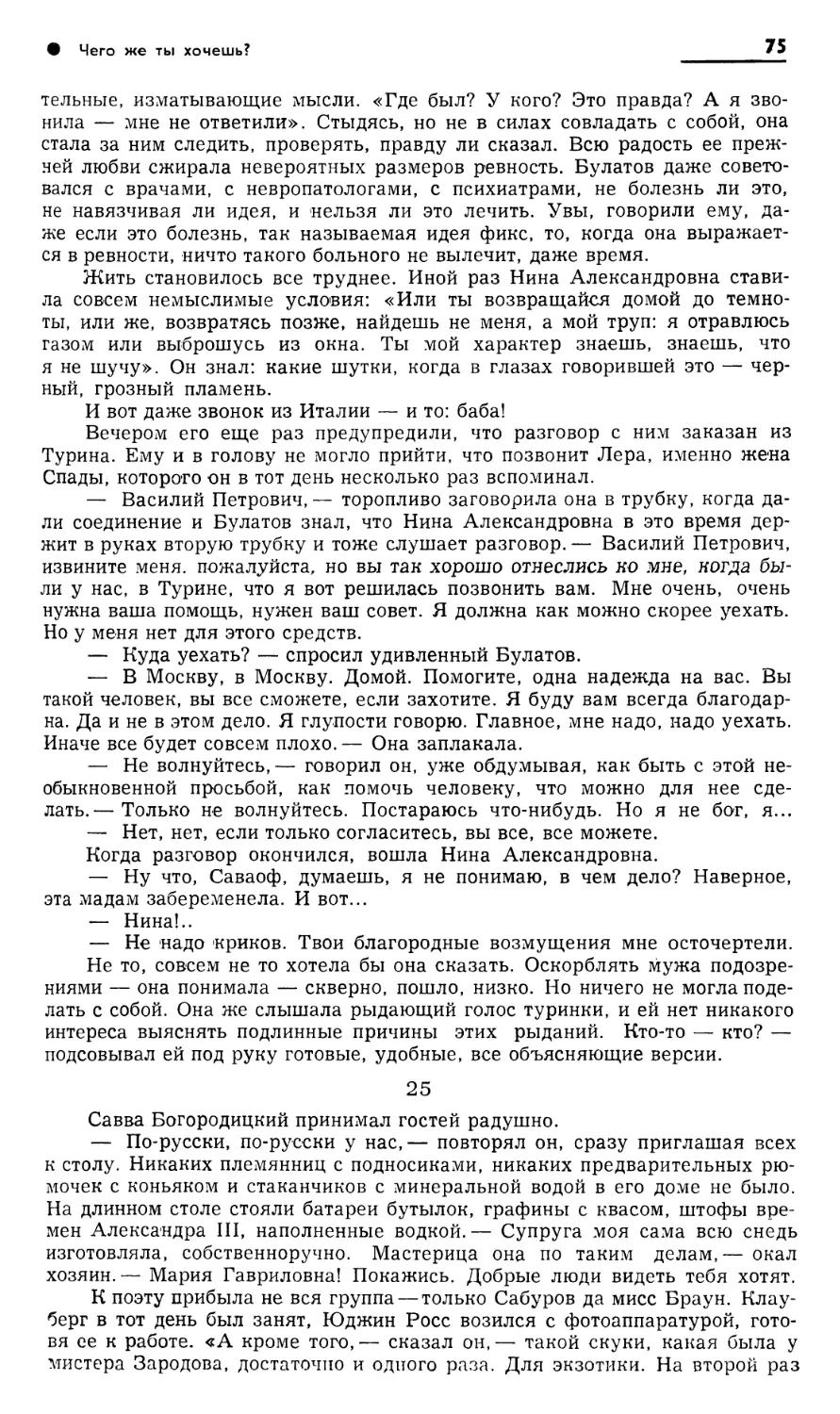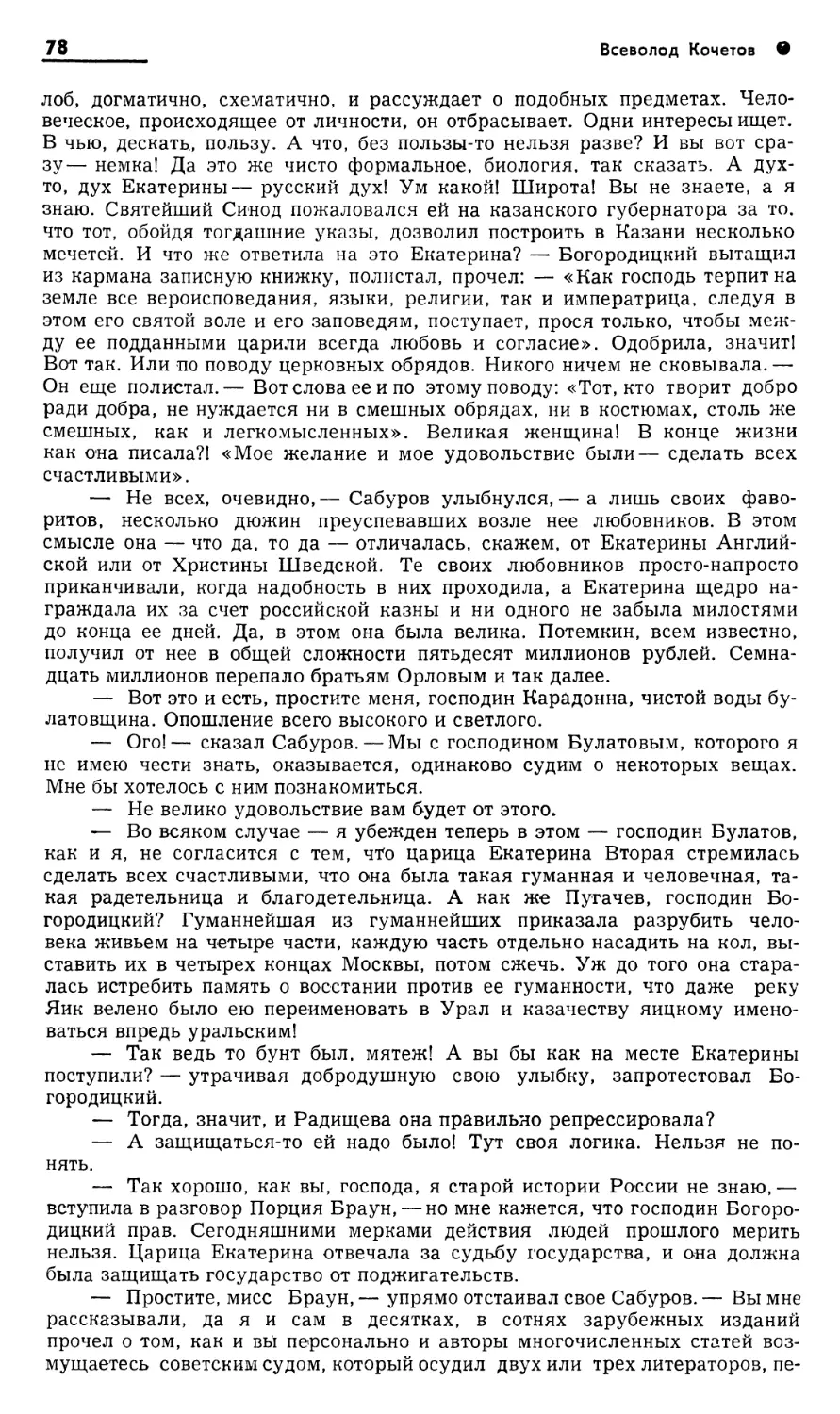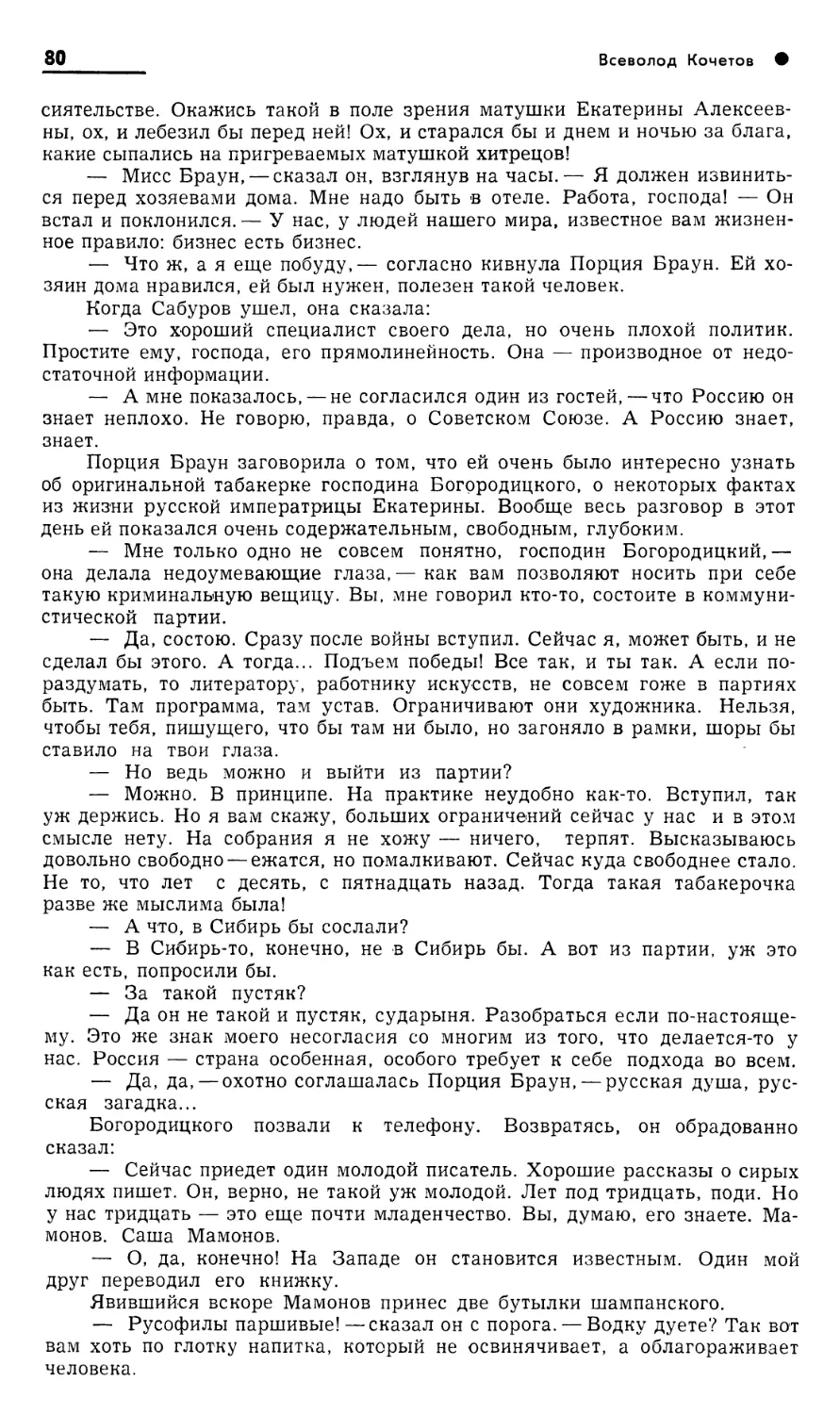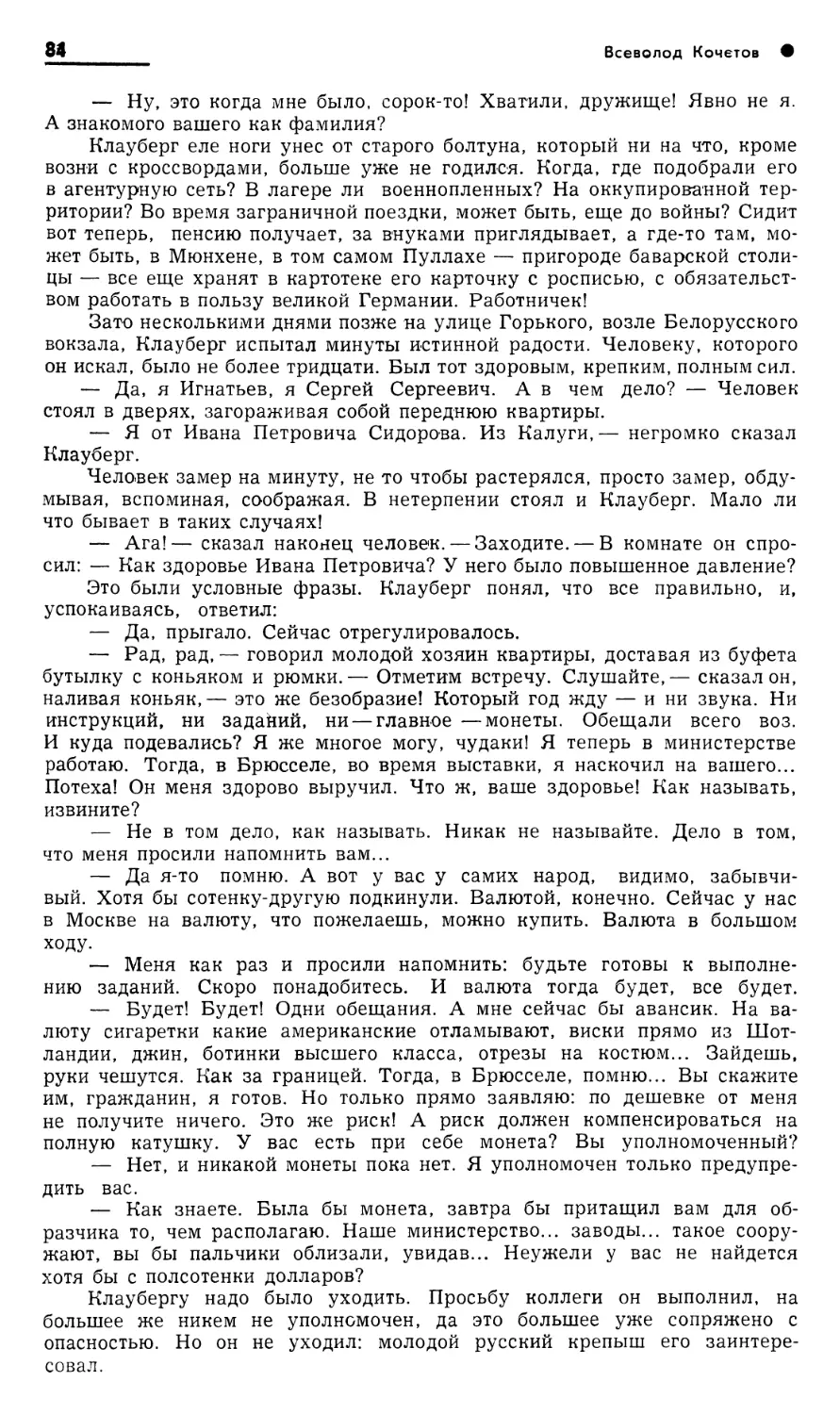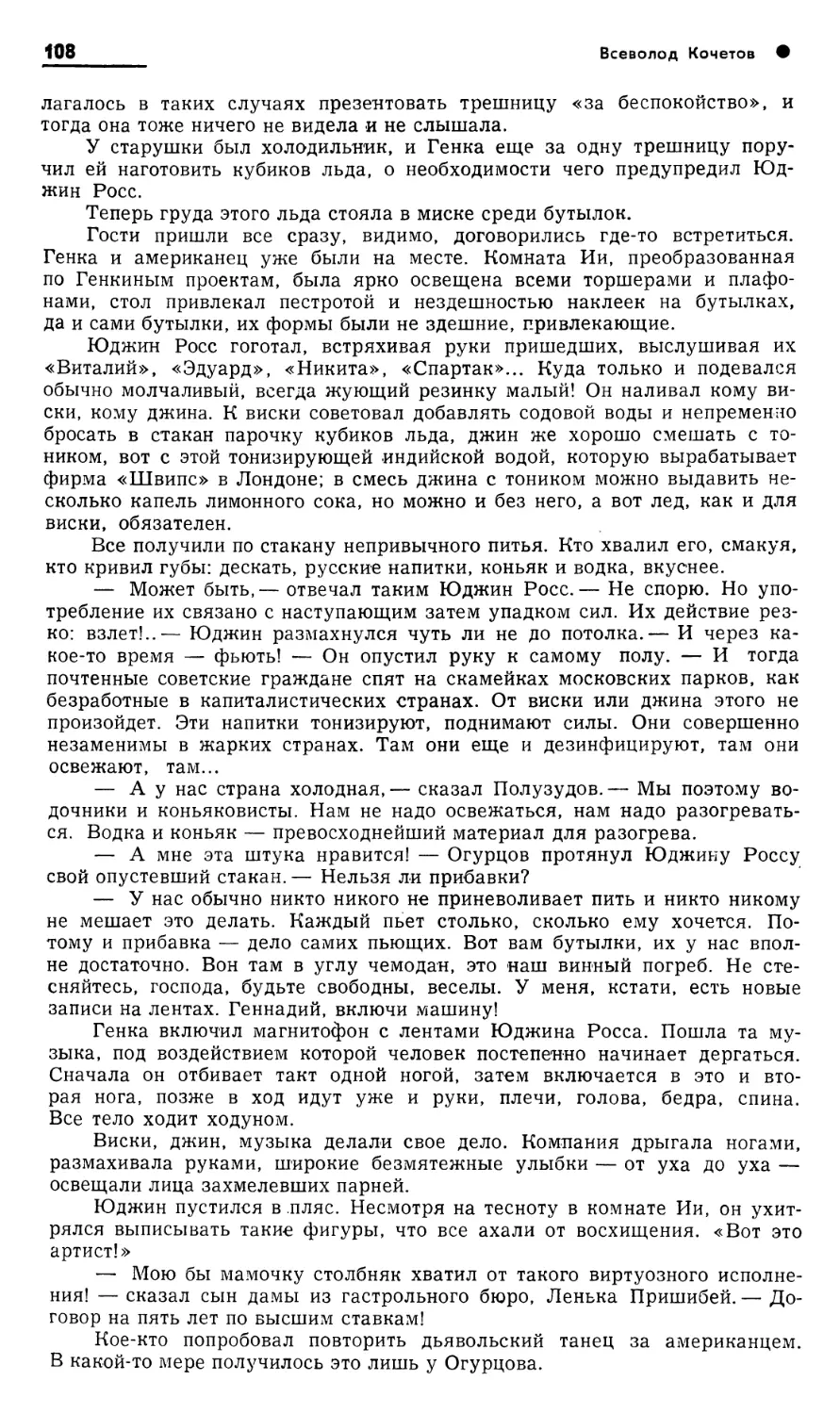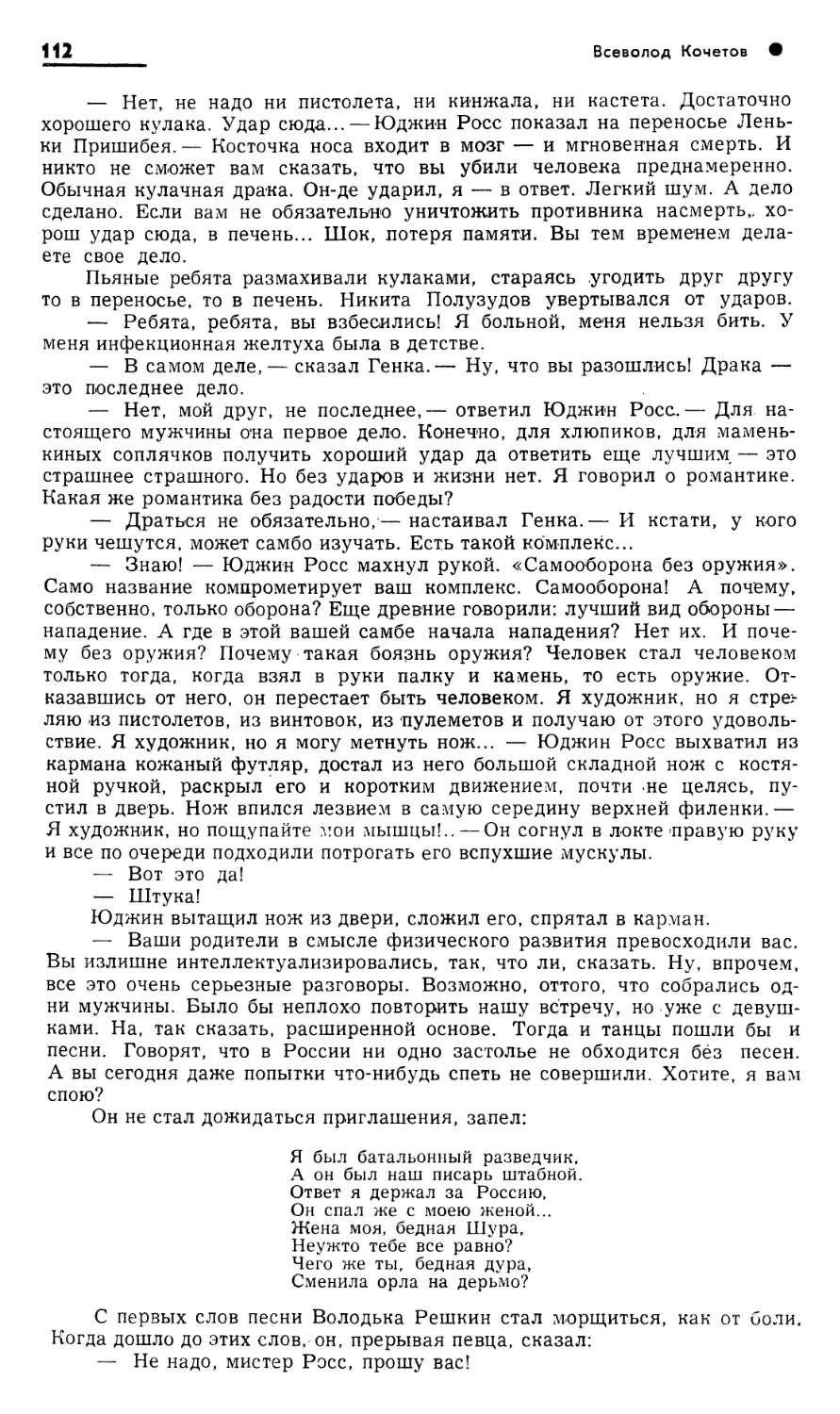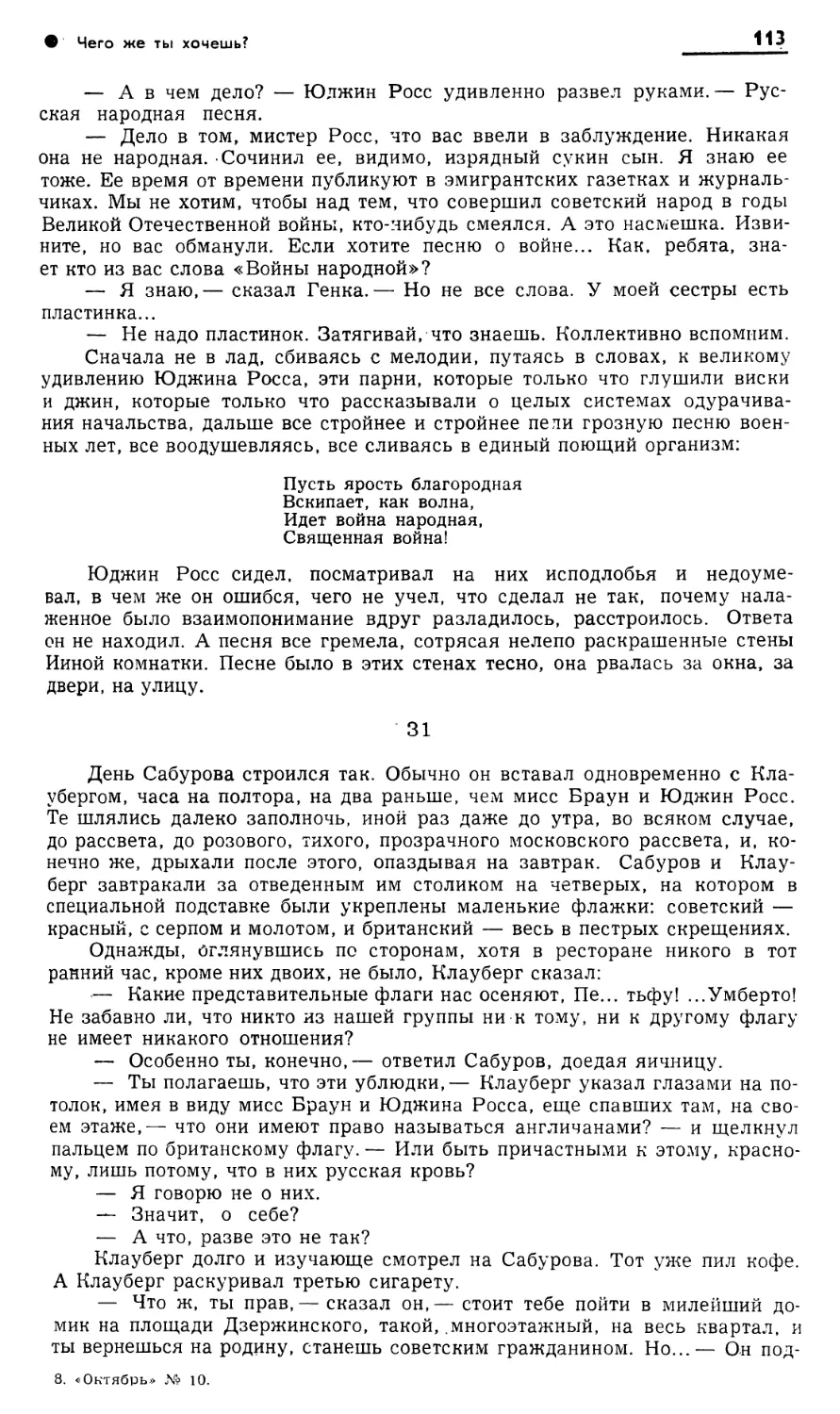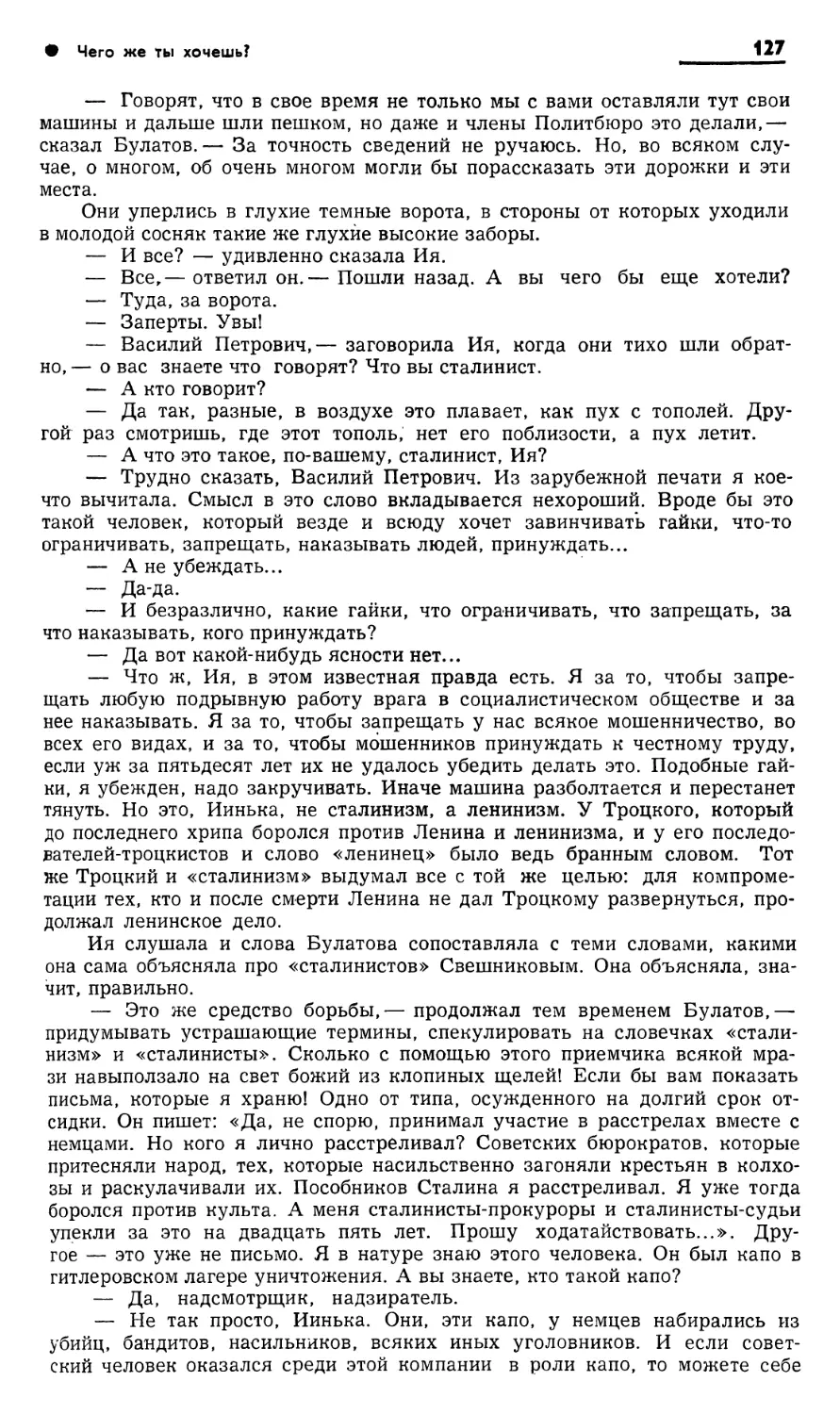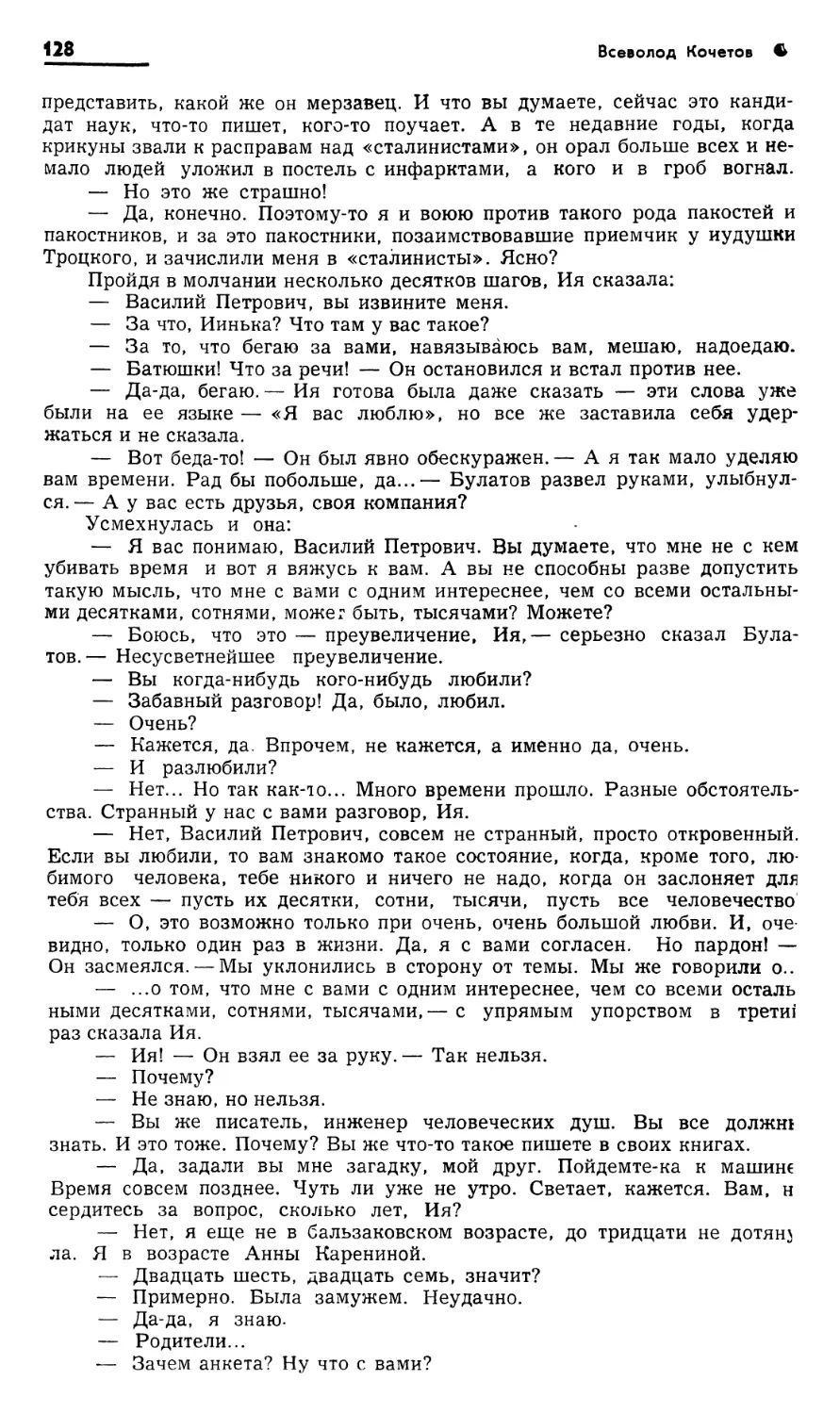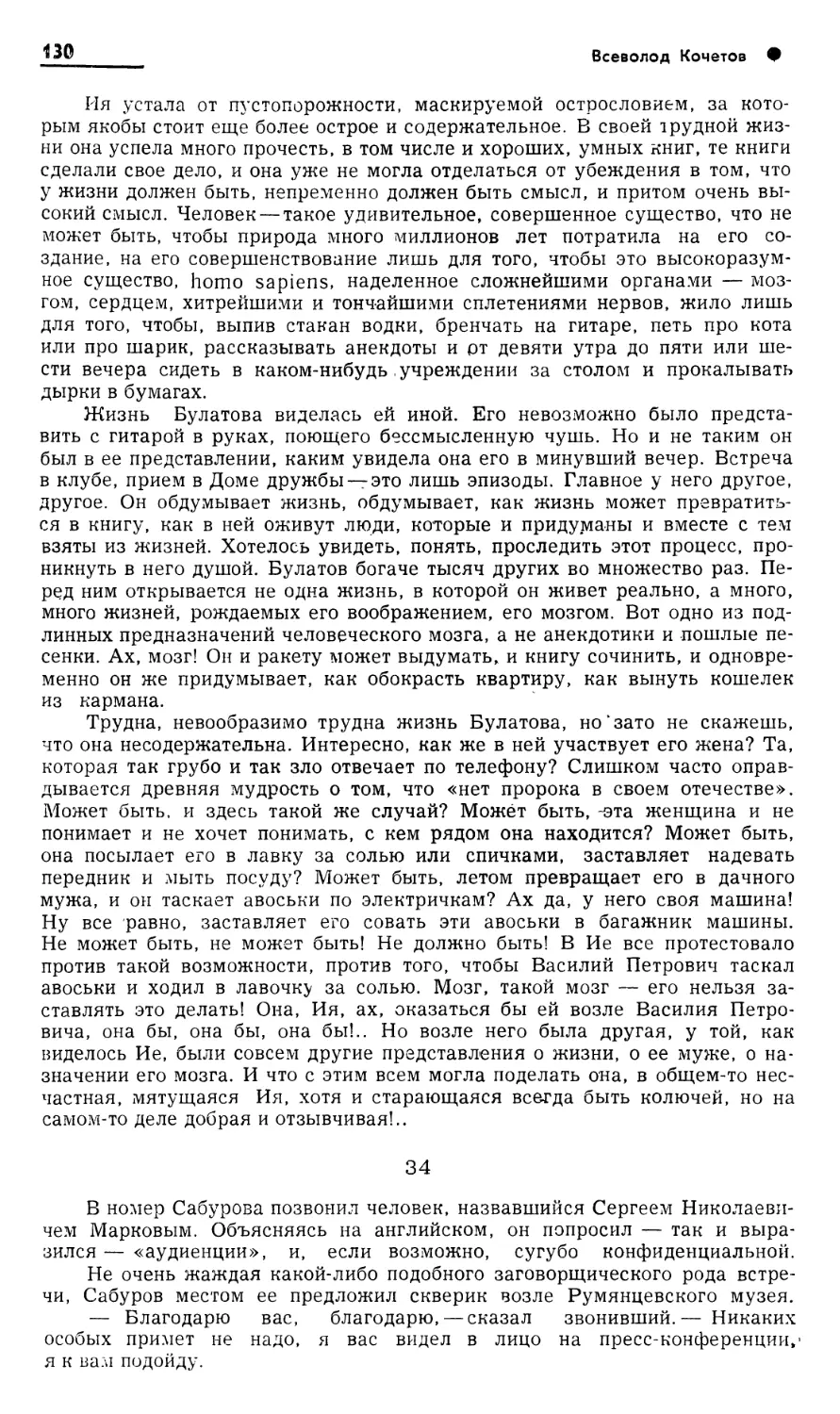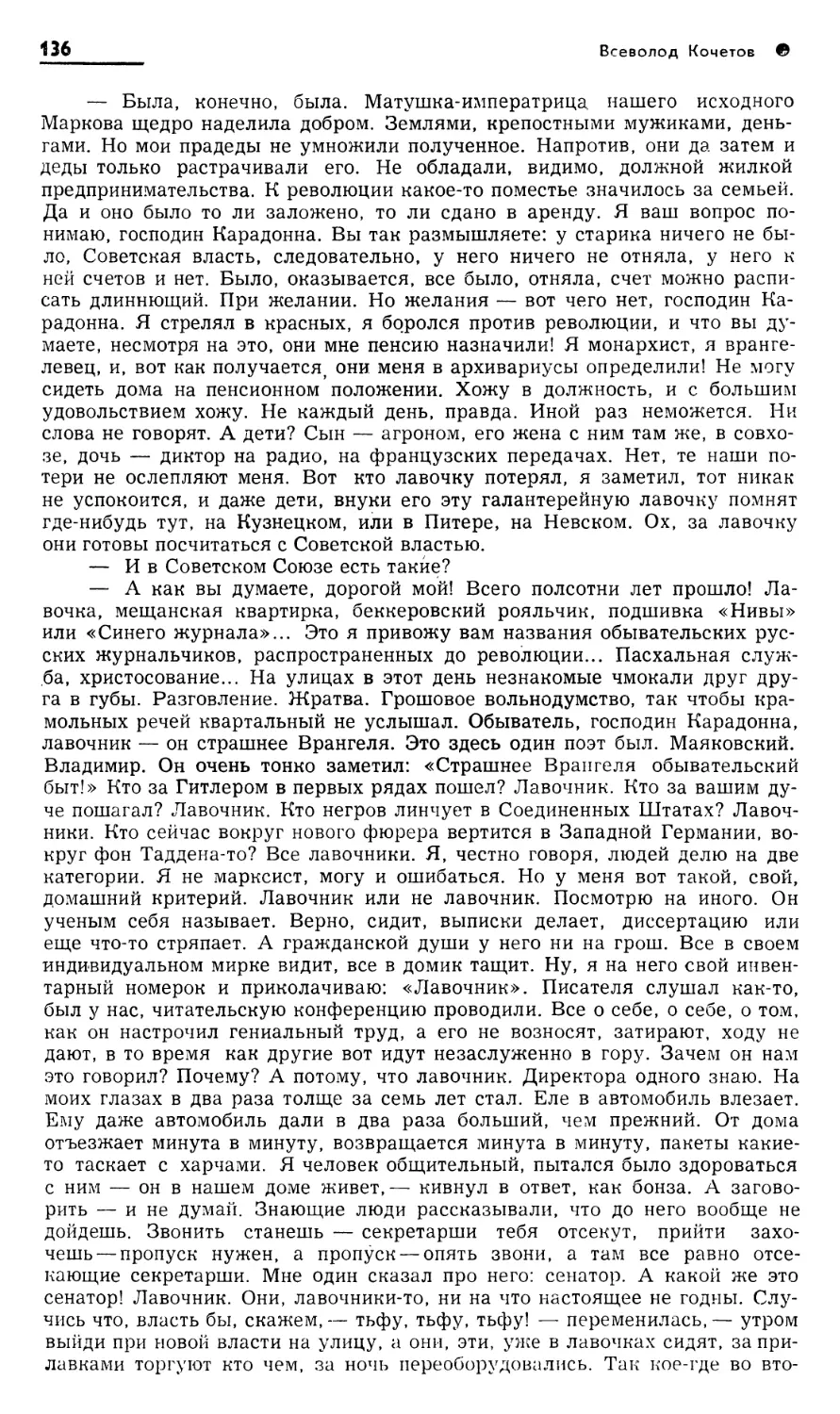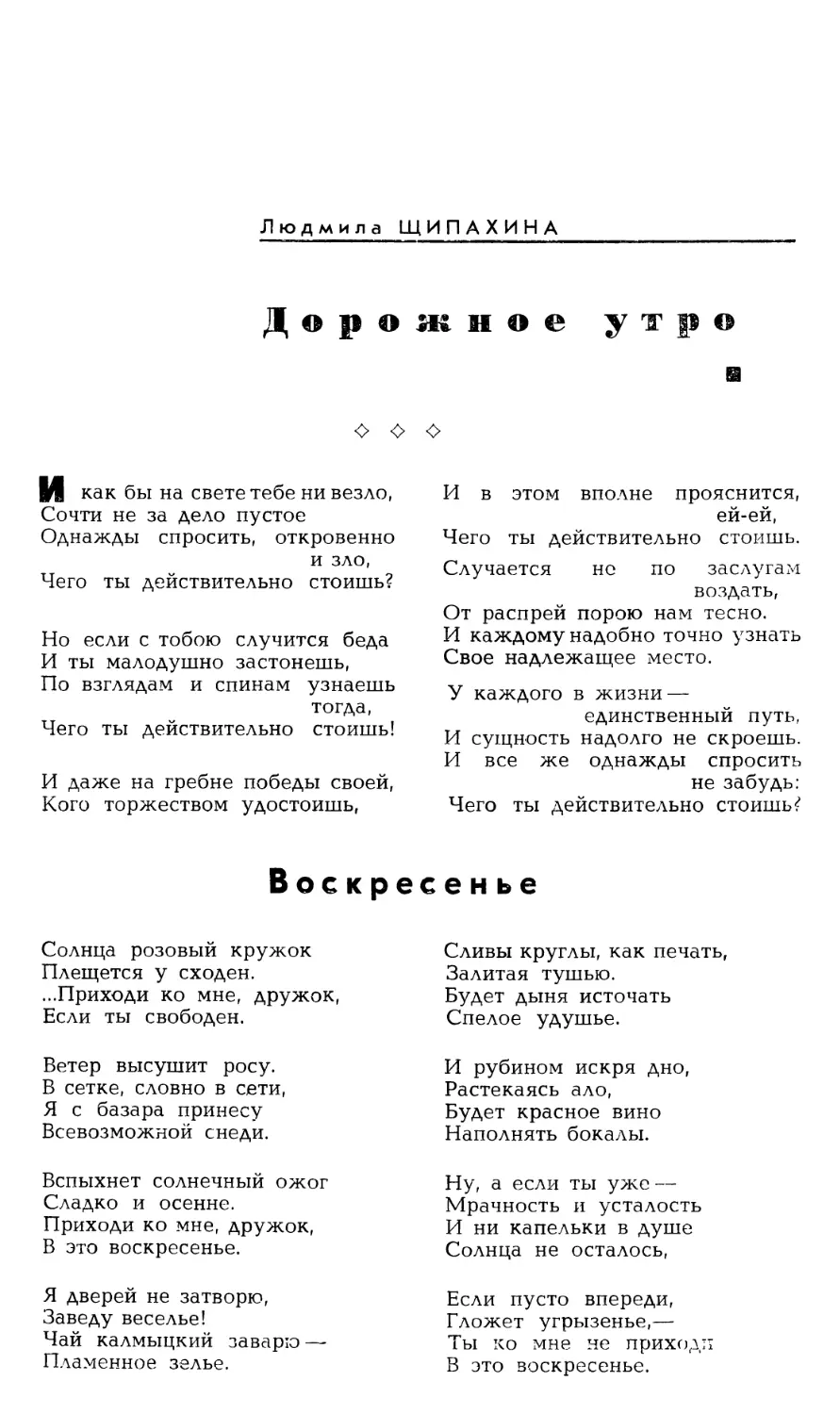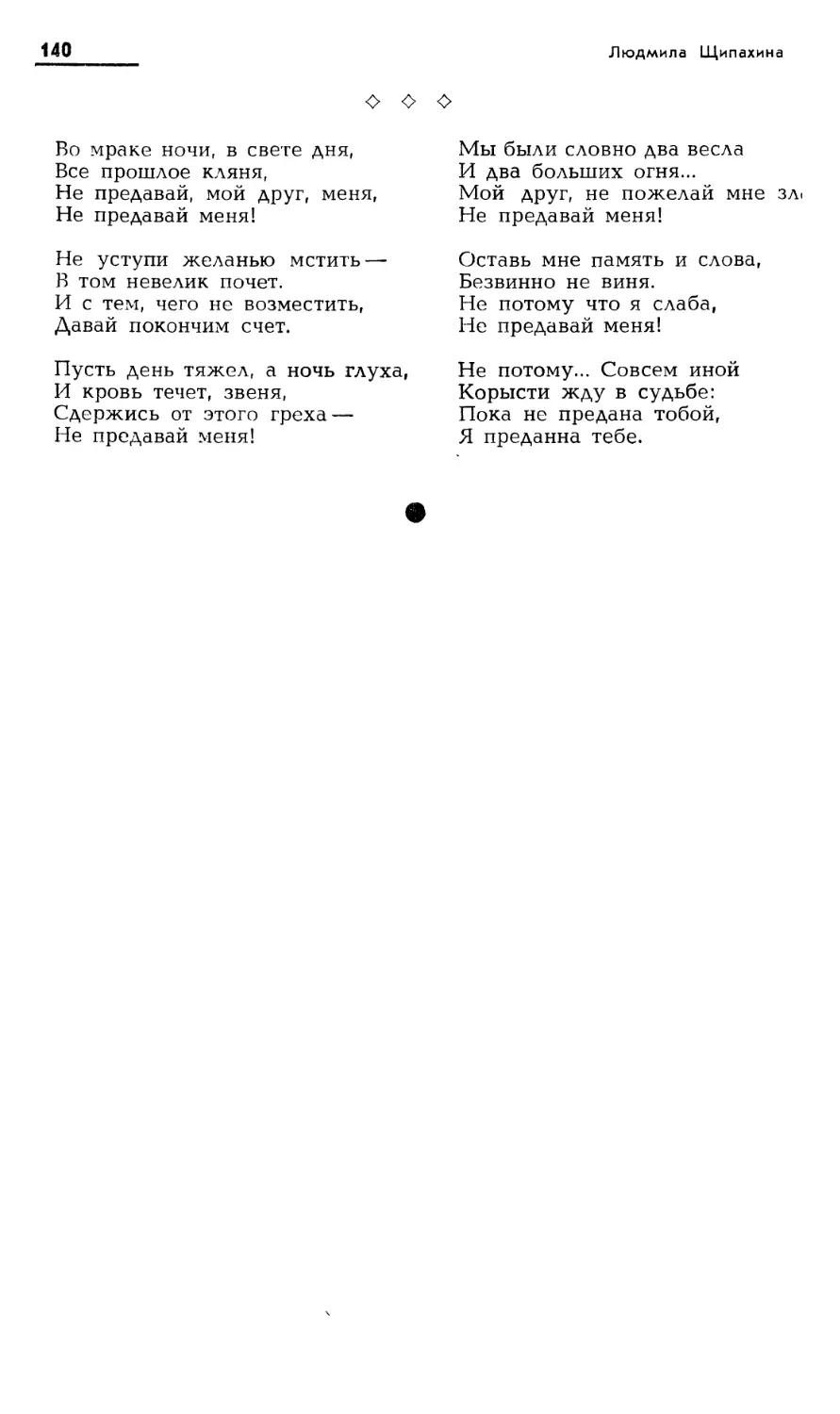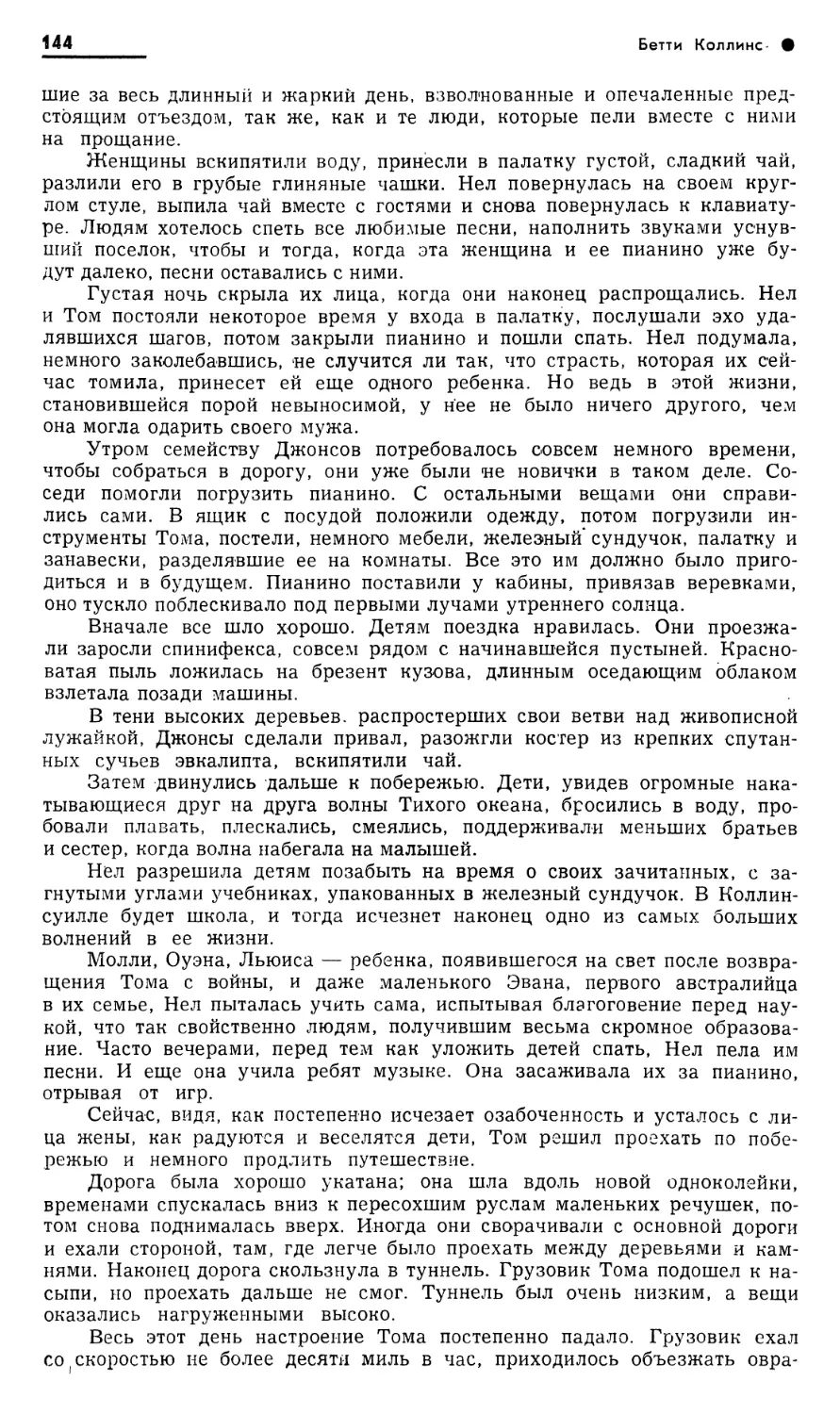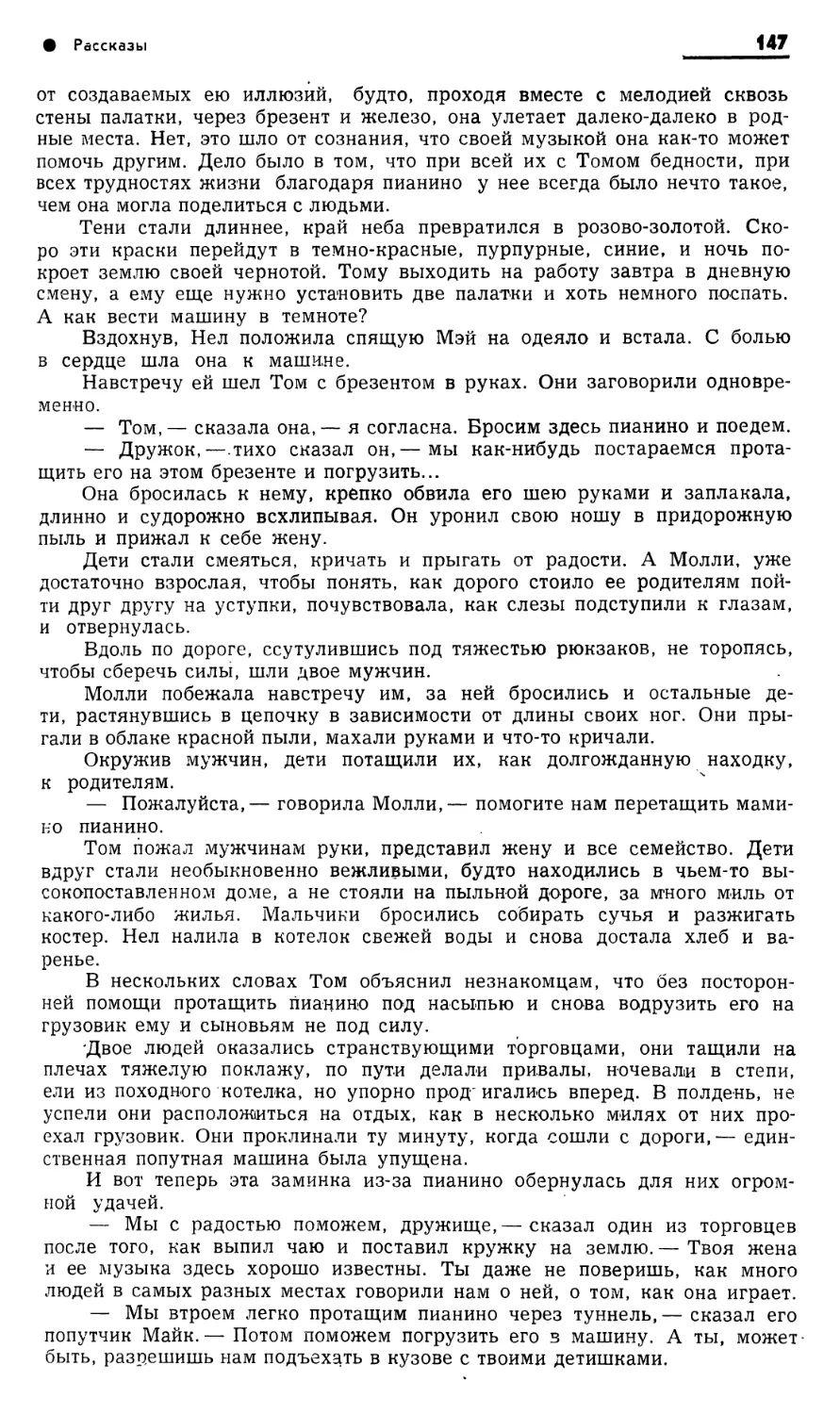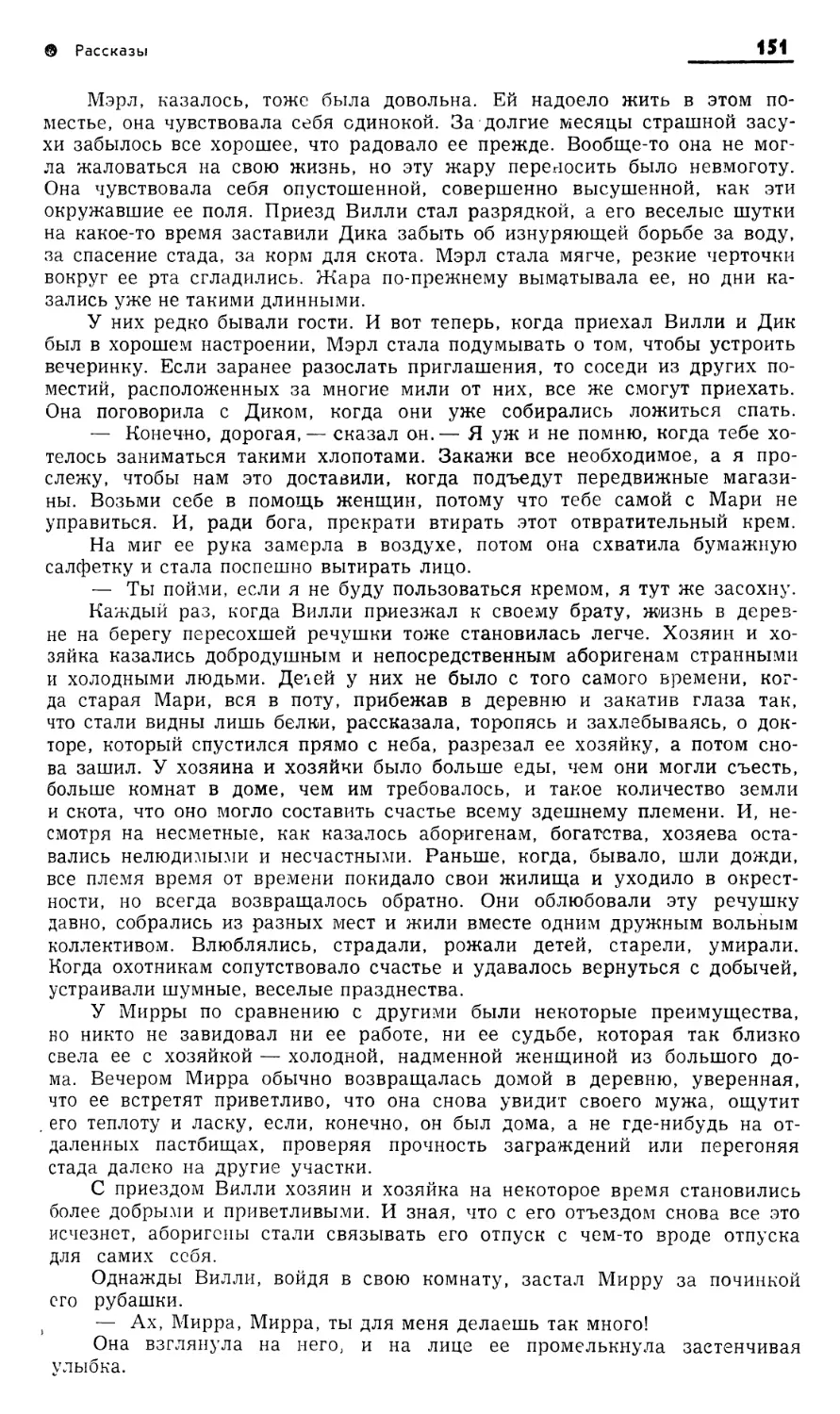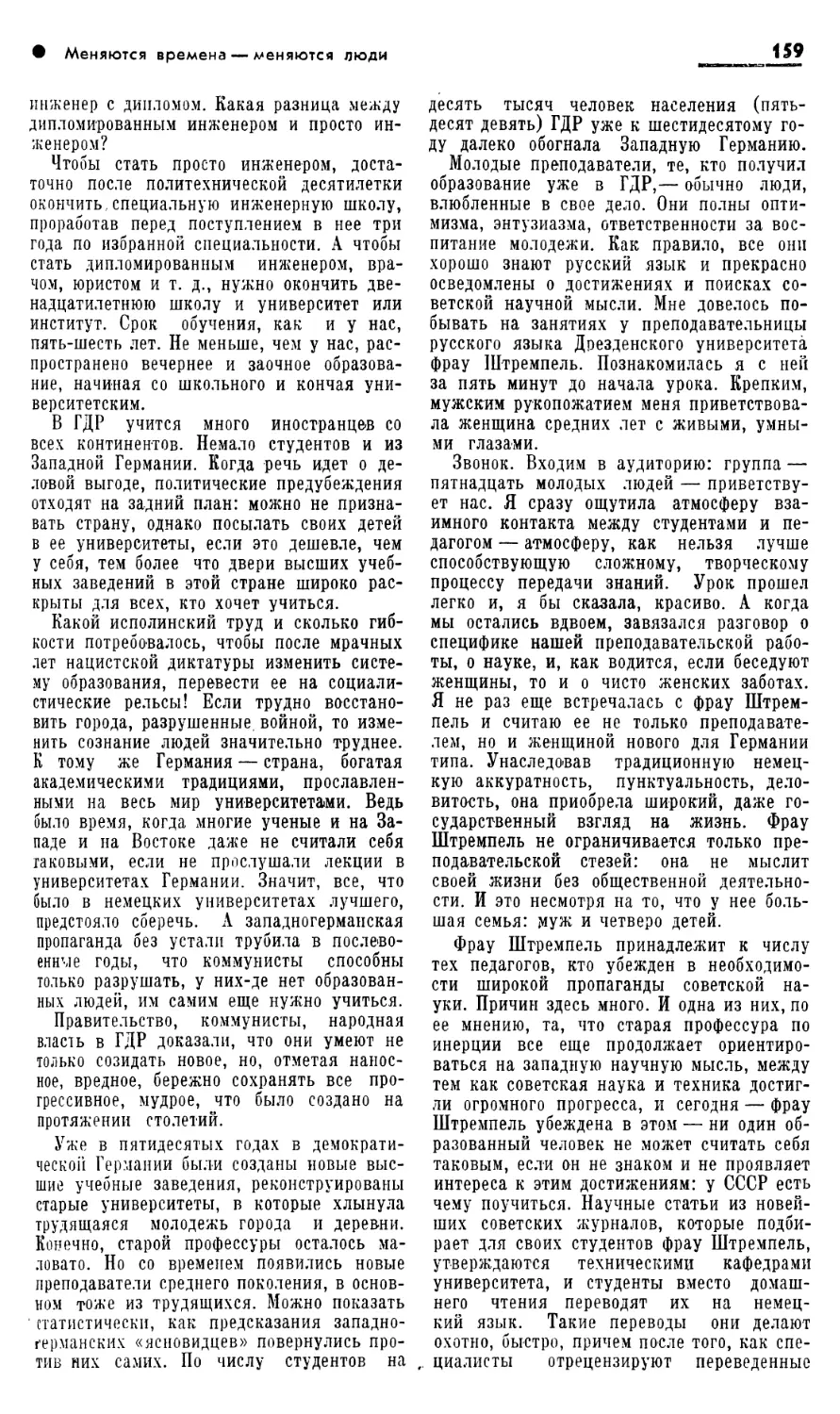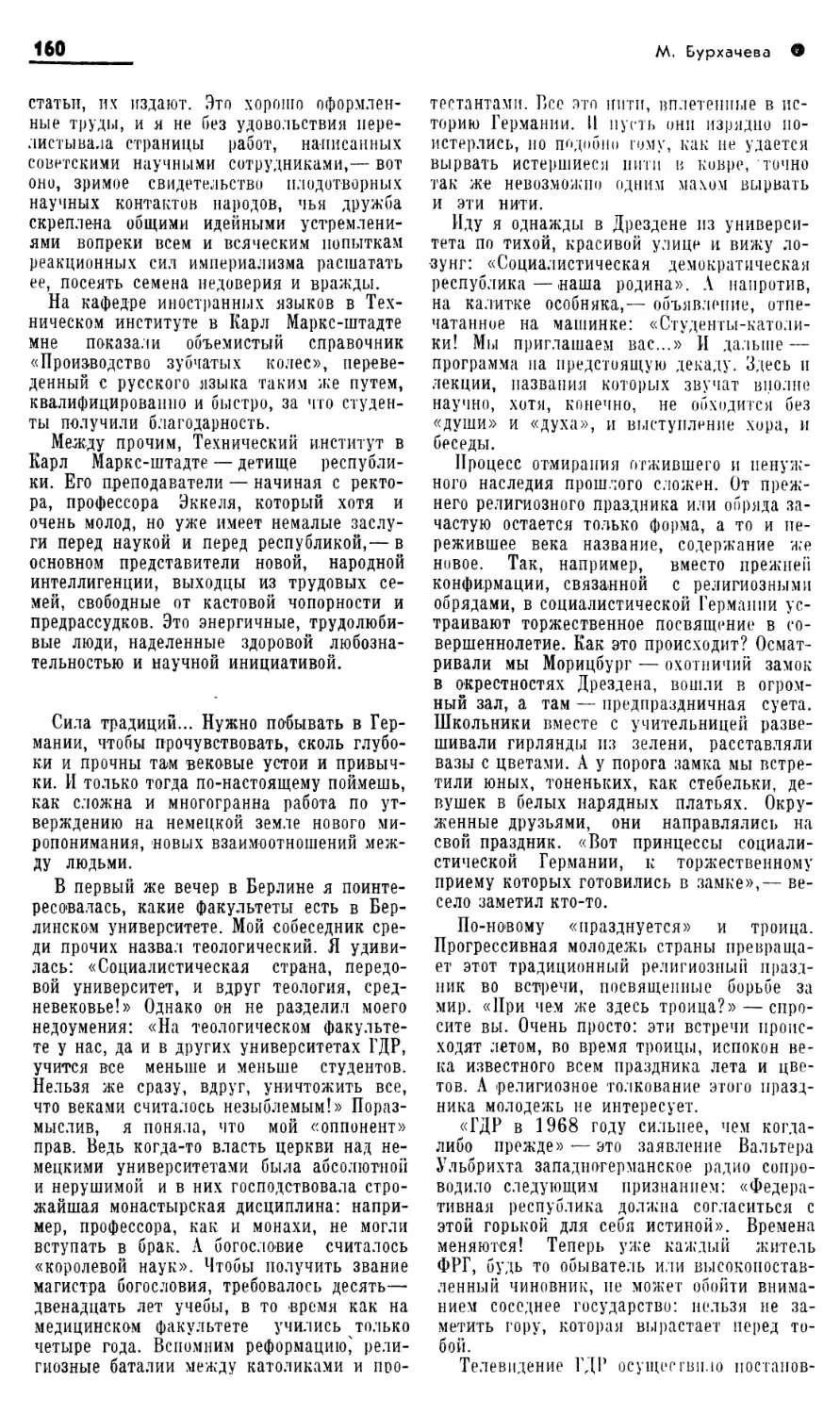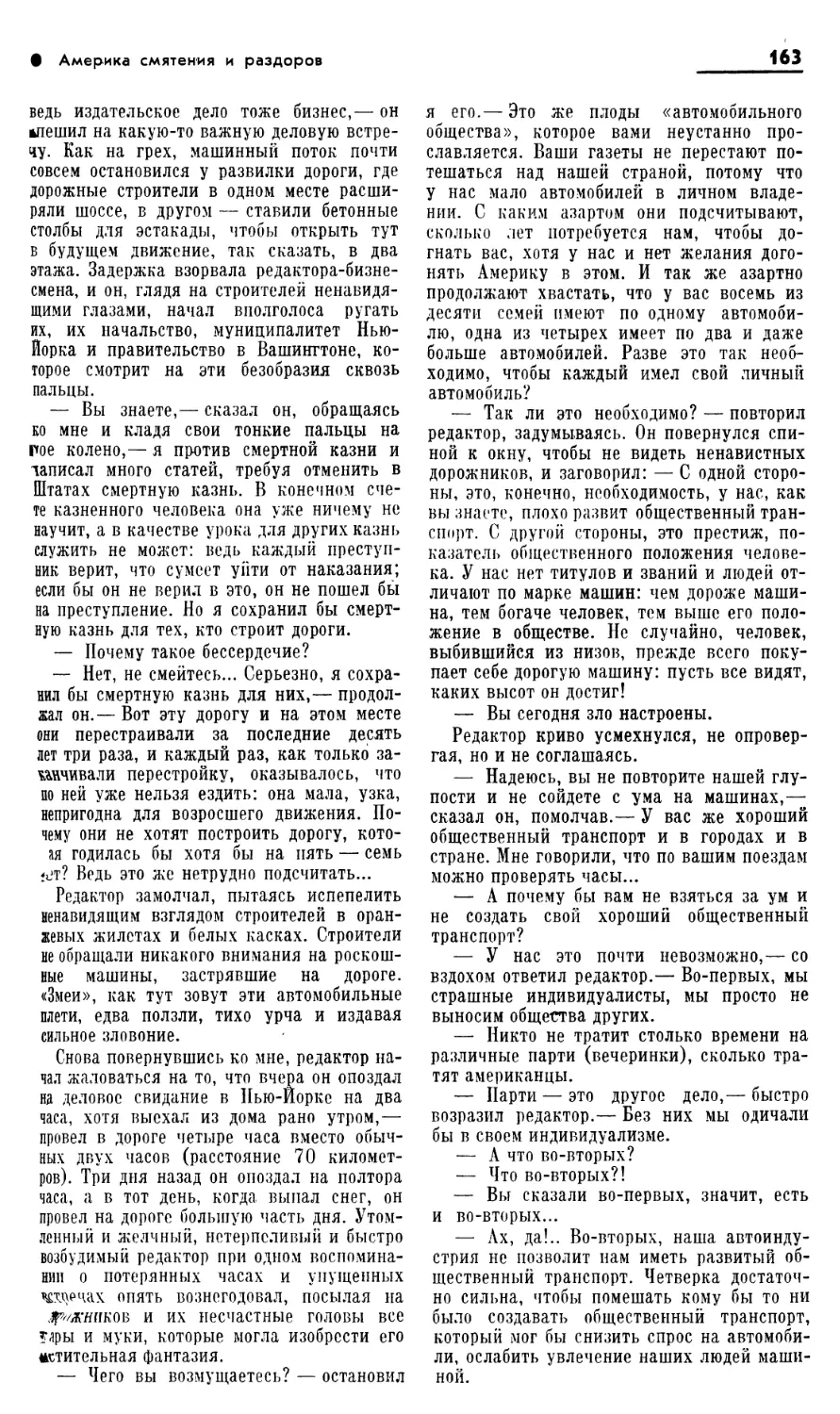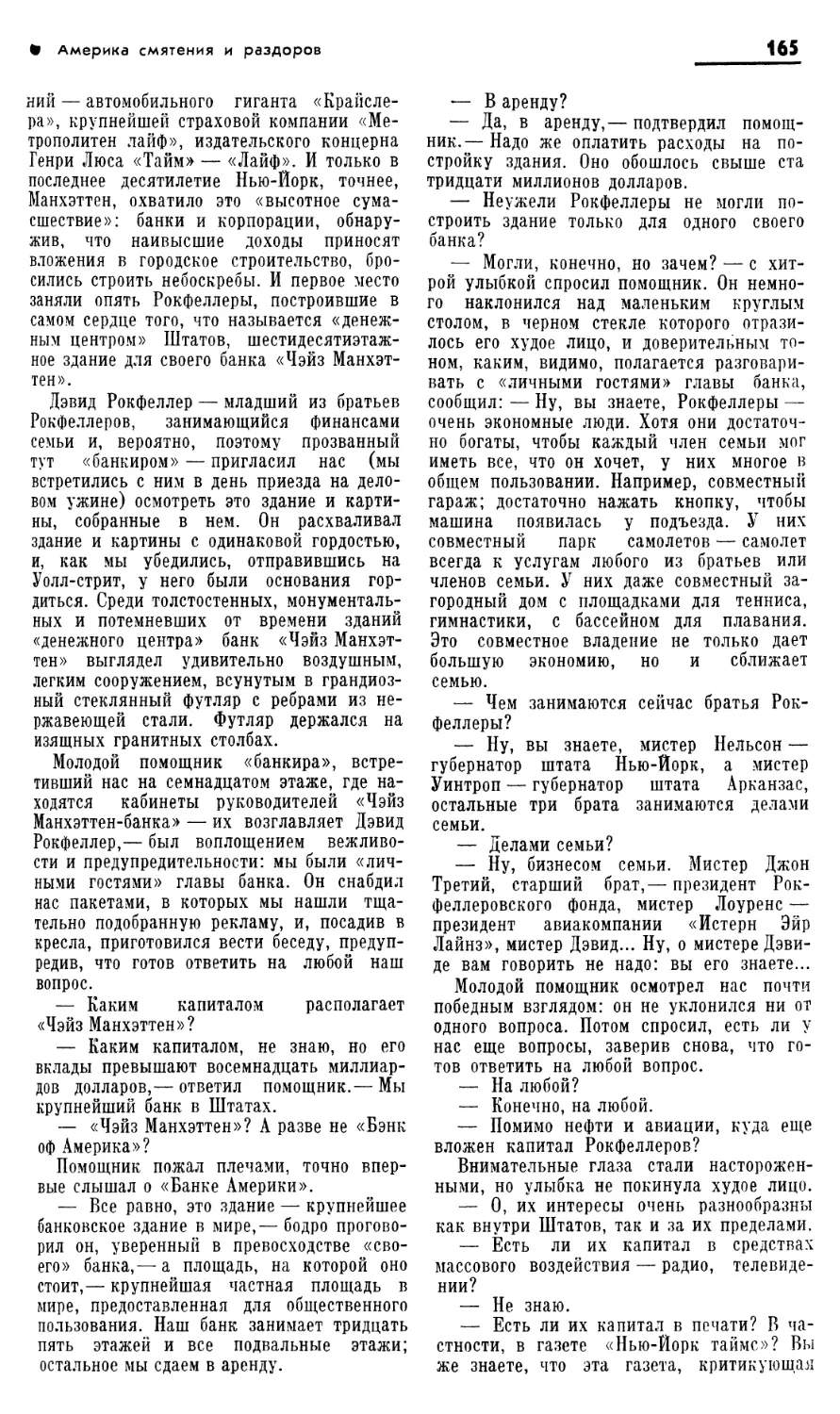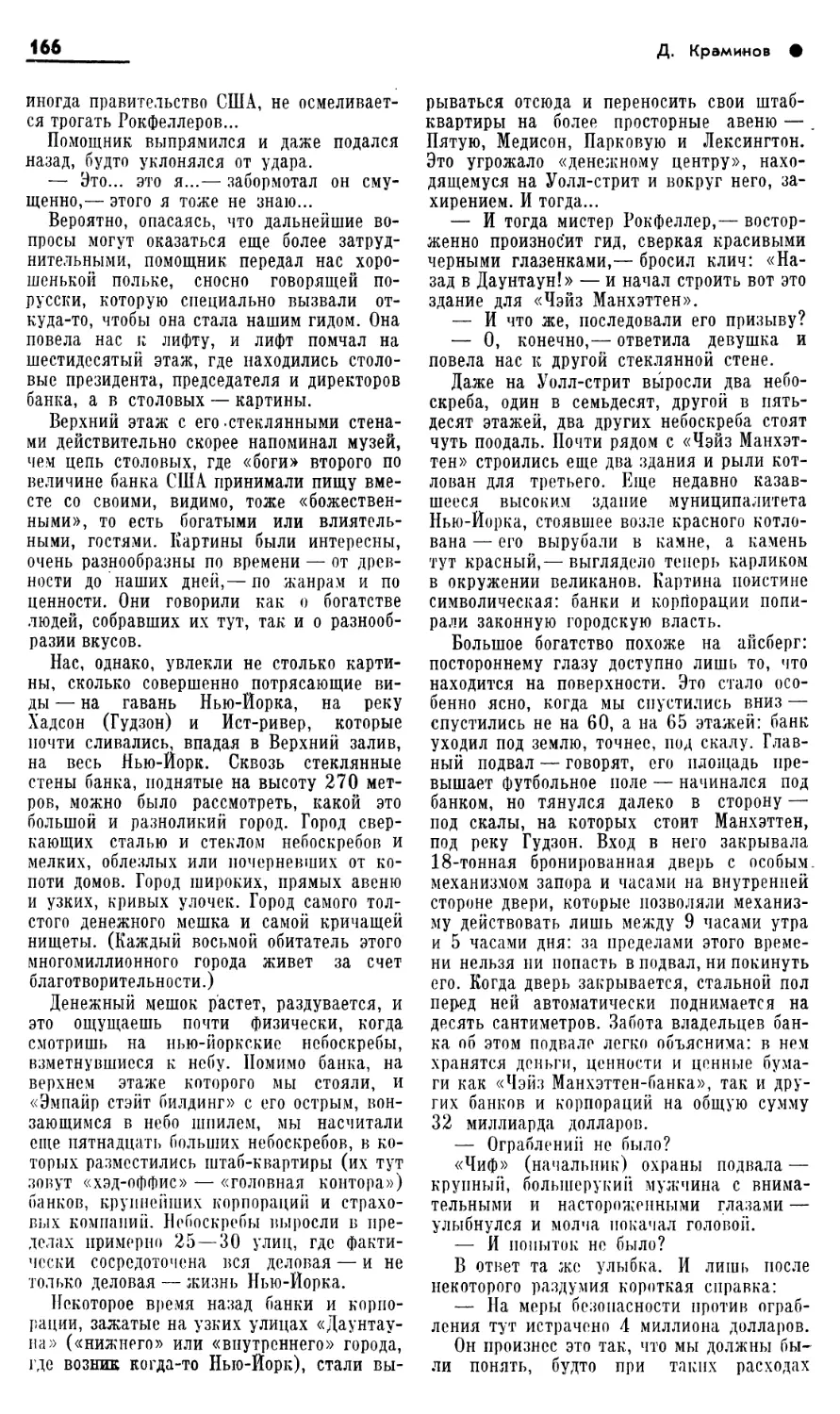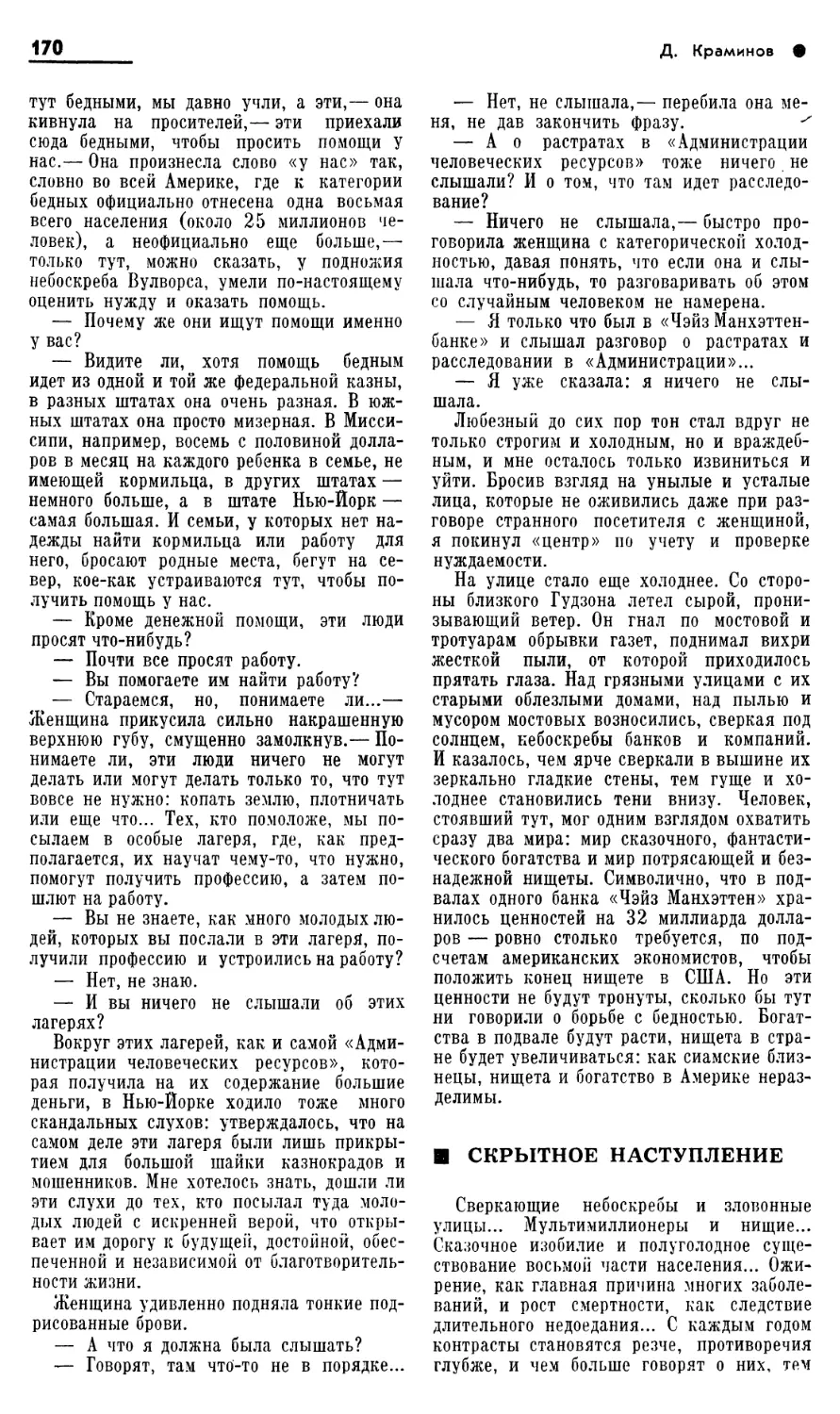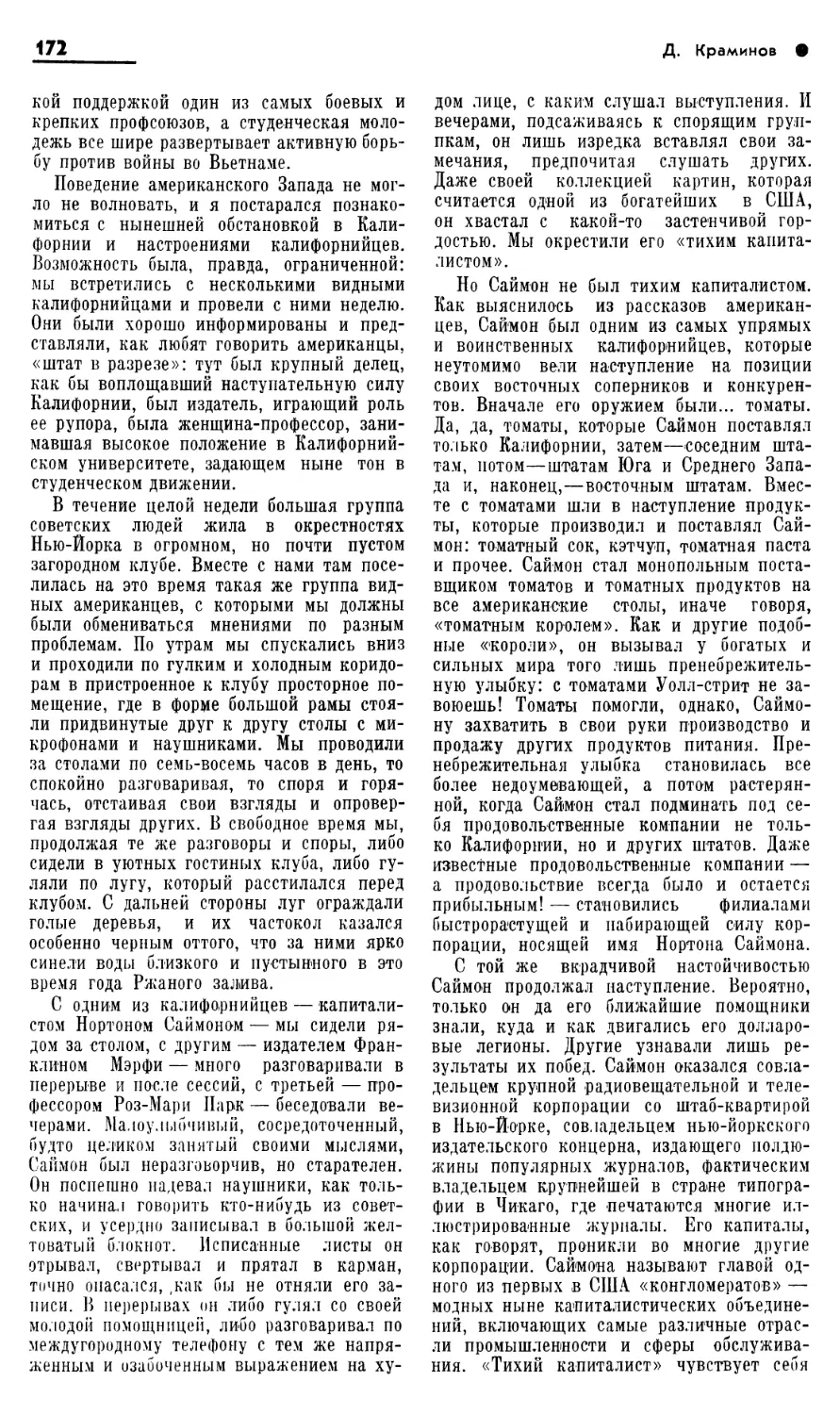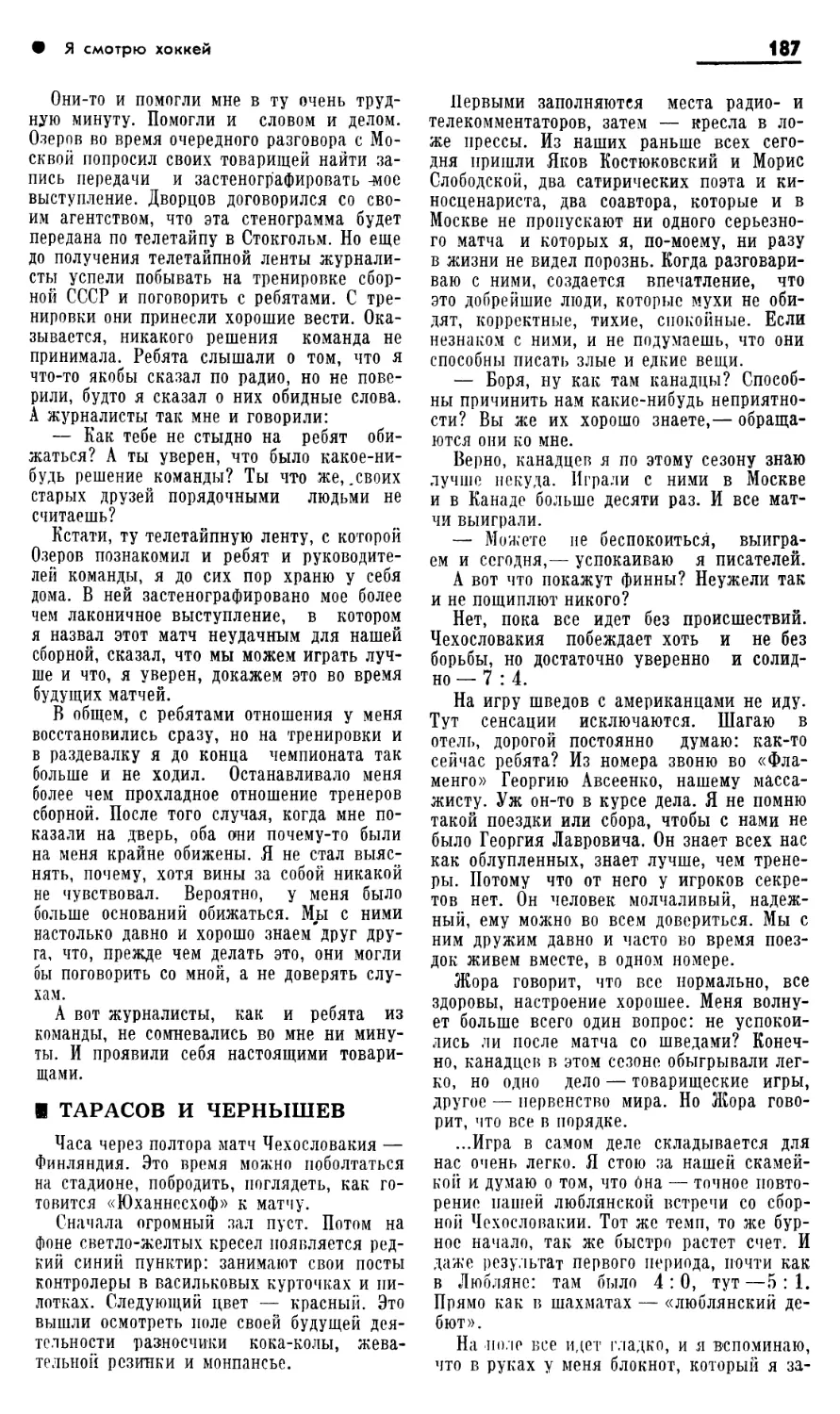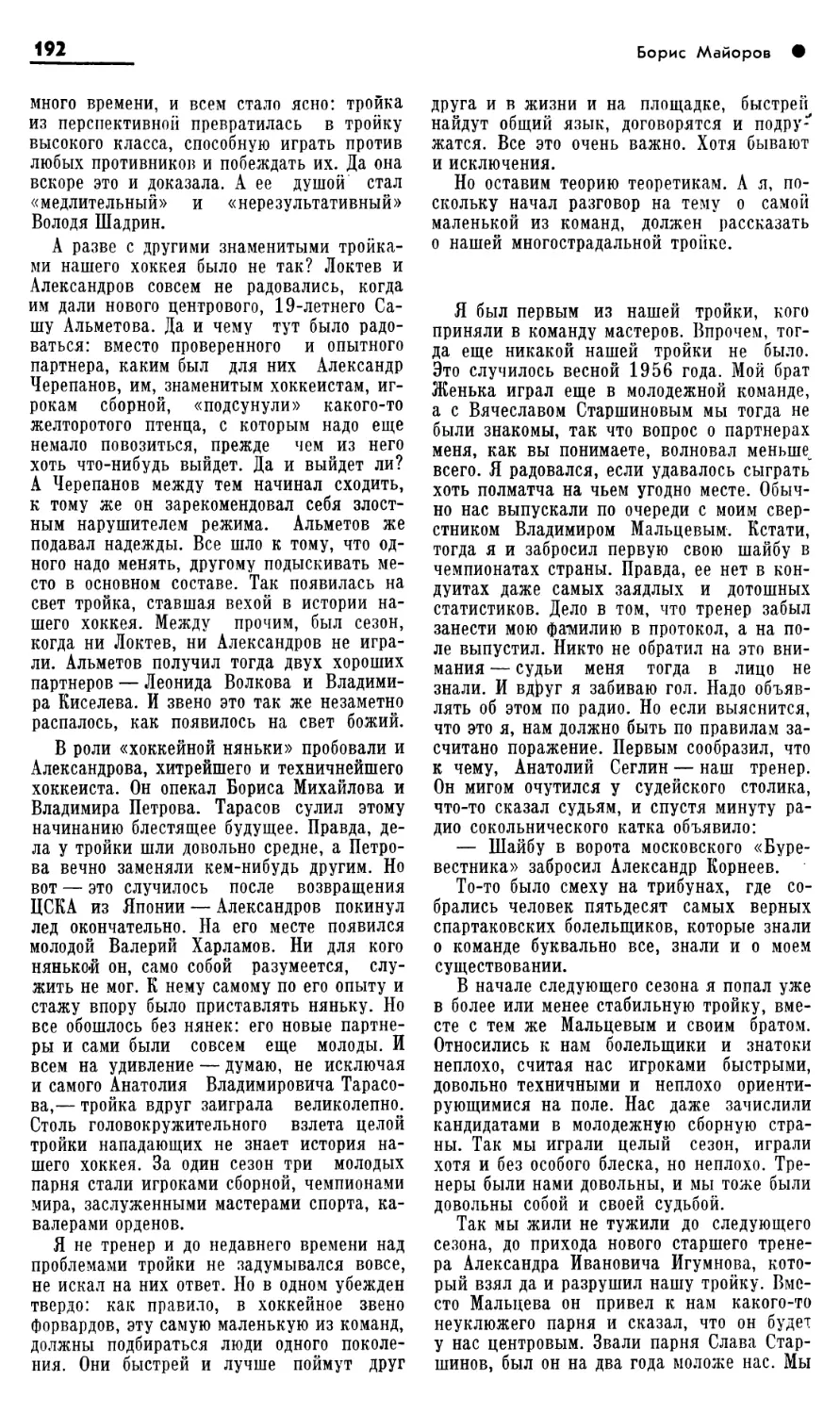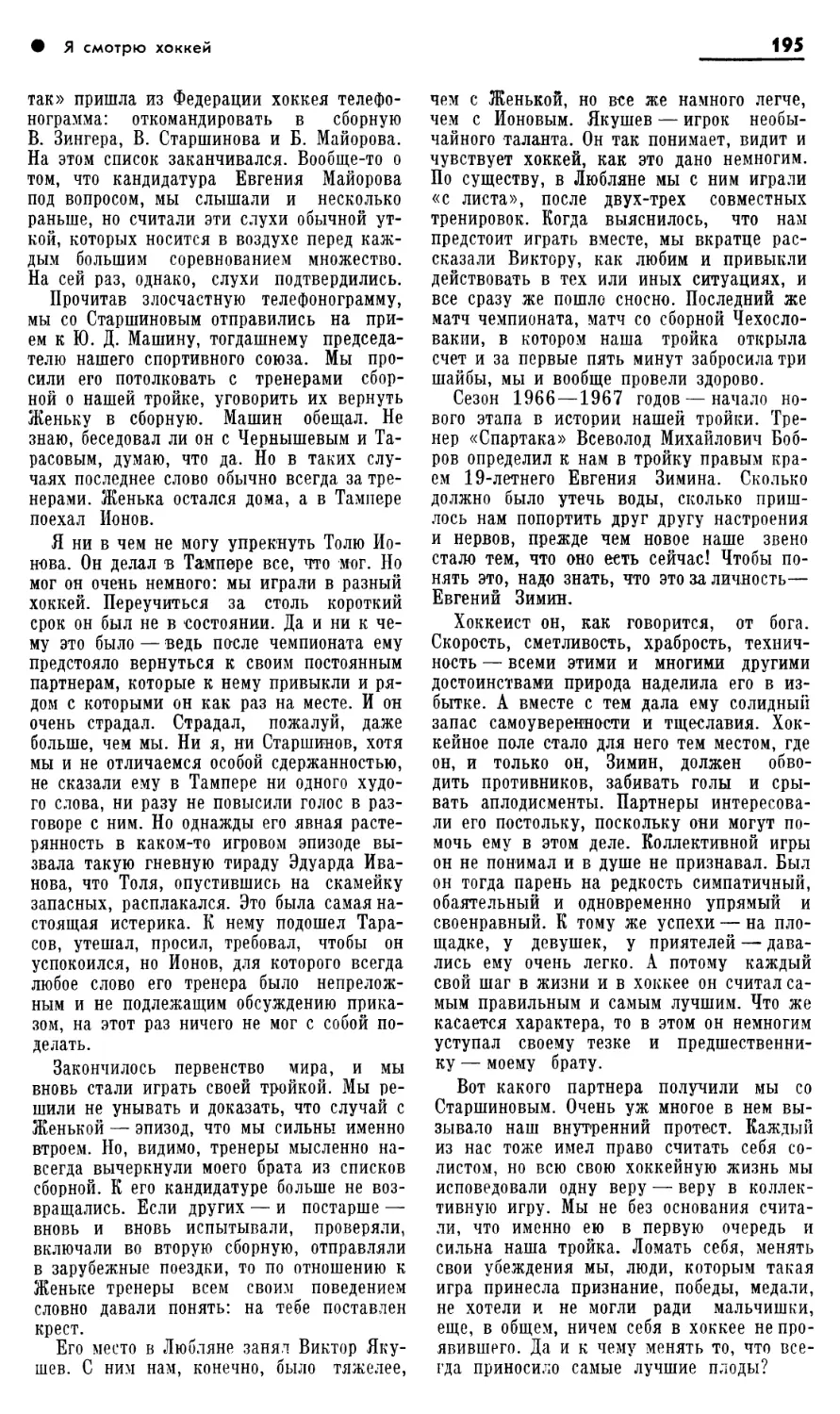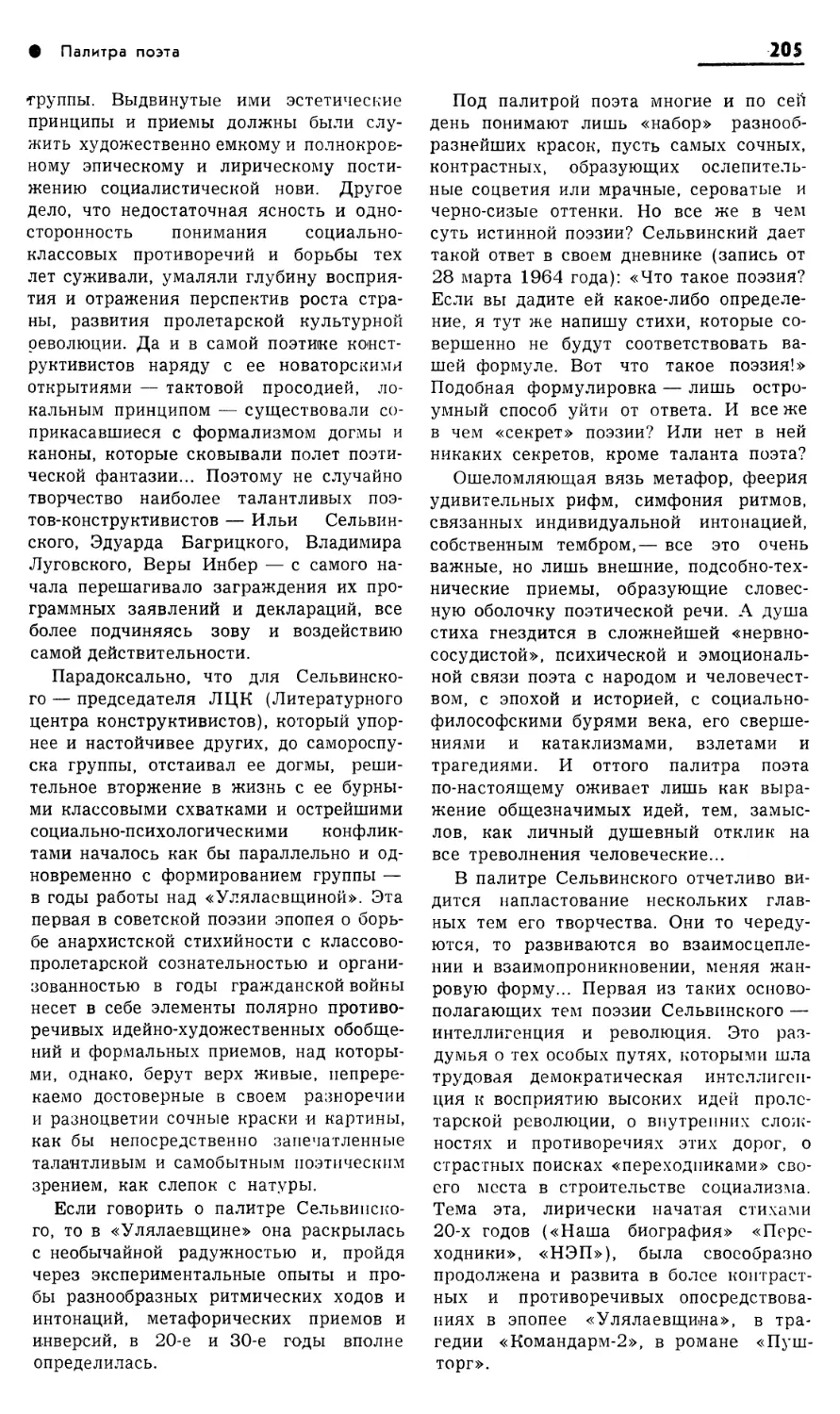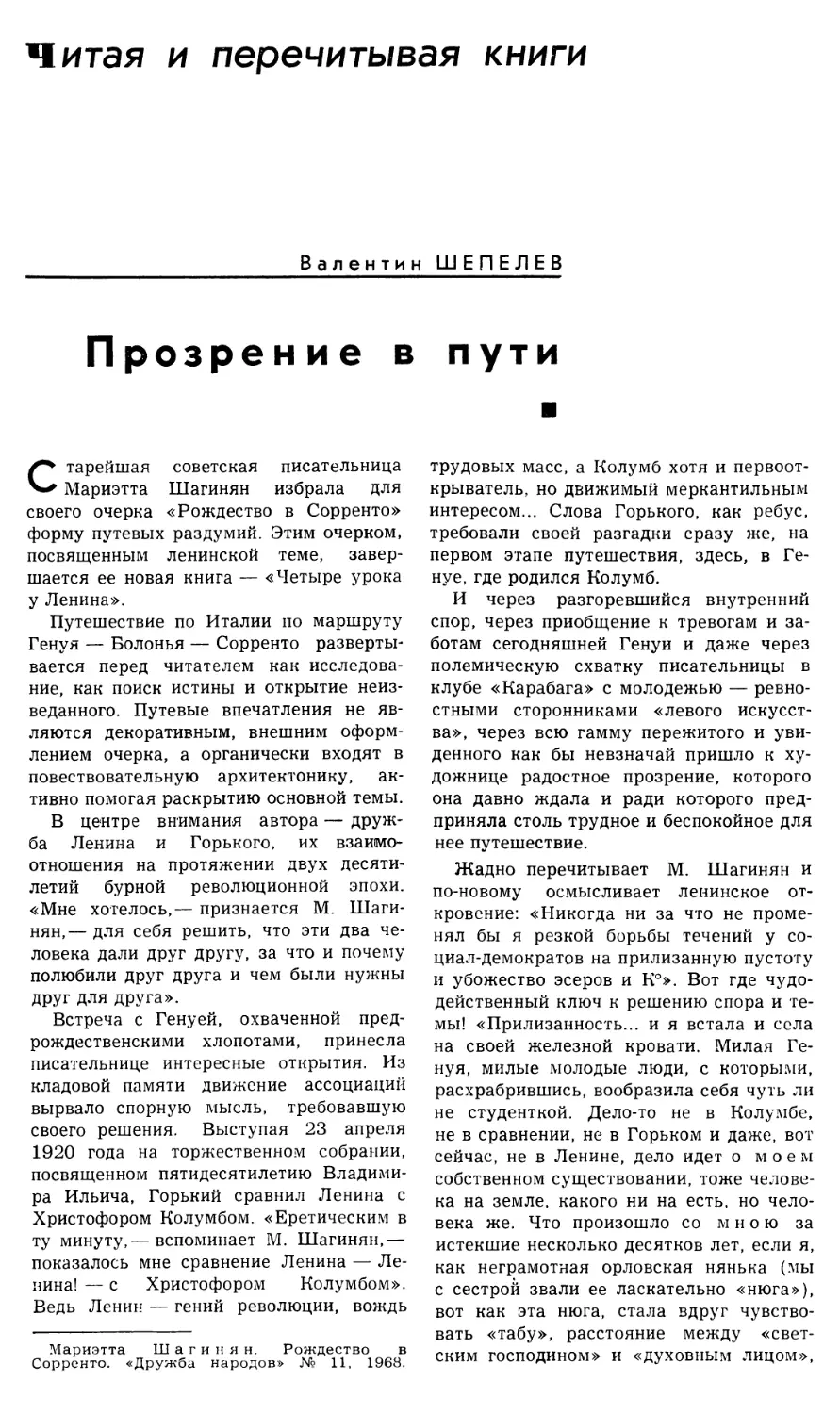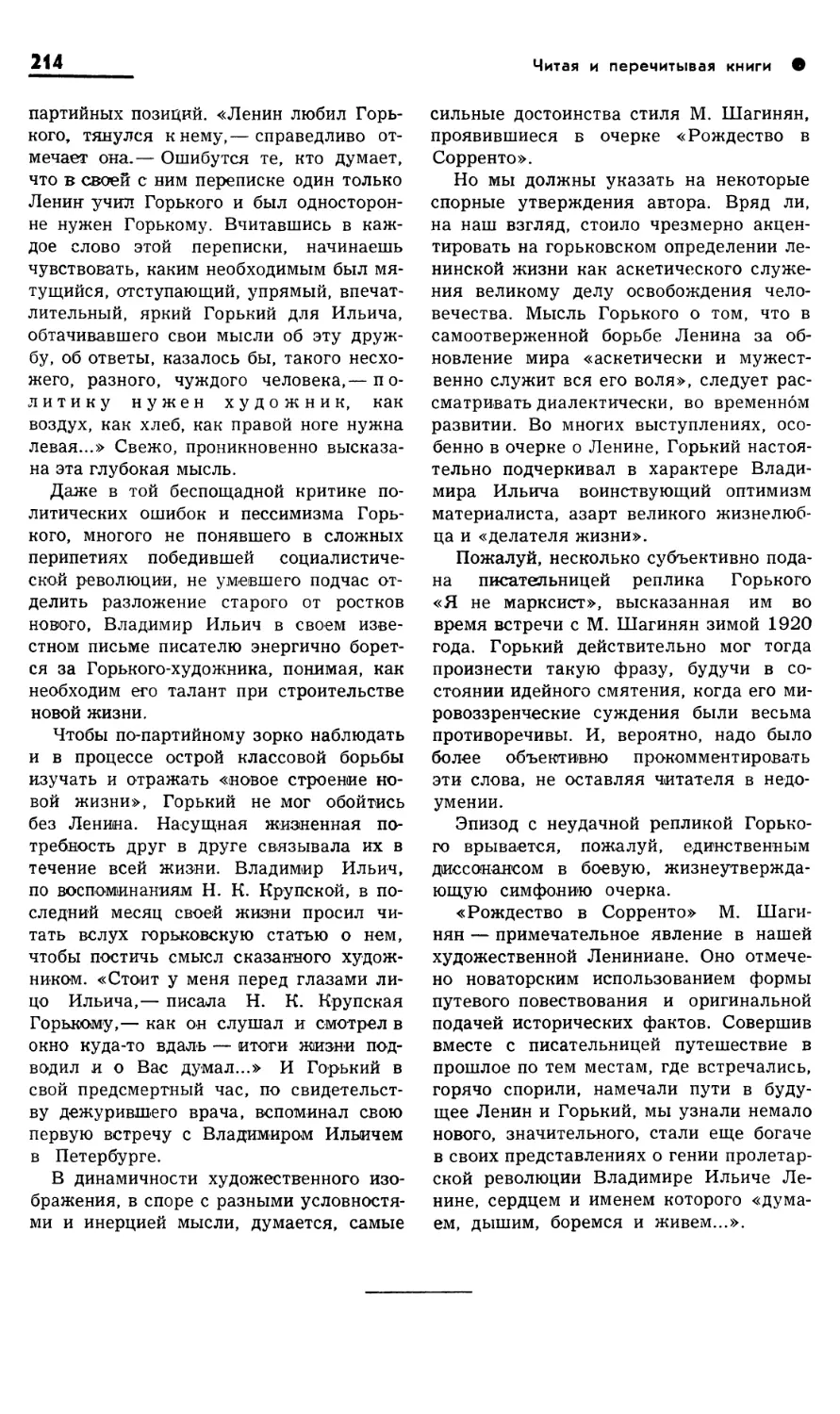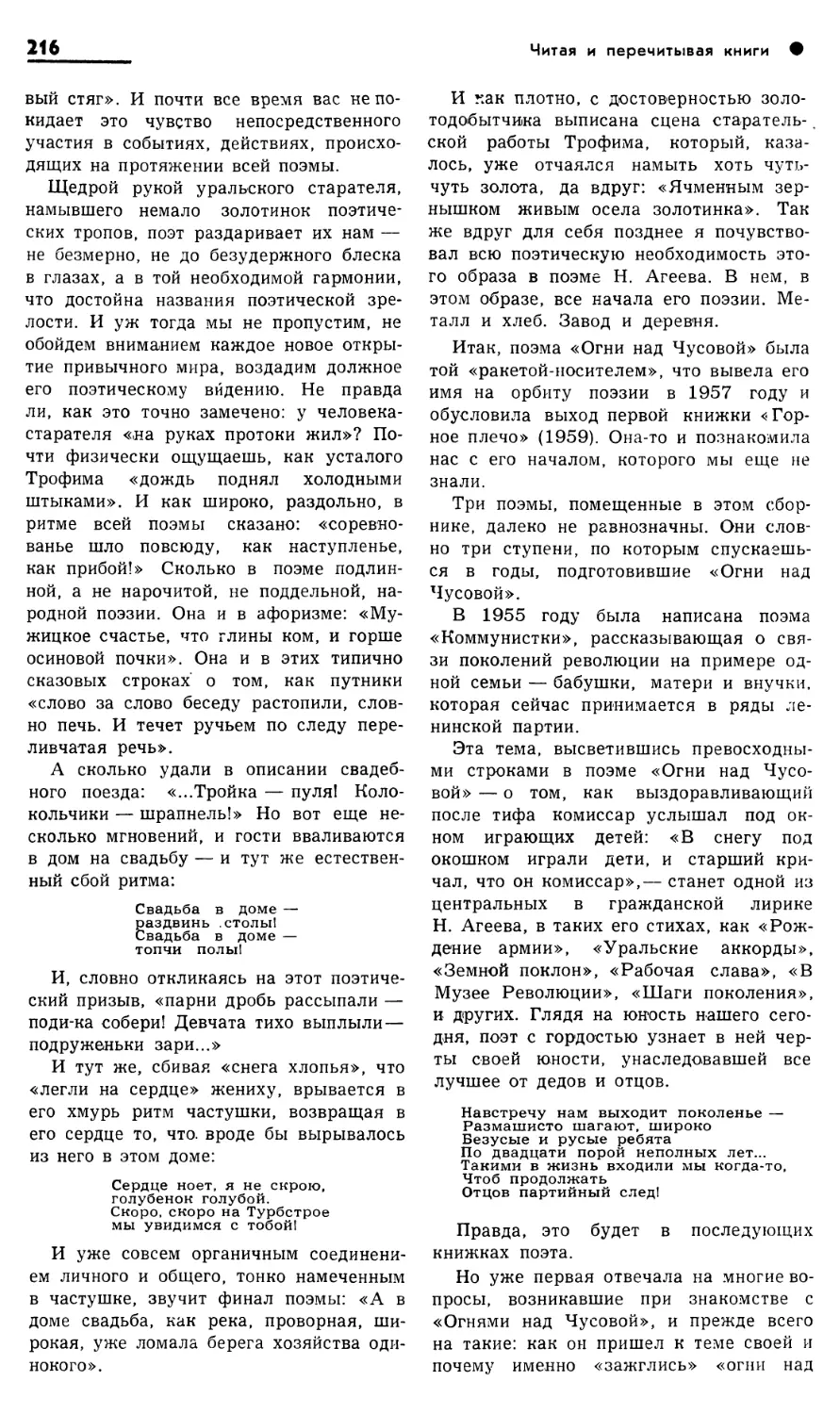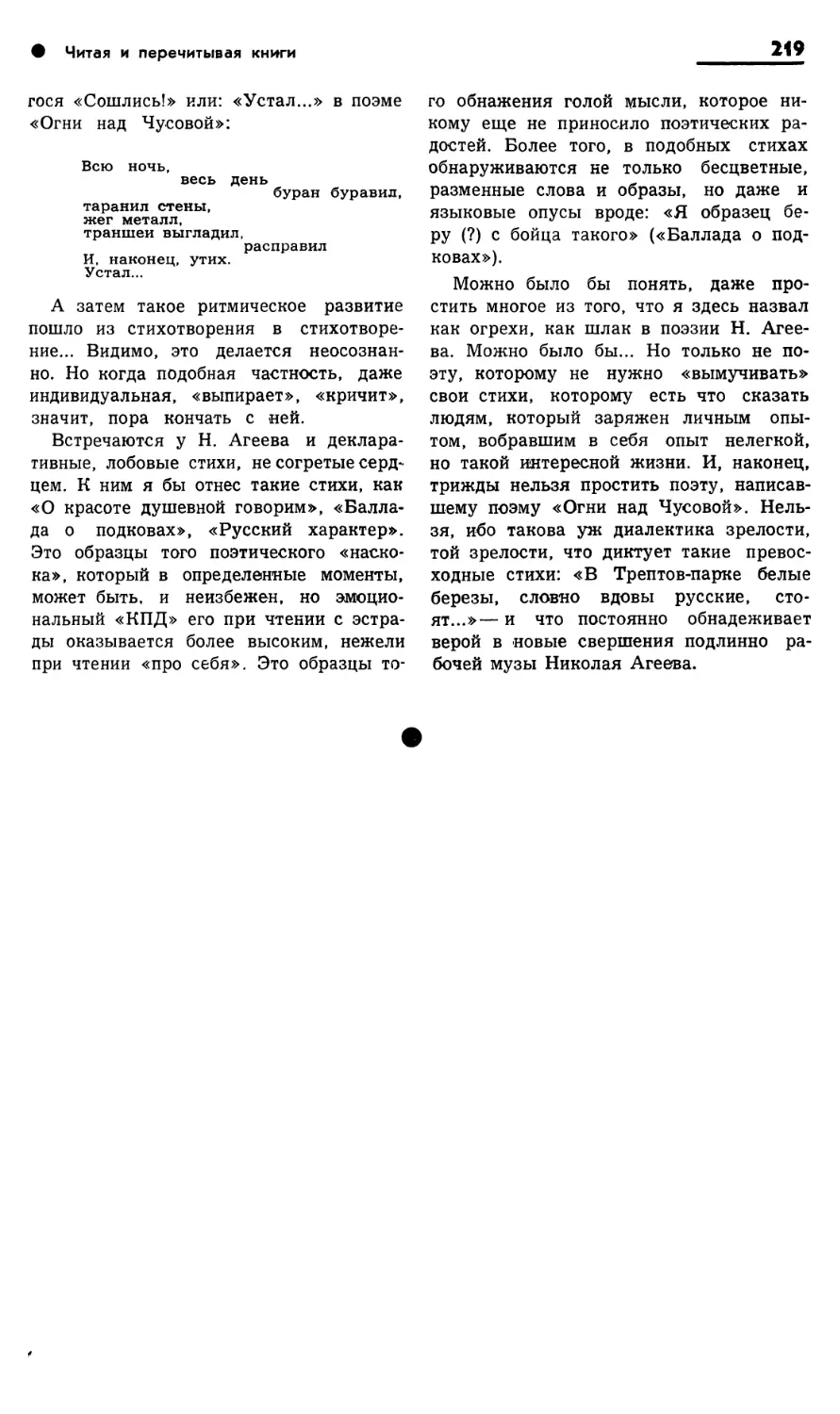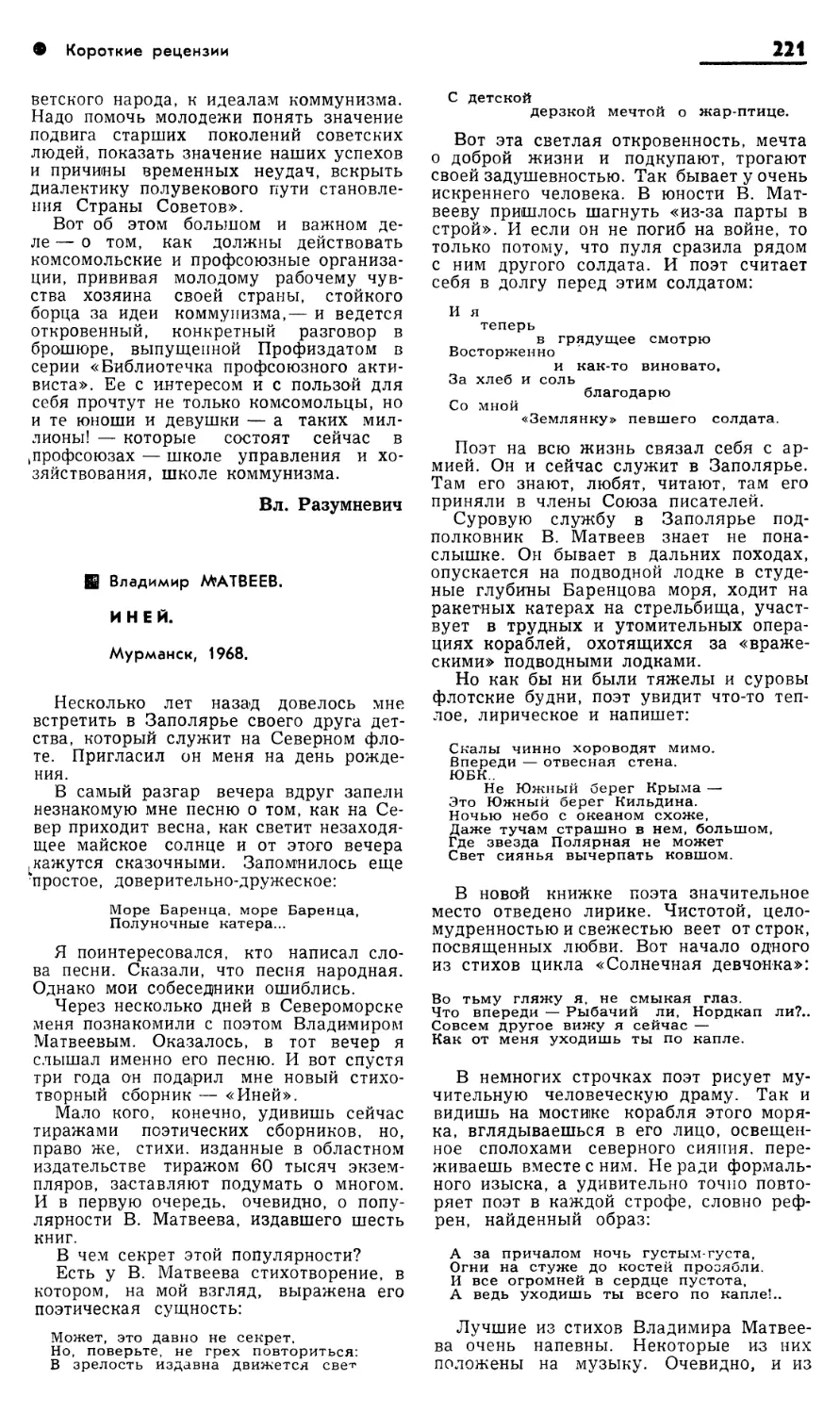Теги: журнал журнал октябрь
Год: 1969
Текст
8
В 1970 году читайте
в нашем журнале
Анатолий АНАНЬЕВ. Тельтов-канал. Роман.
Юрий БОНДАРЕВ. Шестидесятые годы. Роман.
Аркадий ВАСИЛЬЕВ. Расследованием установлено. Повесть.
Дмитрий ЕРЕМИН. Золотой пояс. Повесть.
Игорь КОВАЛЕНКО. Открытие. Повесть.
Георгий МАРКОВ. Поездки домой.
Аркадий ПЕРВЕНЦЕВ. Секретный фронт. Роман.
Евгений ПЕРМЯК. Сахарное болото. Роман.
Сергей САРТАКОВ. Философский камень. Роман. Книга
вторая.
Иван СИБИРЦЕВ. Околдованные звезды. Роман.
Иван СТАДНЮК. Генералы видят далеко. Роман.
Поэмы
Николай ДОРИЗО. В России Ленин родился...
Егор ИСАЕВ. Не вся земля в городах.
Иван РЯДЧЕНКО. И вновь семнадцать лет кому-то...
(Разрешите любить).
Анатолий СОФРОНОВ. Поэма времени.
Воспоминания
Героя Советского Союза адмирала Н. Г. КУЗНЕЦОВА (книга
третья).
Главного маршала авиации А. Е. ГОЛОВАНОВА (книга вторая).
wmm:mt»;mmmmmmmm»mmmmmmiwtmmiwmmmmmmm>mmtrt
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР
ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА
ОКТЯБРЬ
19 6 9
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
В НОМЕРЕ:
3
Л. Я. ФЛОРЕНТЬЕВ.
Единственно верный путь.
Георгий МДИВАНИ.
Твои сокровища, Россия. Киносценарий.
Максим ГЕТТУЕВ.
Эльбрус. Вахш. Вымокли бревенчатые стены... Стихи.
Адам ШОГЕНЦУКОВ.
Земная радость. Стихи.
Всеволод КОЧЕТОВ.
Чего же ты хочешь! Роман.
Людмила ЩИПАХИНА.
Дорожное утро. Стихи.
11
38
40
41
139
Рецензия на мои старые стихи. Дары судьбы. Стихи.
1ИНС. 1ДО
сказы. П*.
Джабир НОВРУЗ. 1Д1
Бетти КОЛЛИНС.
Звуки музыкм. Платье. Расск
ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ
М. БУРХАЧЕВА. 1 СА
Меняются времена — меняются люди. IJ4
Д. КРАМИНОВ. 1М
Америка смятения и раздоров. I U&
Борис МАЙОРОВ. 170
Я смотрю хоккей. I 10
ИСКУССТВО
Д. РАДЛОВ. 1Q-7
Люблю и ненавижу... I 3 ■
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА
О. РЕЗНИК. ОПО
Палитра поэта. L\)ù
ЧИТАЯ И ПЕРЕЧИТЫВАЯ КНИГИ
В. ШЕПЕЛЕВ. 010
Прозрение в пути. L I L
Б. ЛЕОНОВ. 01 С
Пора зрелости. L IJ
КОРОТКИЕ РЕЦЕНЗИИ
Вл. РАЗУМНЕВИЧ. О книге А. Везирова «Содружество
поколений». В. АНДРЕЕВ. О книге Владимира Матвеева
«Иней». Валентина ГОЛАНД. О книге Олега Смирнова
«Северная корона». Хазби БУЛАЦЕВ. О книге Ашота
Гарнакерьяна «Рассветной свежестью дорог». Евгений ООП
БЕЛЯНКИН. О книге Ивана Белякова «Тимошкин ковш». ZZU
■
Л. Я. ФЛОРЕНТЬЕВ,
министр сельского хозяйства РСФСР
Единственно
верный путь
■
\Л снова осень... Осень четвертого года пятилетки. Много добрых при-
^' мет несет она. Труженики села не пожалели сил, чтобы во-преки
всем капризам погоды, которыми изобиловали нынешние весна и лето,
вырастить высокий урожай, дать Родине больше хлеба, картофеля,
овощей, мяса, молока и других продуктов питания, сырья для
промышленности. И это вполне понятно: ведь с результатами нынешнего года
работники сельского хозяйства придут к 100-летию со дня рождения
В. И. Ленина.
Для колхозного крестьянства нынешняя осень примечательна еще
одним важным событием—подготовкой к Третьему всесоюзному
съезду колхозников. В Москву на съезд прибудут посланцы всех республик,
краев и областей нашей страны. На этом съезде они поведут глубокий
и всесторонний разговор о путях дальнейшего подъема сельского
хозяйства, обсудят и примут новый Устав — основной закон колхозной жизни.
Замечательные итоги, с которыми колхозное крестьянство приходит
к своему Третьему съезду,— яркое свидетельство постоянной заботы
нашей партии, всего советского народа о развитии сельского хозяйства.
Они являются результатом успешного осуществления новой
экономической политики в деревне, нашедшей свое воплощение в решениях
XXIII съезда партии и пленумов ЦК КПСС. Эти итоги — блестящее
подтверждение гениальной прозорливости великого Ленина, величайшей
жизненной силы ленинского кооперативного плана, осуществляя
который сельское хозяйство страны вышло на единственно верный путь —
путь коллективизации, путь создания крупных социалистических
сельскохозяйственных предприятий, оснащенных современной техникой.
Нельзя в эти дни не вспомнить слова В. И. Ленина, мечтавшего
из России нэповской сделать Россию социалистическую, думавшего о
том, чтобы «дать мужику» сто тысяч тракторов. И это было в самую
тяжелую пору — вскоре после гражданской войны. Именно тогда
Владимир Ильич указал генеральное направление развития и всестороннего
укрепления союза рабочего класса и крестьянства. Он писал в статье
«Лучше меньше, да лучше»: «Если мы сохраним за рабочим классом
руководство над крестьянством, то мы получим возможность ценой
величайшей и величайшей экономии хозяйства в нашем государстве
добиться того, чтобы всякое малейшее сбережение сохранить для
развития нашей крупной машинной индустрии, для развития
электрификации, гидроторфа, для достройки Волховстроя и прочее.
4
Л. Я. Флорентьев •
В этом и только в этом будет наша надежда. Только тогда мы
в состоянии будем пересесть, выражаясь фигурально, с одной лошади
на другую, именно, с лошади крестьянской, мужицкой, обнищалой,
с лошади экономии, рассчитанных на разоренную крестьянскую
страну,— на лошадь, которую ищет и не может не искать для себя
пролетариат, на лошадь крупной машинной индустрии, электрификации,
Волховстроя и т. д.».
Не сотня тысяч, а миллионы тракторов, комбайнов, автомобилей
и прочей современной техники сегодня в руках колхозников. Во всех
самых отдаленных уголках нашей страны нет ни одного колхоза без
лампочки Ильича. И уже не Волховстроем измеряем мы
энергетическую силу «лошади крупной машинной индустрии», но десятками
агрегатов волжских, сибирских и многих других электростанций. Не будет
преувеличением сказать, что именно благодаря коллективизации,
проведенной на основе ликвидации кулачества как класса, благодаря
строительству совхозов наше государство в трудную годину войны
сумело прокормить армию и население, без чего невозможно было
одержать победу над фашизмом. Кулак нам хлеба не дал бы. И теперь,
как и прежде, в союзе серпа и молота залог могущества нашей
Родины, залог наших новых успехов на всех участках коммунистического
строительства.
Серп и молот... Нет, они не случайно входят в наш
государственный герб. Именно эти орудия труда были, есть и будут всегда
символом и надеждой трудящегося человека земли.^Не случайно они и
обрамлены венком из пшеничных колосьев. Пока жив человек, ему нужен
хлеб. И не зря сказано: хлеб — всему голова.
«Коммунизм,— учил В. И. Ленин,— есть высшая ступень развития
социализма, когда люди работают из сознания необходимости работать
на общую пользу».
Какие это замечательные и глубокие по своему содержанию слова!
Вспоминается судьба одного из тысяч борцов за наш колхозный строй,
к кому, на мой взгляд, особенно подходят эти слова,— судьба
председателя колхоза имени В. И. Ленина, Больше-Мурашкинского района,
Горьковской области, Героя Социалистического Труда Петра
Михайловича Соколова.
Его жизнь весьма примечательна. После школы он работал на
одном из сормовских заводов сперва рабочим, а потом начальником
цеха, на заводе вступил в партию. Стал, что называется, коренным сор-
мовичем и не мыслил своей дальнейшей жизни без родного завода. Но
вот партия обратилась к коммунистам с призывом: селу нужны
хорошие организаторы. Петр Соколов подал заявление, за зиму окончил
краткосрочные курсы председателей колхозов и был рекомендован
райкомом партии в колхоз имени В. И. Ленина. В Сормове он оставил
привычную работу, квартиру. А что ждало его в селе, в отстающем
хозяйстве, его, горожанина? Но Петр Михайлович Соколов—коммунист.
Высокое сознание своего партийного долга, чувство хозяина не только
своего завода, но человека, ответственного и за судьбу колхозного
крестьянства, обостренное понимание того, как важно сохранить «малейшее
сбережение для развития нашей крупной машинной индустрии»,— все
это помогло Петру Соколову стать вскоре одним из лучших
председателей колхозов своей области и вместе с колхозниками артели добиться
крупных успехов в развитии общественного производства.
И это не случайно. Наш советский рабочий класс всегда активно
помогал и. помогает селу перестраивать уклад крестьянской жизни. Все
лучшее и передовое, чем он богат, становилось и становится достоянием
колхозного крестьянства: заводская организованность и сплоченность,
• Единственно верный путь
5
высокая культура труда, крепкая дисциплина, готовность пойти на
самопожертвование во имя высокой цели, чувство коллективизма и многое
другое.
А вот еще одна судьба, судьба исконной крестьянки Натальи
Наумовны Ткачевой. Она живет в колхозе «Рассвет», Егорлыкского района,
Ростовской области. Четырнадцати лет Наташа стала телятницей, в
двадцать один — звеньевой комсомольско-молодежного полеводческого
звена. Время было тяжелое, послевоенное, но Наталья Наумовна
сумела в 1948 году вместе со звеном собрать с гектара по 30 центнеров
зерна. Высшая награда страны — орден Ленина украсил грудь
звеньевой.
В следующем году Наталья Наумовна снова собрала высокий
урожай зерна, и снова Родина высоко отметила ее труд: ей был
вручен второй орден Ленина. За этот труд люди глубоко уважают ее.
Колхозники родной артели не раз избирали ее депутатом районного и
сельского Советов. Пользуется она уважением и как заботливая мать,
вырастившая двух детей.
За годы, прошедшие со времени принятия первого Примерного
Устава колхоза, в социально-экономической жизни советской деревни, как
и всей нашей страны, произошли гигантские изменения. Приведу лишь
несколько цифр. В 1935 году в нашей стране насчитывалось 245 тысяч
колхозов, в которые входило около 17 миллионов колхозных дворов.
Кроме того, имелось 3,5 миллиона единоличных крестьянских хозяйств.
Колхозы того времени были сравнительно мелкие: в среднем на каждый
из них приходилось 426 гектаров посевов. Около половины колхозов не
имело животноводческих ферм; в среднем на артель приходилось 14
коров, 20 свиней и 66 овец.
А в настоящее время у нас 34,5 тысячи колхозов, которые дают
государству более половины сельскохозяйственной продукции.
Сегодняшний колхоз — крупное, высокомеханизированное
социалистическое сельскохозяйственное предприятие, в котором имеются десятки,
а в некоторых — сотни тракторов, много автомобилей и другой техники.
К началу нынешнего года в сельском хозяйстве страны насчитывалось
3,6 миллиона тракторов (в 15-сильном исчислении), что впятеро больше,
чем в 1940 году. На полях работало 580 тысяч зерновых комбайнов, в
три с лишним раза больше, чем в довоенное время.
В 1968 году один колхоз Российской Федерации имел в среднем
6,8 тысячи га сельскохозяйственных угодий (из них почти четыре тысячи
га приходилось на долю посевной площади), в колхозном стаде артели
было свыше тысячи двухсот голов крупного рогатого скота (в том числе
более трехсот коров), шестьсот свиней, почти тысяча семьсот овец.
Повторяю, это средние- показатели.
А вот, к примеру, колхоз «Ленинский луч», расположенный в
тридцати километрах от Москвы. Ведущие отрасли этого довольно крупного
хозяйства Подмосковья — овощеводство и молочное скотоводство. Он
был создан в 1930 году. Основателями его были одиннадцать молодых
крестьянских хозяйств с тремя обобществленными лошадьми,
несколькими плугами и боронами. Земли артели занимали около тридцати
гектаров. Через год в колхоз вступило еще двадцать хозяйств. Спустя еще
год на его полях появился первый трактор и за счет банковского
кредита была приобретена дюжина коров.
Сегодня это хозяйство имеет 2 930 гектаров земли, в том числе
2 021 гектар пашни. В колхозе состоит около тысячи трехсот человек.
В этом году стоимость основных средств хозяйства достигла пяти с
лишним миллионов рублей. В хозяйстве около сотни тракторов, почти шесть
десятков грузовых автомобилей, много другой техники.
6
Л. Я. Флорентьев Ф
Невольно ловишь себя на мысли, что не зря колхоз называется
«Ленинский луч». Работа артели действительно озарена светом учения
В. И. Ленина. Нынешней осенью колхоз «Ленинский луч» собрал по
35 центнеров зерна, 200 центнеров картофеля, 500 центнеров овощей,
50 центнеров сена многолетних трав с гектара. Интенсивно
развивается и животноводство. От каждой из тысячи с лишним коров за восемь
месяцев надоено по 3 559 килограммов молока.
С каждым годом растет и оплата труда колхозников, которые
живут зажиточно и культурно. Почти полмиллиона рублей выделено в этом
году в фонд помощи и пенсионного обеспечения колхозников, а также
на культурно-бытовые нужды.
С радостью хочется отметить, что в РСФСР и других республиках
с каждым годом таких хозяйств становится все больше. В их
деятельности мы видим блестящее подтверждение великой жизненной силы
колхозного строя.
Практика колхозного строительства, проверенная десятилетиями,
крепнущие год от года мощь и сила наших колхозов, растущее
благосостояние колхозников и культура села — вот лучшее подтверждение
ленинского предвидения, творчески развитого нашей партией
применительно к данному этапу колхозного строительства. Нет сомнения в том,
что колхозы и совхозы в ближайшие годы порадуют нас новым
подъемом производства зерна, мяса, молока, овощей и других продуктов
сельского хозяйства. Обильнее станет стол советских людей.
Как известно, перед Третьим съездом колхозников по всей
стране прошло всенародное обсуждение проекта Примерного Устава
колхоза. Этот важнейший документ нашел горячее одобрение и
поддержку тружеников села и всего советского народа. На общих собраниях
колхозников, на областных и краевых конференциях каждый
выступающий мог внести предложение, дополнение, замечание в проект нового
Устава. В этом еще раз сказалась глубокая демократичность
советского строя, основы которой были заложены Лениным. Вспомним,
как умел слушать трудящихся В. И. Ленин, сколько побывало у него
крестьянских ходоков. В беседах с ними, в многочисленных письмах
крестьян Владимир Ильич умел нащупать биение пульса жизни
народа, найти верные решения самых сложных вопросов нашей политики
в деревне.
И какая же огромная разница будет между заботами
делегатов Третьего съезда и тех ходоков, которые хлопотали о нескольких
фунтах гвоздей, о мануфактуре, керосине, соли! Съезд наглядно
продемонстрирует могучие силы колхозного строя, успехи, которых
добилось сельское хозяйство за годы Советской власти, между Вторым и
Третьим съездами колхозников. Эти успехи найдут отражение и в
новом Уставе сельскохозяйственной артели, который примет Третий съезд
колхозников.
Уж коли речь зашла об Уставе, заглянем в действующий ныне
Примерный Устав. В нем указывается, что трудящиеся крестьяне
добровольно объединяются в сельскохозяйственную артель, чтобы
общими средствами производства и общим организованным трудом
построить коллективное, то есть общественное, хозяйство, обеспечить полную
победу над кулаком, над всеми эксплуататорами и врагами
трудящихся, обеспечить полную победу над .нуждой и темнотой, над
отсталостью мелкого, единоличного хозяйства, создавать высокую
производительность труда и обеспечить лучшую жизнь колхозников.
А какие цели ставит проект нового Устава, вынесенный на
обсуждение колхозного крестьянства?
В первом пункте проекта Примерного Устава сказано, что колхоз
• Единственно верный путь
7
является кооперативной организацией добровольно объединившихся
крестьян для совместного ведения крупного социалистического
сельскохозяйственного производства на основе общественных средств
производства и коллективного труда. Именно отношение общественной
собственности, будучи основным производственным отношением,
определяет социалистическое содержание кооперативной формы хозяйства,
рождает общность коренных интересов рабочих, крестьян и
интеллигенции, нерушимое политическое и идейное единство советского народа,
вызывает к жизни новые стимулы к труду, товарищеское
сотрудничество и взаимную помощь людей ради достижения общих целей.
Преамбула проекта нового Устава содержит такие слова: «Колхоз
как общественная форма социалистического хозяйства полностью
отвечает задачам дальнейшего развития производительных сил в деревне,
обеспечивает управление производством самими колхозными массами
на основе колхозной демократии, позволяет правильно сочетать яичные
интересы колхозников с общественными, общенародными интересами.
Колхоз — это школа коммунизма для крестьянства».
Не случайно поэтому в проекте Примерного Устава говорится, что
колхоз ставит своей важнейшей задачей «всемерно укреплять и
развивать общественное хозяйство, неуклонно повышать
производительность труда и эффективность общественного производства,
воспитывать колхозников в духе коммунистического отношения к труду». Слова
эти яснее ясного свидетельствуют о том, что сбываются вещие
предсказания В. И. Ленина. «Все, что мы достигли,— писал он,— показывает,
что мы опираемся на самую чудесную силу — на силу рабочих и
крестьян»,
Сельское хозяйство — большая, сложная и жизненно важная
отрасль народного хозяйства. Она призвана удовлетворять растущие
потребности населения в продуктах питания и промышленности — в сырье.
Как учил В. И. Ленин, без прочной сельскохозяйственной базы
«невозможно никакое хозяйственное строительство...».
Поэтому одна из важнейших задач колхоза, как это определено
в проекте нового Примерного Устава,— «увеличивать производство и
продажу государству сельскохозяйственной продукции путем
интенсификации и дальнейшего технического перевооружения колхозного
производства, внедрения комплексной механизации и широкого
осуществления химизации и мелиорации земель».
Короче говоря, Устав, закрепляя достигнутое, намечает и
развивает дальнейшие пути претворения в жизнь ленинских указаний о
непрерывном техническом прогрессе, о техническом перевооружении
сельскохозяйственного производства.
Мы видим также, как на основе ленинского учения в деревне
происходят огромные социально-экономические перемены, как растет
культурно-технический уровень советского крестьянства. Иными становятся
духовный облик, психология, привычки, быт сельского труженика, а сам
он делается все более активной силой строительства нового,
коммунистического общества.
Сельское хозяйство постепенно переводится на индустриальные
методы производства путем комплексной механизации всех отраслей,
строительства крупных сельскохозяйственных предприятий
промышленного типа и дальнейшего совершенствования в них технологии на
научной основе.
Растущее техническое оснащение колхозов, научная организация
производства и труда, правильная его оплата и повышение
культурно-технического уровня колхозных масс — прочная основа неуклонного
роста производительности труда в колхозах.
8
Л. Я. Флорентьев •
Директивы XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану на 1966—
1970 годы предусматривают повышение производительности труда в
сельском хозяйстве в среднем за год примерно на 7 процентов против
3,7 процента в предыдущей пятилетке. За истекшие три года
производительность труда в колхозах РСФСР выросла уже более чем на 35
процентов. Разумеется, резервы дальнейшего роста далеко еще не
исчерпаны.
Примечательно, что почти весь прирост производства продукции за
последние годы достигнут в основном за счет повышения урожайности
культур и продуктивности скота. Линия нашей партии на
интенсификацию сельского хозяйства активно претворяется в жизнь.
Но, как нас учит В. И. Ленин, Коммунистическая партия, мы не
можем почивать на лаврах, успокаиваться на достигнутом. Сельское
хозяйство— очень сложная и трудная отрасль, находящаяся пока в
немалой зависимости от природных условий. Нельзя не видеть, что уровень
работы руководителей и специалистов колхозов и совхозов далеко не
одинаков. Октябрьский (1968 год) Пленум ЦК КПСС вскрыл
имеющиеся недостатки и наметил широкую программу дальнейшего
ускоренного развития сельского хозяйства и его технического
перевооружения. Октябрьский Пленум поставил задачу уже в ближайшее время
обеспечить среднегодовое производство зерна в стране примерно до
190—200 миллионов тонн. Для этого необходимо довести урожайность
зерновых примерно до 16—17 центнеров, иными словами, повысить ее
на 5—6 центнеров по сравнению со средней урожайностью,
полученной за последние пять лет. Колхозам и совхозам предстоит решить
серьезные задачи по увеличению производства технических,
масличных культур, картофеля, овощей, фруктов и винограда. Очень важно
обеспечить более ускоренные темпы развития животноводства и
увеличения производства мяса, молока за счет повышения
продуктивности скота и за счет роста поголовья.
Основной путь решения этих задач — повышение культуры
земледелия, лучшее использование каждого участка земли.
Совпадение интересов колхозников с интересами своего колхоза
и общенародными интересами служит основой формирования идейных
стимулов к труду. Именно это вызывает у колхозного крестьянства
стремление максимально увеличивать свой личный трудовой вклад в
общественное производство, что, в свою очередь, способствует
развитию соревнования, повышению творческой активности и инициативы
каждого во имя общей цели. В этом видится залог неиссякаемости
того резервуара возможностей человеческого материала, о котором
писал В. И. Ленин.
Кстати, хочу посоветовать «борцам» и «выразителям» народного
духа, ревнителям курной избы, слюдяных оконцев и «журавлей» над
срубами колодцев побывать в колхозе «Большевик», Гусь-Хрустального
района, Владимирской области, которым более сорока лет
бессменно руководит первый его организатор Герой Социалистического Труда
Аким Васильевич Горшков. Артель эта расположена в Мещере, которая,
как известно, прежде славилась разве что обильным комариным
«поголовьем» да болотами.
Аким Васильевич с первыми коммунистами начал свое хозяйство
с закладки шалаша. В нем готовили пищу, тут было и правление и
жилье. Валили лес, рубили кустарник, корчевали пни, осушали
болота— отвоевывали у Мещеры землю. И земля отзывалась на эту
заботу, на эти усилия людей.
Сегодня сельскохозяйственная артель «Большевик» — крупное,
высокомеханизированное социалистическое хозяйство, которое имеет че-
• Единственно верный путь
9
тырнадцать тысяч гектаров земли и развитое животноводство. Высокая
культура земледелия позволила собирать на скудных землях Мещеры
по 23 центнера зерна с гектара, по 280 центнеров картофеля, свыше
270 центнеров овощей. Удои коров достигают 3 624 килограммов молока.
Колхоз значительно перевыполняет все планы по продаже
сельскохозяйственных продуктов государству.
Наряду с основными отраслями производства здесь широко
развиваются подсобные предприятия по переработке и использованию
местного сырья — это дает дополнительные ощутимые доходы. Достаточно
сказать, что годовая выручка от подсобного промысла здесь близка к
миллиону рублей, из которых около четверти — чистая прибыль. Умелое
ведение подсобных промыслов позволило решить важную проблему
круглогодовой занятости колхозников и довести их заработки до 120—130
рублей в месяц.
Общий денежный доход колхоза достиг в 1968 году 2 248 тысяч
рублей, что создало благоприятные условия не только для развития
производства, но и весьма положительно сказалось на улучшении
культурно-бытовых условий колхозников. На том месте, где стоял
шалаш—первое жилище основателей артели, сейчас раскинулся утопающий в садах
живописный, благоустроенный поселок — дома с водопроводом,
канализацией, ваннами, газом. В поселке построен клуб, богатая библиотека,
школа-интернат, АТС, Дом агрозоотехнической культуры с
агрохимической лабораторией, детский комбинат, Дом быта, универмаг, отделение
связи. Строится дом отдыха для колхозников.
Большинство членов этой артели имеют среднее, высшее и
специальное техническое образование. В колхозе — свыше двадцати
специалистов сельского хозяйства, тридцать учителей. Почти сорок колхозников
учатся заочно в институтах и техникумах.
За последнее время в Российской Федерации и других республиках
накоплен опыт по строительству центральных усадеб колхозов с
современным уровнем благоустройства и культурно-бытового обслуживания
тружеников сельского хозяйства.
Особый интерес представляет растущий поселок колхоза име^и
Кирова, Брянского района, центральная усадьба которого включена в
план экспериментально-показательного строительства Брянской
области. Работа здесь началась два года тому назад с прокладки
инженерных сетей. Уже окончено сооружение канализационной сети с очистными
сооружениями, теплотрассы с центральной котельной, водопровода,
центральной улицы с твердым железобетонным покрытием, школы на 320
мест со спортивным залом, общежития на 50 мест, двух восьмиквартир-
ных домов. Завершается строительство пекарни с магазином,
торгового центра, сада-яслей на сто детей, двух четырехквартирных домов,
бани с прачечной. Проектировщики не забыли и парка культуры,
стадиона, искусственного водохранилища. Сметная стоимость поселка —
около трех миллионов рублей.
С каждым годом хорошеет советская деревня, растет ее культура,
повышается уровень бытового обслуживания сельских тружеников. Почти
четвертая часть колхозников имеет среднее образование, многие
получили высшее образование или заочно учатся в вузах. Около миллиона
колхозников обучается в вечерних и заочных сельских школах. Большой
размах приняло культурно-просветительное строительство. Достаточно
сказать, что только за последние три года на селе появились новые
клубы, способные вместить более миллиона человек. Активными
проводниками культуры на селе все больше становятся сельская интеллигенция
и молодежь.
Могу добавить к сказанному, что для дальнейшего улучшения куль-
10
Л. Я. Флорентьев •
турно-бытовых условий жизни колхозников, для преодоления
различий между городом и деревней проектом Примерного Устава колхозам
предоставляется право объединять часть своих средств со средствами
местных Советов депутатов трудящихся, совхозов и других
государственных и кооперативных предприятий и организаций для строительства
в колхозах на долевых началах домов культуры, бытовых комбинатов,
пекарен, бань, прачечных, столовых, для благоустройства и
проведения других мероприятий.
Масштабы этих работ на селе, к сожалению, пока сдерживаются
недостатком строительных материалов, слабостью межколхозных и
государственных строительных организаций. Поэтому необходимо
всемерно поощрять создание и укрепление межколхозных организаций,
объединение усилий колхозов, способных иметь свои кирпичные заводы,
каменные карьеры, предприятия для производства железобетона,
заготовки лесоматериалов.
По мере развития колхозного производства и укрепления
экономики колхозов происходит совершенствование социально-экономических
отношений в деревне. Повышается уровень обобществления средств
производства, который выходит за рамки отдельных колхозов, все прочнее
становятся взаимоотношения колхозов с государственными
предприятиями и организациями, растут прямые связи артели с торговлей,
бурно расширяются межколхозные связи, все большее положительное
влияние на многие стороны колхозной жизни оказывают набирающие силу
межколхозные объединения по строительству, производству
строительных материалов, по выращиванию и откорму свиней и крупного рогатого
скота, по ведению хозяйства в колхозных лесах, по переработке
сельскохозяйственного сырья.
В настоящее время особое значение приобретают вопросы
правильной специализации и концентрации колхозного производства, его
дальнейшей интенсификации на основе научно-технического прогресса,
планомерного внедрения промышленных методов во все его отрасли.
В специализированных хозяйствах, организующих массовое
непрерывно-поточное производство промышленного типа, внедряется четкая
высокомеханизированная технология, которая позволяет значительно
снизить затраты труда на единицу продукции. Производство
животноводческих продуктов переводится на промышленную основу. В ближайшие
годы в хозяйствах РСФСР и других республик будут построены крупные
свиноводческие комбинаты, комплексы по производству молока и
откорму крупного рогатого скота и другие.
Коллективный и правильно организованный труд крестьян не только
основа роста общественного хозяйства и колхозного производства, но и
мощное средство воспитания в людях марксистско-ленинской
идейности, коллективизма. Этим же целям служат широкая колхозная
демократия, активное участие членов артели в управлении государственными
и кооперативными делами. Глубокий демократизм, пронизывающий все
стороны колхозной жизни, способствует воспитанию у членов артели
чувства хозяина колхоза, ответственного за все его дела перед
обществом.
На данном этапе коммунистического строительства колхоз как
форма социальной и экономической организации по-прежнему
олицетворяет верность незыблемым ленинским принципам, является для
крестьянства подлинной школой коммунизма.
•
Георгий МДИВАНИ
Твои сокровища,
Россия
КИНОСЦЕНАРИЙ ■
В Зимнем дворце укрылась от революции петербургская знать. Люди
сидят в пальто и шубах на роскошных, обитых шелком креслах и
диванах.
Многие из них, расстелив дорогие пледы и покрывала, подложив
под голову узлы, чемоданчики или саквояжи, лежат прямо на
инкрустированном полу. Кое-где играют в карты. Едят...
Эти люди смотрят тревожными, вопросительными глазами, как
будто хотят узнать, что их ожидает сегодня.
Слышна далекая ружейная стрельба, доносятся пулеметные очереди.
На экране возникают большие залы Зимнего. Стены обиты шелком
и расшиты золотом.
Освещенные керосиновыми лампами и стеариновыми свечами,
панорамой плывут живописные полотна великих художников.
Всем известные портреты.
Картины смертельных схваток.
Изображения распятия и снятия с креста.
Картины ликования и горя народного.
Зеленеющая весной природа и увядание осени.
Спокойные закаты и бушующее море...
Таков Зимний дворец в октябрьские дни тысяча девятьсот
семнадцатого года....
А на Невском проспекте горят костры. У костров греются
красногвардейцы, солдаты, матросы, вооруженные рабочие.
Горят костры и на Дворцовой набережной. Вокруг них тоже
видны фигуры вооруженных людей.
На фоне октябрьского ночного неба вырисовываются контуры дворца.
Он еще не окружен восставшим народом. Но во дворе, на
набережной юнкера, солдаты и казаки строят баррикады, укладывают штабелями
дрова, оставляя амбразуры для пулеметных гнезд, пушек. На
баррикадах устанавливают пулеметы, выкатывают орудия...
В небольшой комнате на столе разложен план города. Это план
Петрограда. На нем карандашами разных цветов обведены важнейшие
объекты: вокзалы, электростанции, телеграф, телефонная станция, Генеральный
штаб... На полях плана знакомым почерком Ленина примечания.
Слышен спокойный голос Владимира Ильича.
12
Георгий Мдивани •
— Значит, давайте еще раз, последний раз,— повторяет он,—
проверим весь план действий. Одновременно, в один и тот же час, захватить
все уличные артерии, площади и мосты. Все вокзалы и
железнодорожные пути!
Ленин стоит у стола над планом города. За столом — Свердлов,
Подвойский, Антонов-Овсеенко. В руках у них блокноты и карандаши.
— Захватить телефон. Телеграф,— продолжает Ленин.—
Адмиралтейство. Захватить все средства передвижения. Трамваи. Автомобили.
Ленин внимательно оглядывает присутствующих.
— Захватить власть,— спокойно говорит он,— это значит завтра же,
сегодня же дать населению хлеб. Мясо. Надо немедленно поручить
районным комитетам охрану водопровода, складов продовольствия,
электростанций — всего того, без чего завтра не сможет жить город!
Ленин перелистывает несколько страниц записной книжки,
вчитывается в какие-то пометки и, очевидно, вспомнив о чем-то очень важном,
добавляет:
— Ни в одной стране, может быть, кроме Италии или Франции, не
собрано столько произведений искусства великих мастеров — живописных
полотен, скульптур, — как в России! Не так ли?
— Да, так, Владимир Ильич,— отвечает Свердлов.
— Русские князья и купцы,— продолжает Ленин,— соревнуясь в
роскоши, скупали бессмертные творения великих художников разных эпох.
И все это находится в музеях, дворцах, в домах и на квартирах у частных
лиц. Мы не можем обвинить разгневанного пролетария, идущего с
оружием в руках в наступление на старый мир, если он иной раз невежливо
будет обращаться с Микеланджело, Рубенсом, Делакруа или с
Васнецовым, принимая их творения за буржуазную роскошь. Но
каждому солдату революции надо разъяснить, что Зимний дворец —
это не только жилые апартаменты русских императоров и убежище
Временного правительства, но и крупнейший в мире музей искусства —
народного искусства! И, конечно, будет непоправимой ошибкой, если
во время боев за Зимний пострадает Эрмитаж! Надо сейчас же,
немедленно разослать агитаторов во все революционные войсковые
части и разъяснить каждому вооруженному матросу, солдату,
красногвардейцу, что он обязан оберегать музеи, дворцы, исторические памятники в
Петрограде и вокруг Петрограда как народное добро!
— Сделаем немедленно, Владимир Ильич! — говорит Подвойский.
— Надо, чтобы «Аврора» и Петропавловская крепость стреляли по
Зимнему только холостыми снарядами!
— Понятно, Владимир Ильич! — отвечает Подвойский.
— Но пусть в самом Зимнем думают, что мы камня на камне не
оставим от дворца. И от Эрмитажа тоже! Сигналом штурма будет выстрел
«Авроры»! — Ленин положил карандаш на стол.— Все остальное
теперь зависит от темпа событий. Завтра и только завтра! А не
послезавтра! Ни в коем случае! Иначе судьба революции будет поставлена на
карту!
Свердлов встал, посмотрел на часы:
— Мы вас вынуждены покинуть, Владимир Ильич!
— По-моему, сидеть в подполье мне уже ни к чему! — убеждает
своих товарищей Ленин.
— Нет, Владимир Ильич! — поднимаясь с места, говорит
Подвойский. — Вам пока выходить не следует. Зачем рисковать?
И снова улицы Петрограда. На мостах через Неву — юнкера.
Гулко бьют копыта лошадей. По пустынным улицам проезжает
конный патруль казаков.
• Твои сокровища, Россия
13
Центральный подъезд Зимнего дворца охраняют женщины из
«Ударного батальона». Высокие мраморные лестницы, комнаты, залы. В
коридорах почти на каждом повороте стоят пулеметы.
У пулеметов — юнкера. Здесь же спят женщины-«ударницы».
Повсюду вооруженные солдаты и казаки...
По длинной галерее Эрмитажа идет седой, высокий, худой человек
в форме полковника. Ему лет пятьдесят пять. Это Оленский. Он держит в
руках высоко поднятую лампу и освещает картины. Останавливаясь перед
каждым полотном, Оленский долго разглядывает его.
За ним следует Ольга Ивановна, его жена, тоже с лампой в руках.
Оленских сопровождают несколько служителей музея. И они держат
лампы, стеариновые свечи в бронзовых подсвечниках.
Двое служителей — очень старые, знающие здесь все. Наверное, они
даже во сне помнят выражение лиц на каждом портрете в этом
огромном музее. Помнят, чьи глаза выражают иронию, чьи — бесстрашие. Чьи
лица надменны и на чьих — безумный страх перед неминуемой
гибелью...
Некоторые служители несут снятые со стен картины, чтобы укрыть
их в хранилище музея.
Оленский разглядывает картины грустными глазами, словно в
последний раз видит дорогие его сердцу произведения...
Но полотна слишком велики! Они в тяжелых золоченых рамах. Все
в хранилище не перетащишь!
Оленский вопросительно смотрит на жену, на своих сотрудников...
Старший из служителей музея, Иван Иванович, качает головой:
— Куда же такую громадину, Дмитрий Петрович? Как нам поднять
ее? И куда поставишь?..
Оленские и служители музея идут дальше. Свет ламп и свечей
скользит по величественным полотнам.
Вырисовываются лица на известных картинах, изображающих
императоров, купцов, великомучеников, куртизанок, мадонн, Христа,
святых...
Слышен голос Оленского:
— Вы, дорогие мои, цари и нищие! Преступники и судьи!
Патриции и рабы. Святые и грешники — вы все для меня одинаково дороги,
одинаково мною любимы...
Проплывают портреты людей. Гордых и величественных.
Перепуганных и хитрых. Надменных и робких. Молодых красавиц и дряхлых
старух.
И снова слышен голос Оленского:
— Неужели вы, которые казались мне вечными и бессмертными,
которые восхищали взоры своим великолепием; рассказывали людям о
тайнах бытия, о взлетах человеческого разума и о горьких падениях...
Неужели вам сегодня конец?! Исчезали народы, а вы оставались немыми
свидетелями событий. Убивали царей и императоров, приходили
царствовать убийцы, а вы оставались... И неужели всем вам суждено сегодня
погибнуть?..
Оленский подходит к маленькому полотну — шедевру живописи,
передает лампу жене и бережно снимает картину со стены.
Он отдает картину одному из служителей и снова берет лампу. И
опять идет дальше.
А за окнами гремят винтовочные выстрелы.
Где-то строчит пулемет.
Кто-то отчаянно кричит.
Слышны слова военной команды.
На глазах у Оленского слезы. Освещенный керосиновой лампой, он
сейчас мало похож на того человека, который только что шел вдоль
галереи, отбирая то, что еще можно сегодня спасти от гибели. Его лицо
14
Георгий Мдивани #
напоминает портрет кисти большого мастера, воплотивший все
характерные черты человека, объятого страшным предчувствием неминуемой
катастрофы.
Рядом с ним Ольга Ивановна. Она глядит на мужа, робкая и
взволнованная...
Ночь. Тускло освещенный Невский проспект.
Во мгле видно, как идет отряд вооруженных матросов.
Рядом с колонной матросов шагают в строю солдаты.
Головная часть колонны подходит к арке перед Дворцовой площадью
и останавливается. По Адмиралтейской набережной движутся
красногвардейцы и солдаты. По приказу командиров матросы, красногвардейцы и
солдаты окружают Зимний дворец. Через амбразуры баррикад юнкера
видят, как напротив них занимают позиции солдаты революции.
В Петропавловской крепости артиллеристы становятся у пушек.
Жерла орудий поворачиваются к вырисовывающемуся за Невой дворцу.
Со стороны набережной за спинами солдат и матросов виден силуэт
дворца.
На Миллионной красногвардейцы и матросы, пригнувшись,
перебегают за углами домов.
На улице группа матросов останавливает фаэтон.
— Ваши документы? — резко спрашивает матрос у испуганного
господина в шляпе.
На пустынном проспекте красногвардейцы останавливают
автомобиль.
— Документы! — требует красногвардеец у сидящих в автомобиле.
Ружейная перестрелка доносится в Малахитовый зал Зимнего
дворца, где заседает правительство Керенского.
Керенский говорит стоя:
— Положение, господа, серьезное. Скажу больше — критическое!
Весьма критическое! Мы недооценили влияния .большевиков в Советах.
Недооценили лозунг выдвинутый ими для обмана народных масс, о
передаче земли крестьянам, фабрик и заводов — рабочим. Каждый час
приближает нас к катастрофе. У большинства находящихся в Петрограде
полков наше правительство уже не имеет влияния, и в любую минуту они
могут присоединиться к вооруженной большевистской банде! С
сегодняшнего дня по распоряжению правительства закрыты все большевистские
газеты и задержаны тиражи! Я отдал приказ прокурору Судебной
палаты арестовать весь Центральный Комитет большевиков! Непременно
разыскать Ульянова-Ленина, который находится в городе и, скрываясь в
подполье, руководит действиями мятежников. Его надо арестовать!
Обезглавив большевистских бунтарей, мы еще получим надежду
предотвратить анархию и сохранить республику! По моему приказу в Петроград
направляются, снятые с фронтов, несколько верных нам крупных военных
соединений. Через два, максимум через три дня мы сможем
восстановить порядок в столице! Наша сегодняшняя задача: всеми силами, всеми
возможными средствами, — громко и нервно продолжает Керенский, —
оттянуть на несколько дней выступление большевиков и удержать в
своих руках Зимний дворец — цитадель нашей республики! Нам известно,
что в Центральном Комитете большевиков возникли серьезные
разногласия по вопросу о вооруженном восстании. Имеются все основания
полагать, что противники восстания, а это весьма влиятельные люди в Цека
большевиков, такие, как Зиновьев, Каменев, если и не смогут помешать
восстанию, то, наверное, их оппозиция все же вызовет оттяжку
выступления большевиков. Надо использовать против наших врагов все возмож-
# Твои сокровища, Россия
15
ные средства! Засылка агентов в ряды бунтарей! Аресты! А в случае
надобности — расстрелы! Расстрелы, господа! Во что бы то ни стало
отстоять Зимний дворец! Зимний для нас имеет не только стратегическое
значение, но и символическое! Высоко символическое значение! Сегодня я
имел беседы с послами Соединенных Штатов и Англии. Вы можете
не сомневаться в их искреннем расположении к нашему правительству!
Стрельба на улице усиливается.
Керенский беспокойно смотрит на окна. Затем, покачав головой,
снова поворачивается к членам правительства.
— Англией и Соединенными Штатами нам обещана всемерная
помощь! Любая помощь, лишь бы предотвратить катастрофу. Среди
защитников Зимнего дворца уже сегодня есть солдаты английской армии с
броневиками!
Керенский замолчал. Оглядывается на окна, прислушиваясь к
стрельбе.
Члены правительства нервно переглядываются.
— Господа! Наши друзья,— Керенский комкает в руках носовой
платок,— посоветовали направить кого-нибудь из самых влиятельных членов
правительства навстречу войскам, идущим на спасение Петрограда, для
того, чтобы обратиться к солдатам и офицерам с призывом о защите
завоеваний нашей революции! Надо послать человека... человека,— повторяет
он,— который способен горячим словом воздействовать на людей!
— Господа! — громко произносит министр Кишкин и встает. — Никто
из нас не сможет так блестяще выполнить эту важную задачу, как сам
Александр Федорович! Я предлагаю просить председателя правительства
взять на себя нелегкую миссию и повести верные революции войска на
помощь столице! — Он оборачивается к Керенскому. — А мы, дорогой
Александр Федорович, обещаем вам всеми возможными силами удержать
дворец до вашего возвращения!
— Нет, господа! — заявляет Керенский.— Я не имею морального
права покинуть сегодня Петроград! Если я уеду, то об этом узнают не только
в Зимнем дворце, но и во всем Петрограде. Мятежники используют мой
отъезд в своих провокационных целях.
Из-за стола поднимается министр внутренних дел. Он сравнительно
молод. У него высокий лоб и решительное лицо. Наверное, он из тех
людей, которые не брезгуют никакими средствами для достижения своих
целей.
— Я гарантирую сохранение полной тайны отъезда Александра
Федоровича,— горячо говорит министр внутренних дел.— Никто, кроме здесь
присутствующих — ваших личных друзей и соратников,— не будет знать
о том, что вы, Александр Федорович, покинули Петроград! А кто лучше
вас сможет выполнить задачу, от решения которой, нечего скрывать,
зависит сегодня судьба России?
— Зимний окружен,— тихо произносит один из министров.—
Александр Федорович вряд ли сможет выбраться из дворца.
— Об этом не беспокойтесь, господа! — Генерал, начальник
дворцового управления, выпрямляется в кресле. — В Зимнем есть тайные ходы
Через них можно безопасно выйти из дворца.
— Господа! Когда родина в опасности, я готов выполнить любой ее
приказ! Я подчиняюсь вашей воле, господа!
Керенский входит в свою комнату, гасит свет, раздвигает шторы и
видит под самыми окнами поблескивающую Неву.
По Неве, освещая мощными прожекторами оба берега, движется
крейсер «Аврора». Он приближается к Николаевскому мосту...
Керенский быстро опускает шторы, зажигает свет и в поисках каких-
то документов выбрасывает бумаги из ящиков стола. Слышится гул
машин крейсера. Керенский не выдержал, резко повернулся и вышел из
комнаты.
16
Георгий Мдивани •
Через анфилады комнат и залов, забитых петербургской знатью, не
оглядываясь по сторонам, стремительным шагом идет Керенский в
сопровождении генерала — начальника дворцового управления, министра
внутренних дел и капитана.
Люди, заполнившие залы дворца, с отчаянием и надеждой глядят
вслед удаляющемуся председателю...
Оленский, который вместе со своими сотрудниками, продолжает
рассматривать и снимать некоторые картины, замечает появившуюся из
глубины галереи группу в пять человек. Они останавливаются в темноте. От
группы отделяется капитан и подходит к Оленскому.
— Господин полковник, вас просят...
Ольга Ивановна смотрит, как Оленский вместе с капитаном и
пришедшими людьми удаляются в глубь галереи.
Взволнованная Ольга Ивановна, держа в руках лампу, спешит за
мужем. Она открывает дверь своей комнаты и замирает на пороге. В
комнате — ее муж, Керенский, министр внутренних дел, адъютант Керенского,
генерал и капитан. Они поворачиваются к вошедшей.
— Господа, это моя жена. Ольга Ивановна! Доверенное лицо! —
произносит Оленский.
— Здравствуйте, мадам!—галантно кланяется Керенский.—
Простите за вторжение, но...
— Что вы! Что вы! Пожалуйста, Александр Федорович!
— Оленька,— извиняющимся тоном обращается Оленский к жене,—
нам нужно какое-нибудь платье... Твое платье...
— Мое платье? — Ольга Ивановна удивленно приподнимает брови.
— Да, платье...
— Пожалуйста! — Ольга Ивановна указывает рукой на шкаф.
— Оленька, оставь нас одних. — Оленский просительно смотрит на
жену.
— Извините, сударыня! — Министр слегка кивает на дверь.
— Пожалуйста. — Ольга Ивановна выходит из комнаты.
Оленский быстро открывает шкаф. На вешалке — платья...
Министр выбирает из них темное, с белым передником и красным
крестом на груди — это форма сестры милосердия. Поворачивается к
Керенскому:
— Александр Федорович, думаю, это самое подходящее.
Керенский пожимает плечами, улыбается и вопросительно смотрит на
остальных. Все чувствуют себя неловко.
Ольга Ивановна стоит у дверей своей комнаты с лампой в руках.
Дверь отворяется. Из комнаты выходит высокий человек в платье
сестры милосердия, с белой косынкой на голове, поверх которой — шаль
Ольги Ивановны.
За «сестрой милосердия» следуют министр, адъютант, генерал,
Оленский и капитан.
Ольга Ивановна удивленно смотрит на этот маскарад, потом подходит
к мужу.
Керенский, в женском платье, и сопровождающие его скрываются в
темной галерее...
Оленский тяжело вздыхает и шепчет жене:
— Об этом никто, никто не должен знать.— Он морщится, кажется,
ему стыдно в эту минуту.
— Куда он? Зачем это? — недоуменно спрашивает Ольга Ивановна.
— Не знаю... Говорят, что так надо.— Оленский пожимает плечами и
машет рукой.
Неожиданно внимание Оленского и служителей музея привлекает шум
Щ Твои сокровища, Россия
17
рвижущихся по паркету колес пулемета и топот солдатских сапог,
гулко отдающийся под сводами картинной галереи.
Оленский видит, что по галерее идет группа солдат, человек
двадцать, таща за собой несколько станковых пулеметов.
Впереди — солдат с фонарем.
Оленский до такой степени ошеломлен всем увиденным, что застывает
ка месте и от возмущения не может вымолвить ни слова.
Солдаты с пулеметами проходят на фоне знаменитых шедевров
живописи эпохи Возрождения...
— Сюда! — приказывает молодой прапорщик, указывая рукой на
высокое окно галереи.
Проходя дальше, прапорщик отдает распоряжения другим солдатам:
— А вы сюда! И сюда поставьте!
Прапорщик останавливается у наглухо закрытых дверей.
— Открыть дверь и установить пулемет на балконе!
Солдаты тянут оконные рамы и двери; они не поддаются.
— Что они делают? — с отчаянием шепчет Оленский, но вдруг
повышает голос: — Господа, этого делать нельзя!
Его никто не слушает.
— Господин прапорщик! — резко обращается к офицеру Оленский.
— А что вас, собственно говоря, беспокоит? — тихо и спокойно
спрашивает прапорщик.
— Прекратите! Ни окна, ни двери здесь никогда не открываются. Это
картинная галерея!
— Ну и что? — недоумевает прапорщик.
— В картинной галерее должна сохраняться постоянная температура.
Немедленно прекратить это безобразие! — кричит Оленский.
— Не кричите, пожалуйста! — нагло отвечает прапорщик.
— Я приказываю! — уже орет Оленский и, чтобы воздействовать на
прапорщика, представляется: — Я хранитель музея, князь Оленский.
— Господин полковник, — спокойно отвечает прапорщик. — В этой
части дворца командую я один! Разрешите представиться: прапорщик,
князь Орлов!
В это время один из солдат с силой потянул на себя оконную раму.
Она подалась, накренилась и рухнула. Раздался треск и звон разбитого
стекла. В галерею ворвался вихрь холодного воздуха, гул взбудораженной
улицы.
— Молодец, Никита! — весело кричит один из солдат.
Два солдата, подняв, приладили на подоконнике станковый пулемет.
В другом месте солдатам, видимо, надоело возиться с наглухо
закрытым окном. Они выбивают прикладом громадное стекло.
Одновременно в нескольких местах галереи раздается звон разбитых
стекол и треск оконных рам...
По галерее пронесся сильный сквозной ветер. Погасли керосиновые
лампы в руках у служителей музея.
Оленский бежит по длинной галерее и неистово кричит:
— Гибнет! Все гибнет! Помогите! По-мо-ги-те!..
В длинных, глухих и темных галереях музея отдается крик Оленского:
«Помогите! По-мо-ги-те!»
На стенах возникают встревоженные, надменные, грозные,
иронически улыбающиеся лица с известных полотен Рембрандта, Тициана,
Греко...
Обезумевший Оленский рванул на сеоя высокие двери Малахитового
зала, где заседают министры — члены правительства.
— Господа! — кричит Оленский, прерывая выступающего оратора.
Все с удивлением повернули головы в его сторону.
2. «Октябрь» № 10.
18
Георгий Мдивани 6
— Господа! Помогите! — задыхаясь от волнения, говорит он.— Все
гибнет! Гибнет Эрмитаж! Несчастье!.. В картинных галереях ставят
пулеметы! Бьют стекла! Двери! Ветер... Холодный ветер в галереях
Эрмитажа, господа! Гибнут великие творения! Помогите!..
— Кто этот дурак? — тихо, но с возмущением спрашивает
председательствующий Кишкин, сердито глядя на Оленского.
— Князь Оленский, мой помощник по Эрмитажу... Хранитель
музея,— как бы извиняясь, отвечает начальник дворцового управления.
— Ну и что? — спрашивает Кишкин. — Кого сегодня интересуют
картины и ваш музей? Кто вам дал право врываться в зал заседаний
правительства? — обращается он к Оленскому и презрительно добавляет: —
Бездельники!
Смущенный генерал быстро встает, подходит к обомлевшему
Оленскому и берет его под руку:
— Пойдемте, князь!
Один из министров шепчет на ухо министру внутренних дел:
— Этот «дурак» — сегодня самый богатый человек в России!
— Неужели?
— В его руках миллионы! — тихо говорит министр.— Из
Эрмитажа сегодня можно унести миллионы! Разумеется, унести их для того, чтобы
из-за границы начать войну против большевиков! Не подумайте ничего
иного!
Видимо, эти сведения об Оленском сильно заинтересовали министра
внутренних дел, и, стараясь держаться хладнокровно, он спрашивает:
— Что же это за богатства?
— Большие богатства,— уже неохотно отвечает собеседник.
— Мы в окружении, а картин в кармане не унесешь. Ни Рембрандта,
ни Рубенса! — Министр внутренних дел безнадежно машет рукой.
— Сейфы,— шепчет министр.— Старинное золото... Бриллианты...
Музейные ювелирные ценности дворца! Миллионы золотом! — И вдруг
торжественно добавляет: — Это история нашего отечества! А ключи
от сейфов в руках вот этого дурака,— продолжает он будничным тоном
и указывает на дверь, за которой скрылись Оленский с генералом.
— Э-эх, мой дорогой друг. — Министр внутренних дел саркастически
усмехается. — Если победят большевики, никакими ценностями из сейфов
Эрмитажа, сколько бы они ни стоили, Россию уже не спасешь!
Во время этого разговора остальные министры возбужденно спорят,
перебивая друг друга.
Наконец министр внутренних дел встает.
— Господа, прошу выслушать меня!
— Прошу вас! — говорит Кишкин.
Все замолчали.
— Через день-два,— начал министр внутренних дел,— Александр
Федорович вернется в Петроград с верными нам войсками! А с
сегодняшнего дня я предлагаю прекратить всякие заседания. Собираться
исключительно для обсуждения текущих вопросов общего порядка.
Следует немедленно распределить обязанности между членами
правительства, и чтобы каждый из нас в определенное время суток отчитывался
перед заместителем председателя! — Он указывает на Кишкина.
— Это правильно! — Кишкин наклоняет голову.
Понизив голос, глядя на дверь, за которой скрылись Оленский и
генерал, министр внутренних дел продолжает:
— Я против того, чтобы мы доверялись царским генералам. Вы,
господа, как истинные революционеры, поймете меня! Поэтому лично я беру
на себя охрану дворца! Я гарантирую защиту Зимнего в течение
нескольких дней... Скажем, четырех дней... А если понадобится, то и пяти
# Твои сокровища, Россия
19
дней! Пусть господин заместитель председателя займется общей
координацией наших сил и распределит среди членов правительства
обязанности в эти тревожные для России дни!
На широкой мраморной площадке лестницы, сидя у скульптурной
фигуры, курят два солдата.
Один из них, глядя на стенную роспись, изображающую
кавалерийскую схватку, гасит цигарку о мраморное колено статуи.
— Как только царь в такой конюшне жил? Разве можно тут спать,
обедать и детей рожать? Здесь собственную жену и то не обнимешь! Одна
срамота! Со всех сторон на тебя всякие люди глаза таращат. И зачем
только рисуют этакую чепуху? А сколько надо было тому чудаку
трудиться, чтобы вырубить вот эту безрукую бабу! Сколько пота он пролил!
А зачем, я тебя спрашиваю?
— Ничего ты не понимаешь. — Второй солдат задумчиво смотрит на
стену.— Люди, которые вот эти штуки делали, говорят, великие мастера!
Сам слыхал.
— Э-эх ты! «Великие мастера»! — Первый солдат
пренебрежительно сплевывает. — Вот жил у нас в деревне кузнец. Тимофеем звали. Так
он делал цепь до того тонкую, словно волосок! И ни в одном кольце
место сварки не найдешь. Можно было этой цепью собаку привязать,
даже быка! Помню, в тринадцатом году у нас в деревне староста спьяну
повесился на цепи Тимофея. И цепь не порвалась! Вот то был мастер!
А это что? — Он хлопает по ягодицам мраморной статуи своей большой
ладонью.— Ни к чему не пригодная штука! На пугало в огороде — и то
не сгодится...
Усталые Оленский, Ольга Ивановна и служители музея, нагруженные
картинами, снятыми со стен для отправки в тайники, освещая путь
керосиновой лампой, идут вдоль галереи. Их догоняет молодой капитан.
— Простите, князь, вас просит министр!
Оленский передает картины идущим за ним служителям и говорит:
— Оленька, я сейчас. — И уходит вслед за капитаном.
Открываются двери одной из комнат. Входит Оленский. За ним —
капитан.
За рабочим столом сидит министр внутренних дел.
Оленский направляется к столу.
Министр выходит из-за стола и протягивает ему руку.
— Очень рад, князь! Садитесь.
— Благодарю вас, господин министр.
— Наше положение весьма критическое, — сразу начинает министр. —
Не скроем от вас, даже катастрофическое! Правительство возложило
на меня, можно сказать, самое трудное дело: руководить охраной и
обороной дворца! Без вашей помощи, князь, я ничего сделать не смогу.
— Буду счастлив оказаться вам полезным.
— Эрмитаж не только сокровищница мировой культуры, князь,
но и история нашего государства, нашей родины, нашего народа!
— Да, да! Это так, господин министр! — с радостью и надеждой,
заикаясь от волнения, произносит Оленский.
— Вооруженная толпа, окружившая сегодня Зимний дворец, не
понимает и никогда не поймет, что такое культурные ценности страны!
Нации! Не дай бог, если эта банда,— он указывает пальцем на окна,—
ворвется сюда. Начнется вакханалия. Несомненно, растащат все — от
Микеланджело до унитаза!
— Я счастлив быть вашим помощником, господин министр! — с
волнением повторяет Оленский.
20
Георгий Мдивани ф
— Князь, я готов выделить для вас специальную военную
охрану из казаков и юнкеров, чтобы в случае необходимости защитить
каждую дверь, каждый зал...
— Благодарю вас, господин министр! — с горячей признательностью
говорит Оленский.
— Не надо благодарить! Это — наше общее дело, князь! Дело
каждого патриота! То, что в буре революции потеряли императоры, все это
сегодня принадлежит русскому народу! И мы с вами не имеем права не
сохранить для России ее сокровища!
Оленскому явно нравится этот самоотверженный, горячий молодой
министр, очевидно, обладающий сильной волей и большой энергией.
Оленский рад, что среди членов правительства нашелся хоть один человек,
который кровно заинтересован в судьбе Эрмитажа.
Министр внутренних дел продолжает:
— А если понадобится, князь,— он понижает голос,— если
понадобится... ценности Эрмитажа спасут отечество!
— Я не совсем понял...— говорит растерянный Оленский, смутно
догадываясь о чем-то недобром. — Как это ценности Эрмитажа спасут
отечество?
Министр внутренних дел чувствует, какая пропасть лежит между ним
и Оленским, который далек от политики. Неожиданно будничным тоном
он спрашивает:
— А если, не приведи господь, в стенах Эрмитажа разгорится бой?
Какие меры вами уже приняты, князь, для спасения хотя бы самого
ценного, самого дорогого?
— Господин министр! Уже несколько дней я и мои ближайшие
сотрудники переносим все, что возможно, из галерей в тайники и
запасники Эрмитажа, где экспонаты будут в полной безопасности даже при
пожаре. Но,— Оленский безнадежно разводит руками,— все, что мною
спрятано,— это капля в море! Великие творения гениев, находящиеся в
Эрмитаже, тайники вместить не могут. Картины остаются в залах и
галереях. Надо постараться во что бы то ни стало отвести бои от Зимнего
дворца. Если это в ваших силах, господин министр, снимите вокруг него
оборону. И тогда мы спасем для России ценности Эрмитажа!
— О чем вы говорите, господин полковник? — Министр покосился
на Оленского.— Предлагаете без боя сдаться большевикам? С поднятыми
руками оставить Зимний?
— Нет, господин министр! Я этого не предлагаю. Но защищать дворец
пулеметами, пушками, винтовками — это безумие!
— Если бы я не знал, кто такой князь Оленский, я подумал бы, что
вы... Не обижайтесь на меня, князь... Я подумал бы, что вы...
— Вы хотите сказать, что я предатель?
— Нет, князь! Я-то знаю, кто такой князь Оленский. Но, пожалуй, вы
человек весьма наивный! Собственно говоря, как и все ученые,—
спокойно замечает министр.— Снять охрану с Зимнего, не защищать дворец —
это значит, что через несколько часов ни одной вашей картины, ни
одной скульптуры не останется в этих стенах! А сейфы, где
хранятся миллионные богатства? Они останутся пустыми! Да, кстати, кто
охраняет сейфы? И кому вы доверяете ключи от них?
— Никому, господин министр! Ключи от сейфов хранятся у меня!
— Это правильно! Всю ответственность возлагаю на вас, дорогой
князь! — Министр посмотрел на часы. — У меня есть сорок минут, чтобы
лично осмотреть все посты музея и установить необходимую
вооруженную охрану...
В подвальном этаже запасника Эрмитажа идут Оленский, Ольга
Ивановна, министр, сопровождающий министра молодой капитан и старый
служитель музея Иван Иванович.
• Твои сокровища, Россия
21
В руках у Ивана Ивановича и у Ольги Ивановны лампы.
Оглядывая длинный тайник, министр и сопровождающие его
подходят к противопожарным дверям.
— Да, вполне надежно! — говорит министр и обращается к
капитану: — Какая здесь потребуется охрана?
— Десяток казаков хватит, господин министр!
— А что здесь? — спрашивает министр, увидев тяжелые железные
двери.
— Это один из отсеков с сейфами,— отвечает Оленский.
— Откройте, пожалуйста!
Оленский вынимает связку ключей и склоняется над замками.
Тяжелые двери раскрылись. Министр, Оленский и другие проходят в
сводчатую комнату, где расположено несколько больших сейфов.
— Да, здесь, по-моему, все вполне безопасно,— говорит министр и
деловито предлагает: — Откройте, пожалуйста, сейфы!
Оленский поворачивается к жене.
— Оленька, дай ключи!
Ольга Ивановна вынимает из кармана платья связку стальных ключей.
Министр недовольно и весьма выразительно смотрит на капитана:
«Какое, мол, отношение к сейфам имеет эта посторонняя дама?»
Оленский открывает один из сейфов.
При свете ламп засверкали драгоценные камни, золото...
Министр не может скрыть своего волнения. Он шепчет:
— Это миллиарды!
— Это история нашей родины, господин министр! — с гордостью, но
и с какой-то горечью говорит Оленский. — Все, что происходит сейчас
вокруг Зимнего дворца, по сравнению с этим чудом — только суета сует!
Здесь история России от первых веков и до наших дней, господин министр!
Оленский бережно поднимает золотой гребень с изображением
сражающихся воинов.
— Четвертый век до рождества Христова,— с благоговением
говорит Оленский, медленно поворачивая гребень так, чтобы изображение боя
видно было во всех деталях.
— Боже мой! — с восхищением шепчет министр.
— А это, — Оленский осторожно берет фигурку золотого оленя, —
плод творчества великого мастера древности. Шестой век до рождества
Христова! Из скифского кургана, господин министр! Цены нет этим
вещам! — Оленский берет золотую копию царского венца с крупными
камнями.— Слышите, как грозно звенит металл... Посмотрите, как играют
камни! — Он поворачивает корону. — Сила мастера, создавшего эту
корону, его гениальность заключаются в том, что венец поднимает над
народом венценосца! Возвеличивает его, если даже тот ничтожен и глуп! Это
не только корона правителей... Это история народа, господин министр!
— Святая истина! — понимающе склоняет голову министр и
приказывает капитану: — Закройте сейф.
Оленский не успевает опомниться. Капитан берет ключи и быстро
закрывает сейф. Ключи он кладет себе в карман.
Оленский растерянно смотрит на капитана, потом переводит
вопросительный взгляд на министра.
Тот замечает тревогу Оленского.
— Ничего, князь. Так надо! Зачем подвергать мадам,— он кивает на
Ольгу Ивановну,— смертельной угрозе в эти страшные дни? За эти
ключи сегодня убьют и глазом не моргнут! Вы, князь и мадам... Ваша жизнь
должна быть в полной безопасности! Поверьте мне, мы обеспечим вашу
полную безопасность!
Министр быстро покидает тайник. За ним торопится капитан. Не
дожидаясь Оленского, Ольги Ивановны и служителя, они поднимаются по
лестнице...
22
Георгий Мдивани #
Обескураженный только что происшедшим, Оленский медленно
выходит из отсека. Ольга Ивановна и Иван Иванович следуют за ним.
Оленский, глядя в сторону лестницы, ведущей вверх, где скрылись
министр и капитан, притворил тяжелые двери тайника и разными
ключами в нескольких местах закрыл замки.
— Они забыли об этих ключах...— робко заметила Ольга Ивановна,
указывая на связку ключей от отсека сейфов.
— И слава богу, что забыли, — тихо отвечает Оленский. — Этот
капитан не вызывает у меня особого доверия... Он может подвести и министра!
В кабинет быстро входят министр внутренних дел и капитан.
В их обращении наедине чувствуется, что оба они —
близкие друг другу люди и только при посторонних держатся официально.
— Этот князь наивен и глуп! Говорить с ним о серьезных делах
бесполезно. Надо действовать самим! — Министр смотрит на капитана.
— Да, — отвечает капитан. — Какой-то слюнтяй в полковничьих
погонах.
— В случае падения Зимнего мы должны быть готовы немедленно
вывезти все драгоценности из сейфов. Для этого надо найти надежных
людей. Всего три-четыре человека, не больше.
— У меня есть такие люди.
После паузы министр внутренних дел говорит:
— Идиоты во главе государства! — Он сжимает кулаки. — Иметь
власть в руках и так...— Он хочет, видимо, сказать еще что-то резкое, но
сдерживается и спокойно добавляет:
— Ничего, еще не все потеряно. Хранителем Эрмитажа я назначу
тебя!
— Спасибо, но я не знаток искусства! — улыбнувшись, отвечает
капитан.
— Это не имеет значения! А сейчас вызови ко мне начальника
караула.
Капитан быстро идет к двери.
— Подожди!
Капитан оборачивается и вопросительно глядит на министра.
— Ключи! — Министр протягивает руку.
— Ах, да! — Сделав вид, будто он забыл о них, капитан вынимает из
кармана связку ключей от сейфов, кладет ее на стол и выходит из
кабинета.
Тусклый свет карманного электрического фонаря выхватил из
темноты небольшую картину.
Показалась рука с ножом, срезающая холст... Слышен неразборчивый
нервный шепот...
Вдруг в глубине галереи появляется свет лампы и в нем — силуэты
идущих людей...
В темноте у кого-то падает из рук нож. Воры убегают... Слышны их
удаляющиеся шаги...
Оленский останавливается, держа в руках мраморную фигуру,
наверное, очень ценную. Тревожно глядит на Ольгу Ивановну и
сопровождающих его служителей.
Почувствовав недоброе, быстро идет в глубь галереи. За ним
спешат Ольга Ивановна и служители музея.
Внимание Оленского привлекает зияющая пустотой рама: грубо
резанные края холста...
Рядом картина Греко, которую не успели вырезать до конца. На
полу — нож...
• Твои сокровища, Россия
23
Оленский бежит вдоль галереи вдогонку ворам. Он бежит на фоне
пустых рам, из которых вырезаны картины. С разбегу в темноте натыкается
на стул, стоящий у стены, и с грохотом падает на пол, уронив мраморную
фигуру, которую так бережно нес.
— Дмитрий! Митя! — испуганно кричит Ольга Ивановна. Вместе со
служителями музея она подбегает к распластавшемуся на полу мужу.
Иван Иванович бережно берет Оленского за плечи:
— Что с вами, батюшка?
Не подымаясь с пола, Оленский гневно спрашивает:
— Кто?.. Ну кто поставил стул здесь, на дороге?!
Внезапно за спиной Ивана Ивановича он замечает пустую раму на
стене, к которой и был приставлен стул ворами...
Оленский в отчаянии.
— Тициана!.. Тициана украли?.. Боже мой!.. Погибло... Все
погибло!..— дрожащими губами шепчет он.
С трудом поднимается на ноги. Блуждающими глазами смотрит на
Ольгу Ивановну.
— Оленька... Все гибнет! Все!..
Еле волоча ноги, Оленский медленно идет в глубь галереи... Потом
срывается с места и бежит...
Растерянная Ольга Ивановна полными отчаяния глазами смотрит на
служителей музея, будто извиняясь перед ними за Дмитрия Петровича.
Распахивается дверь кабинета министра внутренних дел, и Оленский,
с взъерошенными седыми волосами и обезумевшим взглядом, держа в
руках голову от мраморной фигуры, появляется на пороге.
— Господин министр! — надтреснутым голосом кричит он. —
Господин министр... Во дворце воры! Бандиты! Грабят музей! Крадут
картины... Тициан! Греко!.. Вы... вы понимаете?..
— Не может быть! Мерзавцы! — Министр гневно поворачивается к
капитану.— Где охрана, господин капитан?
— Я отдал распоряжение начальнику караула, господин министр!
Министр спокойно обращается к Оленскому:
— Не волнуйтесь, князь! Из дворца никто без обыска не выйдет.
Обыщут всех! Да, кстати, где ключи от отсека сейфов?
— Ключи?..— Оленский не может прийти в себя и долгое время не
понимает, о чем его спрашивает министр.— Ключи?..— повторяет он и,
положив на стол голову от мраморной фигуры, машинально шарит в
карманах. До его сознания постепенно доходит подлинный смысл
происходящего. — Я сейчас! Сейчас принесу, господин министр.
Остановившись в дверях, Оленский смотрит на министра, словно хочет
убедиться в своей догадке.
Министр, не понимая, почему Оленский так странно смотрит на него,
спрашивает:
— Вы что-то хотите спросить, князь?
— Не-е-ет... Ни-че-го...
Оленский медленно выходит из кабинета.
Молчаливо следившие за ним министр и капитан слышат, как за
дверью раздается шум бегущих шагов.
— Не сошел ли он с ума? — Министр смотрит на капитана. —
Впрочем, это—форменное безобразие! Грабить музей... Неужели юнкера? Или
из «Ударного батальона»? Нет, этого не может быть!
В своей комнате Оленский нервно надевает шинель и фуражку.
Глядя в глаза Ольге Ивановне, он говорит:
— Оленька... Прости меня, родная! Вся наша жизнь с тобой...— Он
обнимает жену.— Я люблю тебя, Оленька!.. Люблю больше всех на свете!
24
Георгий Мдивани #
Ольга Ивановна наконец догадалась, куда собрался муж.
— Я боюсь... Они не поймут тебя... Они могут убить тебя,— с
отчаянием шепчет она.
Оленский вынимает ключи от отсека сейфов, открывает дверцу
голландской печи и кладет их вглубь.
— Никому! Никому не давай их, пока не вернусь.— Целует Ольгу
Ивановну и стремительными шагами идет навстречу неизвестности.
Ночь...
Слышны отдельные выстрелы, постукивает пулемет.
На набережной в цепи матросов красногвардеец в кожанке говорит
командиру отряда:
— Не преследовать врага в галереях Эрмитажа! Не стрелять по
музею.
В другом месте, среди солдат, подошедших к дворцу со стороны
Невского, матрос объясняет командиру подразделения:
— Передать всем приказ товарища Ленина: «Охранять ценности
дворца как народное добро! В залах дворца не стрелять!»
На Морской, у костра, стоит большая группа вооруженных
красногвардейцев. Лица их освещены языками пламени. Люди внимательно
слушают агитатора.
— Чтобы каждый из вас знал: Зимний дворец — это не только
жилище русских императоров и не только местопребывание предательского
Временного правительства, но и музей! Можно сказать, очаг мировой
культуры прошлого и настоящего!
На Миллионной матрос, сидящий в засаде, кричит:
— Стой! — щелкает затвором винтовки. — Кто идет?
Высокий человек в военной шинели, переходивший тускло
освещенный перекресток, по команде «Стой!» замирает на месте. Это Оленский.
Он громко говорит:
— Я прошу вашего командира!
Из темноты появляются двое — матрос и солдат. Они подходят к Олен-
скому.
Матрос, оглядев полковника с ног до головы, коротко требует:
— Документы!
— Я хранитель Эрмитажа Оленский.
— Документы!
Оленский шарит по карманам.
— У меня нет никаких документов, уважаемый. Я хранитель музея.
— Руки вверх! — командует матрос.
Оленский поднимает руки.
— Обыскать! — приказывает солдату матрос.
Солдат обыскивает Оленского, но ничего на находит.
— Идите вперед! — Матрос указывает винтовкой в сторону
виднеющейся арки проходного двора.
Не опуская рук, Оленский медленно идет через перекресток.
В маленькую комнату, освещенную электрической лампочкой,
вероятно, дворницкую, вбегает солдат и докладывает сидящему за столом
командиру, матросу Никитину.
— Полковника поймали! Сам сдался!
В это время матрос и солдат вводят Оленского,
Никитин внимательно смотрит на полковника и ждет, что же тот
скажет.
• Твои сокровища, Россия
25
— Здравствуйте! — говорит Оленский после паузы.
— Здравствуйте!
— С кем имею честь?
— Матрос первой статьи, Сергей Никитин! А я с кем имею честь,
ваше высокоблагородие?..
— Господин Никитин! — совсем не по-военному обращается к
матросу Оленский. — Я хранитель Эрмитажа!
— Эрмитаж?..— заинтересованно переспрашивает Никитин.
Оленский, боясь, что Никитин не знает, что такое Эрмитаж,
торопливо разъясняет:
— Это музей, где находятся ценнейшие зкспонаты мирового
искусства! — Оленскому кажется, что его слова все же непонятны матросу: —
Живопись! Скульптура!
— Знаю, господин полковник! И про Эрмитаж знаю! И про то, что
Зимний дворец — это не только бывшее жилище, но и...— Никитин
вдруг замолкает и подозрительно смотрит на полковника.— Короче говоря,
что вас беспокоит?
— Ну, как вам объяснить... Мне... Мне нужно к господину Ленину!
К самому Ленину надо! Чтобы спасти...
— К Ленину?! — Никитин отрицательно качает головой.— Это не
выйдет, господин полковник!
— Эге, чего захотел! К самому Ленину! — усмехается солдат.
— Выслушайте меня, уважаемый матрос, я вас прошу. Если вы не
поймете меня, может случиться непоправимое..*
Во дворе Смольного горят костры.
Вокруг костров греются вооруженные матросы, солдаты, рабочие.
Стоят несколько броневиков.
Между колоннами центрального входа Смольного установлены
станковые пулеметы, легкие пушки.
У ворот часовые проверяют пропуска.
Входят и выходят группами и поодиночке вооруженные матросы,
красногвардейцы и солдаты.
Во всем чувствуется возбужденная и напряженная атмосфера. Среди
множества людей нет равнодушных лиц.
Матрос Сергей Никитин в сопровождении двух солдат ведет
полковника Оленского к воротам Смольного.
Начальник караульного поста посмотрел пропуск Никитина,
подозрительно взглянул на Оленского:
— Откуда он?
— Из Зимнего!
— Да послал бы ты его к чертовой матери! — Но указывает глазами
часовым, чтобы их пропустили.
Никитин ведет Оленского через двор Смольного мимо костров, мимо
стоящих матросов, солдат, красногвардейцев.
Слышны голоса:
— Схватили, значит, сволочь!
— Наверно, из перебежчиков!
Оленский слышит, что говорят о нем, слышит насмешки. Он
равнодушно смотрит на небритые, иронически улыбающиеся лица, замечает
злые взгляды, которыми провожают его. Чувствуется, что все эти люди, с
пулеметными лентами на груди крест-накрест, глубоко безразличны ему.
Длинный коридор Смольного забит вооруженными людьми.
Солдаты дымят «козьими ножками», дешгвыми папиросами, трубками.
Сквозь дым слабо пробивается электрический свет.
—- Докладываю, товарищ Петров! — обращается Никитин к
начальнику караула, раздающему пропуска и печатные приказы окружившим
26
Георгий Мдивани Ф
его со всех сторон матросам и солдатам. — Привел полковника из
Зимнего. Хочет с товарищем Лениным говорить!
— Ленину сегодня не до полковников, товарищ Никитин! —
сердито отрезал начальник караула.
— Он из Зимнего! — настаивал Никитин.
— Тем более! Вот возьмем Зимний, тогда и будем не только с
полковниками, но и с генералами беседовать.
— Он не полковник... Он профессор по картинам! — пытается
объяснить Никитин.
Начальник караула удивленно смотрит на Никитина:
— Ты что, товарищ Никитин, рехнулся? Нам про охрану
профессоров ничего неизвестно! Нам искусство охранять приказано!
— Он же про музей! — убеждающе говорит Никитин.— Профессор,
он по этим... искусствам...
— Катись ты отсюда, Никитин, подобру-поздорову вместе со своим
профессором! — сердится начальник караула.
— Эх ты, темнота! — в сердцах говорит Никитин и быстро выходит из
комнаты.
Солдаты подталкивают за Никитиным окончательно растерявшегося
Оленского.
Никитин заглядывает в другую комнату.
Здесь стоит такой шум, и комната так плотно забита матросами и
солдатами, что, пожалуй, никак не пробьешься к столу.
Никитин машет рукой и закрывает дверь. Они снова идут по
коридору. Никитин то и дело заглядывает в разные комнаты. За ним солдаты
ведут Оленского.
Бородатый солдат, читающий газету, вдруг останавливает
Оленского, схватив его за руку.
— Эй, товарищ! — Но, увидев, что это полковник, чертыхается: —
Тьфу, черт, то бишь, ваше высокоблагородие. А спички у тебя есть,
полковник?
Оленский машинально ощупывает карманы.
— Нет, я не курю, уважаемый.
— Жалко, что не куришь... Ишь как заговорили с нами их
благородия-то: «уважаемый»! — Солдат презрительно отворачивается.
По коридору быстро идет человек в кожанке.
Никитин обращается к нему:
— Вы здесь работаете, товарищ?
— Да. А что вам? — Человек в кожанке останавливается.
— Я привел полковника... Из Зимнего... Он хочет видеть товарища
Ленина.
— Ленина? — Человек в кожанке внимательно всматривается в
полковника. — С кем имею честь, господин полковник?
— Я хранитель Эрмитажа, полковник князь Оленский.
— Очень приятно, — говорит человек в кожанке. — Вы насчет
музея?..
— Да... Хотел бы с господином Лениным...— уже с надеждой
произносит Оленский, увидев перед собой интеллигентного человека.
Человек в кожанке обращается к Никитину:
— Проводите господина полковника к товарищу Луначарскому.
Третья комната налево.
Никитин идет дальше по коридору. За ним солдаты ведут Оленского.
Никитин остановился у той, третьей двери, постучал.
— Войдите! — слышится из-за двери.
Никитин открывает дверь.
В большом кабинете у стола сидит человек.
— Разрешите, товарищ Луначарский?
в Твои сокровища, Россия
27
— Прошу.
За Никитиным солдаты вводят Оленского.
Луначарский вопросительно смотрит на полковника...
В большом кабинете за рабочим столом стоит Ленин. Здесь же
Сталин, Дзержинский, Свердлов, Луначарский, Бонч-Бруевич.
— Вы уверены, Анатолий Васильевич, что ваш полковник
действительно печется об Эрмитаже? — спрашивает Ленин.
— Уверен, Владимир Ильич! Я с ним долго беседовал... Он
полковник по своей должности во дворце, но не военный. Это человек большой
культуры и никак не может быть агентом Временного правительства!
— Допустим! — улыбнувшись Луначарскому, говорит Ленин.— Но,
разумеется, вы не сказали ему о том, что мы отдали приказ не вести бой
в стенах Зимнего?
— Конечно. Я больше слушал, что говорил он.
— Что вы еще знаете об Оленском, Анатолий Васильевич?
— Князь Оленский — хранитель Эрмитажа, служащий дворцового
управления.
— Полковник из дворцового управления пришел уговаривать
большевиков не штурмовать Зимний! — глядя на присутствующих, говорит
Ленин. — Как это вам нравится?
— Князь Оленский, — продолжает Луначарский, — в свое время
окончил Парижскую академию искусств.
— Если он действительно заботится о спасении Эрмитажа, —
вставляет Сталин,— его можно использовать для разложения тех защитников
Зимнего, на которых он может оказать влияние... А если он пришел с
иными целями, то с тем и уйдет.
— Ну, что ж, давайте поговорим! Пригласите его!
Секретарь Ленина выходит из кабинета и направляется к Оленскому,
стоящему в коридоре под охраной Никитина и двух солдат.
— Господин полковник, прошу вас!
Оленский идет к двери. У порога один из красногвардейцев
останавливает его, тщательно обыскивает и открывает дверь кабинета Ленина.
Оленский входит, останавливается у двери.
— Здравствуйте, господа!
— Здравствуйте, господин полковник! Я — Ульянов-Ле-нин. Но
простите, у меня нет возможности долго беседовать с вами. Потому прошу
вас быть предельно кратким.
— Господин Ленин,— устало начинает Оленский,— сегодня может
произойти непоправимая ошибка...
— Какая? — нетерпеливо спрашивает Ленин.
— Зимний дворец окружен большевиками... А защитники Зимнего
решили сражаться до конца.
— Нам все это известно, господин полковник! С чем же вы пришли
к нам? — В голосе Ленина слышится нетерпение.
— Я, правда, не военный, но хорошо понимаю, что правительство
господина Керенского обречено. Не сегодня, так завтра или послезавтра они
вынуждены будут пойти с вами на переговоры.
Ленин перебивает Оленского:
— А мы не пойдем ни на какие переговоры с ними! Никаких завтра,
никаких послезавтра, господин полковник! Только сегодня! Сегодня,
господин Оленский, штурмом будет взят Зимний дворец!
— Бои за Зимний приведут к уничтожению неповторимых
произведений мирового искусства! — с горечью говорит Оленский.
— Господин полковник, — Ленин с усмешкой смотрит на Оленского, —
Зимний дворец сегодня, именно сегодня, а не завтра, будет взят с
боем. Вы это понимаете?
28
Георгий Мдивани #
— Понимаю, господин Ленин...-
— Временное правительство, укрывшееся в Зимнем, никакой власти
над Россией уже не имеет! Но для мировой реакции оно сегодня еще
правительство России. Мы не пойдем с ним ни на какие переговоры. Мы
знаем, что Керенский и его министры пускаются на всякие хитрости, чтобы
оттянуть падение Зимнего хотя бы на два дня. За это время они
рассчитывают подтянуть к Петрограду верные им воинские части. Нам это
известно! Они хотят выпустить кровь у питерского пролетариата. Но
этого мы не допустим, господин Оленский! Зимний будет взят сегодня!
Сегодня! А не завтра и не послезавтра. Можете сообщить об этом кому
хотите!
— Господин Ленин, я не политик. Поверьте мне...— Он хочет еще
что-то сказать, но умолкает.
— Никакого искусства без политики не бывает и не может быть,
уважаемый господин полковник! Это — заблуждение. Нет, это обман!
Настоящий обман! Обман — тоже политика!
— Господин Ленин, в Зимнем погибнет многое из того, чем веками
гордилась не только Россия, но и все цивилизованное человечество!
— Вы хотите сказать,— Ленин слегка наклоняется к Оленскому,—
что вы лучше нас, .большевиков, знаете цену мировому искусству и
вечной красоте? Что вы больше нас любите Россию и больше нас заботитесь
о сохранении ее национальных богатств? Вы убеждены, что все дворцы и
музеи государства нами, большевиками, после нашей победы будут
разгромлены, расхищены, а картины растасканы по закопченным избам и
хатам мужицкой России?
— Нет, господин Ленин! Я этого не хочу сказать.
— Тогда почему же вы пришли к нам, большевикам, и, чтобы
сохранить Эрмитаж, агитируете нас не наступать на Зимний дворец, а не
уговариваете своих единомышленников не оборонять Зимний, не защищать
продажное правительство Керенского, не стрелять по рабочим
Петрограда? Почему вы не уговариваете своих, а пришли уговаривать нас,
большевиков? Мы на эту удочку не пойдем, князь!
— Господин Ленин...— В голосе Оленского звучит отчаяние.
— К сожалению, у меня пет времени долго беседовать с вами.
Сегодня мы совершаем пролетарскую революцию! Самую радикальную
революцию, чтобы каленым железом выжечь в стране угнетение,
бескультурье, невежество! История простит нам возможные ошибки. Уверяю
вас, простит! Да, мы фанатики нашей революции! Называйте нас, как
хотите. Мы на этой стороне баррикад, вы — на той! Возвращайтесь к себе,
в свой лагерь. До свидания. — Ленин склоняется над бумагами, лежащими
на столе.
— До свидания, господа...— Растерянный Оленский быстро выходит
из кабинета.
Ленин, чуть заметно улыбаясь, смотрит на крайне смущенного
Луначарского.
— Анатолий Васильевич, я, наверно, немного испортил вам
настроение. Но ничего! Сегодня мы с вами на фронте! А когда стреляют, люди
иногда забывают о вежливости. Завтра мы с вами уже спокойнее будем
беседовать о делах культуры и просвещения. — И, прищурившись,
проговорил: — А этот князь... ей-богу, он мне нравится! А?..
Сталин, улыбнувшись, обращается к Бонч-Бруевичу:
— Владимир Дмитриевич, надо бы этого честного князя доставить
обратно в Зимний в целости и невредимости, чтобы по дороге его кто-
нибудь не пристукнул.
Бонч-Бруевич выходит из кабинета.
— Товарищи! Под страхом предания революционному трибуналу,—
напоминает Ленин,— запретить преследовать в галереях Эрмитажа
отступающего врага! Не стрелять в залах музея!
# Твои сокровища, Россия
29
— Все, кто сегодня будет штурмовать Зимний,— отвечает
Дзержинский,— об этом уже знают, Владимир Ильич!
— Но, к сожалению, никто Зимний не штурмует! — раздраженно
возвысил голос Ленин.
— Есть сложности, Владимир Ильич...— замечает Свердлов.
— Никаких сложностей, Яков Михайлович! На нашей стороне весь
Балтийский флот! Весь вооруженный рабочий Питер! Все честные
солдаты и офицеры! А кто у Керенского? Кучка желторотых юнкеров,
несколько сот казаков и вооруженные «ударницы»! Это, по-вашему,
«сложность»? От этих придуманных нами же «сложностей» сегодня может
погибнуть революция! Когда некоторые товарищи стремятся без всяких
жертв произвести величайший революционный переворот, они, наверно,
не думают о том, вернее, не понимают того, что завтра к Питеру на
помощь Керенскому и его прихвостням придут десятки полков и зальют
кровью весь Петроград! Они без всякой жалости будут расстреливать
большевиков! Рабочих! Матросов! Всех революционеров! Не интересуясь,
к какой фракции они принадлежат. Власть надо захватить немедленно, а
не ждать, пока ее подадут на подносе в белых перчатках. Интеллигентское
слюнтяйство — это самая страшная болезнь для революционеров!
По темному Невскому в окружении вооруженных матросов и солдат
идет Оленский. Впереди с наганом в руке шагает Никитин.
Вдалеке слышны ружейные залпы и перестрелка...
Небольшим группам солдат, матросов, красногвардейцев, идущим
навстречу конвою Оленского, Никитин громко приказывает:
— В сторону! Сойти с дороги!
Люди жмутся к стенам домов, к оградам и удивленно глядят на
Оленского. Кто-то громко замечает:
— Видать, большая птица попалась... Сволочь!
Убитый горем, Оленский идет молча. Он держит в руках свою
фуражку. Ветер треплет его седые волосы.
Никитин поворачивается, видит непокрытую голову Оленского и
приказывает:
— Господин полковник! Надеть фуражку!
Оленский беспрекословно выполняет приказ матроса.
В жилой комнате Ольга Ивановна, накинув на себя шаль и
укрывшись за тяжелой оконной портьерой, смотрит на площадь перед дворцом.
Она видит, как артиллеристы выкатывают пушку и устанавливают ее
напротив. Появляется еще одна пушка. Стволы орудий направлены на окна
дворца.
Без стука распахивается дверь, входит капитан. За ним
показывается министр внутренних дел.
— Простите, мадам, за неожиданный визит,— резко говорит
капитан. — Где господин полковник?
— Полковник? — растерянно переспрашивает Ольга Ивановна, не
сразу догадавшись, кого ищет капитан.
— Да, ваш супруг!
— Не знаю. Наверно, где-нибудь в подвалах... Они же
переносят картины...
— Вашего супруга, мадам,— чеканит каждое слово министр,— во
дворце нет. Нам стало известно, что он сбежал к большевикам!
— Этого не может быть... Он не большевик!
— Где ключи от тайников запасника? — спрашивает капитан. — Он
не мог взять их с собой!
30
Георгий Мдивани ф
— Ключи?.. Я не знаю...
Капитан приоткрывает дверь:
— Войдите!
Входят шесть «ударниц» из женского батальона.
— Обыскать помещение! Найти ключи!
«Ударницы» открывают шкафы, ящики столов. Выбрасывают из
шкафов платья, костюмы, офицерские мундиры Оленского. Из книжных
шкафов выкидывают книги. Переворачивают буквально все.
Ольга Ивановна хладнокровно наблюдает за всем, что происходит
в комнате. Украдкой смотрит на изразцовую голландскую печь, куда
Оленский спрятал ключи.
В ящике стола «ударницы» находят связки каких-то маленьких
ключей и передают их капитану. Тот гневно швыряет их в сторону. В обыск
включается и министр. Ищут торопливо, бесцеремонно, не обращая
внимания на Ольгу Ивановну, которая спокойно, с' презрением глядит
на этих грабителей, потерявших человеческий облик.
С улицы доносятся выстрелы.
Вся комната разгромлена. На полу валяются книги, платья, сало-
ги, картины, которые «ударницы» сорвали со стен.
Ольга Ивановна замечает, как одна из «ударниц» присела на
корточки перед дверцей печки, открывает ее, но в это время, сотрясая
стекла, раздается орудийный выстрел.
Первым из комнаты выскакивает министр. За ним выбегают капитан
и «ударницы».
Спотыкаясь о разбросанные на полу вещи, Ольга Ивановна,
проходит через комнату, становится на колени и захлопывает дверцу печки...
Она так и стоит, не обращая внимания на выстрелы за окном.
Открывается дверь, и в комнате появляется изменившийся до
неузнаваемости Оленский. Кажется, что он не замечает ничего вокруг, не
слышит ни выстрелов, ни криков «ура-а-а-а!», доносящихся с площади, не
видит и жену...
Ольга Ивановна вскакивает на ноги и бросается к мужу:
— Слава богу!.. Митя, родной! Слава богу, что ты жив!..:
Оленский долго смотрит ей в глаза. Молчит.
А выстрелы все учащаются. Они сливаются в грозный гул.
— Что с тобой? Чего ты молчишь? — торопливо опрашивает Ольга
Ивановна мужа и гладит его щеки, шею, голову...
Оленский смотрит на окна и в отчаянии шепчет:
— Идут... Оленька... Большевики идут! Варвары идут... Варвары!
Мы сегодня будем свидетелями страшного нашествия... Самого
страшного нашествия на Русь!
Крики «ура!» штурмующих Зимний звучат уже совсем близко, под
самыми окнами...
Оленский отходит от окна и замечает, что в углу комнаты стоит
винтовка, забытая кем-то из «ударниц». Он хватает винтовку, спешит
к окну, распахивает его, и в комнату врываются крики солдат, матросов
и красногвардейцев, идущих на приступ.
Оленский вскидывает винтовку, но Ольга Ивановна бросается к мужу.
— Что ты делаешь? Митя, что ты делаешь?! Опомнись!
Пришедший в себя Оленский роняет винтовку. Уткнувшись в плечо
жены, он плачет.
По длинному, узкому коридору тайника быстро идет министр
внутренних дел в сопровождении четырех офицеров, двое из них несут большие
кожаные чемоданы.
Раздается глухой взрыв. Министр и его сопровождающие сначала
останавливаются, прислушиваются, а потом бегут в ту сторону, откуда донесся
# Твои сокровища, Россия
31
взрыв. К отсеку сейфов они подбегают в ту минуту, когда капитан,
подорвавший дверь, скрывается в развороченном проеме. Дым от взрыва
окутывает сейфы. Министр кидается к сейфам.
Освещенные карманным электрическим фонарем, засверкали
драгоценности, хранящиеся в сейфах Эрмитажа...
Офицеры открывают чемоданы, подставляют их к сейфам, министр
и капитан обеими руками выгребают лежащие в сейфе ценности...
А матросы, солдаты, красногвардейцы продолжают штурм баррикад
вокруг Зимнего. Ожесточенная стрельба и крики «ур-р-а!..».
Не выдержав натиска наступающих, юнкера и казаки оставляют
баррикады и бегут в подъезды дворца. Их настигает лавина наступающих
бойцов революции. Они стремительно бегут по лестницам Зимнего...
По площади, по набережной, по улицам — со всех сторон к Зимнему
дворцу движутся колонны восставшего народа.
Яркие лучи прожекторов с крейсера «Аврора» освещают
вооруженных людей, наступающих на Зимний...
Ужасом объята петербургская знать, укрывшаяся во дворце.
Дамы и господа, укутавшиеся в дорогие меховые шубы и пальто,
словно оцепенели. Одни что-то бормочут, наверное, шепчут слова
молитвы... Другие сидят с опущенными головами, понимая, что для них все
потеряно.
Пожилой мужчина вынимает из кармана никелированный револьвер
и проверяет барабан с патронами. Но по всему видно, что он не собирается
стрелять во врагов, а решил покончить с собой.
Сидящая рядом с ним женщина, увидев в его руках револьвер,
отчаянно вскрикивает и хватает оружие. Мужчина равнодушно выпускает
револьвер из рук.
Выстрелы и крики «ур-ра-а-а!» приближаются...
По высокой лестнице центрального подъезда отступают «ударницы»
из женского батальона.
Распахиваются двери, и на нижнюю площадку перед лестницей
врывается первая группа разгоряченных боем матросов. Они держат
винтовки наперевес. На груди — крест-накрест пулеметные ленты.
Женщины из «Ударного батальона» сгрудились на лестнице. При
появлении матросов некоторые из них вскидывают винтовки.
За спинами «ударниц» картина «Александр Первый на коне».
Глаза командира останавливаются на этом колоссальном портрете.
С лица командира исчезает решимость. Он громко командует своим:
— Не стрелять! Живопись впереди!
— Какая это живопись? Это царь! Сволочь! Император всея Руси!
Кровопийца! — говорит кто-то из матросов.
— Его бы, этого императора, заодно с этими бабами! — кричит
второй матрос и щелкает затвором винтовки.
— Отставить! — громко чеканит командир. — Приказ революции: по
искусству не стрелять!
Командир матросов, худощавый, высокий парень, несколько секунд
смотрит снизу вверх на вооруженных женщин, а потом бросается вверх
по лестнице.
— Сложить оружие, шлюхи! — грозно кричит он, выхватывая гранату.
Перепуганные «ударницы» бросают винтовки.
Перед Малой столовой дворца стоит юнкер. Он испуганно
прислушивается к доносящимся с улицы выстрелам.
32
Георгий Мдивани #
К дверям подходит командир красногвардейцев в сопровождении
нескольких, бойцов.
Юнкер решительно преграждает красногвардейцам путь:
— Здесь правительство!
— А здесь революция! —. грозно отвечает командир
красногвардейцев. Он спокойно берет из рук обомлевшего юнкера винтовку и передает
ее бойцу.
Отстранив юнкера, красногвардейцы входят в Малую столовую...
Вокруг стола — члены Временного правительства. Их пятнадцать
человек. Среди них нет министра внутренних дел.
Они глядят на вошедших, на лицах министров испуг, растерянность и
злоба.
Утро...
Через центральный вестибюль дворца, сквозь живой коридор из
вооруженных матросов, солдат и красногвардейцев движется поток бывшей
петербургской знати, которая скрывалась в стенах Зимнего. Идут женщины
и мужчины, одетые в дорогие меховые шубы, с чемоданчиками,
свернутыми пледами, сумками...
Весь этот пестрый поток людей спускается по лестнице центрального
подъезда к выходу на улицу.
Солдаты, матросы, красногвардейцы, стоящие по бокам, внимательно
осматривают каждого, кто движется в этом потоке.
Некоторые из бывших господ стараются спрятаться за спинами
других, испуганно жмутся в середину. Когда такой человек попадается на гла:
за красногвардейцам, его отводят в сторону и обыскивают.
Из толпы выводят молодого господина в бобровой шапке и
женщину — очевидно, супружескую пару.
Красногвардеец обыскивает мужчину. И вдруг его рука замирает
на груди растерянного господина.
— Что тут у вас? — спрашивает красногвардеец.
— Ни-ни-че-го,— заикаясь, лепечет тот.
Красногвардеец неторопливо расстегивает его пиджак, жилетку...
— Как вы смеете! — визгливо кричит женщина.
Но красногвардеец достает из-за пазухи обыскиваемого
живописный холст небольших размеров и передает его стоящему рядом бойцу.
— Жулик вы, ваше превосходительство! — веско говорит
красногвардеец. — Грабить музей — это, я скажу, последнее дело!
Отпустив господина, красногвардеец поворачивается к женщине в
непомерно широкой шубе и говорит несколько витиевато:
— Чтобы мне не применять недозволенные при обыске женщины
движения рук, прошу добровольно выложить все, что у вас припрятано...
— Это произвол! — возмущается женщина.
— Ну что ж,—говорит красногвардеец,— тогда щекотливое деле
препоручим Степанычу. Отец! — Он подзывает усатого рабочего с
винтовкой.—Давай гражданку туда! — И указывает на дверь гардеробной
комнаты.
Старик спокойно подходит к женщине:
— Пошли, дочка!
— У меня ничего нет! — истерично вопит женщина.
— Вот и проверим,— добродушно говорит старик, уводя ее.
Матросы и красногвардейцы продолжают пристально всматриваться
в проходящих мимо господ. Под суровыми взглядами вооруженных
рабочих, солдат и матросов они начинают спотыкаться, наталкиваются дру1
на друга.
У самых дверей центрального вестибюля несколько
красногвардейцев и матросов стоят у стола, спрашивая каждого проходящего:
# Твои сокровища, Россия
33
— Оружие есть? Или, может, что из дворца случайно
прихвачено? Не стесняйтесь, господа. Выкладывайте!
И так властно звучат эти слова, что многие беспрекословно лезут
в карманы или за пазуху и складывают на стол револьверы, старинные
миниатюры в рамках, мраморные статуэтки...
Стол уже завален всевозможными вещами из дворца и оружием.
Револьверы выкладывают не только мужчины, но и женщины, вынимая их
из сумочек. Худощавый господин в очках, бледный, похожий на
чахоточного, достает из кармана и кладет на стол длинный кинжал.
У подъезда, выходящего на Дворцовую площадь, выстроились
шеренги красногвардейцев и матросов. Два красногвардейца встречают
выходящих из Зимнего и громко приказывают:
— Разойтись по домам! Немедленно по домам!
Выпущенные из дворца мужчины и женщины сначала не верят, что
их отпускают, но потом, придя в себя, спешат поскорее миновать
вооруженных людей.
В одном из вестибюлей Зимнего, оцепленные красногвардейцами и
матросами, стоят арестованные министры Временного правительства.
А выше, на ступеньках лестницы, санитары перевязывают раненых.
На площадке, под картиной «Александр Первый на коне», на
мраморном полу лежит убитый матрос Сергей Никитин, который вел Оленского
к Ленину.
У изголовья матроса, сняв фуражки, стоят солдаты, которые тоже
сопровождали Оленского в Смольный.
Внизу, в вестибюле, сидящий за столом мужчина средних лет в
кожанке проверяет пачку документов, отнятых у арестованных министров.
Он громко произносит фамилии, имена и отчества арестованных. Один за
другим министры выходят вперед.
В одном из больших пустых залов Зимнего валяется несколько
кресел — со спинок и сидений срезана кожа. Висят остатки недавно споротых
ножом парчовых портьер...
Здесь же, в кругу вооруженных красногвардейцев, стоят два
солдата. Это деревенские парни. Они перепуганы и смущены.
У одного из них только что отобрали сверток кожи, и рабочий с
гранатой у пояса сует кожаные клочья под нос солдату:
— Сволочь ты эдакая! Из-за этого, что ли, ты Зимний штурмовал?!
Барахольщик! Расстреляем тебя и глазом не моргнем! Революцию
позоришь!
У второго солдата под гимнастеркой нашли большой кусок парчи,
отрезанный от дворцовых портьер...
А по залу Эрмитажа, из которого не убраны в тайники большие
картины, под конвоем нескольких вооруженных солдат и красногвардейцев
ведут арестованных Оленского, начальника дворцового управления и еще
двух человек в штатском. Позади идет встревоженная и растерянная Ольга
Ивановна.
Арестованных ведут дальше, по другим залам...
И на каждом повороте, у каждой двери стоят часовые — матросы,
солдаты и красногвардейцы, охраняя музейные ценности.
Оленский не совсем понимает, что все это означает. Он смотрит на
идущего рядом с ним генерала и двух штатских, но на их лицах не
отражается ничего, кроме страха.
Оленский оглядывается на Ольгу Ивановну и видит на ее глазах
слезы. Жестом она старается подбодрить его.
На выходе из галереи, почувствовав, как потянуло ветром и холодом,
он машинально запахивает отвороты шинели и поворачивается, чтобы по-
3. «Октябрь» № 10.
34
Георгий Мдивани Ф
нять, откуда дует. И видит, как несколько матросов и красногвардейцев
во главе с человеком в кожанке закрывают распахнутые окна, снимают
с подоконников пулеметы, установленные юнкерами и казаками...
Арестованных проводят мимо группы красногвардейцев, которые
распиливают огромный шкаф красного дерева, сверкающий полированной
поверхностью, разбирают его на доски. Солдаты и матросы заколачивают
этими досками разбитые окна. Старый служитель музея Иван
Иванович, держа в руках ящик с гвоздями, помогает работающим. Он
беспомощно провожает глазами Оленского.
— Дай бог вам здоровья, князь! — тихо говорит Иван Иванович.
Оленский слышит его слова, благодарно смотрит на старика, а Ольга
Ивановна кланяется ему на ходу и спешит вслед за арестованными. Они
спускаются на площадку лестницы, где лежит убитый матрос Никитин.
Оленский, увидев убитого и узнав его, остановился.
Солдат, склонившийся над TpynoiM товарища, поднял голову и,
увидев Оленского, узнает его.
Лицо солдата бледнеет. Он вскакивает и хватает Оленского за шинель.
— Глядишь, сука! Ну, гляди, гляди! — цедит сквозь зубы солдат и
вдруг со всей силы бьет Оленского по лицу.— А может, ты сам его убил,
сволочь?!
Конвой, сопровождающий арестованных, пытается оттащить
разъяренного солдата, но тот, ухватившись за грудь Оленского, громко кричит:
— Я его знаю! Это шпион! В расход его надо, братцы!
Наконец конвой оттаскивает солдата. В руках у него остается
оторванный ворот гимнастерки Оленского и лоскут белой сорочки.
Избитого Оленского вместе с другими арестованными присоединяют
к стоящим внизу членам Временного правительства.
В это время четыре матроса ведут по лестнице министра внутренних
дел, капитана и знакомых нам офицеров. Матросы держат в руках
кожаные чемоданы.
Матросы ставят на стол чемоданы, и один из них обращается к
человеку в кожанке, указывая на министра и капитана.
— Эти субчики хотели удрать из дворца через потайной ход. А
с собой вот эти штуки прихватили. — Он открывает чемоданы и
вываливает на стол груду ценностей.
— Это тоже ведь, наверно, искусство,— смущенно говорит матрос,
не совсем убежденный в правоте своих слов. — Все же золотое!
В эти минуты задержанные настолько заняты своими мыслями, своей
судьбой и так боятся за свою жизнь, что никто из них не обращает ни
малейшего внимания на то, что происходит за столом.
Оленский, забыв о том, что он находится под конвоем вооруженных
солдат, бросается к столу.
— Что вы делаете? Что вы делаете, господа? — кричит он и
накрывает собой музейные ценности, очевидно, не вполне сознавая, для чего
их сюда принесли.— К этим вещам нельзя прикасаться! Отойдите!
Вооруженный матрос отталкивает Оленского и презрительно
усмехается:
— Знаем мы вас всех, жуликов высшей марки! Видать, сам утащить
не успел, а теперь: «Нельзя!», «Отойдите!» Ишь ты! Хозяин
нашелся!
— К стенке таких надо,— хмуро замечает солдат-конвоир.
— А ты, барыня, катись отсюда! — говорит молодой
красногвардеец и, взяв Ольгу Ивановну за руку, выталкивает ее на улицу.
Открываются тяжелые ворота Петропавловской крепости. Матросы
и красногвардейцы вводят в крепость арестованных членов Временного]
правительства, генералов, полковников. Среди них Оленский. Он худой,
• Твои сокровища, Россия
35
высокий, в накинутой на плечи шинели, из-под которой видна рваная
гимнастерка, без фуражки. Ветер треплет его седые волосы...
Своей отрешенностью и спокойствием он резко выделяется среди
министров, генералов, полковников, которые смертельно перепуганы. Олен-
ский сейчас похож на человека, навсегда потерявшего самое дорогое на
свете. Он оглядывается и видит, как за его спиной медленно, со скрипом
и лязгом закрываются тяжелые железные ворота Петропавловской
крепости...
Ленин, усталый, с запавшими глазами, стоит у рабочего стола и
держит в руках бумагу, молча просматривая ее. Это проект декрета о
назначении директора музея Эрмитаж.
— Так, — тихо говорит он. — Значит, первый директор первого
музея революционной России! А кто такой Гельбах?
— Это крупнейший ученый, Владимир Ильич! — отвечает
Луначарский. — Академик! Его знает вся Европа!
— А вы уже разговаривали с ним? Пойдет ли он к нам работать?
— Гельбах сейчас в Париже, но я уверен, когда он узнает, что власть
Советов назначила его директором Эрмитажа, то непременно вернется.
Усталые глаза Ленина оживляются.
— Гельбахов, которые и сейчас за границей,— говорит он,— не
надо, Анатолий Васильевич! Не надо! Почему-то некоторые у нас считают,
что интеллигенция должна быть менее сознательной, чем рабочие и
крестьяне, совершившие пролетарскую революцию; что интеллигента
обязательно надо убеждать в том, что свобода и равенство лучше, чем
самодержавие, и что интеллигента надо упрашивать, чтобы он, видите ли,
не сердился на свой народ и не обижался на революцию!
— Да, с интеллигенцией почти всегда некоторые сложности, —
смущенно замечает Луначарский.
— Опять «сложности»! — вырывается у Ленина.— Мы из-за границы
приглашать никого не будем! Господа интеллигенты пусть сами
догадаются, что нужно вернуться на родину и работать со своим народом,
а не скитаться по миру и жаловаться на свою горькую судьбу!
Интеллигенты, которые считают себя свободными от обязательств по
отношению к народу, пусть подумают о том, как им дальше жить... Есть даже
интеллигенты, любящие поиграть в р-р-революционность. Смотрите, мол,
какой я смелый! Хочу — работаю, хочу — не работаю! Хочу — ругаю,
хочу — хвалю! Захочу — покину родину, захочу — вернусь! Но они
забывают об одном: это не революционность, а кичливая, самовлюбленная
анархия. А пролетариат анархии не любит! Пролетариат требует железной
дисциплины и хочет точно знать, кто с ним и кто против него в этой
жаркой битве! Анатолий Васильевич, дорогой мой, история — мамаша
суровая... Об этом тоже забывают некоторые интеллигенты.
Помолчав, Ленин спрашивает:
— А все же, кого назначим директором Эрмитажа?
— Найдем, Владимир Ильич!
— А где этот князь... из Зимнего? — Ленин вопросительно глядит
на Луначарского.
— Оленский?
— Да-да! Помните, как он убеждал нас, что штурмовать Зимний —
это преступление перед историей! Где он?
— Наверное, попал в тюрьму, как и все высшие чины, которые в те
дни находились в Зимнем.
Ленин звонит. Входит секретарь.
— Дайте распоряжение разыскать князя Оленского, бывшего
хранителя Эрмитажа!
Секретарь уходит.
36
Георгий Мдивани 6
— Ничего, Анатолий Васильевич! Не огорчайтесь насчет Гельбахов!
Придет время, и они увидят, что такое Советская власть! И мы одного
за другим перетянем их на свою сторону. Всех русских и европей
ских Архимедов и Рембрандтов!
По длинному коридору Смольного, сопровождаемый человеком в
кожанке, идет Оленский, в военной форме, но без погон. Он заметно похудел
за эти дни. Глаза его глубоко запали.
У кабинета Ленина стоят двое вооруженных красногвардейцев.
Человек в кожанке показывает пропуск.
Красногвардеец открывает дверь кабинета и обращается к Оленскому:
— Проходите!
В кабинете Ленин и Луначарский.
Оленский входит и, прикрыв за собой дверь, останавливается посреди
кабинета:
— Здравствуйте, господа!
— Здравствуйте, Дмитрий Петрович!
Ленин поднимается из-за стола и идет навстречу Оленскому. Затем
дружески берет Оленского за плечи руками и, заботливо заглянув в его
осунувшееся лицо, говорит:
— Вы очень похудели за эти несколько дней.
— Ничего, господин Ленин, — спокойно отвечает Оленский.
Продолжая смотреть Оленскому в глаза, Ленин говорит:
— Простите, Дмитрий Петрович, что я так резко с вами
обошелся тогда, перед штурмом. Но, — он разводит руками, — сами
понимаете, была война! А вы пришли оттуда. И, как говорится, чем черт не
шутит!
— Спасибо за откровенность, господин Ленин. — Оленский слегка
кланяется.
— Вы, наверно, догадываетесь, по какому поводу мы с товарищем
Луначарским пригласили вас? — спрашивает Ленин.
— Кажется, да. В дни анархии, на случай пожара или... грабежа,
все, что было возможно, мною спрятано в тайники запасника
Эрмитажа. Как вы знаете, тайники огромны! И, конечно, я понимаю, что
новым людям без моей помощи трудно будет сразу разобраться...
Для этого понадобились- бы годы!.. С вашего позволения, я с радостью
помогу!
— Дмитрий Петрович. — Ленин внимательно смотрит на Оленского. —
Мы просим вас принять на себя обязанности директора Эрмитажа!
Первого музея первого в мире рабоче-крестьянского государства!
Ошеломленный таким неожиданным для него поворотом событий,
Оленский молчит. Больших усилий стоит ему скрыть охватившее его
волнение.
— Вы согласны? — спрашивает Ленин.
— Спасибо, — тихо произносит Оленский срывающимся голосом. Он
не может больше сказать ни слова, по его лицу катятся слезы...
Ленин, чтобы не смущать Оленского, делает вид, что не замечает его
слез, и поворачивается к Луначарскому.
— Анатолий Васильевич, по-моему, надо декретом правительства
присоединить к Эрмитажу весь Зимний дворец!
И когда Ленин почувствовал, что прошло достаточно времени для
того, чтобы Оленский овладел собой, он спрашивает:
— Что вы по этому поводу скажете, Дмитрий Петрович?
— Да, это будет правильно, — уже окрепшим голосом отвечает
Оленский. — Зимний дворец — тоже музей! Можно будет расширить
экспозицию Эрмитажа. Огромное число картин хранится в запасниках... Их негде
экспонировать!
• Твои сокровища, Россия
37
— Только, товарищ Оленский,— Ленин улыбнулся,— не в «дни
анархии», как вы изволили сейчас выразиться, а в дни великой революции!
Пролетарской революции!
— Понимаю, — смутившись, отвечает Оленский.
— Всем штурмовавшим Зимний,— говорит Ленин,— был дан приказ
охранять Эрмитаж! И после взятия Зимнего наши люди обыскивали всех
без исключения подозрительных лиц.
— Я это знаю. Сам видел!
— И Эрмитаж не пострадал, — продолжает Ленин. — Почти не
пострадал. А вот мировая пресса вопит о том, что большевистские банды
уничтожили Эрмитаж! Разграбили все дворцы, музеи, церкви, соборы! Кричат
о том, что в большевистской России не осталось ни одного культурного
учреждения! Что искусство погибло!
— Это обычная клевета газетчиков,— усмехнулся Луначарский.
— Но, правда, есть и такие газетчики,— лицо Ленина посветлело,—
которые выступили в нашу защиту! Например, замечательный
американский журналист Джон Рид и еще несколько честных корреспондентов
европейских газет. Однако мы убеждены, Дмитрий Петрович, что вы еще
и не такую клевету на большевиков услышите! Еще долго будут
клеветать на нас. А как же иначе?.. Ведь наше государство — первое на
земле государство рабочих и крестьян, опрокинувших старый мир. Так?
— Я верю в будущее России,— тихо говорит Оленский.
— Ну, желаю вам успеха, Дмитрий Петрович! — Ленин жмет руку
Оленского.
Освещенные лампой, снова сверкают драгоценные камни в сейфах
Эрмитажа.
Рука Оленского медленно поворачивает во все стороны, словно
демонстрируя его красоту, золотой гребень с изображением сражающихся
воинов. Потом он бережно кладет гребень обратно в сейф и берет
золотого оленя из скифского кургана.
Оленский осматривает фигуру со всех сторон, словно проверяя, не
пострадала ли она. На его лице радостно светятся глаза...
А рядом Ольга Ивановна. Она держит лампу, освещая сейф.
По длинной галерее Эрмитажа идут двое. Это Оленский и Ольга
Ивановна. За ними, семеня ногами, спешит старый служитель Иван Иванович.
Панорамой проплывают живописные полотна кисти великих
мастеров...
Потом на экране появляются полотна, на которых изображены сцены
событий в Зимнем дворце в тысяча девятьсот семнадцатом году.
Воскрешаются грозный гул толпы, звуки далеких выстрелов,
доносящихся с улиц Петрограда...
А на огромных картинах — матросы, солдаты, красногвардейцы,
штурмующие Зимний!..
И Ленин — творец революции — на грандиозных полотнах.
©
Максим ГЕТТУЕВ
Эльбрус
"ак воспеть
Земным, неброским словом
На рассвете плавный лёт орла
И над белым цоколем ледовым
Раззолоченные купола?
Как в стихи переплавлять я
стану
Робких туров дикую красу
И срывающуюся к Баксану
Пенистую речку
Адылсу?
Оставляя на еловых лапах
Влажный след,
Почти у облаков,
Мчатся реки,
Сохраняя запах,
И цвета,
И свежесть ледников.
И подходит к чабанам отара
На привычно льющийся мотив,
И курлычат издали улары,
Радужные перья распустив.
И в тумане светло-бирюзовом
Прячутся чинары,
И простор
Ультрафиолетом и озоном
Напоен,
И рдеют гребни гор.
Им отдам я
Мягких строф звучанье,
А Эльбрусу
Не нужны слова:
Перед ним
Высокое молчанье
Обретает веские права.
За пустынной далью остроскалой
От сползающего ледника
Высоко берет свое начало
Быстрый Вахш —
Студеная река.
У нее натура огневая;
Не обижен силой он
И ростом
И привык к величью своему:
Он совсем не привередлив —
Просто
Аксакалам оды ни к чему.
И какой ни шел бы стороною,
За какое дело ни берусь,
Постоянно помню я:
За мною
Ты стоишь,
Державный мой Эльбрус.
Крохотные капли
Голубиной
Нежности
На леднике твоем
Завтра упадут на вал турбинный
И прольются на землю дождем.
Сколько ты провел ночей
бессонных,
Озирая каменный простор,
Защищая от ветров студеных
Нас,
Как младших братьев и сестер.
Лоб широкий тяжело наморщив,
Ты стоишь всем бурям вопреки,
По-мужски
Не слишком разговорчив,
Крепок и надежен
По-мужски.
И когда придется в жизни круто,
Гневаясь, печалясь и скорбя,
Люди знают:
В трудные минуты
Можно опереться на тебя!
Норовист,
Неистов и могуч,
Пенится поток,
Не уставая,
Яростно летит с отвесных круч.
Горы сокрушить река готова,
Вахш
ф Стихи
39
Врезать в скалы
Сизоклювый клин,
И ее,
Как скакуна лихого,
Усмиряют жители долин.
Острый камень
И металл холодный —
Все бросают ей наперерез;
Люди Вахш смиряют
многоводный,
Воздвигают головную ГЭС.
Сто племен
В дерзании великом
Здесь в семью единую слились;
Трудятся без устали
С таджиком
И латыш,
И русский,
И киргиз.
И встают в потемках
трактористы,
И поля
Вдоль берега цветут,
И белеет
Тонковолокнистый
Нежный хлопок,
Выращенный тут.
А поток,
Мятежный и широкий,
Не сдаваясь, ускоряет бег;
О О
Вымокли бревенчатые стены,
Ветка каждая насквозь мокра;
Дождь работает в четыре
смены—
Всем назло —
С утра и до утра.
Только что мне грустная
околица
И село немое, как закут?
Мой покой —
Когда работа спорится,
Мой уют —
Когда стихи идут.
И неважно, сколько будет
строчек,
Сколько верст отмерит
карандаш,—
Мчатся белопенные притоки,
Грудью разбиваясь о Нурек.
Волны непокорны
И неробки,
И летят
Над пропастью седой
Камни,
Как бутылочные пробки,
Гулко выброшенные водой.
Но пробиты для нее тоннели,
И стихать приходится воде,
Потому что
Так ей повелели
Руки,
Закаленные в труде.
И от волн,
Теперь вконец смиренных,
Ток бежит,
Теряясь вдалеке,
И шумят сады
На вешних склонах,
И огни
Мелькают в кишлаке.
И река
Напев, как ветер, дикий
Забывает раз и навсегда,
И над Вахшем
Слушают таджики
Песню света,
Счастья и труда.
Сердце зафиксирует,
как счетчик,
Шаг за шагом
Весь километраж...
Скоро ночь.
Деревья стали тусклыми,
Все вокруг безмолвно и темно,
Лишь во мгле стучится дождь
без устали
Пальцами озябшими в окно.
Мне уснуть бы —
Силы на исходе,
Но хожу по комнате своей:
Думаю о завтрашней работе,
Отдыхаю — думая о ней.
Перевел с балкарского
Яков СЕРПИН.
•
Адам ШОГЕНЦУКОВ
Земная радость
о о о
**наю, весны разные бывают:
Сдуют с гор метелей белый пар,
Башлыки зимы с дерев срывают,
Рекам возвращают речи дар.
Золотят веселым солнцем нивы
И сердца наполнят светом дня...
Только есть весна, что всех
счастливей
Для долин, для гор и для меня.
Та весна семнадцатого года,
Мировым раскатом Октября
Тучи прорвала на небосводе,
Чтобы встала юная заря.
Встала, улыбаясь, из тумана
И моей горянке на щеку
Положила нежные румяна,
Разогнула спину старику.
Той весны не гаснет свет
знаменный.
Он мне дорог щедростью в
полях,
Правдой в думе, песней
окрыленной
И земною радостью в стихах.
Перевел с кабардинского
Григорий ГЛАЗОВ.
Тырныауз
Как горы среди гор — дома среди домов...
И впрямь средь гор крутых дома растут, как горы.
И видно издали: вдоль кромки облаков
Он тянется, светясь, растущий в небо город.
О чем беседуют огни между собой
Порою ль снежной или в дни сквозного зноя?
А это горняки идут в ночной забой.
Огни их, как плоды садов над крутизною.
О, если б их сердца с моим соединить,
Тогда бы добывал слова я вдохновенно!
Лучистость глаз их, как вольфрамовая нить,—
Завидует рукам их твердость молибдена!
Живых огней разлив вливается в рассвет,
И оживает рань, сердцами осиянна.
Эльбрусский широко раскинулся проспект
И подступает к самому Баксану.
А солнце в вышине над блеском льдистых груд,
Как огненный венец над головою горца.
Но ярче, и мудрей, и вдохновенней — труд.
Иного на земле не надо горцу солнца!
Перевел Даниил ДОЛИНСКИЙ.
Всеволод КОЧЕТОВ
Чего же
ты хочешь?
РОМАН ■
20
Тосно... Любань... Названия были знакомы и Клаубергу и Сабурову.
Ни тот, ни другой, правда, здесь не бывали. В местах этих им
делать было нечего. Но оба слышали о них многократно. Селения с
такими названиями лежали на пути от Новгорода к Ленинграду, и
сколько раз для въезда по этой дороге в Ленинград уже готовились войска
райха, входившие в группу армий «Норд», которой вначале командовал
генерал Лееб, а затем, после того как русские отобрали обратно свой
Тихвин, генерал Кюхлер. Намывались автомобили генералов, заново
окрашивались боевые машины лучших танковых частей, солдатам выдавали
шнапс — и все напрасно: Тосно, Любань были, а Ленинграда группе
«Норд» достигнуть так и не удалось. Удивительно точной оказалась в этом
случае старая русская пословица: «Близок локоть, да не укусишь».
Не ведая о размышлениях двоих из своих спутников, Юджин Росс
лихо вел машину по высушенному апрельским солнцем асфальту. Было
тепло, но с дороги виделось, что в тенистых лесных оврагах еще лежали
пласты осевшего грязного снега.
Сидя рядом с жующим резинку неразговорчивым малым, Клауберг
тихо, лишь для самого себя, насвистывал мотив испанской песенки;
дорога однообразно и безвозвратно плыла под колеса, под радиатор фургона.
Ленинград остался позади. После возвращения из Пскова группа пробыла
в городе на Неве еще несколько дней. Чем в те дни занималась мисс
Браун, неведомо: где-то шаталась, окруженная молодыми парнями и
девицами, ходила в гости к какому-то местному гению, на которого неведомо
кто — то ли в Лондоне, то ли в Нью-Йорке — возлагал надежды. Юджин
Росс все дни и вечера просидел в подвальчике на главной ленинградской
улице, на Невском, где подавали очень ему понравившиеся кавказские
национальные блюда, пожирал чебуреки и пил цинандали и кахетинское —
вина столь же кислые, как итальянское кьянти.
Сабуров — тот, пожалуй, один из всех занимался прямым делом,
определенным группе издательством «New World»- A он, Клауберг, пытался
Продолжение. Начало см. № 9.
42
Всеволод Кочетов •
проверить два запомненных адреса, о чем ему было приказано в
Брюсселе. Но обе попытки кончились неудачно. В первом случае он даже не
нашел необходимой улицы — ее просто не было, район перепланирован,
старые дома снесены, и через их бывшие фундаменты провели новые
магистрали с новыми направлениями, новыми названиями и новыми домами.
По второму адресу искомый человек года два назад умер.
Что ж, он, Клауберг, ни при чем, не он организовывал эту зыбкую
сеть, его ответственности в распадении агентуры не было. Он сделал то,
что ему поручили, он проверил, он установил — на эти два адреса
можно не надеяться, надо думать о новых. Вот пусть и думают, пусть
заботятся о них те, кто обязан это делать, люди из Пуллаха.
Колеса крутились, крутились, и вдруг Клауберг как бы наткнулся
грудью на нечто непреодолимое. Нарастая, навстречу вынеслось
название селения, показавшегося впереди. Это было одно, недлинное, слово, но
от него стало жарко и душно. «Чудово! — закричала дорожная надпись.—
Чу-до-во!»
Шоссе шло так, что они должны были оставить это Чудово слева,
ке заезжая в него.
— Остановитесь! — бросил Клауберг, и Юджин Росс резко
затормозил у развилки.
С полминуты длилось молчание. Порция Браун озиралась по
сторонам, Юджину Россу все было безразлично. А Сабуров, сидевший за
спиной Клауберга рядом с мисс Браун, тот, конечно же,— Клауберг не
сомневался в этом — догадывался, по каким причинам остановились они
перед дорожной табличкой с надписью «Чудово», о тех воспоминаниях,
которые заставили Клауберга это сделать.
— Проедем там, — сказал Клауберг, указывая на левый рукав дороги,
уходящий в селение.— Оттуда, наверно, тоже есть выезд на наше шоссе.
Сделаем небольшой крюк.
Фургон шел через чудовские улицы, мимо домов и домиков;
большинство из них были новыми, из свежего дерева и кирпича, и Клауберг не
находил глазами того, во имя чего они сюда свернули.
Что же все-таки погнало Уве Клауберга в улицы заурядного
русского селения, в котором нет ни крепостей, ни замков, ни церквей с
фресками, ничего, чем могло бы заинтересоваться издательство «New
World»?
Клауберг хотел увидеть тот низкий, одноэтажный серый дом с
множеством окон по фасаду, выходившему на дорогу Новгород—Ленинград.
До войны в том здании располагалась школа. Но за несколько осенних
и зимних месяцев первого военного года в нем так все истоптали и
загадили немецкие войска, искавшие в бывших классных комнатах ночлега,
что, когда февральским или мартовским днем в них остановилось
переночевать подразделение эйнзацкоманды Клауберга, в которой был и
Сабуров, комнаты те скорее напоминали скотный сарай, чем школу. Клауберг
и Сабуров пробирались из Новгорода в Грузино, в усадьбу бывшего
сатрапа одного из русских царей, некоего Аракчеева. В инструкциях
было сказано, что в этом поместье могли сохраниться ценные произведения
искусства.
Перед рассветом, когда все еще спали на деревянных нарах,
застланных соломой, загорелся вестибюль дома, или, как русские называют,
сени. В них, как выяснилось, в щель между досками, со стороны сада,
почему и не уследил часовой, находившийся на улице, была брошена
бутылка с зажигательной смесью. Немедленно подняли тревогу и
схватили парнишку, бежавшего через огороды и местные плетенные из
хвороста заборы. Парнишке было шестнадцать или семнадцать; конечно же,
он все отрицал, от всего отпирался. Но один из солдат тщательно
осмотрел его ладони, и тогда все стало ясным: не кто иной, как этот щенок,
бросил зажигательную бутылку.
• Чего же ты хочешь?
43
Мальчишку затащили в школу, и Клауберг, посчитав, что двигаться
дальше, не зная, что же ждет группу впереди, опасно и неразумно,
решил допросить его, не партизан ли он и не знает ли, где находятся
партизаны, и только после допроса отдать негодяя-поджигателя в руки
следственных и карательных органов.
В команде, занимавшейся ограблением русских музеев и церквей,
специалистов по таким допросам не было. Поэтому солдаты самым
примитивным образом били русского парня по щекам своими увесистыми
ладонями, а Клауберг лишь повторял по-русски: «Где партизаны? Где
партизаны?» Русский молчал, вместе с кровью выплевывая на пол
классной комнаты сломанные зубы. Лицо у него было круглое, под глазами
и вокруг носа осыпанное мелкими веснушками (да, да, значит, это уже был
март, а не февраль, дело шло к весне: веснушки!); глаза его, желтые, как
у зверя, злобно смотрели и на тех, кто бил его, и на Клауберга в черном
мундире эсэсовского офицера. Попробуй развяжи руки, отпусти его, он
тотчас кинется на своих истязателей, он станет кусаться, вытыкать
пальцами глаза.
До того дня Клаубергу еще не приходилось не то что убивать людей,
но даже просто бить, вот так по щекам, по щекам. Не считая, конечно,
мальчишеских драк — в детстве бывало всякое. Но вот так, безоружного,
беспомощного, связанного, полностью зависящего от тебя,— еще нет.
Клауберг всегда считал себя в высшей степени культурным человеком, до
его понимания не слишком отчетливо доходили теории о высших и
низших расах; такое теоретизирование он считал необходимым
элементом пропаганды среди простого немецкого народа, но
интеллигентных людей оно, по его мнению, не касалось. Й он морщился, видя,
как старательно хлещут русского парня по физиономии исполнительные
солдаты команды. Сабуров — тот просто ушел на улицу. Это и
понятно, он русский, у него славянская душа, молодой поджигатель — его
соотечественник.
Все шло, словом, так, как и должно было идти, пока Клауберг не
вздумал поговорить с парнишкой.
— Глупый мальчик, — сказал он почти отеческим тоном. — Ты
напрасно молчишь. Ты совершил глупость — поджег дом, в котором
отдыхали усталые люди.
— Вы не люди! — наконец открыл рот все время молчавший
русский.
— Кто же мы, по-твоему?
— Фашисты, сволочь! — Парень рвался из веревок, из рук солдат
к Клаубергу. Солдаты крепко его держали.
— О, о! — Клауберг еще улыбался, но начинал злиться.— Уж не
коммунист ли ты с таких лет, мальчик?
— Не твое дело! — резал словами русский. — Когда вас разобьют,
когда тебя,будут вешать, собака, тогда узнаешь, кто я такой!
— Молчать! — взорвался Клауберг, забыв о том, что он
интеллигент. — Я из тебя сделаю свинячий фарш!
И в этот миг его хлестнуло, ожгло по лицу. Парень плюнул ему
прямо в глаза. Клаубергу показалось, что он весь в слюне — в ядовитой, все
сжигающей, как та смесь из бутылки. Он не отдавал отчета в своих
дальнейших движениях. Рука сама выхватила из кобуры «вальтер» и сама три
раза подряд нажала на спуск прямо в эти звериные глаза, в эти
веснушки, в эту пасть с распухшими, обкусанными губами...
Да, конечно, это было страшно, это было неожиданно. Клауберг
кинулся к своему чемоданчику, за одеколоном, чтобы смыть с лица липкую
мерзость — слюну с кровью, от которой было солоно на губах.
Солдаты поволокли убитого на улицу. А Клауберг все тер свои щеки, губы, веки,
и не было ни малейшего чувства сожаления, раскаяния. Напротив,
нарастала жгучая досада на то, что он не смог ответить русскому щенку до-
44
Всеволод Кочетов •
стойным образом. Ответить же надо было чем-то равновеликим, хотя бы
такими же плевками в веснушчатую харю. Клауберга мучило, что по
этим конопатым щекам бил не он, а солдаты, что парень ушел от него,
ушел торжествующий, последним сказав свое слово, зло, надменно оплевав
немецкого интеллигента, немца, представителя высшей расы! Вот где вдруг
вспомнилось ему все, что об этих расах говорилось в речах и писалось в
газетах. Клауберг не мог найти себе места, он метался в запоздалой ярости.
И когда несколько часов спустя Сабуров негромко сказал ему: «Зря ты,
Уве, это сделал. Пусть бы этим занимались палачи»,— он заорал на
Петера: «Русская кровь заговорила! Все вы такие! Верить вам никому нельзя!»
Он, конечно, знал, что неправ, и все равно настаивал на своем, кричал,
выходил из всяких рамок достойного поведения.
С тех пор — лиха беда начало — он стал другим. Но другого
Сабуров его не знал. Клауберга перевели в район Пскова, туда, где они
были несколько дней назад, в Печоры, в деревню Печки. При одной из
карательных операций в тех местах, в которой с учебными целями
участвовали и его подопечные диверсанты из разведшколы, он застрелил
второго русского. Затем был и третий и четвертый... Клауберг стал получать
от этих убийств острое, ни с чем иным не сравнимое удовольствие. Его
опьяняло ощущение безграничности власти над человеком. Когда у
человека связаны руки, когда человек поставлен перед тобой на колени и ты
можешь бить сапогом под его подбородок так, что только станет
вскидываться с хрустом в позвонках его голова,— это уже не человек. Кто он
там — учитель, врач, советский работник? Окончил институт?
Университет? Перед тобой он все равно слизняк. Вот я его... раз, раз, раз... и ничего
он не может с тобой поделать. Его можно колоть, резать, жечь. Он будет
выть, забыв и о своем университетском дипломе, обо всем ином, чем
некогда гордился, — об орденах, званиях, степенях. А ты можешь
спокойно сидеть перед ним на стуле, и он будет извиваться у твоих ног
с перешибленным хребтом.
Это было как страсть к наркотикам, это было во много раз острее
их, острее любого алкоголя. Что там коньяк, шнапс, всякое шампанское!
Власть, власть, власть над другим, полная, абсолютная — вот вершина
пирамиды человеческих наслаждений. В такие минуты кровь бросалась
в лицо Клаубергу; возможно, что у него даже повышалась температура,
потому что в теле он ощущал нечто вроде конвульсий: весь дергался,
руки, ноги совершали непроизвольные движения.
После экзекуций Клаубергу нужен был не один день, чтобы отойти
от них, как от сильного похмелья. Какое-то время он жил спокойно, затем
вновь начинало нарастать желание испытать острое чувство. Он не ждал,
а искал случая повторять все это еще, и еще, и еще, и до чего бы дошел,
может быть, до сумасшедшего дома, если бы Германия не была
разгромлена. А тогда все и кончилось, надо было спасать себя, сидеть тихо, не
шевелясь, в глухих зарубежных щелях...
Нет, в отстроенном заново поселке Чудово того здания —
одноэтажной длинной школы со множеством окон — не оказалось. Все было в нем
на этот раз по-другому, не похоже на прежнее, и Клауберг знакомого
места не нашел. Но он ощущал, как приливала кровь к его лицу и каким
жаром жгло лицо от воспоминаний. Он видел перед собой глаза
молодого русского звереныша, и вновь из-под погасшего душевного пепла
выхлестнул пламенный язык ненависти, острой ярости — все оттого, что
последнее слово оказалось за русским, что русский ушел победителем,
оставив его, немецкого офицера, человека высшей расы, жить на земле
оплеванным, униженным.
Юджин Росс вел машину медленно, давая Клаубергу получше
рассмотреть ничем не примечательное русское селение. По улице шли
люди, посматривали на машину иностранной марки, чему-то смеялись.
Среди них мелькали лица точь-в-точь такие, как то,— веснушчатые, круглые.
• Чего же ты хочешь?
45
глазастые, дерзкие. Клауберг ненавидел их всех до бешенства, до
красного тумана в глазах.
— Нажмите, Росс, на свои педали,— сказал он, стараясь быть
спокойным. — Ничего интересного здесь нет. — Он ни разу не оглянулся на
Сабурова. Он знал, что Сабуров за ним следит и если не все, то многое
из того, что происходит в его душе, понимает.
В Клауберге еще бушевало, ходило горячими приливами, когда
впереди показались купола новгородских церквей. Не «Naugard» было
написано при въезде, как помнили Клауберг и Сабуров, а «Новгород», и
поселиться им пришлось не в кремлевском тереме с расписными сводами,
как было тогда, а в гостинице, в грязноватой, с крикливыми
коридорными, но все же вполне приличной, даже с горячей водой, не хуже,
пожалуй, чем какое-нибудь привокзальное альберго «Принчипе» в
Венеции или «Патрия» в Турине. Только там, в Венеции и в Турине, еще
и крыс сколько хочешь, а здесь одни лишь мухи, правда, в изрядных
количествах.
Началась работа в Новгороде. Сабуров с Клаубергом отправились в
музей, пошли по церквам; мисс Браун бродила по улицам, завязывала
знакомства с новгородскими девчонками; Юджин Росс искал кабаки. Того,
чего бы он хотел, не было. Нашлись два-три ресторана при гостиницах.
Но они ему не понравились своей казенщиной. Кто-то сказал, что пусть
мистер иностранец сходит в одну из башен Кремля — там-де открылся
ресторан со средневековым колоритом. Юджин Росс отправился на
разведку, а затем затащил в старое здание, которое называлось «Детинцем»,
и всю компанию.
— Если вам не понравится, — сказал он, — я могу, как делают
русские, за всех за вас заплатить. А понравится, каждый пусть сам платит.
В башне было холодно, темно и тесно. Мисс Браун сказала об этом.
— Средневековье! — Вместо ответа Клауберг пожал плечами. —
А чего вы хотели?
— Комфорта,— ответила мисс Браун.— Обычного, нормального
человеческого комфорта. А официанта или официантку — как можно скорее.
Посуда в «Детинце» была деревянная — ложки, кубки, чашки.
— Но это же не гигиенично, — опять заметила мисс Браун.
— Средневековье! — теперь уже сказал и Юджин Росс.
— А кому, простите, в конце двадцатого века нужно ваше
средневековье!— Мисс Браун рассмеялась.— Притом организованное всерьез.
Я бывала в сотнях ресторанов и кафе мира, которые устроены в таких
вот башнях, в подземельях, в крепостных стенах. Там все средневеково —
стены, полы, балки потолков, двери, окна. Все, кроме комфорта и того, что
кладется в рот и при помощи чего это делается. И порядки там не тех
давних веков, а современные — быстро, вкусно, предупредительно А тут —
где официант?
— Под Королевским замком в Кенигсберге,— заговорил
Клауберг,— был замечательный ресторан «Блютгерихт», «Кровавый суд».
Он размещался в подземелье, где была камера пыток. В стенах с тех
времен торчали железные кольца, висели цепи...
— Топор и плаха в углу! — с язвительностью подхватила мисс Браун.
— Скелет,— добавил Юджин Росс.— Это чисто по-немецки.
— Нет, топоров и скелетов там не было, — обозлился Клауберг. —
А был порядок. Немецкий порядок!
— Новый? — Мисс Браун откровенно смеялась.
— И старый и новый, дорогая мисс. Вот когда вы посидите здесь
часок-другой в ожидании пищи, то немецкие порядки вы предпочтете
здешним.
Сабуров, как ни странно, испытывал неловкость. Ему было стыдно
за все то неумелое, неуклюжее, безвкусное, что окружало их в этой
башне, что видели они в ней. Для Сабурова и эта мисс и этот Юджин
46
Всеволод Кочетов •
не были русскими, не говоря уж о Клауберге. Русским, как ему
думалось, среди всех них был только он, и вот каким-то странным даже
ему самому образом именно он нес перед всей этой компанией и
ответственность за скверное обслуживание посетителей и полностью разделял
эту ответственность с неумелыми устроителями средневекового
ресторана. Права проклятая американка: у них не получилось в этой башне
ни средневековья, ни современности. А молчаливый Юджин тем временем
разговорился:
— Дали бы мне это дело в руки! Я бы устроил им ресторанчик!.. Вот
там бы в углу — очаг с вертелами. На них на глазах заказавшего клиента
жарили бы — хотите — цыпленка, а хотите — целого барана. В эту бы
стену,— он похлопал ладонью по камню,— вмонтировал аквариум с живой
рыбой. Желаете, сэр? Рыба вылавливается для вас сачком и тут же
поджаривается.
— О, это уже есть в отеле «Хилтон» в Афинах! — сказала мисс
Браун.
— Что ж, было бы и в Новгороде, — ответил Юджин Росс. — Этих
неповоротливых, злобных женщин я бы, конечно, заменил другими,
приветливыми, хорошо воспитанными. — Он расписывал и расписывал, и
действительно ресторан в старинной башне обретал в его описаниях весьма
привлекательные черты.
В последующие дни Сабуров больше не искал развлечений. Вместе
с Клаубергом они составили для Юджина Росса список объектов для
съемки. В главном куполе Софийского собора Сабуров старался рассмотреть
Вседержителя и его сжатую в кулак руку — то, о чем когда-то ему
рассказывал доктор Розенберг, как шпаргалкой, пользуясь книгой русского
князя Трубецкого, и что не раз видел и сам Сабуров в военные годы. Но
фреска сильно пострадала после того, как специальная команда эсэсовцев
содрала с куполов собора золотую обшивку, и трудно различались там,
в высоте, ее остатки.
— Существует предание...— начал он, обращаясь к
сопровождавшему их сотруднику музея.
— Да,— понял тот,— существует. Вернее, есть два предания.
Одно, о котором вы хотите сказать, — о том, что как ни старались древние
живописцы написать благословляющую руку Пантократора, она все равно
складывалась в кулак. Дескать, Русь сильна своей сплоченностью. А
второе предание... Вы видели, на кресте главного купола сидит голубь? Он
громадных размеров. Это снизу он такой маленький. Так вот, по
преданию, стоит лишь голубю покинуть свое место — и Новгороду конец.
Но голубь по милости господ гитлеровцев в минувшую войну покидал
свое место, а Новгород-то!.. Какой город стал! Вам нравится наш
Новгород?
— В целом — да, конечно, — ответил Клауберг. — Красивый город.
— Если бы вы видели, что натворили здесь гитлеровцы! Выйдемте
ка волю.
Вместе с сотрудником музея они вышли из собора. Во дворе Сабуров
увидел знакомое крыльцо, знакомые двери, которые вели в Грановитую
палату, где некогда было казино немецких офицеров.
— Что в этом здании? — спросил он.
— Если вам захочется, мы потом можем зайти и туда,— сказал
сотрудник музея. — Там Грановитая палата, в ней хранятся ценности
Новгорода. Евангелия в серебре и золоте, предметы церковного культа из
драгоценных металлов и камней. Прекрасные вещи. Видите, милиционер
у входа? Охраняет палату, как Госбанк. Так пойдемте на площадь! Вот
перед вами памятник Тысячелетия России! Сколько фигур из бронзы!
Ценность какая! И все это было разломано, разобрано. Когда наши
вступали в Новгород в сорок четвертом, фигуры эти валялись вот тут, тут,
вокруг, в снегу,. Их готовили к отправке в Германию.
• Чего же ты хочешь?
47
Он мог бы об этом и не рассказывать. Те, кому он рассказывал, как
раз и занимались разборкой дорогого русскому народу сооружения.
Точнее — один из них, Сабуров, поскольку Клауберг в те дни был в Пскове
и готовил к отправке в Германию ценности Псково-Печорского
монастыря. Сотрудник музея прав: памятник Тысячелетия России было решено
отправить в Германию. Одного боялся тогда Сабуров,— что там его
расплавят на металл. Для немцев русский памятник иной ценности составить
не мог. Лишь медь да бронза, а никакое не тысячелетие великой Руси.
Для него же, Сабурова?.. Он еще полсотни лет назад слышал
рассказы отца, который вместе со своими родителями приезжал в Новгород
из Петербурга на торжественное открытие этого замечательного творения
скульптора Микешина. Торжества, по словам отца, были пышные,
шумные. Подумать только — тысяча лет России! Пусть это не два с лишним
тысячелетия Древнего Рима или Древней Греции, чем там, на Западе, так
хвастаются, но и тысяча лет — это не две недели. У России была славная
история, была своя удивительная культура, был свой чрезвычайно
ценный вклад в мировую культуру. Вот здесь, в Новгороде, советские
археологи откопали мостовые и водопровод, канализацию шести-семисотлет-
ней давности. И письменность древние новгородцы имели. Пусть не на
папирусах — на бересте, но имели. Нет, нет, Россия щи хлебала совсем не
лаптем. И очень жаль, что неуклюжие люди там, в старой кремлевской
башне, весьма неумно поддерживают западные басни об обратном и
подсовывают именно лапоть.
Да, ломали, разбирали, демонтировали памятник, а он снова
целехонек. Как был, так и есть.
Весенний день угасал, вечерело. Распрощались с любезным
сотрудником музея, договорились с ним весь следующий день посвятить осмотру
коллекции икон в музее, и в гостиницу возвращались окружным путем,
по берегу Волхова.
— Помнишь, тут водолазы работали? — Клауберг кивнул в сторону
реки.— Колокола искали. И не нашли. Того информатора, кажется,
вздернули за ложное сообщение. А он говорил правду, утверждая, что колокола
затоплены в реке. Теперь, видишь, их оттуда достали!
В Летнем саду, на горке, слышался веселый шум, звучал смех,
раздавались крики. Они поднялись. На горке была устроена танцевальная
площадка. И на ней... Трудно было даже глазам своим поверить... Задрав
юбку, на площадке откалывала наипоследнейший американский танец —
кто? Мисс Браун! Партнером у нее был старательно повторявший за нею
все ее дрыгания пучеглазый парень с челкой до бровей, в красном
свитере и выцветших джинсах. Зверская музыка гремела в портативном
магнитофоне, который всюду таскала с собой мисс Браун.
Вокруг танцующих теснилась толпа молодежи, особенно много было
девушек. Все они старались повторять и запоминать то, что показывала
иностранка. При этом мисс Браун, отлично владевшая русским языком,
делала вид, будто бы говорит на нем очень скверно, с ужаснейшим
акцентом.
— Милии мои,— коверкала она,— это самий модни данц. Он ишшо
толка ин Америка. Бат я вас любит, бикоз показывай, шоу, шоу!
— Идиотка, — сказал Сабуров. — Она все провалит. На нас
обратят внимание. Надо ее остановить и увести отсюда.
— Не надо. — Клауберг удержал его за локоть. — Она много о себе
думает. Америка превыше всего! Она дала мне понять, что у нее свои
дела и чтобы я в них не вмешивался. На здоровье! Пусть русские даже
ее вышлют. Я буду только рад. И этого болвана могут высылать, который
пьет и жрет целыми днями. Машину и мы с тобой знаем. А сделать
снимки нам помогут русские. У них есть прекрасные мастера этого дела. Так
что пусть, Петер, она идиотничает. Это ее собачье дело...
48
Всеволод Кочетов •
21
Спада всем своим поведением подчеркивал полнейшее равнодушие к
тому, что делает Лера, чем она занята, куда ходит, с кем встречается. Он
тоже стал возвращаться домой не как прежде — после службы, а когда
придется, иной раз и далеко за полночь.
— Тебе же все равно,— ответил он ей на одно из ее замечаний по
этому поводу. — Ты завела себе свою компанию, тебе круг моих друзей
неинтересен. Ну, а мне он интересен, мне он необходим.
— Не поступишь ли ты так,— сказала Лера, усмехаясь,— как
поступил один тип не то из Йемена, не то из Кувейта, который нашу,
вышедшую за него замуж в Москве студентку-комсомолку продал одному из
местных князьков в гарем? Ты человек расчетливый — все лишние
деньги в дом.
— На вас, русских, таким путем не заработаешь,— зло ответил
Спада.— Вы слишком неквалифицированны как женщины.
Это было уже обидно хотя бы потому, что он старался обидеть.
А зачем? Почему?
Все чаще и чаще приходили к Лере мысли о том, что она оказалась
глупой девчонкой, что она ошиблась, грубо, нелепо ошиблась, поддавшись
поверхностному, налетному чувству, дав увлечь себя этому, в сущности,
мелкому, пустому человеку. Если задуматься, то не он, не его личность
увлекли ее тогда. Нет, конечно. Хотя, по правде говоря, своими мягкими
манерами Спада выгодно отличался от ее сверстников: он умел
продемонстрировать и подать свою воспитанность так, что это производило
впечатление. Что там ни говори, а на фоне готтентотских, студенческих
выкриков типа «железно», «до лампочки», «элементарно», «хохма» и всяких
подобных речь Бенито Спады, его разговоры привлекали своей
содержательностью, интеллектуальностью. Это теперь она стала понимать, что
содержательности в нем никакой и нет — все из книг, и ничего своего, а его
интеллектуальность — одна видимость интеллектуальности. Но тогда, в
Москве... Что ж, она увлеклась, да. Но все равно, взе равно, говорила себе
Лера теперь, это увлечение не было любовью, оно и было только
увлечением; был интерес, было девчоночье любопытство, влекла возможность
увидеть иную, новую, непохожую жизнь; причем нисколько в то время
не думалось о том, что иную жизнь не просто посмотришь, не просто
увидишь, а получишь ее навсегда. И вот она, эта иная жизнь, была увидена,
посмотрена и сегодня исчерпывалась, приходила к концу.
Родители Спады хранили строгий нейтралитет. Они видели, что у их
сына с невесткой что-то неладно, но ни во что не вмешивались, даже ни
о чем не расспрашивали ни его, ни ее.
Напряженность в семье нарастала еще и потому, что в городе, как,
впрочем, и во всей Италии, было неспокойно. Из буржуазных газет
узнать что-либо определенное было трудно, они пестрели самыми
противоречивыми сообщениями. Но Чезаре Аквароне хорошо разъяснил Лере
обстановку. Дело в том, что итальянцы — имеется в виду трудовой народ
страны — остро недовольны тем, как их правительство все глубже и
глубже втягивает Италию в натовские планы. «Французы вырвались из этой
паутины, генерал де Голль оказался достаточно прочной личностью. У
нас таких личностей нет, наши правители непатриотичны и покорно, как
кролики в пасть к удаву, идут навстречу планам американцев,
стремящихся место строптивой Франции заполнить в НАТО услужливой Италией.
А мы, между прочим, тоже не пешки, мы не желаем этой темной игры».
Все лучшие гостиницы Турина были заняты в эти дни летчиками
НАТО — американцами, моряками НАТО — тоже американцами,
связистами НАТО — и те носили форму армии США. Они толпами шлялись
по улицам, сидели в кафе и в барах. Военная организация
Атлантического пакта проводила на севере Италии свои массовые мероприятия.
# Чего же ты хочешь?
49
Рабочие, часть служащих и интеллигентов стали появляться у
гостиниц с плакатами, надписи на которых с полной ясностью
свидетельствовали о том, что итальянские трудящиеся были бы рады, если бы
натовские гости соблаговолили как можно быстрее вернуться к себе домой,
туда, откуда приехали. На улицах усилились наряды полиции,
карабинеров; говорили, что уже и армейские части подтянуты к окрестностям
Турина.
— Бенито, ты чувствуешь, что происходит? — спросила Лера в один
из таких дней.
— Ничего особенного. У нас в Италии любят подымать шум. Это у
вас считают, что чем тише, тем лучше. А у нас чем больше шуйгу, тем
демократичнее. Ничего особенного.
— Но натовцы-то съехались, это факт!
— Как съехались, так и разъедутся. Туринцы на них только
заработают. У господ американцев достаточно зеленых бумажек, оставят их
в гостиницах, в барах, ресторанах, в магазинах.
— Тогда почему же народ волнуется, ваши рабочие?
— Это твои закадычные друзья, сама у них и спрашивай.
— А тебе они разве не друзья?
— Блестящая советская демагогия, мадам! — воскликнул Спада.—
Вы все мерите интересами рабочих и колхозников. Надоело! Человечество
идет вперед. Времена марксовых взысканий и теорий миновали. Это
было сто и более ста лет назад. Сейчас в науке и в технике никто не
обращается к Архимеду и Галилею, к Джеймсу Уатту и Маркони при всем
почтении к тому, что они некогда совершили. Даже Резерфорд позади,
даже ваш Курчатов. А в науках об обществе вы застыли на Марксе,
на Энгельсе, на Ленине... Рабочие, о которых вы кричите, давно
перестали быть единственным революционным классом. Революции сегодня
происходят всюду: в страназг Африки, Азии, даже Америки,— и что,
может быть, их там совершают рабочие? Ерунда! Там...
— Если социалистические революции, то да: и рабочие и крестьяне...
А если это дворцовые и военные перевороты, где хунты, генералы и
полковники, то таких «революций» по десятку в год можно совершать. Это
не социалистические революции...
— ...о которых Ленин говорил, что они да здравствуют! Да, да,
знаем. Дико, слышишь, дико представить себе, что у нас в Италии, в
стране тонкого художественного вкуса, в стране передовой науки и техники,
власть может оказаться в руках рабочих, в руках батраков Сицилии и
Сардинии. Это же некультурные, темные люди, которых долгими годами
надо просвещать. Могу ли я, окончивший два высших учебных заведения,
подчиняться таким правителям? Вы же сами ощутили, что это нонсенс:
с ростом культуры даже у вас поняли, что так называемая диктатура
пролетариата свое отжила. Вы ее отменили, дорогая. А мы и устанавливать
не будем. Как-нибудь обойдемся без нее.
В дверь позвонили. Отворить пошел Спада. На лестничной площадке
перед ним стояло трое попыхивающих сигаретами людей.
— Компаньо Спада,— сказал один из них.— Мы из партийного
комитета. Завтра решено всем выйти на улицу. Надо показать этим натовцам,
да и правительству тоже, всю нашу силу. Мы приглашаем и вас.
— Начнем в десять утра, — добавил второй.
— Хорошо, хорошо! — поспешно закивал Спада. — Спасибо, что
сказали. Но...— Он замялся.— Могут быть неприятности.
— Ничего. У русских в семнадцатом году неприятностей было
больше, да они их не испугались.— Все трое рассмеялись и, так смеясь,
стали спускаться по лестнице.
— Вот видишь, — сказала Лера, когда дверь за ними была
закрыта,— и не обойтись без рабочего класса. Это же были рабочие, я вижу.
4. «Октябрь» № 10.
50
Всеволод Кочетов .*#
— Положим, тот маленький, который ничего не говорил, совсем не
рабочий, он официант из ресторана, я их всех здесь знаю. А что касается
«не обойтись», так обойдемся, дорогая.
— Как же?
— Очень просто. Я с ними завтра никуда не пойду.
— Но ведь это же, наверно, партия так решила — выйти на улицы,
устроить антинатовскую демонстрацию?
— Ну и что же? Кто решал, тот пусть и идет, а я не решал. Ты
что, смеешься! Там голову могут дубинкой проломить. А то и пулю в лоб
всадят. Это не для меня. Я против таких методов. Я не руки и не ноги.
Я голова, мысль, интеллект.
— Но ты же состоишь в партии! Зачем ты в нее тогда вступал?
— А я в любую минуту могу пойти и заявить о выходе из нее.
Лера годами изучала историю партии у себя на родине.
Необыкновенно далекими казались в ту пору события, о которых шла речь в
книгах, — непредметными, незапоминающимися. Особенно расплывчато для
нее было время после поражения революции 1905 года: какие-то
отзовисты, ликвидаторы, примиренцы, газета Троцкого, почему-то тоже
называвшаяся «Правдой». Августовский блок — блок кого, почему? Пражская
конференция — историческая, положившая конец разброду и шатаниям.
Как положившая? Какому разброду?
И вот перед нею будто бы овеществилось далекое и, думалось,
абстрактное. Перед нею воочию сидит ликвидатор, типичный ликвидатор,
который разуверился в революционной силе рабочего класса. Он жаждет
только легальных, только парламентских форм революционного движения.
А революционное ли оно тогда? Нет, нет и нет. Потому-то Ленин с такой
пылкостью, яростью, убежденностью и сражался против ликвидаторов,
против троцкизма, против Троцкого, вокруг которого роились все они — и
ликвидаторы и примиренцы по отношению к ликвидаторам. Сколачивая
августовские и иные блоки, они чуть не погубили партию. Потому и
оказалась Пражская конференция на самом деле исторической, что
большевики порвали тогда со всей этой псевдореволюционной братией,
отстояли, спасли чистоту революционных идей.
— Нет, друг мой, ни Маркс, ни Ленин нисколько не устарели и
сегодня,— сказала Лера спокойно.— Я вижу это на живых примерах
Италии. На твоем примере вижу.
— Да, конечно. Я понимаю, догадываюсь! — закричал Спада. — По
твоей терминологии я ликвидатор, да, да? Оппортунист, ревизионист?
— Ты сам это сказал. Сам почувствовал.
Назавтра Спада не встал с постели. У него болела голова, была
температура тридцать семь и две.
Лера сказала, чтобы он накормил Толика, оделась и ушла. День
был солнечный, весенний, солнце грело, а ветер с гор нес утреннюю
свежесть. По вымытым весенними дождями камням и асфальту улиц
шагалось удивительно легко. Лера шла к тому пункту сбора, который
вчера назвали посланцы партийного комитета. Очевидно, направляясь туда
же, то ее обгоняя, то равняясь с нею, то отставая, шли и другие люди,
и чем ближе к месту, тем гуще, внушительней становилась толпа.
На большой площади с памятником посредине Лера растерялась.
Она не знала, к кому обратиться. Но обращаться, видимо, ни к кому
и не надо было. Разве в этом дело! Важно, что в такой день она с
ними всеми, с рабочим классом Турина, с итальянскими коммунистами.
Было еще минут сорок десятого. Люди развертывали транспаранты
с надписями против натовских сборищ, против морских американских баз
в Италии, против ракетного оружия. Среди этих надписей можно было
прочесть и надписи против агрессии во Вьетнаме. В огромном скоплении
народа шли всякие разговоры, раздавался смех, слышались шутки. Лере
даже показалось, что она в Москве перед первомайской демонстрацией.
# Чего же ты хочешь?
51
И плакаты такие же, и люди такие же, и солнце, и ветер. Но только вот
группы полицейских и карабинеров по краям площади нисколько не
напоминали московских милиционеров, сдерживавших мальчишек, которые
пытались прорваться к Красной площади. Нет, у полицейских тут были
винтовки и пистолеты с заложенными боевыми патронами. Поглядывая на
них, Лера ощущала тревожный и вместе с тем радостный холодок в
спине. Такое ей всегда казалось ушедшим в далекое прошлое, оно досталось
дедам, отцам, матерям. Дети могли им только завидовать. И вот она
сама, как в сказке, перенеслась в годы развернутых красных знамен,
демонстраций протеста, массовых выступлений народа, заряженных
винтовок и пистолетов полиции. Злобный Спада, это Маркс, это Ленин
вывели тысячи туринцев на улицу сегодня, а не ты, вообразивший себя
чьей-то мыслью, чьим-то интеллектом!
Появились люди с повязками на рукавах, стали организовывать
колонны, началось движение колонн по улицам. Взвились флаги над
ними. Лера увидела десятки дорогих ее сердцу эмблем на транспарантах —
скрещенных молотов и серпов.
Демонстрация текла по Corso Unione Sovetica, по проспекту
Советского Союза, до главного вокзала железной дороги, до пересечения
с проспектом Виктора-Эммануила II. Колонны проходили мимо
гостиниц, занятых натовцами, люди скандировали свои требования, слитным
криком повторяя то. что было по-итальянски и по-английски написано
на транспарантах. И всюду их сопровождали полицейские и карабинеры,
пешие и конные, особенно густо расположенные как раз возле тех
гостиниц.
Шествие туринцев длилось несколько часов. Все эти часы Леру несло
как на широких, сильных, легких крыльях. В этот день она как бы
получала полную компенсацию за все годы бескрылой жизни, тусклого
существования рядом с бескрылым, тусклым Спадой. Она разговаривала
с соседями по шеренге в колонне. Те были настроены оптимистично,
по-боевому, решительно. Если полиция полезет в драку, она свое
получит,— в разных вариантах высказывались они, держа в карманах
гаечные ключи, внушительные отвертки и всякие иные железины. Замечая
ее не очень хорошую итальянскую речь, Леру спрашивали, откуда она,
из какой страны. Ей не хотелось, чтобы люди узнали, что она русская,
советская: вдруг в такой горячей атмосфере они начнут выражать свои
симпатии к ее родине; провокаторы обрадуются возможности раздуть
очередную истерию с «рукой Москвы», которая-де вмешивается в
итальянские внутренние дела. И Лера кое-как выкручивалась, лишь бы не
сказать правду. Неожиданно к ней подскочил человек, в котором она узнала
остроносого социалиста Луиджи.
— Синьора Васильева!—закричал он радостно.— Как замечательно,
что вы с нами1 Сегодня идут решительно все. И коммунисты и те
социалисты, которые не пожелали изменить рабочему классу во имя грязных
интриг своих боссов. И партизаны Сопротивления. И беспартийные. Такой
день, такой день! Эммануэле! Пеппо! Пьетро! — орал он до тех пор, пока
наконец Леру со всех сторон не окружили ее знакомые. Даже Чезаре
Аквароне появился. Восторженный Луиджи объяснял всем желающим:
— Это же русская, советская синьора! Товарищ Васильева из
Москвы. Она с нами, понимаете!
Леру обнимали, жали ей руку, хлопали по плечам, угощали
грецкими орехами, с хрустом раздавливая их в железных ладонях, несли в
бутылках апельсиновую воду, дарили значки, шариковые ручки, перочинные
ножи и брелоки для ключей к автомобилям.
— Куда же^я это все дену! Ну зачем, зачем, товарищи!.. О мамма
миа!
Кто-то сбегал в соседнюю лавчонку и купил мешок из нейлоновой
сетки. Все подарки повпихивали туда. Кто-то понес за Лерой этот мешок.
52
Всеволод Кочетов •
Начали петь «Катюшу». Потом «Подмосковные вечера», и, наконец,
сминая все остальное, разрозненное, над колоннами вспыхнуло и поплыло,
нарастая, «Смело, товарищи, в ногу!».
Перед Пьяцца Кастелло демонстрантов встретил плотный строй
полиции.
— Господа! — прокричал полицейский офицер, сидя на танцующей
лошади.— Прошу повернуть обратно, и на сегодня вашего марширования
достаточно. О ваших требованиях, кому надлежит, уже известно, и
теперь дело властей, внять этим требованиям или не г. Идите по домам,
выпейте по стаканчику вина и успокойте нервы.
На него засвистели, зашикали. Конь еще горячее заплясал, защелкал
копытами о камни. Демонстранты нажали на строй полицейских, и он
распался. Лера уже была готова принять удары дубинок, услышать
выстрелы. Но ей нисколько не было страшно, ею владел всепобеждающий
и всезаслоняющий азарт коллективной, общей борьбы. Теперь-то она
понимала, что за сила организованные массы, если их возглавляют и ведут
смелые и решительные вожаки.
То там, то здесь возникали митинги. Выступали коммунисты,
социалисты, люди других партий и организаций. Лера не вЪ всех из них
разбиралась. Но ей было ясно, что все говорили об одном и том же — о том,
что Италия не должна плестись в хвосте натовского блока, что
итальянский народ и без американской указки способен найти верную дорогу для
своего развития и процветания. Долой тех, кто играет с огнем новой
мировой войны!
Расходиться стали только под вечер.
— Это очень ответственный момент, — сказал коммунист
Эммануэле.— Никому нельзя оставаться в одиночестве. Не рассеивайтесь,
товарищи, не разбегайтесь все сразу. Могут перехватать поодиночке.
Уходили по своим районам, по домам большими группами,
завертывая по дороге в траттории, пиццерии, буфеты — подкрепить силы после
более чем восьмичасового марша. Все были довольны проведенным днем.
Компания Эммануэле затащила Леру в пиццерию. Заказали на всех
пицци — народное, очень распространенное кушанье, напоминающее
открытый пирог с начинкой из разной разности. Можно заказать пицци
с помидорами и другими овощами, можно — с острым сыром, можно —
с «плодами моря»: креветками и ракушками. Потребовали и несколько
кувшинов вина, к нему сыру, маслин.
— Когда вот так пройдешься среди тысяч твоих товарищей,
начинаешь и себя уважать,— сказал Эммануэле, разливая вино по стаканам.
— Поэтому-то нам так старательно и навязывают всем телевизоры в
рассрочку,— сказал Луиджи.— Чтобы сидели перед ними каждый в
своей берлоге по отдельности и позабыли бы друг о друге.
— Совершенно верно, Луиджи! Ты даже не знаешь, как ты прав.—
Старый Пьетро отпил вина.— Мне один швед рассказывал, что они там —
он профсоюзный деятель у себя в Швеции — дошли до того, что даже
общие профсоюзные собрания проводят по телевидению. Лежат по домам
на диванах и слушают доклады своих лидеров. На улицу уже и ходить
боятся: а вдруг там могут выстрелить!
— А мне один из Африки говорил... Там уже даже и не подумаешь,
на что идут капиталисты,— вступил в разговор Пеппо.— Как шумиха
среди рабочих на плантации, так сразу хозяева им бесплатные талончики
в публичный дом выдают. Извините, синьора Васильева!
— Поодиночке-то многих купить можно. А вот когда массой, тут уж
нет, рабочего человека не купишь.— Эммануэле еще подлил вина в
стаканы. — А между прочим, синьора Васильева, ваш супруг, синьор Спада,
был сегодня на улице?
— Он болен,— ответила Лера, чувствуя, что краснеет.— Темпера-;
тура...
• Чего же ты хочешь?
53
Все замолчали и стали собираться по домам. Пожимали ей руки,
предупреждали, чтобы не позабыла сумку с подарками, которую за нею
так все время и таскали попеременке.
К себе домой она поднималась по лестничным ступеням, как на
Голгофу. Видеть Спаду было уже совершенно невозможно. Он стал чужим
не только ей, но даже своему итальянскому народу. Вот с кем связала
она свою жизнь! Как подшутила над нею, московской комсомолкой,
судьба!
Спада встретил ее буквально брызжа слюной, она чувствовала это
на своем лице и отстранялась от него.
— Как ты смела, как смела лезть не в свои дела! В чужой стране,
при чужих порядках! Мне уже звонили. Это же скандал, скандал! Ты
там агитировала, провоцировала петь советские песни.
— «Рука Москвы»! — сказала она.
— Да, да, да! Именно. У меня могут быть неприятности из-за тебя.
— Сделаю официальное заявление, опубликую в газетах, что ты
ничего общего со мной уже не имеешь, что мы разводимся, и все. Это у вас,
в Италии, развод «по-итальянски» — обременительное дело: жену надо
непременно прикончить. А мы с тобой регистрировались в Москве, там
разведут без убийств.
Назавтра было воскресенье. Спада сидел у себя в комнате, делал
выписки из Достоевского. Лера возилась с Толиком, обдумывая положение.
Надо было уезжать в Москву. Денег у нее для этого не было, а Спада
своих, несомненно, не даст. Продать что-нибудь? Но у нее нет ничего
такого, что стоило бы хороших денег. Один ширпотреб, чепуха.
Пришла синьора Мария Антониони.
— О синьора Спада! — заговорила она по-русски. — Можете себе
представить, я провела два дня в Вариготте, на вилле «Аркадия».
Осматривала комнаты, которые синьора Карадонна и на этот раз оставит
для меня и Сальваторе. Я накупила там превосходной рыбы. Если
хотите, уступлю немного, придите взглянуть на нее. Это прелесть, а не рыба.
И еще я вам скажу, так вы не поверите! Вы знаете, конечно, синьора
Карадонну, Умберто Карадонну?
— Да, да, как же! Он очень приятный собеседник, начитанный,
много знающий.
— И куда бы, вы думали, эти обширные знания завели вашего
приятного собеседника? Прямо в Москву, в Советский Союз! Он прислал
письмо своей Делии, хозяйке «Аркадии». Его, оказывается, пригласили в
Лондон. А оттуда он отправился в Советский Союз. Что-то связано с
искусством. Он ведь знает м искусство. Откуда только, не пойму. Он приехал
в Москву и сразу написал жене, чтобы не волновалась. Видите, какой
заботливый и внимательный. А то ходит, молчит, чертовски серьезный.
Подумаешь, не человек, а сухарь. Делия читала мне это письмо вслух. Он
в восторге от России. Он уже был в Ленинграде, еще где-то. Это,
говорит, не страна, а учебник жизни.
— Ну что вы болтаете, синьора Мария! — На пороге своей комнаты
стоял Спада с авторучкой в руке.— Какой учебник! Учебник того, как
не надо жить.
— Глупости, синьор Спада! Я на целую треть русская, я
прекрасно понимаю синьора Карадонну, да, понимаю, у него тоже кто-то в роду
был связан с русскими. И напрасно вы так думаете, будто бы, кроме
Италии, других стран на свете и нет. И, между прочим, я сегодня прочла в
коммунистической газете, что итальянцы недовольны порядками в своей
стране потому, что им надоело жить под американским сапогом.
— Это вы городите чушь, синьора Мария!
— Возьмите газету и убедитесь сами, синьор Спада. Тысячи людей
вышли вчера на улицу. Полиция перед ними отступила. Люди очень
недовольны жизнью. Так что не нам с вами, синъоп Спада, учить русских
54
Всеволод Кочетов *#
чему-либо. А может быть, прав он, синьор Карадонна, и нам бы следовало
поучиться у них.
— Вы просто старая дура, старая...— Спада выругался по-русски и
хлопнул дверью своей комнаты.
— Вы слышали, как этот вахлак меня обозвал? — закричала
синьора Антониони.— Это же, если перевести на итальянский... это же хуже,
чем проститутка.
— Успокойтесь! — крикнул Спада из-за двери. — Это совершенно
одно и то же.
— Синьора Спада, он что у вас сегодня?.. — Синьора Антониони
смотрела на Леру с удивлением и испугом.— Он, может быть, съел что-нибудь
дурное? Или стал употреблять модный героин? От этой дряни, говорят,
люди совсем шалеют.
— Простите, синьора Мария,— ответила растерянная Лера.— Я
очень перед вами виновата за то, что так вот получилось. Если
позволите, я к вам позже зайду.
22
Вот уже несколько дней в доме Зародовых стоит небывалая суета.
Сама Алевтина Григорьевна, пять родственниц ее супруга, Александра
Максимовича, даже Генка, и тот — все они с утра, вооруженные
тряпками, щетками, пылесосом, приводят захламленную, неряшливую квартиру
в порядок.
Квартира немалая, не столько, может быть, по числу комнат — их
пять, сколько по квадратуре площади — более ста двадцати метров, с
холлом, с громадным, длинным и широким, как изрядный переулок,
коридором. Комнаты поделены по своему значению в жизни семьи так:
большая, с фонарем,—столовая; почти такого же размера — кабинет
Александра Максимовича; затем общая спальня супругов, затем комната Генки;
и, наконец, поскольку что делать с пятой комнатой Зародовы не знали, они
устроили в ней «телевизионную».
«В Англии это в порядке вещей,— разъяснил Александр
Максимович.— В каждом порядочном доме там есть так называемая «ситингрум» —
комната для сидения, в ней топится камин или включается, если камин
электрический, и в ней же смотрят телевизор. Итак, здесь будет
ситингрум!» «По-русски это гостиная»,— сказал кто-то из родственников, когда
обсуждался вопрос о распределении комнат в новой квартире. «У англичан
такого понятия нет, — ответил Александр Максимович. — Гостей там звать
не очень принято. Ситингрум существует для своей семьи. Ну, а если гости
все же забредут, тоже там сидят».
Так все комнаты в квартире Зародовых с тех пор и назывались: вот
эта — «ситингрум», спальня — «слипингрум», столовая — «дайнингрум»,
кабинет — «райтингрум». Только Генкиной комнате Александр
Максимович не смог подыскать английского названия. «Сансрум» — комната
сына — звучало не очень хорошо. «Чилдренрум» — детская? Какие же дети?:
Генка у них один. Да и не ребеночек он уже давно. Поэтому комната его
наименовалась просто «Генкиной».
Александр Максимович чрезвычайно гордился тем, что мог
изъясняться по-английски. Правда, из-за неясности произношения окончаний
слов, когда он путал «з» и «с», «д» и «т», некоторые его высказывания
приобретали совсем противоположный смысл тому, на какой Александр
Максимович рассчитывал, а иной раз у него получались и вовсе
неприличности и даже ругательства. Тем не менее он любил сказать: «Английский-
у нас в доме — это, если хотите, второй государственный язык нашей се-*
мьи». Он имел в виду то, что в последние годы даже Генка освоил кое-что
из английского, а Алевтина Григорьевна по английским надписям на
этикетках могла отличить банку с быстрорастворимым кофе от кольдкрема
или стирального порошка.
• Чего же ты хочешь?
55
Шумиха, поднятая в доме, объяснялась тем, что в Москву прибыли
очень важные иностранцы: они работают в рамках ЮНЕСКО, их надо
принять в домашней московской обстановке. Иностранцы нацелились на
Александра Максимовича потому, что за год до их приезда он был назначен
редактором одного из «Вестников», который часть своих страниц уделял
и истории искусства, и некоторые его статьи об этом приобрели
известность за рубежом.
— Папец,— сказал Генка,— для такого дела, как прием иностранцев,
надо бы Ийку позвать. Очень будет полезно. Приехал, ты говоришь, целый
интернационал: немец, итальянец, двое американцев. Ийкино знание
разных языков может здорово пригодиться.
— Да, ты прав. Может быть,— не очень охотно согласился Александр
Максимович. Он до самозабвения любил встречаться с иностранцами, но
совершенно не терпел делить это удовольствие с кем-либо еще. Он был
счастлив как бы мимоходом сказать среди коллег назавтра после
встречи: «Голова побаливает. Устал вчера дьявольски. Иностранцы были.
Засиделись чуть ли не до утра».
Но на этот раз дело было особое: прибыла весьма представительная
группа, с четкой программой — древнее русское искусство, в котором
Александр Максимович не очень-то разбирался, и непременно следовало
позвать знающих людей. Ему уже посоветовали пригласить художника
Антонина Свешникова, который у иностранцев популярен именно тем, что
творчески осваивает русское живописное наследие, поэта Савву Богородиц-
кого — представителя, если так можно выразиться, современного
неорусофильства, истинного россиянина, богатыря, былинного гусляра и
песенника. Согласился в конце концов Александр Максимович позвать и дочь
Алевтины Григорьевны — Ию.
— Она эффектна,— рассуждал он вслух.— Если захочет, может быть
весьма экстравагантной, что иностранцам всегда нравилось и нравится.
— Но она и опасна, Саша,— заметила Алевтина Григорьевна.—
Может статься так, что все они примутся за ней ухаживать и в центре стола
окажешься не ты, а она.
— Глупости! — не согласился Александр Максимович. — Как то есть
она, а не я? Им нужен я, я, нужны разговоры со мной, со мной, им
интересны мои взгляды, мои воззрения. А не абрисы какой-то московской
девчонки. Таких у них у самих косяки.
В условленный день и в условленный час намытая, прибранная
квартира Зародовых наполнилась праздничным шумом. Несмотря на то, что на
улицах было еще светло, в комнатах горели все огни, включенная радиола,
которую Александр Максимович привез из Японии, сама меняла пластинки.
Рядом с нею — на смену ей — стоял магнитофон, привезенный
Александром Максимовичем из Нью-Йорка. Алевтина Григорьевна непрестанно
пролетала по коридору от кухни к столовой и обратно, то заглядывая в
кастрюли, то окидывая еще одним взглядом тщательно сервированный стол.
У плиты на кухне орудовали две старые тетки Александра Максимовича.
Одна из его племянниц в белой наколке и белом передничке готовилась
к тому, чтобы ходить среди гостей с подносом, уставленным бокалами и
рюмками, и предлагать коньяк, водку, минеральную воду, виноградный
сок. Она волновалась.
— Неужели ты, голова садовая,— инструктировал Александр
Максимович, — никогда не видела в кино, в заграничных картинах, как это
делается? Идешь, улыбаешься, говоришь несколько нараспев и негромко:
«Коньяк, ликер, минерэл уотер».
— Слегка покачиваешь бедрами, — добавил Генка.
— Это не обязательно, — сказала Алевтина Григорьевна.
— Нет, это необходимо, — настаивал Генка. — Всегда надо
стремиться воздействовать на комплекс чувств.
56
Всеволод Кочетов "•
Начали раздаваться звонки у дверей. Отворял Генка, гостей же
встречал сам Александр Максимович.
Первой пришла Ия.
— Я подумала, что, может быть, надо в чем-то вам помочь,— сказала
она, скидывая легкий плащ, на который уже сменила демисезонное
пальтишко, потому что на улице, несмотря на то, что была еще только первая
половина мая, установилась очень теплая, приятная погода.
— Нет, нет, тут у всех свои четкие обязанности,— ответил Александр
Максимович. — Ты будь в телевизионной. — Он не решился при Ие сказать
в «ситингрум».— Как будут приходить, предлагай свои услуги
переводчицы.
— Слушаюсь.— Ия сделала книксен.
За нею явились Свешниковы — Антонин и Липочка.
— Ия! — обрадовалась Липочка. — Ты здесь? Как замечательно! А я
полагала, что не будет ни одной знакомой души. Приготовилась к скуке.
У меня ведь... вернее, у нас с Антонином... этих иностранцев среди
знакомых — десятки. В общем, они довольно однообразны. Верно, Антонин?
Свешников, как обычно, изображал из себя гениального чудака. Он
втягивал руки в рукава пиджака так, будто рукава ему коротки, отчего и
плечи у него все время были в странном движении и голова тоже
двигалась; он улыбался, ходил вдоль стен, рассматривал разношерстные
абстрактные картинки, навезенные Александром Максимовичем со всего
света, благо стоили они сущие гроши на толкучках Парижа и Лондона.
Шумно, окая, старательно отирая подошвы башмаков о коврик в
передней, вошел поэт Савва Богородицкий. Шубы на хорьках на нем уже не
было, бобровой шапки с бархатным верхом тоже. Синтетическое пальтецо с
пряжками из металла «под медь» на плечах, на рукавах, на поясе,
демократическая кепочка, из-под которой торчали его овсяные кудри, расшитая
холщовая косоворотка.
— Здравствуйте, дорогой хозяин!—Он потискал руку Александру
Максимовичу. — Не ошибаюсь если, Борис Кондратьевич? Слышал про вас,
слышал. Знаю.
— Александр Максимович,— поправил дорогой хозяин.
— И то! — Богородицкий слегка стукнул себя пальцем по лбу. —
Известь в извилинах. Не тридцать годков, не двадцать.— Раскинув широко
руки, он пошел к Свешникову, обнял.— Брат ты мой любезный, Антонин!
И прекрасная муза его, Олимпиадушка!
Пришел крупный знаток старого русского искусства, представляя
которого Александр Максимович назвал лишь имя и отчество: «Иван
Лаврентьевич»,— подчеркивая этим, что знаток искусства настолько всем
известен, что называть его фамилию просто даже и неприлично.
Последними, как, собственно, и положено тому быть, прибыли гости.
Они пропустили вперед приятно улыбающуюся Порцию Браун. Следом
вошел Сабуров, за ним Клауберг, четвертым был Юджин Росс. Замыкалд
группу сотрудница «Интуриста».
«Ситингрум» наполнилась шумом, восклицаниями, дымом сигарет; пле:
мянница в наколке и переднике понесла свой поднос и, задыхаясь от
волнения, почти шептала: «Коньяк, вотер-минер...» Но такого ее состояния
никто не замечал, кроме Александра Максимовича, который успел шепнуть:
— Улыбайся, ослиха!
Все брали с ее подноса рюмки и бокалы, толпились, осваивались в
новой обстановке. Переводчики были не нужны, вся группа,
представляющая лондонское издательство «New World», превосходно говорила по-
русски, g
Пошушукавшись с Александром Максимовичем, сотрудница
«Интуриста» хлопнула в ладони и сказала:
— Господа, хозяин дома хочет вам представить очень известного
русского художника господина Свешникова!
• Чего же ты хочешь?
57
— Да, да, господа! — засуетился Александр Максимович,
подталкивая вперед упиравшегося Антонина.— Это большой русский мастер. Он
еще молод, но он еще...
— Будет старым! — добавил Генка.
Лицо Александра Максимовича дернулось, но, поскольку все
засмеялись, он тоже улыбнулся.
— Это мой сын,— сказал он, кивнув на Генку.— Как видите, мои
усилия не дали должных плодов — я оказался неважным воспитателем.
— Антонин Свешников,— заокал Богородицкий,— певец России, ее
природы, ее красоты, истории. Он самобытен, самоцветен, искрометен.
— Будет, будет вам,— засмущался Свешников.— Господа, вы лучше
обратите внимание на господина, говорящего это. Господин
Богородицкий — поэт, мыслитель, гражданин. Он...
Липочка незаметно дернула Антонина за пиджак сзади.
— Да что там говорить! — поспешно закончил Свешников и почесал
у себя за ухом.
Александр Максимович еще раз представил Ивана Лаврентьевича,
осанистого бородача в несколько старомодном просторном костюме. Иван
Лаврентьевич сказал, что он будет рад, если сможет чем-либо услужить
людям Запада, так заинтересованным в том, чтобы искусство Советской
России стало достоянием человечества.
— А теперь,— сказала представительница «Интуриста»,— свою
группу хочет представить господин Клауберг, профессор, доктор искусств.
— Да, да,— сказал Клауберг, приняв солидный, профессорский
вид.— Господин Умберто Карадонна — итальянец, представитель страны,
подарившей миру чудеса живописи, скульптуры, архитектуры. Он с детства
увлекался Россией, ее искусством. Среди нас он самый большой
специалист в этой области. Поэтому, господа, несколько нарушив этикет, я и
называю его раньше мисс Браун. Она да и вы все любезно простите мне
это. Мисс Браун со школьной скамьи изучает Россию. Она, как видите,
молода, но ее знания ценят самые маститые русоведы. Дальше —
господин Юджин Росс. Это, смею вас заверить, один из выдающихся
мастеров художественного репродуцирования. Надеюсь, господа, мы будем
с вами друзьями.
Сабуров чувствовал себя скверно. Отправляясь в Россию, он даже и
подумать не мог, что таким тяжким окажется это раздвоение: раздвоение
на того, кем он был на самом деле, и на того, кого же он должен изображать
из себя по договору с издательством «New World». To, что он не участвует
ни в какой вредной советскому народу деятельности, это еще не утешало.
Достаточно, что он приехал в Советский Союз под чужим именем,— одно
это уже уголовщина. Достаточно, что из него строят, а он не протестует
против этого, некоего другого человека.
Сабуров поражался поведению Клауберга. Тот вошел в роль
профессора, доктора, будто бы он и на самом деле профессор и доктор.
Он перевоплотился, он бодр, весел, он полностью в своей тарелке.
Почему? И почему совсем иначе чувствует себя Сабуров?
— Мне очень приятно,— услышал он рядом с собой
негромкий голос и увидел молодую женщину с зелеными глазами, которая
приветливо ему улыбалась.— Мне очень приятно,—повторила она,— что вы
так любите наше русское, советское, господин Карадонна. Если вам трудно
говорить по-русски, пожалуйста, я могу на ином, если хотите. На
немецком, английском, французском...
— Нет, нет, не трудно! — запротестовал он. — Это яегхш язык, на-
прасно на него клевещут. Красивый, музыкальный. Я с удовольствием
говорю на нем. А вы, госпожа... Простите...
— Ия. Меня зовут Ией. Несколько необычно, да?
— Нет, нет, почему же! Красивое имя. Я спрашиваю вас, госпожа
Ия: вы владеете несколькими языками?
58
Всеволод Кочетов С
— Они мне легко даются.
— Господа!—провозгласил Александр Максимович. — Хозяйка
зовет к столу. Прошу вас, господа!
Двинулись в столовую. Рассаживаться предстояло согласно
записочкам, разложенным возле приборов. Но Сабуров сказал:
— Если можно, я бы хотел быть по соседству с госпожой Ней. У
нас только что начался интересный разговор.
— Пожалуйста! — согласился Александр Максимович. — План не
догма, а руководство к действию. Мы не догматики, мы сообразуемся с
обстановкой.
— А это уже основа прагматизма! — сказала мисс Браун.— Что,
господин Зародов, и сближает вас с нами, американцами.
— Избави бог! — шутливо отмахнулся от нее Александр
Максимович. — Неужели, по-вашему, нет третьего? Или догматизм, или прагматизм.
— Есть марксизм-ленинизм, — вдруг сказал Иван Лаврентьевич.
— Пропаганда! — закричала, смеясь, мисс Браун.
— Нет, госпожа Браун, не пропаганда,— строго сказал бородач.—
А констатация факта. Марксизм-ленинизм имеет в виду диалектический
метод рассмотрения явлений природы и общественной жизни. И он
отрицает и догматизм, и прагматизм, и всякий иной застывший «изм». Он —
свободное, широкое творчество, основанное на прочном теоретическом
фундаменте.
— Иван Лаврентьевич, — остановил его Зародов, — оставим эту
дискуссию за порогом столовой. Здесь у нас иная задача. Так прошу
рассаживаться! Что же вы остановились?!
Были наконец заняты места, наполнялись рюмки и бокалы.
Застучали вилки и ножи. Гостям предлагали икру, копченую и соленую рыбу,
грибочки, капусту, холодец.
— Русское искусство начинается с русской кухни,— сказал Савва
Богородицкий. — И знакомство с ним надо начинать со знакомства с нашим
русским гостеприимством. Если скуп народ, скупо и его искусство. Если
народ щедр, и искусство у него щедрое.
— Браво! — воскликнула Порция Браун. — Это очень остроумно.
Я это запомню, господин Богородицкий.
Ия предлагала Сабурову то одно блюдо, то другое, объясняя, как они
называются по-русски и почему так называются, как их готовят. Его
дурное настроение от этого еще более усугублялось. Вот он лжет и этой
милой молодой женщине. Он сам прекрасно знает все об этих блюдах,
об этих кушаньях, а притворяется, будто бы она делает для него
открытия. Но он все же старался сопротивляться своему дурному настроению.
Он рассказывал Ие об Италии, о Милане, Венеции, Флоренции, где
время от времени бывает, постоянно-то живя на Лигурийском побережье.
Потом он спросил:
— Вы тоже увлекаетесь древним искусством России?
— Я знаю, что оно есть, з какой-то мере оно мне знакомо,— ответила
Ия.— Но увлекаться?.. Нет. Не буду вам лгать. В нашей жизни и сегодня
достаточно интересного. Мне кажется, что увлечение древностью
происходит неспроста. Оно начинается тогда, когда люди почему-либо стремятся
уйти от современности.
— А когда это, по-вашему, бывает?
— Когда? Ну, скажем, когда современность очень неспокойна,
тревожна. Тогда от изнуряющих их тревог люди уходят отдыхать в прошлое. Или
когда все неясно, они уходят в обретшую классические формы ясность
минувших времен. Но есть, мне думается, и еще одна причина или,
вернее, цель увода людей от проблем современности к далекому
прошлому: когда кто-то не хочет, чтобы люди занимались проблемами
современности, задумывались над ними. Очень хорошо, что вы приехали к нам
с целью показать людям Запада наши древности. Но зачем им эти древ-
• Чего же ты хочешь?
59
ности? Советское общество интересно не тем, что было в России пятьсот
или семьсот лет назад, а тем, что происходит у нас сегодня, как мы
сегодня ищем дорогу в новое, как, иной раз оступаясь, все же находим верный
путь, идем по нему. Если бы вы приехали за этим, о, это было бы
замечательно!
— Послушайте, дорогие гости! — окал на весь стол Богородицкий.—
Мы давно перестали выдавать себя за неких безгрешных, за никогда
не ошибающихся. Мы не стесняемся выносить свои язвы на суд
человечества. Уважаемые гости, можете отметить в своих записных книжках, что
мы возмущаемся разорением храмов — соборов и церквей. Мы восстаем
против этого. В моем родном селе была церковь...
— Ее строили его прадеды,— потирая ладони рук, зажатых в коленях,
шепнул Ивану Лаврентьевичу Свешников. — Он сам мне рассказывал.
— Замечательная была церковь. Мало того, что это было
произведение искусства, а еще она служила и очагом культуры, очагом
нравственности, — продолжал Богородицкий. — Два врача вышли из села нашего
еще в дореволюционные годы, трое военные учебные заведения окончили,
в офицеры старой русской армии были произведены... И я еще вам
насчитаю того, да другого, и третьего. И что вы думаете, без влияния церкви
это обошлось? Нет уж, не уверяйте, судари и сударыни!
— Занятно,— сказал Иван Лаврентьевич.— Прелюбопытно! И что с
той вашей церковью сталось?
— А сначала клуб в ней был, потом он переехал в другое помещение,
церковь под склад заняли, когда МТС организовали. А позже и вовсе она
сгорела. Разорили, словом.
— Но ведь, дорогой товарищ Богородицкий! — Иван Лаврентьевич
смотрел на него с интересом. — Я тоже произошел из российского села.
И у нас тоже церковь была. И из паствы ее до революции выходили
торговцы сеном, скотом, лесом. Тоже, кажется, кто-то в унтер-офицеры
выбился, прослужив в солдатах десятка два лет. Все было. После
революции — я тогда мальчишкой бегал — церковь нашу, как и у вас,
превратили в клуб. И что же? Из тех, кто посещал его, кто играл там в
любительских спектаклях, кто занимался в кружках рисования, пения, в струнном
оркестре, знаете, кто вышел? Один маршалом Советского Союза ныне
стал, один сельскохозяйственный академик, еще один — дипломат, он
сейчас послом где-то в Европе. Не считано, сколько агрономов, учителей,
партийных работников! И ваш покорный слуга, грешным делом, тоже пришел
в жизнь, в науку через этот замечательный сельский клуб.
— Браво! — и на этот раз воскликнула мисс Браун. — Господин
Богородицкий, вы потерпели поражение.
— Нет, я его не потерпел, мадам. — Богородицкий краснел и
злился.— Нужен был вам клуб, ну и строили бы его! — Он размахивал
руками в сторону Ивана Лаврентьевича.— А чужое-то что ж прикарманивать...
Да еще храм!
— Простите,— сказал Сабуров,— а вы убеждены, господин, что
каждый храм заслуживает того, чтобы его сохраняли?
— Да, истинно убежден! Это — зодчество, народное творчество,
душа народа.
— Опиум народа! — под сурдинку сказал Генка, не рассчитывая, что
его услышат. Но Богородицкий услышал.
— Опиум! Повторяете, молодой человек, как попугай. Это религия
имелась в виду, ее содержание, а не храмы. И то еще можно поспорить,
опиум ли. И к тому же опиум — одно из лекарственных средств при
сильных, стойких болях. Учтите.
— А вы знаете, господин,— продолжал Сабуров,— на Западе, в
частности, у нас, в нашей католической Италии, за религиозностью
которой так неусыпно следит Ватикан, многие храмы были бы давно
заброшены, если бы они не приносили дохода церковникам. А доход они часто при-
60
Всеволод Кочетов з#
носят лишь потому, что в них, в этих церквах, похоронены знаменитые
люди и туда идут отнюдь не богомольцы и отнюдь не во имя этих, часто
безвкусных, не представляющих собою никакой художественной
ценности сооружений, а во имя знаменитых могил. Храм храму рознь, как и
всякое произведение рук человеческих. Одни — это подлинные свидетельства
мастерства...
— И такие мы бережно сохраняем,— откликнулся Иван
Лаврентьевич.— Вы еще не побывали в Кремле?
— А другие — ремесленная дань времени или плод чьей-то
прихоти,— закончил Сабуров.
— Я согласен с синьором Карадонна,— сказал Свешников.
— Ты? Антонин? — изумился Богородицкии. — Человек тонкого
вкуса!
— Вот именно поэтому.— Свешников втягивал голову в плечи, как
бы ждал по ней удара.
— Господа, товарищи, друзья! — воскликнул Александр
Максимович.— Наш разговор слишком серьезен. Прошу вас наполнить бокалы, я
хотел бы предложить тост. Господа, товарищи, друзья! — заговорил он,
когда в рюмки было долито, и встал.— Я рад, что у нас завязался такой
оживленный и откровенный разговор. Пусть наши дорогие гости знают,
что мы вопреки недоброжелательной буржуазной пропаганде на самом-то
деле откровенны, мы свооодны в своих суждениях, мы отнюдь не одна
некая ударная бригада, как нас хотят представить на Западе. Мы люди.
И к нам приехали посланцы другого мира. Тоже люди. Земляне, так
сказать. Как мы. И мы им рады, мы их приветствуем. Мы готовы им помогать,
кто только чем сможет. Мы рады нашим дружеским контактам. За
здоровье наших уважаемых гостей! За ваше здоровье, госпожа Браун, за
вас, господа Клауберг, Карадонна и Росс!
Все встали, чокались, кланялись друг другу, долго держали рюмки в
руках.
Потом вновь пошли разговоры. К храмам больше, правда, не
возвращались. Богородицкии усиленно звал всю группу издательства «New
World» к себе в гости в ближайшее же время. Клауберг благодарил и
заверял, что они будут рады возможности познакомиться ближе с
замечательным русским поэтом и мыслителем.
Юджин Росс тем временем пересел на стул рядом с Генкой.
— Вы мне нравитесь,— сказал он Генке, положив руку на его
колено.— Вы острый, современный юноша. Очень хочется как следует узнать
вас, молодых советских людей. О вас пишут, конечно, на Западе. Но,
должно быть, немало и врут. В футбол играете?
— Нет.
— А каким видом спорта увлекаетесь?
— Насчет спорта я не очень. — Генка засмеялся.
— Тогда в чем ваше хобби?
— Хобби-то? Трудно сказать. Жизнь во всех ее проявлениях,—
неопределенно ответил Генка.— Языки изучаю. Английский. Итальянский.
— Английский — это замечательно. Язык, на котором говорит
полмира. А итальянский...— Юджин Росс скривил губы.— Только как хобби.
Не больше. У вас есть друзья, товарищи?
— Есть. Сколько угодно. У меня, как пишут в романах, обширные
знакомства в различных кругах.
— Вы мне нравитесь,— повторил Юджин Росс и хлопнул Генку по
плечу. — Давай выпьем на «ты». Мы с тобой не деды, чтобы на «вы>>
изъясняться. Тем более, что в английском языке этой разницы и нет.
Ну как? ^
— Давай, — сказал Генка. Они чокнулись и выпили. ;&
— Водка! — сказал Юджин Росс.— Я ее недолюбливаю. Слишком
резкая жидкость. Виски лучше.
• Чего же ты хочешь?
61
— Виски мне тоже нравится,— согласился Генка.
— Приходи ко мне в отель. У меня хороший запас виски.
— В «Россию», что ли?
— Нет, жить в «России» мы не захотели. Муравейник. Шум.
Толкучка. Мы в «Метрополе». Запомни номер комнаты. Утром до десяти, во
время обеда и вечером.
— А вы долго пробудете в Советском Союзе?
— Сколько надо. Может быть, полгода. А может быть, и год. Пока
не сделаем дело.
— Ну, красота! — обрадовался Генка. Юджин Росс ему тоже
нравился. Замечательный американский парень. Все-таки эти американцы народ
настоящий! Простота. Общительность. С ними можно не церемониться,
не раздумывать, в какой руке держать вилку и из какого бокала какое
пить вино. Держи, как хочешь, и пей, из чего вздумается, что под рукой.—
Ладно,— пообещал Генка,— приду.
— И друзей своих приводи. На всех хватит.— Юджин Росс
приветливо, во весь рот, улыбался.
К неудовольствию Сабурова Порция Браун увела от него Ию. Обе
женщины уселись в «ситингрум», в уголке, возле курительного столика.
Американская гостья угощала Ию особо пахучими сигаретами новой марки
и расспрашивала о том, чем Ия занимается.
Ие не очень нравилась голубоглазая собеседница. Но долг
вежливости обязывал, она рассказывала о том, что по договору с одной научной
организацией переводит статьи из научных и технических журналов.
— И за это у вас хорошо платят?
— По-моему, нормально, — ответила Ия.
— Но вы так скромно одеты...
— Это не от бедности. — Ия улыбнулась.
— Отчего же?
— Так сложилось. С детства не имела тяги к нарядам.
— Вас больше привлекает интеллектуальная жизнь?
— Может быть.
— В нашем мире тоже есть подобные женщины. Обычно они ученые,
общественные деятельницы. Но, как правило, они некрасивы,
непривлекательны. А вы очень привлекательны. У вас такое лицо, такая
фигура... Странно. У вас, очевидно, очень строгий муж?
— Я не замужем.
— О! Тогда я ничего не понимаю! Какие удивительные у вас
мужчины! Если бы я была советским мужчиной...
— Поскольку такая возможность вам не угрожает, дорогая мисс
Браун, оставим этот разговор.
— Пожалуйста, пожалуйста,— поспешно согласилась Порция Браун,
не желая раздражать Ию.— Но мне бы не хотелось, чтобы наше
знакомство вот так сегодня и окончилось.
— Если я вам могу быть полезной...
— Нет, не в этом дело. Не в том, что полезной или неполезной.
Просто дружба...
Ия протянула ей руку. Порция Браун горячо ее пожала.
23
Сабурову все же удалось отбить у Порции Браун эту интересную
молодую русскую с не слишком часто встречающимся именем Ия.
— Пожалуйста, простите мне мою, может быть, назойливость,—
сказал он, — но иностранцу в чужой стране хочется знать все, а,
разговаривая с вами, я некоторые вещи понимаю лучше, чем при разговорах с кем-
л/ибо иным.
— Какие же именно?
62
Всеволод Кочетов •
— Видите ли, отправляясь в Советский Союз, я очень много прочел о
вашей жизни, о вас, против вас, за вас. Многое мне было непонятно при
этом чтении и после него. К пониманию некоторых явлений я не находил
ключа. Собственными глазами в брюссельском аэропорту мне пришлось
увидеть, как в самолет, отправляющийся в Москву, садилась скверная
кабацкая певица из Соединенных Штатов, лезли крикливые английские
гитаристы, которые там, в Англии, бродят и поют под свои гитары по
дворам. А вы, великая страна, пригласили их к себе на гастроли! В Россию,
мне известно, и до революции стремились гастролеры со всего света:
их манил хороший заработок. Но, позвольте, на подмостки императорских
театров, под своды знаменитых концертных залов допускались лишь
мировые имена! Сомнительные певички гастролировали в «Буффах» дешевого
разбора да в «Луна-Парках». Теперь я начинаю понимать, почему
получается так, вы прекрасно объяснили. Уход от действительности? Да? У вас,
значит, тоже есть люди, которые устали? Которым все это оказалось не по
силам?
— Что «все это»? — спросила Ия, и Сабуров не мог не увидеть, как
она насторожилась.
— Я имею в виду вашу борьбу за создание нового общества. Это ведь
очень трудная борьба. Во много раз труднее, чем любые строительства,
ракеты, спутники и прочее. Они же есть и в Соединенных Штатах. А вот
нового общества там нет. Верно?
— Да, вы правы, — ответила она. — Борьба эта трудная и не каждому
по силам. И, действительно, уставшие от нее есть. Но есть и такие, кто
и не боролся и не борется ни за что. Это никакие не борцы. Я,
например. — Она подняла на него глаза и как бы ждала, что же скажет на
это иностранец.
— Вы? — поразился Сабуров.— Вы шутите, конечно. Вы такая
идейная! Вы превосходно судите о мировой политике. Скажите, если это вам
не трудно, кто ваши родители?
— Родительницу мою вы можете видеть. Вон она, в кружевном
платье! Хозяйка этого дома. А мой отец... Он погиб на войне. Он был
политработником, комиссаром.
— О, это грустно. Может быть, не надо об этом...
— Ничего. Иногда надо.
— Я бы хотел встретиться, поговорить с такими людьми, каким был
ваш отец. Мне трудно поверить, что такие, как господин Богородицкий,—
да он, кажется, и молод для этого,— разбили гигантскую военную
машину Гитлера. По воле нашего дуче мы, итальянцы, состояли в
союзниках Гитлера, и я видел, какова была эта машина. Никто из нас не верил
тогда, что возможна сила, которая бы не только выдержала ее натиск,
но и покончила бы с ней. А вы это сделали. Почему? Как? Такие, как
ваш отец, наверное бы, мне все объяснили. Но я не знаю, где с ними
можно встретиться. Вокруг нас, нашей группы, лишь представители фирм,
с которыми мы ведем дело, лишь деловые люди. Они смотрят на часы,
отвечают «да», «нет» или «подумаем». Их даже неудобно занимать1
не связанными с делом разговорами. Я рад, что вы так любезны и тратите
на меня свое время.
— Если хотите, мы отсюда можем пройтись по улицам? —
предложила Ия, которой, неизвестно почему, но стало жаль этого пожилого
итальянца. Он не производил впечатления ни крупного преуспевающего
ученого, ни того дельца, дела которого идут хорошо и приносят дивиденды. Он
был устремлен в себя, у него там, внутри, что-то сидело и мучило его.
— Да, конечно! — откликнулся он.— Я буду рад, если вам это не
трудно. Погода мягкая. Ни жарко, ни холодно.
И когда Клауберг после кофе и коньяка, сказав, что их группа более
не смеет злоупотреблять гостеприимством радушных хозяев, произнес на
прощание громоздкий немецкий тост, Сабуров не пошел в ожидавшую у
• Чего же ты хочешь?
63
подъезда машину, а вместе с Ией они, не торопясь, побрели по ночной
Москве.
— Меня поражает,— сказал он,— насколько то, что пишут о вас, не
соответствует действительности. Например, везде говорится о том, что вам
запрещается общение с иностранцами. А мы здесь уже неделю, и я еще не
видел человека, который бы от меня шарахнулся. Напротив, вы
удивительно общительны.
— А еще что вам о нас известно? — Ия засмеялась.— Дело в том,
что я тоже читаю много иностранной литературы и знаю об этой чепухе,
о которой вы говорите. До вас туда, в ваши заграницы, и слова правды
не доходит.
— В Ленинграде я встречался с людьми, пережившими осаду.
Рассказы их интересны, но просты, в них не слышишь никаких трагических
нот. Напротив, очень буднично и вместе с тем необыкновенно героично.
Я слушал и удивлялся. В моем кармане лежала книга какого-то Анатолия
Дарова, купленная в Лондоне по объявлению в газете «Новое русское
слово». Она так и называется, эта книга: «Блокада». Объявление оповещало,
что это исторический роман об ужасах осады северной русской столицы во
вторую мировую войну. Анатолий Даров-де, свидетель и очевидец
апокалипсической осады, дал потрясающую в своей объективности картину,
передающую весь ужас пережитого. Я поинтересовался, читал ли кто-нибудь
из ленинградцев эту книгу. Нет, оказывается, никто. Знаком ли
кому-нибудь из тех, кто пережил там годы войны, этот Анатолий Даров? Нет,
никому он не известен, никто о нем и слышать не слыхивал. Значит, что же —
фальшивка? Или, как делают некоторые, труд под псевдонимом? Кое-кому
я пересказывал содержание книги, — люди смеялись. Или еще одна
книга. «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург. В объявлении, по которому я ее
приобрел, было сказано, что в ней читателю показывается тюремный и
лагерный мир, что Евгения Гинзбург рисует портреты следователей,
надзирателей и заключенных, что она была арестована, как там выражено, в
«тысяча девятьсот проклятом» и подчеркнуто в скобках «1937 году», и
описывает все ужасы...
— Там, значит, ужасы блокады! Здесь — ужасы Сибири?
— Да, да, вот именно! Все, что о вас,— это одни ужасы.
Литература ужасов.
f — Смотрите, дорогой господин Карадонна, внимательно
осматривайтесь вокруг, ищите эти наши ужасы.
— Да в том-то весь и ужас, — сказал он горячо, — что не вижу их,
ужасов-то. Так называемые свидетельства очевидцев меня уже поставили
в глупое положение в Ленинграде. До сих пор стыдно. Однажды вечером
ко мне на улице подошел молодой человек. Из наших западных газет я
знал, конечно, что к иностранцам советские молодые люди подходят лишь
за тем, чтобы купить плащ или галстук, продать икону, получить
валюту. Я и скажи ему: купить что-нибудь хотите? Нет, говорит, что вы, я
думал, вы заблудились, хотел помочь. Чудесный был молодой человек,
интересный. Ах, до чего же стыдно!
— Такие, которые купить-продать, у нас тоже есть, дорогой синьор
Карадонна. Не пугайтесь, если встретите. Гоните в шею. Это как раз
производное от того, зачем к нам и таскаются певички, о которых вы
говорили, и те нестриженые гитаристы. Между прочим, к нам ездят не только
такие, нет. Мировое искусство представлено у нас вашей итальянской «Ла
Скала», французской «Комеди франсез», лучшими театрами Англии,
ансамблями Индии, Японии. Но вот подсовывают нам и таких — певичек и
гитаристов. Нас пытаются разлагать «дарами Запада», испытанным
библейским запретным плодом. Бывает, что наши молодые люди под таким
вс-здействием убегают туда, на Запад, в «свободный мир». Недавно мне
показывали одну нашу областную газету, в которой был опубликован
судебный отчет. При большом стечении народа судили техника одного из
64
Всеволод Кочетов •
уральских заводов. С группой туристов он поехал в Западную Германию, не
выстоял перед соблазнами, остался. Из него вытянули необходимый для
антисоветской пропаганды материал, а потом и бросили. Человек мыкался,
слонялся без работы, без квартиры и, естественно, без денег. И в конце
концов кое-как прорвался на восток, вернулся. Его, видите, судили и
ничего интересного для вас в этом нет. Интересно последнее слово этого
человека. Он сказал: «Сколько бы,— говорит,— мне вы, граждане судьи, ни
припаяли, какой бы срок ни определили,— все вытерплю, все переживу,
снова стану потом человеком. А ведь там-то остаться — это же бессрочно!»
Весной вечерняя Москва многолюдна. Сабуров с Ией шли в толпе
шумного, веселого народа. Ия рассказывала о разных случаях, которые
неизменно заканчивались конфузом для иностранцев, если те к советской
действительности подходили с готовой меркой, предложенной им западной
пропагандой.
— У нас далеко не все гладко,— говорила она.— Но и далеко не так
шероховато, как думаете вы там, у себя. И природа наших
шероховатостей иная. Мы хотим, чтобы у нас было лучше. Но мы вовсе не хотим,
чтобы у нас было, как у вас. Вы можете, конечно, встретить людей,
думающих и по-другому, услышать и другие мнения. Я говорю о
большинстве, о народе.
Сабуров слушал и ловил себя на том, что по временам забывает,
что он итальянец Умберто Карадонна, что ничего общего он не имеет и не
имел с Россией, что родной его дом в далекой от Москвы Вариготте, в
Италии. Он чувствовал себя не Карадонной, не Умберто, а Петром Сабуровым,
русским человеком, дом которого здесь, среди этих шумных и светлых
улиц, полных веселого русского народа, говорящего и даже, если
хотите, смеющегося на русском языке. Все, о чем рассказывала молодая
женщина Ия, было ему близко, оно волновало его, он сам был готов говорить
об этом часами. Черт побери, это же не только ее, а и его родина —
Россия! Она могуча, и пусть мощь ее растет, нарастает; ослаблять ее,
подрывать нельзя! Странны рассуждения поэта Богородицкого о храмах, о
церквах... Церкви России ушли в прошлое — как же Богородицкий не видит
этого? Они уходят в прошлое во всем мире. Даже в Италии под крыльями
самого Ватикана религиозность народа — одна видимость. В бога верят по
привычке. А скажи завтра, что всему этому церковничеству конец, никто
же в петлю не полезет. В Советской России скорбеть о церквах и вовсе
смешно. Почему окающий человек так рьяно стоит за свои церкви и
соборы? Сабуров спросил об этом Ию.
— Почему? — Она задумалась.— В данном случае я не знаю, почему.
Говорят, что этот человек якобы русофил. Но русофил на очень западный
манер. С одной стороны, он печется о храмах, об иконах, о благолепии,
с другой же — пишет, как пишут западные экспериментаторы, не только
без знаков препинания, а даже тем особым способом, каким писали на
острове Пасхи. Так называемым перевернутым бустрофедоном, когда каждая
следующая строка перевернута вверх ногами по отношению к предыдущей.
Словом, в данном случае, повторяю, судить не могу, плохо знаю его и как
поэта и как человека. Но у нас есть люди, вы их еще можете встретить,
которым рамки нашего общества кажутся тесными. С одной стороны, это
те, у кого много денег. С другой — те, которые вместе с революцией
потеряли возможность иметь много денег. Те, у кого много денег, в какой-то
момент упираются головой в потолок наших возможностей применения
таких денег. Автомобиль, дача, магнитофон, холодильники, вазы и ларцы,
ковры и норковые шубы — и стоп! Остров в Тихом океане не купишь, гарем
не заведешь, бой быков не устроишь, акции компании «И. Г. Фарбенинду-
стри» не скупишь. Тоска по возможностям. А где они, эти возможности?
На Западе. А вторые — те любую напряженность в мире воспринимают
как надежду на то, что, авось, все еще переменится, Советская власть,
авось, либерализируется настолько, что и вовсе перестанет существовать,
• Чего же ты хочешь?
65
настанет эра парламентаризма, а там и до буржуазной республики рукой
подать. А значит, и законные права на наследство папенек и маменек,
дедушек и бабушек можно будет предъявлять. Именьице под Воронежем,
универсальный магазин в Пскове, трактир на Вологодчине... Ну, вот вы бы,
синьор Карадонна... У вас есть недвижимость в Италии?
— Да, пансион на берегу моря.
— Вот как! И доходный?
— Жить можно.
— Скажите, пожалуйста! — Ия рассмеялась.— Так вы, оказывается,
капиталист. А я так запросто с вами. Ну, вам тем более сейчас будет
понятно. Вот бы у вас образовалась Советская власть, ваш пансиончик
национализировали бы, и в нем бы итальянские трудящиеся устроили для
своих детей санаторий. А вас бы заставили служить в государственном
учреждении. Вы бы разве не лелеяли мечту рано или поздно да вернуть
свой пансиончик обратно?
— Логично,— согласился Сабуров.— Лелеял бы,
— В войсках у немцев, я читала, служили сотни и тысячи наших
русских эмигрантов,— продолжала Ия,— и что вы думаете, кто бы это
был? Простые русские, неимущие люди? Совсем нет! Царская знать,
вельможи или их сынки, то есть те, которые в революцию многое потеряли
и ничего не приобрели. И шли они с немцами, угодничали перед ними
затем, чтобы с их помощью вернуть утраченное.
— А может быть, они хотели вернуть себе родину? — хмурясь,
сказал Сабуров.— Не земли, не поместья, а родину. Вы не допускаете этой
мысли?
— Допускаю. Но путем порабощения своего народа чужеземцами
родину, господин Карадонна, не возвращают. Кто тосковал по родине, он без
помощи немцев вернулся в Советский Союз. Тысячи эмигрантов
возвращались и в двадцатых годах, и в войну, и особенно после войны. Словом,
деньги, деньги, всему они виной..— Ия смеялась.— Я против них. Мне их
много не надо. Лишь бы, лишь бы... Не больше.
— А что вы хотите сказать этим «лишь бы, лишь бы»? Это сколько?
— Ровно столько, чтобы я не стала их рабой. Я люблю свободу.
Свободу действий, свободу мысли.
— Но ведь как раз именно деньги-то и дают такую свободу! —
возразил Сабуров.
— Одно из роковых заблуждений человечества! — ответила Ия. —
Если вы служите у капиталиста на очень денежном месте —
управляющим завода, например, то вы в дугу будете гнуть свою спину, лишь бы
угодить хозяину и не потерять денежного места. Деньги, полученные за
такой труд, дадут вам лишь свободу пить вино не за сто лир кувшин, а за
две тысячи лир бутылка, жить не в одной комнатке, а в квартире из
десяти комнат, иметь не один костюм, а пятнадцать. Вы разве так
понимаете свободу? Я иначе. Я не хочу никому кланяться, и я не кланяюсь. Я не
хочу никому угождать, и я не угождаю. Я хочу говорить то, что думаю, и я
говорю это.
— Позвольте,— не согласился Сабуров.— Вы все время говорите о
капиталисте, о хозяине, от которых-де мы зависим. Ну, а если самому
стать хозяином, капиталистом?
— Этому нет конца, господин Карадонна.
— Чему?
— Этажам хозяев над хозяевами. Вы хозяин предприятия. Но над
вами есть тот, кто может вас разорить, сожрать — банк какой-нибудь,
трест, концерн, консорциум. С миллиардами лир, с триллионами. С ними
не считаться вы не сможете.
— Но есть же и самый верх!
— Да, конечно. Но тот верх уже не вас, мелких хозяйчиков, боится,
а нас. Он боится своих трудящихся — рабочих и крестьян, боится Совет-
5. «Октябрь» № 10.
66
Всеволод Кочетов •
ского Союза. И тоже не спит, ждет беды для себя. А я сплю спокойно и
крепко. И ничего ниоткуда не жду. Я свободна.
— Трудно это понять, — в раздумье ответил Сабуров. — Но в этом есть
что-то притягивающее, привлекающее. А это не аскетизм, кстати?
Коммунисты ведь против аскетизма.
— Ну, нет, ко мне это не относится! — Ия засмеялась.— Я не очень
требовательна к материальным благам. Но совсем не аскетка.
Петляя по Москве, они дошли до «Метрополя».
— Вот вы и дома, — сказала Ия и подала руку. — Желаю вам
спокойной ночи.
— Одну минуту, — удержал ее руку Сабуров. — На этом здании
какие-то интересные фризы из майолики. Вы не знаете их истории? Кто
автор хотя бы?
Они отошли к скверу, среди которого стоял памятник Карлу Марксу,
и взглянули на фасад гостиницы оттуда.
— Это Врубель, синьор Карадонна. С помощью майолики
воспроизведены его знаменитые холсты под названием «Принцесса Греза».
— Что вы говорите?! Очень интересно. Расскажите подробней,
пожалуйста, если можно.
— О, это длинная история. Я сама знаю ее не очень хорошо. Знаю
только, что художник получил заказ на панно для всероссийской
ярмарки в Нижнем Новгороде, ныне городе Горьком. Работал, писал, избрал для
сюжета ростановскую Грезу, появляющуюся перед умирающим рыцарем
на палубе корабля. Вы это видите сами. Правда, надо пойти посмотреть
то, что есть на фасаде со стороны проспекта.
Они огибали здание. Ия рассказывала:
— Холсты были уже там, на выставке, но кто-то из тогдашней
Академии художеств их забраковал. А кто-то поместил их в отдельный
павильон, выстроенный на собственные средства. Затем кто-то облюбовал
«Грезу» для этих фасадов строящейся тогда гостиницы «Метрополь».
И вот она в майолике.
— Чудесно, чудесно!—повторял Сабуров, всматриваясь в панно,
растянувшееся по фризам здания.— Но позвольте, а что там за надпись? —
спросил он и прочел вслух, не сразу разбирая буквы и слова, скрытые в
керамической пестроте: — «Только диктатура пролетариата в состоянии
освободить человечество от гнета капитала»! На здании гостиницы
«Интурист»? Такие слова? Врубель?.. Нижегородская ярмарка?..
Ия рассмеялась.
— Вот это уже не Врубель. Там же сказано: «В. И. Ленин». В годы
революции здесь был Дом Советов. Осталось с тех пор.
— Но очень, очень символично, что каждого из нас, приезжающих из
мира капитала, вы встречаете этими словами, этим утверждением.
— Не пугайтесь, синьор Карадонна. Вам персонально это не
угрожает. Можете быть спокойны. Между прочим, если говорить правду, вы
почему-то не воспринимаетесь мною не только как представитель мира
капитала, но даже как итальянец. Может быть, потому, что уж очень хорошо
говорите по-русски. Мне вы кажетесь русским.
Он развел руками, поклонился.
— Я польщен,— ответил шутливо.— Вы очень проницательны, Ия.
Утверждают, что моя прапрапрабабушка была при дворе одного из очень
давних русских царей то ли нянькой, то ли камеристкой или кормилицей, —
не знаю, кем, и на родину вернулась с не совсем законными детьми, и
кто-то из этих детей был моим прапрадедушкой или что-то в этом роде.
— Вот видите, я сразу почувствовала! Меня обмануть трудно. Итак,
успеха вам и приятного сна!
Сабуров поднялся на свой этаж и по рассеянности чуть было не
отворил дверь в комнату Клауберга. «Это плохо,— думалось ему, пока он
расхаживал по комнате, сбрасывая пиджак, развязывая галстук, расстеги-
' • Чего же ты хочешь?
67
вая пуговицы сорочки,— плохо, что потянуло не на деловые, а на
праздные разговоры». Разболтался настолько, что в нем уже угадывают
русского и он охотно это подтверждает, вместо того, чтобы решительно
опровергать. Чего доброго, начнет изливать душу перед этой зеленоглазой Ией
и во всем ей признается. Нет, это не то, не за этим он ехал в Россию, не
за этим.
«А за чем же?» — спросил он самого себя. Подзаработать английских
фунтов или американских долларов? Не так уж велик заработок, чтобы
тащиться за ним в этакую даль. Не в заработке, очевидно, дело. На
родину потянуло, на родину, в ту Советскую страну, над которой он лет сорок
назад изо всех сил потешался в своих юношеских романах. Тогда многие
вокруг — и старые и молодые — сочиняли подобное. И в Париже, и в
Берлине, и в Праге, и в Риге. Он слушал рассказы «очевидцев», читал
написанное и напечатанное другими и сочинял свое, но подобное
прочитанному. Однажды в руки к нему попал роман генерала Краснова,
называвшийся «За чертополохом». Содержание его Сабуров помнил до сих пор.
Это было сочинение о будущем России. Конец двадцатого столетия. Два
американских журналиста сидят над картой мира. На месте старой
царской России они видят сплошное пятно, через которое идет надпись:
«Неизвестно что». Они знают, что в конце двадцатых годов государства
Западной Европы установили тлухой кордон перед границей СССР, граница
заросла стеной чертополоха, и, что творится за нею, никто в мире не ведает.
Журналисты решили проникнуть в «неизвестно что», рискуя головами.
С ними отправился туда и потомок русских князей, некий набожный,
высокоталантливый юноша, проживавший во Франции. Кое-как преодолев
стоверстную полосу чертополоха, они добрались до границы. Их встретил
там пограничник в старинной одежде стрельца, в высокой боярской шапке.
После проверки паспортов всех троих усадили в дирижабль, в котором над
спальными местами теплились лампады. В коридоре дирижабля
журналисты и высокоталантливый юноша видят генерала, который курит
папиросу марки Месаксуди. «Ваше превосходительство! Значит, Россия жива?» —
вскрикивает растроганный до слез потомок русских князей. Генерал
словоохотлив. Оказывается, в 1930 году, когда в Советской России еще
существовала грозная ЧК, со стороны Памира, с диких, глухих гор, весь в
белых царских мехах, спустился царевич из дома Романовых Игорь
Владимирович. Он привел с собой превеликое войско в белоснежных одеждах.
Солдаты Игоря Владимировича громили большевиков и двигались на
север, к Москве. Заняв Москву, они тотчас начали строить новую,
небольшевистскую Россию. Созван был всероссийский собор, появились царь, двор,
генералы, сановники. Народ стал жить не классами, не партиями, а
семьями, родами. Все везде стало благостно, задушевно, празднично звонили
колокола в церквах, люди под их музыку возлюбили друг друга; если где-
нибудь вдруг нарождался большевик, царская полиция в тюрьму его не
заключала, не казнила. Только отрезали такому молодцу язык, дабы
не распространял яд большевизма.
Сабуров не казался себе чудаком, какими были те, красновские,
отправившиеся в российское «неизвестно что». Он еще со времен войны
знал, что в Советской России нет ни царя, ни сановников, ни
колокольных звонов, ни чертополоха. Но вот поэт Богородицкий, живущий в
Советском Союзе, в своих воззрениях возвращается, кажется, к тем временам,
когда генералы Красновы еще проектировали такую Россию, такой строй
для нее, при котором бы вера в господа бога сочеталась с верностью
некоему монархического толка правителю, просвещенному и на свой манер
демократичному. Откуда этот бред, с каких Памиров?
У своих ворот Ия застала Генку.
— Два часа дожидаюсь! — заговорил он. — Ты, кажется, с итальян-
68
Всеволод Кочетов •
цем смоталась. Старый он хрен, унылый какой-то. Этот Юджин
потолковей. Вообще американцы — народ живой. У них есть что-то общее с нами.
— Развязность, очевидно, Геночка.
— Ты скажешь, как пулю в лоб всадишь. Из крупнокалиберного.
Так вот, слушай, я тебя, знаешь, зачем жду?.. Да слушай!.. Родители мои
кудахчут там, спасу нет. Такие; мол, ученые, мировые имена! И куда
пожаловали? Первый визит в Москве — и прямо к товарищу Зародову!
Отец вопит: «Клауберг — это же выдающийся знаток, профессор, доктор.
Кто его в мире не знает? Порция Браун! Нет номера журнала — он там
какие-то названия перечислял,— чтобы не оказалось ее проблемной статьи
о нашем искусстве, о нашей литературе! Юджин Росс! Это его выставка
фоторабот нашумела в Рейкьявике на острове Исландия. А Умберто Кара-
донна! Ого-го! Кто такой синьор Карадонна? Галерея Уффици во
Флоренции, галерея Питти — там же, Брера в Милане, музеи Турина — это все
он, он, Карадонна, их хранитель и радетель. И умножатель.
— Карадонна — владелец пансиона на берегу одного из итальянских
морей, Генка, — спокойно ответила Ия.
— Он врет тебе. Они любят выдавать себя не за тех, кем являются
на деле. А к тому же пансиончик еще ни о чем не говорит. Купил по
случаю доходный домик. Там у него управитель управляется и хозяину
валюту в лирах исправно переводит по почте. Пансион tia морском берегу, где-
нибудь в Ривьере, — это же чистейшая монета.
— Да, может быть, и так,— согласилась Ия.— Ну что же, пойдем ко
мне. Рассказывай, что тебе надо.
— Ийка, выручай! — говорил он, входя во двор.— Этот Юджин... во
парень! Надо бы с ним встретиться. Но где? У нас дома? Родители не
позволят. Одно дело — они сами. Другое дело, если я ребят да девок захочу
позвать.
— Так ты хочешь ко мне? Чудило! Мою комнату показывать
иностранцам? Да ты знаешь, что и как они по этому поводу нарасписывают!
Я просматриваю такую писанину. Нет, мой дорогой братец, не выйдет.
— Я берусь отремонтировать ее так, что ахнешь.
— Вот даже как!
— Ей-ей. Расходы за мой счет. Ты не истратишь ни копейки.
— Дело же не в копейках.
— Ты не истратишь и ни минуты своего драгоценного времени. Три
дня, всего-то. Поживешь пока у кого-нибудь. У тебя же есть знакомые
тетки. А потом вернешься и ахнешь.
В комнате он разошелся.
— Это все, твои занудные обои, сдираем. Обоев вообще не надо.
Клеевой краской или гуашью. Свет организуем по-другому. Вот только
мебель... Эх, ну и мебель же у тебя! Дрова! Утиль] И пол... Ну что это за пол!
Плахи с Лобного места. Да, не больно ты культурно живешь.
Он сел в дряхлое кресло, сидел, смотрел в пол, обдумывал.
— И все-таки — три дня. В крайнем случае — неделя. Зато, Иинька,
всю жизнь потом будешь меня вспоминать. Не сопротивляйся, очень тебя
прошу. Хотят же люди окунуться в нашу жизнь, в нашу действительность.
— Ладно, действуй,— согласилась в конце концов Ия.— Я
попрошусь в мастерскую к Олимпиадиному мужу, к ее Антонину. Ночью-то
мастерская у них пустует. А днем в библиотеках посижу. Но чтобы ничего
не поломать, не разорить, слышишь?
24
Писать Василий Петрович Булатов начал еще до войны, когда был
совсем молодым парнишкой и работал монтажником на авиационном заводе.
Тогда, под стеклянными кровлями цеха, он сочинял стихи о летчиках,
парашютистах, сам мечтал быть и летчиком и парашютистом, но ни в парашю-
• Чего же ты хочешь?
69
тисты, ни в летчики так и не попал — в военкомате его категорически
забраковали по состоянию здоровья. Пришлось утешиться учением в
вечернем техникуме при заводе, после чего он стал хорошим техником; а дальше
ударила война, и техник Булатов все ее годы провел на военных
аэродромах: летать, верно, не летал, но в боях участвовал, не раз отстаивал
аэродром и от воздушных атак, и от прорвавшихся вражеских танков, и от
парашютных десантов. Писать при этом, начав однажды, он продолжал.
Не стихи, правда, а рассказы о своих боевых товарищах, обо всем том, что
они, а вместе с ними и он переживали, испытывали на полевых боевых
аэродромах. Рассказы его печатали в армейской и фронтовой газетах.
А к концу войны имя Василия Булатова стало появляться и в центральной
печати — и не только в газетах, но и в журналах.
Года два спустя после победы вышел его первый роман, это был
роман о летчиках, назывался он «Широкие крылья», и с него-то и началась
по-настоящему писательская жизнь Булатова. Писал Василий Булатов
остро, на самые горячие темы современности. Военным у него был, пожалуй,
только один этот первый роман, но молодого писателя критики упорно
числили среди авторов военных произведений, не желая замечать ни его
следующих романов, ни его повестей, в которых действовали и врачи, и
партийные работники, и лесоводы, обводнители среднеазиатских пустынь.
Вначале Булатов огорчался этим, со временем прошло. Первый урок
понимания происходящего вокруг него ему преподал седовласый, полный сил и
бодрости поэт, начавший свой литературный путь еще в годы революции.
«Дорогой мой младший товарищ, — сказал он, дружески взяв Булатова за
плечи.— Вы слишком отчетливо заняли партийные позиции в литературе,
слишком отчетливо обнародовали свое кредо. Значит, добровольно встали
в передовой отряд борьбы за коммунистическое будущее. Чего же
удивляться тому, что пули летят прежде всего в вас и в таких, как вы?
Сидели б в заветрии, за омшаником, расписывали красоты природы, всякие
омуты и заводи, сельские идиллии с буренками и жеребейками, от которых
пахнет молоком и навозом, с мудрыми дедами Михеичами, с боевыми
молодайками, лихими на тряску подолами,— исполать бы вам тогда,
батюшка! А то вот все до главного докапываетесь: как, мол, то да се да
третье-четвертое, с точки зрения интересов рабочих и крестьян, да какую
роль в том да сем да в третьем-четвертом играют акулы мирового
империализма. Ну, и коль без этого не можете и коль Михеичи да буренушки
вас не вдохновляют,— терпите, дорогой мой, ко всему будьте готовы, ко
всему. В меня барон Врангель стрелял... В вас... Вот уж разбирайтесь
сами, кто в вас стреляет».
С годами с каждой новой книгой, с каждой новой статьей в газете,
с выступлением по радио Булатов и те, с кем он вместе шел по путям
литературы, все сильнее мешали тем другим, кто пытался хоронить
коммунистические идеалы, развенчивать героев революции и первых пятилеток,
ставить под сомнение даже самое революцию— ее правомерность и
неизбежность. Молодой писатель уже стал не молодым, и он давно
разобрался, кто же в него стрелял, и отчетливо видел, что оружие это отнюдь не
отечественного, а иностранного производства. Жить и работать под
постоянным огнем было не легко, не просто, но в то же время интересно и по-
своему радостно. Противник был хитер, ловок, находчив, он умел
использовать любые возможности для нанесения удара. Если Булатов писал о людях
труда так, что показывал и сам их труд, поэзию этого труда, о таком его
произведении отзывались с пренебрежением: «производственный роман»;
если он сосредоточивал внимание на семейной жизни героев, приклеивали
табличку: «бытовщинка», да еще и «дурная»; если брался за
общественные проблемы, говорилось тогда: «публицистика»,— с добавлением
эпитета «голая»; если был «рассказ», требовали: «где же показ?!»; если
был «показ», кричали: «где же рассказ?»
Критиков, овладевших такого рода методом, была едва ли пятерка, но
70
Всеволод Кочетов Ф
зато какие-то скрытые в общественной тени силы всячески раздували
авторитет их суждений, что называется, поднимали их, растили, лелеяли,
поминали в газетах, в журналах, по радио, в докладах. И эти мастера
литературной игры краплеными картами все распухали, разрастаясь чуть ли не
до вселенских масштабов. Булатов был для них одной из мишеней. «Вели-
колепная пятерка» рубила направо и налево всю ту советскую литературу,
которая открыто и честно служила делу народа, партии, делу рабочих
и крестьян,— литературу социалистического реализма. Методы ее
«работы» удивительно совпадали и по форме и по существу с теми
методами, которыми в борьбе против советской литературы пользовались
буржуазные зарубежные поносители. Насмешка, фельетонность,
передергивание, подтасовка цитат, намеки и догадки, полное игнорирование
существа произведения, того главного, во имя чего оно написано. Лишь бы
посмешнее, лишь бы побольнее, лишь бы покомпрометационней.
Возможно, что в таких условиях жизнь Булатова была бы невыноси^
мой, если бы не его разъезды по стране, не его встречи с читателями и
героями написанных и ненаписанных книг. Среди них он отдыхал от
наскоков и уколов, набирался уверенности в том, что делает полезное и нужное
людям дело, сверял свое творчество с жизнью.
Время от времени, раз в два-три года, бывал он и на том заводе, где
после школы начинал свой трудовой путь, на родном ему авиационном.
Именно там встретился он однажды с инженером инструментального цеха
Феликсом Самариным.
Булатов был в тот день в цехе, в котором работал лет тридцать назад
и где еще оставались люди, знавшие его по тем, довоенным, временам.
У них шел спор о судьбах рабочего класса.
— Видишь ли, Василий Петрович, — говорил ему один из старых
монтажников,— мы утверждаем одно, а нам в ответ преподносят другое. И не
скажу, что глупое. От него не отмахнешься вот так, как корова хвостом
от овода. На примере событий новейшей истории мы сейчас все больше и
больше убеждаемся в том, что никакие настоящие революционные
преобразования в мире невозможны без ведущей роли рабочего класса. На какую
страну ни взгляни — если там забыли о рабочем классе, ничего хорошего
не получается. А нам говорят: не в этом дело, совсем оно не в рабочем
классе. А в том, дескать, что классовая борьба вообще затухает и самих
классов-то уже не становится. Мол, вы все о рабочих да о рабочих
талдычите. А пройдет с десяток-другой лет, ваших рабочих и вовсе не будет.
Кибернетика, электроника! Всеми процессами на заводах — в доменных
печах, в мартеновских, в прокатных, на любых конвейерных линиях —
управлять будут счетные машины. Включил их утречком, они сами
примутся следить за действием агрегатов, за соблюдением технологического
процесса.
— Заманчивая штука!—сказал Булатов. — Хорошо бы, если бы было
так. Но это, конечно, ерунда. Не знаю, как будет обстоять дело через сот-
ню-другую лет, но что человеческая рука, вот эта самая лапа, еще очень
долго будет нужна на нашей земле, в этом нисколько не сомневаюсь. С
нее начался человек — с того часа, как научился держать в руке палку,
камень — орудие. Было это, по одним данным, пятьсот тысяч лет назад,
по новым, последним — миллион и более. Миллион лет рука кормила
человека! Думаю, что и еще покормит.
— Слова ты говоришь красивые, но факты о другом напоминают,
Василий Петрович. Рабочий класс, и верно, уже не тот, что был хотя бы
четверть века назад, в войну, скажем.
— Ясное дело, не тот! А по сравнению с тем, как было во времена
Демидовых, сегодня и вовсе не найдешь ничего похожего. Эко ты
рассуждаешь как!
— Нет, не понял ты меня, Василий Петрович. Не тот, говорю, вот в
каком смысле. Все хотят учиться и стать кто техником, кто инженером.
# Чего же тм хочешь?
71
Все риутсл только мозгой действовать. Л руками-то кто же станет
шевелить? Получается ведь как. Окончил малый десятилетку, куда идти? Не к
станку же. В вуз, понятно. А если все в вуз попрут, кто в цехе дело станет
делать? Вот я о чем.
— Не все так рассуждают! — крикнул кто-то. — В инструментальном
есть немало ребят, которые пришли туда после десятилетки. Хорошие ребята.
— Не способны к учению, что ли? — поинтересовался Булатов.
— Почему не способны! Очень способны. Из интереса к рабочему
ТРУДУ идут на производство. Да вы проведайте их, сами поинтересуйтесь.
Так Булатов попал в инструментальный цех и так встретился с
Феликсом.
Феликс хорошо знал своих молодых товарищей. Он водил Булатова от
одного к другому. Одни из ребят говорили писателю, что, конечно, не на
всю жизнь приковали они себя к верстаку, рано или поздно пойдут
учиться,— только вот жизненного опыта поднакопят. Другие уверяли, что
работа у них интересная, творческая, никакой другой им и не надо. На ней
не только руками, а и мозгами шевелишь.
Наконец, устав от хождения, чтобы дать отдохнуть ногам, Булатов
зашел в красный уголок. Феликс не решался оставить его одного, считая это
невежливым. Они разговорились.
— Значит, и вы предпочли завод ученой карьере? — спросил Булатов.
— Так получилось, — уклончиво ответил Феликс. Он с интересом
рассматривал писателя, почти все книги которого у него были дома.— Потом,
может быть, и что-то другое найду. Вы ведь тоже ушли с завода, Василий
Петрович.
— Да, ушел. Но куда? На фронт. Правда, не будь войны, все равно
бы писать стал. Меня эта страстишка с детства мучила.
— А вот у меня такой отчетливой страстишки пока нет. — Феликс
усмехнулся.— Меня всему учили, хотели Леонардо да Винчи из меня
сделать.
— Это очень спорное положение, — серьезно сказал Булатов. — Чему-
нибудь одному учить человека или многому. Учить одному —
получится узкий специалист, может быть, очень полезный народному хозяйству.
Но за этим таится опасность, что он будет невеждой во всем остальном,
и что же тогда сам-то получит от жизни? Учить многому — может
человек нахвататься всего помаленьку, стать превосходным рассуждателем и
никудышным делателем. Нет, надо как-то очень разумно сочетать широкое
общее образование с узким специальным.
— Есть старая формула, — сказал Феликс. — Многое обо всем и все
об одном.
— О, вы это знаете?
— Да я много что знаю, Василий Петрович. Я же сказал, что меня
всему учили.
Смена давно закончилась, народу в красном уголке прибывало, домой
не уходили, все прислушивались к разговору писателя с инженером.
— Товарищ писатель,— сказал электрик Никитин.— Можно мне
слово?
— Пожалуйста! — Булатов засмеялся. — У нас не собрание, и я не
председатель. Говорите, я слушаю. Хозяева здесь вы.
— Я считаю, что Самарин поступил правильно, по-настоящему,—
начал горячо Никитин. — Если у него нет призвания, страсти к науке —
и нечего туда было идти, как другие делают. Он говорит, что и к технике не
очень способен. Но мы видим другое. Инженер он умный, рабочего
понимает, потому что и сам походил в рабочей спецовочке. И вообще голова!
И еще главное что? Сумел трезво о себе рассудить. Это же ценить
надо! Таких ребят много ли, которые бы, увидев, что идут не по той
дорожке, взяли бы да и остановились на ней, осмотрелись и выбрали более
правильную дорогу. Пока что только родители своим детям дорожки указы-
72
Всеволод Кочетов •
вают. Сообразуются не с их способностями, а со своими собственными
взглядами и интересами. У нас в доме тетка одна проживает, в утильпалат-
ке сидит, пузырьки из-под лекарств скупает у населения. Так она свою
девчонку просто даже палкой лупила, чтобы та после десятилетки в
медицинский институт шла. «Доктором,— орет,— должна стать! Зря я тебя,
такую-растакую, без отца-то до семнадцати годов растила, надрывалась!»
«Мама,— отвечает дочка,— дай в швейный техникум пойду, видишь,
как у меня шитье получается». «Доктором будешь, доктором!..»
Приговаривает так да и лупит девчонку. Ну та и поступила в медицинский и
теперь уже первый курс прошла. Вот и лечись потом у этой центрально-
шпульной докторши. Будет людей гробить. А кто виноват? Вот скажите,
кто тут виноват, товарищ писатель?
— Все по малости, — рассудительно сказал мастер участка
Рыжиков. — И девка сама виновата, и матка ее тоже, и школа, и...
— Бросьте, Иван Захарович! — крикнул один из молодых.— Это в
старые времена мужики в деревне укокошат конокрада и давай вопить
перед следователем: все, батюшка, виноватые, все руку прикладывали.
А все виноваты не бывают.
— Пример не очень удачен, — сказал Булатов. — Те мужички хитрый
народ были. Стараясь всех связать общей виной, они заставляли каждого
подойти да хотя бы разок вдарить, чтобы ни одного среди них не было
такого, который смог бы сказать потом: а я ни при чем, я рук не
прикладывал.
— А я считаю, что пример как раз удачный,— подхватил Никитин.—
С девчонкой тоже ведь так получается. Все руку приложили. Школа?
Там хоть и утверждают в общих словах, что все профессии почетны, а
героями-то перед ребятишками кого выставляют? Ученых, космонавтов,
артистов, изобретателей... Комсомол? Та же картина. Газеты, журналы?..
Словом, одним профессиям все внимание, другим никакого. И получается,
что на одну-то мать всю вину валить нельзя, несправедливо.
— Что ж, может быть,— согласился Булатов.— Логика в этом есть.
Сегодня в цехе, в котором я когда-то работал, тоже шел подобный разговор.
О судьбах рабочего класса. Неправильной пропагандой можно все
искривить. Предав рабочий класс забвению в литературе, в искусстве, можно
добиться того, что люди начнут судить о рабочем классе неверно. Начнут
теоретизировать в том смысле, что, а не исчезает ли этот класс вообще,
превращаясь в класс техников и инженеров, то есть переставая быть
классом. Я вам расскажу невеселую историю. Несколько лет назад я побывал
в Уэльсе, в Великобритании. Ездил в угольный район, который называется
Ронда Валли. Ущелье реки Ронды — так, кажется, это можно
перевести. Шахты там старые, традиции горняков тоже. Случались в тех местах
когда-то большие забастовки, крупные волнения. О них писали, они
вошли в историю мирового рабочего движения. И что вы скажете? У
тамошних горняков есть неплохой рабочий клуб, созданный и существующий на
профсоюзные средства. Так, говорят, клуб этот прогорает, не идут в него
молодые горняки. Почему? А потому, чтобы кто-то не подумал, что они
рабочие. Идут в любые кафе, в пивные, в клубы к служащим, лишь бы не в
свой. Рабочие хотят казаться клерками, конторщиками, кем угодно, лишь
бы не рабочими. Грустно? Да, грустно. Кто виноват? Кто добился этого?
Тот, кто боится рабочего класса, зная, что рабочий класс — могильщик
капитала. Всей мощью своей пропагандистской машины, изо дня в день влияя
на молодые умы, капиталисты долбят, долбят и долбят одно: марксово
учение об эксплуататорах и эксплуатируемых устарело, эксплуататоров и
эксплуатируемых уже нет, есть партнеры в общем процессе производства.
Некоторые хозяева идут даже на то, что известное число акций продают
рабочим, и те как бы становятся совладельцами, тоже хозяевами
предприятий, следовательно, уже не рабочими. Ловко? В нынешнем мире это один
из главнейших вопросов: роль рабочего класса. В повседневной суете, шу-
• Чего же ты хочешь?
73
мя и политиканствуя, о нем начали было позабывать, и в итоге многое
оказалось оторванным от почвы, повисло в воздухе, болтая беспомощно
ногами. Некоторые революционные партии утратили чувство реальности и
перспективы, позабыв, что и создавались-то они как партии рабочего
класса, а вот, растворившись в обывательских массах, незаметно, исподволь
превратились в партии мелкобуржуазные, с идеологией мелкой буржуазии.
Нет, друзья, без рабочего класса, без ведущей его роли никакие
революционные деяния и преобразования невозможны.
— Значит, да здравствуют наши ребята? — воскликнул кто-то.
— Значит, да. Да здравствуют! Желаю вам всем успеха!
— Одну минутку,— сказал Никитин, видя, что Булатов собрался
уходить. — Товарищ писатель! Мы тоже каждый день до хрипоты спорим по
разным вопросам. И о политике и об искусстве. Феликса Самарина, к
примеру, просили устроить нам встречу с одним из его родственников,
с художником Свешниковым. Так тот, Свешников, отказался. Как вы
считаете, почему?
— Свешников? Свешников?..— глядя в потолок, вспоминал
Булатов.— Какой же это Свешников? А! Может быть, этот: церкви,
богородицы, Русь?.. Значит, он ваш родственник, товарищ Самарин?
— Седьмая вода на киселе,— ответил Феликс.— Через мою
двоюродную тетку.
— Трудно даже представить себе подобную степень родства! Я в
этих делах не особенный знаток. Ну, а что касается вашего вопроса,
друзья мои, то я на него ответить не могу. Не я же отказался. И кстати,
с какой целью вы хотели с ним встретиться?
— Видите ли,— стал объяснять Никитин.— Вы только что сами
сказали: церкви, богородицы, Русь! Вроде бы наше, внутреннее, русское.
Тогда почему же о нем так шумят за рубежом? Вот хотели прийти к нему
и разобраться, что у него хорошего, что плохого, чтобы или согласиться с
теми, кто его хвалит, или согласиться с теми, кто его критикует. С чужих
слов трудно же судить — то ли он страдалец, то ли от него страдают.
— Желание законное. И, значит, не согласился?
— Нет,— сказал Феликс.— Я, говорит, работаю для тех, кто
способен меня понять. С такими я готов встречаться. А ваши, заводские, меня
не поймут, и будет у нас разговор двух глухих. Ни к чему это.
— Значит, он уже заранее убежден в том, что заводские его не
поймут? — заговорил Булатов. — Так, кстати, не часто бывает. Обычно
творцы прекрасного, — он усмехнулся, — рассчитывают не на снобов, а на
широкое понимание их творчества. Если, конечно, они сами не снобы.
Булатов ехал в машине по весенней Москве, вспоминал и обдумывал
разговоры на заводе. Вот этот Свешников... Да, да, он вспомнил теперь
этого художника. О нем ходят разные толки. Одни клеймят его клеймом
халтурщика и приспособленца. Другие утверждают, что это невиданный
талант. Булатову однажды пришлось выслушать мнение старого,
уважаемого живописца. «Паренек способный, — сказал старый мастер. — Но
недоучка. Ему об этом говорили, он вместо того, чтобы учиться, обиделся.
Нашла коса на камень. Ощетинился малый против стариков: дескать,
зажимщики, человеконенавистники, все до единого зла ему желают. А
старики тоже иглы навострили: строптивец, дескать. Вот глупость и
получается. На произвол судьбы молодца бросили. А брошенного-то его наши
заклятые друзья и подбирают. Нехорошо получается, нехорошо».
И в самом же деле нехорошо, и в самом же деле Свешникова
подбирают не те, кто бы должен был. Булатов вспомнил писания Спады, мужа
той милой русской, с которой осенью прошлого года ему пришлось
встречаться в Турине. Как раз Спада расписывает Свешникова страдающим от
таких вот типов, как он, Булатов. Хитрым образом бойкий сочинитель
сумел переплести все так, что и не расплетешь. Уж чем он, Булатов, не по-
74
Всеволод Кочетов #
нравился желчному туринцу, но вот не понравился, и тот поистине не
пожалел яду на характеристики ему.
Возвратясь из Италии, Булатов опубликовал ^газетах несколько
очерков об этой своей поездке. Спада немедленно откликнулся на них в своей
печати. Очерки, дескать, не содержат в себе ничего живого, они не
отражают итальянской действительности, это голая социология, только черное
и белое, и никаких иных красок. Хорошо, что в Италии не дают ходу
таким Булатовым, которые, конечно, и в ней есть; дай им ход, дай им волю,
они задавят все свежее, свободное, все явления жизни примутся
рассматривать с догматических классовых позиций, и тогда конец свободной
мысли, ограниченной этой схемой, конец подлинному искусству, наступит
царство и господство так называемого социалистического реализма. Спада
прямо не говорил, но и без прямых слов, по всему духу его статьи было
видно, что для сокрушения своих противников он готов сомкнуться в
единый критический фронт с белоэмигрантской зарубежной прессой, выступить
в едином хоре с Би-би-си, с «Голосом Америки», с «Немецкой волной»,
с брехунами из канадского радио и со всеми прочими, предающими
анафеме Булатова, его товарищей, его единомышленников, героев его книг,
его страну, те идеи, которым он служит своими книгами.
Показать бы Спаде рабочих ребят, с, которыми Булатов встретился в
этот день. Интересно, что бы получилось. Отказался бы, поди, от встречи,
как Свешников. Ах ты, Свешников, Свешников!.. Надо бы поговорить с
ним. Ребята рабочие, и те хотят созданное им увидеть своими глазами.
А уж писателю-то стыдно пробавляться чужими отзывами и мнениями
о творчестве человека, который вызывает столько пересудов. Надо, надо
будет ему позвонить и напроситься в мастерскую.
Когда он вернулся домой, жена сказала ему:
— Какая-то девка тебе звонила. Из Италии. Из Турина, кажется. И
еще будет звонить. Вечером. Вот человек! Куда бы ни поехал, непременно
баб заведет!
Булатов ушел в свою комнату, лег на диван. Это становилось
невыносимым. Жену надо было принудительно лечить от патологической ревности,
от подозрительности, злобности характера. Думалось ли двадцать пять лет
назад, что она станет когда-нибудь такой, что так изменится ее характер,
все ее поведение! Тогда шел второй год войны. Она только-только
окончила медицинский институт и так самоотверженно лечила в госпитале
раненого при бомбежке аэродрома столь же молодого авиатехника Булатова,
что вскоре они поженились. Жена оказалась песенницей, плясуньей,
веселой жизнелюбкой. С ней — в гости, в бессонные компании, хоть до утра.
В дни войны это было хорошо — развлекало, отвлекало. Все проявления
жизни противостояли в те годы постоянно подкарауливающей тебя
смерти, и незабвенная слава им. Но когда Василий Петрович брался за чтение,
а еще пуще — за бумагу, положение осложнялось. Ушедшего в иную жизнь,
где места ей, очевидно, не было, а были там иные люди, иные
женщины — такого его она терпеть не могла. Пусть после войны он стал носить
пиджаки и галстуки, ничего, она любила его, как и того молоденького
авиатехника в хлопчатобумажной гимнастерке, и хотела бы всю жизнь, какие бы
он ни надевал одежды, видеть его тем прежним авиатехником. Зачем
ему какая-то изнуряющая писанина? Она злилась на него за эту
«писанину», старалась оторвать от бумаги, тащила в привычные компании. Он,
не желая скандалов, отправлялся за нею, как кандальник по Владимирке.
Еще хуже пошло после того, как Булатов стал профессиональным
писателем. Он начал разъезжать по Советскому Союзу, по зарубежным
странам, стал то и дело где-то заседать, пропадать. Нина
Александровна возненавидела его отлучки. Когда его не было дома, она беспокоилась,
волновалась, бросалась к телефонам. Вначале ей думалось: не случилось
ли с ним что? Но бомбежек давно не было, штурмовок тоже. Что же
могло случиться? Вот тогда-то и пришли мысли о других женщинах. Мучи-
• Чего же ты хочешь?
73
тельные, изматывающие мысли. «Где был? У кого? Это правда? А я
звонила — мне не ответили». Стыдясь, но не в силах совладать с собой, она
стала за ним следить, проверять, правду ли сказал. Всю радость ее
прежней любви сжирала невероятных размеров ревность. Булатов даже
советовался с врачами, с невропатологами, с психиатрами, не болезнь ли это,
не навязчивая ли идея, и нельзя ли это лечить. Увы, говорили ему,
даже если это болезнь, так называемая идея фикс, то, когда она
выражается в ревности, ничто такого больного не вылечит, даже время.
Жить становилось все труднее. Иной раз Нина Александровна
ставила совсем немыслимые условия: «Или ты возвращайся домой до
темноты, или же, возвратясь позже, найдешь не меня, а мой труп: я отравлюсь
газом или выброшусь из окна. Ты мой характер знаешь, знаешь, что
я не шучу». Он знал: какие шутки, когда в глазах говорившей это —
черный, грозный пламень.
И вот даже звонок из Италии — и то: баба!
Вечером его еще раз предупредили, что разговор с ним заказан из
Турина. Ему и в голову не могло прийти, что позвонит Лера, именно жена
Спады, которого он в тот день несколько раз вспоминал.
— Василий Петрович, — торопливо заговорила она в трубку, когда
дали соединение и Булатов знал, что Нина Александровна в это время
держит в руках вторую трубку и тоже слушает разговор. — Василий Петрович,
извините меня, пожалуйста, но вы так хорошо отнеслись но мне, когда
были у нас, в Турине, что я вот решилась позвонить вам. Мне очень, очень
нужна ваша помощь, нужен ваш совет. Я должна как можно скорее уехать.
Но у меня нет для этого средств.
— Куда уехать? — спросил удивленный Булатов.
— В Москву, в Москву. Домой. Помогите, одна надежда на вас. Вы
такой человек, вы все сможете, если захотите. Я буду вам всегда
благодарна. Да и не в этом дело. Я глупости говорю. Главное, мне надо, надо уехать.
Иначе все будет совсем плохо.— Она заплакала.
— Не волнуйтесь,— говорил он, уже обдумывая, как быть с этой
необыкновенной просьбой, как помочь человеку, что можно для нее
сделать.— Только не волнуйтесь. Постараюсь что-нибудь. Но я не бог, я...
— Нет, нет, если только согласитесь, вы все, все можете.
Когда разговор окончился, вошла Нина Александровна.
— Ну что, Саваоф, думаешь, я не понимаю, в чем дело? Наверное,
эта мадам забеременела. И вот...
— Нина!..
— Не надо криков. Твои благородные возмущения мне осточертели.
Не то, совсем не то хотела бы она сказать. Оскорблять мужа
подозрениями — она понимала — скверно, пошло, низко. Но ничего не могла
поделать с собой. Она же слышала рыдающий голос туринки, и ей нет никакого
интереса выяснять подлинные причины этих рыданий. Кто-то — кто? —
подсовывал ей под руку готовые, удобные, все объясняющие версии.
25
Савва Богородицкий принимал гостей радушно.
— По-русски, по-русски у нас,— повторял он, сразу приглашая всех
к столу. Никаких племянниц с подносиками, никаких предварительных
рюмочек с коньяком и стаканчиков с минеральной водой в его доме не было.
На длинном столе стояли батареи бутылок, графины с квасом, штофы
времен Александра III, наполненные водкой.— Супруга моя сама всю снедь
изготовляла, собственноручно. Мастерица она по таким делам,— окал
хозяин. — Мария Гавриловна! Покажись. Добрые люди видеть тебя хотят.
К поэту прибыла не вся группа — только Сабуров да мисс Браун. Клау-
берг в тот день был занят, Юджин Росс возился с фотоаппаратурой,
готовя ее к работе. «А кроме того,— сказал он,— такой скуки, какая была у
мистера Зародова, достаточно и одного раза. Для экзотики. На второй раз
76
Всеволод Кочетов •
уже начнешь терять гемоглобин в крови». «Мне помнится, Юджин, что вас
сюда послали не веселиться»,— холодно сказала ему Порция Браун. «Но
и не подыхать от русского занудства»,— огрызнулся он.
Сабуров был усажен подле хозяина, улыбавшегося во все розовое
лицо. Кресло, в котором восседал сам Богородицкий, представляло собой
нечто музейное. Ножки у него были устроены наподобие лошадиных ног —
с копытами и подковами; подлокотниками служили деревянные топоры,
как бы врубленные в круглые чурбачки; а спинка — это же расписная
дуга из русских сказок, пестрая, яркая, с поддужным медным
колокольцем. Сабурову смутно припоминались такие устройства для сидения,
виденные им то ли в трактирах, где, бывало, по дороге в деревню его родители
останавливались попить чайку, то ли у купцов в старом Петербурге.
В комнате, в которой был накрыт стол, вся мебель, вся обстановка
поражали разностильем. Если в доме Зародова все было выдержано в
современном западном духе, то здесь дешевый модерн смешивался по
принципу седла на корове со всевозможными стилизованными поделками.
Дубовые сундуки и кленовые лари, черного лака ларцы, немецкие серванты и
польские торшеры; на стенах — иконы и репродукции томных толстух
Ренуара, натюрморты с разрезанными кроваво-красными арбузами и
абстрактные штучки. На одной из стен, окруженные аркой будто полотняным
полотенцем с петухами, висели лапти.
Заметив взгляд Сабурова, хозяин сказал:
— Выбился в люди-то и вот, чтоб не забывал, не забывал, откуда
вышел. О народе чтоб помнил, болел за него. Щуры-то мои, пращуры в такой
обутке по земле хаживали.
Приговаривая, радушно улыбаясь, Богородицкий наливал гостям в
рюмки из бутылок и штофов.
— Для знакомства, у нас пьют водочку да икоркой, грибками
закусывают. Госпожа дорогая, бутербродик, бутербродик себе изготовьте.
Извините, что так вот называю вас. Нет у нас, у советских, должного слова для
душевного, уважительного обращения друг к другу. Гражданин — звучит
холодно, сухо. Официальное это слово. Для бумаг годно, а не для живой
речи. Товарищ — оно и вовсе в людском обиходе неподходяще.
Партийное слово, политическое. Вот было встарь «сударь», скажем, или
«сударыня»!..
За столом размещалось человек двенадцать — пятнадцать. Видимо,
как думалось Сабурову, все приятели Богородицкого, давние
единомышленники хозяина; они дружно улыбались его высказываниям, согласно
кивали, подхватывали вслух: «Правильно, правильно!» Один, правда,
отважился сказать:
— Саввушка! От «сударя» да от «сударыни» до «вашего
благородия» один шажок, да и до «вашего сиятельства» так дойти можно.
Богородицкий улыбнулся еще шире.
— Ну и что!—сказал. — «Сиятельство», может, и не того, конечно. А
вот когда в Индию-то я ездил, меня там всюду «вашим
превосходительством» кликали. На самую крайность—«сагибом», то есть «господином». И
ничего, не рассыпался, подобно бесу от крестного знамения. Уважительно
было, не по своему адресу принимал — по адресу державы, в ихние края
меня пославшей. Господа, господа! Прошу вас, кушайте. Соловья-то не
баснями кормят.
Порция Браун принялась расспрашивать хозяина дома о том, что
происходит в советской литературе, в советском искусстве. Что нового, кто в
моде? Что о ком думает хозяин? Коснулась Булатова.
— Василий-то Петрович?.. — Богородицкий улыбаться перестал. — Не
приемлю я, госпожа Браун, этого сочинителя. Может, он и неплохой
человек, ежели человеческих качеств касаться, и войну прошел и всякое такое.
Но прямолинеен до ужаса, догматичен, нетерпимостью болеет.
— А в чем это выражается? — спросил Сабуров.
• Чего же ты хочешь?
77
— Да во всем, господин Карадонна. Во всем, что он делает, что
пишет, что говорит.
— Слушайте, хватит вам этих литературных разговоров! — крикнул
кто-то.— За рубеж приедешь, сидишь с людьми, интересных историй
наслушаешься. А у нас только «Булатов», «Петров», «Сидоров». Кто что
сказал, кто что мазал.
— Господин Богородицкий. — Сабуров отложил вилку. — Еще в
прошлый раз я заметил у вас в руках вот эту интересную шкатулочку. Не
старинная ли табакерка? Не будете любезны... Взглянуть бы на нее, а?
— У вас глаз верный, господин Карадонна. Табакерочка, точно. И
притом замечательнейшая, вы не ошиблись.— Богородицкий подал Сабурову
покрытую эмалью крошечную шкатулочку, которую он лишь вертел в
руках, не решаясь при иностранцах запускать табак в ноздри.
Сабуров долго рассматривал искусно выполненную на крышке
табакерки старинную миниатюру.
— Маруся! Дай-кось лупу! — крикнул Богородицкий. И когда
увеличительное стекло было принесено, посоветовал: — Через это взгляните,
через это!
Сабуров рассматривал поясной портрет знатной дамы в богатых,
пышных одеждах. Разглядев корону на ее голове, он воскликнул с удивлением:
— Неужели Екатерина?
— Она, она, Екатерина Алексеевна!— самодовольно ответил
Богородицкий.— Великая женщина, друг Вольтера и Дидерота. Самодержица
всероссийская.
— Принцесса Августа-София-Фридерика, дочь князя Христиана
Ангальтцербского и княгини Иоганны...— Перечисляя эти имена,
пораженный Сабуров всматривался сквозь увеличительное стекло в надменные
черты нем«и, которая тридцать пять лет просидела на русском троне и, кое-
как говоря по-русски, управляла сорока миллионами русских людей. —
Почему вы держите эту вещь, именно с этим портретом? — спросил он.
— Повторяю: великая была женщина. Преклоняюсь перед нею. Для
возвеличения России она сделала больше, чем вознесенный до небес Петр
Первый. Тот был хам, мужлан, ломал людей, уклад исконной русской
жизни корежил. Екатерина же Алексеевна вела дело тонко, благородно,
по-теперешнему если сказать, — интеллигентно. Нет, не проста она была, не
примитивна, как Петр. С полетом, с великим полетом. И демократка, если
хотите знать. Вы, как иностранец, можете многого не ведать из нашей
истории... Я и тому удивляюсь, откудова полное имя этой нашей
императрицы вам известно... Так вот. Была у Екатерины Алексеевны мечта
заветная. Воскресить порабощенную турками Грецию, освободить из-под янычар
всех южных славян, истекавших кровью. Константинополь, вновь
отворяющий свои врата христианству, крест на Святой Софии вместо
осквернявшего ее полумесяца. Ведь вот что великая женщина исподволь-то
готовила! Второго сына Павла, внука своего, каким именем нарекли по ее
приказу? Константином его нарекли! Не Петром и не Иваном. Со значением
так сделали. Туда его прочили, в короли южных славян и греков. Потому
и кормилицей у него не русская баба была, а чистопородная гречанка, и
слугою грек был. Греческий кадетский корпус Екатерина Алексеевна
учредила, греческую епархию в Херсоне возобновила. Медали чеканились: на
одной стороне — сама матушка-императрица, на другой —
Константинополь в пламени, минарет, падающий в море, и над ним крест в облаке.
Тонко, тонко вела дело, так, чтобы идеи ее глубоко и широко, как бы сами
собою, проникали в жизнь, без грубого нажима, без насилия...
— Но в основе-то, — сказал Сабуров,— было все то же, что позже и у
менее тонких людей было, вплоть до Гучкова и Милюкова. Проливы, а не
кресты над Святой Софией. Босфор, Дарданеллы.
— Этим материализмом можно что хочешь опошлить,—не согласился
Богородицкий.— Вот вы спрашивали о Булатове. Он как раз так, в
78
Всеволод Кочетов •
лоб, догматично, схематично, и рассуждает о подобных предметах.
Человеческое, происходящее от личности, он отбрасывает. Одни интересы ищет.
В чью, дескать, пользу. А что, без пользы-то нельзя разве? И вы вот
сразу— немка! Да это же чисто формальное, биология, так сказать. А дух-
то, дух Екатерины— русский дух! Ум какой! Широта! Вы не знаете, а я
знаю. Святейший Синод пожаловался ей на казанского губернатора за то.
что тот, обойдя тогдашние указы, дозволил построить в Казани несколько
мечетей. И что же ответила на это Екатерина? — Богородицкий вытащил
из кармана записную книжку, полистал, прочел: — «Как господь терпит на
земле все вероисповедания, языки, религии, так и императрица, следуя в
этом его святой воле и его заповедям, поступает, прося только, чтобы
между ее подданными царили всегда любовь и согласие». Одобрила, значит!
Вот так. Или по поводу церковных обрядов. Никого ничем не сковывала. —
Он еще полистал. — Вот слова ее и по этому поводу: «Тот, кто творит добро
ради добра, не нуждается ни в смешных обрядах, ни в костюмах, столь же
смешных, как и легкомысленных». Великая женщина! В конце жизни
как она писала?! «Мое желание и мое удовольствие были— сделать всех
счастливыми».
— Не всех, очевидно, — Сабуров улыбнулся, — а лишь своих
фаворитов, несколько дюжин преуспевавших возле нее любовников. В этом
смысле она — что да, то да — отличалась, скажем, от Екатерины
Английской или от Христины Шведской. Те своих любовников просто-напросто
приканчивали, когда надобность в них проходила, а Екатерина щедро
награждала их за счет российской казны и ни одного не забыла милостями
до конца ее дней. Да, в этом она была велика. Потемкин, всем известно,
получил от нее в общей сложности пятьдесят миллионов рублей.
Семнадцать миллионов перепало братьям Орловым и так далее.
— Вот это и есть, простите меня, господин Карадонна, чистой воды бу-
латовщина. Опошление всего высокого и светлого.
— Ого!— сказал Сабуров. — Мы с господином Булатовым, которого я
не имею чести знать, оказывается, одинаково судим о некоторых вещах.
Мне бы хотелось с ним познакомиться.
— Не велико удовольствие вам будет от этого.
— Во всяком случае — я убежден теперь в этом — господин Булатов,
как и я, не согласится с тем, что царица Екатерина Вторая стремилась
сделать всех счастливыми, что она была такая гуманная и человечная,
такая радетельница и благодетельница. А как же Пугачев, господин
Богородицкий? Гуманнейшая из гуманнейших приказала разрубить
человека живьем на четыре части, каждую часть отдельно насадить на кол,
выставить их в четырех концах Москвы, потом сжечь. Уж до того она
старалась истребить память о восстании против ее гуманности, что даже реку
Яик велено было ею переименовать в Урал и казачеству яицкому
именоваться впредь уральским!
— Так ведь то бунт был, мятеж! А вы бы как на месте Екатерины
поступили? — утрачивая добродушную свою улыбку, запротестовал
Богородицкий.
— Тогда, значит, и Радищева она правильно репрессировала?
— А защищаться-то ей надо было! Тут своя логика. Нельзя не
понять.
— Так хорошо, как вы, господа, я старой истории России не знаю,—
вступила в разговор Порция Браун, — но мне кажется, что господин
Богородицкий прав. Сегодняшними мерками действия людей прошлого мерить
нельзя. Царица Екатерина отвечала за судьбу государства, и она должна
была защищать государство от поджигательств.
— Простите, мисс Браун, — упрямо отстаивал свое Сабуров. — Вы мне
рассказывали, да я и сам в десятках, в сотнях зарубежных изданий
прочел о том, как и вы персонально и авторы многочисленных статей
возмущаетесь советским судом, который осудил двух или трех литераторов, пе-
• Чего же ты хочешь?
79
чатавших под псевдонимами за рубежом направленные против
советского строя сочинения.
— Да, да!—воскликнула Порция Браун.—Этим возмущены все
порядочные люди в мире.
— Но государство-то защищать надо!—в тон ей ответил Сабуров.—
Почему царей, цариц, сатрапов, угнетавших народ, вы готовы оправдывать:
мол, обязаны были защищать государство. А тут, где касается Советской
России, вы непреклонны. Слишком избирателен ваш метод. Почему,
по-вашему, Радищеву было нельзя выступать против государства Екатерины,
государства абсолютистского, уродливого, тиранического, а какие-то
злобные критиканы пусть на здоровье вредят своему государству, государству
народа, молодому, прогрессирующему, и трогать их нельзя? Концы с
концами у вас не вяжутся, мисс Браун.
— Вы не коммунист ли, господин Карадонна? — с деланным смехом
спросила Порция Браун.
— Нет, я не коммунист, — ответил Сабуров. — Но я столько наделал
в жизни ошибок, что очень многому на них научился.
— Господа, господа! — стучал вилкой о графин хозяин дома. — Мы все
горячимся, и это хорошо. Мы хотим истины, а истина рождается только в
споре. Почему я так чту память и дела Екатерины Алексеевны? Потому что
мне дорог каждый, кто радеет о народе. Не зря тут лапти-то висят. Это
совсем не декорация. Я часто, часто бываю среди людей, среди тех, из
кого вышел. Многое еще не сделано, чтобы всем жилось на земле
хорошо. Еще трудна жизнь народная, ох, трудна! Иной раз глянешь, и вот
тут запечет. — Он показал кулаком на свою грудь.
Сабурову показалось, что своей резкостью в споре он обидел поэта,
и, чтобы сгладить напряжение за столом, спросил:
— А где, простите, вы бываете, господин Богородицкий? В каких
местах России?
— В разных, в разных, господин Карадонна. Чаще же всего в родных
своих, северных. Дом у меня там родительский, гнездо родное. Заботы
оно требует. И вот, как приедешь да глянешь, как народ все еще в
избушках живет... Запечет, говорю, здесь. Сад у меня там большой, корней
двести одних яблонь. Сам с ними справишься ли? Нет. Позовешь в помощь
односельчан. Разговоры пойдут. Души изливаются. Трудно народу, ох,
нелегко! Глухие места, дальние.
— А как же вы добираетесь туда? — любопытствовал Сабуров.
— Я-то? Да машиной. «Волга» моя лесных колдобин не берет.
Пришлось еще и вездеход купить, с передачей на обе оси. Приедешь, конечно,
доберешься, а душа не на месте. Чуешь, что не можешь ты быть
спокойным. Народ-то, народ...
Штрих за штрихом перед Сабуровым раскрывалась натура ханжи,
фарисея, лжепечальника за марод. На псковских, новгородских дорогах,
по дороге в Москву группа сворачивала не в одно селение, и нигде
ничего подобного, о чем печалится Богородицкий, никто из них не заметил.
Видели множество сельскохозяйственных машин, в каждом доме
телевизор или радиоприемник, видели велосипеды, мотоциклы. Дома, правда, еще
не благоустроены, кое-где даже покрыты соломой. Но люди говорили:
деньги есть, и руки рабочие есть, строительных материалов не хватает.
Словом, у всех перспективы, у всех планы, надежды. А этот развесил
лапти над обеденным столом, сидит жует паюсную икру, пьет водку и
горюет.
Сабуров знал, что среди русского крестьянства всегда водились такие,
которые постоянно хныкали, прибирая тем временем своих односельчан
к рукам. В долг давали, под проценты, под отработку и делали при этом
вид, будто бы они самые что ни на есть бескорыстные благодетели. В
хозяине дома ему увиделся именно такой мужичина. Ведь, поди, не в шутку
сказал он это о сздаре и сударыне, о вашем превосходительстве и вашем
80
Всеволод Кочетов •
сиятельстве. Окажись такой в поле зрения матушки Екатерины
Алексеевны, ох, и лебезил бы перед ней! Ох, и старался бы и днем и ночью за блага,
какие сыпались на пригреваемых матушкой хитрецов!
— Мисс Браун, — сказал он, взглянув на часы.— Я должен
извиниться перед хозяевами дома. Мне надо быть в отеле. Работа, господа! — Он
встал и поклонился. — У нас, у людей нашего мира, известное вам
жизненное правило: бизнес есть бизнес.
— Что ж, а я еще побуду,— согласно кивнула Порция Браун. Ей
хозяин дома нравился, ей был нужен, полезен такой человек.
Когда Сабуров ушел, она сказала:
— Это хороший специалист своего дела, но очень плохой политик.
Простите ему, господа, его прямолинейность. Она — производное от
недостаточной информации.
— А мне показалось, — не согласился один из гостей, — что Россию он
знает неплохо. Не говорю, правда, о Советском Союзе. А Россию знает,
знает.
Порция Браун заговорила о том, что ей очень было интересно узнать
об оригинальной табакерке господина Богородицкого, о некоторых фактах
из жизни русской императрицы Екатерины. Вообще весь разговор в этот
день ей показался оче«ь содержательным, свободным, глубоким.
— Мне только одно не совсем понятно, господин Богородицкий, —
она делала недоумевающие глаза, — как вам позволяют носить при себе
такую криминальную вещицу. Вы, мне говорил кто-то, состоите в
коммунистической партии.
— Да, состою. Сразу после войны вступил. Сейчас я, может быть, и не
сделал бы этого. А тогда... Подъем победы! Все так, и ты так. А если
пораздумать, то литератору, работнику искусств, не совсем гоже в партиях
быть. Там программа, там устав. Ограничивают они художника. Нельзя,
чтобы тебя, пишущего, что бы там ни было, но загоняло в рамки, шоры бы
ставило на твои глаза.
— Но ведь можно и выйти из партии?
— Можно. В принципе. На практике неудобно как-то. Вступил, так
уж держись. Но я вам скажу, больших ограничений сейчас у нас и в этом
смысле нету. На собрания я не хожу — ничего, терпят. Высказываюсь
довольно свободно — ежатся, но помалкивают. Сейчас куда свободнее стало.
Не то, что лет с десять, с пятнадцать назад. Тогда такая табакерочка
разве же мыслима была!
— А что, в Сибирь бы сослали?
— В Сибирь-то, конечно, не в Сибирь бы. А вот из партии, уж это
как есть, попросили бы.
— За такой пустяк?
— Да он не такой и пустяк, сударыня. Разобраться если
по-настоящему. Это же знак моего несогласия со многим из того, что делается-то у
нас. Россия — страна особенная, особого требует к себе подхода во всем.
— Да, да,—охотно соглашалась Порция Браун, — русская душа,
русская загадка...
Богородицкого позвали к телефону. Возвратясь, он обрадованно
сказал:
— Сейчас приедет один молодой писатель. Хорошие рассказы о сирых
людях пишет. Он, верно, не такой уж молодой. Лет под тридцать, поди. Но
у нас тридцать — это еще почти младенчество. Вы, думаю, его знаете.
Мамонов. Саша Мамонов.
— О, да, конечно! На Западе он становится известным. Один мой
друг переводил его книжку.
Явившийся вскоре Мамонов принес две бутылки шампанского.
— Русофилы паршивые! —сказал он с порога. — Водку дуете? Так вот
вам хоть по глотку напитка, который не освинячивает, а облагораживает
человека.
• Чего же ты хочешь?
81
— Познакомься,— сказал хозяин.— Мисс Браун.
— Я вас знаю, — сказал Мамонов. — Это вы пишете в некоторых
известных мне журналах?— Он стал бойко перечислять названия
антисоветских и полуантисоветских зарубежных изданий.
— Да, я. Мои несовершенные опыты...
— Отчего же несовершенные? Здорово даете нашим догматикам.
Согласен с вами от запятой до запятой.
Его стали просить почитать новенькое. Он немного покочевряжился,
потом, выпив бокал шампанского, вынул из кармана сложенные листки,
стал читать рассказ. Рассказ имел двойной смысл. Речь шла о далеком
прошлом, о Древнем Риме, о средних веках, но за этой декорацией легко
угадывалась искусно подогнанная современность. Хозяин понимающе
улыбался во все лицо. Глядя на него, улыбались и гости. А Порция Браун
то и дело восторженно аплодировала.
— Это, конечно, не напечатано? — спросила она после того, как
рассказ был прочитан. И когда Мамонов сказал, что нет, не
напечатано, обрадовалась: будет что привезти с собой для очередных номеров
журналов, в которых она сотрудничала и под своей фамилией и под
псевдонимами.
Потом Мамонов провожал ее до гостиницы. Такси нигде не было, и они
долго шли по длинным широким улицам нового, отдаленного района
Москвы. У Порции Браун уже отказывали ноги в туфлях на высоких каблуках,
которые не были рассчитаны на долгую ходьбу.
— Давайте понесу! — предложил Мамонов и тут же, на улице, благо
народу было немного, подхватил ее на руки.
— А что,— сказала она, — довольно мило! Вы, оказывается, сильный.
Он склонился над ее лицом и поцеловал в губы.
— Вам разве это можно, советским литераторам?— Порция
Браун засмеялась. — Вас не исключат из Союза писателей?
На стоянке такси он усадил ее в машину; сел рядом, и она ощутила
его руку на своем колене. Она не шевельнулась.
Возле «Метрополя», когда Мамонов расплатился с шофером, она
сказала:
— Раз уж вы такой бесстрашный, поднимемся ко мне, попросим кофе
или вина.
Она видела, как разрывается надвое этот не слишком-то много
поживший человек, который только делает вид, что он чертовски опытен. На
самом же деле он сущий советский младенец, играющий роль фрондера. Нет,
он не был излишне смелым. Одно дело— схватить ее на руки и целовать
в темноте безлюдной улицы, другое — стоять с нею перед ярко освещенным
подъездом гостиницы среди толпы народа. Ему очень хотелось
подняться к ней в комнату, но он боялся сделать это. Она смотрела на него с
улыбкой, догадываясь о том, какая в его сердце и в сознании происходит
борьба. Он стоял, не выпуская ее руку из своей, не отрывая взгляда
от ее голубых, усмехающихся глаз.
— Хорошо,— сказал он, все же решившись.— На одну минутку.
— Да, конечно, — согласилась она. — На одну-единственную.
В своей комнате, защелкнув дверь на замок, она положила руки ему
на плечи.
— Вот мы и одни, мой милый. Ты этого хотел, будущий великий
писатель.
Не было никакого кофе, никакого вина. Русский парень торопливо
расстегивал ее пуговицы, стаскивал одежды. Она смеялась:
— О мой милый Руслан! Так спешить нельзя. Спокойней надо, мой
дорогой. А то ничего не почувствуешь, ничего не увидишь. Ты знаешь, как
к философу Канту... Тебе знакомо это имя? Иммануил Кант? Это не здесь
расстегивается. У ваших русских дам это по-другому. Так вот, ученики
Канта... Он, учти, был девствен... Его ученики решили, что нельзя, чтобы
6. «Октябрь» № 10.
82
Всеволод Кочетов ©
их учитель чего-либо не знал. Пусть он узнает и это... Тьфу, какой ты
сумасшедший!..
Потом, когда он лежал с краю постели и сбоку смотрел на нее, она
сказала:
— Вот дурной, не дал досказать. Узнал бы, так, может быть, и не
спешил бы так. Они, те ученики Канта, все-таки убедили своего учителя,
привели к нему девицу, оставили на ночь. А утром спросили: ну как, что
было, что он чувствовал? Он ответил: «Масса смешных суетливых
движений — не больше».
— Ты змея, — сказал молодой прозаик и начал одеваться. — Я тебе
этого не прощу.
— Простишь! — С подчеркнутой фамильярностью она хлопнула его
ладонью по голой спине. — Завтра я тебя буду ждать после восьми. И кофе
будет, и вино будет. Все будет. Ты мне нравишься.
26
Клауберг очень скоро понял, что подлинная цель группы, которую
он привез в Советский Союз, отнюдь не репродуцирование произведений
древнего русского искусства и что по предначертаниям издательства «New
World» подлинный руководитель группы совсем не он, а Порция Браун.
Разложение, подпиливание идеологических, моральных устоев советского
общества — вот на что в Лондоне среди прочих несравнимо
более серьезных акций решили потратить нынешним летом несколько
десятков тысяч фунтов стерлингов. Причем Клауберг отчетливо видел, что за
фунтами — а может быть, в трогательном единении с ними — стояли
доллары. Предприятие было явно американское. Он и Сабуров служили
маскировочной сеткой, дабы группу, как говорится, не засекли с воздуха
и не разбомбили, а по основной программе действовали Порция Браун и
Юджин Росс. Несмотря на свои многочисленные бумаги, голубоглазе-нькая
эта была, конечно, никакая не Браун, и фотограф этот не был никаким
Россом. Оба они эмигрантская, антисоветская шваль. Видывал на своем
веку целые толпы таких Клауберг. Они способны на все, ни совести
у них, ни чести, ни родины. Этих подонков охотно подбирают теперь
американцы и англичане. Такие на побегушках у хозяев, они провокаторы, они
на всех антисоветских радиостанциях, во всех антисоветских газетах.
Надрываться на работе Порции Браун и Юджина Росса, в которую
его, кстати, и не очень посвящали, у Клауберга не было охоты. Он решил
делать главным образом дело, которое могло быть полезным
Германии, его, клауберговской, Германии, накапливающей силы для того, чтобы
в какой-то день вновь заявить миру о себе в полный голос. Конечно, это —
проверка сети — противоречит установкам, которые были даны группе в
Лондоне. Но Германия превыше всего! И к тому же, кроме этой проверки,
не было ничего больше: он не должен был ни давать заданий агентуре,
ни инструктировать ее. Просто зайти, посмотреть, побеседовать. Мало ли
от кого, от каких зарубежных знакомых мог уважаемый иностранный
профессор привезти приветы в Советский Союз.
По Москве он ходил пешком или ездил в метро. В метро
спускался преимущественно в часы пик, когда москвичи ехали на работу или с
работы. Тогда была такая толкучка на эскалаторах и в поездах, что, если
бы за ним и вздумали следить, ничего бы в этом человеческом водовороте
из слежки не получилось. Уж он-то, Клауберг, в подобных делах хоть что-
нибудь да понимает.
Беседуя с людьми, он убеждался, что москвичи очень любят свой
город. Иной раз они ругательски ругают Моссовет за неурядицы и
недостатки, но все равно Москву любят, следят за тем, как идут ее
новостройки, знают планы порайонных строительств на несколько пятилеток вперед,
могут рассказать, как через пять — десять лет будет вот там-то и там-то,
• Чего же ты хочешь?
83
какие и где появятся новые магистрали, какие крупные сооружения
украсят районы многоэтажных кварталов. Клаубергу все их заботы и восторги
были, естественно, чужды. Москва ему решительно не нравилась, и не
потому не нравилась, что неудачей под этим русским городом в сорок
первом году началась длинная цепь других неудач, закончившихся полным
крахом великой гитлеровской империи. Просто ему не по душе были
города, напоминавшие проходные дворы. С его точки зрения, Москва была
суетливым городом, городом проезжих с вокзала на вокзал, из аэропорта в
аэропорт; жители Москвы не знали своих соседей по дому, даже по
лестничной площадке. Не только люди, даже дома-то в Москве долго не
задерживались на месте — сегодня дом есть, завтра его сломали. Жить в такой
сутолоке Клауберг совсем бы не хотел. Но делать дело, о котором его
просили, здесь в связи с толкучкой было весьма удобно. Где-нибудь в милом,
родном Кобурге и даже в столичном испанском Мадриде, в котором он
провел послевоенные годы, зайди во двор и попробуй спросить такого-то, бог
ты мой, что начнется! Набегут доброжелатели, начнут интересоваться, кем
вы такому-то приходитесь, да откуда вы сами и так далее и тому подобное.
Здесь же буркнут в ответ: «Не знаю» — и понеслись галопом дальше.
И никто тобой не заинтересуется, никто не обратит на тебя никакого
внимания.
На улице Кропоткина Клауберг нашел старый, облезлый дом —
наискось от особняка, занимаемого Советским комитетом защиты мира.
Отыскал вход на лестницу со двора, поднялся к квартире, номер которой у
него был зафиксирован в памяти. После звонка перед ним в дверях
появился старый человек в подтяжках.
— Мне нужен Николай Васильевич Свидерский,— сказал он
этому человеку вполголоса.
— Свидерский?.. Не знаю. Может быть, тот тип, который жил
здесь до меня? — с раздражением ответил человек в подтяжках. — Он
получил новую квартиру, а меня вселили вот сюда. Так что вы думаете? Не
только замки из дверей, ручки, и те отвинтил, паразит. Медные, видите ли,
таких, дескать, нынче не найдешь. Выключатели поснимал, патроны
срезал. Не знаю, где он теперь, я его новый адрес не записывал. В гости к
нему не собираюсь. На кой леший он мне сдался, скотина!
Новый адрес Николая Васильевича Свидерского Клаубергу выдал
прекрасно работавший киоск Мосгорсправки. Оказалось, это на самом краю
Москвы. Клауберг доехал до конечной станции метро, вышел прямо среди
поля, на котором стояло несколько домов, и одним из них был именно
тот, который назвала Мосгорсправка. Опять вопрос в дверях:
— Мне нужен Свидерский, Николай Васильевич.
— Заходите, пожалуйста! — пригласила, распахивая дверь пошире,
девочка лет десяти и крикнула: — Дедушка, к тебе!
«Дедушка! —усмехнулся Клауберг. — Ну и боевые же кадры у моих
коллег!»
Старик сидел в кресле и решал кроссворд, помещенный в
иллюстрированном журнале.
— Я Свидерский,— сказал он.— Прошу вас! — И указал на стул
против своего кресла.— Слушаю.
«Нет, этому уже терять нечего, — соображал Клауберг— Скажешь,
зачем к нему пришел, непременно в свой КГБ заявит. Доживающий век
пенсионер».
— Ошибся я, очевидно,— сказал он.— Один мой знакомый поручил
мне найти в Москве своего товарища. Горсправка дала ваш адрес. Да,
видимо, не вы это, возраст не тот.
— А тому-то, вашему, сколько?— любопытствовал
дедушка-пенсионер.
— Лет сорок — сорок пять.
84
Всеволод Кочетов #
— Ну, это когда мне было, сорок-то! Хватили, дружище! Явно не я.
А знакомого вашего как фамилия?
Клауберг еле ноги унес от старого болтуна, который ни на что, кроме
возни с кроссвордами, больше уже не годился. Когда, где подобрали его
в агентурную сеть? В лагере ли военнопленных? На оккупированной
территории? Во время заграничной поездки, может быть, еще до войны? Сидит
вот теперь, пенсию получает, за внуками приглядывает, а где-то там,
может быть, в Мюнхене, в том самом Пуллахе — пригороде баварской
столицы — все еще хранят в картотеке его карточку с росписью, с
обязательством работать в пользу великой Германии. Работничек!
Зато несколькими днями позже на улице Горького, возле Белорусского
вокзала, Клауберг испытал минуты истинной радости. Человеку, которого
он искал, было не более тридцати. Был тот здоровым, крепким, полным сил.
— Да, я Игнатьев, я Сергей Сергеевич. А в чем дело? — Человек
стоял в дверях, загораживая собой переднюю квартиры.
— Я от Ивана Петровича Сидорова. Из Калуги,— негромко сказал
Клауберг.
Человек замер на минуту, не то чтобы растерялся, просто замер,
обдумывая, вспоминая, соображая. В нетерпении стоял и Клауберг. Мало ли
что бывает в таких случаях!
— Ага!— сказал наконец человек. — Заходите. — В комнате он
спросил: — Как здоровье Ивана Петровича? У него было повышенное давление?
Это были условные фразы. Клауберг понял, что все правильно, и,
успокаиваясь, ответил:
— Да, прыгало. Сейчас отрегулировалось.
— Рад, рад, — говорил молодой хозяин квартиры, доставая из буфета
бутылку с коньяком и рюмки.— Отметим встречу. Слушайте,— сказал он,
наливая коньяк,— это же безобразие! Который год жду — и ни звука. Ни
инструкций, ни заданий, ни — главное —монеты. Обещали всего воз.
И куда подевались? Я же многое могу, чудаки! Я теперь в министерстве
работаю. Тогда, в Брюсселе, во время выставки, я наскочил на вашего...
Потеха! Он меня здорово выручил. Что ж, ваше здоровье! Как называть,
извините?
— Не в том дело, как называть. Никак не называйте. Дело в том,
что меня просили напомнить вам...
— Да я-то помню. А вот у вас у самих народ, видимо,
забывчивый. Хотя бы сотенку-другую подкинули. Валютой, конечно. Сейчас у нас
в Москве на валюту, что пожелаешь, можно купить. Валюта в большом
ходу.
— Меня как раз и просили напомнить: будьте готовы к
выполнению заданий. Скоро понадобитесь. И валюта тогда будет, все будет.
— Будет! Будет! Одни обещания. А мне сейчас бы авансик. На
валюту сигаретки какие американские отламывают, виски прямо из
Шотландии, джин, ботинки высшего класса, отрезы на костюм... Зайдешь,
руки чешутся. Как за границей. Тогда, в Брюсселе, помню... Вы скажите
им, гражданин, я готов. Но только прямо заявляю: по дешевке от меня
не получите ничего. Это же риск! А риск должен компенсироваться на
полную катушку. У вас есть при себе монета? Вы уполномоченный?
— Нет, и никакой монеты пока нет. Я уполномочен только
предупредить вас.
— Как знаете. Была бы монета, завтра бы притащил вам для
образчика то, чем располагаю. Наше министерство... заводы... такое
сооружают, вы бы пальчики облизали, увидав... Неужели у вас не найдется
хотя бы с полсотенки долларов?
Клаубергу надо было уходить. Просьбу коллеги он выполнил, на
большее же никем не уполномочен, да это большее уже сопряжено с
опасностью. Но он не уходил: молодой русский крепыш его
заинтересовал.
• Чего же ты хочешь?
85
— Слушайте,— сказал Клауберг,— мне кажется, что вы не совсем
понимаете всю серьезность того, что вы сейчас собой представляете,
и судите об этом излишне легко. Вы агент другого государства, вы
сознаете это?
— Я вижу, что другое государство этого не сознает, а я-то сознаю.
Может быть, вы думаете, что я со всеми так откровенен, как с вами?
Ну нет, я язык за зубами держать умею. О том, как меня засыпали
тогда, в Брюсселе, ни одна душа не узнала. Я, как говорится, рта не раскрыл
по этому поводу. Если бы не ваш человек, погорел бы я тогда крепко.
Вы, может быть, знаете, а может быть, и не знаете, я же тогда на
девках накололся. Вроде бы русские, завели к себе, такой вечерок
закатили. Я гуляю, думаю: вот добрые души! А уходить стал — плати
монету! И такую суммочку загнули! У нас на всю группу столько валюты
не было, сколько они с меня потребовали. А нет, говорят, полицию
позовем, в суд дело пойдет, отрабатывать будешь. И вот ваш тот выручил,
ссудил, сколько надо было. По гроб не забуду. И дурень же он, говоря
откровенно. «Услуга за услугу!» А услуг никаких и по сей день не
требуют. Удивляюсь.
— Ну и радовались бы,— неожиданно для себя сказал Клауберг.—
Чего вам в петлю-то лезть, шею-то подставлять?
— Если умненько себя вести, ни в какую петлю не попадешь. Это
раз. Во-вторых, у нас сейчас совсем уже не так, как было. Это при
культе— бац и в петлю. А сейчас!.. Ну дадут сколько-то лет... Я, видите, не
старый — вернусь еще в полных силах. Важно, чтобы оплатили как
следует. Чтобы успеть погулять.
— А у вас никаких счетов с Советской властью нет случайно? —
спросил Клауберг.
— То есть?
— Ну, может быть, ваши родители были репрессированы? Может
быть, они из бывших, как у вас принято говорить? Может быть...
— Обыкновенные у меня родители,— не дал досказать хозяин
квартиры. — Отец в обществе слепых работает, он слепой — с войны, щетки
делает. Мать его бросила. Сейчас буфетчицей в гостинице. Никто их
никогда не репрессировал, и нет у меня никаких счетов ни с какой властью.
А платили бы валютой, л бы лично любую власть — во как! —обожал.
— Так почему же вы...
— Готов шпионить-то? Это хотите спросить, да? Ну ведь я еще не
шпионил. И не знаю, как оно пойдет на деле. Как, словом, платить
будете.
— Что ж, желаю успеха! Ждите, вот-вот понадобитесь. — Клауберг
пожал руку молодому сотруднику заведения в Пуллахе и ушел.
На улице он еще долго раздумывал об этом человеке. Это был
особо ценный сотрудник. Вернее, мог бы стать таковым. Очень жаль, что
где-то упускают возможность использовать его. Ценность таких людей
заключается в том, что они превыше всего любят деньги. Те, которые
«имеют счеты», далеко не всегда надежны. Сегодня у них «счеты», завтра
что-то произошло — и «счетов» нет. Те импульсивны, неуравновешенны,
злобны, недостаточно расчетливы. А вот эти, такие, которые за деньги,
они настоящий деловой народ. Ты ему монету — он тебе товар. Братия
браунов и россов, пожалуй, находится на верном пути, расшатывая устои
советской морали. Здоровенный этот малый — прямой продукт их
деятельности. Лет двадцать — тридцать назад в России такого, пожалуй, было бы
и не найти. Тогда было предостаточно иных, которые со «счетами» к
Советской власти. А вот чтобы за деньги, «за валюту»,— невозможно было
и представить. Брауны и россы неплохо поработали.
Что ж, пусть пилят-подпиливают, надо только, чтобы не хозяева
браунов и россов в конце-то концов воспользовались результатами, а
мы, немцы, обязаны на этот раз снять плоды с нивы всеобщих усилий.
86
Всеволод Кочетов •
Возвратясь в отель, Клауберг входил в вестибюль в превосходном
настроении. Его уже знали и швейцары, /и те малые разбойного вида,
которые принимали пальто и плащи в гардеробе, и официанты в баре
и в ресторане. Не скупясь, он раздавал на чай, и ему почтительно
кланялись: господин профессор!
Проходя на этот раз через вестибюль, он скользнул взглядом по
лицам людей у киоска сувениров, у справочного бюро, просто
толкавшихся в вестибюле и, уже нажав на кнопку лифта, ощутил
непроизвольную, беспокоящую работу памяти. В чем дело? Вставляя ключ в дверь
своей комнаты, он вспомнил: там, внизу, мелькнуло лицо... знакомое,
очень знакомое лицо!.. Оно не из сегодняшних дней — из давних, может
быть, даже очень давних, но каким-то странным образом еще совсем
на днях возобновлявшееся в памяти. Он стоял среди комнаты и,
ударяя ключом по ладони, старался поймать кончик ускользающего
воспоминания.
Наконец не выдержал, вернулся к лифту и спустился вниз. Он
вглядывался в лица всех, кто был в вестибюле. Но того лица среди них не
увидел. Оно должно было быть бесцветным, в мелких чертах, с
белесыми прядками над лбом. Память ему это возвратила: мелкие черты,
белесые прядки. Вот дьявольщина! Почему такая острая потребность
вспомнить этого человека? И когда это могло быть? Война? После
войны? Россия? Германия? Испания? Свой? Чужой? Далекий?
Близкий?
Появился Юджин Росс, тоже с очень знакомым парнем. Круглое
лицо в веснушках, добродушно улыбающееся.
— Добрый вечер, господин Клауберг,— сказал парень
по-английски.
«А,— вспомнил Клауберг,— это же сын того ученого редактора
«Вестника», у которого был устроен прием в честь группы. Зародов,
кажется...»
— Здравствуйте, — ответил он, вглядываясь в лицо зародовского
отпрыска.— Аркадий?..
— Геннадий!
— Мы пробовали новую пленку для вечерних съемок, — сказал
Юджин Росс. — Геннадий тоже, оказывается, занимается
фотографированием.
— Да нет, я просто так, по-любительски. Фотоматериалы порчу.
Клауберг не слушал, о чем они ему говорили; он раздумывал о
своем, продолжая оглядываться на тех, кто был в вестибюле.
— Что? Иконы? Какие иконы? — Он как бы очнулся, услышав
слова об иконах, обращенные к нему.
— Геннадий говорит, что знает одного большого специалиста по
иконам.
— Да, да,— подтвердил Генка.— Богатое собрание. Может быть, ни
у кого в частных руках такого больше и нет.
— Интересно, — согласился Клауберг. — А его нельзя повидать?
Сюда привести, например?
— Можно и сюда. Но лучше съездить к нему домой. Все самое
ценное у него в сундуке под замком. Захватить бутылочку виски и махнуть
в Кунцево.
— Кунцево? Это за Москвой?
— Нет, в самой Москве. Только на окраине.
— Хорошо,— сказал Клауберг. — Надо будет съездить. — И вновь все
это исчезло с его глаз: и Юджин Росс, и Геннадий Зародов, и все иное
вокруг, у кого или у чего не было мелких черт на лице и белесых прядок
над лбом. Все отчетливее, все яснее вставало перед ним это тревожно
знакомое лицо.
К нему в комнату постучалась Порция Браун.
• Чего же ты хочешь?
«У
■— Господин Клауберг,— сказала она, садясь на диванчик,— ну как
у нас идут дела? В каком они сейчас состоянии?
— Домой торопитесь?
— Нет, нисколько не тороплюсь. Просто интересно.
— Мне кажется, что для вас, мисс Браун, в Москве отыскалось
кое-что более интересное.
— Что же именно? — Она рассматривала свои ногти.
— Вы сами знаете.
— Я вас предупреждала, Клауберг, давно предупреждала, не в свои
дела не соваться.— Она подняла на него голубые холодные глаза.— Я
не выслеживаю вас, когда вы целыми днями пропадаете неведомо где.
Почему же вы нюхаете возле моих дверей?
— Потому что то, чем вы занимаетесь, уважаемая, русские очень
не любят. Они не желают, чтобы их отели превращались в дома
свиданий, и, когда ваши похождения обнаружатся, может произойти крупный
скандал. Скомпрометировав себя, вы скомпрометируете группу, все наше
дело.
— Ах, ах! — сказала она. — Немцы всегда были нацией образцовой
нравственности, а кончилось все тем, что вы установили институт
высокопородных квартальных жеребцов из войск СС для обслуживания ваших
немецких вдов и тех женщин, мужья которых на фронте.
— Враки! — рявкнул Клауберг. — А что касается нравственности,
мне на вашу нравственность, сами понимаете, наплевать. Дело не в ней. А
в том, что мы обязаны без всяких осложнений и инцидентов выполнить
порученное нам дело.
— Вам поручили одно, мне другое, Клауберг. Я и выполняю
порученное мне.— Последние слова она произнесла с многозначительным
нажимом.
Она ушла. Клауберг, раздосадованный, отправился к Сабурову.
— Умберто! — сказал он. — Как тебе нравится эта сука?
— О ком ты? — удивился Сабуров. Он был в пижаме, в домашних
туфлях, готовился лечь в постель.
— Об этой нашей Порции. Она каждый день таскает к себе
русских парней.
— Что ты говоришь! —Сабуров удивился еще больше.—Я, знаешь,
?по горло занят. Времени замечать это у меня нет. В Москве слишком
много интересного. Все-таки у них, у советских, есть что-то такое, чего ни
у кого другого в мире нет.
— Вздор! — сказал Клауберг. — Люди как люди. Деньги любят —
валюту подавай. Баб обожают — к этой стерве нашей бегут так, что
искры из-под копыт. Кстати, как бы нам в ней получше разобраться.
У меня впечатление, что она в борделе работала, а не в институте по
изучению России.— Клауберг прислушался.— Во, слышишь? Впустила к
себе в комнату очередного гусенка! Ключом щелкает. Ну и мисс, черт
ее задери.
Клауберг вернулся к себе, распахнул окно. Вечер был свежий, с
чистым синим небом в крупных звездах, почти как в Мадриде. И так же,
как там, далекой зарей на западе светилось небо. Москва затихала,
отходя ко сну. Чужой город, чужой мир, чужие заботы. Может быть, не
надо было сюда приезжать. Может быть, кончится это плохо. Русские!..
Глыбистая, огромная, непонятная сила. По этим улицам однажды
прогнали десятки, сотни тысяч пленных немецких солдат, офицеров и
генералов. Клауберг видел эту кинохронику. Генералы шли впереди вразброд,
а неисчислимые ряды солдат колыхались за ними в бесконечных
колоннах. А вот там, за крышей того здания с башнями,— Красная площадь.
Там Мавзолей Ленина. Летом сорок пятого года перед Мавзолеем
навалили груду знамен разбитых дивизий и полков немецкой армии. Русские
умеют устраивать спектакли, которые потом входят в историю. И все-таки
88
Всеволод Кочетов •
еще не все потеряно, есть надежды, есть. Если существуют люди, для
которых дороже всего валюта, есть и надежда.
И вновь перед ним стало выплывать из сумерек лицо со
светлыми прядками над лбом.
— Свихнусь,— сказал он сам себе и, перед тем как лечь в постель,
принял таблетку снотворного.
27
В Венеции вагон с табличкой «Милан — Москва» прицепили к
поезду, который должен был идти на север Европы.
Спада, провожавший Леру, стоял возле окна на перроне и злобно
посматривал по сторонам. Очки его коротко поблескивали под жарким
летним солнцем. Лицо Спады дергалось. Подергивались руки, ноги. Он
как бы приплясывал в ожидании отхода поезда. Говорить было не
о чем, оба молчали. Один Толик, поглядывая за окно из-под руки Ле-
ры, без умолку болтал, задавая всяческие вопросы то по-итальянски,
то по-русски. На него оборачивались проходившие к своим вагонам
пассажиры. Провожающих, кроме Спады, на перроне почти не было: кто
и кого станет провожать в Венеции, где сплошь одни проезжающие,
одни туристы. Разве что представители бюро путешествий да агенты
отелей.
Было ли для Спады неприятностью то, что Лера уезжала? Кто его
знает. Может быть, он этому даже и рад. Но то, как о нем стали
отзываться в среде коммунистов после демонстрации туринцев против
пребывания Италии в НАТО, это не могло его не задевать. «Тот, — говорили
о Спаде,— кто выступает против Советского Союза, против
Коммунистической партии Советского Союза, независимо от его побуждений, не
коммунист. Он раскольник, он предатель». Это было категорично, сурово, но
верно. «Ну и черт с ними! — злобствовал Спада.— Не гожусь им — не
надо! Не пропаду».
Лера уже не пыталась его увещевать. Она вся была занята
сборами к отъезду. Писатель Булатов откликнулся на ее отчаянный крик о
помощи. Она кинулась тогда к международному телефону, как к последнему
средству, и не зря это сделала, не ошиблась. Булатов принял должные,
меры, снесся, очевидно, с Министерством иностранных дел Советского
Союза. Леру вызвали в Рим, в советское консульство, и вот все, что надо,
сделано: есть документы, есть билеты, есть немного денег на дорогу.
У Спады, хотя он и предлагал, она не взяла ни лиры.
Вагоны шевельнулись, поезд медленно потянулся к длинному мосту
через адриатические светло-зеленые волны. Спада стоял, засунув руки
в карманы, смотрел вслед. Поблескивали его очки. Он не плакал. Не
сделала этого и Лера. Лишь суетился, ничего не зная и не понимая,
маленький Бартоломео, лицо бесконечно страдательное во всей этой путаной,
никому не нужной, безрадостной истории.
Стучали, стучали колеса. Поезд убыстрял ход. Мелькали станции —
все в олеандрах и жасминах, поблескивали вдали тихие озера.
Вскоре начались горы. Завечерело. В долинах лежали тени,
красками заката отсвечивали вершины деревьев, к домам тянулись стада.
Насколько жадно вглядывалась в новую, неведомую для нее жизнь
Лера по дороге из Москвы в Турин, настолько же равнодушно смотрела
она сквозь оконное стекло теперь. Жизнь — это не горы, не озера, не
стада, не храмы или руины храмов, не витрины магазинов, не пестрая
суета городов, распухших от обилия товаров. Жизнь — это люди. От них
зависит, быть жизни радостной, счастливой, интересной или быть ей
тусклой, унылой, тягостной. Жизнь Леры не получилась, не с тем
человеком затеяла она ее создавать.
Было и радостно — оттого, что все же вырвалась из болота, и вме-
• Чего же ты хочешь?
89
сте с тем грустно: столько пропало лет, их уже не вернешь, не
восполнишь. О Спаде думать не хотелось. С каждым оборотом вагонных колес,
с каждым километром, отдалявшим Леру от венецианского перрона, где
остался этот человек, засунувший руки в карманы, он становился для
нее все неприятнее, ненавистнее.
В купе, кроме Леры с Толиком, была еще одна пассажирка —
маленькая, сухонькая старушка, не то немка, не то австрийка. Из
разговоров с проводником Лера поняла, что старушка сойдет в Вене.
— Мадам, — заговорила соседка сначала по-немецки, потом, видя, что
Лера немецкого не знает, по-английски, — вы, кажется, едете в Москву?
Как вы на это решились? Вы привили себе и ребенку оспу? Там даже
эпидемии холеры бывают.
— Мадам,— вяло ответила Лера,— я там родилась и прожила чуть
ли не тридцать лет и никогда ни разу не видела ни одного холерного
больного.
— Вы русская? — Соседка почти испугалась.
— Да.
— Советская?
— Да.
— О! О! О! — Повозившись со своим ридикюльчиком, поперебирав
содержимое, соседка сказала со вздохом и уже на русском языке: —
Я, знаете, тоже русская.
— Так почему же вы говорите о холере? Такое простительно
итальянцам, они меня даже про белых медведей спрашивали: как быть, если
встретишь его на московской улице? Им головы позабивали подобной
чушью. Но вы русская!
— Увы, я слишком давно из России. Я уехала из нее в таком
возрасте, в каком сейчас вы. Немногим старше.
Она замолчала. Молчала и Лера. Ей не хотелось никакого
разговора. Ей надо было многое, очень многое обдумать. Интерес к этим
бродившим по Европе русским у нее давно пропал. Поначалу, встречая
эмигранта или эмигрантку, она ощущала острое желание расспросить их и
из первых уст услышать, почему человек покинул родину, когда, при
каких обстоятельствах, что погнало его за тридевять земель. Один
советский журналист даже предупреждал ее: «Лерочка, в некоторых
городах Европы, в Париже, например, надо быть очень осторожным,
изъясняясь по-русски. У меня был случай. Мы с моим другом ехали в
парижском метро. Жара была, духотища. Вагон был переполнен, но мы сидели.
Вошла крупная, расплывшаяся толстуха немолодых лет. Вся обвешана
пакетами, картонками. Стоит, отдувается, пот с нее ручьями. Я и
говорю,— извините, Лерочка, молодой был, на язык несдержанный,— я
говорю: «Костя, уступим место этой корове». «Давай, —
отвечает.—Садитесь, мадам!» Та села, утерла лицо платком, отдышалась и на чистейшем
нашем русском: «Корова благодарит».
Поезд мчался, раскачиваясь и ревя перед тоннелями. В купе
молчали. Первой вновь заговорила соседка.
— Да, в свое время и я возмущалась подобными вопросами. А
теперь сама задаю такие. Но в России случались же вспышки холеры?
— А по Европе чума ходила,— ответила Лера.— Во многих странах
памятники стоят — знаки радости избавления от нее.
— Да, да, да,— согласилась старуха.— Видите, как бывает! И я уже
заговорила, как все тут: холера, медведи. Время, время!.. А жили
мы когда-то на Морской в Петербурге. Чудесный дом! Чудесный город!
У них во всей Европе такого нет. Но когда мы уезжали, Петербург был
до ужаса страшным: голод, холод, мрак, сугробы грязного снега,
распоясавшиеся мужики, солдаты... На чужбине мы, я и муж, очень
тосковали, очень.
90
Всеволод Кочетов •
— Почему же не вернулись в Россию? Кто вам мешал?
— Кто? Сами. Он был генералом, мой муж. Генералов у вас
расстреливали.
— Очень многие царские генералы служили в Красной Армии.
Брусилов, например...
— Да, мы знаем это. Но мой муж... Ему уже было поздно. Он уже
связал свою судьбу с генералом Алексеевым, уже выступил против
большевиков. Потом, в Белграде, в Казанлыке, в Софии, в Праге и,
наконец, в Баварии, в крохотном немецком городке, он часто горевал по
поводу этого. «Не на ту лошадку мы поставили,— говорил он с грустью.—
Были бы дома теперь, ездили бы на Острова кататься». Он обожал
Острова, Каменноостровский проспект...
— Он жив? — спросила Лера<
— Нет. — Старушка приложила платок к глазам.— Когда началась
война Германии с Россией, немцы заключили его в лагерь. Он умер там.
Я не знаю даже, где его могила. Возможно, что зарыт он вместе с
вашими советскими солдатами и офицерами.
— За что же с ним так? — Леру заинтересовала эта не совсем
обычная эмигрантская история.
— Во-первых, он отказался пойти служить к немцам. У них ведь
была армия из русских. А во-вторых, еще до начала войны с Россией наш
старший сын, Коленька, сбежал во Францию и вместе с французами
воевал там против немцев. Вот за это за все — за свое нежелание, за
сына... Нелояльный элемент! И я, знаете ли, сидела в лагере. В Австрии.
Землю копала. Нас там было много, русских. Одна дама, помню,
говорит: «Лучше бы я большевикам копала землю, каналы бы какие-нибудь
строила им, чем проклятым бошам. Все-таки большевики-то — русские».
Так что вы меня извините, пожалуйста, за глупые слова об оспе и
прочем. Я не думала, что вы из Советского Союза, нет. Что бы там ни было и
как бы ни было, я люблю Россию. И муж мой любил ее до последнего
своего часа, и детей учил этой любви, и внуки эту любовь восприняли.
Мальчик второго сына, ему сейчас восемнадцать, он, знаете, какой
номер отколол? — Старуха оживилась. — Из Советского Союза к нам
приезжал очень модный литератор. О нем в немецких газетах писали, шумели^
кричали. То ли он пел, то ли стихи читал или на вопросы отвечал... Не
скажу точно... Стара стала, память уже не та. Одно помню: он призывал
к миру, к дружбе, к братству. Мы сидели и думали: смешной какой!
Кому он это говорит? Перед ним в зале наполовину бывшие
гитлеровцы, эсэсовцы, гестаповцы. С ними он хочет дружбы, что ли? Мы-то
знаем, какая с ними дружба! Овчарки, колючая проволока, палки и
плетки. И вот мой внук, Юрик, подходит потом к этому вашему человеку,
гоже молодому, и говорит: «Мне вас было стыдно слушать. Я русский,
я за Россию в огонь пойду, я за нее землю есть буду. А вы там живете,
вы счастливец, и вместо того, чтобы гордо держать голову перед этими
баварскими колбасниками, юлите перед ними». Тот, наверно, ничего не
понял, потому что Юрик горячился. А может быть, и понял, да сделал
вид, что не понимает. Уехал восвояси. Потом, как писали в газетах, он
уже и какому-то американскому генералу предлагал свою дружбу, хотя
не мог не знать об атомных ракетах, которые тот генерал нацеливает
на Москву.
Лера слушала и думала: почему, почему некто Бенито Спада,
называющий себя марксистом, дня не может прожить, чтобы не выплеснуть
ушат грязи на Советский Союз, на его людей, а потомок белогвардейцеЕ
готов горло перегрызть тому, кто не защищает, а, следовательно, предает
родную страну? И как это сложно переплелось.
Старуха сошла в Вене, ей там надо было пересаживаться. Она
долго гладила руки Леры, желала ей счастья.
• Чего же ты хочешь?
91
— Поклон Москве и Петербургу. России нашей. Милой, милой
России.
Назавтра долго ехали Польшей. Наконец, польско-советская граница,
советские пограничники в зеленых фуражках возле вагонов. Советский
город Брест. Позади осталось все сумрачное, тяжелое, каменное —
туринское. Неважно, как там будет впереди. Все равно оно будет
несравнимо лучшим, чем то, что осталось за границами. И поезд шел теперь,
казалось, веселее, и небо было чище, и солнце ласковее. Оно было свое,
родное, советское!
Июльским утром поезд медленно подходил к перрону Белорусского
вокзала. Первое лицо, какое Лера увидела за окном, было лицо матери.
За нею шагал отец. А третьим был он, Булатов Василий Петрович,
который так огромно много сделал для Леры. Обняв родителей, передав
матери Толика, Лера сказала
— Мама и папа, познакомьтесь, пожалуйста, это Василий Петрович,
без которого я бы, наверное, никогда больше не увидела вас.
— Преувеличиваете, до чего же вы преувеличиваете! — Булатов
поклонился родителям Леры.
— Что ж, поедем к нам, завтракать будем, — засуетилась мать
Леры.
— Прошу прощения, спасибо, но не могу, — отказался Булатов. —
Дела, дела. Встретить вот только приехал, так сказать,
удостовериться в том, что все в порядке. А дальше... Если понадоблюсь...
Валерия...
— Алексеевна,— подсказала Лера.
— Если понадоблюсь, телефон знаете. Желаю всего-всего
наилучшего.
Дома, за столом, за чаем, мать Леры сказала ей:
— А он симпатичный, этот Булатов. Только уже немолодой. Под
пятьдесят, наверно.
— Ох, мама! — Лера засмеялась. — Совсем ты не дипломат,
нисколько не умеешь хитрить. Я же отлично понимаю, к чему и куда ты клонишь.
Нет, мамочка, ничего подобного. Просто хороший человек. Вот тот
случай, когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Лера бегала по комнатам родного дома. Ничто в нем не
изменилось, все было по-прежнему. Даже ее постель родители не тронули.
Почему?
— Отец не верил, что ты там насовсем.
— А ты разве в это верила? — сказал отец.
— Значит, только одна я, дурочка, ни над чем не задумывалась.—
Лера вздохнула. — А вы, оказывается, наперед все знали, что и как
будет.
— Знали, доченька, знали. — Отец погладил ее по спине. — Ничего,
не отчаивайся, начнем все сначала.
Вечером нагрянула толпа подруг и приятелей. Пошли расспросы,
рассказы. Лера увидела, что только в родительском доме все осталось на
местах, а вообще-то в жизни за время ее пребывания на чужбине
произошло множество изменений. У одной из подруг родилась двойня,
другая разошлась с мужем. Кто-то на несколько лет уехал в Африку что-
то строить. Один из приятелей блестяще выполнил какую-то работу
и в двадцать девять лет стал доктором наук. Тот, кто с нею вместе
оканчивал университет, перековался из историков в археологи, ведет
раскопки близ Баку, там у него сенсационные открытия. Жизнь кипела,
бурлила, захватывала людей. Лишь ее, Лерина, жизнь несколько долгих
лет напоминала стоячее болото, в котором с ходом дней не изменялось
ничто. Даже у родителей от прежнего осталась, пожалуй, только
обстановка в доме. А отец уже был руководителем крупной московской клини-
92
Всеволод Кочетов •
ки, мать к своему пятидесятилетию получила орден и заседает в ученом
совете.
— Чтобы я когда-нибудь да снова уехала от вас — не будет
этого! — Лера была по-настоящему счастлива. Она ездила, ходила по
Москве. Она как бы летала на крыльях. Затруднения происходили с Толи-
ком. Всюду его не потаскаешь. Синьоры Марии Антониони во дворе не
было. Отец обещал устроить мальчонку в детский сад, когда Лера найдет
себе работу. Пока же его можно было оставлять у старшей сестры
отца, пенсионерки. Но и то не всегда: тетка была слаба здоровьем.
Москва казалась Лере прекрасной. Просторной, светлой, живой. Нет,
это не Турин, тяжелая и помпезная столица Савойского дома. В
магазинах всюду было полно народа, не протолкаешься. Ничего особенного,
думалось. Зато свои. А будет магазинов побольше, прибавится товаров —
и это рассосется. Продавщицы в большинстве были злобные, как
болонки у старых барынь,— эка беда! С возрастом у них это, может быть,
и пройдет. На улицах толкнут и не извинятся: ничего не поделаешь —
разный народ в Москве, из глухомани сколько наезжает летом. Это
они, наезжие, толкаются, а не москвичи. Зимой потише будет. Всему она
находила оправдание, от всего было у нее утешение. Зато все говорят
по-русски, зато ты здесь не чужой, не посторонний, а свой, и все, что
тут есть, твое. И оно замечательное. Строят, красят, улучшают,
пробивают новые улицы, новые дороги.
Однажды она зашла в будку телефона-автомата и позвонила
Булатову.
— Василий Петрович, это я, Лера. Хожу по Москве, всему радуюсь
и от всей, от всей души вас благодарю. Спасибо вам! Это просто так,
Василий Петрович, от полноты чувств.
— Исключительно трогательно! — услышала она вдруг женский
голос.— И исключительно оригинально таким способом...
Послышались гудки, трубка была повешена. Лера недоумевала.
Откуда ей было знать, что Нина Александровна, бдительная супруга
Булатова, слушала ее восторженные излияния по параллельному аппарату, а
когда Нине Александровне вздумалось тоже заговорить, Булатов поспешил
положить трубку, чтобы оградить Леру от неприятности.
Она не знала, повторять ли звонок, прерванный кем-то, или не надо:
Решила, что не надо, уж очень там было что-то странное. Булатов сам
позвонил ей вечером домой.
— Извините,— сказал он,— у нас это случается с аппаратом, где-то
на станции что-то замкнется, и то нас слушают посторонние, то мы
посторонних. Ну не в этом дело. Нет ли у вас желания пойти со мной
в театр? Прислали билеты. Две штуки.
— Если это удобно... Почему же... Буду очень рада. Но...
— «Но» всегда находятся. Не надо перед ними пасовать. Иначе
они прикончат все на земле. Жизни не будет.
Так они оказались в четвертом ряду одного из московских театров,
труппа которого не уехала на летние гастроли. Шла пьеса, в которой
рассказывалось о том, как в годы войны встретились и полюбили друг
друга советский офицер и польская актриса. Они любили друг друга, очень
любили. Но жениться им не позволял жестокий советский закон,
воспрещавший брак советских людей с подданными других стран.
В ряду перед ними, наискось от них, сидела пара — красивая
молодая женщина и тоже заметный молодой человек. Молодой человек
оборачивался, смотрел по временам на Булатова. В антракте он подошел к
Булатову, поздоровался, кивнул и ей, Лере.
— Самарин?! — воскликнул Булатов.— Это, Лерочка, представитель
нашей индустрии. Бывший слесарь-инструментальщик, ныне инженер
энского завода. Энского, Самарин?
— Так точно, Василий Петрович, энского.— Представляясь Лере, он
• Чего же ты хочешь?
93
назвал свое имя: — Феликс. А это Ия! — Феликс подвел к Булатову и
свою эффектную спутницу.
Та стояла, осматривая зелеными, чуть раскосыми по-восточному
глазами Леру и Булатова, горделивая, немного ироничная, одетая очень
просто, но держась так, будто на плечах у нее драгоценные редкие меха.
— Тоже рабочий класс? — спросил Булатов, пожимая ее руку.— По
руке это, скажу откровенно, не чувствуется.
— Ия аристократка, — ответил Феликс, улыбаясь. — Ученая.
Индолог, синолог, орнитолог...
Ия тоже улыбнулась.
— Только не орнитолог.
— Ну, ориенталист, какая разница! — поправился Феликс.
— Некоторая все же есть.— Смеялся и Булатов.— Как вам, молодые
товарищи, спектакль?
— Судить еще рано. Надо досмотреть.
— Хорошо. Когда досмотрим, прошу не убегать за галошами.
Обсудим вместе.
Дело на сцене закончилось тем, что закон так и не дал любящим
сердцам соединиться. А когда минуло лет пятнадцать и они
встретились вновь, то закона того не было, но не было уже и любви. Закон ее
убил.
— Как жаль, что этот закон отменили, — сказала Лера.
Ия и Феликс взглянули на нее с любопытством. Только Булатов знал,
в чем тут дело.
— Неверная эта пьеса. Частный случай. А частный случай,
частная проблема и решаться должны в каждом случае индивидуально.
Закон же, о котором речь, обобщал опыт жизни.
— Какой, простите, опыт? — спросила Ия, видя, что Лера умолкла.
— Может быть, зайдем в кафе да посидим там, поговорим? —
предложил Булатов.
В кафе, и в одном, и во втором, и в третьем, было переполнено,
даже в дверях стояли, дожидаясь, когда освободится столик.
— Мой дом рядом,— предложил Феликс.— Зайдемте к нам.
— Если это не слишком поздно...— сказал Булатов.
— Нет, нет, у меня свой ключ, своя комната. Даже если и поздно,
это ничего. Я взрослый.
Родители еще бодрствовали, смотрели по телевизору спортивные
соревнования. Сергей Антропович тотчас выключил передачу. Раиса
Алексеевна поставила чай. Они были рады тому, что к ним зашел такой
известный писатель. Все пили чай, разговаривали обо всем понемножку.
Но Ия вернулась к своему вопросу.
— Все-таки, Лера, — повторила она, — какой опыт обобщал закон?
Давайте рассказывайте.
— Закон обобщил вот какой опыт,— заговорила Лера.— Молодые
люди, граждане двух разных стран, вступая в брак, действуют под
влиянием минуты. Они ничего не учитывают, и прежде всего не учитывают то,
что кому-то из них придется покинуть свою родную страну и
переселиться в чужую, неведомую. Там все иное —- язык, уклад жизни, круг
людей. Каждодневные удары непривычного приведут к
несовместимости субъекта и объективной действительности, и под этими ударами
падет...
— Любовь падет? — Ия слушала Леру с интересом.
— Видите ли, если великая любовь — это одно, — ответила ей Лера.—
Но в молодые годы за любовь часто принимают суматоху чувств,
временную увлеченность. Закон как раз и стоял на страже — он не позволял
поддаваться суматохе, он в нее не верил. Человек верил, а закон не
верил. И правильно делал. Оттого, что людям вовремя не помешали,
трагедий несравнимо больше, чем оттого, что помешали. Если бы продол-
94
Всеволод Кочетов #
жал действовать закон, против которого эта пьеса, со мной бы не
случилось то, что случилось.
Все деликатно молчали. Лера с улыбкой сказала:
— Я понимаю вас — расспрашивать о моем личном вы считаете
неудобным. Но Василий Петрович в основном все уже знает. Я вышла
замуж за итальянца, уехала с ним, а вот теперь готова молиться во всех
московских церквах — и действующих и недействующих — по поводу
избавления от цепей этой заграничной жизни, жизни среди чужих, средк
бездушных, жадных, расчетливых.
— Но, может быть, вам просто попались плохие люди? Вы не за
того вышли замуж? — Ия с любопытством рассматривала Леру.
— Может быть. — Лера развела руками.
— И там все это проявилось резче, отчетливей,— сказал Булатов.—
Выросло в острый конфликт.
— Нет, это все очень спорно. — Ия качала головой. — Это ваш личные
опыт, а не обобщенный. Я никуда не уезжала, ни в какую Италию, а тоже
выходила замуж, и тоже неудачно. Ну и что? Мораль, значит, такова, чтс
счастье не вдвоем, а в одиночестве? И вообще, это чушь — разговоры с
счастье, чушь! Вот уж если о чем и говорить, что оно сугубо индивиду
ально, так это счастье. Один видит счастье в том, чтобы выиграть по лоте
рее автомобиль «Москвич», другой в том, чтобы тсайти кошелек с деньгами
третий — чтобы жениться, четвертый — чтобы развестись. Уж очень этс
противоположно. Вы человеку будете внушать, что счастье заключаете*
в том, чтобы иметь двухкомнатную квартиру с совмещенным санузлом, г
он будет завидовать имеющему трехкомнатную с несовмещенным. И будс;
несчастлив. А тот, в трехкомнатной, увидит у кого-нибудь пятикомнатнук
и тоже станет обмирать от зависти. И даже, если вы над ними
повесите плакат с надписью «Счастье», снабженный тремя восклицательным*
знаками, они все будут чувствовать себя несчастными, и об обществе
в котором они живут, можно будет говорить, что оно никуда не годно, та*
как не сделало всех людей счастливыми. Ерунда! Критерии должнь
быть научными, материальными, зримыми.
— Ия, вы философ! — воскликнул Булатов.
— Нет, я в данном случае политэконом. На плакатах надо пи
сать не «Счастье», а совсем другое. Во-первых: каждый получает та
кую-то зарплату. Во-вторых: каждый получает столько-то квадратных мет
ров жилой площади. В-третьих: каждому гарантированный отпуск столь
ко-то дней. Каждый... и так далее. А уж он, получая все это, пусть сал
судит, есть у него счастье или нет.
Долго спорили и встали из-за стола поздно. Феликс нишел провожат!
своих неожиданных гостей. На улице получилось так, что Булатов b3hj
под руку Ию, и они продолжали спор об объективных законах жизни. /
Феликс пошел с Лерой, расспрашивая ее об Италии. Она охотно расска
зывала. На одном из углов пары потеряли друг друга из виду и не за
метили этого.
— Мечтаю путешествовать,— сказал Феликс Лере.— Завидую вам
столько всего увидели.
— Не завидуйте,— ответила Лера.— Я так счастлива, что это кон
чилось, что я снова дома, в Москве. Знаете, иной раз пишут: готов бьи
целовать землю. Когда мы пересекли свою границу, когда я увидела на
ших пограничников, наши поля, луга, то вот как раз так — готова была вы
скочить из вагона, убежать в березы, в елки, упасть среди них на земли
и целовать ее.
Они попрощались возле дома, в котором жила Лера.
— Вот он, мой родной дом, — показывала она рукой. — Вот моя парад
ная. Вон те окна, на третьем этаже, те, те... Это мои, наши окна. У мен;
своя комната, родители ничего в ней не трогали, не переставляли, сохрани
• Чего же ты хочешь?
95
ли, как было. Как ушла, так пришла. Одно изменилось. У меня теперь
ребенок. Мальчик. Толька. Опыт жизни! Если будет желание, звоните,
заходите. Всегда буду вам рада.
28
Савва Богородицкий расхаживал по мастерской Свешникова.
— Антонин,— заговорил он, останавливаясь грудь к груди перед
художником,— ты получил письмо группы русских людей, подписанное
видными деятелями русской культуры за рубежом?
— Белоэмигрантами?
— Ну уж так и «бело»! Эмигранты — да. Но почему «бело»?
— По белой линии бежали они, или сами, или их родители, из
России-то, Савва Миронович,— сказала Липочка,— письмо это получила я. Я
его распечатала, я и прочла. Антонин даже в руках такую пакость не
держал.
— То есть как же пакость?! — Богородицкий всем корпусом
повернулся к Липочке. — Это честное обращение к интеллигенции России.
— Ас чем те заграничные честняги обращаются к нашей
интеллигенции? — Липочка выжидающе прищурила свои синие глаза.
— Скорбят люди, скорбят, Олимпиада, по поводу того, что много
у нас отклонений от ленинской линии.
— От ленинской? — Липочка засмеялась. — Там, в их листовке, об
этом и помину нет. Скорбят — верно. Но скорбят- оттого, что Советской
власти вот уже пятьдесят лет, а они в Россию так и не вернулись. Поместья
их папочек все не возвращены владельцам, буржуазный строй не
восстановлен. Жаль, я ту бумаженцию в мусоропровод отправила, я бы
процитировала вам избранные местечки из этого «труда».
— Коллективного труда! — воскликнул Богородицкий. — Это
объединенный голос.
— Коллективный! Объединенный! У них приписка там была. По
смыслу такая...
— Не надо воспоминаний. — Богородицкий извлек из кармана лист
бумаги, сложенный вчетверо, развернул. — Приписано так: «Эмиграция
давно не имеет возможности созывать съезды или совещания, на которых
могли бы вырабатываться подобные обращения, и оно было составлено
одним лицом. Затем, по переписке, к нему присоединились другие
подписавшие его лица, одобрившие основные положения обращения». Это вы
хотели процитировать?
— Хотя бы. Это же стряпня, Савва Миронович, а не объединенный
голос. И вообще они в своем «обращении» ноют о том, что у нас надо
что-то менять, менять, менять... А нам с Антонином ничего менять не надо,
нас вполне устраивает то, что есть. Чего к нам со всех сторон лезут?!
Чего от нас хотят?
— Да, да, — подтвердил все время молчавший Свешников — Пошли-
ка они, эти американские русские или русские американцы...
— Не понимаю тебя, Свешников. — Богородицкий тяжело плюхнулся
в кресло. — Ты русский человек?
— Я, Савва Миронович, советский человек.
— До чего увертлив. Тьфу! — Богородицкий сделал вид, будто он
плюнул на пол. — Допустим, хорошо, советский. Хотя такой нации нет
на свете. Но советский-то ты не по рождению, не по крови, а по
обстоятельствам — родился в Советской стране, вот и советский. По паспорту
с гербом «серпастым и молоткастым». И только. Нет, дорогой мой,
национальная принадлежность выше государственных устройств. Была царская
власть, а русские оставались русскими. Было Временное, как в учебниках
пишут, буржуазное правительство. А русские оставались русскими.
Пришла Советская власть. Но русские-то от этого какими-нибудь эсперант-
96
Всеволод Кочетов •
скими не стали. Не крути, Антонин, не крути. Поглядите, какой большевик!
А что же ты, советский-рассоветский, вокруг иностранцев волчком
вращаешься? Почему ты заграничными бумажками за портретики берешь?
Это что: доярка, ударница коммунистического труда? — Не вставая с
кресла, носком ботинка Богородицкий указал на прислоненный к стене
большой портрет сухой, румянощекой старухи в мехах. — Теща какого-нибудь
секретаря или советника посольства энской державы, поди?
— А что, я голодный сидеть должен, да? — засуетился по мастерской
Свешников.— Верно, теща. Верно, энская. Верно, хорошо заплатят за эту
рожу. Не я виноват. Меня даже в Союз художников не принимают.
— Не прикидывайся ягненочком! Ты и не подавал в Союз-то. Все
это знают, что ждешь, когда тебя под ручки, с почетом введут в братство
советских художников. Горд, высокомерен в душе. А юродствуешь,
дурачка из. себя строишь.
— Савва Миронович! — сказала Липочка.— Мне бы не хотелось,
чтобы вы с Антонином Иоакимовичем разговаривали в таком тоне.
— Простите великодушно, простите. Но уж очень я не люблю, когда
люди петляют, будто зайцы. Или уж одно, или уж другое.
— А я не желаю,— выкрикнул Свешников,— чтобы от меня еще
какое-то другое требовали! Не желаю!
Богородицкий вытащил из кармана платок, утер им лицо, хотя в
мастерской было прохладно, северный ветерок свободно проникал сквозь
распахнутые окна.
— Погорячились и будя,— сказал он примиряюще.— Давай
поговорим спокойно. Не все же у этих эмигрантов в их письме несусветица.
Вот, к примеру, о свободе творчества. Сам же чувствуешь на себе...
— Ничего я не чувствую! — Свешников стукнул по столу тяжелой
бронзовой пепельницей. — Что хочу, то и делаю. Никто меня ничем не
ограничивает, и защитников мне никаких не надо!
— Темный ты человек, Антонин, темный. — Богородицкий
сокрушенно качал головой.— Ладно, допустим, что письмо ихнее — бред, допустим,
что его и вовсе нету. Свое мы должны написать, обратиться с ним...
— Куда же это, интересно?
— К руководству, в верха. Напишем про тех, кто тебя зажимает...
— Никто меня не зажимает! — Свешников еще сильнее стукнул
пепельницей по столу.
— О тех, кто у нас, в творческой среде, создает нездоровую
обстановку,— продолжал, как бы не услыхав этого, Богородицкий.— Выведем
их на чистую воду. Открыть надо фортки, проветрить наш дом.
— Савва Миронович! — сказала Липочка.— Извините, но вы с этими
предложениями обращаетесь явно не по адресу. Вас кто-то ввел в
заблуждение.
— Почтеннейшая! — Богородицкий вытащил зеленую книжку. —
Никто меня в заблуждение не вводил. И адрес у меня верный. Свешникова,
вашего отца,— глаза Богородицкого смотрели в странички его
книжечки,— звали Иоакимом Филипповичем?
— Ну и что?
— Мамашу вашу, его супругу, звали Елизаветой Степановной?
— Это все есть в моей метрике, в свидетельстве о рождении.
— Верно, верно, там есть. Но не все.— Богородицкий усмехнулся.—
А где они, ваши папаша и мамаша, ныне? Ну-ка ответствуйте!
Свешников молчал. Молчала и Липочка, с трудом сдерживая
волнение.
— А не расстреляны ли они, Антонин Иоакимович? — с
улыбочкой продолжал допрос Богородицкий.
Свешников молчал. Липочка ответила:
— Их повесили, Савва Миронович. Зачем вы об этом? И какое это
имеет отношение?
• Чего же ты хочешь?
97
— Вешать, положим, тогда не вещали, это уж вы прибавляете. А что
вышку дали, это факт. Так что почтеннейший враг народа и
почтеннейшая его супружница были того...— Богородицкий сделал жест рукой,
будто нажимает на невидимый спусковой крючок пистолета.
— О чем вы? — Свешников, недоумевая, поднял на него глаза.
— Да, о чем? — вся напряглась и Липочка.
— О том, что правы люди, о которых вы так. недоброжелательно
отозвались. — Богородицкий похлопал себя по, карману, где сложенное
вчетверо лежало подметное обращение белоэмигрантов. — Нас тут трое,
в этой зале, и все трое мы на себе испытали несправедливость...
— Вы что-то путаете,.— сказала Липочка. — Мы не улавливаем вашу
мысль, Савва Миронович. Какие враги народа? Какие дети врагов
народа? Антонин, скажи же ты наконец человеку! Пусть знает.
— Савва Миронович,— тихо заговорил Свешников — Зачеркните
то, что у вас там, в вашей книжечке, о моих родителях. Они погибли —
это верно, и Липа правду сказала: их повесили, а не расстреляли. Но не
те, не те вешали, кто вы думаете, нет. Не трое тут пострадавших от, как
вы называете, несправедливости. А видимо., только вы один. Мы
пострадали от фашистов. Родителей у меня отняли фашисты.
— Позвольте! При чем тут фашисты?
— А при том, Савва Миронович, что родители мои были
разведчиками, чекистами. Немцы их .зверски замучили. И не сами немцы
докопались до того, кто же они на самом деле. Советских разведчиков выдал
один из бывших кулаков, которого Советская власть пожалела и в свое
время не отправила на Соловки.
— Не может быть!..— Богородицкий, отдуваясь, утирал лицо
платком.— Водички у вас не найдется?
Липочка подала ему стакан с водой. Он медленно пил, глоток за
глотком, обдумывая положение, в каком оказался.
— Да-а, — сказал он врастяжку. — Неужто так? А уж чего только не
наплетут люди! Ну .и что же вы теперь обо мне думаете?
— Ничего особенного, Савва Миронович. Как сказано выше: не по
адресу обратились, и только-то.
Богородицкий ушел, растерянный. Затворив за ним дверь,
Свешниковы подошли к окну, смотрели, как он переходил двор к воротам. Он
шел так, будто вот ступит еще. шаг и вернется. Без зимней хорьковой
шубы, без шапки из бобра он выглядел весьма непредставительно. По
летнему времени в пестрой распашонке навыпуск, в узких, брючках,
отчетливо отразивших кривизну ног, он не был ни внушительным, ни
представительным, каким казался зимой,— летний,, он был линялым, выцветшим и
еще более неприятным.
Свешниковы долго молчали, переглядывались.
— Да,— как бы в тон Богородицкому сказала Липочка.
— Да,— сказал Антонин.
— Нехорошо.
— Что именно нехорошо, Липочка?
— А то, что к тебе ходят с такими предложениями.
— Так это отчего? Оттого, что он меня за жертву принял, за
пострадавшего от несправедливости. А он-то ведь кулачина. Он же сам
рассказывал зимой о том, как их семья избегла раскулачивания благодаря
некой счастливой справке.
В дверь позвонили. Не вернулся ли Богородицкий? Нет, это была Ия.
— Я пришла сказать, дорогие товарищи,— заговорила она с
порога,— что освобождаю вас от своей особы. Спасибо за пристанище. Уже
сегодня буду ночевать дома. Там такой шик-модерн! Просто мечта ваших
заказчиков, Антонин. А что это вы оба не то расстроенные, не то
ненастроенные?
— Нет. ничего, тебе кажется,— ответила Липочка.
7. «ОКТЯбрЬ» JM9 1U.
98
Всеволод Кочетов •
— Не хотите говорить, не надо, я никогда никого ни к чему не
принуждаю. Вот бутылка вина, вот яблоки, вот конфеты. Мне помнится, у
вас был штопор. — Она вытащила пробку из бутылки, достала
стаканчики из серванта, наполнила их вином.— Давайте же чокнемся! За
избавление от меня. Говорила: на три дня, а проторчала у вас все десять. Зато,
если вам понадобится пристанище, мой дом к вашим услугам. Спасибо,
Антонин! Спасибо, Липочка! Особенно, конечно, я ценю твое бесстрашие.
Потому что давным-давно замечено, что подруг в семейный дом пускать
нельзя. Змеи они, эти подружки.
Как Ия ни старалась, расшевелить Свешниковых было невозможно.
— Ну вас, — сказала она наконец. — Я пойду. А вы тут
доругивайтесь. Очевидно, выясняли отношения?
— Обожди, — сказала Липочка.— Посиди минутку. Антонин, давай
скажем ей. Ийке можно.
— Как хочешь, — сказал Свешников. — Секретов во всем этом не
вижу, в общем-то.
— Иинька,— заговорила Липочка,— можешь себе представить:
приходит один тип и предлагает Антонину сочинить какое-то коллективное
письмо...
— Куда, кому? О чем?
— В верха. О том, что надо демократичней, свободней...
— Не вздумайте, Антонин, связываться,— сказала Ия.— Это только
разговор, что в верха. А его, это письмо, немедленно в зарубежное радио,
в газеты, в журналы!.. Обычная антисоветчина. А что это за тип?
— Просто удивительно! Ты его, между прочим, знаешь. Богоро-
дицкий.
— А, великий русофил! У Зародовых тогда был, у моей мамочки и
приемного папочки. Не связывайтесь.
— Да ведь сам пришел. Мы его не звали. — Липочка пожала
плечами.
— Звать не звали. А повод все-таки дали, и ему и всяким подобным.
— Какой же? — спросил Свешников.
— Не сердитесь на меня, Антонин,— ответила Ия,— но я вам скажу
правду. Вы мне, несмотря на все ваши чудачества, очень симпатичны,
и поэтому я скажу правду. Я, например, если бы была в чем-то
недовольна Советской властью, обратилась бы именно к вам, ища
единомышленников.
;— Ну, уж это слишком!
— Нет, не слишком. Зачем вы так демонстративно путаетесь с
зарубежной камарильей? Я тут, оставаясь поздними вечерами, отвечала на
десятки звонков всяких говорящих с акцентом. «Господин Свешников» да
«мадам Свешникова».
— Но ведь, KpoiMe работы и платы за нее, меня с ними ничто не
связывает! — загорячился Свешников. — Ничто!
— Верю. Но почему же тогда это же самое, работа и плата за нее,
не связывает вас с вашими соотечественниками? Обиделись на них за
что? Надулись? Вот по логике вещей к вам и обращаются за
единомыслием другие.
— И представь, Ийка, представь! — Липочка даже вскочила с
дивана. — Вы же ведь, говорит, сын врагов народа! Расстрелянных! Услышал
звон и вписал в свою книжечку.
— Я не хочу быть советчицей, прорицательницей, потому что нет на
свете более безответственного дела, чем дача советов. Но все же скажу:
Антонину надо поотчетливей заявить себя. Вы, Антонин, талантливый
человек, вы не должны ходить кривыми дорогами, нельзя, чтобы на вас
делали ставку темные типы. У них свое, у вас свое. Не позволяйте
связывать ваше имя с их именами.
— И представь, Иичка, он еще ссылался на антисоветское «обраще-
• Чего же ты хочешь?
99
ние» эмигрантов «К интеллигенции России», которое минувшей зимой из
Мюнхена рассылали по нашим советским адресам.
— И Антонину, конечно, прислали?
— Прислали. Я его в мусоропровод сунула.
— А кто подписал то сочинение?
— Человек двадцать. Некоторых запомнила.
— Ну-ка!
— Какой-то Вейнбаум... /
— Редактор газетенки на русском языке! — подхватила Ия. —
Роман Гуль, поди? Редактор «Нового журнала».
— Верно, верно!
— Всякие там Александры Шики, Борисы Зайцевы, Глебы Струве...
Все ясно, друзья мои. Одно не ясно, почему Мюнхен. Эти братья в
основном проживают на американской земле. Почему же Мюнхен? Надо будет
спросить Булатова. Он эти штучки знает.
— Кого, кого? — переспросила Липочка.— Какого Булатова?
— Василия. Василия Петровича Булатова. Писателя.
— Ты с ним знакома?
— Немного да.
— Но говорят, что это жуткий человек!
Ия засмеялась.
— Желчный, злобный,— продолжала Липочка.— Догматик до мозга
костей. Сталинист!
С каждым новым эпитетом, выдаваемым Булатову, Ия смеялась все
веселее.
— Но ты же убедилась, что это такое — «говорят», Липа. Говорят
даже, что родители Антонина репрессированы как враги народа.
— Это объяснимо. В этом сам Антонин виноват. Он так думал когда-
то и так о них высказывался. Ты же эту историю знаешь.
— Ну, а Булатов ничего о себе не выдумывал. Все о нем выдумали
другие. Вот такие, как этот! — Ия постучала пальцем о стол, полагая, что
Богородицкий сидел именно га. ним.— Нет, с Булатовым вас надо, надо
познакомить.
— Избави бог, избави бог! — Липочка даже руками замахала,
открещиваясь от подобной возможности. — Этого еще нам не хватало!
— Да, этого вам не хватало и не хватает. Как не хватало и мне.
— Ия, ты очень странно говоришь о Булатове, очень странно. Так,
будто ты в него влюблена.
— Ну, а если?.. Так что? Запрещается?
— А Феликс? Я тебя зря с ним знакомила?
— Феликс — чудесный человек. Очень приятный, хороший. Но я с
ним не смогу.
— Может быть, мне выйти? — сказал Свешников. — У вас
начинается профессиональный бабий разговор. Не хотелось бы стать
совладетелем ваших тайн.
— А это не тайны,— ответила Ия.— Просто надс иметь
элементарную порядочность. Феликс во многом еще мальчишка, хотя уже успел и
жениться и разойтись. А я... Я сильно попорчена моей трудной жизнью.
Не Булатов, а вот я действительно злая, желчная, нетерпимая.
— Все ты сочиняешь! — сказала Липочка.
— Нет, правда. Я чувствую, что характером сильнее Феликса. И что
же это будет? Ужас будет. Это же очень плохо, когда мужчина подчинен
женщине.
— Как я, например,— сказал Свешников, ухмыляясь.
— Да,— согласилась Ия.— Но у вас это не потому, что Липа уж
очень сильна. А просто потому, что вы, Антонин, еще слабее ее.
— Хорошо,— сказала Липочка.— В твоих рассуждениях есть правда.
Мне, например, часто невмоготу решать вопросы жизни в одиночку. Злюсь
100
Всеволод Кочетов •
на Антонина за то, что он все на меня переваливает. Хотелось бы
побыть за крепкой мужской спинищей.
— Выходи за Богородицкого, — сказал Свешников.— У него спинища
двухметровой ширины.
— Когда в зимней шубе,— ответила Липочка.— А в рубашечке-то он
не столь могуч. И не нужна мне его спина. Обойдусь твоей. Но по
временам все-таки бывает досадно. Видимо, женщине свойственно искать
заслон от житейских невзгод. Когда-то мужчина заслонял ее собой от
динозавров...
— Во времена динозавров человека еще не было, — сказал
Свешников.
— Хорошо, не от динозавров, так от саблезубых тигров и
мамонтов. А теперь...
— А теперь,— подхватила Ия,— мужчина должен защищать и жену
и себя от Богородицких.
— Богородицкий что! —сказала Липочка.— А вот от монтеров, от
водопроводчиков, от кровельщиков, от всех этих ужасных обдирал, у
которых цены менее чем десятка ни на что не существует. Кран не
завинчивается — десятка, пробки перегорели — десятка, крыша потекла, залезть
на нее взглянуть — десятка. А починять — тут целую охапку десяток
гони. Вот от кого надо бы меня защищать. Да, так вернемся к Феликсу.
Он, значит, негож. А Булатов гож? Булатов сильнее тебя?
— Липа, в таком тоне мы говорить о нем не будем. Хорошо? —
мягко сказала Ия.
— Хорошо. Но у него же, наверно, жена, дети.
— Наверно. Но какое это имеет значение! И вообще это все досужая
болтовня. А вот что реальность, так это то, что вас с ним надо будет
непременно познакомить. Если он согласится. Он ведь тоже может
воскликнуть: «Избави бог!» О Свешникове тоже болтают немало. Булатов —
догматик, прямолинеен, а Свешников продался за доллары и всякие иные
пиастры. И сочиняют это, вполне возможно, одни и те же
сочинители. Между прочим, Липа, ты сказала слово «сталинист». Не могла бы ты
мне сообщить, откуда к тебе пришло это слово? Ты слышала его в речах
наших руководителей? Ты прочла его в нашей партийной печати? Где ты
его подцепила?
— Странно, — удивилась Липочка. — Где, где? Откуда я знаю, где
услышала! Очень распространенное слово.
— Так вот, Липочка, ни в одном выступлении, ни в одной статье
ты его услышать и прочесть не могла. Его там не было и быть не могло.
Лишь в обывательской среде употребляли. Потому что это не наше
слово. Его Троцкий придумал, еще до войны, когда боролся против партии,
против Сталина. Повторяя это, ты повторяешь Троцкого, Липочка.
— Что ты говоришь! Откуда это тебе известно?
— Переводила кое-что. Рецензию на шикарную книгу о Троцком,
вышедшую в Лондоне. Там и нашла.
Когда Ия ушла, Липочка сказала:
— Она говорит много правильного. Нам с тобой надо задуматься,
Тоник, над тем, что вокруг нас происходит. Сын чекистов, таких
замечательных людей, настоящих большевиков, а о нем распространяют слухи,
будто бы он чуть ли не антисоветчик. Что-то мы с тобой делаем такое...
Не совсем, наверное, правильное.
— Я не знаю, Липочка. Мне кажется, что ничего неправильного мы
не делаем. Портреты этих старых дур?.. Ну и что? Сам великий Пикассо
на потребу дураков наработал уйму дряни. Раз платят...
— «Раз платят!» Это, Тоник, не доказательство. А мне бы, скажем,
хорошо платили за мое тело, ты и тогда так же бы рассуждал: раз
платят?
• Чего же ты хочешь?
101
— Как можно сравнивать! —возмутился Свешников.
— А почему нельзя? В данном случае ты тоже торгуешь. Кистью
торгуешь, своим искусством, талантом. Тебе разве доставляет
удовольствие малевать эти хари?
— Мне доставляет удовольствие то, что я получаю монету и таким
образом доставляю тебе удовольствие.
— Значит, в этой торговле виновата я? — Липочка принялась ходить
по мастерской.— Какой-то, извини, заколдованный круг получается. Ох,
права Ия, права! Ни у тебя, ни у меня нет настоящего характера.
— А не всем он, Липочка, и нужен,— сказал Свешников.— Не всем
и не для всего. Если бы я был хозяйственником, это — да, это — верно,
без характера я и не достал бы ничего, и не обеспечил бы, и не
справился.
Они смотрели друг на друга и мучились мыслью, так ли они живут,
верно ли поступают и нужен ли или не нужен им тот характер, который
так помогает некоторым в жизни. Ни у него, ни у нее характера
вообще не было. У него был талант, у нее была любовь и преданность ему,
и они оба мало задумывались над тем, а что же еще надобно человеку
в жизни.
29
Такого, что произошло на этот раз с Феликсом, с ним еще не
бывало. Чувства к Нонне, которые и он и Нонна называли любовью,
настолько отличались от его чувств к Лере, что их даже рядом ставить было
невозможно. Хотел ли он когда-нибудь, чтобы Нонна каждый час, каждую
минуту, секунду была возле него? Хотел ли в свою бытность с Нонной,
чтобы неотрывно смотреть в ее глаза, на ее лицо, на то, как она держит
руки, как движется, как сидит, как улыбается, как поднимает ресницы,
чтобы тоже ответно взглянуть на него? Было уютно, что Нонна рядом,
было приятно, что она есть, что в ту минуту, когда тебе хочется ее обнять,
протяни руку — и она под рукой. Но и совершенно необходимыми были
такие часы, когда бы Нонна ничем и никак не давала знать о своем
существовании, и если в такие часы она чем-то себя обнаруживала, это
раздражало Феликса: он уходил из дому, придумывая всевозможные поводы.
Живя с Нонной, Феликс время от времени испытывал непреодолимое
желание побыть не просто наедине с собой, а лишь бы без нее,— можно
и с кем-нибудь, но другим.
С Лерой он бродил по Москве длинными летними вечерами и только
и думал о том, чтобы вечеров этих было как можно больше, чтобы ими
завершался каждый день его жизни. Он хотел бы носить эту маленькую,
легкую женщину на руках, не отпускать бы ее от себя ни на минуту.
А началось все с того, что в тот раз, когда они встретились в театре
и когда получилось так, что Ия ушла с Булатовым, а он, Феликс,
оказался с Лерой, она подробно рассказала ему всю свою невеселую историю,
толкнула ее на это пьеса, по которой игрался только что просмотренный
ими сентиментальный спектакль. Лера шла тогда рядом с Феликсом по
улицам, едва доставая головой до его плеча, совсем еще, казалось,
девочка; если бы не всматриваться в ее лицо, в ее глаза, то и трудно
было бы поверить, что на долю этого хрупкого существа уже успели выпасть
такие тягостные жизненные испытания и что она смогла вынести их на
своих плечах, обтянутых шелковистой тканью короткого девчоночьего
платья.
Феликсу, с его доброй, мягкой душой, думалось, что он жалеет Ле-
ру и что все, чего бы ему хотелось,— это сделать так, чтобы для нее
поскорее позабылись годы жизни в Италии. На самом же деле он ее
полюбил той любовью, которая приходит к человеку, может быть,
один-единственный раз в жизни. Ничто для него, кроме Леры, в эти дни на свете
102
Всеволод Кочетов •
не существовало. Закончив работу, он уже и минуты лишией не
просиживал в бытовке, он мчался к проходной, к автобусам, к
троллейбусам, к станции метро. По двадцать раз на день звонил он Лере по
телефону, он ждал ее на улицах «под часами», у разных памятников, на
таких-то и таких-то скамейках, у подъезда ее дома. Но беда заключалась
в том, что далеко не каждый раз, когда бы ему хотелось, была
свободна Лера.
— Феликс, пойми, пожалуйста,— говорила она ему в ответ на упреки
и сетования,— я так поспешно умчалась в Москву из Турина совсем не для
того, чтобы гулять с утра до ночи. У меня очень много дел. Я должна
оформить развод со Спадой, я должна поместить в детский сад Толика, я
должна, наконец, самой себе найти работу. Не могу же я снова усаживаться
на шею родителям.
— Это все второстепенное, это все устроится. Не в нем дело. —
Феликс нервничал, волновался.
— А что же, по-твоему, главное? — Лера хитрила. Она и сама все
прекрасно понимала, она видела, что Феликс Самарин любит ее, и любит
по-настоящему, но он ей об этом не говорил, все требовал, чтобы
догадалась. И, кроме того, ей очень мешала поспешность, с которой она из
одного состояния перешла в другое. Ей думалось, что после тяжких
последних месяцев в Турине она не может вот так легко и просто броситься
в объятия другого. И еще было немаловажное обстоятельство,
осложнявшее отношение Леры к Феликсу. Она была на три года старше его^ и
это ее тяготило.
Однажды они сидели на обрыве над Москвой-рекой. За их спинами
высились строгих, прекрасных пропорций университетские башни, а
перед глазами, уходя в дымку, лежала Москва. Внизу по реке бежали
теплоходики, на них гремело радио.
— Странный, ох, ты и странный же, Феликс! — Лера сидела на его
куртке, брошенной на траву, и подкидывала на ладони плоский
камешек так, чтобы он попеременно ложился то одной стороной кверху, то
другой.
— Если любить человека — это странность, то да, я странный, очень
странный. Я же люблю тебя, Лера. И если ты этого не поймешь, мне
не жить. Я не смогу без тебя. Слышишь? — В его голосе была даже
злость.
— Пожалуйста, не думай, что ты мне безразличен, Феликс, нет. Но
скажи честно: что может получиться из наших добрых отношений?
— Не понимаю.
— Чего ж не понять. У меня ребенок.
— Ну и что?
— Я старше тебя.
— Если бы я был тебе нужен, ты бы не перечисляла все это.
Она провела рукой по его щеке.
— И страшно как-то.
— Чего страшно? — Он схватил ее руку.
— У меня еще не было счастья. И любви не было. Ничего не было.
Что, если и на этот раз мы и сами обманываемся и друг друга
обманываем? Второй раз такого не перенести.
Она говорила эти рассудительные, так называемые благоразумные
слова, а у самой было одно желание: кинуться к нему на грудь,
чтобы он обнял ее, прижал, заслонил., защитил от всего, что с ней было,
чтобы оно ушло навсегда в преисподнюю, а был бы на свете только он один,
этот добрый, ласковый, хороший человек, который так ее любит и которого
она тоже любит не меньше, а может быть, и больше, но вот в душе у нее
еще сумбур после жизненных разрушений, там натоптано, намусорено
и нет той чистоты, безоглядности, с какой навстречу своим чувствам,
навстречу ей идет Феликс. Вдруг действительно Толик помешает, вдруг дей-
• Чего же ты хочешь?
103
ствительно разница в несколько лет окажется роковой — и тогда снова
все прахом, снова черные дни, черные годы...
— Хорошо,— сказал он.— Может быть, я чего-то не понимаю. Может
быть, я слишком назойлив...
— Нет, нет! — крикнула она.— Не в этом дело. Ты не так...
— Неважно как. Может быть. Если угодно, можешь сделать мне
проверку. Предположим, год. Мы не будем встречаться год. А потом
встретимся и спросим друг друга...
Лера почувствовала, что холодеет от этого высказанного так
спокойно предложения.
— Год мало,— сказала она, собрав силы.— Три, пять...
— Пожалуйста,— согласился он.— Три, пять...
На глазах Леры выступили слезы. Феликс их не увидел. Напрягая
скулы, он смотрел на Москву в летней вечерней голубизне. Поблизости
внезапно заблямкал церковный колокол, а радио на очередном
проходящем внизу теплоходике пело нестареющую песню: «И тот, кто с песней
по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет».
Они поднялись с земли как пстерянные. Солнце было тусклым, воздух
был мутным, все вокруг слышалось глухо, ветер был резким, неприятным.
Они не понимали, как же все это случилось, как пришли они к такой
безысходности. Много было перечитано о любви, и все же ни одна, даже самая
гениальная книга не могла послужить им учебником. Много было читано
о любовных муках, о том, что настоящей любви без них не бывает, и
все-таки, когда эти муки возникли, они не показались неизбежными
спутниками любви, ее продолжением и развитием, нет, от них повеяло
крушением всего светлого, радостного, разгоревшегося, распылавшегося в
молодых сердцах Феликса и Леры за несколько коротких недель после их
первой встречи в театре.
Они шли к автобусу молчаливые, отчужденные. И в автобусе ехали
молча. Феликс проводил Леру до ее дома, там они пожали друг другу
руки и разошлись.
Дома Феликс, сказав родителям, что у него зверски болит голова, лег
не раздеваясь на свою постель. Да, размышлял он, кто же он такой в ее
глазах? Ничего особенного против того счастливого итальянца. Там
автомобиль, там шикарная квартира в Турине, дачные выезды на берег
теплого моря... Он говорил себе так, понимая, что не должен этого делать,
понимая, что неправ, понимая, что дело не в автомобилях и теплых морях.
И все-таки не мог не представлять мысленно во всевозможнейших
ракурсах жизнь Леры с ее итальянцем. Картины и мысли были мучительные.
Не выдержал их натиска, встал, подошел к телефону: к кому бы пойти,
с кем бы поговорить, посоветоваться? В памяти проносилось множество
лиц и имен. Зацепился за одно. Ия Паладьина! Но у Ии не было
телефона.
Сказал Раисе Алексеевне, что, видимо, воротится поздно, и бросился
вниз по лестнице, не дожидаясь лифта.
Ниной комнаты он не узнал. Куда подевались грязные обои, где
теперь та ветхая, жуткая мебель, где все, что здесь было прежде? Две
стены били по глазам оранжевым цветом, две другие умеривали
впечатление— они светились небесно-голубым. Мебель была до того легкой и
сверхсовременной, что садиться на нее было страшно. Свет взамен прежнего
полусвета давали торшеры, расположенные по углам. Из прошлого
Феликс увидел лишь груды бумаг на столе, да все те же две пишущие
машинки, да, конечно, иконы, так не гармонировавшие с нелепой, смешной,
ультрамодной раскраской стен.
— Вы ошарашены, мой друг, озадачены, ошеломлены. Вас мучает
мысль: не свихнулась ли окончательно и без того странноватая ваша
знакомая? Не так ли? — Ия была довольна приходом Феликса, она радостно
улыбалась ему своим большим подвижным ртом. — Не пугайтесь. Это не
104
Всеволод Кочетов *•
я натворила. Это мой братец хозяйничал. Известный вам Геннадий. А
я только, по обыкновению, не противилась.
— А зачем... именно так? — Феликс поразводил руками, указывая
сразу на все, что произошло в комнате.
— У него весьма загадочные планы. Понадобился вертеп для приема
знатных иностранцев.— Ия бросала короткие, но внимательные взгляды
на Феликса. — Вы чем-то расстроены, — сказала она. — Не любовная ли
лодка наскочила на быт?
Феликс смутился. Насколько он уже знал Ию, с ней невозможно было
хитрить. Он, видимо, ошибся, прибежав к ней со своим душевным
смятением. В его состоянии у нее просто так не посидишь. Надо было или
рассказывать, что там такое с ним произошло, или уходить.
— Может быть, вы хотите, чтобы я была вашей посланницей? —
говорила Ия со своей открытой улыбкой. — Чтобы отнести записочку?
— Ну вот, выдумаете! В краску вгоняете человека.
— В детстве я это делала,— продолжала Ия.—Старшие девчонки
постоянно меня эксплуатировали в качестве почтальона. Несешь
прыщавому балбесу чьи-либо излияния в чувствах и сама вся преисполняешься
чувствами величайшей ответственности, своей значительности. Так отнести
письмецо? Ну, ладно, не буду. Может быть, приготовить кофе? Или вот
что теперь у меня завелось. Смотрите! — Она подошла-к ящику на ножках,
откинула крышку.— Тут есть музыка.— Нажала белые кнопки.— Теперь
можно танцевать. Видите, Генка даже пол исправил, покрыл этой
блестящей дрянью. Приглашайте же меня!
Игралось что-то неторопливое, приятное. Феликс, не больно мастер
танцевать, под эту музыку вполне успешно водил продолжавшую
улыбаться Ию.
— А я вам не кажусь страннее? Точнее сказать, более странной, чем
обычно? — спросила она.
— Вы для меня всегда загадка, всегда сфинкс.
— А вы знаете, Феликс, я влюбилась. Пойдемте сядем. Я вам кое-
что расскажу. — Подобрав под себя свои длинные ноги на просевшем под
нею диванчике, она продолжала: — Вам я оказалась ни к чему. Но не
все же такие. Ну, ну, не протестуйте, я шучу, шучу. А всерьез... Всерьез —
да, влюбилась. И знаете, в кого?
— Нет, конечно.
— В Булатова! — Она сказала и ждала реакции на свои слова.
— Что? — изумился Феликс. — В того, в писателя?
— Да. С ума схожу, понимаете. Места не могу найти. Мечусь. Я
рада, что вы пришли. Чудовищная история. Я себе казалась такой
рассудительной, такой разумной, такой обремененной опытом. И вот все кверху
дном. Не сплю, не ем. Смешно даже! Хочу к нему, хочу быть с ним. Но
как? Один разок мне удалось после того вечера в театре увязаться за ним
на художественную выставку. А больше не знаю, что и придумать.
Может быть, отнесете записочку? — Ия как-то неестественно засмеялась. —•
У него нет времени. Вы понимаете: времени нет! На все оно есть. На
Дальний Восток таскаться, на Иссык-Куль, за границу, книги писать,
выступать с речами — на это есть, есть, есть. А на живого человека его
нет, нет.
Феликс видел, что Ия не шутит и все, что она говорит, правда. Он
ее понимал. Она всей душой влюбилась в человека и мучается оттого,
что он-то о ее чувствах не ведает.
— Вот видите, какие мы, женщины, несчастные,— сказала она почти
серьезно. — Вам, мужчинам, проще: пошел и объяснился. А нам как? Жди
и молчи, молчи и жди? А если так ничего и не дождешься?
— И нам не очень просто, Ия. Объясниться объяснишься, а в ответ
ничего хорошего не получишь. Тогда что?
— Но все-таки объяснишься, скажешь! — Ия раздражалась.— А тут
"• Чего же ты хочешь?
105
и сказать невозможно. Я позвонила ему по телефону. Взяла трубку жена.
Второй раз позвонила — опять жена. Чу-до-вищ-но!
— А вы не считаете, Ия, что это не совсем хорошо?
— Что именно?
— Ну там жена... семья... дети, наверно.
— Ерунда! Из евангелия! Не пожелай чужую жену или чужого
мужа?! Когда приходит любовь, все летит в геенну огненную. Она, она, она —
любовь диктует все и всем на земном шаре.
— Зигмунд Фрейд, Ия! Это его объяснение всему, что
происходит с человеком и с обществом. Начинается, мол, с взаимоотношения
полов...
— Я не о полах говорю! — почти крикнула Ия. — Не об этих
взаимоотношениях. Они и у коз с козлами существуют. Я о любви, о любви!
Человека к человеку! Мыслящего существа к мыслящему существу. У меня
были отношения полов. И у вас они были. Ну и что? Что они вам и мне
принесли? Какие богатства оставили в душе? А любовь!..
— Но это тоже невелико богатство — вот так мучиться, — сказал
Феликс, чтобы услышать, что ответит на это Ия. Он чувствовал, что его
состояние близко к ее состоянию, они были товарищами по несчастью или
по счастью — установить еще не удалось.
— А что, по-вашему, лучше составить так называемую счастливую
парочку двух накопителей, которые в полном согласии, как два муравей-
чика, как две трогательные хрестоматийные пчелки, все в домик, в домик,
в домик тащат, руководствуясь тем, что курица, и та к себе гребет? И
чем больше нагребли этак, тем счастливее?
— Это крайность, Ия.
— Настоящее только крайности. Все, что посерединке,— позорное
благоразумие.
— Вы боевой полемист. Но вы неправы. Одно дело — «третьего не
дано», другое дело — за настоящее считать только крайности.
— Ах, мне не до теоретических тонкостей, Феликс! Жизнь моя
погибает, поймите, жизнь.
— Хорошо, я схожу к Булатову, попрошу выкроить часок-другой.
— С ума сошли! Ничего нелепей придумать не смогли?
— И это вам, значит, не годится. Так что же делать?
— Не знаю.— Она пригорюнилась на диванчике, затихла, подперев
щеку рукой, смотрела в одну точку. — Совсем не знаю, — говорила еле
слышно, не отводя глаз от той точки. — Ваша тетка Олимпиада, моя
подруга, знакомя нас, хотела нам добра. Очень жаль, что из этого ничего не
получилось. Было бы все хорошо, спокойно, мирно.
— Вы меня за муравейчика считаете, за хрестоматийную пчелку? —
Феликс обиделся и встал.
Вскочила с диванчика и Ия.
— Простите, дорогой мой, простите меня! — Она схватила его за
плечи. — Не знаю, что говорю. Это прекрасно, что она привела нас друг
к другу. И прекрасно то, что вы настоящий человек, что вы не
согласились на то, на что я-то уже была согласна. Было бы все испорчено, и
я бы, может быть, никогда не испытала того, что испытываю сейчас.
Был двенадцатый час. В такое время в дома, где тебя не считают
старым другом, обычно не ходят, не звонят, не стучатся. Распрощавшись
с Ией, Феликс все же отправился к дому, в котором жила Лера. Дом
ее стоял в глубине двора, когда-то обнесенного заборами. Теперь заборы
снесли, насадили молодых деревьев, разбили цветники, понаставили
скамеек.
Феликс знал только подъезд, в котором после их совместных прогулок
исчезала Лера. Но он не запомнил ни этаж, на котором была квартира
ее родителей, ни окон их квартиры, хотя Лера указывала ему на них в
тот первый вечер. Он сел на скамейку возле клумбы с ноготками и в сумра-
106
Всеволод Кочетов •
ке летней ночи стал рассматривать все пять этажей Лериного дома,
стараясь угадать, которое же из этих темных окон окно ее комнаты.
Лера не спала. Она лежала на постели, устремив взгляд в потолок.
Там, на потолке, перед нею медленно, как длинная кинолента,
развертывалась вся ее жизнь. С девчонок, с первых классов школы, с девчоночьими
радостями и обидами. В подробностях виделось и полное
жизнерадостных забот университетское время. Лишь жизнь со Спадой проскакивала
вкривь и вкось, будто бы в этом месте лента рвалась по вине
нерадивого киномеханика. Дальше же возникал он, Феликс Самарин, которым
заслонилось все горькое, обидное, тяжкое, чем заполнялись эти рваные
куски ее жизни. Только невыносимо было думать, что она рассталась с ним
навсегда. Нет, не может же этого быть, не может, хотя, прощаясь, они
не условились, как делали обычно, ни о месте, ни о времени следующей
встречи. Это ни о чем еще не свидетельствует, —есть же телефон. И
вместе с тем это было тревожным, пугающим. Лера старалась представить
себе все, что могло обидеть Феликса, оттолкнуть его, заставить думать о
ней как-то иначе. Может быть, так случилось потому, что она мямлит,
не отвечает ему ничем определенным? Но как можно ответить
определенно, если она еще не разведена со Спадой, если по документам она еще
чужая жена, если у нее ребенок и притом наполовину принадлежащий
чужому человеку, если... Да ведь неисчислима бездна этих «если». В конце
концов что скажут его родители и что скажут ее родители?
Она думала, думала и постепенно стала понимать, что именно это
все, вместе взятое, опутало ее с головы до ног отвратительной
нерешительностью, и Феликс, конечно же, вправе думать, что она на его чувства
не отвечает такими же чувствами, что она его не любит: если бы
любила, так бы не мямлила; известно, что настоящая, подлинная любовь все
побеждает, все перебарывает.
Теперь все дело в том, чтобы разобраться как следует в своих
чувствах. Любит ли она Феликса? О да, да, да! Она любит его хотя бы
уже за то, что он вернул ее к жизни после мрака заграничного
прозябания.
Значит, все ясно, все ясно. Она и только она одна виновата в том,
что произошло сегодня там, над Москвой-рекой. Но что же делать, как
быть? Можно ли исправить испорченное? И как? Чем? Ничего умного,
верного Лера придумать не могла.
В коридоре зазвонил телефон. Она кинулась к аппарату, схватила
трубку.
— Алло!—сказала тихим голосом, почти шепча, чтобы не проснулись
родители.
— Извините, пожалуйста, но мне совершенно необходимо
переговорить с Лерой,— услышала она голос Феликса.
— Это я, я! — чуть не закричала она.— Я!
— Оденься и выйди во двор,— сказал Феликс решительно.— Я тут
неподалеку, в автомате.
Пять минут спустя Лера уже была во дворе. С улицы навстречу ей
шел Феликс. Они шли друг другу навстречу, не зная, что сейчас
произойдет, как все будет, но чувствуя, что именно сейчас, вот здесь все и
решится: или так, или по-другому, но уже не будет никакой
неопределенности.
Феликс схватил ее за плечи: «Лерка, милая!»,— прижал к себе. Она
уткнулась лицом в его грудь, как бы став еще меньше, чем была на
самом деле. Они так стояли, боясь шелохнуться, и слушали, как гулко у
него и у нее стучали сердца, как туго пульсировала под руками, под
пальцами кровь в артериях.
Вот этого, только этого и не хватало обоим для того, чтобы всему
определиться. Все сомнения, все отговорки, все «если» отпали в эту
минуту сами собой.
• Чего же ты хочешь?
107
30
На столе были расставлены бутылки виски, джина, содовой воды,
экспортные коньяки и водки. Все это в пестрых пакетах магазина, в
котором торгуют на валюту, натащили в комнату Ии Генка с Юджином
Россом.
— Будет дружеская, мужская вечеринка, — сказал Юджин Росс
несколько дней назад.— Собери, Геннадий, самых лучших своих друзей.
Повеселимся. У вас в Советском Союзе все хорошо. Только вот время
проводить по-настоящему вы не умеете, хотя получили для этого два
выходных дня в неделю.
Генка насобирал семерых. Один был сыном заместителя министра
по столовым и ресторанам, другой — пасынком крупного генерала,
родители третьего постоянно делали что-то за границей и в Советском Союзе
почти не жили, отец четвертого заведовал швейным ателье, мать пятого
ведала чем-то в гастрольном эстрадном бюро, родители шестого ничего
особенного собой не представляли, зато дед у него был очень зна?мени-
тым: он стал знаменитым после процесса вредителей из Промпартии,
тогда его осудили, посадили, со временем он умер, дети о нем никогда не
поминали, но внук им очень гордился и даже сочинил стихи, которые так
и назывались: «Стихи о моем деде». О седьмом ничего особенного сказать
было нельзя, его родители работали и жили, как живут и работают
миллионы людей: отец — инженер, мать — домохозяйка. Зато сам он, по
словам его приятелей, делал головокружительную карьеру. Перед окончанием
института он проходил практику в одном из учреждений, осуществляющих
связи с заграницей, приглянулся руководству и, получив диплом, был
распределен именно в это г учреждение и стал не кем-либо, а одним из
помощников председателя. Пожалуй, только он один, этот Виталий
Огурцов, был в собравшейся компании на год-два старше Геннадия,
остальные все младше, они еще учились на разных курсах разных высших
учебных заведений и в знакомстве с Геннадием состояли не по студенческой,
не по молодежной среде, а >по однодневным домам отдыха, где их
родители, в том числе и родители Генки, обычно проводили выходные дни,
а летом и вообще поселялись на месяц, на два, на три.
Все эти парни были не дураки выпить, все имели магнитофоны — от
фундаментальных, пудовых, до карманных, размерами с коробку папирос.
У двоих из них, у Виталия Огурцова и Никиты Полузудова, сочинившего
стихи о своем деде, были собственные автомобили: у Огурцова —
«Волга», у Полузудова—«Москвич». Все у них у всех было, кроме денег в тех
суммах, в каких бы ребятки эти хотели их иметь. Мальцы давным-давно
поняли силу «презренного металла». Сын организатора швейных дел
Шурка Базанов потому только и оказался в институте, что Шуркин отец
не пожалел «бумажек» на подарки и подношения кому следовало. Все
они, когда Генка сказал им о желании одного иностранца встретиться
с советской молодежью, обрадовались подобной возможности. Ии
дома не было, Генка упросил ее погулять часиков до двух, до трех ночи.
Она поморщилась, но все же ушла еще до начала предполагаемой
встречи.
Квартира для таких дел была удобная. Старинный дом с почти
метровыми наружными стенами, с кирпичными же толстыми стенками
между комнатами, изолирующими от всяких звуков, с двойными
межэтажными перекрытиями. Пляши, пой, ходи на головах — никто не прибежит
с угрозами заявить в ЖЭК или в милицию. В самой этой четырехкомнатной
квартире тоже все обстояло благополучно. В двух комнатах жил старый
пенсионер, во время войны потерявший всех родственников и сам
оглохший при бомбежке поезда, в котором они эвакуировались из
Минска. Он ни во что не вмешивался, ни на что не реагировал потому,
видимо, что ничего не слышал. В третьей комнате жила старушка. Ей по-
108
Всеволод Кочетов •
лагалось в таких случаях презентовать трешницу «за беспокойство», и
тогда она тоже ничего не видела и не слышала.
У старушки был холодильник, и Генка еще за одну трешницу
поручил ей наготовить кубиков льда, о необходимости чего предупредил
Юджин Росс.
Теперь груда этого льда стояла в миске среди бутылок.
Гости пришли все сразу, видимо, договорились где-то встретиться.
Генка и американец уже были на месте. Комната Ии, преобразованная
по Генкиным проектам, была ярко освещена всеми торшерами и
плафонами, стол привлекал пестротой и нездешностью наклеек на бутылках,
да и сами бутылки, их формы были не здешние, привлекающие.
Юджин Росс гоготал, встряхивая руки пришедших, выслушивая их
«Виталий», «Эдуард», «Никита», «Спартак»... Куда только и подевался
обычно молчаливый, всегда жующий резинку малый! Он наливал кому
виски, кому джина. К виски советовал добавлять содовой воды и непременно
бросать в стакан парочку кубиков льда, джин же хорошо смешать с
тоником, вот с этой тонизирующей индийской водой, которую вырабатывает
фирма «Швипс» в Лондоне; в смесь джина с тоником можно выдавить
несколько капель лимонного сока, но можно и без него, а вот лед, как и для
виски, обязателен.
Все получили по стакану непривычного питья. Кто хвалил его, смакуя,
кто кривил губы: дескать, русские напитки, коньяк и водка, вкуснее.
— Может быть,— отвечал таким Юджин Росс.— Не спорю. Но
употребление их связано с наступающим затем упадком сил. Их действие
резко: взлет!..— Юджин размахнулся чуть ли не до потолка.— И через
какое-то время — фьють! — Он опустил руку к самому полу. — И тогда
почтенные советские граждане спят на скамейках московских парков, как
безработные в капиталистических странах. От виски или джина этого не
произойдет. Эти напитки тонизируют, поднимают силы. Они совершенно
незаменимы в жарких странах. Там они еще и дезинфицируют, там они
освежают, там...
— А у нас страна холодная, — сказал Полузудов. — Мы поэтому во-
дочники и коньяковисты. Нам не надо освежаться, нам надо
разогреваться. Водка и коньяк — превосходнейший материал для разогрева.
— А мне эта штука нравится! — Огурцов протянул Юджину Россу
свой опустевший стакан.— Нельзя ли прибавки?
— У нас обычно никто никого не приневоливает пить и никто никому
не мешает это делать. Каждый пьет столько, сколько ему хочется.
Потому и прибавка — дело самих пьющих. Вот вам бутылки, их у нас
вполне достаточно. Вон там в углу чемодан, это наш винный погреб. Не
стесняйтесь, господа, будьте свободны, веселы. У меня, кстати, есть новые
записи на лентах. Геннадий, включи машину!
Генка включил магнитофон с лентами Юджина Росса. Пошла та
музыка, под воздействием которой человек постепенно начинает дергаться.
Сначала он отбивает такт одной ногой, затем включается в это и
вторая нога, позже в ход идут уже и руки, плечи, голова, бедра, спина.
Все тело ходит ходуном.
Виски, джин, музыка делали свое дело. Компания дрыгала ногами,
размахивала руками, широкие безмятежные улыбки — от уха до уха —
освещали лица захмелевших парней.
Юджин пустился в пляс. Несмотря на тесноту в комнате Ии, он
ухитрялся выписывать такие фигуры, что все ахали от восхищения. «Вот это
артист!»
— Мою бы мамочку столбняк хватил от такого виртуозного
исполнения! — сказал сын дамы из гастрольного бюро, Ленька Пришибей.—
Договор на пять лет по высшим ставкам!
Кое-кто попробовал повторить дьявольский танец за американцем.
В какой-то мере получилось это лишь у Огурцова.
• Чего же ты хочешь?
109
— Не огорчайтесь,— утешал Юджин Росс.— Без девчонок всегда
идет хуже. Будут девчонки — пойдет как надо. Как-нибудь устроим
вечеринку с ними, если вы не против.
Юджин Росс оказался подлинной душой общества. Вот бы увидели
его такого Клауберг и Сабуров! Глазам бы не поверили. Он танцевал,
он пел, он рассказывал анекдоты. Наконец, выдвинув на середину
комнаты, раскрыл тот чемодан, который назвал винным погребом. Кроме
бутылок, в чемодане были сложены пачками какие-то журналы. Он
выбросил их на стол. Одни их обложки, яркие, красочные, уже захватывали
воображение. Все на них было представлено натурально, все было голо,
дразнило, волновало молодых парней. А когда они принялись листать
страницы, то на первых минутах онемели, всем стало стыдно друг перед
другом за то, что они делают, что видят. Но постепенно освоились, отошли
от столбняка, начали перебрасываться словами.
— У вас странные порядки,— заговорил Юджин Росс, внимательно
понаблюдав за тем действием, какое на советских парней производит
полиграфическая продукция такого рода.— С одной стороны, вы за
материализм, а с другой — делаете вид, будто родителям вас действительно
аисты приносят. У вас много говорят и пишут об эстетическом
воспитании молодежи. Но как оно осуществляется? Древние греки чувство
красоты воспитывали материально. Что может быть прекраснее женского
тела, если оно совершенно в своих формах! Греки не стеснялись
показывать женщину такой, какая она есть. Отсюда и результаты! Любой
знаменитый музей мира — Лувр, Британский, ваш Эрмитаж в Ленинграде —
как великую драгоценность готов хранить хотя бы обломок тех древних
мраморных женщин. Мало того, красота, начинаясь с понимания красоты
женского тела, порождала органическое чувство красоты вообще. Все
лучшее, прекраснейшее в истории человечества создано теми, кто был
воспитан на красоте женского тела.
— Это все верно,— сказал пасынок генерала Володька Решкин.—
Тела тут, в ваших журнальчиках, будь здоров! Но школьникам их ведь
не покажешь.
— Почему же?
— Позы-то какие! Не древнегреческие!
Все захохотали.
— Да, ребятишечки, наглядевшись «а это, и сколько будет дважды
два позабудут.
— А ребятишечкам,— сказал Юджин Росс,— этого никто и не
собирается показывать. Это для взрослых, для вас, друзья мои, для тех, кто
уже знает, откуда и как происходят дети. Ну что ж, стаканы у всех
пустые. Геннадий, шевельни нашими запасами, продолжим заседание, как
говорят у вас.
Стаканы не так уж и пустовали, но Юджину Россу хотелось, чтобы
советские парни все больше бы развязывались, все больше бы теряли
контроль над собой. Непривычные им напитки хорошо помогали ему
в этом.
— У вас много хвастают,— рассуждал он со стаканом в руке.—
С первой строки любой газеты и до подписи редактора только и читаешь:
чугуна выплавили в сто раз больше, чем в тринадцатом году,
электроэнергии выработали в двести раз больше, чем в двадцать седьмом, медведей
убили в эн-эн раз больше, чем в пятьдесят третьем, и те де и те пе.
Я понимаю, что это не вы расписываете такие достижения. Я понимаю,
что делают это сталинисты, те старые обломки, которых еще немало
осталось на руководящих постах в вашей стране. Этими цифрами они сушат
вашу жизнь. Они кричат о романтике, а сами эту романтику у вас
отнимают. Таковы последствия культа личности, неискорененные,
неликвидированные. Замечательно сказал один ваш поэт: надо так основательно
завалить камнями могилу Сталина, чтобы вместе с ним вновь не вылез-
îfO
Всеволод Кочетов •
ли на свет эти последствия. Только, видимо, надо не могилу Сталина
заваливать, а кое-кого из все еще живущих поскорее провожать в
могилы. Не один Сталин олицетворял в себе сталинизм, а вот и эти делали
и делают то же, которые вам про чугун и электроэнергию каждый день
ДУДЯТ.
— Да, это у нас случается, дудят,— согласился Огурцов.— Но
постепенно оно пройдет. У меня есть товарищ, Юшков Томас. После
университета он пошел работать на радио. Нам, говорит, одно предписывают
делать, а мы свое гнем. Про чугун там, про всякое такое поболтаем для
вида, а между чугуном и зяблевой вспашкой твист, шейк вставим,
осмеем что-нибудь. Старым хренам уже и сейчас за нами не углядеть, а еще
пройдет немножечко годочков, они и вовсе на нет сойдут, на пенси-
ончик, будем жить без них, по-своему.
— Это, конечно, чудесная программа,— сказал Юджин Росс.— Но
не активная, а пассивная. Расчет на биологию. Не только будущее, но
и настоящее должно принадлежать молодежи, вам, вам, друзья мои!
— Может быть, вы хотите, чтобы мы поубивали их, этих старых
хренов?— сказал Огурцов.— Это же, как ни крути, наши родители. Это
у вас запросто можно кокнуть хоть президента. Уплатил монету — его и
кокнут. Нам вы таких советов лучше не давайте.
— Упаси господь! — воскликнул Юджин Росс, чувствуя, что он
совершил ошибку, излишне поспешив с нажимом на педали. — Вы меня
неверно поняли. Зачем кого-то убивать? Просто везде и по любому поводу
надо иметь свое собственное мнение. И оно восторжествует.
— А у нас оно и есть свое. Я, например, совершенно согласен с тем
своим другом, который на радио, с Томасом Юшковым. Процесс
нелегкий — добиться, чтобы твое мнение восторжествовало, особенно если это
мнение, может быть, целого поколения или даже нескольких поколений.
Не надо раздражать стариков, пусть доживают свое, пусть думают, что
дело идет так, как им хотелось бы, чтобы оно шло, пусть думают, что мы
следуем по их основополагающим стопам. У меня вот начальничек,
председатель, так сказать. Он старой формации. Любит почет, уважение,
известный подхалимаж. А мне что, жалко, что ли? Я ему: «Сан Саныч» да
«Сан Саныч», да «какие будут ваши указания, Сан Саныч», да «все, что
вы приказали, Сан Саныч, я неукоснительно выполняю». Он доволен, он
тает. А на самом-то деле не его указания выполняются, скажу вам
честно, а мои, мои! Мне двадцать шесть лет. В эти годы люди армиями
командовали, государствами управляли. Неужто Виталий Огурцов в
двадцать шесть лет не может некоторое учрежденьице возглавить? Может!
И возглавляет. Конфликтов, учтите, у меня с начальством никаких нет.
Но для этого с ним надо работать, и много работать. Надо сделать так,
чтобы оно, начальство, на все смотрело не своими и не чьими-либо еще,
а твоими, только твоими глазами. Надо самому докладывать, надо
самому комментировать, надо самому сообщать, составлять проекты бумаг
всяких, статей, тексты его речей, выступлений.
— Теперь понятно, — сказал Володька Решкин, — почему некоторые
начальники говорят такие речи, какие и я запросто могу говорить. Это ты
их, оказывается, сочиняешь!
— Что же, признаться, я. И мои коллеги — помощники, референты
тех начальников. А как же! Все сам, только сам ты должен делать. Сам
брать трубки телефонов и сам решать, с кем соединить, а с кем нет. Сам
должен решать, кого допустить на прием, а кого нет. Он у нас тут
весной, недавно, не желал пригласить на гастроли одну певицу... Кстати,
из вашей Америки, господин Росс!
— Негритянку? Лили Пуппс? — сказал Росс, вспомнив
брюссельский аэропорт и очередь пассажиров к советскому самолету.
— Ну да! У нас, говорит, своих халтурщиц подобного рода хоть
отбавляй, только, может быть, не такие черные после сочинских пляжей.
• Чего же ты хочешь?
tu
Пришлось поработать. Составил ему справочку о том, что она участвует в
движении борцов за мир... На каком-то благотворительном концерте она и
верно выступила однажды в числе «многих других»... Нажал на то, что она
еще и негритянка, так сказать, чуть ли не сестра Поля Робсона,
гонимая нация в США. Парочку звонков организовал. Поскрипел, поскрипел
мой босс — сдался. Сейчас она в Сочи. Поет. Вот секс-бомба, это да! Не
хуже ваших этих картинок, мистер Росс!
— Вы очень интересно рассказываете, господин Огурцов, очень. Вы
настоящий человек. Я хотел бы выпить с вами за ваше здоровье! —
Юджин Росс потянулся к Огурцову со стаканом.
— То-то! — сказал, чокаясь, Огурцов. — А вы нам насчет убийств
стали говорить!
— Нет, нет, я же сказал, вы не так меня поняли!
— Ладно, допустим. Еще раз говорю вам: подлинные хозяева мы.
Уже сейчас. А что будет через пять — десять лет — это уже время
покажет. За свое учреждение отвечаю полностью. Старичок наш идейный,
конечно, неподкупный. Но притомился, связь с жизнью утратил. Он дачку
обожает, цветочки выращивает, рыбку ездит ловить. Я у него был раз в
воскресенье на даче. Потеха! Такой Саваоф среди внучат. Я их по головам
погладил, пару баек рассказал, хохочут: «Дядя Витя, дядя Витя, еще!»
Я им еще. Дед цветет. «Любят вас, Виталий Дмитриевич, — рассуждает.—
А дети, они чутки к человеку, сразу определят, хорош он или плох». Ну,
я скромненько потупился. А он мне целую полсотню прибавки с нового
года выхлопотал. Вот так!
Генка с интересом слушал Виталия Огурцова. Он знал давно этого
Витальку, еще со школы. Но понятия не имел о том, какой же это
ловкий, хитрый и умный малый. У Виталия были общие черты с его, Ген-
киным, отцом. Генке приходилось слышать, как отец — не так, конечно,
хвастливо и не так широковещательно, как Виталий Огурцов, —
рассказывал матери о своих взаимоотношениях с начальством. Отец тоже
уверял, что не вышестоящее начальство, а он решает многие вопросы. Он
тоже говорил о том, как важно правильно и своевременно «доложить
вопрос» начальству, как надо уметь информировать начальство, как вовремя
оказаться на виду у начальства. Отец был большим ловкачом. У них в
передней на столике перед зеркалом на медном индийском подносе
каждый праздник раскладывались полученные поздравительные телеграммы.
Среди них постоянно бывают две-три на бланках с красным грифом и с
надписью: «Правительственная». Генка давно понял механику получения
таких телеграмм. Отец заблаговременно рассылал соответствующим людям
свои поздравления. Некоторые из его адресатов, кто повежливее,
естественно, отвечали на приветы Зародова. И вот вам бросающиеся в глаза
бланки. Когда взоры отцовских приятелей падали на них, он небрежно
пояснял:
— А Петр Ильич уже пятнадцать лет подряд меня поздравляет. Иван
Данилович, правда, только в третий раз. А Матвей Григорьевич впервые.
Что-то прочел, видимо, мое. А звонков сколько!..
Да, схожее есть. Но в том, что и как делает отец, много показного,
много пустопорожнего звона. У Виталия Огурцова все основательней,
продуманней. С годами он будет несравнимо сильнее Александра
Максимовича Зародова. Это растет настоящий орел!
А может быть, коршун? Стервятник? Генка прохладно относился к
своему отцу и, пожалуй, даже с некоторой иронией, и поэтому то, что
Виталий Огурцов показался ему похожим на отца, сильно снизило
Виталия в Генкиных глазах, так снизило, что Генка готов вот назвать его
даже стервятником. Расчетлив больно и оборотист для орла. И слишком
удачлив.
Раздумывая об отце и о Виталии Огурцове, Генка упустил нить
общего разговора. Он услышал вдруг слова Юджина Росса:
112
Всеволод Кочетов •
— Нет, не надо ни пистолета, ни кинжала, ни кастета. Достаточно
хорошего кулака. Удар сюда... — Юджин Росс показал на переносье
Леньки Пришибея.— Косточка носа входит в мозг — и мгновенная смерть. И
никто не сможет вам сказать, что вы убили человека преднамеренно.
Обычная кулачная драка. Он-де ударил, я — в ответ. Легкий шум. А дело
сделано. Если вам не обязательно уничтожить противника насмерть,/
хорош удар сюда, в печень... Шок, потеря памяти. Вы тем временем
делаете свое дело.
Пьяные ребята размахивали кулаками, стараясь угодить друг другу
то в переносье, то в печень. Никита Полузудов увертывался от ударов.
— Ребята, ребята, вы взбесились! Я больной, меня нельзя бить. У
меня инфекционная желтуха была в детстве.
— В самом деле,— сказал Генка.— Ну, что вы разошлись! Драка —
это последнее дело.
— Нет, мой друг, не последнее,— ответил Юджин Росс.— Для.
настоящего мужчины о'на первое дело. Конечно, для хлюпиков, для
маменькиных соплячков получить хороший удар да ответить еще лучшим — это
страшнее страшного. Но без ударов и жизни нет. Я говорил о романтике.
Какая же романтика без радости победы?
— Драться не обязательно,— настаивал Генка.— И кстати, у кого
руки чешутся, может самбо изучать. Есть такой комплекс...
— Знаю! — Юджин Росс махнул рукой. «Самооборона без оружия».
Само название компрометирует ваш комплекс. Самооборона! А почему,
собственно, только оборона? Еще древние говорили: лучший вид обороны —
нападение. А где в этой вашей самбе начала нападения? Нет их. И
почему без оружия? Почему такая боязнь оружия? Человек стал человеком
только тогда, когда взял в руки палку и камень, то есть оружие.
Отказавшись от него, он перестает быть человеком. Я художник, но-я.
стреляю из пистолетов, из винтовок, из пулеметов и получаю от этого
удовольствие. Я художник, но я могу метнуть нож... — Юджин Росс выхватил из
кармана кожаный футляр, достал из него большой складной нож с
костяной ручкой, раскрыл его и коротким движением, почти не целясь,
пустил в дверь. Нож впился лезвием в самую середину верхней филенки.—
Я художник, но пощупайте ?,юи мышцы!.. — Он согнул в локте -правую руку
и все по очереди подходили потрогать его вспухшие мускулы.
— Вот это да!
— Штука!
Юджин вытащил нож из двери, сложил его, спрятал в карман.
— Ваши родители в смысле физического развития превосходили вас.
Вы излишне интеллектуализировались, так, что ли, сказать. Ну, впрочем,
все это очень серьезные разговоры. Возможно, оттого, что собрались
одни мужчины. Было бы неплохо повторить нашу встречу, но уже с
девушками. На, так сказать, расширенной основе. Тогда и танцы пошли бы и
песни. Говорят, что в России ни одно застолье не обходится без песен.
А вы сегодня даже попытки что-нибудь спеть не совершили. Хотите, я вам
спою?
Он не стал дожидаться приглашения, запел:
Я был батальонный разведчик,
А он был наш писарь штабной.
Ответ я держал за Россию,
Он спал же с моею женой...
Жена моя, бедная Шура,
Неужто тебе все равно?
Чего же ты, бедная дура,
Сменила орла на дерьмо?
С первых слов песни Володька Решкин стал морщиться, как от боли.
Когда дошло до этих слов, он, прерывая певца, сказал:
— Не надо, мистер Росс, прошу вас!
•■"■ Чего же ты хочешь?
113
— А в чем дело? — Юджин Росс удивленно развел руками. —
Русская народная песня.
— Дело в том, мистер Росс, что вас ввели в заблуждение. Никакая
она не народная. Сочинил ее, видимо, изрядный сукин сын. Я знаю ее
тоже. Ее время от времени публикуют в эмигрантских газетках и
журнальчиках. Мы не хотим, чтобы над тем, что совершил советский народ в годы
Великой Отечественной войны, кто-нибудь смеялся. А это насмешка.
Извините, но вас обманули. Если хотите песню о войне... Как, ребята,
знает кто из вас слова «Войны народной»?
— Я знаю,— сказал Генка.— Но не все слова. У моей сестры есть
пластинка...
— Не надо пластинок. Затягивай, что знаешь. Коллективно вспомним.
Сначала не в лад, сбиваясь с мелодии, путаясь в словах, к великому
удивлению Юджина Росса, эти парни, которые только что глушили виски
и джин, которые только что рассказывали о целых системах
одурачивания начальства, дальше все стройнее и стройнее пели грозную песню
военных лет, все воодушевляясь, все сливаясь в единый поющий организм:
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идет война народная.
Священная война!
Юджин Росс сидел, посматривал на них исподлобья и
недоумевал, в чем же он ошибся, чего не учел, что сделал не так, почему
налаженное было взаимопонимание вдруг разладилось, расстроилось. Ответа
он не находил. А песня все гремела, сотрясая нелепо раскрашенные стены
Ииной комнатки. Песне было в этих стенах тесно, она рвалась за окна, за
двери, на улицу.
31
День Сабурова строился так. Обычно он вставал одновременно с Кла-
убергом, часа на полтора, на два раньше, чем мисс Браун и Юджин Росс.
Те шлялись далеко заполночь, иной раз даже до утра, во всяком случае,
до рассвета, до розового, тихого, прозрачного московского рассвета, и,
конечно же, дрыхали после этого, опаздывая на завтрак. Сабуров и Клау-
берг завтракали за отведенным им столиком на четверых, на котором в
специальной подставке были укреплены маленькие флажки: советский —
красный, с серпом и молотом, и британский — весь в пестрых скрещениях.
Однажды, оглянувшись по сторонам, хотя в ресторане никого в тот
ранний час, кроме них двоих, не было, Клауберг сказал:
— Какие представительные флаги нас осеняют, Пе... тьфу! ...Умберто!
Не забавно ли, что никто из нашей группы ни к тому, ни к другому флагу
не имеет никакого отношения?
— Особенно ты, конечно,— ответил Сабуров, доедая яичницу.
— Ты полагаешь, что эти ублюдки,— Клауберг указал глазами на
потолок, имея в виду мисс Браун и Юджина Росса, еще спавших там, на
своем этаже,— что они имеют право называться англичанами? — и щелкнул
пальцем по британскому флагу. — Или быть причастными к этому,
красному, лишь потому, что в них русская кровь?
— Я говорю не о них.
— Значит, о себе?
— А что, разве это не так?
Клауберг долго и изучающе смотрел на Сабурова. Тот уже пил кофе.
А Клауберг раскуривал третью сигарету.
— Что ж, ты прав,— сказал он,— стоит тебе пойти в милейший
домик на площади Дзержинского, такой, .многоэтажный, на весь квартал, и
ты вернешься на родину, станешь советским гражданином. Но...— Он под-
8. «Октябрь» № ю.
114
Всеволод Кочетов •
нял палец, как учительскую указку,— тебя сделают советским
гражданином только для того, чтобы повесить в полном соответствии с советскими
законами. Ни твоя Делия, ни твои ребятки даже и знать не узнают, куда *
подевался их папочка.
— А меня, Уве, вовсе и не повесят. Тебе известно это?
— С чего бы такое персональное милосердие?
— Когда мне пришлось рыться в советских газетах, особенно в
провинциальных, я находил в них отчеты о судебных процессах над так
называемыми военными преступниками. Совершенно верно: многих
приговаривают к расстрелу. Но это как раз те, кто сам расстреливал и вешал.
А так называемым пособникам, к которым отношусь я, дают различные
сроки заключения. Лет пять, восемь, десять...
— Двадцать пять!
— Таких сроков у них уже нет. А и были бы, мне бы столько не дали:
я никого не убивал.
— Но грабил. Советское государство грабил.
— Я могу чистосердечно раскаяться. Меня не изловят, а я сам
приду. Нюанс. И весьма значительный.
— И ты с удовольствием станешь «простым советским
заключенным», как поется в одной песне? Обретешь «дом родной»? Осиротеет
«Аркадия» в благословенной Вариготте?
Сабуров не ответил, и оба они понимали, что ведут совершенно
праздный разговор и что если у Клауберга еще есть возможность вернуться
в свою Германию, которая даже усиливается по мере того, как
неонацисты набирают силу и, по словам Клауберга, идут к тому, чтобы рано или
поздно покончить с этим идиотским преследованием истинных патриотов,
то у Сабурова нет никаких надежд вернуть себе родину. Она его никогда
не признает. Да, собственно, и к чему это все теперь, когда жизнь-то
позади, когда ее так мало осталось?..
После разговоров за завтраком, не всегда, понятно, на такие острые
темы, оба отправлялись по своим делам. Клауберг в различные комитеты
и управления, Сабуров в музеи, хранилища, архивы. Кроме
репродукций, надо было подготовить и текст к ним о русском искусстве. Этот текст
не должен быть простым повторением ранее сказанного другими. Сабуров
хотел дать свое собственное толкование искусству древней Руси, поэтому
он глубоко вкапывался в старые книги и рукописи, добираясь до самых
истоков русской художественной мысли. История России была
многострадальна и героична. Русь складывалась в непрерывной,
непрекращающейся борьбе за право на существование. Со всех сторон на нее шли и шли из
века в век желающие поживиться богатствами ее природы, богатствами,
создаваемыми искусными руками ее народа, и добрый, гостеприимный
народ с широкой, ласковой, тонкой душой не имел возможности ни на час
отложить в сторону оружие. Чего же удивляться, что и на иконах в его
церквах многие святые вооружены мечами, копьями, одеты в кольчуги
и шеломы!
После обеда Сабуров к работе уже не возвращался. Он отдыхал в
своей комнате, не отвечая ни на звонки по телефону, ни на стуки в дверь.
Все-таки далеко от дома, в непривычных условиях надо было беречь
силы: возраст уже не позволял тратить их без учета и расчета.
А вечером у него стало привычкой ходить в театр и на концерты. Он
попытался было смотреть советские фильмы. Но ему не повезло. Ничего
заметного по летнему времени в Москве не показывали. Шла так
называемая «средняя» продукция. При внешней, заданной многозначительности
большинство фильмов этих по сути своей было ни о чем. Они были мелки,
бесцветны, бесталанны.
В театрах и особенно в концертах было совсем другое дело. На
летнее время московские театры или ушли в отпуск, или отправились на
гастроли, одни по стране, другие за рубеж. А в Москву съехались театры
• Чего же ты хочешь?
115
из других городов Советского Союза, из других республик. В их
спектаклях было много живого, острого, волнующего, по ним Сабуров составлял
представление о текущей жизни страны. Концертные же программы его
просто приводили в восторг. Это были концерты ансамблей из
национальных республик, из больших и из таких малых, как республики Северного
Кавказа, Забайкалья, Поволжья. Их искусство было оптимистично,
глубоко народно, красочно, умно. Конечно, его породил новый строй,
революция. До семнадцатого года этого в России не было. Сила новой России,
раздумывал Сабуров, в том, что новая власть дала всем народам страны
возможность свободно развиваться. Таких примеров, такой власти, такого
государственного устройства в истории человечества еще не было. Были
могучие империи, но основанные на порабощении одних другими, что и
приводило в конце концов к их распаду, крушению. Их сила была их же и
слабостью.
В этом широком разливе народного творчества как-то без всякого следа
растворились и те, «наводящие мосты», сексуальные певицы из
Соединенных Штатов и нестриженые английские олухи, на которых с таким
умилением и надеждой взирала в брюссельском аэропорту Порция Браун.
На концертах, в театрах Сабуров заводил разговоры с людьми.
Русские, оказывается, как и встарь, любили поговорить, порассуждать на
любые темы. Он не признавался в том, что иностранец. Одежды в Москве
были пестры и ничем особенно-то не отличались от одежд в других
городах Европы; его, Сабурова, по одежде никак нельзя было отделить от
коренного советского гражданина; не выделялся он и говором, разве что
язык его был несколько старомоден; но ему и в новой Москве встречались
старики, которые говорили отнюдь не менее старомодно: «извольте»,
«батенька мой», «смею ли вас просить»... Акцент некоторый у него был,
конечно, ничего не поделаешь: долгие десятилетия жизни за рубежом
сказались, особенно после войны, когда русских он уже почти не встречал
и говорил лишь по-итальянски. Но в Москву съезжались жители
прибалтийских республик, украинцы, люди из Закавказья, из Средней Азии.
У многих из них был такой отчаянный акцент, что на их фоне Сабуров
говорил чистейшим русским языком. Беседы поэтому со случайными
собеседниками были откровенные, с их стороны — откровенные, а не со
стороны Сабурова: он-то в откровенность пускаться, само собой, не мог.
Люди рассказывали ему о жизни то на Сахалине, то там, где
добывают алмазы, то в местах недавно открытых огромных нефтяных залежей.
Одни всю жизнь провели в Москве, другие всю жизнь плавают на
кораблях по различным странам земли, одни занимаются техникой, другие
наукой, одни рабочие, другие люди умственного труда. По их рассказам
Сабуров видел, что жизнь обеспечена не у всех одинаково: одни живут
в большем достатке, другие в меньшем, но не только нищенства, но и
просто острой нужды в стране нет. Если увидишь нищего, попрошайку, то так
и знай, что это жулик, аферист, что у него, в одном случае, есть
собственный дом где-нибудь недалеко от Москвы, в другом — свой личный
автомобиль, в третьем — это гуляка и пропойца. Нет никакой безработицы,
неслыханно низка плата за квартиры, просто гроши по сравнению с
заработками. А главное — у людей самые просторные горизонты. Все куда-то
непрерывно движутся, развиваются, и пределов этому развитию, движению
нет. И если люди высказывали тревоги, то их тревоги были совсем не
личного порядка. Люди тревожились о том, что молодежь растет несколько
легкодумней, чем надо бы, что не вся она понимает опасность, которая
постоянно грозит лагерю стран социализма со стороны
империалистического лагеря. Беспечность молодых была причиной тревоги очень многих
собеседников Сабурова.
— Я вам скажу так, гражданин хороший,— сказал ему, сидя рядом
на садовой скамейке, пожилой человек в очках с тонким золоченым
ободком.— Если напустили полную Москву разных заграничных типов,
116
Всеволод Кочетов •
то за ними надо и присматривать. Ходит этакий при галстучке, в
пестром пиджачке. А может быть, он шпионит тут, вынюхивает, а? Бывает,
таким другом, демократом прикидывается. А сам аппаратиком щелкает
направо и налево. Или эти полуголые девки, которые не поют, а, как
молодые волчицы, на луну воют, все на один мотив, они, может, только
выдают себя за певиц, потому и поют так скверно, на самом же деле
разлагать наших ребят ездят. Ляжками трясут, задами крутят — вот и
все их искусство. А девчонки наши насмотрятся на это и тоже ляжками
трясут, задами крутят...
— А что вам видится в этом плохого? — спросил Сабуров.
Пожилой человек задумался.
— Особенно-то, если по-обывательски рассуждать, ничего. Все мы
люди, все мы человеки. Все из плоти, у всех кровь с температурой
тридцать шесть и шесть. Верно. Но обидно же — полсотни лет бились, бились,
тяготы какие претерпевали, добровольно претерпевали, с радостью, с
восторгом даже... На войнах гибли, руки в кровь ранили на стройках, облик
нового человека уже узрели, облик замечательного, советского человека,
который не волк друг другу, а брат, товарищ... И вот на тебе — снова,
как полсотни лет назад в разных «Луна-парках» и в садах «Буфф», кру-
теж задами с эстрад и всяческие эти «смотрите здесь, смотрите там»...
Гришка Распутин такое обожал, купчики вторых да третьих гильдий. А за
ними и мы, значит? А главное-то, роль женщины опять та же? Для
услады мужчины, и только? Вся катушка обратно пошла?
— И что, это явление массовое?
— Массовое не массовое. За всё не скажу. А есть. Очагами так.
Вокруг чего-нибудь припахивающего. А кому положено препятствовать
этому, всяким управлениям культуры, молодежным организациям, те
ушами хлопают. Вот и говорю: беспечность страшна. В вихрях вальса, а
по-современному говоря, в толкучке твиста, выстрелов на границе не
услышишь. А вы как считаете?
— Да, знаете, в ваших словах есть правда. Но во всем нужна
разумная мера. Нельзя, чтобы страна превратилась в сплошной публичный
дом — а такие страны есть,— но и нельзя, чтобы это был сплошной
монастырь. Жизнь-то в Советском Союзе хорошая. Не пользоваться ею — грех.
— Все в меру, все в меру, сами же говорите. А если через меру,
несварение желудка получится, такой понос пойдет, не остановишь.
Значит, думалось Сабурову, «наведение мостов» не такая уж
безобидная вещь, если вот об этом сам советский человек говорит с искренней
тревогой.
В другой раз другой собеседник, лет тридцати пяти — сорока, сказал:
— Вы, папаша, меньше всего ломайте себе голову над мировыми
проблемами. Пенсию получили? Нет еще? Ну через год-другой придет
срок, получите. И гуляйте себе. Я, как подойдет моя пенсия, и дня
лишнего не перехожу. Человеку что надобно? Свобода. А полностью ты свободен
только, когда получаешь пенсию. Наша власть — во власть:
пенсионное дело, как часы, у нас заведено. Работу побоку, удочки, ружьишко —
и в леса, на озера. В старину только помещик мог себе это позволить, при
Советской власти — любой пенсионер!
— Но ведь пенсия не так уж велика,— сказал Сабуров.
— Неважно. На хлеб, на сахар, на квартплату хватает? Хватает.
Остальное приложится. Рыба, говорю. Ее насушить, насолить можно на весь
год. Охота, дичь. Тоже приварок. Пушнина! Охотничий домишко
построишь, на лето дачникам сдавай. Нет, только бы до пенсии, а там обернемся!
Был разговор с женщиной. Она в Москве проездом. Из Мурманска
на Севере в гости к сестре в Иркутск, который близ озера Байкал.
— Теперь это просто,— говорила она.— Сел в самолет — и через
несколько часов где тебе надобно. Я бы уже сегодня была в Иркутске.
Да решила задержаться, Москву посмотреть. Билет сколько стоит? Не
• Чего же ты хочешь?
117
дороже денег! — Она засмеялась. — Сколько бы ни стоил, какая разница.
Муж у меня на рыболовном судне плавает. Получает с выработки. У нас
на книжках столько, что у самого царя, может быть, не было.
— И что же вы с этими деньгами делаете?
— Чего захотим — купим, куда вздумаем — едем. А что же еще?
Живем весело.
Лишь одному собеседнику Сабуров признался в том, что приехал из
Италии, и сказал о цели своей поездки. Это было на Пушкинской
площади возле памятника Пушкину.
Сабуров сидел там, раздумывая, наблюдая за проходящими, за
пробегающими. Вокруг него возилось несколько ребят, они прятались за его
скамейкой, они проползали под ногами, хватали за колени, убегая друг от
друга с криками: «Дяденька, задержи его!» Досаждали своей возней
страшно. Он уже хотел было уйти, как подошел и сел рядом молодой человек
с весьма ранним брюшком, с портфелем в руках.
— Брысь! — сказал он ребятам.— Ну, живо!
Те действительно разбежались, ушли на другую сторону площадки.
— Где-то я вас видел? — сказал, всматриваясь в Сабурова, молодой
человек.— А! Вы итальянец! Вы в составе группы издательства «New
World»?
— Да, да,— вынужден был объявить себя Сабуров.— Из Италии. Да.
— Что ж, вы затеяли хорошее дело. Я вас и ваших коллег видел в
Третьяковке, в дирекции. Знаю о ваших планах, слышал разговор. Но
зачем вам эта старина? Неужели вас не интересует наше молодое искусство?
Обычно оно интересует всех иностранцев. Побывали бы, скажем, в
мастерской у Свешникова. Он и старину может, если уж вам без нее никак, и
современность. Он синтетик.
— Да, да, я знаю господина Свешникова. У нас были с ним встречи.
— Свешников тоже, в общем-то, карта битая,— после некоторого
раздумья сказал молодой человек. — Настоящего боевого авангарда у нас в
живописи нет. Парочка-другая живописцев, два-три скульптора.
Небоевиты, уступчивы. В литературе лучше. Жаль, что вам это ни к чему.
Познакомил бы с интересными людьми.
— По делам советской литературы специалист мисс Браун.
— Порция? Она здесь? С вами?
— Да, здесь. В тот день, когда мы приезжали в Третьяковскую
галерею, ее не было. Но она в Москве, да, с нами.
— Это интересно! Адрес?
— Там же, где все мы, в «Метрополе».
— Вы читали, как она пишет? Нет? Здорово пишет, умно, хитро,
ловко. С ее помощью наш литературный авангард вышел на мировую арену.
Сборники, альманахи, публикации в журналах — все она! И всегда с ее
предисловиями, вводными статьями. Когда с остатками «культовиков»
будет покончено, ей у нас памятник поставят, вон там, с той стороны
площади. Здесь будет Александр Сергеевич Пушкин, напротив — она,
Порция Браун. Она ловко вывозит рукописи за границу.
— Почему вы со мной так откровенно разговариваете? — спросил
Сабуров. — А вдруг я не сочувствую тому, что делает в Советском Союзе
мисс Браун? Вы неосторожны.
— Как так не сочувствуете?! — Молодой человек удивился. — Вы
итальянец?
— Да.
— Из Италии?
— Да.
— Может быть, вы итальянский коммунист?
— Нет.
— Тогда не пугайте зря. Да, собственно, мне пугаться и нечего.
Я разделяю точку зрения Порции Браун на советскую литературу на со-
118
Всеволод Кочетов •
ветское искусство, как она, отрицаю социалистический реализм. Советская
литература существовала как подлинная литература лишь до конца
двадцатых годов, потом этот знаменитый соцреалистический провал до
пятидесятых. И лишь теперь кое-что стало появляться, вновь заслуживающее
внимания. Я об этом открыто говорю, открыто пишу. Порция Браун это
знает. Недавно она ссылалась на мои статьи в своей новой работе.
— А чего вы этим хотите достигнуть, такими высказываниями? —
спросил Сабуров.
— Как чего? Покончить с догматической литературой, которая
тридцать лет давила на мозги советских людей, покончить с атмосферой, в
которой такая литература возможна.
— А затем?..
— Затем? Расцвет новой литературы!
— А именно? Назовите примеры ее.
Молодой человек стал называть неизвестные Сабурову имена, их
было очень мало, перечислять названия произведений, которых тоже было
очень мало, еще меньше, чем имен авторов, Сабуров, читал два-три из них.
— Да, кое-что читывал,— сказал он.— А вот из той, как вы
говорите, догматической литературы мне известны многие. Да, молодой
человек, многие. — Сабуров тоже стал перечислять имена и называть книги,
которые попадались ему еще до войны, и в войну, и после войны.
Молодой человек, откидываясь на спинку скамьи, всхохатывал при
каждом новом имени.
— Макулатура! — сказал он, обобщая в конце концов. — Их давно
и в руки никто не берет.
— А вот один из моих знакомых,— сказал Сабуров,— из тех
одураченных итальянцев, которые ходили воевать против Советской России в
сорок первом, сорок втором и сорок третьем, рассказывал мне, что
именно эти книги находили у пленных советских солдат, что именно с этими
книгами они ходили в бой и, надо сказать, в конце концов весьма
успешно его выиграли.
— Ничего себе пропагандочка! — воскликнул молодой человек.—
На вас она, оказывается, тоже действует. Значит, мы еще слабо
разъясняем свои прогрессивные позиции, еще плохо знают в Италии нашу
настоящую литературу. Хотите, я вас познакомлю...
— Нет,— резко ответил Сабуров.— Обращайтесь с этим к мисс
Браун. Я итальянец, мне в ваши дела лезть незачем. А она дитя
белой эмиграции, и для нее все, что порождает надежды,— хлеб насущный.
— Какие надежды? Вы о чем? — Молодой человек насторожился.
— Надежды на то, что Советской власти в России не будет и что
все бывшие русские сановники смогут вернуться в свои родовые
поместья.
— Глупости, господин итальянец! Вы начинаете приклеивать ярлыки,
подобно тому, как их приклеивают некоторые из наших советских
сочинителей, к примеру, некий товарищ Булатов! — Молодой человек сделал
ударение на слове «товарищ».
— Кстати, я читал его роман о военных летчиках, — сказал
Сабуров.— И он мне понравился.
— В переводе все выглядит лучше.
— Зачем же в переводе? Я на русском языке читал. Вы же видите,
как хорошо я владею вашим языком.
— Все равно, вам, иностранцу, не ощутить всей силы или слабости
книги, написанной на русском.
— Да, конечно.— Сабуров встал.— Желаю вам успеха, молодой
человек. У вас, русских, есть прекраснейшая басня Ивана Андреевича
Крылова. Название ее: «Свинья под дубом вековым». Почитайте.
Советую. — И ушел.
• Чего же ты хочешь?
119
Он с отвращением думал об этом человеке. Кто это такой? Из какого
теста? На каких дрожжах взошел? Чего ему надо, чего не хватает?
Какая-нибудь бездарность, много о себе мыслящая, завидующая другим, у
кого успех, кто талантливее. Во все века будут подобные, и вот даже
социалистическое общество не смогло их избежать. Нет, встречая таких,
разговаривая с ними, не понять, почему же была разбита гитлеровская
Германия, почему железные немецкие дивизии не смогли взять Москву,
Ленинград, Сталинград, почему советские армии гнали немцев до самого
Берлина. Кто же это делал? Где они? Надо прорваться к ним, увидеть их.
Тех, тех, которые сидели в ледяных траншеях под Ленинградом зимой с
сорок первого на сорок второй. С Белой башни в городе Пушкине эти
траншеи казались черными царапинами на белом снегу. Но через эти тонкие
полоски, через эти царапины немецкий сапог так и не смог переступить.
В новых книгах, о которых разглагольствовал здесь молодой человек с
брюшком и портфелем, о победителях говорят редко, и они в этих книгах
совсем не такие, которые смогли бы разбить гитлеровскую армию,— это
рефлектирующие хлюпики, боязливые, сомневающиеся, не верящие друг
другу.
Все сильнее было желание повидать писателя Булатова, имя которого
было названо и в этот день. Не зря, наверно, с такой ненавистью его
поминают некоторые. Немцы с ненавистью говорили в свое время о
комиссарах, о политруках, коммунистах, вообще о каждом советском человеке,
который не сдавался, противостоял им и отвечал ударом на удар. Булатов
не комиссар, не политрук, а писатель, но о нем говорят тоже с
ненавистью. И кто говорит? Люди, которые, как правило, неприятны и ему,
Сабурову. Не удивительно ли?
32
В свои предыдущие приезды в Советский Союз Порция Браун была
постоянной посетительницей так называемых поэтических вечеров,
огромных, порой многотысячных скоплений народа, то во Дворце спорта, то в
Политехническом музее, то еще в каком-либо из вместительных помещений
Москвы. Она всей душой радовалась тем чудесным вечерам, она с
упоением писала о них в американские и английские еженедельники и
ежемесячники, она собирала стенографические записи таких вечеров, щедро
уплачивая стенографисткам-профессионалкам и любительницам чуть ли не
за каждую строку. Однажды она даже сумела устроить так, что
специально для нее сфотографировали президиум одного из наиболее шумных
вечеров. Весь мир обошла фотография: сцена, на ней длинный стол, за
столом — в ряд — три поэта-авангардиста, а над ними, на бархатном заднике,
крупный лозунг: «Коммунизм — это молодость мира, и его возводить
молодым!» Не было в том президиуме никаких отвратительных западному
буржуазному миру физиономий, физиономий поэтов, которые
десятилетиями действительно звали советский народ к коммунизму, не было и
молодежи, в своих поэтических исканиях идущей по дороге поэтов революции.
Сидело трое малых в пестрых свитерах, два из них угрюмы и бесцветны,
третий — торжествующе сверкая белыми глазами и оскалом крикливого
рта. Без всяких комментариев было видно, что же такие строители
построят. За это фото Порция получила весьма внушительную премию от
нескольких газетно-журнальных компаний.
С виду эта мисс Браун была маленьким солдатиком в большой
идеологической войне Запада, то есть антикоммунизма, против Советского
Союза и социалистических стран, то есть коммунизма. Ее хозяева ценили
Порцию Браун во много раз выше, чем ценили они те обломки русской
эмиграции в первых, вторых и уже и в третьих поколениях, которые сидели в
различных «институтах» по изучению Советского Союза, во множестве
возникших после войны в США, в Англии, в ФРГ. Те обломки в общем-то
120
Всеволод Кочетов Ф
варились в своем не очень обильном соку, злобствуя против народа,
отнявшего у них собственность и высокое положение в обществе. Они питались
надеждами на возврат утраченного, в идиллическом духе расписывали
жизнь старой России, всячески изощрялись в выдумывании пакостей о
Советской стране, о советских людях; издавали сами же для себя
журнальчики, газетенки, шумели, гремели; сочинили вот обращение «К русской
интеллигенции», убогие, жалкие люди — Глеб Струве, Борис Зайцев,
Роман Гуль, всякие Вейнбаумы, Водовы, Франки, Оболенские, Шики...
Порция была боевичкой, можно даже сказать, своего рода бомбисткой.
К идиллиям она относилась скептически. Она верила в дело, только в
дело. Не они сами, она, она придумала для поэтов-авангардистов так
называемый исторический жанр. Ни с того ни с сего советский поэт
насочиняет вдруг об Иване Грозном или о Петре, которые, укрепляя Россию,
топтали судьбы отдельных людей, и напишет это так, будто бы дело-то не
двухсотпятидесятилетней, не четырехсотлетней давности, а свеженькое,
сегодняшнее. С помощью хитроумной подтасовки строки «исторического»
стихотворения накладываются на битвы революции, на годы
кровопролитной гражданской войны, на пятилетки с их трудностями, на еще более
кровопролитные и опустошительные сражения Отечественной войны, и
получается, что народ — жертва. Чего, кого? Соображай сам.
Сюжеты для подобных сочинений Порция любила излагать, лежа с
поэтом в постели. Это было интимно, это было между делом, по
снизошедшему наитию, хотя на самом-то деле ей немало приходилось перелистывать
книг в поисках и разработках сюжетов. Сами ее подопечные были не
слишком перегружены знаниями истории и вообще какими-либо знаниями.
Каждый такой стишок, поскольку его не просто было пробивать в
советскую печать, она быстренько публиковала за границей, его
передавали по зарубежному радио, поэт читал его на вечерах. Оно приобретало
скандальную историю. Обожатели почти на каждом вечере вопили: «Про
царей! Про царей!» Поломавшись, поэт читал «про царей». Обожатели
неистовствовали.
Порция Браун могла через зарубежную печать и через тамошнее
радио пустить любой слух, любую сплетню против литераторов, которые
были неугодны ее хозяевам, а ей мешали растить кадры авангардистов^
Она делала это самыми разнообразными способами. Вдруг какой-нибудь
«Голос» принимался вещать: «Известный, пользовавшийся в годы культа
Сталина всеми благами, какими в те годы осыпались подобные люди,
писатель (имярек) не избран в правление (сообщалось, в правление чего),.
В хорошо информированных кругах полагают, что это связано с тем, что
в московских верхах к (имярек) отношение изменилось». Естественно, что
после этого подымается шумок. В чем дело? А нет ли дыма без огня?
В самом деле, что-то (имярек) никуда не приглашается. Неспроста,
конечно. И начинает расти ком. В планах издательств книжку (имярек) с
текущего года на всякий случай переносят на следующий год, в ту или
иную комиссию его не включают — дыма-то без огня не бывает! —
поездку его за рубеж задержат. А это, в свою очередь, даст повторный
резонанс: «Ого! До этого даже дошло!» И никто не знает, что все это
сработала голубоглазая, изящная, модно, но не броско, со вкусом одетая
Порция Браун, американка, друг Советского Союза, знаток Советского Союза,
специалистка по «наведению мостов» меж Западом и Востоком.
Но в последний приезд — два года назад — для Порции Браун
было как-то не все ладно. Она все время ощущала натянутую атмосферу
вокруг себя. Следующий свободный ее вояж по Советской стране
пришлось бы отложить, но хозяевам мисс Браун ее поездки были очень я
очень нужны. Они подумали, придумали и включили испытанного своего
сотрудника в группу по древнему искусству.
Но в Москве вновь было как-то не все ладно. Боевые молодые поэть
перестали быть молодыми, в их двусмысленных писаниях редакторы и чи
• Чего же ты хочешь?
121
татели начали прекрасно разбираться, ниспровергатели облиняли, засели
на дачах, на контакт с американской покровительницей и
вдохновительницей шли неохотно. Поэтому она с еще большим жаром хваталась за
молодых. Поэтому так поспешно притащила к себе и молодого автора
рассказов, верность идейных позиций которого критики брали под сомнение. Для
Порции Браун подобные сомнения были наилучшей рекомендацией. Она
была на пятнадцать лет старше рассказчика, но ее не останавливало
ничто. Она его ласкала в постели, она обещала ему толстые сборники в
Англии, в Америке, она показывала наброски своей большой статьи о его
творчестве, которую она готовила для журнала «Энкаунтер»,
распространяемого по всему белу свету. Он, еще несколько лет назад печатавшийся
только в областной газете, цвел, перед ним раскрывались новые миры.
Но для Порции Браун это было не то, не то... Ее кадры в
Москве мельчали. Вечеров-демонстраций во Дворце спорта уже не
было, молодежь утратила интерес к литературным скандалам, все
работали, все были заняты, и бездельников требуемой кондиции находить
стало не просто.
Порция Браун еженощно приставала к молодому прозаику, чтобы тот
устроил что-нибудь интересное. Неужели это невозможно? Что с вами
сталось в последнее время со всеми? Неужели я должна бросить Советский
Союз, который изучаю более пятнадцати лет, который знаю, в котором
меня знают, и ехать куда-нибудь в Чехословакию, где процесс
демократизации нарастает с каждым годом и где перспективы несравнимо
определеннее, чем у вас?
Все, что смог устроить ее приятель,— это заказать отдельный
кабинет в одном из ресторанов и собрать компанию человек в пятнадцать.
Большинство были поэты и поэтессы, несколько прозаиков и будущих
прозаиков. Все они быстро напились и стали читать стихи для «заграничной
гостьи». Стихи были посредственные. Порция Браун слушала и не
находила среди них ничего такого, за что можно было бы ухватиться. Вокруг
нее выкрикивались строки о России, патриотические, лирические,
героические. «Нет, это не орлы,— раздумывала она,— это мелкие пташки,
воробушки». Одна из поэтесс, с плоской грудью и крупными желтыми
зубами, запела на английском языке. Произношение у нее было такое, что
Порция Браун почти ничего не поняла, но весьма благосклонно
улыбнулась певице.
За столом было уныло, скучно. Молодые поэты затеяли спор о том,
кто же из них значительнее в советской литературе. Вопрос этот, само
собой, быстро разрешить было невозможно. Косясь на «заграничную гостью»,
они ушли в узкий тесный коридор, долго толпились и шумели там, а
затем и вовсе исчезли.
В первом часу ночи ресторан закрывался. Остатки компании вышли
на улицу.
— Что ж, уже и расходиться, что ли? — сказал кто-то.— В такую
рань? Пошли в ВэТэО. Там еще открыто.
Но и туда уже не впускали.
— Ничего, — сказал все тот же человек. — Сейчас найду одного тут.
Они с моим отцом старые друзья.
Действительно, появился какой-то толстяк, он распорядился, и
изрядно подвыпившую компанию — теперь в ней было человек шесть или
семь — впустили через служебный ход в ресторан театрального общества.
В зале было шумно, что называется, дым коромыслом. Кухня уже не
работала, блюд не подавали. Приятель Порции Браун заказал шампанского,
шоколаду и фруктов. Веселья все равно не получилось. Выпили
шампанское, съели шоколад и фрукты, и выяснилось, что от компании осталось
/же не семь и не шесть, а только трое. Она, Порция Браун, ее прия-
ель — тот, кто провел их в это место, и совершенно опьяневший,
растрепанный тип с университетским значком на лацкане пиджака.
122
Всеволод Кочетов •
Пьяный сказал вдруг:
— Гражданка, а что вам не сиделось дома, в вашей Америке?
— Брось, Олег! — пытался остановить его молодой прозаик.
— Отстань! — отмахнулся от него значкист. — Я желаю
побеседовать. Вот вы,— он придвинулся поближе к Порции Браун,— я, думаете,
не заметил этого? — вели с нами сегодня этакие двусмысленные
разговорчики: что, да как, да почему? Вам чего хочется? Второй Вьетнам у нас
устроить? Маком!
— Олег!
— Отстань, дай я ей все скажу. Не выйдет, гражданочка, у вас
ничего. Немцы тоже хотели оставить нам выжженную землю. Во —
получили! — Он показал кукиш.
Порция Браун встала. Молодой прозаик загородил ее от
разбушевавшегося малого с университетским образованием. А тот все шумел:
— Сидели бы дома, милая, деток бы нянчили, возили бы их по
Бродвею в американских рессорных колясочках. А то, что вы сейчас делаете,
предоставили бы вашим цереушникам. Вы что, «корпус мира»?
Приятель вывел Порцию на улицу.
— Уйдем, — сказала она. — В гостиницу. Скорей!
— А может быть, к кому-нибудь домой заглянем? — не очень
решительно предложил он.
— Нет, нет, на сегодня хватит: «Цереушники»! Какие у вас все
просвещенные стали. Опять книг про шпионов навыпускали, опять фильмы
про разведчиков, да? Раздуваете психоз подозрительности! Однажды уже
было. Вам мало этого, мало?
Она зло и звонко щелкала каблуками по асфальту, спускаясь по
улице Горького к гостинице «Москва», затем повернув к «Метрополю».
— Меня не впустят, — сказал он перед входом. — Поздний час.
— Да, не впустят, — сказала и она и добавила по-английски: —
Вы воробей!
— Что? — переспросил он.
— Ничего. До свидания.
Она была взвинчена, раздосадована, как с ней уже давно не
случалось. Спать ложиться в таком состоянии не могла. Позвонила по
телефону в номер Юджину Россу, сказав себе, что если не ответит на второй
звонок, то третьего она дожидаться не будет. Но тот ответил с первого.
— Юджин, это вы?
— А вы полагаете, мисс Браун, что я вожу к себе по ночам мужчин и
они тут выполняют роль моих секретарей?
— У вас нет выпить, Юджин?
— О, сколько угодно! Принести к вам или вы сами зайдете?
— Лучше я.
— Жду.
— Садитесь, — предложил он, когда впустил ее в свой заваленный
хламом номер. Тут были фотоаппараты, фотоматериалы, раскиданные
повсюду фотоснимки, коробки и пакеты от магазинных покупок. Он сбросил
с кресла какой-то пакет, подвинул кресло к Порции Браун. — У вас
чертовски бледное лицо, Порция. Вы устали?
— Устала, Юджин. Очень. Хорошо бы виски.
— О'кэй! — Он налил ей полстакана, она не останавливала его
руку. — Льда нет. Содовой тоже.
— Ничего, обойдусь. -^ Она залпом выпила все.
— О, говаривал в таких случаях мой дедушка, леди пьет, как сол
дат. Еще?
— Еще.— Через несколько минут она была пьяна.— Юджин,—
сказала,— надо уезжать обратно. Ну это все к... к... к...— Из нее бурные
потоком хлынула матерщина, да такая, что Юджин Росс, сначала удивив
шийся было, повалился затем на постель и хохотал, как сумасшедший
• Чего же ты хочешь?
123
— Ничего смешного! — кричала, переслаивая это еще более
яростной матерщиной, Порция Браун. — Ничего смешного. Вы осел, если вам от
этого смешно. От этого плакать, плакать надо! — И она заплакала.
Юджин Росс немного успокоился, встал с постели, начал
прикладывать к глазам и к щекам Порции Браун носовой платок.
— Что случилось-то? Из-за чего вы так?
— Дерьмо эти советские парни и девки! — Она стала рассказывать
о неудаче своих контактов с молодежью последнего поколения, о том, как
великолепно было несколько лет назад и как скверно стало теперь.
— Порция,— сказал Юджин,— вы опытнее меня, не мне вас учить.
Но я вас не понимаю. Вы просто нарвались на пустой пласт породы, без
золотых вкраплений. А у меня, например, никакого желания
немедленно уезжать нет. Я возле золотоносной жилы. Ребята, как губки,— все
впитывают. Что нам с вами шеф говорил, чему учил? Самый неблагодарный
материал — это работники литературы и искусства. Это перманентные
климактерики. У них все неустойчиво, все неверно, сегодня они орлы,
завтра чижики.
— Воробьи!
— Ну воробьи, пусть воробьи. Вернее, надежнее — кто? Дети
хорошо обеспеченных. Забалованные, распущенные, жаждущие удовольствий.
— И вы их нашли, Юджин?
— Конечно.
— Браво, мальчик! Дайте, я вас поцелую. У вас сравнительно чистая
постель? Может быть, пригласите переночевать с вами? Вы хоть
немножко джентльмен? Или и ночью будете жевать резинку?
Юджин Росс пожал плечами, раздел Порцию Браун, разделся сам.
Утром она поднялась, держась за голову.
— Чем вы меня вчера напоили, чудовище?
— Виски. Но я предупреждал, что ни содовой, ни льда у меня не
было. И вы решили по-солдатски.
— Но можно же было удержать меня, остановить. Ах, как трещит
голова!
— Надо снова выпить глоток, и станет легче.
— Налейте. Но только не по-вчерашнему. Один глоток.— Она
выпила, посидела, не одеваясь.— Да, пожалуй,— сказала через некоторое
время,— легче, вы правы. Да, кстати, вчера вы тоже были хороши. Напились
так, что сразу же уснули и забыли, зачем мужчина и женщина вместе
залезают под одно одеяло.
— У вас склочный характер, Порция. Не надо врать.
Она оделась, в дверях помахала ему рукой и пошла к себе. Возле
дверей ее комнаты стоял Клауберг.
Он, не здороваясь, вошел вслед за нею.
— У меня нет намерений блюсти вашу нравственность, мисс Браун,—
сказал он, садясь без приглашения в кресло.— Это дело, очевидно,
трудоемкое и не каждому по силам. Администрация гостиницы мне уже
сделала весьма деликатное представление на ту тему, что у вас слишком
поздно задерживаются мужчины.
— Чтобы опровергнуть эту болтовню и как-то все уравновесить,—
мисс Браун очаровательно улыбнулась,— сегодня я сама слишком поздно
задержалась. А впрочем,— улыбка сошла с ее лица,— какого черта и вам
и этой администрации от меня надо? Я живу и поступаю и буду жить и
поступать так, как мне, мне, мне желательно, слышите? А не вам или их
паршивой администрации. Я плачу валютой за эту нору, долларами,
долларами, золотом. И за порогом ее я хозяйка.
— Мисс Браун, не орите, в коридоре слышно, они теперь знают
любые языки, так что не нажимайте на голос. Я повторяю, мне ваша
нравственность ни к чему. Но вы компрометируете нашу фирму, наше дело. Мы
124
Всеволод Кочетов •
научная экспедиция, мы ученые, а не какие-нибудь французские шансонье
или мимы, не тренькалыцики на банджо и не чечеточники из Бразилии.
— О я, я, герр Клауберг! Данке шён! Киндер, кюхе, кирхе! Дойч-
ланд. Дойчланд юбер аллее! Гот мит унс!
— Вам, очевидно, нужны валерьяновые капли, мисс Браун. Или еще
более радикальное средство для успокоения нервной системы: обертывание
мокрыми простынями.
— Можно обливание водой на морозе, как вы поступили с одним
русским генералом и сделали из него сосульку. Можно подвесить на
вывернутых руках. Можно...
— Хватит! — Клауберг хлопнул ладонью по столу.— Иначе я на
самом деле заткну вам глотку, идиотка вы этакая! Я позвоню в Лондон,
чтобы вас немедленно отсюда убрали.
Порция Браун усмехнулась.
— Если кого и уберут, то им будете вы, герр Клауберг, а не я. Это
я вам гарантирую. Ну что еще? Только с этим вы и шли ко мне?
— Да, с этим, потому что, когда тобой начинает интересоваться
администрация гостиницы, от этого совсем недалеко, что заинтересуется
и площадь Дзержинского.
— Но мы же не делаем ничего', что может заинтересовать эту
уважаемую площадь. Или у вас есть тут какие-то свои, особые от группы
делишки, герр Клауберг?
— Я понимаю, что вы шутите. Но и шутить так не следовало бы. А
вдруг у стен есть уши?
— Но если у вас особых делишек нет, то почему надо опасаться
стен?
— До свидания, мисс Браун. Я вас предупредил.— Клауберг встал
и вышел.
Порция Браун смотрела ему вслед, в широкую тяжелую спину, и зло
щурила глаза.
Клауберг спустился на улицу, принялся ходить в тени лип по
тротуару. Он взвинтился в этот день неспроста. Расставшись после завтрака с
Сабуровым, который отправился в Музей Пушкина, он вот так же вышел
сюда, под липы, рассматривал подъезжающие и отъезжающие автомобили
и пытался вспомнить еще один, последний адрес, который был ему назван
в Брюсселе. Номер дома помнил, квартиру помнил, фамилию, имя,
отчество. А название улицы вылетело. Надо, значит, обращаться в Мосгорсправ-
ку, а там дадут длинный список этих повторяющихся имен, отчеств и
фамилий, ходи потом и жди, что нарвешься на какого-нибудь бдительного
молодца.
И вдруг в толпе снова мелькнуло то самое в мелких чертах лицо под
белесыми прядками, которое мучило его уже целый месяц. Он пошел за
этим человеком, в двух шагах позади, даже не зная, зачем он это
делает. Человек не оборачивался, шел тихо, спокойно, вошел в какую-то
дверь и исчез. И опять Клауберг не мог решить, почему это лицо его так
тревожит, в чем дело? Встречались? Да, совершенно ясно, что встречались.
Но где, где? И когда? Человеческая память — штука капризная. Эта
встреча могла быть всего лишь вчера, а память отнесет ее на долгие годы
назад. И наоборот — виделся с человеком в незапамятные времена, а память
ищет эту встречу во вчерашнем дне. И тогда стало тревожно: может быть,
человек этот стал мелькать возле него со дня их прибытия в Москву?
Может быть, это «хвост»? И, может быть, «хвост» уже зарегистрировал его
разъезды по московским адресам? А тут еще потаскуха из ЦРУ или
откуда-то там, из некоего такого подобного! Администрация гостиницы
действительно предупредила его в весьма вежливой и деликатной форме, что
член их группы госпожа Браун, очевидно, не знает советских порядков и
что его, как руководителя группы, просят ей эти порядки разъяснить.
• Чего же ты хочешь?
125
Вот и разъяснил этой скорпионше! Киндер, кюхе, кирхе!.. Еще и
смеется. А и им бы, в их Америке, не помешало иметь прочные основы в
семейной жизни!..
Он ходил и ходил по тротуару. Вокруг, огибая его, катясь навстречу,
двигалась толпа хорошо одетых мужчин и женщин. У каждого были свои
дела,-свои заботы. Но вряд ли кто-либо еще, кроме Клауберга, мучился
здесь такими заботами, какие мучили его.
33
Булатов выступал в клубе подшипникового завода, рассказывал
рабочим о том, над чем- он работает, о поездках за рубеж, о новых книгах и
новых явлениях в советской литературе, об идеологической борьбе в мире,
х^удитория была хорошая, внимательная, чувствовалось, что все, о чем он
говорит, людям интересно; Булатов разошелся и проговорил ровно два
часа. Потом его окружили с разными вопросами, просили надписать его
книги. На это ушло еще с полчаса. И когда он, наконец, вышел на улицу,
где стояла его машина и где устроители вечера еще раз благодарили его
и пожимали ему руки, он вдруг увидел в нескольких шагах от себя Ию.
— Вы? — сказал он и шагнул к ней.— Куда же вы пропали?
— Собственно, пропали-то вы, Василий Петрович, а не я,— ответила
Ия, подходя.
Булатов распахнул дверцу своей «Волги».
— Садитесь, Иинька. Или у вас другие планы?
Она молча села на место рядом с местом водителя, на водительское
сел Булатов.
— Как вы здесь оказались? — спросил он, когда машина
тронулась. — Совершенно неожиданная встреча.
— Это для вас она неожиданная, Василий Петрович. А я ее вот уже
сколько жду. Нехорошо так. Приходится в объявлениях вычитывать, где
вас можно поймать.
— Занят, Ия. Чертовски занят. Знаете, как занят!
Он легко и ловко управлял машиной. Она шла без рывков, без
толчков, без резких торможений.
— Сейчас вот, например, девять, да? Десятый? — Он взглянул на
часы.
— Василий Петрович, не говорите, пожалуйста, что и сейчас вы
должны куда-то мчаться, что вас там ждут, что это очень важная, почти
международная встреча. Не говорите.
— Ладно.— Он усмехнулся весело и вместе с тем озадаченно.— Но,
между прочим, дело обстоит почти именно так. Важная встреча.
Международная. Просили заехать хотя бы на полчасика, показаться, сказать
пару слов. В Дом дружбы. Если вы не против, заедем вместе.
Ия согласилась.
В Доме дружбы на проспекте Калинина принимали итальянцев. Когда
Булатов и за ним, стараясь быть понезаметней, Ия вошли в уютный
круглый зал с круглым столом, за которым, судя по дыму сигарет и по
опустошенным бутылкам боржоми, хозяева и гости сидели, видимо, уже давно,
навстречу Булатову раздались голоса:
— О, синьор Булатов!
— Василий Петрович!
Он с кем-то обнимался, жал кому-то руки, что-то говорил на ходу;
успел при этом представить Ию, назвав ее известным ориенталистом.
Потом были налиты бокалы, чокались с Булатовым, он сказал тост, которому
шумно аплодировали.
Среди гостей оказались двое из Турина. Ия слушала их разговор с
Булатовым о фиатовских заводах, о каких-то общих знакомых. Один из
итальянцев сказал:
126
Всеволод Кочетов #
— Ваш большой противник, этот желчный Спада, Бенито Спада,
потерпел фиаско. От него уехала жена, та милая русская, которая, вы
помните?..
— Не только помню, дорогой Витторио! Я помогал ей устроить этот
срочный отъезд. Она в Москве. Лера Васильева?
— Да, да, синьора Лера! Бенито рвет на себе волосы. Получилось,
что не он, а его бросили, предпочли ему, такому преуспевающему,
другого. Но у него это не единственная неприятность. Коммунисты его
хорошо отделали за трусость. Он не вышел на улицу, когда туринцы
протестовали против натовских баз в Италии, против нахождения Италии в
НАТО. С ним поговорили очень строго. Даже более чем строго.—
Подумав, итальянец сказал: — Он негодяй. Я не понимаю, как таким удается
пролезать в партию коммунистов. И зачем им это?
— Ничего, Витторио, со временем все мы в этом разберемся,—
отшутился Булатов. — Давай по глотку за прекрасную синьорину! — Он
указал глазами на Ию. — Не правда ли, синьорина заслуживает этого
комплимента и этих бокалов?
— О да! — Итальянец даже встал, чтобы коснуться своим бокалом
бокала густо раскрасневшейся Ии.
— Василий Петрович!.. — сказала она протестующе. — Ну зачем вы!..
Потом итальянец уже все время не отводил взгляда от нее. Она
чувствовала, как он осматривает ее лицо, руки, плечи, шею, грудь.
Почти физически ощущала скольжение по себе его глаз. «А Василию
Петровичу хоть бы что,— усмехнулась она мысленно.— Этот готов
слопать, а Василий Петрович будто ничего и не видит». Она прикоснулась
плечом к плечу Булатова. Тот, занятый разговором, отодвинулся вместе со
стулом, как от чего-то мешающего. Она тоже передвинула свой стул и
еще раз коснулась плечом его плеча, делая вид, что ищет что-то на столе
среди посуды. И снова он отодвинулся. Это ее обескуражило, она сникла,
сидела молчаливая и безучастная.
Пробыли они в Доме дружбы не полчаса, как предполагал Булатов,
а целых полтора и в машине оказались только к одиннадцати.
— Ну что, отвезти вас спать? — сказал Булатов, включая мотор.
— А других предложений у вас нет? — грустно отозвалась Ия.
— Покататься хотите?
Она кивнула.
— Что ж, с полчасика можно.
По проспекту Калинина, по Кутузовскому они выехали на Минское
шоссе. Там спустились под мост, повернули на какую-то другую дорогу —
Ия в темноте не узнавала местности — и остановились среди кустов и
деревьев. Не очень далеко, на холмах, был виден университет, многие окна
его еще светились — там, как, бывало, и Ия, еще зубрили свое универси-
тетцы. Хотя что же сейчас зубрить? Лето, экзамены окончены. Видимо
хвосты добивают.
— Где мы? — спросила она, когда Булатов выключил мотор, а
затем и фары.
— Когда-то здесь было весьма примечательное местечко. Но теперь
оно утратило свое значение. — Булатов распахнул дверцу.
На воле оказалось не так уж и темно, шли первые дни июля, дни
были длинные, ночи короткие и прозрачные. От земли поднималось мягкое
тепло, стрекотали кузнечики, пахло травами.
— Как в украинских степях! — сказала Ия. — Удивительно, рядом
город — и вот так по-степному.
— Город не рядом, а он тут, мы же в городе, в черте бетонки. Этс
бывшая дача Сталина, так называемая ближняя. Вот по этой дороге, туда
туда, меж сосен и елок... Пошли!..
Он запер на ключ машину, и они пешком двинулись по дороге меж со
сен и елок.
• Чего же ты хочешь?
127
— Говорят, что в свое время не только мы с вами оставляли тут свои
машины и дальше шли пешком, но даже и члены Политбюро это делали,—
сказал Булатов. — За точность сведений не ручаюсь. Но, во всяком
случае, о многом, об очень многом могли бы порассказать эти дорожки и эти
места.
Они уперлись в глухие темные ворота, в стороны от которых уходили
в молодой сосняк такие же глухие высокие заборы.
— И все? — удивленно сказала Ия.
— Все,— ответил он.— Пошли назад. А вы чего бы еще хотели?
— Туда, за ворота.
— Заперты. Увы!
— Василий Петрович,— заговорила Ия, когда они тихо шли
обратно, — о вас знаете что говорят? Что вы сталинист.
— А кто говорит?
— Да так, разные, в воздухе это плавает, как пух с тополей.
Другой раз смотришь, где этот тополь, нет его поблизости, а пух летит.
— А что это такое, по-вашему, сталинист, Ия?
— Трудно сказать, Василий Петрович. Из зарубежной печати я кое-
что вычитала. Смысл в это слово вкладывается нехороший. Вроде бы это
такой человек, который везде и всюду хочет завинчивать гайки, что-то
ограничивать, запрещать, наказывать людей, принуждать...
— А не убеждать...
— Да-да.
— И безразлично, какие гайки, что ограничивать, что запрещать, за
что наказывать, кого принуждать?
— Да вот какой-нибудь ясности нет...
— Что ж, Ия, в этом известная правда есть. Я за то, чтобы
запрещать любую подрывную работу врага в социалистическом обществе и за
нее наказывать. Я за то, чтобы запрещать у нас всякое мошенничество, во
всех его видах, и за то, чтобы мошенников принуждать к честному труду,
если уж за пятьдесят лет их не удалось убедить делать это. Подобные
гайки, я убежден, надо закручивать. Иначе машина разболтается и перестанет
тянуть. Но это, Иинька, не сталинизм, а ленинизм. У Троцкого, который
до последнего хрипа боролся против Ленина и ленинизма, и у его
последователей-троцкистов и слово «ленинец» было ведь бранным словом. Тот
же Троцкий и «сталинизм» выдумал все с той же целью: для
компрометации тех, кто и после смерти Ленина не дал Троцкому развернуться,
продолжал ленинское дело.
Ия слушала и слова Булатова сопоставляла с теми словами, какими
она сама объясняла про «сталинистов» Свешниковым. Она объясняла,
значит, правильно.
— Это же средство борьбы,— продолжал тем временем Булатов,—
придумывать устрашающие термины, спекулировать на словечках
«сталинизм» и «сталинисты». Сколько с помощью этого приемчика всякой
мрази навыползало на свет божий из клопиных щелей! Если бы вам показать
письма, которые я храню! Одно от типа, осужденного на долгий срок
отсидки. Он пишет: «Да, не спорю, принимал участие в расстрелах вместе с
немцами. Но кого я лично расстреливал? Советских бюрократов, которые
притесняли народ, тех, которые насильственно загоняли крестьян в
колхозы и раскулачивали их. Пособников Сталина я расстреливал. Я уже тогда
боролся против культа. А меня сталинисты-прокуроры и сталинисты-судьи
упекли за это на двадцать пять лет. Прошу ходатайствовать...».
Другое — это уже не письмо. Я в натуре знаю этого человека. Он был капо в
гитлеровском лагере уничтожения. А вы знаете, кто такой капо?
— Да, надсмотрщик, надзиратель.
— Не так просто, Иинька. Они, эти капо, у немцев набирались из
убийц, бандитов, насильников, всяких иных уголовников. И если
советский человек оказался среди этой компании в роли капо, то можете себе
128
Всеволод Кочетов С
представить, какой же он мерзавец. И что вы думаете, сейчас это
кандидат наук, что-то пишет, кого-то поучает. А в те недавние годы, когда
крикуны звали к расправам над «сталинистами», он орал больше всех и
немало людей уложил в постель с инфарктами, а кого и в гроб вогнал.
— Но это же страшно!
— Да, конечно. Поэтому-то я и воюю против такого рода пакостей и
пакостников, и за это пакостники, позаимствовавшие приемчик у иудушки
Троцкого, и зачислили меня в «сталинисты». Ясно?
Пройдя в молчании несколько десятков шагов, Ия сказала:
— Василий Петрович, вы извините меня.
— За что, Иинька? Что там у вас такое?
— За то, что бегаю за вами, навязываюсь вам, мешаю, надоедаю.
— Батюшки! Что за речи! — Он остановился и встал против нее.
— Да-да, бегаю.— Ия готова была даже сказать — эти слова уже
были на ее языке — «Я вас люблю», но все же заставила себя
удержаться и не сказала.
— Вот беда-то! — Он был явно обескуражен. — А я так мало уделяю
вам времени. Рад бы побольше, да...— Булатов развел руками,
улыбнулся. — А у вас есть друзья, своя компания?
Усмехнулась и она:
— Я вас понимаю, Василий Петрович. Вы думаете, что мне не с кем
убивать время и вот я вяжусь к вам. А вы не способны разве допустить
такую мысль, что мне с вами с одним интереснее, чем со всеми
остальными десятками, сотнями, может быть, тысячами? Можете?
— Боюсь, что это — преувеличение, Ия,— серьезно сказал
Булатов. — Несусветнейшее преувеличение.
— Вы когда-нибудь кого-нибудь любили?
— Забавный разговор! Да, было, любил.
— Очень?
— Кажется, да. Впрочем, не кажется, а именно да, очень.
— И разлюбили?
— Нет... Но так как-то... Много времени прошло. Разные
обстоятельства. Странный у нас с вами разговор, Ия.
— Нет, Василий Петрович, совсем не странный, просто откровенный.
Если вы любили, то вам знакомо такое состояние, когда, кроме того,
любимого человека, тебе никого и ничего не надо, когда он заслоняет для
тебя всех — пусть их десятки, сотни, тысячи, пусть все человечество
— О, это возможно только при очень, очень большой любви. И,
очевидно, только один раз в жизни. Да, я с вами согласен. Но пардон! —
Он засмеялся. — Мы уклонились в сторону от темы. Мы же говорили о..
— ...о том, что мне с вами с одним интереснее, чем со всеми осталь
ными десятками, сотнями, тысячами,— с упрямым упорством в трети!
раз сказала Ия.
— Ия! — Он взял ее за руку. — Так нельзя.
— Почему?
— Не знаю, но нельзя.
— Вы же писатель, инженер человеческих душ. Вы все должш
знать. И это тоже. Почему? Вы же что-то такое пишете в своих книгах.
— Да, задали вы мне загадку, мой друг. Пойдемте-ка к машине
Время совсем позднее. Чуть ли уже не утро. Светает, кажется. Вам, н
сердитесь за вопрос, сколько лет, Ия?
— Нет, я еще не в бальзаковском возрасте, до тридцати не дотяну
ла. Я в возрасте Анны Карениной.
— Двадцать шесть, двадцать семь, значит?
— Примерно. Была замужем. Неудачно.
— Да-да, я знаю.
— Родители...
— Зачем анкета? Ну что с вами?
• Чего же ты хочешь?
129
— Вы же сами начали. Сами потребовали от меня листок по учету
садров.
Ия твердо наступала каблуками па асфальт дороги. По лицу ее пошли
1ервые блики утренней зари, но было это так, что казалось, будто красивое
1ицо молодой, сильной женщины разгоралось не-то гневом, не то решимо-
•тью на что-то. Она шла гордая, совсем не похожая на ту, какой была с
шнуту назад. В ней что-то произошло, что-то изменилось. Булатов искоса
юглядывал на нее. Она молчала, молчал и он.
Так они сели в машину, так доехали до ее дома. Там она сказала:
«Спасибо»,— выскочила из машины и побежала в свой двор. Не оборачи-
!аясь, не посылая рукой никаких приветов.
Да, в Ие произошла явная перемена: она нашла в себе силу
остановиться, не идти дальше по дороге, по которой идет лишь один, а второй
ie только не делает шага навстречу, но даже пятится, отступает. Как ни
:транно, но помог ей остановиться вопрос о ее возрасте. Может быть, Бу-
штов совсем и не имел этого/ в виду, но она в его вопросе услышала на-
лек на то, что, мол, ее терзает возраст, точнее, ее плоть, которая в этом
юзрасте требует своего. Если он думает именно так, то это ужасно, ужас-
ю. Доказывать что-либо обратное, объяснять — бесполезно, глупо,
никчемно.
Она подтянулась, собралась, закаменела в этой своей подтянутости,
у-шла и решила, что с этой минуты все кончено, больше не будет ника-
юй суеты, никакой беготни.
В постели, под одеялом, железная ее решимость изрядно пообмякла.
Кет, она, конечно, больше навязываться Булатову не станет, нет; это вер-
ло, но вместе с тем очень и очень жаль, что она его теперь не будет видеть,
ле будет с ним говорить, не будет смотреть на него. Странный, странный
человек!.. Какую-то анкету затеял! Еще бы взял да спросил: а почему с ним
?й интересно, а с другими нет? Хотя он на это явно уже намекал: есть
ли друзья, нет ли друзей? Смешно! Почему же им у нее не быть? Не
прокаженная же она. И пошли перед Ней в ночной темени образы ее друзей.
Лучшим из них был, конечно, Феликс Самарин, друг недавний, но очень
хороший, мужественный, сильный, умный, самостоятельный, хотя и живущий
в родительском доме. С ним остро, с ним не пресно. Но и с Феликсом, как
:о многими иными, у нее не произошло того таинственного совпадения,
когда человек делается для тебя всем, когда по отдельности его качества уже
не рассматриваются, когда ты уже не станешь говорить о нем: умный,
сильный, самостоятельный, красивый. Это такой сплав, в котором и не
обязательно, чтобы тот человек был сильным или красивым, просто бы был
им, именно им, этим, необходимым — и все. Таким необходимым Феликс
Самарин для нее, Ии, не оказался. Хотя очень хорошо, что он появился в
ее жизни и что у нее есть теперь такой знакомый, такой друг. Он,
несомненно, друг, и верный друг, способный прийти на помощь в трудную
минуту.
Ну, а другие, все те, которые... «Знаю, что они прошли как тени, не
коснувшись твоего огня»,— вспомнила она строчки Есенина. Кто-то пел
их ей однажды, бренча на гитаре... Да, вот так, бездумно, бестрепетно
сверстники ее могли бренчать на гитарах, петь про черных или иных
мастей котов, про ночные или дневные автобусы и троллейбусы, про шурики
и мурики; один любил показывать, как здорово он стоит на голове; кто-то
жонглировал тремя тарелками; умели многие из них поспорить о сроках
высадки человека на Луне и о его полете к Венере; могли словесно
расправиться с теми, кто когда-то недооценивал кибернетику, и знали они
множество такого, среди которого было немало ценного, свидетельствующего об
основательных знаниях того или иного предмета, по еще больше — всякого
мусора, всякой бесполезной чепухи. А из всего вместе получалась грустная
легковесность, беззаботность, полное отсутствие раздумий о завтрашнем
дне, не говоря уже о послезавтрашнем.
9. < Октябрь» .V- 10.
мо
Всеволод Кочетов Ф
Ия устала от пустопорожности, маскируемой острословием, за
которым якобы стоит еще более острое и содержательное. В своей трудной
жизни она успела много прочесть, в том числе и хороших, умных книг, те книги
сделали свое дело, и она уже не могла отделаться от убеждения в том, что
у жизни должен быть, непременно должен быть смысл, и притом очень
высокий смысл. Человек — такое удивительное, совершенное существо, что не
может быть, чтобы природа много миллионов лет потратила на его
создание, на его совершенствование лишь для того, чтобы это
высокоразумное существо, homo sapiens, наделенное сложнейшими органами —
мозгом, сердцем, хитрейшими и тончайшими сплетениями нервов, жило лишь
для того, чтобы, выпив стакан водки, бренчать на гитаре, петь про кота
или про шарик, рассказывать анекдоты и рт девяти утра до пяти или
шести вечера сидеть в каком-нибудь учреждении за столом и прокалывать
дырки в бумагах.
Жизнь Булатова виделась ей иной. Его невозможно было
представить с гитарой в руках, поющего бессмысленную чушь. Но и не таким он
был в ее представлении, каким увидела она его в минувший вечер. Встреча
в клубе, прием в Доме дружбы —это лишь эпизоды. Главное у него другое,
другое. Он обдумывает жизнь, обдумывает, как жизнь может
превратиться в книгу, как в ней оживут люди, которые и придуманы и вместе с тем
взяты из жизней. Хотелось увидеть, понять, проследить этот процесс,
проникнуть в него душой. Булатов богаче тысяч других во множество раз.
Перед ним открывается не одна жизнь, в которой он живет реально, а много,
много жизней, рождаемых его воображением, его мозгом. Вот одно из
подлинных предназначений человеческого мозга, а не анекдотики и пошлые
песенки. Ах, мозг! Он и ракету может выдумать, и книгу сочинить, и
одновременно он же придумывает, как обокрасть квартиру, как вынуть кошелек
из кармана.
Трудна, невообразимо трудна жизнь Булатова, но'зато не скажешь,
что она несодержательна. Интересно, как же в ней участвует его жена? Та,
которая так грубо и так зло отвечает по телефону? Слишком часто
оправдывается древняя мудрость о том, что «нет пророка в своем отечестве».
Может быть, и здесь такой же случай? Может быть, -эта женщина и не
понимает и не хочет понимать, с кем рядом она находится? Может быть,
она посылает его в лавку за солью или спичками, заставляет надевать
передник и мыть посуду? Может быть, летом превращает его в дачного
мужа, и он таскает авоськи по электричкам? Ах да, у него своя машина!
Ну все равно, заставляет его совать эти авоськи в багажник машины.
Не может быть, не может быть! Не должно быть! В Ие все протестовало
против такой возможности, против того, чтобы Василий Петрович таскал
авоськи и ходил в лавочку за солью. Мозг, такой мозг — его нельзя
заставлять это делать! Она, Ия, ах, оказаться бы ей возле Василия
Петровича, она бы, она бы, она бы!.. Но возле него была другая, у той, как
виделось Ие, были совсем другие представления о жизни, о ее муже, о
назначении его мозга. И что с этим всем могла поделать она, в общем-то
несчастная, мятущаяся Ия, хотя и старающаяся всегда быть колючей, но на
самом-то деле добрая и отзывчивая!..
34
В номер Сабурова позвонил человек, назвавшийся Сергеем
Николаевичем Марковым. Объясняясь на английском, он попросил — так и
выразился — «аудиенции», и, если возможно, сугубо конфиденциальной.
Не очень жаждая какой-либо подобного заговорщического рода
встречи, Сабуров местом ее предложил скверик возле Румянцевского музея.
— Благодарю вас, благодарю, — сказал звонивший.— Никаких
особых примет не надо, я вас видел в лицо на пресс-конференции,'
я к вам подойду.
• Чего же ты хочешь?
131
Ровно в четыре, как было условлено, к скамейке, на которой,
перелистывая купленные в вестибюле гостиницы газеты, дожидался Сабуров,
подошел высокий сухой старик; несмотря на жару, одет он был в темный
костюм с белой сорочкой при бабочке, в шляпе и с легкой, подобной
стеку, палочкой в руках.
Он приподнял шляпу.
— Господин Карадонна? Очень рад, очень. — Присел рядом. —
Прошу прощения, что говорю с вами на английском. На вашем родном, на
итальянском, не рискую. Уж очень он у меня плох. Мог бы с портье в
альберго поговорить да с продавщицей в магазине, а вот так, по делу...
увы!
Снисходя к слабости собеседника, Сабуров слегка склонил голову:
понимаю, дескать.
— Господин Карадонна, может быть, вам этот разговор покажется
странным и даже очень странным, но отказаться от него я не могу.
Много дней ходил я со своими мыслями и сомнениями... Вы знаете, я
пытался поговорить с руководителем вашей группы, с господином
Клаубергом. Но он немец, и мне показалось, что общего языка мы с ним не
найдем. Немец! Какой тут разговор! Господин Росс — это типичный боксер
полусреднего веса. Он, я понял, у вас на подхвате, вещи перетаскивать,
интеллект его невелик.
— Остается мисс Браун, — сказал наконец и Сабуров.
— О нет, она не остается. Остаетесь вы, господин Карадонна. А мисс
Порция Браун... Как раз о ней-то и пойдет разговор. Мне пришлось
читать в прессе, я слышал это и по радио и на пресс-конференции в
комитете, который осуществляет культурные связи с заграницей, что ваша
миссия — миссия группы издательства «New World» — весьма благородна,
по составу своему группа весьма представительна и состоит из больших,
выдающихся специалистов по искусству Древней Руси... И вот тут-то в
меня закралось сомнение: не обманул ли и издательство и вас всех кто-
то, кто в состав группы порекомендовал эту мисс Браун? Я повторяю, что
пытался побеседовать об этом с господином профессором Клаубергом. Но
он, еще раз повторяю, немец, а кроме того, он просто отказался.
Отговорился большой занятостью. С частными лицами, дескать, он не
уполномочен вести переговоры. А я не переговоры собирался вести. Какие
переговоры! Я хотел только предупредить вас всех.
Ему было за семьдесят, может быть, уже и все восемьдесят. Но он
был сух, жилист, возраст таких не берет, они как бы еще при жизни
мумифицируются и уже до гроба не подвержены внешним изменениям. Он
даже курил; причем, достав из кармана портсигар с сигаретами, задал
учтивый вопрос: «Вы не против табачного дыма?»
— Я понимаю, что сейчас вас многое интересует: кто такой перед
вами, насколько можно ему доверять, достаточно ли честны его побуждения.
И вообще не агент ли он гепеу. — Старик весело и хитро рассмеялся. —
Нет, господин Карадонна, я не агент гепеу. Хотя с учреждением этим
прекрасно знаком. Вы, конечно, уже знаете площадь Дзержинского?
Недалеко отсюда, по проспекту Маркса, по бывшему Охотному ряду. По старым
святцам она иначе — Лубянкой — называлась. Знаете? Ну вот, там уже с
восемнадцатого года засела Чека, грозная, скажу вам, организация. В этой
Чеке я провел немало времени. Не в качестве агента — хе-хе! — а
сидельца, господин Карадонна, да-с, сидельца, сидельца, то есть
заключенного, узника.
Сабуров уже окончательно был не рад, что согласился на эту встречу.
Мало ли у кого и какие по сей день были счеты с Советской властью!
Во имя счетов своей семьи он в составе гитлеровской армии
промаршировал в сорок первом от баварского Кобурга до советского города Пушкина,
под самые стены Ленинграда. Эти счеты история к оплате не приняла и
совершенно ясно, что не примет; она, это же очевидно, не за тех, кто их
132
Всеволод Кочетов •
все еще пытается предъявлять. И вот перед ним очередной обиженный, еще
один, так сказать, его единомышленник. Но он-то, Сабуров, уже не так
мыслит, как они, совсем не так, и ему не нужны :-)ти излияния, эти
раскрытия душ!..
Он уже хотел извиниться, сослаться на недостаток времени и уйти. Но
старик, не дав раскрыть рта, заговорил снова:
— Я вам уже, кажется, называл себя? Марков. Сергей Николаевич.
Не надо путать ни с Марковым-вторым, ни с каким-либо другим. Род наш
старый, екатерининских времен, его родоначальник был семилетним
мальчиком подвергнут прививке оспы для того, чтобы полученной у него
лимфой лечить больных в семье императрицы. Все обошлось тогда хорошо,
мальчика взяли в царицыны покои, царица его обласкала и возвысила,
возвела в дворянское достоинство и присвоила прозвище Оспинного. Но
сегодня я вам представляюсь отнюдь не как дворянин, господин Карадонна,
отнюдь нет. Сегодня я советский гражданин, и никакого иного звания не
ношу и носить не желаю. Я вам не буду показывать перстней с фамильным
гербом, хотя такой герб у нашей семьи, естественно, был. Не стану
демонстрировать золотых пятирублевиков с профилем последнего «самодержца»,
«первого русского интеллигента и великого демократа», не потому, что у
меня этих пятирублевиков не сохранилось, может быть, один-два еще и
можно отыскать в моем домашнем хламе, а потому, что Николай Второй
никогда и никаким интеллигентом и демократом не был и не мог быть. Он был
обывателем, хлюпиком, а хлюпики, обладающие властью, страшны, как
никто. Он это и доказал и недаром был назван кровавым. Итак, я советский
гражданин. Путь мой к этому гражданству был длинным, ох, длинным! Да,
господин Карадонна, если бы я обладал сочинительским даром, какие бы
романы могли выйти из-под моего пера! Я служил в гвардии, в одном из
знаменитейших полков — детищ великого Петра. После февраля
семнадцатого кочевал с полком по фронтам, после октября того же семнадцатого
был на Кубани, на Дону, в Крыму. Да, да, сражался против красных.
Не удивляйтесь. Потом нас выбросили в Черное море. Буквально в море.
Меня из воды на пароход вытаскивали на веревке. Одни тащили, а
другие пытались метким ударом сапога сбросить назад в воду. Потом —
Константинополь, жуткие турецкие острова, Галиполи, Сербия и наконец
Париж.
Старик затянулся сигаретой, посидел с полминуты молча, сказал:
— Вам этого не понять, друг мой, вы тогда уже мирно жили в своей
Италии, под вашим античным солнцем, среди олив и виноградных лоз, а
нас, русских, все мотало и мотало по Европе. Да что Европа! По всему
миру мотало. Но, господин Карадонна, прошу учесть, кто был попорядоч-
ней, одного никогда не делал: не шел служить к немцам, нет! Немцы
нашу белогвардейскую братию готовы были пригреть и пригревали,
пригревали. И Врангель от них кое-что получил, и Краснов, и всякие там
Бискупские паслись на лугах Баварии и под липами Берлина.
Фашистские отряды создавались из белоэмигрантов, даже детские
военизированные организации. Как ни трудно было нам, мы к немцам за куском хлеба
не обращались. Бедствовали в Париже.
Каждым своим словом, не зная того, потомок Маркова-Оспинного бил
Сабурова по сердцу. Сабуров не сам выбирал себе убежище от
большевиков,— отец и те, кто окружал отца, но факт фактом, да, Марков прав:
воевали, воевали они, русские, против немцев, императрицу ненавидели за
то, что она немка, весь царский двор, все правительство подозревали в
игре на руку кайзера. И что же? Бросились в объятия этих самых
«исконных врагов матушки России». А сделав один неверный шаг, пошли и
дальше по ложной, ошибочной, ставшей кровавой дороге. Вот Марков
говорит... А Сабуров-то сам состоял в профашистских и фашистских отрядах,
сам занимался их организацией. Знал бы этот человек правду о том, с
кем он пришел потолковать по душам!
• Чего же ты хочешь?
133
А тот продолжал свое:
— Вот теперь о Париже. Вы такую фамилию — Цандлер —
слышали когда-нибудь?
— Вообще-то, конечно, да, слышал,— ответил Сабуров.— Фамилия
по меньшей мере не редкостная. Но персонально никого припомнить
сейчас не смогу.
— Я так и знал! Вам, очевидно, и невдомек, что ваша Браун совсем
не Браун, а именно Цандлер, Цандлер.— Старик почти обрадовался.
— Что ж, вышла замуж, и вот... — начал было Сабуров.
— Какой замуж! Она же мисс — девица!
— Во-первых, она могла развестись и сохранить фамилию мужа, во-
вторых, в Англии и в Америке секретарш и прочих деловых женщин очень
часто называют «мисс», независимо от их семейного положения, а
в-третьих, Цандлер — так Цандлер. Какое это имеет значение?
— Очень важное. Она нисколько не украшает вашу группу. Она не
может выполнить никакой благородной миссии, ее амплуа — только
низменные роли. Она внучка управляющего одним из московских банков,
некоего Цандлера, полунемка или австрийка, полу, сатана лишь знает, кто —
таких в России со времен Петра было хоть пруд пруди, осели тогда,
впились в тело России, сосали ее кровь, наживались. В дни революции ее дед
ухитрился хапнуть очень крупные деньги, чьи-то драгоценности, пытался
бежать с ними, как один советский литературный персонаж, Остап Бендер.
Но в Одессе нарвался на еще более ловких деляг. Они его обобрали.
Цандлер оказался там же, где и все мы,— в Константинополе. Сдох от сыпного
тифа, от чумы, от оспы — не знаю. Его вдова спала с любым — с нашим
вшивым офицером или солдатом, с французом экспедиционных войск, с
турком, с курдом... И что там — спала! Ее просто заводили в первую
попавшуюся подворотню. Но это все ладно, ладно, я никого не осуждаю.
Время было страшное. Своих родителей я с великим трудом сохранил в те
времена от нищенства. Я работал кем угодно, даже погрузчиком угля на.
железной дороге, и еще радовался, что хоть такая-то работа у меня есть.
Я не дал им выйти на мостовую с протянутой рукой. Они умерли в теплой
квартире, и не от голода, а от немецкой бомбы под Парижем. А вот бабка
этой грязной девки Цандлер-Браун... Почему, думаете, ваша Порция носит
фамилию Браун? Потому, что мать Порции прижила ее от какого-то Брау-
?на. И только. А мать Порции, дочь той константинопольской шлюхи, Цанд-
лерши, известная в эмиграции Линда Мулине.
— Писательница?!—воскликнул удивленный Сабуров. Этого он не
знал.
— Сказать точнее, сочинительница! Линда Мулине! Ох-хо-хо! —
хохотнул старик.— Она, эта Мулине, оказалась счастливее мамаши,
подросла в эмигрантском далеко и хорошо выскочила замуж... Нет, не за
Брауна, Браун был так, между делом, а за социалистического деятеля. Тот
пошел в гору, стал депутатом и так далее и тому подобное. А когда
пришли немцы, Мулине кинулась им на шею, а вместе с ней на шею к ним
кинулась и ее доченька, эта ваша Порция, хотя тогда ей было лет пятнадцать,
не больше. После изгнания немцев французы хотели маменьку и доченьку
выставить коленом пониже спины за сотрудничество с бошами. Но в
Париже уже оказались американцы. Обе дивы — и старая и юная — повисли
на их шеях. Покровители отстояли своих подопечных qt гнева французов.
И вот она с вами. Она не впервые в Советском Союзе. От редакций каких-
то журнальчиков она уже два или три раза приезжала сюда. Я слежу за
-ней. Она подло пишет о Советском Союзе, очень подло. И делает это
хитро, не прямо так: долой, мол, Советы, долой большевиков, как делали
наши белые вожди. Она насыщает свою грязную писанину медленно
действующим ядом. Господин Карадонна! Не грустно ли? Для вашего святого дела
вы взяли с собой такую мерзавку, такую политическую шлюху! Конечно,
потаскуха потаскухе рознь. Одну из них бог даже вознес телесно на небо.
134
Всеволод Кочетов ©
Но то была раскаявшаяся потаскуха. А эта каяться и не думает. Она враг
всего, что есть в этой стране.
— Вы уж очень резко, господин Марков. Что вы, что вы! Мисс
Браун — большой специалист.
— Специалист чего? Подрывной деятельности! Я понимаю наши
советские органы безопасности — они не могут предъявить ей ничего
особенного, впрямую она ничего предосудительного не делает. За руку ее не
схватишь. Эта рука ни стилетом, ни браунингом не вооружена. В ней перо,
обычное, мирное, пишущее перо. Но вы-то, вы же должны гнать ее поганой
метлой. Она компрометирует ваше дело!
Он все щелкал портсигаром, все курил, пальцы его, в которых он
держал сигарету, дрожали. Он волновался. И вдруг в какой-то момент он стал
понятен и симпатичен Сабурову. Ведь и он, он, Сабуров, если бы в его
жизни не все, а хотя бы часть сложилась иначе, он тоже мог бы
оказаться на месте этого человека. Не в Германию бы занесла судьба их семью, а
в Париж, не в гитлеровских войсках мог оказаться тогда молодой Сабуров,
а в отрядах Сопротивления Франции. А после войны мог бы, как этот
человек, вернуться домой, на родину, вот сюда, в Россию. Их же в ту пору
много вернулось, бывших беглецов от революции. Симпатия Сабурова к
старику была такой явной, активной, что его подмывало открыться перед
ним, сказать, что он тоже русский, тоже эмигрант, тоже тоскует о
России и что она ему совсем-совсем не безразлична. Но благоразумие брало
свое.
—г Скажите, господин Марков,— спросил он, несколько успокоив
себя, — а когда и как вы возвратились в Россию, как стали советским
гражданином?
— Все удивительно просто. Во время войны, после гибели моих
родителей, я был с теми французами, которые боролись против немцев. Это,
знаете, еще один роман. Совсем особый. Потом Гитлер сдох в своей
берлинской конуре, армия его и вся гитлеровская машина капитулировали.
Многие из нас, эмигрантов, были буквально на седьмом небе от восторга.
А как же! Кто, кто сломал хребтину этому ящеру фашизма? Россия, наша
Россия! Пусть она называется советской-рассоветской, но это Россия,
Россия! И многим из нас захотелось, остро, нестерпимо, чтобы она вновь
стала нашей, точнее, чтобы мы вновь стали ее гражданами. Пусть с
неизбежными унижениями, это ничего, перед такой могучей победительницей
унизиться совсем не унизительно. Это же не перед немцами склонять
колени, верно? И мы стали ходить в советское посольство толпами. И многих
из нас, сначала осторожно — мы же бывшие враги, мы же стреляли когда-
то в красных, это так понятно,— советские дипломаты стали приближать
к себе, а позже приняли и в советское подданство. А наконец, не всем, но
многим выдали разрешение на въезд в СССР. Увы, я приехал сюда уже
без моих дорогих, добрых родителей. Но с семьей, с семьей, господин Кара-
донна! Старушка жена, женатый сын... Дочь уже здесь вышла замуж.
Внуки. И вы, господин Карадонна, должны меня понять, вы поймете меня,
непременно поймете... Я однажды терял родину, я мыкался без нее не по
белому свету, нет, по серому, темному для меня свету, безродный,
ничейный, отребье рода человеческого. Второй раз терять я ее не хочу,
нет, не желаю. Я старый, как видите, однако, если эти Цандлеры-Брауны
попытаются в открытую напасть на Советский Союз, я еще могу держать
винтовку вот в этих руках. Я в таврических степях в полный рост ходил
в атаки. Против кого? Против своих русских мужиков. А уж перед лицом
новых фашистов тем более не дрогну, господин Карадонна. Но беда вся
б том, что Цандлеры-Брауны не в открытую идут, а пытаются точить наше
тело как жуки-точильщики, чтобы в какой-то день оказалось, что нет
могучего дуба, нет красавца кедра, а есть лишь одна видимость, стукни
слегка — и все древо рассыплется в пыль. Я читаю газеты, я слушаю радио на
многих языках. Я ощущаю этот процесс, эту скрытую борьбу. И я ненави-
® Чего же ты хочешь?
135
жу мерзавцев и мерзавок, которые не с добрым к нам сюда ездят, а с
пакостью!
— Скажите,— спросил Сабуров,— вы упомянули учреждение на
Лубянке. А как вы оказались там? И когда?
— О да! Совсем забыл. Вот память! Нет, не думайте, не после того,
как возвратился из Франции, нет-нет. А в восемнадцатом. Когда начались
заговоры против большевиков, они стали хватать нашего брата. Как
дворянина, как гвардейского офицера, забрали и меня. Сидел там, сидел. У них
тюряга была во дворе, переделанная из гостиницы, ркажу вам честно,
сволочи всякой в камерах было предостаточно. Ну что мы, дворяне, офицеры?
Примитивный народец. «Матушка Россия! Батюшка царь! Белый крест!
Трехцветное знамя!» Очень примитивны мы были. А всякие
социал-революционеры из партии госпожи Спиридоновой да господ Савинкова,
Керенского, Чернова и других — те оголтелые, те просто бешеные псы. Под
стать им меньшевики разные, Даны какие-то и прочие-прочие. Их
действительно надо было держать в клетках. До того доходили они в своей
оголтелости, что башки себе пытались раскалывать ударами об стену. Слюна
с губ падала. И можете себе представить, у большевиков какой-то принцип,
однако, был. Одних они с удивительной оперативностью ставили к стенке,
других, правда, не так оперативно, но отпускали. Меня
мурыжили-мурыжили, потом вывели на улицу и сказали: «Мотай, но чтоб ни-ни против
Советской власти». А я что? Эх!
Он усмехнулся, закурил новую сигарету, уже, наверно, десятую.
— Обрадовался, словом, свободе. Кинулся в Харьков, там мои
родители находились, захватил их да и на Дон, на Дон, к нашим родным
генералам!..— Старик не без горечи усмехнулся.— И в итоге прозевал все.
Да, все. Это же представить только, как было тут захватывающе
интересно после окончания гражданской войны! Голод, холод — а мечты о
сплошной электрификации! Вошь, тиф — а всеобщая ликвидация неграмотности.
Огромные людские массы совершали огромные исторические маневры,
перестроения, перегруппировки, меняя все в укладе России, меняя
тысячелетние принципы существования человека. Дорого бы отдал я за то,
чтобы в те времена не официантом бегать в третьеразрядных парижских
трактирах, а быть здесь, дома, и участвовать во всем этом. Знаете, сейчас
не каждый это понимает, а может быть, даже и никто не понимает, что
происходило на русской земле в те годы и как значительна, как
грандиозна та эпоха в истории человечества. Когда-нибудь летосчисление пойдет
не от мифической даты рождения Иисуса Христа, а с Октября тысяча
девятьсот семнадцатого года. Я убежден в этом. Если, конечно, до того
времени Цандлеры-Брауны, жуки-точильщики, не подточат это прекрасное
социалистическое здание. Я не могу поверить в такую возможность, я не
хочу в нее верить и все-таки тревожусь. Поэтому-то мне и хотелось
увидеться с вами и все это вам сказать. Нельзя ли вашу мисс обратно
отправить? Она компрометирует прекрасное дело. А главное — пакостит здесь.
Я не знаю, как, но она пакостит, пакостит, не сомневаюсь. Она это умеет,
это ее стихия. Империалистический Запад присылал сюда колорадских
жуков, сбрасывал с воздушных шаров всякие книжечки — это ерунда: жуков
опрыснули купоросом, книжки собрали и сожгли. А Цандлеров-то да
Браунов чем же опрыснешь?
Старик мучился своей заботой. Сабурову она была далека. В
подрывную работу мисс Браун ему не верилось, он видел в ней просто
потаскуху, авантюристку, которая, может быть, и получает что-то от своих хозяев,
но не слишком оправдывает средства, которые на нее отпускаются. Она и
хозяев, видимо, надувает. Сабурова заинтересовал сам старик, который,
оказавшись полвека назад в положении, сходном с положением его,
Сабурова, нашел в конце концов иной исход.
— А у вас, у вашей семьи была собственность до революции? —
расспрашивал он.
136
Всеволод Кочетов ©
— Была, конечно, была. Матушка-императрица, нашего исходного
Маркова щедро наделила добром. Землями, крепостными мужиками,
деньгами. Но мои прадеды не умножили полученное. Напротив, они да затем и
деды только растрачивали его. Не обладали, видимо, должной жилкой
предпринимательства. К революции какое-то поместье значилось за семьей.
Да и оно было то ли заложено, то ли сдано в аренду. Я ваш вопрос
понимаю, господин Карадонна. Вы так размышляете: у старика ничего не
было, Советская власть, следовательно, у него ничего не отняла, у него к
ней счетов и нет. Было, оказывается, все было, отняла, счет можно
расписать длиннющий. При желании. Но желания — вот чего нет, господин
Карадонна. Я стрелял в красных, я боролся против революции, и что вы
думаете, несмотря на это, они мне пенсию назначили! Я монархист, я
врангелевец, и, вот как получается, они меня в архивариусы определили! Не могу
сидеть дома на пенсионном положении. Хожу в должность, и с большим
удовольствием хожу. Не каждый день, правда. Иной раз неможется. Ни
слова не говорят. А дети? Сын — агроном, его жена с ним там же, в
совхозе, дочь — диктор на радио, на французских передачах. Нет, те наши
потери не ослепляют меня. Вот кто лавочку потерял, я заметил, тот никак
не успокоится, и даже дети, внуки его эту галантерейную лавочку помнят
где-нибудь тут, на Кузнецком, или в Питере, на Невском. Ох, за лавочку
они готовы посчитаться с Советской властью.
— Ив Советском Союзе есть такие?
— А как вы думаете, дорогой мой! Всего полсотни лет прошло!
Лавочка, мещанская квартирка, беккеровский рояльчик, подшивка «Нивы»
или «Синего журнала»... Это я привожу вам названия обывательских
русских журнальчиков, распространенных до революции... Пасхальная
служба, христосование... На улицах в этот день незнакомые чмокали друг
друга в губы. Разговление. Жратва. Грошовое вольнодумство, так чтобы
крамольных речей квартальный не услышал. Обыватель, господин Карадонна,
лавочник — он страшнее Врангеля. Это здесь один поэт был. Маяковский.
Владимир. Он очень тонко заметил: «Страшнее Врангеля обывательский
быт!» Кто за Гитлером в первых рядах пошел? Лавочник. Кто за вашим
дуче пошагал? Лавочник. Кто негров линчует в Соединенных Штатах?
Лавочники. Кто сейчас вокруг нового фюрера вертится в Западной Германии,
вокруг фон Таддена-то? Все лавочники. Я, честно говоря, людей делю на две
категории. Я не марксист, могу и ошибаться. Но у меня вот такой, свой,
домашний критерий. Лавочник или не лавочник. Посмотрю на иного. Он
ученым себя называет. Верно, сидит, выписки делает, диссертацию или
еще что-то стряпает. А гражданской души у него ни на грош. Все в своем
индивидуальном мирке видит, все в домик тащит. Ну, я на него свой
инвентарный номерок и приколачиваю: «Лавочник». Писателя слушал как-то,
был у нас, читательскую конференцию проводили. Все о себе, о себе, о том,
как он настрочил гениальный труд, а его не возносят, затирают, ходу не
дают, в то время как другие вот идут незаслуженно в гору. Зачем он нам
это говорил? Почему? А потому, что лавочник. Директора одного знаю. На
моих глазах в два раза толще за семь лет стал. Еле в автомобиль влезает.
Ему даже автомобиль дали в два раза больший, чем прежний. От дома
отъезжает минута в минуту, возвращается минута в минуту, пакеты какие-
то таскает с харчами. Я человек общительный, пытался было здороваться
с ним — он в нашем доме живет, — кивнул в ответ, как бонза. А
заговорить — и не думай. Знающие люди рассказывали, что до него вообще не
дойдешь. Звонить станешь — секретарши тебя отсекут, прийти
захочешь— пропуск нужен, а пропуск — опять звони, а там все равно
отсекающие секретарши. Мне один сказал про него: сенатор. А какой же это
сенатор! Лавочник. Они, лавочники-то, ни на что настоящее не годны.
Случись что, власть бы, скажем, — тьфу, тьфу, тьфу! — переменилась, — утром
выйди при новой власти на улицу, а они, эти, уже в лавочках сидят, за
прилавками торгуют кто чем, за ночь переоборудовались. Так кое-где во вто-
• Чего же ты хочешь?
137
рую мировую войну и было в местах, захваченных гитлеровцами. Бойтесь
лавочников, господин Карадонна! Словом, я рад, что побеседовал с вами и
все вам сказал. А кстати, с чего это ваш господин Клауберг такой
необщительный? Он не из лавочников? Ну, я шучу, шучу. Так обдумайте, как со
шлюхой быть. Гнать ее надо, гнать. Дед ее тоже лавочником был. И отец,
месье Браун, тоже, если не вру.
Сабуров уже не раскаивался в том, что согласился на встречу с этим
человеком. Марков помогал ему проникнуть в сущность явлений, в которую
без хорошего, знающего проводника не проникнешь.
— Послушайте, господин Марков,— сказал он.— Я, пожалуй,
способен понять вас, так радующегося тому, что вы хотя и поздно, но
возвратились на родину и готовы теперь сражаться за нее, если над нею
нависнет угроза. Но вот у нас за границей известно, что белые эмигранты,
остающиеся там и сегодня, продолжают надеяться на то, что они еще
вернутся в Россию, и не в такую, какая она есть, а в такую, какой бы им ее
хотелось видеть...
— Знаю,— перебил старик.— Прихвостни. Жалкие прихвостни!
Служат врагам России, получают от них подачки, а выдают себя за
радетелей русского народа. Вот я вам скажу. Они к пятидесятилетию
сочинили обращение к интеллигенции России. Наплели всякого о страданиях, о
стенаниях, о том, что... В общем, долой коммунистов, да здравствует
хваленая буржуазная демократия. Подписались мастодонты, эмигрантские
киты. Увидел я среди них и имечко знакомого мне господина Вейдле,
который выдает себя за писателя, искусствоведа, а в общем-то, если говорить
по правде, он публицист, и притом не больно крупный. Ну и что?
Разговорился я тут с одним из маших — тоже вернувшийся на родину после
войны. Тот сказал мне: «Батенька Сергей Николаевич, не верь ты им,
радетелям этим. За кость, за мосол с хозяйского стола тявкают на Советскую
власть. Ты же знаешь, что Вейдле этот на мюнхенскую радиостанцию
пошел работать, антисоветчину вещать на русском языке. Повстречал его
несколько лет назад в Западной Германии, говорю ему: что ж так, во время
войны вроде бы трепыхался, «ура» покрикивал Красной Армии там, во
Франции, а теперь вот — антисоветчина, служба у американцев. Он в
ответ: «Платят хорошо. Нащелкаю у них зеленых бумажек, куплю виллу на
Лазурном берегу, тогда и удалюсь на покой». Вот вам, господин
Карадонна, и вся идея этих господ, плакальщиков о судьбах России. Вилла под
Ниццей! Ну что ж...— Он поднялся со скамейки.— Желаю успеха вашему
предприятию. Хорошее дело, хорошее. Только гоните, пожалуйста, свою
паршивую мисс долой от него.
Старик пожал руку Сабурову и ушагал, высокий, прямой,
преисполненный горделивого достоинства.
Сабуров вновь опустился на скамейку, смотрел ему вслед, пока он но
скрылся в уличной толчее, и еще долго раздумывал обо всем, что
услышал от старика. Возвратясь в отель, он постучал к Клаубергу. Тот был
дома.
— Слушай, Уве, а ты был прав насчет Порции. Видишь ли, русские
ее неплохо знают. Кое-что они мне порассказали. Она-то нет, ни в каком,
как ты говоришь, борделе не работала. Но ее мамаша — да, потрудилась,
это, утверждают, совершенно точно. Линда Мулине! Ты слышал такое имя?
— Она что-то пишет, кажется? Такая кочующая русская стерьвь. То
она в Лондоне, то в Нью-Йорке, то в Париже. Эта?
— Видимо, да. В революцию ее родители бежали в Одессу, оттуда в
Стамбул вместе с войсками Деникина и Врангеля.
— Верно, верно! — воскликнул Клауберг. — Папаша там умер от
поноса. Мамаша, у нее две девчонки были, занялась проституцией. Кормить-
то девчонок надо! Неужто наша Порция одна из тех девок?
— Нет, этого не может быть по возрасту. Она дочка одной из тех,
как ты говоришь, девок Линды, которая стала Мулине.
138
Всеволод Кочетов @
— Так она кто же, Мулине? Браун?
— Цандлер!
— Ну не немка же, Умберто!
— Именно немка. Твоя соотечественница. Фольксдойче. Из тех
немцев, которые еще при Петре Первом поселились в России.
— Я думаю, что со времен Петра дело так перепуталось, что в ней
и единой капли немецкой крови уже нет,— сказал Клауберг.— Только
фамилия.
— Меня твои заботы о чистоте немецкой расы не волнуют,—
отозвался Сабуров.
— Да, вы, русские, народ неразборчивый. Вы и на японках, и на
негритянках, и на черт те ком жениться готовы. Широкие натуры! А
пройдет время — и спохватитесь: где русский народ? Нет его. Растворился в
разных других нациях. Посмотри на евреев. Железный закон: жениться
только на еврейках, выходить замуж только за евреев.
— Чушь! Давно этого закона нет.
— Нет, есть, но, может быть, неписаный. Иначе они бы давно
ассимилировались.
— И тогда вам, немцам, не было бы столько хлопот по спасению от
них человечества?
— Ну, начинаешь свои проповеди, Умберто! Пошел ты к свиньям!
Клауберг перекидывался так словами с Сабуровым, а сам раздумывал
о мисс Браун. Это было забавным, что она оказалась дочерью Линды
Мулине, которая во время войны пописывала при немцах в Париже
прогитлеровские статейки и вообще была на хорошем счету у немцев. В качестве
кого же лондонские дельцы подсунули ее в группу — в качестве русской,
американки или немки? Могли бы ему-то сказать своевременно правду.
Окончание следует.
9
Людмила ЩИПАХИНА
Дорожное утр©
m
о о о
И как бы на свете тебе ни везло,
Сочти не за дело пустое
Однажды спросить, откровенно
и зло,
Чего ты действительно стоишь?
Но если с тобою случится беда
И ты малодушно застонешь,
По взглядам и спинам узнаешь
тогда,
Чего ты действительно стоишь!
И даже на гребне победы своей,
Кого торжеством удостоишь,
И в этом вполне прояснится,
ей-ей,
Чего ты действительно стоишь.
Случается
не
по
заслугам
воздать,
От распрей порою нам тесно.
И каждому надобно точно узнать
Свое надлежащее место.
У каждого в жизни —
единственный путь,
И сущность надолго не скроешь.
И все же однажды спросить
не забудь:
Чего ты действительно стоишь?
Воскресенье
Солнца розовый кружок
Плещется у сходен.
...Приходи ко мне, дружок,
Если ты свободен.
Ветер высушит росу.
В сетке, словно в сети,
Я с базара принесу
Всевозможной снеди.
Сливы круглы, как печать,
Залитая тушью.
Будет дыня источать
Спелое удушье.
И рубином искря дно,
Растекаясь ало,
Будет красное вино
Наполнять бокалы.
Вспыхнет солнечный ожог
Сладко и осенне.
Приходи ко мне, дружок,
В это воскресенье.
Я дверей не затворю,
Заведу веселье!
Чай калмыцкий заварю —
Пламенное зелье.
Ну, а если ты уже —
Мрачность и усталость
И ни капельки в душе
Солнца не осталось,
Если пусто впереди,
Гложет угрызенье,—
Ты ко мне не приход::
В это воскресенье.
140
Людмила Щипахина
О О О
Во мраке ночи, в свете дня,
Все прошлое кляня,
Не предавай, мой друг, меня,
Не предавай меня!
Не уступи желанью мстить —
В том невелик почет.
И с тем, чего не возместить,
Давай покончим счет.
Пусть день тяжел, а ночь глуха,
И кровь течет, звеня,
Сдержись от этого греха —
Не предавай меня!
Мы были словно два весла
И два больших огня...
Мой друг, не пожелай мне зл<
Не предавай меня!
Оставь мне память и слова,
Безвинно не виня.
Не потому что я слаба,
Не предавай меня!
Не потому... Совсем иной
Корысти жду в судьбе:
Пока не предана тобой,
Я преданна тебе.
•
Джабир НОВ.РУЗ
Рецензия на мои старые стихи
О мои старые стихи,
вы так пространны и сухи,
в трескучих строчках тонет глаз.
Вот мое мнение о вас:
вы, как поблекшая трава,
вы просто так — слова, слова...
В вас много выспренних красот,
а мыслей в вас — наперечет.
Нет, вы не блажь, вы — сердце,
суть,
в вас плоть моя, мой труд, мой
путь,
из этих вот черновиков
пришли вы в томики стихов.
О мои строки! Много лет
на первых полосах газет
являлись вы. Я не роптал,
снимая урожай похвал.
О мои старые стихи!
Как вы бескрылы и плохи!
Изящна рифма, как тюльпан,
а чувства нет, один дурман.
У многих были вы людей,
Когда приходят
люди в мир,
для всех наш мир широк,
для всех он щедр и мил
и прочит тысячу дорог.
У жизни мудрый есть обычай:
вручать пришельцам новым
дары, не делая различья,
дарить им голос, слово,
дарить единственное имя,
но пеленали в вас сельдей.
О поэтический мой дар,
тебя использовал базар...
Я понял все. Не враз, потом,
я вас сегодня жгу огнем,
моя беда или вина,
но не сердитесь на меня.
Да, вы должны простить меня:
не делал я того, что мог,
я молод был, к себе не строг.
О штабеля незрелых строк!
Лишь славы сладкий фимиам
меня привязывал к стихам.
Да, с вами я жесток и груб,
вы жажду воспаленных губ
не утоляли никогда,
вы, как соленая вода...
И радость праздников самих
порою умалял мой стих...
О мои старые стихи,
как много разной в вас трухи!
Я к вам безжалостен, я зол.
Как трудно я от вас ушел!..
отчизну, добрую, как мать,
живые руки, чтобы ими
вершить и радость созидать.
Великолепная работа,
работа по большому счету!
Один лишь раз
дары судьбы
встречают нас...
Перевела с азербайджанского
Марина ТАРАСОВА.
Дары судьбы
•
Бетти КОЛЛИНС
Рассказы
Звуки музыки
Нел Джонс играла на пианино. Она сидела выпрямившись на
старом круглом стуле, пальцы ее легко бегали по пожелтевшим
клавишам. Голова с тяжелой копной волос гордо вскинута вверх, на лице
застыла улыбка. В эти минуты она играла для себя. Музыка делала ее
счастливой и хоть на какое-то мгновение давала возможность
почувствовать себя свободной.
Ее старшая четырнадцатилетняя дочь Молли зажгла керосиновую
лампу и поставила ее так, чтобы осветить пюпитр и волосы матери.
Молли любила эти волосы. Она видела мало красоты вокруг, разве что
закат, красный и такой живой, что невозможно было оторвать взора, когда
солнце скатывалось за голые скалы.
Лампа тускло осветила грязные брезентовые стены палатки,
металлическую крышу и земляной пол. Нел улыбнулась дочери и начала
играть старинные австралийские баллады и песни, ставшие
популярными во время войны. Большинство здешних мужчин были участниками
войны, провели годы в траншеях. Вши, болезни и смерть
неотступно следовали за ними вплоть до того дня, когда настал мир и
солдаты разошлись наконец по своим домам, чтобы снова вдохнуть в себя
жизнь.
Остальные дети (их было шестеро) чинно вошли в палатку,
по-воскресному чистенькие, и сели на самодельный вязаный коврик. В
воскресные вечера они всегда засиживались дольше обычного, но когда все
же уходили спать, то через занавеску, отделявшую их половину
палатки от той, где стояло пианино, долго еще слышали пение.
— А ты и сегодня собираешься напоить всех чаем? — спросил Том
Джонс у жены.
Он знал, каков будет ответ. Эти воскресные вечера уже давно
стали традиционными. И спросил он, очевидно, лишь для того, чтобы
отвлечь жену от музыки и переключить ее внимание на себя.
— Мы ведь всегда это делаем, Том,— с упреком сказала она.— И
знаешь, это совсем не составляет никакого труда. Молли расставит
чашки, а Оуэн последит за огнем. В большом черном чайнике есть вода.
Нел улыбнулась мужу, мягкий свет лампы падал на ее лицо, и
высушенная солнцем кожа казалась теплой и мягкой. Щеки Нел
горели. Шея была гладкой, как у подростка.
«Это оттого, что. она так прямо держит голову»,— с завистью
подумал Том.
9 Рассказы
143
Он вышел во двор и поставил старый чайник на огонь.
Музыка была слышна повсюду. Шахтеры один за другим выходили
из своих жилищ и направлялись к скромной палатке Джонсов.
Женщины, а их все еще было маловато в. этом новом шахтерском
поселке на дальнем северо-востоке Австралии, пришли, захватив с собой
пшеничные лепешки, сахар, баночки со сгущенным молоком. Если не
считать многочисленного семейства Джонсов, детей в поселке было тоже
немного. Малыши уже спали, ребятишки постарше, набегавшись
босиком по теплой сухой пыли, пришли к палатке. Они шумели, возились,
пока наконец старшие не успокоили их, усадив в кружок возле огня
на улице, быстро погружавшейся в темноту.
Взрослые собрались в палатке. Мужчины столпились возле пианино,
женщины уселись на коробках, ящиках, шатких стульях.
Скоро пели уже все. Голоса их, сильные, счастливые, разносились
в тишине поселка.
Они пели, и музыка воскрешала в их памяти отчий дом,
предвоенный мир, матерей, одетых в длинные платья, скромные жилища, где пахло
чистыми натертыми полами и комнатными цветами.
Пианино было свадебным подарком Нел от матери. Том и Нел
поженились в маленькой шахтерской деревушке в Уэльсе, в Англии, где
они оба родились. Там же у них еще до войны появилось двое детей.
А потом началась война, и Том оказался во Франции. Вернулся он
домой совсем другим человеком, огрубевшим, раздражительным, злым. Он
стал особенно невыносимым, когда на шахтах началась безработица,
сразу после окончания военных поставок.
Жизнь была нищенской, мрачной, безрадостной, и тогда Том увез
свою семью — Нел, двух подросших детей и новорожденного — в
Австралию. Когда они плыли туда на переполненном переселенцами корабле, их
пианино было вместе с ними.
С тех пор это пианино следовало за ними повсюду. После
нескольких месяцев скитаний в поисках работы Том определился наконец на
вновь открывавшуюся шахту в Маунт-Миллиган, на полуострове Кейп-
Йорк. За год до этого взрыв оставил здесь среди ночи вдовами девяносто
женщин. Том должен был разгребать завалы в шахте, вытаскивать
наверх останки погибших рабочих. Теперь, когда все, кто знал этих
шахтеров, уехали из поселка, администрация могла наконец похоронить
останки.
Но ведь не за этим же он проехал полмира. Когда представилась
возможность получить работу на крайнем северо-западе, Нел уже снова
была беременна. Они собрали свои нехитрые пожитки, погрузили все
в повозку, запряженную волом, и двинулись в дальний путь через
пустыню. Пианино было с ними.
И куда бы они потом ни ездили, всюду возили с собой и пианино.
Человек ко всему привыкает. Начали и они свыкаться с такой жизнью.
Нел жила в палатках, во временных, наскоро сколоченных хибарах,
готовила на походной плитке, храбро воевала с заползавшими змеями и
почти каждый год рожала. А ее прежняя жизнь в шахтерской
деревушке в Уэльсе казалась ей чем-то далеким-далеким и постепенно стиралась
из памяти.
Но в каждый воскресный вечер, если только ей не препятствовала
болезнь или переезд на новое место работы, Нел играла, а люди
приходили и пели.
Сегодня будет их последний музыкальный вечер на этом месте. Они
собрались уезжать поближе к побережью, туда, где закладывались
новые угольные шахты и где Тому обещали работу, а Нел — жилье.
Нел продолжала играть, а те, кто пел, все не расходились.
Ребятишки один за другим уходили домой спать. Молли и Оуэн укрыли
одеялами своих младших братишек и сестренок и уснули рядом с ними, устав-
144
Бетти Коллинс- ф
шие за весь длинный и жаркий день, взволнованные и опечаленные
предстоящим отъездом, так же, как и те люди, которые пели вместе с ними
на прощание.
Женщины вскипятили воду, принесли в палатку густой, сладкий чай,
разлили его в грубые глиняные чашки. Нел повернулась на своем
круглом стуле, выпила чай вместе с гостями и снова повернулась к
клавиатуре. Людям хотелось спеть все любимые песни, наполнить звуками
уснувший поселок, чтобы и тогда, когда эта женщина и ее пианино уже
будут далеко, песни оставались с ними.
Густая ночь скрыла их лица, когда они наконец распрощались. Нел
и Том постояли некоторое время у входа в палатку, послушали эхо
удалявшихся шагов, потом закрыли пианино и пошли спать. Нел подумала,
немного заколебавшись, не случится ли так, что страсть, которая их
сейчас томила, принесет ей еще одного ребенка. Но ведь в этой жизни,
становившейся порой невыносимой, у нее не было ничего другого, чем
она могла одарить своего мужа.
Утром семейству Джонсов потребовалось совсем немного времени,
чтобы собраться в дорогу, они уже были ие новички в таком деле.
Соседи помогли погрузить пианино. С остальными вещами они
справились сами. В ящик с посудой положили одежду, потом погрузили
инструменты Тома, постели, немного мебели, железный* сундучок, палатку и
занавески, разделявшие ее на комнаты. Все это им должно было
пригодиться и в будущем. Пианино поставили у кабины, привязав веревками,
оно тускло поблескивало под первыми лучами утреннего солнца.
Вначале все шло хорошо. Детям поездка нравилась. Они
проезжали заросли спинифекса, совсем рядом с начинавшейся пустыней.
Красноватая пыль ложилась на брезент кузова, длинным оседающим облаком
взлетала позади машины.
В тени высоких деревьев, распростерших свои ветви над живописной
лужайкой, Джонсы сделали привал, разожгли костер из крепких
спутанных сучьев эвкалипта, вскипятили чай.
Затем двинулись дальше к побережью. Дети, увидев огромные
накатывающиеся друг на друга волны Тихого океана, бросились в воду,
пробовали плавать, плескались, смеялись, поддерживали меньших братьев
и сестер, когда волна набегала на малышей.
Нел разрешила детям позабыть на время о своих зачитанных, с
загнутыми углами учебниках, упакованных в железный сундучок. В Коллин-
суилле будет школа, и тогда исчезнет наконец одно из самых больших
волнений в ее жизни.
Молли, Оуэна, Льюиса — ребенка, появившегося на свет после
возвращения Тома с войны, и даже маленького Эвана, первого австралийца
в их семье, Нел пыталась учить сама, испытывая благоговение перед
наукой, что так свойственно людям, получившим весьма скромное
образование. Часто вечерами, перед тем как уложить детей спать, Нел пела им
песни. И еще она учила ребят музыке. Она засаживала их за пианино,
отрывая от игр.
Сейчас, видя, как постепенно исчезает озабоченность и усталось с
лица жены, как радуются и веселятся дети, Том решил проехать по
побережью и немного продлить путешествие.
Дорога была хорошо укатана; она шла вдоль новой одноколейки,
временами спускалась вниз к пересохшим руслам маленьких речушек,
потом снова поднималась вверх. Иногда они сворачивали с основной дороги
и ехали стороной, там, где легче было проехать между деревьями и
камнями. Наконец дорога скользнула в туннель. Грузовик Тома подошел к
насыпи, но проехать дальше не смог. Туннель был очень низким, а вещи
оказались нагруженными высоко.
Весь этот день настроение Тома постепенно падало. Грузовик ехал
со скоростью не более десяти миль в час, приходилось объезжать овра-
Ф Рассказы
145
ги, иногда сворачивать в сторону от преграждавших путь завалов из
веток и камней. И каждый раз, когда машина съезжала в глубокий овраг
или преодолевала препятствие, пианино ударялось о кабину.
Дребезжание и звон струн добавлялись к шуму мотора и к прерывистым
вскрикиваниям Мэй, их младшей дочери, сидевшей в кабине на руках у
матери. Том выругался, употребив одно из самых крепких автралийских
выражений, отъехал немного назад от туннеля и остановился на обочине
дороги. Вместе со старшими детьми он снял с грузовика все так хорошо
уложенные вещи, пианино они кое-как спустили на веревках. Нел с
упавшим сердцем наблюдала, как его поставили прямо в придорожную пыль.
— Вот наконец-то дошла очередь и до этого драгоценного пианино! —
сказал Том.— Я таскал его за собою по всему свету, но теперь уж ему
пришел конец. Больше я таскать его не намерен. Пусть остается4 здесь.
— Нет! — решительно сказала Нел.
Она посмотрела на мужа вызывающе, с откровенным неповиновением.
Молли подошла к матери и встала рядом с ней. Женщина с волосами
кремового цвета и подросшая девочка стояли вместе на солнце среди
оседающей пыли.
Том побагровел. Он свирепо ринулся разгружать оставшиеся вещи
и позвал на помощь детей. Но никто из них не сдвинулся с места.
Ребята стояли, молча переводя взгляд с отца на мать, нежно гладили
пианино, оставляя следы рук на покрытой пылью крышке.
— Видишь, что ты делаешь? — закричал Том.— Ты учишь детей
непослушанию, но я их заставлю палкой...
— Том, будь благоразумным,— начала Нел.
— Это ты будь благоразумной! — крикнул он. — Для чего ты вышла
за меня? Чтобы я был лакеем около твоего пианино?
— Если ты оставишь здесь пианино,— сказала Нел,— ты оставишь
здесь и меня.
Она отдала малышку Мэй Молли, достала из кабины корзинку и
принялась делать сандвичи: тонкие кусочки хлеба намазывала маслом
и сливовым вареньем. Том отказался есть. С трудом сдерживая гнев,
он приказал старшим сыновьям помочь ему перетащить вещи и снова
нагрузить их в кузов. Потом провел машину под насыпью и, оставшись
в кабине, он закурил сигарету, открыл маленькую бутылку пива,
купленную еще в Боуэне, и выпил большими глотками эту теплую пенистую
жидкость. Понемногу гнев его стал улетучиваться. Промокшая от пота
рубашка холодила спину, пиво 'и сигарета привычно успокаивали нервы.
Тщательно перебирал он в уме все перипетии их совместной жизни.
Отец Нел владел шахтой и пивным баром в дслине Фонда. Был он
человеком суровым и истинным эксплуататором. Выплачивая жалованье
рабочим обычно в своем баре, он тут же предлагал им выпить. Первую
стопку давал бесплатно, был добрым и компанейским. Дальше уже все
шло своим чередом. Шахтеры оставляли в баре изрядную долю получки
и уныло тащились домой к женам, еле волоча ноги.
Нел выросла в этом баре. Правда, она не общалась с посетителями.
В школу Нел не ходила, потому что отец испытывал отвращение к
образованным женщинам. Зато у нее были красивые наряды, белоснежная
кровать и служанка, которая зашнуровывала и расшнуровывала Нел
ботинки. И все же девушке каким-то образом удалось встретить шахтера
и влюбиться. Отец в бешенстве устроил скандал, неистово проклиная
молодых, вконец с ними рассорился и вычеркнул их из своей жизни.
В день их свадьбы матери Нел как-то удалось выбраться из дома
да еще привезти им в подарок пианино, одну из немногих вещей, что
она могла назвать своей собственностью среди всей роскоши этого дома
позади бара.
Том допил пиво и закурил еще одну сигарету. Он горько
улыбнулся, вспомнив, как туго пришлось Нел вначале, когда на нее свалилось
10. «Октябрь» №■ 10.
146
Бетти Коллинс ф
все хозяйство и как она героически со всем справлялась, как она горячо
взялась за учебу, чтобы узнать хоть немножко больше того, что смогла
дать ей ее мать.
Потом они покинули Уэльс, может быть, навсегда, проехали полмира
и очутились в Австралии. Нел было болезненно трудно приспособиться
к новым условиям не потому, что они уехали так далеко от родных мест —
путешествие ей даже понравилось,— а из-за условий жизни в этих
местах, из-за того, что ко всему прочему ей, чтобы выжить и уцелеть,
нужно было воспитывать в себе стойкость, выносливость и упорство, так
необходимые жене часто переезжавшего с места на место шахтера.
Он вспомнил, как прошла первая неделя их жизни в Маунт-Милли-
гане; несколько рабочих, живших в домике, покрытом железными
листами, уступили им свое место, потому что Джонсы приехали с детьми.
Он работал в ночную смену, и все ночи напролет Нел ждала его, боясь
потушить лампу или заснуть, она сторожила детей, спавших в кроватках
на деревянных козлах. Ей казалось, что в домике что-то шуршит. Когда
она говорила об этом, Том и рабочие просто смеялись. Но после
нескольких бессонных ночей, когда Нел стала похожа на свою тень, она наконец
настояла на том, чтобы вынести из домика все вещи. В одном из углов
все увидели четырех черных змей.
Несколько лет дела у Джонсов шли ни шатко ни валко, радостных
дней выпадало мало. Но Нел уже как-то освоилась, закалилась, стала
выносливой и никогда не давала Тому повода усомниться в своей любви
к нему. Почти каждый год у них рождались дети. Она никогда ничего
не требовала. Единственное что, казалось, ей было совершенно
необходимым,—это ее пианино.
Он заерзал на сиденье, отодвинулся от руля, чтобы сесть
поудобнее, раздраженно отмахнулся от мух и подумал, что все это так, но и не
совсем так. Правда, что Нел любит пианино. Она заботится о нем, как
о своем ребенке,. тщательно вытирает пыль, следит, чтобы инструмент
всегда стоял на теневой стороне палатки, подкладывает под ножки
колышки или картонки, чтобы пианино стояло прочно и прямо, настраивает
его, как только узнает, что где-то в округе объявился настройщик. Но все
это она делает не только для себя. Каждого, кто проявляет хоть какой-
то интерес к музыке, Нел готова приветливо принять и предложить ему
пользоваться инструментом. Она учит детей любить музыку и
аккуратно обращаться с инструментом. Даже малыши относятся к этому
серьезно и прикасаются к клавишам, как к какому-то чуду. К тому же Нел
всегда играет для других. И он с завистью сознавал, что в воскресные
вечера у нее завязываются более глубокие дружественные отношения с
людьми, чем у него с его приятелями в многочисленных барах. Ну, а о том,
как Нел относится к семье, и говорить не приходилось. В самые жаркие
дни Том, приходя домой из шахты грязным и измученным, всегда видел,
что ему приготовлено поесть и помыться, что дети чувствуют себя
хорошо, они накормлены и чисты.
Он посмотрел в зеркальце и увидел детей, игравших возле матери.
Том заметил, что они то и дело поглядывают на дорогу, будто ожидают
какого-то неприятного события.
Оуэн и Молли собрали сухие ветки и разложили костер, налили
в жестяной походный котелок воды из баллона, висевшего на кузове,
осторожно поглядывая на кабину, где был отец...
Нел с маленькой Мэй на руках сидела в тени на старом одеяле.
Она гладила в задумчивости шелковистые волосы дочери, отгоняла от
малышки мух. Перед ее мысленным взором тоже проходили картины их
с Томом совместной жизни. И постепенно ее решимость стала ослабевать.
Да, ее жизнь с Томом не была легкой. Но Нел никогда не винила Тома
за то, что он был простым шахтером. И пока она имела пианино, могла
мириться с трудностями жизни.. Это шло не только от музыки, не только
# Рассказы
147
от создаваемых ею иллюзий, будто, проходя вместе с мелодией сквозь
стены палатки, через брезент и железо, она улетает далеко-далеко в
родные места. Нет, это шло от сознания, что своей музыкой она как-то может
помочь другим. Дело было в том, что при всей их с Томом бедности, при
всех трудностях жизни благодаря пианино у нее всегда было нечто такое,
чем она могла поделиться с людьми.
Тени стали длиннее, край неба превратился в розово-золотой.
Скоро эти краски перейдут в темно-красные, пурпурные, синие, и ночь
покроет землю своей чернотой. Тому выходить на работу завтра в дневную
смену, а ему еще нужно установить две палатки и хоть немного поспать.
А как вести машину в темноте?
Вздохнув, Нел положила спящую Мэй на одеяло и встала. С болью
в сердце шла она к машине.
Навстречу ей шел Том с брезентом в руках. Они заговорили
одновременно.
— Том,— сказала она,— я согласна. Бросим здесь пианино и поедем.
— Дружок,—.тихо сказал он,— мы как-нибудь постараемся
протащить его на этом брезенте и погрузить...
Она бросилась к нему, крепко обвила его шею руками и заплакала,
длинно и судорожно всхлипывая. Он уронил свою ношу в придорожную
пыль и прижал к себе жену.
Дети стали смеяться, кричать и прыгать от радости. А Молли, уже
достаточно взрослая, чтобы понять, как дорого стоило ее родителям
пойти друг другу на уступки, почувствовала, как слезы подступили к глазам,
и отвернулась.
Вдоль по дороге, ссутулившись под тяжестью рюкзаков, не торопясь,
чтобы сберечь силы, шли двое мужчин.
Молли побежала навстречу им, за ней бросились и остальные
дети, растянувшись в цепочку в зависимости от длины своих ног. Они
прыгали в облаке красной пыли, махали руками и что-то кричали.
Окружив мужчин, дети потащили их, как долгожданную находку,
к родителям.
— Пожалуйста,— говорила Молли,— помогите нам перетащить
мамино пианино.
Том пожал мужчинам руки, представил жену и все семейство. Дети
вдруг стали необыкновенно вежливыми, будто находились в чьем-то
высокопоставленном доме, а не стояли на пыльной дороге, за много миль от
какого-либо жилья. Мальчики бросились собирать сучья и разжигать
костер. Нел налила в котелок свежей воды и снова достала хлеб и
варенье.
В нескольких словах Том объяснил незнакомцам, что без
посторонней помощи протащить пианино под насыпью и снова водрузить его на
грузовик ему и сыновьям не под силу.
Двое людей оказались странствующими торговцами, они тащили на
плечах тяжелую поклажу, по пути делали привалы, ночевали в степи,
ели из походного котелка, но упорно продвигались вперед. В полдень, не
успели они расположиться на отдых, как в несколько милях от них
проехал грузовик. Они проклинали ту минуту, когда сошли с дороги,—
единственная попутная машина была упущена.
И вот теперь эта заминка из-за пианино обернулась для них
огромной удачей.
— Мы с радостью поможем, дружище,— сказал один из торговцев
после того, как выпил чаю и поставил кружку на землю. — Твоя жена
и ее музыка здесь хорошо известны. Ты даже не поверишь, как много
людей в самых разных местах говорили нам о ней, о том, как она играет.
— Мы втроем легко протащим пианино через туннель, — сказал его
попутчик Майк.— Потом поможем погрузить его з машину. А ты, может-
быть, разрешишь нам подъехать в кузове с твоими детишками.
148
Бетти Коллинс в
Они закончили пить чай, подняли пианино и, часто останавливаясь,
заходя то с одной, то с другой стороны, протащили его и поставили на
бугорок, к которому Том подогнал грузовик. Потом общими усилиями
пианино наконец было водружено на его прежнее место и поставлено спинкой
к кабине, путники сложили остальные вещи и крепко увязали поклажу
веревками. В кузов вскарабкались дети, новые пассажиры влезли-следом
за ними. И вскоре грузовичок Джонсов уже ехал в наступающих сумерках,
подскакивая на ухабах, скрежеща колесами о камни.
В воскресенье вечером Нел, как обычно, села на свой старенький
круглый стул у пианино и начала играть. Лампа освещала ее волосы
и брезентовые стены палатки.
Места было маловато. Но ведь когда-нибудь Том все же построит
им настоящий дом и они наконец заживут по-человечески. Дети
подрастут, пойдут в школу. И, возможно, кому-нибудь из них удастся даже
поехать на побережье учиться в университете.
Люди, которые по-прежнему станут вечерами приходить к ним в дом,
чтобы петь песни, будут сидеть на добротных стульях, чай тогда им
подадут в чашках с блюдцами, и они будут есть кексы, испеченные в
настоящей печке.
Взгляд Нел, потеплевший от этих мечтаний, остановился на лице
дочери. Молли подрастет, станет красивой девушкой, выйдет замуж за
человека, тоже хорошо устроенного в жизни. Но он должен быть настоящим
человеком, шахтером, таким, как Том, и отец Тома, и его дед.
Том вытаскивал чашки из старого железного сундука.
— Не нужно доставать так много, дорогой,— сказала ему Нел.—
Может быть, в первый раз никто не придет.
— Придут,— уверенно сказал Том и улыбнулся.
Накануне вечером он вместе с Майком и его попутчиком зашел в бар
выпить пива. У всех троих теперь была работа, и они чувствовали, что
такое событие нужно отметить.
— У моей жены есть пианино,— сказал Том собравшимся в баре.—
По воскресеньям вечером, где бы мы ни были, она играет, а люди
приходят и поют. Я провез этот инструмент по всему Квисленду, до самого
Кейп-Иорка, а вообще мы притащили его из Англии. Когда вы услышите,
как жена играет, вам захочется прийти.
И вот еще в одном шахтерском поселке, как и всюду, первыми к
Джонсам пришли дети и расселись на самодельном коврике, расстеленном на
земляном полу.
Нел начала играть старинные австралийские песни. А в наступившей
темноте, где лишь одна звезда светила над головой, от потухавших
костров, разложенных вдоль всей улицы, к новой незнакомой палатке
потянулись люди, привлеченные звуками музыки.
Платье
Легкий ветерок прошелестел среди листвы деревьев, прижавшихся
группками к пересохшей речушке. Розово-жемчужные краски,
расписавшие небо, поблекли. Каменистая почва за домом на лужайке на миг
сверкнула золотом, и взошло солнце.
Мирра, еще полусонная, медленно выбралась из кровати и
принялась разводить огонь. Она осторожно подула на угли, оставшиеся еще
с вечера, положила на них немного сухих листьев и прутьев и снова
принялась дуть, пока не вспыхнул слабый огонек. Но вот огонь
разгорелся, в котелке закипала вода, а Мирра стала замешивать лепешки и печь
их на горячей золе.
• Рассказы
149
Потом пришли и остальные: женщина, в обязанность которой
входила стирка, глажка и присмотр за садом в поместье, протянувшемся
далеко-далеко по возвышенности; муж Мирры и другие
аборигены-гуртовщики, молодые и старые, следившие за хозяйством.
Они пили чай, ели горячие лепешки, весело смеялись, потому что эти
часы, когда хозяева еще спали, были для них самыми счастливыми.
Потом один за другим мужчины ушли кормить и поить скот, ловить и
загонять в конюшни лошадей, пыльных, разгоряченных. Женщины сразу же
принялись за работу, торопясь не упустить время, пока еще стояла
прохлада. А Мирра направилась в старую почерневшую хибарку, где был
оборудован душ.
Мирра мылась каждый день. На этом настаивала ее хозяйка, и,
прежде чем войти в дом, Мирра должна была надевать чистое
ситцевое платье. Платья эти все уже выгорели и давно потеряли цвет, и
Мирре казалось, что у себя в деревне она выглядела куда лучше, но мыться
ей было приятно.
Еще вчера хозяйка поставила на кухне не две, а три чашки с
блюдцами, чтобы напомнить Мирре о том, что к ним приехал гость. Мирра
налила чай вначале в две чашки — хозяину, который вставал только
после того, как выпивал чашку чая, и хозяйке. Та обычно выпивала чай,
снова затягивала сетку от москитов и продолжала спать.
Затем Мирра наполнила третью чашку и, осторожно ступая
босыми ногами, отнесла ее в комнату гостя. Молодой человек с усталым лицом
еще спал. Мирра поставила около кровати чашку и уже повернулась,
чтобы бесшумно выскользнуть из комнаты, но вдруг услышала:
— Привет! Ты кто такая?
— Здесь мое имя — Мари.
— А как тебя зовут дома?
— Мирра.
— Это лучше. — Он сонно улыбнулся. — Вот и я буду тоже звать тебя
Миррой. А меня зовут Вилли. Спасибо за чай. ^
Молодой человек Мирре понравился. Ей было девятнадцать лет,
Вилли Сомерсу — немногим больше двадцати, он был на пятнадцать лет
моложе своего брата Дика, но иногда,ему казалось, что он по крайней мере
на тридцать моло^ своей невестки, Мэрл Сомерс. Что. стало здесь
с этой молодой женщиной? Она высохла так же, как и ее поместье.
Никакая самая дорогая косметика, ни кремы, ни шампуни ничем не могли
помочь.
Скверная вода, изнуряющая жара, постоянная пыль совершенно
изменили ее облик, ничего не оставив от той прежней Мэрл, на которой
женился Дик два года тому назад. Детей у них не было. Она даже почти
забыла, что когда-то ей хотелось иметь ребенка, забыла о тех бесконечно
длинных, изнуряюще душных днях, когда она ждала своего первенца,
о том, как Дик говорил: «Не волнуйся. Старая Мари будет следить за
тобой. Эти аборигенки — чудесные повитухи. Ну, а если нужно будет, всегда
можно вызвать врача, и он прилетит сюда самолетом. Сейчас неразумно
ехать на побережье по таким, как у нас, дорогам. Ребенок может
родиться где-то на полпути!» И он, беспечно улыбаясь, целовал ее и снова
торопился к загонам, к своему все увеличивающемуся стаду.
И она старалась не волноваться. Сидя возле дома в скудной тени
полузасохших деревьев, она вязала для ребенка, старательно, стежок за
стежком вышивала батистовые распашонки, которые, впрочем, не
суждено было увидеть никому, кроме Дика да еще двух-трех аборигенов.
Она так тяжело перенесла роды, что теперь в памяти ее осталось лишь
потное, измученное, растерянное лицо смуглой женщины, склонившейся
над нею, врача, которому все же в конце концов пришлось прилететь
и который погрузил ее в сон, показавшийся ей смертью. Ей даже не
хотелось просыпаться после всего случившегося.
150
Бетти Коллинс Ф
И вот теперь у нее осталась лишь маленькая могилка в
беспорядочно посаженном саду, где покоился ее ребенок, да еще страстное желание,
доводившее ее почти до исступления, никогда снова не рожать.
Год назад умерла старая Мари, ее место заняла молодая
аборигенка, которую тоже стали звать Мари и долго обучали тому, как нужно
прислуживать хозяйке. Но хозяйка никак не могла найти с новой
служанкой общего языка, хотя девушка и была единственным, не считая
мужа, человеком, с которым она общалась здесь, в этом огромном
поместье, протянувшемся на многие мили по выжженной пыльной земле и
отгороженном от других соседей-скотоводов и вообще от цивилизации.
Каждый год на время каникул к ним приезжал Вилли, сначала
будучи студентом педагогического колледжа, а теперь уже став учителем.
И вот сейчас он снова сюда приехал. Ему не нравилось отношение Мэрл
к аборигенам, и как-то он даже попытался поговорить с ней.
— Ты знаешь, Мэрл, у нас в школе учатся их дети. Право же,
эти малыши очень смышленые. Они такие живые, проворные и, я бы
сказал, даже красивые, особенно красивы их большие темные глаза.
Почему бы тебе не попытаться заниматься с детьми аборигенов здесь, з
поместье?
— Ни Дик, ни я никогда не давали тебе советов, как тебе лучше
вести дела в твоей школе,— ответила она холодно.— Пожалуйста, не учи
и нас, как нам жить в нашем доме.
У нее был красивый дом. Вокруг на сотни миль простирались
живописные пастбища. Но вот уже два года стояла страшная засуха.
Пастбища стали безжизненными, покрылись пылью, заросли колючками. Дик
Сомерс, чтобы как-то прокормить скот, перегонял стада в другие, более
отдаленные места, где еще кое-как сохранилась зелень; скупая скот у
отчаявшихся соседей, он упорствовал. Когда польют дожди, он сразу
разбогатеет. Все это отнимало много сил, и Дик ходил мрачнее тучи.
На другой день после приезда Вилли Мирра убирала его комнату.
Всюду валялись разбросанные вещи, но все они были такие хорошие:
белье, белое и мягкое, а рубашки, ну прямо как у хозяйки. Жаль
отдавать стирать старой Молли. Она бросит их кипятить в котел вместе с
простынями и полотенцами и все испортит. Лучше уж Мирра сама все
постирает. Каждое утро она приносила Вилли чай, он лениво ее
благодарил. Она убирала его комнату, стирала рубашки и потом развешивала
их в шкафу или убирала белье в ящики. Она чистила его ботинки,
смывала грязь с сапог.
Казалось, она возрождается к жизни от тепла, которое шло от его
непринужденности и дружелюбия. Она работала весело и споро, и Мэрл
ни разу не пришлось ее в чем-либо упрекнуть.
Сухой горячий воздух быстро вернул краски лицу Вилли и снял тень
усталости. Он не обладал очень уж крепким здоровьем, ему было
далеко до Дика, проводившего целые дни в степи на пастбищах. К тому же
весь прошедший год Вилли преподавал, а ночами учился сам. По
окончании колледжа ему дали смешанную школу. Работать в ней было очень
трудно. Приходилось сразу вести шесть классов, собранных в одной комнате.
Нелегко усмирять этих неугомонных курчавых мальчишек, отвлекать
их внимание от окон, открытых в залитый солнцем двор.
Когда Вилли думал о своей школе, у него всегда перед глазами
возникали картины природы: то бабочки, так рельефно вырисовывающиеся
в лучах солнца за открытыми окнами класса, то шелест эвкалиптов, то
внезапный пронзительный крик длиннохвостого попугая.
Дик Сомерс был рад приезду брата. Он сократил — насколько это
было возможно — свои долгие утомительные верховые разъезды. Вместе с
женой и Вилли Дик проводил звездные вечера в саду, развалившись в
шезлонге, потягивая пиво и бесконечно болтая. Его громкий хохот, похожий
па лай, разносился далеко, нарушая сонную тишину деревни темнокожих.
© Рассказы
151
Мэрл, казалось, тоже была довольна. Ей надоело жить в этом
поместье, она чувствовала себя одинокой. За долгие месяцы страшной
засухи забылось все хорошее, что радовало ее прежде. Вообще-то она не
могла жаловаться на свою жизнь, но эту жару переносить было невмоготу.
Она чувствовала себя опустошенной, совершенно высушенной, как эти
окружавшие ее поля. Приезд Вилли стал разрядкой, а его веселые шутки
на какое-то время заставили Дика забыть об изнуряющей борьбе за воду,
за спасение стада, за корм для скота. Мэрл стала мягче, резкие черточки
вокруг ее рта сгладились. Жара по-прежнему выматывала ее, но дни
казались уже не такими длинными.
У них редко бывали гости. И вот теперь, когда приехал Вилли и Дик
был в хорошем настроении, Мэрл стала подумывать о том, чтобы устроить
вечеринку. Если заранее разослать приглашения, то соседи из других
поместий, расположенных за многие мили от них, все же смогут приехать.
Она поговорила с Диком, когда они уже собирались ложиться спать.
— Конечно, дорогая,— сказал он.— Я уж и не помню, когда тебе
хотелось заниматься такими хлопотами. Закажи все необходимое, а я
прослежу, чтобы нам это доставили, когда подъедут передвижные
магазины. Возьми себе в помощь женщин, потому что тебе самой с Мари не
управиться. И, ради бога, прекрати втирать этот отвратительный крем.
На миг ее рука замерла в воздухе, потом она схватила бумажную
салфетку и стала поспешно вытирать лицо.
— Ты пойми, если я не буду пользоваться кремом, я тут же засохну.
Каждый раз, когда Вилли приезжал к своему брату, жизнь в
деревне на берегу пересохшей речушки тоже становилась легче. Хозяин и
хозяйка казались добродушным и непосредственным аборигенам странными
и холодными людьми. Детей у них не было с того самого времени,
когда старая Мари, вся в поту, прибежав в деревню и закатив глаза так,
что стали видны лишь белки, рассказала, торопясь и захлебываясь, о
докторе, который спустился прямо с неба, разрезал ее хозяйку, а потом
снова зашил. У хозяина и хозяйки было больше еды, чем они могли съесть,
больше комнат в доме, чем им требовалось, и такое количество земли
и скота, что оно могло составить счастье всему здешнему племени. И,
несмотря на несметные, как казалось аборигенам, богатства, хозяева
оставались нелюдимыми и несчастными. Раньше, когда, бывало, шли дожди,
все племя время от времени покидало свои жилища и уходило в
окрестности, но всегда возвращалось обратно. Они облюбовали эту речушку
давно, собрались из разных мест и жили вместе одним дружным вольным
коллективом. Влюблялись, страдали, рожали детей, старели, умирали.
Когда охотникам сопутствовало счастье и удавалось вернуться с добычей,
устраивали шумные, веселые празднества.
У Мирры по сравнению с другими были некоторые преимущества,
ко никто не завидовал ни ее работе, ни ее судьбе, которая так близко
свела ее с хозяйкой — холодной, надменной женщиной из большого
дома. Вечером Мирра обычно возвращалась домой в деревню, уверенная,
что ее встретят приветливо, что она снова увидит своего мужа, ощутит
. его теплоту и ласку, если, конечно, он был дома, а не где-нибудь на
отдаленных пастбищах, проверяя прочность заграждений или перегоняя
стада далеко на другие участки.
С приездом Вилли хозяин и хозяйка на некоторое время становились
более добрыми и приветливыми. И зная, что с его отъездом снова все это
исчезнет, аборигены стали связывать его отпуск с чем-то вроде отпуска
для самих себя.
Однажды Вилли, войдя в свою комнату, застал Мирру за починкой
его рубашки.
. — Ах, Мирра, Мирра, ты для меня делаешь так много!
Она взглянула на него, и на лице ее промелькнула застенчивая
улыбка.
ш
Бетти Коллинс Ф
— Это совсем мало.
— Нет, нет. Не мало,— возразил он.— Вот что я тебе скажу, Мирра:
я сделаю тебе подарок. Чаевые своего рода, если это можно так назвать.
Он вытащил из бумажника пять фунтов и протянул ей.
— Нет, нет, господин Вилли. Я не брать, потому что я иметь мой
муж.
— А ты .скажи ему, что скопила эти деньги.
— Я получать десять шиллингов и еда все недели, господин Вилли.
Он знать, я не прятать деньги.
— Ну, ладно. Тогда я куплю тебе платье,— сказал он,
обрадовавшись внезапно пришедшей мысли. — И ты сможешь хранить его здесь
в душевой.
Она покраснела, это было заметно даже сквозь ее
темно-коричневую кожу.
— Иногда я вижу,— продолжал он,— как ты спускаешься в свою
деревню, проходишь мимо эвкалиптов, среди струек дыма, тянущихся
из хижин, мимо пересохшей речушки. Солнце начинает садиться, и ты
в его лучах выглядишь такой красивой.— Он улыбнулся.— Я, кажется,
становлюсь здесь поэтом. Ну, значит, решили. Покупаем платье.
— Да, платье. В книжке у госпожи есть нарисованное очень
красивое платье,— сказала она нерешительно.
— Правильно. Давай сюда эту книжку, Мирра.
В гостиной среди кучи журналов она отыскала каталог и
показала платье, которое ей нравилось. Оно было не из самых дорогих, но,
пожалуй, действительно самым красивым. Вилли был удивлен ее
тонким вкусом и подумал, что здесь наверняка сказалось влияние его
невестки.
Пока был послан заказ в Брисбен, пока посылка дошла до
дальнего Запада, прошло немало времени, но все же в конце концов уже в
последний день перед отъездом Вилли платье прибыло. В тот день в
большом доме должна была состояться вечеринка, имевшая двойную цель:
принять друзей и Цроводить Вилли, уезжавшего обратно в свой далекий,
еще только строящийся поселок.
Весь день Мирра хлопотала на кухне. Хозяйка задумала удивить всех
какими-то изысканными, утонченными блюдами, которые она так
любила и которых здесь никогда и не видывали. Еще одна аборигенка
пришла убрать в" комнатах. Дом вычистили до блеска, поставили даже
цветы, раздобыв их где-то в пыльном, выгоревшем саду.
Мирра валилась с ног от усталости, но ей еще предстояло
обслуживать гостей. Ей удалось выпить лишь чашку чая на кухне; о том, чтобы
сходить в деревню, не могло быть и речи. Когда наконец стемнело, она
пошла в душевую. На полке, рядом с выцветшей одеждой, лежал
сверток. Дрожащими руками Мирра раскрыла его. Там было платье,
прекрасное, сверкающее, мягкое, такого же цвета, как трава и деревья
после дождя.
Она быстро вымылась и надела свое новое платье. Пока
подъезжали машины с гостями, растянувшись цепочкой огней по дороге,
проложенной через пастбища, она сидела в темноте возле дома. На небе
зажглись звезды, яркие, крупные, осветив все вокруг.
Она вошла в дом через кухонную дверь.
— Мари! — раздался голос хозяйки.
Мирра взяла большое блюдо с закусками так, как ее учили это
делать, и пошла обносить гостей. Она шла с высоко поднятой головой,
гордясь своим новым платьем, не сознавая, впрочем, до конца, как оно
подходит к ее стройной, подтянутой фигуре, как гармонирует с плавной
поступью ее темных босых ног.
Вилли был среди гостей, но он ей не улыбнулся. Наоборот, он
даже нахмурился, как бы желая предостеречь ее. Но было уже поздно.
9 Рассказы
153
— Как ты посмела? Как ты посмела унижать меня, ты, черная
свинья?
Мирра в ужасе подняла глаза на хозяйку, на той было точно такое
же платье. Оно так же блестело, так же сверкало, оно так же было
зеленее всех вместе взятых растений, росших здесь, на этой высохшей,
бесплодной земле.
Хозяйка взяла у Мирры блюдо, поставила его на стол и,
размахнувшись, сильно ударила девушку по лицу.
— Иди и сейчас же переоденься! — закричала Мэрл.
Снова в выцветшем бесформенном платье Мирра прислуживала
гостям. Белые разговаривали, будто ее здесь и не было.
Они возмущались поведением черных, жаловались на то, какие они
грязные, бесчестные и ленивые существа. Конечно, нужно держать их
в строгости, Мэрл совершенно правильно разделалась с этой
неблагодарной скотиной, выполнив свой поистине священный долг.
Было уже за полночь, когда машины с гостями начали разъезжаться
и Мирра могла наконец идти домой. Она пошла в хибару-душевую,
взяла сверток с новым платьем. Она не стала возвращаться в деревню
обычным путем, вдоль берега высохшей речушки, а свернула в
противоположную сторону к голым скалам, выступавшим позади этой
безжизненной равнины. Мирра торопилась, ее босые ноги не чувствовали ни
гальки, ни колючек спинифекса. Почти на четвереньках вскарабкалась она
наверх и остановилась, тяжело дыша, чуть ли не у самой вершины. Она
развязала сверток и достала платье. Потом надела его, ощущая
приятное прикосновение нежной ткани к голому телу, расправила материю
на бедрах, любуясь игрой зеленого шелка при свете заходящей луны.
Долго стояла она так, глядя то на темный большой дом, то на
неясные очертания беспорядочно сгрудившихся хижин ее черных собратьев.
Затем, вздохнув, сняла платье, сложила его и засунула поглубже в
расщелину скалы. Она закрыла расщелину камнями и начала нехотя
спускаться. Мелкие камешки, крутясь, скатывались вниз из-под ее ног.
Медленно шла она домой, в деревню, где жил ее народ.
Перевод с английского В. КОТКИНА.
•
Публицистика и очерки
М. БУРХАЧЕВА
Меняются времена—
меняются люди
D есна за окном вагона наступила как-
^ то сразу, внезапно. Казалось, до
солнца рукой подать: оно как бы придвинулось
к земле, чтобы лучше обогреть ее. И вот
уже потянулась вверх молодая трава,
тепло задышала свежевспаханная земля.
Всего день пути, и я с группой своих
коллег — в ГДР, в стране, язык
которой долгие годы изучала, а теперь
преподаю студентам. Весна пришла и в Берлин,
на Унтер-ден-Линден. Она бродила под
смутным звездным небом в ветвях
деревьев. За деревьями на этой улице-бульваре
рядом с восстановленными старинными,
пышными, в стиле «барокко» зданиями
встали современные, сверкающие
пластиком, стеклом и металлом.
Особенно поразили меня знаменитые
Бранденбургские ворота. Я долго стояла
перед ними, подавленная их
тяжеловесностью, и, казалось, чувствовала дымный
смрад от факельного шествия
штурмовиков. В памяти всплыл рассказ знакомого
разведчика о том, как в сорок втором, под
Холмом, что на Новгородчине, наши воины
с беспримерным мужеством отбивали атаки
218-й берлинской пехотной дивизии,
эмблемой которой были эти самые
Бранденбургские ворота. Уже к тому времени
стойкость советских бойцов, их отвага начали
рассеивать дурман нацистской пропаганды:
до «легкой» победы, что сулил фюрер
солдатам вермахта, было очень и очень
далеко. Уже в те времена начался процесс
отрезвления немцев от угара милитаризма.
Несколько лет назад «Нойес Дойчланд»
опубликовала сообщение о том, что в
Берлине закончили реставрацию Бранден-
бургских ворот. Они предстали в
первозданном своем облике, была убрана лишь
одна деталь — свастика из жезла богини
победы Виктории на квадриге, венчающей
ворота. Я невольно взглянула на устрем-
II
ленную ввысь ф'игуру богини победы, v
возникшего было чувства подавленности
как не бывало! Казалось бы, что
особенного в этой чисто архитектурной детали? Не
та, что венчала Бранденбургские ворота
таила в себе угрозу, это был, если хотите
политический символ; и тот факт, что
Германская Демократическая Республика
выкинула на свалку строительного
мусора эту многозначительную «архитектур
ную деталь», говорит о многом: мир — да
война — нет! И теперь Виктория смотри*
на Восток, как бы символизируя победу в<
имя длительного и прочного мира, во mu
той новой жизни, какую упорно строит н«
своей очищенной от фашистской чумы зем
ле немецкий народ.
А невдалеке, за Бранденбургскими воро
тами, я увидела «Шутцваль», как здесь на
зывают стену защиты. Все мы хорошо пом
ним шестьдесят первый год, когда прави
тельству ГДР пришлось принять меры, что
бы защитить свободу и покой своего наро
да. Неистовствовали злопыхатели н;
Западе: как же, на пути тех, кто пыталс:
нанести ущерб республике, на пути, веду
щем из шпионских и подрывных центров
стала прочная стена!
Стена защиты поистине несокрушима
И не только потому, что она прочна, на
дежна сама по себе, хотя и это тоже играе
свою роль. Несокрушимы идеи, способство
вавшие возникновению и расцвету перво
го в истории социалистического герман
ского государства. Важен сам факт суще
ствования ГДР, сильной своим рабочиг
классом и его коммунистическим аван
гардом, сознательностью воспитанного рее
публикой молодого поколения, с молоко?
матери впитавшего идеи Маркса, Энгельса
преисполненного решимости следовать ле
нинским принципам, за победу которых бо
ролись Эрнст Тельман и тысячи его спод
@ Меняются времена — меняются люди
155
вижников-антифашистов. В Берлине,
Лейпциге, Дрездене, Веймаре, Потсдаме и
других городах — везде наиболее яркое
впечатление оставляли не памятники
архитектуры и не исторические
достопримечательности, а общая атмосфера жизни, здоровая,
целеустремленная молодежь ГДР, спаянная
единством цели, чувством солидарности,
своей ответственностью перед памятью
погибших и перед будущими поколениями
за то новое, что властно вошло в бытие и
сознание немецкого народа на протяжении
исторического двадцатилетия со дня
провозглашения демократической Германии.
Вся республика — в лесах новостроек.
Помолодел даже такой старинный город,
как построенный еще в XII веке бывший
Хемниц, ныне Карл Маркс-штадт. Я
видела новые здания, макеты магистралей,
парков и скверов, которые в самом
недалеком будущем появятся на его улицах,
видела жизнерадостные лица строителей
Россендорфа, где сооружена первая
немецкая атомная электростанция, видела
возрожденный из пепла Дрезден... Как же
надо любить свою страну, какими
патриотами надо быть, как много вложить своего
сердца, какую титаническую работу
проделать, чтобы не только зарубцевать раны
войны, но и вырастить молодежь, которая
полна стремления не допустить
повторения трагических ошибок немецкого
народа, продолжить дело павших в борьбе с
нацизмом,, иначе говоря, каждым днем
своего труда умножать завоевания молодой
социалистической Германии.
Побывав здесь, на границе двух миров,
почти физически ощущаешь всю емкость и
значимость ставших уже привычными
слов, справедливо характеризующих новую
^Германию как западный форпост социали-
г стического содружества. Оглядываясь на
[Путь, пройденный за два десятилетия, нем-
■ цы в ГДР испытывают чувство гордости,
естественной для граждан всех
социалистических стран. Мы это ощутили уже в
первый свой вечер в Берлине. Молодой чело-
i век, который нас сопровождал, не был
профессиональным гидом. Аспирант
Берлинского университета имени А. Гумбольдта,
на вид почти ровесник республики, он с
такой осведомленностью и теплотой
рассказывал о ней, словно сам выстрадал все
трудности рождения, все горести и радости
роста новой Германии.
Когда мы пришли на Маркс-Энгельс-
платц, наш провожатый, до тех пор
спокойный и сдержанный, вдруг изменился в
лице. Взгляд его помрачнел, резким
движением руки он указал в сторону
Западного Берлина: между домами в темноте
пробегали электрические буквы. Это была
не безобидная торговая, а политическая
реклама, назойливо взывающая к жителям
демократического Берлина. Кто-то из моих
спутников заметил: «Вот уж впрямь
боннские реваншисты используют любую
щель, чтобы протащить свою пропаганду».
Чего только не делают они, чтобы
помешать торжеству социализма на немецкой
земле! Р1деологическое воздействие на
ГДР — понятие далеко не однозначное, оно
вбирает в себя и циничные
разглагольствования реваншистов, отличающиеся
типично прусской солдафонской
прямолинейностью, и коварные попытки исподволь,
контрабандой протащить идейки из
духовного арсенала старого мира. Но сила
марксистских идей преобразила жизнь
Германской Демократической Республики. И,
думается, дело не только в экономических
достижениях. Один из важнейших
результатов исторического двадцатилетия —
крах легенды' о фатальном консерватизме
немецкого сознания. Здесь, на немецкой
земле, идеи социализма и прогресса
доказали свою жизненность в борьбе за умы и
сердца людей.
Многие запуганные, деморализованные
люди после второй мировой войны бежали
из советской зоны оккупации Берлина на
Запад. А среди оставшихся было немало тех,
кто чувствовали себя робинзонами в своей
стране, задавались вопросом: каким путем
идти дальше?
Но вот прошли годы, и теперь немцам в
демократической Германии ясно, что тот
путь, который выбран ими, выбран
окончательно.
В ГДР исчез класс крупной буржуазии,
образ жизни которой когда-то
гипнотизировал бюргера. Окруженный людьми труда,
постигая их идеологию и мораль, бюргер
постепенно освобождается от филистерских
химер. Общество помогает ему выйти из
духовного закутка, в который загнали его
предыдущие столетия, осознать свое
гражданское назначение.
Размышляя о сложном процессе
перестройки сознания человека в условиях
существования и сосуществования двух
германских государств, я всякий раз
мысленно возвращаюсь к особенно
характерным встречам во время моего недавнего
пребывания в ГДР, в частности к беседам
с хозяином квартиры, в которой мне
довелось одно время жить в Берлине. Он
запомнился мне слитым с вольтеровским
креслом, в котором восседал, да, именно
восседал. Красиво посаженная голова,
высокий лоб с белой гривой волос, взгляд,
который можно было бы назвать
надменным, не будь добродушных искорок в
глазах, придававших какую-то особую улыб-
чивость всему его облику. Потомственный
берлинец, врач, с юных лег он стремился
156
M. Бурхачева 0
сохранить бюргерское достоинство —
своеобразно понимаемое наследие предков, с
раз и навсегда установленным
распорядком жизни, в котором четко укладывались
заученные с детства и приумноженные
нажитым опытом традиции, обычаи, понятия,
привычки. И вдруг на склоне лет столько
нового, что совершенно не вмещается в
привычные рамки! Пенсионный возраст;
частной практики почти нет (у входа —
вывеска, но ни разу я не видела
больного, пришедшего на прием, очевидно,
берлинцы успели оценить преимущества
бесплатного лечения); общение с людьми
затруднено болезнью, так что времени для
раздумий более чем достаточно...
Я слушала его не без интереса.
— А знаете, я тоже собирался уехать
«туда»,— признался однажды доктор (он
имел в виду ФРГ.— М. Б.).— Жена
настаивала, «там» наши родственники, и
главное — пугало будущее, уж очень здесь
было трудно. Казалось, сладить с
послевоенным хаосом невозможно. А на склоне лет,
что ни говори, хочется покоя. Что меня
тогда удержало, сейчас сказать трудно.
Может быть, Брехт...
Упоминание о Брехте было настолько
неожиданным, что на моем лице, вероятно,
отразилось откровенное изумление.
— Да, да, тот самый, автор «Трехгро-
шовой оперы», «Матушки Кураж»,—
уточнил доктор.
— Так вы были знакомы с Брехтом? —
вырвалось у меня.
— Нет, но... Представьте себе — это
было в ноябре сорок девятого года, в
Берлине,— брожу я однажды среди руин, по
ущельям, которые когда-то были улицами,
и вдруг вижу афишу: на днях состоится
открытие театра «Берлинский ансамбль».
Я остановился как вкопанный. Смотрю и
глазам не верю. Неужели обыкновенные
люди, такие же немцы, как я сам, могут в
этом аду заниматься искусством? И вот я
в театре. Давали «Матушку Кураж».
Вдохновение актеров, энтузиазм и восторг
зрителей — все слилось воедино. Это
незабываемо! Я чувствовал, что стал свидетелем
чего-то очень важного. Такого никогда
прежде я не видел и не испытывал.
Захотелось остаться, посмотреть, на что
вообще способны эти люди. И теперь...
теперь я уверен, что поступил правильно.
Все эти годы много работал, пока возраст
и болезнь не свалили. Семьдесят пять лет
не шутка...
Мне пришлось по душе стремление
собеседника объективно разобраться в
происходящем, хотя для него, старика, верного
многим традициям прошлого, это было не
просто.
— Две Германии,— сказал он
задумчиво, словно всматриваясь в глубину
веков,— политически, а точнее, социально
существовали давным-давно, еще со вре--
мен Крестьянской войны. Не ново и
расчленение Германии. Когда-то она была
буквально раскрошена на десятки, даже сотни
отдельных княжеств, а по существу,
маленьких государств. И все были на одно
лицо. А у ГДР — свое лицо, причем
весьма привлекательное, и, полагаю, это
должно радовать впервые увидевших новое
лицо Германии. «Там» же осталась старая
Германия...
В ФРГ власть предержащие делают все,
чтобы сохранить прежний мир с его
богами и идолами. В ГДР у власти стоит
рабочий класс, который впервые в истории
освободил немецкое общество от
традиционных вековых пороков.
Это чувствуется во всем: в
высказываниях людей, в их делах, настроении, в
самом стиле их жизни.
Ночным поездом я ехала из Берлина в
Дрезден. Увидев своего попутчика,
подумала: «Вот таким, наверное, был шиллеров-
ский Мюллер из «Коварства и любви».
«Мюллер» медленно потягивал из
небольшой бутылочки свой шнапс, смотрел
исподлобья и, как мне казалось,
настороженно. Не сразу, но все-таки завязался
разговор.
— Сам я рабочий, шофер. .Живу с
семьей в Ростоке. Кстати, грузовик мой,—
тут он первый раз улыбнулся,— марки
МАЗ, прекрасная машина! А вот что
запасных частей к ней нет, это плохо, не
по-хозяйски.
Рассказывал он все, как есть, без
прикрас. Видно было, что рабочий человек, с
которым нас свела дорога, ясно
представляет себе всю значимость происходящего
на немецкой земле.
— Было много трудностей. В сорок
девятом, после раздела, все лучшее
досталось Западной Германии, а у нас — так
себе, как тогда говорили, «второсортная»
территория. Голод, разруха, тысячи людей
бежали на Запад. Так и начали, с нуля,
фактически — ни рабочих рук, ни
экономики, ничего. И вот через пятнадцать лет мы
вырвались на второе после Советского
Союза место среди социалистических стран!
Говорил старый шофер тихо, быстро, на
характерном для жителей Ростока
диалекте. Сравнивая жизнь «здесь» и «там», он
отдавал должное высокой экономической
конъюнктуре в Западной Германии, хотя
чувствовалось, что, по его мнению,
главное не в этом.
— В ФРГ материально живут
хорошо,— говорил он.— У меня там сестра-
пенсионерка. Пенсия больше, чем у пас, и
зарплата оабочих повыше, но рабочий не
• Меняются времена — меняются люди
157
уверен в завтрашнем дне. Да и весь
жизненный уклад «там» мещанский.— Он
часто употреблял это слово, kleinbiirgerlich,
для характеристики жизни в ФРГ.— Люди
там живут разобщенно, каждый в своей
скорлупе. А у нас все трудятся для
общества. В центре внимания государства—
человек. Потому-то и жизнь становится
лучше, не заметить этого невозможно. И по
ту сторону Эльбы начинают понимать, что
будущее за нами. Еще бы! Там, скажу я
вам, следят за нашими успехами. Да, да,
даже по телевидению частенько смотрят
передачи из ГДР. Человек «оттуда» хочет
своими глазами увидеть перемены,
происходящие на Востоке. Обратите внимание,
сколько машин с западногерманскими
номерами мелькает на улицах Берлина и
других наших городов...
Чем дольше я слушала, тем быстрее
рассеивалось первое, обманчивое впечатление,
которое произвел на меня этот человек.
В сущности, старый шофер из Ростока
рассказывал о себе, но из его слов
явствовало, что в сознании граждан ГДР
личная их судьба слита с судьбой республики
и их взгляд на жизнь и на свое место в
ней куда шире, чем у многих жителей
Западной Германии.
Нечто подобное мне привелось слышать
и из уст молодой женщины, жены доктора
Баумана, директора Института
иностранных языков Дрезденского университета.
, Она мечтала стать киноактрисой, но
сложилось иначе: стала учительницей, вышла
замуж, теперь у нее семья.
С удовольствием вспоминаю два вечера,
Г/роведенные в кругу этой милой семьи. Их
дети, дочь и сын, под внимательным
взглядом родителей, объяснялись со мной по-
русски (они изучают русский язык в
школе!).
: Фрау Бауман побывала в ФРГ.
; — Общество там какое-то мещанское
(опять то же слово kleinbiirgerlich).
Положение женщины осталось прежним, ее
интересы ограничены нарядами, модами,
убранством квартиры. На меня, уже
отвыкшую от этого, так и повеяло четырьмя
пресловутыми «к», помните? Kinder, Kir-
che, Kùche, Kleider (дети, церковь, кухня,
платья.— M. Б.). Там поклоняются одному
богу — собственности и одержимы одной
страстью — жаждой приобретательства да
еще заботой о собственном престиже. Даже
в журнале мод можно увидеть рекламу:
«Приобретение этого костюма— вопрос
вашего престижа».
И, смеясь, фрау Бауман рассказала, как
в знакомая «оттуда», располагая довольно
лромными средствами, покупала платья за
тридевять земель от своего дома, чтобы,
упаси бог, приятельницы и соседки не
увидели, как она входит в обычный
универсальный магазин. Ведь в нем можно
купить все, что нужно, значительно дешевле,
ну, а другой ярлычок нашить —
пустяковое дело.
— А женщины в ГДР? —
поинтересовалась я.
— О-о-о! — прозвучал ответ.— Они
теперь самостоятельны, работают!
Действительно, в ГДР работает
шестьдесят процентов женщин. Это значит, что
немецкие женщины — впервые за
столетия! — вырвались из тесного,
ограниченного мирка домашних дел и забот,
участвуют в общественной жизни.
В Лейпциге спускаюсь я в знаменитый
«Ауэрбахскеллер», тот самый винный
погребок, который Гете увековечил в
«Фаусте», так и назвав одну из сцен: «Погреб
Ауэрбаха в Лейпциге». Не успела
осмотреться, как ко мне бросились две
молоденькие официантки. Слова их прозвучали
довольно неожиданно: «Kennen Sie Manolis
Glesos?» К
Я не сразу, сориентировалась и почему-
то ответила: «Persônlich. nein» 2. И
только тогда поняла нелепость своего ответа,
когда мне показали приколотый к колонне
большой лист с подписями тех, кто
требовал от заправил военной хунты Греции
освободить Манолиса Глезоса. Я тут же
поставила и свою подпись. Мы
разговорились, и когда девушки узнали, что я из
Советского Союза, одна из них взяла
меня за руку и с заговорщицким видом
шепнула, что поведет в комнату, где когда-
то бывал Гете и где он писал своего
«Фауста». И вот, миновав какие-то помещения,
мы у заветной двери. Входим. Тускло
освещенная комната. Стены испещрены
стихами из «Фауста», огромная деревянная
скульптура — персонажи бессмертной
трагедии — подвешена под низким потолком.
Все это появилось потом, после Гете. Я
стояла и думала: «Здесь бывал гений, здесь
посещали его «изменчивые тени»... Но,
признаться, гораздо больше поразило меня
внимание девушек-официанток, и все
только потому, что я из Советского Союза. Как
они оживились, узнав об этом!
А вот какими представляют себе наших
людей школьники в ФРГ:
«Русские грубые и жестокие!»
«Русские носят длинные бороды».
«Русские... в Берлине замуровали
людям окна».
Из опрошенных в ФРГ школьников
ненавидели: русских — 71 процент, францу-
1 Вы знаете Манолиса Глезоса?
2 Лично нет.
158
M. Бурхачева •
зов — 46, евреев — 39, англичан — 29
процентов.
Очевидно, и родителям и педагогам
пришлось изрядно потрудиться, чтобы яд
нацизма так глубоко проник в души детей.
Вдумайтесь только: ребенок ненавидит
целую нацию! А ведь скорее всего ни
одного русского он и в глаза не видел.
Может быть, это случайность, плод
воспаленной фантазии больных детей? Ни то,
ни другое. Таковы данные обследований
западных ученых, опубликованные в
печати ФРГ. К сожалению, это не что иное,
как плоды идеологического воздействия на
молодежь, которую в ФРГ рассматривают
как неокрепший человеческий материал,
особенно легко поддающийся «обработке».
К тому же молодежи свойственна
активность, которую реакционные силы
стремятся немедля использовать. Многие молодые
люди в ФРГ знают, что мир плох, но им
некогда доискиваться, почему,
доискиваться правды, они спешат действовать.
И увлечь их не представляет труда. Нечто
отличное от филистерской спячки они
находят на киноэкране, в телевизионных
передачах, в «солдатских» книжонках. Здесь
«героизма» и «подвигов» хоть отбавляй, а
во имя чего они совершаются,— над этим
редко кто задумывается, и это волнует не
каждого. Иной молодой человек упивается
будоражащей кровь внешней стороной
дела, а о «нужном» содержании заранее
позаботились воспитатели типа Шпрингера —
владельцы газетно-журнальных концернов,
«капитаны индустрии» общественного
мнения. Меньше всего они заинтересованы в
том, чтобы молодое поколение думало.
Но это там, в ФРГ. А в ГДР...
В Карл Маркс-штадте есть парк, а в нем
пруд с лебедями. Они вьют гнезда и
высиживают птенцов в траве у самой дороги,
словно в лесной чаще. Лебеди «знают»:
ни один мальчуган не бросит в них из
озорства камень, не разрушит ради забавы
гнезда.
С одной немецкой девушкой мы
осматривали замок под Дрезденом. Ей очень
хотелось сфотографироваться на каменной
балюстраде. И хотя вокруг не было ни
души, она этого не сделала. Так и сказала
мне: «У нас это не разрешается».
Чтобы воспитать из ребенка
настоящего человека, нужны не только время,
колоссальный труд, терпение, а и
соответствующая социальная среда. История нашего
столетия показала, что считающиеся
традиционными, сами по себе прекрасные
качества немцев — дисциплинированность,
аккуратность, исполнительность отнюдь
не являются панацеей от всех бед. И как
ни горько писать об этом, великолепные
эти качества не менее великолепно
сочетались с нацизмом, сожжением книг,
расистскими шабашами, гильотинами и,
наконец, отлично сочетаются с возрождением'
неонацизма в ФРГ. Мне показали два
фотоснимка, воспроизведенные в одной из
изданных в 1967 году в ГДР книг, похожие
друг на друга, как две капли воды.
Подпись под ними гласила: «Сжигание книг в
1933 г. и в 1965 г. в Дюссельдорфе». Кто
сжигает? В тридцать третьем —
штурмовики. В шестьдесят пятом — весьма
респектабельные на вид бюргеры. Можно не
сомневаться — эти «добропорядочные»
бюргеры с превеликим удовольствием сменят
сшитые по последней моде костюмы на
военный мундир со свастикой на рукаве!
Хозяева Германии умело создавали
питательную среду для слепых инстинктов,
подспудно дремлющих в немецком
обывателе, усиленно распаляли
националистические страсти. И, казалось бы, тихий
буржуа превращался в воинствующего
реваншиста, слепо, верноподданнически
подчиняющегося своему кумиру.
И милитаристы и нацисты чаще
апеллировали именно к инстинкту, нежели к
разуму. Вот какими представляет себе
западногерманский публицист Эрих Кути своих
соотечественников в результате
манипуляций с общественным мнением: «Глупы,
как ослы, и кровожадны, как волки».
История Германии как нельзя лучше
подтверждает истину о том, что есть две
дисциплины: дисциплина слепая и
дисциплина сознательная.
В ГДР строится новое, социалистическое
общество, и члены этого общества впервые
на немецкой земле коллективным трудом и
сознательной дисциплиной доказывают, что
прошлое не должно, не может повториться
и никогда не повторится.
Демократия всегда свободна от
милитаризма. Самый факт существования ГДР
помогает немцам понять, что у них есть иной
путь, путь без войны.
Новое мышление, свободное от бацилл
национальной спеси и шовинизма,
присуще и юным гражданам ГДР. К счастью для
будущего Германии, не все немецкие
школьники ненавидят с детства целые
народы.
Моей случайной попутчицей и гидом в
Лейпциге во время первомайской
демонстрации была школьница. О Советском
Союзе она говорила только с восхищением:
«Папа брал меня с собой в Москву, он у
меня известный спортсмен, бывал во
многих странах, я с ним даже на Кубу ездила,
а в будущем году он обещает опять взять
меня с собой в Москву — вот счастье!»
Однажды в лаборатории в Пирме, под
Дрезденом, мне представили совсем еще
молодого человека: «Diplomingenieur» —
• Меняются времена — меняются люди
159
инженер с дипломом. Какая разница между
дипломированным инженером и просто
инженером?
Чтобы стать просто инженером,
достаточно после политехнической десятилетки
окончить,специальную инженерную школу,
проработав перед поступлением в нее три
года по избранной специальности. А чтобы
стать дипломированным инженером,
врачом, юристом и т. д., нужно окончить
двенадцатилетнюю школу и университет или
институт. Срок обучения, как и у нас,
пять-шесть лет. Не меньше, чем у нас,
распространено вечернее и заочное
образование, начиная со школьного и кончая
университетским.
В ГДР учится много иностранцев со
всех континентов. Немало студентов и из
Западной Германии. Когда речь идет о
деловой выгоде, политические предубеждения
отходят на задний план: можно не
признавать страну, однако посылать своих детей
в ее университеты, если это дешевле, чем
у себя, тем более что двери высших
учебных заведений в этой стране широко
раскрыты для всех, кто хочет учиться.
Какой исполинский труд и сколько
гибкости потребовалось, чтобы после мрачных
лет нацистской диктатуры изменить
систему образования, перевести ее на
социалистические рельсы! Если трудно
восстановить города, разрушенные, войной, то
изменить сознание людей значительно труднее.
К тому же Германия — страна, богатая
академическими традициями,
прославленными на весь мир университетами. Ведь
было время, когда многие ученые и на
Западе и на Востоке даже не считали себя
таковыми, если не прослушали лекции в
университетах Германии. Значит, все, что
было в немецких университетах лучшего,
предстояло сберечь. А западногерманская
пропаганда без устали трубила в
послевоенные годы, что коммунисты способны
только разрушать, у них-де нет
образованных людей, им самим еще нужно учиться.
Правительство, коммунисты, народная
власть в ГДР доказали, что они умеют не
только созидать новое, но, отметая
наносное, вредное, бережно сохранять все
прогрессивное, мудрое, что было создано на
протяжении столетий.
Уже в пятидесятых годах в
демократической Германии были созданы новые
высшие учебные заведения, реконструированы
старые университеты, в которые хлынула
трудящаяся молодежь города и деревни.
Конечно, старой профессуры осталось
маловато. Но со временем появились новые
преподаватели среднего поколения, в
основном тоже из трудящихся. Можно показать
' статистически, как предсказания
западногерманских «ясновидцев» повернулись
против них самих. По числу студентов на
десять тысяч человек населения
(пятьдесят девять) ГДР уже к шестидесятому
году далеко обогнала Западную Германию.
Молодые преподаватели, те, кто получил
образование уже в ГДР,— обычно люди,
влюбленные в свое дело. Они полны
оптимизма, энтузиазма, ответственности за
воспитание молодежи. Как правило, все они
хорошо знают русский язык и прекрасно
осведомлены о достижениях и поисках
советской научной мысли. Мне довелось
побывать на занятиях у преподавательницы
русского языка Дрезденского университета
фрау Штремпель. Познакомилась я с ней
за пять минут до начала урока. Крепким,
мужским рукопожатием меня
приветствовала женщина средних лет с живыми,
умными глазами.
Звонок. Входим в аудиторию: группа —
пятнадцать молодых людей —
приветствует нас. Я сразу ощутила атмосферу
взаимного контакта между студентами и
педагогом — атмосферу, как нельзя лучше
способствующую сложному, творческому
процессу передачи знаний. Урок прошел
легко и, я бы сказала, красиво. А когда
мы остались вдвоем, завязался разговор о
специфике нашей преподавательской
работы, о науке, и, как водится, если беседуют
женщины, то и о чисто женских заботах.
Я не раз еще встречалась с фрау
Штремпель и считаю ее не только
преподавателем, но и женщиной нового для Германии
типа. Унаследовав традиционную
немецкую аккуратность, пунктуальность,
деловитость, она приобрела широкий, даже
государственный взгляд на жизнь. Фрау
Штремпель не ограничивается только
преподавательской стезей: она не мыслит
своей жизни без общественной
деятельности. И это несмотря на то, что у нее
большая семья: муж и четверо детей.
Фрау Штремпель принадлежит к числу
тех педагогов, кто убежден в
необходимости широкой пропаганды советской
науки. Причин здесь много. И одна из них, по
ее мнению, та, что старая профессура по
инерции все еще продолжает
ориентироваться на западную научную мысль, между
тем как советская наука и техника
достигли огромного прогресса, и сегодня — фрау
Штремпель убеждена в этом — ни один
образованный человек не может считать себя
таковым, если он не знаком и не проявляет
интереса к этим достижениям: у СССР есть
чему поучиться. Научные статьи из
новейших советских журналов, которые
подбирает для своих студентов фрау Штремпель,
утверждаются техническими кафедрами
университета, и студенты вместо
домашнего чтения переводят их на
немецкий язык. Такие переводы они делают
охотно, быстро, причем после того, как спе-
,. циалисты отрецензируют переведенные
160
M. Бурхачева ®
статьи, их издают. Это хорошо
оформленные труды, и я не без удовольствия
перелистывала страницы работ, написанных
советскими научными сотрудниками,— вот
оно, зримое свидетельство плодотворных
научных контактов народов, чья дружба
скреплена общими идейными
устремлениями вопреки всем и всяческим попыткам
реакционных сил империализма расшатать
ее, посеять семена недоверия и вражды.
На кафедре иностранных языков в
Техническом институте в Карл Маркс-штадте
мне показали объемистый справочник
«Производство зубчатых колес»,
переведенный с русского языка таким же путем,
квалифицированно и быстро, за что
студенты получили благодарность.
Между прочим, Технический институт в
Карл Маркс-штадте — детище
республики. Его преподаватели — начиная с
ректора, профессора Эккеля, который хотя и
очень молод, но уже имеет немалые
заслуги перед наукой и перед республикой,— в
основном представители новой, народной
интеллигенции, выходцы из трудовых
семей, свободные от кастовой чопорности и
предрассудков. Это энергичные,
трудолюбивые люди, наделенные здоровой
любознательностью и научной инициативой.
Сила традиций... Нужно побывать в
Германии, чтобы прочувствовать, сколь
глубоки и прочны там вековые устои и
привычки. И только тогда по-настоящему поймешь,
как сложна и многогранна работа по
утверждению на немецкой земле нового
миропонимания, новых взаимоотношений
между людьми.
В первый же вечер в Берлине я
поинтересовалась, какие факультеты есть в
Берлинском университете. Мой собеседник
среди прочих назвал теологический. Я
удивилась: «Социалистическая страна,
передовой университет, и вдруг теология,
средневековье!» Однако он не разделил моего
недоумения: «На теологическом
факультете у нас, да и в других университетах ГДР,
учится все меньше и меньше студентов.
Нельзя же сразу, вдруг, уничтожить все,
что веками считалось незыблемым!»
Поразмыслив, я поняла, что мой «оппонент»
прав. Ведь когда-то власть церкви над
немецкими университетами была абсолютной
и нерушимой и в них господствовала
строжайшая монастырская дисциплина:
например, профессора, как и монахи, не могли
вступать в брак. А богословие считалось
«королевой наук». Чтобы получить звание
магистра богословия, требовалось десять—
двенадцать лет учебы, в то время как на
медицинском факультете учились только
четыре года. Вспомним реформацию,4
религиозные баталии между католиками и поо-
тестантами. Все это нити, вплетенные в
историю Германии. II пусть они -изрядно
поистерлись, но подобии тому, как не удается
вырвать истершиеся нити в ковре, точно
так же невозможно одним махом вырвать
и эти нити.
Иду я однажды в Дрездене из
университета по тихой, красивой улице и вижу
лозунг: «Социалистическая демократическая
республика—наша родина». А напротив,
на калитке особняка,— объявление,
отпечатанное на машинке:
«Студенты-католики! Мы приглашаем вас...» И дальше —
программа на предстоящую декаду. Здесь и
лекции, названия которых звучат вполне
научно, хотя, конечно, не обходится без
«души» и «духа», и выступление хора, и
беседы.
Процесс отмирания отжившего и
ненужного наследия прошлого сложен. От
прежнего религиозного праздника или обряда
зачастую остается только форма, а то и
пережившее века название, содержание же
новое. Так, например, вместо прежней
конфирмации, связанной с религиозными
обрядами, в социалистической Германии
устраивают торжественное посвящение в
совершеннолетие. Как это происходит?
Осматривали мы Морицбург — охотничий замок
в окрестностях Дрездена, вошли в
огромный зал, а там — предпраздничная суета.
Школьники вместе с учительницей
развешивали гирлянды из зелени, расставляли
вазы с цветами. А у порога замка мы
встретили юных, тоненьких, как стебельки,
девушек в белых нарядных платьях.
Окруженные друзьями, они направлялись на
свой праздник. «Вот принцессы
социалистической Германии, к торжественному
приему которых готовились в замке»,—
весело заметил кто-то.
По-новому «празднуется» и троица.
Прогрессивная молодежь страны
превращает этот традиционный религиозный
праздник во встречи, посвященные борьбе за
мир. «При чем же здесь троица?» —
спросите вы. Очень просто: эти встречи
происходят летом, во время троицы, испокон
века известного всем праздника лета и
цветов. А религиозное толкование этого
праздника молодежь не интересует.
«ГДР в 1968 году сильнее, чем когда-
либо прежде» — это заявление Вальтера
Ульбрихта западногерманское радио
сопроводило следующим признанием:
«Федеративная республика должна согласиться с
этой горькой для себя истиной». Времена
меняются! Теперь уже каждый житель
ФРГ, будь то обыватель или
высокопоставленный чиновник, не может обойти
вниманием соседнее государство: нельзя не
заметить гору, которая вырастает перед
тобой.
Телевидение ГДР осуществило постанов-
• Меняются времена—меняются люди
161
ку пятисерийного фильма «Крупп и Крау-
зе». Он вызвал большой резонанс по обе
стороны Эльбы. Главный герой фильма —
династия потомственных
рабочих-металлургов Краузе, первые представители
которой жили в сумрачных поселениях
пушечного короля Круппа. И хотя сами Круппы
на экране почти не появляются, их все-
проникновение в жизнь рабочих передано
очень тонко и воспринимается зрителем
как кошмар. Последний, недавно
обанкротившийся представитель династии Круппов,
просмотрев фильм, изрек злобно: «Они
научились!» Возникает вопрос: «Чему?»
Работать немецкие труженики умели и
раньше, но они работали на таких, как
Крупп. Теперь же они научились еще и
управлять государством. Очевидно, это и
имел е виду последний из Круппов,
именно это и вызвало у него приступ
ненависти.
Думается, секрет бурных успехов ГДР —
в удачном сочетании традиционного
немецкого умения работать и нового,
социалистического отношения к труду, труду
освобожденному, целенаправленному,
открывающему широкие горизонты для всего народа.
И разве не символично, что в Дрездене
здание фашистской тюрьмы и суда, после
того как оно было восстановлено,
превращено в главное здание Дрезденского
университета! Мрачные залы суда стали
теперь актовыми залами, камеры —
светлыми аудиториями и рабочими кабинетами.
Только внутренний двор напоминает о
зловещем прошлом: плитой с высеченными на
ней предсмертными словами антифашиста
Георга Шумана здесь накрыто место, гле
стояла гильотина — одна из двадцати
действовавших в Германии при нацистах. Так
лее, как выразительная скульптурная
группа борцов Сопротивления посреди
двора, плита эта напоминает молодому
поколению о той опасности, какую
представляет собой возрождаемый в ФРГ неонацизм, и
как бы предостерегает от ложного шага...
Крепость Кенигсштейн, что по дороге в
Саксонскую Швейцарию (фашисты чинили
в ней неслыханные злодеяния),
превращена в молодежный спортивный лагерь.
И так в республике повсюду. На месте
нацистских застенков — сооружения,
которые служат мирным помыслам людей
новой Германии.
Поистине слова, сказанные о
дрезденской сокровищнице искусств — Цвингере,
могут быть адресованы всей республике —
первому миролюбивому государству на
немецкой земле: «Да чтит его молодое
поколение как драгоценное наследство; пусть
оно любит и защищает его лучше, чем это
делали его отцы...»
•
Д. К РАМ И H OB
Америка смятения
и раздоров
■ парадоксы
и несуразности
Оек блистательных научных открытий
■^ и изумительных технических скачков
все более становится веком невероятных
парадоксов и потрясающих несуразностей:
чем выше, например, скорости в воздухе,
тем медленнее движение на земле. За 10
часов воздушный лайнер «ИЛ-62» о*долел
расстояние от Москвы до Монреаля в Канаде
(восемь тысяч километров) и за 50 минут—
расстояние от Монреаля до Нью-Йорка
(шестьсот пятьдесят километров). Однако,
достигнув города и нацелившись на залив
Джэмайка, на берегу которого расположен
аэропорт Кеннеди, самолет вдруг круто
отвернул в океан. Выросшие внизу каменные
громады Манхэттена — самого заселенного
района Нью-Йорка, стали отодвигаться
назад, уменьшаясь в размере. Когда Манхэт-
тен начал походить больше на макет города,
чем на город, «ИЛ-62» повернул назад, и
каменные громады опять стали
приближаться, быстро вырастая, точно вытягиваясь над
узкой полоской острова, отрезанного от
материка водами Гудзона, Ист-ривер и
Гарлема. Мы снова увидели желтоватый берег, к
которому катились белоспинные волны
постоянного прибоя, за берегом—серую в
зимней однотонности Америку, исчерченную
черными, как их рисуют на карте,
дорогами. На дорогах пестрыми тире выделялись
машины; иногда они, отражая солнце,
стреляли белыми молниями.
Над заливом Джэмайка самолет снова
подобрал уже выпущенные шасси и снова
повернул в океан: забитый аэропорт опять не
принял нас. Мы снова ушли в океан,
сверкавший в голубой дымке, вернулись и опять
ушли, снова вернулись и ушли. Лишь
проведя г. воздухе почти в полтора раза больше
времени, чем потребовалось на полет из
Монреаля в Нью-Йорк, мы получили
разрешение на посадку: пришла, наконец, наша
очередь. Лайнер пронесся над мелководным
заливом Джэмайка и коснулся колесами
бетонированной дорожки аэропорта,
выходящей тут к самому берегу.
Осложнения на земле Америки были еще
более странными. Огромная
комфортабельная машина, принявшая нас на свои
мягкие кожаные подушки за стеклянной
стеной аэровокзала, оказалась поразительно
беспомощной: попав в поток машин,
текущий в сторону Нью-Йорка, она сразу
сбавила свой начальный бег до скорости...
пешехода, хотя под ее сверкающим черным
лаком капотом бился мотор такой силы, что
он мог бы поднять машину и нести, как
самолет, по воздуху. Лететь она не могла: не
было крыльев, и бежать не могла, потому
что впереди, по бокам, сзади двигались
вплотную к ней такие же огромные,
комфортабельные машины с такими же
сильными моторами.
От аэропорта Кеннеди в Нью-Йорк ведут
две большие дороги — одна по платному
мосту Трайборо, построенному через
Восточную реку, другая — сквозь платный Мид-
тауи — туннель, проложенный под этой
рекой. Наш шофер выбрал второй путь: он
немного короче. Втиснувшись в середину
машинного потока, мы медленно поползли
в сторону Манхэттена, небоскребы которого
четко поднимались к холодному
бледно-синему небу.
Чем ближе к городу, тем медленнее
двигался поток, а чем медленнее ползла
машина, тем больше нервничал весело и
любезно встретивший нас редактор
еженедельника, гостями которого мы были. Занятый
человек, журналист и делец, вернее,
журналист, ставший редактором и дельцом —
# Америка смятения и раздоров
163
ведь издательское дело тоже бизнес,— он
спешил на какую-то важную деловую
встречу. Как на грех, машинный поток почти
совсем остановился у развилки дороги, где
дорожные строители в одном месте
расширяли шоссе, в другом — ставили бетонные
столбы для эстакады, чтобы открыть тут
в будущем движение, так сказать, в два
этажа. Задержка взорвала
редактора-бизнесмена, и он, глядя на строителей
ненавидящими глазами, начал вполголоса ругать
их, их начальство, муниципалитет Нью-
Йорка и правительство в Вашингтоне,
которое смотрит на эти безобразия сквозь
пальцы.
— Вы знаете,— сказал он, обращаясь
ко мне и кладя свои тонкие пальцы на
ггое колено,— я против смертной казни и
записал много статей, требуя отменить в
Штатах смертную казнь. В конечном
счете казненного человека она уже ничему не
научит, а в качестве урока для других казнь
служить не может: ведь каждый
преступник верит, что сумеет уйти от наказания;
если бы он не верил в это, он не пошел бы
на преступление. Но я сохранил бы
смертную казнь для тех, кто строит дороги.
— Почему такое бессердечие?
— Нет, не смейтесь... Серьезно, я
сохранил бы смертную казнь для них,—
продолжал он.—Вот эту дорогу и на этом месте
они перестраивали за последние десять
лет три раза, и каждый раз, как только
загачивали перестройку, оказывалось, что
по ней уже нельзя ездить: она мала, узка,
непригодна для возросшего движения.
Почему они не хотят построить дорогу, кото-
ая годилась бы хотя бы на пять — семь
#т? Ведь это же нетрудно подсчитать...
Редактор замолчал, пытаясь испепелить
ненавидящим взглядом строителей в
оранжевых жилетах и белых касках. Строители
не обращали никакого внимания на
роскошные машины, застрявшие на дороге.
«Змеи», как тут зовут эти автомобильные
плети, едва ползли, тихо урча и издавая
сильное зловоние.
Снова повернувшись ко мне, редактор
начал жаловаться на то, что вчера он опоздал
на деловое свидание в Нью-Йорке на два
часа, хотя выехал из дома рано утром,—
провел в дороге четыре часа вместо
обычных двух часов (расстояние 70
километров). Три дня назад он опоздал на полтора
часа, а в тот день, когда выпал снег, он
провел на дороге большую часть дня.
Утомленный и желчный, нетерпеливый и быстро
возбудимый редактор при одном
воспоминании о потерянных часах и упущенных
адц^чах опять вознегодовал, посылая на
<#*дашков и их несчастные головы все
*ары и муки, которые могла изобрести его
мстительная фантазия.
— Чего вы возмущаетесь? — остановил
я его.— Это же плоды «автомобильного
общества», которое вами неустанно
прославляется. Ваши газеты не перестают
потешаться над нашей страной, потому что
у нас мало автомобилей в личном
владении. С каким азартом они подсчитывают,
сколько лет потребуется нам, чтобы
догнать вас, хотя у нас и нет желания
догонять Америку в этом. И так же азартно
продолжают хвастать, что у вас восемь из
десяти семей имеют по одному
автомобилю, одна из четырех имеет по два и даже
больше автомобилей. Разве это так
необходимо, чтобы каждый имел свой личный
автомобиль?
— Так ли это необходимо? — повторил
редактор, задумываясь. Он повернулся
спиной к окну, чтобы не видеть ненавистных
дорожников, и заговорил: — С одной
стороны, это, конечно, необходимость, у нас, как
вы знаете, плохо развит общественный
транспорт. С другой стороны, это престиж,
показатель общественного положения
человека. У нас нет титулов и званий и людей
отличают по марке машин: чем дороже
машина, тем богаче человек, тем выше его
положение в обществе. Не случайно, человек,
выбившийся из низов, прежде всего
покупает себе дорогую машину: пусть все видят,
каких высот он достиг!
— Вы сегодня зло настроены.
Редактор криво усмехнулся, не
опровергая, но и не соглашаясь.
— Надеюсь, вы не повторите нашей
глупости и не сойдете с ума на машинах,—
сказал он, помолчав.— У вас же хороший
общественный транспорт и в городах и в
стране. Мне говорили, что по вашим поездам
можно проверять часы...
— А почему бы вам не взяться за ум и
не создать свой хороший общественный
транспорт?
— У нас это почти невозможно,— со
вздохом ответил редактор.— Во-первых, мы
страшные индивидуалисты, мы просто не
выносим общества других.
— Никто не тратит столько времени на
различные парти (вечеринки), сколько
тратят американцы.
— Парти — это другое дело,— быстро
возразил редактор.— Без них мы одичали
бы в своем индивидуализме.
— А что во-вторых?
— Что во-вторых?!
— Вы сказали во-первых, значит, есть
и во-вторых...
— Ах, да!.. Во-вторых, наша
автоиндустрия не позволит нам иметь развитый
общественный транспорт. Четверка
достаточно сильна, чтобы помешать кому бы то ни
было создавать общественный транспорт,
который мог бы снизить спрос на
автомобили, ослабить увлечение наших людей
машиной.
164
Д. Краминов •
— Что за четверка?
— Ну, вы должны знать... «Дженерал
моторе», «Форд», «Крайслер», «Америкэн
моторе»...
— Слышал, слышал... Но так ли эта
четверка сильна? Я читал на днях в
одной из ваших газет, что правительство
снова начало процесс против «Дженерал
моторе». Значит, оно не боится его.
Редактор рассмеялся. Перестав смеяться,
раздраженно проговорил:
— Снова начало процесс против
«Дженерал моторе»... Вот именно: «снова
начало». А вы знаете, сколько раз оно
начинало этот процесс? Наверное, несколько
десятков раз. И ни разу не довело процесс до
конца: попытки заставить семью Дюпонов
отказаться от контроля над этой
корпорацией пока ни к чему не привели. Четверка
была и остается самой могучей четверкой
в нашей стране. Она хозяин автомобиля, а
автомобиль — хозяин страны.
— А вы не преувеличиваете?
— Преувеличиваю? Нисколько... Знаете
ли вы, что из каждых шести работающих в
нашей стране один занят в автомобильной
промышленности или в чем-то ином, тесно
связанном с автомобилем? Не знаете?
Тогда вы не знаете и того, что автомобиль
потребляет треть всего стекла, производимого
в стране, одну пятую всей стали, одну
десятую всего алюминия, шесть из каждых
десяти фунтов резины. Представляете, что
тут произошло бы, если бы эта
промышленность вдруг остановилась? Или резко
снизила бы свое производство?
Редактор помолчал, ожидая моего ответа,
и, не дождавшись, заключил:
— Четверка знает, что она держит
судьбу страны в своих руках, и поэтому, когда
ей надо, говорит голосом хозяина, которого
не осмеливаются не слышать или
ослушаться...
У въезда в тоннель под Восточной рекой
мы задержались у ворот с горящей
надписью: «Толл» (плата). Шофер высунул
руку из окна, навстречу протянулась рука из
будки, стоявшей у ворот: руки
соприкоснулись— серебряный «куотер»
(«четвертак» — 25 центов) перешел из шоферской
руки в другую, дзинькнул звонок, и
машина покатилась под освещенные своды
тоннеля: частные тоннели, мосты, дороги стали
тут такой же действительностью, как и
частные автомобили. Их гордые,
самовлюбленные владельцы все реже могут выбираться
из городов или попадать в города без
дополнительной платы за мосты и дороги, за
подъезды и стоянки, не говоря уже о
горючем и обслуживании.
Нашего редактора это не беспокоило: у
него было достаточно денег, чтобы оплатить
все это. Однако он приходил в ужас
оттого, что при нынешнем росте числа машин
в Штатах ими практически нельзя будет
пользоваться в городах уже через двенад--
цать — пятнадцать лет. Люди все более
скапливаются и будут скапливаться в
городах — одни живут в них, другие работают.
(Уже сейчас три четверти населения
страны живет на одной сотой ее территории.)
Те, кто живет в городе, не смогут покинуть
его, а кто работает—попасть в него, если...
если нынешние города не будут сломаны.
Словом, «прогресс» завел общество в
такой тупик, из которого редактор не видел
пока выхода, поэтому стал снова ругаться:
— Мы сумасшедшие! И становимся все
более сумасшедшими! Все больше!..
■ ПУГАЮЩИЙ БЛЕСК
Американское словечко «крэйзи»
(сумасшедший), употребленное редактором,
означает не только «душевнобольной», но и
«крайне увлеченный», помешавшийся на
чем-нибудь и просто «очень необычный».
В Нью-Йорке это словечко слышишь часто и
в самом удивительном сочетании: тут
«сумасшедший трафик» (движение
транспорта), «сумасшедшая погода», «сумасшедшие
мини-юбки», «сумасшедшие мувиз»
(кинокартины) и даже «сумасшедшие скайскрей-
перс» (небоскребы), которые растут
повсеместно, состязаясь друг с другом в высоте.
Подталкиваемый «сумасшедшими ценами»
на землю, Нью-Йорк рванулся в последние
десять лет вверх.
В тяжелые для трудового народа
кризисные 1929—1933 годы Рокфеллеры начали
строить в центре Манхэттена группу
небоскребов, ставшую известной под име*
нем «Рокфелла-сэнта» (Рокфеллеровский
центр).
После 102-этажного «Эмпайр стэйт бил-
динг» новая группа зданий оказалась
первым «высотным оазисом», нарушившим в
общем однообразную картину
нью-йоркского горизонта. Помимо изменения
«профиля» нью-йоркского горизонта, скептики
не видели в этой затее ничего интересного,
и Рокфеллерам предсказывали большие
убытки: кто захочет рисковать своей
жизнью, снимая оффис (служебное
помещение) на тридцатом или сороковом
этаже? Однако вопреки предсказаниям
«центр» недолго пустовал: рекламная
ценность небоскребов оказалась выше страхов,
и желающих иметь свои оффисы в
«Рокфеллеровском центре» было так много, что
его владельцы установили за аренду
помещений очень высокую плату — 4 доллара
в год за квадратный фут.
В последующие двадцать лет «горизонт»
Нью-Йорка менялся мало. Дома росли, но
все же не соперничали с рокфеллеровскими
небоскребами. Лишь в пятидесятых года%
появилось несколько новых высотных зда-
• Америка смятения и раздоров
165
ний — автомобильного гиганта
«Крайслера», крупнейшей страховой компании
«Метрополитен лайф», издательского концерна
Генри Люса «Тайм» — «Лайф». И только в
последнее десятилетие Нью-Йорк, точнее,
Манхэттен, охватило это «высотное
сумасшествие»: банки и корпорации,
обнаружив, что наивысшие доходы приносят
вложения в городское строительство,
бросились строить небоскребы. И первое место
заняли опять Рокфеллеры, построившие в
самом сердце того, что называется
«денежным центром» Штатов,
шестидесятиэтажное здание для своего банка «Чэйз
Манхэттен».
Дэвид Рокфеллер — младший из братьев
Рокфеллеров, занимающийся финансами
семьи и, вероятно, поэтому прозванный
тут «банкиром» — пригласил нас (мы
встретились с ним в день приезда на
деловом ужине) осмотреть это здание и
картины, собранные в нем. Он расхваливал
здание и картины с одинаковой гордостью,
и, как мы убедились, отправившись на
Уолл-стрит, у него были основания
гордиться. Среди толстостенных,
монументальных и потемневших от времени зданий
«денежного центра» банк «Чэйз
Манхэттен» выглядел удивительно воздушным,
легким сооружением, всунутым в
грандиозный стеклянный футляр с ребрами из
нержавеющей стали. Футляр держался на
изящных гранитных столбах.
Молодой помощник «банкира»,
встретивший нас на семнадцатом этаже, где
находятся кабинеты руководителей «Чэйз
Манхэттен-банка» — их возглавляет Дэвид
Рокфеллер,— был воплощением
вежливости и предупредительности: мы были
«личными гостями» главы банка. Он снабдил
нас пакетами, в которых мы нашли
тщательно подобранную рекламу, и, посадив в
кресла, приготовился вести беседу,
предупредив, что готов ответить на любой наш
вопрос.
— Каким капиталом располагает
«Чэйз Манхэттен»?
— Каким капиталом, не знаю, но его
вклады превышают восемнадцать
миллиардов долларов,— ответил помощник.— Мы
крупнейший банк в Штатах.
— «Чэйз Манхэттен»? А разве не «Бэнк
оф Америка»?
Помощник пожал плечами, точно
впервые слышал о «Банке Америки».
— Все равно, это здание — крупнейшее
банковское здание в мире,— бодро
проговорил он, уверенный в превосходстве
«своего» банка,— а площадь, на которой оно
стоит,— крупнейшая частная площадь в
мире, предоставленная для общественного
пользования. Наш банк занимает тридцать
пять этажей и все подвальные этажи;
остальное мы сдаем в аренду.
— В аренду?
— Да, в аренду,—подтвердил
помощник.— Надо же оплатить расходы на
постройку здания. Оно обошлось свыше ста
тридцати миллионов долларов.
— Неужели Рокфеллеры не могли
построить здание только для одного своего
банка?
— Могли, конечно, но зачем? — с
хитрой улыбкой спросил помощник. Он
немного наклонился над маленьким круглым
столом, в черном стекле которого
отразилось его худое лицо, и доверительным
тоном, каким, видимо, полагается
разговаривать с «личными гостями» главы банка,
сообщил: — Ну, вы знаете, Рокфеллеры —
очень экономные люди. Хотя они
достаточно богаты, чтобы каждый член семьи мог
иметь все, что он хочет, у них многое в
общем пользовании. Например, совместный
гараж; достаточно нажать кнопку, чтобы
машина появилась у подъезда. У них
совместный парк самолетов — самолет
всегда к услугам любого из братьев или
членов семьи. У них даже совместный
загородный дом с площадками для тенниса,
гимнастики, с бассейном для плавания.
Это совместное владение не только дает
большую экономию, но и сближает
семью.
— Чем занимаются сейчас братья
Рокфеллеры?
— Ну, вы знаете, мистер Нельсон —
губернатор штата Нью-Йорк, а мистер
Уинтроп — губернатор штата Арканзас,
остальные три брата занимаются делами
семьи.
— Делами семьи?
— Ну, бизнесом семьи. Мистер Джон
Третий, старший брат,— президент
Рокфеллеровского фонда, мистер Лоуренс —
президент авиакомпании «Истерн Эйр
Лайнз», мистер Дэвид... Ну, о мистере
Дэвиде вам говорить не надо: вы его знаете...
Молодой помощник осмотрел нас почти
победным взглядом: он не уклонился ни от
одного вопроса. Потом спросил, есть ли у
нас еще вопросы, заверив снова, что
готов ответить на любой вопрос.
— На любой?
— Конечно, на любой.
— Помимо нефти и авиации, куда еще
вложен капитал Рокфеллеров?
Внимательные глаза стали
настороженными, но улыбка не покинула худое лицо.
— О, их интересы очень разнообразны
как внутри Штатов, так и за их пределами.
— Есть ли их капитал в средствах
массового воздействия — радио,
телевидении?
— Не знаю.
— Есть ли их капитал в печати? В
частности, в газете «Нью-Йорк тайме»? Вы
же знаете, что эта газета, критикующая
166
Д. Крэминов #
иногда правительство США, не
осмеливается трогать Рокфеллеров...
Помощник выпрямился и даже подался
назад, будто уклонялся от удара.
— Это... это я...— забормотал он
смущенно,— этого я тоже не знаю...
Вероятно, опасаясь, что дальнейшие
вопросы могут оказаться еще более
затруднительными, помощник передал нас
хорошенькой польке, сносно говорящей по-
русски, которую специально вызвали
откуда-то, чтобы она стала нашим гидом. Она
повела нас к лифту, и лифт помчал на
шестидесятый этаж, где находились
столовые президента, председателя и директоров
банка, а в столовых — картины.
Верхний этаж с его-стеклянными
стенами действительно скорее напоминал музей,
чем цепь столовых, где «боги» второго по
величине банка США принимали пищу
вместе со своими, видимо, тоже
«божественными», то есть богатыми или
влиятельными, гостями. Картины были интересны,
очень разнообразны по времени — от
древности до наших дней,— по жанрам и по
ценности. Они говорили как о богатстве
людей, собравших их тут, так и о
разнообразии вкусов.
Нас, однако, увлекли не столько
картины, сколько совершенно потрясающие
виды — на гавань Нью-Йорка, на реку
Хадсон (Гудзон) и Ист-ривер, которые
почти сливались, впадая в Верхний залив,
на весь Нью-Йорк. Сквозь стеклянные
стены банка, поднятые на высоту 270
метров, можно было рассмотреть, какой это
большой и разноликий город. Город
сверкающих сталью и стеклом небоскребов и
мелких, облезлых или почерневших от
копоти домов. Город широких, прямых авеню
и узких, кривых улочек. Город самого
толстого денежного мешка и самой кричащей
нищеты. (Каждый восьмой обитатель этого
многомиллионного города живет за счет
благотворительности.)
Денежный мешок растет, раздувается, и
это ощущаешь почти физически, когда
смотришь на нью-йоркские небоскребы,
взметнувшиеся к небу. Помимо банка, на
верхнем этаже которого мы стояли, и
«Эмпайр стэйт билдинг» с его острым,
вонзающимся в небо шпилем, мы насчитали
еще пятнадцать больших небоскребов, в
которых разместились штаб-квартиры (их тут
зовут «хэд-оффис» — «головная контора»)
банков, крупнейших корпораций и
страховых компаний. Небоскребы выросли в
пределах примерно 25 — 30 улиц, где
фактически сосредоточена вся деловая — и не
только деловая — жизнь Нью-Йорка.
Некоторое время назад банки и
корпорации, зажатые на узких улицах «Даунтау-
на» («нижнего» или «внутреннего» города,
где возник когда-то Нью-Йорк), стали
вырываться отсюда и переносить свои штаб-
квартиры на более просторные авеню — .
Пятую, Медисон, Парковую и Лексингтон.
Это угрожало «денежному центру»,
находящемуся на Уолл-стрит и вокруг него, за-
хирением. И тогда...
— И тогда мистер Рокфеллер,—
восторженно произносит гид, сверкая красивыми
черными глазенками,— бросил клич:
«Назад в Даунтаун!» — и начал строить вот это
здание для «Чэйз Манхэттен».
— И что же, последовали его призыву?
— О, конечно,— ответила девушка и
повела нас к другой стеклянной стене.
Даже на Уолл-стрит выросли два
небоскреба, один в семьдесят, другой в
пятьдесят этажей, два других небоскреба стоят
чуть поодаль. Почти рядом с «Чэйз
Манхэттен» строились еще два здания и рыли
котлован для третьего. Еще недавно
казавшееся высоким здание муниципалитета
Нью-Йорка, стоявшее возле красного
котлована — его вырубали в камне, а камень
тут красный,— выглядело теперь карликом
в окружении великанов. Картина поистине
символическая: банки и корпорации
попирали законную городскую власть.
Большое богатство похоже на айсберг:
постороннему глазу доступно лишь то, что
находится на поверхности. Это стало
особенно ясно, когда мы спустились вниз —
спустились не на 60, а на 65 этажей: банк
уходил под землю, точнее, иод скалу.
Главный подвал — говорят, его площадь
превышает футбольное иоле — начинался под
банком, но тянулся далеко в сторону —
под скалы, на которых стоит Манхэттен,
под реку Гудзон. Вход в него закрывала
18-тонная бронированная дверь с особым.
механизмом запора и часами на внутренней
стороне двери, которые позволяли
механизму действовать лишь между 9 часами утра
и 5 часами дня: за пределами этого
времени нельзя ни попасть в подвал, ни покинуть
его. Когда дверь закрывается, стальной пол
перед ней автоматически поднимается на
десять сантиметров. Забота владельцев
банка об этом подвале легко объяснима: в нем
хранятся деньги, ценности и ценные
бумаги как «Чэйз Манхэттен-банка», так и
других банков и корпораций на общую сумму
32 миллиарда долларов.
— Ограблений не было?
«Чиф» (начальник) охраны подвала—
крупный, большерукий мужчина с
внимательными и настороженными глазами —
улыбнулся и молча покачал головой.
— И попыток не было?
В ответ та же улыбка. И лишь после
некоторого раздумия короткая справка:
— На меры безопасности против
ограбления тут истрачено 4 миллиона долларов.
Он произнес это так, что мы должны
были понять, будто при таких расходах
# Америка смятения и раздоров
167
думать о каких-то ограблениях просто
излишне. Услышав возражение, что нет
таких мер, против которых не было бы
других более хитрых контрмер, «чиф»
самоуверенно объявил:
— Только не здесь... Только не здесь...
Вероятно, недоверие на наших лицах
было слишком явным (ежегодно в США
совершаются десятки тысяч ограблении
банков), и это заставило «чифа» пояснить:
— Большое ограбление без соучастия
кого-либо из работающих невозможно, и у
нас есть на этот случай «спешиал дивайс»
(особое изобретение, схема, трюк).
— Что за «дивайс»?
— Соучастник не может покинуть
ограбленное помещение вместе с грабителями, а
если покинет, то кто-то из грабителей
должен остаться за него...
«Дивайс» был прост: выход разделен
двумя стеклянными, пуленепробиваемыми
дверями, которые сделаны так, что, пока
не закрыта одна дверь, никакая сила не
может заставить другую дверь открыться;
внешняя дверь открывается лишь тогда,
когда кто-то нажимает и держит под
пальцем кнопку на особом пульте по ту
сторону закрытой внутренней двери. «Чиф»
был убежден, что ничто и никто не может
обмануть этот «дивайс»: дорогая и самая
современная техника стояла на страже
богатств «Чэйз Манхэттен-банка».
Нам показалось, что он переоценивает ее
возможности. В нескольких шагах от этих
«противограбительских» дверей
поблескивает квадратная плита из нержавеющей
стали, прикрывающая «вечные атомные
часы», которым волею изобретателей и хо- \
зяев банка поручено отсчитывать время
существования этого здания. «Вечные»
часы отказались быть вечными,
проработав лишь 9 лет и 1 день. И теперь их
показывают посетителям как
«забастовщиков», не пожелавших трудиться подобно
другим «вечным атомным часам» в
цокольном этаже, на которых в тот момент, когда
мы осматривали их, значилось: 09 лет
348 дней и 1 час 36 минут и... Секунды
летели на них, как цифры сотен метров на
спидометре быстро идущей машины...
Из подвала мы снова вознеслись на
17-й этаж, где вежливый и услужливый
помощник «банкира» помог нам надеть
пальто и проводил до лифта. Оказавшись
вне стеклянных стен, мы невольно
остановились: за нашей спиной, впереди нас,
справа, слева поднимались большие
толстостенные банковские здания. Однако над
ними или в просветах улиц высились еще
более крупные, многоэтажные дома из
стекла и стали — недавно построенные
небоскребы. Холодное зимнее солнце
отражалось в них, и этот блеск был угнетающе
резок и пугающ: человек чувствовал себя
ничтожно маленьким рядом с ними и
совершенно беспомощным перед силой тех,
кто возвел эти небоскребы, кто владел ими,
чье богатство они воплощали в своем
размере и высоте, в своем
надменно-ослепительном и холодном блеске.
■ В ТЕНИ НЕБОСКРЕБОВ
Несколько дней спустя мне пришлось
снова побывать в «Чэйз Манхэттен-банке».
Хотя на этот раз я не был личным гостем,
меня снова приняли вежливо и
предупредительно: я был «кастамер» (клиент), и
правила требовали вежливого внимания.
Вместо просторных и богато обставленных
кабинетов или уютных директорских
столовых с дорогими картинами на стенах я
оказался в зале, где за тесно
поставленными конторскими столиками сидело
примерно 25 — 30 человек. Высокая женщина
с худым, измученным лицом, встретившая
меня у входа, спросила, может ли она
помочь мне, и, выслушав ответ, повела к
конторщику, который занимался
иностранными чеками. Тот усадил меня, отнес мой
чек на проверку и, вернувшись, стал
занимать клиента (это тоже требуется
правилами), расспрашивая про русские холода и
снежные заносы. Однако он перестал
слушать меня, когда двое мужчин, сидевших
за соседними столиками, вдруг заговорили
о том, что кому-то удалось удивительно
хитро прикарманить или стащить сразу
несколько миллионов долларов.
— И, понимаете, никаких следов! —
почти восхищенно воскликнул один.—
Совсем никаких следов!
— Следы найдутся,— заметил
другой.— Следы обязательно найдутся, когда
их серьезно поищут.
— В том-то и дело, что их всерьез
ищут, но ничего не могут найти,— с тем
же восхищением продолжал первый.—
Говорят, что чем усерднее ищут, тем
больше денег исчезает.
— Извините,— сказал мне конторщик,
сразу потеряв интерес к нашим холодам и
снегам. Он повернулся вполоборота к
соседям и тоном знатока объявил:—Чужие
деньги никогда всерьез не ищут. Если они
выскользнули, их теперь уже не поймаешь.
— А вы слышали, что компьютеры
(электронно-вычислительные машины)
оказались заодно с мошенниками? — спросил
первый. Он был сравнительно молод и
излишне восторжен, поэтому нотка
восхищения слышалась даже в его вопросе.— Да,
да!... Компьютеры, на которые возлагали
столько надежд, что они не подведут,
выдавали фальшивые чеки, точно ловкие
жулики.
— Еще одно доказательство того, что
техника не может заменить честную рабо-
168
Д. Краминов •
ту человека,— провозгласил мой
конторщик.— И пусть боссы винят себя, что
позволяют технике вытеснять честных
людей...
Высокая, худолицая женщина положила
мой чек на стол, сказала «о'кей» и
удалилась, чтобы встречать у входа других
посетителей. Конторщик извинился перед
соседями, спросил меня, какими купюрами
хотел бы получить я деньги, и ушел.
Восторженный сосед проследил за ним,
нагнув голову и глядя поверх очков в
толстой черной оправе, потом сказал,
вероятно, возвращаясь к спору, который шел
между ними раньше:
— Он опять свое... Не позволять
технике вытеснять человека,— проговорил он,
явно передразнивая ушедшего
конторщика.— Да не будь у нас компьютеров (мы
видели в подвале банка просторную
комнату, уставленную
электронно-вычислительными машинами, которые
обрабатывали ежедневно два миллиона чеков,
поступающих из отделений банка), нам
пришлось бы работать тут круглые сутки, не
разгибая спины. Они экономят миллионы
человеко-дней.
— И расходы банка,— добавил не без
иронии сосед.
— Да, конечно, и расходы банка,—
согласился первый. Он помолчал немного,
потом засмеялся.— Каковы компьютеры? А?
На них так надеялись, так надеялись...
А они? Ах, мошенники!..
И нельзя было понять, считает ли он
мошенниками электронно-вычислительные
машины, или восхищается мошенниками,
которые так ловко «усовершенствовали»
их, что заставили в течение длительного
времени прикрывать грандиозное
мошенничество.
Конторщик принес деньги, пересчитал их
на моих глазах, дал мне расписаться на
обратной стороне чека, поблагодарил и
повел к лифту (правила предусматривают
и это). Лифт задерживался, и
конторщик, вероятно, чтобы занять клиента,
сказал:
— Началось расследование растрат в
«Администрации человеческих ресурсов»,
и картина, которую раскрыли федеральные
и местные расследователи, оказалась
потрясающей.
— Что за «Администрация»?
— А вы не знаете? Впрочем, откуда же
вам знать? Вы же иностранец и недавно
в Нью-Йорке.
Коротко, с оттенком пренебрежения он
рассказал, что некоторое время назад в
Нью-Йорке было создано особое управление,
которому поручалось заботиться вместе с
частными благотворительными
учреждениями о беднейшей части населения этого
огромного и очень богатого города (к
категории бедных отнесено более миллиона
ньюйоркцев). Управление должно былр?
следить, чтобы правительственные, как и
городские, средства, выделенные на
помощь бедному населению, использовались
справедливо, целенаправленно и экономно.
Однако, получив в свои руки огромную
сумму — более полутора миллиарда
долларов, «Администрация» не сумела или не
захотела улучшить положение
нью-йоркской бедноты, жалоб на отчаянную нужду
многодетных семей стало еще больше.
Число бедных и нуждающихся в срочной
помощи продолжало увеличиваться в той же
потрясающей пропорции — 50 тысяч
человек в месяц. Созданные этой
«Администрацией» центры'по проверке и учету
нуждаемости забиты людьми, словно вокзалц
перед отходом поездов. И с каждым
месяцем там становится все теснее и теснее.
По городу уже давно ходят слухи, что с
«Администрацией» что-то неладно, и,
вероятно, это заставило министерство труда и
местные власти заглянуть в бумаги
«Администрации». Пока следователи ничего не
сказали, но слухи о больших растратах и
кражах, о крупном мошенничестве
заполнили город, а дыма без огня, как известно,
не бывает.
Словоохотливая и падкая на сенсации
нью-йоркская печать пока помалкивала о
расследовании, которое велось без шума,
не заикалась о растратах и кражах в
«Администрации человеческих ресурсов»
(она выступила с «разоблачениями»
несколько недель спустя, повернув дело
против «мелких сошек»). Советскому
журналисту, конечно лее, было немыслимо
отправиться к прокурору Нью-Йорка и спросить^
правильны эти слухи или нет. А если
правильны, то что уже дало расследование?
Можно было, однако, пойти в один из
многочисленных центров «Администрации»,
посмотреть, действительно ли они так уж
переполнены нуждающимися, и послушать,
что говорят люди. И, конечно, было бы
очень замечательно, если бы такой центр
оказался где-нибудь поблизости от
Уоллстрита: блеск и нищета столицы мирового
денежного мешка стояли бы рядом.
Конторщик, которого я спросил, не знает
ли он адреса ближайшего центра
«Администрации», ответил со снисходительной
улыбкой:
— В окрестностях нашего банка
невозможно найти этот центр.
— Тут нет нуждающихся?
— Понятие нуждаемости
относительно,— ответил он.— Каждой даме, как у нас
говорят, всегда не хватает одного платья, и
каждому человеку также не хватает чего-
нибудь. Но, конечно, о нищете тут
говорить нельзя, и в карманах джентльменов,
которых вы встретите на ближайших ули-
# Америка смятения и раздоров
169
цах, скорее найдете чековую книжку, чем
«фуд-стэмпс».
— Фуд-стэмпс? — переспросил я,
искренне удивленный. Фуд-стэмпс (пищевые
марки, то есть талоны на пищу,
оплаченные благотворительными учреждениями)
выдавались до сих пор лишь в наиболее
бедных штатах страны, как Западная
Виргиния, Миссисипи, Алабама и некоторых
графствах богатого Техаса.— Неужели фуд-
стэмпс появились и в Нью-Йорке?
— Фуд-стэмпс появляются везде, где
появляется нищета.
Над дверью лифта засветилась красная
капсула, и конторщик протянул мне руку,
изобразив на лице самую приятную улыбку
(правило!).
В тот день, солнечный, но ветреный, в
Нью-Йорке было невероятно холодно, и,
оказавшись на улице, я невольно втянул
голову в плечи и надвинул шляпу на лоб,
вливаясь в поток бегущих мимо
мерзнувших американцев. Выйдя на Уолл-стрит, я
направился в сторону церкви Троицы,
которая как бы замыкает улицу банков, а
оттуда на север по Бродвею. Мне казалось,
что где-то недалеко от небоскребов,
воплотивших богатство, я найду и воплощение
нищеты — центр по учету и проверке
нуждаемости. Американцы, которых я
останавливал и спрашивал, молча пожимали
плечами и бежали дальше. Не мог помочь мне
и полисмен, стоявший на ветреном
перекрестке. Он, однако, посоветовал
позвонить в справочное бюро и спросить адрес
«центра» в этом районе.
— В районе чего?
Полисмен оглянулся, точно искал какой-
го знак, потом вскинул голову, уставившись
на высокое многоэтажное здание,
украшенное башней с острым куполом. Оно стояло
на углу кривого и грязного здесь Бродвея и
Фултон-стрит.
— В районе небоскреба Вулворса.
Женский голос, ответивший из
справочной, отозвался нескоро, а затем сообщил:
— Жаль, но в районе небоскреба
Вулворса «центра» по учету и проверке
нуждаемости нет. Вам нужно пойти к порту, в
район Вашингтонского рынка, и там
спросить про этот центр.
После получаса блужданий по
невероятно грязным и вонючим улицам,
прилегающим к рынку, я напал наконец на то, что
искал. Несколько домов перед помещением
были разрушены — видимо, готовилось
место для новой стройки,— и в
образовавшемся просвете почти совсем рядом
оказалась башня вулворсовского небоскреба,
которая вонзалась в холодное синее небо.
Правда, тень небоскреба даже утром не
могла достать до «центра» по учету и
проверке нуждаемости, но все же с вершины
небоскреба можно было видеть
обшарпанную дверь, в которую входили плохо
одетые люди. Богатство, созданное грошами
бедноты — Вулворс владеет по всему
капиталистическому миру тысячами
магазинов — центовок (дешевых товаров),—
высокомерно взирало на тех, кто остался в
нищете и, чтобы жить, должен был
стучаться в эту дверь и молить о помощи.
Просторное, но плохо освещенное даже в
середине дня помещение «центра» было,
вероятно, совсем недавно обставлено новой
дешевой мебелью, которая лишь
подчеркивала убожество помещения с
облупившимися стенами. На стульях с алюминиевыми
ножками и пластмассовыми сиденьями и
спинками, на диванчиках, обитых
искусственной кожей, молча сидели люди.
Несмотря на различие в одежде и даже в
цвете лиц, преобладал темный цвет, было
что-то общее у этих людей, что бросалось
в глаза, хотя и не сразу поддавалось
определению. Лишь внимательно оглядевшись,
я начал понимать: это — уныние и
усталость.
Женщина, принимавшая посетителей за
металлическим столиком, выкрашенным
«под дуб», посмотрела на меня сначала с
сочувствием — белый все-таки! — потом с
подозрением: вновь пришедший не
походил, видимо, на тех, кого она привыкла
видеть тут. Она беспокойно заерзала и
наконец, не вытерпев, поднялась из-за стола
и подошла,ко мне.
— Вы ведь пришли сюда не за
помощью, не так ли? — сказала она, больше
утверждая, чем спрашивая.
— Нет, я пришел сюда не за помощью.
Я хотел просто посмотреть, как это
делается.
— Что делается?
— Учет нуждаемости, проверка и все
остальное...
Настороженная улыбка исчезла с
привлекательного лица, и женщина сразу стала
строгой и холодной.
— А вы, собственно, кто такой?
Лишь убедившись, что перед ней
любознательный европейский журналист —
английский акцент выдавал его,— она
снова заулыбалась.
— Здесь мы только учитываем
нуждающихся, то есть принимаем жалобы или
просьбы о помощи,— с готовностью
ответила она.— Проверкой занимаются другие.
— Много ли людей обращаются к вам с
жалобами или просьбами о помощи?
— Когда как... Иногда двадцать —
тридцать человек в день, иногда — больше
сотни.
— Больше сотни? Откуда же они
берутся? Не могут же люди становиться тут
бедными с такой скоростью.
— Вы не понимаете,— снисходительно
сказала женщина.— Тех, которые стали
170
Д. Краминов ф
тут бедными, мы давно учли, а эти,— она
кивнула на просителей,— эти приехали
сюда бедными, чтобы просить помощи у
нас.— Она произнесла слово «у нас» так,
словно во всей Америке, где к категории
бедных официально отнесена одна восьмая
всего населения (около 25 миллионов
человек), а неофициально еще больше,—
только тут, можно сказать, у подножия
небоскреба Вулворса, умели по-настоящему
оценить нужду и оказать помощь.
— Почему же они ищут помощи именно
у вас?
— Видите ли, хотя помощь бедным
идет из одной и той же федеральной казны,
в разных штатах она очень разная. В
южных штатах она просто мизерная. В
Миссисипи, например, восемь с половиной
долларов в месяц на каждого ребенка в семье, не
имеющей кормильца, в других штатах —
немного больше, а в штате Нью-Йорк —
самая большая. И семьи, у которых нет
надежды найти кормильца или работу для
него, бросают родные места, бегут на
север, кое-как устраиваются тут, чтобы
получить помощь у нас.
— Кроме денежной помощи, эти люди
просят что-нибудь?
— Почти все просят работу.
— Вы помогаете им найти работу?
— Стараемся, но, понимаете ли...—
Женщина прикусила сильно накрашенную
верхнюю губу, смущенно замолкнув.—
Понимаете ли, эти люди ничего не могут
делать или могут делать только то, что тут
вовсе не нужно: копать землю, плотничать
или еще что... Тех, кто помоложе, мы
посылаем в особые лагеря, где, как
предполагается, их научат чему-то, что нужно,
помогут получить профессию, а затем
пошлют на работу.
— Вы не знаете, как много молодых
людей, которых вы послали в эти лагеря,
получили профессию и устроились на работу?
— Нет, не знаю.
— И вы ничего не слышали об этих
лагерях?
Вокруг этих лагерей, как и самой
«Администрации человеческих ресурсов»,
которая получила на их содержание большие
деньги, в Нью-Йорке ходило тоже много
скандальных слухов: утверждалось, что на
самом деле эти лагеря были лишь
прикрытием для большой шайки казнокрадов и
мошенников. Мне хотелось знать, дошли ли
эти слухи до тех, кто посылал туда
молодых людей с искренней верой, что
открывает им дорогу к будущей, достойной,
обеспеченной и независимой от
благотворительности жизни.
Женщина удивленно подняла тонкие
подрисованные брови.
— А что я должна была слышать?
— Говорят, там что-то не в порядке...
— Нет, не слышала,— перебила она
меня, не дав закончить фразу. ^
— А о растратах в «Администрации
человеческих ресурсов» тоже ничего не
слышали? И о том, что там идет
расследование?
— Ничего не слышала,— быстро
проговорила женщина с категорической
холодностью, давая понять, что если она и
слышала что-нибудь, то разговаривать об этом
со случайным человеком не намерена.
— Я только что был в «Чэйз Манхэттен-
банке» и слышал разговор о растратах и
расследовании в «Администрации»...
— Я уже сказала: я ничего не
слышала.
Любезный до сих пор тон стал вдруг не
только строгим и холодным, но и
враждебным, и мне осталось только извиниться и
уйти. Бросив взгляд на унылые и усталые
лица, которые не оживились даже при
разговоре странного посетителя с женщиной,
я покинул «центр» по учету и проверке
нуждаемости.
На улице стало еще холоднее. Со
стороны близкого Гудзона летел сырой,
пронизывающий ветер. Он гнал по мостовой и
тротуарам обрывки газет, поднимал вихри
жесткой пыли, от которой приходилось
прятать глаза. Над грязными улицами с их
старыми облезлыми домами, над пылью и
мусором мостовых возносились, сверкая под
солнцем, небоскребы банков и компаний.
И казалось, чем ярче сверкали в вышине их
зеркально гладкие стены, тем гуще и
холоднее становились тени внизу. Человек,
стоявший тут, мог одним взглядом охватить
сразу два мира: мир сказочного,
фантастического богатства и мир потрясающей и
безнадежной нищеты. Символично, что в
подвалах одного банка «Чэйз Манхэттен»
хранилось ценностей на 32 миллиарда
долларов — ровно столько требуется, по
подсчетам американских экономистов, чтобы
положить конец нищете в США. Но эти
ценности не будут тронуты, сколько бы тут
ни говорили о борьбе с бедностью.
Богатства в подвале будут расти, нищета в
стране будет увеличиваться: как сиамские
близнецы, нищета и богатство в Америке
неразделимы.
■ СКРЫТНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
Сверкающие небоскребы и зловонные
улицы... Мультимиллионеры и нищие...
Сказочное изобилие и полуголодное
существование восьмой части населения...
Ожирение, как главная причина многих
заболеваний, и рост смертности, как следствие
длительного недоедания... С каждым годом
контрасты становятся резче, противоречия
глубже, и чем больше говорят о них, тем
Ф Америка смятения и раздоров
171
острее они становятся, создавая новые
контрасты и противоречия...
С давних пор Америка делилась на
Север и Юг, а американцы — на белых и
черных. Разделение, рожденное географией и
расами, стало одним из главных
политических факторов, который в значительной
мере определил ход истории этой страны,
отличавшейся конвульсиями и кровавыми
схватками: по количеству жертв война
между северными и южными штатами стоит
на одном из первых мест. Еще 15—20 лет
назад прежнее противостояние Юга
Северу, а Севера Югу находило отражение в
борьбе партий; Юг по традиции голосовал
за демократическую партию, а Север,
кроме промышленных городов,— за
республиканцев. Правда, в повседневной
политической борьбе реакционные силы обеих
партий блокировались, оберегая совместными
усилиями интересы монополий, которые
распространяются на всю страну. В
последнее десятилетие единение реакционных сил
нарушило почти вековую традицию
голосования, и прежнее деление (Юг — за
демократов, Север — за республиканцев) почти
исчезло.
В то же время обнаружилось новое
деление: Восток и Запад. На протяжении всей
сравнительно короткой истории страны —
свое первое двухсотлетие она отмечает
через семь лет — Восток был ее сердцем и
головой: тут находился финансовый и
промышленный центр Америки, как и
управление страной. Восток единовластно
хозяйничал во всех Соединенных Штатах.
Он лишь иногда делился влиянием и
властью со Средним Западом, где выросли
большие промышленные города Чикаго, Детройт,
Кливленд, и совершенно игнорировал
дальний, он же «дикий», Запад, то есть
штаты, примыкающие или тяготеющие к
Тихому океану.
Вторая мировая война — для Америки ее
главный театр был на Тихом океане — дала
мощный толчок развитию промышленности
на западе страны. Ее быстрый подъем не
был ни остановлен, ни даже задержан
наступлением мира: вскоре началась война в
Корее, за которой последовала вьетнамская
война. Потребности этих войн позволили,
например, лос-анджелесскому инженеру по
имени Дэвид Паккард развернуть свою
крохотную мастерскую, где, кроме него,
работали еще два человека, в огромный
военный концерн, сделавший Паккарда
обладателем 300 миллионов долларов.
Калифорния вышла на первое место по
числу населения, обогнав штат Нью-Йорк.
Находящийся на ее территории (в
Сан-Франциско) «Бэнк оф Америка» стал
крупнейшим банком в Штатах. Ее военная
промышленность превратилась в главного
поставщика Пентагона и, следовательно,
приобрела решающий голос в скандально
известном «военно-промышленном
комплексе», который, как предупреждал покойный
президент Эйзенхауэр, склонен повелевать
Соединенными Штатами. Конечно не
случайно ныне этот голос
«персонифицировался» в лице того самого
лос-анджелесского инженера, ставшего
мультимиллионером — Паккарда, он занял в
правительстве Никсона пост заместителя министра
обороны.
...Еще до этой поездки в Штаты я
слышал разговоры как о росте мощи
американского Запада, так и о его настойчивом
наступлении на позиции Востока. Владелец
и издатель газеты «Лос-Анджелес таимо
Чандлер, посетивший некоторое время назад
Москву, советовал мне внимательнее
следить за тем, что делается и даже говорится
в Калифорнии.
— Пока вы не узнаете этого,— говорил
он,— вы не поймете того, что происходит
в Штатах. Калифорния стала силой, с
которой уже нельзя не считаться.
— Говорят, вы намерены бросить вызов
Востоку?
— Мы хотим взять только то, что нам
полагается.
— А что вам полагается?
— Нам многое полагается,— уклончиво
ответил издатель и снова посоветовал: —
Перестаньте смотреть на Нью-Йорк как на
американский Ватикан. Прошло время,
когда он мог предписывать всем Штатам, во
что верить, кому и как молиться.
— Вы хотите, чтобы роль
американского Ватикана играл Запад?
— Мы не хотим этой роли,— возразил
Чандлер.— Мы хотим играть свою роль.
— Какую?
— Какая соответствует нашему
положению в. стране...
Роль, которую играла Калифорния в
последние годы, оказалась сложной и
противоречивой. Штат, бывший долгое время
опорой более или менее прогрессивных
буржуазных деятелей (двое из каждых
трех его жителей числились сторонниками
демократической партии), резко повернул
вправо: деньги новоиспеченных богачей
проложили дорогу к губернаторскому
креслу мракобесу Рейгану и оплатили огромные
расходы «бешеного» Голдуотера,
пытавшегося захватить Белый дом, то есть власть в
стране. Калифорния голосовала против
Джона Кеннеди и против Хэмфри, она
провалила ближайшего помощника президента
Кеннеди — Селинджера, послав вместо него
в сенат человека, который находится почти
на самом правом фланге. В то же время
дружеские чувства в штате в отношении
Советского Союза, как мы имели возможность
убедиться совсем недавно, повсеместны и
сильны. Там действует и пользуется широ-
172
Д. Краминов #
кой поддержкой один из самых боевых и
крепких профсоюзов, а студенческая
молодежь все шире развертывает активную
борьбу против войны во Вьетнаме.
Поведение американского Запада не
могло не волновать, и я постарался
познакомиться с нынешней обстановкой в
Калифорнии и настроениями калифорнийцев.
Возможность была, правда, ограниченной:
мы встретились с несколькими видными
калифорнийцами и провели с ними неделю.
Они были хорошо информированы и
представляли, как любят говорить американцы,
«штат в разрезе»: тут был крупный делец,
как бы воплощавший наступательную силу
Калифорнии, был издатель, играющий роль
ее рупора, была женщина-профессор,
занимавшая высокое положение в
Калифорнийском университете, задающем ныне тон в
студенческом движении.
В течение целой недели большая группа
советских людей жила в окрестностях
Нью-Йорка в огромном, но почти пустом
загородном клубе. Вместе с нами там
поселилась на это время такая же группа
видных американцев, с которыми мы должны
были обмениваться мнениями по разным
проблемам. По утрам мы спускались вниз
и проходили по гулким и холодным
коридорам в пристроенное к клубу просторное
помещение, где в форме большой рамы
стояли придвинутые друг к другу столы с
микрофонами и наушниками. Мы проводили
за столами по семь-восемь часов в день, то
спокойно разговаривая, то споря и
горячась, отстаивая свои взгляды и
опровергая взгляды других. В свободное время мы,
продолжая те же разговоры и споры, либо
сидели в уютных гостиных клуба, либо
гуляли по лугу, который расстилался перед
клубом. С дальней стороны луг ограждали
голые деревья, и их частокол казался
особенно черным оттого, что за ними ярко
синели воды близкого и пустынного в это
время года Ржаного залмва.
С одним из калифорнийцев —
капиталистом Нортоном Саймоном — мы сидели
рядом за столом, с другим — издателем
Франклином Мэрфи — много разговаривали в
перерыве и после сессий, с третьей —
профессором Роз-Мари Парк — беседовали
вечерами. Малоулыбчивый, сосредоточенный,
будто целиком занятый своими мыслями,
Саймон был неразговорчив, но старателен.
Он поспешно надевал наушники, как
только начинал говорить кто-нибудь из
советских, и усердно записывал в большой
желтоватый блокнот. Исписанные листы он
отрывал, свертывал и прятал в карман,
точно опасался, (как бы не отняли его
записи. В перерывах он либо гулял со своей
молодой помощницей, либо разговаривал по
междугородному телефону с тем же
напряженным и озабоченным выражением на
худом лице, с каким слушал выступления. И
вечерами, подсаживаясь к спорящим
группкам, он лишь изредка вставлял свои
замечания, предпочитая слушать других.
Даже своей коллекцией картин, которая
считается одной из богатейших в США,
он хвастал с какой-то застенчивой
гордостью. Мы окрестили его «тихим
капиталистом».
Но Саймон не был тихим капиталистом.
Как выяснилось из рассказов
американцев, Саймон был одним из самых упрямых
и воинственных калифорнийцев, которые
неутомимо вели наступление на позиции
своих восточных соперников и
конкурентов. Вначале его оружием были... томаты.
Да, да, томаты, которые Саймон поставлял
только Калифорнии, затем—соседним
штатам, йотом—штатам Юга и Среднего
Запада и, наконец,—восточным штатам.
Вместе с томатами шли в наступление
продукты, которые производил и поставлял
Саймон: томатный сок, кэтчуп, томатная паста
и прочее. Саймон стал монопольным
поставщиком томатов и томатных продуктов на
все американские столы, иначе говоря,
«томатным королем». Как и другие
подобные «короли», он вызывал у богатых и
сильных мира того лишь
пренебрежительную улыбку: с томатами Уолл-стрит не
завоюешь! Томаты помогли, однако,
Саймону захватить в свои руки производство и
продажу других продуктов питания.
Пренебрежительная улыбка становилась все
более недоумевающей, а потом
растерянной, когда Саймон стал подминать под
себя продовольственные компании не
только Калифорнии, но и других штатов. Даже
известные продовольственные компании —
а продовольствие всегда было и остается
прибыльным! — становились филиалами
быстрорастущей и набирающей силу
корпорации, носящей имя Нортона Саймона.
С той же вкрадчивой настойчивостью
Саймой продолжал наступление. Вероятно,
только он да его ближайшие помощники
знали, куда и как двигались его
долларовые легионы. Другие узнавали лишь
результаты их побед. Саймон оказался
совладельцем крупной радиовещательной и
телевизионной корпорации со штаб-квартирой
в Нью-Йорке, совладельцем нью-йоркского
издательского концерна, издающего
полдюжины популярных журналов, фактическим
владельцем крупнейшей в стране
типографии в Чикаго, где печатаются многие
иллюстрированные журналы. Его капиталы,
как говорят, проникли во многие другие
корпорации. Саймона называют главой
одного из первых в США «конгломератов» —
модных ныне капиталистических
объединений, включающих самые различные
отрасли промышленности и сферы
обслуживания. «Тихий капиталист» чувствует себя
• Америка смятения и раздоров
173
хозяином не только в родной Калифорнии,
too и на восточном берегу, где к его голосу
прислушиваются теперь с таким же
подобострастием, с каким раньше дальний
Запад прислушивался к повелениям Нью-
Йорка.
Франклин Мэрфи не был капиталистом.
Когда мы встретились с ним первый раз
года четыре назад, он был канцлером
(ректором) Калифорнийского университета в
Лос-Анджелесе и очень гордился званием
«эдукэйтера» — деятеля образования. Как
все преданные своему делу люди, он был
влюблен в университет, восторженно
рассказывал о его большой и многообразной
работе: университет tie только готовил
будущих .инженеров, адвокатов, врачей,
агрономов, социологов, но и занимался
исследованиями во многих областях науки и
техники, являясь, по сути дела, огромной
лабораторией для частной промышленности
и — об этом Мэрфи говорил мимоходом,
немного конфузясь,— военного ведомства.
Еще недавно он присылал в Москву
письма и поздравления на великолепной бумаге
со штампом университета. А тут он вдруг
отрекомендовался президентом
издательской компании, которой фактически владел
наш старый знакомый — издатель «Лос-
Анджелес тайме» Чандлер.
— Что случилось, Франклин? Почему
вы сменили карьеру эдукэйтера на
карьеру бизнесмена?
— Роль эдукэйтера стала у нас
неблагодарной,— ответил Мэрфи, понизив голос.
Невысокий, плотный, с коротко
остриженной и сильно полысевшей головой, он имел
лривычку приближать свое лицо к лицу
собеседника, как это делают заговорщики.
— Почему же она стала
неблагодарной? — я поневоле перешел на шепот.
— Вы должны догадаться. Беспорядки
и забастовки студентов, полиция и
национальные гвардейцы в кэмнусах
(университетских городках)... Канцлеру надо быть
либо на одной, либо на другой стороне, и
он... проигрывает, какую бы сторону ни
выбрал.
— И вы предпочли совсем иной выбор?
— Да, я решил заняться издательским
делом.
— Вам с вашими способностями
возглавлять провинциальную издательскую
фирму?
— Она не совсем провинциальная,—
возразил Мэрфи, многозначительно
улыбаясь.— Мы уже вышли за границы Запада.
— Намереваетесь наступать на Восток,
как Нортон Саймон со своими томатами?
Склонный подшучивать над другими и
даже язвить, Мэрфи раздражался, едва
почувствовав иронию в словах собеседника.
— Нам не надо наступать на Восток,—
сухо сказал он.— Мы уже на Востоке...
Вероятно, храня деловую тайну, Мэрфи
этим ограничился, но знакомые
журналисты в Нью-Йорке рассказали, что
корпорация «Лос-Анджелес таймс-Миррор»,
которую возглавлял бывший эдукэйтер,
стала недавно совладелицей вашингтонской
газеты «Вашингтон пост» и
нью-йоркского еженедельника «Ньюсуик», которые
считались близкими к демократической
партии и бывшему правительству. Их
главный обозреватель Уолтер Липпман был
верным трубадуром демократов. Новые
совладельцы близки к республиканцам,
поэтому наши американские знакомые
считались с возможностью перемены позиции
этих изданий, тем более что Липпман
необъяснимо и неожиданно вдруг перешел
на сторону Никсона.
Однажды Мэрфи пропадал где-то всю
вторую половину дня и появился в
гостиной, где мы собрались после ужина, явно
возбужденный. Вооружившись стаканом с
виски и содовой водой, он опустился в
кресло, посмотрев на соседей с победным
видом. На вопрос, куда он исчезал,
Мэрфи ответил коротко:
— Бьм в Нью-Йорке.
До Нью-Йорка было недалеко, и почти
каждый день кто-нибудь отправлялся
туда, возвращаясь, а иногда и не
возвращаясь сюда к ночи, не вызывая ни
подозрения, ни любопытства. И сообщение Мэрфи
не вызвало интереса, но он помешал нам
вернуться к разговору, повторив вдруг еще
громче:
— В Нью-Йорке... В отеле «Пьер»...
Он добился того, чего хотел: все
повернулись к нему. В отеле «Пьер» целый
этаж занимал Ричард Никсон со своими
помощниками. Частенько люди,
приглашенные в этот отель, входили в него, так
сказать, простыми смертными, а выходили
министрами, заместителями министров
будущего правительства, послами,
руководителями правительственных ведомств, то есть
становились фигурами национального
масштаба — их портреты на другой же день
появлялись в газетах, их показывали по
телевидению и т. п. И мы ожидали от
Мэрфи сенсационного сообщения... Его, однако,
не последовало, он только сказал нам, что
в отеле «Пьер» очень интересуются тем,
что говорят тут, в загородном клубе, и что
там как бы благословляют продолжение
американо-советского обмена мнениями,
хотя эта встреча была подготовлена с
ведома и одобрения демократического
правительства. Весьма прозрачно Мэрфи
намекал, что наши калифорнийские знакомые
близки к новому президенту и новому
правительству.
— Кажется, Запад начинает задавать
тон в этой стране,— сказал я Мэрфи,
когда на другой день мы оказались за сто-
174
Д. Крамкнов •
лом.— Многие думали, что избрание
Никсона президентом США — это случайность.
— Случайно оказался президентом
Джонсон после убийства Кеннеди,—
сказал Мэрфи.— Избрание Никсона не
случайность, а результат больших изменений
в стране. Чтобы победить Рокфеллеров,
нужна большая сила, и эта сила наконец
накопилась...
— Неужели ныне Запад стал сильнее
Востока?
— Этого я не думаю,— ответил Мэрфи
после короткого молчания.— Восток очень
силен, но ведь у нас есть союзники, как
всегда были союзники у Востока.
— Что вы имеете в виду, говоря о
больших изменениях в стране?
— Почти все,— решительно объявил
собеседник.— Почти все. Поезжайте по
стране, и вы увидите эти изменения...
Когда я рассказал об этом разговоре
моему американскому коллеге — редактору
популярного еженедельника, он с усмешкой
заметил:
— Вам потребуется всего
каких-нибудь два-три года, чтобы проехать по всей
стране и самолично обнаружить эти
изменения. А между тем это можно увидеть,
бросив лишь взгляд на одну очень
показательную таблицу.
— Какую таблицу?
Редактор достал из сумки, стоявшей у
его ноги, толстую книгу, на обложке
которой красовался хищный орел,
раскинувший крылья. Это была недавно вышедшая
книга Фердинанда Ландберга «Богатые и
сверхбогатые». Он раскрыл книгу и
показал таблицу.
— Тут тридцать пять сверхбогатых
людей или семей, больше ста миллионов
долларов на каждого. Это, как видите, новые
сверхбогачи, можно сказать,
новоиспеченные после войны. Посмотрите, сколько тут
с Запада и Юго-Запада, и вы поймете, что
наш друг Мэрфи имел в виду...
Действительно, из тридцати пяти новых
сверхбогачей девятнадцать приходилось
на Калифорнию и Юго-Западные штаты и
только пять на Восток. Правда, Восточные
штаты с их двадцатью шестью
«наследственными» сверхбогачами (они были еще
сверхбогаче сверхбогачей) явно
перевешивали в этом противостоянии сотен
миллионов долларов, но Запад стал уже
достаточно сильным, чтобы бросить вызов
восточному единовластию и потребовать своей
доли в управлении страной.
В «СМЕНА КАРАУЛА»
— Впервые в истории Соединенных
Штатов на этом возвышении стоят
одновременно три калифорнийца — президент,
главный судья и министр, приносящий
присягу.*.
Президент засмеялся, радуясь, вероятно,(
тому, что вспомнил об этом,— он старая*-'
ся сказать что-нибудь значительное или
остроумное,— и положил левую руку на
плечо министра здравоохранения,
просвещения и социального обеспечения Роберта
Финча, подталкивая его к Уоррену,
который принимал присягу. Финч смущенно
заулыбался, главный судья сделал строгое
лицо и, подняв ладонь на уровень своего
виска, сказал:
— Повторяйте за мной...
Пока Финч, повторяя за судьей слово
в слово, клялся защищать конституцию от
врагов внешних и внутренних и следовать
ее велениям без тайных умыслов и
корыстных намерений, зрители вспоминали, что
Калифорния действительно никогда не
была так мощно представлена в столице, как
теперь. Калифорнийцы были до сих пор
лишь на второстепенных постах в
правительстве или около него. А тут вдруг два
важнейших поста — главы исполнительной
власти и главы судебной власти —
оказались в руках калифорнийцев. Да и Финч,
бывший долгие годы близким другом и
особо доверительным советником нового
президента, должен был играть в столице роль,
которую до него ни один калифорниец не
играл. Всем, кто присутствовал на
церемонии и слышал слова Никсона, было ясно,
как высоко поднялось значение дальнего,
но сильного ныне Запада.
Было раннее утро, за большими,
залитыми дождем окнами Белого дома, где
происходила церемония приведения министров
нового правительства к присяге, едва
пробивался холодный рассвет, и казалось, что
столица, утомленная шумными событиями
вчерашнего дня, еще спала. Спали
продрогшие участники красочного парада,
привезенные в Вашингтон со всех концов страны
и прежде всего из Калифорнии. Спали в
полицейских кутузках студенты — участники
движения «Молодежь против войны и
фашизма»: их вчерашнее столкновение с
полицией закончилось арестом почти ста
человек. Спали тысячи почетных гостей,
прибывших в столицу, чтобы присутствовать
на «инагюрэйшн» — вступлении в
должность — нового президента, а затем
принять участие в грандиозных балах — по
нескольку тысяч приглашенных на
каждый,— которые гремели тут до поздней
ночи.
Но уже трудились в Белом доме. Новый
президент появился в своем рабочем
кабинете в 7 часов 30 минут и удивился, не
найдя помощников на их рабочих местах. Он
заставил министров приехать сюда, что
называется, ни свет ни заря, чтобы принести
присягу и приступить к работе точно в
положенное время: на 8 часов 30 минут утра
было назначено заседание кабинета минист-
# Америка смятения и раздоров
173
ров. Президент показывал Америке (все,
что делалось и говорилось в то утро в
Белом доме, отражалось на миллионах
телеэкранов), что новое правительство
действительно намерено заниматься делом.
Американцы устали от громких слов и
цветистых фраз, от широковещательных
программ («Новые рубежи», «Великое
общество» и т. п.) и звонких обещаний, и Никсон
старательно избегал всего, что могло
показаться повторением уже опостылевшего.
Он продолжал рисовать образ нового,
трудолюбивого и деловитого президента,
который вместе с другими искренне верит, что
нужны не слова, не прожекты, а дело,
повседневное, трудное, но неизбежное дело.
Церемония вступления президента в
должность, которую видела вся Америка,
служила прежде всего этой пропагандистской
и психологической цели. В тот день погода,
точно считаясь с желаниями организаторов
церемонии, сделала уступку: дождь,
ливший в Вашингтоне более недели подряд,
прекратился, и, хотя было ветрено и
холодно, а низкие тучи неслись прямо над
верхушками черных голых деревьев
в парке напротив Капитолия, участники
церемонии — министры, конгрессмены,
губернаторы штатов — не прятались под
навесами и зонтиками. Они расположились на
специально построенной деревянной
трибуне у входа в Капитолий, поеживаясь от
холода и нетерпеливо поглядывая на выход,
откуда должен был появиться новый
президент. Но, когда дверь распахнулась, из
нее вышла и стала спускаться по
ступенькам, покрытым ковровой дорожкой, группка
очень молодых людей: четыре дочки обоих
президентов — Джонсона и Никсона— со
своими мужьями. Открывшись вновь, дверь
выпустила на ковровую дорожку пять
женщин — жен президентов и
вице-президентов и жену бывшего президента
Эйзенхауэра. За ними появился Джонсон. Он был
еще президентом, хотя час назад пересек
порог Белого дома, чтобы не вернуться
туда, и за городом на авиабазе Эндрюс его
уже ждал президентский самолет «Эйрфорс
уан» («ВВС-1») — тот самый, на котором
он немногим более пяти лет назад принес
клятву президента не в такой
торжественной и радостной обстановке, а в
присутствии лишь нескольких человек да гроба с
окровавленным телом только что убитого в
Далласе Джона Кеннеди. Окинув
неулыбчивым взглядом трибуну с почетными гостями,
людей, собравшихся перед ней, черный парк
и низкое небо, Джонсон опустил голову
и быстро сошел по ступенькам к своему
месту в первом ряду. Следуя по его пятам,
словно прячась за его монументальной
фигурой, спустился вице-президент Хэмфри.
Вероятно, его знобило, потому он втягивал
свою большую и почти совсем лысую
голову в плечи, смотрел исподлобья, не
скрывая разочарования: Хэмфри пытался стать
президентом, но потерпел поражение, и на
этом торжестве он служил как бы тенью,
подчеркивающей удачу его противника.
Медленно и осторожно, точно боясь
поскользнуться, сошел новый вице-президент
Агню, о котором злоязыкие вашингтонцы
сочинили уже столько анекдотов.
Наконец, в дверях показался новый
президент. Он остановился у выхода, явно
любуясь картиной, открывшейся перед ним:
трибуной с губернаторами (лишь
несколько лет назад он хотел быть одним из них,
попытавшись стать губернатором
Калифорнии, но провалился), конгрессменами
(сколько лет он провел с ними, как равный!),
джонсоновскими и «своими» министрами,
толпой, глаза которой были устремлены на
него, шпалерами войск, оркестрами и
особенно высоким странным сооружением перед
трибуной, похожим на гигантский
скворечник с квадратными окошками —
объективы телевизионных камер, нацеленные
оттуда, позволяли сейчас многим миллионам
людей видеть его лицо, каждое его движение,
жест, а микрофоны — слышать каждое
слово. Широко улыбнувшись, Никсон пошел
вниз и опустился на стул, поставленный в
самом конце прохода между первыми
скамьями.
Председатель комитета по «инагюрэйшн»
сенатор Дирксен, часто вскидывая голову
с седой, но буйной, как у льва, шевелюрой,
открыл церемонию, предоставив слово
священнику для молитвы, заставившей всех
подняться и застыть в сосредоточенном
молчании.
Затем властным жестом Дирксен поднял
нового вице-президента с его скамьи и,
поставив перед собой, заставил повторять
слова: Агню клялся защищать конституцию
от внешних и внутренних врагов, не
нарушать ее самому, а также заверил, что
принимает клятву добровольно, без тайного
намерения нарушить ее, увильнуть от своих
обязанностей или использовать их в своих
корыстных интересах.
Дирксена сменил перед микрофоном
крупный человек в черной судейской мантии —
главный судья Уоррен: по традиции
председатель Верховного суда принимает у
президента присягу. Никсон быстро поднялся
и поманил к себе сидевшую в первом ряду
жену, которая держала на коленях старую
книгу — семейную библию Никсонов,
подаренную президенту его матерью. Сильно
взволнованная, Патриция Никсон встала
между главным судьей и мужем, приподняв
на вытянутых ладонях библию, чтобы
президент, принимая присягу, мог положить на
нее свою левую руку. (Конституция не
требует, чтобы президент приносил присягу на
библии. Джордж Вашингтон первым поло-
176
Д. Краминов #
жил руку на библию в конце присяги,
сказав: «Помоги мне, господи!». Адаме,
принимая присягу, держал руку на своде
законов.) Подняв правую руку на уровень
головы, Никсон раздельно и четко повторил
вслед за главным судьей, что клянется
защищать конституцию от врагов внешних и
внутренних. Однако в его клятве не было
слов о тайных умыслах и корыстных
намерениях, которые обязательны для
вице-президента и министров: вероятно,
предполагается, что глава государства, глава
правительства, главнокомандующий
вооруженными силами и лидер правящей партии —
таковы официальные должности президента—
не может иметь ни тайных умыслов, ни
корыстных намерений относительно
конституции.
Трибуны, толпа внизу, почетные гости
аплодисментами приветствовали завершение
вступления нового президента в
должность — лишь с этой минуты Никсон стал
президентом. Он приподнял плечи, откинул
голову и довольно улыбнулся:
осуществилась его давняя мечта, он добился поста, к
которому давно стремился, пережив столько
неудач и разочарований. Еще полтора года
назад его называли «безнадежным
претендентом», «вечным неудачником» и даже
«политическим трупом». Президент
волновался, и его голос дрожал, когда он начал
свою сравнительно короткую, спокойную и
составленную из общих, безукоризненно
отточенных, но лишенных конкретного
содержания фраз. Своей речью он хотел
обнадежить и успокоить американцев, вселить
в них уверенность, что их минуют большие
опасности и тревоги, и все будет хорошо.
По тону, по содержанию, по эмоциональной
сдержанности это была еще одна проповедь,
призванная, как все проповеди, смирить
мятущиеся и страдающие души
американцев, измученных бесконечной войной —
ведь после окончания второй мировой
войны Соединенные Штаты фактически воюют
почти беспрерывно пятнадцать лет! —
напуганных и ожесточенных кровавыми
столкновениями в городах, угнетенных ростом
цен и налогов.
Но мятущиеся души, как обнаружилось
почти тут же, не смирились. Сначала
планировалось, что традиционный парад,
посвященный, как тут выражаются, «смене
караула» в Вашингтоне, двинется от
Капитолия вниз по Пенсильвания-авеню к
Белому дому ровно в два часа — сразу же
после традиционного обеда призидента с
конгрессменами. Однако в два часа
участники парада — президент, министры,
губернаторы, генералы в машинах, другие,
кроме конной полиции, в пешем строю —
не тронулись с места: к
Пенсильвания-авеню поспешно перебрасывались
парашютисты, чтобы обеспечить безопасность
президента, так как в соседних улицах было
обнаружено скопление враждебно настроенной
молодежи.
Парад, возглавляемый начальником
столичной полиции и командирами воинских
частей, участвовавших в шествии,
тронулся от Капитолия с опозданием больше чем
на полчаса — лишь после того, как власти
решили, что порядок на пути движения
парада обеспечен.
Они, однако, переоценили силу
вашингтонской полиции, подкрепленной
парашютной дивизией и другими частями: в одной
из улиц молодые демонстранты смяли
полицейский отряд и вырвались на
Пенсильвания-авеню. Парашютисты, стоявшие тут
плотным строем, повернули против парней
и девушек многозарядные карабины и
автоматы. Демонстранты остановились, но за их
спиной быстро выросла толпа. Над толпой
вдруг взвилась ракета и, оставляя струю
дыма, понеслась в сторону Пенсильвания-
авеню, где как раз медленно катилась
машина, в которой стояли, высунувшись по
грудь через окно в крыше, президент и его
жена. Офицеры секретной службы — в США
она занимается только охраной президента,
его семьи и высокопоставленных гостей
государства,— облепившие машину,
заставили их моментально укрыться в машине.
Самодельная ракета сбила с ног и ранила
одного парашютиста, напугав других.
Оттесненные молодые демонстранты
вскоре скопились на 14-й улице в том месте,
где она близко подходит к Пенсильвания-
авеню, и попытались прорваться к Белому
дому, напротив которого были сооружены
трибуны для президента, министров,
губернаторов и других почетных и
непочетных гостей (билеты сюда продаются, хотя
и за высокую плату). Полиция разгадала
намерение молодежи и быстро перекрыла
улицу. Между полицейскими и студентами
произошла ожесточенная схватка. С наших
мест на трибуне мы видели эту схватку,
грубую и злую со стороны
полицейских, хитрую и изворотливую со
стороны студентов. Над улицами вились три
вертолета: полицейскими руководили с
воздуха, давая указания, где перерезать
путь убегающим студентам и как
предупредить их скопление во дворах соседних
домов. Полицейские машины с малиновыми
«мигалками» на крышах, вспыхивающими
в наступающих сумерках особенно ярко, с
визгом уносились по 14-й улице, увозя
арестованных молодых людей.
А тем временем по Пенсильвания-авеню
двигался шумный и пестрый парад: шли в
красочных одеждах школьники, студенты,
кадеты военных школ—их тут зовут
«академиями», полицейские, национальные
гвардейцы в мундирах времен гражданской
войны и «покорения» Запада. Кроме воен-
• Америка смятения и раздоров
177
ных, в параде не было ничего военного: но-
гвый президент не показывал ни атомной
пушки, которую тут протащили при «ина-
порэйшн» Эйзенхауэра, ни страшных
чудовищ — многозарядных ракет.
Американцы должны были своими глазами видеть,
что период взаимного ожесточения
закончился и начался период примирения.
Слова президента о переходе от конфронтации
(противоборства) к переговорам,
сказанные им в ночь его выдвижения кандидатом
республиканской партии в президенты и
повторенные сегодня с трибуны у
Капитолия, намекали на возможность положить
конец периоду ожесточения и открыть
период примирения и на международной
арене, и это рождало у американцев надежды,
радовало.
Вечером, излучая радушие и
жизнерадостность, новый президент во фраке и
белом крахмальном галстуке появлялся то на
одном, то на другом балу, на которых
веселился Вашингтон, высоко вздымал в
приветственном жесте обе руки, улыбался и
раскланивался, отвечая на приветствия.
Он, однако, рано отправился спать, чтобы
на другой день рано подняться, хотя, как
известно, любит поспать, и приступить к
работе раньше, чем это делал кто-либо из
его предшественников.
Журналисты, которых вытащили в
Белый дом еще раньше, чем министров,
посмеивались: замысел нового президента
«произвести должное впечатление» был
слишком прозрачен. Но они признавали,
что это усердие, как и отсутствие обычной
напыщенности и помпы, нравится рядовым
американцам, которые склонны видеть в
Никсоне «своего человека»: за последние
сорок лет пост президента впервые занял
не миллионер и не прославленный
генерал. Никсон — сын мелкого
калифорнийского торговца, то есть выходец из той
широкой среды, которая зовется «коммон
пипл» — простой народ.
В первые два дня своего пребывания в
Белом доме новый президент принял два
решения: он задержал назначение 485
человек, которые были награждены
уходящим президентом теплыми местечками (это
вызвало общее одобрение), и отменил
президентский приказ о распределении
авиационных маршрутов через Тихий океан.
Это вызвало недоумение: почему такая
торопливость и смелость? Отмена
президентского приказа равносильна нарушению
конституции, а на это без особой нужды
не отваживаются. Лишь сведущие люди
знали, что своим последним приказом
Джонсон обидел братьев Рокфеллеров,
лишив их авиационную компанию «Истерн
Эйр Лайнз» права летать по очень
прибыльным тихоокеанским маршрутам, и новый
президент спешил исправить эту
«несправедливость». В Вашингтоне говорили
тогда, что его попросил об этом Нельсон
Рокфеллер. Одни уверяли, что президент не
мог отказать ему: ведь братья
Рокфеллеры — ревностные республиканцы. Другие
утверждали, что партийная
принадлежность Рокфеллеров тут ни при чем, и
ссылались на то, что Никсон, например, вовсе
не спешит менять «окопавшихся» в
министерствах ц ведомствах демократов на
республиканцев, хотя многие из последних
страстно надеялись на это.
Действительно, тревога, охватившая
многих чиновников-демократов перед
«сменой караула», начинала укладываться: им
дали понять, что новый президент не
намерен заменять опытных и знающих
людей новичками, единственное достоинство
которых состоит в том, что они
принимали активное участие в избирательной
кампании на стороне республиканской партии.
Вместо обычных и ожидаемых двух тысяч
перемен менялось лишь несколько сот
человек — головка министерств и ведомств.
Неудачная попытка нового президента
вовлечь видных демократов в правительство
компенсировалась иным путем: министры-
республиканцы оставляли себе аппарат,
созданный их
предшественниками-демократами из своих приверженцев. Вновь
возникала своеобразная двухпартийная
коалиция, в которой политику республиканского
президента и правительства должен был
проводить в жизнь аппарат демократов.
И это рассматривается тут как вполне
естественное дело: ведь в конечном счете обе
партии служат одному и тому же
правящему классу.
(Окончание следует.)
12. «Октябрь» № 10.
Борис МАЙОРОВ,
заслуженный мастер спорта
Я смотрю хоккей
Большой спорт давно и прочно завоевал себе место в человеческой жизни.
Хорошо это или плохо, но всякое явление в спорте вызывает не менее пристальный и
всеобщий интерес, чем явления литературы, искусства, политики. Десятки миллионов
людей внимательнейшим образом следят за событиями спортивной жизни, получая
множество информации от телевидения, радио, газет, кино. Десятки тысяч отдают
большому спорту многие годы жизни, отрывая их от учебы и работы, принося им в
жертву любовь и отдых. Эти годы отданы не забаве, а нелегкому, порой
изнурительному труду.
Неверно было бы утверждать, что мы с вами находимся в полном неведении
о нем. У спорта сейчас не меньше бытописателей-журналистов, чем у прочих отраслей
человеческой культуры. Его внутренние отношения становятся темой рассказов,
романов и кинофильмов. Но как бы ни был талантлив писатель или журналист, его взгляд —
это взгляд со стороны. Иное дело, когда об этом берется рассказывать сам спортсмен.
Именно поэтому заслуживают внимания читателя дневниковые записки известного
хоккеиста Бориса Майорова.
Борис Майоров прошел в большом спорте путь от самого начала до вершины. Он
был шесть раз чемпионом мира и трижды — чемпионом СССР. Он заслуженный
мастер спорта и кавалер нескольких орденов. В его спортивной биографии есть все:
награды и медали, выговоры и дисквалификации. За заслуги на хоккейном поле его
избирали капитаном сборной СССР, за провинности на том же поле разжаловали из
капитанов «Спартака». Будучи спортсменом, он объездил всю страну и еще полмира,
окончил Московский авиационно-технологический институт и аспирантуру этого
института, женился и стал отцом. Среди его партнеров и противников и великие, но уже
оставившие лед хоккеисты, такие, как Николай Пучков и Николай Сологубов, и
находящиеся в расцвете славы и сил Анатолий Фирсов и Вячеслав Старшинов, и совсем еще
молодые, но уже взошедшие хоккейные звезды — Евгений Зимин и Валерий Харламов...
Когда Майоров вместе со сборной страны готовился к отъезду на очередной
чемпионат мира, спортивный журналист Евгений Рубин условился с ним, что как бы
сильно ни был он занят в Стокгольме играми и тренировками, как бы ни уставал, он будет
ежедневно посвящать один час дневнику.
Накануне отъезда неожиданно для всех, в том числе и для самого Майорова,
его спортивная судьба сделала вдруг крутой поворот. Он отправился в Стокгольм, но
только не в составе сборной... Он был на всех играх чемпионата, но сидел не на
местах участников и не на скамейке запасных, а в кресле, которое находилось в ложе
прессы стадиона «Юханнесхоф», где шли матчи чемпионата.
Уговор между спортсменом и журналистом остался в силе. Борис Майоров вел
дневник, который и лег в основу записок, предлагаемых вниманию читателей.
■ ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
D от он, мой старый знакомый,— Сток-
^гольм... Теплоход «Мария Ульянова»,
на котором мы прибыли,
пришвартовывается почти в центре города. Смотрю с
палубы — и будто даже не уезжал отсюда: все
знакомо. Вот по этой узенькой улочке,
которая через полкилометра превратится в
широкую магистраль, никуда не
сворачивая, можно дойти до самого «Юханнесхо-
фа», а по дороге заглянуть в отель «Маль-
мен», где на первенстве 1963 года жили
мы, хоккеисты, а теперь будем жить мы,
журналисты (даже как-то странно писать
о себе — журналист).
«Юханнесхоф» сверкает на мартовском
солнышке. Сколько раз я играл на его
льду? Уж никак не меньше двадцати.
Воспоминания о нем у меня самые лучшие, и
• Я смотрю хоккей
179
потому видеть его мне всегда приятно. Что-
то принесет нам он теперь? Нам — это
сборной. А мне, уж и не знаю, доведется
ли еще ступить на его лед. Правда,
коньки и клюшки я в Стокгольм захватил:
сезон не закончен и форму терять нельзя.
А вот придется ли еще здесь сыграть?.. При
этой мысли мне на минуту становится как-
то не по себе. Уйти из сборной проще
простого, вернуться, особенно в моем
возрасте, очень трудно... Да ладно, не будем
предаваться грустным размышлениям. И
стоит ли вообще грустить, если я уже не
первый год собираюсь распрощаться и с
коньками и с клюшкой?
Только я выскочил из автобуса,
навстречу Анатолий Сеглин — наш судья. Узнаю,
что ребята все здоровы, настроение
бодрое, живут во «Фламенго» — этот
отель я тоже хорошо знаю, жил в нем не
раз.
Почему же все-таки я оказался в
Стокгольме, на чемпионате мира по хоккею, не
участником, а туристом? Я не могу
обойти этот вопрос молчанием. Уже хотя бы
потому, что мне задавали его друзья и
люди совершенно незнакомые. Задавали на
улице, на стадионе, в автобусе. В
редакциях газет мне показали целые кипы
писем, авторы которых требовали ответа на
вопрос, почему Майорова отчислили из
сборной. Честно говоря, я и не ожидал, что
моя персона привлечет к себе такой
интерес.
Но дело не только в этом. От своих
приятелей, из почты редакций я узнал такое
число версий моего ухода из. сборной,
что готов был впасть в отчаяние. Впрочем,
позднее я успокоился, подумав, что
каждый человек волен толковать любой факт
по-своему. Но факты-то должны быть
известны.
Сказать, что я хотел, что я мечтал
играть на этом чемпионате, значит еще
ничего не сказать. Ошибается тот, кто
думает, будто стать чемпионом в первый раз
слаще, чем во второй, третий, а тем более
в седьмой.
Тут даже неуместно выражение по
поводу аппетита, который приходит во время
еды. Аппетит не просто приходит по мере
«еды»,— он растет в геометрической
прогрессии. Как спокойно и беззаботно я жил в
дни первого своего мирового чемпионата
и сколько мучительных дней и бессонных
ночей провел на тех, на которых выступал,
уже будучи чемпионом! Уже одна мысль,
что могу потерять чемпионское звание,
лишала сна и покоя...
Нас осталось перед отъездом в Стокгольм
совсем немного, «шестикратных»,
которым светила возможность стать
«семикратными». Всего пятеро. Пятеро на'всю
страну. Если вдуматься в эту простую мысль,
даже дух захватывает. А ведь каждый из
тех, кто готовился в путь за седьмой
золотой медалью, надеялся в глубине души
остаться в сборной еще на год, стать
«восьмикратным». Может быть, единственным
вообще...
Нет, смею вас заверить: для каждого,
кто вкусил от древа славы многократного
чемпионства, расставание с мечтой о
будущих победах — тягчайшее из расставаний.
И все же мой уход из сборной, хоть он
и противоречил моим планам и мечтам,
был во многом предопределен моими
поступками. Вот как это было.
Минувший сезон оказался для меня
небывало трудным. В ноябре, во время
одного из матчей на первенство страны, я
получил не очень серьезную, но очень
болезненную и потому неприятную травму —
растяжение мышцы на ноге. Надо бы тогда
же перестать на какое-то время играть,
вылечиться как следует, но в те дни шла
борьба за каждое очко, и о каникулах
нечего было и помышлять. Я играл,
спасаясь от болей в ноге уколами.
Наша команда очень здорово провела
матчи в Канаде. Девять игр со сборной —
девять побед. Но моей заслуги в этих
победах нет. Я играл плохо, играл мало,
играл без настроения. Наконец мы
вернулись домой. Некоторый отдых и довольно
интенсивное лечение привели мою
злосчастную ногу в относительно нормальное
состояние. После игр она ныла, но во время
матчей я о ней и не вспоминал. И вдруг—
снова травма. Той же самой мышцы в том
же самом месте. Травма, тем более
обидная, что она досталась мне за 12 секунд до
конца последнего перед чемпионатом мира
календарного матча, матча с ЦСКА. Мы к
этому моменту вели уже со счетом 6 : 1, а
значит, в оставшиеся 12 секунд
измениться ничто не могло.
Это случилось 23 февраля, а 5 марта мы
выехали на два последних контрольных
матча в Финляндию. Поскольку игра
нашей тройки вызывала нарекания тренеров,
нам пришлось участвовать в обоих матчах.
После первого у меня было легко на
сердце. Я был доволен собой. Играл с
удовольствием, без труда, играл хорошо, о ноге
забыл вовсе. А на другой день вышел на
разминку, и — такое состояние, хоть
снимай коньки и беги в раздевалку: ногу еле
волочу, наступать на нее и то больно. В
общем, мою игру во втором матче и игрой
не назовешь, я не играл, а ползал.
В Москву мы возвратились 9 марта, а
на следующий день, в канун отъезда в
Стокгольм, было назначено собрание
команды. Тут же, в присутствии нашего
высшего спортивного начальства, тренеры
180
Борис Майоров •
должны были сообщить нам, кто те двое,
кому оставаться дома.
На собрании нас — ветеранов —
попросили высказать свои соображения об игре
сборной, рассказать о своем самочувствии.
Когда пришла моя очередь, я выложил все,
что знаете теперь и вы. Я не просил
отчислить меня из команды. Но я не мог не
предупредить о том, что, вполне
вероятно, не сумею на первенстве мира сыграть
все десять матчей, что если нога подведет,
могу оказаться на скамейке запасных
игроков.
Собрание кончилось, но тренеры еще
некоторое время совещались без нас, а
потом вышли к нам и огласили свой
приговор: Борис Майоров и Юрий Репс на
первенство мира не едут. При этом тренеры
благодарили меня, называли мой поступок
самоотверженным и благородным, жали мне
руку. Эти выражения признательности
были мне весьма приятны, но, говоря
откровенно, я и тогда не понимал и до сих пор
не могу понять, за что я удостоен
благодарностей. Как, кстати, не улавливаю, за
какой грех раскритикован теми, кто считает,
что я напрасно ушел из сборной. Я никуда
не уходил сам, я не просил отчислить или
оставить меня. Я сделал то, что обязан
был сделать: ответил на вопрос о моем
самочувствии. Если бы я солгал, я никогда
бы себе этого не простил, и любой упрек в
бесчестности по моему адресу был бы
тогда справедлив.
Но остаться в Москве, вдали от
команды, я не мог. В течение полутора дней все
формальности, связанные с оформлением
выезда, были выполнены, и меня зачислили
не просто в обычную туристическую, а в
группу журналистов.
Вот так я и попал на этот раз в
Стокгольм.
Первый день выдался спокойным, даже
более чем спокойным. Подтвердилось, что
канадцы и в самом деле не так сильны, как
обычно. Финны, от которых всегда ждут
сенсации, на этот раз безропотно сдались
шведам. А потом — наш матч с
американцами, который закончился со счетом,
рекордным для этого первенства и, если не
ошибаюсь, для сборной СССР на
чемпионатах мира вообще. Результат 17:2,
причем 11 шайб наши забросили во втором
периоде.
По поводу этой победы и этого
небывалого счета сразу после окончания игры
было довольно много шуток. Никто не
придавал этим семнадцати шайбам никакого
значения. И, как выяснилось через две
недели, совершенно напрасно. Именно
наилучшая разность забитых и пропущенных шайб
вывела сборную СССР на первое место.
Кстати, это обстоятельство дало повод для
разговоров о неполноценности
Стокгольмской победы нашей команды. Дескать,
небольшая это заслуга — разгромить
американцев. Могу задать скептикам вопрос:
почему же тогда другие не разгромили?
Может быть, не хотели? Хотели, очень
хотели. Но не смогли.
...Закончился матч СССР—США,
служители вынесли наш Государственный флаг,
и он медленно пополз вверх, к куполу
«Юханнесхофа». И все встали: по залу
разнеслись первые аккорды нашего
Гимна. Вот когда, кажется, наиболее остро я
почувствовал, что не состою членом
команды!..
Мы, спортсмены, очень часто в устных
выступлениях и в печати говорим о
чувствах, которые испытываем, слушая Гимн,
исполняемый в честь наших побед. Но
говорим так, мимоходом. Нам кажется, что
слова эти не требуют пояснений, что всем
и так все ясно и понятно. Так, во всяком
случае, казалось мне. Казалось до тех пор,
пока сам не услышал Гимн, находясь по
ту, другую, сторону хоккейного поля.
Я не сентиментален, но когда мы
выстраиваемся после победы в центре поля
и в честь нас, в честь нашей победы,
поднимается вверх наше красное знамя и
раздаются звуки нашего Гимна, я невольно
вытягиваюсь по стойке «смирно», у меня
перехватывает дыхание и начинает
першить в горле. В эту минуту мои товарищи
по команде кажутся мне самыми
прекрасными людьми на свете, и я мысленно
благодарю их за эти счастливые и, как я
понял, оказавшись по другую сторону
площадки, неповторимые мгновения, которые дано
пережить только тому, кто причастен к
борьбе и победе.
■ С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ПОБЕДА
Сегодня три матча. Значит, из дому —
на стадион, оттуда — домой, перекусить,
потом — опять на стадион, и так целый
день. Хлопотливо? В сравнении с
хлопотами ребят — пустяки это все. Им сегодня
со шведами играть — вот это
действительно хлопоты. Обычно мы с ними
встречались где-то в конце, когда уже войдешь в
форму и к обстановке как следует
привыкнешь. А тут — сразу. И треть команды —
новички. Да, денек!
На каждом матче встречаю все больше
старых знакомых. На матч наших со
шведами пришли знаменитые Тумба и Стольц.
Их знает вся Швеция.
— Как дела, Борис? — Так они
произносят мое имя.— Почему не играешь?
Когда-то я смотрел на них, как на
сказочных богатырей: я был мальчишкой, а
они — всемирно известными хоккеистами.
• Я смотрю хоккей
181
Интересно, когда они заметили впервые,
что появился в сборной СССР новичок
такой — Борис Майоров? Спросить об этом
вроде неудобно как-то. А теперь мы на
равных: все трое — ветераны, нас одинаково
узнают, просят автографы.
Перед началом игры опять иду в
раздевалку. Обстановка напряженная, как
всегда перед ответственными матчами.
Молодые собираются молча, ведут себя тише
воды, ниже травы. Слава Старшинов бубнит
себе что-то под нос. Женя Мишаков
суетится1, убегает куда-то из раздевалки,
возвращается вновь. Толя Фирсов ободряюще
подмигивает всякому, кто бросит взгляд
в его сторону. Но чувствуется, что это так,
по привычке. Вратари одеваются, как
всегда, рядом и, как всегда, без единого
слова. Молчит на этот раз и Тарасов — с ним
это бывает не часто.
Один я вроде не у дел. Мне даже вдруг
показалось, что я здесь сейчас лишний. Но
я понимаю: ребятам просто не до меня.
Выхожу из раздевалки. В проходе,
ведущем к полю, встречаю старого своего
приятеля — Рольфа Аспа, бессменного
массажиста шведской сборной. Никогда не
забуду, как в прошлом году в Гренобле он
пришел ко мне в комнату сразу после нашего
поражения в игре со сборной Чехословакии.
— Не мучь себя, Борис, все будет в
порядке. Мы их обыграем, а вы опять
будете чемпионами мира.
Тогда его слова оказались пророческими:
мы действительно стали чемпионами
мира. А как-то будет сейчас? Мы условились
с Аспом встретиться после игры.
Вчера я смотрел матч с американцами
совершенно бесстрастно, а сегодня веду
себя, как самый неистовый болельщик.
Вскакиваю, ору, аплодирую. А потом, когда
игра закончена и я пытаюсь вспомнить, кто
как себя вел, что говорили тренеры,
ничего не получается. Обо всем забыл, ничего
не видел, ничего не слышал. Что ж, игра
и в самом деле очень тяжелая. И очень
важная. Для молодых это — настоящее
крещение. Потому еще и нужна была
победа. Особенно нужна, как воздух.
Все заканчивается благополучно: 4:2 в
нашу пользу. В раздевалке все
поздравляют друг друга. И меня тоже.
В отеле жду Рольфа, но его нет. Все
понятно: огорчен проигрышем своей
команды. А разве я на его месте пришел бы?
Итак, крещение наших новобранцев
состоялось. А состоялось ли? Что они
сегодня поняли? Почувствовали ли, что в их
жизни наступила серьезная перемена? О
чем думали, приехав с матча? Как спалось
им этой ночью?
Я отлично помню себя новичком
сборной, помню, когда и как пришло ко мне
это новое чувство ответственности за
судьбу команды, помню, когда понял, что
побеждать — наша обязанность.
Нашу тройку включили в сборную
незадолго до первенства мира 1961 года. Но
нам: Славе Старшинову, моему брату
Жене и мне — предстояло еще доказать свое
право на поездку в Швейцарию. Две
тройки у тренеров сомнений не вызывали (в
одну входили игроки ЦСКА Константин
Локтев, Александр Альметов и Вениамин
Александров, в другую — Николай Снетков,
Виктор Якушев и Виктор Цыплаков из
«Локомотива»). А вот одной из еще двух—
нашей или той, в которую входили
Владимир Юрзинов из «Динамо», Валентин Се-
нюшкин и Игорь Деконский из ЦСКА,—
предстояло остаться дома. Разумеется, мы
очень хотели победить в этом
соревновании. Но в этом желании было не столько
честолюбия, сколько бескорыстного
стремления доказать всем, что мы уже
научились играть в хоккей не хуже других.
Хотелось, конечно, и побывать за границей
(мы тогда еще почти не выезжали за
рубеж) и подышать атмосферой мирового
чемпионата. Во всяком случае, в то время
борьба за место в сборной не вызывала в
молодых нынешнего ожесточения и,
окажись мы вне ее рядов, мы не восприняли
бы это как трагедию.
Это был для меня и для моих
постоянных партнеров самый легкий и, я бы
сказал, самый веселый из всех семи мировых
чемпионатов, в которых мне довелось
играть. Груз чемпионства еще не лег всей
своей громадной тяжестью на наши плечи.
Мы и дома-то никогда не имели никаких
медалей, не знали вкуса громких побед.
Перспектива проигрыша канадцам не
казалась нам трагической. А раз так, значит,
неплохо бы быть вторыми, не вторыми, то
на крайний случай третьими. Мы
огорчились, конечно, когда вратарь и защитники
подвели нас в матче со сборной
Чехословакии, который мы должны были
выиграть. Огорчились, но не больше. Получив
свои бронзовые медали, мы долго — с
гордостью и удовольствием — их
разглядывали. Мы были довольны качеством своей
игры, а мое честолюбие к тому же
тешилось сознанием, что я оказался самым
результативным игроком чемпионата, обогнав
таких корифеев, как Тумба, Нильссон,
Влах, Бубник, Маклеод, Тамбеллини.
На следующее первенство мира мы не
поехали. Американские власти не дали виз на
въезд в Колорадо-Спрингс хоккеистам ГДР,
и мы отказались в знак протеста от
участия в чемпионате. Сезон 1962 года
начался для сборной СССР более чем удачно. Мы
здорово провели международные игры в
Европе, впервые в истории нашего хоккея
добились великолепного баланса в за-
182
Борис Майоров •
океанском туре: восемь побед и одно
поражение.
Так к первенству мира в Стокгольме мы
пришли уже взрослыми (мне к тому
времени было уже 25 лет), опытными, сильными
хоккеистами. Но что это за штука такая—
титул мирового чемпиона, мы еще себе не
представляли. Победив в первом матче
финнов, мы во втором проиграли шведам.
И опять мы отнеслись к этому событию
довольно спокойно: как-никак уступили мы
хозяевам поля, которые считались к тому
же главными фаворитами, уступили в
равной игре и с почетным счетом 1 : 2, наше
«серебро» или, на худой конец, «бронза»
никуда от нас пика не ушли.
А наутро в «Мальмене»—том самом
«Мальмене», где на этот раз поселились
журналисты,— состоялось собрание
команды. Кажется, такого сурового нагоняя мы
не получали ни до, ни после того собрания.
Тренеры распекали нас сурово и
беспощадно. Теперь-то я понимаю, насколько
разумно поступили они в тот раз. Видно, только
так можно было добиться какого-то
качественного сдвига в нашем сознании. С
нами разговаривали как с людьми, которые не
только могут, но которые обязаны стать
чемпионами и которые этой своей
обязанности не желают выполнять.
Не знаю, прав ли я, но я связываю и то
собрание и переворот, который оно
произвело в моем отношении к игре своей и
своих товарищей, с приходом в сборную
Анатолия Тарасова. Именно перед шведским
чемпионатом он возвратился в команду и
занял в ней пост второго тренера. Человек
неспокойный, необычайно, честолюбивый,
вечно в мыслях опережающий события, он
и в нас вселил дух беспокойства и
неудовлетворенности собой. Кроме того, дома он
руководил командой ЦСКА, командой, для
которой первое место всегда было, да и
теперь остается нормой, а всякое другое, в
том числе и второе, расценивается как
срыв, неудача, трагедия.
Вы знаете, когда я в последний раз
вспомнил то собрание? Совсем недавно, за
несколько дней до начала этого
чемпионата, когда мы возвращались в Москву из
Финляндии.
— Ты как думаешь, могут финны в
Стокгольме за медали побороться? —
дорогой спросил меня Тарасов.
— Вообще-то команда у них ничего,—
неуверенно начал я.— Со всеми в этом
сезоне они встречались, у всех, кроме нас,
выигрывали. И с нами вот ничью сделали...
— Значит, могут? — перебил меня
Тарасов,— А я уверен, что нет. И знаешь
почему? Бубник — хороший тренер. Но он и
сам нацелился на пятое место и игроков
так настраивает. А раз так, значит, выше
пятого места им и не занять. Хотя сил у
них и для третьего вполне достаточно. Но
пока тренер и спортсмен не поверят в свой
силы, не поставят перед собой задачу
побольше, толку не будет.
Теперь вы поняли, почему я вспомнил то
наше собрание в вагоне
Хельсинки—Москва. Тогда нашим тренерам важно было
убедить и себя и нас в том, что выигрыш
первенства мира нам по плечу. С того
момента для меня лично кончилась эпоха
беспечного и спокойного существования в
сборной. Ее сменила счастливая, но очень
трудная жизнь, трудная оттого, что ее
беспрерывно пронизывает сознание: мы
можем и обязаны быть чемпионами, иначе —
крушение надежд, иначе — непоправимое
бедствие. И чем больше^ побеждали мы на
мировых первенствах, тем больше
укреплялось это сознание.
Мы победили в Стокгольме, а следующий
чемпионат, в Инсбруке, был одновременно
и олимпийским турниром. Перед
Олимпиадой нам уже не просто желали победы, ее
от нас ждали и требовали. Мы ехали в
Австрию за золотом и только за золотом.
Правда, тогда у нас дома еще не были так
приучены к нашим первым местам и,
возможно, не спросили бы с нас так строго в
случае относительной неудачи, как мы
сами с себя. Но мы-то уже простить себе
поражения не могли. Мы были уже заражены
этим вирусом, больны этой лучшей из
болезней.
Ну, а через год она стала наверняка
неизлечима. Нам говорили: вы обязаны
победить в Тампере, мы ждем вас домой
трехкратными чемпионами мира. Но могли бы
и не говорить. Потому что, скажем, для
меня мысль о возможном проигрыше
обычно рождала другую, еще более ужасную: я
пытался представить себе, как покажусь
на глаза знакомым, как они будут смотреть
на меня, что скажут. Пытался — и не мог.
Все триумфальные встречи в
аэропортах, на вокзалах, во Дворце спорта еще и
еще обостряли это чувство, которое я бы
назвал чувством долга, обязанности быть
чемпионами.
...После победы в Тампере скорый поезд
везет нас домой. Мы лежим в вагоне на
своих пюлках, и кажется, нет в мире такой
силы, которая могла бы нас с этих полок
поднять. Разве что известие о том, что
можно закусить. Мы страшно устали.
Чемпионат закончился два дня назад, мы
отдали ему все силы без остатка, но ни о каком
отдыхе нечего было и думать. Нас
затаскали по банкетам. В Тампере и Хельсинки \гт
с утра до вечера только и занимались тем,
что пожимали чьи-то руки, писали
автографы в чьих-то блокнотах и чокались с
кем-то, произносившим тосты во славу на-
• Я смотрю хоккей
183
ших прошлых и будущих побед. И вот,
наконец, поезд, долгожданные вагонные
полки. Финских марок ни у кого нет, наши
деньги пока не действительны. А есть
хочется ужасно. Если бы не это, наверное,
никто бы и не поднялся с места, когда
проводник громогласно объявил, что поезд
подходит к Выборгу. Но голод не тетка, и мы
потянулись в коридор, к окнам. За окном —
тьма и дождь. Середина марта. Погода —
хуже не придумаешь. Даже в теплом,
светлом и уютном вагоне стало как-то зябко от
мысли, что, может, придется бежать за
провизией на вокзал.
И вдруг черная ночь сменилась белым
днем. В окна брызнул яркий свет
прожекторов. Мы увидели огромную
привокзальную площадь и длинный перрон, битком
забитые людьми.
Поезд замедляет ход, останавливается,
толпа делает движение к нашему вагону, и
только тогда мы понимаем, кажется, все
одновременно, что не пожар и не
железнодорожная катастрофа привели сюда этих
людей, а мы, наш приезд, наша победа. Это
для того, чтобы выразить нам, двадцати
игрокам и двум тренерам, свой восторг и
свою признательность, покинули они
теплые квартиры, отдых, дела и пришли сюда.
Не один, не сотня, а тысячи людей
маленького Выборга, которые, кроме как по
телевизору, и хоккея-то настоящего никогда не
видали.
Двери вагона плотно забаррикадированы
толпой, и вслед за каким-то человеком в
форме железнодорожника мы спрыгиваем
с противоположной стороны с подножки,
пробираемся в ресторан. Вход в него
охраняется, иначе ни о каком обеде не может
быть и речи. И все же сотни полторы или
две особенно неудержимых болельщиков
пробираются в зал. Мы не столько
обедаем, сколько ставим автографы на клюшках,
открытках с нашими фотографиями,
хоккейных программах.
Для меня обед на выборгском вокзале—
незабываемое воспоминание, там я провел
один из счастливейших часов моей жизни.
Ради таких вот часов стоит мучиться и
засыпать со снотворным!..
Спорт молодеет, молодеет очень быстро.
В конце концов разница между мной и
Сашей Мальцевым—это разница между двумя
ближайшими хоккейными поколениями. А
насколько сильнее они, чем были мы в их
возрасте!
Что же до их хоккейного мастерства, то
эта сторона дела особенно показательна.
Когда я впервые попал на первенство мира, то
и в свои 23 года не знал и не умел того,
что знают и умеют эти 19—20-летние. В
двадцать лет я мог разве только мечтать о
сборной. Я и развит был не так, и сил у
меня было меньше, и в тонкостях хоккея в
сравнении с ними я был совершенно не
искушен.
Вот мы спорим о том, кто лучше играет
в хоккей: Бобров или Фирсов, тройка
Шувалова или тройка Альмстова. Когда я
оказался на мировом чемпионате в роли
зрителя, я получил и время и, так сказать,
материал для ответа на этот вопрос.
Пытаться определить сравнительную силу
спортсменов разных эпох — все равно, что
ломать голову над проблемой: кто
сильнее — слон или кит?
Суть дела в том, что спорт меняется.
Совершенствуются методы подготовки,
повышается уровень требований. Я наблюдаю за
Сашей Мальцевым — самым юным в
сборной, разговариваю с ним после игр. Он
очень волнуется и играет намного ниже
своих возможностей. Еще недавно мы
вместе были в Канаде, и там Саша удивлял
знатоков своей не по годам зрелой и
вместе с тем непринужденной игрой,
превосходным тактическим зрением и склонностью
к импровизации. Здесь, в Стокгольме, все
это задавлено огромным волнением. И тем
не менее Мальцев вполне на уровне. По
результативности он входит в число
лидеров. С его подач забито множество шайб.
И уж, во всяком случае, игру он не портит.
А это уже признак высокого класса.
Хоккейные познания этого девятнадцатилетнего
парня настолько значительны и прочны, что
он умеет играть правильно как бы
автоматически.
Да, хоккейные мастера сейчас готовятся
прямо-таки индустриальными методами. И
не только у нас — всюду. Меня не
беспокоило, хватит ли нашим ребятам
мастерства, чтобы играть со шведами на равных.
Я знал: хватит. Важно было только, чтобы
они понимали это сами. В молодости ведь
не очень-то знаешь себе цену. А вокруг и
перед тобой что ни противник, то
знаменитость с мировым именем. Поневоле сначала
робеешь. У нас же этот сезон, к сожалению,
сложился так, что сойтись с главными
своими соперниками сборная не смогла.
Словом, матч со шведами — весь его ход,
все перипетии — был необычайно важен
для нашей команды, в которой из игроков
«стокгольмского призыва» 1963 года
осталось всего пятеро. Для трети хоккеистов
этим матчем, по существу, начинался их
долгий путь по дорогам мировых первенств.
Я написал слова «долгий путь» и
задумался. А насколько долгим окажется он для
тех, кому сейчас около двадцати и кто за
сезон прошел курс хоккейных наук, на
который нам требовались годы? В наше время
в таком возрасте попал в сборную, кажется,
только Саша Рагулин. Попал и прожил там
девять лет. И я ничуть не удивлюсь, если
184
Борис Майоров #
его век игрока сборной продлится еще два-
три года. При этом важно, что Рагулин
вовсе не уникум. По десятку лет стажа имели
В. Александров, В. Якушев, К. Локтев,
близки 'К этому В. Старшинов, В. Давыдов
и В. Кузькин.
В Стокгольме, давая очень высокую
оценку мастерству Саши Мальцева, один из
самых серьезных в мире знатоков хоккея,
канадец Дэйв Бауэр, сказал, что Мальцев
и его сверстники не продержатся в
большом хоккее и до 25 лет. Так ли это на
самом деле? Не знаю. Но в одном я уверен
твердо: если долголетие в нынешнем
спорте — с его гигантскими рекордами,
небывалыми нагрузками и невиданными
требованиями к физическим качествам и
интеллекту спортсмена — и возможно, то только
ценою самоотверженного, без малейших
скидок и поблажек себе отношения к
спортивному режиму.
Теперь, в век невиданных скоростей
спорта, в век, когда он не по дням, а по
часам молодеет, все стало во сто крат
сложнее. Теперь: или —или. Или
пожертвовал ради спорта всеми «мирскими»
соблазнами, или он сжег твое здоровье, словно
костер — тонкий листок бумаги. Я говорю
не о спорте вообще, а о спорте на, высшем
уровне. И это не абстрактное
философствование, а мысли, рожденные трагической
судьбой моих близких товарищей,
сгоревших в этом костре совсем еще молодыми
людьми. Смею заверить, что и они были
наделены железным здоровьем, железным
сердцем и железными мускулами.
Не знаю, что имел в виду Дэйв Бауэр,
изрекая свое невеселое пророчество, и не
считаю себя настолько большим знатоком,
чтобы категорически отвергать или
признавать его правоту, но все же остаюсь при
том мнении, что мы сами творцы своего
долголетия. Только теперь сберечь его
трудней, чем было прежде. Но ведь
меняется не только спорт, меняются и
спортсмены — их культура, их интеллект, их
отношение к делу. И потому хочу верить, что
Бауэр не прав.
■ ЧТО ВИДНО
ИЗ ЛОЖИ ПРЕССЫ
Наверное, нет такого спортсмена,
которого бы не интересовали люди, пишущие о
нас. Еще не познакомившись с
журналистом лично, а прочитав лишь его репортаж,
особенно если в нем хвалят или ругают
тебя, ты уже мысленно рисуешь портрет
этого человека, стараешься представить
себе его внешность и характер. Конечно, тот,
кто к тебе доброжелателен,— он и умен, и
интеллигентен, и пишет здорово. Другой
же, который тебя раскритиковал или
вообще высказал соображения, расходящиеся с
твоими, заранее представляется глупцом и
невеждой. Чаще всего личное знакомство
рассеивает все эти предположения. Но
интерес не исчезает и не ослабевает. Нас
волнует все: за кого они болеют и болеют ли
вообще, занимались ли спортом сами и
почему пошли в спортивную журналистику,
каковы у них гонорары и дружат ли они
между собой.
Да что там говорить, наши репутации,
наша популярность, отношение к нам
публики — все это в руках журналистов.
И потому мы не можем не испытывать к
этим людям пристального интереса, не
оценивать их труд особенно строго и, может
быть, даже несколько предвзято, не
следить за каждым их словом более чем
внимательно. Хотя все это скрыто маской
безразличия и некоторой насмешки над
пишущей братией: «Кто умеет — делает,
кто не умеет — учит».
Лично мне не стоит обижаться на
невнимание прессы к своей особе. Еще бы,
братья-близнецы, играющие в одной
команде на правом и левом краях, как я теперь
понимаю,— находка для репортера. Нам
было по 16 лет, когда наши имена — двух
футболистов дворовой команды — впервые
появились в газете. О нас рассказывал в
крошечной заметке «Московский
комсомолец». Еще через два года меня упомянули
в «Комсомольской правде», перечисляя
после окончания хоккейного сезона
фамилии перспективных молодых игроков.
Едва закончился чемпионат мира 1959
года в Праге, как в Москву пожаловала
именитая гостья — сборная команда США,
только что выступавшая на этом
чемпионате. Сразиться с ней доверили молодежной
команде, в состав которой входили и мы —
мой брат Женя, Старшинов и я. Мы
сыграли с американцами дважды, оба раза
выиграли, причем из десяти шайб,
побывавших в американских воротах, семь
забросила наша тройка. Нас хвалили,
поздравляли. А наутро я встал пораньше и
помчался к ближайшему киоску за газетами.
Я торопился не зря. Не было газеты,
которая не упомянула бы в рассказе об играх
с американцами нас троих. Я был на
седьмом небе.
Но подлинную силу печатного слова я
постиг несколько дней спустя, в день
нашего матча с ЦСКА. Это сейчас
переполненные трибуны Дворца спорта на наших
играх — вещь обычная. А тогда «Спартак»
никто всерьез и не принимал. Мы не
только не боролись за медали, но и не
претендовали даже на место в первой десятке. И
в Сокольниках-то на нас ходили смотреть
лишь знакомые да наиболее беззаветные
болельщики «Спартака». И вот
переполненный Дворец спорта, и толпа у входа, и
то самое: «Нет ли лишнего билетика?»,—
• Я смотрю хоккей
185
которое отличает выдающийся матч от
рядового. Все это наделали журналисты.
Стоило т\ по\вал\пъ нал, \\ чо:шй
спартаковских болельщиков ринулась на стадион
в надежде присутствовать при
возрождении своей команды.
Тот матч мы проиграли, но проиграли
вполне достойно—1:3. К тому же эту
единственную «спартаковскую» шайбу
забросила наша тройка, точнее, Слава Старши-
нов. Думаю, что свою роль, и немалую, в
этом пока более чем скромном успехе
команды сыграла поддержка публики,
которую привлекли на стадион журналисты.
А вскоре мне открылась и другая
сторона медали. Оказывается, газета может не
только прославить. Мы играли в
Челябинске с местной командой «Трактор». Я—
теперь не помню уж чем —
проштрафился и заработал десятиминутный штраф.
Женя и Старшинов проштрафились тоже.
Меня тогда такие взыскания особенно не
беспокоили: я их получал за сезон сколько
угодно. Но после игры уже в гостинице
меня подозвал к себе Иван Васильевич
Адамович — наш администратор, отвел в
сторону и таинственным шепотом
произнес:
— Ты что наделал? Ты знаешь, кто
приехал на матч? Пахомов, корреспондент
«Советского спорта» из Москвы. Говорит,
будет писать о вашем поведении.
Такого оборота дела я не ожидал никак.
Очень уж не хотелось в газету, да еще в
таком виде. Внутренне я весь кипел: ну
что я в конце концов такого наделал, чтобы
меня позорили на весь мир? Подумаешь,
десять минут... Других на десять минут
никогда, что ли, не выгоняли? Чего ж он
о других не писал?! А Майоров
проштрафился, так сразу и в газету!
— Пойду, попробую с ним
потолковать,— успокоил меня Адамович.— Может,
уговорю.
Я весь вечер нервничал, ждал его и
немного успокоился, лишь когда он сказал
мне:
— Обещал подумать. Наверное, не
будет писать.
Наш администратор ошибся. В
следующем номере «Советского спорта» я был
героем корреспонденции о челябинском
матче. Разумеется, героем отрицательным.
Прошли с тех пор многие годы. Мы с
Владимиром Пахомовым давно и хорошо
знакомы. Но и сегодня я по старой
привычке смотрю на его подпись в газете с
некоторым опасением. А тогда я не мог
прочитать ни одной его строки без гнева и
возмущения. Я выискивал в них ошибки и
был несказанно рад, когда их находил.
Я считал его дилетантом, невеждой и
своим личным врагом.
Прошло еще немного времени, и число
«личных врагов» моих сильно возросло.
Я попал, попал прочно и надолго, в кате-
тодлш эдоствыъ кад^штездй игровой
дисциплины. А кто во всем был виноват?
Все они же, журналисты.
Так развивались мои отношения с
прессой. Когда журналист обращался ко мне
с каким-нибудь вопросом, я вежливо и
бесстрастно ему отвечал, но в душе таил
холод: «Скажешь что-нибудь не так, а он
и прицепится к слову, да еще переврет все,
потом иди доказывай, что ты не верблюд».
В каждом из них, хоть и не показывал
виду, я видел своего потенциального врага.
Если б мог я в ту пору посмотреть на
себя со стороны... Наверно, я бы вспомнил
городничего из гоголевского «Ревизора» и
его знаменитый монолог о щелкоперах и
бумагомарателях разных. Чем,
собственно, были виноваты передо мною названные
или другие журналисты?
Я стал взрослей, спокойней, а главное,
познакомился со многими из них поближе
и отлично понимаю, что они просто
выполняли свой профессиональный долг,
делали свою работу, а не искали повода
расправиться со мной.
А может, понял я все это не потому,
что стал рассудительней, а потому, что
лишился прежних недостатков и перестал
быть объектом постоянной критики?
Вполне возможно. Вот ведь мои тренеры,
особенно тренеры сборной, люди зрелые,
умудренные жизненным опытом, много
перевидавшие, на словах всегда ратуют за
критику. Но стоит только кому-то из
журналистов не согласиться с ними по тому
или иному вопросу, и этот журналист
сразу попадает в разряд
неквалифицированных, ничего не смыслящих в хоккее
«бумагомарателей и щелкоперов», врагов
сборной и прогресса. И как только в
какой-нибудь газете появится хоть одна
«нелояльная» строчка, мы, игроки сборной,
получаем категорический приказ: «С
журналистами не разговаривать, на их
вопросы не отвечать, если будут настаивать,
отсылать к нам, тренерам». Кто знает,
может, и я бы вел себя так же, если бы
доставалось не им, а мне.
Но вы ошибаетесь, если думаете, что
теперь, когда я сам побывал в репортерской
среде, когда узнал многих журналистов как
следует, у меня нет к ним претензий.
Можно простить недостаточное знание
предмета, оно придет со временем, можно понять
допущенную в спешке ошибку, а разве мы
на поле мало ошибаемся? Но нельзя бросить
человеку упрек в эгоизме, самоуверенности,
нежелании бороться, а тем более в
бесчестности, трусости, пренебрежении
интересами товарищей, если ты не уверен в этом
на сто, нет, на двести процентов. Это те
случаи, когда ошибка должна быть исклю-
186
Борис Майоров •
чена вовсе. Люди, ежедневно пишущие в
газету, как-то забывают или перестают
дудеть о том, что любое их слово
расходится миллионными тиражами, что его
читают жены, дети, любимые, сослуживцы
тех, о ком они пишут.
Не думайте, что во мне говорит какая-то
личная обида. Меня пока, к счастью, от
такой критики бог миловал. Но разве
может тот же Вениамин Александров
простить обиду, которую нанес ему
корреспондент «Комсомольской правды», обвинив
его после нашего поражения от шведов на
чемпионате 1963 года в трусости? Это
Александрова, того самого Александрова,
который забил за время своих игр
множество голов в ворота канадцев, чехосло-
ваков, тех же шведов! Разве такое по
силам трусу? Но это понимают не все. А как
он, Александров, может объяснить это
людям? Как смыть позор, нанесенный
несправедливым и страшным оскорблением? Не
на дуэль же в самом деле вызывать
обидчика?!
В Гренобле мы проиграли сборной
Чехословакии. Впервые после того поражения
от шведов в 1963 году ушли с поля
побежденными. Как же обрушились на нас
на следующий день «Комсомольская
правда» и еще несколько газет! Нас упрекали
в безволии, в неумении и нежелании
бороться за победу, мы в корреспонденциях
выглядели какими-то хлюпиками, не
умеющими собраться и постоять за себя. А ведь
еще вчера мы, пятикратные чемпионы
мира," были, по словам тех же самых
журналистов, «непобедимой ледовой дружиной»,
«не знающими страха рыцарями», «героями
ледовых баталий». Куда же все это в один
день девалось? Каким образом герои и
рыцари вмиг превратились в безвольную и
неумелую толпу эгоистов?
А еще через день мы стали
олимпийскими чемпионами — снова чудесное
превращение. Мы опять «дружина»,
«гвардия», «герои». И портреты игроков и
тренеров на первых страницах тех самых
газет, которые вчера осыпали нас упреками.
Поверьте моему опыту: спортсмен,
мечтавший о победе и готовившийся к ней
годы, не может за нее не бороться. Неверно
составленный план, недостаток сил или
мастерства, ошибки — другое дело. Но
то промахи, а не преступление. За них
бывает обидно, порой до боли, но не
стыдно. Об эгоистах и людях аморальных писать
надо. Но тут уж доказательства, самые
неопровержимые, на стол!
...Вот видите, как бывает: хотел
рассказать о том, чем привлекли меня
журналисты, о сложном и тяжком труде людей,
которых с совершенно новой стороны
открыл мне Стокгольм, а начал с критики и
поучений, как и о чем им писать. Да нет,
никого поучать я не собираюсь. Я пишу то,
что думаю. По отношению к друзьям это
обязанность.
Друзья... Не слишком ли сильно это
сказано по отношению сразу к полутора
десяткам людей, которых я и узнал-то как
следует совсем недавно и с которыми жил
бок о бок совсем мало — меньше трех
недель?
Перед нашим вторым матчем с
американцами я, как всегда, спустился вниз, к
дорожке, окаймляющей поле. До матча
времени еще порядочно, ребята только
приехали на стадион, и я, не торопясь, иду к
нашей раздевалке. Вхожу в ведущий к ней
коридор, хочу открыть дверь, но меня
останавливает один из руководителей
делегации.
— Вот какое дело, Борис,— говорит он,
пряча глаза.— Меня просили тебе сказать,
чтобы ты больше в раздевалку к ребятам
не ходил. Так решила команда...
В первый момент я принял сказанное за
шутку. Неужели после проигрыша
Чехословакии ребята решили, что я для них
плохая примета? Но, оказывается, мой
собеседник и не думал шутить.
— Сам-то я не слышал твоего
выступления по радио на Союз. Но нам сказали,
что ты там ругал команду, тренеров, ребят.
Словом, не надо тебе сюда ходить.
В тот момент я пробовал что-то
пролепетать в ответ, но сам чувствовал, что не
нахожу слов, что лучше уж молчать, чтобы
не сорваться и не наговорить бог знает что.
Первым побуждением было скорее
бежать в раздевалку, как-то все уладить,
объяснить, сказать ребятам что-то такое,
чтобы они сразу все поняли. И тут же
совсем мальчишеская мысль: «Не хотят — и
не надо. Больше знать никого не знаю.
Пусть позовут, все равно не приду». Я
повернулся и пошел обратно в ложу прессы.
Цошел той же дорогой, какой шел сюда. Я
возвращался вдоль поля, мимо трибун,
которые уже начали заполнять зрители, и
мне казалось, что все смотрят на меня.
Смотрят и думают: выгнали...
Наверно, надо бы молча сесть на свое
место, успокоиться, обдумать все как
следует и тогда решать, что делать дальше.
Но я вообще-то не отличаюсь
сдержанностью, а сейчас и вовсе не мог и секунды
усидеть на месте. Надо было куда-то
бежать, кому-то все высказать. И я
помчался делиться своим горем с теми, на кого
мог положиться. Первым, кому я обо всем
рассказал, был Николай Николаевич
Озеров — ведь это он брал у меня то радиоин-
тервыо. Потом нашел ребят из «Советского
спорта», Володю Дворцова —
корреспондента ТАСС, других.
• Я смотрю хоккей
187
Они-то и помогли мне в ту очень
трудную минуту. Помогли и словом и делом.
Озеров во время очередного разговора с
Москвой попросил своих товарищей найти
запись передачи и застенографировать чмое
выступление. Дворцов договорился со
своим агентством, что эта стенограмма будет
передана по телетайпу в Стокгольм. Но еще
до получения телетайпной ленты
журналисты успели побывать на тренировке
сборной СССР и поговорить с ребятами. С
тренировки они принесли хорошие вести.
Оказывается, никакого решения команда не
принимала. Ребята слышали о том, что я
что-то якобы сказал по радио, но не
поверили, будто я сказал о них обидные слова.
А журналисты так мне и говорили:
— Как тебе не стыдно на ребят
обижаться? А ты уверен, что было
какое-нибудь решение команды? Ты что же,,своих
старых друзей порядочными людьми не
считаешь?
Кстати, ту телетайпную ленту, с которой
Озеров познакомил и ребят и
руководителей команды, я до сих пор храню у себя
дома. В ней застенографировано мое более
чем лаконичное выступление, в котором
я назвал этот матч неудачным для нашей
сборной, сказал, что мы можем играть
лучше и что, я уверен, докажем это во время
будущих матчей.
В общем, с ребятами отношения у меня
восстановились сразу, но на тренировки и
в раздевалку я до конца чемпионата так
больше и не ходил. Останавливало меня
более чем прохладное отношение тренеров
сборной. После того случая, когда мне
показали на дверь, оба о>ни почему-то были
на меня крайне обижены. Я не стал
выяснять, почему, хотя вины за собой никакой
не чувствовал. Вероятно, у меня было
больше оснований обижаться. Мы с ними
настолько давно и хорошо знаем друг
друга, что, прежде чем делать это, они могли
бы поговорить со мной, а не доверять
слухам.
А вот журналисты, как и ребята из
команды, не сомневались во мне ни
минуты. И проявили себя настоящими
товарищами.
■ ТАРАСОВ И ЧЕРНЫШЕВ
Часа через полтора матч Чехословакия —
Финляндия. Это время можно поболтаться
на стадионе, побродить, поглядеть, как
готовится «Юханнесхоф» к матчу.
Сначала огромный зал пуст. Потом на
фоне светло-желтых кресел появляется
редкий синий пунктир: занимают свои посты
контролеры в васильковых курточках и
пилотках. Следующий цвет — красный. Это
вышли осмотреть ноле своей будущей
деятельности разносчики кока-колы,
жевательной рсзипки и монпансье.
Первыми заполняются места радио- и
телекомментаторов, затем — кресла в
ложе прессы. Из наших раньше всех
сегодня пришли Яков Костюковский и Морис
Слободской, два сатирических поэта и
киносценариста, два соавтора, которые и в
Москве не пропускают ни одного
серьезного матча и которых я, по-моему, ни разу
в жизни не видел порознь. Когда
разговариваю с ними, создается впечатление, что
это добрейшие люди, которые мухи не
обидят, корректные, тихие, спокойные. Если
незнаком с ними, и не подумаешь, что они
способны писать злые и едкие вещи.
— Боря, ну как там канадцы?
Способны причинить нам какие-нибудь
неприятности? Вы же их хорошо знаете,—
обращаются они ко мне.
Верно, канадцев я по этому сезону знаю
лучше некуда. Играли с ними в Москве
и в Канаде больше десяти раз. И все
матчи выиграли.
— Можете не беспокоиться,
выиграем и сегодня,— успокаиваю я писателей.
А вот что покажут финны? Неужели так
и не пощиплют никого?
Нет, пока все идет без происшествий.
Чехословакия побеждает хоть и не без
борьбы, но достаточно уверенно и
солидно — 7 : 4.
На игру шведов с американцами не иду.
Тут сенсации исключаются. Шагаю в
отель, дорогой постоянно думаю: как-то
сейчас ребята? Из номера звоню во «Фла-
менго» Георгию Авсеенко, нашему
массажисту. Уж он-то в курсе дела. Я не помню
такой поездки или сбора, чтобы с нами не
было Георгия Лавровича. Он знает всех нас
как облупленных, знает лучше, чем
тренеры. Потому что от него у игроков
секретов нет. Он человек молчаливый,
надежный, ему можно во всем довериться. Мы с
ним дружим давно и часто во время
поездок живем вместе, в одном номере.
Жора говорит, что все нормально, все
здоровы, настроение хорошее. Меня
волнует больше всего один вопрос: не
успокоились ли после матча со шведами?
Конечно, канадцев в этом сезоне обыгрывали
легко, но одно дело — товарищеские игры,
другое — первенство мира. Но Жора
говорит, что все в порядке.
...Игра в самом деле складывается для
нас очень легко. Я стою за нашей
скамейкой и думаю о том, что она — точное
повторение нашей люблянской встречи со
сборной Чехословакии. Тот же темп, то же
бурное начало, так же быстро растет счет. И
даже результат первого периода, почти как
в Любляне: там было 4:0, тут—5:1.
Прямо как в шахматах — «люблянский
дебют».
На ноле все идет гладко, и я вспоминаю,
что в руках у меня блокнот, который я за-
188
Борис Майоров •
хватил с собой специально — записать
реплики тренеров по ходу матча.
Чернышев всю игру стоит или сидит на
месте, почти не говорит, лишь изредка
негромким голосом сделает короткое
замечание сменившемуся игроку. Тарасову не
сидится на месте. Он ходит вдоль скамейки,
и для каждого у него есть какие-то
указания. Причем чем лучше идут дела у
команды, тем шумливее наш второй тренер. Его
призывы, обращенные к полевым игрокам,
слышим не только мы и те, кто поблизости,
но, по-моему, и публика из дальних рядов.
Мне даже кажется, что Анатолий
Владимирович это отлично сознает. Во всяком
случае, обширная аудитория слушателей его
нисколько не смущает. Кстати, и на
тренировках ЦСКА и сборной он при самом
большом стечении публики, если
предоставляется возможность, обязательно пользуется
микрофоном, хотя игроки его прекрасно
слышат и так.
Вот самые колоритные из его реплик, я
записал их, наверное, полсотни во время
матча СССР — Канада. Все они относятся
ко второму и третьему периодам, когда
игра была уже практически сделана.
— Биться за каждый сантиметр поля!
— Все делать быстрей! Двигаться
больше! Укатывать противника!
— Бояться бортов!
Один из канадцев врезался в Зингера.
— Зингера даете бить!
— Не соглашаться на сбрасывание
темпа! В нашей команде нет ленивых!
— Ничего не делать медленно!
— Не уступать в мужестве!
В конце периода Мишаков оказался в
удобной позиции для броска, но ковырнул
клюшкой лед, и шайба еле доползла до
ворот. Это на дальнем от нас конце поля.
— Женька! До чего же незлой бросок!
Уж больно мы, русские, добрые!
И в таком духе до самой последней
секунды матча.
После игры традиционная
пресс-конференция, на которой тренеры только что
сыгравших команд отвечают на вопросы
корреспондентов. Чернышев и Тарасов ходят
на эти пресс-конференции по очереди.
Сегодня очередь Тарасова. Репортеры знают
об этом, и потому свободных мест в зале
нет. Во-первых, Тарасов строит свою речь
так, что отдельные фразы можно выносить
прямо в заголовки. Во-вторых, от него
обязательно ждут какой-нибудь оригинальной
выходки: вместо того чтобы отвечать на
вопросы, начнет задавать их сам или
затеет с кем-то ожесточенный спор. А
журналисты это очень любят.
До чего же разные люди — наши
тренеры! Более разных трудно было бы найти,
даже если искать специально. Я так же не
могу представить Чернышева, говорящего
громко, как Тарасова, говорящего тихо. Я:
кажется, ни разу в жизни не видел
Чернышева выведенным из состояния
душевного равновесия, даже в минуты тяжелыз
поражений его команд—«Динамо» илу
сборной. Тарасова я никогда не виде;
спокойным, даже когда ни обстановка, до
время не давали поводов для волнений.
Чернышева не так-то просто разыскат*
среди игроков во время матча: он занимает
свое место у бортика и одет-то всегда
словно нарочно, чтобы остаться в тени,— вс
все черно-серое. Тарасов не может усидеть
на месте более пяти секунд подряд. Его
громогласные тирады — хлеб для репортеров
его мимика и. жестикуляция, словно
магнит, притягивают к себе кино-, фото- J
телеобъективы. И одет он во время этю
игр по большей части в цветастый
форменный свитер ЦСКА, только на местах
где у хоккеистов пришит номер, у неп
буква «Т».
На тренировках место Чернышева — з<
пределами поля, все у того же бортика;
место Тарасова — в гуще событий, на льду. На
установках Чернышев говорит первым
сдержанно и сжато излагая план игры к
задания каждому. Тарасов его
обязательно дополняет. Его речь до предела
насыщена эмоциями и призывами: «не посрамить»
«отдать все силы», «проявить
удивительную преданность».
Все знают, что, прежде чем принять
какое-то важное решение, они порой
подолгу спорят, но на глазах игроков
выступают всегда единым фронтом и во всем дру1
друга поддерживают.
Я смотрю на них во время игр в
Стокгольме и думаю: а на кого из двух хоте!
бы походить начинающий тренер
какой-нибудь заштатной команды Борис Майоров!
Если быть честным до конца, то
полностью — ни на кого. Хотелось бы найтг
свое лицо и свое место в хоккее. Как
нашли его, скажем, Пучков, Эпштейн или Бо-
гинов, не ставшие тенью двух Генеральных
конструкторов нашего хоккея, а
отстаивающие свои взгляды и принципы.
Но что-то позаимствовать у каждого и^
тренеров сборной я был бы рад. Но
повторяю: не все.
Меня всегда восхищала выдержка
Аркадия Ивановича Чернышева. Как не хватает
мне всю жизнь этого качества. Сколько раз
моя несдержанность, вспыльчивость дороге
обходились и мне и команде! Удаления с
поля, дисквалификация... И хоть с годами
я стал сдержаннее, как мечтал бы я
перенять у Чернышева его умение владеть
собой, сохранять невозмутимость даже в
самые трудные минуты матча! Его спокойст;
вие передается команде и очень выручает
даже тогда, когда положение кажется со-
• Я смотрю хоккей
189
всем безнадежным. Раз тренерская мысль
работает четко и ясно, раз мы живы и
здоровы и полны сил, значит, судьбу еще
можно переломить. Да мы и переламывали
ее нередко.
За историю своего существования
сборная СССР девять раз побеждала на
мировых чемпионатах. И все эти девять раз
старшим тренером был Чернышев. Уверен,
что именно это свойство характера
Аркадия Ивановича сыграло тут очень
существенную роль.
Страстность Тарасова не всегда полезна
команде. Забывшись, он может оскорбить
игрока, унизить его человеческое
достоинство, сделать несправедливый упрек.
Ветераны привыкли и реагируют на все это
не так болезненно, а молодые, которые в
ответственных матчах и без того страшно
нервничают, прямо-таки ломаются. Потом
игрок поймет, что тренер вел себя так не
со зла, что он желает и команде и ему,
игроку, победы и вообще добра. Но это будет
потом. А сейчас, в горячке игры, он
оскорблен, оскорблен незаслуженно. Ведь он
тоже старается и хочет как лучше. А ему
не объяснили ошибку, его не выслушали.
И ответить так же резко он не может, не
имеет права: дисциплина в сборной
военная.
Кажется, никому и никогда не
обходилась так дорого вспыльчивость Тарасова,
неумение сдержать себя, как в последнем
чемпионате его команде, команде ЦСКА.
Шел последний матч первенства. Играли
ЦСКА и «Спартак». Чтобы завоевать
золотые медали, ЦСКА должен был победить.
Нам достаточно было и ничьей. Истекала
десятая минута третьего периода. Мы вели
2:1. И вдруг — инцидент, который,
уверен, навсегда запомнит каждый, кто был
ж матче или смотрел его по телевизору.
Петров забивает нам второй гол, но судьи
его не засчитывают. Оказывается, световое
табло во Дворце спорта испортилось, но
контрольный секундомер показал, что
первая половина третьего периода
закончилась. Свисток, возвещающий об этом,
потонул в шуме трибун.
Я представляю себе, какая буря
разразилась в душе Тарасова, когда он увидел,
что судьи не хотят засчитывать гол,
который его команда заработала честным
трудом: ведь ребята не знали, что время
истекло, и играли так, словно ничего не
произошло. До победы, кажется, оставалось
чуть-чуть, и вот чья-то злая воля
отбрасывает команду назад. Я даже представить
себе не могу, что делал бы я в такой
ситуации. Уж наверняка разбил бы клюшку о
лед. Вспыльчивость толкнула Тарасова на
роковой шаг. Он запретил хоккеистам
продолжать матч и не снимал запрет в
течение 35 минут.
Я тринадцать лет играю в командах
мастеров и знаю, что, не засчитав гол, судьи
никогда не отменят свое решение. Не было
такого случая в практике большого
хоккея. А Тарасов вдвое опытнее меня и знает
это еще лучше. Ясно, что добиться своего
с помощью бойкота он не мог.
Мы пропустили тот гол не случайно:
отдали игре слишком много сил и с трудом
вели оборону, мечтая только о том, чтобы
сохранить счет до конца. А наши
противники словно нашли, как принято у нас
говорить, свою игру. К тому же в тот момент
мы были на поле вчетвером: Кузьмин
сидел на скамейке оштрафованных.
Будь Тарасов поспокойнее, он со своим
опытом и пониманием игры сообразил бы,
что сейчас самое время «брать нас
тепленькими». Но его поступками тогда руководил
не рассудок, а обида и гнев, и это
спасло нас. Мы отдышались, успокоились,
осмотрелись. Игрокам же ЦСКА было в эти
минуты не до отдыха. Состояние тренера
передалось им. В бесплодной полемике они
перегорели, растратили свой
наступательный порыв, и когда игра возобновилась, от
их недавнего превосходства не осталось и
следа. К тому же восстановилось и
численное равенство: за задержку игры команда
была наказана двухминутным штрафом, и
Тарасов отлично понимал, что это должно
было случиться.
Не знаю, возможно, армейцам и так бы
не удалось догнать нас в тот раз. Но
после всего случившегося судьба матча была
предрешена. Последние 10 минут прошли
при полном преимуществе «Спартака», и
мы без особого труда забили в ворота ЦСКА
еще один гол.
Но есть у Тарасова одно качество,
которое, наверное, хотел бы позаимствовать
любой тренер. Человек он до мозга костей
творческий и не умеющий удовлетворяться
достигнутым. Кажется, ну что ему
особенно терзать себя и других? Команда у него
прекрасная, игроки великолепные. Лишь
последние годы мы, спартаковцы, стали
пощипывать ЦСКА. А еще недавно для
выявления чемпиона можно было и не
проводить чемпионат, настолько сильней других
была команда Тарасова. И с детьми работа
поставлена, и резервы практически не
ограничены. Все титулы у него, огромная
слава, ордена, полковничье звание. Живи
себе спокойно и стриги купоны с прошлых
заслуг. Но Тарасов не был бы Тарасовым,
если бы умел жить так.
«Самоуспокоенность» и «Тарасов» — два
слова, которые просто не могут стоять
рядом. Он все время что-то ищет. Ищет
поточный метод тренировок, ищет тактику
«пять в нападении — пять в защите»,
190
Борис Майоров •
ищет в хоккее полузащитников. Иногда
находит, иногда нет. Он беспрерывно
поглощен новыми идеями, отстаивает их в
своих книгах, спорит в этих книгах со
своими воображаемыми и истинными
противниками. И при всем том он отнюдь не
идеалист, не Дон-Кихот, воюющий с
ветряными мельницами. Все его замыслы стоят
на реальной почве, и за их воплощение он
борется самыми земными средствами. У
него какой-то поразительный нюх на все
новое, что носится в воздухе. Он, повторяю,
и сам творит это новое. И тут уж слов
«не могу», «невозможно» для него не
существует.
Советский хоккей служит предметом
подражания и изучения, а ЦСКА задает
тон у нас в стране не только потому, что и
тот и другой имеют много побед и медалей.
И наш хоккей и команда ЦСКА во многом
обязаны этим подлинно новаторскому
характеру Тарасова.
И здесь, как во всем остальном,
Чернышев — полная противоположность своему
первому помощнику. Нет, заядлым
консерватором его не назовешь. Но в работе
он чаще, чем любым другим,
руководствуется афоризмом: «Семь раз отмерь...» Он и
внешне и своей неизменной корректностью
похож на классический тип англичанина,
каким мы его знаем по книгам и кино, и
своей приверженностью тому, что уже
многократно прошло проверку жизнью.
Когда перед очередным первенством мира
встает вопрос, кого брать — молодого,
только еще подающего надежды игрока или
ветерана, хоть уж и играющего без прежнего
блеска и неспособного выдумать порох, но
который в своей партии, уж наверное, не
даст петуха, мы всегда знаем:
Чернышев проголосует за ветерана.
Не случайно нынешние тройки
московского «Динамо» не так уж сильно
отличаются по манере от лучшего звена в
истории этой команды, звена Уваров —
Кузин — Крылов, которое гремело
пятнадцать лет назад. Не случайно молодые
динамовцы, прежде чем попасть в основной
состав своей команды, как говорится,
протирают на скамейке запасных не одну
пару штанов.
Вот ведь какое удивительное и,
вероятно, неповторимое сочетание, какое
единство вроде бы взаимоисключающих
противоположностей уживаются многие годы в
одной команде. Но Чернышев и Тарасов не
просто уживаются, а сотрудничают,
помогают друг другу и семь лет подряд ведут
сборную по дороге побед. Не правда ли,
странно? А может, не так уж странно?
Может, по такому принципу и должны
подбираться тренеры в команду, чтобы один
дополнял и обогащал другого? Может,
именно во взаимной критике, в долгих и
мучительных спорах людей полярных взглядов,
характеров и рождается истина?
■ САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ
ИЗ КОМАНД
Вечером в отеле, когда я по привычке
заглянул в номер к Николаю Николаевичу
Озерову, чтобы поделиться дневными
впечатлениями, он сказал:
— Плохо ребята играют,— а потом
добавил, словно утешая и себя и меня: —
Ну, ничего, они еще покажут. Тройка в
один день не рождается...
Мы с Озеровым — старые друзья. Он
всегда следил за нашей тройкой особенно
внимательно, брал у нас первое в нашей
жизни интервью для радио, поддерживал
нас в трудные минуты. И в сборной он нас
со Старшиновым и моим братом Женькой
всегда как-то выделял. Я думаю, не
потому, что мы чем-то отличаемся от других.
Нас всех объединяет одно: мы
спартаковцы.
Я уж и не знаю, чем это объяснить, но
всех спартаковцев связывает между собой
нечто большее, чем обычные человеческие
отношения. «Спартак» — это для всех нас
как пароль какой-то, что ли. Николай
Тимофеевич Дементьев однажды сказал по
этому поводу:
— Мы так все привязаны к «Спартаку»
и болельщики у него такие отчаянные
потому, что он, «Спартак», голый. У всех базы,
стадионы, катки искусственные. А у нас
ни кола, ни двора, один энтузиазм.
Это, наверно, правильно. Обратите
внимание: из «Спартака» хорошие игроки
никогда не уходят. Иной раз даже по году
сидят на скамейке запасных, а в другие
команды не идут. Ни в футболе, ни в
хоккее. Правда, в хоккее был за мою
спортивную жизнь один случай. С Анатолием
Фирсовым. С тех пор прошло уже много
лет, но и сейчас будто что-то стоит между
нами. И не только у меня сохранилась
обида, а и у Старшинова, и у Фоменкова, и у
Кузьмина, и у Макарова. В общем, у всех
старых спартаковцев. Я-то сейчас в обиде
на него дажеие за то, что он
ушел,—сколько можно поминать старое! — но вот что мне
горько: нигде и никогда не говорит Фир-
сов, чей он воспитанник, где научился
играть и стал сильным хоккеистом. Он ведь
в ЦСКА уже мастером пришел... А может,
не забыл он свой первый клуб? Может,
просто стесняется вспоминать о том, что
сбежал от нас? Может, даже жалеет?
У нашего клуба история особенная:
братья Знаменские, братья Старостины.
Озеров. Дело не только в том, что они
оставили неизгладимый след в спорте.
Понимаете, они по духу спартаковцы. Они
бойцы, они побеждали потому, что не умели
• Я смотрю хоккей
191
мириться с поражениями. И футбольный
«Спартак» поэтому, хоть и был после
войны в «разрушенном» состоянии, кубок
умудрялся завоевывать. И мы совсем
мальчишками в 1962 году завоевали
первенство. Что мы тогда собой представляли рядом
с ЦСКА и «Динамо»?
А чем вызван был долгий кризис нашей
футбольной команды в конце 50-х годов?
Набрали из разных команд, из разных
городов игроков, для которых «Спартак» был
командой так себе, как все прочие. Но
бывает, что придет к нам в клуб человек со
стороны, взрослый, сложившийся игрок, а
через пару лет все и забыли, что он когда-
то играл еще где-нибудь. Это тогда, когда
он по характеру, по человеческим своим
качествам подходит к «спартаковским»
меркам. Вот, например, Галимзян Хусаинов или
Валерий Фоменков. Кто может сказать, что
они не спартаковцы?
Потому, наверно, не было в Стокгольме
дня, чтобы мы не встретились с Озеровым
и не поговорили об игре спартаковской
тройки и о ее перспективах.
Николай Николаевич на этот раз
ошибся. Спартаковская тройка так и не
показала себя в Стокгольме. Впрочем, его слова
могли бы оказаться и пророческими. Еще
через день, во время первого матча с
Чехословакией, наша тройка полтора периода
играла лучше других, а моментами просто
хорошо. Казалось, вот-вот Якушев, Старши-
нов и Зимин наконец «поймают» свою
игру, нащупают связи. И тут Сашу
Якушева посадили на скамейку запасных,
посадили всерьез и надолго, практически до
конца турнира.
В чем дело? Ведь перед отъездом в
Стокгольм Якушев был в блестящей форме.
Но получилось так, что игра у Саши, как
говорится, не пошла. Да и не могла пойти,
как. я понял уже в Стокгольме. В
«Спартаке» Якушев стал в том сезоне самым
результативным игроком. Были матчи, в
которых он забрасывал по три-четыре шайбы,
без гола же с поля он не уходил почти
никогда. В Стокгольме же на его счету
один-единственный гол, да и то в игре с
американцами. Что же случилось вдруг с
Якушевым?
В том-то и дело, что с Якушевым не
случилось ничего. Якушев остался Якушевым.
Но в «Спартаке» к нему и относились, как
к Якушеву, игроку, который силен своим
умением забивать голы в определенных
ситуациях, и создавали ему эти ситуации.
Якушев трудился в обороне, как
говорится, постольку-поскольку. Эту работу
выполняли за него другие. Зато у него всегда
были развязаны руки для контратаки. И
когда наши наконец завладевали шайбой,
они знали: Якушев уже набирает скорость
и готов принять нас где-то в середине
поля. Туда и отсылалась ему шайба. Вот она,
та самая ситуация, где Якушев особенно
опасен,— на ходу, с шайбой, на широком
оперативном просторе.
В сборной ничего этого не было. Он не
имел привилегий и потому не мог
приносить пользу. Когда он, почуяв момент,
готовился броситься в прорыв, с
тренерского КП следовал грозный окрик: «Возьми
своего!» — и он возвращался назад. Его
партнеры не получали задания играть на
Якушева, да они и не привыкли
подыгрывать кому-то. А когда начали было
привыкать (Старшинову и Зимину не надо
долго объяснять, что к чему), Якушев
оказался уже в запасе. Его место занял Евгений
Мишаков, игрок хороший, но чуждый им
обоим по стилю, по духу, по пониманию
хоккея.
До чего же это сложная, хотя и совсем
маленькая команда — хоккейная тройка!
Вроде бы чего проще: три хоккеиста, один
забивает голы, другой создает ему условия,
третий помогает и тому и другому. Хорошо
бы, чтобы каждый из трех умел здорово
делать свое дело, а еще лучше, если все
трое — мастера на все руки. Вот вам и вся
теория.
На самом же деле, хотя хоккей многие
уже годы волнует сердца людей, хотя он
имеет немало своих теоретиков, хотя на
книги об этой игре израсходована не одна
сотня тонн бумаги и выпущены они в
разных странах, такой теории нет и в помине.
Есть тренерская интуиция, и только.
Иногда она приносит успех, иногда подводит.
Иногда самые причудливые и неожиданные
сочетания вдруг создают великолепный
букет, но не менее часто соединение трех
классных мастеров, к тому же прекрасно
ладящих в жизни, рождает более чем
посредственное хоккейное звено.
Еще совсем недавно была у нас в
«Спартаке» тройка, которой прочили большое
будущее: Ярославцев, Шадрин, Якушев. Все
талантливые, все еще молодые, но уже
знаменитые. Они долго ходили в подающих
надежды, так долго, что уже некоторые
стали поговаривать: сколько можно
обещать? Не пора ли уже и платить по
векселям? Но у нас в «Спартаке» решили
запастись терпением и ждать. А прогресса все
не было. Это чувствовали и сами ребята.
Пытались объяснить себе и другим, в чем
дело. Оба крайних считали, что во всем
виноват Шадрин: он и медлителен и шайб
забрасывает мало. В общем-то, их можно
было понять: и Ярославцев и Якушев по-
опытней, постарше, провели сезон в
сборной, вот им и казалось, что неопытный
Шадрин уступает обоим. Однажды, когда
Ярославцев, если память мне не изменяет,
заболел, на его место временно определили
Александра Мартынюка. Прошло совсем не-
192
Борис Майоров •
много времени, и всем стало ясно: тройка
из перспективной превратилась в тройку
высокого класса, способную играть против
любых противников и побеждать их. Да она
вскоре это и доказала. А ее душой стал
«медлительный» и «нерезультативный»
Володя Шадрин.
А разве с другими знаменитыми
тройками нашего хоккея было не так? Локтев и
Александров совсем не радовались, когда
им дали нового центрового, 19-летнего
Сашу Альметова. Да и чему тут было
радоваться: вместо проверенного и опытного
партнера, каким был для них Александр
Черепанов, им, знаменитым хоккеистам,
игрокам сборной, «подсунули» какого-то
желторотого птенца, с которым надо еще
немало повозиться, прежде чем из него
хоть что-нибудь выйдет. Да и выйдет ли?
А Черепанов между тем начинал сходить,
к тому же он зарекомендовал себя
злостным нарушителем режима. Альметов же
подавал надежды. Все шло к тому, что
одного надо менять, другому подыскивать
место в основном составе. Так появилась на
свет тройка, ставшая вехой в истории
нашего хоккея. Между прочим, был сезон,
когда ни Локтев, ни Александров не
играли. Альметов получил тогда двух хороших
партнеров — Леонида Волкова и
Владимира Киселева. И звено это так же незаметно
распалось, как появилось на свет божий.
В роли «хоккейной няньки» пробовали и
Александрова, хитрейшего и техничнейшего
хоккеиста. Он опекал Бориса Михайлова и
Владимира Петрова. Тарасов сулил этому
начинанию блестящее будущее. Правда,
дела у тройки шли довольно средне, а
Петрова вечно заменяли кем-нибудь другим. Но
вот — это случилось после возвращения
ЦСКА из Японии — Александров покинул
лед окончательно. На его месте появился
молодой Валерий Харламов. Ни для кого
нянькой он, само собой разумеется,
служить не мог. К нему самому по его опыту и
стажу впору было приставлять няньку. Но
все обошлось без нянек: его новые
партнеры и сами были совсем еще молоды. И
всем на удивление — думаю, не исключая
и самого Анатолия Владимировича
Тарасова,— тройка вдруг заиграла великолепно.
Столь головокружительного взлета целой
тройки нападающих не знает история
нашего хоккея. За один сезон три молодых
парня стали игроками сборной, чемпионами
мира, заслуженными мастерами спорта,
кавалерами орденов.
Я не тренер и до недавнего времени над
проблемами тройки не задумывался вовсе,
не искал на них ответ. Но в одном убежден
твердо: как правило, в хоккейное звено
форвардов, эту самую маленькую из команд,
должны подбираться люди одного
поколения. Они быстрей и лучше поймут друг
друга и в жизни и на площадке, быстрей
найдут общий язык, договорятся и
подружатся. Все это очень важно. Хотя бывают
и исключения.
Но оставим теорию теоретикам. А я,
поскольку начал разговор на тему о самой
маленькой из команд, должен рассказать
о нашей многострадальной тройке.
Я был первым из нашей тройки, кого
приняли в команду мастеров. Впрочем,
тогда еще никакой нашей тройки не было.
Это случилось весной 1956 года. Мой брат
Женька играл еще в молодежной команде,
а с Вячеславом Старшиновым мы тогда не
были знакомы, так что вопрос о партнерах
меня, как вы понимаете, волновал меньше^
всего. Я радовался, если удавалось сыграть
хоть полматча на чьем угодно месте.
Обычно нас выпускали по очереди с моим
сверстником Владимиром Мальцевым. Кстати,
тогда я и забросил первую свою шайбу в
чемпионатах страны. Правда, ее нет в
кондуитах даже самых заядлых и дотошных
статистиков. Дело в том, что тренер забыл
занести мою фамилию в протокол, а на
поле выпустил. Никто не обратил на это
внимания — судьи меня тогда в лицо не
знали. И вд)зуг я забиваю гол. Надо
объявлять об этом по радио. Но если выяснится,
что это я, нам должно быть по правилам
засчитано поражение. Первым сообразил, что
к чему, Анатолий Сеглин — наш тренер.
Он мигом очутился у судейского столика,
что-то сказал судьям, и спустя минуту
радио сокольнического катка объявило:
— Шайбу в ворота московского
«Буревестника» забросил Александр Корнеев.
То-то было смеху на трибунах, где
собрались человек пятьдесят самых верных
спартаковских болельщиков, которые знали
о команде буквально все, знали и о моем
существовании.
В начале следующего сезона я попал уже
в более или менее стабильную тройку,
вместе с тем же Мальцевым и своим братом.
Относились к нам болельщики и знатоки
неплохо, считая нас игроками быстрыми,
довольно техничными и неплохо
ориентирующимися на поле. Нас даже зачислили
кандидатами в молодежную сборную
страны. Так мы играли целый сезон, играли
хотя и без особого блеска, но неплохо.
Тренеры были нами довольны, и мы тоже были
довольны собой и своей судьбой.
Так мы жили не тужили до следующего
сезона, до прихода нового старшего
тренера Александра Ивановича Игумнова,
который взял да и разрушил нашу тройку.
Вместо Мальцева он привел к нам какого-то
неуклюжего парня и сказал, что он будет
у нас центровым. Звали парня Слава Стар-
шинов, был он на два года моложе нас. Мы
• Я смотрю хоккей
193
с Женькой отнеслись к нему недоверчиво.
На площадке он нам и вовсе не понравился.
На коньках бегает медленно и плохо.
Соображает еще медленнее. С пасом все время
запаздывает, на передачи не поспевает.
В общем, после игры мы с Женькой,
проведшие уже целый сезон в команде
мастеров и набравшиеся гонора, пришли к
тренеру и заявили, что не хотим играть
вместе с этим новичком. Но Игумнов настоял
на своем: он знал Старшинова, занимался
с ним в детской команде, где тот был его
любимцем. Старшинов остался.
Наше недовольство испарилось очень
скоро. Новичок прогрессировал от матча к
матчу с какой-то непостижимой
быстротой. Теперь-то, когда я хорошо знаю
Вячеслава, мне нетрудно объяснить, в чем
было дело. Человек он упорный,
настойчивый и целеустремленный. Уж если он
поставил перед собой какую-нибудь задачу,
воздвигать преграды на его пути
бесполезно. Он даже не будет их обходить, он их
просто-напросто сметет. Да он ведь и на
площадке такой же.
Но все это я понимаю теперь. А тогда
наблюдал за ним с интересом, а главное,
что он нам с Женькой все больше и
больше нравился как партнер. Ну и что же, что
он все еще не очень-то поворотлив? Зато,
если выложишь ему как следует шайбу под
его корявый бросок, можешь не
сомневаться — вратарю придется доставать ее из
сетки. К тому же он вместе с Женькой
готовился к поступлению в МАТИ, где учился
я, у нас было множество общих приятелей,
общих интересов, мы одинаково готовы
были с утра до ночи играть в хоккей и с
ночи до утра тренироваться. А кроме всего
прочего, поиграв немного со Старшино-
вым, мы с братом поняли, что именно
такого — пробивного, таранного,
тяжеловатого игрока как раз и не хватало нашей
быстрой, но слишком уж какой-то
легковесной тройке.
Большинство событий того сезона
стерлось из моей памяти. Сохранила она
только два — проигрыш ЦСКА со счетом 1:13
в самом начале первенства (Женька
забросил единственную «спартаковскую»
шайбу), когда мы еще очень отрицательно
относились к своему новому партнеру, да
поездку «Спартака» в Ленинград на
четыре матча с местными командами. Это было
уже глубокой осенью. Мы тогда дважды
победили «Кировец» и сделали две ничьи
с сильной командой Ленинградского Дома
офицеров. Причем в первом матче мы за
две минуты до конца проигрывали 3 : 5,
но мне удалось сквитать обе шайбы. Эта
поездка так врезалась мне в память потому,
что именно в Ленинграде мы до конца
ощутили: наша тройка — это не просто так,
это всерьез и надолго.
Так оно и случилось. И на площадке и
за ее пределами мы стали почти
неразлучны на долгие годы. Хотя играли мы,
особенно первое время, с большими срывами.
Иногда нам удавалось все, но часто мы
чувствовали себя просто беспомощными.
С одной стороны, не окрепло еще наше
мастерство, а с другой—по нынешним меркам
наш спортивный режим выглядел просто
диким. Очень часто мы являлись на
хоккейную тренировку прямо с футбольного матча
за команду своего института, где были
ведущими игроками и не могли по этой
причине пропустить ни одной встречи. Нас
то хвалили, то ругали тренеры «Спартака»,
а тренеры сборной то зачисляли нас
кандидатами в свою команду, то разжаловали...
В 1959 году мы все же впервые
надели красные свитеры с буквами «СССР» на
груди, когда вышли на поле в составе
молодежной сборной страны. Именно тогда,
перед матчем с американцами, понял я,
что значит стоять в центре огромного
Дворца спорта, когда прожекторы погашены и
только один, прорезывая зал наискось,
выхватывает из сплошной темноты наш
Государственный флаг, а оркестр исполняет
наш Государственный гимн. У меня сразу
пересохло во рту.
Через год нашу тройку включили в
состав сборной страны на матч с канадской
командой «Чатам марунз». Канадцы в те
годы выглядели в наших глазах
полубогами, и поэтому даже более бывалые люди,
чем мы, выходили играть против них не
без душевного трепета. Наше положение
осложнялось тем, что для Женьки это был
первый в жизни матч с родоначальниками
хоккея. Мы со Старшиновым уже
побывали в Канаде как игроки второй сборной, он
же в той поездке не участвовал.
Все же мы, может, и сумели бы
провести тот матч как следует, если бы
нашей тройке придали опытных защитников.
Но вместе с нами выходили на площадку
совсем юные и еще менее, чем мы,
обстрелянные Валерий Кузьмин и Александр
Рагулин.
Так или иначе первый период наше
звено проиграло, не забив в канадские
ворота ни одной шайбы и пропустив в свои
две. А в перерыве старший тренер команды
Анатолий Тарасов сказал нам, что мы
можем идти переодеваться, поскольку вместо
нас будет играть тройка «Локомотива».
Кажется, никогда в жизни я не был так
огорчен и обижен, как в тот раз. Словно
маленький ребенок, пошел я искать, кому
бы излить свое горе. Нашел Александра
Никифоровича Новокрещенова — нашего
спартаковского тренера — и чуть ли не
со слезами нажаловался ему на
несправедливое решение. Я знал, к кому идти: Но-
вокрещенов, хоть уже и немолодой и до-
13. «Октябрь» № 10.
194
Борис Майоров •
статочно опытный человек, до того любил
все спартаковское и так переживал за
своих питомцев, что возмущался и
всплескивал руками в тот час еще почище моего.
— Ладно, плюнь,— сказал он мне
напоследок.— Не обращай внимания. Чего в
жизни не бывает. Не опускайте руки,
играйте, как умеете, и все увидят, на что
вы способны.
Конечно, ту историю я принял тогда
слишком близко к сердцу. Но в принципе
я и сегодня считаю, что был прав в своем
молчаливом споре с тренером сборной. Если
он доверил нам играть против канадцев,
пусть бы подождал до конца матча. Разве
можно проверить человека за один
хоккейный период? Мы бы все сделали, чтобы в
оставшееся время себя реабилитировать,
отдали бы этому все силы. А разве тренеру
это дало бы меньше, чем нам самим?
Вечером, когда мы втроем, злые и
молчаливые, сидели у себя в комнате, к нам
зашел Анатолий Владимирович.
— Обидели вы меня сегодня,— так
начал он свое обращение к нам.
— По-моему, это вы нас обидели,—
перебил я тренера.
Мы поговорили, высказали друг другу
свои соображения. На следующий матч с
«Чатам марунз» нашу тройку поставили
снова. Мы провели его очень здорово и
забили канадцам четыре шайбы.
Уже в ту пору стал вырисовываться
почерк нашей тройки, связанный с долгим
розыгрышем шайбы в зоне противника, с
бесконечными быстрыми перемещениями всех
троих и у ворот и в углах поля. Позже
кто-то придумал неплохое название —
«спартаковская карусель». Как он
родился, этот стиль? Честное слово, не знаю. Мы
никогда в жизни не разучивали и не
придумывали заранее свои комбинации. Мы
всегда играли так, как получалось, так,
как нам было удобнее и интереснее.
Видимо, наши вкусы совпадали, а ежедневное
общение на поле и за его пределами
выработало в нас одинаковое понимание игры.
Я уже писал, что хоккей всегда был
для меня удовольствием. От игры же со
своими партнерами по тройке я получал —
говорю это без всякого преувеличения —
настоящее наслаждение. Могучий,
таранящий любую защиту, готовый все смести на
пути к воротам противника Вячеслав
Старшинов, умница, словно рожденный для
хоккея и чувствующий его всеми фибрами
души Женька — о лучших товарищах по
хоккейному оружию нападающий не может
и мечтать.
О нас стали говорить: они понимают
друг друга с полуслова. Эти слова очень
неточно передают наши отношения на
поле. Какое там «с полуслова»! Нам не
требовалось ни полуслова, ни полувзгляда.
По тому, как и куда двигался, скажем,
тот же Женька по площадке, как он
держал клюшку, я уже мог с точностью до"
нескольких сантиметров определить, кому
и в какое место он собирается отдать
шайбу. Я готовился ее принять, а Старшинов,
даже не взглянув в мою сторону, понимал
или чувствовал каким-то шестым
чувством, какое решение я приму. А может,
наоборот, это я угадывал его следующий ход?
У нас не бывало каких-то
предварительных обсуждений плана очередной игры,
мы редко разговаривали на площадке, не
произносили до и во время матча
предназначенных друг другу ободряющих слов.
Лишь дважды за всю спортивную жизнь мы
собирались накануне матча на минутку,
чтобы сказать друг другу:
— Давайте завтра постараемся.
Это было тогда, когда от завтрашнего
матча зависело, возьмут ли нашу тройку
в сборную. Первый такой разговор
состоялся незадолго до швейцарского чемпионата
мира 1961 года. А. И. Чернышев сообщил
мне по секрету, что моя судьба решена:
я еду.
— А вот насчет остальных пока
ясного мнения нет,— добавил старший тренер.
Разумеется, я не стал огорчать ребят.
Я просто предупредил их, что следующий
контрольный матч мы обязаны сыграть
лучше всех, от этого будет зависеть многое.
На то первенство мы попали, и, по
мнению тренеров, наша тройка была на
катках Лозанны и Женевы лучшей в сборной.
Но это обстоятельство не очень-то
облегчило нашу задачу в новом сезоне. В те
времена мы пользовались репутацией
людей, игра которых зависит от настроения.
Да так оно, собственно, и было. И свое
право играть в Стокгольме, где началось
триумфальное шествие нашей сборной, мы
завоевывали в тяжелой конкуренции с
другими тройками, завоевывали как бы
заново, будто «швейцарского сезона» не было.
Зато после Стокгольма нашей тройке —
так нам тогда казалось — было обеспечено
место в сборной на долгие годы. Мы
играли много и почти всегда удачно и дома и
на катках Канады, Швеции, Чехословакии.
И вообще весь ансамбль сборной сложился
настолько удачно и выглядел таким
безупречным и монолитным, что если и
требовал какого-нибудь ремонта, то самого
минимального, вызываемого болезнью кого-то
из игроков. Большинство из нас пришло в
сборную с разрывом в год-два, все мы
уважали друг в друге настоящих мастеров и
людей, знающих цену победам, все мы
полностью друг на друга полагались.
И вдруг, уже после того, как сборная
выиграла Инсбрукскую олимпиаду, нашу
тройку постиг жесточайший удар.
Незадолго до первенства мира 1965 года в «Спар-
• Я смотрю хоккей
195
так» пришла из Федерации хоккея
телефонограмма: откомандировать в сборную
В. Зингера, В. Старшинова и Б. Майорова.
На этом список заканчивался. Вообще-то о
том, что кандидатура Евгения Майорова
под вопросом, мы слышали и несколько
раньше, но считали эти слухи обычной
уткой, которых носится в воздухе перед
каждым большим соревнованием множество.
На сей раз, однако, слухи подтвердились.
Прочитав злосчастную телефонограмму,
мы со Старшиновым отправились на
прием к Ю. Д. Машину, тогдашнему
председателю нашего спортивного союза. Мы
просили его потолковать с тренерами
сборной о нашей тройке, уговорить их вернуть
Женьку в сборную. Машин обещал. Не
знаю, беседовал ли он с Чернышевым и
Тарасовым, думаю, что да. Но в таких
случаях последнее слово обычно всегда за
тренерами. Женька остался дома, а в Тампере
поехал Ионов.
Я ни в чем не могу упрекнуть Толю Ио-
нова. Он делал в Тампере все, что мог. Но
мог он очень немного: мы играли в разный
хоккей. Переучиться за столь короткий
срок он был не в ■состоянии. Да и ни к
чему это было — ведь после чемпионата ему
предстояло вернуться к своим постоянным
партнерам, которые к нему привыкли и
рядом с которыми он как раз на месте. И он
очень страдал. Страдал, пожалуй, даже
больше, чем мы. Ни я, ни Старшинов, хотя
мы и не отличаемся особой сдержанностью,
не сказали ему в Тампере ни одного
худого слова, ни разу не повысили голос в
разговоре с ним. Но однажды его явная
растерянность в каком-то игровом эпизоде
вызвала такую гневную тираду Эдуарда
Иванова, что Толя, опустившись на скамейку
запасных, расплакался. Это была самая
настоящая истерика. К нему подошел
Тарасов, утешал, просил, требовал, чтобы он
успокоился, но Ионов, для которого всегда
любое слово его тренера было
непреложным и не подлежащим обсуждению
приказом, на этот раз ничего не мог с собой
поделать.
Закончилось первенство мира, и мы
вновь стали играть своей тройкой. Мы
решили не унывать и доказать, что случай с
Женькой — эпизод, что мы сильны именно
втроем. Но, видимо, тренеры мысленно
навсегда вычеркнули моего брата из списков
сборной. К его кандидатуре больше не
возвращались. Если других — и постарше —
вновь и вновь испытывали, проверяли,
включали во вторую сборную, отправляли
в зарубежные поездки, то по отношению к
Женьке тренеры всем своим поведением
словно давали понять: на тебе поставлен
крест.
Его место в Любляне занял Виктор
Якушев. С ним нам, конечно, было тяжелее,
чем с Женькой, но все же намного легче,
чем с Ионовым. Якушев — игрок
необычайного таланта. Он так понимает, видит и
чувствует хоккей, как это дано немногим.
По существу, в Любляне мы с ним играли
«с листа», после двух-трех совместных
тренировок. Когда выяснилось, что нам
предстоит играть вместе, мы вкратце
рассказали Виктору, как любим и привыкли
действовать в тех или иных ситуациях, и
все сразу же пошло сносно. Последний же
матч чемпионата, матч со сборной
Чехословакии, в котором наша тройка открыла
счет и за первые пять минут забросила три
шайбы, мы и вообще провели здорово.
Сезон 1966—1967 годов — начало
нового этапа в истории нашей тройки.
Тренер «Спартака» Всеволод Михайлович
Бобров определил к нам в тройку правым
краем 19-летнего Евгения Зимина. Сколько
должно было утечь воды, сколько
пришлось нам попортить друг другу настроения
и нервов, прежде чем новое наше звено
стало тем, что оно есть сейчас! Чтобы
понять это, надо знать, что это за личность—
Евгений Зимин.
Хоккеист он, как говорится, от бога.
Скорость, сметливость, храбрость,
техничность — всеми этими и многими другими
достоинствами природа наделила его в
избытке. А вместе с тем дала ему солидный
запас самоуверенности и тщеславия.
Хоккейное поле стало для него тем местом, где
он, и только он, Зимин, должен
обводить противников, забивать голы и
срывать аплодисменты. Партнеры
интересовали его постольку, поскольку они могут
помочь ему в этом деле. Коллективной игры
он не понимал и в душе не признавал. Был
он тогда парень на редкость симпатичный,
обаятельный и одновременно упрямый и
своенравный. К тому же успехи — на
площадке, у девушек, у приятелей —
давались ему очень легко. А потому каждый
свой шаг в жизни и в хоккее он считал
самым правильным и самым лучшим. Что же
касается характера, то в этом он немногим
уступал своему тезке и
предшественнику — моему брату.
Вот какого партнера получили мы со
Старшиновым. Очень уж многое в нем
вызывало наш внутренний протест. Каждый
из нас тоже имел право считать себя
солистом, но всю свою хоккейную жизнь мы
исповедовали одну веру — веру в
коллективную игру. Мы не без основания
считали, что именно ею в первую очередь и
сильна наша тройка. Ломать себя, менять
свои убеждения мы, люди, которым такая
игра принесла признание, победы, медали,
не хотели и не могли ради мальчишки,
еще, в общем, ничем себя в хоккее не
проявившего. Да и к чему менять то, что
всегда приносило самые лучшие плоды?
196
Борис Майоров •
Нет, с юным Зиминым мы не
церемонились, как церемонились в Тампере с уже
взрослым, сложившимся игроком
Анатолием Ионовым. Мы шпыняли его, мы не
стеснялись с ним в выражениях, мы ссорились
с ним и на поле, и на скамейке запасных,
и на тренировках. Он обижался,
огрызался, просил перевести его в другую тройку.
Но, с одной стороны, нас поддерживал
Бобров, понимавший, что правда на нашей
стороне. А с другой, сам Евгений — парень
хоть и упрямый, но умный, способный и
схватывающий все на лету—пусть и не без
сопротивления, но очень быстро впитывал
все наши уроки. Во внутренней борьбе,
в конфликтах мы находили общий язык. К
середине сезона тройка стала
складываться. И она наверняка сложилась бы к
началу чемпионата, но все плоды нашего
общего труда едва не пошли насмарку.
Как всегда, последнюю проверку перед
чемпионатом мира кандидаты в сборную
проходили в Канаде. Там поначалу мы
играли совсем неплохо. Зимин стал
превращаться в настоящего коллективного
игрока. Он не передерживал шайбу, не
стремился во что бы то ни стало сделать все
сам, он научился в каждой игровой
ситуации находить партнеров и сообразовывать
свои и чужие намерения. До сих пор не
могу понять, в чем тут дело, но именно
такая игра вызвала недовольство тренеров
сборной. Они обвинили Зимина, человека
отчаянной храбрости, да еще страшно
обидчивого, в трусости. Только потому-де
он и не берет игру на себя, а старается
побыстрей отделаться от шайбы. Едва
услыхав это, мы со Старшиновым поняли, что
всем нашим стараниям пришел конец.
Мыто сознавали, что это значит — обвинить в
таком оскорбительном для любого
человека недостатке Зимина с его гордостью и
честолюбием.
С того момента хоккей перестал для
него существовать. На площадке Зимин
только тем и занимался, что демонстрировал
свою беззаветную отвагу. Он лез на рожон,
пытался прорваться в одиночку к чужим
воротам, ввязывался во всякую потасовку.
Он зарабатывал синяки, шишки и
репутацию драчуна и нарушителя правил. Все
чаще и чаще он вынужден был проводить
время на скамье штрафников. Игра нашей
тройки расклеилась, последние матчи в
Канаде мы провели слабо. В Вену Зимин не
попал...
Что делать, не везет у нас в тройке
Евгениям. Я все-таки думаю, что все эти
мытарства оттого, что у обоих нелегкие
характеры. Оба они люди не очень-то
уживчивые. Не знаю, как кому, а по мне
главное — был бы у человека характер.
Пусть плохой, но характер. Хотя с
бесхарактерными легче. Представьте себе, чем
стала бы наша сборная, не будь ее трене-,
ры людьми с сильными характерами. Тоже
неуживчивыми и нелегкими, но твердыми и
своеобразными. Но, к сожалению,
терпимости обоим им хватало далеко не всегда...
В Гренобль Зимин все же поехал.
Участие его в Олимпийском турнире до
самого последнего момента было под большим
вопросом, да и, находясь уже во Франции,
он знал, что играет до первой неудачи: на
скамейке запасных сидит готовый в любую
минуту занять его место Вениамин
Александров. По себе знаю, насколько это
тяжело и неприятно — играть, чувствуя, что
тебя вот-вот заменят. Евгений нервничал,
ошибался и в конце концов поменялся
местами с Александровым. Так бы мы и
доиграли чемпионат в таком составе,
который не очень устраивал ни нас, ни,
по-моему, Александрова, но наш ветеран
получил в одном из матчей серьезную травму,
и тренерам волей-неволей пришлось
вернуть на поле Зимина.
Вот когда наш молодой партнер заиграл
по-настоящему. Ничто теперь ему не
мешало, никакие мысли о замене не тяготили
его. Теперь это был тот самый Зимин, к
которому мы привыкли в «Спартаке»:
азартный и вместе с тем расчетливый,
одновременно стремительный и
осмотрительный, жадный до шайбы, но знающий меру
и помнящий о партнерах.
Кажется, годы мытарств ушли в
прошлое окончательно и бесповоротно. Однако
не тут-то было. Пожить в сборной мало-
мальски спокойной жизнью Зимину так и
не удалось. Сезон Стокгольма он начал не
очень удачно. Диагноз тренеров сборной:
лень, нежелание тренироваться,
слабоволие. Мера лечения: отчисление из сборной.
Поверьте мне, в чем другом, а в безволии
и лени Зимина не обвинишь. Мы
убедились, возвратившись из Вены, какие горы
способен своротить этот парень на
тренировках, как упорно умеет идти к цели.
На этот раз нашим диагностам пришлось
признать свою ошибку публично. Поняли
они, что и лекарство выбрано не то.
Усталого и измотанного канадским турне в
составе второй сборной Зимина сразу же
после возвращения из-за океана пересадили
с самолета на самолет и отправили в
Стокгольм, на чемпионат мира.
Дальнейшее читателю известно.
История взлетов и падений
спартаковской тройки, вероятно, занимательна и
сама по себе. Но, взявшись за ее пересказ, я
отнюдь не собирался развлекать читателя.
Мне просто хотелось рассказать, насколько
сложный организм — хоккейная тройка.
(Продолжение следует.)
Шскусство
Дмитрий РАДЛОВ
Люблю
и не на в и ж у...
■
Шутить! и век шутить! как вас на это станет!
А. С. Грибоедов.
Несколько лет назад в Москве
состоялось Всероссийское творческое
совещание по вопросам эстрады. На
трибуну поднимались И. Набатов, Л.
Утесов, гремел голос инициатора встречи
старейшины советской эстрады Н. П.
Смирнова-Сокольского.
Это не были обычные выступления на
собраниях, скорее с трибуны звучали
блистательные фельетоны: хлесткие,
умные, прерываемые аплодисментами и
смехом всего зала.
Кроме пленарных заседаний,
работали секции всех жанров советской
эстрады. И заседания секций были отмечены
блеском, деловыми предложениями,
осуществление которых должно было
сделать советскую эстраду глубоко
партийной по содержанию и яркой по форме.
Но. несмотря на фейерверк идей и
мыслей, несмотря на остроумие
выступавших, совещание не дало ощутимых
реальных результатов. Не были привле-
От редакции. Известный советский артист
эстрады, художественный руководитель
Ленинградской областной филармонии
Дмитрий Сергеевич Радлов был не только
замечательным мастером эстрадного искусства,
но и талантливым публицистом и
писателем. Незадолго до своей преждевременной
смерти он передал нам публикуемую
статью и сатирическую повесть, также
посвященную борьбе за высокую идейность и
художественное мастерство советской
эстрады. Статья «Люблю и ненавижу...»
печатается с незначительными сокращениями.
С повестью мы ознакомим наших
читателей в будущем году.
чены крупные писатели, не была
создана студия эстрадного искусства,
забылась мысль о создании
методологического центра эстрады. До сих пор эстрада
не сумела стать подлинным
пропагандистом наших идеалов, нашей идеологии.
А может быть, попробовать
поговорить всерьез? А может быть, следовало
бы откаваться от реприз, каламбуров и
спокойно и внимательно попытаться
ответить на вопрос, заданный в свое
время А. М. Горьким: «С кем вы, «мастера
культуры»?»
Попробуем проанализировать
нынешнее состояние эстрадного искусства, как
говорил Шекспир, ничто не умаляя, не
множа злобно.
Прежде всего о том, искусство это или
нет?
Казалось бы, вопрос праздный.
Искусство. Искусство народное, массовое,
мобильное, имеющее историю — от
выступлений Моча лова с «Черной шалью»
А. С. Пушкина, Горбунова с его
рассказами и до великолепных образов
современной нам советской эстрады.
Можно вспомнить и Францию с ее
блестящими шансонье, с сыном
коммунара Монтегюсом, песенки которого, по
свидетельству Н. К. Крупской, в годы
эмиграции слушал В. И. Ленин.
Отметим, кстати, что эти песенки обладали
такой взрывной силой, что французским
военнослужащим было запрещено их
198
Дмитрий Радлов #
слушать. А революционный эстрадник
Эрнст Буш, создавший песню «Болотных
солдат» и исполнивший ее впервые,
будучи заключенным в гитлеровском
концлагере! А К. Шульженко, Л. Утесов,
И. Набатов, выступавшие на фронте?!
А... Впрочем, довольно перечислений.
Вопрос «искусство это или нет?» уже
давно сошел с повестки дня. Однако
зачастую мы слышим
полупренебрежительное, всепрощающее восклицание:
«Это же эстрада!.. Чего вы от нее в
конце концов хотите?» Задают этот
вопрос не признанные мастера эстрады, не
дирижеры симфонических оркестров и
не постановщики опер.
Этот вопрос задают рядовые артисты
эстрады, вернее, часть их, пораженная
политической куриной слепотой, та
часть, которая хочет удержаться на
подмостках, зная, что к настоящему
искусству эстрады она отношения не имеет.
Представители этого отряда
эстрадных артистов сознательно путают свою
немощь, близорукость, бездарность с
как бы «органическими недостатками
жанра».
Для ряда исполнителей нет вопроса:
«Куда идешь, за что бьешься?» Ответ
предельно ясен: «Иду за кулисы после
исполнения номера и бьюсь за
наибольшее количество хлопков в такт» (так
называемый «скандеж» или «екандебр»).
Отметим кстати, что среди худшего,
что есть на эстраде, бытует жаргон
третьеразрядного шантана и «малины»
30-х годов, расположенной где-нибудь в
конце Литовского проспекта. Но не
жаргоном же отстаивать свои «позиции».
А отстаивать их надо, иначе на советской
эстраде не удержишься. И вот, как
некие оборонительные рубежи, возникают
воистину волшебные фразы: «эстрадная
специфика», «все не так просто»,
«запрет — это не аргумент», «вы
переубедите и перевоспитайте меня» (обычно
последнюю фразу употребляет рыцарь,
который верой и правдой служил
пошлости со времен нэпа).
Эти аргументы объясняют и забвение
лучших образцов советской и русской
народной музыки и обилие на эстраде
«фрондирующей поэзии» (есть такой
термин, есть такое «жанровое
определение»!). Этим же объясняют зачастую и
обилие песен, исполняемых на
«иностранных языках» (каких именно
иностранных, из-за чудовищного
произношения определить невозможно).
Не следует думать, что пошлость и
мелкотемье робко обороняются. Нет, они
наступают активно, понимая, что в
общем-то дни пошлости на эстраде
сочтены и надо урвать побольше. Как
пойманный рецидивист пытается запутать
свидетелей и потерпевших, так и плохая
эстрада, о которой мы говорим, широко
пользуется дезинформацией, а также
ссылкой на «безвкусицу аудитории».
Эта позиция вдвойне вредна, так как,
с одной стороны, она действительно
оправдывает утл ость идейных позиций, а
с другой—имеет отдельные тактические
«успехи» в развращении вкуса зрителя
и, что особенно прискорбно, вкуса
советской молодежи.
Попытаемся проанализировать
основные жанры эстрады и пути, по которым
они (в своем большинстве) идут.
Отправимся с вами на обычный
эстрадный концерт. Во главе такого
концерта стоит, как правило,
«разговорник». Это чудовищное словообразование
почти узаконено. Забыты слова В.
Маяковского:
Слово —
полководец
человечьей
силы...
Сейчас в подавляющем большинстве
концертов слово несет «разговорник».
Но какое уж там полководец!
Этот конферансье-разговорник
открывает концерт восемью или
шестнадцатью стихотворными строчками о
красотах Ленинграда (Тулы, Алма-Аты,
Ярославля или Моршанска и т. д.). На этом
кончается «идеологическая нагрузка»
концерта, и конферансье пускается во
все тяжкие. Он острит, играет
интермедии и поет куплеты. Куплеты, как
правило, на мотив любимых или, во всяком
случае, популярных мелодий. Причем
текст, как правило, издевается над
мелодией, низводит ее к пустяку, ерунде—
безалаберно, бездумно, кощунственно
(«Спасибо, аист, спасибо, птица, что
помогла опохмелиться»).
Итак, концерт пошел. Концерт в
верных руках «разговорника». Последуем и
мы с вами по кругам обычного
эстрадного концерта, но со своими
отступлениями и комментариями...
Самое прискорбное заключается в
том, что эстрада катастрофически от-
Ф Люблю и ненавижу...
199
стает от всего движения нашего
общества.
Ведь если взять, скажем, понятие
«разговорник», то двадцать — тридцать
лет тому назад можно было создать
целый концерт из этого жанра.
Представьте себе.
Конферансье — Константин Гибшман.
Он зло издевался над человеком,
которому нечего сказать зрителю.
Зритель смеялся не над репризой, а
над самим образом актера в
мешковатом, старомодном фраке, над тем, что
человеку во фраке нечего было сказать
строителям индустрии, героям первых
пятилеток.
Гибшман объявлял антракт словами:
«Пятнадцать минут перерыва, а потом...
опять». И публика принимала и, что еще
важнее, понимала эту остроту; в ней
был горький упрек эстраде, которая
отстала, ну, скажем, от строительства
Магнитки. Умный конферансье Гибшман
не пытался скрыть ее недостатки и
безнадежным «а потом... опять» бил
тревогу. Всем своим поведением,
неуклюжестью, нелепостью он как бы говорил:
«Мой век кончен с «Летучей мышью», с
«Привалом комедиантов». Где же новое,
нужное, неповторимое? Пока нет того
репертуара, который достоин нашего
сегодня, буду молчать».
И Гибшман был самым молчаливым
и выразительным конферансье.
Продолжая воображаемый концерт
«разговорников», мы могли бы вслед за
Гибшманом поставить в программу
Павла Курзнера.
Курзнер нашел свою тему:
героическую, острую и эстрадную в лучшем
понимании этого слова. Ему писал
рассказы-монологи Матвей Тевелев. На сцену
выходил моряк, который как бы вносил
с собой героический соленый ветер
Балтики.
А вслед за Курзнером на сцене
появились Неклюдова и Муравский. В
диалоге рабочего человека и «нэпмановской
дамочки» высмеивался мир мещан, мир
«осколков...».
Этот список можно продолжить, но
важно и симптоматично, что в силу
своих способностей и талантов, а
главное, в основе своей эстрада тех лет
была политически направленной,
наступательной, боевитой. К сожалению, мы
сейчас не можем похвалиться той
политической непримиримостью, которой
отличался лучший советский эстрадник
Николай Павлович Смирнов-Сокольский.
Сатирик. Злой, злободневный, не очень
стесняющийся в выражениях? О да,
несомненно.
Смирнов-Сокольский крыл чинуш,
бюрократов, подхалимов. Крыл так, как
другой не рискнул бы. Кто же давал ему
это право? Не кто, а что: его искренняя,
страстная, партийная позиция. Он
критиковал частности, не сомневаясь и не
разрешая никому сомневаться в основе.
Я позволю себе привести только один
эпизод.
...1941 год. Фашисты под Москвой.
Смирнов-Сокольский, собрав группу
артистов, выступает в цирке. Мороз. Пар
от дыхания. На манеже Николай
Павлович. На весь цирк громыхает его бас—
без усилений электробытовыми
приборами. Сокольский говорит о войне, о
новой, ощетинившейся надолбами Москве.
Его слушают, затая дыхание. Но где же
реприза? Где же «кавалерия острот»?
Может быть, он изменил жанру и
просто читает героический фельетон? Нет.
В конце фельетона идет единственная
реприза, вероятно, отобранная Николаем
Павловичем из десятков вариантов.
Передаю ее по памяти: «И когда я
иду по улицам военной Москвы, вижу
баррикады и артиллерию, когда я вижу
москвичей, которые на
тридцатиградусном морозе едят эскимо, я верю: такой
народ победить нельзя». Грохот
аплодисментов и взрыв смеха. Смеха-союзника,
смеха-борца, смеха, когда немцы, судя
по их сводкам, «уже разглядывали
Москву в бинокль».
А теперь снова вернемся к нашим
дням.
После полета в космос, после побед
советского человека на звездных путях
мне предложили фельетон, который
повествовал о любви, о
ребятах-романтиках, кочующих в «загадочном
флибустьерском море». Они провозглашали:
«Поменьше в парках нам призывов,
побольше нам живых цветов».
Почему надо было противопоставлять
призывы живым цветам? А просто так.
Для «фрондерского перчика». Для
создания автору репутации «смелого» и
«левого» автора.
«Левого» от кого? От комбайнера, от
ученого, от космонавта?
Нет, все это не репертуар для
артиста эстрады. «Разговорники», считаю-
200
Дмитрий Радлов #
щие, что после острот об управдоме и
кетовой икре они должны подпустить
нечто эдакое «остренькое», подчас
питают свое усохшее воображение
политическими двусмысленностями.
Настала пора поговорить и о
кругозоре этих любителей «остренького».
Недавно я беседовал с эстрадником
Р., человеком не без способностей. Когда
мы коснулись вопроса о необходимости
создать фельетон на международную
тему, я спросил: «Что вы думаете насчет
фон Таддена?» Артист мне ответил: «Я
не знаю этого автора. Мне в основном
писали Виккерс и Каневский».
Впрочем, не только
конферансье-разговорник царит в нашем рядовом
концерте. Если он принц, то песня по
праву — принцесса.
Итак, о песне. И о музыке.
В последние годы резко возрос
интерес к поэзии и песне. Причем процесс
этот распространяется и вширь и вглубь.
Если поначалу вечера поэзии
привлекали аудиторию только на узкий круг
«модаых поэтов» и слушатель шел
зачастую не на стихи, а на возможность
эдакого спокойного скандальчика, то теперь
мы видим заполненные залы на вечерах
поэтов разных поколений, порой далеких
от шум.ного успеха, но подлинных,
идейны х художни ков.
Тот же процесс еще более ярко
проявляется и в песне. Грохот джаза,
интимный, а по сути дела, ничего не значащий
шепоток в микрофон уже не вызывают
прежнего интереса.
Конечно, я не против джаза вообще.
Есть слушатели, которые любят, скажем,
скрипку, а есть слушатели, которые
любят джаз. То же положение было и
прежде.
Но если люди теряют интерес к
какой-то форме, то следует ли проявлять
упорство, навязывая им то, чего, они не
хотят?
Между тем сейчас очень многие
посредственные джазы и администраторы,
организующие их концерты, рядятся в
удобную рекламную тогу ревнителей
«гонимого искусства», чтобы
гальванизировать снижающийся интерес к джазу.
Наиболее шумно это искусственное
возбуждение умов выразилось в
журнале «Юность» в статье Василия
Аксенова, опубликованной в № 8 за 1967 год.
Уже само название статьи — «Простак
в мире джаза, или баллада о тридцати
бегемотах» — полно кокетства
увядающей женщины, которая «работает» под
«бэби». Чтобы было сразу понятно,
разъясним: «простак» — это автор,
который в припадке откровенности, по его
же словам, пытается «втереться в
доверие, прикинуться знатоком»:
«бегемоты» — это контрабасы, а «баллада» и
все прочее — это украшения, лишенные
смысла, но зато намекающие на высоту
интеллектуального уровня автора.
Итак, «баллада» об одном фестивале.
В Таллине собрались джаз-оркестры и
любители этого жанра. Оркестры играли,
слушатели слушали. Все как на любом
фестивале.
Однако автор статьи настойчиво
подчеркивает необычность этого фестиваля.
В каждой строчке он многозначительно
намекает не только на прелесть, но и на
«запретность» этого слета «джазмэнов».
В. Аксенов усиленно внедряет в русский
язык «чуваков» и «чувих», которые
«законно» презирают «предков». Это в
прозе. В критической статье он заменил
слово «музыкант» более шикарным
наименованием «джазмэн».
Вся «баллада» пересыпана такими
перлами: «Ах, знаете ли вы, как
прекрасен диксиленд...» Или: «Айскрим, вы не
забыли, как вкусно мороженое, как
освежает стакан холодного пива, как
очаровательны женщины юга? Жизнь так
проста, пестра и прекрасна, и чего вы еще
от нее хотите?»
. Мы хотим очень многого, тов.
Аксенов! В частности, мы хотим, чтобы
парни в Америке, вечером играя в
диксиленде, утром не узнавали бы об убийстве
Мартина Лютера Кинга, а днем не
подвергались бы избиению полицейскими
дубинками. Очень грустно, что кое-кто
забывает о том, что жизнь не так
проста и прекрасна, что молодому
человеку — будь то за рубежом или у нас,—
кроме мороженого, стакана пива и
очаровательных женщин, требуется и кое-
что другое.
Впрочем, не следует дальше
цитировать «балладу», так как, желая
продемонстрировать выверты идеологические,
эстетические, стилистические да и
просто синтаксические, я буду вынужден
привести статью целиком и отнять у
журнала «Юность» часть ее
сомнительных лавров.
Современные «битловые» джазообра-
зования (как-то не поворачивается язык
• Люблю и ненавижу...
201
назвать их оркестрами) бьют по нервам,
оглушают ритмом, являются
своеобразным музыкальным наркотиком. Их
существование оправдано на Западе, где
люди не уверены в своем завтрашнем
дне, но появление их у нас можно
объяснить только рабским подражанием,
психологией зощенковского мещанина,
который пудрится порошком от блох и,
благоухая, блаженствует. Этот мещанин
проявляет меньше вкуса, чем акула, так
как акула не воспринимает ни
искусство западного мира, ни выступления
Иванова, ни появившегося недавно у нас
ансамбля «Алые паруса», с которым
пришлось вести длительную борьбу, чтобы
убедить исполнителей, что пение
является профессией, требующей, как минимум,
слуха и голоса.
Вряд ли акула смогла бы выдержать и
многочисленные передачи по
телевидению, где с очаровательной
непосредственностью говорится: «... а вот Люся X.,
она сейчас нам споет песню молодого
композитора «Дождь идет»...» При
желании название песни может быть
изменено на «Дождь прошел», «Дождь не
пошел», «Дождя вообще никогда не будет»,
так как, кроме придыханий и широко
раскрытых глаз, Люсе X. абсолютно
нечего демонстрировать.
Читатель вправе спросить: при чем
здесь акула? Цитируем «Правду» от
8 января этого года.
«Подводные «меломаны»
Канберра, 7. (Соб. корр. «Правды»).
Более 370 случаев нападения акул на
людей зарегистрировано в
австралийских водах за последние годы.
Служба борьбы с акулами на
побережье Австралии ведет постоянный
надзор за хищниками моря, стремясь
держать их на расстоянии от многолюдных
пляжей. Однако это удается далеко не
всегда. Много лет австралийские ученые
ищут универсальные средства
действенной борьбы с акульей опасностью. О
результатах своих экспериментов в этой
области объявила недавно группа
ученых, которая под руководством
известного специалиста по акулам и опытного
спортсмена Тео Брауна ставила опыты в
юго-восточной части Тихого океана.
Исследователи заметили, в частности,
любопытную реакцию акул на музыку.
Плавные композиции (особенно
показательной в этом отношении оказалась
«Колыбельная» Брамса) привлекают акул к
источнику звука, которым является
опущенное в воду специальное устройство.
При этом рыбы как будто впадают в
транс, вращают глазами,
переворачиваются с боку на бок, плавно водят
хвостом. Некоторые музыкальные
комбинации, рассказывает Тео Браун, доводят
хищников до исступления, когда они по-
видимому, теряют контроль над собой.
Совершенно иначе реагируют акулы
на современную эстрадную музыку.
Стоит только «запустить под воду» битлов,
акулы, по свидетельству Брауна,
шарахаются в сторону и немедленно
исчезают из поля зрения. Примерно такое же
действие на них производит... струя
сжатого воздуха, выпускаемая из
специального приспособления».
Акулы не выдерживают, «джазмэ-
ны» в восторге...
Но продолжим наш воображаемый
концерт. Кстати, он уже подходит к
концу. Еще выступит кудесник с тремя
шариками и двумя палочками—номер
чрезвычайно актуальный в эпоху покорения
космоса! Однако, когда появляется Лев
Бендиткис и с претензией на
наукообразность сообщает публике «телепатические
новости» конца прошлого столетия, это
не только смешно, но и вредно.
Еще появится танцевальная пара с
уругвайско-парагвайским репертуаром и
местом постоянной прописки в городе
Рязани... Это ведь подумать, какое еще
царит убожество в составлении рядового
эстрадного концерта! Россия — родина
классического танца, покорившего мир,
родина «Березки», родина
Краснознаменного ансамбля песни и пляски — кормит
своих соотечественников доморощенной
экзотикой, которую иногда стыдливо
называют «ритмическими танцами».
...Мне часто задают вопрос: люблю ли
я эстраду?
Люблю и ненавижу.
Люблю наступательную, народную,
партийную эстраду.
Ненавижу мещанскую,
расслабляющую, предающую нас.
Могут сказать: «Это вы. А публика?»
На это можно ответить словами
В. Маяковского:
Некоторые говорят:
«Спектакль прекрасен,
но он
непонятен
широкой массе».
Барскую заносчивость
скорей донашивай,—
масса
разбирается
не хуже вашего.
Следовательно, дорогие мои коллеги
по эстраде, не будем впутывать зрителя
в наши, скажем мягко, ошибки.
Зритель давно разобрался. Зрителю
отвратительна мещанская эстрада.
202
Дмитрий Радлов #
И последнее. Если в Советском Союзе сте с «Хризантемами» и анекдотами, вы-
запрещена продажа опиума, кокаина и держанными со времен нэпа, воздух ста-
марихуаны, то не пора ли запретить низ- нет чище?
копробные эстрадные наркотики? Правда, в этом есть момент насилия,
А может быть, если вымести с под- но ведь, убирая комнату, мы совершаем
мостков грохочущие «диксиленды» вме- насилие над пылью и грязью...
О Дмитрии Радлове
Это имя уже не встретишь на афишах, хотя еще недавно можно было прочитать:
«Дмитрий Радлов. Театр одного актера».
Умер актер, публицист, страстный пропагандист советской поэзии...
Я знал его давно, а дружить начали мы с того дня, когда вскоре после войны он
сдавал в какой-то инстанции свою программу «Маяковский-сатирик».
Маяковский был его идеалом, носителем всех близких и дорогих ему доблестей,
воплощением его эстетики.
Программа принималась туго: люди, которые спустя несколько лет, в приступе
какой-то хмельной отваги, вдруг потребовали от искусства чего-нибудь «остренького»,
«сложного», тогда только трусливо разводили руками. Ведь сатира!.. Они делали все,
чтобы программа не вышла в свет. Но, конечно, победил Маяковский...
Актер продолжал свое дело. Он ездил по стране, побывал в Целинном крае, на
сибирских новостройках, он выступал перед самой различной аудиторией, прививая
ей высокую поэзию и учась у нее чувству современности.
Он ставил и разыгрывал сатирические пьесы Маяковского, он готовил постановки
пьес Сельвинского, снова и снова возвращался к Шекспиру... Та культура, которую он
приобрел еще в детстве в семье известного советского режиссера Сергея Радлова и
поэтессы-переводчицы Анны Радловой, позволяла ему с пренебрежением, с
издевательской иронией относиться к тем, как он говорил, «полуинтеллигентам», которые,
нахватавшись верхушек западной культуры, готовы были всерьез выступить как
провозвестники «новой» культуры. Должен сказать, что в равной степени ему претили
и сомнительные потуги воссоздать некий псевдорусский стиль...
Он был за истинный поиск, за революционное искусство, за традиции
Маяковского.
Конечно, подражая своему идеалу, он часто был подчеркнуто резок и
прямолинеен. И вместе с тем он оставался прекрасным товарищем, добрым и отзывчивым...
Бывали случаи, когда, «насмерть» поругавшись с кем-нибудь на собрании, он спустя
какое-то время узнавал, что у его «врага» болеет кто-то из близких. И вот тут-то
начинались радловские метания по городу в поисках врачей, лекарств, больницы...
По натуре он был полемист. И мь\ спорили с ним по многим вопросам, как,
вероятно, спорили бы и по отдельным положениям публикуемой здесь статьи «Люблю и
ненавижу...». Но в главном спора не было — а главным была борьба за народное
искусство, борьба против всего наносного, чуждого, взятого напрокат, с чужого плеча.
Он читал с эстрады множество поэтических произведений — от Пушкина и
Шекспира до Прокофьева, Сельвинского, Светлова, Шефнера, Дудина и многих других...
Он пытался заново открыть и классиков и современников. В его сценическом
воплощении Маяковский решался просто: незначительные детали костюма помогали
перевоплощению в разных персонажей, а простой стул был всем чем угодно, даже
«машиной времени».
Дм. Радлов с удовольствием вспоминал о тех временах, когда он выступал на
сцене театра, пройдя множество ролей — от поручика Лукаша до Арбенина, от Незнамова
до профессора Мамлока, от Платона Кречета до Берсенева...
Мы видели его по телевизору, он снимался и в кино. Но главным была эстрада —
театр одного актера. Недаром имя Владимира Яхонтова было в списке тех великих,
которым он поклонялся.
И не без влияния Маяковского и Яхонтова он работал над программой о
Ленине — его последней, так и не завершенной.
В статьях, в неоконченном романе (об Отечественной войне — Дм. Радлов прошел
ее солдатом с многими наградами), в памфлетах он был певцом отваги, мужества,
душевного благородства, непримиримым к пошлости, к мещанству, ко всякого рода
«ломанию» — любимое его обличительное словцо.
Мне грустно обрывать разговор об этом человеке — он был верным солдатом и
настоящим коммунистом.
О нем можно рассказывать многое. Скажу главное: он был подлинным
пропагандистом советской литературы, одним из тех, кто шел за «агитатором, горланом,
главарем».
Дм. МОЛДАВСКИЙ
Литературная критика
О. РЕЗНИК
Палитра поэта
К 70-летию ИЛЬИ СЕЛЬВИНСКОГО ■
Не верьте моим фотографиям:
Верьте моим стихам!
И. Сельвиыский
Ярчайший, неповторимый след
оставил Илья Сельвинский в истории
советской поэзии. И хотя жизненный
путь поэта завершен, о нем самом, об
его лирике, эпосе, драматургии
немыслимо говорить в прошедшем времени.
Даже то, что написано почти полвека назад,
сохраняет необычайную живость и
взволнованность, а лучшие стихи
последнего времени как бы продолжают
начатый еще в 30-е годы сердечно-открытый,
доверительный разговор поэта со своим
читателем о нашей эпохе и ее
лирическом современнике, о бурных и сложных
конфликтах современности, об
историческом пути трудового народа.
Все было крупно, порою ошеломляюще
в этом человеке: крутые и резкие
повороты в биографии и творческой судьбе,
размах эпических устремлений и
лирических исповедей, мощный полет
фантазии, зигзаги поэтических исканий и
бойцовский темперамент правдоискателя,
который привел его в ряды
Коммунистической партии и открыл горизонты
для новых эпических и драматургических
замыслов.
На них, к сожалению, в конце концов
не хватило его жизни, хотя в то же
время созданного Сельвинским (даже
только опубликованного) предостаточно для
нескольких полномерных поэтических
биографий.
На небосводе поэзии нашей
Сельвинский появился в начале 20-х годов, как
новая звезда, сразу замеченная
любителями поэтического слова, особенно
студенческой молодежью, а еще до этого —
«горланом и главарем» революционной
поэзии В. Маяковским.
В его присутствии происходил летом
192Г года первый «экзамен» студента
Сельвинского.
Коренастый крепыш с золотым
загаром и римской челкой читал с эстрады
перед президиумом Союза поэтов
строки, написанные гекзаметром, и это
выглядело столь же экзотично, как и
одежда студента—рубаха с короткими
рукавами, заправленная в брюки, сшитые «из
того паруса № 7, который идет на
кливера рыбацких баркасов...»
Перед более широкой аудиторией
Сельвинский появился вскоре со
стихами совершенно иных ритмов, размеров,
интонаций и настроений. В переливах
неожиданных красок, говоров, образов,
самобытных рифм билось живое сердце
юного интеллигента с его порывами,
смятением души, страстным поиском
собственной орбиты в жизни и поэзии.
Наиболее характерны в этом смысле
стихотворения «Наша биография»,
«Переходники», «Великий обыватель с улицы
Карла Маркса», «НЭП»... Но
большинство стихов, принесших начинающему
поэту шумную популярность («Вор»,
«Цыганская», «Мотька-Малхомовес»,
«Анекдоты о караимском философе Баббакай-
Суддуке» и др.), носили характер
экспериментально-лабораторных проб, неких
упражнений поэтической мускулатуры и
по сути своей расходились с
жизненными испытаниями юноши и главным на-
204
О. Резник ф
правлением его литературных
устремлений и пристрастий. Позднее эти стихи
составят значительную часть первого,
тонюсенького сборника поэта «Рекорды»
(1926 год) и в последующие сборники
войдут лишь под рубриками
«Лаборатория» или «Эстрада».
У студента Сельвинского, автора
экзотической коллекции говоров, наречий,
диалектов, жаргонов, столь эффектно
звучавших с эстрады, была за плечами
пестрая трудовая и боевая биография.
Детство и юность поэта связаны с
Крымом. Родился он в Симферополе
(24 октября 1899 года), учился в
Евпатории, где окончил в 1919 году
гимназию. Здесь, после смерти отца и
разорения семьи, прошел он суровую школу
нужды, перепробовав множество
профессий: плавал юнгой на рыбацких
суденышках, был газетным репортером,
натурщиком, фабричным рабочим, актером
бродячего мюзик-холла и даже
некоторое время борцом на цирковой арене.
Первое стихотворение Сельвинского
было напечатано 13 января 1915 года в
газете «Евпаторийские новости».
Называлось оно «Бой». Стихи еще совсем
бескрылые, беспомощные... Спустя
сорок с лишним лет в письме ко мне
Сельвинский писал:
«Как видишь, входил я в литературу
с «боем». Но само стихотворение было
настолько детским, что я постарался
вычеркнуть его из памяти. Изображало оно
схватку бога войны Марса с богом мира
Янусом, Марс победил Януса — «на
бога мира наступил ногой», как сказано в
стихотворении».
Уже получив широкую известность как
автор эпопеи «Улялаевщина», повести
«Записки поэта», трагедии «Коман-
дарм-2». романа в стихах «Пушторг»,
Сельвинский решил обнародовать
ранние поэтические опыты (сборник так и
назывался — «Ранний Сельвинский»),
где нетрудно обнаружить истоки
дальнейшей лирики поэта.
Революционная биография
Сельвинского намного опередила его
поэтическую зрелость. Сразу же после Октября
он активно помогал в Евпатории
большевикам-подпольщикам, а затем вступил
добровольцем в красногвардейский
отряд и в 1918 году сражался с
немецкими оккупантами Крыма, был ранен и
тяжело контужен... Весною 1919 года по
доносу провокатора Сельвинский был
арестован белогвардейской контрразвед-_
кой и три недели просидел в
Севастопольской тюрьме...
Однако на первых порах поэтические
устремления Сельвинского почти не
соприкасались с его трудовым, житейским
и революционным опытом, даже шли
порою наперекор ему. Пожалуй, главная
причина была в том, что Сельвинский в
поисках литературной среды, которая
могла бы помочь формированию его
вкусов и воззрений, попал в 1919 — 1920 гг.
в кружок литераторов и художников с
утонченно эстетскими, декадентскими
воззрениями. Много лет спустя поэт
напишет о них: «Как я сейчас понимаю,
они были ушиблены «неокантианством».
Но в ту пору молодой студент,
принадлежавший к людям совершенно иной
социальной породы, не мог еще ничего
противопоставить навязчивому дурману
декадентской эстетики, хотя уже всерьез
начинал задумываться над смыслом
искусства, оторванного от жизни, от
народа. С этими колебаниями и
нерешенными противоречиями молодой поэт в
Москве попал в водоворот модных
веяний, групповых стычек и завихрений
всевозможных поэтических школок и
направлений (картину этого
круговращения всевозможных «измов» он по-своему
изобразил в «Записках поэта»).
Захваченный ураганом поэтической
моды той поры, Сельвинский отдал дань
натурализму — специально «увечил»
свои, по тогдашним представлениям,
слишком реалистично написанные стихи
и прятал от посторонних глаз юношеские
«голубые» чистосердечные строки,
которые более сорока лет таились в ящиках
письменного стола, прежде чем открыли
рубрику «О любви» в сборнике
«Лирика» (1964 г.).
Провозглашая еще в начале 20-х
годов свой собственный «изм», создав
группу конструктивистов и издав
сборник «Мена всех», Сельвинский и его
литературные единомышленники —
молодые одаренные представители трудовой
интеллигенции — стремились
выработать идейно-этическую и эстетическую
основу служения социализму.
«Конструктивизм — это пафос цели.
Этим пафосом в те годы была охвачена
партия и рабочий класс», — записал
Сельвинский в дневнике 6 апреля 1964 года.
И это вполне отражало чувства и
настроения участников давно исчезнувшей
• Палитра поэта
205
труппы. Выдвинутые ими эстетические
принципы и приемы должны были
служить художественно емкому и
полнокровному эпическому и лирическому
постижению социалистической нови. Другое
дело, что недостаточная ясность и
односторонность понимания социально-
классовых противоречий и борьбы тех
лет суживали, умаляли глубину
восприятия и отражения перспектив роста
страны, развития пролетарской культурной
революции. Да и в самой поэтике
конструктивистов наряду с ее новаторскими
открытиями — тактовой просодией,
локальным принципом — существовали
соприкасавшиеся с формализмом догмы и
каноны, которые сковывали полет
поэтической фантазии... Поэтому не случайно
творчество наиболее талантливых
поэтов-конструктивистов — Ильи Сельвин-
ского, Эдуарда Багрицкого, Владимира
Луговского, Веры Инбер — с самого
начала перешагивало заграждения их
программных заявлений и деклараций, все
более подчиняясь зову и воздействию
самой действительности.
Парадоксально, что для Сельвинско-
го — председателя ЛЦК (Литературного
центра конструктивистов), который
упорнее и настойчивее других, до
самороспуска группы, отстаивал ее догмы,
решительное вторжение в жизнь с ее
бурными классовыми схватками и острейшими
социально-психологическими
конфликтами началось как бы параллельно и
одновременно с формированием группы —
в годы работы над «Улялаевщиной». Эта
первая в советской поэзии эпопея о
борьбе анархистской стихийности с классово-
пролетарской сознательностью и
организованностью в годы гражданской войны
несет в себе элементы полярно
противоречивых идейно-художественных
обобщений и формальных приемов, над
которыми, однако, берут верх живые,
непререкаемо достоверные в своем разноречии
и разноцветий сочные краски и картины,
как бы непосредственно запечатленные
талантливым и самобытным поэтическим
зрением, как слепок с натуры.
Если говорить о палитре Сельвипско-
го, то в «Улялаевщине» она раскрылась
с необычайной радужностью и, пройдя
через экспериментальные опыты и
пробы разнообразных ритмических ходов и
интонаций, метафорических приемов и
инверсий, в 20-е и 30-е годы вполне
определилась.
Под палитрой поэта многие и по сей
день понимают лишь «набор»
разнообразнейших красок, пусть самых сочных,
контрастных, образующих
ослепительные соцветия или мрачные, сероватые и
черно-сизые оттенки. Но все же в чем
суть истинной поэзии? Сельвинский дает
такой ответ в своем дневнике (запись от
28 марта 1964 года): «Что такое поэзия?
Если вы дадите ей какое-либо
определение, я тут же напишу стихи, которые
совершенно не будут соответствовать
вашей формуле. Вот что такое поэзия!»
Подобная формулировка — лишь
остроумный способ уйти от ответа. И все же
в чем «секрет» поэзии? Или нет в ней
никаких секретов, кроме таланта поэта?
Ошеломляющая вязь метафор, феерия
удивительных рифм, симфония ритмов,
связанных индивидуальной интонацией,
собственным тембром,— все это очень
важные, но лишь внешние,
подсобно-технические приемы, образующие
словесную оболочку поэтической речи. А душа
стиха гнездится в сложнейшей «нервно-
сосудистой», психической и
эмоциональной связи поэта с народом и
человечеством, с эпохой и историей, с социально-
философскими бурями века, его
свершениями и катаклизмами, взлетами и
трагедиями. И оттого палитра поэта
по-настоящему оживает лишь как
выражение общезначимых идей, тем,
замыслов, как личный душевный отклик на
все треволнения человеческие...
В палитре Сельвинского отчетливо
видится напластование нескольких
главных тем его творчества. Они то
чередуются, то развиваются во
взаимосцеплении и взаимопроникновении, меняя
жанровую форму... Первая из таких
основополагающих тем поэзии Сельвинского —
интеллигенция и революция. Это
раздумья о тех особых путях, которыми шла
трудовая демократическая
интеллигенция к восприятию высоких идей
пролетарской революции, о внутренних
сложностях и противоречиях этих дорог, о
страстных поисках «переходниками»
своего места в строительстве социализма.
Тема эта, лирически начатая стихами
20-х годов («Наша биография»
«Переходники», «НЭП»), была своеобразно
продолжена и развита в более
контрастных и противоречивых опосредствова-
ниях в эпопее «Улялаевщина», в
трагедии «Командарм-2», в романе «Пуш-
торг».
206
О. Резник €
Важное звено все той же темы, свя-
занное с развитием социалистической
культуры, искусства, особенно поэзии,—
идейно-философская и
духовно-психологическая перестройка «переходников» в
процессе приобщения к социализму.
В лирическом регистре эта тема
возникает в «Тихоокеанских стихах»,
«Декларации прав поэта» и в некоторых
лирических исповедях — обращениях к
читателю... В эпосе она развита в «Челюс-
киниане» и «Арктике».
Однако поэзию Сельвинского не
сведешь только к названным темам. Ее, как
росчерки молний, опоясывают
меридианы лирического самораскрытия поэта.
Это стихи, баллады, сонеты и
микропоэмы о Любви, о Родине, о Поэзии.
В 20—30-е годы поэзия Сельвинского
была атакована догматической критикой
как сугубо индивидуалистическая,
лишенная оптимизма, в чем-то грешащая
чертами «ницшеанства». Поводом для
таких упреков были аллегорические
строки, образы-мифы, не воспринятые и
не понятые критиками из-за слабости
или отсутствия поэтического слуха.
Излюбленной мишенью для
критического обстрела был образ тигра. Один
известный литератор в те годы писал,
обращаясь к заключительным строкам
стихотворения Сельвинского «Читатель
стиха»: «Тигр — слишком хищный
эпитет для советского поэта...»,— тем
самым как бы отождествляя автора —
лирического героя с тигром. И в то же
время этот ярый поклонник поэзии
Маяковского, видимо, позабыл, что
великолепные, знаменитые «Стихи о советском
паспорте» начинаются строками: «Я
волком бы выгрыз бюрократизм...».
Подобные курьезы можно было бы не
вспоминать, если б отзвуки давних вздорных
упреков в эгоцентризме не продолжали
долгие годы «клеймить» лирику поэта и
не донеслись бы кое-где до наших дней.
Не это ли побудило Сельвинского
заявить в письме к автору настоящей
статьи (23.VII. 1957 г.): «...Основное,
конечно, в том, что тигр у меня метафора,
помогавшая мне сохранить волю к
победе. Именно метафора, а не
мировоззрение ницшеанского толка».
С начала 30-х годов поэт все
решительнее отказывается от не оправдавших
себя канонов и догм конструктивизма, и
как раз в это время в палитре его поэзии
начинают все отчетливей и громче
проступать романтические краски и звуча- ,
ния. Это не надмирная романтика
отрешенного от жизни чистого искусства, а
реальная, земная, насыщенная
страстями человеческого бытия, которой близки
и понятны тревоги мира и повседневные
борения, вспышки боли и гнева и даже
отзвуки мелких неурядиц и обид. Но,
как бы порою ни уходила лирика
Сельвинского в житейское, наболевшее, она
всегда и во всем — против тусклости,
приземленное™ существования,
холодности души и ума, лишенных
революционных устремлений...
30-е годы знаменуют выход поэта на
пути социалистического реализма и
народности, скачок к более глубинному
ощущению и пониманию природы
социалистического гуманизма. Значительную
роль в переходе на новую ступень
идейно-эстетического мировосприятия
сыграла общая атмосфера созидательного
пафоса первых пятилеток и
непосредственное приобщение поэта к ней. Работа
сварщиком на московском
Электрозаводе позволила ему глубже почувствовать
душу народа-труженика. Длительные
поездки по Дальнему Востоку и Камчатке,
путешествие по Дальнему Северу вошли
в его поэтическое сердце ярчайшими
приметами пробуждения малых
народностей дальних окраин, еще недавно
забитых, бесправных, придавленных
предрассудками и оковами родового строя.
Их рывок к социализму станет основой
пьесы «Умка — Белый Медведь», пролог
к которой звучит как лирический гимн
социальному обновлению, превосходству
идейно-нравственных основ социализма
над хищной хваткой империализма.
В прологе зримо предстают лицом к
лицу два мира — Чукотка и Аляска, их
разделяет не только пролив, но и целая
эпоха. Глубоко символичен образ чукчи,
ждущего от четырех ветров света,
облегчения и обновления жизни. Но долгие
годы с севера и юга, с запада и востока
море приносило только корабли жадных
колонизаторов...
Так ждал он зря. Но снова ждал!
Душа вся извелась...
Но только не знал он, что ветер такой
зовется — Советская власть.
Кстати сказать, вступление это — как
«прелюд» к целой серии прологов.
В дальнейших пьесах поэта каждый
пролог станет как бы увертюрой,
раскрывающей душу замысла, А вместе с
песнями, которые есть почти в каждой из
# Палитре поэта
207
пьес, прологи образуют атмосферу
особенного лиризма, присущего данной
эпической или драматической коллизии.
30-е годы были едва ли не самыми
творчески насыщенными в жизни поэта.
К наблюдениям, вынесенным из поездок
по родной стране, прибавились
впечатления от встреч с буржуазным миром. Они
начались с Японии, а позднее поэт
побывал во Франции, Англии, Германии,
Польше. Но стихи о загранице
предстали перед читателем не сразу, а когда
появились, не были особо замечены,
хотя в них поэт выступает во всеоружии
идейно-эмоциональной зрелости,
позволяющей ему по-своему увидеть, оттенить
язвы и противоречия буржуазного мира,
которые, однако, не заслоняют от взора
советского патриота-интернационалиста
достоинств и духовной красоты других
народов, революционной общности
тружеников всего мира.
О О О
В творческой биографии Сельвинского,
тесно связанной с перипетиями личной
судьбы, есть немало особо памятных
вех, и одна из них — участие в походе
ледокола «Челюскин» в качестве
корреспондента «Правды». На борту
ледокола в редкие минуты, свободные от
авралов, поэт набрасывал основные
эпизоды «Умки» и одновременно размышлял
о приметах растущего и крепнущего в
людях нового душевного склада,
рождаемого социализмом. На корабле, где люди
были так тесно «притерты» друг к другу,
их внутренний мир раскрывался с особой
отчетливостью. Так родился замысел
эпопеи о духовно-нравственном
движении к социализму народа в целом и
каждого человека в отдельности. Замысел
этот, раскрытый в эпопее «Челюскиниа-
на» (1934—1936 гг.), а затем
получивший новое философски расширенное
«воспроизводство» в романе «Арктика»
(1934—1956 гг.), стал уже в первом
своем варианте предмостьем
длительного и настойчивого труда над
драматургической и поэтической разработкой
исторической темы...
До войны Сельвинский успел
написать лишь две исторические трагедии в
стихах: «Рыцарь Иоанн» (1937 г.) — о
Болотникове и «Орла на плече носящий»
(1940 г.) — о легендарном вожаке
народного восстания в Азербайджане
девятого века — Бабеке. Обе пьесы
знаменуют новый значительный успех идейно-
художественного мастерства автора.
Переход от злободневных проблем
современности к материалу истории,
естественно, вызвал у меня, писавшего
первую обширную монографию о Сельвин-
ском, немало раздумий. Очень
любопытен ответ поэта на некоторые вопросы
в письме ко мне от 28 апреля 1961 года:
«Как возник у меня переход к
исторической драматургии? Очень
естественно. Я с юности стремился показать в
своем творчестве идеального человека.
Идеальным я считал и считаю отнюдь
не ангела, лишенного недостатков, а
человека, все существо которого
посвящено великой идее. Вначале я полагал,
что во всем остальном он может быть
кем угодно. Так возник, например, Чуб,
который во имя победы над белыми под
Белоярском решился было истребить
всех сыпнотифозных своего же лагеря.
Но уже тогда я почувствовал, хотя и не
мог еще дать себе в этом ясный отчет,
что одной преданности идее для
идеального человека недостаточно: нужен
гуманизм. По-видимому, это и заставило
меня создать образ Оконного, который
по-своему также беззаветно предан
идее, но у которого гуманизм
превалирует над идеей революционной
целеустремленности... Анатолий Васильевич
(Луначарский.— О. Р.) назвал
«Командарм» великолепным с точки зрения
поэзии, но требовал от меня, чтобы я
решительно стал на чью-либо сторону —
либо Оконный, либо Чуб, а я не мог
сделать ни того, ни другого, потому что
меня не устраивали в конечном счете ни
тот, ни другой. Арсен Кавалеридзе
(герой трагедии «Умка — Белый
Медведь».— О. Р.) был первым мо'им
идеальным героем, здесь моя позиция не
подлежит никаким сомнениям. Но я
хотел бы изобразить в литературе русский
характер, образ человека той нации,
которая, собственно, и совершила
Октябрьскую революцию. Я стал изучать этот
характер со всей доступной мне
глубиной «и, конечно, прежде всего подумал о
том, какие исторические причины
вызвали его к жизни в момент 25 Октября.
Ясно, что я должен был заглянуть в
историю. Ясно также, что в истории
меня должен был заинтересовать не царь,
а повстанец. Так появился «Рыцарь
Иоанн». За ним возник «Бабек»...
которого я не мог бы написать, если б не видел
208
О. Резник •
в нем черт идеального революционера, в
чем-то очень близкого Болотникову. Но
этот образ шел параллельно моей
магистральной задаче. Я по-прежнему искал
путей к большевику в русской истории.
Так появилась трилогия «Россия»: три
Чохова, пришедшие от XVI века к
Октябрю через три этапа мировоззрения...
Таким образом, моя историческая
драматургия кровно для меня связана с
моими поисками современного идеала. Я
считаю идеал этот воплощенным в
Кирилле Чохове».
Упоминая в том же письме не
опубликованную еще тогда трагедию о
Ленине, которая потом была напечатана в
журнале «Октябрь» (№ 4, 1962 г.), Сель-
винский писал:
«Там образ идеального русского
революционера раскрыт, как мне кажется, в
наиболее высоком напряжении.
Что я выделяю в идеальном образе
как главное? Полное забвение себя и
огромную любовь к людям при
ежедневной, ежечасной борьбе за
коммунистическое грядущее» (Подчеркнуто поэтом.—
О. Р.)
Пусть Сельвинский в данном письме
не совсем прав в оценке образа
Оконного из трагедии «Командарм-2»,
преувеличивая преданность его
революционной идее и не обнаруживая коренной
слабости того типа гуманизма, носителем
которой является Оконный. Видимо,
замысел в этом направлении был
расплывчатым, недопроясненным для самого
поэта, и потому решение его оказалось
двойственным, нечетким... Однако самый
рассказ поэта о том, что его обращение
к истории было вызвано давним
стремлением создать образ идеального героя
социалистической современности,
весьма симптоматичен. Думается, что
осознать и углубить выдвинутую им
концепцию положительного героя Сельвин-
скому помогло пережитое в годы
Великой Отечественной войны.
Трилогия «Россия» создавалась в
годы войны и была завершена в
послевоенное время. В эти же годы создана
трагедия «Читая Фауста». На образах
и характерах послевоенной драматургии
(это ярче всего выражено в трилогии)
сказалась душевно-философская
настроенность, выпестованная
сопричастностью поэта к великому народному
подвигу в Отечественной войне.
В драматургии Сельвинского
замыслы многослойны и . многоступенчаты.-
Они диалектичны по внутренней
структуре своей, и поэтому порою есть в тех
или иных пьесах поэта философские
звенья, суть которых ускользает от
первого, поверхностного взгляда. Вероятно,
это сыграло немалую роль в
недооценке их критикой и театральными
деятелями, которые вообще опасливо
относятся к поэтической драматургии, если это
не иллюстративно-исторические или
чисто бытовые сцены в стихах.
Сельвинский не хотел выравнивать по
линейке формальной логики внутренний
сюжет своих драм и трагедий, не хотел
он и облегчать поэтическое решение.
В не опубликованных еще военных
дневниках поэта есть весьма
знаменательная запись, которая нашла свое
воплощение в его военной лирике: «По-
прежнему продолжаю влюбляться в
русский народ. Какое это замечательное
явление в человечестве!.. Как мало мы его
знали, изучали, исследовали! Только
теперь понимаю я по-настоящему силу и
значение Горького...»
Публицистическая лирика
Сельвинского, его баллады, песни, агитки,
отмеченные датами минувшей войны, его
пролог к трилогии «Россия» напитаны
крепнущим патриотическим чувством, где
приверженность к Родине выражена во
всей многоцветной гамме душевных
привязанностей, настроений, как
философское начало, соединившее образ
Отечества и Поэзию...
Палитра поэта засверкала здесь всеми
оттенками драматического напряжения и
страстной лирической исповеди.
Обращаясь к России в суровейшие часы
смертельных испытаний, поэт
восклицает:
Я твой. Я вижу сны твои,
Я жизнью за1 тебя в ответе!
Твоя волна в моей крови,
В моей груди не твой ли ветер?
Гордясь тобой или скорбя.
Полуседой, но с чувством ранним,
Люблю тебя, люблю тебя
Всем пламенем и всем дыханьем.
Какие ж трусы и врали
О нашей гибели судачат?
Убить Россию — это значит
Отнять надежду у Земли...
(«России» — 1942 г.)
Стихотворение это сразу же, почти
одновременно было опубликовано в газете
«Красная звезда» и в журнале
«Октябрь».
Стоит лишь припомнить и сопоставить
в памяти такие (облетевшие в свое вре-
ф. Палитра поэта
209
мя многие фронты) пламенные и
гневные стихи, как «Я это видел!», «Аджи-
Мушкай», «Баллада о ленинизме»,
«Баллада о танке KB», «Севастополь» или
«Лебединое озеро», и сразу же
почувствуешь сопричастность поэта к народному
горю и мужественной ненависти,
рождавшим порыв к подвигу. В поэтическом
выражении чувств появляется
предельная непосредственность интонаций
слова, обращенного к другу.
Сельвмнский — пусть не сразу и не
просто, но зато накрепко—всей
духовной сутью пришел еще до войны (в 1936
году) к пониманию созидающей и
атакующей роли поэзии:
Звенящее слово — это не кружево,
Не перлы, где переливы льются,
Звенящее слово — это оружие
На карауле у революции.
В дни войны с фашизмом поэту более
конкретно открылось место поэзии в
народном сердце и в народном подвиге:
...Нет! Горизонты не такие
В глубинах слова я постиг:
Свободы грозная стихия
Из муки выплеснула стих!
Вот почему он жил в народе,
И он вовеки не умрет
До той поры, пока в природе
Людской не прекратится род.
Бывают строфы из жемчужин.
Но их недолго мы храним:
Тогда лишь стих народу нужен,
Когда и дышит вместе с ним!..
(«Поэзия» — 1941 г.)
В этих строках отразилась одна из
важнейших черт предвоенной и военной
лирики Сельвинского — в ней единство
этического и эстетического. Призыв к
героизму, проповедь передовых идейно-
нравственных убеждений подкреплены
патриотической позицией поэта в
жизненной практике. Восславляя боевую
отвагу, поэт на фронте ведет себя как
мужественный боец, рвется туда, где
идут самые тяжелые бои. Вот
дневниковая запись от 16.III.1942 г., о которой
мы узнаем лишь сегодня: «За
самовольное участие в конной атаке получил:
15 суток домашнего ареста плюс
выговор по партийной линии...»
То, что написано Сельвинским о
войне, выстрадано и пережито им. Во всех
своих поэтических замыслах, как бы
причудливы они ни были, поэт неизменно
опирался на свой опыт, стремясь всеми
чувствами вжиться в образы героев, в
атмосферу изображаемых обстоятельств.
Он очень страдал, если в калейдоскопе
его необычайно пестрой судьбы не
оказывалось хоть крупицы личного опыта
для создания того или иного характера.
Сельвинский эпичен в лирике (как
лиричен в эпосе). Он умеет говорить о
настоящем как бы из будущего, обращать
к грядущему свой рассказ о минувшем,
сближая временные дистанции пафосом
философского прозрения и сердечной
доверительности.
О О О
В последние годы жизни поэту не раз
доводилось встречать явные или
полускрытые намеки на то, что лирика его
(да и вся поэзия) послевоенной поры
уступает по силе и самобытности письма
стихам 20-х — 30-х годов. Истоки
подобных воззрений зародились вдалеке от
нашей страны, среди буржуазных
«русистов», ищущих в советской лирике
признаки взвинченности, встревоженности,
горечи, прорывающегося протеста...
Такие «ревнители» советской поэзии
охотно включают в свои «антологии» из
Сельвинского «Охоту на нерпу», «Читателя
стиха», «Охоту на тигра» или «24.Х.
1932 г.» и начисто забывают обо всем
остальном, даже о таких великолепных
стихах военных лет, как «Поэзия»,
«России», «Я это видел», «Аджи-Муш-
кай», «Баллада о ленинизме», «Тамань»
и др. К сожалению, микробы
отвержения лирической нови в стихах
Сельвинского 40 — 60-х годов перекочевали кое-
где и на отечественную нашу почву.
Между тем в произведениях
последнего десятилетия жизни поэт во многом
достиг давно чаемой «чудесной
простоты», где темперамент и напор эмоций
всецело служат раскрытию глубинных
идейно-философских замыслов, а сама
словесная палитра, отринув
экстравагантность языковой искусственности,
«самоцельных» рифм и затейливых метафор,
стала особенно крепкой и
целенаправленной образной конструкцией
содержания.
Об этом можно судить хотя бы по
такому значительному, глубоко
прочувствованному циклу стихов, как «Этюды
оптимизма», опубликованному впервые
в журнале «Октябрь» (№ 11, 1964 г.).
Одежда стиха стала проще, строже, бе^
модных подвесок и экзотического
«приклада», но сила внутреннего
эмоционального излучения лирики ничуть не
уменьшилась.
210
О. Резник •
Это великолепно понимал сам
Сельвинский, когда записывал в дневник
(14 апреля 1964 г.), явно имея в виду
и себя: «Мощность и массивность стиля
в молодости переходит в прозрачность к
старости. Это как бы конус,
поставленный на вершину: все держится на одной
точке».
За последние годы в палитре поэта в
новой определенности утвердилось
отношение ко всем компонентам стиха:
поэтическому слову, образу, рифме. В
записи от 4.1.1964 г. читаем: «Рифма
хороша, когда в ней свежесть. Но ведь
рифму не читают саму по себе». И
Сельвинский приводит пример тривиальной
рифмы, «которая хороша именно тем, что не
мешает остроте содержания». Свое
новое отношение к поэтическому слову
поэт полушутливо выразил так:
Все девки в хороводе хороши,
Здесь кажется красавицей любая —>
Вон ту расцеловал бы от души!
Но вытащи ее на свет: рябая.
Не так ли и строка стихотворенья?
Вглядишься — не звучна и не стройна,
Вернешь ее стихиям — и она
Вся пламя, вся полет, вся вдохновенье!
В последнюю пору жизни поэт
страстно и настойчиво обдумывал,
подытоживал, в чем-то пересматривал все
пройденное, накопленное, сделанное им и его
сверстниками в поэзии. В этом смысле
даже скупые дневниковые записи, к
которым мы сейчас едва прикоснулись,
дают возможность многое по-новому понять
и оценить в его поэзии. И прежде всего,
если говорить о лирике поэта, стоило бы
строже корректировать представление
о его стихах 20—30-х годов той
мерой историзма, к которой пришел сам
поэт в более поздние годы...
«В 20-х годах натурализм был в ходу,
так как поэты искали язык,
противоположный символическому»,— записывает
Сельвинский 3 марта 1964 года.
Вспоминая о тех крайностях, какие
проявлялись у Маяковского и Есенина,
Сельвинский добавляет: «В какой-то
мере был причастен к этому и я. Но
сейчас, когда найден стиль, близкий к
народной речи и в то же время вполне
литературный, такие экстравагантности ни
к чему».
Отвергая натуралистические
пристрастия давних лет, от которых довольно
скоро отказались и Маяковский, и
Есенин, и сам он, да и многие другие
поэты старшего поколения, Сельвинский
вовсе не отрекался от замечательных тра-^
диций, начатых советскими лириками в
20-е годы, и сохраняет верность им на
всю жизнь. «Поэты 20-х годов явили
миру новый тип поэта, который сочетает
интимную лирику своей души с
эпическим лиризмом народа»,— записывает он
26 мая 1964 года.
Именно этот, ранее незнаемый,
новаторский тип лиризма в военных и
послевоенных стихах Сельвинского получает
все более глубинное выражение...
Остановимся лишь на одном,
выбранном из длинного ряда других, не менее
весомых открытий поэта,—
стихотворении «Словно айсберг» (1962 г.). В нем
нашло свое выражение проходящее
через всю поэтическую жизнь автора
лирическое раздумье о высшем
поэтическом счастье — занять свое место в
духовном мире современников и потомков.
Но на этот раз раздумье,
подытоженное всем опытом жизни:
...Неужели только в том и счастье,
Чтобы бронзой числиться в саду?
Не хочу я участи блестящей,
Неподсуден пошлому суду.
Стоило ли раскаляться лавой,
Чтоб затем оледенеть в металл!
Что мне братская могила славы,
О которой с юности мечтал!
Нет, не по торжественным парадам.
Не в музее, датой дорожа,
Я хочу дышать с тобою рядом,
Человечья теплая душа.
Русский ли, норвежец или турок.
Горновой,
рыбачка
или ас,
Я войду, войду в твою культуру,
Это будет, будет —
а сейчас,
Словно айсберг в середине мая.
Проношу свою голубизну;
Над водой блестит одна седьмая,
А глыбун уходит в глубину.
Вряд ли можно точней и шире
обозначить пока еще скрытую от
непосредственного читательского взора.
многоступенчатую глубину и, как бы
опрокинутую в океан, высь лирических
постижений поэта, где одна лишь любовная
лирика объемлет неисчерпаемое
множество тем, эмоций, граней, философских
оттенков и в то же время оставляет в
самом поэте источник новых мотивов
неведомого в этом вечном чувстве.
Напрасно кое-кто стремился сдвинуть
Сельвинского с новых позиций, добытых
всем опытом его жизни в поэзии,
подсовывая ему «новомодное» истолкование
его творчества (особенно эпоса и драмы)
и утверждая, будто источник
творчества не действительность, а лишь жизнь
• Палитра поэта
211
собственного духа автора. И, дескать,
поэтому «изучать по нему
действительность в ее реальных очертаниях — вряд
ли оправдывающее себя занятие!»,—как
писал В. Огнев в послесловии к
сборнику Сельвинского «Театр поэта»
(«Искусство», 1965).
Стоит поверить самому поэту,
который писал в одном из писем: «Я считаю
себя поэтом советской эпохи, ибо
посвятил ей всю свою жизнь, начиная со
своего участия в Красной гвардии и первых
еще очень наивных стихов, посвященных
революции...»
Кровной спаянности с коммунизмом
посвящены многие его лирические стихи
последних лет, где поэтическая
структура идет навстречу читательской душе,
решительно отвергая при этом всякое
принижение и упрощенность формы.
Замечательный мастер с широчайшим
культурным кругозором, Сельвинский
оставил многочисленные, отмеченные
печатью неповторимой индивидуальности
раздумья о русском стихе,
интереснейшие статьи о поэзии,острые критические
суждения наставника молодежи и
педагога, рассеянные в его письмах к
друзьям — поэтам и критикам, к студентам
Литературного института имени М.
Горького и другим начинающим
стихотворцам.
Литературное наследие Сельвинского,
пока еще почти не тронутое, где есть
несколько неопубликованных пьес,
повесть, былинная эпопея «Три богатыря»
(над которой поэт трудился около двух
десятилетий), ценнейшие дневниковые
записи, планы, наброски эпических
замыслов, еще ждет своего обнародования
и исследования.
Когда творчество поэта — плод его
повседневного, неустанного титанического
и вдохновенного труда до последнего
часа жизни— в более полном виде
раскроется перед нами, читатель, вероятно,
примет близко к сердцу заветные
строки обращенной к нему «Молитвы» —
одного из самых последних стихотворений
Сельвинского:
Народ!
Возьми хоть строчку на памятЫ
Ни к чему мне тосты и спичи.
Не молю я меня обрамить —
Хочу быть всегда при тебе.
Как спички.
Быть может, сбудется самая
сокровенная мечта поэта! И каждый найдет для
себя что-то насущно важное в его
палитре.
•
Читая и перечитывая книги
Валентин ШЕПЕЛЕВ
Прозрение в пути
Старейшая советская писательница
Мариэтта Шагинян избрала для
своего очерка «Рождество в Сорренто»
форму путевых раздумий. Этим очерком,
посвященным ленинской теме,
завершается ее новая книга — «Четыре урока
у Ленина».
Путешествие по Италии по маршруту
Генуя — Болонья — Сорренто
развертывается перед читателем как
исследование, как поиск истины и открытие
неизведанного. Путевые впечатления не
являются декоративным, внешним
оформлением очерка, а органически входят в
повествовательную архитектонику,
активно помогая раскрытию основной темы.
В центре внимания автора —
дружба Ленина и Горького, их
взаимоотношения на протяжении двух
десятилетий бурной революционной эпохи.
«Мне хотелось,— признается М.
Шагинян,— для себя решить, что эти два
человека дали друг другу, за что и почему
полюбили друг друга и чем были нужны
друг для друга».
Встреча с Генуей, охваченной
предрождественскими хлопотами, принесла
писательнице интересные открытия. Из
кладовой памяти движение ассоциаций
вырвало спорную мысль, требовавшую
своего решения. Выступая 23 апреля
1920 года на торжественном собрании,
посвященном пятидесятилетию
Владимира Ильича, Горький сравнил Ленина с
Христофором Колумбом. «Еретическим в
ту минуту,— вспоминает М. Шагинян,—
показалось мне сравнение Ленина —
Ленина! — с Христофором Колумбом».
Ведь Ленин — гений революции, вождь
Мариэтта Шагинян. Рождество в
Сорренто. «Дружба народов» № 11, 1968.
трудовых масс, а Колумб хотя и
первооткрыватель, но движимый меркантильным
интересом... Слова Горького, как ребус,
требовали своей разгадки сразу же, на
первом этапе путешествия, здесь, в
Генуе, где родился Колумб.
И через разгоревшийся внутренний
спор, через приобщение к тревогам и
заботам сегодняшней Генуи и даже через
полемическую схватку писательницы в
клубе «Карабага» с молодежью —
ревностными сторонниками «левого
искусства», через всю гамму пережитого и
увиденного как бы невзначай пришло к
художнице радостное прозрение, которого
она давно ждала и ради которого
предприняла столь трудное и беспокойное для
нее путешествие.
Жадно перечитывает М. Шагинян и
по-новому осмысливает ленинское
откровение: «Никогда ни за что не
променял бы я резкой борьбы течений у
социал-демократов на прилизанную пустоту
и убожество эсеров и К°». Вот где
чудодейственный ключ к решению спора и
темы! «Прилизанность... и я встала и села
на своей железной кровати. Милая
Генуя, милые молодые люди, с которыми,
расхрабрившись, вообразила себя чуть ли
не студенткой. Дело-то не в Колумбе,
не в сравнении, не в Горьком и даже, вот
сейчас, не в Ленине, дело идет о мое м
собственном существовании, тоже
человека на земле, какого ни на есть, но
человека же. Что произошло со мною за
истекшие несколько десятков лет, если я,
как неграмотная орловская нянька (мы
с сестрой звали ее ласкательно «нюга»),
вот как эта нюга, стала вдруг
чувствовать «табу», расстояние между
«светским господином» и «духовным лицом»,
# Читая и перечитывая книги
213
воспринимать самого дорогого, самого
любимого из людей, Ленина, как что-то
н е человеческое, над человеческое, с
чем нельзя сравнивать никого другого,
будь это архи-Колумбы? Что произошло
со мною, человеком восьми десятков лет,
потерявшим ощущенье живого бытия
настолько, что воспринимаю просто живое,
как ересь, возрождаю понятие
«еретический»? Начинаю возводить условности,
участвовать в создании мифа, делать из
фактов жизни мифологемы? Это
корка — сказала я сама себе очень громко,
потому что мне захотелось выговорить
свою мьгсль вслух». Найдено наконец то,
что нужно, найдено верное слово.
В Болонье припомнилось другое
весьма характерное высказывание Ленина из
переписки с Горьким. «Получил из
Болоньи,— писал Владимир Ильич в
январе 1911 года Горькому,— приглашение
ехать в школу (20 рабочих). Ответил
отказом. Со впередовцами дел иметь не
хочу». «Впередовская» рабочая школа в
Болонье больше, чем «каприйская»,
была фракционной. Поэтому вполне
объясним категорический отказ Владимира
Ильича встречаться с «впередовцами» и
ехать в Болонью из соображений
идейной принципиальности и политического
такта.
Исторические факты и живые
сегодняшние наблюдения осмысливались
М. Шагинян в Болонье под знаком
новой открывшейся грани ленинского
характера и революционных свершений.
Из всех впечатлений наиболее ярким
оказалась встреча с болонским театром, где
писательница увидела в прекрасном
исполнении оперу молодого Россини
«Турок в Италии». Новизна постановки
спектакля воодушевила М. Шагинян. Но,
разумеется, дело тут не только в болон-
ских впечатлениях и чудесном спектакле,
а в том, что на этом путевом рубеже
перед исследователем широко
распахнулась дверь в еще один мир ленинской
темы.
За шатким столиком болонской
гостиницы, где писательница работала над
привезенными с собой выписками из
писем Ленина и Горького, она как-то по-
иному взглянула на одно из ленинских
высказываний об искусстве. На
замечание Горького, стремившегося
предотвратить раскол между Лениным и
«впередовцами»,— «Людей понимаю, а дела их
не понимаю» — Владимир Ильич, не
щадя иллюзий писателя, но с большим
тактом делает в письме замечательную
оговорку, исключительно важную,
имеющую принципиальное значение. В своей
сноске Ленин пишет: «Не понимая дел,
нельзя понять и людей иначе, как...
внешне». А дальше поясняет: «Т. е.
можно понять психологию того или другого
участника борьбы, но не смысл
борьбы, не значение ее партийное и
политическое». Критерий классовости,
критерий партийности, по Ленину,
определяет социальный смысл и значение
творческих дерзаний. В этих словах
раскрывается глубина ленинского
проникновения в психологию художественного
творчества, в святая святых художнического
видения жизни.
Лаконичная ленинская оговорка-сноска
показывает, как осторожно и деликатно
направлял Ленин творческую
инициативу великого художника. Убедительно
раскрыто в очерке действенное
восприятие Горьким ленинских наставлений и
этой емкой фразы: «Не понимая дел,
нельзя понять и людей иначе, как...
внешне».
Увлеченная идейным осмысливанием
жизненных фактов и документов
прошлого, М. Шагинян вспоминает и о своих
философских и эстетических исканиях,
о временном пребывании в плену
декаданса и религиозно-идеалистических
заблуждений, о решительном разрыве
с этой чуждой средой и приходе к
марксизму, к всепобеждающей правде
ленинского учения. Да, такое путешествие при
такой идейной целеустремленности
поистине глубоко современно.
Поездка в Сорренто, знакомство с
памятными местами, где жил Горький и
где бывал Ленин, также дали
писательнице большой материал для решения
волнующей ее темы и творческих
раздумий.
Перед читателем встают немеркнущие
знаки дружбы и любви двух великих
людей, этапы их большого революционного
пути, на котором были между ними не
только радость взаимопонимания и
общения, но и огорчительные идейные
разногласия и размолвки. Но где же при всем
том истоки искренней симпатии и
дружбы Ленина и Горького, что таится под
внешним покровом непреложных фактов?
Разгадка, думается, нам, верно найдена
автором. М. Шагинян рассматривает
дружбу Ленина и Горького с классовых,
214
Читая и перечитывая книги •
партийных позиций. «Ленин любил
Горького, тянулся к нему,— справедливо
отмечает она.— Ошибутся те, кто думает,
что в своей с ним переписке один только
Ленин учил Горького и был
односторонне нужен Горькому. Вчитавшись в
каждое слово этой переписки, начинаешь
чувствовать, каким необходимым был
мятущийся, отступающий, упрямый,
впечатлительный, яркий Горький для Ильича,
обтачивавшего свои мысли об эту
дружбу, об ответы, казалось бы, такого
несхожего, разного, чуждого человека,—
политику нужен художник, как
воздух, как хлеб, как правой ноге нужна
левая...» Свежо, проникновенно
высказана эта глубокая мысль.
Даже в той беспощадной критике
политических ошибок и пессимизма
Горького, многого не понявшего в сложных
перипетиях победившей
социалистической революции, не умевшего подчас
отделить разложение старого от ростков
нового, Владимир Ильич в своем
известном письме писателю энергично
борется за Горького-художника, понимая, как
необходим его талант при строительстве
новой жизни.
Чтобы по-партийному зорко наблюдать
и в процессе острой классовой борьбы
изучать и отражать «новое строение
новой жизни», Горький не мог обойтись
без Ленина. Насущная жизненная
потребность друг в друге связывала их в
течение всей жизни. Владимир Ильич,
по воспоминаниям Н. К. Крупской, в
последний месяц своей жизни просил
читать вслух горьковскую статью о нем,
чтобы постичь смысл сказанного
художником. «Стоит у меня перед глазами
лицо Ильича,— писала Н. К. Крупская
Горькому,— как он слушал и смотрел в
окно куда-то вдаль — итоги жизни
подводил и о Вас думал...» И Горький в
свой предсмертный час, по
свидетельству дежурившего врача, вспоминал свою
первую встречу с Владимиром Ильичем
в Петербурге.
В динамичности художественного
изображения, в споре с разными
условностями и инерцией мысли, думается, самые
сильные достоинства стиля М. Шагинян,
проявившиеся в очерке «Рождество в
Сорренто».
Но мы должны указать на некоторые
спорные утверждения автора. Вряд ли,
на наш взгляд, стоило чрезмерно
акцентировать на горьковском определении
ленинской жизни как аскетического
служения великому делу освобождения
человечества. Мысль Горького о том, что в
самоотверженной борьбе Ленина за
обновление мира «аскетически и
мужественно служит вся его воля», следует
рассматривать диалектически, во временном
развитии. Во многих выступлениях,
особенно в очерке о Ленине, Горький
настоятельно подчеркивал в характере
Владимира Ильича воинствующий оптимизм
материалиста, азарт великого
жизнелюбца и «делателя жизни».
Пожалуй, несколько субъективно
подана писательницей реплика Горького
«Я не марксист», высказанная им во
время встречи с М. Шагинян зимой 1920
года. Горький действительно мог тогда
произнести такую фразу, будучи в
состоянии идейного смятения, когда его
мировоззренческие суждения были весьма
противоречивы. И, вероятно, надо было
более объективно прокомментировать
эти слова, не оставляя читателя в
недоумении.
Эпизод с неудачной репликой
Горького врывается, пожалуй, единственным
диссонансом в боевую,
жизнеутверждающую симфонию очерка.
«Рождество в Сорренто» М.
Шагинян — примечательное явление в нашей
художественной Лениниане. Оно
отмечено новаторским использованием формы
путевого повествования и оригинальной
подачей исторических фактов. Совершив
вместе с писательницей путешествие в
прошлое по тем местам, где встречались,
горячо спорили, намечали пути в
будущее Ленин и Горький, мы узнали немало
нового, значительного, стали еще богаче
в своих представлениях о гении
пролетарской революции Владимире Ильиче
Ленине, сердцем и именем которого
«думаем, дышим, боремся и живем...».
• Читая и перечитывая книги
215
Бор. ЛЕОНОВ
Пора зрелости
Он начинался как бы вдруг, «без
начала».
Это, конечно, не значило, что ничего
не было раньше. Были стихи, даже
поэмы. Были горькие минуты неудач и
радостные дни успехов, отмеченных на
творческих семинарах в Литературном
институте имени А. М. Горького, куда
он поступил в 1952-м. Именно они-то,
эти минуты и дни, соединяясь в месяцы
и годы работы, трудной, упорной и
бескомпромиссной в споре с собственным
«я», оказались виновниками
удивительно «безначального начала» Николая
Агеева в поэзии. Им стала для него поэма
«Огни над Чусовой».
При всех обязательных, составляющих
дебют молодых,— яркости,
напористости, свежести — равнодействующей
поэмы была подлинная поэтическая
зрелость, отмеченная тогда же в критике
(А. Макаровым). Более того, дебют
Н. Агеева знаменателен и тем, что это
один из тех немногих случаев (особенно
для 50-х годов), когда начинающего
отличала поэтическая зрелость, а она
оказалась ровесницей зрелости возрастной:
в год выхода поэмы автору было полных
тридцать.
Но в этом стремительном взлете, по-
моему, и таятся те трудности, просчеты
и неудачи, которые, казалось бы, не
должны были встречаться у зрелого поэта.
Выход на поэтическую орбиту
потребовал от Н. Агеева самораскрытия,
объяснений, лирических откровений или
деклараций, которые, во-первых, всегда и
во всем выводили и все еще выводят к
его лучшей до сих пор поэме «Огни над
Чусовой» и, во-вторых, с нею
сравнивались и пока еще сравниваются.
Поражало в этой поэме не столько
превосходное умение владеть. сложной
эпической формой, виртуозное
варьирование ритмико-интонационного строя
стиха, точное и единственно возможное от-
Н. Агеев. Новое свидание. «Московский
рабочий», 1968.
крытие в привычном особенного,
сколько само естественное «житие» поэта в
том мире, что был для него уже
историей. Читаешь и невольно поддаешься
тому безусловному эффекту
сопереживания, сопричастности ко всему, о чем
пишет автор, куда он уводит нас, словно в
свою юность, словно в свое кровное,
пережитое. И мы мчимся вместе с
эскадроном красных конников во главе со
знаменосцем Трофимом Тройниным...
«Разгромили атаманов, разогнали
воевод...»
Но жизнь вновь повела героев поэмы
Трофима и комиссара Лихачева «по
долинам и по взгорьям» мирного
строительства. Об этом позднее, при чуть не
оказавшейся роковой встрече, скажет
Трофиму комиссар: «Нам трудно было
воевать, а жизнь еще труднее строить».
И это верно. Это итог пройденного и
пережитого. И начало будущих
свершений, фундамент которых закладывался
здесь, на Чусовой...
Снова свела жизнь Тройнина и
Лихачева на реке Чусовой, но по разную
сторону баррикад строительства того
нового мира, за который сражались они в
красном эскадроне Первой Конной.
Выбиваясь из сил, своими руками Трофим
вырывался из бедности, нищеты,
становился добротным
хозяином-единоличником. Выбиваясь из сил, своими руками
комиссар Лихачев рядом организовывал
социалистическое соревнование на Тур-
бострое — первенце советской
индустрии. И в этой схватке старого* с новым,
частного с общим, прошлого с будущим
победа на стороне того дела, знаменем
которого был тот «багровый стяг», что
берег в боях Тройнин, «как собственный
висок».
«Летят, задыхаясь, две конные лавы
навстречу друг другу — клинки и
глаза... Схлестнулись!..»
И вы уже во власти кавалерийского
боя, вы рубитесь вместе с конниками,
защищаете вместе с Трофимом «багро-
216
Читая и перечитывая книги •
вый стяг». И почти все время вас не
покидает это чувство непосредственного
участия в событиях, действиях,
происходящих на протяжении всей поэмы.
Щедрой рукой уральского старателя,
намывшего немало золотинок
поэтических тропов, поэт раздаривает их нам —
не безмерно, не до безудержного блеска
в глазах, а в той необходимой гармонии,
что достойна названия поэтической
зрелости. И уж тогда мы не пропустим, не
обойдем вниманием каждое новое
открытие привычного мира, воздадим должное
его поэтическому видению. Не правда
ли, как это точно замечено: у человека-
старателя ««а руках протоки жил»?
Почти физически ощущаешь, как усталого
Трофима «дождь поднял холодными
штыками». И как широко, раздольно, в
ритме всей поэмы сказано: «соревно-
ванье шло повсюду, как наступленье,
как прибой!» Сколько в поэме
подлинной, а не нарочитой, не поддельной,
народной поэзии. Она и в афоризме:
«Мужицкое счастье, что глины ком, и горше
осиновой почки». Она и в этих типично
сказовых строках о том, как путники
«слово за слово беседу растопили,
словно печь. И течет ручьем по следу
переливчатая речь».
А сколько удали в описании
свадебного поезда: «...Тройка — пуля!
Колокольчики — шрапнель!» Но вот еще
несколько мгновений, и гости вваливаются
в дом на свадьбу — и тут же
естественный сбой ритма:
Свадьба в доме —
аздвинь столы!
вадьба в доме —
топчи полы!
И, словно откликаясь на этот
поэтический призыв, «парни дробь рассыпали —
поди-ка собери! Девчата тихо выплыли —
подруженьки зари...»
И тут же, сбивая «снега хлопья», что
«легли на сердце» жениху, врывается в
его хмурь ритм частушки, возвращая в
его сердце то, что. вроде бы вырывалось
из него в этом доме:
Сердце ноет, я не скрою,
голубенок голубой.
Скоро, скоро на Турбстрое
мы увидимся с тобой!
И уже совсем органичным
соединением личного и общего, тонко намеченным
в частушке, звучит финал поэмы: «А в
доме свадьба, как река, проворная,
широкая, уже ломала берега хозяйства
одинокого».
И мак плотно, с достоверностью
золотодобытчика выписана сцена старатель-..
ской работы Трофима, который,
казалось, уже отчаялся намыть хоть чуть-
чуть золота, да вдруг: «Ячменным
зернышком живым осела золотинка». Так
же вдруг для себя позднее я
почувствовал всю поэтическую необходимость
этого образа в поэме Н. Агеева. В нем, в
этом образе, все начала его поэзии.
Металл и хлеб. Завод и деревня.
Итак, поэма «Огни над Чусовой» была
той «ракетой-носителем», что вывела его
имя на орбиту поэзии в 1957 году и
обусловила выход первой книжки
«Торное плечо» (1959). Она-то и познакомила
нас с его началом, которого мы еще не
знали.
Три поэмы, помещенные в этом
сборнике, далеко не равнозначны. Они
словно три ступени, по которым
спускаешься в годы, подготовившие «Огни над
Чусовой».
В 1955 году была написана поэма
«Коммунистки», рассказывающая о
связи поколений революции на примере
одной семьи — бабушки, матери и внучки,
которая сейчас принимается в ряды
ленинской партии.
Эта тема, высветившись
превосходными строками в поэме «Огни над
Чусовой» — о том, как выздоравливающий
после тифа комиссар услышал под
окном играющих детей: «В снегу под
окошком играли дети, и старший
кричал, что он комиссар»,— станет одной из
центральных в гражданской лирике
Н. Агеева, в таких его стихах, как
«Рождение армии», «Уральские аккорды»,
«Земной поклон», «Рабочая слава», «В
Музее Революции», «Шаги поколения»,
и других. Глядя на юность нашего
сегодня, поэт с гордостью узнает в ней
черты своей юности, унаследовавшей все
лучшее от дедов и отцов.
Навстречу нам выходит поколенье —
Размашисто шагают, широко
Безусые и русые ребята
По двадцати порой неполных лет...
Такими в жизнь входили мы когда-то,
Чтоб продолжать
Отцов партийный след!
Правда, это будет в последующих
книжках поэта.
Но уже первая отвечала на многие
вопросы, возникавшие при знакомстве с
«Огнями над Чусовой», и прежде всего
на такие: как он пришел к теме своей и
почему именно «зажглись» «огни над
• Читая и перечитывая книги
217
Чусовой»? Отвечала автобиографической
поэмой «Утренняя смена», предысторией
к которой были опубликованные позднее,
хотя и написанные раньше, стихи
«Довелось мне родиться в избенке...» и
«Детство» («Детство мое, без отца и без
матери»).
«Утренняя смена» — это рассказ
деревенского паренька-сироты,
простившегося с деревней и переступившего порог
ремесленного училища в военную лихую
годину. Здесь «детство началось
другое, с эмблемой накрест — молоток с
ключом». Здесь ему выдали новую
форму, в которой паренек с трепетом
«показался матери-стране»...
Этот образ «матери-страны»
становится главным в его поэзии и диктует ему
слова глубокой сыновней
признательности в стихотворении «Чусовая», венчаю
щем автобиографические мотивы поэзии
Н. Агеева и выявляющем новые
возможности лирической типизации, сходной с
типизацией большой формы —' поэмы.
В этом стихотворении на волне
обобщения («Чусовую жилой золотою
величает издавна народ») поэт, обращаясь к
реке-родине: «Ты меня здесь нянчила,
ласкала, умывала бодрою водой... Ты и
так бы матерью мне стала, если б я и
не был сиротой»,— выходит из своего
«задиристого детства» к личному в его
единстве с общим.
И вот перед «матерью-страной»
предстал паренек в рабочей форме трудовых
резервов. Так началась для будущего
поэта новая жизнь.
Война взвалила на хрупкие плечи
подростков тяготы взрослых людей. У него,
как и у его сверстников, «твердыми
мозолями рука покрылась от железной
рукоятки». Его «другое детство» не
расплескалось в шалостях, в играх в прятки
да «казаки-разбойники». Здесь, в
поселке рабочем, в Первомайке —
«соцгородке над самой Чусовой», пережил он и
взрослую, не похожую на обычную, но
такую же по годам робкую и тревожную
первую любовь, в которой при желании
и признаться бы не мог: было некогда.
И мало в каждом оставалось от
подростка: «У подростка лоб избороздило
заботами оскаленной войны». Превосходно
выписано и то, как эти подростковые
плечи встали вровень с плечами
«старого рабочего Урала», на который
«равнение держала военная Россия».
И в этом единении, в этом боевом
строю органично вырастает мотив
рабочей гордости, осознание собственного
вклада в победу над врагом. И как итог
всему — «заводская романтика строгая».
Там она вошла в его сердце и живет в
нем до сих пор.
Вот откуда внутренний порыв,
энергия, напор и страсть в поэме «Огни над
Чусовой», вот откуда волна
безудержной конной атаки, сверкание стали и
рвущееся над головой багровое знамя
победы. Вот откуда гимн рабочим людям
страны, что
...сумели умными руками
Без заморской помощи,
А сами
В сталь Россию и в бетон одеть.
От локтя до самого запястья
Разветвилась жилистая прядь.
Не было бы этих рук,
То власти,
Взятой в Октябре,
Не удержать!
Да, поэзия немыслима вне личного
опыта, прожитого и прочувствованного.
И чем полнее, глубже, органичнее
биография поэта связана с жизнью
общества, чем сильнее его стремление постичь
через собственное, субъективное начало
объективные закономерности, тем
мощнее заряд его поэзии, тем общественнее
ее резонанс. Именно эти качества были
присущи поэме «Огни «ад Чусовой».
И все, что довелось испытать Н.
Агееву и его сверстникам, о которых он
скажет: «Мы пришли к станкам в разгар
войны», и о своих ровесниках, которые,
вернувшись из армии, в страду
«прокосы умело ведут по-над кромкой зари»,—
все это он бережет в «памяти
сердечной». И потому так органично эта
память вбирает в себя образ: «Ячменным
зернышком живым осела золотинка».
Развиваясь, образ обретет двуединую
самостоятельность. С одной стороны, это
будут стихи о заводских буднях, о
рабочих парнях, что покоряют космос и
целинные земли. С другой стороны, это
стихи о хлеборобах, о трудовой весне на
полях, о деревне, что навсегда осталась
в поэзии Н. Агеева, определив многие
лучшие образцы ее.
Это подтверждают и самые последние
стихи поэта, вошедшие в сборник
«Новое свидание».
«И не спеша пойду к деревне — моей
гордыне и тоске» («Асфальт,
раскаленный до блеска»). «Моя гордыня и
тоска» — это чувство не только локально
218
Читая и перечитывая книги •
и субъективно. Оно довольно точно
выражает нынешние мотивы так
называемой «деревенской» прозы. Но для
Н. Агеева воспоминания о деревне и
глубоко личны, а потому звучат тем самым
школьным звонком в сердцах многих из
нас, вышедших в большую жизнь из
сельских школ.
Здесь школьный выпорхнул звонок
И в жизнь меня увел нежданно
По сизой роздыми дорог.
И я пошел, совсем не зная,
Что нет у тех дорог конца...
Только тут, только среди желтеющей
нивы и роздыми росных туманов, у
синей шири озер, находит он, как спелые
колосья, такие неповторимые образы:
«Родниковые, росные звезды обжигают
покосам чубы»; или: «Здесь тишина, как
старая лисица, что выстрелом напугана
была, входить в село при сумерках
боится...»; или: «Висит туман, как хрупкий
иней,— возьми его, в руке помни».
Но вот еще одна важная для поэзии
Н. Агеева черта. У него нет чисто
пейзажных стихов. Муза его, как и сам
поэт,— рабочей закваски. И даже когда он
пишет о деревне, о природе, в стихи
естественно включается трудовой порыв.
Таков и финал, казалось бы, пейзажного
стихотворения «Рано, рано тополиным
мехом...».
Чокнутся колосья налитые
Друг о дружку, золотом звеня...
Кличет хлебородная Россия
В дали урожайные меня.
И потому так естественно
воспринимается признание: «Твои дела — мои
дела, Россия,— я жнец и пахарь твой и
агроном».
Но деревня — это лишь вступление в
жизнь: «Моя станица на бугре — мое
начало Родины!» А дальше — «Утренняя
смена»: завод, рабочий класс, могучее
индустриальное плечо России — Урал.
Что за люди на Урале —
Одно скажу лишь —
Мастера!
У них характер тверже стали,
Дела их —
Звонче серебра!
Рабочему классу обязан поэт всем,
чего достиг в жизни.
Рабочий класс!
Ты слышишь, я тобою
Отформирован и поставлен
в строй! —
пишет он в стихотворении с названием,
говорящим о многом,— «Земной
поклон».
И, разойдясь, как два стебля из
одного «ячменного зернышка... золотинки»,
эти два потока поэзии Н. Агеева в
дальнем пути его поэтической работы
встретились вновь в стихотворении «Хлеб».
Хлеб нового урожая ежегодно «...по
дорогам осени идет. И ему Россия
заводская поезда с поклоном подает!»
Быть частицей великого сражения за
жизнь, за душу нового человека —
наследника традиций революции—вот
пафос поэзии Н. Агеева, который
облекается в слова: «Я другого счастья не
желаю, чем дышать с народом, как дышу».
Ныне Н. Агеев известен в
литературе. А известность всегда ко многому
обязывает. И не всегда выручает. Камертон
первой поэмы звучит до сих пор в его
поэзии. По нему он часто удачно
настраивает и многие свои стихи и в целом
удавшийся лирический цикл «Тайга».
Но в этой привязанности к единому
тематическому настрою (вообще-то
естественной в работе поэта) скрыты и
опасности. И прежде всего — опасность
образной инерции.
Я имею в виду настрой поэта на «кон-
армейский» лад. Ему по душе то, что
однажды удачно вылилось в поэме
«Огни над Чусовой». Но уже и там были
едва заметны симптомы этой инерции. Вот
удачно найденное: «и пальцы немеют на
красном древке». И вот снова: «рука,
что на стволе древка до синевы в боях
немела». Но там это повторение
оправданно: оно дается в воспоминаниях о
дорогах «клинковых атак». Однако, сказав
однажды о «клинковых атаках», Н.
Агеев оказался буквально во власти этого
сверкающего и стремительного оружия.
И пошли у него производные: «клинком
распарывая воздух» («Баллада о
подковах»); «У ног клинком лежит река», «Я
не ходил в бои с клинком», «Но я
горжусь клинком отца» («На сцену вышли
казаки»); «И тут же молнии клинок»
(«Когда ветрами обожженный...»);
поземка «клинок студеный свой...»
(«Поземка ранняя клокочет...»); «Как два
степных зазубренных клинка» («Чумляк
с Миассом»); «Небо вспорото клинком
моей строки» («Не пишется») и т. д.
Нечто аналогичное произошло и с
ритмическим строем стихов. Однажды
найденный интересный прием (перепад в
ритме как перепад в развитии
лирической темы) стал использоваться очень
часто. Обычно это продолжительная
цезура на выдохе, вроде уже упоминавше-
• Читая и перечитывая книги
219
гося «Сошлись!» или: «Устал...» в поэме
«Огни над Чусовой»:
Всю ночь,
весь день
буран буравил,
таранил стены,
жег металл,
траншеи выгладил,
расправил
И, наконец, утих.
Устал...
А затем такое ритмическое развитие
пошло из стихотворения в
стихотворение... Видимо, это делается
неосознанно. Но когда подобная частность, даже
индивидуальная, «выпирает», «кричит»,
значит, пора кончать с ней.
Встречаются у Н. Агеева и
декларативные, лобовые стихи, не согретые
сердцем. К ним я бы отнес такие стихи, как
«О красоте душевной говорим»,
«Баллада о подковах», «Русский характер».
Это образцы того поэтического
«наскока», который в определенные моменты,
может быть, и неизбежен, но
эмоциональный «КПД» его при чтении с
эстрады оказывается более высоким, нежели
при чтении «про себя». Это образцы
того обнажения голой мысли, которое
никому еще не приносило поэтических
радостей. Более того, в подобных стихах
обнаруживаются не только бесцветные,
разменные слова и образы, но даже и
языковые опусы вроде: «Я образец
беру (?) с бойца такого» («Баллада о
подковах»).
Можно было бы понять, даже
простить многое из того, что я здесь назвал
как огрехи, как шлак в поэзии Н.
Агеева. Можно было бы... Но только не
поэту, которому не нужно «вымучивать»
свои стихи, которому есть что сказать
людям, который заряжен личным
опытом, вобравшим в себя опыт нелегкой,
но такой интересной жизни. И, наконец,
трижды нельзя простить поэту,
написавшему поэму «Огни над Чусовой».
Нельзя, ибо такова уж диалектика зрелости,
той зрелости, что диктует такие
превосходные стихи: «В Трептов-парке белые
березы, словно вдовы русские,
стоят...»— и что постоянно обнадеживает
верой в новые свершения подлинно
рабочей музы Николая Агеева.
Короткие рецензии
■ А. ВЕЗИРОВ.
СОДРУЖЕСТВО ПОКОЛЕНИЙ.
Профиздат, 1968.
Уже по названиям глав этой
брошюры можно угадать, что написана она
комсомольским работником: «Забота у
нас такая...», «Когда рядом старший
товарищ», «Традиции — в строю!»,
«Зрелость — в делах» и т. п. И
действительно, автором брошюры является
секретарь ЦК ВЛКСМ А. X. Везиров, а
рассказывает он в ней о большой и
давней дружбе профсоюзов и комсомола —
двух самых массовых общественных
организаций нашей страны.
Рассказывает, надо сказать, по-комсомольски
задорно, увлекательно, в форме живой
задушевной беседы. И, что особенно
важно, с доскональным знанием дела, с
привлечением огромного фактического
материала, добытого не из вторых рук,
а приобретенного в результате личного
активного участия в работе
профсоюзов,— без малого десять лет он состоял
членом Президиума ВЦСПС и своей
комсомольской деятельностью
непосредственно связан с рабочей молодежью,/ с
трудом, учебой и бытом юношей и
девушек, пришедших на производство.
Автор щедро делится с читателями
своими многолетними наблюдениями,
своими раздумьями о путях
дальнейшего содружества комсомола и
профсоюзов, об идейном воспитании
подрастающей рабочей смены, вовлечении ее в
активную трудовую и общественную
жизнь.
Обращаясь к уму и сердцу юного
читателя — именно ему и адресована
брошюра всем своим строем, пафосом
содержания, автор ратует за
коммунистическое отношение к труду, говорит о
том, что рабочий — главная должность
в нашей стране и что рабочий класс —
ведущая созидательная сила советского
общества. Вот почему
профессиональные союзы и комсомол с первых дней
своего существования проявляют
бережное и чуткое отношение к рабочему
человеку, стали для миллионов
трудящихся школой управления производством,
школой хозяйствования, школой
коммунистического воспитания молодежи на
практических делах. И эту работу они
ведут в тесном содружестве, рука об
руку, ибо нет у них задачи важнее, чем
научить людей жить и трудиться по-
коммунистически, как завещал Ленин.
Выступая застрельщиками всего
нового, передового, поддерживая и
развивая инициативу трудящихся,
профсоюзы и комсомол всегда действуют сообща
и накопили богатый опыт совместной
работы. К сожалению, в нашей
периодической печати и литературе опыт этот
нередко освещается довольно-таки
тускло, без должной последовательности, от
случая к случаю. Ценность брошюры
«Содружество поколений» в том
прежде всего и заключается, что она
помогает нам лучше, шире, нагляднее
представить не только историю
традиционного содружества комсомола и
профсоюзов, сердцевиной которого является
воспитание молодежи на практике
коммунистического строительства, но и те
повседневные деловые контакты двух
массовых организаций, которые
используются в наше время.
Автор подробно останавливается на
формах этого сотрудничества,
показывает их многообразие: тут и совместные
решения, принятые Президиумом
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, которые
способствовали улучшению условий труда,
быта, учебы и отдыха молодых
рабочих, тут и проведенный по их
инициативе Всесоюзный поход молодежи по
местам революционной, боевой и трудовой
славы, тут и молодежные лагеря труда
и отдыха, клубы юных техников,
различные детские кружки, созданные в
городах и селах страны, тут и участие во
всенародном движении за достойную
встречу 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина, за досрочное выполнение
заданий пятилетки.
Значительное место в брошюре
отведено вопросам идеологической работы. ^
которую повседневно ведут комсомол и.]
профсоюзы среди подростков и рабочей
молодежи, помогая им глубже усвоить
марксистско-ленинское мировоззрение,
изучить наследие старших поколений,
славные страницы нашей истории,
связанные с революционными, ратными и
трудовыми подвигами советского народа.
«Каждому поколению выпадают свои
неповторимые трудности, которых не
знали отцы,— пишет автор.— Молодые
люди, родившиеся в годы Великой
Отечественной войны или после ее
окончания, знают о голоде, разрухе и блокаде
лишь по книгам и кинофильмам. Что ж,
именно для этого — ради мирной,
счастливой жизни молодежи боролись наши
отцы и старшие братья. Пройдут годы,
и уже не они, а ты будешь отвечать за
судьбу страны, за будущее
человечества. Именно на молодежь, не прошедшую
испытаний войны и трудностей
восстановления народного хозяйства, сейчас
направлено острие идеологической
диверсии буржуазных пропагандистов
Запада. Они пытаются вбить клин между
поколениями, отравить юношей и деву-s
шек ядом аполитичности, скепсиса и
недоверия к историческому прошлому со-
Ф Короткие рецензии
221
ветского народа, к идеалам коммунизма.
Надо помочь молодежи понять значение
подвига старших поколений советских
людей, показать значение наших успехов
и причины временных неудач, вскрыть
диалектику полувекового пути
становления Страны Советов».
Вот об этом большом и важном
деле — о том, как должны действовать
комсомольские и профсоюзные
организации, прививая молодому рабочему
чувства хозяина своей страны, стойкого
борца за идеи коммунизма,— и ведется
откровенный, конкретный разговор в
брошюре, выпущенной Профиздатом в
серии «Библиотечка профсоюзного
активиста». Ее с интересом и с пользой для
себя прочтут не только комсомольцы, но
и те юноши и девушки — а таких
миллионы! — которые состоят сейчас в
^профсоюзах — школе управления и
хозяйствования, школе коммунизма.
Вл. Разумневич
G Владимир МАТВЕЕВ.
ИНЕЙ.
Мурманск, 1968.
Несколько лет назад довелось мне
встретить в Заполярье своего друга
детства, который служит на Северном
флоте. Пригласил он меня на день
рождения.
В самый разгар вечера вдруг запели
незнакомую мне песню о том, как на
Север приходит весна, как светит незаходя-
щее майское солнце и от этого вечера
^кажутся сказочными. Запомнилось еще
простое, доверительно-дружеское:
Море Баренца, море Баренца,
Полуночные катера...
Я поинтересовался, кто написал
слова песни. Сказали, что песня народная.
Однако мои собеседники ошиблись.
Через несколько дней в Североморске
меня познакомили с поэтом Владимиром
Матвеевым. Оказалось, в тот вечер я
слышал именно его песню. И вот спустя
три года он подарил мне новый
стихотворный сборник — «Иней».
Мало кого, конечно, удивишь сейчас
тиражами поэтических сборников, но,
право же, стихи, изданные в областном
издательстве тиражом 60 тысяч
экземпляров, заставляют подумать о многом.
И в первую очередь, очевидно, о
популярности В. Матвеева, издавшего шесть
книг.
В чем секрет этой популярности?
Есть у В. Матвеева стихотворение, в
котором, на мой взгляд, выражена его
поэтическая сущность:
Может, это давно не секрет.
Но, поверьте, не грех повториться:
В зрелость издавна движется свет
С детской
дерзкой мечтой о жар-птице.
Вот эта светлая откровенность, мечта
о доброй жизни и подкупают, трогают
своей задушевностью. Так бывает у очень
искреннего человека. В юности В.
Матвееву пришлось шагнуть «из-за парты в
строй». И если он не погиб на войне, то
только потому, что пуля сразила рядом
с ним другого солдата. И поэт считает
себя в долгу перед этим солдатом:
и я
теперь
в грядущее смотрю
Восторженно
и как-то виновато.
За хлеб и соль
благодарю
Со мной
«Землянку» певшего солдата.
Поэт на всю жизнь связал себя с
армией. Он и сейчас служит в Заполярье.
Там его знают, любят, читают, там его
приняли в члены Союза писателей.
Суровую службу в Заполярье
подполковник В. Матвеев знает не
понаслышке. Он бывает в дальних походах,
опускается на подводной лодке в
студеные глубины Баренцова моря, ходит на
ракетных катерах на стрельбища,
участвует в трудных и утомительных
операциях кораблей, охотящихся за
«вражескими» подводными лодками.
Но как бы ни были тяжелы и суровы
флотские будни, поэт увидит что-то
теплое, лирическое и напишет:
Скалы чинно хороводят мимо.
Впереди — отвесная стена.
ЮБК..
Не Южный берег Крыма —
Это Южный берег Кильдина.
Ночью небо с океаном схоже,
Даже тучам страшно в нем, большом,
Где звезда Полярная не может
Свет сиянья вычерпать ковшом.
В новой книжке поэта значительное
место отведено лирике. Чистотой,
целомудренностью и свежестью веет от строк,
посвященных любви. Вот начало одного
из стихов цикла «Солнечная девчонка»:
Во тьму гляжу я. не смыкая глаз.
Что впереди — Рыбачий ли, Нордкап ли?..
Совсем другое вижу я сейчас —
Как от меня уходишь ты по капле.
В немногих строчках поэт рисует
мучительную человеческую драму. Так и
видишь на мостике корабля этого
моряка, вглядываешься в его лицо,
освещенное сполохами северного сияния,
переживаешь вместе с ним. Не ради
формального изыска, а удивительно точно
повторяет поэт в каждой строфе, словно
рефрен, найденный образ:
А за причалом ночь густым-густа,
Огни на стуже до костей прозябли.
И все огромней в сердце пустота,
А ведь уходишь ты всего по капле!..
Лучшие из стихов Владимира
Матвеева очень напевны. Некоторые из них
положены на музыку. Очевидно, и из
222
Короткие рецензии •
этого сборника что-то взволнует
композиторов, и люди вновь подхватят песни
заполярного поэта.
В. Андреев
■ Олег СМИРНОВ.
СЕВЕРНАЯ КОРОНА.
Воениздат, 1969.
«Северная корона» — роман,
написанный участником событий. В нем все
достоверно: и место действия —
Смоленщина и время действия — весна и осень
1943 года. Достоверно описание
солдатского фронтового быта и картин боев.
И человек на войне — солдат, офицер,
генерал — и война предстают перед
читателем такими, какими видят ее
генерал Дугинец, солдаты Пахомцев, Поща-
лыгин, парторг Быков.
Писатель изображает героизм как
повседневное проявление воли
обыкновенных людей, выполняющих в тяжелых
обстоятельствах свой гражданский и
человеческий долг.
Просто и точно описывает О. Смирнов
переживания молодого солдата Сергея
Пахомцева, главного героя романа,
перед первой в его жизни атакой:
«Сергей... думал о том, как нелегко
оторваться от земли и шагнуть навстречу
пулям и осколкам... И кто-то должен
подать пример — вылезти по сигналу на
бруствер и увлечь за собой остальных...»
Первым в атаке оказывается парторг
Быков. За ним карабкались по лесенкам
и вылезали на бруствер остальные.
«Траншея пустела. Сергей испугался:
только бы не отстать, не остаться
одному,— и этот испуг смешался с тем, иным
страхом, что сосал под ложечкой ночь
и утро. Сергей подпрыгнул, уперся
ладонями, забросил ногу и вылез на
бруствер. Перед глазами мелькнула, как ему
показалось, спина Пощалыгина, и, чтобы
не потерять ее из виду, Сергей побежал
за ней. Впереди и сбоку кричали «ура»,
Сергей тоже раскрыл рот. Он успел
понять: сделан первый шаг в первой атаке,
который отчеркнул всю прошлую жизнь
от новой, начавшейся с этой атаки».
На первый взгляд столь подробное
описание переживаний героя, стоящего
лицом к лицу со смертью, как бы
снижает образ: замечены все колебания, все
противоречия его чувств, но это
обнажает и психологическую правду поступков.
Читатель чувствует напряжение
внутренней борьбы, победу человеческой воли
над страхом, над инстинктом
самосохранения.
В «Северной короне» показано
огромное моральное превосходство советского
воина над врагом. Мужество героев
романа проявляется скромно, без позы и
выспренности. Потрясает сцена допроса
и гибели парторга Быкова и солдата
Пощалыгина, двух однополчан Сергея
Пахомцева, оказавшихся по ранению во
вражеском плену. И под жестокими пытками
фашистов они остались верными
воинской присяге, святому воинскому долгу,
Родине-матери. И умерли как герои.
Наряду с генералом Дугинцом,
полковником Шарлаповым, Сергеем Пахом-
цевым, Быковым, Пощалыгиным и
многими другими героями на войне
встречались и люди типа Чибисова. Это
человек, за словом которого не стоит
убеждение. Он мог восторженно, с пафосом
произносить партийные лозунги, но в
действительности был озабочен лишь
тем, чтобы оказаться подальше от
передовой. Жалка и бесславна участь таких
людей.
Может показаться, что автор
намеренно ставит героев в трагические
ситуации — большинство героев гибнет.
И это вызывает ощущение некоторой
неудовлетворенности. Но постепенно
принимаешь авторский замысел: через
сложные коллизии показать новому
поколению суровую и порой трагическую, но
всегда высокую героику Отечественной
войны, раскрыть смысл тяжелых жертв
и потерь во имя победы.
Роман начинается символически:
вероломное нападение гитлеровской
Германии на нашу страну оторвало от
привычного круга обязанностей не только людей;
война нарушила привычный порядок и в
природе. Противоречие между жизнью и
смертью сменяется торжеством жизни:
вера в победу над врагом, любовь к
своей земле, к Родине наполняют роман
глубокой философской мыслью. Жизнь
продолжается. На смену погибшим приходит
новое пополнение, многие солдаты
удивительно похожи на тех, ушедших... И это
жизнеутверждение определяет одну из
характерных особенностей нового
произведения о войне-
Валентина Голанд
■ Ашот ГАРНАКЕРЬЯН.
РАССВЕТНОЙ СВЕЖЕСТЬЮ
ДОРОГ.
Ростов, 1968.
Говоря о новой книге А. Гарнакерьяна,
вышедшей в Ростове, хочется сказать об
одном обстоятельстве, которое для нас
стало настолько привычным и
обыденным, что мы уже как-то и не
задумываемся над ним. Между тем именно в
обыденности этого обстоятельства и заключена
его историческая значительность. Речь
идет о новом, необычайно широком
понимании чувства Родины, присущем
советскому человеку. Независимо от того, в
каком краю живет он и к какой
национальности принадлежит, в его сознании
# Короткие рецензии
223
и сердце накрепко слились понятия
«национальное» и «советское». И заслуга в
этом принадлежит прежде всего русскому
народу. И потому так естественно
чувство братства и неисчерпаемой
признательности, которое народы нашей страны
питают к России; и потому так понятно
гордое сознание их причастности к ее
судьбе. Именно это обстоятельство, на мой
взгляд, в полной мере отображено в
творчестве А. Гарнакерьяна, которое и
побудило меня к этому небольшому
отступлению...
А. Гарнакерьян с детства связан с
Донским краем, где он вырос как человек и
как поэт. Но никогда не порывал он
духовной связи с родной Арменией, никогда
не остывала в нем сыновняя любовь к
ней.
Время от времени навещая нынешнюю
Армению, поэт всякий раз замечает в
ней новые перемены, вызывающие его
глубокое волнение и гордость. Вот он в
городе идет по улице детства и ищет
«лачугу ту, где прожил много дней среди
промозглой сырости». И вместо
глиняных домиков, лепившихся когда-то,
подобно «птичьим гнездам», видит кругом
«розового камня чудо. В ярких стеклах
отраженье синевы». В армянском
селении он слышит счастливую песню
смуглой девушки Маро, собирающей
янтарные гроздья винограда. И от всего этого
его самого переполняет счастье, и он
восклицает в изумлении:
Страна ли это или сад,
Зовущий в нежное цветенье?
Как сладок спелый виноград
Из Аштаракского селенья!
Так же взволнованно пишет А.
Гарнакерьян и об обновленной судьбе других
народов Кавказа. Обращаясь, например,
к Черкесии, где на «мирных пастбищах»
пасутся тучные стада и чабаны ведут
беседы «про урожай обильный», поэт
говорит:
Здесь юность ликовала и цвела,
Здесь старики на самодельных скрипках
Воспели Ленина бессмертные дела,
И счастье девушек, и правнуков улыбки.
И каким контрастом звучат стихи
А. Гарнакерьяна, когда он обращает взор
через пограничный Араке к турецкому
селению Сурмалу, «заброшенному,
забытому уголку», где «люди хмуры, как
скалы ржавые»:
Я б те жилища
Саклями назвал,
Но сакли, как дворцы,
В сравненьи с ними.
Стоит селенье,
Словно это след
Покинутого некогда
Становья.
И кажется — живой души
Здесь нет
И не было...
Вокруг царит безмолвье.
Но здесь ютятся люди.
Невольно сравнивая судьбы
армянского и турецкого селений, разделенных на
первый взгляд лишь нешироким Араксом,
а на самом деле огромной социальной
пропастью, поэт с понятной гордостью
вновь воспевает «землю ту, где мы с
тобой живем судьбой завидной». И вновь
обращает слова любви к России и
русскому народу, благодаря которому эту
завидную судьбу обрели все народы
нашей многонациональной Родины.
«Наедине с тобой, Россия, я, как с
любимой, говорю»,— признается поэт и,
развивая эту тему в «Стихах о моей
России», продолжает:
И в радостный день и в печальный
С тобою я связан судьбой.
Тебе я не родственник дальный,
Россия, а сын твой родной.
Свою сыновнюю верность России поэт
доказал в ее «печальный день», когда он
вместе с сынами других народов пошел
на смертельную схватку с фашистской
нечистью, когда он, «...голосу совести
внемля, солдатской дорогой идя,
сражался за русскую землю, по-русски себя не
щадя».
Поэт хорошо помнит, какой ценой
достались нам свобода и солнечное небо,
он помнит о павших под Сталинградом,
о заживо погребенных под Керчью, о
друзьях и братьях боевых, «в печах
Майданека сгоревших»; он помнит о
«вдовах безутешных» и «плаче
сиротском по России» и потому так озабоченно
требует от всех и каждого не забывать
об этом сегодня, когда «фабриканты
смерти» снова зашевелились в своих
«змеиных гнездах».
При всем тематическом разнообразии
стихов, составивших новую книгу А.
Гарнакерьяна, одна тема выделяется в ней
особо. Я имею в виду стихи о любви,
отмеченные глубокой искренностью
чувств и чистотой. Достоинства истинной
поэзии измеряются ее способностью
пробуждать и развивать в душе человека
благородное и прекрасное. И в этом
смысле достоинства стихов А.
Гарнакерьяна бесспорны.
Хазби Булацев
■ Иван БЕЛЯКОВ.
тимошкин ковш.
«Советская Россия», 1969.
Кто из детей не любит солнце,
особенно когда оно отражается в капельке росы,
что притаилась где-нибудь среди листвы!
Росинка так мала, но в ней поместилось
большое солнце. Яркое, радужное, как
само детство.
И вот какая история приключилась с
этой росинкой. Играла весной Иволга и
склевала эту росинку-солнце, как
зернышко, а сама стала от этого
ярко-золотой... И зазвенела в бору серебряным
ручьем песня птички. А сама Иволга
будто маленькое солнце...
224
Короткие рецензии #
Сколько светлых, маленьких историй
про птичек — «до чего ж неугомонны и
в работе горячи наши новые соседи —
черномазые грачи!»,— сколько добрых
стихов про них сложено в этой красочной
книжечке! И называется она «Тимошкин
ковш». Написал ее Иван Беляков,
детский поэт из Краснодара.
Книга предназначена для детей
младшего школьного возраста.
Как-то мальчик, держа в руках эту
книжку, сказал:
— Красивая... Она здорово красивая!
С самой обложки, где нарисован
большой кленовый лист и на краешке его
маленькая «божья коровка», она
настраивает юного читателя на раздумье,
пробуждает в нем воображение. Открываем
одну страничку, другую и еще раз
убеждаемся, что не ошиблись: книга радует
фантазией художника, щедрыми
красками, обилием рисунков (художник Ю. Ку-
рышев). Рисунки и стихи, помещенные
е сборнике, настолько гармоничны,
поэтично сплавлены, что думаешь: не
писались ли и не рисовались ли они одной
рукой?
И. Беляков в детской литературе
известен, пожалуй, больше как лирик,
умеющий тонко схватить существо
природы, найти для поэтического образа
новые оттенки. Мы искренне радуемся его
находкам.
«А почему же так в траве кузнечики
волнуются? И ромашки с белыми
крылышками, и колокольчики, и
незабудки — все цветы праздничны...»
Оказывается,
Сегодня
По прыжкам в длину
У них соревнование.
Овладев азбукой природы, чувствуя
глубину поэтического образа, ребенок
начинает жить жизнью прекрасного
мира, и от этого отзывчивее становится
его душа, богаче внутренний мир.
Стихи И. Белякова подкупают
простотой и какой-то необыкновенной
прозрачностью — это мастерство кружевниц,
умеющих ткать узоры, от которых
трудно оторвать глаз.
Евгений Белякин
Главный редактор В. А. КОЧЕТОВ.
Редакционная коллегия: С. П. БАБАЕВСКИЙ, С. А. ВАСИЛЬЕВ, Н. А. ГОРБАЧЕВ (зам.
главного редактора), В. Г. ГОРДЕЙЧЕВ, Ю. В. ИДАШКИН (отв. секретарь),
А. П. КЕШОКОВ, Д. Ф. КРАМИНОВ, М. Д. МИХАЛЕВ, А. А. ПЕРВЕНЦЕВ,
А. А. ПРОКОФЬЕВ, П. С. СТРОКОВ (зам. главного редактора).
Технический редактор 3. Семенова.
Адрес редакции: Москва, А-47, ул. «Правды», д. 11/13.
Телефон главного редактора — 251-62-05, заместителя гл. редактора и ответственного
секретаря — 251-63-64, отделов: прозы — 251-71-34, поэзии — 251-74-67, критики —
251-69-37, публицистики — 251-60-24.
А 00410. Подписано к печати 25/IX 1969 г. Формат бумаги 70X108Vi6.
Объем 19,60 усл. печ. л. 22,24 учетн.-изд. л. Тираж 140 000 экз. Изд. № 1876. Зак. № 2384.
Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва. А-47, ул. «Правды», 24.