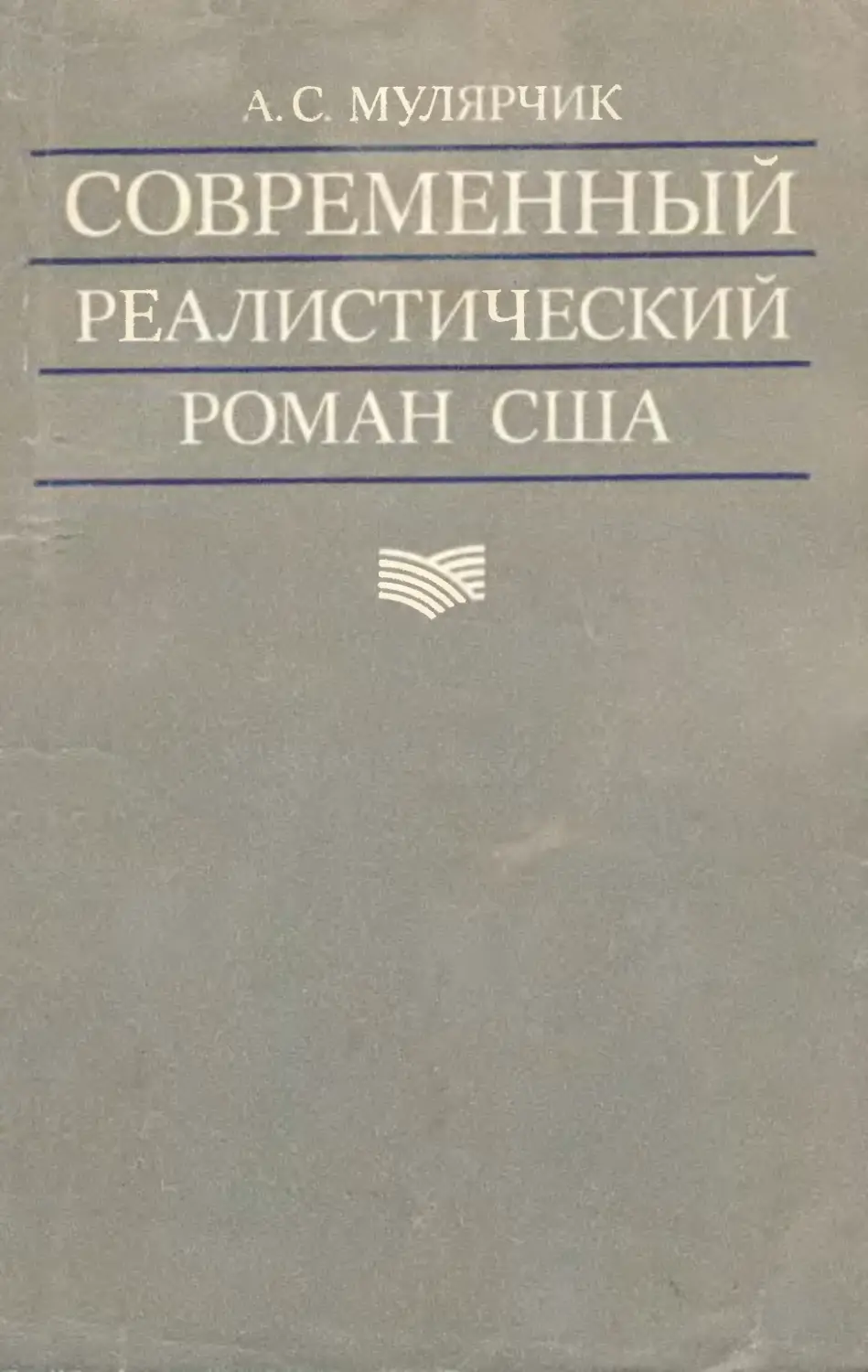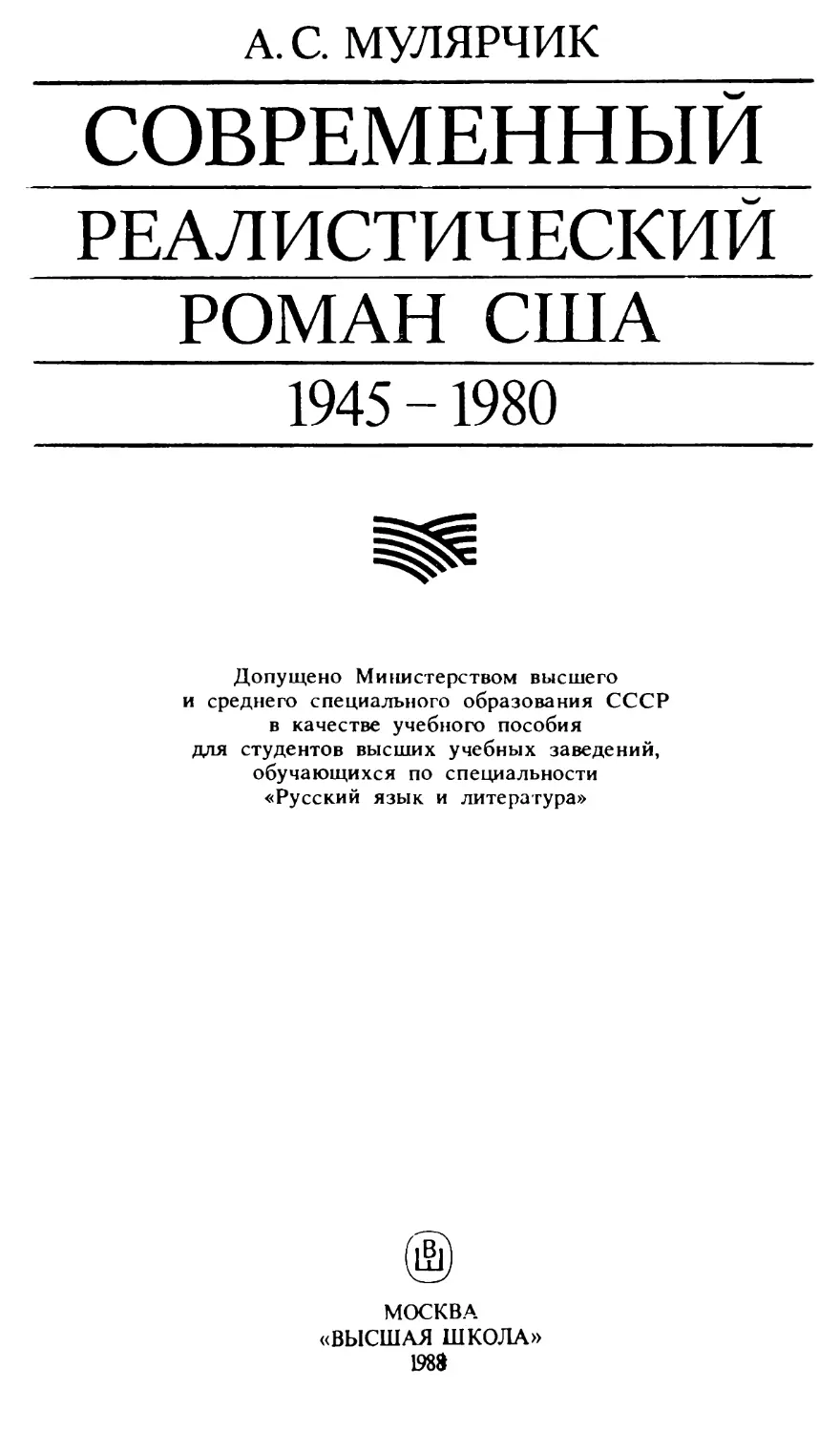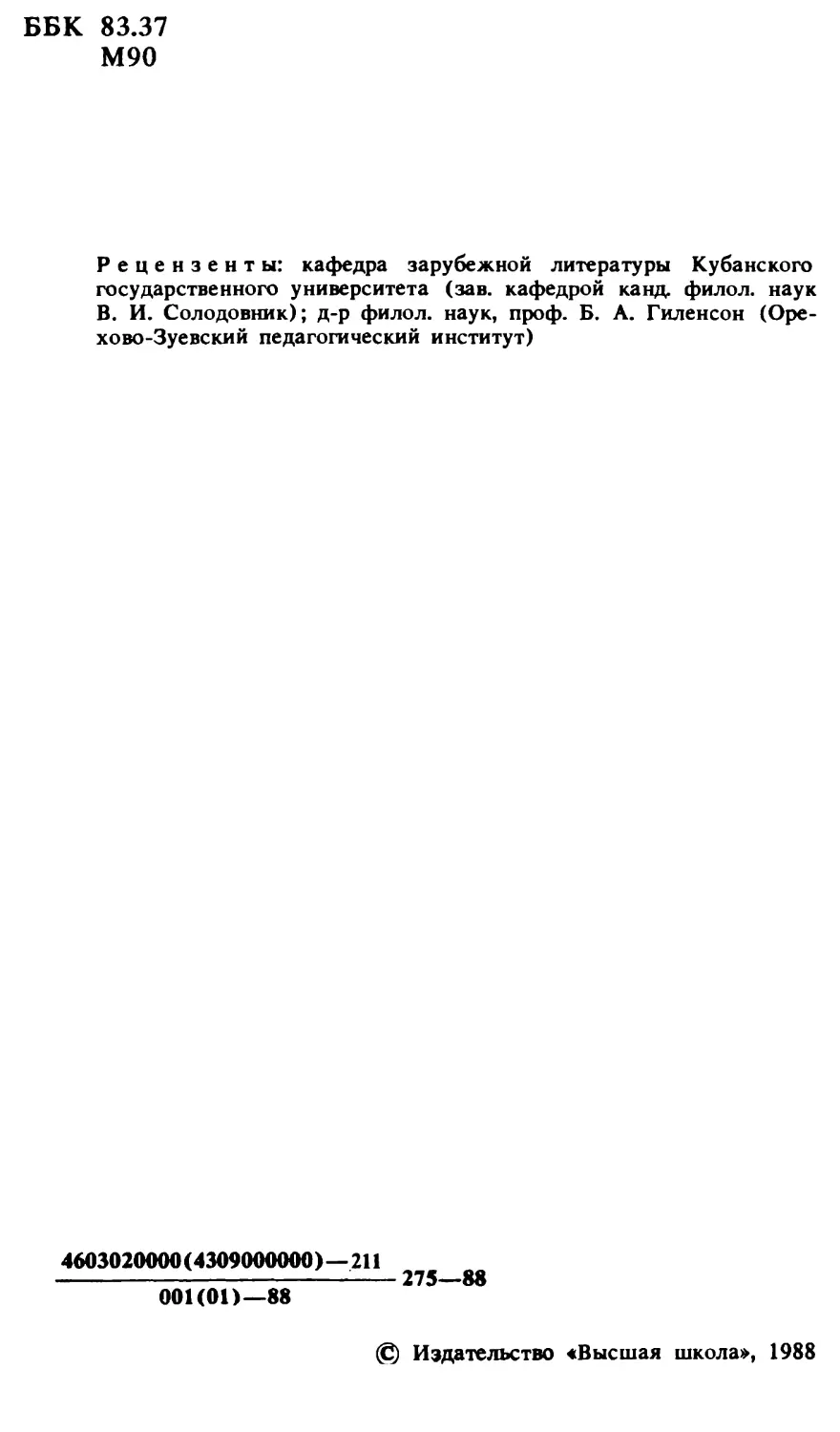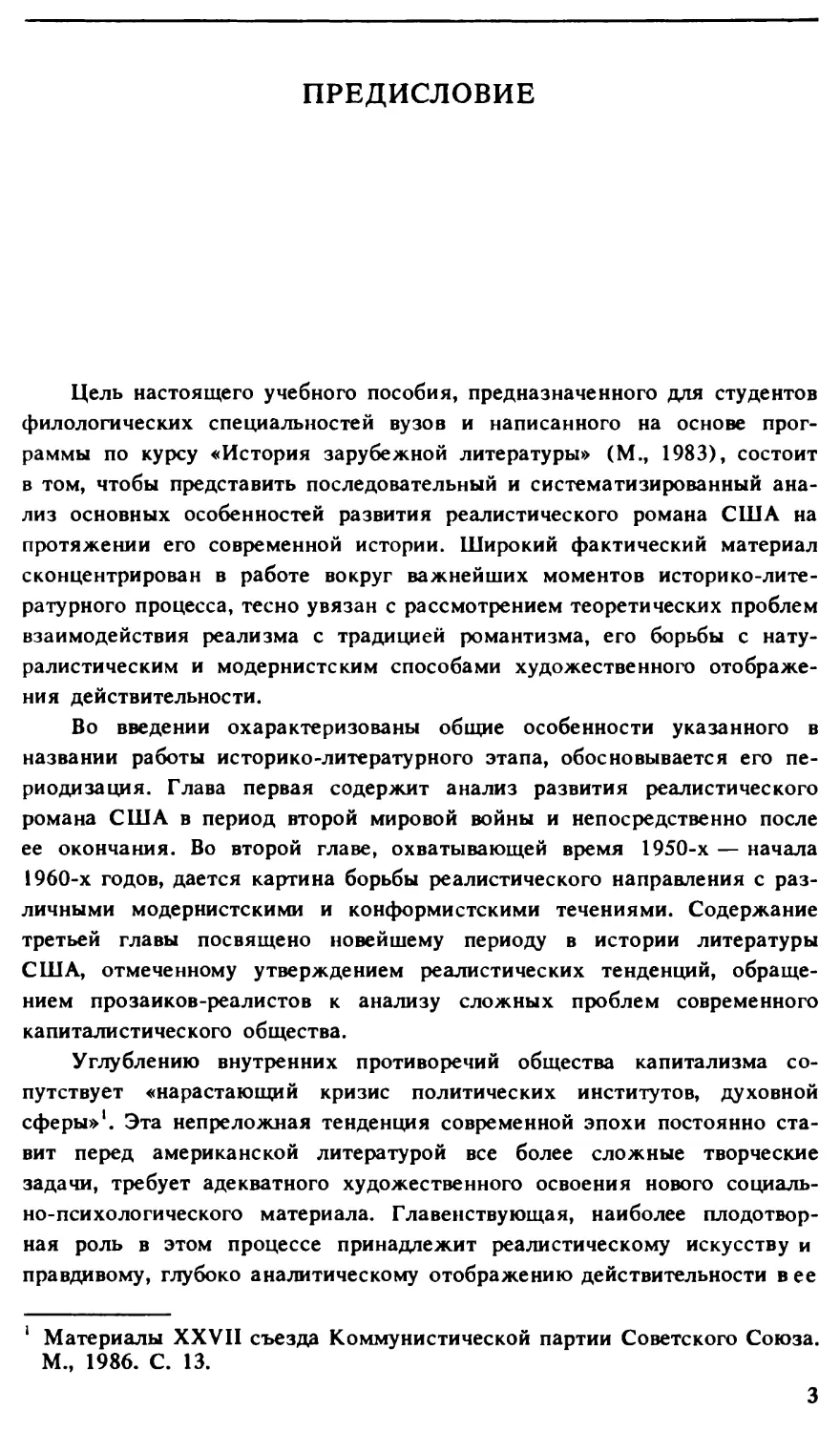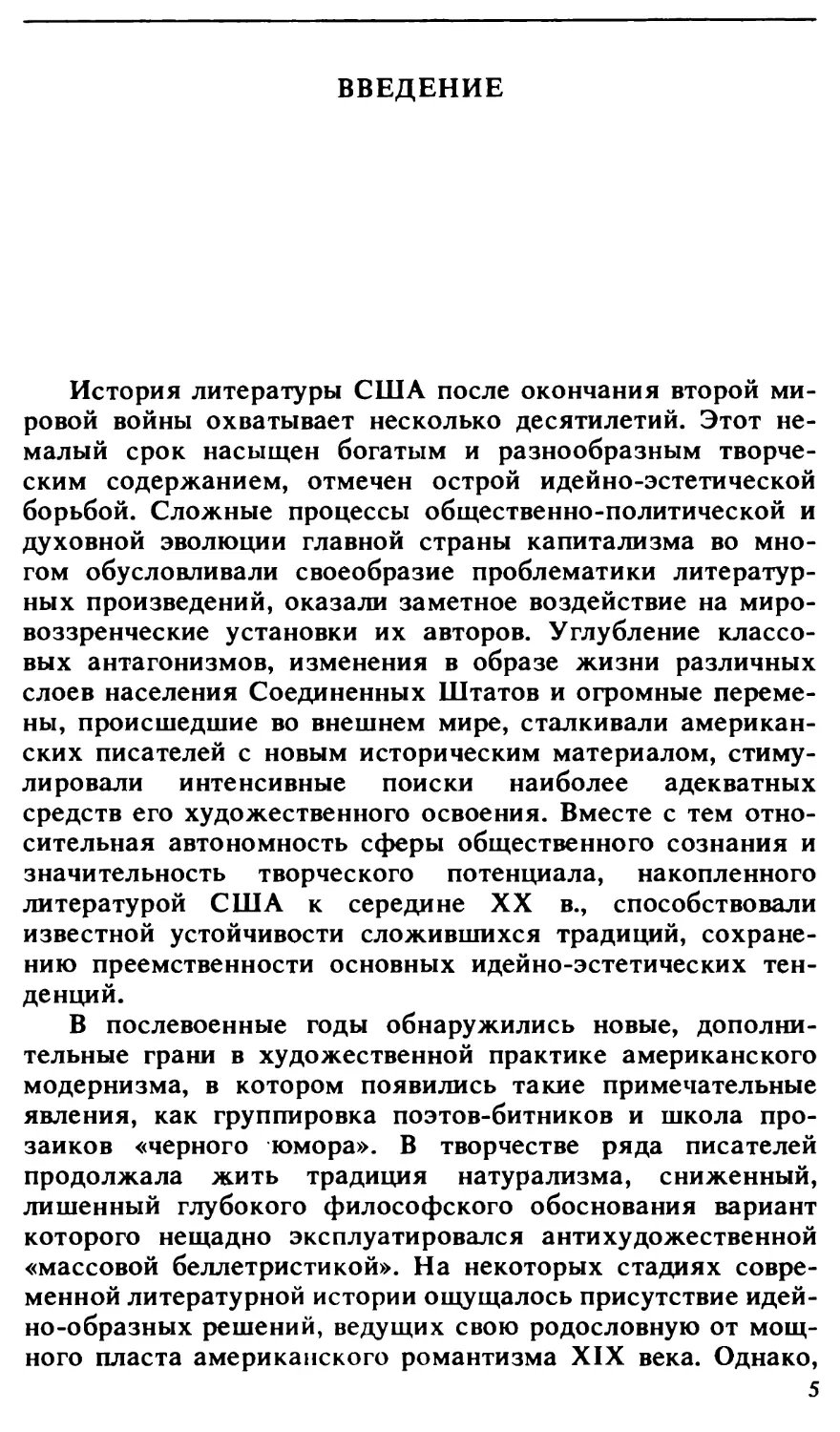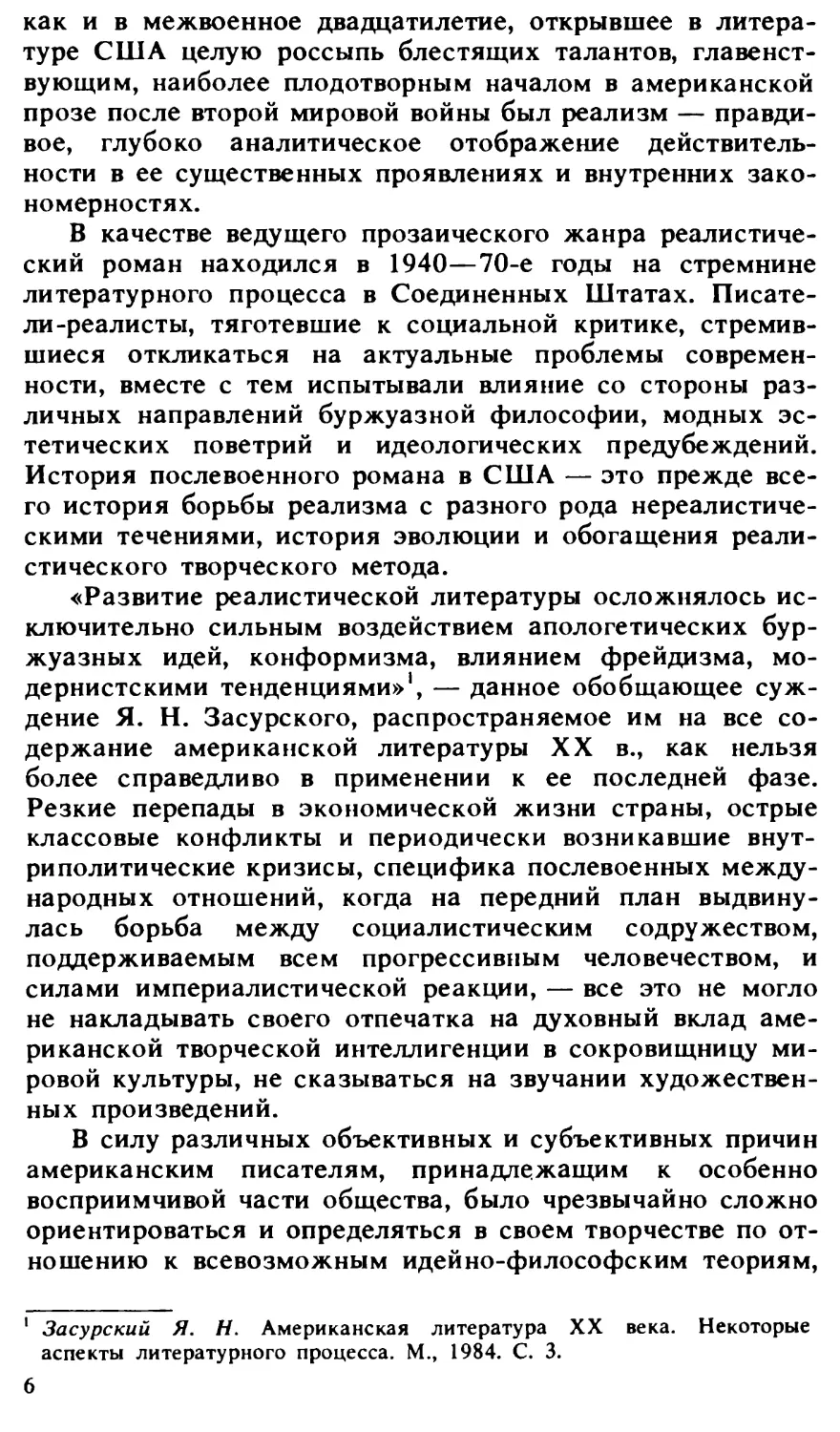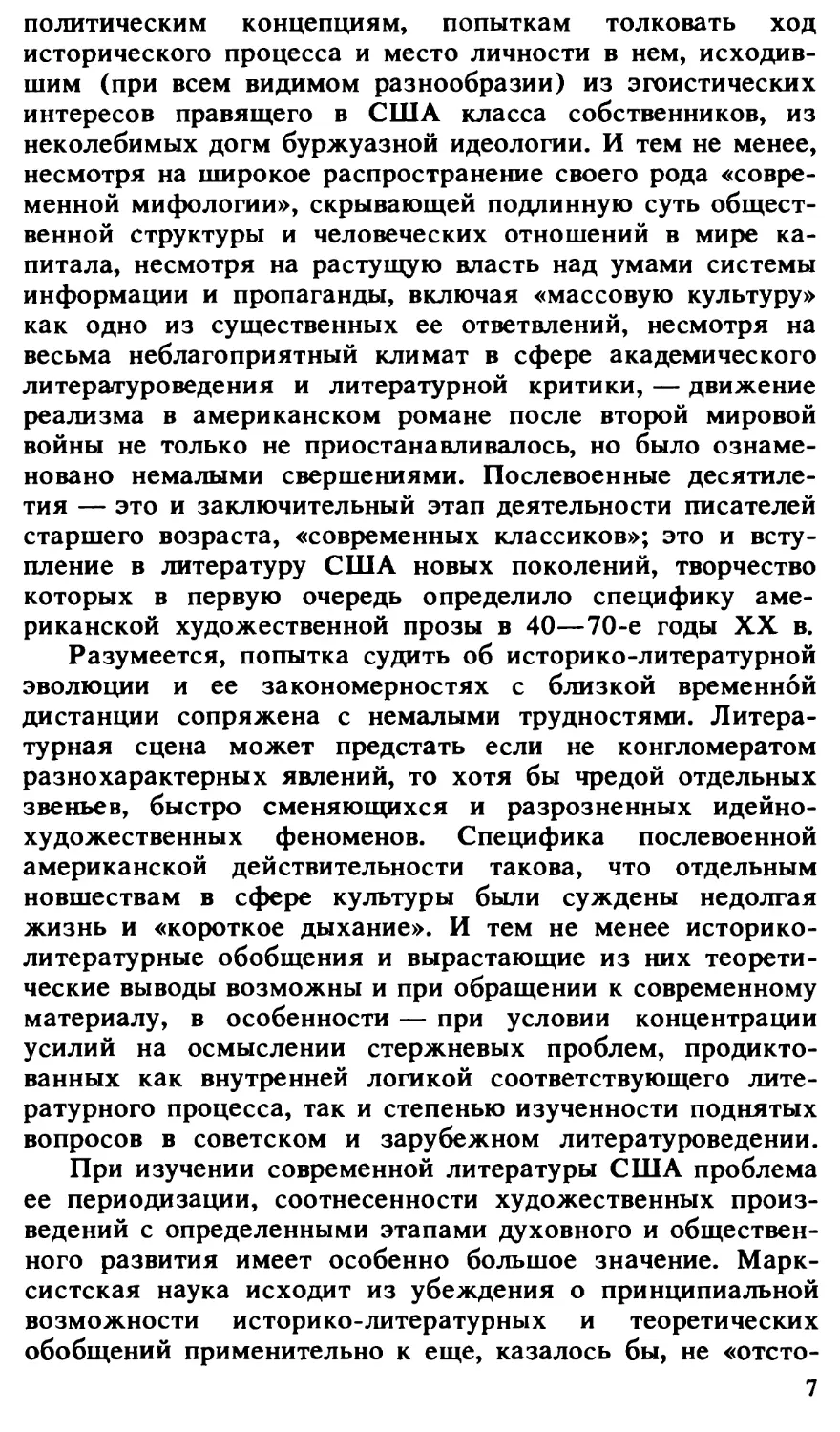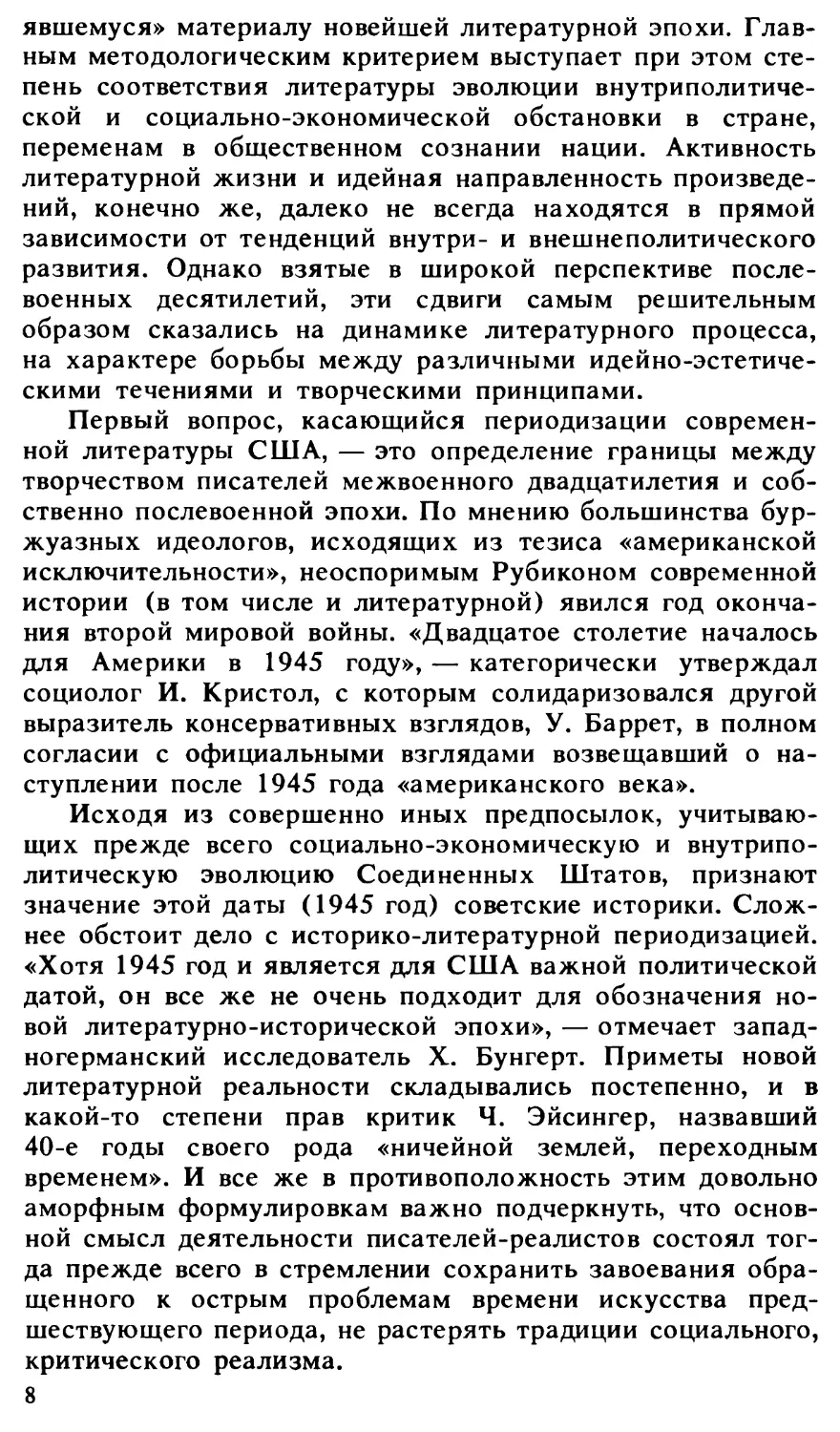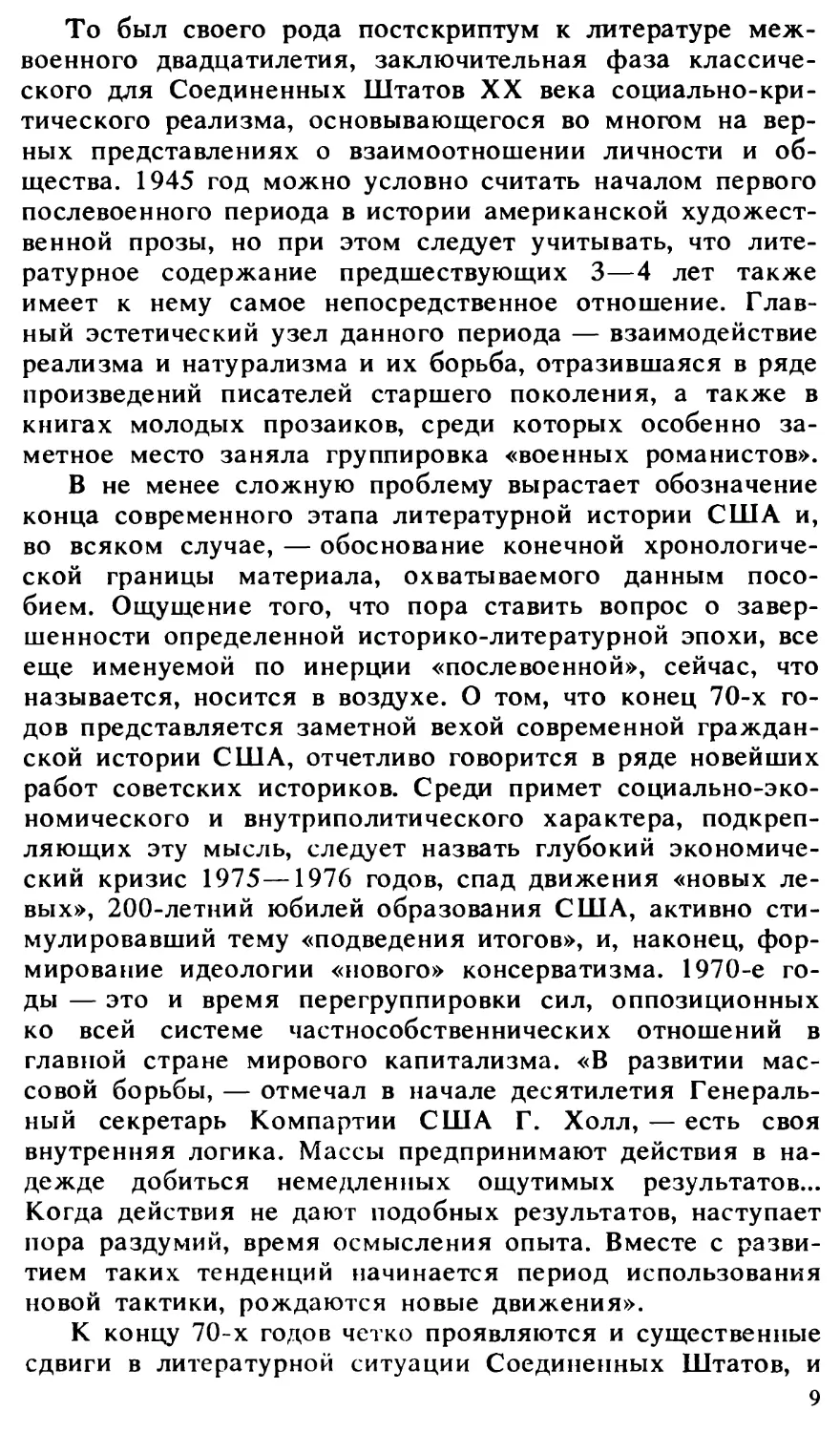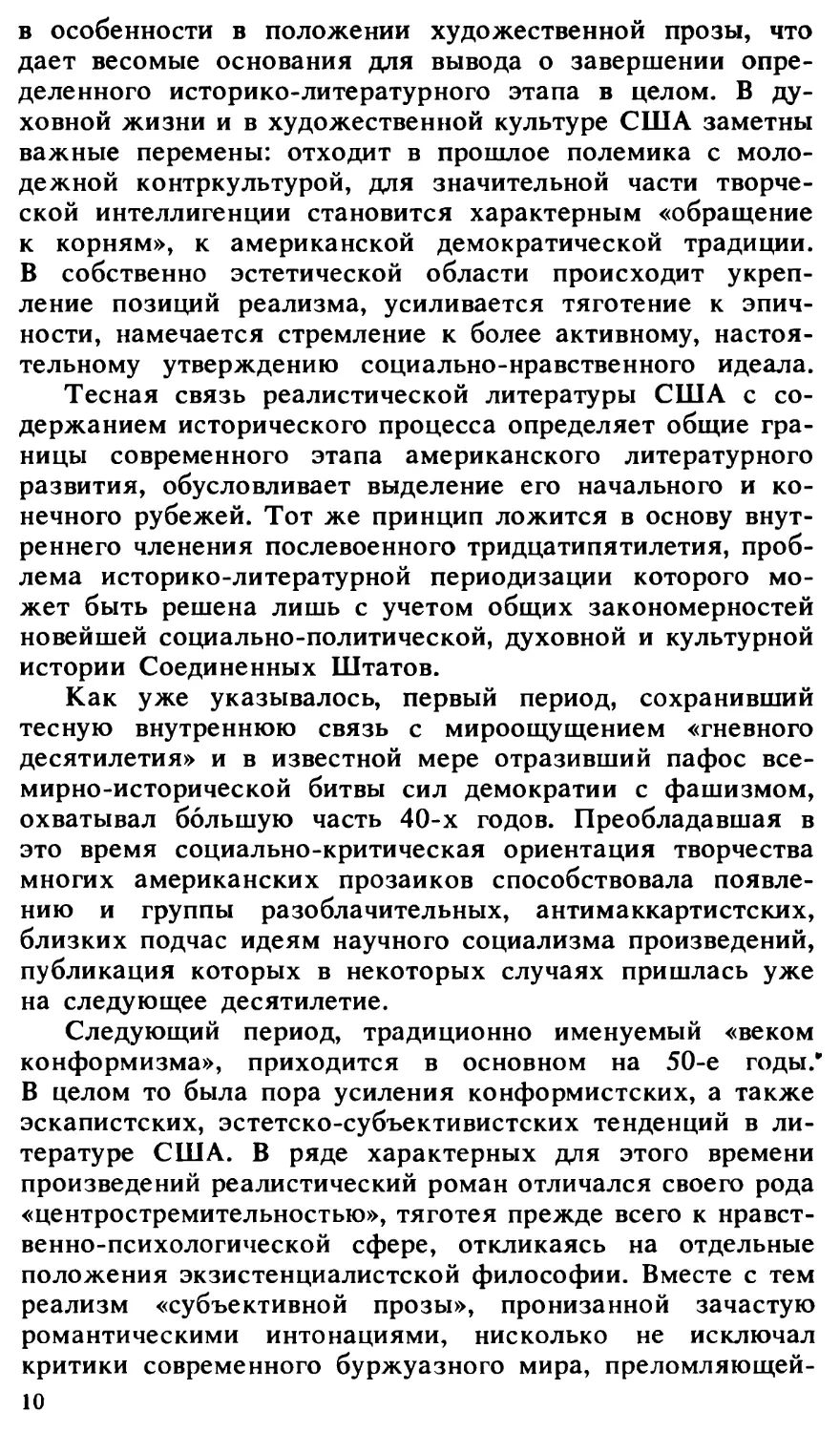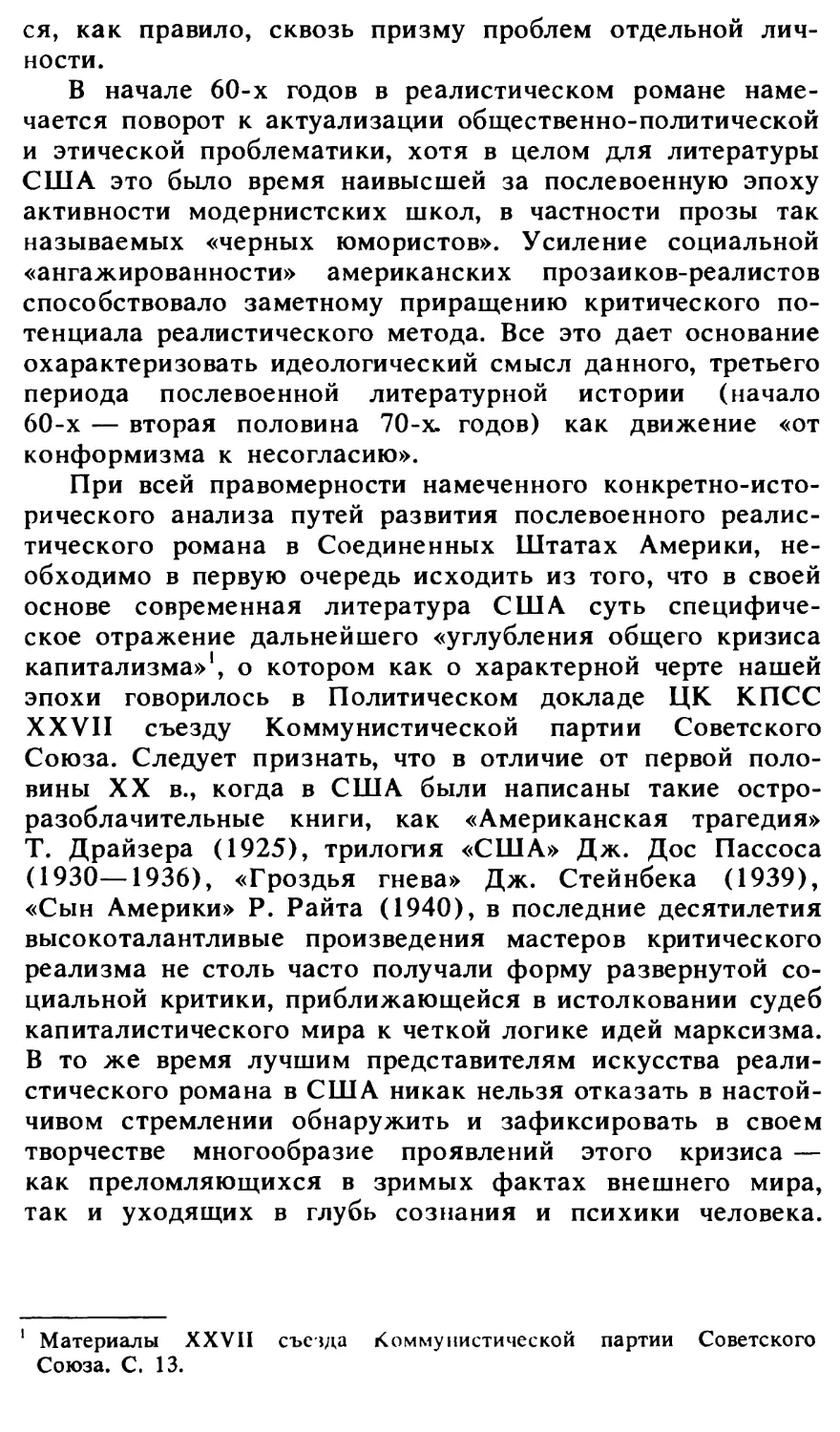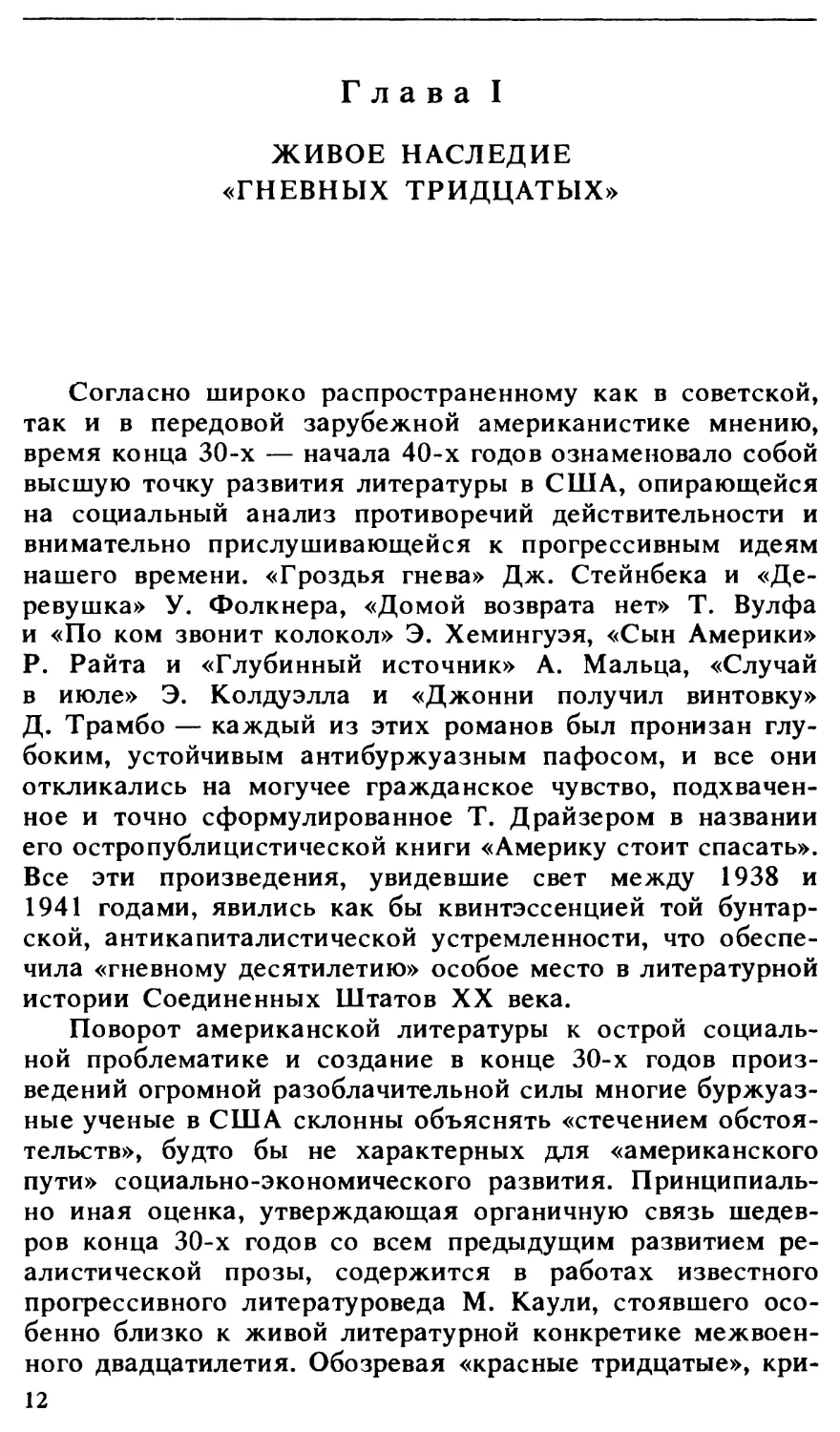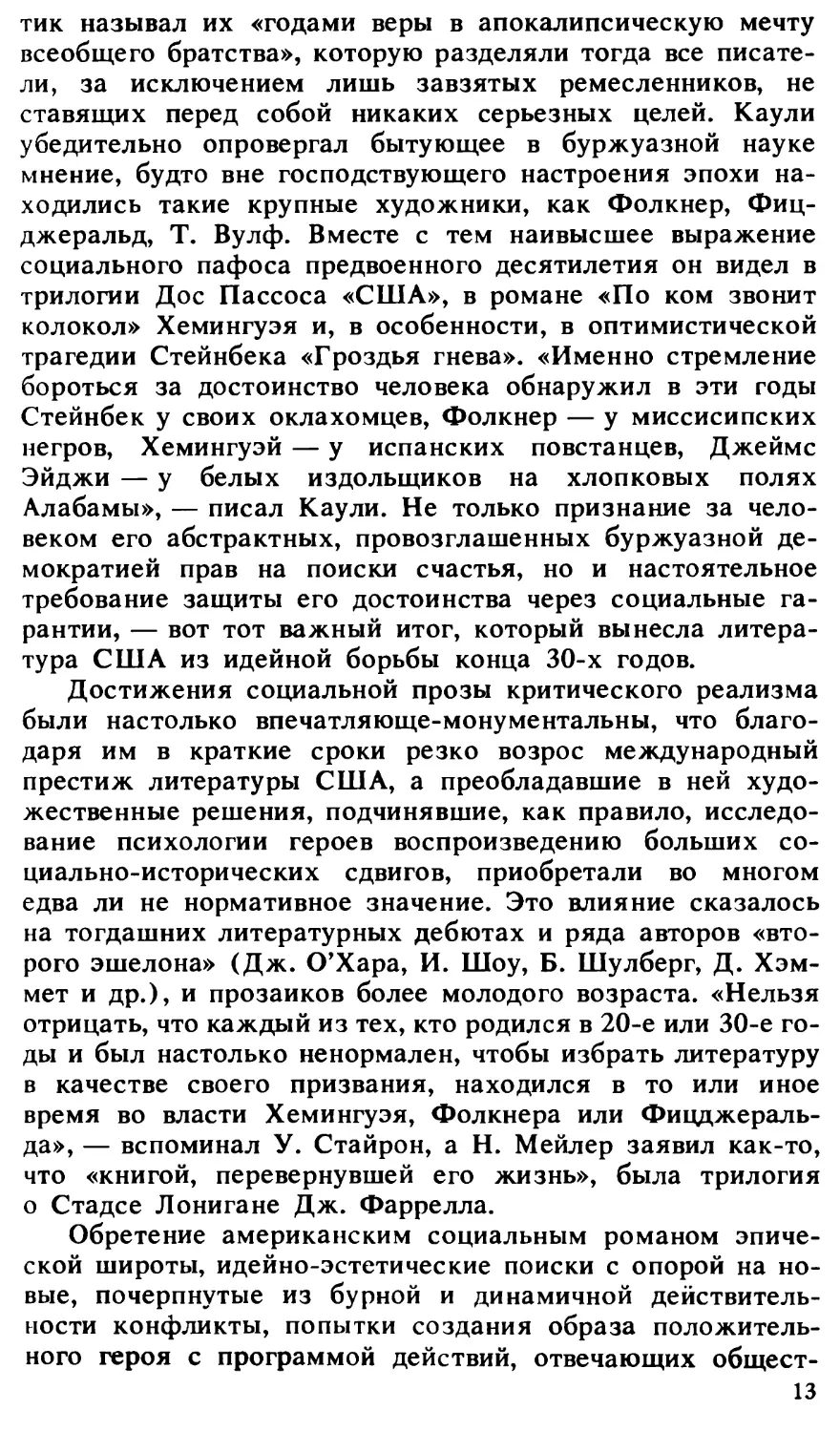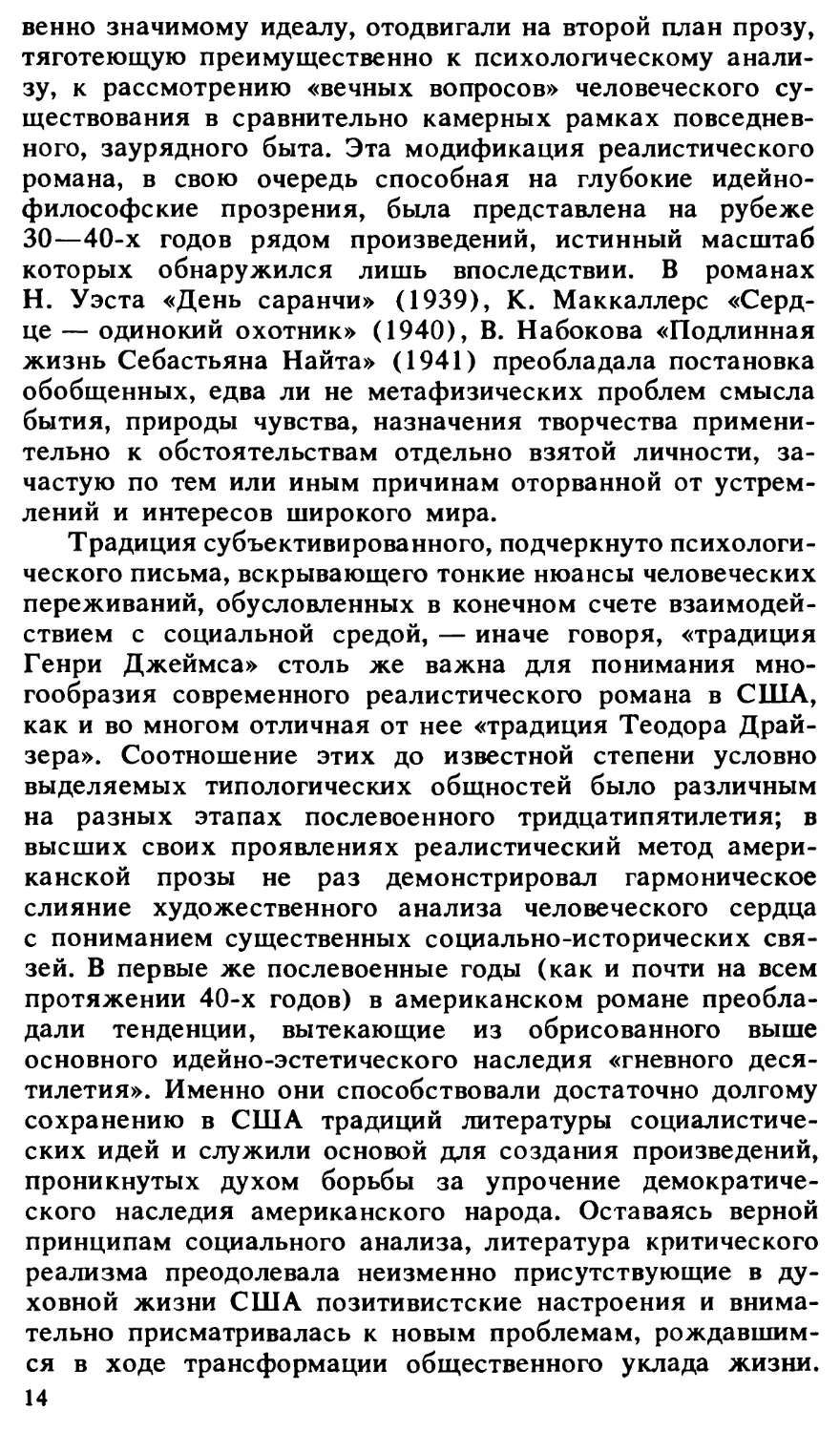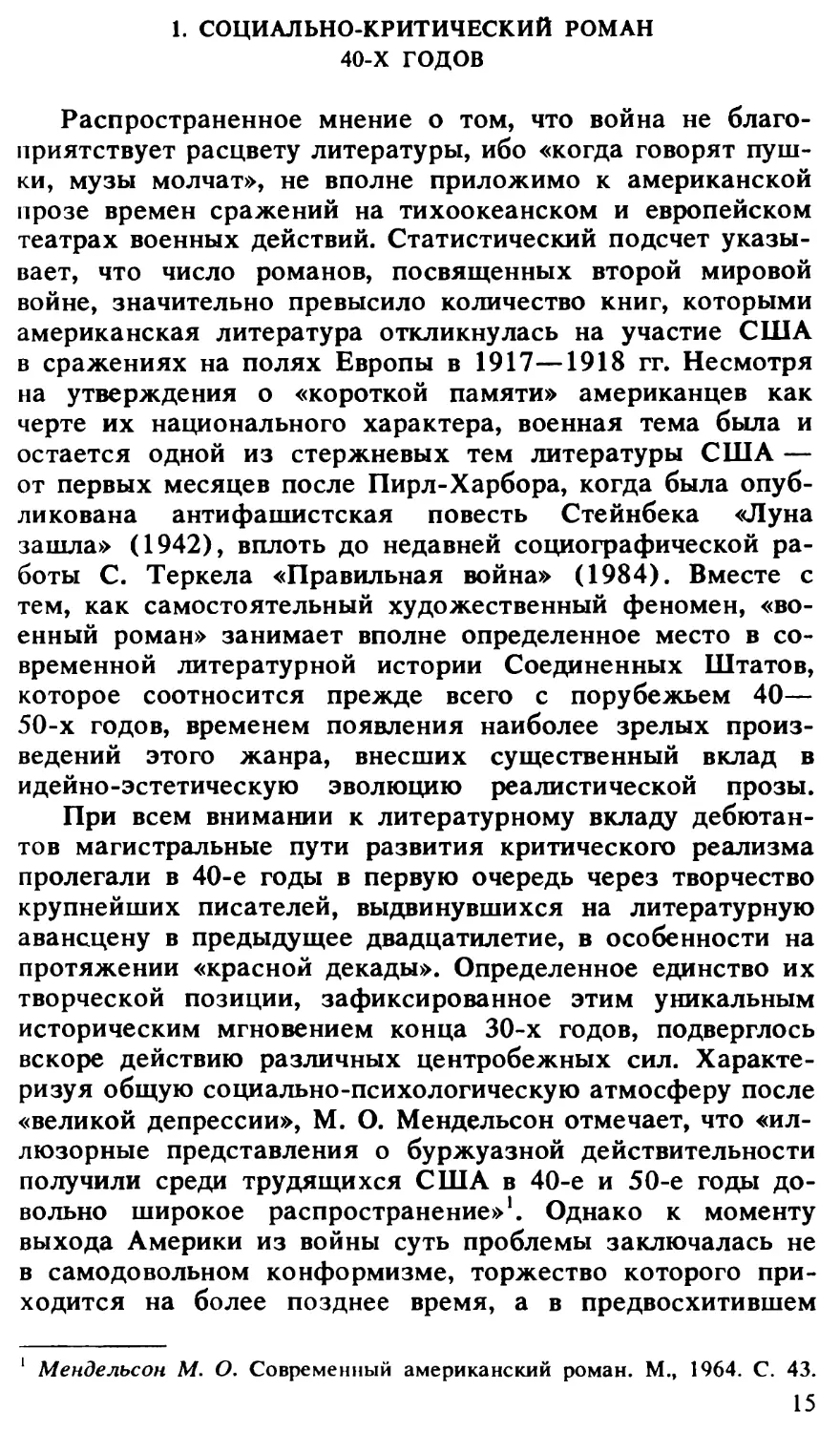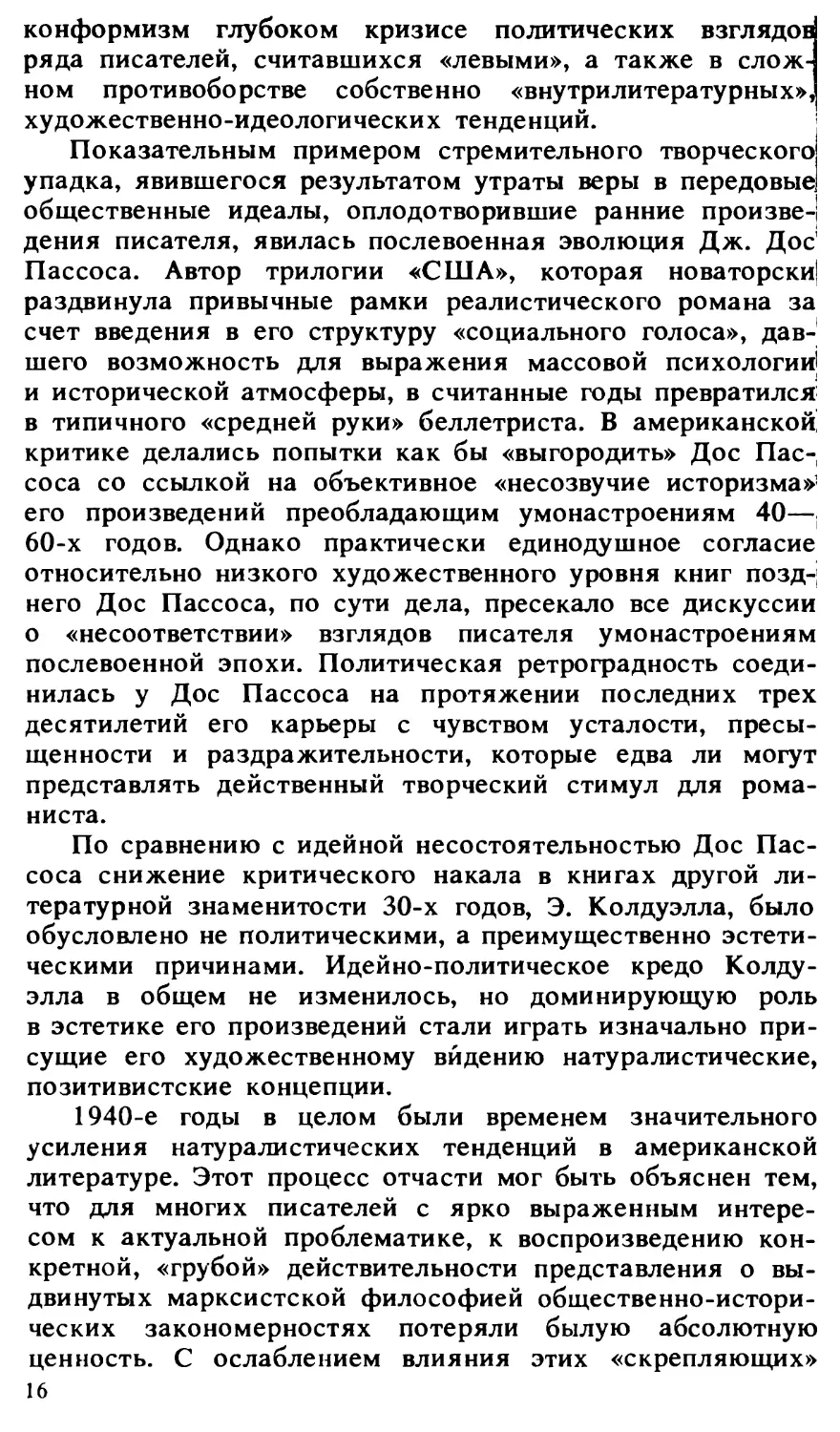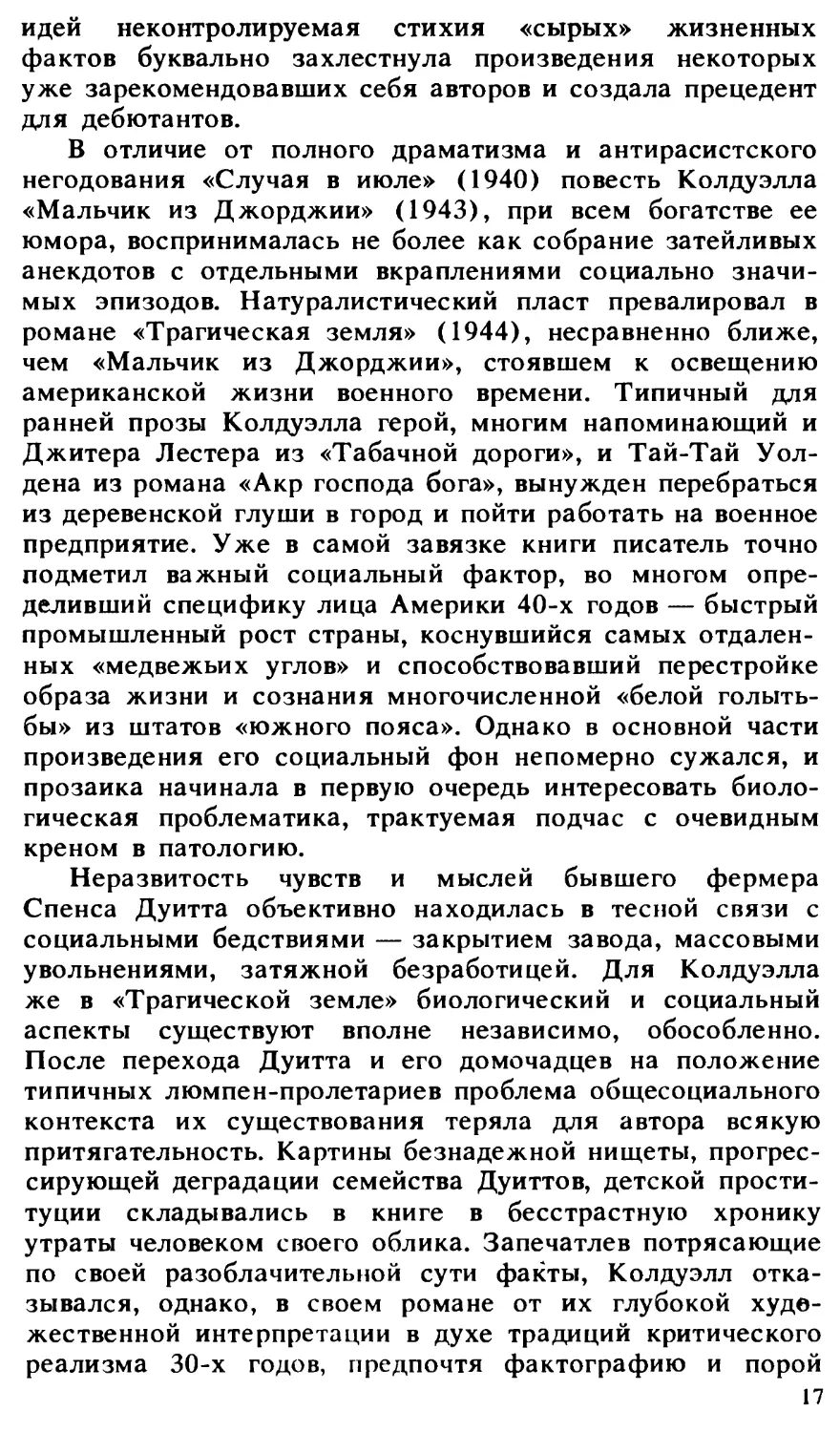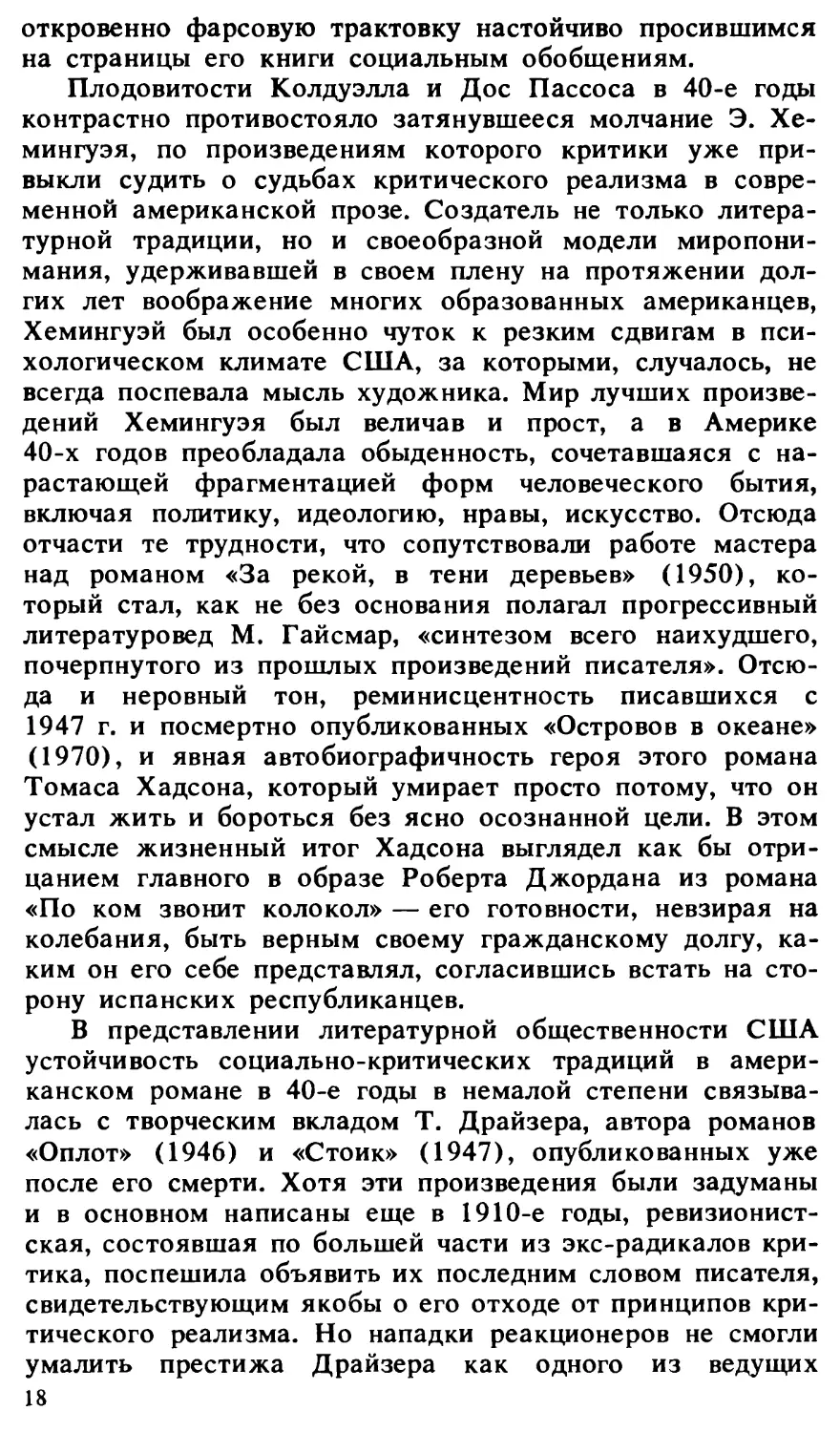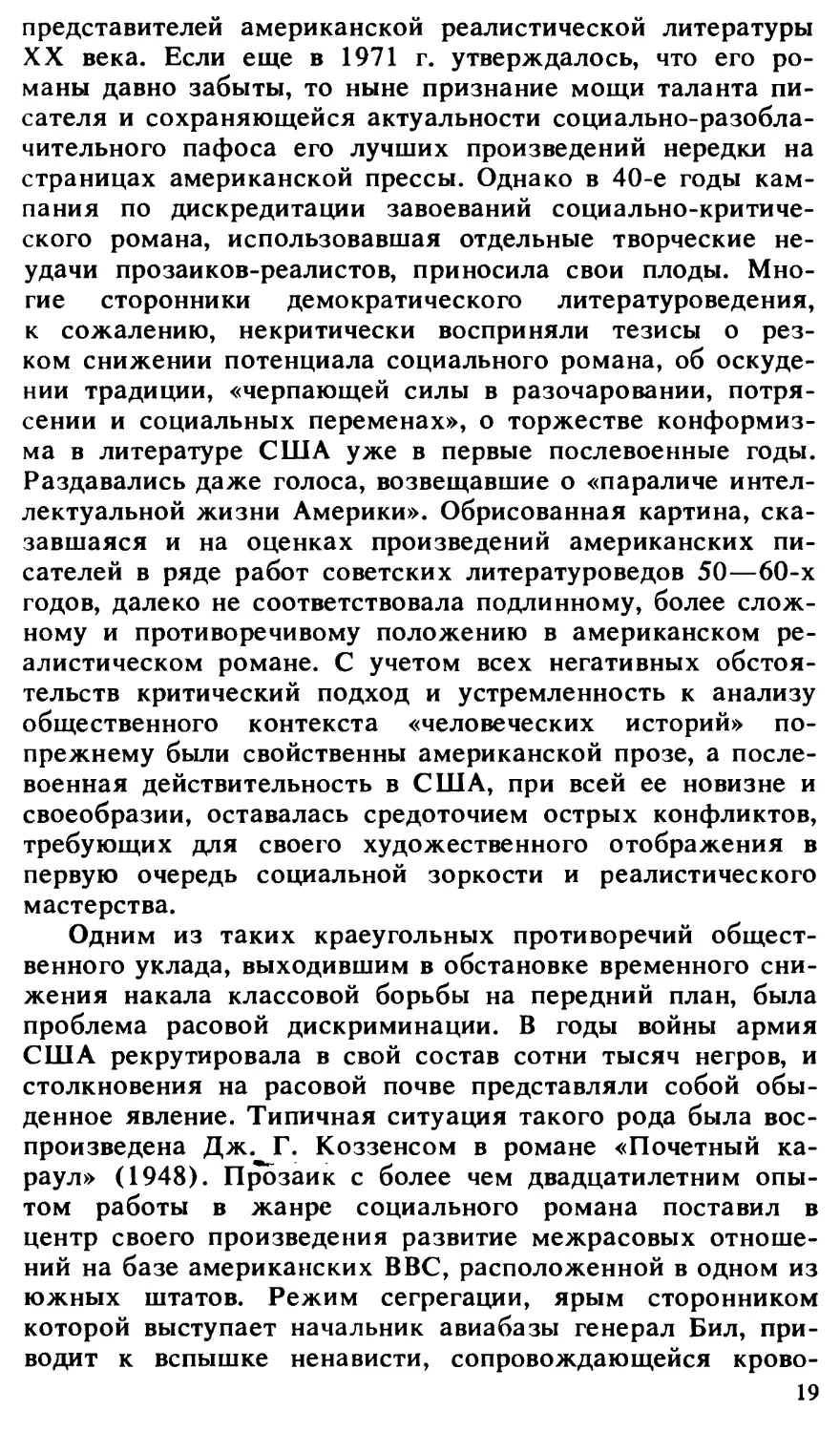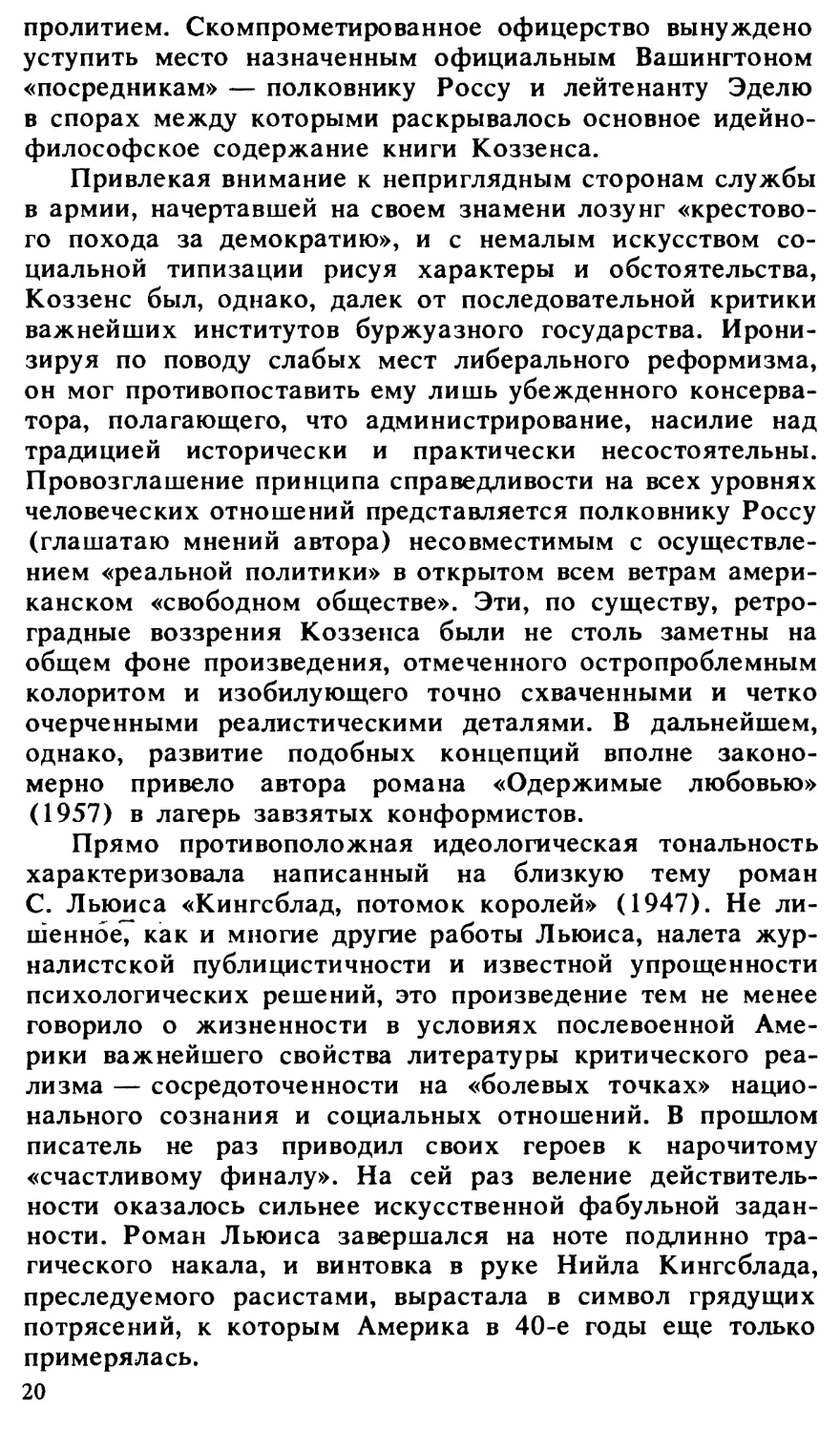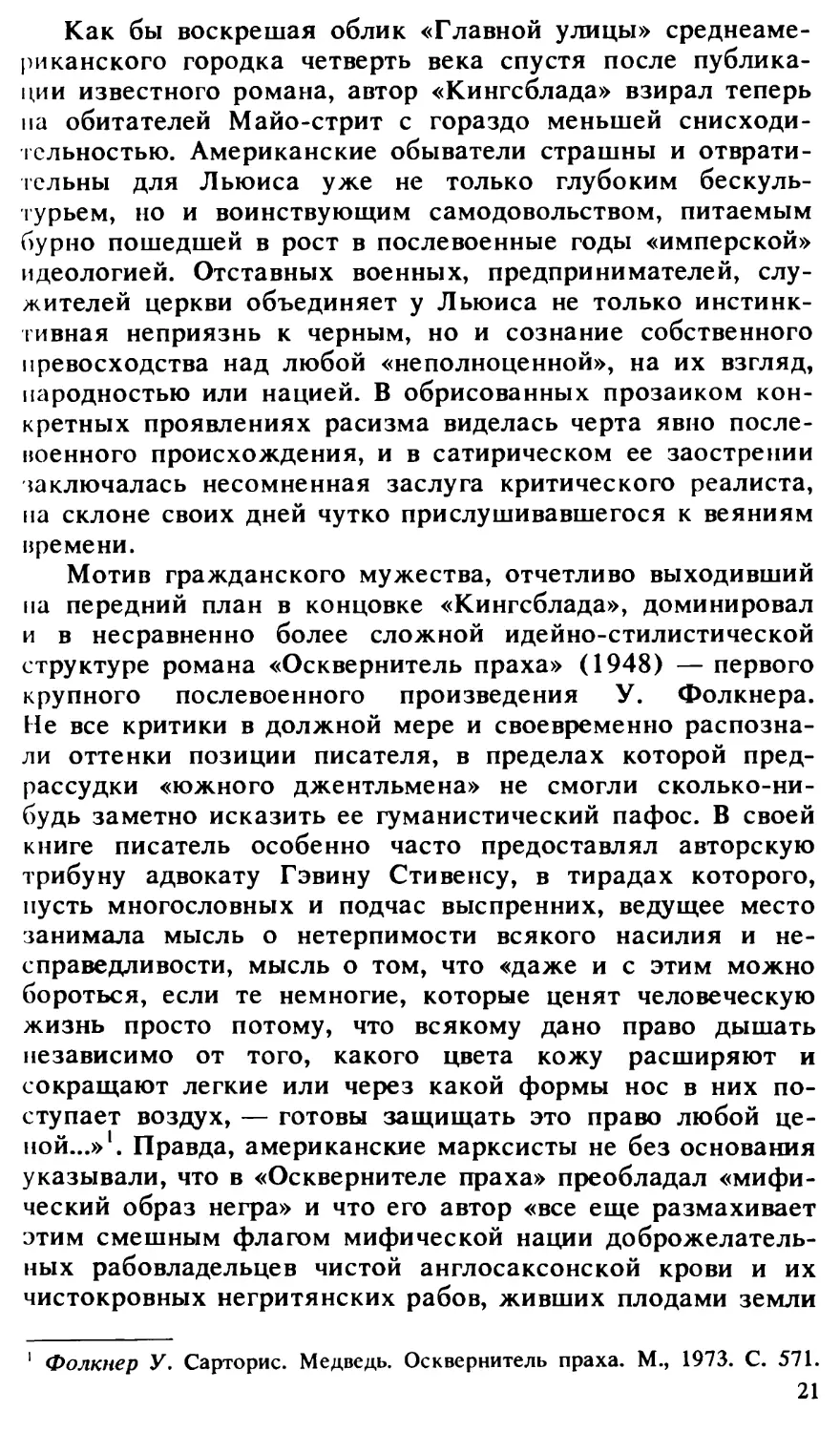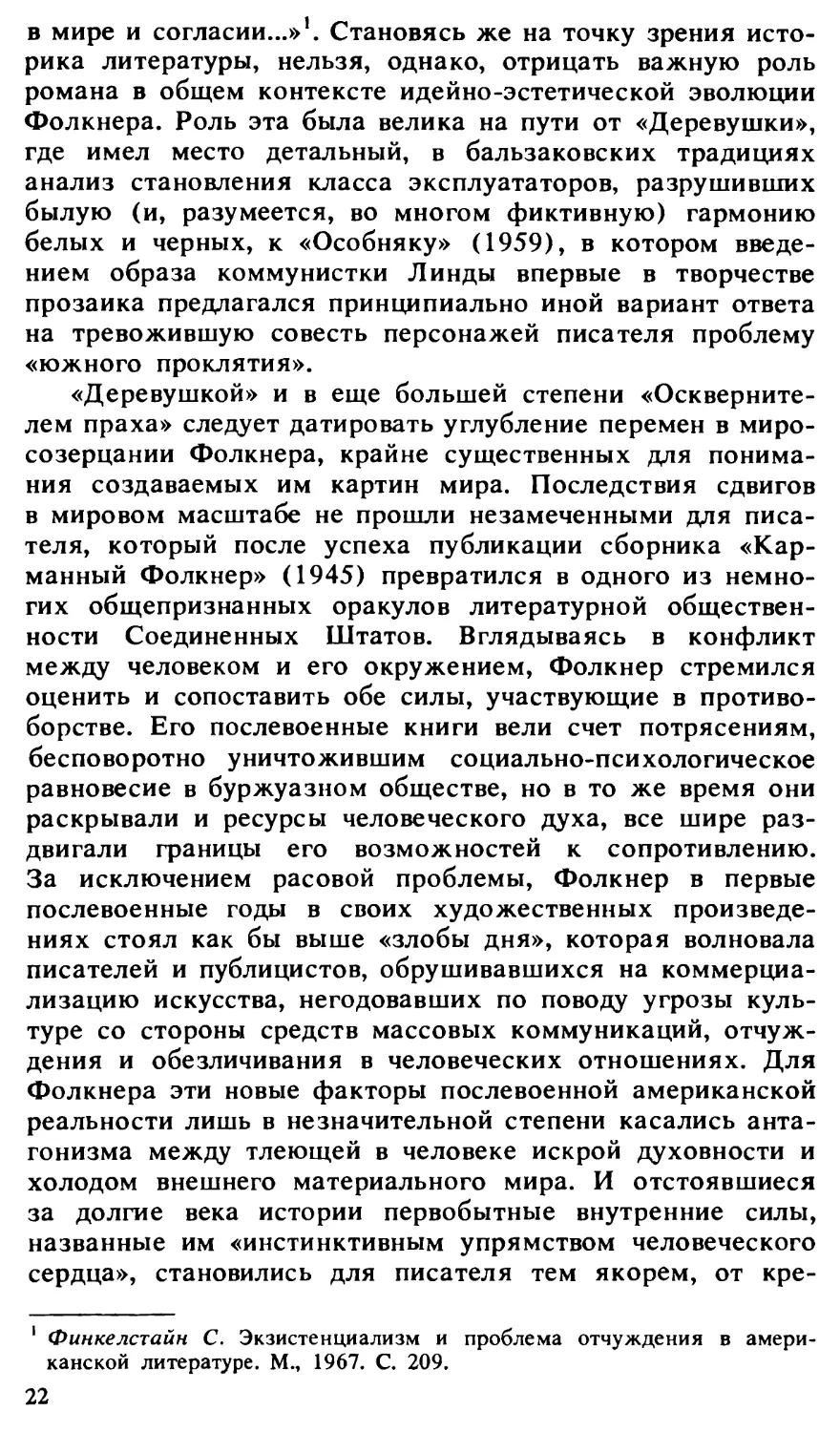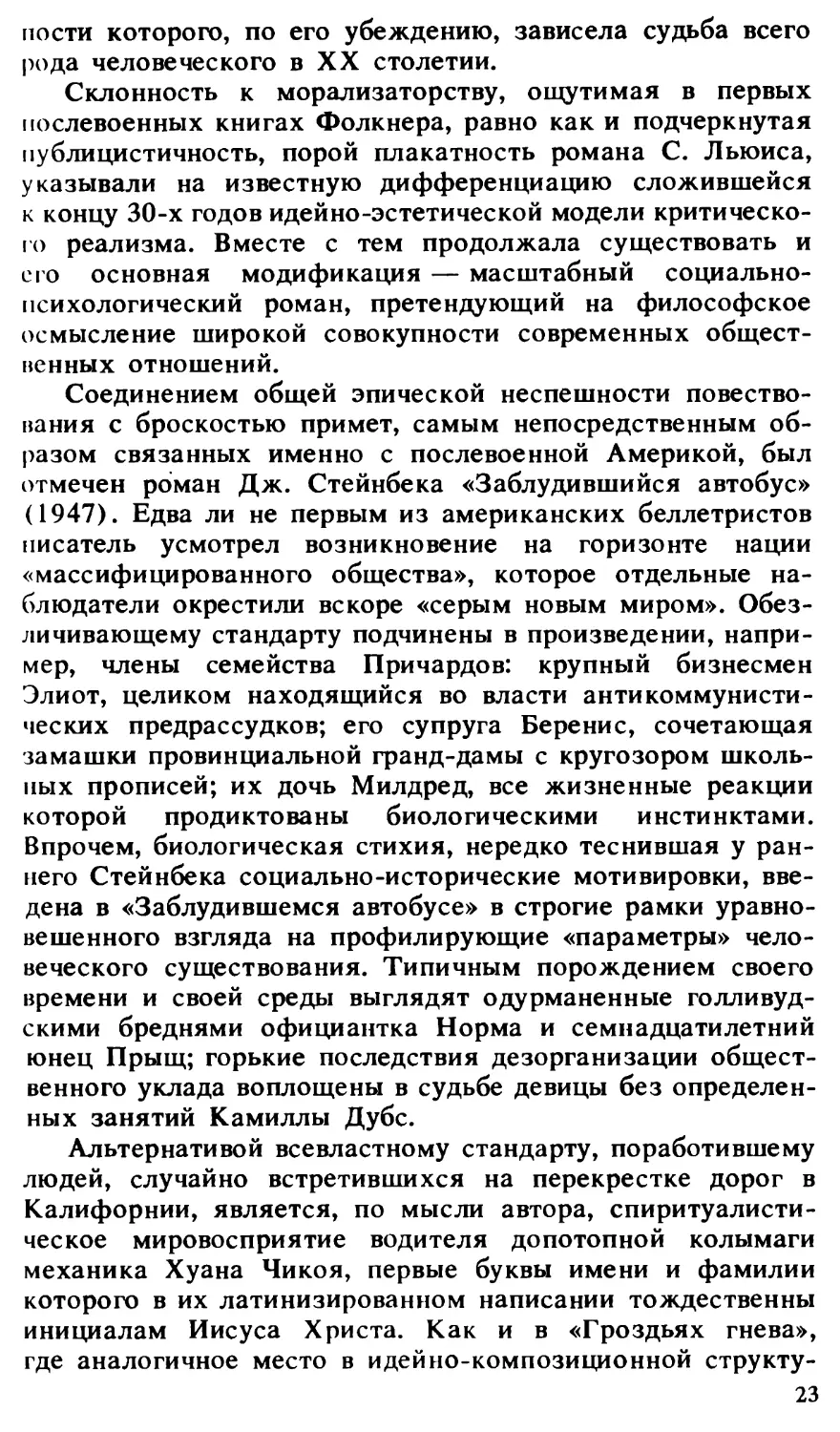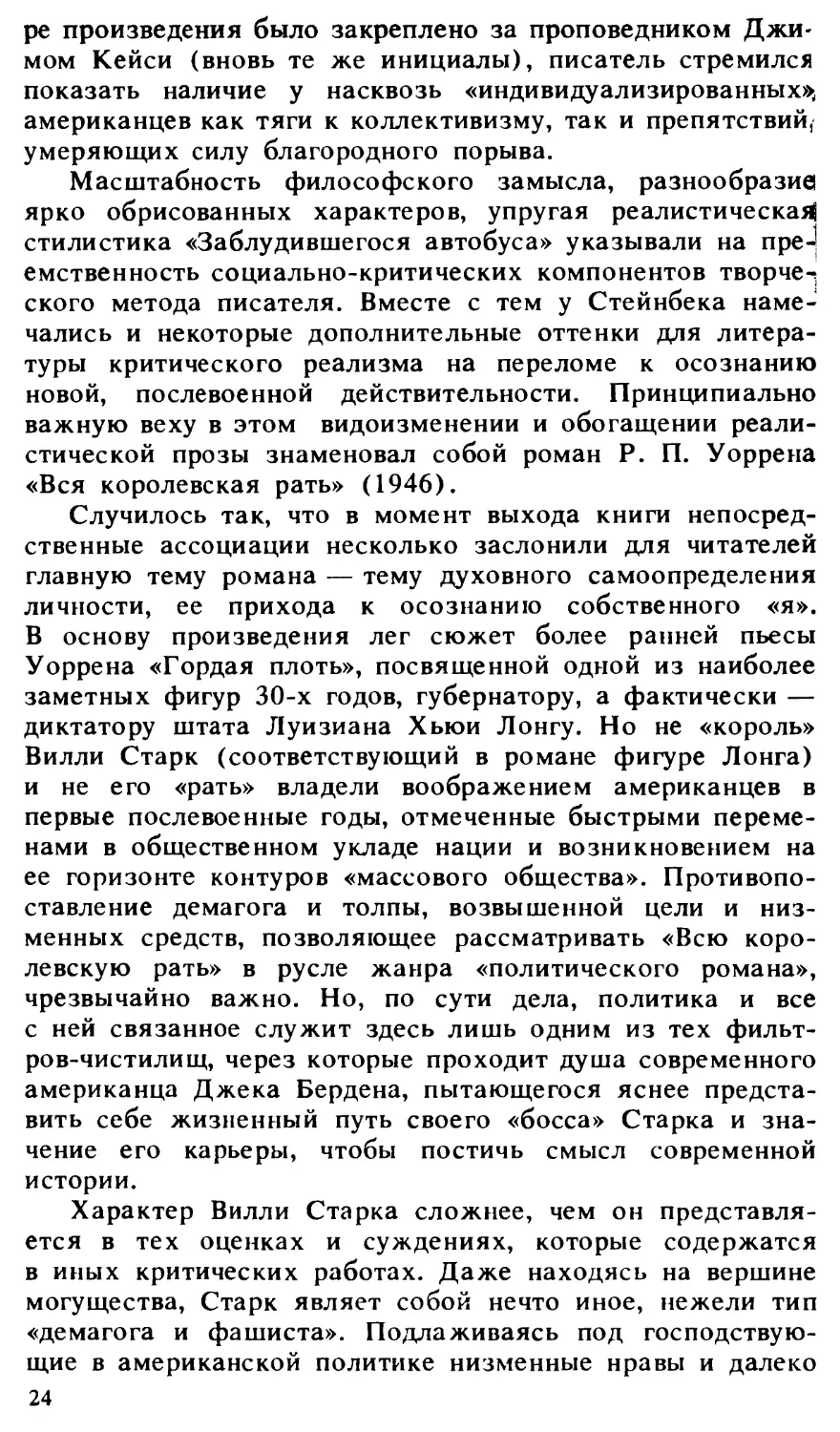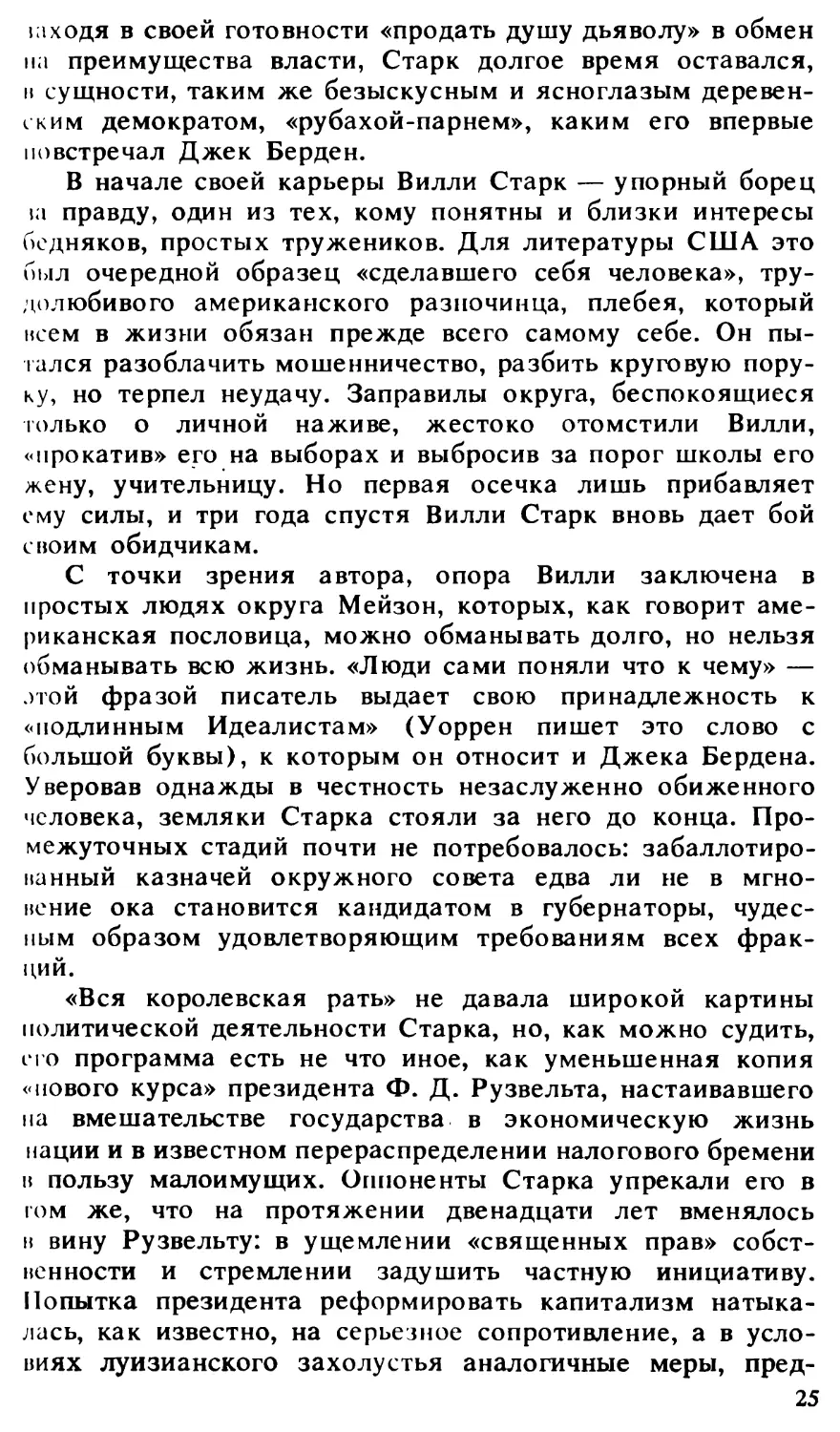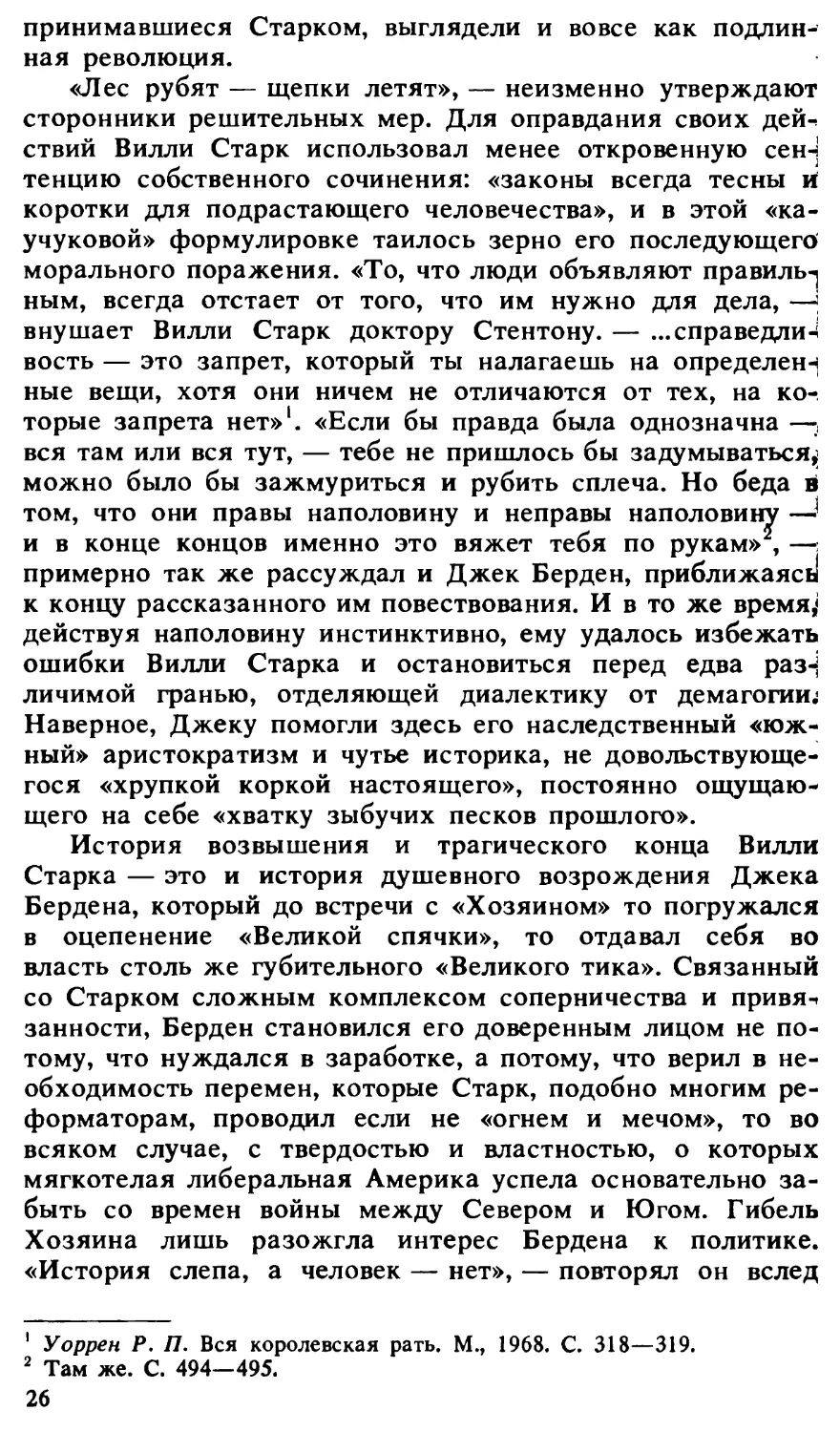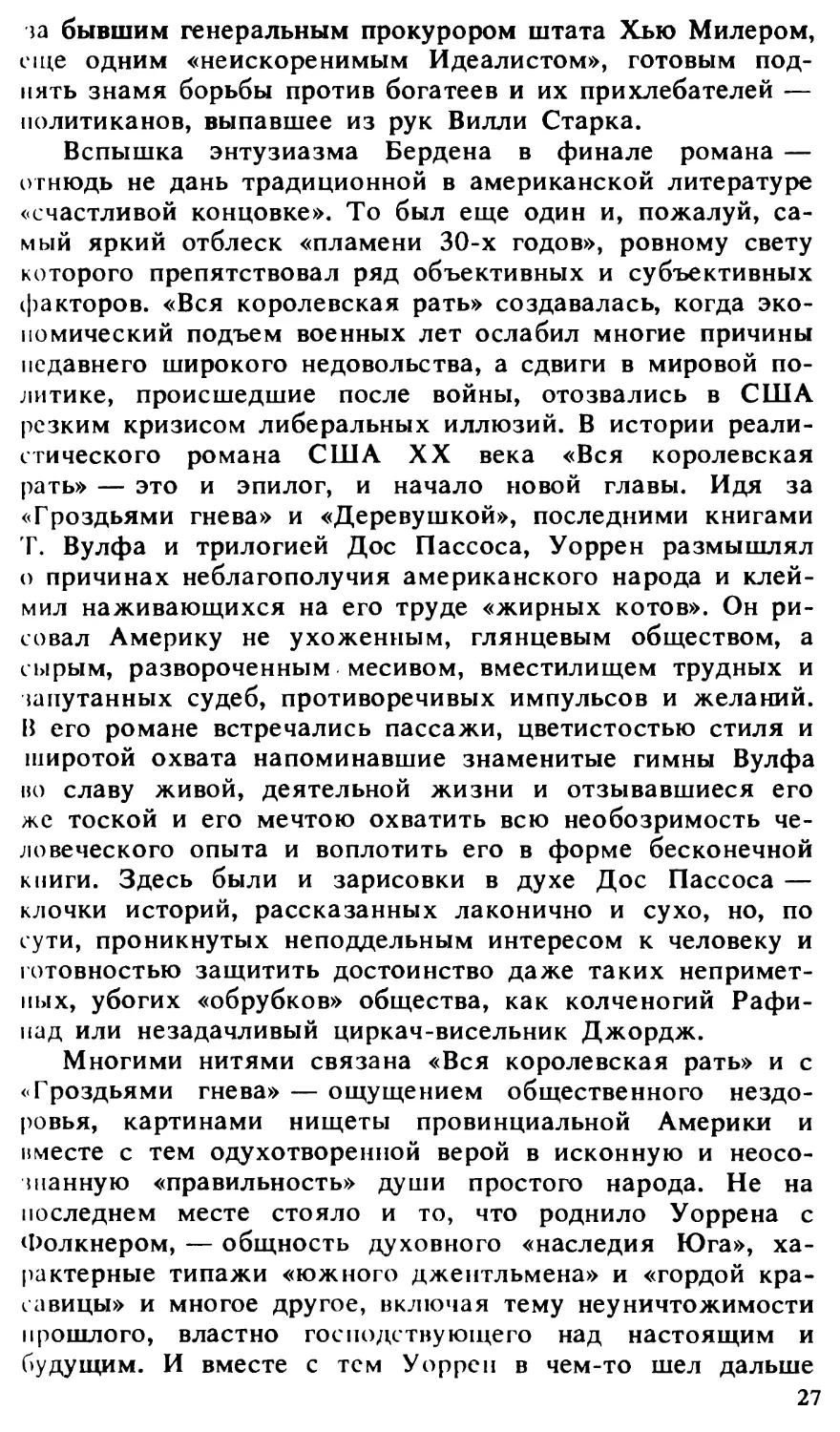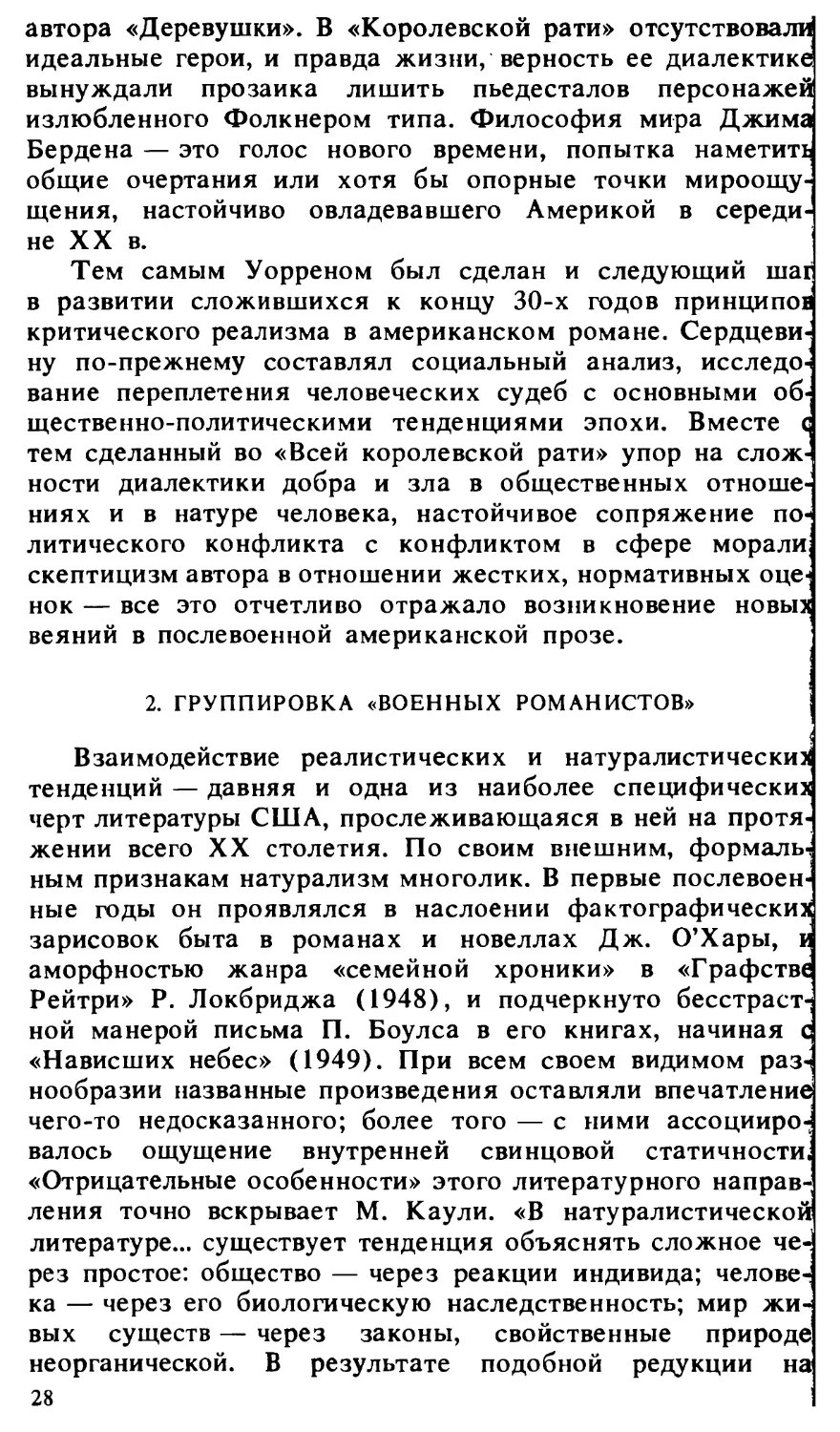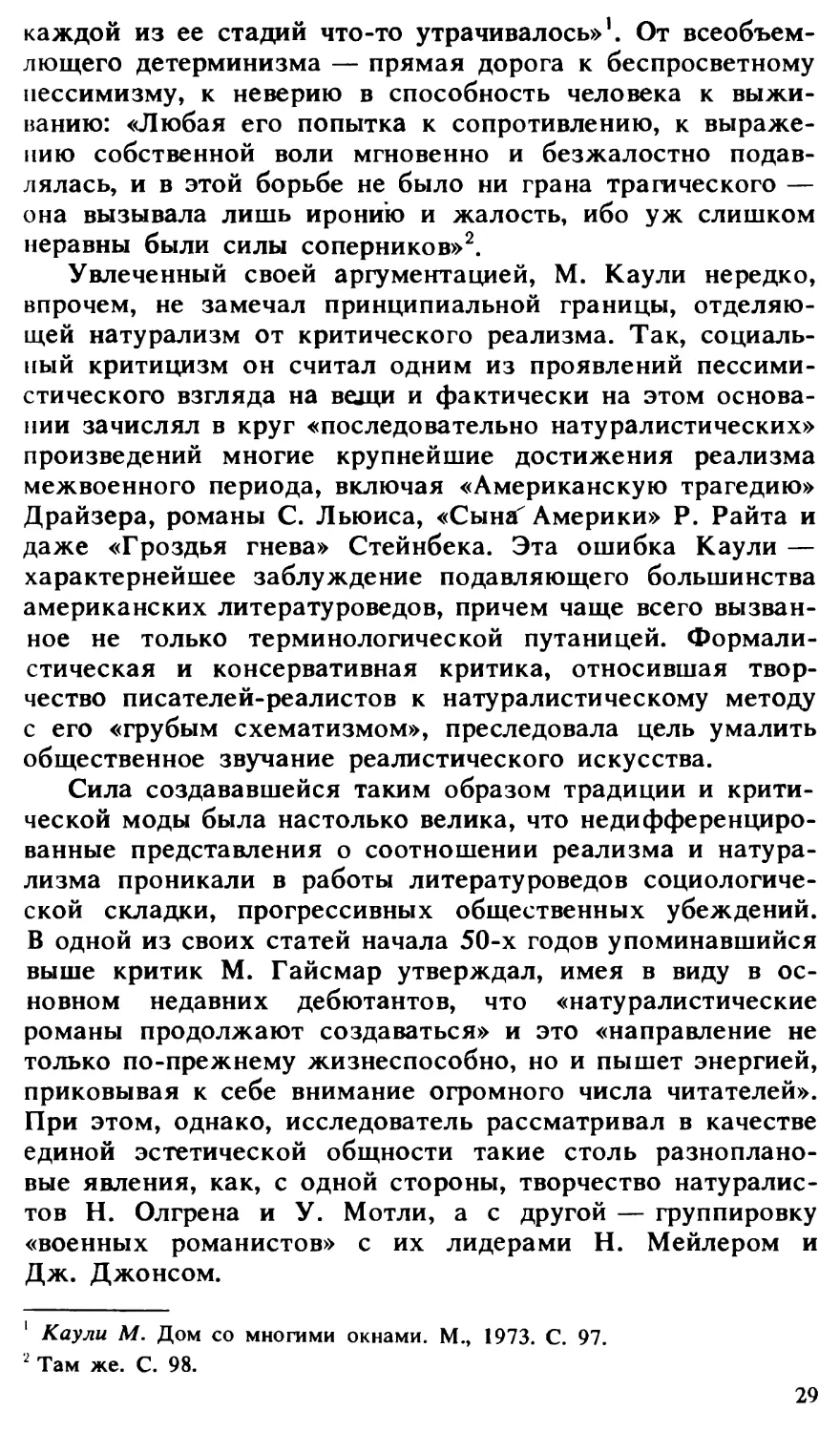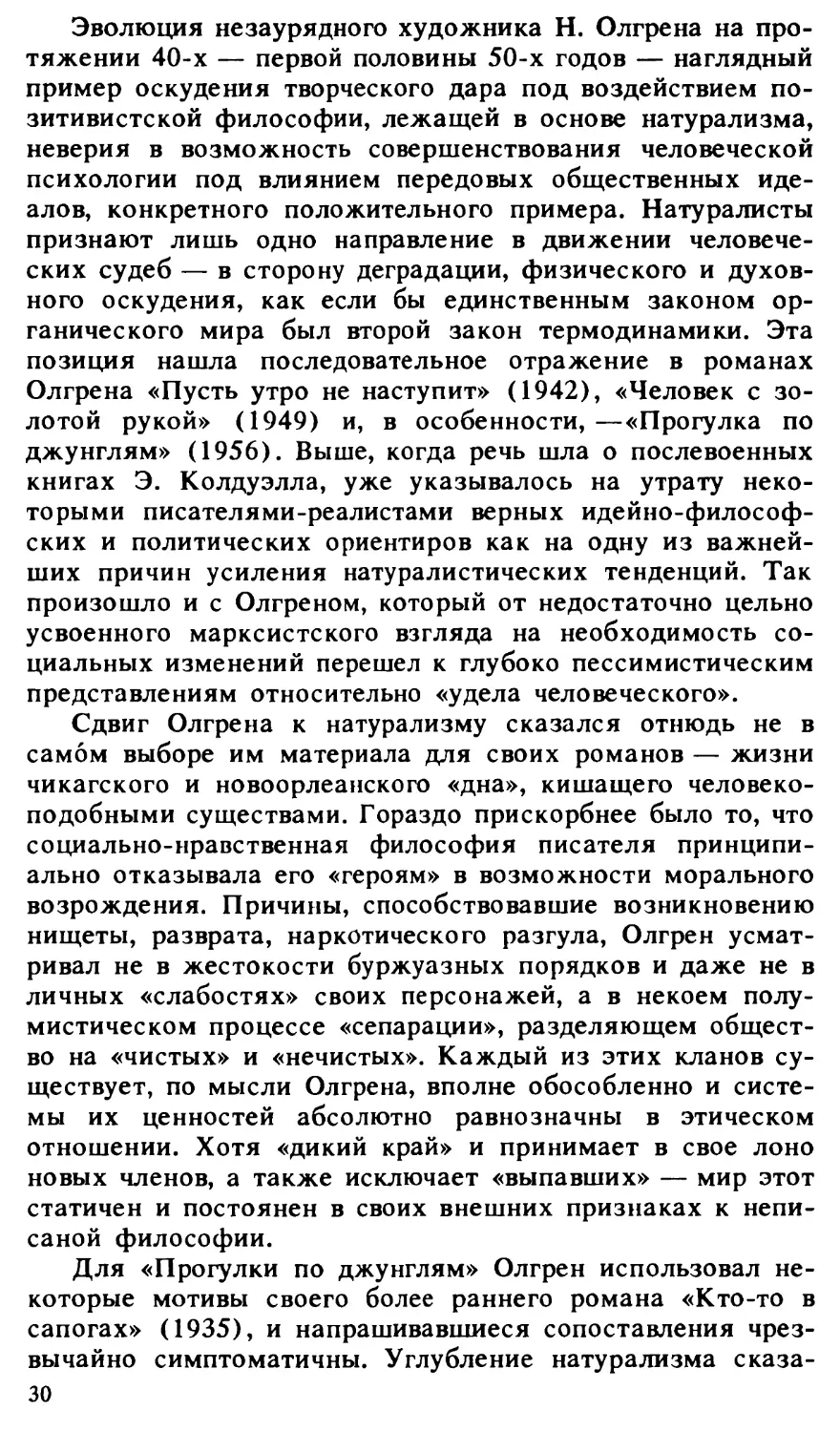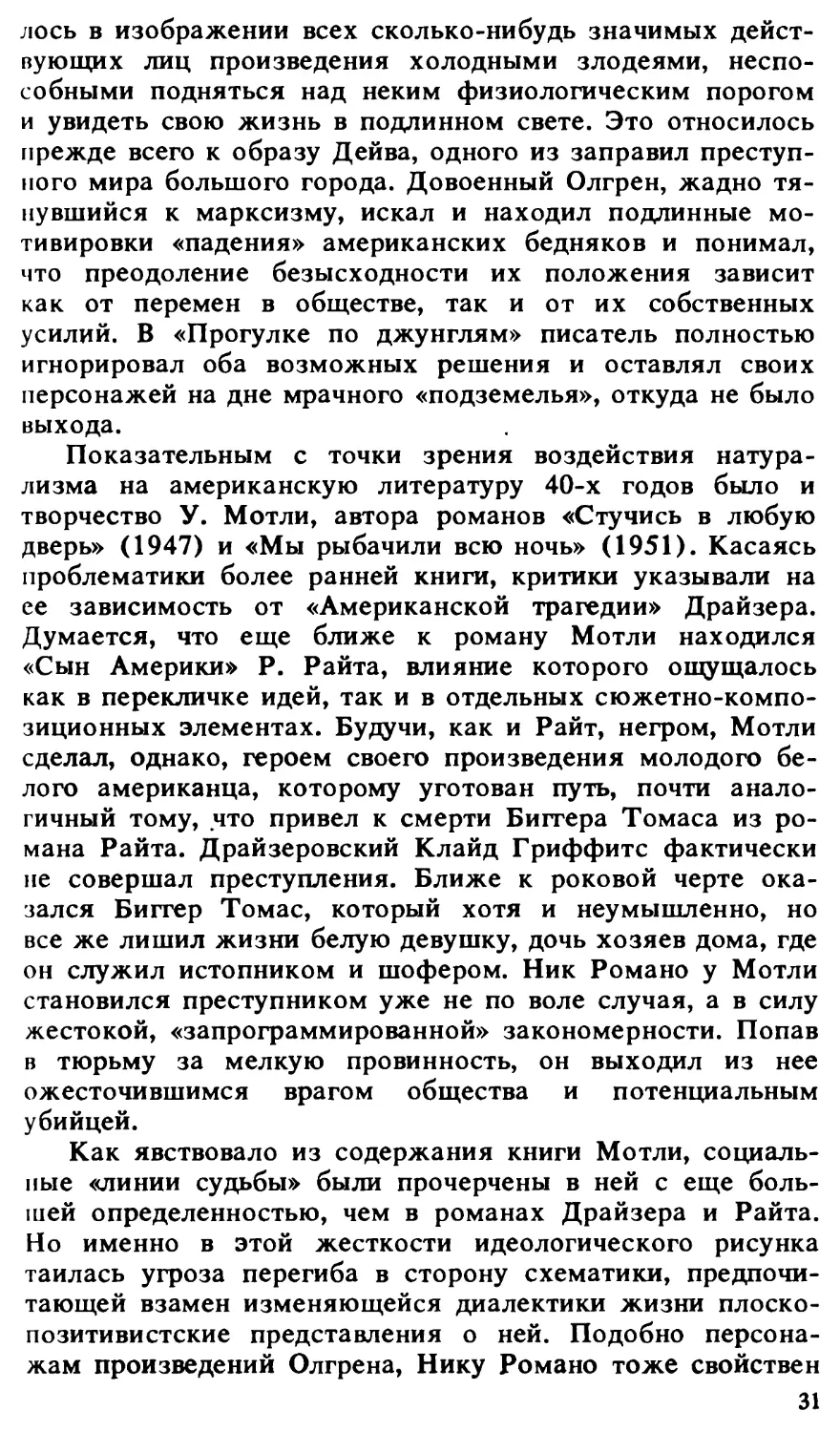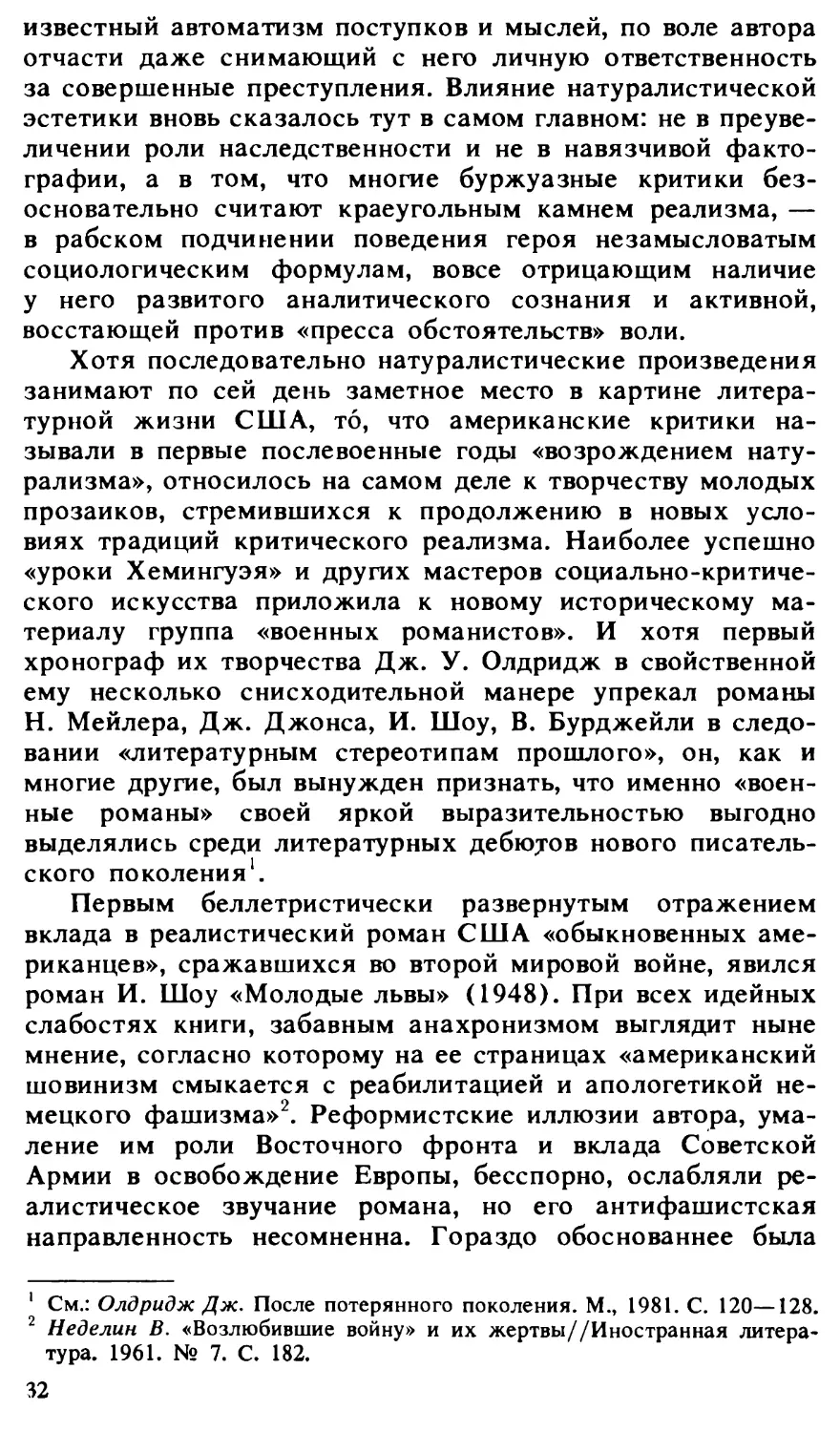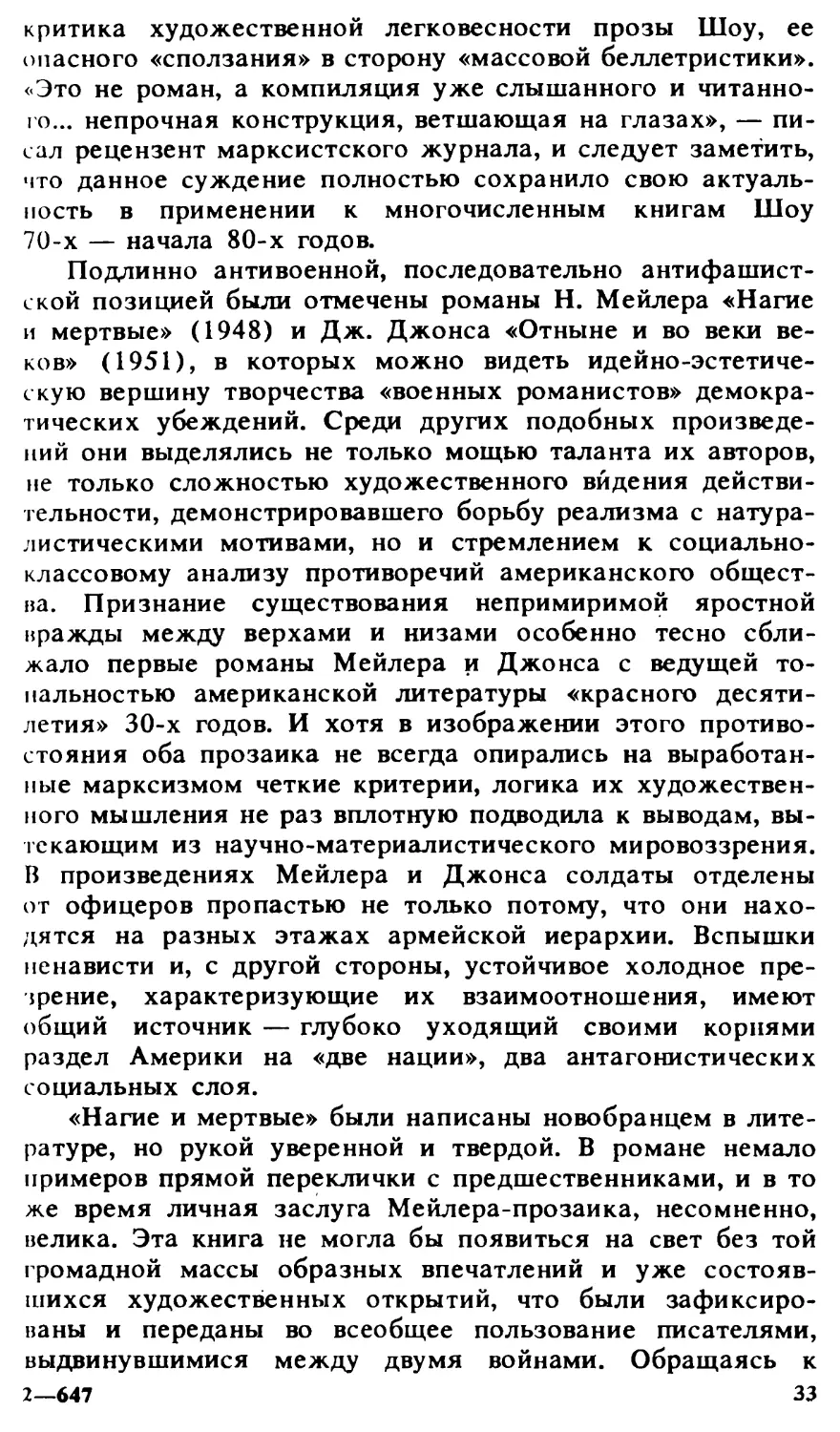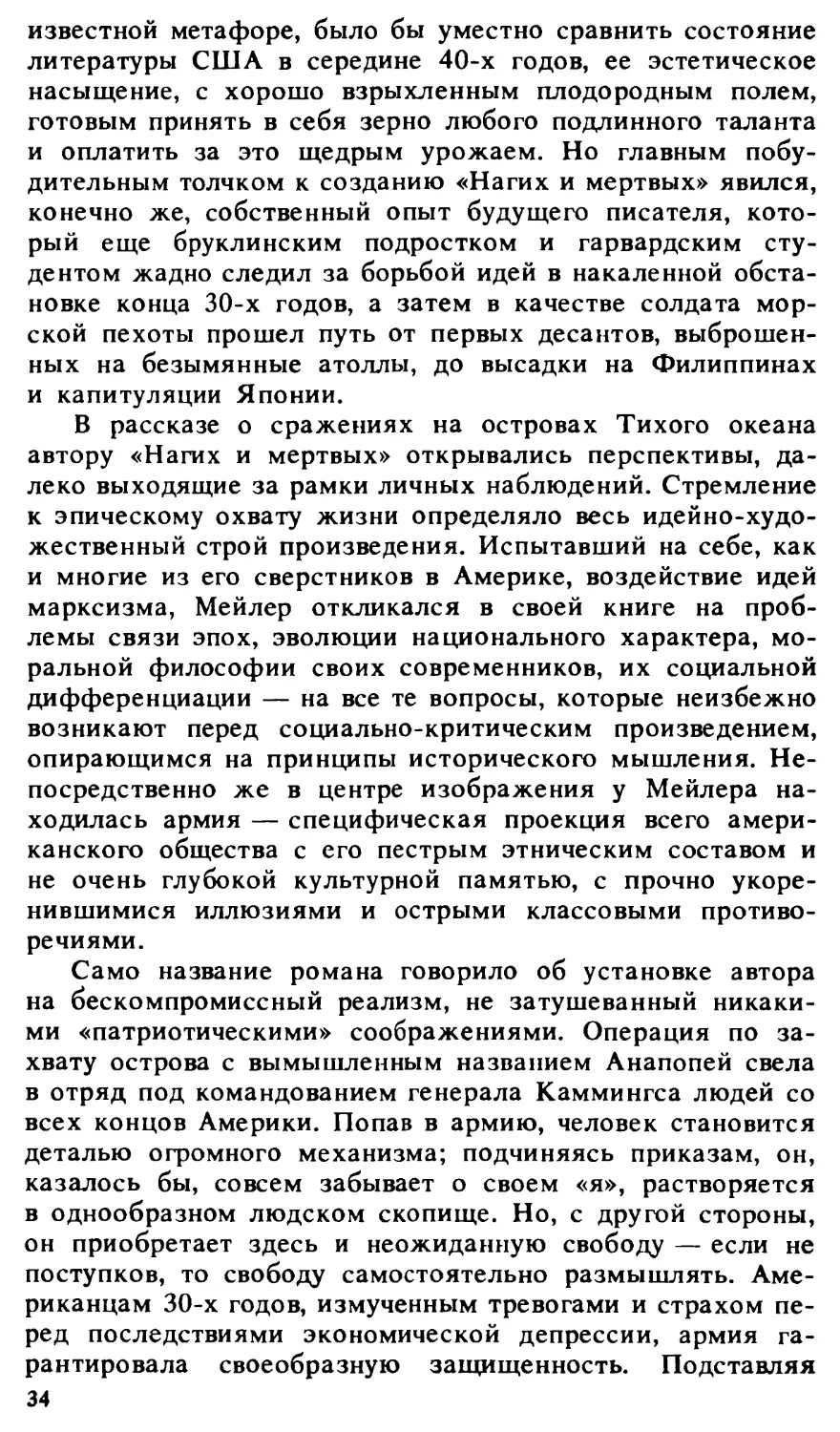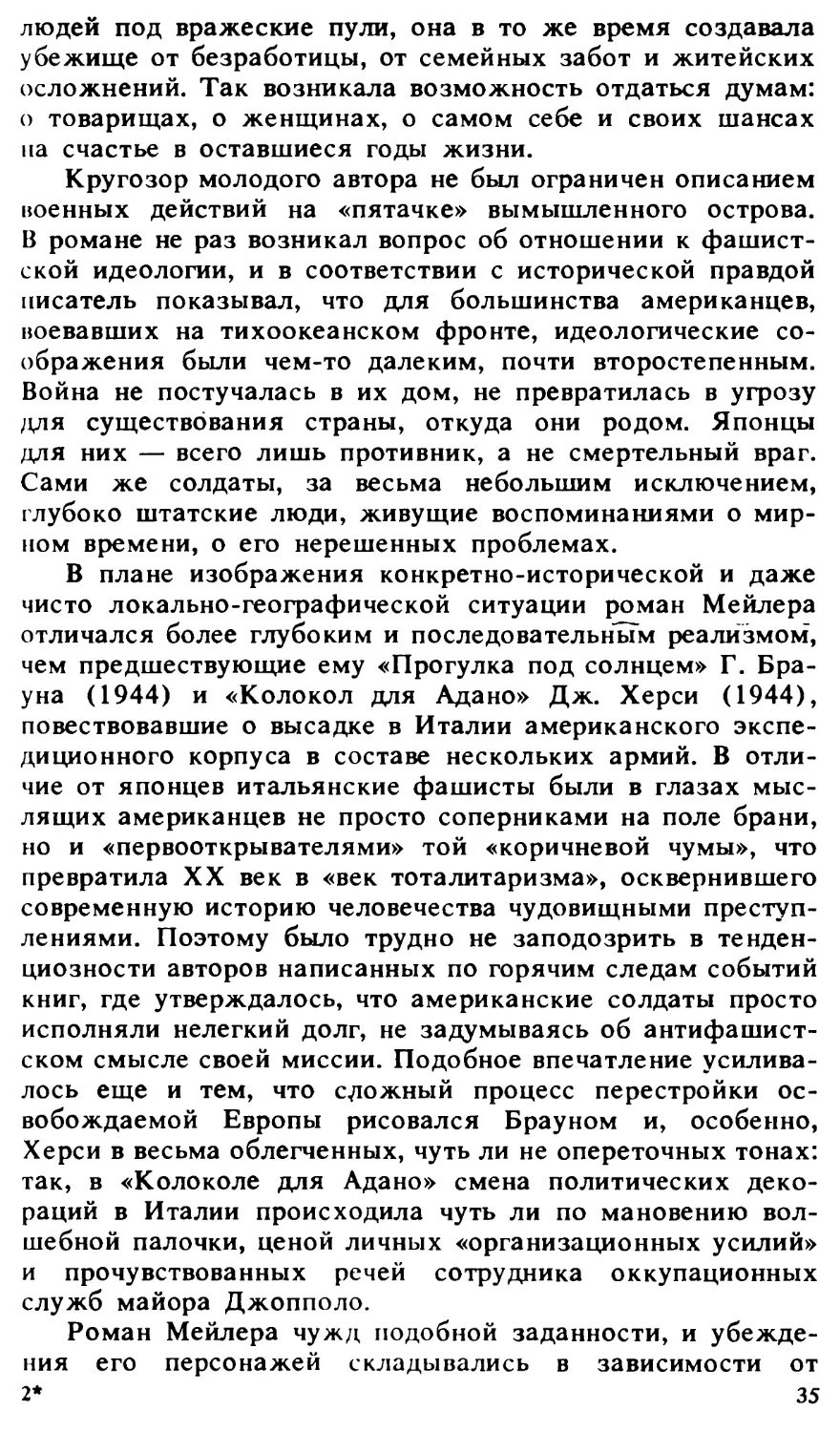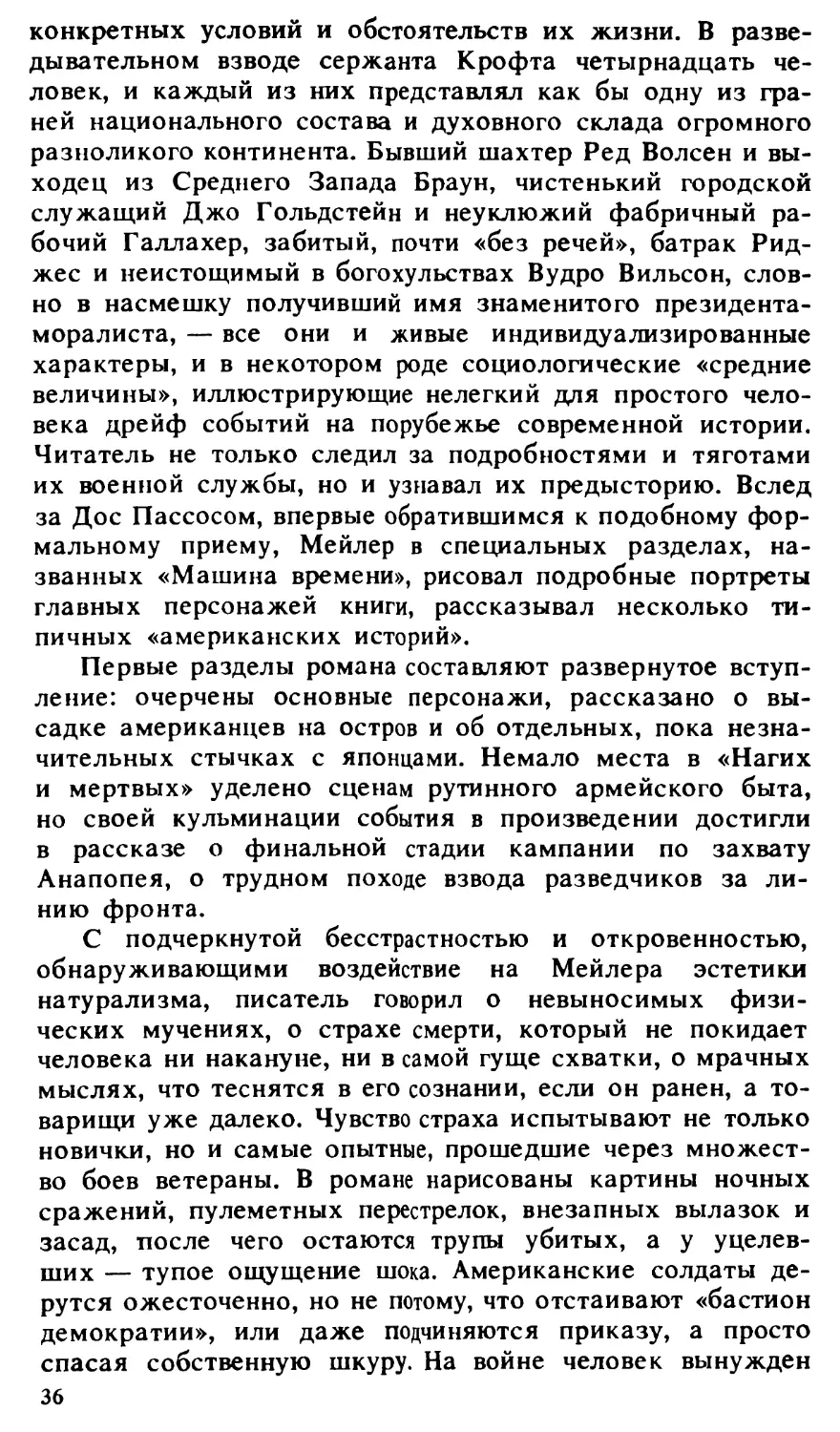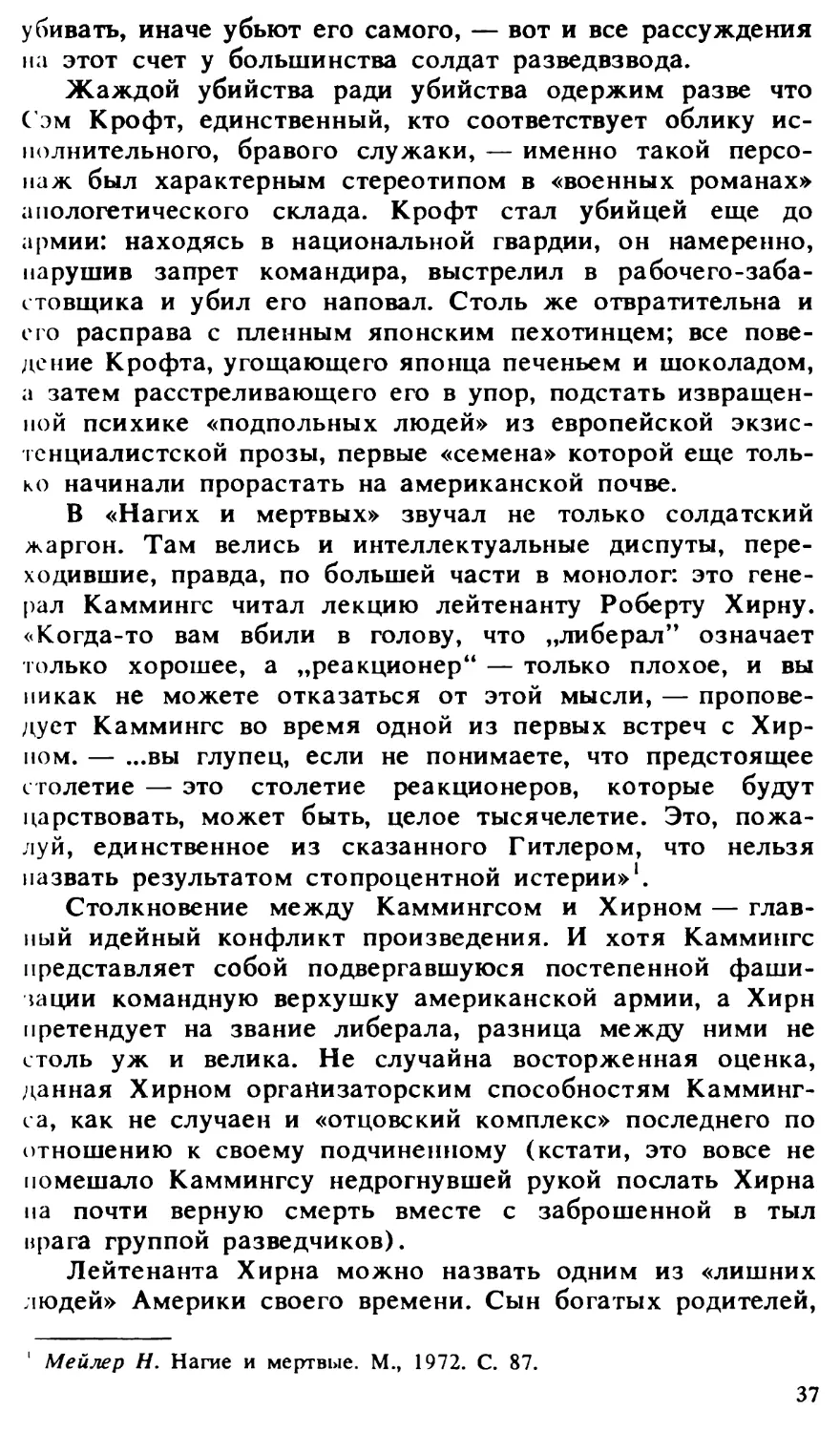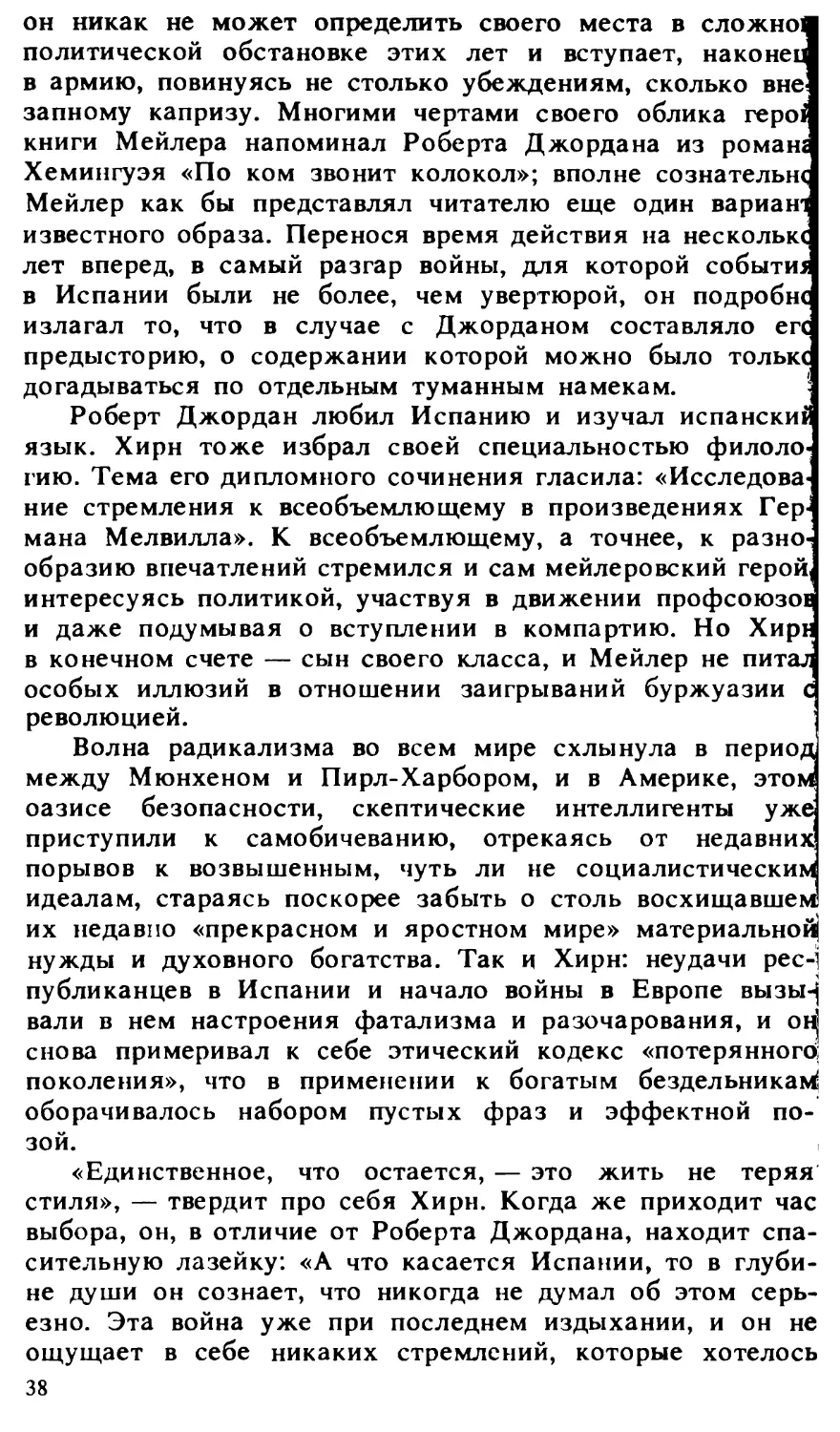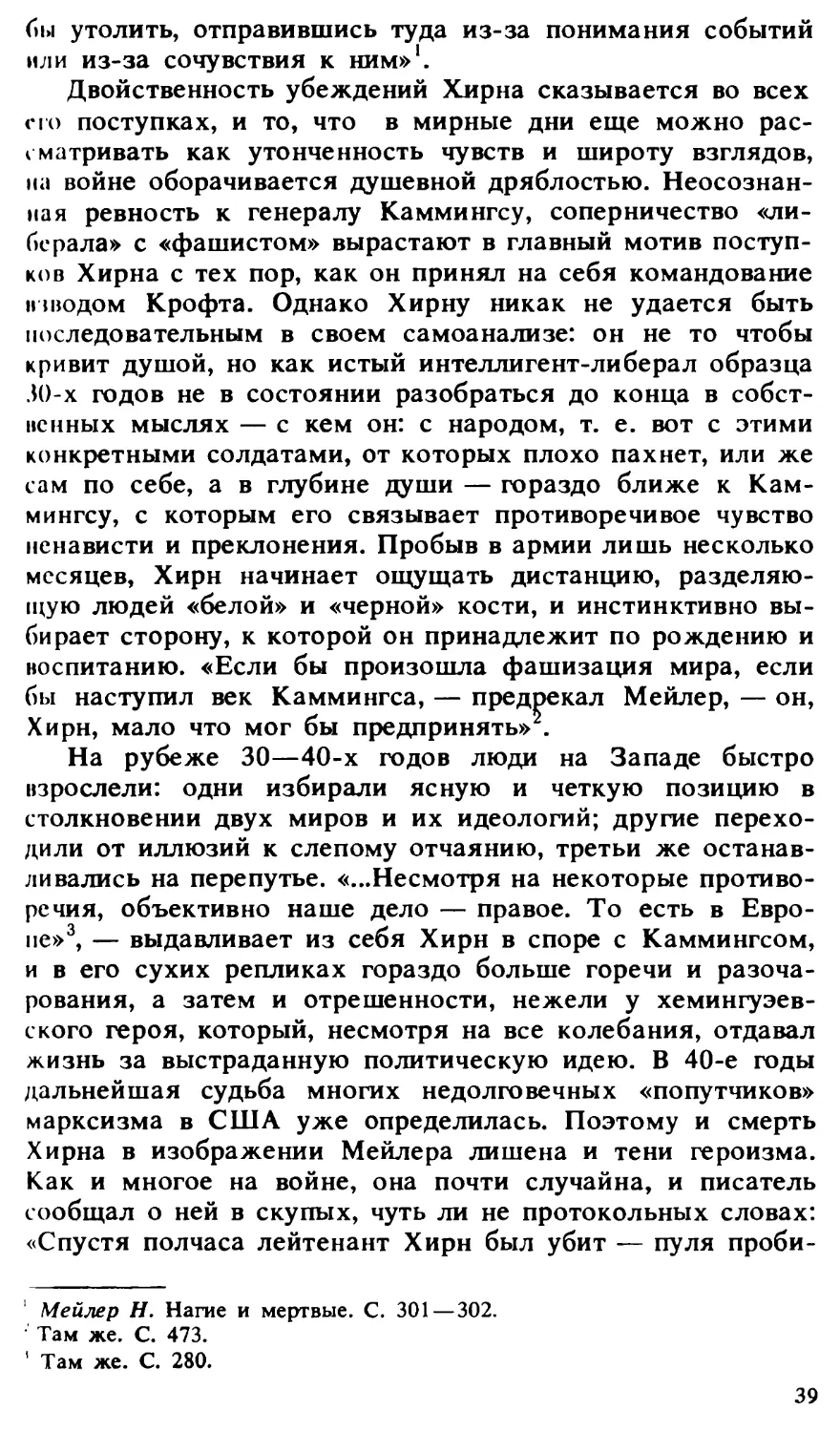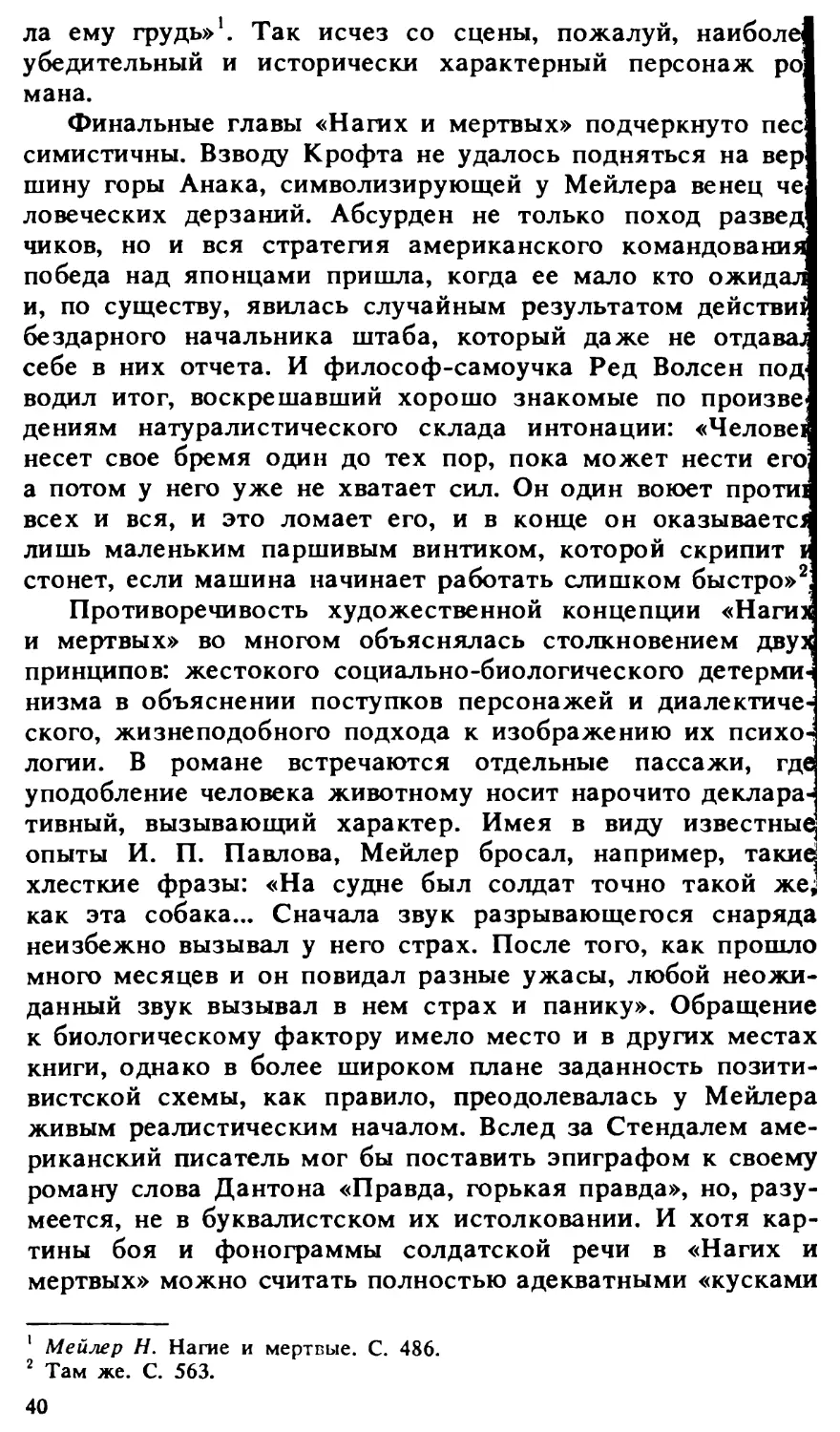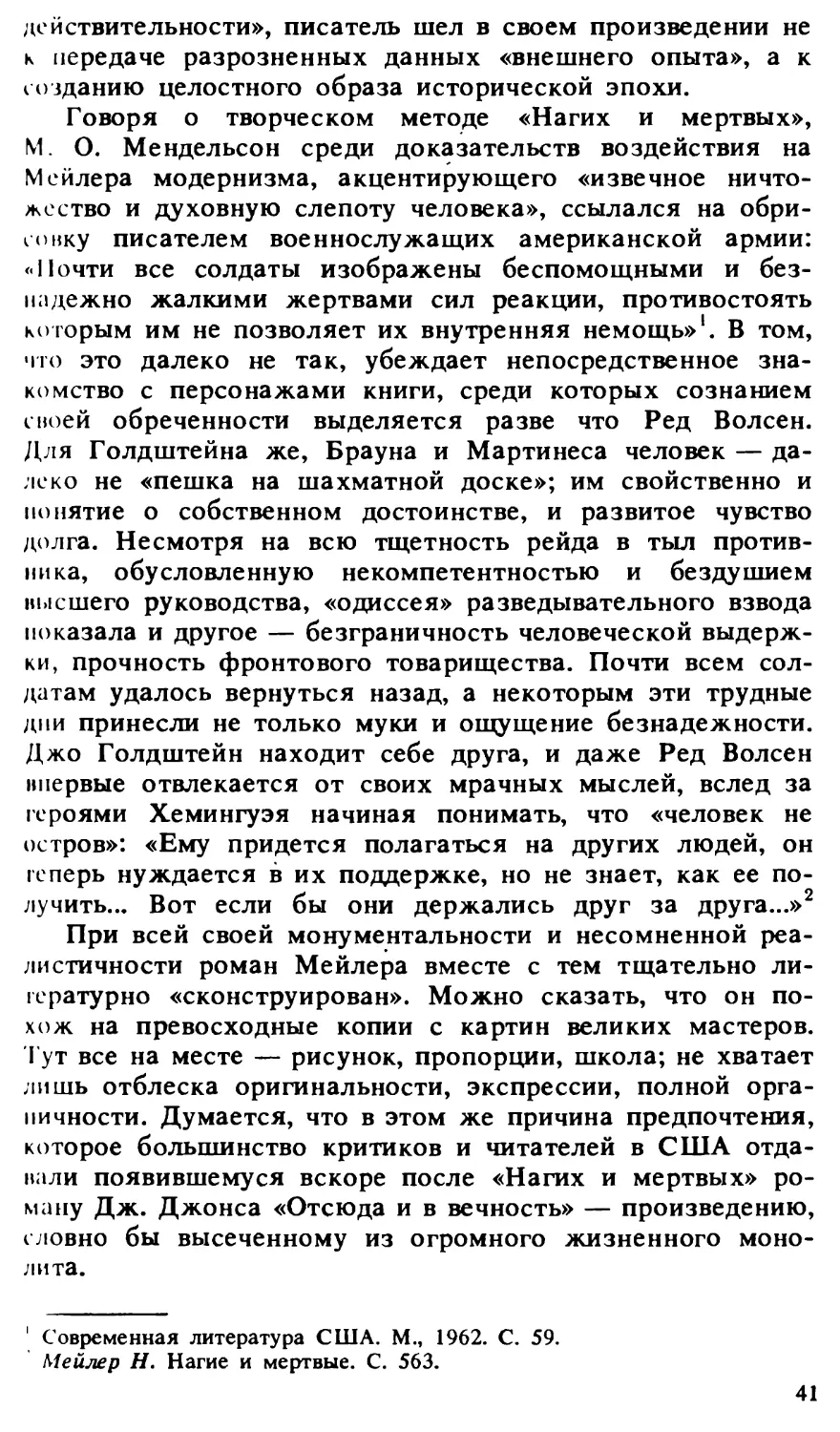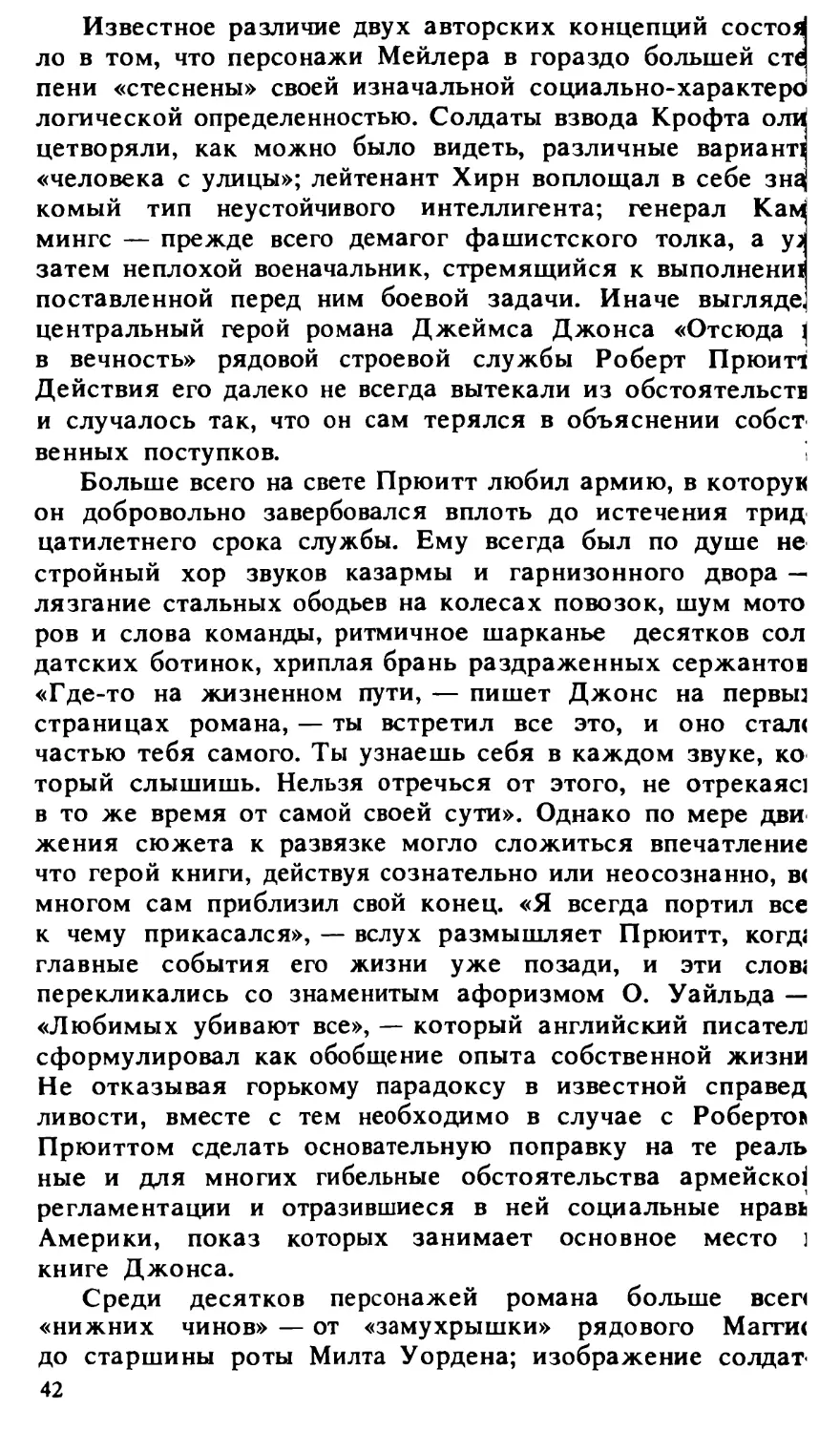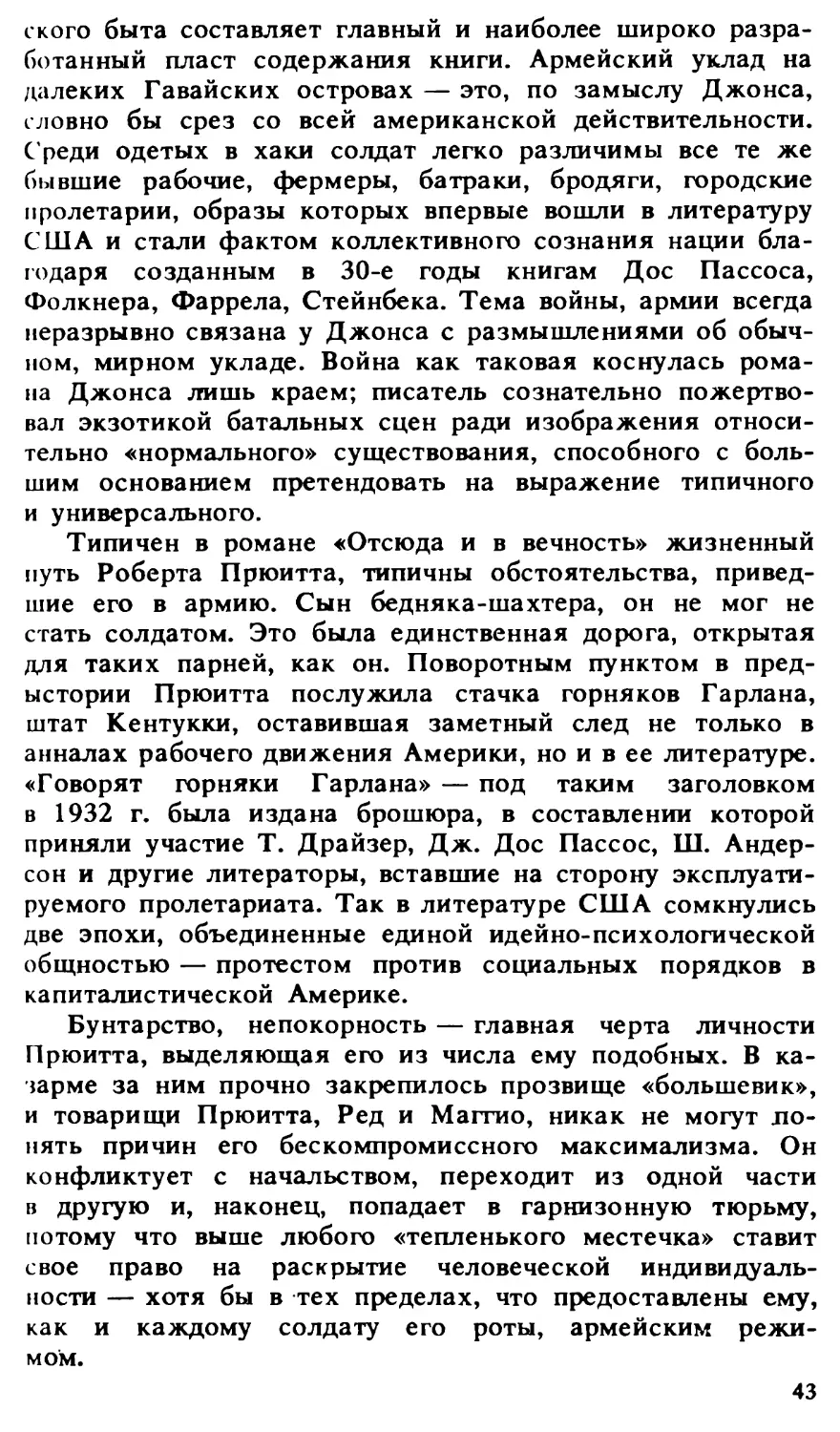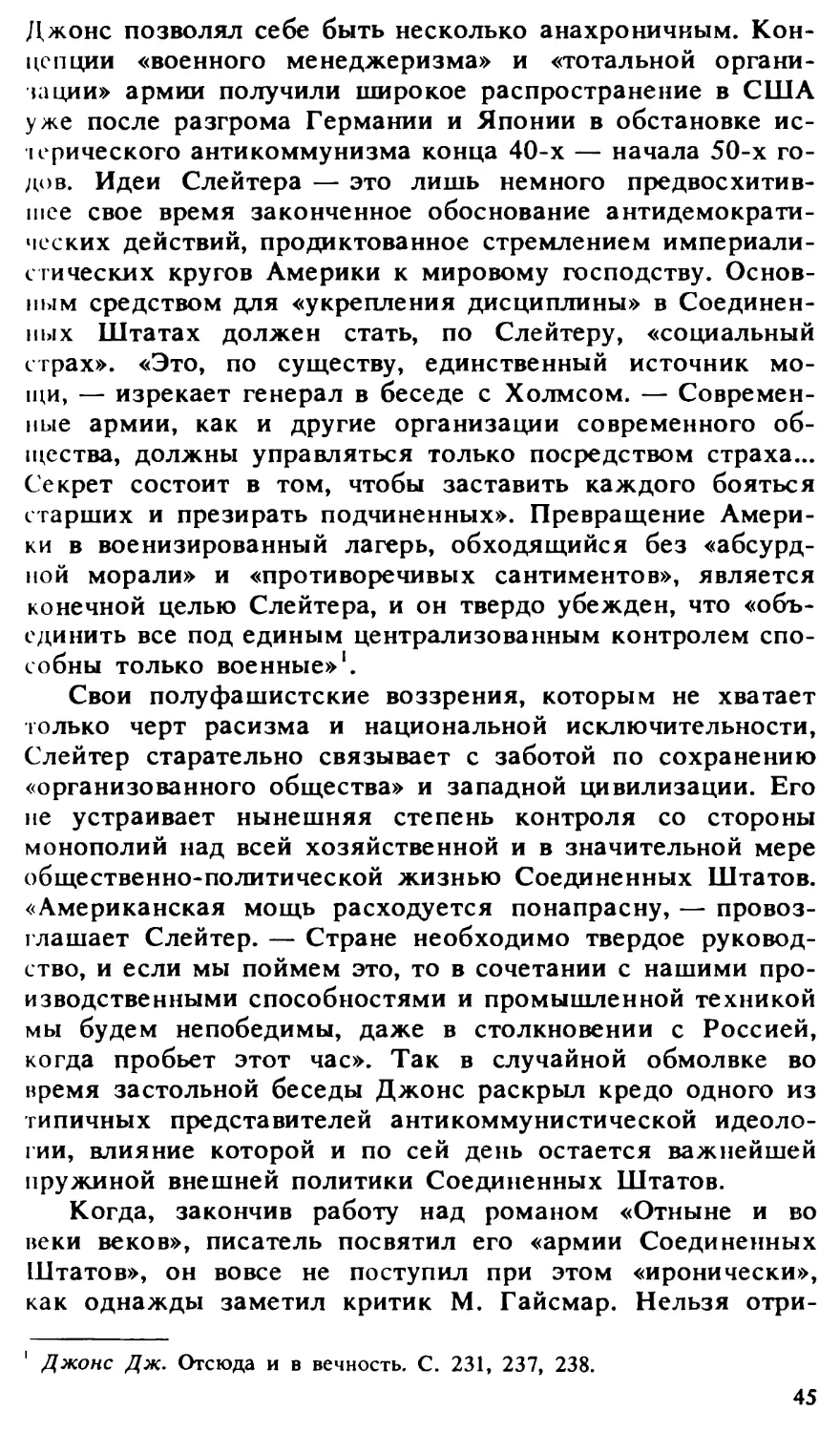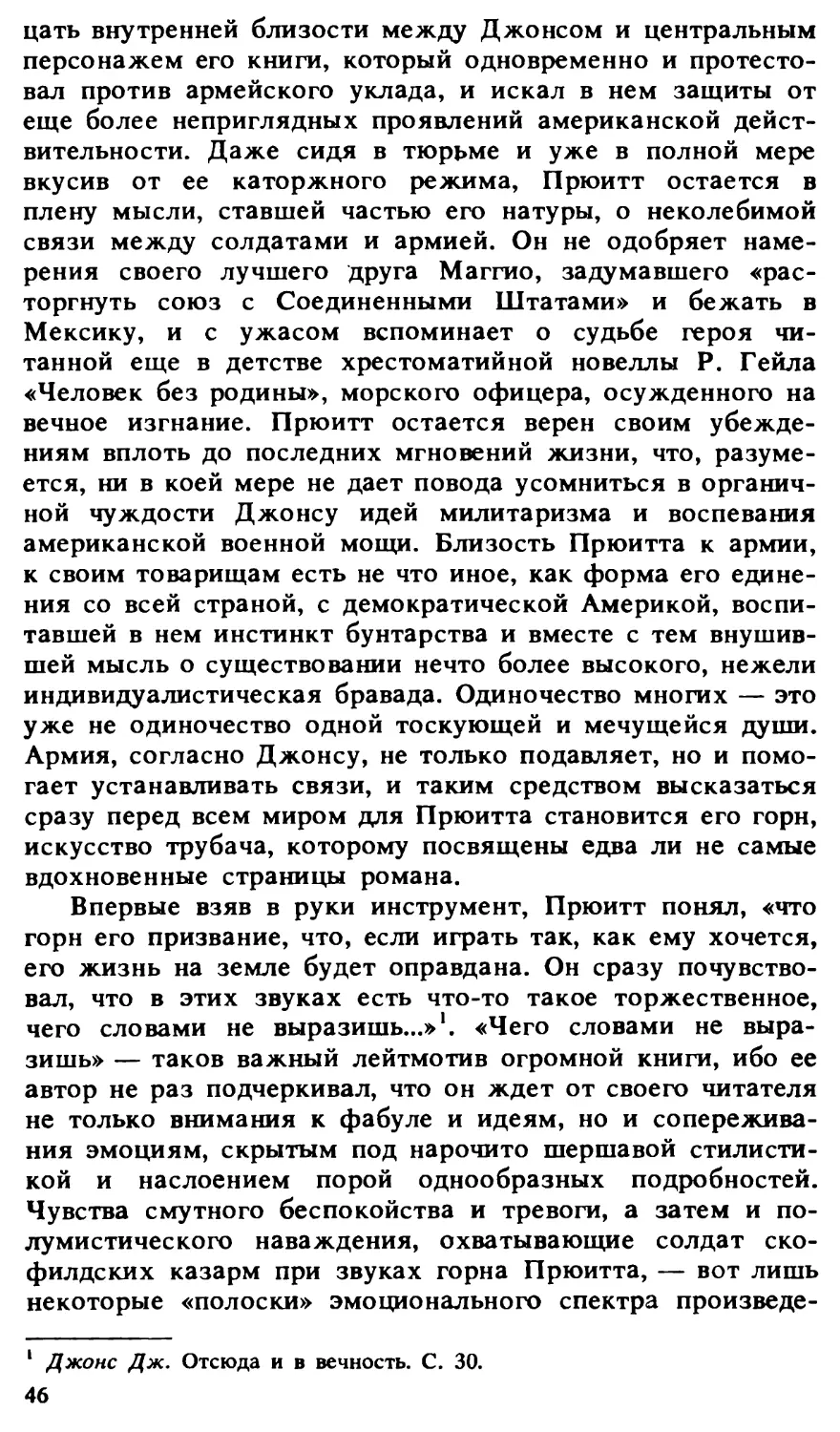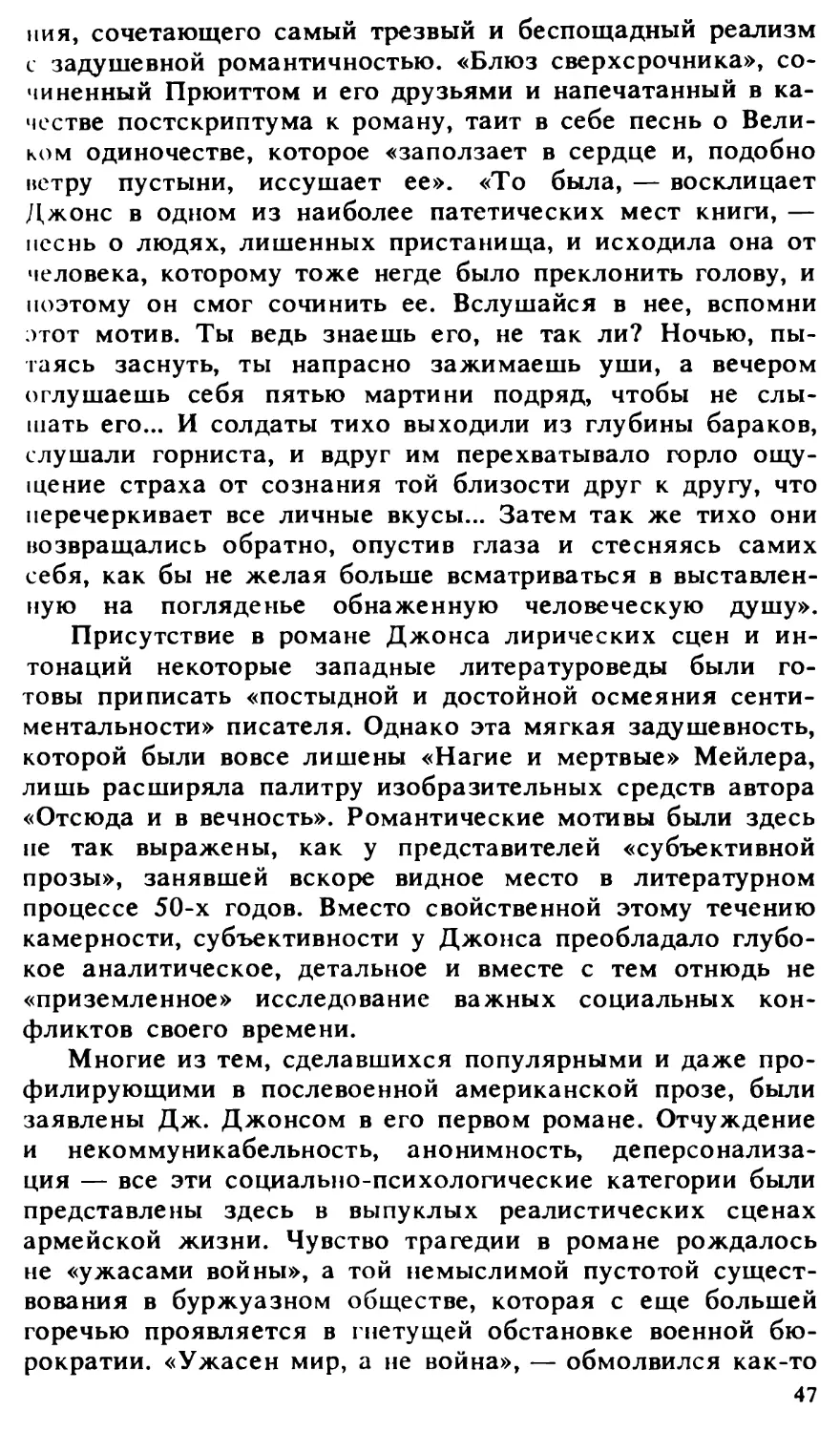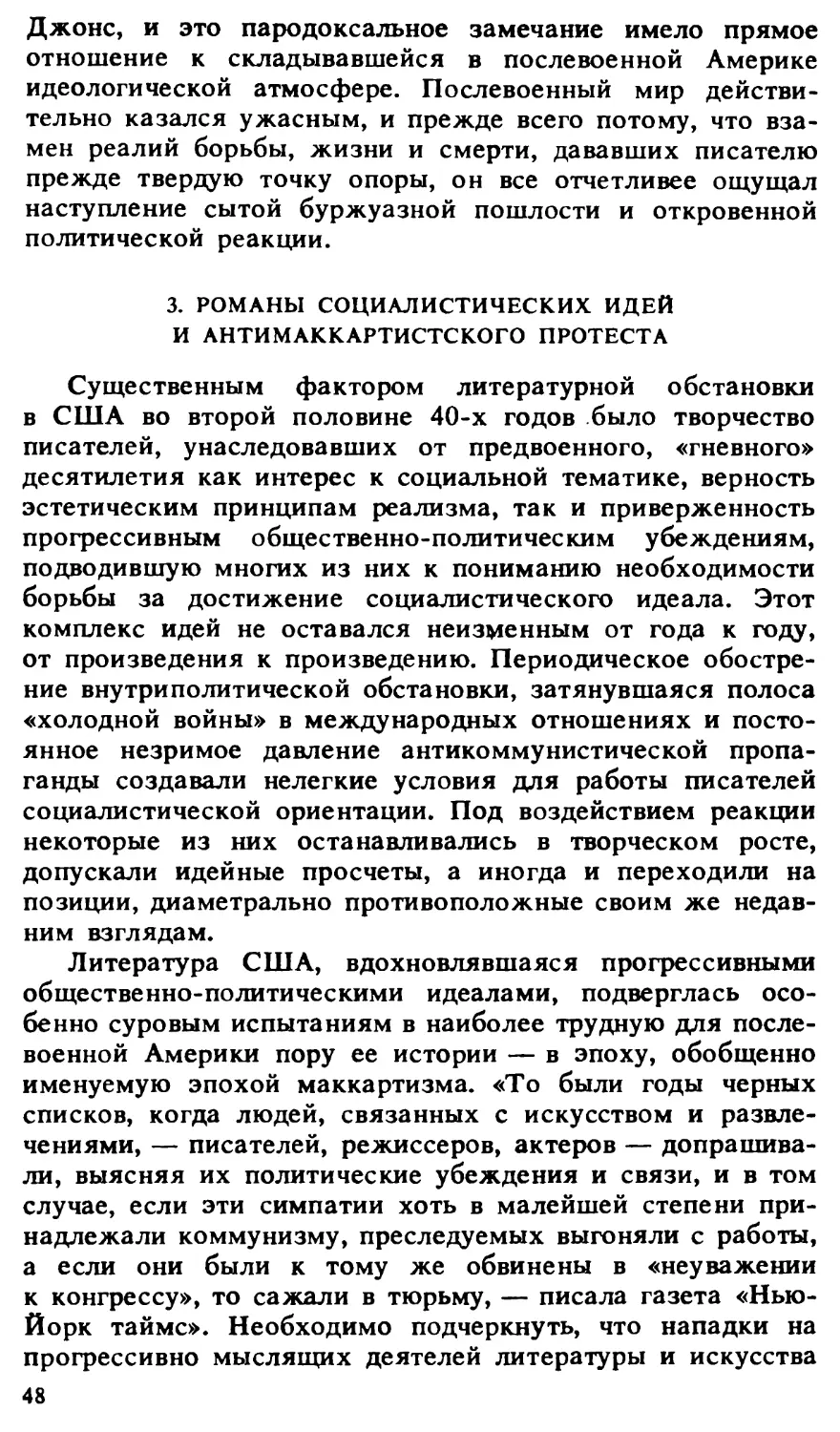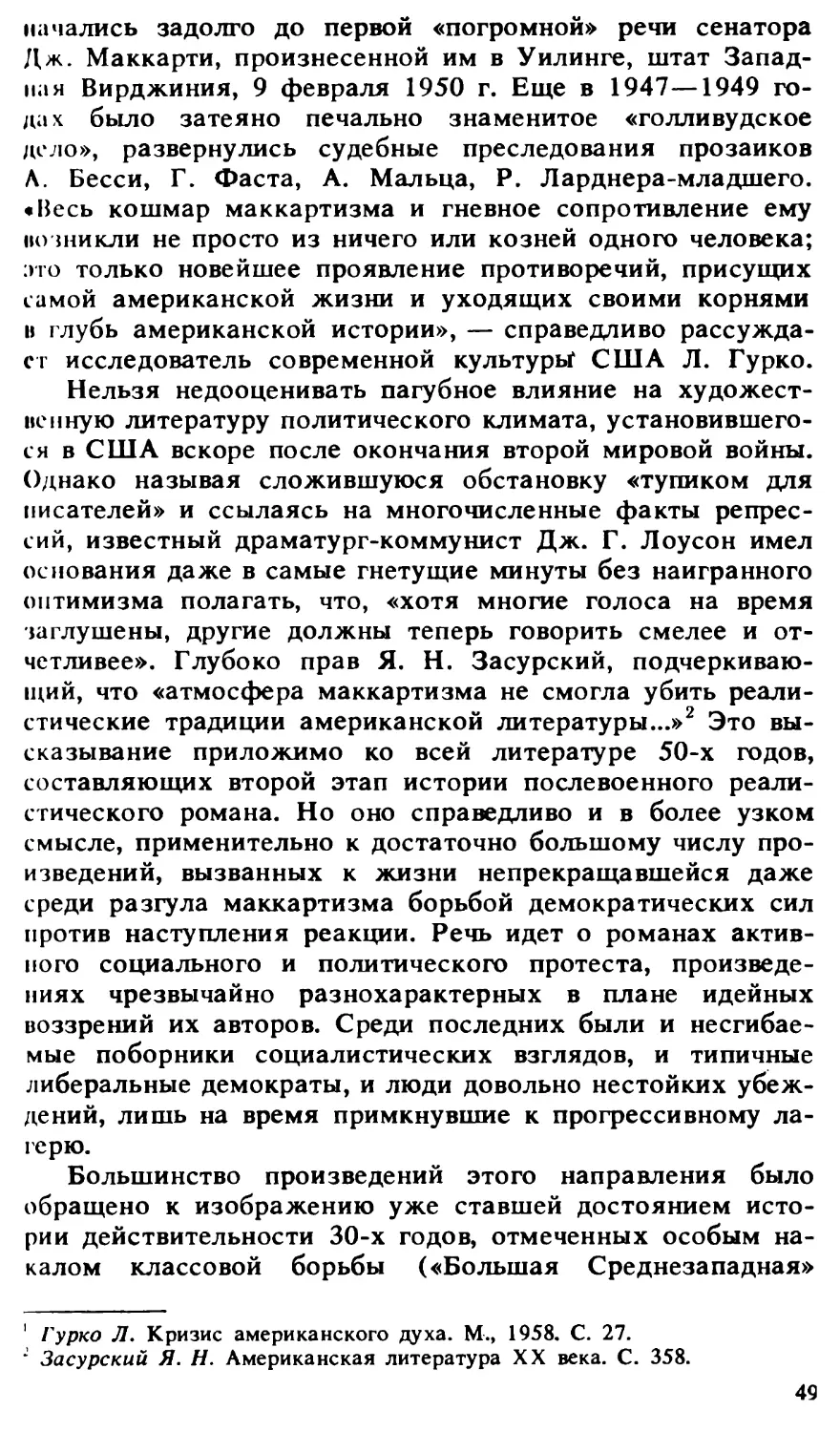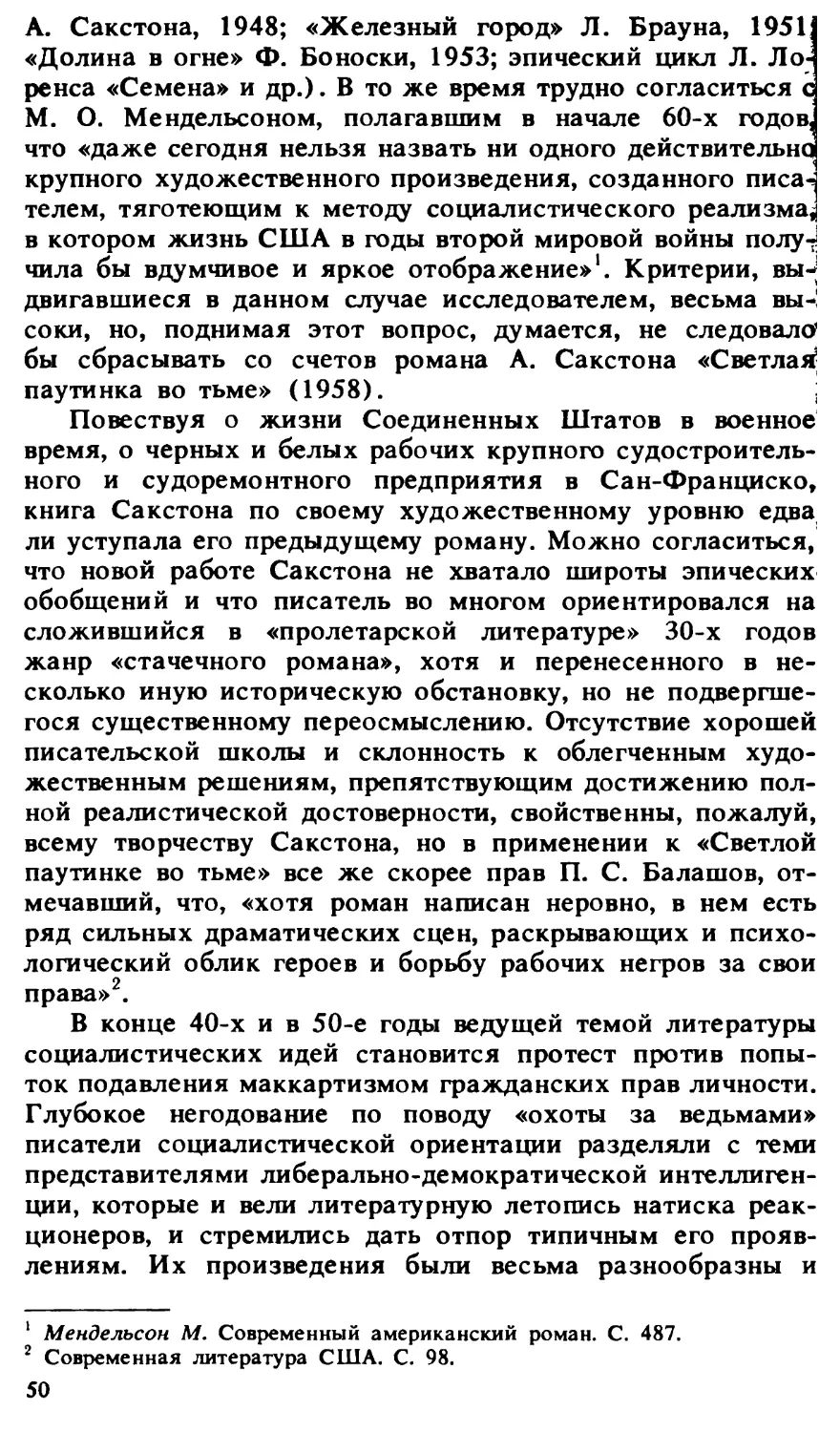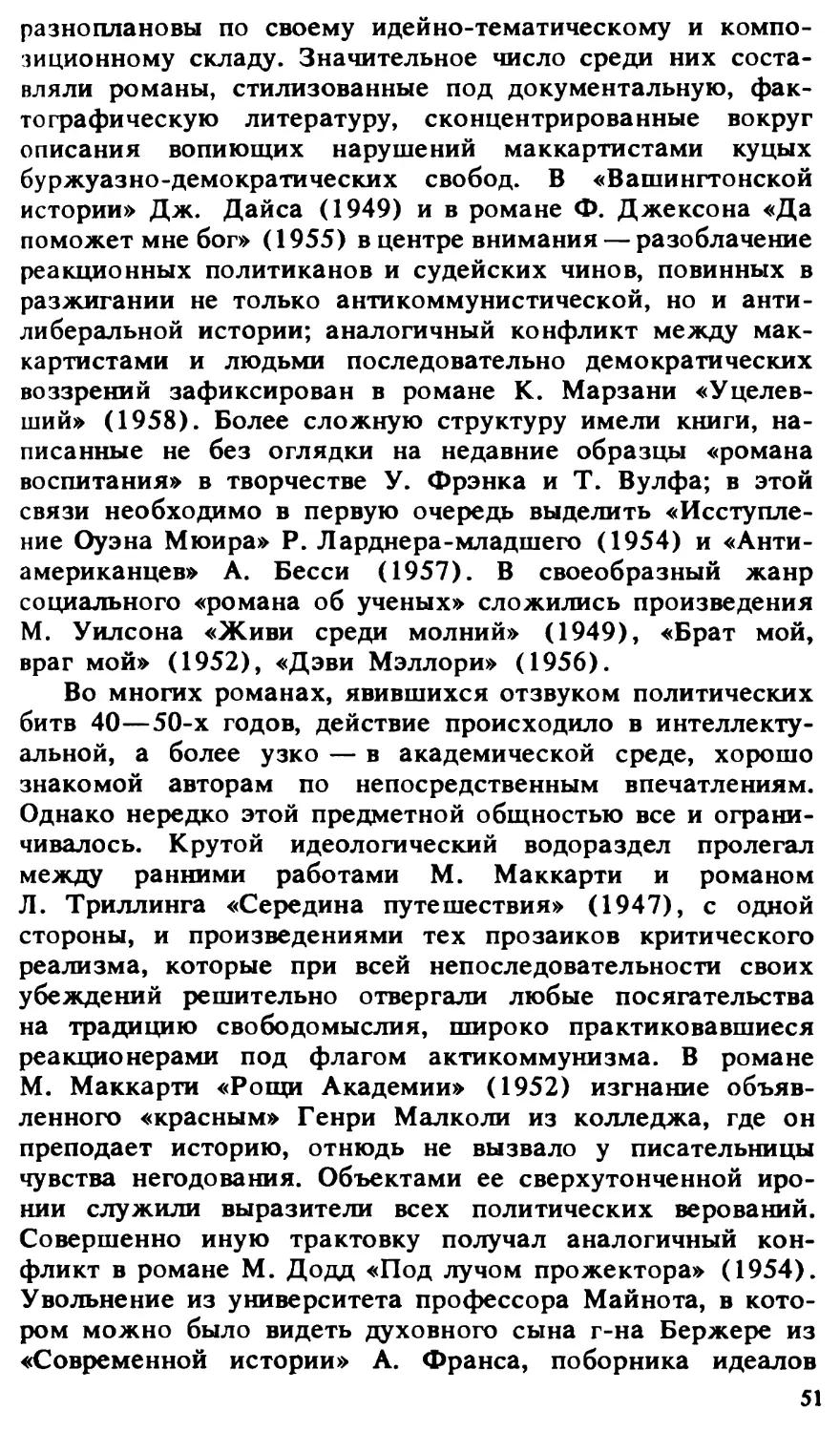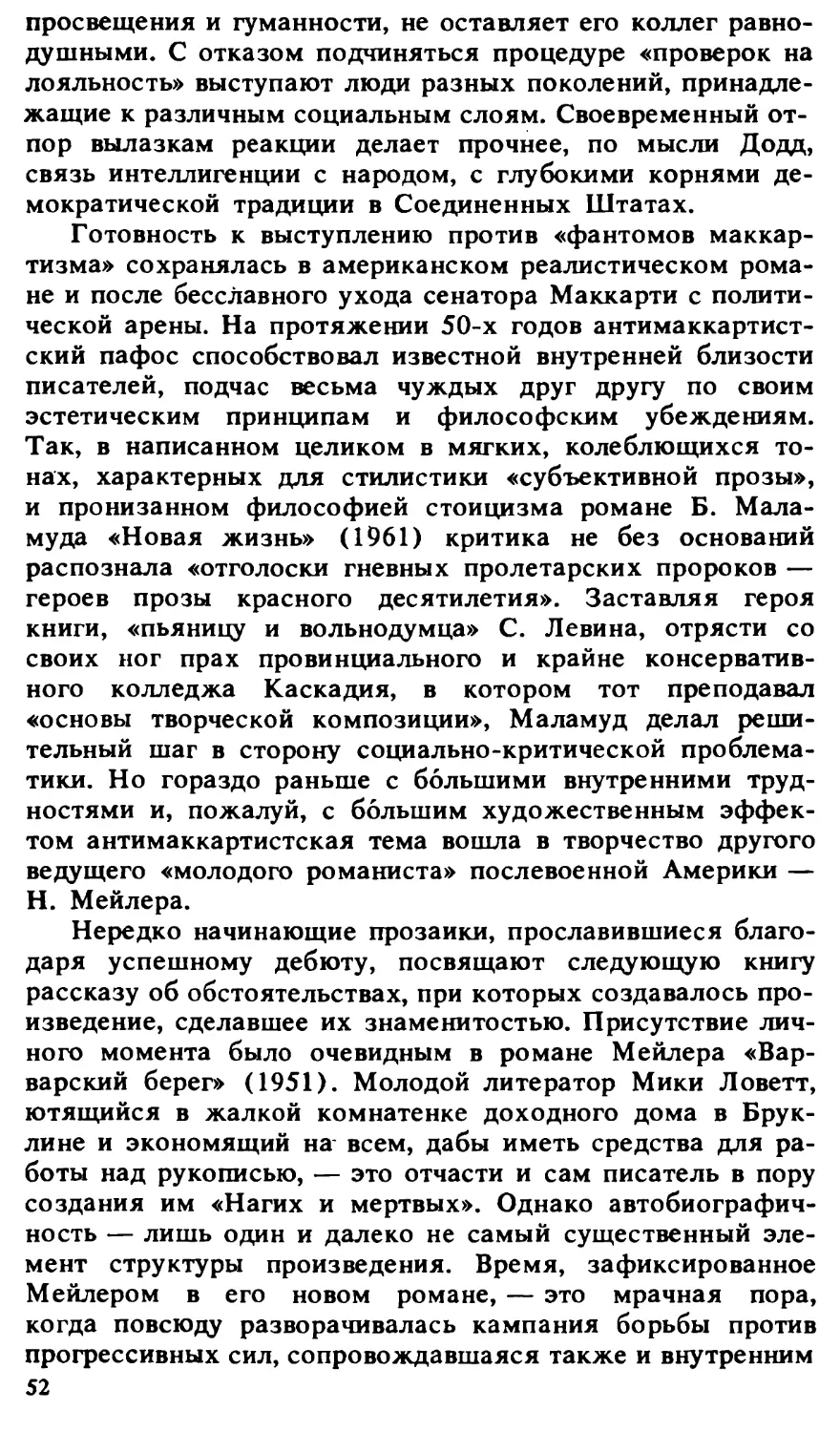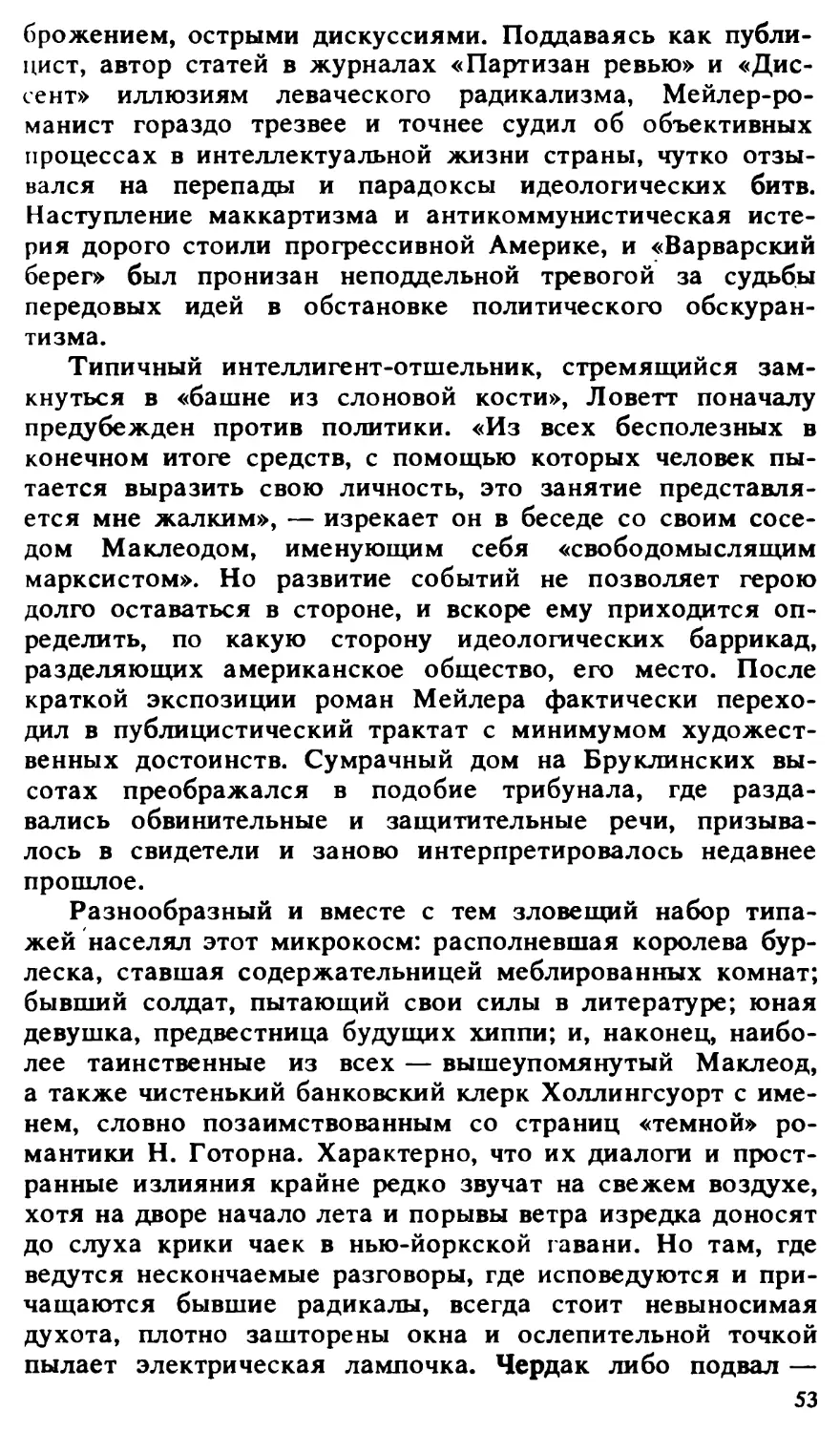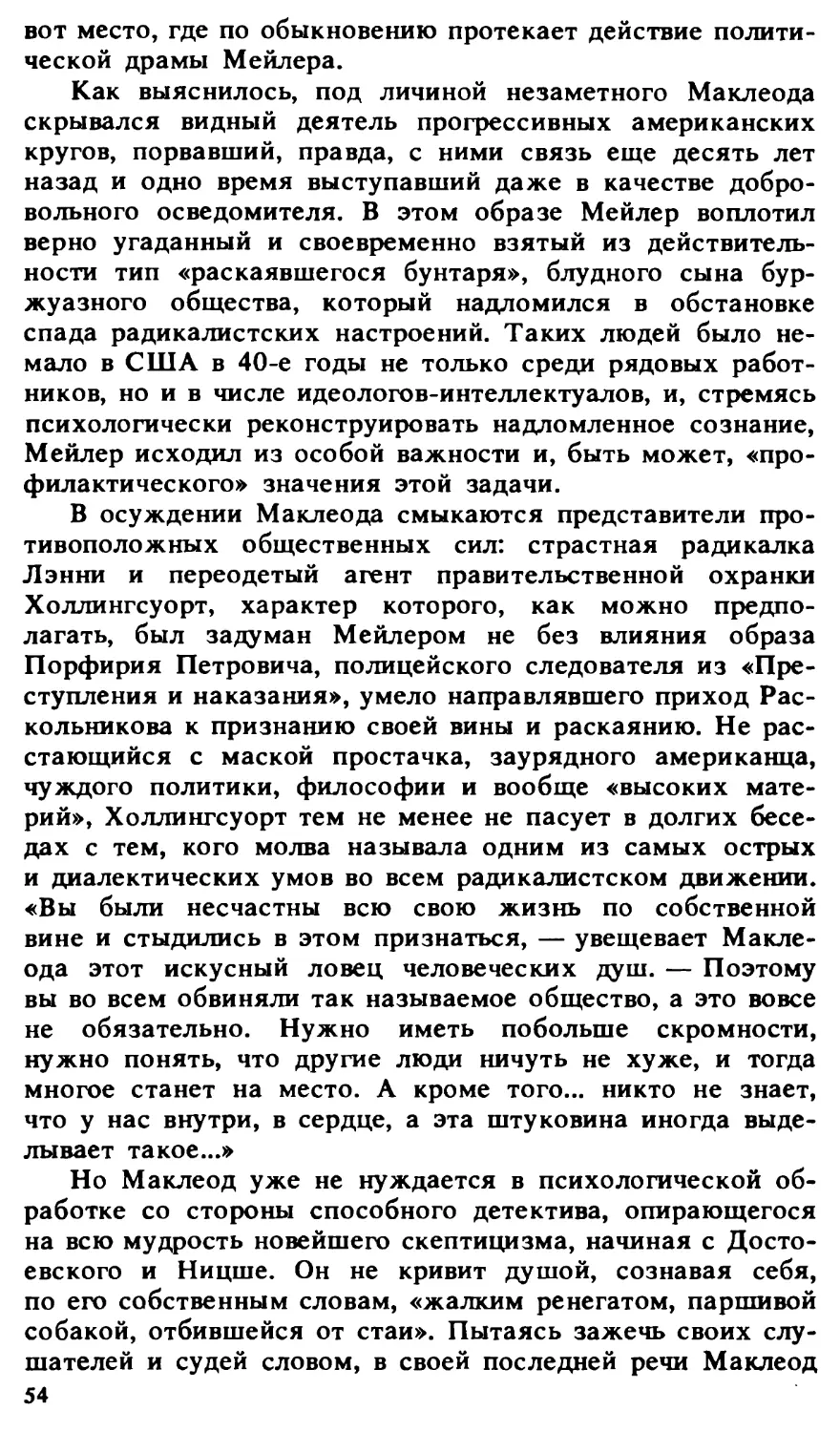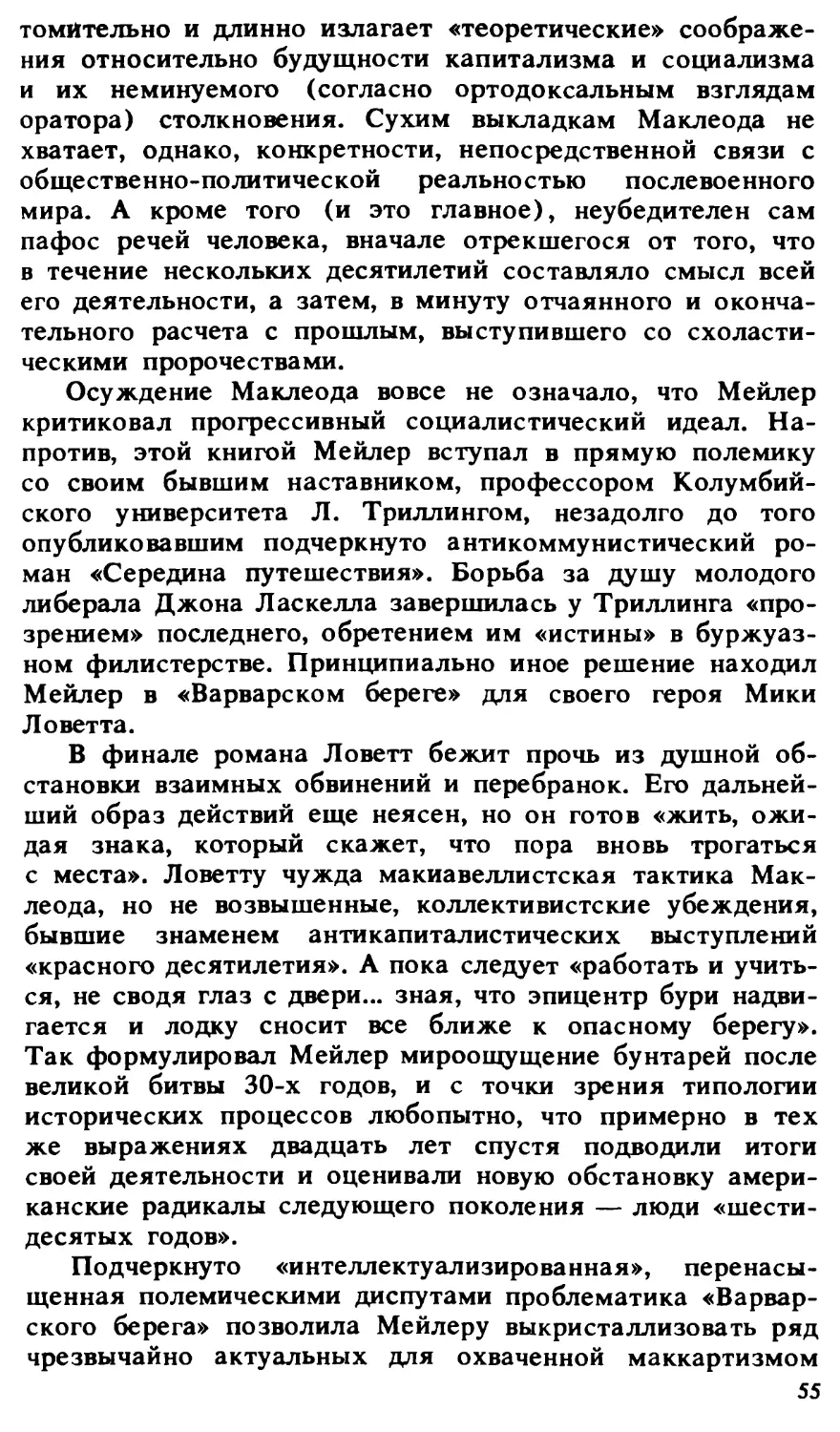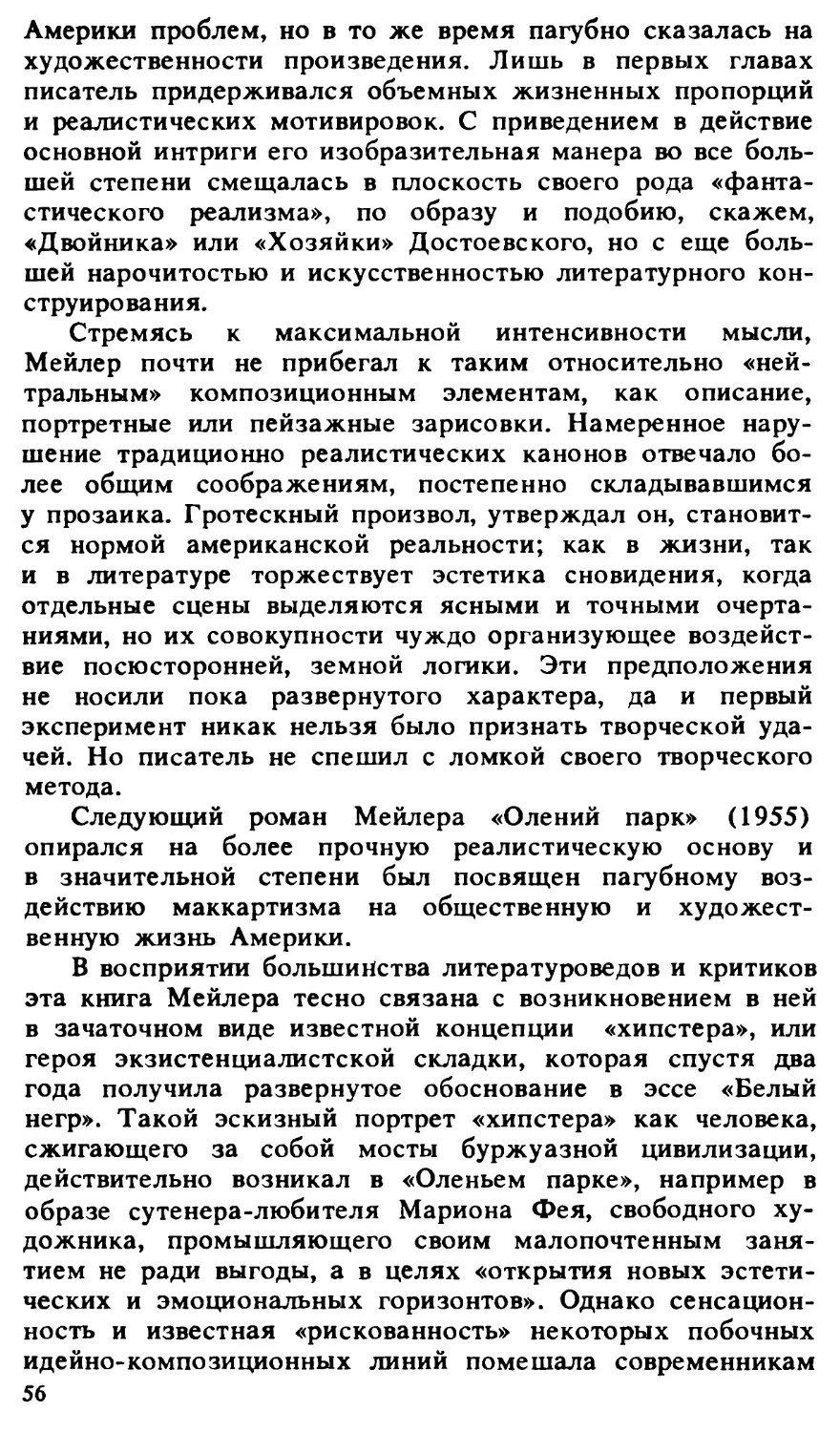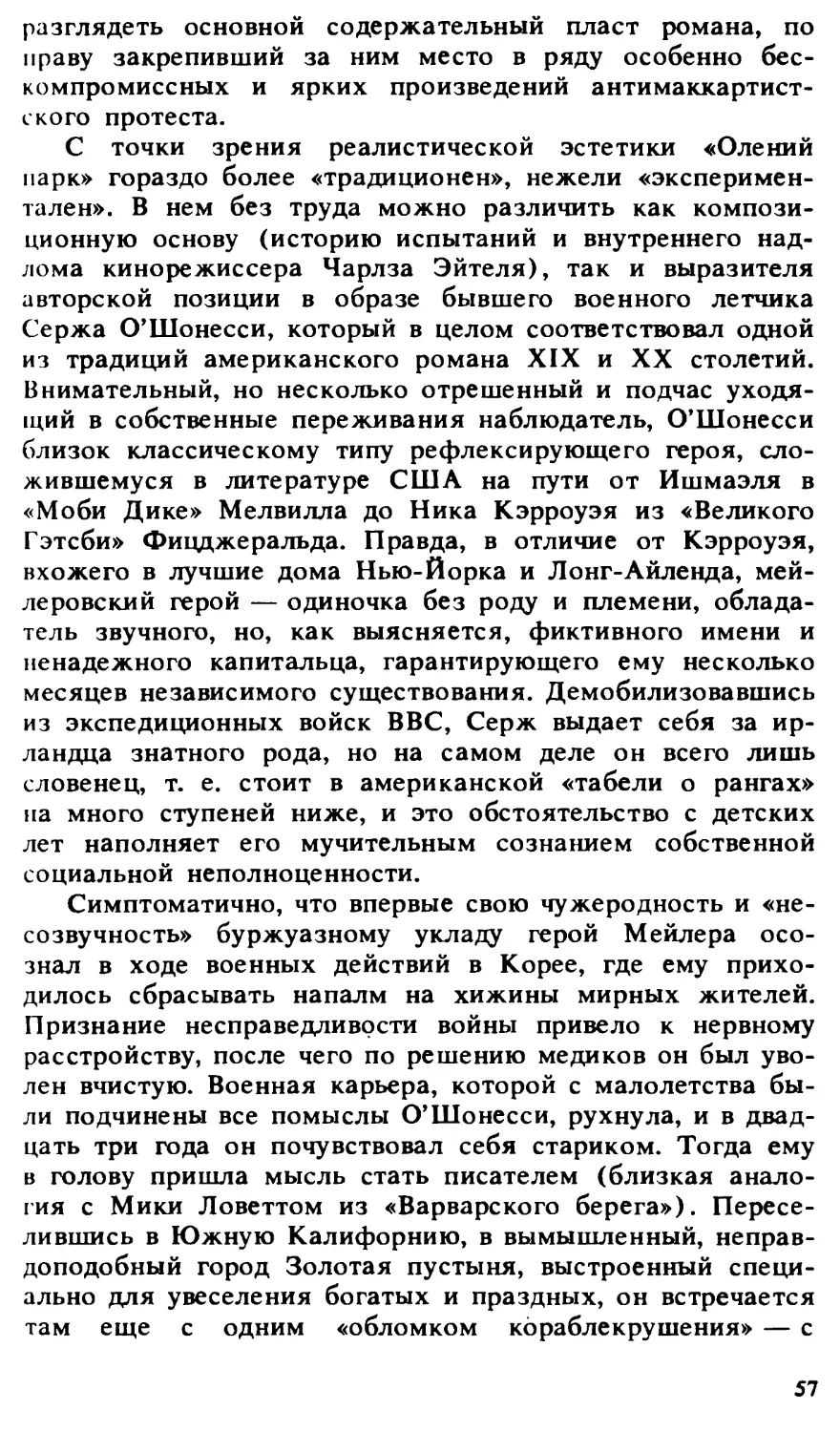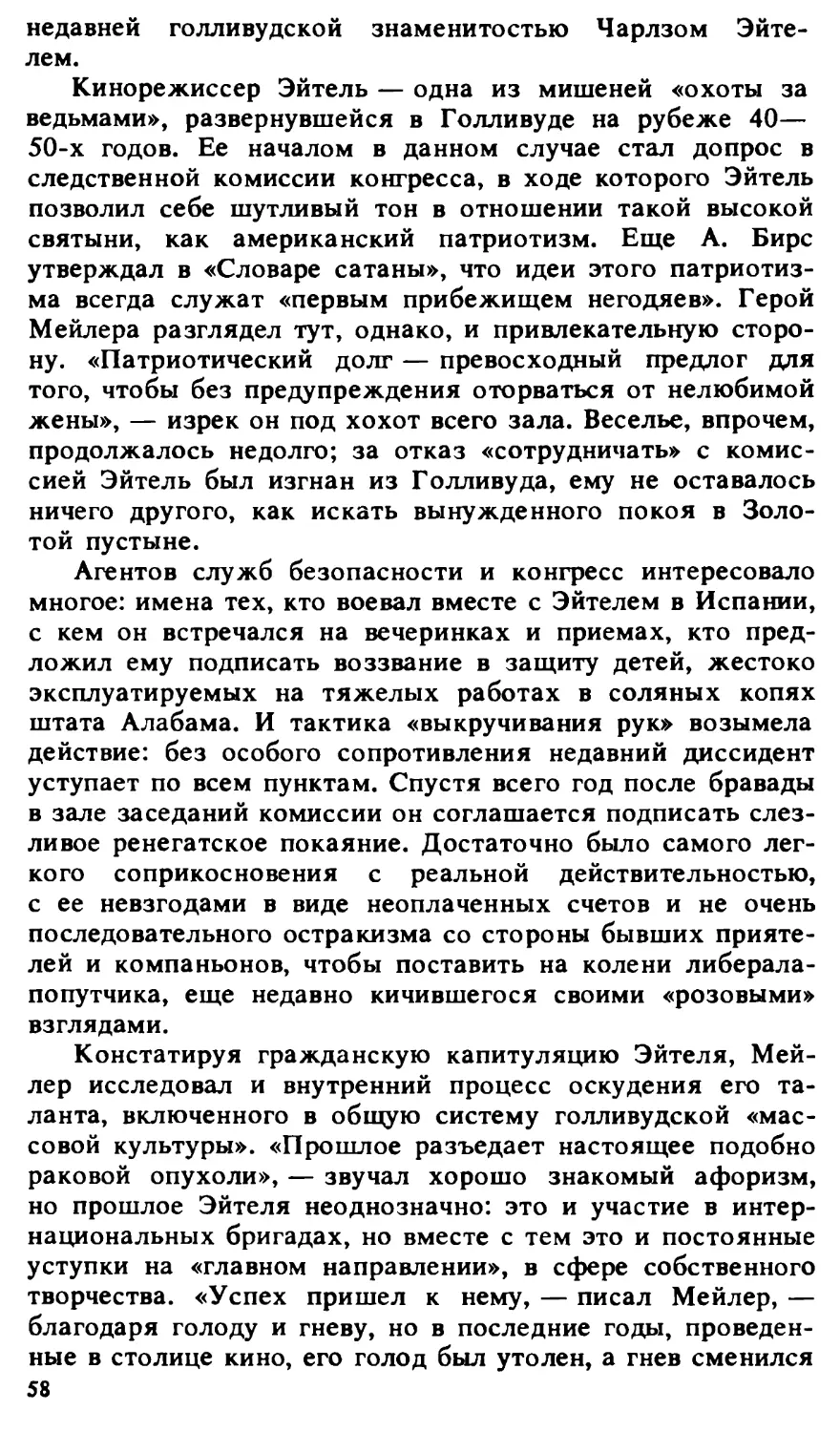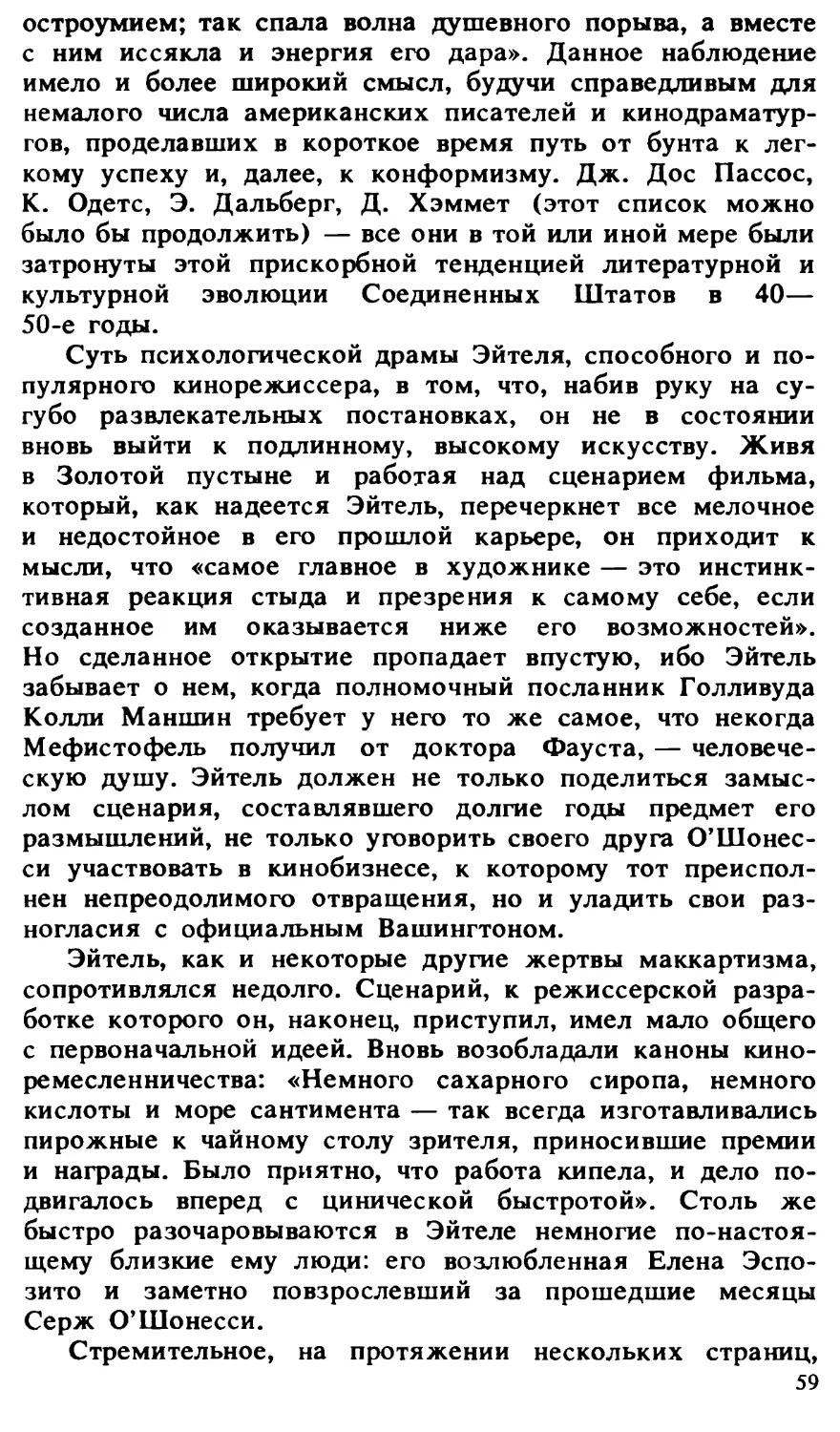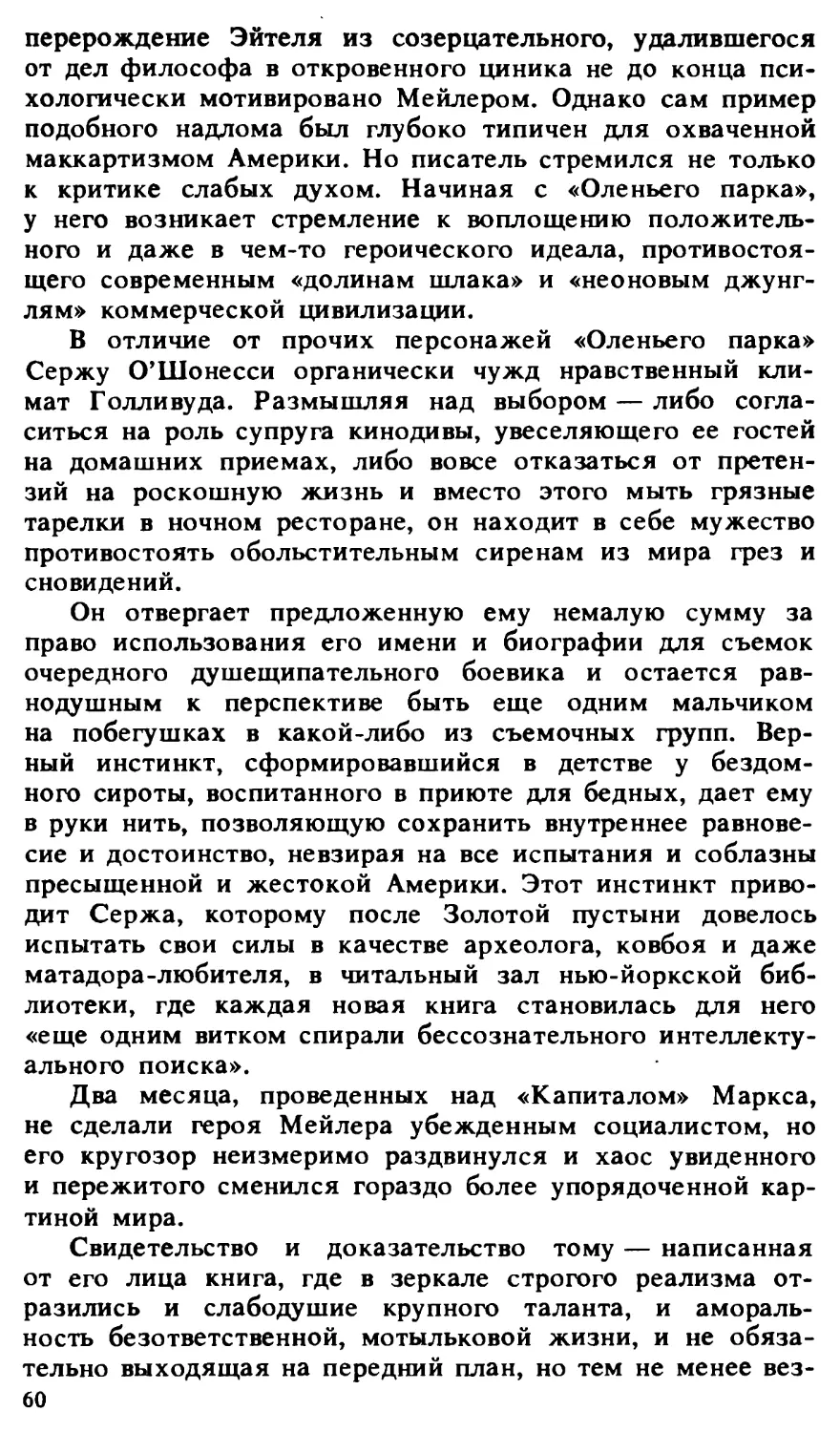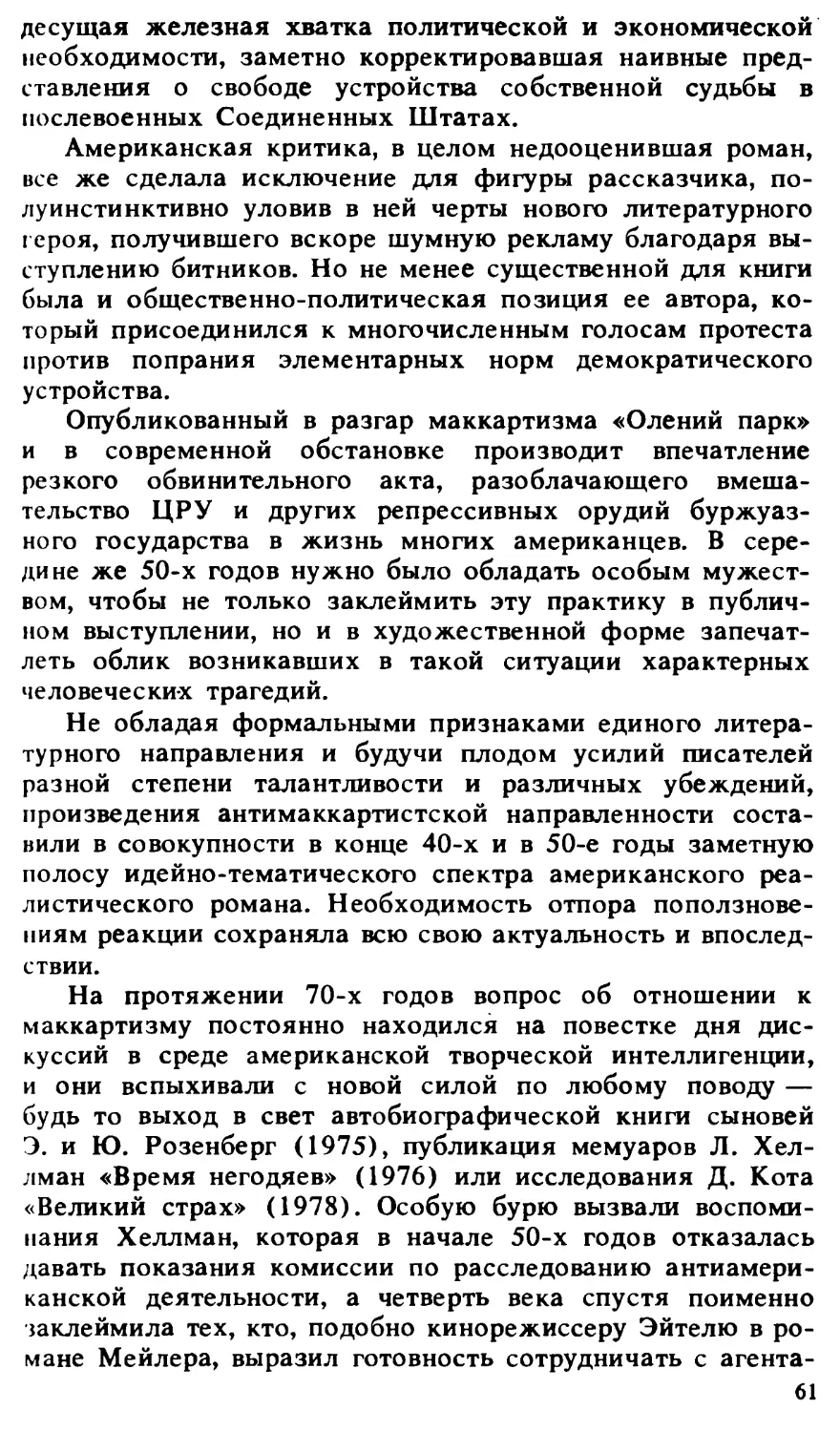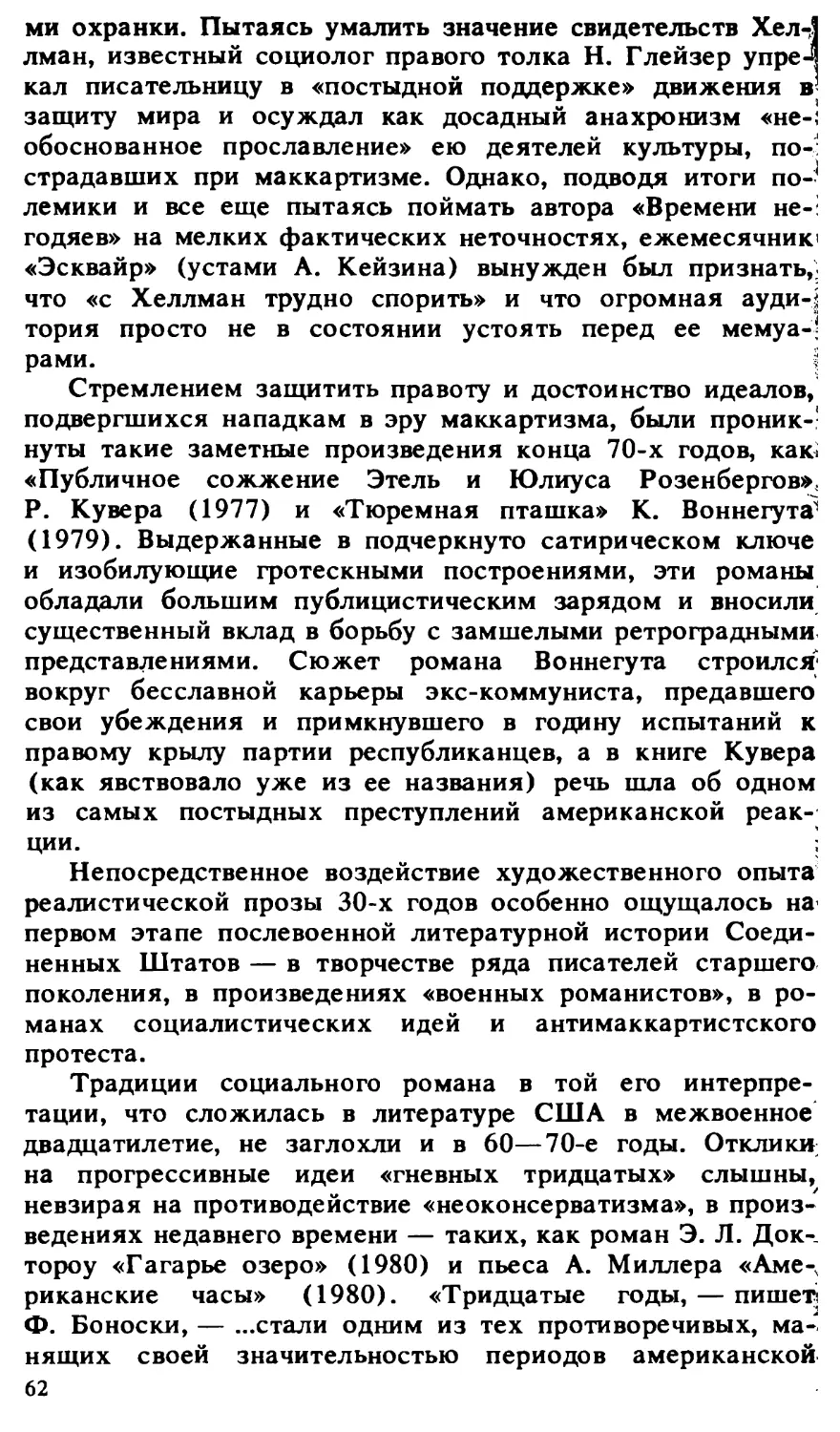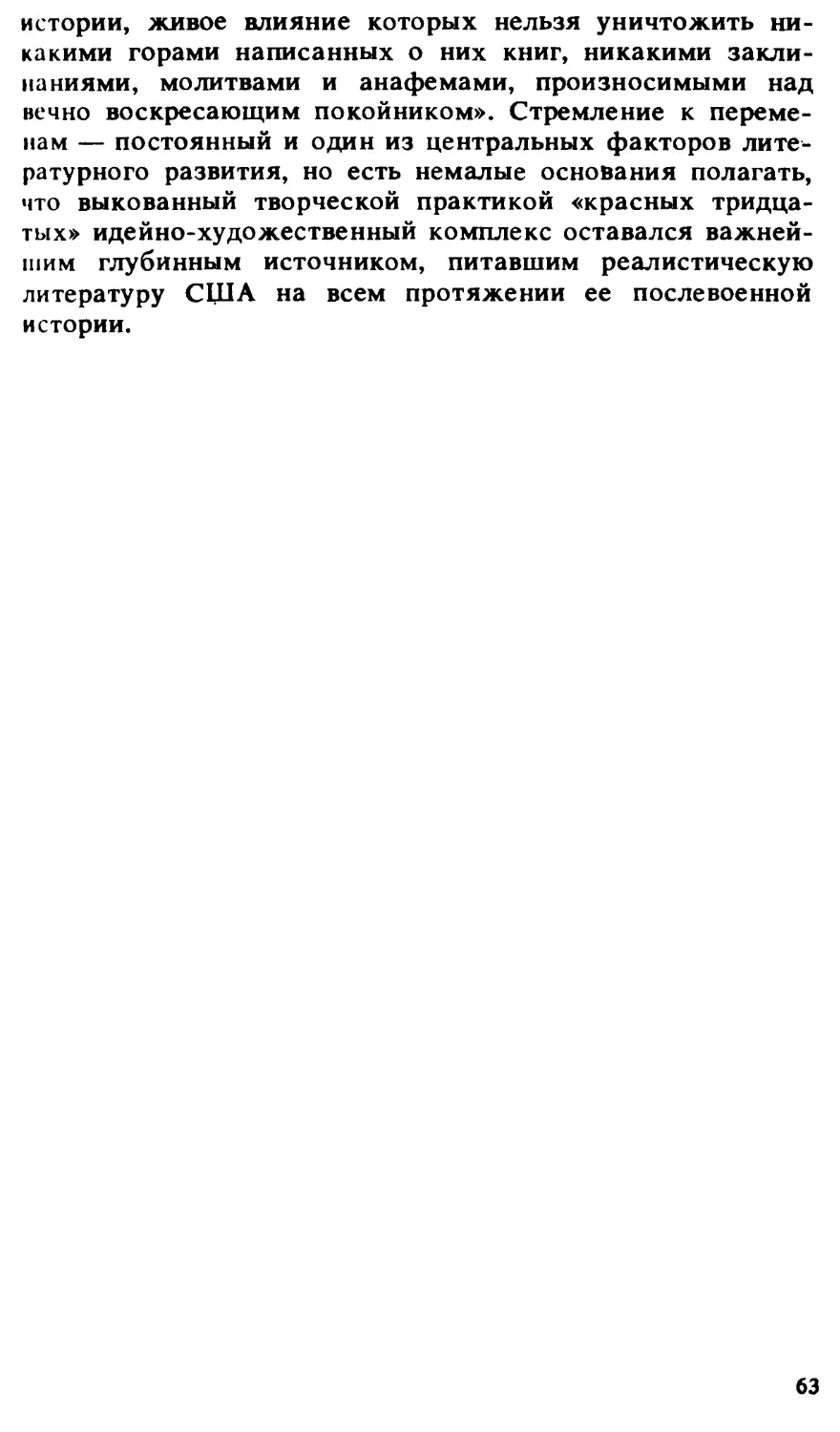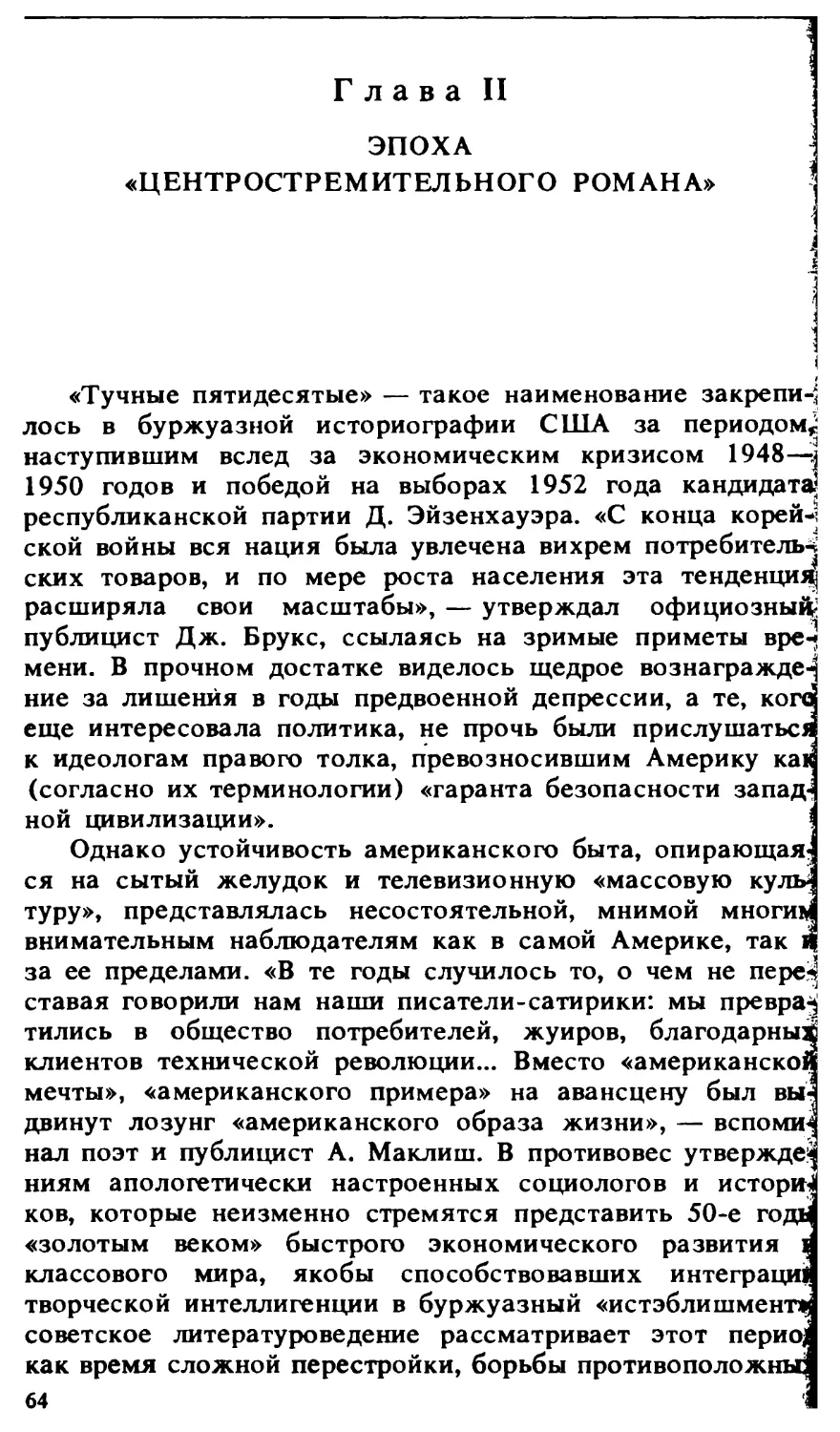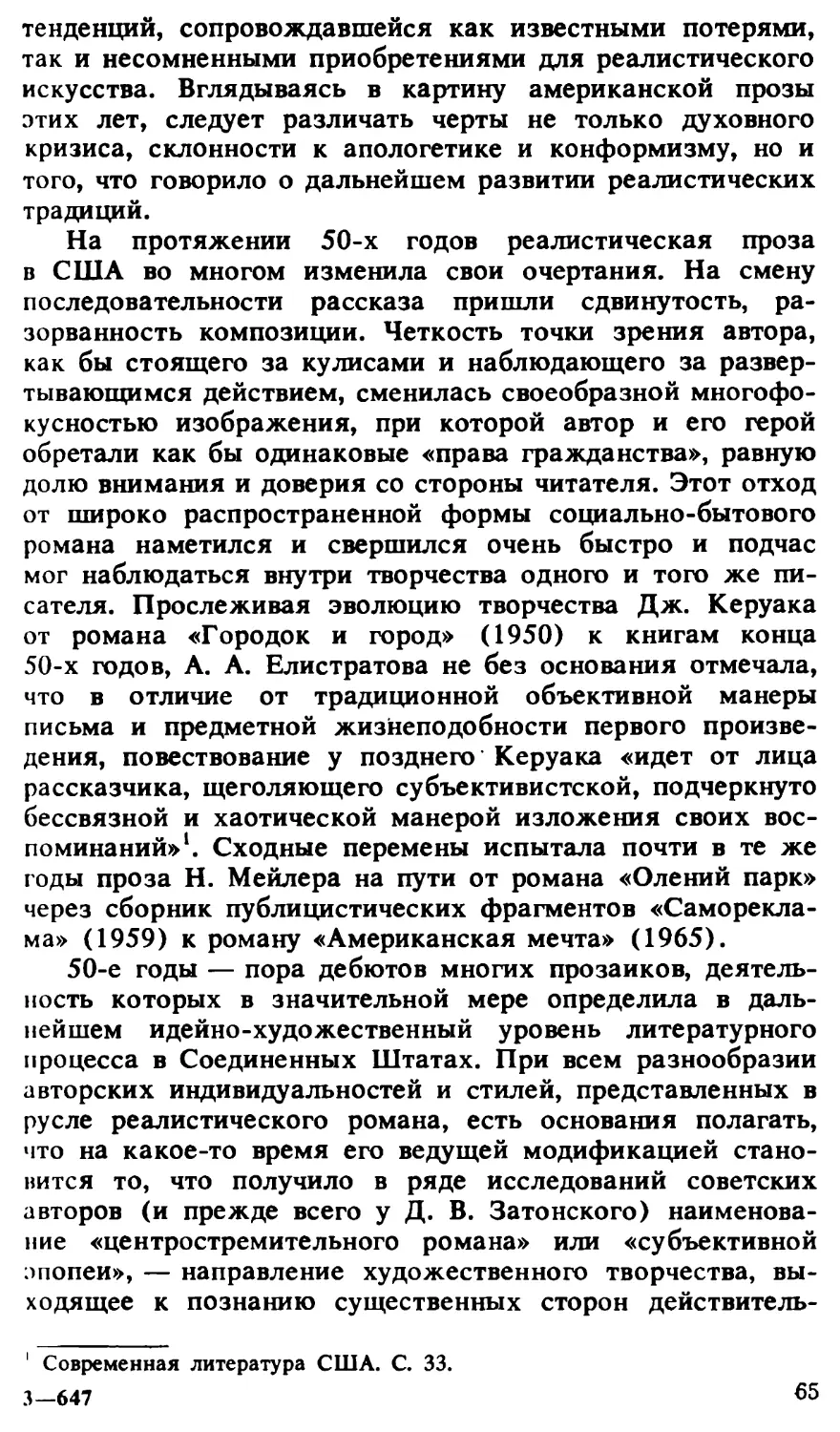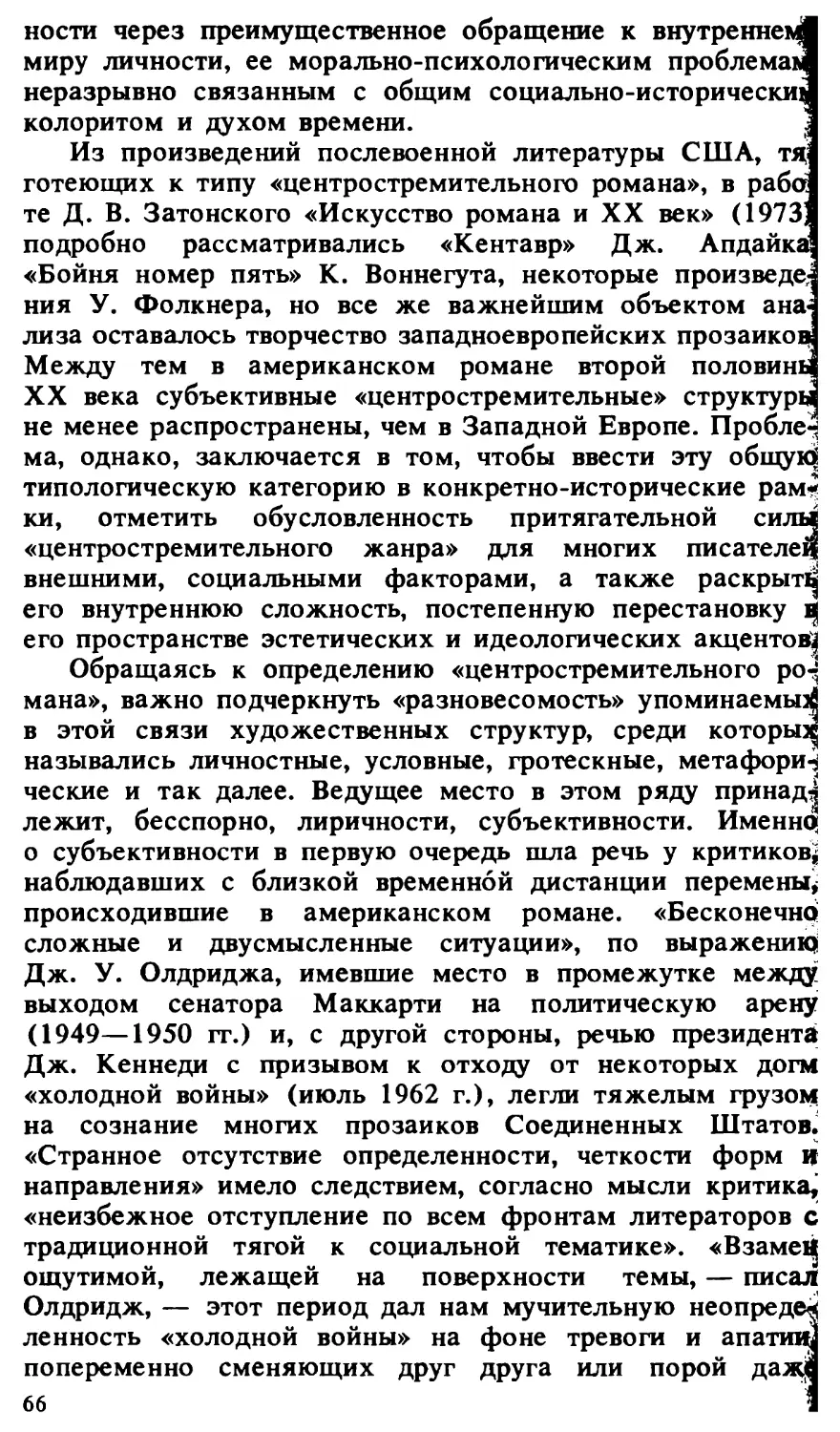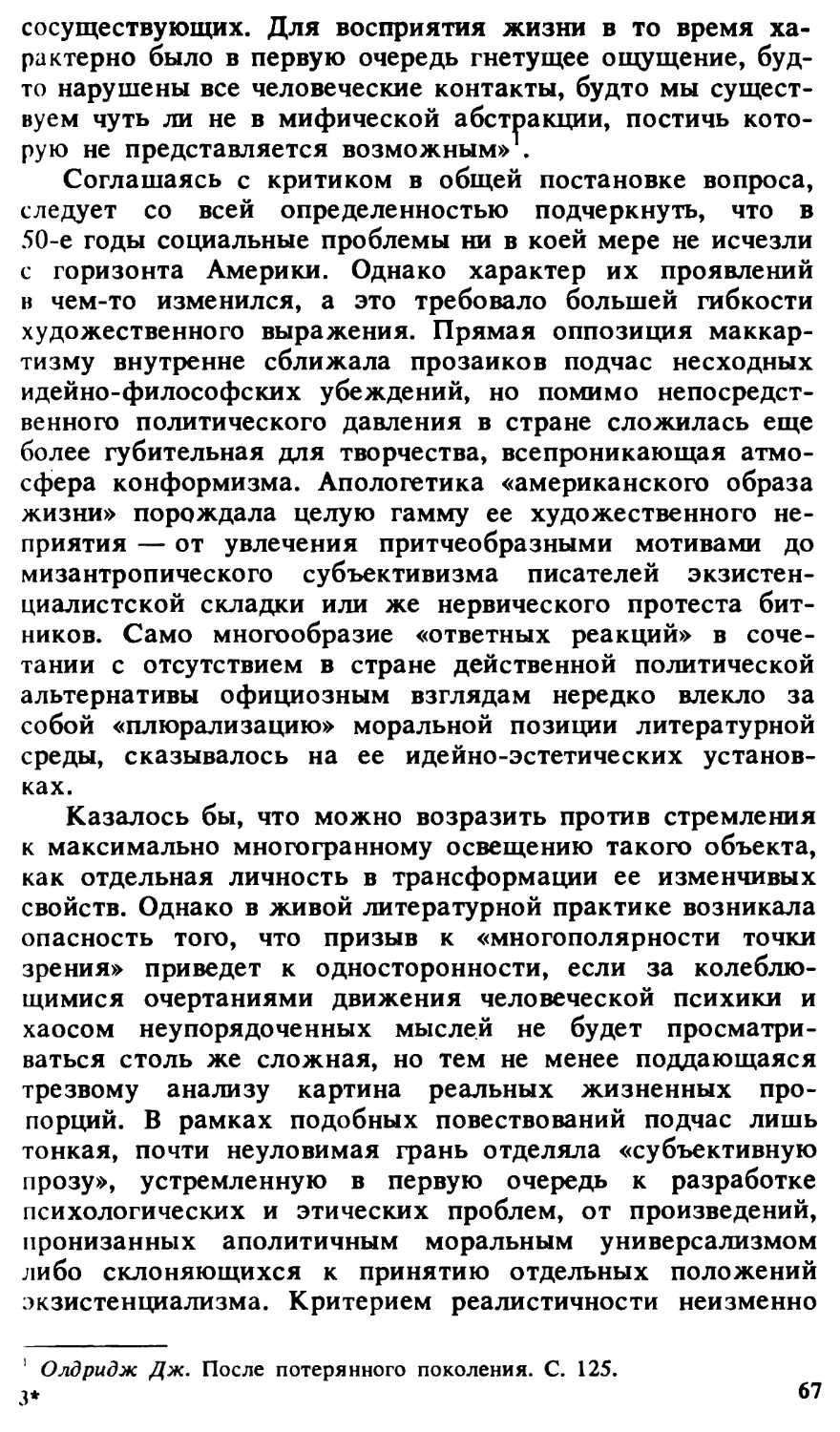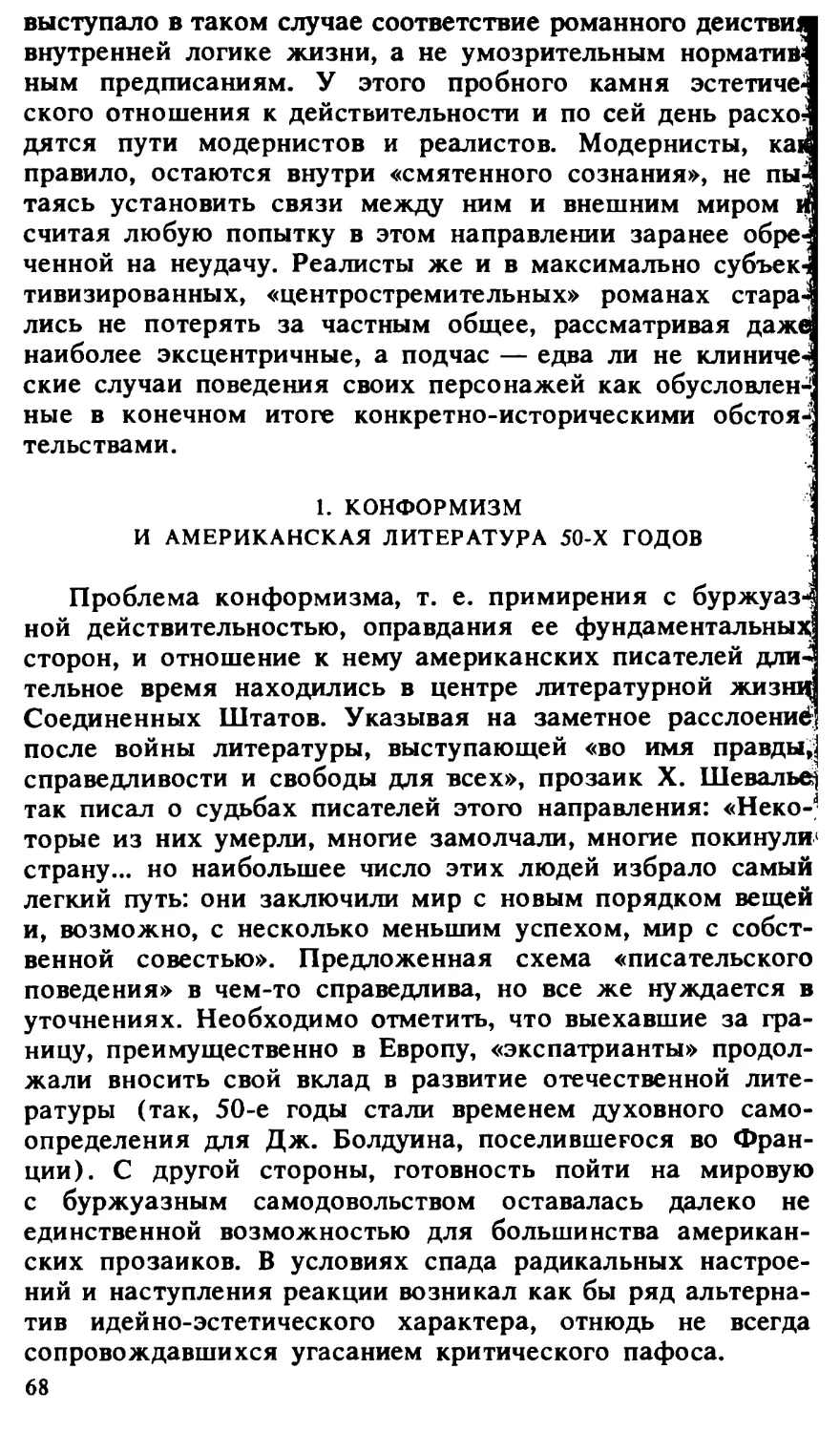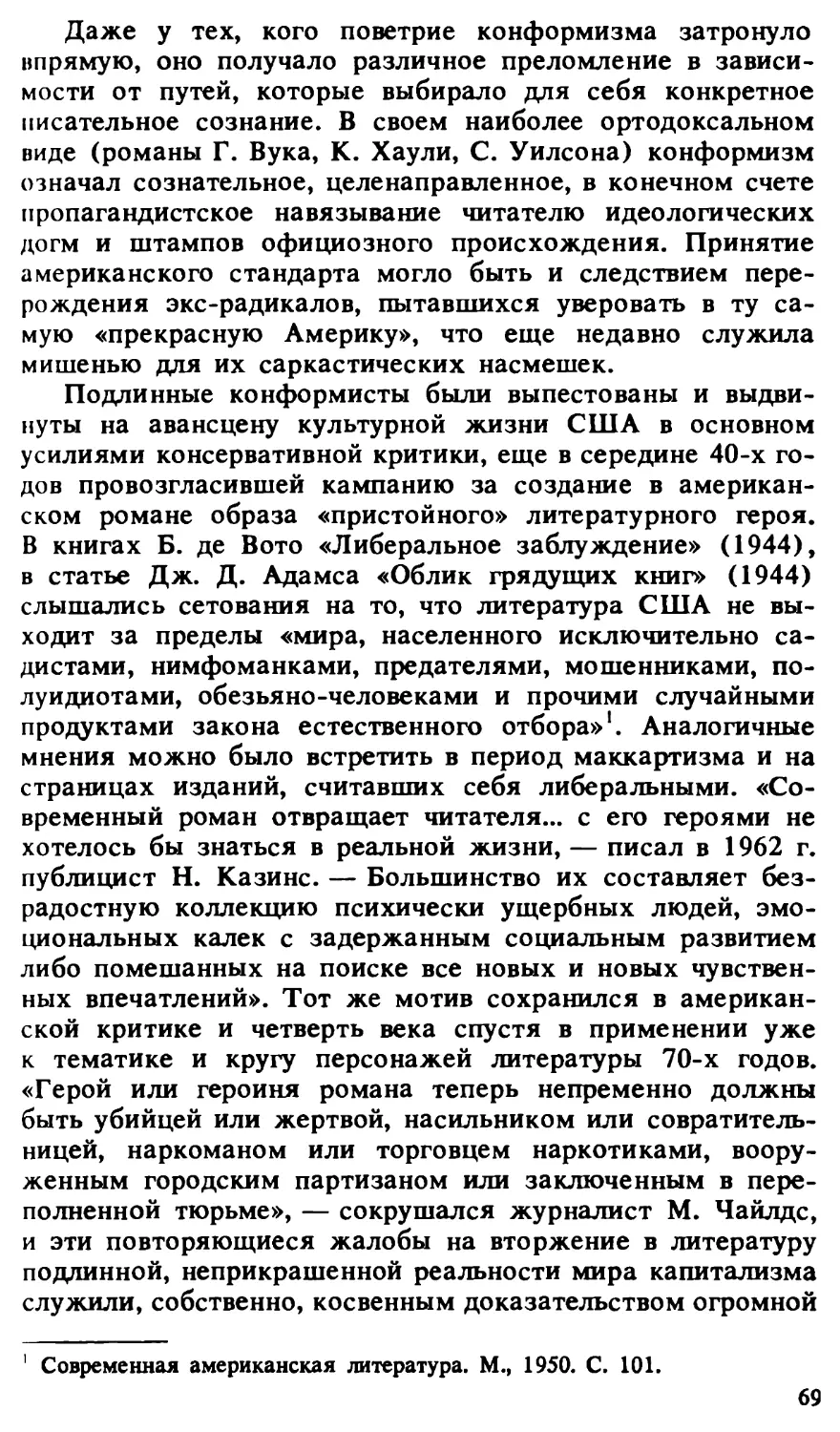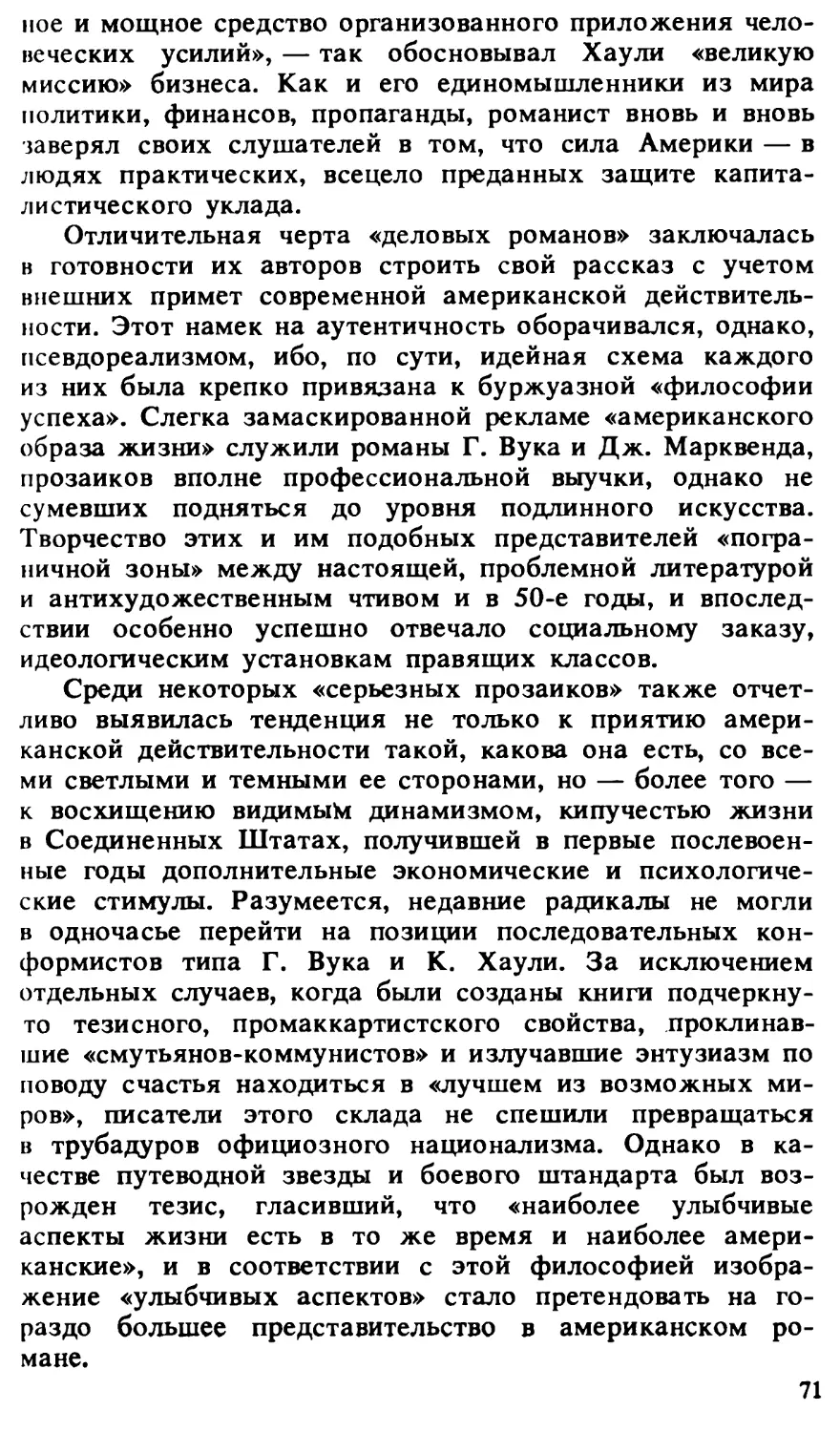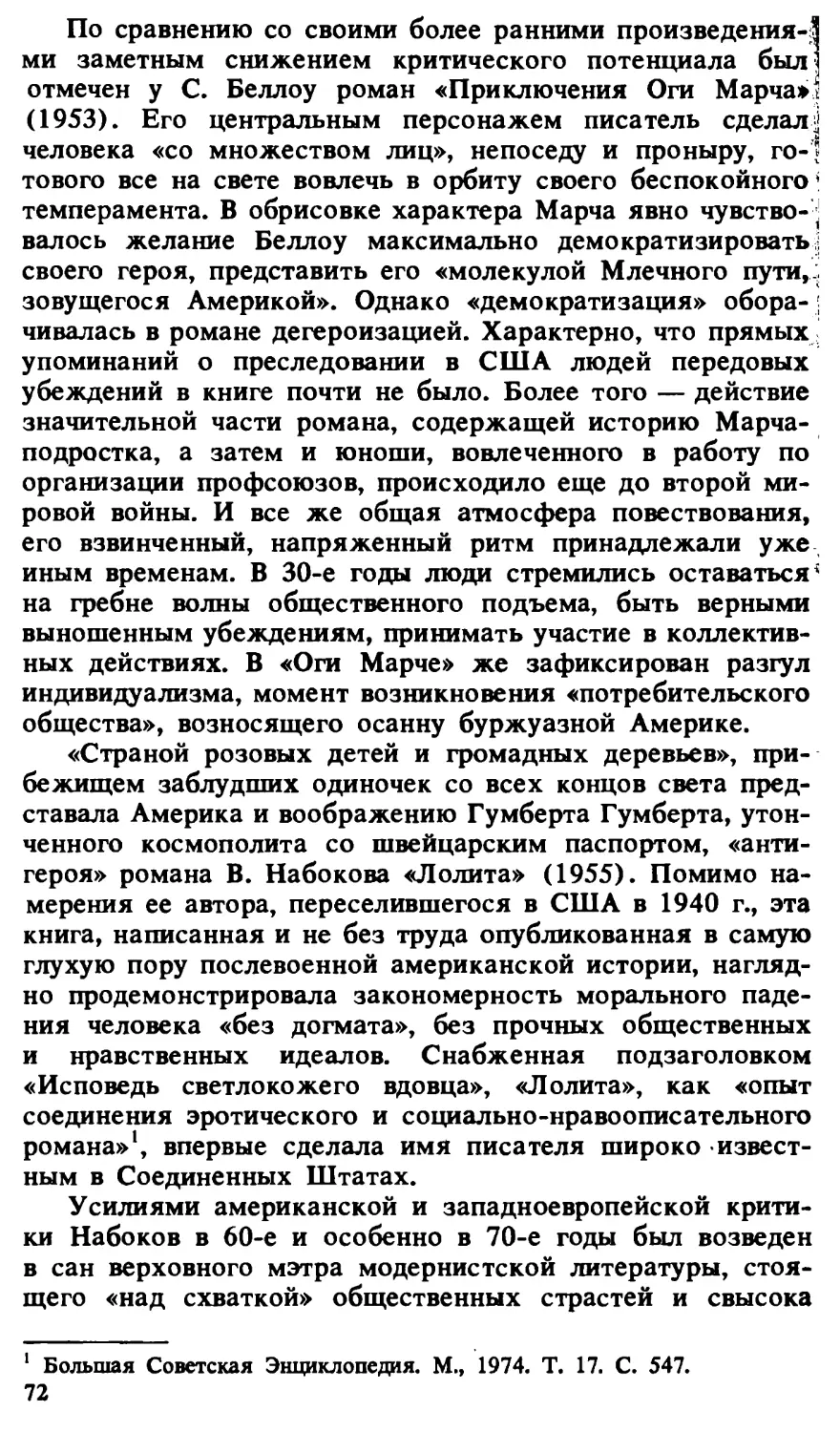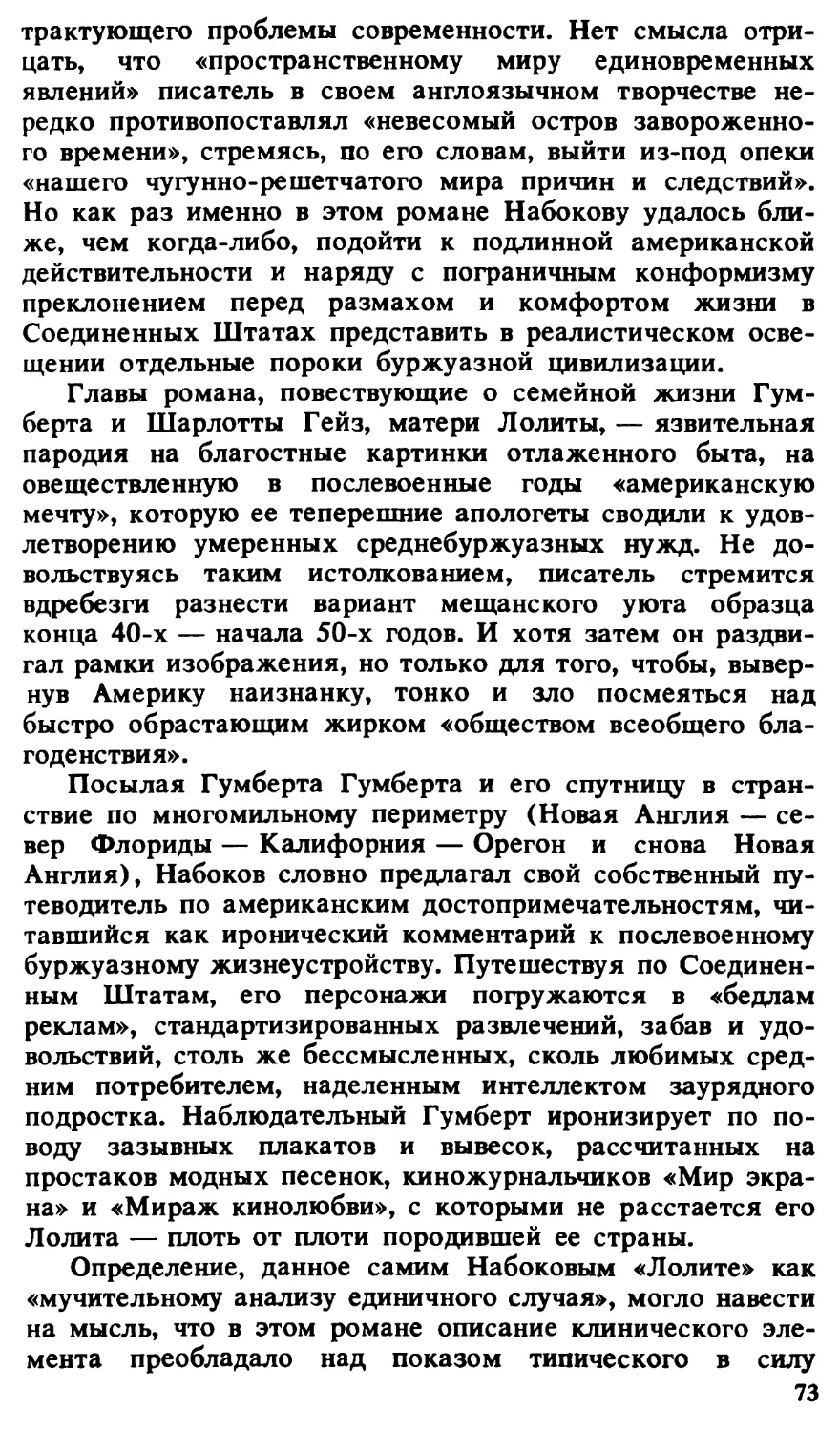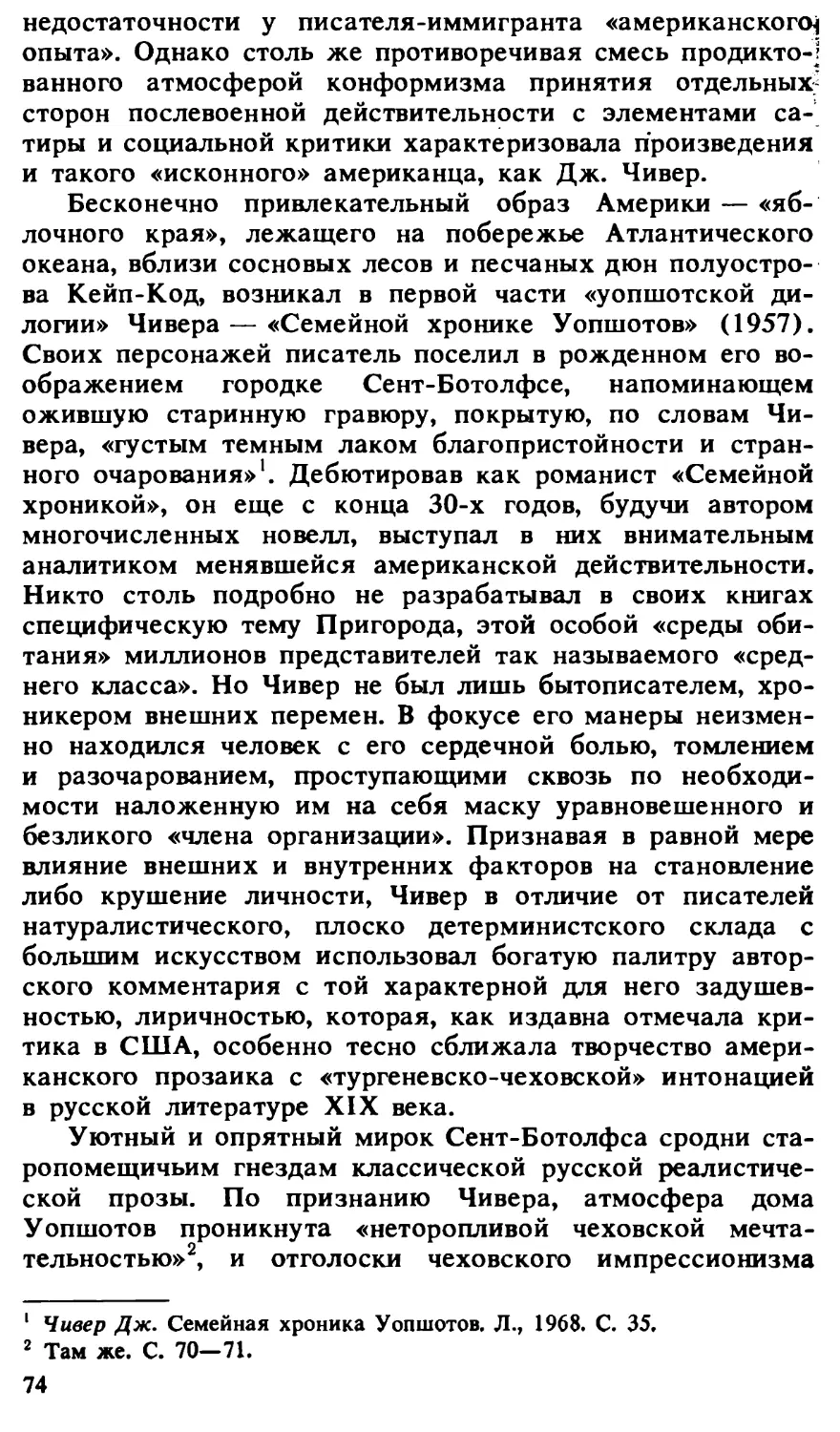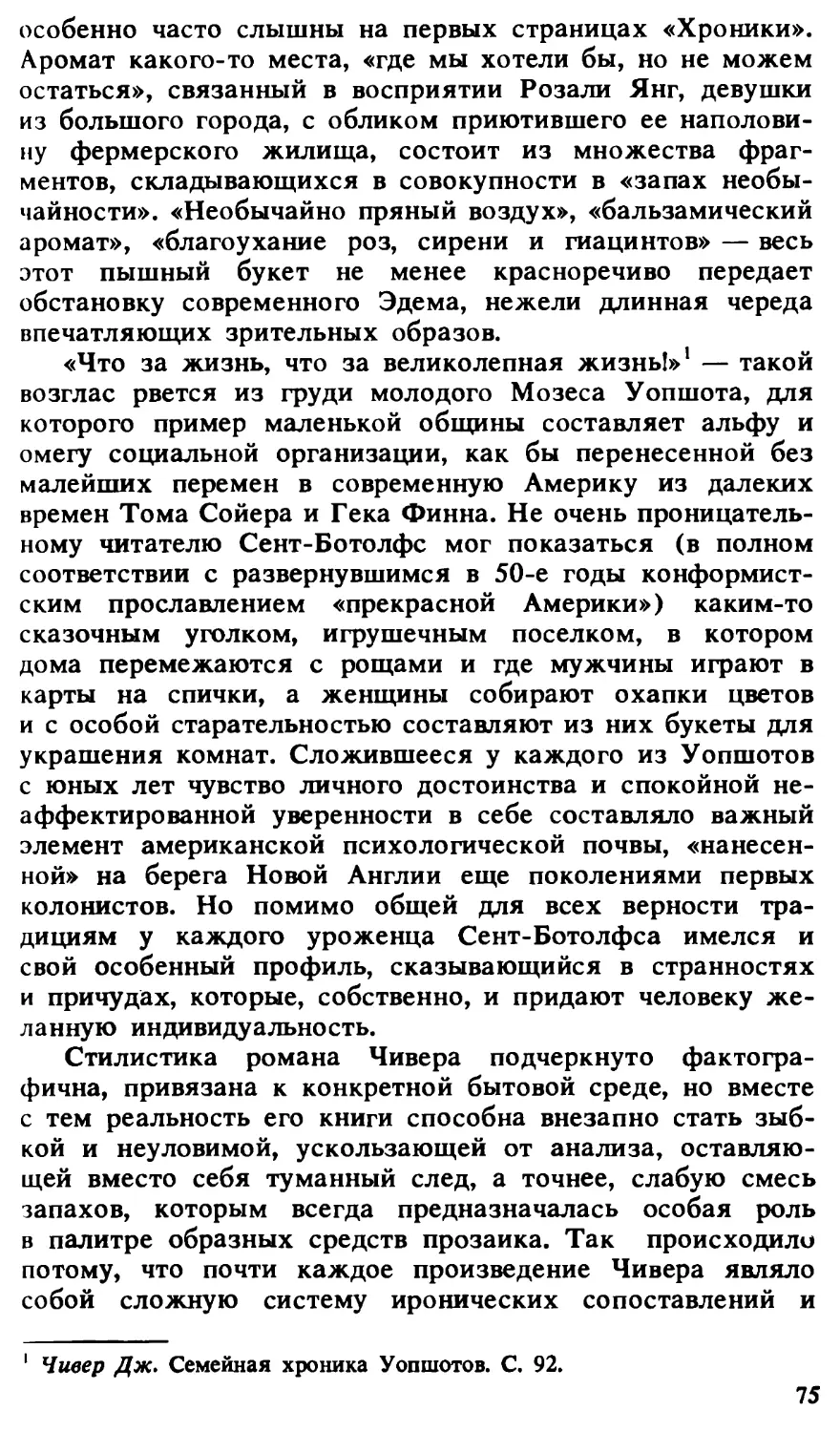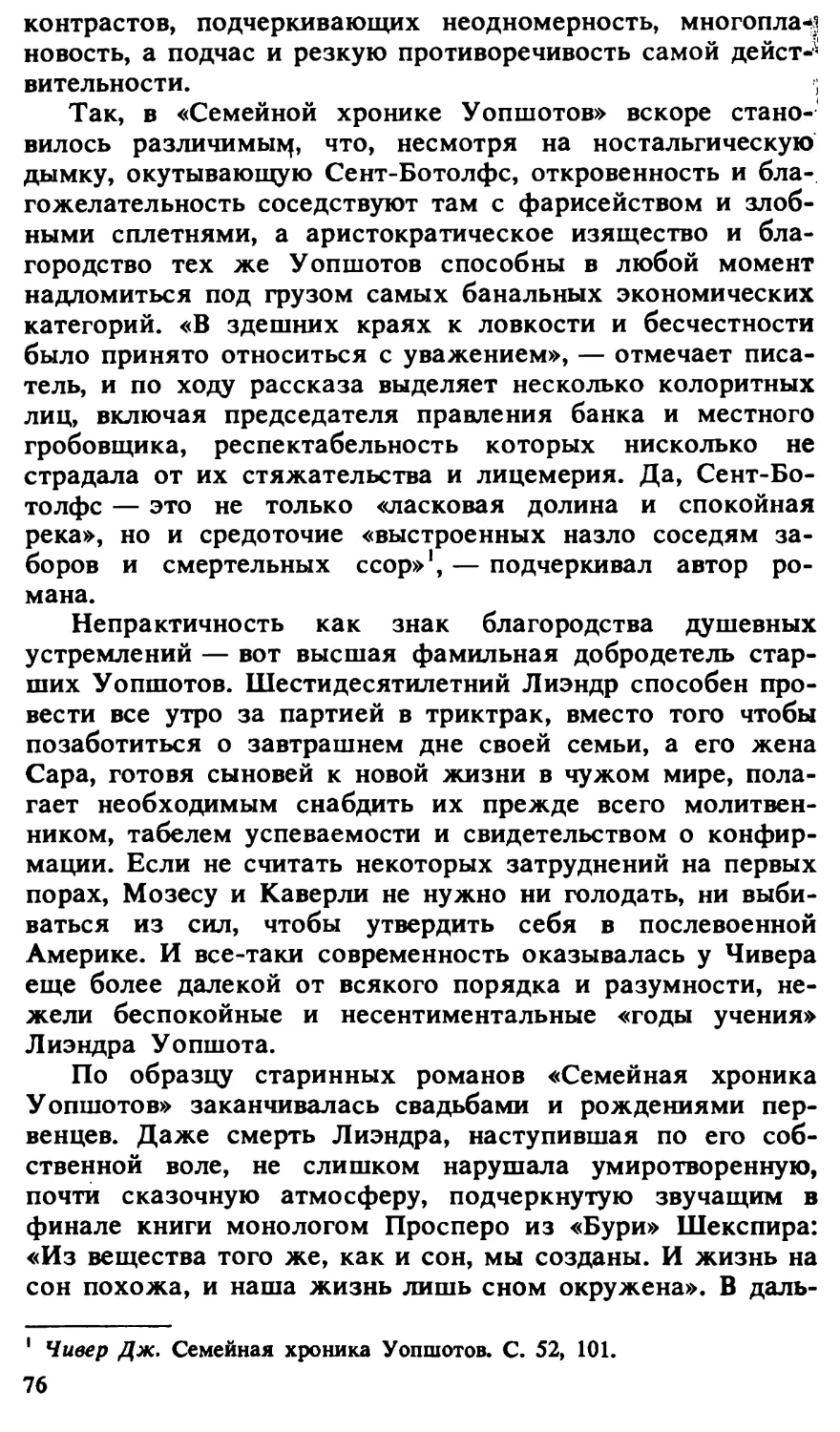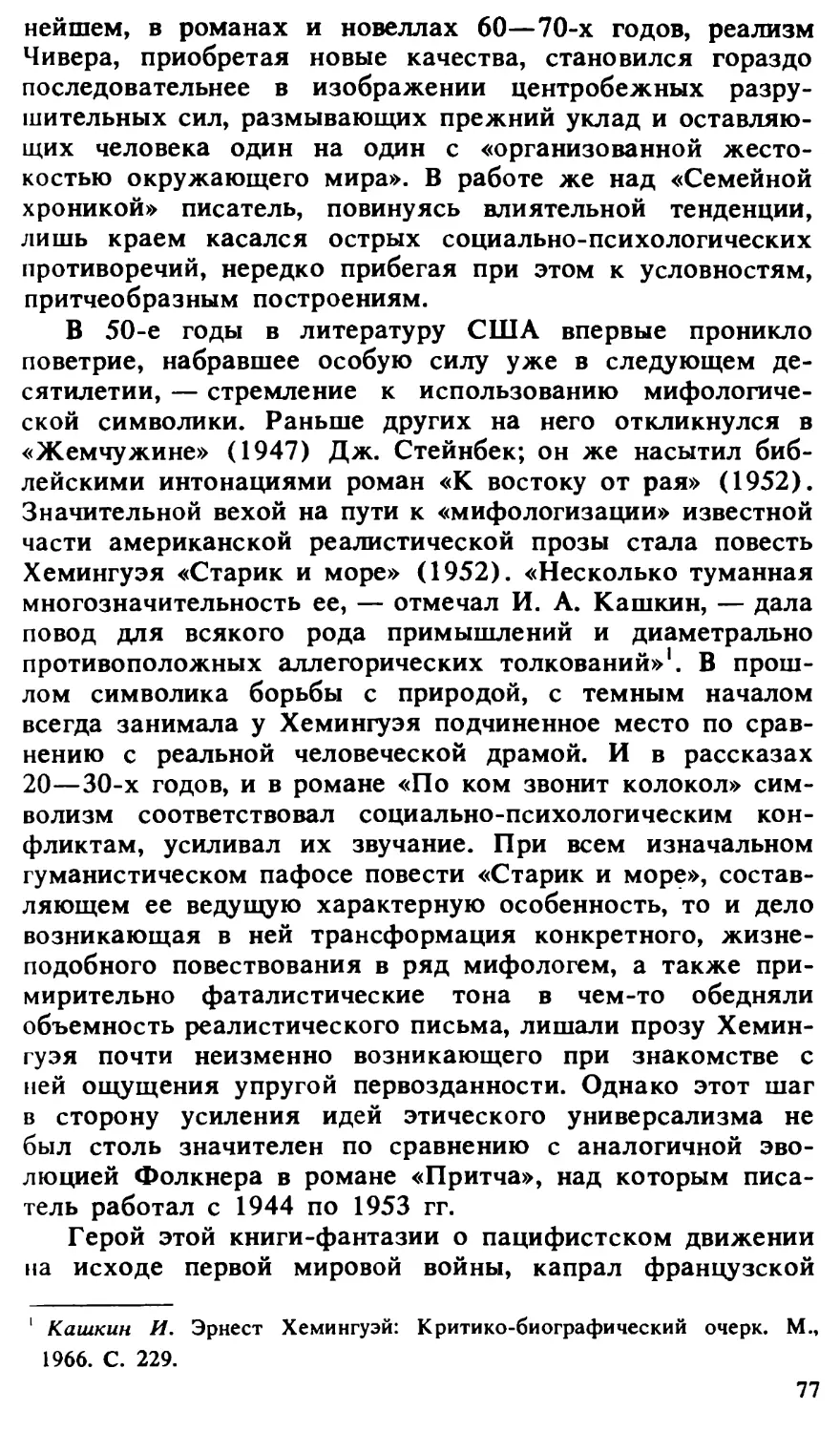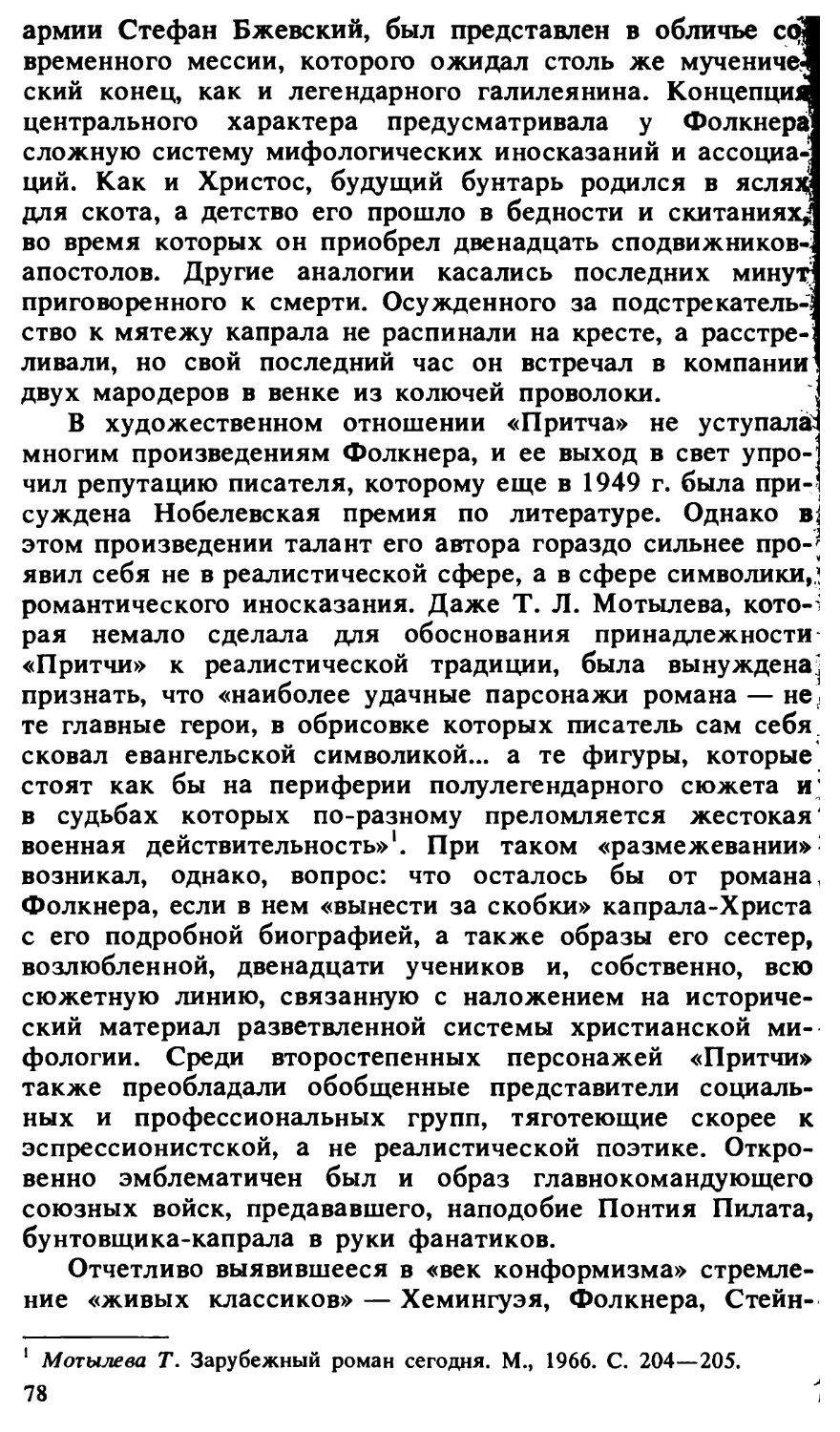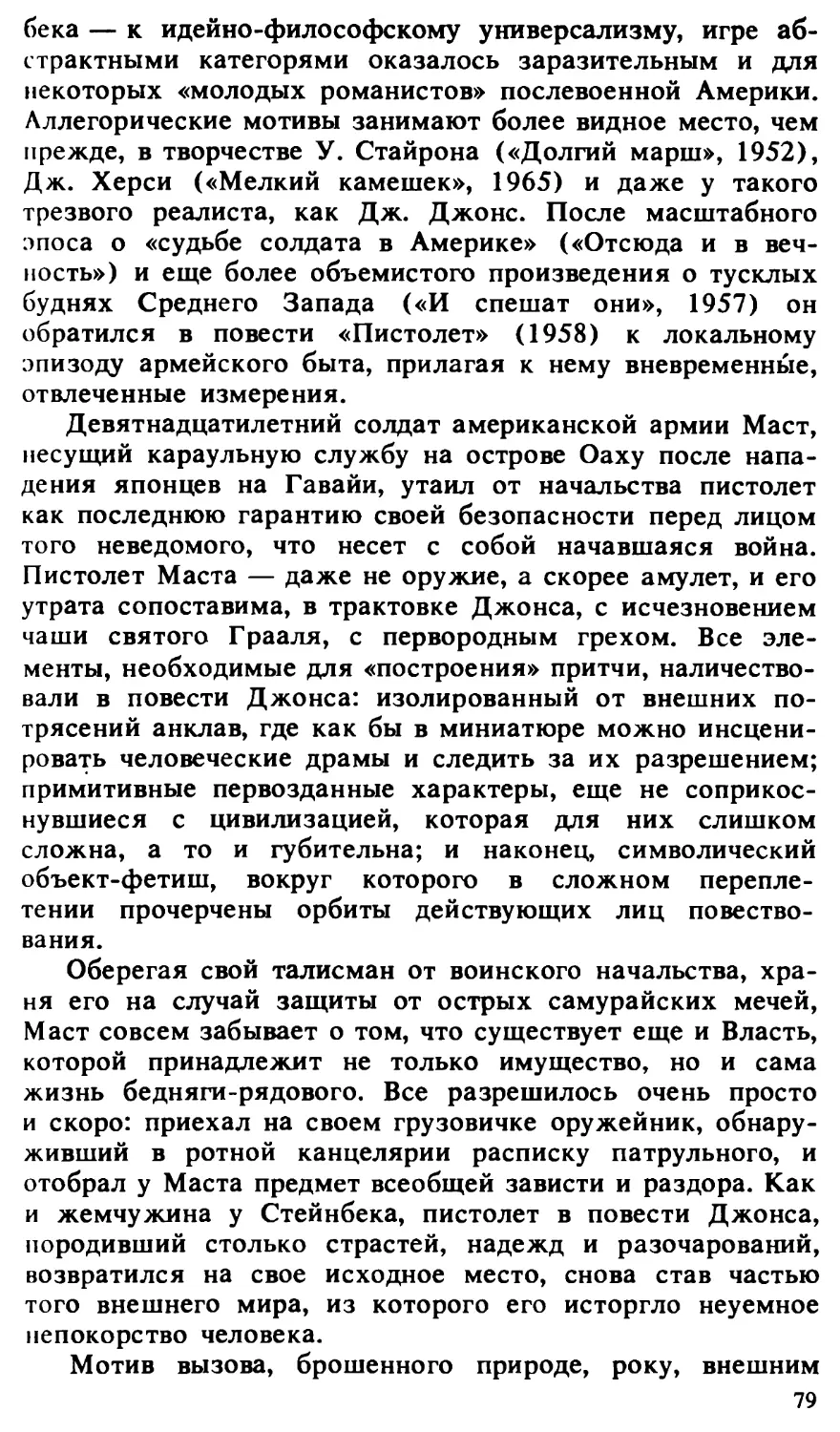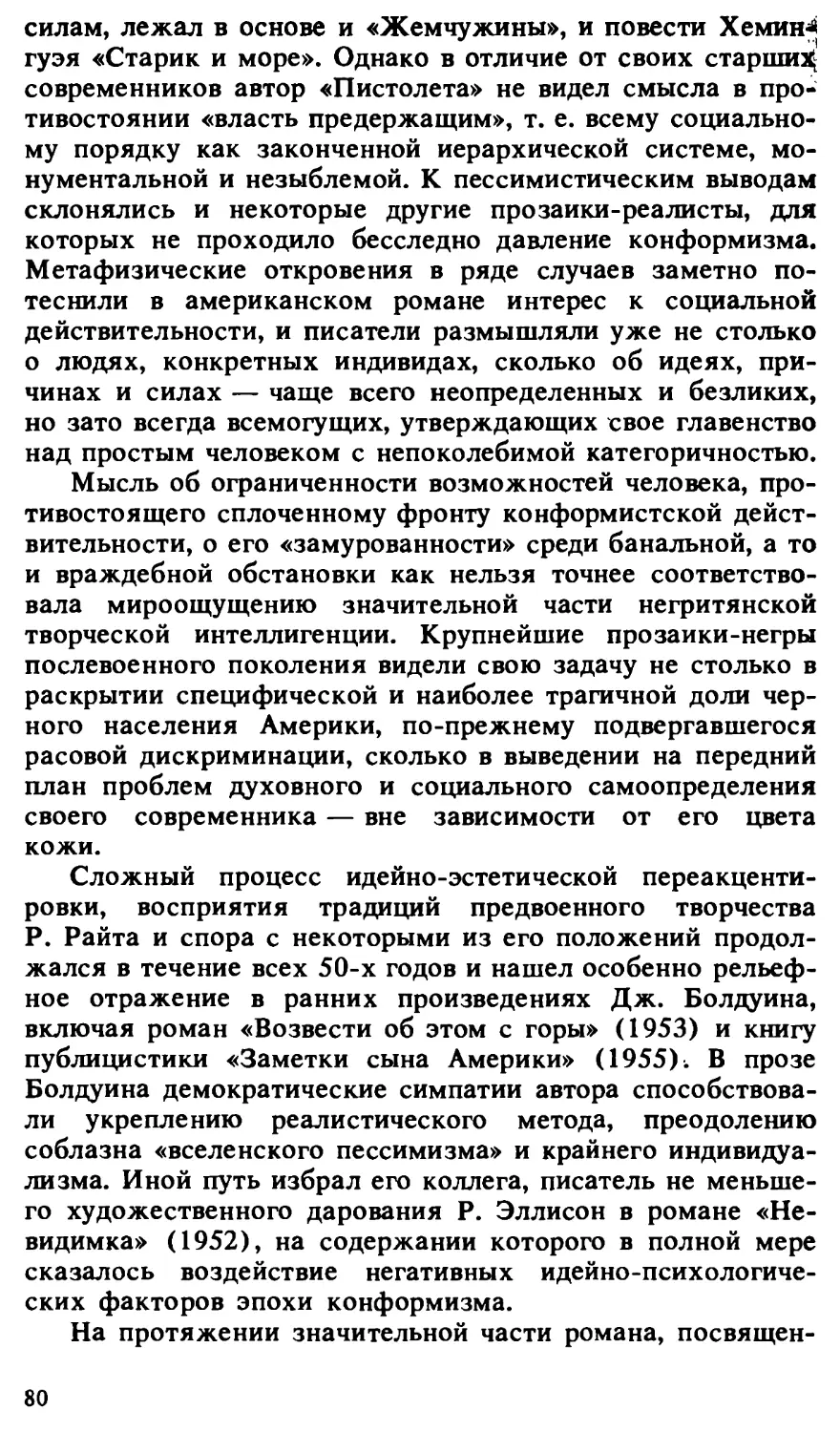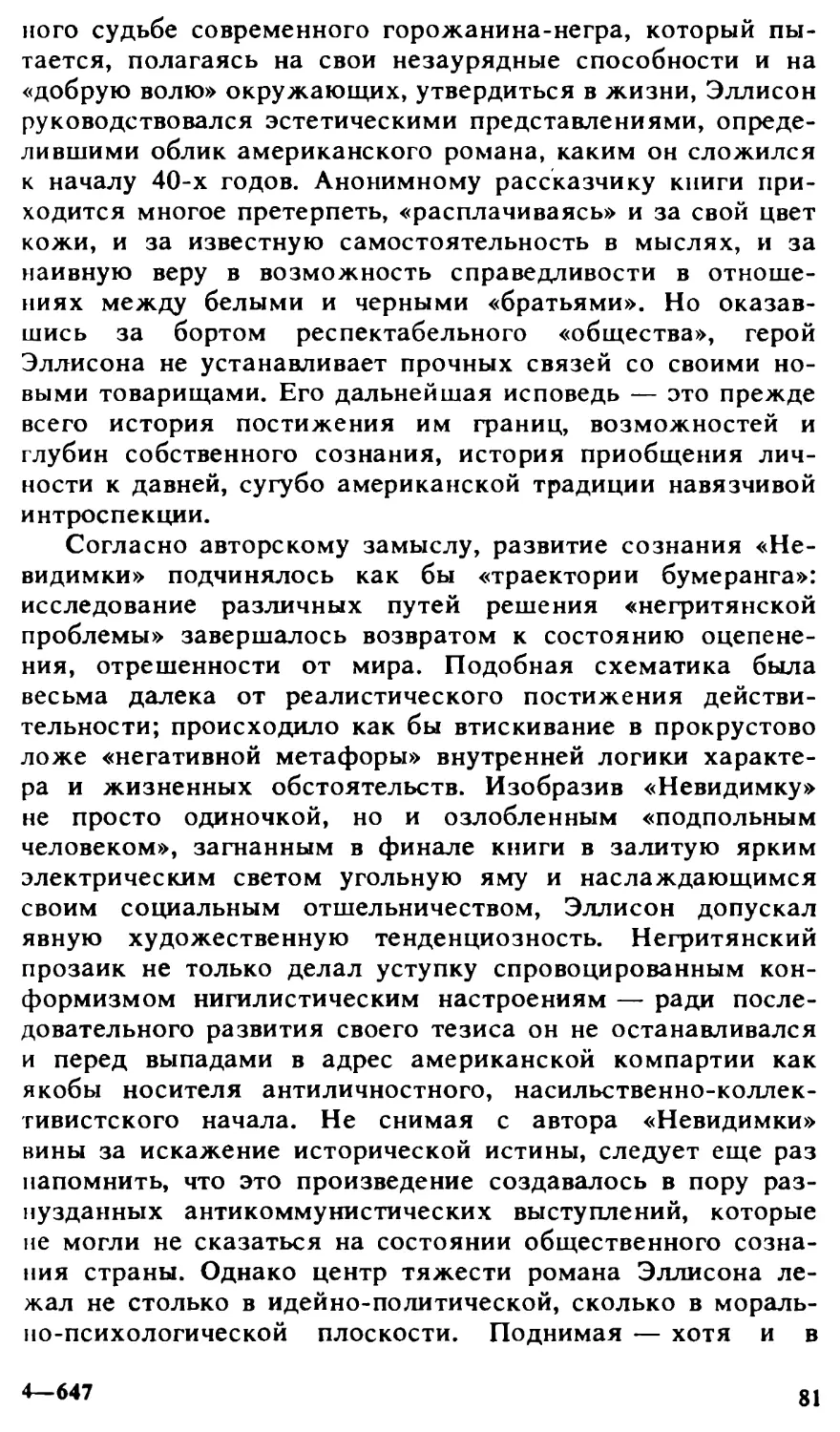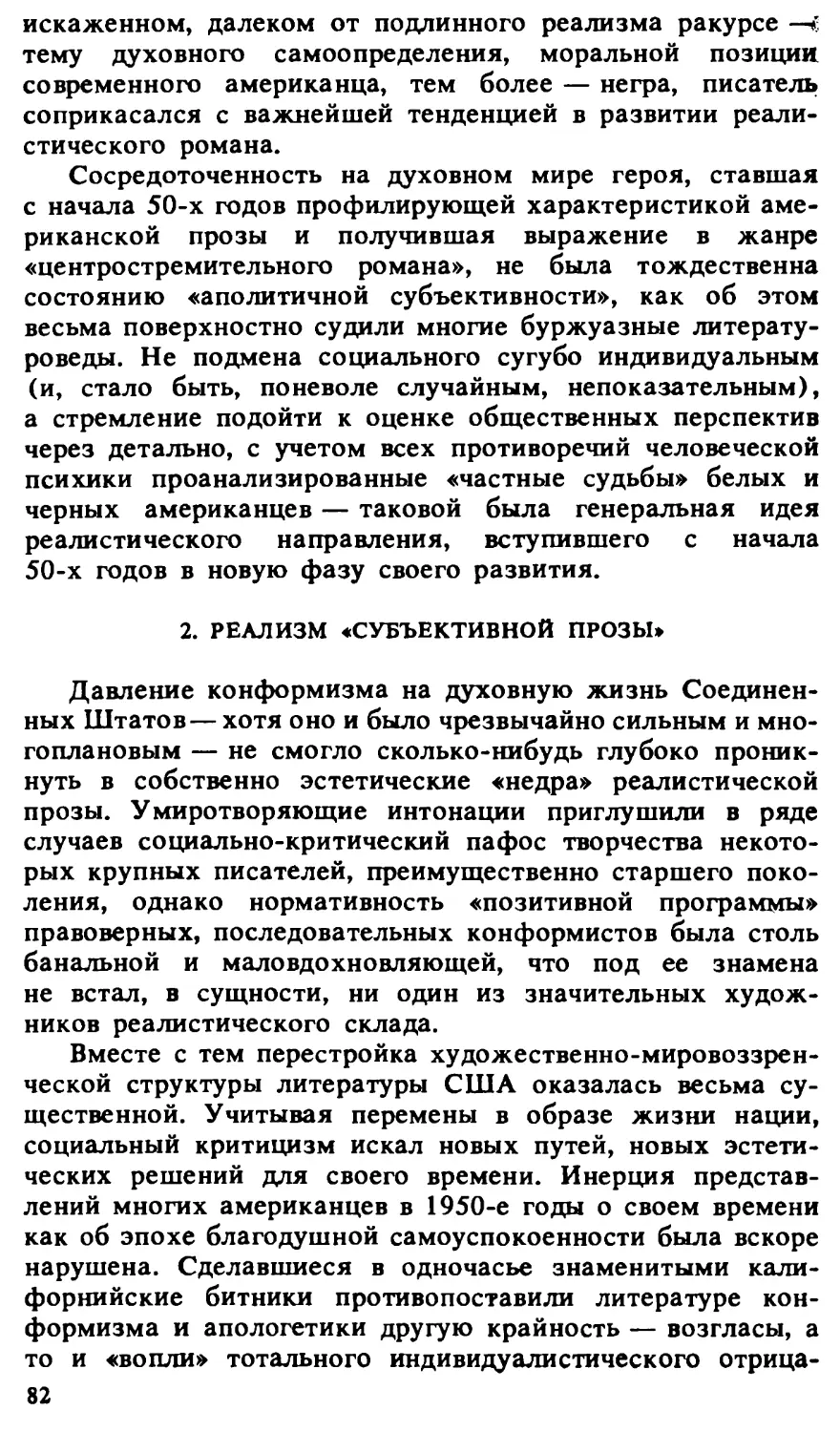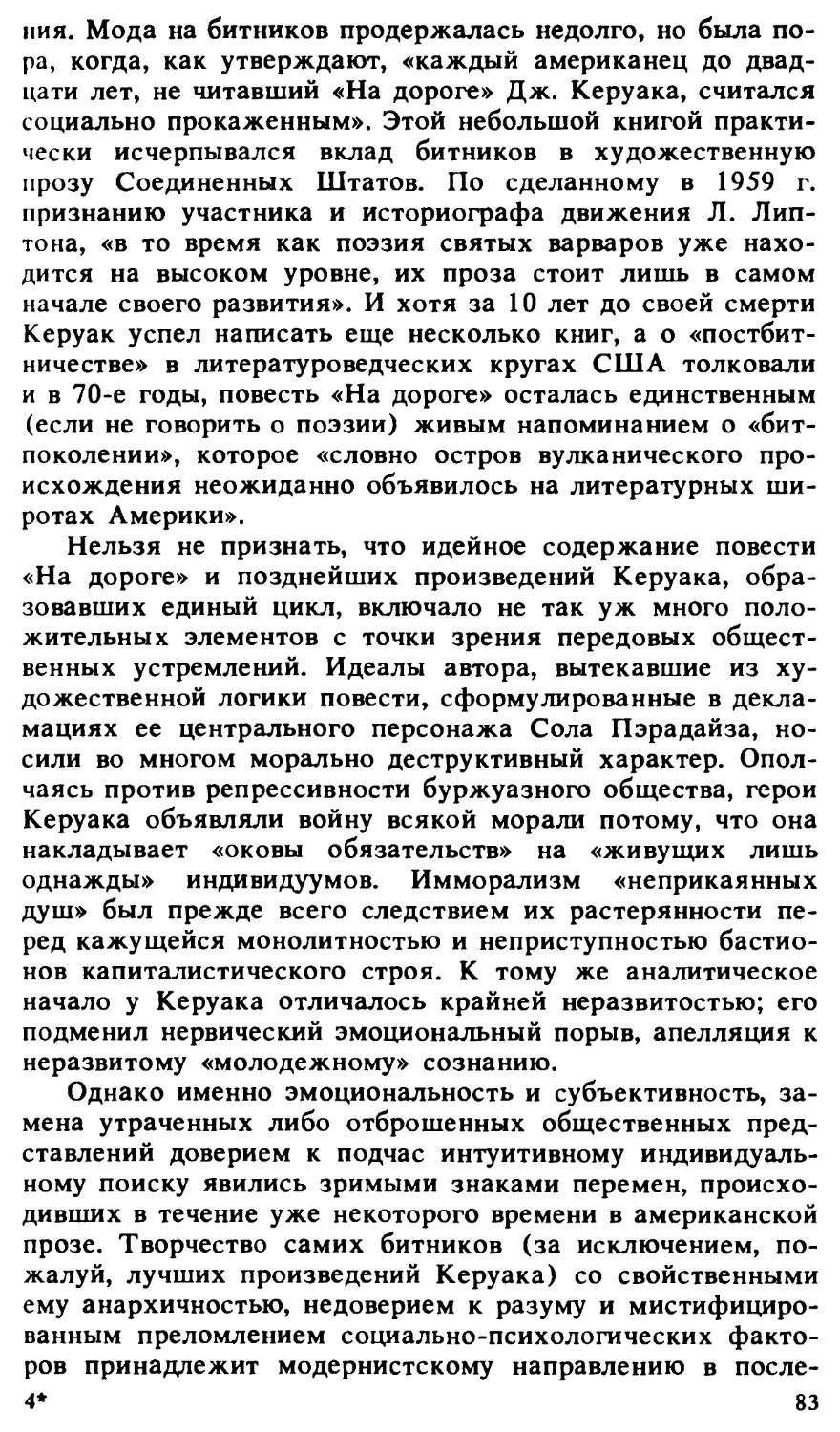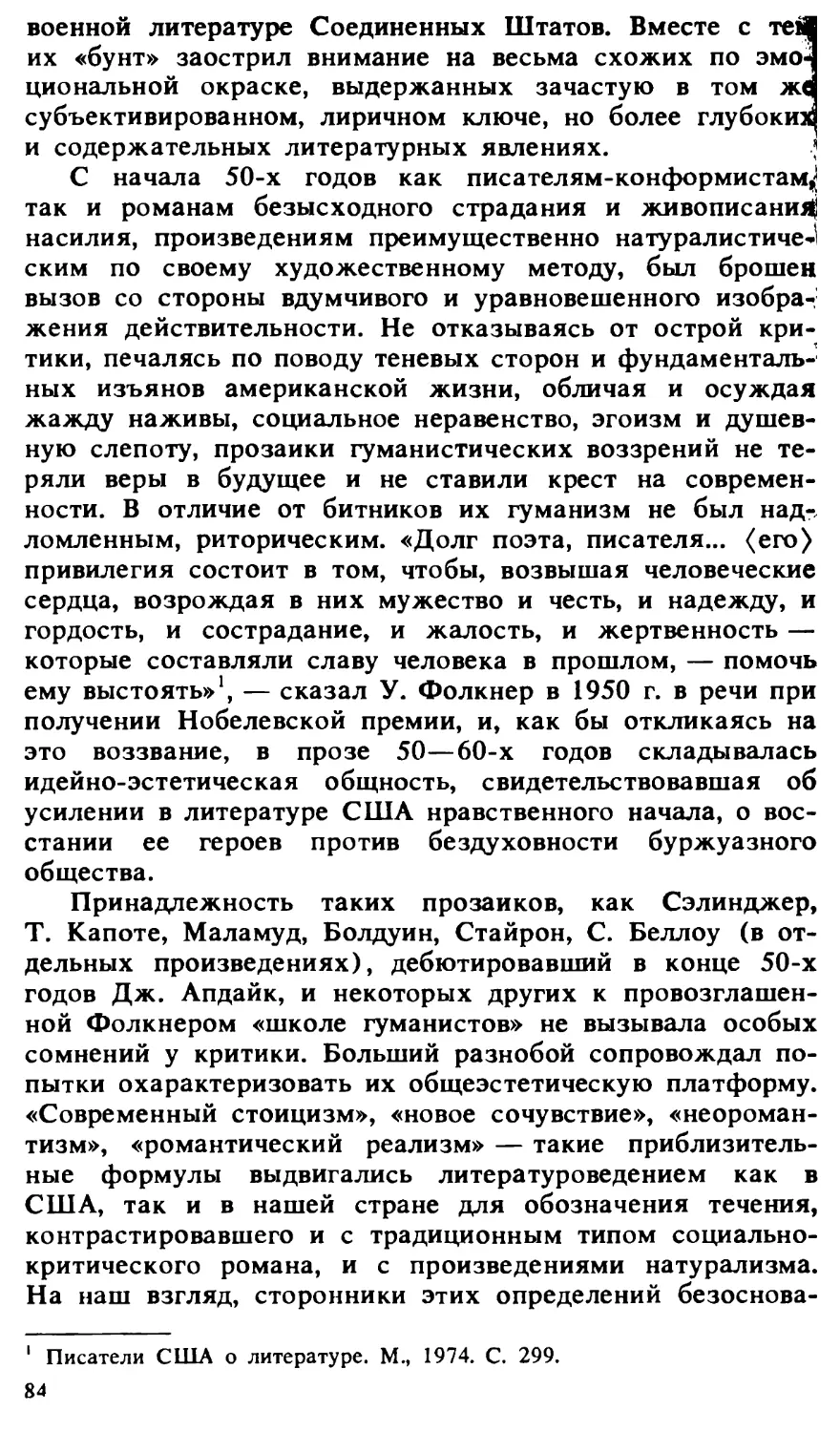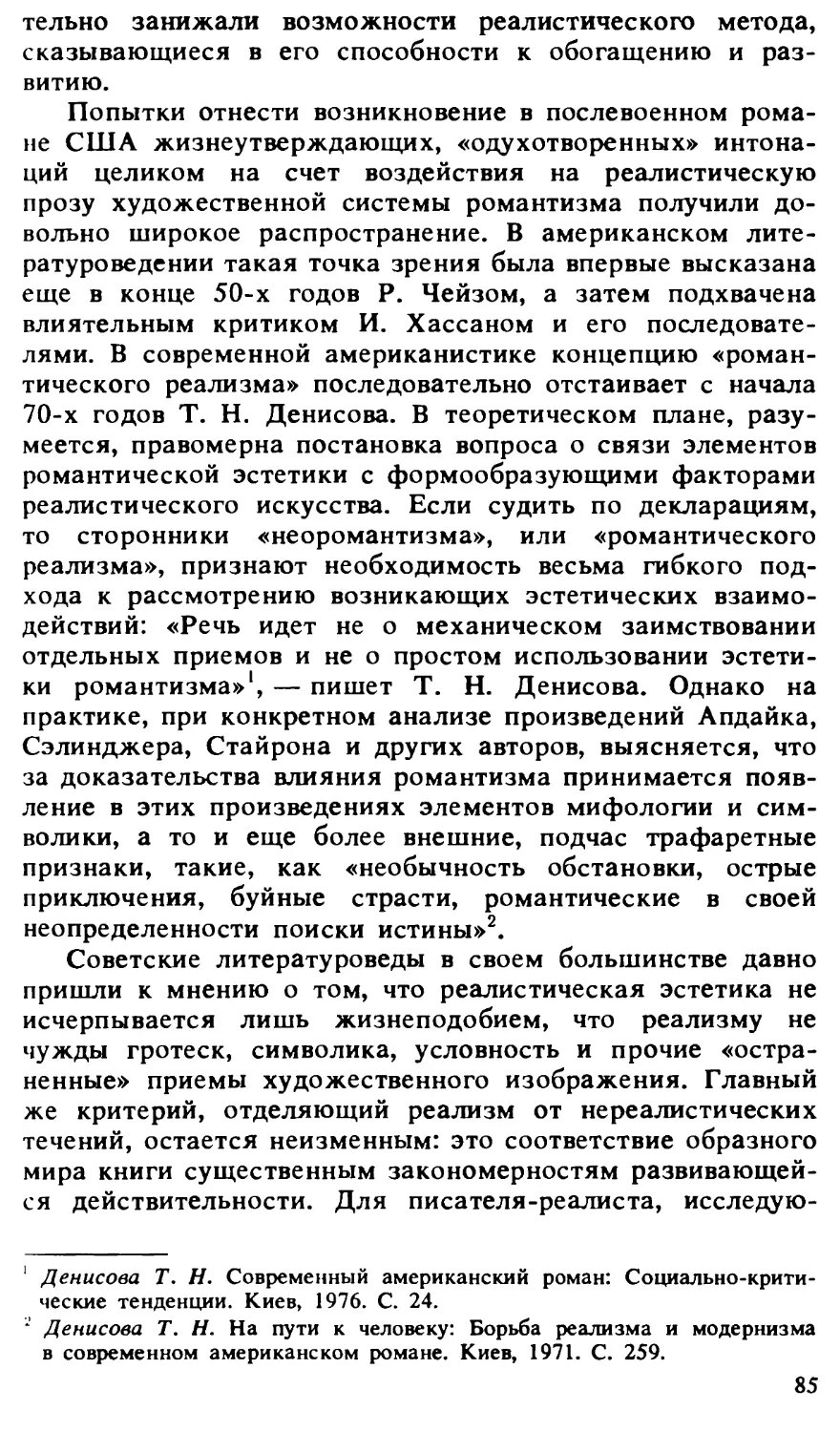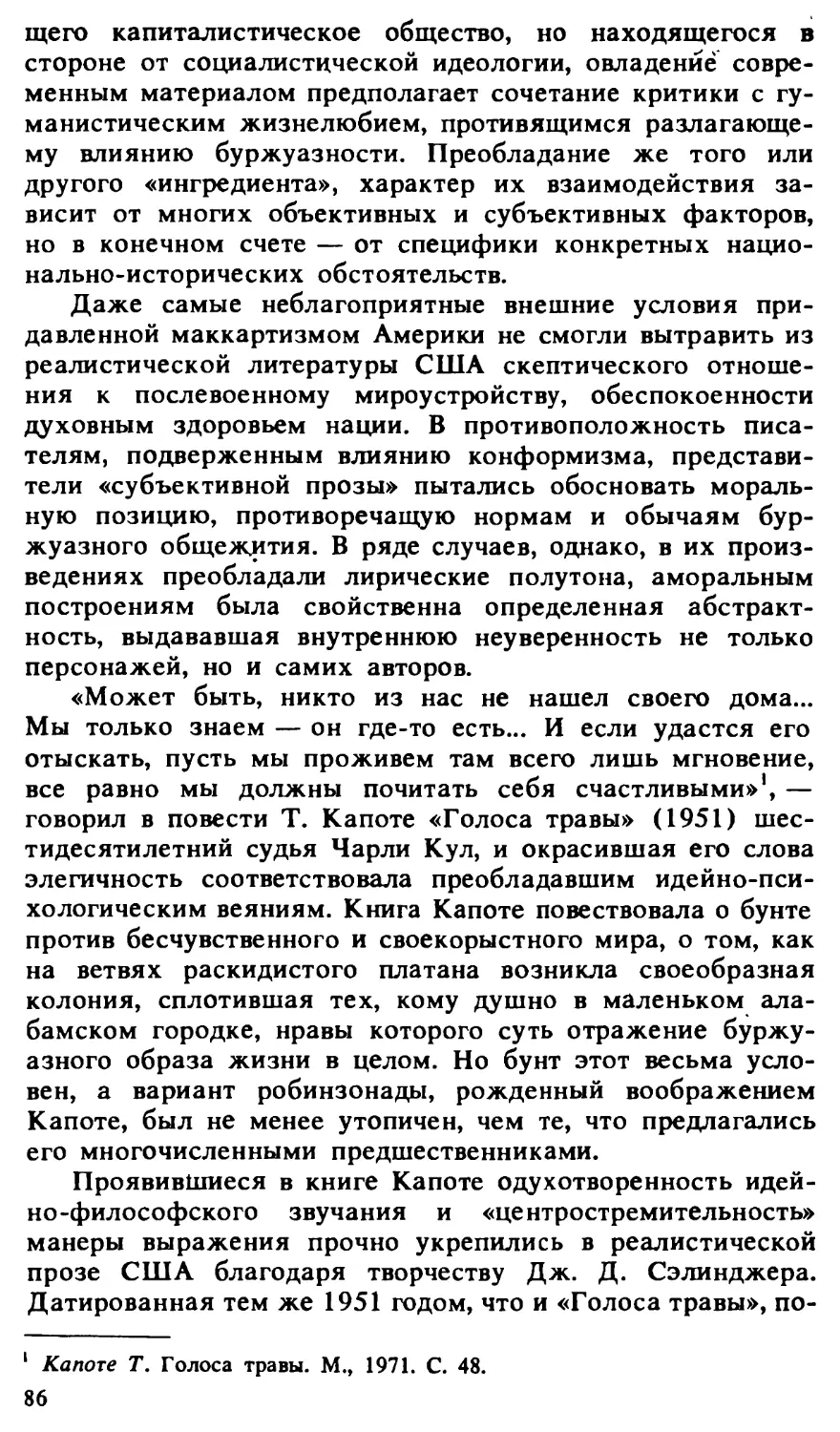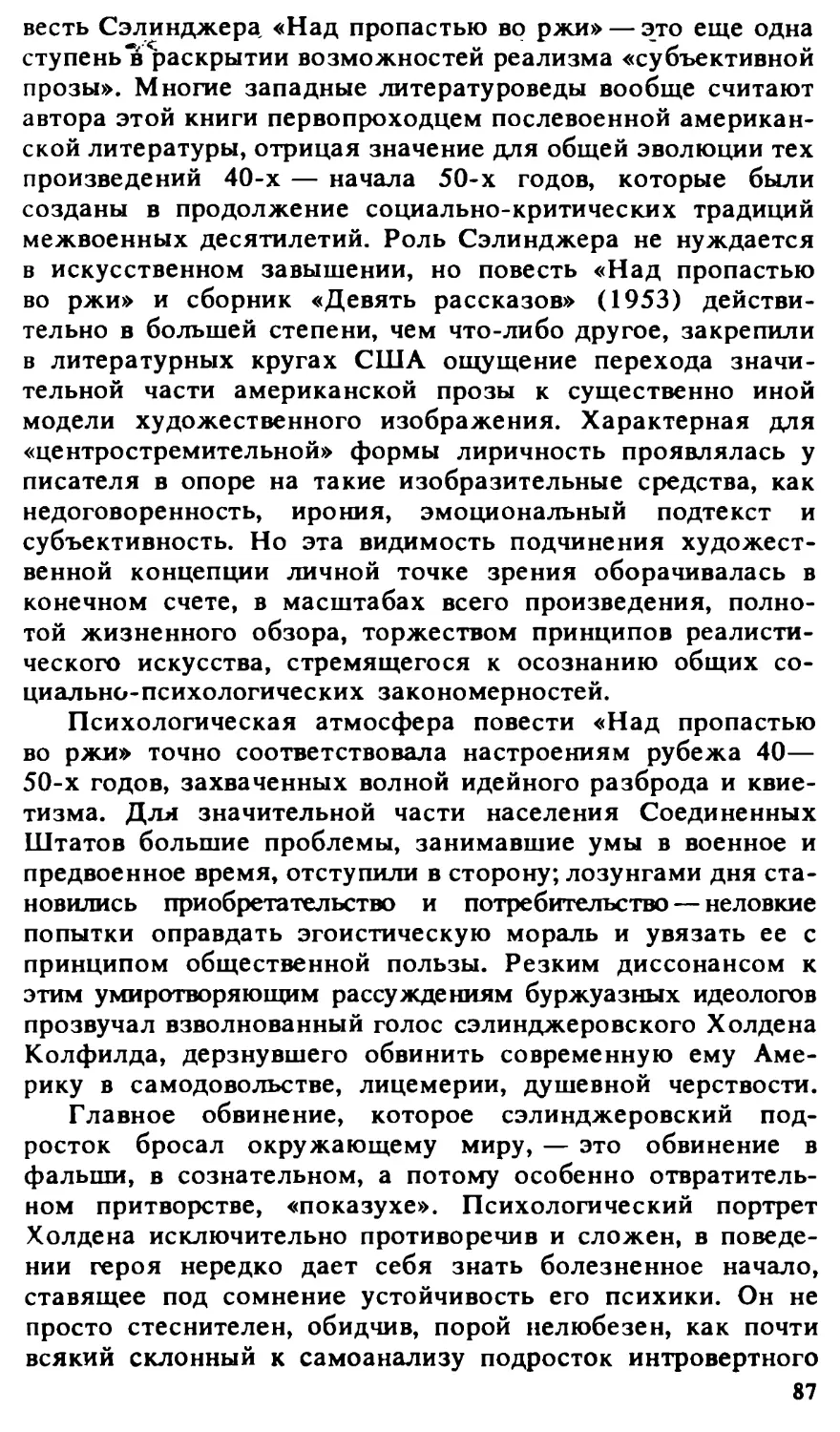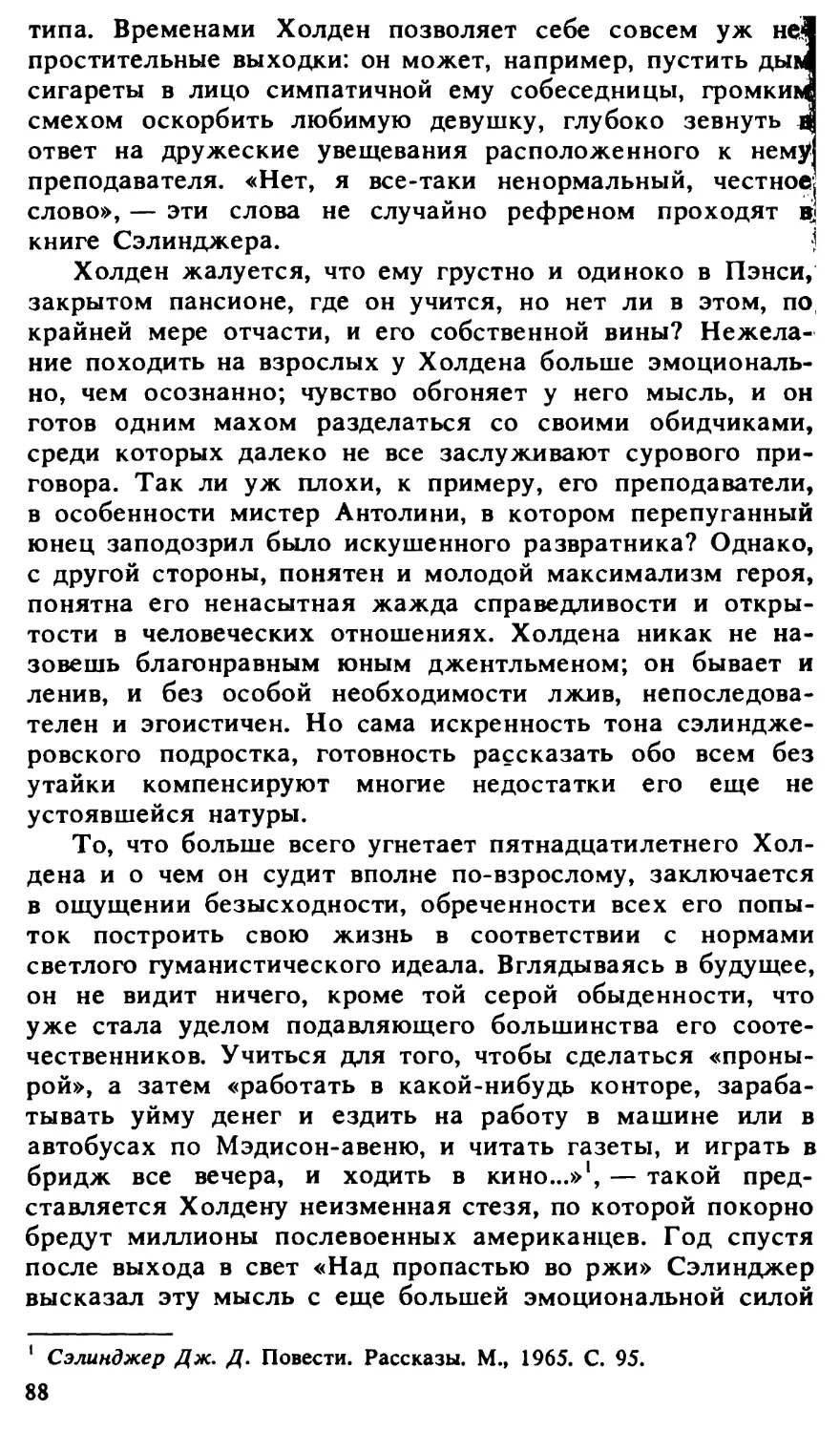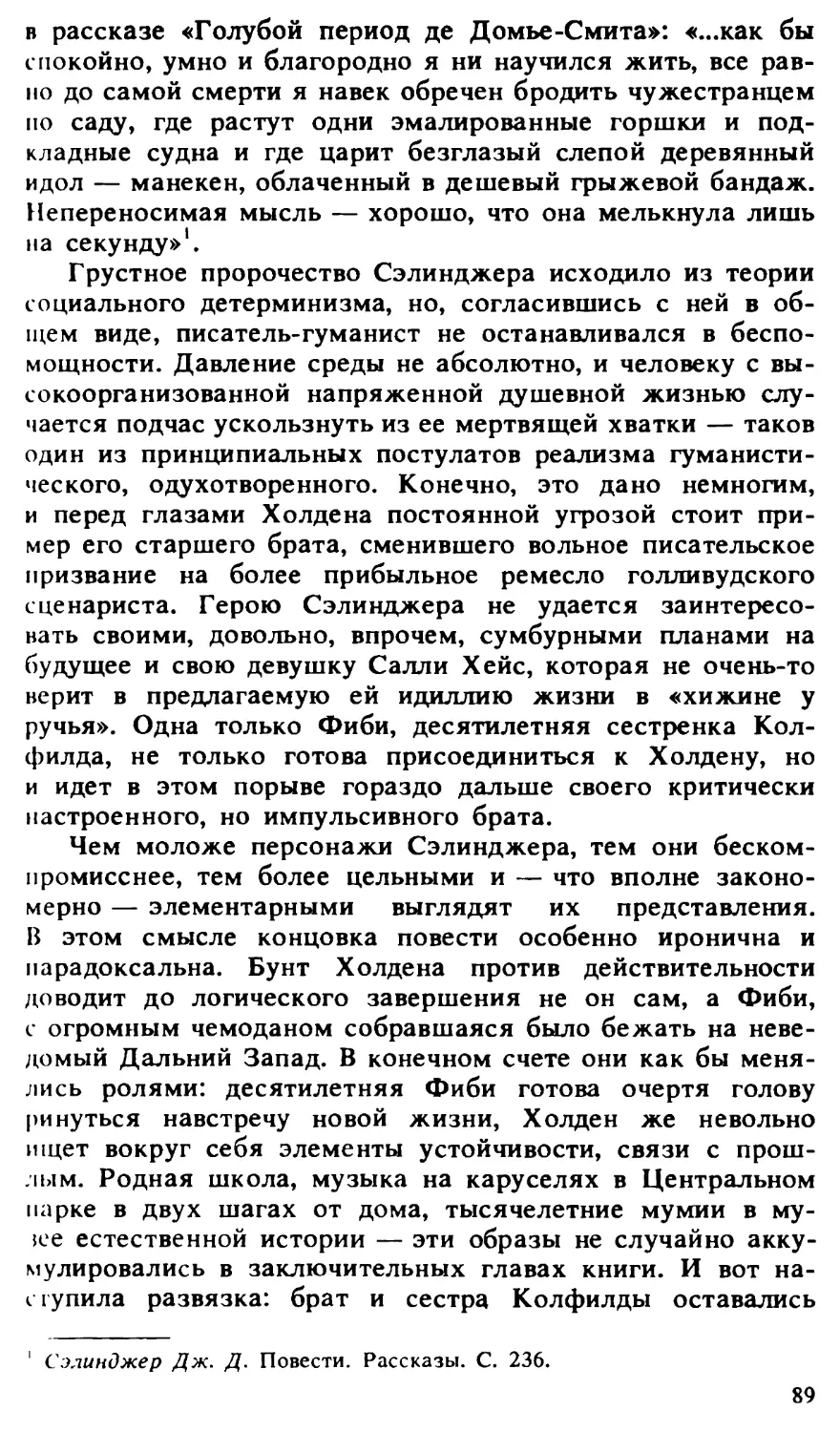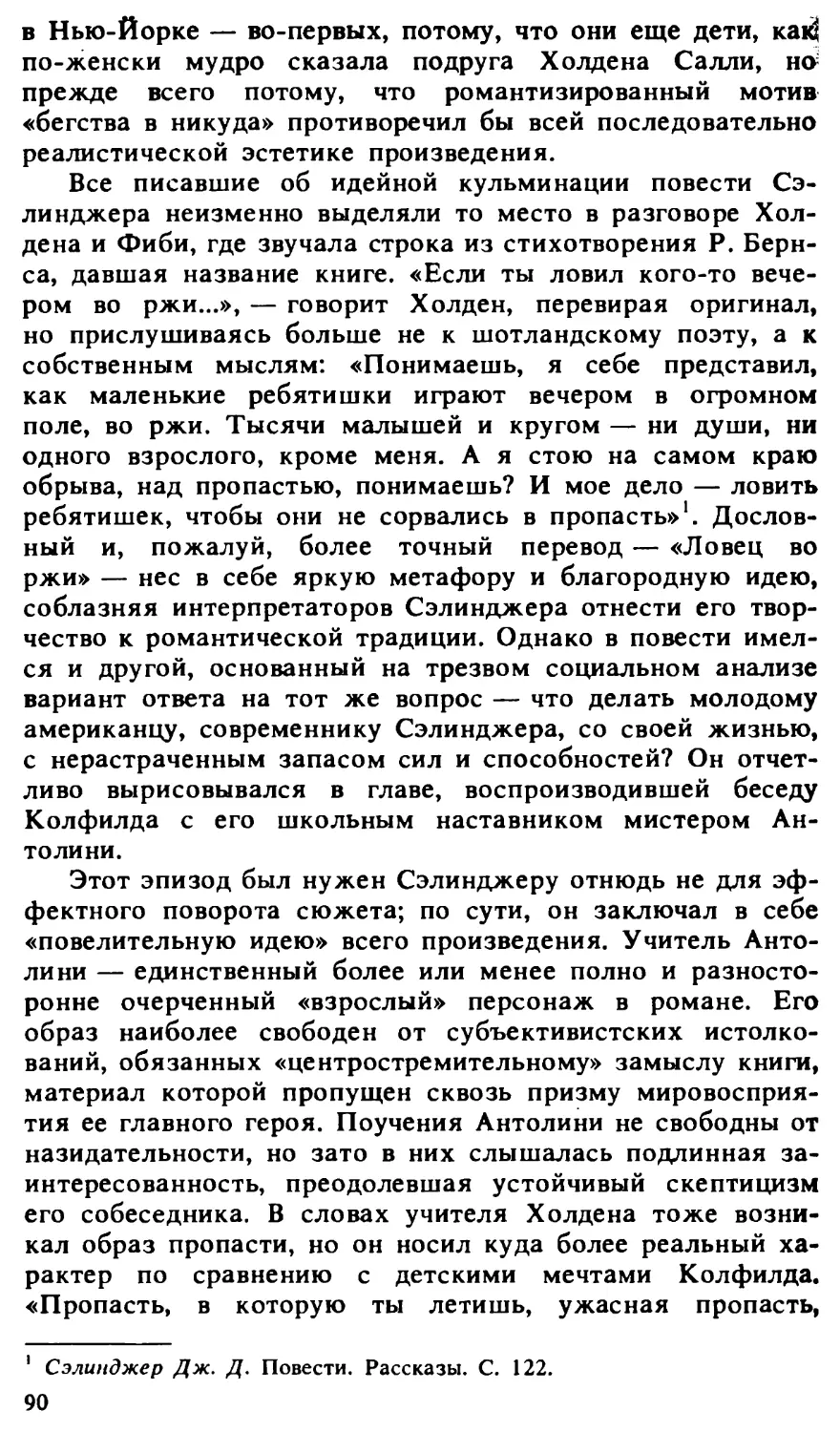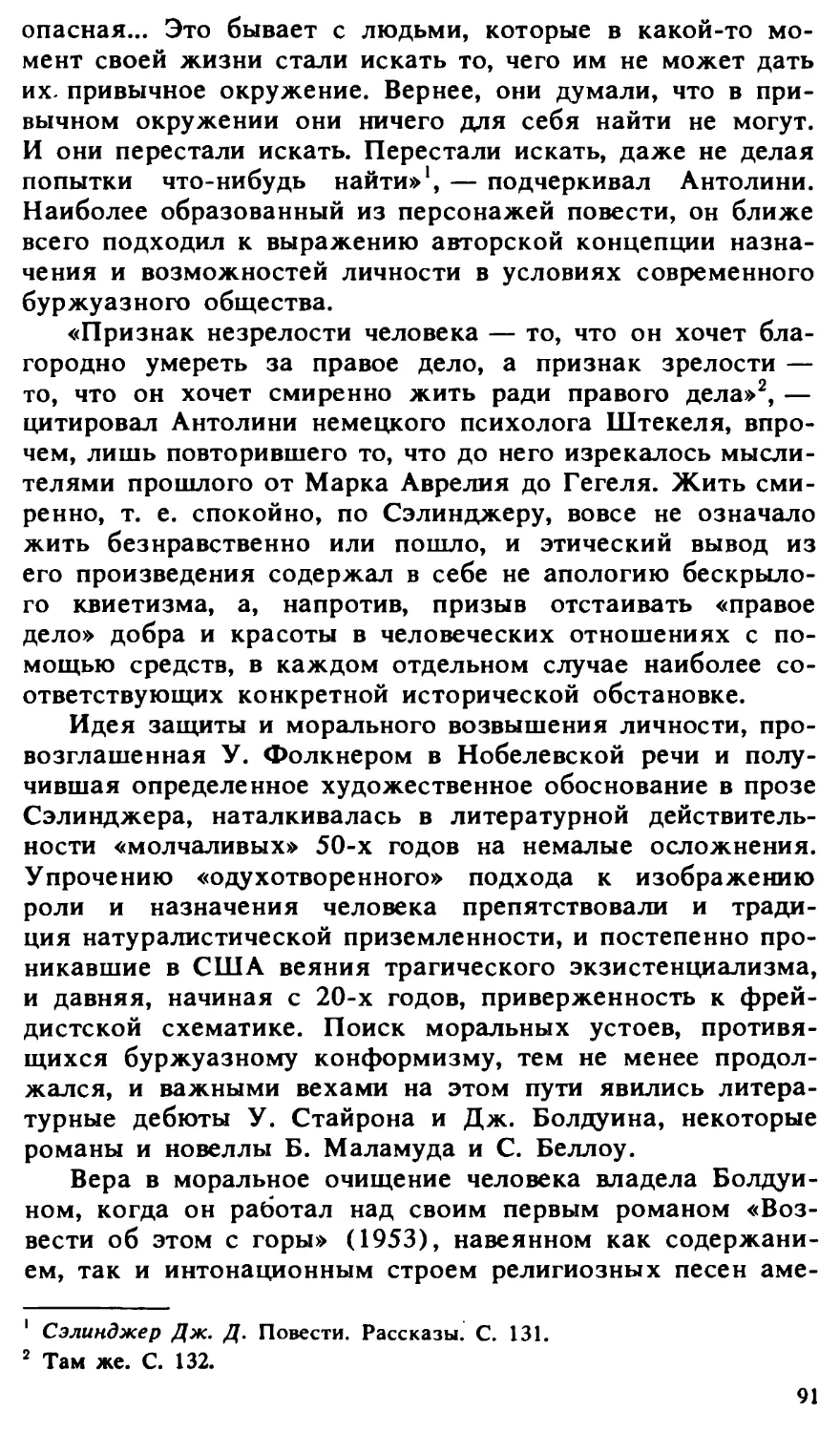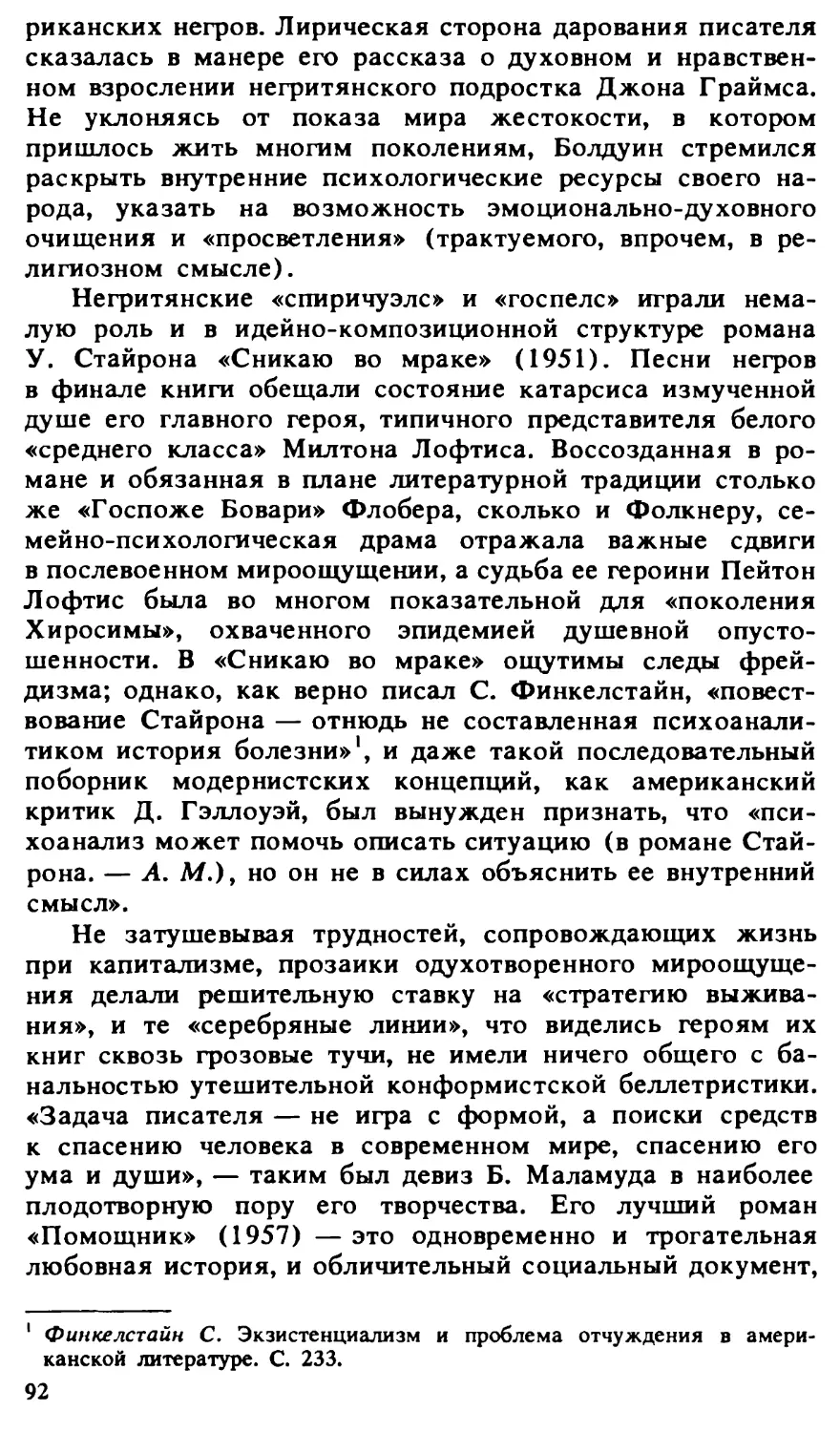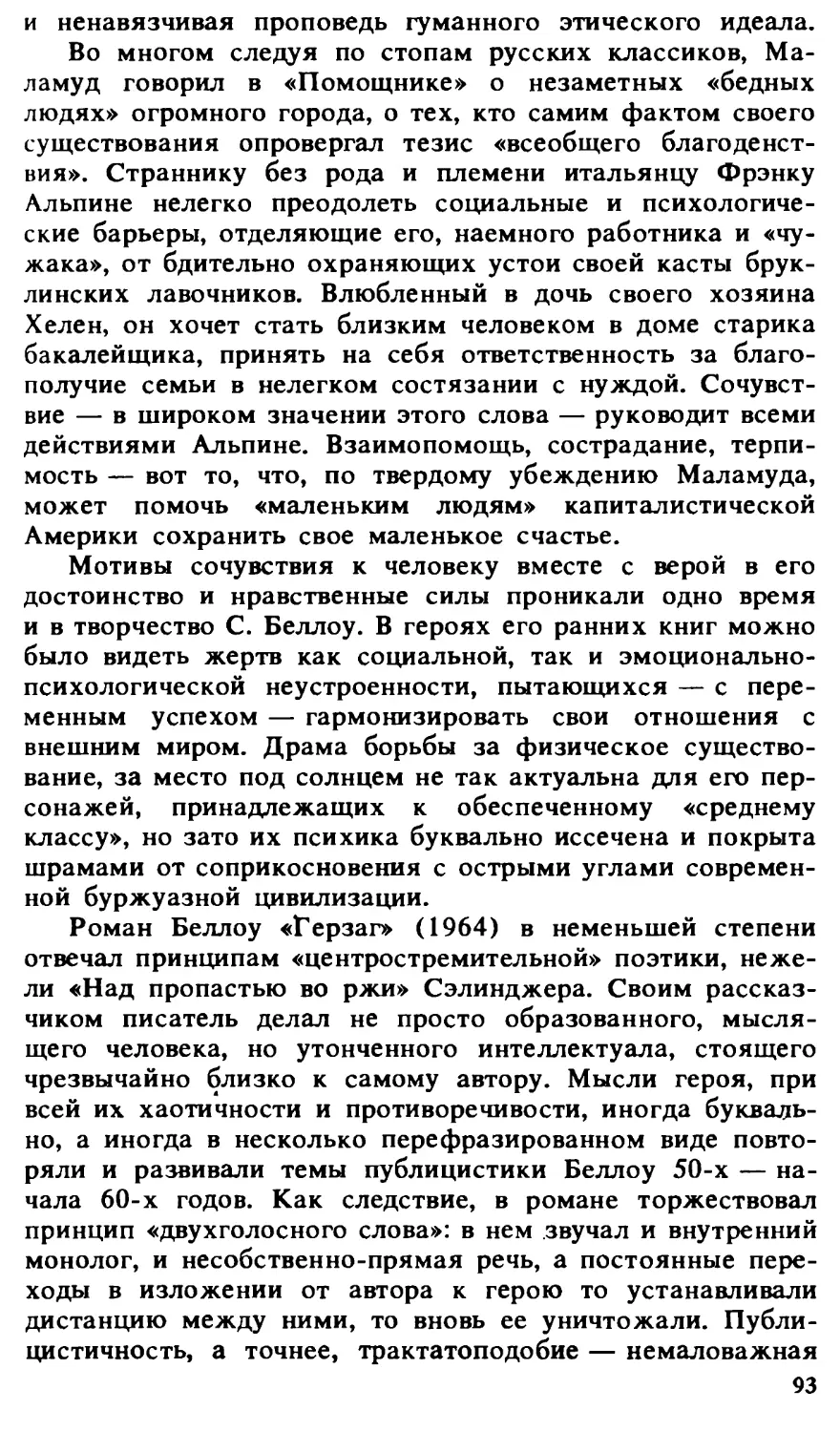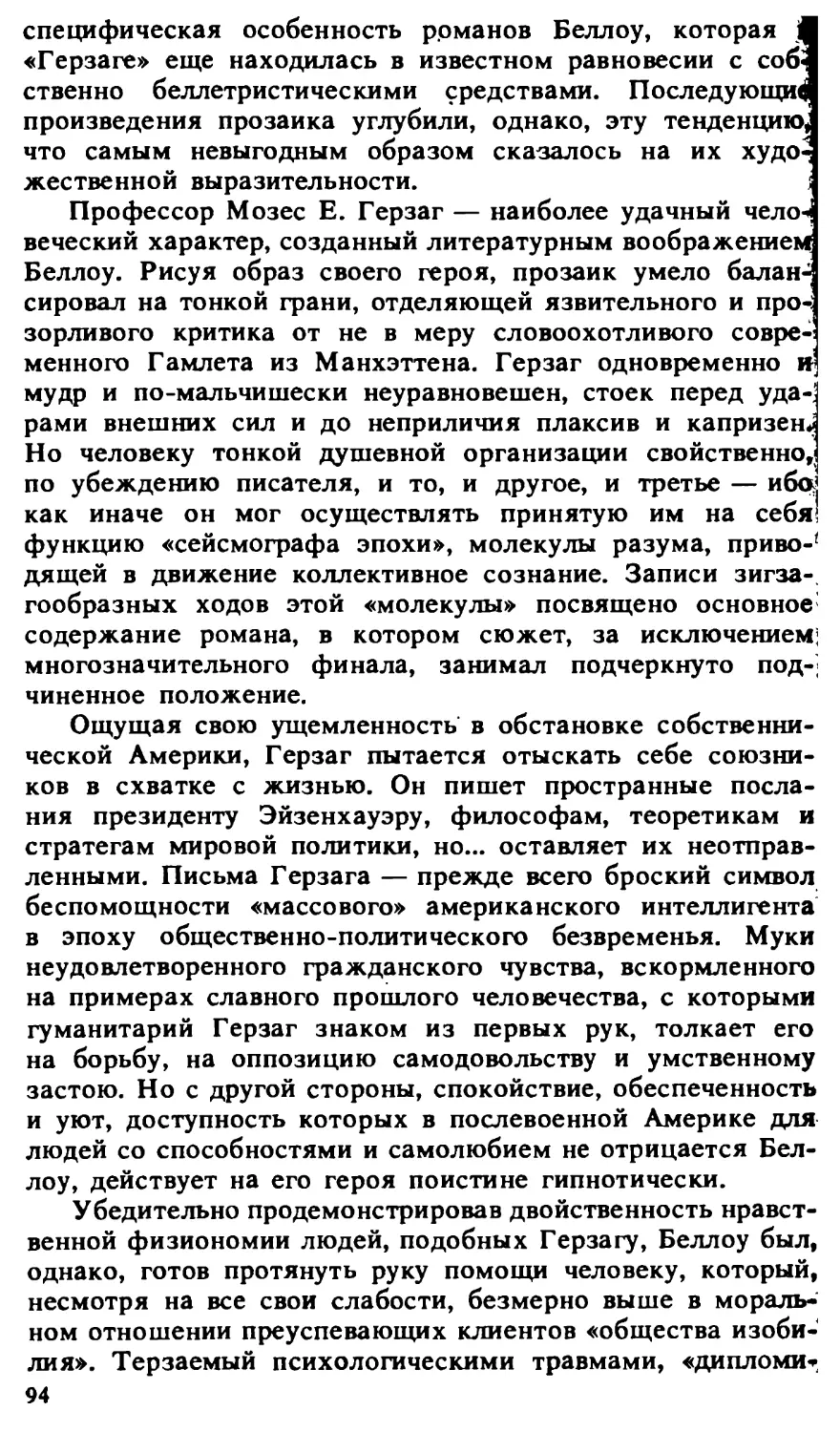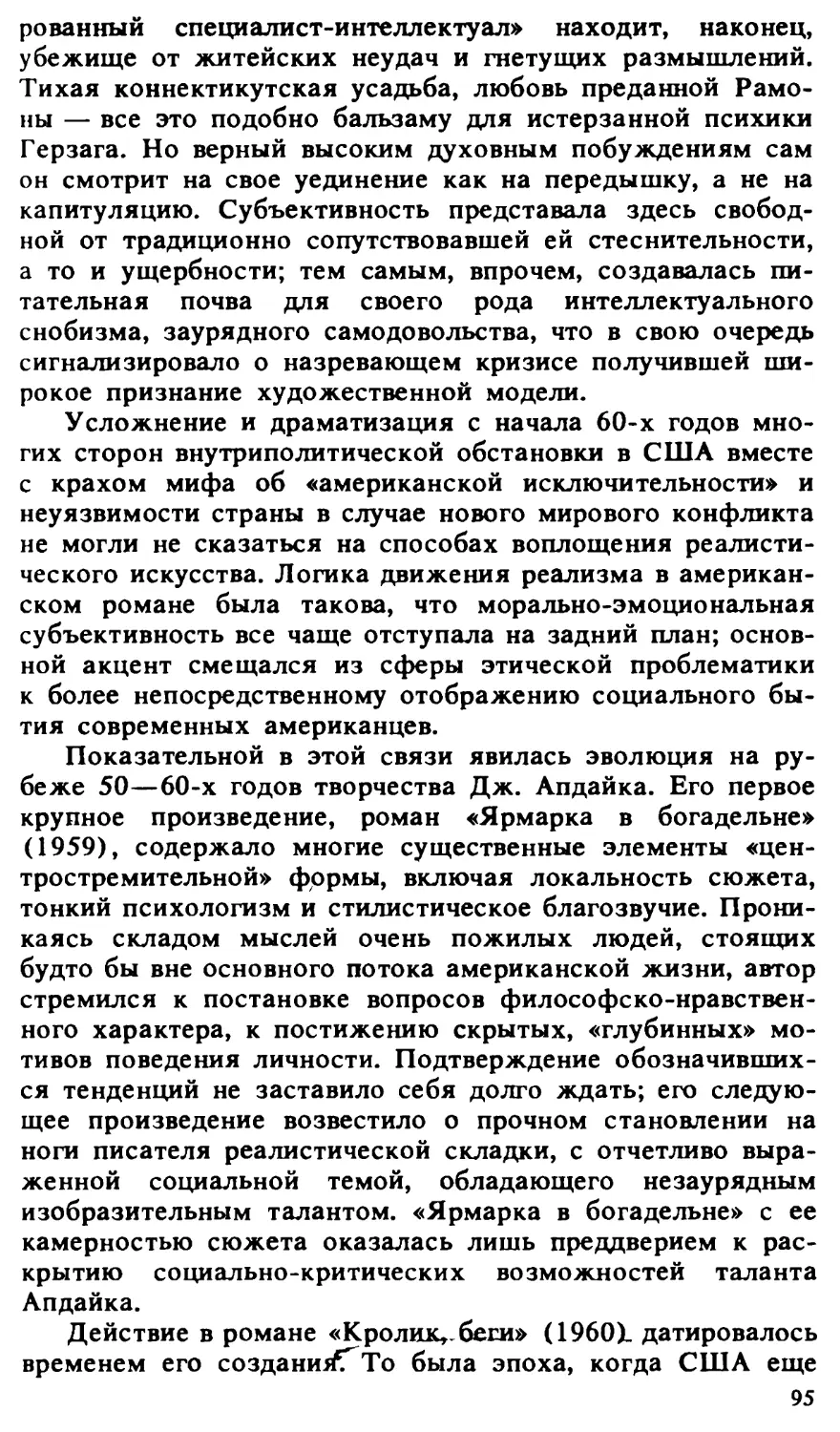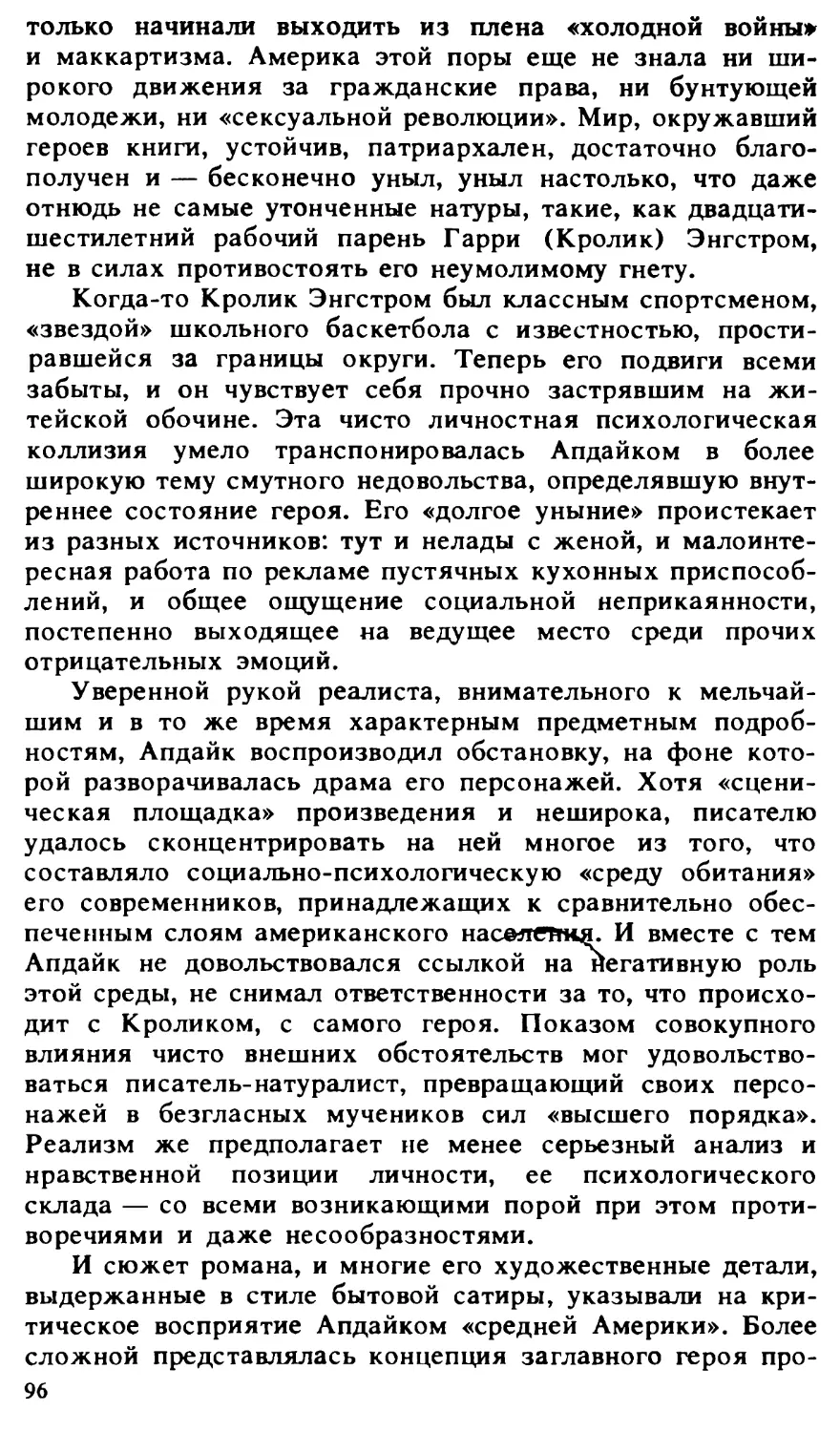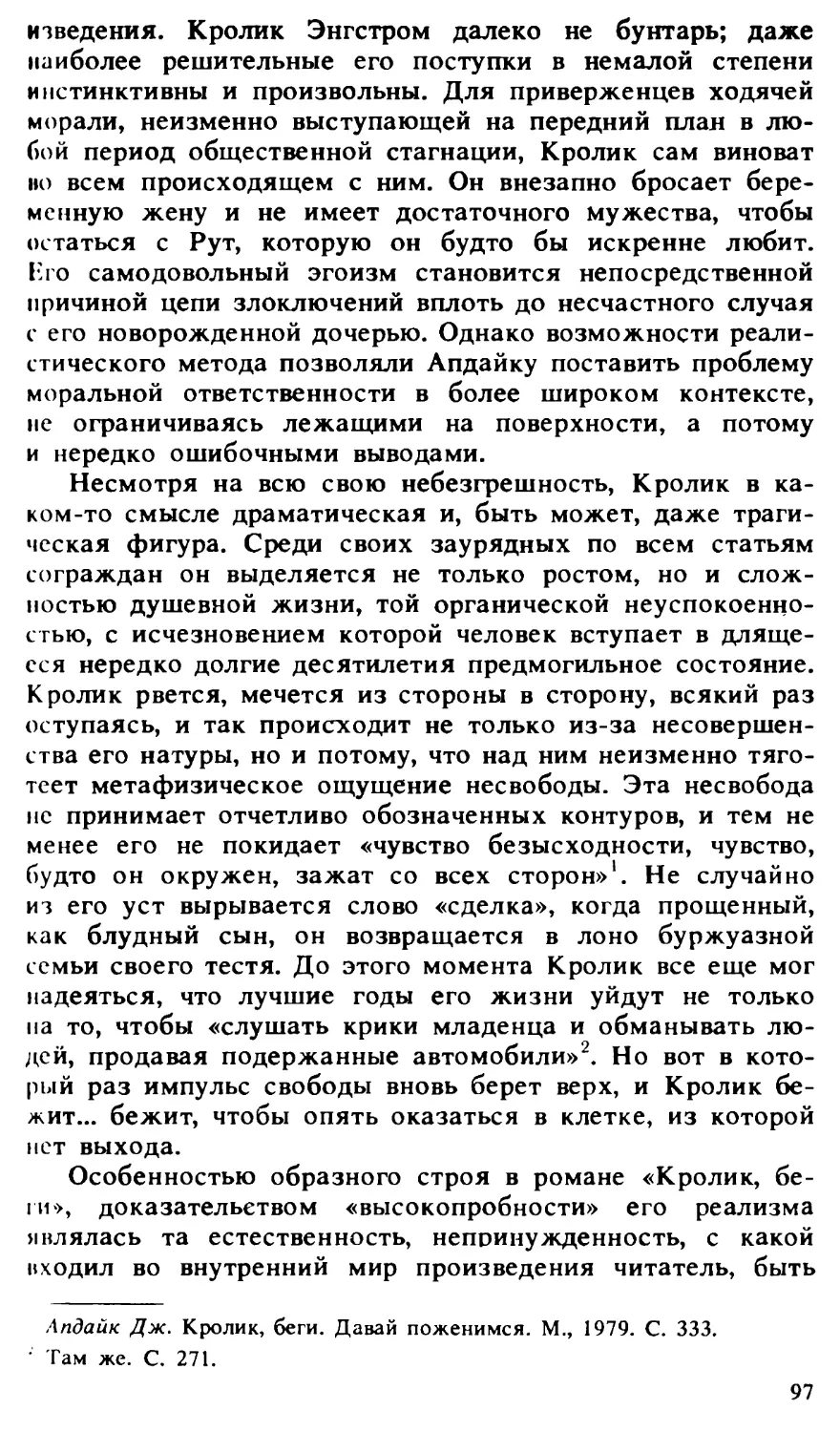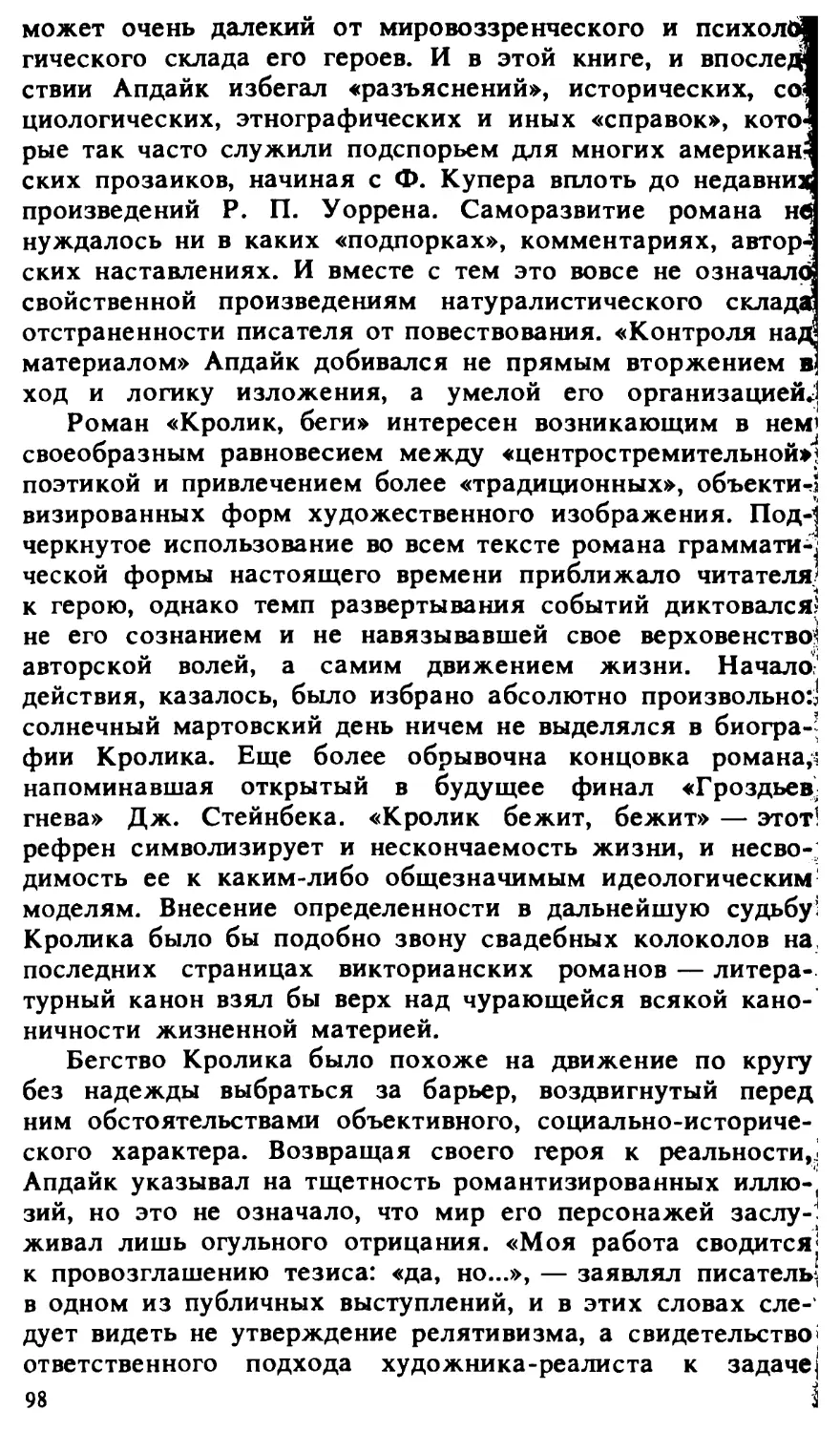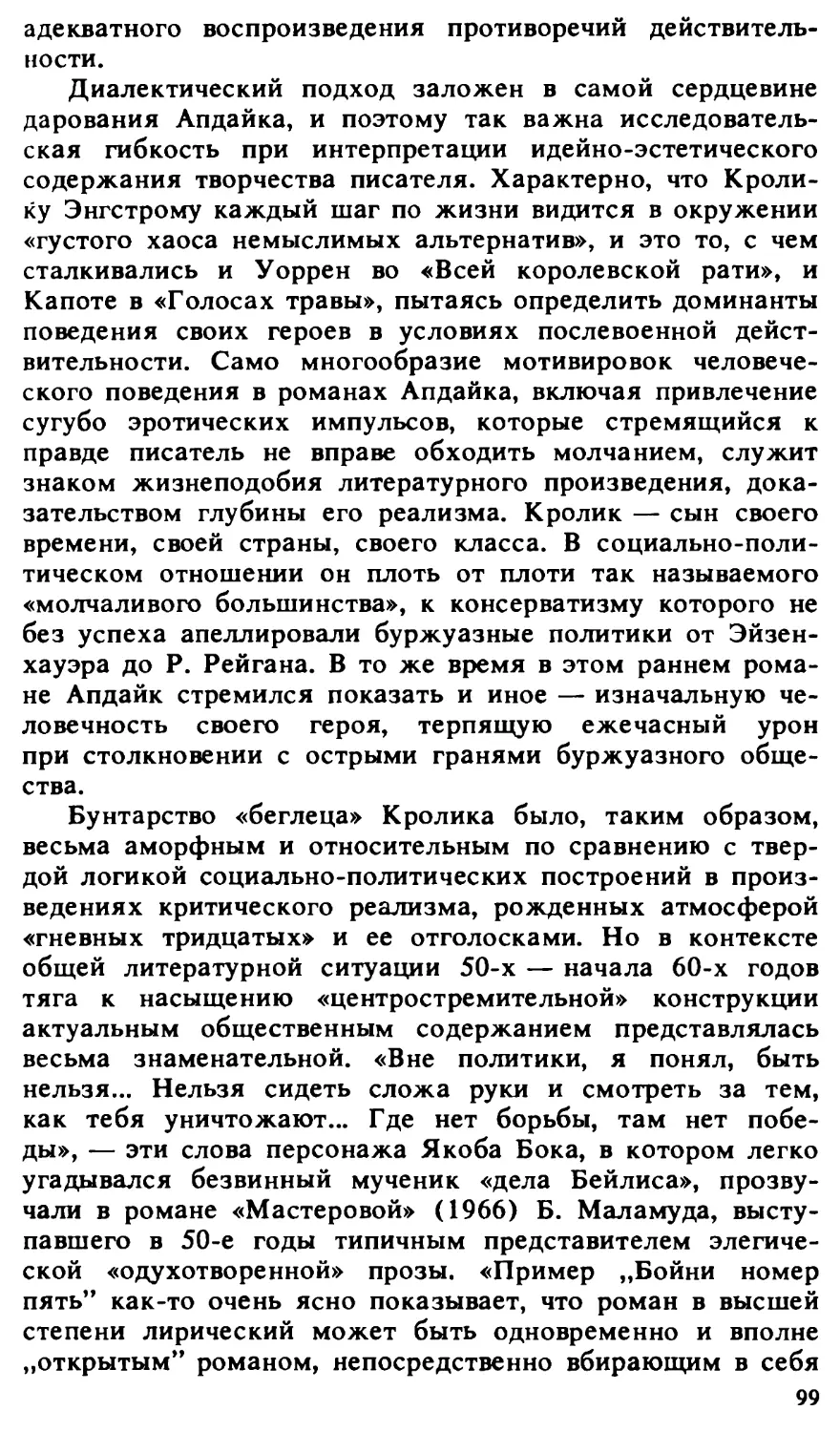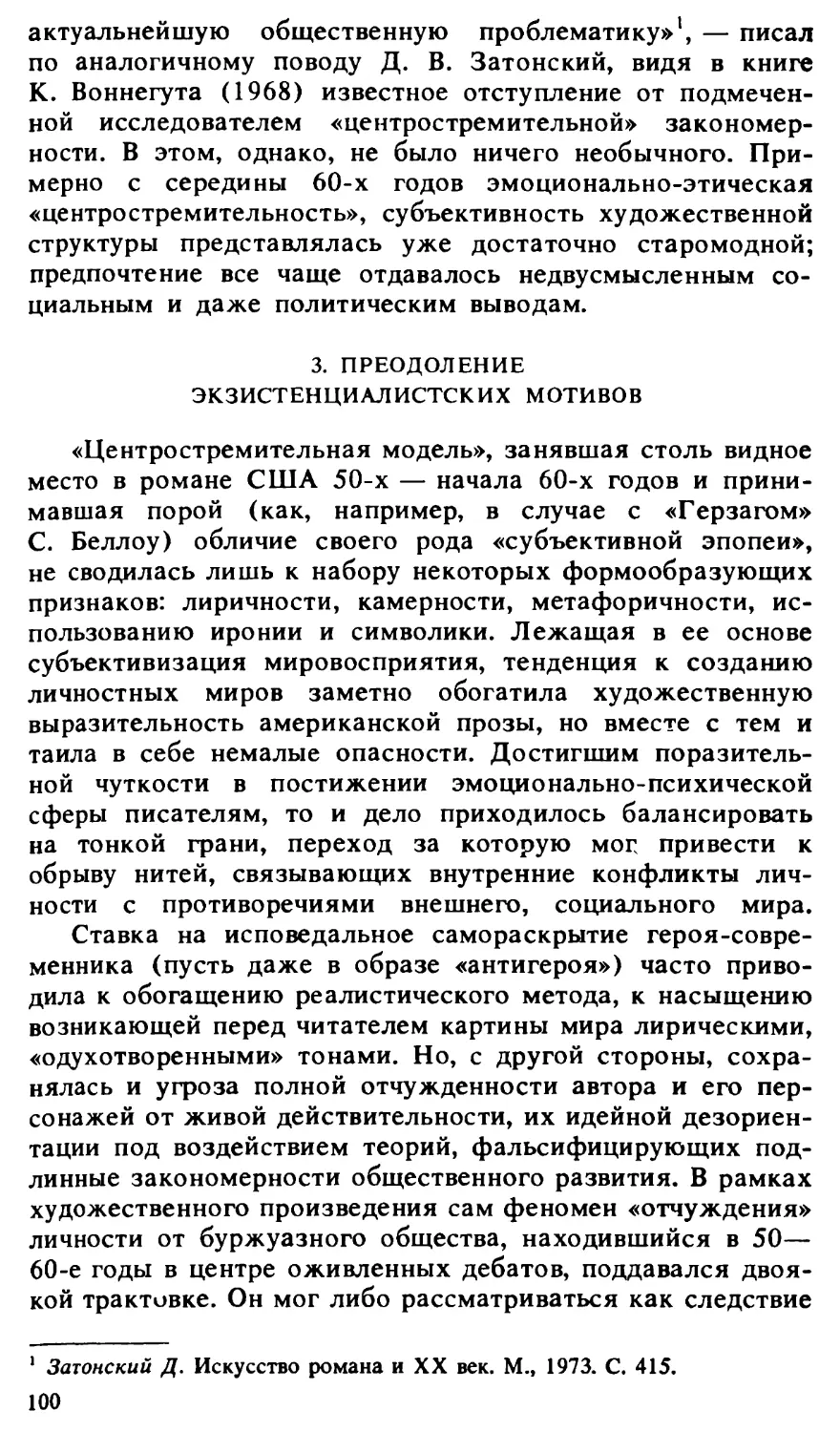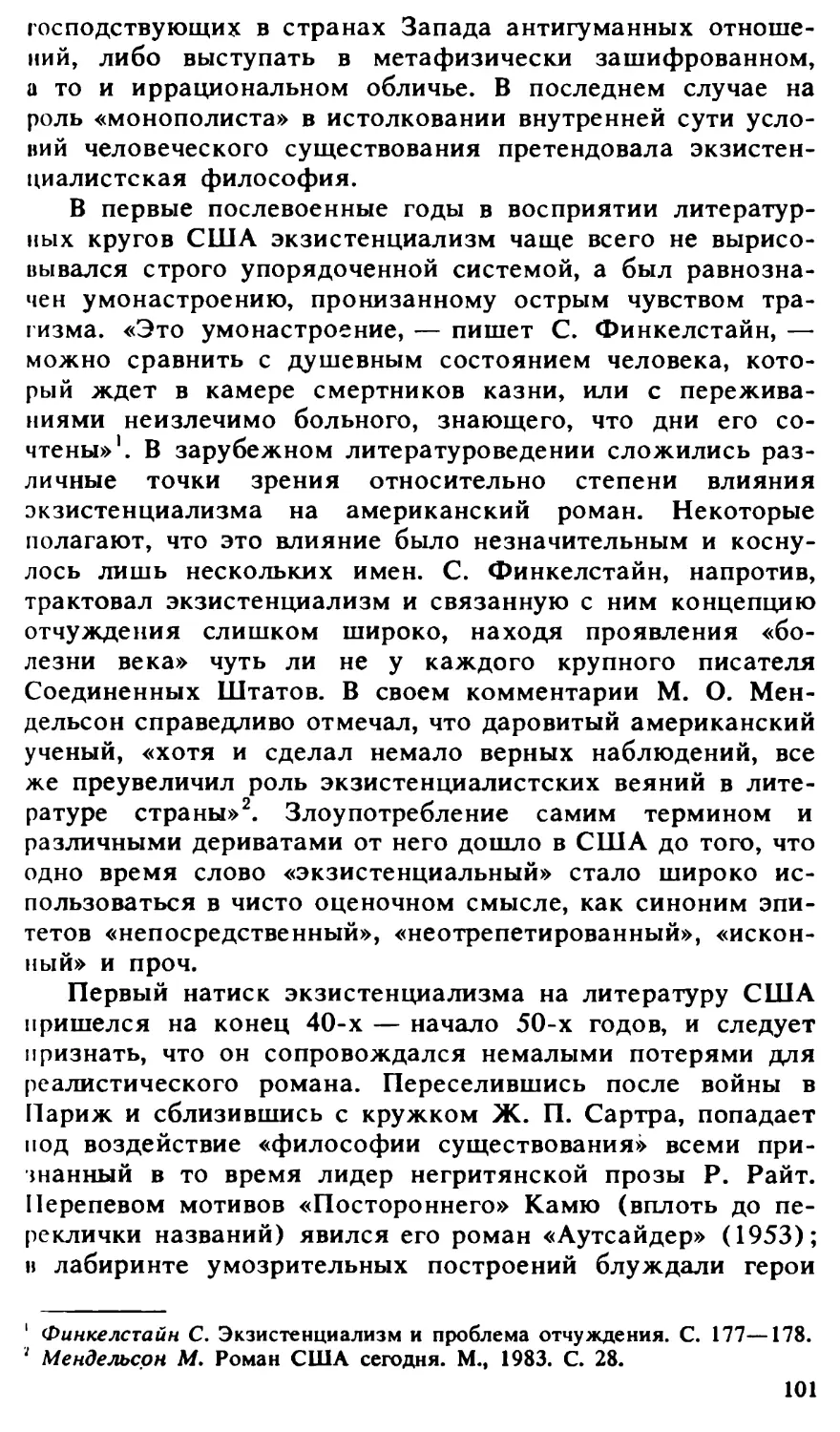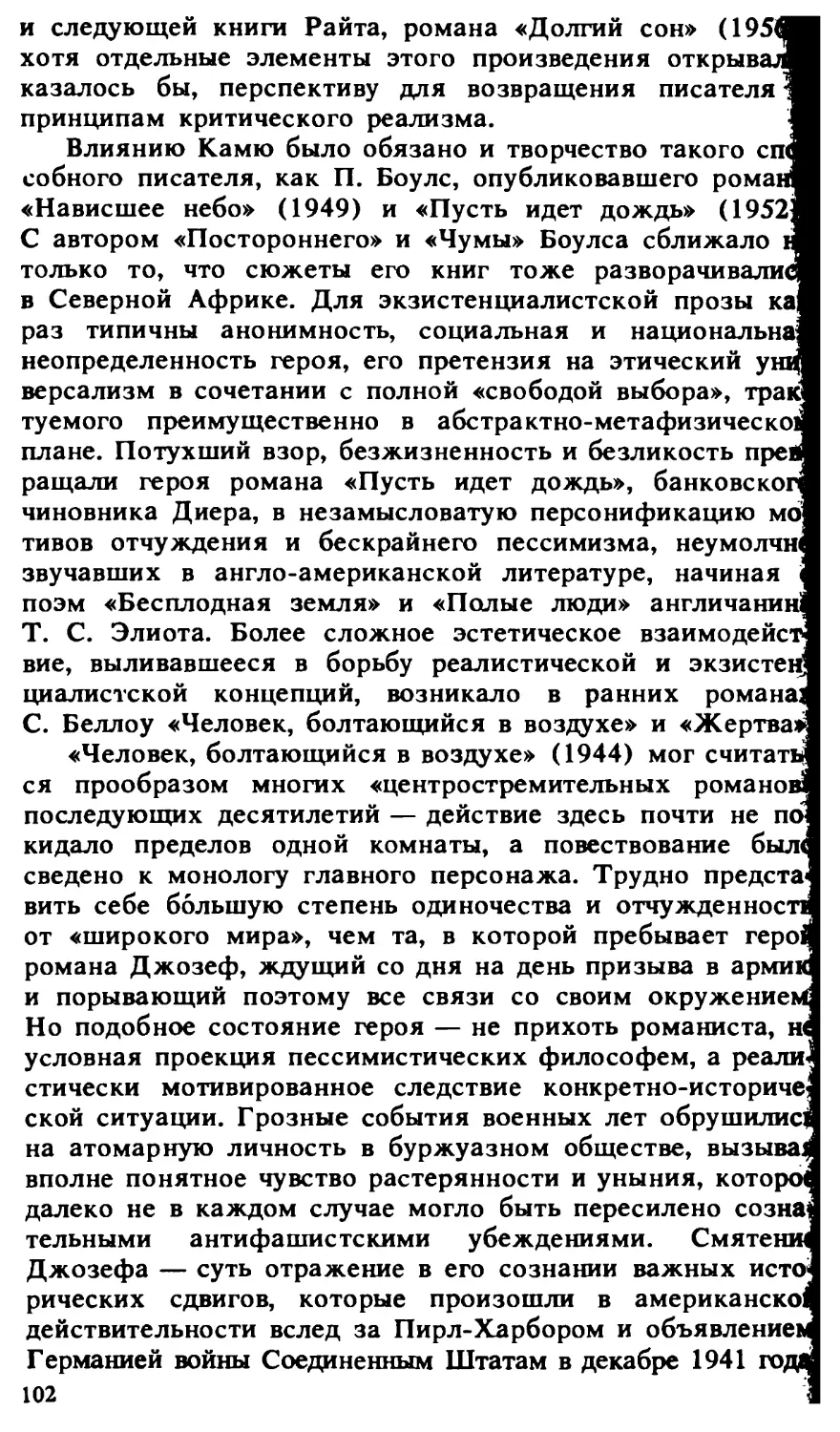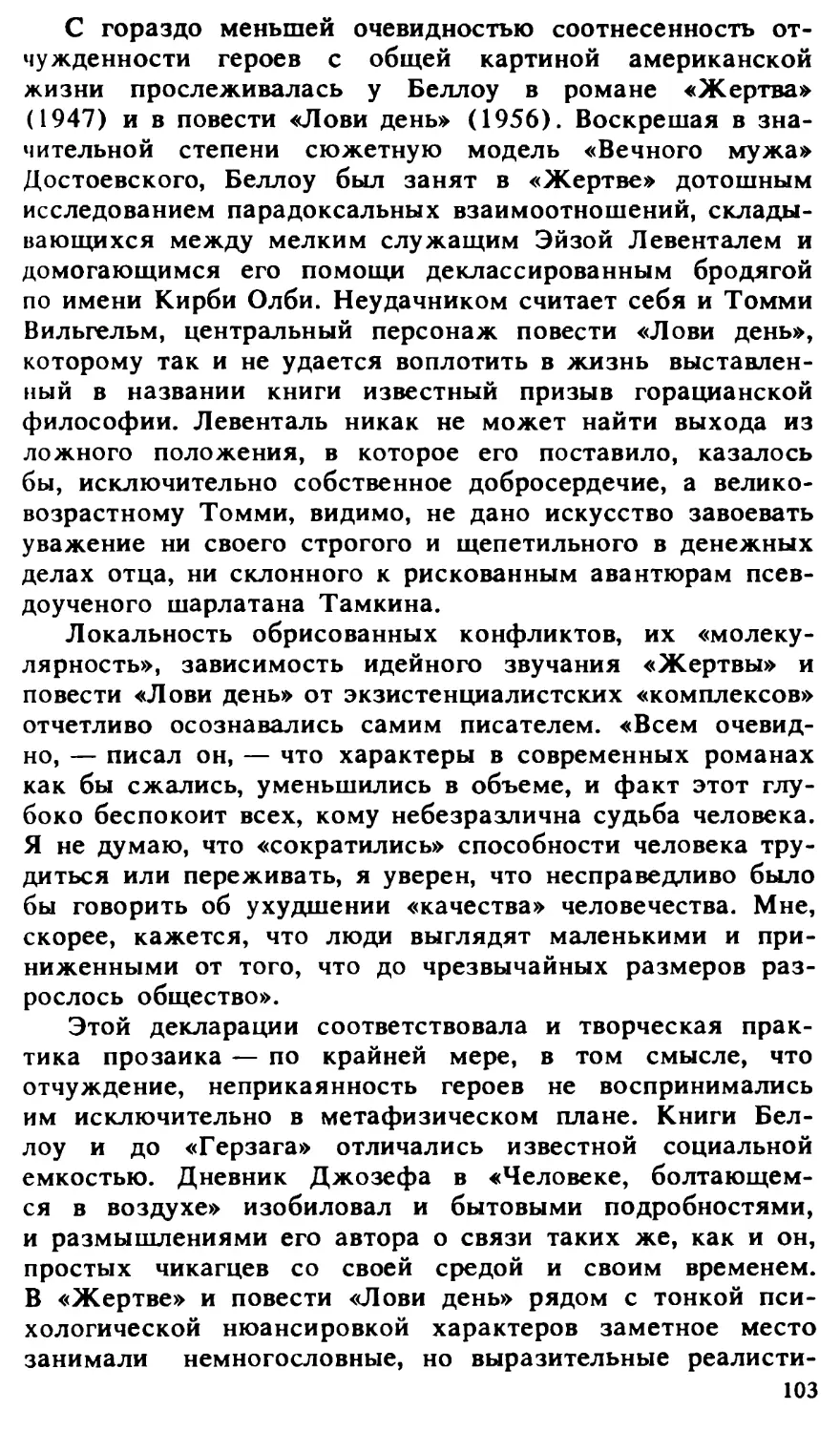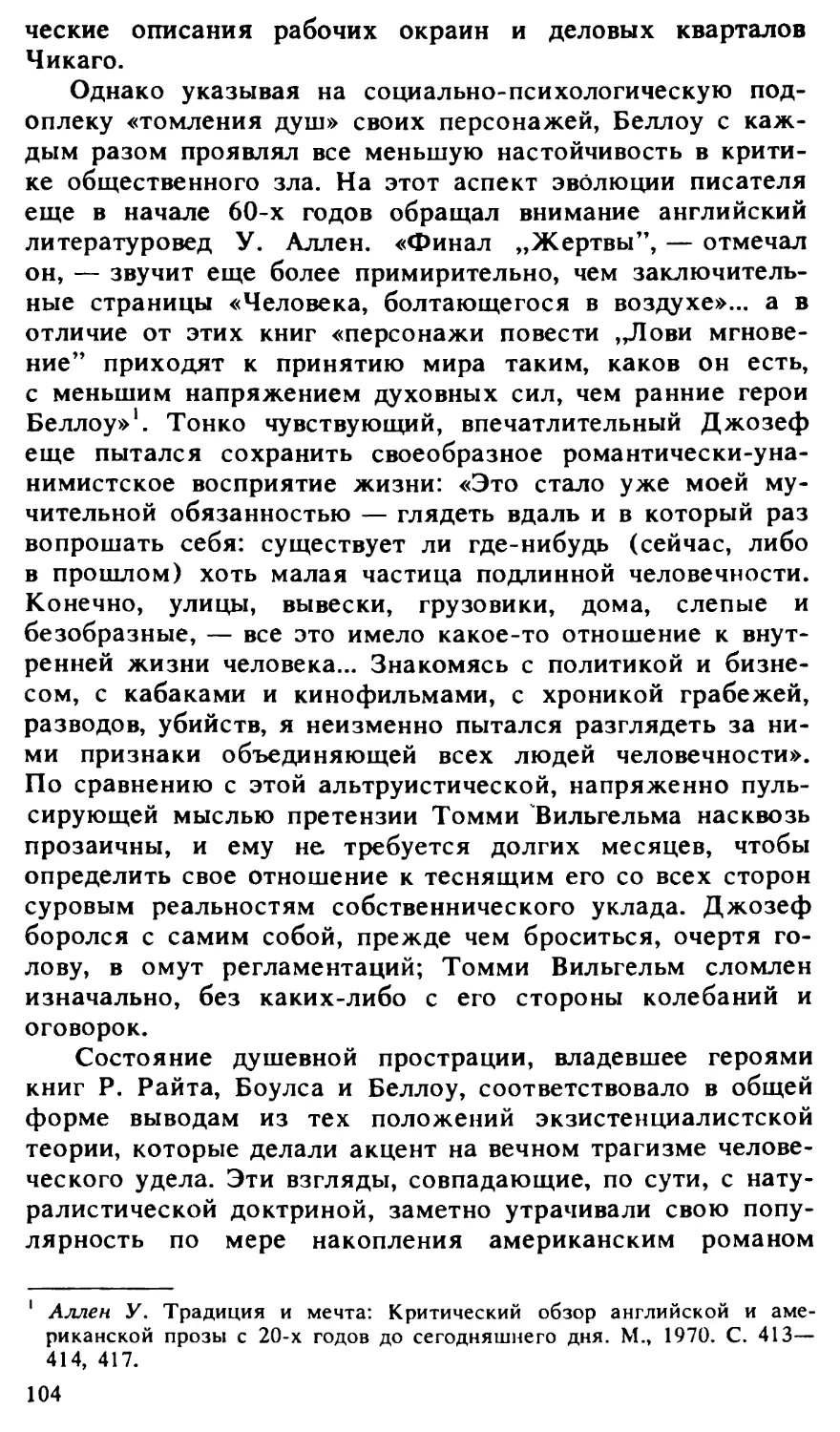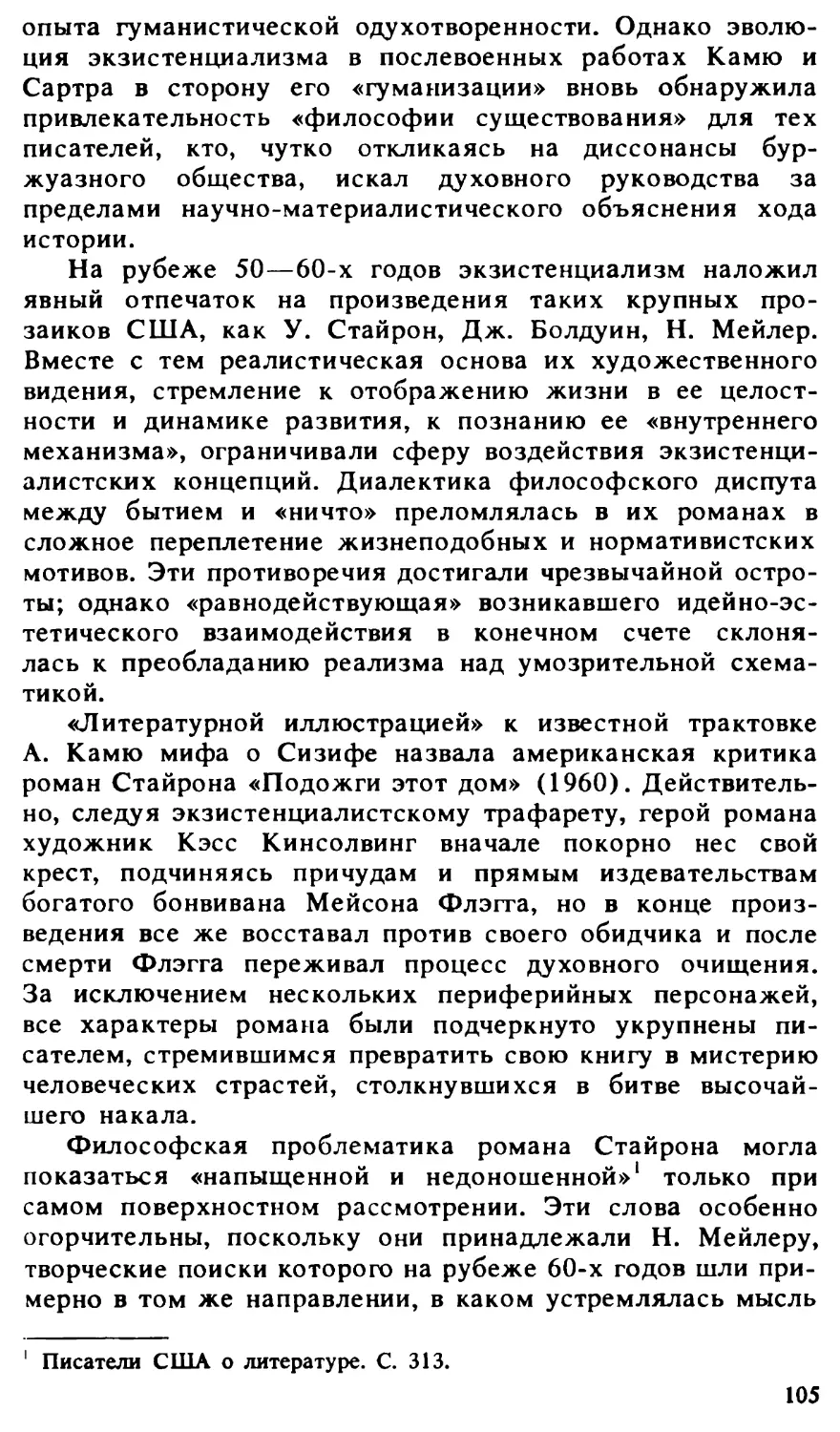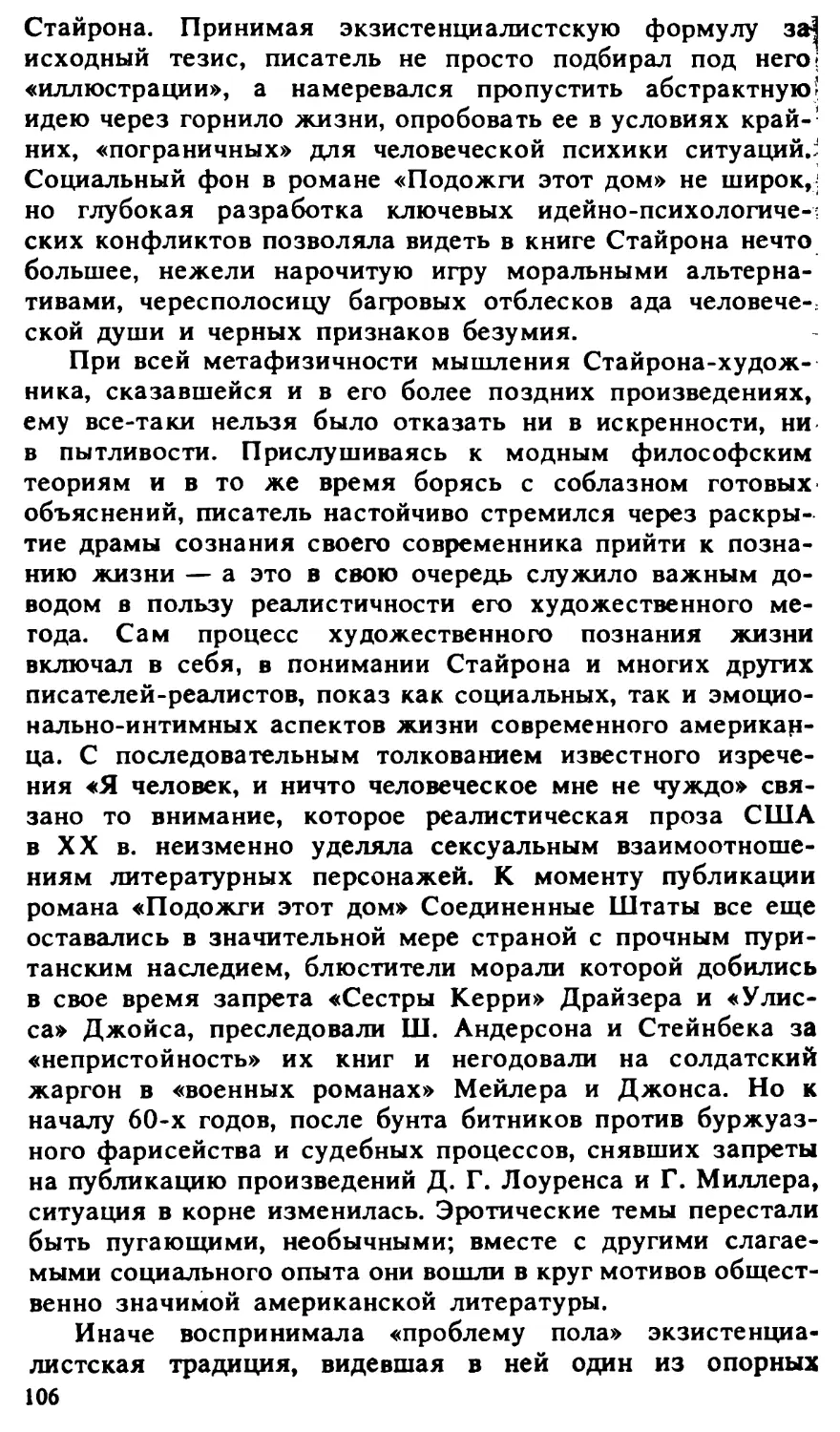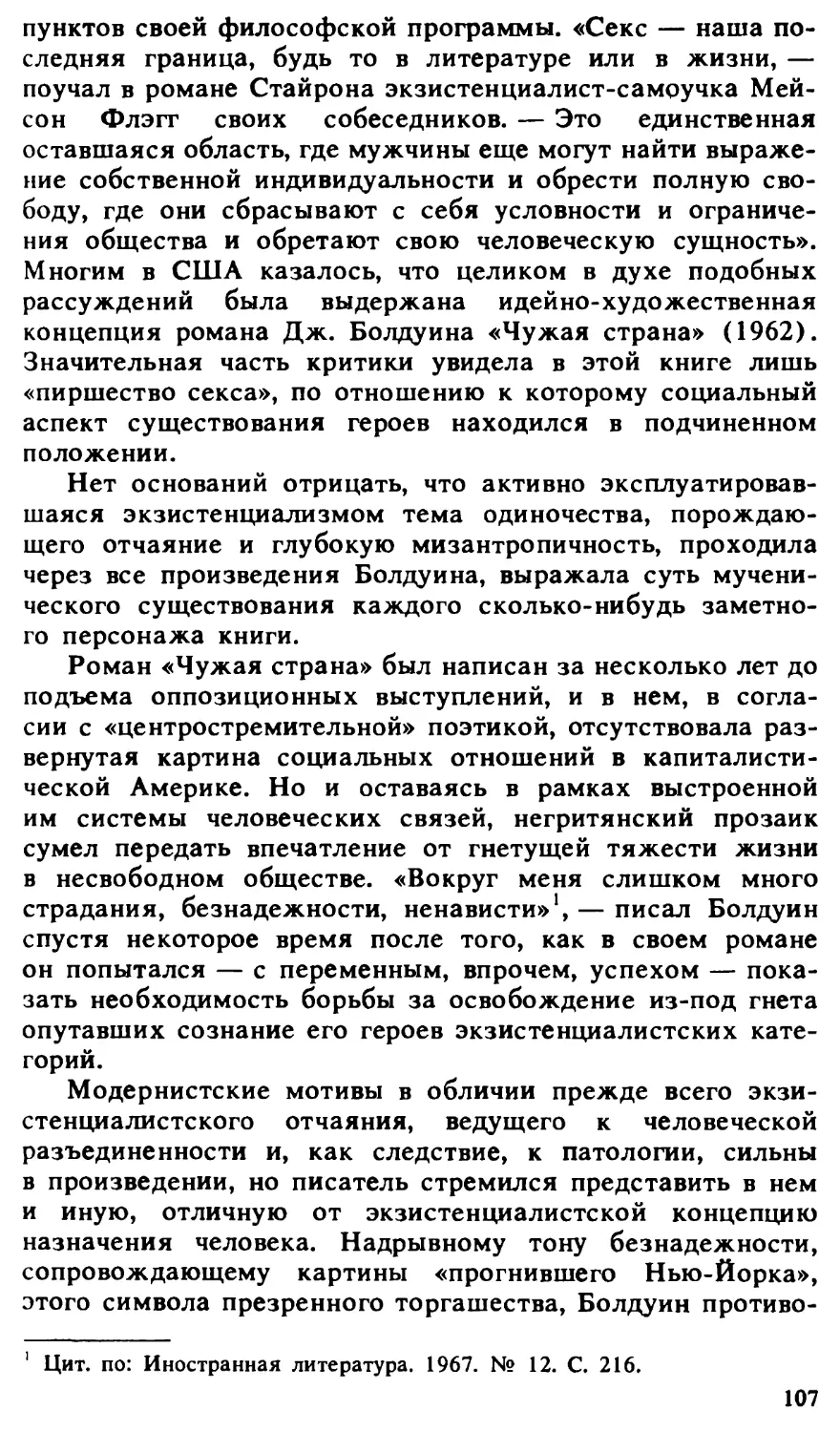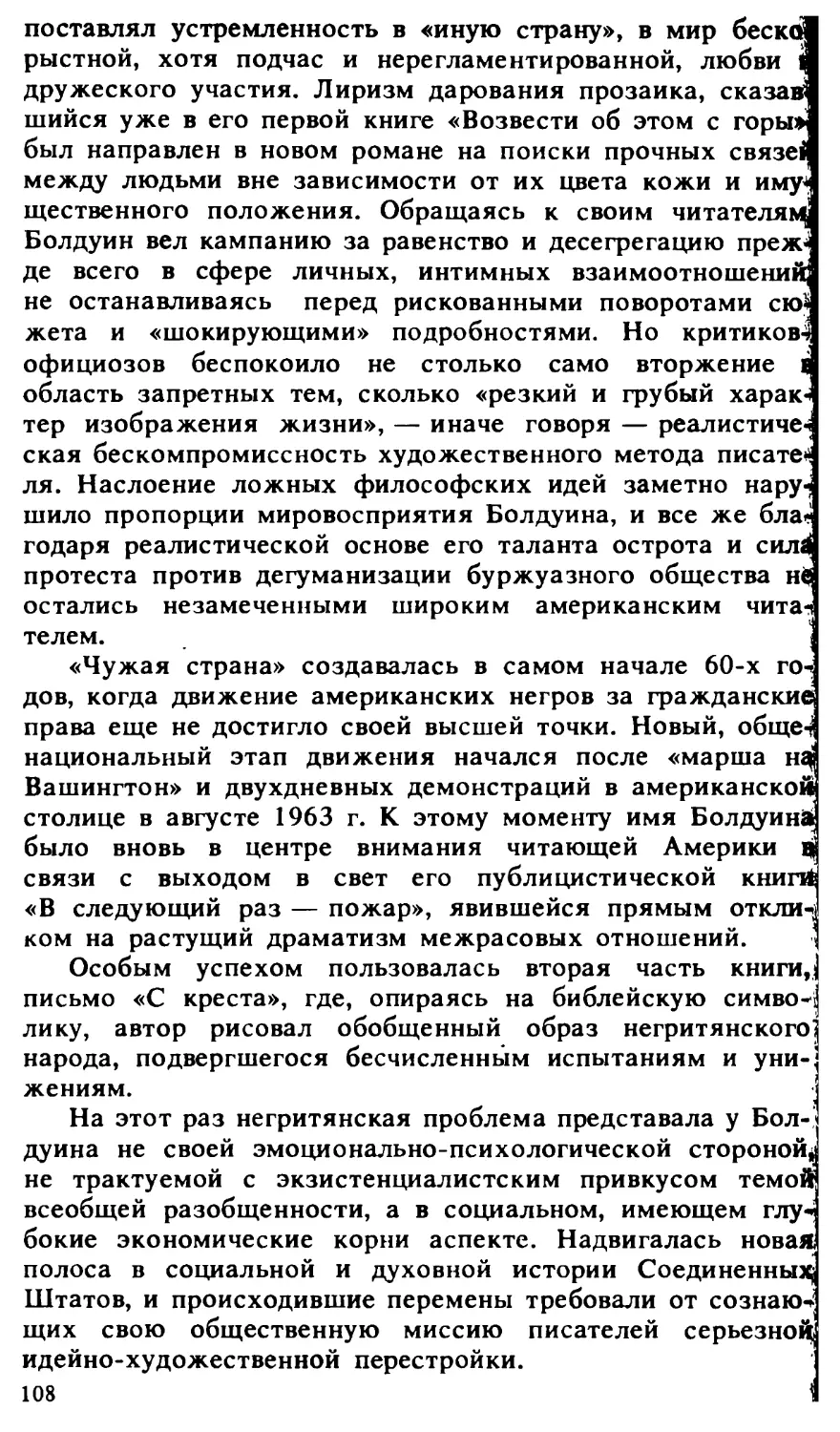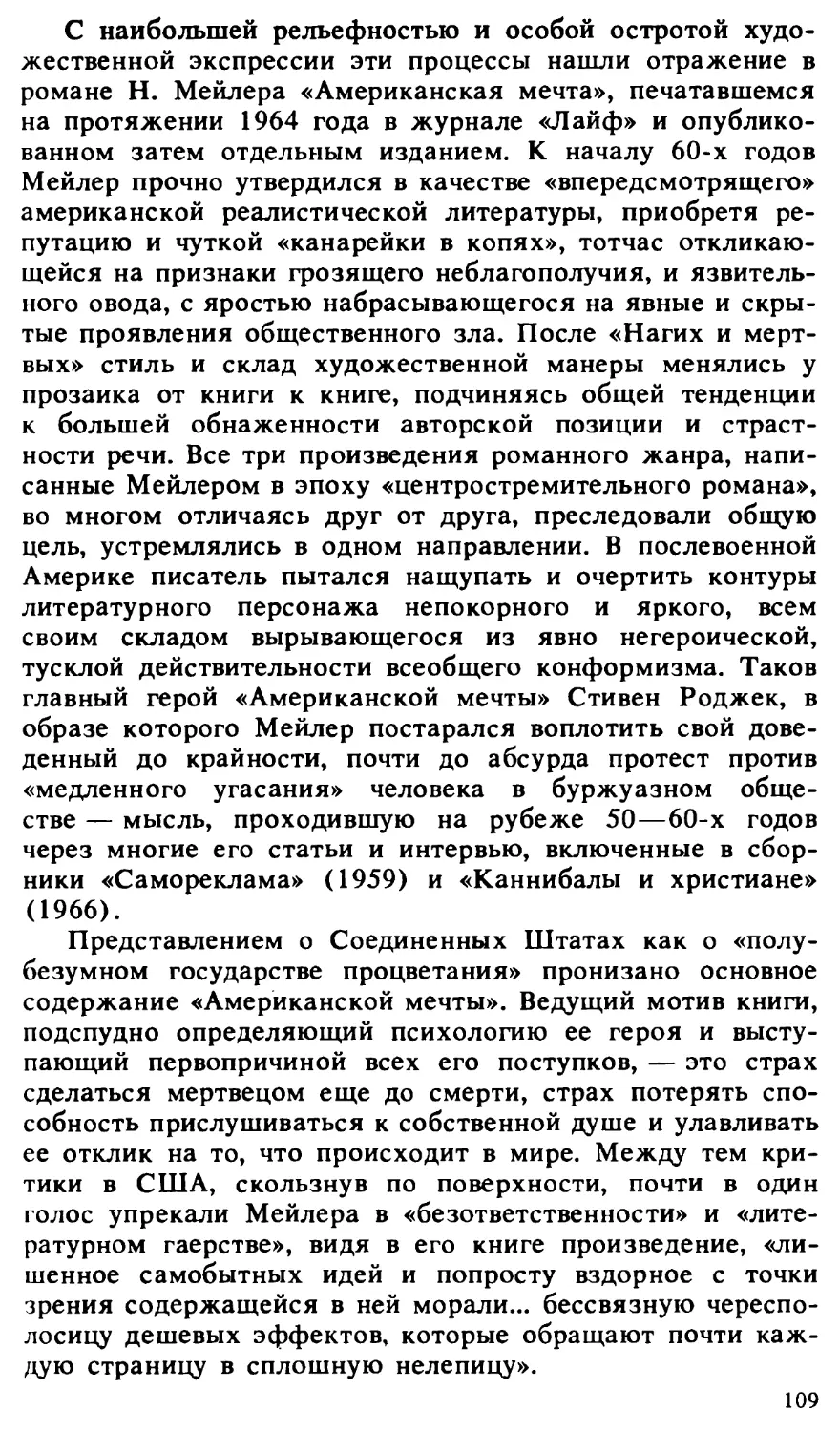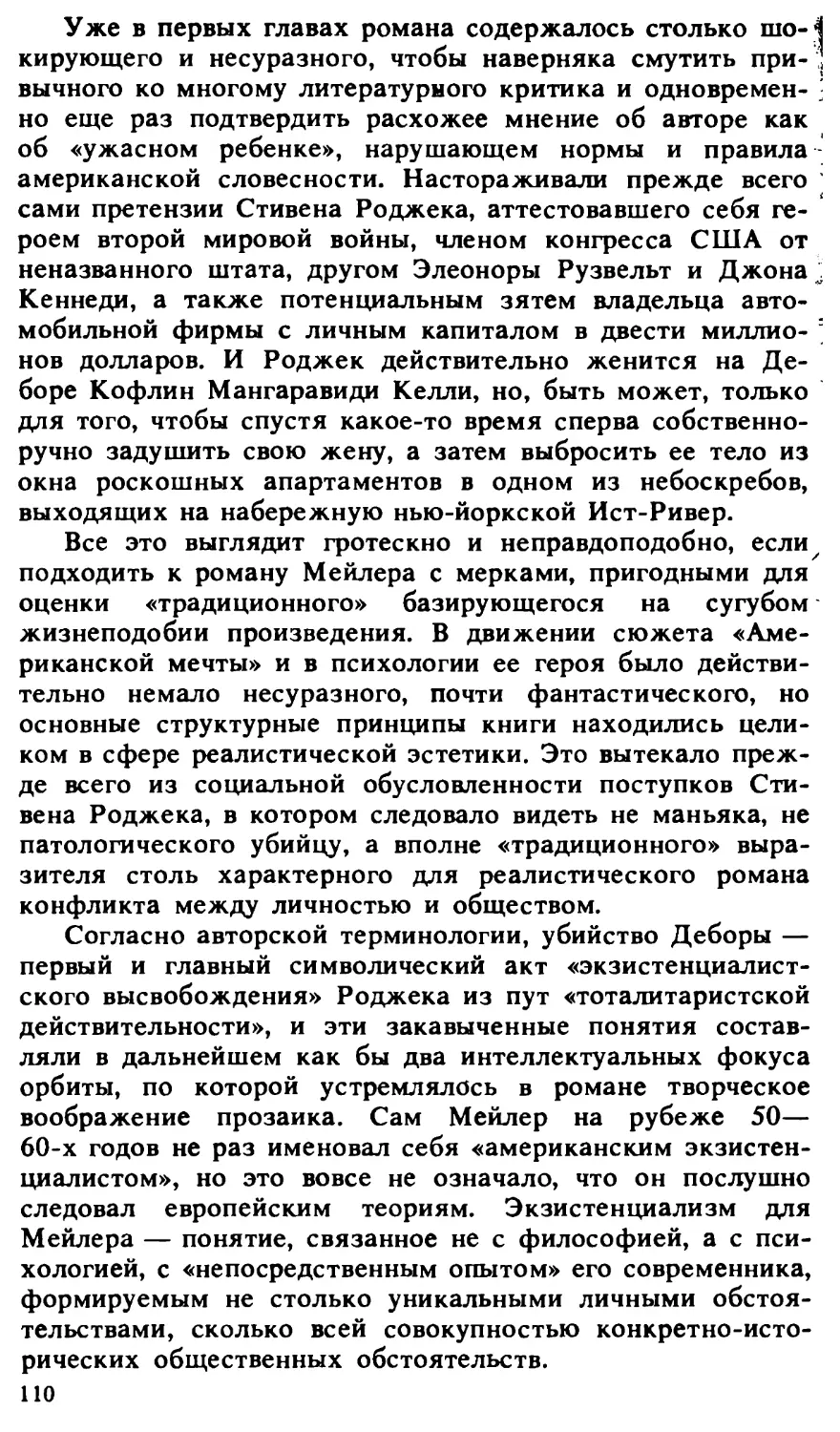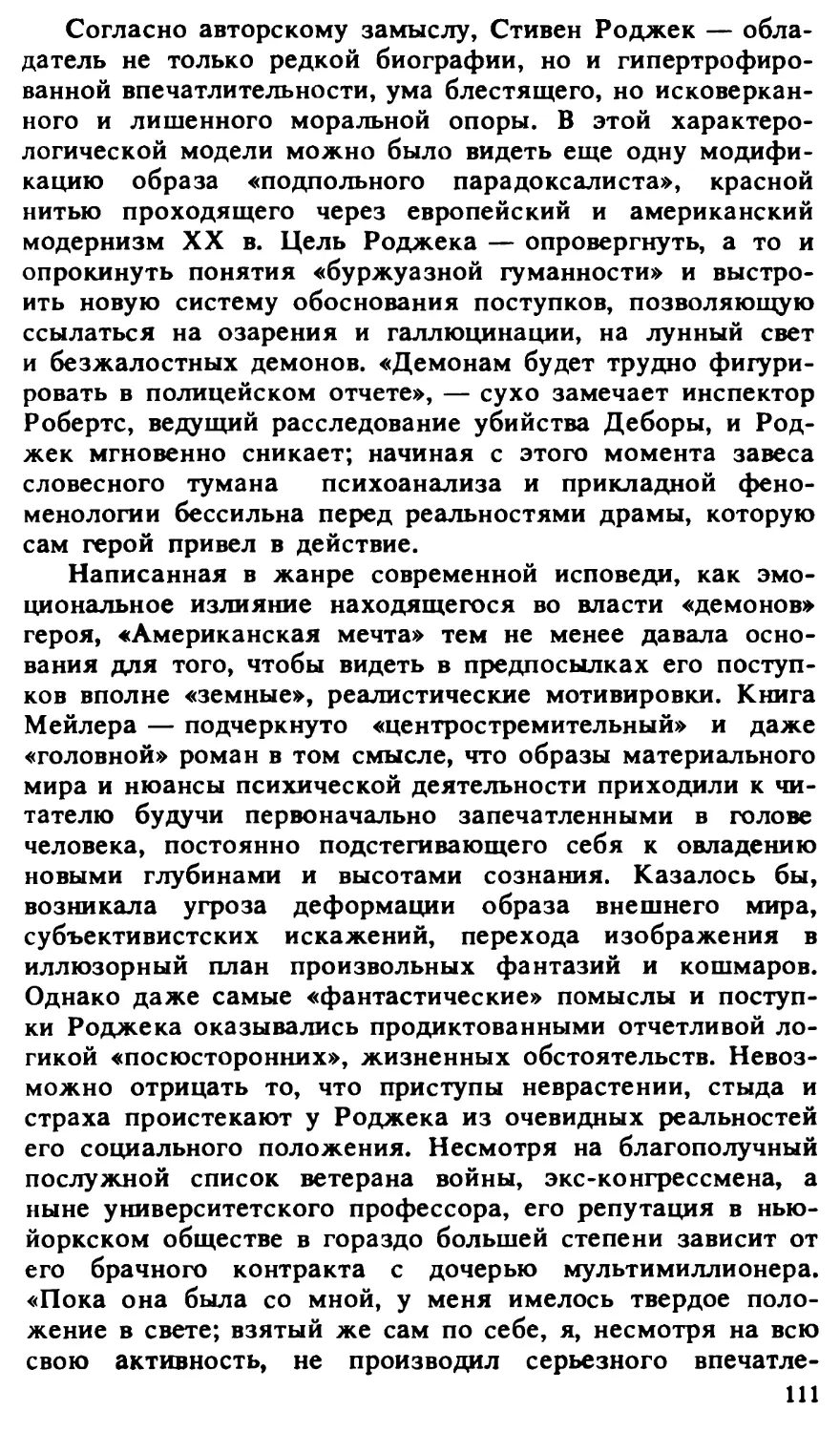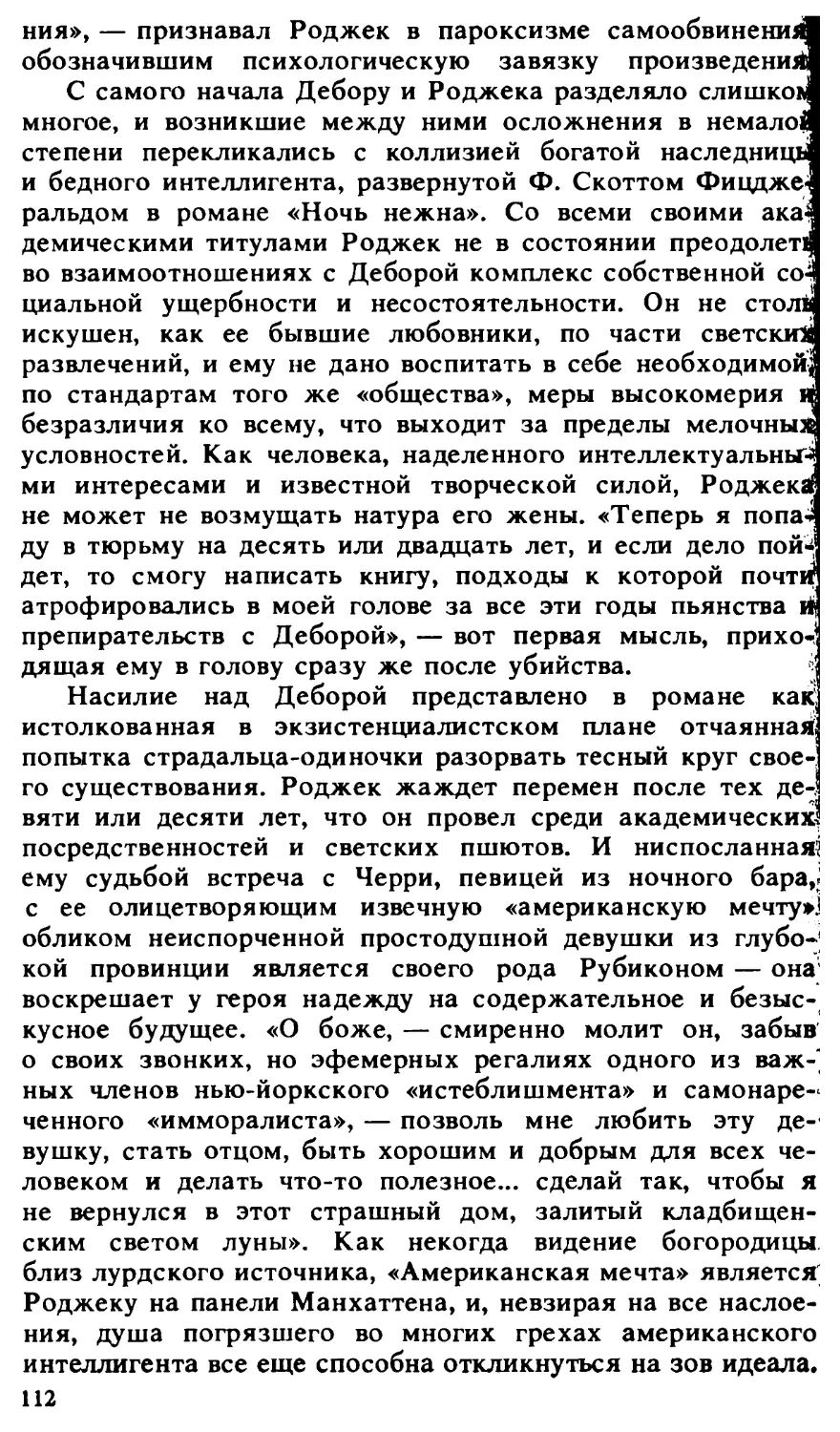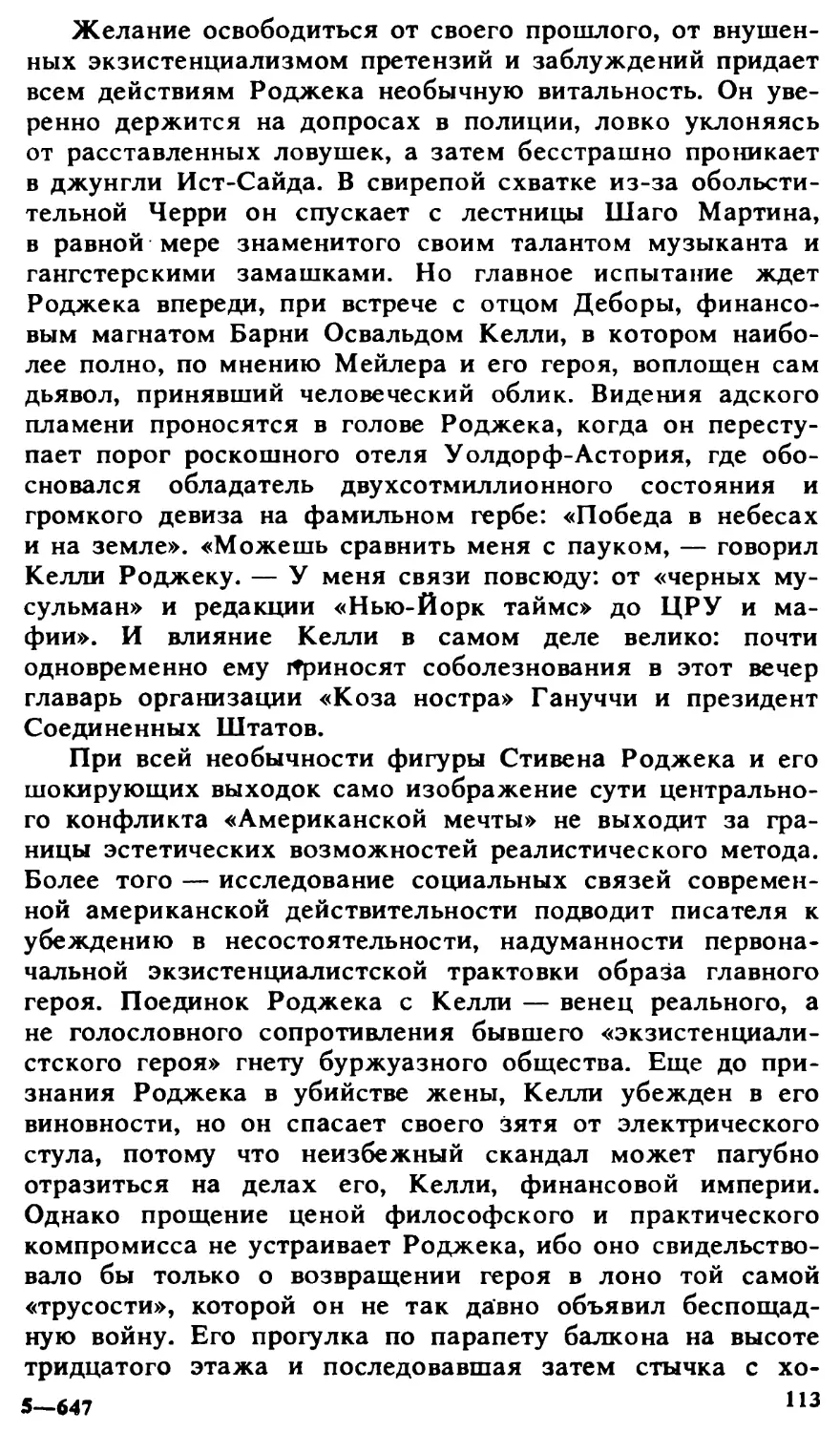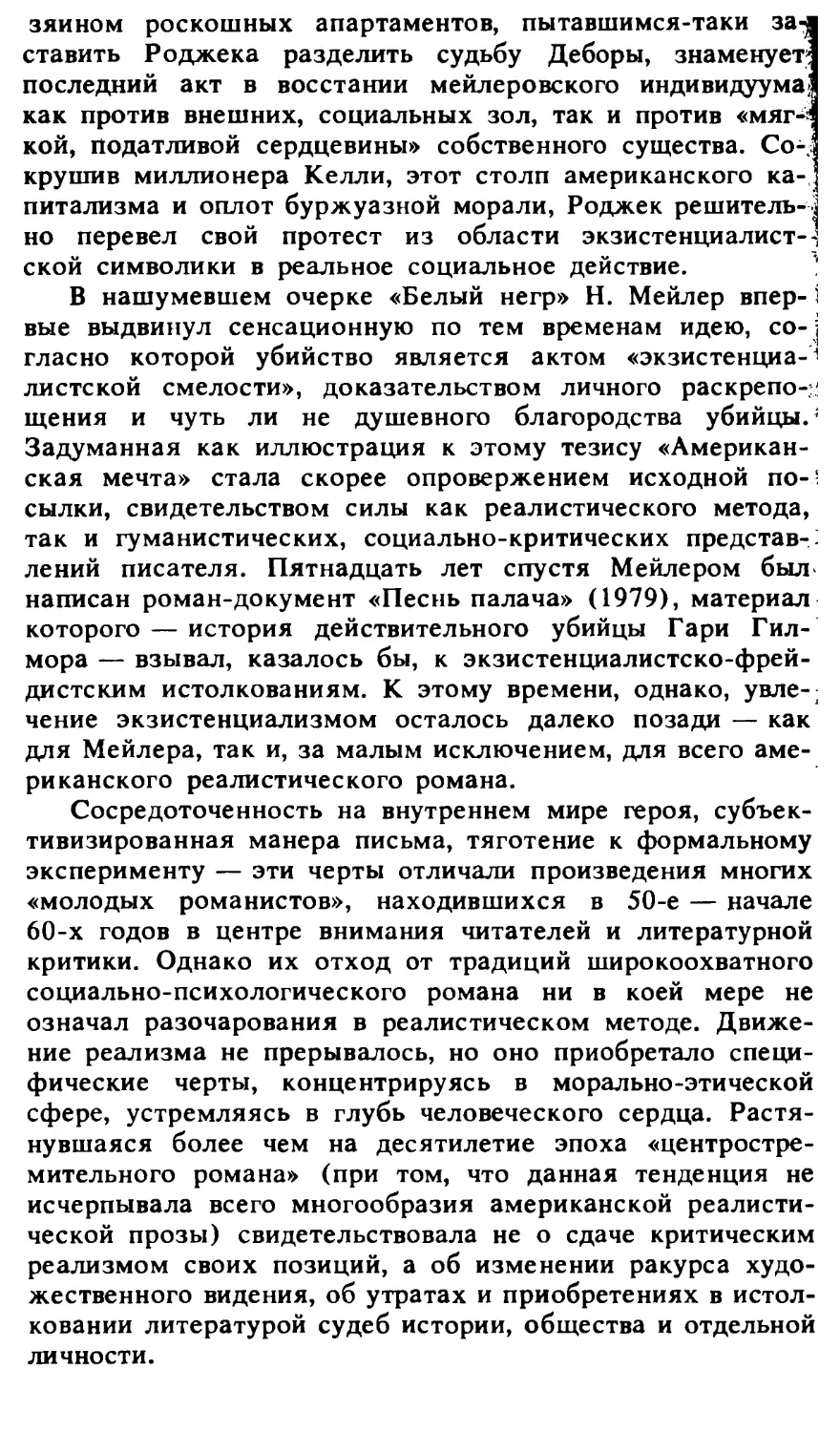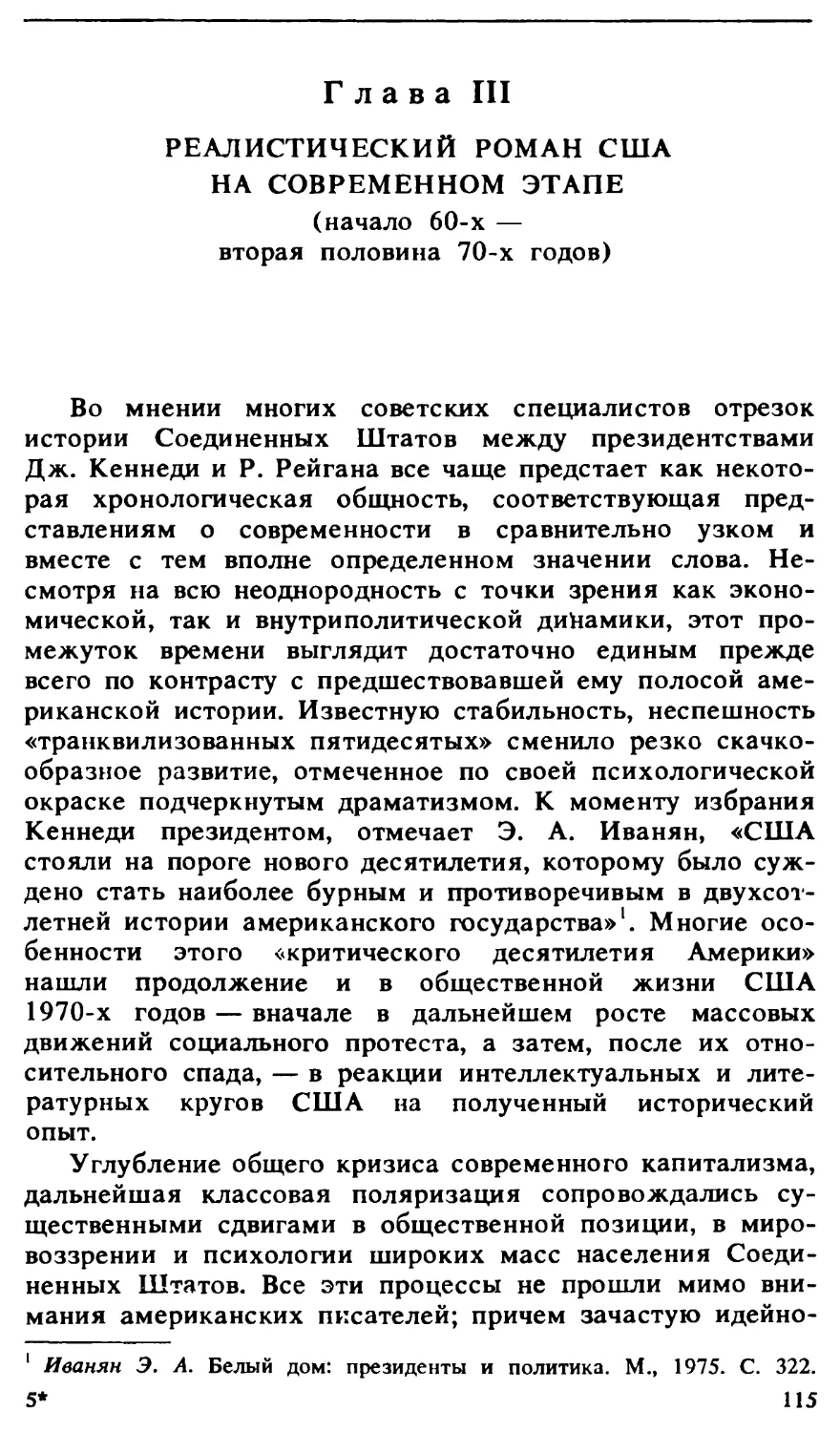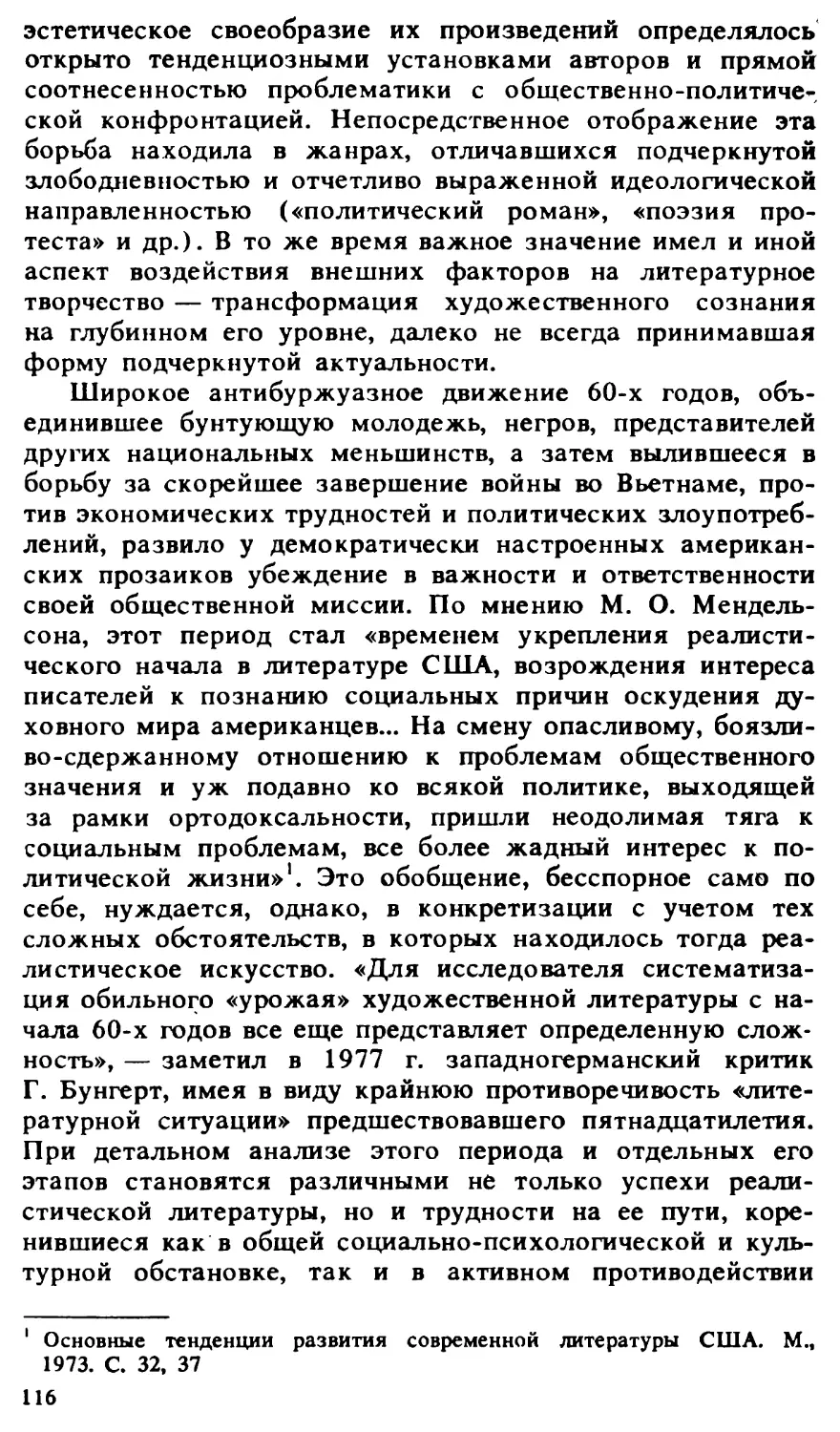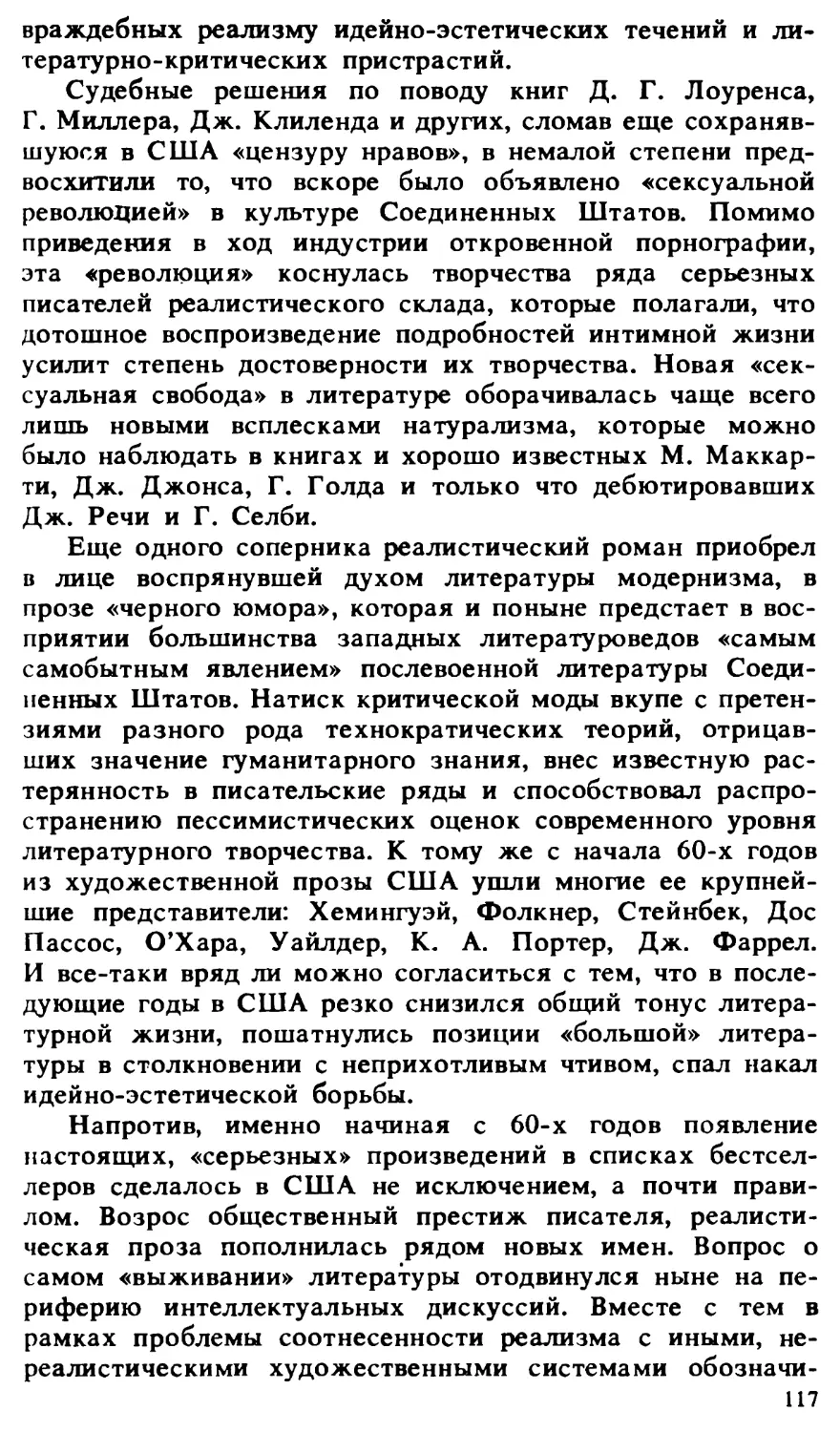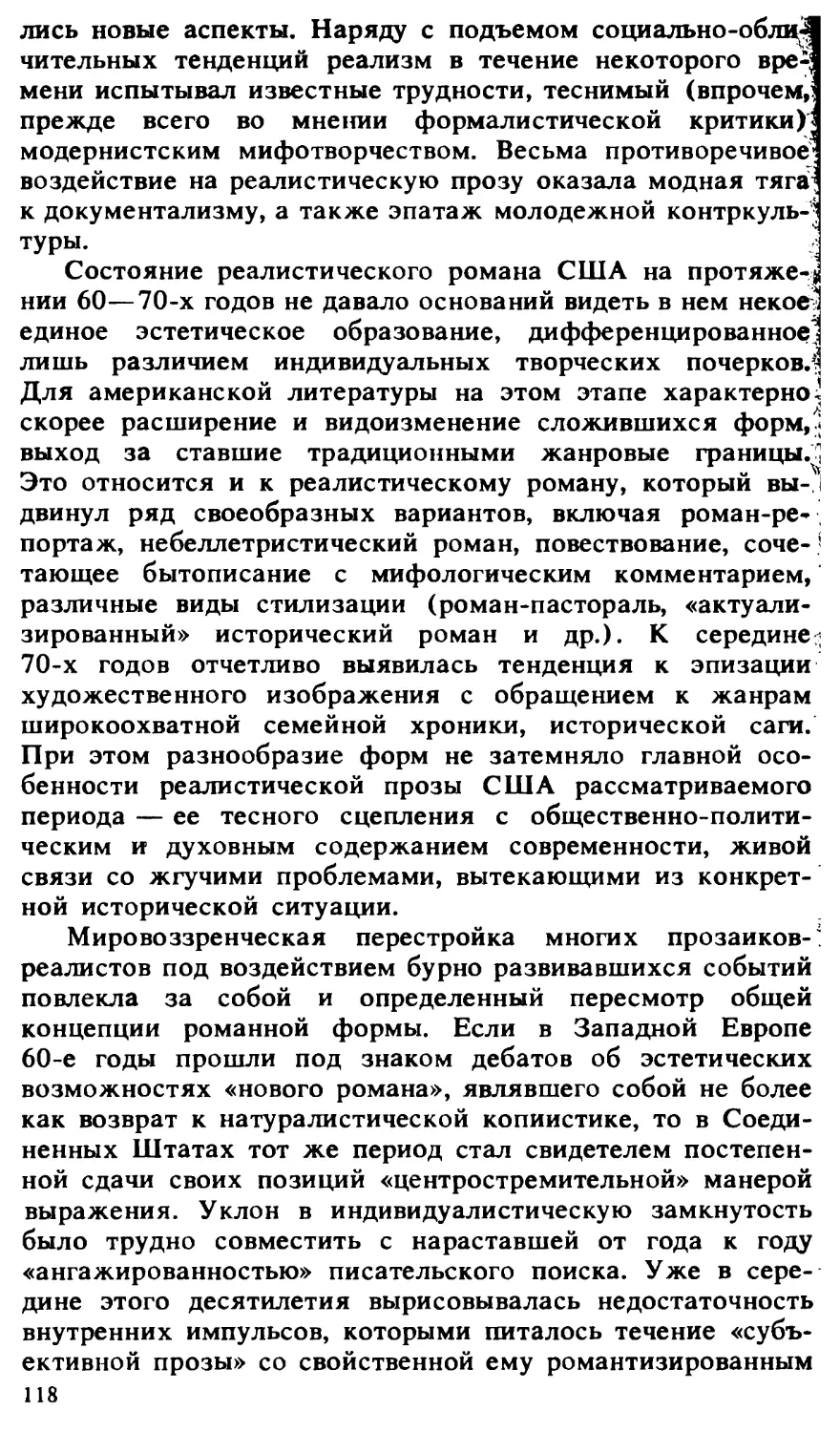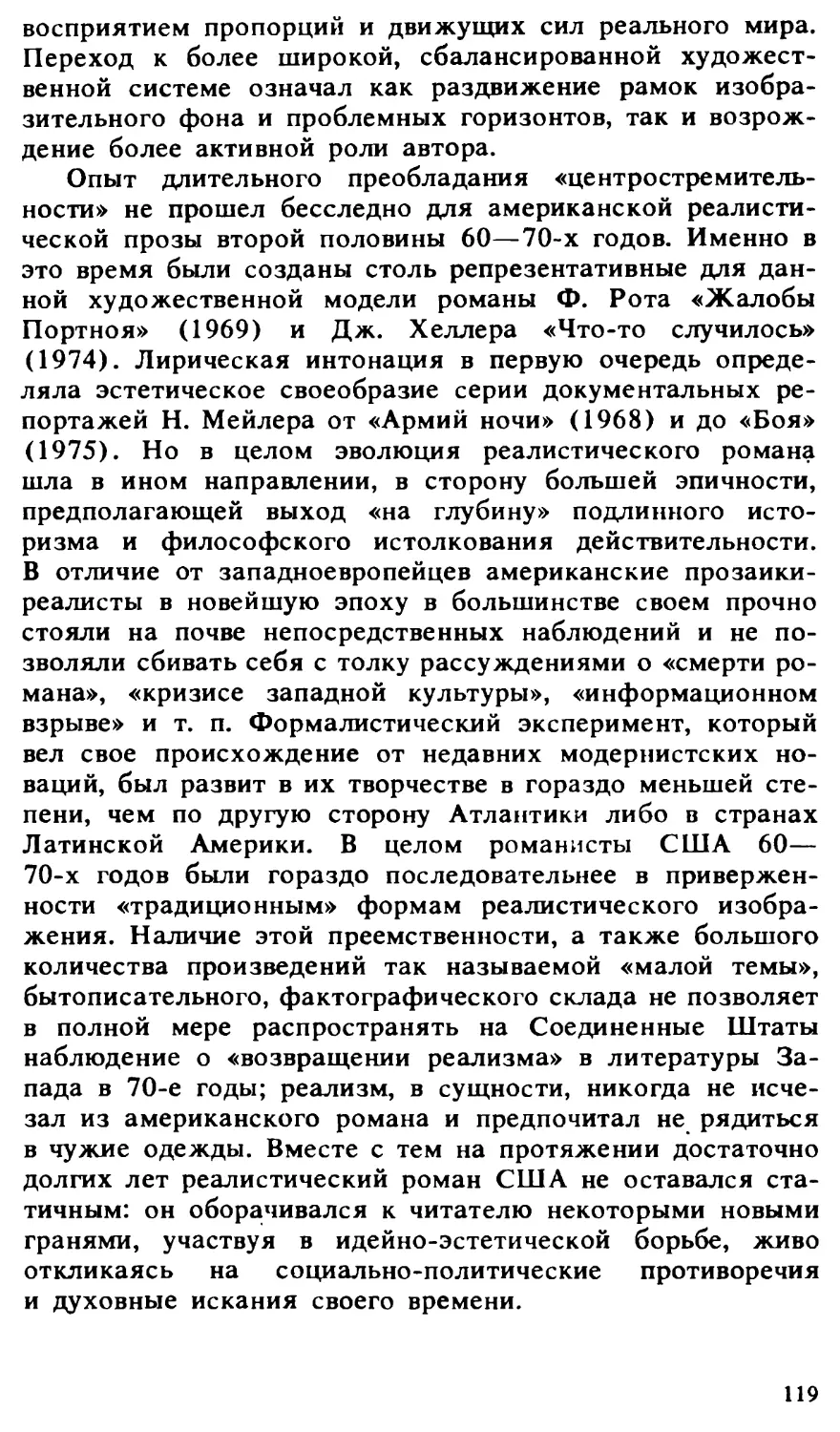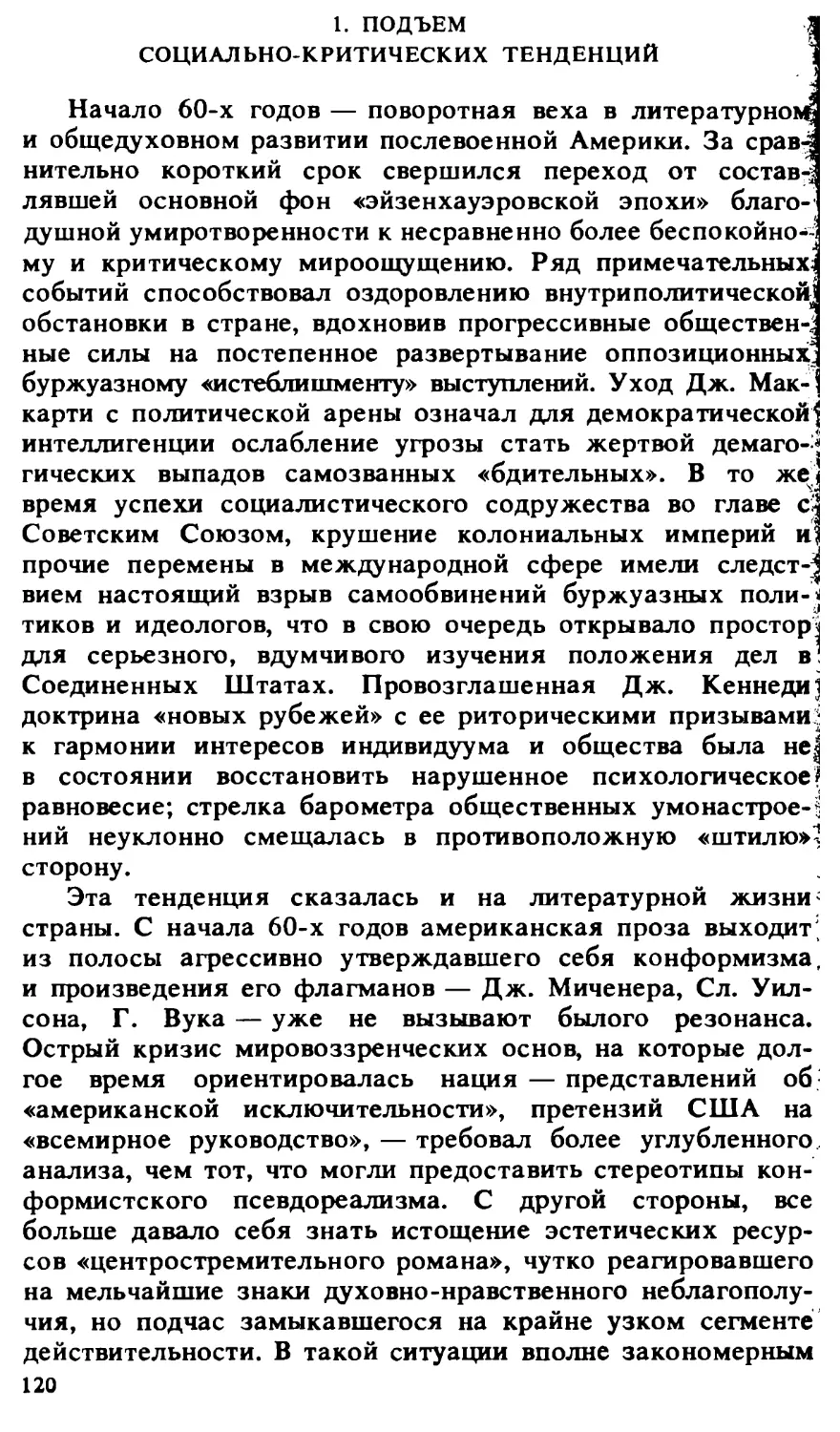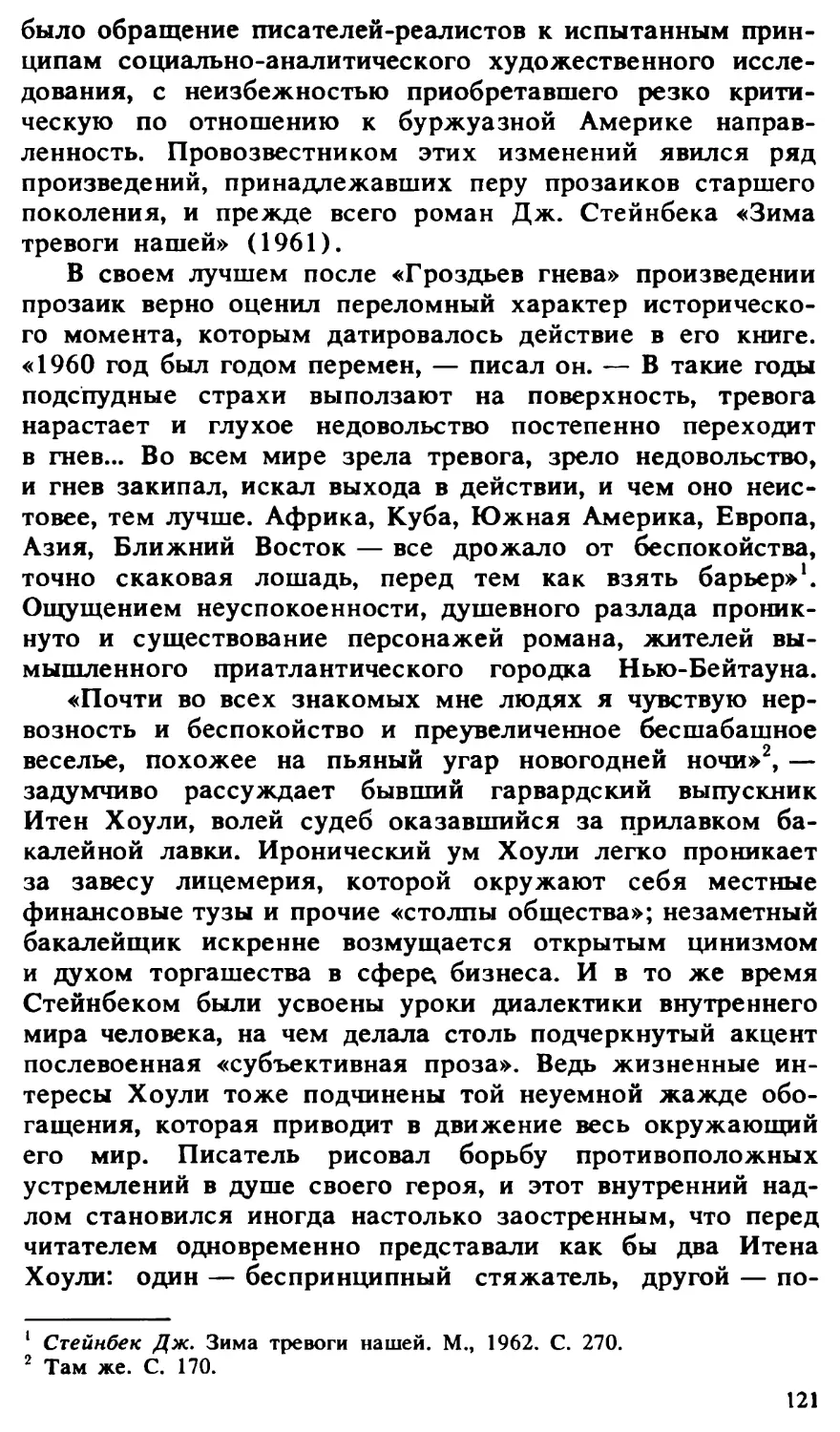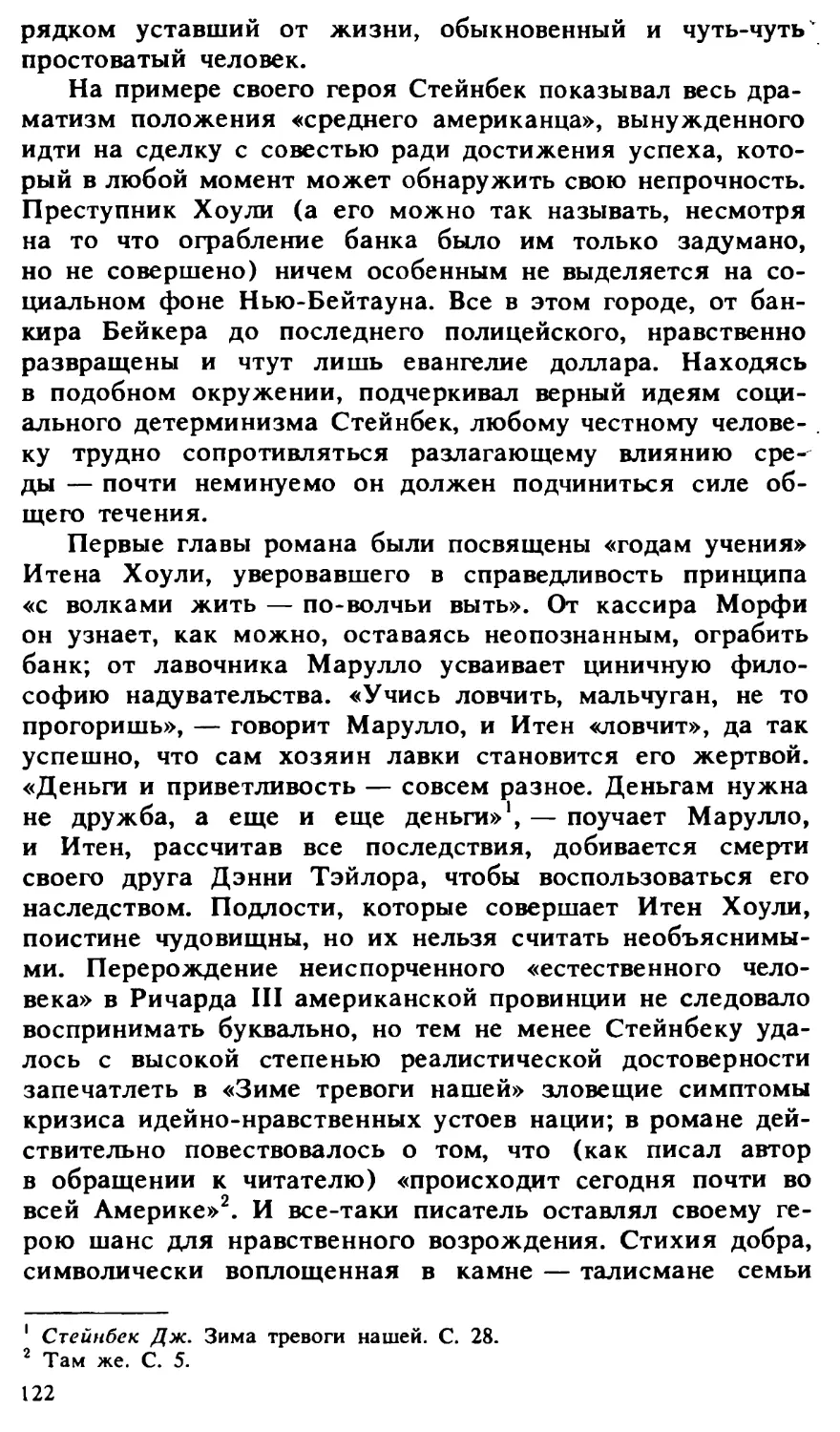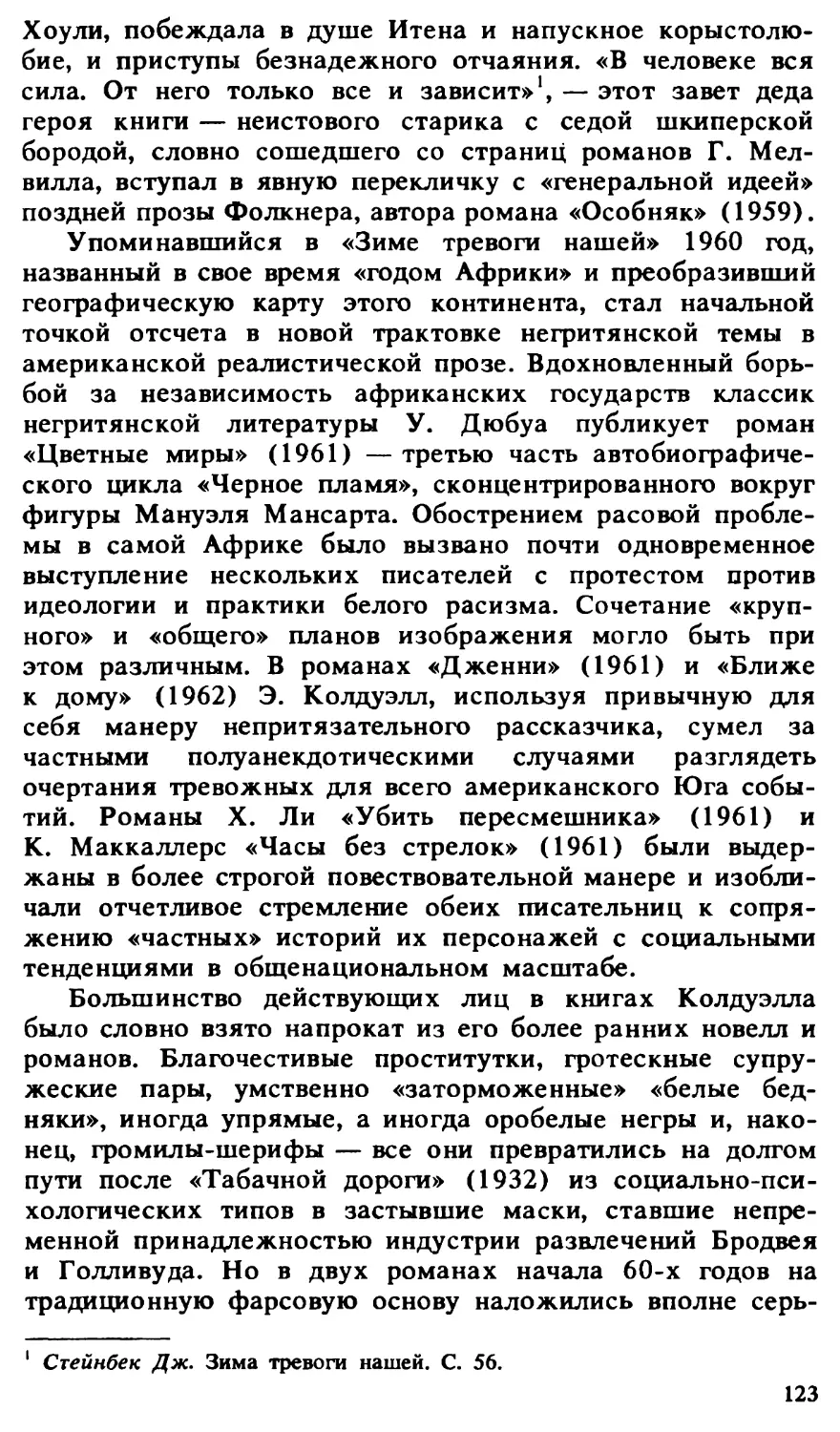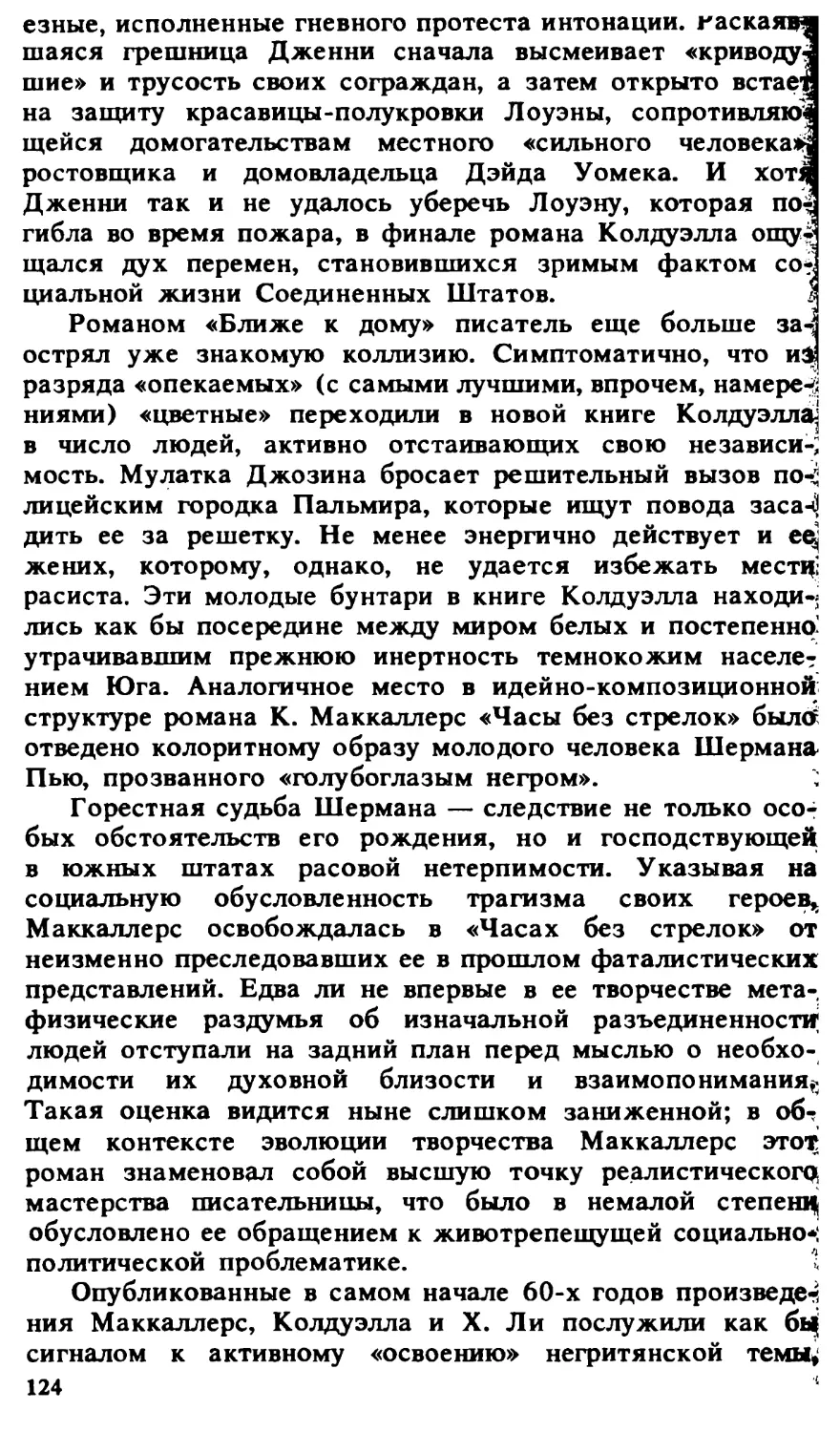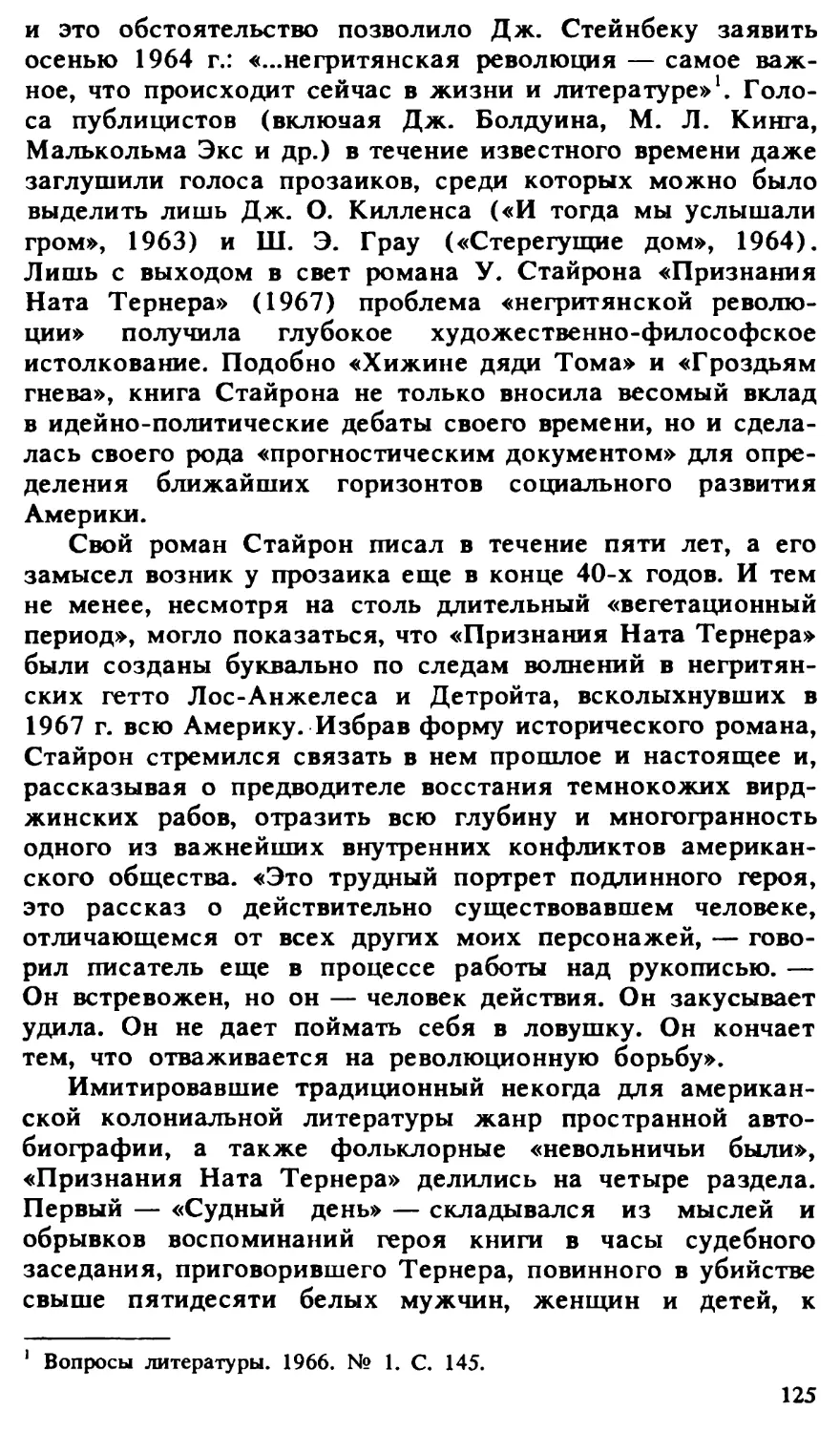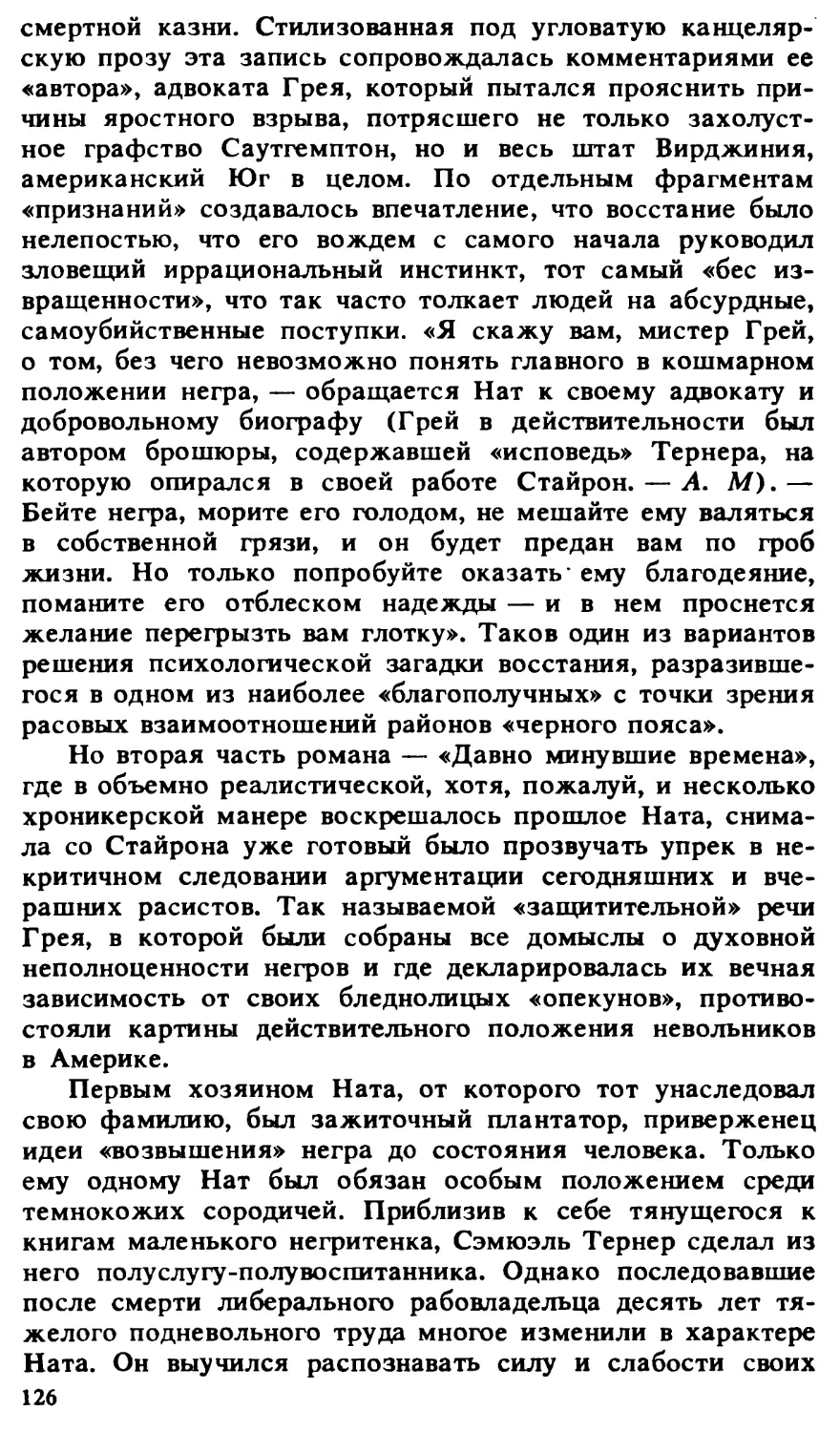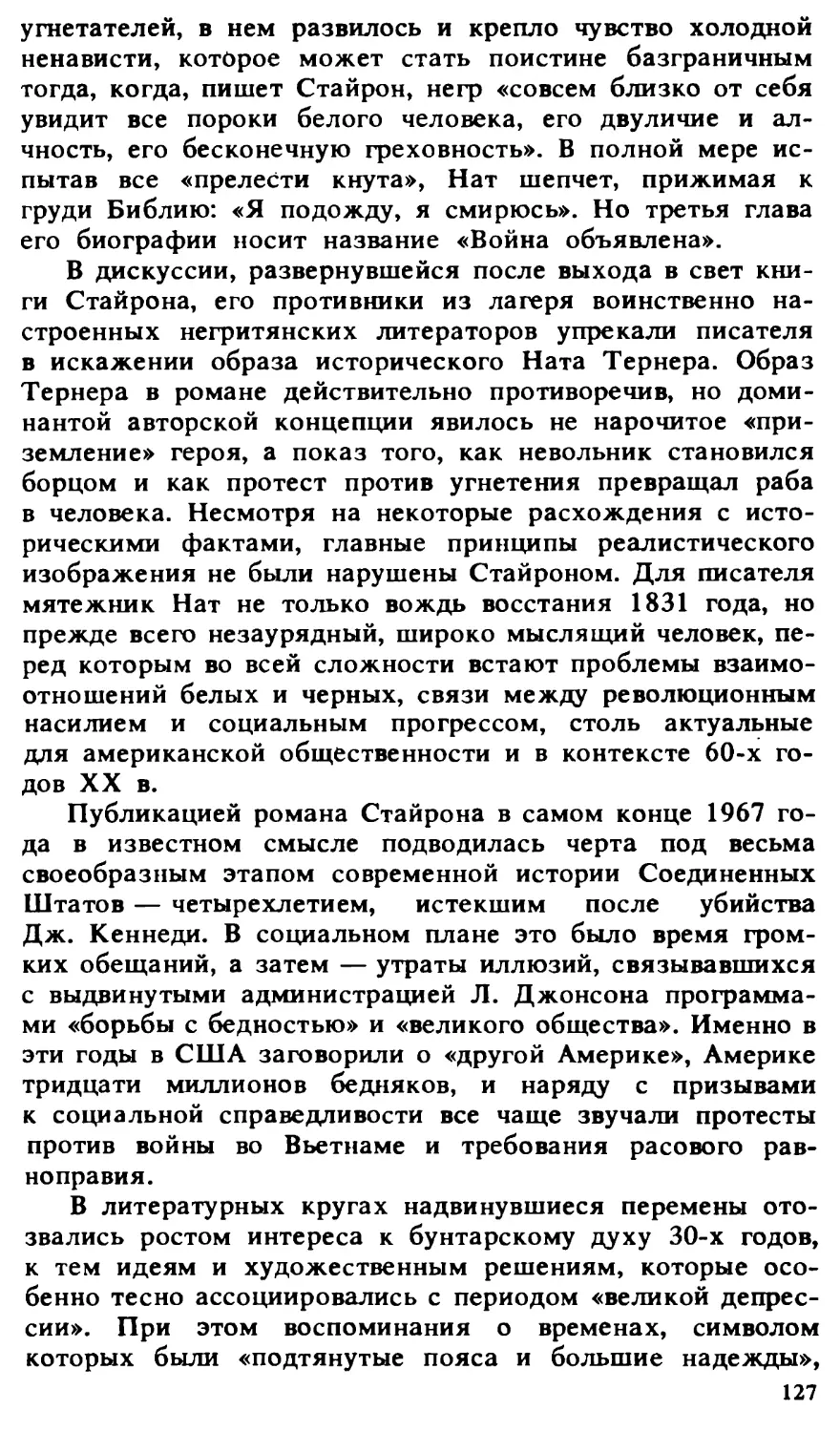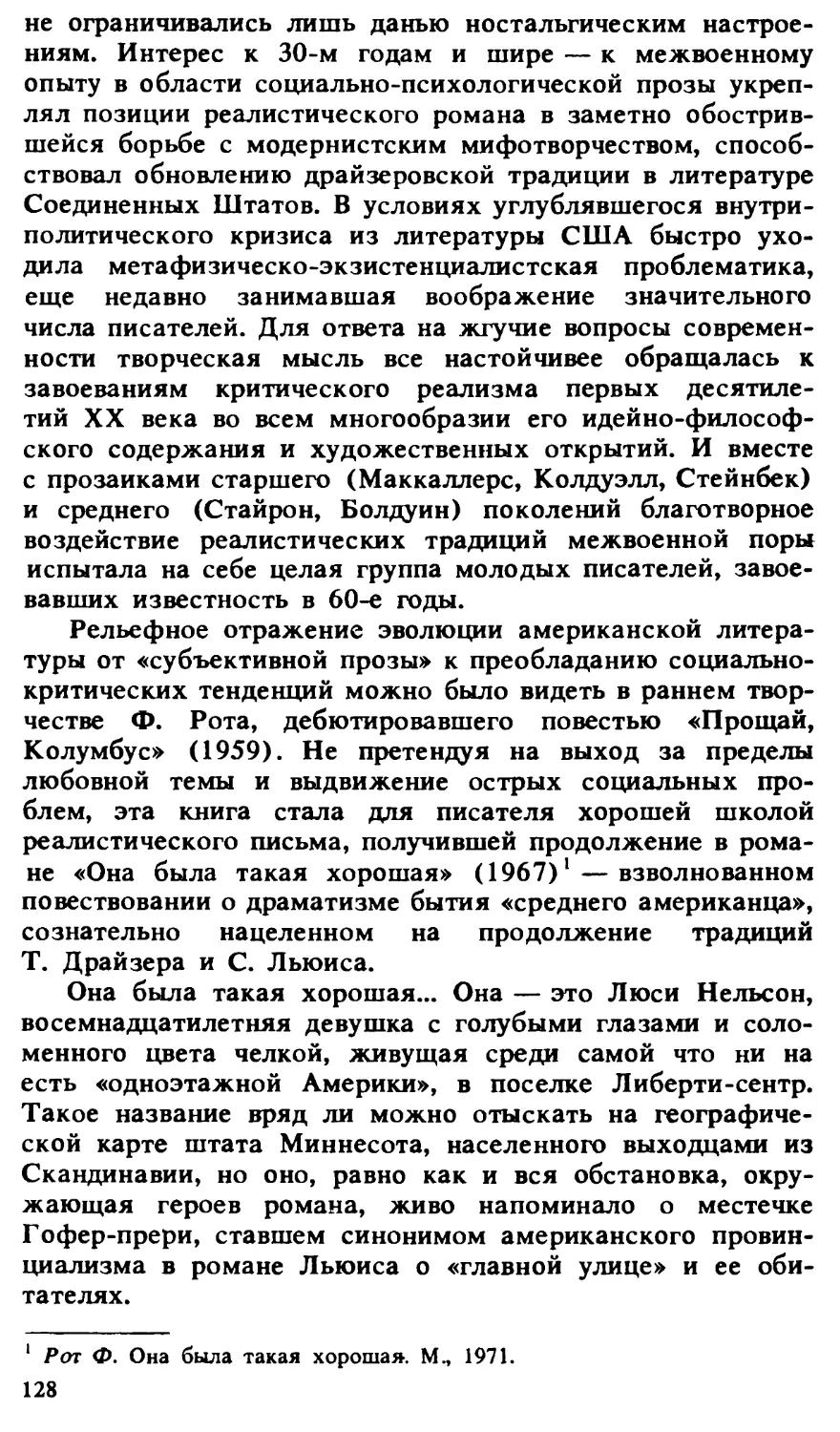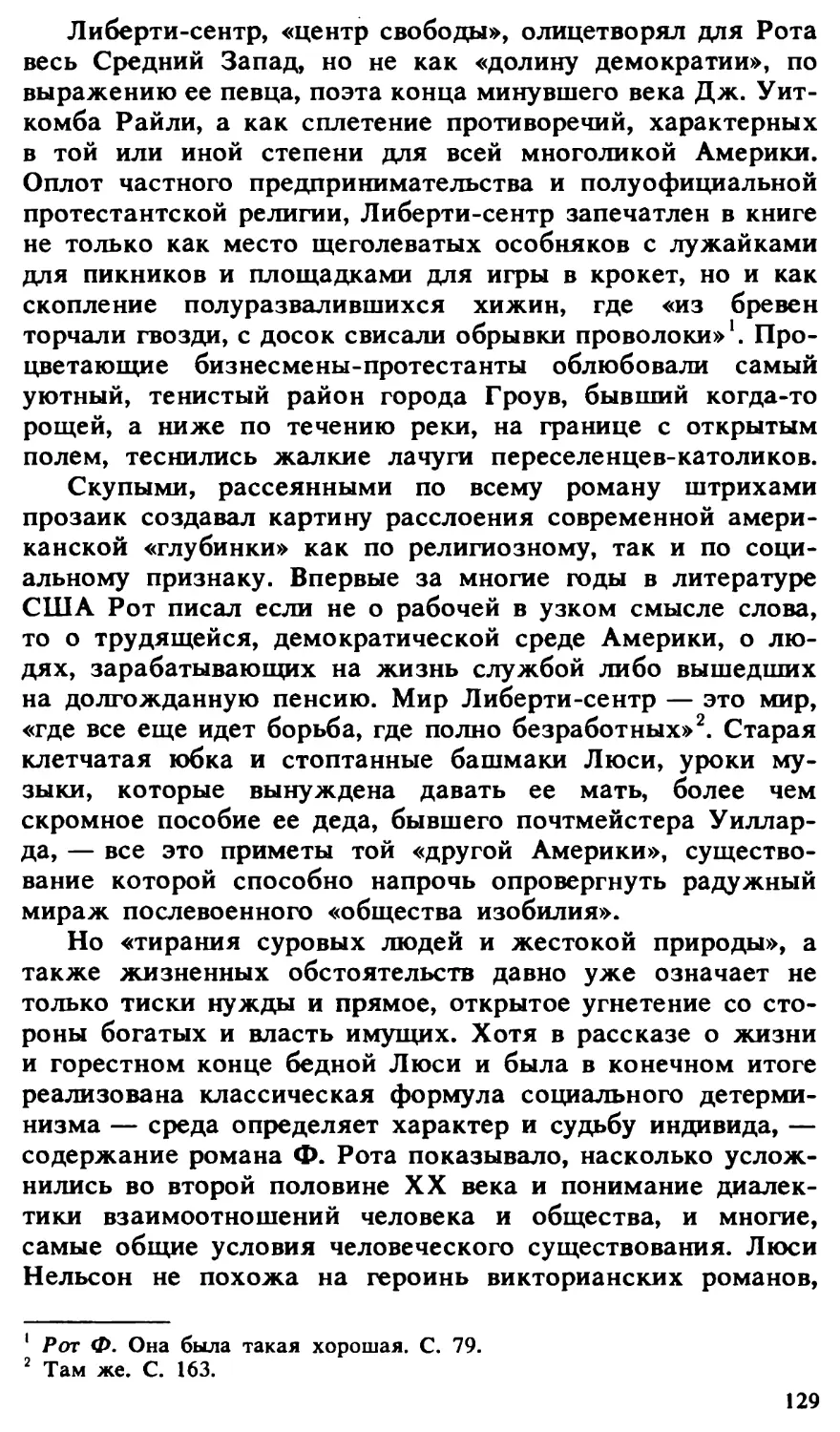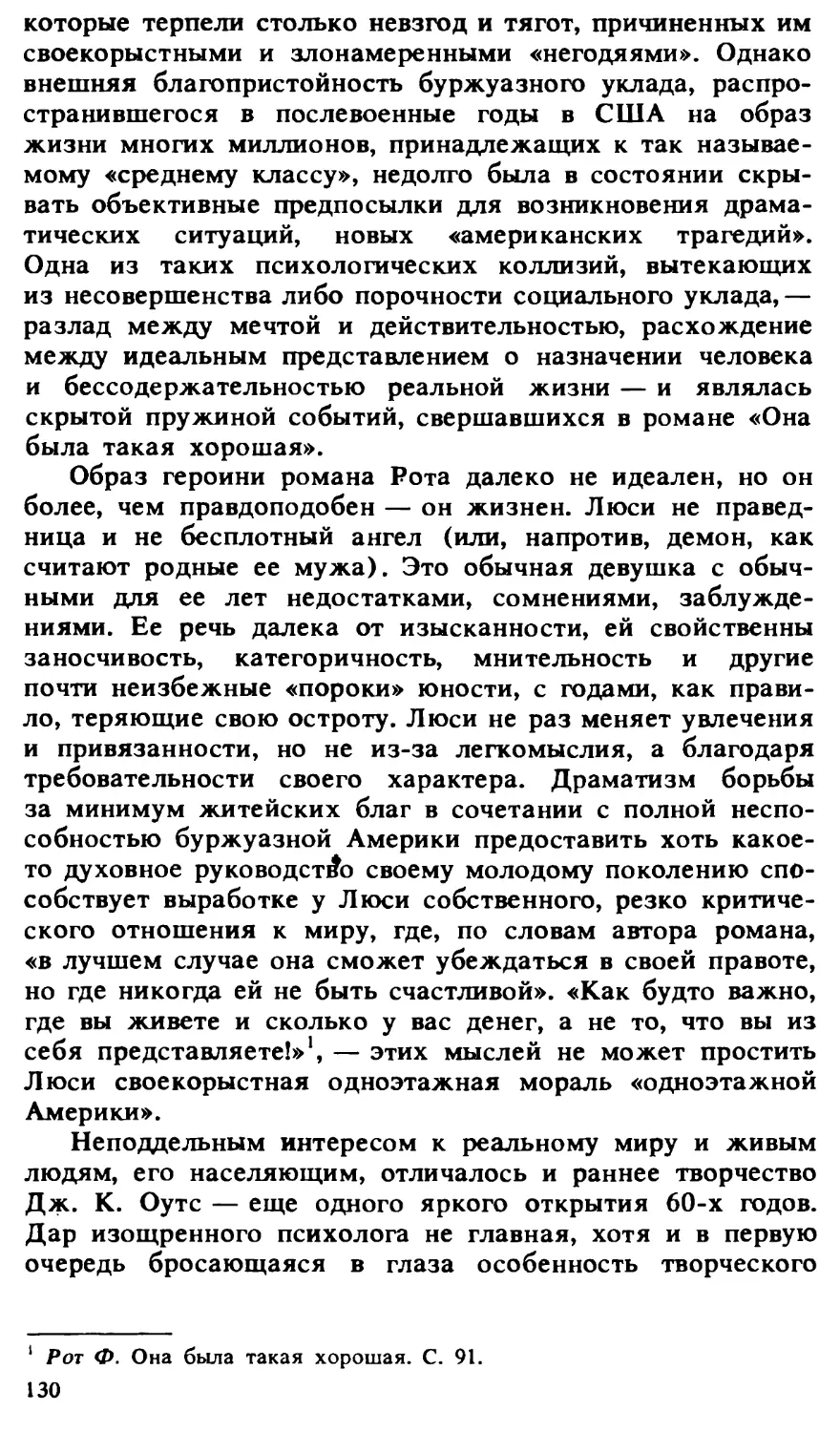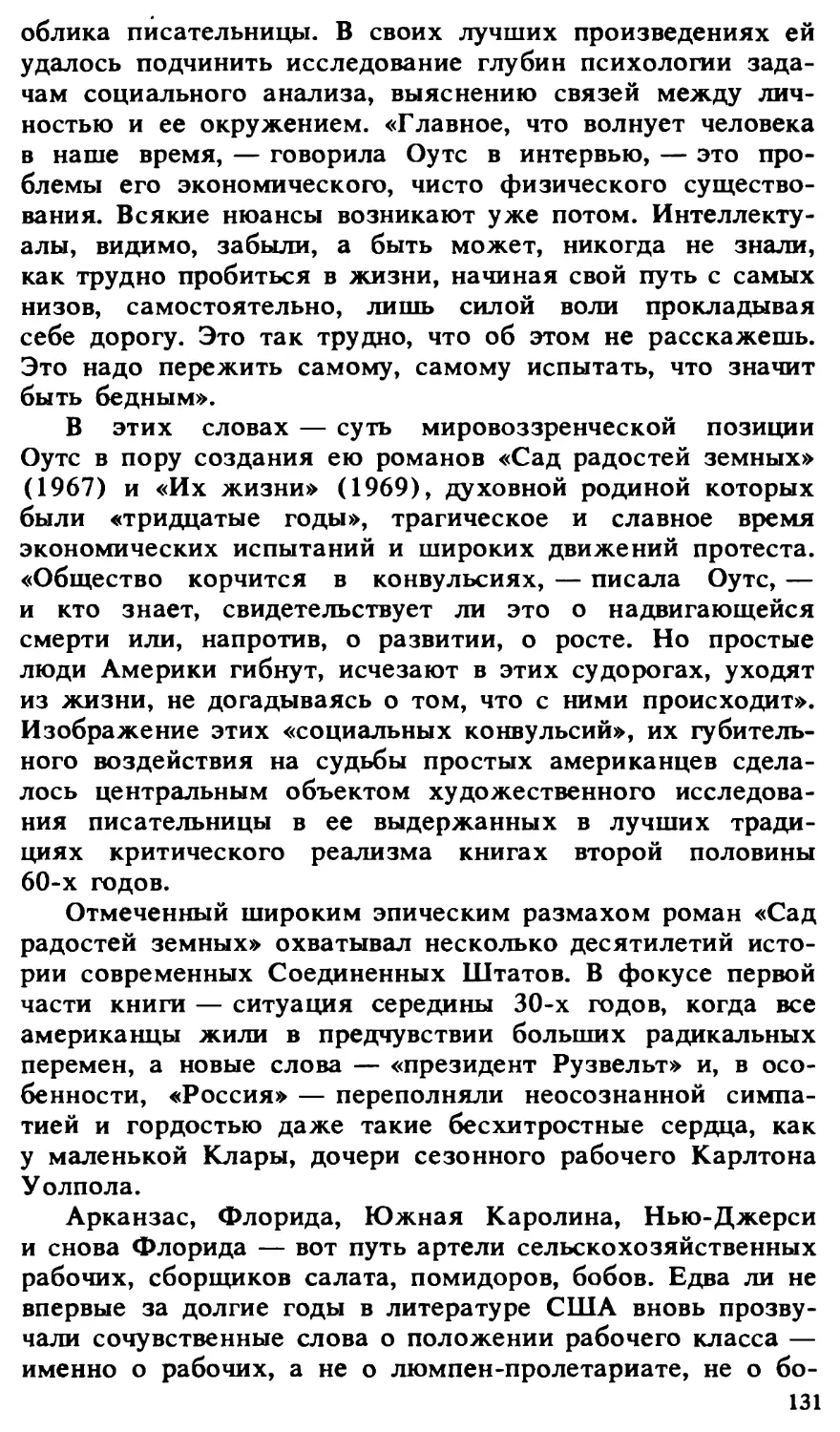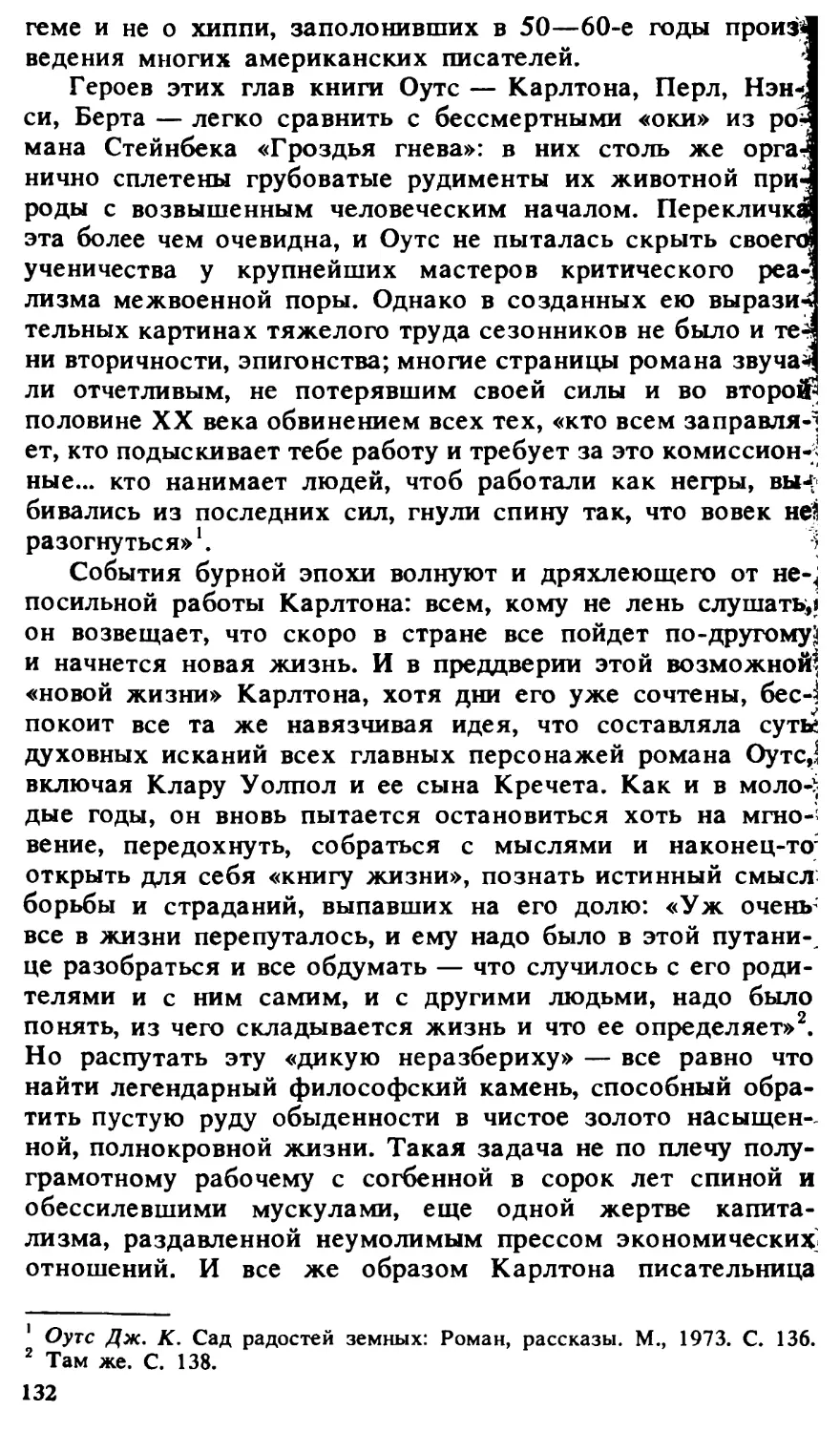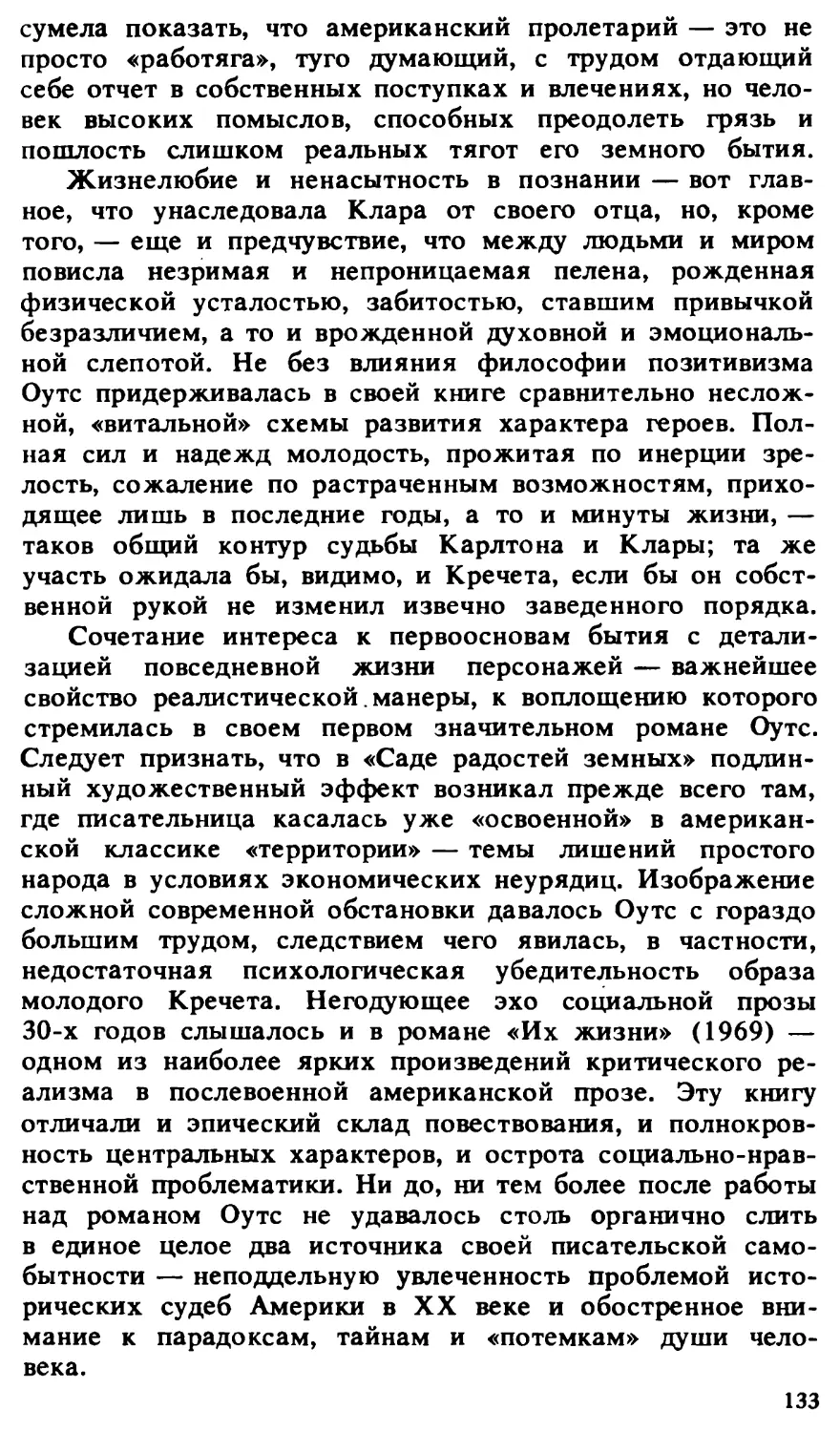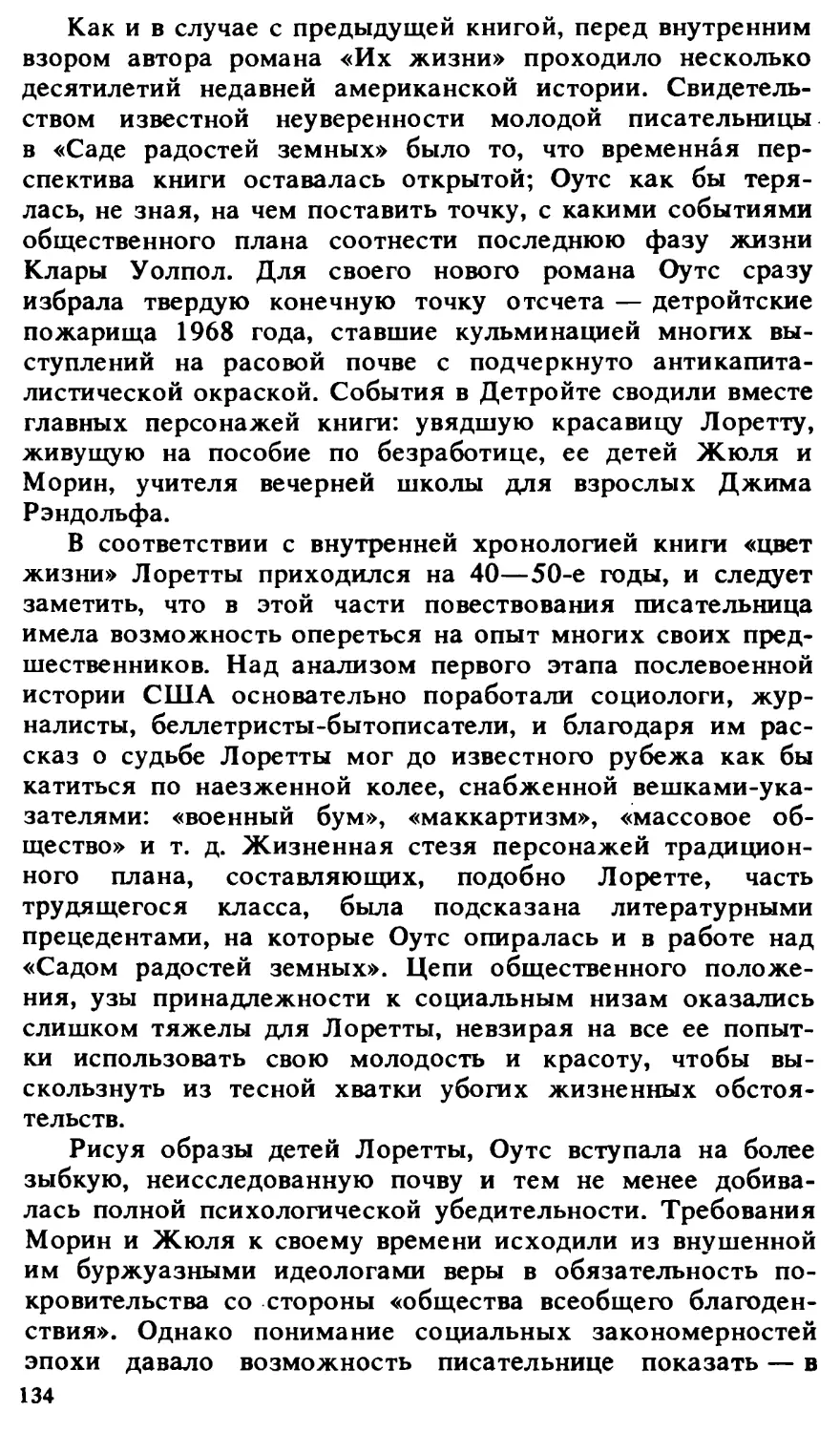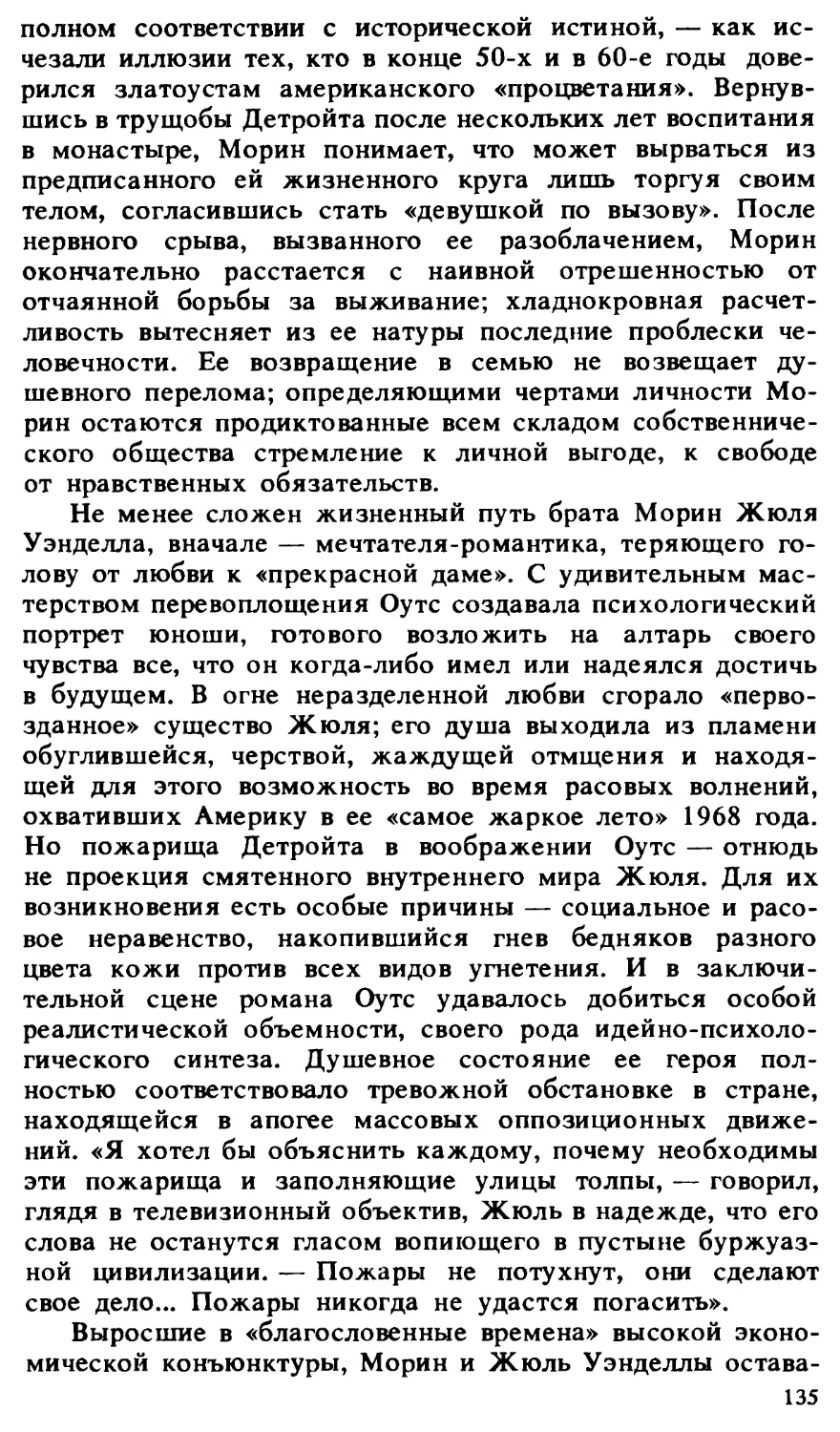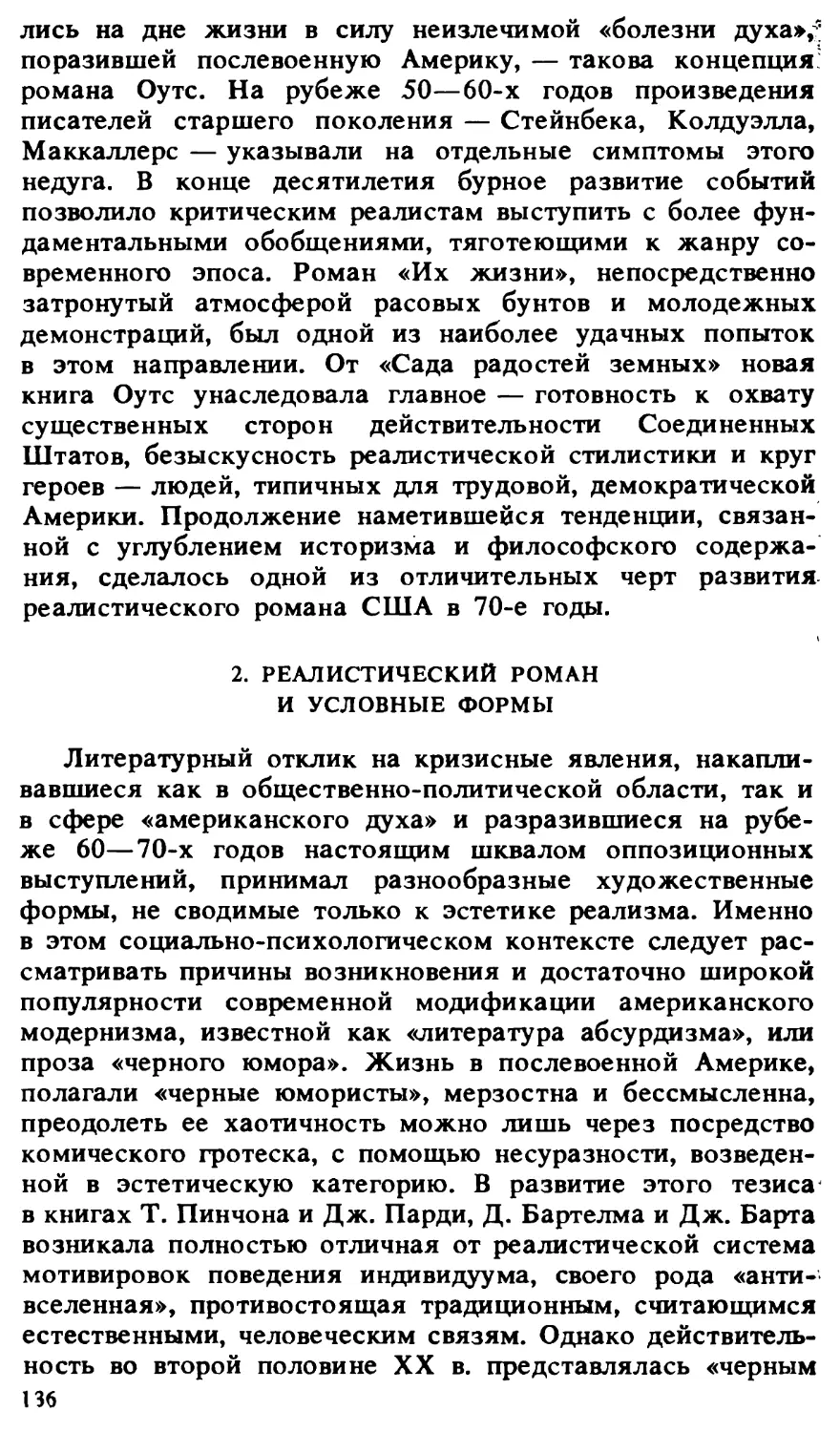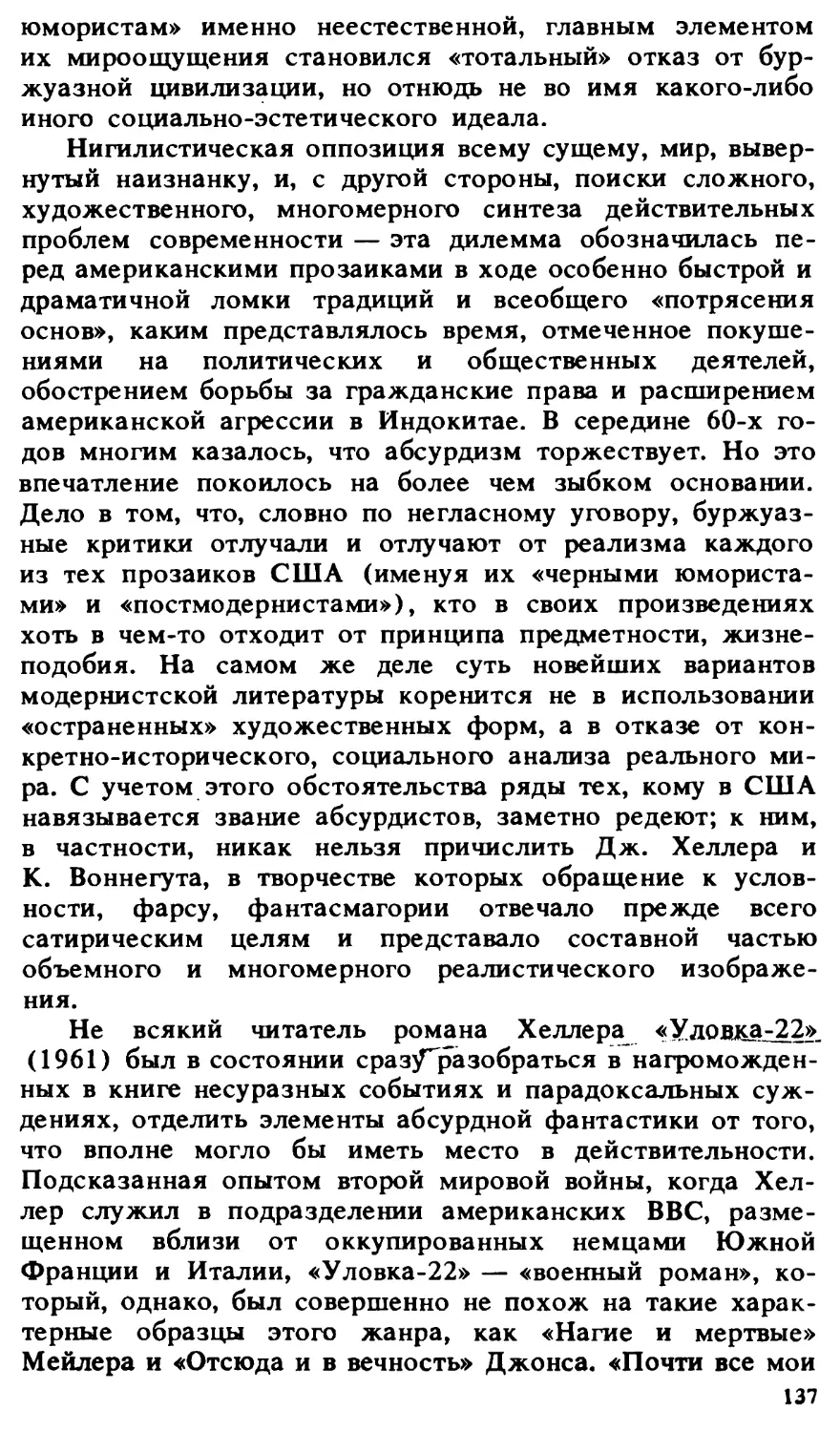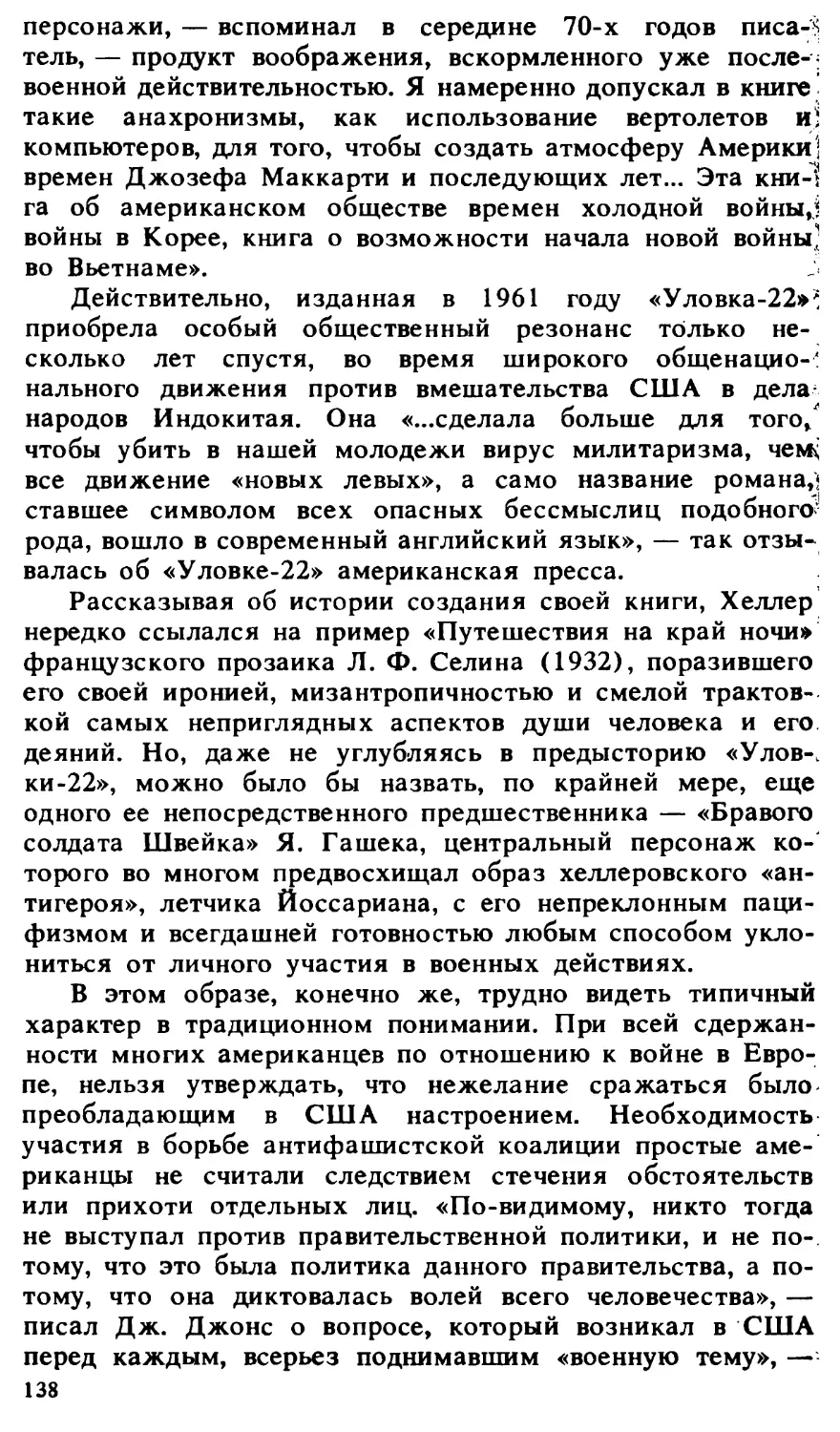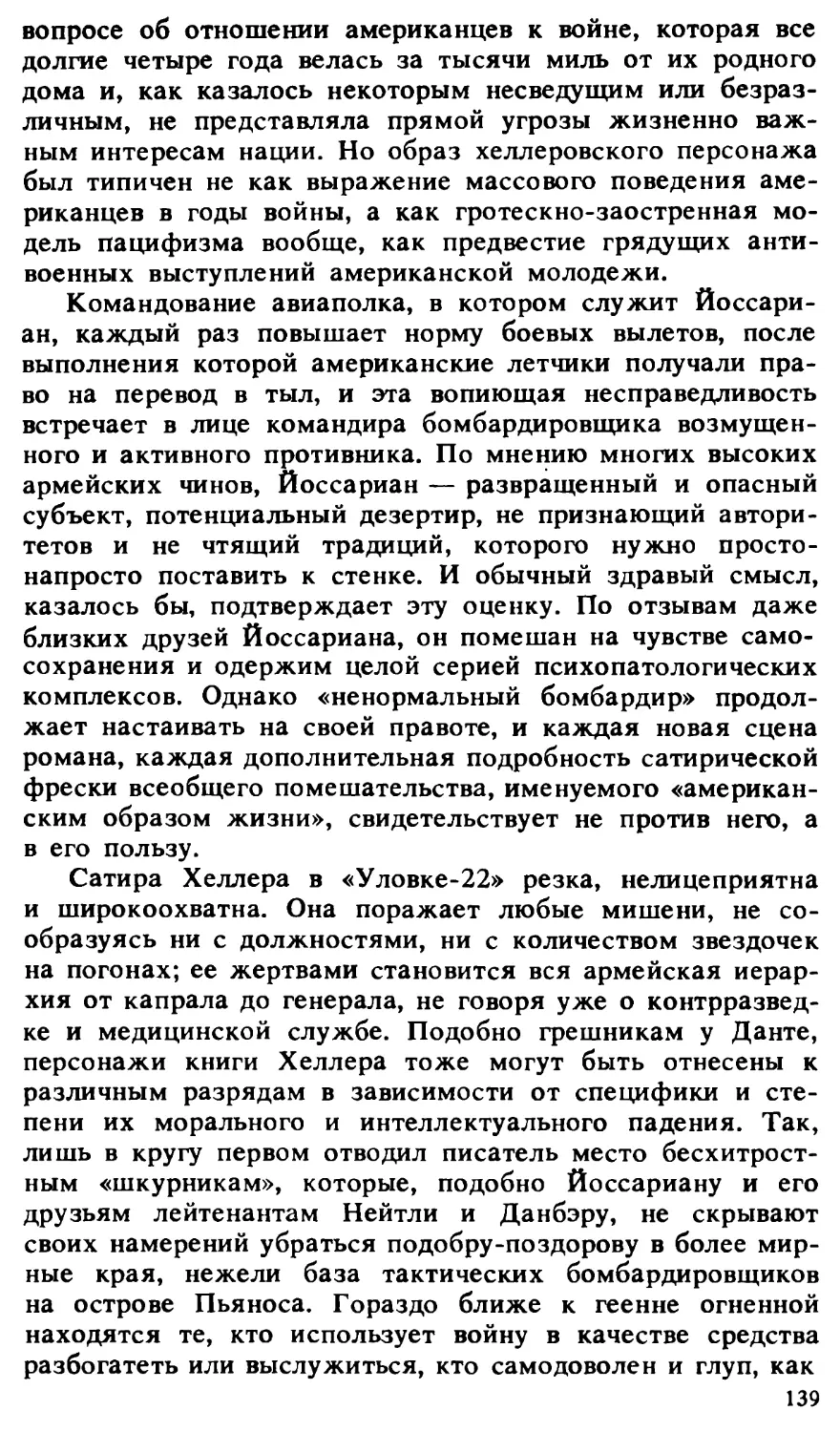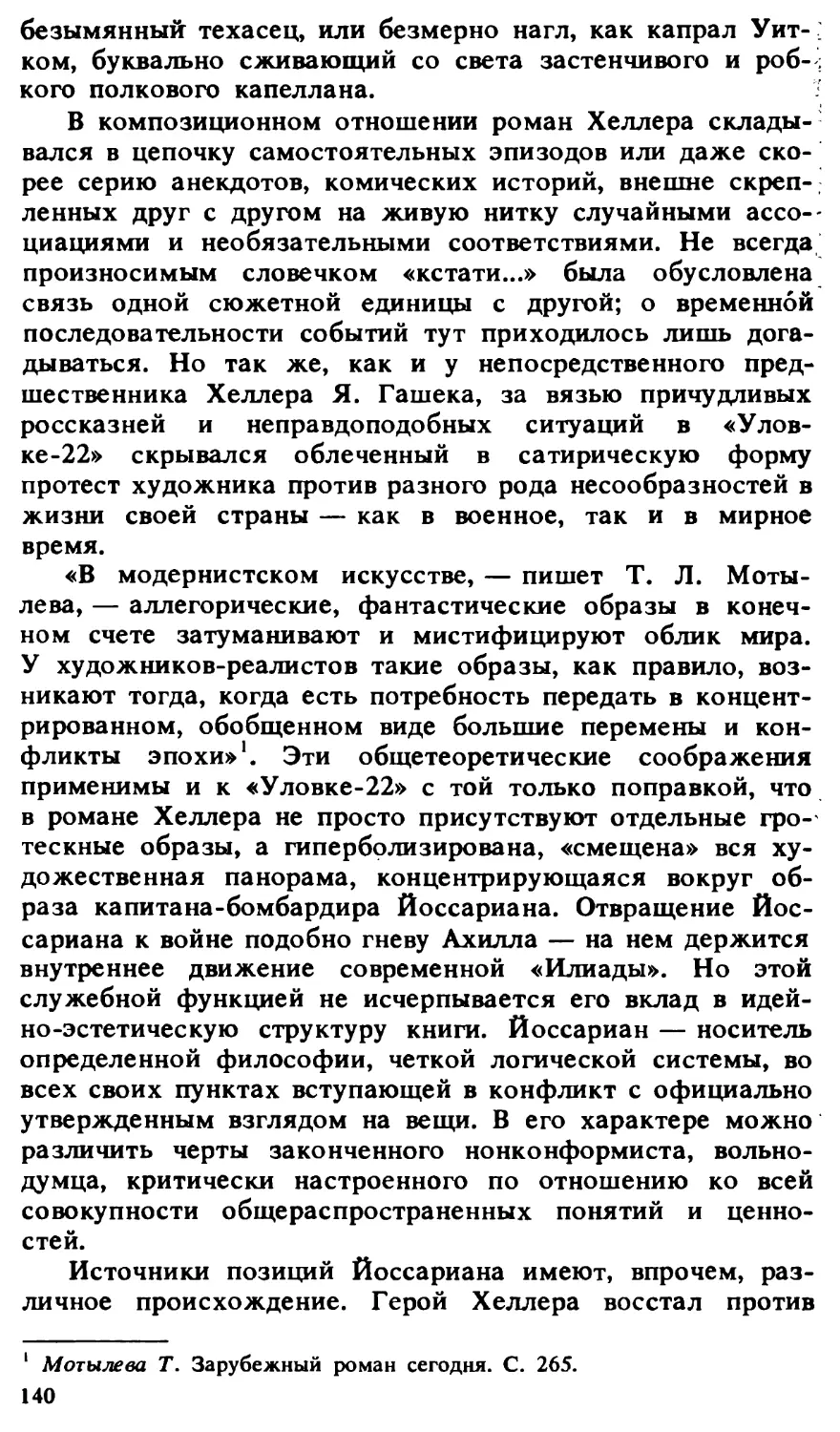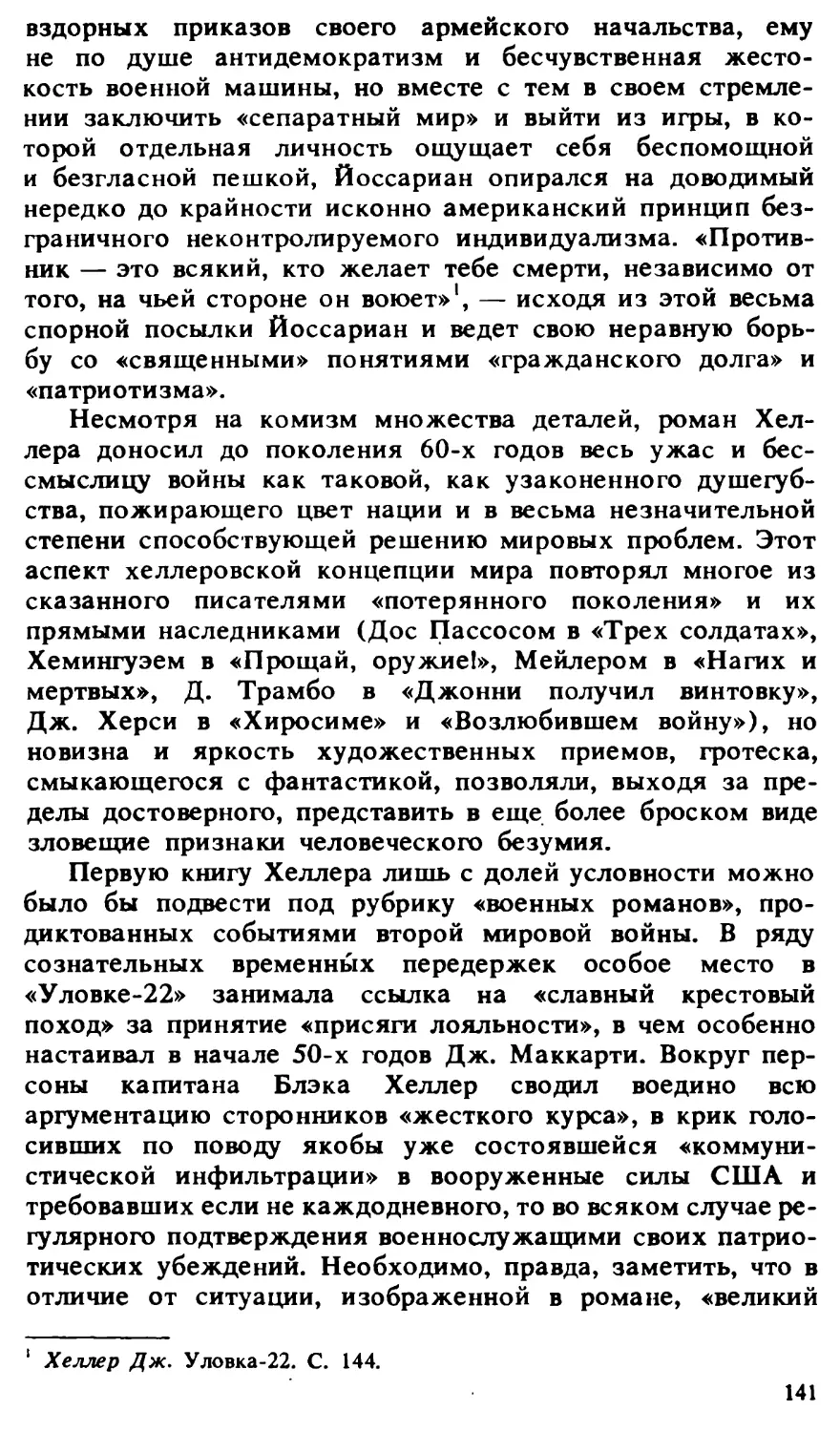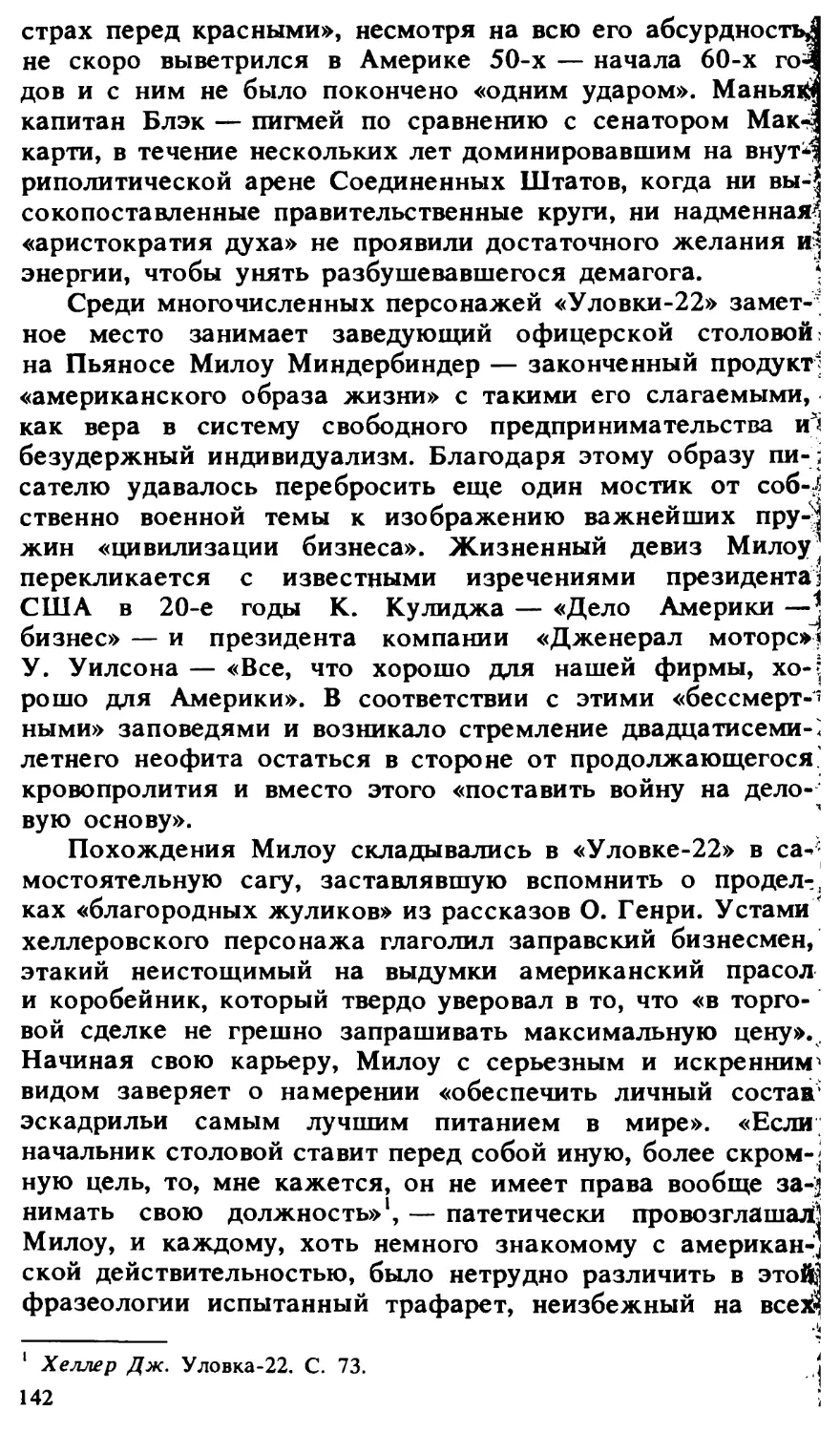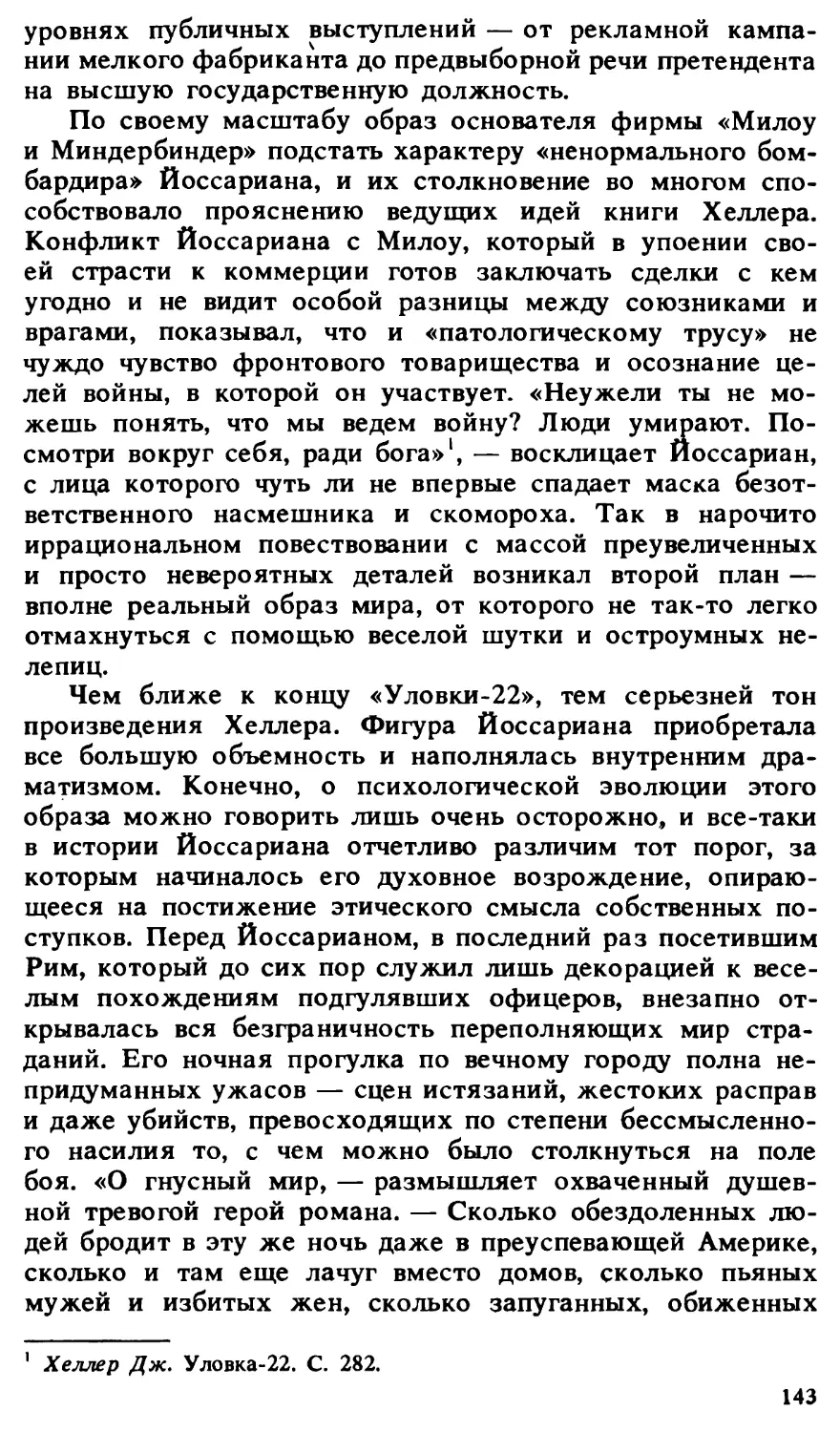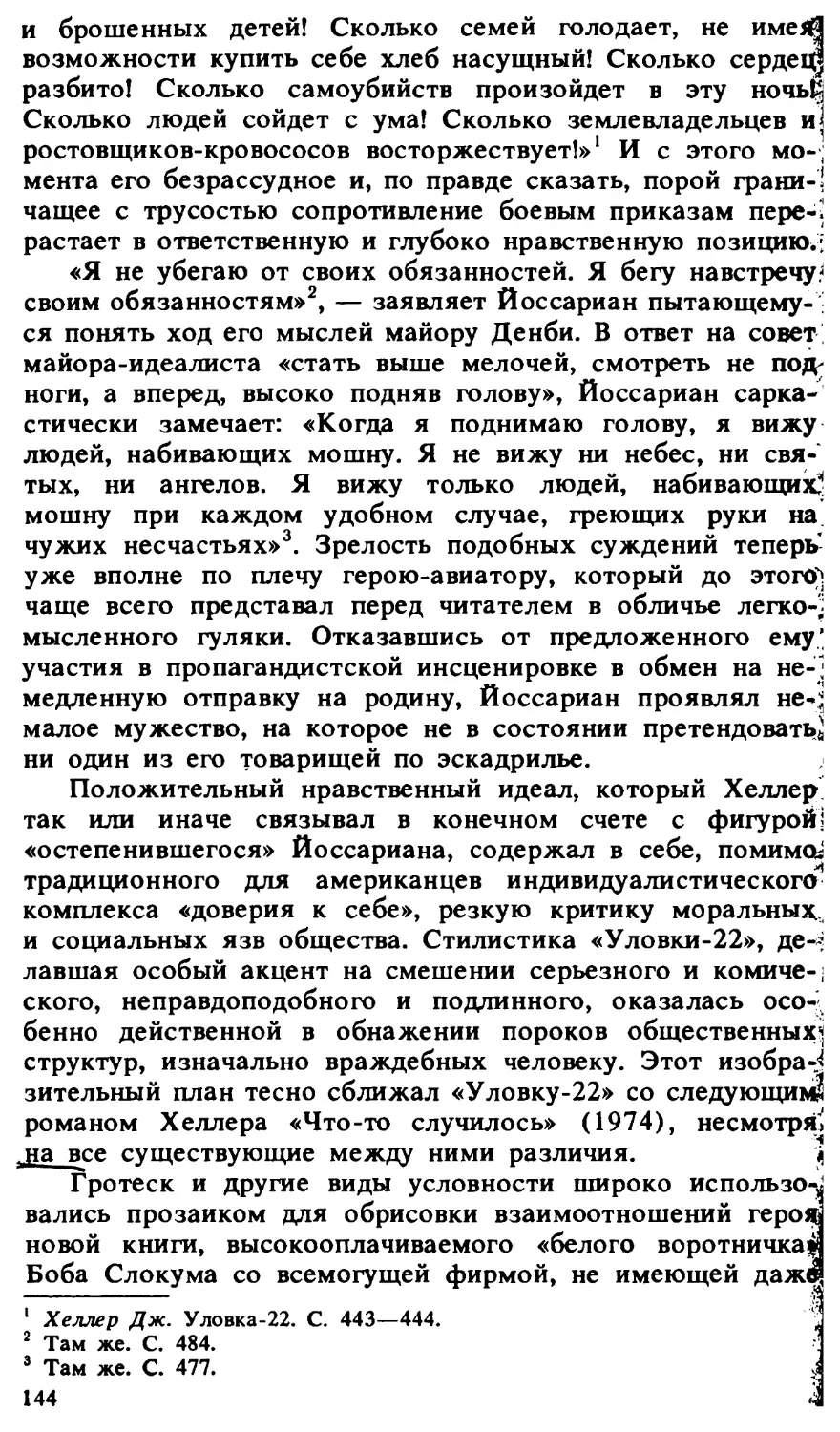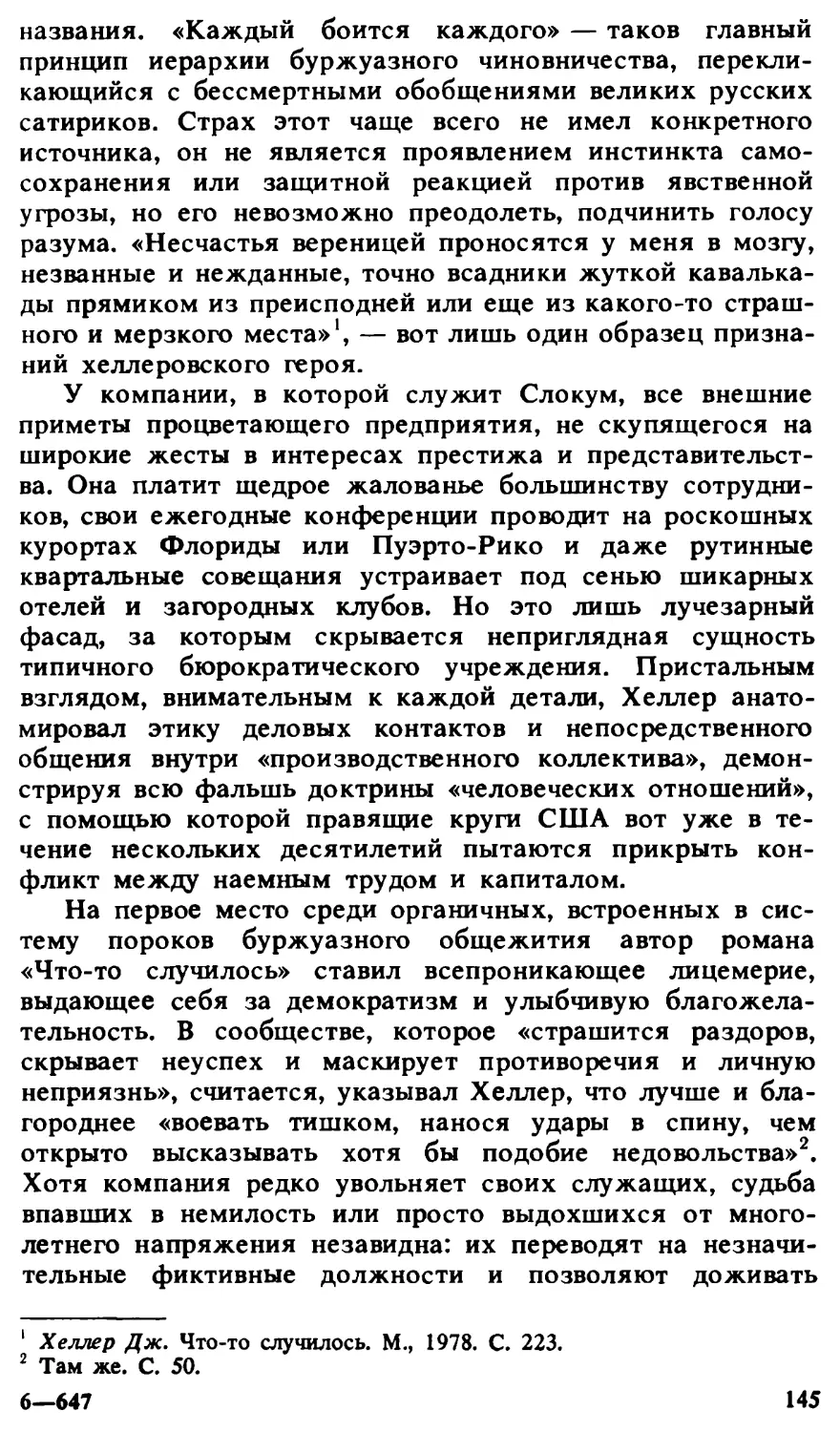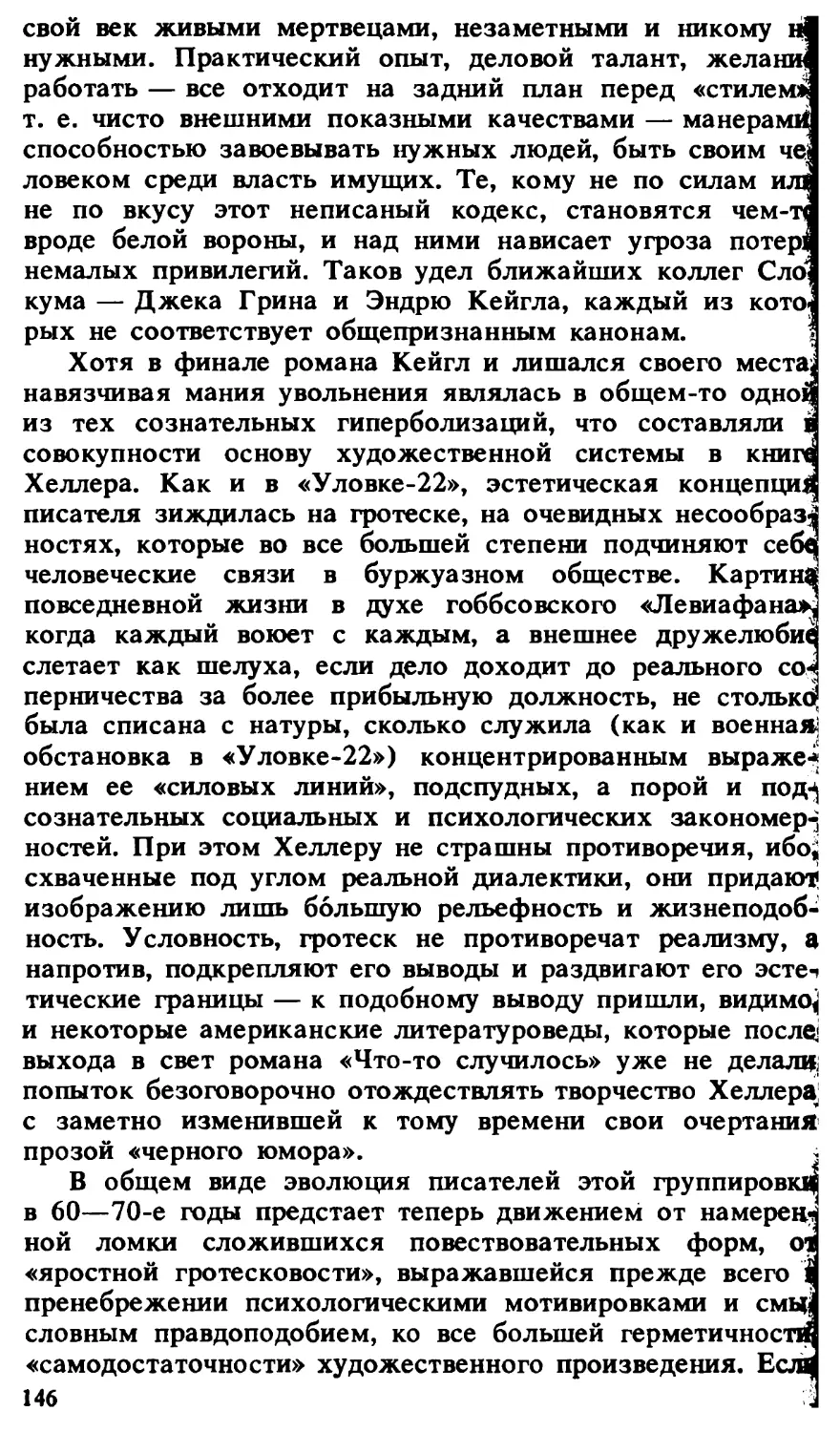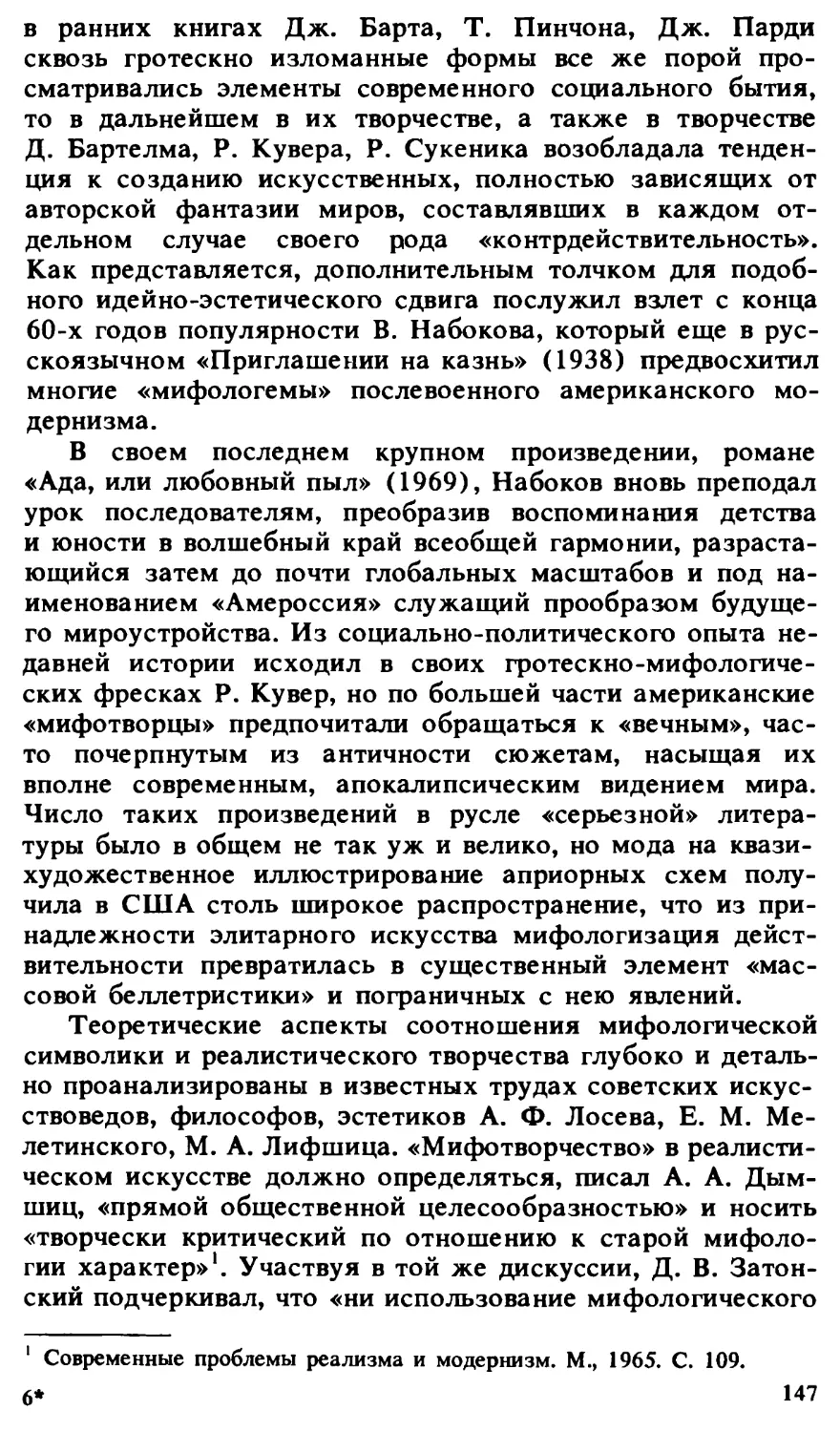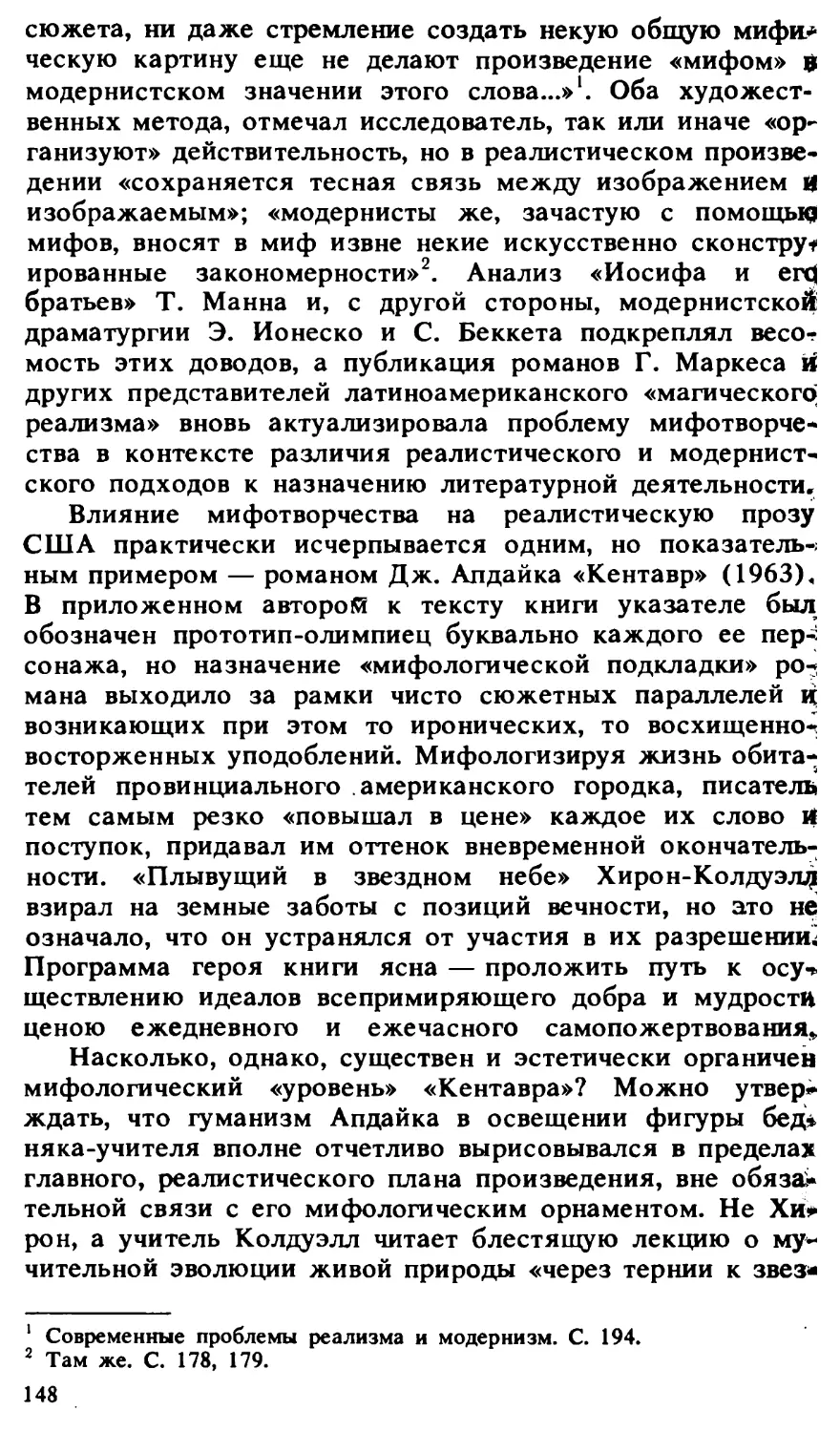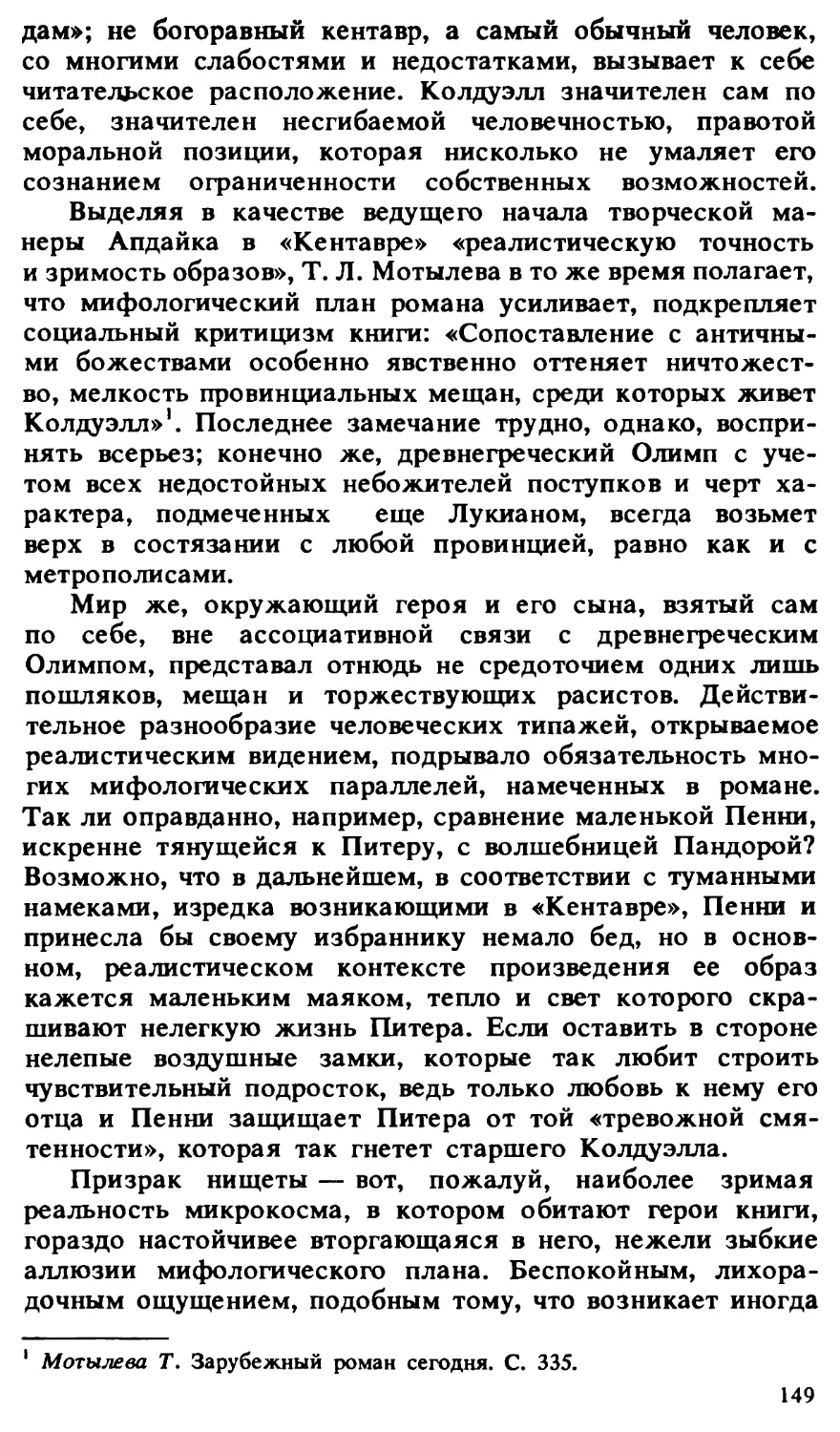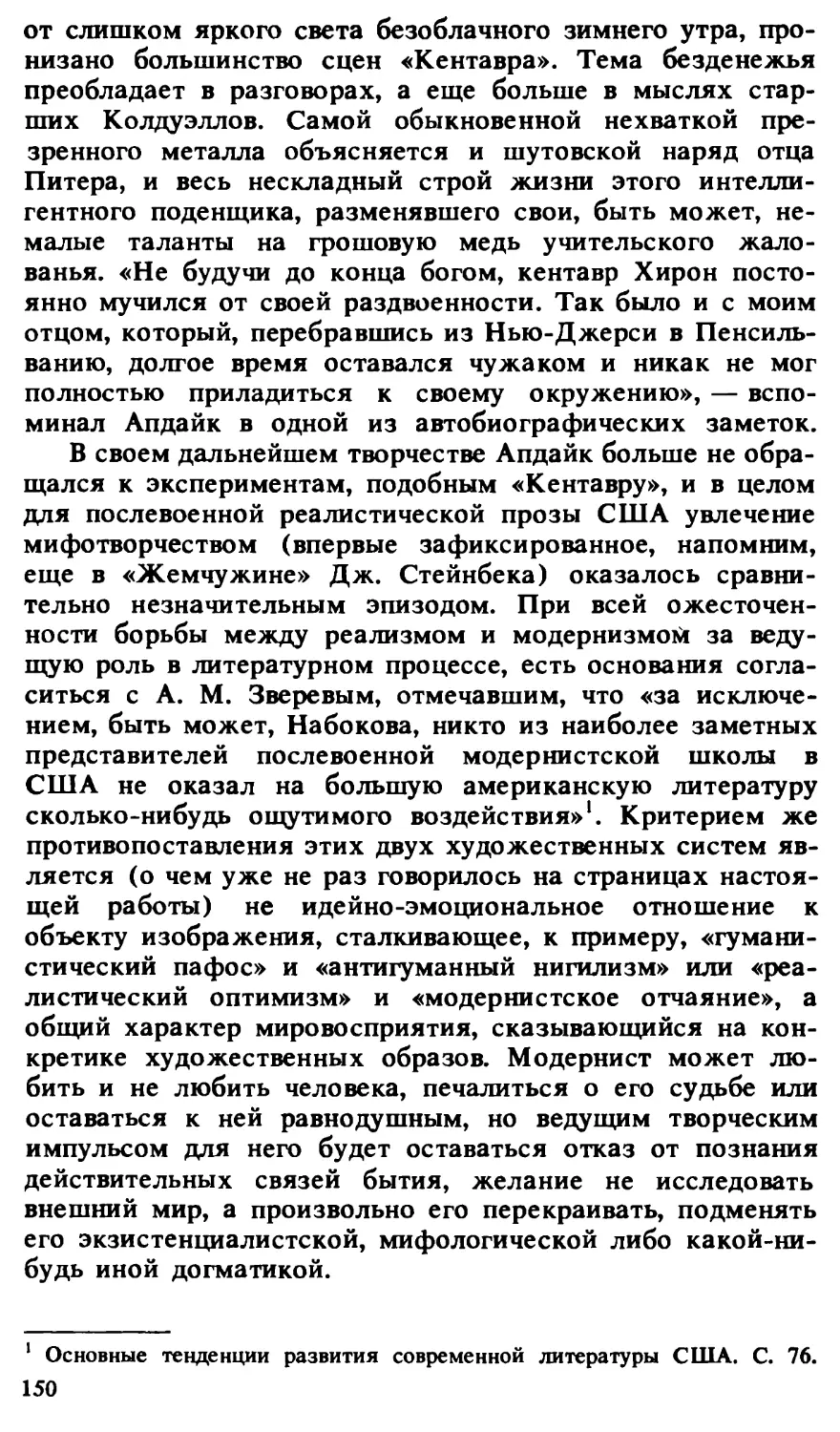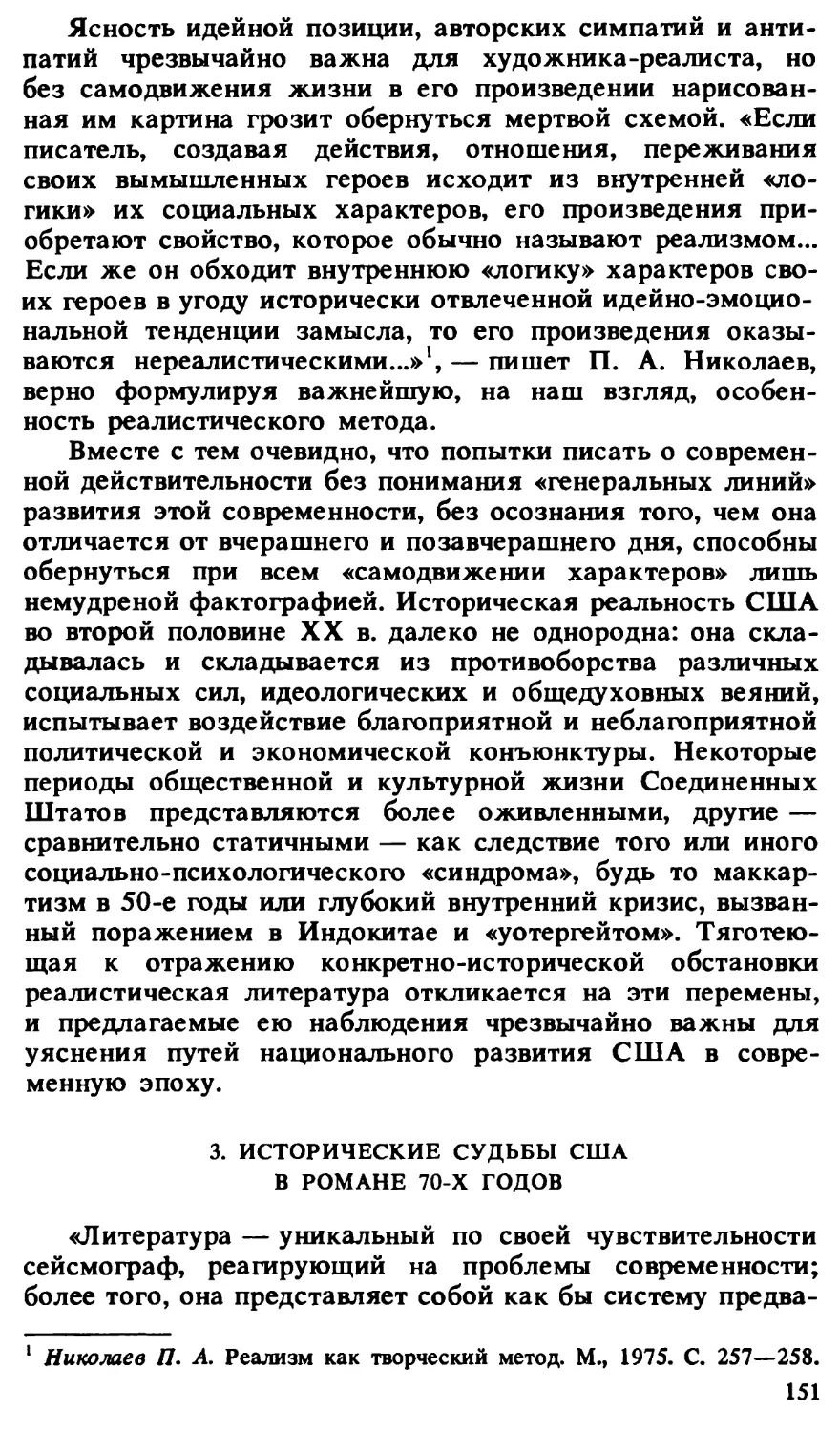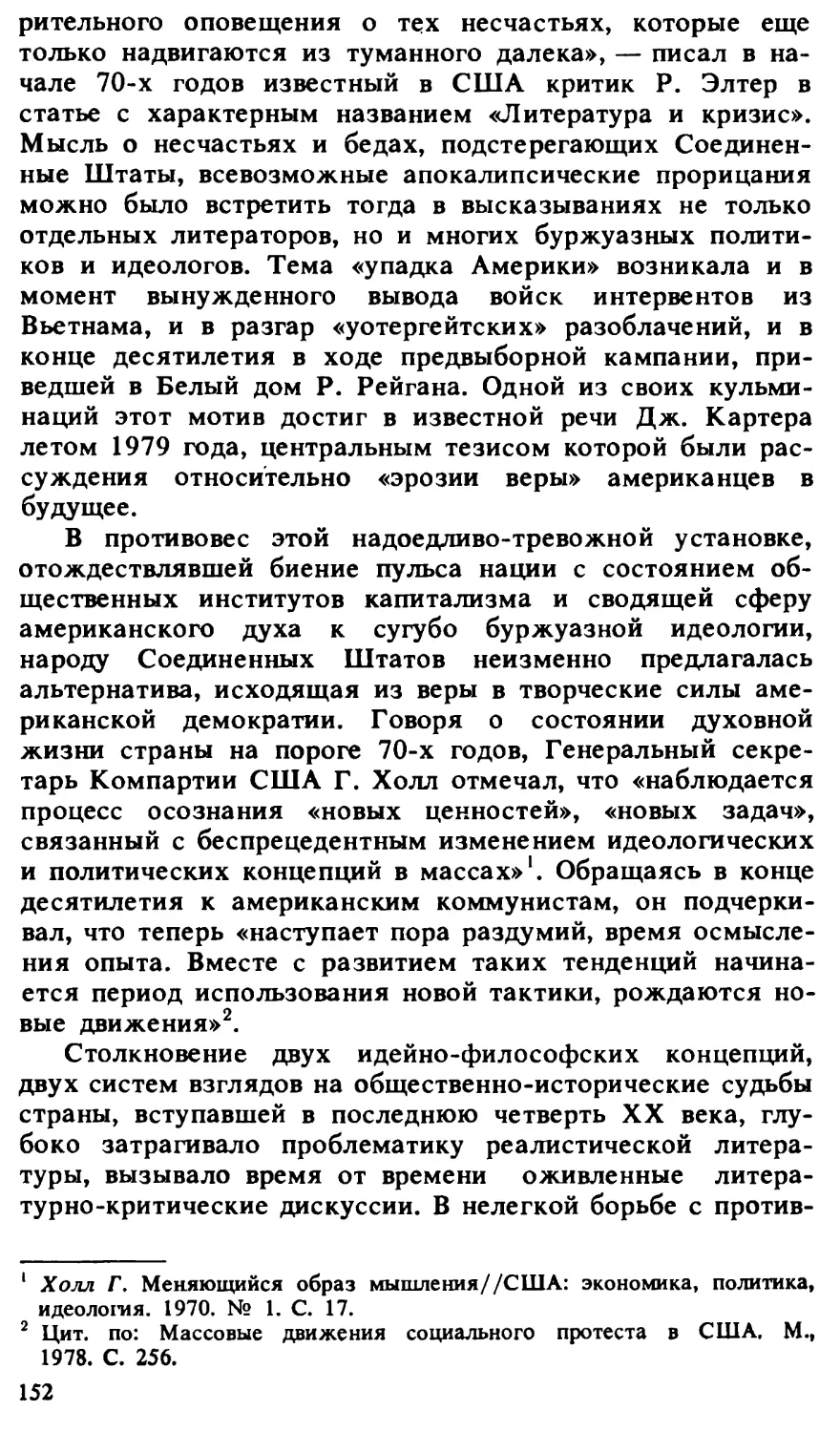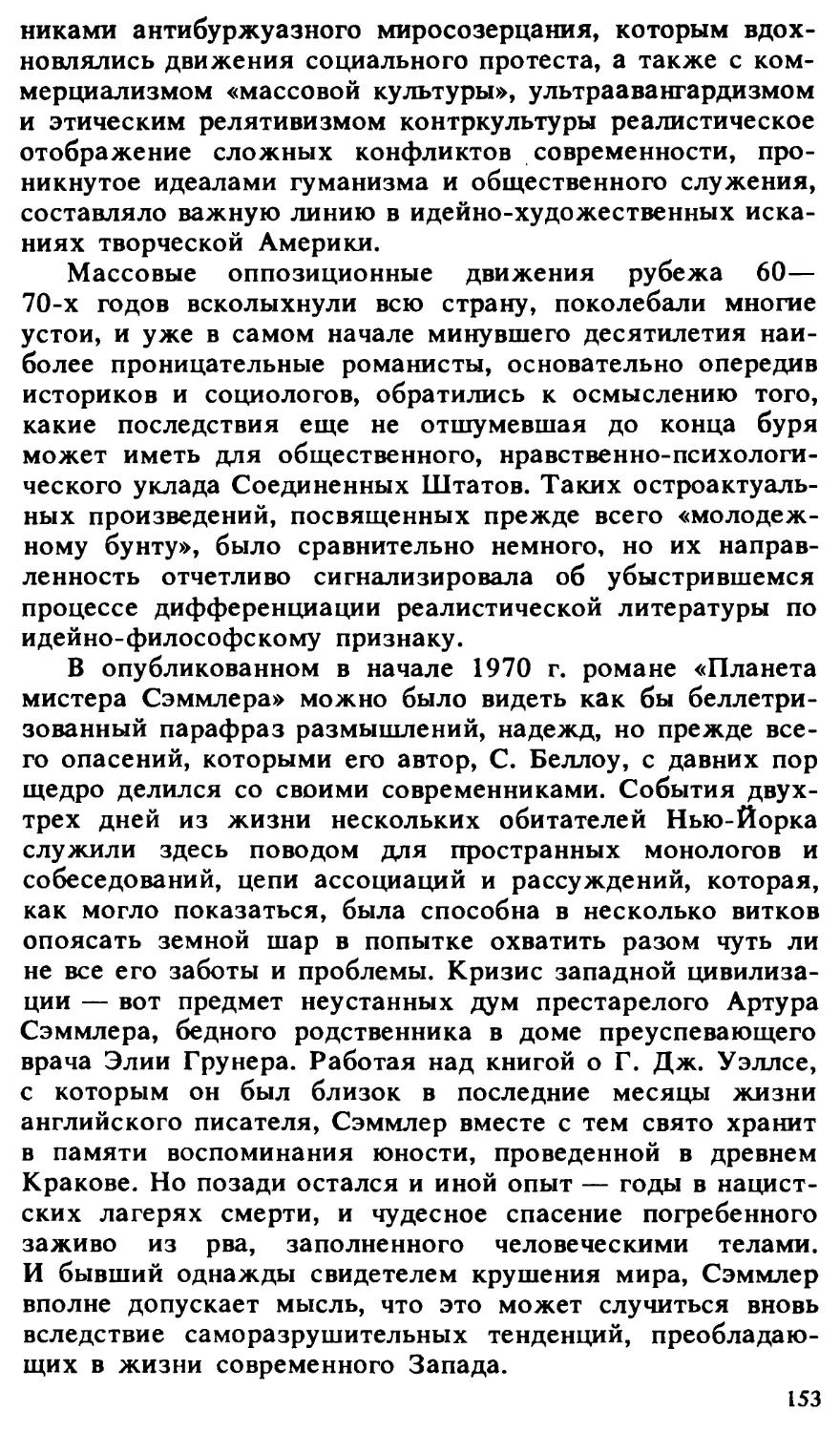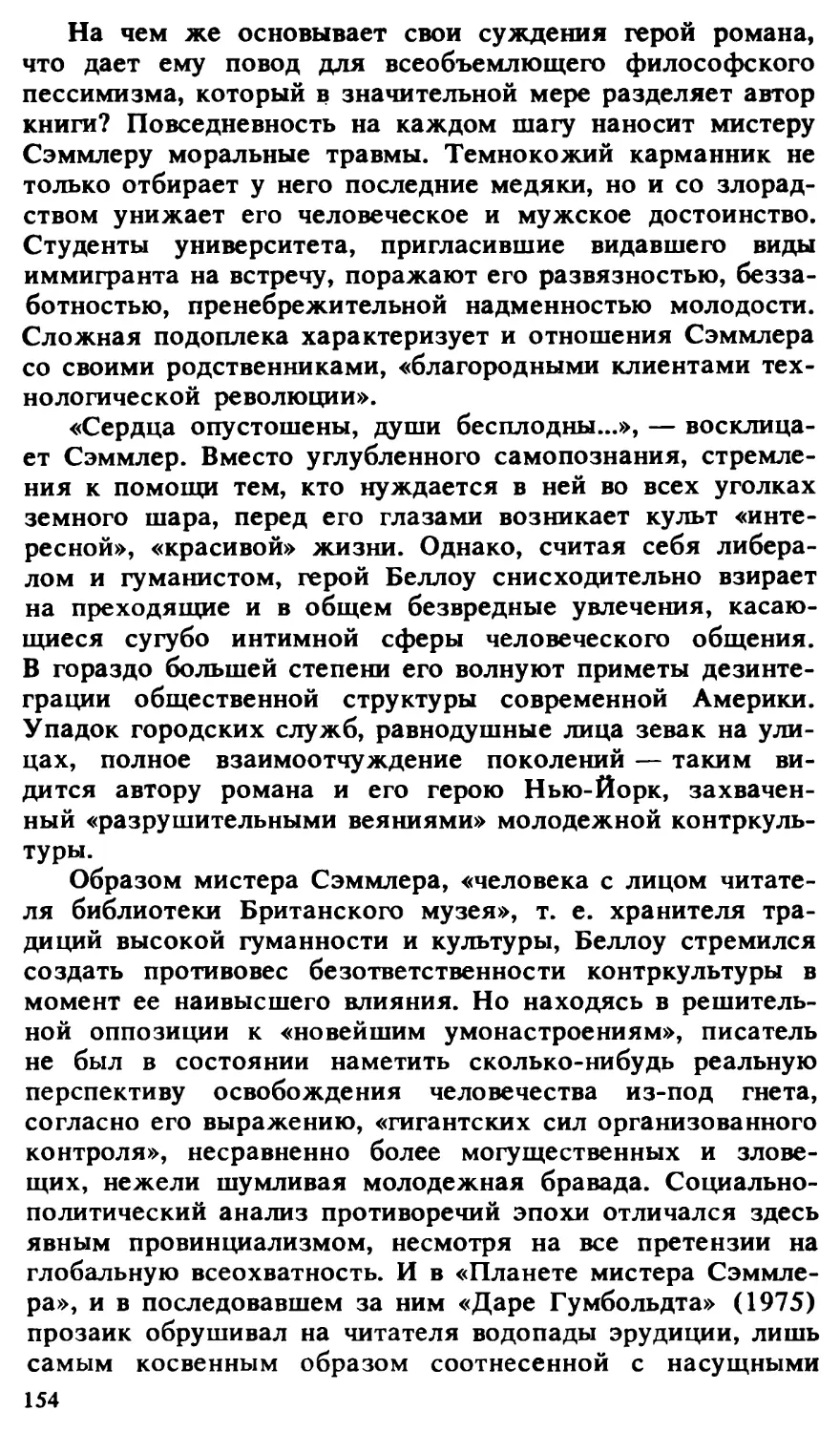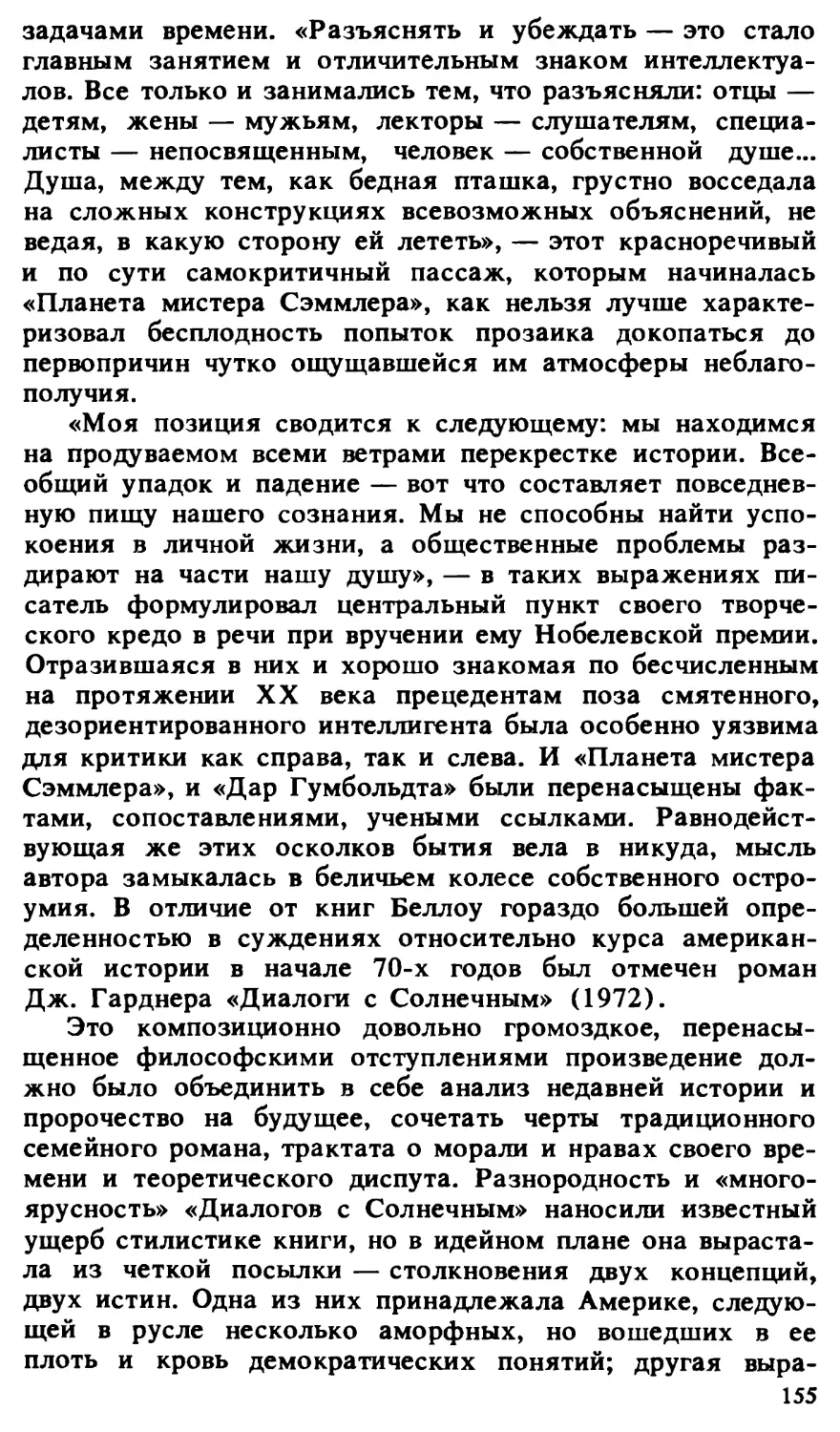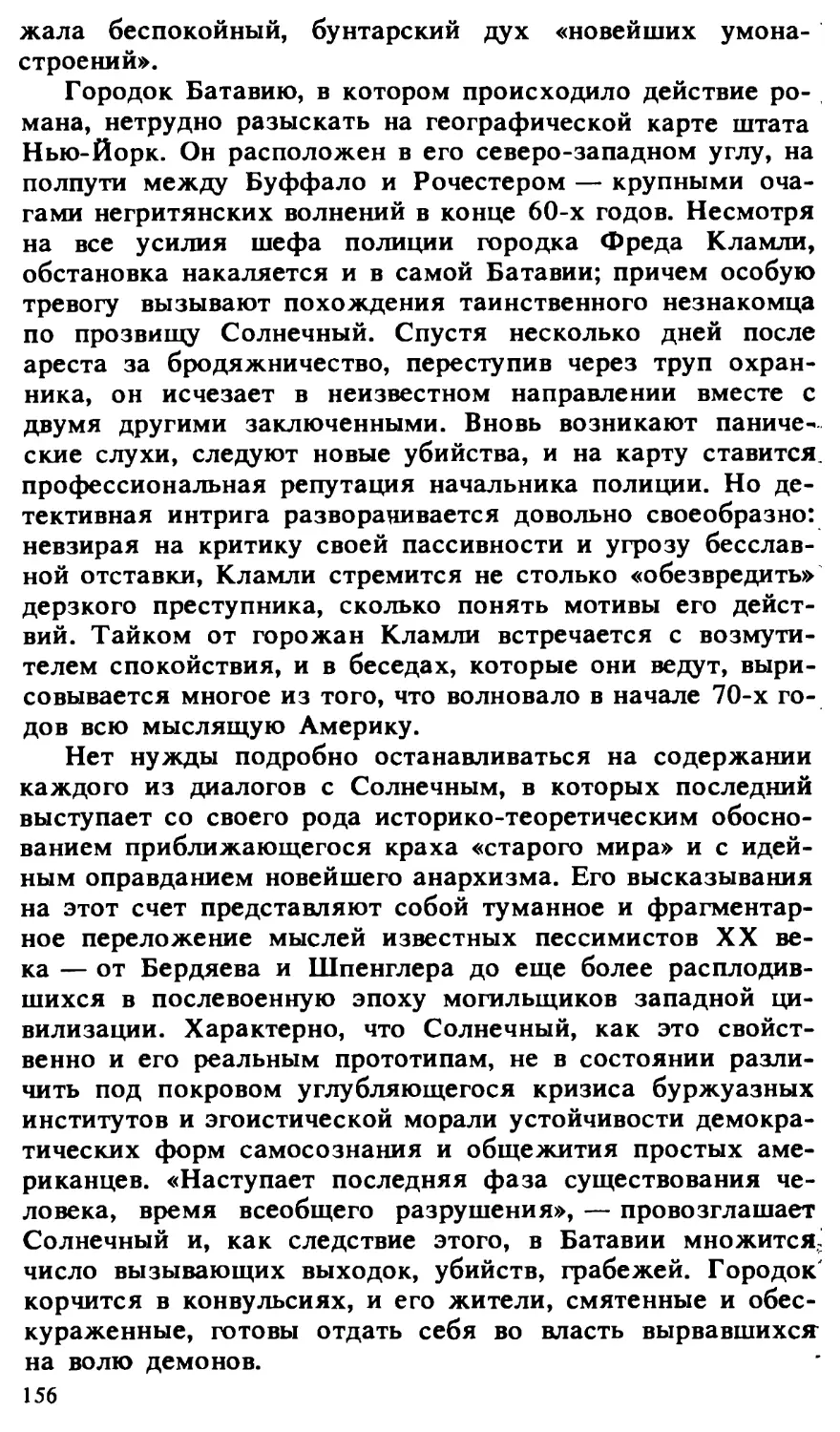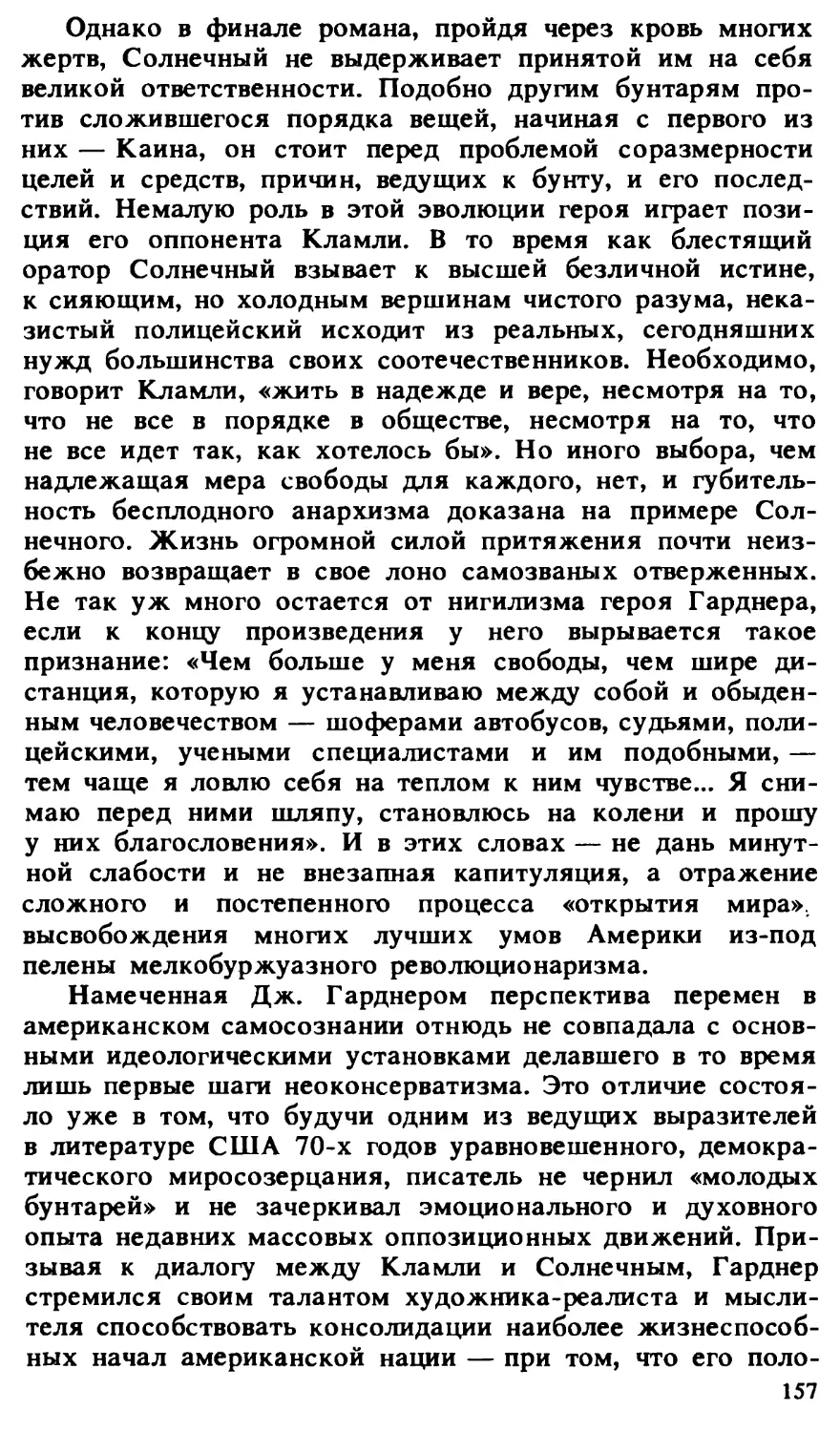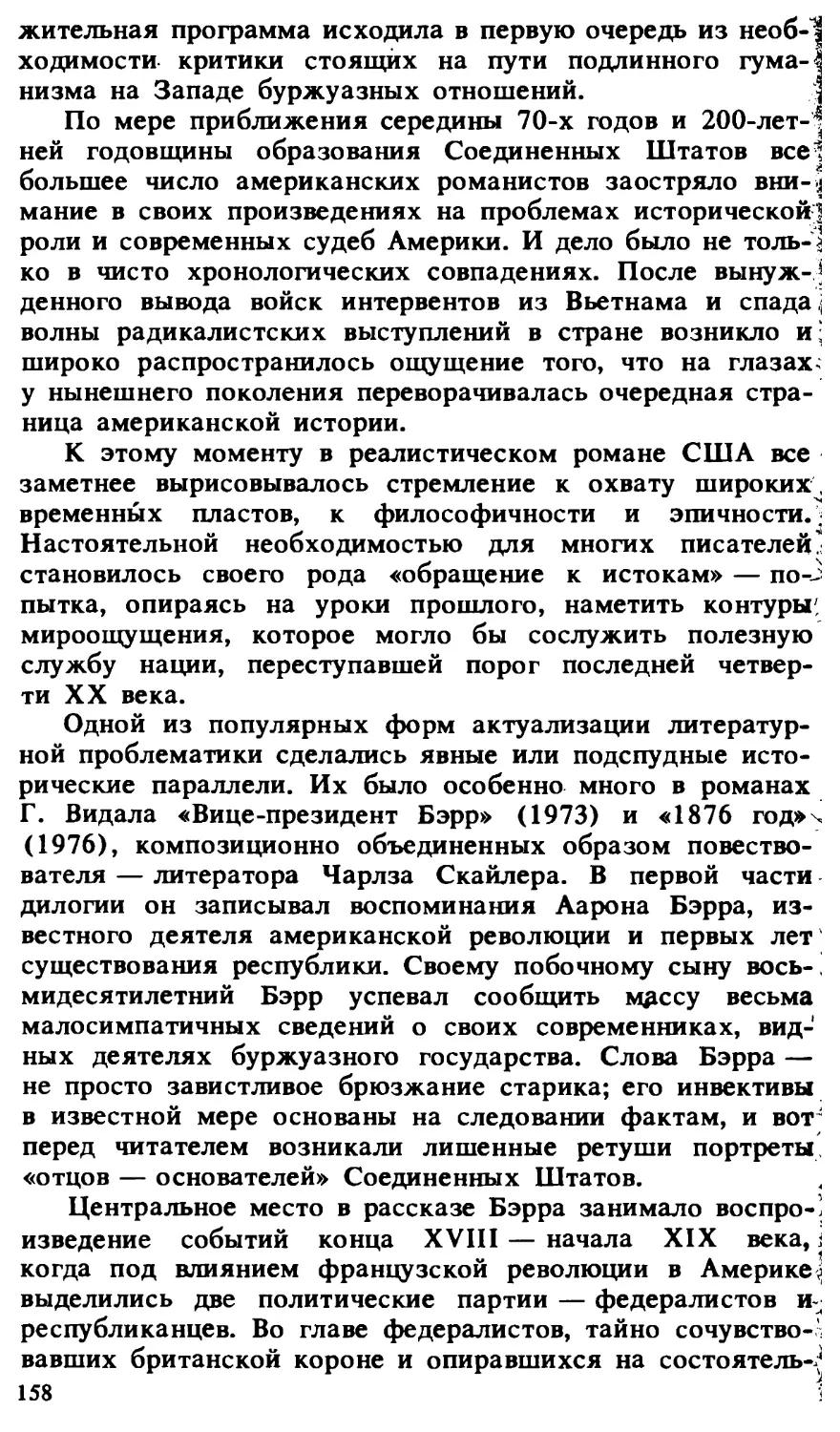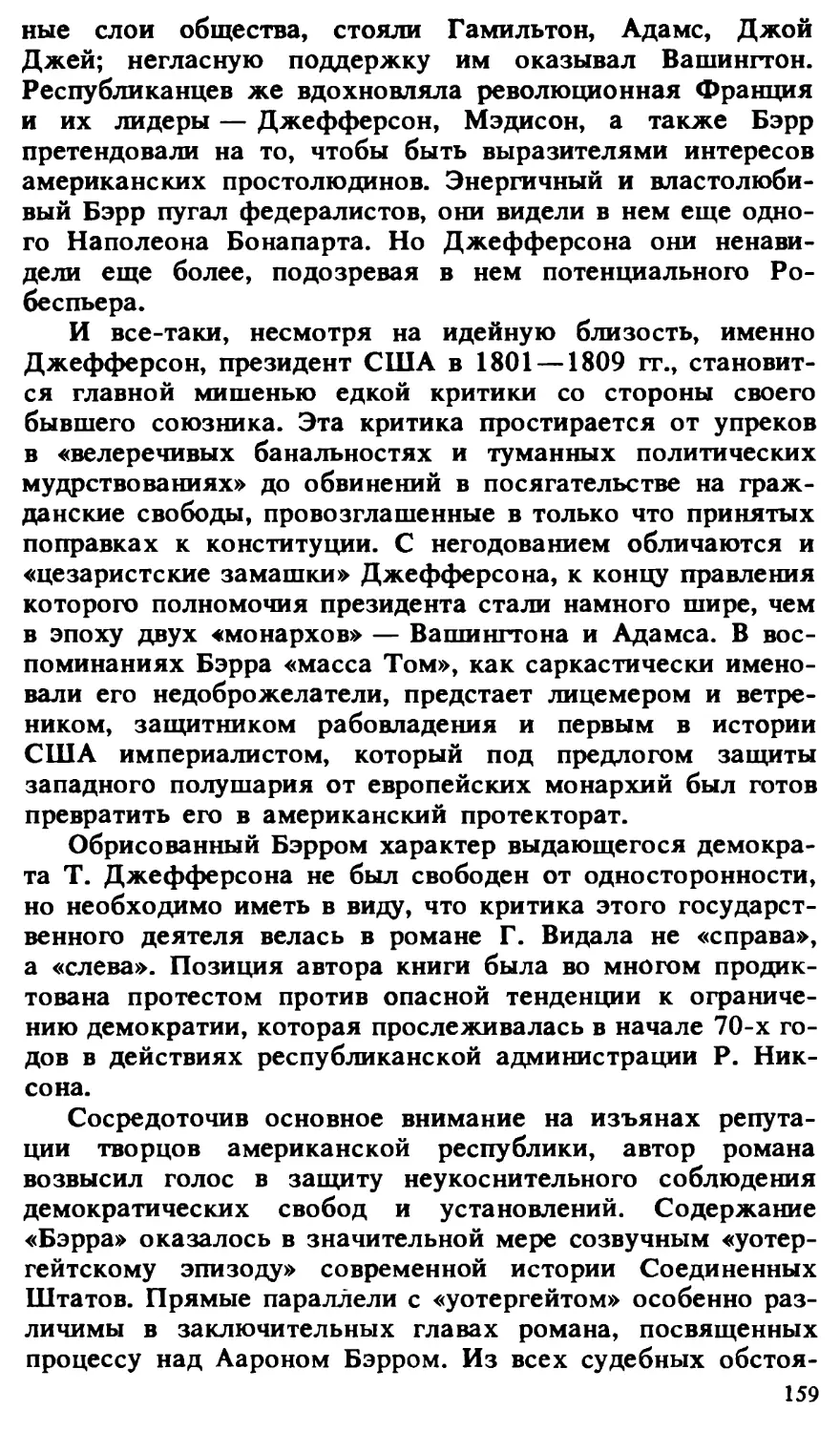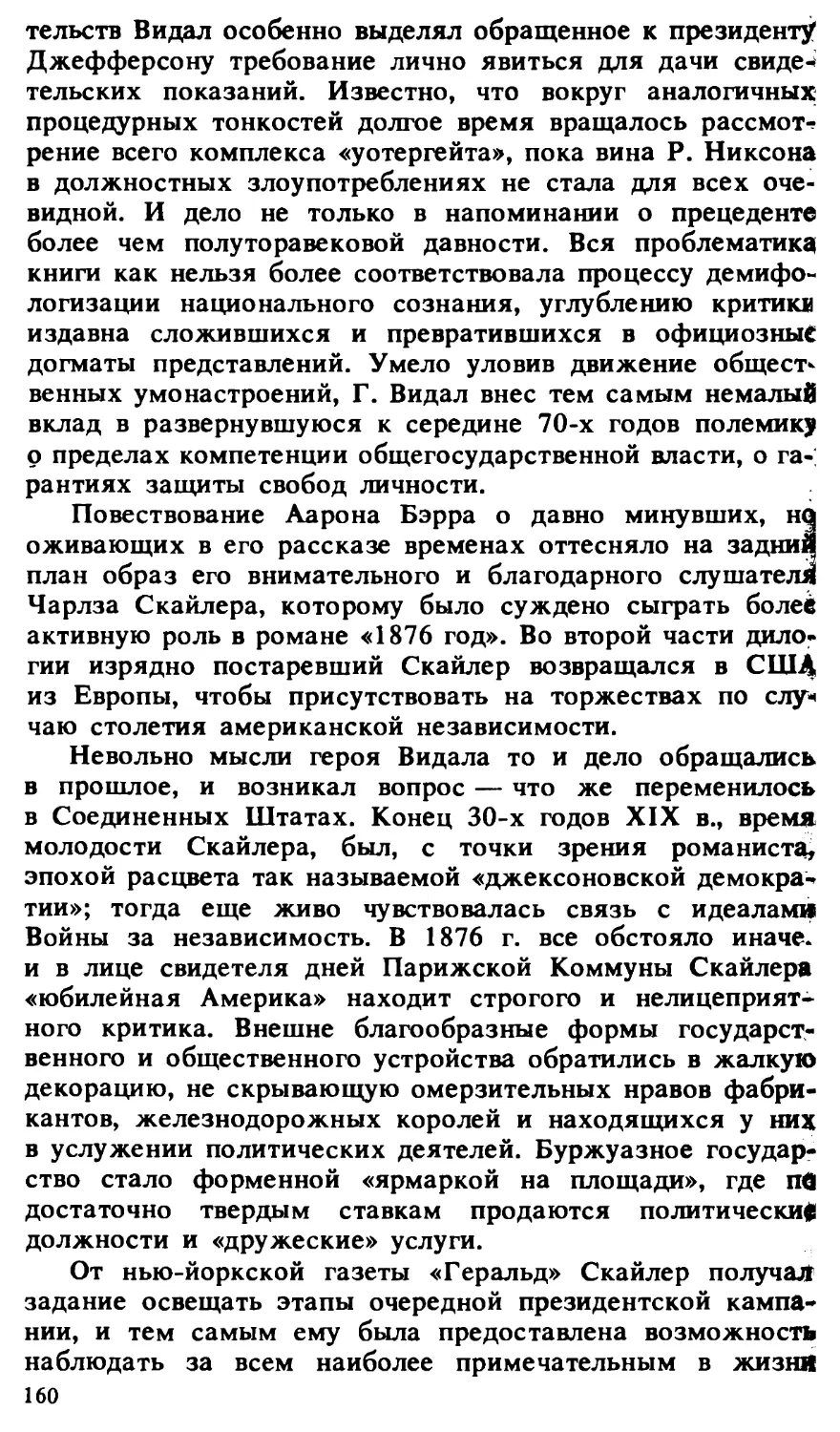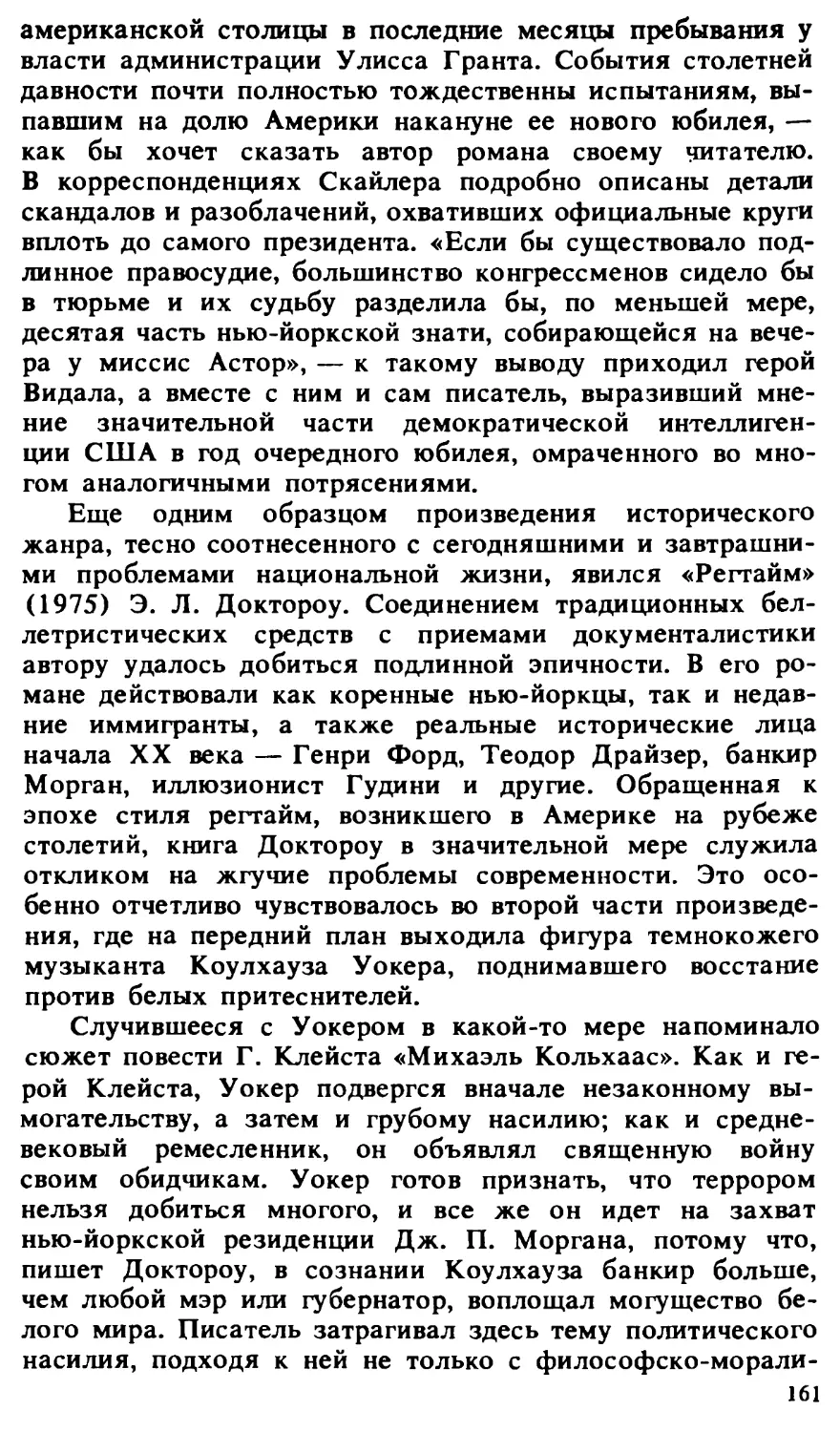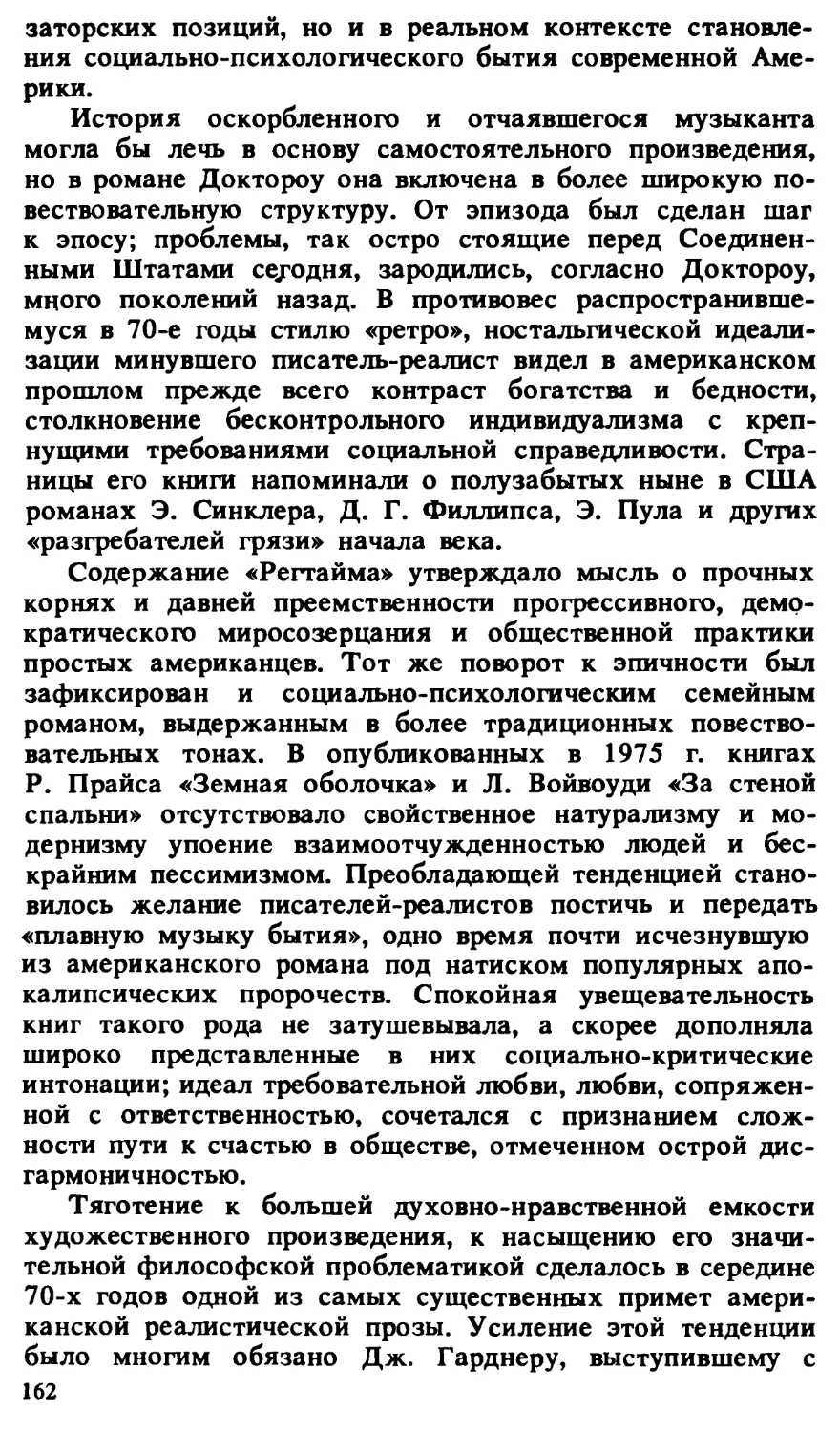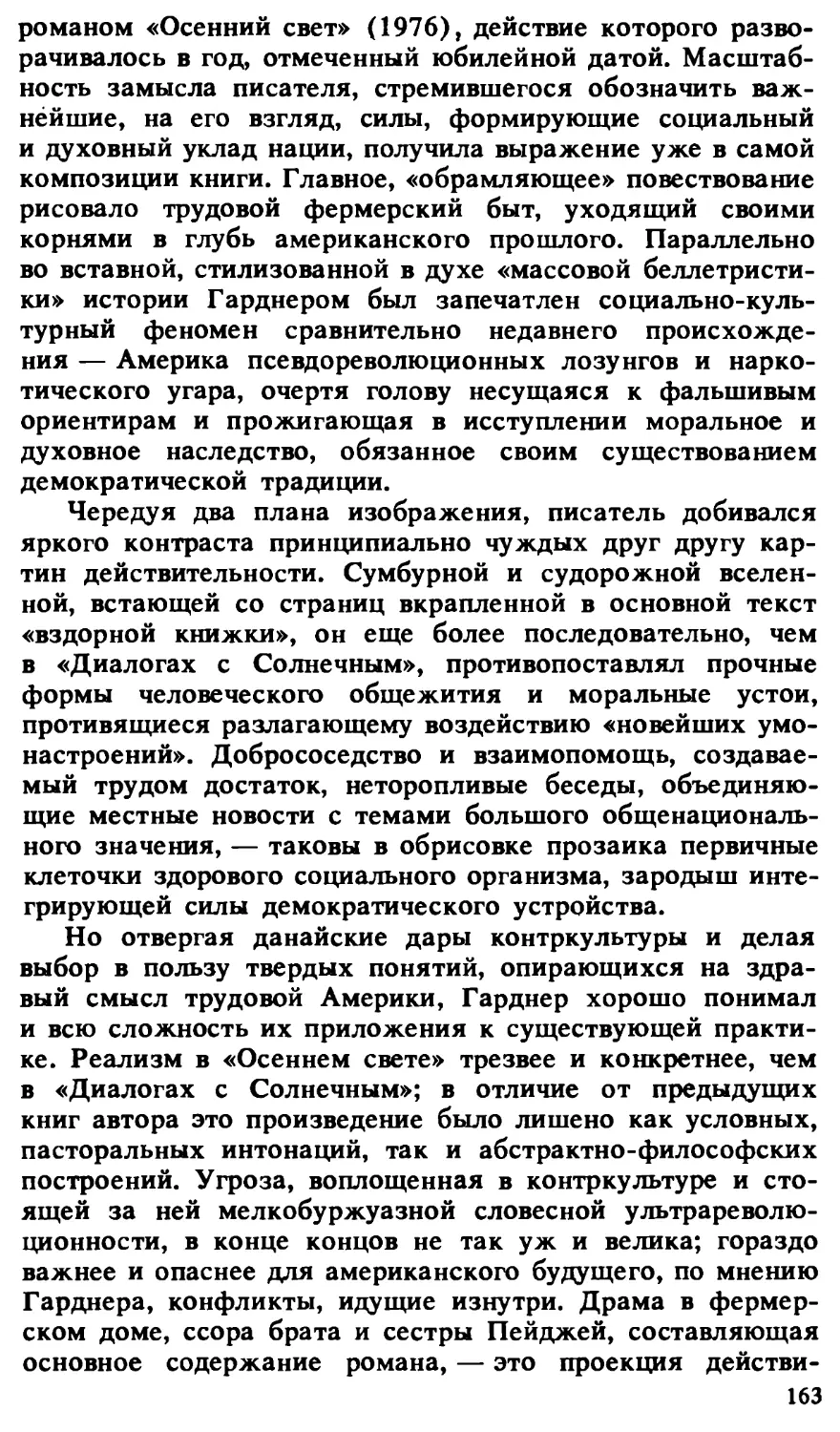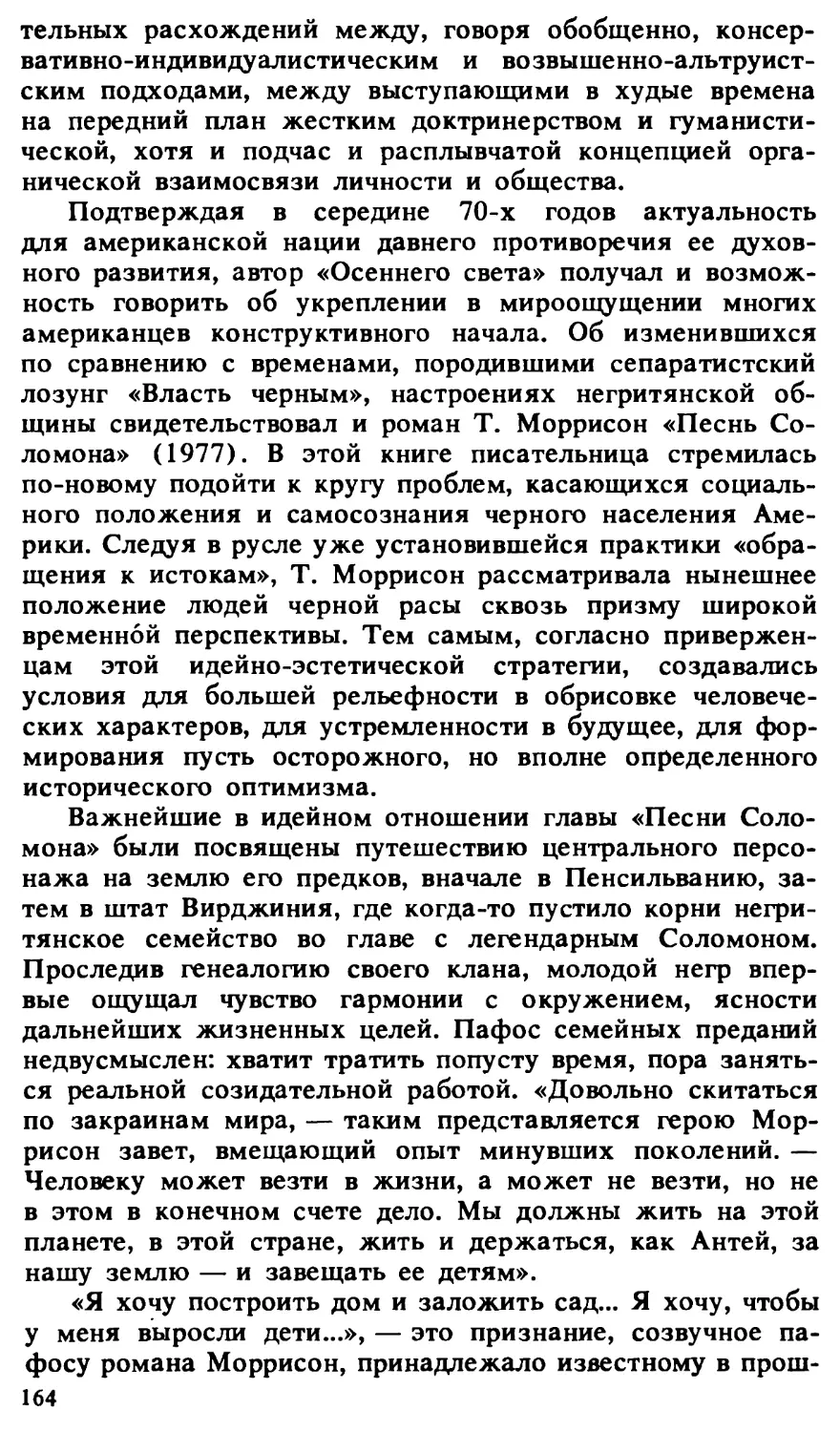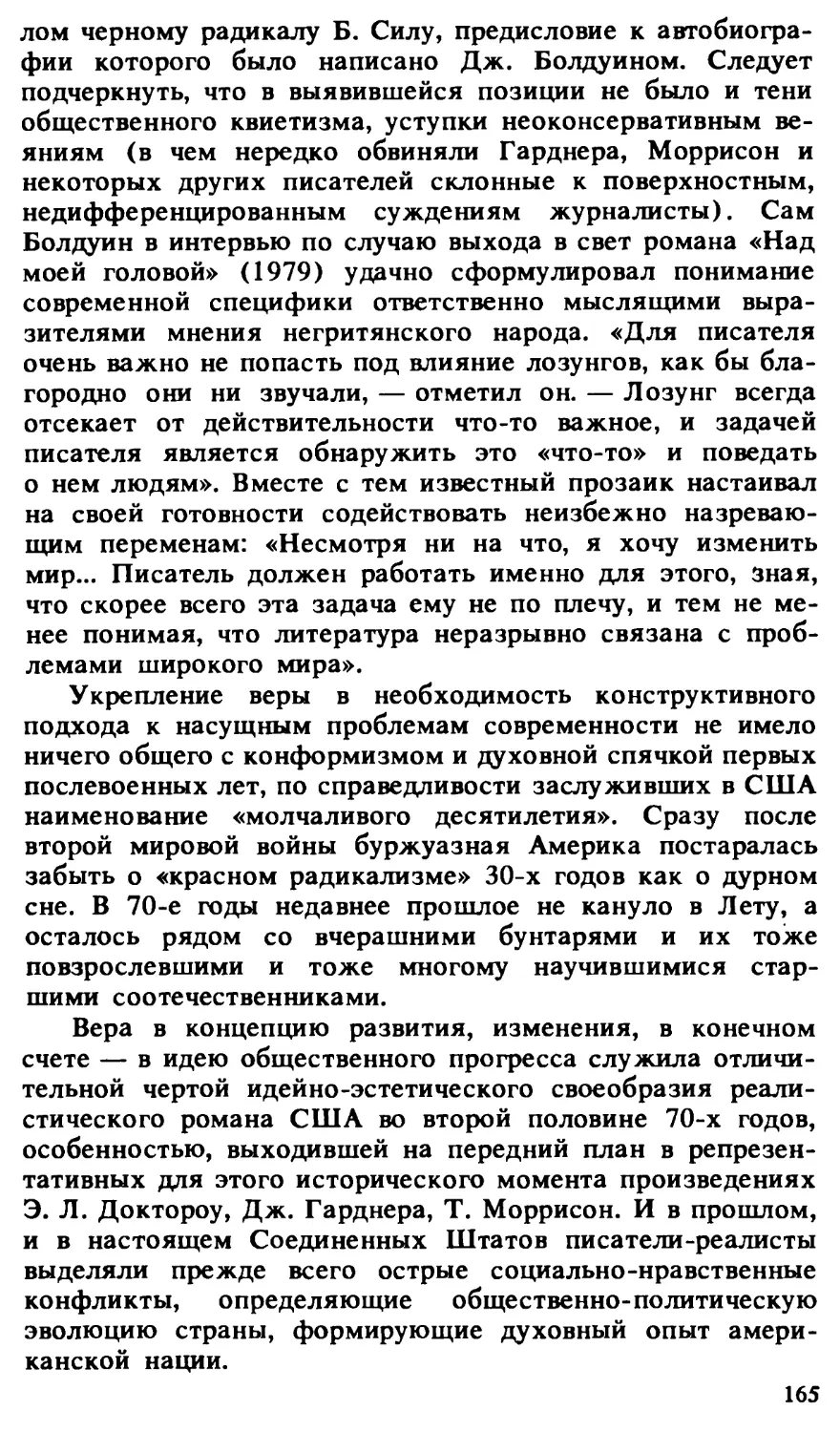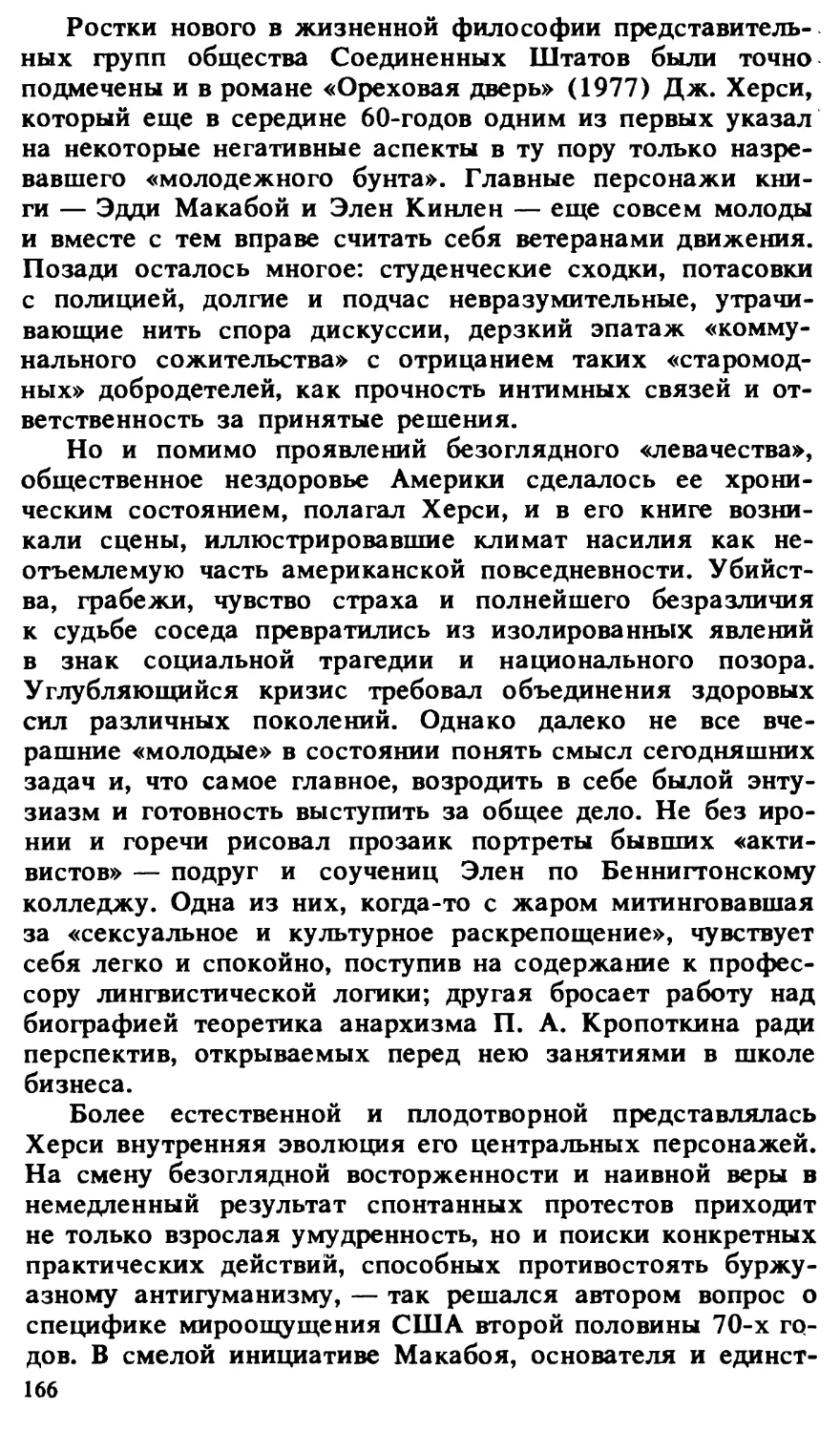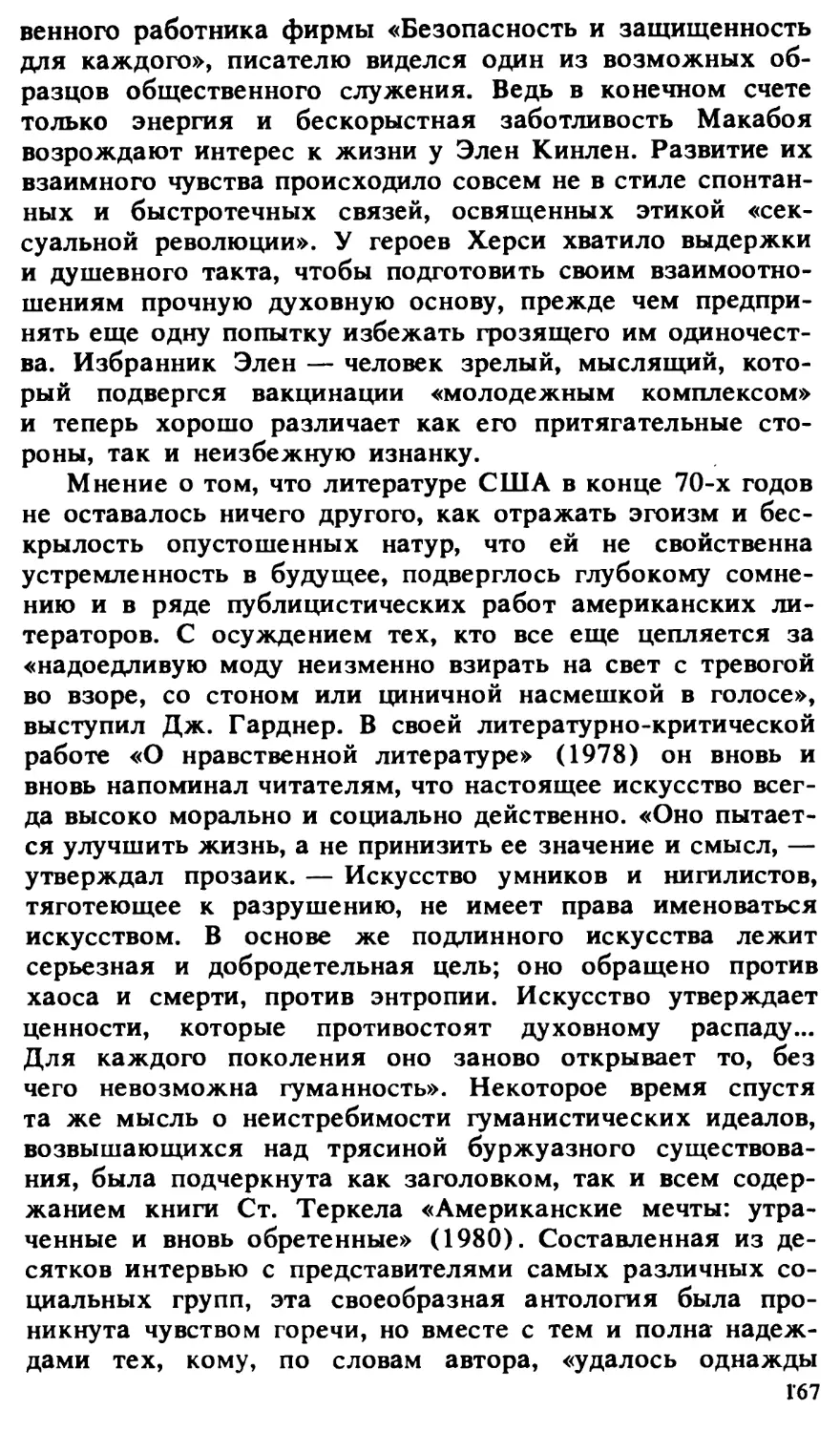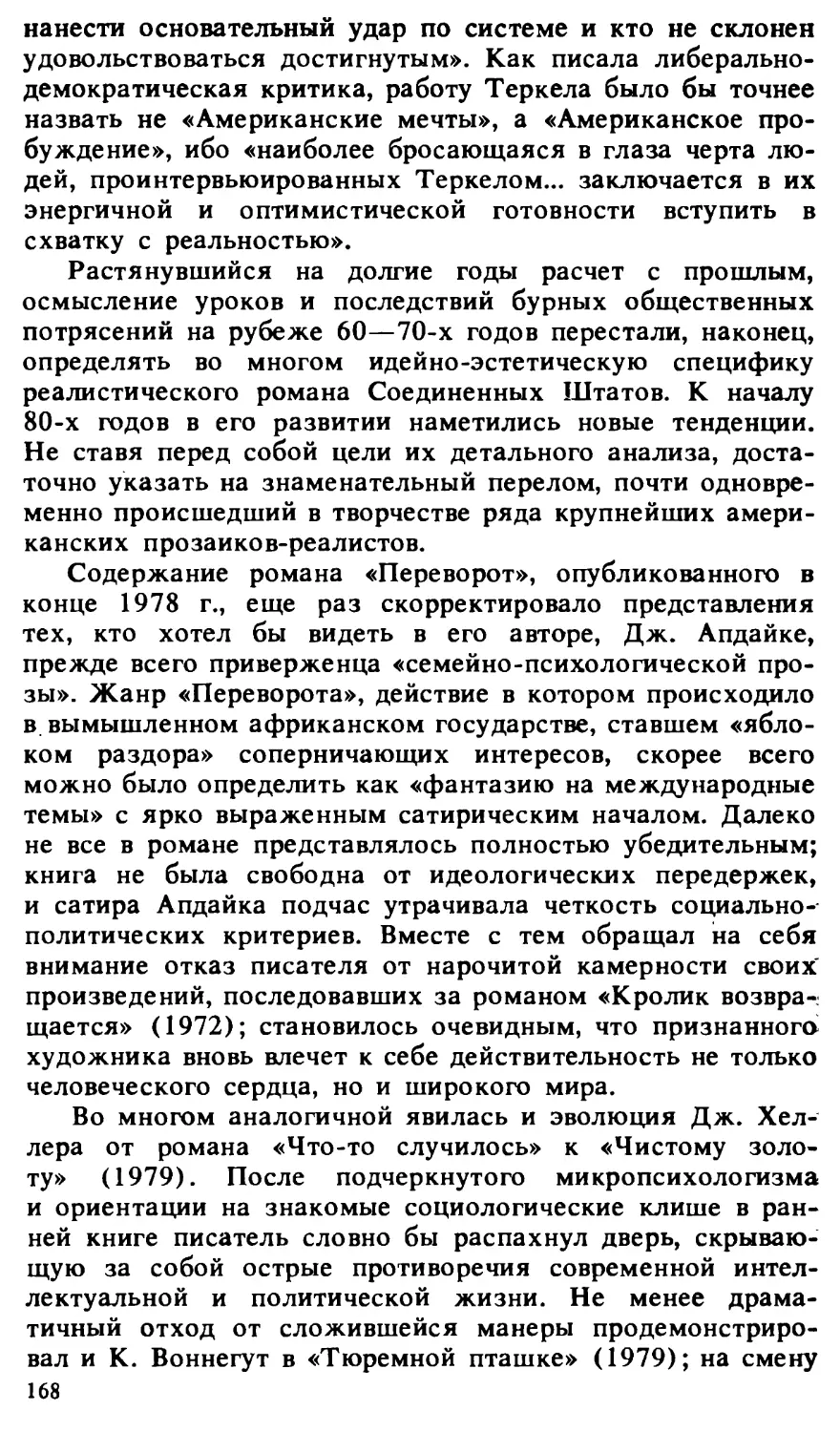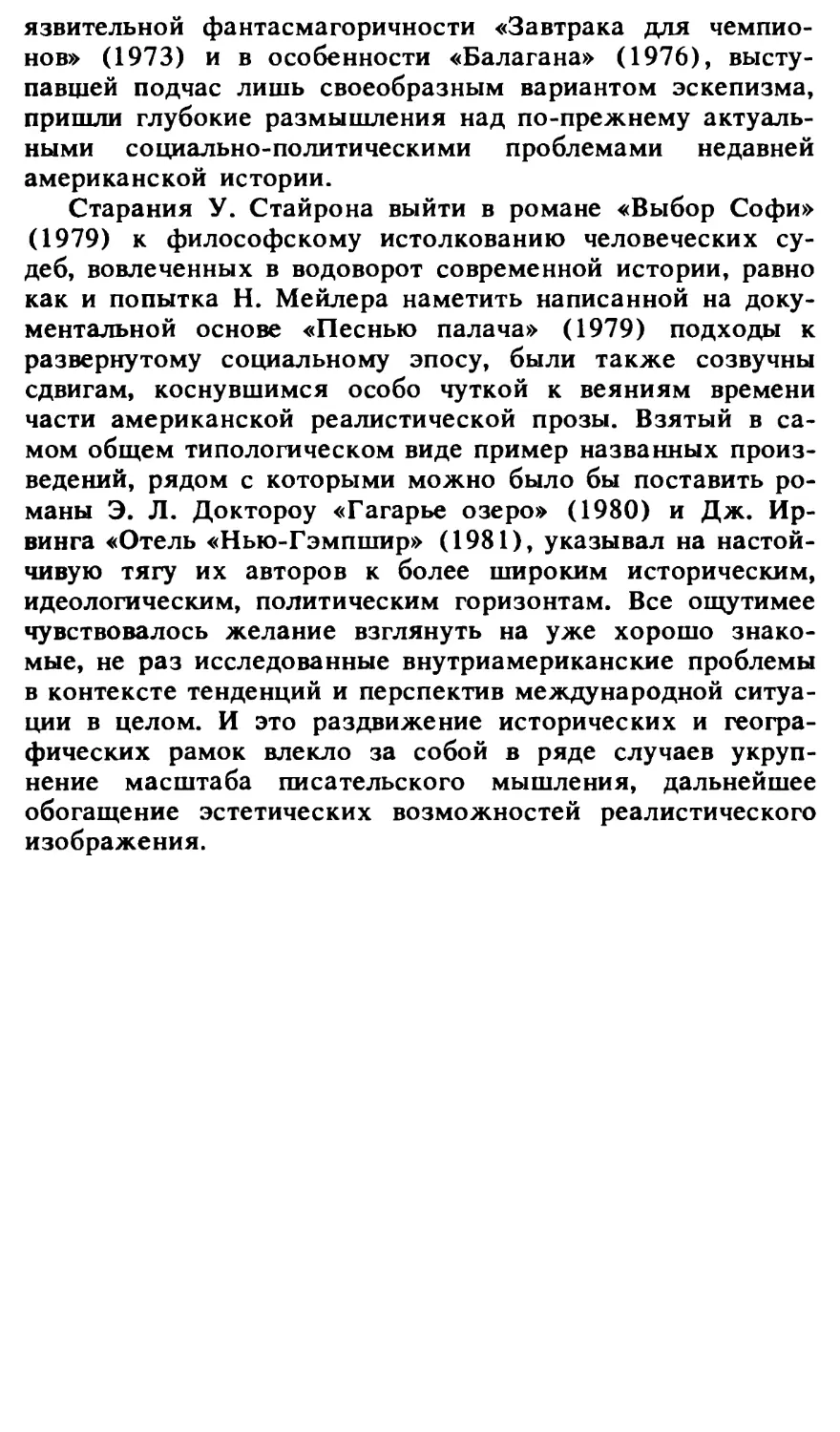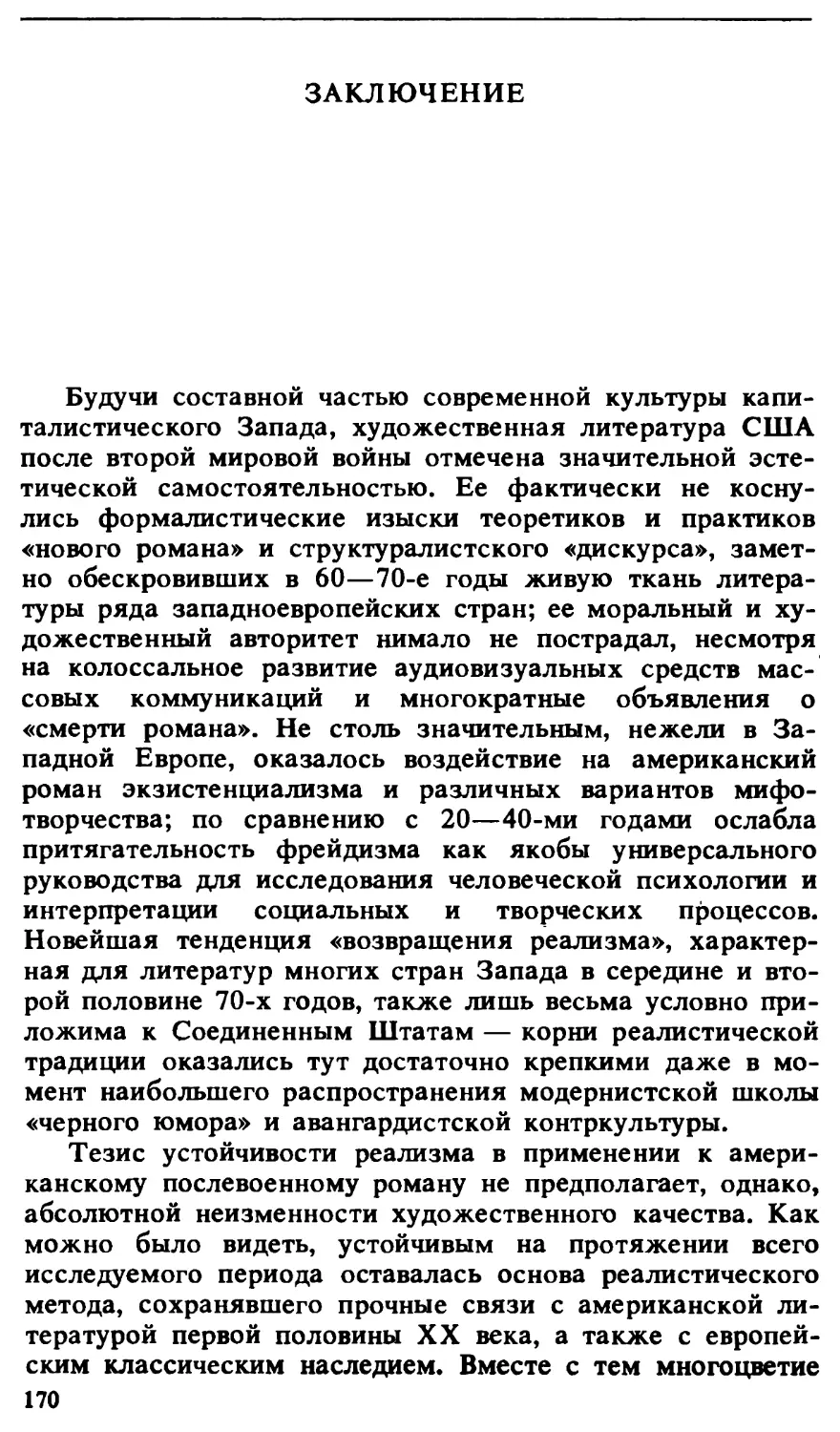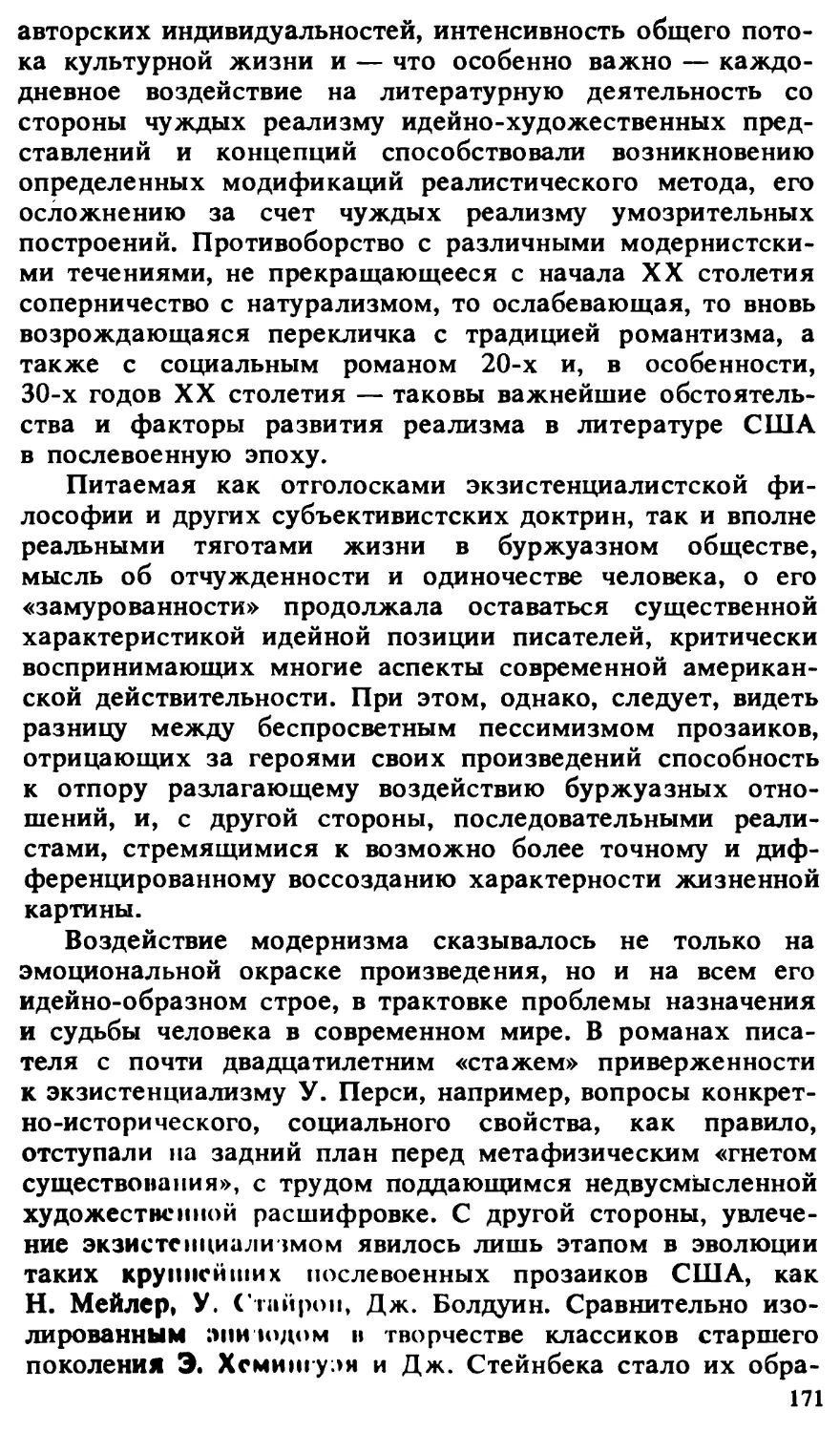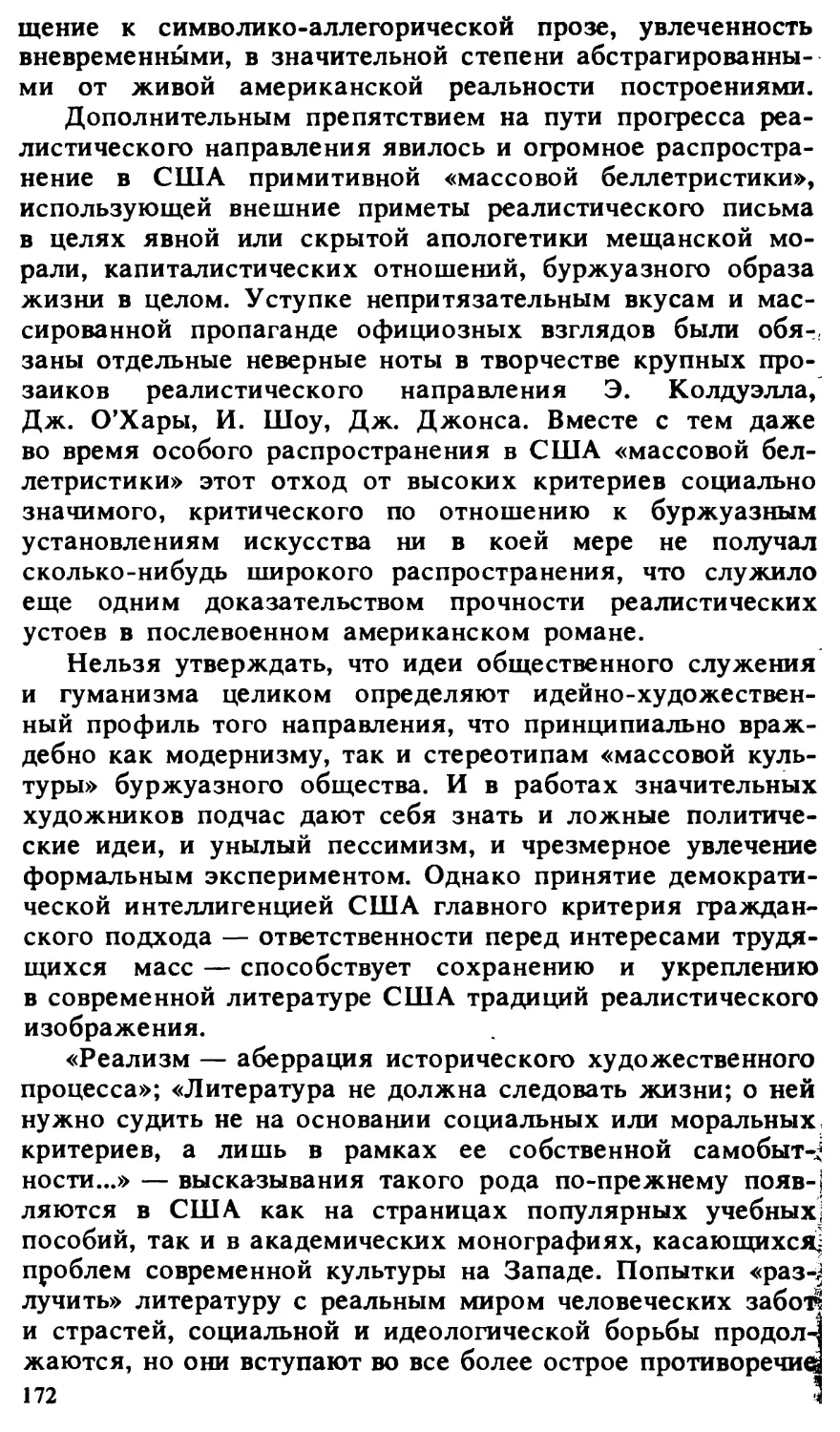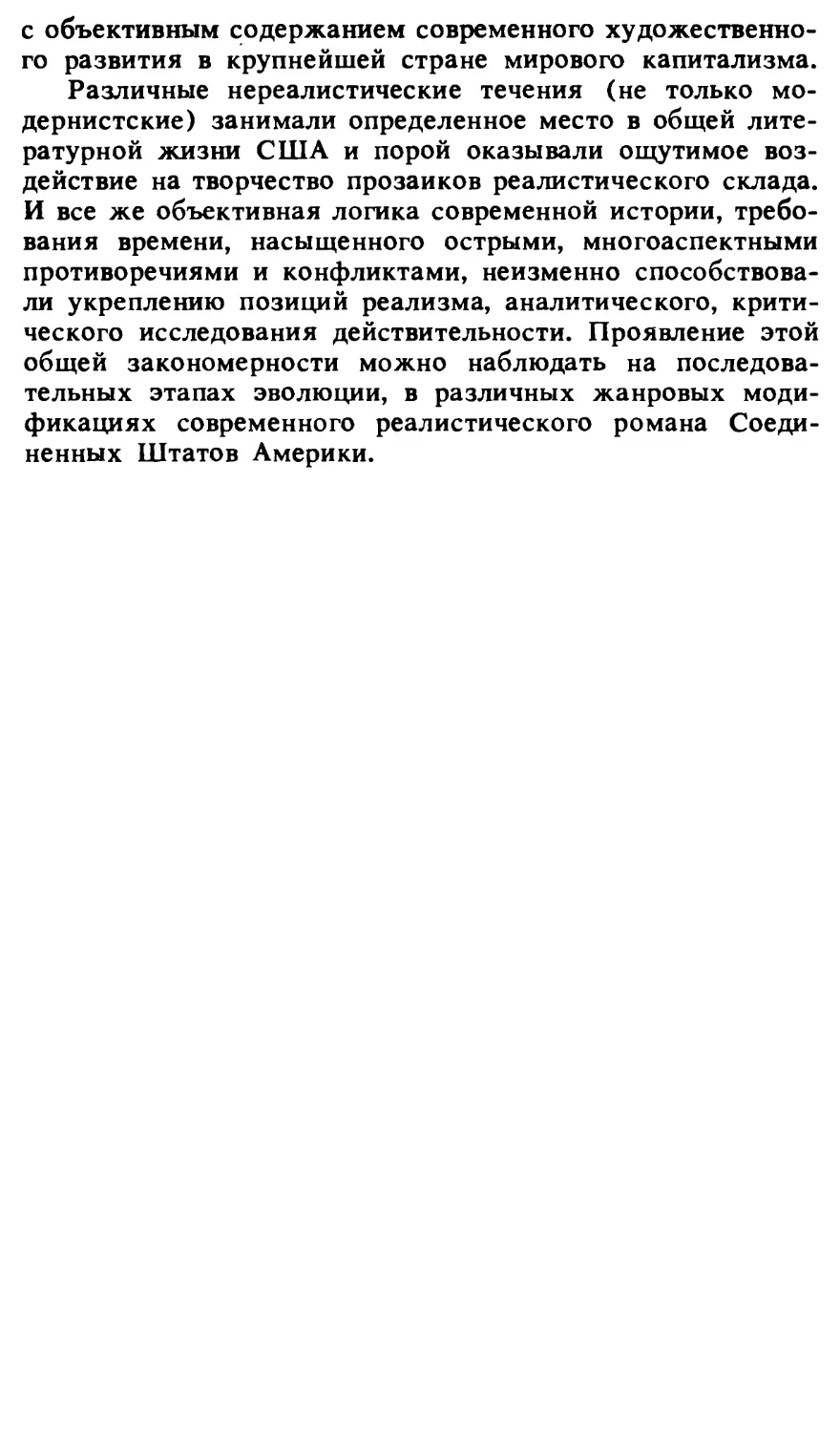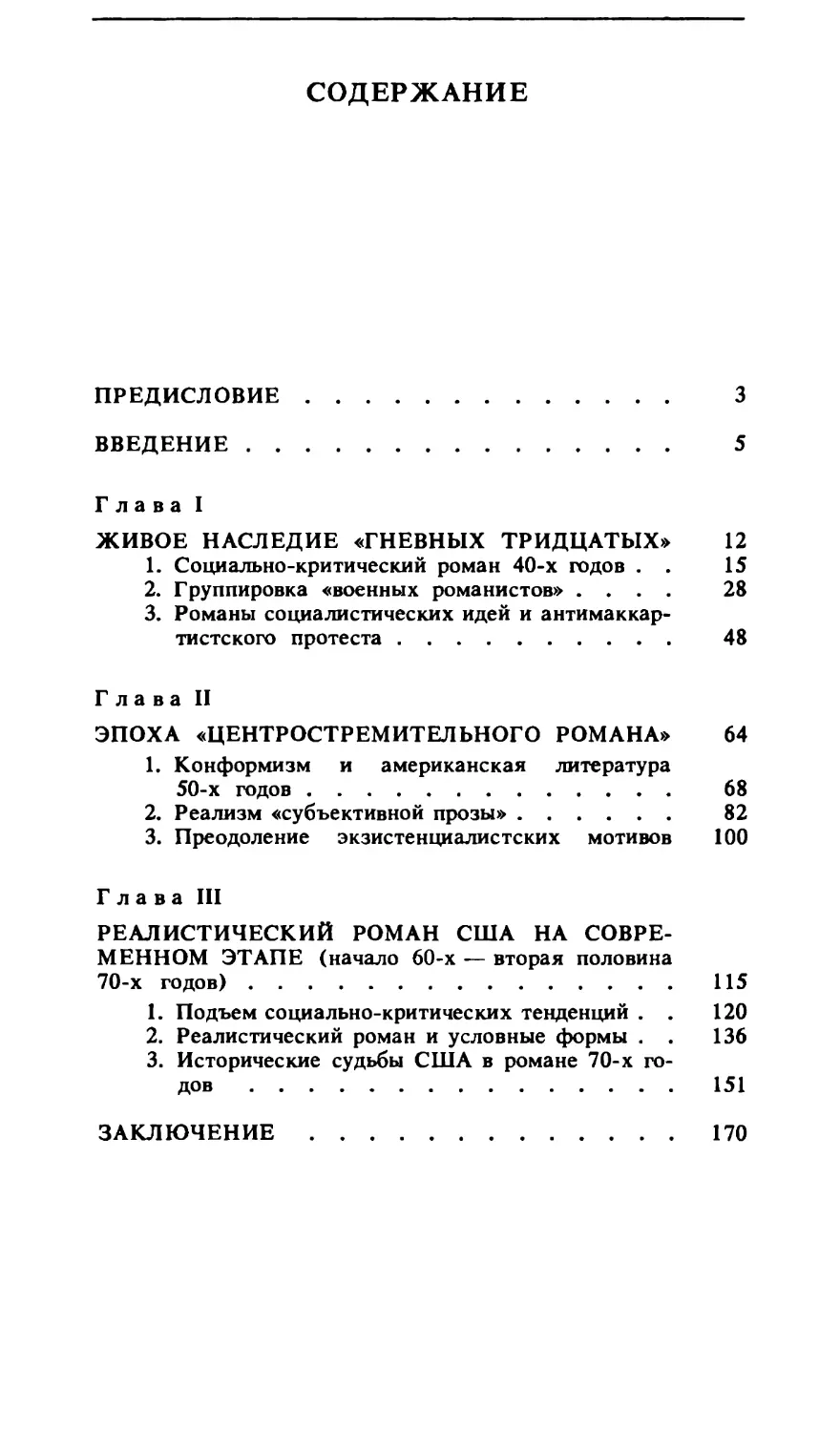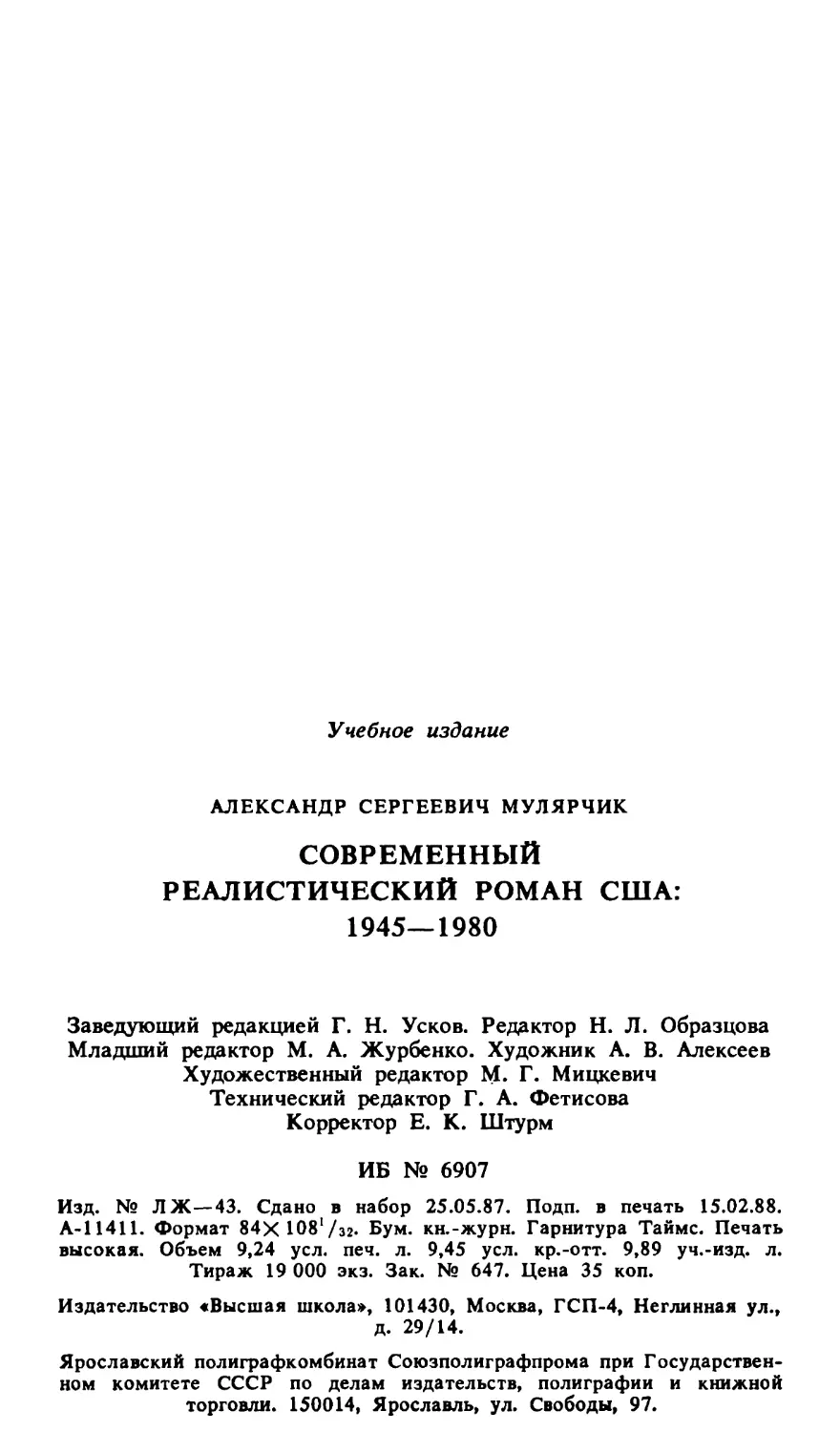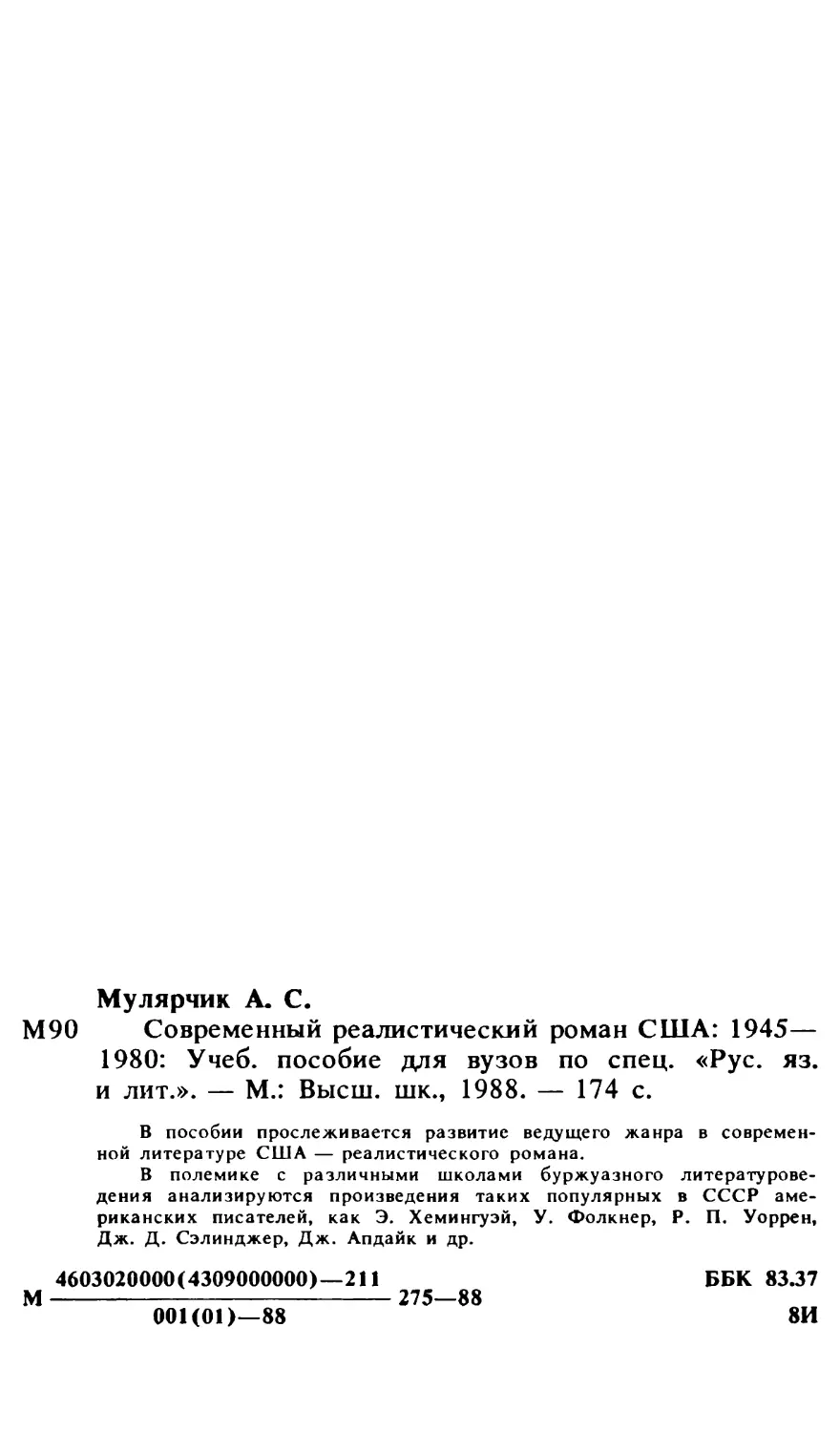Текст
А. С. МУЛЯРЧИК
СОВРЕМЕННЫЙ
РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ
РОМАН США
А. С. МУЛЯРЧИК
СОВРЕМЕННЫЙ
РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ
РОМАН США
1945 -1980
Допущено Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Русский язык и литература»
@
МОСКВА «ВЫСШАЯ ШКОЛА» 198»
ББК 83.37 М90
Рецензенты: кафедра зарубежной литературы Кубанского государственного университета (зав. кафедрой канд. филол. наук В. И. Солодовник); д-р филол. наук, проф. Б. А. Гиленсон (Орехово-Зуевский педагогический институт)
4603020000(4309000000)—211
275—88
© Издательство «Высшая школа», 1988
ПРЕДИСЛОВИЕ
Цель настоящего учебного пособия, предназначенного для студентов филологических специальностей вузов и написанного на основе программы по курсу «История зарубежной литературы» (М., 1983), состоит в том, чтобы представить последовательный и систематизированный анализ основных особенностей развития реалистического романа США на протяжении его современной истории. Широкий фактический материал сконцентрирован в работе вокруг важнейших моментов историко-литературного процесса, тесно увязан с рассмотрением теоретических проблем взаимодействия реализма с традицией романтизма, его борьбы с натуралистическим и модернистским способами художественного отображения действительности.
Во введении охарактеризованы общие особенности указанного в названии работы историко-литературного этапа, обосновывается его периодизация. Глава первая содержит анализ развития реалистического романа США в период второй мировой войны и непосредственно после ее окончания. Во второй главе, охватывающей время 1950-х — начала 1960-х годов, дается картина борьбы реалистического направления с различными модернистскими и конформистскими течениями. Содержание третьей главы посвящено новейшему периоду в истории литературы США, отмеченному утверждением реалистических тенденций, обращением прозаиков-реалистов к анализу сложных проблем современного капиталистического общества.
Углублению внутренних противоречий общества капитализма сопутствует «нарастающий кризис политических институтов, духовной сферы»1. Эта непреложная тенденция современной эпохи постоянно ставит перед американской литературой все более сложные творческие задачи, требует адекватного художественного освоения нового социально-психологического материала. Главенствующая, наиболее плодотворная роль в этом процессе принадлежит реалистическому искусству и правдивому, глубоко аналитическому отображению действительности в ее
1 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. М., 1986. С. 13.
существенных проявлениях и внутренних закономерностях. Чутко прислушиваясь к общественно-политическим сдвигам, откликаясь на изменения в идейно-эмоциональной атмосфере страны, писатели-реалисты США подвергают резкой критике многие аспекты собственнического уклада, способствуют росту самосознания демократических слоев американской нации.
Настоящая работа предназначена для использования в учебном процессе при изучении как творчества современных прозаиков США, так и общих закономерностей развития зарубежных литератур на современном этапе.
Автор
ВВЕДЕНИЕ
История литературы США после окончания второй мировой войны охватывает несколько десятилетий. Этот немалый срок насыщен богатым и разнообразным творческим содержанием, отмечен острой идейно-эстетической борьбой. Сложные процессы общественно-политической и духовной эволюции главной страны капитализма во многом обусловливали своеобразие проблематики литературных произведений, оказали заметное воздействие на мировоззренческие установки их авторов. Углубление классовых антагонизмов, изменения в образе жизни различных слоев населения Соединенных Штатов и огромные перемены, происшедшие во внешнем мире, сталкивали американских писателей с новым историческим материалом, стимулировали интенсивные поиски наиболее адекватных средств его художественного освоения. Вместе с тем относительная автономность сферы общественного сознания и значительность творческого потенциала, накопленного литературой США к середине XX в., способствовали известной устойчивости сложившихся традиций, сохранению преемственности основных идейно-эстетических тенденций.
В послевоенные годы обнаружились новые, дополнительные грани в художественной практике американского модернизма, в котором появились такие примечательные явления, как группировка поэтов-битников и школа прозаиков «черного юмора». В творчестве ряда писателей продолжала жить традиция натурализма, сниженный, лишенный глубокого философского обоснования вариант которого нещадно эксплуатировался антихудожественной «массовой беллетристикой». На некоторых стадиях современной литературной истории ощущалось присутствие идейно-образных решений, ведущих свою родословную от мощного пласта американского романтизма XIX века. Однако,
как и в межвоенное двадцатилетие, открывшее в литературе США целую россыпь блестящих талантов, главенствующим, наиболее плодотворным началом в американской прозе после второй мировой войны был реализм — правдивое, глубоко аналитическое отображение действительности в ее существенных проявлениях и внутренних закономерностях.
В качестве ведущего прозаического жанра реалистический роман находился в 1940—70-е годы на стремнине литературного процесса в Соединенных Штатах. Писатели-реалисты, тяготевшие к социальной критике, стремившиеся откликаться на актуальные проблемы современности, вместе с тем испытывали влияние со стороны различных направлений буржуазной философии, модных эстетических поветрий и идеологических предубеждений. История послевоенного романа в США — это прежде всего история борьбы реализма с разного рода нереалистическими течениями, история эволюции и обогащения реалистического творческого метода.
«Развитие реалистической литературы осложнялось исключительно сильным воздействием апологетических буржуазных идей, конформизма, влиянием фрейдизма, модернистскими тенденциями»1, — данное обобщающее суждение Я. Н. Засурского, распространяемое им на все содержание американской литературы XX в., как нельзя более справедливо в применении к ее последней фазе. Резкие перепады в экономической жизни страны, острые классовые конфликты и периодически возникавшие внутриполитические кризисы, специфика послевоенных международных отношений, когда на передний план выдвинулась борьба между социалистическим содружеством, поддерживаемым всем прогрессивным человечеством, и силами империалистической реакции, — все это не могло не накладывать своего отпечатка на духовный вклад американской творческой интеллигенции в сокровищницу мировой культуры, не сказываться на звучании художественных произведений.
В силу различных объективных и субъективных причин американским писателям, принадлежащим к особенно восприимчивой части общества, было чрезвычайно сложно ориентироваться и определяться в своем творчестве по отношению к всевозможным идейно-философским теориям,
1 Засурский Я. Н. Американская литература XX века. Некоторые аспекты литературного процесса. М., 1984. С. 3.
политическим концепциям, попыткам толковать ход исторического процесса и место личности в нем, исходившим (при всем видимом разнообразии) из эгоистических интересов правящего в США класса собственников, из неколебимых догм буржуазной идеологии. И тем не менее, несмотря на широкое распространение своего рода «современной мифологии», скрывающей подлинную суть общественной структуры и человеческих отношений в мире капитала, несмотря на растущую власть над умами системы информации и пропаганды, включая «массовую культуру» как одно из существенных ее ответвлений, несмотря на весьма неблагоприятный климат в сфере академического литературоведения и литературной критики, — движение реализма в американском романе после второй мировой войны не только не приостанавливалось, но было ознаменовано немалыми свершениями. Послевоенные десятилетия — это и заключительный этап деятельности писателей старшего возраста, «современных классиков»; это и вступление в литературу США новых поколений, творчество которых в первую очередь определило специфику американской художественной прозы в 40—70-е годы XX в.
Разумеется, попытка судить об историко-литературной эволюции и ее закономерностях с близкой временной дистанции сопряжена с немалыми трудностями. Литературная сцена может предстать если не конгломератом разнохарактерных явлений, то хотя бы чредой отдельных звеньев, быстро сменяющихся и разрозненных идейнохудожественных феноменов. Специфика послевоенной американской действительности такова, что отдельным новшествам в сфере культуры были суждены недолгая жизнь и «короткое дыхание». И тем не менее историко-литературные обобщения и вырастающие из них теоретические выводы возможны и при обращении к современному материалу, в особенности — при условии концентрации усилий на осмыслении стержневых проблем, продиктованных как внутренней логикой соответствующего литературного процесса, так и степенью изученности поднятых вопросов в советском и зарубежном литературоведении.
При изучении современной литературы США проблема ее периодизации, соотнесенности художественных произведений с определенными этапами духовного и общественного развития имеет особенно большое значение. Марксистская наука исходит из убеждения о принципиальной возможности историко-литературных и теоретических обобщений применительно к еще, казалось бы, не «отсто-7
явшемуся» материалу новейшей литературной эпохи. Главным методологическим критерием выступает при этом степень соответствия литературы эволюции внутриполитической и социально-экономической обстановки в стране, переменам в общественном сознании нации. Активность литературной жизни и идейная направленность произведений, конечно же, далеко не всегда находятся в прямой зависимости от тенденций внутри- и внешнеполитического развития. Однако взятые в широкой перспективе послевоенных десятилетий, эти сдвиги самым решительным образом сказались на динамике литературного процесса, на характере борьбы между различными идейно-эстетическими течениями и творческими принципами.
Первый вопрос, касающийся периодизации современной литературы США, — это определение границы между творчеством писателей межвоенного двадцатилетия и собственно послевоенной эпохи. По мнению большинства буржуазных идеологов, исходящих из тезиса «американской исключительности», неоспоримым Рубиконом современной истории (в том числе и литературной) явился год окончания второй мировой войны. «Двадцатое столетие началось для Америки в 1945 году», — категорически утверждал социолог И. Кристол, с которым солидаризовался другой выразитель консервативных взглядов, У. Баррет, в полном согласии с официальными взглядами возвещавший о наступлении после 1945 года «американского века».
Исходя из совершенно иных предпосылок, учитывающих прежде всего социально-экономическую и внутриполитическую эволюцию Соединенных Штатов, признают значение этой даты (1945 год) советские историки. Сложнее обстоит дело с историко-литературной периодизацией. «Хотя 1945 год и является для США важной политической датой, он все же не очень подходит для обозначения новой литературно-исторической эпохи», — отмечает западногерманский исследователь X. Бунгерт. Приметы новой литературной реальности складывались постепенно, и в какой-то степени прав критик Ч. Эйсингер, назвавший 40-е годы своего рода «ничейной землей, переходным временем». И все же в противоположность этим довольно аморфным формулировкам важно подчеркнуть, что основной смысл деятельности писателей-реалистов состоял тогда прежде всего в стремлении сохранить завоевания обращенного к острым проблемам времени искусства предшествующего периода, не растерять традиции социального, критического реализма. 8
То был своего рода постскриптум к литературе межвоенного двадцатилетия, заключительная фаза классического для Соединенных Штатов XX века социально-критического реализма, основывающегося во многом на верных представлениях о взаимоотношении личности и общества. 1945 год можно условно считать началом первого послевоенного периода в истории американской художественной прозы, но при этом следует учитывать, что литературное содержание предшествующих 3—4 лет также имеет к нему самое непосредственное отношение. Главный эстетический узел данного периода — взаимодействие реализма и натурализма и их борьба, отразившаяся в ряде произведений писателей старшего поколения, а также в книгах молодых прозаиков, среди которых особенно заметное место заняла группировка «военных романистов».
В не менее сложную проблему вырастает обозначение конца современного этапа литературной истории США и, во всяком случае, — обоснование конечной хронологической границы материала, охватываемого данным пособием. Ощущение того, что пора ставить вопрос о завершенности определенной историко-литературной эпохи, все еще именуемой по инерции «послевоенной», сейчас, что называется, носится в воздухе. О том, что конец 70-х годов представляется заметной вехой современной гражданской истории США, отчетливо говорится в ряде новейших работ советских историков. Среди примет социально-экономического и внутриполитического характера, подкрепляющих эту мысль, следует назвать глубокий экономический кризис 1975—1976 годов, спад движения «новых левых», 200-летний юбилей образования США, активно стимулировавший тему «подведения итогов», и, наконец, формирование идеологии «нового» консерватизма. 1970-е годы — это и время перегруппировки сил, оппозиционных ко всей системе частнособственнических отношений в главной стране мирового капитализма. «В развитии массовой борьбы, — отмечал в начале десятилетия Генеральный секретарь Компартии США Г. Холл, — есть своя внутренняя логика. Массы предпринимают действия в надежде добиться немедленных ощутимых результатов... Когда действия не дают подобных результатов, наступает пора раздумий, время осмысления опыта. Вместе с развитием таких тенденций начинается период использования новой тактики, рождаются новые движения».
К концу 70-х годов четко проявляются и существенные сдвиги в литературной ситуации Соединенных Штатов, и 9
в особенности в положении художественной прозы, что дает весомые основания для вывода о завершении определенного историко-литературного этапа в целом. В духовной жизни и в художественной культуре США заметны важные перемены: отходит в прошлое полемика с молодежной контркультурой, для значительной части творческой интеллигенции становится характерным «обращение к корням», к американской демократической традиции. В собственно эстетической области происходит укрепление позиций реализма, усиливается тяготение к эпичности, намечается стремление к более активному, настоятельному утверждению социально-нравственного идеала.
Тесная связь реалистической литературы США с содержанием исторического процесса определяет общие границы современного этапа американского литературного развития, обусловливает выделение его начального и конечного рубежей. Тот же принцип ложится в основу внутреннего членения послевоенного тридцатипятилетия, проблема историко-литературной периодизации которого может быть решена лишь с учетом общих закономерностей новейшей социально-политической, духовной и культурной истории Соединенных Штатов.
Как уже указывалось, первый период, сохранивший тесную внутреннюю связь с мироощущением «гневного десятилетия» и в известной мере отразивший пафос всемирно-исторической битвы сил демократии с фашизмом, охватывал большую часть 40-х годов. Преобладавшая в это время социально-критическая ориентация творчества многих американских прозаиков способствовала появлению и группы разоблачительных, антимаккартистских, близких подчас идеям научного социализма произведений, публикация которых в некоторых случаях пришлась уже на следующее десятилетие.
Следующий период, традиционно именуемый «веком конформизма», приходится в основном на 50-е годы. В целом то была пора усиления конформистских, а также эскапистских, эстетско-субъективистских тенденций в литературе США. В ряде характерных для этого времени произведений реалистический роман отличался своего рода «центростремительностью», тяготея прежде всего к нравственно-психологической сфере, откликаясь на отдельные положения экзистенциалистской философии. Вместе с тем реализм «субъективной прозы», пронизанной зачастую романтическими интонациями, нисколько не исключал критики современного буржуазного мира, преломляющей-10
ся, как правило, сквозь призму проблем отдельной личности.
В начале 60-х годов в реалистическом романе намечается поворот к актуализации общественно-политической и этической проблематики, хотя в целом для литературы США это было время наивысшей за послевоенную эпоху активности модернистских школ, в частности прозы так называемых «черных юмористов». Усиление социальной «ангажированности» американских прозаиков-реалистов способствовало заметному приращению критического потенциала реалистического метода. Все это дает основание охарактеризовать идеологический смысл данного, третьего периода послевоенной литературной истории (начало 60-х — вторая половина 70-х. годов) как движение «от конформизма к несогласию».
При всей правомерности намеченного конкретно-исторического анализа путей развития послевоенного реалистического романа в Соединенных Штатах Америки, необходимо в первую очередь исходить из того, что в своей основе современная литература США суть специфическое отражение дальнейшего «углубления общего кризиса капитализма»1, о котором как о характерной черте нашей эпохи говорилось в Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду Коммунистической партии Советского Союза. Следует признать, что в отличие от первой половины XX в., когда в США были написаны такие остроразоблачительные книги, как «Американская трагедия» Т. Драйзера (1925), трилогия «США» Дж. Дос Пассоса (1930—1936), «Гроздья гнева» Дж. Стейнбека (1939), «Сын Америки» Р. Райта (1940), в последние десятилетия высокоталантливые произведения мастеров критического реализма не столь часто получали форму развернутой социальной критики, приближающейся в истолковании судеб капиталистического мира к четкой логике идей марксизма. В то же время лучшим представителям искусства реалистического романа в США никак нельзя отказать в настойчивом стремлении обнаружить и зафиксировать в своем творчестве многообразие проявлений этого кризиса — как преломляющихся в зримых фактах внешнего мира, так и уходящих в глубь сознания и психики человека.
1 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза. С. 13.
Глава I
ЖИВОЕ НАСЛЕДИЕ «ГНЕВНЫХ ТРИДЦАТЫХ»
Согласно широко распространенному как в советской, так и в передовой зарубежной американистике мнению, время конца 30-х — начала 40-х годов ознаменовало собой высшую точку развития литературы в США, опирающейся на социальный анализ противоречий действительности и внимательно прислушивающейся к прогрессивным идеям нашего времени. «Гроздья гнева» Дж. Стейнбека и «Деревушка» У. Фолкнера, «Домой возврата нет» Т. Вулфа и «По ком звонит колокол» Э. Хемингуэя, «Сын Америки» Р. Райта и «Глубинный источник» А. Мальца, «Случай в июле» Э. Колдуэлла и «Джонни получил винтовку» Д. Трамбо — каждый из этих романов был пронизан глубоким, устойчивым антибуржуазным пафосом, и все они откликались на могучее гражданское чувство, подхваченное и точно сформулированное Т. Драйзером в названии его остропублицистической книги «Америку стоит спасать». Все эти произведения, увидевшие свет между 1938 и 1941 годами, явились как бы квинтэссенцией той бунтарской, антикапиталистической устремленности, что обеспечила «гневному десятилетию» особое место в литературной истории Соединенных Штатов XX века.
Поворот американской литературы к острой социальной проблематике и создание в конце 30-х годов произведений огромной разоблачительной силы многие буржуазные ученые в США склонны объяснять «стечением обстоятельств», будто бы не характерных для «американского пути» социально-экономического развития. Принципиально иная оценка, утверждающая органичную связь шедевров конца 30-х годов со всем предыдущим развитием реалистической прозы, содержится в работах известного прогрессивного литературоведа М. Каули, стоявшего особенно близко к живой литературной конкретике межвоенного двадцатилетия. Обозревая «красные тридцатые», кри-12
тик называл их «годами веры в апокалипсическую мечту всеобщего братства», которую разделяли тогда все писатели, за исключением лишь завзятых ремесленников, не ставящих перед собой никаких серьезных целей. Каули убедительно опровергал бытующее в буржуазной науке мнение, будто вне господствующего настроения эпохи находились такие крупные художники, как Фолкнер, Фицджеральд, Т. Вулф. Вместе с тем наивысшее выражение социального пафоса предвоенного десятилетия он видел в трилогии Дос Пассоса «США», в романе «По ком звонит колокол» Хемингуэя и, в особенности, в оптимистической трагедии Стейнбека «Гроздья гнева». «Именно стремление бороться за достоинство человека обнаружил в эти годы Стейнбек у своих оклахомцев, Фолкнер — у миссисипских негров, Хемингуэй — у испанских повстанцев, Джеймс Эйджи — у белых издольщиков на хлопковых полях Алабамы», — писал Каули. Не только признание за человеком его абстрактных, провозглашенных буржуазной демократией прав на поиски счастья, но и настоятельное требование защиты его достоинства через социальные гарантии, — вот тот важный итог, который вынесла литература США из идейной борьбы конца 30-х годов.
Достижения социальной прозы критического реализма были настолько впечатляюще-монументальны, что благодаря им в краткие сроки резко возрос международный престиж литературы США, а преобладавшие в ней художественные решения, подчинявшие, как правило, исследование психологии героев воспроизведению больших социально-исторических сдвигов, приобретали во многом едва ли не нормативное значение. Это влияние сказалось на тогдашних литературных дебютах и ряда авторов «второго эшелона» (Дж. О’Хара, И. Шоу, Б. Шулберг, Д. Хэммет и др.), и прозаиков более молодого возраста. «Нельзя отрицать, что каждый из тех, кто родился в 20-е или 30-е годы и был настолько ненормален, чтобы избрать литературу в качестве своего призвания, находился в то или иное время во власти Хемингуэя, Фолкнера или Фицджеральда», — вспоминал У. Стайрон, а Н. Мейлер заявил как-то, что «книгой, перевернувшей его жизнь», была трилогия о Стадсе Лонигане Дж. Фаррелла.
Обретение американским социальным романом эпической широты, идейно-эстетические поиски с опорой на новые, почерпнутые из бурной и динамичной действительности конфликты, попытки создания образа положительного героя с программой действий, отвечающих общест-13
венно значимому идеалу, отодвигали на второй план прозу, тяготеющую преимущественно к психологическому анализу, к рассмотрению «вечных вопросов» человеческого существования в сравнительно камерных рамках повседневного, заурядного быта. Эта модификация реалистического романа, в свою очередь способная на глубокие идейнофилософские прозрения, была представлена на рубеже 30—40-х годов рядом произведений, истинный масштаб которых обнаружился лишь впоследствии. В романах Н. Уэста «День саранчи» (1939), К. Маккаллерс «Сердце — одинокий охотник» (1940), В. Набокова «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» (1941) преобладала постановка обобщенных, едва ли не метафизических проблем смысла бытия, природы чувства, назначения творчества применительно к обстоятельствам отдельно взятой личности, зачастую по тем или иным причинам оторванной от устремлений и интересов широкого мира.
Традиция субъективированного, подчеркнуто психологического письма, вскрывающего тонкие нюансы человеческих переживаний, обусловленных в конечном счете взаимодействием с социальной средой, — иначе говоря, «традиция Генри Джеймса» столь же важна для понимания многообразия современного реалистического романа в США, как и во многом отличная от нее «традиция Теодора Драйзера». Соотношение этих до известной степени условно выделяемых типологических общностей было различным на разных этапах послевоенного тридцатипятилетия; в высших своих проявлениях реалистический метод американской прозы не раз демонстрировал гармоническое слияние художественного анализа человеческого сердца с пониманием существенных социально-исторических связей. В первые же послевоенные годы (как и почти на всем протяжении 40-х годов) в американском романе преобладали тенденции, вытекающие из обрисованного выше основного идейно-эстетического наследия «гневного десятилетия». Именно они способствовали достаточно долгому сохранению в США традиций литературы социалистических идей и служили основой для создания произведений, проникнутых духом борьбы за упрочение демократического наследия американского народа. Оставаясь верной принципам социального анализа, литература критического реализма преодолевала неизменно присутствующие в духовной жизни США позитивистские настроения и внимательно присматривалась к новым проблемам, рождавшимся в ходе трансформации общественного уклада жизни. 14
1. СОЦИАЛЬНО-КРИТИЧЕСКИЙ РОМАН 40-Х ГОДОВ
Распространенное мнение о том, что война не благоприятствует расцвету литературы, ибо «когда говорят пушки, музы молчат», не вполне приложимо к американской прозе времен сражений на тихоокеанском и европейском театрах военных действий. Статистический подсчет указывает, что число романов, посвященных второй мировой войне, значительно превысило количество книг, которыми американская литература откликнулась на участие США в сражениях на полях Европы в 1917—1918 гг. Несмотря на утверждения о «короткой памяти» американцев как черте их национального характера, военная тема была и остается одной из стержневых тем литературы США — от первых месяцев после Пирл-Харбора, когда была опубликована антифашистская повесть Стейнбека «Луна зашла» (1942), вплоть до недавней социографической работы С. Теркела «Правильная война» (1984). Вместе с тем, как самостоятельный художественный феномен, «военный роман» занимает вполне определенное место в современной литературной истории Соединенных Штатов, которое соотносится прежде всего с порубежьем 40— 50-х годов, временем появления наиболее зрелых произведений этого жанра, внесших существенный вклад в идейно-эстетическую эволюцию реалистической прозы.
При всем внимании к литературному вкладу дебютантов магистральные пути развития критического реализма пролегали в 40-е годы в первую очередь через творчество крупнейших писателей, выдвинувшихся на литературную авансцену в предыдущее двадцатилетие, в особенности на протяжении «красной декады». Определенное единство их творческой позиции, зафиксированное этим уникальным историческим мгновением конца 30-х годов, подверглось вскоре действию различных центробежных сил. Характеризуя общую социально-психологическую атмосферу после «великой депрессии», М. О. Мендельсон отмечает, что «иллюзорные представления о буржуазной действительности получили среди трудящихся США в 40-е и 50-е годы довольно широкое распространение»1. Однако к моменту выхода Америки из войны суть проблемы заключалась не в самодовольном конформизме, торжество которого приходится на более позднее время, а в предвосхитившем
Мендельсон М. О. Современный американский роман. М.» 1964. С. 43.
15
конформизм глубоком кризисе политических взглядов ряда писателей, считавшихся «левыми», а также в сложном противоборстве собственно «внутрилитературных», художественно-идеологических тенденций.
Показательным примером стремительного творческого упадка, явившегося результатом утраты веры в передовые общественные идеалы, оплодотворившие ранние произведения писателя, явилась послевоенная эволюция Дж. Дос Пассоса. Автор трилогии «США», которая новаторски, раздвинула привычные рамки реалистического романа за счет введения в его структуру «социального голоса», давшего возможность для выражения массовой психологии! и исторической атмосферы, в считанные годы превратился в типичного «средней руки» беллетриста. В американской' критике делались попытки как бы «выгородить» Дос Пассоса со ссылкой на объективное «несозвучие историзма»' его произведений преобладающим умонастроениям 40— 60-х годов. Однако практически единодушное согласие относительно низкого художественного уровня книг позд-; него Дос Пассоса, по сути дела, пресекало все дискуссии о «несоответствии» взглядов писателя умонастроениям послевоенной эпохи. Политическая ретроградность соединилась у Дос Пассоса на протяжении последних трех десятилетий его карьеры с чувством усталости, пресыщенности и раздражительности, которые едва ли могут представлять действенный творческий стимул для романиста.
По сравнению с идейной несостоятельностью Дос Пассоса снижение критического накала в книгах другой литературной знаменитости 30-х годов, Э. Колдуэлла, было обусловлено не политическими, а преимущественно эстетическими причинами. Идейно-политическое кредо Колдуэлла в общем не изменилось, но доминирующую роль в эстетике его произведений стали играть изначально присущие его художественному видению натуралистические, позитивистские концепции.
1940-е годы в целом были временем значительного усиления натуралистических тенденций в американской литературе. Этот процесс отчасти мог быть объяснен тем, что для многих писателей с ярко выраженным интересом к актуальной проблематике, к воспроизведению конкретной, «грубой» действительности представления о выдвинутых марксистской философией общественно-исторических закономерностях потеряли былую абсолютную ценность. С ослаблением влияния этих «скрепляющих» 16
идеи неконтролируемая стихия «сырых» жизненных фактов буквально захлестнула произведения некоторых уже зарекомендовавших себя авторов и создала прецедент для дебютантов.
В отличие от полного драматизма и антирасистского негодования «Случая в июле» (1940) повесть Колдуэлла «Мальчик из Джорджии» (1943), при всем богатстве ее юмора, воспринималась не более как собрание затейливых анекдотов с отдельными вкраплениями социально значимых эпизодов. Натуралистический пласт превалировал в романе «Трагическая земля» (1944), несравненно ближе, чем «Мальчик из Джорджии», стоявшем к освещению американской жизни военного времени. Типичный для ранней прозы Колдуэлла герой, многим напоминающий и Джитера Лестера из «Табачной дороги», и Тай-Тай Уолдена из романа «Акр господа бога», вынужден перебраться из деревенской глуши в город и пойти работать на военное предприятие. Уже в самой завязке книги писатель точно подметил важный социальный фактор, во многом определивший специфику лица Америки 40-х годов — быстрый промышленный рост страны, коснувшийся самых отдаленных «медвежьих углов» и способствовавший перестройке образа жизни и сознания многочисленной «белой голытьбы» из штатов «южного пояса». Однако в основной части произведения его социальный фон непомерно сужался, и прозаика начинала в первую очередь интересовать биологическая проблематика, трактуемая подчас с очевидным креном в патологию.
Неразвитость чувств и мыслей бывшего фермера Спенса Дуитта объективно находилась в тесной связи с социальными бедствиями — закрытием завода, массовыми увольнениями, затяжной безработицей. Для Колдуэлла же в «Трагической земле» биологический и социальный аспекты существуют вполне независимо, обособленно. После перехода Дуитта и его домочадцев на положение типичных люмпен-пролетариев проблема общесоциального контекста их существования теряла для автора всякую притягательность. Картины безнадежной нищеты, прогрессирующей деградации семейства Дуиттов, детской проституции складывались в книге в бесстрастную хронику утраты человеком своего облика. Запечатлев потрясающие по своей разоблачительной сути факты, Колдуэлл отказывался, однако, в своем романе от их глубокой художественной интерпретации в духе традиций критического реализма 30-х годов, предпочтя фактографию и порой
откровенно фарсовую трактовку настойчиво просившимся на страницы его книги социальным обобщениям.
Плодовитости Колдуэлла и Дос Пассоса в 40-е годы контрастно противостояло затянувшееся молчание Э. Хемингуэя, по произведениям которого критики уже привыкли судить о судьбах критического реализма в современной американской прозе. Создатель не только литературной традиции, но и своеобразной модели миропонимания, удерживавшей в своем плену на протяжении долгих лет воображение многих образованных американцев, Хемингуэй был особенно чуток к резким сдвигам в психологическом климате США, за которыми, случалось, не всегда поспевала мысль художника. Мир лучших произведений Хемингуэя был величав и прост, а в Америке 40-х годов преобладала обыденность, сочетавшаяся с нарастающей фрагментацией форм человеческого бытия, включая политику, идеологию, нравы, искусство. Отсюда отчасти те трудности, что сопутствовали работе мастера над романом «За рекой, в тени деревьев» (1950), который стал, как не без основания полагал прогрессивный литературовед М. Гайсмар, «синтезом всего наихудшего, почерпнутого из прошлых произведений писателя». Отсюда и неровный тон, реминисцентность писавшихся с 1947 г. и посмертно опубликованных «Островов в океане» (1970), и явная автобиографичность героя этого романа Томаса Хадсона, который умирает просто потому, что он устал жить и бороться без ясно осознанной цели. В этом смысле жизненный итог Хадсона выглядел как бы отрицанием главного в образе Роберта Джордана из романа «По ком звонит колокол» — его готовности, невзирая на колебания, быть верным своему гражданскому долгу, каким он его себе представлял, согласившись встать на сторону испанских республиканцев.
В представлении литературной общественности США устойчивость социально-критических традиций в американском романе в 40-е годы в немалой степени связывалась с творческим вкладом Т. Драйзера, автора романов «Оплот» (1946) и «Стоик» (1947), опубликованных уже после его смерти. Хотя эти произведения были задуманы и в основном написаны еще в 1910-е годы, ревизионистская, состоявшая по большей части из экс-радикалов критика, поспешила объявить их последним словом писателя, свидетельствующим якобы о его отходе от принципов критического реализма. Но нападки реакционеров не смогли умалить престижа Драйзера как одного из ведущих 18
представителей американской реалистической литературы XX века. Если еще в 1971 г. утверждалось, что его романы давно забыты, то ныне признание мощи таланта писателя и сохраняющейся актуальности социально-разоблачительного пафоса его лучших произведений нередки на страницах американской прессы. Однако в 40-е годы кампания по дискредитации завоеваний социально-критического романа, использовавшая отдельные творческие неудачи прозаиков-реалистов, приносила свои плоды. Многие сторонники демократического литературоведения, к сожалению, некритически восприняли тезисы о резком снижении потенциала социального романа, об оскудении традиции, «черпающей силы в разочаровании, потрясении и социальных переменах», о торжестве конформизма в литературе США уже в первые послевоенные годы. Раздавались даже голоса, возвещавшие о «параличе интеллектуальной жизни Америки». Обрисованная картина, сказавшаяся и на оценках произведений американских писателей в ряде работ советских литературоведов 50—60-х годов, далеко не соответствовала подлинному, более сложному и противоречивому положению в американском реалистическом романе. С учетом всех негативных обстоятельств критический подход и устремленность к анализу общественного контекста «человеческих историй» по-прежнему были свойственны американской прозе, а послевоенная действительность в США, при всей ее новизне и своеобразии, оставалась средоточием острых конфликтов, требующих для своего художественного отображения в первую очередь социальной зоркости и реалистического мастерства.
Одним из таких краеугольных противоречий общественного уклада, выходившим в обстановке временного снижения накала классовой борьбы на передний план, была проблема расовой дискриминации. В годы войны армия США рекрутировала в свой состав сотни тысяч негров, и столкновения на расовой почве представляли собой обыденное явление. Типичная ситуация такого рода была воспроизведена Дж. Г. Коззенсом в романе «Почетный караул» (1948). Прозаик с более чем двадцатилетним опытом работы в жанре социального романа поставил в центр своего произведения развитие межрасовых отношений на базе американских ВВС, расположенной в одном из южных штатов. Режим сегрегации, ярым сторонником которой выступает начальник авиабазы генерал Бил, приводит к вспышке ненависти, сопровождающейся крово-19
пролитием. Скомпрометированное офицерство вынуждено уступить место назначенным официальным Вашингтоном «посредникам» — полковнику Россу и лейтенанту Эделю в спорах между которыми раскрывалось основное идейнофилософское содержание книги Коззенса.
Привлекая внимание к неприглядным сторонам службы в армии, начертавшей на своем знамени лозунг «крестового похода за демократию», и с немалым искусством социальной типизации рисуя характеры и обстоятельства, Коззенс был, однако, далек от последовательной критики важнейших институтов буржуазного государства. Иронизируя по поводу слабых мест либерального реформизма, он мог противопоставить ему лишь убежденного консерватора, полагающего, что администрирование, насилие над традицией исторически и практически несостоятельны. Провозглашение принципа справедливости на всех уровнях человеческих отношений представляется полковнику Россу (глашатаю мнений автора) несовместимым с осуществлением «реальной политики» в открытом всем ветрам американском «свободном обществе». Эти, по существу, ретроградные воззрения Коззенса были не столь заметны на общем фоне произведения, отмеченного остропроблемным колоритом и изобилующего точно схваченными и четко очерченными реалистическими деталями. В дальнейшем, однако, развитие подобных концепций вполне закономерно привело автора романа «Одержимые любовью» (1957) в лагерь завзятых конформистов.
Прямо противоположная идеологическая тональность характеризовала написанный на близкую тему роман С. Льюиса «Кингсблад, потомок королей» (1947). Не лишенное, как и многие другие работы Льюиса, налета журналистской публицистичности и известной упрощенности психологических решений, это произведение тем не менее говорило о жизненности в условиях послевоенной Америки важнейшего свойства литературы критического реализма — сосредоточенности на «болевых точках» национального сознания и социальных отношений. В прошлом писатель не раз приводил своих героев к нарочитому «счастливому финалу». На сей раз веление действительности оказалось сильнее искусственной фабульной заданности. Роман Льюиса завершался на ноте подлинно трагического накала, и винтовка в руке Нийла Кингсблада, преследуемого расистами, вырастала в символ грядущих потрясений, к которым Америка в 40-е годы еще только примерялась.
Как бы воскрешая облик «Главной улицы» среднеамериканского городка четверть века спустя после публикации известного романа, автор «Кингсблада» взирал теперь на обитателей Майо-стрит с гораздо меньшей снисходительностью. Американские обыватели страшны и отвратительны для Льюиса уже не только глубоким бескультурьем, но и воинствующим самодовольством, питаемым бурно пошедшей в рост в послевоенные годы «имперской» идеологией. Отставных военных, предпринимателей, служителей церкви объединяет у Льюиса не только инстинктивная неприязнь к черным, но и сознание собственного превосходства над любой «неполноценной», на их взгляд, народностью или нацией. В обрисованных прозаиком конкретных проявлениях расизма виделась черта явно послевоенного происхождения, и в сатирическом ее заострении заключалась несомненная заслуга критического реалиста, па склоне своих дней чутко прислушивавшегося к веяниям времени.
Мотив гражданского мужества, отчетливо выходивший па передний план в концовке «Кингсблада», доминировал и в несравненно более сложной идейно-стилистической структуре романа «Осквернитель праха» (1948) — первого крупного послевоенного произведения У. Фолкнера. Не все критики в должной мере и своевременно распознали оттенки позиции писателя, в пределах которой предрассудки «южного джентльмена» не смогли сколько-нибудь заметно исказить ее гуманистический пафос. В своей книге писатель особенно часто предоставлял авторскую трибуну адвокату Гэвину Стивенсу, в тирадах которого, пусть многословных и подчас выспренних, ведущее место занимала мысль о нетерпимости всякого насилия и несправедливости, мысль о том, что «даже и с этим можно бороться, если те немногие, которые ценят человеческую жизнь просто потому, что всякому дано право дышать независимо от того, какого цвета кожу расширяют и сокращают легкие или через какой формы нос в них поступает воздух, — готовы защищать это право любой ценой...»1. Правда, американские марксисты не без основания указывали, что в «Осквернителе праха» преобладал «мифический образ негра» и что его автор «все еще размахивает этим смешным флагом мифической нации доброжелательных рабовладельцев чистой англосаксонской крови и их чистокровных негритянских рабов, живших плодами земли
Фолкнер У. Сарторис. Медведь. Осквернитель праха. М., 1973. С. 571.
21
в мире и согласии...»1. Становясь же на точку зрения историка литературы, нельзя, однако, отрицать важную роль романа в общем контексте идейно-эстетической эволюции Фолкнера. Роль эта была велика на пути от «Деревушки», где имел место детальный, в бальзаковских традициях анализ становления класса эксплуататоров, разрушивших былую (и, разумеется, во многом фиктивную) гармонию белых и черных, к «Особняку» (1959), в котором введением образа коммунистки Линды впервые в творчестве прозаика предлагался принципиально иной вариант ответа на тревожившую совесть персонажей писателя проблему «южного проклятия».
«Деревушкой» и в еще большей степени «Осквернителем праха» следует датировать углубление перемен в миросозерцании Фолкнера, крайне существенных для понимания создаваемых им картин мира. Последствия сдвигов в мировом масштабе не прошли незамеченными для писателя, который после успеха публикации сборника «Карманный Фолкнер» (1945) превратился в одного из немногих общепризнанных оракулов литературной общественности Соединенных Штатов. Вглядываясь в конфликт между человеком и его окружением, Фолкнер стремился оценить и сопоставить обе силы, участвующие в противоборстве. Его послевоенные книги вели счет потрясениям, бесповоротно уничтожившим социально-психологическое равновесие в буржуазном обществе, но в то же время они раскрывали и ресурсы человеческого духа, все шире раздвигали границы его возможностей к сопротивлению. За исключением расовой проблемы, Фолкнер в первые послевоенные годы в своих художественных произведениях стоял как бы выше «злобы дня», которая волновала писателей и публицистов, обрушивавшихся на коммерциализацию искусства, негодовавших по поводу угрозы культуре со стороны средств массовых коммуникаций, отчуждения и обезличивания в человеческих отношениях. Для Фолкнера эти новые факторы послевоенной американской реальности лишь в незначительной степени касались антагонизма между тлеющей в человеке искрой духовности и холодом внешнего материального мира. И отстоявшиеся за долгие века истории первобытные внутренние силы, названные им «инстинктивным упрямством человеческого сердца», становились для писателя тем якорем, от кре
1 Финкелстайн С. Экзистенциализм и проблема отчуждения в американской литературе. М., 1967. С. 209.
пости которого, по его убеждению, зависела судьба всего рода человеческого в XX столетии.
Склонность к морализаторству, ощутимая в первых послевоенных книгах Фолкнера, равно как и подчеркнутая публицистичность, порой плакатность романа С. Льюиса, указывали на известную дифференциацию сложившейся к концу 30-х годов идейно-эстетической модели критического реализма. Вместе с тем продолжала существовать и сю основная модификация — масштабный социальнопсихологический роман, претендующий на философское осмысление широкой совокупности современных общественных отношений.
Соединением общей эпической неспешности повествования с броскостью примет, самым непосредственным образом связанных именно с послевоенной Америкой, был отмечен роман Дж. Стейнбека «Заблудившийся автобус» (1947). Едва ли не первым из американских беллетристов писатель усмотрел возникновение на горизонте нации «массифицированного общества», которое отдельные наблюдатели окрестили вскоре «серым новым миром». Обезличивающему стандарту подчинены в произведении, например, члены семейства Причардов: крупный бизнесмен Элиот, целиком находящийся во власти антикоммунистических предрассудков; его супруга Беренис, сочетающая замашки провинциальной гранд-дамы с кругозором школьных прописей; их дочь Милдред, все жизненные реакции которой продиктованы биологическими инстинктами. Впрочем, биологическая стихия, нередко теснившая у раннего Стейнбека социально-исторические мотивировки, введена в «Заблудившемся автобусе» в строгие рамки уравновешенного взгляда на профилирующие «параметры» человеческого существования. Типичным порождением своего времени и своей среды выглядят одурманенные голливудскими бреднями официантка Норма и семнадцатилетний юнец Прыщ; горькие последствия дезорганизации общественного уклада воплощены в судьбе девицы без определенных занятий Камиллы Дубе.
Альтернативой всевластному стандарту, поработившему людей, случайно встретившихся на перекрестке дорог в Калифорнии, является, по мысли автора, спиритуалистическое мировосприятие водителя допотопной колымаги механика Хуана Чикоя, первые буквы имени и фамилии которого в их латинизированном написании тождественны инициалам Иисуса Христа. Как и в «Гроздьях гнева», где аналогичное место в идейно-композиционной структу-
ре произведения было закреплено за проповедником Джимом Кейси (вновь те же инициалы), писатель стремился показать наличие у насквозь «индивидуализированных», американцев как тяги к коллективизму, так и препятствий, умеряющих силу благородного порыва.
Масштабность философского замысла, разнообразив ярко обрисованных характеров, упругая реалистическая стилистика «Заблудившегося автобуса» указывали на пре-1 емственность социально-критических компонентов творче-» ского метода писателя. Вместе с тем у Стейнбека намечались и некоторые дополнительные оттенки для литературы критического реализма на переломе к осознанию новой, послевоенной действительности. Принципиально важную веху в этом видоизменении и обогащении реалистической прозы знаменовал собой роман Р. П. Уоррена «Вся королевская рать» (1946).
Случилось так, что в момент выхода книги непосредственные ассоциации несколько заслонили для читателей главную тему романа — тему духовного самоопределения личности, ее прихода к осознанию собственного «я». В основу произведения лег сюжет более ранней пьесы Уоррена «Гордая плоть», посвященной одной из наиболее заметных фигур 30-х годов, губернатору, а фактически — диктатору штата Луизиана Хьюи Лонгу. Но не «король» Вилли Старк (соответствующий в романе фигуре Лонга) и не его «рать» владели воображением американцев в первые послевоенные годы, отмеченные быстрыми переменами в общественном укладе нации и возникновением на ее горизонте контуров «массового общества». Противопоставление демагога и толпы, возвышенной цели и низменных средств, позволяющее рассматривать «Всю королевскую рать» в русле жанра «политического романа», чрезвычайно важно. Но, по сути дела, политика и все с ней связанное служит здесь лишь одним из тех фильтров-чистилищ, через которые проходит душа современного американца Джека Вердена, пытающегося яснее представить себе жизненный путь своего «босса» Старка и значение его карьеры, чтобы постичь смысл современной истории.
Характер Вилли Старка сложнее, чем он представляется в тех оценках и суждениях, которые содержатся в иных критических работах. Даже находясь на вершине могущества, Старк являет собой нечто иное, нежели тип «демагога и фашиста». Подлаживаясь под господствующие в американской политике низменные нравы и далеко 24
заходя в своей готовности «продать душу дьяволу» в обмен на преимущества власти, Старк долгое время оставался, и сущности, таким же безыскусным и ясноглазым деревенским демократом, «рубахой-парнем», каким его впервые повстречал Джек Верден.
В начале своей карьеры Вилли Старк — упорный борец ia правду, один из тех, кому понятны и близки интересы бедняков, простых тружеников. Для литературы США это был очередной образец «сделавшего себя человека», трудолюбивого американского разночинца, плебея, который всем в жизни обязан прежде всего самому себе. Он пытался разоблачить мошенничество, разбить круговую поруку, но терпел неудачу. Заправилы округа, беспокоящиеся только о личной наживе, жестоко отомстили Вилли, «прокатив» его на выборах и выбросив за порог школы его жену, учительницу. Но первая осечка лишь прибавляет ему силы, и три года спустя Вилли Старк вновь дает бой своим обидчикам.
С точки зрения автора, опора Вилли заключена в простых людях округа Мейзон, которых, как говорит американская пословица, можно обманывать долго, но нельзя обманывать всю жизнь. «Люди сами поняли что к чему» — отой фразой писатель выдает свою принадлежность к «подлинным Идеалистам» (Уоррен пишет это слово с большой буквы), к которым он относит и Джека Вердена. Уверовав однажды в честность незаслуженно обиженного человека, земляки Старка стояли за него до конца. Промежуточных стадий почти не потребовалось: забаллотированный казначей окружного совета едва ли не в мгновение ока становится кандидатом в губернаторы, чудесным образом удовлетворяющим требованиям всех фракций.
«Вся королевская рать» не давала широкой картины политической деятельности Старка, но, как можно судить, его программа есть не что иное, как уменьшенная копия «нового курса» президента Ф. Д. Рузвельта, настаивавшего на вмешательстве государства в экономическую жизнь нации и в известном перераспределении налогового бремени в пользу малоимущих. Оппоненты Старка упрекали его в гом же, что на протяжении двенадцати лет вменялось в вину Рузвельту: в ущемлении «священных прав» собственности и стремлении задушить частную инициативу. Попытка президента реформировать капитализм натыкалась, как известно, на серьезное сопротивление, а в условиях луизианского захолустья аналогичные меры, пред
принимавшиеся Старком, выглядели и вовсе как подлинная революция.
«Лес рубят — щепки летят», — неизменно утверждают сторонники решительных мер. Для оправдания своих дейн ствий Вилли Старк использовал менее откровенную сен-i тенцию собственного сочинения: «законы всегда тесны И коротки для подрастающего человечества», и в этой «каучуковой» формулировке таилось зерно его последующего морального поражения. «То, что люди объявляют правилу ным, всегда отстает от того, что им нужно для дела, —j внушает Вилли Старк доктору Стентону. — ...справедлив вость — это запрет, который ты налагаешь на определен-^ ные вещи, хотя они ничем не отличаются от тех, на которые запрета нет»1. «Если бы правда была однозначна —3 вся там или вся тут, — тебе не пришлось бы задумываться^ можно было бы зажмуриться и рубить сплеча. Но беда в том, что они правы наполовину и неправы наполовину — и в конце концов именно это вяжет тебя по рукам»1 2, — примерно так же рассуждал и Джек Верден, приближаясь к концу рассказанного им повествования. И в то же время,* действуя наполовину инстинктивно, ему удалось избежать ошибки Вилли Старка и остановиться перед едва разН личимой гранью, отделяющей диалектику от демагогии; Наверное, Джеку помогли здесь его наследственный «южный» аристократизм и чутье историка, не довольствующегося «хрупкой коркой настоящего», постоянно ощущающего на себе «хватку зыбучих песков прошлого».
История возвышения и трагического конца Вилли Старка — это и история душевного возрождения Джека Вердена, который до встречи с «Хозяином» то погружался в оцепенение «Великой спячки», то отдавал себя во власть столь же губительного «Великого тика». Связанный со Старком сложным комплексом соперничества и привя-» занности, Верден становился его доверенным лицом не потому, что нуждался в заработке, а потому, что верил в необходимость перемен, которые Старк, подобно многим реформаторам, проводил если не «огнем и мечом», то во всяком случае, с твердостью и властностью, о которых мягкотелая либеральная Америка успела основательно забыть со времен войны между Севером и Югом. Гибель Хозяина лишь разожгла интерес Вердена к политике. «История слепа, а человек — нет», — повторял он вслед
1 Уоррен Р, П. Вся королевская рать. М., 1968. С. 318—319.
2 Там же. С. 494—495.
за бывшим генеральным прокурором штата Хью Милером, еще одним «неискоренимым Идеалистом», готовым поднять знамя борьбы против богатеев и их прихлебателей — политиканов, выпавшее из рук Вилли Старка.
Вспышка энтузиазма Вердена в финале романа — отнюдь не дань традиционной в американской литературе «счастливой концовке». То был еще один и, пожалуй, самый яркий отблеск «пламени 30-х годов», ровному свету которого препятствовал ряд объективных и субъективных факторов. «Вся королевская рать» создавалась, когда экономический подъем военных лет ослабил многие причины недавнего широкого недовольства, а сдвиги в мировой политике, происшедшие после войны, отозвались в США резким кризисом либеральных иллюзий. В истории реалистического романа США XX века «Вся королевская рать» — это и эпилог, и начало новой главы. Идя за «Гроздьями гнева» и «Деревушкой», последними книгами Т. Вулфа и трилогией Дос Пассоса, Уоррен размышлял о причинах неблагополучия американского народа и клеймил наживающихся на его труде «жирных котов». Он рисовал Америку не ухоженным, глянцевым обществом, а сырым, развороченным месивом, вместилищем трудных и запутанных судеб, противоречивых импульсов и желаний. В его романе встречались пассажи, цветистостью стиля и широтой охвата напоминавшие знаменитые гимны Вулфа во славу живой, деятельной жизни и отзывавшиеся его же тоской и его мечтою охватить всю необозримость человеческого опыта и воплотить его в форме бесконечной книги. Здесь были и зарисовки в духе Дос Пассоса — клочки историй, рассказанных лаконично и сухо, но, по сути, проникнутых неподдельным интересом к человеку и готовностью защитить достоинство даже таких неприметных, убогих «обрубков» общества, как колченогий Рафинад или незадачливый циркач-висельник Джордж.
Многими нитями связана «Вся королевская рать» и с «Гроздьями гнева» — ощущением общественного нездоровья, картинами нищеты провинциальной Америки и вместе с тем одухотворенной верой в исконную и неосознанную «правильность» души простого народа. Не на последнем месте стояло и то, что роднило Уоррена с Фолкнером, — общность духовного «наследия Юга», характерные типажи «южного джентльмена» и «гордой красавицы» и многое другое, включая тему неуничтожимости прошлого, властно господствующего над настоящим и будущим. И вместе с тем Уоррен в чем-то шел дальше 27
автора «Деревушки». В «Королевской рати» отсутствовали идеальные герои, и правда жизни, верность ее диалектике вынуждали прозаика лишить пьедесталов персонажей излюбленного Фолкнером типа. Философия мира Джима Вердена — это голос нового времени, попытка наметить общие очертания или хотя бы опорные точки мироощущения, настойчиво овладевавшего Америкой в середине XX в.
Тем самым Уорреном был сделан и следующий шаг в развитии сложившихся к концу 30-х годов принципов критического реализма в американском романе. Сердцевину по-прежнему составлял социальный анализ, исследо^ вание переплетения человеческих судеб с основными общественно-политическими тенденциями эпохи. Вместе с тем сделанный во «Всей королевской рати» упор на сложности диалектики добра и зла в общественных отношениях и в натуре человека, настойчивое сопряжение политического конфликта с конфликтом в сфере морали скептицизм автора в отношении жестких, нормативных оце^ нок — все это отчетливо отражало возникновение новых веяний в послевоенной американской прозе.
2. ГРУППИРОВКА «ВОЕННЫХ РОМАНИСТОВ»
Взаимодействие реалистических и натуралистический тенденций — давняя и одна из наиболее специфических черт литературы США, прослеживающаяся в ней на протяжении всего XX столетия. По своим внешним, формальч ным признакам натурализм многолик. В первые послевоенные годы он проявлялся в наслоении фактографических зарисовок быта в романах и новеллах Дж. О’Хары, в аморфностью жанра «семейной хроники» в «Графстве Рейтри» Р. Локбриджа (1948), и подчеркнуто бесстрастной манерой письма П. Боулса в его книгах, начиная с «Нависших небес» (1949). При всем своем видимом раз-, нообразии названные произведения оставляли впечатление чего-то недосказанного; более того — с ними ассоциировалось ощущение внутренней свинцовой статичности. «Отрицательные особенности» этого литературного направления точно вскрывает М. Каули. «В натуралистической литературе... существует тенденция объяснять сложное через простое: общество — через реакции индивида; человека — через его биологическую наследственность; мир живых существ — через законы, свойственные природе неорганической. В результате подобной редукции на 28
каждой из ее стадий что-то утрачивалось»1. От всеобъемлющего детерминизма — прямая дорога к беспросветному пессимизму, к неверию в способность человека к выживанию: «Любая его попытка к сопротивлению, к выражению собственной воли мгновенно и безжалостно подавлялась, и в этой борьбе не было ни грана трагического — она вызывала лишь иронию и жалость, ибо уж слишком неравны были силы соперников»1 2.
Увлеченный своей аргументацией, М. Каули нередко, впрочем, не замечал принципиальной границы, отделяющей натурализм от критического реализма. Так, социальный критицизм он считал одним из проявлений пессимистического взгляда на вещи и фактически на этом основании зачислял в круг «последовательно натуралистических» произведений многие крупнейшие достижения реализма межвоенного периода, включая «Американскую трагедию» Драйзера, романы С. Льюиса, «СынгГ Америки» Р. Райта и даже «Гроздья гнева» Стейнбека. Эта ошибка Каули — характернейшее заблуждение подавляющего большинства американских литературоведов, причем чаще всего вызванное не только терминологической путаницей. Формалистическая и консервативная критика, относившая творчество писателей-реалистов к натуралистическому методу с его «грубым схематизмом», преследовала цель умалить общественное звучание реалистического искусства.
Сила создававшейся таким образом традиции и критической моды была настолько велика, что недифференцированные представления о соотношении реализма и натурализма проникали в работы литературоведов социологической складки, прогрессивных общественных убеждений. В одной из своих статей начала 50-х годов упоминавшийся выше критик М. Гайсмар утверждал, имея в виду в основном недавних дебютантов, что «натуралистические романы продолжают создаваться» и это «направление не только по-прежнему жизнеспособно, но и пышет энергией, приковывая к себе внимание огромного числа читателей». При этом, однако, исследователь рассматривал в качестве единой эстетической общности такие столь разноплановые явления, как, с одной стороны, творчество натуралистов Н. Олгрена и У. Мотли, а с другой — группировку «военных романистов» с их лидерами Н. Мейлером и Дж. Джонсом.
1 Каули М. Дом со многими окнами. М.» 1973. С. 97.
2 Там же. С. 98.
Эволюция незаурядного художника Н. Олгрена на протяжении 40-х — первой половины 50-х годов — наглядный пример оскудения творческого дара под воздействием позитивистской философии, лежащей в основе натурализма, неверия в возможность совершенствования человеческой психологии под влиянием передовых общественных идеалов, конкретного положительного примера. Натуралисты признают лишь одно направление в движении человеческих судеб — в сторону деградации, физического и духовного оскудения, как если бы единственным законом органического мира был второй закон термодинамики. Эта позиция нашла последовательное отражение в романах Олгрена «Пусть утро не наступит» (1942), «Человек с золотой рукой» (1949) и, в особенности, —«Прогулка по джунглям» (1956). Выше, когда речь шла о послевоенных книгах Э. Колдуэлла, уже указывалось на утрату некоторыми писателями-реалистами верных идейно-философских и политических ориентиров как на одну из важнейших причин усиления натуралистических тенденций. Так произошло и с Олгреном, который от недостаточно цельно усвоенного марксистского взгляда на необходимость социальных изменений перешел к глубоко пессимистическим представлениям относительно «удела человеческого».
Сдвиг Олгрена к натурализму сказался отнюдь не в самом выборе им материала для своих романов — жизни чикагского и новоорлеанского «дна», кишащего человекоподобными существами. Гораздо прискорбнее было то, что социально-нравственная философия писателя принципиально отказывала его «героям» в возможности морального возрождения. Причины, способствовавшие возникновению нищеты, разврата, наркотического разгула, Олгрен усматривал не в жестокости буржуазных порядков и даже не в личных «слабостях» своих персонажей, а в некоем полу-мистическом процессе «сепарации», разделяющем общество на «чистых» и «нечистых». Каждый из этих кланов существует, по мысли Олгрена, вполне обособленно и системы их ценностей абсолютно равнозначны в этическом отношении. Хотя «дикий край» и принимает в свое лоно новых членов, а также исключает «выпавших» — мир этот статичен и постоянен в своих внешних признаках к неписаной философии.
Для «Прогулки по джунглям» Олгрен использовал некоторые мотивы своего более раннего романа «Кто-то в сапогах» (1935), и напрашивавшиеся сопоставления чрезвычайно симптоматичны. Углубление натурализма сказа-30
лось в изображении всех сколько-нибудь значимых действующих лиц произведения холодными злодеями, неспособными подняться над неким физиологическим порогом и увидеть свою жизнь в подлинном свете. Это относилось прежде всего к образу Дейва, одного из заправил преступного мира большого города. Довоенный Олгрен, жадно тянувшийся к марксизму, искал и находил подлинные мотивировки «падения» американских бедняков и понимал, что преодоление безысходности их положения зависит как от перемен в обществе, так и от их собственных усилий. В «Прогулке по джунглям» писатель полностью игнорировал оба возможных решения и оставлял своих персонажей на дне мрачного «подземелья», откуда не было выхода.
Показательным с точки зрения воздействия натурализма на американскую литературу 40-х годов было и творчество У. Мотли, автора романов «Стучись в любую дверь» (1947) и «Мы рыбачили всю ночь» (1951). Касаясь проблематики более ранней книги, критики указывали на ее зависимость от «Американской трагедии» Драйзера. Думается, что еще ближе к роману Мотли находился «Сын Америки» Р. Райта, влияние которого ощущалось как в перекличке идей, так и в отдельных сюжетно-композиционных элементах. Будучи, как и Райт, негром, Мотли сделал, однако, героем своего произведения молодого белого американца, которому уготован путь, почти аналогичный тому, что привел к смерти Биггера Томаса из романа Райта. Драйзеровский Клайд Гриффитс фактически не совершал преступления. Ближе к роковой черте оказался Биггер Томас, который хотя и неумышленно, но все же лишил жизни белую девушку, дочь хозяев дома, где он служил истопником и шофером. Ник Романо у Мотли становился преступником уже не по воле случая, а в силу жестокой, «запрограммированной» закономерности. Попав в тюрьму за мелкую провинность, он выходил из нее ожесточившимся врагом общества и потенциальным убийцей.
Как явствовало из содержания книги Мотли, социальные «линии судьбы» были прочерчены в ней с еще большей определенностью, чем в романах Драйзера и Райта. Но именно в этой жесткости идеологического рисунка таилась угроза перегиба в сторону схематики, предпочитающей взамен изменяющейся диалектики жизни плоскопозитивистские представления о ней. Подобно персонажам произведений Олгрена, Нику Романо тоже свойствен 31
известный автоматизм поступков и мыслей, по воле автора отчасти даже снимающий с него личную ответственность за совершенные преступления. Влияние натуралистической эстетики вновь сказалось тут в самом главном: не в преувеличении роли наследственности и не в навязчивой фактографии, а в том, что многие буржуазные критики безосновательно считают краеугольным камнем реализма, — в рабском подчинении поведения героя незамысловатым социологическим формулам, вовсе отрицающим наличие у него развитого аналитического сознания и активной, восстающей против «пресса обстоятельств» воли.
Хотя последовательно натуралистические произведения занимают по сей день заметное место в картине литературной жизни США, то, что американские критики называли в первые послевоенные годы «возрождением натурализма», относилось на самом деле к творчеству молодых прозаиков, стремившихся к продолжению в новых условиях традиций критического реализма. Наиболее успешно «уроки Хемингуэя» и других мастеров социально-критического искусства приложила к новому историческому материалу группа «военных романистов». И хотя первый хронограф их творчества Дж. У. Олдридж в свойственной ему несколько снисходительной манере упрекал романы Н. Мейлера, Дж. Джонса, И. Шоу, В. Бурджейли в следовании «литературным стереотипам прошлого», он, как и многие другие, был вынужден признать, что именно «военные романы» своей яркой выразительностью выгодно выделялись среди литературных дебю?ов нового писательского поколения1.
Первым беллетристически развернутым отражением вклада в реалистический роман США «обыкновенных американцев», сражавшихся во второй мировой войне, явился роман И. Шоу «Молодые львы» (1948). При всех идейных слабостях книги, забавным анахронизмом выглядит ныне мнение, согласно которому на ее страницах «американский шовинизм смыкается с реабилитацией и апологетикой немецкого фашизма»1 2. Реформистские иллюзии автора, умаление им роли Восточного фронта и вклада Советской Армии в освобождение Европы, бесспорно, ослабляли реалистическое звучание романа, но его антифашистская направленность несомненна. Гораздо обоснованнее была
1 См.: Олдридж Дж. После потерянного поколения. М., 1981. С. 120—128.
2 Неделин В. «Возлюбившие войну» и их жертвы//Иностранная литература. 1961. № 7. С. 182.
критика художественной легковесности прозы Шоу, ее опасного «сползания» в сторону «массовой беллетристики». «Это не роман, а компиляция уже слышанного и читанного... непрочная конструкция, ветшающая на глазах», — писал рецензент марксистского журнала, и следует заметить, что данное суждение полностью сохранило свою актуальность в применении к многочисленным книгам Шоу 70-х — начала 80-х годов.
Подлинно антивоенной, последовательно антифашистской позицией были отмечены романы Н. Мейлера «Нагие и мертвые» (1948) и Дж. Джонса «Отныне и во веки веков» (1951), в которых можно видеть идейно-эстетическую вершину творчества «военных романистов» демократических убеждений. Среди других подобных произведений они выделялись не только мощью таланта их авторов, не только сложностью художественного видения действительности, демонстрировавшего борьбу реализма с натуралистическими мотивами, но и стремлением к социальноклассовому анализу противоречий американского общества. Признание существования непримиримой яростной вражды между верхами и низами особенно тесно сближало первые романы Мейлера и Джонса с ведущей тональностью американской литературы «красного десятилетия» 30-х годов. И хотя в изображении этого противостояния оба прозаика не всегда опирались на выработанные марксизмом четкие критерии, логика их художественного мышления не раз вплотную подводила к выводам, вытекающим из научно-материалистического мировоззрения. В произведениях Мейлера и Джонса солдаты отделены от офицеров пропастью не только потому, что они находятся на разных этажах армейской иерархии. Вспышки ненависти и, с другой стороны, устойчивое холодное презрение, характеризующие их взаимоотношения, имеют общий источник — глубоко уходящий своими корнями раздел Америки на «две нации», два антагонистических социальных слоя.
«Нагие и мертвые» были написаны новобранцем в литературе, но рукой уверенной и твердой. В романе немало примеров прямой переклички с предшественниками, и в то же время личная заслуга Мейлера-прозаика, несомненно, велика. Эта книга не могла бы появиться на свет без той громадной массы образных впечатлений и уже состоявшихся художественных открытий, что были зафиксированы и переданы во всеобщее пользование писателями, выдвинувшимися между двумя войнами. Обращаясь к 2—647 33
известной метафоре, было бы уместно сравнить состояние литературы США в середине 40-х годов, ее эстетическое насыщение, с хорошо взрыхленным плодородным полем, готовым принять в себя зерно любого подлинного таланта и оплатить за это щедрым урожаем. Но главным побудительным толчком к созданию «Нагих и мертвых» явился, конечно же, собственный опыт будущего писателя, который еще бруклинским подростком и гарвардским студентом жадно следил за борьбой идей в накаленной обстановке конца 30-х годов, а затем в качестве солдата морской пехоты прошел путь от первых десантов, выброшенных на безымянные атоллы, до высадки на Филиппинах и капитуляции Японии.
В рассказе о сражениях на островах Тихого океана автору «Нагих и мертвых» открывались перспективы, далеко выходящие за рамки личных наблюдений. Стремление к эпическому охвату жизни определяло весь идейно-художественный строй произведения. Испытавший на себе, как и многие из его сверстников в Америке, воздействие идей марксизма, Мейлер откликался в своей книге на проблемы связи эпох, эволюции национального характера, моральной философии своих современников, их социальной дифференциации — на все те вопросы, которые неизбежно возникают перед социально-критическим произведением, опирающимся на принципы исторического мышления. Непосредственно же в центре изображения у Мейлера находилась армия — специфическая проекция всего американского общества с его пестрым этническим составом и не очень глубокой культурной памятью, с прочно укоренившимися иллюзиями и острыми классовыми противоречиями.
Само название романа говорило об установке автора на бескомпромиссный реализм, не затушеванный никакими «патриотическими» соображениями. Операция по захвату острова с вымышленным названием Анапопей свела в отряд под командованием генерала Каммингса людей со всех концов Америки. Попав в армию, человек становится деталью огромного механизма; подчиняясь приказам, он, казалось бы, совсем забывает о своем «я», растворяется в однообразном людском скопище. Но, с другой стороны, он приобретает здесь и неожиданную свободу — если не поступков, то свободу самостоятельно размышлять. Американцам 30-х годов, измученным тревогами и страхом перед последствиями экономической депрессии, армия гарантировала своеобразную защищенность. Подставляя 34
людей под вражеские пули, она в то же время создавала убежище от безработицы, от семейных забот и житейских осложнений. Так возникала возможность отдаться думам: о товарищах, о женщинах, о самом себе и своих шансах на счастье в оставшиеся годы жизни.
Кругозор молодого автора не был ограничен описанием военных действий на «пятачке» вымышленного острова. В романе не раз возникал вопрос об отношении к фашистской идеологии, и в соответствии с исторической правдой писатель показывал, что для большинства американцев, воевавших на тихоокеанском фронте, идеологические соображения были чем-то далеким, почти второстепенным. Война не постучалась в их дом, не превратилась в угрозу /Ц1Я существования страны, откуда они родом. Японцы для них — всего лишь противник, а не смертельный враг. Сами же солдаты, за весьма небольшим исключением, глубоко штатские люди, живущие воспоминаниями о мирном времени, о его нерешенных проблемах.
В плане изображения конкретно-исторической и даже чисто локально-географической ситуации роман Мейлера отличался более глубоким и последовательным реализмом, чем предшествующие ему «Прогулка под солнцем» Г. Брауна (1944) и «Колокол для Адано» Дж. Херси (1944), повествовавшие о высадке в Италии американского экспедиционного корпуса в составе нескольких армий. В отличие от японцев итальянские фашисты были в глазах мыслящих американцев не просто соперниками на поле брани, но и «первооткрывателями» той «коричневой чумы», что превратила XX век в «век тоталитаризма», осквернившего современную историю человечества чудовищными преступлениями. Поэтому было трудно не заподозрить в тенденциозности авторов написанных по горячим следам событий книг, где утверждалось, что американские солдаты просто исполняли нелегкий долг, не задумываясь об антифашистском смысле своей миссии. Подобное впечатление усиливалось еще и тем, что сложный процесс перестройки освобождаемой Европы рисовался Брауном и, особенно, Херси в весьма облегченных, чуть ли не опереточных тонах: так, в «Колоколе для Адано» смена политических декораций в Италии происходила чуть ли по мановению волшебной палочки, ценой личных «организационных усилий» и прочувствованных речей сотрудника оккупационных служб майора Джопполо.
Роман Мейлера чужд подобной заданности, и убеждения его персонажей складывались в зависимости от 2* 35
конкретных условий и обстоятельств их жизни. В разведывательном взводе сержанта Крофта четырнадцать человек, и каждый из них представлял как бы одну из граней национального состава и духовного склада огромного разноликого континента. Бывший шахтер Ред Волсен и выходец из Среднего Запада Браун, чистенький городской служащий Джо Гольдстейн и неуклюжий фабричный рабочий Галлахер, забитый, почти «без речей», батрак Рид-жес и неистощимый в богохульствах Вудро Вильсон, словно в насмешку получивший имя знаменитого президента-моралиста, — все они и живые индивидуализированные характеры, и в некотором роде социологические «средние величины», иллюстрирующие нелегкий для простого человека дрейф событий на порубежье современной истории. Читатель не только следил за подробностями и тяготами их военной службы, но и узнавал их предысторию. Вслед за Дос Пассосом, впервые обратившимся к подобному формальному приему, Мейлер в специальных разделах, названных «Машина времени», рисовал подробные портреты главных персонажей книги, рассказывал несколько типичных «американских историй».
Первые разделы романа составляют развернутое вступление: очерчены основные персонажи, рассказано о высадке американцев на остров и об отдельных, пока незначительных стычках с японцами. Немало места в «Нагих и мертвых» уделено сценам рутинного армейского быта, но своей кульминации события в произведении достигли в рассказе о финальной стадии кампании по захвату Анапопея, о трудном походе взвода разведчиков за линию фронта.
С подчеркнутой бесстрастностью и откровенностью, обнаруживающими воздействие на Мейлера эстетики натурализма, писатель говорил о невыносимых физических мучениях, о страхе смерти, который не покидает человека ни накануне, ни в самой гуще схватки, о мрачных мыслях, что теснятся в его сознании, если он ранен, а товарищи уже далеко. Чувство страха испытывают не только новички, но и самые опытные, прошедшие через множество боев ветераны. В романе нарисованы картины ночных сражений, пулеметных перестрелок, внезапных вылазок и засад, после чего остаются трупы убитых, а у уцелевших — тупое ощущение шока. Американские солдаты дерутся ожесточенно, но не потому, что отстаивают «бастион демократии», или даже подчиняются приказу, а просто спасая собственную шкуру. На войне человек вынужден 36
убивать, иначе убыот его самого, — вот и все рассуждения на этот счет у большинства солдат разведвзвода.
Жаждой убийства ради убийства одержим разве что С эм Крофт, единственный, кто соответствует облику исполнительного, бравого служаки, — именно такой персонаж был характерным стереотипом в «военных романах» апологетического склада. Крофт стал убийцей еще до армии: находясь в национальной гвардии, он намеренно, нарушив запрет командира, выстрелил в рабочего-забастовщика и убил его наповал. Столь же отвратительна и его расправа с пленным японским пехотинцем; все поведение Крофта, угощающего японца печеньем и шоколадом, а затем расстреливающего его в упор, подстать извращенной психике «подпольных людей» из европейской экзистенциалистской прозы, первые «семена» которой еще только начинали прорастать на американской почве.
В «Нагих и мертвых» звучал не только солдатский жаргон. Там велись и интеллектуальные диспуты, переходившие, правда, по большей части в монолог: это генерал Каммингс читал лекцию лейтенанту Роберту Хирну. «Когда-то вам вбили в голову, что „либерал” означает только хорошее, а „реакционер" — только плохое, и вы никак не можете отказаться от этой мысли, — проповедует Каммингс во время одной из первых встреч с Хирном. — ...вы глупец, если не понимаете, что предстоящее столетие — это столетие реакционеров, которые будут царствовать, может быть, целое тысячелетие. Это, пожалуй, единственное из сказанного Гитлером, что нельзя назвать результатом стопроцентной истерии»1.
Столкновение между Каммингсом и Хирном — главный идейный конфликт произведения. И хотя Каммингс представляет собой подвергавшуюся постепенной фашизации командную верхушку американской армии, а Хирн претендует на звание либерала, разница между ними не столь уж и велика. Не случайна восторженная оценка, данная Хирном организаторским способностям Каммингса, как не случаен и «отцовский комплекс» последнего по отношению к своему подчиненному (кстати, это вовсе не помешало Каммингсу недрогнувшей рукой послать Хирна на почти верную смерть вместе с заброшенной в тыл врага группой разведчиков).
Лейтенанта Хирна можно назвать одним из «лишних людей» Америки своего времени. Сын богатых родителей,
Мейлер Н. Нагие и мертвые. М., 1972. С. 87.
он никак не может определить своего места в сложно! политической обстановке этих лет и вступает, наконец в армию, повинуясь не столько убеждениям, сколько вне запному капризу. Многими чертами своего облика repoi книги Мейлера напоминал Роберта Джордана из ромаш Хемингуэя «По ком звонит колокол»; вполне сознательна Мейлер как бы представлял читателю еще один вариана известного образа. Перенося время действия на несколькс лет вперед, в самый разгар войны, для которой событие в Испании были не более, чем увертюрой, он подробнс излагал то, что в случае с Джорданом составляло ег( предысторию, о содержании которой можно было толькс догадываться по отдельным туманным намекам. '
Роберт Джордан любил Испанию и изучал испански! язык. Хирн тоже избрал своей специальностью филоло гию. Тема его дипломного сочинения гласила: «Исследова ние стремления к всеобъемлющему в произведениях Гер мана Мелвилла». К всеобъемлющему, а точнее, к разнообразию впечатлений стремился и сам мейлеровский герой( интересуясь политикой, участвуя в движении профсоюзов и даже подумывая о вступлении в компартию. Но Хирв в конечном счете — сын своего класса, и Мейлер не питал особых иллюзий в отношении заигрываний буржуазии с революцией.
Волна радикализма во всем мире схлынула в период между Мюнхеном и Пирл-Харбором, и в Америке, этом оазисе безопасности, скептические интеллигенты уже приступили к самобичеванию, отрекаясь от недавних порывов к возвышенным, чуть ли не социалистическим идеалам, стараясь поскорее забыть о столь восхищавшем их недавно «прекрасном и яростном мире» материальной^ нужды и духовного богатства. Так и Хирн: неудачи ресН публиканцев в Испании и начало войны в Европе вызы-j вали в нем настроения фатализма и разочарования, и oi^ снова примеривал к себе этический кодекс «потерянного; поколения», что в применении к богатым бездельникам^ оборачивалось набором пустых фраз и эффектной позой.
«Единственное, что остается, — это жить не теряя стиля», — твердит про себя Хирн. Когда же приходит час выбора, он, в отличие от Роберта Джордана, находит спасительную лазейку: «А что касается Испании, то в глубине души он сознает, что никогда не думал об этом серьезно. Эта война уже при последнем издыхании, и он не ощущает в себе никаких стремлений, которые хотелось 38
бы утолить, отправившись туда из-за понимания событий или из-за сочувствия к ним»1.
Двойственность убеждений Хирна сказывается во всех его поступках, и то, что в мирные дни еще можно рассматривать как утонченность чувств и широту взглядов, на войне оборачивается душевной дряблостью. Неосознанная ревность к генералу Каммингсу, соперничество «либерала» с «фашистом» вырастают в главный мотив поступков Хирна с тех пор, как он принял на себя командование изводом Крофта. Однако Хирну никак не удается быть последовательным в своем самоанализе: он не то чтобы кривит душой, но как истый интеллигент-либерал образца 30-х годов не в состоянии разобраться до конца в собственных мыслях — с кем он: с народом, т. е. вот с этими конкретными солдатами, от которых плохо пахнет, или же сам по себе, а в глубине души — гораздо ближе к Каммингсу, с которым его связывает противоречивое чувство ненависти и преклонения. Пробыв в армии лишь несколько месяцев, Хирн начинает ощущать дистанцию, разделяющую людей «белой» и «черной» кости, и инстинктивно выбирает сторону, к которой он принадлежит по рождению и воспитанию. «Если бы произошла фашизация мира, если бы наступил век Каммингса, — предрекал Мейлер, — он, Хирн, мало что мог бы предпринять»2.
На рубеже 30—40-х годов люди на Западе быстро взрослели: одни избирали ясную и четкую позицию в столкновении двух миров и их идеологий; другие переходили от иллюзий к слепому отчаянию, третьи же останавливались на перепутье. «...Несмотря на некоторые противоречия, объективно наше дело — правое. То есть в Европе»3, — выдавливает из себя Хирн в споре с Каммингсом, и в его сухих репликах гораздо больше горечи и разочарования, а затем и отрешенности, нежели у хемингуэев-ского героя, который, несмотря на все колебания, отдавал жизнь за выстраданную политическую идею. В 40-е годы дальнейшая судьба многих недолговечных «попутчиков» марксизма в США уже определилась. Поэтому и смерть Хирна в изображении Мейлера лишена и тени героизма. Как и многое на войне, она почти случайна, и писатель сообщал о ней в скупых, чуть ли не протокольных словах: «Спустя полчаса лейтенант Хирн был убит — пуля проби
1 Мейлер Н. Нагие и мертвые. С. 301 — 302. Там же. С. 473.
’ Там же. С. 280.
ла ему грудь»1. Так исчез со сцены, пожалуй, наиболе убедительный и исторически характерный персонаж ро мана.
Финальные главы «Нагих и мертвых» подчеркнуто пес симистичны. Взводу Крофта не удалось подняться на вер шину горы Анака, символизирующей у Мейлера венец че ловеческих дерзаний. Абсурден не только поход развед чиков, но и вся стратегия американского командования победа над японцами пришла, когда ее мало кто ожидал и, по существу, явилась случайным результатом действие бездарного начальника штаба, который даже не отдава; себе в них отчета. И философ-самоучка Ред Волсен под водил итог, воскрешавший хорошо знакомые по произве дениям натуралистического склада интонации: «Челове] несет свое бремя один до тех пор, пока может нести его а потом у него уже не хватает сил. Он один воюет протш всех и вся, и это ломает его, и в конце он оказываете! лишь маленьким паршивым винтиком, которой скрипит > стонет, если машина начинает работать слишком быстро»1 2
Противоречивость художественной концепции «Нагих и мертвых» во многом объяснялась столкновением двух принципов: жестокого социально-биологического детермич низма в объяснении поступков персонажей и диалектичен ского, жизнеподобного подхода к изображению их психон логии. В романе встречаются отдельные пассажи, где уподобление человека животному носит нарочито декларан тивный, вызывающий характер. Имея в виду известные^ опыты И. П. Павлова, Мейлер бросал, например, такие^ хлесткие фразы: «На судне был солдат точно такой же^ как эта собака... Сначала звук разрывающегося снаряда неизбежно вызывал у него страх. После того, как прошло много месяцев и он повидал разные ужасы, любой неожиданный звук вызывал в нем страх и панику». Обращение к биологическому фактору имело место и в других местах книги, однако в более широком плане заданность позитивистской схемы, как правило, преодолевалась у Мейлера живым реалистическим началом. Вслед за Стендалем американский писатель мог бы поставить эпиграфом к своему роману слова Дантона «Правда, горькая правда», но, разумеется, не в буквалистском их истолковании. И хотя картины боя и фонограммы солдатской речи в «Нагих и мертвых» можно считать полностью адекватными «кусками
1 Мейлер Н. Нагие и мертвые. С. 486.
2 Там же. С. 563.
действительности», писатель шел в своем произведении не к передаче разрозненных данных «внешнего опыта», а к созданию целостного образа исторической эпохи.
Говоря о творческом методе «Нагих и мертвых», М. О. Мендельсон среди доказательств воздействия на Мейлера модернизма, акцентирующего «извечное ничтожество и духовную слепоту человека», ссылался на обрисовку писателем военнослужащих американской армии: «Почти все солдаты изображены беспомощными и безнадежно жалкими жертвами сил реакции, противостоять которым им не позволяет их внутренняя немощь»1. В том, что это далеко не так, убеждает непосредственное знакомство с персонажами книги, среди которых сознанием своей обреченности выделяется разве что Ред Волсен. Для Голдштейна же, Брауна и Мартинеса человек — далеко не «пешка на шахматной доске»; им свойственно и понятие о собственном достоинстве, и развитое чувство долга. Несмотря на всю тщетность рейда в тыл противника, обусловленную некомпетентностью и бездушием высшего руководства, «одиссея» разведывательного взвода показала и другое — безграничность человеческой выдержки, прочность фронтового товарищества. Почти всем солдатам удалось вернуться назад, а некоторым эти трудные дни принесли не только муки и ощущение безнадежности. Джо Голдштейн находит себе друга, и даже Ред Волсен впервые отвлекается от своих мрачных мыслей, вслед за героями Хемингуэя начиная понимать, что «человек не остров»: «Ему придется полагаться на других людей, он геперь нуждается в их поддержке, но не знает, как ее получить... Вот если бы они держались друг за друга...»2
При всей своей монументальности и несомненной реалистичности роман Мейлера вместе с тем тщательно литературно «сконструирован». Можно сказать, что он похож на превосходные копии с картин великих мастеров. Гут все на месте — рисунок, пропорции, школа; не хватает лишь отблеска оригинальности, экспрессии, полной органичности. Думается, что в этом же причина предпочтения, которое большинство критиков и читателей в США отдавали появившемуся вскоре после «Нагих и мертвых» роману Дж. Джонса «Отсюда и в вечность» — произведению, словно бы высеченному из огромного жизненного монолита.
Современная литература США. М., 1962. С. 59.
Мейлер Н. Нагие и мертвые. С. 563.
Известное различие двух авторских концепций состою ло в том, что персонажи Мейлера в гораздо большей сте пени «стеснены» своей изначальной социально-характеро логической определенностью. Солдаты взвода Крофта олй цетворяли, как можно было видеть, различные вариант! «человека с улицы»; лейтенант Хирн воплощал в себе зна| комый тип неустойчивого интеллигента; генерал Ка»Л мингс — прежде всего демагог фашистского толка, а ул затем неплохой военачальник, стремящийся к выполнения поставленной перед ним боевой задачи. Иначе выглядев центральный герой романа Джеймса Джонса «Отсюда в вечность» рядовой строевой службы Роберт Прюитт Действия его далеко не всегда вытекали из обстоятельств и случалось так, что он сам терялся в объяснении собст венных поступков. i
Больше всего на свете Прюитт любил армию, в которук он добровольно завербовался вплоть до истечения трид цатилетнего срока службы. Ему всегда был по душе не стройный хор звуков казармы и гарнизонного двора — лязгание стальных ободьев на колесах повозок, шум мото ров и слова команды, ритмичное шарканье десятков сол датских ботинок, хриплая брань раздраженных сержантов «Где-то на жизненном пути, — пишет Джонс на первьп страницах романа, — ты встретил все это, и оно стал< частью тебя самого. Ты узнаешь себя в каждом звуке, ко торый слышишь. Нельзя отречься от этого, не отрекаяс] в то же время от самой своей сути». Однако по мере дви жения сюжета к развязке могло сложиться впечатление что герой книги, действуя сознательно или неосознанно, в< многом сам приблизил свой конец. «Я всегда портил все к чему прикасался», — вслух размышляет Прюитт, когд< главные события его жизни уже позади, и эти слов; перекликались со знаменитым афоризмом О. Уайльда — «Любимых убивают все», — который английский писател] сформулировал как обобщение опыта собственной жизни Не отказывая горькому парадоксу в известной справед ливости, вместе с тем необходимо в случае с Роберто» Прюиттом сделать основательную поправку на те реаль ные и для многих гибельные обстоятельства армейско! регламентации и отразившиеся в ней социальные нравь Америки, показ которых занимает основное место ] книге Джонса.
Среди десятков персонажей романа больше всей «нижних чинов» — от «замухрышки» рядового Маггис до старшины роты Милта Уордена; изображение солдат 42
ского быта составляет главный и наиболее широко разработанный пласт содержания книги. Армейский уклад на далеких Гавайских островах — это, по замыслу Джонса, словно бы срез со всей американской действительности. Среди одетых в хаки солдат легко различимы все те же бывшие рабочие, фермеры, батраки, бродяги, городские пролетарии, образы которых впервые вошли в литературу США и стали фактом коллективного сознания нации благодаря созданным в 30-е годы книгам Дос Пассоса, Фолкнера, Фаррела, Стейнбека. Тема войны, армии всегда неразрывно связана у Джонса с размышлениями об обычном, мирном укладе. Война как таковая коснулась романа Джонса лишь краем; писатель сознательно пожертвовал экзотикой батальных сцен ради изображения относительно «нормального» существования, способного с большим основанием претендовать на выражение типичного и универсального.
Типичен в романе «Отсюда и в вечность» жизненный путь Роберта Прюитта, типичны обстоятельства, приведшие его в армию. Сын бедняка-шахтера, он не мог не стать солдатом. Это была единственная дорога, открытая для таких парней, как он. Поворотным пунктом в предыстории Прюитта послужила стачка горняков Гарлана, штат Кентукки, оставившая заметный след не только в анналах рабочего движения Америки, но и в ее литературе. «Говорят горняки Гарлана» — под таким заголовком в 1932 г. была издана брошюра, в составлении которой приняли участие Т. Драйзер, Дж. Дос Пассос, Ш. Андерсон и другие литераторы, вставшие на сторону эксплуатируемого пролетариата. Так в литературе США сомкнулись две эпохи, объединенные единой идейно-психологической общностью — протестом против социальных порядков в капиталистической Америке.
Бунтарство, непокорность — главная черта личности Прюитта, выделяющая его из числа ему подобных. В казарме за ним прочно закрепилось прозвище «большевик», и товарищи Прюитта, Ред и Маггио, никак не могут донять причин его бескомпромиссного максимализма. Он конфликтует с начальством, переходит из одной части в другую и, наконец, попадает в гарнизонную тюрьму, потому что выше любого «тепленького местечка» ставит свое право на раскрытие человеческой индивидуальности — хотя бы в тех пределах, что предоставлены ему, как и каждому солдату его роты, армейским режимом.
Для жалоб на «проклятую жизнь» и «несчастную судь-i билу», по привычке, почти автоматически слетающих с губ солдат, есть вполне основательные причины, корни кото-2 рых уходят гораздо глубже поверхности армейского быта] Мотив одиночества человека, его атомарности и а но ними ности, составивший впоследствии идейный стержень мно-j гих книг Джонса, зарождается уже в его первом романе^ Писатель убедительно показывал, что армия США всегда оставалась строго иерархичным учреждением, почти зеркально отражающим классовую структуру буржуазного общества. «Ты не новобранец и должен знать, что в армии у каждого есть свои обязанности, — внушает Прюитту капитан Холмс. — Можно подумать, что ты свободен, но на самом деле это не так. Как бы высоко ты ни поднялся, всегда над тобой есть кто-то еще, стоящий выше тебя и знающий обо всем лучше тебя»1. Американская армия, по Джонсу, — это та же гражданская служба, только противоречия между высшими и низшими здесь более подчеркнуты и обнажены. Борьба за восстановление подавленных человеческих прав, попытка вернуть утраченное еще до рождения ощущение социального и психологического равновесия — вот что, по мысли писателя, составляет главный нерв наиболее цельных натур, выделяющихся из солдатской массы, — будь то рядовой Прюитт или старший сержант Уорден.
Утверждая принципы критического реализма, Джонс неизменно трезв и прям в изображении своих персонажей, но его перо особенно беспощадно по отношению к скофилдским офицерам. В их числе полковник Далберт, одержимый идеей, согласно которой из способных спортсменов непременно вырастают толковые командиры; беспринципный карьерист Холмс и коротышка Калпеппер, представляющий собой не более чем неудачный постскриптум к длинной родословной профессиональных вояк, берущей начало еще в армии южан-конфедератов. Вся их служба давно обратилась в сплошной досуг, заполняемый гольфом, попойками и любовными похождениями. Заметный контраст к этой галерее одновременно комичных и жалких лиц составляет фигура бригадного генерала Сэма Слейтера.
Создавая этот образ и подробно излагая «теории» Слейтера, к которым с некоторым испугом, а вместе с тем и с воодушевлением прислушивается капитан Холмс,
1 Джонс Дж. Отсюда и в вечность. М., 1969. С. 54.
44
Джонс позволял себе быть несколько анахроничным. Концепции «военного менеджеризма» и «тотальной организации» армии получили широкое распространение в США уже после разгрома Германии и Японии в обстановке истерического антикоммунизма конца 40-х — начала 50-х годов. Идеи Слейтера — это лишь немного предвосхитившее свое время законченное обоснование антидемократических действий, продиктованное стремлением империалистических кругов Америки к мировому господству. Основным средством для «укрепления дисциплины» в Соединенных Штатах должен стать, по Слейтеру, «социальный страх». «Это, по существу, единственный источник мощи, — изрекает генерал в беседе с Холмсом. — Современные армии, как и другие организации современного общества, должны управляться только посредством страха... Секрет состоит в том, чтобы заставить каждого бояться старших и презирать подчиненных». Превращение Америки в военизированный лагерь, обходящийся без «абсурдной морали» и «противоречивых сантиментов», является конечной целью Слейтера, и он твердо убежден, что «объединить все под единым централизованным контролем способны только военные»1.
Свои полуфашистские воззрения, которым не хватает только черт расизма и национальной исключительности, Слейтер старательно связывает с заботой по сохранению «организованного общества» и западной цивилизации. Его не устраивает нынешняя степень контроля со стороны монополий над всей хозяйственной и в значительной мере общественно-политической жизнью Соединенных Штатов. «Американская мощь расходуется понапрасну, — провозглашает Слейтер. — Стране необходимо твердое руководство, и если мы поймем это, то в сочетании с нашими производственными способностями и промышленной техникой мы будем непобедимы, даже в столкновении с Россией, когда пробьет этот час». Так в случайной обмолвке во время застольной беседы Джонс раскрыл кредо одного из типичных представителей антикоммунистической идеологии, влияние которой и по сей день остается важнейшей пружиной внешней политики Соединенных Штатов.
Когда, закончив работу над романом «Отныне и во веки веков», писатель посвятил его «армии Соединенных Штатов», он вовсе не поступил при этом «иронически», как однажды заметил критик М. Гайсмар. Нельзя отри-
Джонс Дж. Отсюда и в вечность. С. 231, 237, 238.
цать внутренней близости между Джонсом и центральным персонажем его книги, который одновременно и протестовал против армейского уклада, и искал в нем защиты от еще более неприглядных проявлений американской действительности. Даже сидя в тюрьме и уже в полной мере вкусив от ее каторжного режима, Прюитт остается в плену мысли, ставшей частью его натуры, о неколебимой связи между солдатами и армией. Он не одобряет намерения своего лучшего друга Маггио, задумавшего «расторгнуть союз с Соединенными Штатами» и бежать в Мексику, и с ужасом вспоминает о судьбе героя читанной еще в детстве хрестоматийной новеллы Р. Гейла «Человек без родины», морского офицера, осужденного на вечное изгнание. Прюитт остается верен своим убеждениям вплоть до последних мгновений жизни, что, разумеется, ни в коей мере не дает повода усомниться в органичной чуждости Джонсу идей милитаризма и воспевания американской военной мощи. Близость Прюитта к армии, к своим товарищам есть не что иное, как форма его единения со всей страной, с демократической Америкой, воспитавшей в нем инстинкт бунтарства и вместе с тем внушившей мысль о существовании нечто более высокого, нежели индивидуалистическая бравада. Одиночество многих — это уже не одиночество одной тоскующей и мечущейся души. Армия, согласно Джонсу, не только подавляет, но и помогает устанавливать связи, и таким средством высказаться сразу перед всем миром для Прюитта становится его горн, искусство трубача, которому посвящены едва ли не самые вдохновенные страницы романа.
Впервые взяв в руки инструмент, Прюитт понял, «что горн его призвание, что, если играть так, как ему хочется, его жизнь на земле будет оправдана. Он сразу почувствовал, что в этих звуках есть что-то такое торжественное, чего словами не выразишь...»1. «Чего словами не выразишь» — таков важный лейтмотив огромной книги, ибо ее автор не раз подчеркивал, что он ждет от своего читателя не только внимания к фабуле и идеям, но и сопереживания эмоциям, скрытым под нарочито шершавой стилистикой и наслоением порой однообразных подробностей. Чувства смутного беспокойства и тревоги, а затем и по-лумистического наваждения, охватывающие солдат ско-филдских казарм при звуках горна Прюитта, — вот лишь некоторые «полоски» эмоционального спектра произведе-
1 Джонс Дж. Отсюда и в вечность. С. 30.
46
ния, сочетающего самый трезвый и беспощадный реализм с задушевной романтичностью. «Блюз сверхсрочника», сочиненный Прюиттом и его друзьями и напечатанный в качестве постскриптума к роману, таит в себе песнь о Великом одиночестве, которое «заползает в сердце и, подобно ветру пустыни, иссушает ее». «То была, — восклицает Джонс в одном из наиболее патетических мест книги, — песнь о людях, лишенных пристанища, и исходила она от человека, которому тоже негде было преклонить голову, и поэтому он смог сочинить ее. Вслушайся в нее, вспомни этот мотив. Ты ведь знаешь его, не так ли? Ночью, пытаясь заснуть, ты напрасно зажимаешь уши, а вечером оглушаешь себя пятью мартини подряд, чтобы не слышать его... И солдаты тихо выходили из глубины бараков, слушали горниста, и вдруг им перехватывало горло ощущение страха от сознания той близости друг к другу, что перечеркивает все личные вкусы... Затем так же тихо они возвращались обратно, опустив глаза и стесняясь самих себя, как бы не желая больше всматриваться в выставленную на погляденье обнаженную человеческую душу».
Присутствие в романе Джонса лирических сцен и интонаций некоторые западные литературоведы были готовы приписать «постыдной и достойной осмеяния сентиментальности» писателя. Однако эта мягкая задушевность, которой были вовсе лишены «Нагие и мертвые» Мейлера, лишь расширяла палитру изобразительных средств автора «Отсюда и в вечность». Романтические мотивы были здесь не так выражены, как у представителей «субъективной прозы», занявшей вскоре видное место в литературном процессе 50-х годов. Вместо свойственной этому течению камерности, субъективности у Джонса преобладало глубокое аналитическое, детальное и вместе с тем отнюдь не «приземленное» исследование важных социальных конфликтов своего времени.
Многие из тем, сделавшихся популярными и даже профилирующими в послевоенной американской прозе, были заявлены Дж. Джонсом в его первом романе. Отчуждение и некоммуникабельность, анонимность, деперсонализация — все эти социально-психологические категории были представлены здесь в выпуклых реалистических сценах армейской жизни. Чувство трагедии в романе рождалось не «ужасами войны», а той немыслимой пустотой существования в буржуазном обществе, которая с еще большей горечью проявляется в гнетущей обстановке военной бюрократии. «Ужасен мир, а не война», — обмолвился как-то
Джонс, и это пародоксальное замечание имело прямое отношение к складывавшейся в послевоенной Америке идеологической атмосфере. Послевоенный мир действительно казался ужасным, и прежде всего потому, что взамен реалий борьбы, жизни и смерти, дававших писателю прежде твердую точку опоры, он все отчетливее ощущал наступление сытой буржуазной пошлости и откровенной политической реакции.
3. РОМАНЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ И АНТИМАККАРТИСТСКОГО ПРОТЕСТА
Существенным фактором литературной обстановки в США во второй половине 40-х годов было творчество писателей, унаследовавших от предвоенного, «гневного» десятилетия как интерес к социальной тематике, верность эстетическим принципам реализма, так и приверженность прогрессивным общественно-политическим убеждениям, подводившую многих из них к пониманию необходимости борьбы за достижение социалистического идеала. Этот комплекс идей не оставался неизменным от года к году, от произведения к произведению. Периодическое обострение внутриполитической обстановки, затянувшаяся полоса «холодной войны» в международных отношениях и постоянное незримое давление антикоммунистической пропаганды создавали нелегкие условия для работы писателей социалистической ориентации. Под воздействием реакции некоторые из них останавливались в творческом росте, допускали идейные просчеты, а иногда и переходили на позиции, диаметрально противоположные своим же недавним взглядам.
Литература США, вдохновлявшаяся прогрессивными общественно-политическими идеалами, подверглась особенно суровым испытаниям в наиболее трудную для послевоенной Америки пору ее истории — в эпоху, обобщенно именуемую эпохой маккартизма. «То были годы черных списков, когда людей, связанных с искусством и развлечениями, — писателей, режиссеров, актеров — допрашивали, выясняя их политические убеждения и связи, и в том случае, если эти симпатии хоть в малейшей степени принадлежали коммунизму, преследуемых выгоняли с работы, а если они были к тому же обвинены в «неуважении к конгрессу», то сажали в тюрьму, — писала газета «Нью-Йорк тайме». Необходимо подчеркнуть, что нападки на прогрессивно мыслящих деятелей литературы и искусства 48
начались задолго до первой «погромной» речи сенатора Дж. Маккарти, произнесенной им в Уилинге, штат Западная Вирджиния, 9 февраля 1950 г. Еще в 1947—1949 годах было затеяно печально знаменитое «голливудское дело», развернулись судебные преследования прозаиков Л. Бесси, Г. Фаста, А. Мальца, Р. Ларднера-младшего. «Весь кошмар маккартизма и гневное сопротивление ему возникли не просто из ничего или козней одного человека; это только новейшее проявление противоречий, присущих самой американской жизни и уходящих своими корнями в глубь американской истории», — справедливо рассуждает исследователь современной культуры США Л. Гурко.
Нельзя недооценивать пагубное влияние на художественную литературу политического климата, установившегося в США вскоре после окончания второй мировой войны. Однако называя сложившуюся обстановку «тупиком для писателей» и ссылаясь на многочисленные факты репрессий, известный драматург-коммунист Дж. Г. Лоусон имел основания даже в самые гнетущие минуты без наигранного оптимизма полагать, что, «хотя многие голоса на время заглушены, другие должны теперь говорить смелее и отчетливее». Глубоко прав Я. Н. Засурский, подчеркивающий, что «атмосфера маккартизма не смогла убить реалистические традиции американской литературы...»2 Это высказывание приложимо ко всей литературе 50-х годов, составляющих второй этап истории послевоенного реалистического романа. Но оно справедливо и в более узком смысле, применительно к достаточно большому числу произведений, вызванных к жизни непрекращавшейся даже среди разгула маккартизма борьбой демократических сил против наступления реакции. Речь идет о романах активного социального и политического протеста, произведениях чрезвычайно разнохарактерных в плане идейных воззрений их авторов. Среди последних были и несгибаемые поборники социалистических взглядов, и типичные либеральные демократы, и люди довольно нестойких убеждений, лишь на время примкнувшие к прогрессивному лагерю.
Большинство произведений этого направления было обращено к изображению уже ставшей достоянием истории действительности 30-х годов, отмеченных особым накалом классовой борьбы («Большая Среднезападная»
1 Гурко Л. Кризис американского духа. М., 1958. С. 27.
*’ Засурский Я. Н. Американская литература XX века. С. 358.
А. Сакстона, 1948; «Железный город» Л. Брауна, 1951 «Долина в огне» Ф. Боноски, 1953; эпический цикл Л. Лоренса «Семена» и др.). В то же время трудно согласиться с М. О. Мендельсоном, полагавшим в начале 60-х годов, что «даже сегодня нельзя назвать ни одного действительно крупного художественного произведения, созданного писа-; телем, тяготеющим к методу социалистического реализма; в котором жизнь США в годы второй мировой войны полу-?! чила бы вдумчивое и яркое отображение»1. Критерии, вы-двигавшиеся в данном случае исследователем, весьма высоки, но, поднимая этот вопрос, думается, не следовало? бы сбрасывать со счетов романа А. Сакстона «Светлая-паутинка во тьме» (1958). j
Повествуя о жизни Соединенных Штатов в военное время, о черных и белых рабочих крупного судостроительного и судоремонтного предприятия в Сан-Франциско, книга Сакстона по своему художественному уровню едва ли уступала его предыдущему роману. Можно согласиться, что новой работе Сакстона не хватало широты эпических обобщений и что писатель во многом ориентировался на сложившийся в «пролетарской литературе» 30-х годов жанр «стачечного романа», хотя и перенесенного в несколько иную историческую обстановку, но не подвергшегося существенному переосмыслению. Отсутствие хорошей писательской школы и склонность к облегченным художественным решениям, препятствующим достижению полной реалистической достоверности, свойственны, пожалуй, всему творчеству Сакстона, но в применении к «Светлой паутинке во тьме» все же скорее прав П. С. Балашов, отмечавший, что, «хотя роман написан неровно, в нем есть ряд сильных драматических сцен, раскрывающих и психологический облик героев и борьбу рабочих негров за свои права»1 2.
В конце 40-х и в 50-е годы ведущей темой литературы социалистических идей становится протест против попыток подавления маккартизмом гражданских прав личности. Глубокое негодование по поводу «охоты за ведьмами» писатели социалистической ориентации разделяли с теми представителями либерально-демократической интеллигенции, которые и вели литературную летопись натиска реакционеров, и стремились дать отпор типичным его проявлениям. Их произведения были весьма разнообразны и
1 Мендельсон М. Современный американский роман. С. 487.
2 Современная литература США. С. 98.
разноплановы по своему идейно-тематическому и композиционному складу. Значительное число среди них составляли романы, стилизованные под документальную, фактографическую литературу, сконцентрированные вокруг описания вопиющих нарушений маккартистами куцых буржуазно-демократических свобод. В «Вашингтонской истории» Дж. Дайса (1949) и в романе Ф. Джексона «Да поможет мне бог» (1955) в центре внимания — разоблачение реакционных политиканов и судейских чинов, повинных в разжигании не только антикоммунистической, но и анти-либеральной истории; аналогичный конфликт между маккартистами и людьми последовательно демократических воззрений зафиксирован в романе К. Марзани «Уцелевший» (1958). Более сложную структуру имели книги, написанные не без оглядки на недавние образцы «романа воспитания» в творчестве У. Фрэнка и Т. Вулфа; в этой связи необходимо в первую очередь выделить «Исступление Оуэна Мюира» Р. Ларднера-младшего (1954) и «Антиамериканцев» А. Бесси (1957). В своеобразный жанр социального «романа об ученых» сложились произведения М. Уилсона «Живи среди молний» (1949), «Брат мой, враг мой» (1952), «Дэви Мэллори» (1956).
Во многих романах, явившихся отзвуком политических битв 40—50-х годов, действие происходило в интеллектуальной, а более узко — в академической среде, хорошо знакомой авторам по непосредственным впечатлениям. Однако нередко этой предметной общностью все и ограничивалось. Крутой идеологический водораздел пролегал между ранними работами М. Маккарти и романом Л. Триллинга «Середина путешествия» (1947), с одной стороны, и произведениями тех прозаиков критического реализма, которые при всей непоследовательности своих убеждений решительно отвергали любые посягательства на традицию свободомыслия, широко практиковавшиеся реакционерами под флагом актикоммунизма. В романе М. Маккарти «Рощи Академии» (1952) изгнание объявленного «красным» Генри Малколи из колледжа, где он преподает историю, отнюдь не вызвало у писательницы чувства негодования. Объектами ее сверхутонченной иронии служили выразители всех политических верований. Совершенно иную трактовку получал аналогичный конфликт в романе М. Додд «Под лучом прожектора» (1954). Увольнение из университета профессора Майнота, в котором можно было видеть духовного сына г-на Бержере из «Современной истории» А. Франса, поборника идеалов
просвещения и гуманности, не оставляет его коллег равнодушными. С отказом подчиняться процедуре «проверок на лояльность» выступают люди разных поколений, принадлежащие к различным социальным слоям. Своевременный отпор вылазкам реакции делает прочнее, по мысли Додд, связь интеллигенции с народом, с глубокими корнями демократической традиции в Соединенных Штатах.
Готовность к выступлению против «фантомов маккартизма» сохранялась в американском реалистическом романе и после бесславного ухода сенатора Маккарти с политической арены. На протяжении 50-х годов антимаккартист-ский пафос способствовал известной внутренней близости писателей, подчас весьма чуждых друг другу по своим эстетическим принципам и философским убеждениям. Так, в написанном целиком в мягких, колеблющихся тонах, характерных для стилистики «субъективной прозы», и пронизанном философией стоицизма романе Б. Мала-муда «Новая жизнь» (1961) критика не без оснований распознала «отголоски гневных пролетарских пророков — героев прозы красного десятилетия». Заставляя героя книги, «пьяницу и вольнодумца» С. Левина, отрясти со своих ног прах провинциального и крайне консервативного колледжа Каскадия, в котором тот преподавал «основы творческой композиции», Маламуд делал решительный шаг в сторону социально-критической проблематики. Но гораздо раньше с большими внутренними трудностями и, пожалуй, с большим художественным эффектом антимаккартистская тема вошла в творчество другого ведущего «молодого романиста» послевоенной Америки — Н. Мейлера.
Нередко начинающие прозаики, прославившиеся благодаря успешному дебюту, посвящают следующую книгу рассказу об обстоятельствах, при которых создавалось произведение, сделавшее их знаменитостью. Присутствие личного момента было очевидным в романе Мейлера «Варварский берег» (1951). Молодой литератор Мики Ловетт, ютящийся в жалкой комнатенке доходного дома в Бруклине и экономящий на всем, дабы иметь средства для работы над рукописью, — это отчасти и сам писатель в пору создания им «Нагих и мертвых». Однако автобиографичность — лишь один и далеко не самый существенный элемент структуры произведения. Время, зафиксированное Мейлером в его новом романе, — это мрачная пора, когда повсюду разворачивалась кампания борьбы против прогрессивных сил, сопровождавшаяся также и внутренним 52
брожением, острыми дискуссиями. Поддаваясь как публицист, автор статей в журналах «Партизан ревью» и «Диесе нт» иллюзиям леваческого радикализма, Мейлер-ро-манист гораздо трезвее и точнее судил об объективных процессах в интеллектуальной жизни страны, чутко отзывался на перепады и парадоксы идеологических битв. Наступление маккартизма и антикоммунистическая истерия дорого стоили прогрессивной Америке, и «Варварский берег» был пронизан неподдельной тревогой за судьбы передовых идей в обстановке политического обскурантизма.
Типичный интеллигент-отшельник, стремящийся замкнуться в «башне из слоновой кости», Ловетт поначалу предубежден против политики. «Из всех бесполезных в конечном итоге средств, с помощью которых человек пытается выразить свою личность, это занятие представляется мне жалким», — изрекает он в беседе со своим соседом Маклеодом, именующим себя «свободомыслящим марксистом». Но развитие событий не позволяет герою долго оставаться в стороне, и вскоре ему приходится определить, по какую сторону идеологических баррикад, разделяющих американское общество, его место. После краткой экспозиции роман Мейлера фактически переходил в публицистический трактат с минимумом художественных достоинств. Сумрачный дом на Бруклинских высотах преображался в подобие трибунала, где раздавались обвинительные и защитительные речи, призывалось в свидетели и заново интерпретировалось недавнее прошлое.
Разнообразный и вместе с тем зловещий набор типажей населял этот микрокосм: располневшая королева бурлеска, ставшая содержательницей меблированных комнат; бывший солдат, пытающий свои силы в литературе; юная девушка, предвестница будущих хиппи; и, наконец, наиболее таинственные из всех — вышеупомянутый Маклеод, а также чистенький банковский клерк Холлингсуорт с именем, словно позаимствованным со страниц «темной» романтики Н. Готорна. Характерно, что их диалоги и пространные излияния крайне редко звучат на свежем воздухе, хотя на дворе начало лета и порывы ветра изредка доносят до слуха крики чаек в нью-йоркской гавани. Но там, где ведутся нескончаемые разговоры, где исповедуются и причащаются бывшие радикалы, всегда стоит невыносимая духота, плотно зашторены окна и ослепительной точкой пылает электрическая лампочка. Чердак либо подвал — 53
вот место, где по обыкновению протекает действие политической драмы Мейлера.
Как выяснилось, под личиной незаметного Маклеода скрывался видный деятель прогрессивных американских кругов, порвавший, правда, с ними связь еще десять лет назад и одно время выступавший даже в качестве добровольного осведомителя. В этом образе Мейлер воплотил верно угаданный и своевременно взятый из действительности тип «раскаявшегося бунтаря», блудного сына буржуазного общества, который надломился в обстановке спада радикалистских настроений. Таких людей было немало в США в 40-е годы не только среди рядовых работников, но и в числе идеологов-интеллектуалов, и, стремясь психологически реконструировать надломленное сознание, Мейлер исходил из особой важности и, быть может, «профилактического» значения этой задачи.
В осуждении Маклеода смыкаются представители противоположных общественных сил: страстная радикалка Лэнни и переодетый агент правительственной охранки Холлингсуорт, характер которого, как можно предполагать, был задуман Мейлером не без влияния образа Порфирия Петровича, полицейского следователя из «Преступления и наказания», умело направлявшего приход Раскольникова к признанию своей вины и раскаянию. Не расстающийся с маской простачка, заурядного американца, чуждого политики, философии и вообще «высоких материй», Холлингсуорт тем не менее не пасует в долгих беседах с тем, кого молва называла одним из самых острых и диалектических умов во всем радикалисте ком движении. «Вы были несчастны всю свою жизнь по собственной вине и стыдились в этом признаться, — увещевает Маклеода этот искусный ловец человеческих душ. — Поэтому вы во всем обвиняли так называемое общество, а это вовсе не обязательно. Нужно иметь побольше скромности, нужно понять, что другие люди ничуть не хуже, и тогда многое станет на место. А кроме того... никто не знает, что у нас внутри, в сердце, а эта штуковина иногда выделывает такое...»
Но Маклеод уже не нуждается в психологической обработке со стороны способного детектива, опирающегося на всю мудрость новейшего скептицизма, начиная с Достоевского и Ницше. Он не кривит душой, сознавая себя, по его собственным словам, «жалким ренегатом, паршивой собакой, отбившейся от стаи». Пытаясь зажечь своих слушателей и судей словом, в своей последней речи Маклеод 54
томительно и длинно излагает «теоретические» соображения относительно будущности капитализма и социализма и их неминуемого (согласно ортодоксальным взглядам оратора) столкновения. Сухим выкладкам Маклеода не хватает, однако, конкретности, непосредственной связи с общественно-политической реальностью послевоенного мира. А кроме того (и это главное), неубедителен сам пафос речей человека, вначале отрекшегося от того, что в течение нескольких десятилетий составляло смысл всей его деятельности, а затем, в минуту отчаянного и окончательного расчета с прошлым, выступившего со схоластическими пророчествами.
Осуждение Маклеода вовсе не означало, что Мейлер критиковал прогрессивный социалистический идеал. Напротив, этой книгой Мейлер вступал в прямую полемику со своим бывшим наставником, профессором Колумбийского университета Л. Триллингом, незадолго до того опубликовавшим подчеркнуто антикоммунистический роман «Середина путешествия». Борьба за душу молодого либерала Джона Ласкелла завершилась у Триллинга «прозрением» последнего, обретением им «истины» в буржуазном филистерстве. Принципиально иное решение находил Мейлер в «Варварском береге» для своего героя Мики Ловетта.
В финале романа Ловетт бежит прочь из душной обстановки взаимных обвинений и перебранок. Его дальнейший образ действий еще неясен, но он готов «жить, ожидая знака, который скажет, что пора вновь трогаться с места». Ловетту чужда макиавеллистская тактика Маклеода, но не возвышенные, коллективистские убеждения, бывшие знаменем анти капиталистических выступлений «красного десятилетия». А пока следует «работать и учиться, не сводя глаз с двери... зная, что эпицентр бури надвигается и лодку сносит все ближе к опасному берегу». Так формулировал Мейлер мироощущение бунтарей после великой битвы 30-х годов, и с точки зрения типологии исторических процессов любопытно, что примерно в тех же выражениях двадцать лет спустя подводили итоги своей деятельности и оценивали новую обстановку американские радикалы следующего поколения — люди «шестидесятых годов».
Подчеркнуто «интеллектуализированная», перенасыщенная полемическими диспутами проблематика «Варварского берега» позволила Мейлеру выкристаллизовать ряд чрезвычайно актуальных для охваченной маккартизмом
Америки проблем, но в то же время пагубно сказалась на художественности произведения. Лишь в первых главах писатель придерживался объемных жизненных пропорций и реалистических мотивировок. С приведением в действие основной интриги его изобразительная манера во все большей степени смещалась в плоскость своего рода «фантастического реализма», по образу и подобию, скажем, «Двойника» или «Хозяйки» Достоевского, но с еще большей нарочитостью и искусственностью литературного конструирования.
Стремясь к максимальной интенсивности мысли, Мейлер почти не прибегал к таким относительно «нейтральным» композиционным элементам, как описание, портретные или пейзажные зарисовки. Намеренное нарушение традиционно реалистических канонов отвечало более общим соображениям, постепенно складывавшимся у прозаика. Гротескный произвол, утверждал он, становится нормой американской реальности; как в жизни, так и в литературе торжествует эстетика сновидения, когда отдельные сцены выделяются ясными и точными очертаниями, но их совокупности чуждо организующее воздействие посюсторонней, земной логики. Эти предположения не носили пока развернутого характера, да и первый эксперимент никак нельзя было признать творческой удачей. Но писатель не спешил с ломкой своего творческого метода.
Следующий роман Мейлера «Олений парк» (1955) опирался на более прочную реалистическую основу и в значительной степени был посвящен пагубному воздействию маккартизма на общественную и художественную жизнь Америки.
В восприятии большинства литературоведов и критиков эта книга Мейлера тесно связана с возникновением в ней в зачаточном виде известной концепции «хипстера», или героя экзистенциалистской складки, которая спустя два года получила развернутое обоснование в эссе «Белый негр». Такой эскизный портрет «хипстера» как человека, сжигающего за собой мосты буржуазной цивилизации, действительно возникал в «Оленьем парке», например в образе сутенера-любителя Мариона Фея, свободного художника, промышляющего своим малопочтенным занятием не ради выгоды, а в целях «открытия новых эстетических и эмоциональных горизонтов». Однако сенсационность и известная «рискованность» некоторых побочных идейно-композиционных линий помешала современникам 56
разглядеть основной содержательный пласт романа, по праву закрепивший за ним место в ряду особенно бескомпромиссных и ярких произведений антимаккартист-ского протеста.
С точки зрения реалистической эстетики «Олений парк» гораздо более «традиционен», нежели «экспериментален». В нем без труда можно различить как композиционную основу (историю испытаний и внутреннего надлома кинорежиссера Чарлза Эйтеля), так и выразителя авторской позиции в образе бывшего военного летчика Сержа О’Шонесси, который в целом соответствовал одной из традиций американского романа XIX и XX столетий. Внимательный, но несколько отрешенный и подчас уходящий в собственные переживания наблюдатель, О’Шонесси близок классическому типу рефлексирующего героя, сложившемуся в литературе США на пути от Ишмаэля в «Моби Дике» Мелвилла до Ника Кэрроуэя из «Великого Гэтсби» Фицджеральда. Правда, в отличие от Кэрроуэя, вхожего в лучшие дома Нью-Йорка и Лонг-Айленда, мейле ровский герой — одиночка без роду и племени, обладатель звучного, но, как выясняется, фиктивного имени и ненадежного капитальца, гарантирующего ему несколько месяцев независимого существования. Демобилизовавшись из экспедиционных войск ВВС, Серж выдает себя за ирландца знатного рода, но на самом деле он всего лишь словенец, т. е. стоит в американской «табели о рангах» па много ступеней ниже, и это обстоятельство с детских лет наполняет его мучительным сознанием собственной социальной неполноценности.
Симптоматично, что впервые свою чужеродность и «не-созвучность» буржуазному укладу герой Мейлера осознал в ходе военных действий в Корее, где ему приходилось сбрасывать напалм на хижины мирных жителей. Признание несправедливости войны привело к нервному расстройству, после чего по решению медиков он был уволен вчистую. Военная карьера, которой с малолетства были подчинены все помыслы О’Шонесси, рухнула, и в двадцать три года он почувствовал себя стариком. Тогда ему в голову пришла мысль стать писателем (близкая аналогия с Мики Ловеттом из «Варварского берега»). Переселившись в Южную Калифорнию, в вымышленный, неправдоподобный город Золотая пустыня, выстроенный специально для увеселения богатых и праздных, он встречается там еще с одним «обломком кораблекрушения» — с
недавней голливудской знаменитостью Чарлзом Эйте-лем.
Кинорежиссер Эйтель — одна из мишеней «охоты за ведьмами», развернувшейся в Голливуде на рубеже 40— 50-х годов. Ее началом в данном случае стал допрос в следственной комиссии конгресса, в ходе которого Эйтель позволил себе шутливый тон в отношении такой высокой святыни, как американский патриотизм. Еще А. Бирс утверждал в «Словаре сатаны», что идеи этого патриотизма всегда служат «первым прибежищем негодяев». Герой Мейлера разглядел тут, однако, и привлекательную сторону. «Патриотический долг — превосходный предлог для того, чтобы без предупреждения оторваться от нелюбимой жены», — изрек он под хохот всего зала. Веселье, впрочем, продолжалось недолго; за отказ «сотрудничать» с комиссией Эйтель был изгнан из Голливуда, ему не оставалось ничего другого, как искать вынужденного покоя в Золотой пустыне.
Агентов служб безопасности и конгресс интересовало многое: имена тех, кто воевал вместе с Эйтелем в Испании, с кем он встречался на вечеринках и приемах, кто предложил ему подписать воззвание в защиту детей, жестоко эксплуатируемых на тяжелых работах в соляных копях штата Алабама. И тактика «выкручивания рук» возымела действие: без особого сопротивления недавний диссидент уступает по всем пунктам. Спустя всего год после бравады в зале заседаний комиссии он соглашается подписать слезливое ренегатское покаяние. Достаточно было самого легкого соприкосновения с реальной действительностью, с ее невзгодами в виде неоплаченных счетов и не очень последовательного остракизма со стороны бывших приятелей и компаньонов, чтобы поставить на колени либерала-попутчика, еще недавно кичившегося своими «розовыми» взглядами.
Констатируя гражданскую капитуляцию Эйтеля, Мейлер исследовал и внутренний процесс оскудения его таланта, включенного в общую систему голливудской «массовой культуры». «Прошлое разъедает настоящее подобно раковой опухоли», — звучал хорошо знакомый афоризм, но прошлое Эйтеля неоднозначно: это и участие в интернациональных бригадах, но вместе с тем это и постоянные уступки на «главном направлении», в сфере собственного творчества. «Успех пришел к нему, — писал Мейлер, — благодаря голоду и гневу, но в последние годы, проведенные в столице кино, его голод был утолен, а гнев сменился 58
остроумием; так спала волна душевного порыва, а вместе с ним иссякла и энергия его дара». Данное наблюдение имело и более широкий смысл, будучи справедливым для немалого числа американских писателей и кинодраматургов, проделавших в короткое время путь от бунта к легкому успеху и, далее, к конформизму. Дж. Дос Пассос, К. Одетс, Э. Дальберг, Д. Хэммет (этот список можно было бы продолжить) — все они в той или иной мере были затронуты этой прискорбной тенденцией литературной и культурной эволюции Соединенных Штатов в 40— 50-е годы.
Суть психологической драмы Эйтеля, способного и популярного кинорежиссера, в том, что, набив руку на сугубо развлекательных постановках, он не в состоянии вновь выйти к подлинному, высокому искусству. Живя в Золотой пустыне и работая над сценарием фильма, который, как надеется Эйтель, перечеркнет все мелочное и недостойное в его прошлой карьере, он приходит к мысли, что «самое главное в художнике — это инстинктивная реакция стыда и презрения к самому себе, если созданное им оказывается ниже его возможностей». Но сделанное открытие пропадает впустую, ибо Эйтель забывает о нем, когда полномочный посланник Голливуда Колли Маншин требует у него то же самое, что некогда Мефистофель получил от доктора Фауста, — человеческую душу. Эйтель должен не только поделиться замыслом сценария, составлявшего долгие годы предмет его размышлений, не только уговорить своего друга О’Шонесси участвовать в кинобизнесе, к которому тот преисполнен непреодолимого отвращения, но и уладить свои разногласия с официальным Вашингтоном.
Эйтель, как и некоторые другие жертвы маккартизма, сопротивлялся недолго. Сценарий, к режиссерской разработке которого он, наконец, приступил, имел мало общего с первоначальной идеей. Вновь возобладали каноны киноремесленничества: «Немного сахарного сиропа, немного кислоты и море сантимента — так всегда изготавливались пирожные к чайному столу зрителя, приносившие премии и награды. Было приятно, что работа кипела, и дело подвигалось вперед с цинической быстротой». Столь же быстро разочаровываются в Эйтеле немногие по-настоящему близкие ему люди: его возлюбленная Елена Эспозито и заметно повзрослевший за прошедшие месяцы Серж О’Шонесси.
Стремительное, на протяжении нескольких страниц,
59
перерождение Эйтеля из созерцательного, удалившегося от дел философа в откровенного циника не до конца психологически мотивировано Мейлером. Однако сам пример подобного надлома был глубоко типичен для охваченной маккартизмом Америки. Но писатель стремился не только к критике слабых духом. Начиная с «Оленьего парка», у него возникает стремление к воплощению положительного и даже в чем-то героического идеала, противостоящего современным «долинам шлака» и «неоновым джунглям» коммерческой цивилизации.
В отличие от прочих персонажей «Оленьего парка» Сержу О’Шонесси органически чужд нравственный климат Голливуда. Размышляя над выбором — либо согласиться на роль супруга кинодивы, увеселяющего ее гостей на домашних приемах, либо вовсе отказаться от претензий на роскошную жизнь и вместо этого мыть грязные тарелки в ночном ресторане, он находит в себе мужество противостоять обольстительным сиренам из мира грез и сновидений.
Он отвергает предложенную ему немалую сумму за право использования его имени и биографии для съемок очередного душещипательного боевика и остается равнодушным к перспективе быть еще одним мальчиком на побегушках в какой-либо из съемочных групп. Верный инстинкт, сформировавшийся в детстве у бездомного сироты, воспитанного в приюте для бедных, дает ему в руки нить, позволяющую сохранить внутреннее равновесие и достоинство, невзирая на все испытания и соблазны пресыщенной и жестокой Америки. Этот инстинкт приводит Сержа, которому после Золотой пустыни довелось испытать свои силы в качестве археолога, ковбоя и даже матадора-любителя, в читальный зал нью-йоркской библиотеки, где каждая новая книга становилась для него «еще одним витком спирали бессознательного интеллектуального поиска».
Два месяца, проведенных над «Капиталом» Маркса, не сделали героя Мейлера убежденным социалистом, но его кругозор неизмеримо раздвинулся и хаос увиденного и пережитого сменился гораздо более упорядоченной картиной мира.
Свидетельство и доказательство тому — написанная от его лица книга, где в зеркале строгого реализма отразились и слабодушие крупного таланта, и аморальность безответственной, мотыльковой жизни, и не обязательно выходящая на передний план, но тем не менее вез-60
де сущая железная хватка политической и экономической необходимости, заметно корректировавшая наивные представления о свободе устройства собственной судьбы в послевоенных Соединенных Штатах.
Американская критика, в целом недооценившая роман, все же сделала исключение для фигуры рассказчика, полуинстинктивно уловив в ней черты нового литературного героя, получившего вскоре шумную рекламу благодаря выступлению битников. Но не менее существенной для книги была и общественно-политическая позиция ее автора, который присоединился к многочисленным голосам протеста против попрания элементарных норм демократического устройства.
Опубликованный в разгар маккартизма «Олений парк» и в современной обстановке производит впечатление резкого обвинительного акта, разоблачающего вмешательство ЦРУ и других репрессивных орудий буржуазного государства в жизнь многих американцев. В середине же 50-х годов нужно было обладать особым мужеством, чтобы не только заклеймить эту практику в публичном выступлении, но и в художественной форме запечатлеть облик возникавших в такой ситуации характерных человеческих трагедий.
Не обладая формальными признаками единого литературного направления и будучи плодом усилий писателей разной степени талантливости и различных убеждений, произведения антимаккартистской направленности составили в совокупности в конце 40-х и в 50-е годы заметную полосу идейно-тематического спектра американского реалистического романа. Необходимость отпора поползновениям реакции сохраняла всю свою актуальность и впоследствии.
На протяжении 70-х годов вопрос об отношении к маккартизму постоянно находился на повестке дня дискуссий в среде американской творческой интеллигенции, и они вспыхивали с новой силой по любому поводу — будь то выход в свет автобиографической книги сыновей Э. и Ю. Розенберг (1975), публикация мемуаров Л. Хеллман «Время негодяев» (1976) или исследования Д. Кота «Великий страх» (1978). Особую бурю вызвали воспоминания Хеллман, которая в начале 50-х годов отказалась давать показания комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, а четверть века спустя поименно заклеймила тех, кто, подобно кинорежиссеру Эйтелю в романе Мейлера, выразил готовность сотрудничать с агента-61
ми охранки. Пытаясь умалить значение свидетельств Хел-1 лман, известный социолог правого толка Н. Глейзер упре-Ч кал писательницу в «постыдной поддержке» движения в-защиту мира и осуждал как досадный анахронизм «не-; обоснованное прославление» ею деятелей культуры, по-' страдавших при маккартизме. Однако, подводя итоги полемики и все еще пытаясь поймать автора «Времени не-: годяев» на мелких фактических неточностях, ежемесячник' «Эсквайр» (устами А. Кейзина) вынужден был признать,; что «с Хеллман трудно спорить» и что огромная ауди-j тория просто не в состоянии устоять перед ее мемуа-; рами. ;
Стремлением защитить правоту и достоинство идеалов, подвергшихся нападкам в эру маккартизма, были проникнуты такие заметные произведения конца 70-х годов, кай «Публичное сожжение Этель и Юлиуса Розенбергов». Р. Кувера (1977) и «Тюремная пташка» К. Воннегута^ (1979). Выдержанные в подчеркнуто сатирическом ключе и изобилующие гротескными построениями, эти романы обладали большим публицистическим зарядом и вносили существенный вклад в борьбу с замшелыми ретроградными представлениями. Сюжет романа Воннегута строился; вокруг бесславной карьеры экс-коммуниста, предавшего свои убеждения и примкнувшего в годину испытаний к правому крылу партии республиканцев, а в книге Кувера (как явствовало уже из ее названия) речь шла об одном из самых постыдных преступлений американской реакции.
Непосредственное воздействие художественного опыта реалистической прозы 30-х годов особенно ощущалось на первом этапе послевоенной литературной истории Соединенных Штатов — в творчестве ряда писателей старшего поколения, в произведениях «военных романистов», в романах социалистических идей и антимаккартистского протеста.
Традиции социального романа в той его интерпретации, что сложилась в литературе США в межвоенное двадцатилетие, не заглохли и в 60—70-е годы. Отклики на прогрессивные идеи «гневных тридцатых» слышны, невзирая на противодействие «неоконсерватизма», в произведениях недавнего времени — таких, как роман Э. Л. Доктороу «Гагарье озеро» (1980) и пьеса А. Миллера «Аме-, риканские часы» (1980). «Тридцатые годы, — пишет Ф. Боноски, — ...стали одним из тех противоречивых, ма-нящих своей значительностью периодов американской 62
истории, живое влияние которых нельзя уничтожить никакими горами написанных о них книг, никакими заклинаниями, молитвами и анафемами, произносимыми над вечно воскресающим покойником». Стремление к переменам — постоянный и один из центральных факторов литературного развития, но есть немалые основания полагать, что выкованный творческой практикой «красных тридцатых» идейно-художественный комплекс оставался важнейшим глубинным источником, питавшим реалистическую литературу США на всем протяжении ее послевоенной истории.
Глава II
ЭПОХА «ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНОГО РОМАНА»
«Тучные пятидесятые» — такое наименование закрепи-^ лось в буржуазной историографии США за периодом* наступившим вслед за экономическим кризисом 1948—j 1950 годов и победой на выборах 1952 года кандидата? республиканской партии Д. Эйзенхауэра. «С конца корей-? ской войны вся нация была увлечена вихрем потребитель^ ских товаров, и по мере роста населения эта тенденция^ расширяла свои масштабы», — утверждал официозны^ публицист Дж. Брукс, ссылаясь на зримые приметы вре-* мени. В прочном достатке виделось щедрое вознаграждение за лишения в годы предвоенной депрессии, а те, кого еще интересовала политика, не прочь были прислушаться к идеологам правого толка, превозносившим Америку как (согласно их терминологии) «гаранта безопасности запада ной цивилизации». *
Однако устойчивость американского быта, опирающая* ся на сытый желудок и телевизионную «массовую куль* туру», представлялась несостоятельной, мнимой многие внимательным наблюдателям как в самой Америке, так > за ее пределами. «В те годы случилось то, о чем не пере-? ставая говорили нам наши писатели-сатирики: мы превра^ тились в общество потребителей, жуиров, благодарный клиентов технической революции... Вместо «американской мечты», «американского примера» на авансцену был вы| двинут лозунг «американского образа жизни», — вспоми| нал поэт и публицист А. Маклиш. В противовес утвержде! ниям апологетически настроенных социологов и историй ков, которые неизменно стремятся представить 50-е годь «золотым веком» быстрого экономического развития I классового мира, якобы способствовавших интеграций творческой интеллигенции в буржуазный «истэблишменту советское литературоведение рассматривает этот период как время сложной перестройки, борьбы противоположный 64 'i
тенденций, сопровождавшейся как известными потерями, так и несомненными приобретениями для реалистического искусства. Вглядываясь в картину американской прозы этих лет, следует различать черты не только духовного кризиса, склонности к апологетике и конформизму, но и того, что говорило о дальнейшем развитии реалистических традиций.
На протяжении 50-х годов реалистическая проза в США во многом изменила свои очертания. На смену последовательности рассказа пришли сдвинутость, разорванность композиции. Четкость точки зрения автора, как бы стоящего за кулисами и наблюдающего за развертывающимся действием, сменилась своеобразной многофо-кусностью изображения, при которой автор и его герой обретали как бы одинаковые «права гражданства», равную долю внимания и доверия со стороны читателя. Этот отход от широко распространенной формы социально-бытового романа наметился и свершился очень быстро и подчас мог наблюдаться внутри творчества одного и того же писателя. Прослеживая эволюцию творчества Дж. Керуака от романа «Городок и город» (1950) к книгам конца 50-х годов, А. А. Елистратова не без основания отмечала, что в отличие от традиционной объективной манеры письма и предметной жизнеподобности первого произведения, повествование у позднего Керуака «идет от лица рассказчика, щеголяющего субъективистской, подчеркнуто бессвязной и хаотической манерой изложения своих воспоминаний»1. Сходные перемены испытала почти в те же годы проза Н. Мейлера на пути от романа «Олений парк» через сборник публицистических фрагментов «Самореклама» (1959) к роману «Американская мечта» (1965).
50-е годы — пора дебютов многих прозаиков, деятельность которых в значительной мере определила в дальнейшем идейно-художественный уровень литературного процесса в Соединенных Штатах. При всем разнообразии авторских индивидуальностей и стилей, представленных в русле реалистического романа, есть основания полагать, что на какое-то время его ведущей модификацией становится то, что получило в ряде исследований советских авторов (и прежде всего у Д. В. Затонского) наименование «центростремительного романа» или «субъективной эпопеи», — направление художественного творчества, выходящее к познанию существенных сторон действитель-
1 Современная литература США. С. 33. 3—647
ности через преимущественное обращение к внутреннем миру личности, ее морально-психологическим проблема» неразрывно связанным с общим социально-исторически] колоритом и духом времени.
Из произведений послевоенной литературы США, тя готеющих к типу «центростремительного романа», в раба те Д. В. Затонского «Искусство романа и XX век» (1973’ подробно рассматривались «Кентавр» Дж. Апдайка! «Бойня номер пять» К. Воннегута, некоторые произведеяния У. Фолкнера, но все же важнейшим объектом ана« ли за оставалось творчество западноевропейских прозаиков Между тем в американском романе второй половинь XX века субъективные «центростремительные» структур!^ не менее распространены, чем в Западной Европе. Пробле^ ма, однако, заключается в том, чтобы ввести эту общукй типологическую категорию в конкретно-исторические рам«< ки, отметить обусловленность притягательной силы «центростремительного жанра» для многих писателе^ внешними, социальными факторами, а также раскрыт^ его внутреннюю сложность, постепенную перестановку в| его пространстве эстетических и идеологических акцентов^
Обращаясь к определению «центростремительного ро^ мана», важно подчеркнуть «разновесомость» упоминаемы^ в этой связи художественных структур, среди которых^ назывались личностные, условные, гротескные, метафори^ ческие и так далее. Ведущее место в этом ряду принад^ лежит, бесспорно, лиричности, субъективности. Именно; о субъективности в первую очередь шла речь у критиков^ наблюдавших с близкой временной дистанции перемены, происходившие в американском романе. «Бесконечна сложные и двусмысленные ситуации», по выражении; Дж. У. Олдриджа, имевшие место в промежутке между выходом сенатора Маккарти на политическую арену (1949—1950 гт.) и, с другой стороны, речью президента Дж. Кеннеди с призывом к отходу от некоторых догм «холодной войны» (июль 1962 г.), легли тяжелым грузом на сознание многих прозаиков Соединенных Штатов. «Странное отсутствие определенности, четкости форм и направления» имело следствием, согласно мысли критика, «неизбежное отступление по всем фронтам литераторов с традиционной тягой к социальной тематике». «Взаме1| ощутимой, лежащей на поверхности темы, — писал Олдридж, — этот период дал нам мучительную неопреде^ ленность «холодной войны» на фоне тревоги и апатииы попеременно сменяющих друг друга или порой даже 66 1
сосуществующих. Для восприятия жизни в то время характерно было в первую очередь гнетущее ощущение, будто нарушены все человеческие контакты, будто мы существуем чуть ли не в мифической абстракции, постичь которую не представляется возможным»1.
Соглашаясь с критиком в общей постановке вопроса, следует со всей определенностью подчеркнуть, что в 50-е годы социальные проблемы ни в коей мере не исчезли с горизонта Америки. Однако характер их проявлений в чем-то изменился, а это требовало большей гибкости художественного выражения. Прямая оппозиция маккартизму внутренне сближала прозаиков подчас несходных идейно-философских убеждений, но помимо непосредственного политического давления в стране сложилась еще более губительная для творчества, всепроникающая атмосфера конформизма. Апологетика «американского образа жизни» порождала целую гамму ее художественного неприятия — от увлечения притчеобразными мотивами до мизантропического субъективизма писателей экзистенциалистской складки или же нервического протеста битников. Само многообразие «ответных реакций» в сочетании с отсутствием в стране действенной политической альтернативы официозным взглядам нередко влекло за собой «плюрализацию» моральной позиции литературной среды, сказывалось на ее идейно-эстетических установках.
Казалось бы, что можно возразить против стремления к максимально многогранному освещению такого объекта, как отдельная личность в трансформации ее изменчивых свойств. Однако в живой литературной практике возникала опасность того, что призыв к «многополярности точки зрения» приведет к односторонности, если за колеблющимися очертаниями движения человеческой психики и хаосом неупорядоченных мыслей не будет просматриваться столь же сложная, но тем не менее поддающаяся трезвому анализу картина реальных жизненных пропорций. В рамках подобных повествований подчас лишь тонкая, почти неуловимая грань отделяла «субъективную прозу», устремленную в первую очередь к разработке психологических и этических проблем, от произведений, пронизанных аполитичным моральным универсализмом либо склоняющихся к принятию отдельных положений экзистенциализма. Критерием реалистичности неизменно
1 Олдридж Дж. После потерянного поколения. С. 125. 3*
выступало в таком случае соответствие романного действия внутренней логике жизни, а не умозрительным норматив ным предписаниям. У этого пробного камня эстетиче* ского отношения к действительности и по сей день расхо? дятся пути модернистов и реалистов. Модернисты, как правило, остаются внутри «смятенного сознания», не пьр таясь установить связи между ним и внешним миром я считая любую попытку в этом направлении заранее обре-! ченной на неудачу. Реалисты же и в максимально субъект авизированных, «центростремительных» романах стара-; лись не потерять за частным общее, рассматривая даже наиболее эксцентричные, а подчас — едва ли не клиниче^ ские случаи поведения своих персонажей как обусловлен-* ные в конечном итоге конкретно-историческими обстоя-* тельствами.
1. КОНФОРМИЗМ ’
И АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 50-Х ГОДОВ
Проблема конформизма, т. е. примирения с буржуаз-S ной действительностью, оправдания ее фундаментальных сторон, и отношение к нему американских писателей длительное время находились в центре литературной жизнц Соединенных Штатов. Указывая на заметное расслоений после войны литературы, выступающей «во имя правды,j справедливости и свободы для всех», прозаик X. Шевалье) так писал о судьбах писателей этого направления: «Неко-' торые из них умерли, многие замолчали, многие покинули1 страну... но наибольшее число этих людей избрало самый легкий путь: они заключили мир с новым порядком вещей и, возможно, с несколько меньшим успехом, мир с собственной совестью». Предложенная схема «писательского поведения» в чем-то справедлива, но все же нуждается в уточнениях. Необходимо отметить, что выехавшие за границу, преимущественно в Европу, «экспатрианты» продолжали вносить свой вклад в развитие отечественной литературы (так, 50-е годы стали временем духовного самоопределения для Дж. Болдуина, поселившегося во Франции). С другой стороны, готовность пойти на мировую с буржуазным самодовольством оставалась далеко не единственной возможностью для большинства американских прозаиков. В условиях спада радикальных настроений и наступления реакции возникал как бы ряд альтернатив идейно-эстетического характера, отнюдь не всегда сопровождавшихся угасанием критического пафоса. 68
Даже у тех, кого поветрие конформизма затронуло впрямую, оно получало различное преломление в зависимости от путей, которые выбирало для себя конкретное писательное сознание. В своем наиболее ортодоксальном виде (романы Г. Вука, К. Хаули, С. Уилсона) конформизм означал сознательное, целенаправленное, в конечном счете пропагандистское навязывание читателю идеологических догм и штампов официозного происхождения. Принятие американского стандарта могло быть и следствием перерождения экс-радикалов, пытавшихся уверовать в ту самую «прекрасную Америку», что еще недавно служила мишенью для их саркастических насмешек.
Подлинные конформисты были выпестованы и выдвинуты на авансцену культурной жизни США в основном усилиями консервативной критики, еще в середине 40-х годов провозгласившей кампанию за создание в американском романе образа «пристойного» литературного героя. В книгах Б. де Вото «Либеральное заблуждение» (1944), в статье Дж. Д. Адамса «Облик грядущих книг» (1944) слышались сетования на то, что литература США не выходит за пределы «мира, населенного исключительно садистами, нимфоманками, предателями, мошенниками, полуидиотами, обезьяно-человеками и прочими случайными продуктами закона естественного отбора»1. Аналогичные мнения можно было встретить в период маккартизма и на страницах изданий, считавших себя либеральными. «Современный роман отвращает читателя... с его героями не хотелось бы знаться в реальной жизни, — писал в 1962 г. публицист Н. Казинс. — Большинство их составляет безрадостную коллекцию психически ущербных людей, эмоциональных калек с задержанным социальным развитием либо помешанных на поиске все новых и новых чувственных впечатлений». Тот же мотив сохранился в американской критике и четверть века спустя в применении уже к тематике и кругу персонажей литературы 70-х годов. «Герой или героиня романа теперь непременно должны быть убийцей или жертвой, насильником или совратительницей, наркоманом или торговцем наркотиками, вооруженным городским партизаном или заключенным в переполненной тюрьме», — сокрушался журналист М. Чайлдс, и эти повторяющиеся жалобы на вторжение в литературу подлинной, неприкрашенной реальности мира капитализма служили, собственно, косвенным доказательством огромной
Современная американская литература. М., 1950. С. 101.
жизнеспособности разоблачительного, реалистического направления.
К середине 50-х годов журналы издательского концерна Г. Люса («Тайм», «Лайф»' «Форчун») выработали^ специальный кодекс для произведений, призванных вы-! полнять охранительные функции. Он включал в себд «соблюдение приличий — как в языке, так и в поведении! персонажей», «веру в честность и дисциплинированность»,! а также, что было особенно показательно, «почтение id авторитетам и священным (американским) институтам»;^
Свое новое рождение жанр «делового романа» получил] с выходом в свет нашумевшего «Человека в сером флане-] левом костюме» С. Уилсона (1955), а также не менее по-1 пулярных произведений К. Хаули. В одном из них, романе! «Ураганные годы», апология бизнеса обрела свои закон-| ченные, можно сказать, классические формы. История] Джада Уайлдера, управляющего отделом сбыта и реализа-1 ции крупной фирмы, была призвана доказать читателю при-1 влекательность предпринимательской деятельности по| сравнению с другими вариантами карьеры «настоящего* мужчины». Бывший сценарист, не без успеха работавший^ на телевидении, Уайлдер покидал Манхэттен ради, каза-] лось бы, незавидной службы в глухой провинции. Но при-] частность ко всем тайнам компании «Крау энд Карпет»,^ обилие повседневных забот и чувство принадлежности id «живому делу» после никчемного существования в среде^ нью-йоркских снобов вознаграждала Уайлдера за крутой^ поворот на жизненном пути. «Речь шла не о деньгах, не: о чем-либо, что можно сосчитать или измерить, — утверждал Хаули. — Надо было уметь действовать, и умение приходило лишь к тем, кто не был чужаком, кто стремился всегда в самую гущу схватки».
Такая «война» не обходится без жертв, и вот, распростершись на больничной койке, Уайлдер с тревогой при-: слушивается к неровному биению сердца, а над его изголовьем вырастают зловещие очертания кислородной палатки. Болезнь героя, разумеется, символична: в ней — отражение внутреннего кризиса класса, некогда* мнившего себя «строителем нации». Но теряя одного из рядовых своей армии, «деловая Америка» приобретала нового и не менее энергичного адепта — сына Уайлдера Рольфа, который решил забросить гуманитарные штудии и посвятить себя работе в большой нефтяной компании. «Современная^ корпорация — уже не просто коммерческая фирма, а глав-! ный инструмент новой цивилизации, наиболее эффектней 70
ное и мощное средство организованного приложения человеческих усилий», — так обосновывал Хаули «великую миссию» бизнеса. Как и его единомышленники из мира политики, финансов, пропаганды, романист вновь и вновь заверял своих слушателей в том, что сила Америки — в людях практических, всецело преданных защите капиталистического уклада.
Отличительная черта «деловых романов» заключалась в готовности их авторов строить свой рассказ с учетом внешних примет современной американской действительности. Этот намек на аутентичность оборачивался, однако, псевдореализмом, ибо, по сути, идейная схема каждого из них была крепко привязана к буржуазной «философии успеха». Слегка замаскированной рекламе «американского образа жизни» служили романы Г. Вука и Дж. Марквенда, прозаиков вполне профессиональной выучки, однако не сумевших подняться до уровня подлинного искусства. Творчество этих и им подобных представителей «пограничной зоны» между настоящей, проблемной литературой и антихудожественным чтивом и в 50-е годы, и впоследствии особенно успешно отвечало социальному заказу, идеологическим установкам правящих классов.
Среди некоторых «серьезных прозаиков» также отчетливо выявилась тенденция не только к приятию американской действительности такой, какова она есть, со всеми светлыми и темными ее сторонами, но — более того — к восхищению видимым динамизмом, кипучестью жизни в Соединенных Штатах, получившей в первые послевоенные годы дополнительные экономические и психологические стимулы. Разумеется, недавние радикалы не могли в одночасье перейти на позиции последовательных конформистов типа Г. Вука и К. Хаули. За исключением отдельных случаев, когда были созданы книги подчеркнуто тезисного, промаккартистского свойства, проклинавшие «смутьянов-коммунистов» и излучавшие энтузиазм по поводу счастья находиться в «лучшем из возможных миров», писатели этого склада не спешили превращаться в трубадуров официозного национализма. Однако в качестве путеводной звезды и боевого штандарта был возрожден тезис, гласивший, что «наиболее улыбчивые аспекты жизни есть в то же время и наиболее американские», и в соответствии с этой философией изображение «улыбчивых аспектов» стало претендовать на гораздо большее представительство в американском романе.
По сравнению со своими более ранними произведения-1 ми заметным снижением критического потенциала был 1 отмечен у С. Беллоу роман «Приключения Оги Марчалч (1953). Его центральным персонажем писатель сделал-i человека «со множеством лиц», непоседу и проныру, го-1 тового все на свете вовлечь в орбиту своего беспокойного! темперамента. В обрисовке характера Марча явно чувство-вал ось желание Беллоу максимально демократизировать^ своего героя, представить его «молекулой Млечного пути,:< зовущегося Америкой». Однако «демократизация» обора-1 чивалась в романе дегероизацией. Характерно, что прямых упоминаний о преследовании в США людей передовых убеждений в книге почти не было. Более того — действие значительной части романа, содержащей историю Марча-подростка, а затем и юноши, вовлеченного в работу по организации профсоюзов, происходило еще до второй мировой войны. И все же общая атмосфера повествования, его взвинченный, напряженный ритм принадлежали уже иным временам. В 30-е годы люди стремились оставаться * на гребне волны общественного подъема, быть верными выношенным убеждениям, принимать участие в коллективных действиях. В «Оги Марче» же зафиксирован разгул индивидуализма, момент возникновения «потребительского общества», возносящего осанну буржуазной Америке.
«Страной розовых детей и громадных деревьев», прибежищем заблудших одиночек со всех концов света представала Америка и воображению Гумберта Гумберта, утонченного космополита со швейцарским паспортом, «антигероя» романа В. Набокова «Лолита» (1955). Помимо намерения ее автора, переселившегося в США в 1940 г., эта книга, написанная и не без труда опубликованная в самую глухую пору послевоенной американской истории, наглядно продемонстрировала закономерность морального падения человека «без догмата», без прочных общественных и нравственных идеалов. Снабженная подзаголовком «Исповедь светлокожего вдовца», «Лолита», как «опыт соединения эротического и социально-нравоописательного романа»1, впервые сделала имя писателя широко известным в Соединенных Штатах.
Усилиями американской и западноевропейской критики Набоков в 60-е и особенно в 70-е годы был возведен в сан верховного мэтра модернистской литературы, стоящего «над схваткой» общественных страстей и свысока
1 Большая Советская Энциклопедия. М., 1974. Т. 17. С. 547. 72
трактующего проблемы современности. Нет смысла отрицать, что «пространственному миру единовременных явлений» писатель в своем англоязычном творчестве нередко противопоставлял «невесомый остров завороженного времени», стремясь, по его словам, выйти из-под опеки «нашего чугунно-решетчатого мира причин и следствий». Но как раз именно в этом романе Набокову удалось ближе, чем когда-либо, подойти к подлинной американской действительности и наряду с пограничным конформизму преклонением перед размахом и комфортом жизни в Соединенных Штатах представить в реалистическом освещении отдельные пороки буржуазной цивилизации.
Главы романа, повествующие о семейной жизни Гумберта и Шарлотты Гейз, матери Лолиты, — язвительная пародия на благостные картинки отлаженного быта, на овеществленную в послевоенные годы «американскую мечту», которую ее теперешние апологеты сводили к удовлетворению умеренных среднебуржуазных нужд. Не довольствуясь таким истолкованием, писатель стремится вдребезги разнести вариант мещанского уюта образца конца 40-х — начала 50-х годов. И хотя затем он раздвигал рамки изображения, но только для того, чтобы, вывернув Америку наизнанку, тонко и зло посмеяться над быстро обрастающим жирком «обществом всеобщего благоденствия».
Посылая Гумберта Гумберта и его спутницу в странствие по много мильному периметру (Новая Англия — север Флориды — Калифорния — Орегон и снова Новая Англия), Набоков словно предлагал свой собственный путеводитель по американским достопримечательностям, читавшийся как иронический комментарий к послевоенному буржуазному жизнеустройству. Путешествуя по Соединенным Штатам, его персонажи погружаются в «бедлам реклам», стандартизированных развлечений, забав и удовольствий, столь же бессмысленных, сколь любимых средним потребителем, наделенным интеллектом заурядного подростка. Наблюдательный Гумберт иронизирует по поводу зазывных плакатов и вывесок, рассчитанных на простаков модных песенок, киножурнальчиков «Мир экрана» и «Мираж кинолюбви», с которыми не расстается его Лолита — плоть от плоти породившей ее страны.
Определение, данное самим Набоковым «Лолите» как «мучительному анализу единичного случая», могло навести на мысль, что в этом романе описание клинического элемента преобладало над показом типического в силу 73
недостаточности у писателя-иммигранта «американского^ опыта». Однако столь же противоречивая смесь продикто-j ванного атмосферой конформизма принятия отдельных^ сторон послевоенной действительности с элементами сатиры и социальной критики характеризовала произведения и такого «исконного» американца, как Дж. Чивер.
Бесконечно привлекательный образ Америки — «яблочного края», лежащего на побережье Атлантического океана, вблизи сосновых лесов и песчаных дюн полуострова Кейп-Код, возникал в первой части «уопшотской дилогии» Чивера — «Семейной хронике Уопшотов» (1957). Своих персонажей писатель поселил в рожденном его воображением городке Сент-Ботолфсе, напоминающем ожившую старинную гравюру, покрытую, по словам Чивера, «густым темным лаком благопристойности и странного очарования»1. Дебютировав как романист «Семейной хроникой», он еще с конца 30-х годов, будучи автором многочисленных новелл, выступал в них внимательным аналитиком менявшейся американской действительности. Никто столь подробно не разрабатывал в своих книгах специфическую тему Пригорода, этой особой «среды обитания» миллионов представителей так называемого «среднего класса». Но Чивер не был лишь бытописателем, хроникером внешних перемен. В фокусе его манеры неизменно находился человек с его сердечной болью, томлением и разочарованием, проступающими сквозь по необходимости наложенную им на себя маску уравновешенного и безликого «члена организации». Признавая в равной мере влияние внешних и внутренних факторов на становление либо крушение личности, Чивер в отличие от писателей натуралистического, плоско детерминистского склада с большим искусством использовал богатую палитру авторского комментария с той характерной для него задушевностью, лиричностью, которая, как издавна отмечала критика в США, особенно тесно сближала творчество американского прозаика с «тургеневско-чеховской» интонацией в русской литературе XIX века.
Уютный и опрятный мирок Сент-Ботолфса сродни старопомещичьим гнездам классической русской реалистической прозы. По признанию Чивера, атмосфера дома Уопшотов проникнута «неторопливой чеховской мечтательностью»1 2, и отголоски чеховского импрессионизма
1 Чивер Дж. Семейная хроника Уопшотов. Л., 1968. С. 35.
2 Там же. С. 70-71.
особенно часто слышны на первых страницах «Хроники». Аромат какого-то места, «где мы хотели бы, но не можем остаться», связанный в восприятии Розали Янг, девушки из большого города, с обликом приютившего ее наполовину фермерского жилища, состоит из множества фрагментов, складывающихся в совокупности в «запах необычайности». «Необычайно пряный воздух», «бальзамический аромат», «благоухание роз, сирени и гиацинтов» — весь этот пышный букет не менее красноречиво передает обстановку современного Эдема, нежели длинная череда впечатляющих зрительных образов.
«Что за жизнь, что за великолепная жизнь!»1 — такой возглас рвется из груди молодого Мозеса Уопшота, для которого пример маленькой общины составляет альфу и омегу социальной организации, как бы перенесенной без малейших перемен в современную Америку из далеких времен Тома Сойера и Гека Финна. Не очень проницательному читателю Сент-Ботолфс мог показаться (в полном соответствии с развернувшимся в 50-е годы конформистским прославлением «прекрасной Америки») каким-то сказочным уголком, игрушечным поселком, в котором дома перемежаются с рощами и где мужчины играют в карты на спички, а женщины собирают охапки цветов и с особой старательностью составляют из них букеты для украшения комнат. Сложившееся у каждого из Уопшотов с юных лет чувство личного достоинства и спокойной неаффектированной уверенности в себе составляло важный элемент американской психологической почвы, «нанесенной» на берега Новой Англии еще поколениями первых колонистов. Но помимо общей для всех верности традициям у каждого уроженца Сент-Ботолфса имелся и свой особенный профиль, сказывающийся в странностях и причудах, которые, собственно, и придают человеку желанную индивидуальность.
Стилистика романа Чивера подчеркнуто фактогра-фична, привязана к конкретной бытовой среде, но вместе с тем реальность его книги способна внезапно стать зыбкой и неуловимой, ускользающей от анализа, оставляющей вместо себя туманный след, а точнее, слабую смесь запахов, которым всегда предназначалась особая роль в палитре образных средств прозаика. Так происходило потому, что почти каждое произведение Чивера являло собой сложную систему иронических сопоставлений и
1 Чивер Дж. Семейная хроника Уопшотов. С. 92.
контрастов, подчеркивающих неодномерность, многоплан новость, а подчас и резкую противоречивость самой действ вительности. ;
Так, в «Семейной хронике Уопшотов» вскоре становилось различимы^, что, несмотря на ностальгическую дымку, окутывающую Сент-Ботолфс, откровенность и благожелательность соседствуют там с фарисейством и злобными сплетнями, а аристократическое изящество и благородство тех же Уопшотов способны в любой момент надломиться под грузом самых банальных экономических категорий. «В здешних краях к ловкости и бесчестности было принято относиться с уважением», — отмечает писатель, и по ходу рассказа выделяет несколько колоритных лиц, включая председателя правления банка и местного гробовщика, респектабельность которых нисколько не страдала от их стяжательства и лицемерия. Да, Сент-Ботолфс — это не только «ласковая долина и спокойная река», но и средоточие «выстроенных назло соседям заборов и смертельных ссор»1, — подчеркивал автор романа.
Непрактичность как знак благородства душевных устремлений — вот высшая фамильная добродетель старших Уопшотов. Шестидесятилетний Лиэндр способен провести все утро за партией в триктрак, вместо того чтобы позаботиться о завтрашнем дне своей семьи, а его жена Сара, готовя сыновей к новой жизни в чужом мире, полагает необходимым снабдить их прежде всего молитвенником, табелем успеваемости и свидетельством о конфирмации. Если не считать некоторых затруднений на первых порах, Мозесу и Каверли не нужно ни голодать, ни выбиваться из сил, чтобы утвердить себя в послевоенной Америке. И все-таки современность оказывалась у Чивера еще более далекой от всякого порядка и разумности, нежели беспокойные и несентиментальные «годы учения» Лиэндра Уопшота.
По образцу старинных романов «Семейная хроника Уопшотов» заканчивалась свадьбами и рождениями первенцев. Даже смерть Лиэндра, наступившая по его собственной воле, не слишком нарушала умиротворенную, почти сказочную атмосферу, подчеркнутую звучащим в финале книги монологом Просперо из «Бури» Шекспира: «Из вещества того же, как и сон, мы созданы. И жизнь на сон похожа, и наша жизнь лишь сном окружена». В даль-
1 Чивер Дж. Семейная хроника Уопшотов. С. 52, 101. 76
нейшем, в романах и новеллах 60—70-х годов, реализм Чивера, приобретая новые качества, становился гораздо последовательнее в изображении центробежных разрушительных сил, размывающих прежний уклад и оставляющих человека один на один с «организованной жестокостью окружающего мира». В работе же над «Семейной хроникой» писатель, повинуясь влиятельной тенденции, лишь краем касался острых социально-психологических противоречий, нередко прибегая при этом к условностям, притчеобразным построениям.
В 50-е годы в литературу США впервые проникло поветрие, набравшее особую силу уже в следующем десятилетии, — стремление к использованию мифологической символики. Раньше других на него откликнулся в «Жемчужине» (1947) Дж. Стейнбек; он же насытил библейскими интонациями роман «К востоку от рая» (1952). Значительной вехой на пути к «мифологизации» известной части американской реалистической прозы стала повесть Хемингуэя «Старик и море» (1952). «Несколько туманная многозначительность ее, — отмечал И. А. Кашкин, — дала повод для всякого рода примышлений и диаметрально противоположных аллегорических толкований»1. В прошлом символика борьбы с природой, с темным началом всегда занимала у Хемингуэя подчиненное место по сравнению с реальной человеческой драмой. И в рассказах 20—30-х годов, и в романе «По ком звонит колокол» символизм соответствовал социально-психологическим конфликтам, усиливал их звучание. При всем изначальном гуманистическом пафосе повести «Старик и море», составляющем ее ведущую характерную особенность, то и дело возникающая в ней трансформация конкретного, жизнеподобного повествования в ряд мифологем, а также примирительно фаталистические тона в чем-то обедняли объемность реалистического письма, лишали прозу Хемингуэя почти неизменно возникающего при знакомстве с ней ощущения упругой первозданности. Однако этот шаг в сторону усиления идей этического универсализма не был столь значителен по сравнению с аналогичной эволюцией Фолкнера в романе «Притча», над которым писатель работал с 1944 по 1953 гг.
Герой этой книги-фантазии о пацифистском движении на исходе первой мировой войны, капрал французской
Кашкин И. Эрнест Хемингуэй: Критико-биографический очерк. М., 1966. С. 229.
армии Стефан Бжевский, был представлен в обличье со временного мессии, которого ожидал столь же мученический конец, как и легендарного галилеянина. Концепци! центрального характера предусматривала у Фолкнера сложную систему мифологических иносказаний и ассоциаций. Как и Христос, будущий бунтарь родился в яслях для скота, а детство его прошло в бедности и скитаниях, во время которых он приобрел двенадцать сподвижников-: апостолов. Другие аналогии касались последних минут приговоренного к смерти. Осужденного за подстрекатель-1 ство к мятежу капрала не распинали на кресте, а расстреливали, но свой последний час он встречал в компании двух мародеров в венке из колючей проволоки.
В художественном отношении «Притча» не уступала многим произведениям Фолкнера, и ее выход в свет упрочил репутацию писателя, которому еще в 1949 г. была присуждена Нобелевская премия по литературе. Однако в этом произведении талант его автора гораздо сильнее проявил себя не в реалистической сфере, а в сфере символики, романтического иносказания. Даже Т. Л. Мотылева, которая немало сделала для обоснования принадлежности «Притчи» к реалистической традиции, была вынуждена признать, что «наиболее удачные парсонажи романа — не те главные герои, в обрисовке которых писатель сам себя сковал евангельской символикой... а те фигуры, которые стоят как бы на периферии полулегендарного сюжета и в судьбах которых по-разному преломляется жестокая военная действительность»1. При таком «размежевании» возникал, однако, вопрос: что осталось бы от романа Фолкнера, если в нем «вынести за скобки» капрала-Христа с его подробной биографией, а также образы его сестер, возлюбленной, двенадцати учеников и, собственно, всю сюжетную линию, связанную с наложением на исторический материал разветвленной системы христианской мифологии. Среди второстепенных персонажей «Притчи» также преобладали обобщенные представители социальных и профессиональных групп, тяготеющие скорее к эспрессионистской, а не реалистической поэтике. Откровенно эмблематичен был и образ главнокомандующего союзных войск, предававшего, наподобие Понтия Пилата, бунтовщика-капрала в руки фанатиков.
Отчетливо выявившееся в «век конформизма» стремление «живых классиков» — Хемингуэя, Фолкнера, Стейн
1 Мотылева Т. Зарубежный роман сегодня. М., 1966. С. 204—205. 78
бека — к идейно-философскому универсализму, игре абстрактными категорями оказалось заразительным и для некоторых «молодых романистов» послевоенной Америки. Аллегорические мотивы занимают более видное место, чем прежде, в творчестве У. Стайрона («Долгий марш», 1952), Дж. Херси («Мелкий камешек», 1965) и даже у такого трезвого реалиста, как Дж. Джонс. После масштабного эпоса о «судьбе солдата в Америке» («Отсюда и в вечность») и еще более объемистого произведения о тусклых буднях Среднего Запада («И спешат они», 1957) он обратился в повести «Пистолет» (1958) к локальному эпизоду армейского быта, прилагая к нему вневременные, отвлеченные измерения.
Девятнадцатилетний солдат американской армии Маст, несущий караульную службу на острове Оаху после нападения японцев на Гавайи, утаил от начальства пистолет как последнюю гарантию своей безопасности перед лицом того неведомого, что несет с собой начавшаяся война. Пистолет Маста — даже не оружие, а скорее амулет, и его утрата сопоставима, в трактовке Джонса, с исчезновением чаши святого Грааля, с первородным грехом. Все элементы, необходимые для «построения» притчи, наличествовали в повести Джонса: изолированный от внешних потрясений анклав, где как бы в миниатюре можно инсценировать человеческие драмы и следить за их разрешением; примитивные первозданные характеры, еще не соприкоснувшиеся с цивилизацией, которая для них слишком сложна, а то и губительна; и наконец, символический объект-фетиш, вокруг которого в сложном переплетении прочерчены орбиты действующих лиц повествования.
Оберегая свой талисман от воинского начальства, храня его на случай защиты от острых самурайских мечей, Маст совсем забывает о том, что существует еще и Власть, которой принадлежит не только имущество, но и сама жизнь бедняги-рядового. Все разрешилось очень просто и скоро: приехал на своем грузовичке оружейник, обнаруживший в ротной канцелярии расписку патрульного, и отобрал у Маста предмет всеобщей зависти и раздора. Как и жемчужина у Стейнбека, пистолет в повести Джонса, породивший столько страстей, надежд и разочарований, возвратился на свое исходное место, снова став частью того внешнего мира, из которого его исторгло неуемное непокорство человека.
Мотив вызова, брошенного природе, року, внешним
силам, лежал в основе и «Жемчужины», и повести Хемин^ гуэя «Старик и море». Однако в отличие от своих старших современников автор «Пистолета» не видел смысла в противостоянии «власть предержащим», т. е. всему социальному порядку как законченной иерархической системе, монументальной и незыблемой. К пессимистическим выводам склонялись и некоторые другие прозаики-реалисты, для которых не проходило бесследно давление конформизма. Метафизические откровения в ряде случаев заметно потеснили в американском романе интерес к социальной действительности, и писатели размышляли уже не столько о людях, конкретных индивидах, сколько об идеях, причинах и силах — чаще всего неопределенных и безликих, но зато всегда всемогущих, утверждающих свое главенство над простым человеком с непоколебимой категоричностью.
Мысль об ограниченности возможностей человека, противостоящего сплоченному фронту конформистской действительности, о его «замурованности» среди банальной, а то и враждебной обстановки как нельзя точнее соответствовала мироощущению значительной части негритянской творческой интеллигенции. Крупнейшие прозаики-негры послевоенного поколения видели свою задачу не столько в раскрытии специфической и наиболее трагичной доли черного населения Америки, по-прежнему подвергавшегося расовой дискриминации, сколько в выведении на передний план проблем духовного и социального самоопределения своего современника — вне зависимости от его цвета кожи.
Сложный процесс идейно-эстетической переакцентировки, восприятия традиций предвоенного творчества Р. Райта и спора с некоторыми из его положений продолжался в течение всех 50-х годов и нашел особенно рельефное отражение в ранних произведениях Дж. Болдуина, включая роман «Возвести об этом с горы» (1953) и книгу публицистики «Заметки сына Америки» (1955). В прозе Болдуина демократические симпатии автора способствовали укреплению реалистического метода, преодолению соблазна «вселенского пессимизма» и крайнего индивидуализма. Иной путь избрал его коллега, писатель не меньшего художественного дарования Р. Эллисон в романе «Невидимка» (1952), на содержании которого в полной мере сказалось воздействие негативных идейно-психологических факторов эпохи конформизма.
На протяжении значительной части романа, посвящен-
кого судьбе современного горожанина-негра, который пытается, полагаясь на свои незаурядные способности и на «добрую волю» окружающих, утвердиться в жизни, Эллисон руководствовался эстетическими представлениями, определившими облик американского романа, каким он сложился к началу 40-х годов. Анонимному рассказчику книги приходится многое претерпеть, «расплачиваясь» и за свой цвет кожи, и за известную самостоятельность в мыслях, и за наивную веру в возможность справедливости в отношениях между белыми и черными «братьями». Но оказавшись за бортом респектабельного «общества», герой Эллисона не устанавливает прочных связей со своими новыми товарищами. Его дальнейшая исповедь — это прежде всего история постижения им границ, возможностей и глубин собственного сознания, история приобщения личности к давней, сугубо американской традиции навязчивой интроспекции.
Согласно авторскому замыслу, развитие сознания «Невидимки» подчинялось как бы «траектории бумеранга»: исследование различных путей решения «негритянской проблемы» завершалось возвратом к состоянию оцепенения, отрешенности от мира. Подобная схематика была весьма далека от реалистического постижения действительности; происходило как бы втискивание в прокрустово ложе «негативной метафоры» внутренней логики характера и жизненных обстоятельств. Изобразив «Невидимку» не просто одиночкой, но и озлобленным «подпольным человеком», загнанным в финале книги в залитую ярким электрическим светом угольную яму и наслаждающимся своим социальным отшельничеством, Эллисон допускал явную художественную тенденциозность. Негритянский прозаик не только делал уступку спровоцированным конформизмом нигилистическим настроениям — ради последовательного развития своего тезиса он не останавливался и перед выпадами в адрес американской компартии как якобы носителя антиличностного, насильственно-коллективистского начала. Не снимая с автора «Невидимки» вины за искажение исторической истины, следует еще раз напомнить, что это произведение создавалось в пору разнузданных антикоммунистических выступлений, которые не могли не сказаться на состоянии общественного сознания страны. Однако центр тяжести романа Эллисона лежал не столько в идейно-политической, сколько в морально-психологической плоскости. Поднимая — хотя и в
4—647
81
искаженном, далеком от подлинного реализма ракурсе —* тему духовного самоопределения, моральной позиции современного американца, тем более — негра, писатель соприкасался с важнейшей тенденцией в развитии реалистического романа.
Сосредоточенность на духовном мире героя, ставшая с начала 50-х годов профилирующей характеристикой американской прозы и получившая выражение в жанре «центростремительного романа», не была тождественна состоянию «аполитичной субъективности», как об этом весьма поверхностно судили многие буржуазные литературоведы. Не подмена социального сугубо индивидуальным (и, стало быть, поневоле случайным, непоказательным), а стремление подойти к оценке общественных перспектив через детально, с учетом всех противоречий человеческой психики проанализированные «частные судьбы» белых и черных американцев — таковой была генеральная идея реалистического направления, вступившего с начала 50-х годов в новую фазу своего развития.
2. РЕАЛИЗМ «СУБЪЕКТИВНОЙ ПРОЗЫ»
Давление конформизма на духовную жизнь Соединенных Штатов— хотя оно и было чрезвычайно сильным и многоплановым — не смогло сколько-нибудь глубоко проникнуть в собственно эстетические «недра» реалистической прозы. Умиротворяющие интонации приглушили в ряде случаев социально-критический пафос творчества некоторых крупных писателей, преимущественно старшего поколения, однако нормативность «позитивной программы» правоверных, последовательных конформистов была столь банальной и маловдохновляющей, что под ее знамена не встал, в сущности, ни один из значительных художников реалистического склада.
Вместе с тем перестройка художественно-мировоззренческой структуры литературы США оказалась весьма существенной. Учитывая перемены в образе жизни нации, социальный критицизм искал новых путей, новых эстетических решений для своего времени. Инерция представлений многих американцев в 1950-е годы о своем времени как об эпохе благодушной самоуспокоенности была вскоре нарушена. Сделавшиеся в одночасье знаменитыми калифорнийские битники противопоставили литературе конформизма и апологетики другую крайность — возгласы, а то и «вопли» тотального индивидуалистического отрица-82
ния. Мода на битников продержалась недолго, но была пора, когда, как утверждают, «каждый американец до двадцати лет, не читавший «На дороге» Дж. Керуака, считался социально прокаженным». Этой небольшой книгой практически исчерпывался вклад битников в художественную прозу Соединенных Штатов. По сделанному в 1959 г. признанию участника и историографа движения Л. Липтона, «в то время как поэзия святых варваров уже находится на высоком уровне, их проза стоит лишь в самом начале своего развития». И хотя за 10 лет до своей смерти Керуак успел написать еще несколько книг, а о «постбит-ничестве» в литературоведческих кругах США толковали и в 70-е годы, повесть «На дороге» осталась единственным (если не говорить о поэзии) живым напоминанием о «бит-поколении», которое «словно остров вулканического происхождения неожиданно объявилось на литературных широтах Америки».
Нельзя не признать, что идейное содержание повести «На дороге» и позднейших произведений Керуака, образовавших единый цикл, включало не так уж много положительных элементов с точки зрения передовых общественных устремлений. Идеалы автора, вытекавшие из художественной логики повести, сформулированные в декламациях ее центрального персонажа Сола Пэрадайза, носили во многом морально деструктивный характер. Ополчаясь против репрессивности буржуазного общества, герои Керуака объявляли войну всякой морали потому, что она накладывает «оковы обязательств» на «живущих лишь однажды» индивидуумов. Имморализм «неприкаянных душ» был прежде всего следствием их растерянности перед кажущейся монолитностью и неприступностью бастионов капиталистического строя. К тому же аналитическое начало у Керуака отличалось крайней неразвитостью; его подменил нервический эмоциональный порыв, апелляция к неразвитому «молодежному» сознанию.
Однако именно эмоциональность и субъективность, замена утраченных либо отброшенных общественных представлений доверием к подчас интуитивному индивидуальному поиску явились зримыми знаками перемен, происходивших в течение уже некоторого времени в американской прозе. Творчество самих битников (за исключением, пожалуй, лучших произведений Керуака) со свойственными ему анархичностью, недоверием к разуму и мистифицированным преломлением социально-психологических факторов принадлежит модернистскому направлению в после-4* 83
военной литературе Соединенных Штатов. Вместе с тей их «бунт» заострил внимание на весьма схожих по эмоциональной окраске, выдержанных зачастую в том же субъективированном, лиричном ключе, но более глубоких и содержательных литературных явлениях.
С начала 50-х годов как писателям-конформистам^ так и романам безысходного страдания и живописаний насилия, произведениям преимущественно натуралистичен! ским по своему художественному методу, был брошен вызов со стороны вдумчивого и уравновешенного изображения действительности. Не отказываясь от острой критики, печалясь по поводу теневых сторон и фундаменталь-' ных изъянов американской жизни, обличая и осуждая жажду наживы, социальное неравенство, эгоизм и душевную слепоту, прозаики гуманистических воззрений не теряли веры в будущее и не ставили крест на современности. В отличие от битников их гуманизм не был над-, ломленным, риторическим. «Долг поэта, писателя... (его) привилегия состоит в том, чтобы, возвышая человеческие сердца, возрождая в них мужество и честь, и надежду, и гордость, и сострадание, и жалость, и жертвенность — которые составляли славу человека в прошлом, — помочь ему выстоять»1, — сказал У. Фолкнер в 1950 г. в речи при получении Нобелевской премии, и, как бы откликаясь на это воззвание, в прозе 50—60-х годов складывалась идейно-эстетическая общность, свидетельствовавшая об усилении в литературе США нравственного начала, о восстании ее героев против бездуховности буржуазного общества.
Принадлежность таких прозаиков, как Сэлинджер, Т. Капоте, Маламуд, Болдуин, Стайрон, С. Беллоу (в отдельных произведениях), дебютировавший в конце 50-х годов Дж. Апдайк, и некоторых других к провозглашенной Фолкнером «школе гуманистов» не вызывала особых сомнений у критики. Больший разнобой сопровождал попытки охарактеризовать их общеэстетическую платформу. «Современный стоицизм», «новое сочувствие», «неоромантизм», «романтический реализм» — такие приблизительные формулы выдвигались литературоведением как в США, так и в нашей стране для обозначения течения, контрастировавшего и с традиционным типом социальнокритического романа, и с произведениями натурализма. На наш взгляд, сторонники этих определений безоснова-
1 Писатели США о литературе. М., 1974. С. 299. 84
тельно занижали возможности реалистического метода, сказывающиеся в его способности к обогащению и развитию.
Попытки отнести возникновение в послевоенном романе США жизнеутверждающих, «одухотворенных» интонаций целиком на счет воздействия на реалистическую прозу художественной системы романтизма получили довольно широкое распространение. В американском литературоведении такая точка зрения была впервые высказана еще в конце 50-х годов Р. Чейзом, а затем подхвачена влиятельным критиком И. Хассаном и его последователями. В современной американистике концепцию «романтического реализма» последовательно отстаивает с начала 70-х годов Т. Н. Денисова. В теоретическом плане, разумеется, правомерна постановка вопроса о связи элементов романтической эстетики с формообразующими факторами реалистического искусства. Если судить по декларациям, то сторонники «неоромантизма», или «романтического реализма», признают необходимость весьма гибкого подхода к рассмотрению возникающих эстетических взаимодействий: «Речь идет не о механическом заимствовании отдельных приемов и не о простом использовании эстетики романтизма»1, — пишет Т. Н. Денисова. Однако на практике, при конкретном анализе произведений Апдайка, Сэлинджера, Стайрона и других авторов, выясняется, что за доказательства влияния романтизма принимается появление в этих произведениях элементов мифологии и символики, а то и еще более внешние, подчас трафаретные признаки, такие, как «необычность обстановки, острые приключения, буйные страсти, романтические в своей неопределенности поиски истины»1 2.
Советские литературоведы в своем большинстве давно пришли к мнению о том, что реалистическая эстетика не исчерпывается лишь жизнеподобием, что реализму не чужды гротеск, символика, условность и прочие «остра-ненные» приемы художественного изображения. Главный же критерий, отделяющий реализм от нереалистических течений, остается неизменным: это соответствие образного мира книги существенным закономерностям развивающейся действительности. Для писателя-реалиста, исследую-
1 Денисова Т. Н. Современный американский роман: Социально-критические тенденции. Киев, 1976. С. 24.
2 Денисова Т. Н. На пути к человеку: Борьба реализма и модернизма в современном американском романе. Киев, 1971. С. 259.
щего капиталистическое общество, но находящегося в стороне от социалистической идеологии, овладение современным материалом предполагает сочетание критики с гуманистическим жизнелюбием, противящимся разлагающему влиянию буржуазности. Преобладание же того или другого «ингредиента», характер их взаимодействия зависит от многих объективных и субъективных факторов, но в конечном счете — от специфики конкретных национально-исторических обстоятельств.
Даже самые неблагоприятные внешние условия придавленной маккартизмом Америки не смогли вытрарить из реалистической литературы США скептического отношения к послевоенному мироустройству, обеспокоенности духовным здоровьем нации. В противоположность писателям, подверженным влиянию конформизма, представители «субъективной прозы» пытались обосновать моральную позицию, противоречащую нормам и обычаям буржуазного общежития. В ряде случаев, однако, в их произведениях преобладали лирические полутона, аморальным построениям была свойственна определенная абстрактность, выдававшая внутреннюю неуверенность не только персонажей, но и самих авторов.
«Может быть, никто из нас не нашел своего дома... Мы только знаем — он где-то есть... И если удастся его отыскать, пусть мы проживем там всего лишь мгновение, все равно мы должны почитать себя счастливыми»1, — говорил в повести Т. Капоте «Голоса травы» (1951) шестидесятилетний судья Чарли Кул, и окрасившая его слова элегичность соответствовала преобладавшим идейно-психологическим веяниям. Книга Капоте повествовала о бунте против бесчувственного и своекорыстного мира, о том, как на ветвях раскидистого платана возникла своеобразная колония, сплотившая тех, кому душно в маленьком алабамском городке, нравы которого суть отражение буржуазного образа жизни в целом. Но бунт этот весьма условен, а вариант робинзонады, рожденный воображением Капоте, был не менее утопичен, чем те, что предлагались его многочисленными предшественниками.
Проявившиеся в книге Капоте одухотворенность идейно-философского звучания и «центростремительность» манеры выражения прочно укрепились в реалистической прозе США благодаря творчеству Дж. Д. Сэлинджера. Датированная тем же 1951 годом, что и «Голоса травы», по-
1 Капоте Т. Голоса травы. М., 1971. С. 48. 86
весть Сэлинджера «Над пропастью во ржи» — это еще одна ступень в раскрытии возможностей реализма «субъективной прозы». Многие западные литературоведы вообще считают автора этой книги первопроходцем послевоенной американской литературы, отрицая значение для общей эволюции тех произведений 40-х — начала 50-х годов, которые были созданы в продолжение социально-критических традиций межвоенных десятилетий. Роль Сэлинджера не нуждается в искусственном завышении, но повесть «Над пропастью во ржи» и сборник «Девять рассказов» (1953) действительно в большей степени, чем что-либо другое, закрепили в литературных кругах США ощущение перехода значительной части американской прозы к существенно иной модели художественного изображения. Характерная для «центростремительной» формы лиричность проявлялась у писателя в опоре на такие изобразительные средства, как недоговоренность, ирония, эмоциональный подтекст и субъективность. Но эта видимость подчинения художественной концепции личной точке зрения оборачивалась в конечном счете, в масштабах всего произведения, полнотой жизненного обзора, торжеством принципов реалистического искусства, стремящегося к осознанию общих социально-психологических закономерностей.
Психологическая атмосфера повести «Над пропастью во ржи» точно соответствовала настроениям рубежа 40— 50-х годов, захваченных волной идейного разброда и квиетизма. Для значительной части населения Соединенных Штатов большие проблемы, занимавшие умы в военное и предвоенное время, отступили в сторону; лозунгами дня становились приобретательство и потребительство — неловкие попытки оправдать эгоистическую мораль и увязать ее с принципом общественной пользы. Резким диссонансом к этим умиротворяющим рассуждениям буржуазных идеологов прозвучал взволнованный голос сэлинджеровского Холдена Колфилда, дерзнувшего обвинить современную ему Америку в самодовольстве, лицемерии, душевной черствости.
Главное обвинение, которое сэлинджеровский подросток бросал окружающему миру, — это обвинение в фальши, в сознательном, а потому особенно отвратительном притворстве, «показухе». Психологический портрет Холдена исключительно противоречив и сложен, в поведении героя нередко дает себя знать болезненное начало, ставящее под сомнение устойчивость его психики. Он не просто стеснителен, обидчив, порой нелюбезен, как почти всякий склонный к самоанализу подросток интровертного
типа. Временами Холден позволяет себе совсем уж неЯ простительные выходки: он может, например, пустить дым сигареты в лицо симпатичной ему собеседницы, громким смехом оскорбить любимую девушку, глубоко зевнуть л ответ на дружеские увещевания расположенного к нему! преподавателя. «Нет, я все-таки ненормальный, честное слово», — эти слова не случайно рефреном проходят bj книге Сэлинджера. !
Холден жалуется, что ему грустно и одиноко в Пэнси, закрытом пансионе, где он учится, но нет ли в этом, по крайней мере отчасти, и его собственной вины? Нежелание походить на взрослых у Холдена больше эмоционально, чем осознанно; чувство обгоняет у него мысль, и он готов одним махом разделаться со своими обидчиками, среди которых далеко не все заслуживают сурового приговора. Так ли уж плохи, к примеру, его преподаватели, в особенности мистер Антолини, в котором перепуганный юнец заподозрил было искушенного развратника? Однако, с другой стороны, понятен и молодой максимализм героя, понятна его ненасытная жажда справедливости и открытости в человеческих отношениях. Холдена никак не назовешь благонравным юным джентльменом; он бывает и ленив, и без особой необходимости лжив, непоследователен и эгоистичен. Но сама искренность тона сэлиндже-ровского подростка, готовность рассказать обо всем без утайки компенсируют многие недостатки его еще не устоявшейся натуры.
То, что больше всего угнетает пятнадцатилетнего Холдена и о чем он судит вполне по-взрослому, заключается в ощущении безысходности, обреченности всех его попыток построить свою жизнь в соответствии с нормами светлого гуманистического идеала. Вглядываясь в будущее, он не видит ничего, кроме той серой обыденности, что уже стала уделом подавляющего большинства его соотечественников. Учиться для того, чтобы сделаться «пронырой», а затем «работать в какой-нибудь конторе, зарабатывать уйму денег и ездить на работу в машине или в автобусах по Мэдисон-авеню, и читать газеты, и играть в бридж все вечера, и ходить в кино...»1, — такой представляется Холдену неизменная стезя, по которой покорно бредут миллионы послевоенных американцев. Год спустя после выхода в свет «Над пропастью во ржи» Сэлинджер высказал эту мысль с еще большей эмоциональной силой
в рассказе «Голубой период де Домье-Смита»: «...как бы спокойно, умно и благородно я ни научился жить, все равно до самой смерти я навек обречен бродить чужестранцем по саду, где растут одни эмалированные горшки и подкладные судна и где царит безглазый слепой деревянный идол — манекен, облаченный в дешевый грыжевой бандаж. Непереносимая мысль — хорошо, что она мелькнула лишь на секунду»1.
Грустное пророчество Сэлинджера исходило из теории социального детерминизма, но, согласившись с ней в общем виде, писатель-гуманист не останавливался в беспомощности. Давление среды не абсолютно, и человеку с высокоорганизованной напряженной душевной жизнью случается подчас ускользнуть из ее мертвящей хватки — таков один из принципиальных постулатов реализма гуманистического, одухотворенного. Конечно, это дано немногим, и перед глазами Холдена постоянной угрозой стоит пример его старшего брата, сменившего вольное писательское призвание на более прибыльное ремесло голливудского сценариста. Герою Сэлинджера не удается заинтересовать своими, довольно, впрочем, сумбурными планами на будущее и свою девушку Салли Хейс, которая не очень-то верит в предлагаемую ей идиллию жизни в «хижине у ручья». Одна только Фиби, десятилетняя сестренка Колфилда, не только готова присоединиться к Холдену, но и идет в этом порыве гораздо дальше своего критически настроенного, но импульсивного брата.
Чем моложе персонажи Сэлинджера, тем они беском-промисснее, тем более цельными и — что вполне закономерно — элементарными выглядят их представления. В этом смысле концовка повести особенно иронична и парадоксальна. Бунт Холдена против действительности доводит до логического завершения не он сам, а Фиби, с огромным чемоданом собравшаяся было бежать на неведомый Дальний Запад. В конечном счете они как бы менялись ролями: десятилетняя Фиби готова очертя голову ринуться навстречу новой жизни, Холден же невольно ищет вокруг себя элементы устойчивости, связи с прошлым. Родная школа, музыка на каруселях в Центральном парке в двух шагах от дома, тысячелетние мумии в муке естественной истории — эти образы не случайно аккумулировались в заключительных главах книги. И вот наступила развязка: брат и сестра Колфилды оставались
1 Сэлинджер Дж. Д. Повести. Рассказы. С. 236.
в Нью-Йорке — во-первых, потому, что они еще дети, как по-женски мудро сказала подруга Холдена Салли, нФ прежде всего потому, что романтизированный мотив «бегства в никуда» противоречил бы всей последовательно реалистической эстетике произведения.
Все писавшие об идейной кульминации повести Сэлинджера неизменно выделяли то место в разговоре Холдена и Фиби, где звучала строка из стихотворения Р. Бернса, давшая название книге. «Если ты ловил кого-то вечером во ржи...», — говорит Холден, перевирая оригинал, но прислушиваясь больше не к шотландскому поэту, а к собственным мыслям: «Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей и кругом — ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю обрыва, над пропастью, понимаешь? И мое дело — ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть»1. Дословный и, пожалуй, более точный перевод — «Ловец во ржи» — нес в себе яркую метафору и благородную идею, соблазняя интерпретаторов Сэлинджера отнести его творчество к романтической традиции. Однако в повести имелся и другой, основанный на трезвом социальном анализе вариант ответа на тот же вопрос — что делать молодому американцу, современнику Сэлинджера, со своей жизнью, с нерастраченным запасом сил и способностей? Он отчетливо вырисовывался в главе, воспроизводившей беседу Колфилда с его школьным наставником мистером Ан-толини.
Этот эпизод был нужен Сэлинджеру отнюдь не для эффектного поворота сюжета; по сути, он заключал в себе «повелительную идею» всего произведения. Учитель Анто-лини — единственный более или менее полно и разносторонне очерченный «взрослый» персонаж в романе. Его образ наиболее свободен от субъективистских истолкований, обязанных «центростремительному» замыслу книги, материал которой пропущен сквозь призму мировосприятия ее главного героя. Поучения Антолини не свободны от назидательности, но зато в них слышалась подлинная заинтересованность, преодолевшая устойчивый скептицизм его собеседника. В словах учителя Холдена тоже возникал образ пропасти, но он носил куда более реальный характер по сравнению с детскими мечтами Колфилда. «Пропасть, в которую ты летишь, ужасная пропасть,
опасная... Это бывает с людьми, которые в какой-то момент своей жизни стали искать то, чего им не может дать их. привычное окружение. Вернее, они думали, что в привычном окружении они ничего для себя найти не могут. И они перестали искать. Перестали искать, даже не делая попытки что-нибудь найти»1, — подчеркивал Антолини. Наиболее образованный из персонажей повести, он ближе всего подходил к выражению авторской концепции назначения и возможностей личности в условиях современного буржуазного общества.
«Признак незрелости человека — то, что он хочет благородно умереть за правое дело, а признак зрелости — то, что он хочет смиренно жить ради правого дела»1 2, — цитировал Антолини немецкого психолога Штекеля, впрочем, лишь повторившего то, что до него изрекалось мыслителями прошлого от Марка Аврелия до Гегеля. Жить смиренно, т. е. спокойно, по Сэлинджеру, вовсе не означало жить безнравственно или пошло, и этический вывод из его произведения содержал в себе не апологию бескрылого квиетизма, а, напротив, призыв отстаивать «правое дело» добра и красоты в человеческих отношениях с помощью средств, в каждом отдельном случае наиболее соответствующих конкретной исторической обстановке.
Идея защиты и морального возвышения личности, провозглашенная У. Фолкнером в Нобелевской речи и получившая определенное художественное обоснование в прозе Сэлинджера, наталкивалась в литературной действительности «молчаливых» 50-х годов на немалые осложнения. Упрочению «одухотворенного» подхода к изображению роли и назначения человека препятствовали и традиция натуралистической приземленности, и постепенно проникавшие в США веяния трагического экзистенциализма, и давняя, начиная с 20-х годов, приверженность к фрейдистской схематике. Поиск моральных устоев, противящихся буржуазному конформизму, тем не менее продолжался, и важными вехами на этом пути явились литературные дебюты У. Стайрона и Дж. Болдуина, некоторые романы и новеллы Б. Маламуда и С. Беллоу.
Вера в моральное очищение человека владела Болдуином, когда он работал над своим первым романом «Возвести об этом с горы» (1953), навеянном как содержанием, так и интонационным строем религиозных песен аме
1 Сэлинджер Дж. Д. Повести. Рассказы. С. 131.
2 Там же. С. 132.
риканских негров. Лирическая сторона дарования писателя сказалась в манере его рассказа о духовном и нравственном взрослении негритянского подростка Джона Граймса. Не уклоняясь от показа мира жестокости, в котором пришлось жить многим поколениям, Болдуин стремился раскрыть внутренние психологические ресурсы своего народа, указать на возможность эмоционально-духовного очищения и «просветления» (трактуемого, впрочем, в религиозном смысле).
Негритянские «спиричуэле» и «госпеле» играли немалую роль и в идейно-композиционной структуре романа У. Стайрона «Сникаю во мраке» (1951). Песни негров в финале книги обещали состояние катарсиса измученной душе его главного героя, типичного представителя белого «среднего класса» Милтона Лофтиса. Воссозданная в романе и обязанная в плане литературной традиции столько же «Госпоже Бовари» Флобера, сколько и Фолкнеру, семейно-психологическая драма отражала важные сдвиги в послевоенном мироощущении, а судьба ее героини Пейтон Лофтис была во многом показательной для «поколения Хиросимы», охваченного эпидемией душевной опустошенности. В «Сникаю во мраке» ощутимы следы фрейдизма; однако, как верно писал С. Финкелстайн, «повествование Стайрона — отнюдь не составленная психоаналитиком история болезни»1, и даже такой последовательный поборник модернистских концепций, как американский критик Д. Гэллоуэй, был вынужден признать, что «психоанализ может помочь описать ситуацию (в романе Стайрона. — А. М.), но он не в силах объяснить ее внутренний смысл».
Не затушевывая трудностей, сопровождающих жизнь при капитализме, прозаики одухотворенного мироощущения делали решительную ставку на «стратегию выживания», и те «серебряные линии», что виделись героям их книг сквозь грозовые тучи, не имели ничего общего с банальностью утешительной конформистской беллетристики. «Задача писателя — не игра с формой, а поиски средств к спасению человека в современном мире, спасению его ума и души», — таким был девиз Б. Маламуда в наиболее плодотворную пору его творчества. Его лучший роман «Помощник» (1957) — это одновременно и трогательная любовная история, и обличительный социальный документ,
1 Финкелстайн С. Экзистенциализм и проблема отчуждения в американской литературе. С. 233.
и ненавязчивая проповедь гуманного этического идеала.
Во многом следуя по стопам русских классиков, Ма-ламуд говорил в «Помощнике» о незаметных «бедных людях» огромного города, о тех, кто самим фактом своего существования опровергал тезис «всеобщего благоденствия». Страннику без рода и племени итальянцу Фрэнку Альпине нелегко преодолеть социальные и психологические барьеры, отделяющие его, наемного работника и «чужака», от бдительно охраняющих устои своей касты бруклинских лавочников. Влюбленный в дочь своего хозяина Хелен, он хочет стать близким человеком в доме старика бакалейщика, принять на себя ответственность за благополучие семьи в нелегком состязании с нуждой. Сочувствие — в широком значении этого слова — руководит всеми действиями Альпине. Взаимопомощь, сострадание, терпимость — вот то, что, по твердому убеждению Маламуда, может помочь «маленьким людям» капиталистической Америки сохранить свое маленькое счастье.
Мотивы сочувствия к человеку вместе с верой в его достоинство и нравственные силы проникали одно время и в творчество С. Беллоу. В героях его ранних книг можно было видеть жертв как социальной, так и эмоциональнопсихологической неустроенности, пытающихся — с переменным успехом — гармонизировать свои отношения с внешним миром. Драма борьбы за физическое существование, за место под солнцем не так актуальна для его персонажей, принадлежащих к обеспеченному «среднему классу», но зато их психика буквально иссечена и покрыта шрамами от соприкосновения с острыми углами современной буржуазной цивилизации.
Роман Беллоу «Герзаг» (1964) в неменьшей степени отвечал принципам «центростремительной» поэтики, нежели «Над пропастью во ржи» Сэлинджера. Своим рассказчиком писатель делал не просто образованного, мыслящего человека, но утонченного интеллектуала, стоящего чрезвычайно близко к самому автору. Мысли героя, при всей их хаотичности и противоречивости, иногда буквально, а иногда в несколько перефразированном виде повторяли и развивали темы публицистики Беллоу 50-х — начала 60-х годов. Как следствие, в романе торжествовал принцип «двухголосного слова»: в нем звучал и внутренний монолог, и несобственно-прямая речь, а постоянные переходы в изложении от автора к герою то устанавливали дистанцию между ними, то вновь ее уничтожали. Публицистичность, а точнее, трактатоподобие — немаловажная
специфическая особенность романов Беллоу, которая fl «Герзаге» еще находилась в известном равновесии с соб« ственно беллетристическими средствами. Последующий произведения прозаика углубили, однако, эту тенденцию! что самым невыгодным образом сказалось на их худо^ жественной выразительности. j
Профессор Мозес Е. Герзаг — наиболее удачный чело* веческий характер, созданный литературным воображением Беллоу. Рисуя образ своего героя, прозаик умело балансировал на тонкой грани, отделяющей язвительного и про-: зорливого критика от не в меру словоохотливого современного Гамлета из Манхэттена. Герзаг одновременно и мудр и по-мальчишески неуравновешен, стоек перед уда-j рами внешних сил и до неприличия плаксив и капризен^ Но человеку тонкой душевной организации свойственно, по убеждению писателя, и то, и другое, и третье — ибф как иначе он мог осуществлять принятую им на себя’ функцию «сейсмографа эпохи», молекулы разума, приво-* дящей в движение коллективное сознание. Записи зигзагообразных ходов этой «молекулы» посвящено основное' содержание романа, в котором сюжет, за исключением; многозначительного финала, занимал подчеркнуто под-; чиненное положение.
Ощущая свою ущемленность в обстановке собственнической Америки, Герзаг пытается отыскать себе союзников в схватке с жизнью. Он пишет пространные послания президенту Эйзенхауэру, философам, теоретикам и стратегам мировой политики, но... оставляет их неотправленными. Письма Герзага — прежде всего броский символ беспомощности «массового» американского интеллигента в эпоху общественно-политического безвременья. Муки неудовлетворенного гражданского чувства, вскормленного на примерах славного прошлого человечества, с которыми гуманитарий Герзаг знаком из первых рук, толкает его на борьбу, на оппозицию самодовольству и умственному застою. Но с другой стороны, спокойствие, обеспеченность и уют, доступность которых в послевоенной Америке для людей со способностями и самолюбием не отрицается Беллоу, действует на его героя поистине гипнотически.
Убедительно продемонстрировав двойственность нравственной физиономии людей, подобных Герзагу, Беллоу был, однако, готов протянуть руку помощи человеку, который, несмотря на все свои слабости, безмерно выше в моральном отношении преуспевающих клиентов «общества изобилия». Терзаемый психологическими травмами, «дипломи* 94
р о ванны и специалист-интеллектуал» находит, наконец, убежище от житейских неудач и гнетущих размышлений. Тихая коннектикутская усадьба, любовь преданной Рамоны — все это подобно бальзаму для истерзанной психики Герзага. Но верный высоким духовным побуждениям сам он смотрит на свое уединение как на передышку, а не на капитуляцию. Субъективность представала здесь свободной от традиционно сопутствовавшей ей стеснительности, а то и ущербности; тем самым, впрочем, создавалась питательная почва для своего рода интеллектуального снобизма, заурядного самодовольства, что в свою очередь сигнализировало о назревающем кризисе получившей широкое признание художественной модели.
Усложнение и драматизация с начала 60-х годов многих сторон внутриполитической обстановки в США вместе с крахом мифа об «американской исключительности» и неуязвимости страны в случае нового мирового конфликта не могли не сказаться на способах воплощения реалистического искусства. Логика движения реализма в американском романе была такова, что морально-эмоциональная субъективность все чаще отступала на задний план; основной акцент смещался из сферы этической проблематики к более непосредственному отображению социального бытия современных американцев.
Показательной в этой связи явилась эволюция на рубеже 50—60-х годов творчества Дж. Апдайка. Его первое крупное произведение, роман «Ярмарка в богадельне» (1959), содержало многие существенные элементы «центростремительной» формы, включая локальность сюжета, тонкий психологизм и стилистическое благозвучие. Проникаясь складом мыслей очень пожилых людей, стоящих будто бы вне основного потока американской жизни, автор стремился к постановке вопросов философско-нравственного характера, к постижению скрытых, «глубинных» мотивов поведения личности. Подтверждение обозначившихся тенденций не заставило себя долго ждать; его следующее произведение возвестило о прочном становлении на ноги писателя реалистической складки, с отчетливо выраженной социальной темой, обладающего незаурядным изобразительным талантом. «Ярмарка в богадельне» с ее камерностью сюжета оказалась лишь преддверием к раскрытию социально-критических возможностей таланта Апдайка.
Действие в романе «Кролик,, беги» (19601 датировалось временем его создани>£то была эпоха, когда США еще 95
только начинали выходить из плена «холодной войны* и маккартизма. Америка этой поры еще не знала ни широкого движения за гражданские права, ни бунтующей молодежи, ни «сексуальной революции». Мир, окружавший героев книги, устойчив, патриархален, достаточно благополучен и — бесконечно уныл, уныл настолько, что даже отнюдь не самые утонченные натуры, такие, как двадцатишестилетний рабочий парень Гарри (Кролик) Энгстром, не в силах противостоять его неумолимому гнету.
Когда-то Кролик Энгстром был классным спортсменом, «звездой» школьного баскетбола с известностью, простиравшейся за границы округи. Теперь его подвиги всеми забыты, и он чувствует себя прочно застрявшим на житейской обочине. Эта чисто личностная психологическая коллизия умело транспонировалась Апдайком в более широкую тему смутного недовольства, определявшую внутреннее состояние героя. Его «долгое уныние» проистекает из разных источников: тут и нелады с женой, и малоинтересная работа по рекламе пустячных кухонных приспособлений, и общее ощущение социальной неприкаянности, постепенно выходящее на ведущее место среди прочих отрицательных эмоций.
Уверенной рукой реалиста, внимательного к мельчайшим и в то же время характерным предметным подробностям, Апдайк воспроизводил обстановку, на фоне которой разворачивалась драма его персонажей. Хотя «сценическая площадка» произведения и неширока, писателю удалось сконцентрировать на ней многое из того, что составляло социально-психологическую «среду обитания» его современников, принадлежащих к сравнительно обеспеченным слоям американского насолетгня. И вместе с тем Апдайк не довольствовался ссылкой на негативную роль этой среды, не снимал ответственности за то, что происходит с Кроликом, с самого героя. Показом совокупного влияния чисто внешних обстоятельств мог удовольствоваться писатель-натуралист, превращающий своих персонажей в безгласных мучеников сил «высшего порядка». Реализм же предполагает не менее серьезный анализ и нравственной позиции личности, ее психологического склада — со всеми возникающими порой при этом противоречиями и даже несообразностями.
И сюжет романа, и многие его художественные детали, выдержанные в стиле бытовой сатиры, указывали на критическое восприятие Апдайком «средней Америки». Более сложной представлялась концепция заглавного героя про-96
изведения. Кролик Энгстром далеко не бунтарь; даже наиболее решительные его поступки в немалой степени инстинктивны и произвольны. Для приверженцев ходячей морали, неизменно выступающей на передний план в любой период общественной стагнации, Кролик сам виноват но всем происходящем с ним. Он внезапно бросает беременную жену и не имеет достаточного мужества, чтобы остаться с Рут, которую он будто бы искренне любит. Его самодовольный эгоизм становится непосредственной причиной цепи злоключений вплоть до несчастного случая с его новорожденной дочерью. Однако возможности реалистического метода позволяли Апдайку поставить проблему моральной ответственности в более широком контексте, не ограничиваясь лежащими на поверхности, а потому и нередко ошибочными выводами.
Несмотря на всю свою небезгрешность, Кролик в каком-то смысле драматическая и, быть может, даже трагическая фигура. Среди своих заурядных по всем статьям сограждан он выделяется не только ростом, но и сложностью душевной жизни, той органической неуспокоенностью, с исчезновением которой человек вступает в длящееся нередко долгие десятилетия предмогильное состояние. Кролик рвется, мечется из стороны в сторону, всякий раз оступаясь, и так происходит не только из-за несовершенства его натуры, но и потому, что над ним неизменно тяготеет метафизическое ощущение несвободы. Эта несвобода нс принимает отчетливо обозначенных контуров, и тем не менее его не покидает «чувство безысходности, чувство, будто он окружен, зажат со всех сторон»1. Не случайно из его уст вырывается слово «сделка», когда прощенный, как блудный сын, он возвращается в лоно буржуазной семьи своего тестя. До этого момента Кролик все еще мог надеяться, что лучшие годы его жизни уйдут не только на то, чтобы «слушать крики младенца и обманывать людей, продавая подержанные автомобили»2. Но вот в который раз импульс свободы вновь берет верх, и Кролик бежит... бежит, чтобы опять оказаться в клетке, из которой нет выхода.
Особенностью образного строя в романе «Кролик, беги», доказательством «высокопробности» его реализма являлась та естественность, непринужденность, с какой входил во внутренний мир произведения читатель, быть
Апдайк Дж. Кролик, беги. Давай поженимся. М., 1979. С. 333. ' Там же. С. 271.
может очень далекий от мировоззренческого и психолй! гического склада его героев. И в этой книге, и вп ос л еда ствии Апдайк избегал «разъяснений», исторических, col циологических, этнографических и иных «справок», kotoJ
рые так часто служили подспорьем для многих американ? ских прозаиков, начиная с Ф. Купера вплоть до недавних произведений Р. П. Уоррена. Саморазвитие романа не нуждалось ни в каких «подпорках», комментариях, авторских наставлениях. И вместе с тем это вовсе не означало свойственной произведениям натуралистического склада^ отстраненности писателя от повествования. «Контроля на^ материалом» Апдайк добивался не прямым вторжением в
ход и логику изложения, а умелой его организацией* Роман «Кролик, беги» интересен возникающим в нем своеобразным равновесием между «центростремительной» поэтикой и привлечением более «традиционных», объекти-г визированных форм художественного изображения. Подчеркнутое использование во всем тексте романа грамматик ческой формы настоящего времени приближало читателя к герою, однако темп развертывания событий диктовался не его сознанием и не навязывавшей свое верховенство авторской волей, а самим движением жизни. Начало действия, казалось, было избрано абсолютно произвольно: солнечный мартовский день ничем не выделялся в биографии Кролика. Еще более обрывочна концовка романа, напоминавшая открытый в будущее финал «Гроздьев гнева» Дж. Стейнбека. «Кролик бежит, бежит» — этот
рефрен символизирует и нескончаемость жизни, и несво-димость ее к каким-либо общезначимым идеологическим моделям. Внесение определенности в дальнейшую судьбу Кролика было бы подобно звону свадебных колоколов на
последних страницах викторианских романов — литературный канон взял бы верх над чурающейся всякой каноничности жизненной материей.
Бегство Кролика было похоже на движение по кругу без надежды выбраться за барьер, воздвигнутый перед ним обстоятельствами объективного, социально-исторического характера. Возвращая своего героя к реальности, Апдайк указывал на тщетность романтизированных иллюзий, но это не означало, что мир его персонажей заслуживал лишь огульного отрицания. «Моя работа сводится к провозглашению тезиса: «да, но...», — заявлял писатель в одном из публичных выступлений, и в этих словах сле
дует видеть не утверждение релятивизма, а свидетельство ответственного подхода художника-реалиста к задаче
адекватного воспроизведения противоречий действительности.
Диалектический подход заложен в самой сердцевине дарования Апдайка, и поэтому так важна исследовательская гибкость при интерпретации идейно-эстетического содержания творчества писателя. Характерно, что Кролику Энгстрому каждый шаг по жизни видится в окружении «густого хаоса немыслимых альтернатив», и это то, с чем сталкивались и Уоррен во «Всей королевской рати», и Капоте в «Голосах травы», пытаясь определить доминанты поведения своих героев в условиях послевоенной действительности. Само многообразие мотивировок человеческого поведения в романах Апдайка, включая привлечение сугубо эротических импульсов, которые стремящийся к правде писатель не вправе обходить молчанием, служит знаком жизнеподобия литературного произведения, доказательством глубины его реализма. Кролик — сын своего времени, своей страны, своего класса. В социально-политическом отношении он плоть от плоти так называемого «молчаливого большинства», к консерватизму которого не без успеха апеллировали буржуазные политики от Эйзенхауэра до Р. Рейгана. В то же время в этом раннем романе Апдайк стремился показать и иное — изначальную человечность своего героя, терпящую ежечасный урон при столкновении с острыми гранями буржуазного общества.
Бунтарство «беглеца» Кролика было, таким образом, весьма аморфным и относительным по сравнению с твердой логикой социально-политических построений в произведениях критического реализма, рожденных атмосферой «гневных тридцатых» и ее отголосками. Но в контексте общей литературной ситуации 50-х — начала 60-х годов тяга к насыщению «центростремительной» конструкции актуальным общественным содержанием представлялась весьма знаменательной. «Вне политики, я понял, быть нельзя... Нельзя сидеть сложа руки и смотреть за тем, как тебя уничтожают... Где нет борьбы, там нет победы», — эти слова персонажа Якоба Бока, в котором легко угадывался безвинный мученик «дела Бейлиса», прозвучали в романе «Мастеровой» (1966) Б. Маламуда, выступавшего в 50-е годы типичным представителем элегической «одухотворенной» прозы. «Пример „Бойни номер пять” как-то очень ясно показывает, что роман в высшей степени лирический может быть одновременно и вполне „открытым” романом, непосредственно вбирающим в себя
актуальнейшую общественную проблематику»1, — писал по аналогичному поводу Д. В. Затонский, видя в книге К. Воннегута (1968) известное отступление от подмеченной исследователем «центростремительной» закономерности. В этом, однако, не было ничего необычного. Примерно с середины 60-х годов эмоционально-этическая «центростремительность», субъективность художественной структуры представлялась уже достаточно старомодной; предпочтение все чаще отдавалось недвусмысленным социальным и даже политическим выводам.
3. ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИСТСКИХ мотивов
«Центростремительная модель», занявшая столь видное место в романе США 50-х — начала 60-х годов и принимавшая порой (как, например, в случае с «Герзагом» С. Беллоу) обличие своего рода «субъективной эпопеи», не сводилась лишь к набору некоторых формообразующих признаков: лиричности, камерности, метафоричности, использованию иронии и символики. Лежащая в ее основе субъективизация мировосприятия, тенденция к созданию личностных миров заметно обогатила художественную выразительность американской прозы, но вместе с тем и таила в себе немалые опасности. Достигшим поразительной чуткости в постижении эмоционально-психической сферы писателям, то и дело приходилось балансировать на тонкой грани, переход за которую мог привести к обрыву нитей, связывающих внутренние конфликты личности с противоречиями внешнего, социального мира.
Ставка на исповедальное самораскрытие героя-современника (пусть даже в образе «антигероя») часто приводила к обогащению реалистического метода, к насыщению возникающей перед читателем картины мира лирическими, «одухотворенными» тонами. Но, с другой стороны, сохранялась и угроза полной отчужденности автора и его персонажей от живой действительности, их идейной дезориентации под воздействием теорий, фальсифицирующих подлинные закономерности общественного развития. В рамках художественного произведения сам феномен «отчуждения» личности от буржуазного общества, находившийся в 50— 60-е годы в центре оживленных дебатов, поддавался двоякой трактовке. Он мог либо рассматриваться как следствие
1 Затонский Д. Искусство романа и XX век. М., 1973. С. 415. 100
господствующих в странах Запада антигуманных отношений, либо выступать в метафизически зашифрованном, а то и иррациональном обличье. В последнем случае на роль «монополиста» в истолковании внутренней сути условий человеческого существования претендовала экзистенциалистская философия.
В первые послевоенные годы в восприятии литературных кругов США экзистенциализм чаще всего не вырисовывался строго упорядоченной системой, а был равнозначен умонастроению, пронизанному острым чувством трагизма. «Это умонастроение, — пишет С. Финкелстайн, — можно сравнить с душевным состоянием человека, который ждет в камере смертников казни, или с переживаниями неизлечимо больного, знающего, что дни его сочтены»1. В зарубежном литературоведении сложились различные точки зрения относительно степени влияния экзистенциализма на американский роман. Некоторые полагают, что это влияние было незначительным и коснулось лишь нескольких имен. С. Финкелстайн, напротив, трактовал экзистенциализм и связанную с ним концепцию отчуждения слишком широко, находя проявления «болезни века» чуть ли не у каждого крупного писателя Соединенных Штатов. В своем комментарии М. О. Мендельсон справедливо отмечал, что даровитый американский ученый, «хотя и сделал немало верных наблюдений, все же преувеличил роль экзистенциалистских веяний в литературе страны»2. Злоупотребление самим термином и различными дериватами от него дошло в США до того, что одно время слово «экзистенциальный» стало широко использоваться в чисто оценочном смысле, как синоним эпитетов «непосредственный», «неотрепетированный», «исконный» и проч.
Первый натиск экзистенциализма на литературу США пришелся на конец 40-х — начало 50-х годов, и следует признать, что он сопровождался немалыми потерями для реалистического романа. Переселившись после войны в Париж и сблизившись с кружком Ж. П. Сартра, попадает под воздействие «философии существования» всеми признанный в то время лидер негритянской прозы Р. Райт. Перепевом мотивов «Постороннего» Камю (вплоть до переклички названий) явился его роман «Аутсайдер» (1953); в лабиринте умозрительных построений блуждали герои
1 Финкелстайн С. Экзистенциализм и проблема отчуждения. С. 177—178. ; Мендельсон М. Роман США сегодня. М., 1983. С. 28.
и следующей книги Райта, романа «Долгий сон» (1954Н хотя отдельные элементы этого произведения открыва/^В казалось бы, перспективу для возвращения писателя Я принципам критического реализма. Я
Влиянию Камю было обязано и творчество такого спЯ собного писателя, как П. Боулс, опубликовавшего романЯ «Нависшее небо» (1949) и «Пусть идет дождь» (1952jB С автором «Постороннего» и «Чумы» Боулса сближало i! только то, что сюжеты его книг тоже разворачивалиЛ в Северной Африке. Для экзистенциалистской прозы ка! раз типичны анонимность, социальная и национальна! неопределенность героя, его претензия на этический унЛ версализм в сочетании с полной «свободой выбора», трак! туемого преимущественно в абстрактно-метафизическом плане. Потухший взор, безжизненность и безликость преЛ ращали героя романа «Пусть идет дождь», банковского чиновника Диера, в незамысловатую персонификацию моя тивов отчуждения и бескрайнего пессимизма, неумолчно звучавших в англо-американской литературе, начиная о поэм «Бесплодная земля» и «Полые люди» англичанине Т. С. Элиота. Более сложное эстетическое взаимодейстЯ вие, выливавшееся в борьбу реалистической и экзистеЛ циалистской концепций, возникало в ранних романа! С. Беллоу «Человек, болтающийся в воздухе» и «Жертва»!
«Человек, болтающийся в воздухе» (1944) мог считать! ся прообразом многих «центростремительных романов! последующих десятилетий — действие здесь почти не по! кидало пределов одной комнаты, а повествование был! сведено к монологу главного персонажа. Трудно предста* вить себе большую степень одиночества и отчужденност! от «широкого мира», чем та, в которой пребывает repoi романа Джозеф, ждущий со дня на день призыва в армия и порывающий поэтому все связи со своим окружением Но подобное состояние героя — не прихоть романиста, н< условная проекция пессимистических философем, а реали стически мотивированное следствие конкретно-историче ской ситуации. Грозные события военных лет обрушились на атомарную личность в буржуазном обществе, вызывав вполне понятное чувство растерянности и уныния, которой далеко не в каждом случае могло быть пересилено созна тельными антифашистскими убеждениями. Смятение Джозефа — суть отражение в его сознании важных исто* рических сдвигов, которые произошли в американско: действительности вслед за Пирл-Харбором и объявлением Германией войны Соединенным Штатам в декабре 1941 года 102
С гораздо меньшей очевидностью соотнесенность отчужденности героев с общей картиной американской жизни прослеживалась у Беллоу в романе «Жертва» (1947) и в повести «Лови день» (1956). Воскрешая в значительной степени сюжетную модель «Вечного мужа» Достоевского, Беллоу был занят в «Жертве» дотошным исследованием парадоксальных взаимоотношений, складывающихся между мелким служащим Эйзой Левенталем и домогающимся его помощи деклассированным бродягой по имени Кирби Олби. Неудачником считает себя и Томми Вильгельм, центральный персонаж повести «Лови день», которому так и не удается воплотить в жизнь выставленный в названии книги известный призыв горацианской философии. Левенталь никак не может найти выхода из ложного положения, в которое его поставило, казалось бы, исключительно собственное добросердечие, а великовозрастному Томми, видимо, не дано искусство завоевать уважение ни своего строгого и щепетильного в денежных делах отца, ни склонного к рискованным авантюрам псевдоученого шарлатана Тамкина.
Локальность обрисованных конфликтов, их «молекулярность», зависимость идейного звучания «Жертвы» и повести «Лови день» от экзистенциалистских «комплексов» отчетливо осознавались самим писателем. «Всем очевидно, — писал он, — что характеры в современных романах как бы сжались, уменьшились в объеме, и факт этот глубоко беспокоит всех, кому небезразлична судьба человека. Я не думаю, что «сократились» способности человека трудиться или переживать, я уверен, что несправедливо было бы говорить об ухудшении «качества» человечества. Мне, скорее, кажется, что люди выглядят маленькими и приниженными от того, что до чрезвычайных размеров разрослось общество».
Этой декларации соответствовала и творческая практика прозаика — по крайней мере, в том смысле, что отчуждение, неприкаянность героев не воспринимались им исключительно в метафизическом плане. Книги Беллоу и до «Герзага» отличались известной социальной емкостью. Дневник Джозефа в «Человеке, болтающемся в воздухе» изобиловал и бытовыми подробностями, и размышлениями его автора о связи таких же, как и он, простых чикагцев со своей средой и своим временем. В «Жертве» и повести «Лови день» рядом с тонкой психологической нюансировкой характеров заметное место занимали немногословные, но выразительные реалисти-103
ческие описания рабочих окраин и деловых кварталов Чикаго.
Однако указывая на социально-психологическую подоплеку «томления душ» своих персонажей, Беллоу с каждым разом проявлял все меньшую настойчивость в критике общественного зла. На этот аспект эволюции писателя еще в начале 60-х годов обращал внимание английский литературовед У. Аллен. «Финал „Жертвы”, — отмечал он, — звучит еще более примирительно, чем заключительные страницы «Человека, болтающегося в воздухе»... а в отличие от этих книг «персонажи повести ,Д1ови мгновение” приходят к принятию мира таким, каков он есть, с меньшим напряжением духовных сил, чем ранние герои Беллоу»1. Тонко чувствующий, впечатлительный Джозеф еще пытался сохранить своеобразное романтически-уна-нимистское восприятие жизни: «Это стало уже моей мучительной обязанностью — глядеть вдаль и в который раз вопрошать себя: существует ли где-нибудь (сейчас, либо в прошлом) хоть малая частица подлинной человечности. Конечно, улицы, вывески, грузовики, дома, слепые и безобразные, — все это имело какое-то отношение к внутренней жизни человека... Знакомясь с политикой и бизнесом, с кабаками и кинофильмами, с хроникой грабежей, разводов, убийств, я неизменно пытался разглядеть за ними признаки объединяющей всех людей человечности». По сравнению с этой альтруистической, напряженно пульсирующей мыслью претензии Томми Вильгельма насквозь прозаичны, и ему не требуется долгих месяцев, чтобы определить свое отношение к теснящим его со всех сторон суровым реальностям собственнического уклада. Джозеф боролся с самим собой, прежде чем броситься, очертя голову, в омут регламентаций; Томми Вильгельм сломлен изначально, без каких-либо с его стороны колебаний и оговорок.
Состояние душевной прострации, владевшее героями книг Р. Райта, Боулса и Беллоу, соответствовало в общей форме выводам из тех положений экзистенциалистской теории, которые делали акцент на вечном трагизме человеческого удела. Эти взгляды, совпадающие, по сути, с натуралистической доктриной, заметно утрачивали свою популярность по мере накопления американским романом
1 Аллен У. Традиция и мечта: Критический обзор английской и американской прозы с 20-х годов до сегодняшнего дня. М., 1970. С. 413— 414, 417.
опыта гуманистической одухотворенности. Однако эволюция экзистенциализма в послевоенных работах Камю и Сартра в сторону его «гуманизации» вновь обнаружила привлекательность «философии существования» для тех писателей, кто, чутко откликаясь на диссонансы буржуазного общества, искал духовного руководства за пределами научно-материалистического объяснения хода истории.
На рубеже 50—60-х годов экзистенциализм наложил явный отпечаток на произведения таких крупных прозаиков США, как У. Стайрон, Дж. Болдуин, Н. Мейлер. Вместе с тем реалистическая основа их художественного видения, стремление к отображению жизни в ее целостности и динамике развития, к познанию ее «внутреннего механизма», ограничивали сферу воздействия экзистенциалистских концепций. Диалектика философского диспута между бытием и «ничто» преломлялась в их романах в сложное переплетение жизнеподобных и нормативистских мотивов. Эти противоречия достигали чрезвычайной остроты; однако «равнодействующая» возникавшего идейно-эстетического взаимодействия в конечном счете склонялась к преобладанию реализма над умозрительной схематикой.
«Литературной иллюстрацией» к известной трактовке А. Камю мифа о Сизифе назвала американская критика роман Стайрона «Подожги этот дом» (1960). Действительно, следуя экзистенциалистскому трафарету, герой романа художник Кэсс Кинсолвинг вначале покорно нес свой крест, подчиняясь причудам и прямым издевательствам богатого бонвивана Мейсона Флэгга, но в конце произведения все же восставал против своего обидчика и после смерти Флэгга переживал процесс духовного очищения. За исключением нескольких периферийных персонажей, все характеры романа были подчеркнуто укрупнены писателем, стремившимся превратить свою книгу в мистерию человеческих страстей, столкнувшихся в битве высочайшего накала.
Философская проблематика романа Стайрона могла показаться «напыщенной и недоношенной»1 только при самом поверхностном рассмотрении. Эти слова особенно огорчительны, поскольку они принадлежали Н. Мейлеру, творческие поиски которого на рубеже 60-х годов шли примерно в том же направлении, в каком устремлялась мысль
1 Писатели США о литературе. С. 313.
Стайрона. Принимая экзистенциалистскую формулу за^ исходный тезис, писатель не просто подбирал под него; «иллюстрации», а намеревался пропустить абстрактную! идею через горнило жизни, опробовать ее в условиях край-1 них, «пограничных» для человеческой психики ситуаций." Социальный фон в романе «Подожги этот дом» не широк,; но глубокая разработка ключевых идейно-психологиче-; ских конфликтов позволяла видеть в книге Стайрона нечто большее, нежели нарочитую игру моральными альтернативами, чересполосицу багровых отблесков ада человече-; ской души и черных признаков безумия.
При всей метафизичности мышления Стайрона-худож-ника, сказавшейся и в его более поздних произведениях, ему все-таки нельзя было отказать ни в искренности, ни в пытливости. Прислушиваясь к модным философским теориям и в то же время борясь с соблазном готовых объяснений, писатель настойчиво стремился через раскрытие драмы сознания своего современника прийти к познанию жизни — а это в свою очередь служило важным доводом в пользу реалистичности его художественного метода. Сам процесс художественного познания жизни включал в себя, в понимании Стайрона и многих других писателей-реалистов, показ как социальных, так и эмоционально-интимных аспектов жизни современного американца. С последовательным толкованием известного изречения «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо» связано то внимание, которое реалистическая проза США в XX в. неизменно уделяла сексуальным взаимоотношениям литературных персонажей. К моменту публикации романа «Подожги этот дом» Соединенные Штаты все еще оставались в значительной мере страной с прочным пуританским наследием, блюстители морали которой добились в свое время запрета «Сестры Керри» Драйзера и «Улисса» Джойса, преследовали Ш. Андерсона и Стейнбека за «непристойность» их книг и негодовали на солдатский жаргон в «военных романах» Мейлера и Джонса. Но к началу 60-х годов, после бунта битников против буржуазного фарисейства и судебных процессов, снявших запреты на публикацию произведений Д. Г. Лоуренса и Г. Миллера, ситуация в корне изменилась. Эротические темы перестали быть пугающими, необычными; вместе с другими слагаемыми социального опыта они вошли в круг мотивов общественно значимой американской литературы.
Иначе воспринимала «проблему пола» экзистенциалистская традиция, видевшая в ней один из опорных 106
пунктов своей философской программы. «Секс — наша последняя граница, будь то в литературе или в жизни, — поучал в романе Стайрона экзистенциалист-самоучка Мейсон Флэгг своих собеседников. — Это единственная оставшаяся область, где мужчины еще могут найти выражение собственной индивидуальности и обрести полную свободу, где они сбрасывают с себя условности и ограничения общества и обретают свою человеческую сущность». Многим в США казалось, что целиком в духе подобных рассуждений была выдержана идейно-художественная концепция романа Дж. Болдуина «Чужая страна» (1962). Значительная часть критики увидела в этой книге лишь «пиршество секса», по отношению к которому социальный аспект существования героев находился в подчиненном положении.
Нет оснований отрицать, что активно эксплуатировавшаяся экзистенциализмом тема одиночества, порождающего отчаяние и глубокую мизантропичность, проходила через все произведения Болдуина, выражала суть мученического существования каждого сколько-нибудь заметного персонажа книги.
Роман «Чужая страна» был написан за несколько лет до подъема оппозиционных выступлений, и в нем, в согласии с «центростремительной» поэтикой, отсутствовала развернутая картина социальных отношений в капиталистической Америке. Но и оставаясь в рамках выстроенной им системы человеческих связей, негритянский прозаик сумел передать впечатление от гнетущей тяжести жизни в несвободном обществе. «Вокруг меня слишком много страдания, безнадежности, ненависти»1, — писал Болдуин спустя некоторое время после того, как в своем романе он попытался — с переменным, впрочем, успехом — показать необходимость борьбы за освобождение из-под гнета опутавших сознание его героев экзистенциалистских категорий.
Модернистские мотивы в обличии прежде всего экзистенциалистского отчаяния, ведущего к человеческой разъединенности и, как следствие, к патологии, сильны в произведении, но писатель стремился представить в нем и иную, отличную от экзистенциалистской концепцию назначения человека. Надрывному тону безнадежности, сопровождающему картины «прогнившего Нью-Йорка», этого символа презренного торгашества, Болдуин противо-
Цит. по: Иностранная литература. 1967. № 12. С. 216.
поставлял устремленность в «иную страну», в мир бескс! рыстной, хотя подчас и нерегламентированной, любви 1 дружеского участия. Лиризм дарования прозаика, сказа# шийся уже в его первой книге «Возвести об этом с горы» был направлен в новом романе на поиски прочных связе! между людьми вне зависимости от их цвета кожи и и му-щественного положения. Обращаясь к своим читателя^ Болдуин вел кампанию за равенство и десегрегацию преж-де всего в сфере личных, интимных взаимоотношений не останавливаясь перед рискованными поворотами сюЗ жета и «шокирующими» подробностями. Но критиков-; официозов беспокоило не столько само вторжение | область запретных тем, сколько «резкий и грубый характер изображения жизни», — иначе говоря — реалистичен ская бескомпромиссность художественного метода писате^ ля. Наслоение ложных философских идей заметно нару-, шило пропорции мировосприятия Болдуина, и все же бла*! годаря реалистической основе его таланта острота и силй протеста против дегуманизации буржуазного общества не остались незамеченными широким американским читателем. j
«Чужая страна» создавалась в самом начале 60-х го-« дов, когда движение американских негров за гражданские права еще не достигло своей высшей точки. Новый, обще-( национальный этап движения начался после «марша н# Вашингтон» и двухдневных демонстраций в американской столице в августе 1963 г. К этому моменту имя Болдуин# было вновь в центре внимания читающей Америки в связи с выходом в свет его публицистической книг# «В следующий раз — пожар», явившейся прямым откли-ком на растущий драматизм межрасовых отношений.
Особым успехом пользовалась вторая часть книги,] письмо «С креста», где, опираясь на библейскую символику, автор рисовал обобщенный образ негритянского; народа, подвергшегося бесчисленным испытаниям и уни-; жениям.
На этот раз негритянская проблема представала у Бол-* дуина не своей эмоционально-психологической стороной^ не трактуемой с экзистенциалистским привкусом темой всеобщей разобщенности, а в социальном, имеющем глубокие экономические корни аспекте. Надвигалась новая полоса в социальной и духовной истории Соединенны^ Штатов, и происходившие перемены требовали от сознаю-^ щих свою общественную миссию писателей серьезной идейно-художественной перестройки.
108 1
С наибольшей рельефностью и особой остротой художественной экспрессии эти процессы нашли отражение в романе Н. Мейлера «Американская мечта», печатавшемся на протяжении 1964 года в журнале «Лайф» и опубликованном затем отдельным изданием. К началу 60-х годов Мейлер прочно утвердился в качестве «впередсмотрящего» американской реалистической литературы, приобретя репутацию и чуткой «канарейки в копях», тотчас откликающейся на признаки грозящего неблагополучия, и язвительного овода, с яростью набрасывающегося на явные и скрытые проявления общественного зла. После «Нагих и мертвых» стиль и склад художественной манеры менялись у прозаика от книги к книге, подчиняясь общей тенденции к большей обнаженности авторской позиции и страстности речи. Все три произведения романного жанра, написанные Мейлером в эпоху «центростремительного романа», во многом отличаясь друг от друга, преследовали общую цель, устремлялись в одном направлении. В послевоенной Америке писатель пытался нащупать и очертить контуры литературного персонажа непокорного и яркого, всем своим складом вырывающегося из явно негероической, тусклой действительности всеобщего конформизма. Таков главный герой «Американской мечты» Стивен Роджек, в образе которого Мейлер постарался воплотить свой доведенный до крайности, почти до абсурда протест против «медленного угасания» человека в буржуазном обществе — мысль, проходившую на рубеже 50—60-х годов через многие его статьи и интервью, включенные в сборники «Самореклама» (1959) и «Каннибалы и христиане» (1966).
Представлением о Соединенных Штатах как о «полубезумном государстве процветания» пронизано основное содержание «Американской мечты». Ведущий мотив книги, подспудно определяющий психологию ее героя и выступающий первопричиной всех его поступков, — это страх сделаться мертвецом еще до смерти, страх потерять способность прислушиваться к собственной душе и улавливать ее отклик на то, что происходит в мире. Между тем критики в США, скользнув по поверхности, почти в один голос упрекали Мейлера в «безответственности» и «литературном гаерстве», видя в его книге произведение, «лишенное самобытных идей и попросту вздорное с точки зрения содержащейся в ней морали... бессвязную чересполосицу дешевых эффектов, которые обращают почти каждую страницу в сплошную нелепицу».
Уже в первых главах романа содержалось столько шо-1 кирующего и несуразного, чтобы наверняка смутить при-вычного ко многому литературного критика и одновремен- но еще раз подтвердить расхожее мнение об авторе как об «ужасном ребенке», нарушающем нормы и правила американской словесности. Настораживали прежде всего сами претензии Стивена Роджека, аттестовавшего себя героем второй мировой войны, членом конгресса США от неназванного штата, другом Элеоноры Рузвельт и Джона 4 Кеннеди, а также потенциальным зятем владельца автомобильной фирмы с личным капиталом в двести миллио- [ нов долларов. И Роджек действительно женится на Деборе Кофлин Мангаравиди Келли, но, быть может, только для того, чтобы спустя какое-то время сперва собственноручно задушить свою жену, а затем выбросить ее тело из окна роскошных апартаментов в одном из небоскребов, выходящих на набережную нью-йоркской Ист-Ривер.
Все это выглядит гротескно и неправдоподобно, если/ подходить к роману Мейлера с мерками, пригодными для оценки «традиционного» базирующегося на сугубом жизнеподобии произведения. В движении сюжета «Американской мечты» и в психологии ее героя было действительно немало несуразного, почти фантастического, но основные структурные принципы книги находились целиком в сфере реалистической эстетики. Это вытекало прежде всего из социальной обусловленности поступков Стивена Роджека, в котором следовало видеть не маньяка, не патологического убийцу, а вполне «традиционного» выразителя столь характерного для реалистического романа конфликта между личностью и обществом.
Согласно авторской терминологии, убийство Деборы — первый и главный символический акт «экзистенциалистского высвобождения» Роджека из пут «тоталитаристской действительности», и эти закавыченные понятия составляли в дальнейшем как бы два интеллектуальных фокуса орбиты, по которой устремлялось в романе творческое воображение прозаика. Сам Мейлер на рубеже 50— 60-х годов не раз именовал себя «американским экзистенциалистом», но это вовсе не означало, что он послушно следовал европейским теориям. Экзистенциализм для Мейлера — понятие, связанное не с философией, а с психологией, с «непосредственным опытом» его современника, формируемым не столько уникальными личными обстоятельствами, сколько всей совокупностью конкретно-исторических общественных обстоятельств.
Согласно авторскому замыслу, Стивен Роджек — обладатель не только редкой биографии, но и гипертрофированной впечатлительности, ума блестящего, но исковерканного и лишенного моральной опоры. В этой характерологической модели можно было видеть еще одну модификацию образа «подпольного парадоксалиста», красной нитью проходящего через европейский и американский модернизм XX в. Цель Роджека — опровергнуть, а то и опрокинуть понятия «буржуазной гуманности» и выстроить новую систему обоснования поступков, позволяющую ссылаться на озарения и галлюцинации, на лунный свет и безжалостных демонов. «Демонам будет трудно фигурировать в полицейском отчете», — сухо замечает инспектор Робертс, ведущий расследование убийства Деборы, и Роджек мгновенно сникает; начиная с этого момента завеса словесного тумана психоанализа и прикладной феноменологии бессильна перед реальностями драмы, которую сам герой привел в действие.
Написанная в жанре современной исповеди, как эмоциональное излияние находящегося во власти «демонов» героя, «Американская мечта» тем не менее давала основания для того, чтобы видеть в предпосылках его поступков вполне «земные», реалистические мотивировки. Книга Мейлера — подчеркнуто «центростремительный» и даже «головной» роман в том смысле, что образы материального мира и нюансы психической деятельности приходили к читателю будучи первоначально запечатленными в голове человека, постоянно подстегивающего себя к овладению новыми глубинами и высотами сознания. Казалось бы, возникала угроза деформации образа внешнего мира, субъективистских искажений, перехода изображения в иллюзорный план произвольных фантазий и кошмаров. Однако даже самые «фантастические» помыслы и поступки Роджека оказывались продиктованными отчетливой логикой «посюсторонних», жизненных обстоятельств. Невозможно отрицать то, что приступы неврастении, стыда и страха проистекают у Роджека из очевидных реальностей его социального положения. Несмотря на благополучный послужной список ветерана войны, экс-конгрессмена, а ныне университетского профессора, его репутация в нью-йоркском обществе в гораздо большей степени зависит от его брачного контракта с дочерью мультимиллионера. «Пока она была со мной, у меня имелось твердое положение в свете; взятый же сам по себе, я, несмотря на всю свою активность, не производил серьезного впечатле-111
ния», — признавал Роджек в пароксизме самообвинении обозначившим психологическую завязку произведений
С самого начала Дебору и Роджека разделяло слишком многое, и возникшие между ними осложнения в немало! степени перекликались с коллизией богатой наследница и бедного интеллигента, развернутой Ф. Скоттом Фицдже^ ральдом в романе «Ночь нежна». Со всеми своими ака« демическими титулами Роджек не в состоянии преодолел во взаимоотношениях с Деборой комплекс собственной со^ циальной ущербности и несостоятельности. Он не столв искушен, как ее бывшие любовники, по части светский развлечений, и ему не дано воспитать в себе необходимой^ по стандартам того же «общества», меры высокомерия И безразличия ко всему, что выходит за пределы мелочных условностей. Как человека, наделенного интеллектуальны^ ми интересами и известной творческой силой, Роджека! не может не возмущать натура его жены. «Теперь я попа-! ду в тюрьму на десять или двадцать лет, и если дело пойдет, то смогу написать книгу, подходы к которой почтй атрофировались в моей голове за все эти годы пьянства и препирательств с Деборой», — вот первая мысль, приход дящая ему в голову сразу же после убийства. ?
Насилие над Деборой представлено в романе как, истолкованная в экзистенциалистском плане отчаянная попытка страдальца-одиночки разорвать тесный круг свое-’ го существования. Роджек жаждет перемен после тех де-, вяти или десяти лет, что он провел среди академических посредственностей и светских пшютов. И ниспосланная' ему судьбой встреча с Черри, певицей из ночного бара,? с ее олицетворяющим извечную «американскую мечту»] обликом неиспорченной простодушной девушки из глубок кой провинции является своего рода Рубиконом — она воскрешает у героя надежду на содержательное и безыскусное будущее. «О боже, — смиренно молит он, забыв о своих звонких, но эфемерных регалиях одного из важных членов нью-йоркского «истеблишмента» и самонаре-ченного «имморалиста», — позволь мне любить эту девушку, стать отцом, быть хорошим и добрым для всех человеком и делать что-то полезное... сделай так, чтобы я не вернулся в этот страшный дом, залитый кладбищенским светом луны». Как некогда видение богородицы, близ лурдского источника, «Американская мечта» является Роджеку на панели Манхаттена, и, невзирая на все наслоения, душа погрязшего во многих грехах американского интеллигента все еще способна откликнуться на зов идеала» 112
Желание освободиться от своего прошлого, от внушенных экзистенциализмом претензий и заблуждений придает всем действиям Роджека необычную витальность. Он уверенно держится на допросах в полиции, ловко уклоняясь от расставленных ловушек, а затем бесстрашно проникает в джунгли Ист-Сайда. В свирепой схватке из-за обольстительной Черри он спускает с лестницы Шаго Мартина, в равной мере знаменитого своим талантом музыканта и гангстерскими замашками. Но главное испытание ждет Роджека впереди, при встрече с отцом Деборы, финансовым магнатом Барни Освальдом Келли, в котором наиболее полно, по мнению Мейлера и его героя, воплощен сам дьявол, принявший человеческий облик. Видения адского пламени проносятся в голове Роджека, когда он переступает порог роскошного отеля Уолдорф-Астория, где обосновался обладатель двухсотмиллионного состояния и громкого девиза на фамильном гербе: «Победа в небесах и на земле». «Можешь сравнить меня с пауком, — говорил Келли Роджеку. — У меня связи повсюду: от «черных мусульман» и редакции «Нью-Йорк тайме» до ЦРУ и мафии». И влияние Келли в самом деле велико: почти одновременно ему тгриносят соболезнования в этот вечер главарь организации «Коза ностра» Гануччи и президент Соединенных Штатов.
При всей необычности фигуры Стивена Роджека и его шокирующих выходок само изображение сути центрального конфликта «Американской мечты» не выходит за границы эстетических возможностей реалистического метода. Более того — исследование социальных связей современной американской действительности подводит писателя к убеждению в несостоятельности, надуманности первоначальной экзистенциалистской трактовки образа главного героя. Поединок Роджека с Келли — венец реального, а не голословного сопротивления бывшего «экзистенциалистского героя» гнету буржуазного общества. Еще до признания Роджека в убийстве жены, Келли убежден в его виновности, но он спасает своего зятя от электрического стула, потому что неизбежный скандал может пагубно отразиться на делах его, Келли, финансовой империи. Однако прощение ценой философского и практического компромисса не устраивает Роджека, ибо оно свидельство-вало бы только о возвращении героя в лоно той самой «трусости», которой он не так давно объявил беспощадную войну. Его прогулка по парапету балкона на высоте тридцатого этажа и последовавшая затем стычка с хо-5—647 113
зяином роскошных апартаментов, пытавшимся-таки за-« ставить Роджека разделить судьбу Деборы, знаменует! последний акт в восстании мейлеровского индивидуума! как против внешних, социальных зол, так и против «мяг-ч кой, податливой сердцевины» собственного существа. Co-j крушив миллионера Келли, этот столп американского ка-] питализма и оплот буржуазной морали, Роджек решитель-i но перевел свой протест из области экзистенциалист--? ской символики в реальное социальное действие. ]
В нашумевшем очерке «Белый негр» Н. Мейлер впер- i вые выдвинул сенсационную по тем временам идею, со-j гласно которой убийство является актом «экзистенциа-листской смелости», доказательством личного раскрепо-<' щения и чуть ли не душевного благородства убийцы.^ Задуманная как иллюстрация к этому тезису «Американская мечта» стала скорее опровержением исходной по--сылки, свидетельством силы как реалистического метода, так и гуманистических, социально-критических представ-' лений писателя. Пятнадцать лет спустя Мейлером был написан роман-документ «Песнь палача» (1979), материал которого — история действительного убийцы Гари Гилмора — взывал, казалось бы, к экзистенциалистско-фрейдистским истолкованиям. К этому времени, однако, увлечение экзистенциализмом осталось далеко позади — как для Мейлера, так и, за малым исключением, для всего американского реалистического романа.
Сосредоточенность на внутреннем мире героя, субъективизированная манера письма, тяготение к формальному эксперименту — эти черты отличали произведения многих «молодых романистов», находившихся в 50-е — начале 60-х годов в центре внимания читателей и литературной критики. Однако их отход от традиций широкоохватного социально-психологического романа ни в коей мере не означал разочарования в реалистическом методе. Движение реализма не прерывалось, но оно приобретало специфические черты, концентрируясь в морально-этической сфере, устремляясь в глубь человеческого сердца. Растянувшаяся более чем на десятилетие эпоха «центростремительного романа» (при том, что данная тенденция не исчерпывала всего многообразия американской реалистической прозы) свидетельствовала не о сдаче критическим реализмом своих позиций, а об изменении ракурса художественного видения, об утратах и приобретениях в истолковании литературой судеб истории, общества и отдельной личности.
Глава III
РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ РОМАН США НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (начало 60-х — вторая половина 70-х годов)
Во мнении многих советских специалистов отрезок истории Соединенных Штатов между президентствами Дж. Кеннеди и Р. Рейгана все чаще предстает как некоторая хронологическая общность, соответствующая представлениям о современности в сравнительно узком и вместе с тем вполне определенном значении слова. Несмотря на всю неоднородность с точки зрения как экономической, так и внутриполитической динамики, этот промежуток времени выглядит достаточно единым прежде всего по контрасту с предшествовавшей ему полосой американской истории. Известную стабильность, неспешность «транквилизованных пятидесятых» сменило резко скачкообразное развитие, отмеченное по своей психологической окраске подчеркнутым драматизмом. К моменту избрания Кеннеди президентом, отмечает Э. А. Иванян, «США стояли на пороге нового десятилетия, которому было суждено стать наиболее бурным и противоречивым в двухсотлетней истории американского государства»1. Многие особенности этого «критического десятилетия Америки» нашли продолжение и в общественной жизни США 1970-х годов — вначале в дальнейшем росте массовых движений социального протеста, а затем, после их относительного спада, — в реакции интеллектуальных и литературных кругов США на полученный исторический опыт.
Углубление общего кризиса современного капитализма, дальнейшая классовая поляризация сопровождались существенными сдвигами в общественной позиции, в мировоззрении и психологии широких масс населения Соединенных Штатов. Все эти процессы не прошли мимо внимания американских писателей; причем зачастую идейно-
1 Иванян Э. А. Белый дом: президенты и политика. М., 1975. С. 322. 5* 115
эстетическое своеобразие их произведений определялось открыто тенденциозными установками авторов и прямой соотнесенностью проблематики с общественно-политической конфронтацией. Непосредственное отображение эта борьба находила в жанрах, отличавшихся подчеркнутой злободневностью и отчетливо выраженной идеологической направленностью («политический роман», «поэзия протеста» и др.). В то же время важное значение имел и иной аспект воздействия внешних факторов на литературное творчество — трансформация художественного сознания на глубинном его уровне, далеко не всегда принимавшая форму подчеркнутой актуальности.
Широкое антибуржуазное движение 60-х годов, объединившее бунтующую молодежь, негров, представителей других национальных меньшинств, а затем вылившееся в борьбу за скорейшее завершение войны во Вьетнаме, против экономических трудностей и политических злоупотреблений, развило у демократически настроенных американских прозаиков убеждение в важности и ответственности своей общественной миссии. По мнению М. О. Мендельсона, этот период стал «временем укрепления реалистического начала в литературе США, возрождения интереса писателей к познанию социальных причин оскудения духовного мира американцев... На смену опасливому, боязливо-сдержанному отношению к проблемам общественного значения и уж подавно ко всякой политике, выходящей за рамки ортодоксальности, пришли неодолимая тяга к социальным проблемам, все более жадный интерес к политической жизни»1. Это обобщение, бесспорное само по себе, нуждается, однако, в конкретизации с учетом тех сложных обстоятельств, в которых находилось тогда реалистическое искусство. «Для исследователя систематизация обильного «урожая» художественной литературы с начала 60-х годов все еще представляет определенную сложность», — заметил в 1977 г. западногерманский критик Г. Бунгерт, имея в виду крайнюю противоречивость «литературной ситуации» предшествовавшего пятнадцатилетия. При детальном анализе этого периода и отдельных его этапов становятся различными не только успехи реалистической литературы, но и трудности на ее пути, коренившиеся как в общей социально-психологической и культурной обстановке, так и в активном противодействии
1 Основные тенденции развития современной литературы США. М., 1973. С. 32, 37
враждебных реализму идейно-эстетических течений и литературно-критических пристрастий.
Судебные решения по поводу книг Д. Г. Лоуренса, Г. Миллера, Дж. Клиленда и других, сломав еще сохранявшуюся в США «цензуру нравов», в немалой степени предвосхитили то, что вскоре было объявлено «сексуальной революцией» в культуре Соединенных Штатов. Помимо приведения в ход индустрии откровенной порнографии, эта «революция» коснулась творчества ряда серьезных писателей реалистического склада, которые полагали, что дотошное воспроизведение подробностей интимной жизни усилит степень достоверности их творчества. Новая «сексуальная свобода» в литературе оборачивалась чаще всего лишь новыми всплесками натурализма, которые можно было наблюдать в книгах и хорошо известных М. Маккарти, Дж. Джонса, Г. Голда и только что дебютировавших Дж. Речи и Г. Селби.
Еще одного соперника реалистический роман приобрел в лице воспрянувшей духом литературы модернизма, в прозе «черного юмора», которая и поныне предстает в восприятии большинства западных литературоведов «самым самобытным явлением» послевоенной литературы Соединенных Штатов. Натиск критической моды вкупе с претензиями разного рода технократических теорий, отрицавших значение гуманитарного знания, внес известную растерянность в писательские ряды и способствовал распространению пессимистических оценок современного уровня литературного творчества. К тому же с начала 60-х годов из художественной прозы США ушли многие ее крупнейшие представители: Хемингуэй, Фолкнер, Стейнбек, Дос Пассос, О’Хара, Уайлдер, К. А. Портер, Дж. Фаррел. И все-таки вряд ли можно согласиться с тем, что в последующие годы в США резко снизился общий тонус литературной жизни, пошатнулись позиции «большой» литературы в столкновении с неприхотливым чтивом, спал накал идейно-эстетической борьбы.
Напротив, именно начиная с 60-х годов появление настоящих, «серьезных» произведений в списках бестселлеров сделалось в США не исключением, а почти правилом. Возрос общественный престиж писателя, реалистическая проза пополнилась рядом новых имен. Вопрос о самом «выживании» литературы отодвинулся ныне на периферию интеллектуальных дискуссий. Вместе с тем в рамках проблемы соотнесенности реализма с иными, нереалистическими художественными системами обозначи-117
лись новые аспекты. Наряду с подъемом социально-обл1^ чительных тенденций реализм в течение некоторого вре-; мени испытывал известные трудности, теснимый (впрочем, прежде всего во мнении формалистической критики)^ модернистским мифотворчеством. Весьма противоречивое* воздействие на реалистическую прозу оказала модная тяга! к документализму, а также эпатаж молодежной контркуль-1 туры. J
Состояние реалистического романа США на протяже-J нии 60—70-х годов не давало оснований видеть в нем некоей единое эстетическое образование, дифференцированное] лишь различием индивидуальных творческих почерков?! Для американской литературы на этом этапе характерно^ скорее расширение и видоизменение сложившихся форм, * выход за ставшие традиционными жанровые границы.' Это относится и к реалистическому роману, который вы- I двинул ряд своеобразных вариантов, включая роман-репортаж, небеллетристический роман, повествование, соче-’ тающее бытописание с мифологическим комментарием, различные виды стилизации (роман-пастораль, «актуализированный» исторический роман и др.). К середине^ 70-х годов отчетливо выявилась тенденция к эпизации художественного изображения с обращением к жанрам широкоохватной семейной хроники, исторической саги. При этом разнообразие форм не затемняло главной особенности реалистической прозы США рассматриваемого периода — ее тесного сцепления с общественно-политическим и духовным содержанием современности, живой связи со жгучими проблемами, вытекающими из конкретной исторической ситуации.
Мировоззренческая перестройка многих прозаиков-' реалистов под воздействием бурно развивавшихся событий повлекла за собой и определенный пересмотр общей концепции романной формы. Если в Западной Европе 60-е годы прошли под знаком дебатов об эстетических возможностях «нового романа», являвшего собой не более как возврат к натуралистической копиистике, то в Соединенных Штатах тот же период стал свидетелем постепенной сдачи своих позиций «центростремительной» манерой выражения. Уклон в индивидуалистическую замкнутость было трудно совместить с нараставшей от года к году «ангажированностью» писательского поиска. Уже в середине этого десятилетия вырисовывалась недостаточность внутренних импульсов, которыми питалось течение «субъективной прозы» со свойственной ему романтизированным 118
восприятием пропорций и движущих сил реального мира. Переход к более широкой, сбалансированной художественной системе означал как раздвижение рамок изобразительного фона и проблемных горизонтов, так и возрождение более активной роли автора.
Опыт длительного преобладания «центрестремительности» не прошел бесследно для американской реалистической прозы второй половины 60—70-х годов. Именно в это время были созданы столь репрезентативные для данной художественной модели романы Ф. Рота «Жалобы Портноя» (1969) и Дж. Хеллера «Что-то случилось» (1974). Лирическая интонация в первую очередь определяла эстетическое своеобразие серии документальных репортажей Н. Мейлера от «Армий ночи» (1968) и до «Боя» (1975). Но в целом эволюция реалистического романа шла в ином направлении, в сторону большей эпичности, предполагающей выход «на глубину» подлинного историзма и философского истолкования действительности. В отличие от западноевропейцев американские прозаики-реалисты в новейшую эпоху в большинстве своем прочно стояли на почве непосредственных наблюдений и не позволяли сбивать себя с толку рассуждениями о «смерти романа», «кризисе западной культуры», «информационном взрыве» и т. п. Формалистический эксперимент, который вел свое происхождение от недавних модернистских новаций, был развит в их творчестве в гораздо меньшей степени, чем по другую сторону Атлантики либо в странах Латинской Америки. В целом романисты США 60— 70-х годов были гораздо последовательнее в приверженности «традиционным» формам реалистического изображения. Наличие этой преемственности, а также большого количества произведений так называемой «малой темы», бытописательного, фактографического склада не позволяет в полной мере распространять на Соединенные Штаты наблюдение о «возвращении реализма» в литературы Запада в 70-е годы; реализм, в сущности, никогда не исчезал из американского романа и предпочитал не рядиться в чужие одежды. Вместе с тем на протяжении достаточно долгих лет реалистический роман США не оставался статичным: он оборачивался к читателю некоторыми новыми гранями, участвуя в идейно-эстетической борьбе, живо откликаясь на социально-политические противоречия и духовные искания своего времени.
1. ПОДЪЕМ СОЦИАЛЬНО-КРИТИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ ;
Начало 60-х годов — поворотная веха в литературно!^ и общедуховном развитии послевоенной Америки. За срав^ нительно короткий срок свершился переход от состав-j лявшей основной фон «эйзенхауэровской эпохи» благодушной умиротворенности к несравненно более беспокойно-; му и критическому мироощущению. Ряд примечательных; событий способствовал оздоровлению внутриполитической обстановки в стране, вдохновив прогрессивные обществен-^ ные силы на постепенное развертывание оппозиционных, буржуазному «истеблишменту» выступлений. Уход Дж. Маккарти с политической арены означал для демократической' интеллигенции ослабление угрозы стать жертвой демаго-^ гических выпадов самозванных «бдительных». В то же1 время успехи социалистического содружества во главе сЯ Советским Союзом, крушение колониальных империй и? прочие перемены в международной сфере имели следст-^ вием настоящий взрыв самообвинений буржуазных поли-j тиков и идеологов, что в свою очередь открывало простора для серьезного, вдумчивого изучения положения дел в> Соединенных Штатах. Провозглашенная Дж. Кеннеди ] доктрина «новых рубежей» с ее риторическими призывами^ к гармонии интересов индивидуума и общества была не^ в состоянии восстановить нарушенное психологическое? равновесие; стрелка барометра общественных умонастроеЧ ний неуклонно смещалась в противоположную «штилю»; сторону.
Эта тенденция сказалась и на литературной жизни; страны. С начала 60-х годов американская проза выходит: из полосы агрессивно утверждавшего себя конформизма, и произведения его флагманов — Дж. Миченера, Сл. Уилсона, Г. Вука — уже не вызывают былого резонанса. Острый кризис мировоззренческих основ, на которые долгое время ориентировалась нация — представлений об «американской исключительности», претензий США на «всемирное руководство», — требовал более углубленного анализа, чем тот, что могли предоставить стереотипы конформистского псевдореализма. С другой стороны, все больше давало себя знать истощение эстетических ресурсов «центростремительного романа», чутко реагировавшего на мельчайшие знаки духовно-нравственного неблагополучия, но подчас замыкавшегося на крайне узком сегменте действительности. В такой ситуации вполне закономерным 120
было обращение писателей-реалистов к испытанным принципам социально-аналитического художественного исследования, с неизбежностью приобретавшего резко критическую по отношению к буржуазной Америке направленность. Провозвестником этих изменений явился ряд произведений, принадлежавших перу прозаиков старшего поколения, и прежде всего роман Дж. Стейнбека «Зима тревоги нашей» (1961).
В своем лучшем после «Гроздьев гнева» произведении прозаик верно оценил переломный характер исторического момента, которым датировалось действие в его книге. «1960 год был годом перемен, — писал он. — В такие годы подспудные страхи выползают на поверхность, тревога нарастает и глухое недовольство постепенно переходит в гнев... Во всем мире зрела тревога, зрело недовольство, и гнев закипал, искал выхода в действии, и чем оно неистовее, тем лучше. Африка, Куба, Южная Америка, Европа, Азия, Ближний Восток — все дрожало от беспокойства, точно скаковая лошадь, перед тем как взять барьер»1. Ощущением неуспокоенности, душевного разлада проникнуто и существование персонажей романа, жителей вымышленного приатлантического городка Нью-Бейтауна.
«Почти во всех знакомых мне людях я чувствую нервозность и беспокойство и преувеличенное бесшабашное веселье, похожее на пьяный угар новогодней ночи»1 2, — задумчиво рассуждает бывший гарвардский выпускник Итен Хоули, волей судеб оказавшийся за прилавком бакалейной лавки. Иронический ум Хоули легко проникает за завесу лицемерия, которой окружают себя местные финансовые тузы и прочие «столпы общества»; незаметный бакалейщик искренне возмущается открытым цинизмом и духом торгашества в сфере; бизнеса. И в то же время Стейнбеком были усвоены уроки диалектики внутреннего мира человека, на чем делала столь подчеркнутый акцент послевоенная «субъективная проза». Ведь жизненные интересы Хоули тоже подчинены той неуемной жажде обогащения, которая приводит в движение весь окружающий его мир. Писатель рисовал борьбу противоположных устремлений в душе своего героя, и этот внутренний надлом становился иногда настолько заостренным, что перед читателем одновременно представали как бы два Итена Хоули: один — беспринципный стяжатель, другой — по
1 Стейнбек Дж. Зима тревоги нашей. М., 1962. С. 270.
2 Там же. С. 170.
рядком уставший от жизни, обыкновенный и чуть-чуть" простоватый человек.
На примере своего героя Стейнбек показывал весь драматизм положения «среднего американца», вынужденного идти на сделку с совестью ради достижения успеха, который в любой момент может обнаружить свою непрочность. Преступник Хоули (а его можно так называть, несмотря на то что ограбление банка было им только задумано, но не совершено) ничем особенным не выделяется на социальном фоне Нью-Бейтауна. Все в этом городе, от банкира Бейкера до последнего полицейского, нравственно развращены и чтут лишь евангелие доллара. Находясь в подобном окружении, подчеркивал верный идеям социального детерминизма Стейнбек, любому честному челове- . ку трудно сопротивляться разлагающему влиянию среды — почти неминуемо он должен подчиниться силе общего течения.
Первые главы романа были посвящены «годам учения» Итена Хоули, уверовавшего в справедливость принципа «с волками жить — по-волчьи выть». От кассира Морфи он узнает, как можно, оставаясь неопознанным, ограбить банк; от лавочника Марулло усваивает циничную философию надувательства. «Учись ловчить, мальчуган, не то прогоришь», — говорит Марулло, и Итен «ловчит», да так успешно, что сам хозяин лавки становится его жертвой. «Деньги и приветливость — совсем разное. Деньгам нужна не дружба, а еще и еще деньги»1, — поучает Марулло, и Итен, рассчитав все последствия, добивается смерти своего друга Дэнни Тэйлора, чтобы воспользоваться его наследством. Подлости, которые совершает Итен Хоули, поистине чудовищны, но их нельзя считать необъяснимыми. Перерождение неиспорченного «естественного человека» в Ричарда III американской провинции не следовало воспринимать буквально, но тем не менее Стейнбеку удалось с высокой степенью реалистической достоверности запечатлеть в «Зиме тревоги нашей» зловещие симптомы кризиса идейно-нравственных устоев нации; в романе действительно повествовалось о том, что (как писал автор в обращении к читателю) «происходит сегодня почти во всей Америке»1 2. И все-таки писатель оставлял своему герою шанс для нравственного возрождения. Стихия добра, символически воплощенная в камне — талисмане семьи
1 Стейнбек Дж. Зима тревоги нашей. С. 28.
2 Там же. С. 5.
Хоули, побеждала в душе Итена и напускное корыстолюбие, и приступы безнадежного отчаяния. «В человеке вся сила. От него только все и зависит»1, — этот завет деда героя книги — неистового старика с седой шкиперской бородой, словно сошедшего со страниц романов Г. Мелвилла, вступал в явную перекличку с «генеральной идеей» поздней прозы Фолкнера, автора романа «Особняк» (1959).
Упоминавшийся в «Зиме тревоги нашей» 1960 год, названный в свое время «годом Африки» и преобразивший географическую карту этого континента, стал начальной точкой отсчета в новой трактовке негритянской темы в американской реалистической прозе. Вдохновленный борьбой за независимость африканских государств классик негритянской литературы У. Дюбуа публикует роман «Цветные миры» (1961) —третью часть автобиографического цикла «Черное пламя», сконцентрированного вокруг фигуры Мануэля Мансарта. Обострением расовой проблемы в самой Африке было вызвано почти одновременное выступление нескольких писателей с протестом против идеологии и практики белого расизма. Сочетание «крупного» и «общего» планов изображения могло быть при этом различным. В романах «Дженни» (1961) и «Ближе к дому» (1962) Э. Колдуэлл, используя привычную для себя манеру непритязательного рассказчика, сумел за частными полуанекдотическими случаями разглядеть очертания тревожных для всего американского Юга событий. Романы X. Ли «Убить пересмешника» (1961) и К. Маккаллерс «Часы без стрелок» (1961) были выдержаны в более строгой повествовательной манере и изобличали отчетливое стремление обеих писательниц к сопряжению «частных» историй их персонажей с социальными тенденциями в общенациональном масштабе.
Большинство действующих лиц в книгах Колдуэлла было словно взято напрокат из его более ранних новелл и романов. Благочестивые проститутки, гротескные супружеские пары, умственно «заторможенные» «белые бедняки», иногда упрямые, а иногда оробелые негры и, наконец, громилы-шерифы — все они превратились на долгом пути после «Табачной дороги» (1932) из социально-психологических типов в застывшие маски, ставшие непременной принадлежностью индустрии развлечений Бродвея и Голливуда. Но в двух романах начала 60-х годов на традиционную фарсовую основу наложились вполне серь-
1 Стейнбек Дж. Зима тревоги нашей. С. 56.
езные, исполненные гневного протеста интонации, гаскаяя? шаяся грешница Дженни сначала высмеивает «криво ду? шие» и трусость своих сограждан, а затем открыто встае*] на защиту красавицы-полукровки Лоуэны, сопротивляю^ щейся домогательствам местного «сильного человека* ростовщика и домовладельца Дэй да Уомека. И хот| Дженни так и не удалось уберечь Лоуэну, которая поз гибла во время пожара, в финале романа Колдуэлла ощу?] щался дух перемен, становившихся зримым фактом со*1 ци аль ной жизни Соединенных Штатов. |
Романом «Ближе к дому» писатель еще больше за-| острял уже знакомую коллизию. Симптоматично, что иж разряда «опекаемых» (с самыми лучшими, впрочем, намерен ниями) «цветные» переходили в новой книге Колдуэлла^ в число людей, активно отстаивающих свою независим мость. Мулатка Джозина бросает решительный вызов по-; лицейским городка Пальмира, которые ищут повода заса-й дить ее за решетку. Не менее энергично действует и ее^ жених, которому, однако, не удается избежать местц; расиста. Эти молодые бунтари в книге Колдуэлла находились как бы посередине между миром белых и постепенно' утрачивавшим прежнюю инертность темнокожим населен нием Юга. Аналогичное место в идейно-композиционной структуре романа К. Маккаллерс «Часы без стрелок» была отведено колоритному образу молодого человека Шермана Пью, прозванного «голубоглазым негром». ;
Горестная судьба Шермана — следствие не только особых обстоятельств его рождения, но и господствующей в южных штатах расовой нетерпимости. Указывая на социальную обусловленность трагизма своих героев^ Маккаллерс освобождалась в «Часах без стрелок» от неизменно преследовавших ее в прошлом фаталистических представлений. Едва ли не впервые в ее творчестве метафизические раздумья об изначальной разъединенности людей отступали на задний план перед мыслью о необходимости их духовной близости и взаимопонимания,-Такая оценка видится ныне слишком заниженной; в об-? щем контексте эволюции творчества Маккаллерс этот роман знаменовал собой высшую точку реалистического мастерства писательницы, что было в немалой степей^ обусловлено ее обращением к животрепещущей социально*: политической проблематике. $
Опубликованные в самом начале 60-х годов произведем ния Маккаллерс, Колдуэлла и X. Ли послужили как бы сигналом к активному «освоению» негритянской темы, 124 1
и это обстоятельство позволило Дж. Стейнбеку заявить осенью 1964 г.: «...негритянская революция — самое важное, что происходит сейчас в жизни и литературе»1. Голоса публицистов (включая Дж. Болдуина, М. Л. Кинга, Малькольма Экс и др.) в течение известного времени даже заглушили голоса прозаиков, среди которых можно было выделить лишь Дж. О. Килленса («И тогда мы услышали гром», 1963) и Ш. Э. Грау («Стерегущие дом», 1964). Лишь с выходом в свет романа У. Стайрона «Признания Ната Тернера» (1967) проблема «негритянской революции» получила глубокое художественно-философское истолкование. Подобно «Хижине дяди Тома» и «Гроздьям гнева», книга Стайрона не только вносила весомый вклад в идейно-политические дебаты своего времени, но и сделалась своего рода «прогностическим документом» для определения ближайших горизонтов социального развития Америки.
Свой роман Стайрон писал в течение пяти лет, а его замысел возник у прозаика еще в конце 40-х годов. И тем не менее, несмотря на столь длительный «вегетационный период», могло показаться, что «Признания Ната Тернера» были созданы буквально по следам волнений в негритянских гетто Лос-Анжелеса и Детройта, всколыхнувших в 1967 г. всю Америку. Избрав форму исторического романа, Стайрон стремился связать в нем прошлое и настоящее и, рассказывая о предводителе восстания темнокожих вирджинских рабов, отразить всю глубину и многогранность одного из важнейших внутренних конфликтов американского общества. «Это трудный портрет подлинного героя, это рассказ о действительно существовавшем человеке, отличающемся от всех других моих персонажей, — говорил писатель еще в процессе работы над рукописью. — Он встревожен, но он — человек действия. Он закусывает удила. Он не дает поймать себя в ловушку. Он кончает тем, что отваживается на революционную борьбу».
Имитировавшие традиционный некогда для американской колониальной литературы жанр пространной автобиографии, а также фольклорные «невольничьи были», «Признания Ната Тернера» делились на четыре раздела. Первый — «Судный день» — складывался из мыслей и обрывков воспоминаний героя книги в часы судебного заседания, приговорившего Тернера, повинного в убийстве свыше пятидесяти белых мужчин, женщин и детей, к
1 Вопросы литературы. 1966. № 1. С. 145.
смертной казни. Стилизованная под угловатую канцелярскую прозу эта запись сопровождалась комментариями ее «автора», адвоката Грея, который пытался прояснить причины яростного взрыва, потрясшего не только захолустное графство Саутгемптон, но и весь штат Вирджиния, американский Юг в целом. По отдельным фрагментам «признаний» создавалось впечатление, что восстание было нелепостью, что его вождем с самого начала руководил зловещий иррациональный инстинкт, тот самый «бес извращенности», что так часто толкает людей на абсурдные, самоубийственные поступки. «Я скажу вам, мистер Грей, о том, без чего невозможно понять главного в кошмарном положении негра, — обращается Нат к своему адвокату и добровольному биографу (Грей в действительности был автором брошюры, содержавшей «исповедь» Тернера, на которую опирался в своей работе Стайрон. — А. М). — Бейте негра, морите его голодом, не мешайте ему валяться в собственной грязи, и он будет предан вам по гроб жизни. Но только попробуйте оказать* ему благодеяние, поманите его отблеском надежды — ив нем проснется желание перегрызть вам глотку». Таков один из вариантов решения психологической загадки восстания, разразившегося в одном из наиболее «благополучных» с точки зрения расовых взаимоотношений районов «черного пояса».
Но вторая часть романа — «Давно минувшие времена», где в объемно реалистической, хотя, пожалуй, и несколько хроникерской манере воскрешалось прошлое Ната, снимала со Стайрона уже готовый было прозвучать упрек в некритичном следовании аргументации сегодняшних и вчерашних расистов. Так называемой «защитительной» речи Грея, в которой были собраны все домыслы о духовной неполноценности негров и где декларировалась их вечная зависимость от своих бледнолицых «опекунов», противостояли картины действительного положения невольников в Америке.
Первым хозяином Ната, от которого тот унаследовал свою фамилию, был зажиточный плантатор, приверженец идеи «возвышения» негра до состояния человека. Только ему одному Нат был обязан особым положением среди темнокожих сородичей. Приблизив к себе тянущегося к книгам маленького негритенка, Сэмюэль Тернер сделал из него полуслугу-полувоспитанника. Однако последовавшие после смерти либерального рабовладельца десять лет тяжелого подневольного труда многое изменили в характере Ната. Он выучился распознавать силу и слабости своих 126
угнетателей, в нем развилось и крепло чувство холодной ненависти, которое может стать поистине базграничным тогда, когда, пишет Стайрон, негр «совсем близко от себя увидит все пороки белого человека, его двуличие и алчность, его бесконечную греховность». В полной мере испытав все «прелести кнута», Нат шепчет, прижимая к груди Библию: «Я подожду, я смирюсь». Но третья глава его биографии носит название «Война объявлена».
В дискуссии, развернувшейся после выхода в свет книги Стайрона, его противники из лагеря воинственно настроенных негритянских литераторов упрекали писателя в искажении образа исторического Ната Тернера. Образ Тернера в романе действительно противоречив, но доминантой авторской концепции явилось не нарочитое «приземление» героя, а показ того, как невольник становился борцом и как протест против угнетения превращал раба в человека. Несмотря на некоторые расхождения с историческими фактами, главные принципы реалистического изображения не были нарушены Стайроном. Для писателя мятежник Нат не только вождь восстания 1831 года, но прежде всего незаурядный, широко мыслящий человек, перед которым во всей сложности встают проблемы взаимоотношений белых и черных, связи между революционным насилием и социальным прогрессом, столь актуальные для американской общественности и в контексте 60-х годов XX в.
Публикацией романа Стайрона в самом конце 1967 года в известном смысле подводилась черта под весьма своеобразным этапом современной истории Соединенных Штатов — четырехлетием, истекшим после убийства Дж. Кеннеди. В социальном плане это было время громких обещаний, а затем — утраты иллюзий, связывавшихся с выдвинутыми администрацией Л. Джонсона программами «борьбы с бедностью» и «великого общества». Именно в эти годы в США заговорили о «другой Америке», Америке тридцати миллионов бедняков, и наряду с призывами к социальной справедливости все чаще звучали протесты против войны во Вьетнаме и требования расового равноправия.
В литературных кругах надвинувшиеся перемены отозвались ростом интереса к бунтарскому духу 30-х годов, к тем идеям и художественным решениям, которые особенно тесно ассоциировались с периодом «великой депрессии». При этом воспоминания о временах, символом которых были «подтянутые пояса и большие надежды», 127
не ограничивались лишь данью ностальгическим настроениям. Интерес к 30-м годам и шире — к межвоенному опыту в области социально-психологической прозы укреплял позиции реалистического романа в заметно обострившейся борьбе с модернистским мифотворчеством, способствовал обновлению драйзеровской традиции в литературе Соединенных Штатов. В условиях углублявшегося внутриполитического кризиса из литературы США быстро уходила метафизическо-экзистенциалистская проблематика, еще недавно занимавшая воображение значительного числа писателей. Для ответа на жгучие вопросы современности творческая мысль все настойчивее обращалась к завоеваниям критического реализма первых десятилетий XX века во всем многообразии его идейно-философского содержания и художественных открытий. И вместе с прозаиками старшего (Маккаллерс, Колдуэлл, Стейнбек) и среднего (Стайрон, Болдуин) поколений благотворное воздействие реалистических традиций межвоенной поры испытала на себе целая группа молодых писателей, завоевавших известность в 60-е годы.
Рельефное отражение эволюции американской литературы от «субъективной прозы» к преобладанию социальнокритических тенденций можно было видеть в раннем творчестве Ф. Рота, дебютировавшего повестью «Прощай, Колумбус» (1959). Не претендуя на выход за пределы любовной темы и выдвижение острых социальных проблем, эта книга стала для писателя хорошей школой реалистического письма, получившей продолжение в романе «Она была такая хорошая» (1967)1 — взволнованном повествовании о драматизме бытия «среднего американца», сознательно нацеленном на продолжение традиций Т. Драйзера и С. Льюиса.
Она была такая хорошая... Она — это Люси Нельсон, во семнадцати летняя девушка с голубыми глазами и соломенного цвета челкой, живущая среди самой что ни на есть «одноэтажной Америки», в поселке Либерти-сентр. Такое название вряд ли можно отыскать на географической карте штата Миннесота, населенного выходцами из Скандинавии, но оно, равно как и вся обстановка, окружающая героев романа, живо напоминало о местечке Гофер-прери, ставшем синонимом американского провинциализма в романе Льюиса о «главной улице» и ее обитателях.
1 Рот Ф. Она была такая хорошая. М., 1971.
128
Либерти-сентр, «центр свободы», олицетворял для Рота весь Средний Запад, но не как «долину демократии», по выражению ее певца, поэта конца минувшего века Дж. Уиткомба Райли, а как сплетение противоречий, характерных в той или иной степени для всей многоликой Америки. Оплот частного предпринимательства и полуофициальной протестантской религии, Либерти-сентр запечатлен в книге не только как место щеголеватых особняков с лужайками для пикников и площадками для игры в крокет, но и как скопление полуразвалившихся хижин, где «из бревен торчали гвозди, с досок свисали обрывки проволоки»1. Процветающие бизнесмены-протестанты облюбовали самый уютный, тенистый район города Гроув, бывший когда-то рощей, а ниже по течению реки, на границе с открытым полем, теснились жалкие лачуги переселенцев-католиков.
Скупыми, рассеянными по всему роману штрихами прозаик создавал картину расслоения современной американской «глубинки» как по религиозному, так и по социальному признаку. Впервые за многие годы в литературе США Рот писал если не о рабочей в узком смысле слова, то о трудящейся, демократической среде Америки, о людях, зарабатывающих на жизнь службой либо вышедших на долгожданную пенсию. Мир Либерти-сентр — это мир, «где все еще идет борьба, где полно безработных»1 2. Старая клетчатая юбка и стоптанные башмаки Люси, уроки музыки, которые вынуждена давать ее мать, более чем скромное пособие ее деда, бывшего почтмейстера Уилларда, — все это приметы той «другой Америки», существование которой способно напрочь опровергнуть радужный мираж послевоенного «общества изобилия».
Но «тирания суровых людей и жестокой природы», а также жизненных обстоятельств давно уже означает не только тиски нужды и прямое, открытое угнетение со стороны богатых и власть имущих. Хотя в рассказе о жизни и горестном конце бедной Люси и была в конечном итоге реализована классическая формула социального детерминизма — среда определяет характер и судьбу индивида, — содержание романа Ф. Рота показывало, насколько усложнились во второй половине XX века и понимание диалектики взаимоотношений человека и общества, и многие, самые общие условия человеческого существования. Люси Нельсон не похожа на героинь викторианских романов,
1 Рот Ф. Она была такая хорошая. С. 79.
2 Там же. С. 163.
которые терпели столько невзгод и тягот, причиненных им своекорыстными и злонамеренными «негодяями». Однако внешняя благопристойность буржуазного уклада, распространившегося в послевоенные годы в США на образ жизни многих миллионов, принадлежащих к так называемому «среднему классу», недолго была в состоянии скрывать объективные предпосылки для возникновения драматических ситуаций, новых «американских трагедий». Одна из таких психологических коллизий, вытекающих из несовершенства либо порочности социального уклада, — разлад между мечтой и действительностью, расхождение между идеальным представлением о назначении человека и бессодержательностью реальной жизни — и являлась скрытой пружиной событий, свершавшихся в романе «Она была такая хорошая».
Образ героини романа Рота далеко не идеален, но он более, чем правдоподобен — он жизнен. Люси не праведница и не бесплотный ангел (или, напротив, демон, как считают родные ее мужа). Это обычная девушка с обычными для ее лет недостатками, сомнениями, заблуждениями. Ее речь далека от изысканности, ей свойственны заносчивость, категоричность, мнительность и другие почти неизбежные «пороки» юности, с годами, как правило, теряющие свою остроту. Люси не раз меняет увлечения и привязанности, но не из-за легкомыслия, а благодаря требовательности своего характера. Драматизм борьбы за минимум житейских благ в сочетании с полной неспособностью буржуазной Америки предоставить хоть какое-то духовное руководство своему молодому поколению способствует выработке у Люси собственного, резко критического отношения к миру, где, по словам автора романа, «в лучшем случае она сможет убеждаться в своей правоте, но где никогда ей не быть счастливой». «Как будто важно, где вы живете и сколько у вас денег, а не то, что вы из себя представляете!»1, — этих мыслей не может простить Люси своекорыстная одноэтажная мораль «одноэтажной Америки».
Неподдельным интересом к реальному миру и живым людям, его населяющим, отличалось и раннее творчество Дж. К. Оутс — еще одного яркого открытия 60-х годов. Дар изощренного психолога не главная, хотя и в первую очередь бросающаяся в глаза особенность творческого
1 Рот Ф. Она была такая хорошая. С. 91. 130
облика писательницы. В своих лучших произведениях ей удалось подчинить исследование глубин психологии задачам социального анализа, выяснению связей между личностью и ее окружением. «Главное, что волнует человека в наше время, — говорила Оутс в интервью, — это проблемы его экономического, чисто физического существования. Всякие нюансы возникают уже потом. Интеллектуалы, видимо, забыли, а быть может, никогда не знали, как трудно пробиться в жизни, начиная свой путь с самых низов, самостоятельно, лишь силой воли прокладывая себе дорогу. Это так трудно, что об этом не расскажешь. Это надо пережить самому, самому испытать, что значит быть бедным».
В этих словах — суть мировоззренческой позиции Оутс в пору создания ею романов «Сад радостей земных» (1967) и «Их жизни» (1969), духовной родиной которых были «тридцатые годы», трагическое и славное время экономических испытаний и широких движений протеста. «Общество корчится в конвульсиях, — писала Оутс, — и кто знает, свидетельствует ли это о надвигающейся смерти или, напротив, о развитии, о росте. Но простые люди Америки гибнут, исчезают в этих судорогах, уходят из жизни, не догадываясь о том, что с ними происходит». Изображение этих «социальных конвульсий», их губительного воздействия на судьбы простых американцев сделалось центральным объектом художественного исследования писательницы в ее выдержанных в лучших традициях критического реализма книгах второй половины 60-х годов.
Отмеченный широким эпическим размахом роман «Сад радостей земных» охватывал несколько десятилетий истории современных Соединенных Штатов. В фокусе первой части книги — ситуация середины 30-х годов, когда все американцы жили в предчувствии больших радикальных перемен, а новые слова — «президент Рузвельт» и, в особенности, «Россия» — переполняли неосознанной симпатией и гордостью даже такие бесхитростные сердца, как у маленькой Клары, дочери сезонного рабочего Карлтона Уолпола.
Арканзас, Флорида, Южная Каролина, Нью-Джерси и снова Флорида — вот путь артели сельскохозяйственных рабочих, сборщиков салата, помидоров, бобов. Едва ли не впервые за долгие годы в литературе США вновь прозвучали сочувственные слова о положении рабочего класса — именно о рабочих, а не о люмпен-пролетариате, не о бо-131
геме и не о хиппи, заполонивших в 50—60-е годы произ* ведения многих американских писателей. ''
Героев этих глав книги Оутс — Карлтона, Перл, Нэн*; си, Берта — легко сравнить с бессмертными «оки» из ро? мана Стейнбека «Гроздья гнева»: в них столь же орга^ нично сплетены грубоватые рудименты их животной при^ роды с возвышенным человеческим началом. Перекличка эта более чем очевидна, и Оутс не пыталась скрыть своего ученичества у крупнейших мастеров критического pear лизма межвоенной поры. Однако в созданных ею выразив тельных картинах тяжелого труда сезонников не было и тез ни вторичности, эпигонства; многие страницы романа звуча^ ли отчетливым, не потерявшим своей силы и во второй^ половине XX века обвинением всех тех, «кто всем заправляв ет, кто подыскивает тебе работу и требует за это комиссион-> ные... кто нанимает людей, чтоб работали как негры, выз бивались из последних сил, гнули спину так, что вовек не? разогнуться»1. 1
События бурной эпохи волнуют и дряхлеющего от не-^ посильной работы Карлтона: всем, кому не лень слушать^ он возвещает, что скоро в стране все пойдет по-другому^ и начнется новая жизнь. И в преддверии этой возможной^ «новой жизни» Карлтона, хотя дни его уже сочтены, бес-^ покоит все та же навязчивая идея, что составляла суть? духовных исканий всех главных персонажей романа Оутс,' включая Клару Уолпол и ее сына Кречета. Как и в моло-^ дые годы, он вновь пытается остановиться хоть на мгно-; вение, передохнуть, собраться с мыслями и наконец-то; открыть для себя «книгу жизни», познать истинный смысл борьбы и страданий, выпавших на его долю: «Уж очень; все в жизни перепуталось, и ему надо было в этой путанице разобраться и все обдумать — что случилось с его родителями и с ним самим, и с другими людьми, надо было понять, из чего складывается жизнь и что ее определяет»1 2. Но распутать эту «дикую неразбериху» — все равно что найти легендарный философский камень, способный обратить пустую руду обыденности в чистое золото насыщенной, полнокровной жизни. Такая задача не по плечу полуграмотному рабочему с согбенной в сорок лет спиной и обессилевшими мускулами, еще одной жертве капитализма, раздавленной неумолимым прессом экономических отношений. И все же образом Карлтона писательница
1 Оутс Дж. К. Сад радостей земных: Роман, рассказы. М., 1973. С. 136.
2 Там же. С. 138.
сумела показать, что американский пролетарий — это не просто «работяга», туго думающий, с трудом отдающий себе отчет в собственных поступках и влечениях, но человек высоких помыслов, способных преодолеть грязь и пошлость слишком реальных тягот его земного бытия.
Жизнелюбие и ненасытность в познании — вот главное, что унаследовала Клара от своего отца, но, кроме того, — еще и предчувствие, что между людьми и миром повисла незримая и непроницаемая пелена, рожденная физической усталостью, забитостью, ставшим привычкой безразличием, а то и врожденной духовной и эмоциональной слепотой. Не без влияния философии позитивизма Оутс придерживалась в своей книге сравнительно несложной, «витальной» схемы развития характера героев. Полная сил и надежд молодость, прожитая по инерции зрелость, сожаление по растраченным возможностям, приходящее лишь в последние годы, а то и минуты жизни, — таков общий контур судьбы Карлтона и Клары; та же участь ожидала бы, видимо, и Кречета, если бы он собственной рукой не изменил извечно заведенного порядка.
Сочетание интереса к первоосновам бытия с детализацией повседневной жизни персонажей — важнейшее свойство реалистической. манеры, к воплощению которого стремилась в своем первом значительном романе Оутс. Следует признать, что в «Саде радостей земных» подлинный художественный эффект возникал прежде всего там, где писательница касалась уже «освоенной» в американской классике «территории» — темы лишений простого народа в условиях экономических неурядиц. Изображение сложной современной обстановки давалось Оутс с гораздо большим трудом, следствием чего явилась, в частности, недостаточная психологическая убедительность образа молодого Кречета. Негодующее эхо социальной прозы 30-х годов слышалось и в романе «Их жизни» (1969) — одном из наиболее ярких произведений критического реализма в послевоенной американской прозе. Эту книгу отличали и эпический склад повествования, и полнокров-ность центральных характеров, и острота социально-нравственной проблематики. Ни до, ни тем более после работы над романом Оутс не удавалось столь органично слить в единое целое два источника своей писательской самобытности — неподдельную увлеченность проблемой исторических судеб Америки в XX веке и обостренное внимание к парадоксам, тайнам и «потемкам» души человека.
Как и в случае с предыдущей книгой, перед внутренним взором автора романа «Их жизни» проходило несколько десятилетий недавней американской истории. Свидетельством известной неуверенности молодой писательницы в «Саде радостей земных» было то, что временная перспектива книги оставалась открытой; Оутс как бы терялась, не зная, на чем поставить точку, с какими событиями общественного плана соотнести последнюю фазу жизни Клары Уолпол. Для своего нового романа Оутс сразу избрала твердую конечную точку отсчета — детройтские пожарища 1968 года, ставшие кульминацией многих выступлений на расовой почве с подчеркнуто антикапита-листической окраской. События в Детройте сводили вместе главных персонажей книги: увядшую красавицу Лоретту, живущую на пособие по безработице, ее детей Жюля и Морин, учителя вечерней школы для взрослых Джима Рэндольфа.
В соответствии с внутренней хронологией книги «цвет жизни» Лоретты приходился на 40—50-е годы, и следует заметить, что в этой части повествования писательница имела возможность опереться на опыт многих своих предшественников. Над анализом первого этапа послевоенной истории США основательно поработали социологи, журналисты, беллетристы-бытописатели, и благодаря им рассказ о судьбе Лоретты мог до известного рубежа как бы катиться по наезженной колее, снабженной вешками-указателями: «военный бум», «маккартизм», «массовое общество» и т. д. Жизненная стезя персонажей традиционного плана, составляющих, подобно Лоретте, часть трудящегося класса, была подсказана литературными прецедентами, на которые Оутс опиралась и в работе над «Садом радостей земных». Цепи общественного положения, узы принадлежности к социальным низам оказались слишком тяжелы для Лоретты, невзирая на все ее попытки использовать свою молодость и красоту, чтобы выскользнуть из тесной хватки убогих жизненных обстоятельств.
Рисуя образы детей Лоретты, Оутс вступала на более зыбкую, неисследованную почву и тем не менее добивалась полной психологической убедительности. Требования Морин и Жюля к своему времени исходили из внушенной им буржуазными идеологами веры в обязательность покровительства со стороны «общества всеобщего благоденствия». Однако понимание социальных закономерностей эпохи давало возможность писательнице показать — в 134
полном соответствии с исторической истиной, — как исчезали иллюзии тех, кто в конце 50-х и в 60-е годы доверился златоустам американского «процветания». Вернувшись в трущобы Детройта после нескольких лет воспитания в монастыре, Морин понимает, что может вырваться из предписанного ей жизненного круга лишь торгуя своим телом, согласившись стать «девушкой по вызову». После нервного срыва, вызванного ее разоблачением, Морин окончательно расстается с наивной отрешенностью от отчаянной борьбы за выживание; хладнокровная расчетливость вытесняет из ее натуры последние проблески человечности. Ее возвращение в семью не возвещает душевного перелома; определяющими чертами личности Морин остаются продиктованные всем складом собственнического общества стремление к личной выгоде, к свободе от нравственных обязательств.
Не менее сложен жизненный путь брата Морин Жюля Уэнделла, вначале — мечтателя-романтика, теряющего голову от любви к «прекрасной даме». С удивительным мастерством перевоплощения Оутс создавала психологический портрет юноши, готового возложить на алтарь своего чувства все, что он когда-либо имел или надеялся достичь в будущем. В огне неразделенной любви сгорало «первозданное» существо Жюля; его душа выходила из пламени обуглившейся, черствой, жаждущей отмщения и находящей для этого возможность во время расовых волнений, охвативших Америку в ее «самое жаркое лето» 1968 года. Но пожарища Детройта в воображении Оутс — отнюдь не проекция смятенного внутреннего мира Жюля. Для их возникновения есть особые причины — социальное и расовое неравенство, накопившийся гнев бедняков разного цвета кожи против всех видов угнетения. И в заключительной сцене романа Оутс удавалось добиться особой реалистической объемности, своего рода идейно-психологического синтеза. Душевное состояние ее героя полностью соответствовало тревожной обстановке в стране, находящейся в апогее массовых оппозиционных движений. «Я хотел бы объяснить каждому, почему необходимы эти пожарища и заполняющие улицы толпы, — говорил, глядя в телевизионный объектив, Жюль в надежде, что его слова не останутся гласом вопиющего в пустыне буржуазной цивилизации. — Пожары не потухнут, они сделают свое дело... Пожары никогда не удастся погасить».
Выросшие в «благословенные времена» высокой экономической конъюнктуры, Морин и Жюль Уэнделлы остава-135
лись на дне жизни в силу неизлечимой «болезни духа»/ поразившей послевоенную Америку, — такова концепция' романа Оутс. На рубеже 50—60-х годов произведения писателей старшего поколения — Стейнбека, Колдуэлла, Маккаллерс — указывали на отдельные симптомы этого недуга. В конце десятилетия бурное развитие событий позволило критическим реалистам выступить с более фундаментальными обобщениями, тяготеющими к жанру современного эпоса. Роман «Их жизни», непосредственно затронутый атмосферой расовых бунтов и молодежных демонстраций, был одной из наиболее удачных попыток в этом направлении. От «Сада радостей земных» новая книга Оутс унаследовала главное — готовность к охвату существенных сторон действительности Соединенных Штатов, безыскусность реалистической стилистики и круг героев — людей, типичных для трудовой, демократической Америки. Продолжение наметившейся тенденции, связанной с углублением историзма и философского содержания, сделалось одной из отличительных черт развития реалистического романа США в 70-е годы.
2. РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ РОМАН И УСЛОВНЫЕ ФОРМЫ
Литературный отклик на кризисные явления, накапливавшиеся как в общественно-политической области, так и в сфере «американского духа» и разразившиеся на рубеже 60—70-х годов настоящим шквалом оппозиционных выступлений, принимал разнообразные художественные формы, не сводимые только к эстетике реализма. Именно в этом социально-психологическом контексте следует рассматривать причины возникновения и достаточно широкой популярности современной модификации американского модернизма, известной как «литература абсурдизма», или проза «черного юмора». Жизнь в послевоенной Америке, полагали «черные юмористы», мерзостна и бессмысленна, преодолеть ее хаотичность можно лишь через посредство комического гротеска, с помощью несуразности, возведенной в эстетическую категорию. В развитие этого тезиса в книгах Т. Пинчона и Дж. Парди, Д. Бартелма и Дж. Барта возникала полностью отличная от реалистической система мотивировок поведения индивидуума, своего рода «антивселенная», противостоящая традиционным, считающимся естественными, человеческим связям. Однако действительность во второй половине XX в. представлялась «черным 136
юмористам» именно неестественной, главным элементом их мироощущения становился «тотальный» отказ от буржуазной цивилизации, но отнюдь не во имя какого-либо иного социально-эстетического идеала.
Нигилистическая оппозиция всему сущему, мир, вывернутый наизнанку, и, с другой стороны, поиски сложного, художественного, многомерного синтеза действительных проблем современности — эта дилемма обозначилась перед американскими прозаиками в ходе особенно быстрой и драматичной ломки традиций и всеобщего «потрясения основ», каким представлялось время, отмеченное покушениями на политических и общественных деятелей, обострением борьбы за гражданские права и расширением американской агрессии в Индокитае. В середине 60-х годов многим казалось, что абсурдизм торжествует. Но это впечатление покоилось на более чем зыбком основании. Дело в том, что, словно по негласному уговору, буржуазные критики отлучали и отлучают от реализма каждого из тех прозаиков США (именуя их «черными юмористами» и «постмодернистами»), кто в своих произведениях хоть в чем-то отходит от принципа предметности, жизне-подобия. На самом же деле суть новейших вариантов модернистской литературы коренится не в использовании «остраненных» художественных форм, а в отказе от конкретно-исторического, социального анализа реального мира. С учетом этого обстоятельства ряды тех, кому в США навязывается звание абсурдистов, заметно редеют; к ним, в частности, никак нельзя причислить Дж. Хеллера и К. Воннегута, в творчестве которых обращение к условности, фарсу, фантасмагории отвечало прежде всего сатирическим целям и представало составной частью объемного и многомерного реалистического изображения.
Не всякий читатель романа Хеллера «Уловка-22»_ (1961) был в состоянии сраз^Гразобраться в нагроможденных в книге несуразных событиях и парадоксальных суждениях, отделить элементы абсурдной фантастики от того, что вполне могло бы иметь место в действительности. Подсказанная опытом второй мировой войны, когда Хеллер служил в подразделении американских ВВС, размещенном вблизи от оккупированных немцами Южной Франции и Италии, «Уловка-22» — «военный роман», который, однако, был совершенно не похож на такие характерные образцы этого жанра, как «Нагие и мертвые» Мейлера и «Отсюда и в вечность» Джонса. «Почти все мои
персонажи, — вспоминал в середине 70-х годов писа-тель, — продукт воображения, вскормленного уже после-: военной действительностью. Я намеренно допускал в книге такие анахронизмы, как использование вертолетов и> компьютеров, для того, чтобы создать атмосферу Америки! времен Джозефа Маккарти и последующих лет... Эта кни-t га об американском обществе времен холодной войны,j войны в Корее, книга о возможности начала новой войны^ во Вьетнаме».
Действительно, изданная в 1961 году «Уловка-22»: приобрела особый общественный резонанс только несколько лет спустя, во время широкого общенацио-' нального движения против вмешательства США в дела-народов Индокитая. Она «...сделала больше для того, чтобы убить в нашей молодежи вирус милитаризма, чем^ все движение «новых левых», а само название романа,! ставшее символом всех опасных бессмыслиц подобнопх рода, вошло в современный английский язык», — так отзывалась об «Уловке-22» американская пресса.
Рассказывая об истории создания своей книги, Хеллер нередко ссылался на пример «Путешествия на край ночи» французского прозаика Л. Ф. Селина (1932), поразившего его своей иронией, мизантропичностью и смелой трактовкой самых неприглядных аспектов души человека и его деяний. Но, даже не углубляясь в предысторию «Улов-. ки-22», можно было бы назвать, по крайней мере, еще одного ее непосредственного предшественника — «Бравого солдата Швейка» Я. Гашека, центральный персонаж которого во многом предвосхищал образ хеллеровского «антигероя», летчика Йоссариана, с его непреклонным пацифизмом и всегдашней готовностью любым способом уклониться от личного участия в военных действиях.
В этом образе, конечно же, трудно видеть типичный характер в традиционном понимании. При всей сдержанности многих американцев по отношению к войне в Европе, нельзя утверждать, что нежелание сражаться было преобладающим в США настроением. Необходимость участия в борьбе антифашистской коалиции простые американцы не считали следствием стечения обстоятельств или прихоти отдельных лиц. «По-видимому, никто тогда не выступал против правительственной политики, и не потому, что это была политика данного правительства, а потому, что она диктовалась волей всего человечества», — писал Дж. Джонс о вопросе, который возникал в США перед каждым, всерьез поднимавшим «военную тему», — 138
вопросе об отношении американцев к войне, которая все долгие четыре года велась за тысячи миль от их родного дома и, как казалось некоторым несведущим или безразличным, не представляла прямой угрозы жизненно важным интересам нации. Но образ хеллеровского персонажа был типичен не как выражение массового поведения американцев в годы войны, а как гротескно-заостренная модель пацифизма вообще, как предвестие грядущих антивоенных выступлений американской молодежи.
Командование авиаполка, в котором служит Йоссари-ан, каждый раз повышает норму боевых вылетов, после выполнения которой американские летчики получали право на перевод в тыл, и эта вопиющая несправедливость встречает в лице командира бомбардировщика возмущенного и активного противника. По мнению многих высоких армейских чинов, Йоссариан — развращенный и опасный субъект, потенциальный дезертир, не признающий авторитетов и не чтящий традиций, которого нужно просто-напросто поставить к стенке. И обычный здравый смысл, казалось бы, подтверждает эту оценку. По отзывам даже близких друзей Йоссариана, он помешан на чувстве самосохранения и одержим целой серией психопатологических комплексов. Однако «ненормальный бомбардир» продолжает настаивать на своей правоте, и каждая новая сцена романа, каждая дополнительная подробность сатирической фрески всеобщего помешательства, именуемого «американским образом жизни», свидетельствует не против него, а в его пользу.
Сатира Хеллера в «Уловке-22» резка, нелицеприятна и широкоохватна. Она поражает любые мишени, не сообразуясь ни с должностями, ни с количеством звездочек на погонах; ее жертвами становится вся армейская иерархия от капрала до генерала, не говоря уже о контрразведке и медицинской службе. Подобно грешникам у Данте, персонажи книги Хеллера тоже могут быть отнесены к различным разрядам в зависимости от специфики и степени их морального и интеллектуального падения. Так, лишь в кругу первом отводил писатель место бесхитростным «шкурникам», которые, подобно Йоссариану и его друзьям лейтенантам Нейтли и Данбэру, не скрывают своих намерений убраться подобру-поздорову в более мирные края, нежели база тактических бомбардировщиков на острове Пьяноса. Гораздо ближе к геенне огненной находятся те, кто использует войну в качестве средства разбогатеть или выслужиться, кто самодоволен и глуп, как
безымянный техасец, или безмерно нагл, как капрал Уит< ком, буквально сживающий со света застенчивого и роб- ; кого полкового капеллана.
В композиционном отношении роман Хеллера складывался в цепочку самостоятельных эпизодов или даже скорее серию анекдотов, комических историй, внешне скреп-; ленных друг с другом на живую нитку случайными ассоциациями и необязательными соответствиями. Не всегда произносимым словечком «кстати...» была обусловлена связь одной сюжетной единицы с другой; о временной последовательности событий тут приходилось лишь догадываться. Но так же, как и у непосредственного предшественника Хеллера Я. Гашека, за вязью причудливых россказней и неправдоподобных ситуаций в «Уловке-22» скрывался облеченный в сатирическую форму протест художника против разного рода несообразностей в жизни своей страны — как в военное, так и в мирное время.
«В модернистском искусстве, — пишет Т. Л. Моты-лева, — аллегорические, фантастические образы в конечном счете затуманивают и мистифицируют облик мира. У художников-реалистов такие образы, как правило, возникают тогда, когда есть потребность передать в концентрированном, обобщенном виде большие перемены и конфликты эпохи»1. Эти общетеоретические соображения применимы и к «Уловке-22» с той только поправкой, что в романе Хеллера не просто присутствуют отдельные гро-' тескные образы, а гиперболизирована, «смещена» вся художественная панорама, концентрирующаяся вокруг образа капитана-бомбардира Йоссариана. Отвращение Йос-сариана к войне подобно гневу Ахилла — на нем держится внутреннее движение современной «Илиады». Но этой служебной функцией не исчерпывается его вклад в идейно-эстетическую структуру книги. Йоссариан — носитель определенной философии, четкой логической системы, во всех своих пунктах вступающей в конфликт с официально утвержденным взглядом на вещи. В его характере можно различить черты законченного нонконформиста, вольнодумца, критически настроенного по отношению ко всей совокупности общераспространенных понятий и ценностей.
Источники позиций Йоссариана имеют, впрочем, различное происхождение. Герой Хеллера восстал против
1 Моты лева Т. Зарубежный роман сегодня. С. 265.
140
вздорных приказов своего армейского начальства, ему не по душе антидемократизм и бесчувственная жестокость военной машины, но вместе с тем в своем стремлении заключить «сепаратный мир» и выйти из игры, в которой отдельная личность ощущает себя беспомощной и безгласной пешкой, Йоссариан опирался на доводимый нередко до крайности исконно американский принцип безграничного неконтролируемого индивидуализма. «Противник — это всякий, кто желает тебе смерти, независимо от того, на чьей стороне он воюет»1, — исходя из этой весьма спорной посылки Йоссариан и ведет свою неравную борьбу со «священными» понятиями «гражданского долга» и «патриотизма».
Несмотря на комизм множества деталей, роман Хеллера доносил до поколения 60-х годов весь ужас и бессмыслицу войны как таковой, как узаконенного душегубства, пожирающего цвет нации и в весьма незначительной степени способствующей решению мировых проблем. Этот аспект хеллеровской концепции мира повторял многое из сказанного писателями «потерянного поколения» и их прямыми наследниками (Дос Пассосом в «Трех солдатах», Хемингуэем в «Прощай, оружие!», Мейл ером в «Нагих и мертвых», Д. Трамбо в «Джонни получил винтовку», Дж. Херси в «Хиросиме» и «Возлюбившем войну»), но новизна и яркость художественных приемов, гротеска, смыкающегося с фантастикой, позволяли, выходя за пределы достоверного, представить в еще более броском виде зловещие признаки человеческого безумия.
Первую книгу Хеллера лишь с долей условности можно было бы подвести под рубрику «военных романов», продиктованных событиями второй мировой войны. В ряду сознательных временных передержек особое место в «Уловке-22» занимала ссылка на «славный крестовый поход» за принятие «присяги лояльности», в чем особенно настаивал в начале 50-х годов Дж. Маккарти. Вокруг персоны капитана Блэка Хеллер сводил воедино всю аргументацию сторонников «жесткого курса», в крик голосивших по поводу якобы уже состоявшейся «коммунистической инфильтрации» в вооруженные силы США и требовавших если не каждодневного, то во всяком случае регулярного подтверждения военнослужащими своих патриотических убеждений. Необходимо, правда, заметить, что в отличие от ситуации, изображенной в романе, «великий
‘ Хеллер Дж. Уловка-22. С. 144.
страх перед красными», несмотря на всю его абсурдность^ не скоро выветрился в Америке 50-х — начала 60-х го^ дов и с ним не было покончено «одним ударом». Маньяк капитан Блэк — пигмей по сравнению с сенатором Мак-* карта, в течение нескольких лет доминировавшим на внут*1 риполитической арене Соединенных Штатов, когда ни вы--сокопоставленные правительственные круги, ни надменная; «аристократия духа» не проявили достаточного желания н энергии, чтобы унять разбушевавшегося демагога.
Среди многочисленных персонажей «Уловки-22» заметное место занимает заведующий офицерской столовой на Пьяносе Милоу Миндербиндер — законченный продукт «американского образа жизни» с такими его слагаемыми, как вера в систему свободного предпринимательства и' безудержный индивидуализм. Благодаря этому образу писателю удавалось перебросить еще один мостик от соб-: ственно военной темы к изображению важнейших пружин «цивилизации бизнеса». Жизненный девиз Милоу перекликается с известными изречениями президента США в 20-е годы К. Кулиджа — «Дело Америки — бизнес» — и президента компании «Дженерал моторе» У. Уилсона — «Все, что хорошо для нашей фирмы, хорошо для Америки». В соответствии с этими «бессмертными» заповедями и возникало стремление двадцатасеми-летнего неофита остаться в стороне от продолжающегося кровопролития и вместо этого «поставить войну на деловую основу».
Похождения Милоу складывались в «Уловке-22» в самостоятельную сагу, заставлявшую вспомнить о проделках «благородных жуликов» из рассказов О. Генри. Устами хеллеровского персонажа глаголил заправский бизнесмен, этакий неистощимый на выдумки американский прасол и коробейник, который твердо уверовал в то, что «в торговой сделке не грешно запрашивать максимальную цену». Начиная свою карьеру, Милоу с серьезным и искренним видом заверяет о намерении «обеспечить личный состав эскадрильи самым лучшим питанием в мире». «Если начальник столовой ставит перед собой иную, более скромную цель, то, мне кажется, он не имеет права вообще занимать свою должность»1, — патетически провозглашал Милоу, и каждому, хоть немного знакомому с американской действительностью, было нетрудно различить в этой фразеологии испытанный трафарет, неизбежный на все^
уровнях публичных выступлений — от рекламной кампании мелкого фабриканта до предвыборной речи претендента на высшую государственную должность.
По своему масштабу образ основателя фирмы «Милоу и Миндербиндер» подстать характеру «ненормального бомбардира» Йоссариана, и их столкновение во многом способствовало прояснению ведущих идей книги Хеллера. Конфликт Йоссариана с Милоу, который в упоении своей страсти к коммерции готов заключать сделки с кем угодно и не видит особой разницы между союзниками и врагами, показывал, что и «патологическому трусу» не чуждо чувство фронтового товарищества и осознание целей войны, в которой он участвует. «Неужели ты не можешь понять, что мы ведем войну? Люди умирают. Посмотри вокруг себя, ради бога»1, — восклицает Йоссариан, с лица которого чуть ли не впервые спадает маска безответственного насмешника и скомороха. Так в нарочито иррациональном повествовании с массой преувеличенных и просто невероятных деталей возникал второй план — вполне реальный образ мира, от которого не так-то легко отмахнуться с помощью веселой шутки и остроумных нелепиц.
Чем ближе к концу «Уловки-22», тем серьезней тон произведения Хеллера. Фигура Йоссариана приобретала все большую объемность и наполнялась внутренним драматизмом. Конечно, о психологической эволюции этого образа можно говорить лишь очень осторожно, и все-таки в истории Йоссариана отчетливо различим тот порог, за которым начиналось его духовное возрождение, опирающееся на постижение этического смысла собственных поступков. Перед Йоссарианом, в последний раз посетившим Рим, который до сих пор служил лишь декорацией к веселым похождениям подгулявших офицеров, внезапно открывалась вся безграничность переполняющих мир страданий. Его ночная прогулка по вечному городу полна непридуманных ужасов — сцен истязаний, жестоких расправ и даже убийств, превосходящих по степени бессмысленного насилия то, с чем можно было столкнуться на поле боя. «О гнусный мир, — размышляет охваченный душевной тревогой герой романа. — Сколько обездоленных людей бродит в эту же ночь даже в преуспевающей Америке, сколько и там еще лачуг вместо домов, сколько пьяных мужей и избитых жен, сколько запуганных, обиженных
1 Хеллер Дж. Уловка-22. С. 282.
и брошенных детей! Сколько семей голодает, не име50 возможности купить себе хлеб насущный! Сколько серде!^ разбито! Сколько самоубийств произойдет в эту ночьЁ Сколько людей сойдет с ума! Сколько землевладельцев и ростовщиков-кровососов восторжествует!»1 И с этого мо-; мента его безрассудное и, по правде сказать, порой грани-! чащее с трусостью сопротивление боевым приказам nepe-J растает в ответственную и глубоко нравственную позицию.'
«Я не убегаю от своих обязанностей. Я бегу навстречу.^ своим обязанностям»1 2, — заявляет Йоссариан пытающему-' ся понять ход его мыслей майору Денби. В ответ на совет майора-идеалиста «стать выше мелочей, смотреть не под ноги, а вперед, высоко подняв голову», Йоссариан саркастически замечает: «Когда я поднимаю голову, я вижу людей, набивающих мошну. Я не вижу ни небес, ни святых, ни ангелов. Я вижу только людей, набивающих^ мошну при каждом удобном случае, греющих руки на чужих несчастьях»3. Зрелость подобных суждений теперь-уже вполне по плечу герою-авиатору, который до этого; чаще всего представал перед читателем в обличье легко-! мысленного гуляки. Отказавшись от предложенного ему’ участия в пропагандистской инсценировке в обмен на не-; медленную отправку на родину, Йоссариан проявлял не< малое мужество, на которое не в состоянии претендовать^ ни один из его товарищей по эскадрилье.
Положительный нравственный идеал, который Хеллер так или иначе связывал в конечном счете с фигурой! «остепенившегося» Йоссариана, содержал в себе, помимо^ традиционного для американцев индивидуалистического комплекса «доверия к себе», резкую критику моральных и социальных язв общества. Стилистика «Уловки-22», де-* лавшая особый акцент на смешении серьезного и комиче-j ского, неправдоподобного и подлинного, оказалась осо-; бенно действенной в обнажении пороков общественных^ структур, изначально враждебных человеку. Этот изобра-d зительный план тесно сближал «Уловку-22» со следующим^ романом Хеллера «Что-то случилось» (1974), несмотря! на все существующие между ними различия.
Гротеск и другие виды условности широко использо-J вались прозаиком для обрисовки взаимоотношений герояй
новой книги, высокооплачиваемого «белого воротничкам
Боба Слокума со всемогущей фирмой, не имеющей даже
1 Хеллер Дж. Уловка-22. С. 443—444. J
2 Там же. С. 484. 1
3 Там же. С. 477. J
144 I
названия. «Каждый боится каждого» — таков главный принцип иерархии буржуазного чиновничества, перекликающийся с бессмертными обобщениями великих русских сатириков. Страх этот чаще всего не имел конкретного источника, он не является проявлением инстинкта самосохранения или защитной реакцией против явственной угрозы, но его невозможно преодолеть, подчинить голосу разума. «Несчастья вереницей проносятся у меня в мозгу, незванные и нежданные, точно всадники жуткой кавалькады прямиком из преисподней или еще из какого-то страшного и мерзкого места»1, — вот лишь один образец признаний хеллеровского героя.
У компании, в которой служит Слокум, все внешние приметы процветающего предприятия, не скупящегося на широкие жесты в интересах престижа и представительства. Она платит щедрое жалованье большинству сотрудников, свои ежегодные конференции проводит на роскошных курортах Флориды или Пуэрто-Рико и даже рутинные квартальные совещания устраивает под сенью шикарных отелей и загородных клубов. Но это лишь лучезарный фасад, за которым скрывается неприглядная сущность типичного бюрократического учреждения. Пристальным взглядом, внимательным к каждой детали, Хеллер анатомировал этику деловых контактов и непосредственного общения внутри «производственного коллектива», демонстрируя всю фальшь доктрины «человеческих отношений», с помощью которой правящие круги США вот уже в течение нескольких десятилетий пытаются прикрыть конфликт между наемным трудом и капиталом.
На первое место среди органичных, встроенных в систему пороков буржуазного общежития автор романа «Что-то случилось» ставил всепроникающее лицемерие, выдающее себя за демократизм и улыбчивую благожелательность. В сообществе, которое «страшится раздоров, скрывает неуспех и маскирует противоречия и личную неприязнь», считается, указывал Хеллер, что лучше и благороднее «воевать тишком, нанося удары в спину, чем открыто высказывать хотя бы подобие недовольства»1 2. Хотя компания редко увольняет своих служащих, судьба впавших в немилость или просто выдохшихся от многолетнего напряжения незавидна: их переводят на незначительные фиктивные должности и позволяют доживать
1 Хеллер Дж. Что-то случилось. М., 1978. С. 223.
2 Там же. С. 50.
6—647
145
свой век живыми мертвецами, незаметными и никому ц! нужными. Практический опыт, деловой талант, желание работать — все отходит на задний план перед «стилем^ т. е. чисто внешними показными качествами — манерами способностью завоевывать нужных людей, быть своим че ловеком среди власть имущих. Те, кому не по силам ил1 не по вкусу этот неписаный кодекс, становятся чем-т< вроде белой вороны, и над ними нависает угроза потер] немалых привилегий. Таков удел ближайших коллег Сло кума — Джека Грина и Эндрю Кейгла, каждый из кото? рых не соответствует общепризнанным канонам. |
Хотя в финале романа Кейгл и лишался своего места] навязчивая мания увольнения являлась в общем-то одной из тех сознательных гиперболизаций, что составляли и совокупности основу художественной системы в книга Хеллера. Как и в «Уловке-22», эстетическая концепций писателя зиждилась на гротеске, на очевидных несообраз| ностях, которые во все большей степени подчиняют себе человеческие связи в буржуазном обществе. Картищ повседневной жизни в духе гоббсовского «Левиафана* когда каждый воюет с каждым, а внешнее дружелюбие слетает как шелуха, если дело доходит до реального со^ перничества за более прибыльную должность, не стольку была списана с натуры, сколько служила (как и военная^ обстановка в «Уловке-22») концентрированным выраже* нием ее «силовых линий», подспудных, а порой и под^ сознательных социальных и психологических закономер-; ностей. При этом Хеллеру не страшны противоречия, ибо» схваченные под углом реальной диалектики, они придают) изображению лишь большую рельефность и жизнеподоб-ность. Условность, гротеск не противоречат реализму, а напротив, подкрепляют его выводы и раздвигают его эсте-? тические границы — к подобному выводу пришли, видимо^ и некоторые американские литературоведы, которые послед выхода в свет романа «Что-то случилось» уже не делали; попыток безоговорочно отождествлять творчество Хеллерау с заметно изменившей к тому времени свои очертания прозой «черного юмора».
В общем виде эволюция писателей этой группировки в 60—70-е годы предстает теперь движением от намерен^ ной ломки сложившихся повествовательных форм, oi «яростной гротесковости», выражавшейся прежде всего 1 пренебрежении психологическими мотивировками и смэд словным правдоподобием, ко все большей герметичности «самодостаточности» художественного произведения. Есл 146 '> J
в ранних книгах Дж. Барта, Т. Пинчона, Дж. Парди сквозь гротескно изломанные формы все же порой просматривались элементы современного социального бытия, то в дальнейшем в их творчестве, а также в творчестве Д. Бартелма, Р. Кувера, Р. Сукеника возобладала тенденция к созданию искусственных, полностью зависящих от авторской фантазии миров, составлявших в каждом отдельном случае своего рода «контрдействительность». Как представляется, дополнительным толчком для подобного идейно-эстетического сдвига послужил взлет с конца 60-х годов популярности В. Набокова, который еще в русскоязычном «Приглашении на казнь» (1938) предвосхитил многие «мифологемы» послевоенного американского модернизма.
В своем последнем крупном произведении, романе «Ада, или любовный пыл» (1969), Набоков вновь преподал урок последователям, преобразив воспоминания детства и юности в волшебный край всеобщей гармонии, разрастающийся затем до почти глобальных масштабов и под наименованием «Амероссия» служащий прообразом будущего мироустройства. Из социально-политического опыта недавней истории исходил в своих гротескно-мифологических фресках Р. Кувер, но по большей части американские «мифотворцы» предпочитали обращаться к «вечным», часто почерпнутым из античности сюжетам, насыщая их вполне современным, апокалипсическим видением мира. Число таких произведений в русле «серьезной» литературы было в общем не так уж и велико, но мода на квази-художественное иллюстрирование априорных схем получила в США столь широкое распространение, что из принадлежности элитарного искусства мифологизация действительности превратилась в существенный элемент «массовой беллетристики» и пограничных с нею явлений.
Теоретические аспекты соотношения мифологической символики и реалистического творчества глубоко и детально проанализированы в известных трудах советских искусствоведов, философов, эстетиков А. Ф. Лосева, Е. М. Ме-летинского, М. А. Лифшица. «Мифотворчество» в реалистическом искусстве должно определяться, писал А. А. Дым-шиц, «прямой общественной целесообразностью» и носить «творчески критический по отношению к старой мифологии характер»1. Участвуя в той же дискуссии, Д. В. Затонский подчеркивал, что «ни использование мифологического
1 Современные проблемы реализма и модернизм. М., 1965. С. 109.
6*
147
сюжета, ни даже стремление создать некую общую мифи> ческую картину еще не делают произведение «мифом» 9 модернистском значении этого слова...»1. Оба художественных метода, отмечал исследователь, так или иначе «организуют» действительность, но в реалистическом произведении «сохраняется тесная связь между изображением И изображаемым»; «модернисты же, зачастую с помощыд мифов, вносят в миф извне некие искусственно сконстру* ированные закономерности»1 2. Анализ «Иосифа и ег0 братьев» Т. Манна и, с другой стороны, модернистской драматургии Э. Ионеско и С. Беккета подкреплял весомость этих доводов, а публикация романов Г. Маркеса и других представителей латиноамериканского «магического реализма» вновь актуализировала проблему мифотворчества в контексте различия реалистического и модернистского подходов к назначению литературной деятельности»
Влияние мифотворчества на реалистическую прозу США практически исчерпывается одним, но показатель-; ным примером — романом Дж. Апдайка «Кентавр» (1963)я В приложенном авторов к тексту книги указателе был обозначен прототип-олимпиец буквально каждого ее персонажа, но назначение «мифологической подкладки» романа выходило за рамки чисто сюжетных параллелей и возникающих при этом то иронических, то восхищенно-^ восторженных уподоблений. Мифологизируя жизнь обитателей провинциального американского городка, писатель тем самым резко «повышал в цене» каждое их слово и поступок, придавал им оттенок вневременной окончательности. «Плывущий в звездном небе» Хирон-Колдуэлд взирал на земные заботы с позиций вечности, но это не означало, что он устранялся от участия в их разрешении^ Программа героя книги ясна — проложить путь к осу* ществлению идеалов всепримиряющего добра и мудрости ценою ежедневного и ежечасного самопожертвования»
Насколько, однако, существен и эстетически органичен мифологический «уровень» «Кентавра»? Можно утверждать, что гуманизм Апдайка в освещении фигуры бед* няка-учителя вполне отчетливо вырисовывался в пределах главного, реалистического плана произведения, вне обязательной связи с его мифологическим орнаментом. Не Хи* рон, а учитель Колдуэлл читает блестящую лекцию о мучительной эволюции живой природы «через тернии к звез
1 Современные проблемы реализма и модернизм. С. 194.
2 Там же. С. 178, 179.
дам»; не богоравный кентавр, а самый обычный человек, со многими слабостями и недостатками, вызывает к себе читательское расположение. Колдуэлл значителен сам по себе, значителен несгибаемой человечностью, правотой моральной позиции, которая нисколько не умаляет его сознанием ограниченности собственных возможностей.
Выделяя в качестве ведущего начала творческой манеры Апдайка в «Кентавре» «реалистическую точность и зримость образов», Т. Л. Мотылева в то же время полагает, что мифологический план романа усиливает, подкрепляет социальный критицизм книги: «Сопоставление с античными божествами особенно явственно оттеняет ничтожество, мелкость провинциальных мещан, среди которых живет Колдуэлл»1. Последнее замечание трудно, однако, воспринять всерьез; конечно же, древнегреческий Олимп с учетом всех недостойных небожителей поступков и черт характера, подмеченных еще Лукианом, всегда возьмет верх в состязании с любой провинцией, равно как и с метрополисами.
Мир же, окружающий героя и его сына, взятый сам по себе, вне ассоциативной связи с древнегреческим Олимпом, представал отнюдь не средоточием одних лишь пошляков, мещан и торжествующих расистов. Действительное разнообразие человеческих типажей, открываемое реалистическим видением, подрывало обязательность многих мифологических параллелей, намеченных в романе. Так ли оправданно, например, сравнение маленькой Пенни, искренне тянущейся к Питеру, с волшебницей Пандорой? Возможно, что в дальнейшем, в соответствии с туманными намеками, изредка возникающими в «Кентавре», Пенни и принесла бы своему избраннику немало бед, но в основном, реалистическом контексте произведения ее образ кажется маленьким маяком, тепло и свет которого скрашивают нелегкую жизнь Питера. Если оставить в стороне нелепые воздушные замки, которые так любит строить чувствительный подросток, ведь только любовь к нему его отца и Пенни защищает Питера от той «тревожной смятенности», которая так гнетет старшего Колдуэлла.
Призрак нищеты — вот, пожалуй, наиболее зримая реальность микрокосма, в котором обитают герои книги, гораздо настойчивее вторгающаяся в него, нежели зыбкие аллюзии мифологического плана. Беспокойным, лихорадочным ощущением, подобным тому, что возникает иногда
1 Мотылева Т. Зарубежный роман сегодня. С. 335.
от слишком яркого света безоблачного зимнего утра, пронизано большинство сцен «Кентавра». Тема безденежья преобладает в разговорах, а еще больше в мыслях старших Колдуэллов. Самой обыкновенной нехваткой презренного металла объясняется и шутовской наряд отца Питера, и весь нескладный строй жизни этого интеллигентного поденщика, разменявшего свои, быть может, немалые таланты на грошовую медь учительского жалованья. «Не будучи до конца богом, кентавр Хирон постоянно мучился от своей раздвоенности. Так было и с моим отцом, который, перебравшись из Нью-Джерси в Пенсильванию, долгое время оставался чужаком и никак не мог полностью приладиться к своему окружению», — вспоминал Апдайк в одной из автобиографических заметок.
В своем дальнейшем творчестве Апдайк больше не обращался к экспериментам, подобным «Кентавру», и в целом для послевоенной реалистической прозы США увлечение мифотворчеством (впервые зафиксированное, напомним, еще в «Жемчужине» Дж. Стейнбека) оказалось сравнительно незначительным эпизодом. При всей ожесточенности борьбы между реализмом и модернизмом за ведущую роль в литературном процессе, есть основания согласиться с А. М. Зверевым, отмечавшим, что «за исключением, быть может, Набокова, никто из наиболее заметных представителей послевоенной модернистской школы в США не оказал на большую американскую литературу сколько-нибудь ощутимого воздействия»1. Критерием же противопоставления этих двух художественных систем является (о чем уже не раз говорилось на страницах настоящей работы) не идейно-эмоциональное отношение к объекту изображения, сталкивающее, к примеру, «гуманистический пафос» и «антигуманный нигилизм» или «реалистический оптимизм» и «модернистское отчаяние», а общий характер мировосприятия, сказывающийся на конкретике художественных образов. Модернист может любить и не любить человека, печалиться о его судьбе или оставаться к ней равнодушным, но ведущим творческим импульсом для него будет оставаться отказ от познания действительных связей бытия, желание не исследовать внешний мир, а произвольно его перекраивать, подменять его экзистенциалистской, мифологической либо какой-нибудь иной догматикой.
1 Основные тенденции развития современной литературы США. С. 76. 150
Ясность идейной позиции, авторских симпатий и антипатий чрезвычайно важна для художника-реалиста, но без самодвижения жизни в его произведении нарисованная им картина грозит обернуться мертвой схемой. «Если писатель, создавая действия, отношения, переживания своих вымышленных героев исходит из внутренней «логики» их социальных характеров, его произведения приобретают свойство, которое обычно называют реализмом... Если же он обходит внутреннюю «логику» характеров своих героев в угоду исторически отвлеченной идейно-эмоциональной тенденции замысла, то его произведения оказываются нереалистическими...»1, — пишет П. А. Николаев, верно формулируя важнейшую, на наш взгляд, особенность реалистического метода.
Вместе с тем очевидно, что попытки писать о современной действительности без понимания «генеральных линий» развития этой современности, без осознания того, чем она отличается от вчерашнего и позавчерашнего дня, способны обернуться при всем «самодвижении характеров» лишь немудреной фактографией. Историческая реальность США во второй половине XX в. далеко не однородна: она складывалась и складывается из противоборства различных социальных сил, идеологических и общедуховных веяний, испытывает воздействие благоприятной и неблагоприятной политической и экономической конъюнктуры. Некоторые периоды общественной и культурной жизни Соединенных Штатов представляются более оживленными, другие — сравнительно статичными — как следствие того или иного социально-психологического «синдрома», будь то маккартизм в 50-е годы или глубокий внутренний кризис, вызванный поражением в Индокитае и «уотергейтом». Тяготеющая к отражению конкретно-исторической обстановки реалистическая литература откликается на эти перемены, и предлагаемые ею наблюдения чрезвычайно важны для уяснения путей национального развития США в современную эпоху.
3. ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ США В РОМАНЕ 70-Х ГОДОВ
«Литература — уникальный по своей чувствительности сейсмограф, реагирующий на проблемы современности; более того, она представляет собой как бы систему предва
1 Николаев П. А. Реализм как творческий метод. М., 1975. С. 257—258.
рительного оповещения о тех несчастьях, которые еще только надвигаются из туманного далека», — писал в начале 70-х годов известный в США критик Р. Элтер в статье с характерным названием «Литература и кризис». Мысль о несчастьях и бедах, подстерегающих Соединенные Штаты, всевозможные апокалипсические прорицания можно было встретить тогда в высказываниях не только отдельных литераторов, но и многих буржуазных политиков и идеологов. Тема «упадка Америки» возникала и в момент вынужденного вывода войск интервентов из Вьетнама, и в разгар «уотергейтских» разоблачений, и в конце десятилетия в ходе предвыборной кампании, приведшей в Белый дом Р. Рейгана. Одной из своих кульминаций этот мотив достиг в известной речи Дж. Картера летом 1979 года, центральным тезисом которой были рассуждения относительно «эрозии веры» американцев в будущее.
В противовес этой надоедливо-тревожной установке, отождествлявшей биение пульса нации с состоянием общественных институтов капитализма и сводящей сферу американского духа к сугубо буржуазной идеологии, народу Соединенных Штатов неизменно предлагалась альтернатива, исходящая из веры в творческие силы американской демократии. Говоря о состоянии духовной жизни страны на пороге 70-х годов, Генеральный секретарь Компартии США Г. Холл отмечал, что «наблюдается процесс осознания «новых ценностей», «новых задач», связанный с беспрецедентным изменением идеологических и политических концепций в массах»1. Обращаясь в конце десятилетия к американским коммунистам, он подчеркивал, что теперь «наступает пора раздумий, время осмысления опыта. Вместе с развитием таких тенденций начинается период использования новой тактики, рождаются новые движения»1 2.
Столкновение двух идейно-философских концепций, двух систем взглядов на общественно-исторические судьбы страны, вступавшей в последнюю четверть XX века, глубоко затрагивало проблематику реалистической литературы, вызывало время от времени оживленные литературно-критические дискуссии. В нелегкой борьбе с против
1 Холл Г, Меняющийся образ мышления//США: экономика, политика, идеолог я. 1970. № 1. С. 17.
2 Цит. по: Массовые движения социального протеста в США. М., 1978. С. 256.
никами антибуржуазного миросозерцания, которым вдохновлялись движения социального протеста, а также с коммерциализмом «массовой культуры», ультраавангардизмом и этическим релятивизмом контркультуры реалистическое отображение сложных конфликтов современности, проникнутое идеалами гуманизма и общественного служения, составляло важную линию в идейно-художественных исканиях творческой Америки.
Массовые оппозиционные движения рубежа 60— 70-х годов всколыхнули всю страну, поколебали многие устои, и уже в самом начале минувшего десятилетия наиболее проницательные романисты, основательно опередив историков и социологов, обратились к осмыслению того, какие последствия еще не отшумевшая до конца буря может иметь для общественного, нравственно-психологического уклада Соединенных Штатов. Таких остроактуальных произведений, посвященных прежде всего «молодежному бунту», было сравнительно немного, но их направленность отчетливо сигнализировала об убыстрившемся процессе дифференциации реалистической литературы по идейно-философскому признаку.
В опубликованном в начале 1970 г. романе «Планета мистера Сэммлера» можно было видеть как бы беллетри-зованный парафраз размышлений, надежд, но прежде всего опасений, которыми его автор, С. Беллоу, с давних пор щедро делился со своими современниками. События двух-трех дней из жизни нескольких обитателей Нью-Йорка служили здесь поводом для пространных монологов и собеседований, цепи ассоциаций и рассуждений, которая, как могло показаться, была способна в несколько витков опоясать земной шар в попытке охватить разом чуть ли не все его заботы и проблемы. Кризис западной цивилизации — вот предмет неустанных дум престарелого Артура Сэммлера, бедного родственника в доме преуспевающего врача Элии Грунера. Работая над книгой о Г. Дж. Уэллсе, с которым он был близок в последние месяцы жизни английского писателя, Сэммлер вместе с тем свято хранит в памяти воспоминания юности, проведенной в древнем Кракове. Но позади остался и иной опыт — годы в нацистских лагерях смерти, и чудесное спасение погребенного заживо из рва, заполненного человеческими телами. И бывший однажды свидетелем крушения мира, Сэммлер вполне допускает мысль, что это может случиться вновь вследствие саморазрушительных тенденций, преобладающих в жизни современного Запада.
На чем же основывает свои суждения герой романа, что дает ему повод для всеобъемлющего философского пессимизма, который в значительной мере разделяет автор книги? Повседневность на каждом шагу наносит мистеру Сэммлеру моральные травмы. Темнокожий карманник не только отбирает у него последние медяки, но и со злорадством унижает его человеческое и мужское достоинство. Студенты университета, пригласившие видавшего виды иммигранта на встречу, поражают его развязностью, беззаботностью, пренебрежительной надменностью молодости. Сложная подоплека характеризует и отношения Сэммлера со своими родственниками, «благородными клиентами технологической революции».
«Сердца опустошены, души бесплодны...», — восклицает Сэммлер. Вместо углубленного самопознания, стремления к помощи тем, кто нуждается в ней во всех уголках земного шара, перед его глазами возникает культ «интересной», «красивой» жизни. Однако, считая себя либералом и гуманистом, герой Беллоу снисходительно взирает на преходящие и в общем безвредные увлечения, касающиеся сугубо интимной сферы человеческого общения. В гораздо большей степени его волнуют приметы дезинтеграции общественной структуры современной Америки. Упадок городских служб, равнодушные лица зевак на улицах, полное взаимоотчуждение поколений — таким видится автору романа и его герою Нью-Йорк, захваченный «разрушительными веяниями» молодежной контркультуры.
Образом мистера Сэммлера, «человека с лицом читателя библиотеки Британского музея», т. е. хранителя традиций высокой гуманности и культуры, Беллоу стремился создать противовес безответственности контркультуры в момент ее наивысшего влияния. Но находясь в решительной оппозиции к «новейшим умонастроениям», писатель не был в состоянии наметить сколько-нибудь реальную перспективу освобождения человечества из-под гнета, согласно его выражению, «гигантских сил организованного контроля», несравненно более могущественных и зловещих, нежели шумливая молодежная бравада. Социально-политический анализ противоречий эпохи отличался здесь явным провинциализмом, несмотря на все претензии на глобальную всеохватность. И в «Планете мистера Сэммлера», и в последовавшем за ним «Даре Гумбольдта» (1975) прозаик обрушивал на читателя водопады эрудиции, лишь самым косвенным образом соотнесенной с насущными 154
задачами времени. «Разъяснять и убеждать — это стало главным занятием и отличительным знаком интеллектуалов. Все только и занимались тем, что разъясняли: отцы — детям, жены — мужьям, лекторы — слушателям, специалисты — непосвященным, человек — собственной душе... Душа, между тем, как бедная пташка, грустно восседала на сложных конструкциях всевозможных объяснений, не ведая, в какую сторону ей лететь», — этот красноречивый и по сути самокритичный пассаж, которым начиналась «Планета мистера Сэммлера», как нельзя лучше характеризовал бесплодность попыток прозаика докопаться до первопричин чутко ощущавшейся им атмосферы неблагополучия.
«Моя позиция сводится к следующему; мы находимся на продуваемом всеми ветрами перекрестке истории. Всеобщий упадок и падение — вот что составляет повседневную пищу нашего сознания. Мы не способны найти успокоения в личной жизни, а общественные проблемы раздирают на части нашу душу», — в таких выражениях писатель формулировал центральный пункт своего творческого кредо в речи при вручении ему Нобелевской премии. Отразившаяся в них и хорошо знакомая по бесчисленным на протяжении XX века прецедентам поза смятенного, дезориентированного интеллигента была особенно уязвима для критики как справа, так и слева. И «Планета мистера Сэммлера», и «Дар Гумбольдта» были перенасыщены фактами, сопоставлениями, учеными ссылками. Равнодействующая же этих осколков бытия вела в никуда, мысль автора замыкалась в беличьем колесе собственного остроумия. В отличие от книг Беллоу гораздо большей определенностью в суждениях относительно курса американской истории в начале 70-х годов был отмечен роман Дж. Гарднера «Диалоги с Солнечным» (1972).
Это композиционно довольно громоздкое, перенасыщенное философскими отступлениями произведение должно было объединить в себе анализ недавней истории и пророчество на будущее, сочетать черты традиционного семейного романа, трактата о морали и нравах своего времени и теоретического диспута. Разнородность и «много-ярусность» «Диалогов с Солнечным» наносили известный ущерб стилистике книги, но в идейном плане она вырастала из четкой посылки — столкновения двух концепций, двух истин. Одна из них принадлежала Америке, следующей в русле несколько аморфных, но вошедших в ее плоть и кровь демократических понятий; другая выра
жала беспокойный, бунтарский дух «новейших умонастроений».
Городок Батавию, в котором происходило действие романа, нетрудно разыскать на географической карте штата Нью-Йорк. Он расположен в его северо-западном углу, на полпути между Буффало и Рочестером — крупными очагами негритянских волнений в конце 60-х годов. Несмотря на все усилия шефа полиции городка Фреда Кламли, обстановка накаляется и в самой Батавии; причем особую тревогу вызывают похождения таинственного незнакомца по прозвищу Солнечный. Спустя несколько дней после ареста за бродяжничество, переступив через труп охранника, он исчезает в неизвестном направлении вместе с двумя другими заключенными. Вновь возникают панические слухи, следуют новые убийства, и на карту ставится, профессиональная репутация начальника полиции. Но детективная интрига разворачивается довольно своеобразно: невзирая на критику своей пассивности и угрозу бесславной отставки, Кламли стремится не столько «обезвредить» дерзкого преступника, сколько понять мотивы его действий. Тайком от горожан Кламли встречается с возмутителем спокойствия, и в беседах, которые они ведут, вырисовывается многое из того, что волновало в начале 70-х годов всю мыслящую Америку.
Нет нужды подробно останавливаться на содержании каждого из диалогов с Солнечным, в которых последний выступает со своего рода историко-теоретическим обоснованием приближающегося краха «старого мира» и с идейным оправданием новейшего анархизма. Его высказывания на этот счет представляют собой туманное и фрагментарное переложение мыслей известных пессимистов XX века — от Бердяева и Шпенглера до еще более расплодившихся в послевоенную эпоху могильщиков западной цивилизации. Характерно, что Солнечный, как это свойственно и его реальным прототипам, не в состоянии различить под покровом углубляющегося кризиса буржуазных институтов и эгоистической морали устойчивости демократических форм самосознания и общежития простых американцев. «Наступает последняя фаза существования человека, время всеобщего разрушения», — провозглашает Солнечный и, как следствие этого, в Батавии множится число вызывающих выходок, убийств, грабежей. Городок' корчится в конвульсиях, и его жители, смятенные и обескураженные, готовы отдать себя во власть вырвавшихся на волю демонов.
Однако в финале романа, пройдя через кровь многих жертв, Солнечный не выдерживает принятой им на себя великой ответственности. Подобно другим бунтарям против сложившегося порядка вещей, начиная с первого из них — Каина, он стоит перед проблемой соразмерности целей и средств, причин, ведущих к бунту, и его последствий. Немалую роль в этой эволюции героя играет позиция его оппонента Кламли. В то время как блестящий оратор Солнечный взывает к высшей безличной истине, к сияющим, но холодным вершинам чистого разума, неказистый полицейский исходит из реальных, сегодняшних нужд большинства своих соотечественников. Необходимо, говорит Кламли, «жить в надежде и вере, несмотря на то, что не все в порядке в обществе, несмотря на то, что не все идет так, как хотелось бы». Но иного выбора, чем надлежащая мера свободы для каждого, нет, и губительность бесплодного анархизма доказана на примере Солнечного. Жизнь огромной силой притяжения почти неизбежно возвращает в свое лоно самозваных отверженных. Не так уж много остается от нигилизма героя Гарднера, если к концу произведения у него вырывается такое признание: «Чем больше у меня свободы, чем шире дистанция, которую я устанавливаю между собой и обыденным человечеством — шоферами автобусов, судьями, полицейскими, учеными специалистами и им подобными, — тем чаще я ловлю себя на теплом к ним чувстве... Я снимаю перед ними шляпу, становлюсь на колени и прошу у них благословения». И в этих словах — не дань минутной слабости и не внезапная капитуляция, а отражение сложного и постепенного процесса «открытия мира», высвобождения многих лучших умов Америки из-под пелены мелкобуржуазного революционаризма.
Намеченная Дж. Гарднером перспектива перемен в американском самосознании отнюдь не совпадала с основными идеологическими установками делавшего в то время лишь первые шаги неоконсерватизма. Это отличие состояло уже в том, что будучи одним из ведущих выразителей в литературе США 70-х годов уравновешенного, демократического миросозерцания, писатель не чернил «молодых бунтарей» и не зачеркивал эмоционального и духовного опыта недавних массовых оппозиционных движений. Призывая к диалогу между Кламли и Солнечным, Гарднер стремился своим талантом художника-реалиста и мыслителя способствовать консолидации наиболее жизнеспособных начал американской нации — при том, что его поло-157
жительная программа исходила в первую очередь из необ-1 ходимости критики стоящих на пути подлинного гума-| низма на Западе буржуазных отношений.
По мере приближения середины 70-х годов и 200-лет-^ ней годовщины образования Соединенных Штатов все; большее число американских романистов заостряло вни-у мание в своих произведениях на проблемах исторической] роли и современных судеб Америки. И дело было не толь-i ко в чисто хронологических совпадениях. После вынуж-* денного вывода войск интервентов из Вьетнама и спада волны ради кали с тс ких выступлений в стране возникло и; широко распространилось ощущение того, что на глазах; у нынешнего поколения переворачивалась очередная страница американской истории.
К этому моменту в реалистическом романе США все заметнее вырисовывалось стремление к охвату широких , временных пластов, к философичности и эпичности.^ Настоятельной необходимостью для многих писателей.; становилось своего рода «обращение к истокам» — по--пытка, опираясь на уроки прошлого, наметить контуры: мироощущения, которое могло бы сослужить полезную службу нации, переступавшей порог последней четверти XX века.
Одной из популярных форм актуализации литературной проблематики сделались явные или подспудные исторические параллели. Их было особенно много в романах Г. Видала «Вице-президент Бэрр» (1973) и «1876 год»ч (1976), композиционно объединенных образом повествователя — литератора Чарлза Скайлера. В первой части дилогии он записывал воспоминания Аарона Бэрра, известного деятеля американской революции и первых лет существования республики. Своему побочному сыну восьмидесятилетний Бэрр успевал сообщить мдссу весьма малосимпатичных сведений о своих современниках, видных деятелях буржуазного государства. Слова Бэрра — не просто завистливое брюзжание старика; его инвективы в известной мере основаны на следовании фактам, и вот' перед читателем возникали лишенные ретуши портреты «отцов — основателей» Соединенных Штатов.
Центральное место в рассказе Бэрра занимало воспро-j изведение событий конца XVIII — начала XIX века, j когда под влиянием французской революции в Америке^ выделились две политические партии — федералистов и республиканцев. Во главе федералистов, тайно сочувство-^ вавших британской короне и опиравшихся на состоятель-^ 158 '1
ные слои общества, стояли Гамильтон, Адамс, Джой Джей; негласную поддержку им оказывал Вашингтон. Республиканцев же вдохновляла революционная Франция и их лидеры — Джефферсон, Мэдисон, а также Бэрр претендовали на то, чтобы быть выразителями интересов американских простолюдинов. Энергичный и властолюбивый Бэрр пугал федералистов, они видели в нем еще одного Наполеона Бонапарта. Но Джефферсона они ненавидели еще более, подозревая в нем потенциального Робеспьера.
И все-таки, несмотря на идейную близость, именно Джефферсон, президент США в 1801 —1809 гг., становится главной мишенью едкой критики со стороны своего бывшего союзника. Эта критика простирается от упреков в «велеречивых банальностях и туманных политических мудрствованиях» до обвинений в посягательстве на гражданские свободы, провозглашенные в только что принятых поправках к конституции. С негодованием обличаются и «цезаристские замашки» Джефферсона, к концу правления которого полномочия президента стали намного шире, чем в эпоху двух «монархов» — Вашингтона и Адамса. В воспоминаниях Бэрра «масса Том», как саркастически именовали его недоброжелатели, предстает лицемером и ветреником, защитником рабовладения и первым в истории США империалистом, который под предлогом защиты западного полушария от европейских монархий был готов превратить его в американский протекторат.
Обрисованный Бэрром характер выдающегося демократа Т. Джефферсона не был свободен от односторонности, но необходимо иметь в виду, что критика этого государственного деятеля велась в романе Г. Видала не «справа», а «слева». Позиция автора книги была во многом продиктована протестом против опасной тенденции к ограничению демократии, которая прослеживалась в начале 70-х годов в действиях республиканской администрации Р. Никсона.
Сосредоточив основное внимание на изъянах репутации творцов американской республики, автор романа возвысил голос в защиту неукоснительного соблюдения демократических свобод и установлений. Содержание «Бэрра» оказалось в значительной мере созвучным «уотергейтскому эпизоду» современной истории Соединенных Штатов. Прямые параллели с «уотергейтом» особенно различимы в заключительных главах романа, посвященных процессу над Аароном Бэрром. Из всех судебных обстоя-
тельств Видал особенно выделял обращенное к президенту Джефферсону требование лично явиться для дачи свидетельских показаний. Известно, что вокруг аналогичных процедурных тонкостей долгое время вращалось рассмот-? рение всего комплекса «уотергейта», пока вина Р. Никсона в должностных злоупотреблениях не стала для всех очевидной. И дело не только в напоминании о прецеденте более чем полуторавековой давности. Вся проблематика книги как нельзя более соответствовала процессу демифологизации национального сознания, углублению критики издавна сложившихся и превратившихся в официозные догматы представлений. Умело уловив движение общест* венных умонастроений, Г. Видал внес тем самым немалый вклад в развернувшуюся к середине 70-х годов полемику о пределах компетенции общегосударственной власти, о гарантиях защиты свобод личности.
Повествование Аарона Бэрра о давно минувших, на оживающих в его рассказе временах оттесняло на задний план образ его внимательного и благодарного слушателя Чарлза Скайлера, которому было суждено сыграть более активную роль в романе «1876 год». Во второй части дилогии изрядно постаревший Скайлер возвращался в США, из Европы, чтобы присутствовать на торжествах по слу* чаю столетия американской независимости.
Невольно мысли героя Видала то и дело обращались в прошлое, и возникал вопрос — что же переменилось в Соединенных Штатах. Конец 30-х годов XIX в., время молодости Скайлера, был, с точки зрения романиста, эпохой расцвета так называемой «джексоновской демократии»; тогда еще живо чувствовалась связь с идеалами Войны за независимость. В 1876 г. все обстояло иначе, и в лице свидетеля дней Парижской Коммуны Скайлера «юбилейная Америка» находит строгого и нелицеприятного критика. Внешне благообразные формы государственного и общественного устройства обратились в жалкую декорацию, не скрывающую омерзительных нравов фабрикантов, железнодорожных королей и находящихся у них в услужении политических деятелей. Буржуазное государство стало форменной «ярмаркой на площади», где пб достаточно твердым ставкам продаются политически* должности и «дружеские» услуги.
От нью-йоркской газеты «Геральд» Скайлер получая задание освещать этапы очередной президентской кампании, и тем самым ему была предоставлена возможность наблюдать за всем наиболее примечательным в жизни 160
американской столицы в последние месяцы пребывания у власти администрации Улисса Гранта. События столетней давности почти полностью тождественны испытаниям, выпавшим на долю Америки накануне ее нового юбилея, — как бы хочет сказать автор романа своему читателю. В корреспонденциях Скайлера подробно описаны детали скандалов и разоблачений, охвативших официальные круги вплоть до самого президента. «Если бы существовало подлинное правосудие, большинство конгрессменов сидело бы в тюрьме и их судьбу разделила бы, по меньшей мере, десятая часть нью-йоркской знати, собирающейся на вечера у миссис Астор», — к такому выводу приходил герой Видала, а вместе с ним и сам писатель, выразивший мнение значительной части демократической интеллигенции США в год очередного юбилея, омраченного во многом аналогичными потрясениями.
Еще одним образцом произведения исторического жанра, тесно соотнесенного с сегодняшними и завтрашними проблемами национальной жизни, явился «Регтайм» (1975) Э. Л. Доктороу. Соединением традиционных беллетристических средств с приемами документалистики автору удалось добиться подлинной эпичности. В его романе действовали как коренные нью-йоркцы, так и недавние иммигранты, а также реальные исторические лица начала XX века — Генри Форд, Теодор Драйзер, банкир Морган, иллюзионист Гудини и другие. Обращенная к эпохе стиля регтайм, возникшего в Америке на рубеже столетий, книга Доктороу в значительной мере служила откликом на жгучие проблемы современности. Это особенно отчетливо чувствовалось во второй части произведения, где на передний план выходила фигура темнокожего музыканта Коулхауза Уокера, поднимавшего восстание против белых притеснителей.
Случившееся с Уокером в какой-то мере напоминало сюжет повести Г. Клейста «Михаэль Кольхаас». Как и герой Клейста, Уокер подвергся вначале незаконному вымогательству, а затем и грубому насилию; как и средневековый ремесленник, он объявлял священную войну своим обидчикам. Уокер готов признать, что террором нельзя добиться многого, и все же он идет на захват нью-йоркской резиденции Дж. П. Моргана, потому что, пишет Доктороу, в сознании Коулхауза банкир больше, чем любой мэр или губернатор, воплощал могущество белого мира. Писатель затрагивал здесь тему политического насилия, подходя к ней не только с философско-морали-
заторских позиции, но и в реальном контексте становления социально-психологического бытия современной Америки.
История оскорбленного и отчаявшегося музыканта могла бы лечь в основу самостоятельного произведения, но в романе Доктороу она включена в более широкую повествовательную структуру. От эпизода был сделан шаг к эпосу; проблемы, так остро стоящие перед Соединенными Штатами сегодня, зародились, согласно Доктороу, много поколений назад. В противовес распространившемуся в 70-е годы стилю «ретро», ностальгической идеализации минувшего писатель-реалист видел в американском прошлом прежде всего контраст богатства и бедности, столкновение бесконтрольного индивидуализма с крепнущими требованиями социальной справедливости. Страницы его книги напоминали о полузабытых ныне в США романах Э. Синклера, Д. Г. Филлипса, Э. Пула и других «разгребателей грязи» начала века.
Содержание «Регтайма» утверждало мысль о прочных корнях и давней преемственности прогрессивного, демократического миросозерцания и общественной практики простых американцев. Тот же поворот к эпичности был зафиксирован и социально-психологическим семейным романом, выдержанным в более традиционных повествовательных тонах. В опубликованных в 1975 г. книгах Р. Прайса «Земная оболочка» и Л. Войвоуди «За стеной спальни» отсутствовало свойственное натурализму и модернизму упоение взаимоотчужденностью людей и бескрайним пессимизмом. Преобладающей тенденцией становилось желание писателей-реалистов постичь и передать «плавную музыку бытия», одно время почти исчезнувшую из американского романа под натиском популярных апокалипсических пророчеств. Спокойная увещевательность книг такого рода не затушевывала, а скорее дополняла широко представленные в них социально-критические интонации; идеал требовательной любви, любви, сопряженной с ответственностью, сочетался с признанием сложности пути к счастью в обществе, отмеченном острой дисгармоничностью.
Тяготение к большей духовно-нравственной емкости художественного произведения, к насыщению его значительной философской проблематикой сделалось в середине 70-х годов одной из самых существенных примет американской реалистической прозы. Усиление этой тенденции было многим обязано Дж. Гарднеру, выступившему с 162
романом «Осенний свет» (1976), действие которого разворачивалось в год, отмеченный юбилейной датой. Масштабность замысла писателя, стремившегося обозначить важ-нёйшие, на его взгляд, силы, формирующие социальный и духовный уклад нации, получила выражение уже в самой композиции книги. Главное, «обрамляющее» повествование рисовало трудовой фермерский быт, уходящий своими корнями в глубь американского прошлого. Параллельно во вставной, стилизованной в духе «массовой беллетристики» истории Гарднером был запечатлен социально-культурный феномен сравнительно недавнего происхождения — Америка псевдореволюционных лозунгов и наркотического угара, очертя голову несущаяся к фальшивым ориентирам и прожигающая в исступлении моральное и духовное наследство, обязанное своим существованием демократической традиции.
Чередуя два плана изображения, писатель добивался яркого контраста принципиально чуждых друг другу картин действительности. Сумбурной и судорожной вселенной, встающей со страниц вкрапленной в основной текст «вздорной книжки», он еще более последовательно, чем в «Диалогах с Солнечным», противопоставлял прочные формы человеческого общежития и моральные устои, противящиеся разлагающему воздействию «новейших умонастроений». Добрососедство и взаимопомощь, создаваемый трудом достаток, неторопливые беседы, объединяющие местные новости с темами большого общенационального значения, — таковы в обрисовке прозаика первичные клеточки здорового социального организма, зародыш интегрирующей силы демократического устройства.
Но отвергая данайские дары контркультуры и делая выбор в пользу твердых понятий, опирающихся на здравый смысл трудовой Америки, Гарднер хорошо понимал и всю сложность их приложения к существующей практике. Реализм в «Осеннем свете» трезвее и конкретнее, чем в «Диалогах с Солнечным»; в отличие от предыдущих книг автора это произведение было лишено как условных, пасторальных интонаций, так и абстрактно-философских построений. Угроза, воплощенная в контркультуре и стоящей за ней мелкобуржуазной словесной ультрареволюционности, в конце концов не так уж и велика; гораздо важнее и опаснее для американского будущего, по мнению Гарднера, конфликты, идущие изнутри. Драма в фермерском доме, ссора брата и сестры Пейджей, составляющая основное содержание романа, — это проекция действи-
тельных расхождений между, говоря обобщенно, консервативно-индивидуалистическим и возвышенно-альтруистским подходами, между выступающими в худые времена на передний план жестким доктринерством и гуманистической, хотя и подчас и расплывчатой концепцией органической взаимосвязи личности и общества.
Подтверждая в середине 70-х годов актуальность для американской нации давнего противоречия ее духовного развития, автор «Осеннего света» получал и возможность говорить об укреплении в мироощущении многих американцев конструктивного начала. Об изменившихся по сравнению с временами, породившими сепаратистский лозунг «Власть черным», настроениях негритянской общины свидетельствовал и роман Т. Моррисон «Песнь Соломона» (1977). В этой книге писательница стремилась по-новому подойти к кругу проблем, касающихся социального положения и самосознания черного населения Америки. Следуя в русле уже установившейся практики «обращения к истокам», Т. Моррисон рассматривала нынешнее положение людей черной расы сквозь призму широкой временной перспективы. Тем самым, согласно приверженцам этой идейно-эстетической стратегии, создавались условия для большей рельефности в обрисовке человеческих характеров, для устремленности в будущее, для формирования пусть осторожного, но вполне определенного исторического оптимизма.
Важнейшие в идейном отношении главы «Песни Соломона» были посвящены путешествию центрального персонажа на землю его предков, вначале в Пенсильванию, затем в штат Вирджиния, где когда-то пустило корни негритянское семейство во главе с легендарным Соломоном. Проследив генеалогию своего клана, молодой негр впервые ощущал чувство гармонии с окружением, ясности дальнейших жизненных целей. Пафос семейных преданий недвусмыслен: хватит тратить попусту время, пора заняться реальной созидательной работой. «Довольно скитаться по закраинам мира, — таким представляется герою Моррисон завет, вмещающий опыт минувших поколений. — Человеку может везти в жизни, а может не везти, но не в этом в конечном счете дело. Мы должны жить на этой планете, в этой стране, жить и держаться, как Антей, за нашу землю — и завещать ее детям».
«Я хочу построить дом и заложить сад... Я хочу, чтобы у меня выросли дети...», — это признание, созвучное пафосу романа Моррисон, принадлежало известному в прош-164
лом черному радикалу Б. Силу, предисловие к автобиографии которого было написано Дж. Болдуином. Следует подчеркнуть, что в выявившейся позиции не было и тени общественного квиетизма, уступки неоконсервативным веяниям (в чем нередко обвиняли Гарднера, Моррисон и некоторых других писателей склонные к поверхностным, недифференцированным суждениям журналисты). Сам Болдуин в интервью по случаю выхода в свет романа «Над моей головой» (1979) удачно сформулировал понимание современной специфики ответственно мыслящими выразителями мнения негритянского народа. «Для писателя очень важно не попасть под влияние лозунгов, как бы благородно они ни звучали, — отметил он. — Лозунг всегда отсекает от действительности что-то важное, и задачей писателя является обнаружить это «что-то» и поведать о нем людям». Вместе с тем известный прозаик настаивал на своей готовности содействовать неизбежно назревающим переменам: «Несмотря ни на что, я хочу изменить мир... Писатель должен работать именно для этого, зная, что скорее всего эта задача ему не по плечу, и тем не менее понимая, что литература неразрывно связана с проблемами широкого мира».
Укрепление веры в необходимость конструктивного подхода к насущным проблемам современности не имело ничего общего с конформизмом и духовной спячкой первых послевоенных лет, по справедливости заслуживших в США наименование «молчаливого десятилетия». Сразу после второй мировой войны буржуазная Америка постаралась забыть о «красном радикализме» 30-х годов как о дурном сне. В 70-е годы недавнее прошлое не кануло в Лету, а осталось рядом со вчерашними бунтарями и их тоже повзрослевшими и тоже многому научившимися старшими соотечественниками.
Вера в концепцию развития, изменения, в конечном счете — в идею общественного прогресса служила отличительной чертой идейно-эстетического своеобразия реалистического романа США во второй половине 70-х годов, особенностью, выходившей на передний план в репрезентативных для этого исторического момента произведениях Э. Л. Доктороу, Дж. Гарднера, Т. Моррисон. И в прошлом, и в настоящем Соединенных Штатов писатели-реалисты выделяли прежде всего острые социально-нравственные конфликты, определяющие общественно-политическую эволюцию страны, формирующие духовный опыт американской нации.
Ростки нового в жизненной философии представительных групп общества Соединенных Штатов были точно подмечены и в романе «Ореховая дверь» (1977) Дж. Херси, который еще в середине 60-годов одним из первых указал на некоторые негативные аспекты в ту пору только назревавшего «молодежного бунта». Главные персонажи книги — Эдди Макабой и Элен Кинлен — еще совсем молоды и вместе с тем вправе считать себя ветеранами движения. Позади осталось многое: студенческие сходки, потасовки с полицией, долгие и подчас невразумительные, утрачивающие нить спора дискуссии, дерзкий эпатаж «коммунального сожительства» с отрицанием таких «старомодных» добродетелей, как прочность интимных связей и ответственность за принятые решения.
Но и помимо проявлений безоглядного «левачества», общественное нездоровье Америки сделалось ее хроническим состоянием, полагал Херси, и в его книге возникали сцены, иллюстрировавшие климат насилия как неотъемлемую часть американской повседневности. Убийства, грабежи, чувство страха и полнейшего безразличия к судьбе соседа превратились из изолированных явлений в знак социальной трагедии и национального позора. Углубляющийся кризис требовал объединения здоровых сил различных поколений. Однако далеко не все вчерашние «молодые» в состоянии понять смысл сегодняшних задач и, что самое главное, возродить в себе былой энтузиазм и готовность выступить за общее дело. Не без иронии и горечи рисовал прозаик портреты бывших «активистов» — подруг и соучениц Элен по Беннигтонскому колледжу. Одна из них, когда-то с жаром митинговавшая за «сексуальное и культурное раскрепощение», чувствует себя легко и спокойно, поступив на содержание к профессору лингвистической логики; другая бросает работу над биографией теоретика анархизма П. А. Кропоткина ради перспектив, открываемых перед нею занятиями в школе бизнеса.
Более естественной и плодотворной представлялась Херси внутренняя эволюция его центральных персонажей. На смену безоглядной восторженности и наивной веры в немедленный результат спонтанных протестов приходит не только взрослая умудренность, но и поиски конкретных практических действий, способных противостоять буржуазному антигуманизму, — так решался автором вопрос о специфике мироощущения США второй половины 70-х годов. В смелой инициативе Макабоя, основателя и единст-166
венного работника фирмы «Безопасность и защищенность для каждого», писателю виделся один из возможных образцов общественного служения. Ведь в конечном счете только энергия и бескорыстная заботливость Макабоя возрождают интерес к жизни у Элен Кинлен. Развитие их взаимного чувства происходило совсем не в стиле спонтанных и быстротечных связей, освященных этикой «сексуальной революции». У героев Херси хватило выдержки и душевного такта, чтобы подготовить своим взаимоотношениям прочную духовную основу, прежде чем предпринять еще одну попытку избежать грозящего им одиночества. Избранник Элен — человек зрелый, мыслящий, который подвергся вакцинации «молодежным комплексом» и теперь хорошо различает как его притягательные стороны, так и неизбежную изнанку.
Мнение о том, что литературе США в конце 70-х годов не оставалось ничего другого, как отражать эгоизм и бескрылость опустошенных натур, что ей не свойственна устремленность в будущее, подверглось глубокому сомнению и в ряде публицистических работ американских литераторов. С осуждением тех, кто все еще цепляется за «надоедливую моду неизменно взирать на свет с тревогой во взоре, со стоном или циничной насмешкой в голосе», выступил Дж. Гарднер. В своей литературно-критической работе «О нравственной литературе» (1978) он вновь и вновь напоминал читателям, что настоящее искусство всегда высоко морально и социально действенно. «Оно пытается улучшить жизнь, а не принизить ее значение и смысл, — утверждал прозаик. — Искусство умников и нигилистов, тяготеющее к разрушению, не имеет права именоваться искусством. В основе же подлинного искусства лежит серьезная и добродетельная цель; оно обращено против хаоса и смерти, против энтропии. Искусство утверждает ценности, которые противостоят духовному распаду... Для каждого поколения оно заново открывает то, без чего невозможна гуманность». Некоторое время спустя та же мысль о неистребимости гуманистических идеалов, возвышающихся над трясиной буржуазного существования, была подчеркнута как заголовком, так и всем содержанием книги Ст. Теркела «Американские мечты: утраченные и вновь обретенные» (1980). Составленная из десятков интервью с представителями самых различных социальных групп, эта своеобразная антология была проникнута чувством горечи, но вместе с тем и полна надеждами тех, кому, по словам автора, «удалось однажды
нанести основательный удар по системе и кто не склонен удовольствоваться достигнутым». Как писала либеральнодемократическая критика, работу Теркела было бы точнее назвать не «Американские мечты», а «Американское пробуждение», ибо «наиболее бросающаяся в глаза черта людей, проинтервьюированных Теркелом... заключается в их энергичной и оптимистической готовности вступить в схватку с реальностью».
Растянувшийся на долгие годы расчет с прошлым, осмысление уроков и последствий бурных общественных потрясений на рубеже 60—70-х годов перестали, наконец, определять во многом идейно-эстетическую специфику реалистического романа Соединенных Штатов. К началу 80-х годов в его развитии наметились новые тенденции. Не ставя перед собой цели их детального анализа, достаточно указать на знаменательный перелом, почти одновременно происшедший в творчестве ряда крупнейших американских прозаиков-реалистов.
Содержание романа «Переворот», опубликованного в конце 1978 г., еще раз скорректировало представления тех, кто хотел бы видеть в его авторе, Дж. Апдайке, прежде всего приверженца «семейно-психологической прозы». Жанр «Переворота», действие в котором происходило в. вымышленном африканском государстве, ставшем «яблоком раздора» соперничающих интересов, скорее всего можно было определить как «фантазию на международные темы» с ярко выраженным сатирическим началом. Далеко не все в романе представлялось полностью убедительным; книга не была свободна от идеологических передержек, и сатира Апдайка подчас утрачивала четкость социально-политических критериев. Вместе с тем обращал на себя внимание отказ писателя от нарочитой камерности своих' произведений, последовавших за романом «Кролик возврат щается» (1972); становилось очевидным, что признанного художника вновь влечет к себе действительность не только человеческого сердца, но и широкого мира.
Во многом аналогичной явилась и эволюция Дж. Хеллера от романа «Что-то случилось» к «Чистому золоту» (1979). После подчеркнутого микропсихологизма и ориентации на знакомые социологические клише в ранней книге писатель словно бы распахнул дверь, скрывающую за собой острые противоречия современной интеллектуальной и политической жизни. Не менее драматичный отход от сложившейся манеры продемонстрировал и К. Воннегут в «Тюремной пташке» (1979); на смену 168
язвительной фантасмагоричности «Завтрака для чемпионов» (1973) и в особенности «Балагана» (1976), выступавшей подчас лишь своеобразным вариантом эскепизма, пришли глубокие размышления над по-прежнему актуальными социально-политическими проблемами недавней американской истории.
Старания У. Стайрона выйти в романе «Выбор Софи» (1979) к философскому истолкованию человеческих судеб, вовлеченных в водоворот современной истории, равно как и попытка Н. Мейлера наметить написанной на документальной основе «Песнью палача» (1979) подходы к развернутому социальному эпосу, были также созвучны сдвигам, коснувшимся особо чуткой к веяниям времени части американской реалистической прозы. Взятый в самом общем типологическом виде пример названных произведений, рядом с которыми можно было бы поставить романы Э. Л. Доктороу «Гагарье озеро» (1980) и Дж. Ирвинга «Отель «Нью-Гэмпшир» (1981), указывал на настойчивую тягу их авторов к более широким историческим, идеологическим, политическим горизонтам. Все ощутимее чувствовалось желание взглянуть на уже хорошо знакомые, не раз исследованные внутриамериканские проблемы в контексте тенденций и перспектив международной ситуации в целом. И это раздвижение исторических и географических рамок влекло за собой в ряде случаев укрупнение масштаба писательского мышления, дальнейшее обогащение эстетических возможностей реалистического изображения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Будучи составной частью современной культуры капиталистического Запада, художественная литература США после второй мировой войны отмечена значительной эстетической самостоятельностью. Ее фактически не коснулись формалистические изыски теоретиков и практиков «нового романа» и структуралистского «дискурса», заметно обескровивших в 60—70-е годы живую ткань литературы ряда западноевропейских стран; ее моральный и художественный авторитет нимало не пострадал, несмотря на колоссальное развитие аудиовизуальных средств массовых коммуникаций и многократные объявления о «смерти романа». Не столь значительным, нежели в Западной Европе, оказалось воздействие на американский роман экзистенциализма и различных вариантов мифотворчества; по сравнению с 20—40-ми годами ослабла притягательность фрейдизма как якобы универсального руководства для исследования человеческой психологии и интерпретации социальных и творческих процессов. Новейшая тенденция «возвращения реализма», характерная для литератур многих стран Запада в середине и второй половине 70-х годов, также лишь весьма условно приложима к Соединенным Штатам — корни реалистической традиции оказались тут достаточно крепкими даже в момент наибольшего распространения модернистской школы «черного юмора» и авангардистской контркультуры.
Тезис устойчивости реализма в применении к американскому послевоенному роману не предполагает, однако, абсолютной неизменности художественного качества. Как можно было видеть, устойчивым на протяжении всего исследуемого периода оставалась основа реалистического метода, сохранявшего прочные связи с американской литературой первой половины XX века, а также с европейским классическим наследием. Вместе с тем многоцветие 170
авторских индивидуальностей, интенсивность общего потока культурной жизни и — что особенно важно — каждодневное воздействие на литературную деятельность со стороны чуждых реализму идейно-художественных представлений и концепций способствовали возникновению определенных модификаций реалистического метода, его осложнению за счет чуждых реализму умозрительных построений. Противоборство с различными модернистскими течениями, не прекращающееся с начала XX столетия соперничество с натурализмом, то ослабевающая, то вновь возрождающаяся перекличка с традицией романтизма, а также с социальным романом 20-х и, в особенности, 30-х годов XX столетия — таковы важнейшие обстоятельства и факторы развития реализма в литературе США в послевоенную эпоху.
Питаемая как отголосками экзистенциалистской философии и других субъективистских доктрин, так и вполне реальными тяготами жизни в буржуазном обществе, мысль об отчужденности и одиночестве человека, о его «замурованности» продолжала оставаться существенной характеристикой идейной позиции писателей, критически воспринимающих многие аспекты современной американской действительности. При этом, однако, следует, видеть разницу между беспросветным пессимизмом прозаиков, отрицающих за героями своих произведений способность к отпору разлагающему воздействию буржуазных отношений, и, с другой стороны, последовательными реалистами, стремящимися к возможно более точному и дифференцированному воссозданию характерности жизненной картины.
Воздействие модернизма сказывалось не только на эмоциональной окраске произведения, но и на всем его идейно-образном строе, в трактовке проблемы назначения и судьбы человека в современном мире. В романах писателя с почти двадцатилетним «стажем» приверженности к экзистенциализму У. Перси, например, вопросы конкретно-исторического, социального свойства, как правило, отступали на задний план перед метафизическим «гнетом существования», с трудом поддающимся недвусмысленной художественной расшифровке. С другой стороны, увлечение экзистенциализмом явилось лишь этапом в эволюции таких крупнейших послевоенных прозаиков США, как Н. Мейлер, У. ( тайрон, Дж. Болдуин. Сравнительно изолированным эпизодом в творчестве классиков старшего поколения Э. Хемингуэя и Дж. Стейнбека стало их обра-171
щение к символико-аллегорической прозе, увлеченность вневременными, в значительной степени абстрагированными от живой американской реальности построениями.
Дополнительным препятствием на пути прогресса реалистического направления явилось и огромное распространение в США примитивной «массовой беллетристики», использующей внешние приметы реалистического письма в целях явной или скрытой апологетики мещанской морали, капиталистических отношений, буржуазного образа жизни в целом. Уступке непритязательным вкусам и массированной пропаганде официозных взглядов были обязаны отдельные неверные ноты в творчестве крупных прозаиков реалистического направления Э. Колдуэлла, Дж. О’Хары, И. Шоу, Дж. Джонса. Вместе с тем даже во время особого распространения в США «массовой беллетристики» этот отход от высоких критериев социально значимого, критического по отношению к буржуазным установлениям искусства ни в коей мере не получал сколько-нибудь широкого распространения, что служило еще одним доказательством прочности реалистических устоев в послевоенном американском романе.
Нельзя утверждать, что идеи общественного служения и гуманизма целиком определяют идейно-художественный профиль того направления, что принципиально враждебно как модернизму, так и стереотипам «массовой культуры» буржуазного общества. И в работах значительных художников подчас дают себя знать и ложные политические идеи, и унылый пессимизм, и чрезмерное увлечение формальным экспериментом. Однако принятие демократической интеллигенцией США главного критерия гражданского подхода — ответственности перед интересами трудящихся масс — способствует сохранению и укреплению в современной литературе США традиций реалистического изображения.
«Реализм — аберрация исторического художественного процесса»; «Литература не должна следовать жизни; о ней нужно судить не на основании социальных или моральных критериев, а лишь в рамках ее собственной самобыт-^ ности...» — высказывания такого рода по-прежнему появ-i ляются в США как на страницах популярных учебных^ пособий, так и в академических монографиях, касающихся^ проблем современной культуры на Западе. Попытки «раз-J лучить» литературу с реальным миром человеческих забо’й и страстей, социальной и идеологической борьбы продол-1 жаются, но они вступают во все более острое противоречив 172 1
с объективным содержанием современного художественного развития в крупнейшей стране мирового капитализма.
Различные нереалистические течения (не только модернистские) занимали определенное место в общей литературной жизни США и порой оказывали ощутимое воздействие на творчество прозаиков реалистического склада. И все же объективная логика современной истории, требования времени, насыщенного острыми, многоаспектными противоречиями и конфликтами, неизменно способствовали укреплению позиций реализма, аналитического, критического исследования действительности. Проявление этой общей закономерности можно наблюдать на последовательных этапах эволюции, в различных жанровых модификациях современного реалистического романа Соединенных Штатов Америки.
СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ ....................................... 3
ВВЕДЕНИЕ .......................................... 5
Глава I
ЖИВОЕ НАСЛЕДИЕ «ГНЕВНЫХ ТРИДЦАТЫХ» 12
1. Социально-критический роман 40-х годов . . 15
2. Группировка «военных романистов» .... 28
3. Романы социалистических идей и антимаккар-тистского протеста....................... 48
Глава II
ЭПОХА «ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНОГО РОМАНА» 64
1. Конформизм и американская литература 50-х годов......................... 68
2. Реализм «субъективной прозы»....... 82
3. Преодоление экзистенциалистских мотивов 100
Глава III РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ РОМАН США НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (начало 60-х — вторая половина 70-х годов)................................... 115
1. Подъем социально-критических тенденций . . 120
2. Реалистический роман и условные формы . . 136
3. Исторические судьбы США в романе 70-х годов ................................... 151
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.................................... 170
Учебное издание АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ МУЛЯРЧИК СОВРЕМЕННЫЙ РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ РОМАН США: 1945—1980
Заведующий редакцией Г. Н. Усков. Редактор Н. Л. Образцова Младший редактор М. А. Журбенко. Художник А. В. Алексеев Художественный редактор М. Г. Мицкевич Технический редактор Г. А. Фетисова Корректор Е. К. Штурм
ИБ № 6907
Изд. № Л Ж—43. Сдано в набор 25.05.87. Подп. в печать 15.02.88. А-11411. Формат 84ХЮ81/з2. Бум. кн.-журн. Гарнитура Таймс. Печать высокая. Объем 9,24 усл. печ. л. 9,45 усл. кр.-отт. 9,89 уч.-изд. л. Тираж 19 000 экз. Зак. № 647. Цена 35 коп.
Издательство «Высшая школа», 101430, Москва, ГСП-4, Неглинная ул., д. 29/14.
Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.
Мулярчик А. С.
М90 Современный реалистический роман США: 1945— 1980: Учеб, пособие для вузов по спец. «Рус. яз. и лит.». — М.: Высш, шк.» 1988. — 174 с.
В пособии прослеживается развитие ведущего жанра в современной литературе США — реалистического романа.
В полемике с различными школами буржуазного литературоведения анализируются произведения таких популярных в СССР американских писателей, как Э. Хемингуэй, У. Фолкнер, Р. П. Уоррен, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Апдайк и др.
4603020000(4309000000)—211 ББК 83.37
М---------------------------- 275—88
001(01)—88 8И