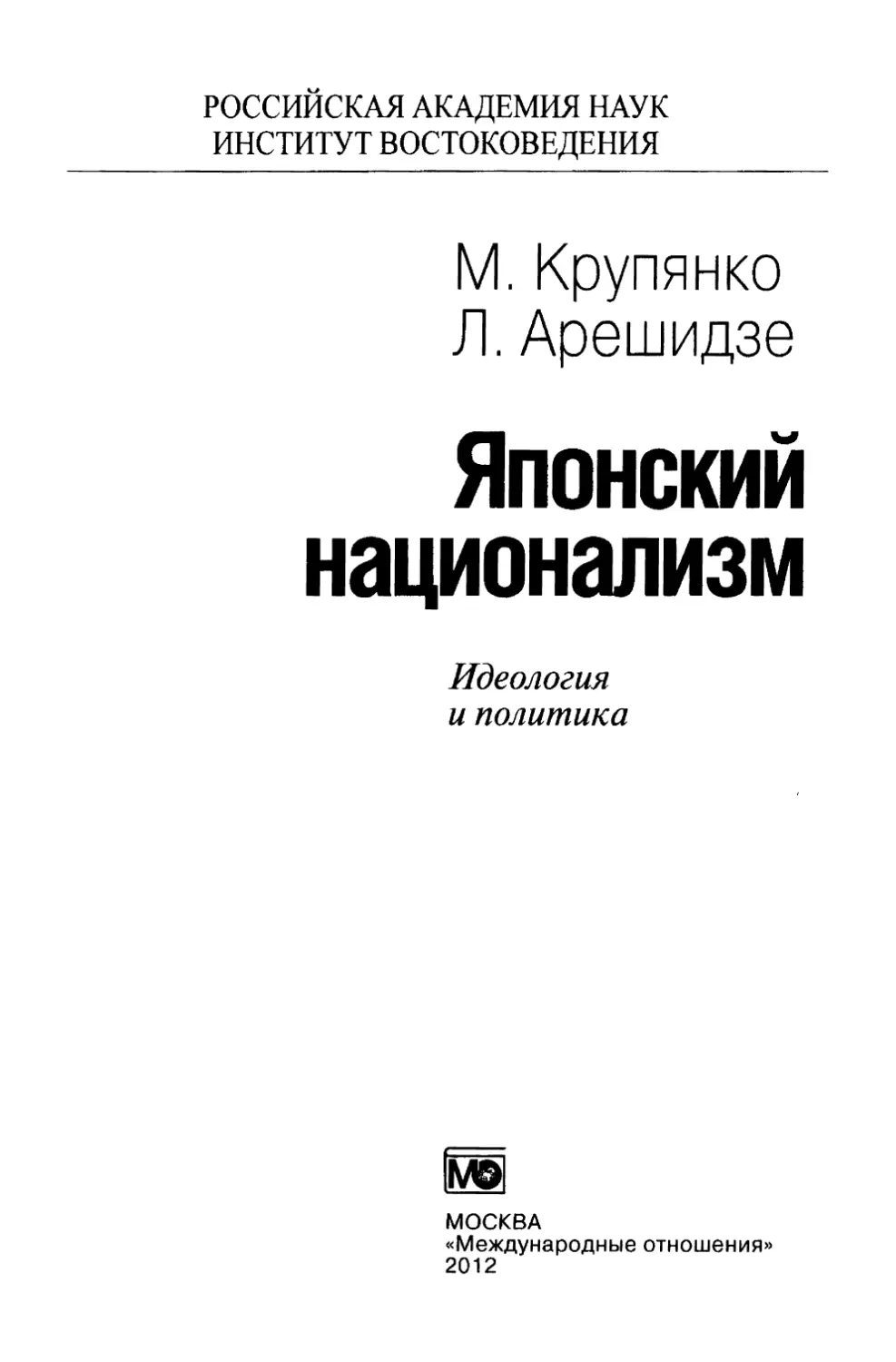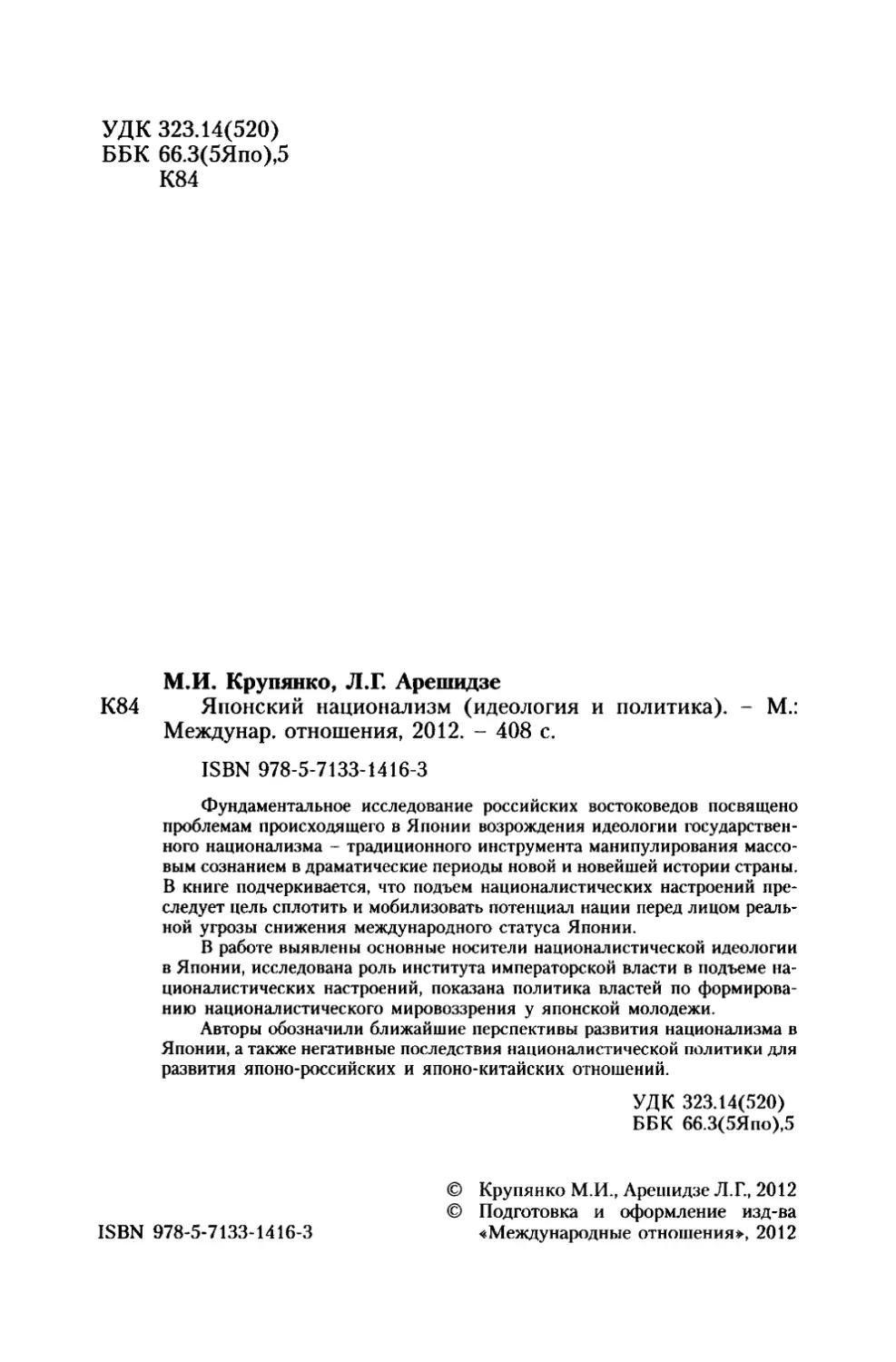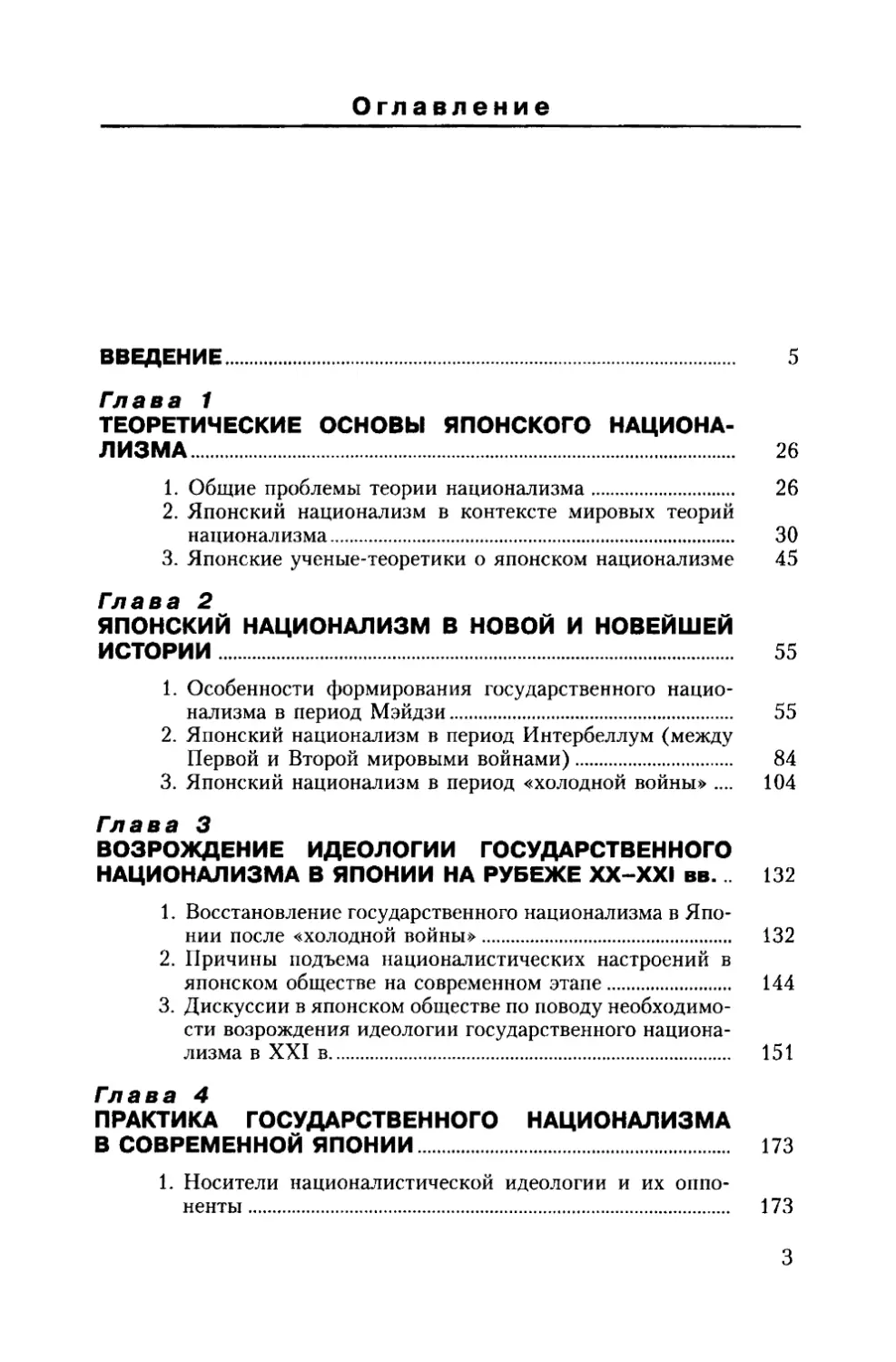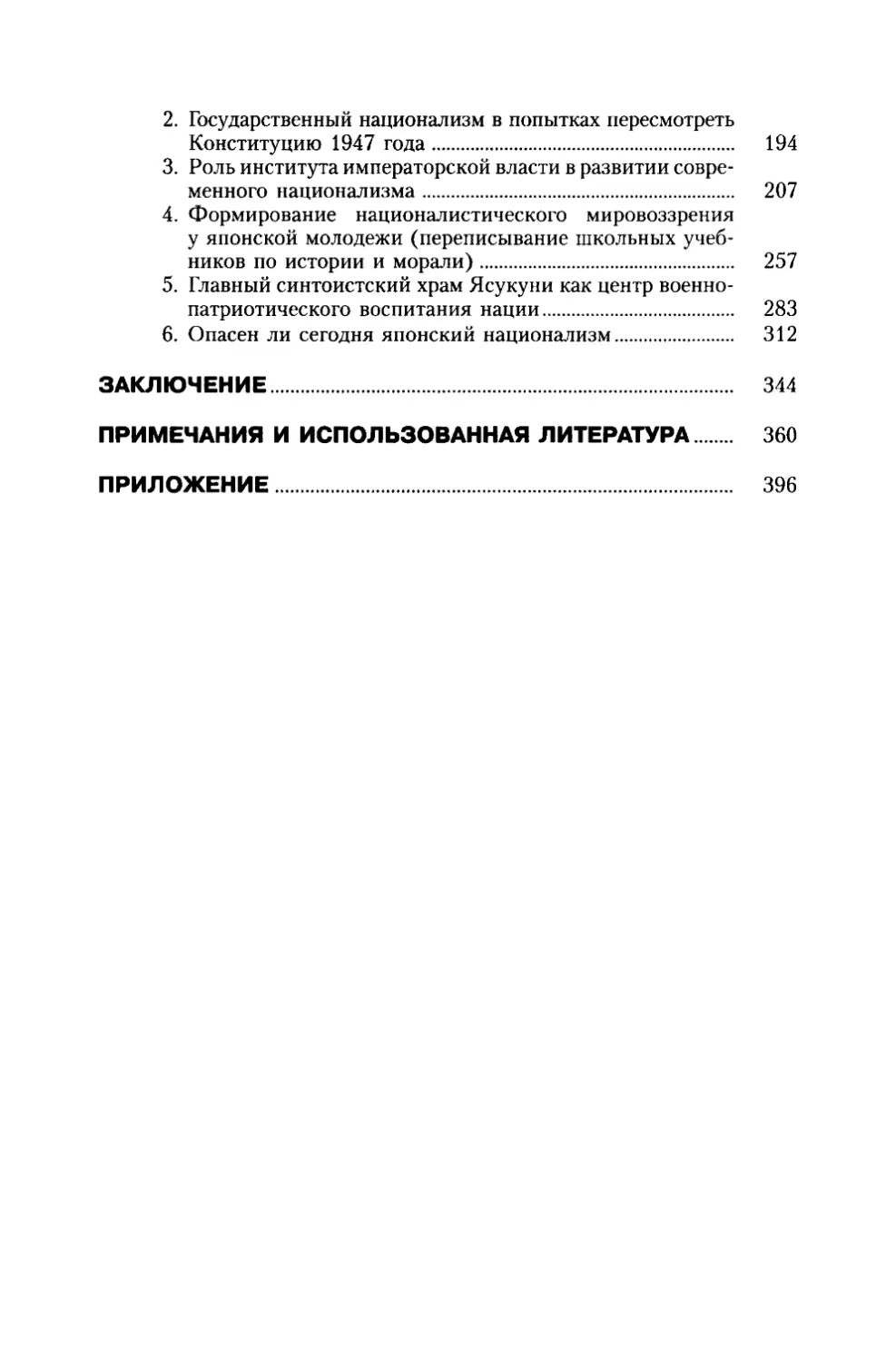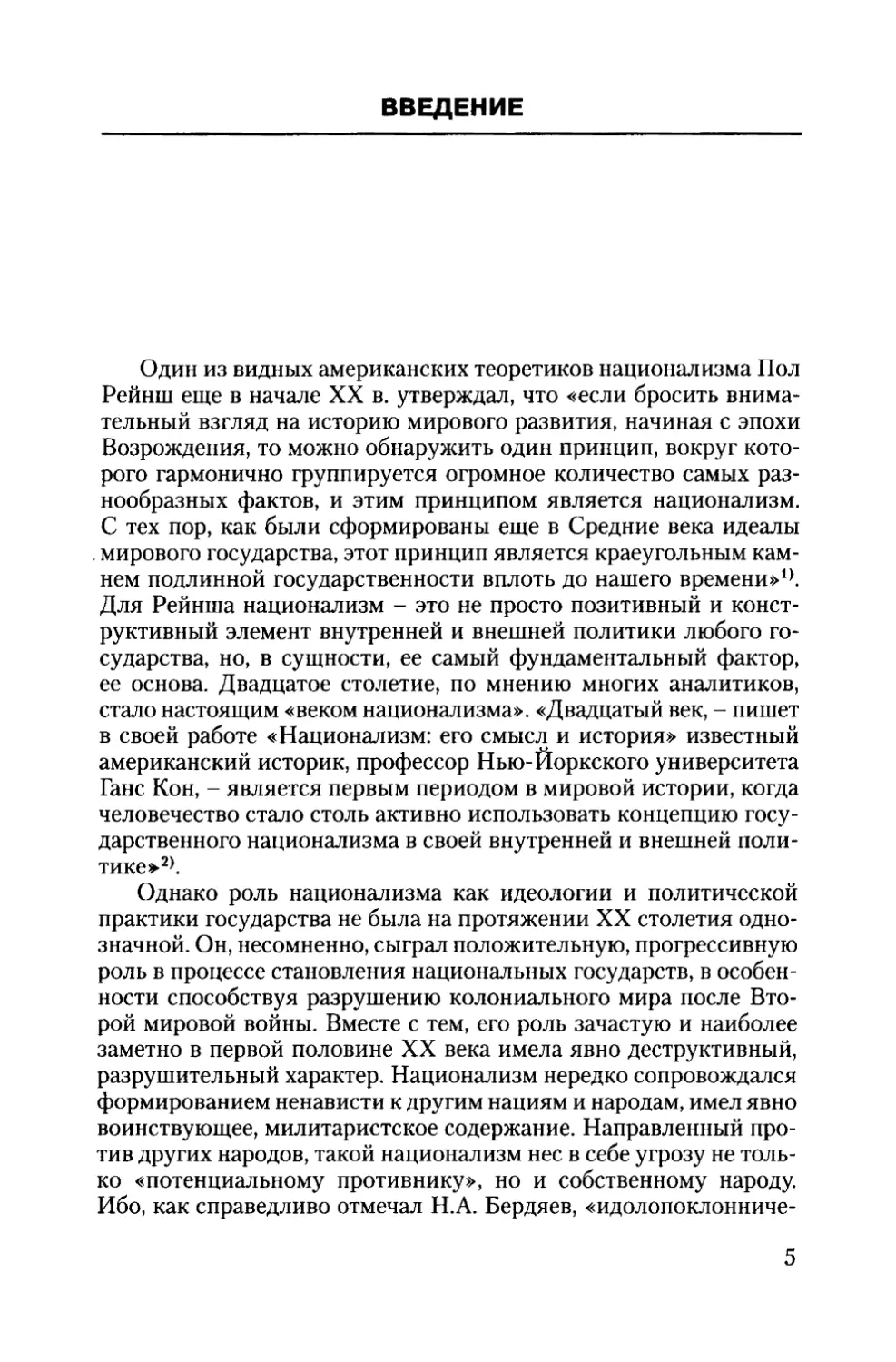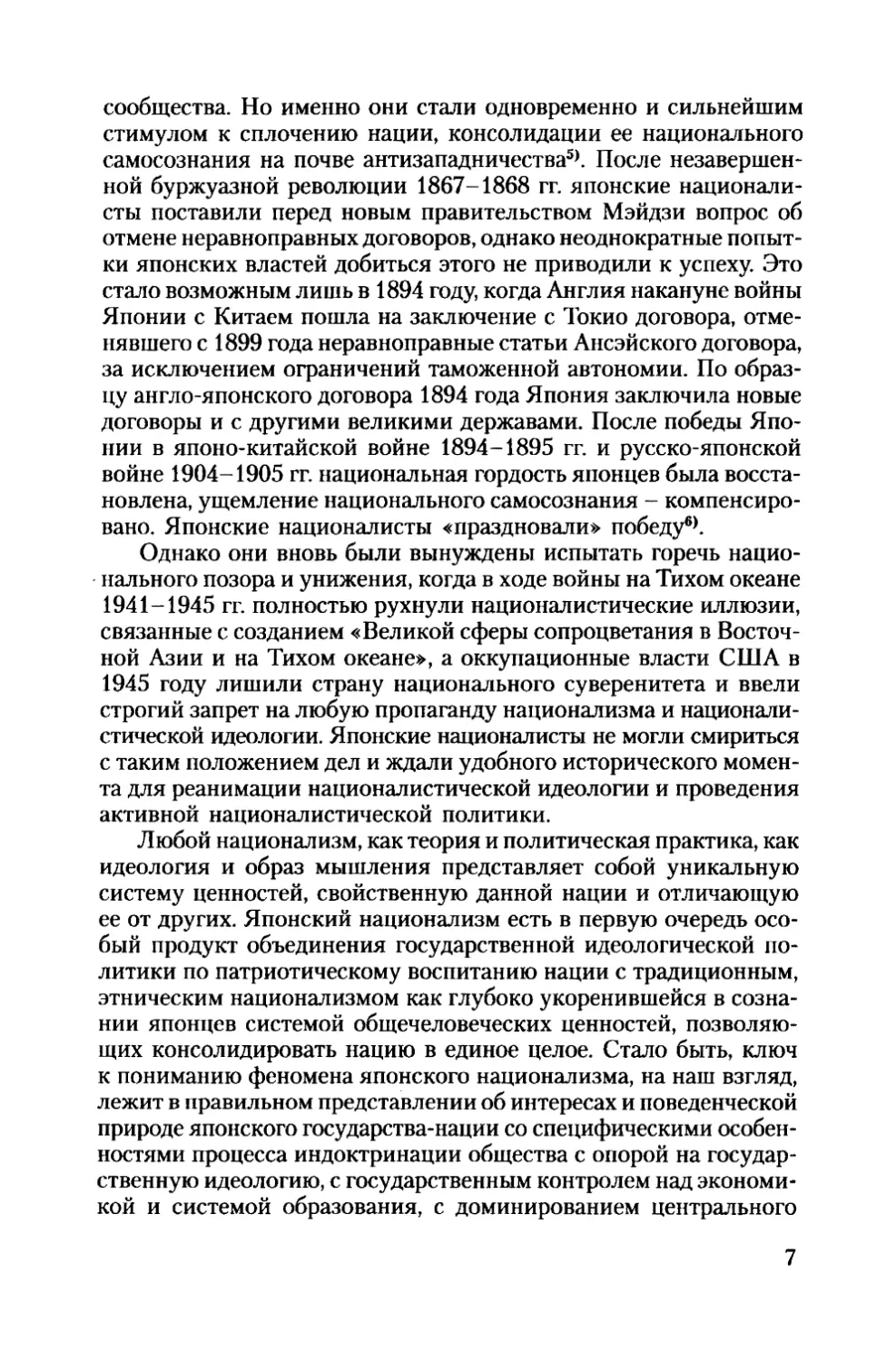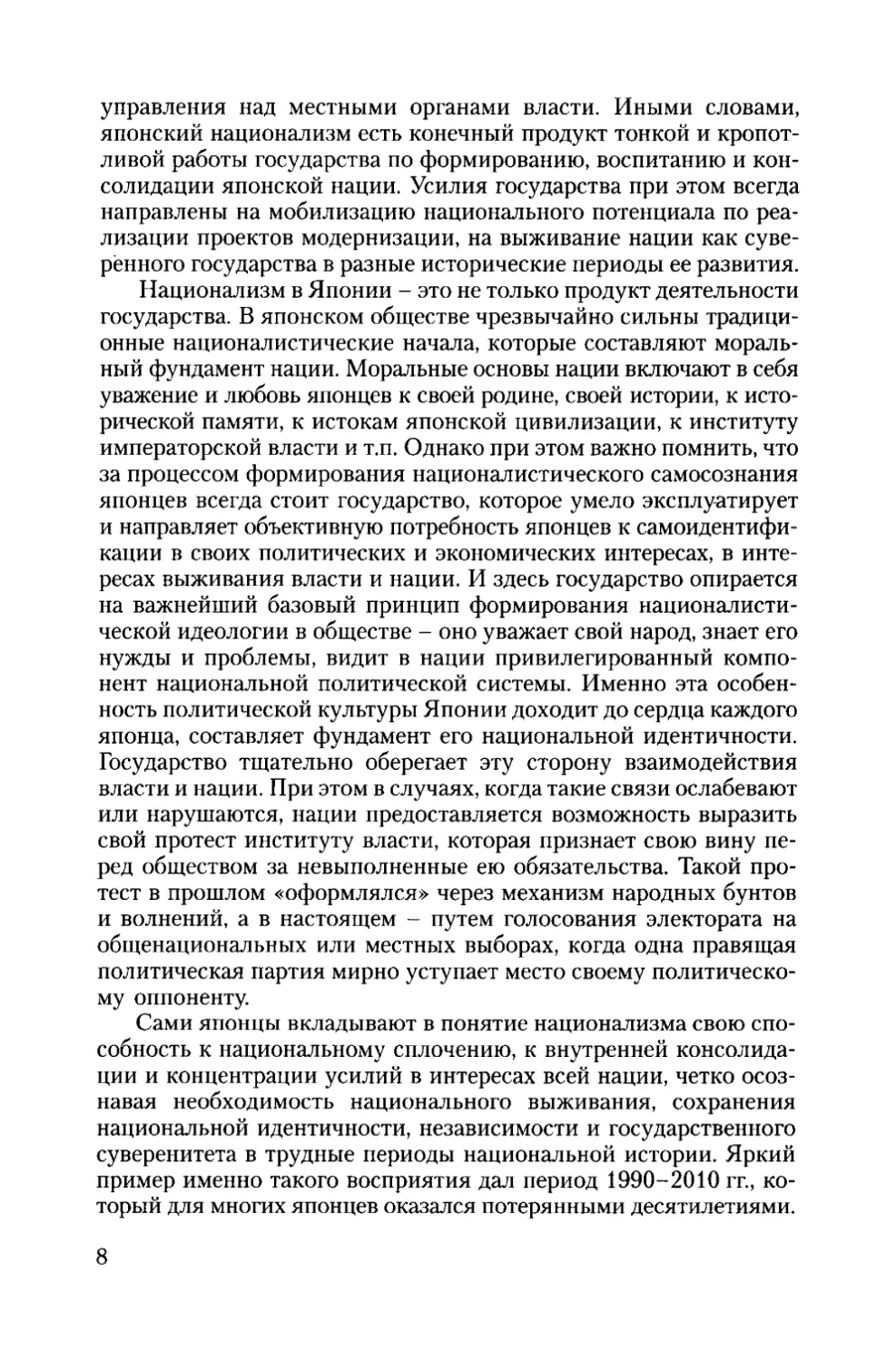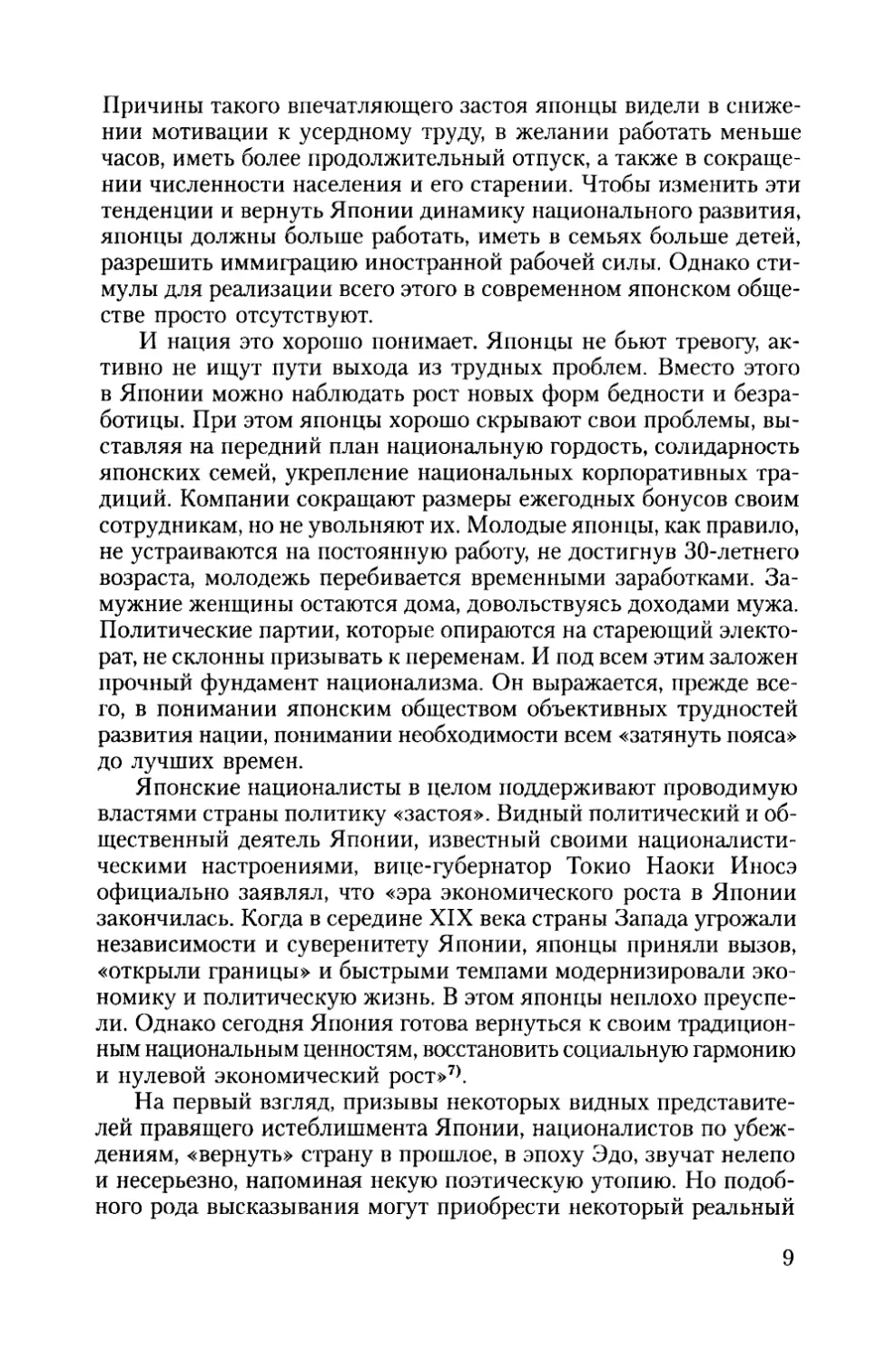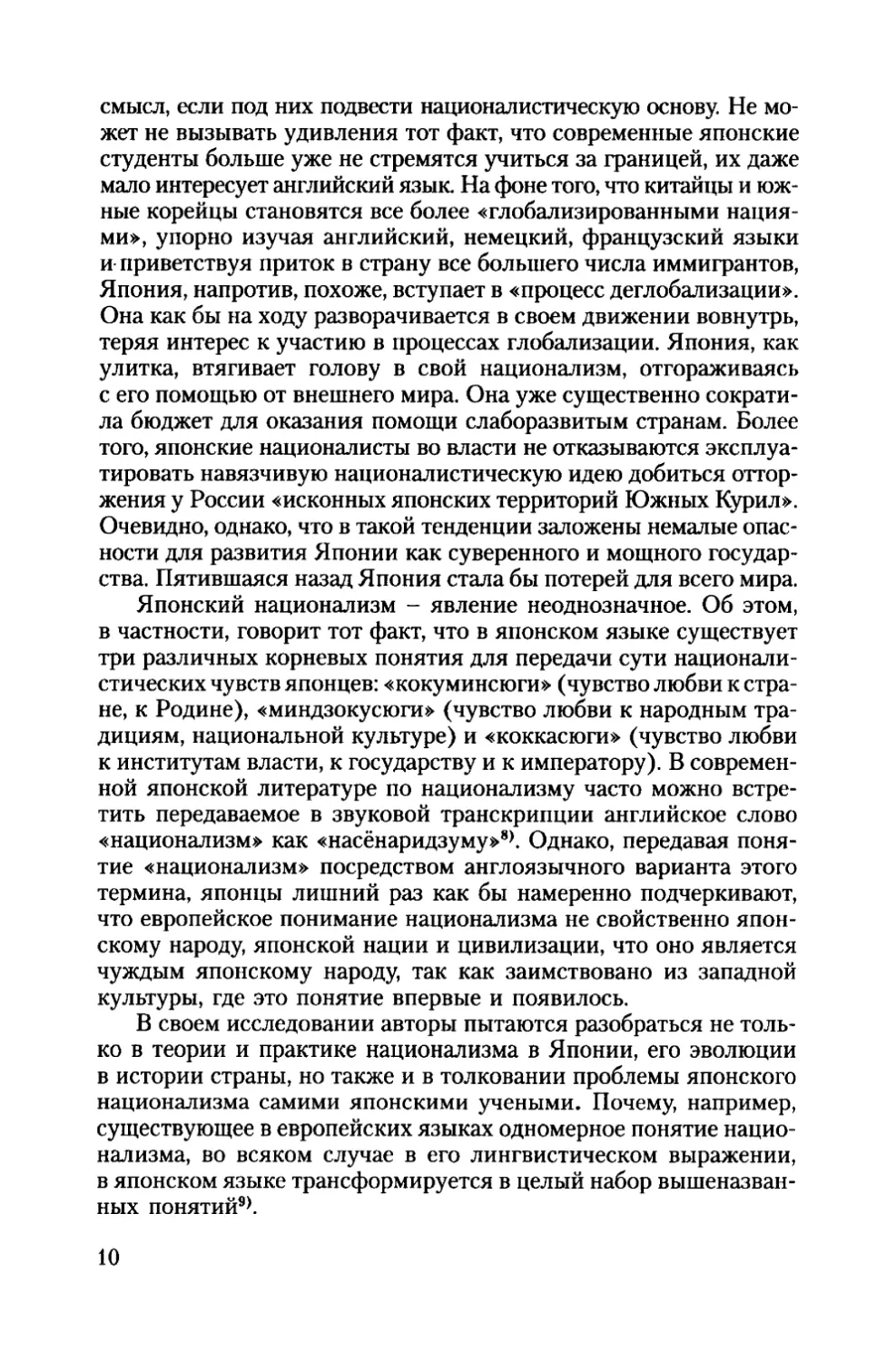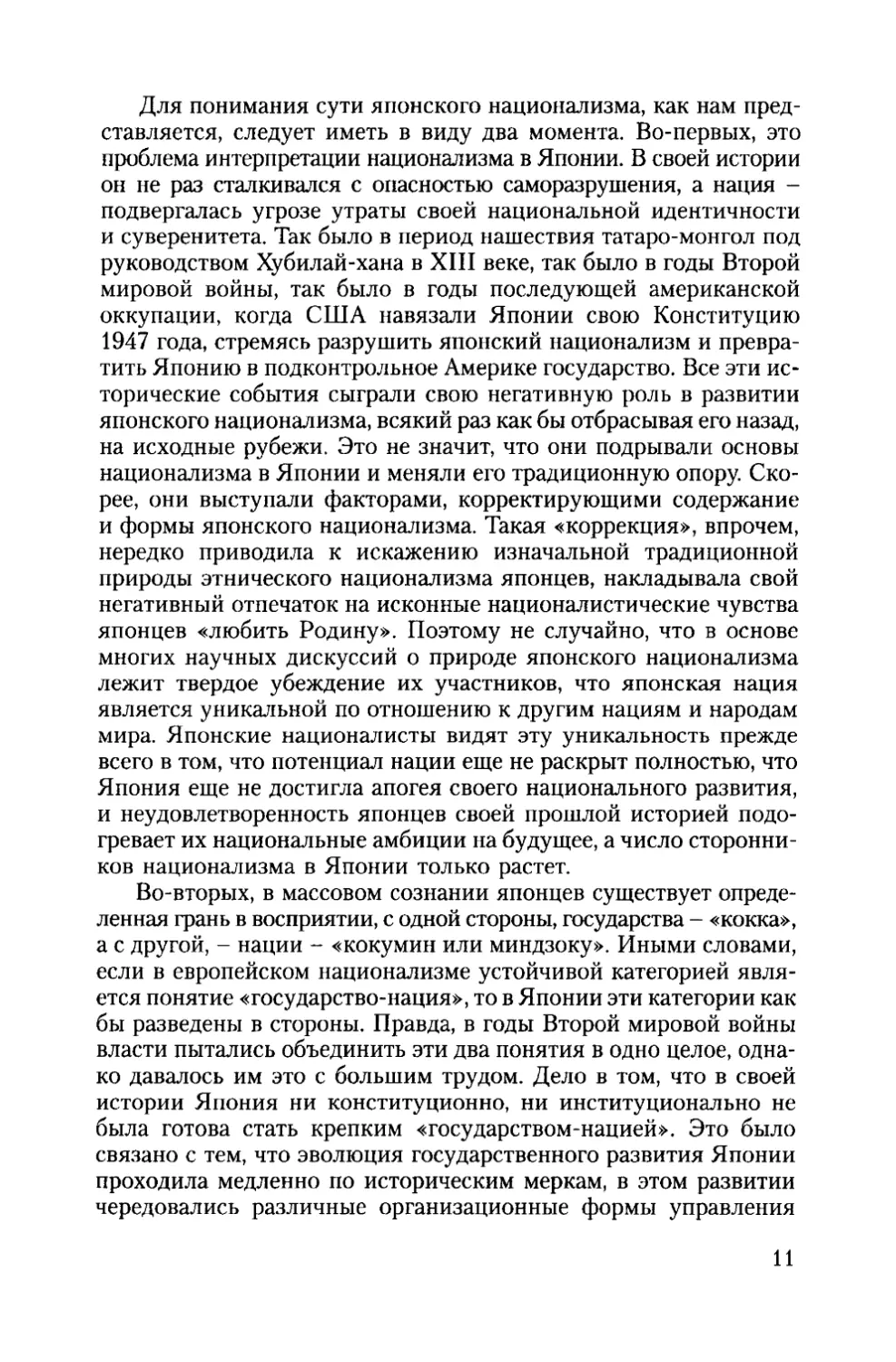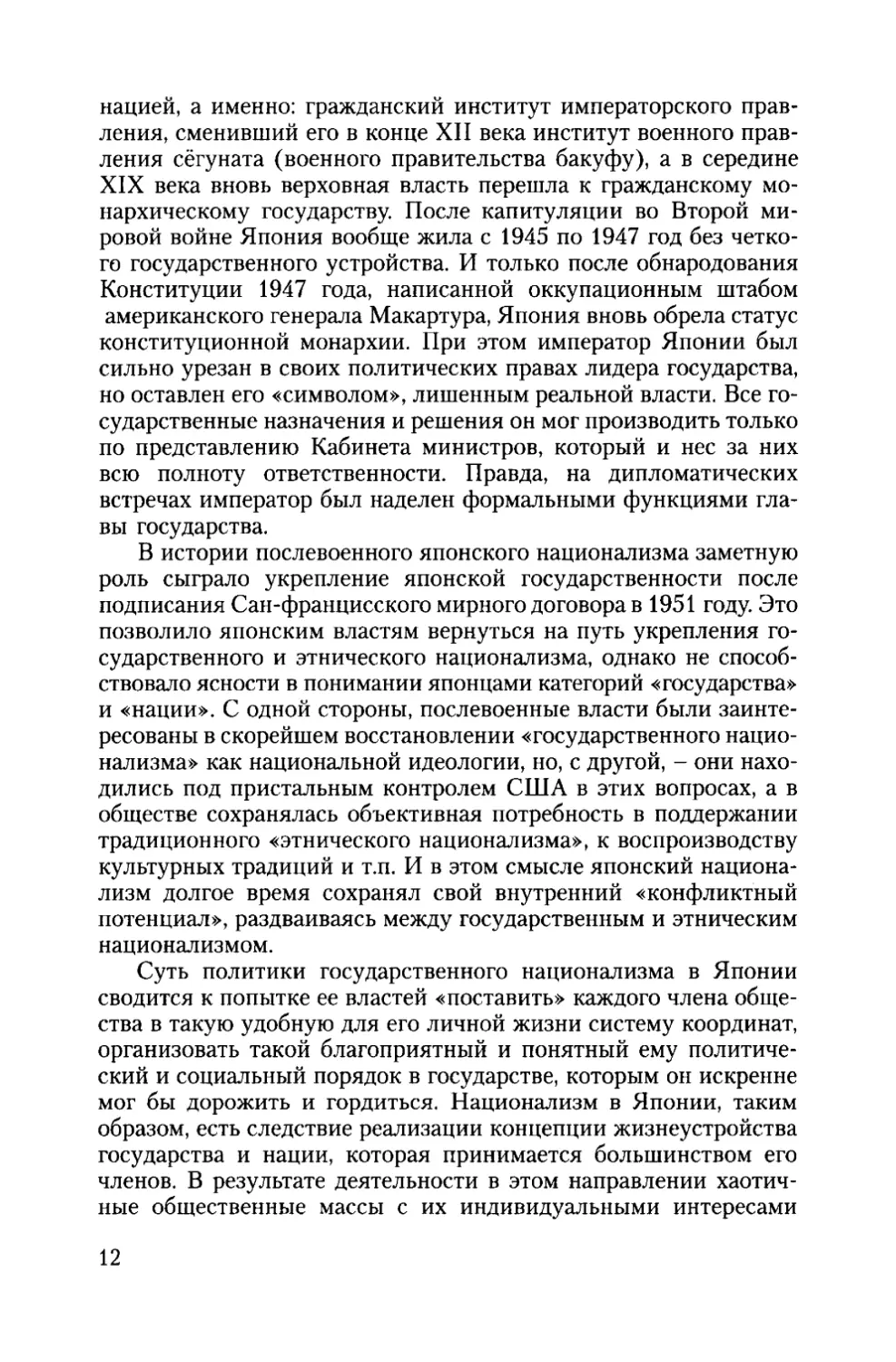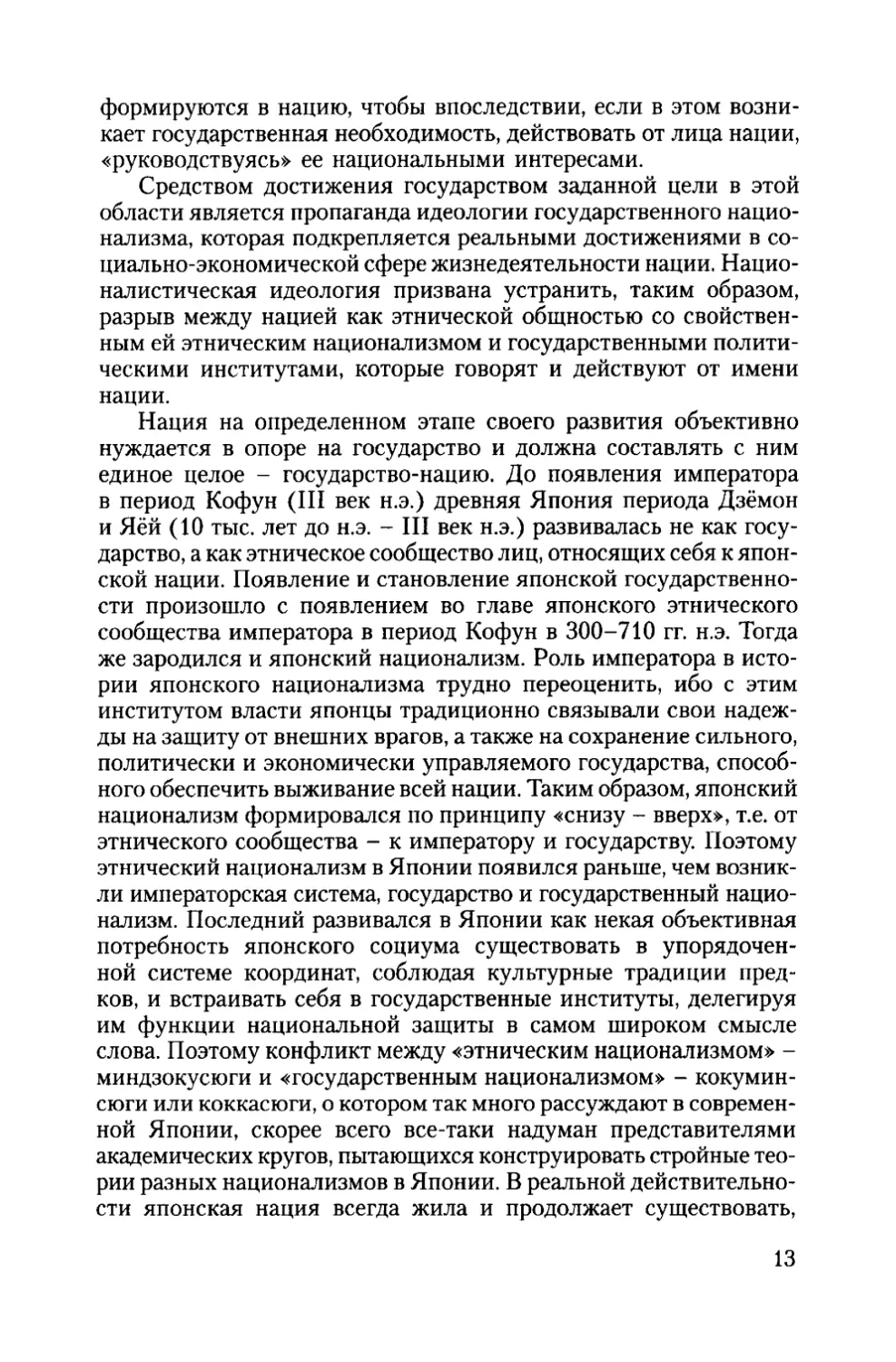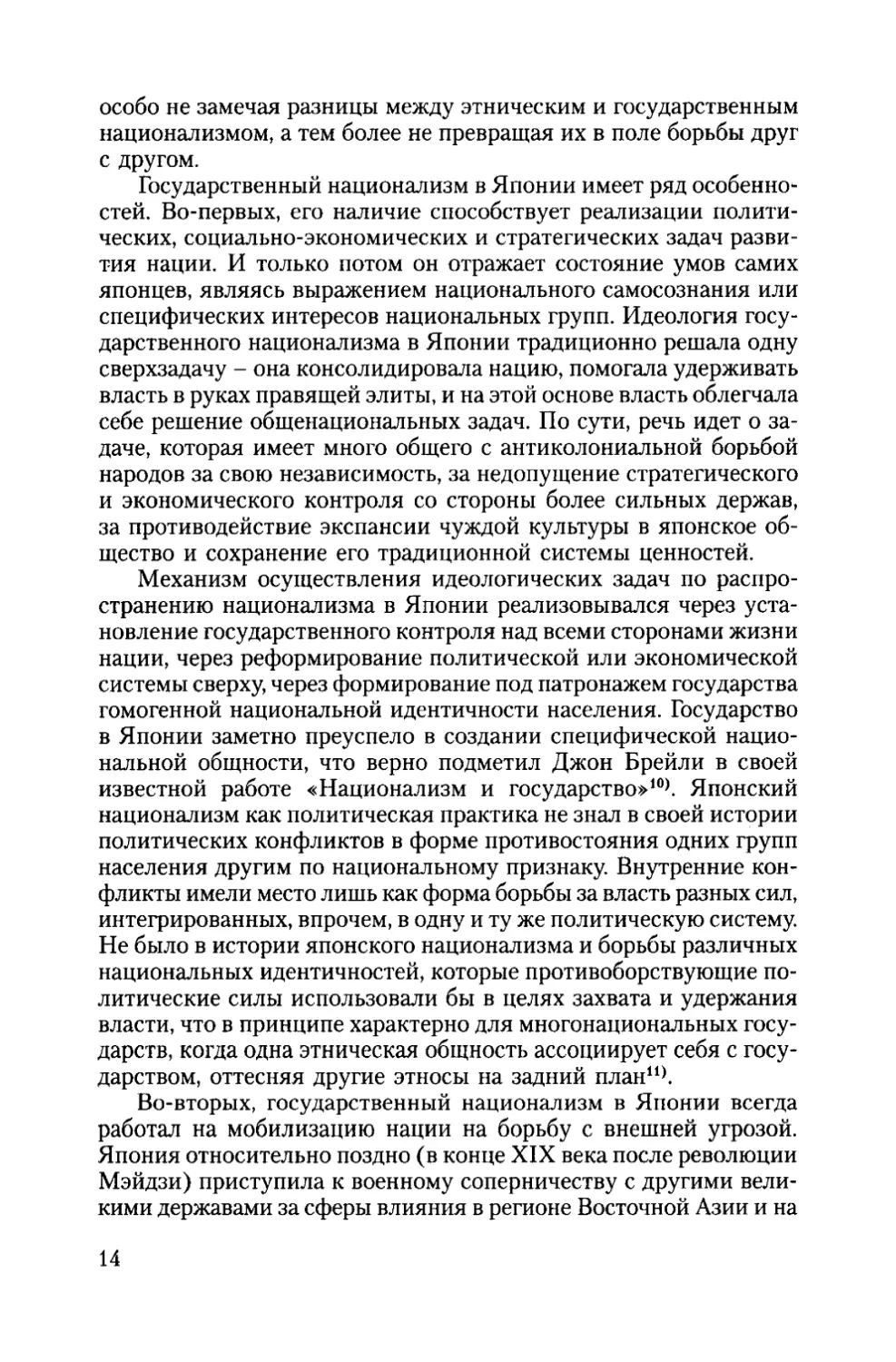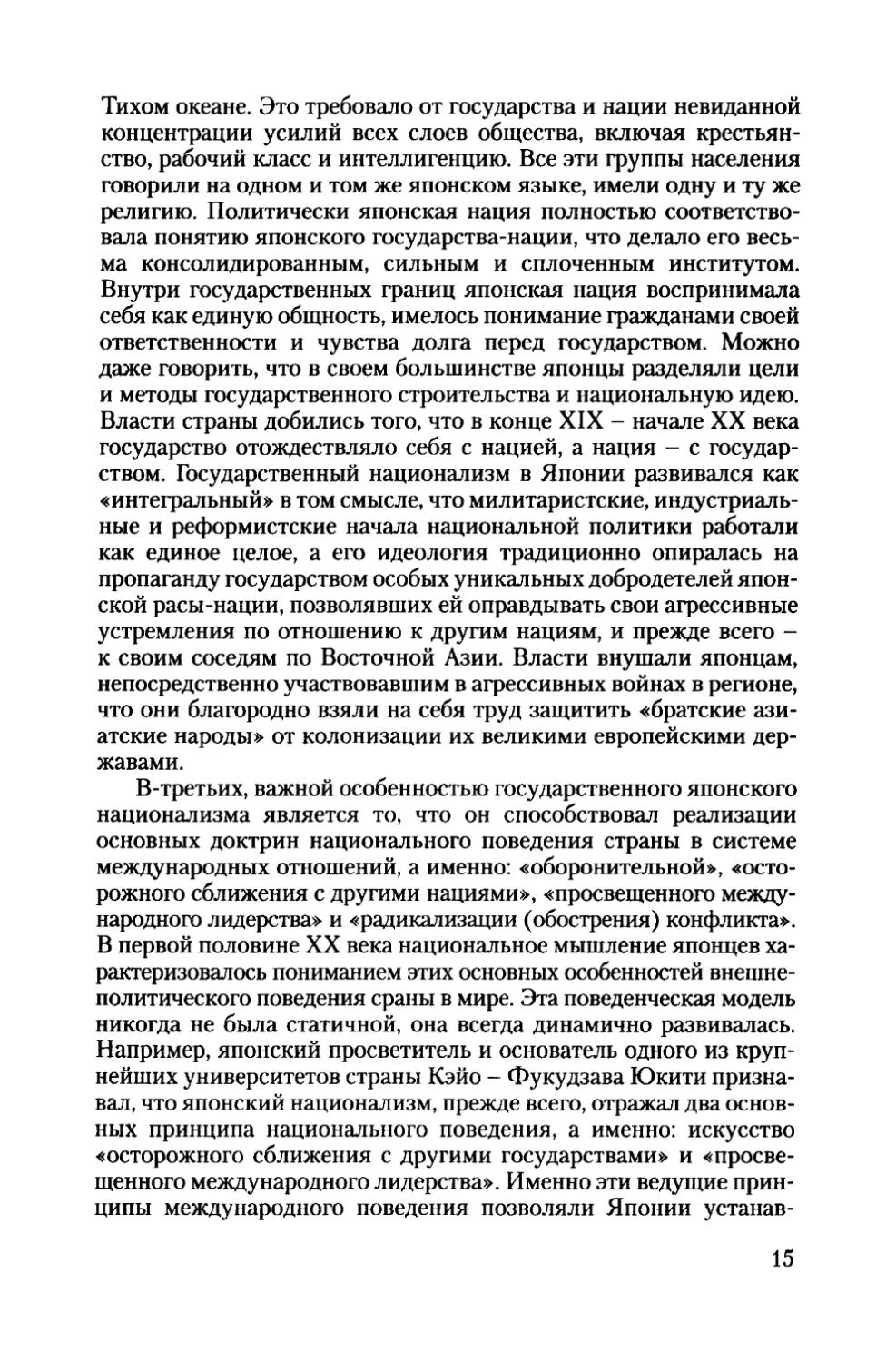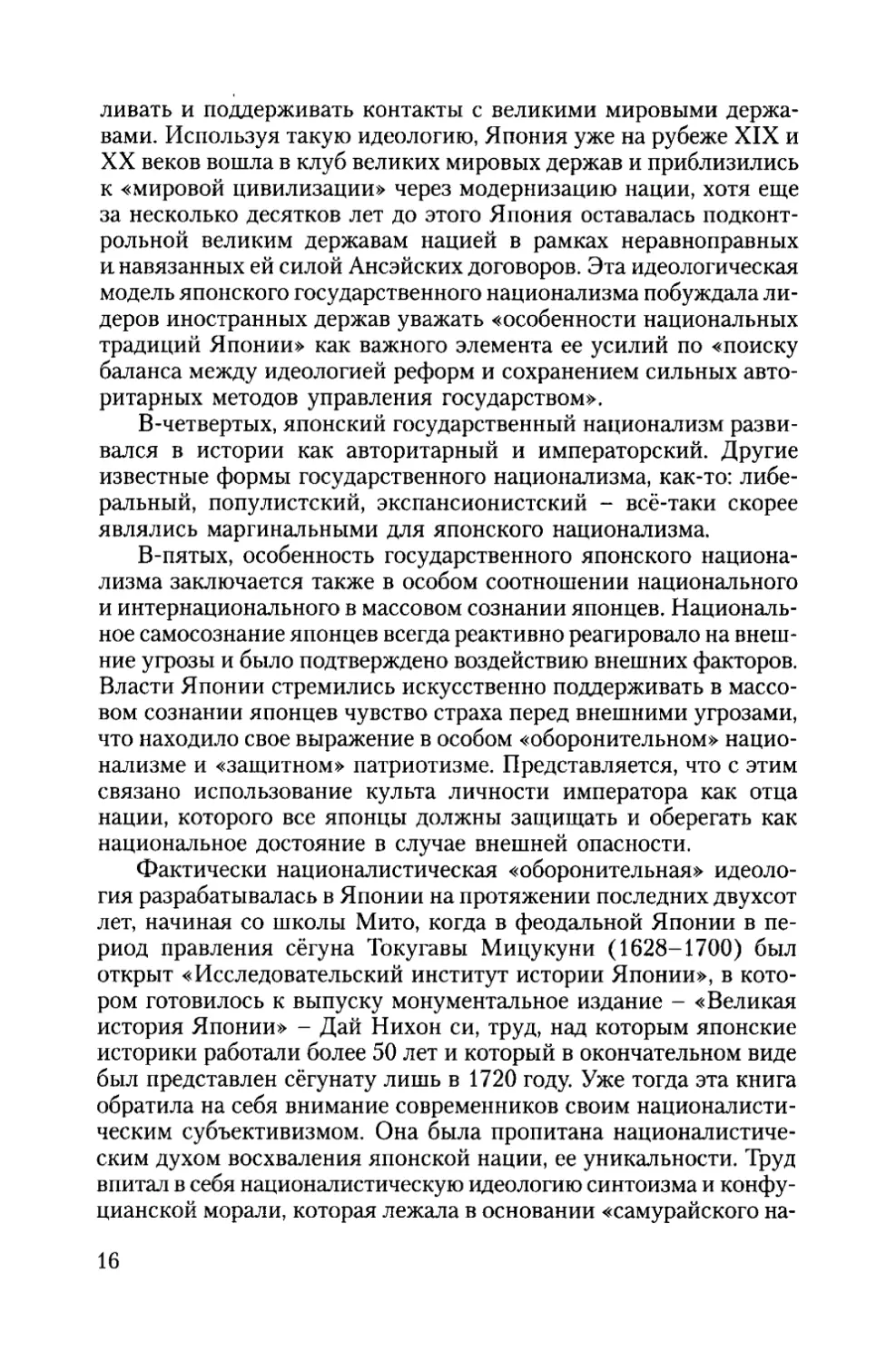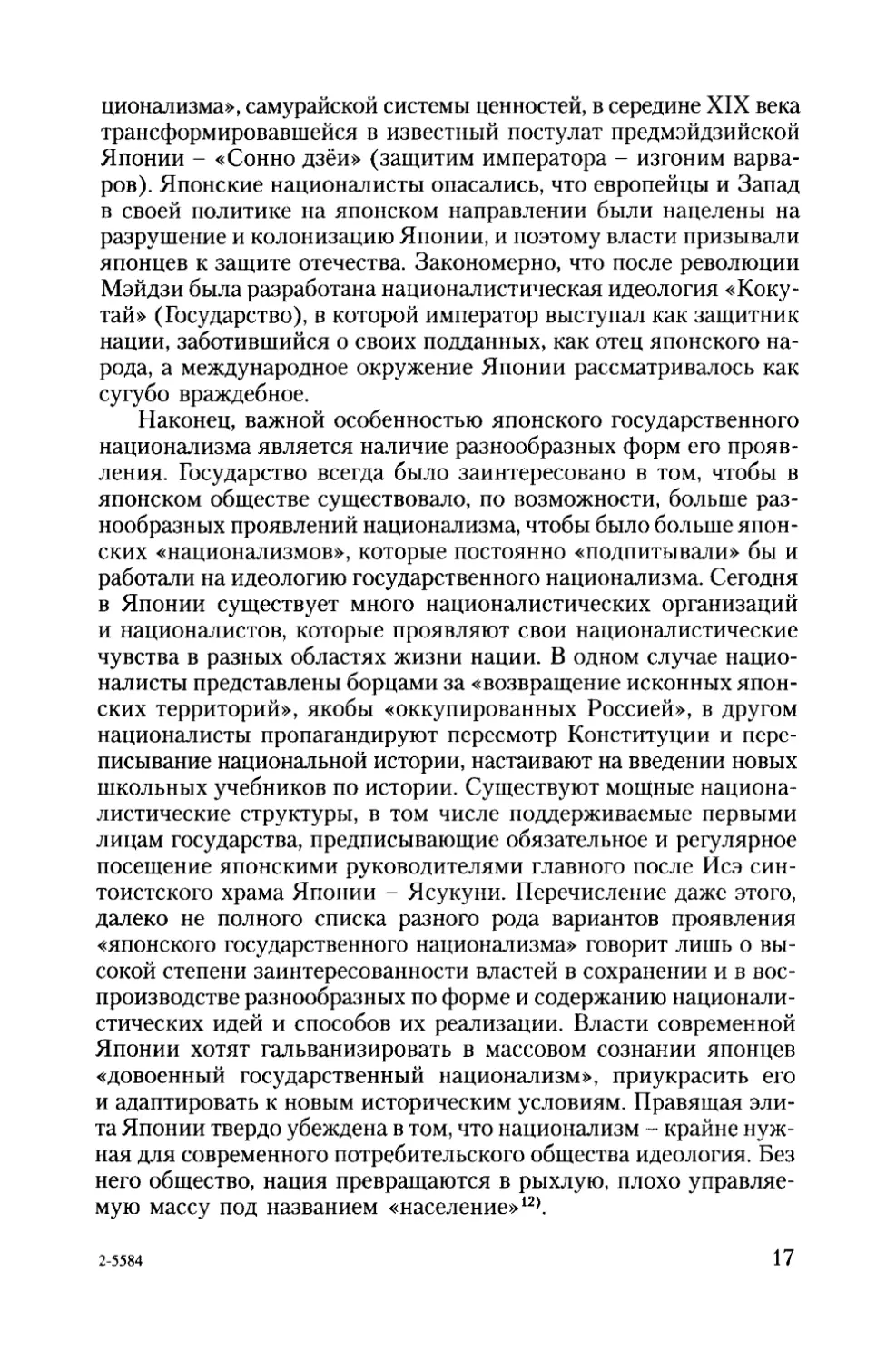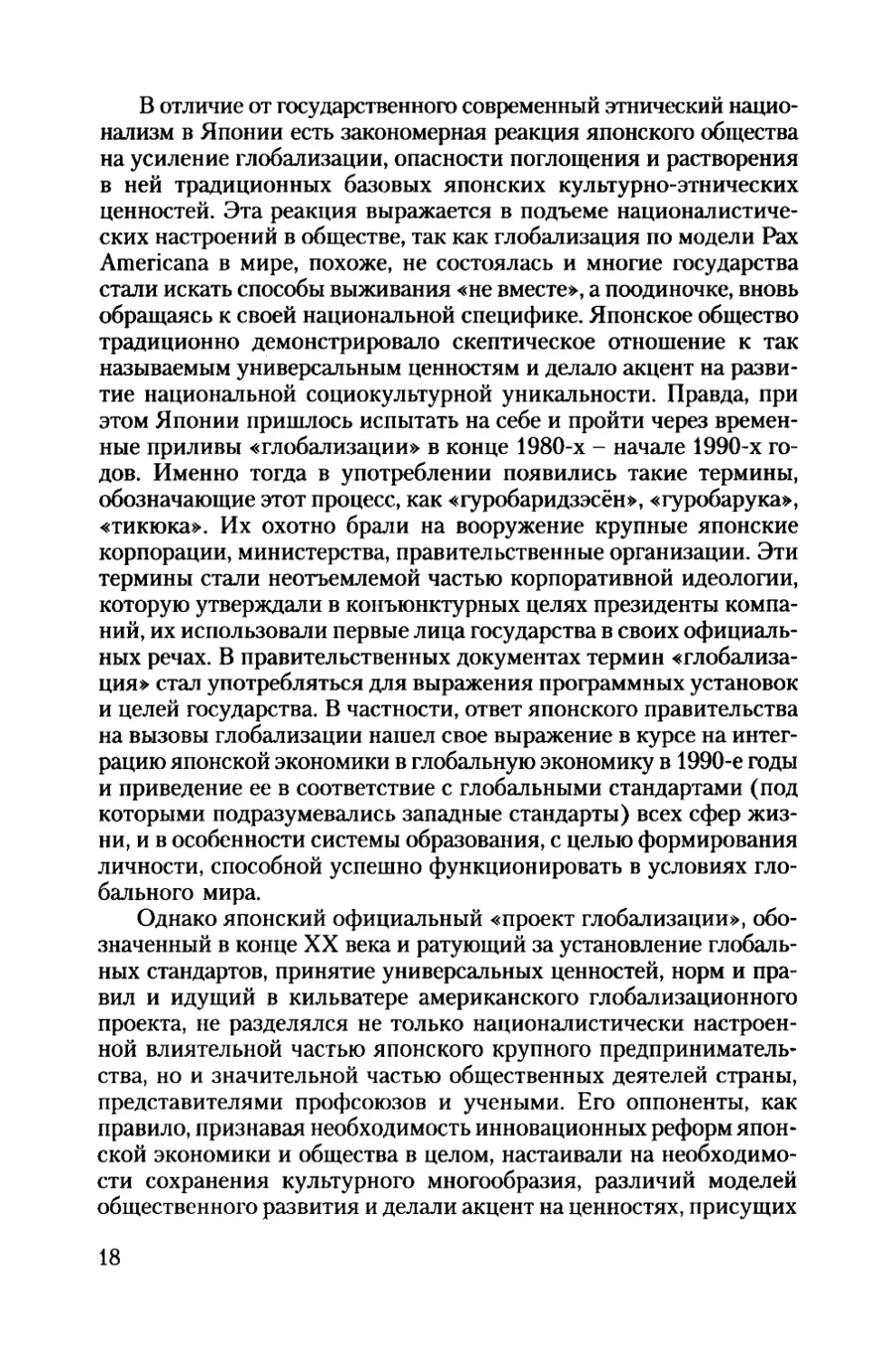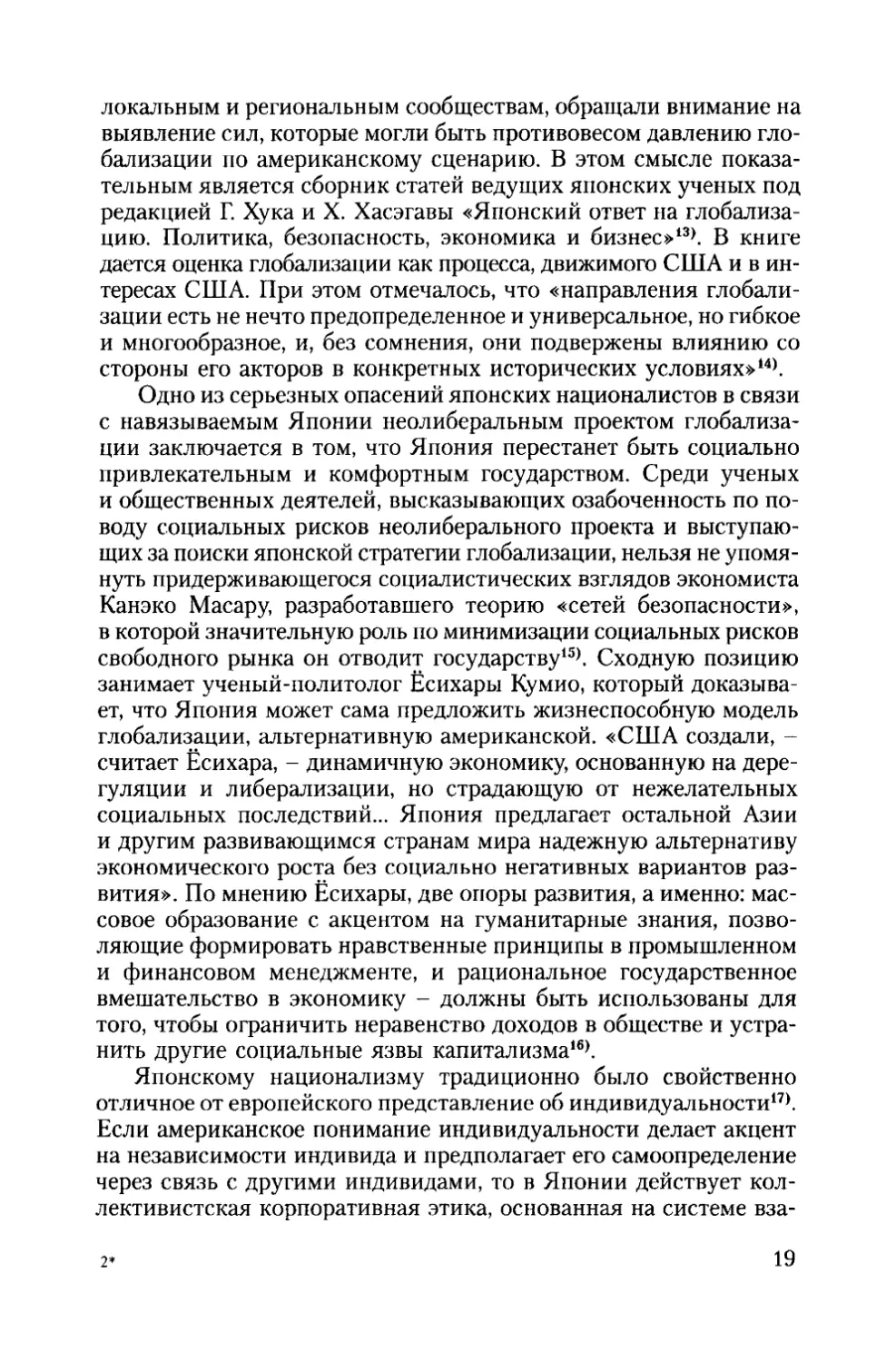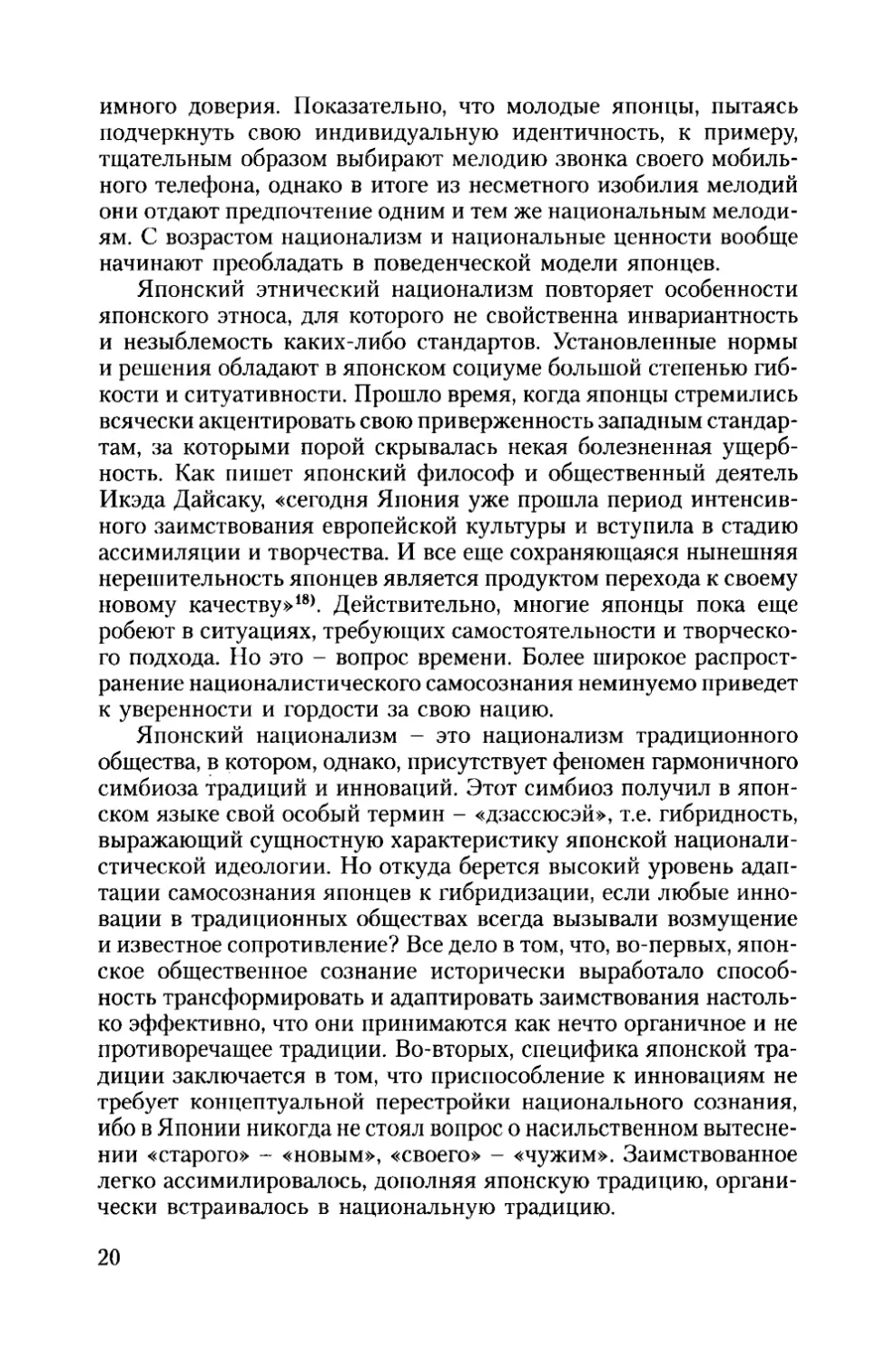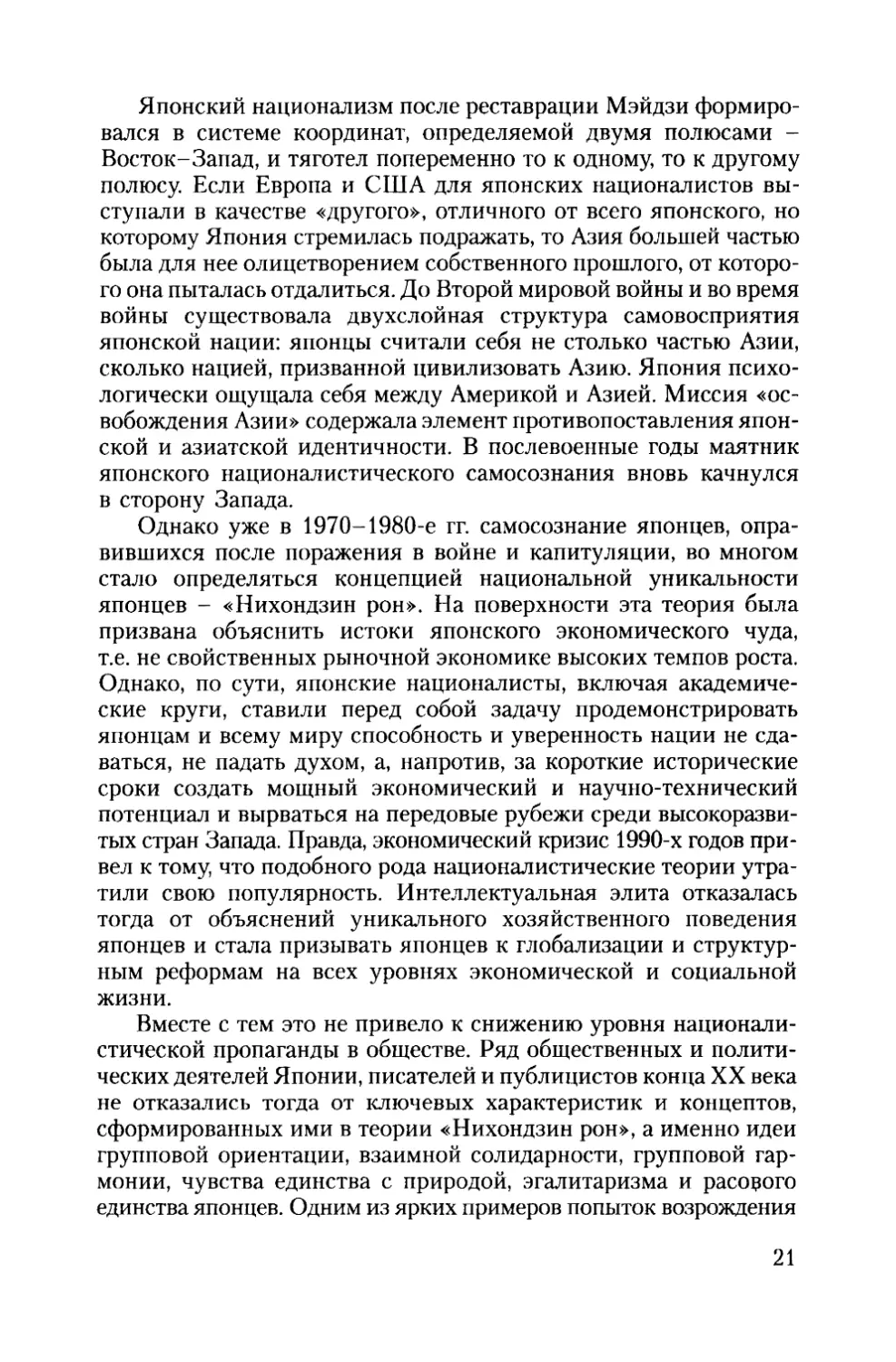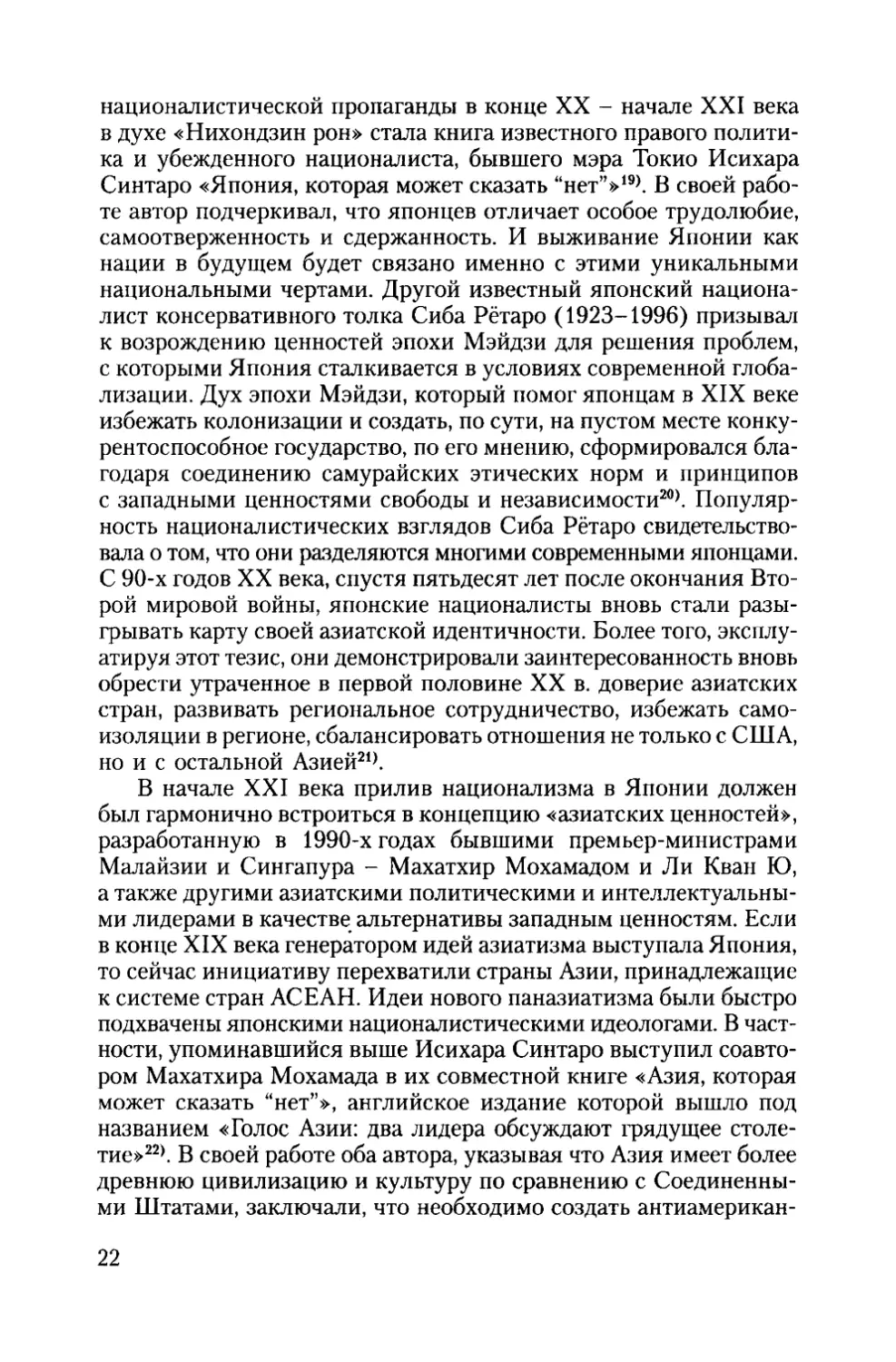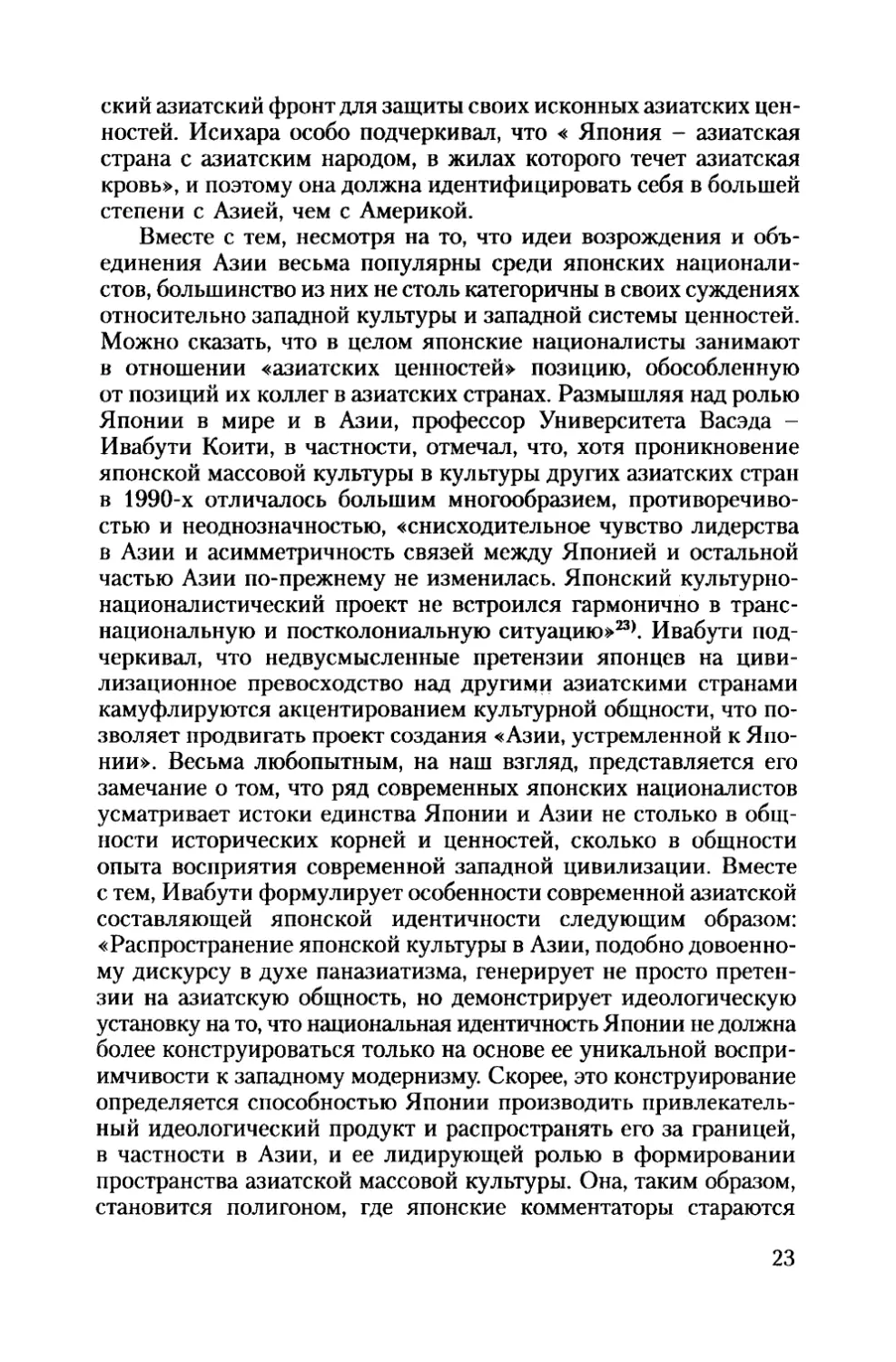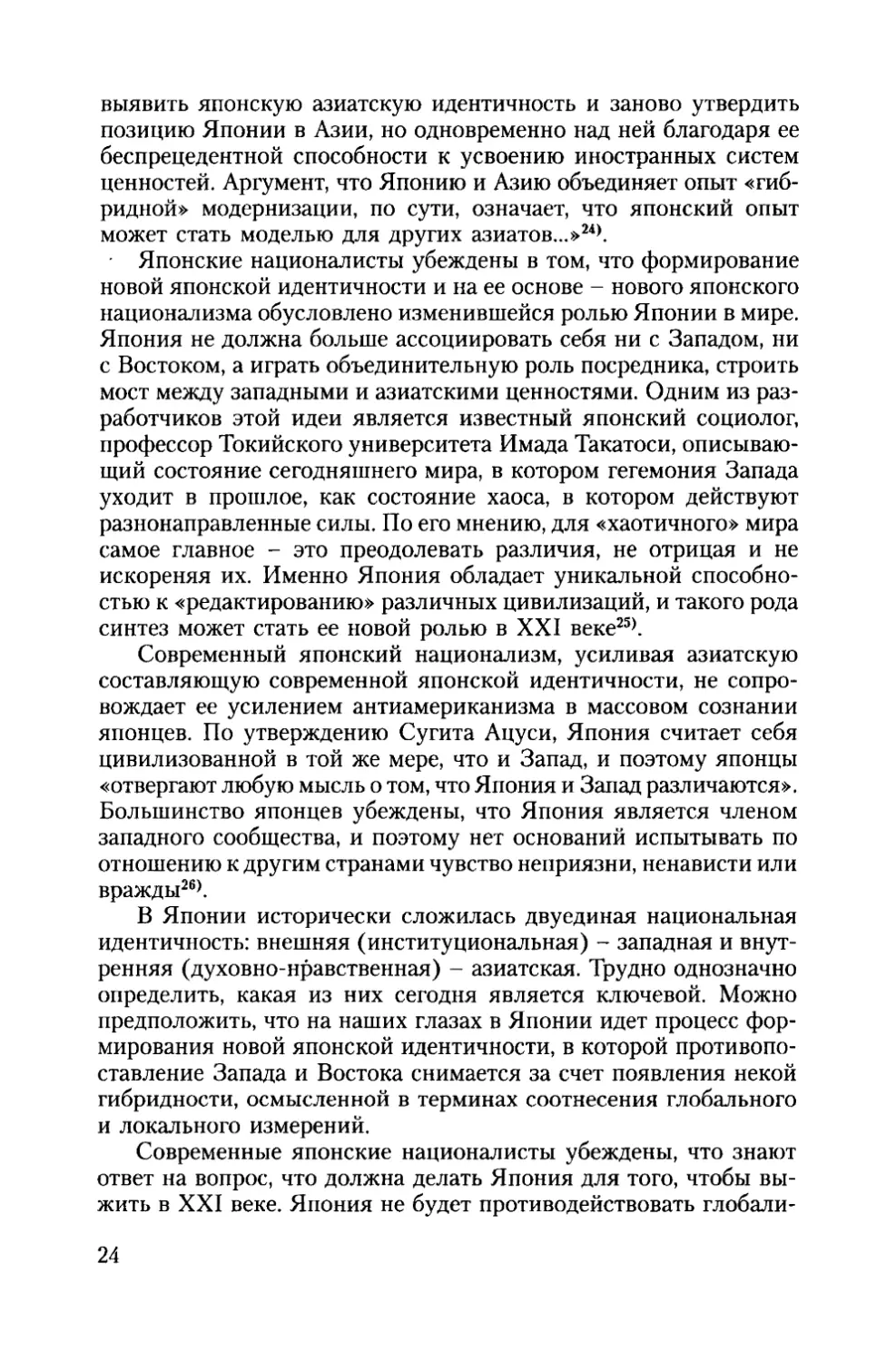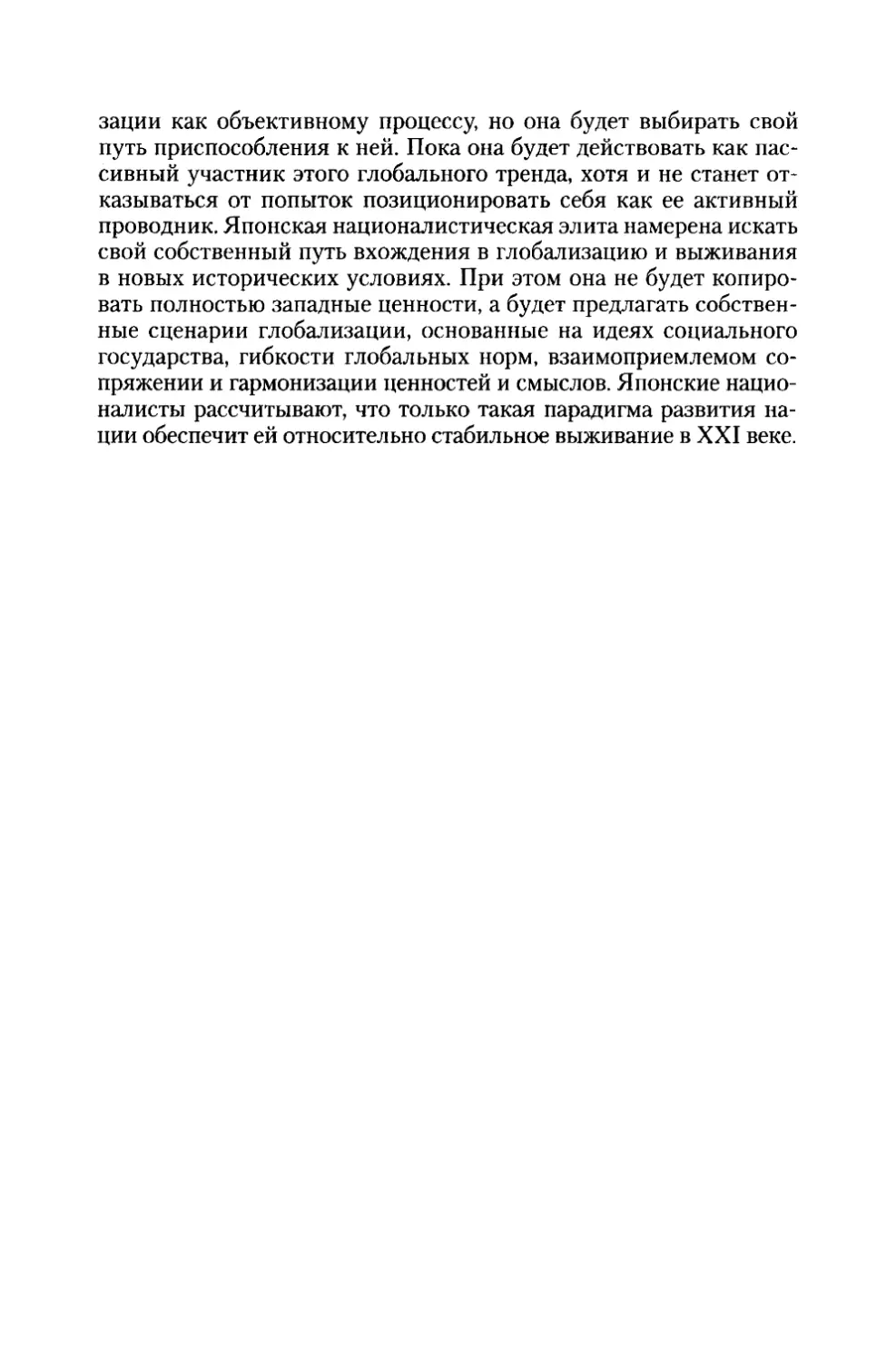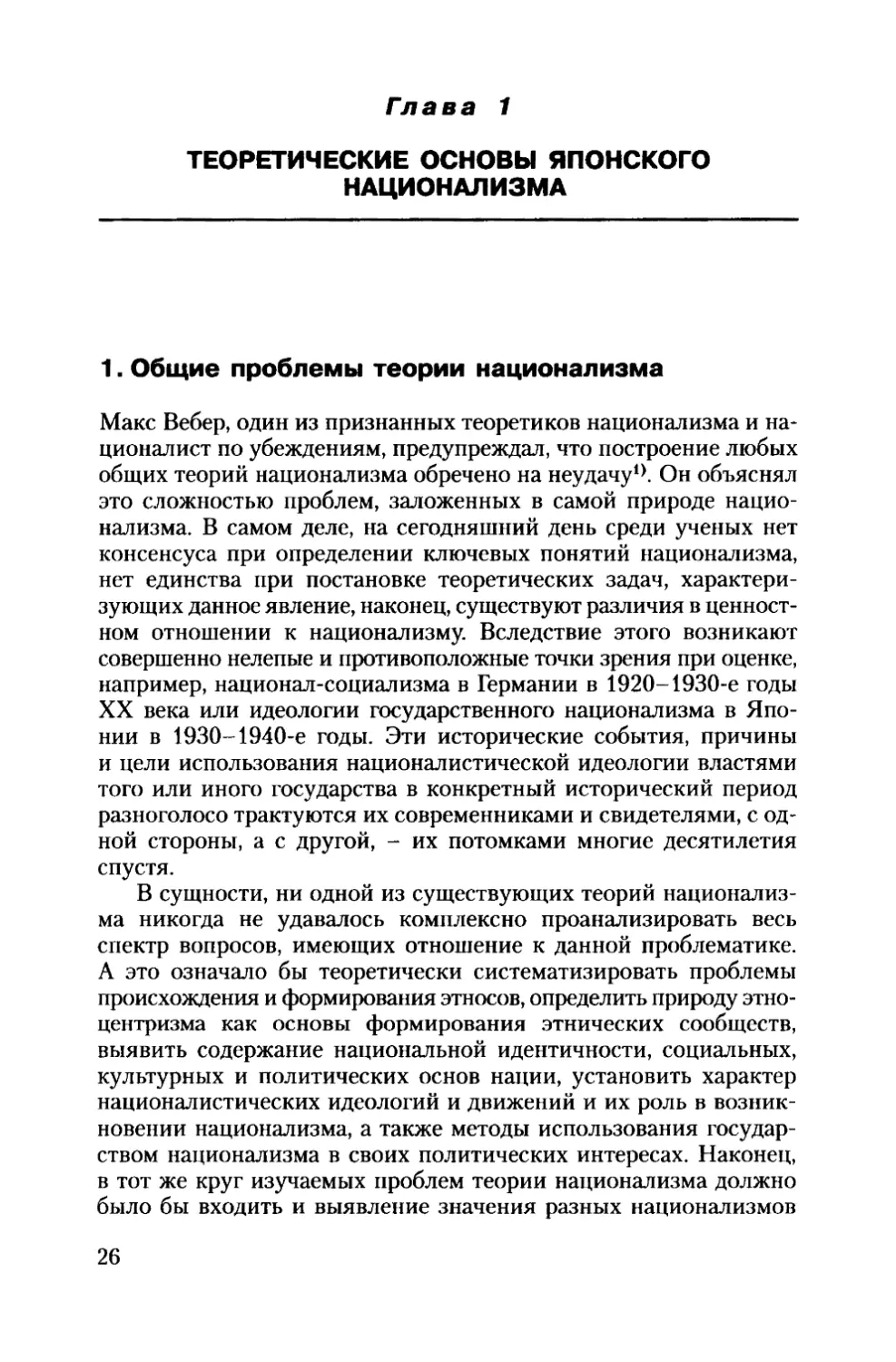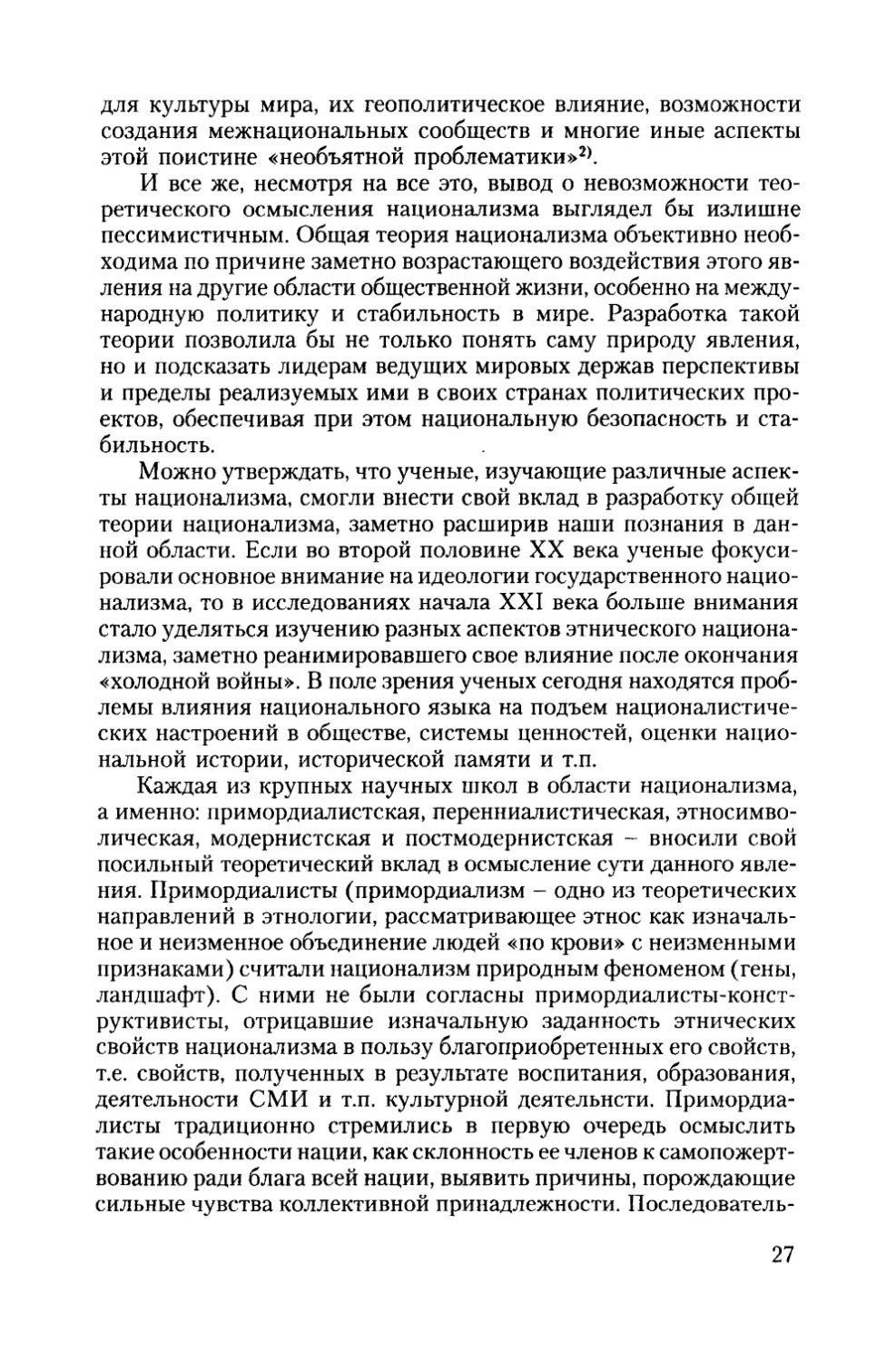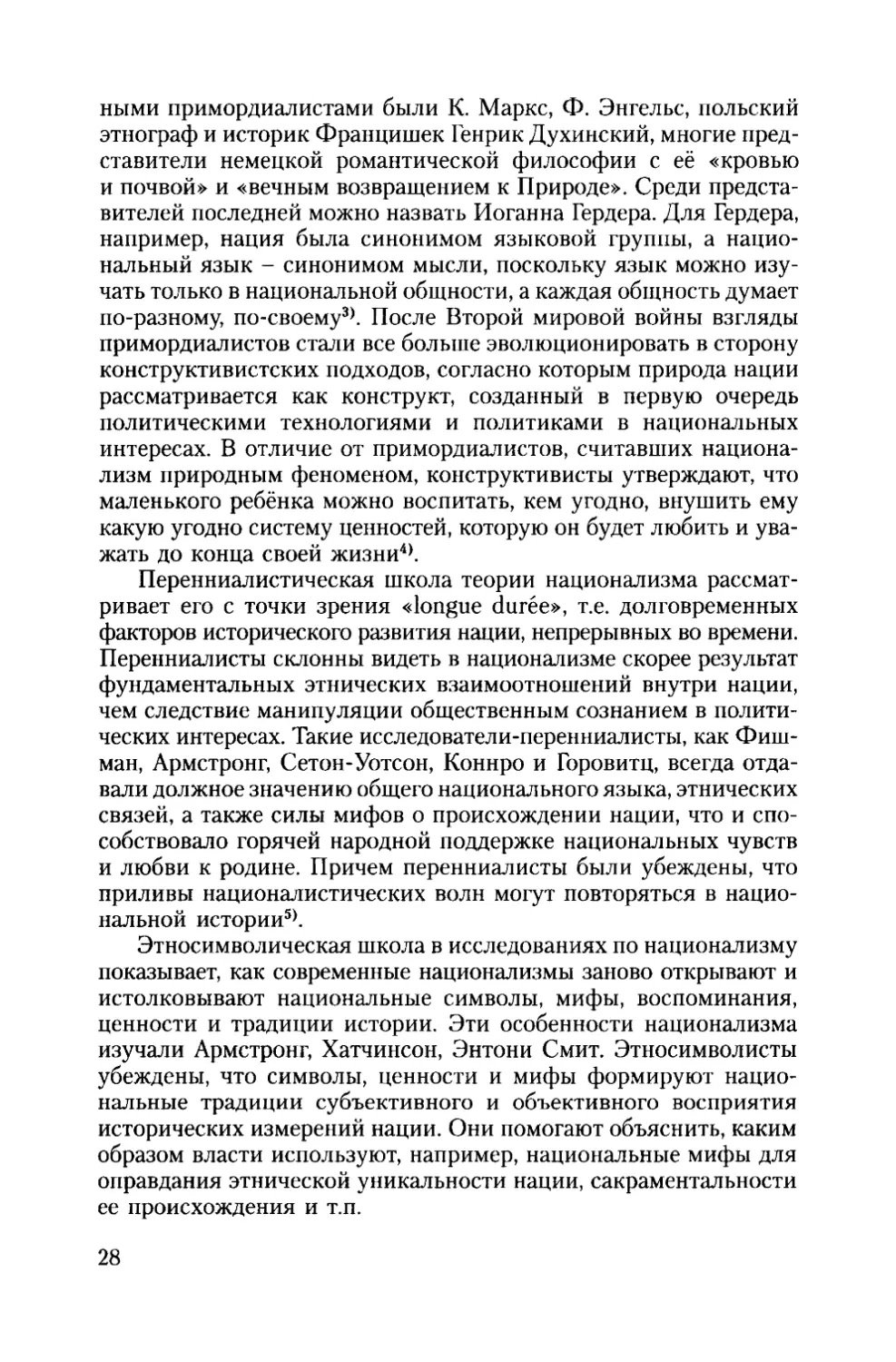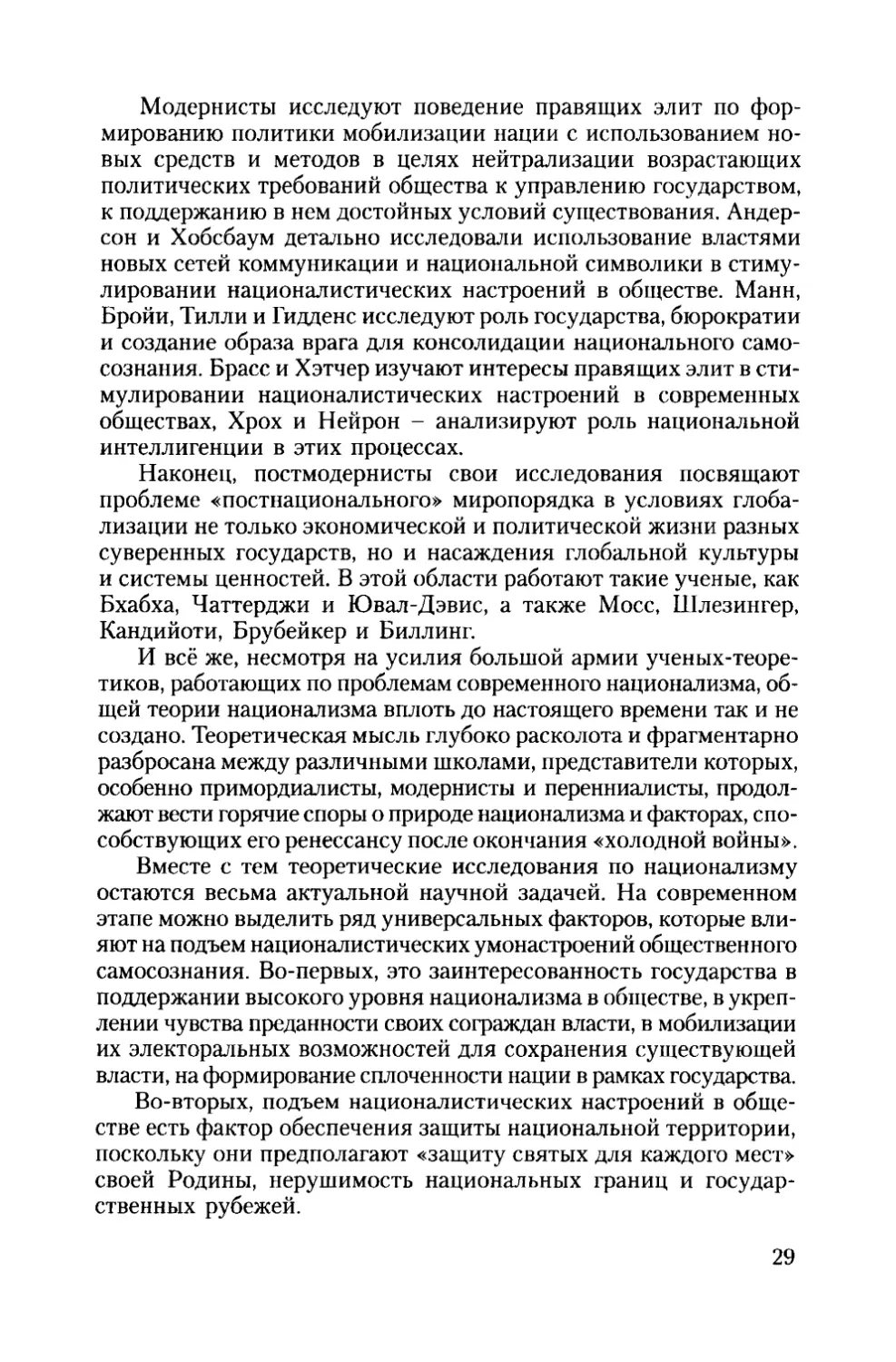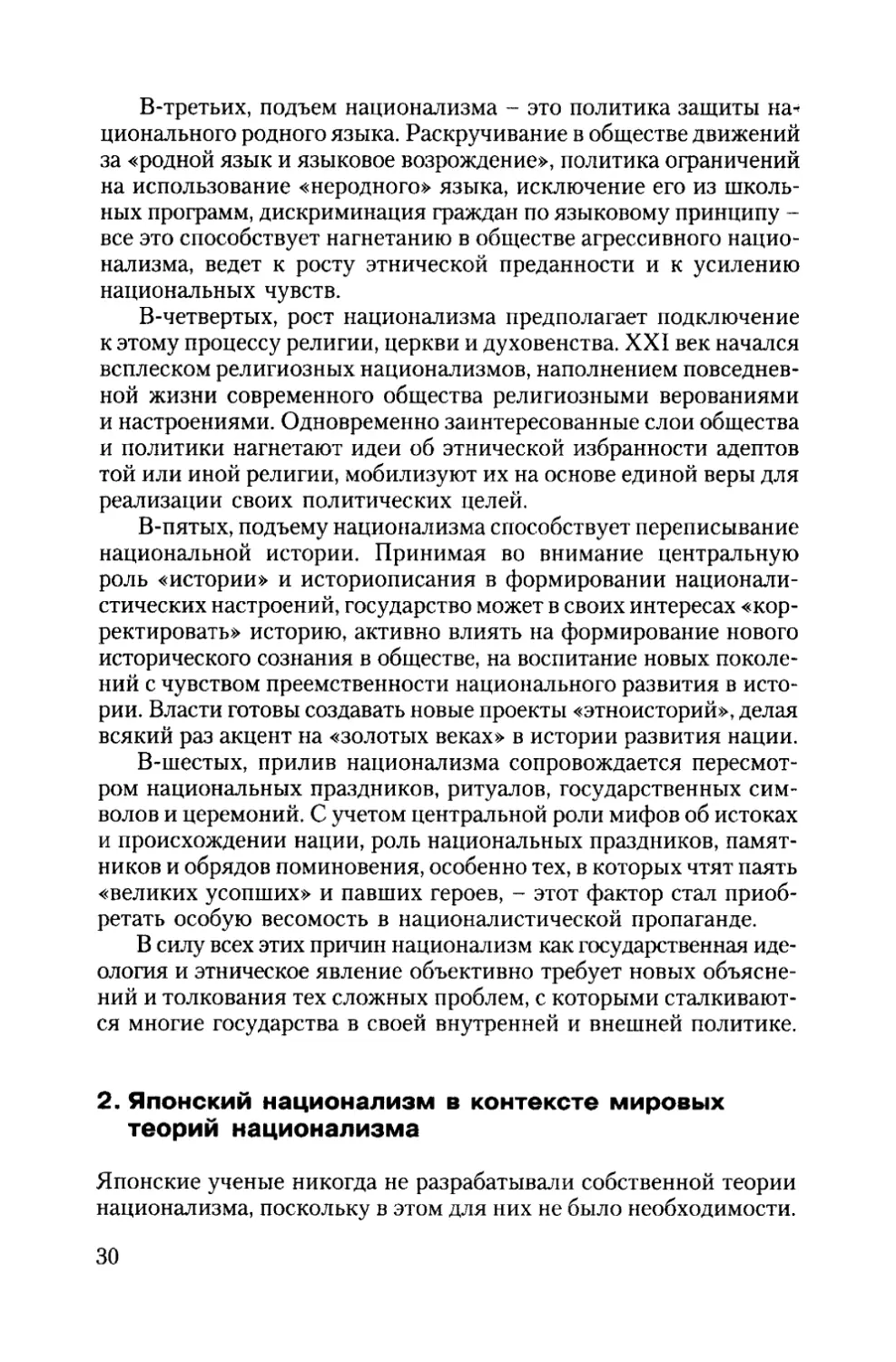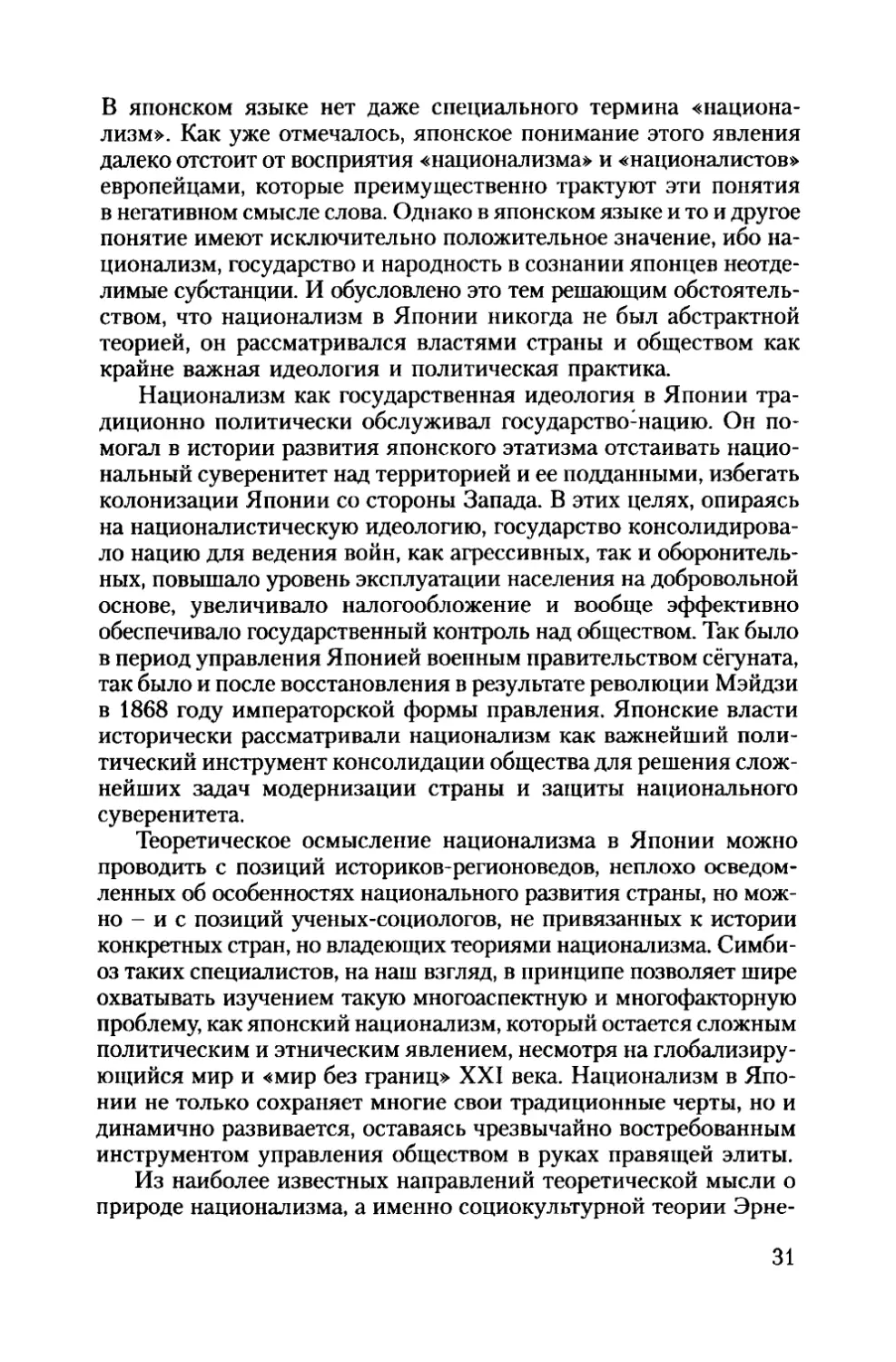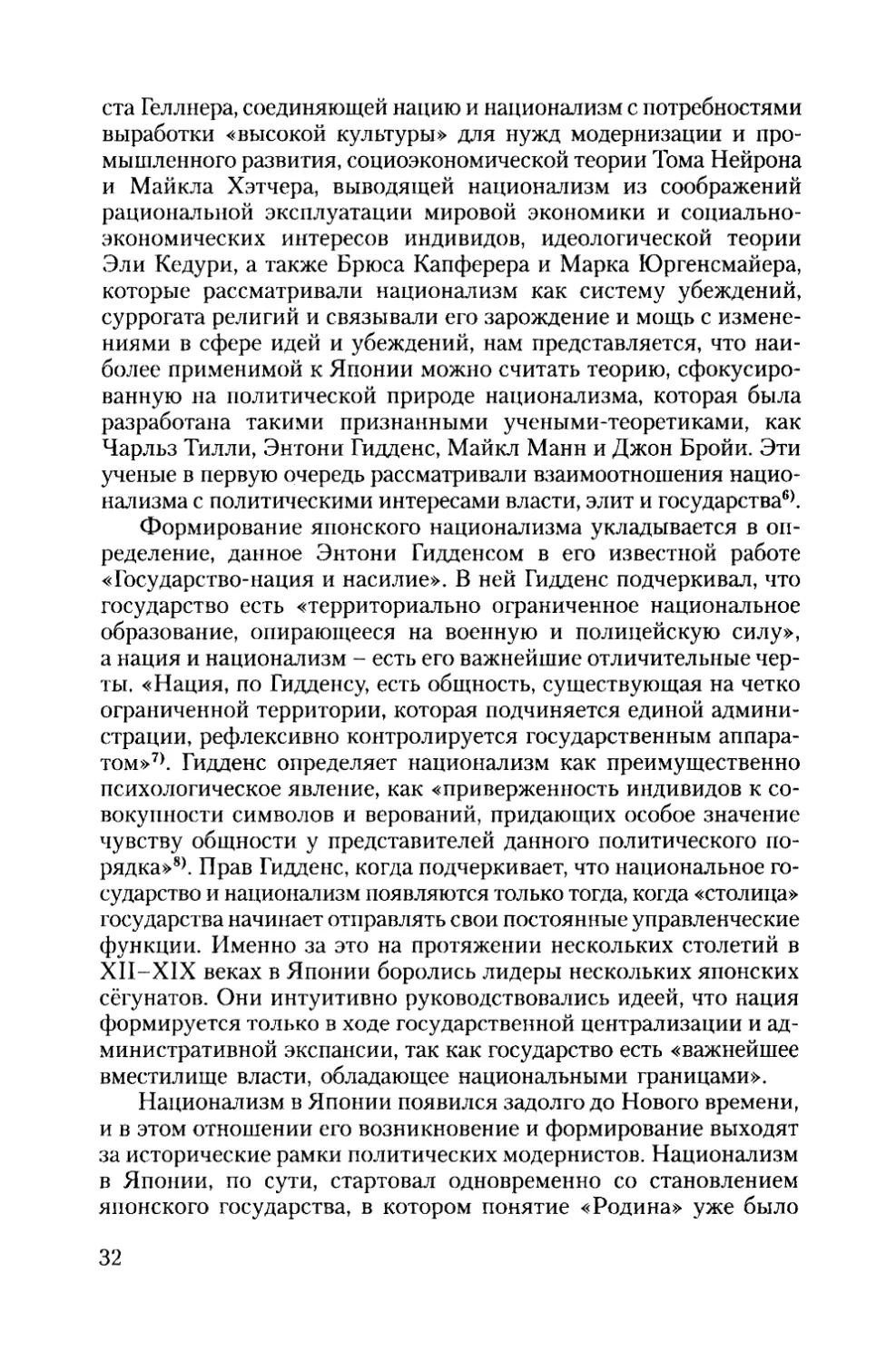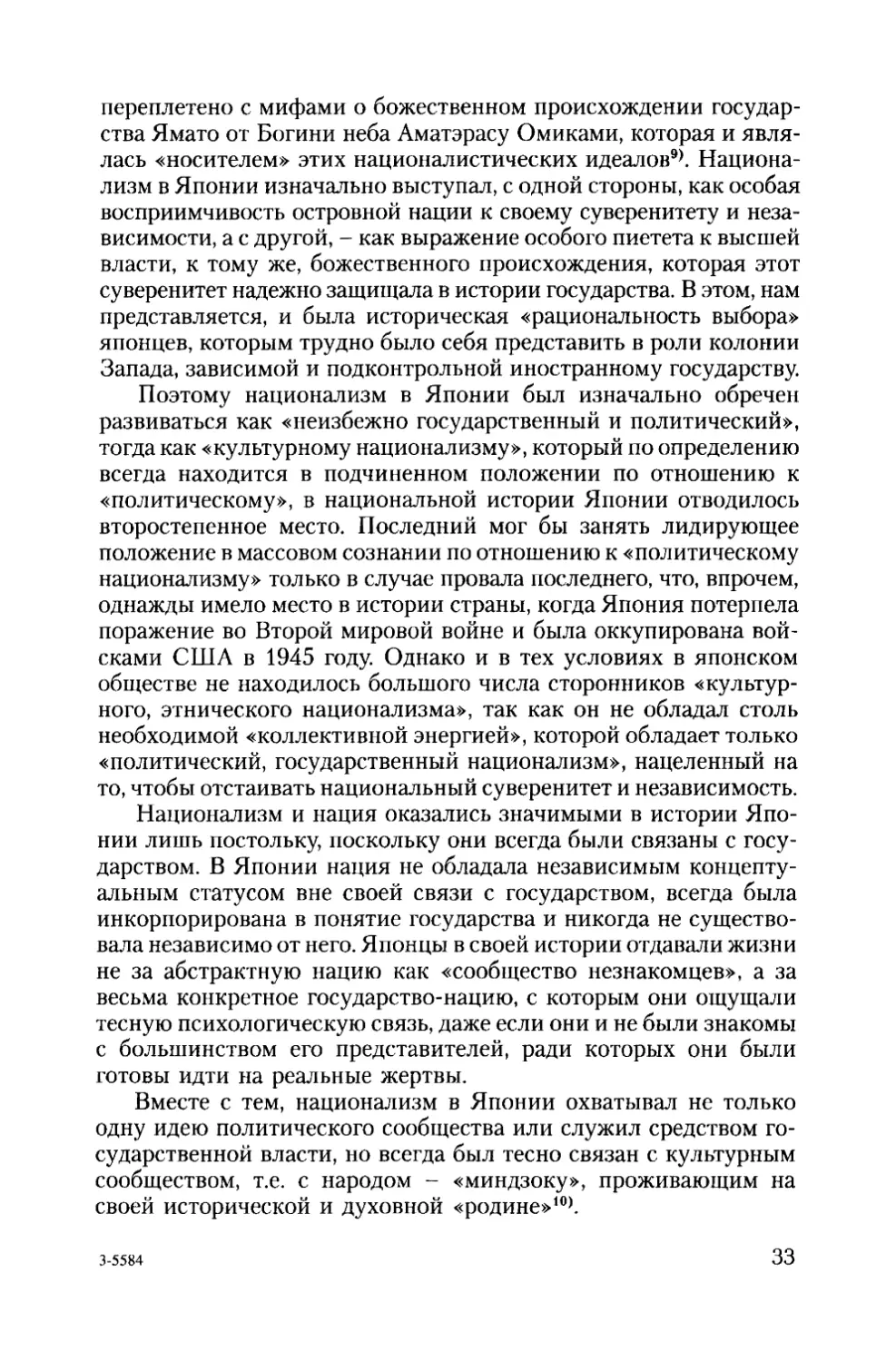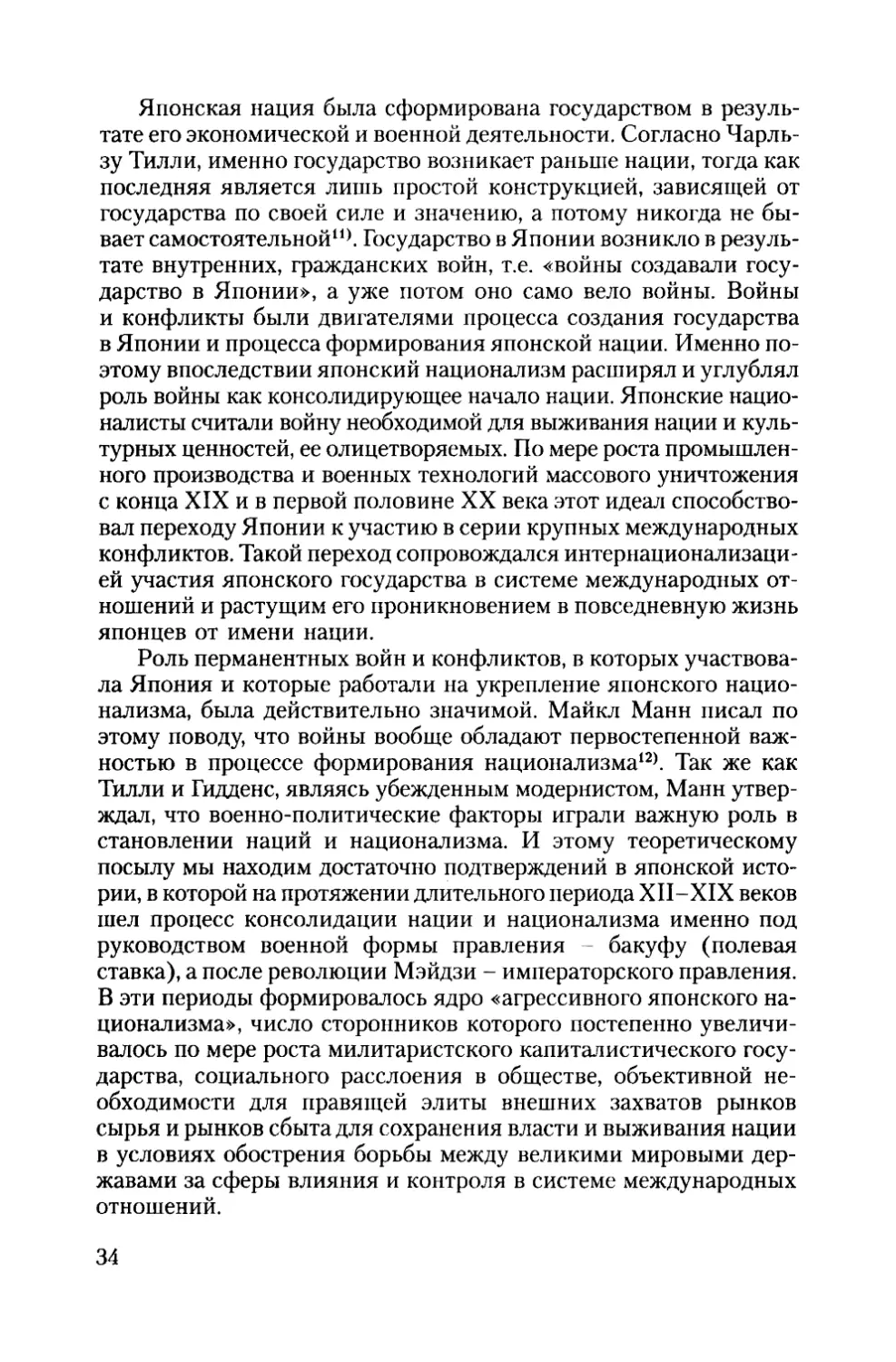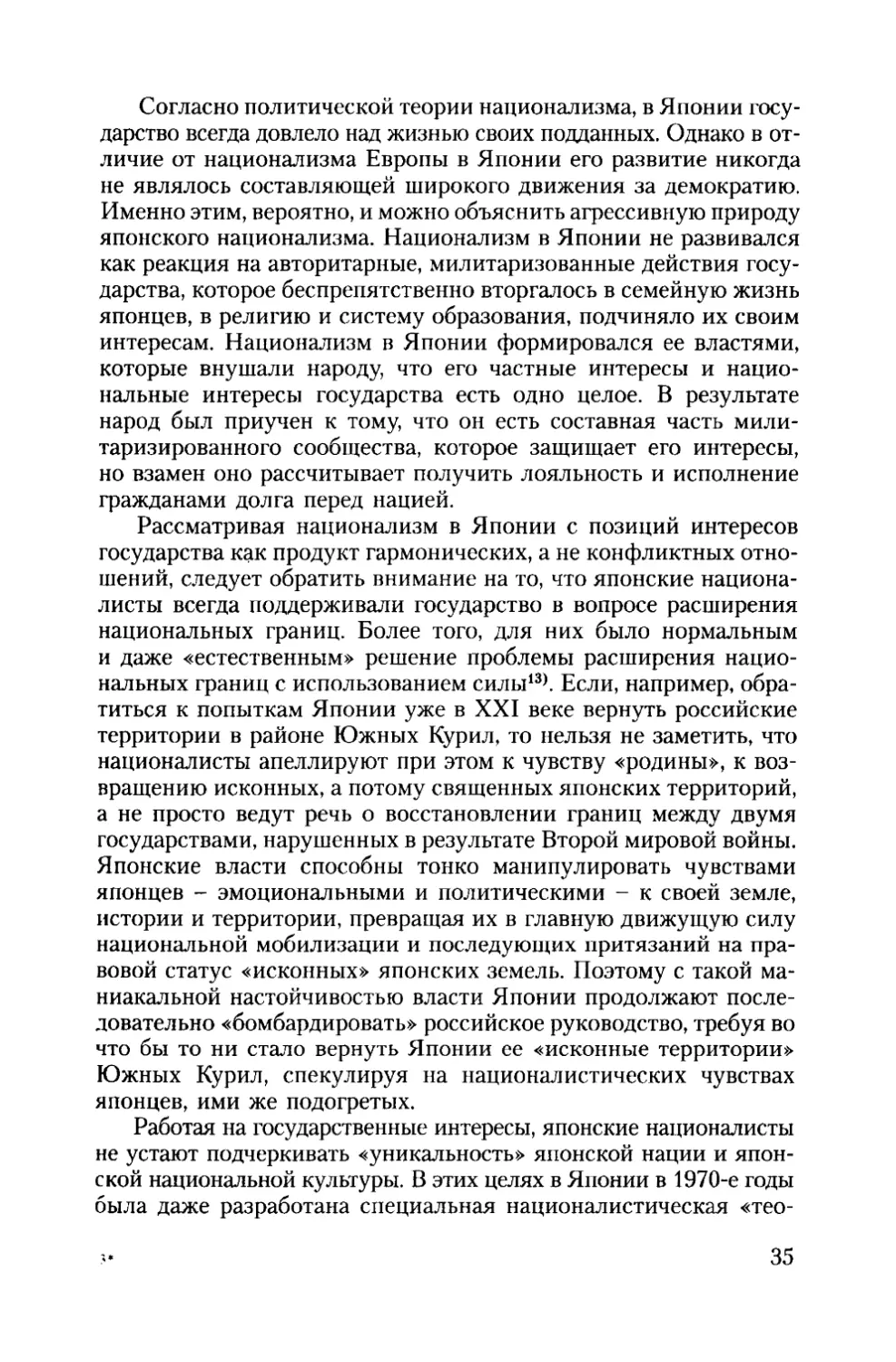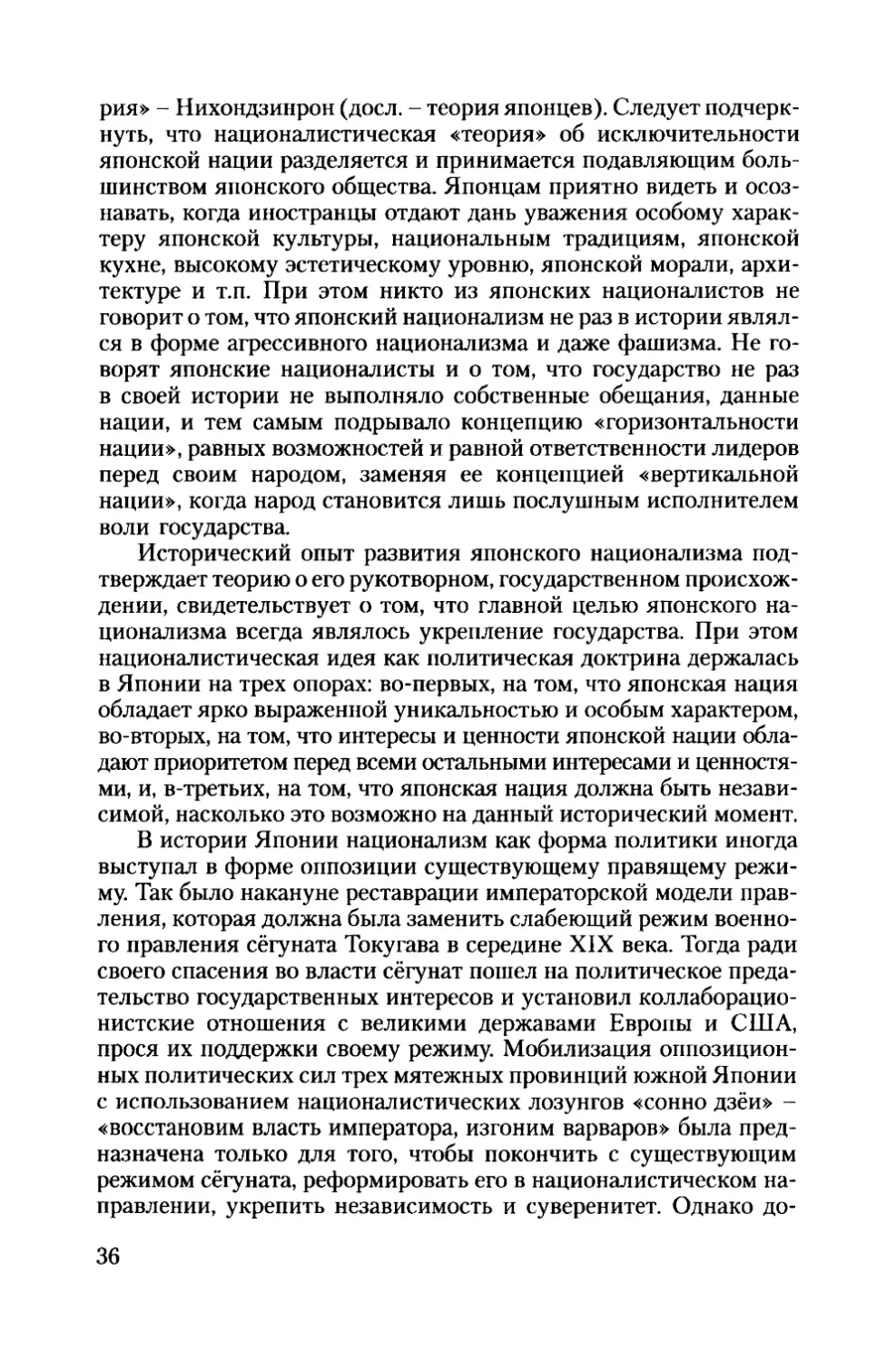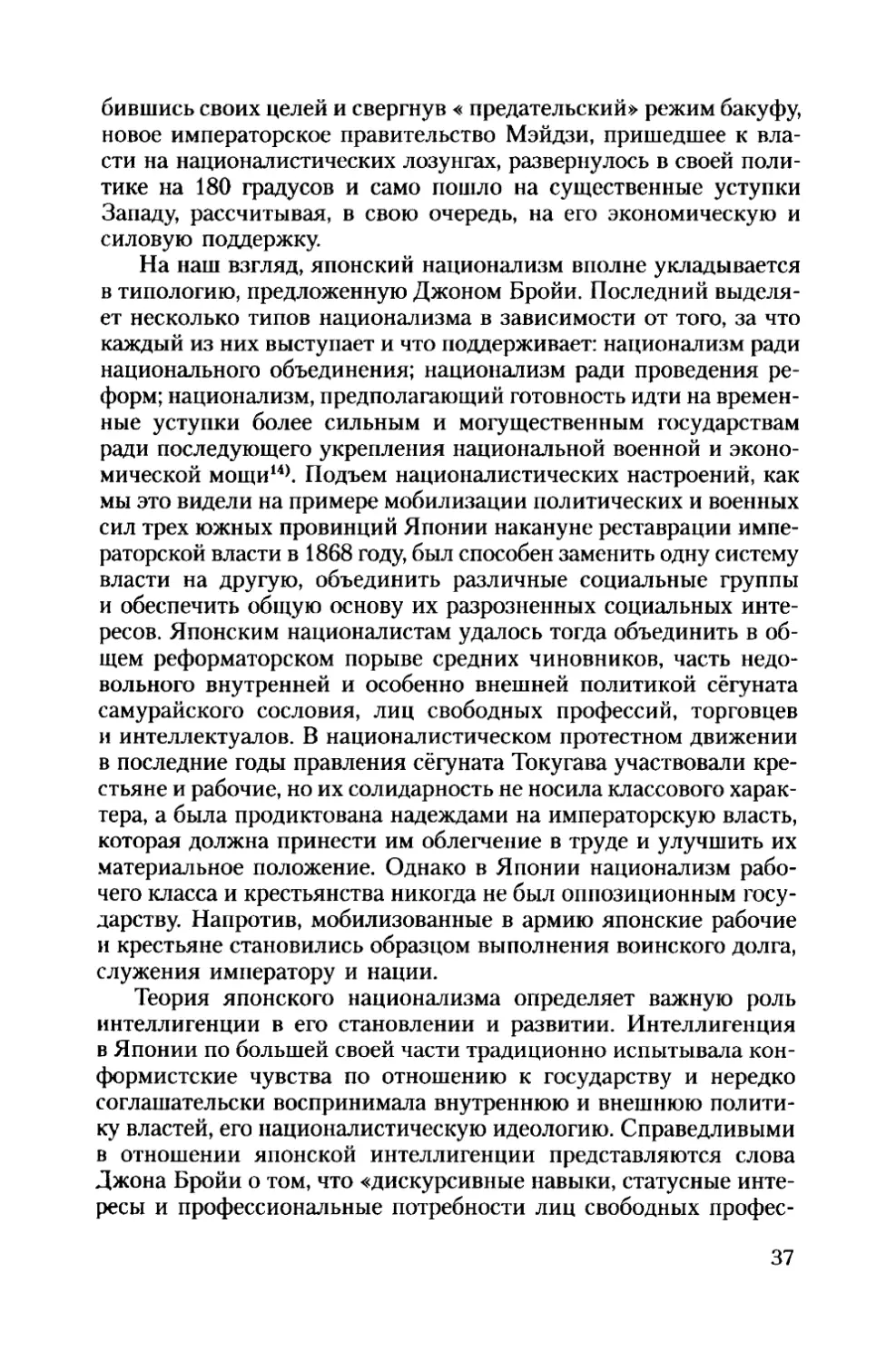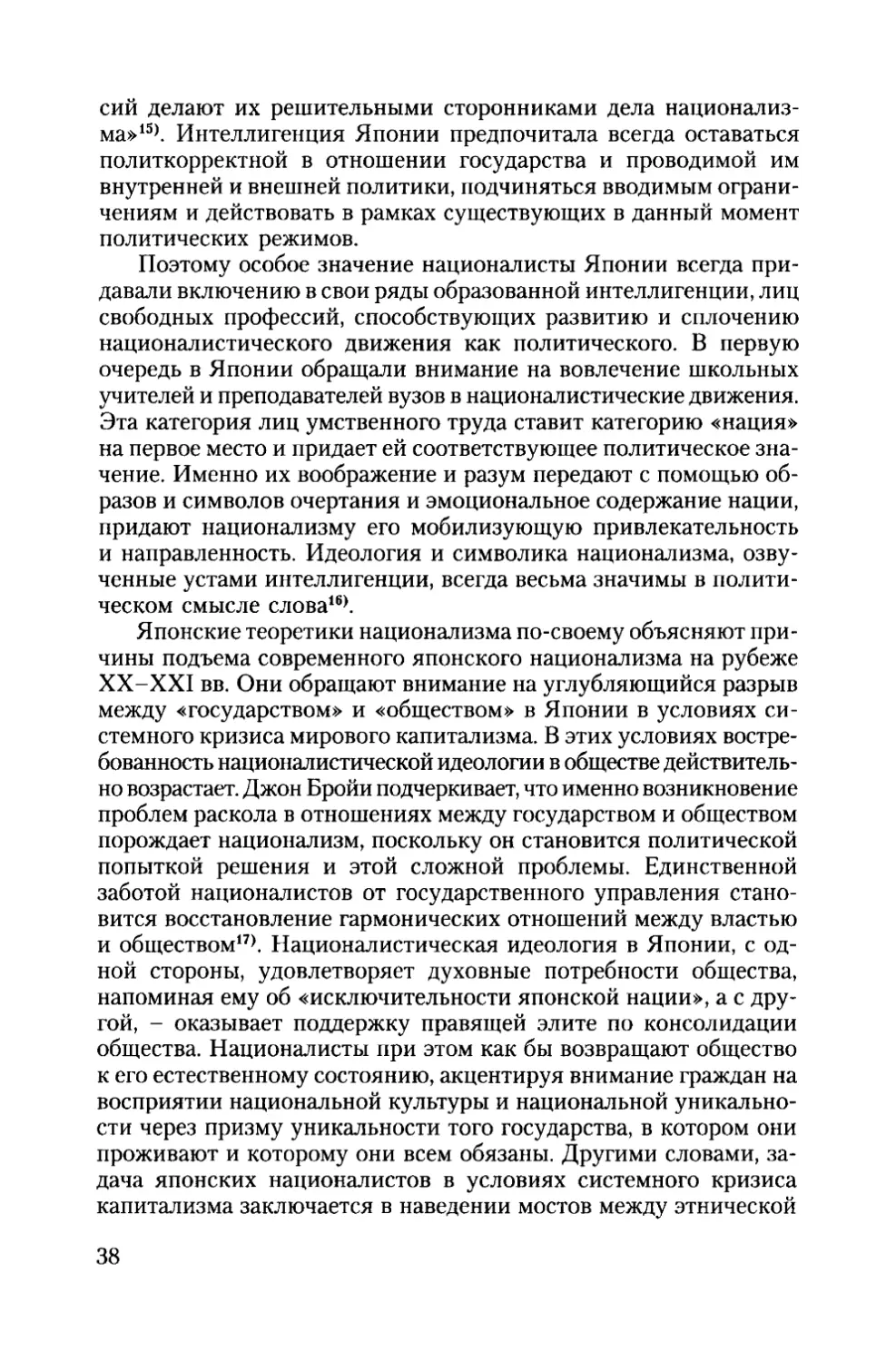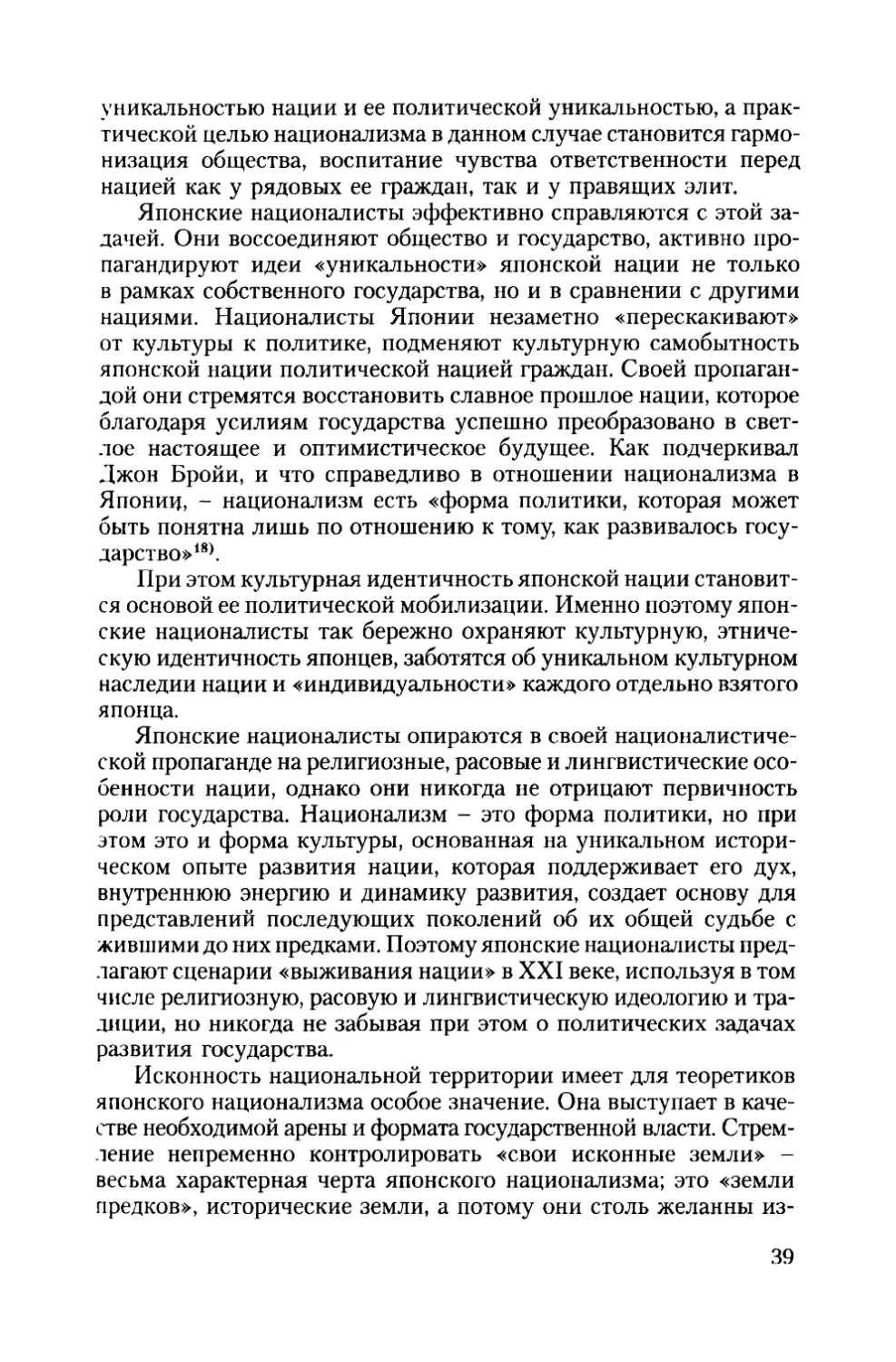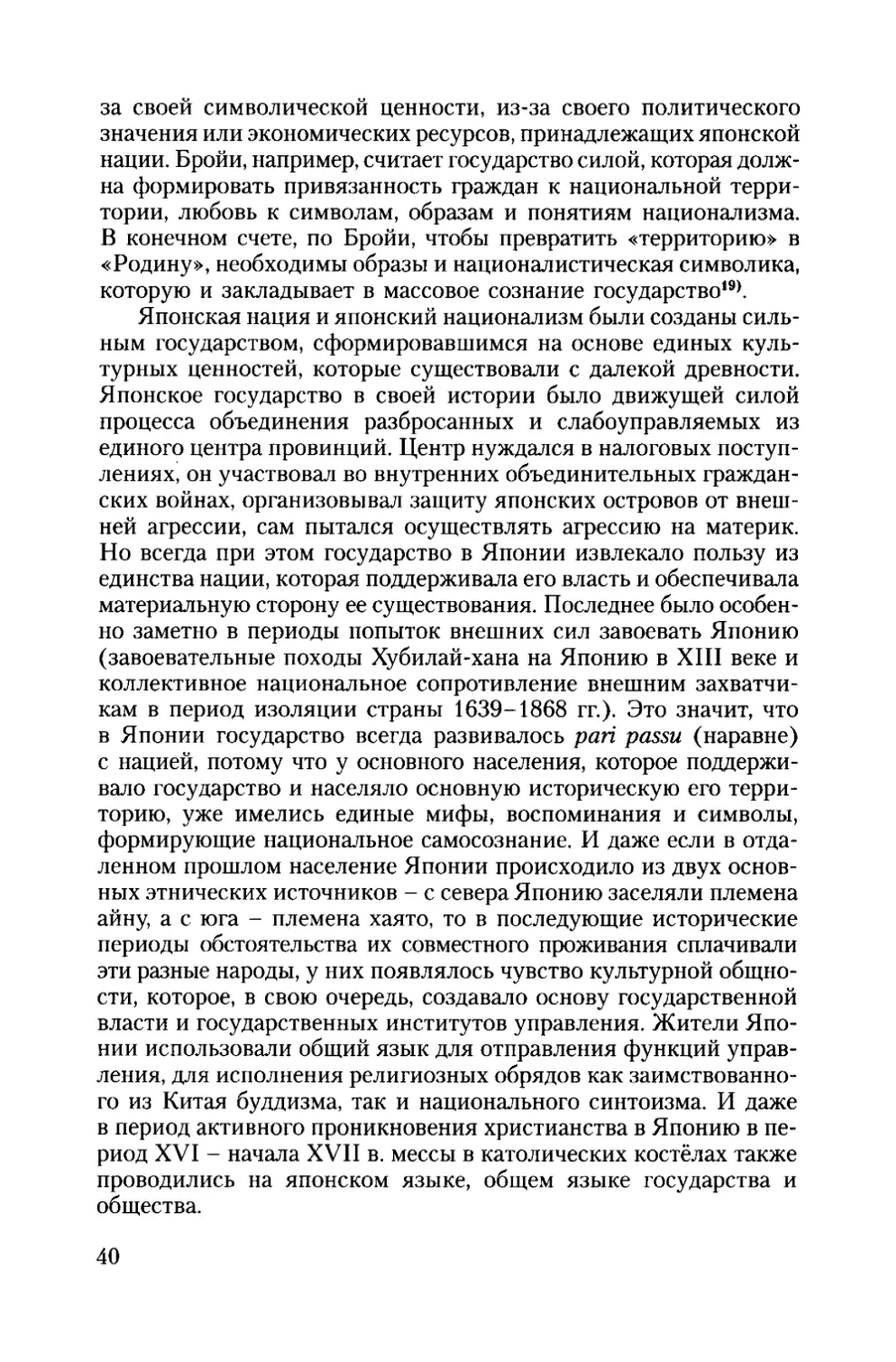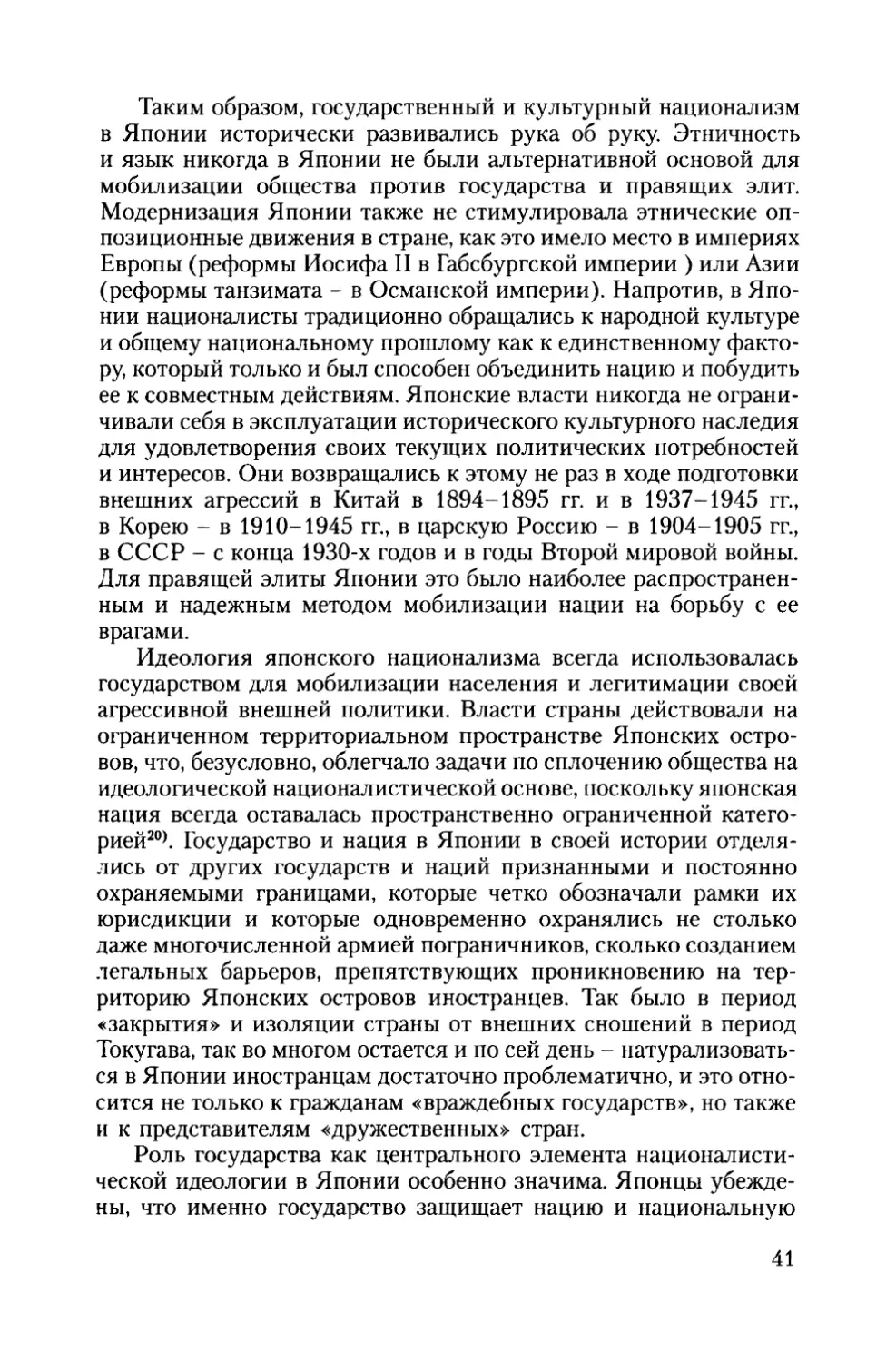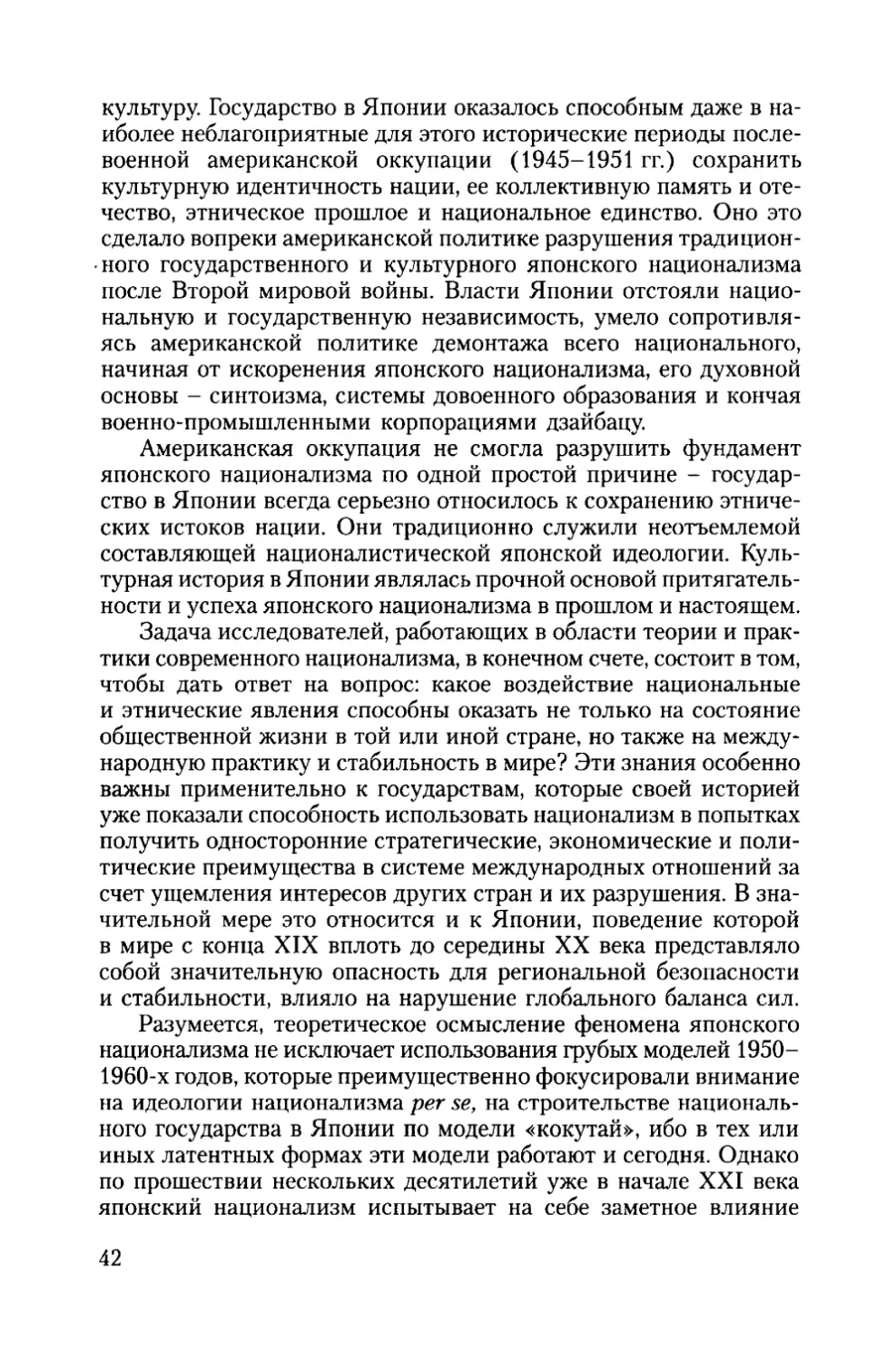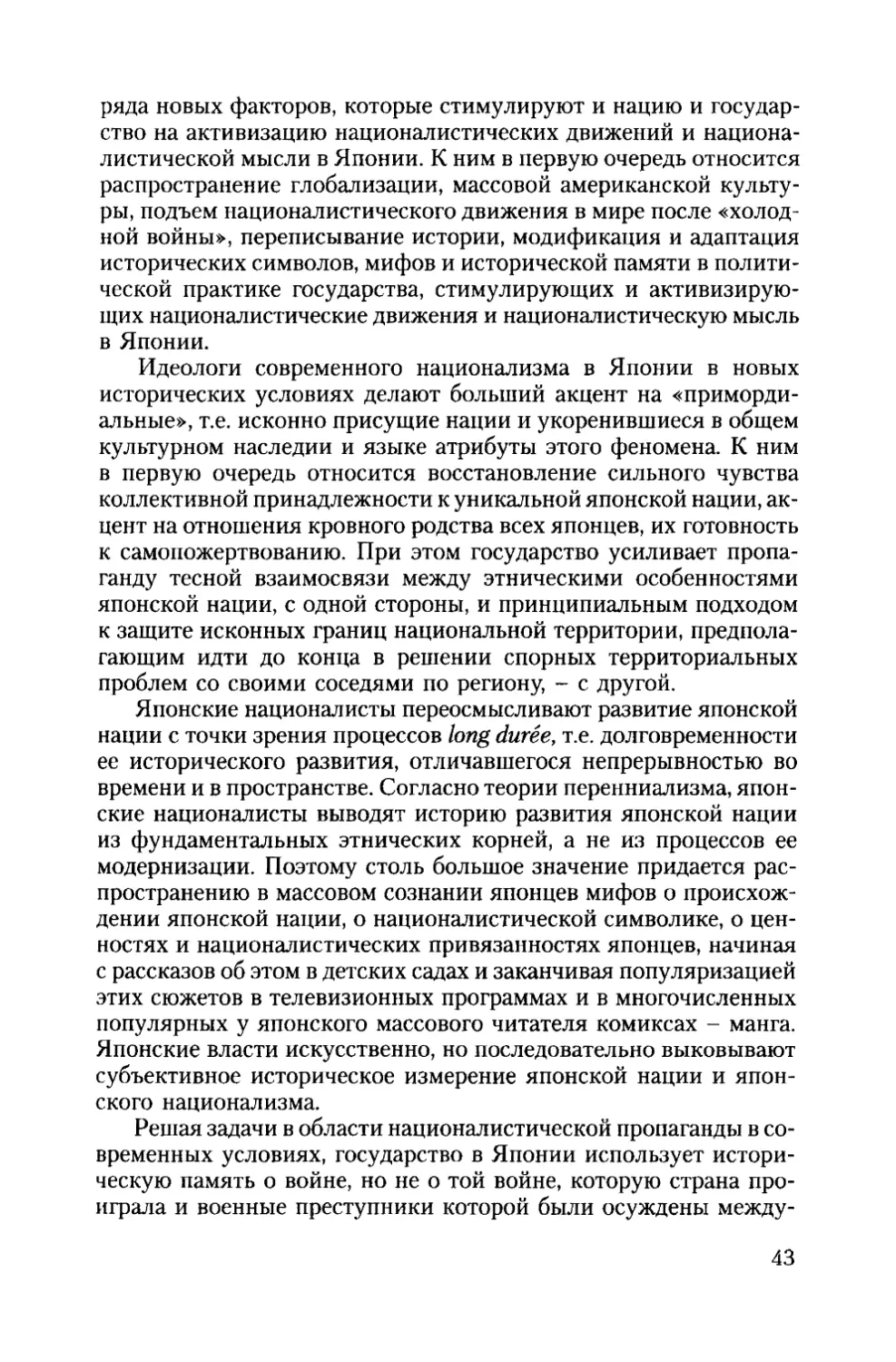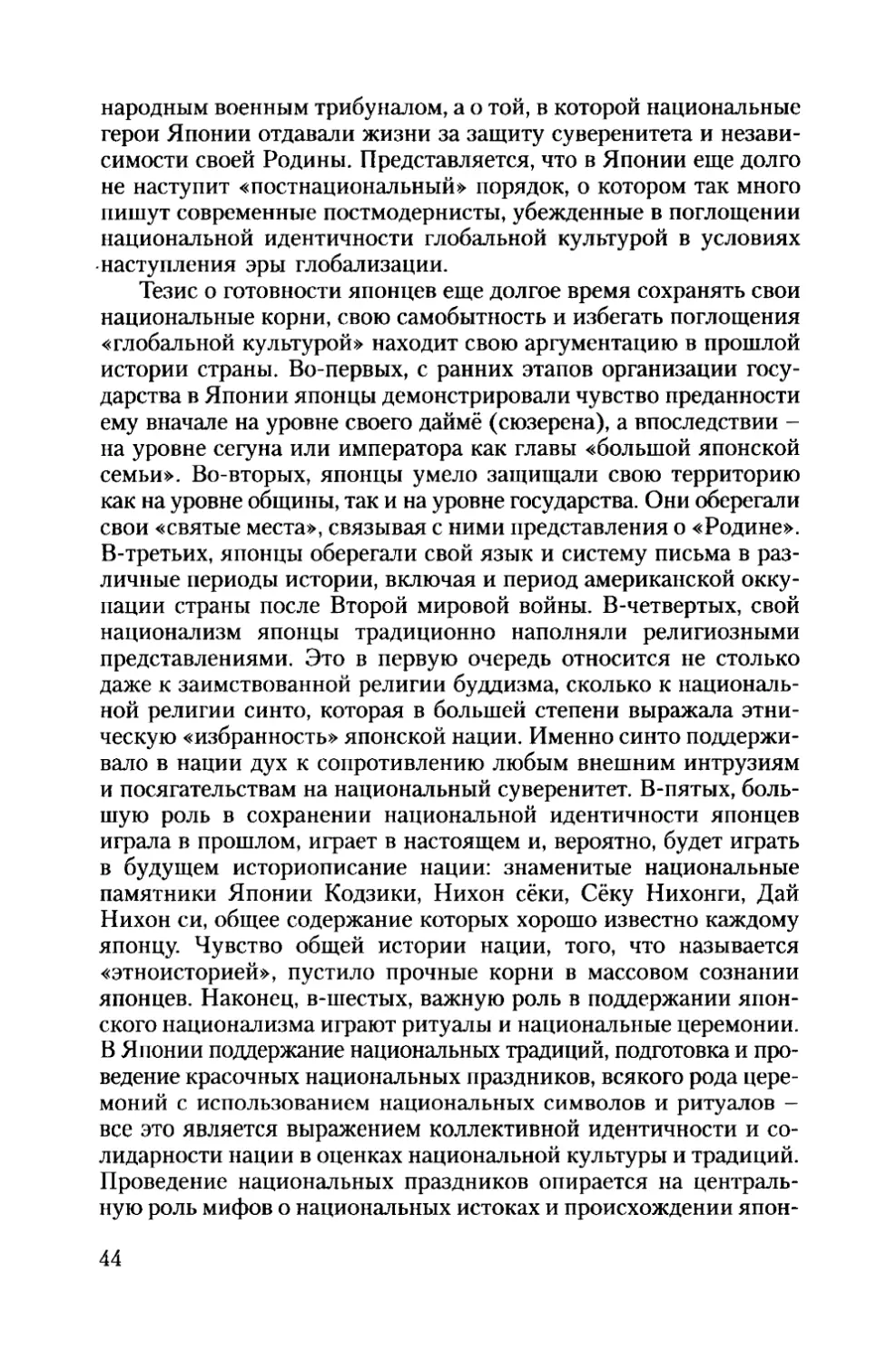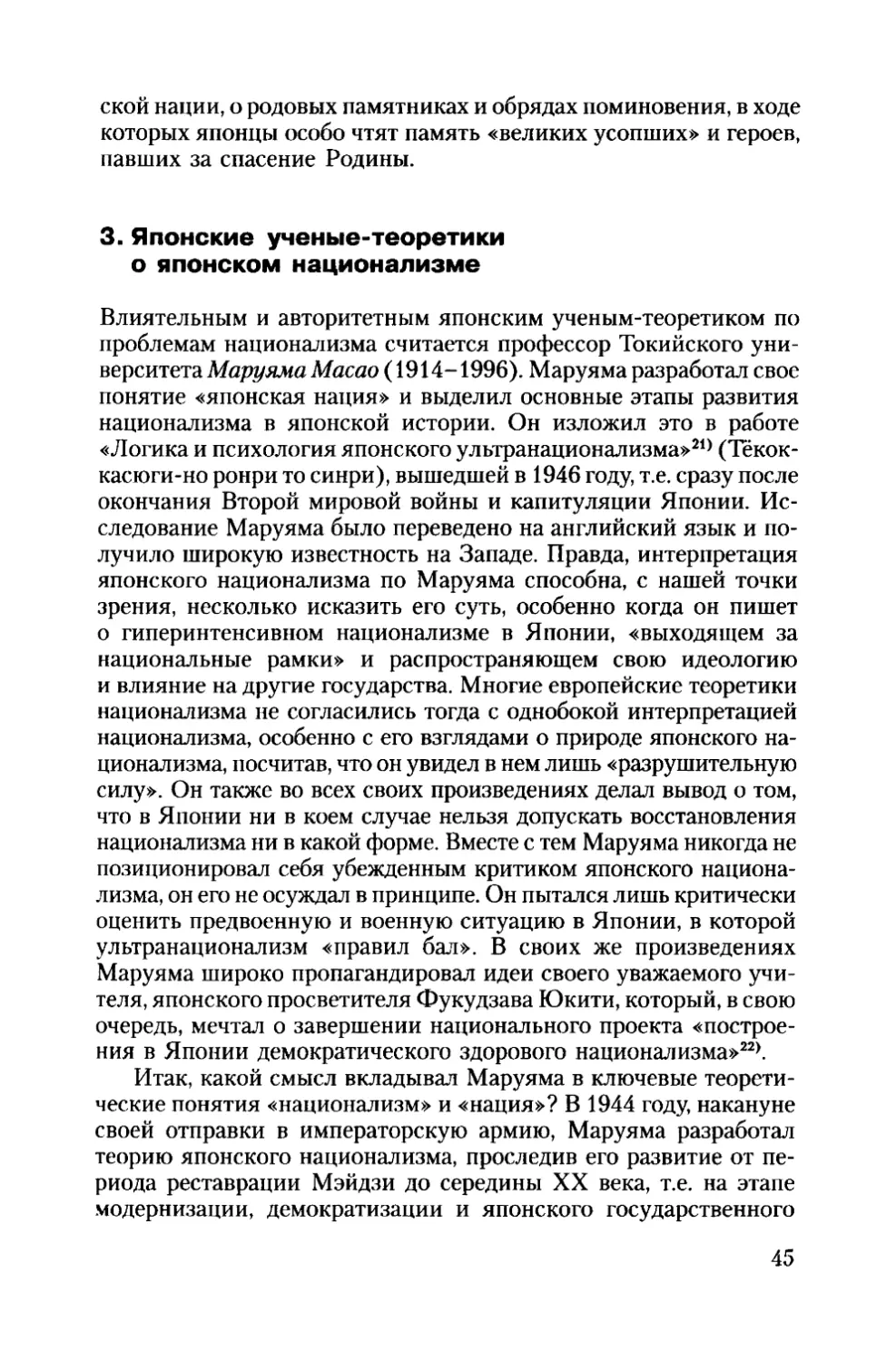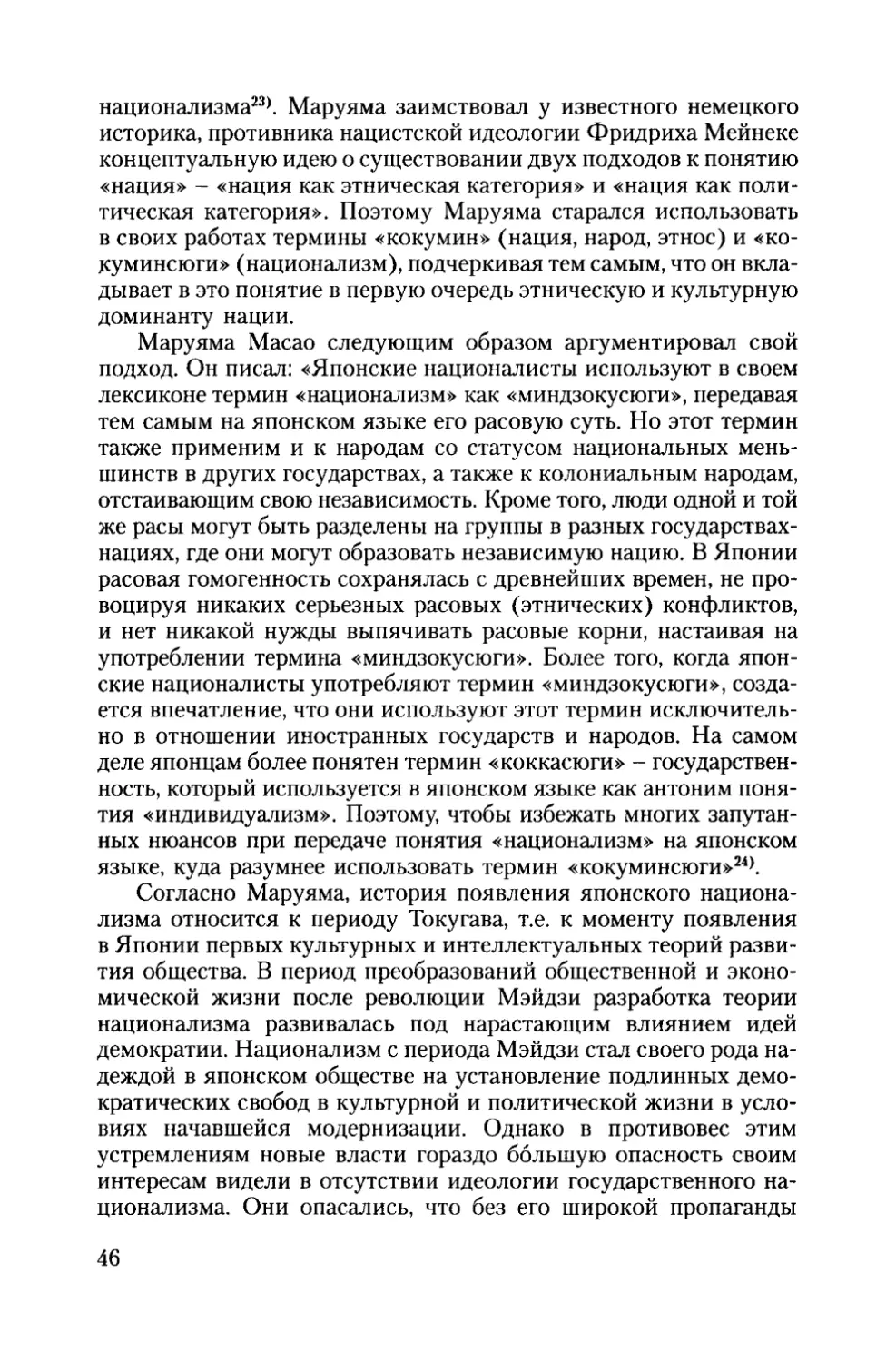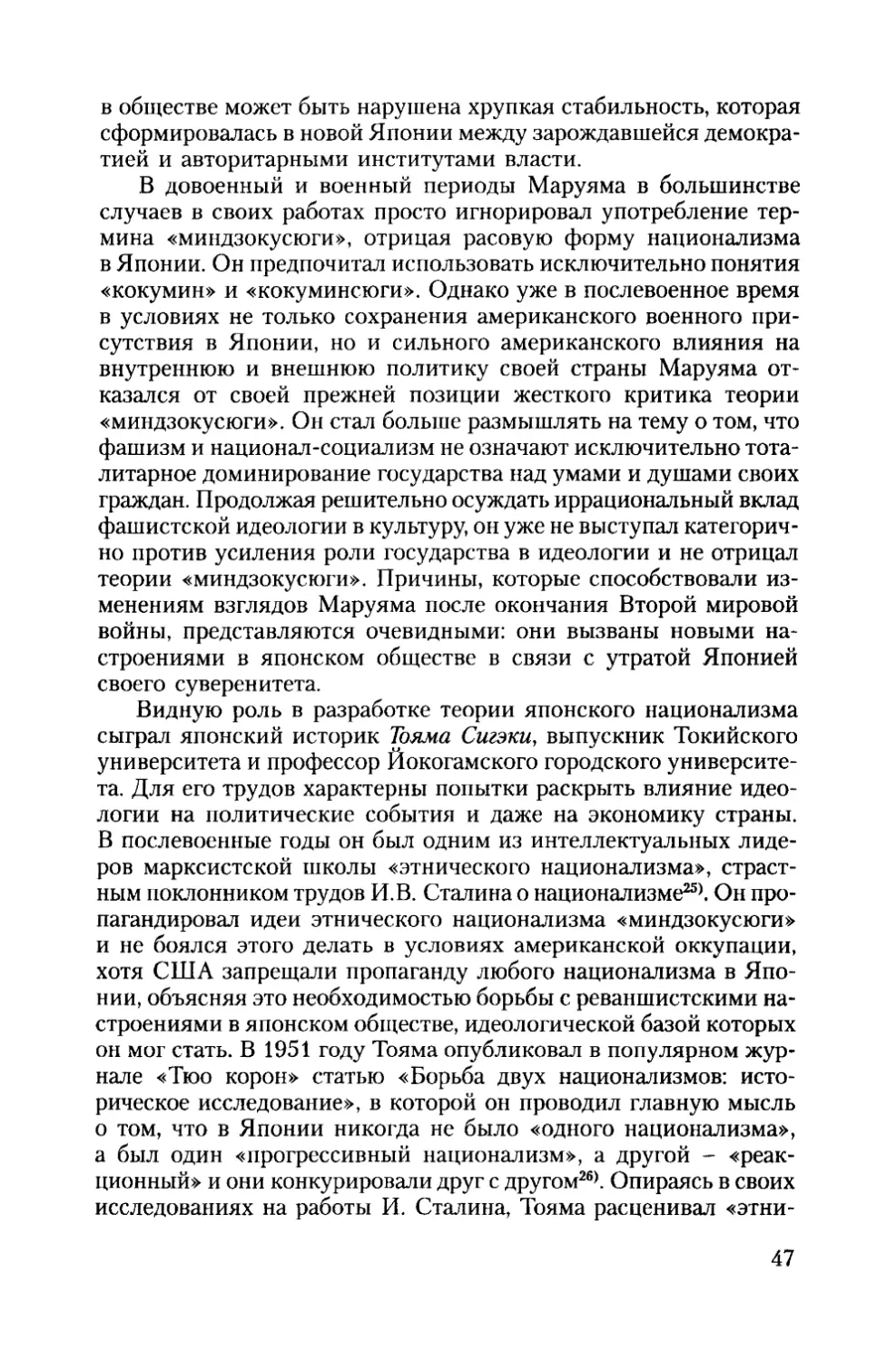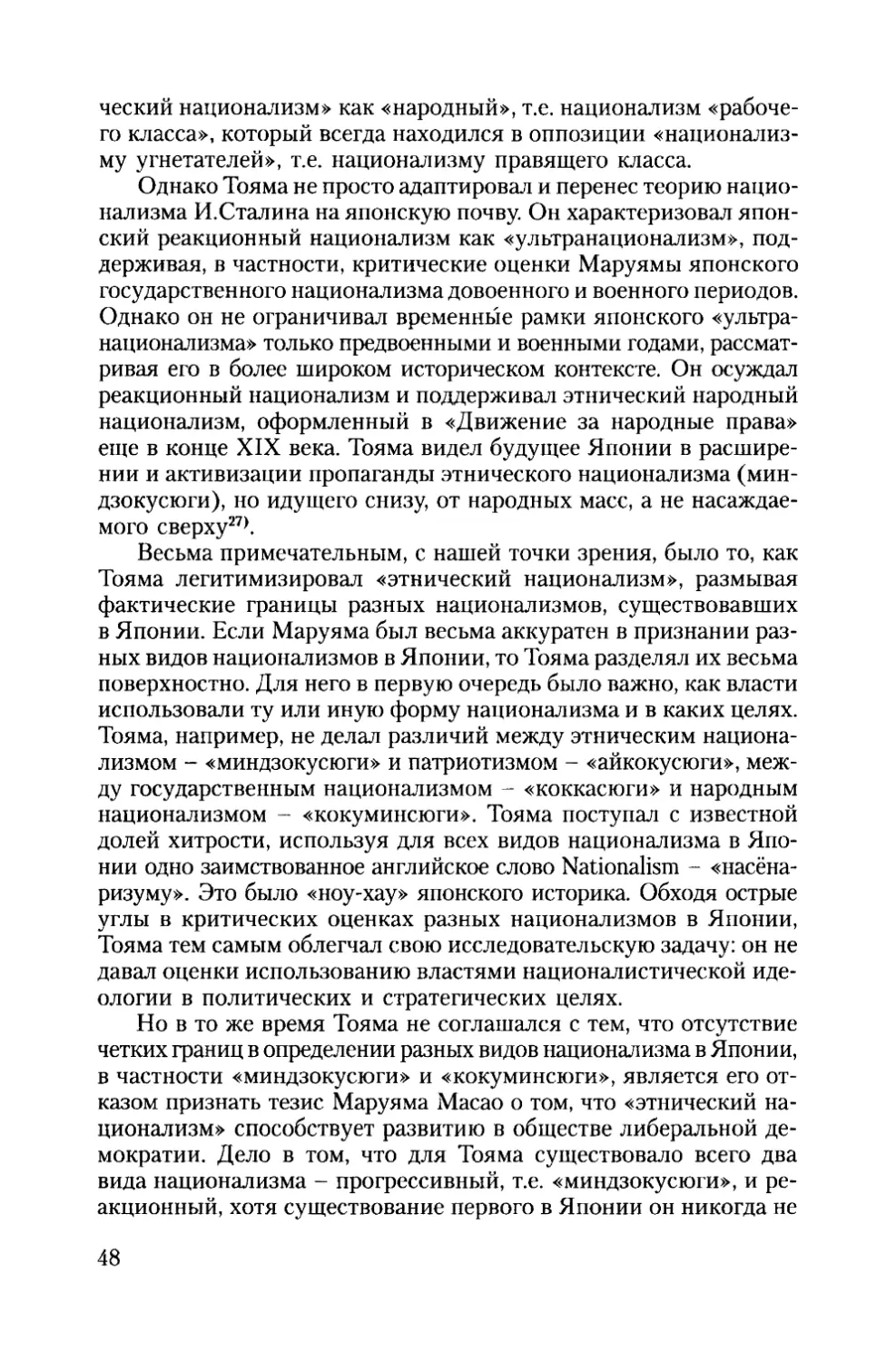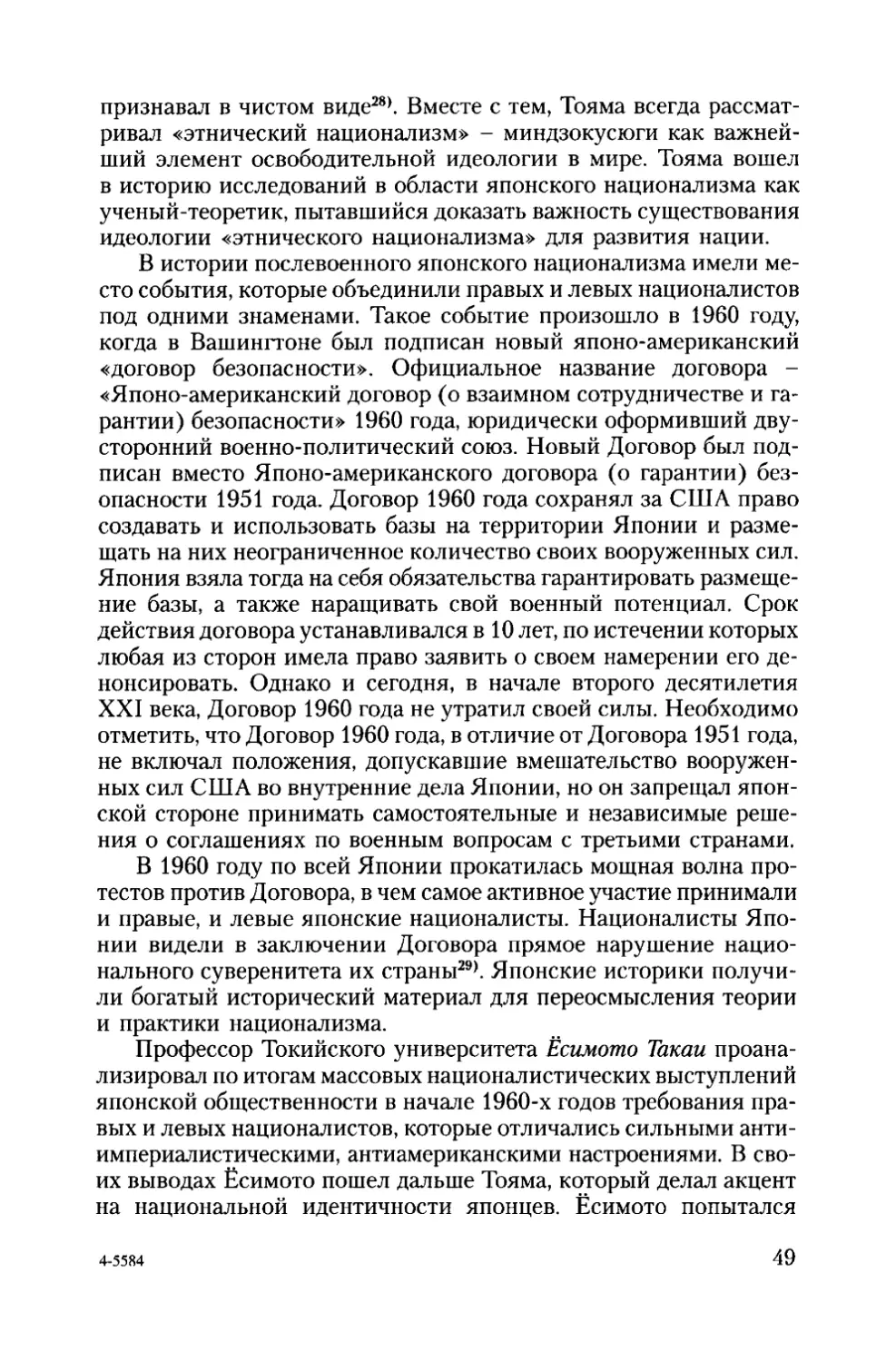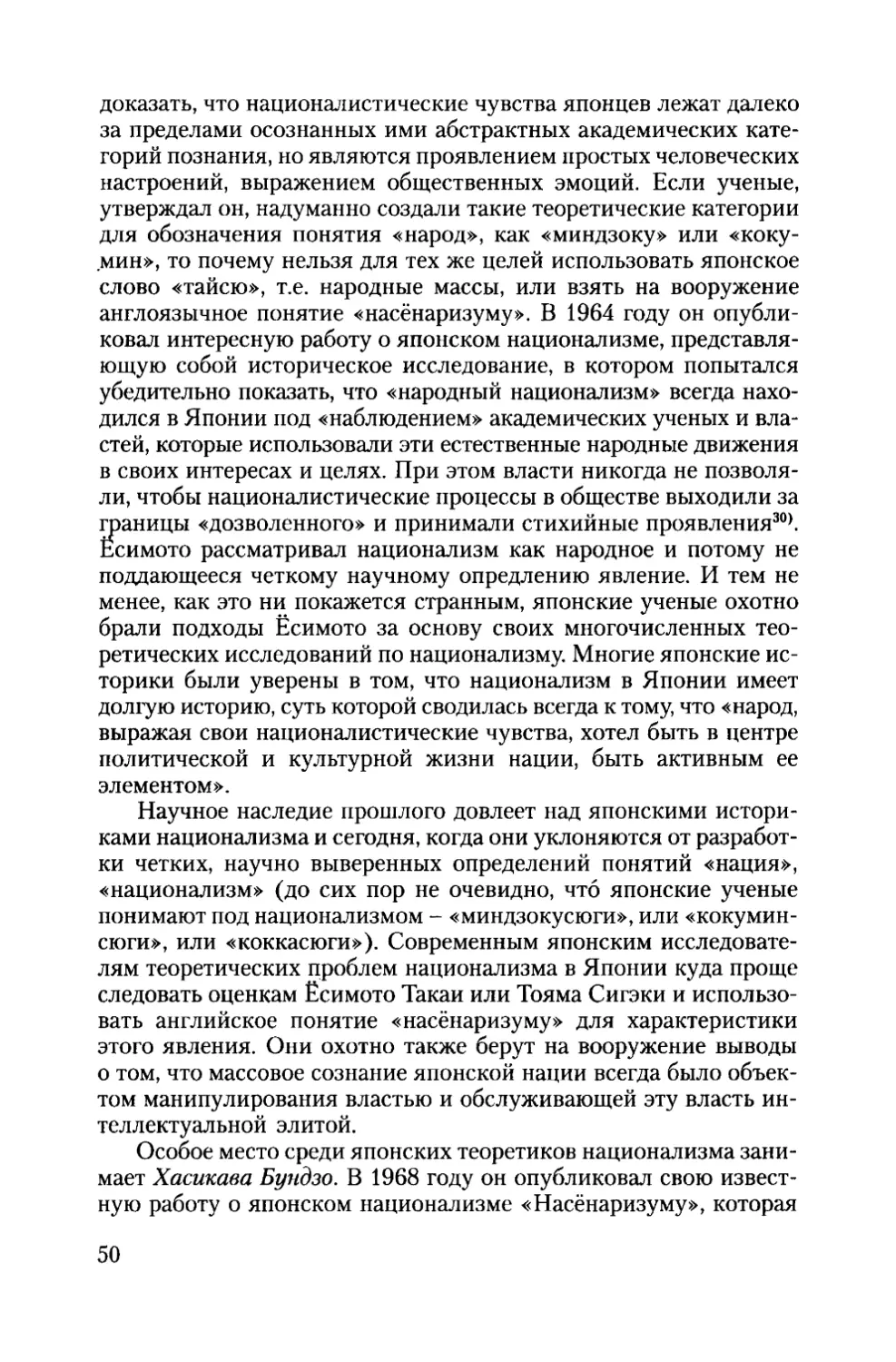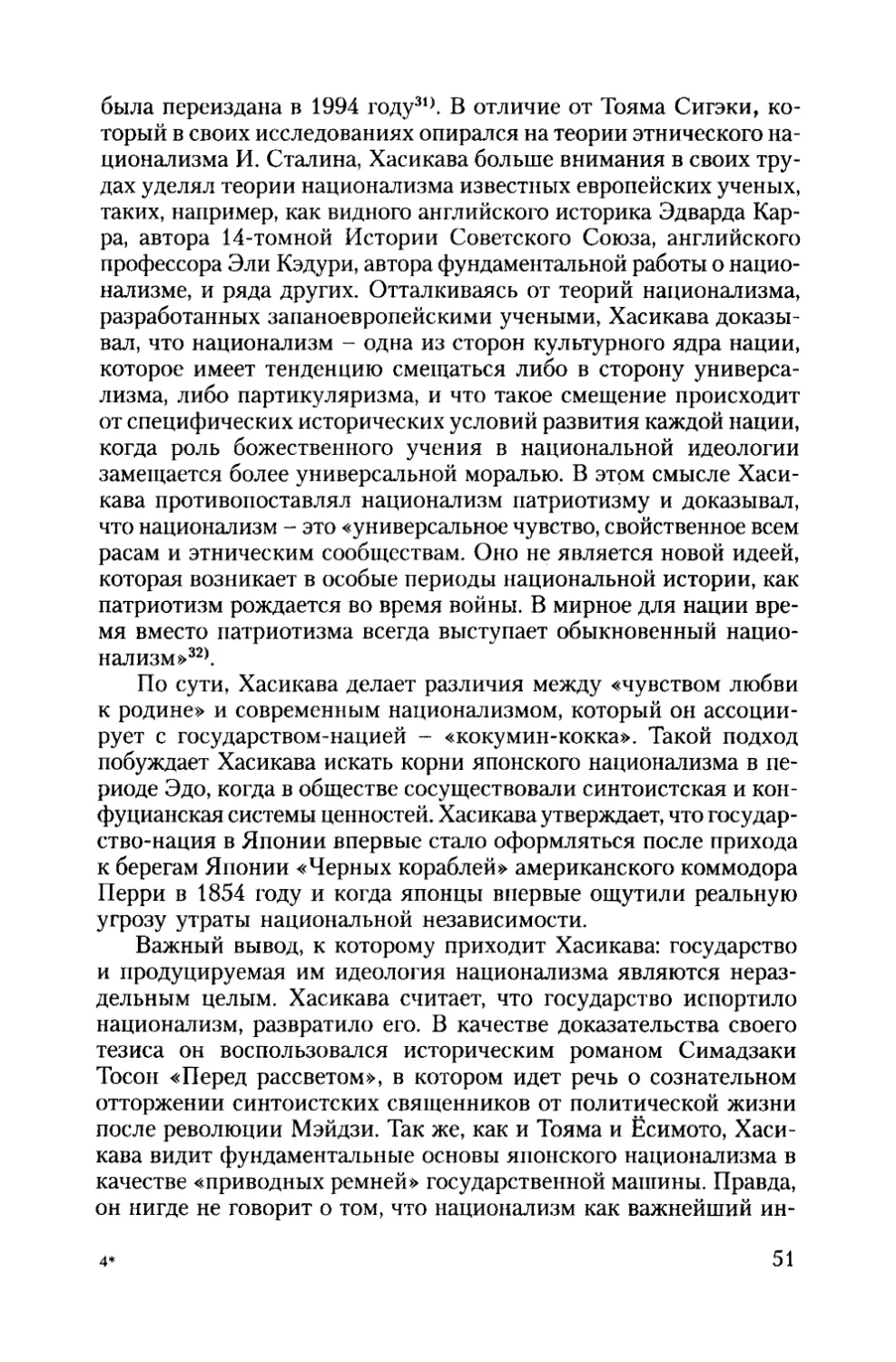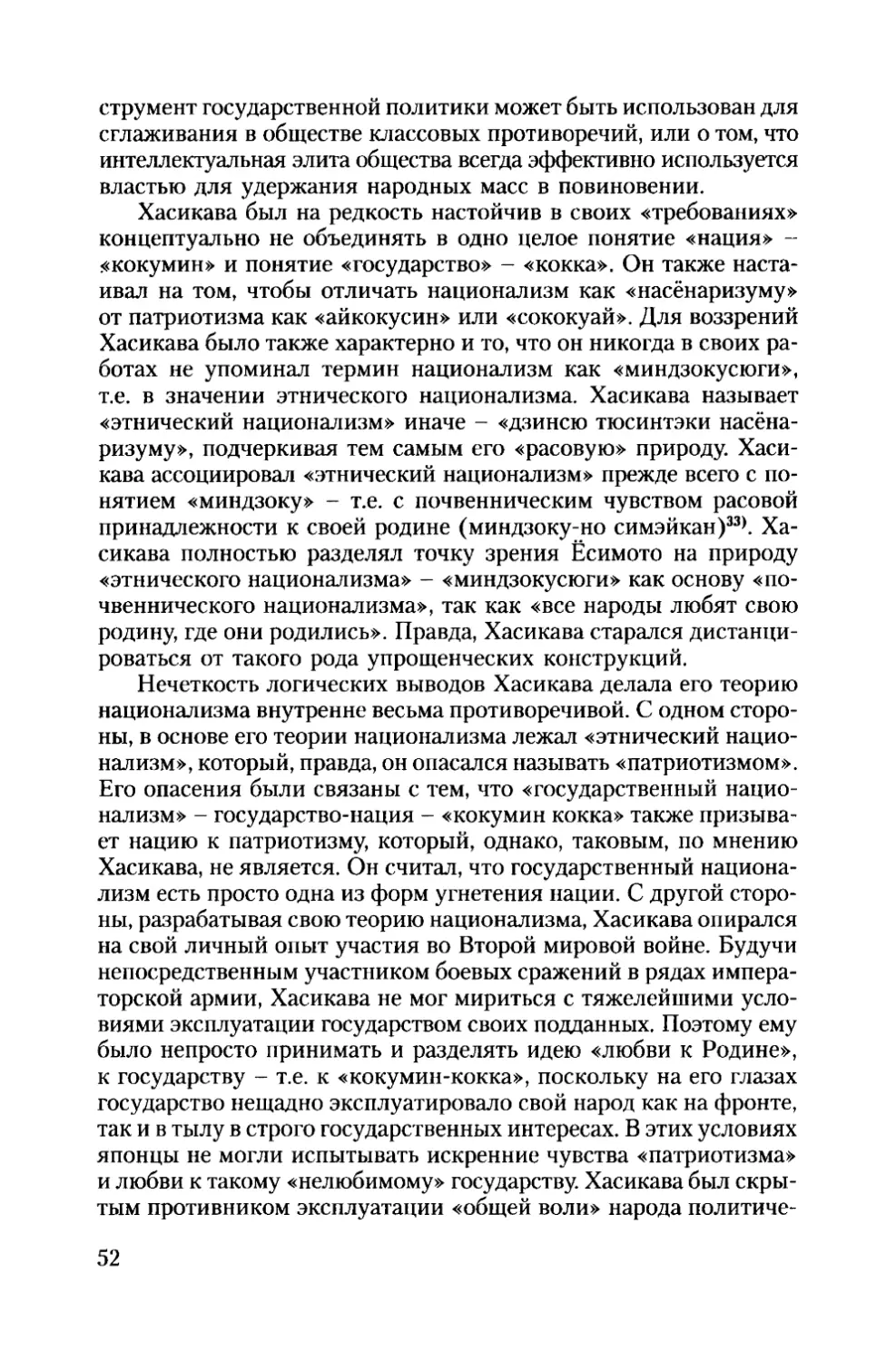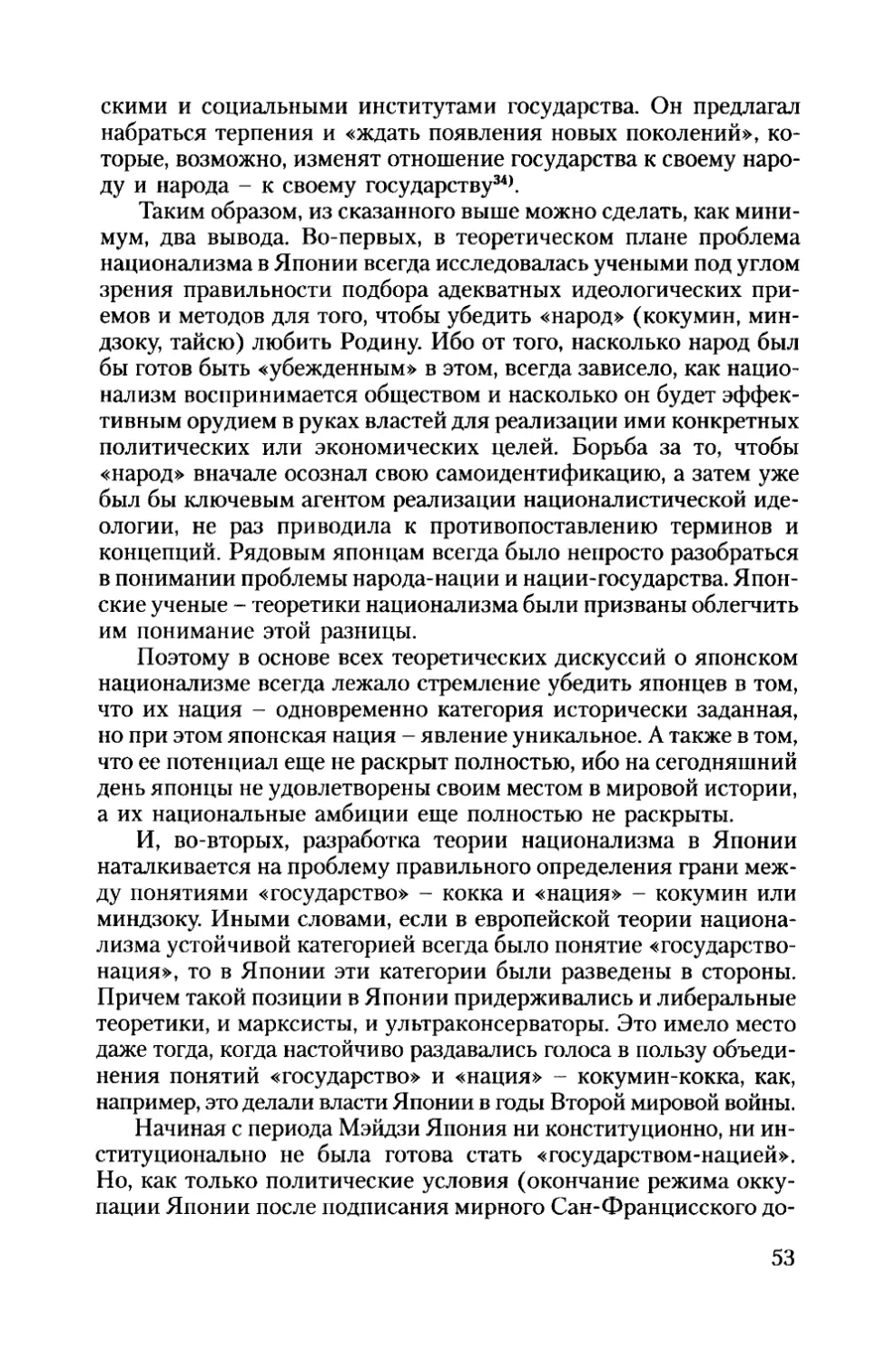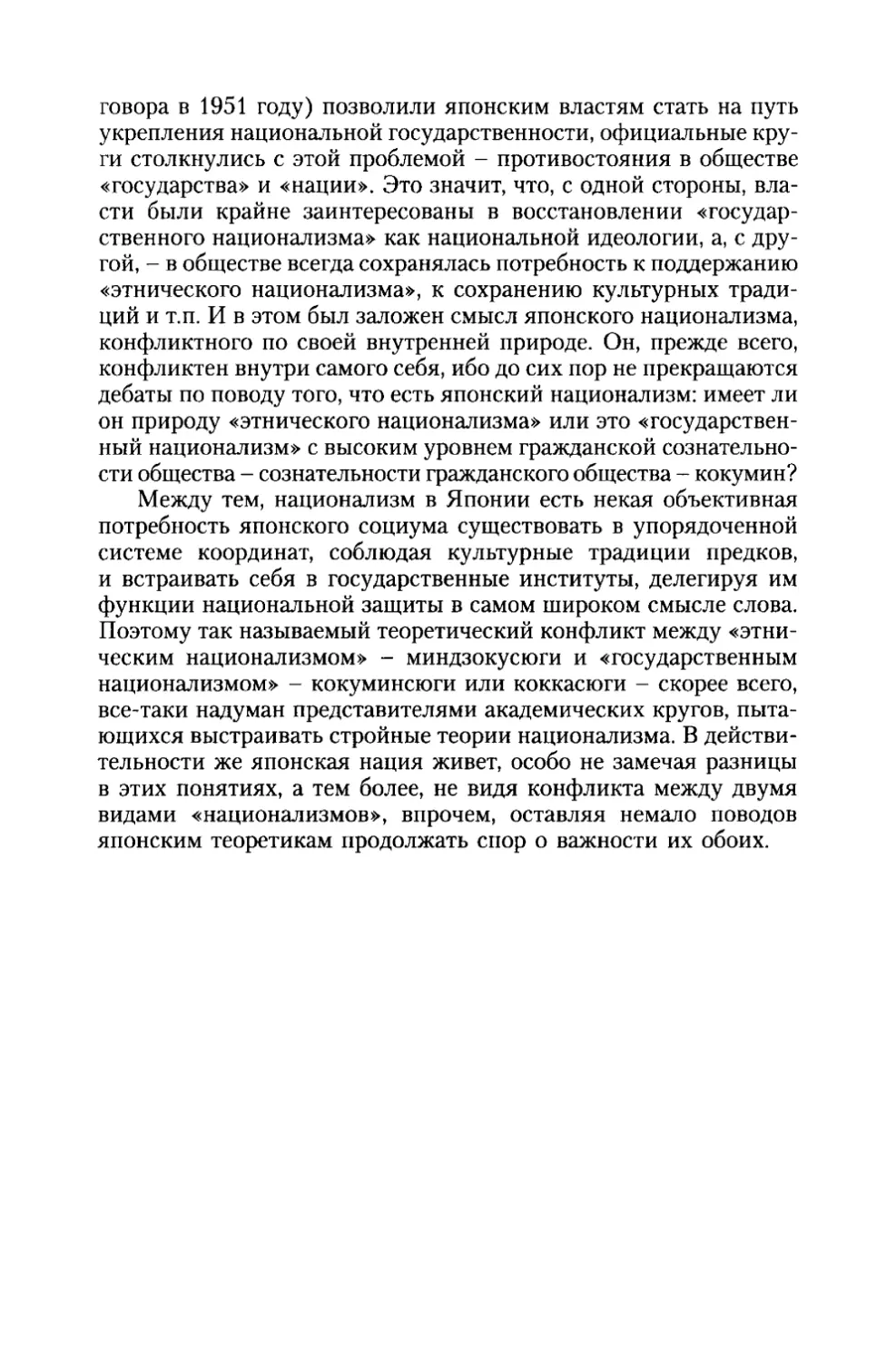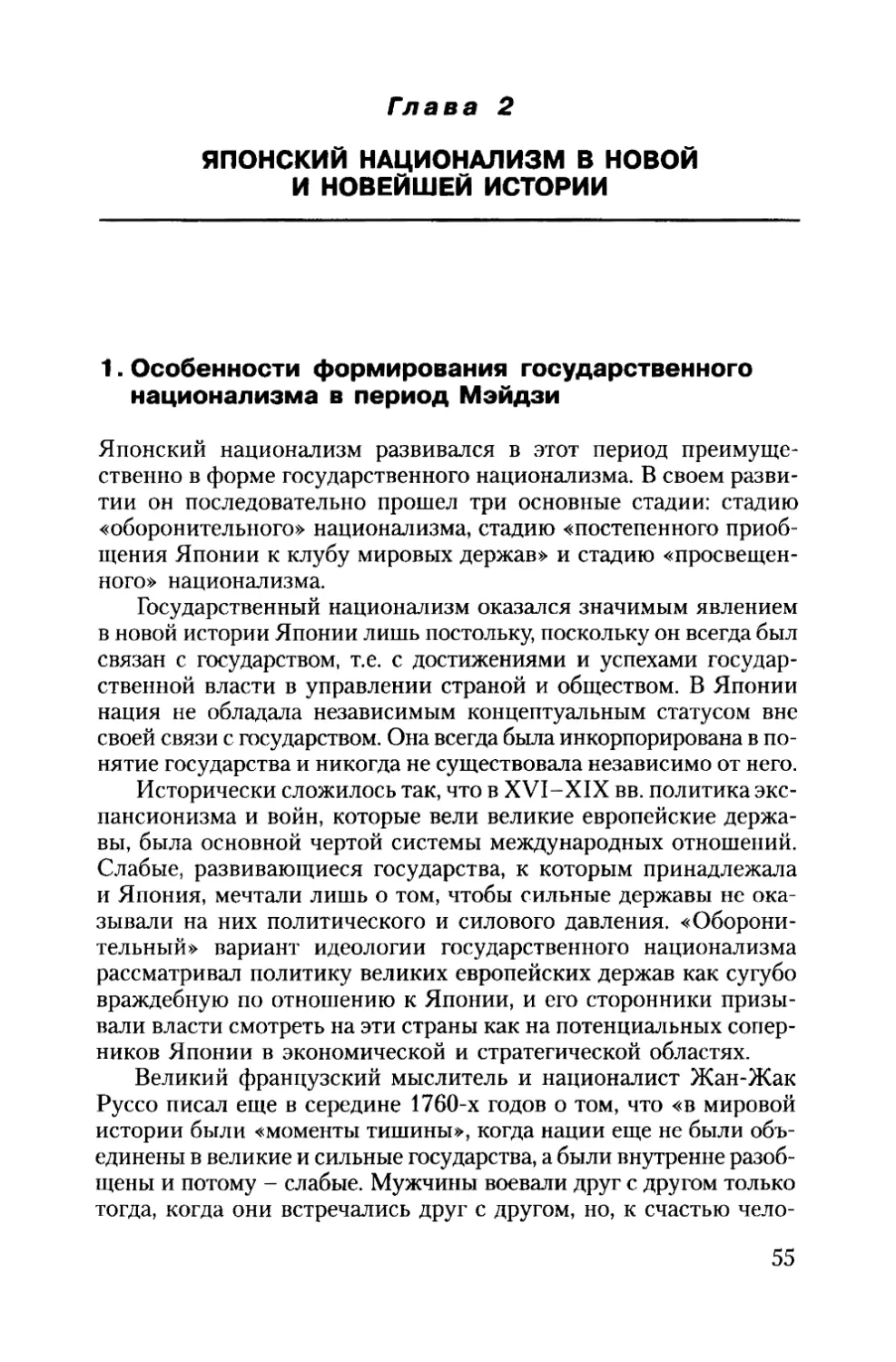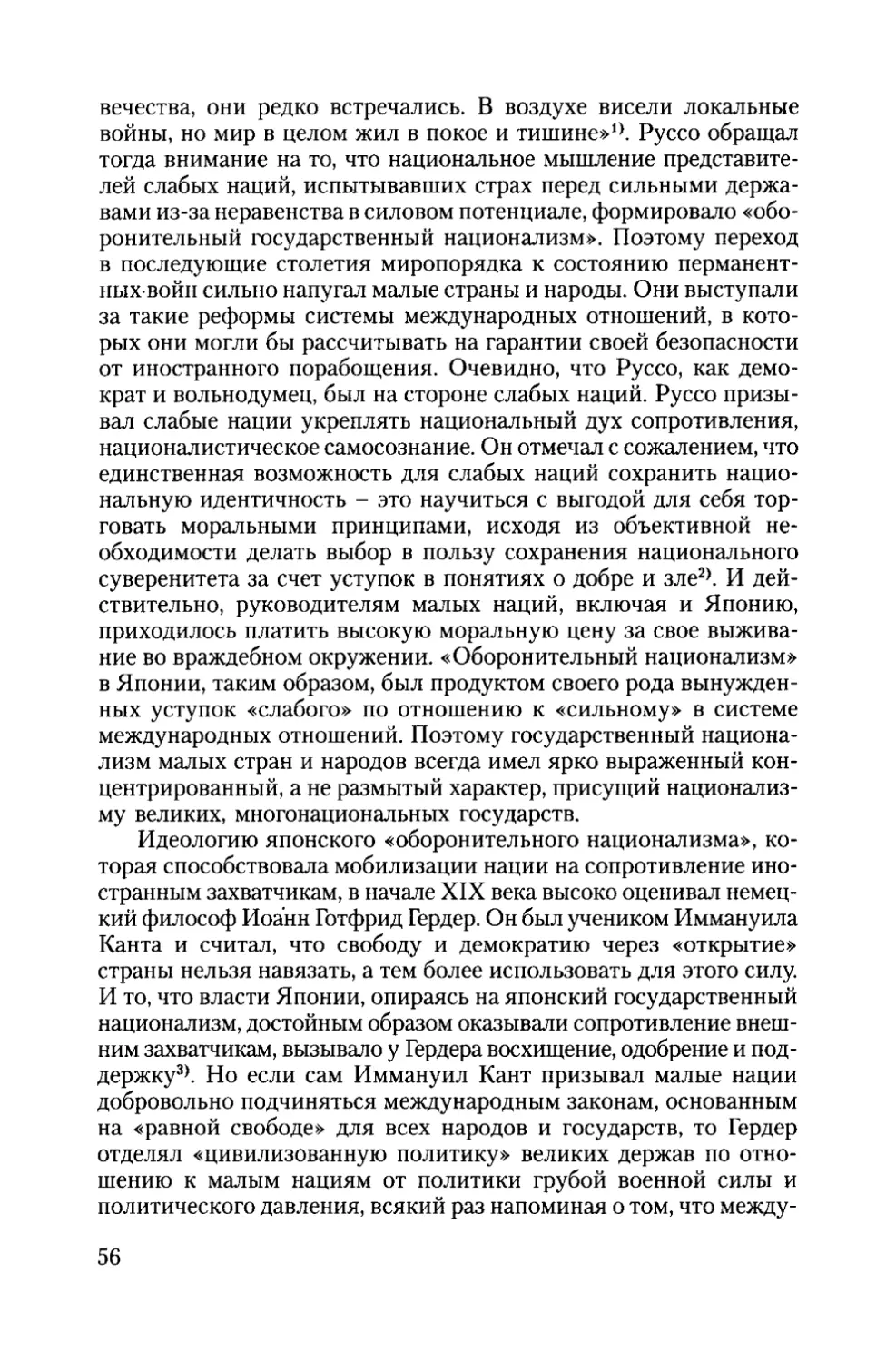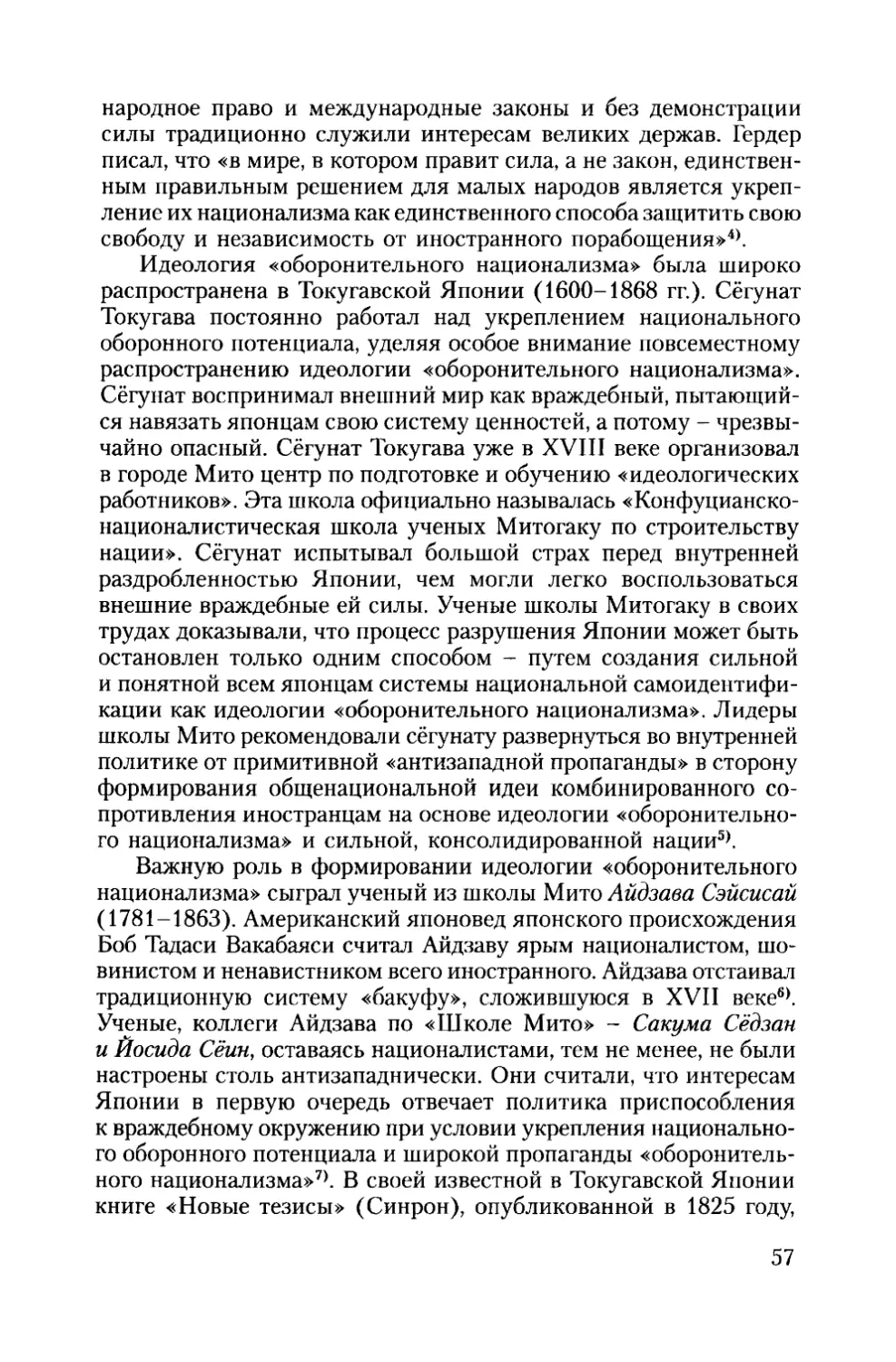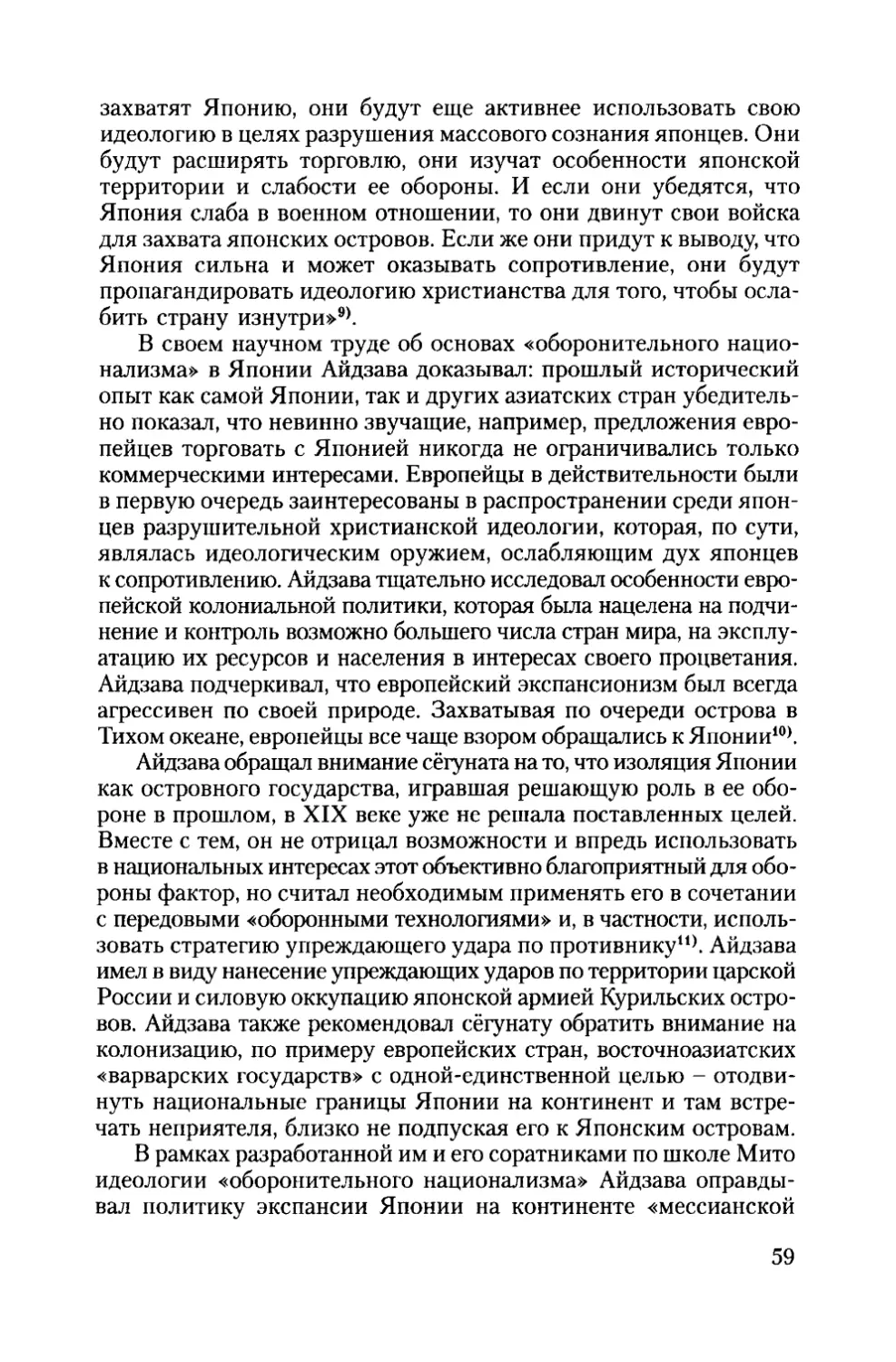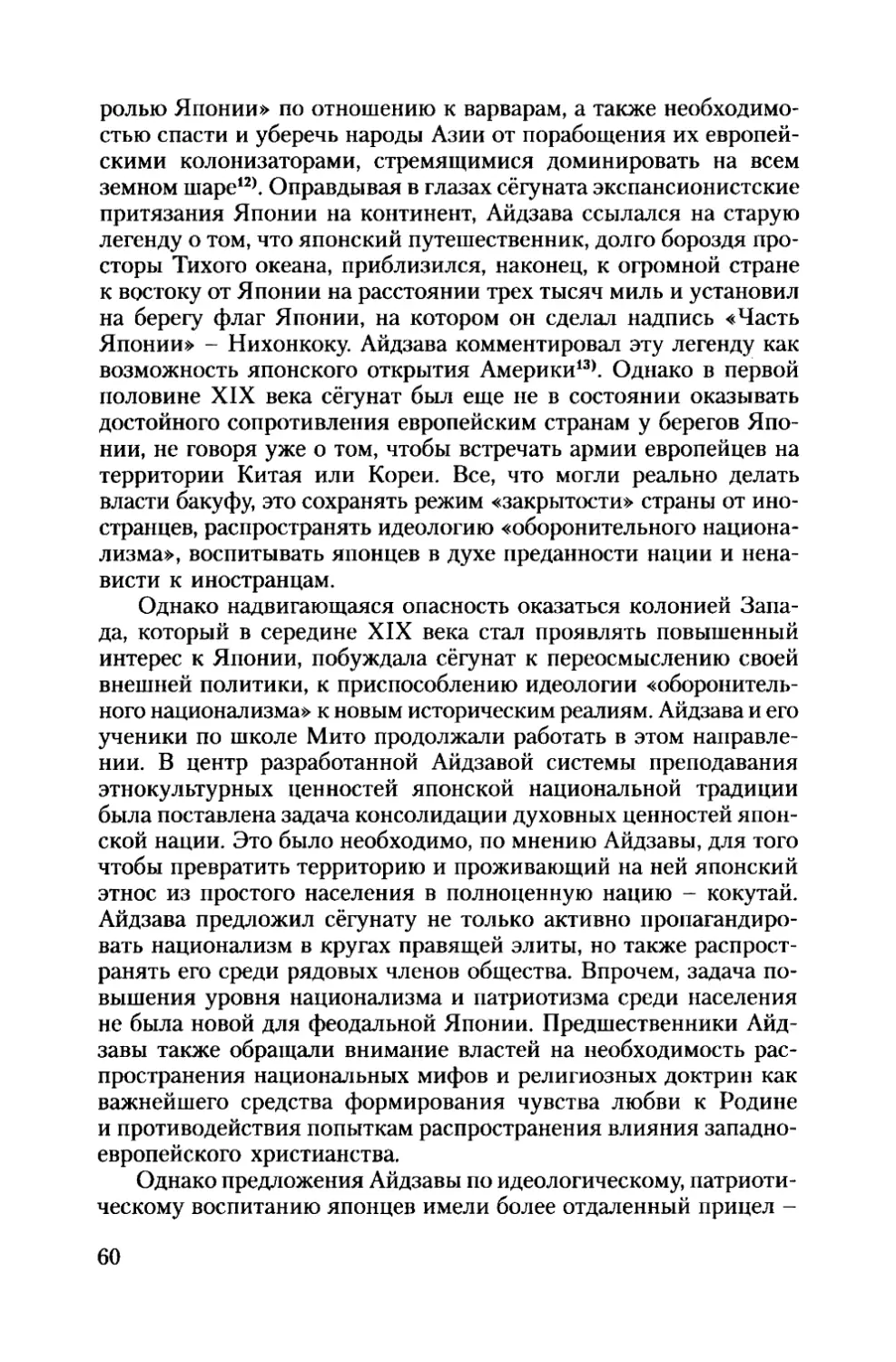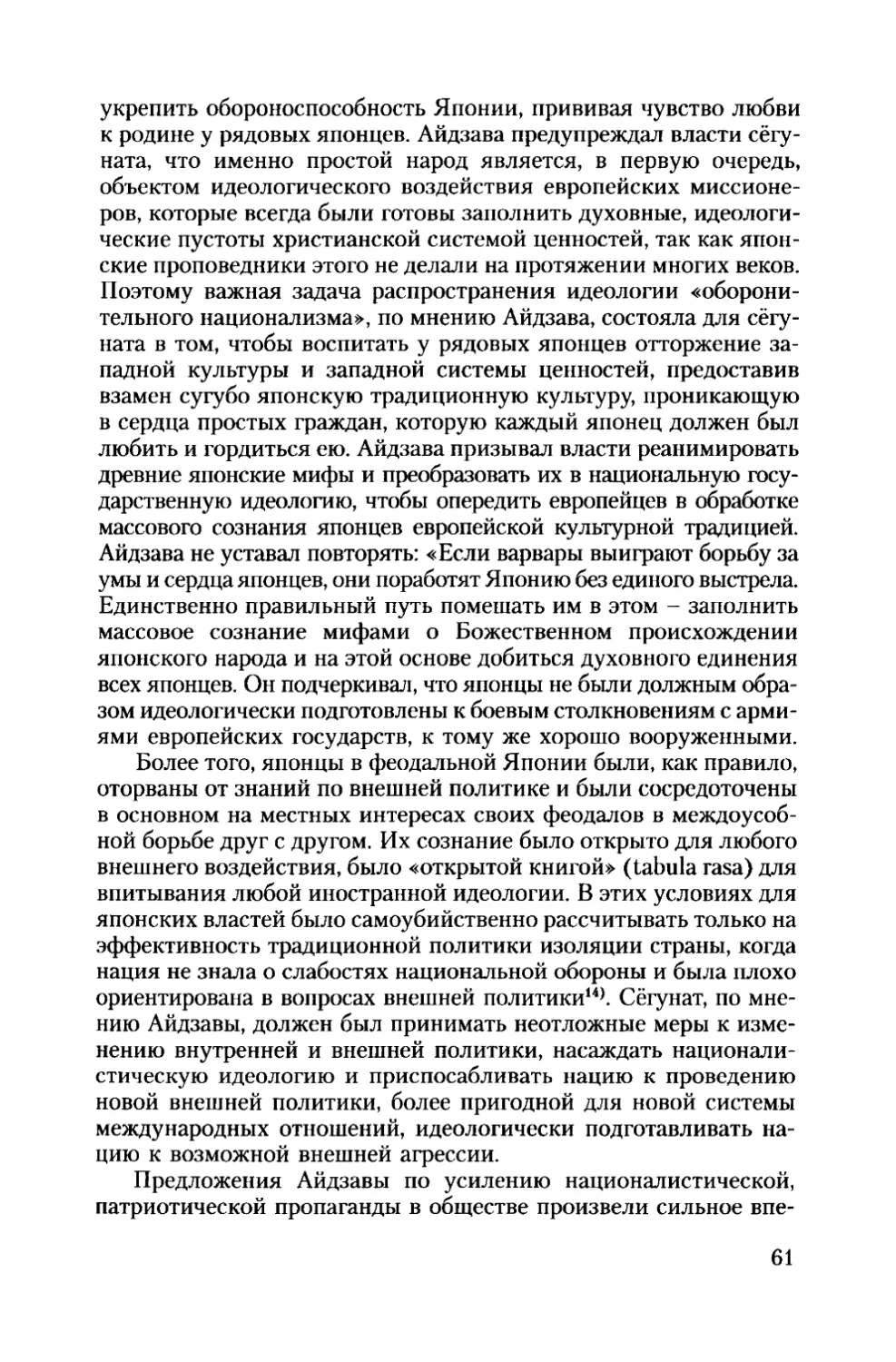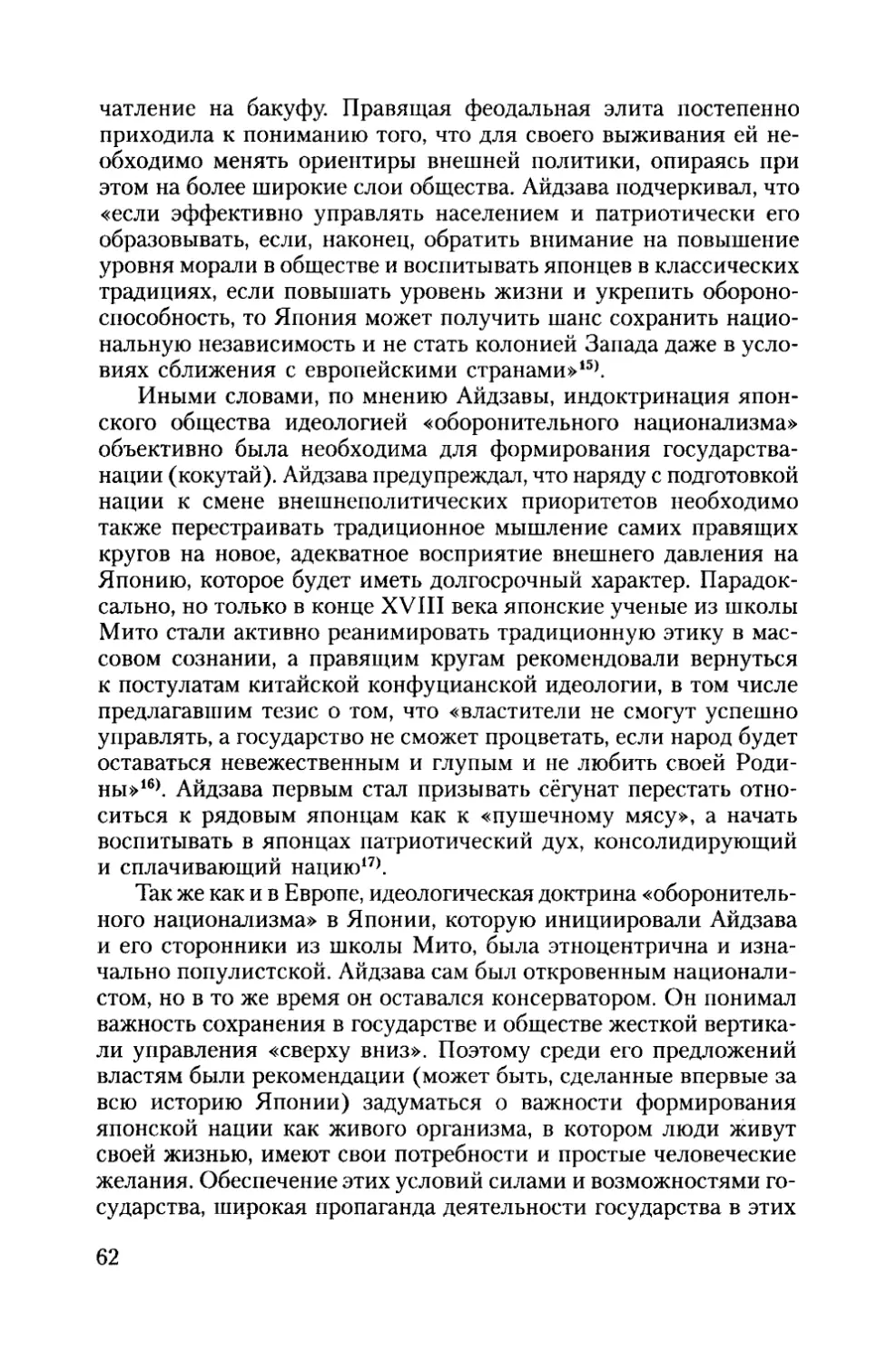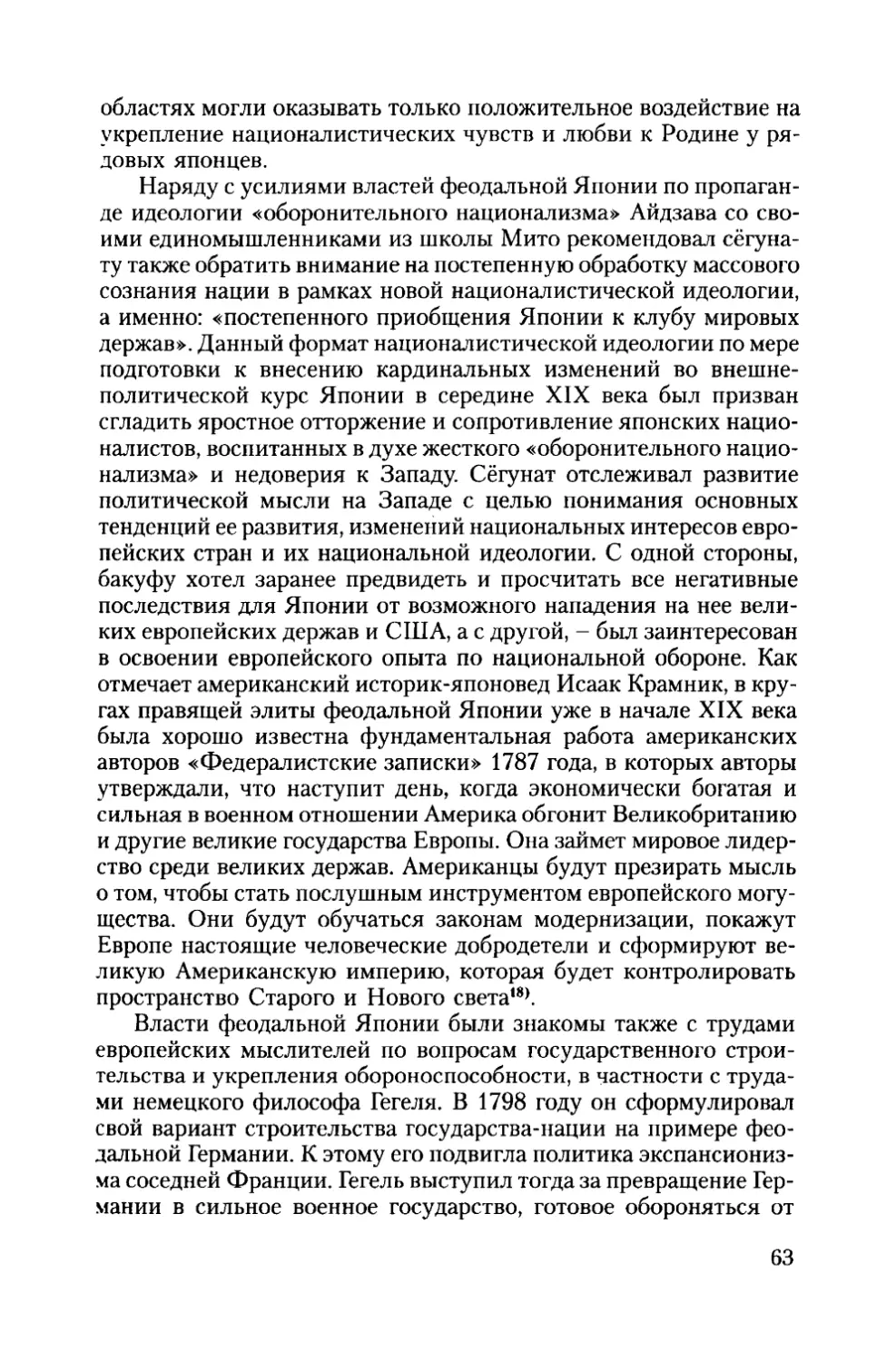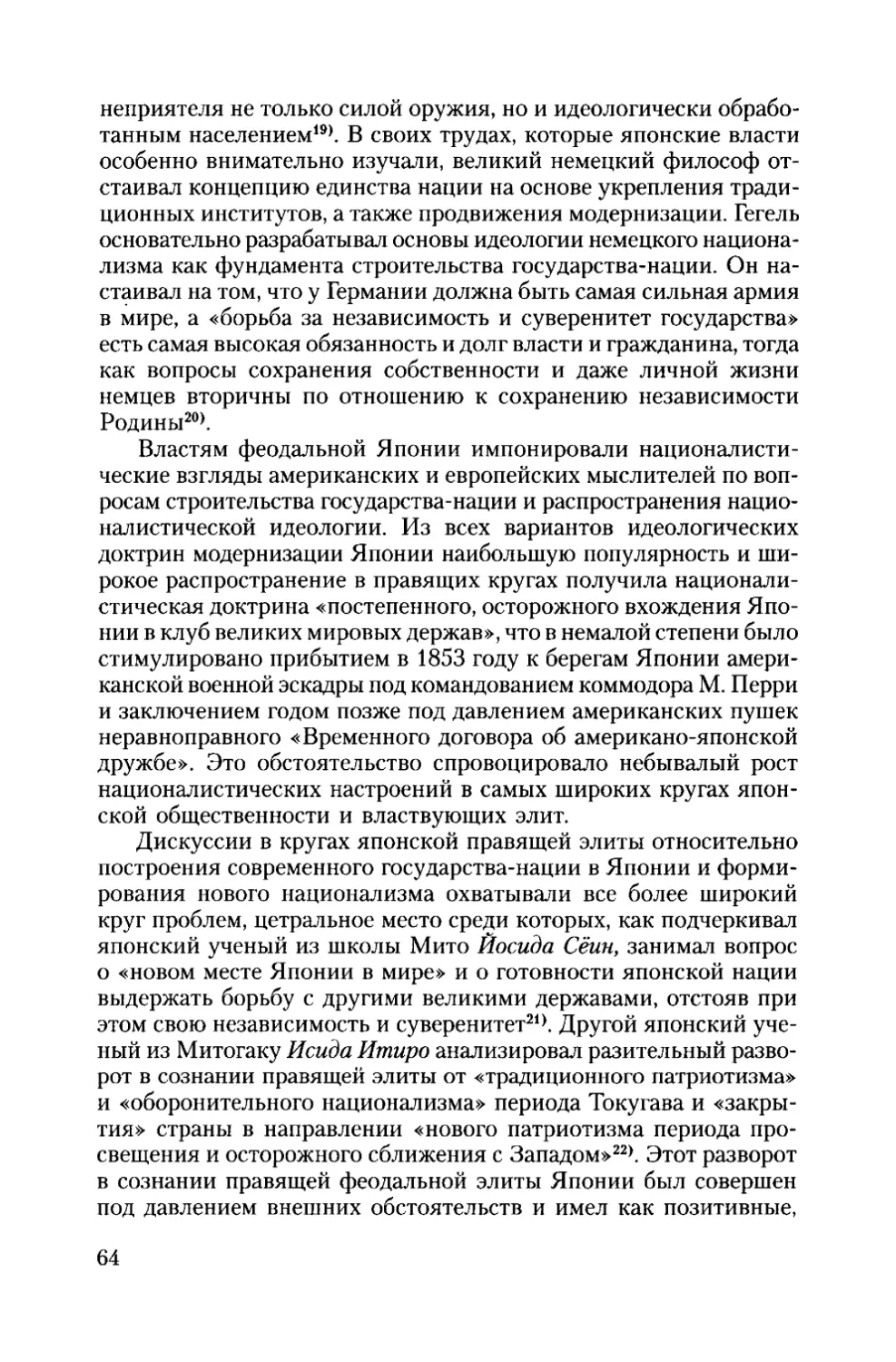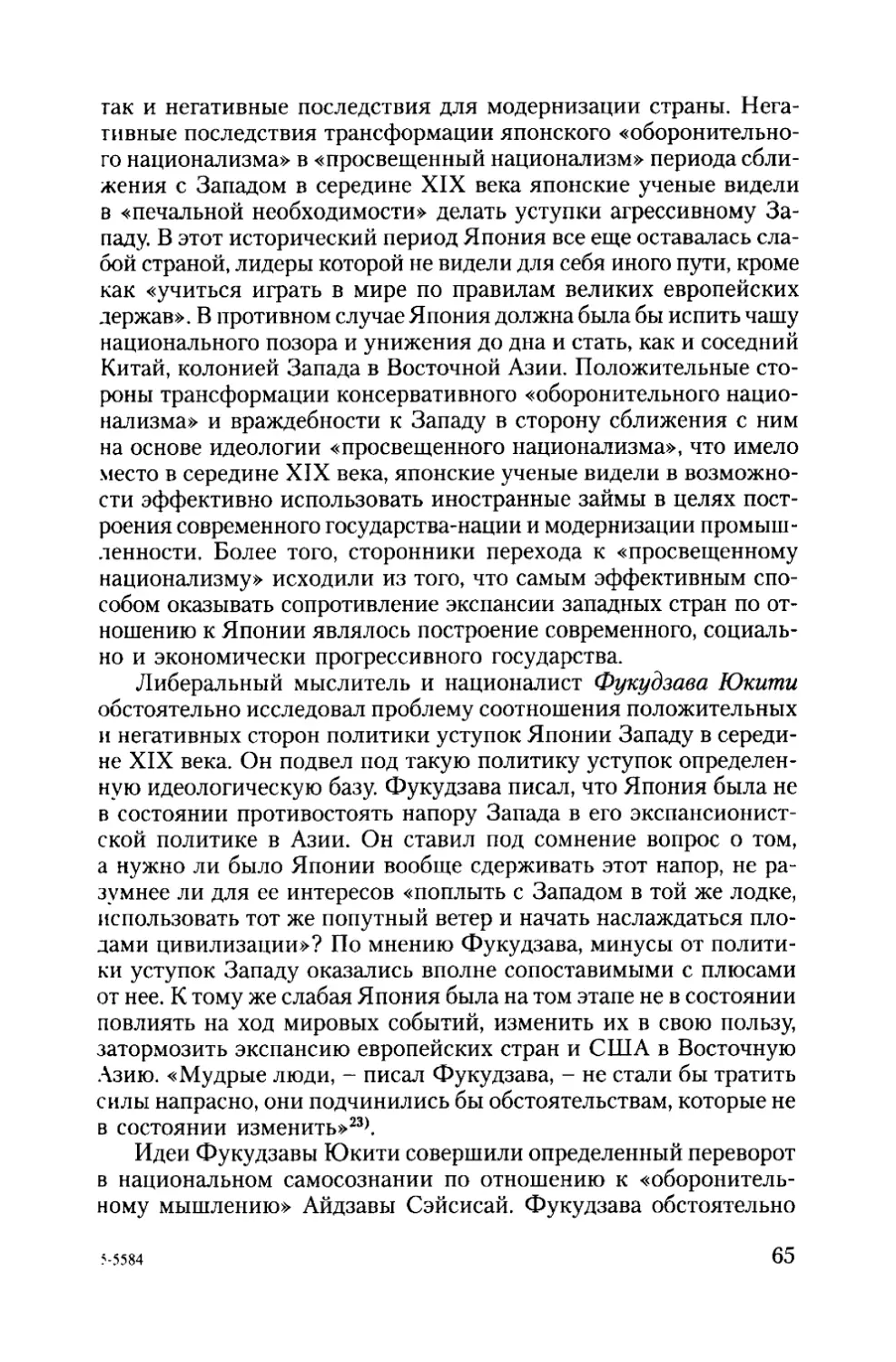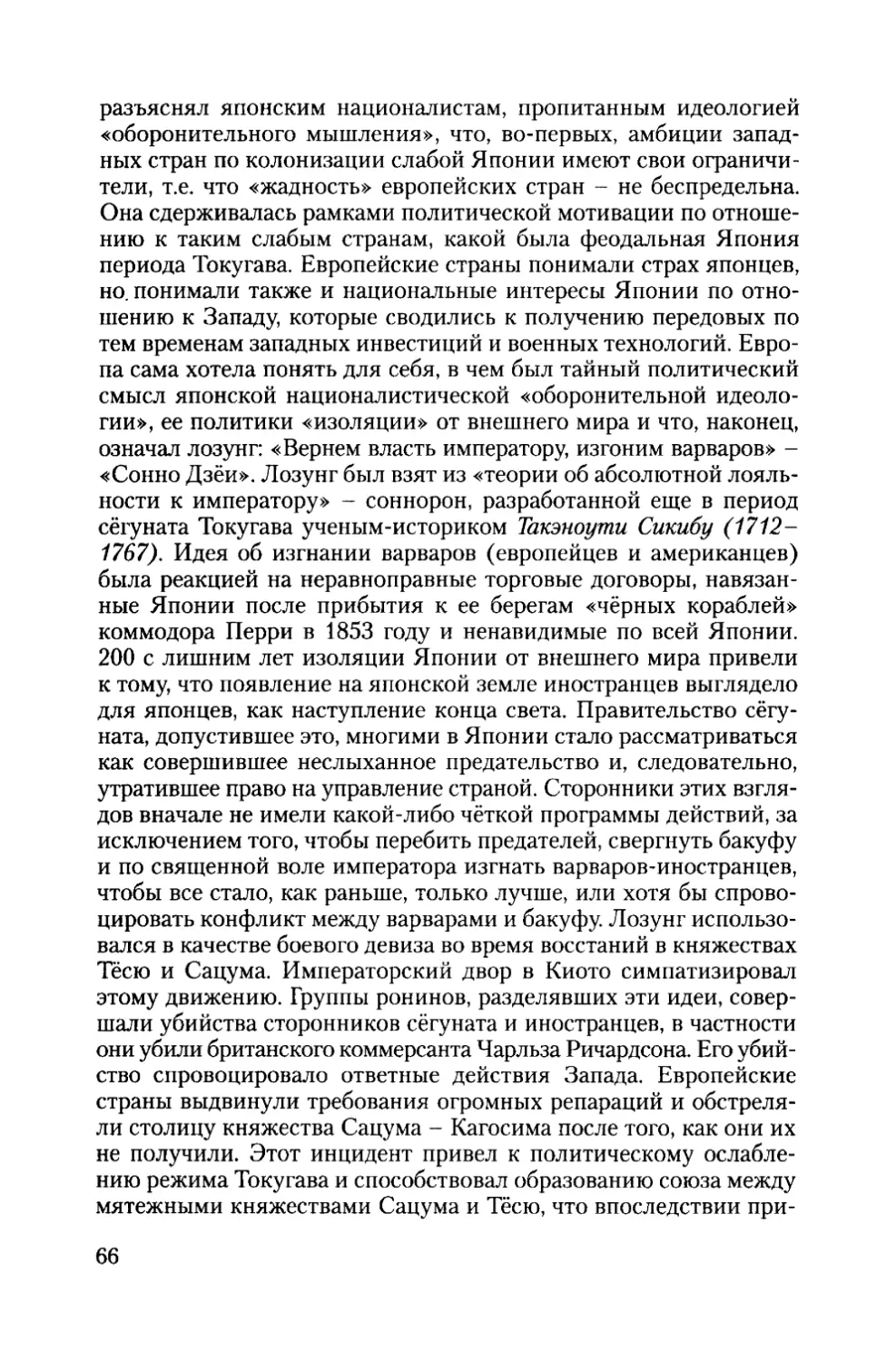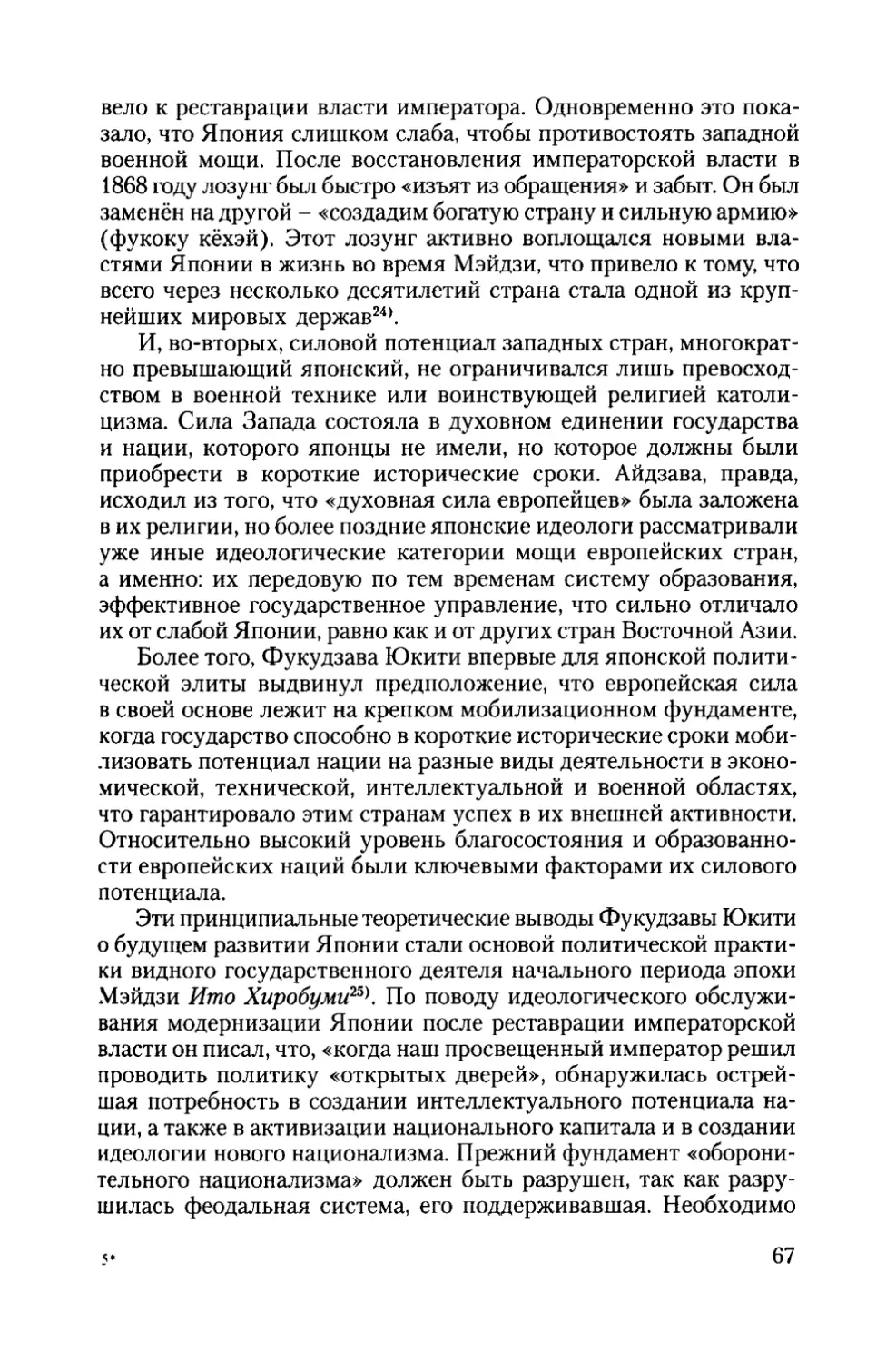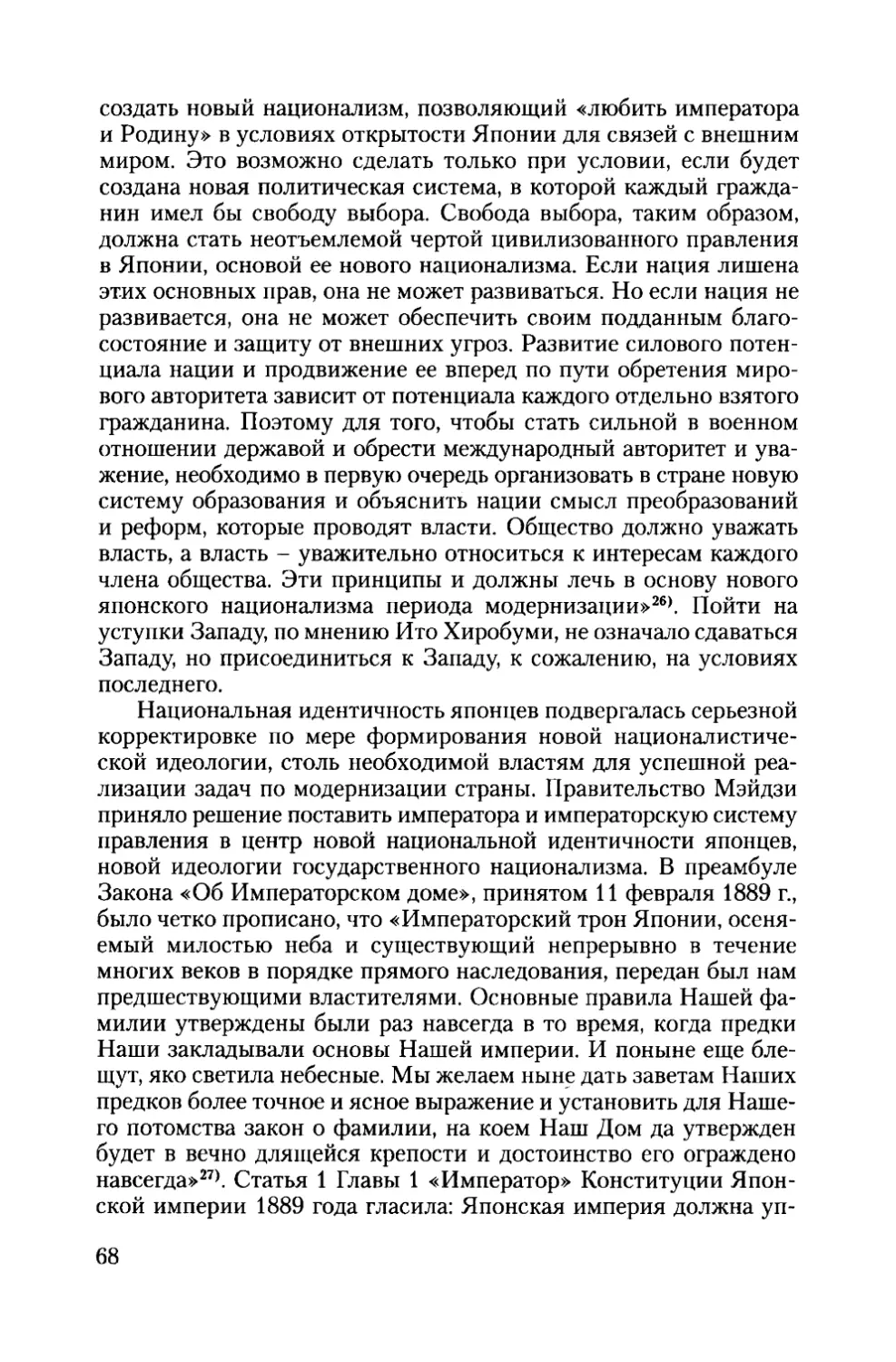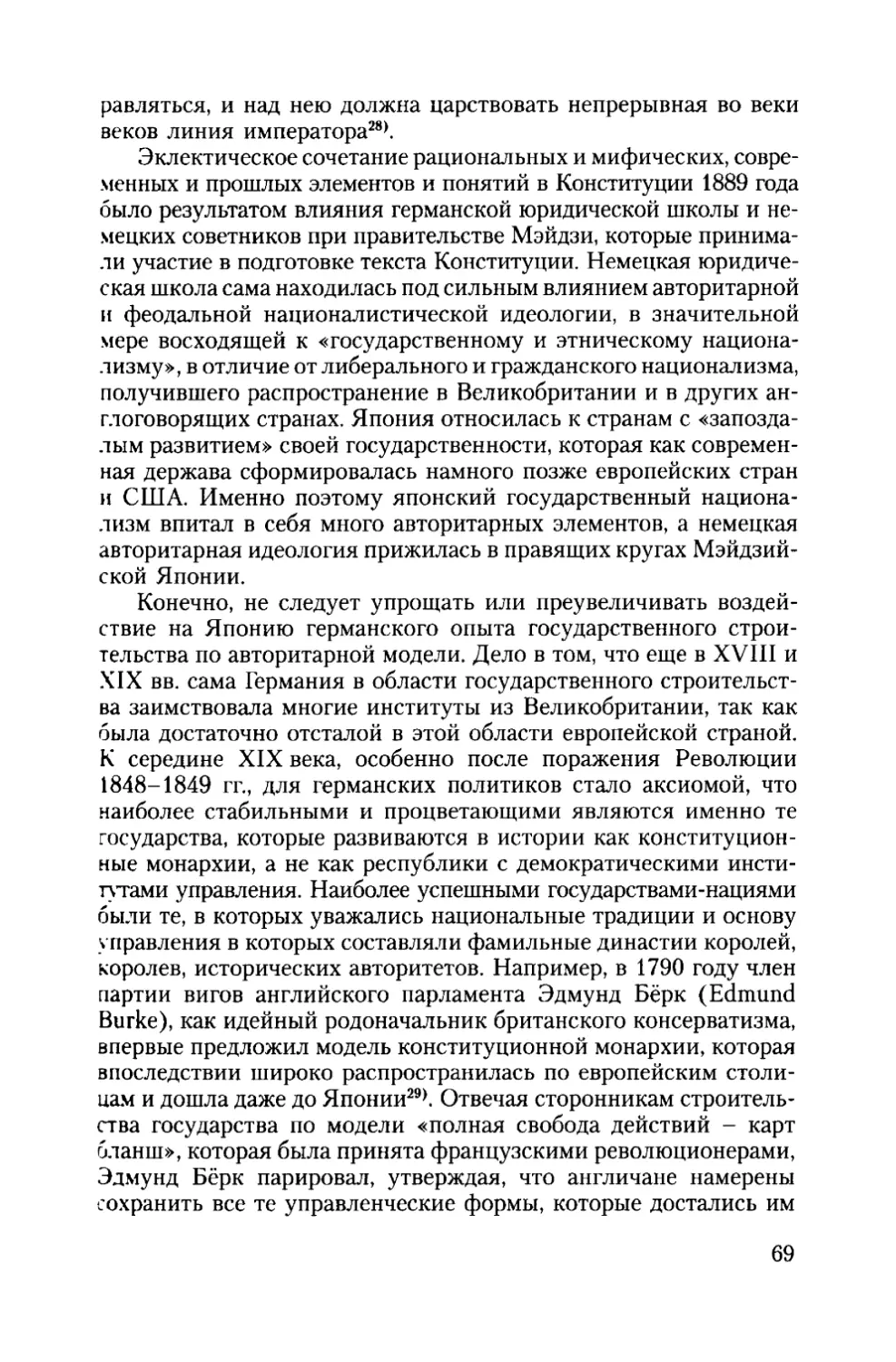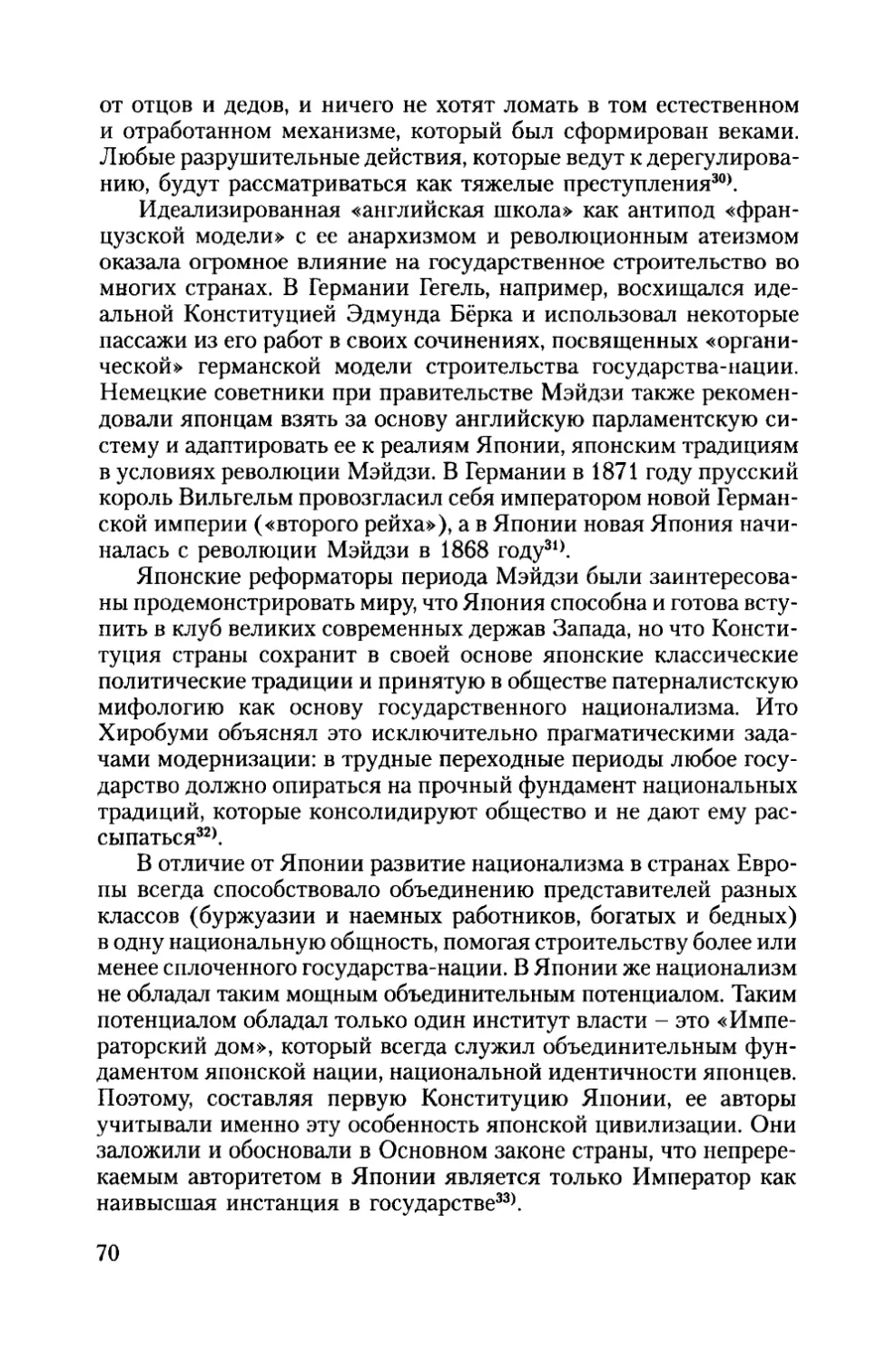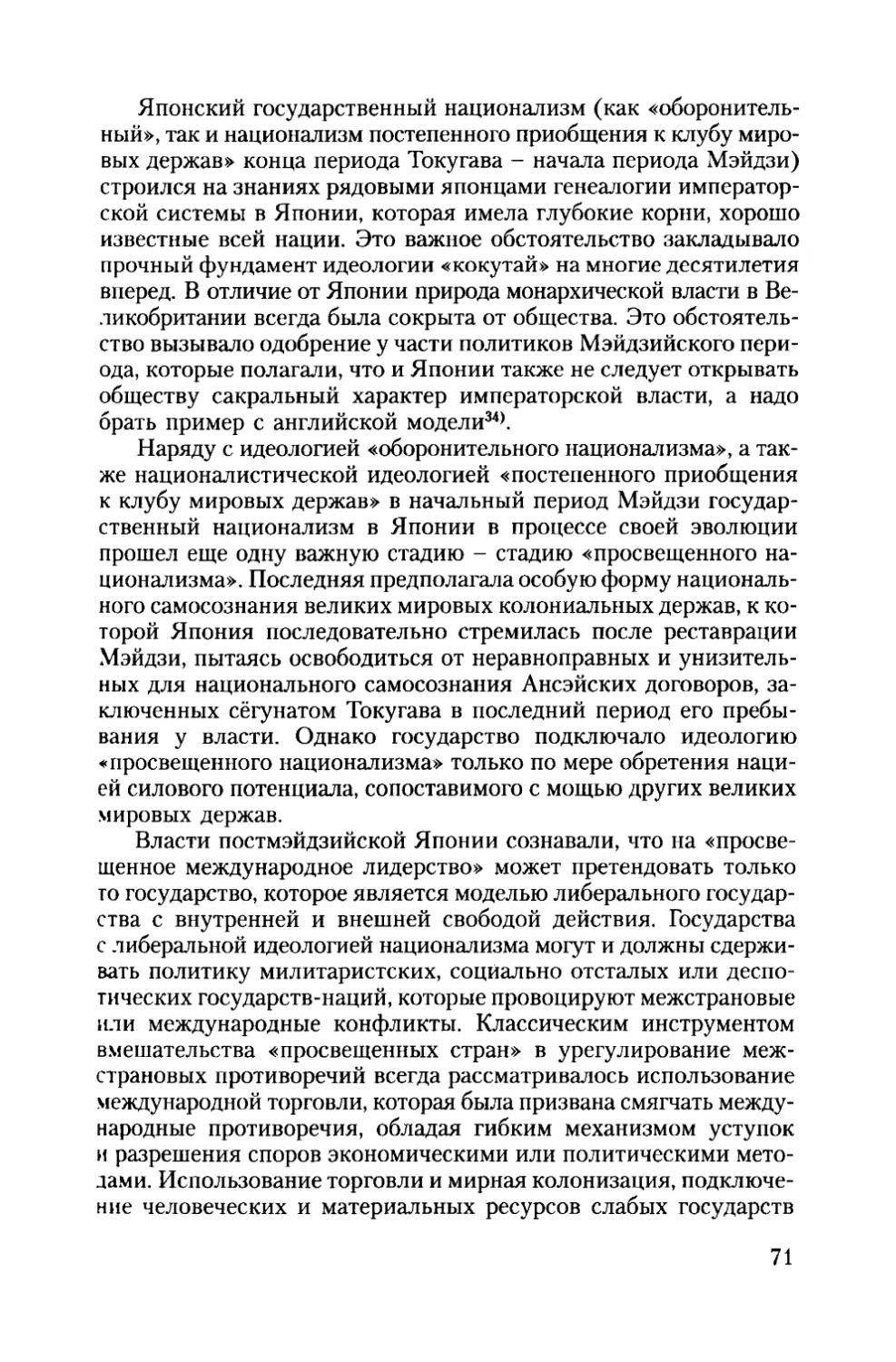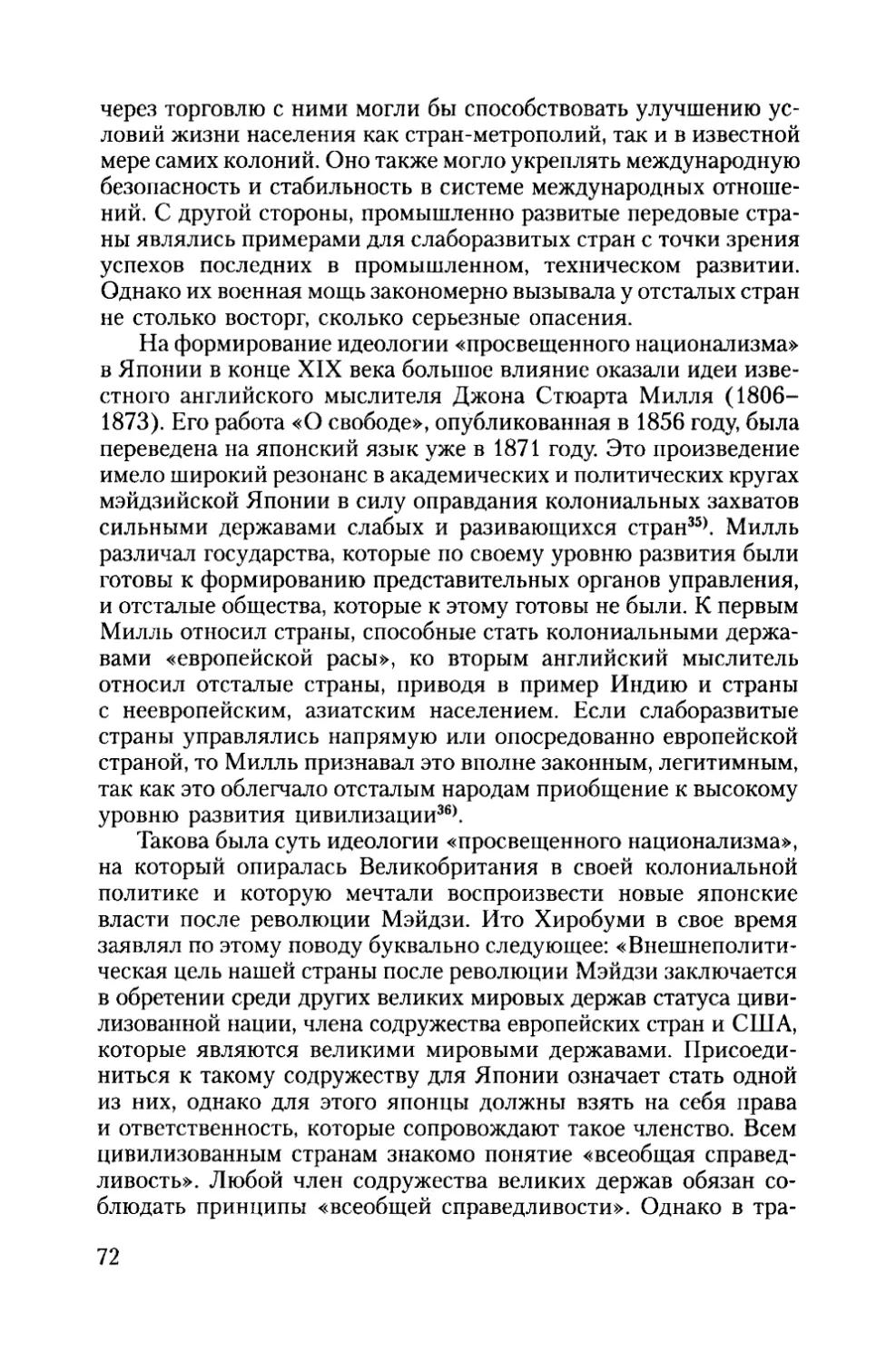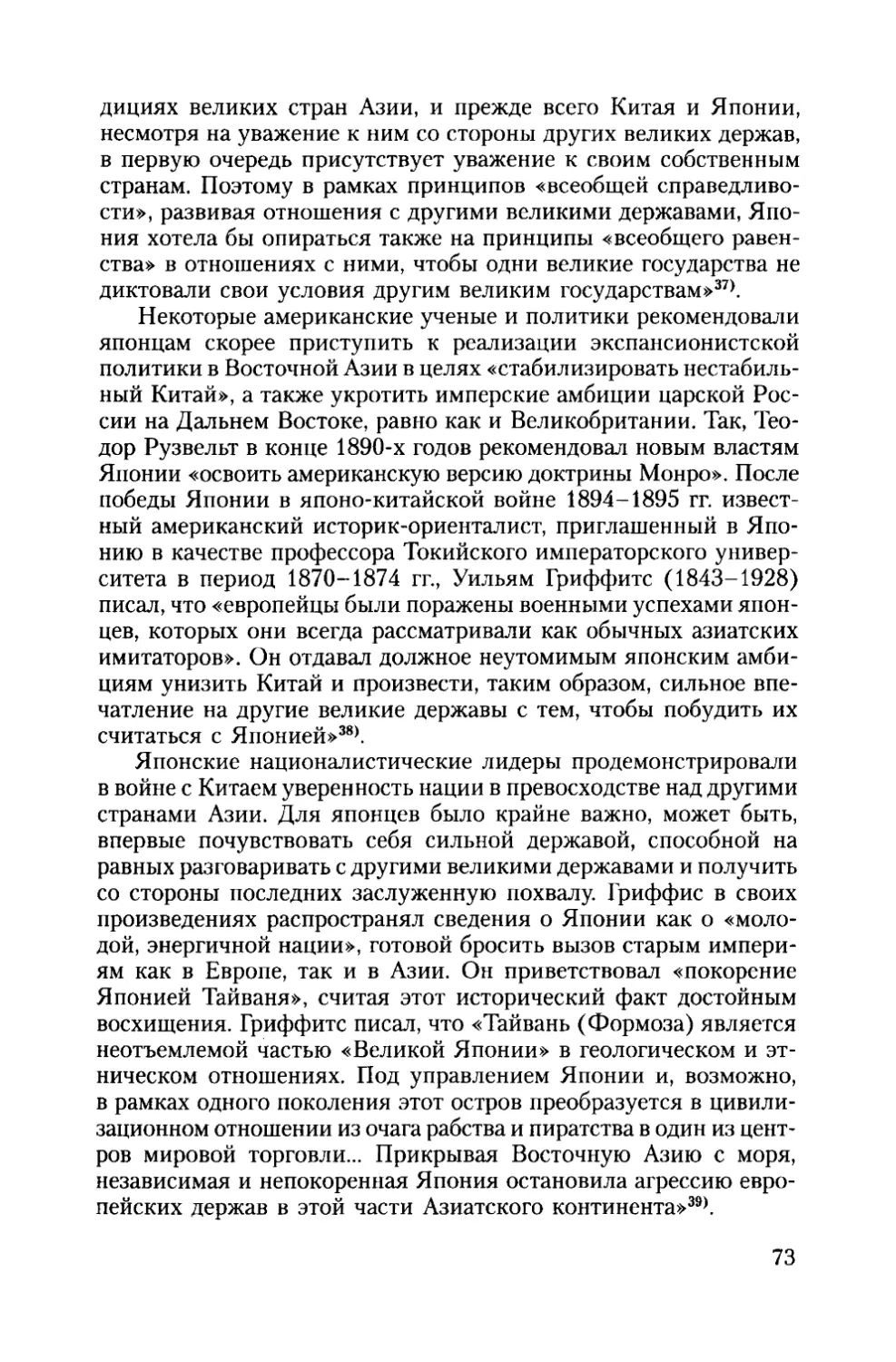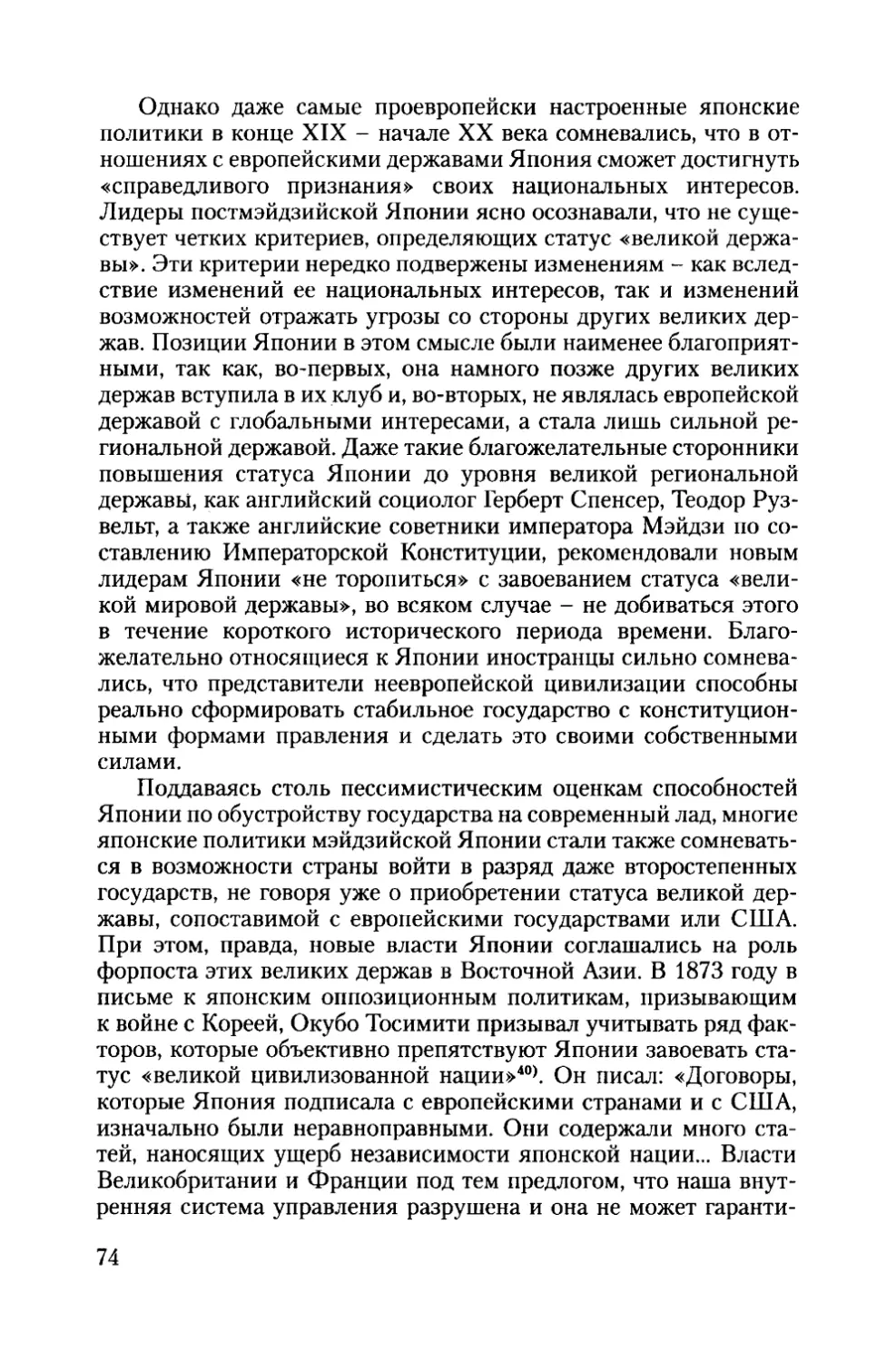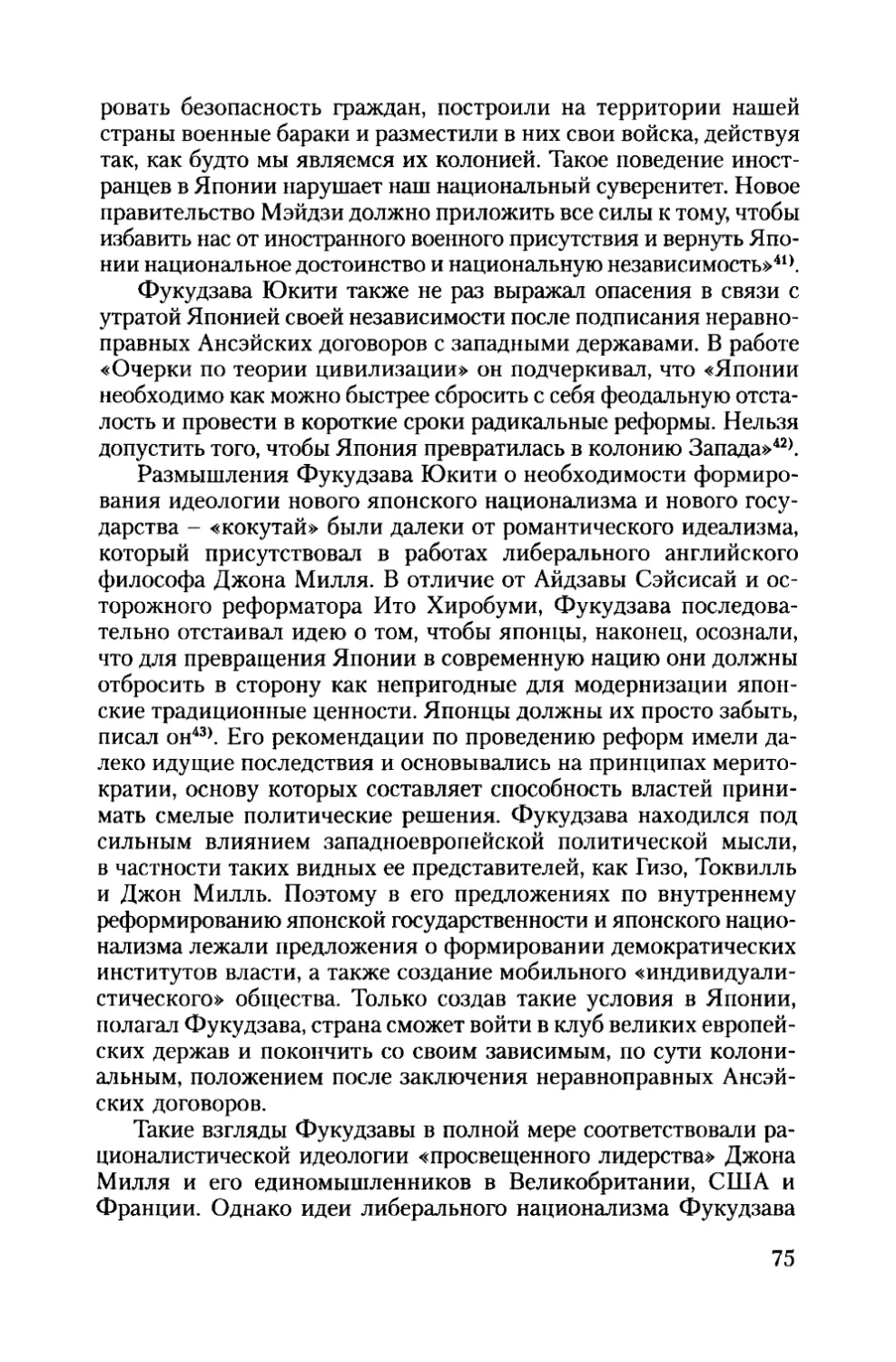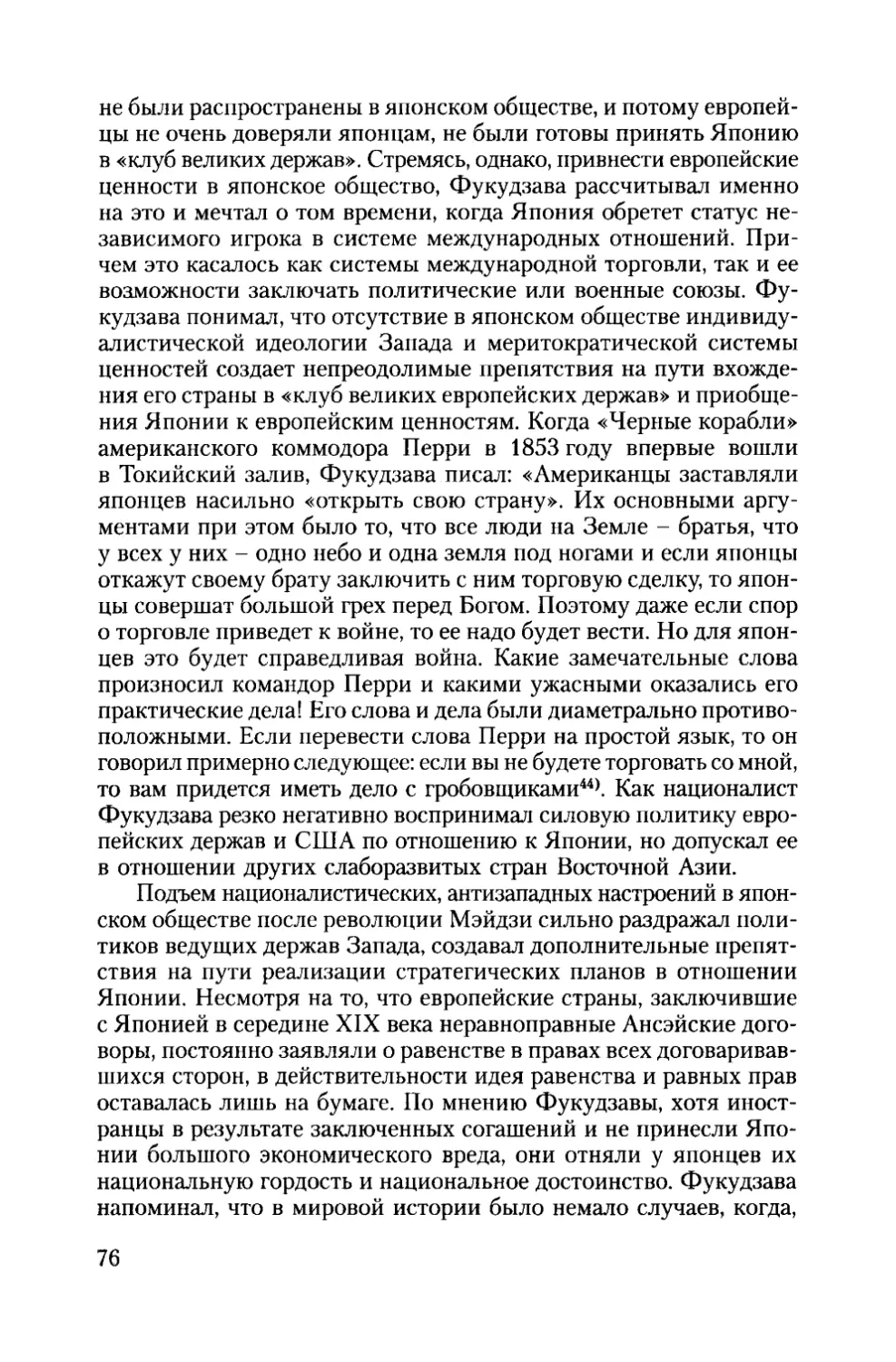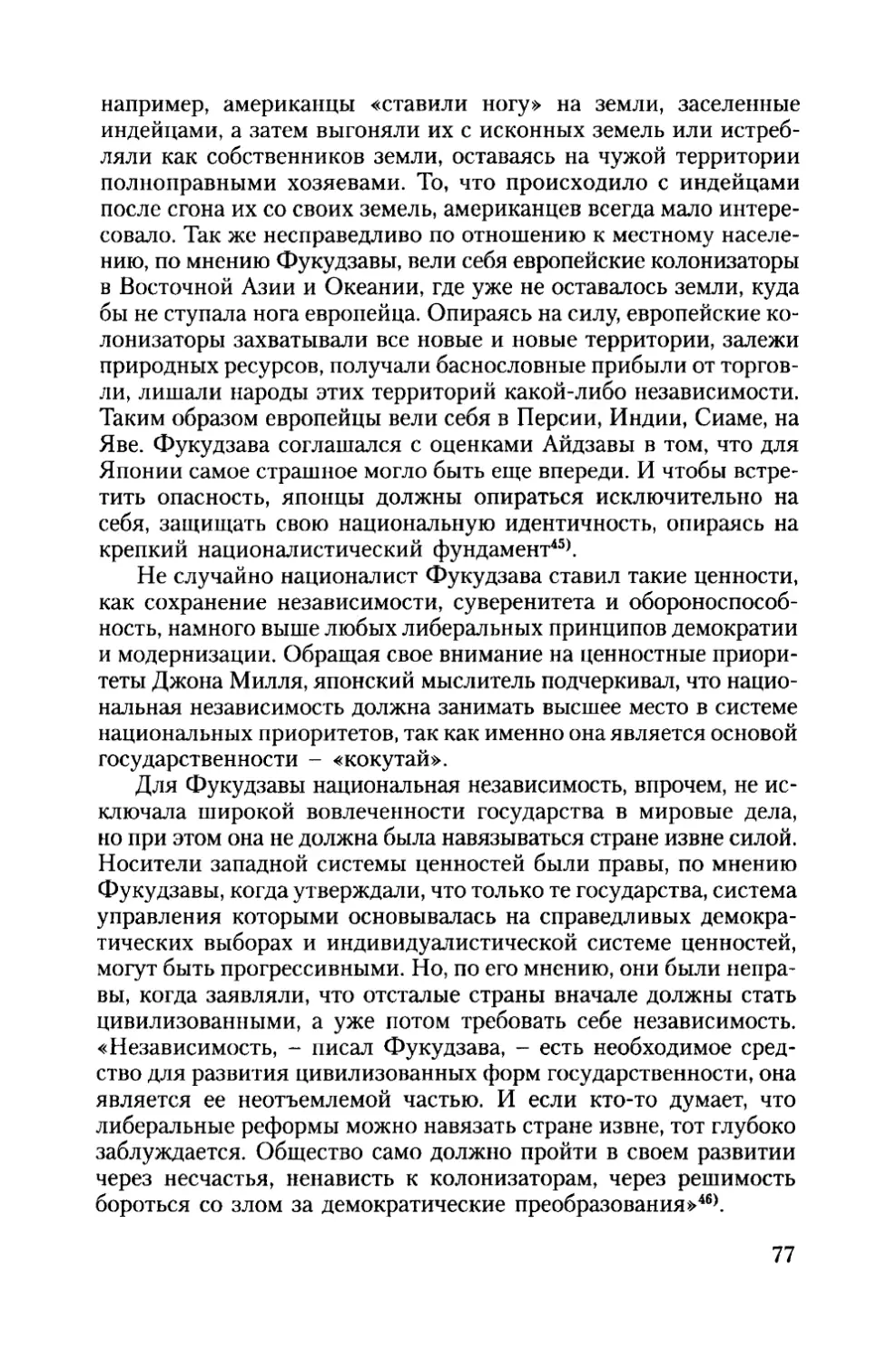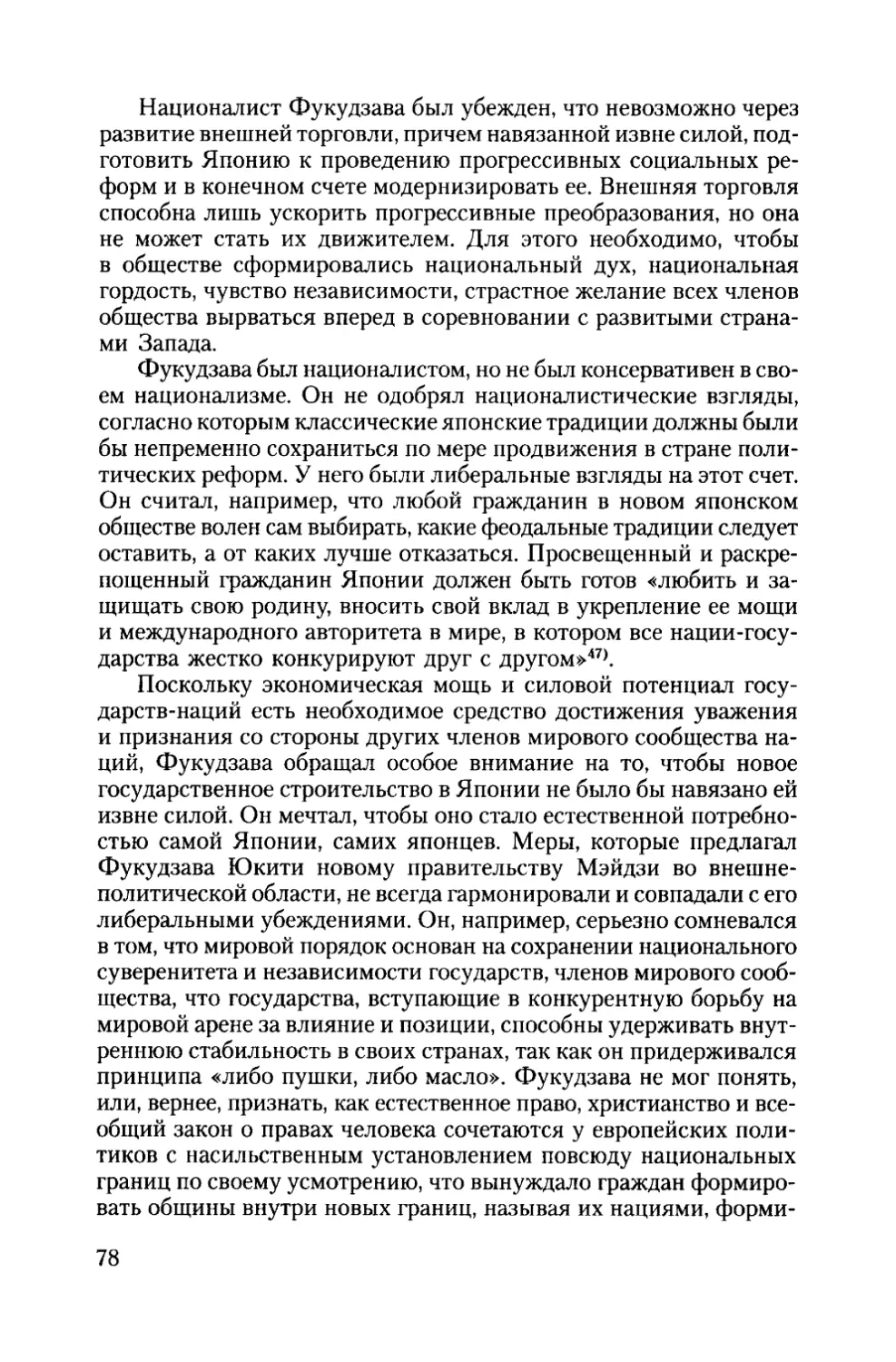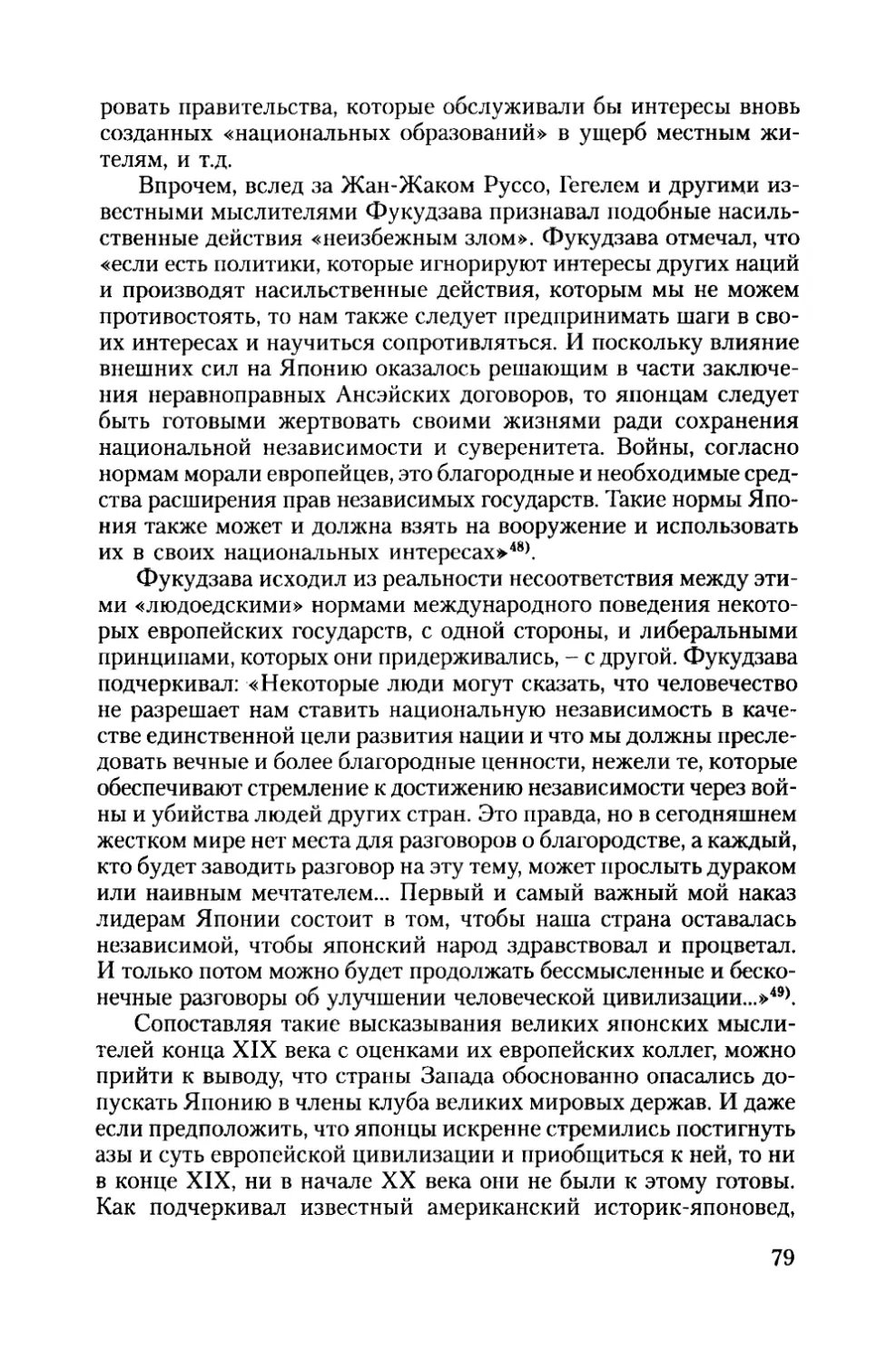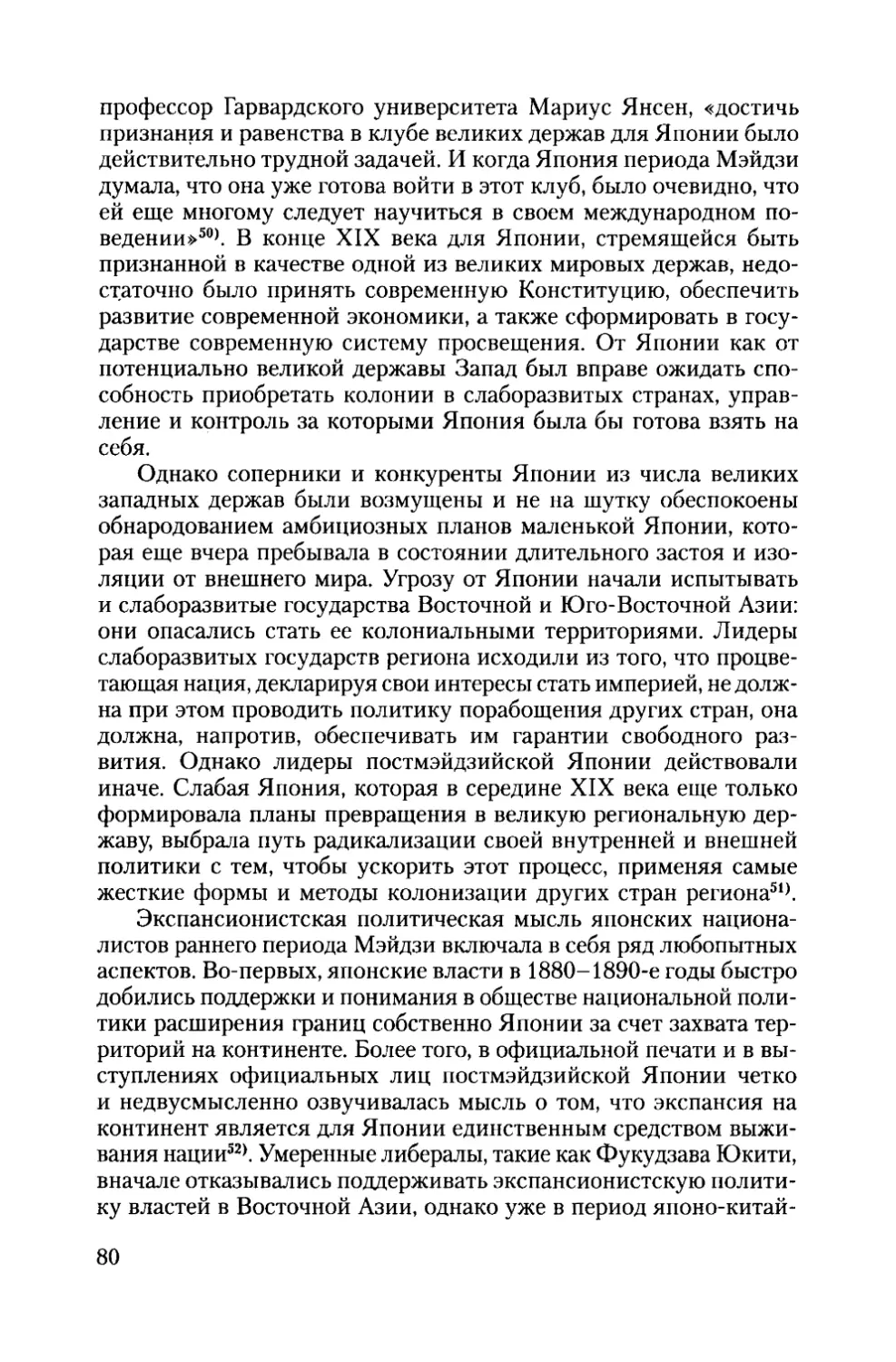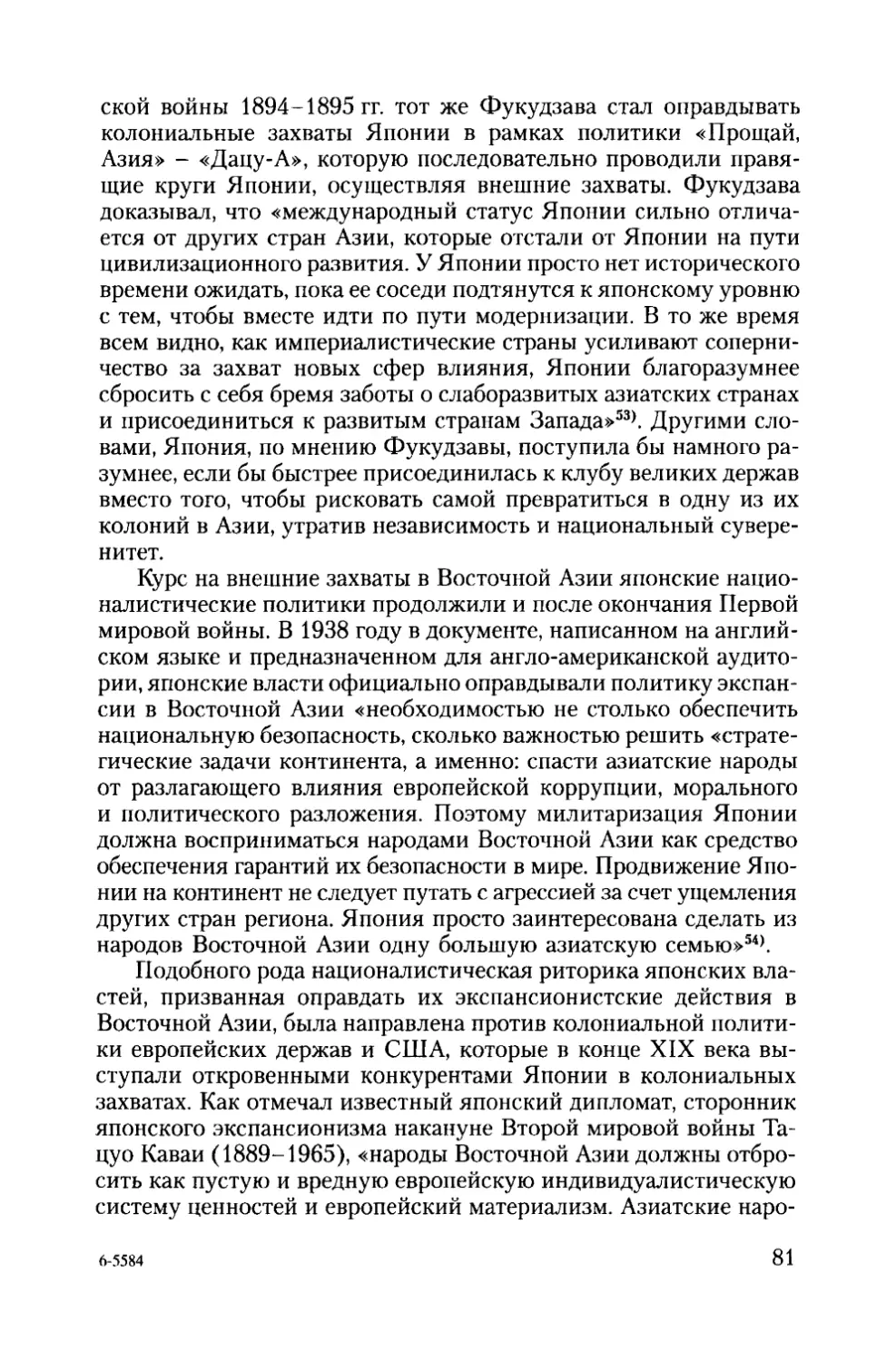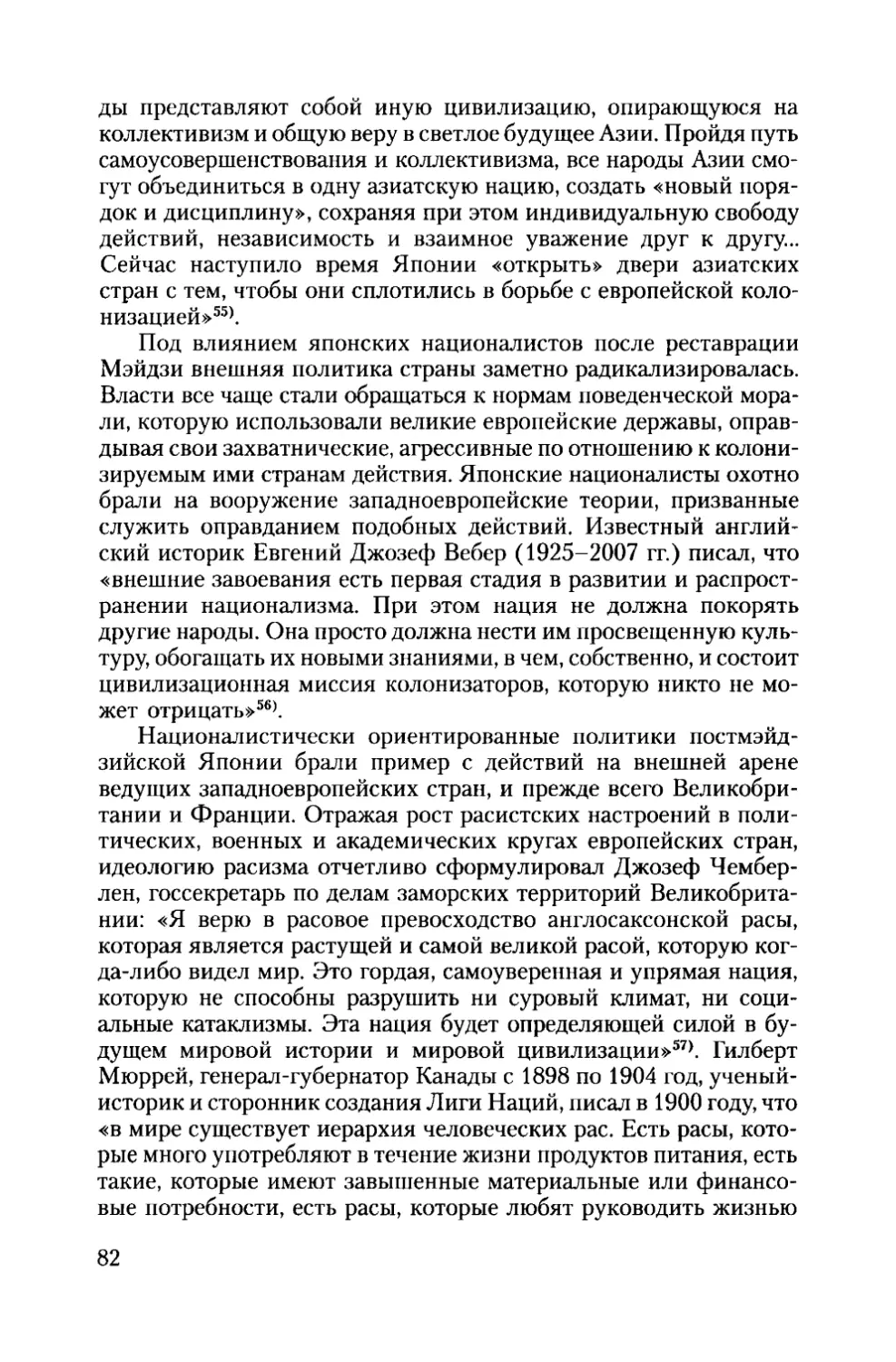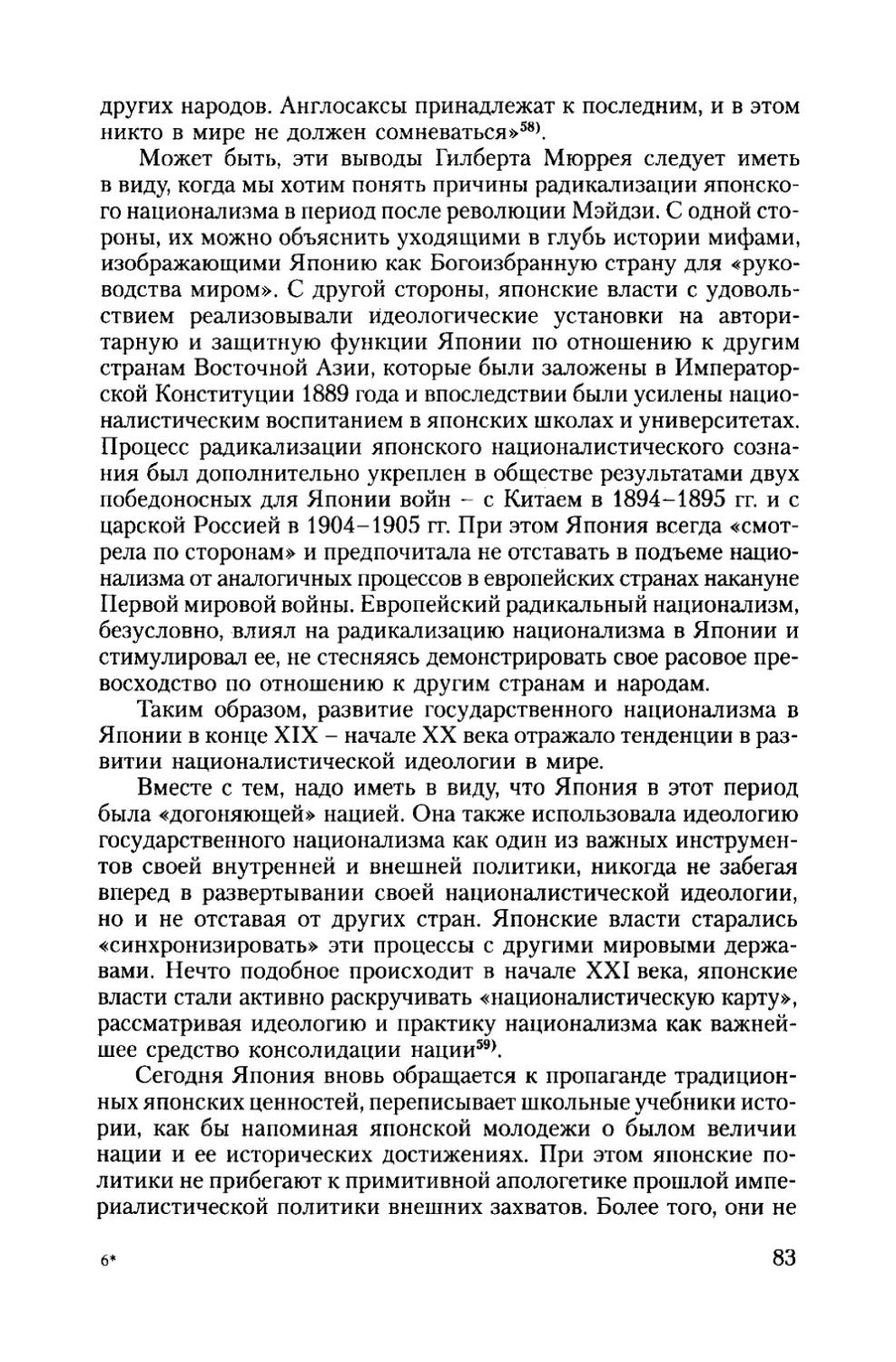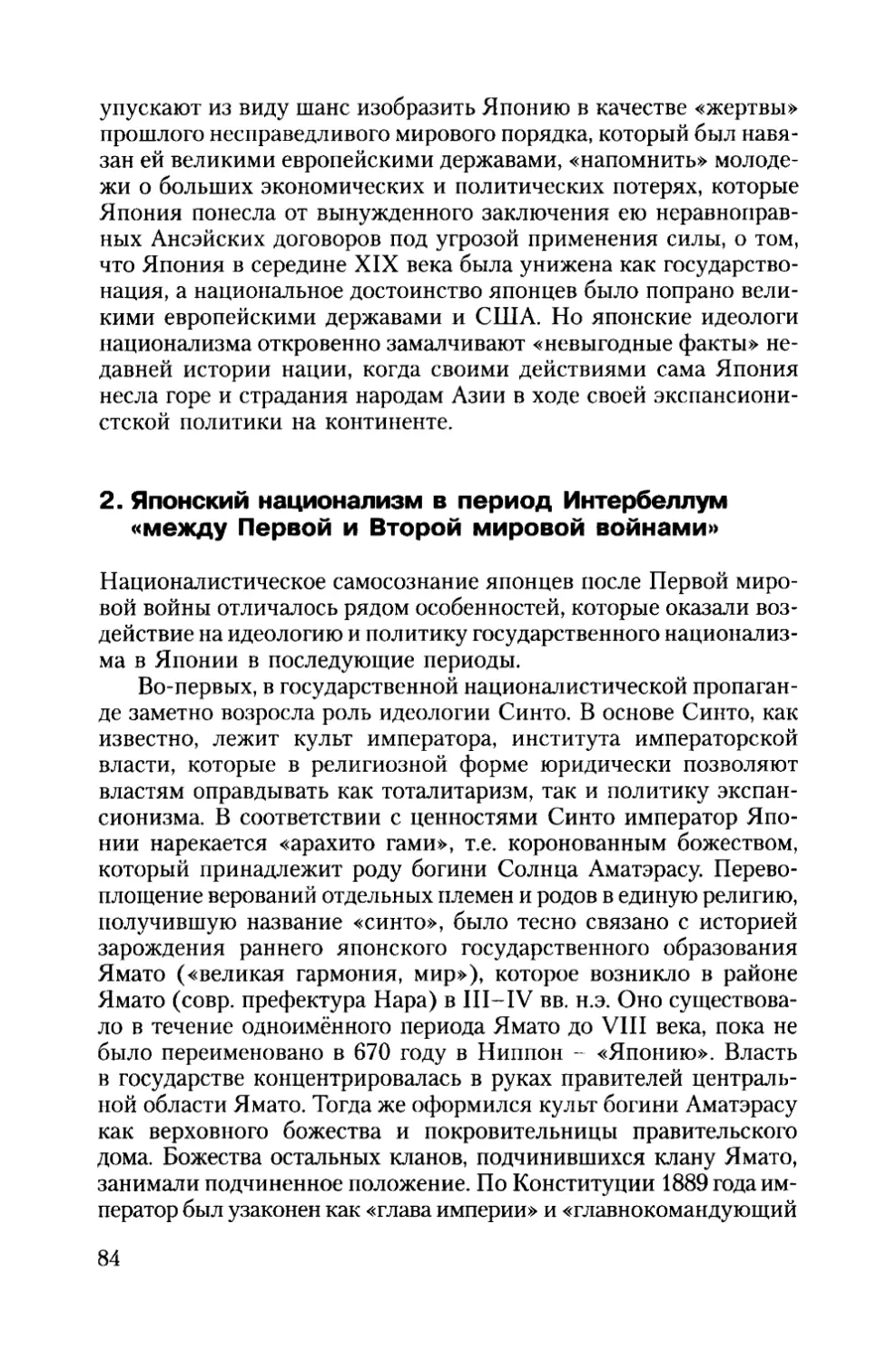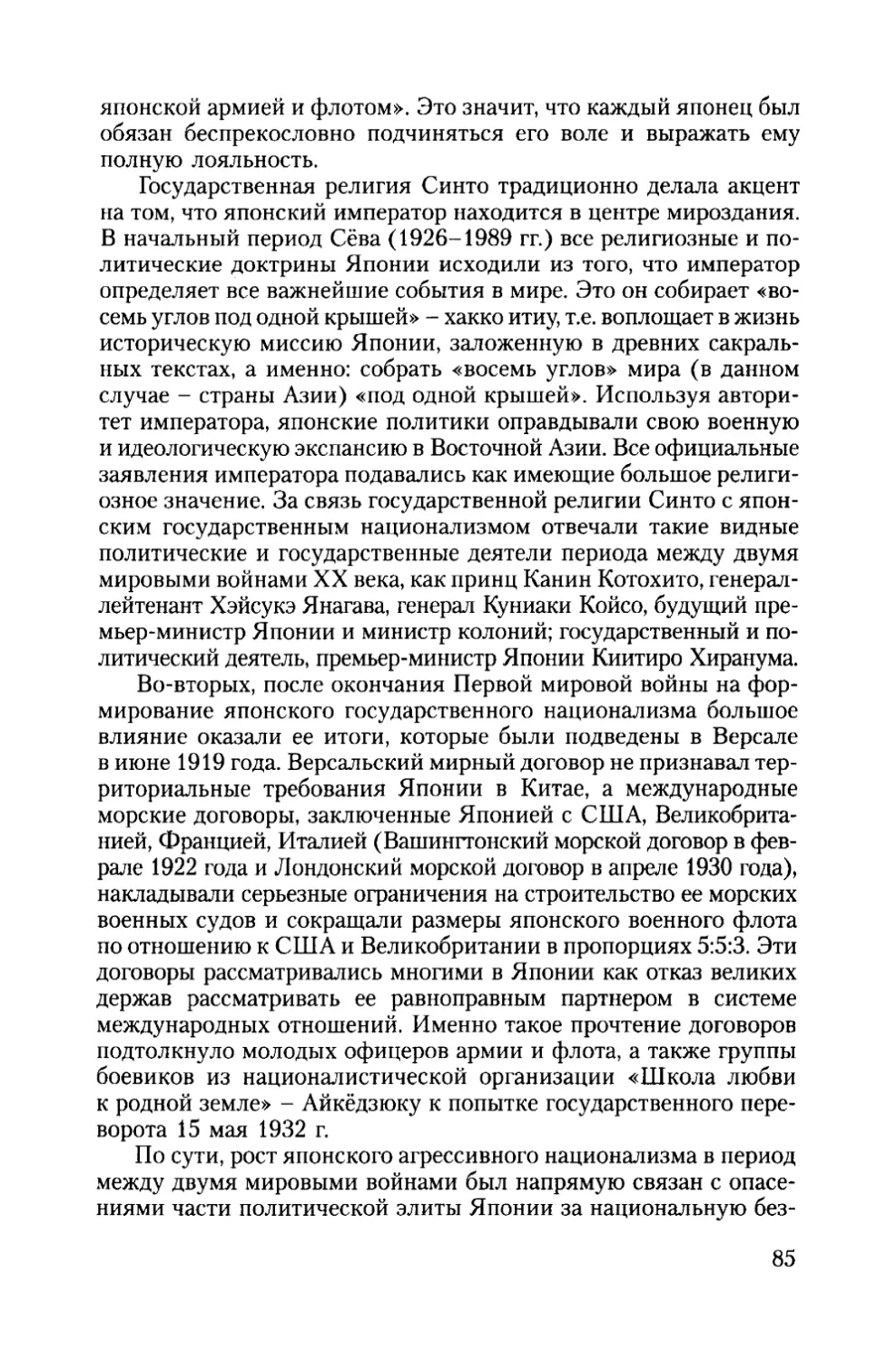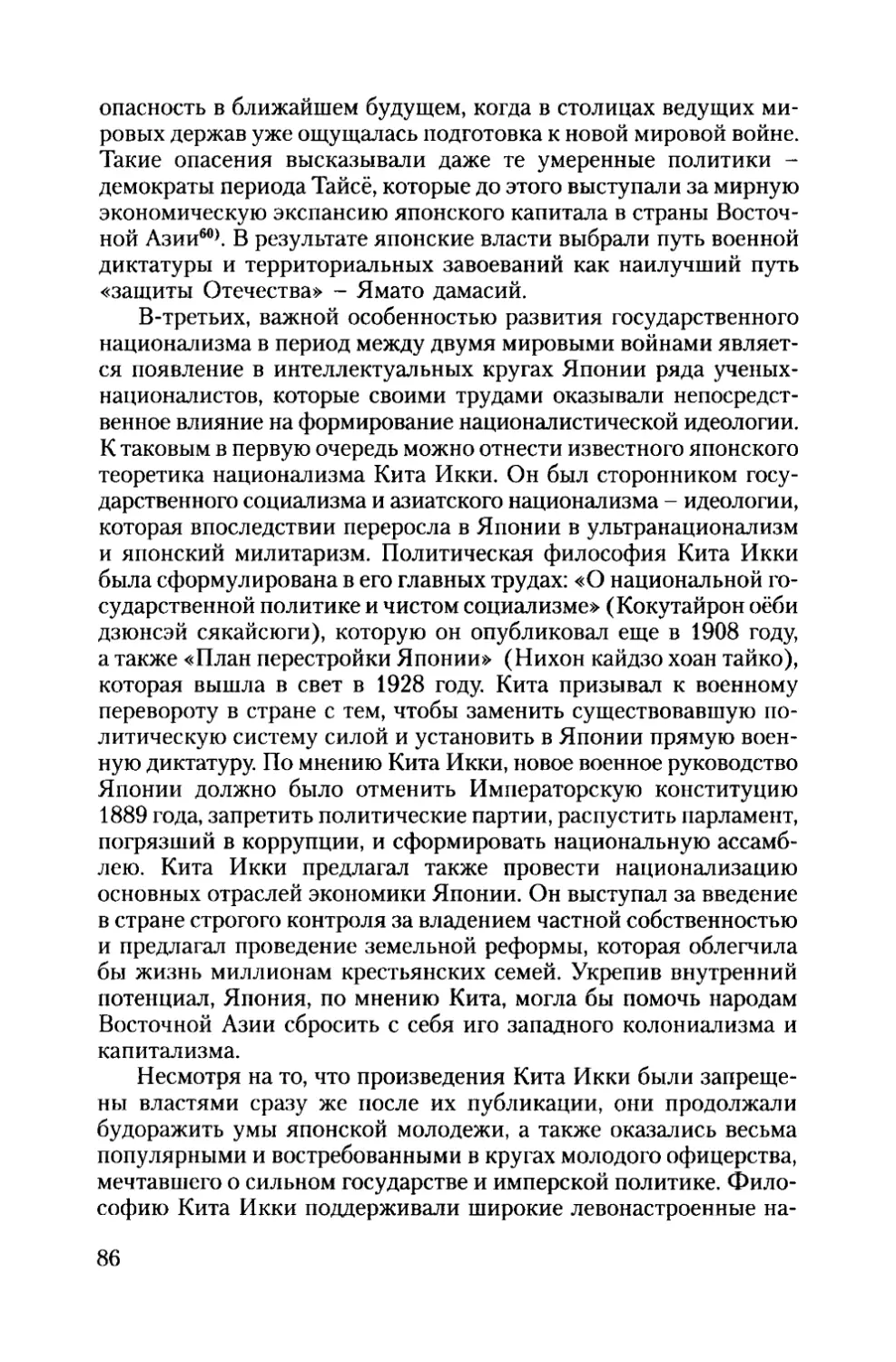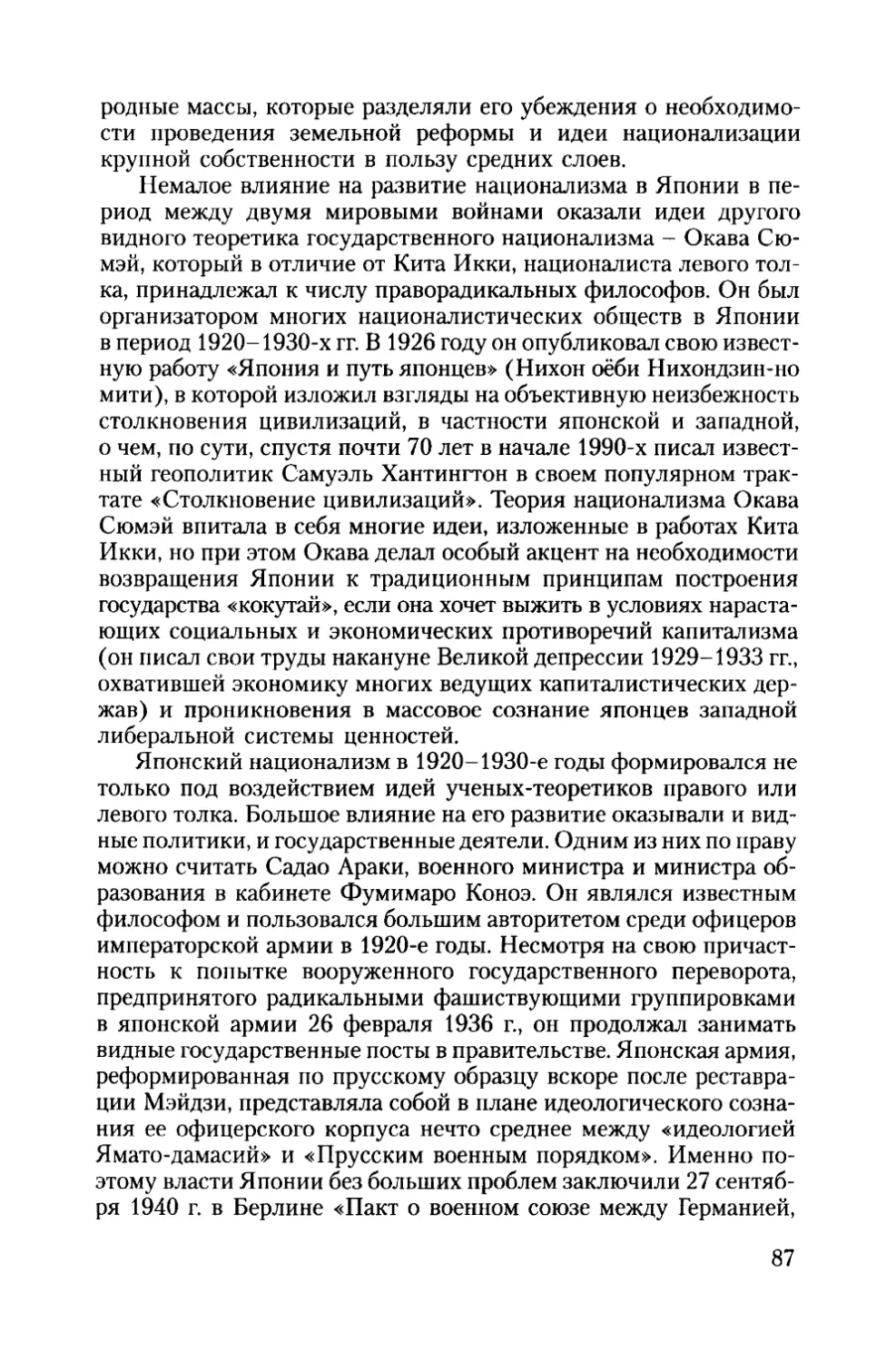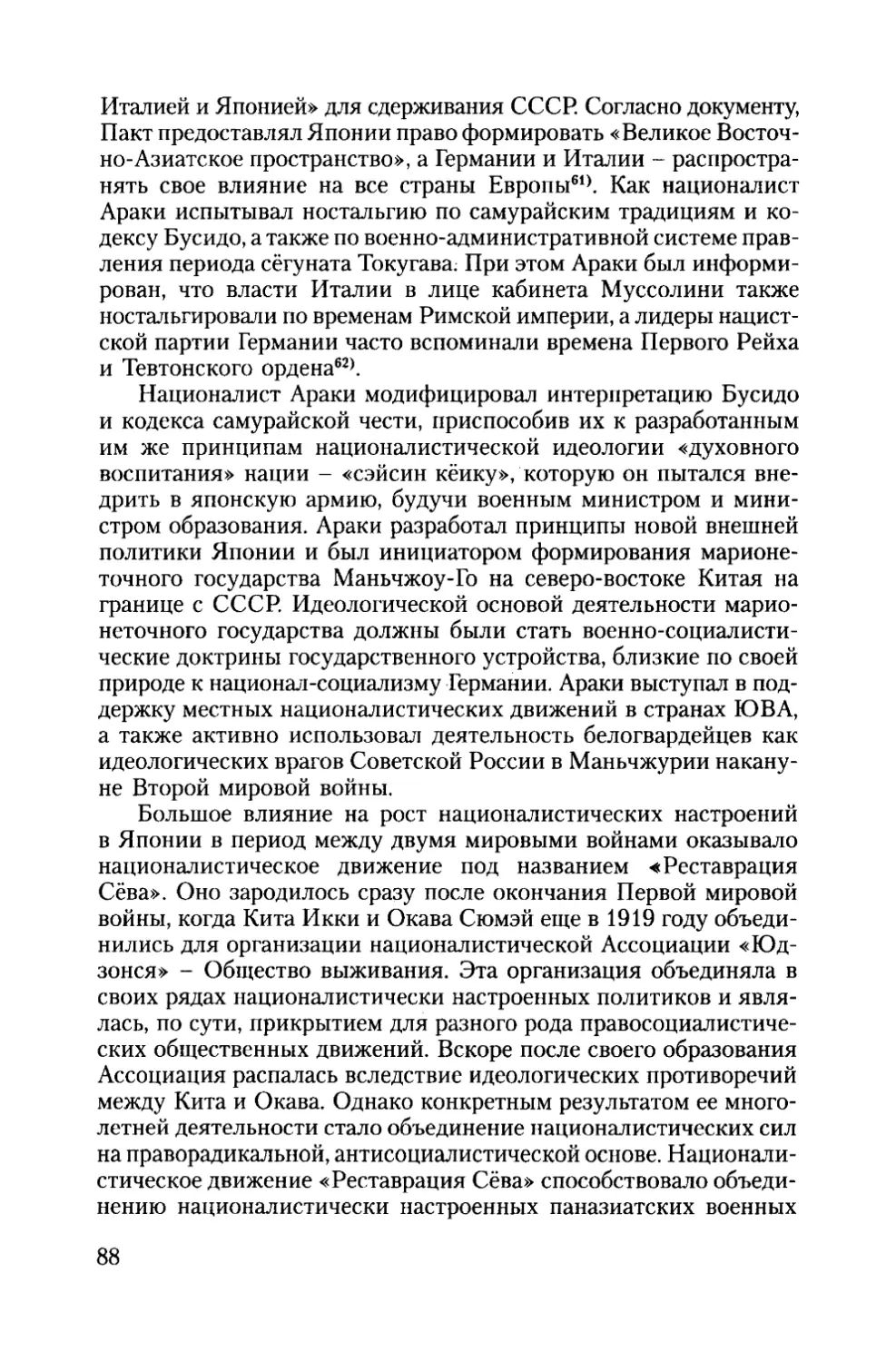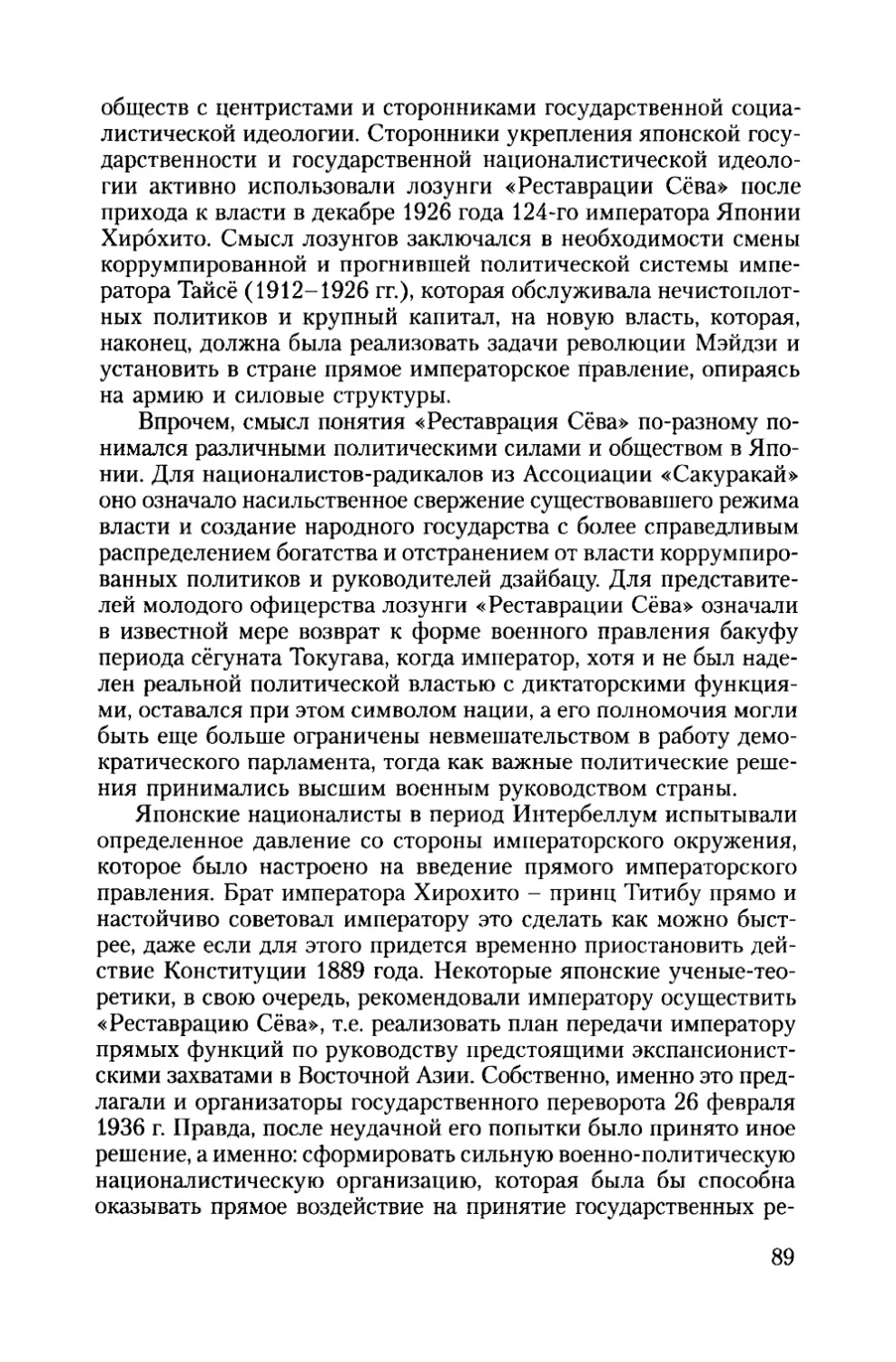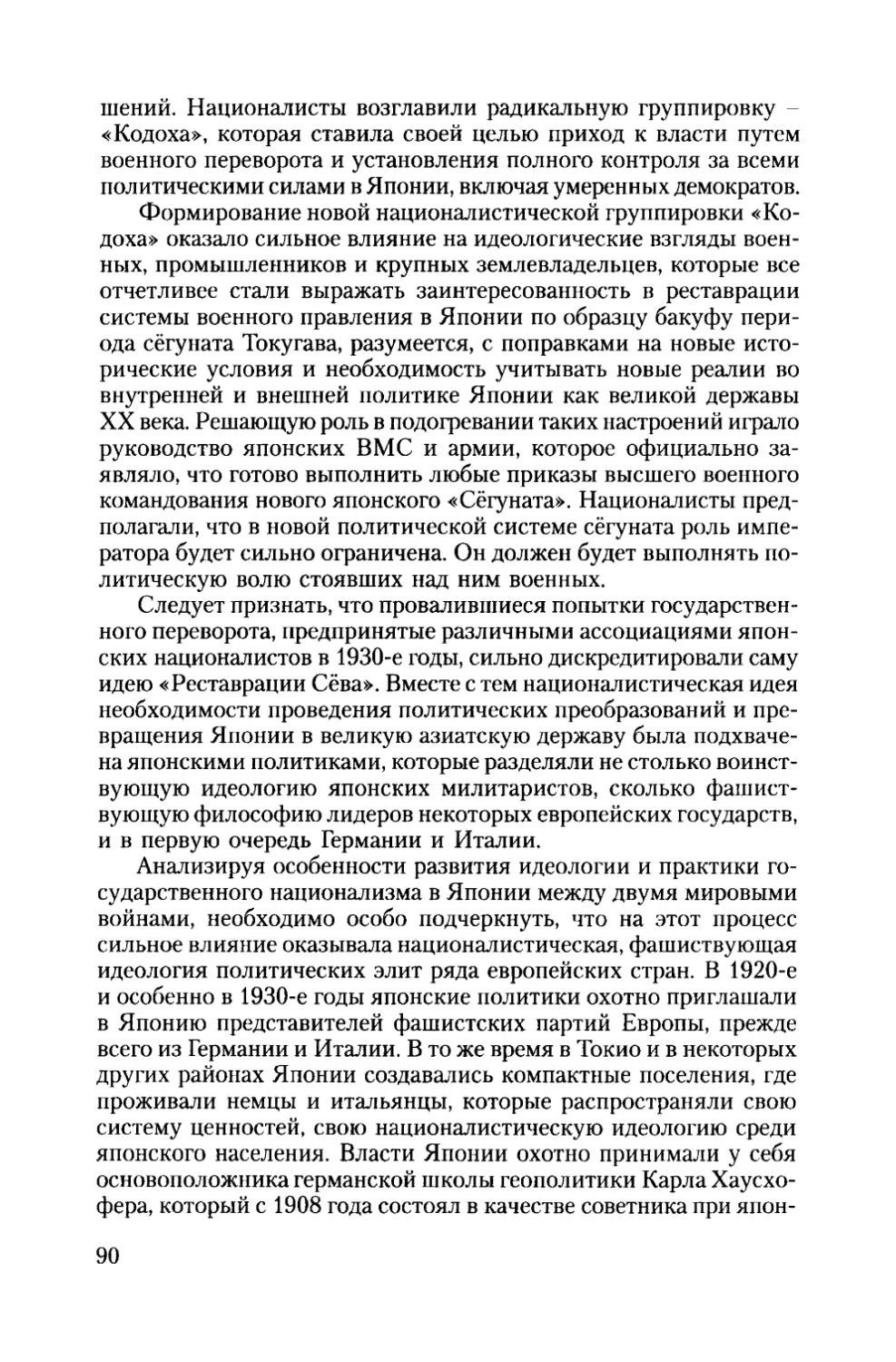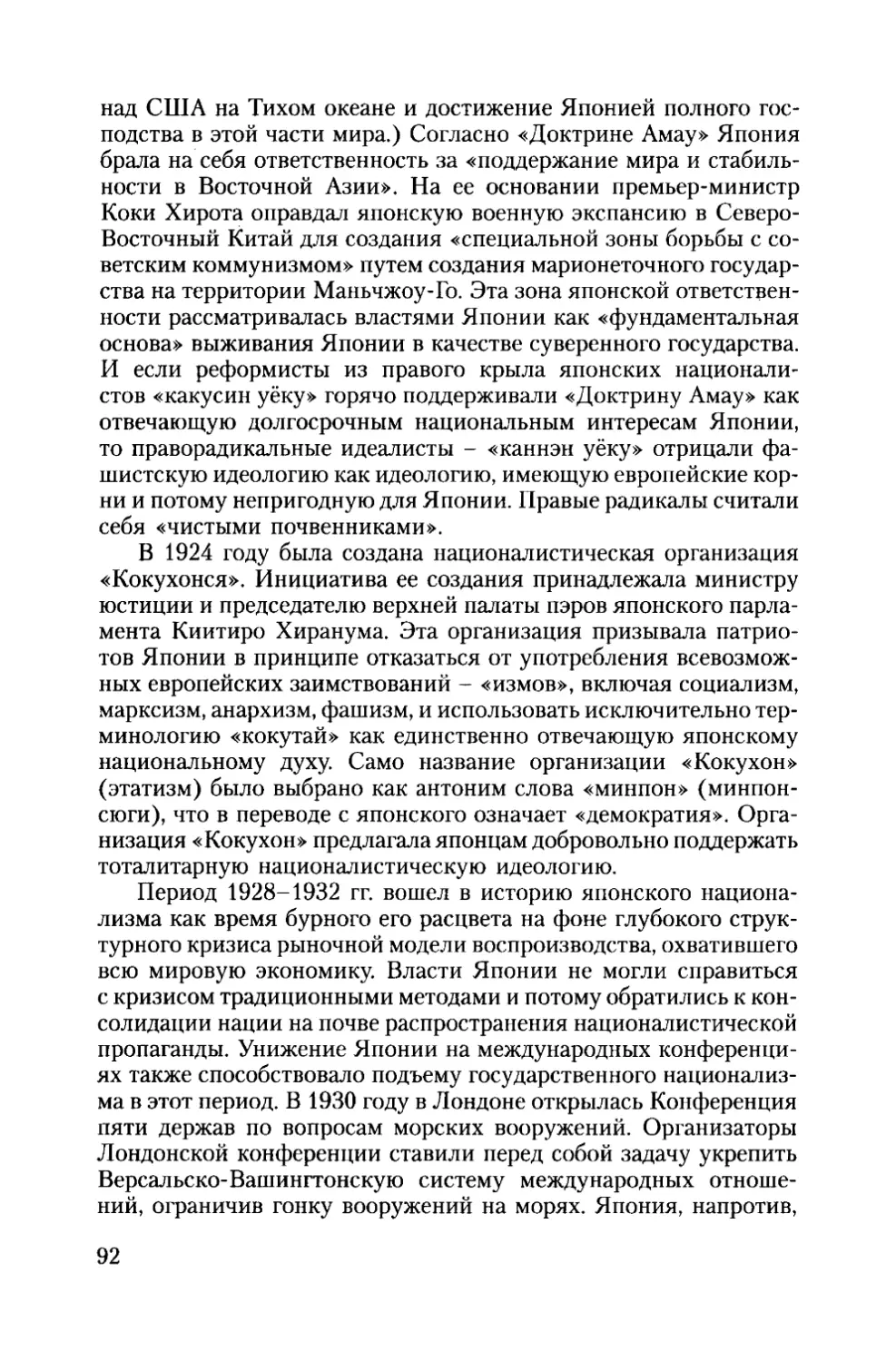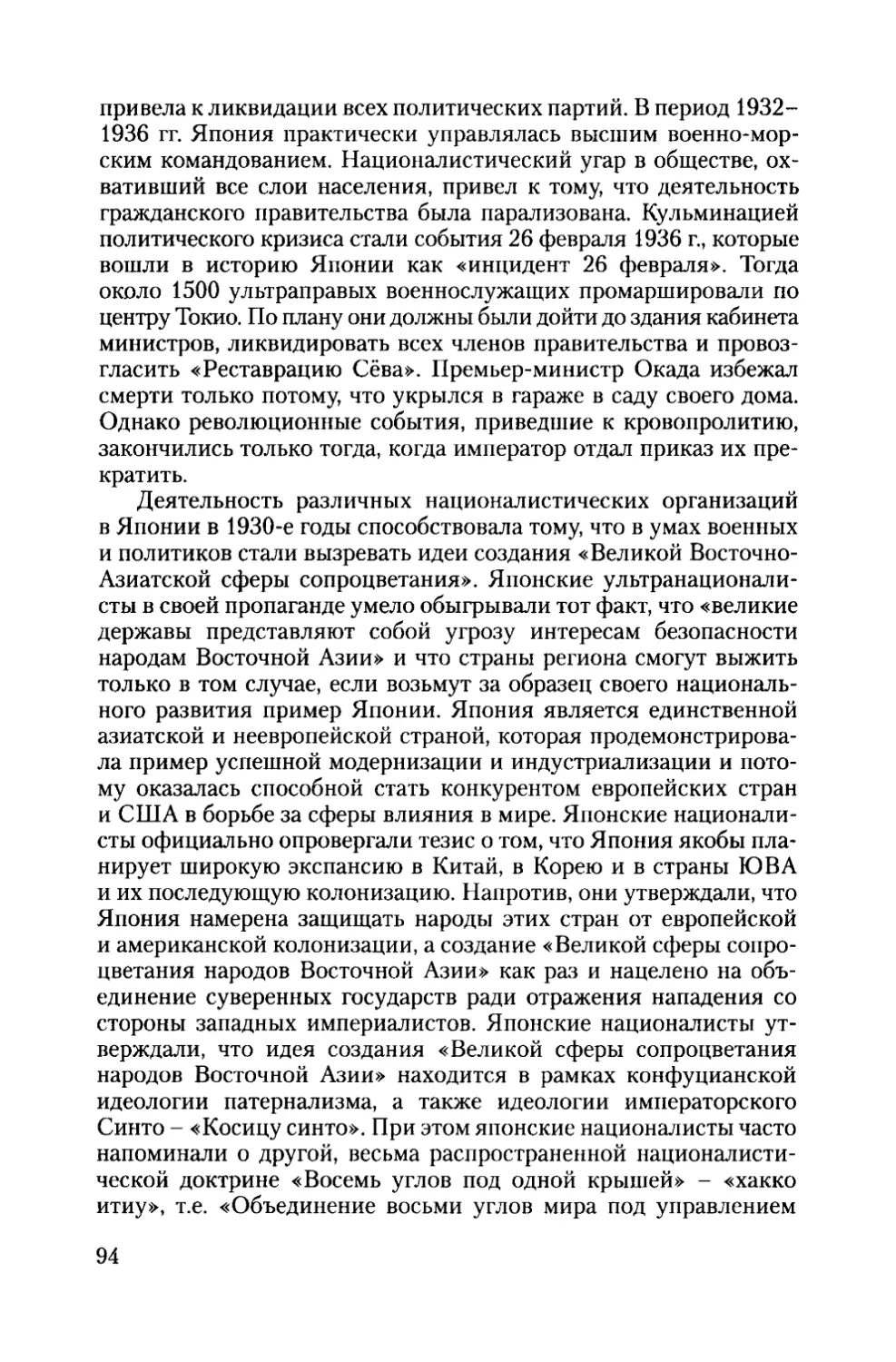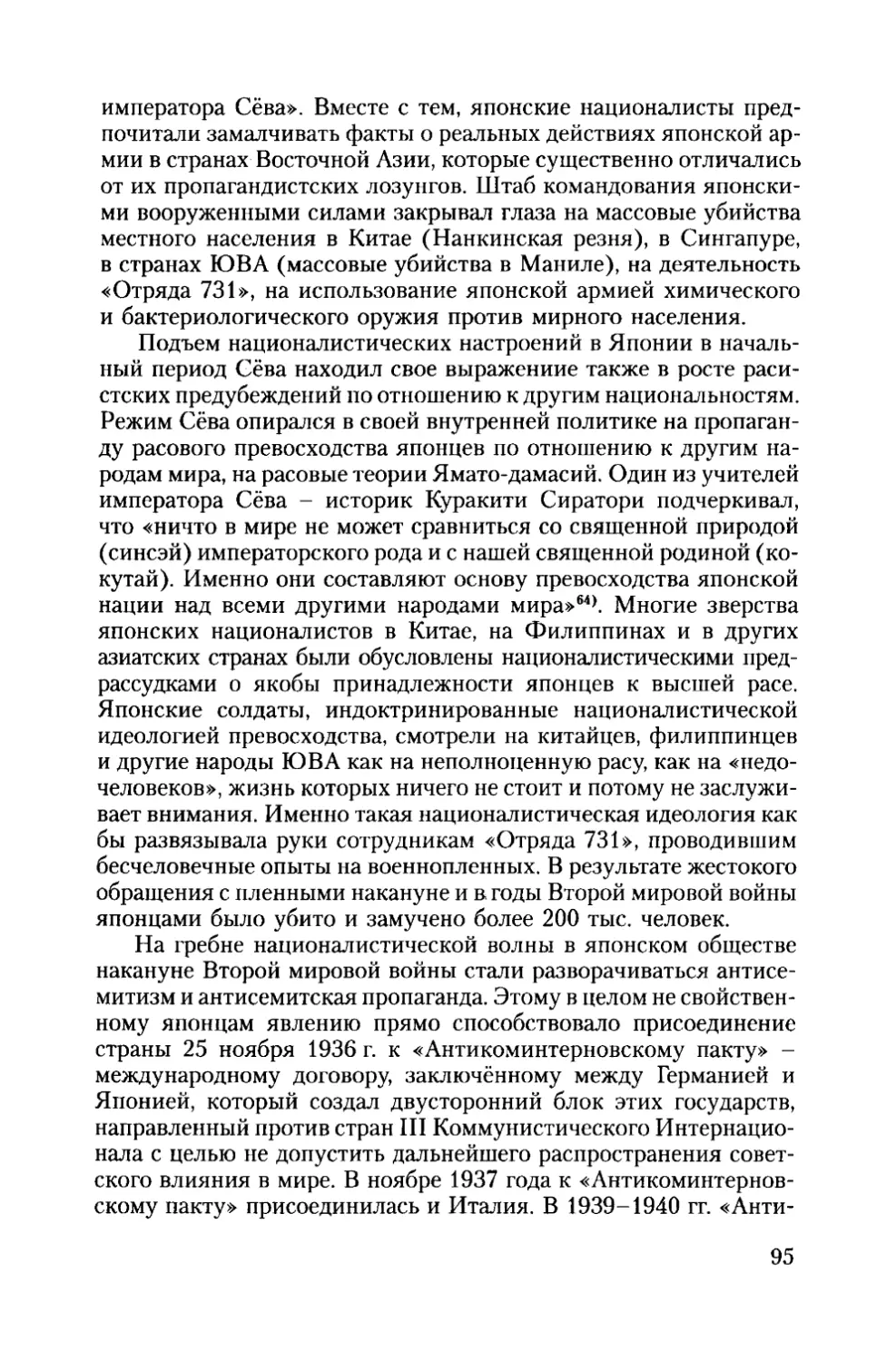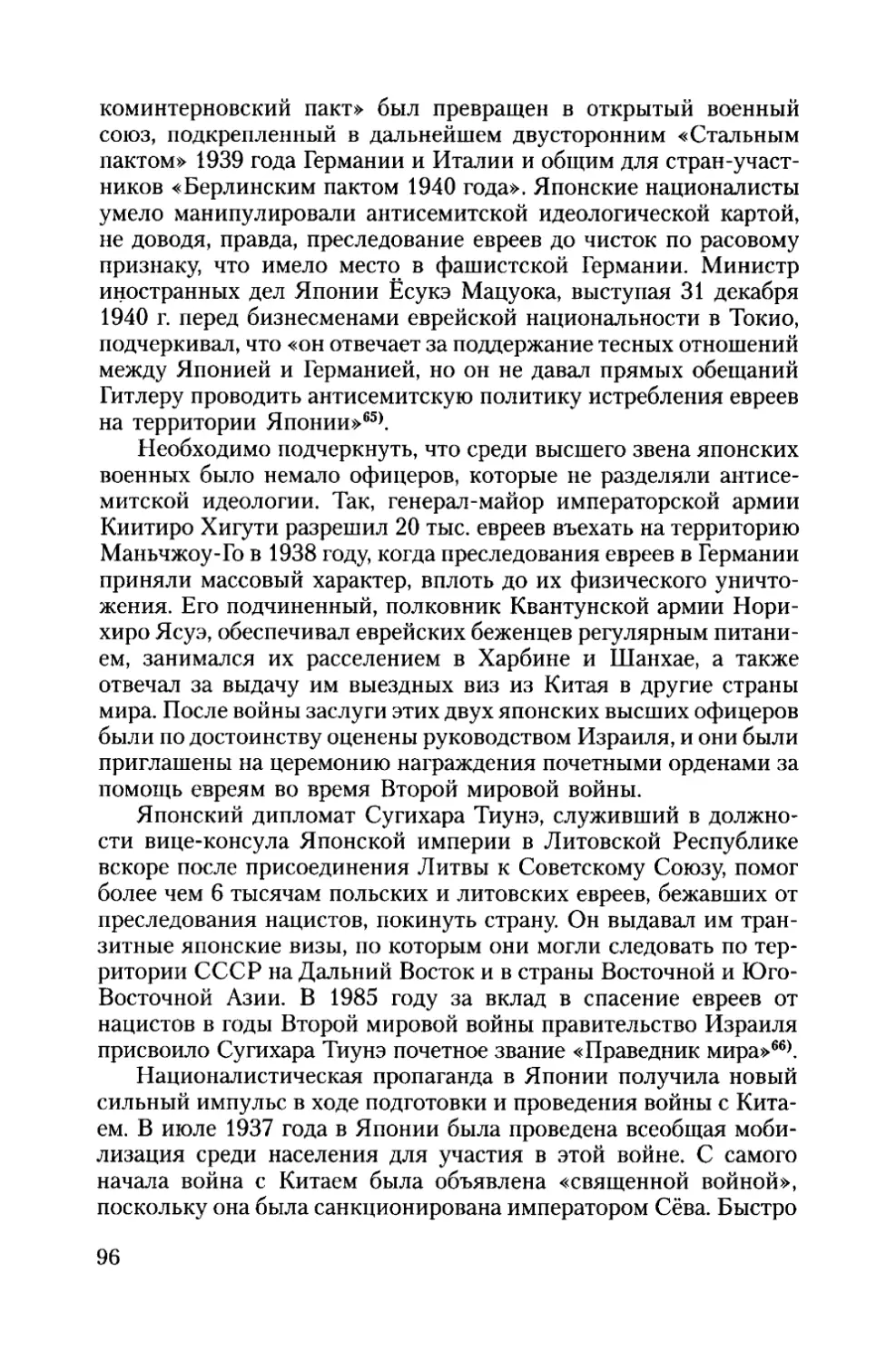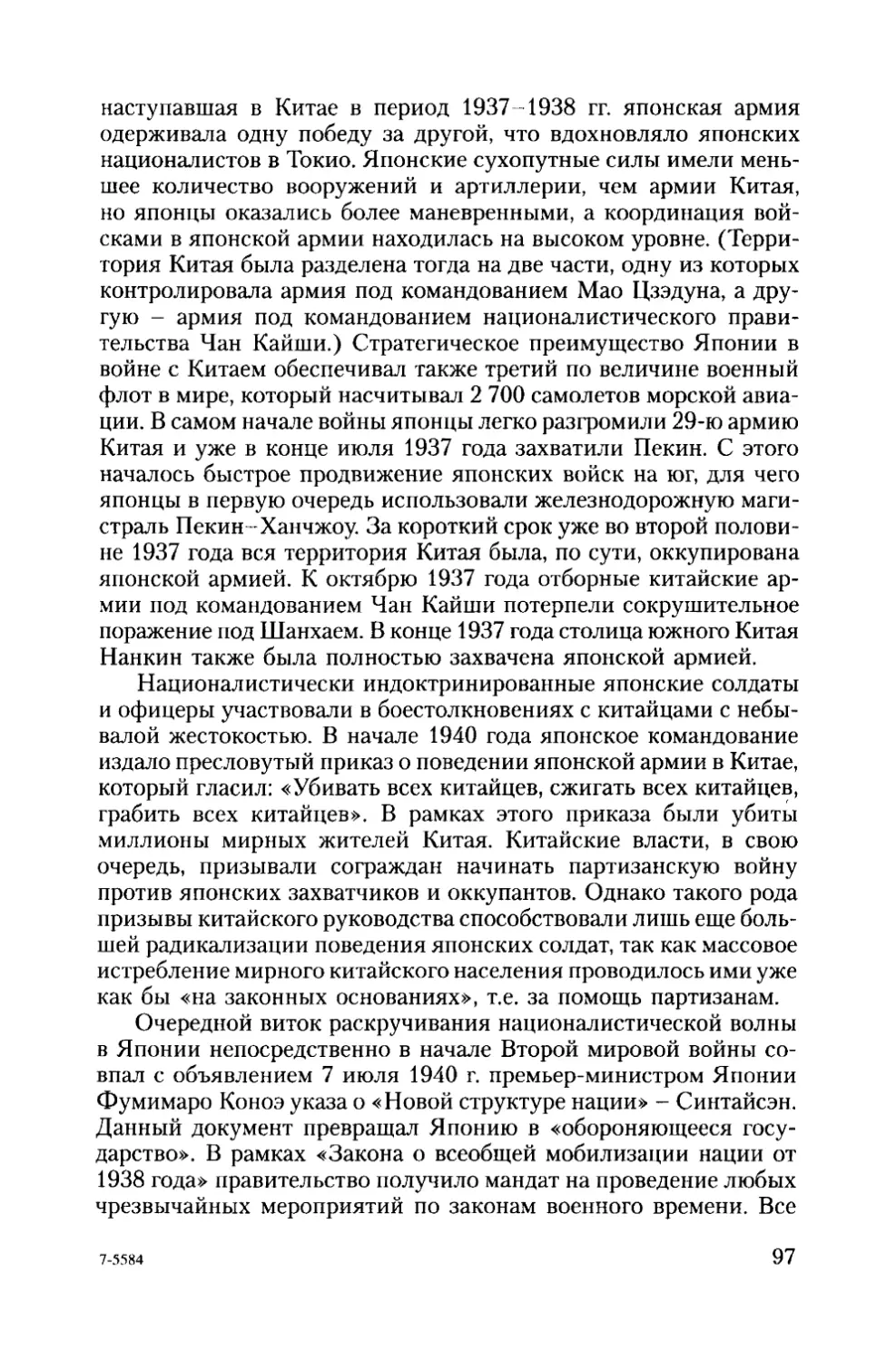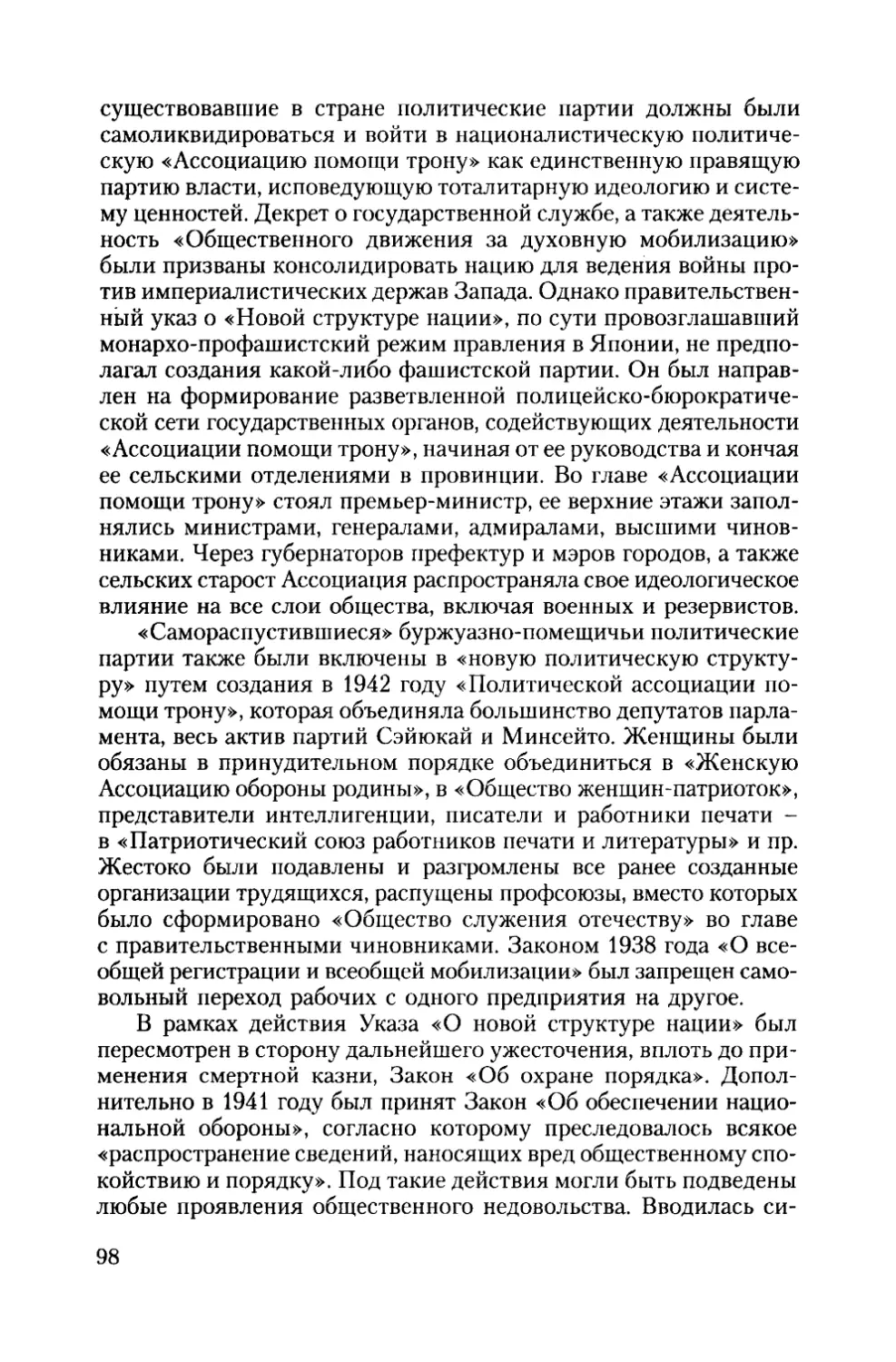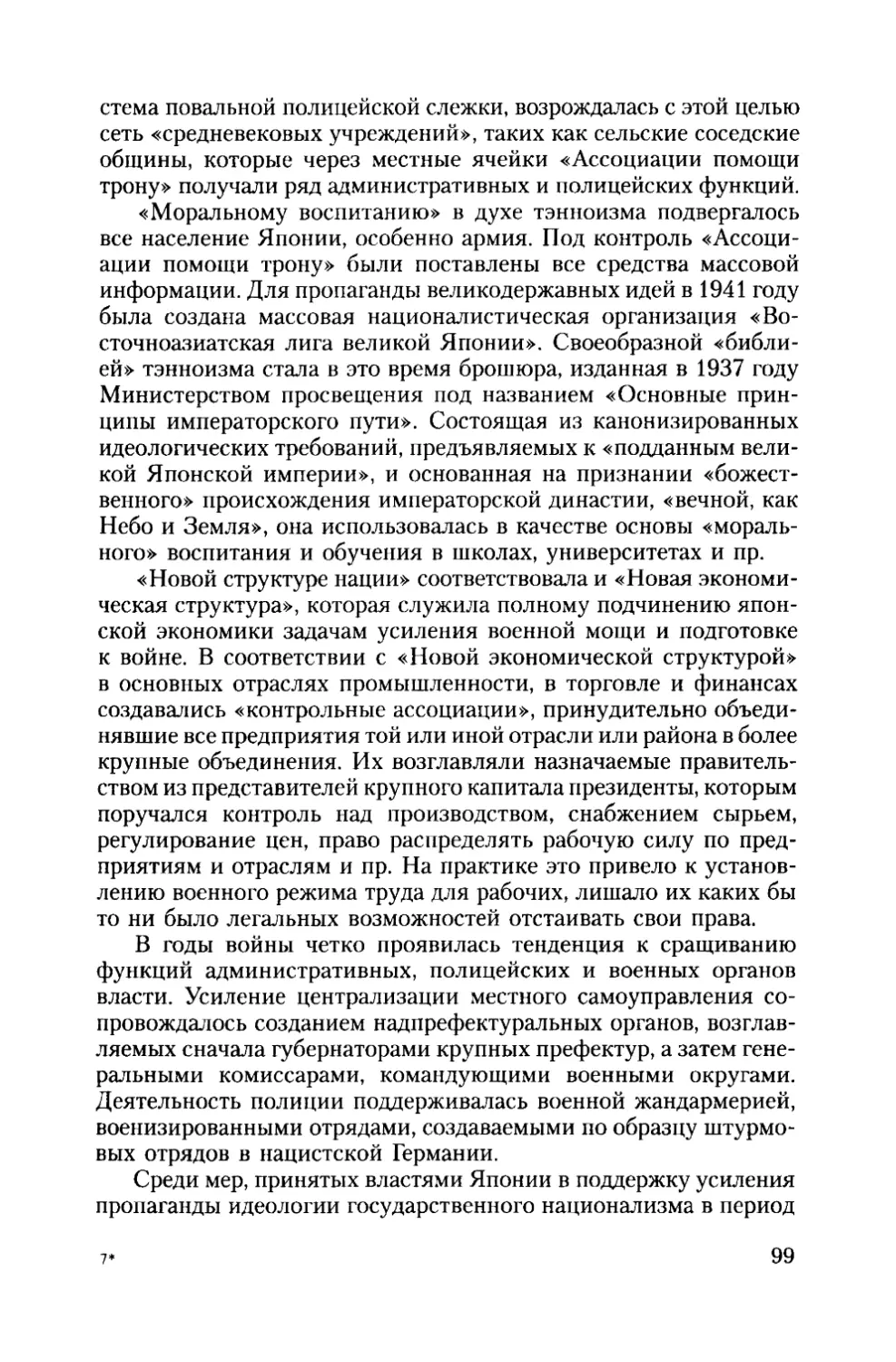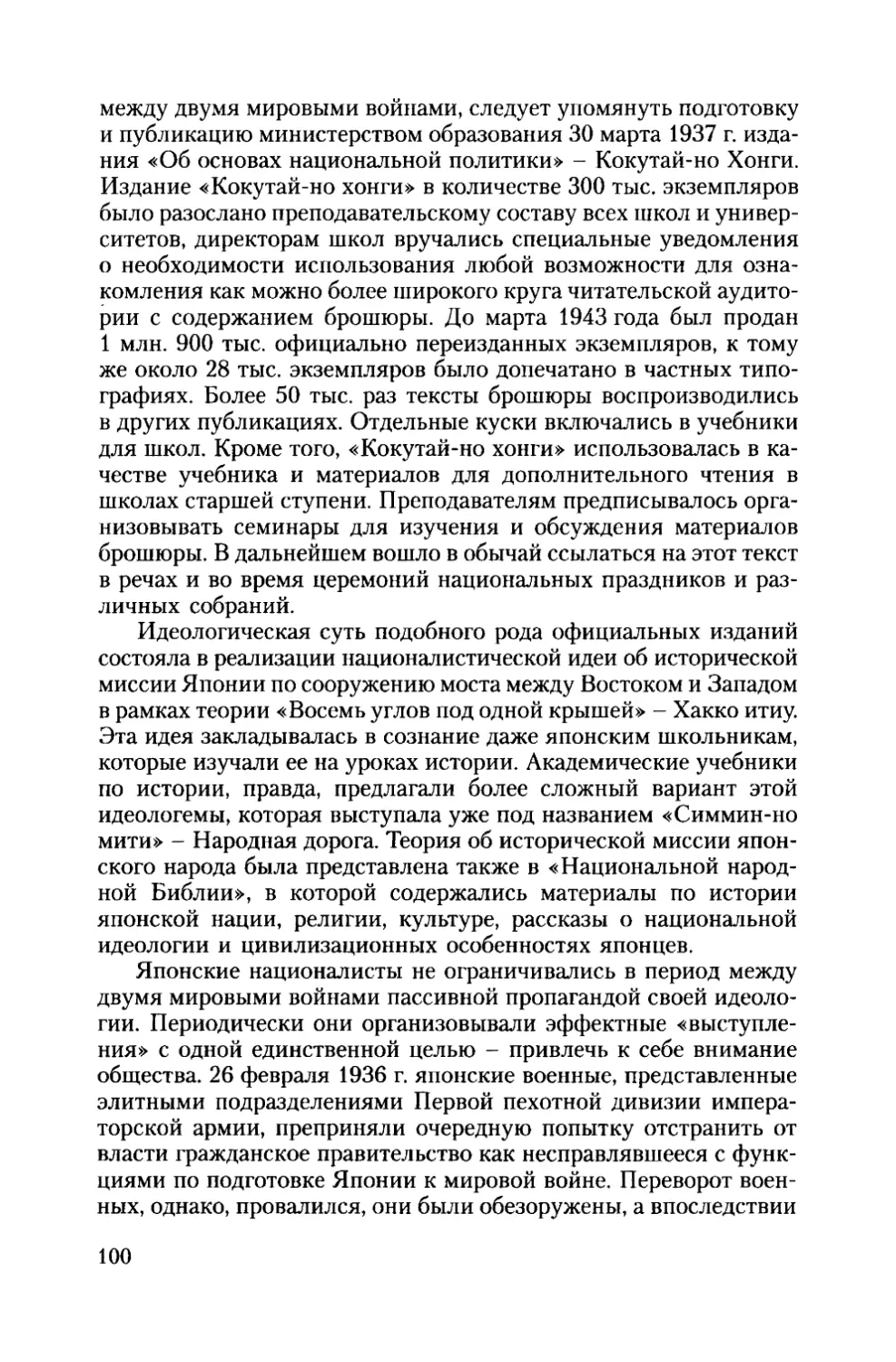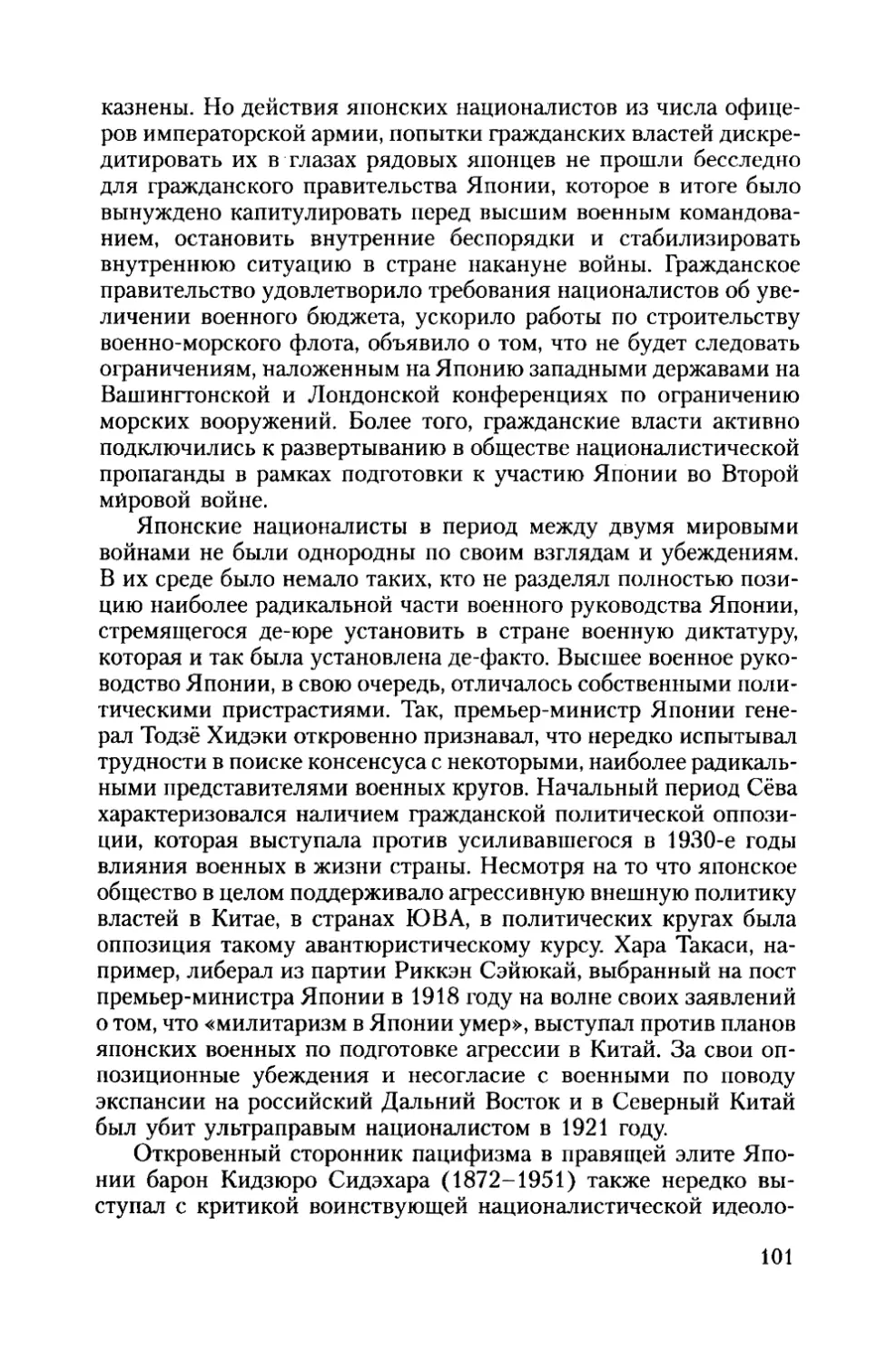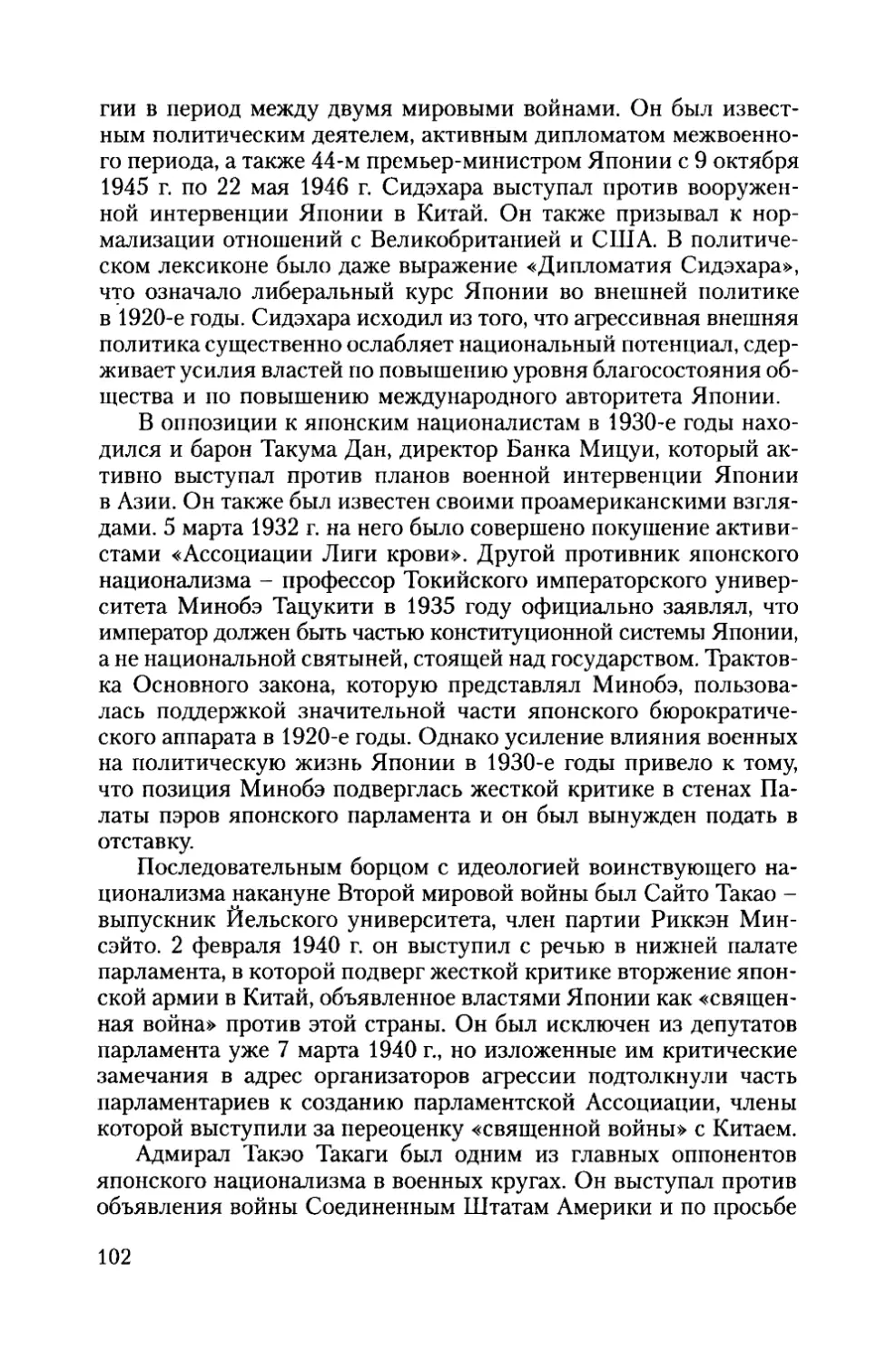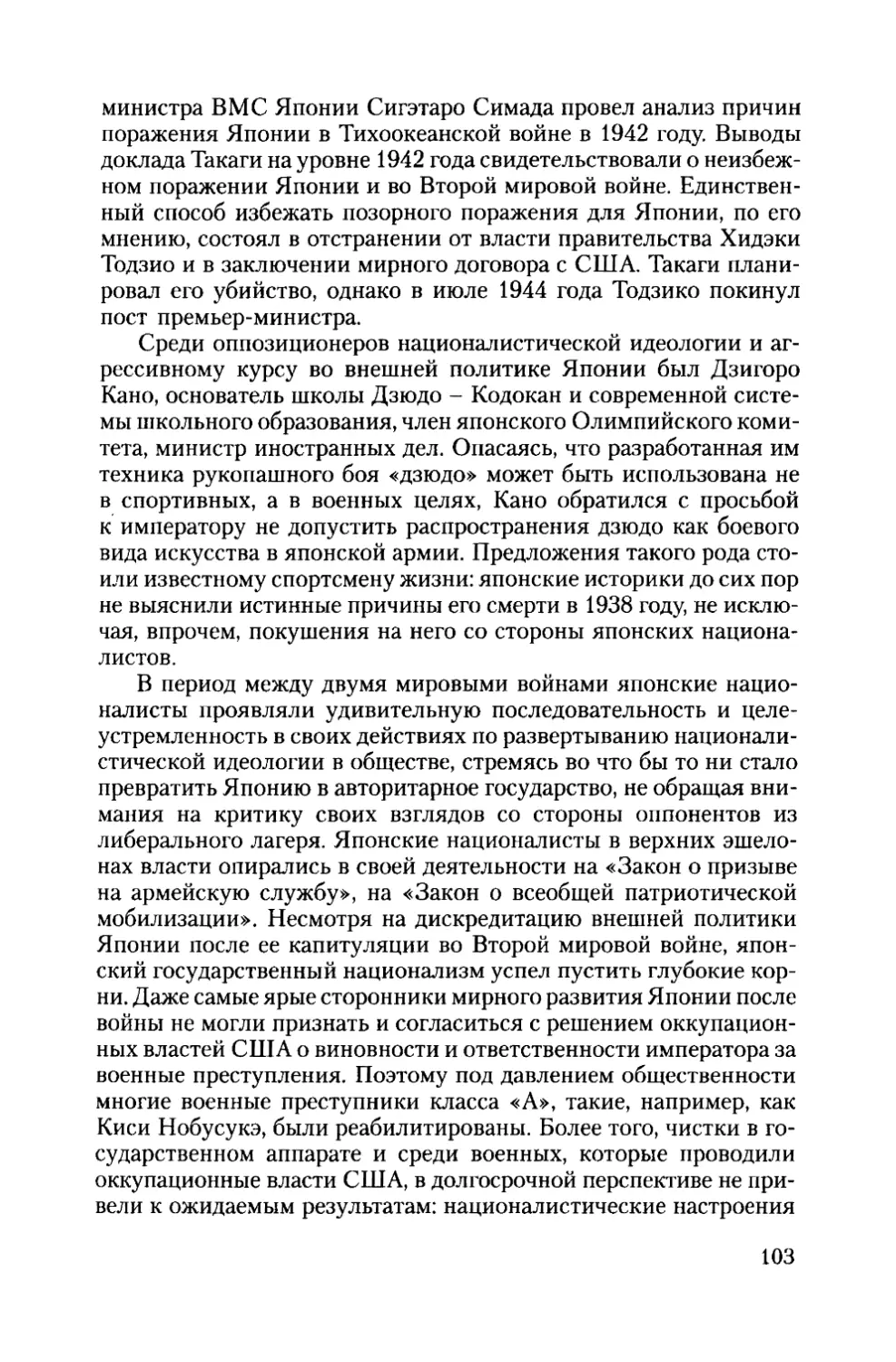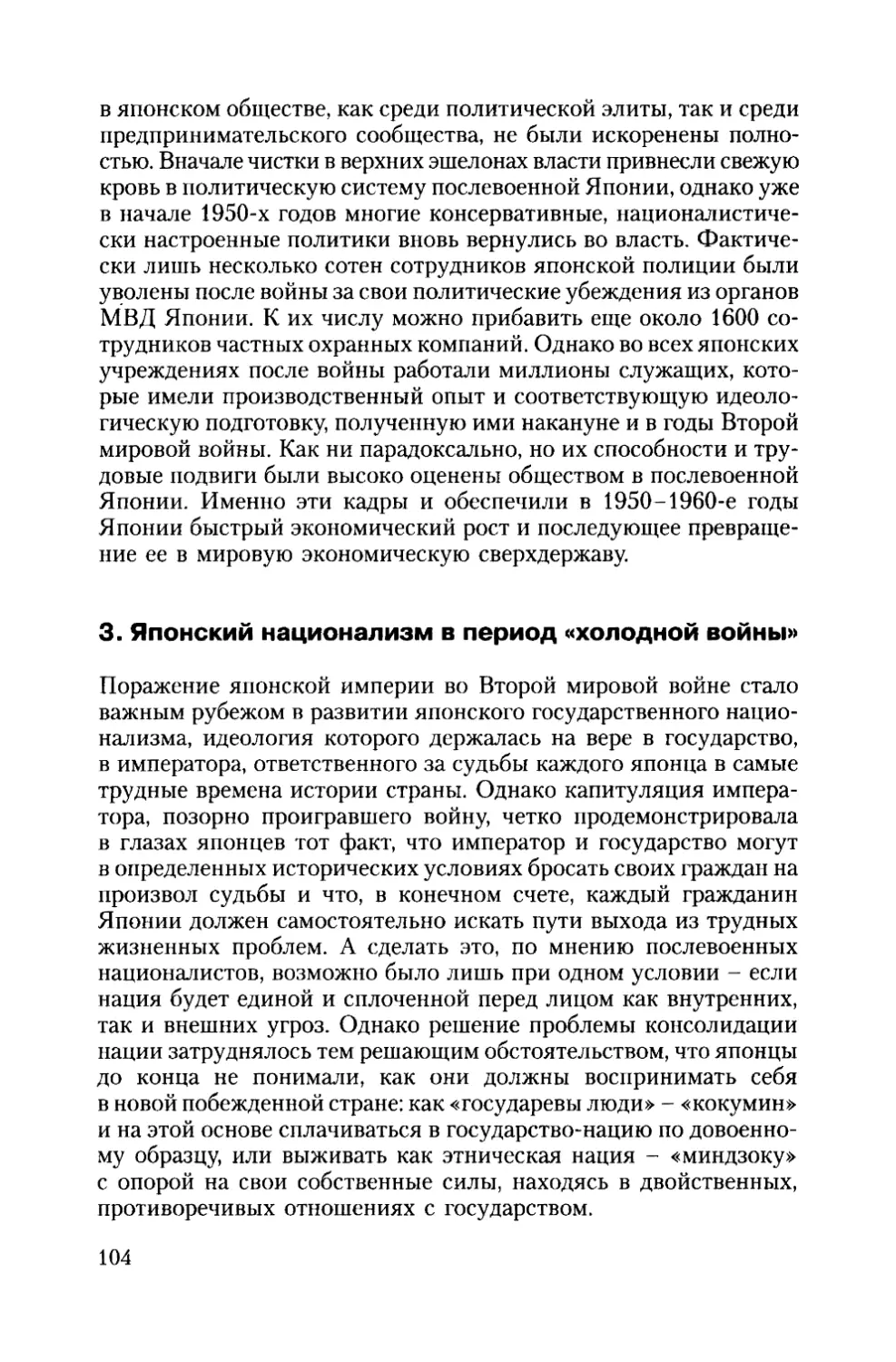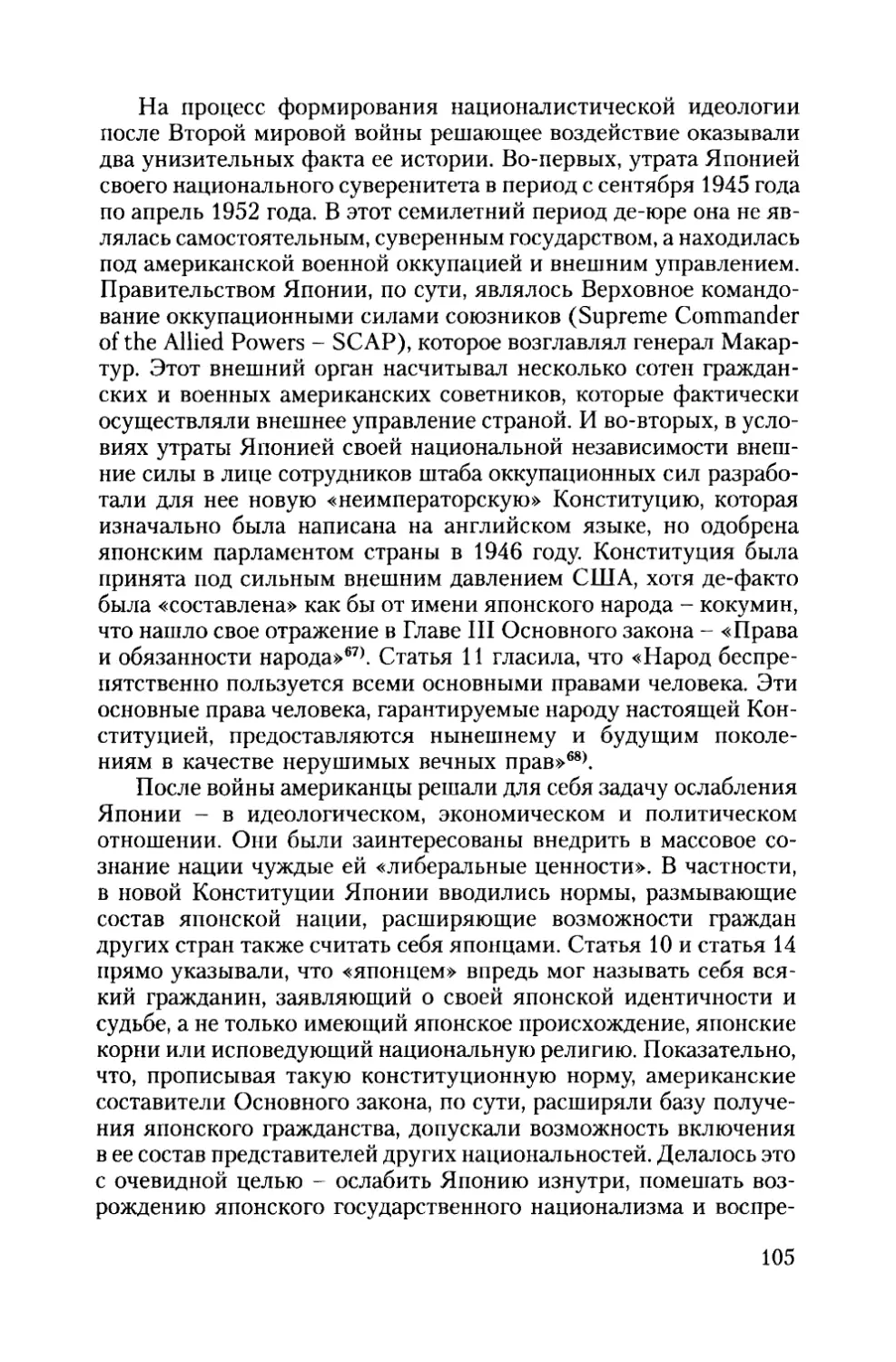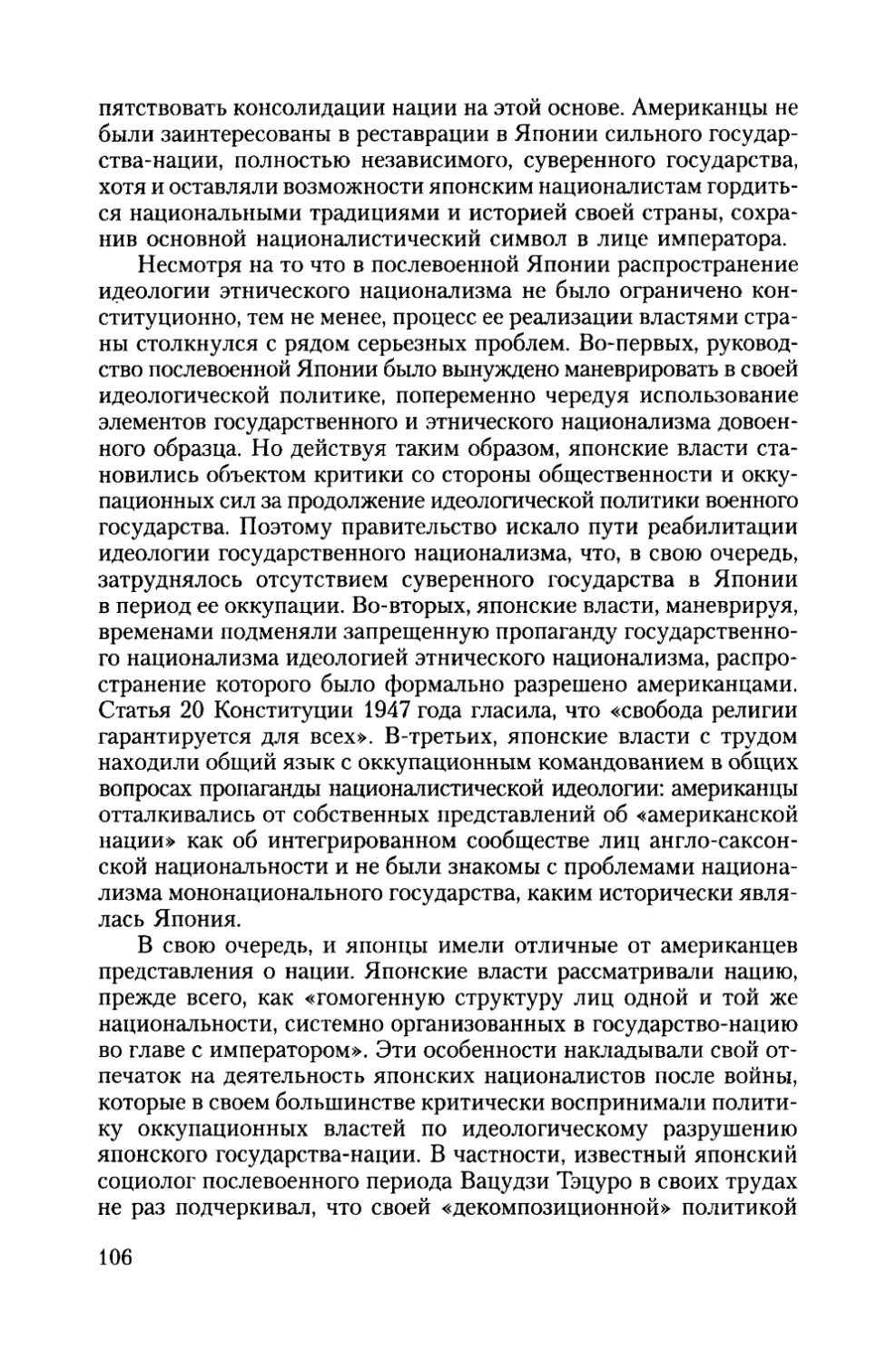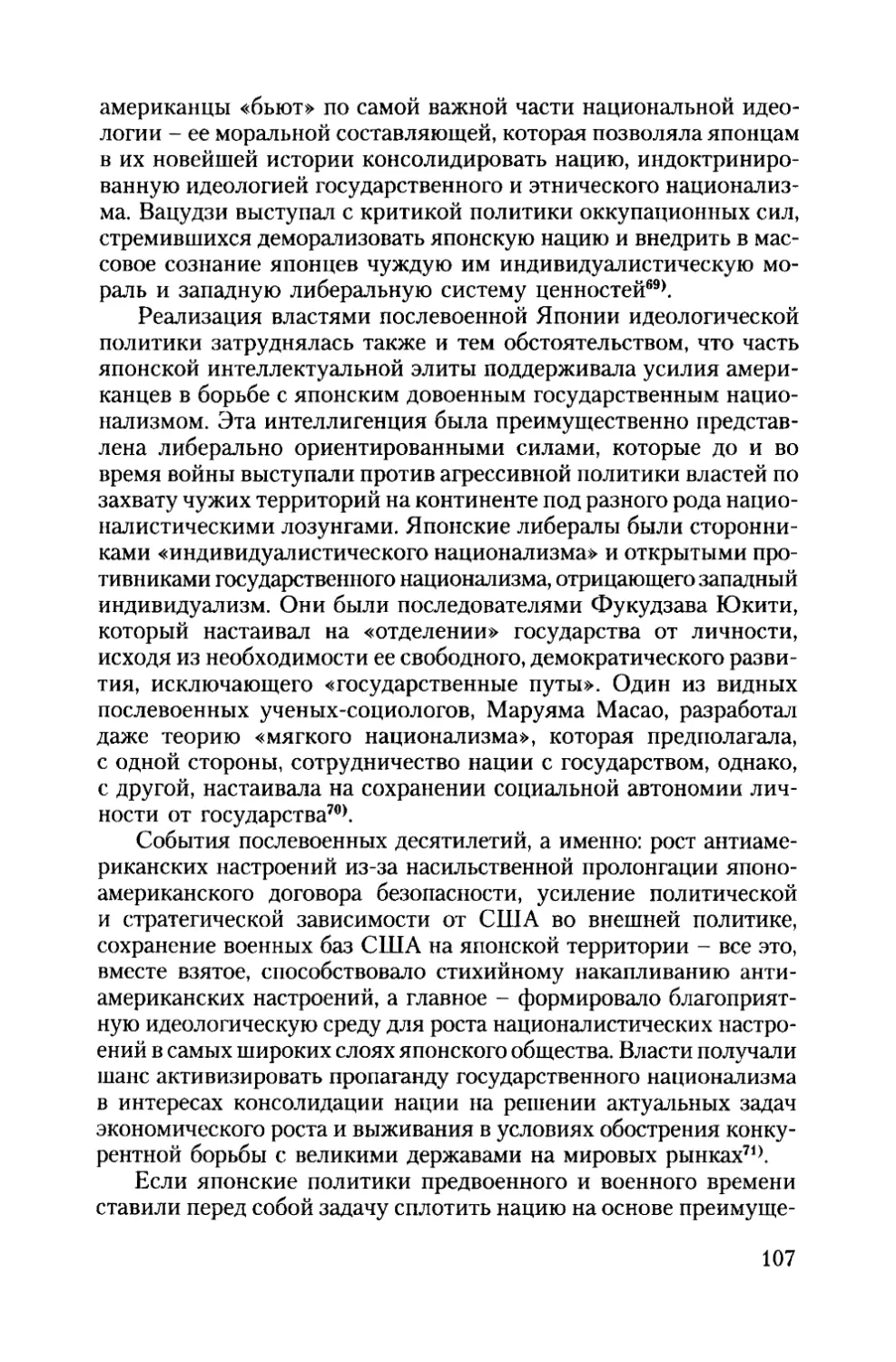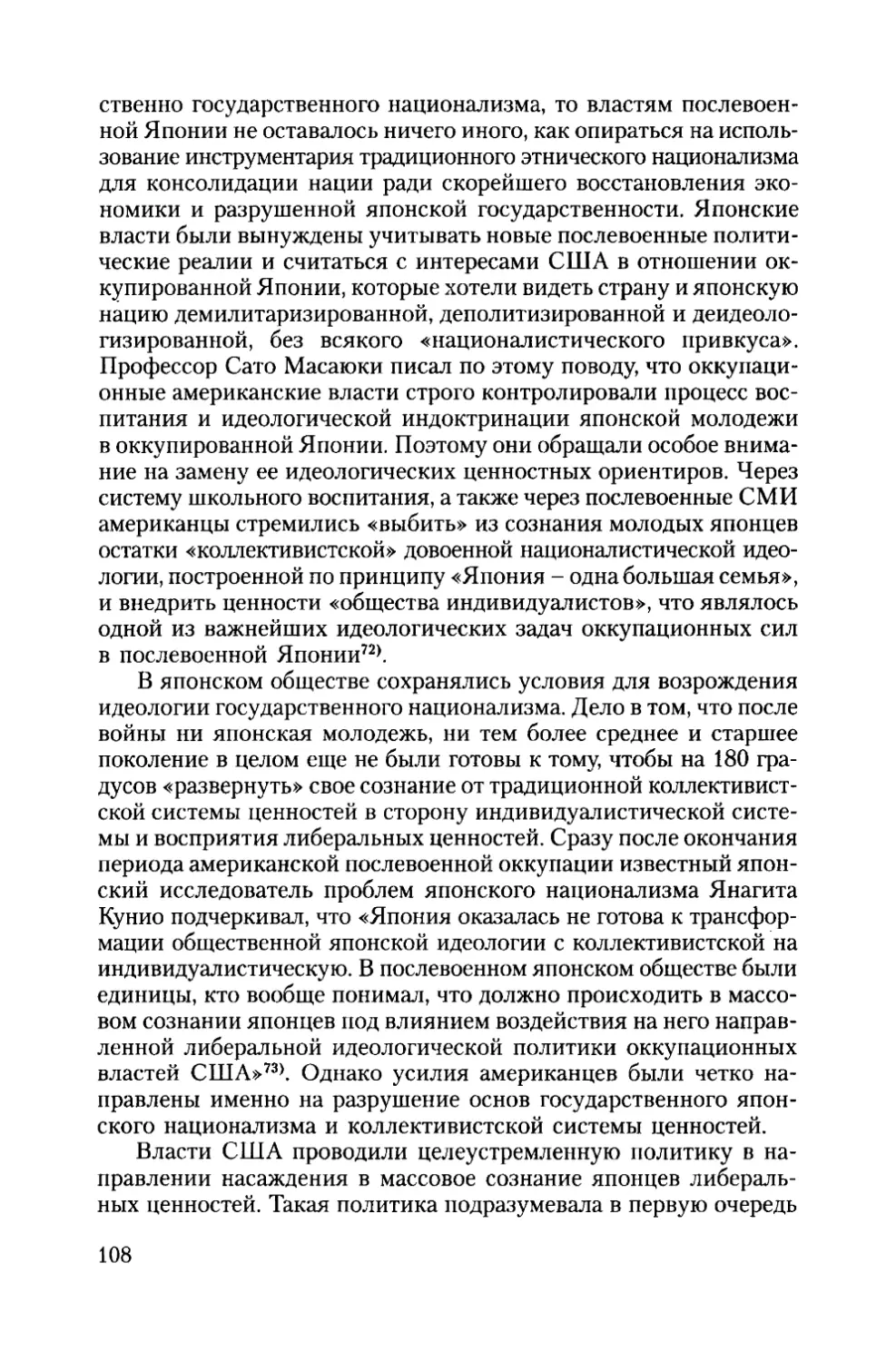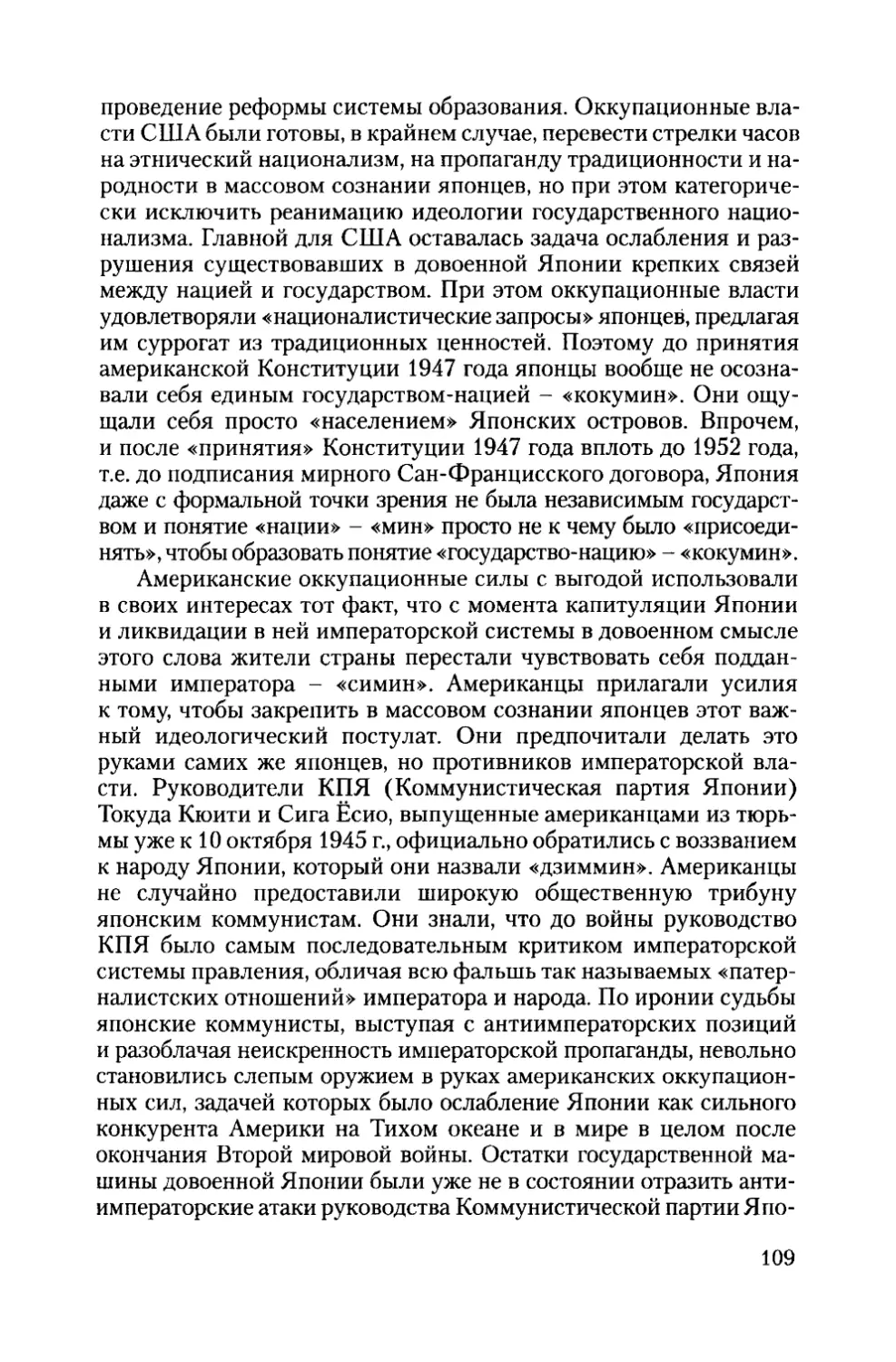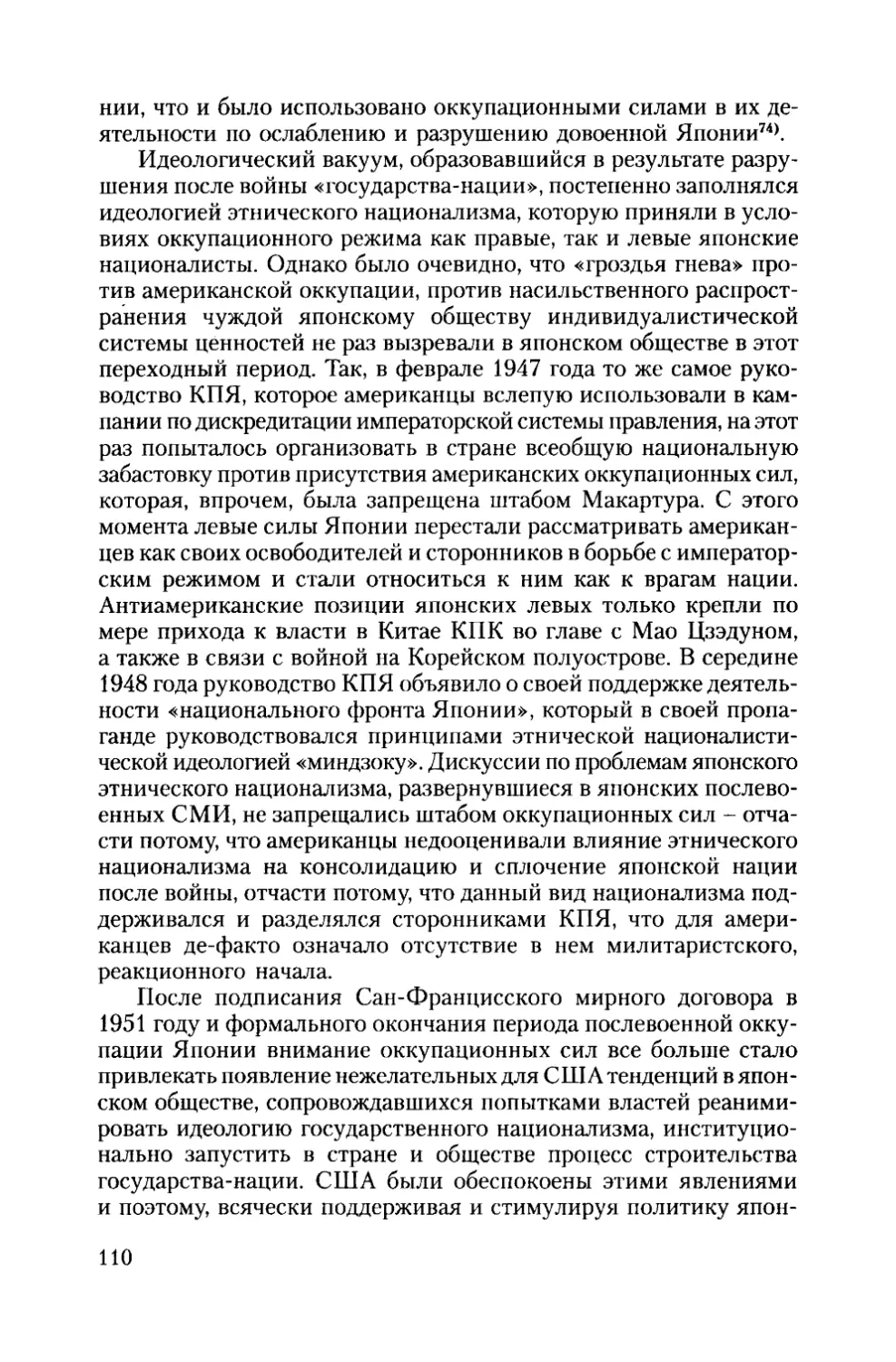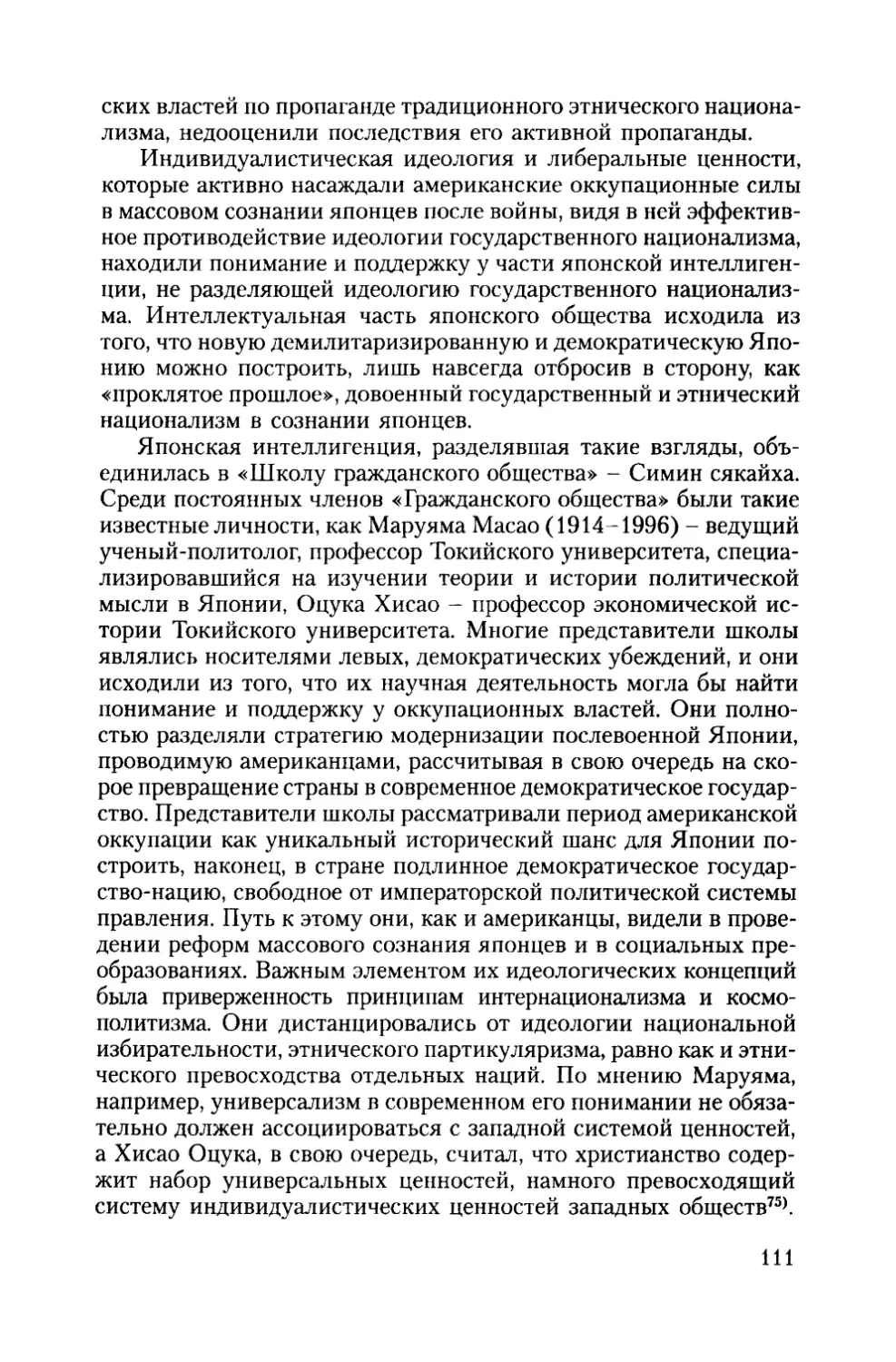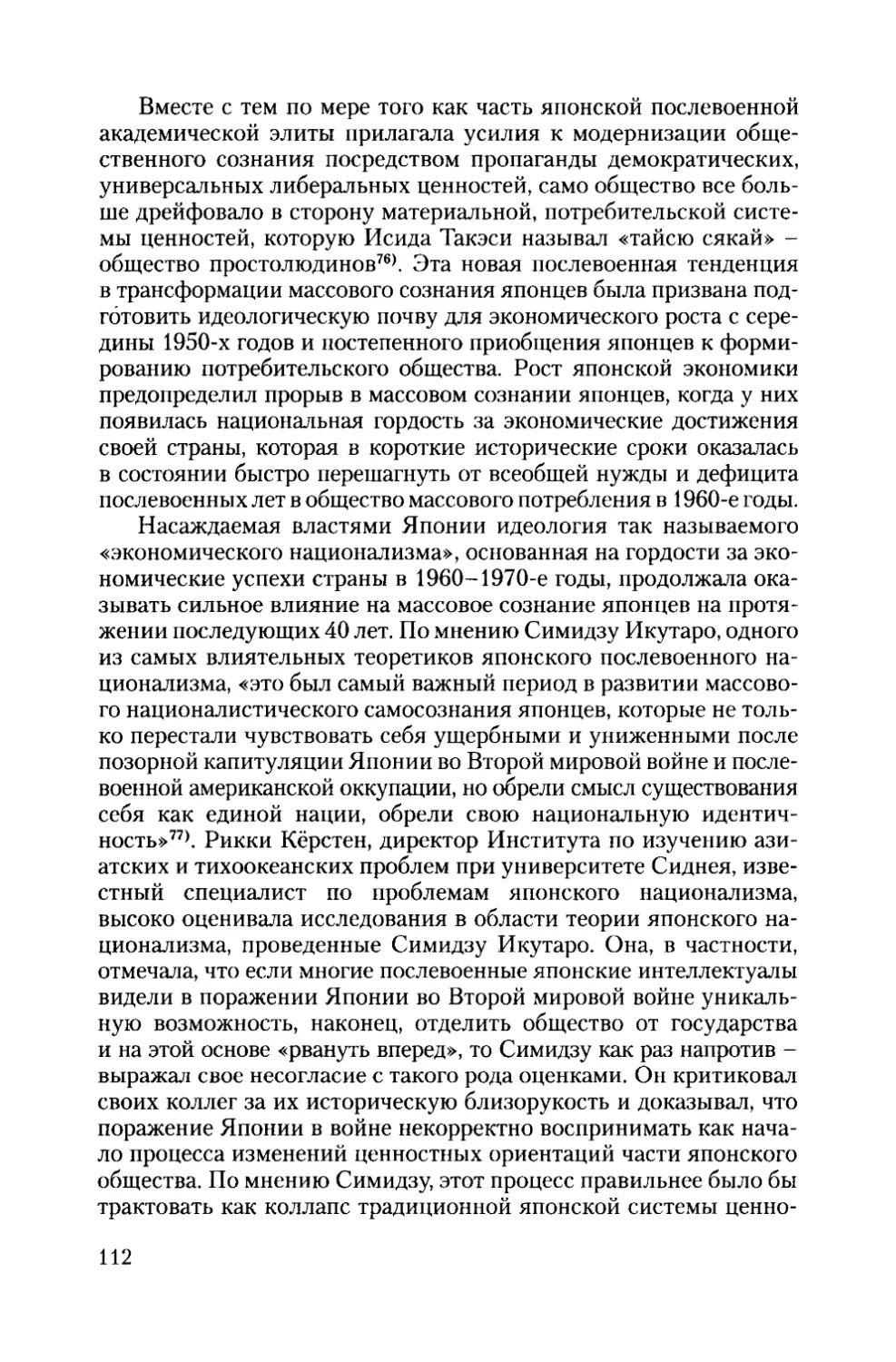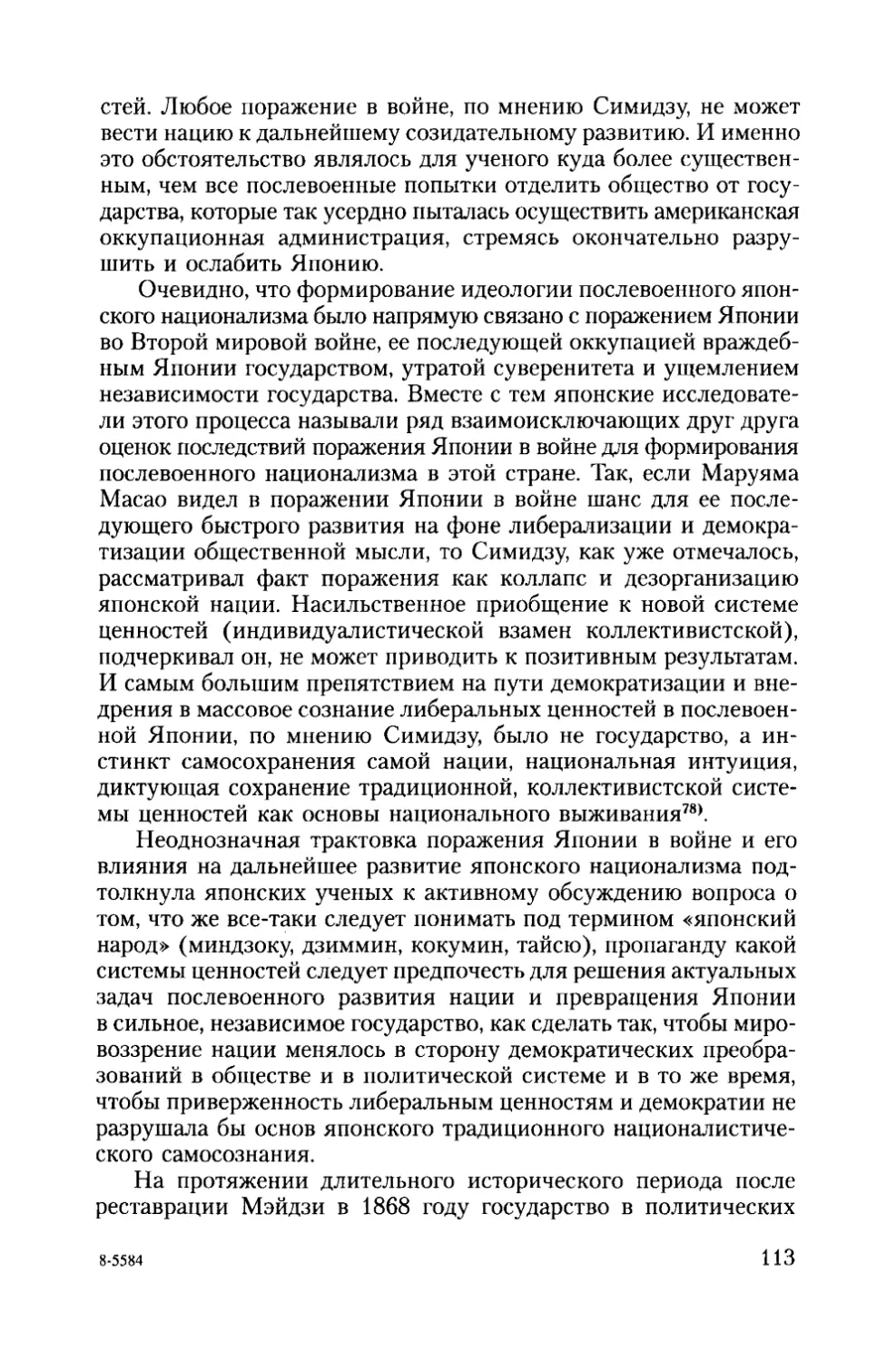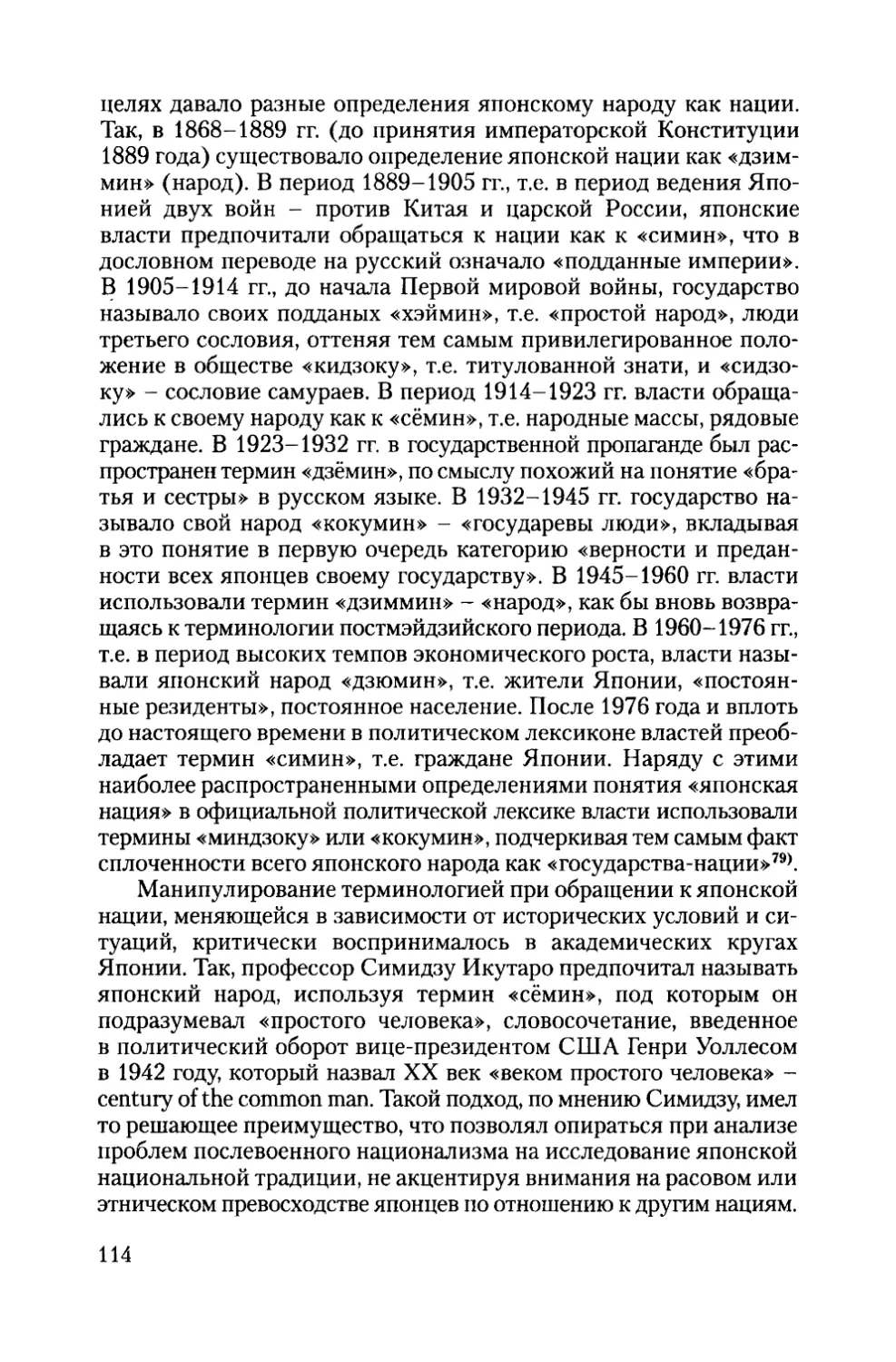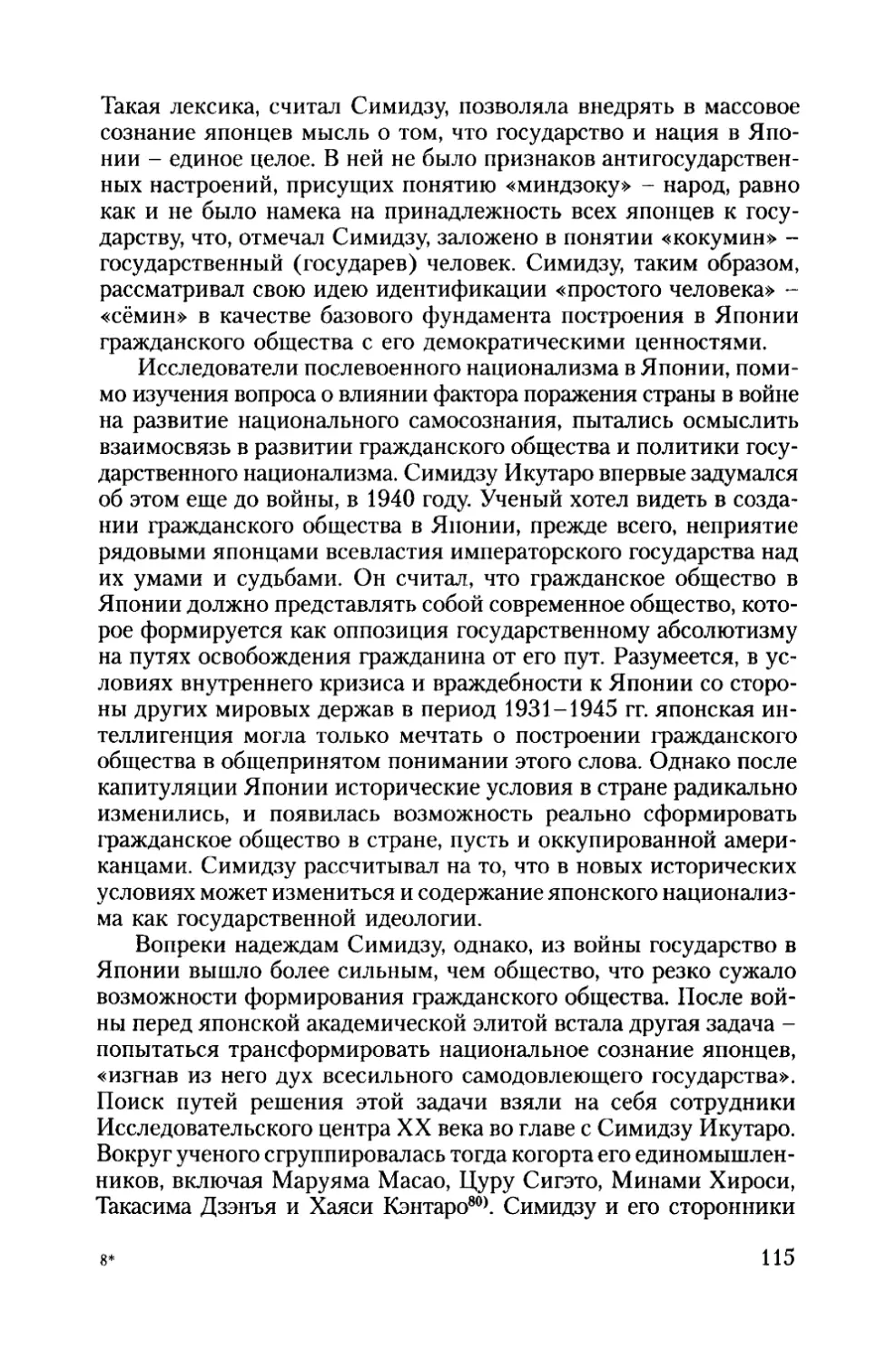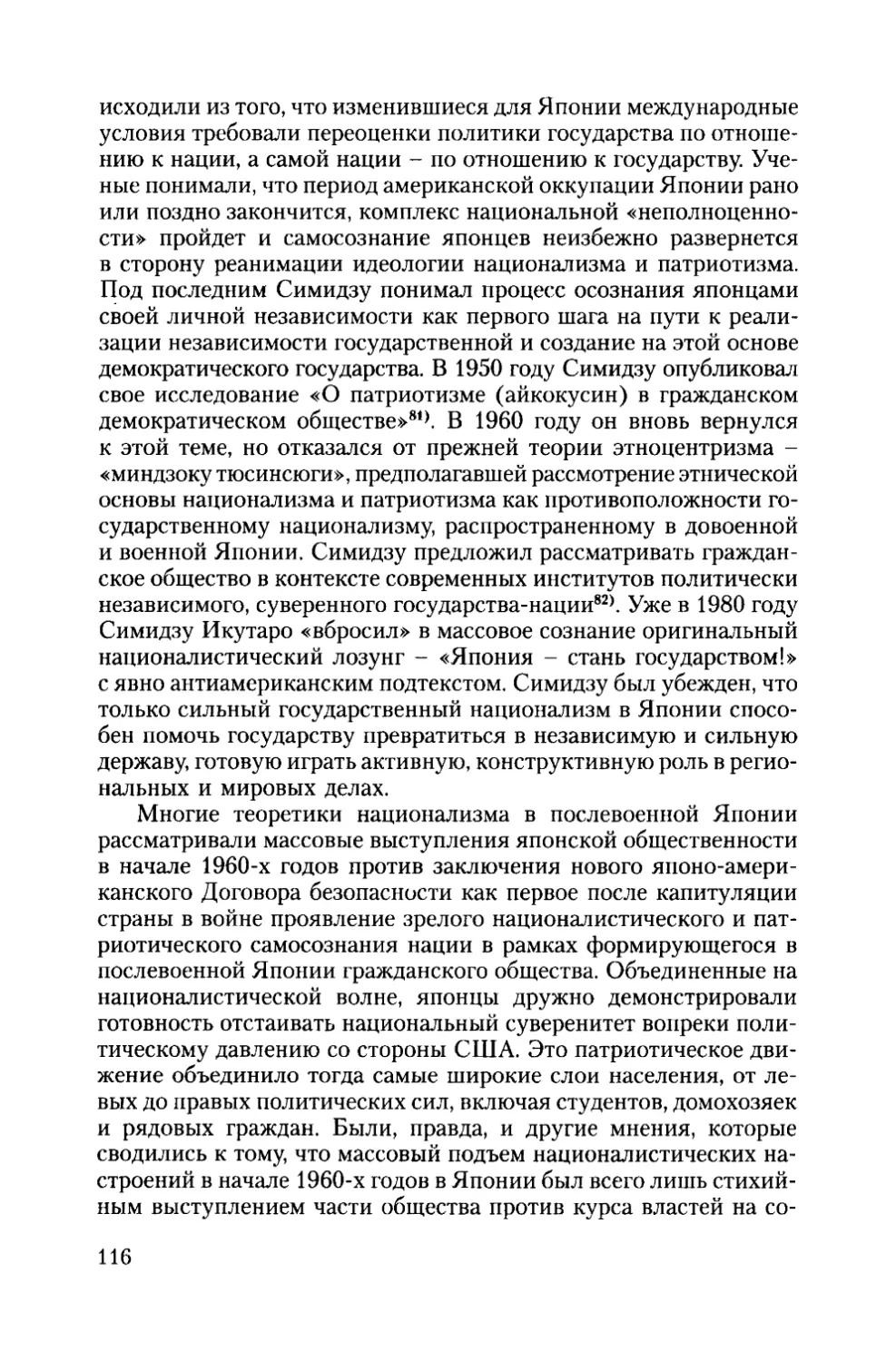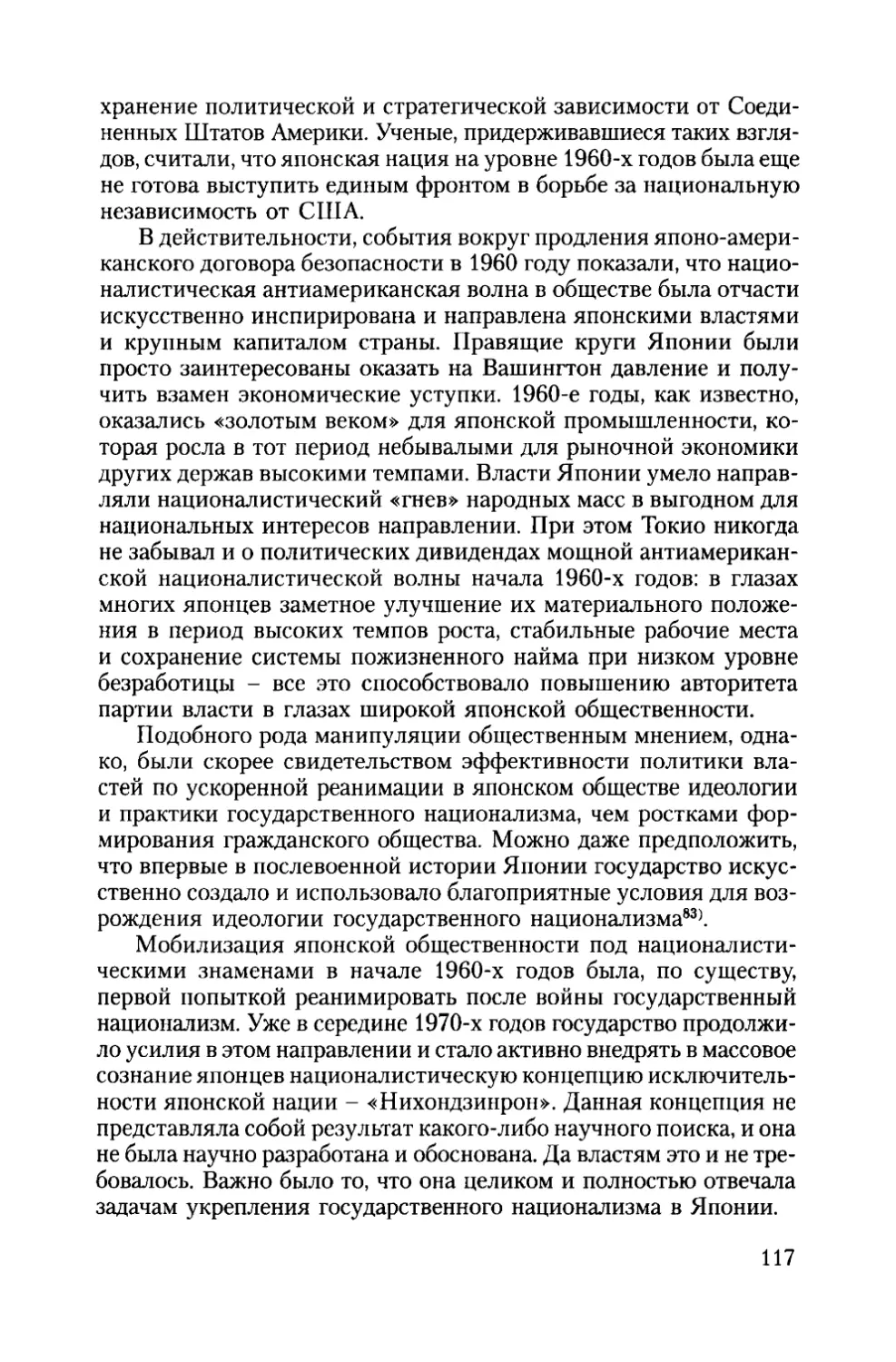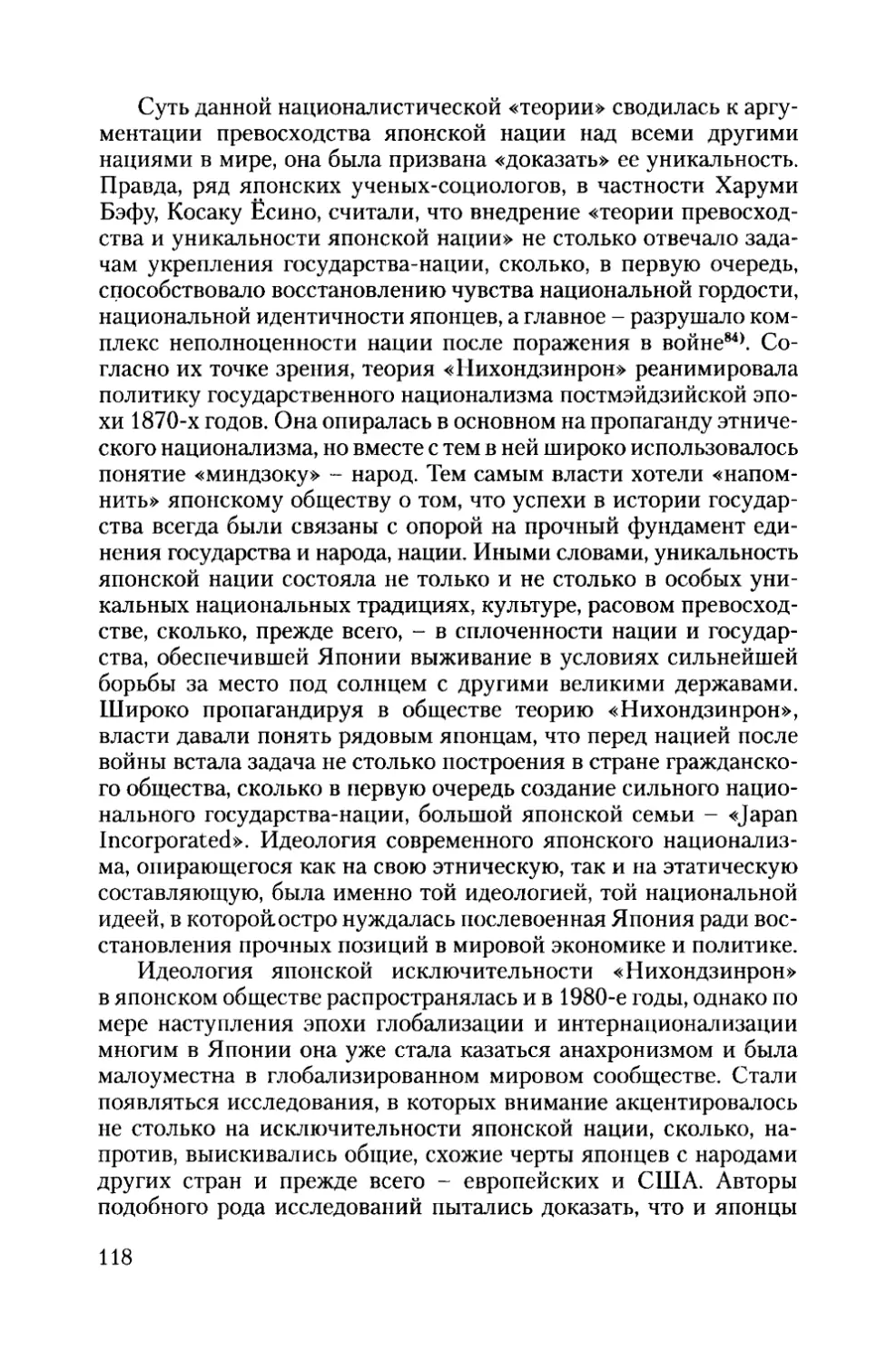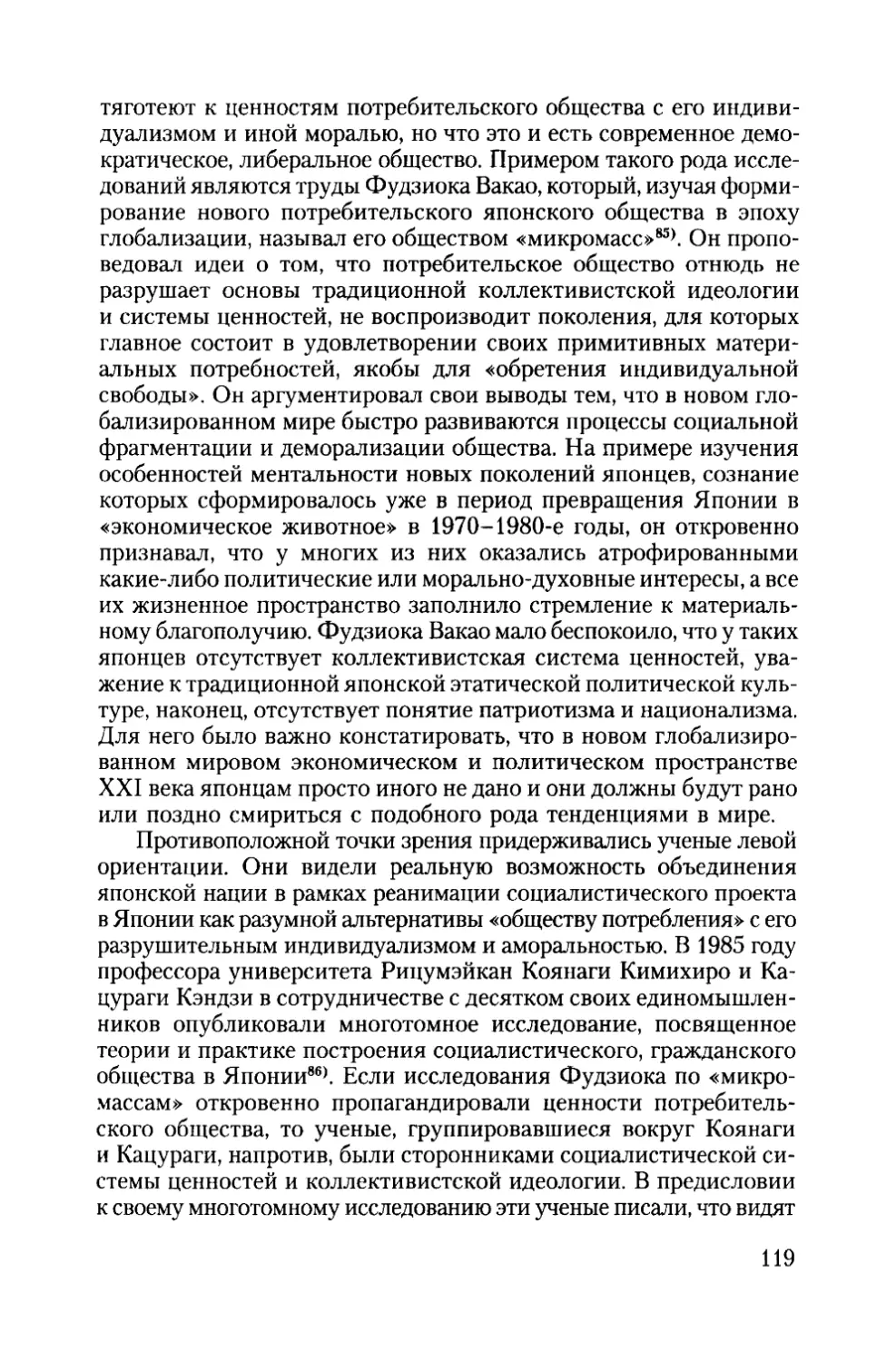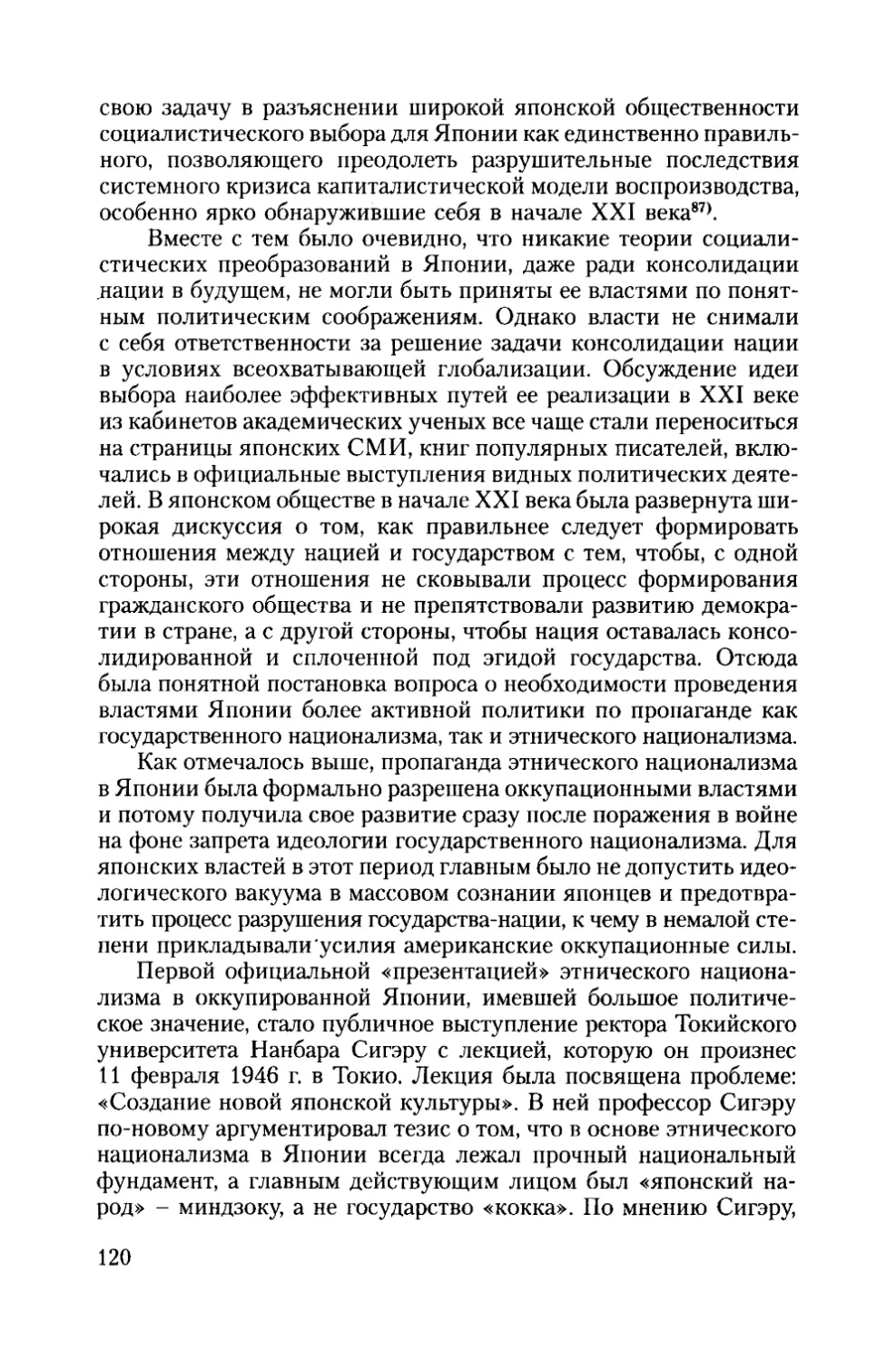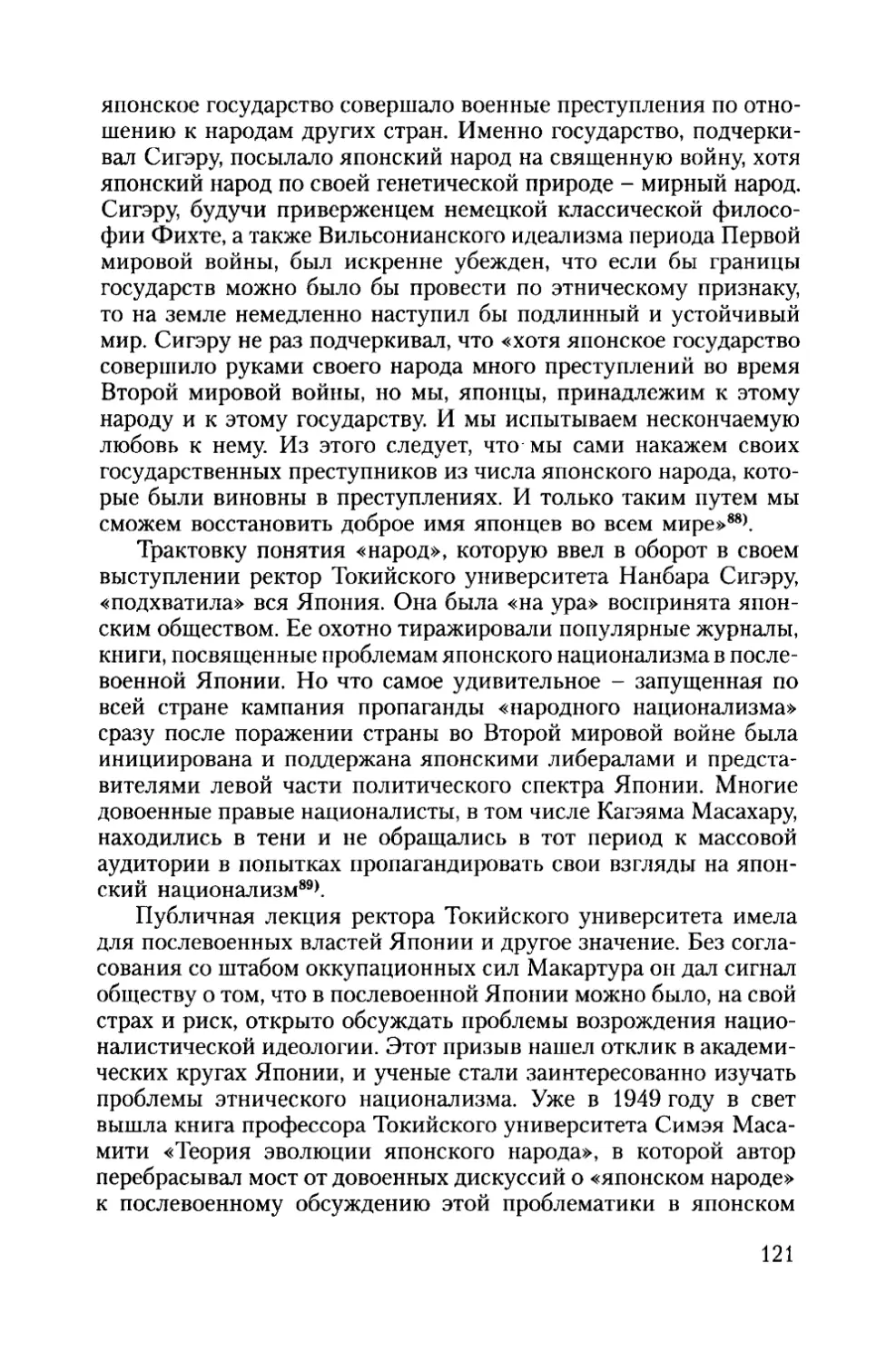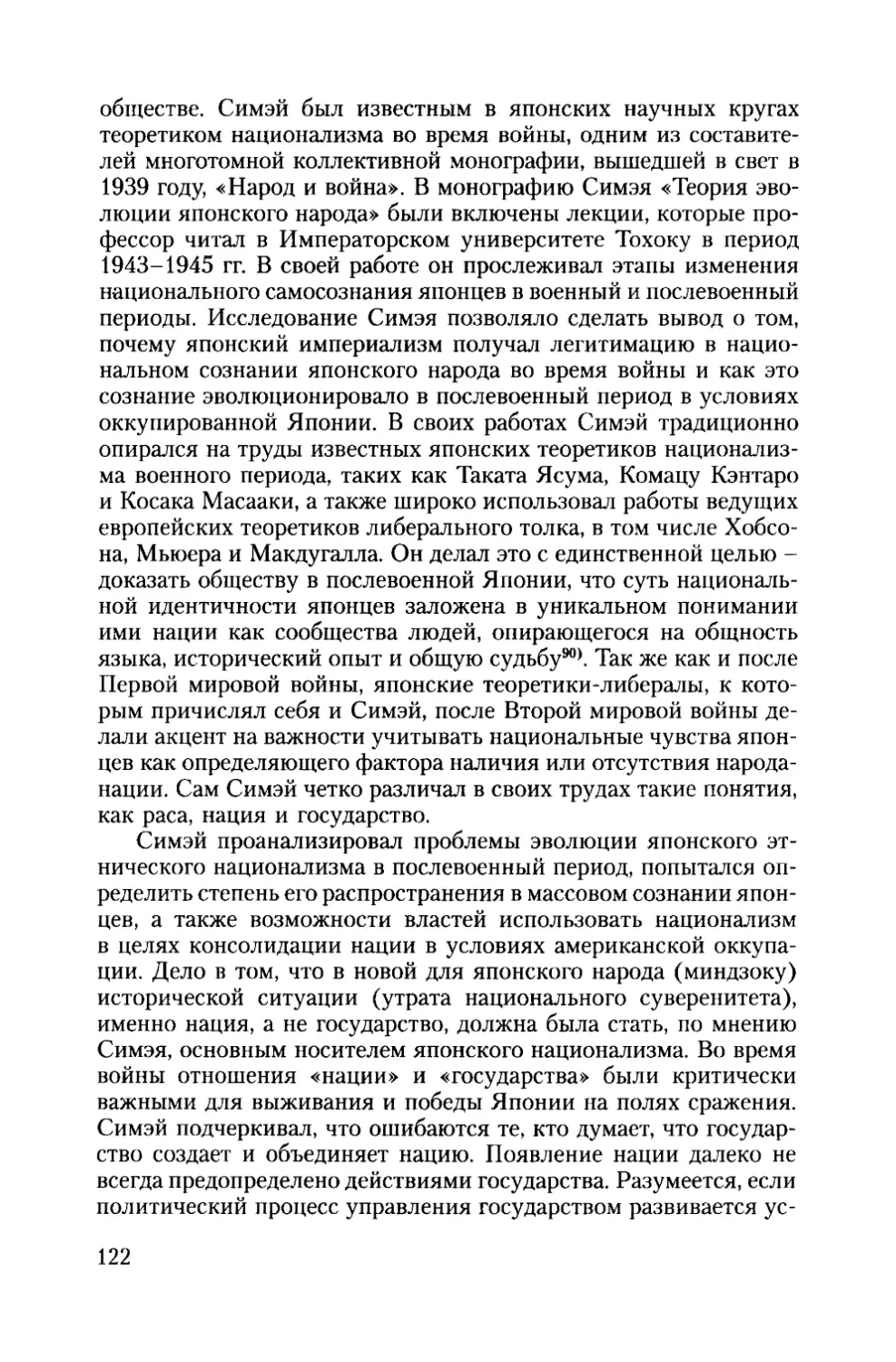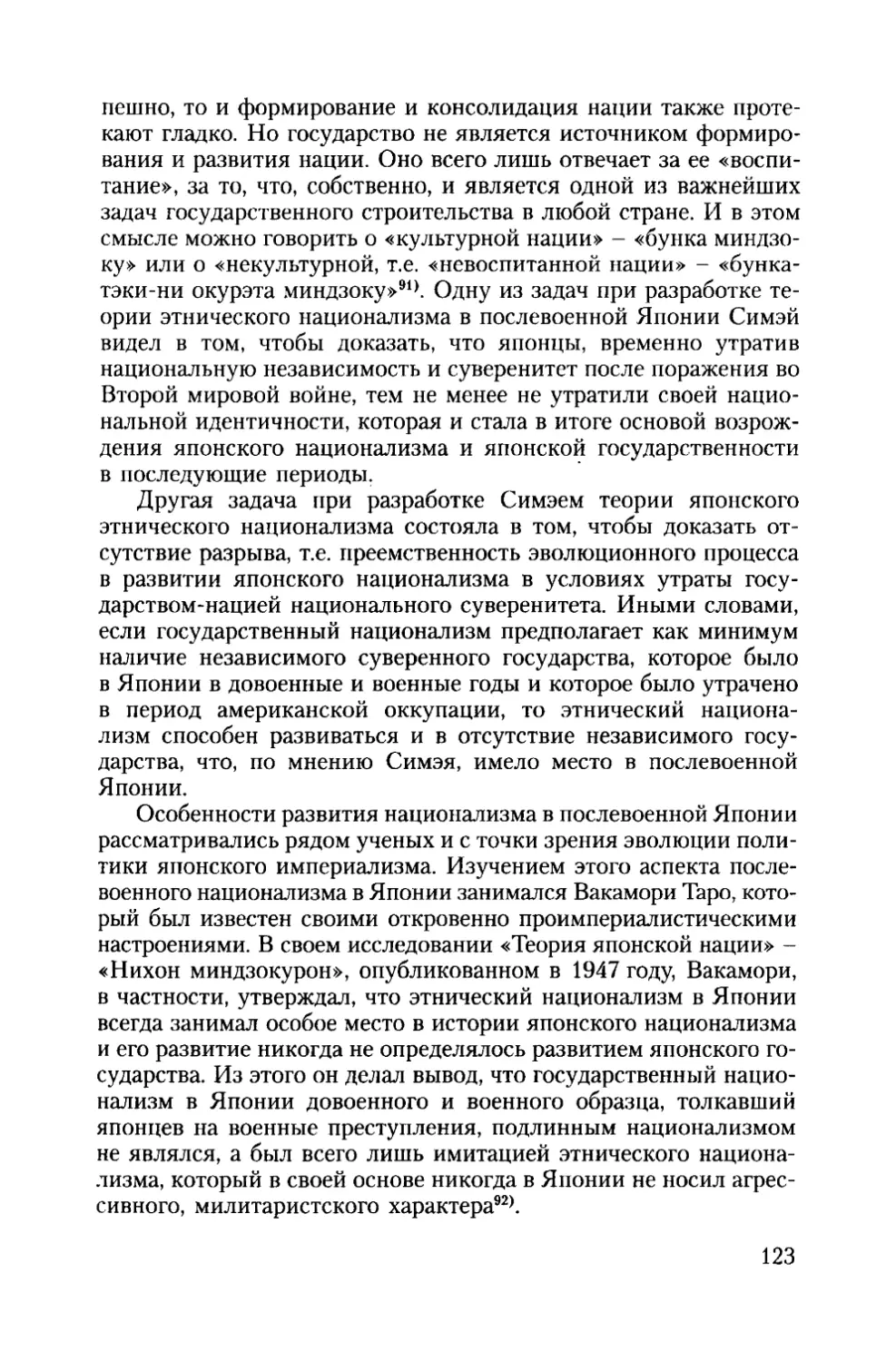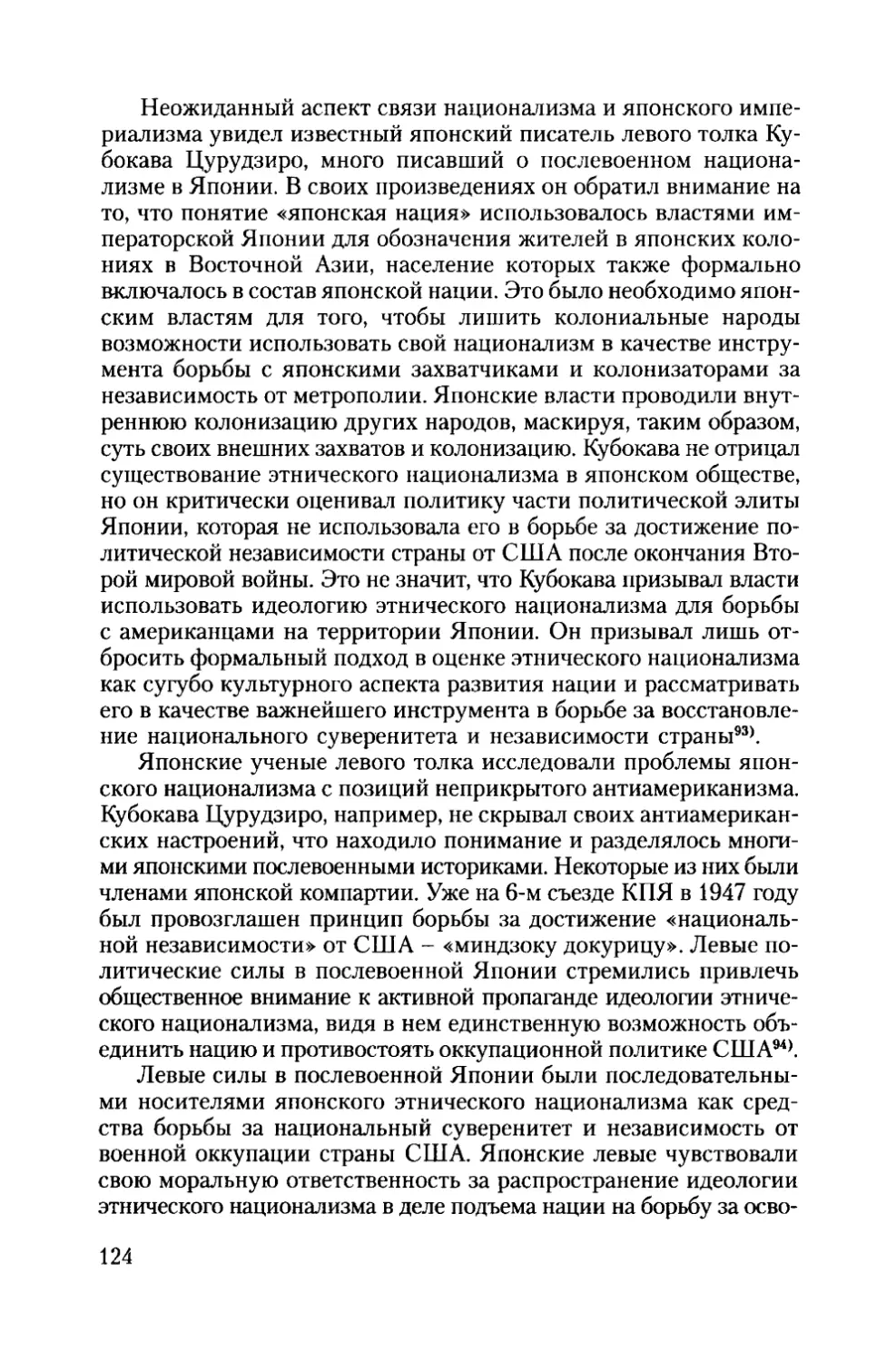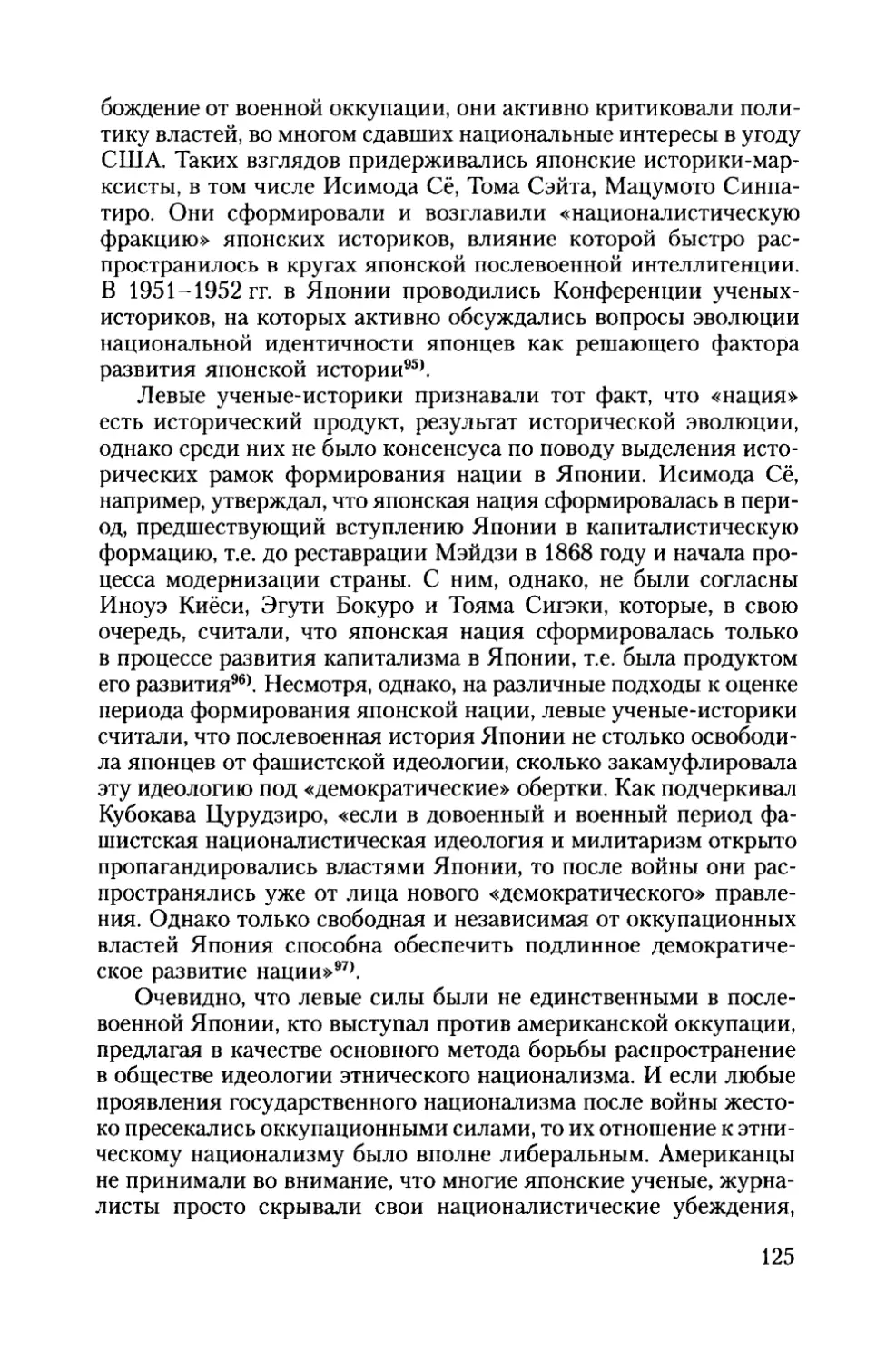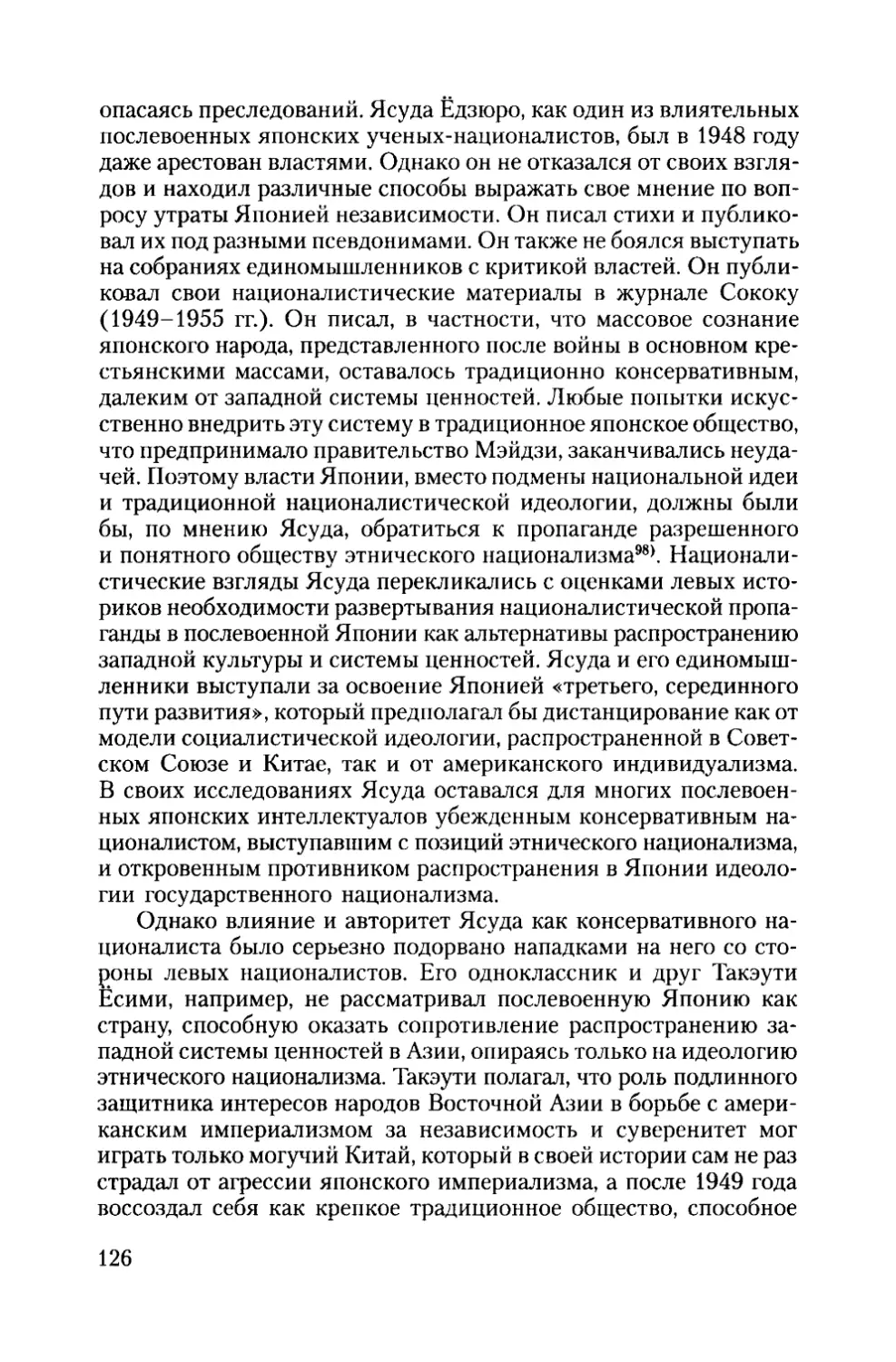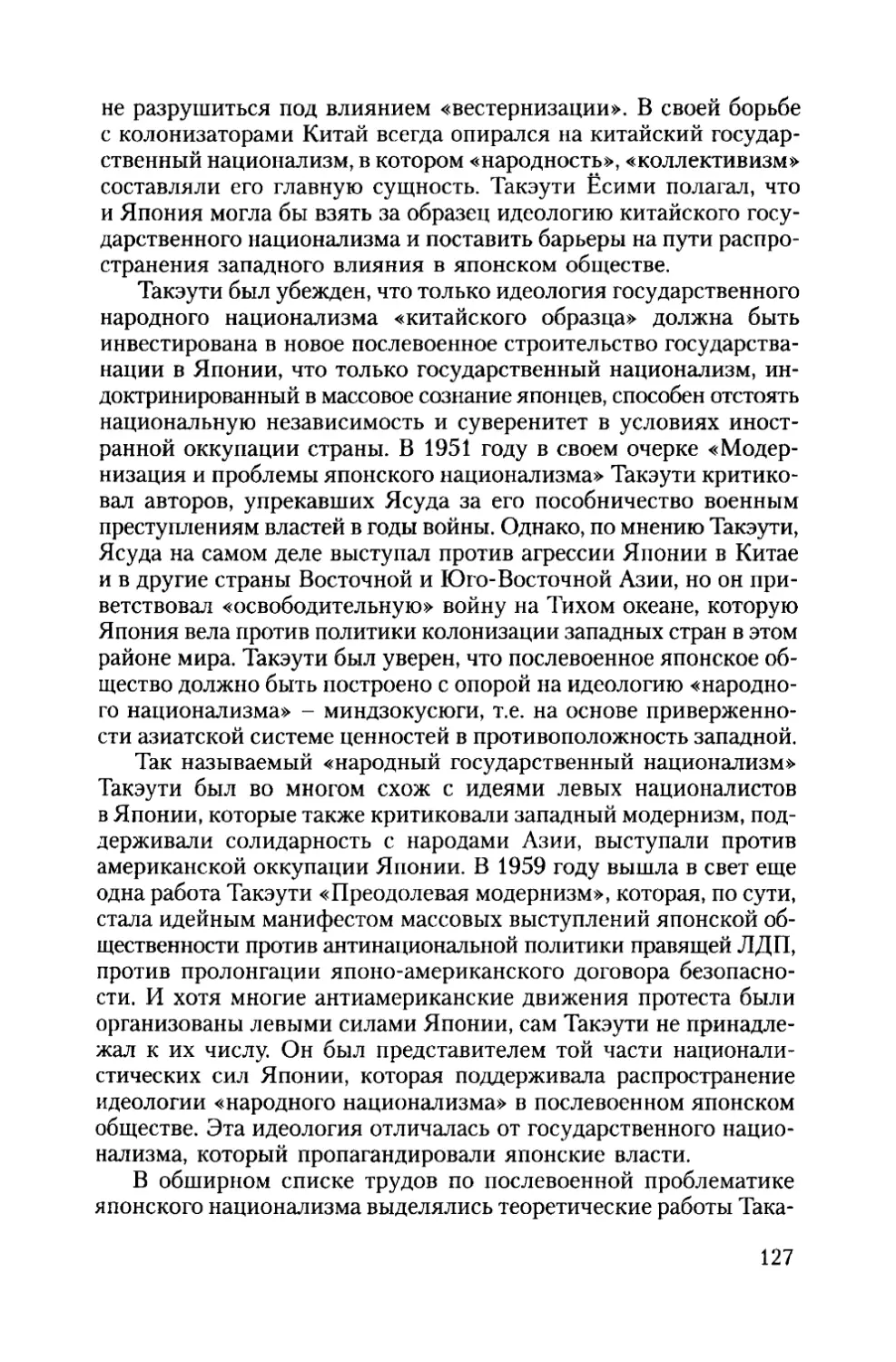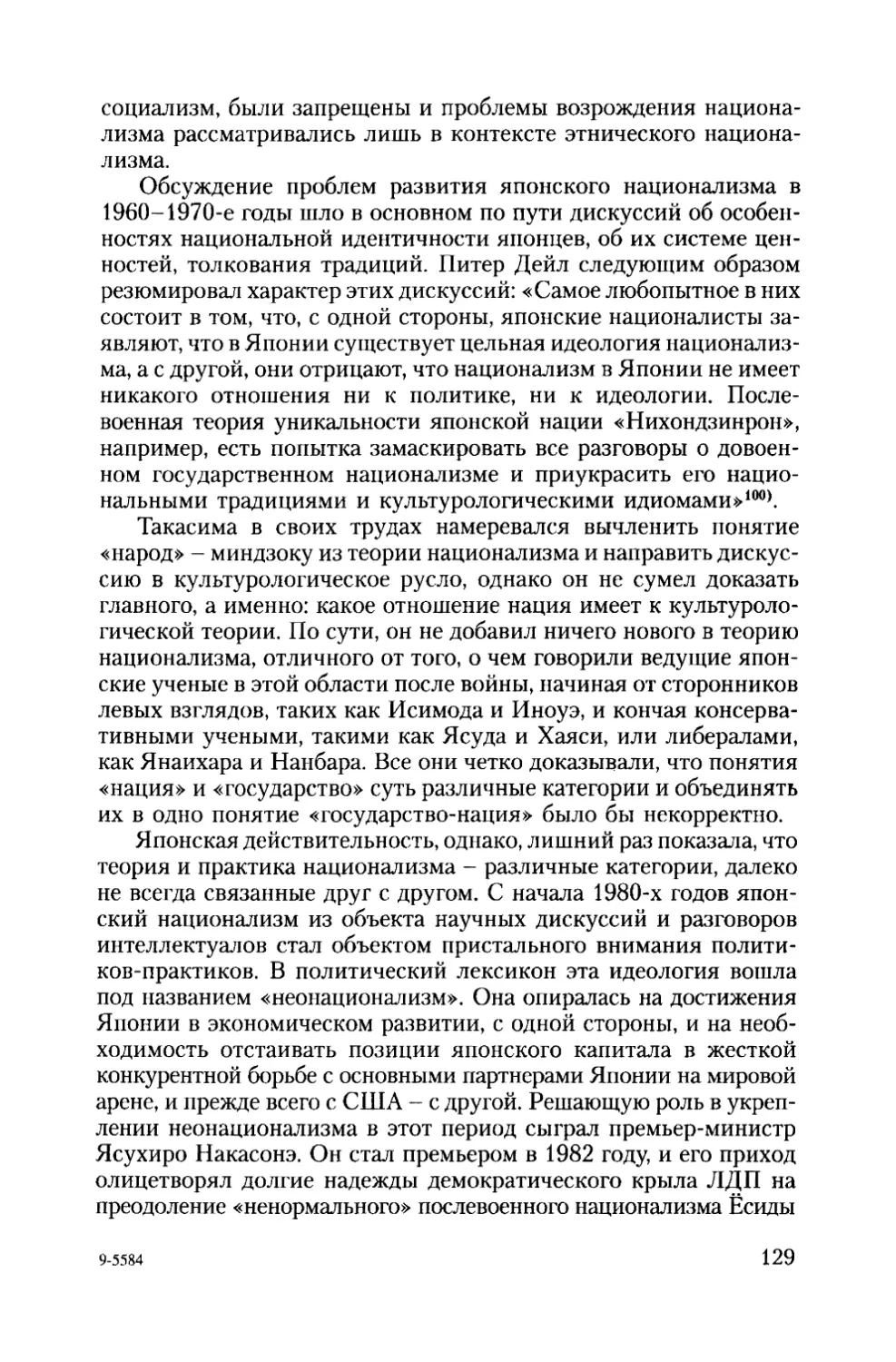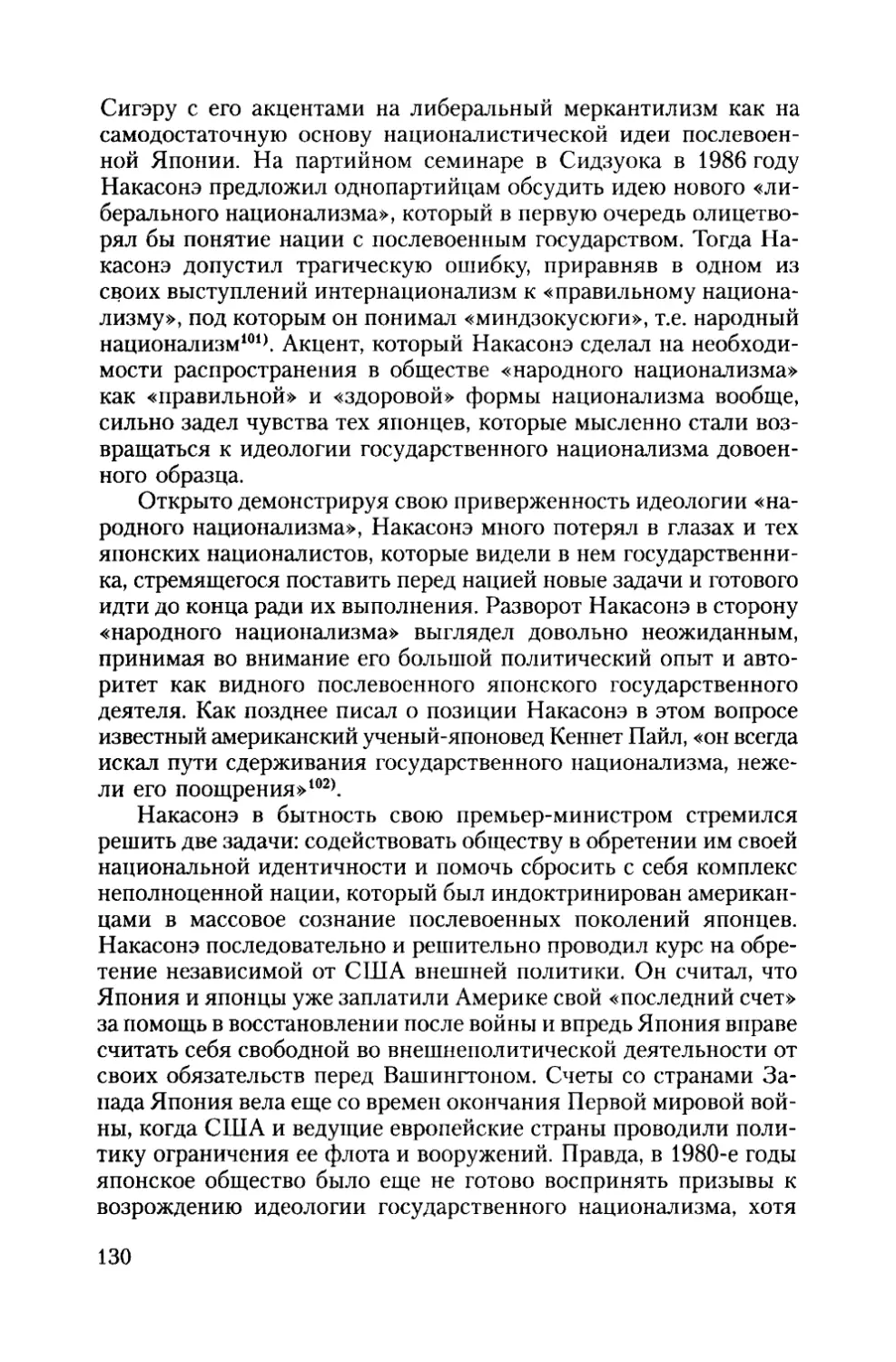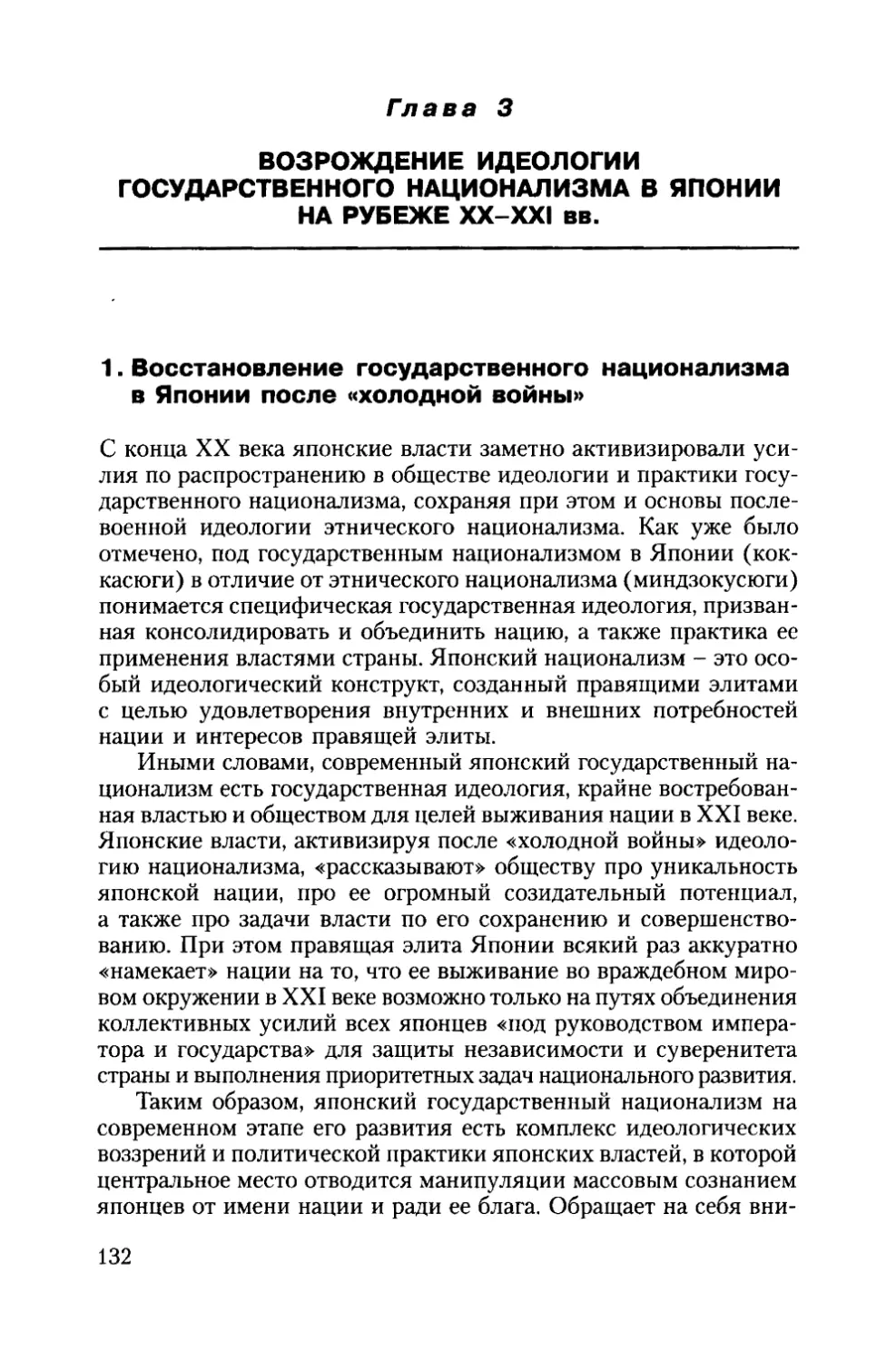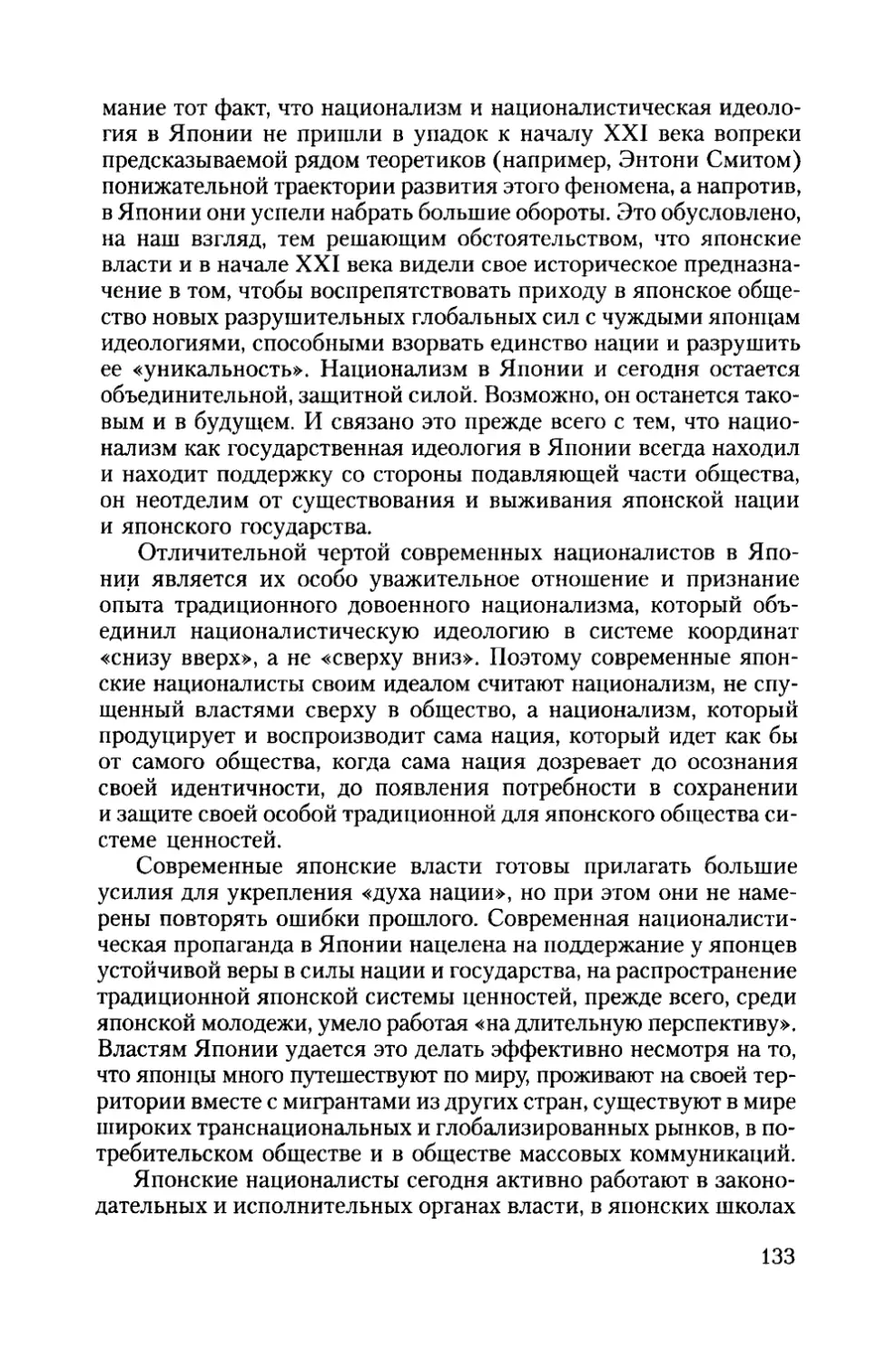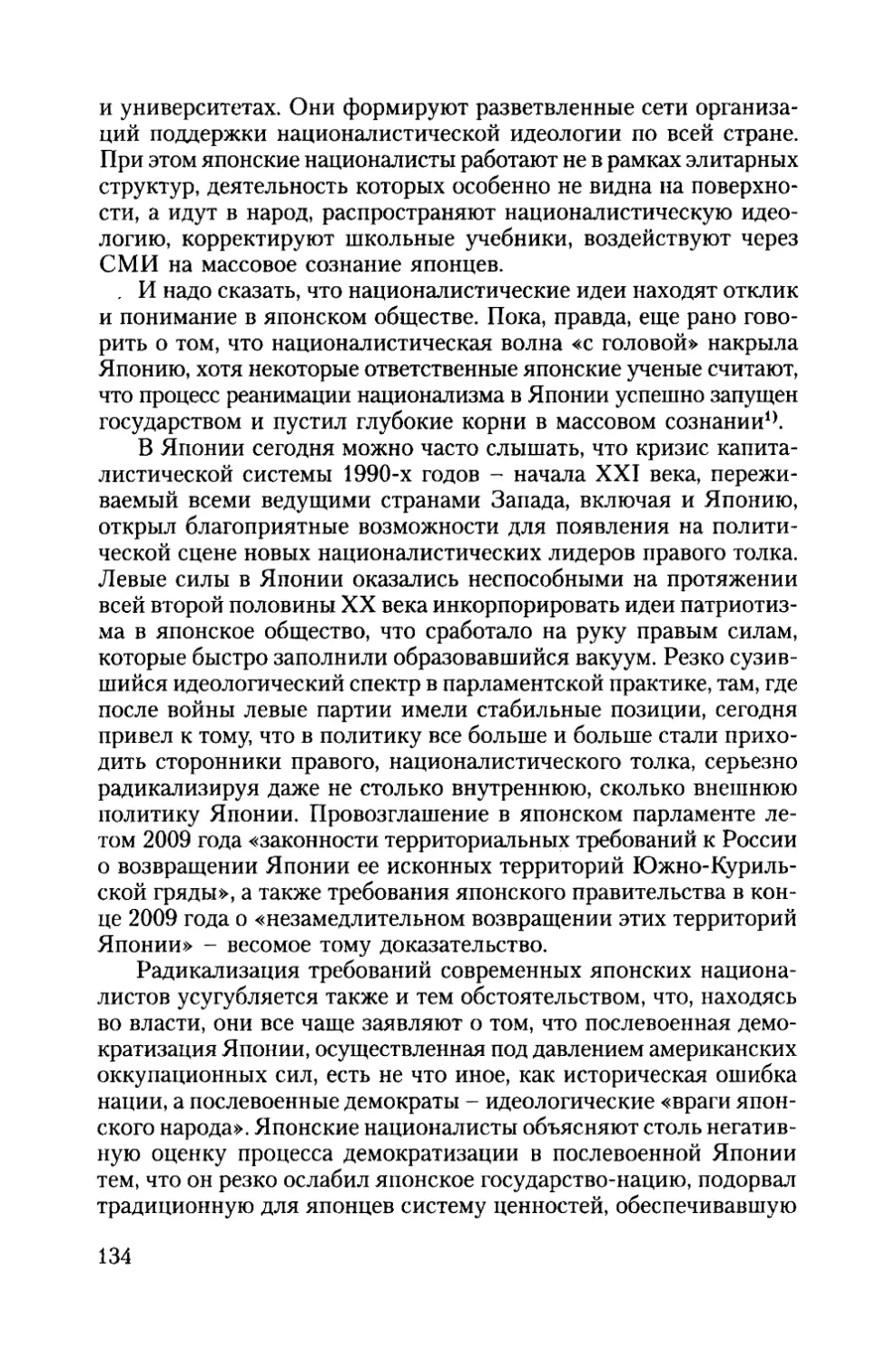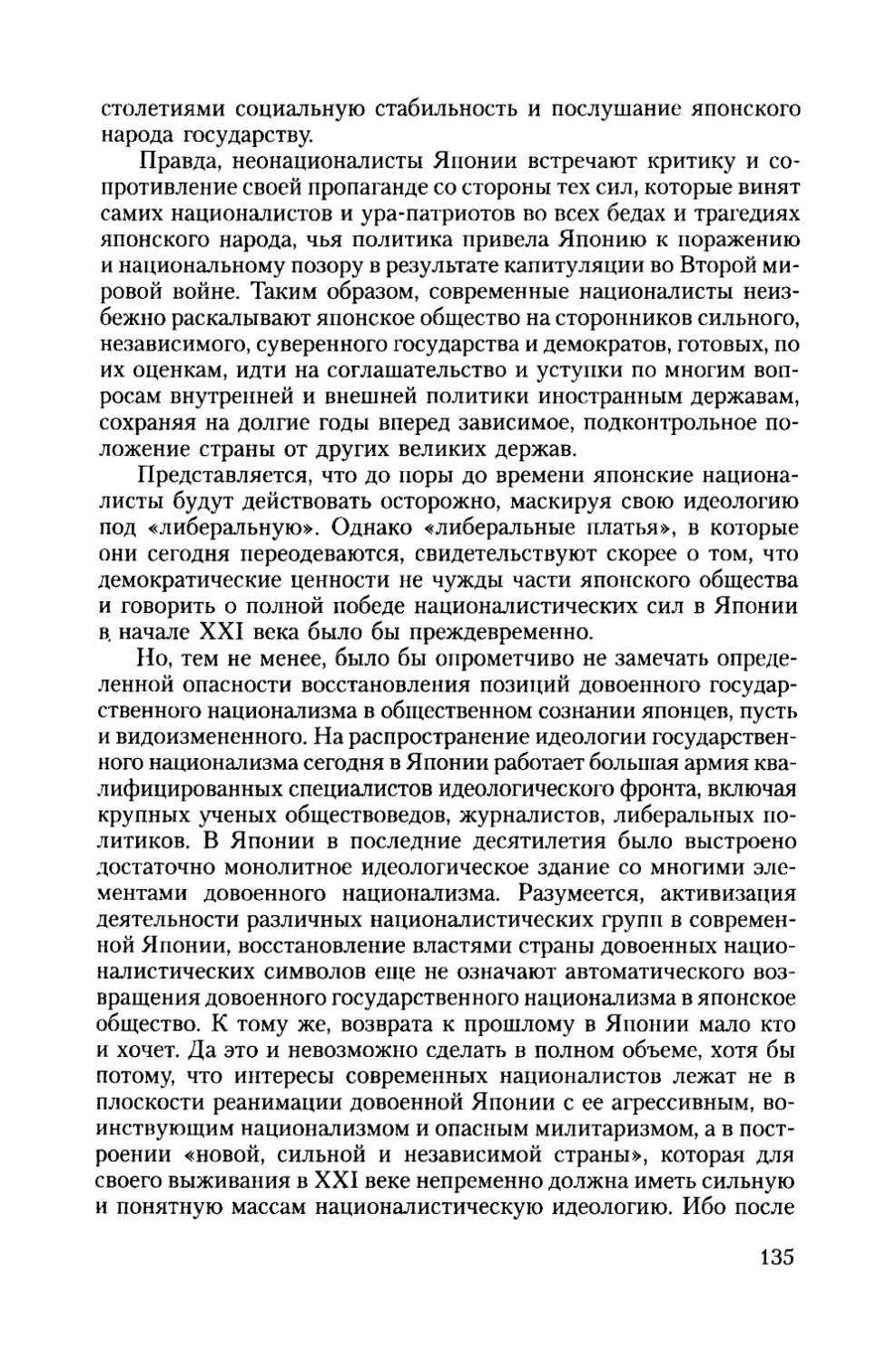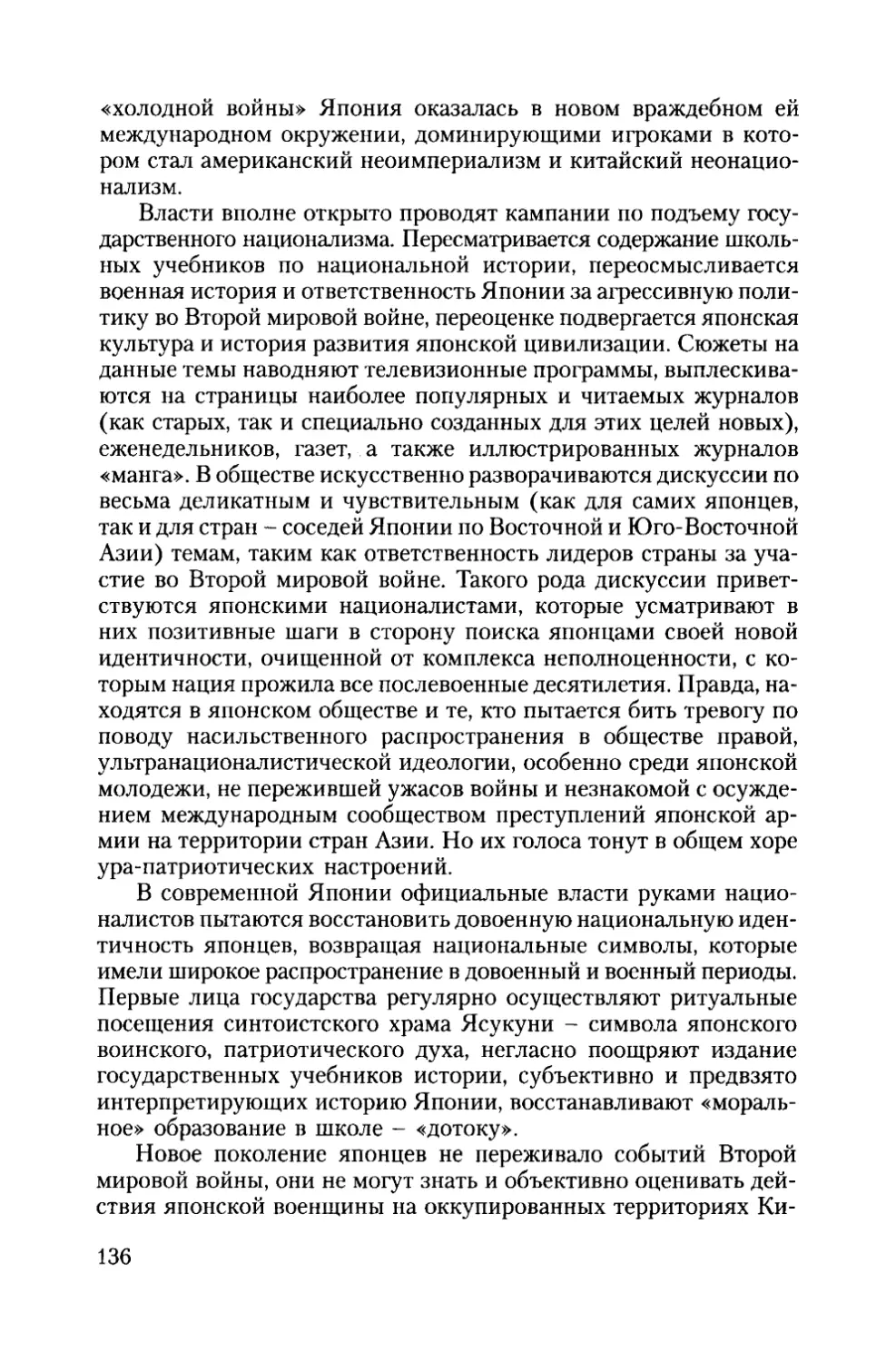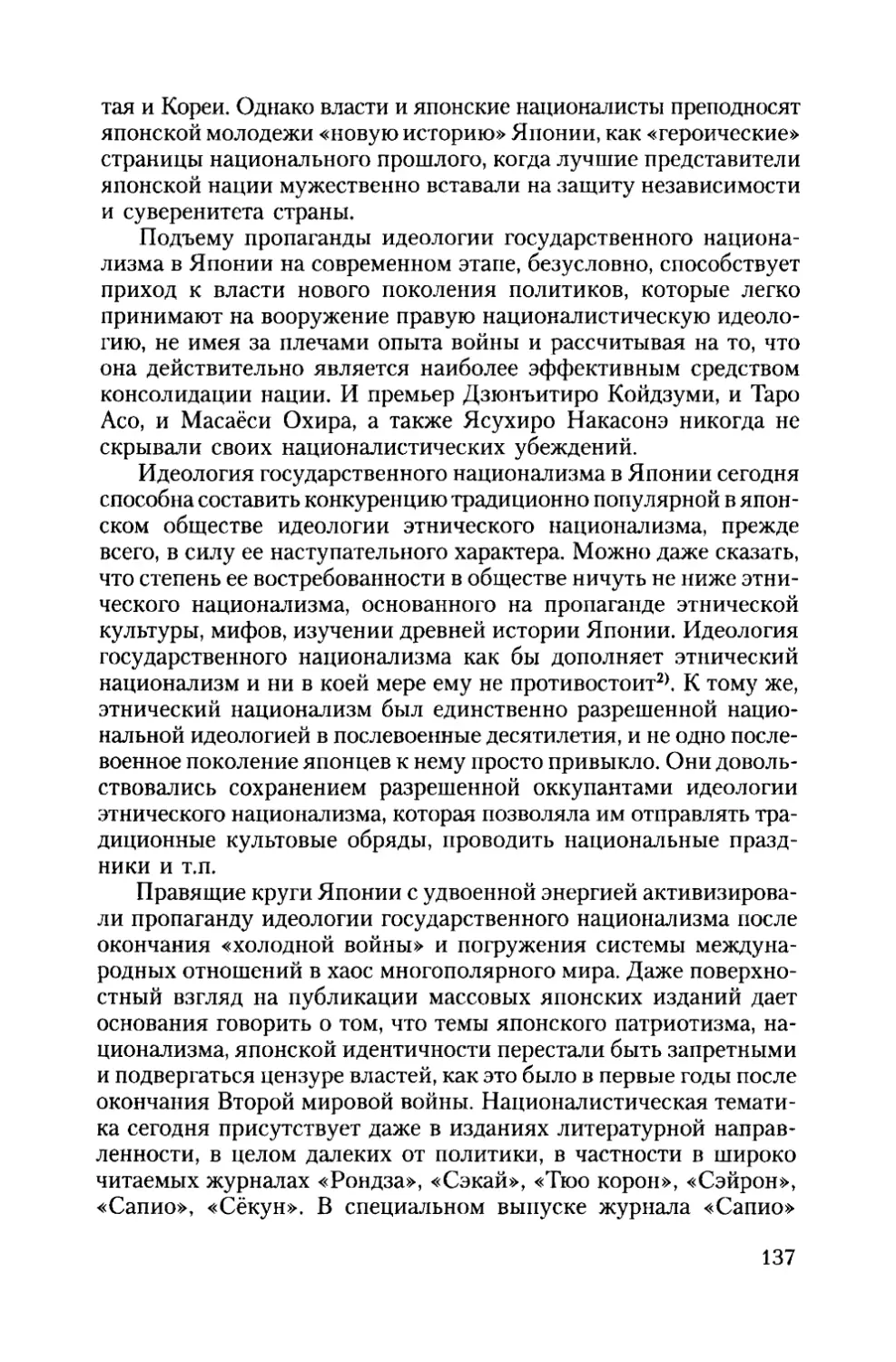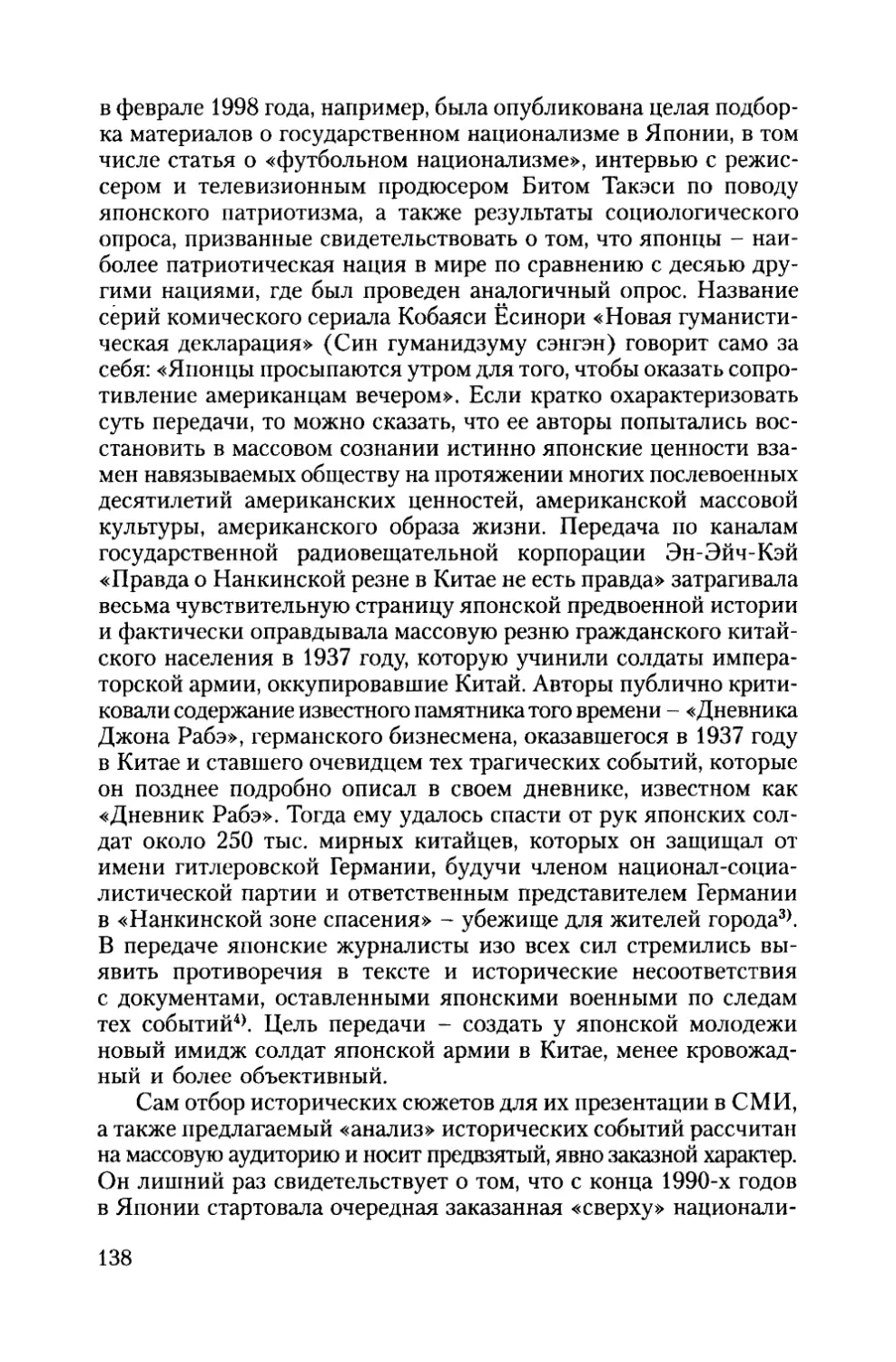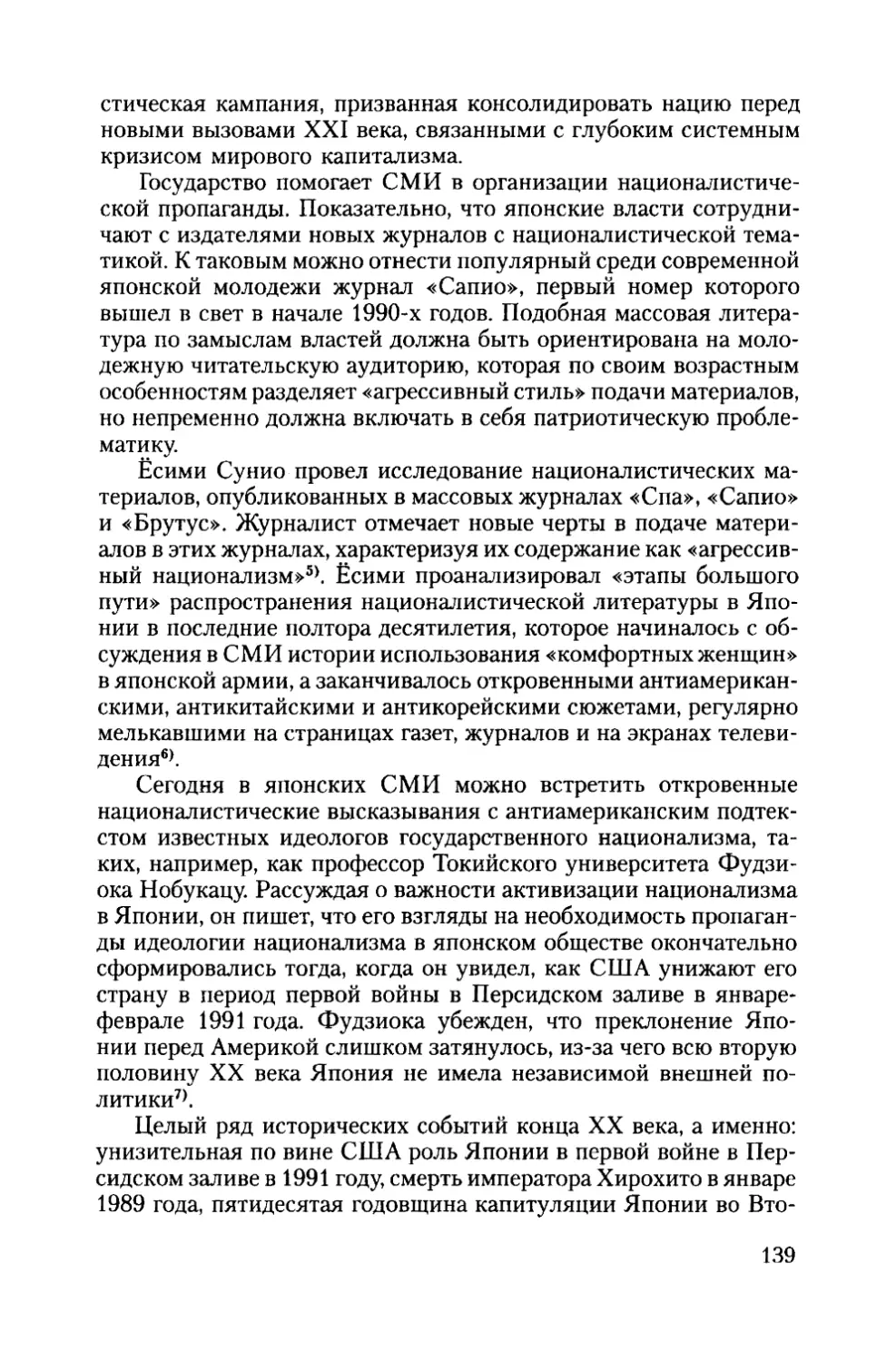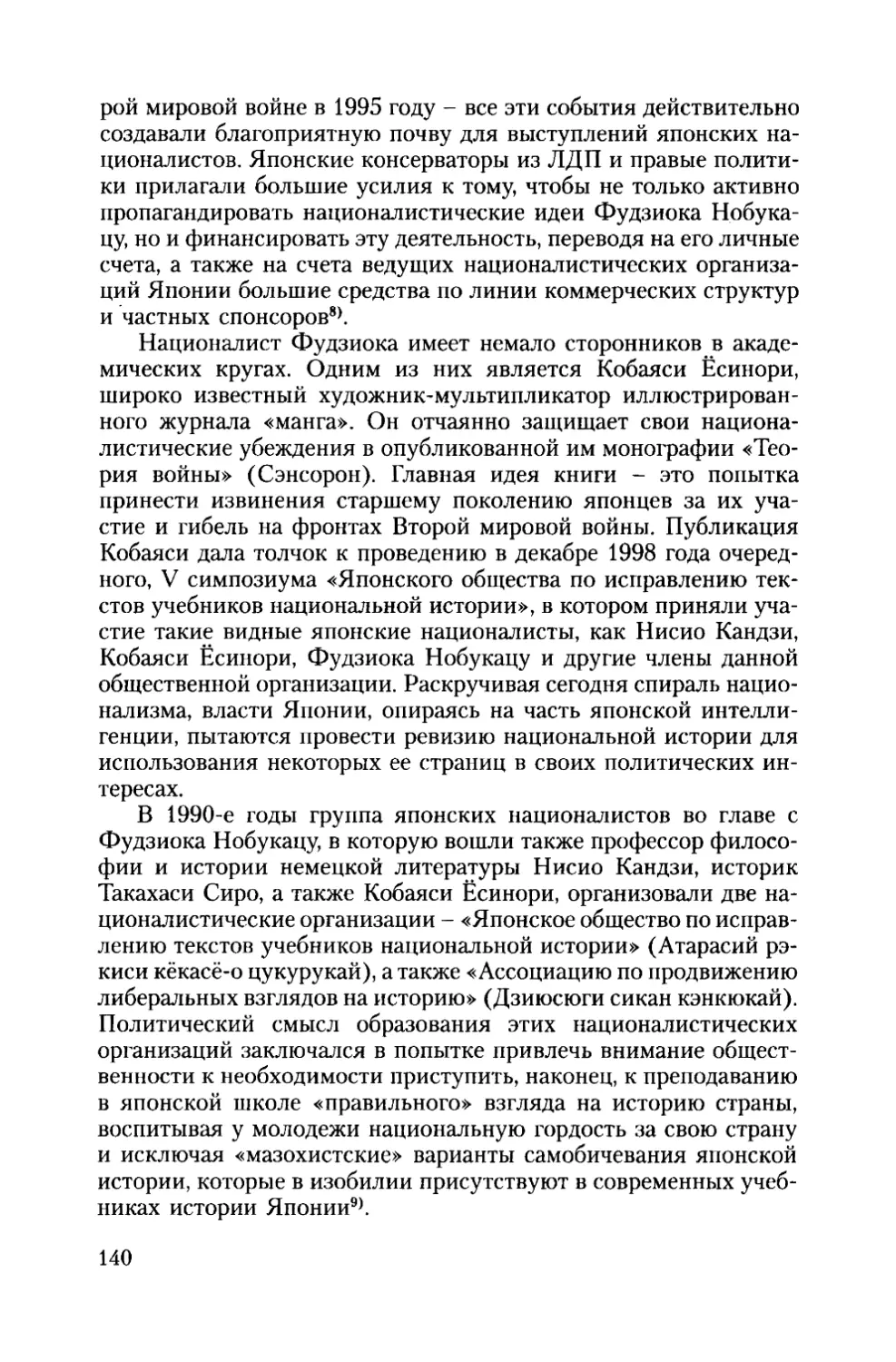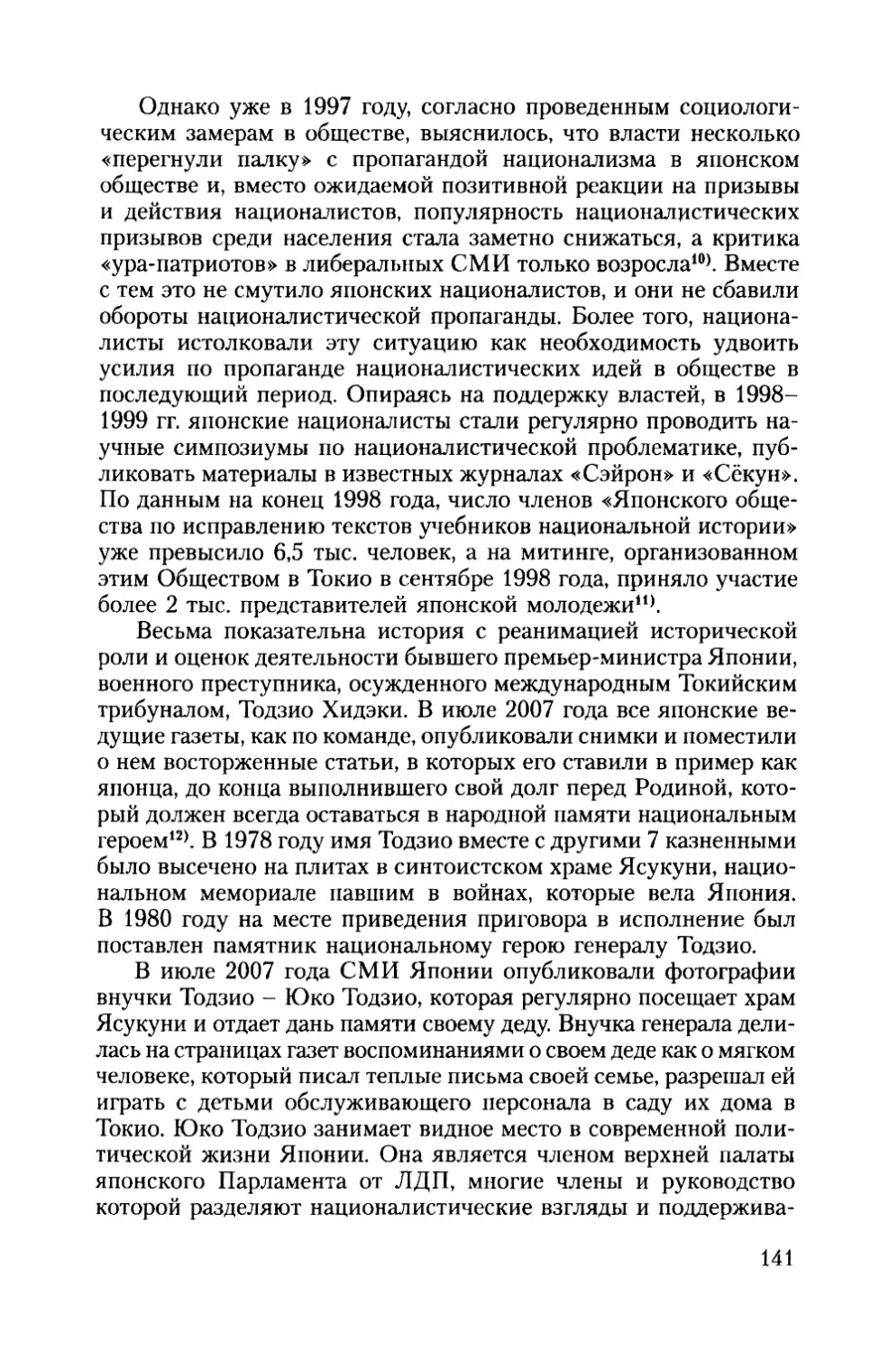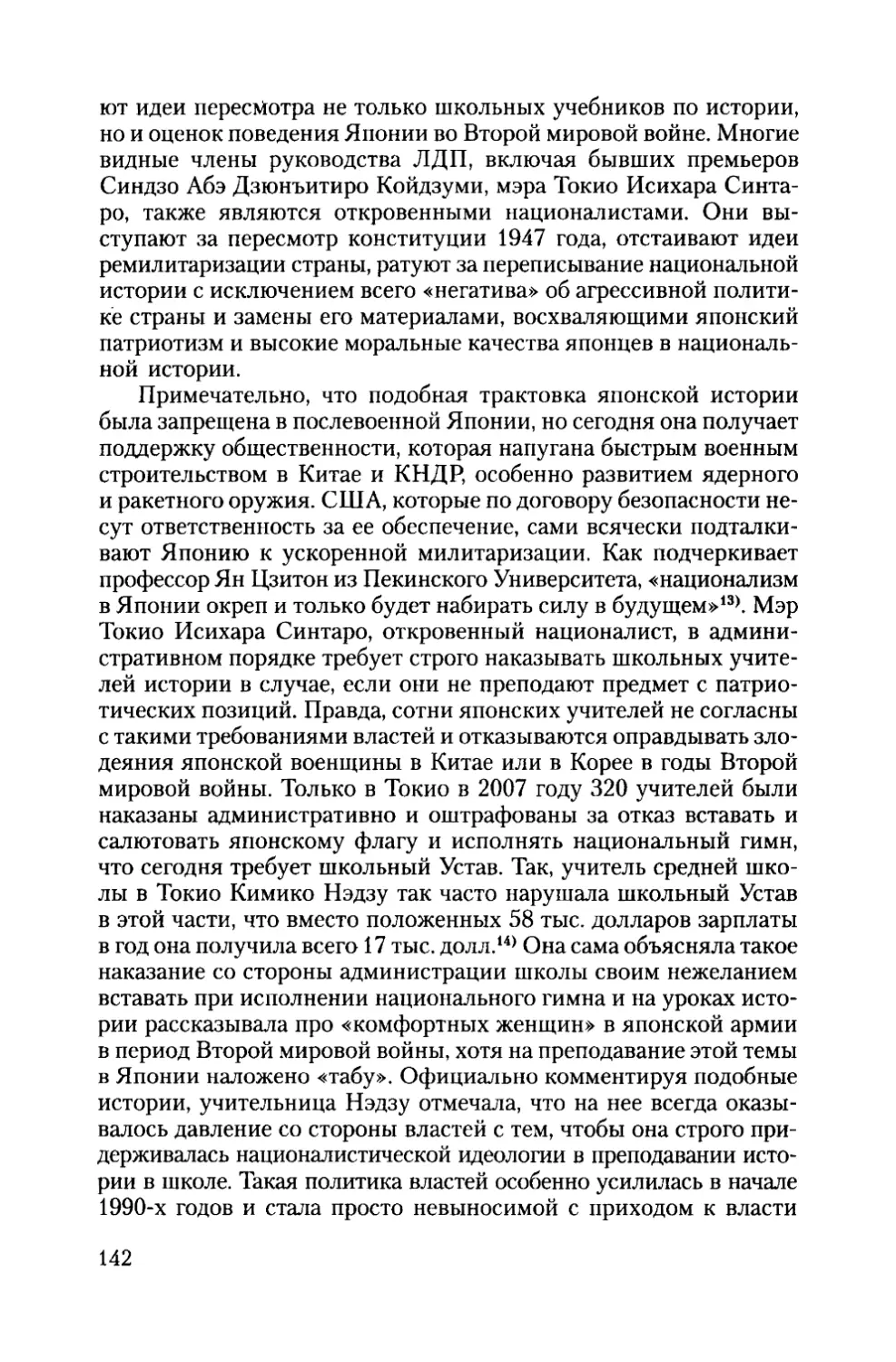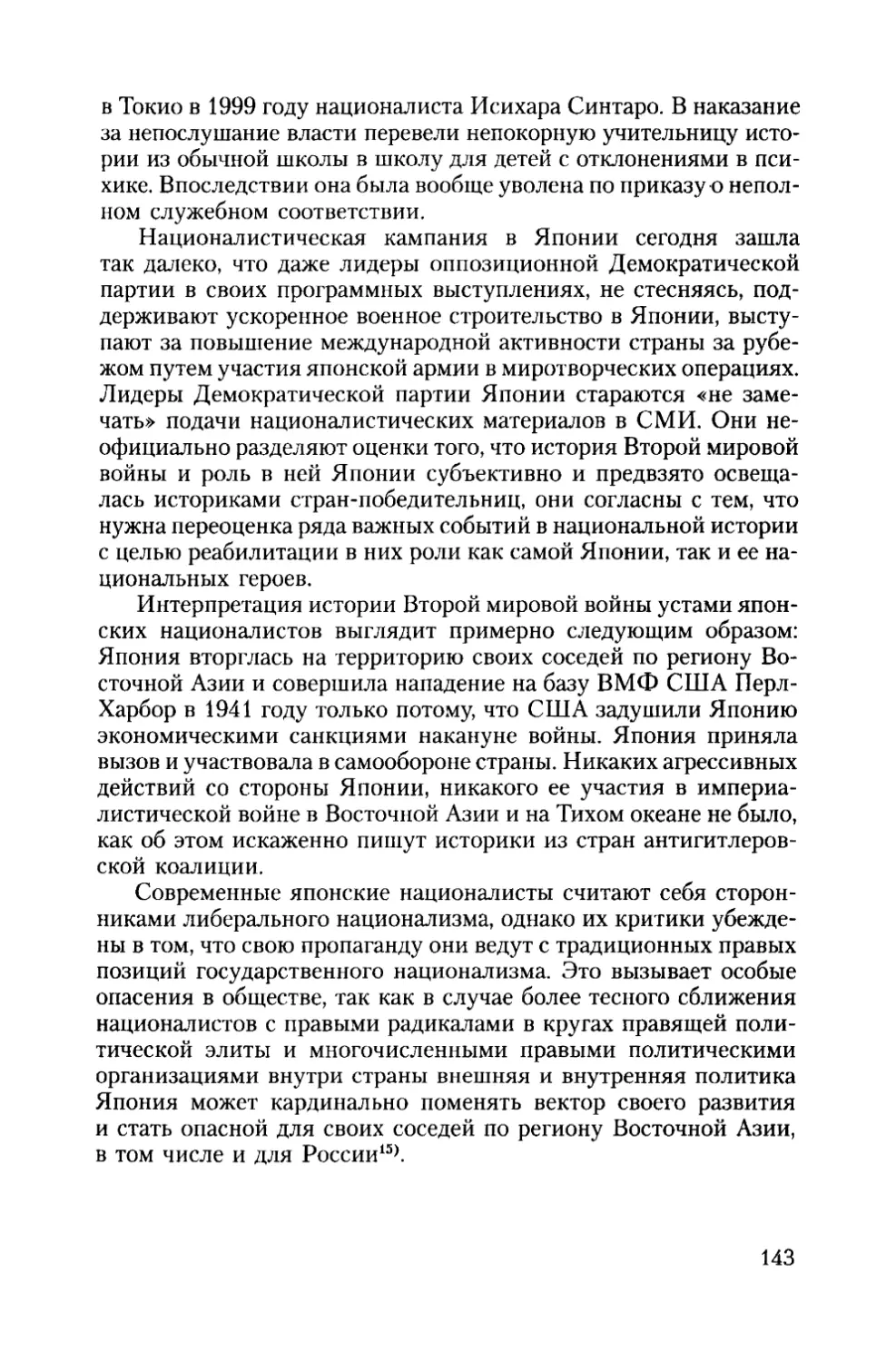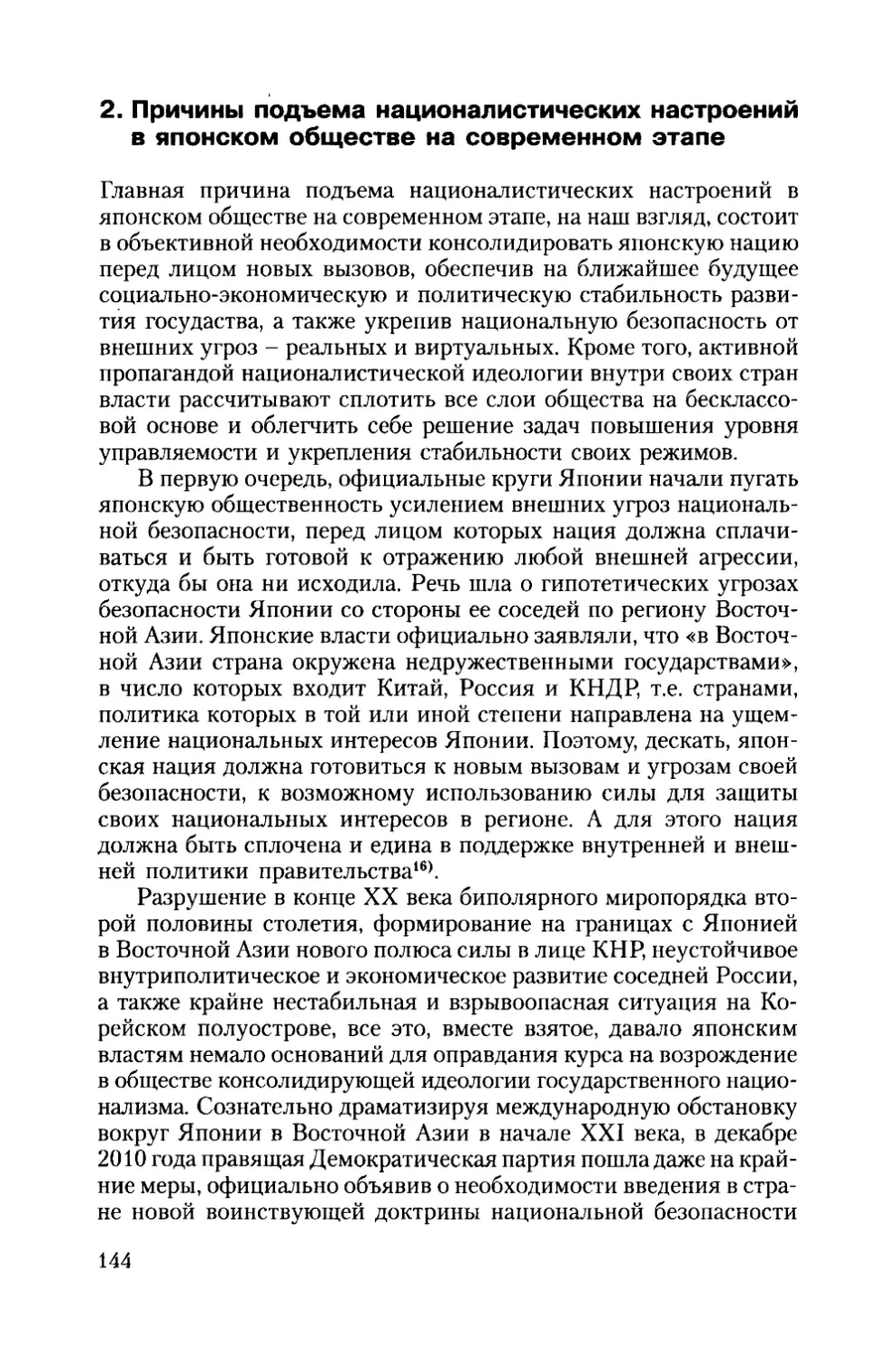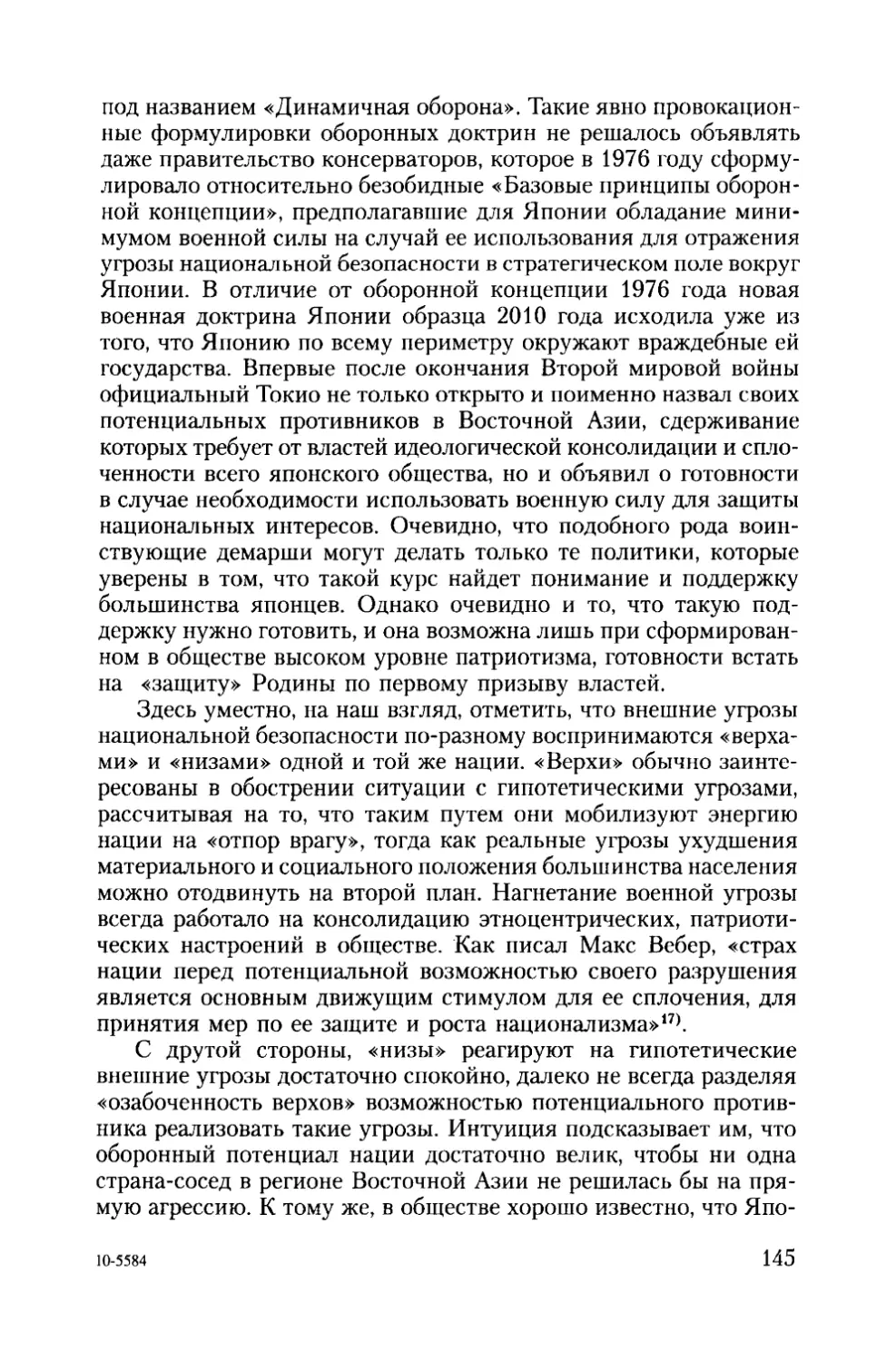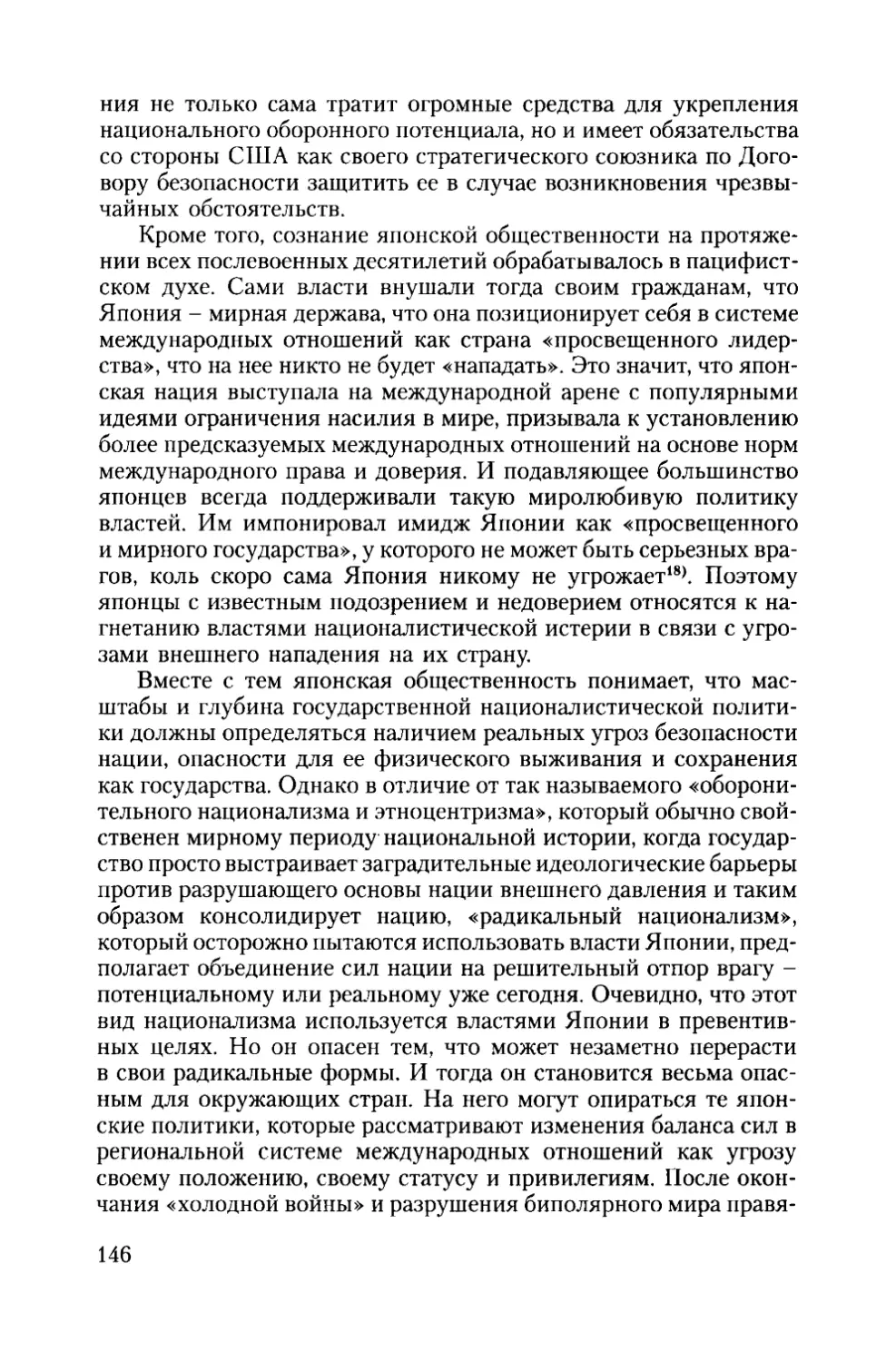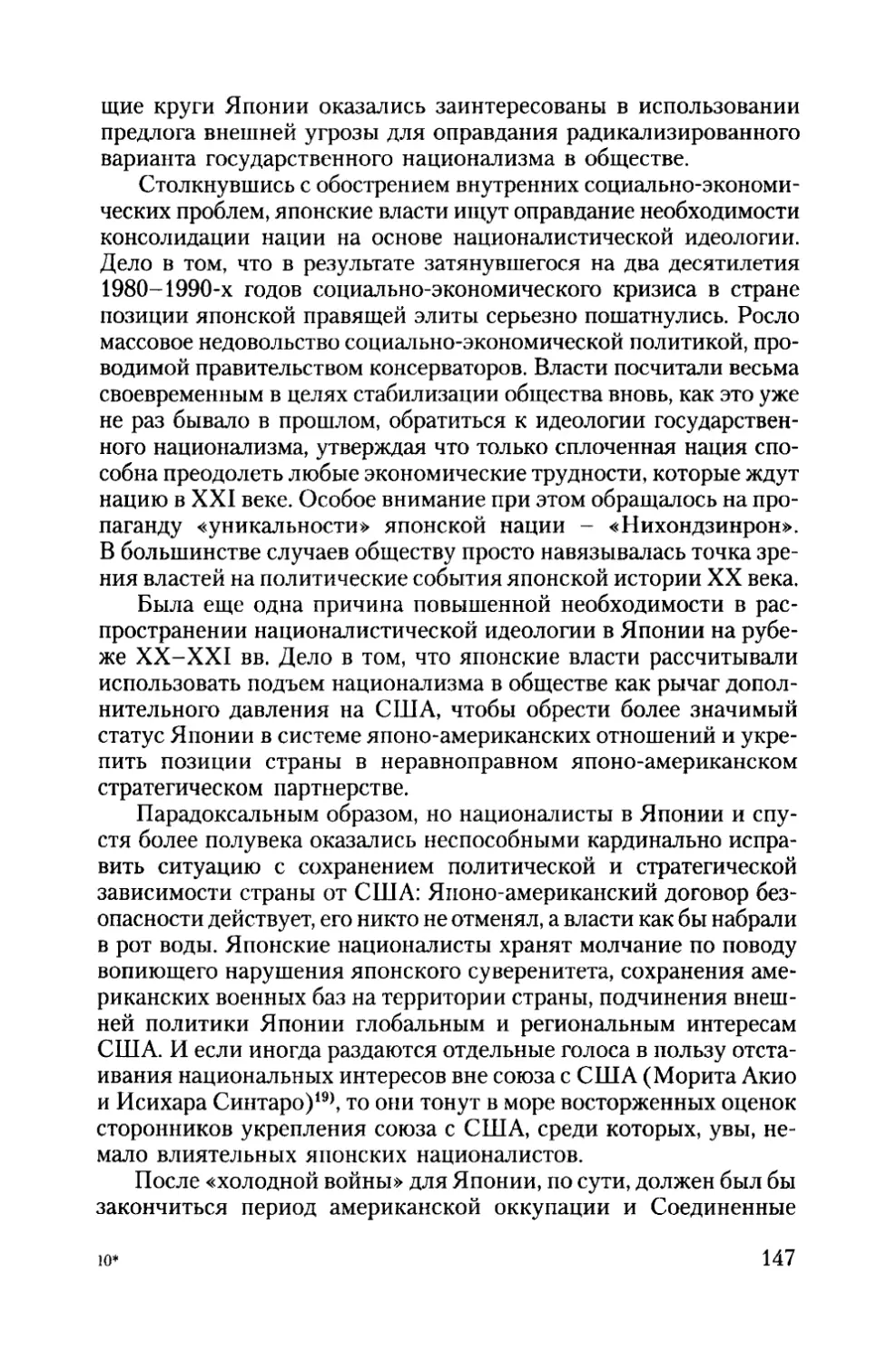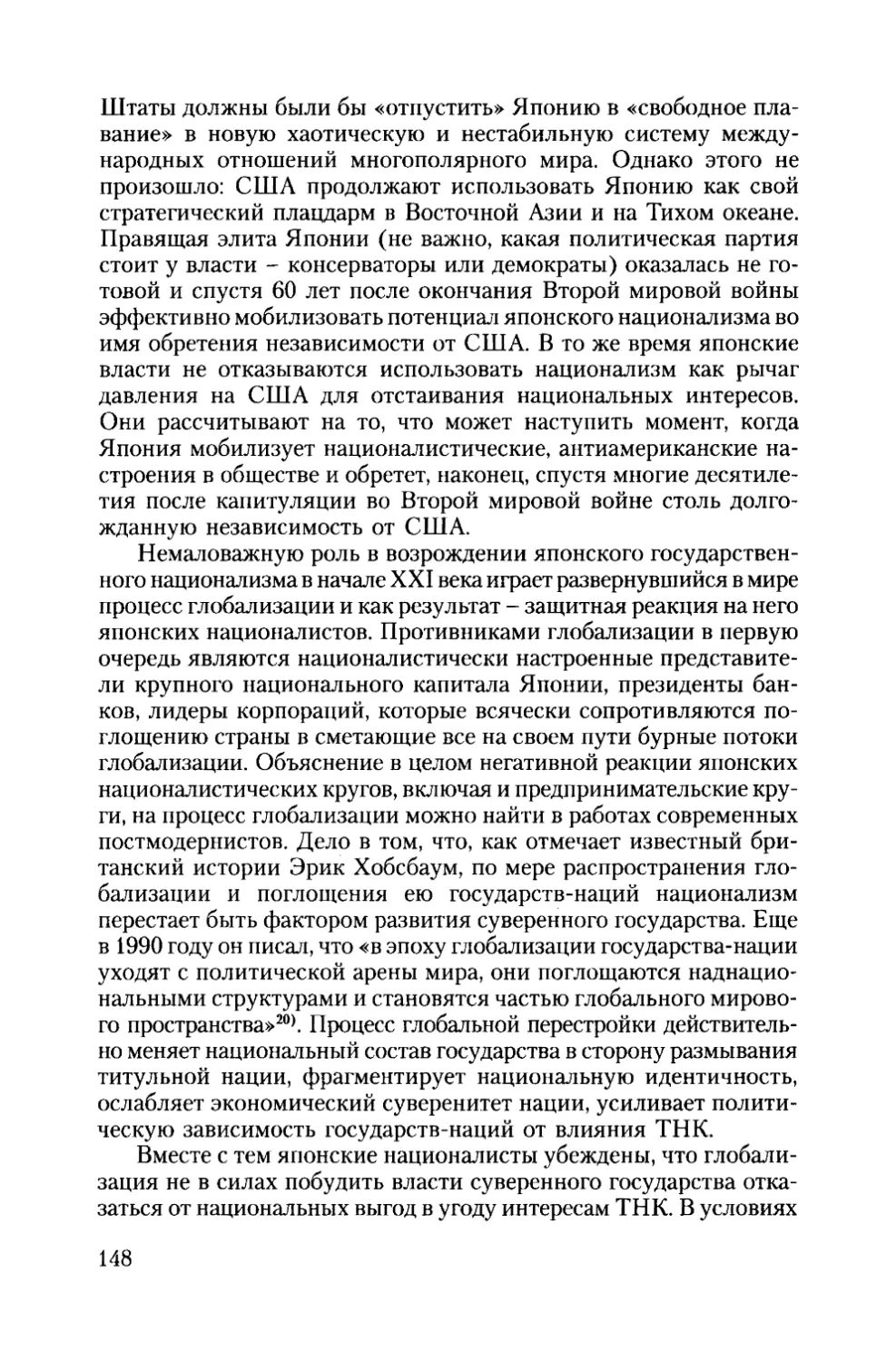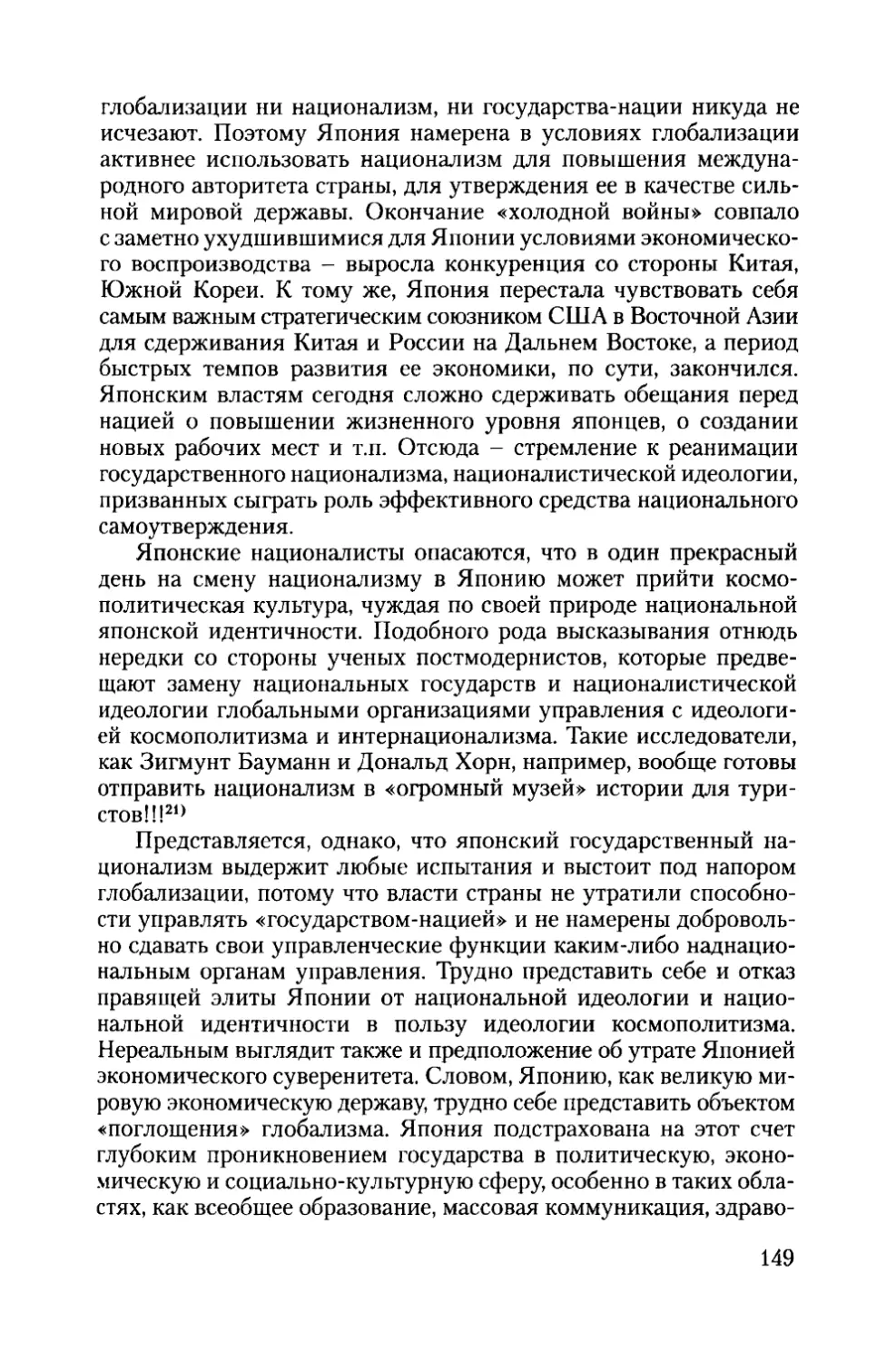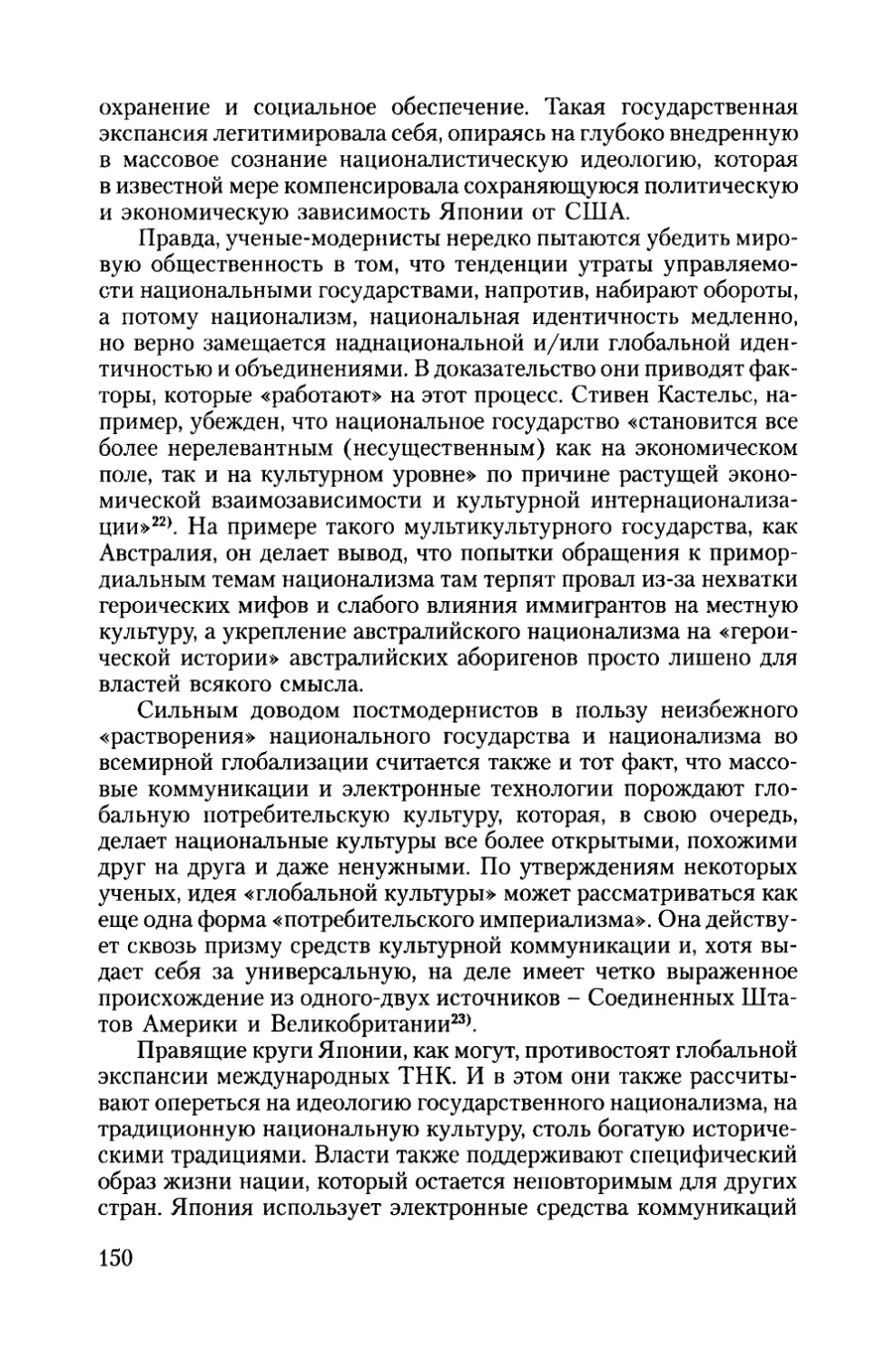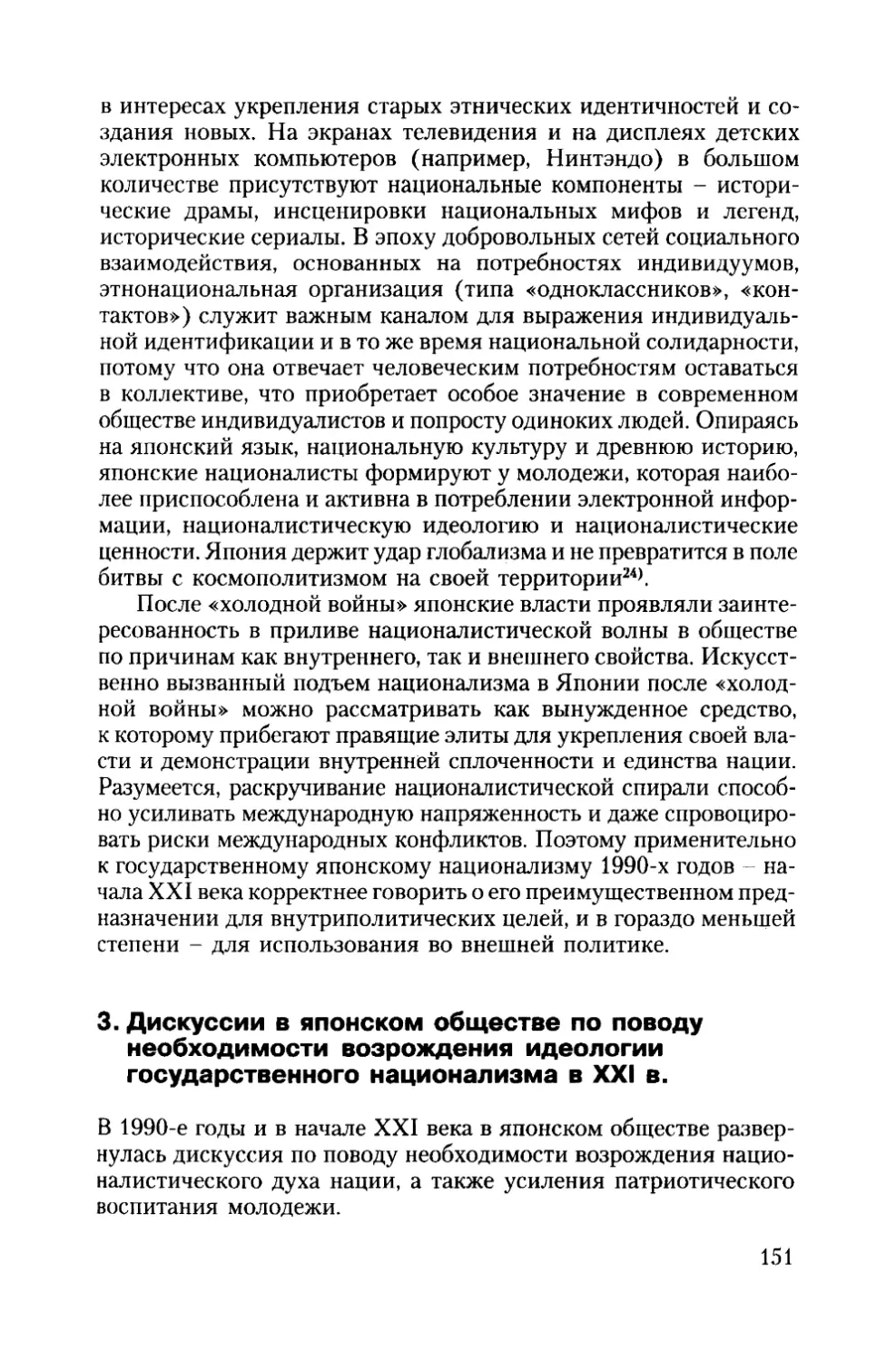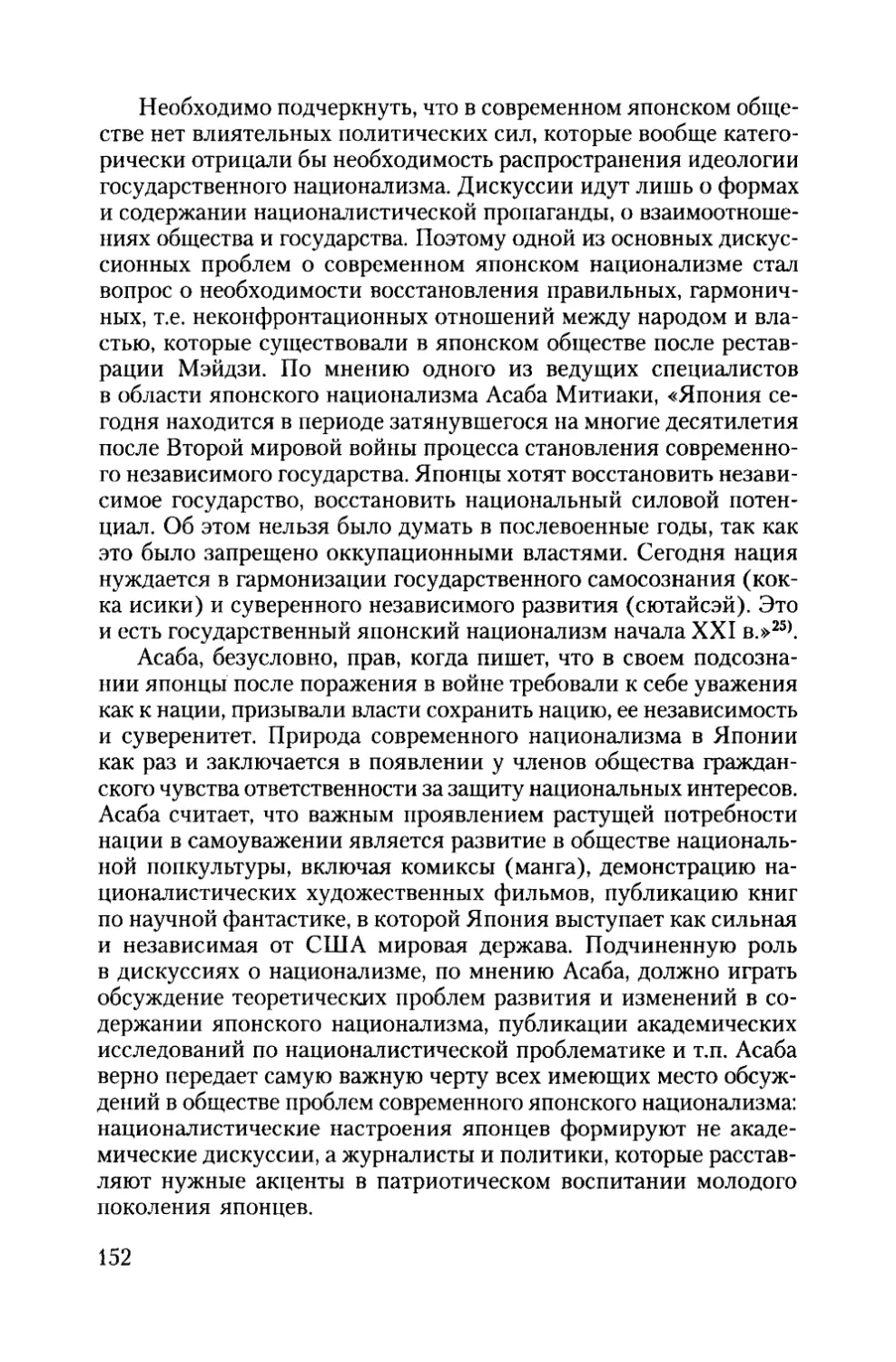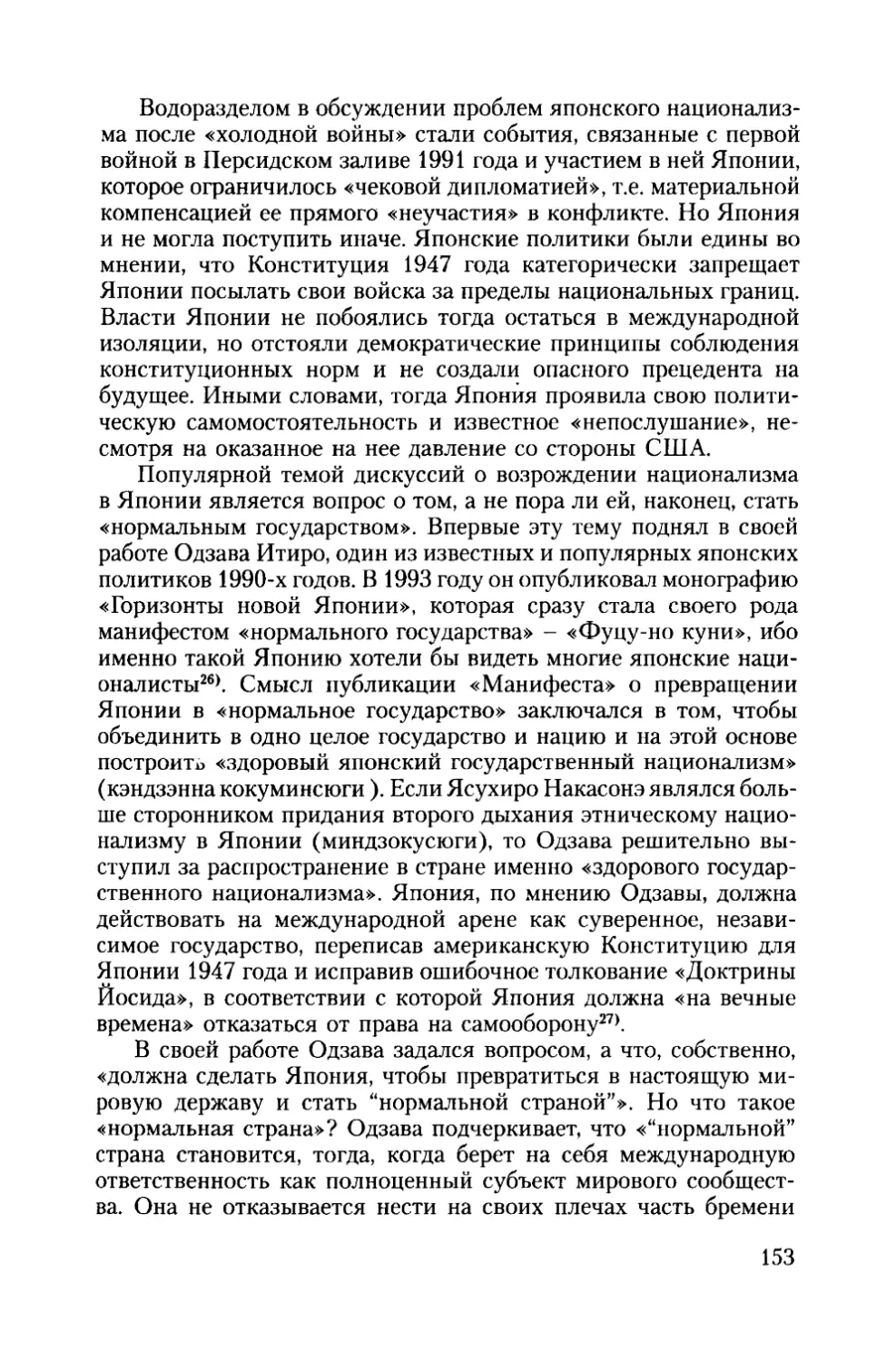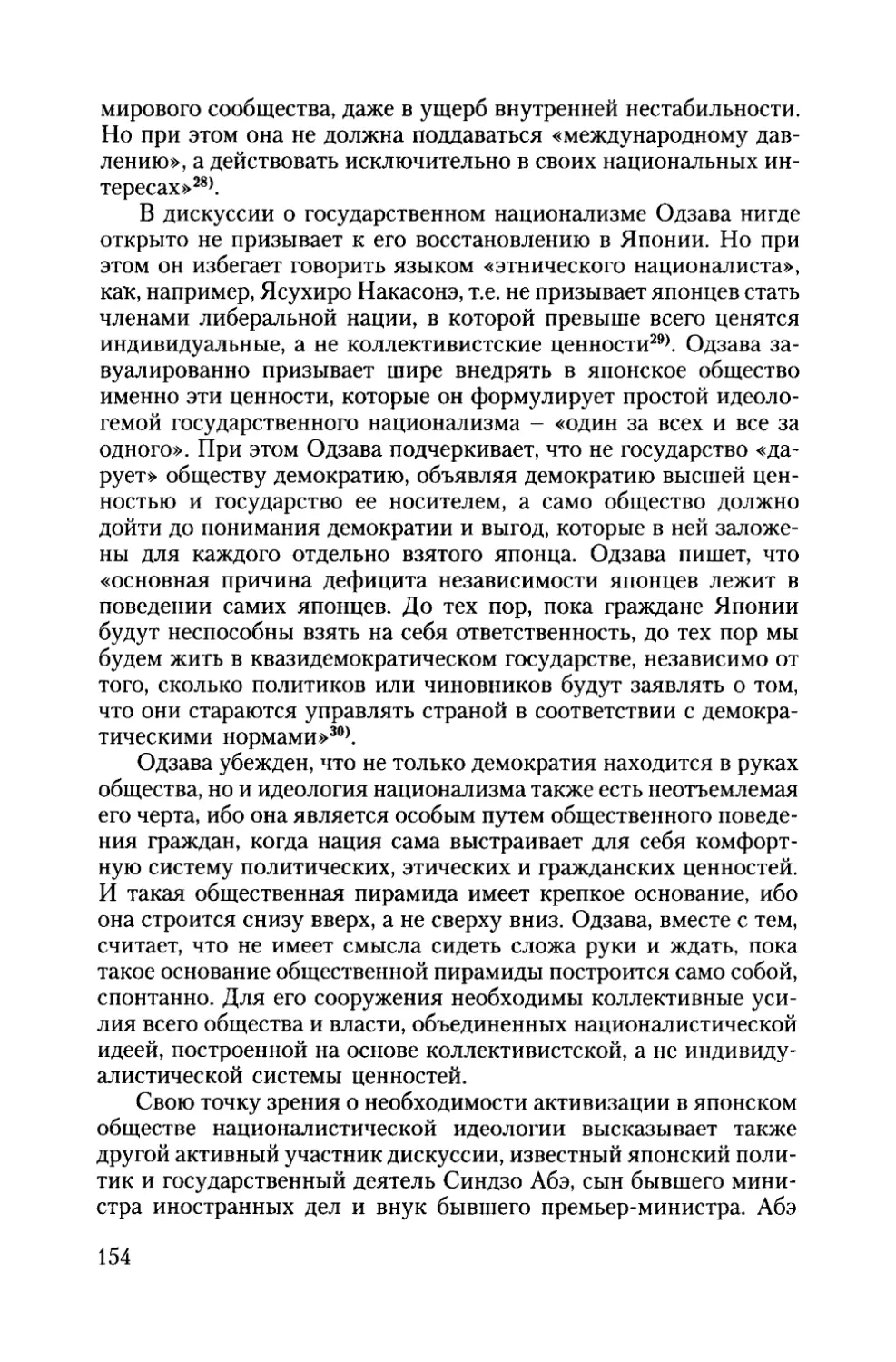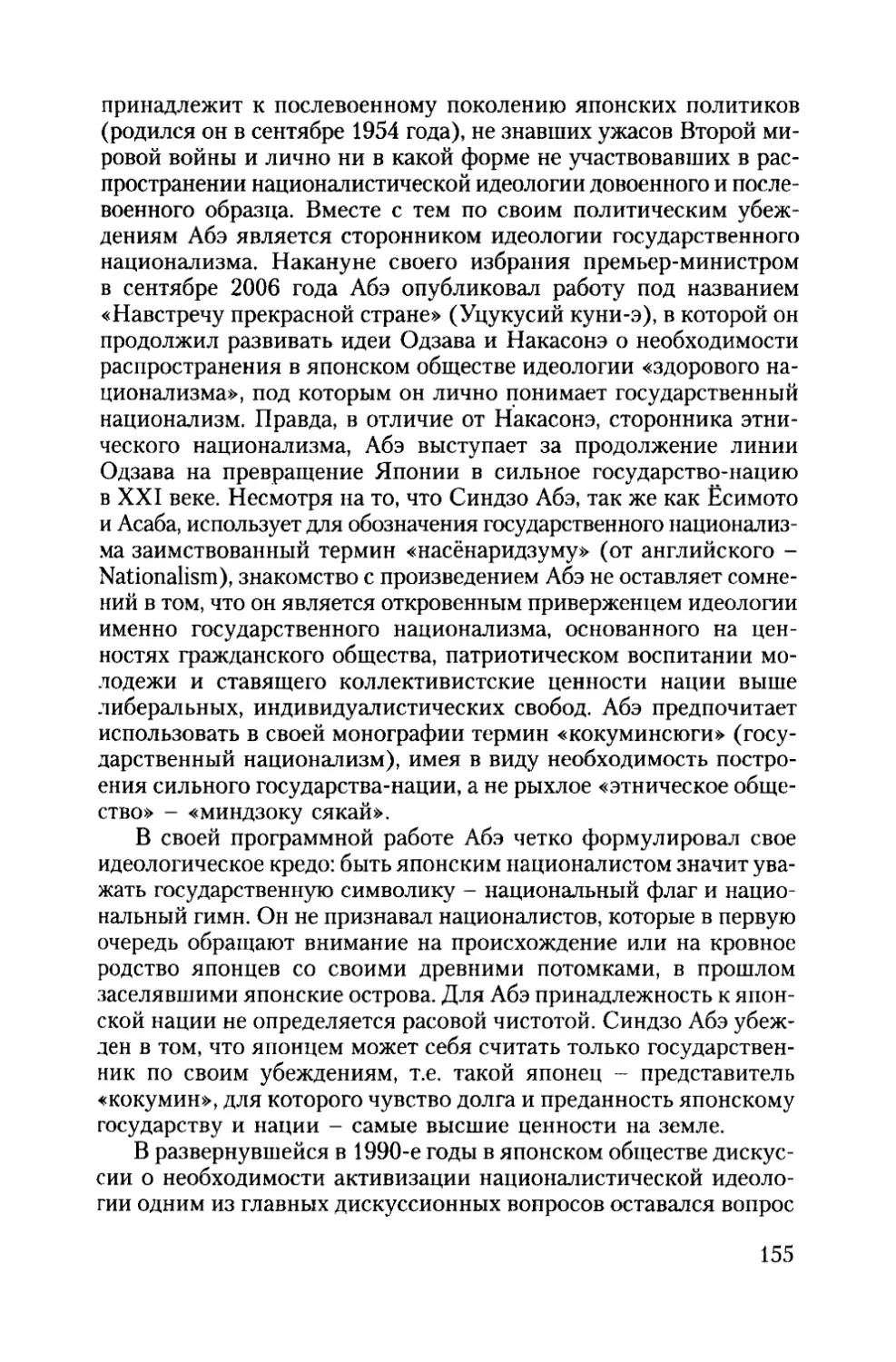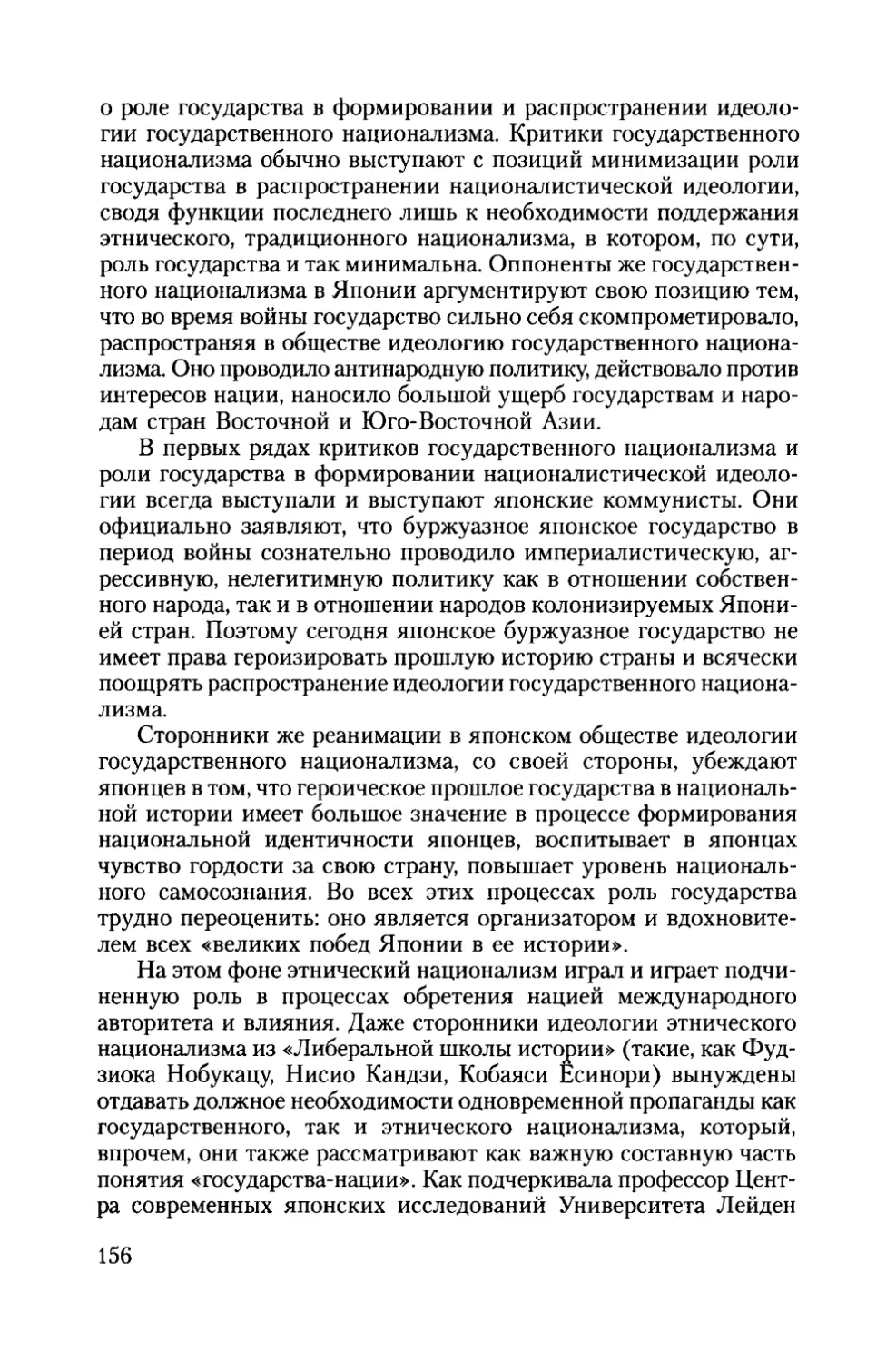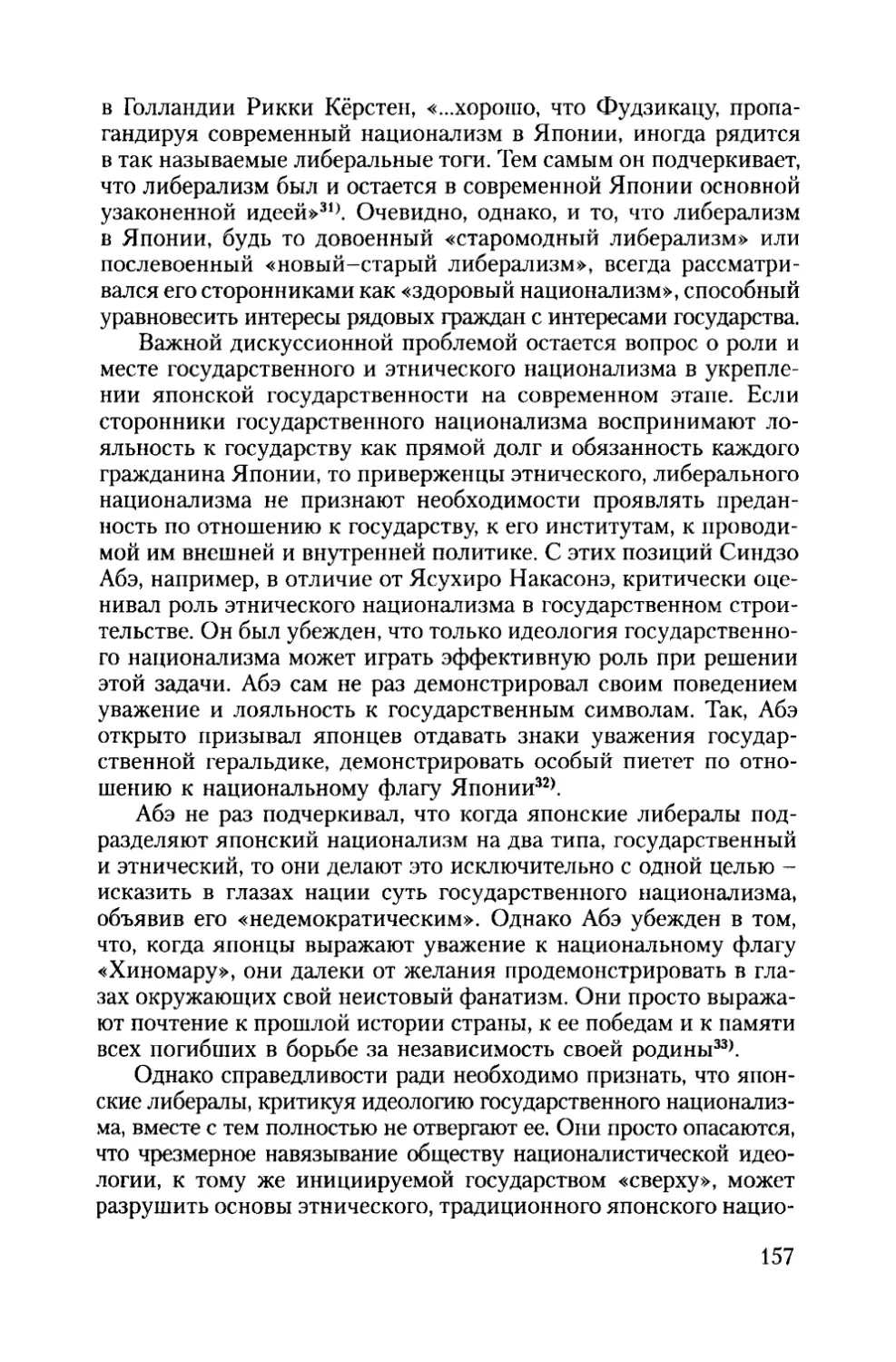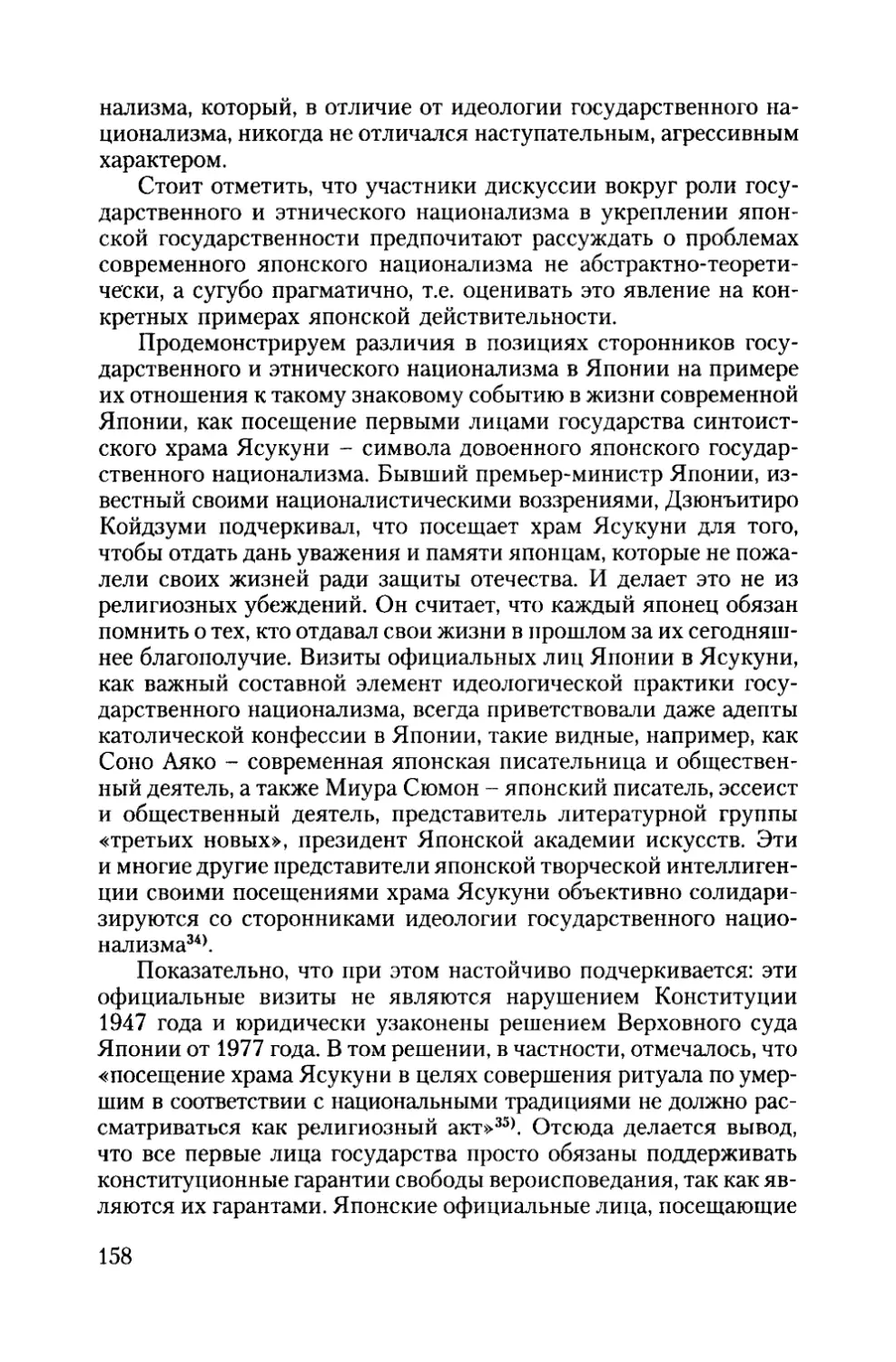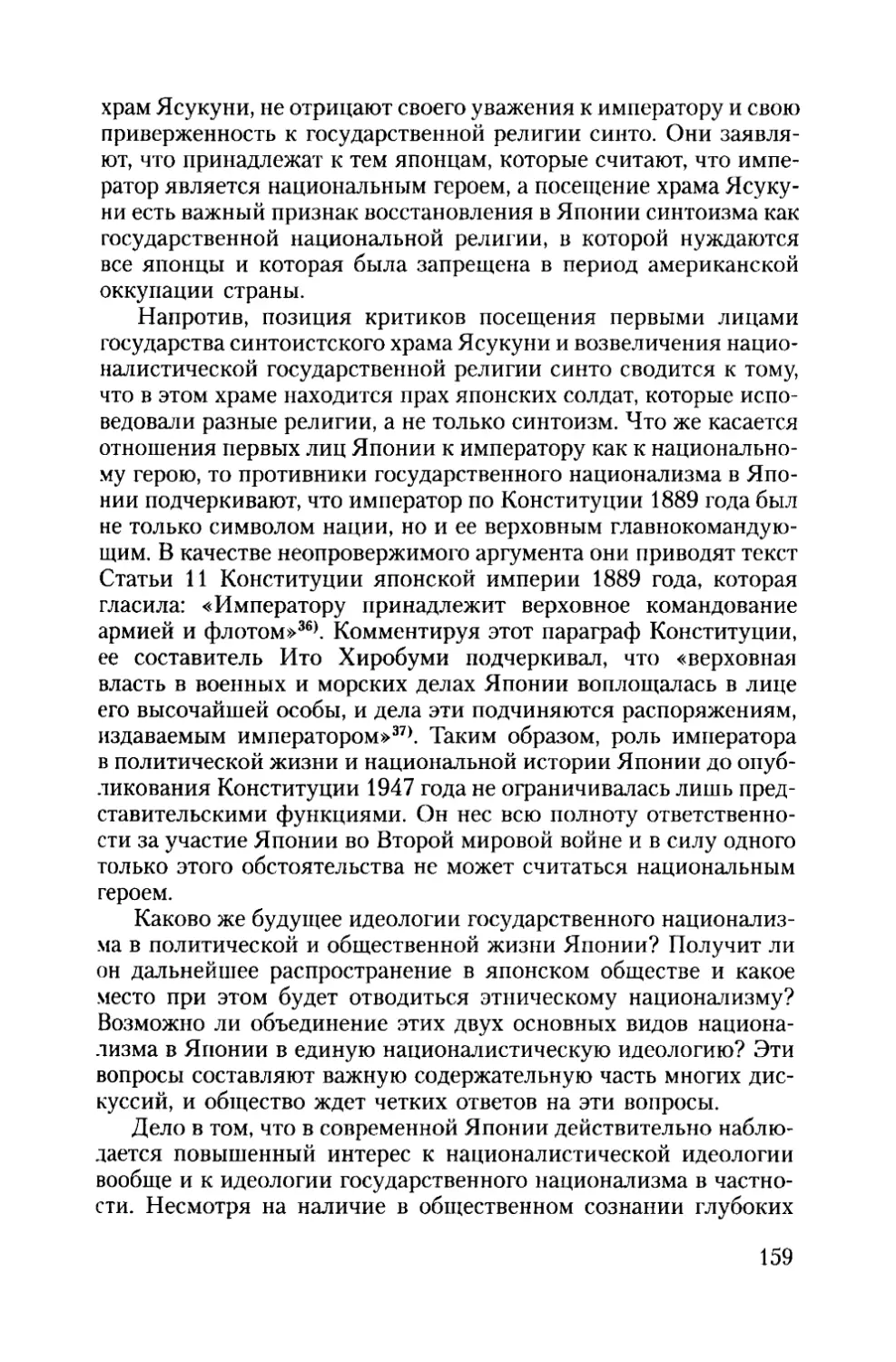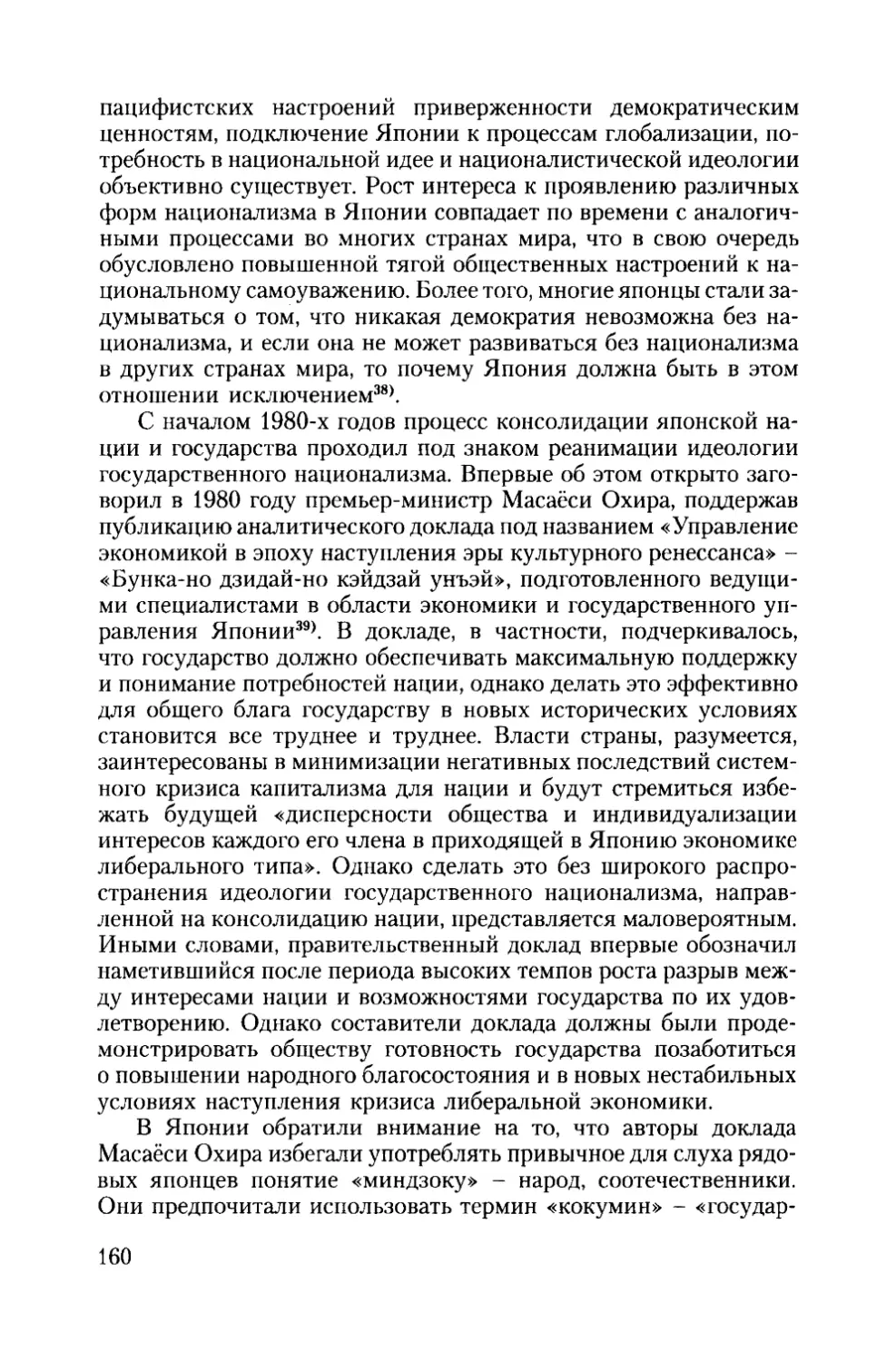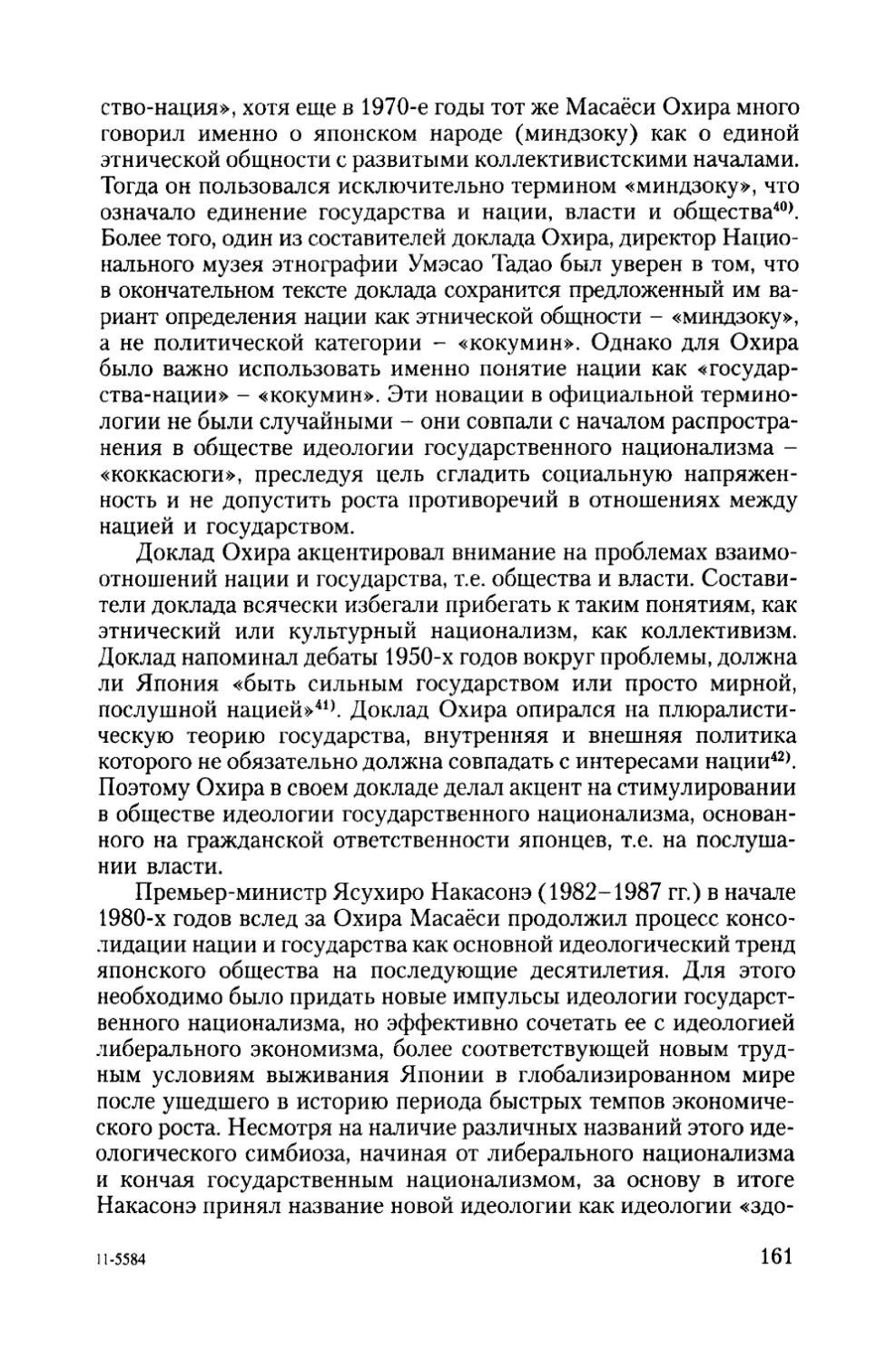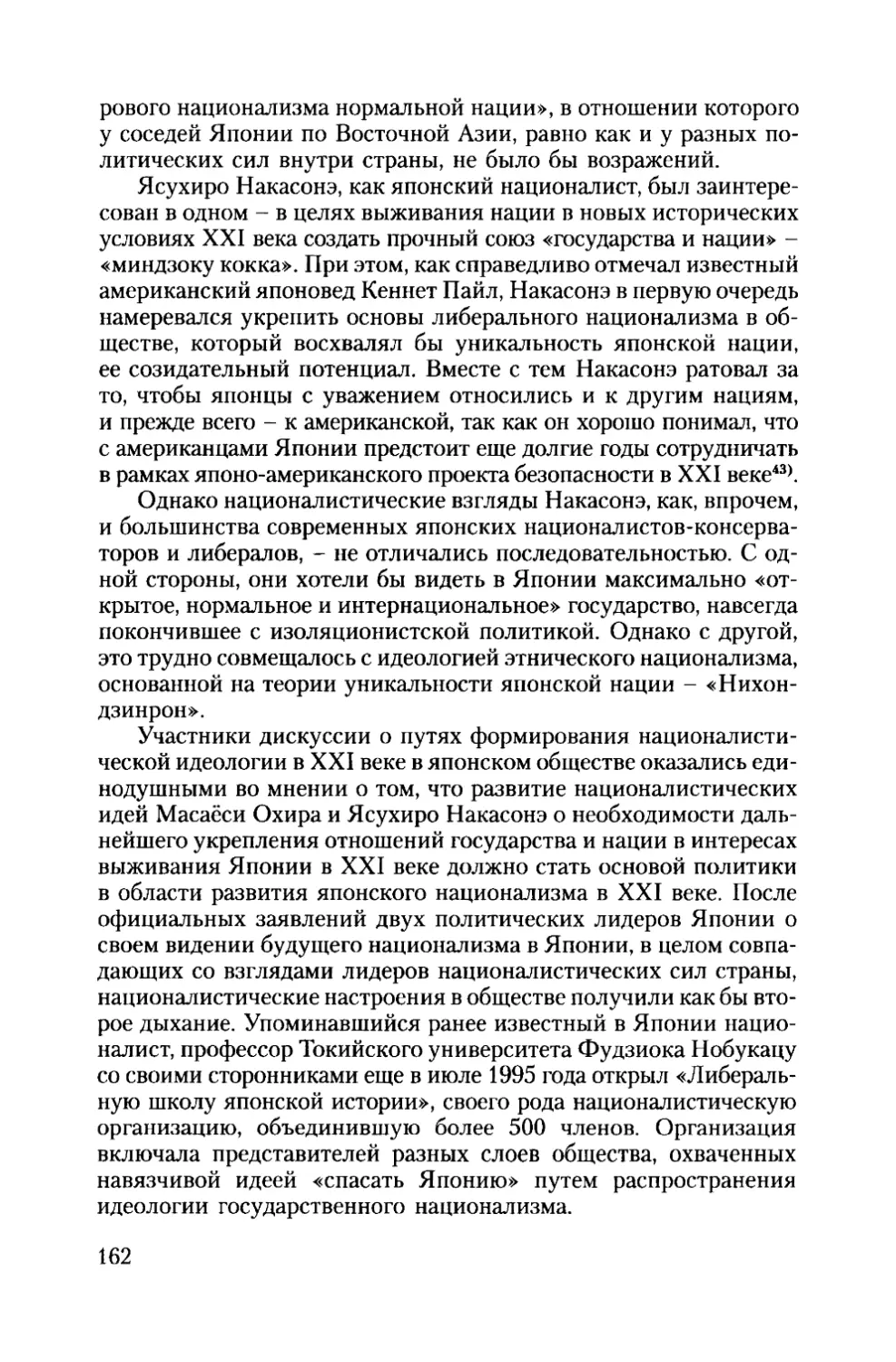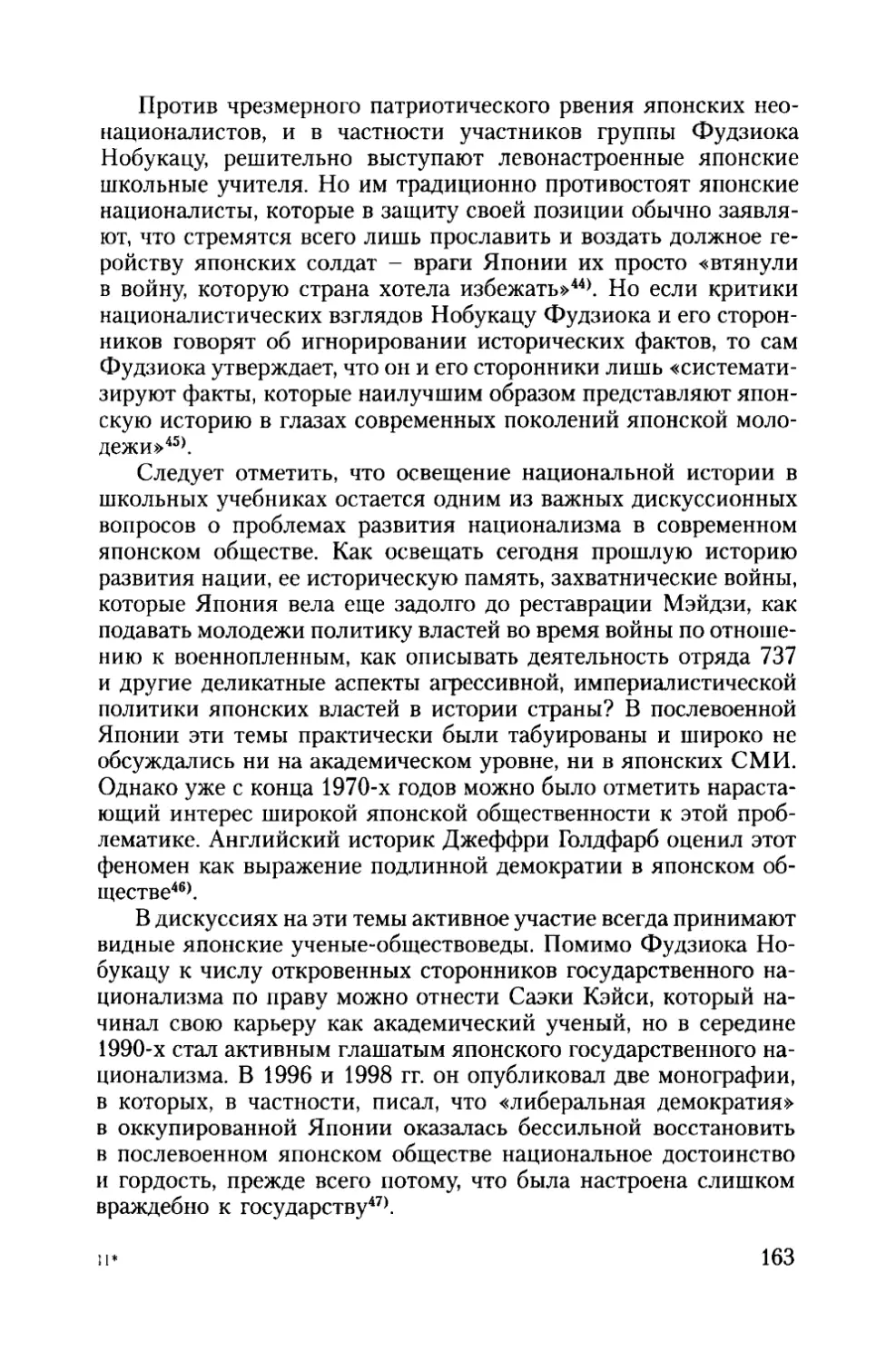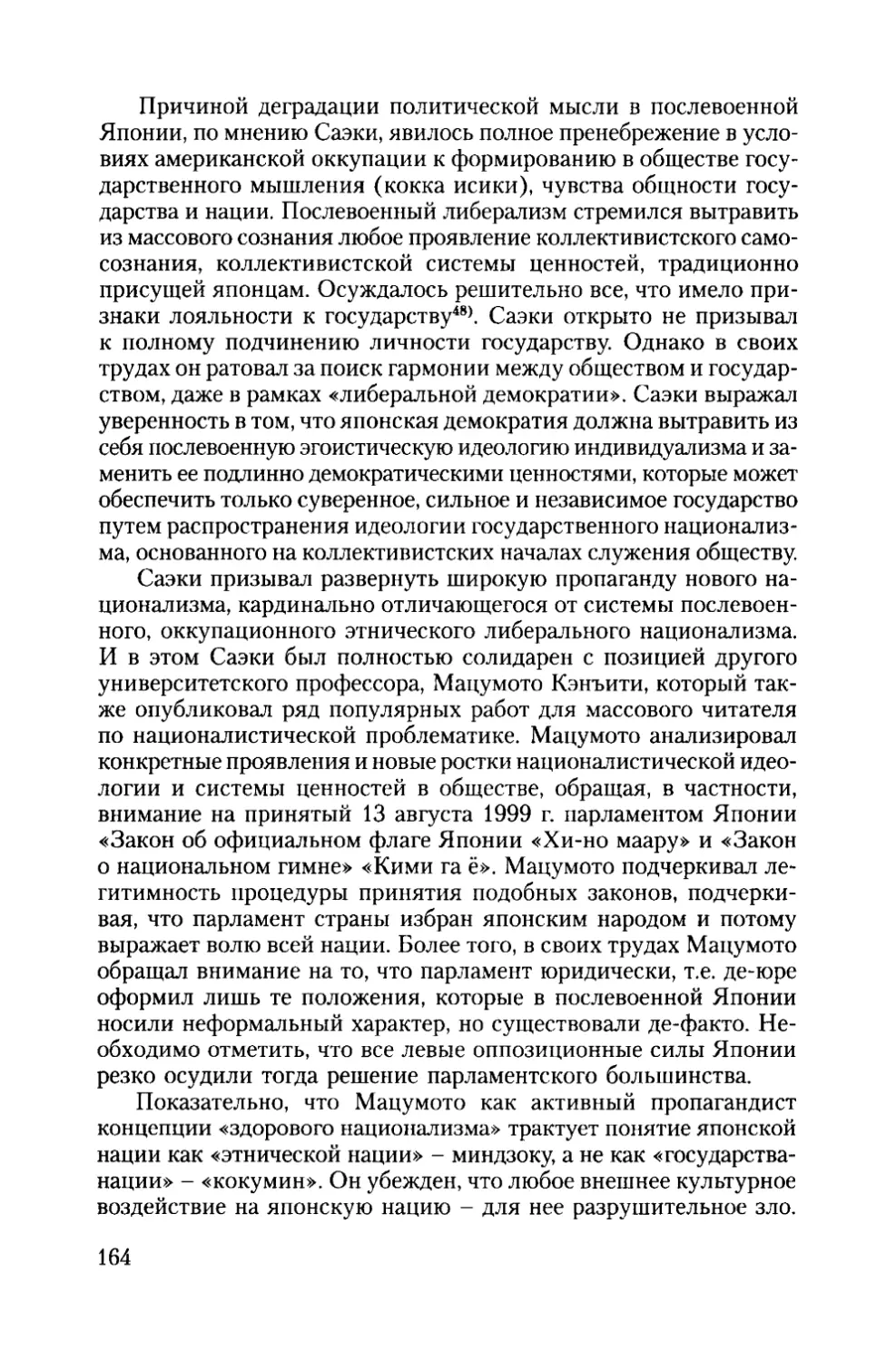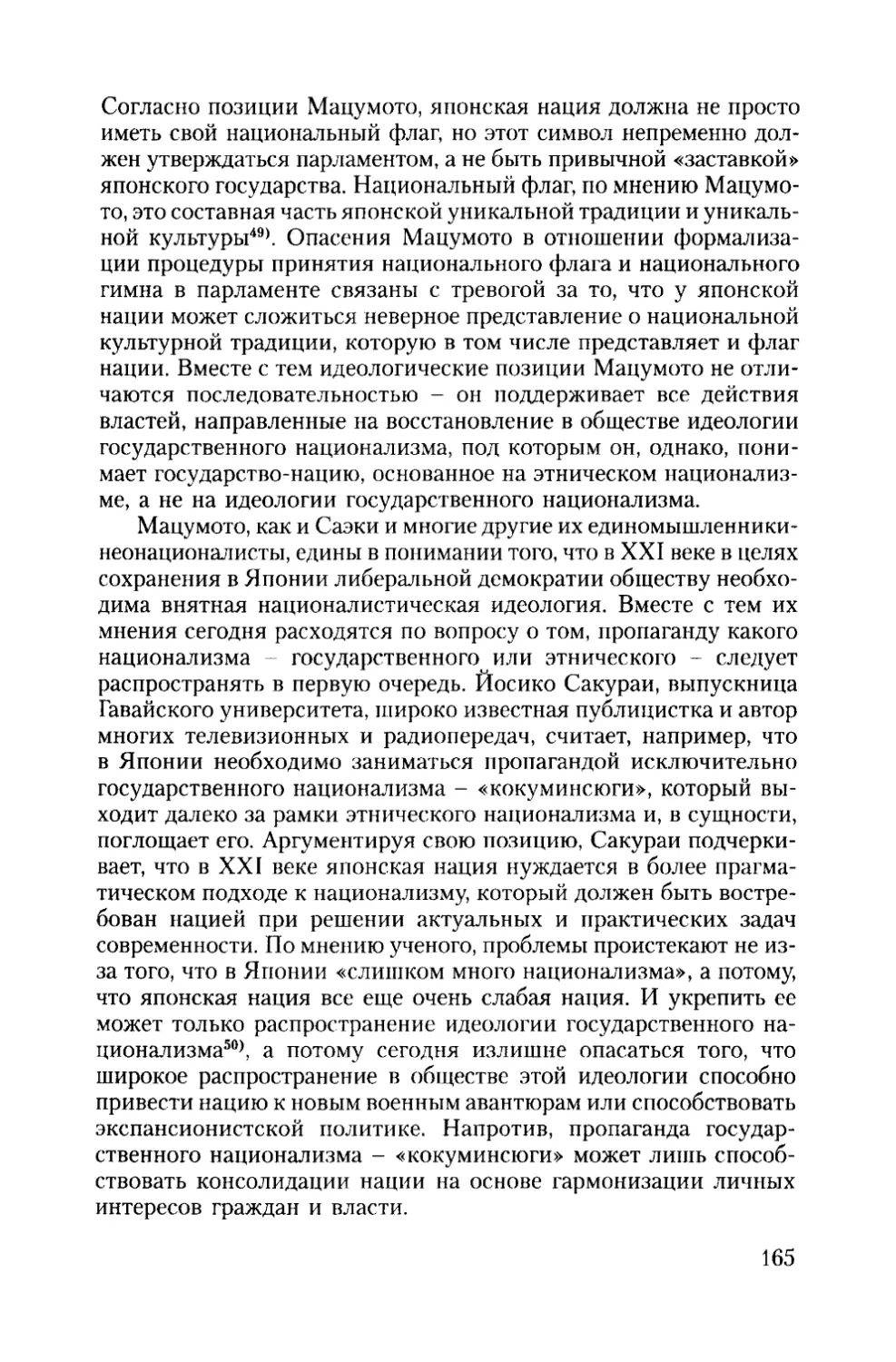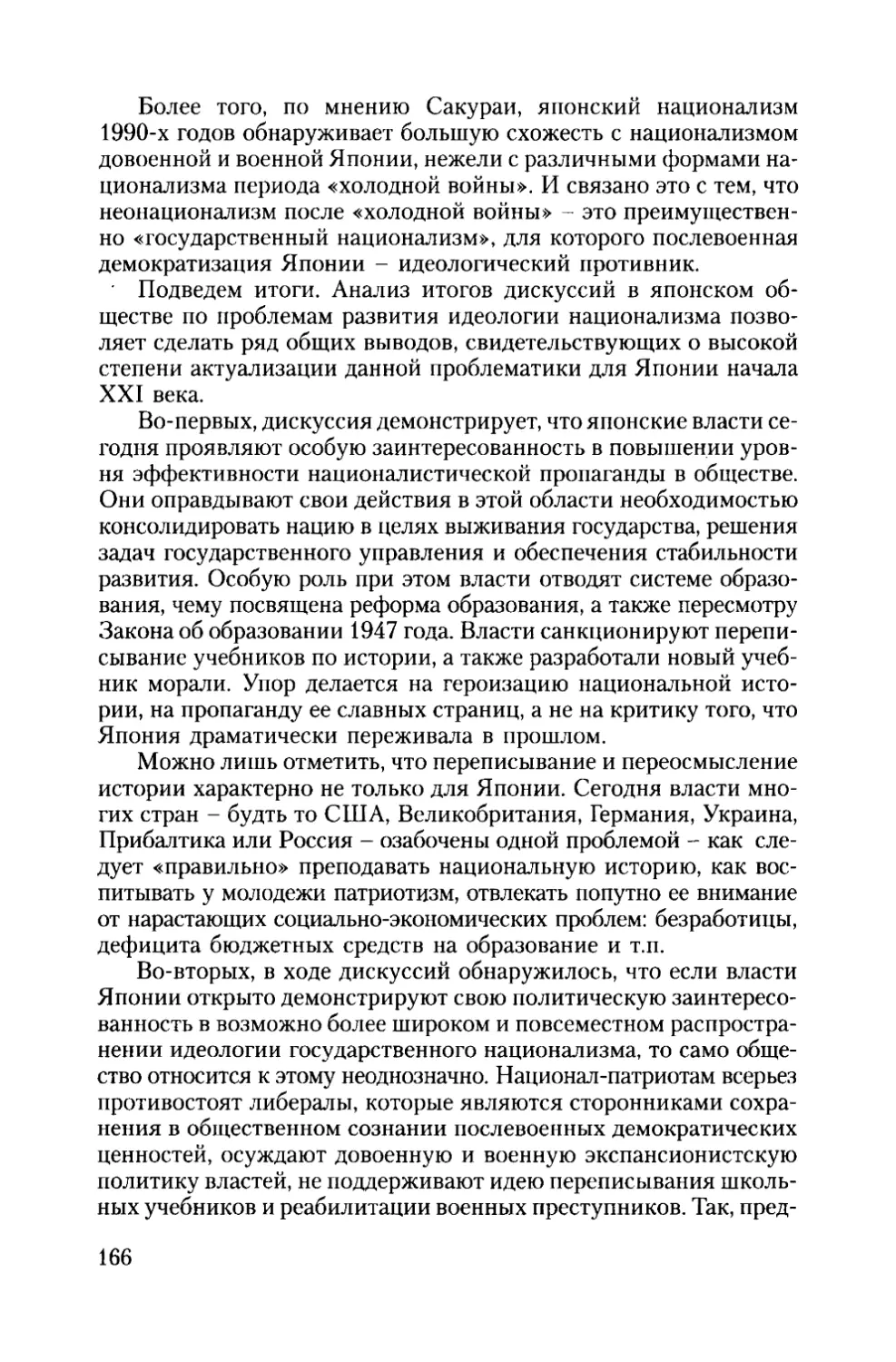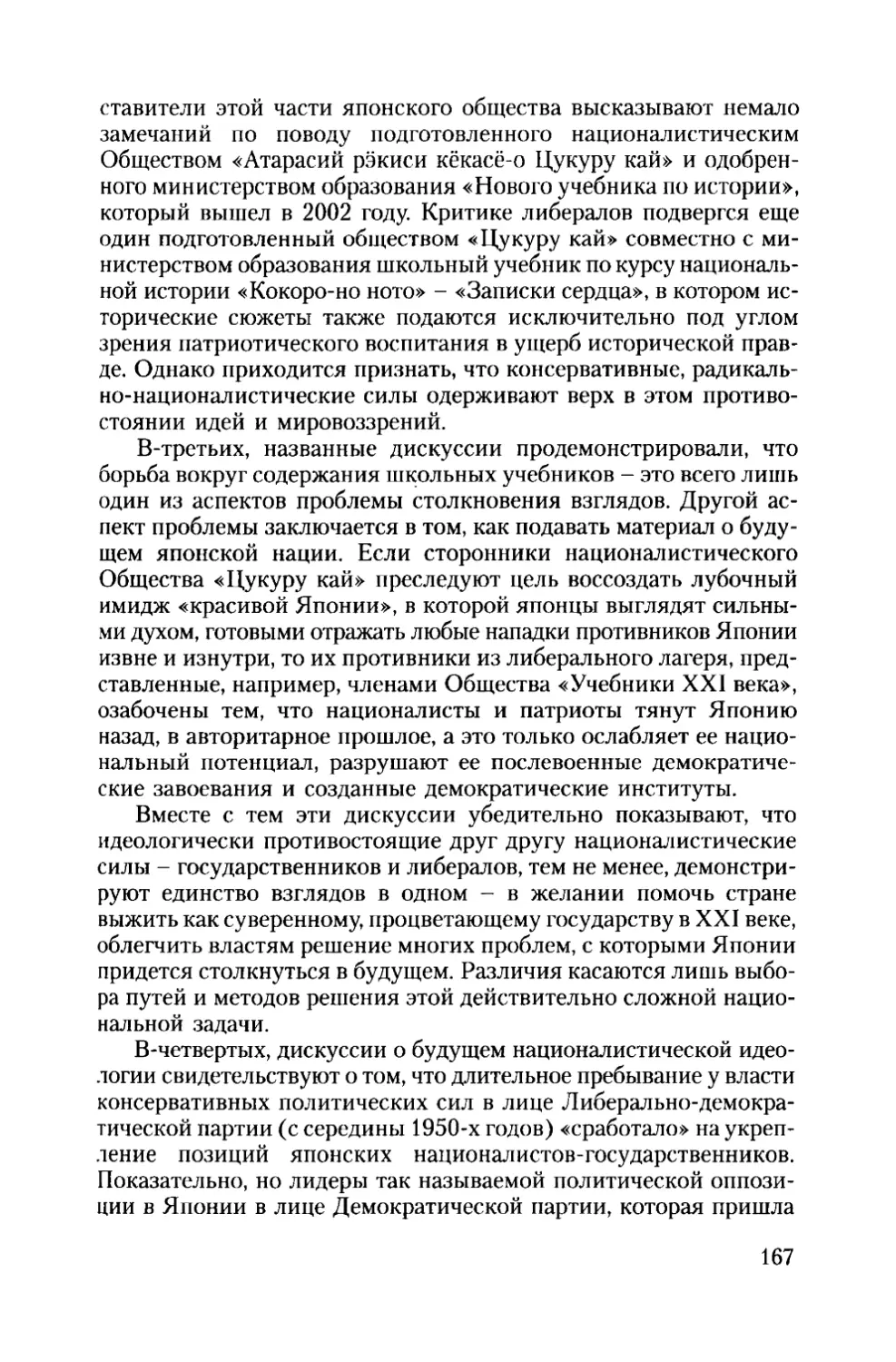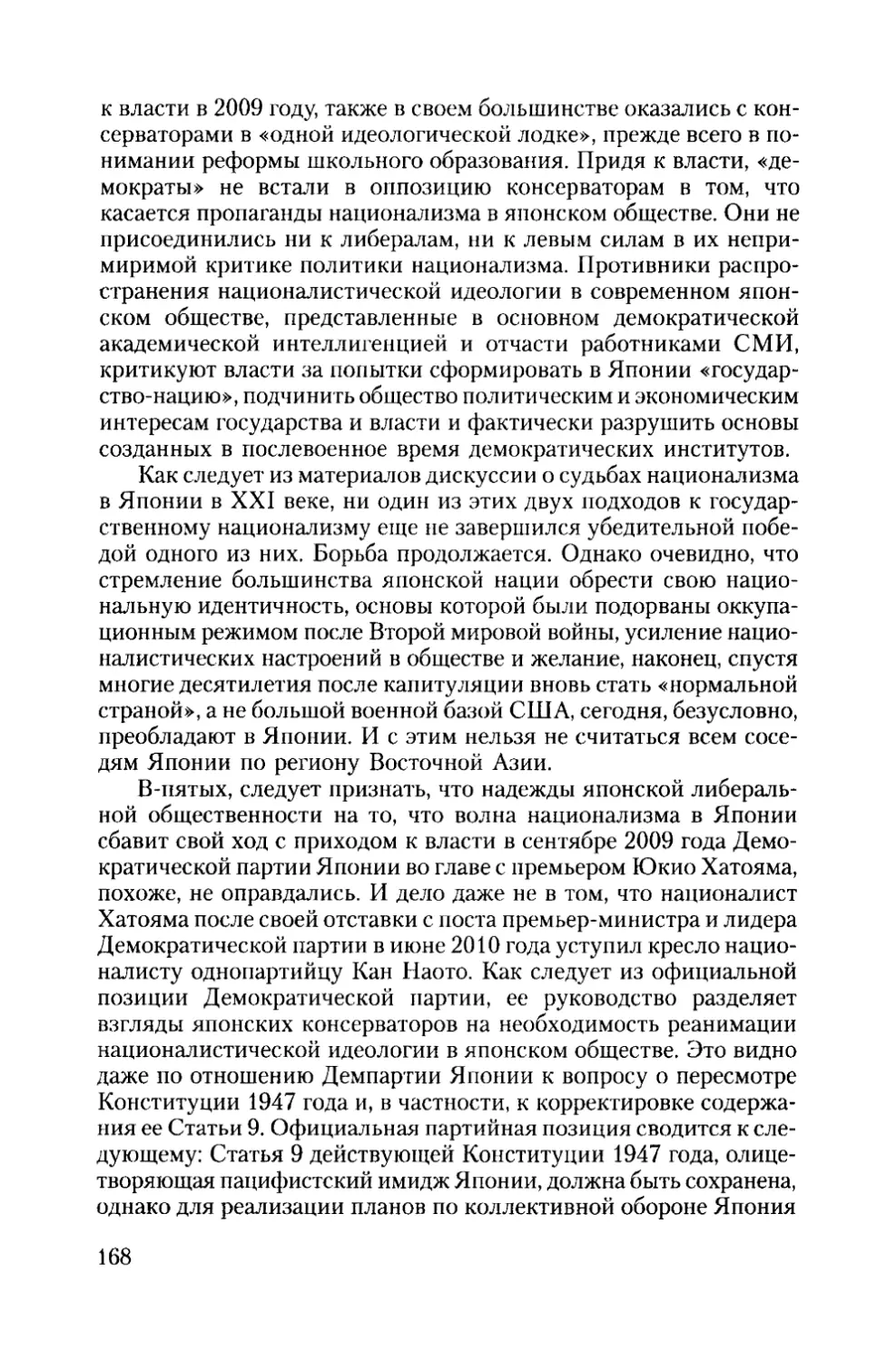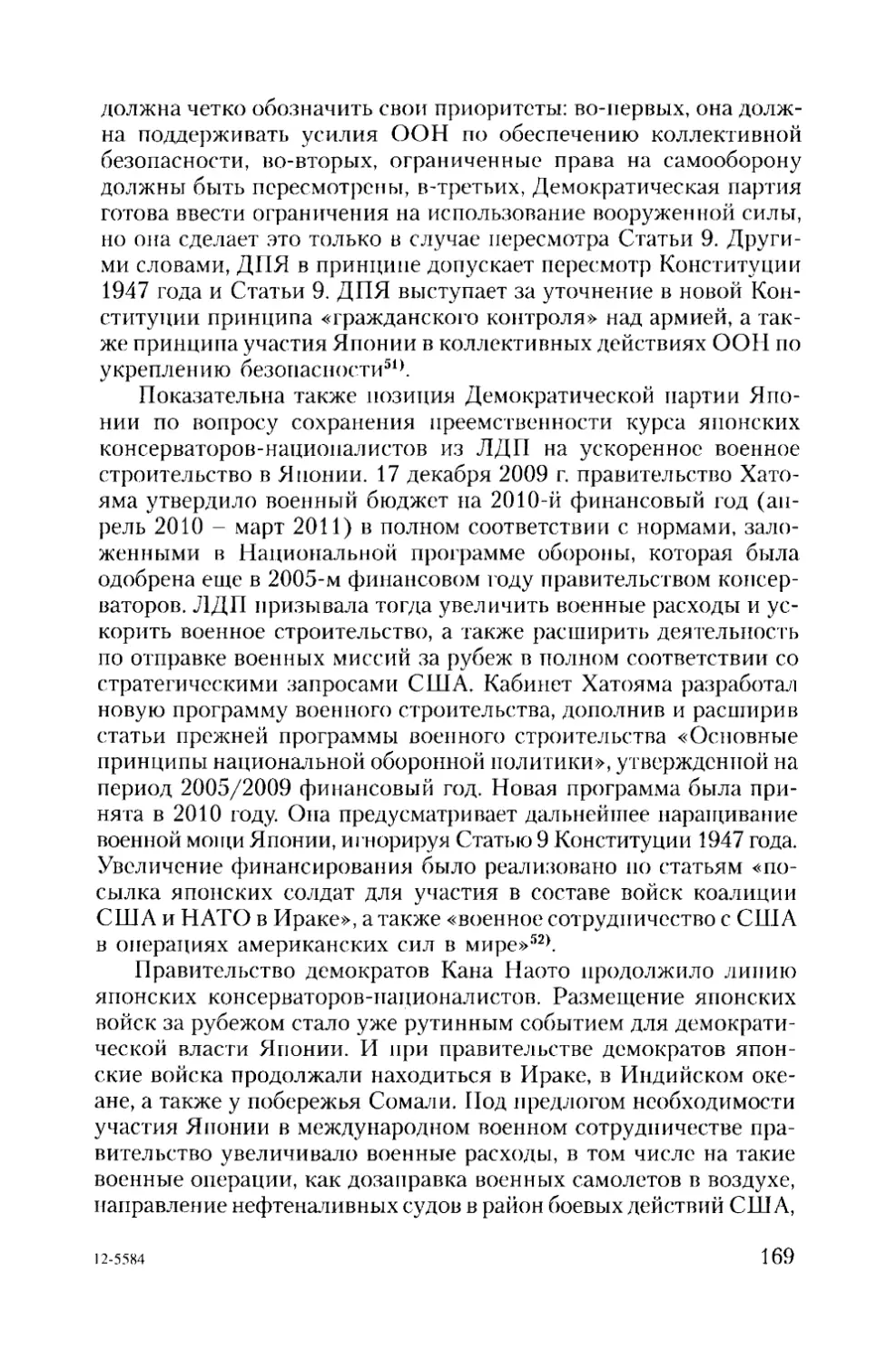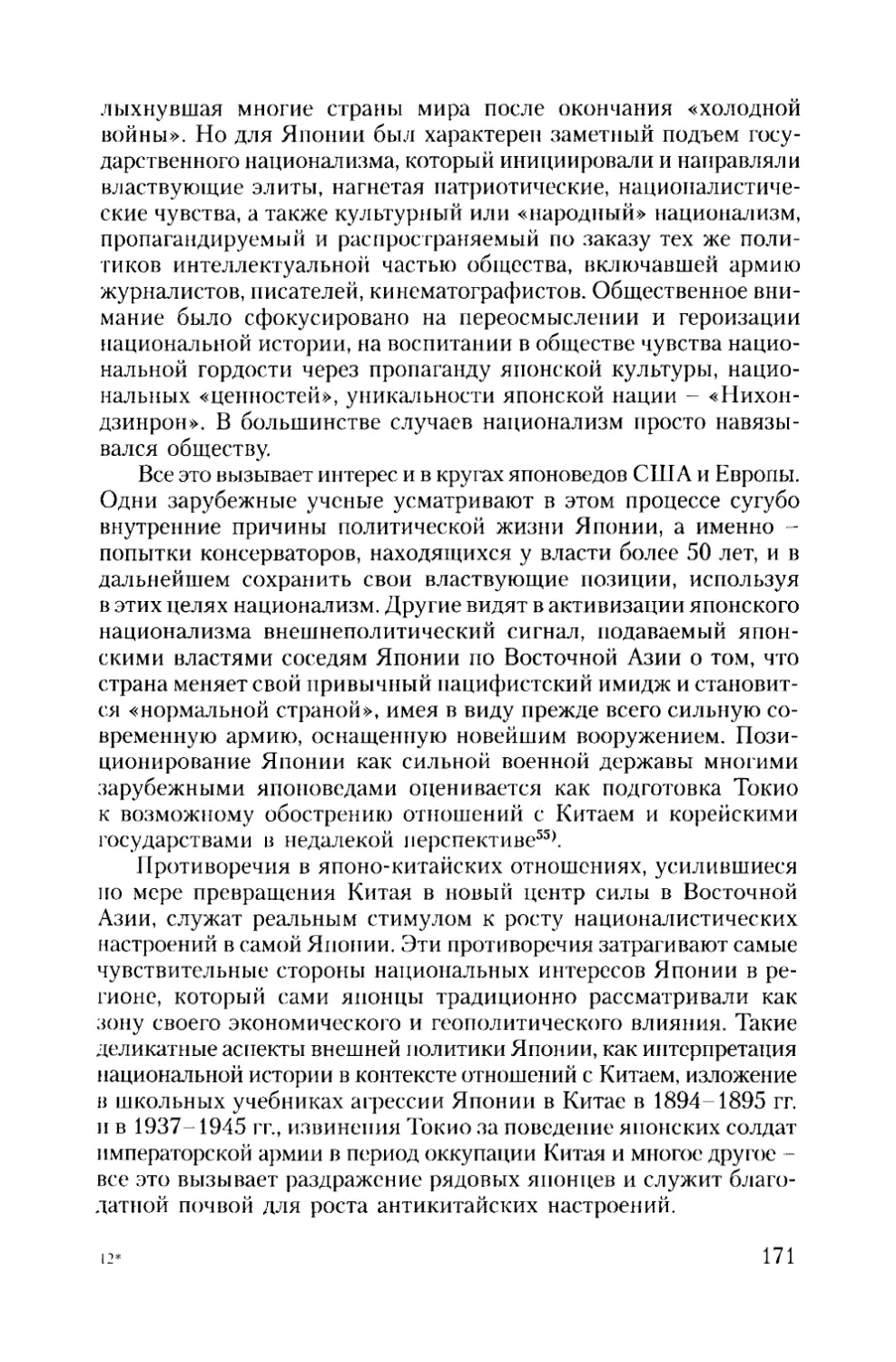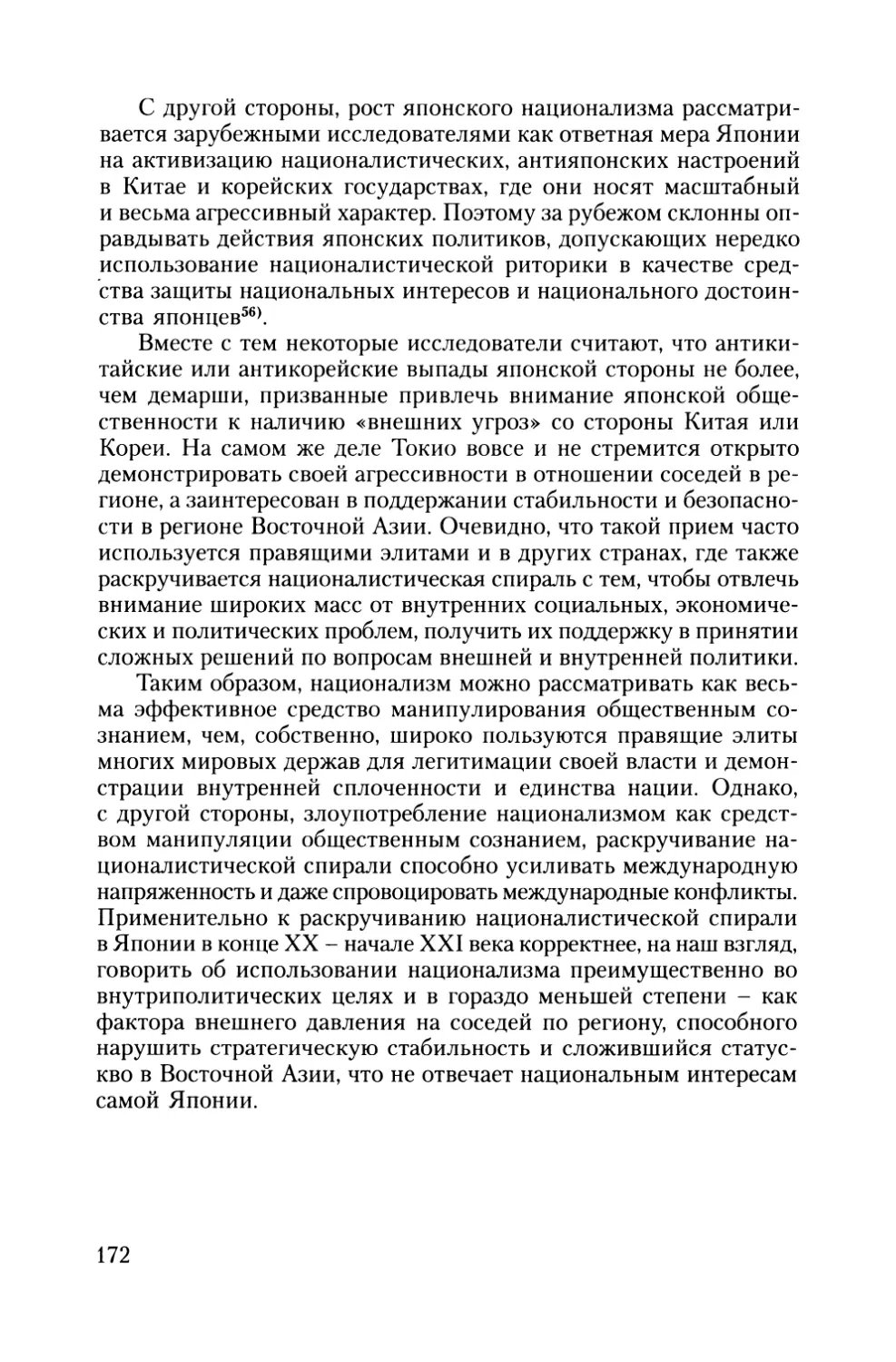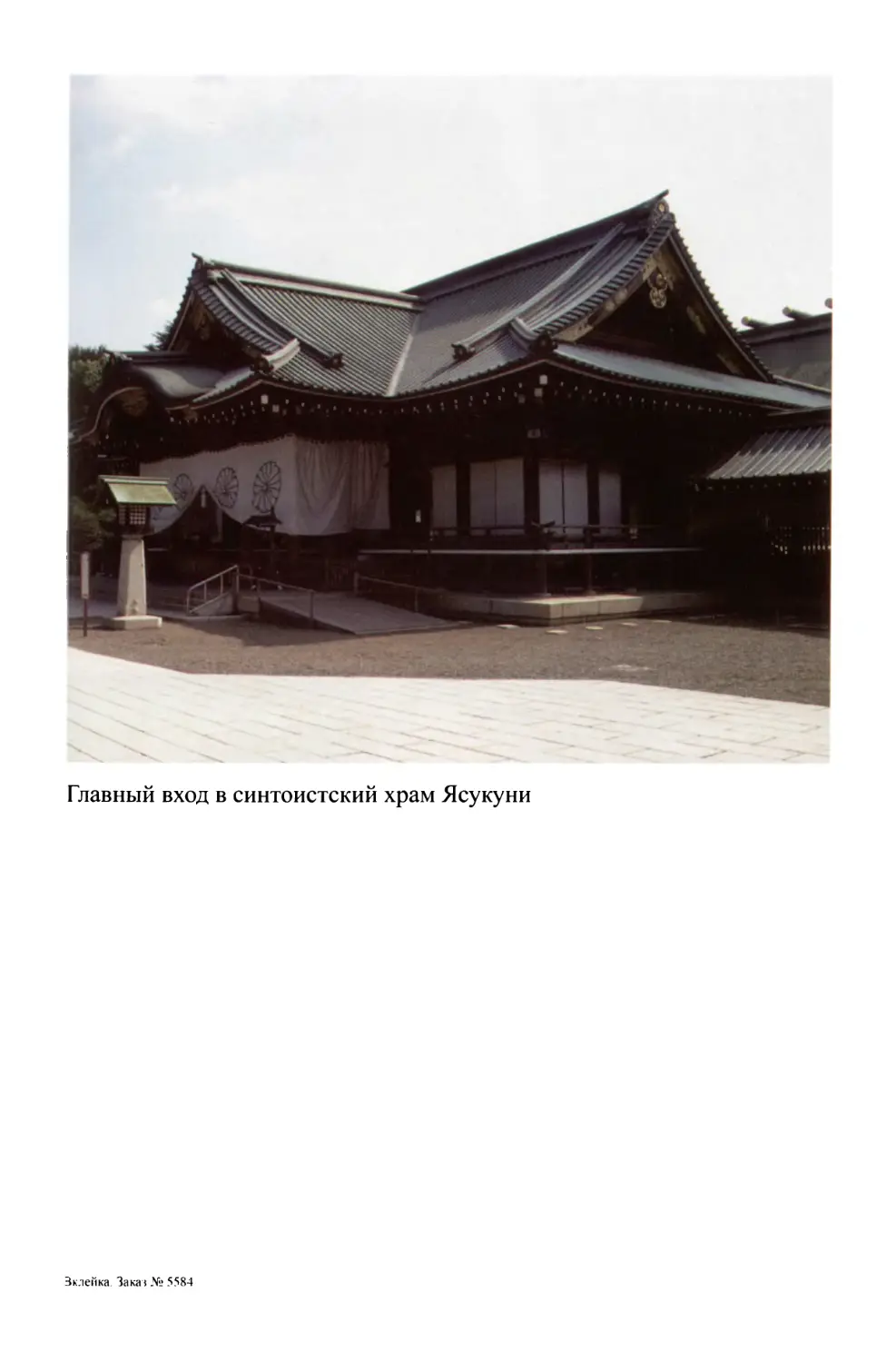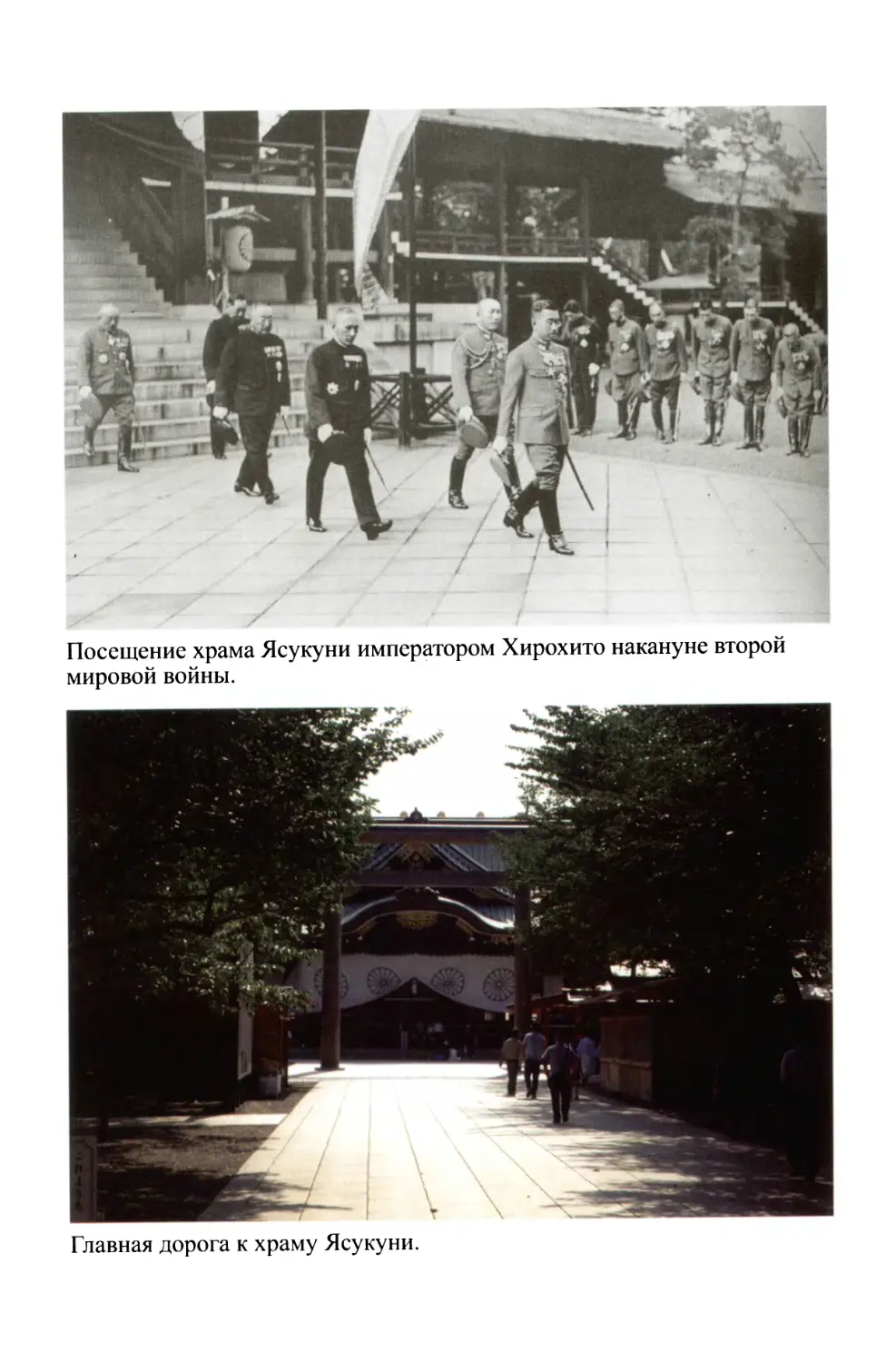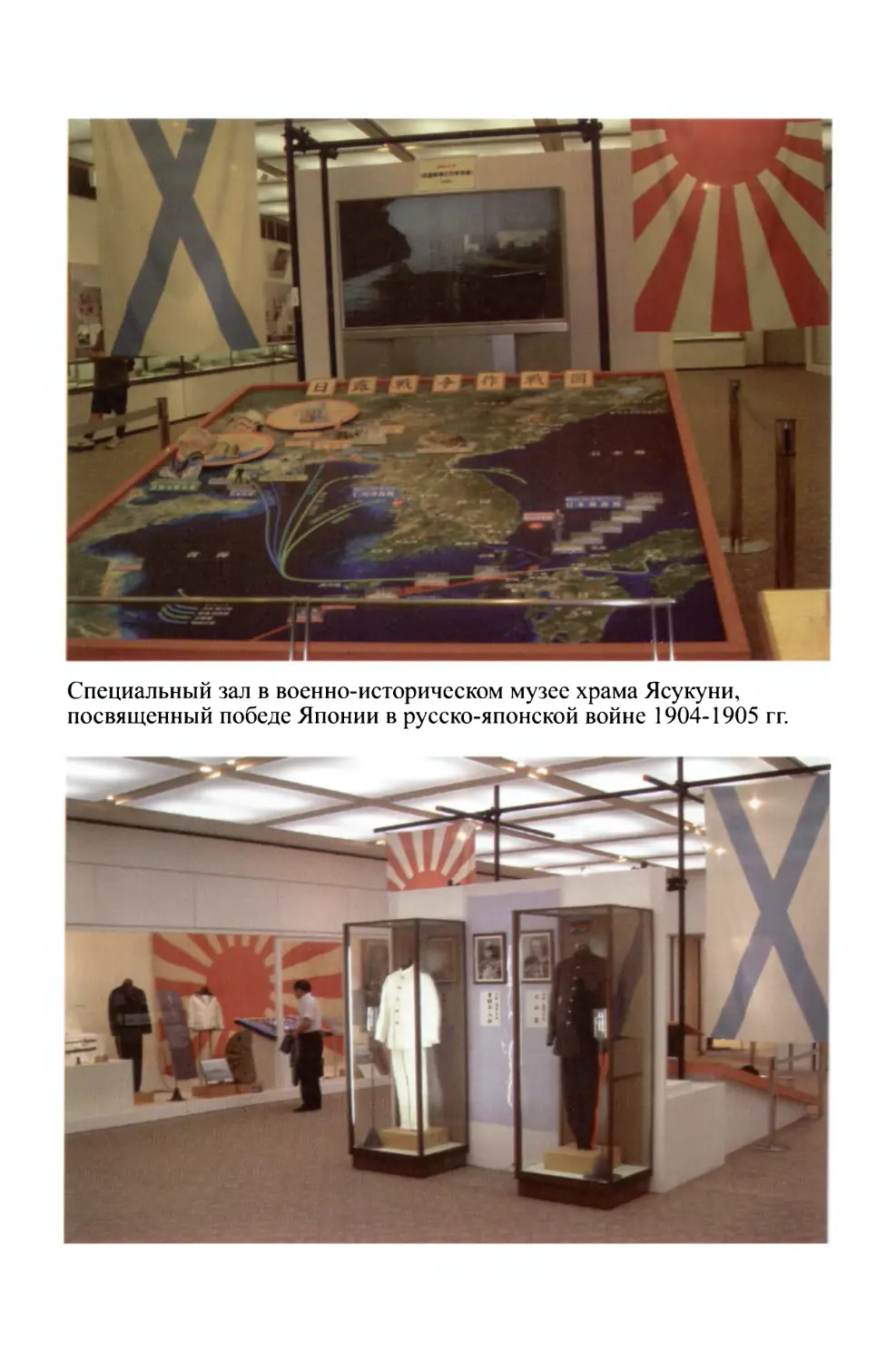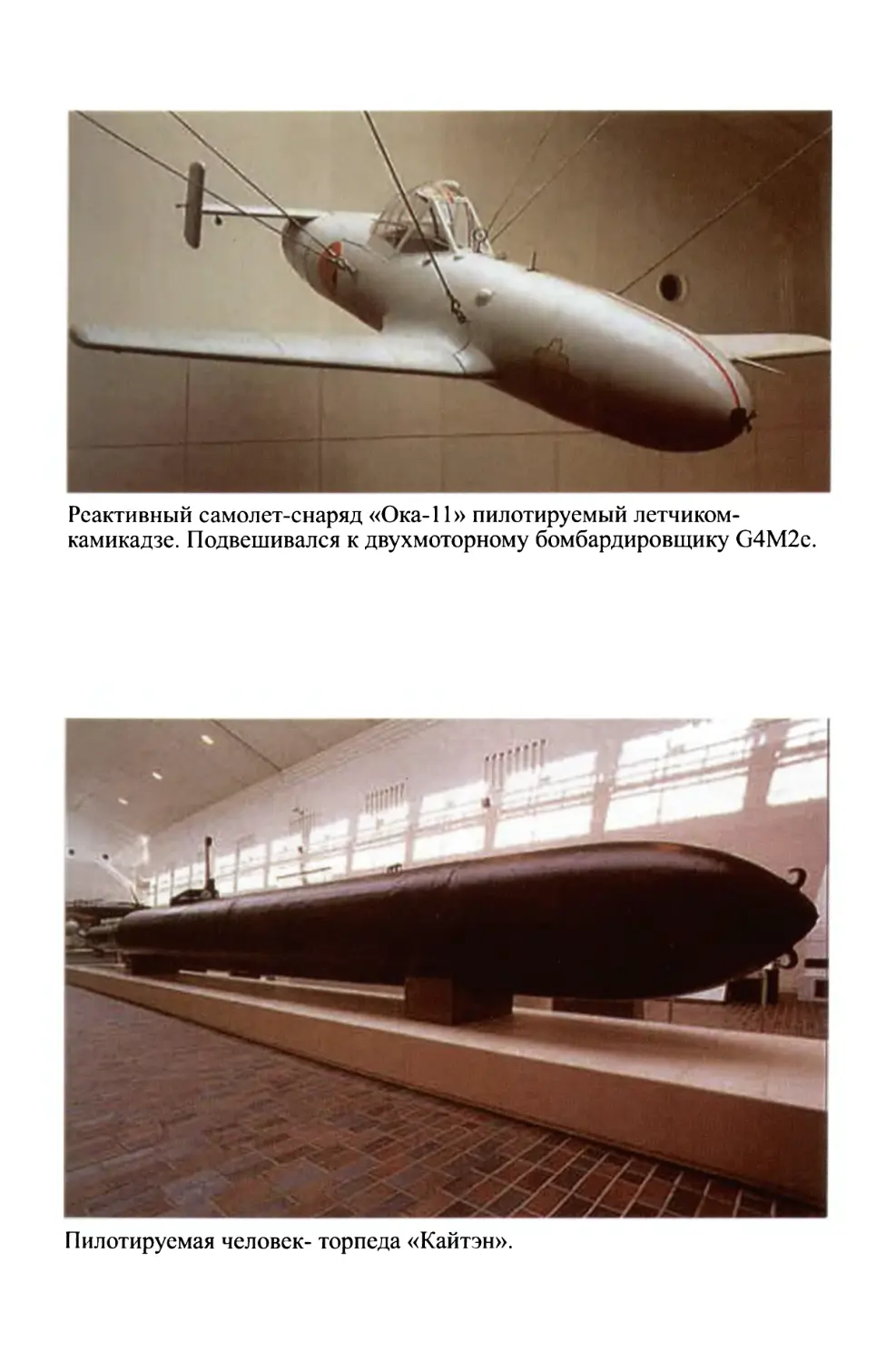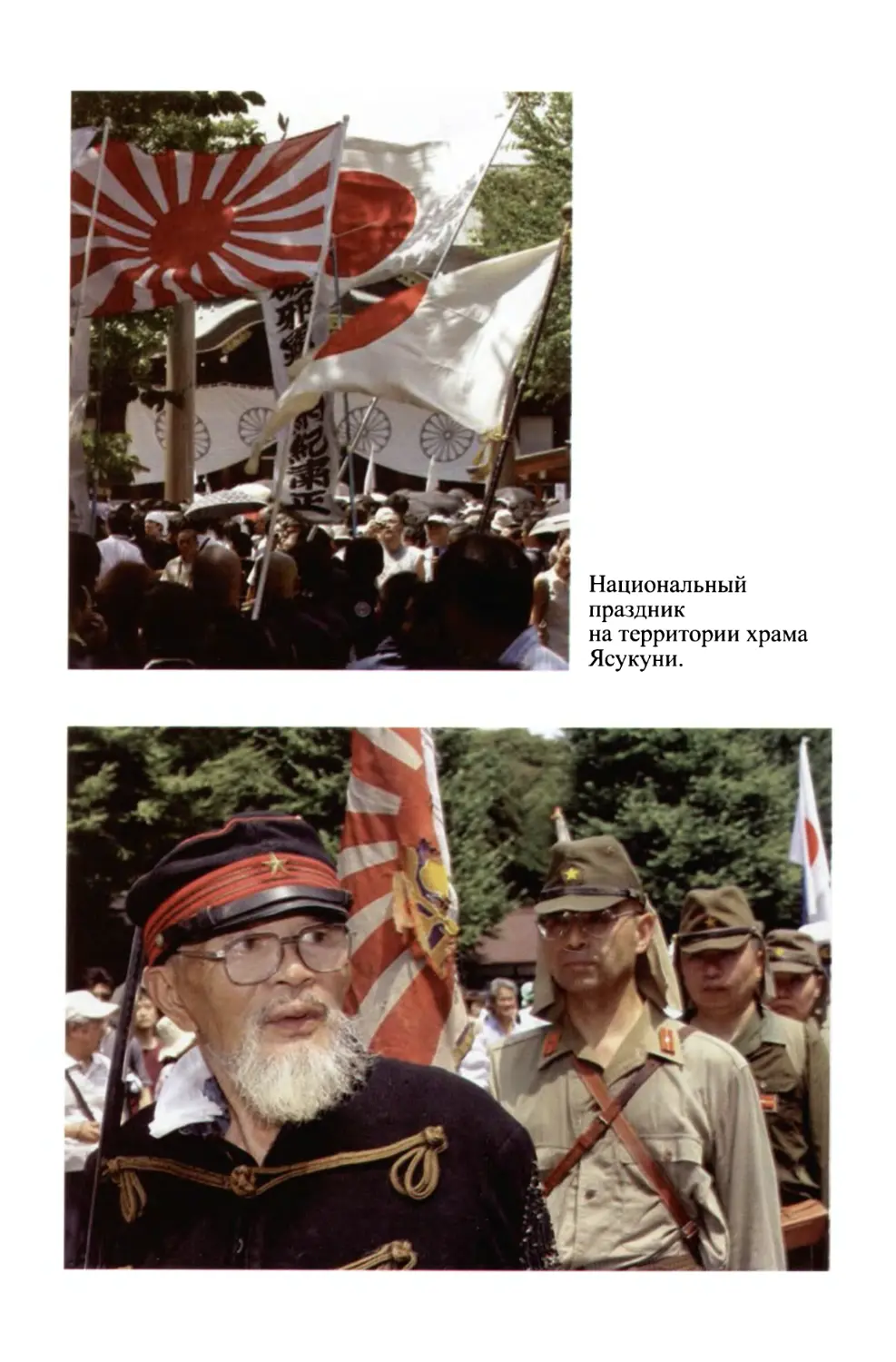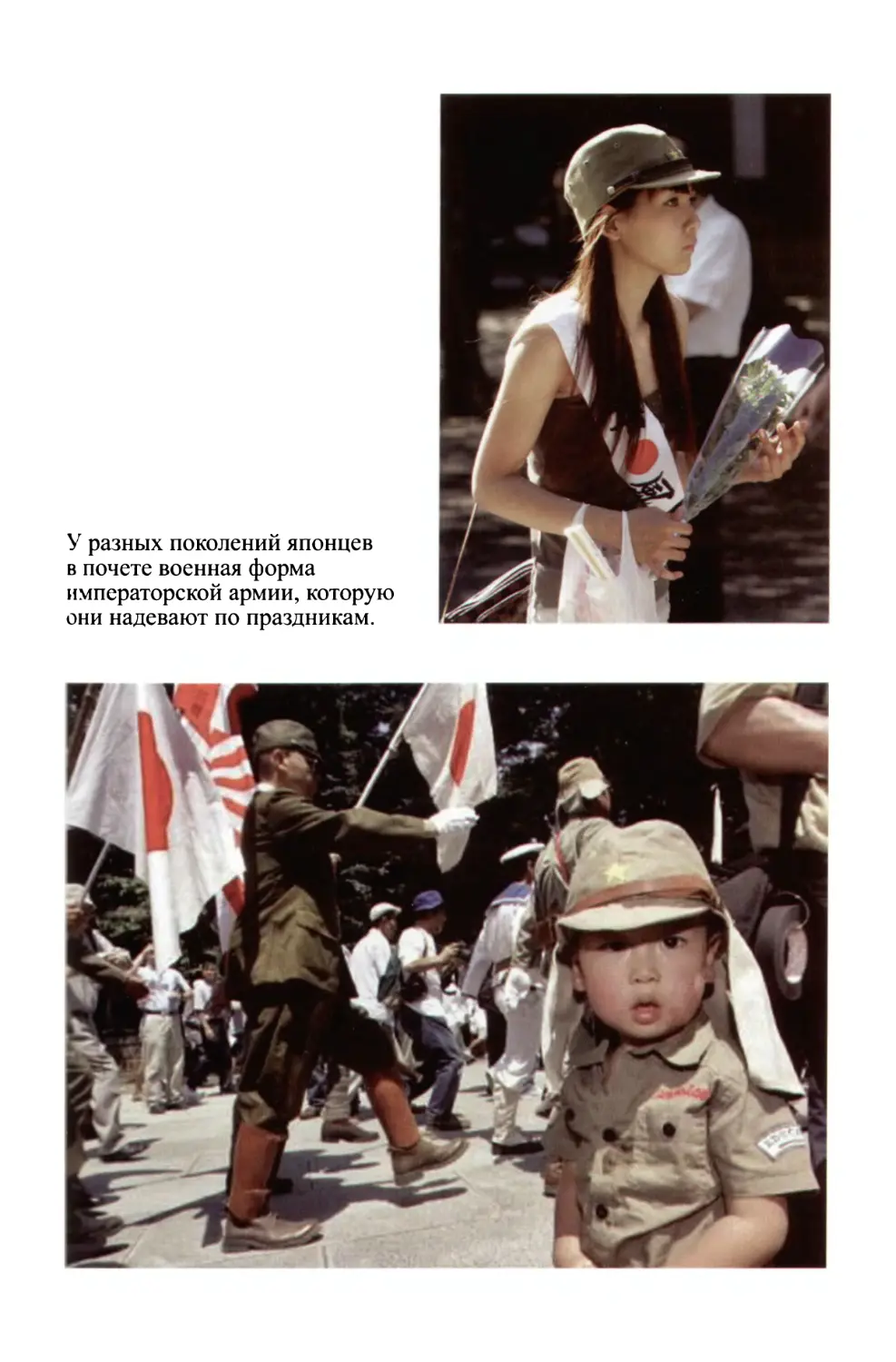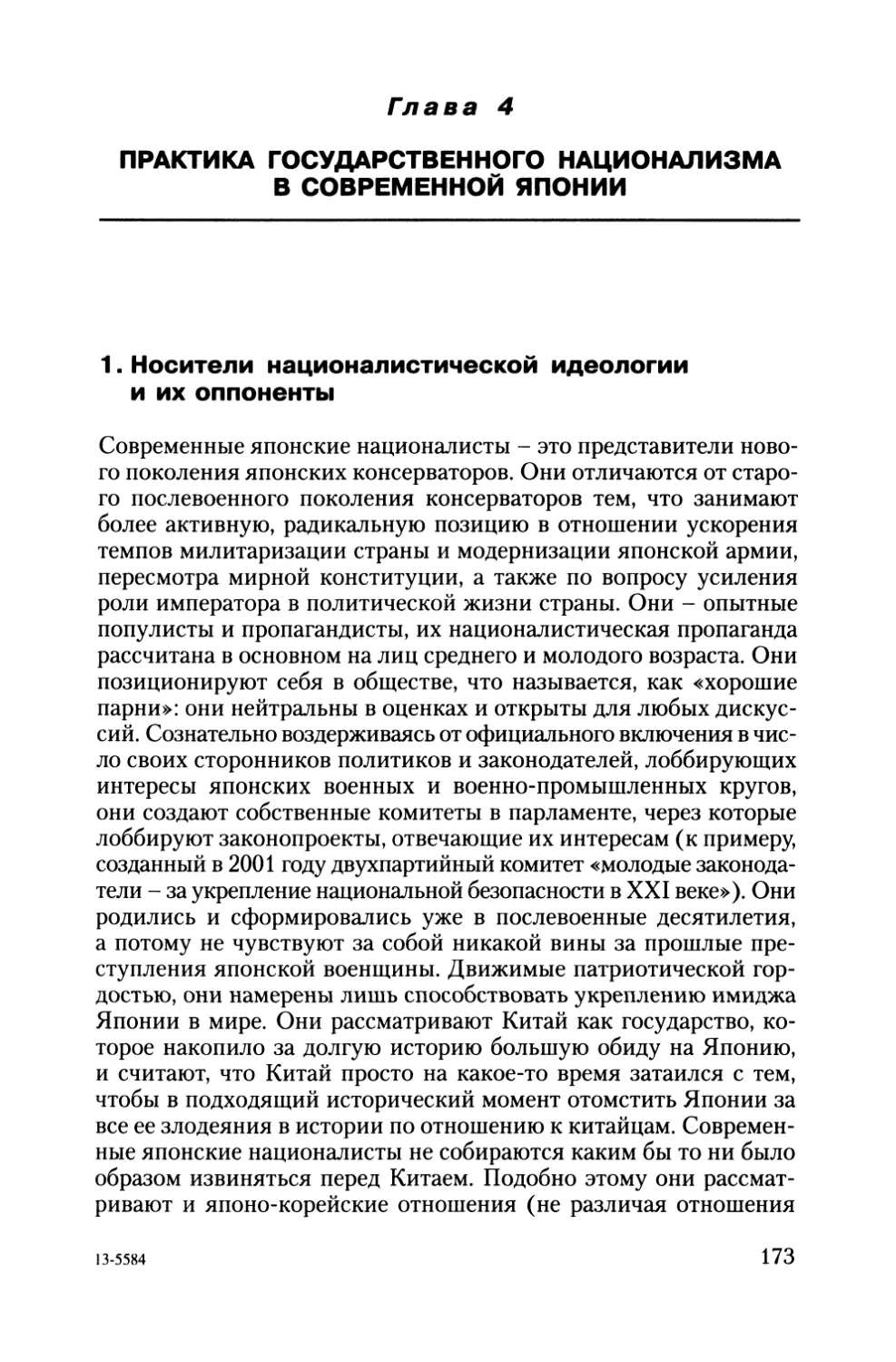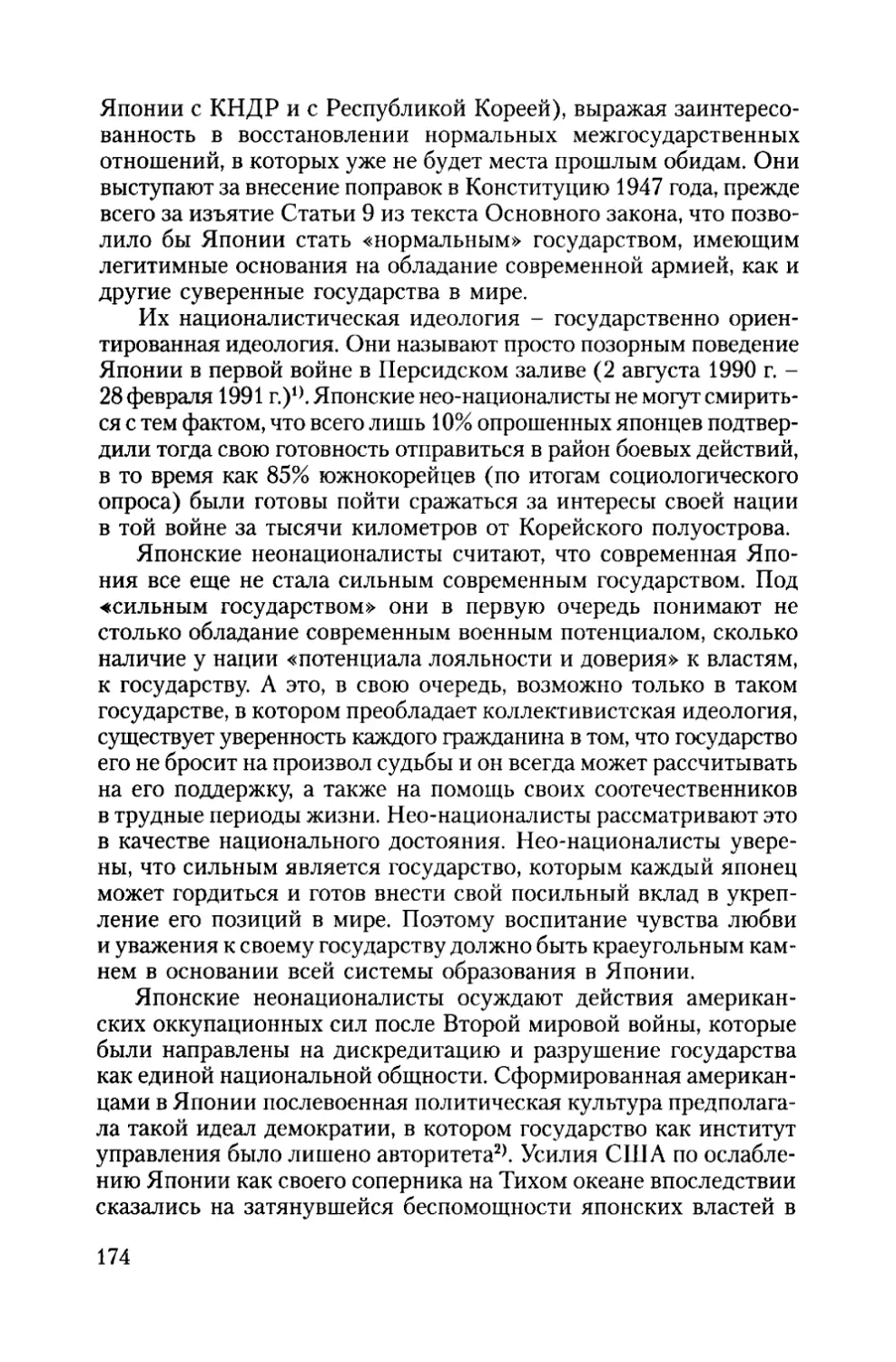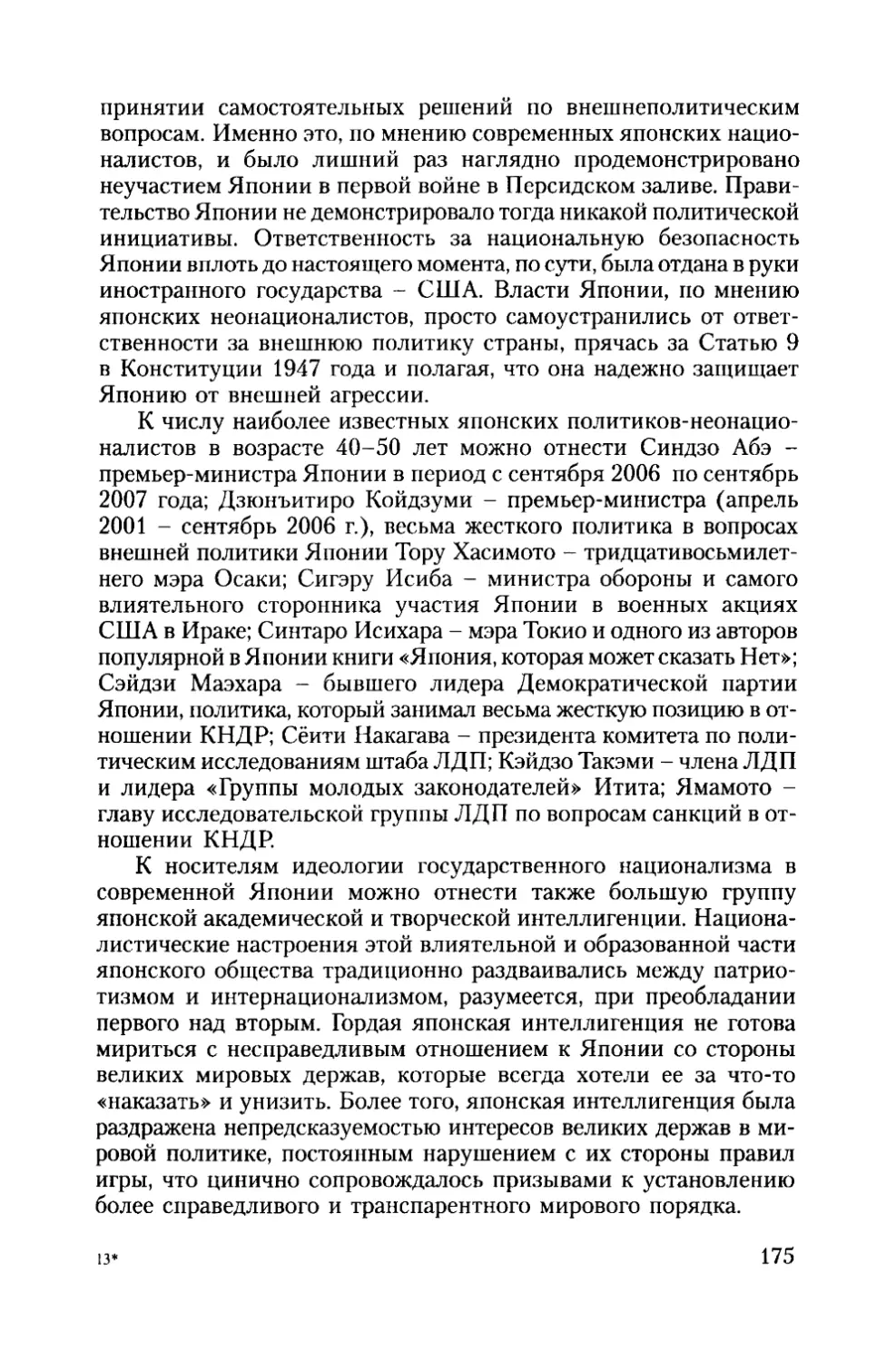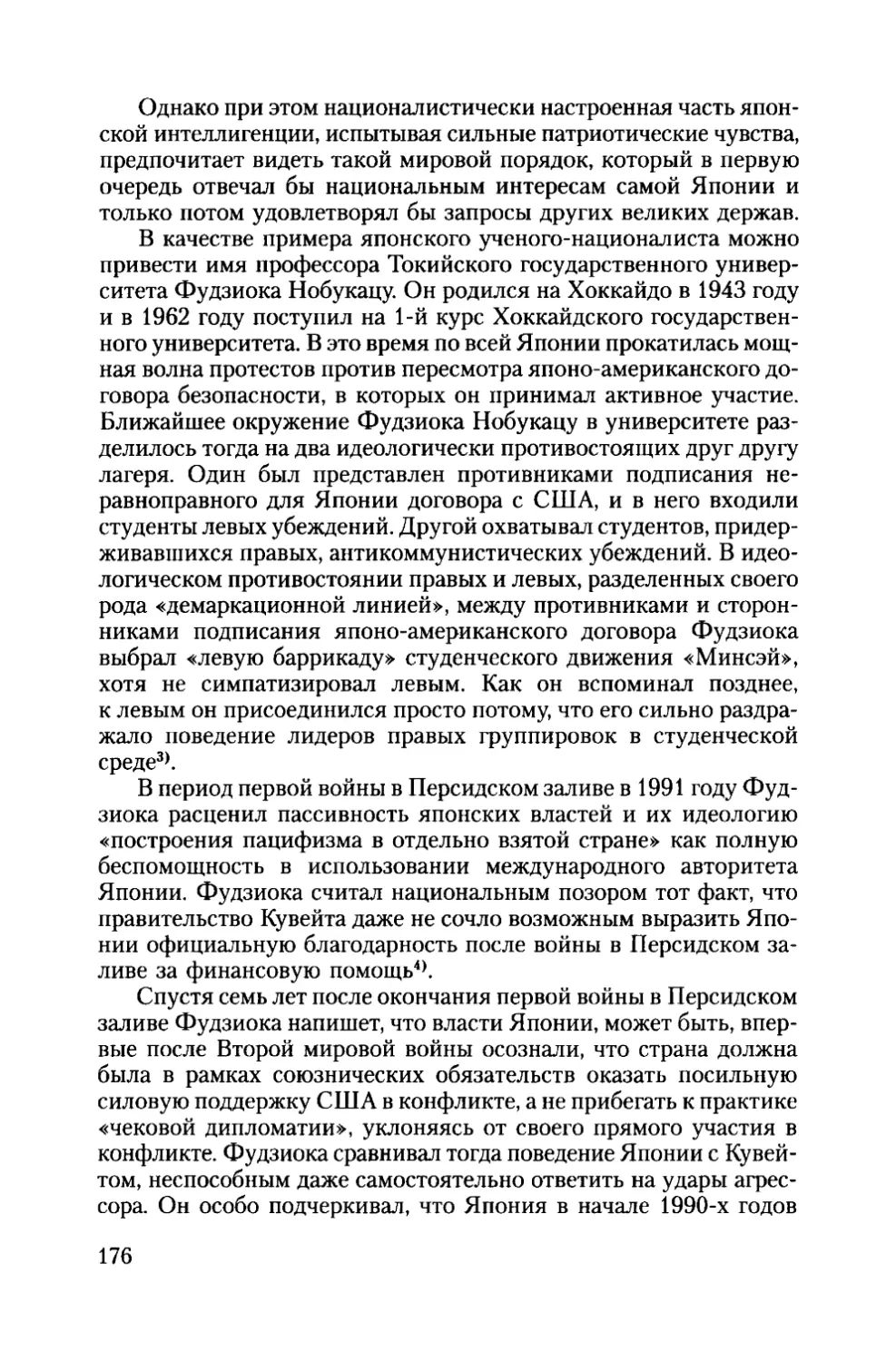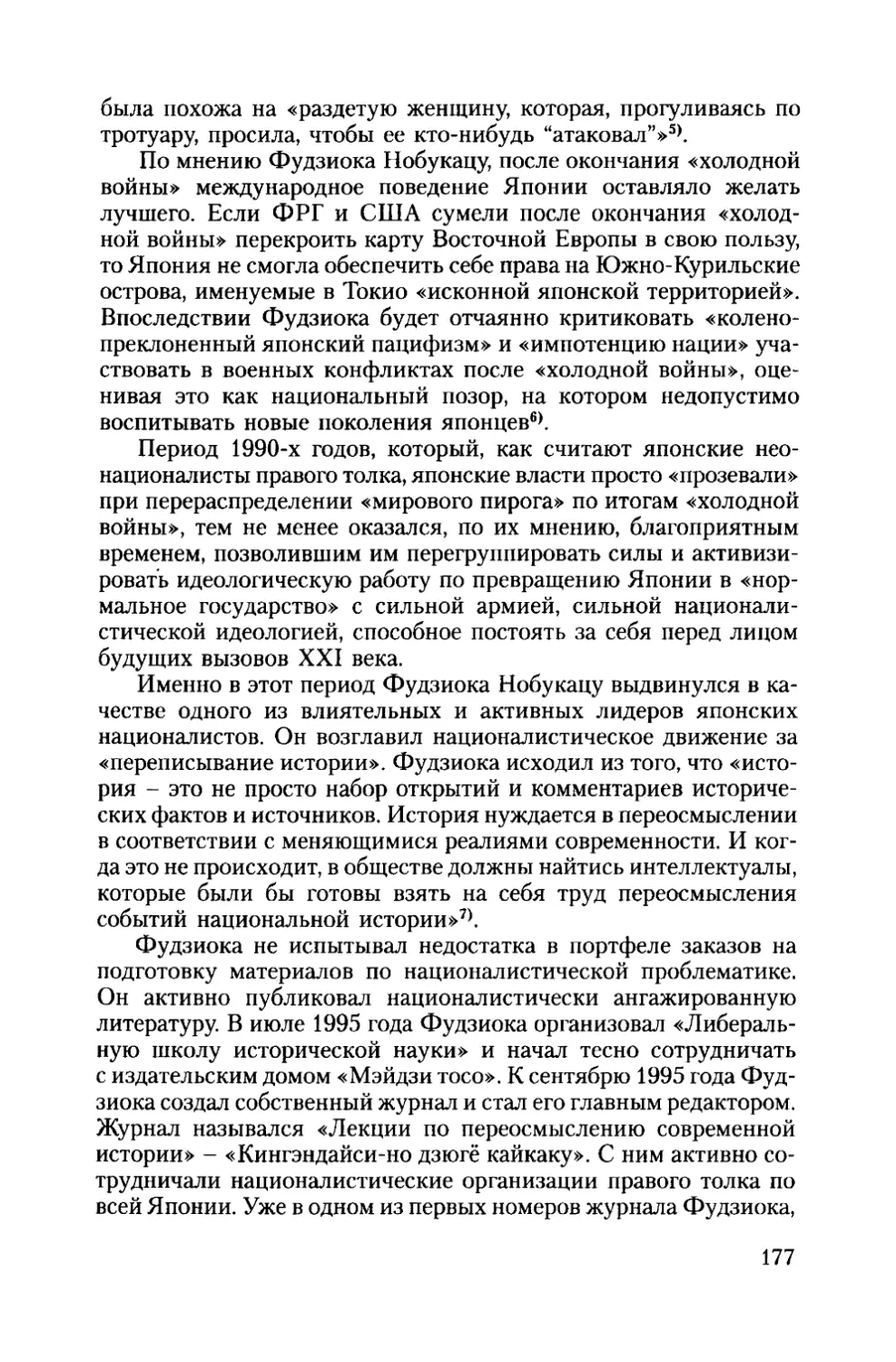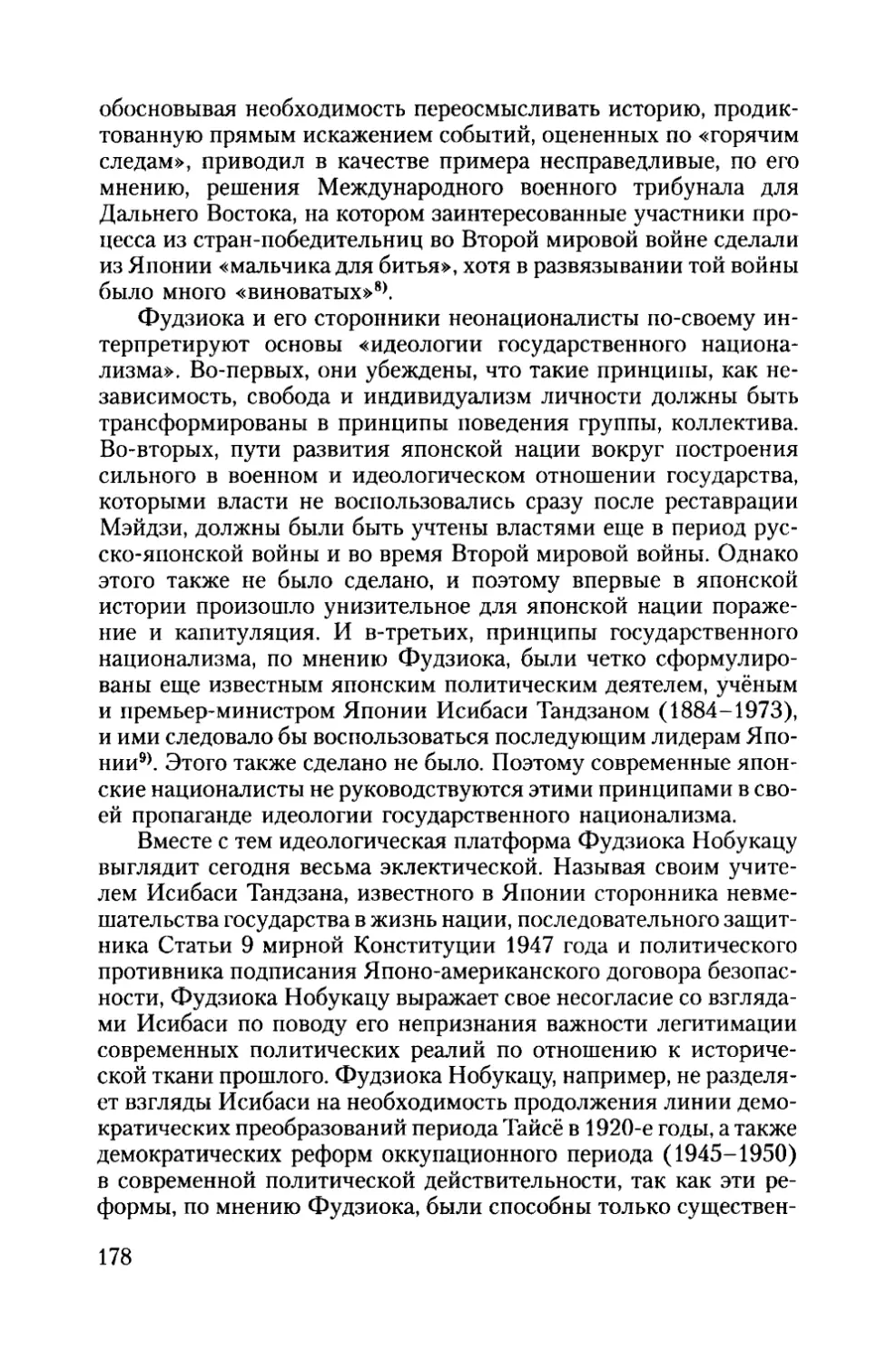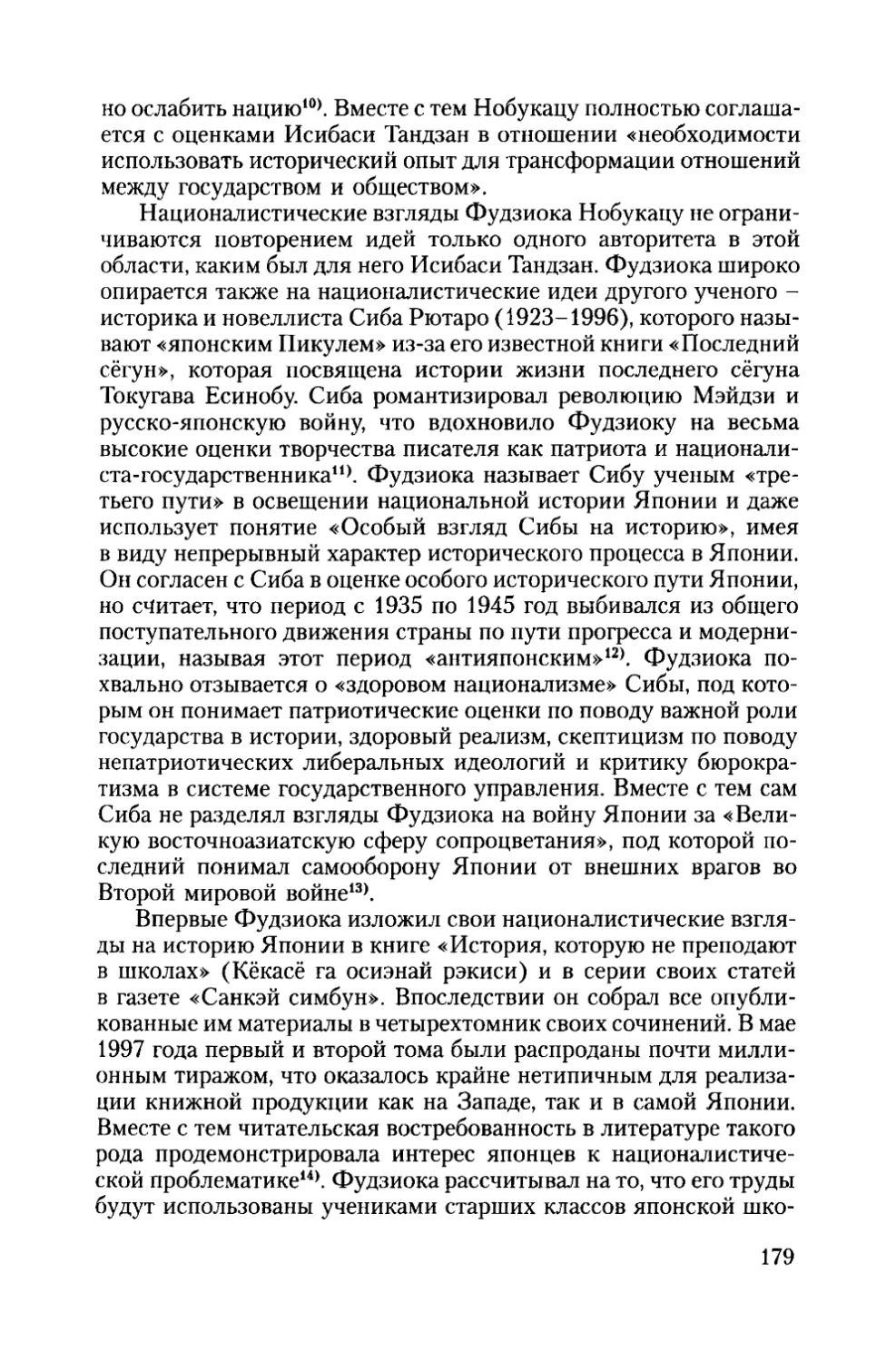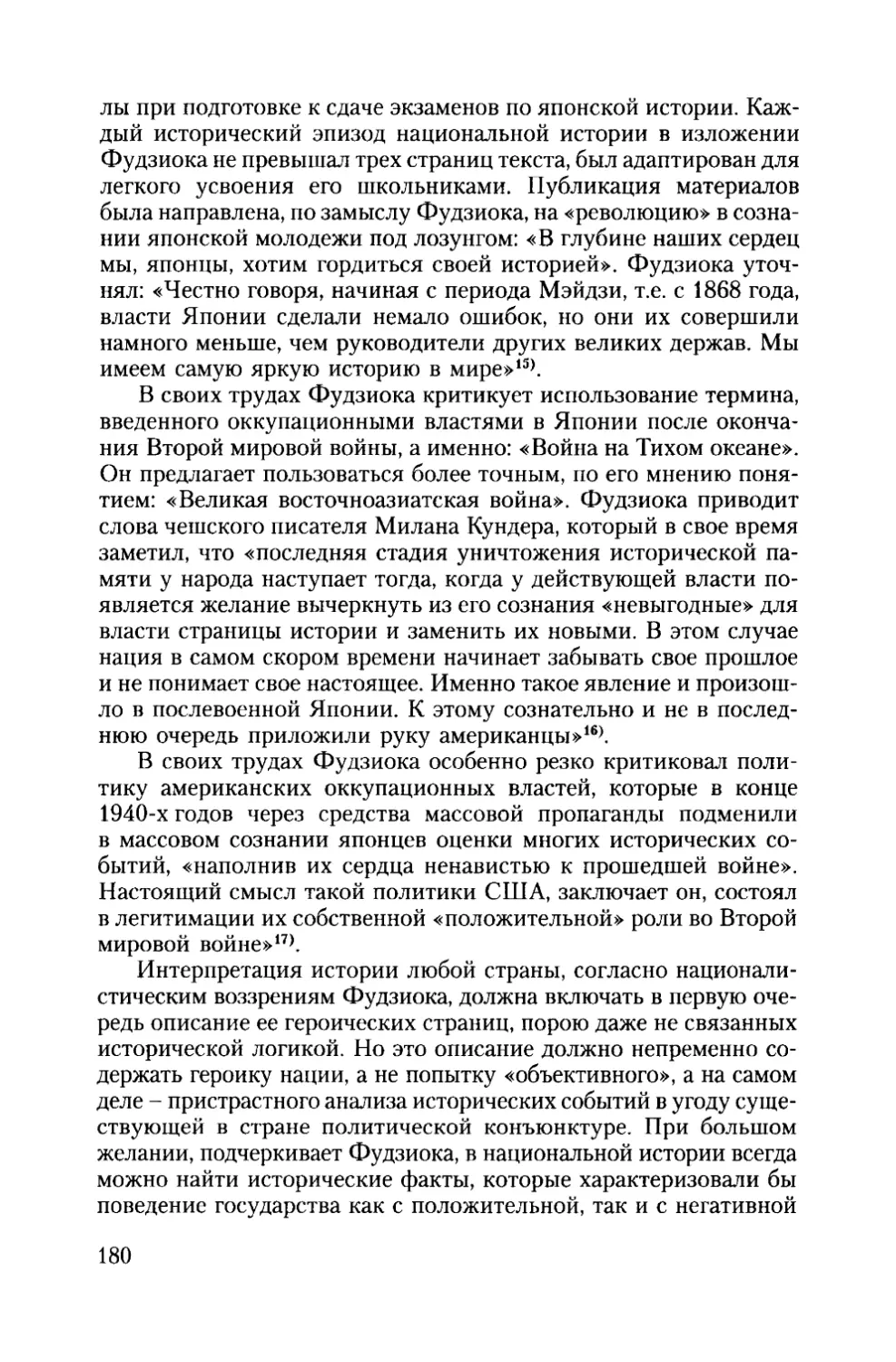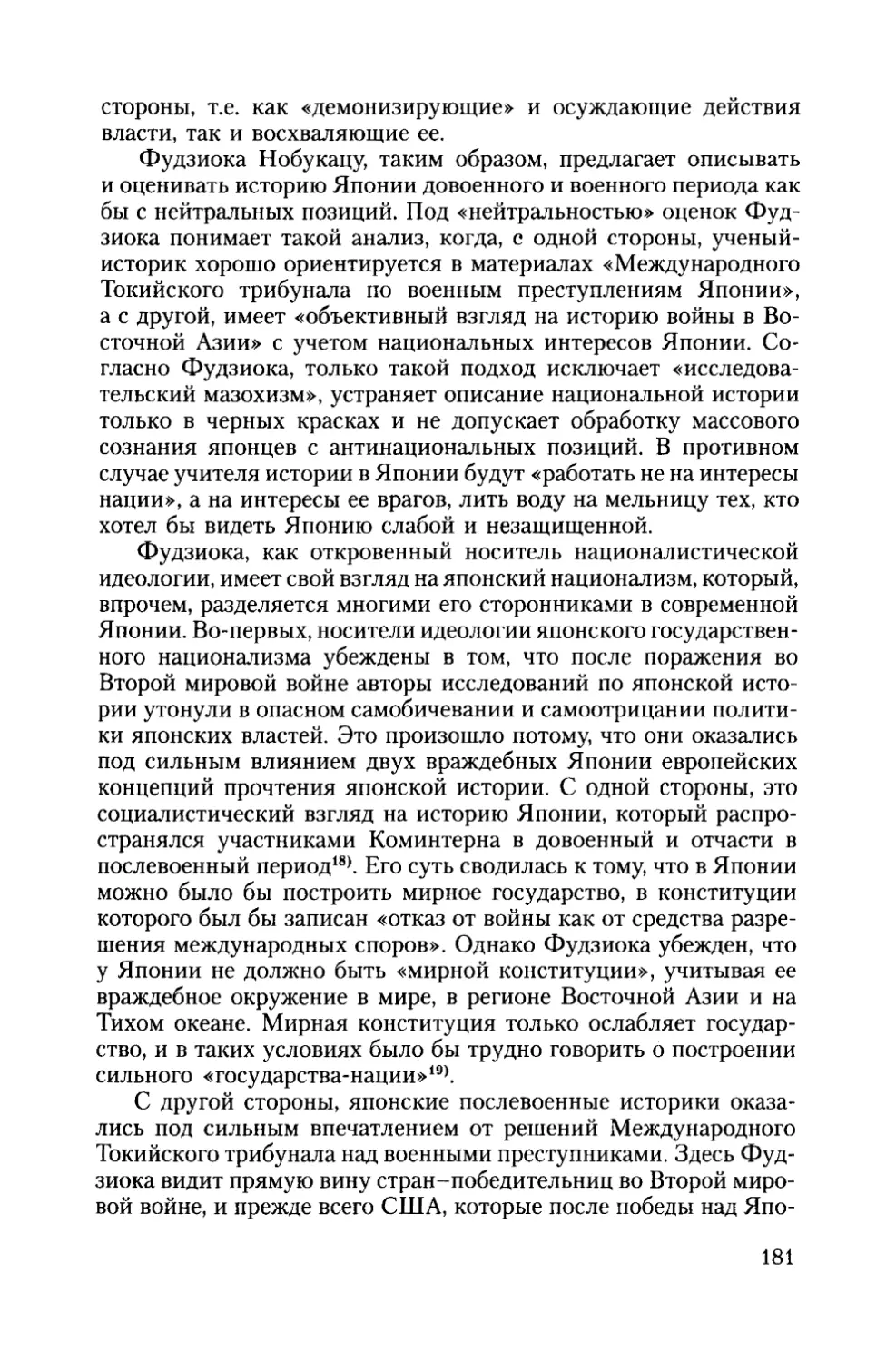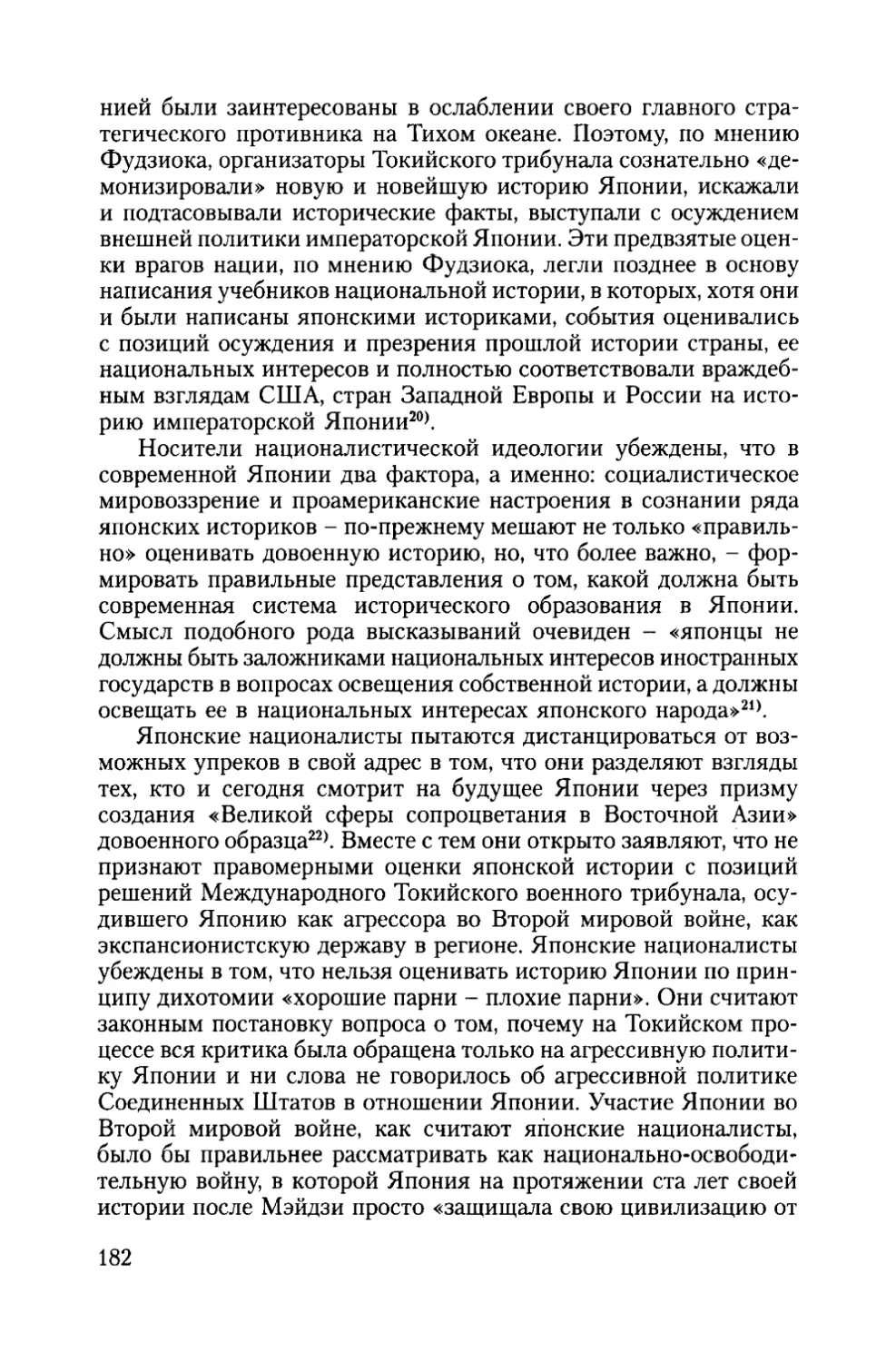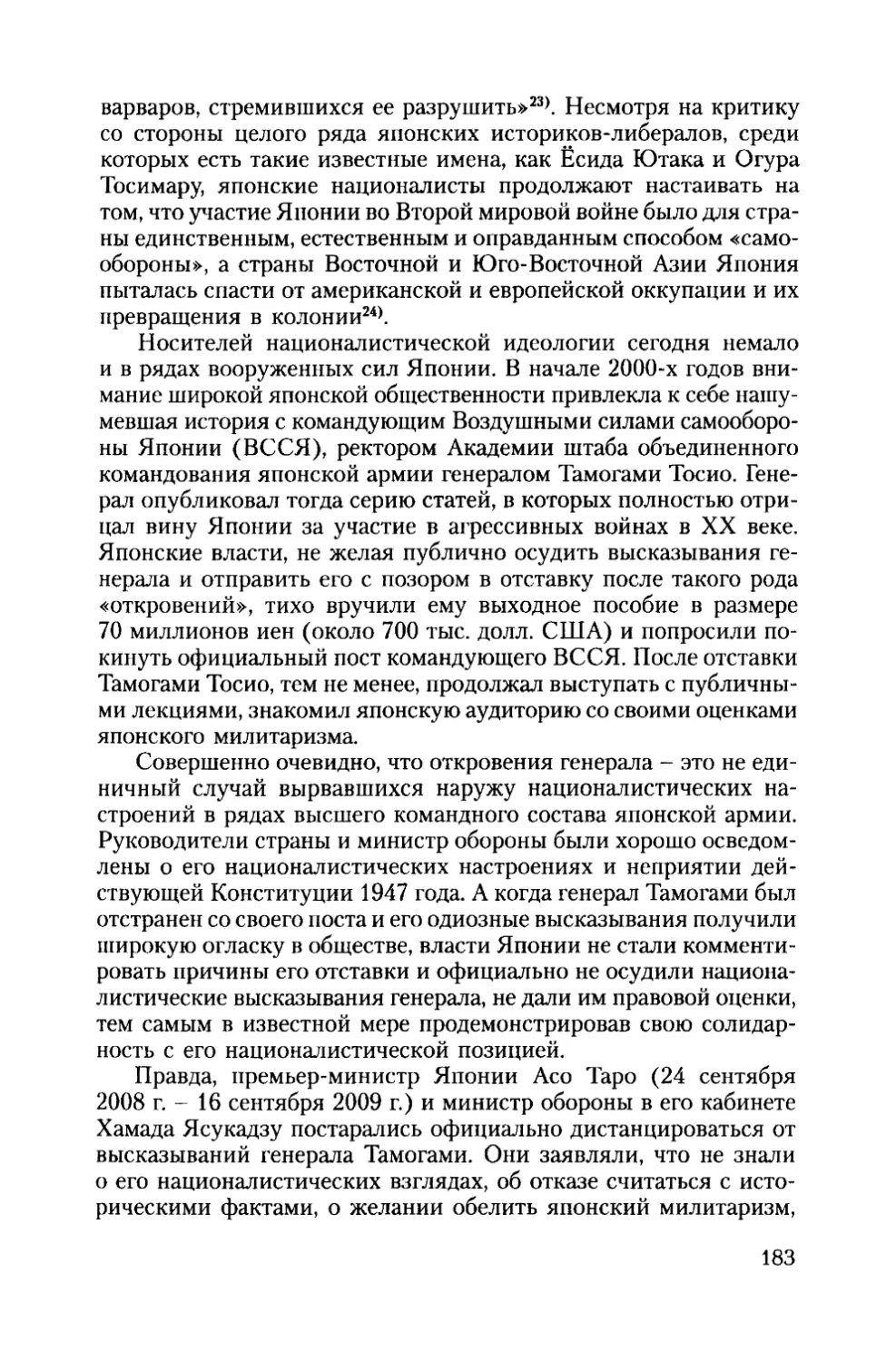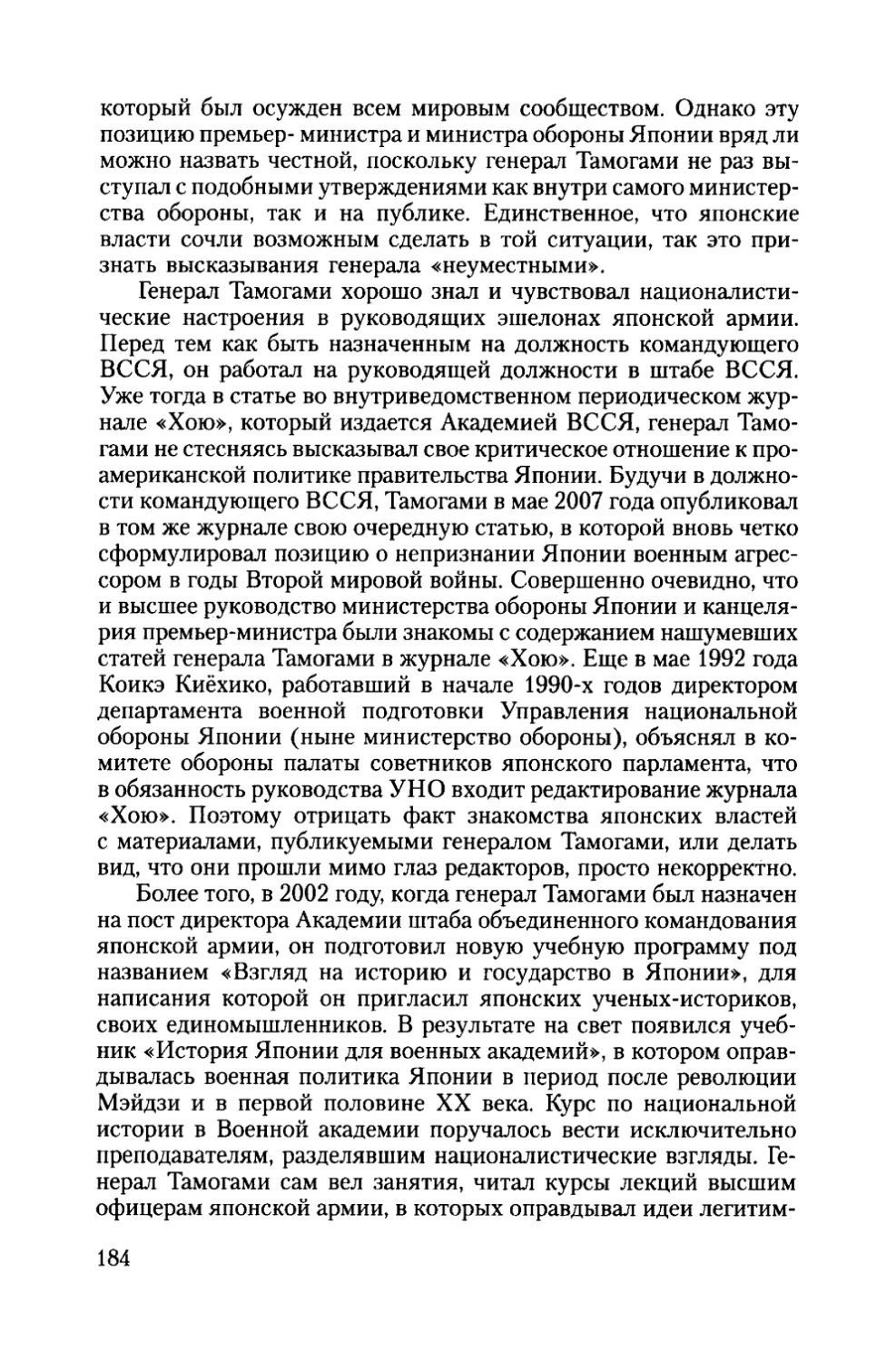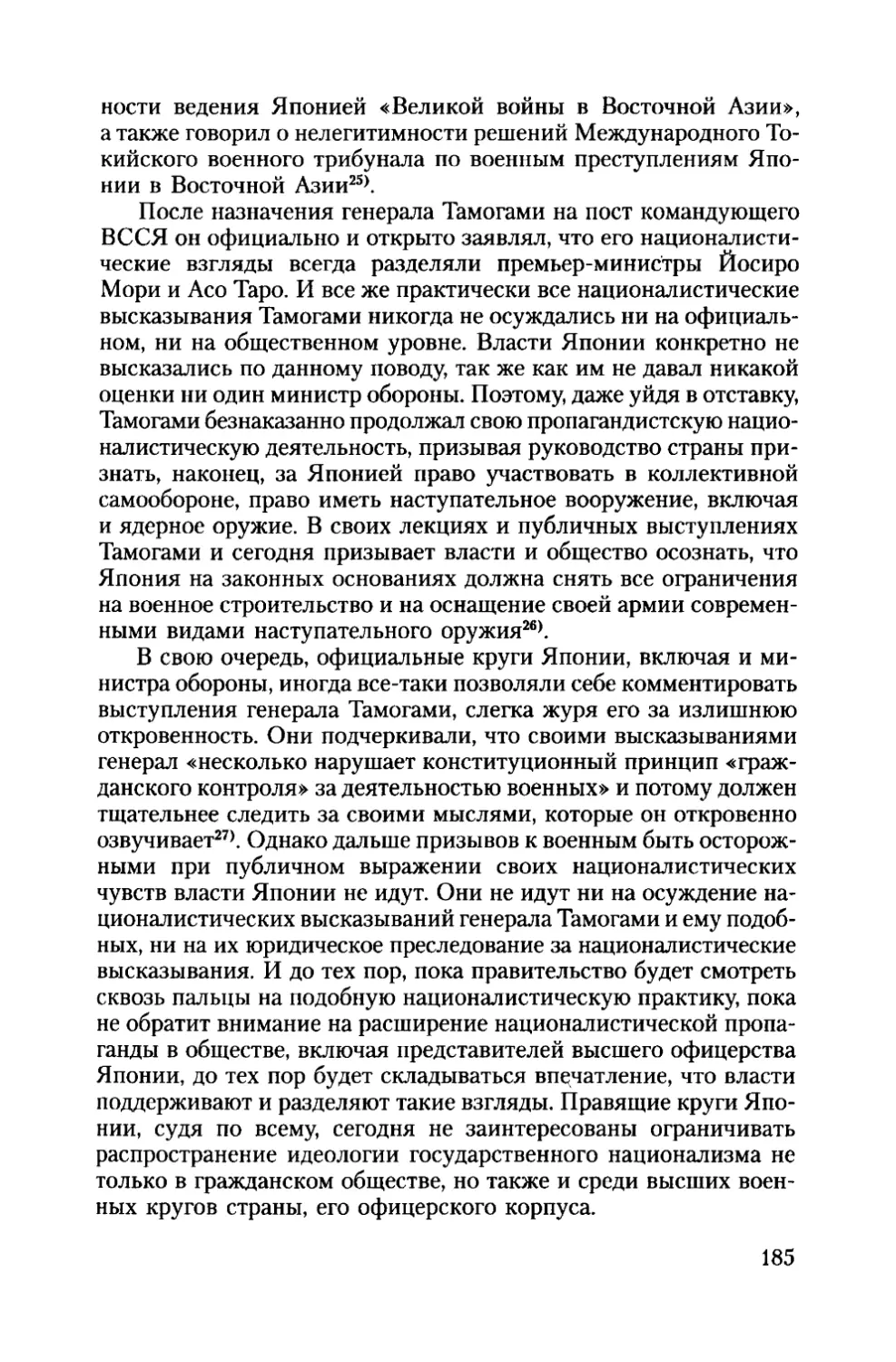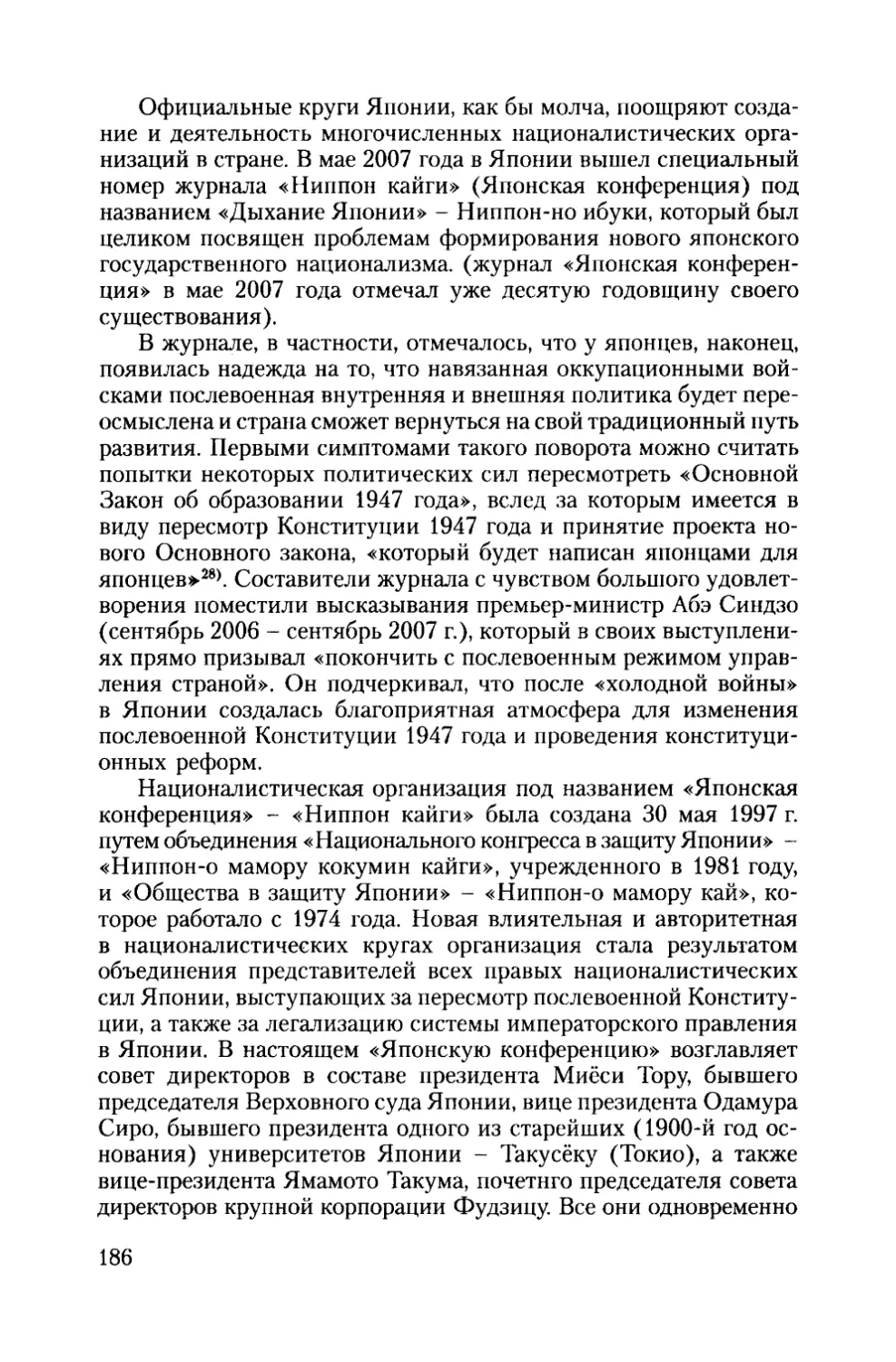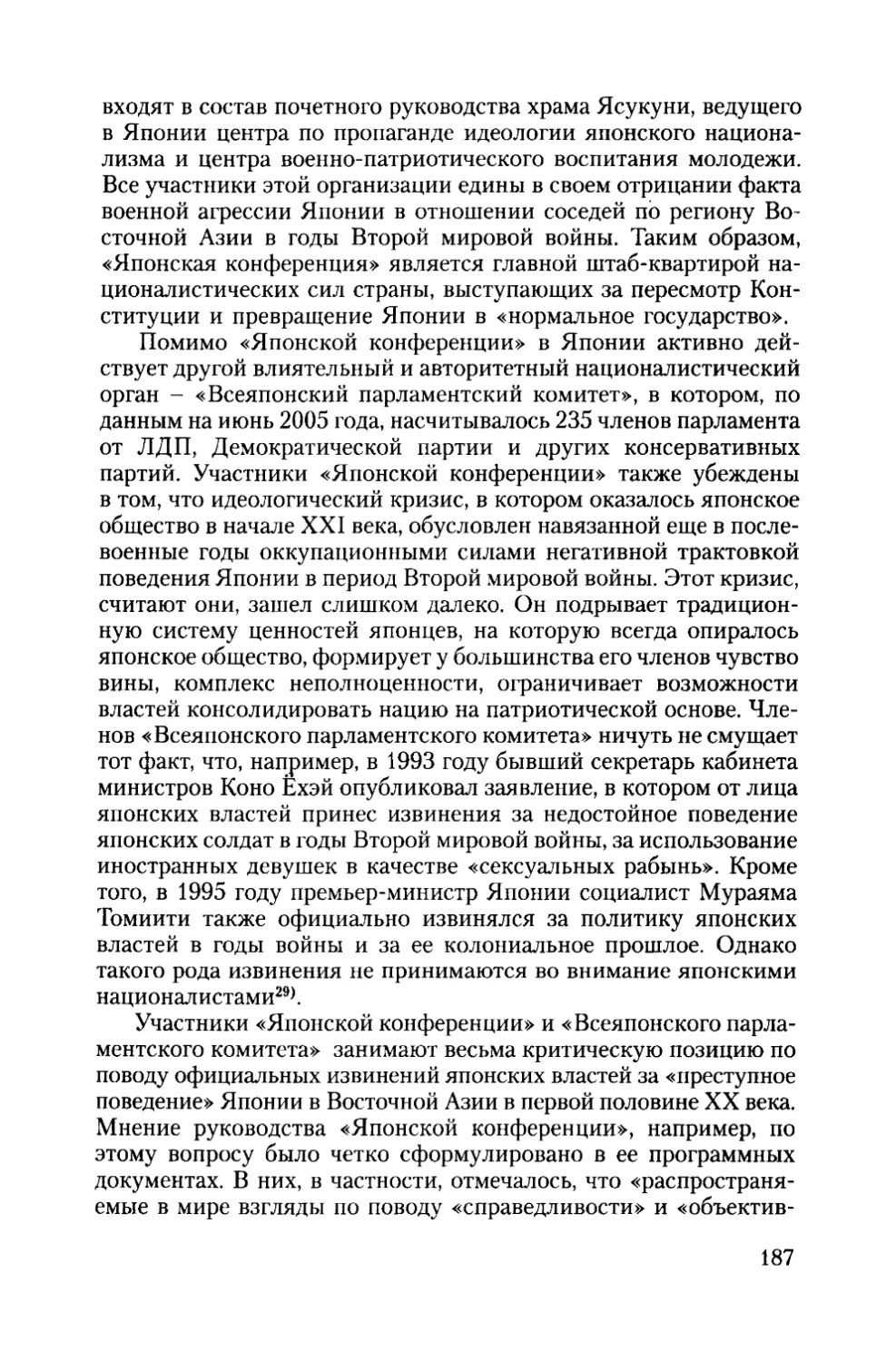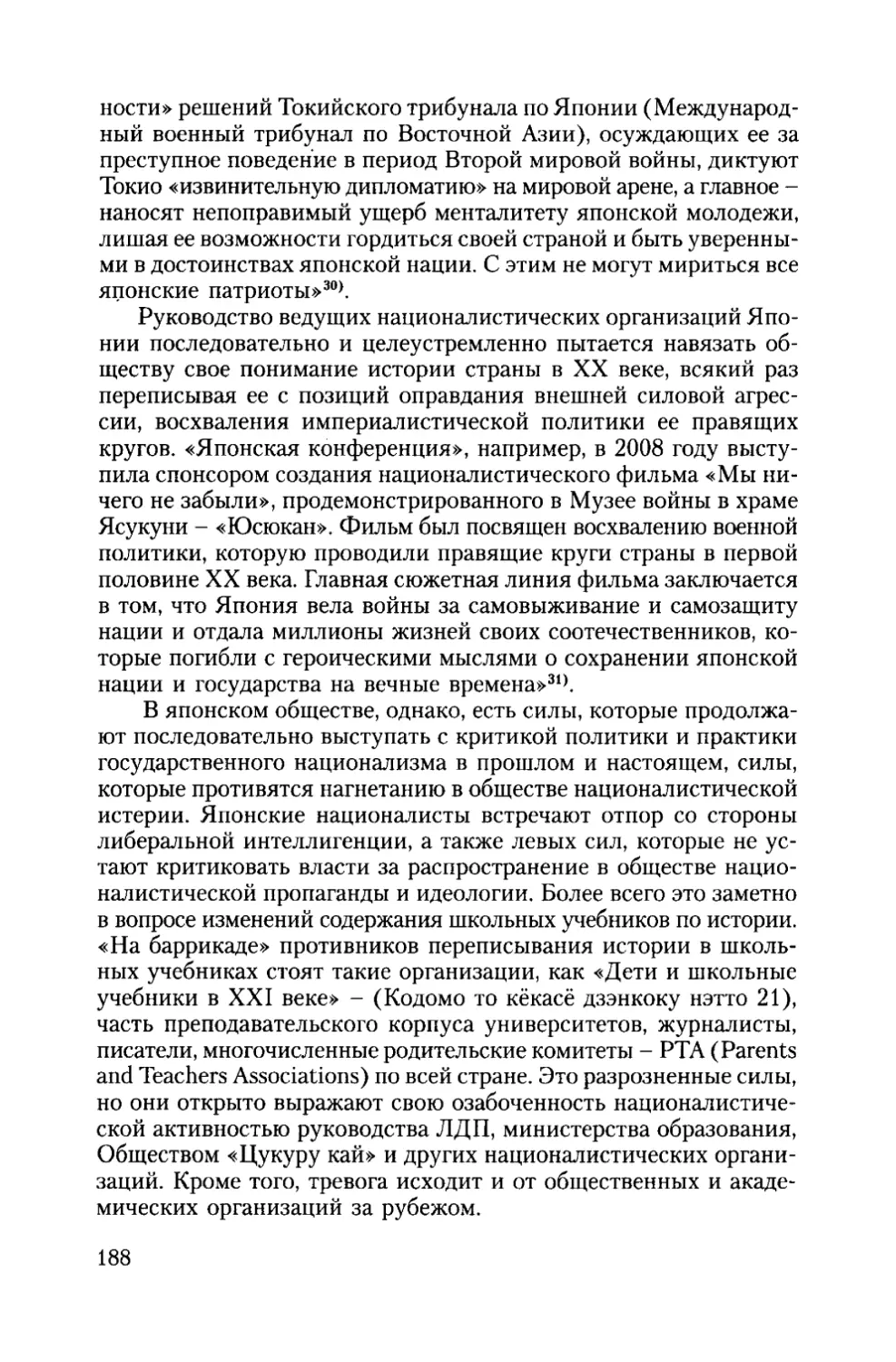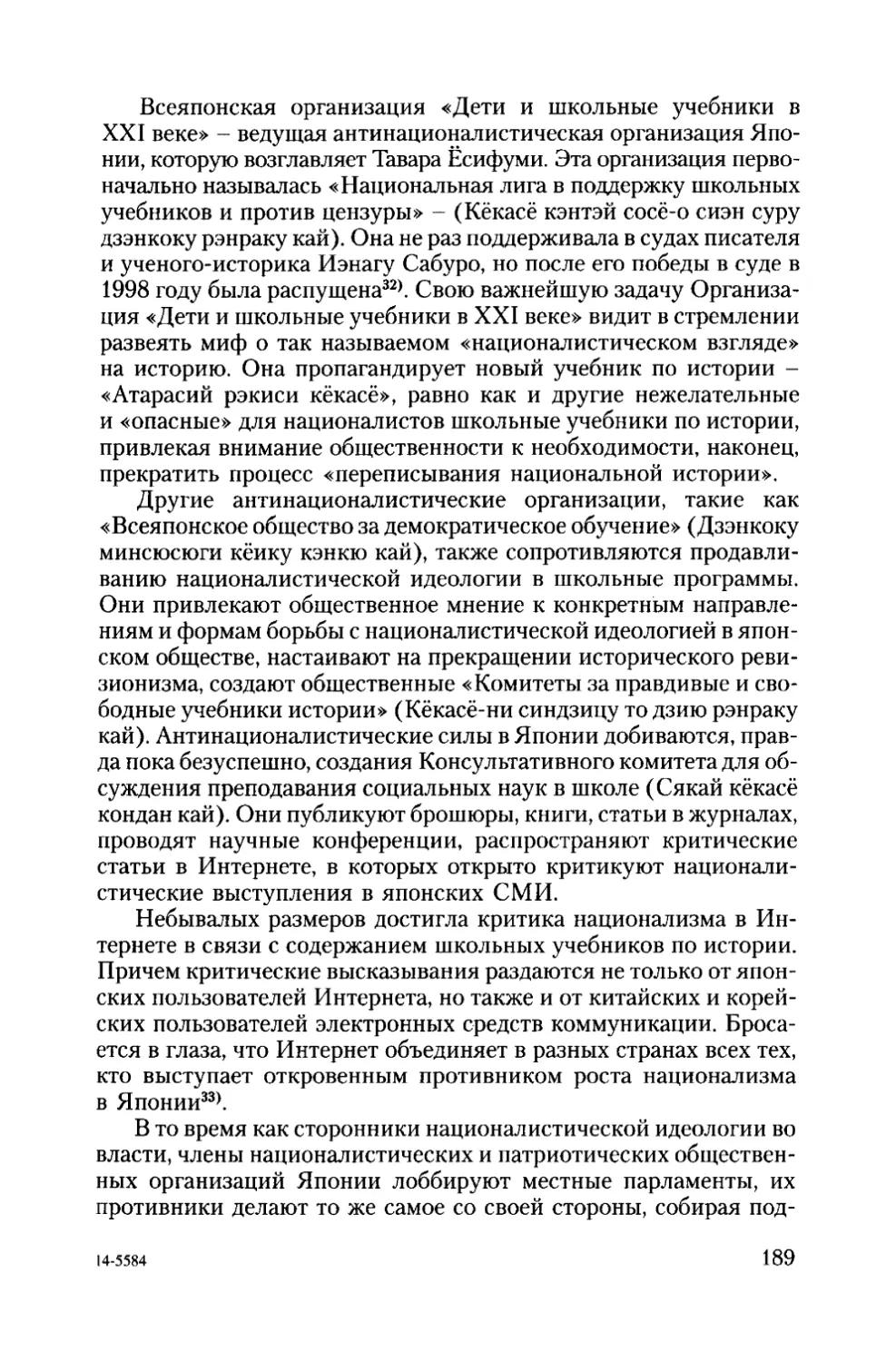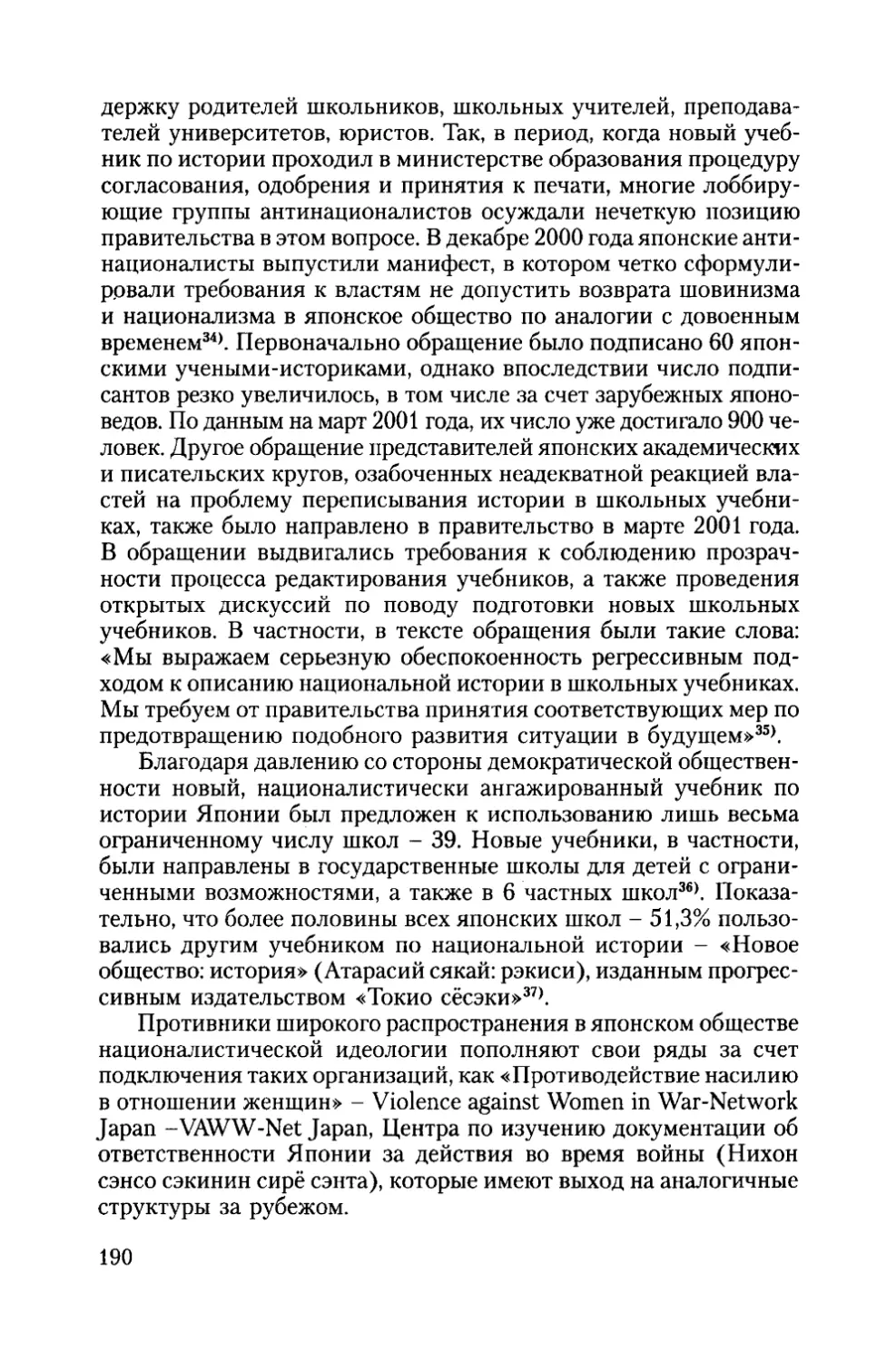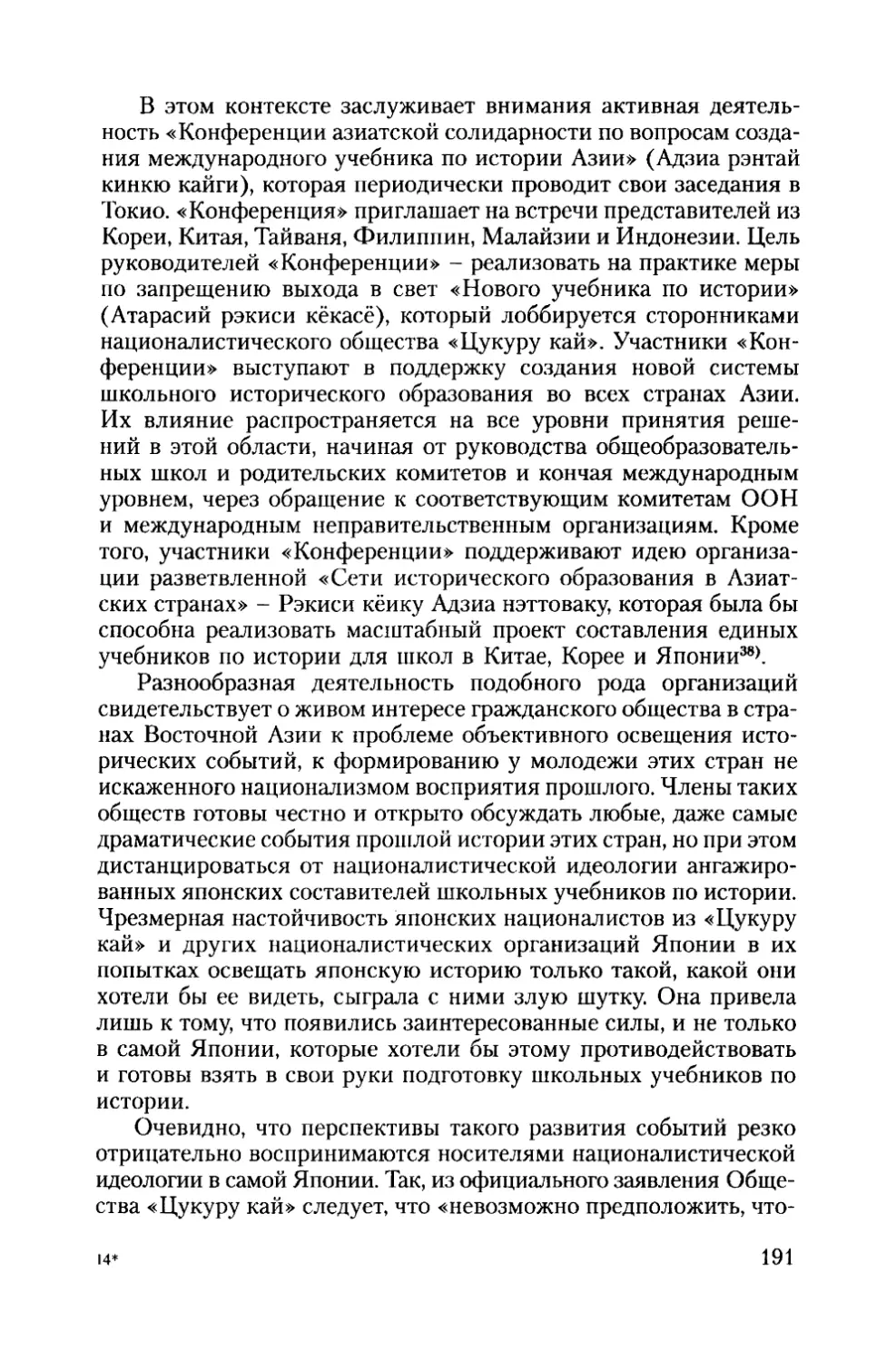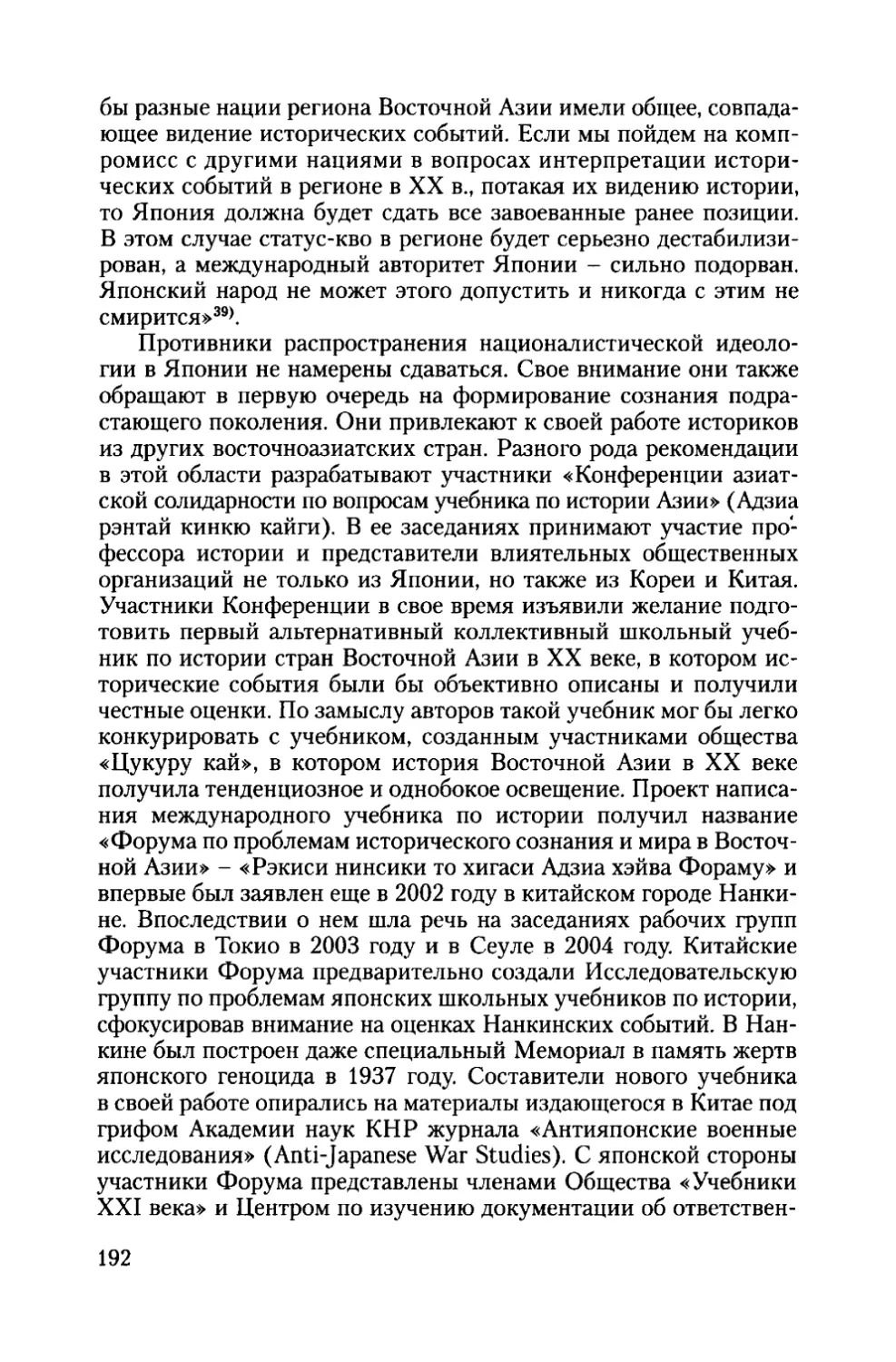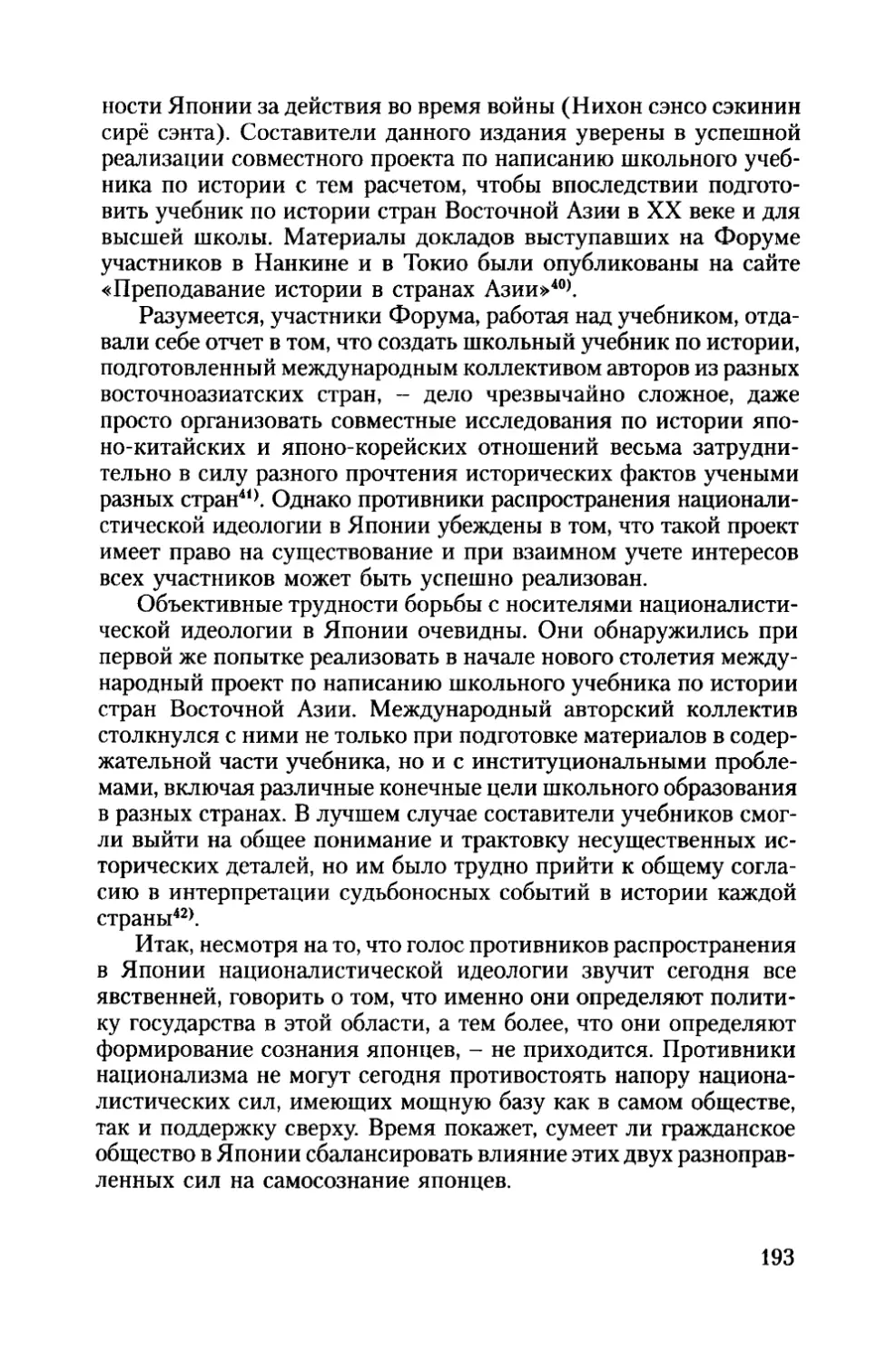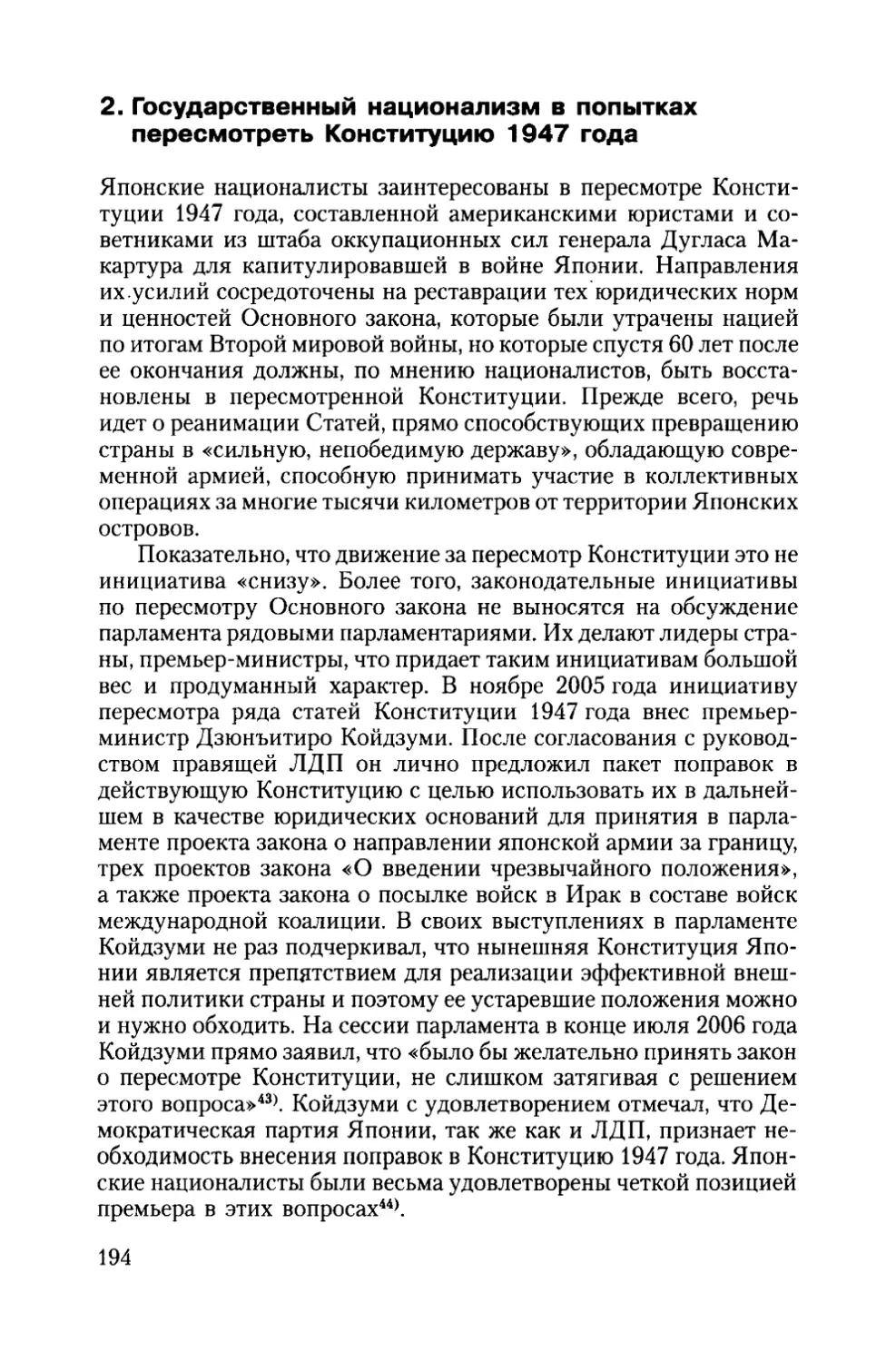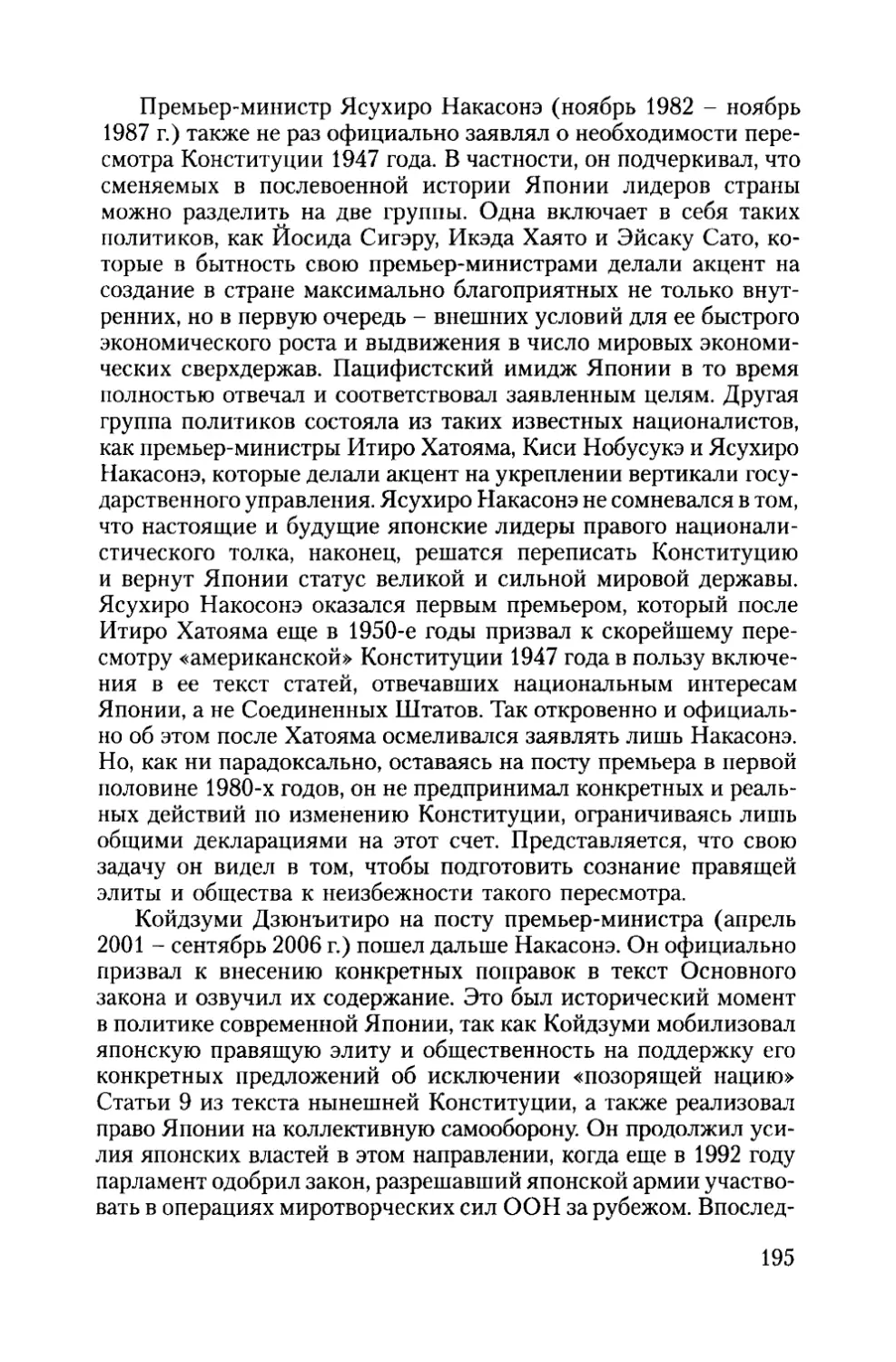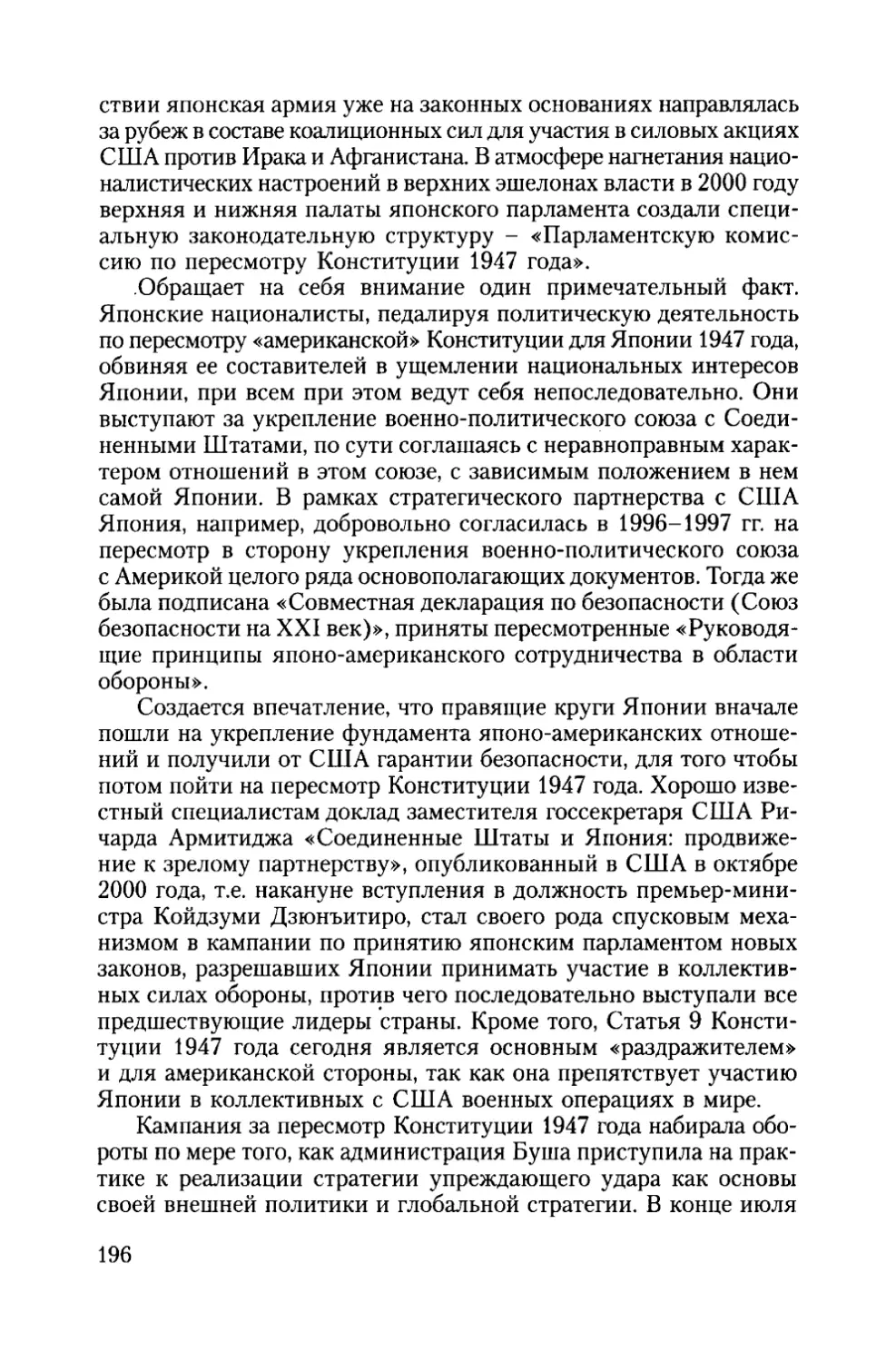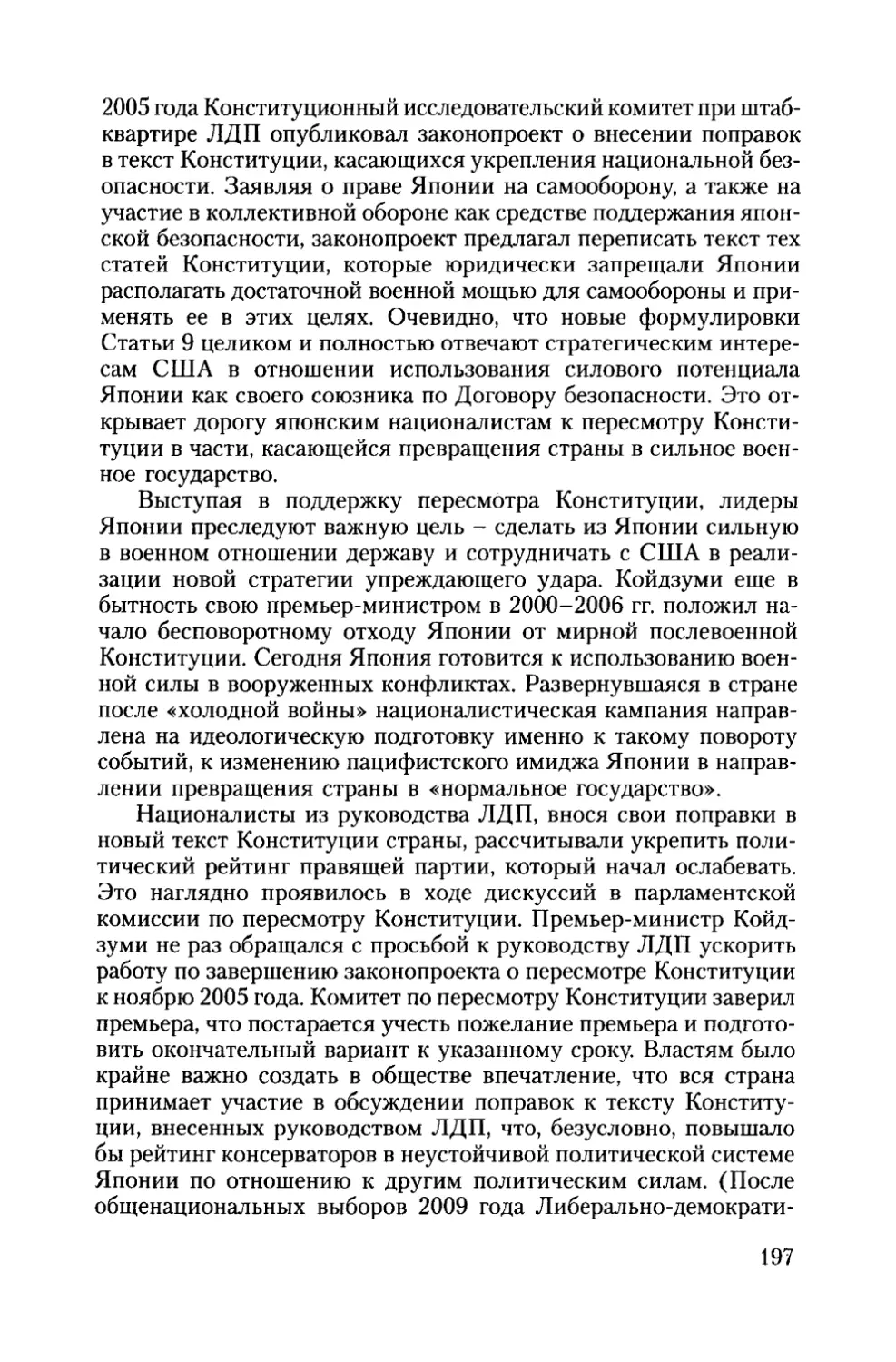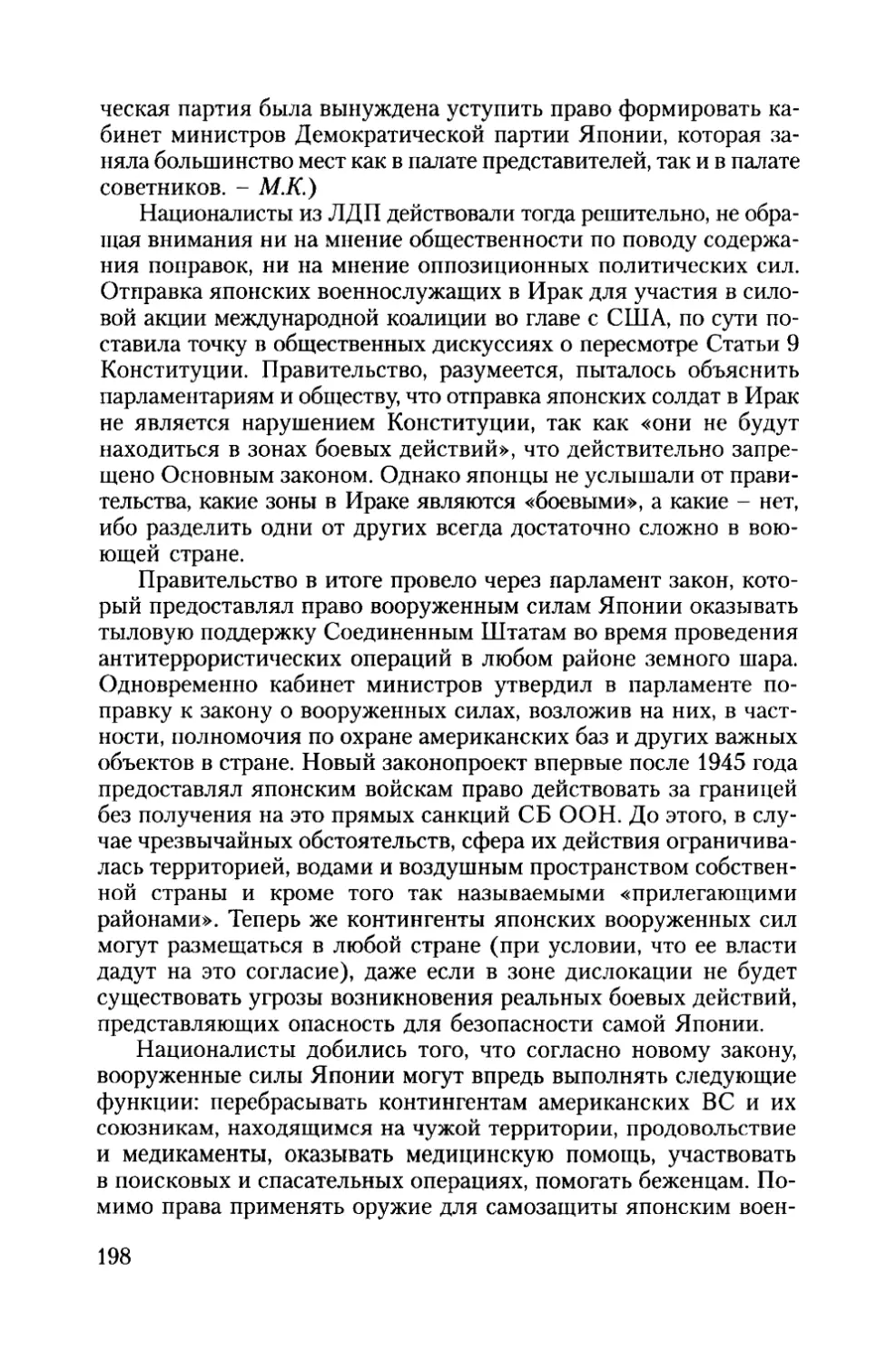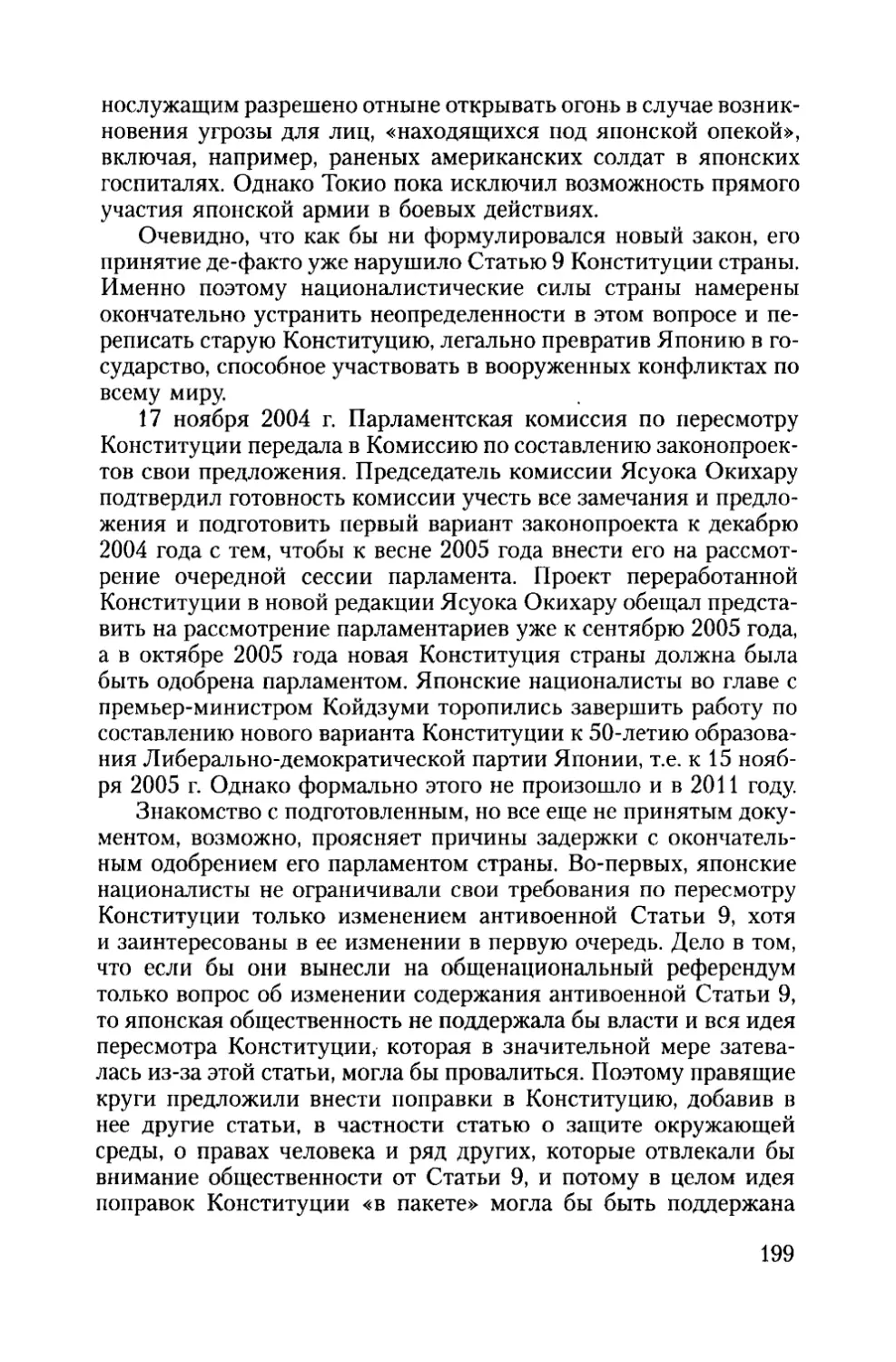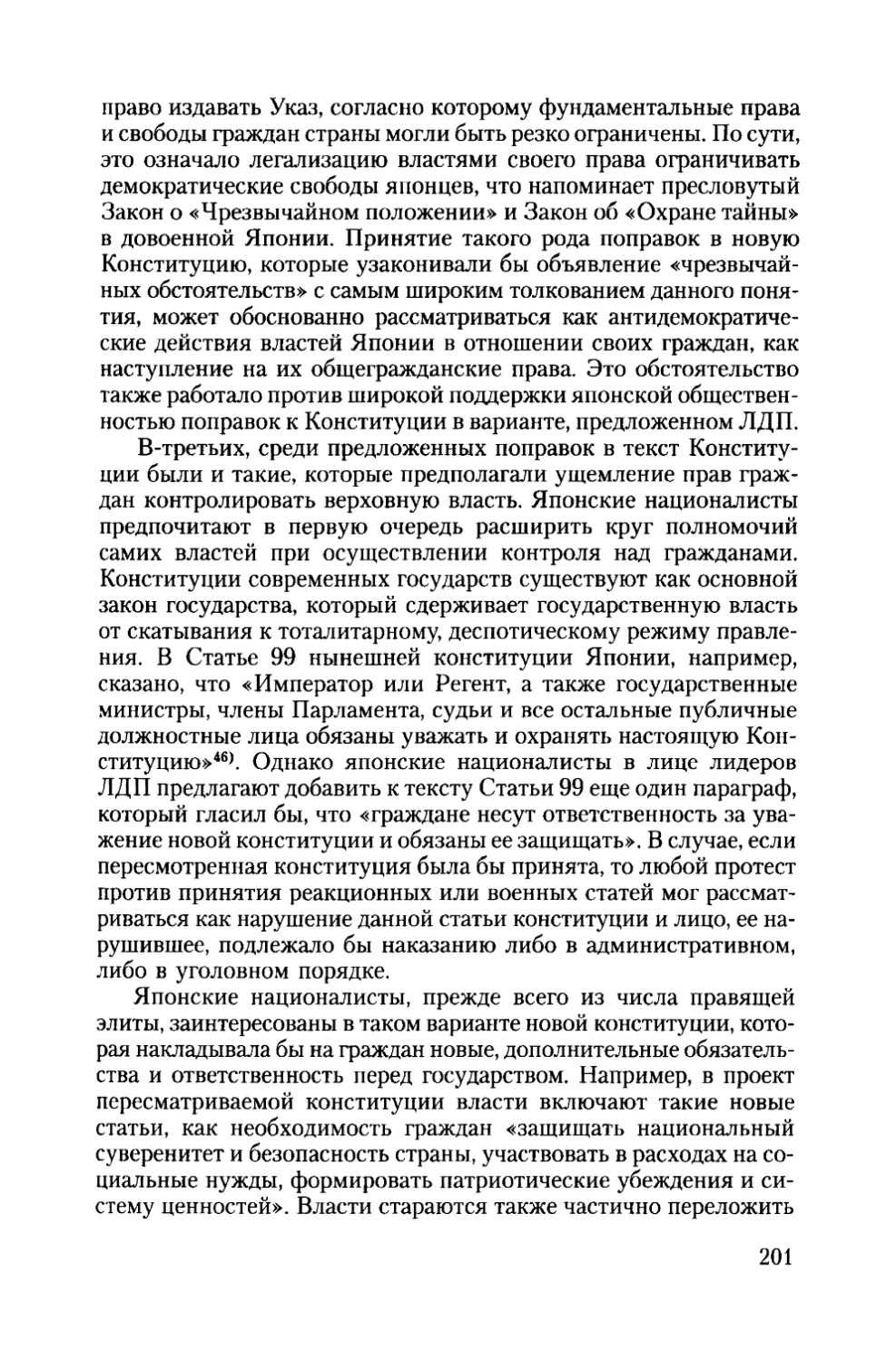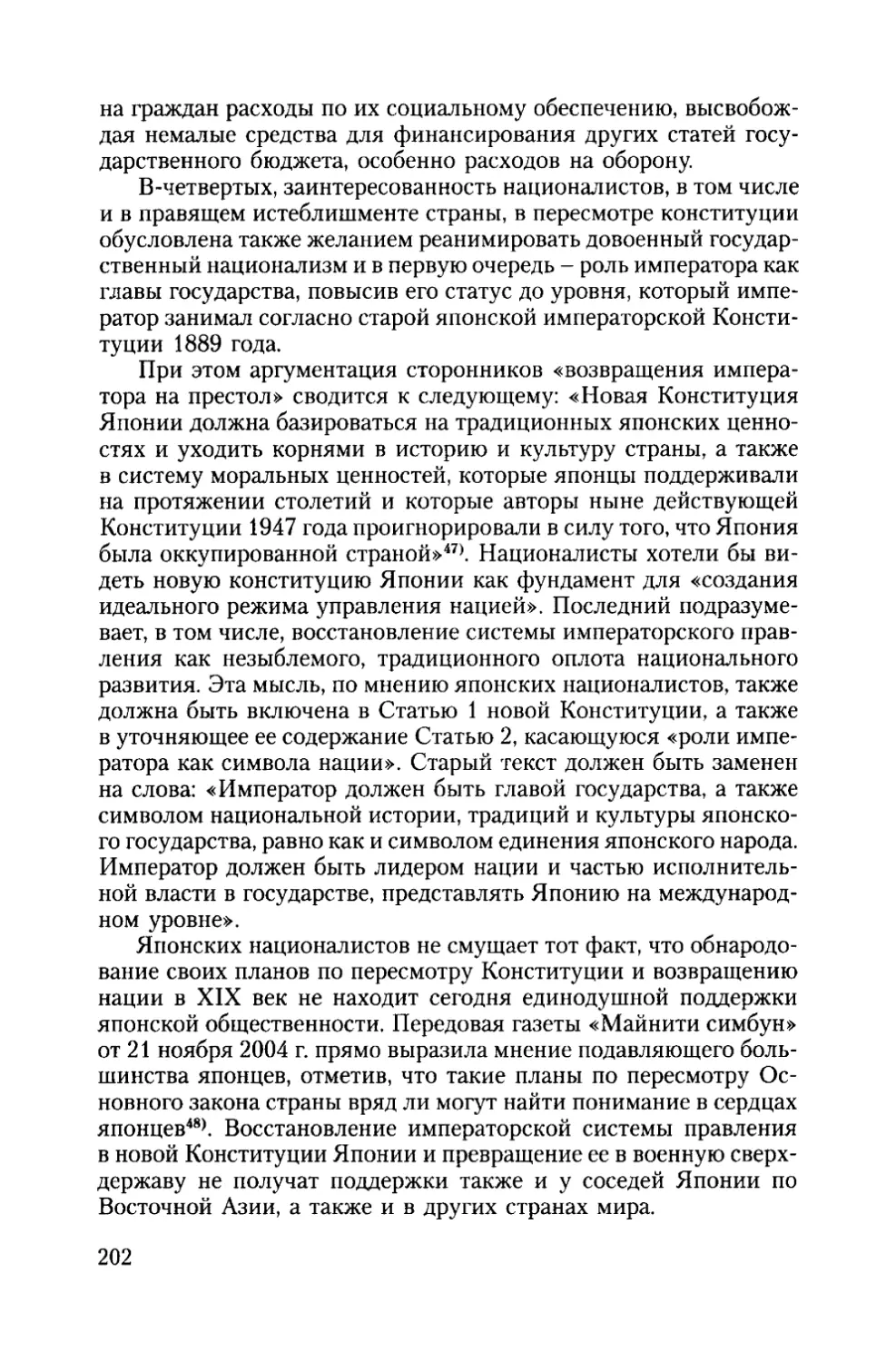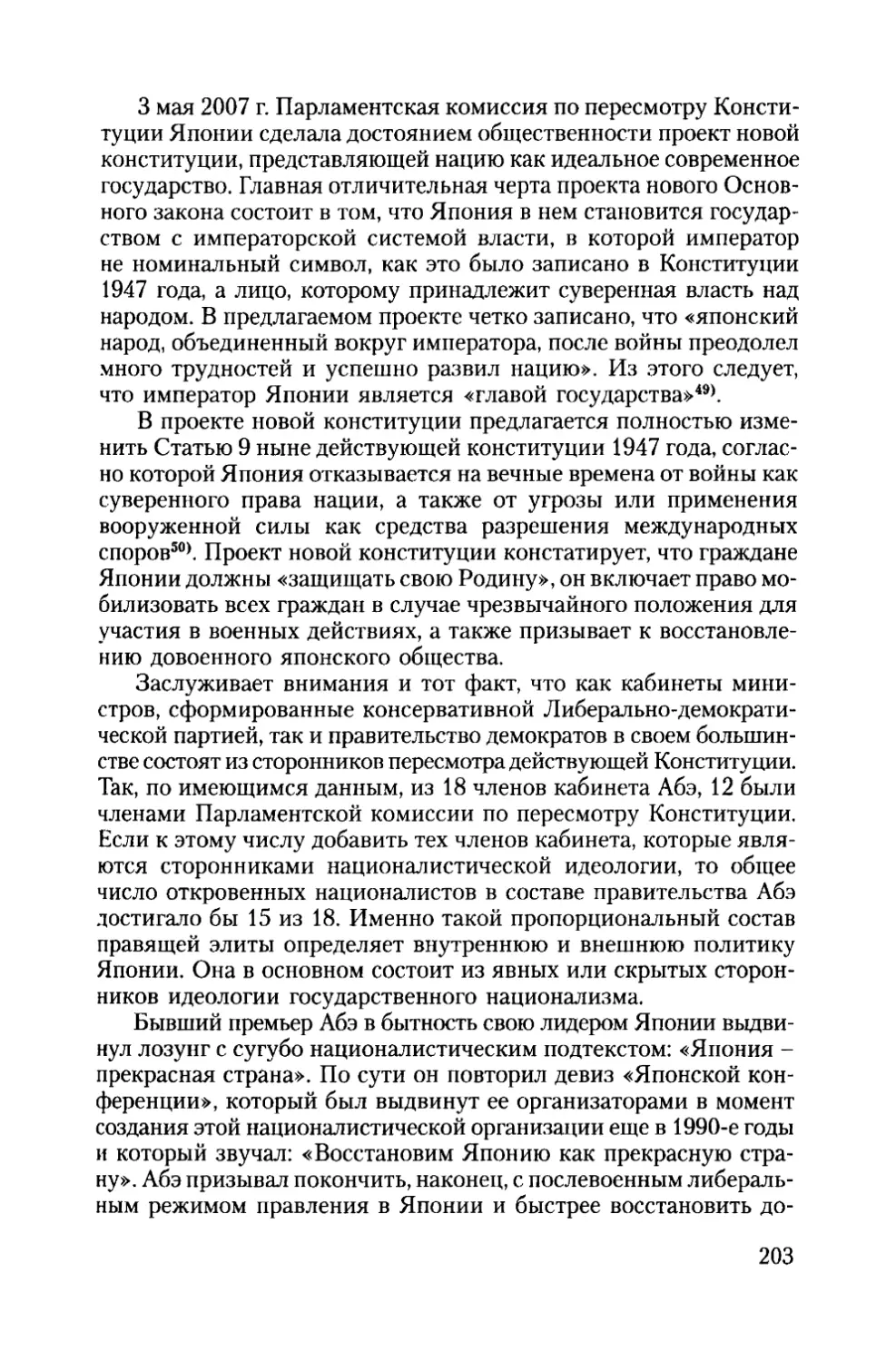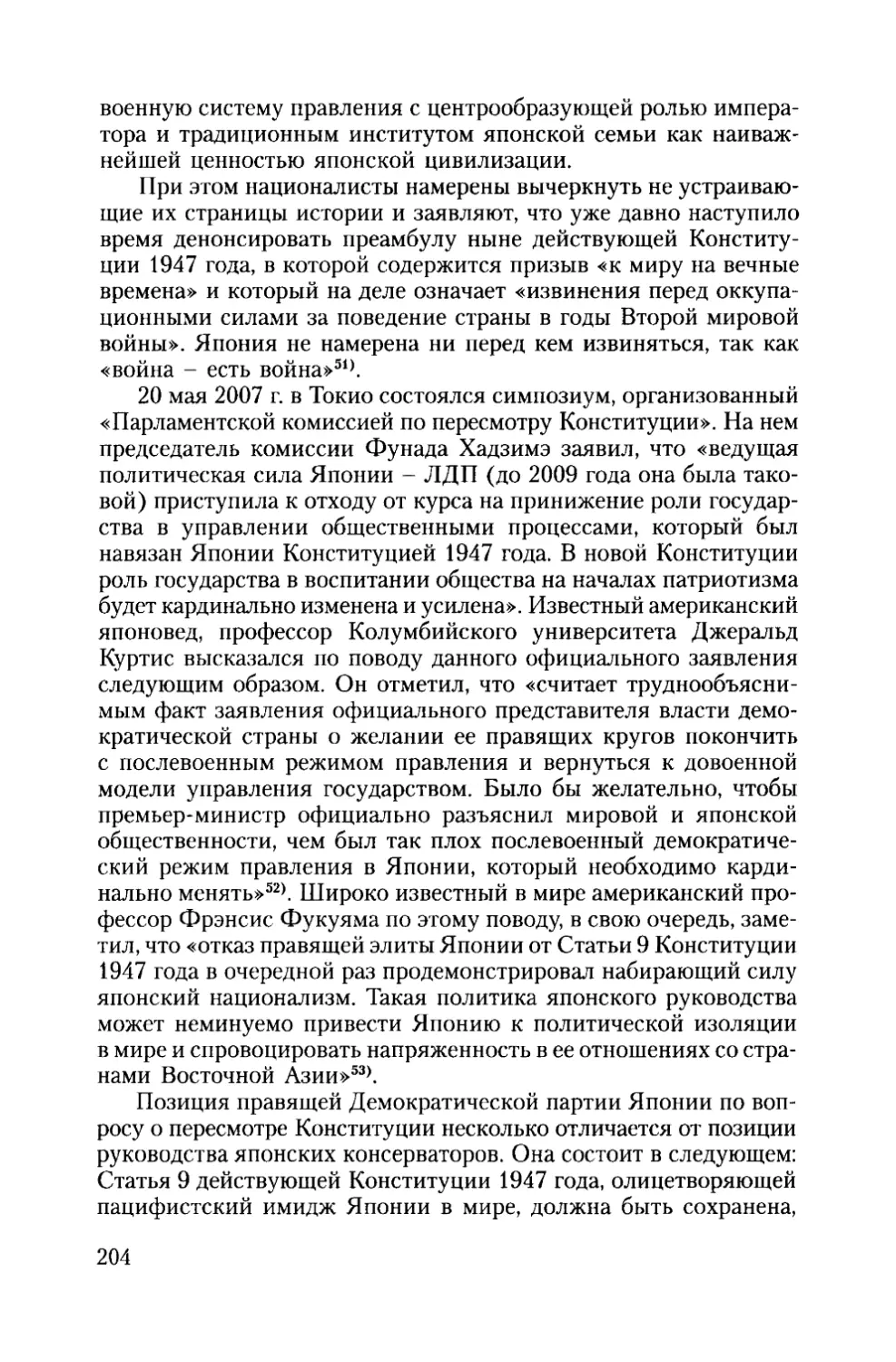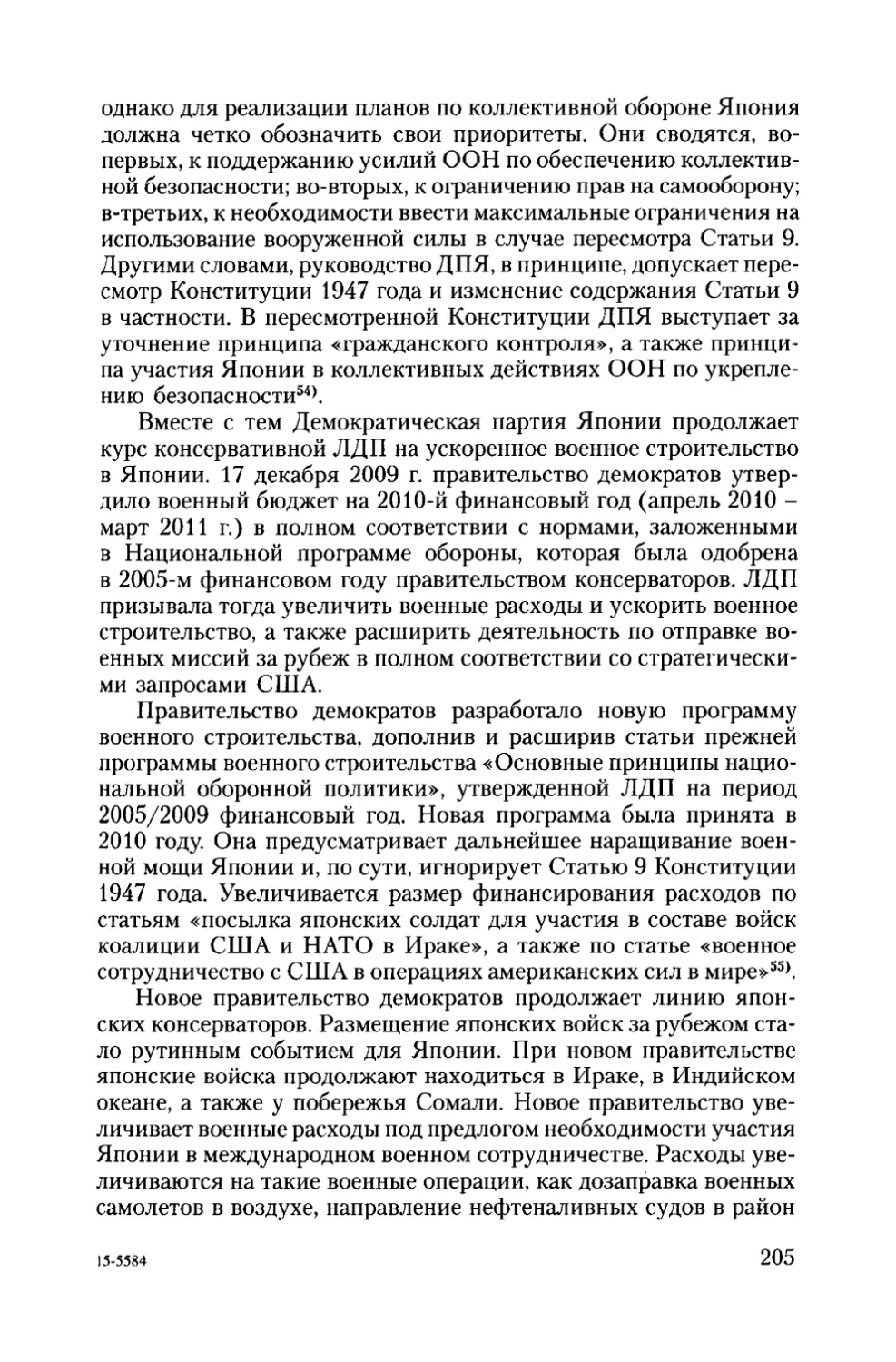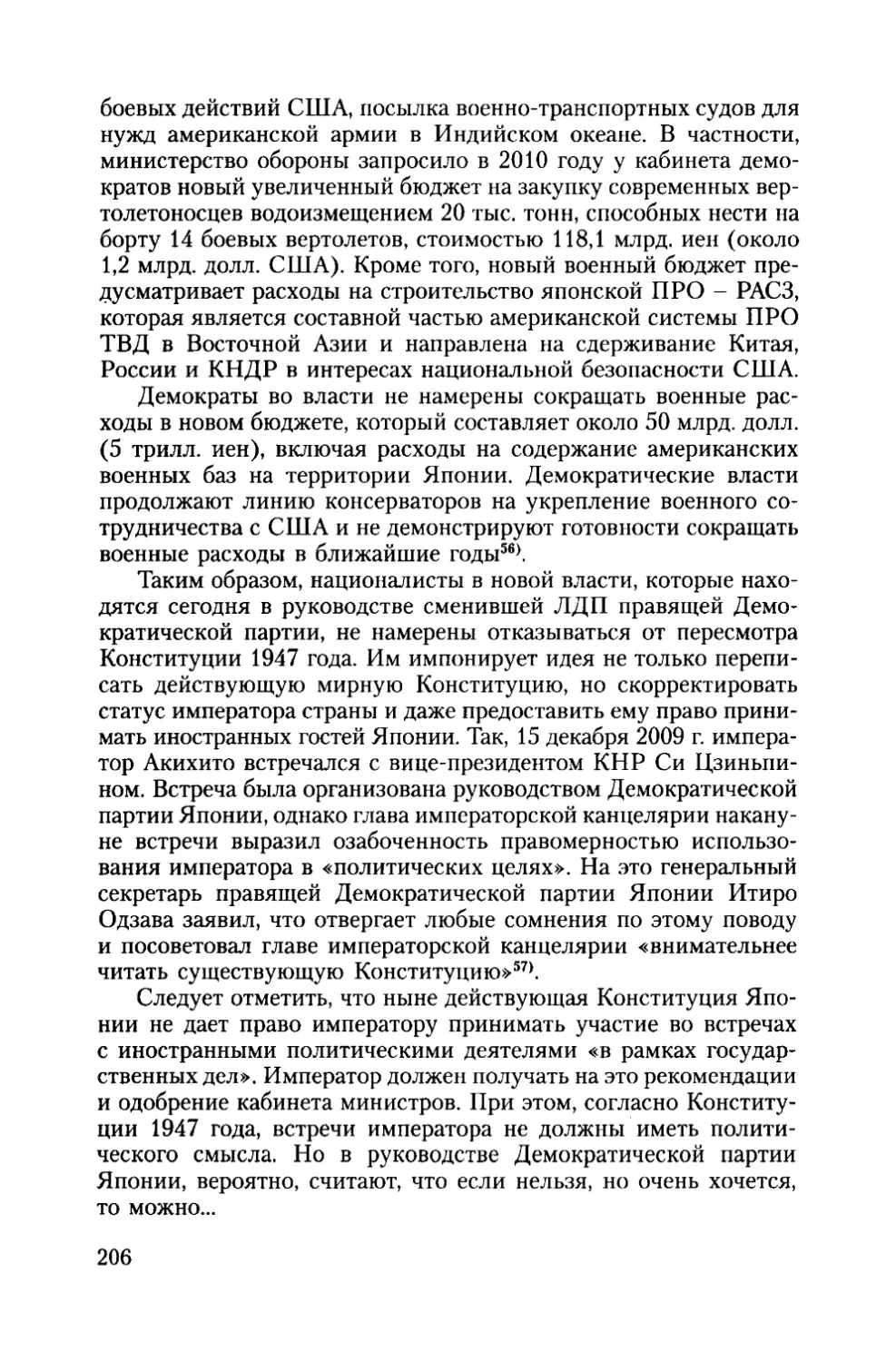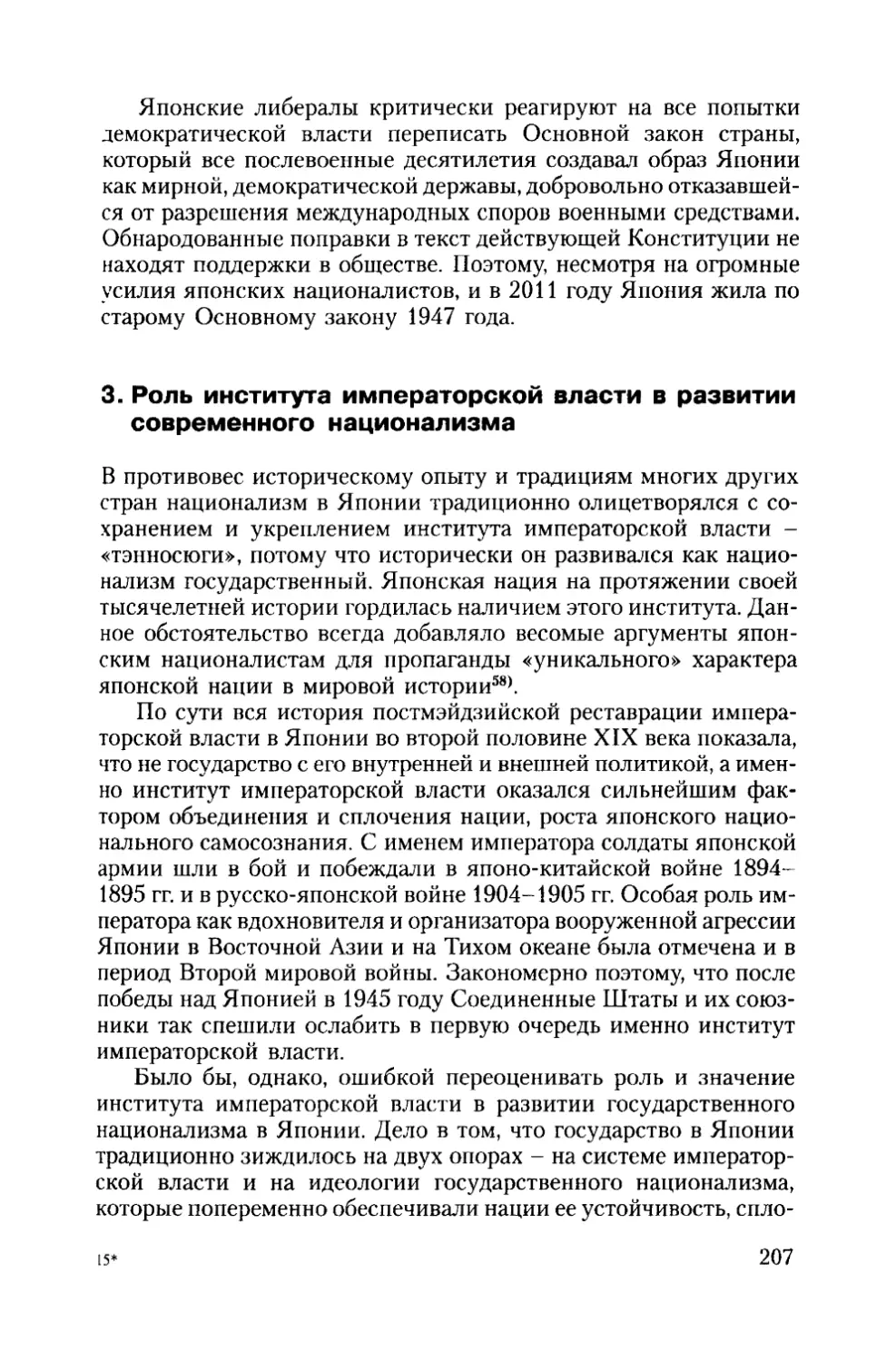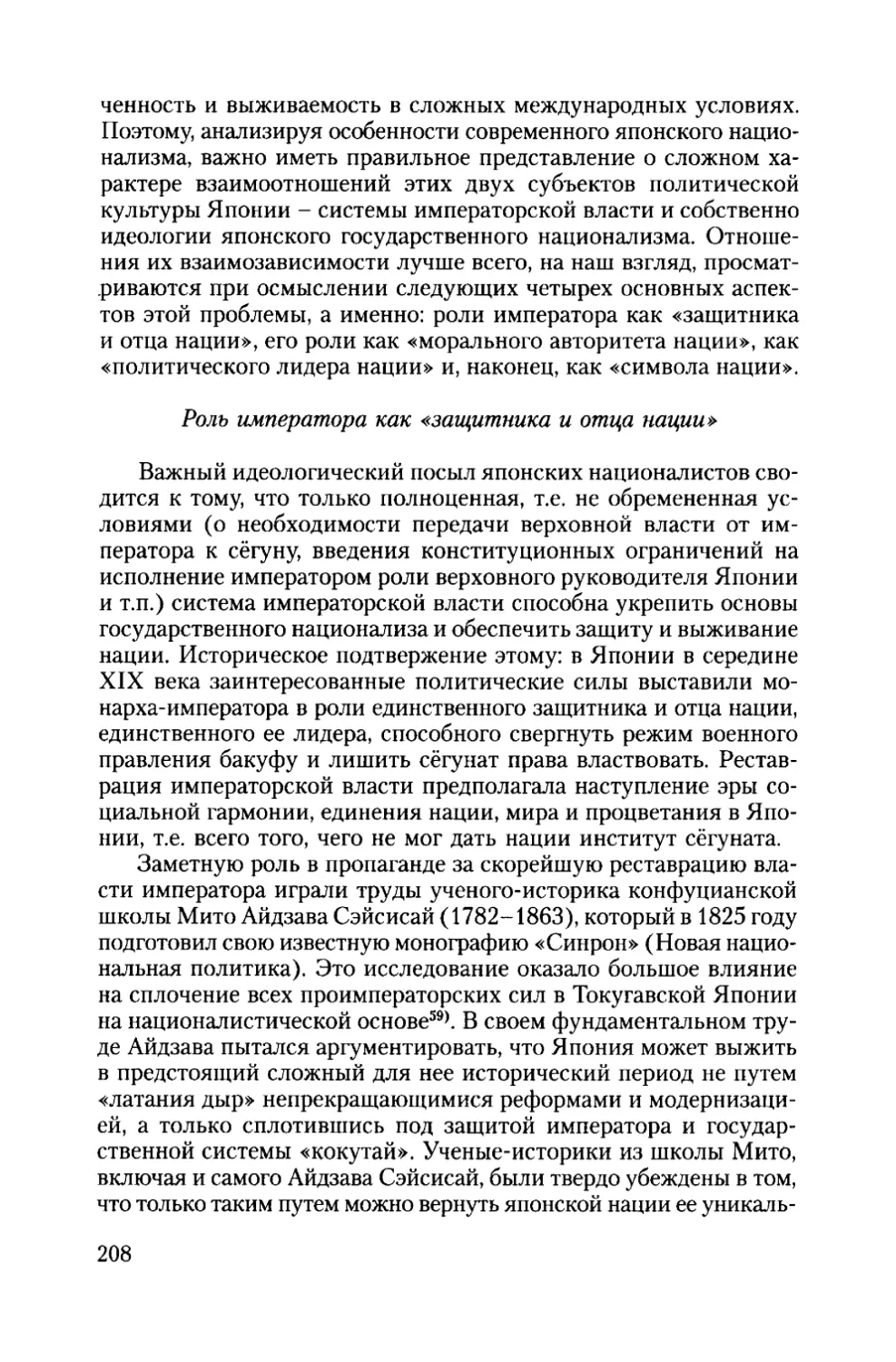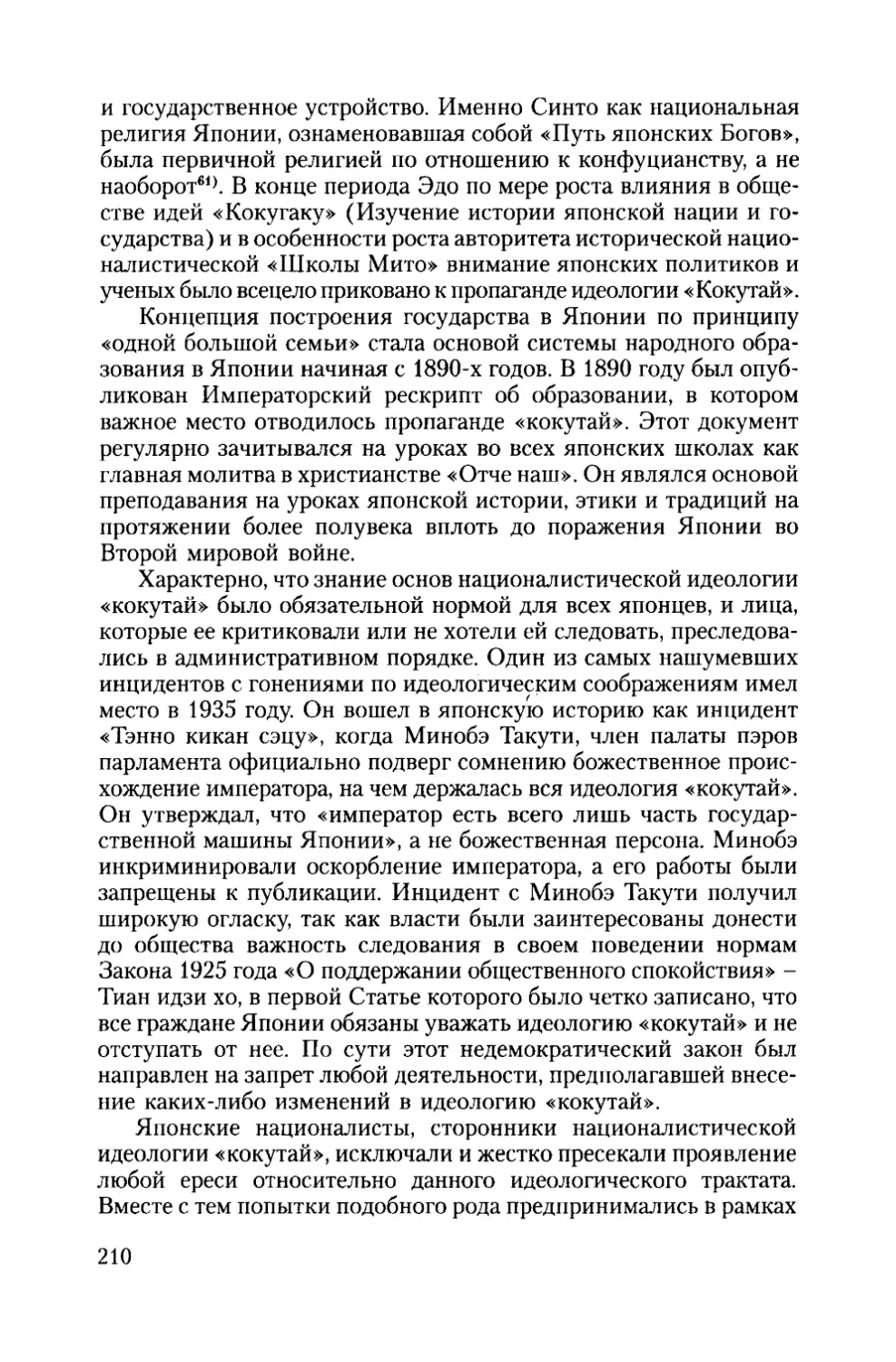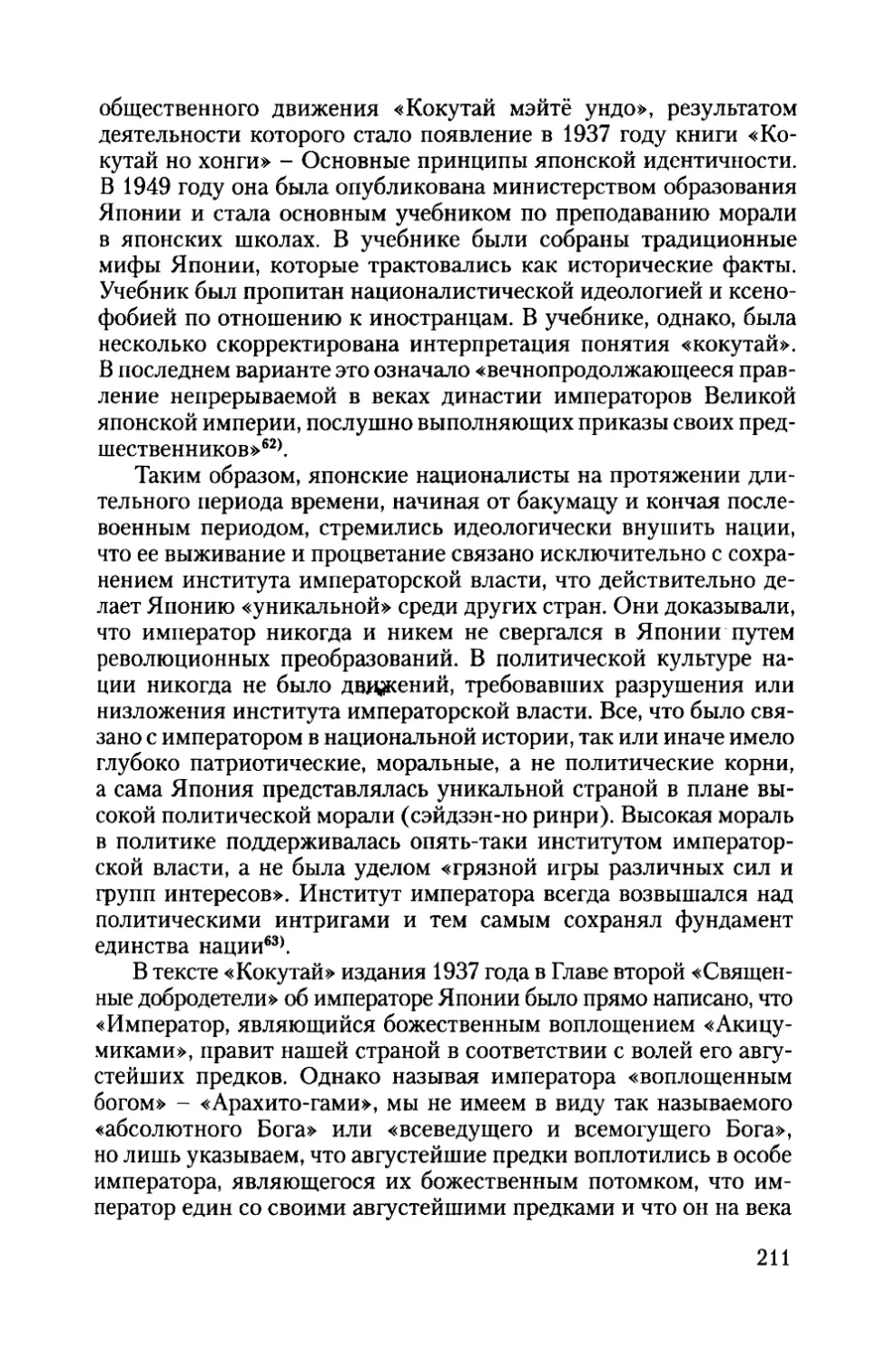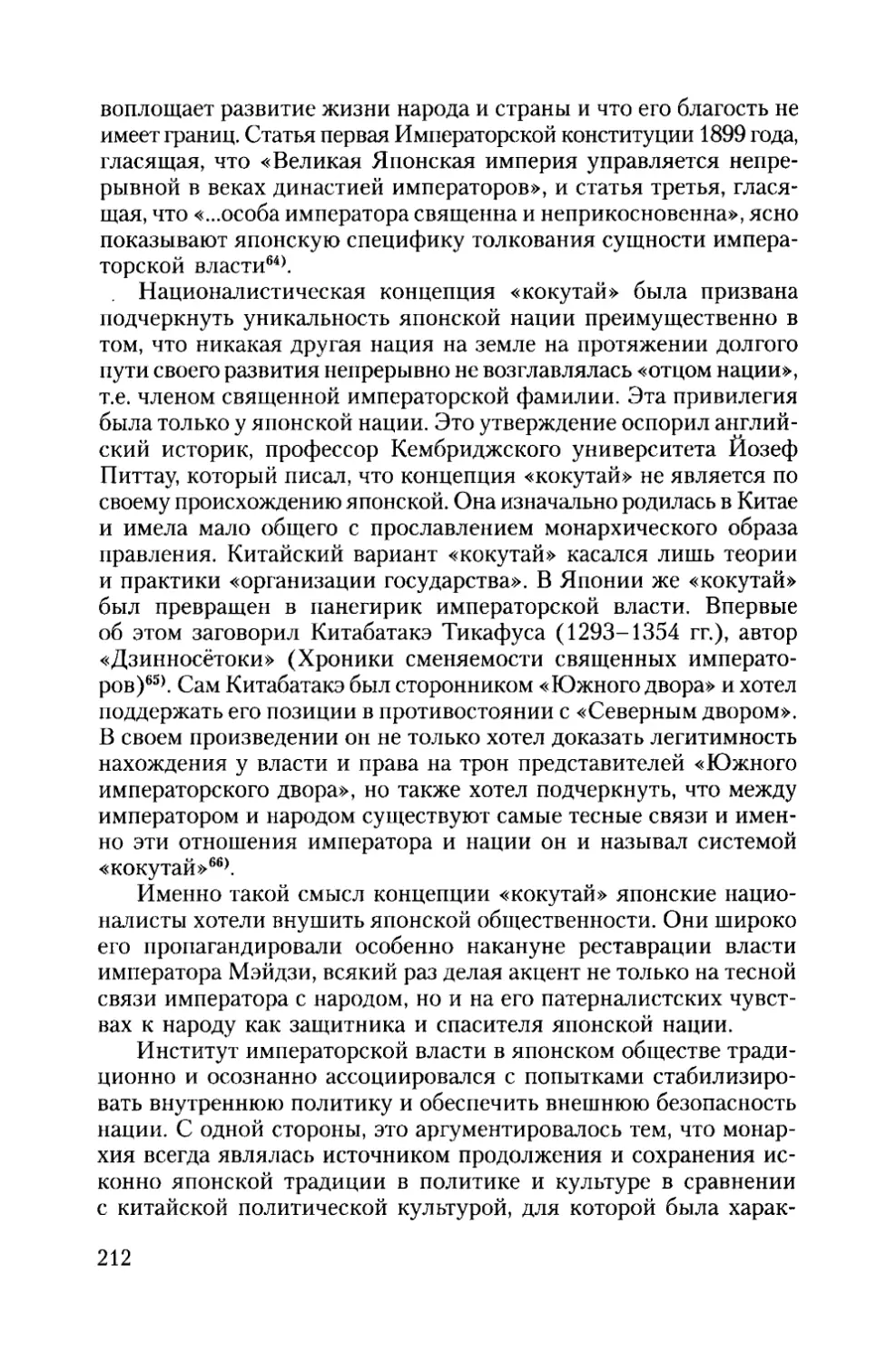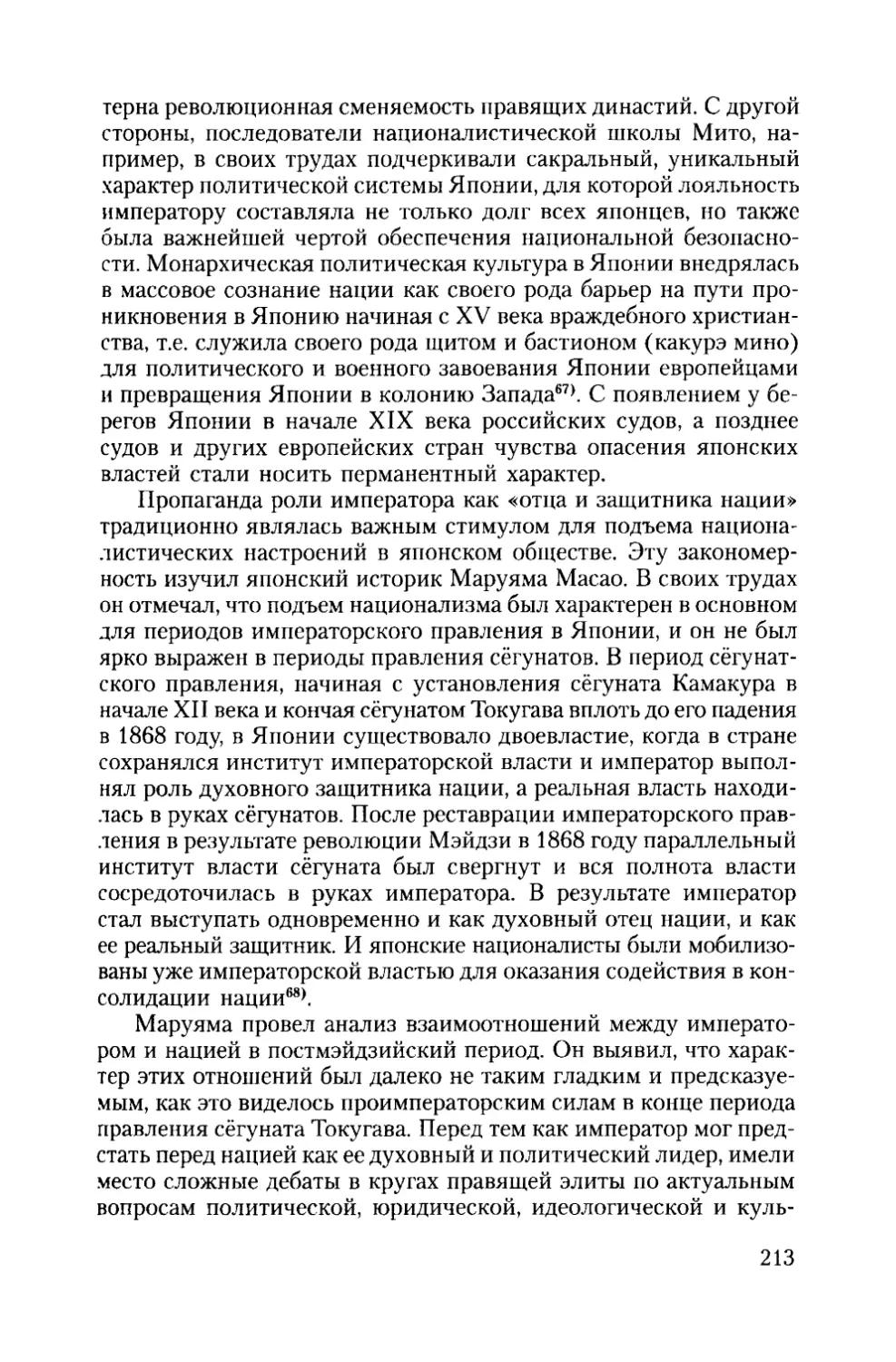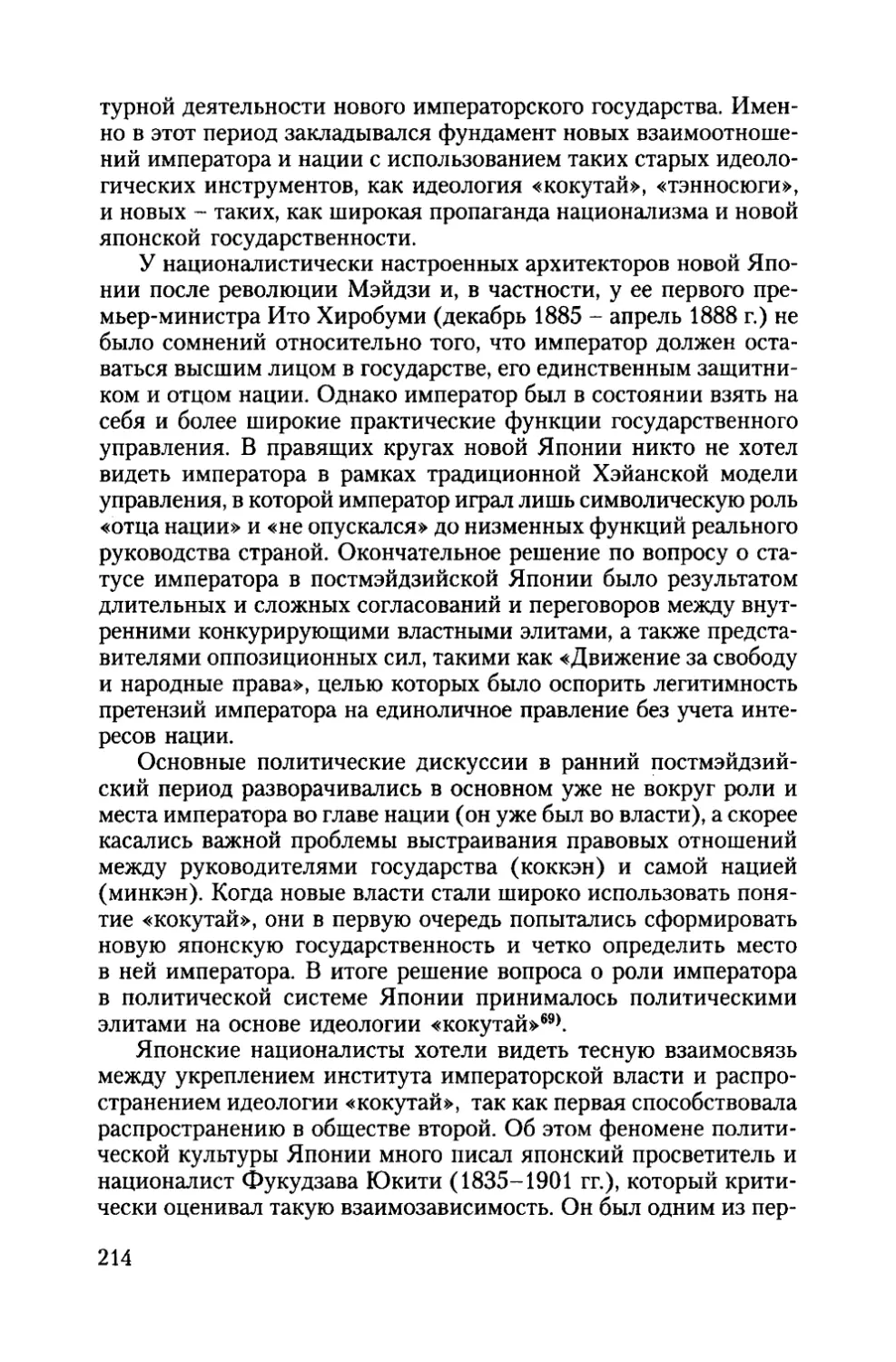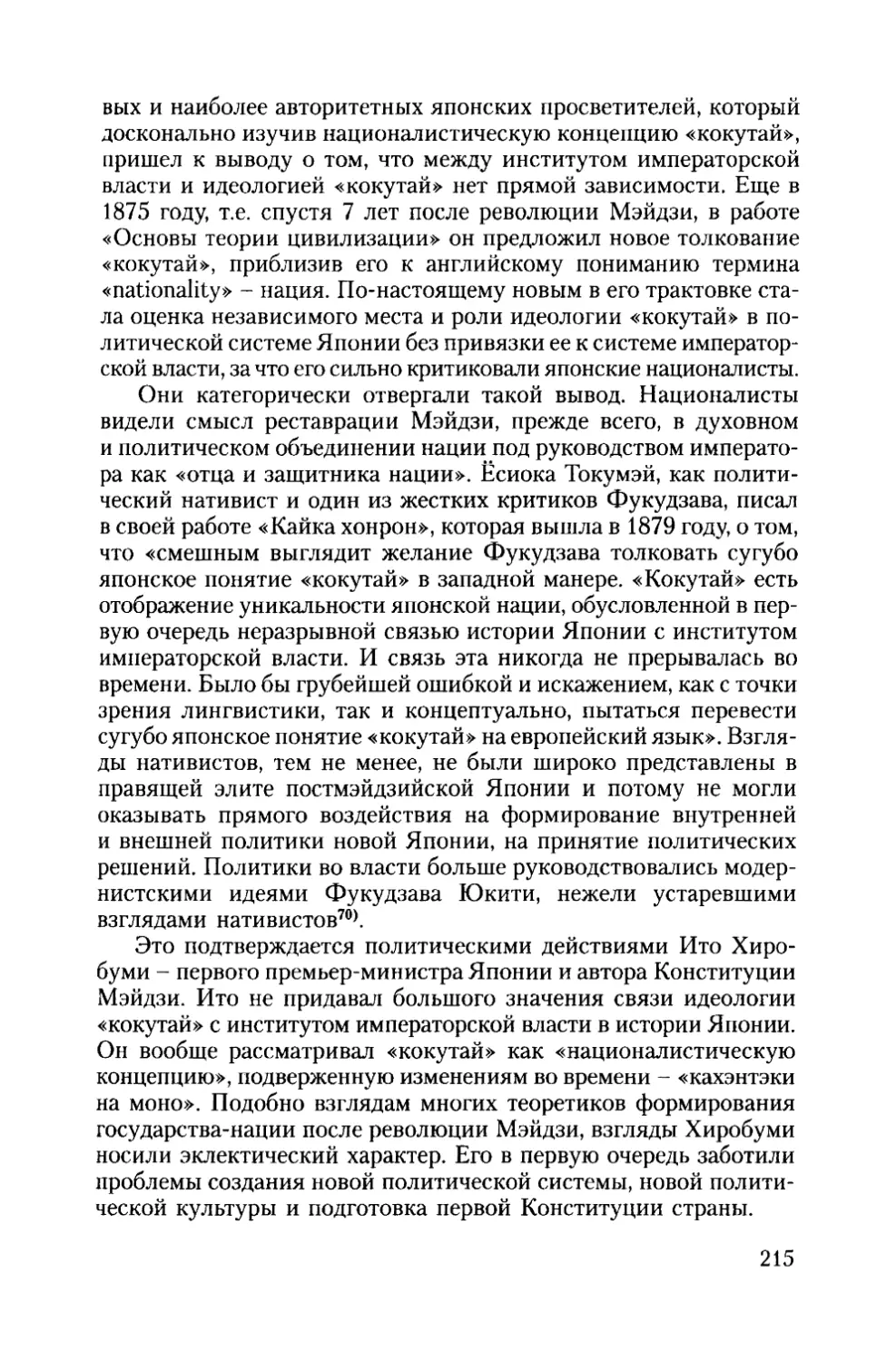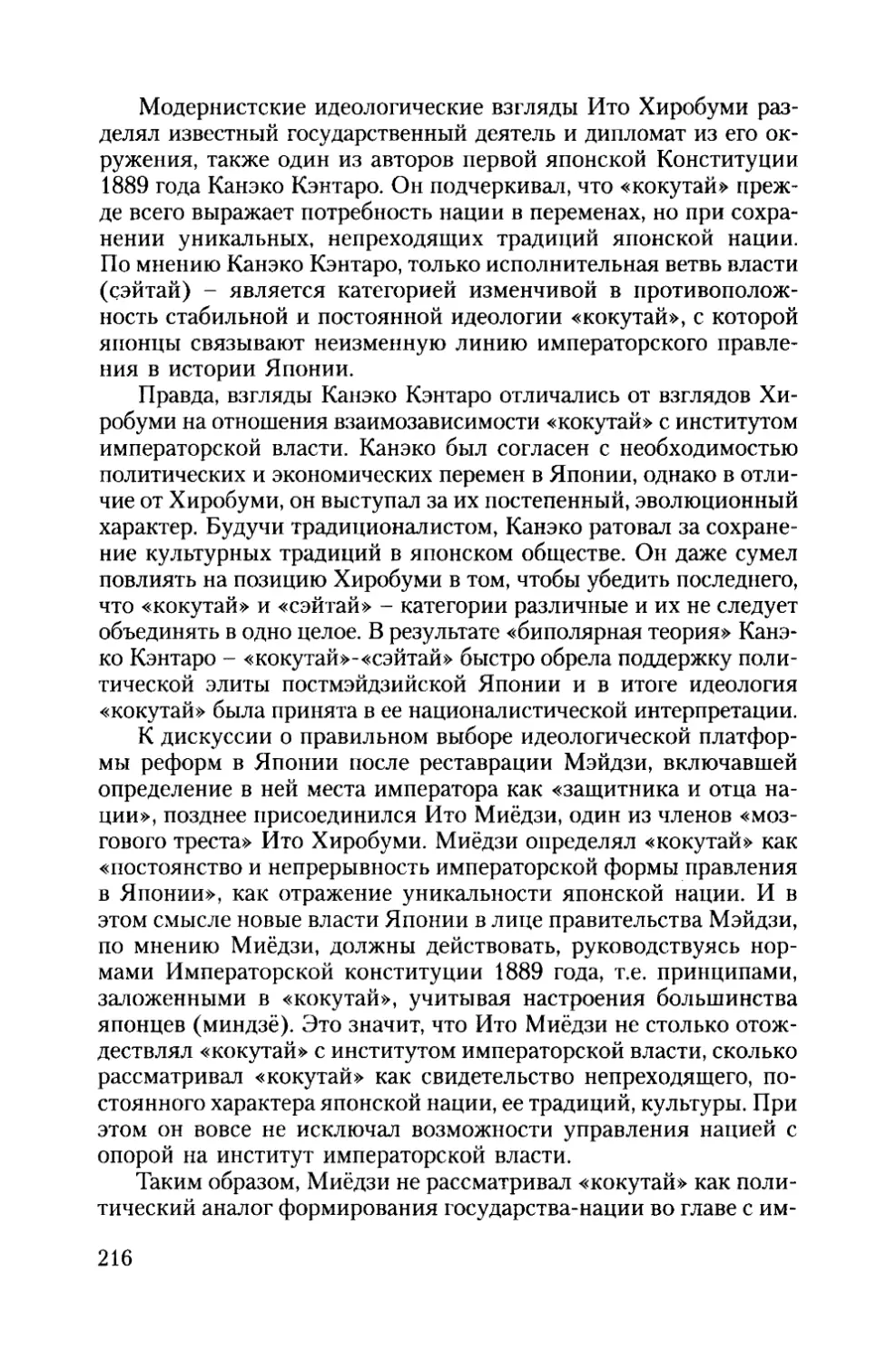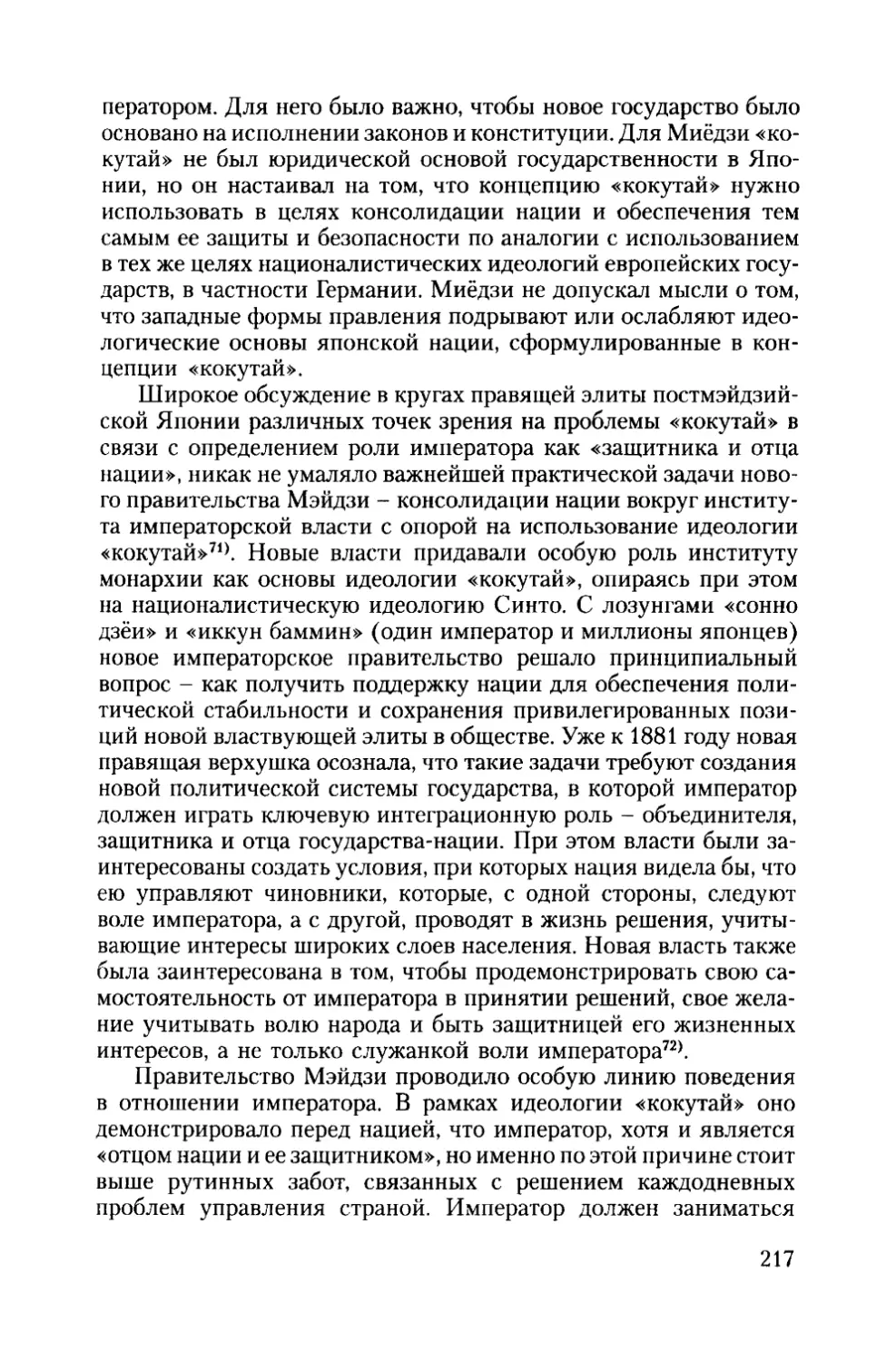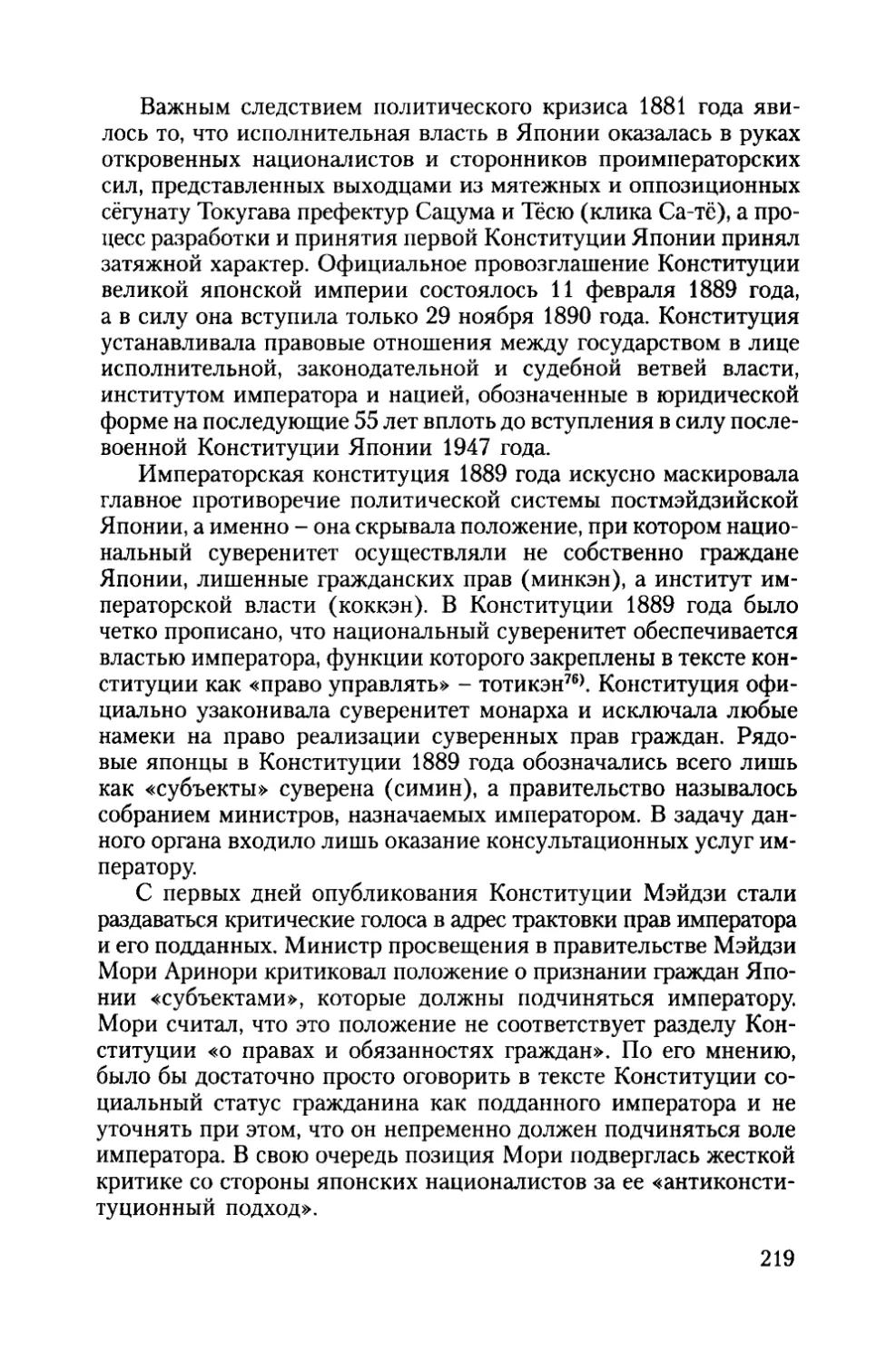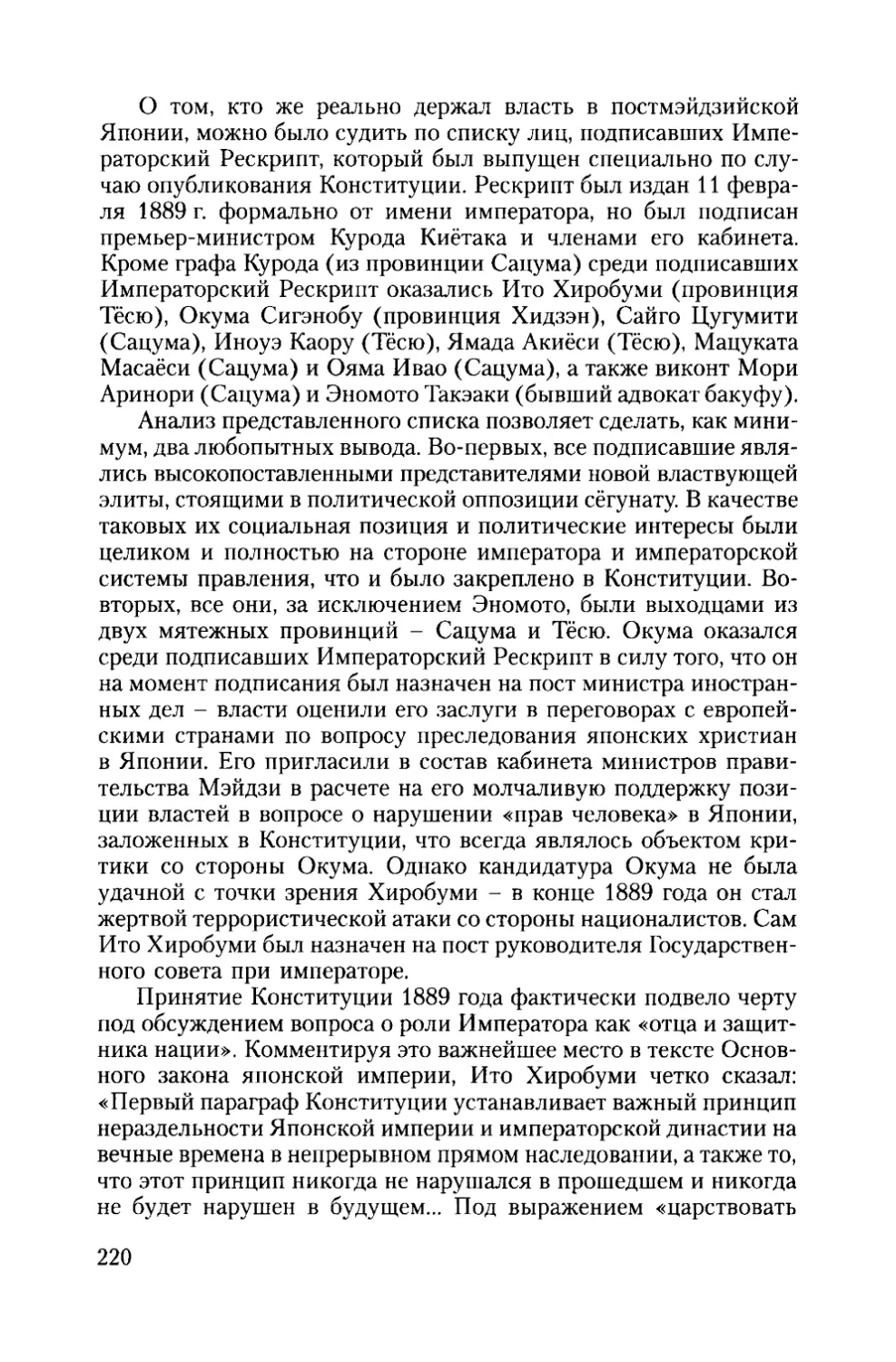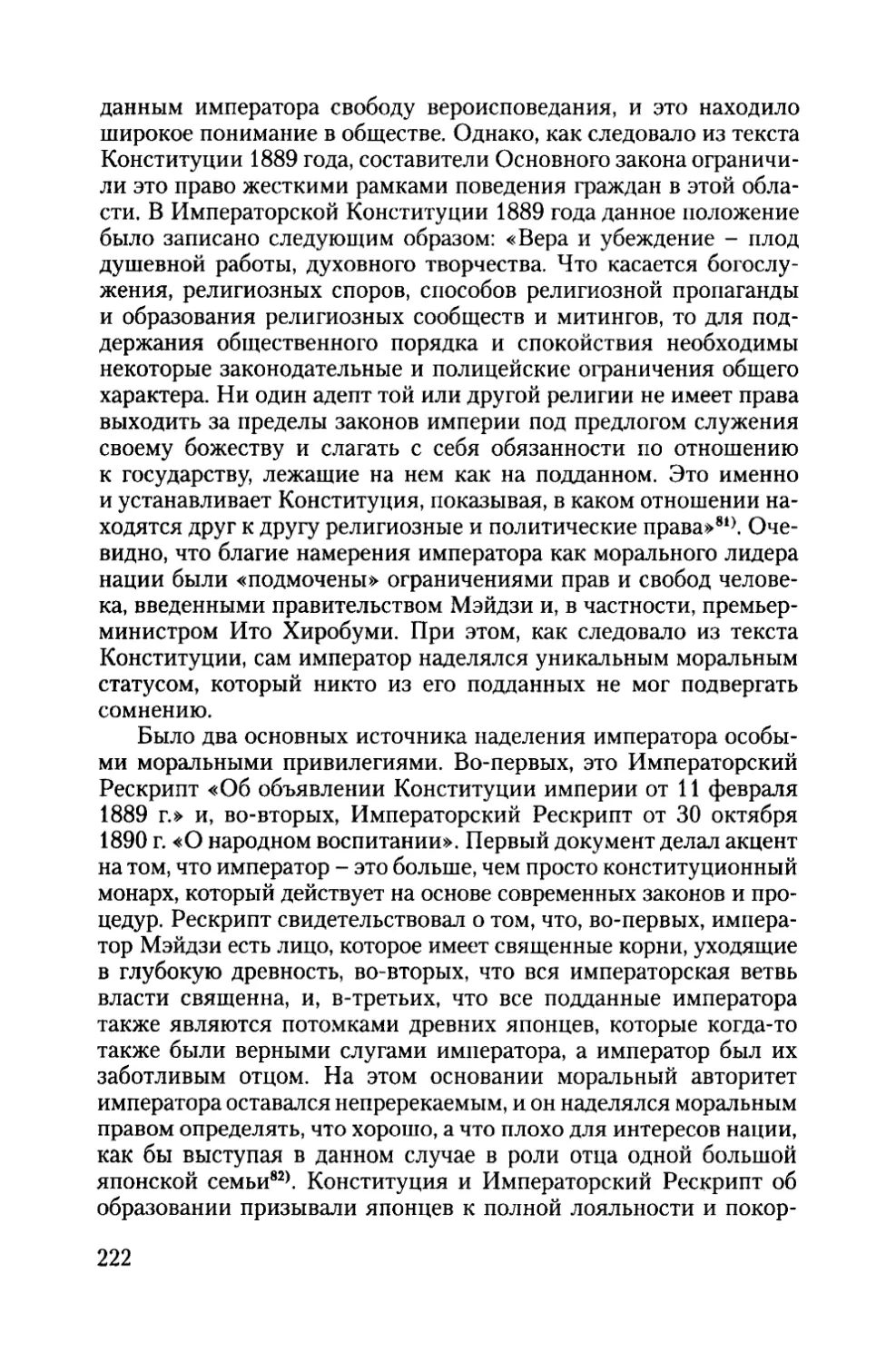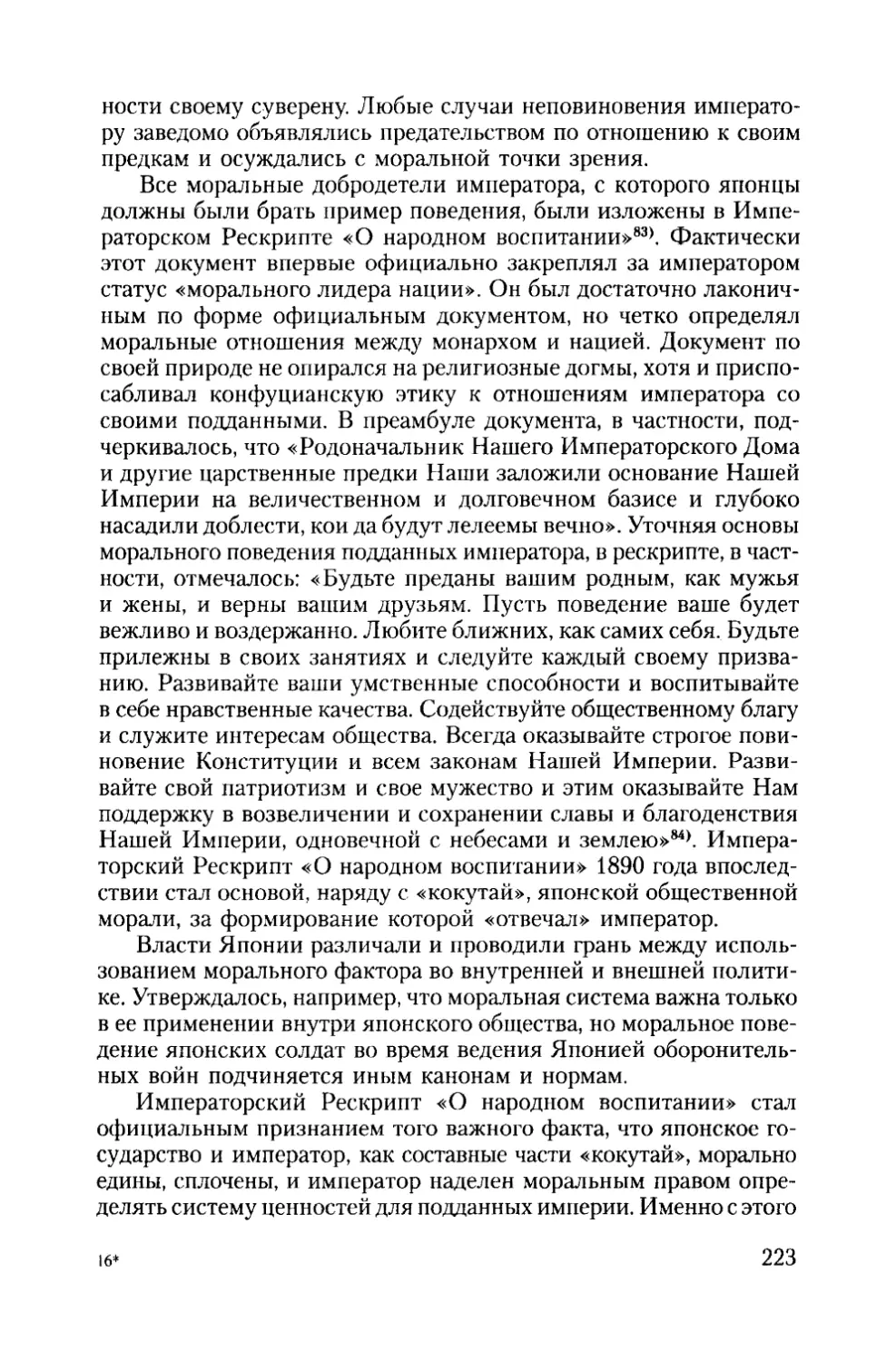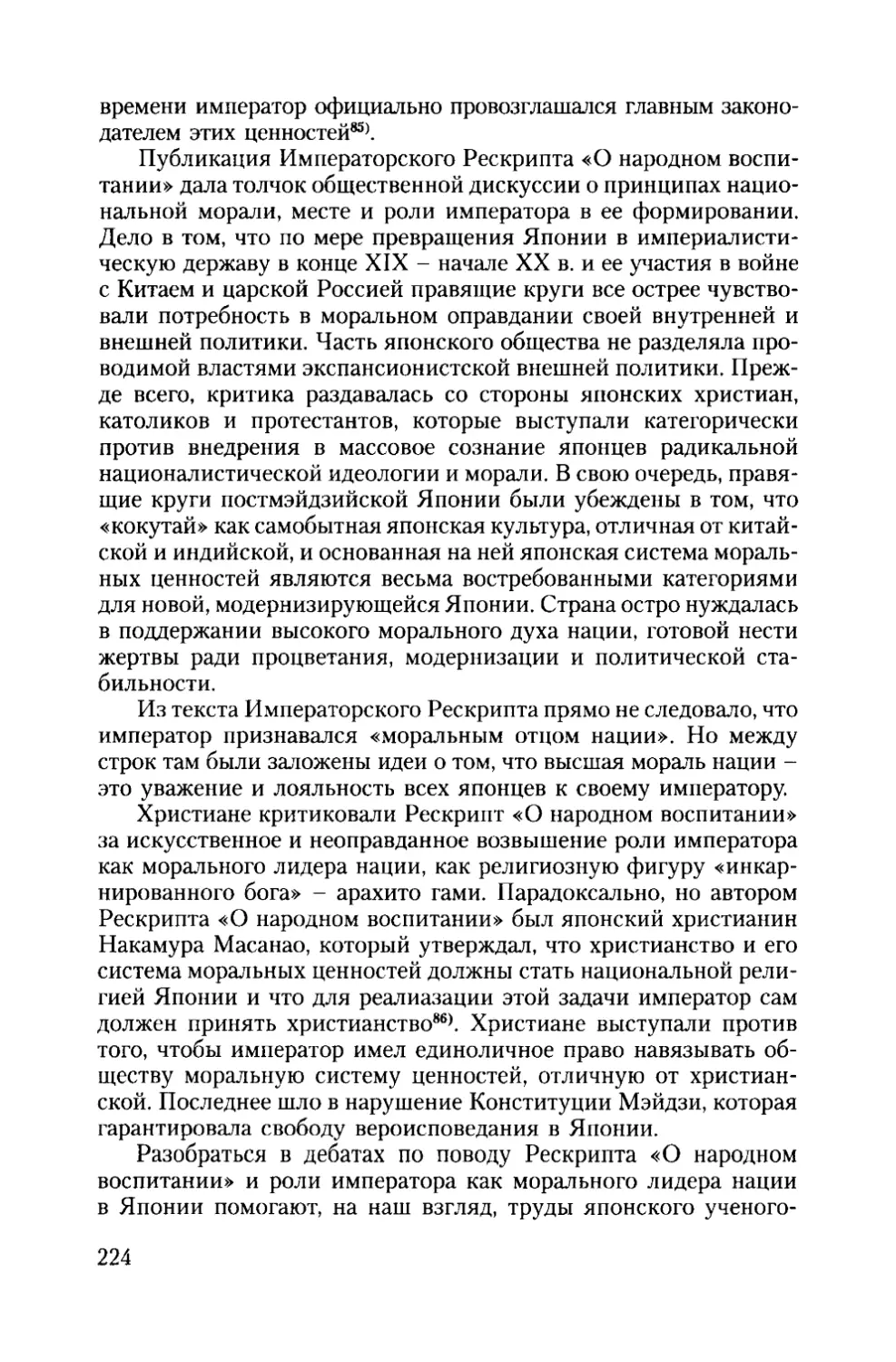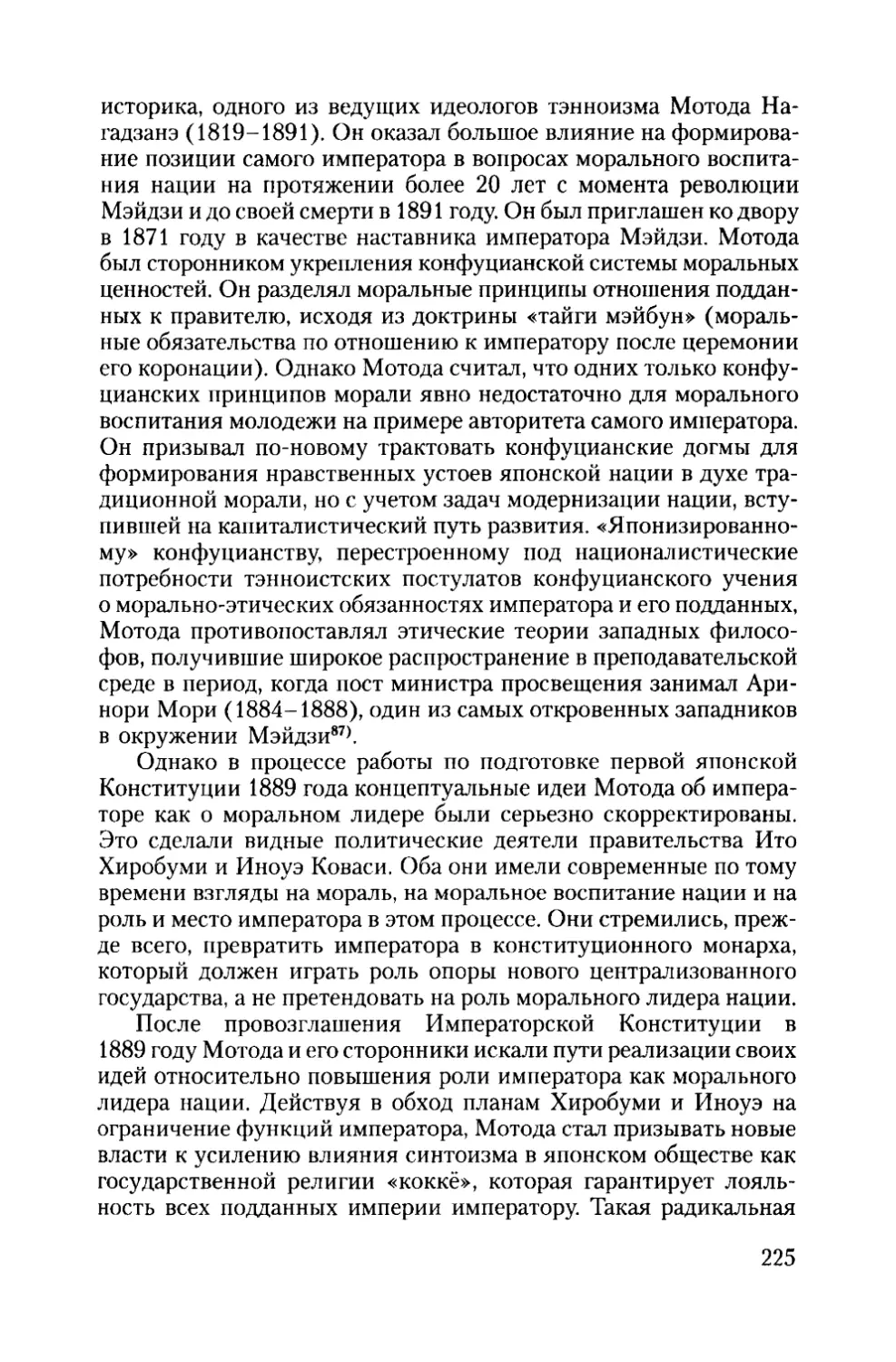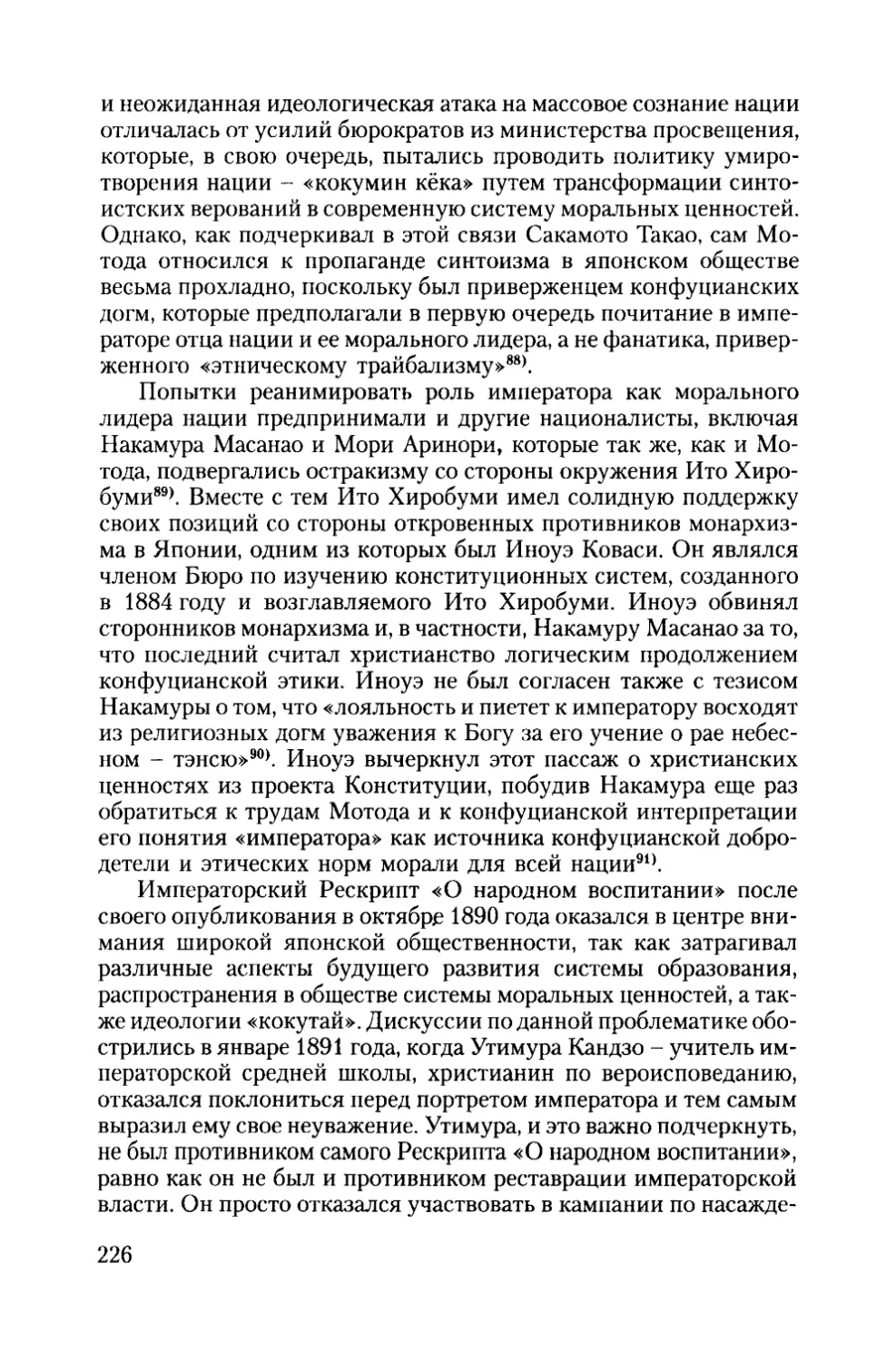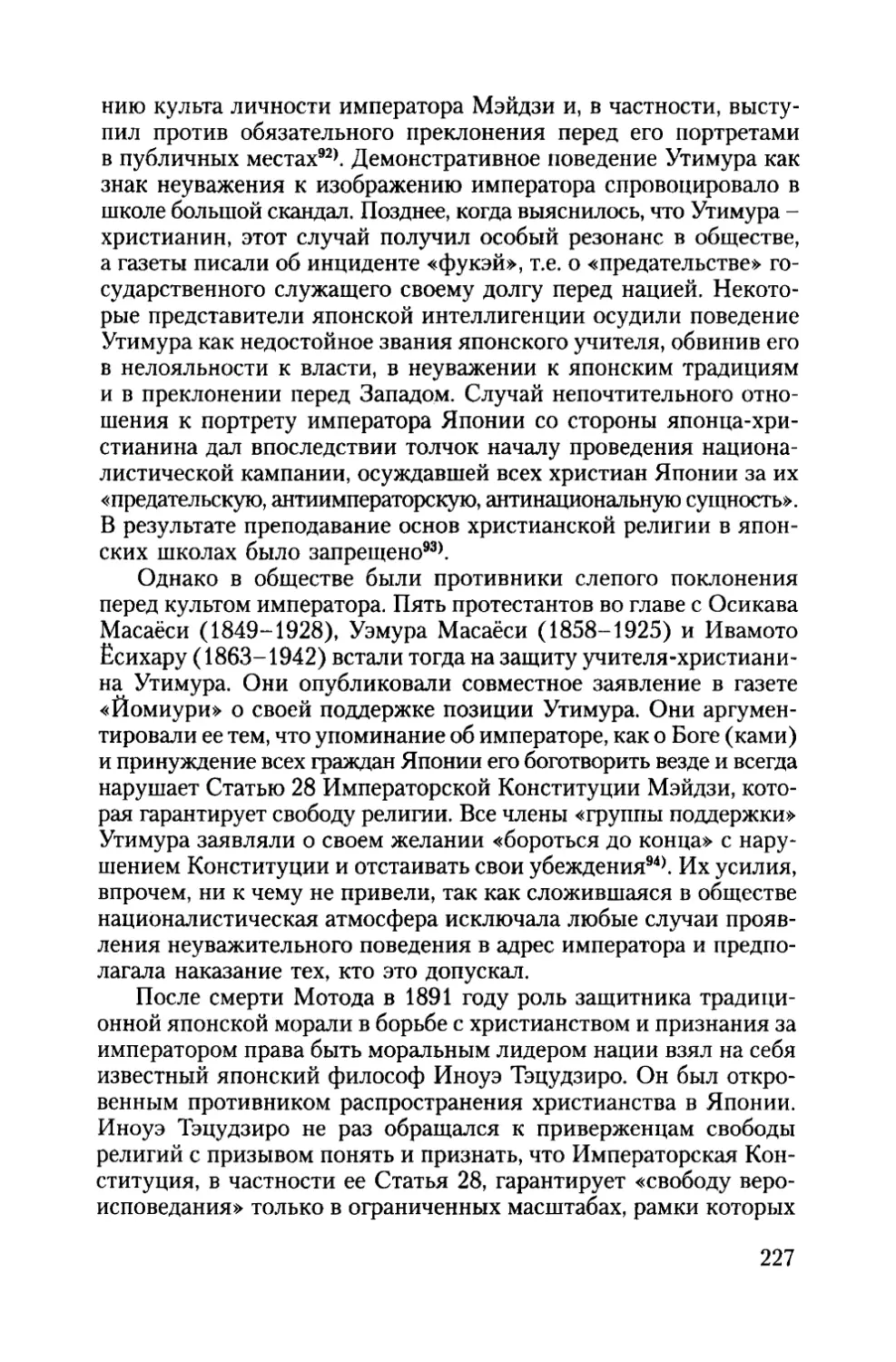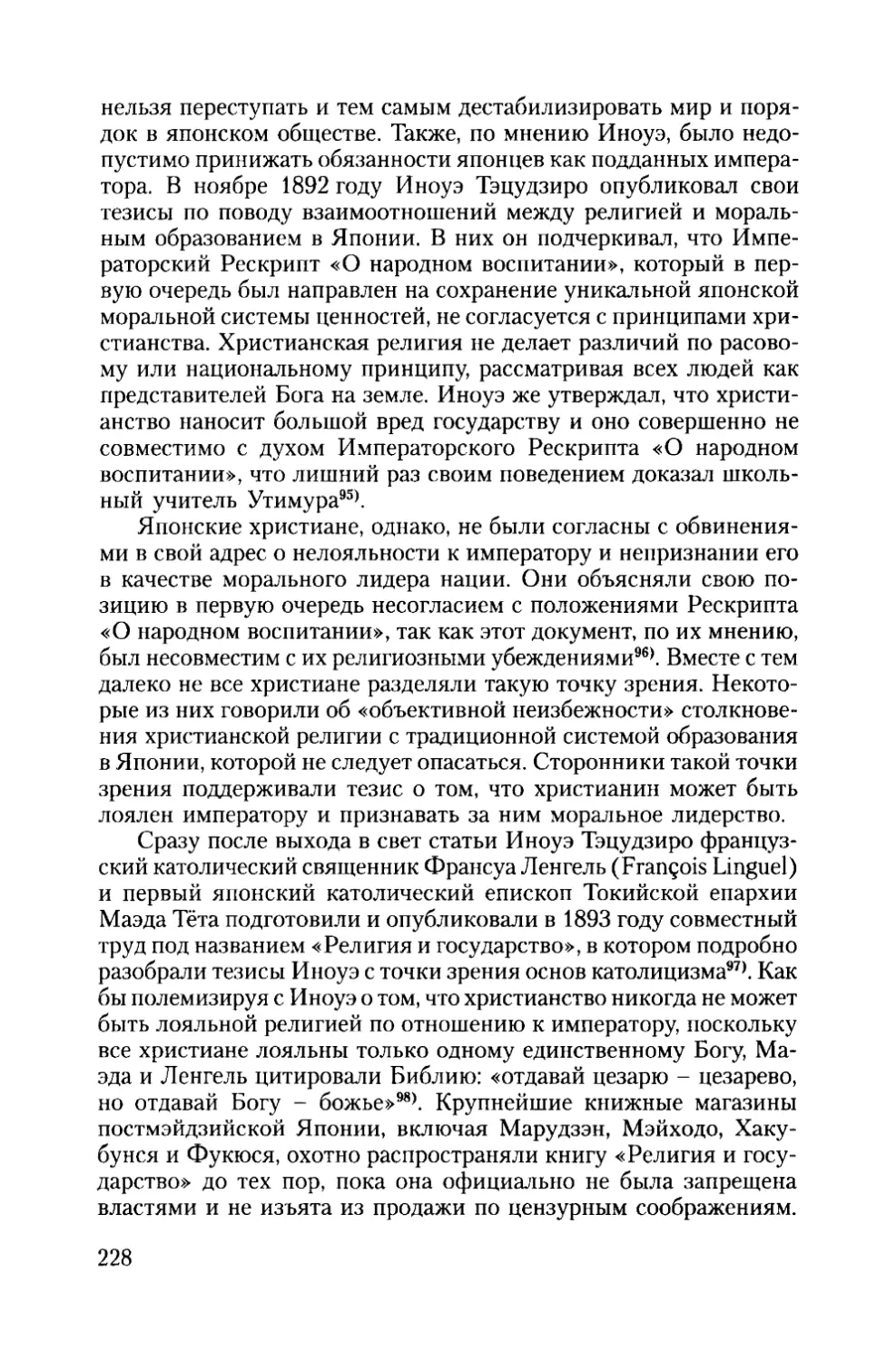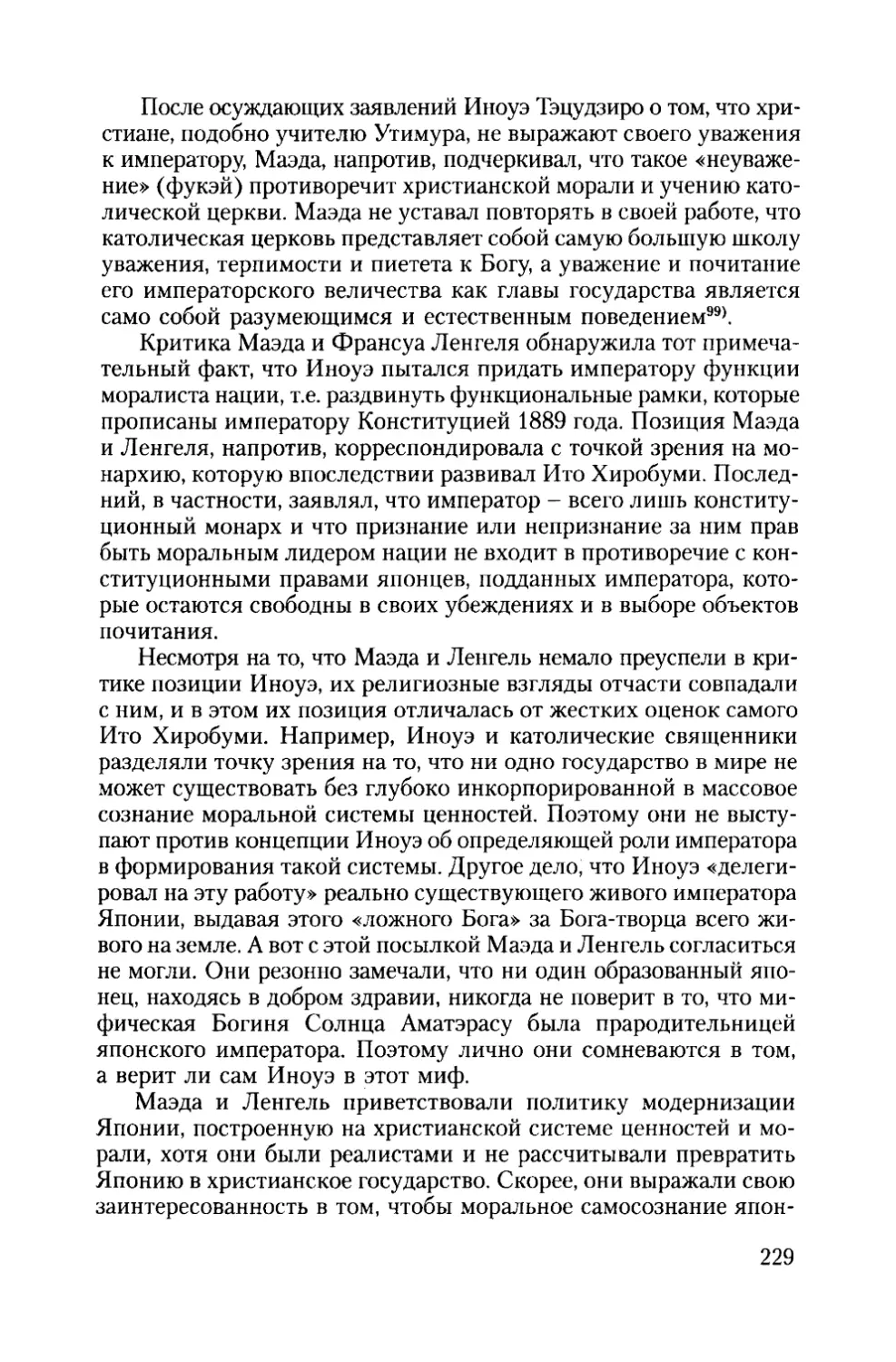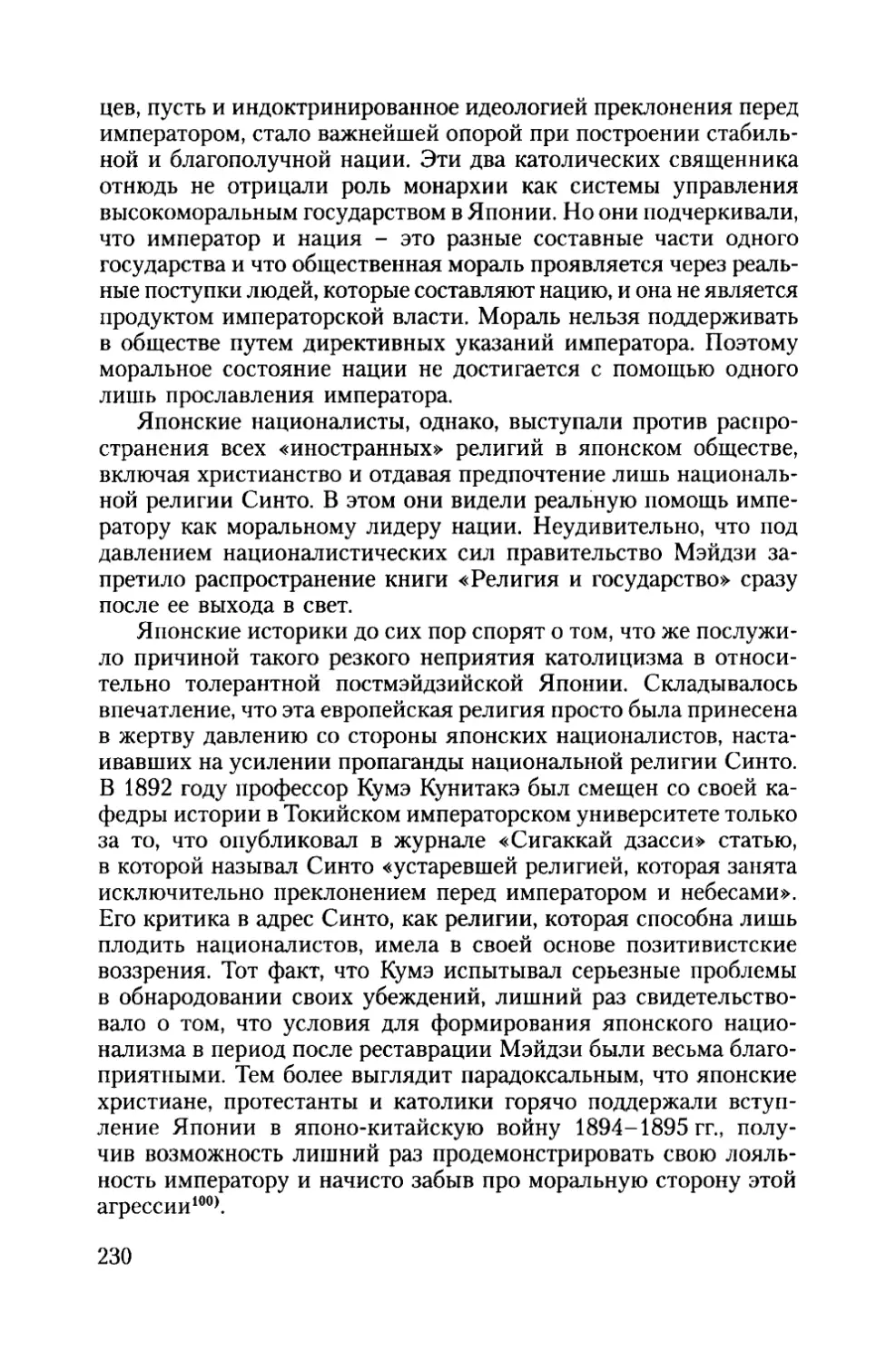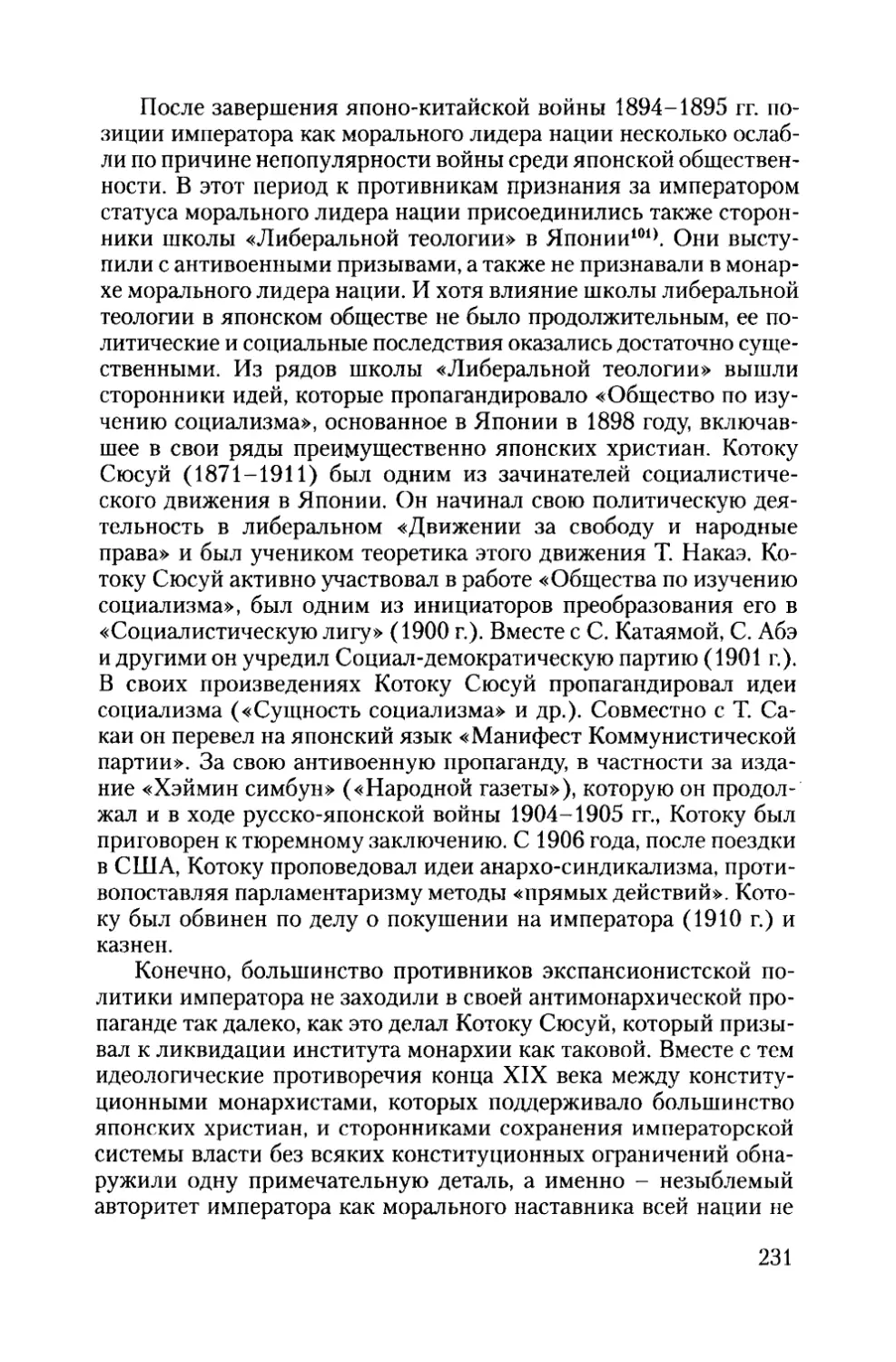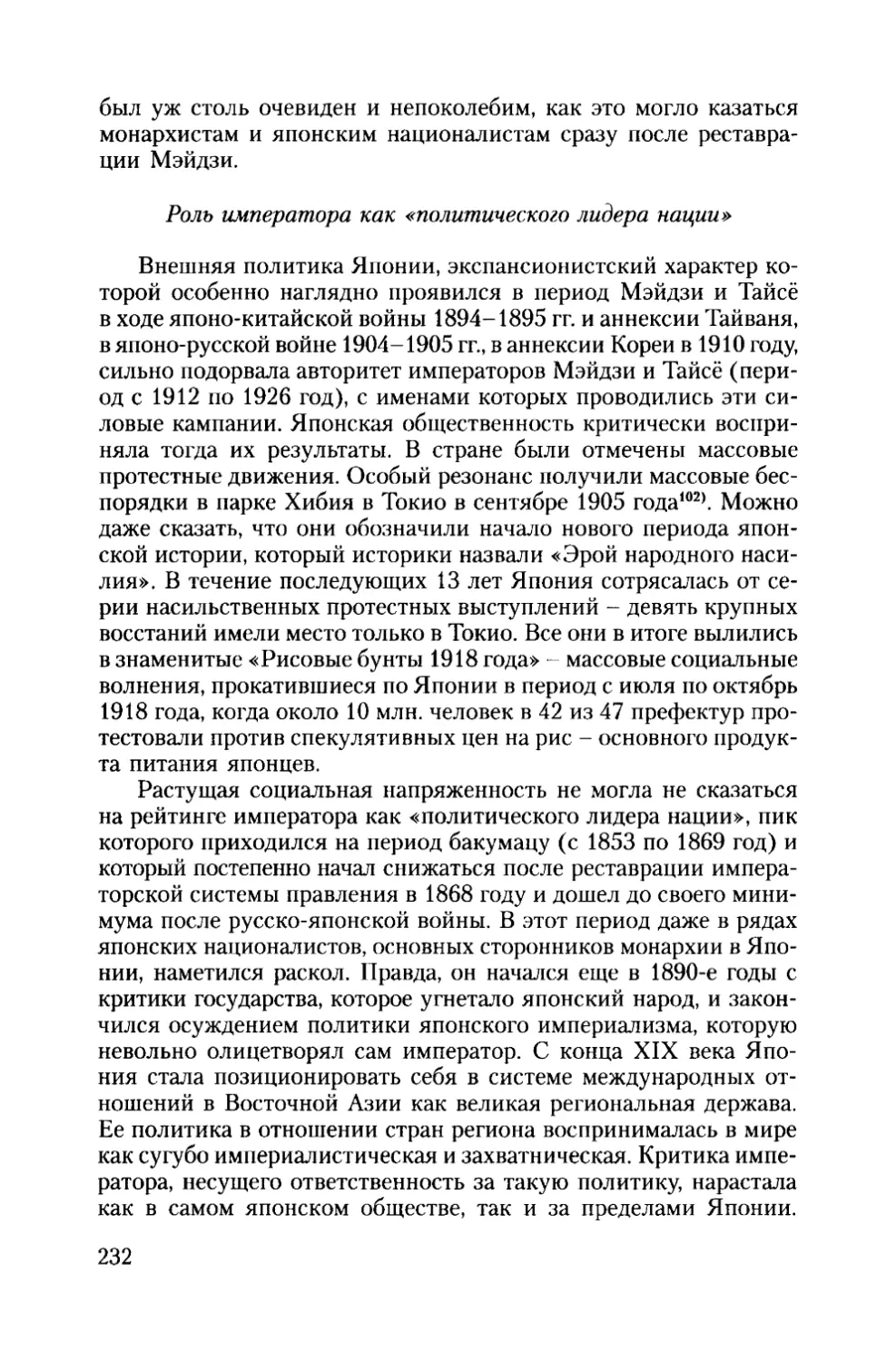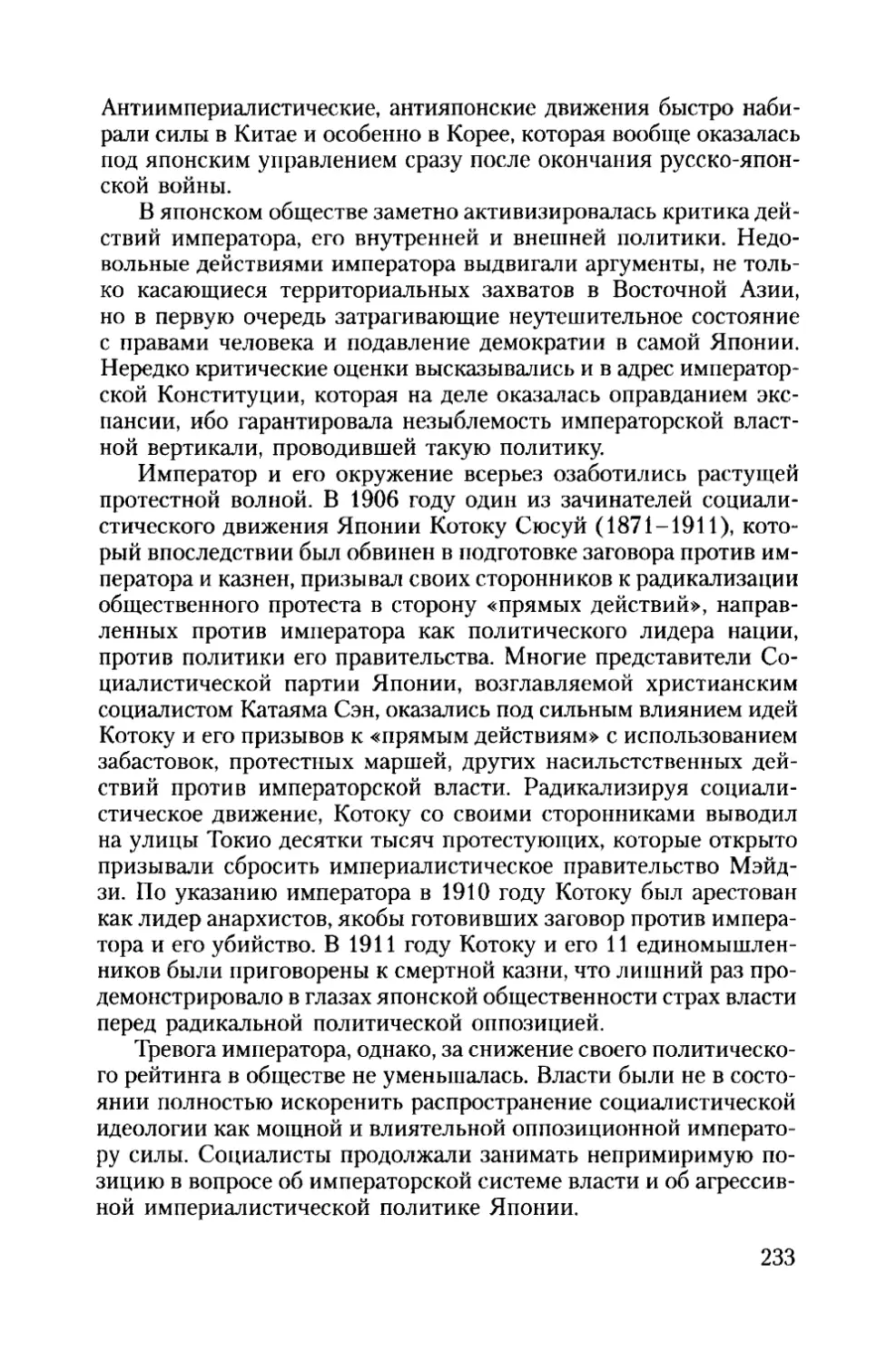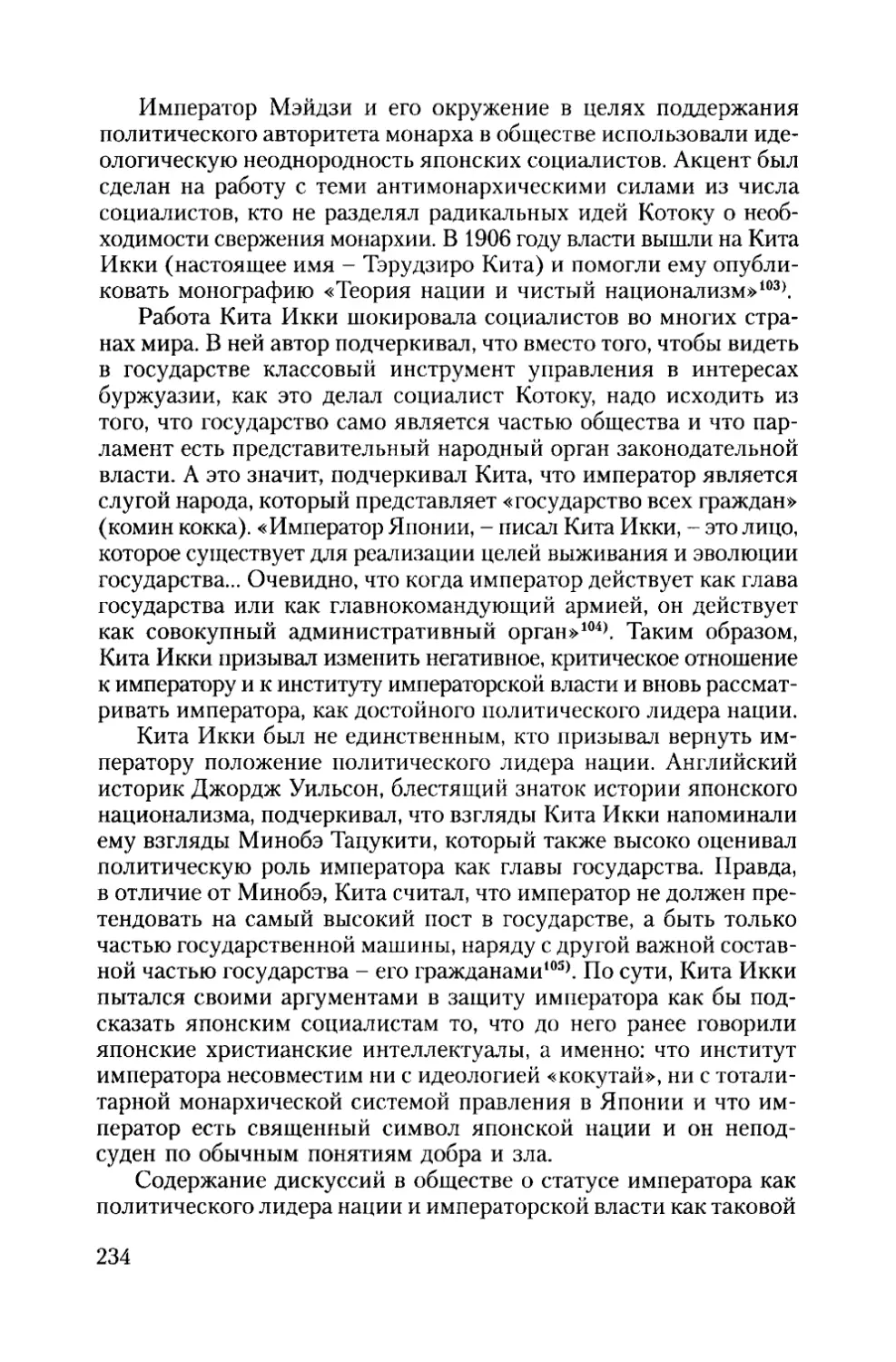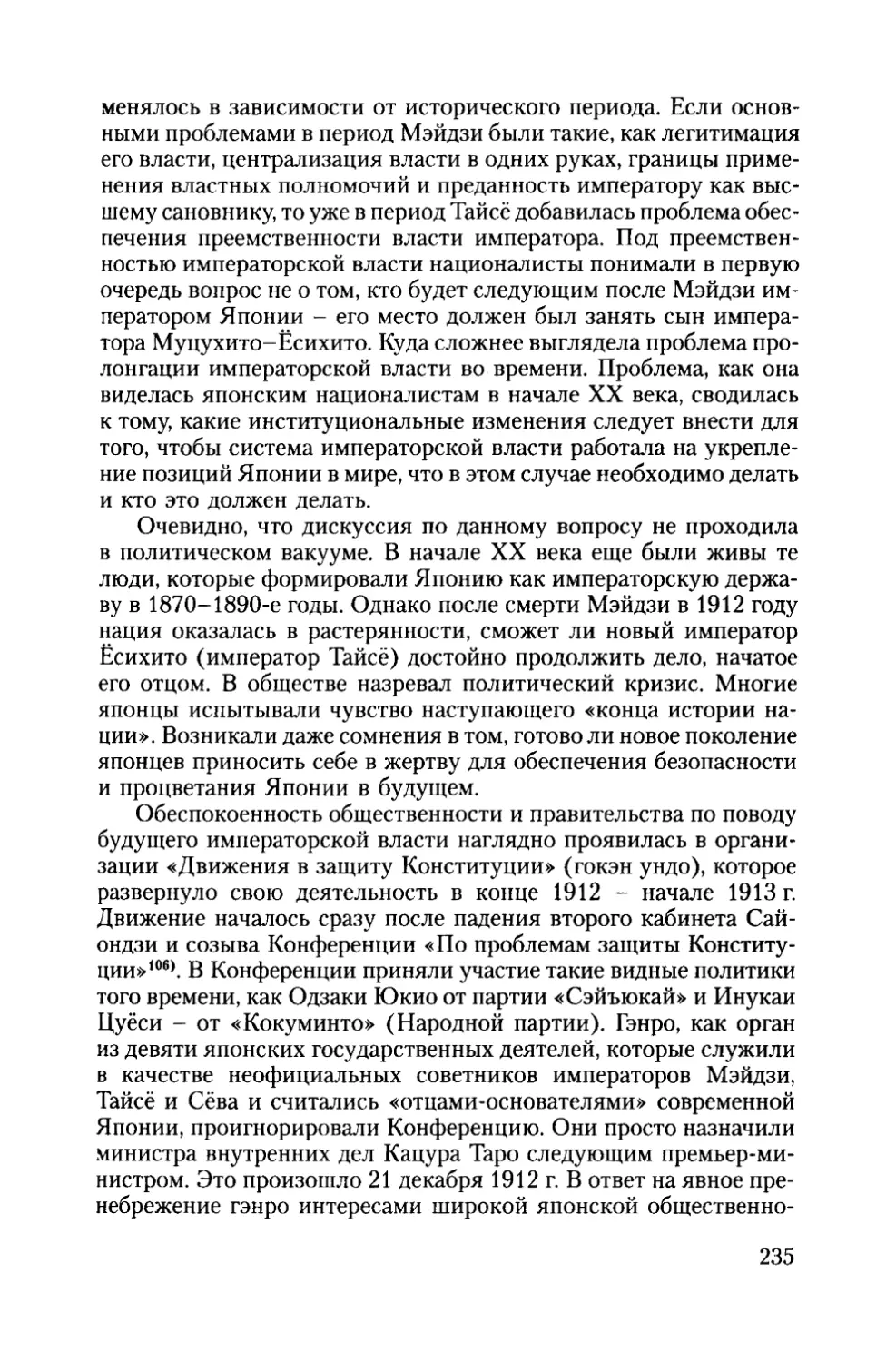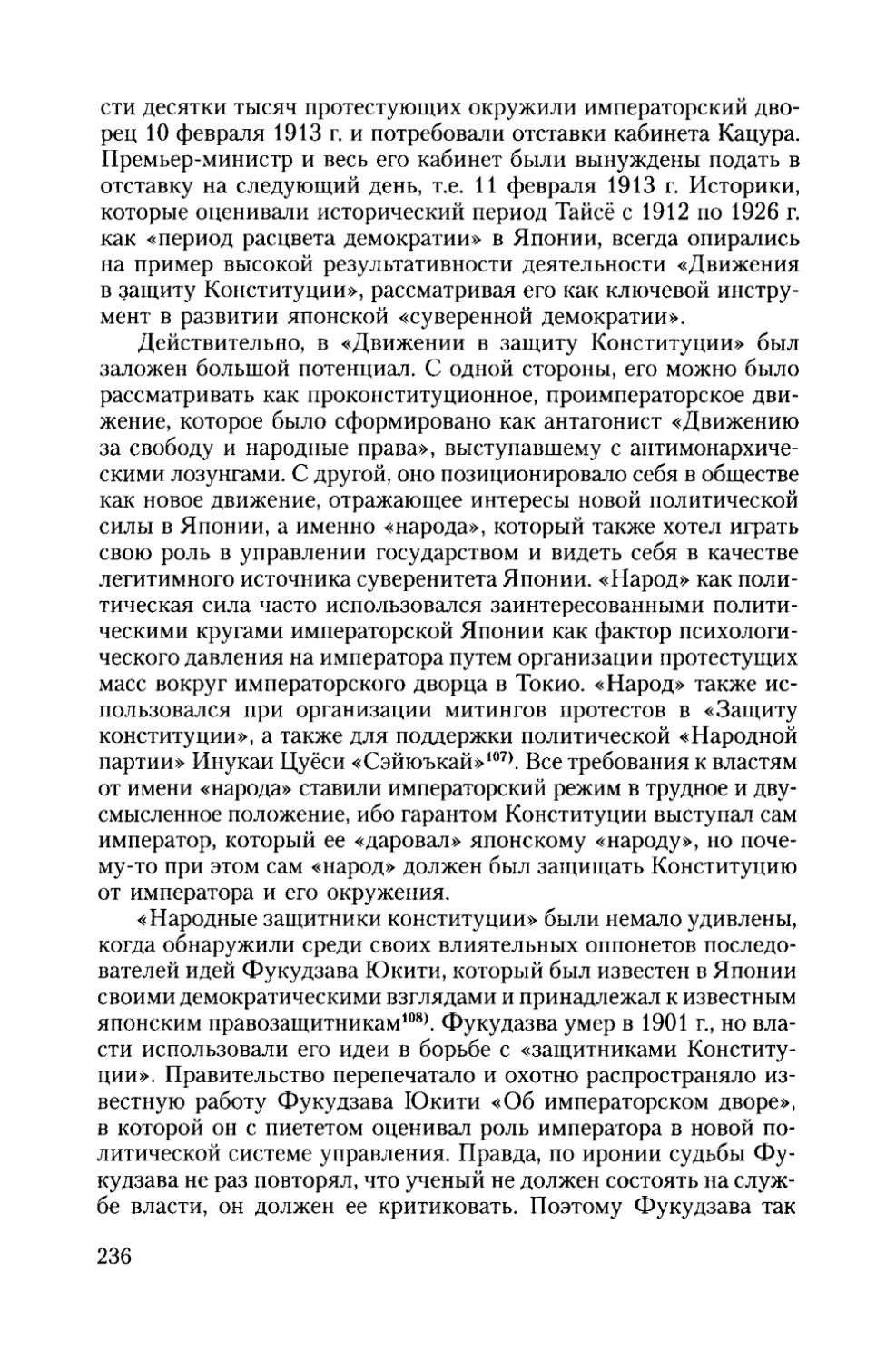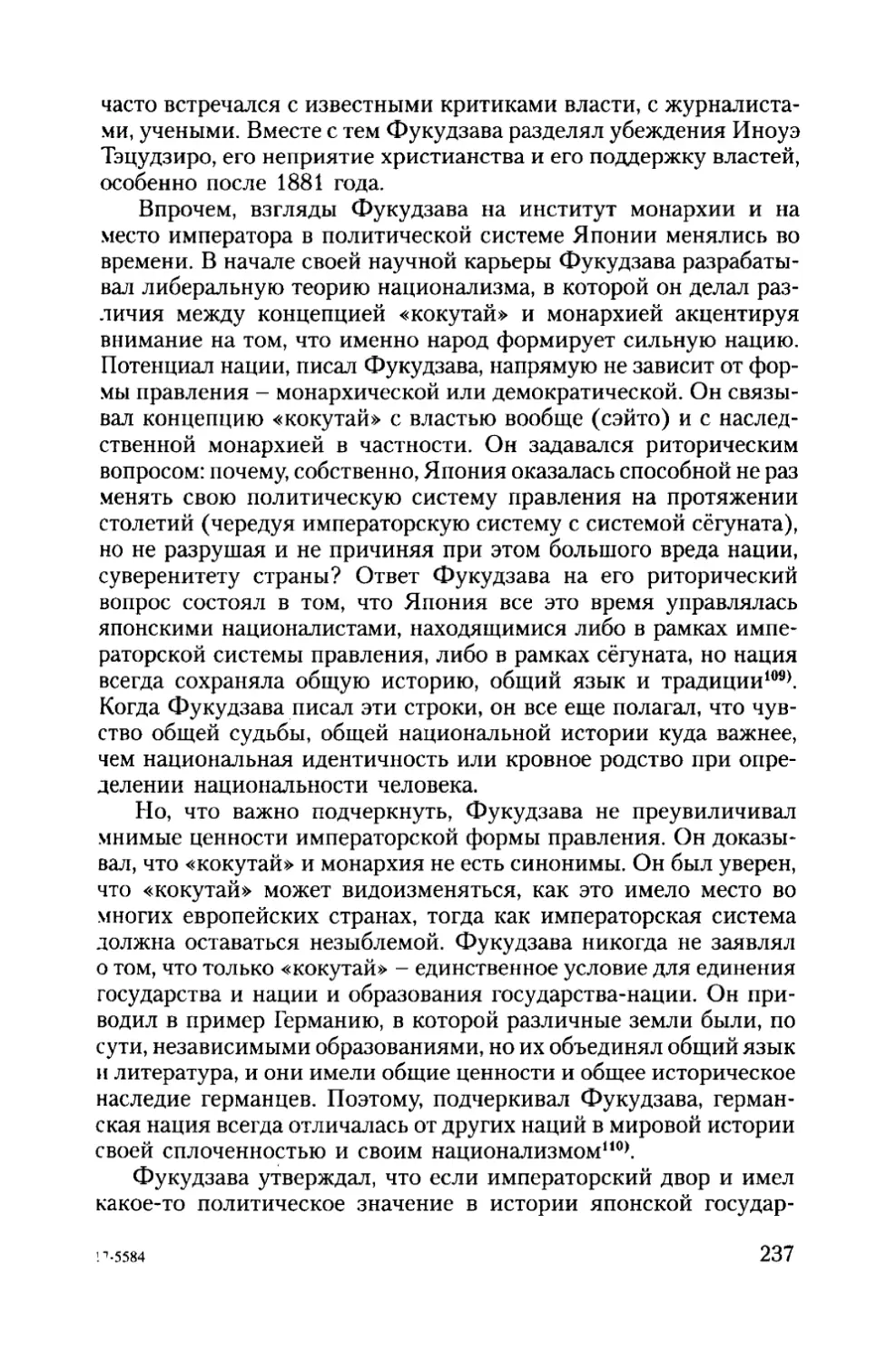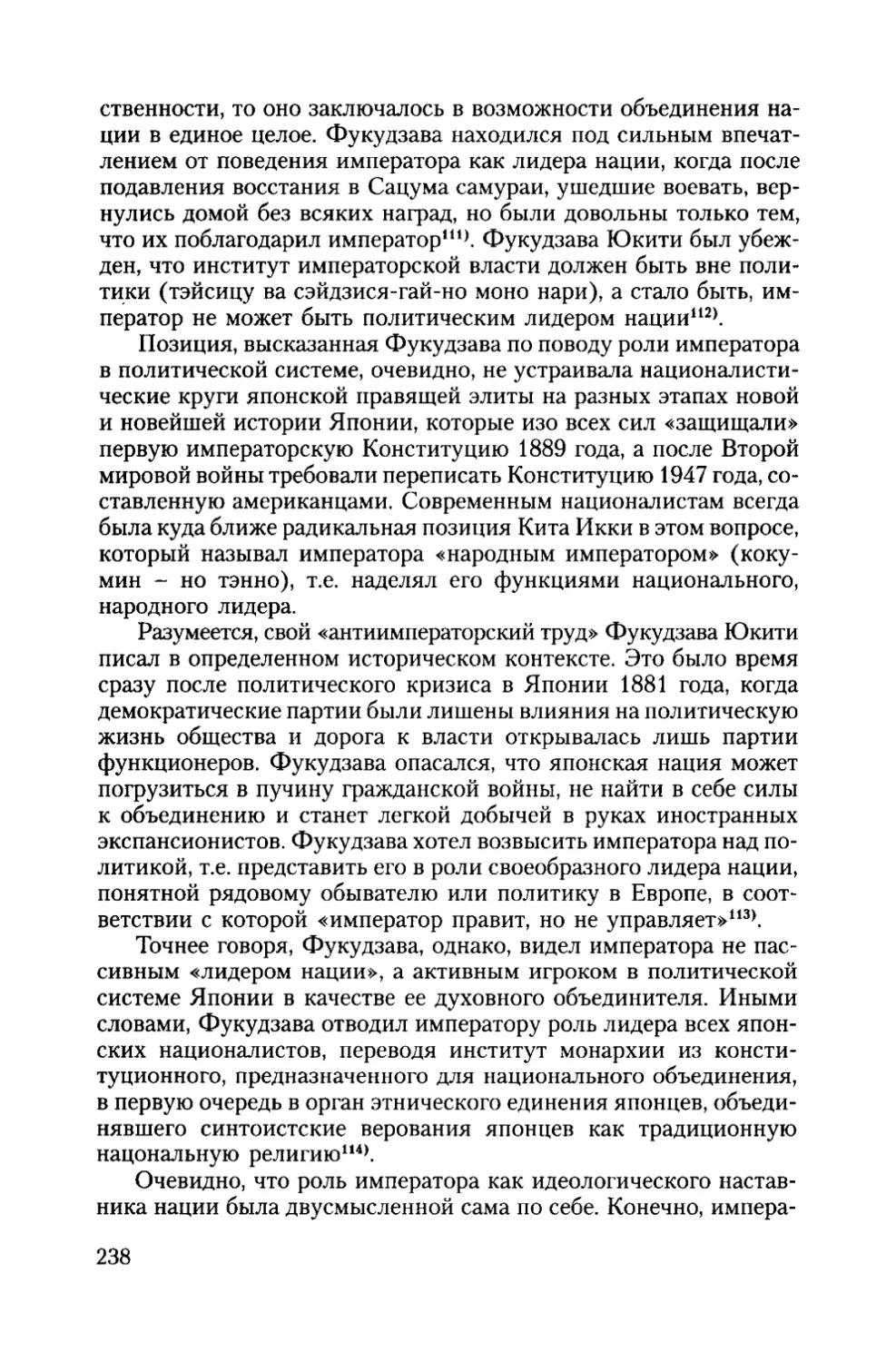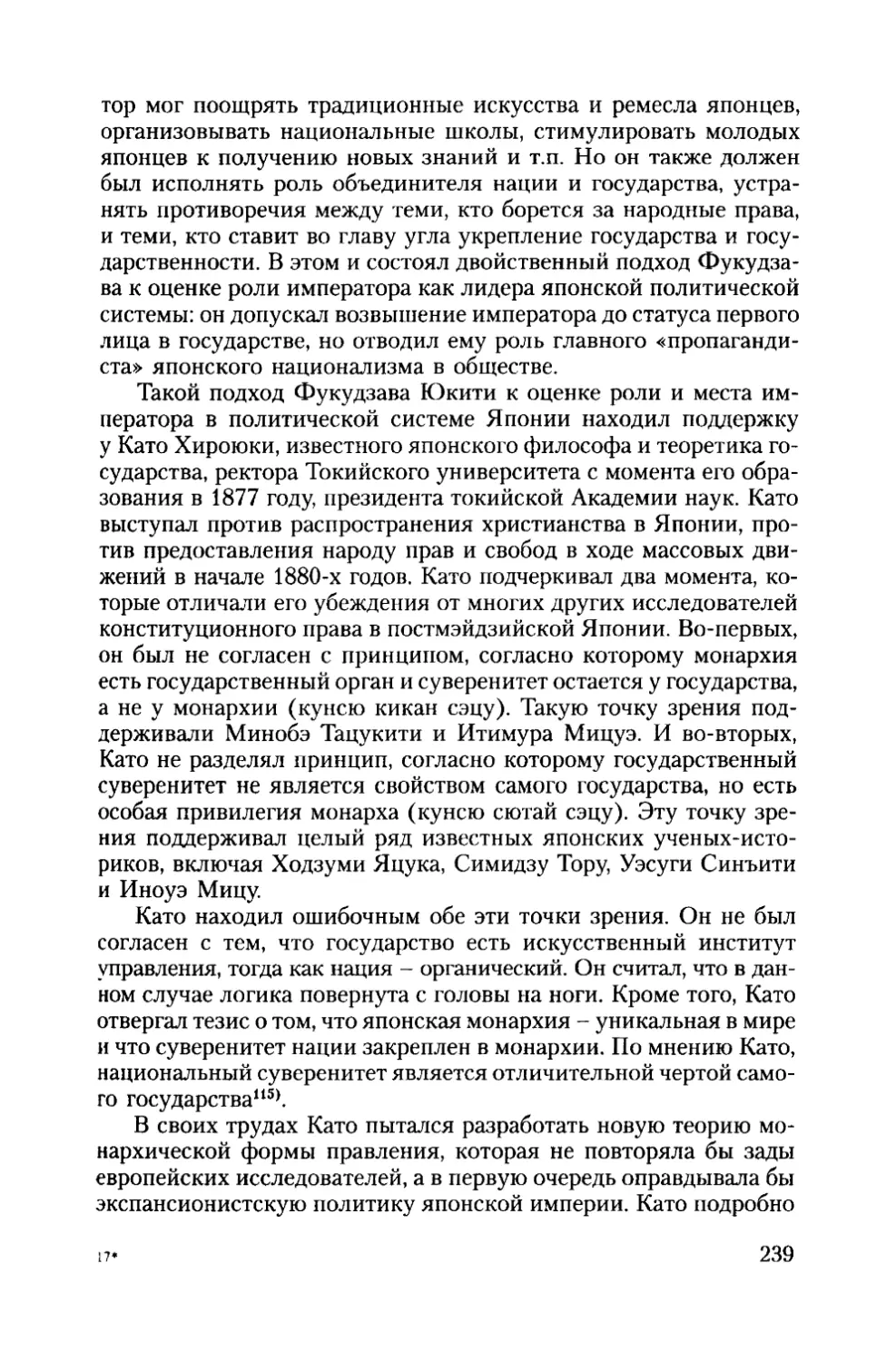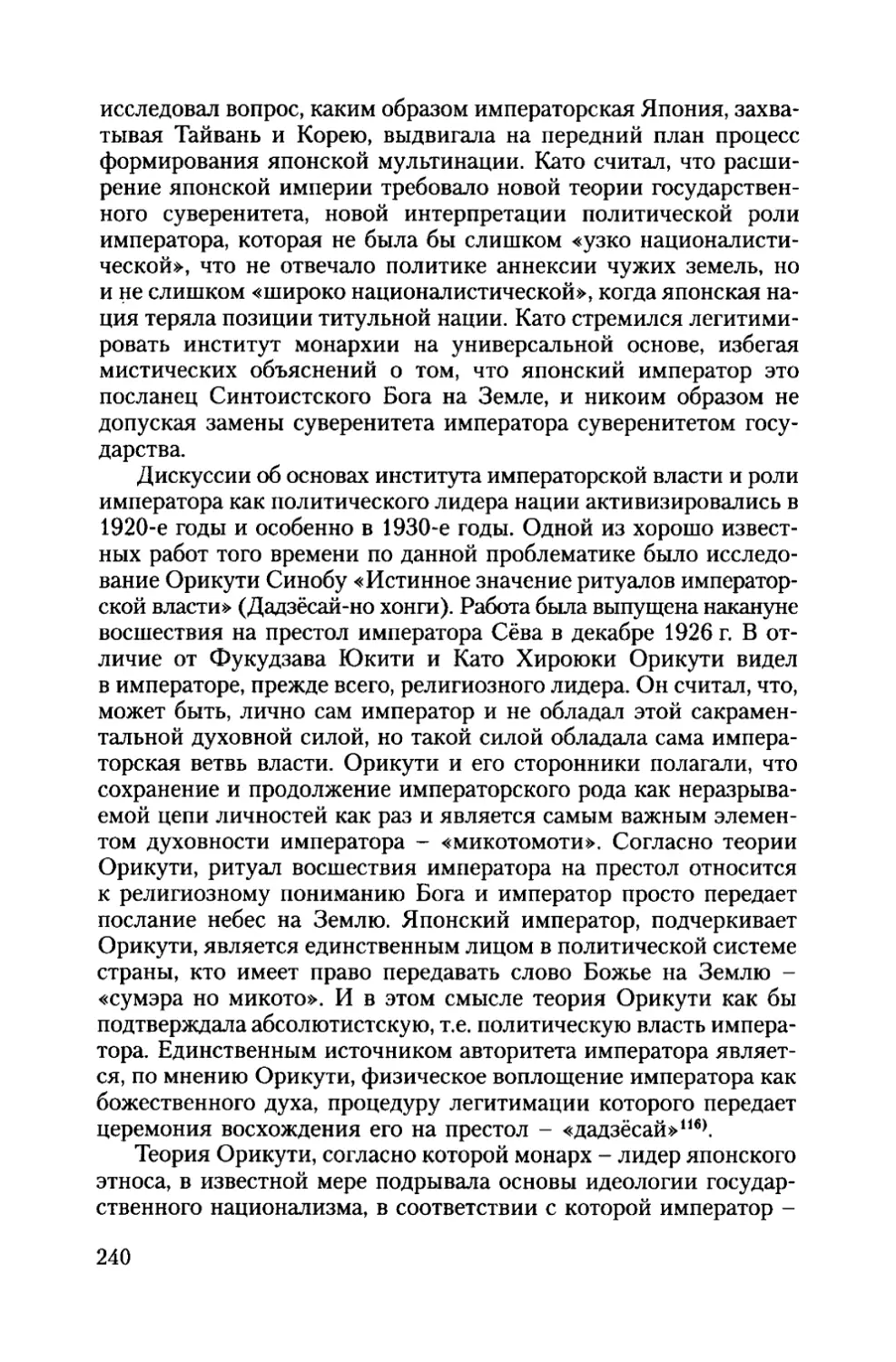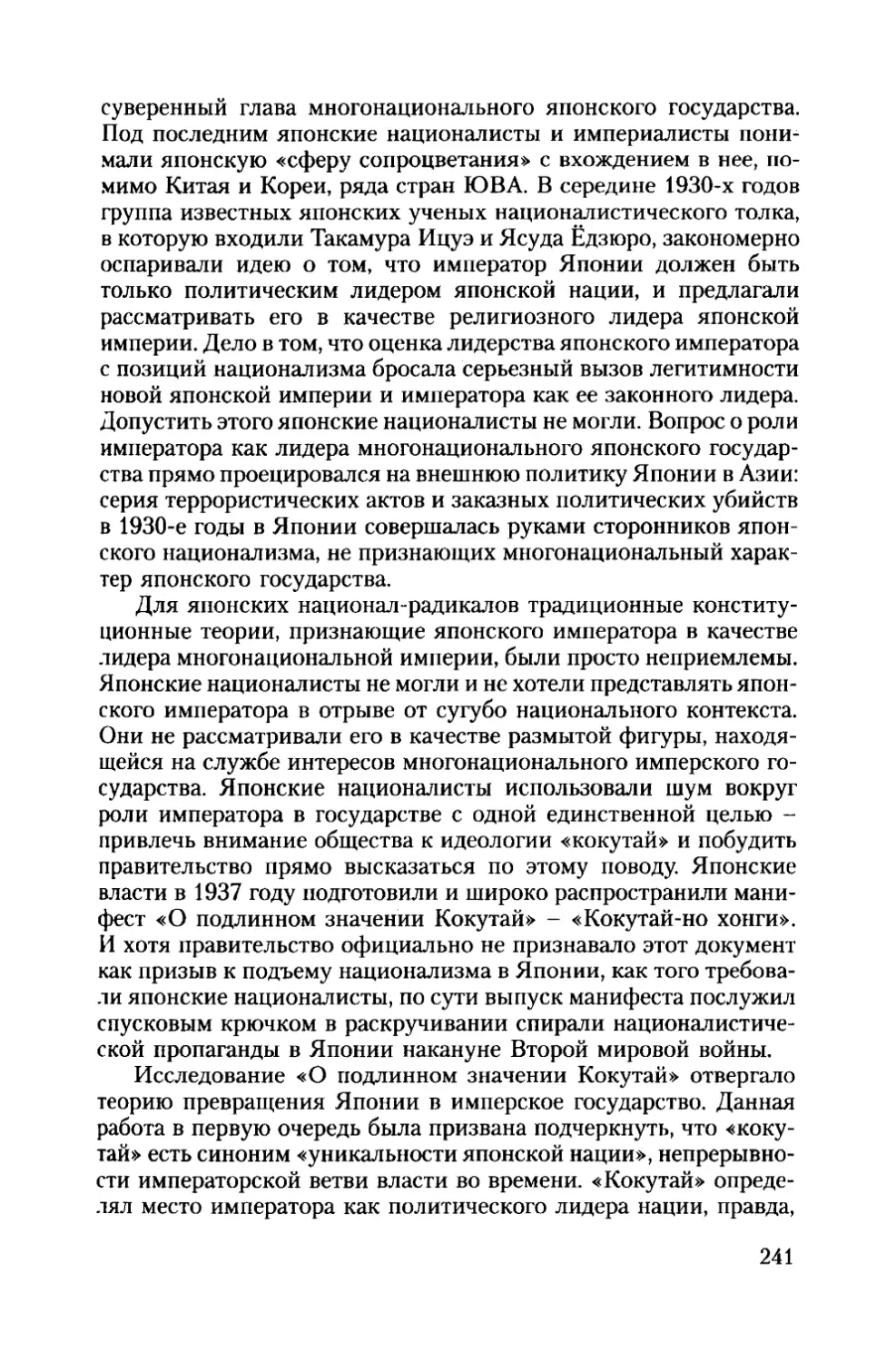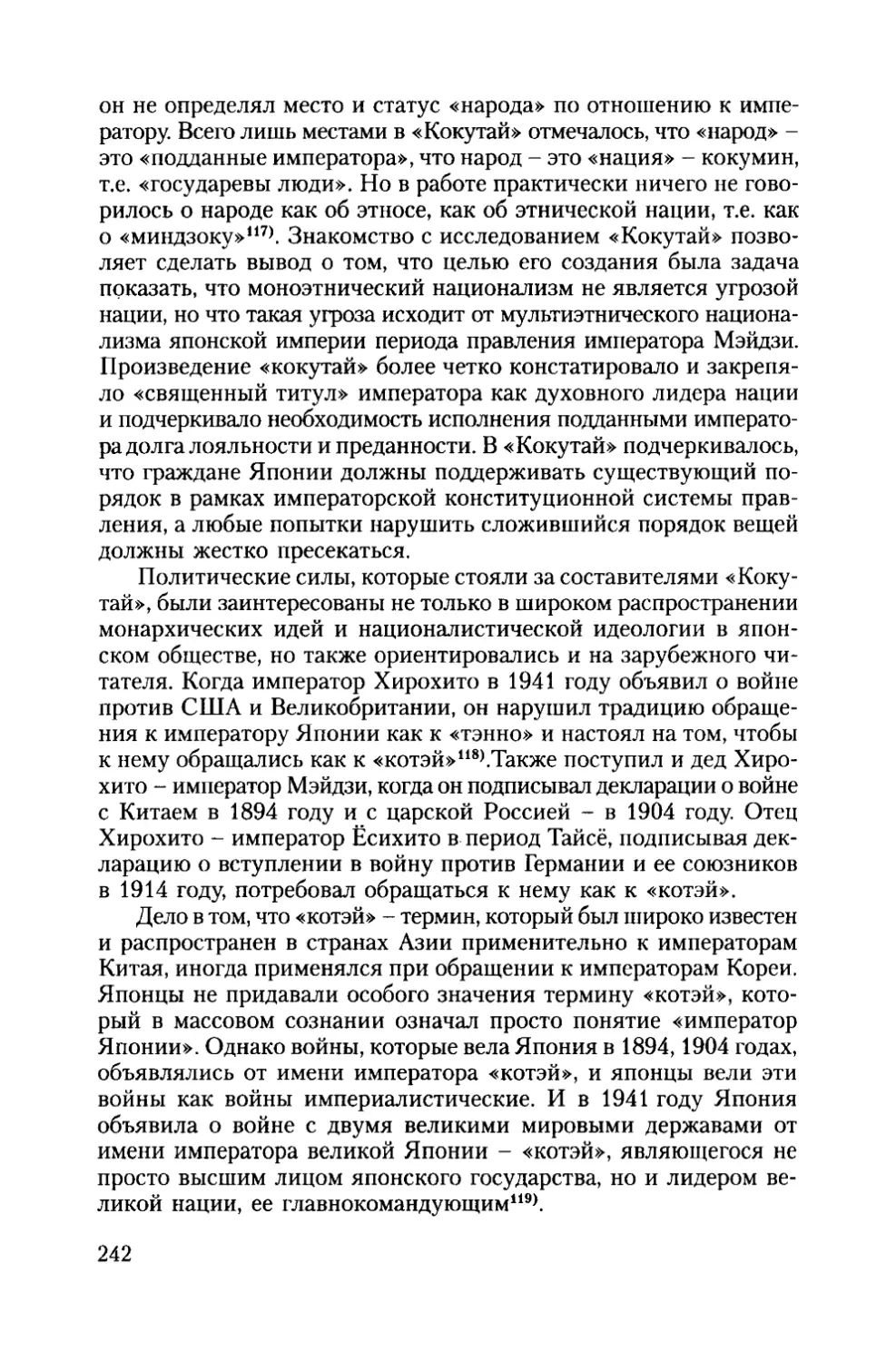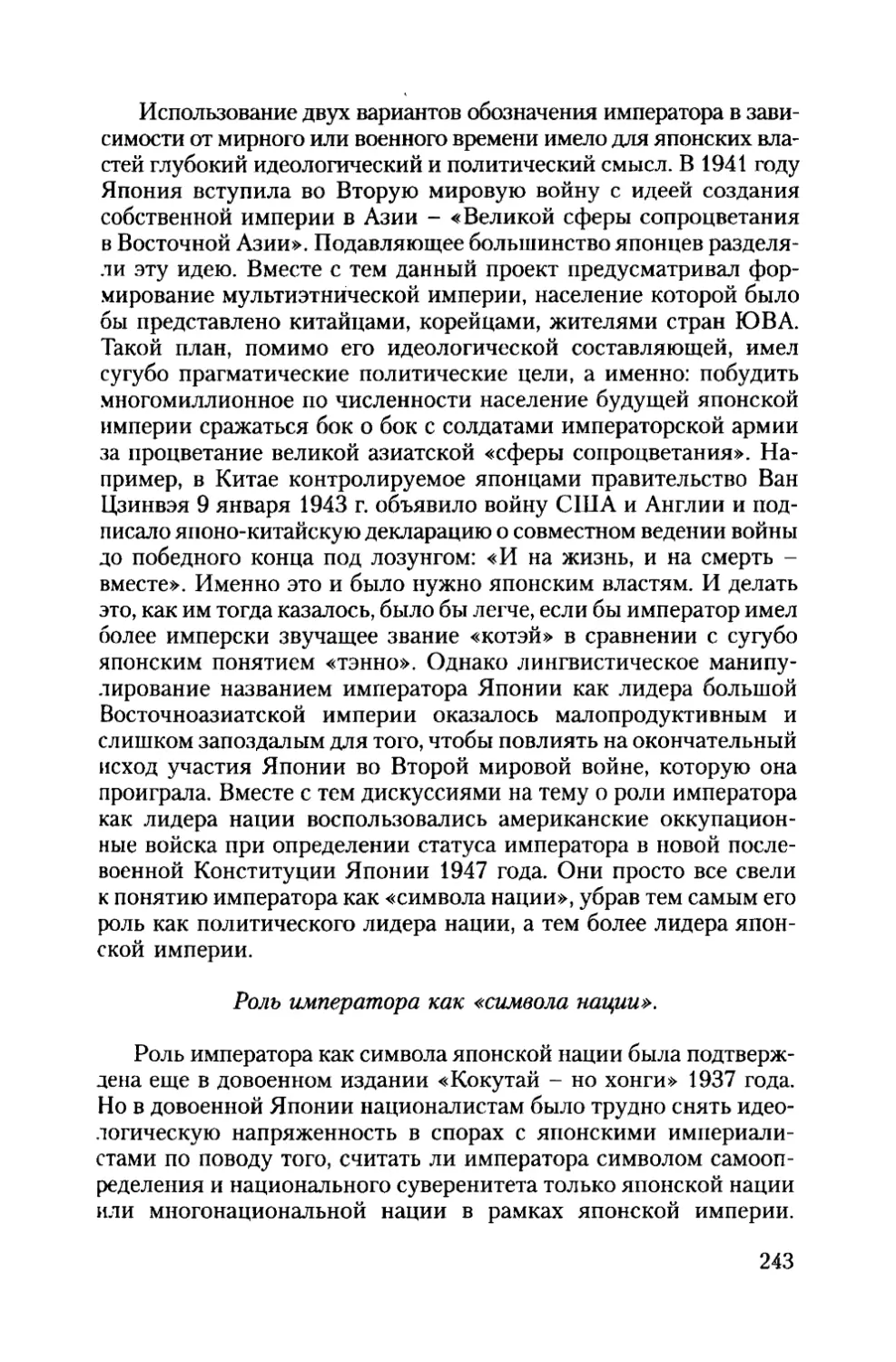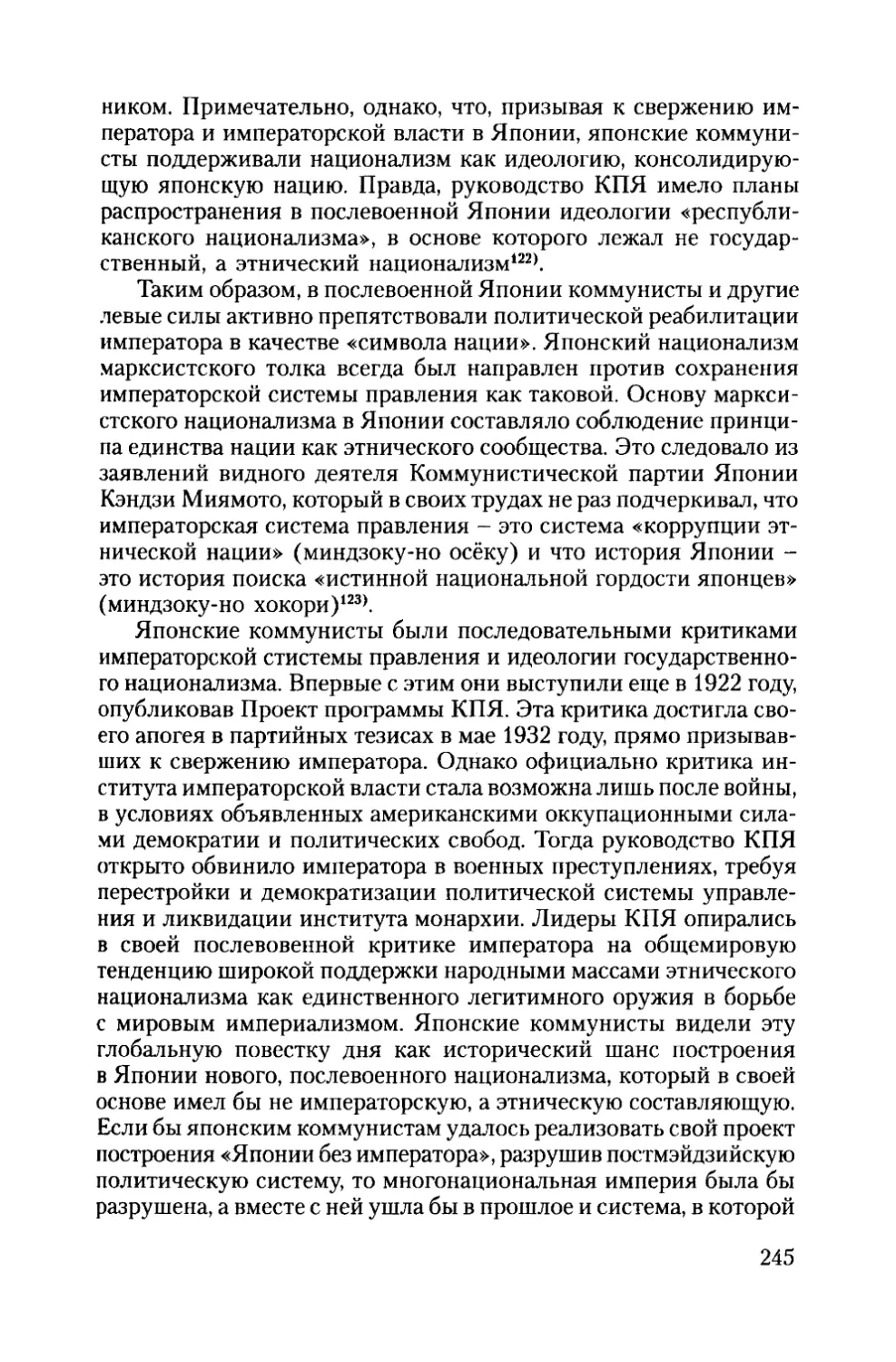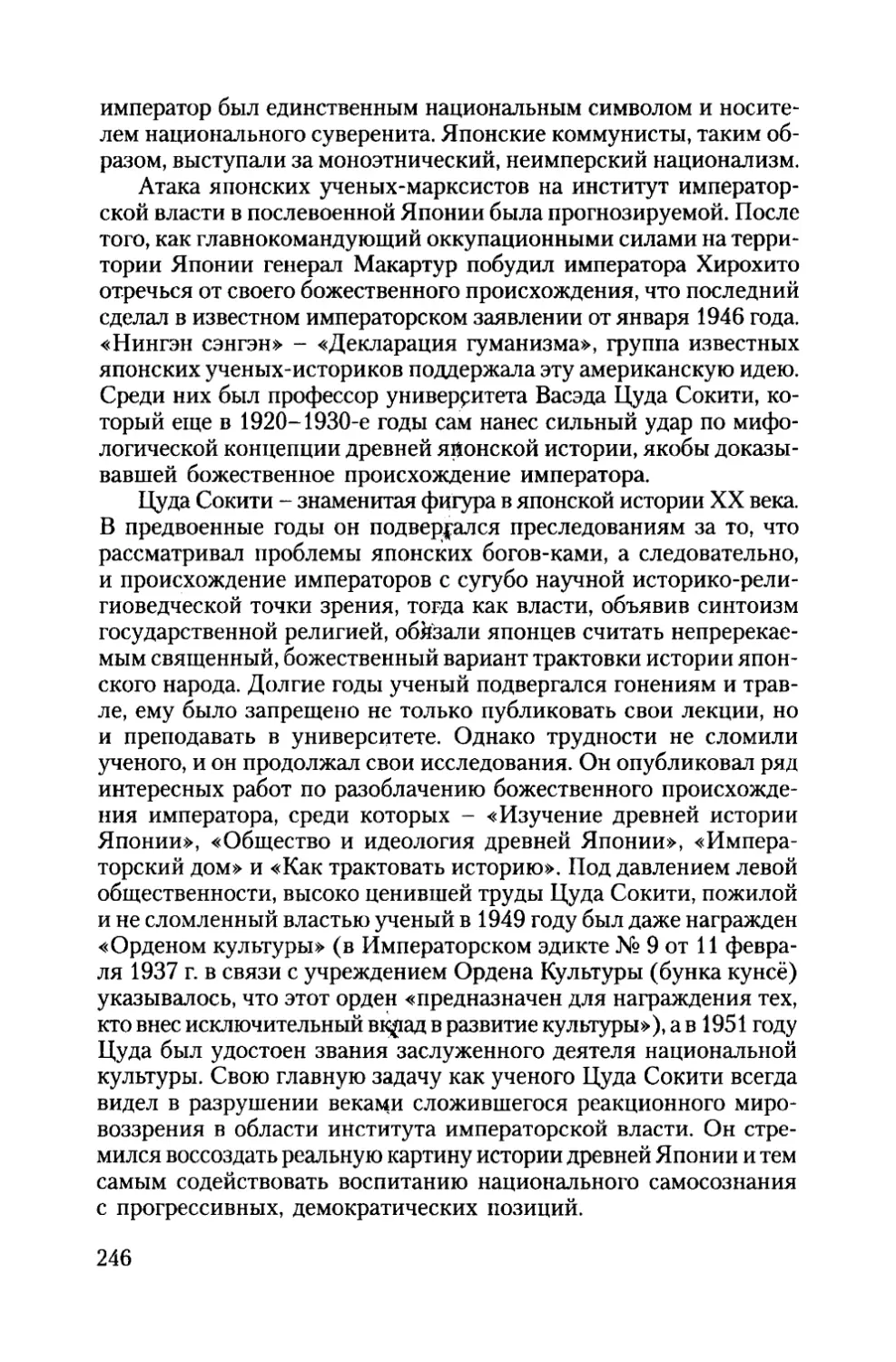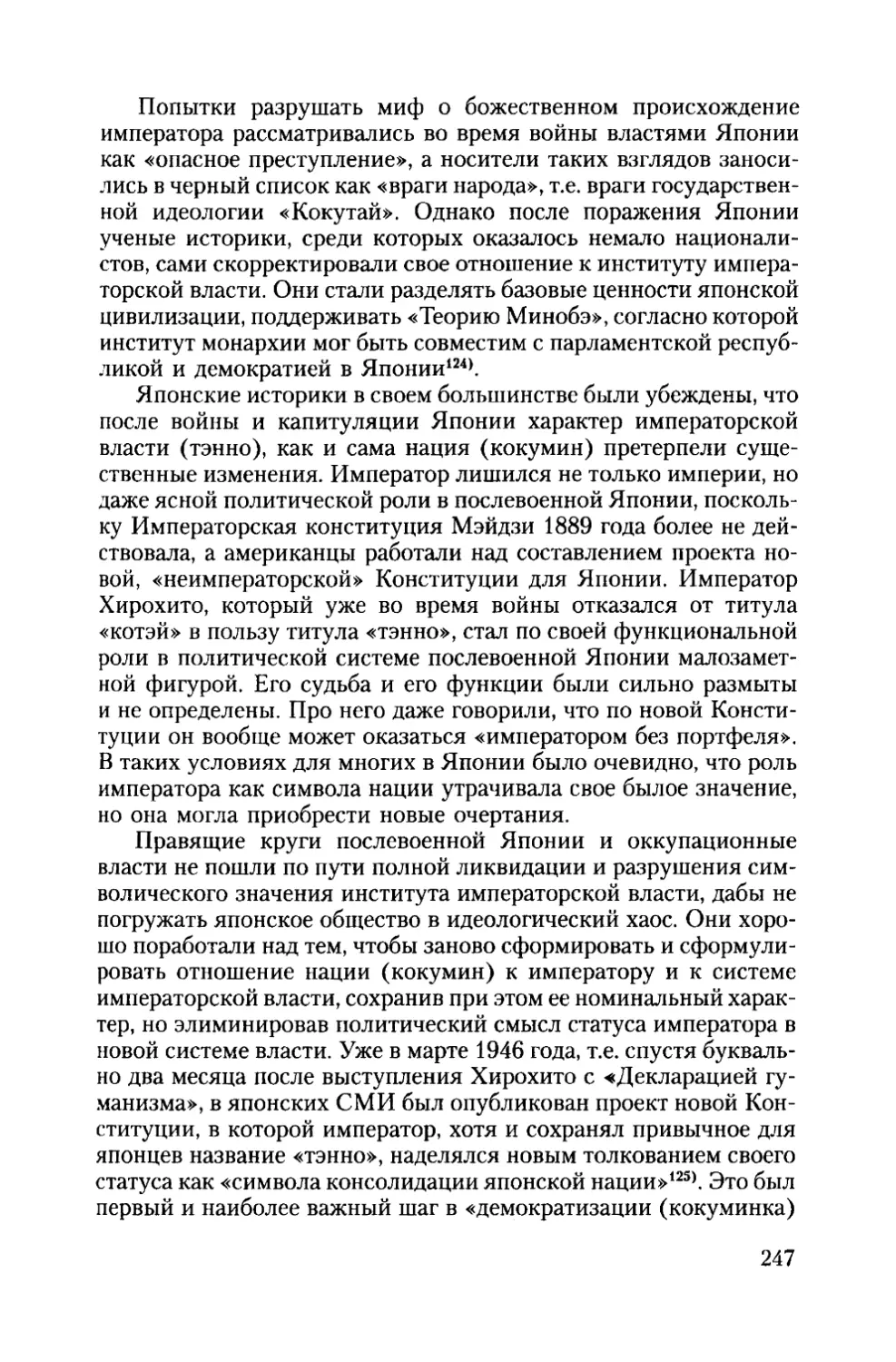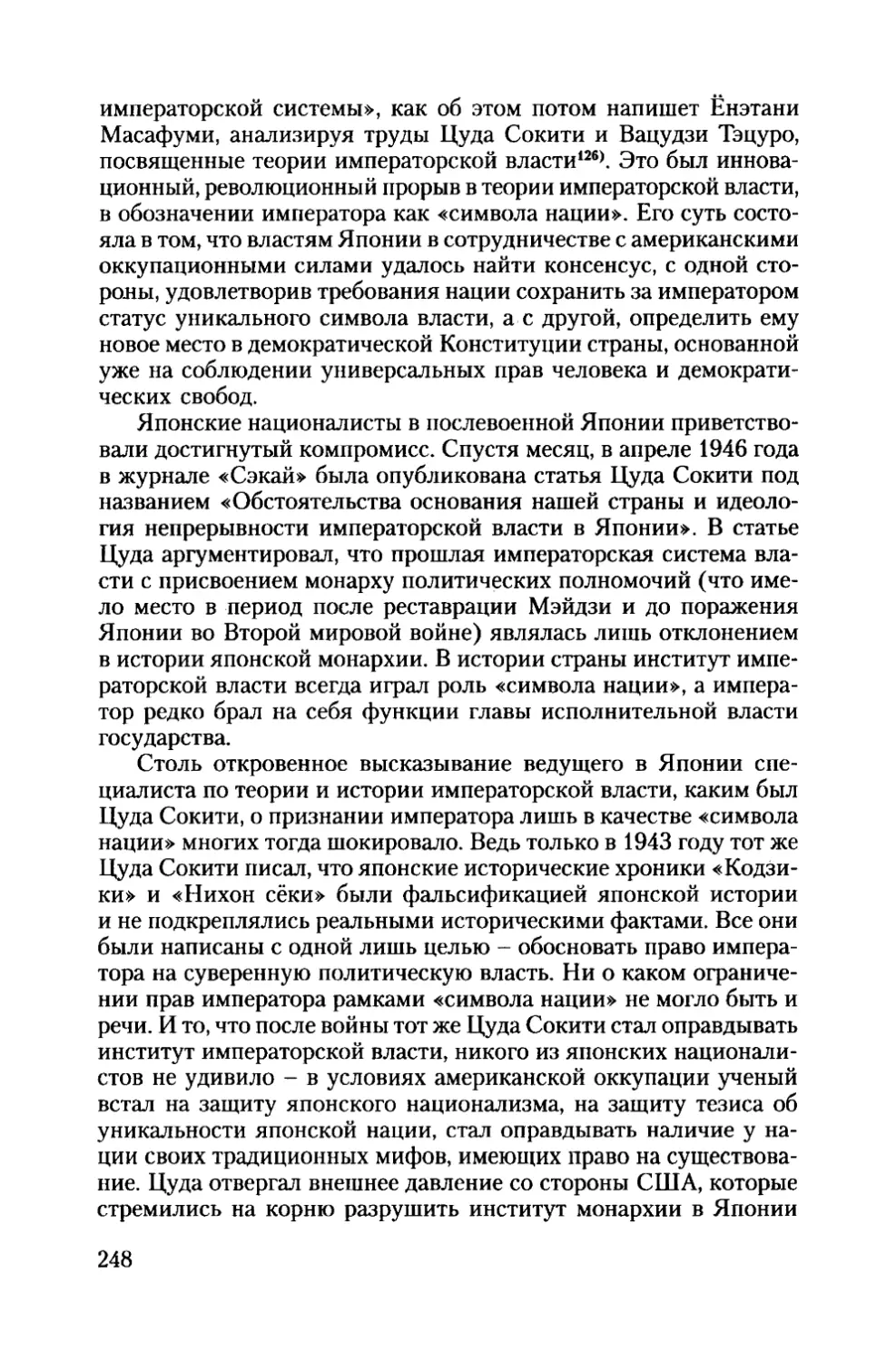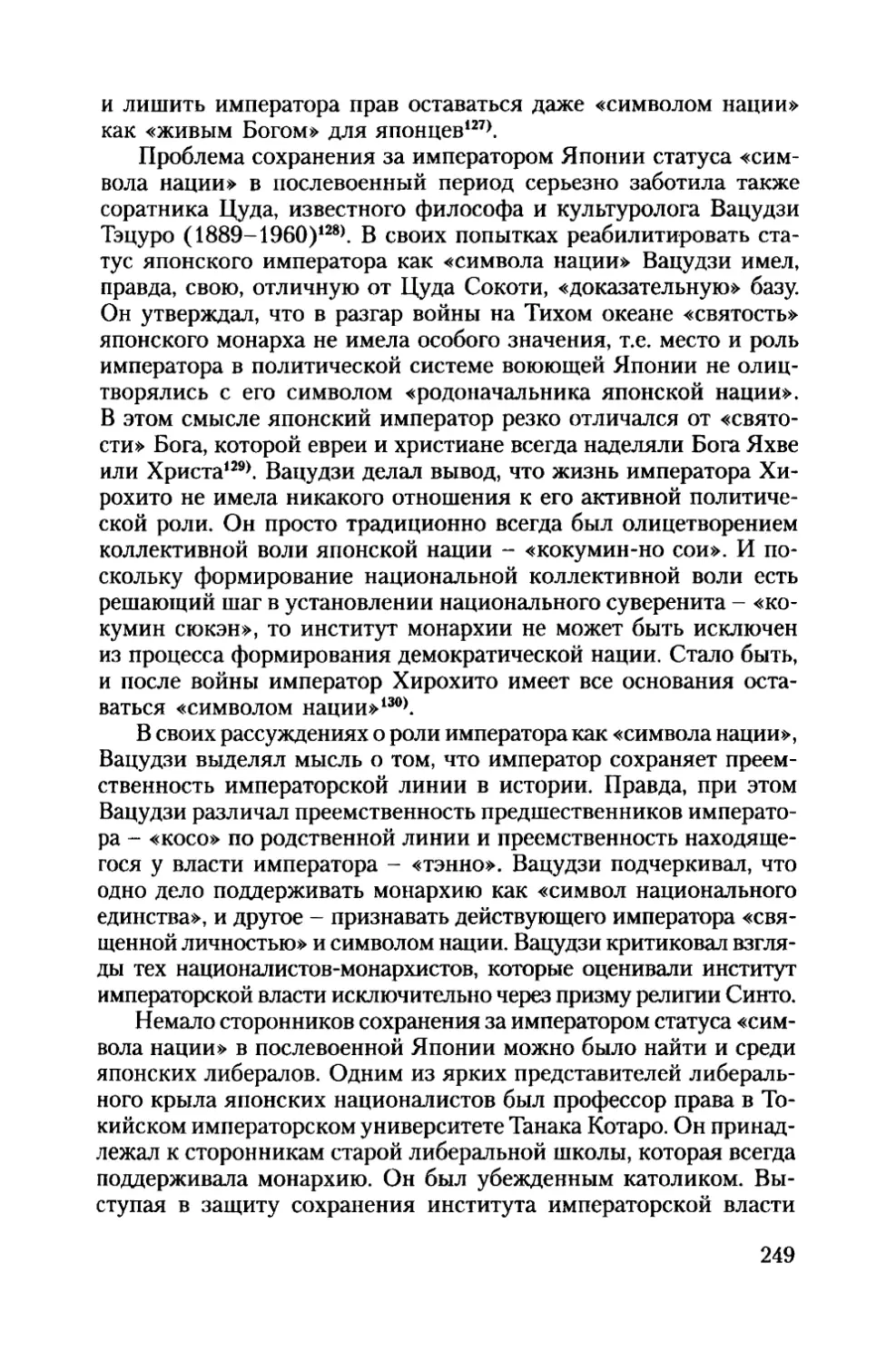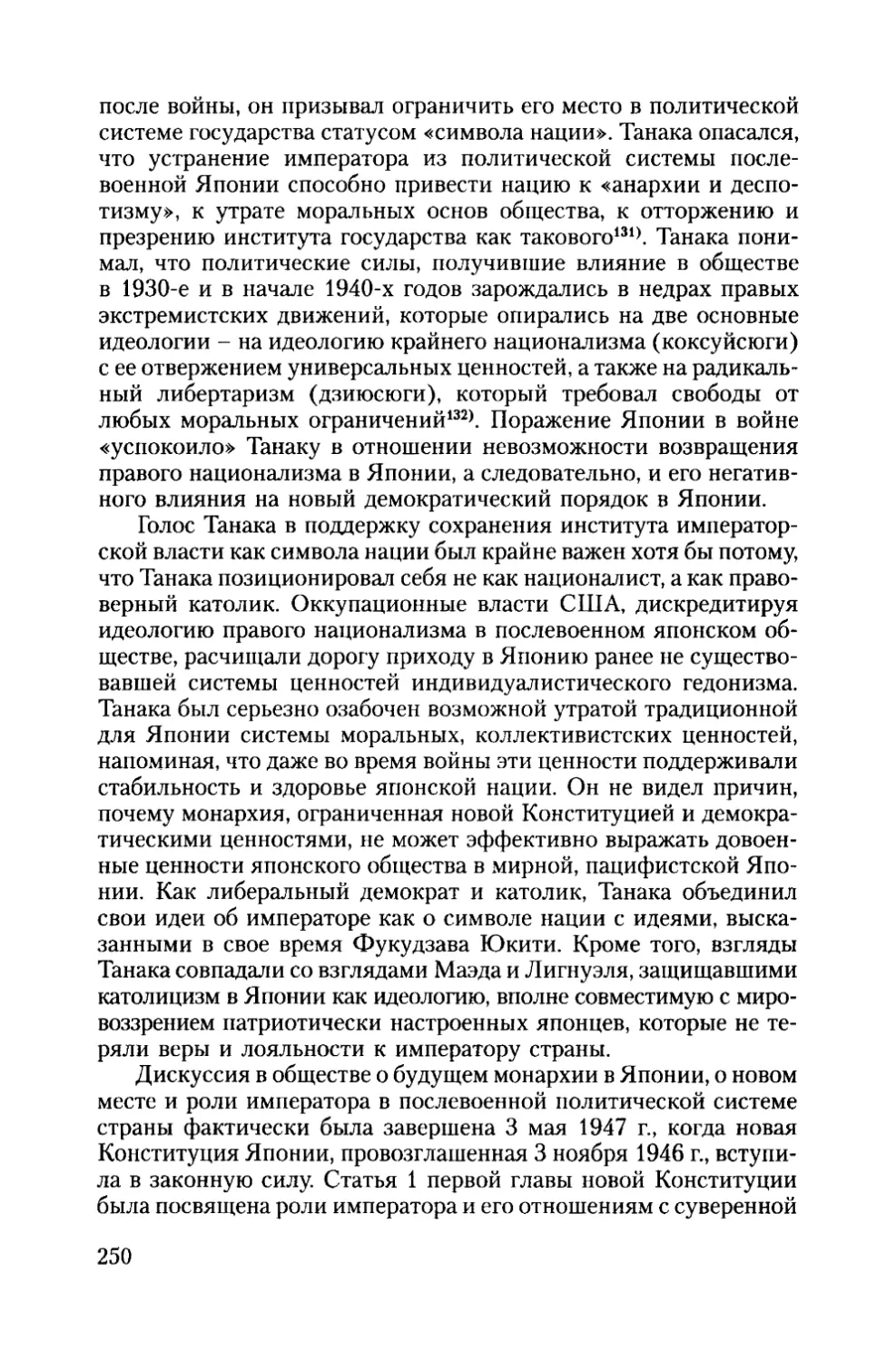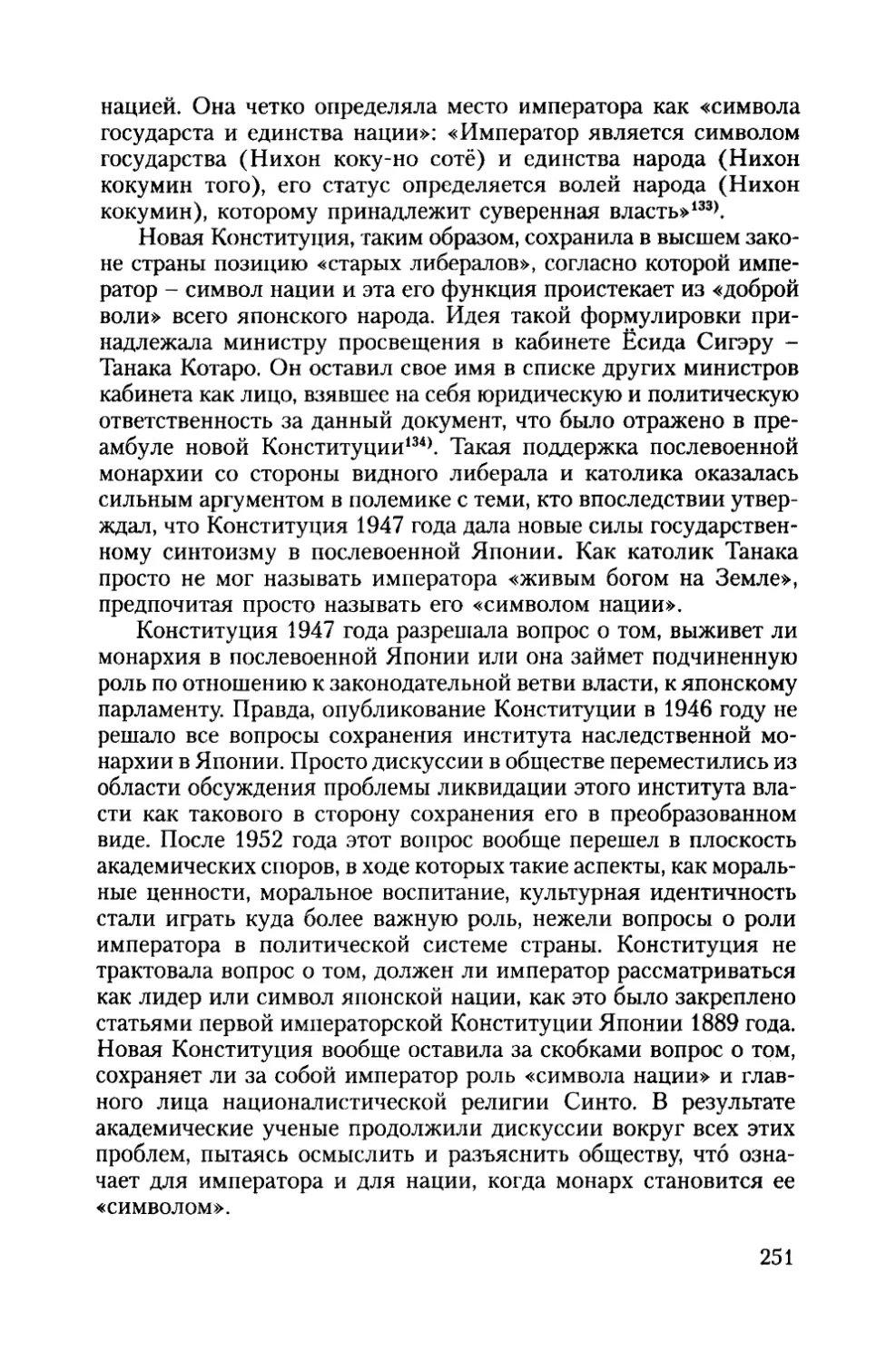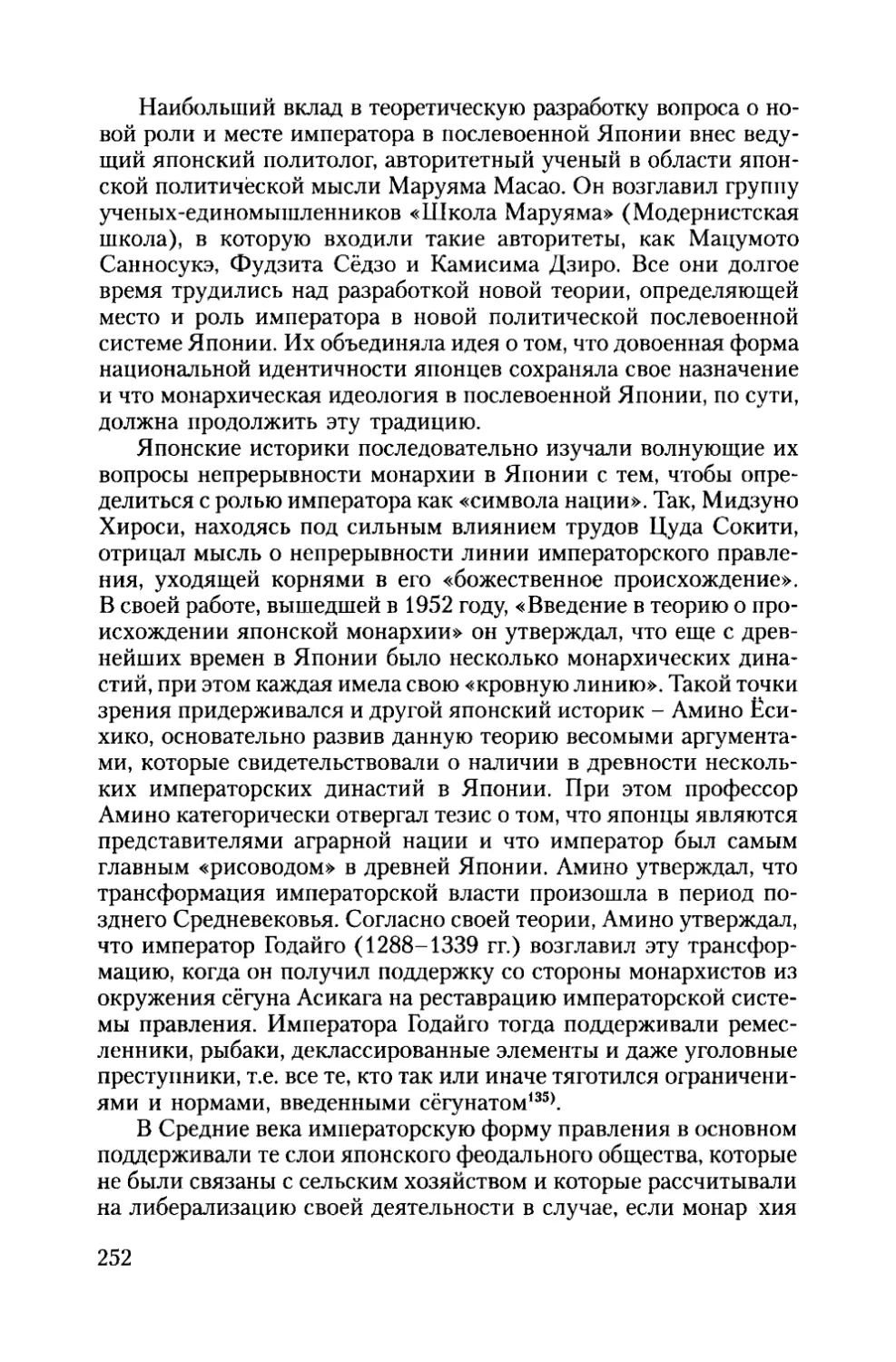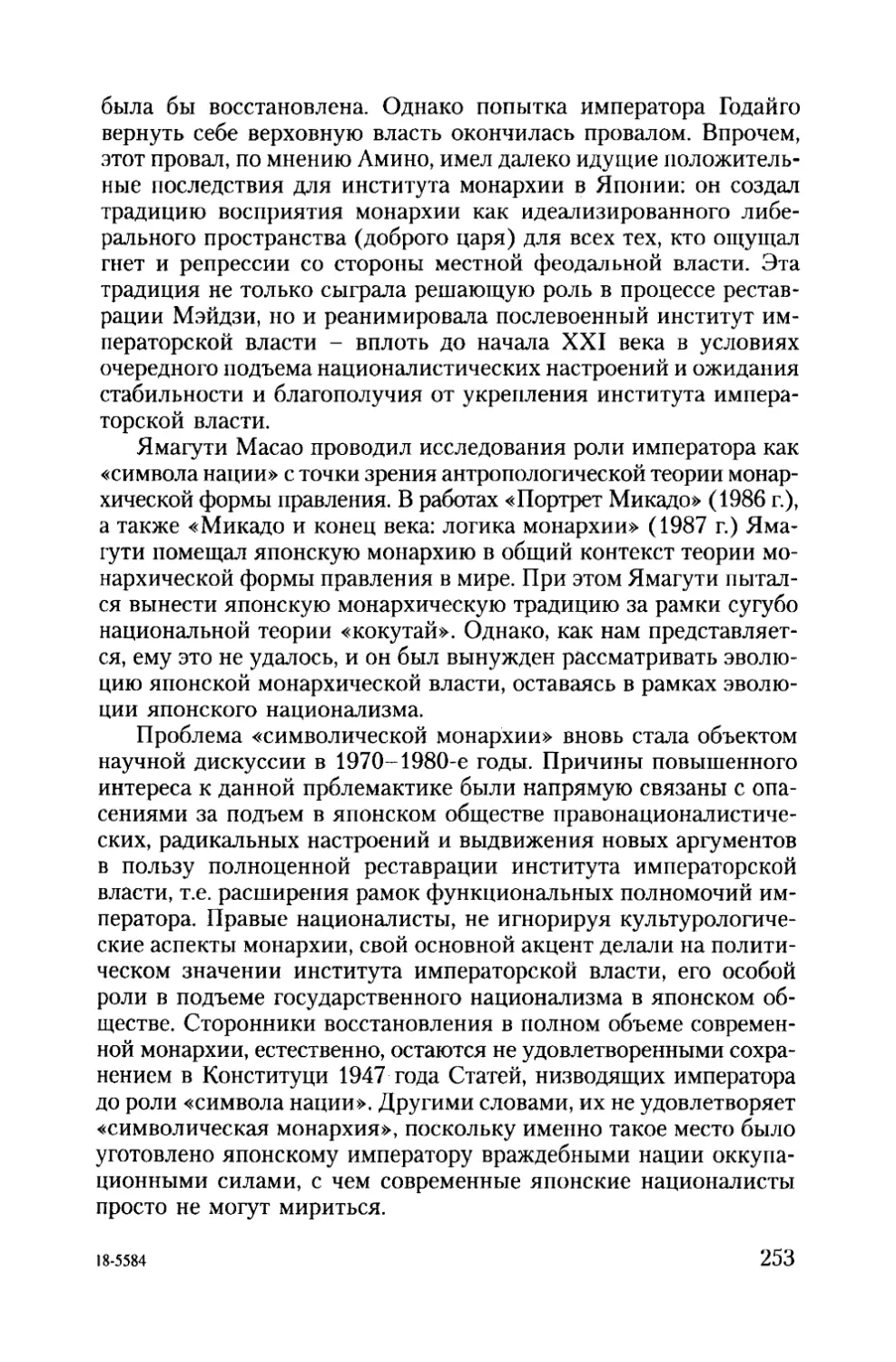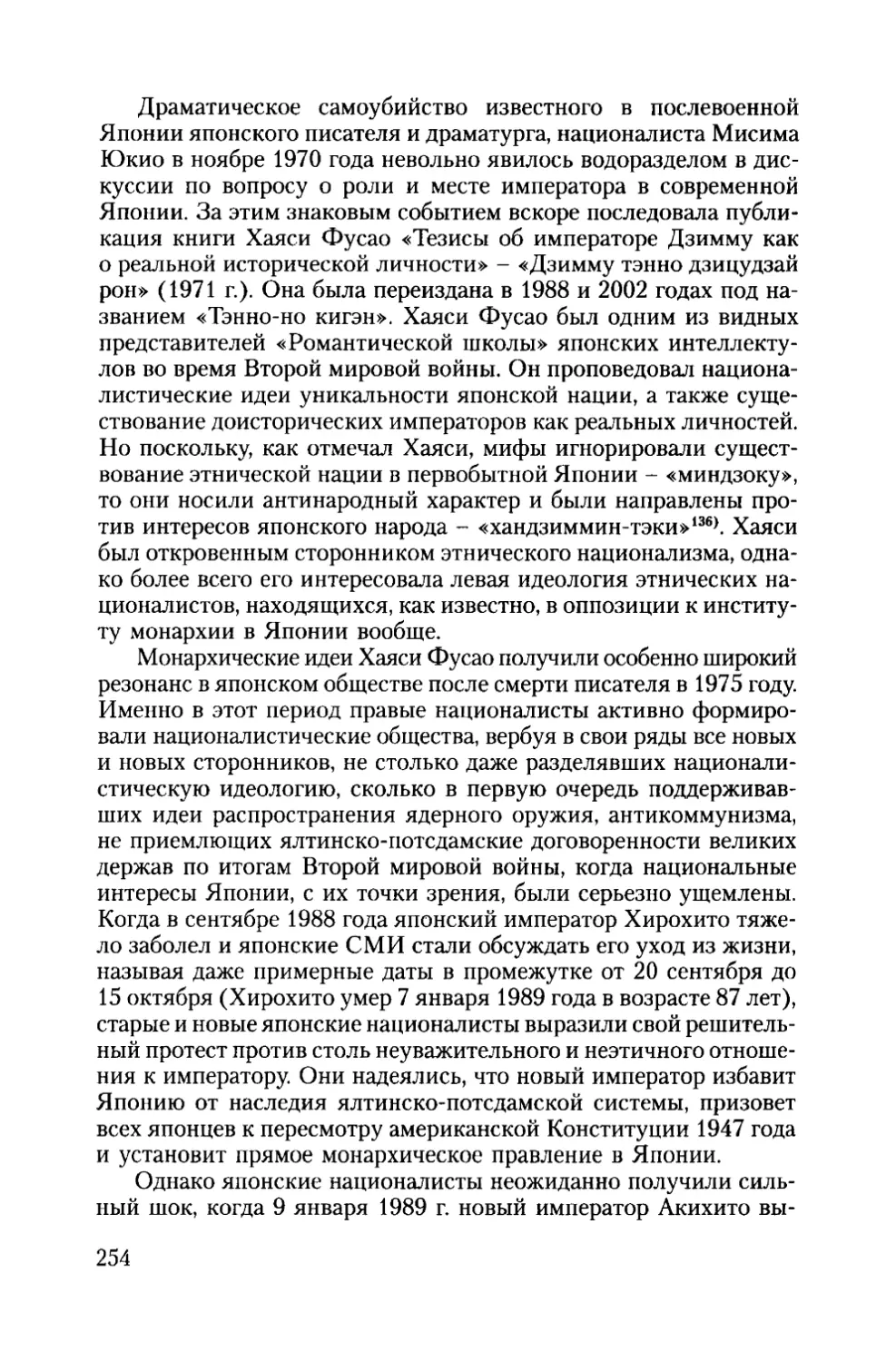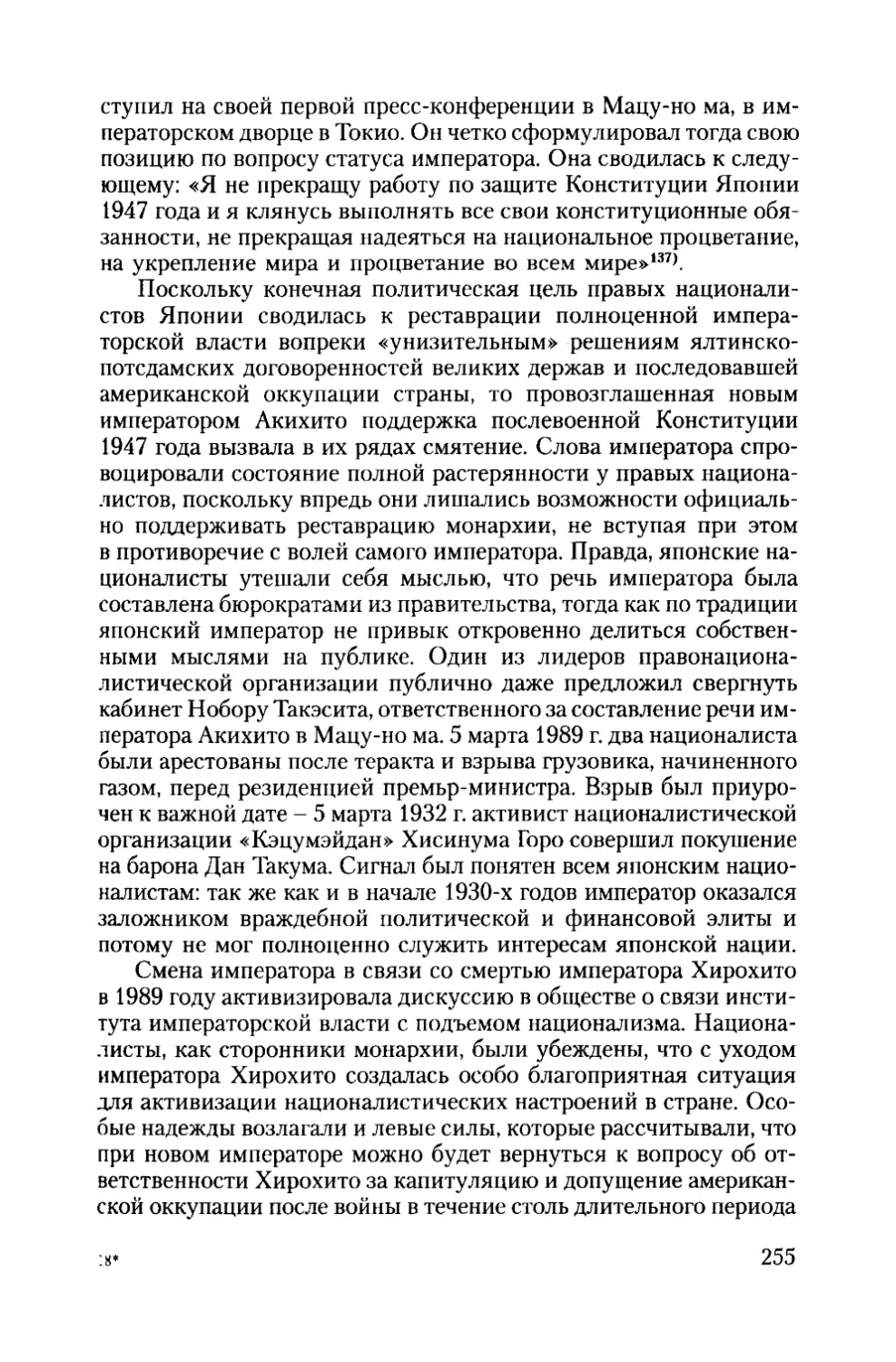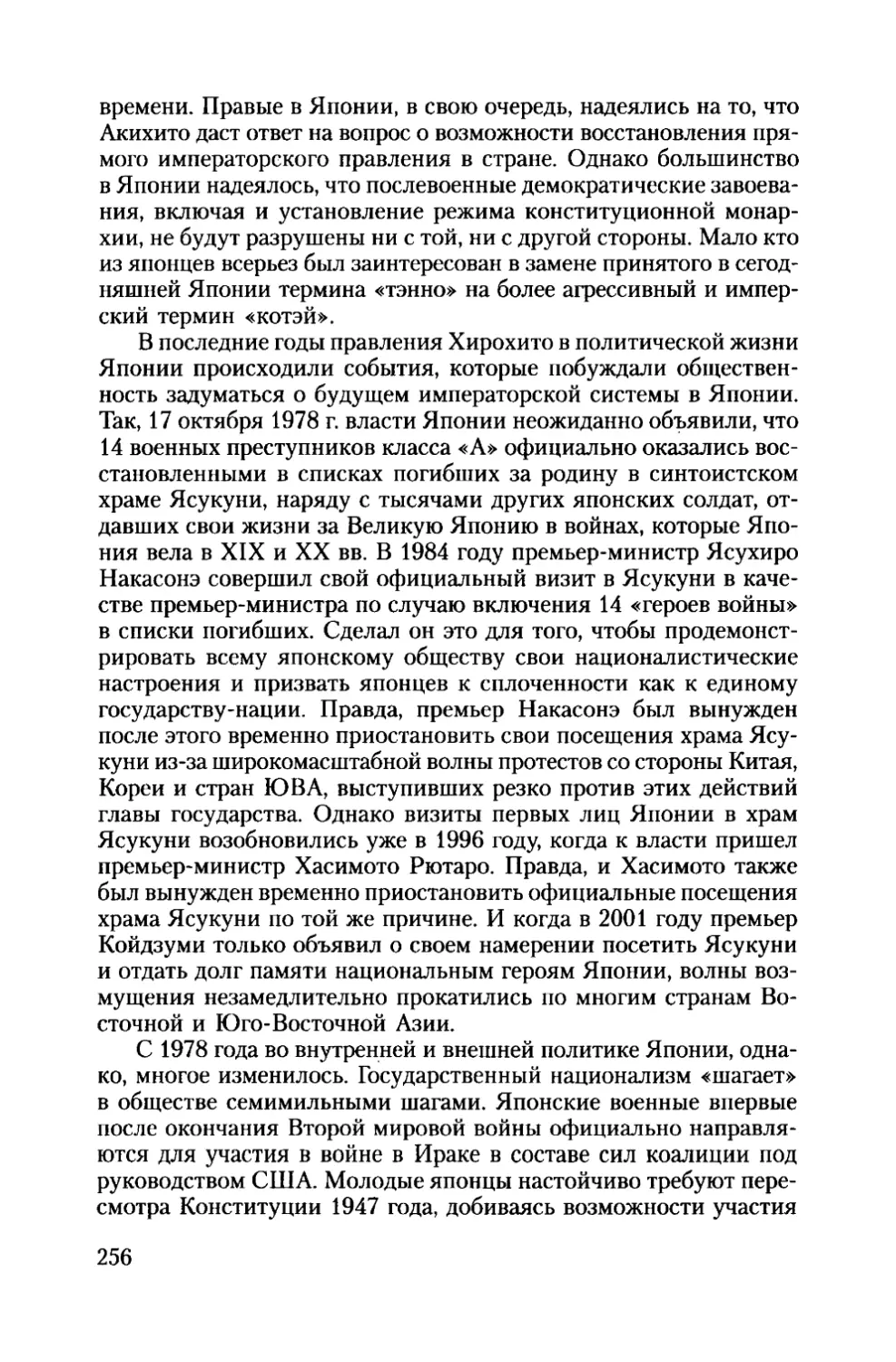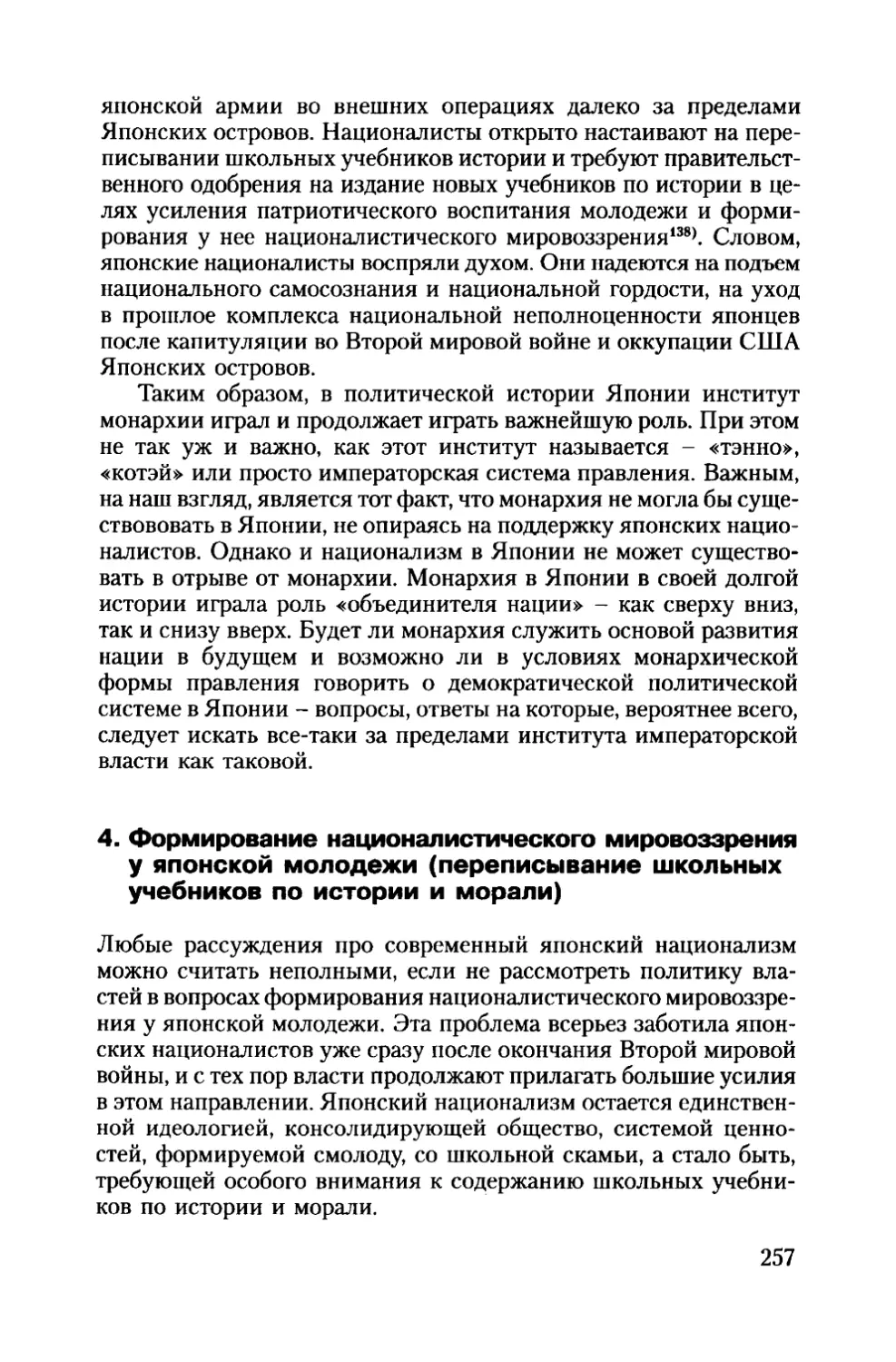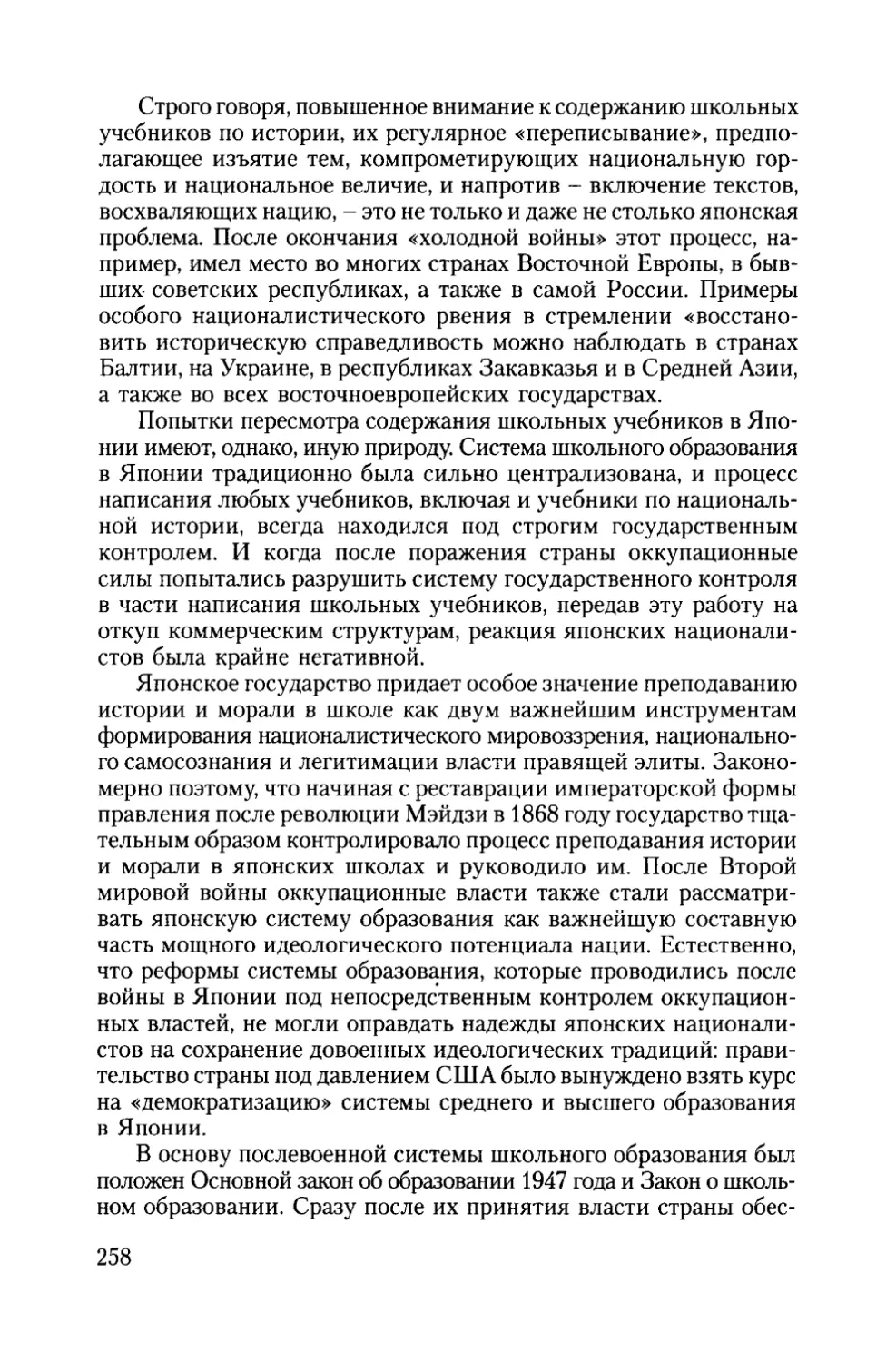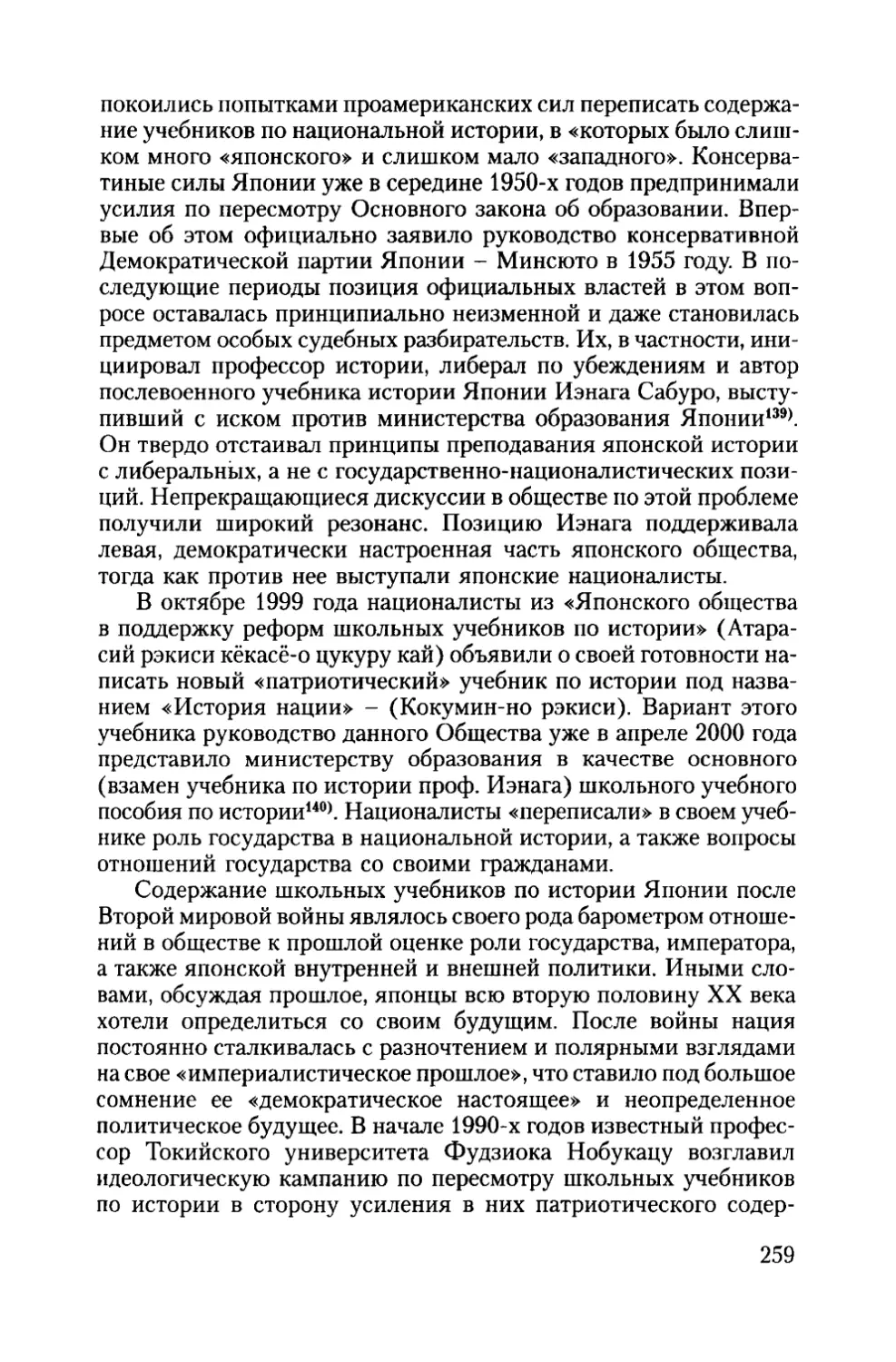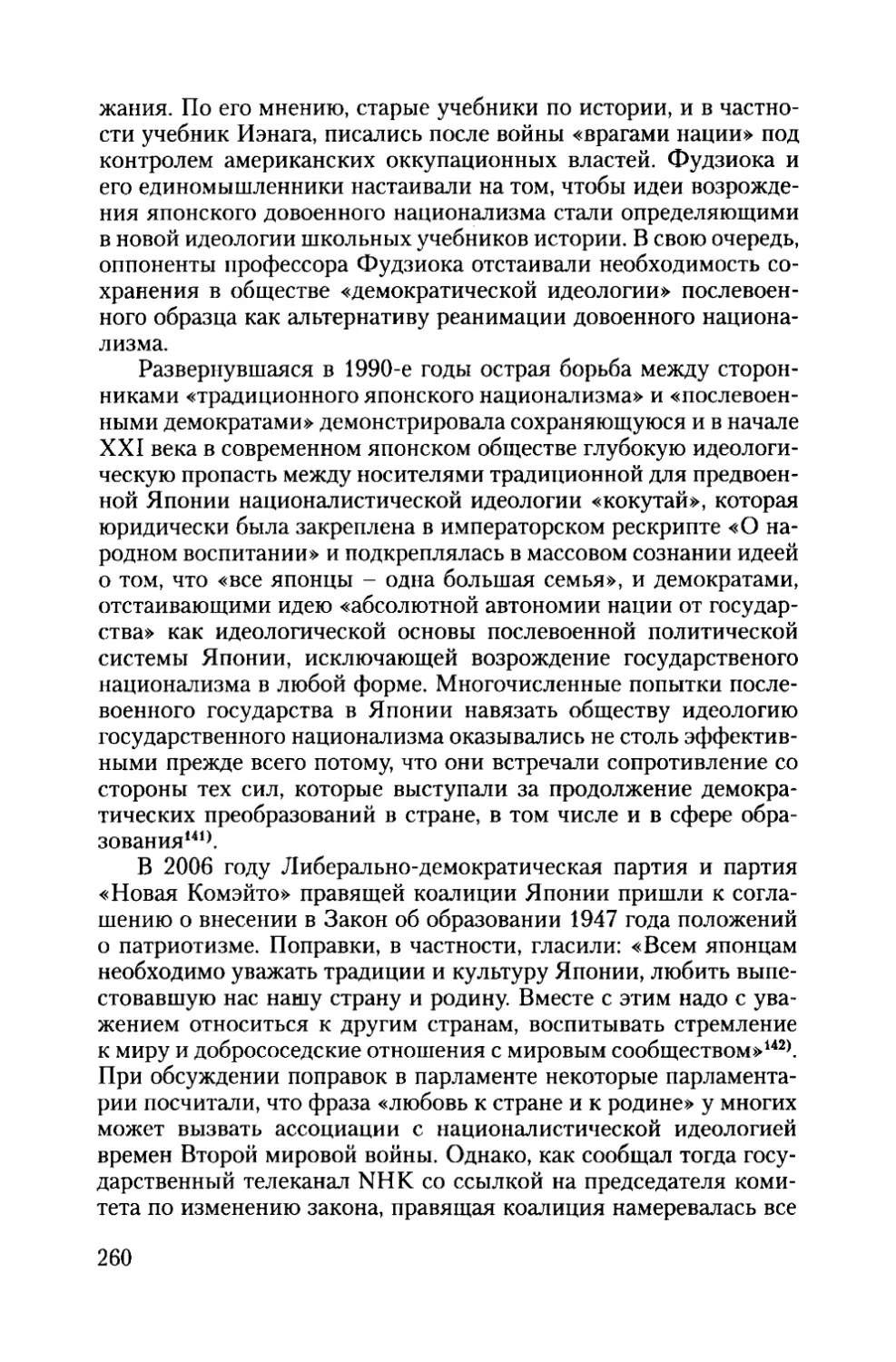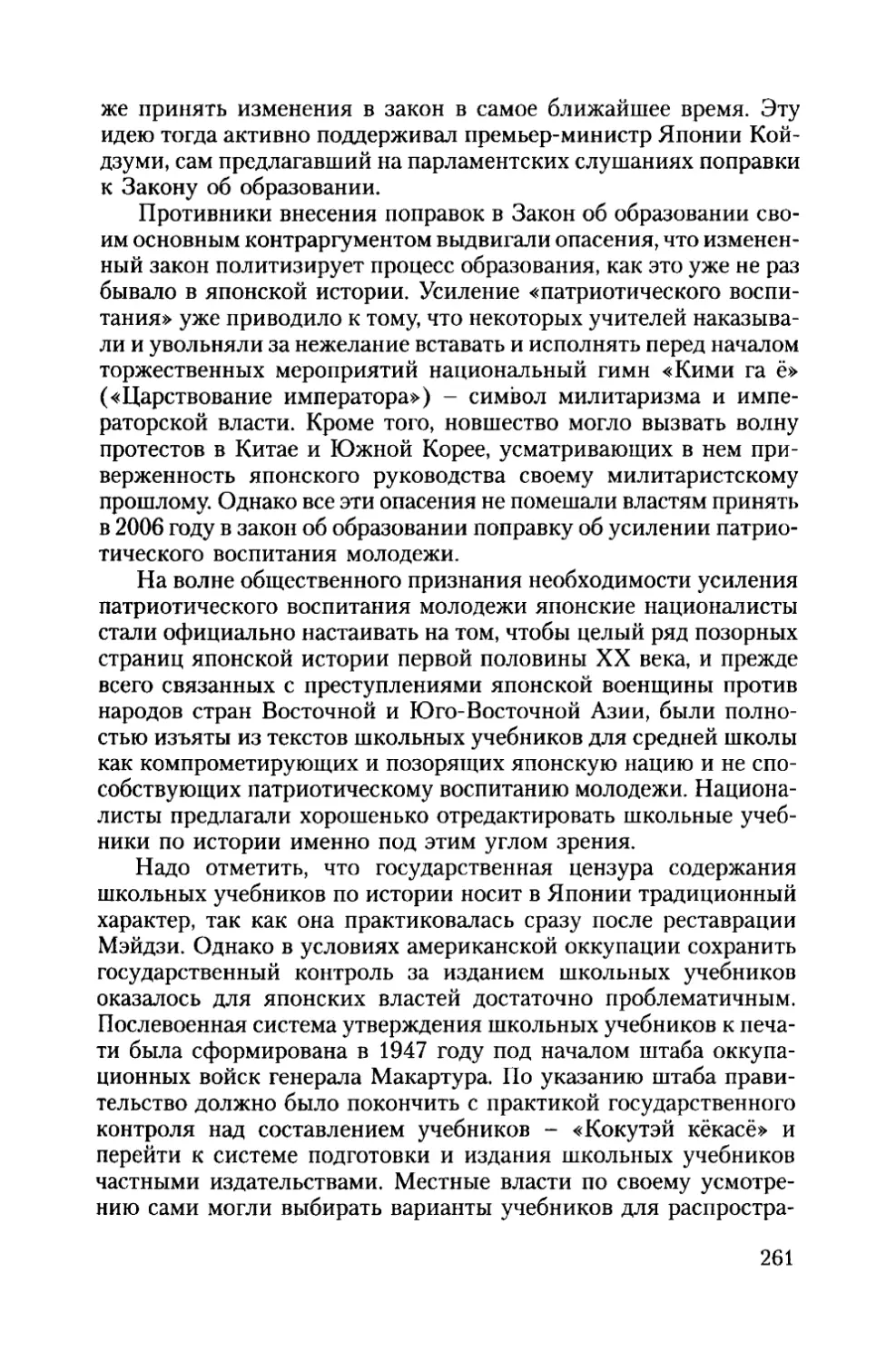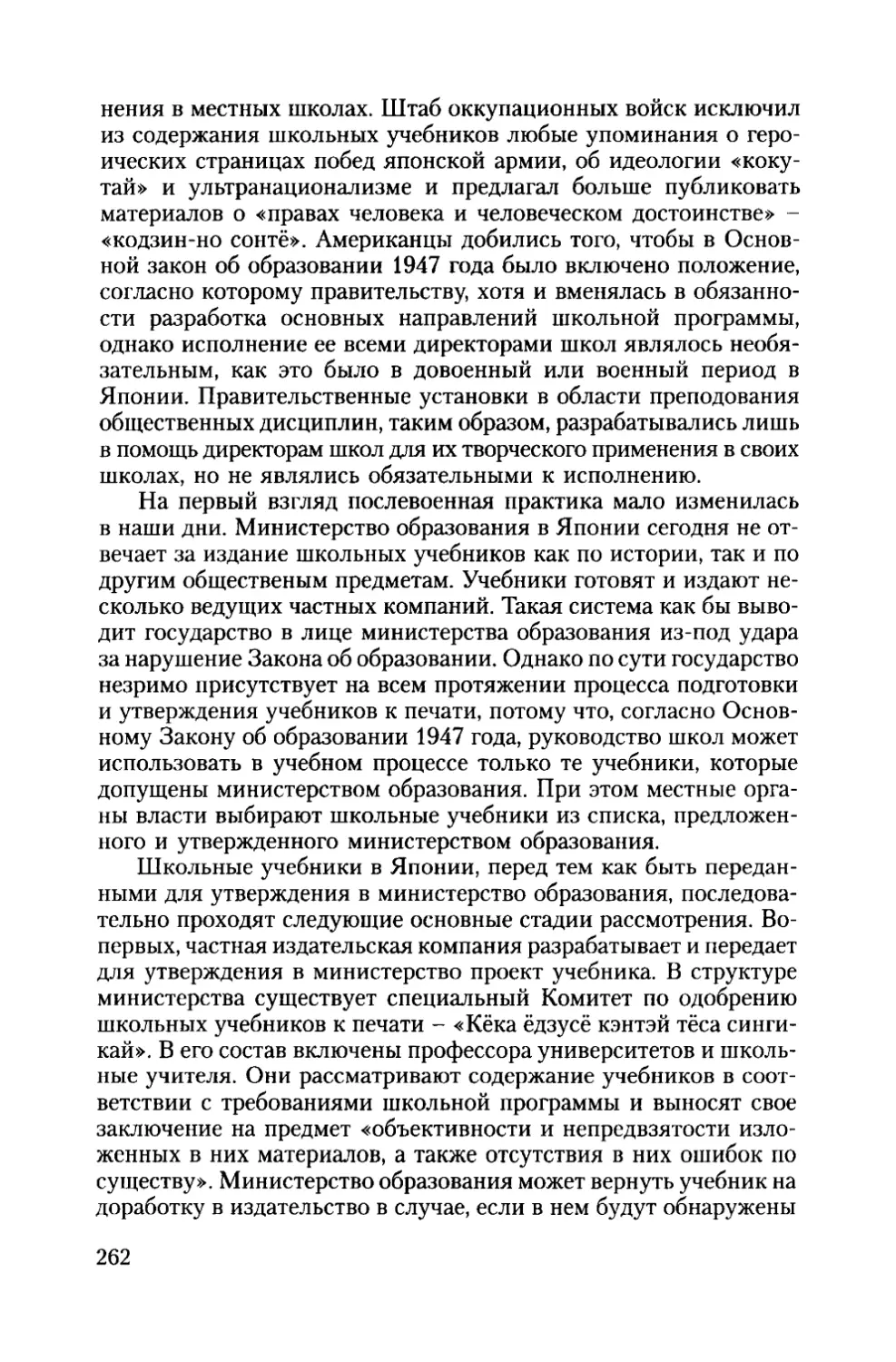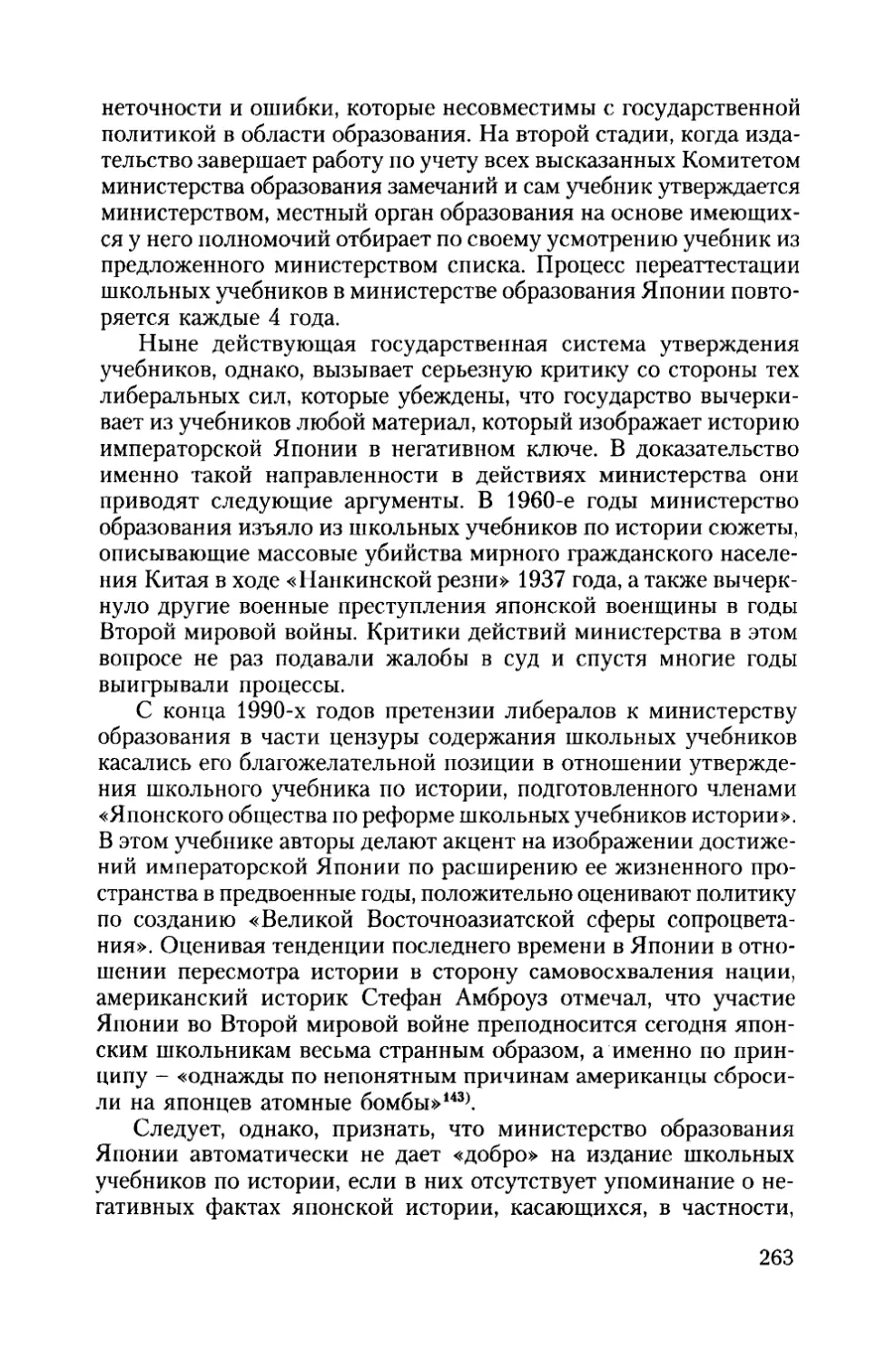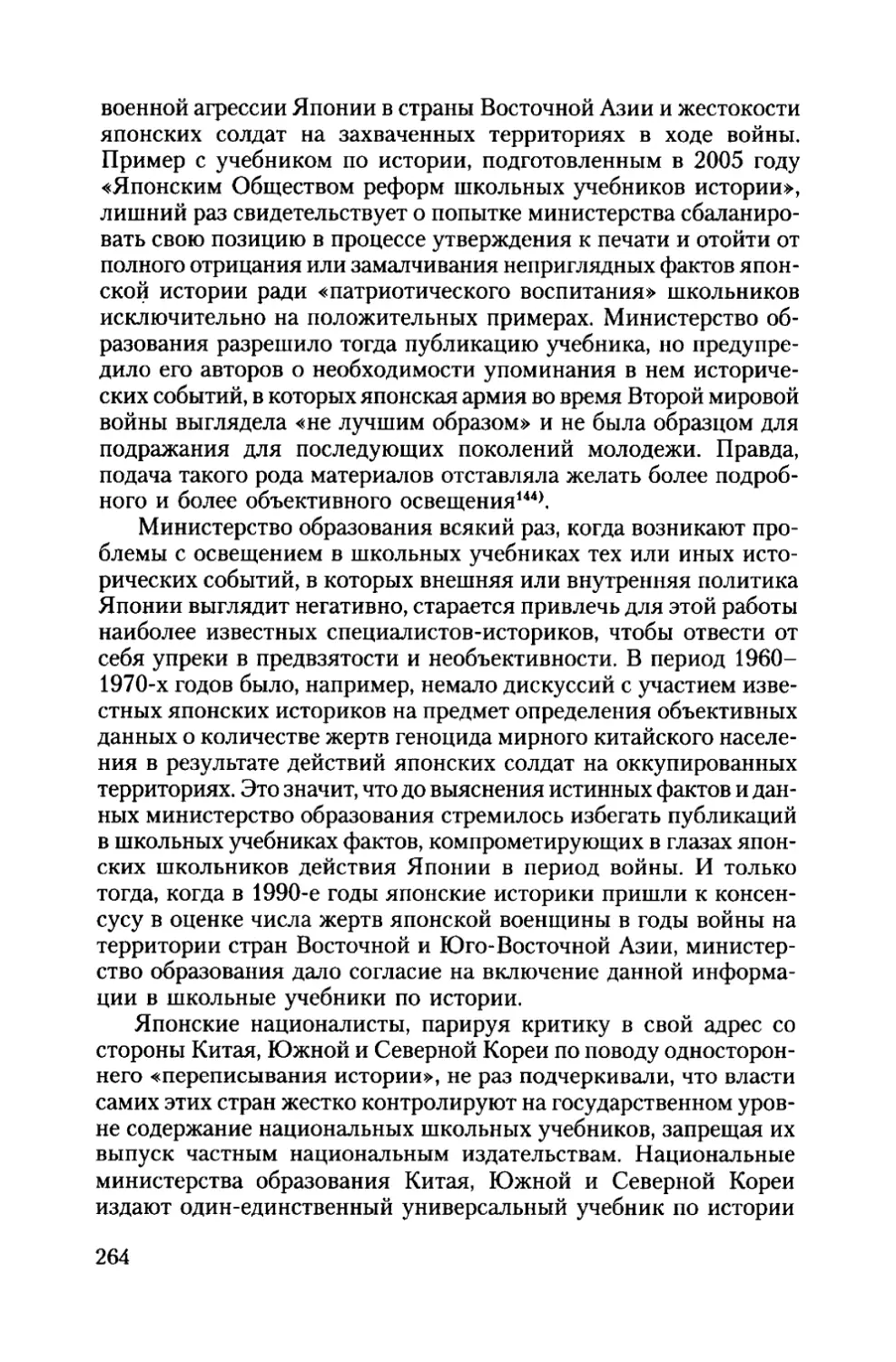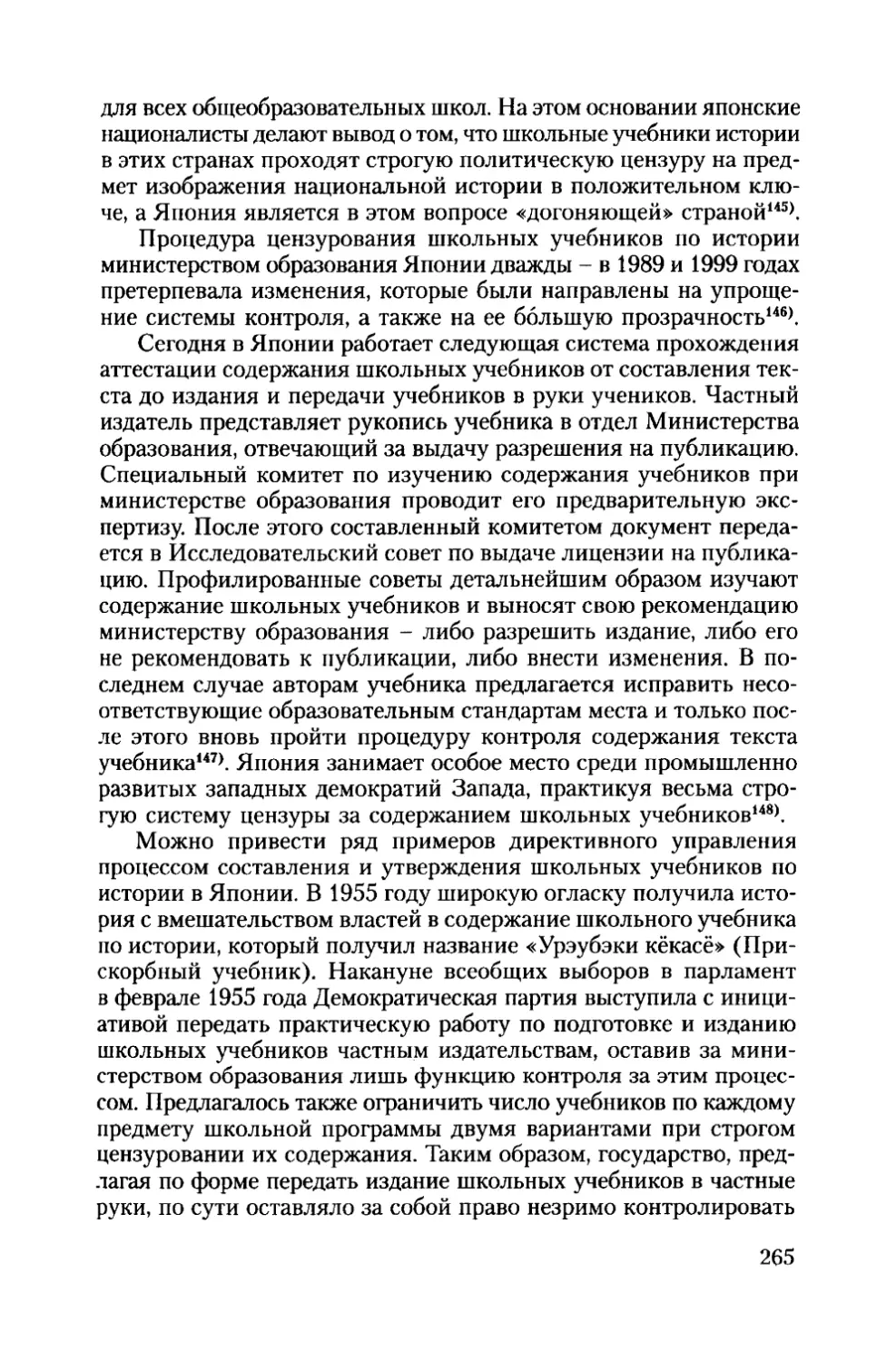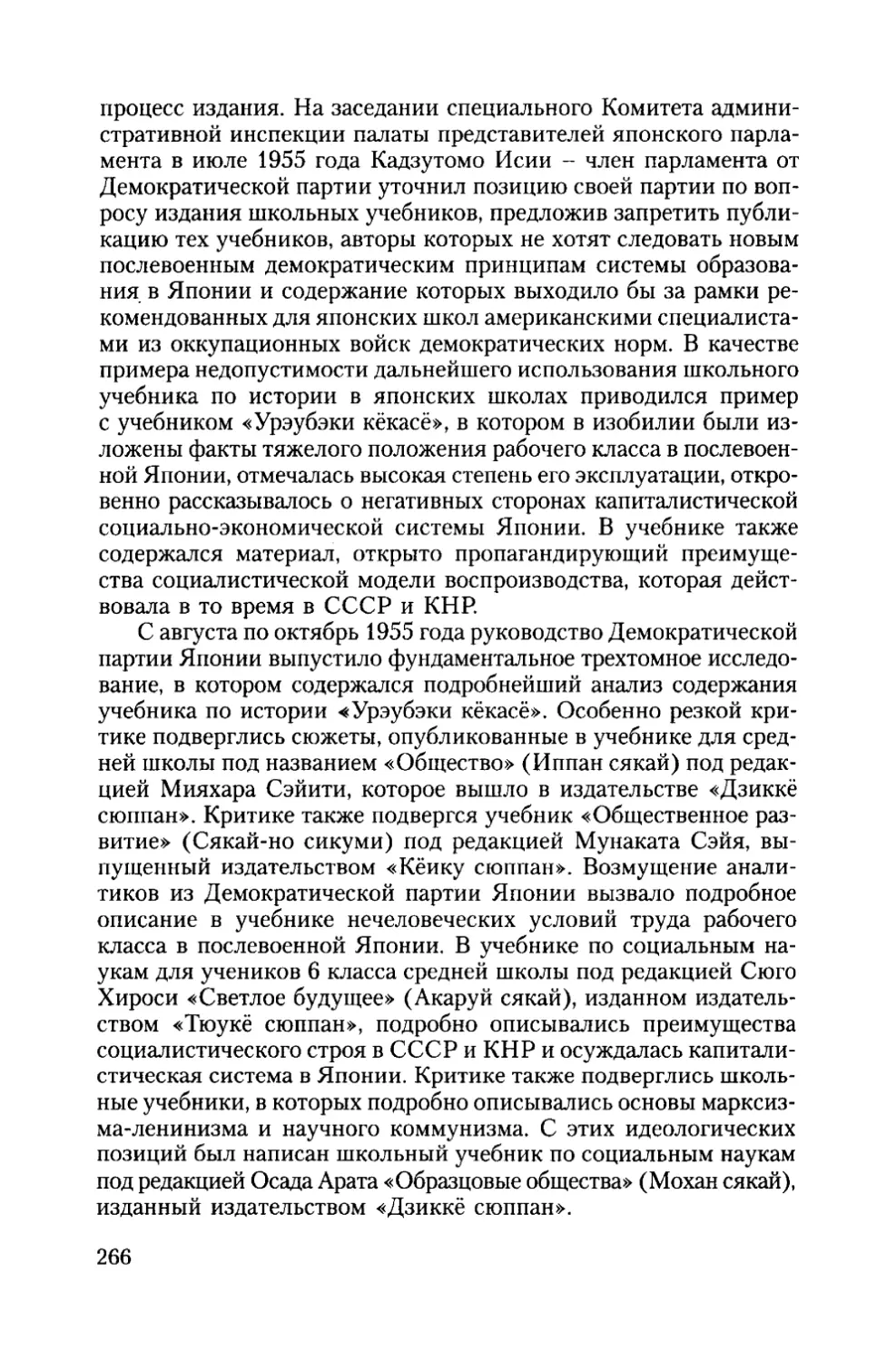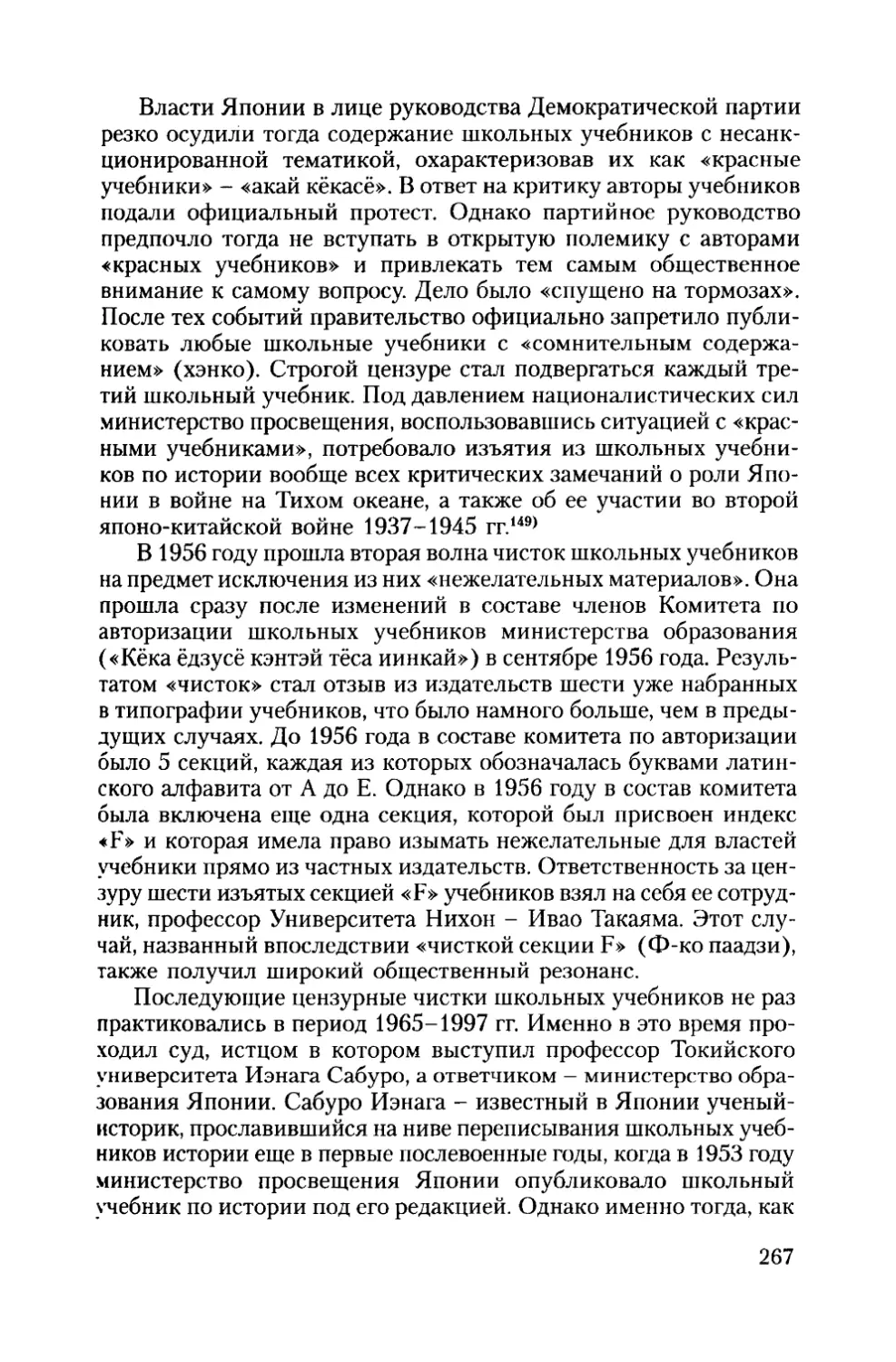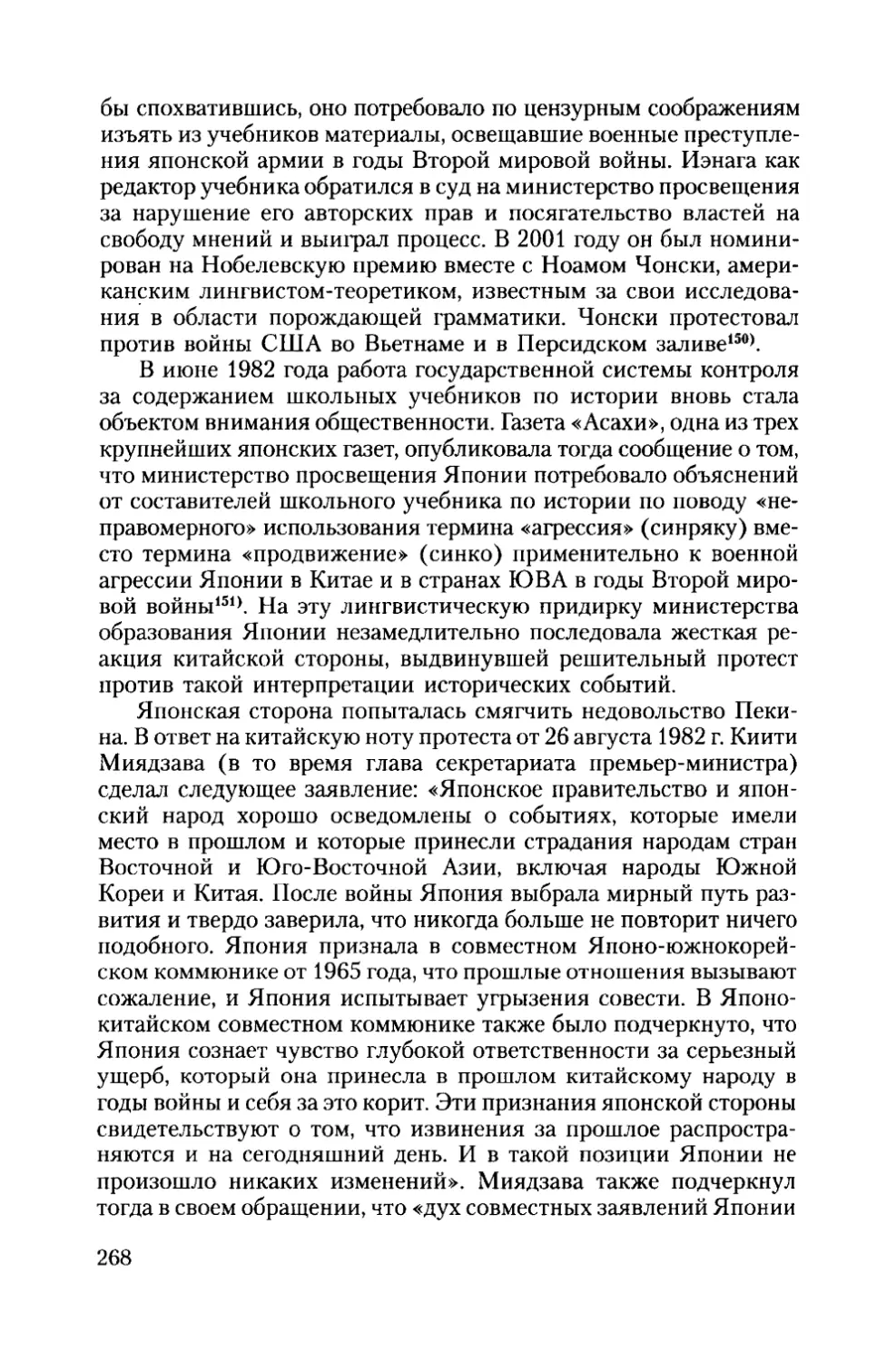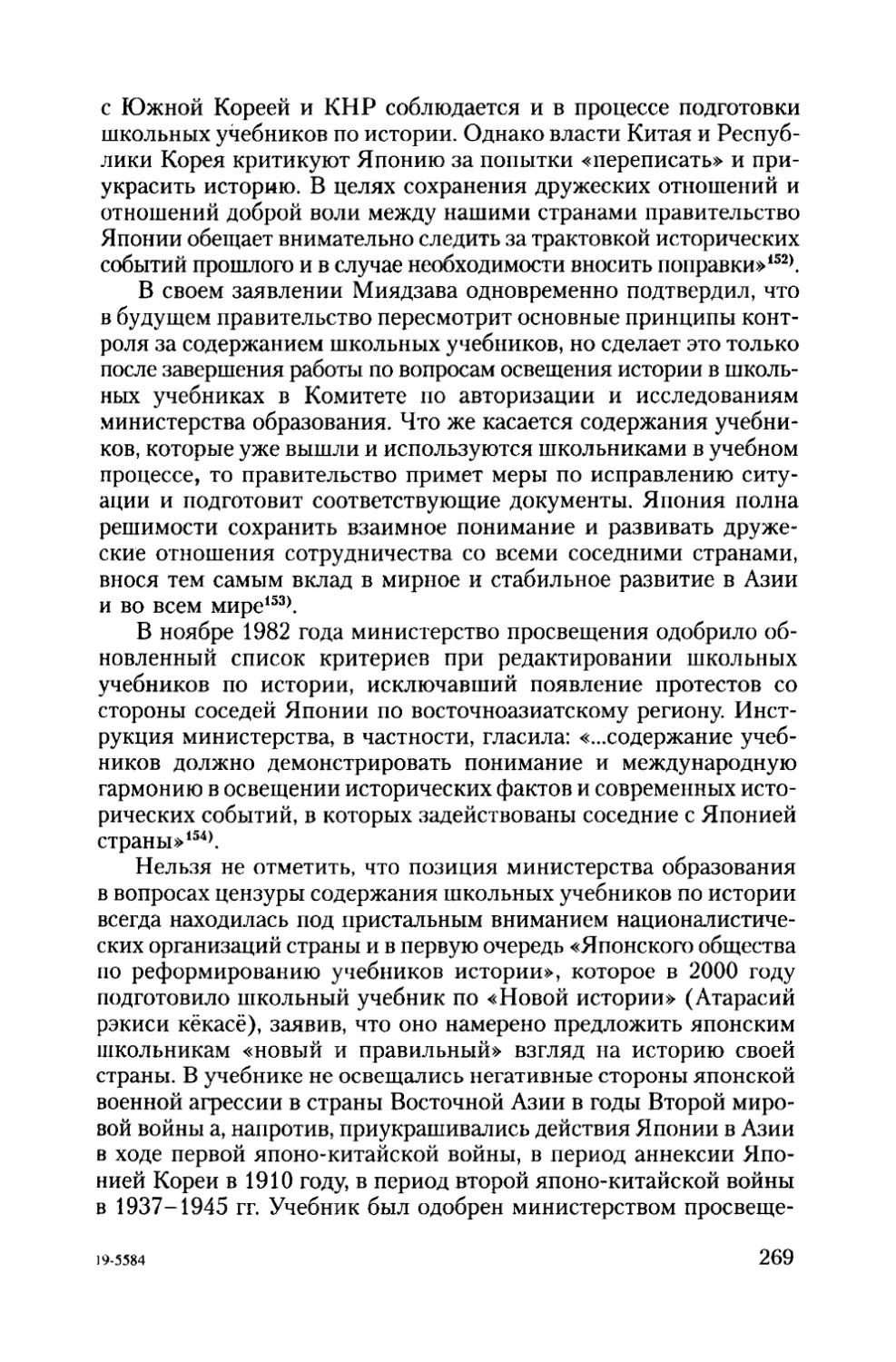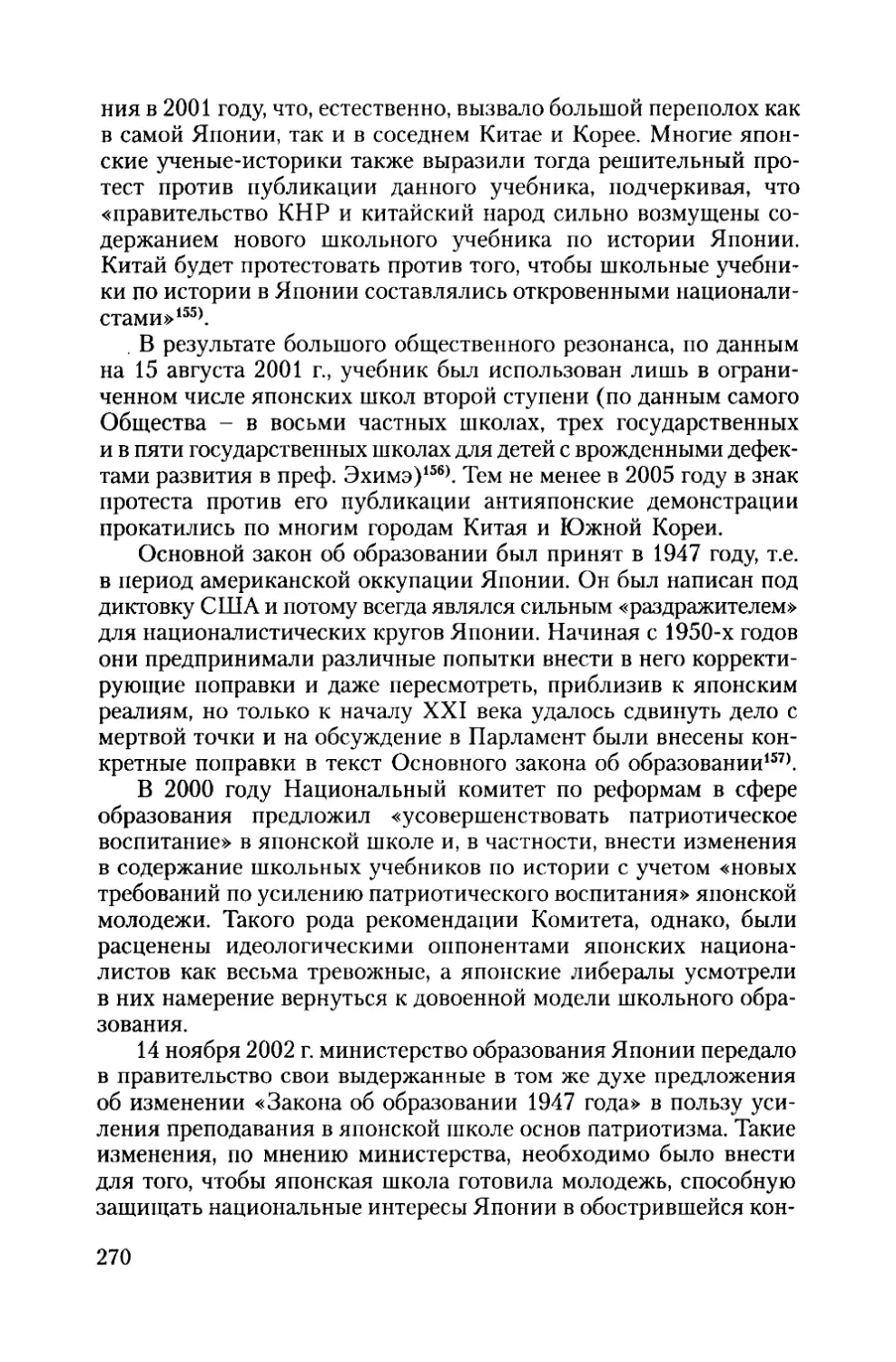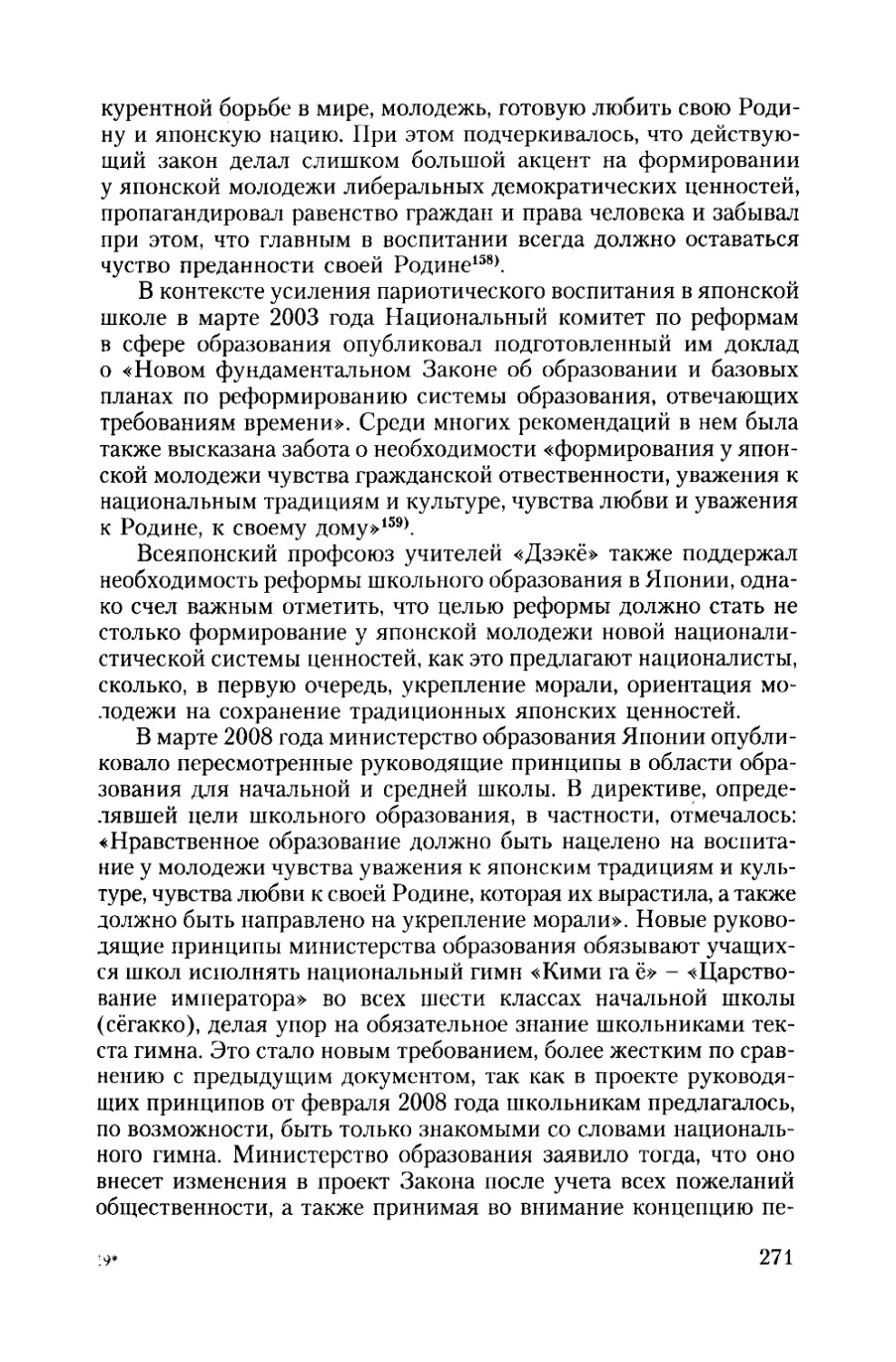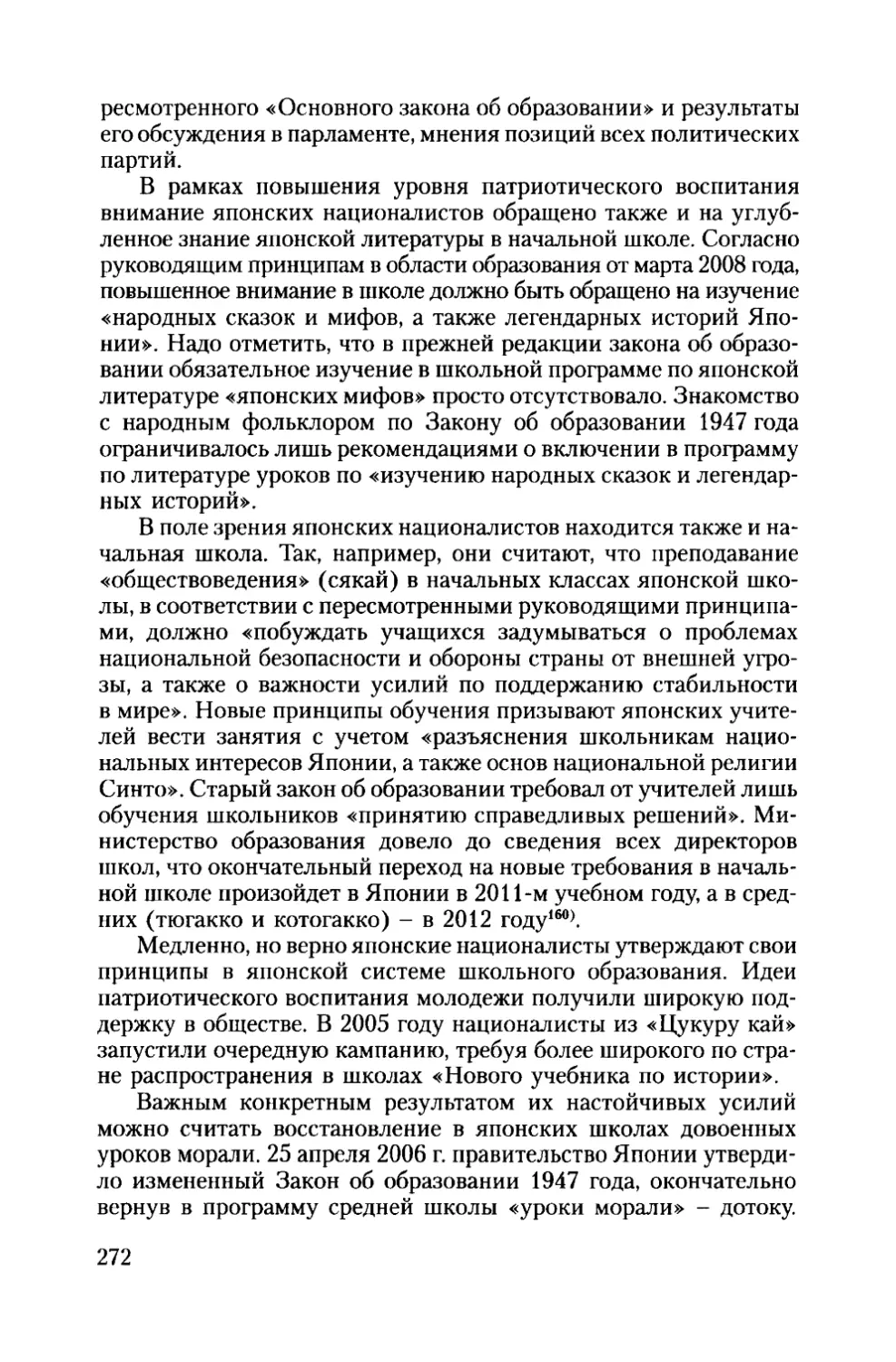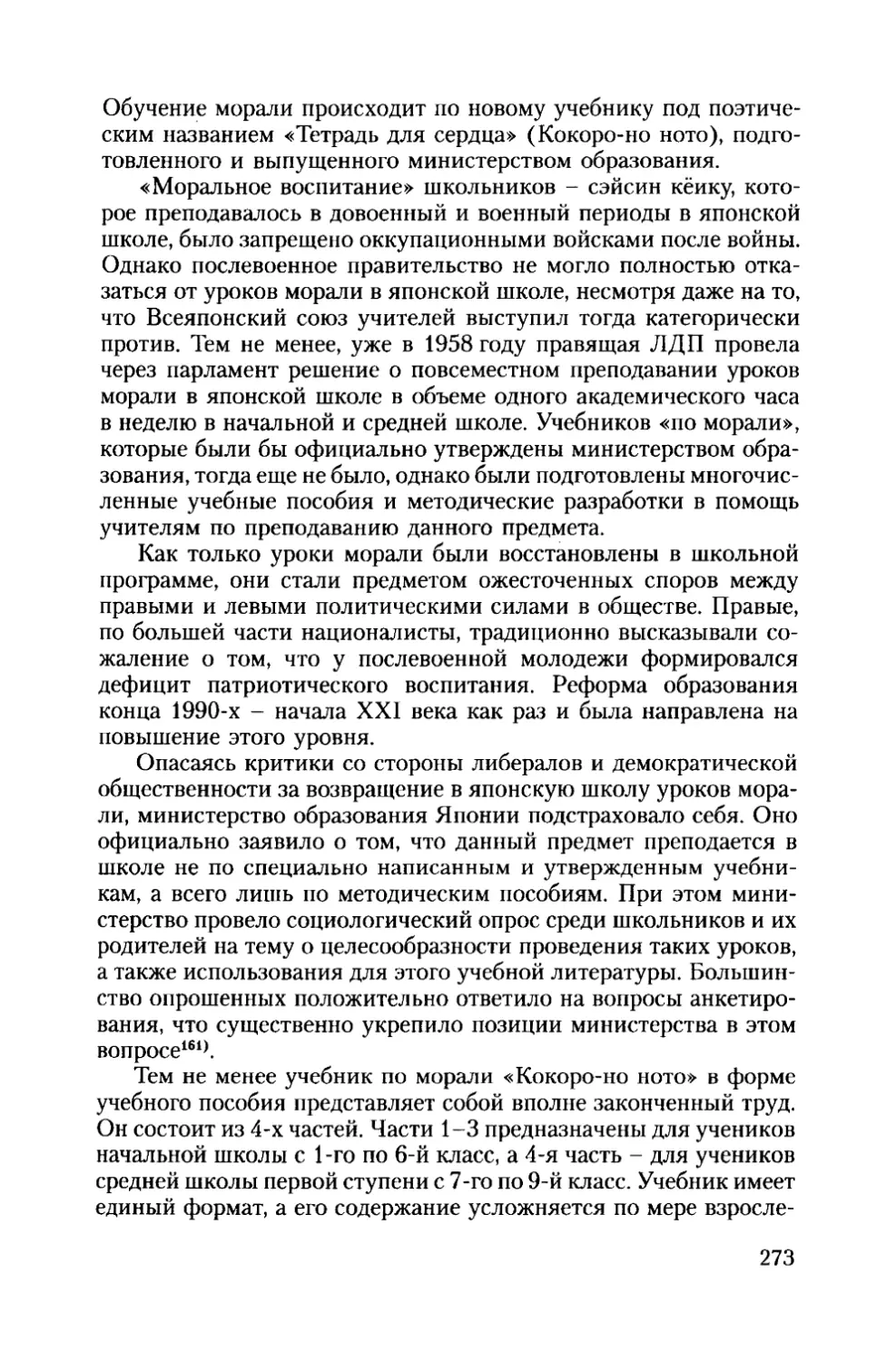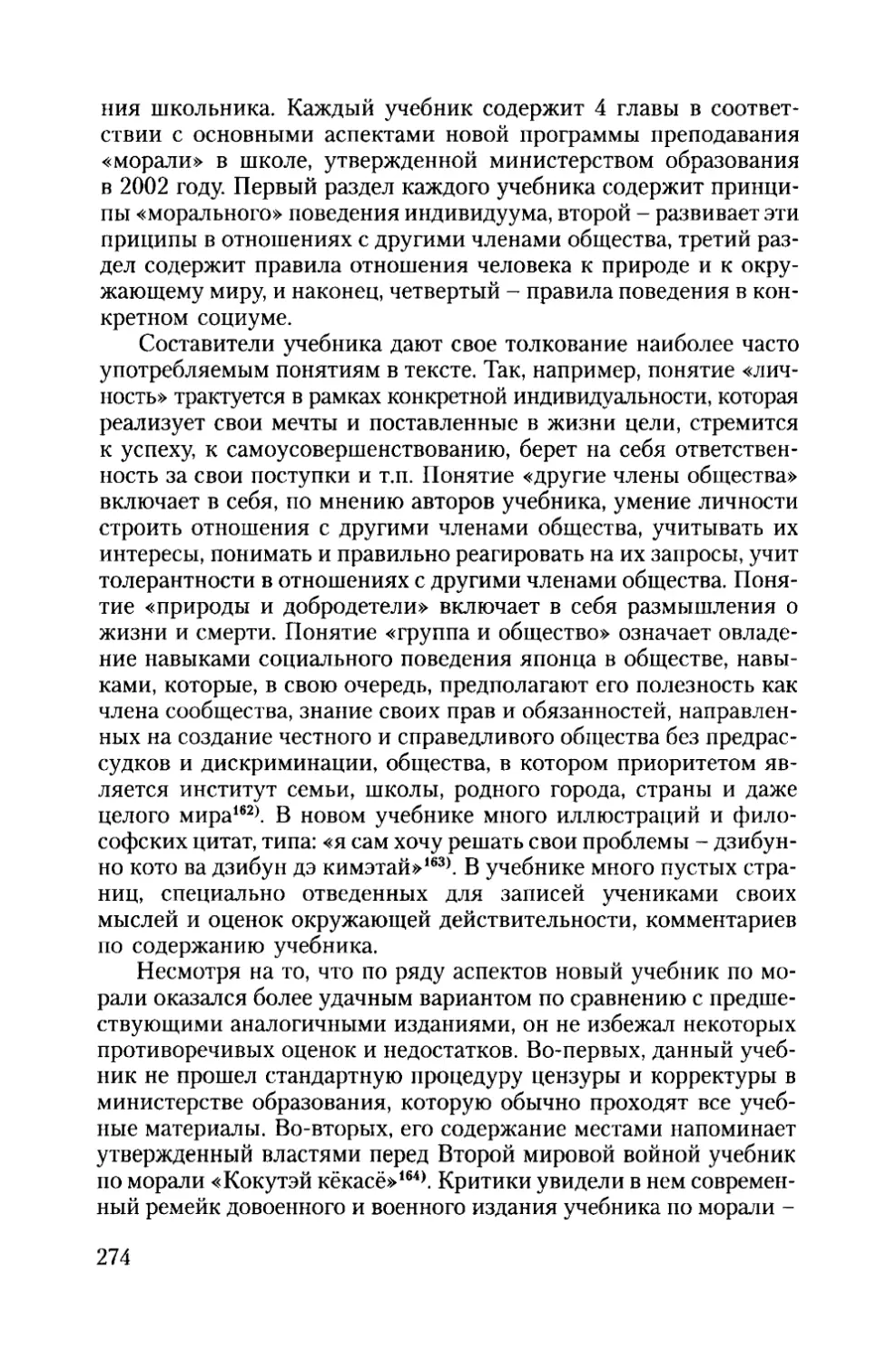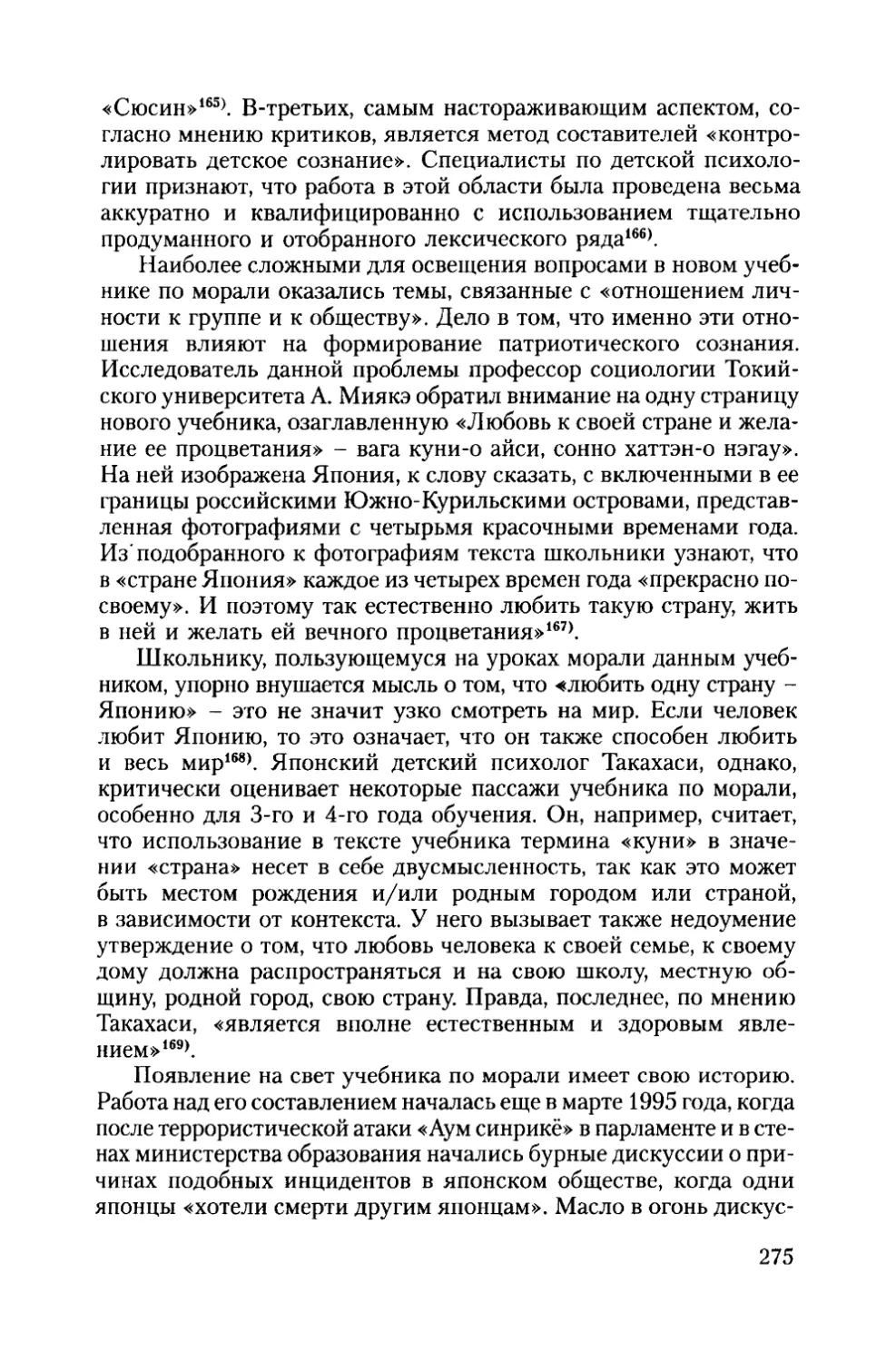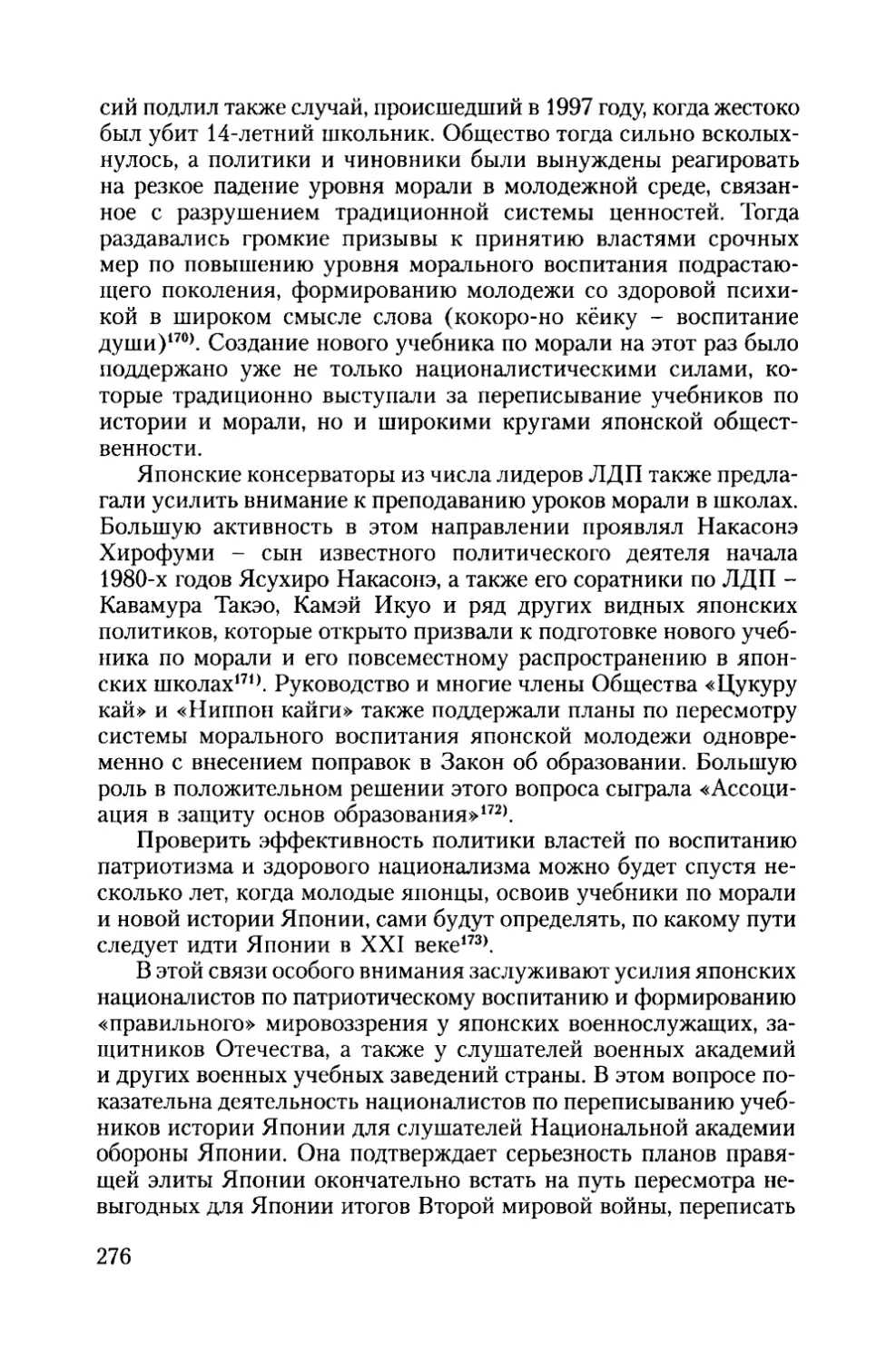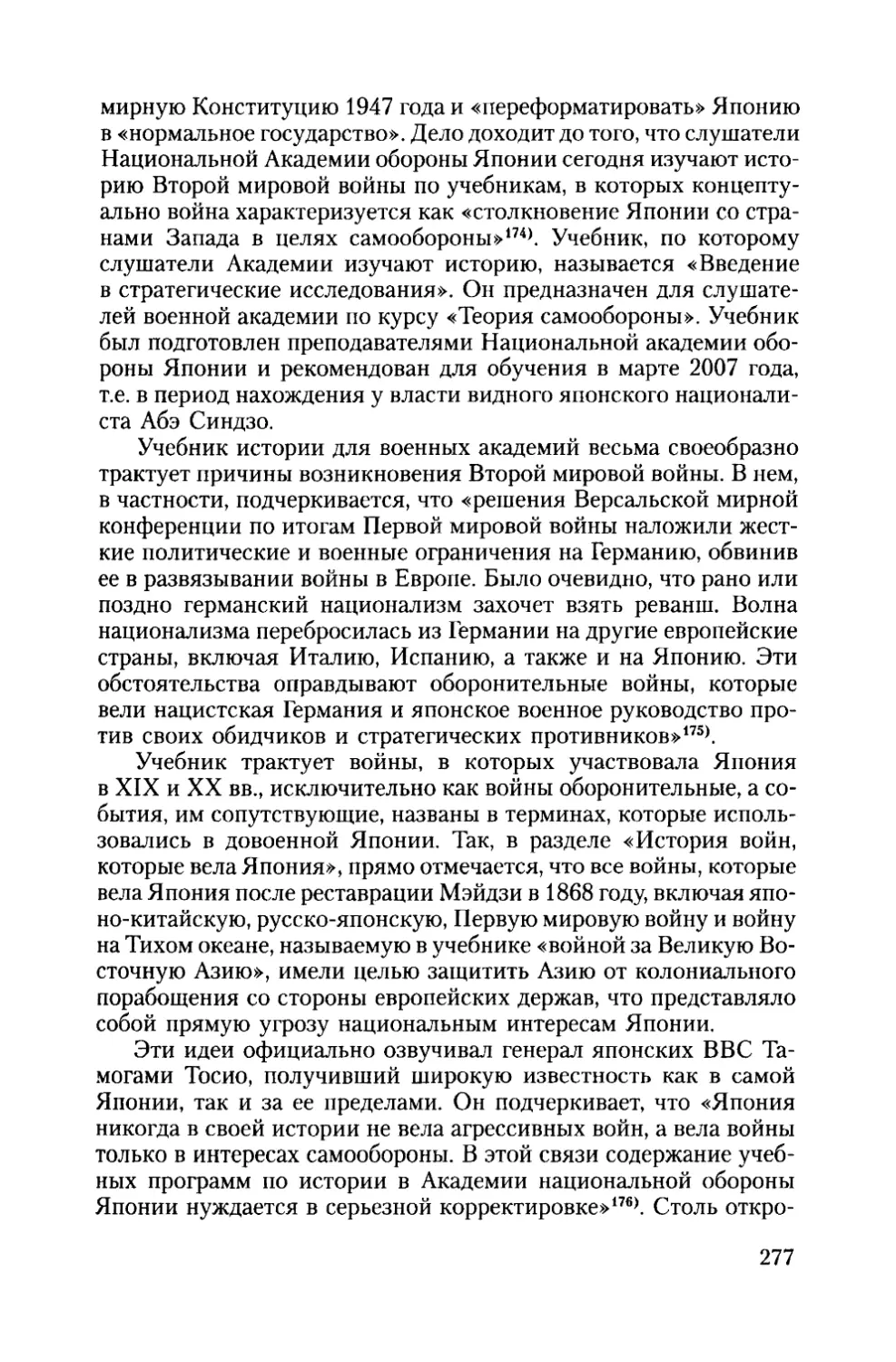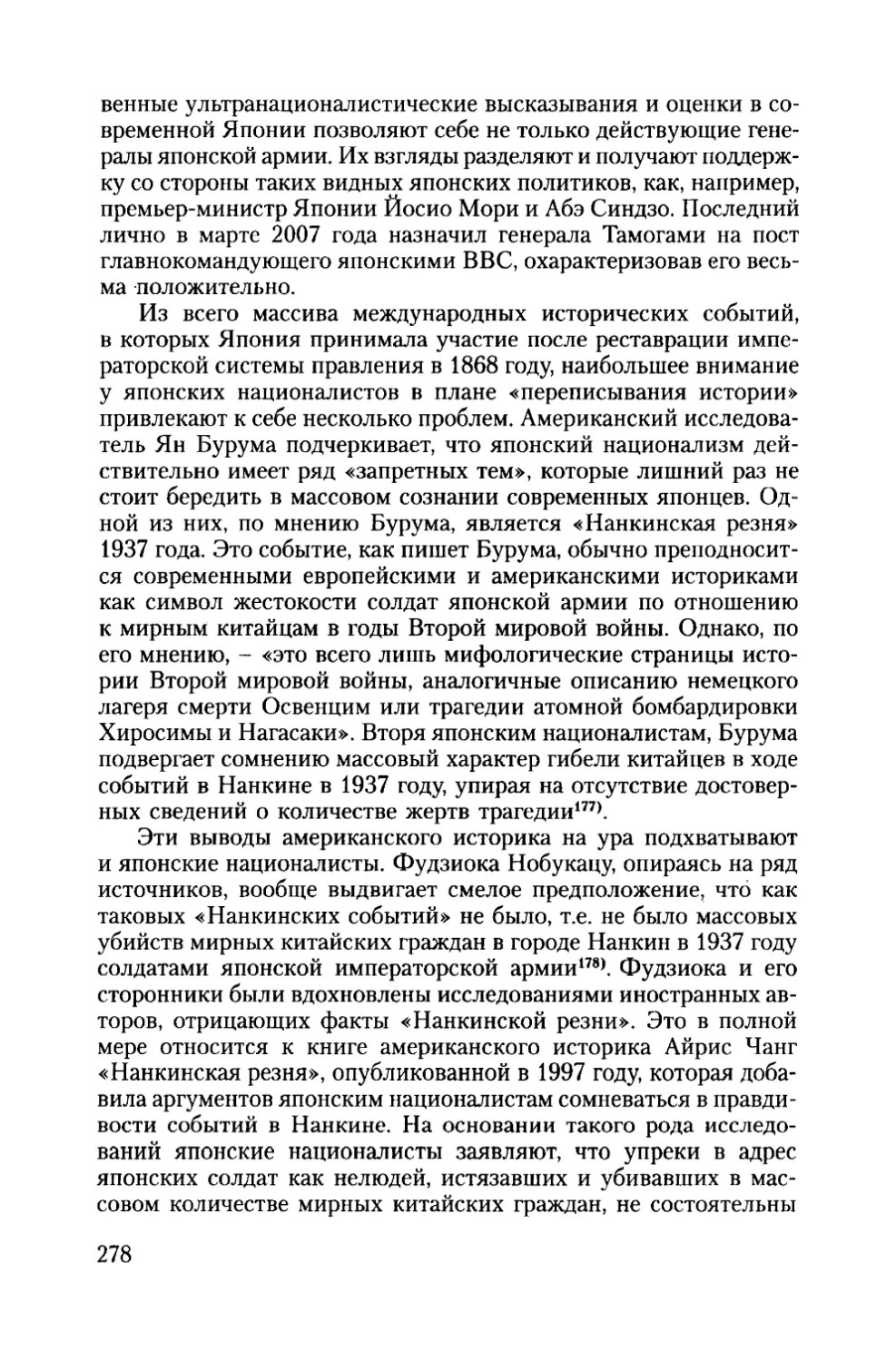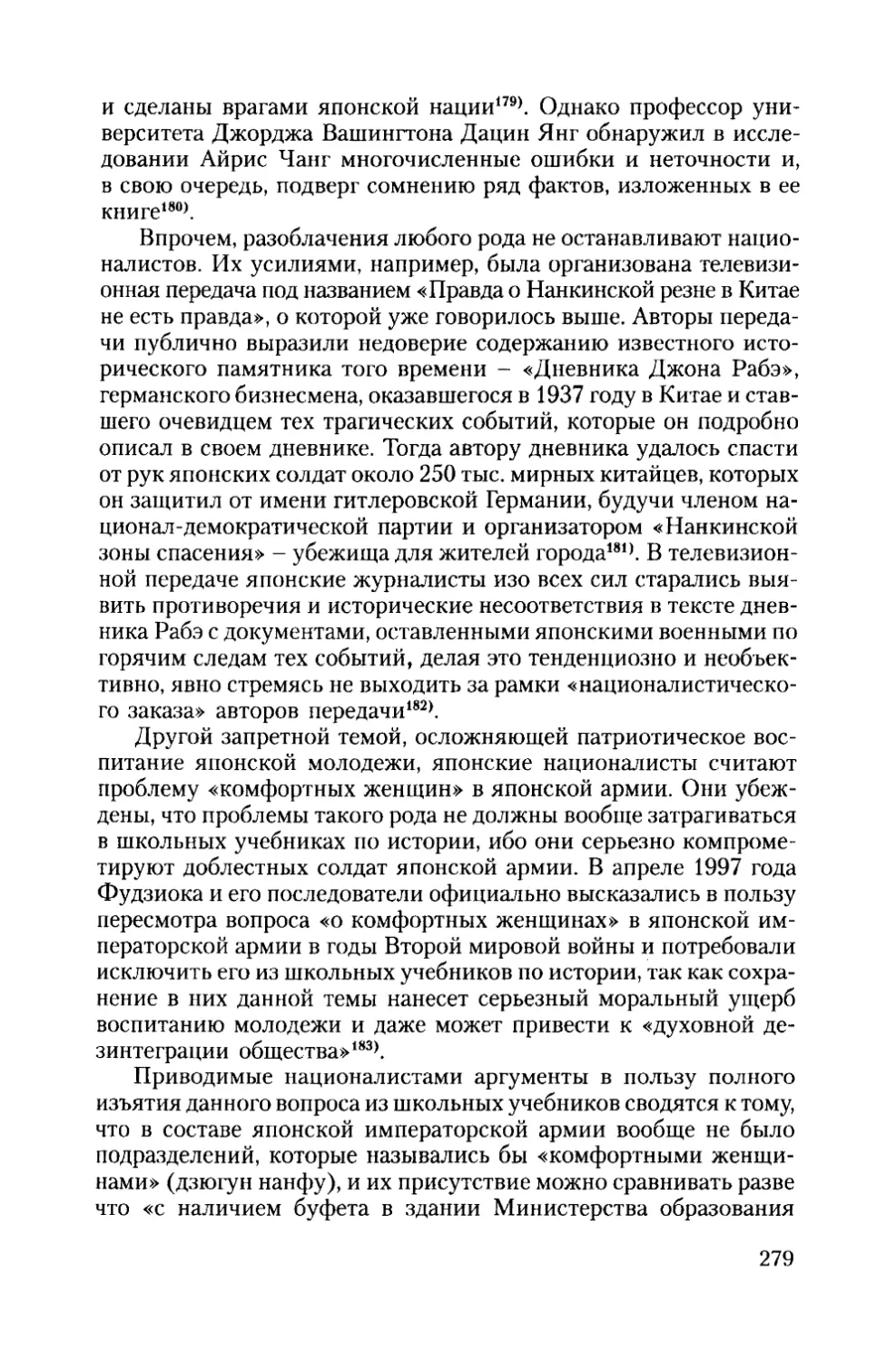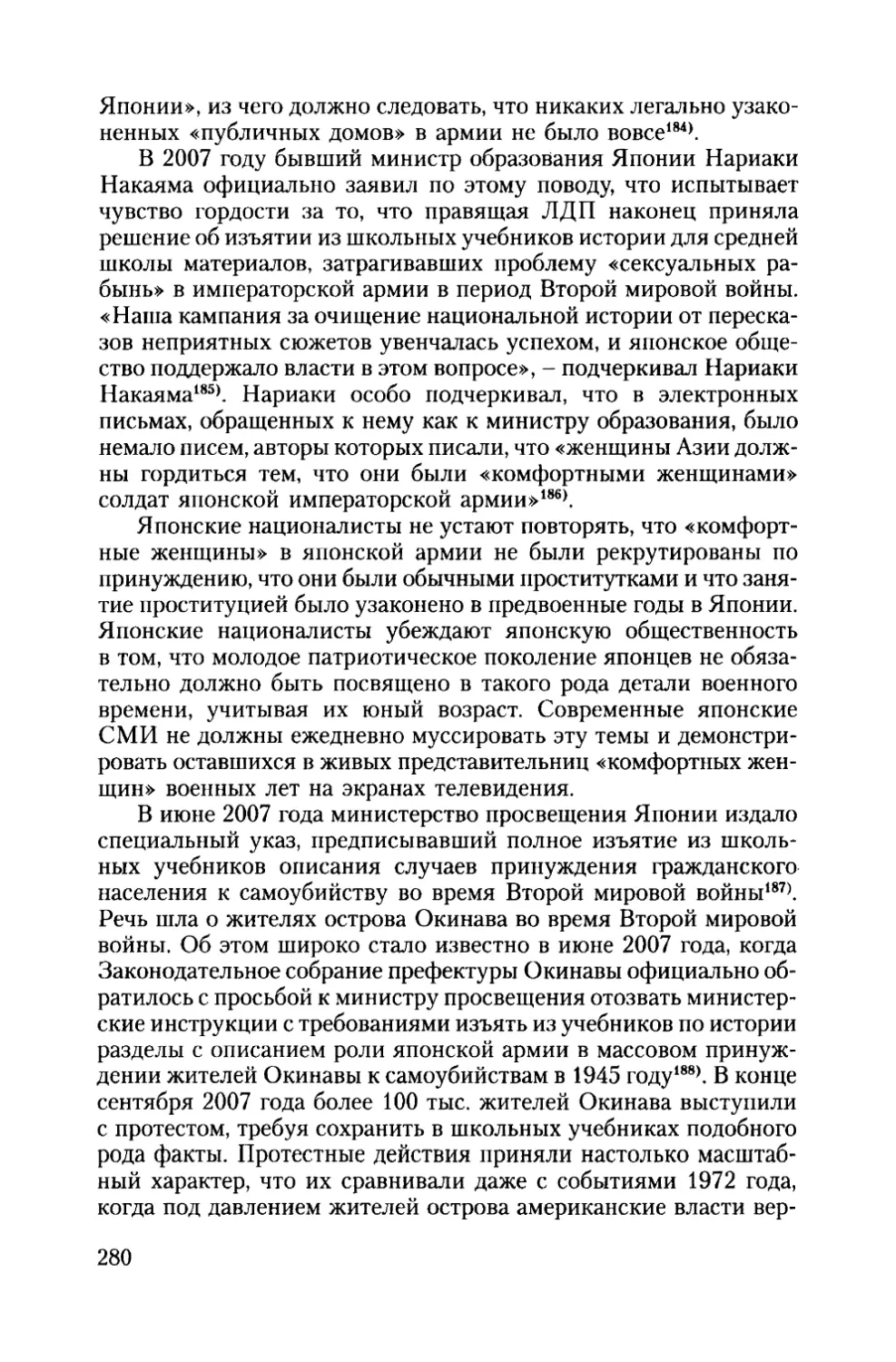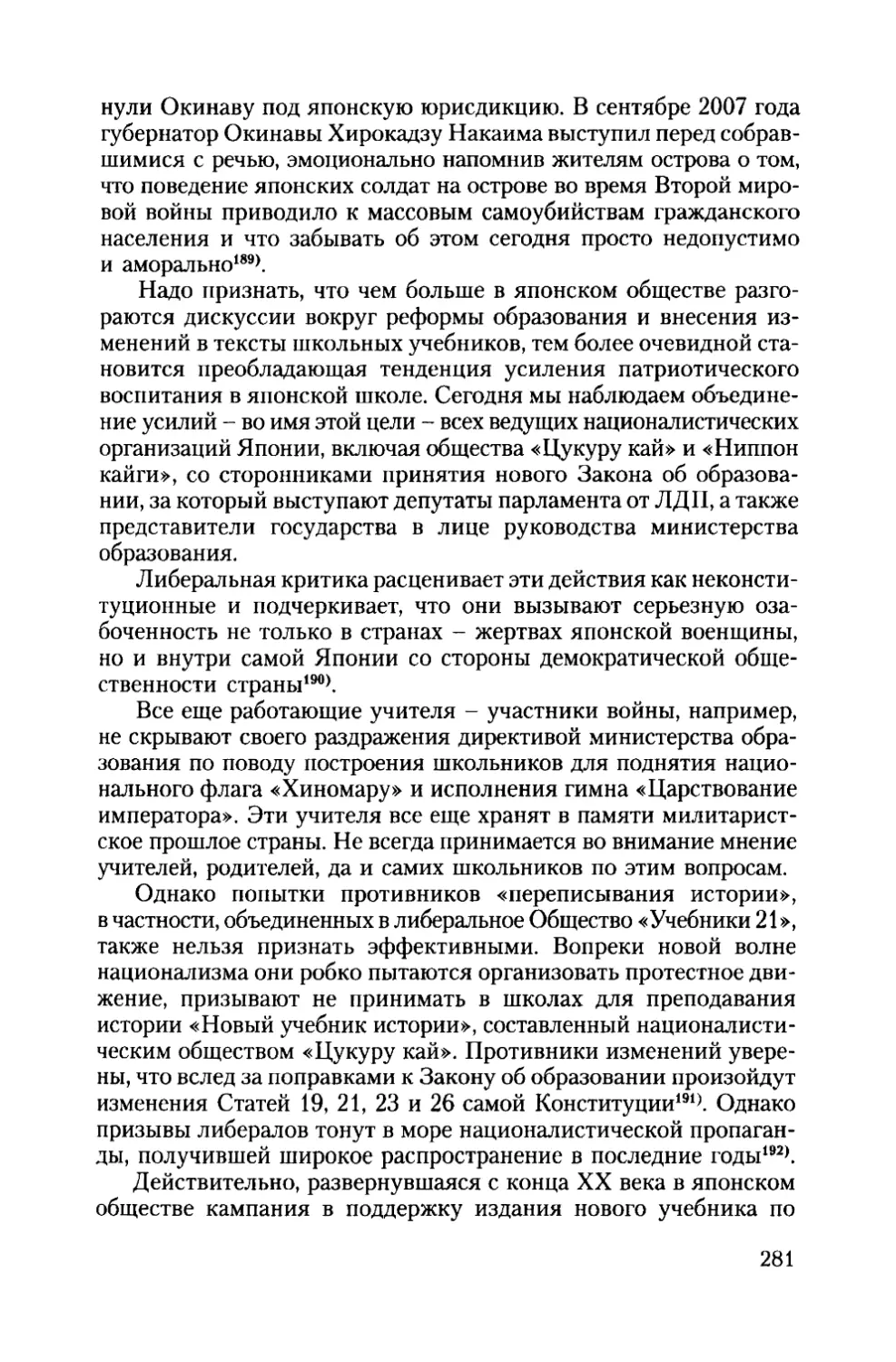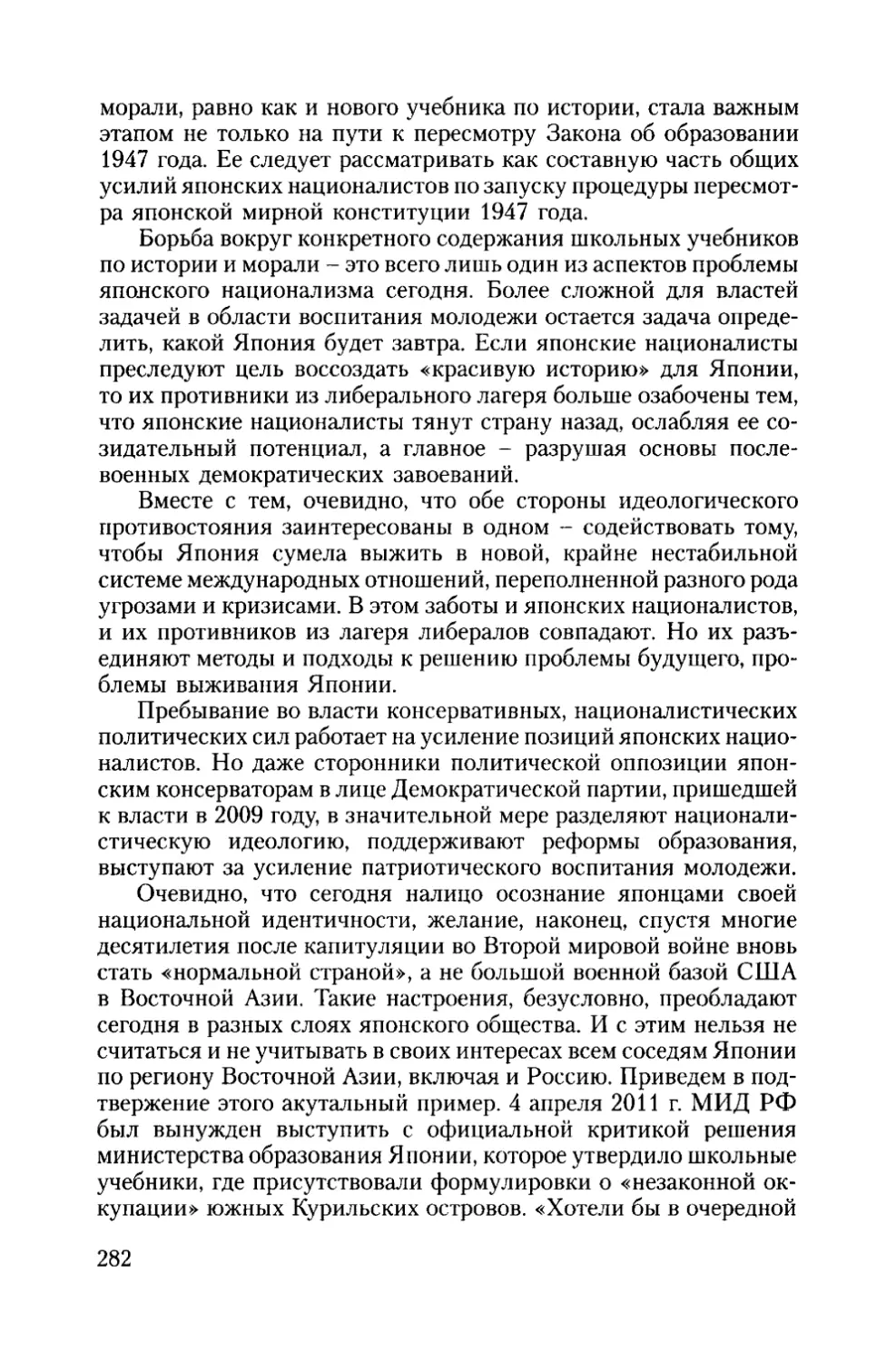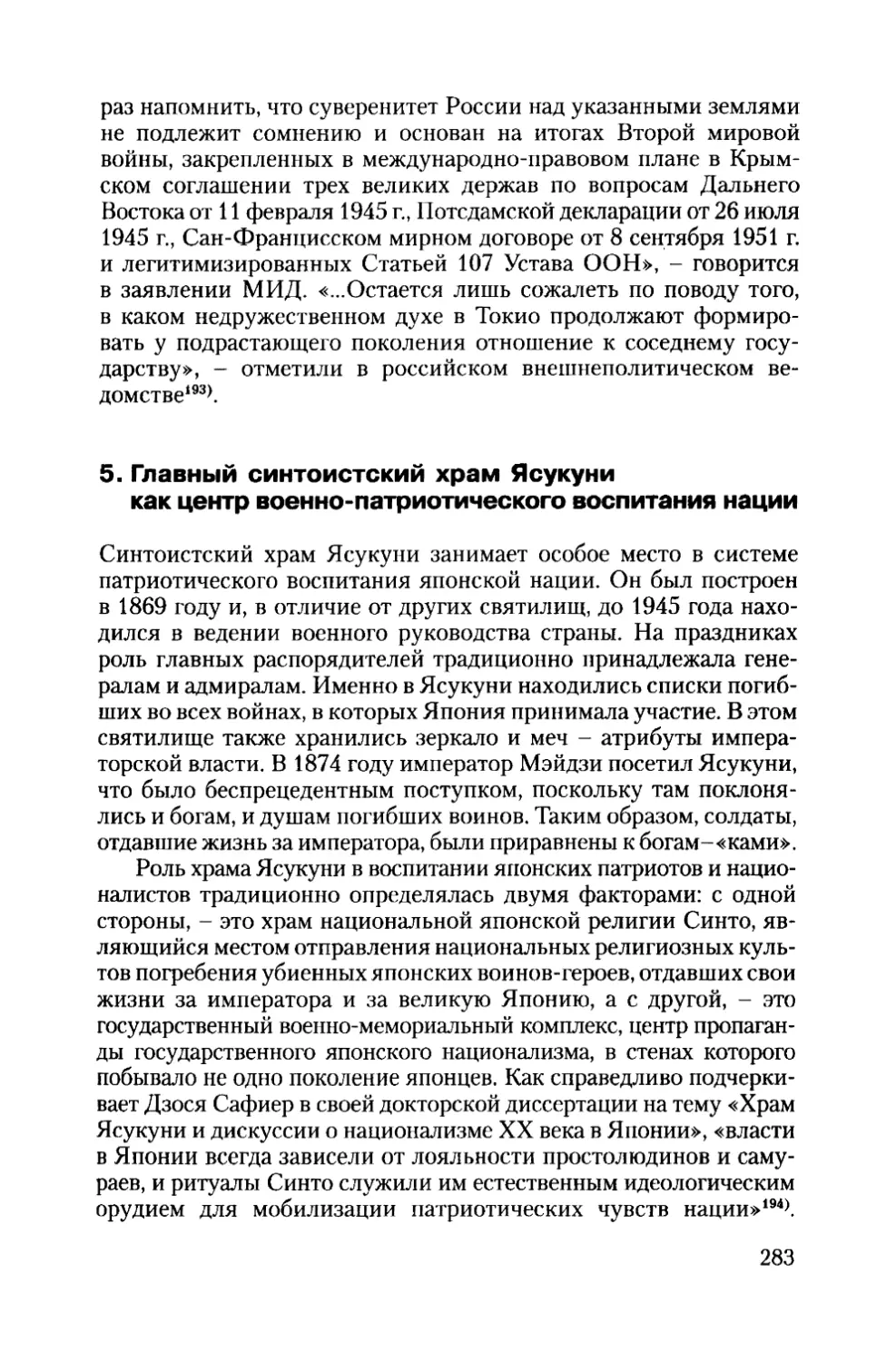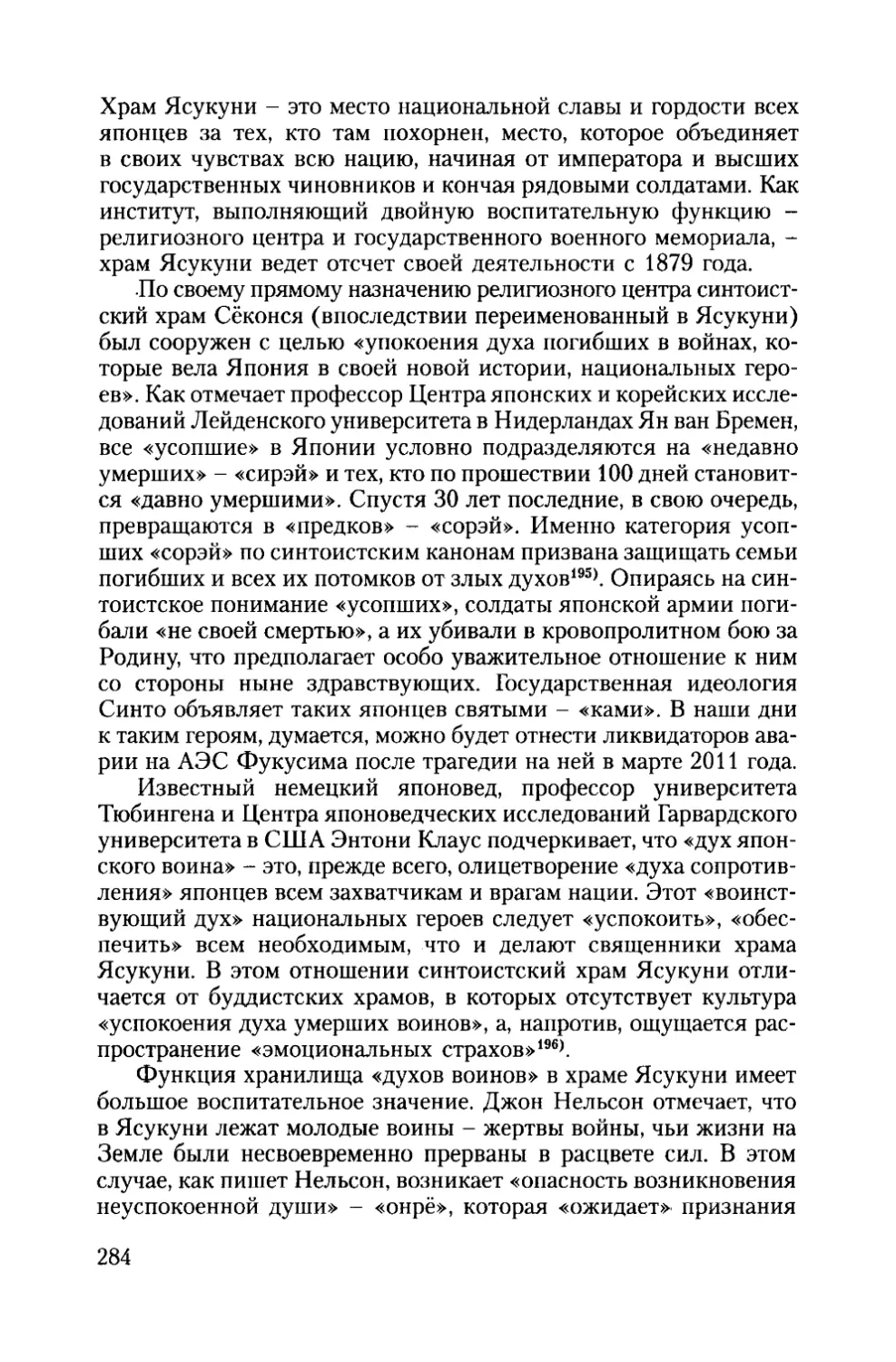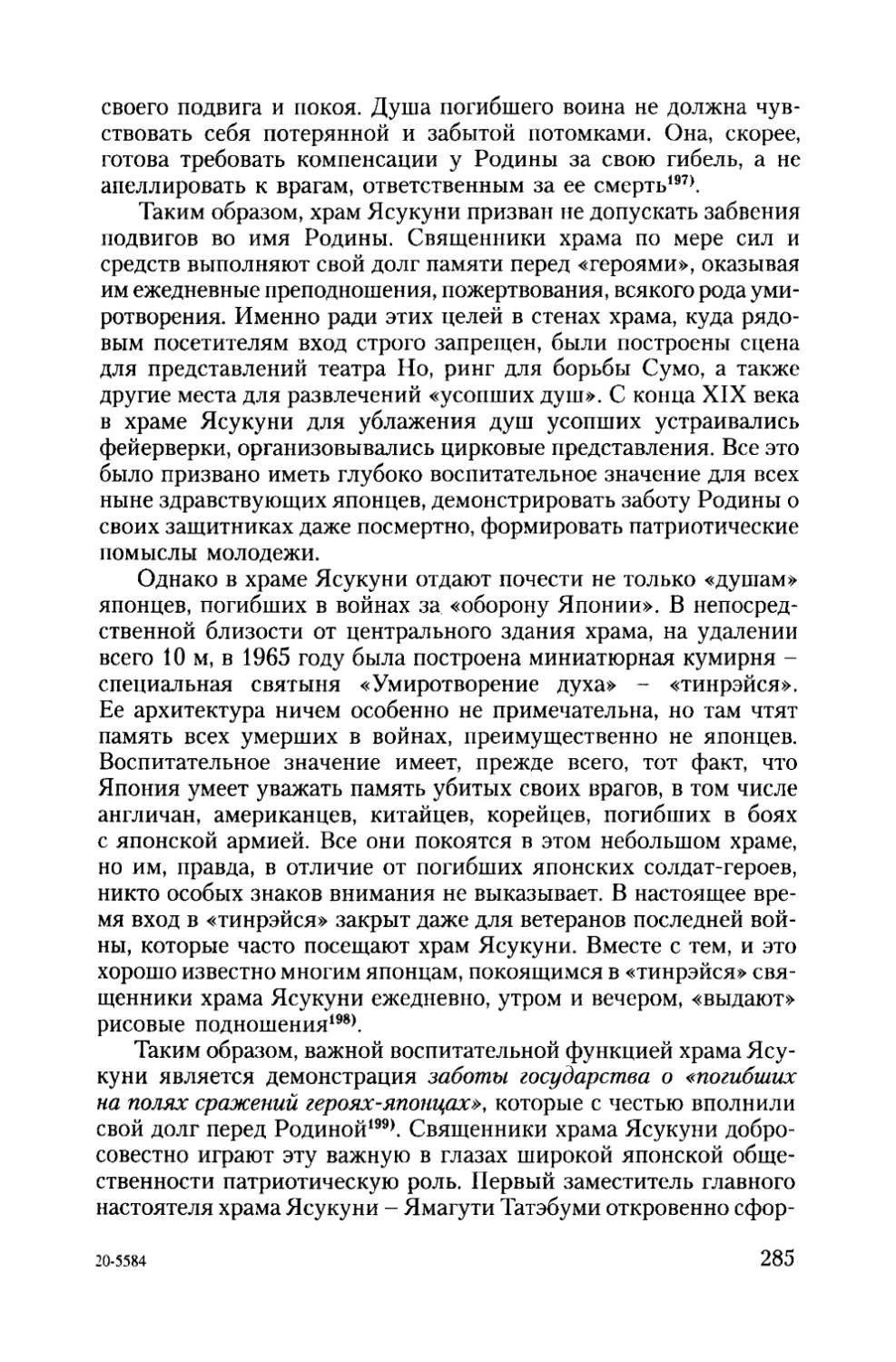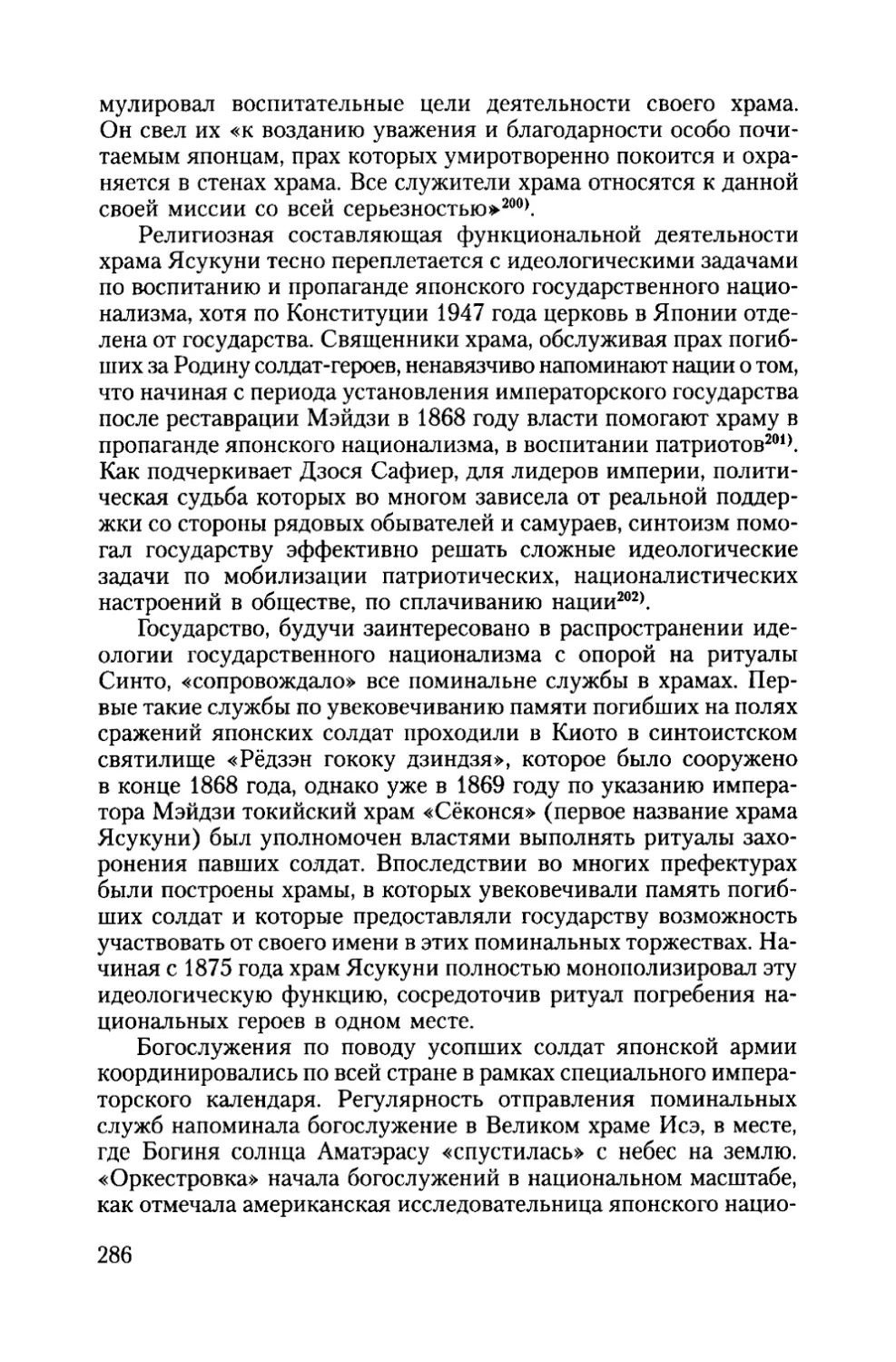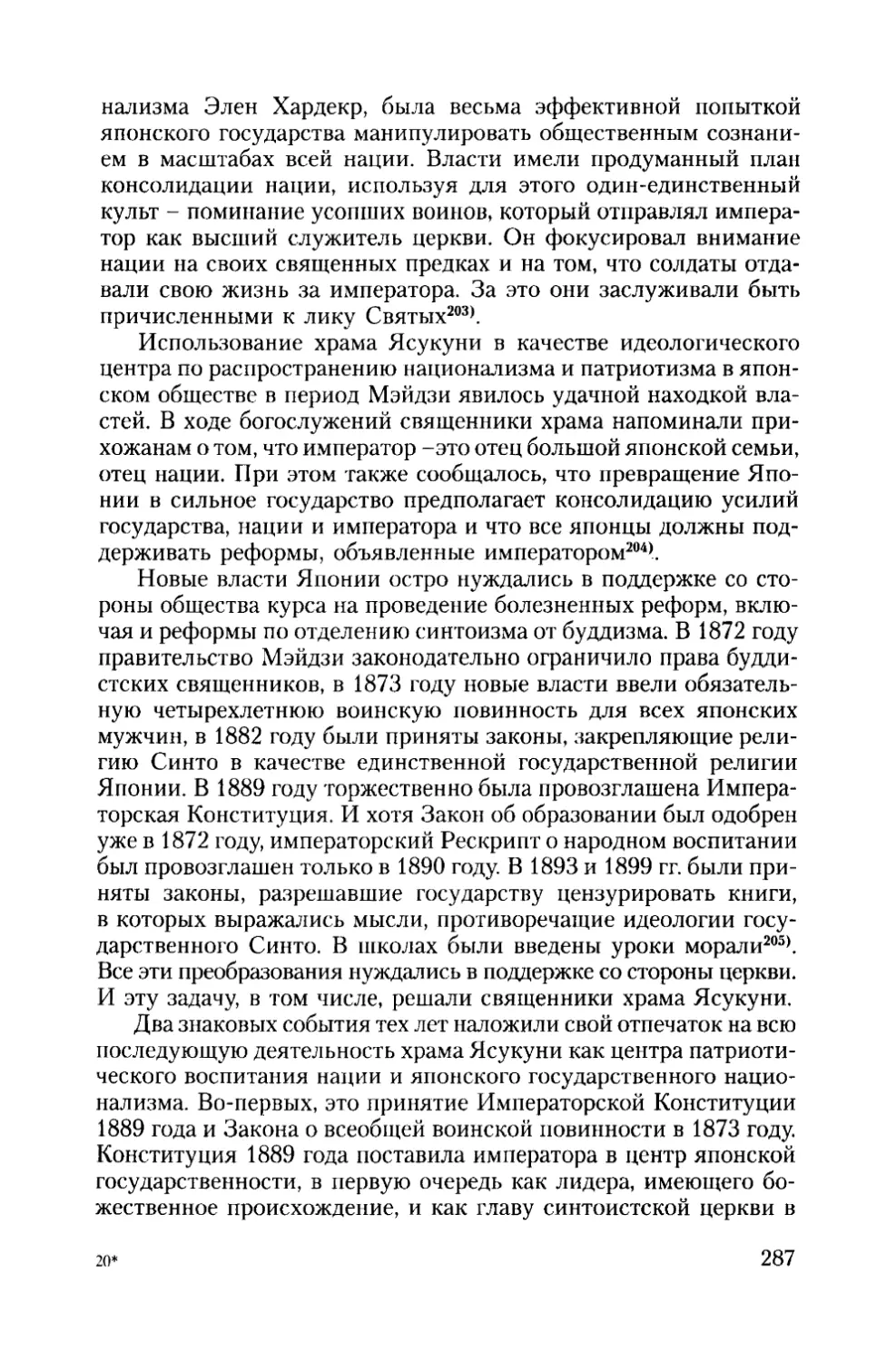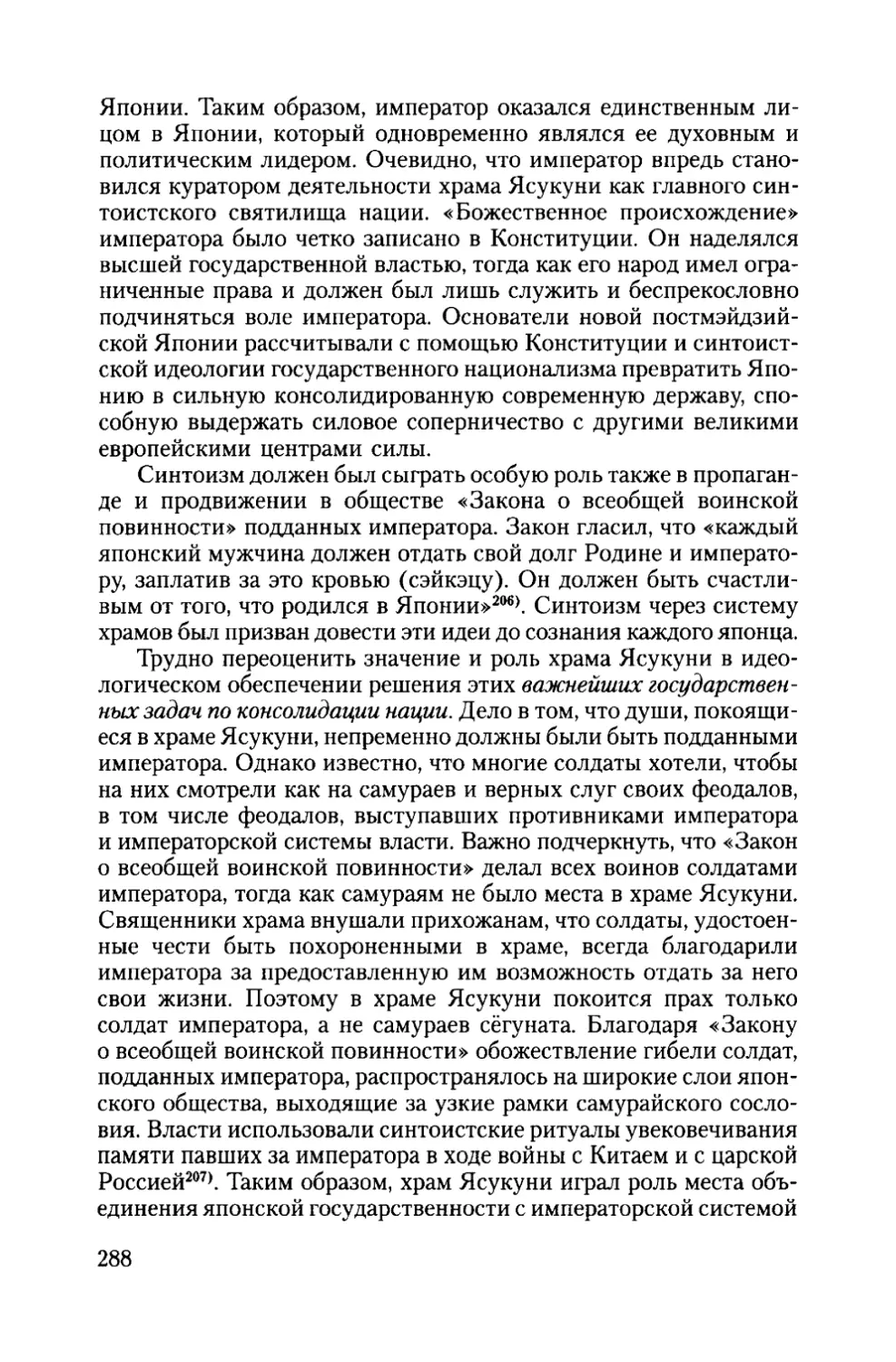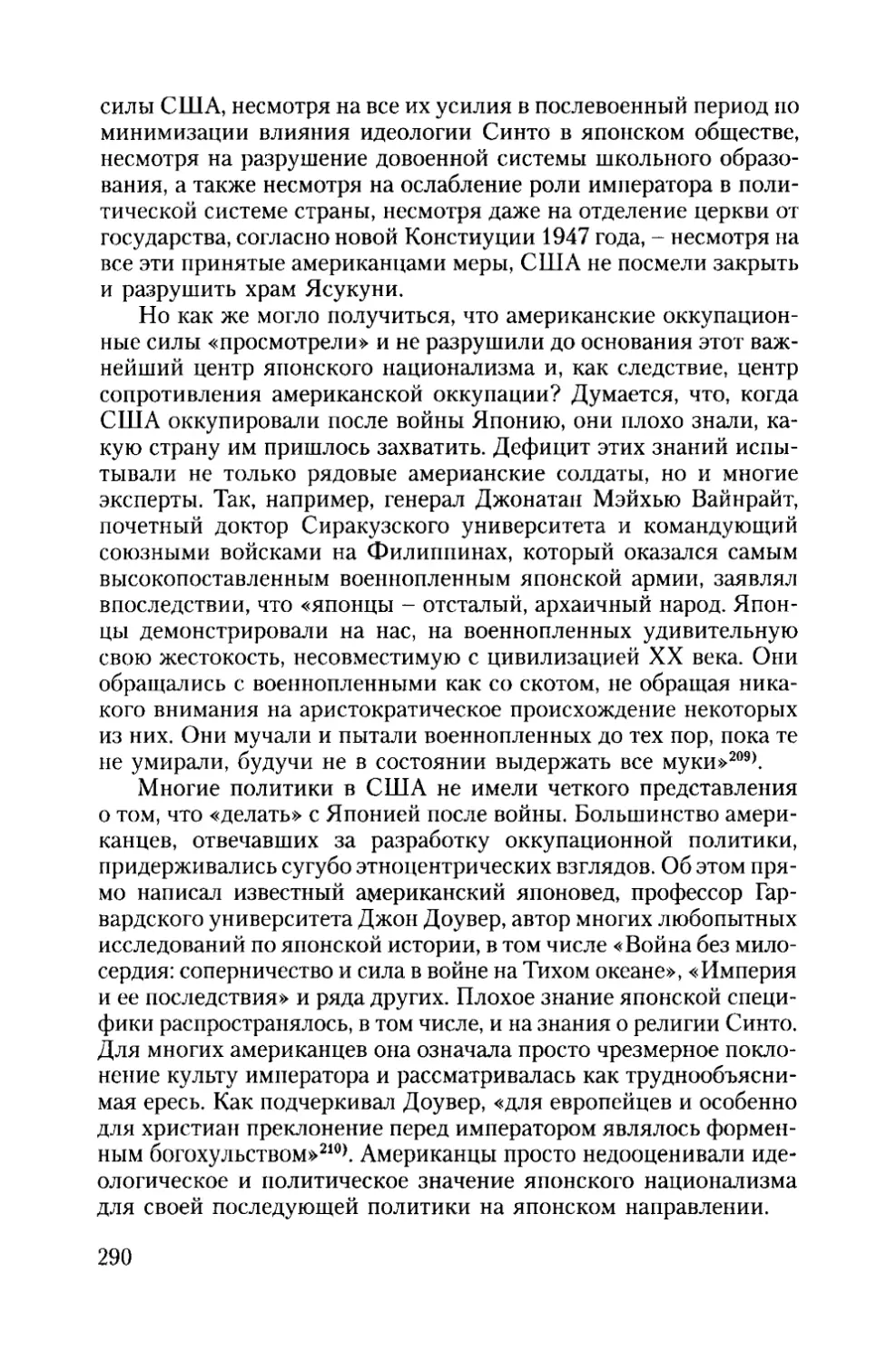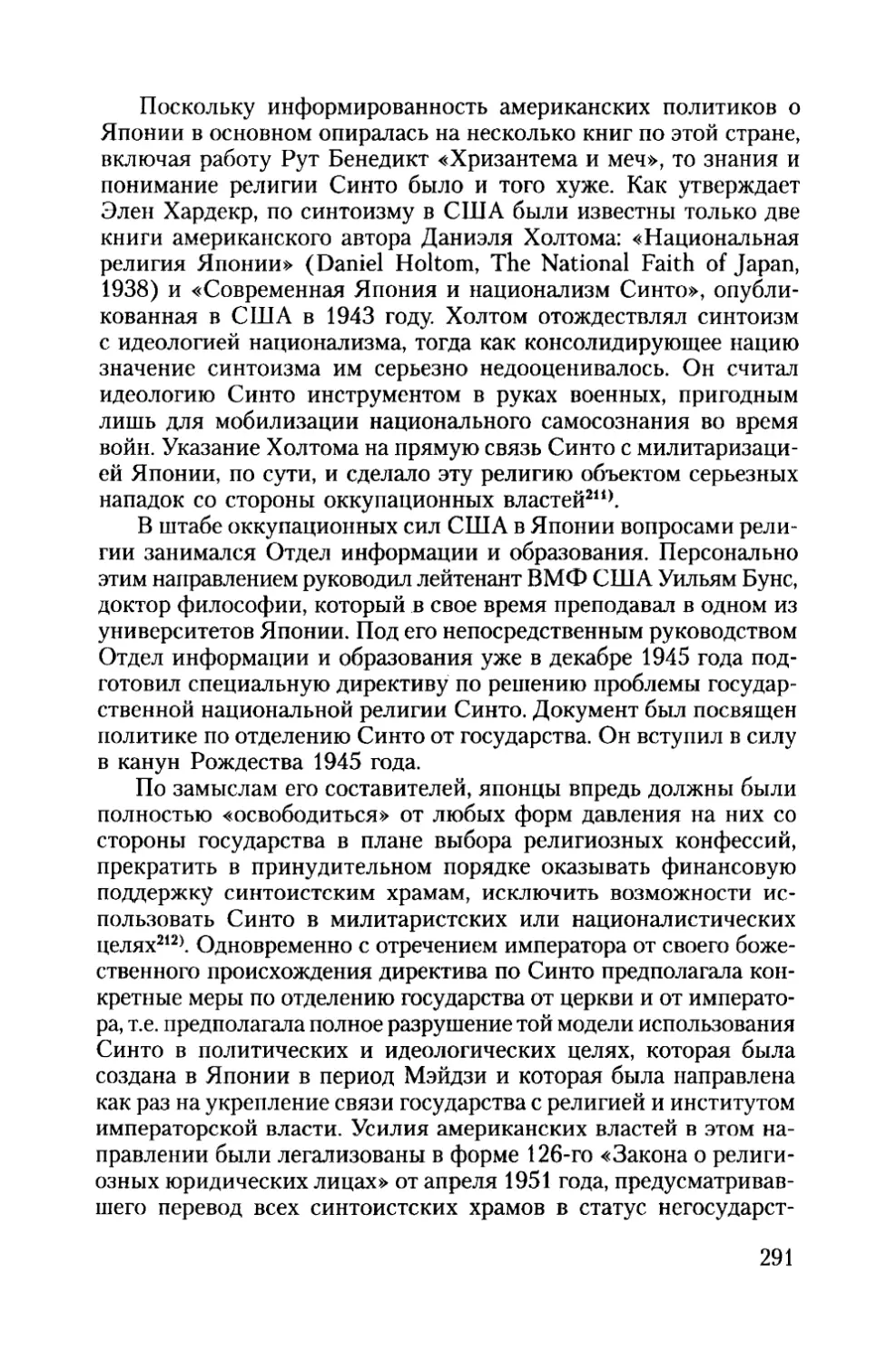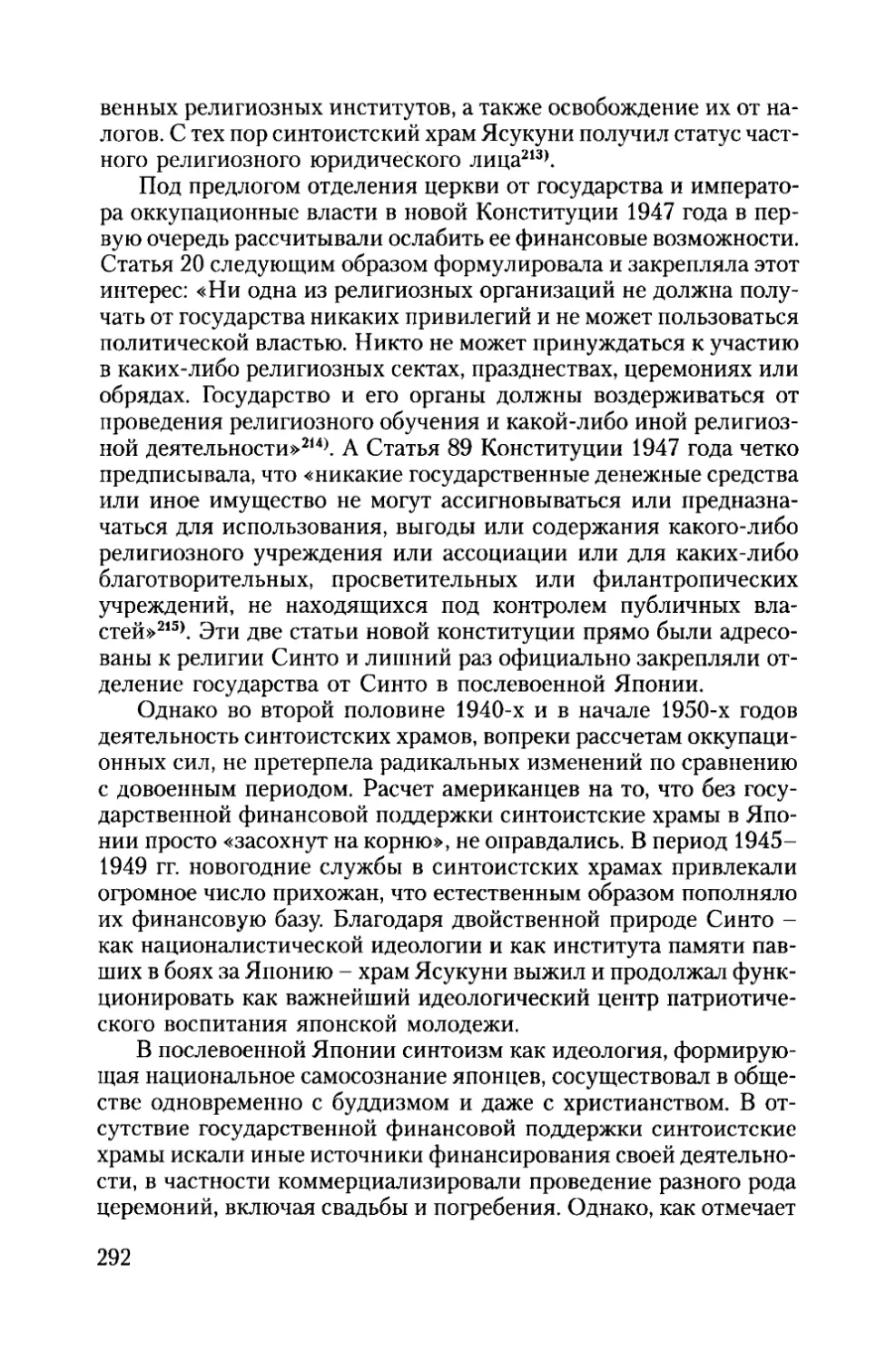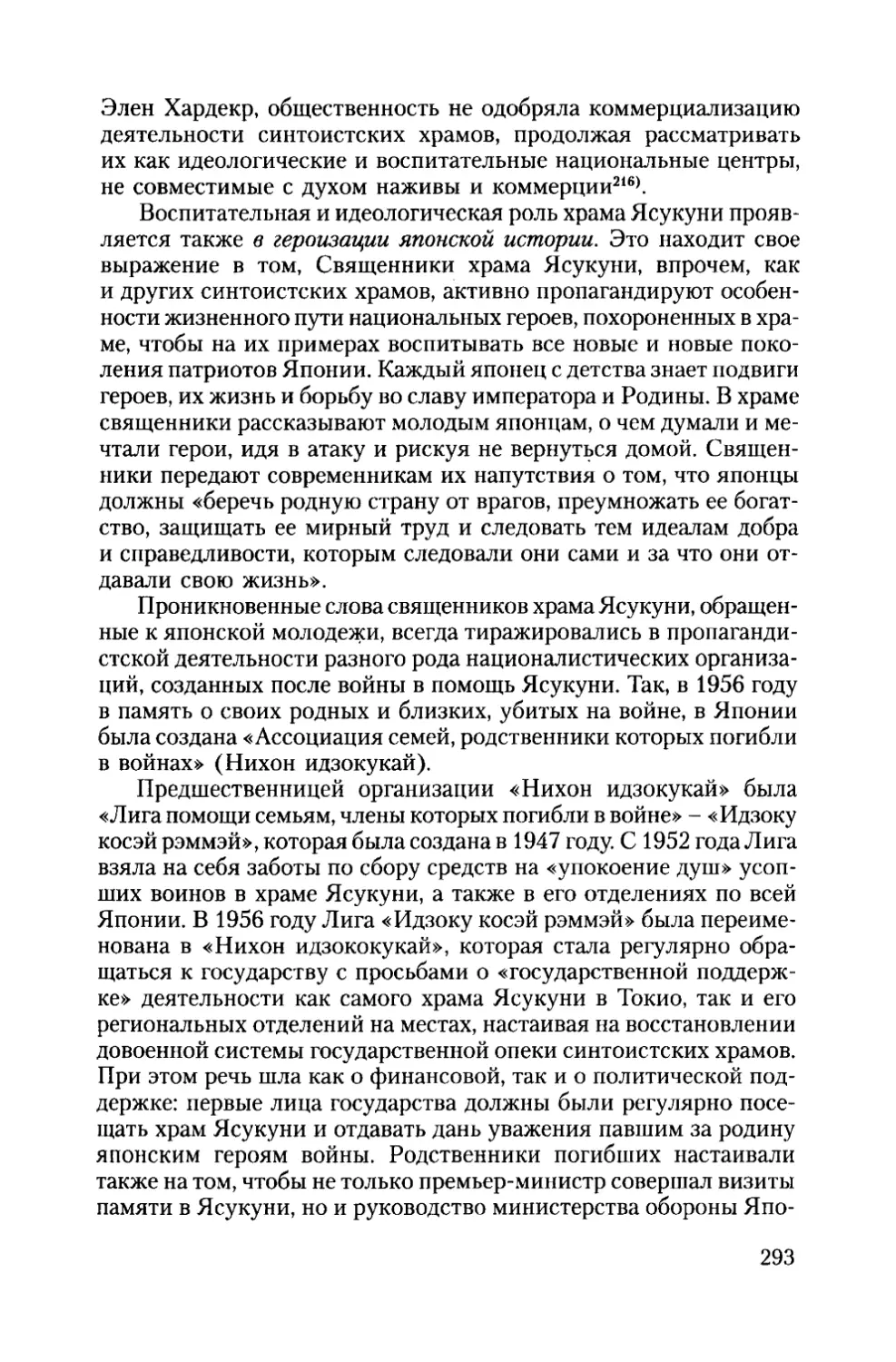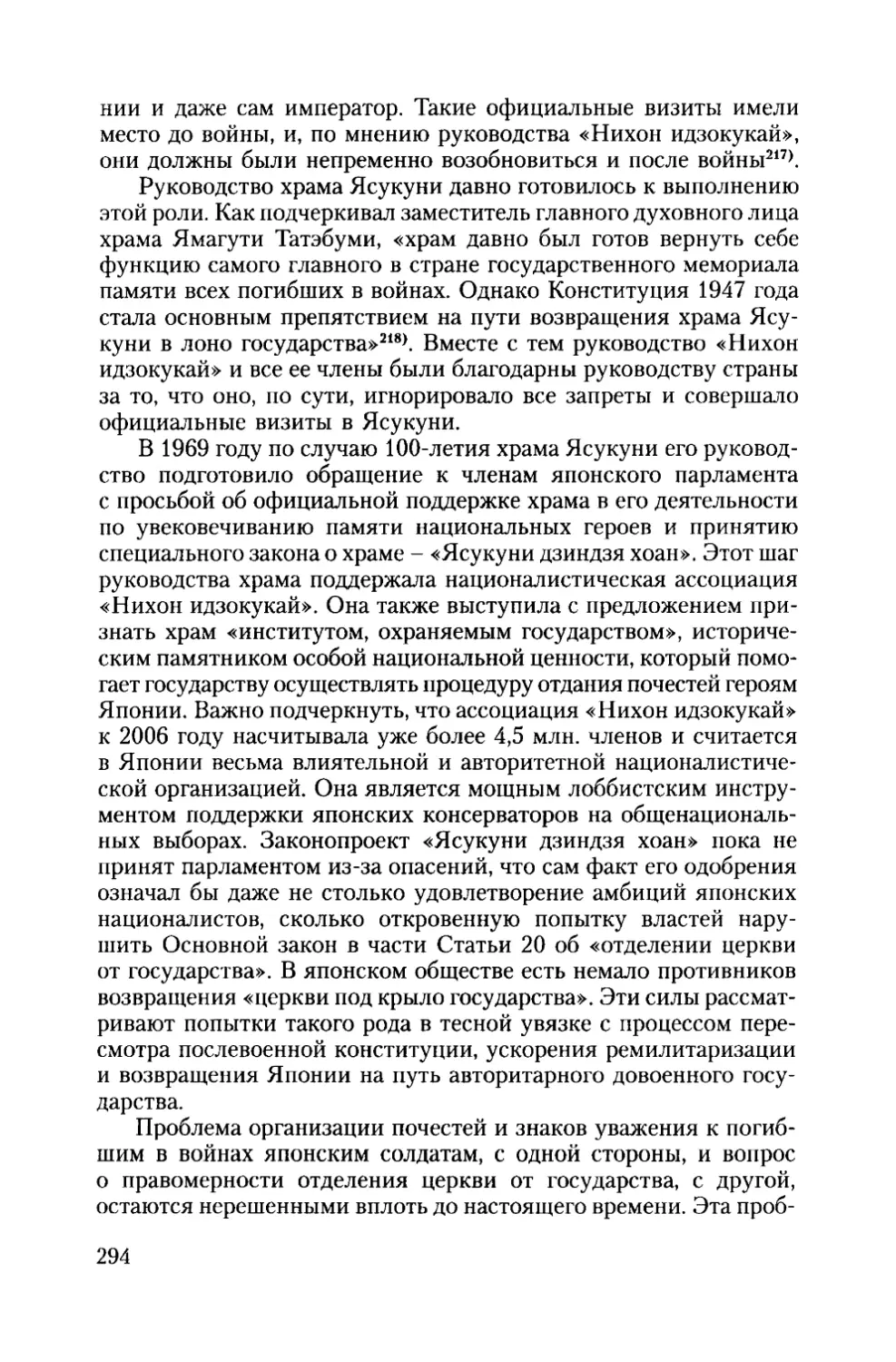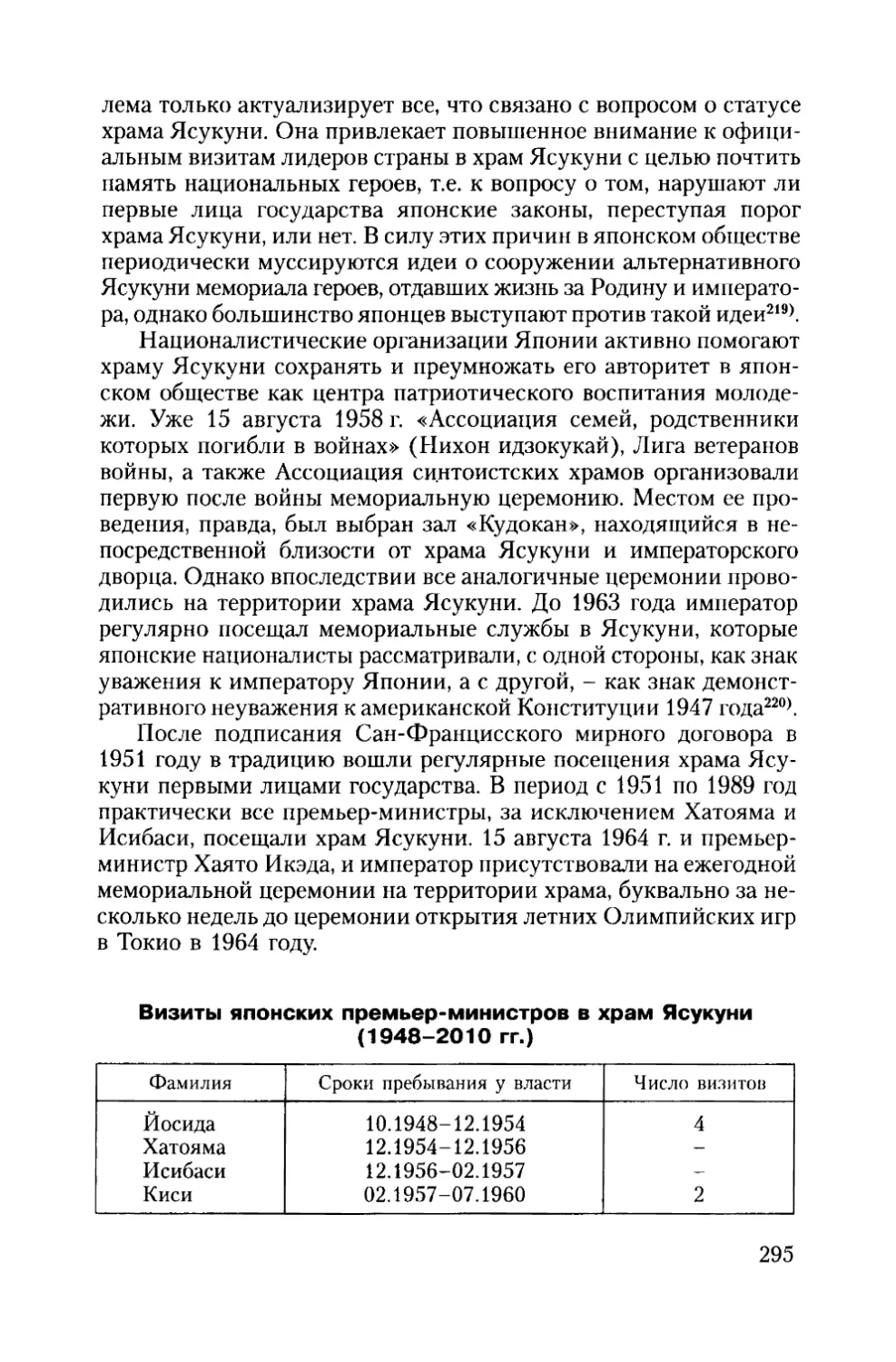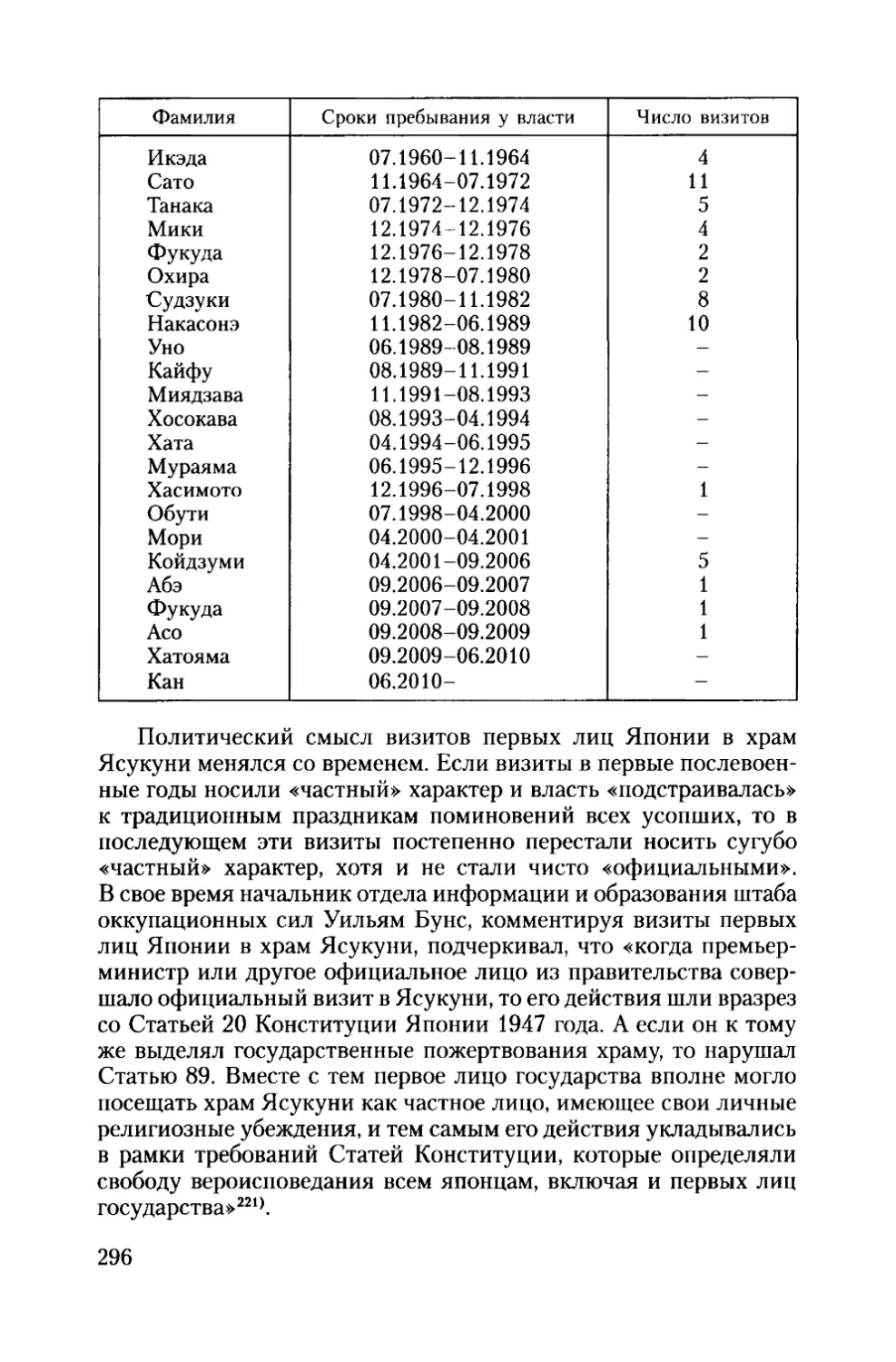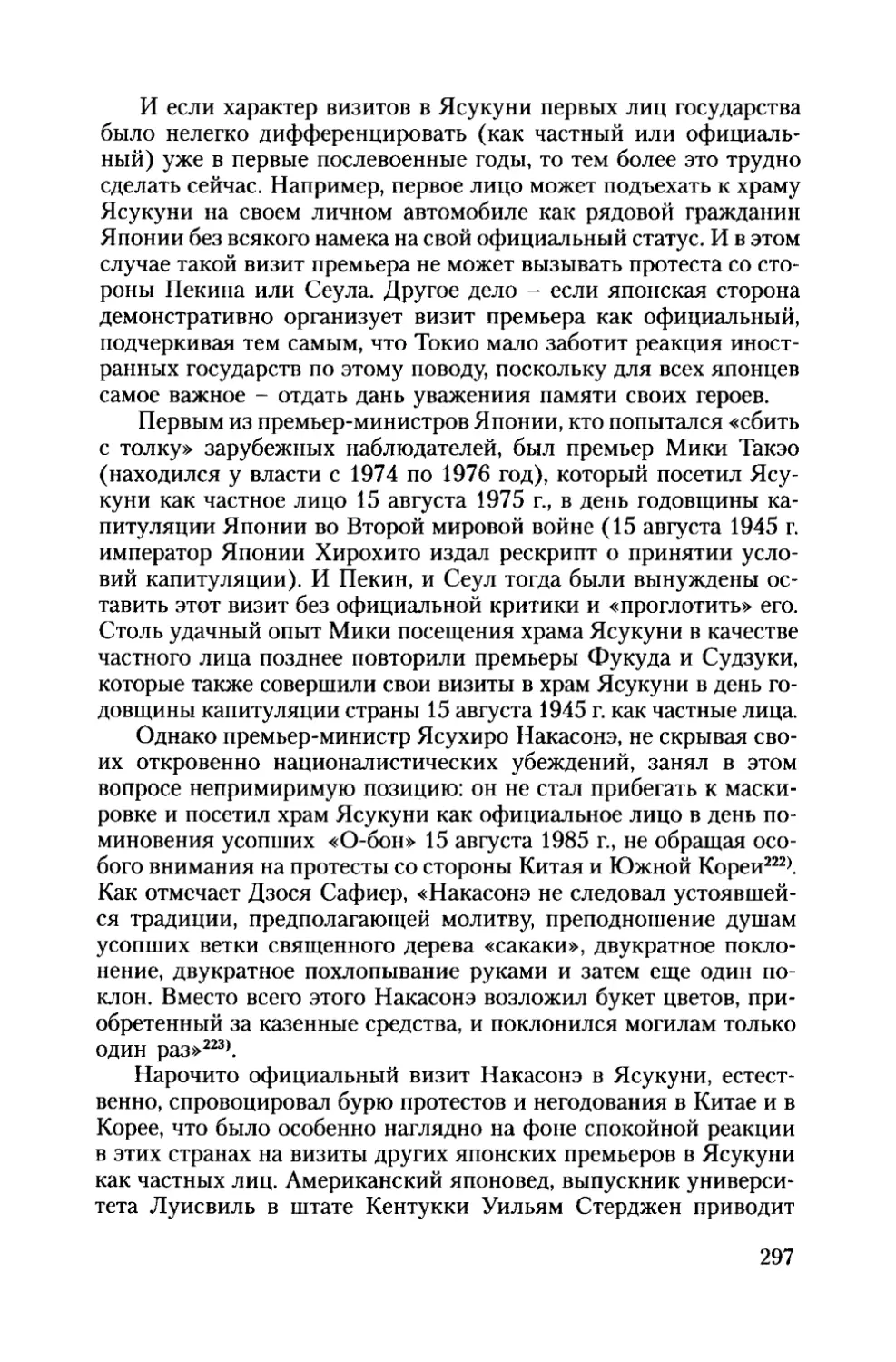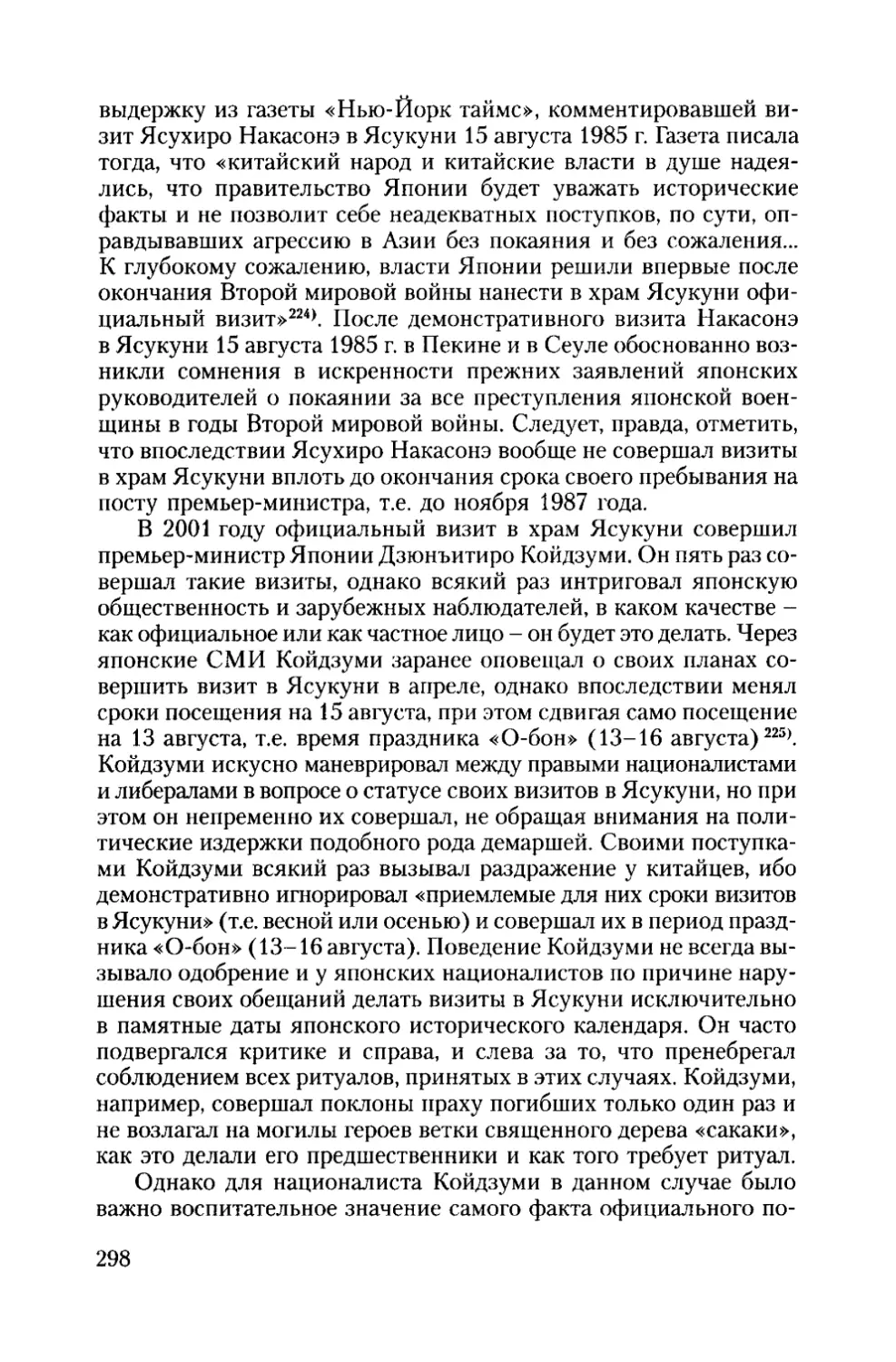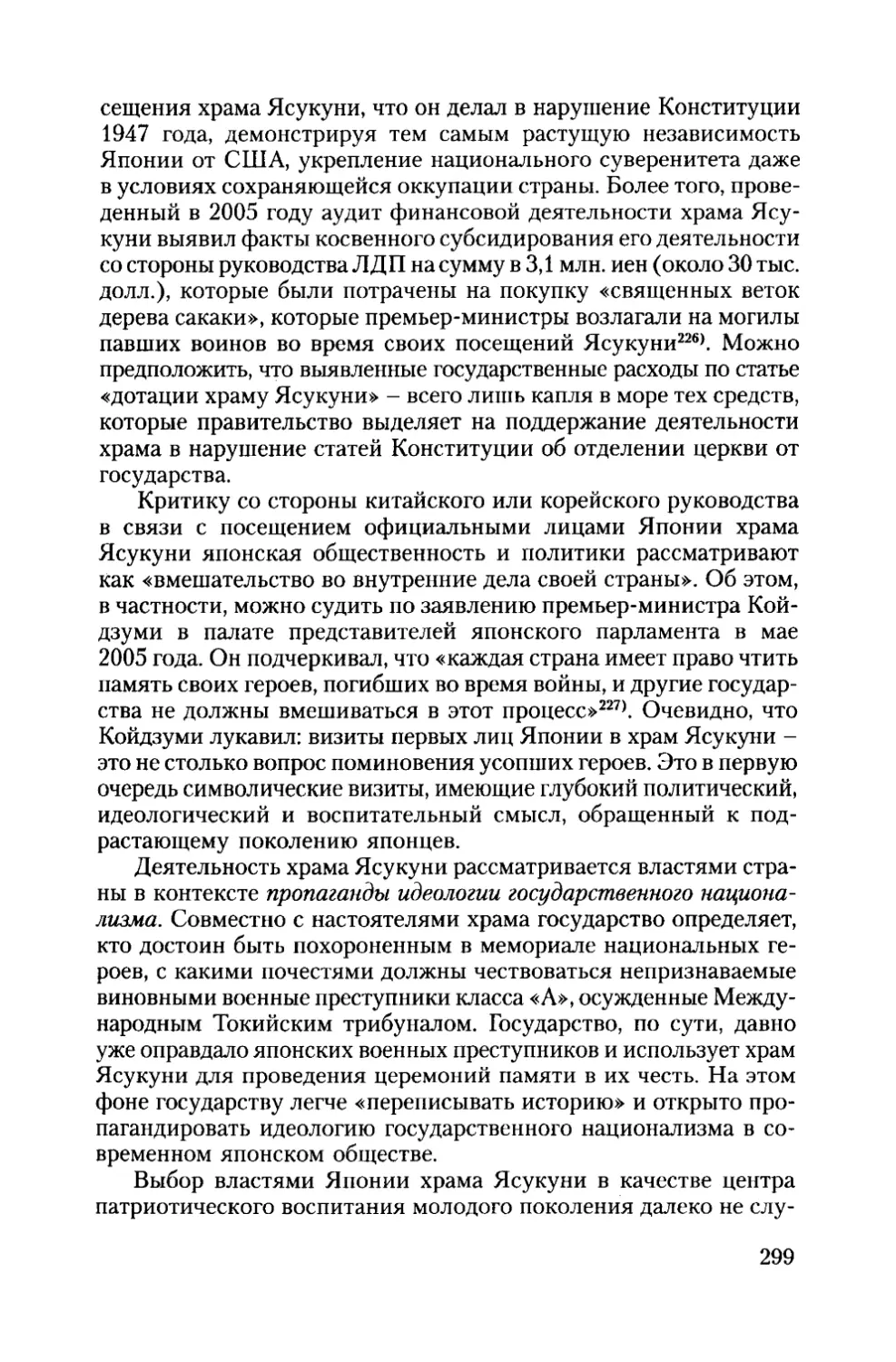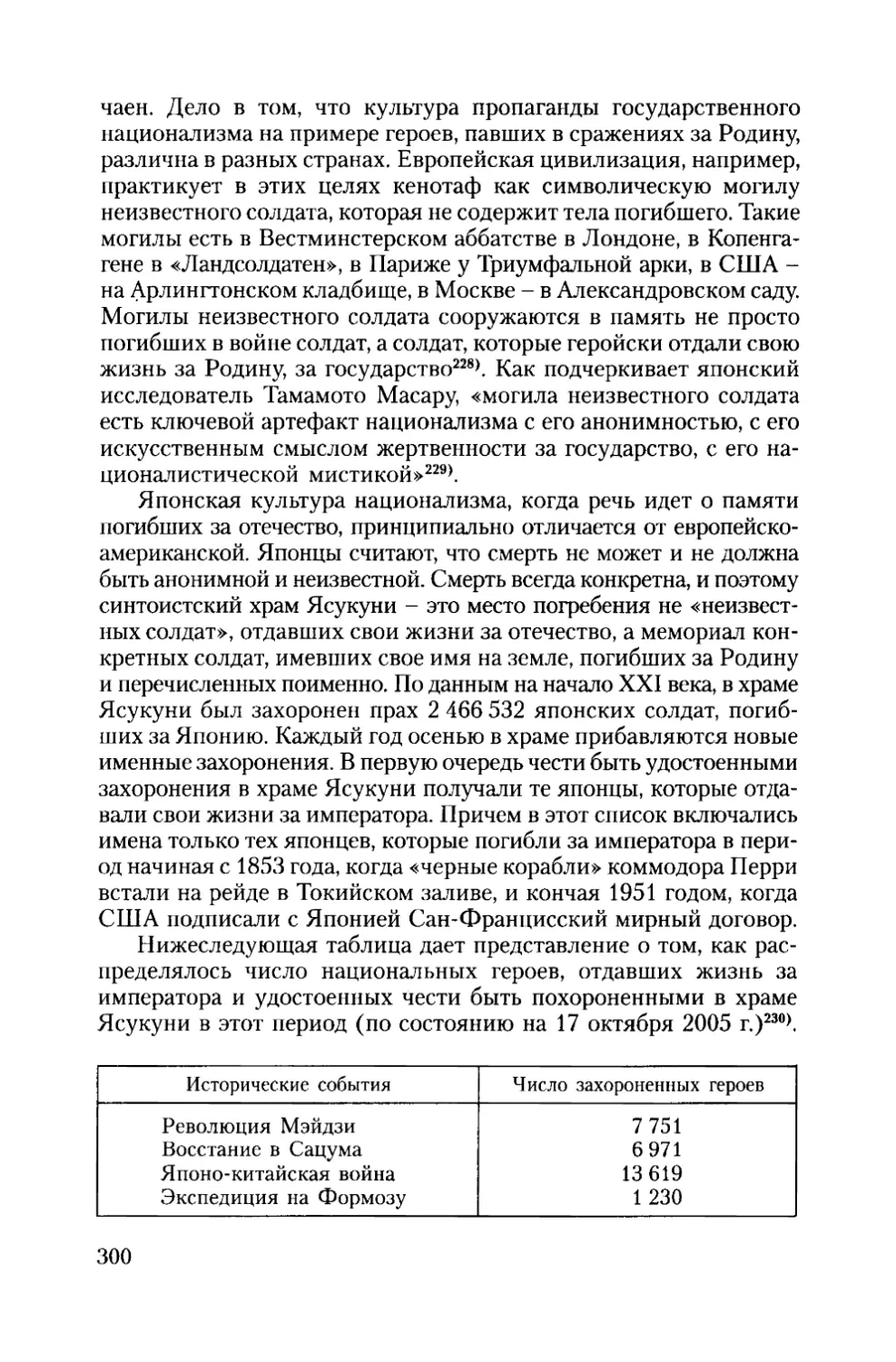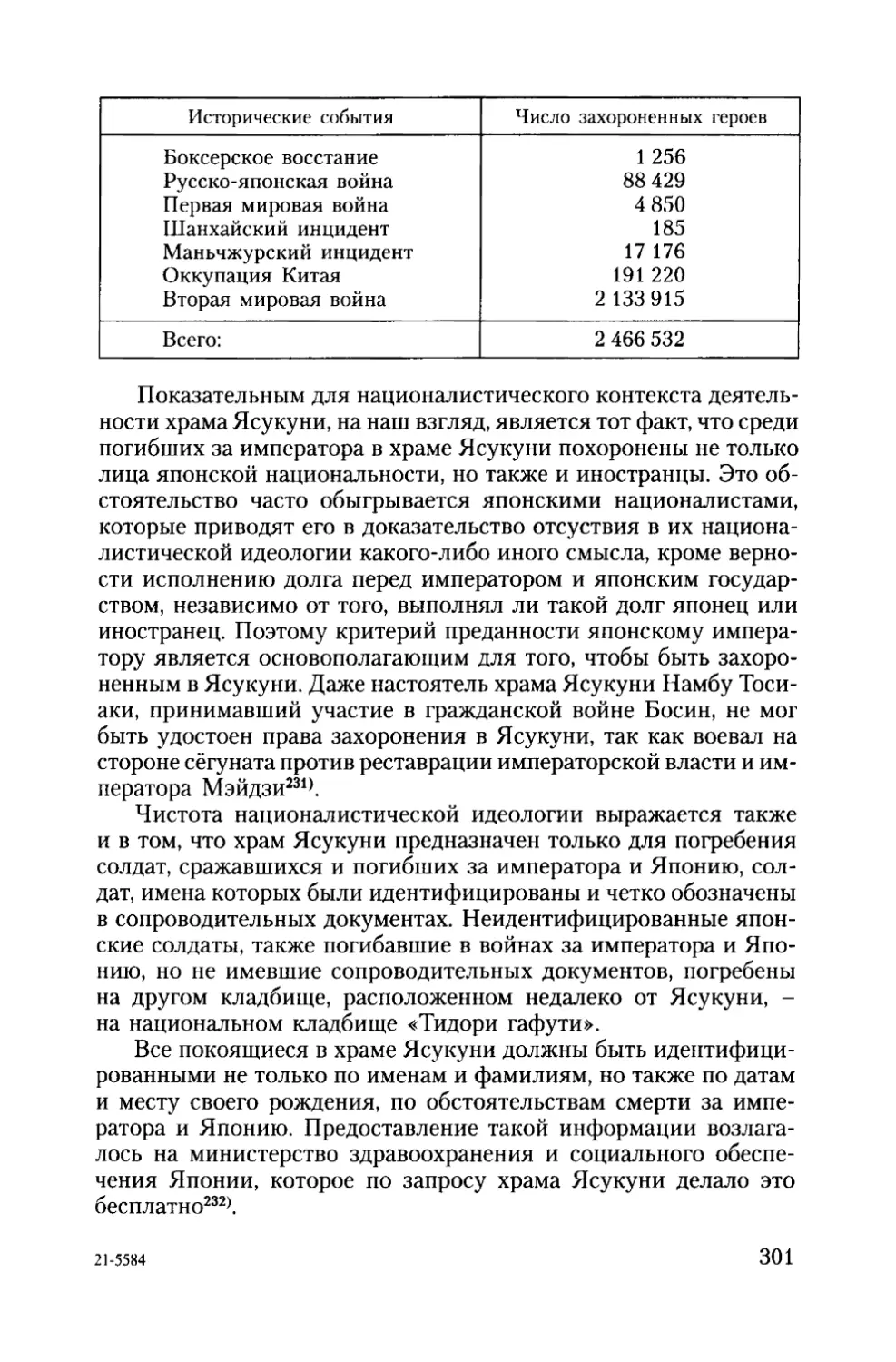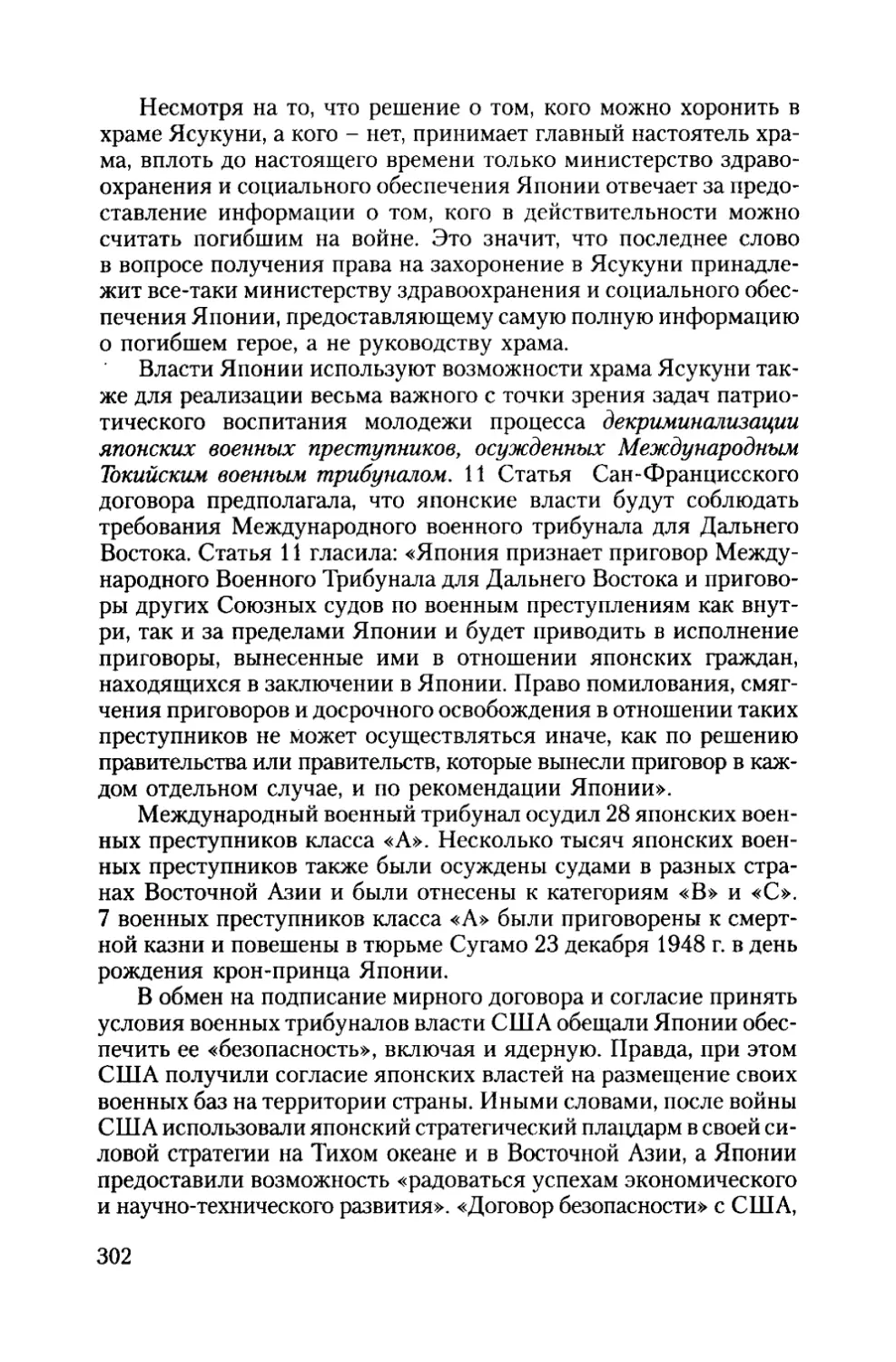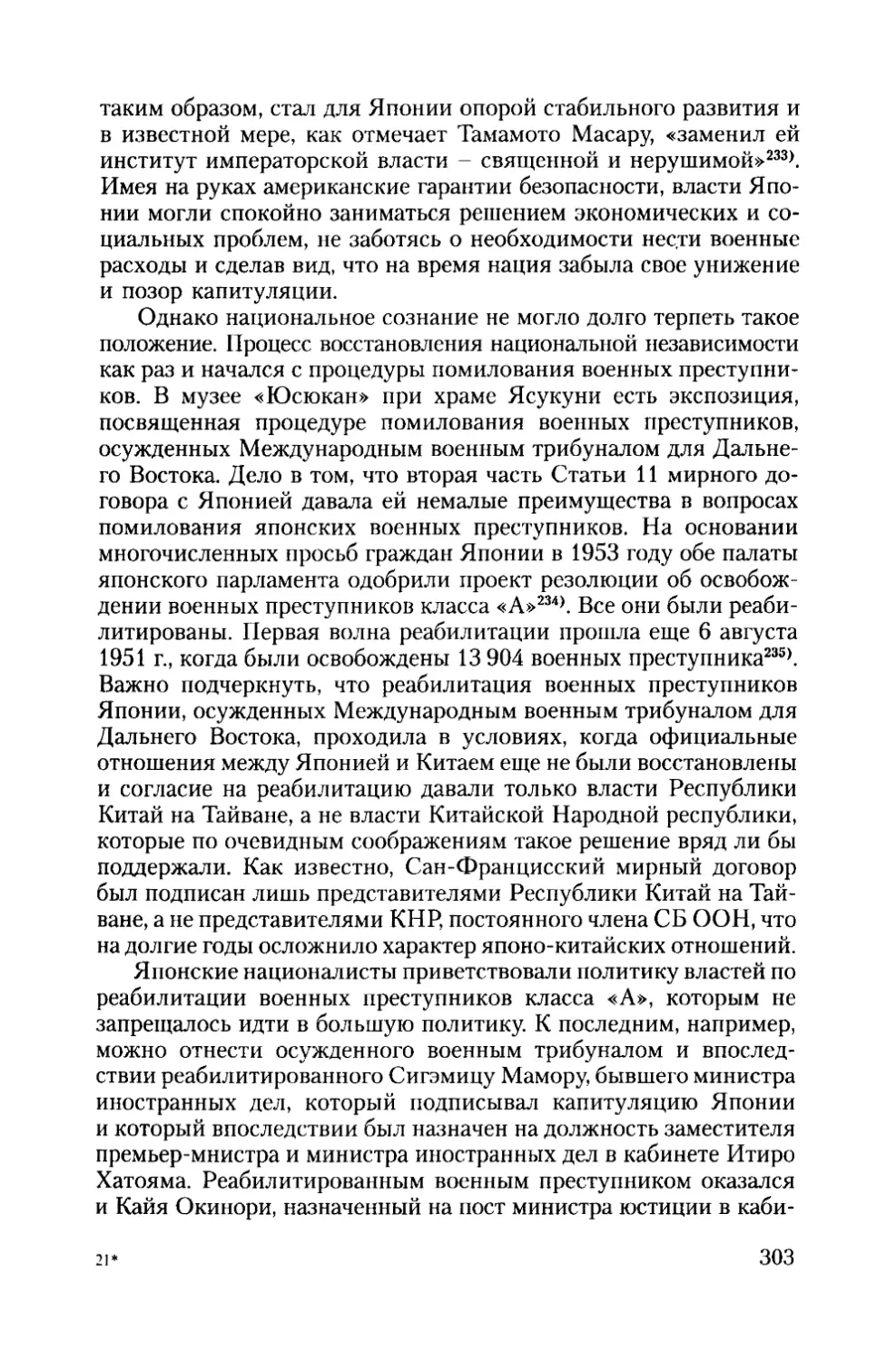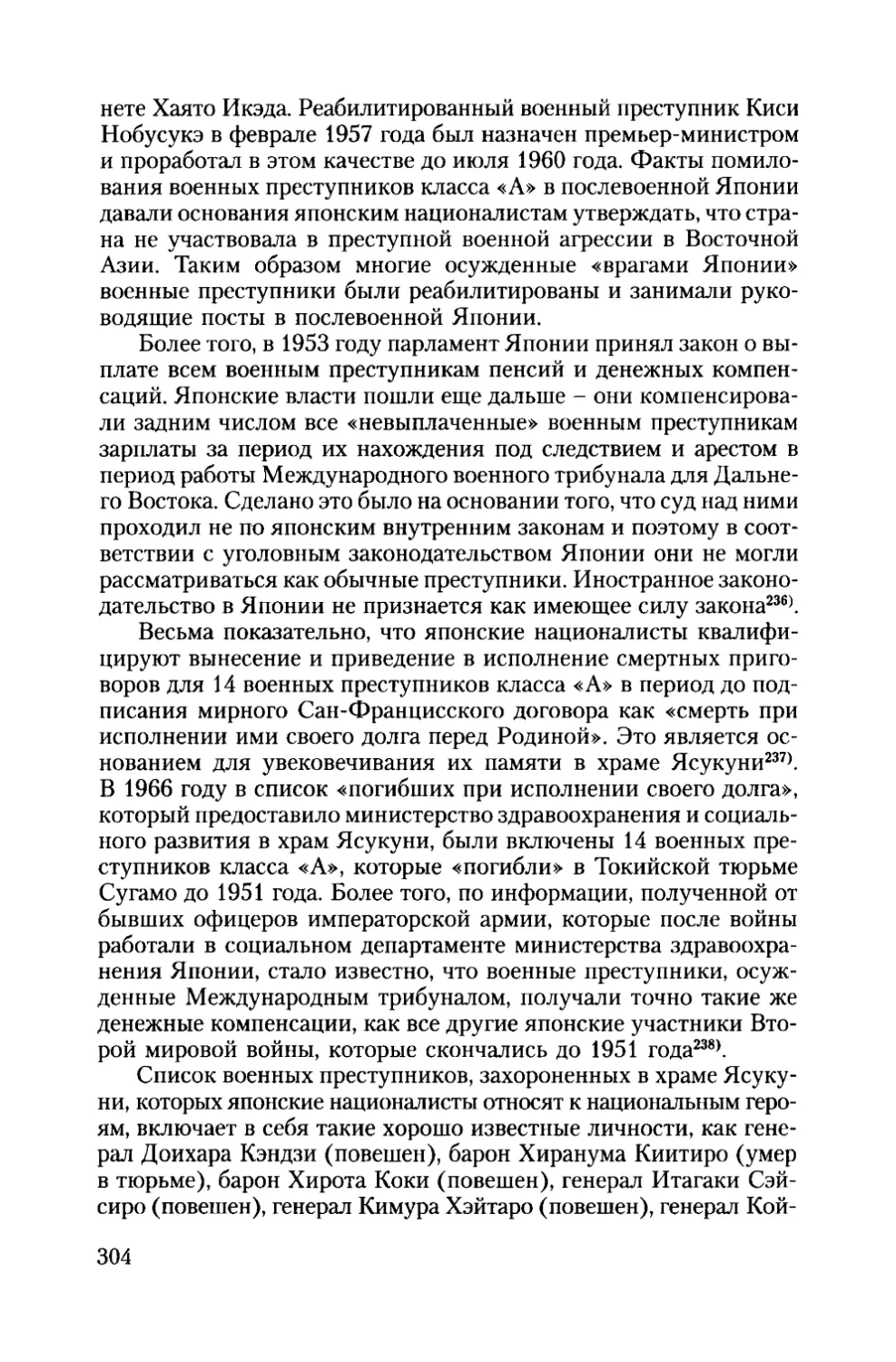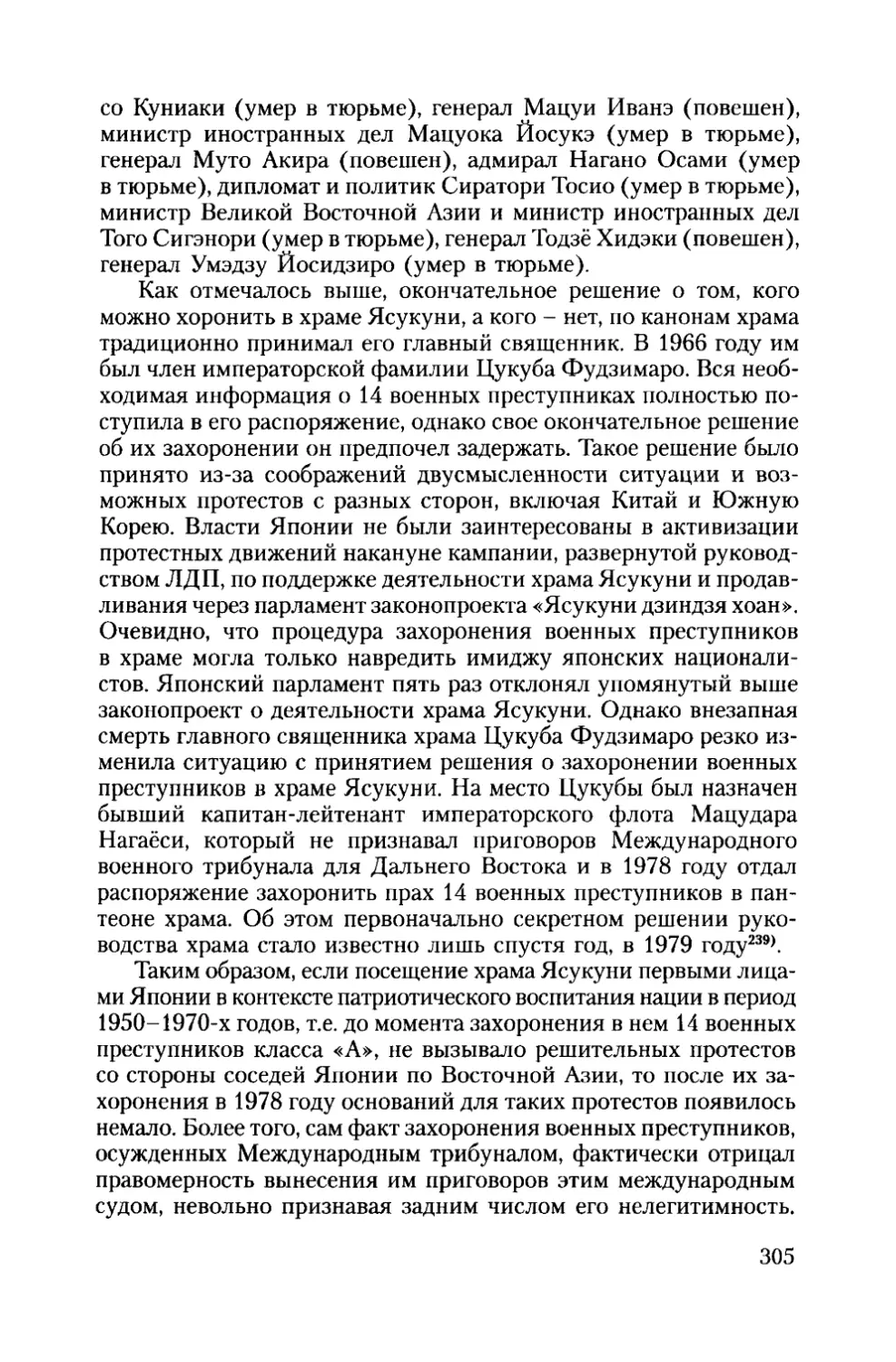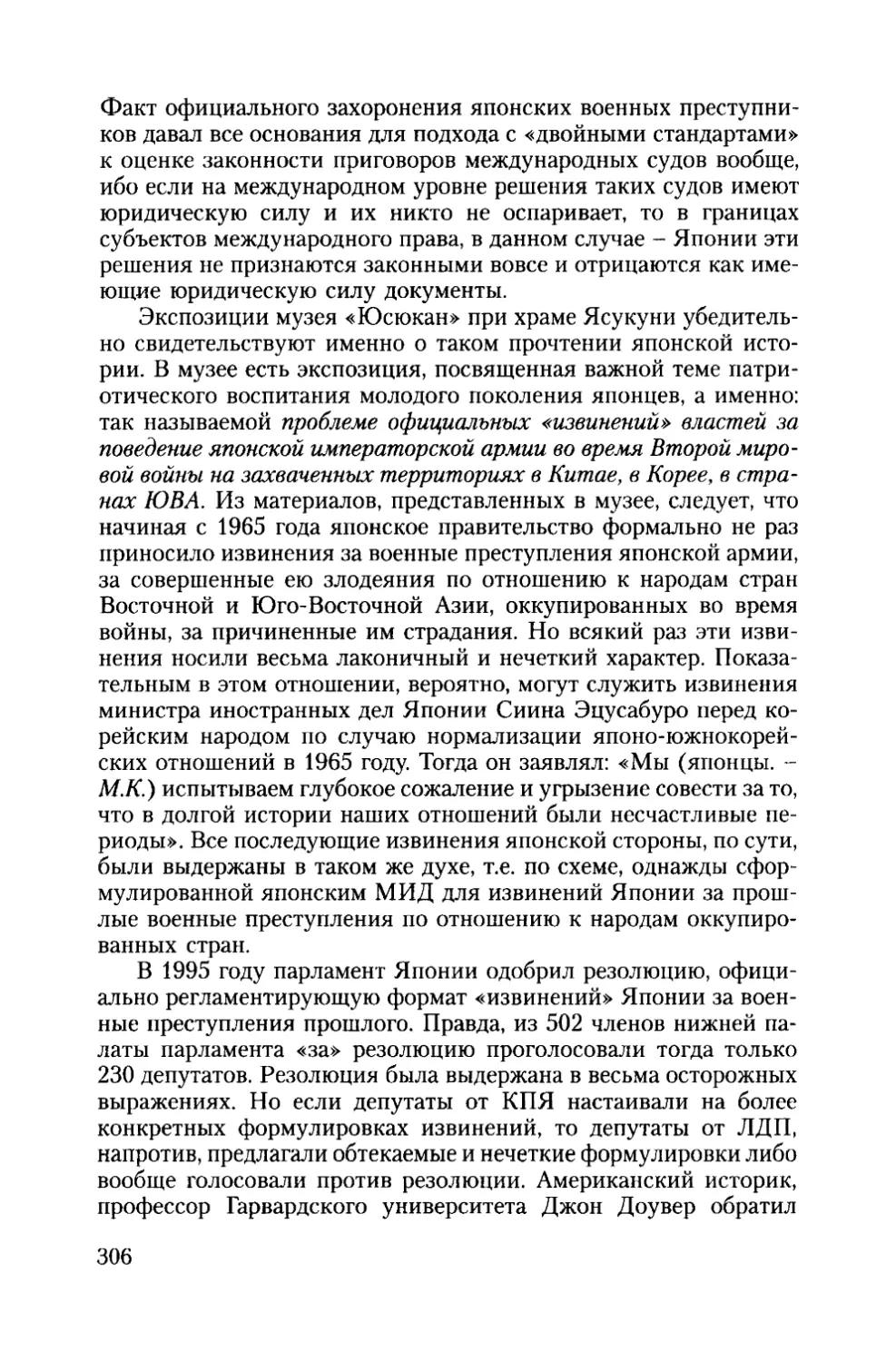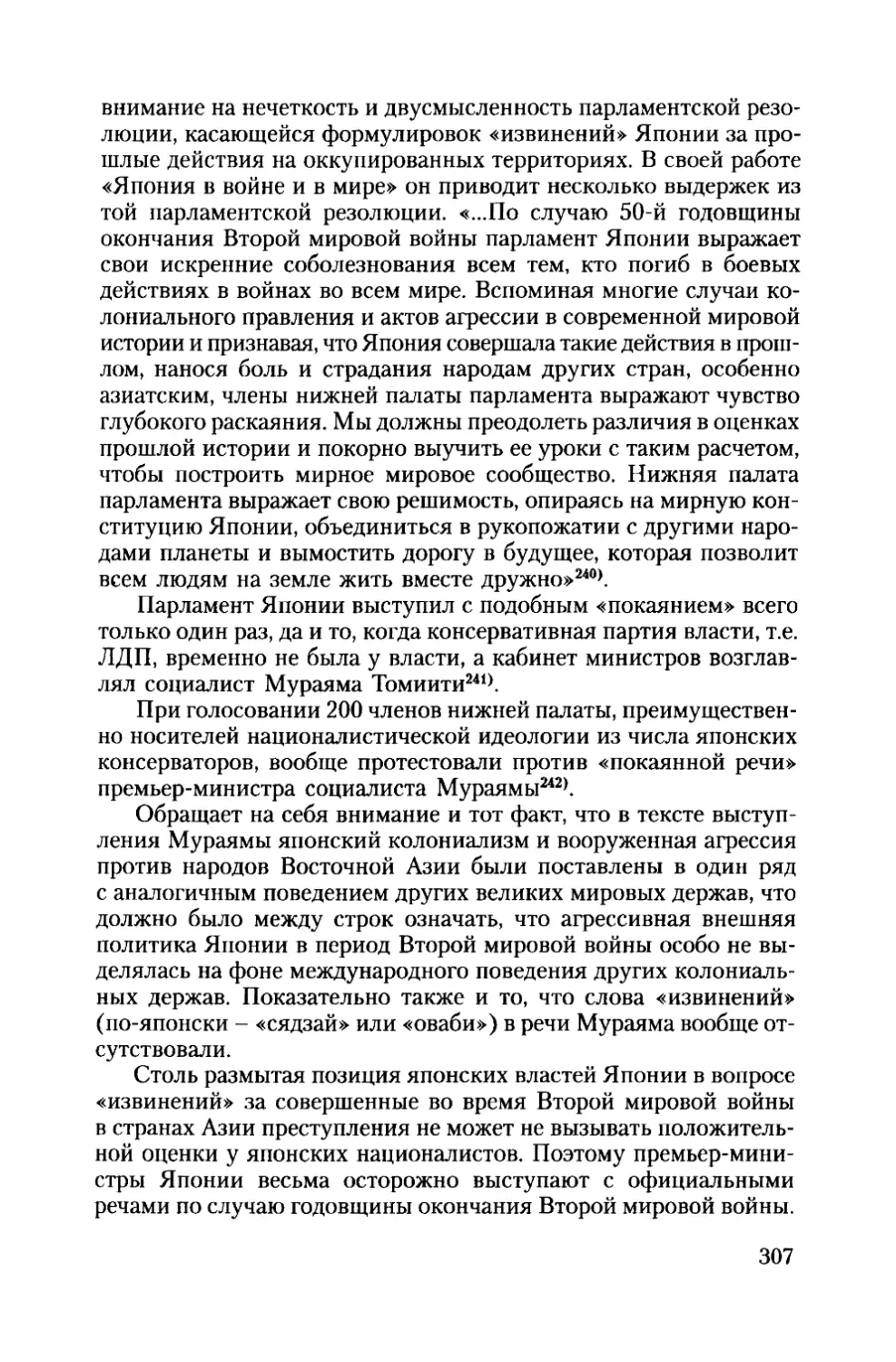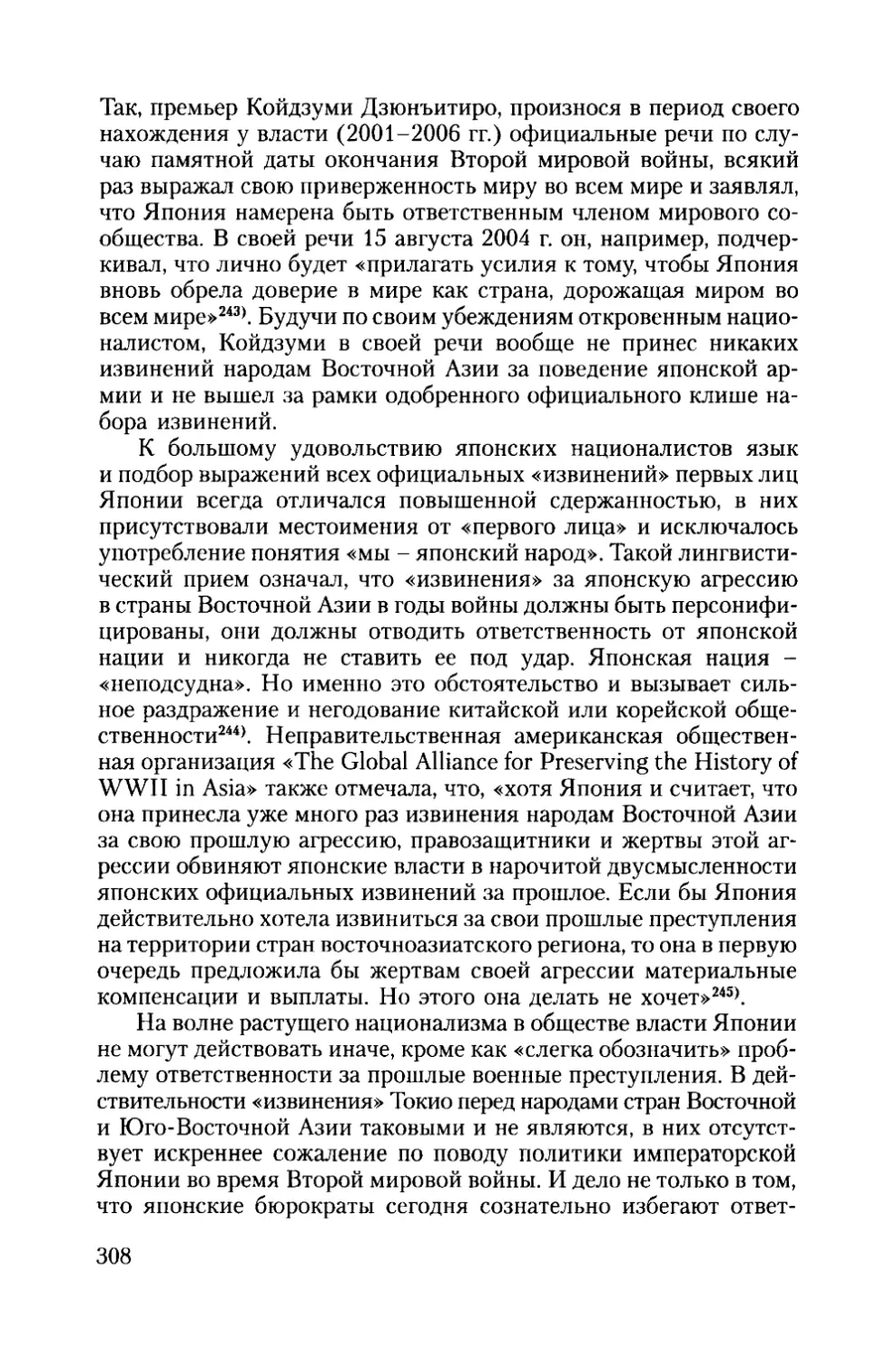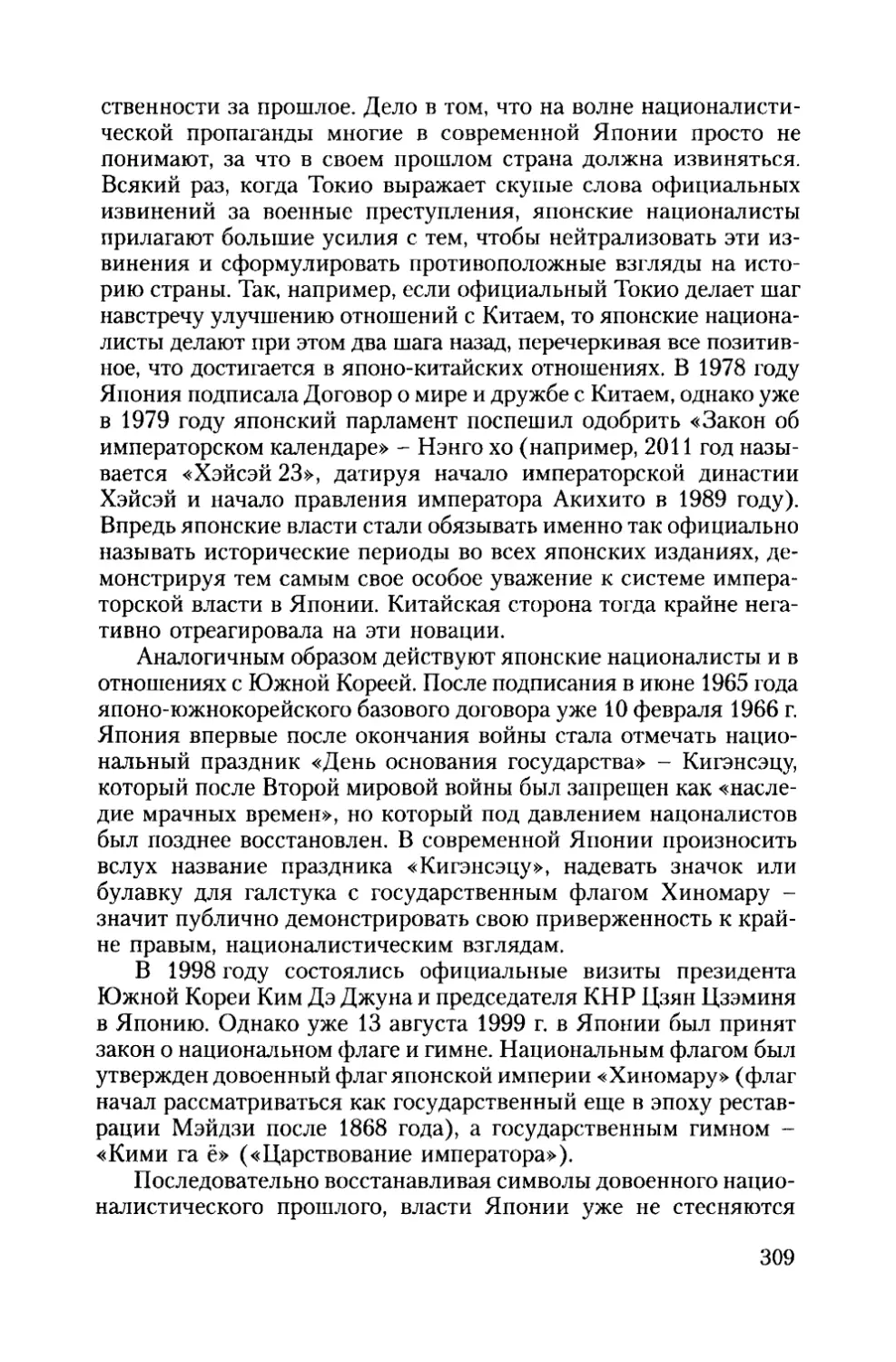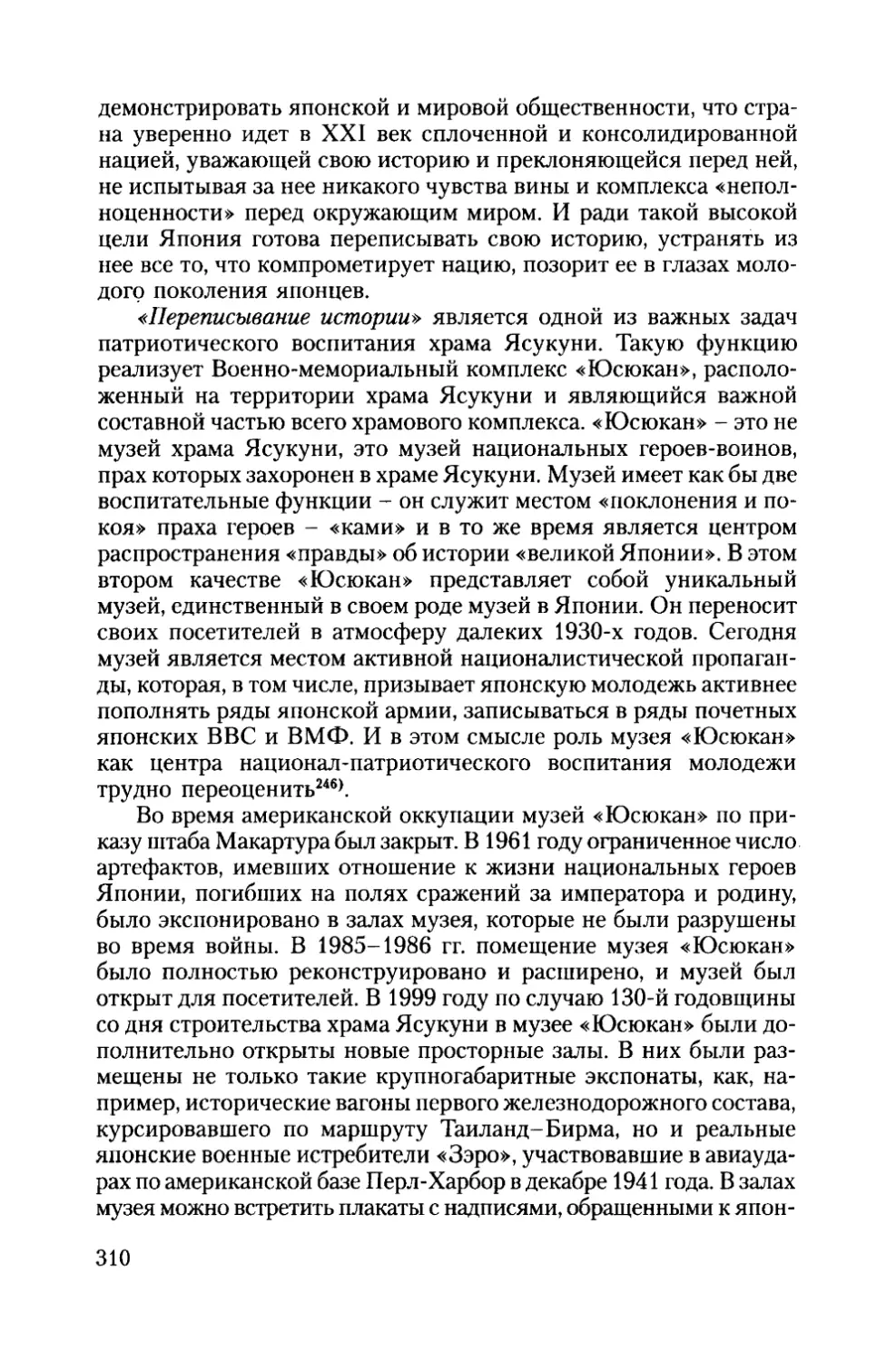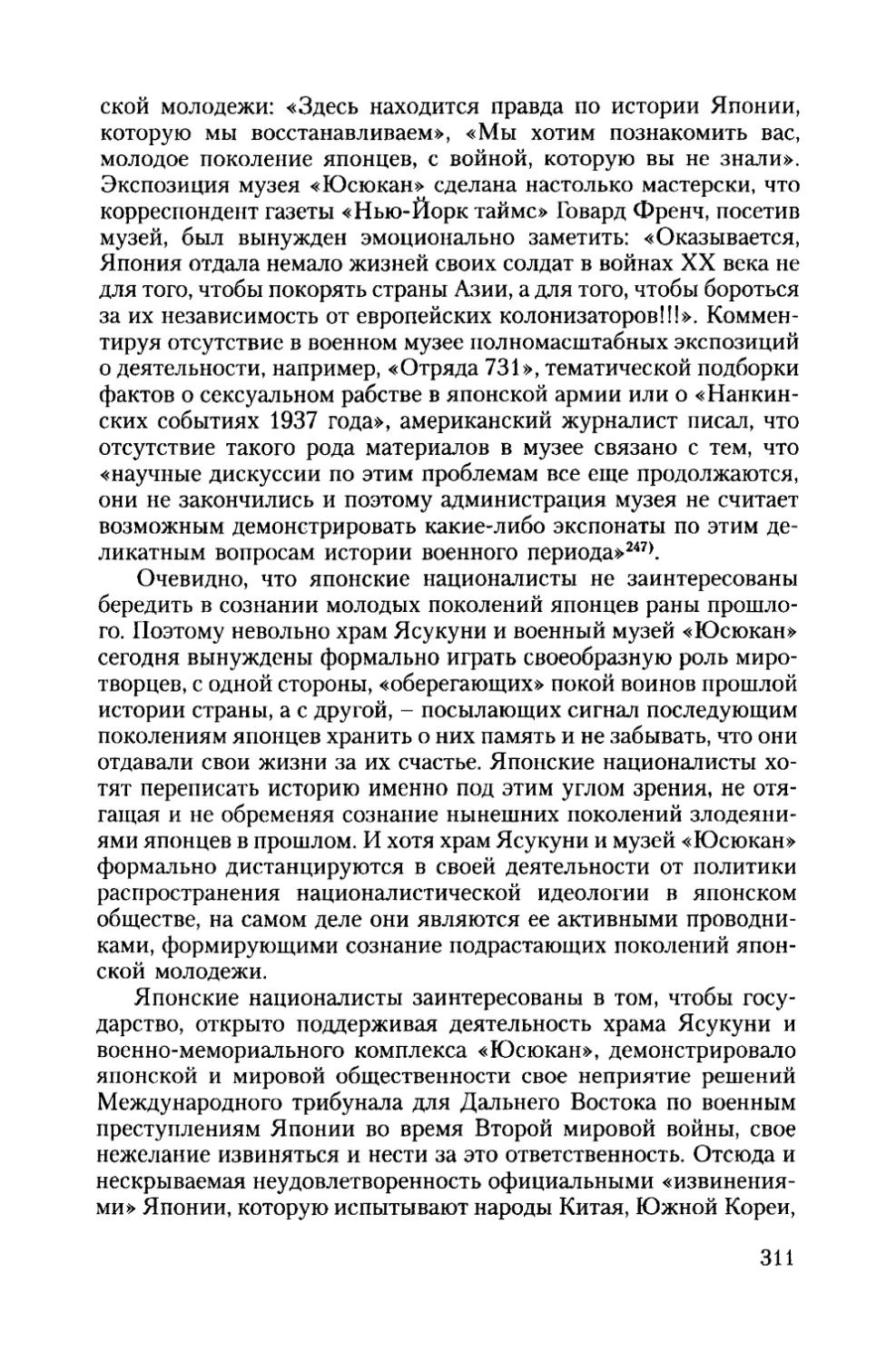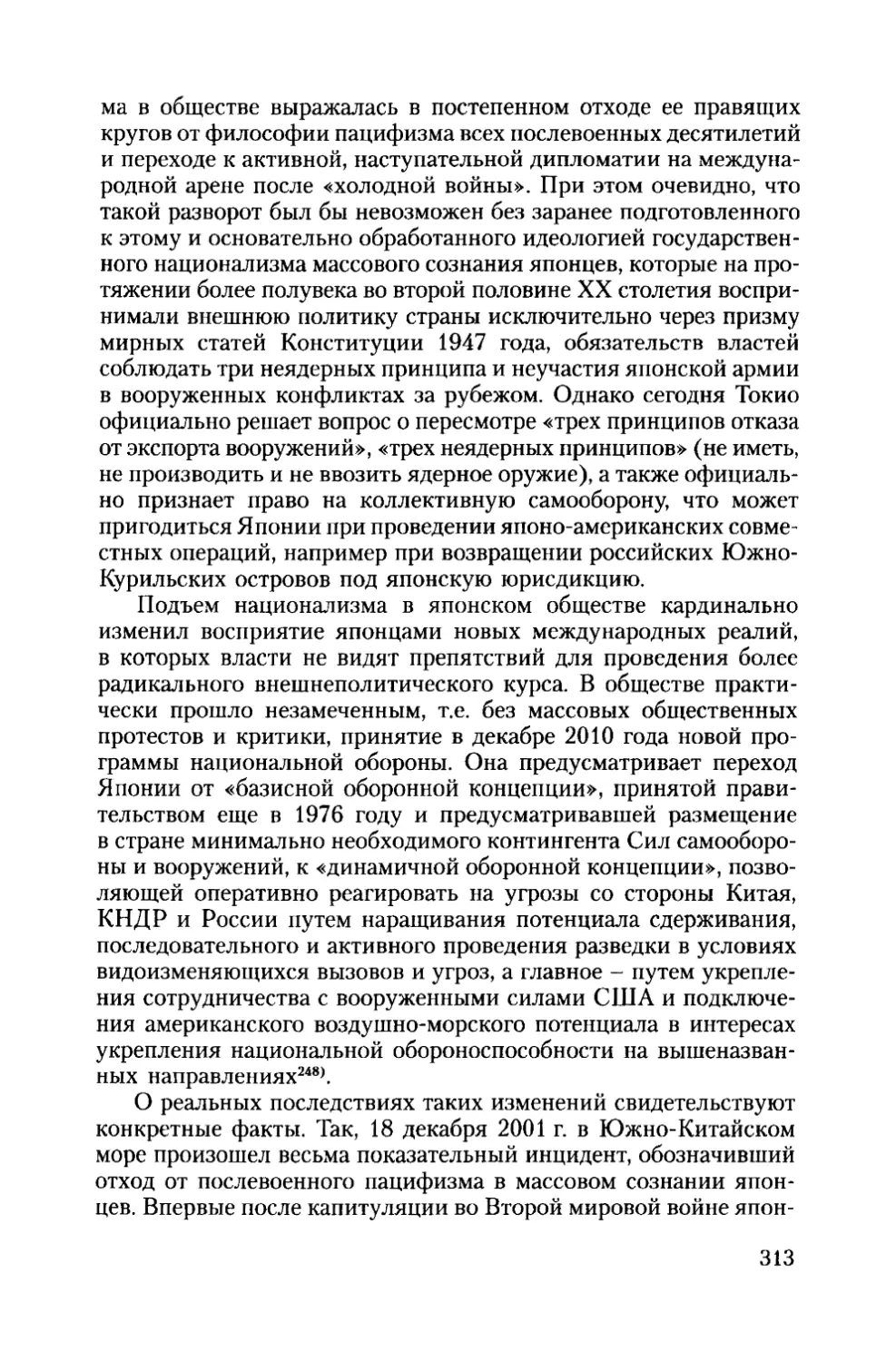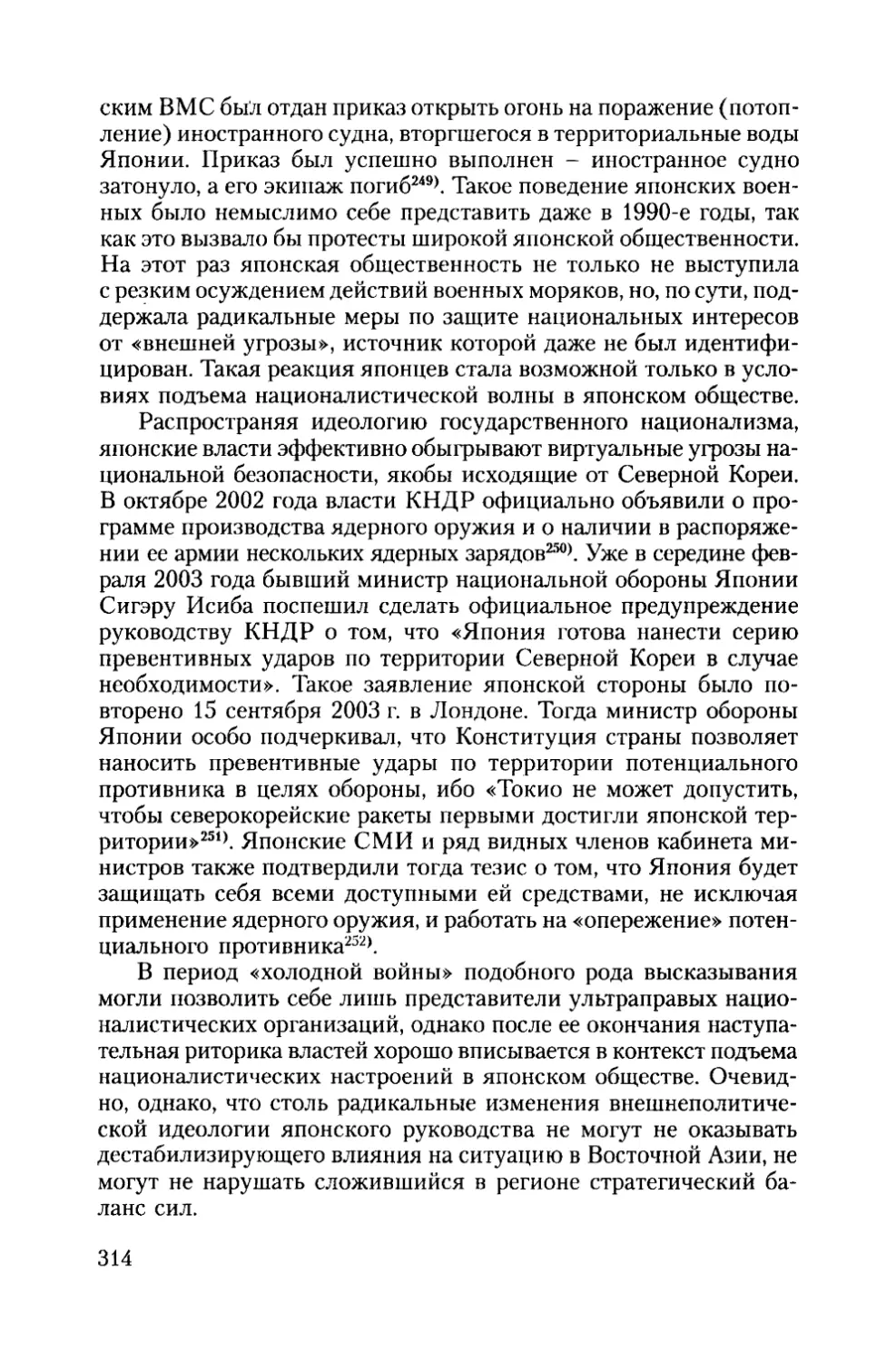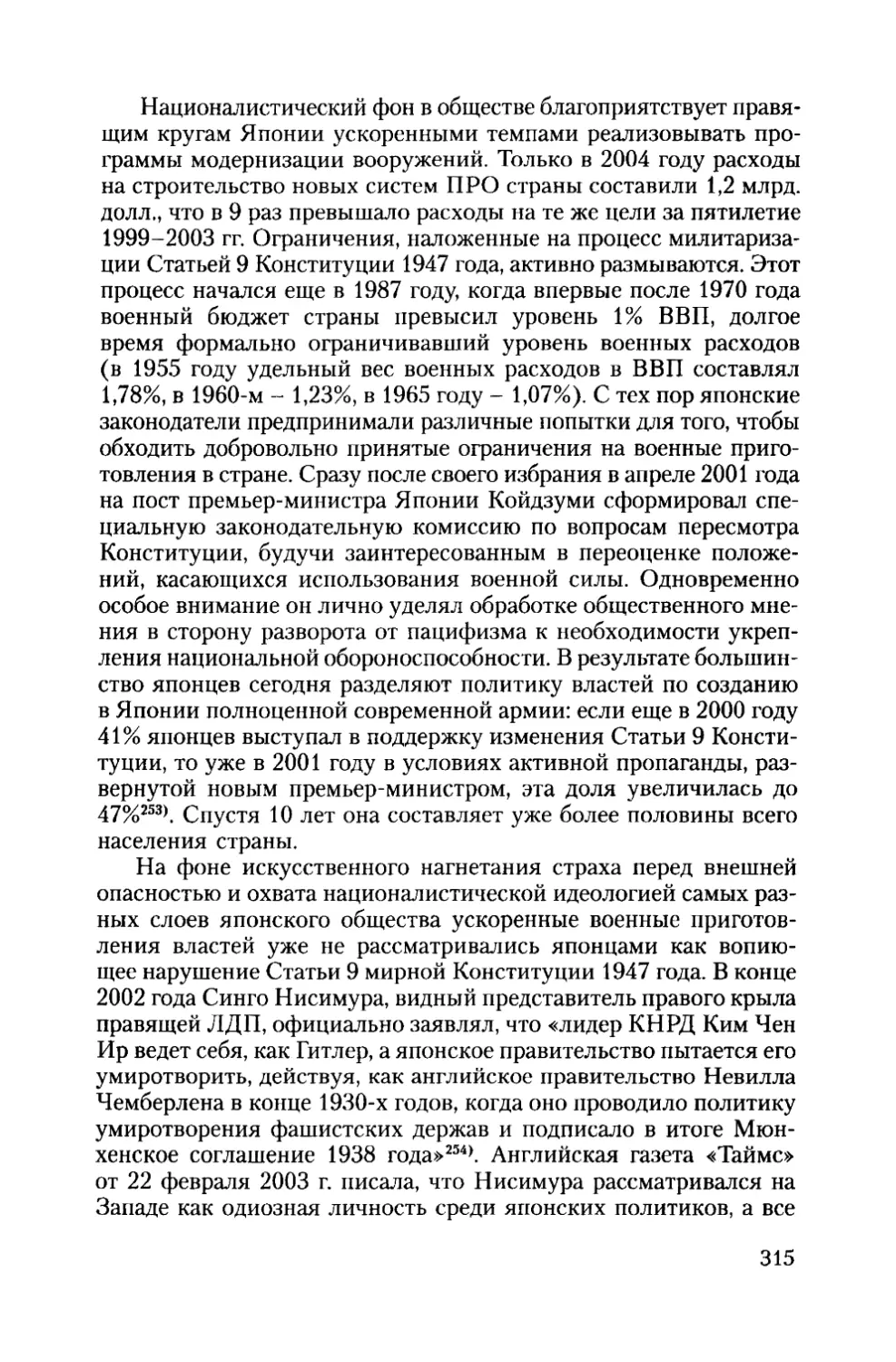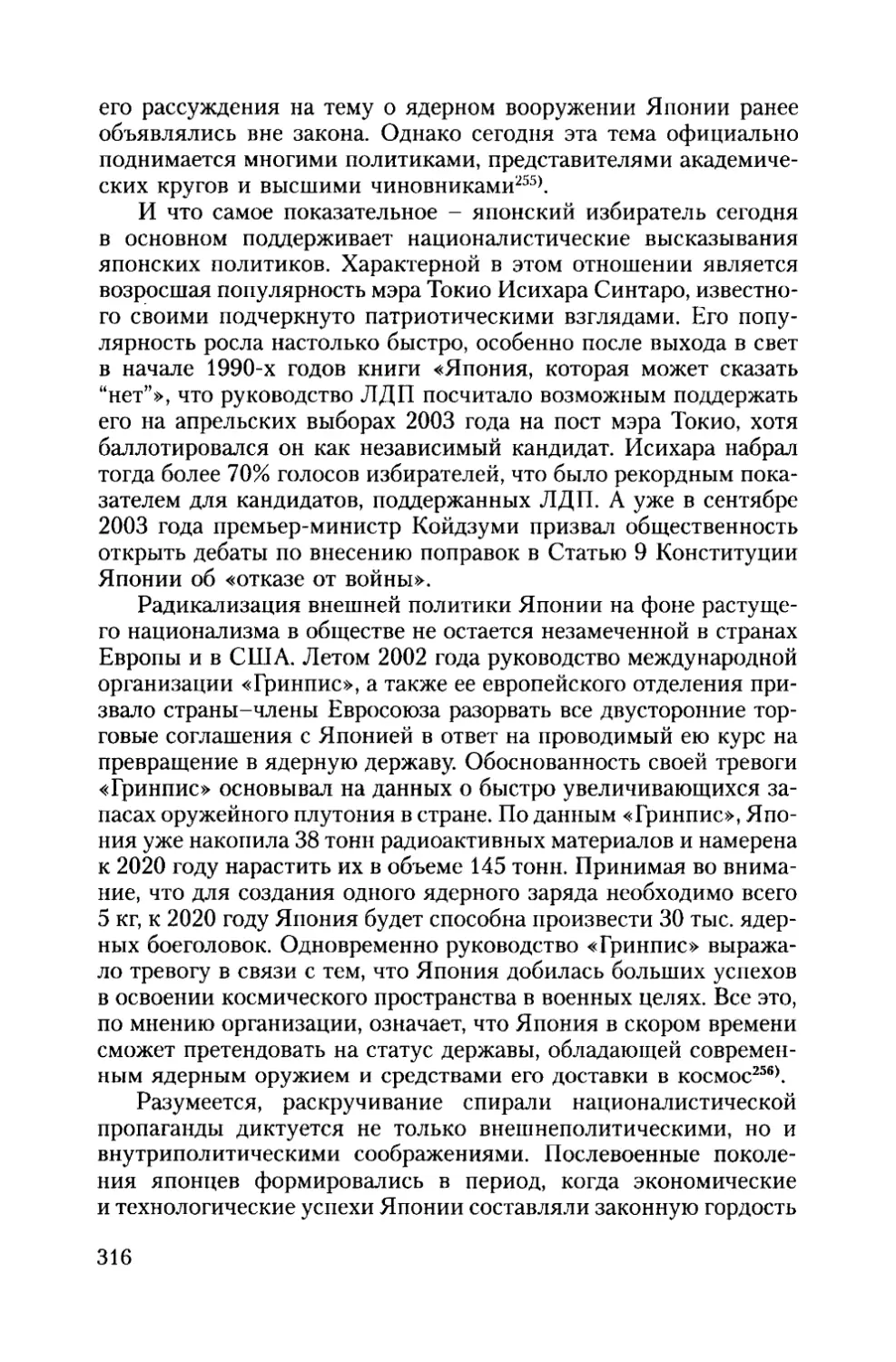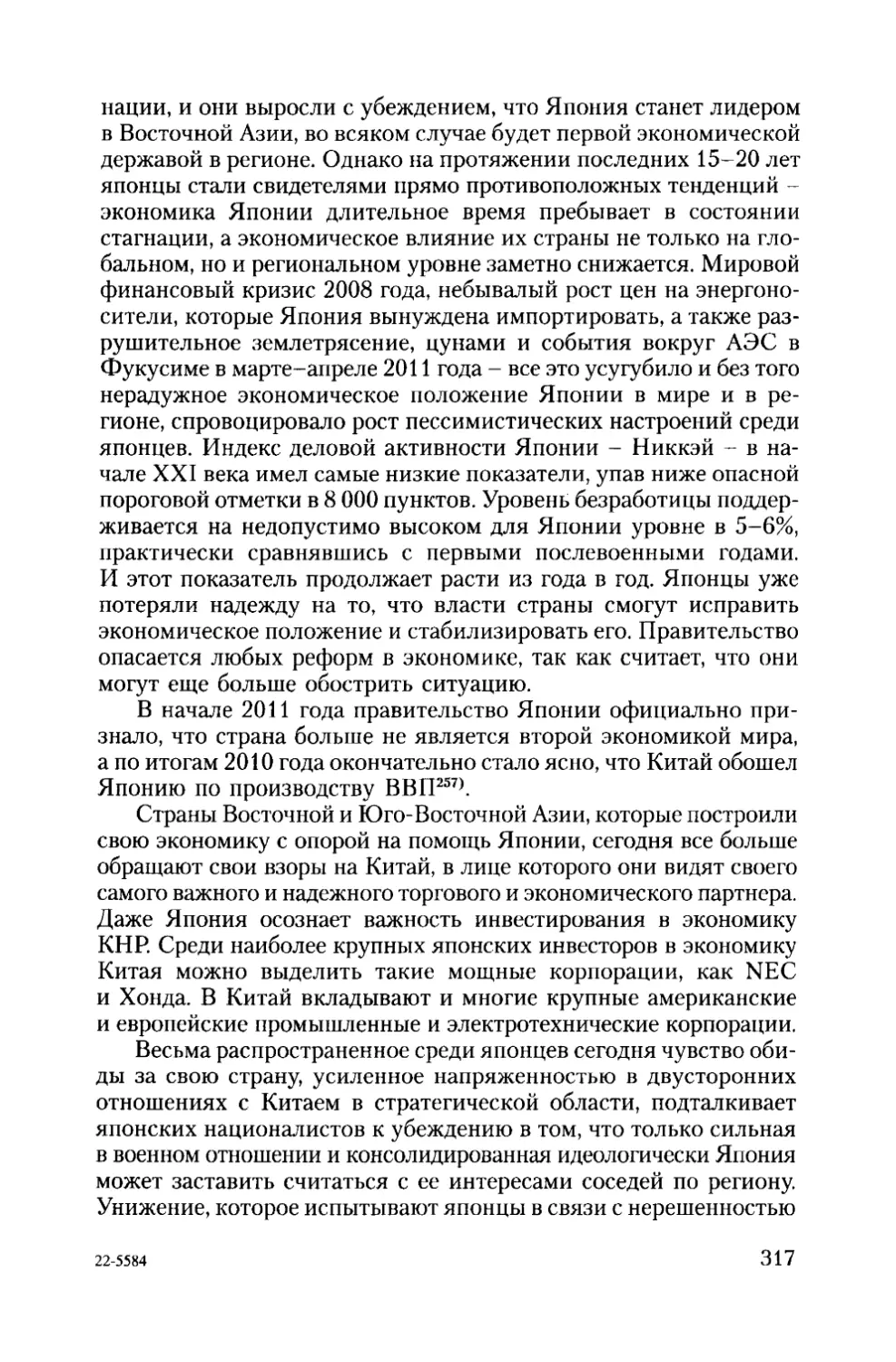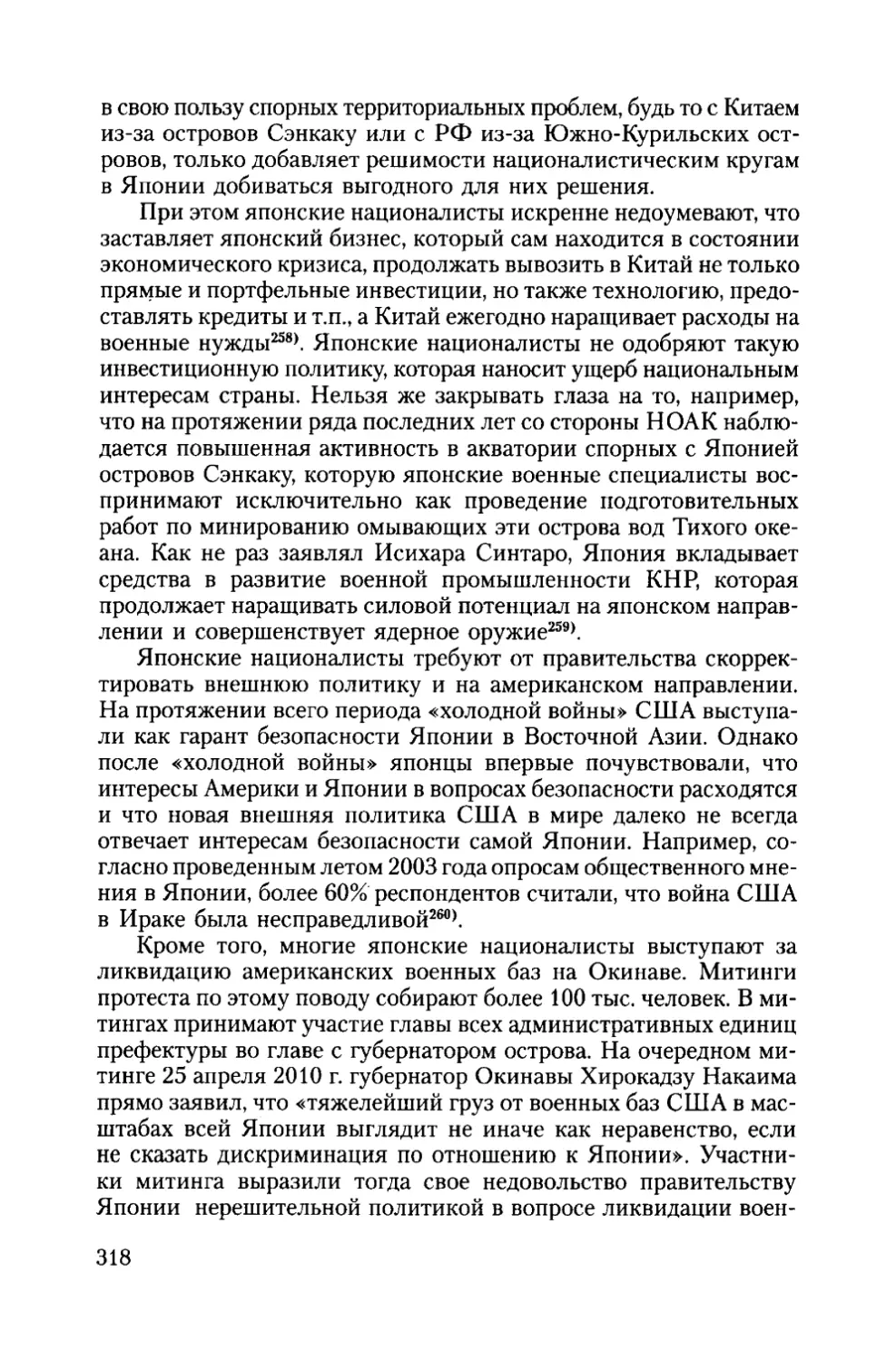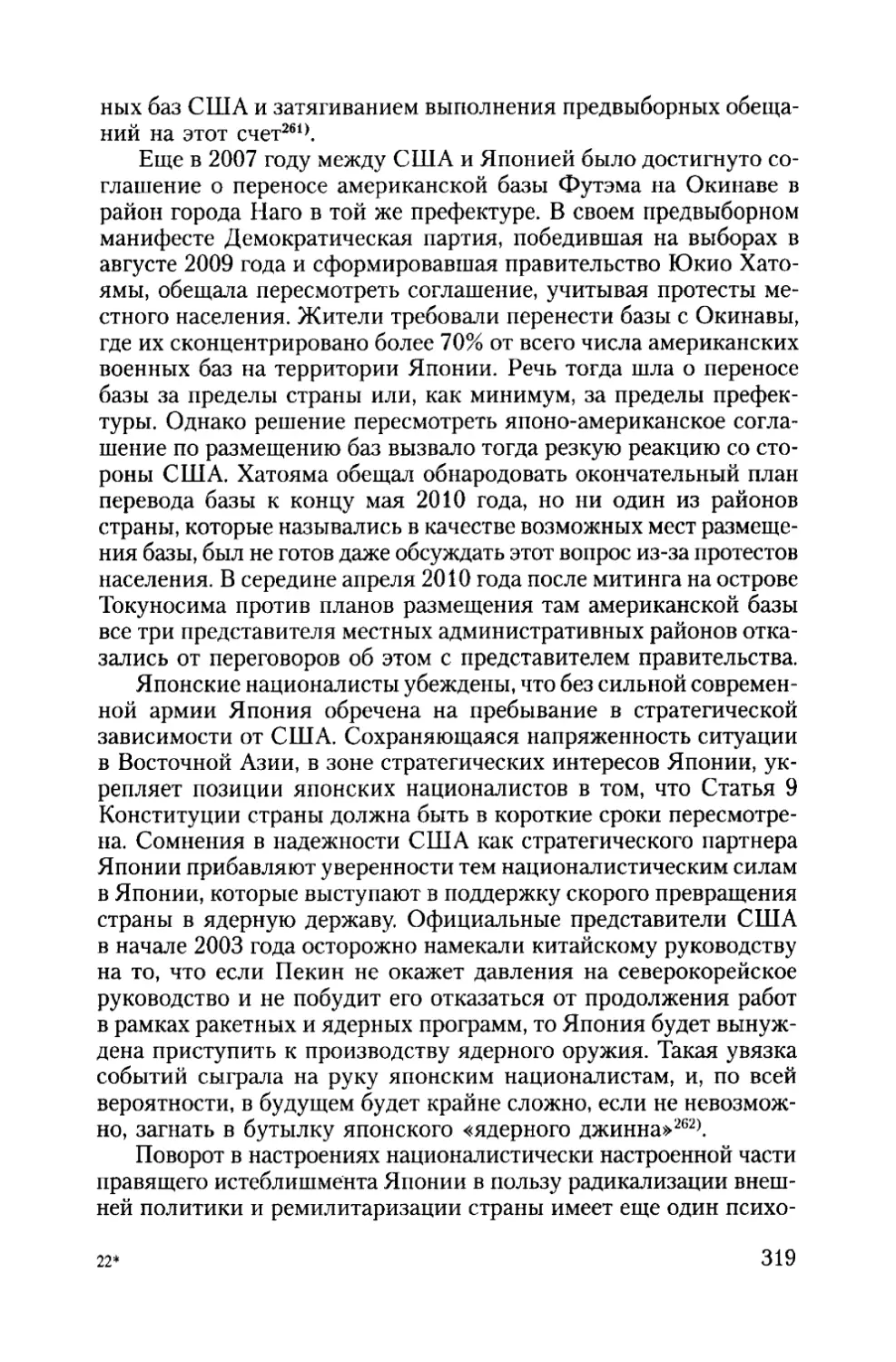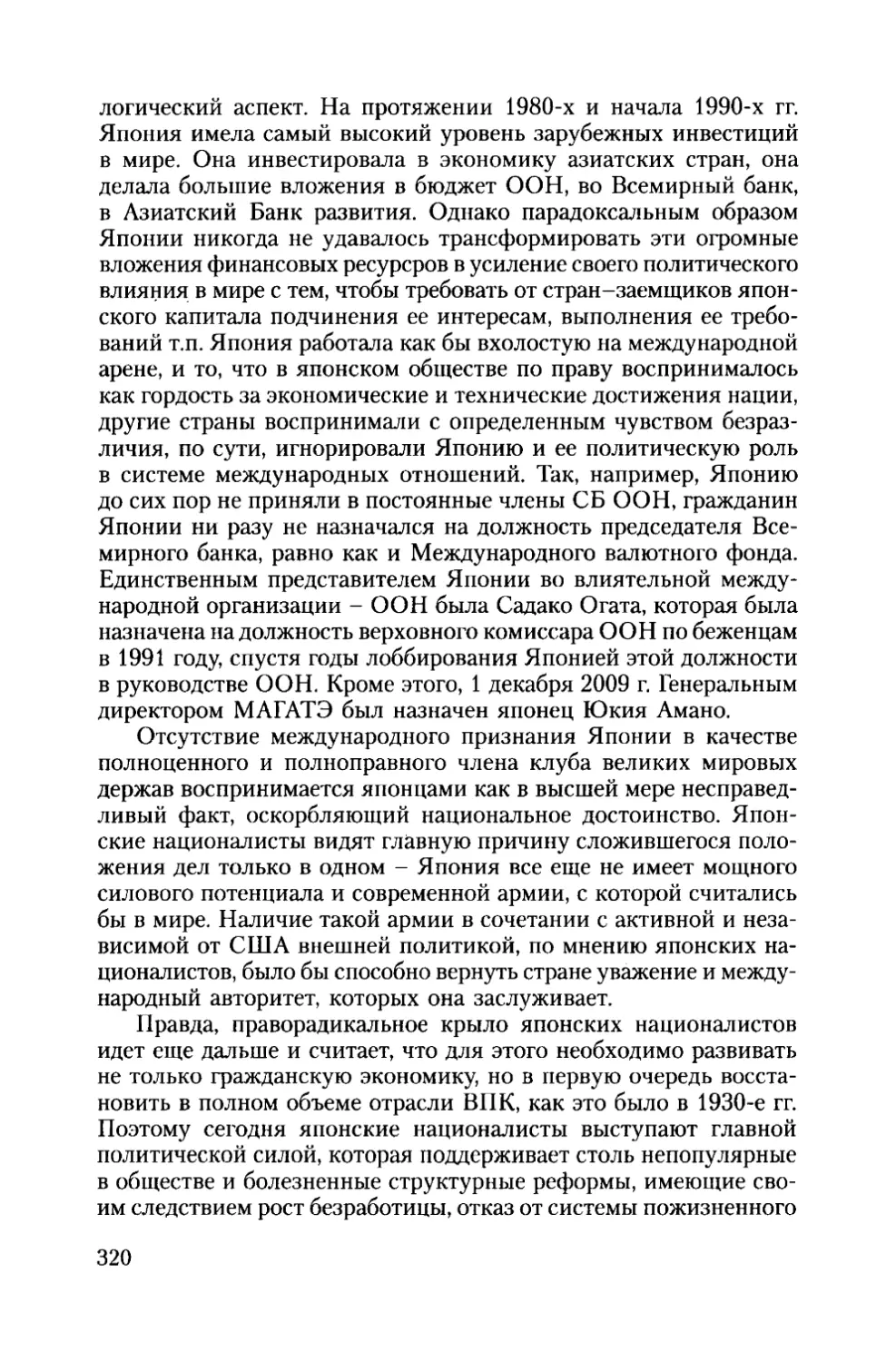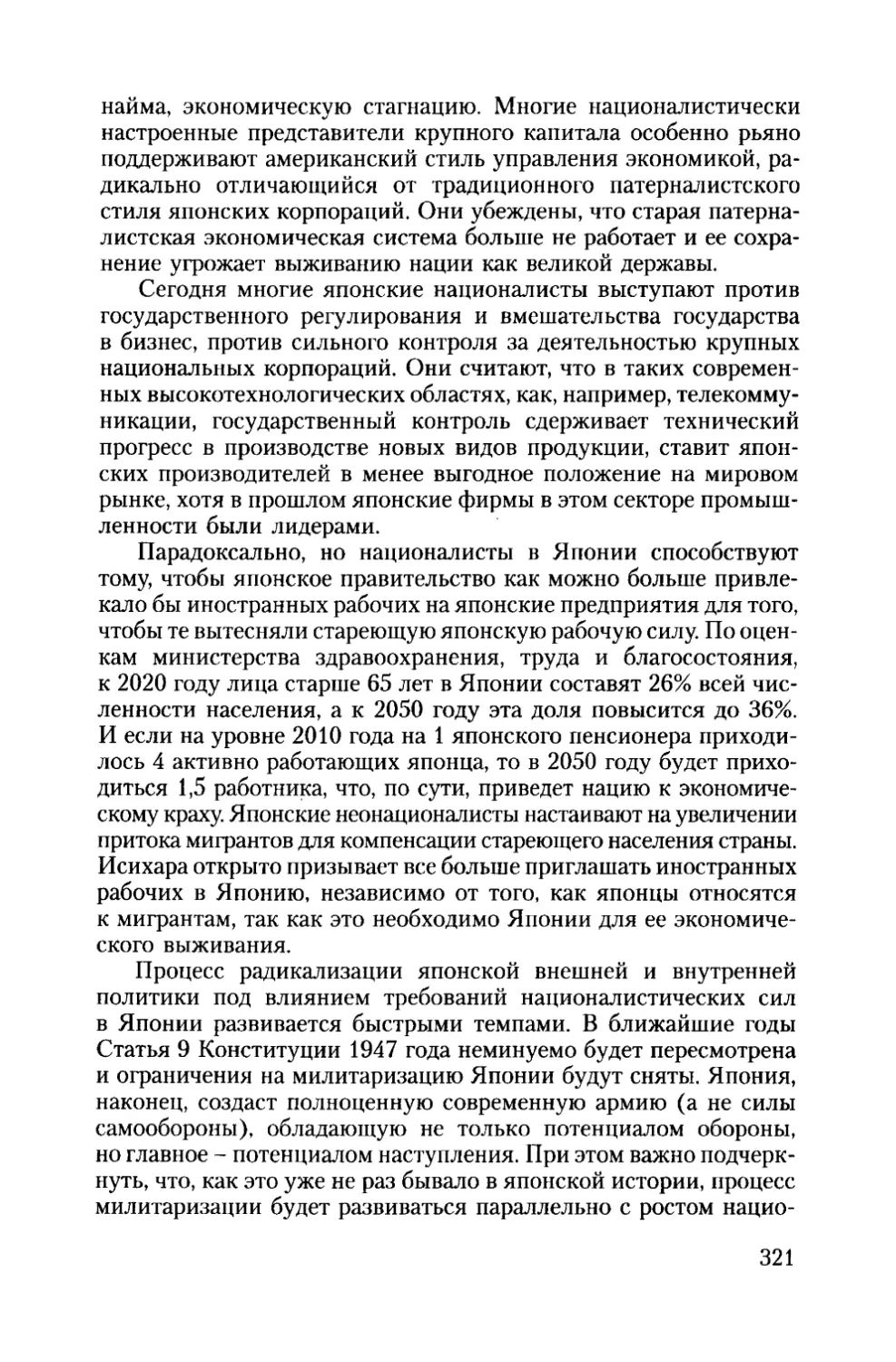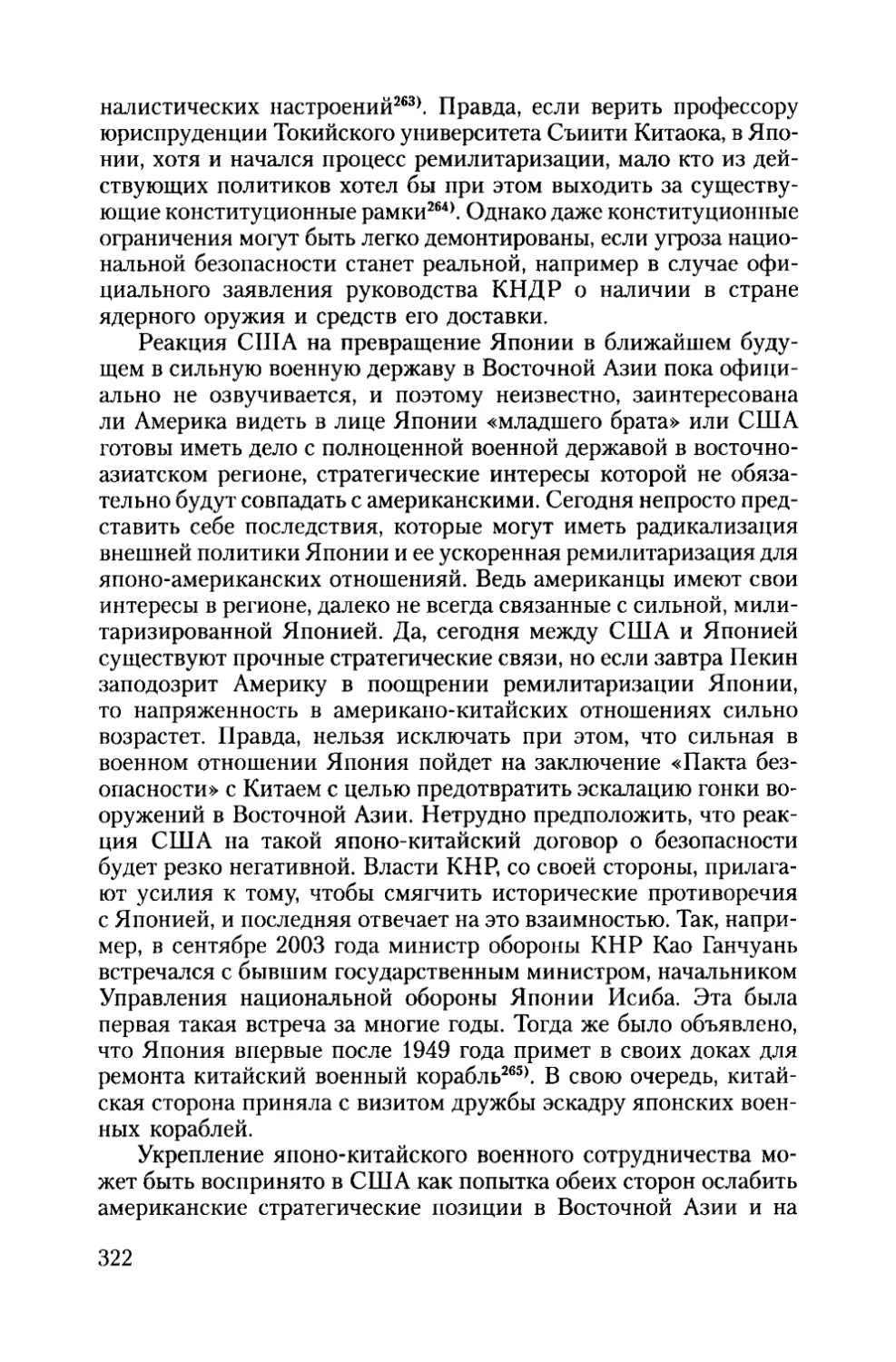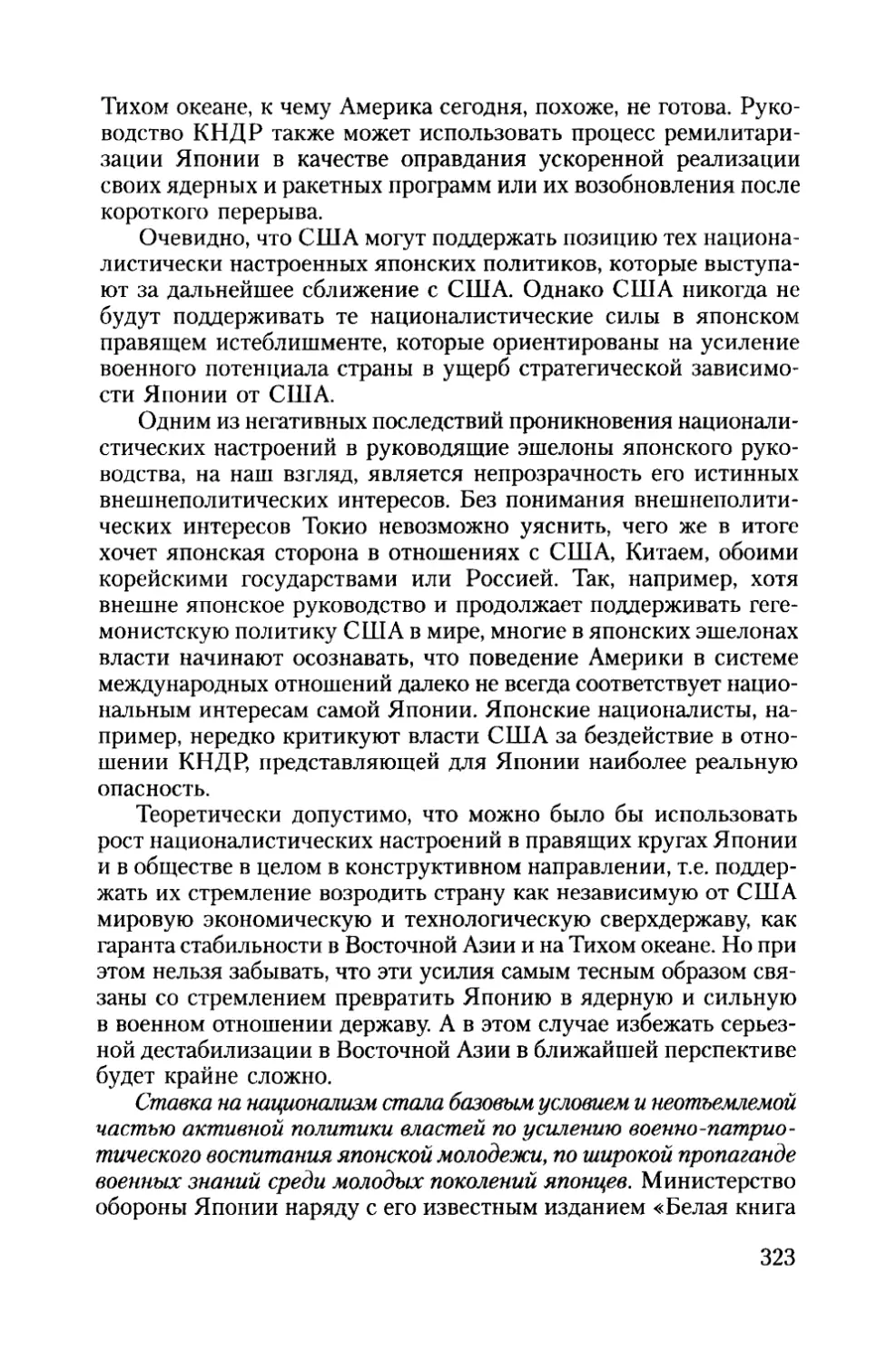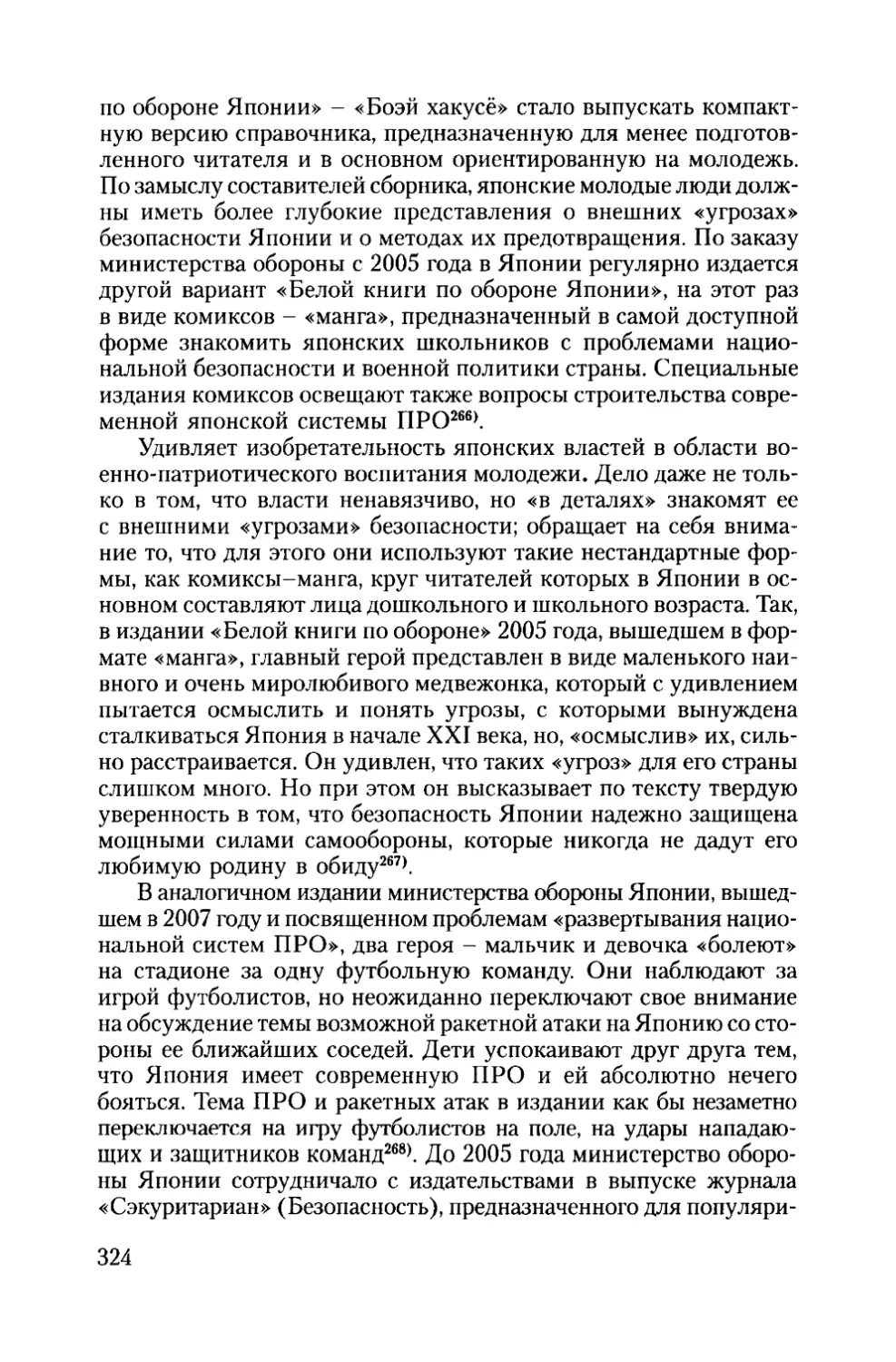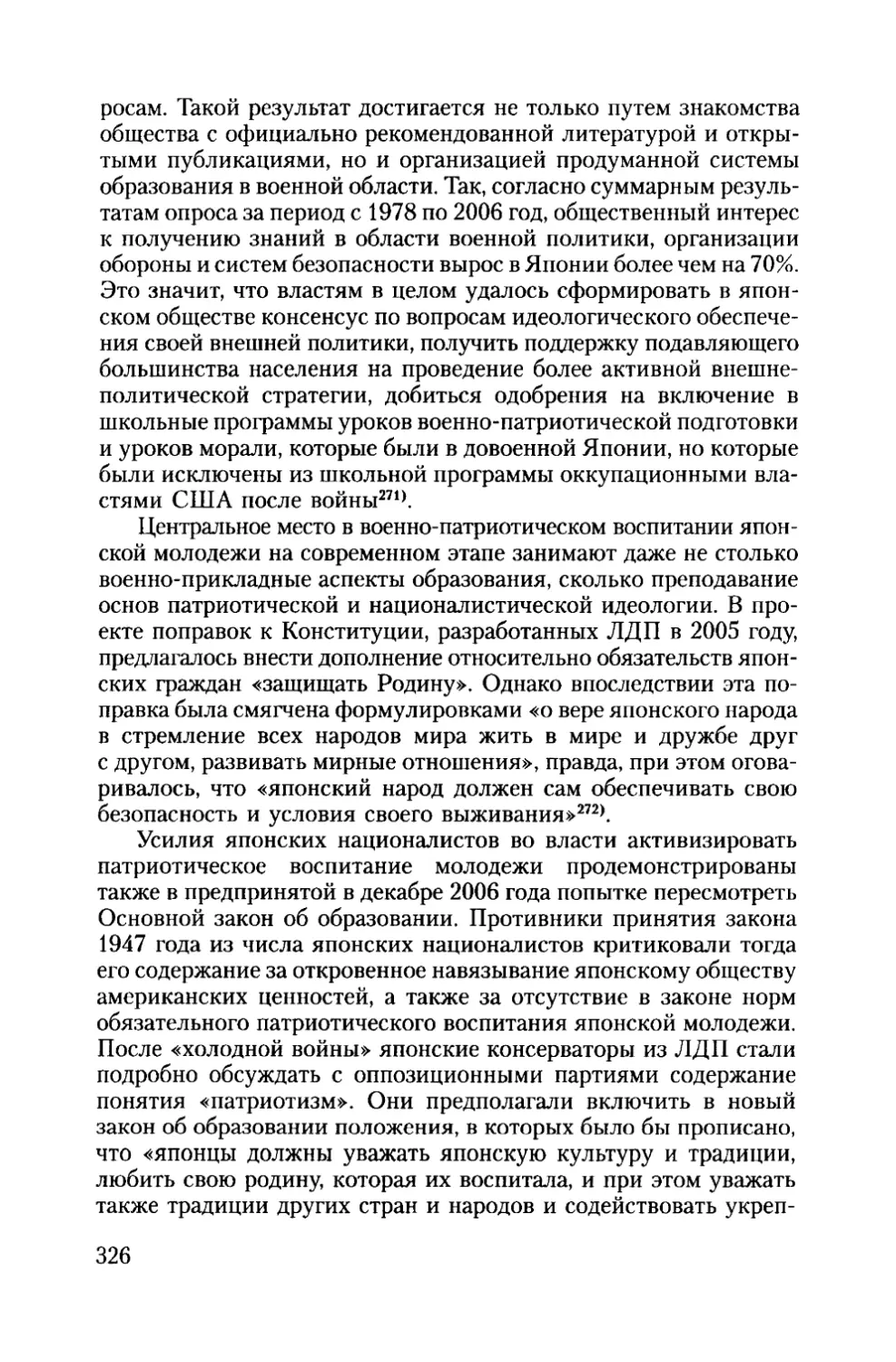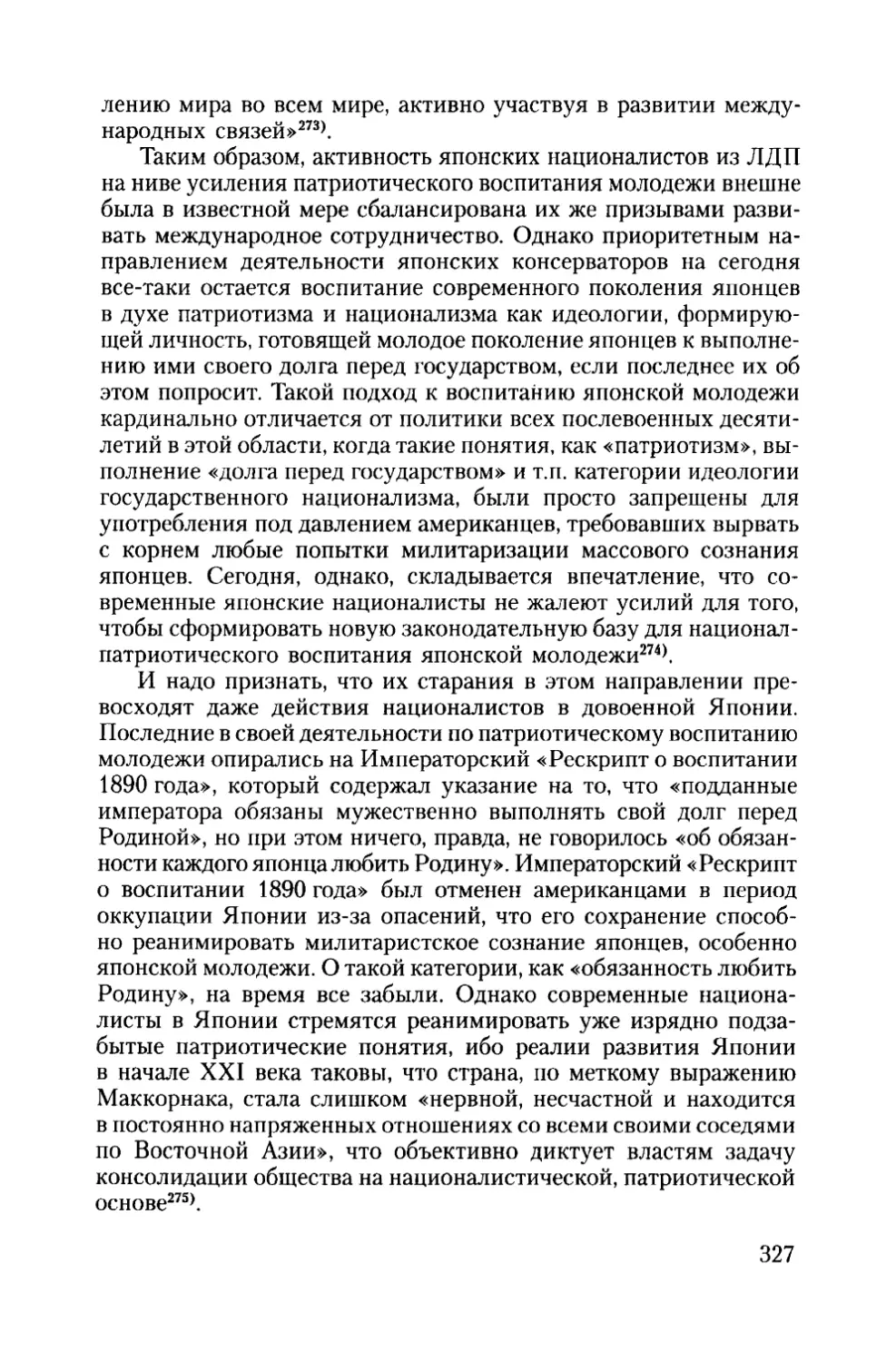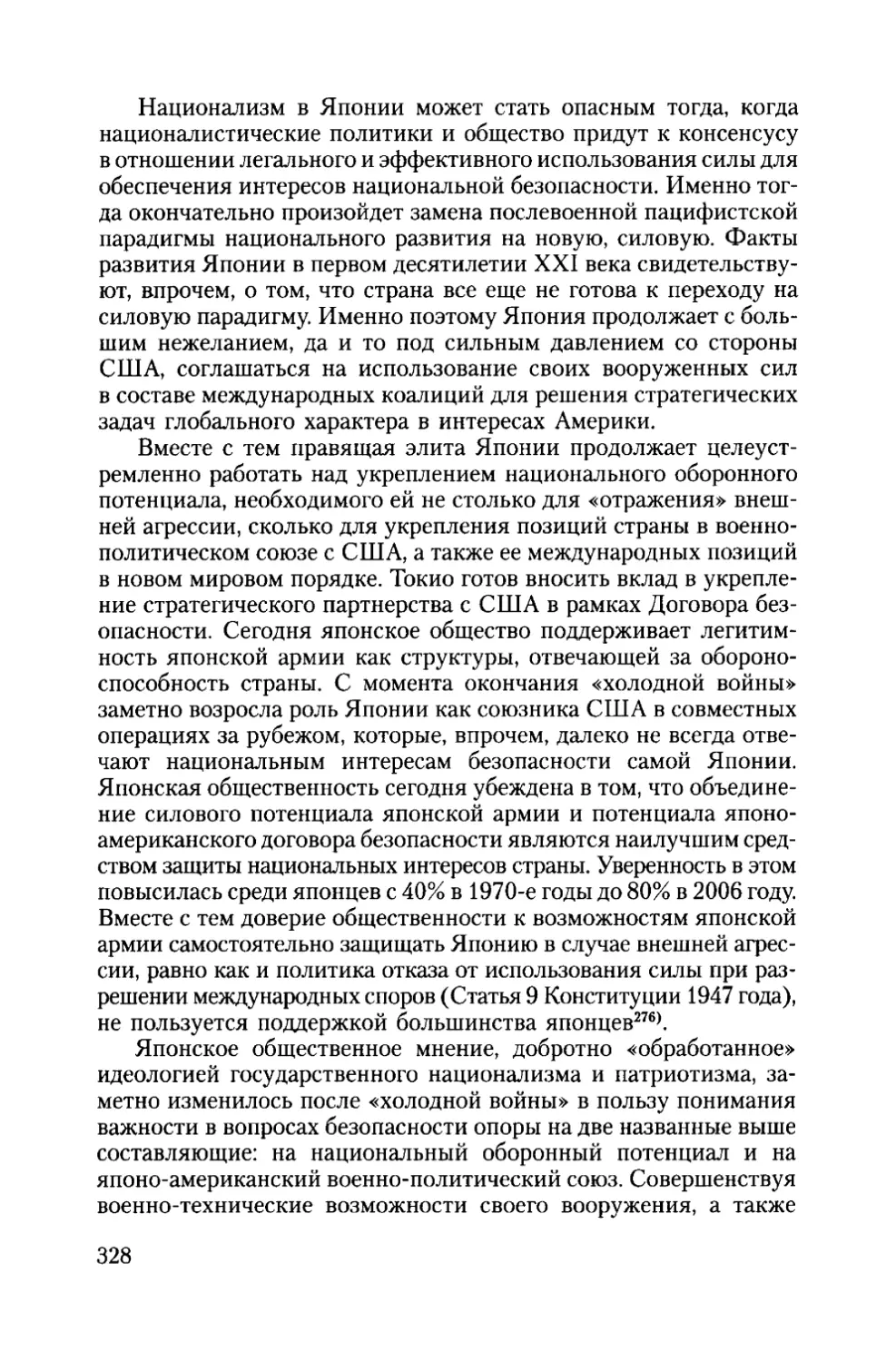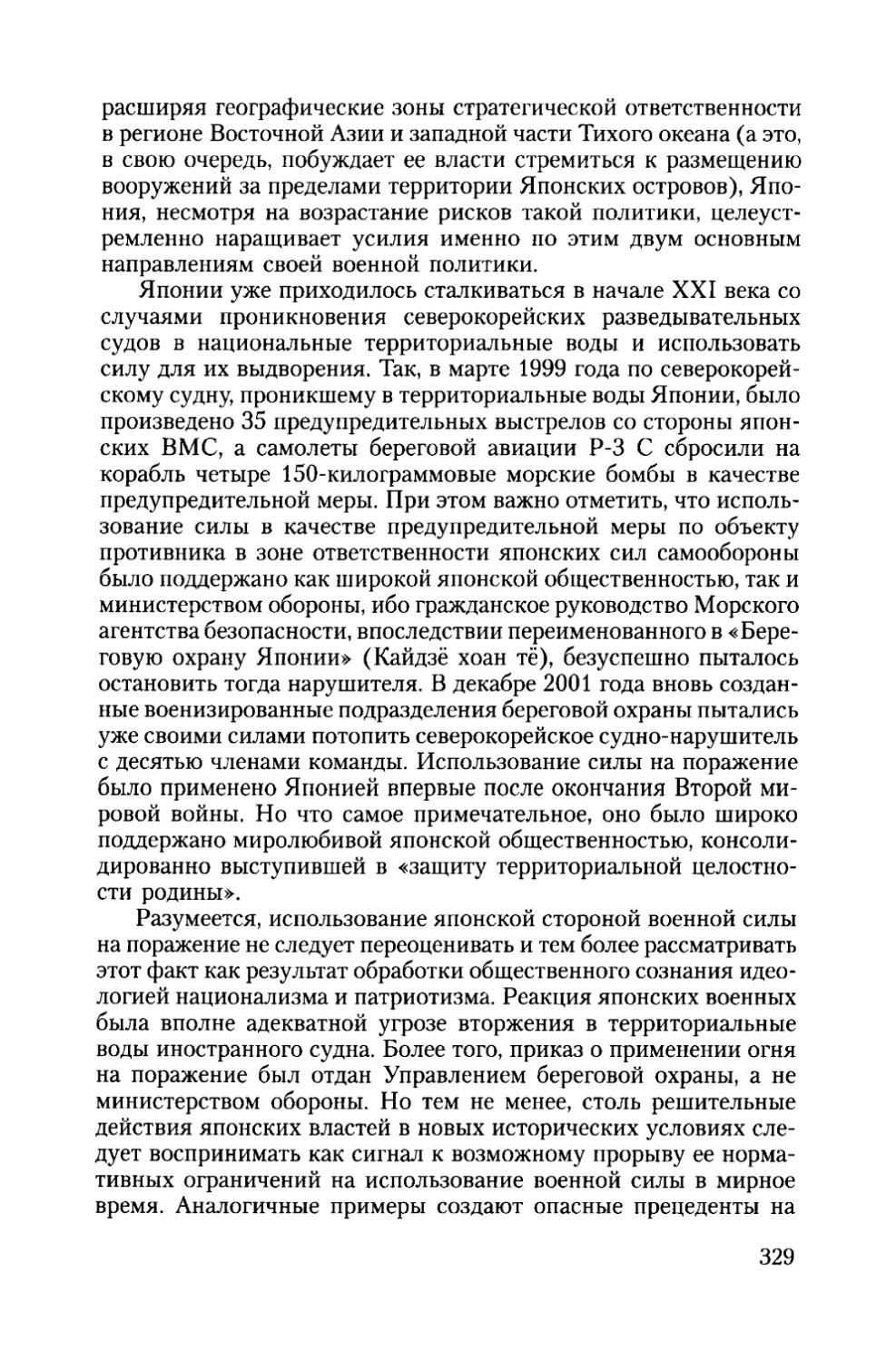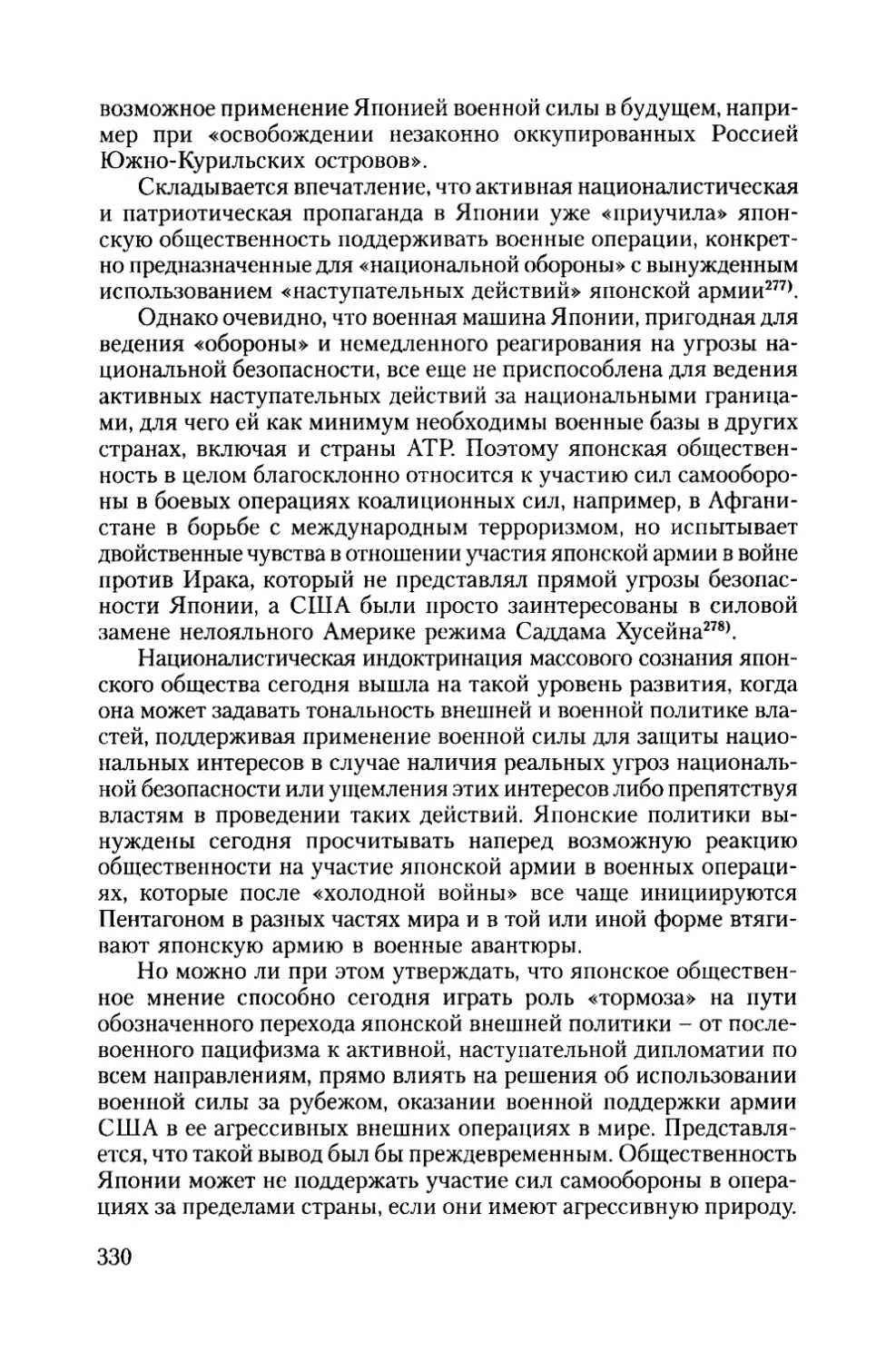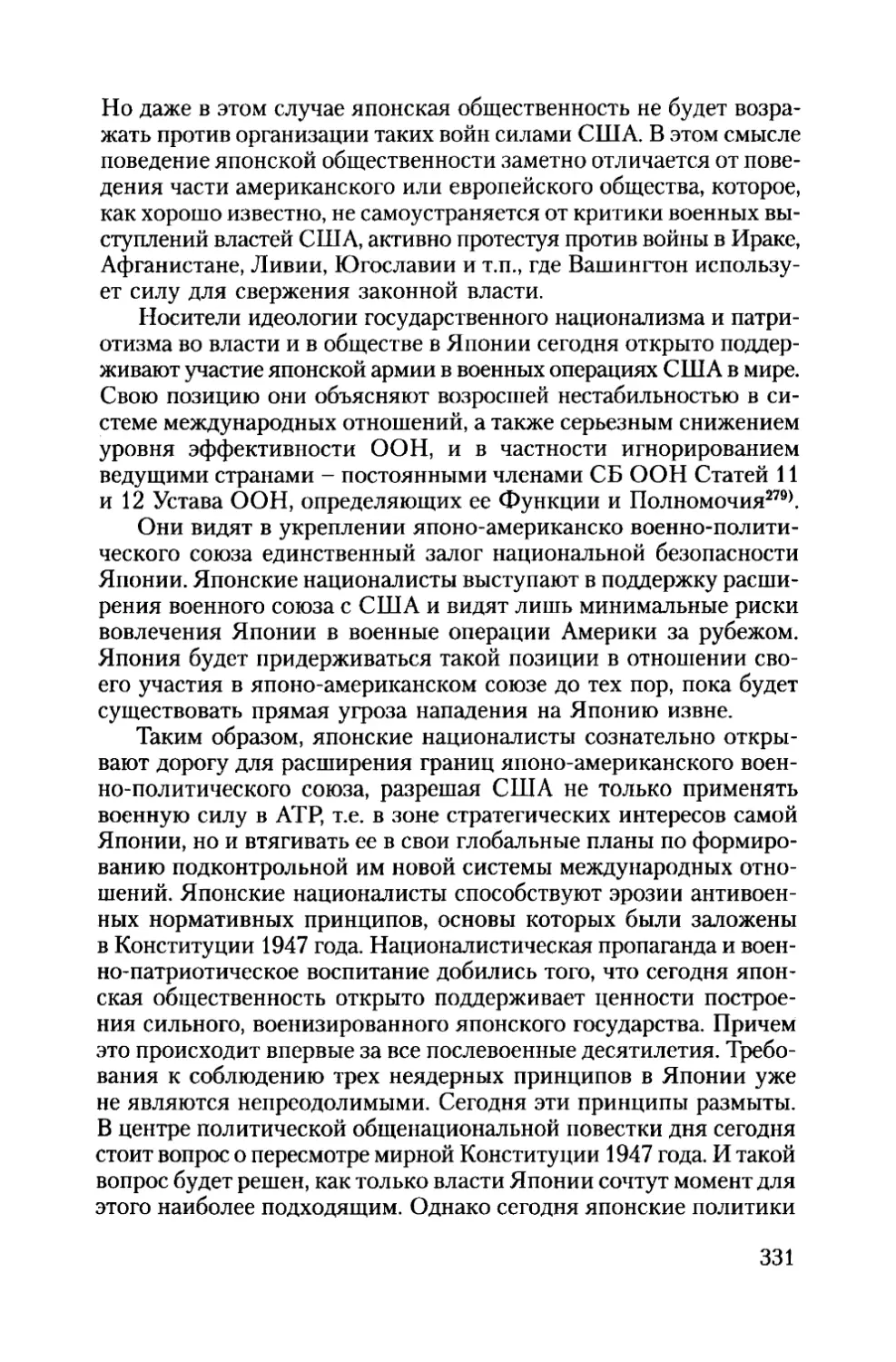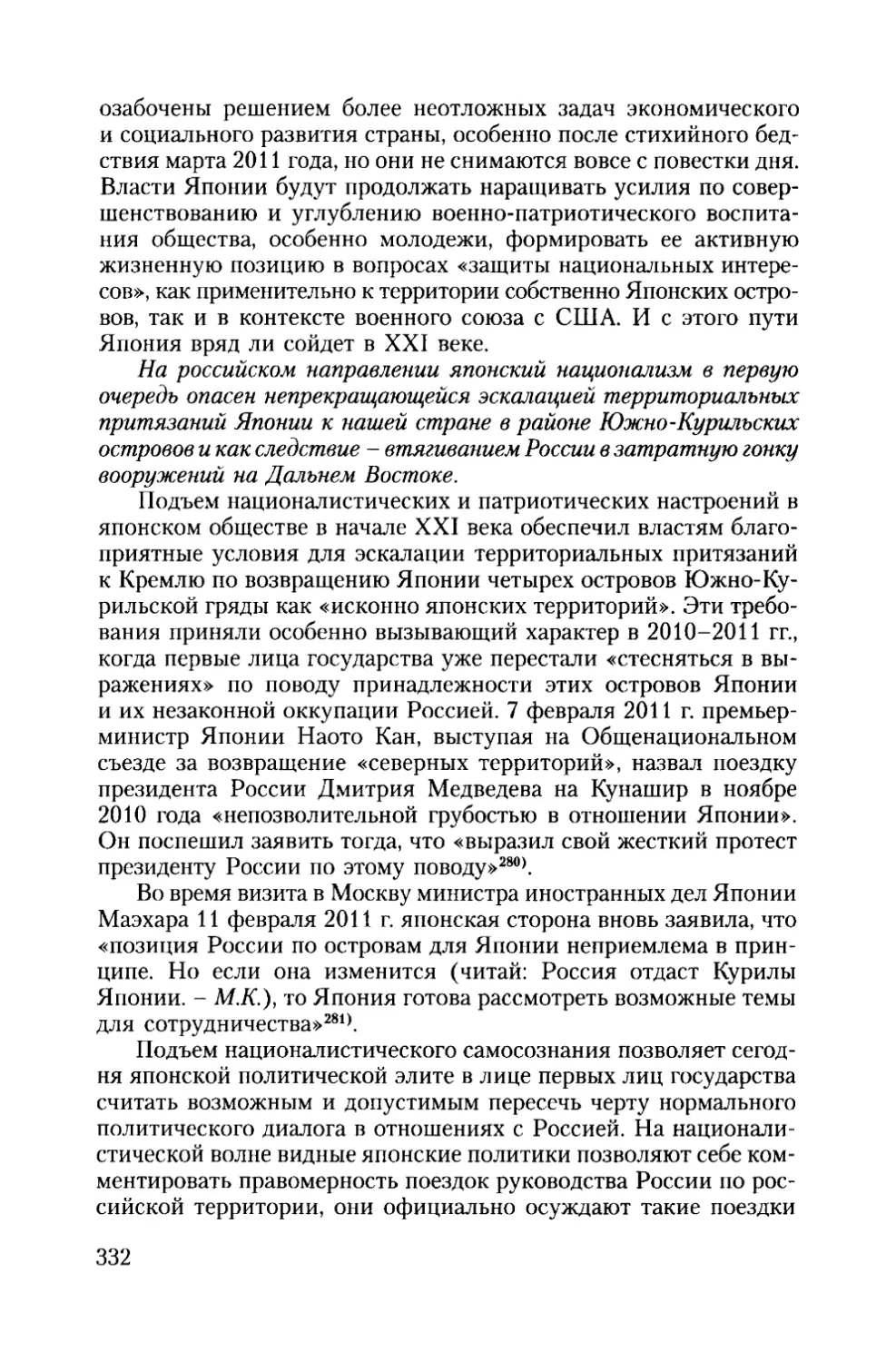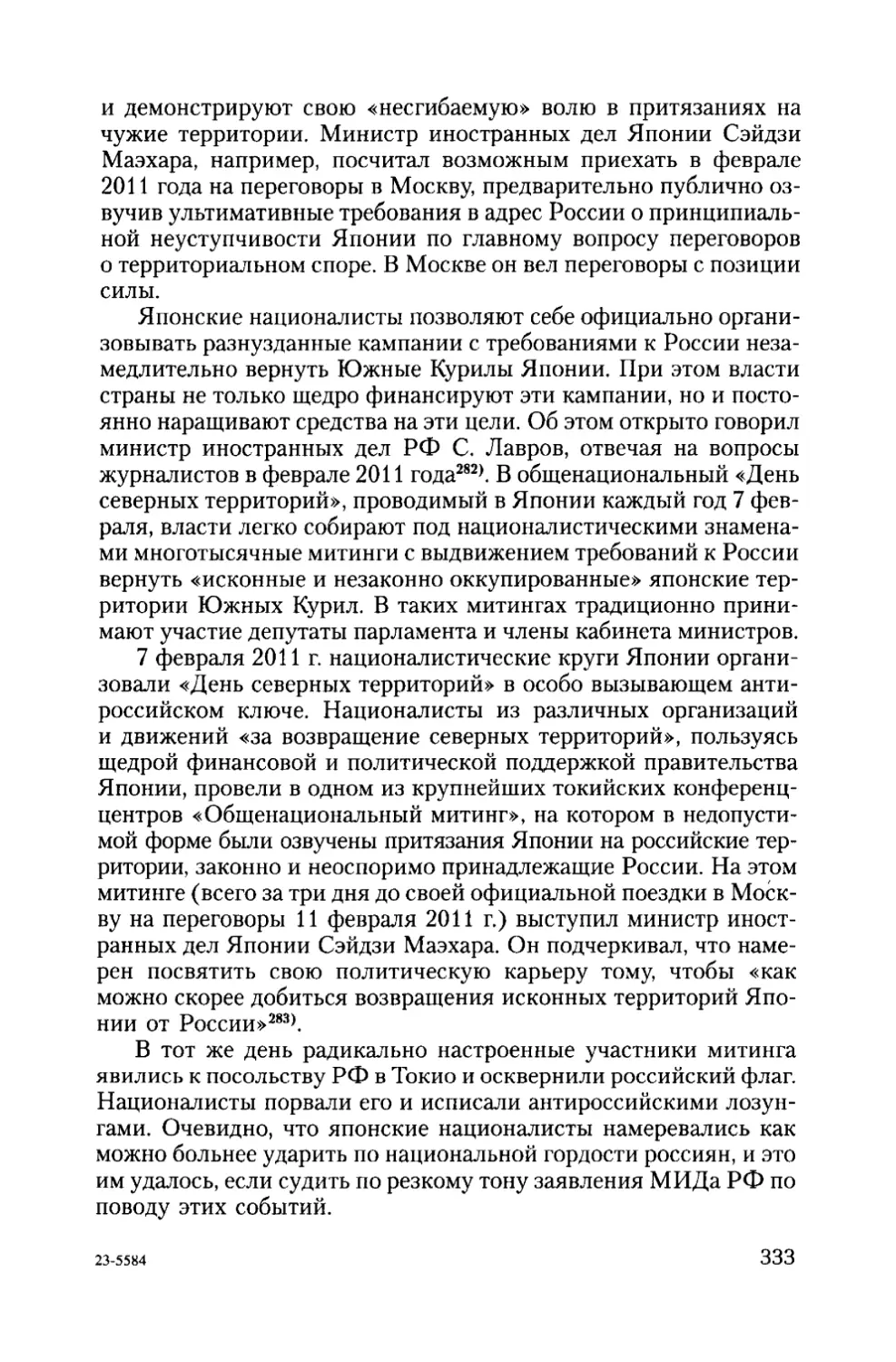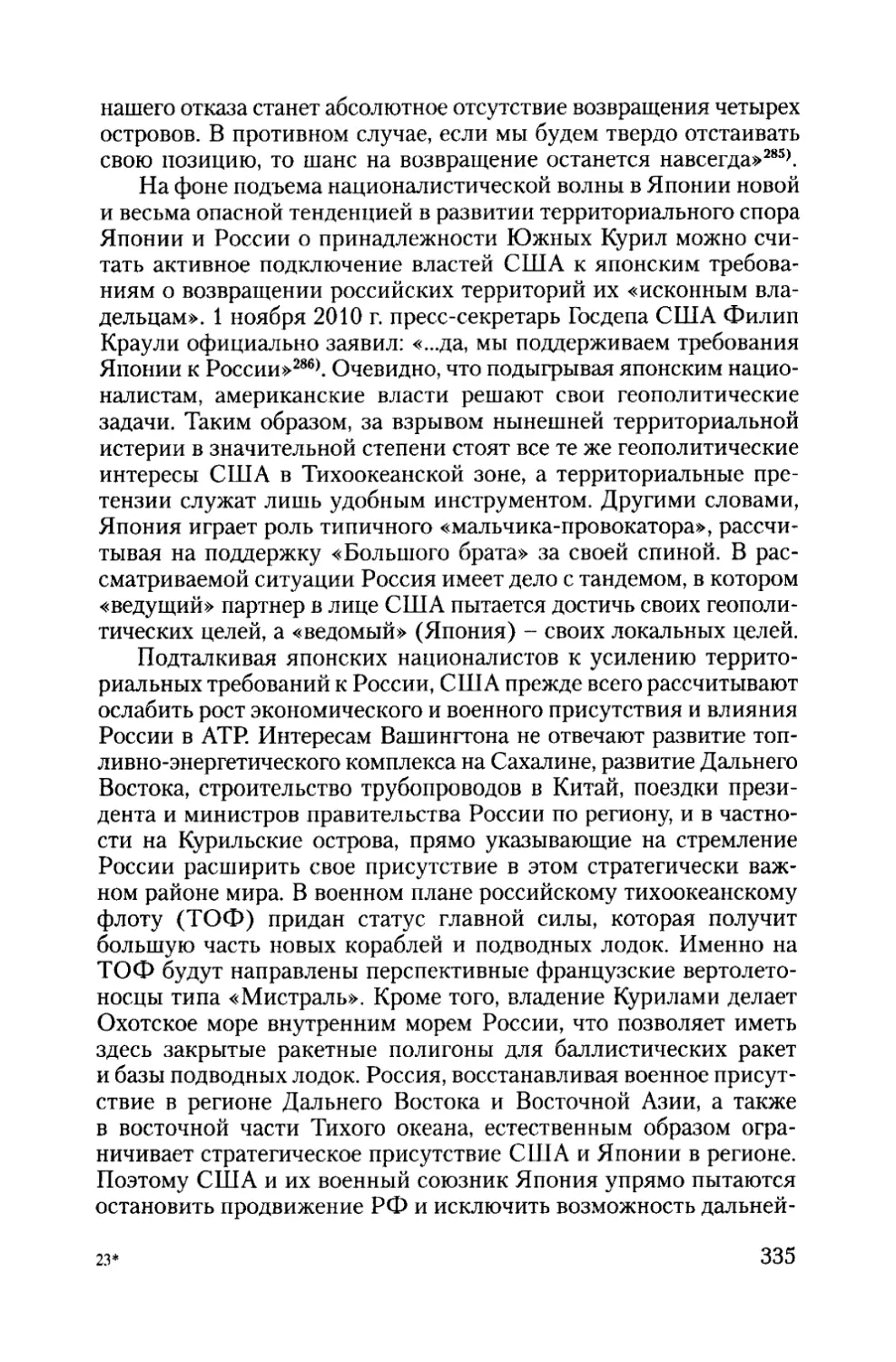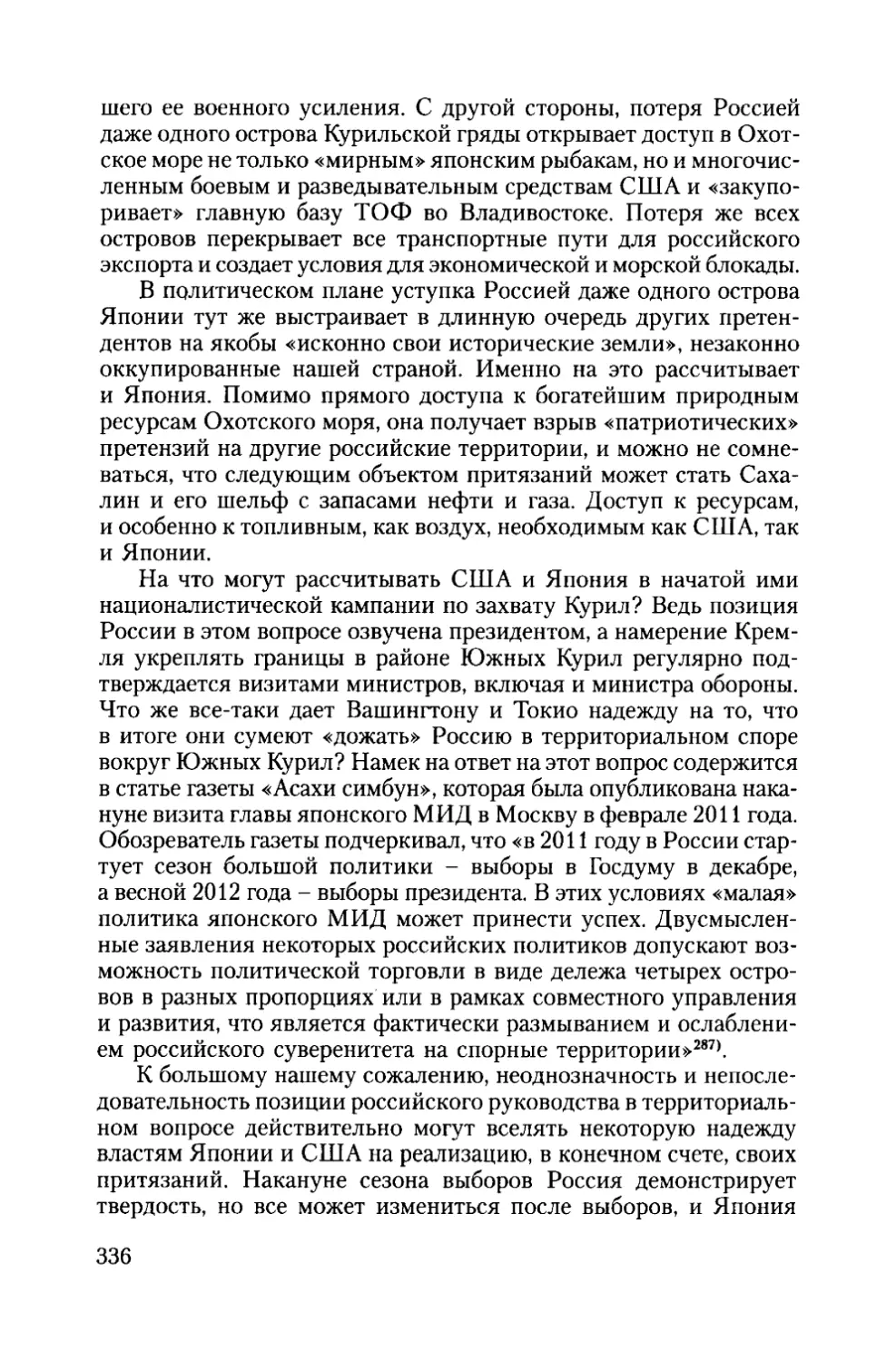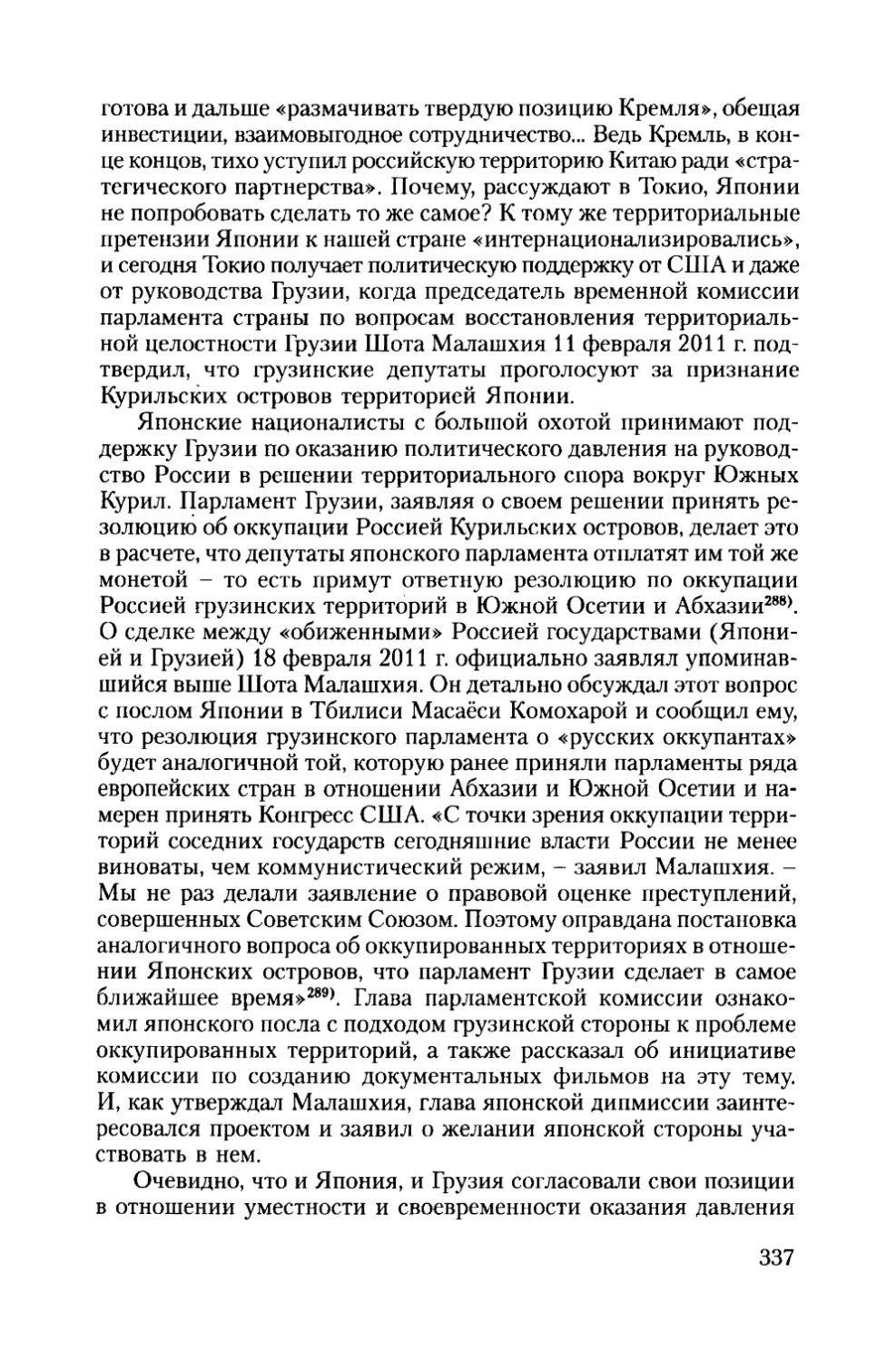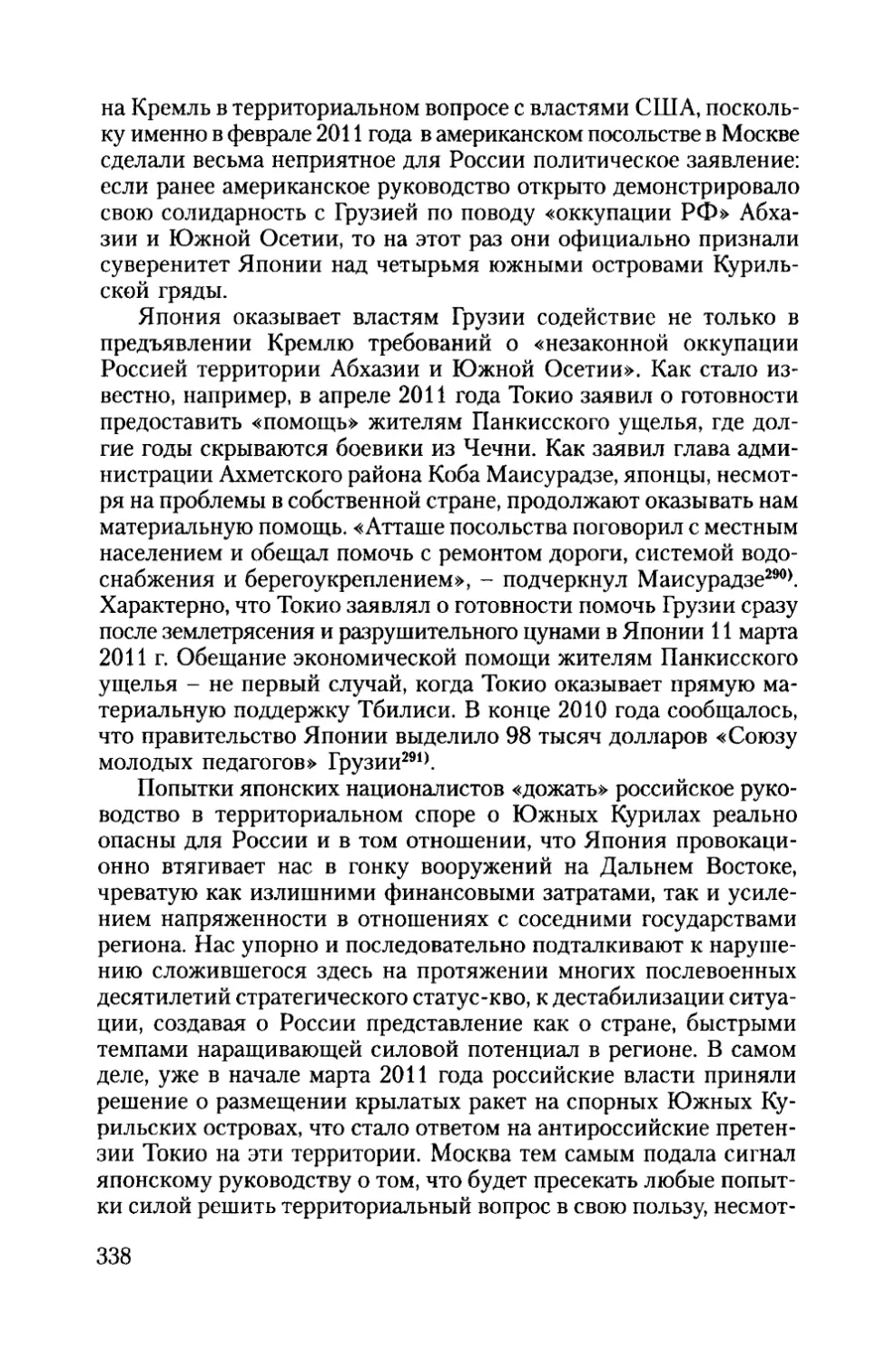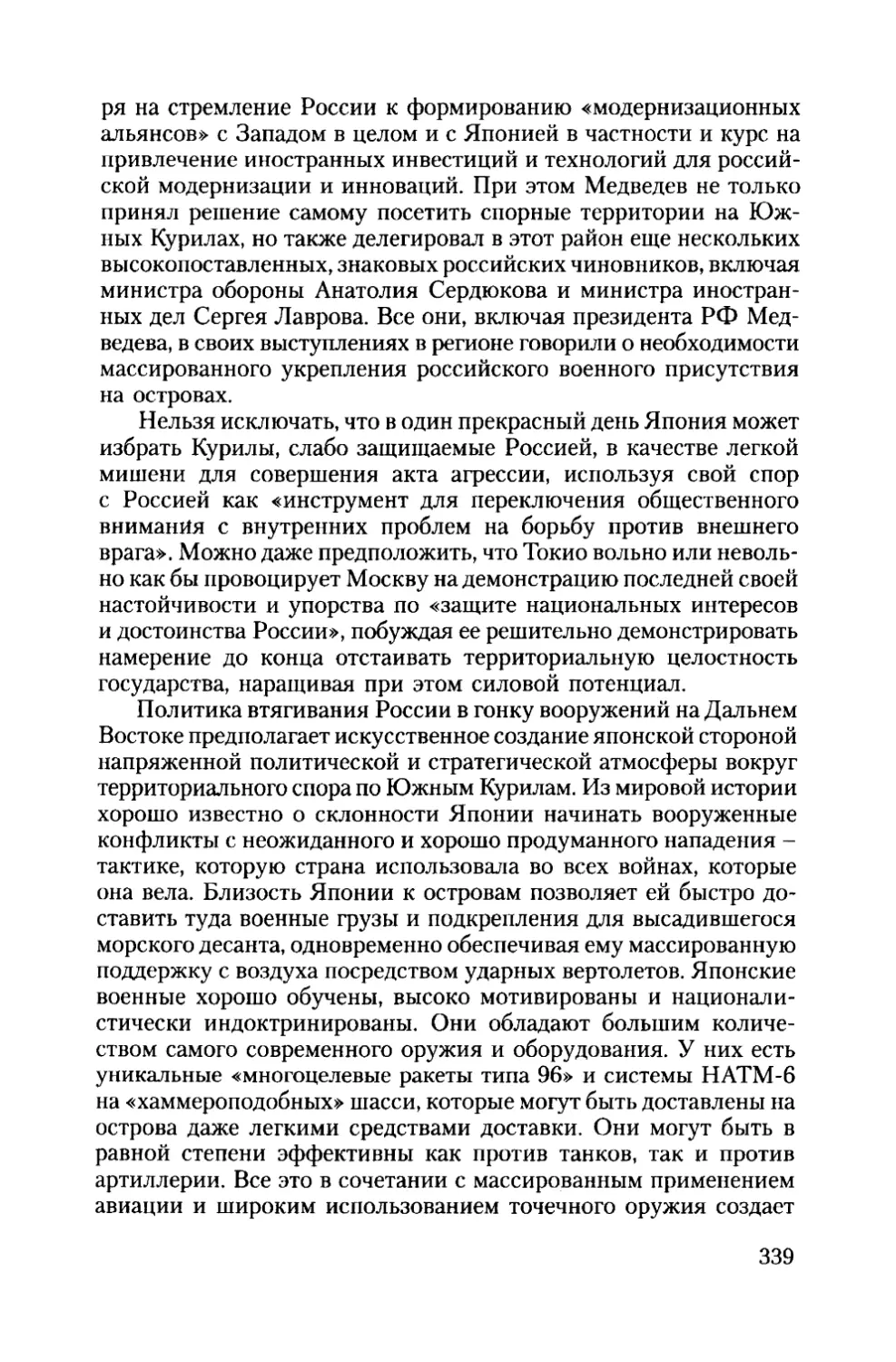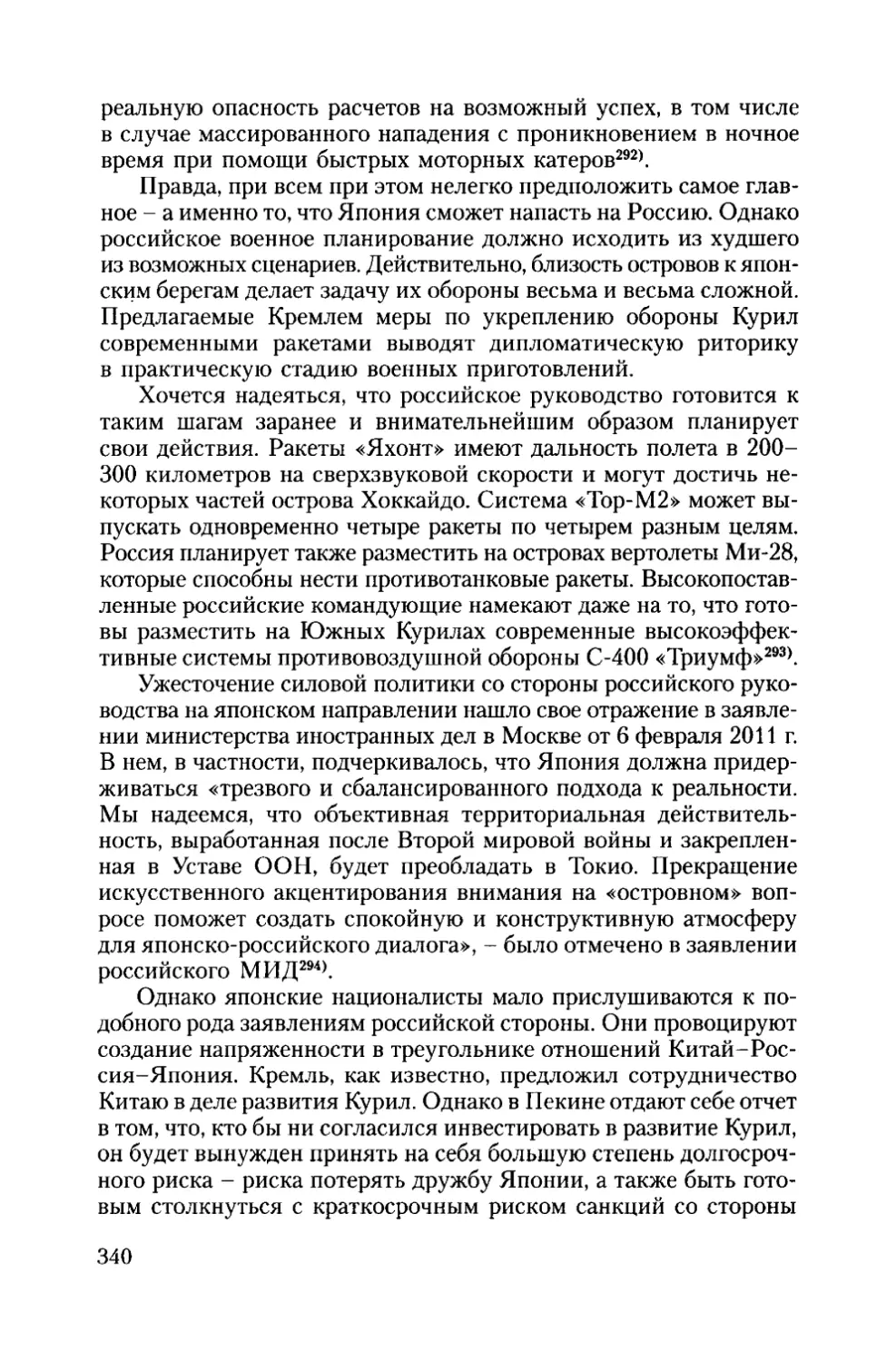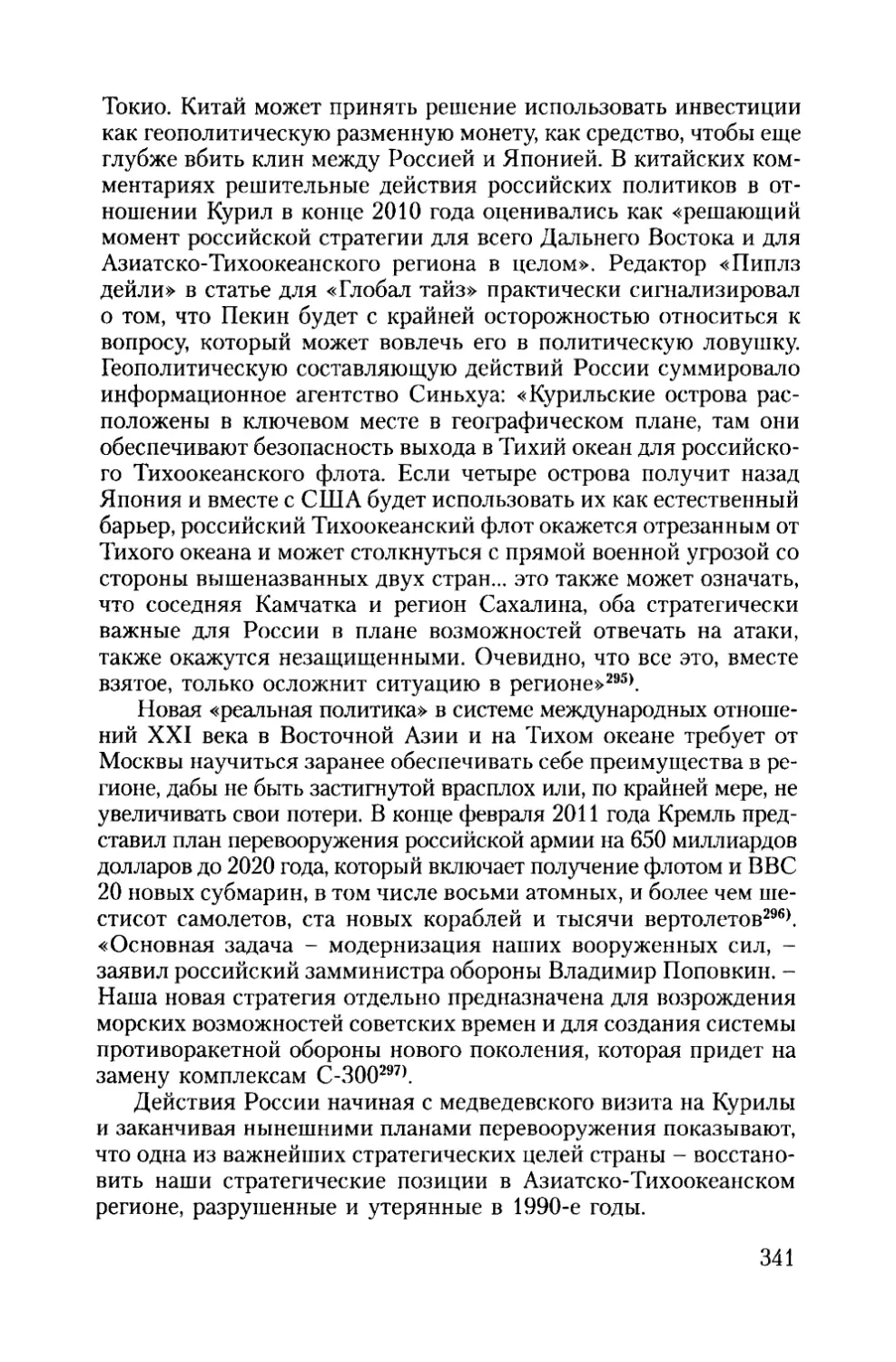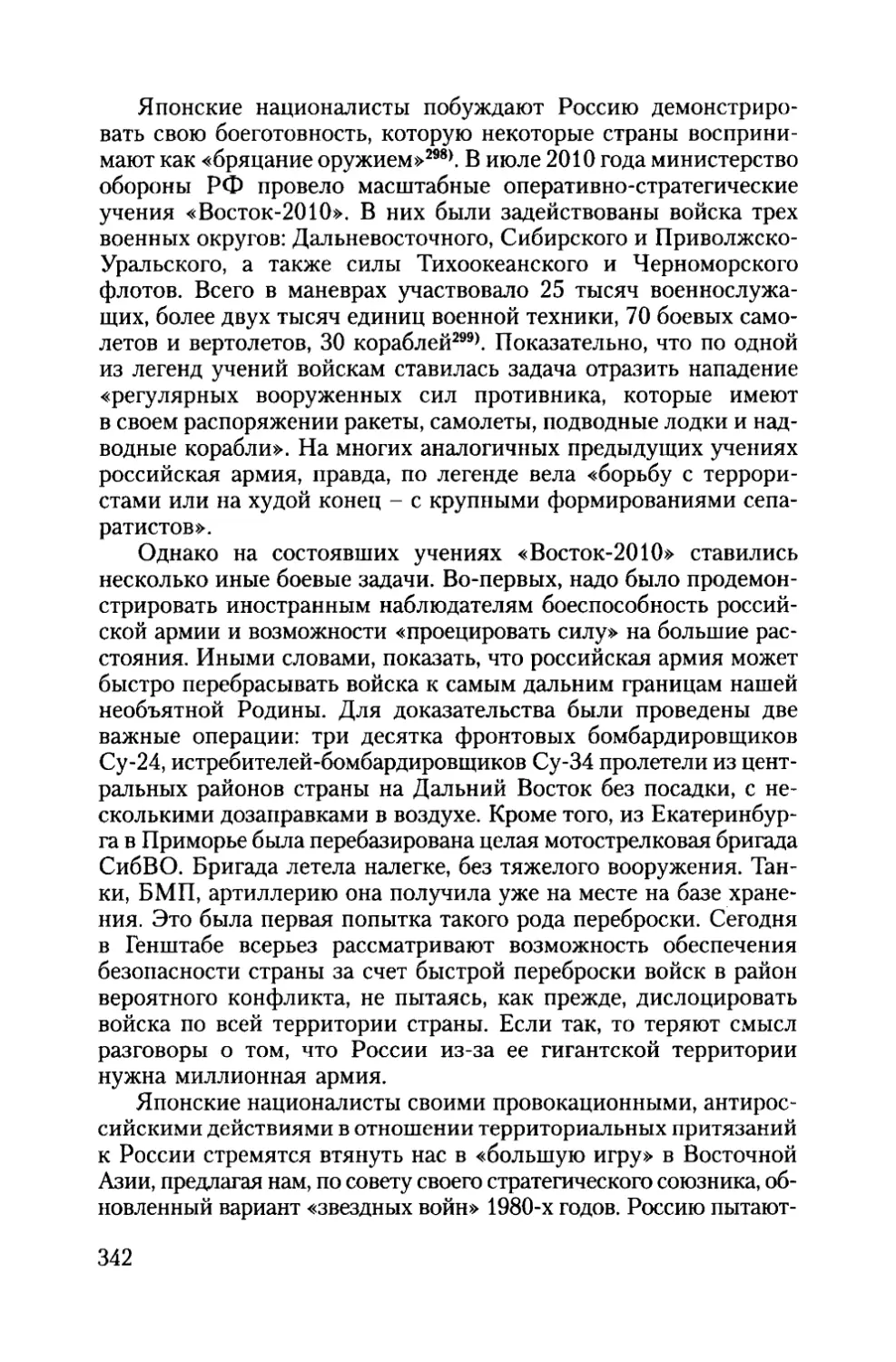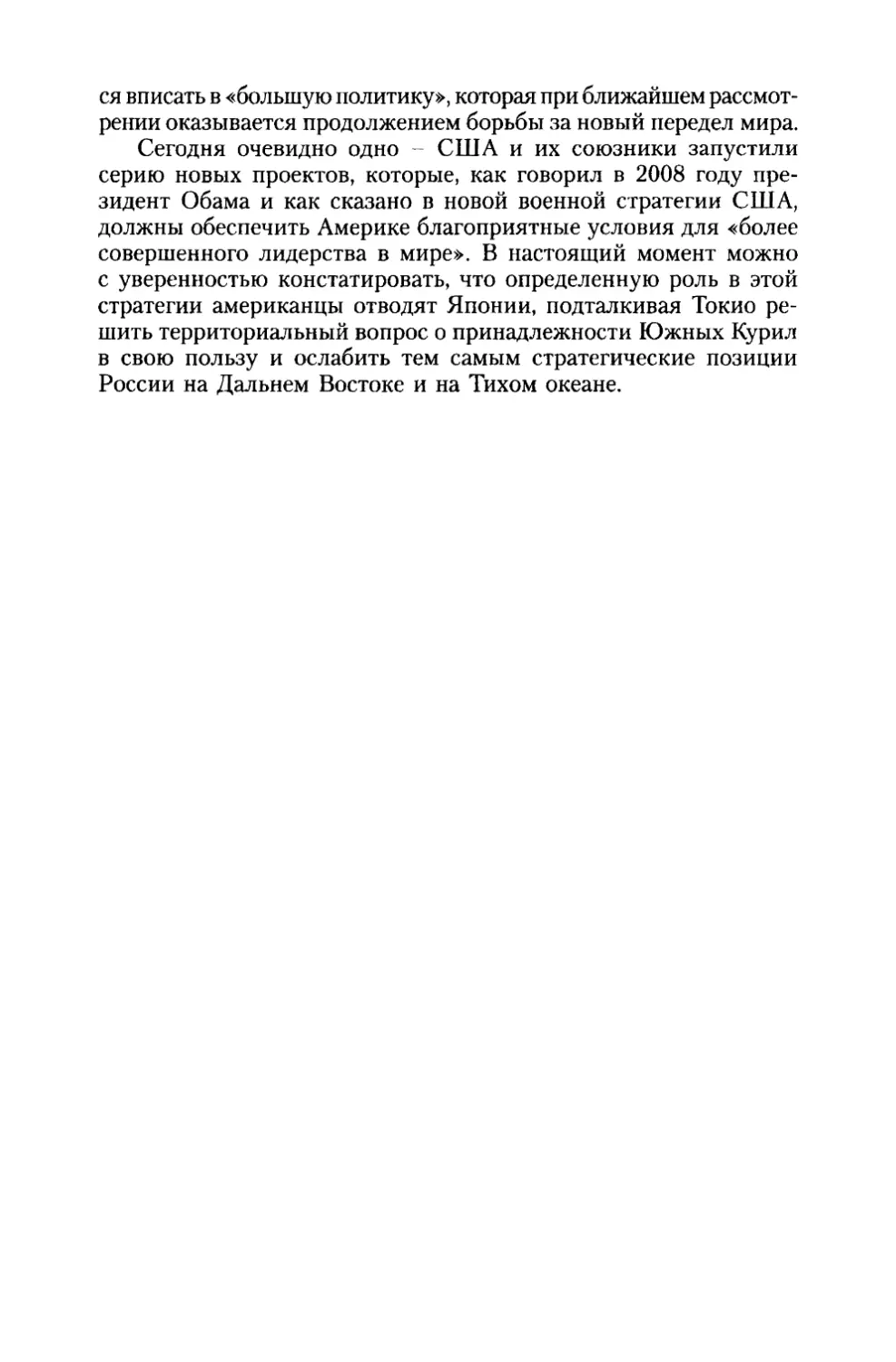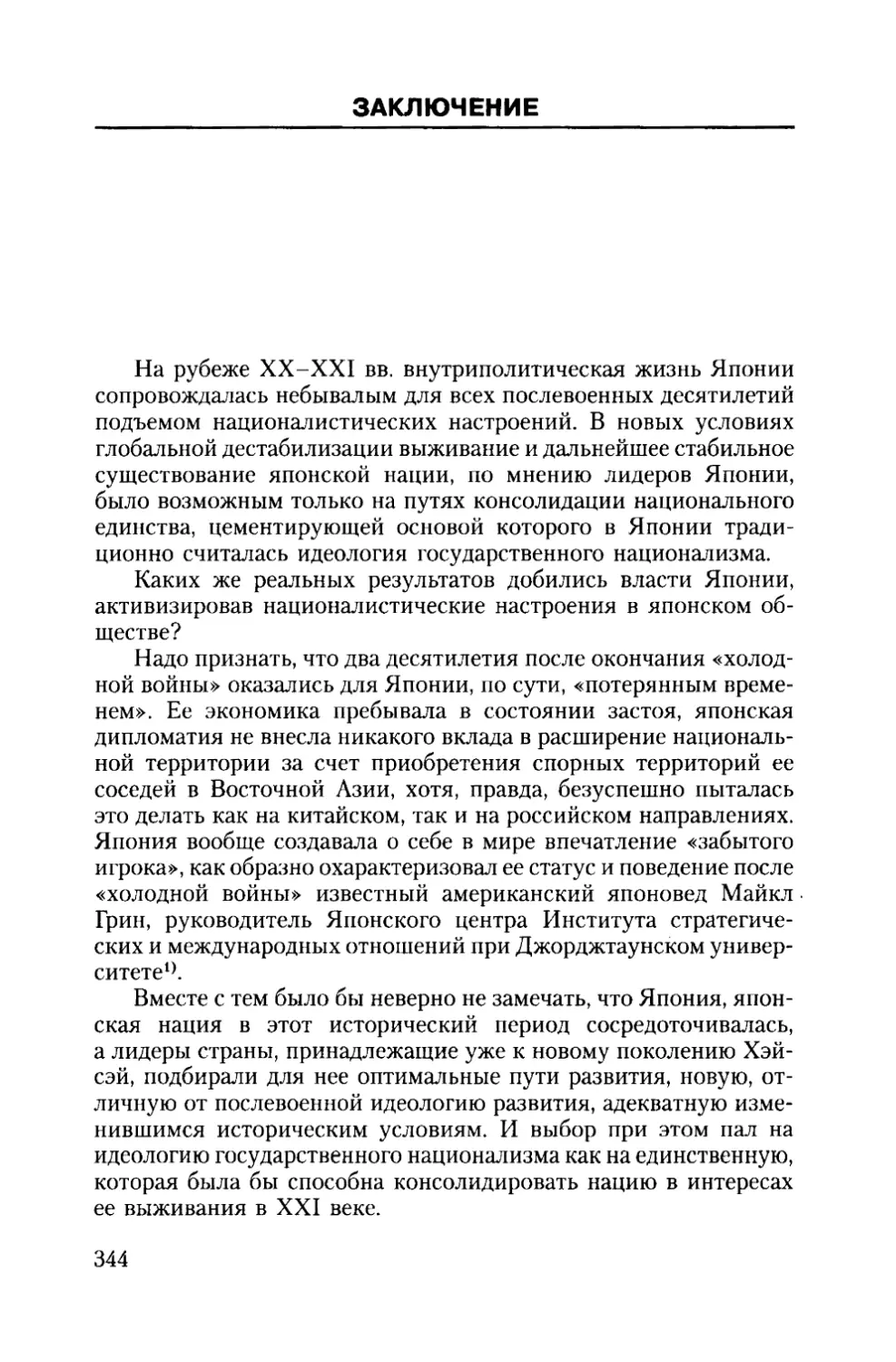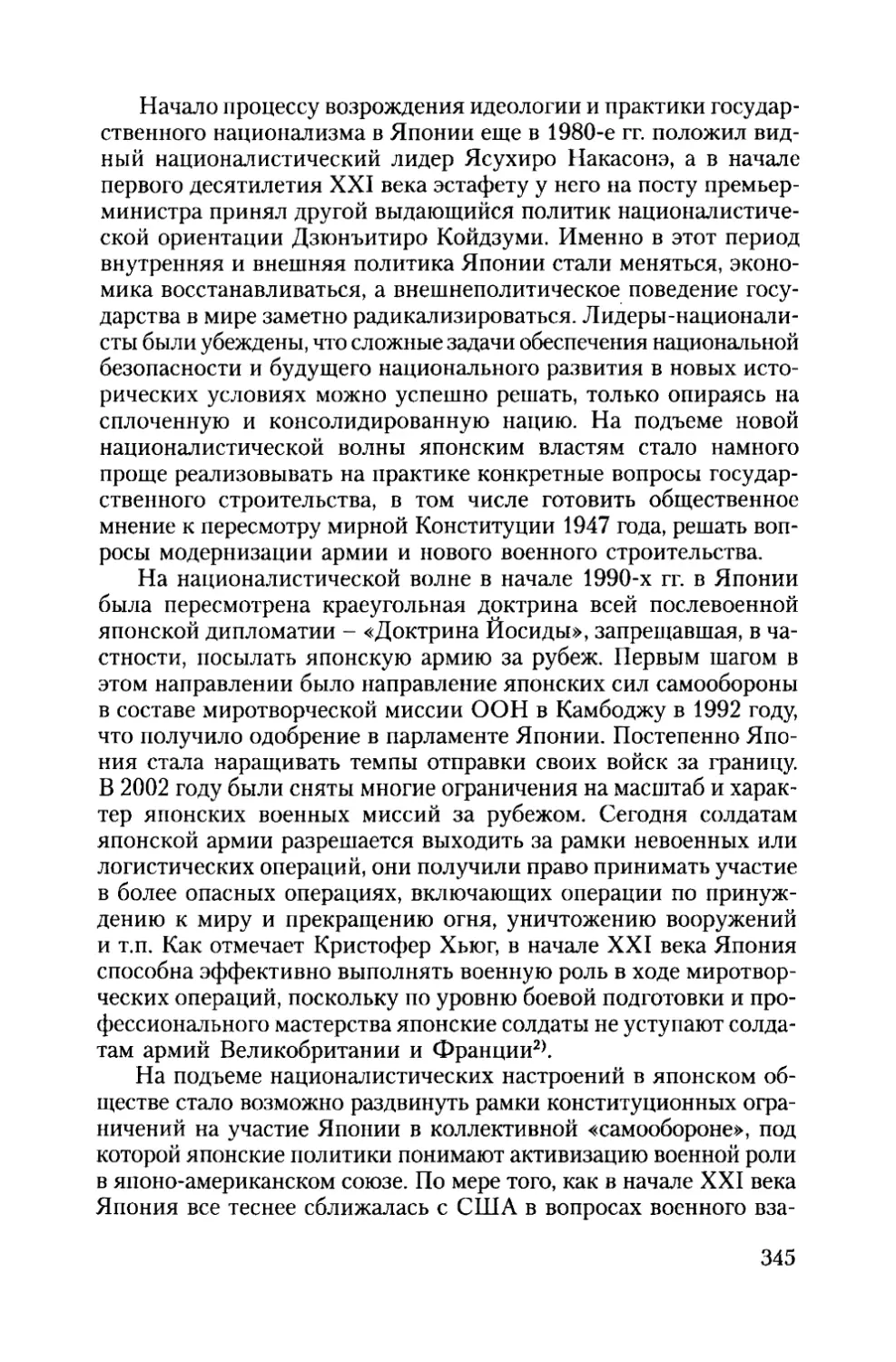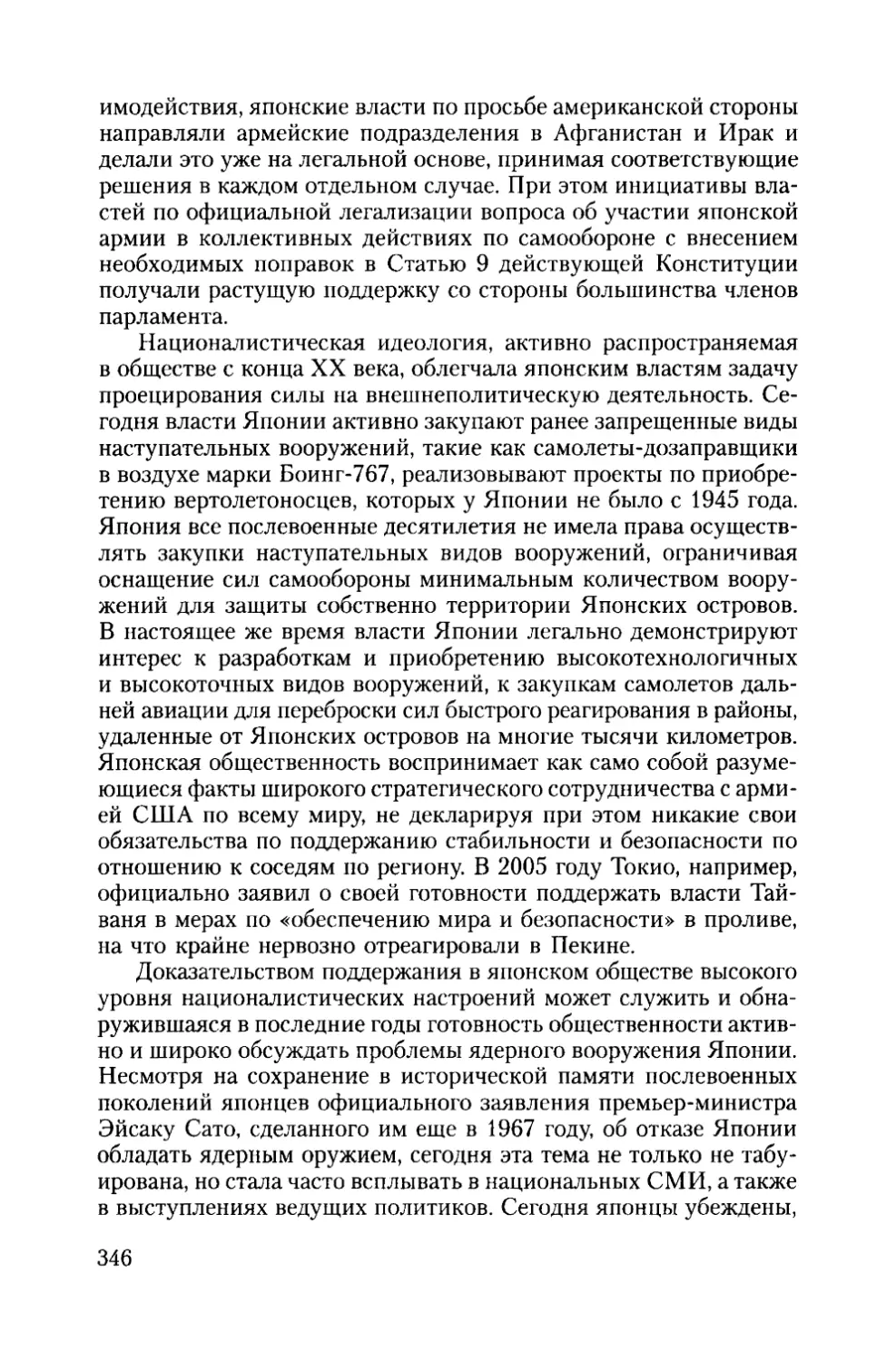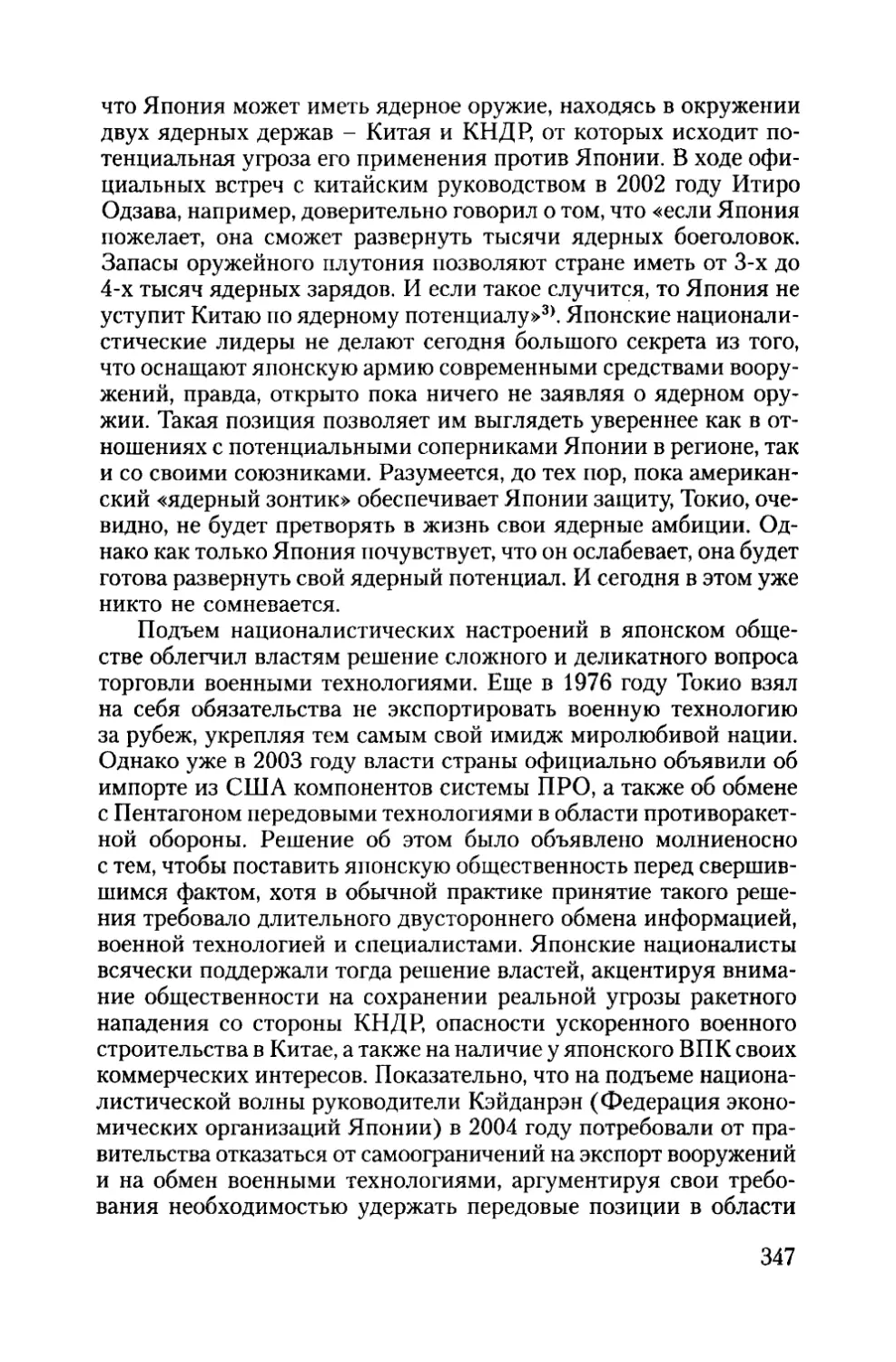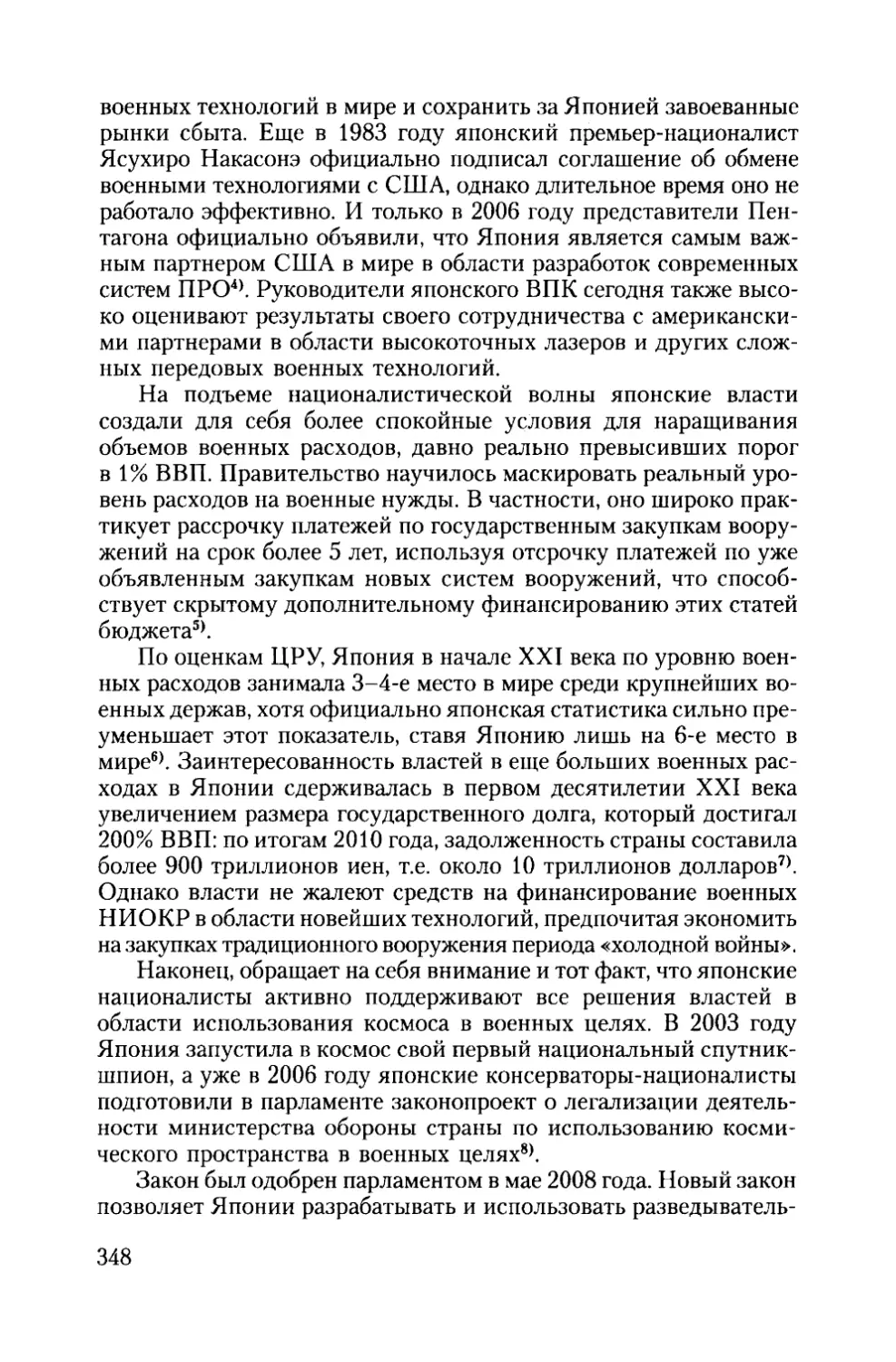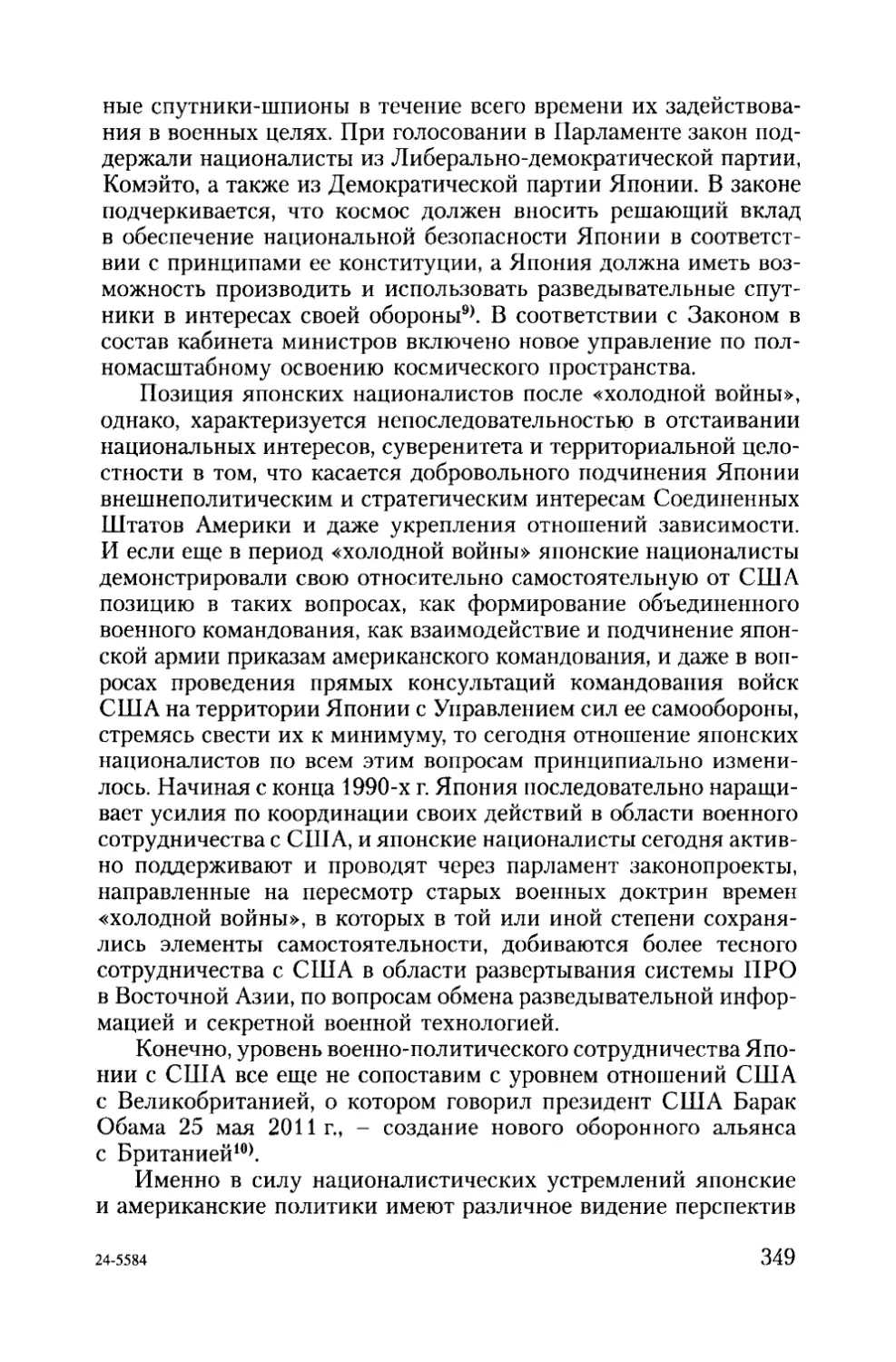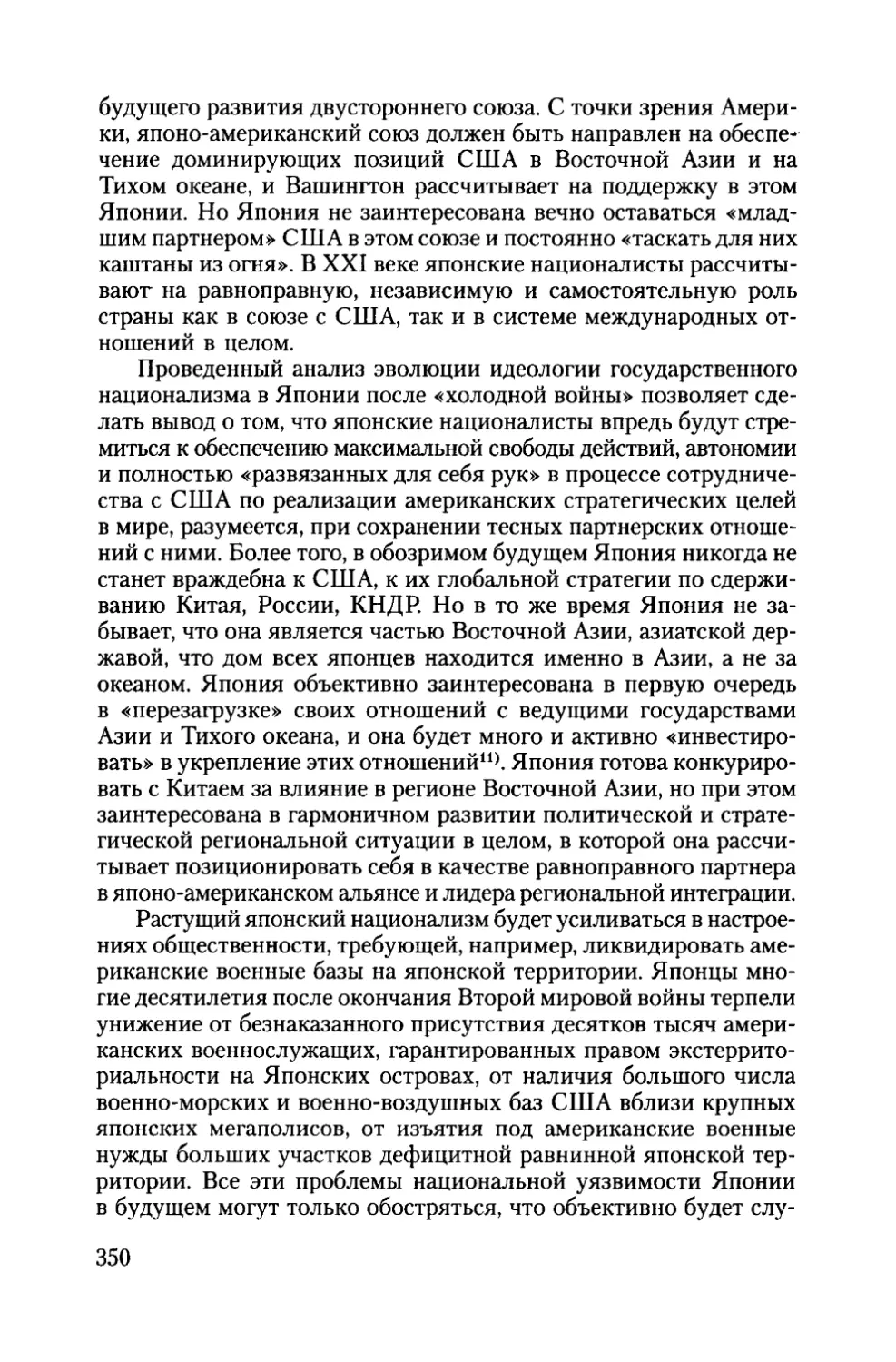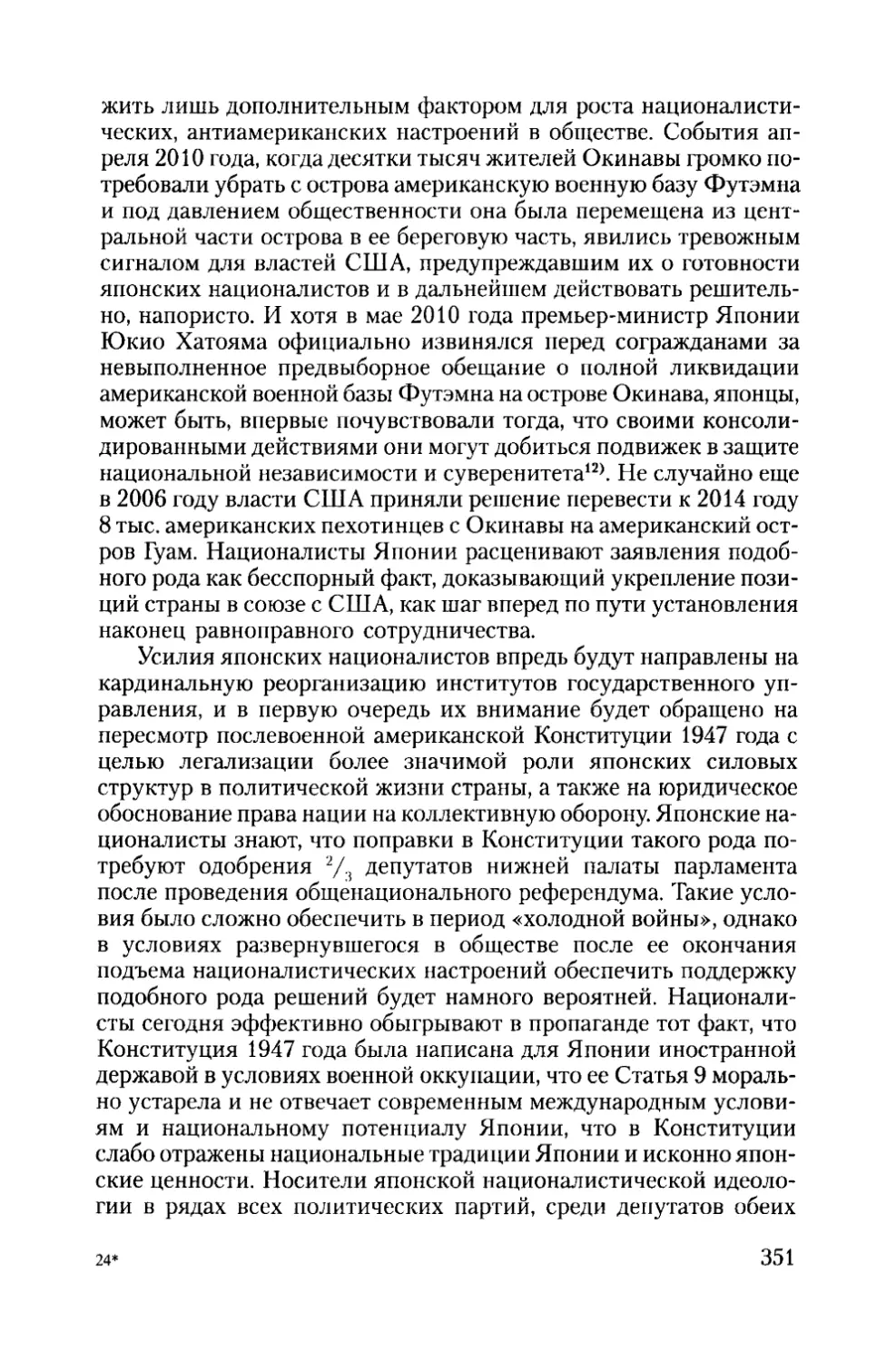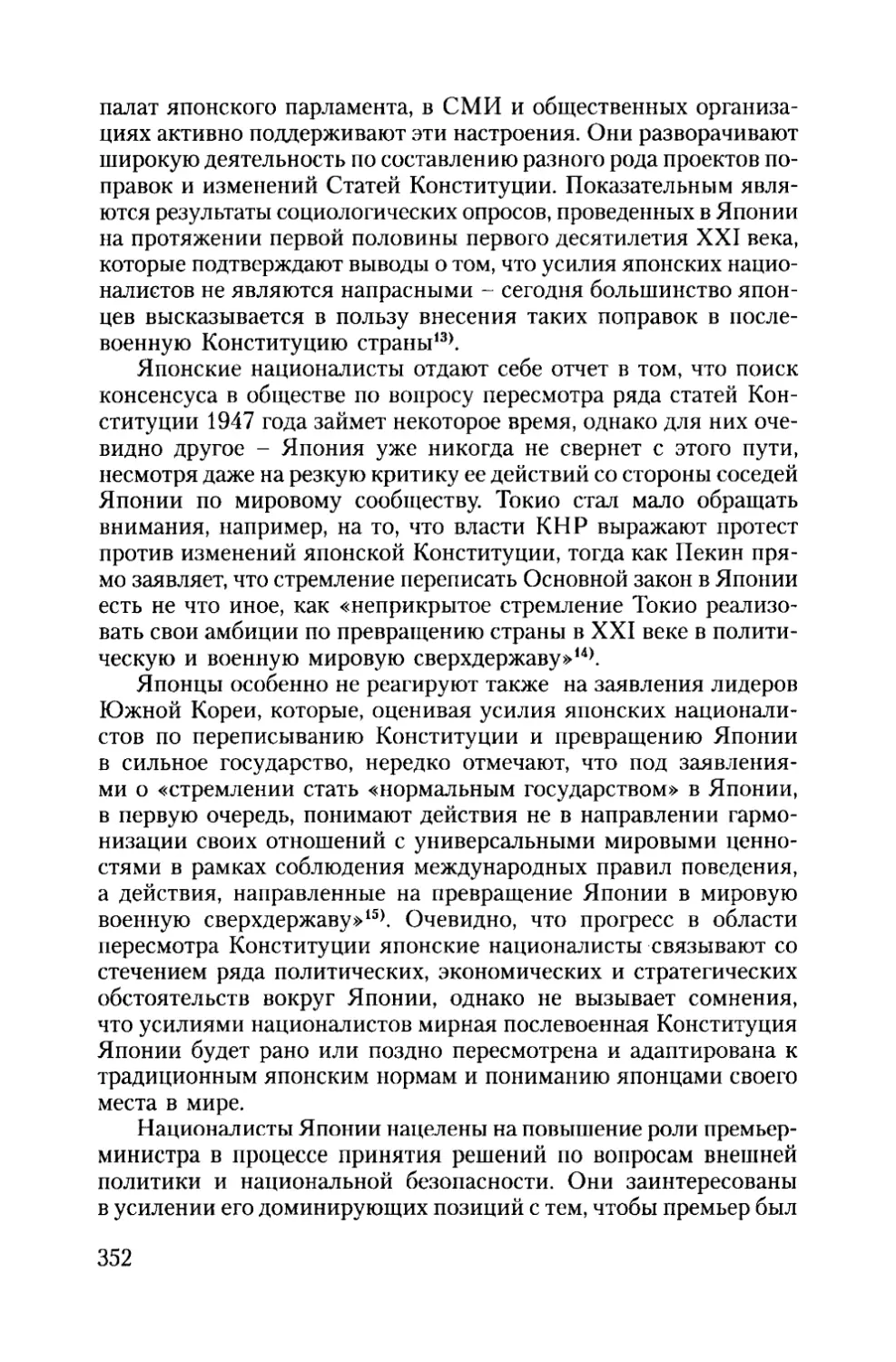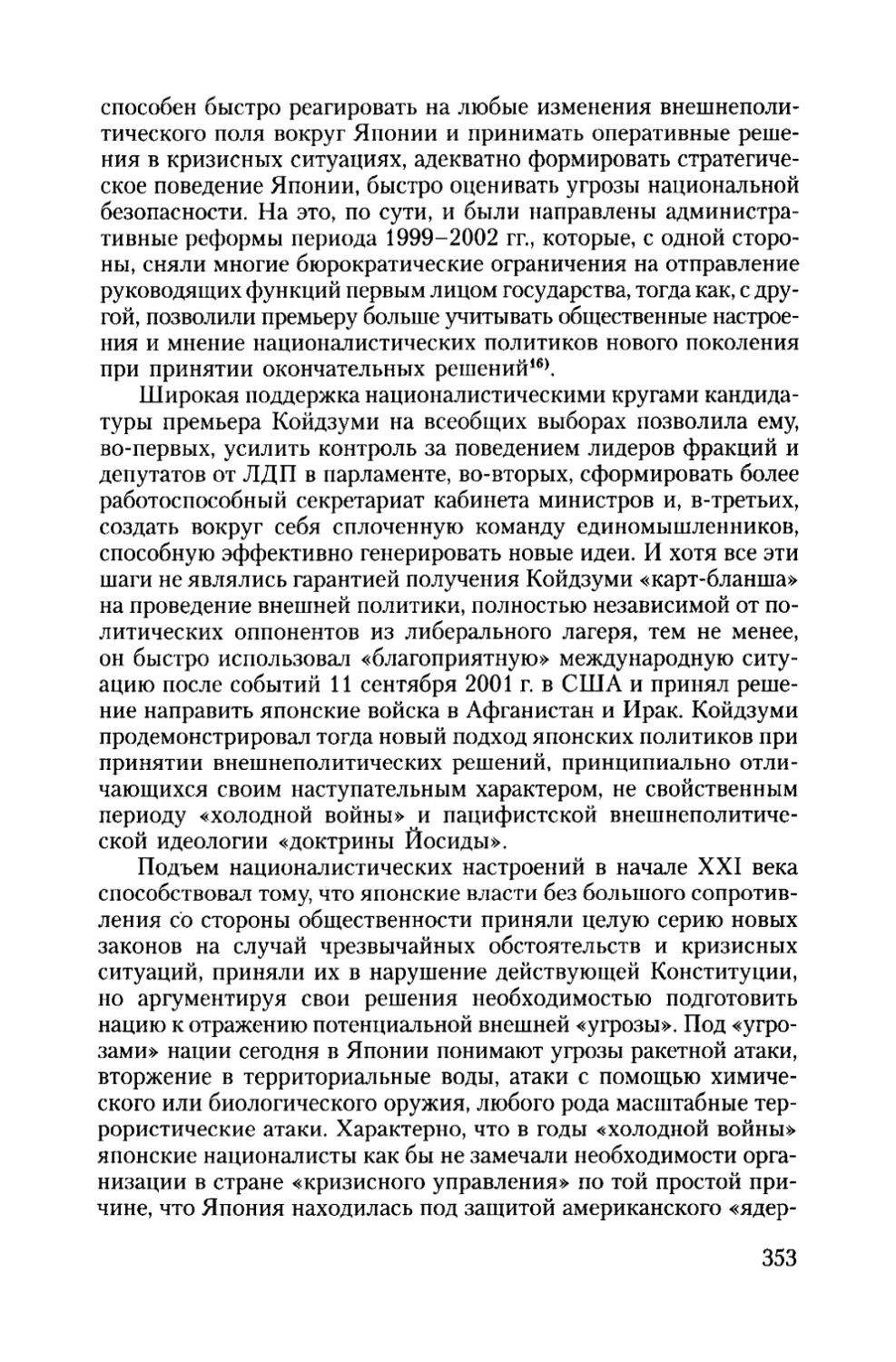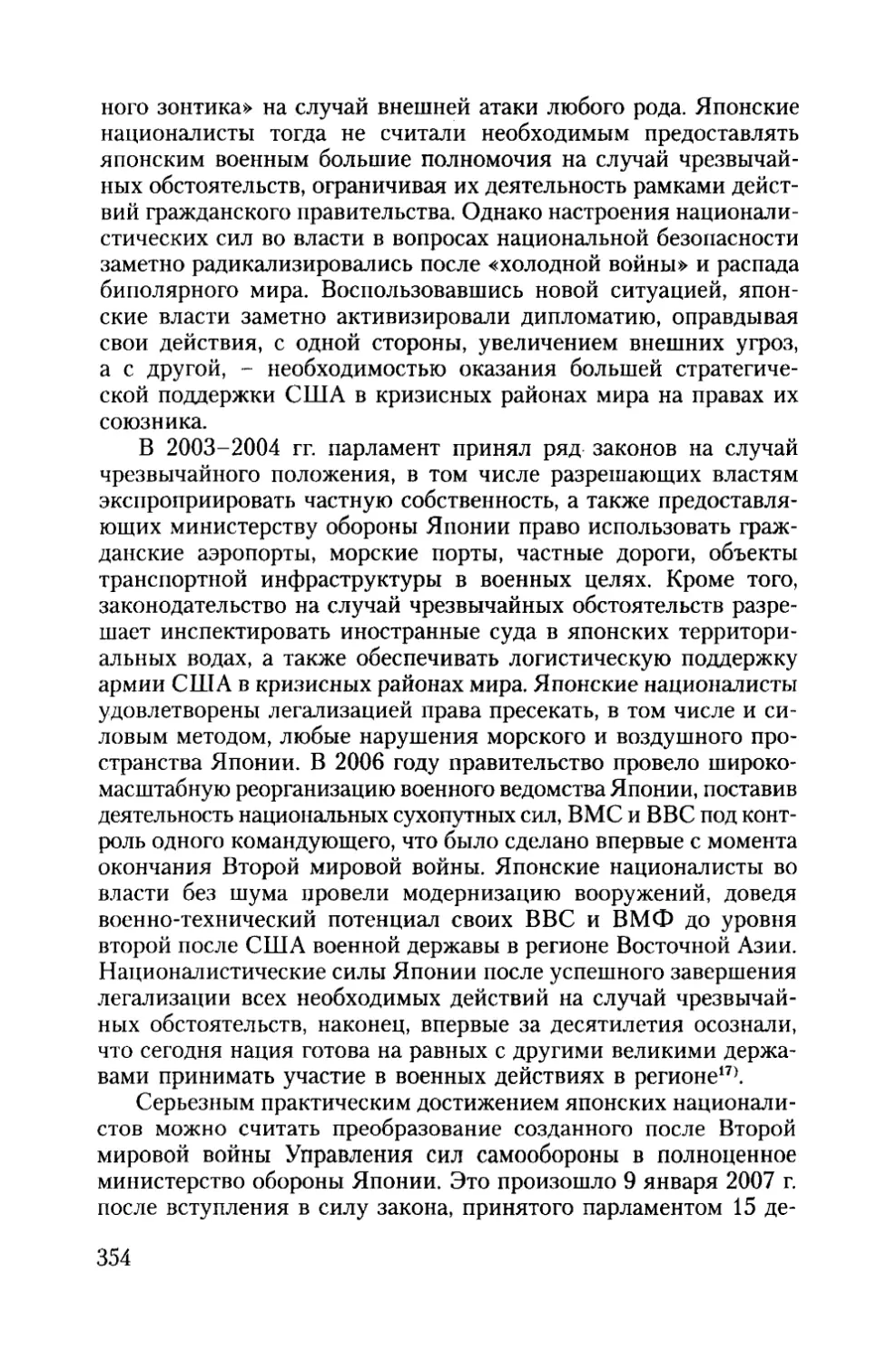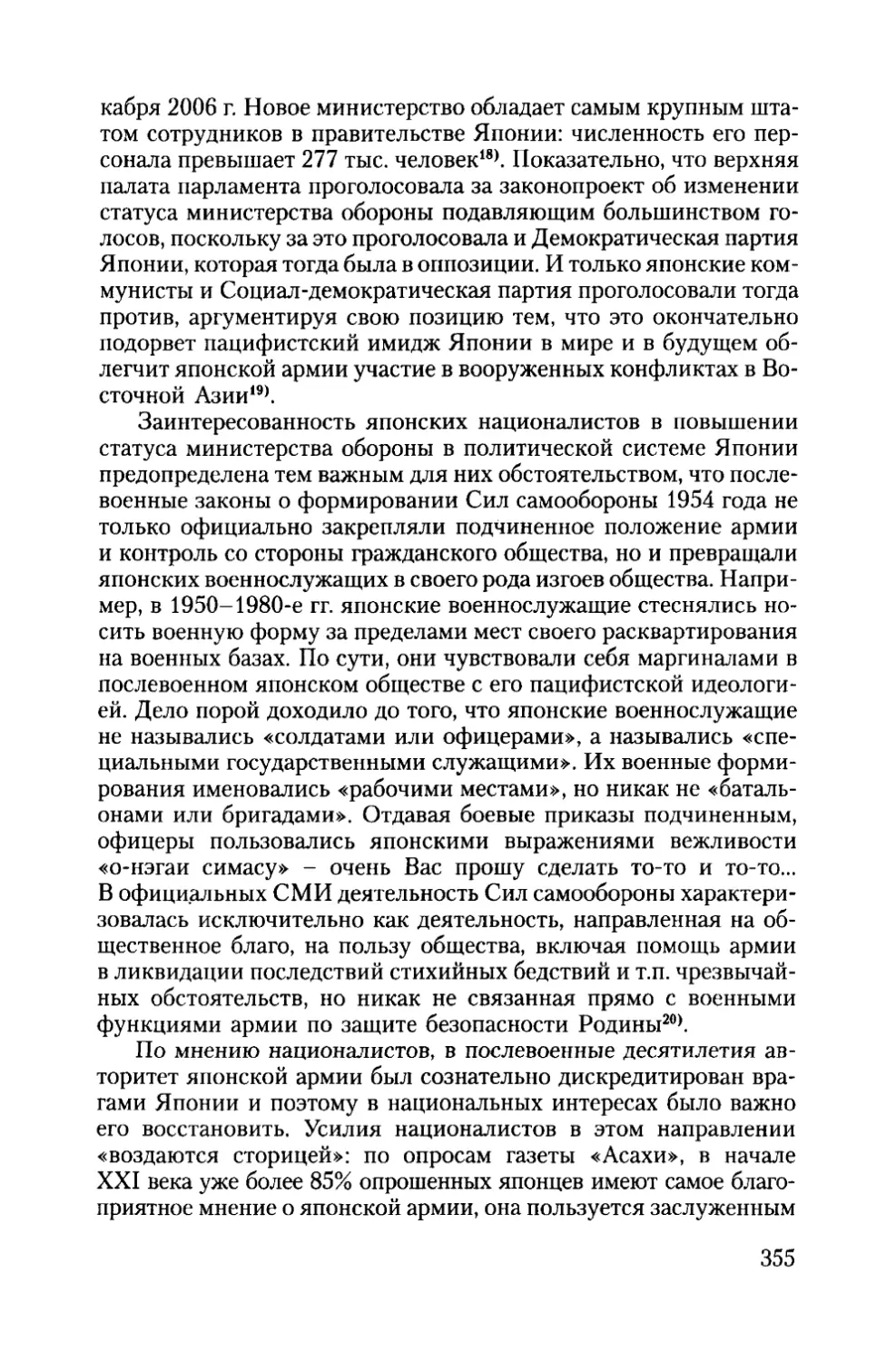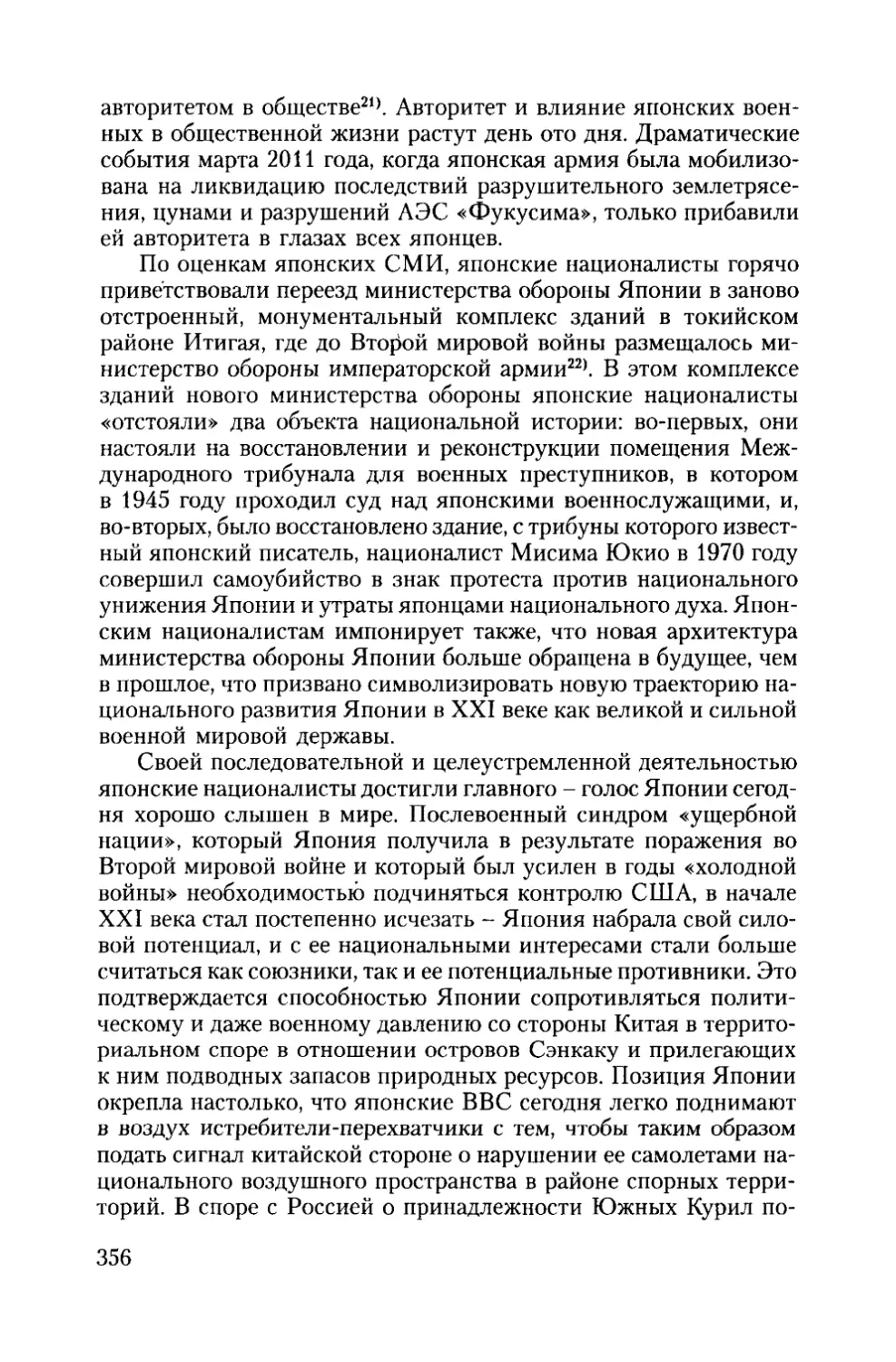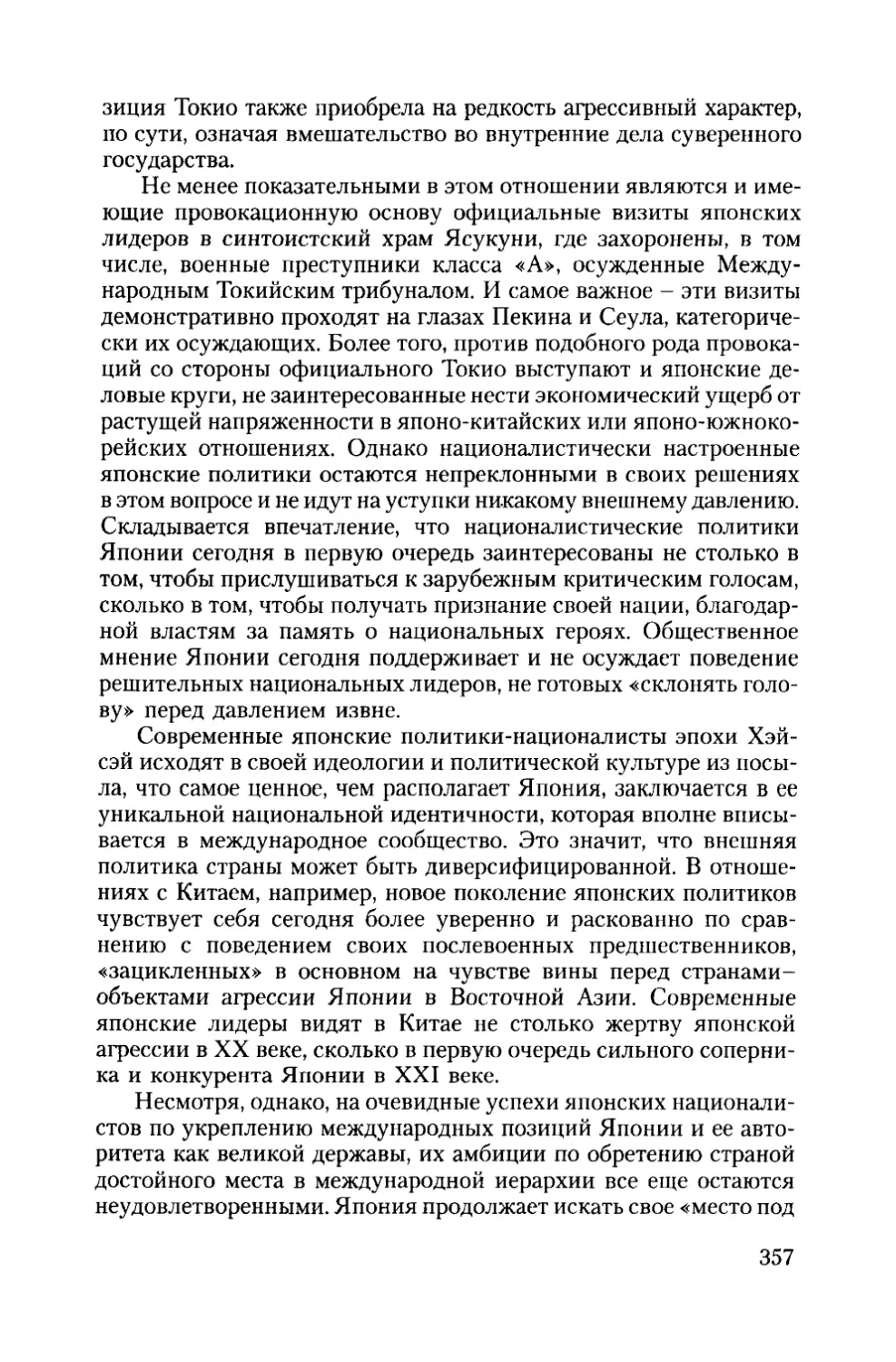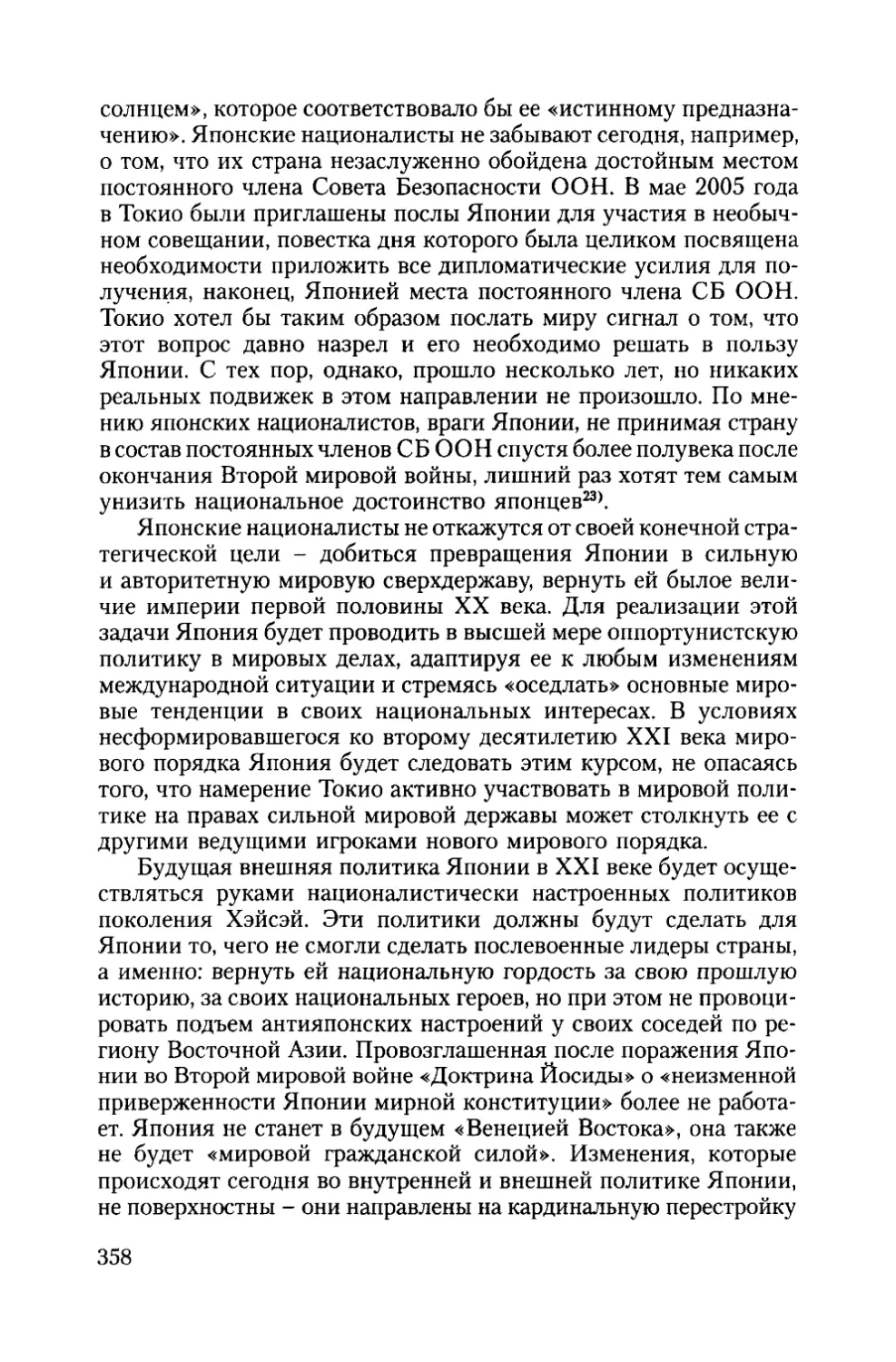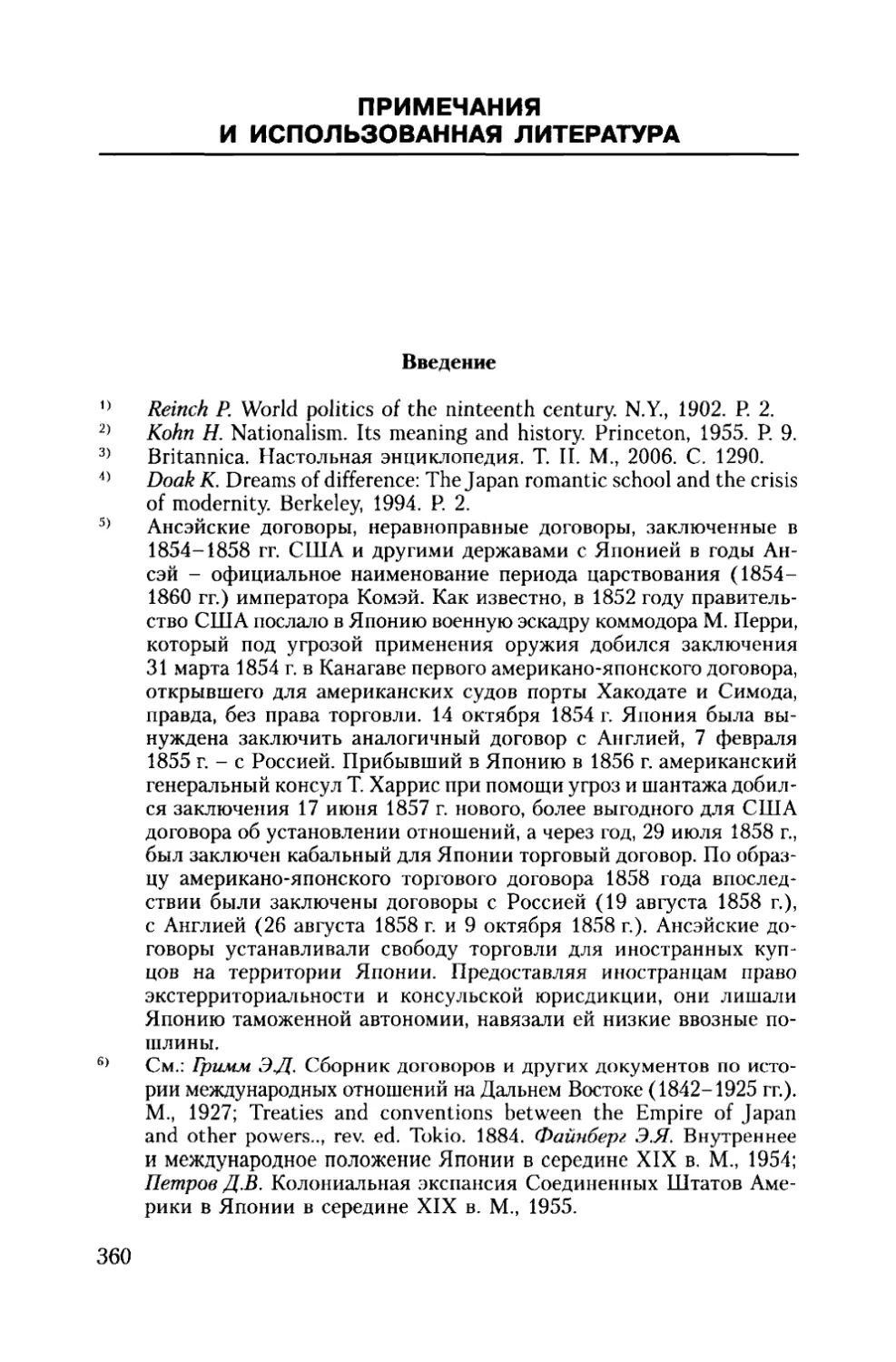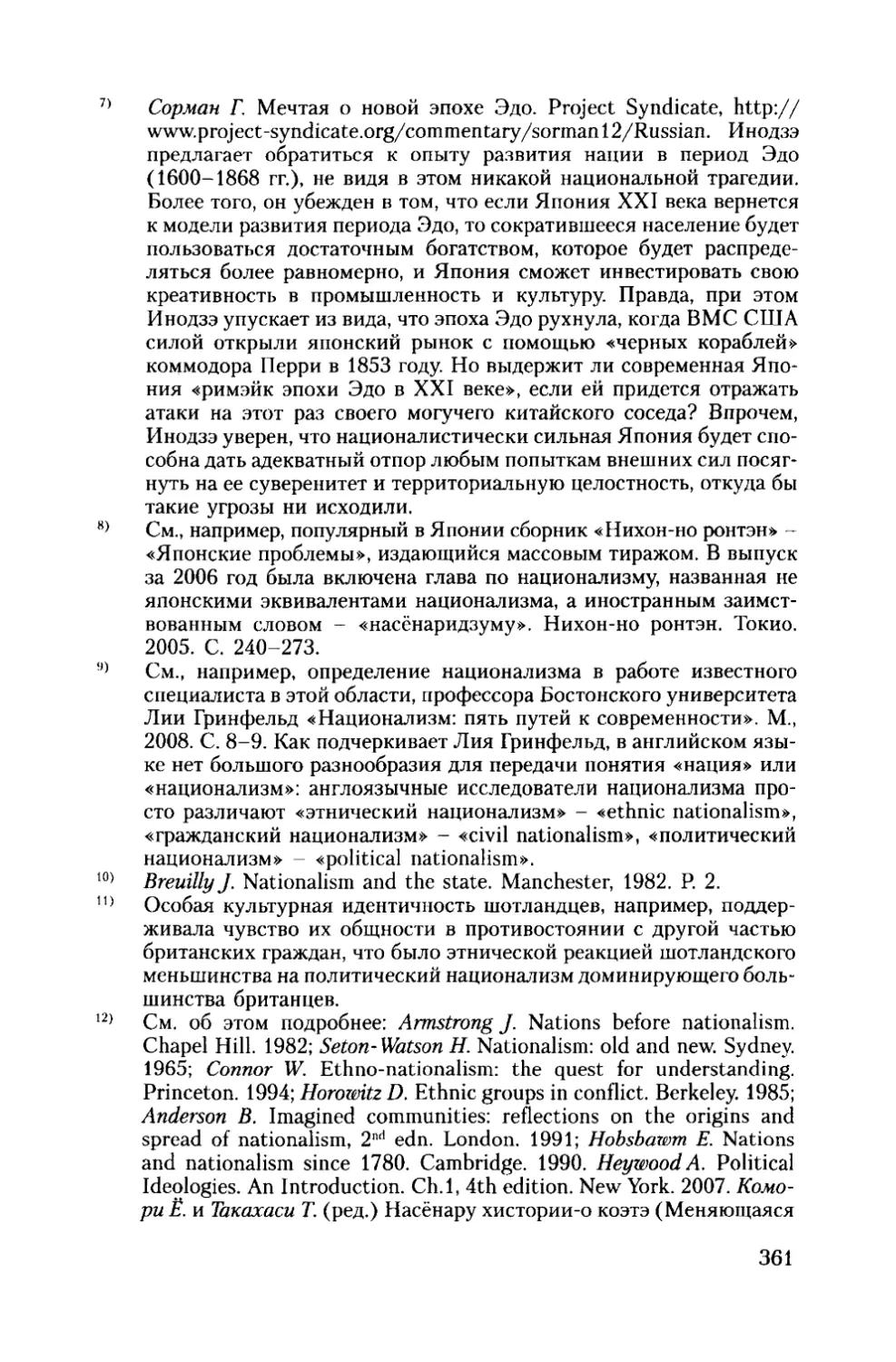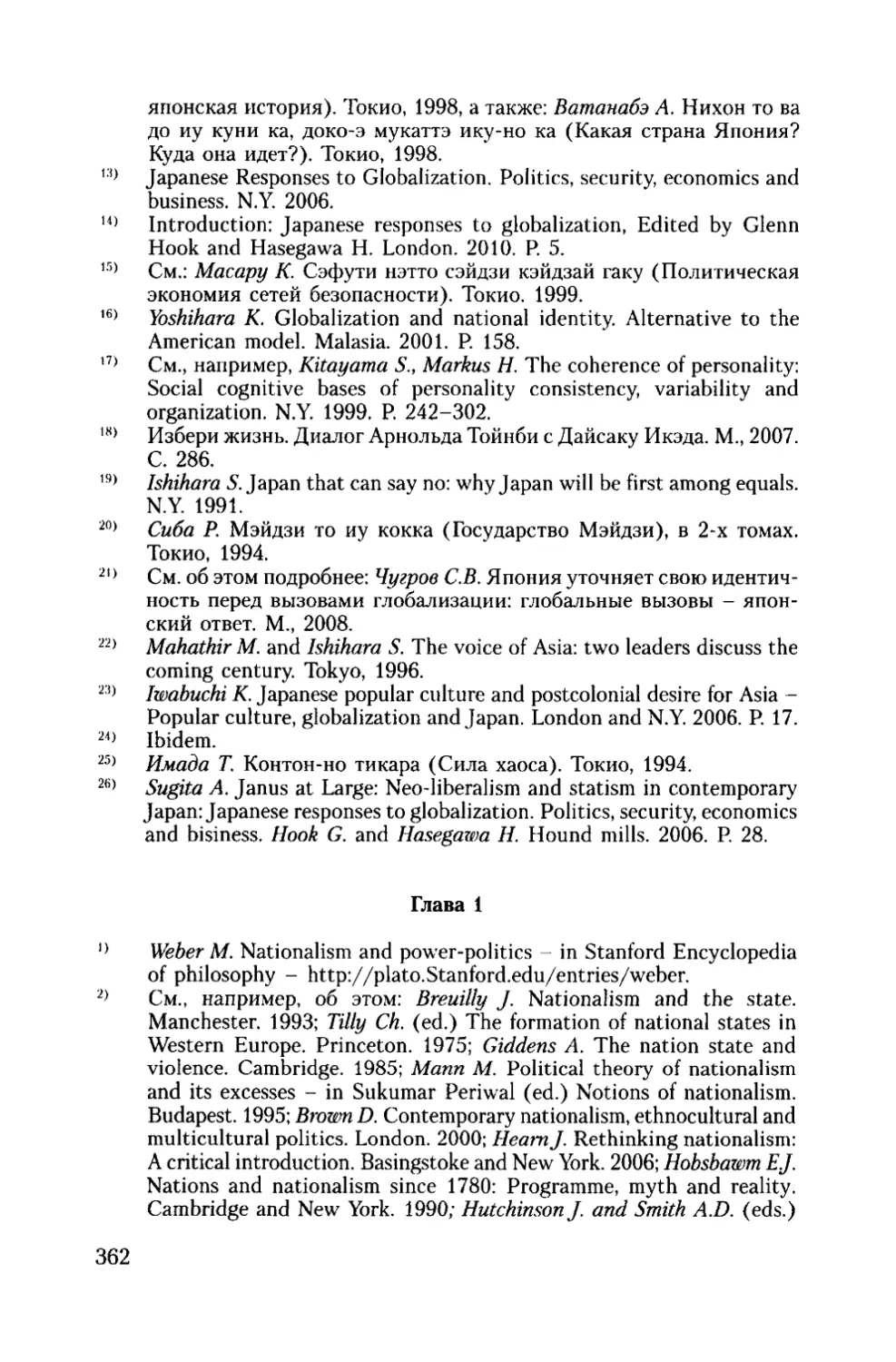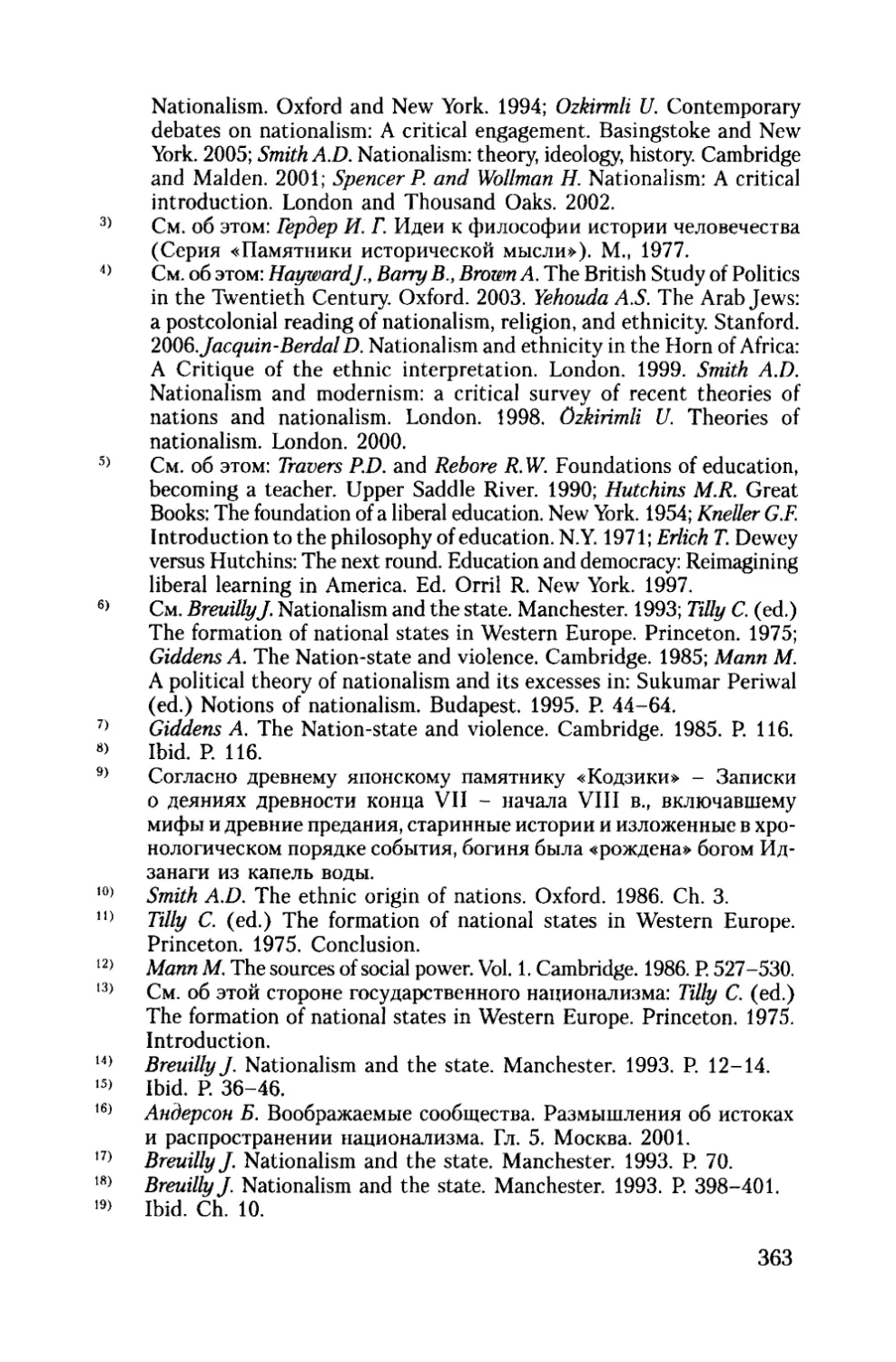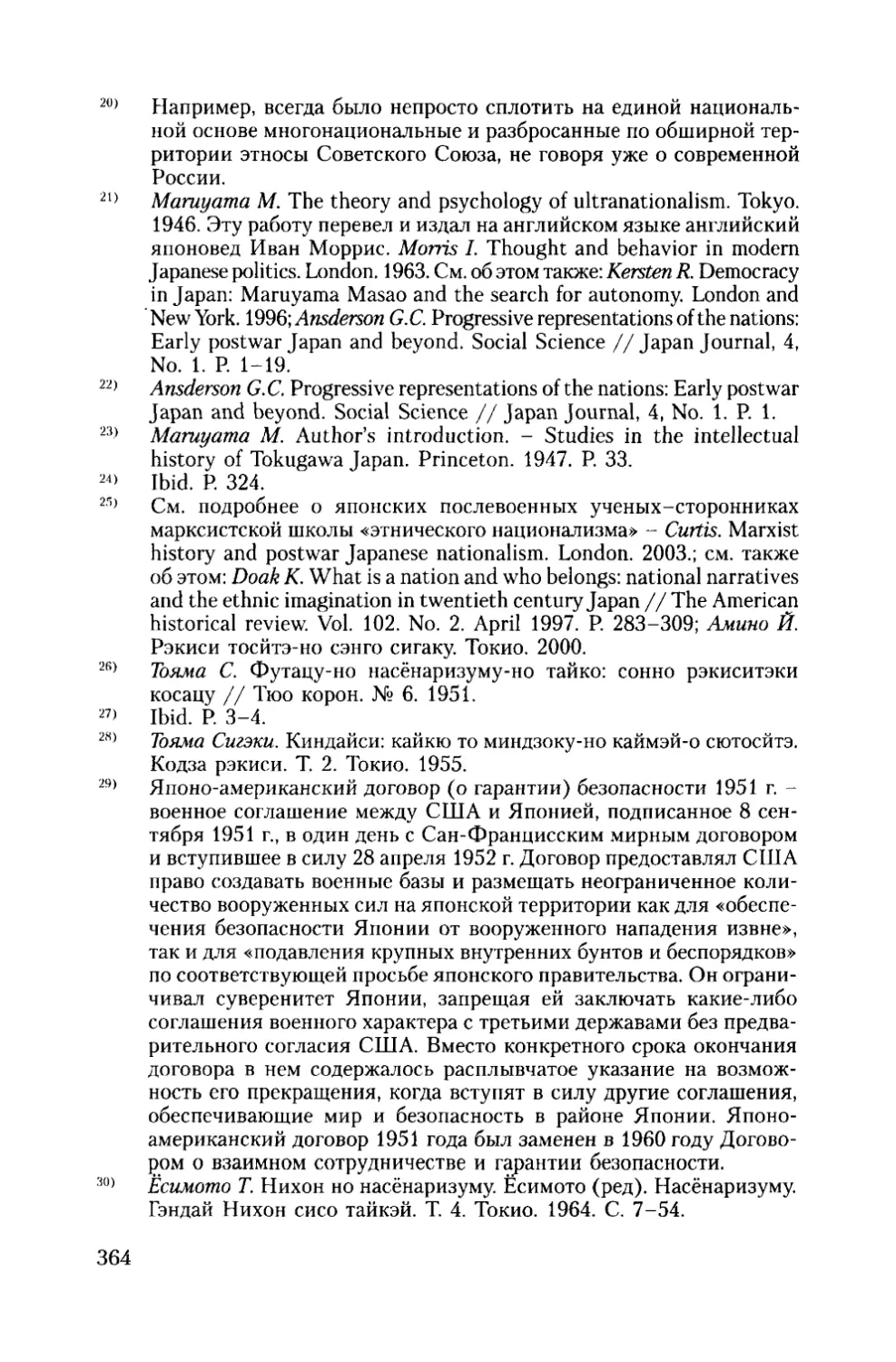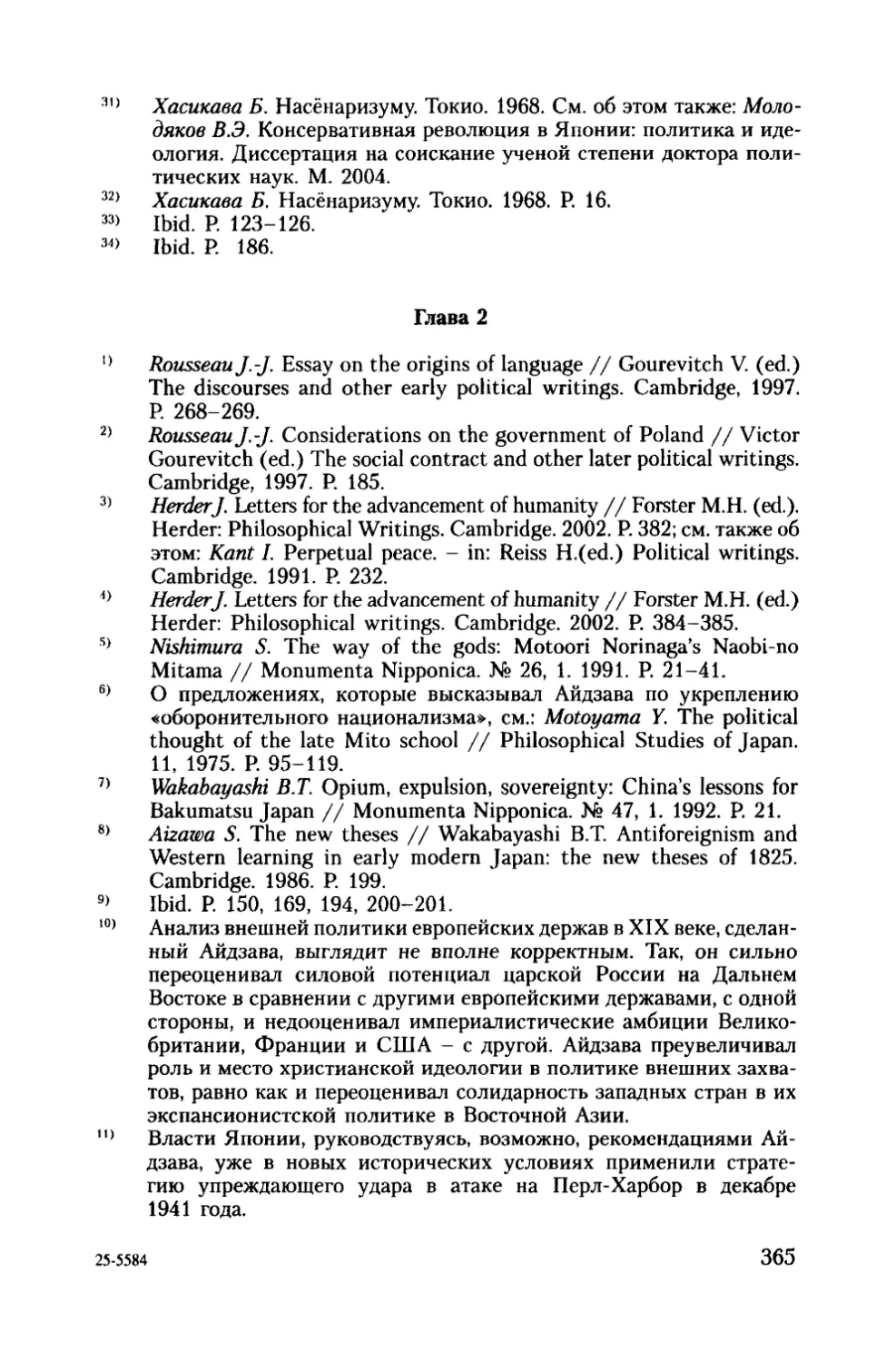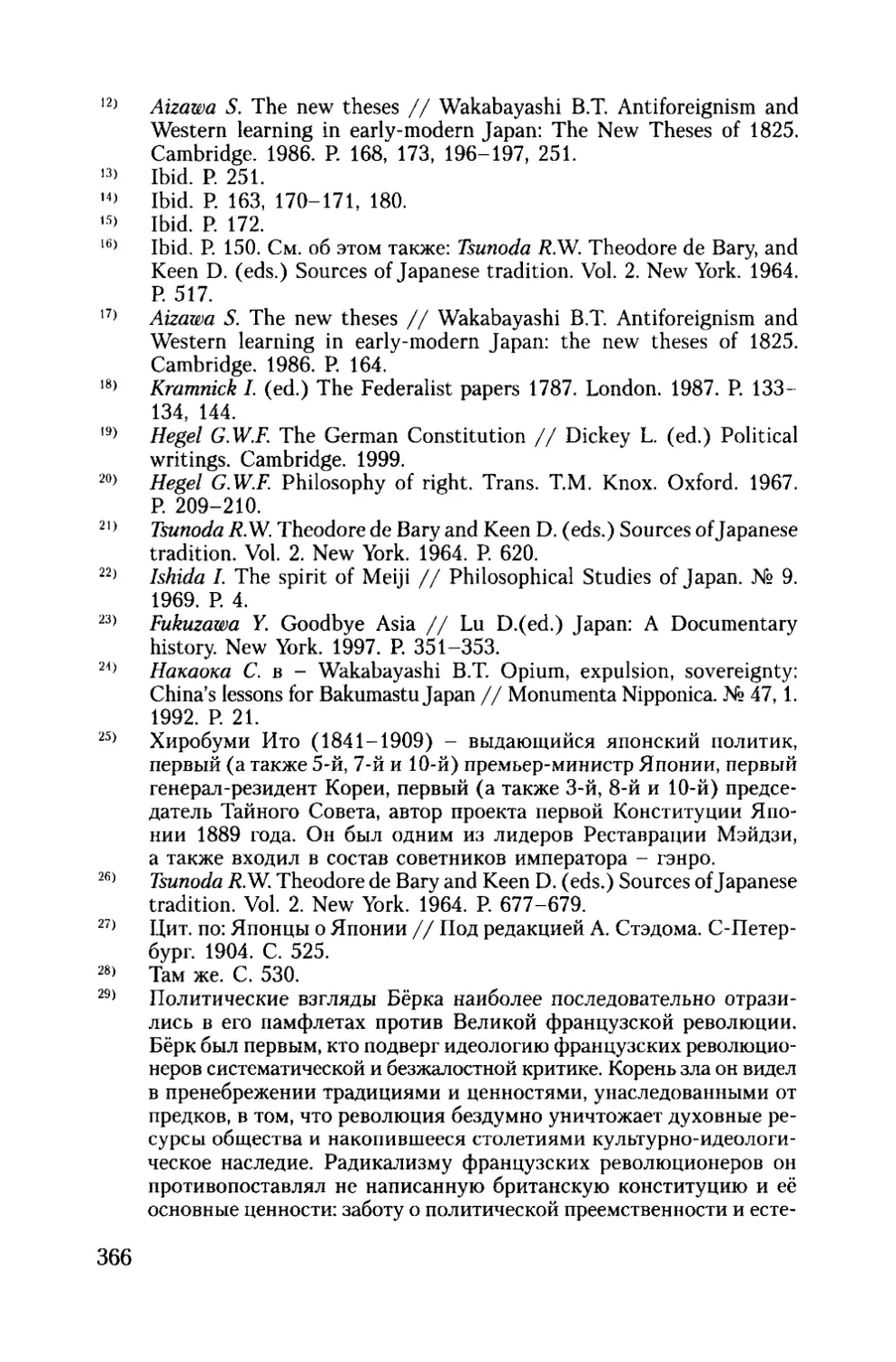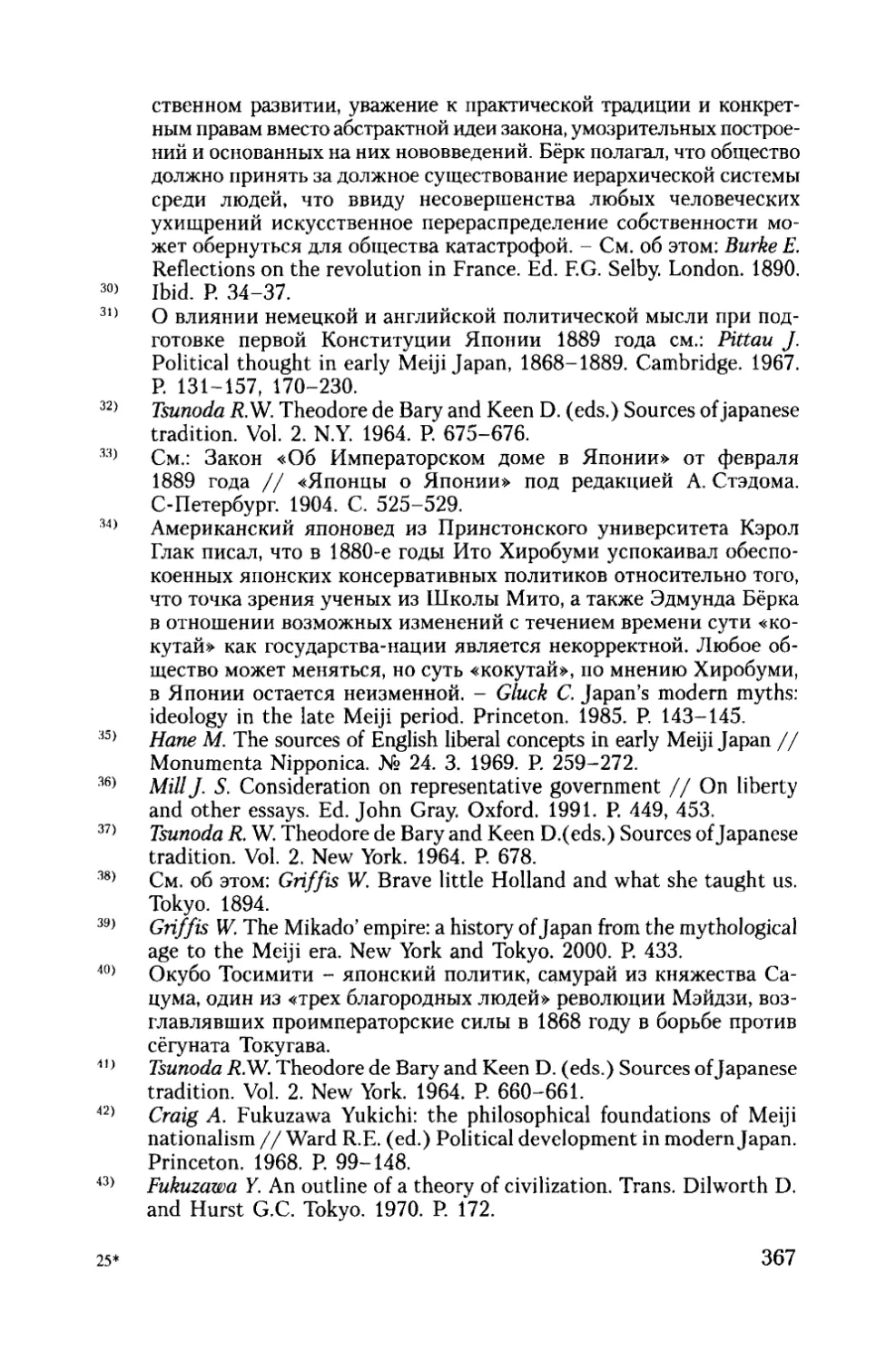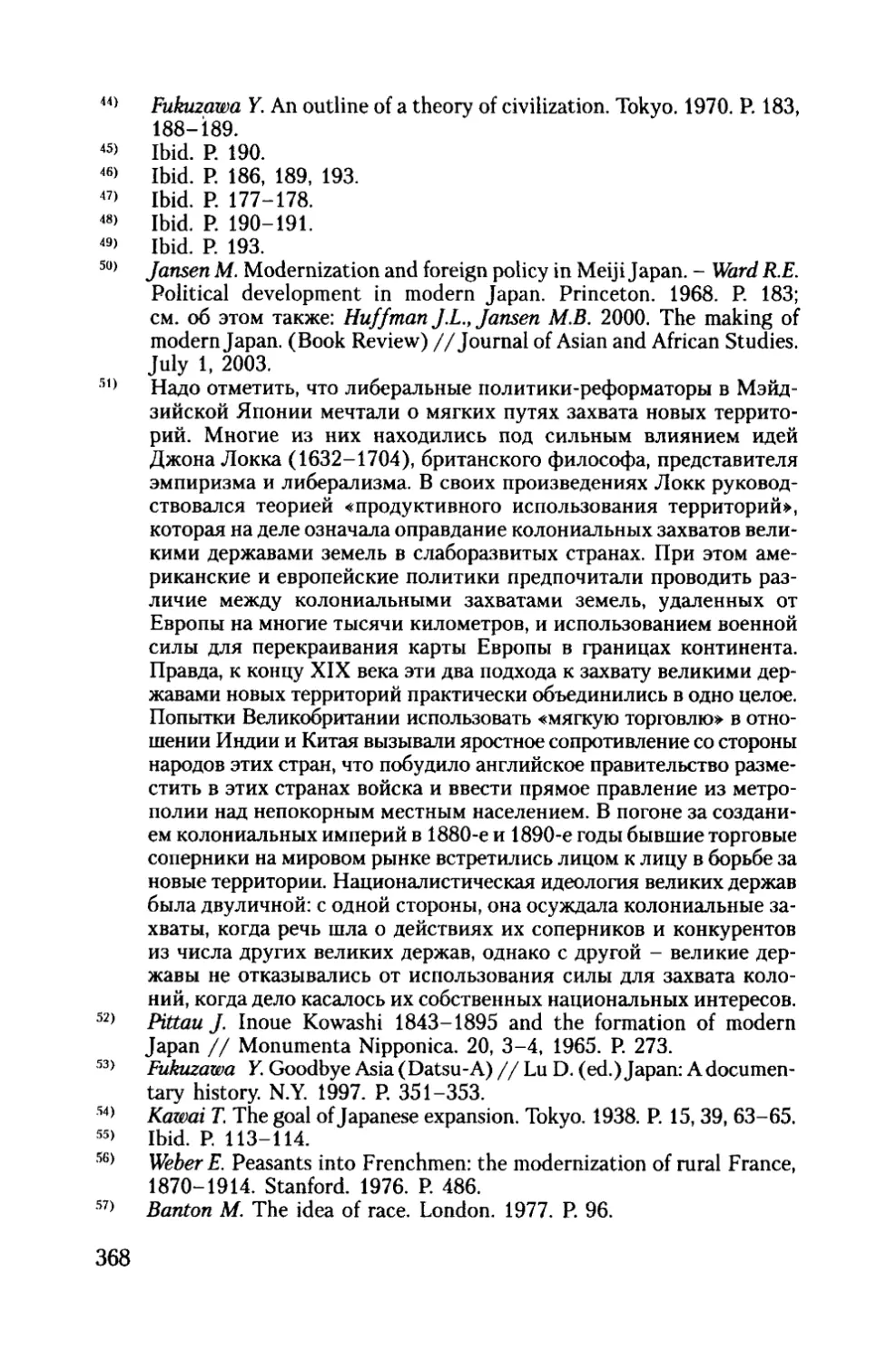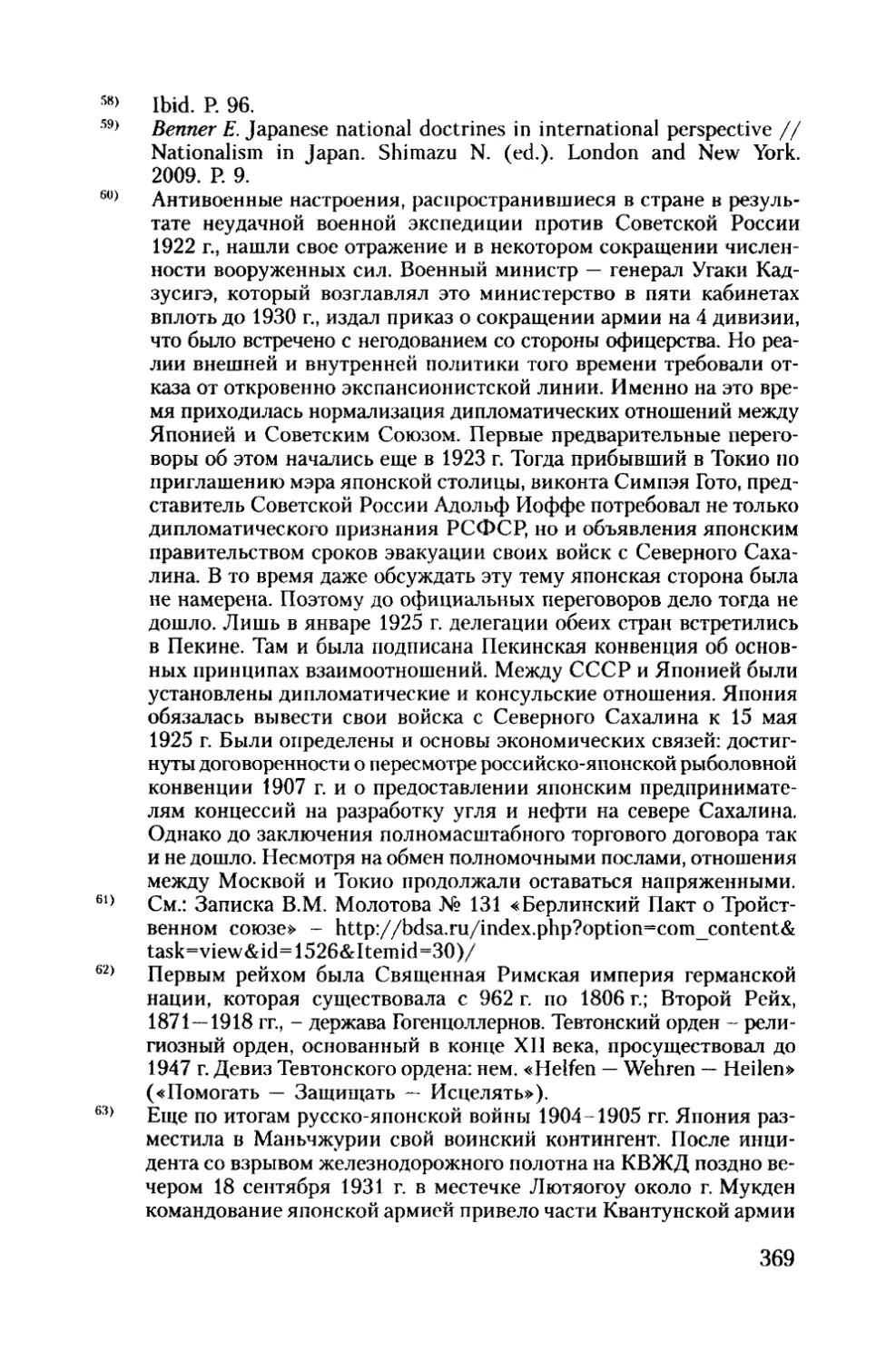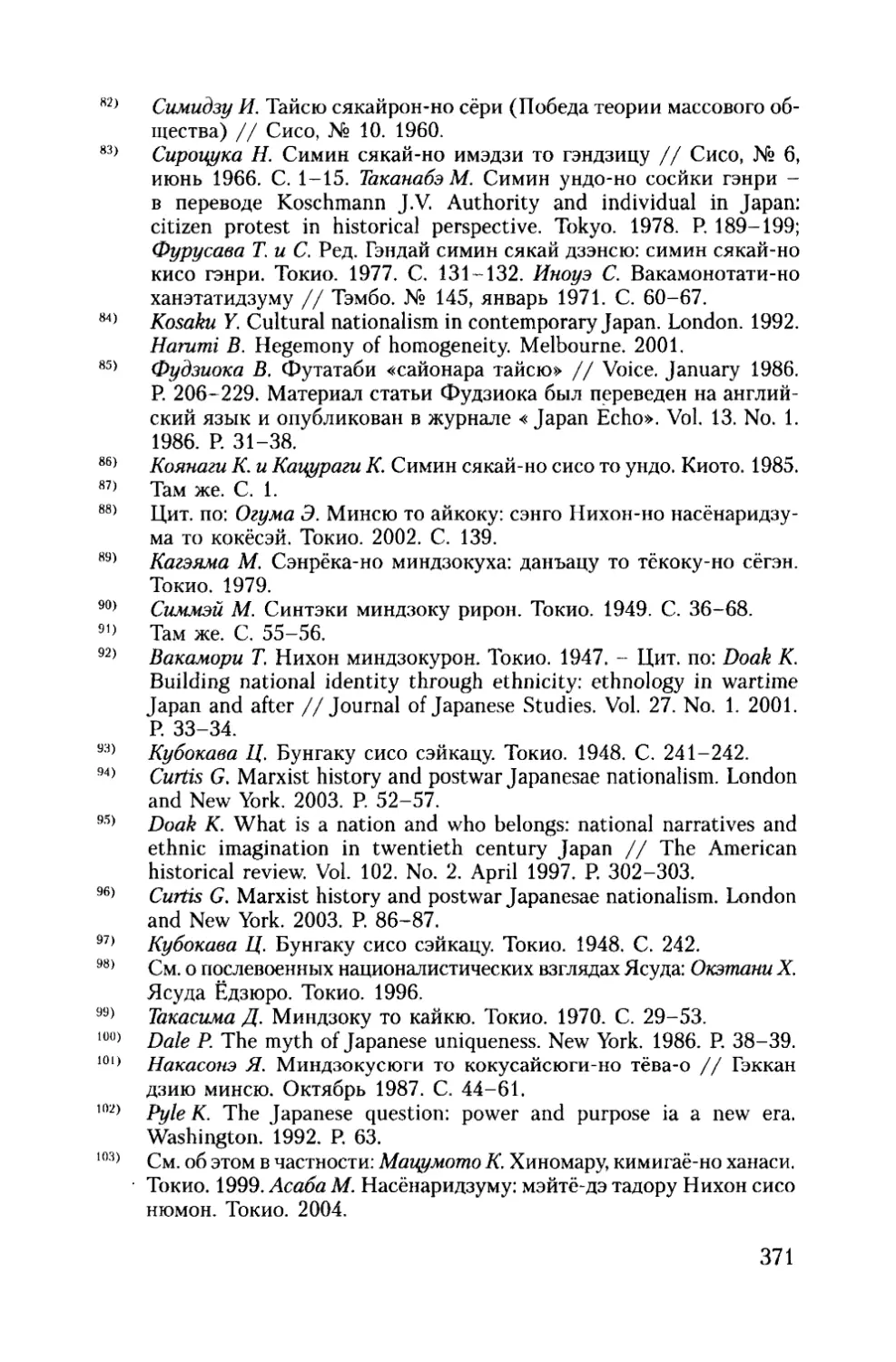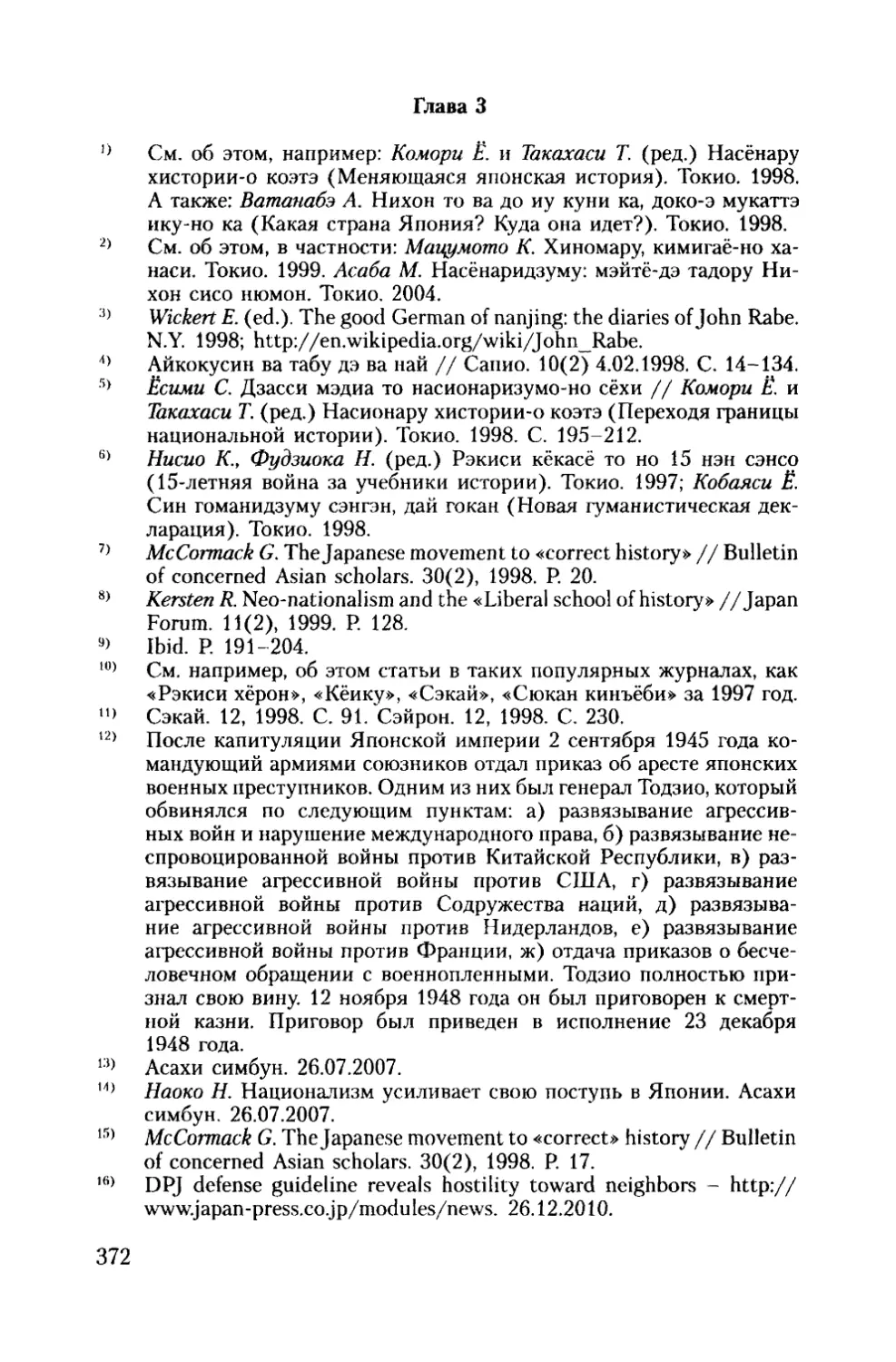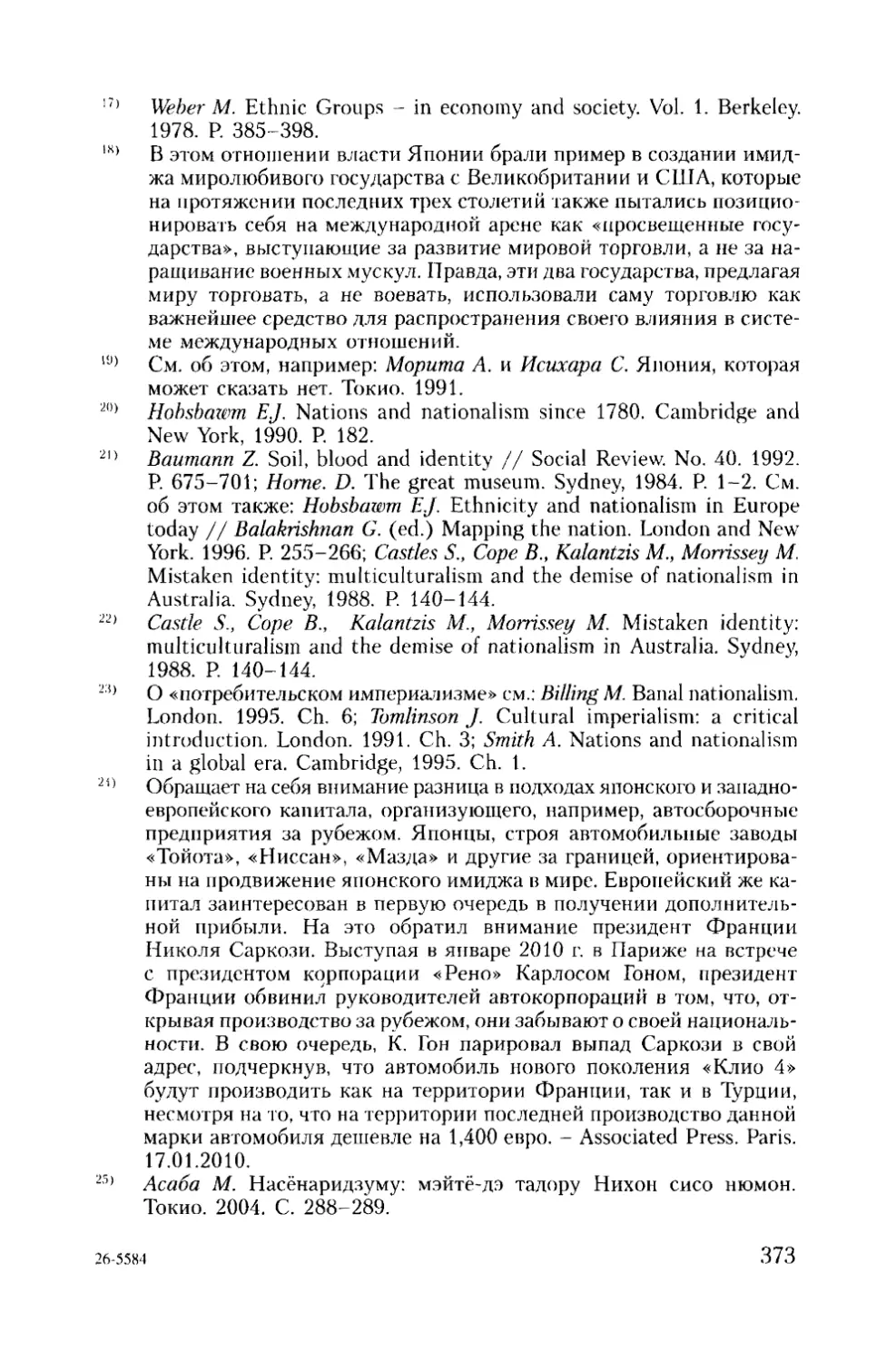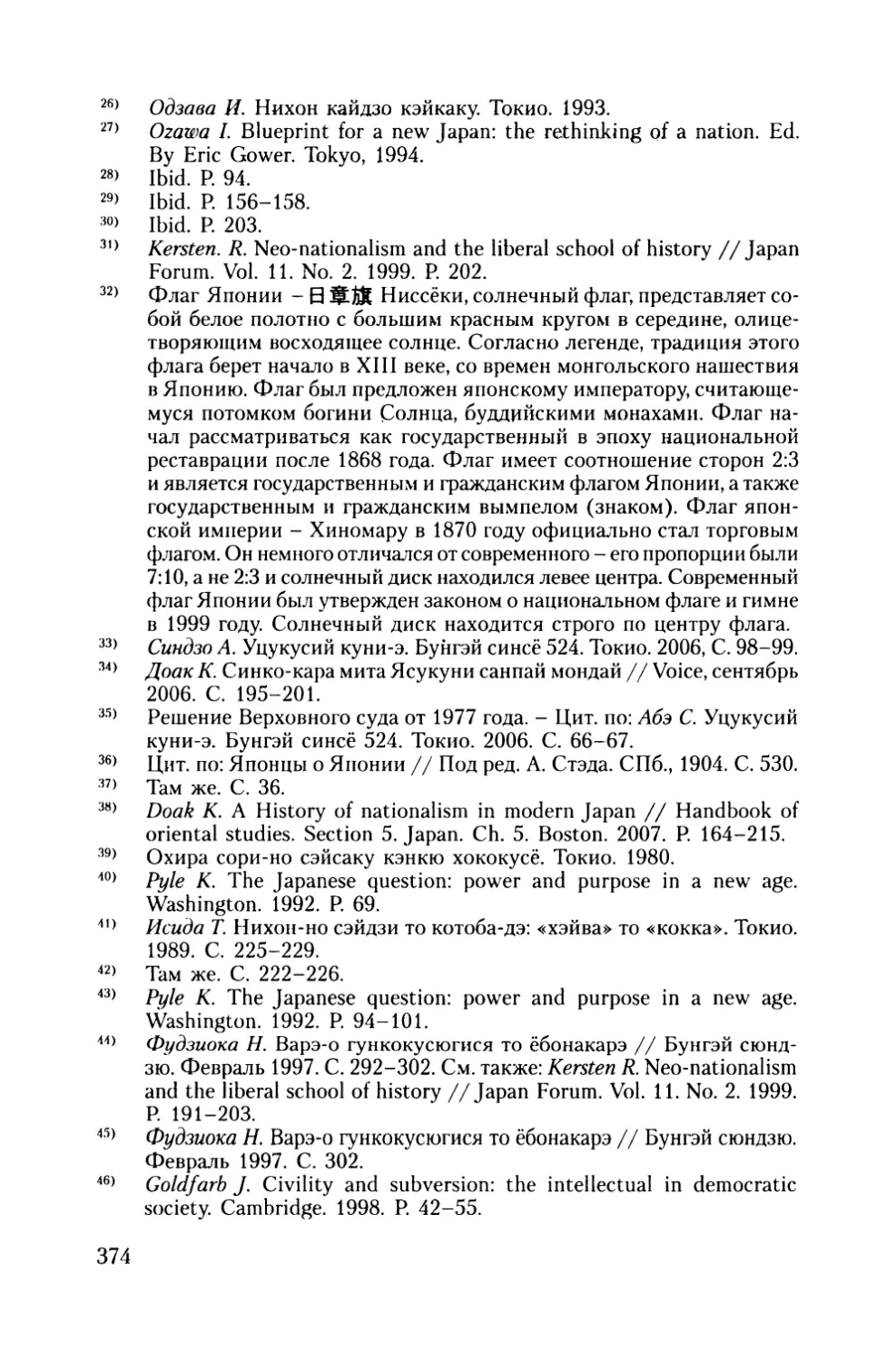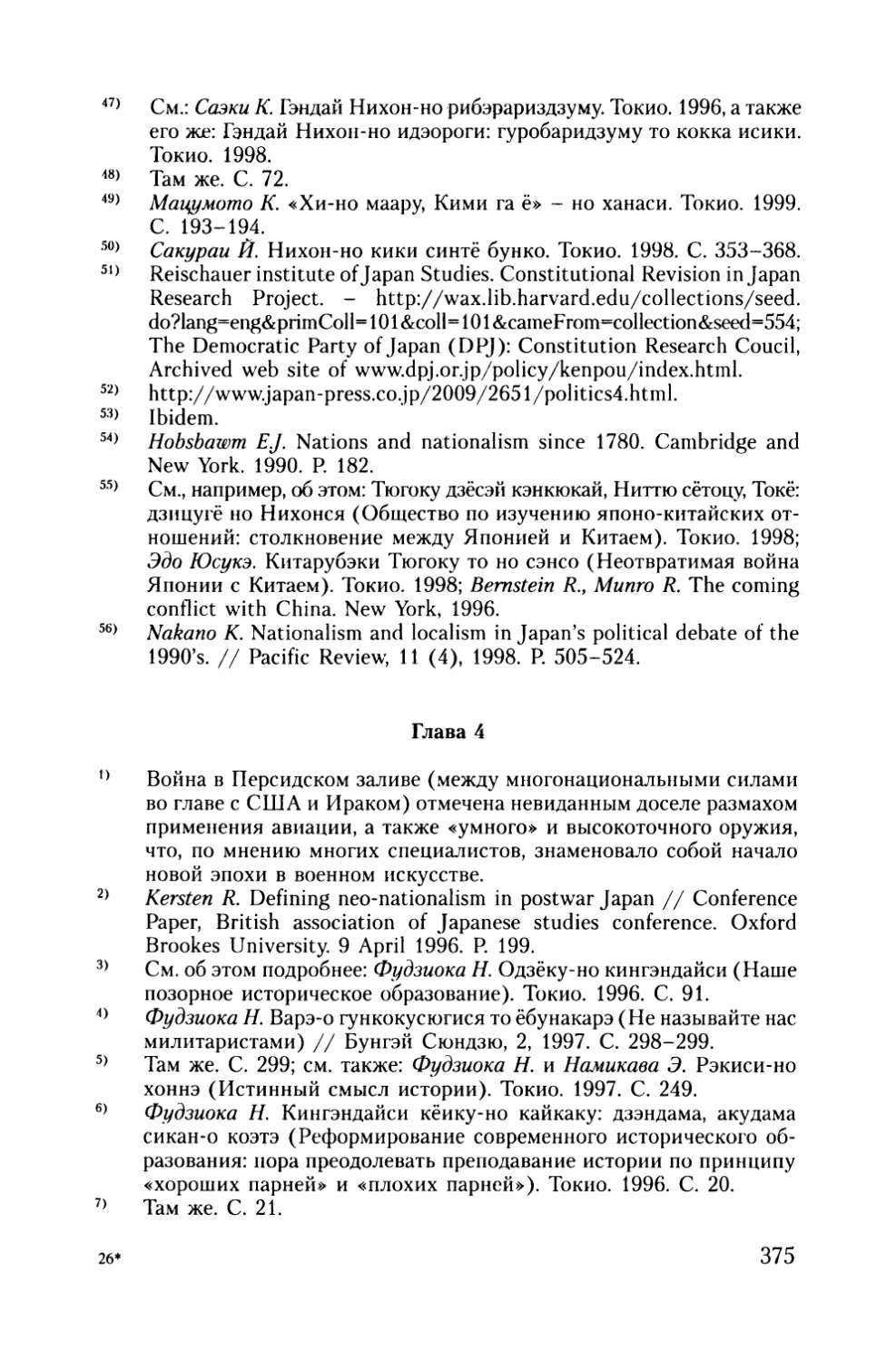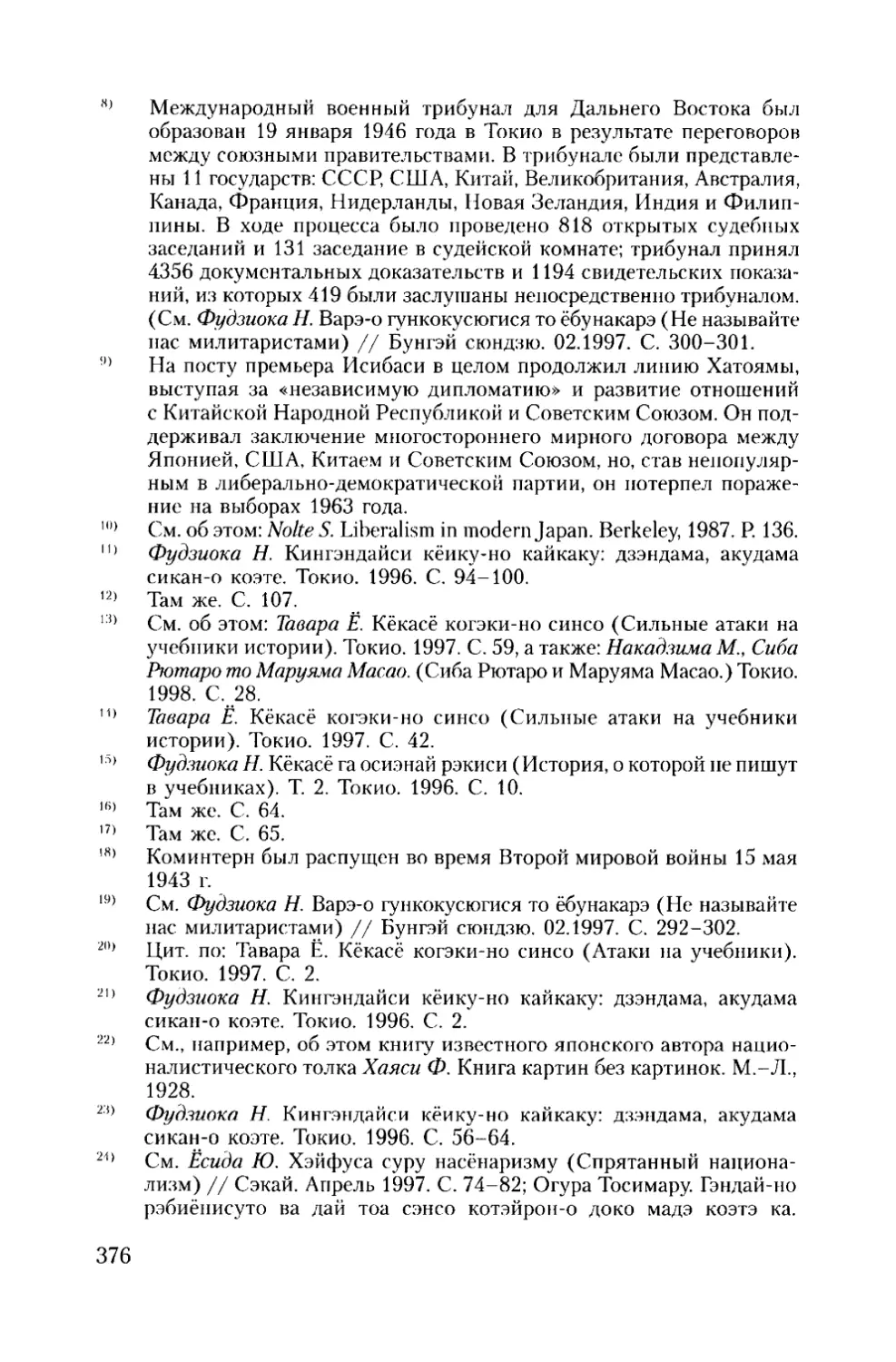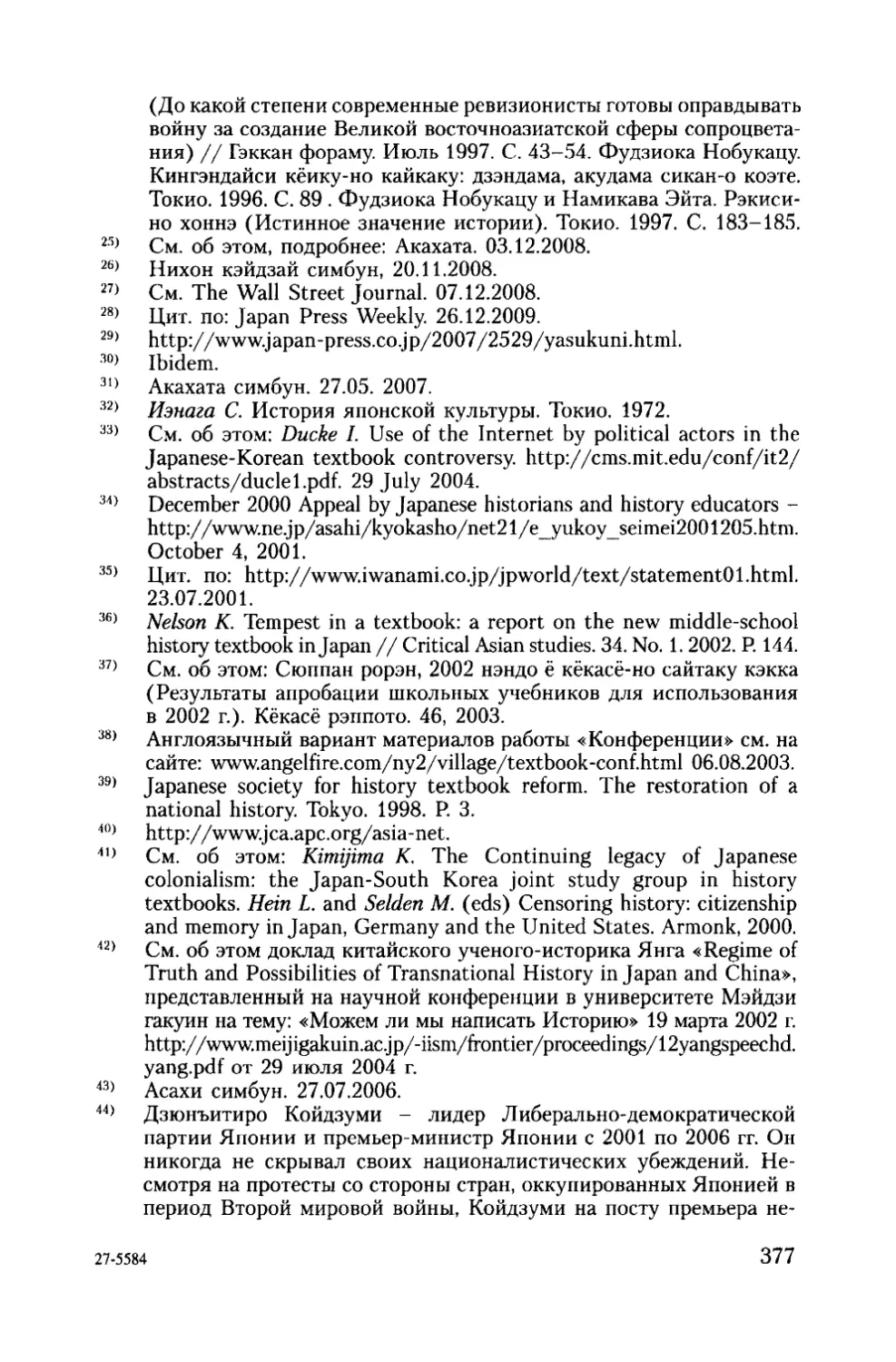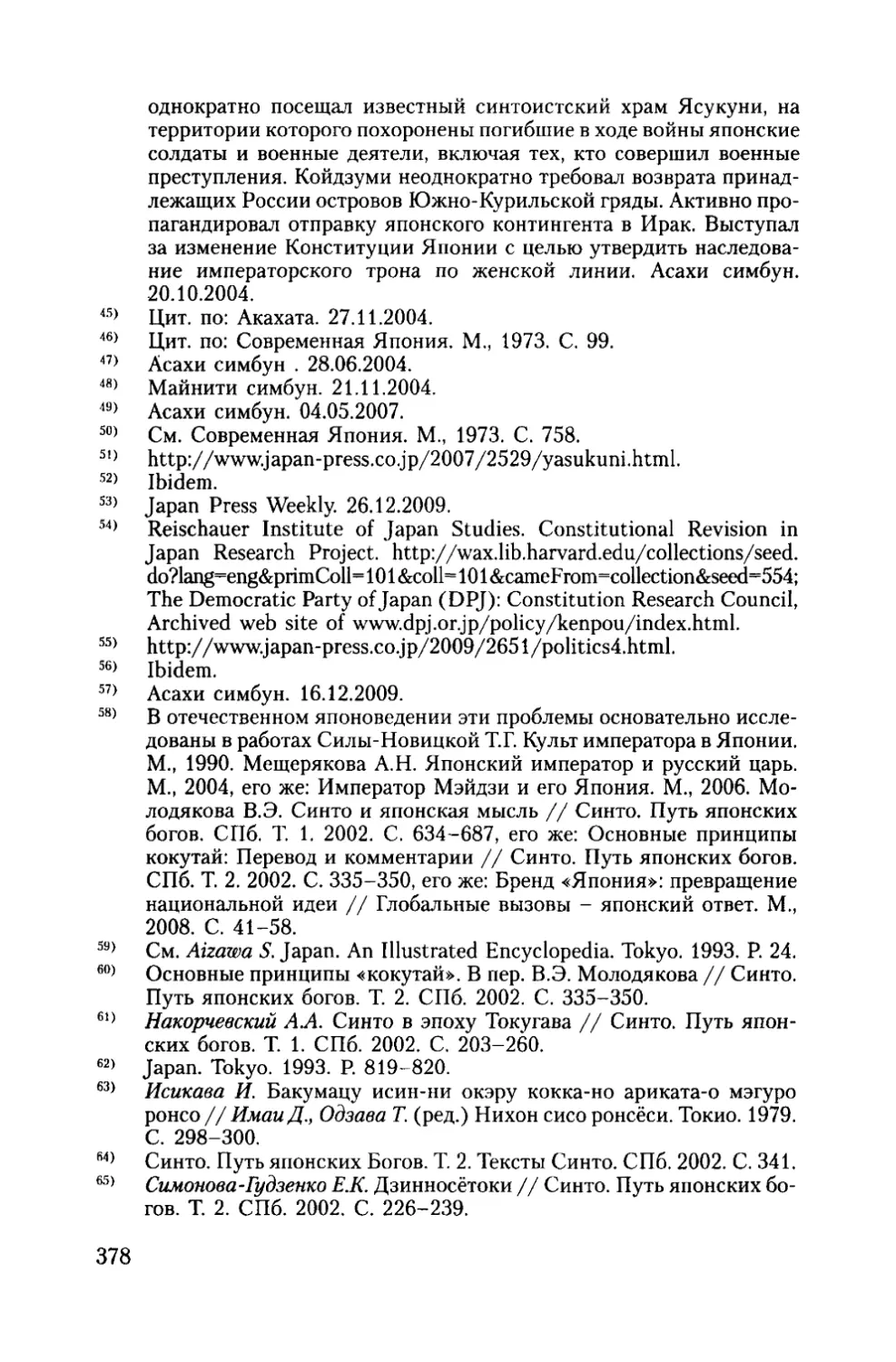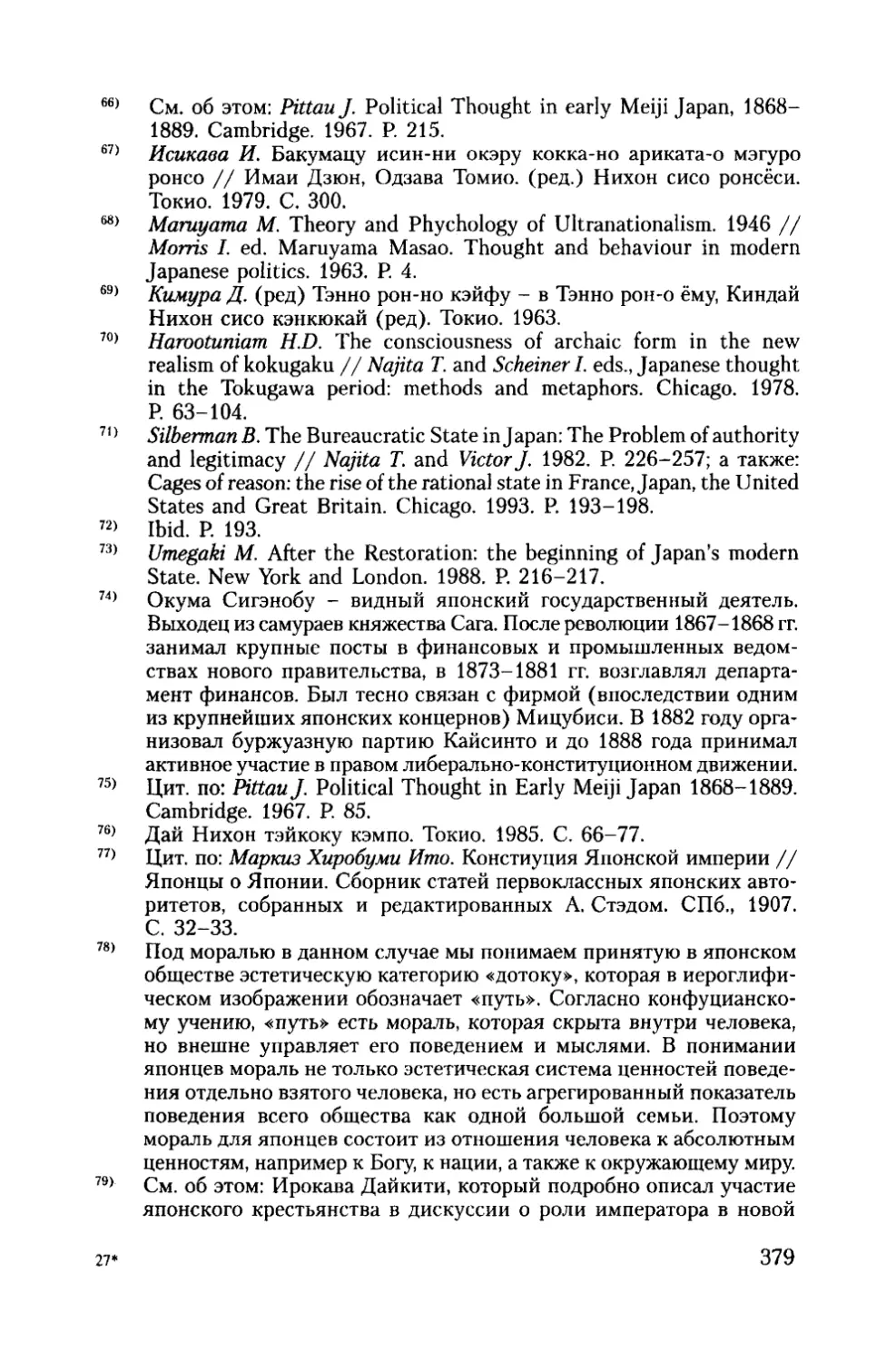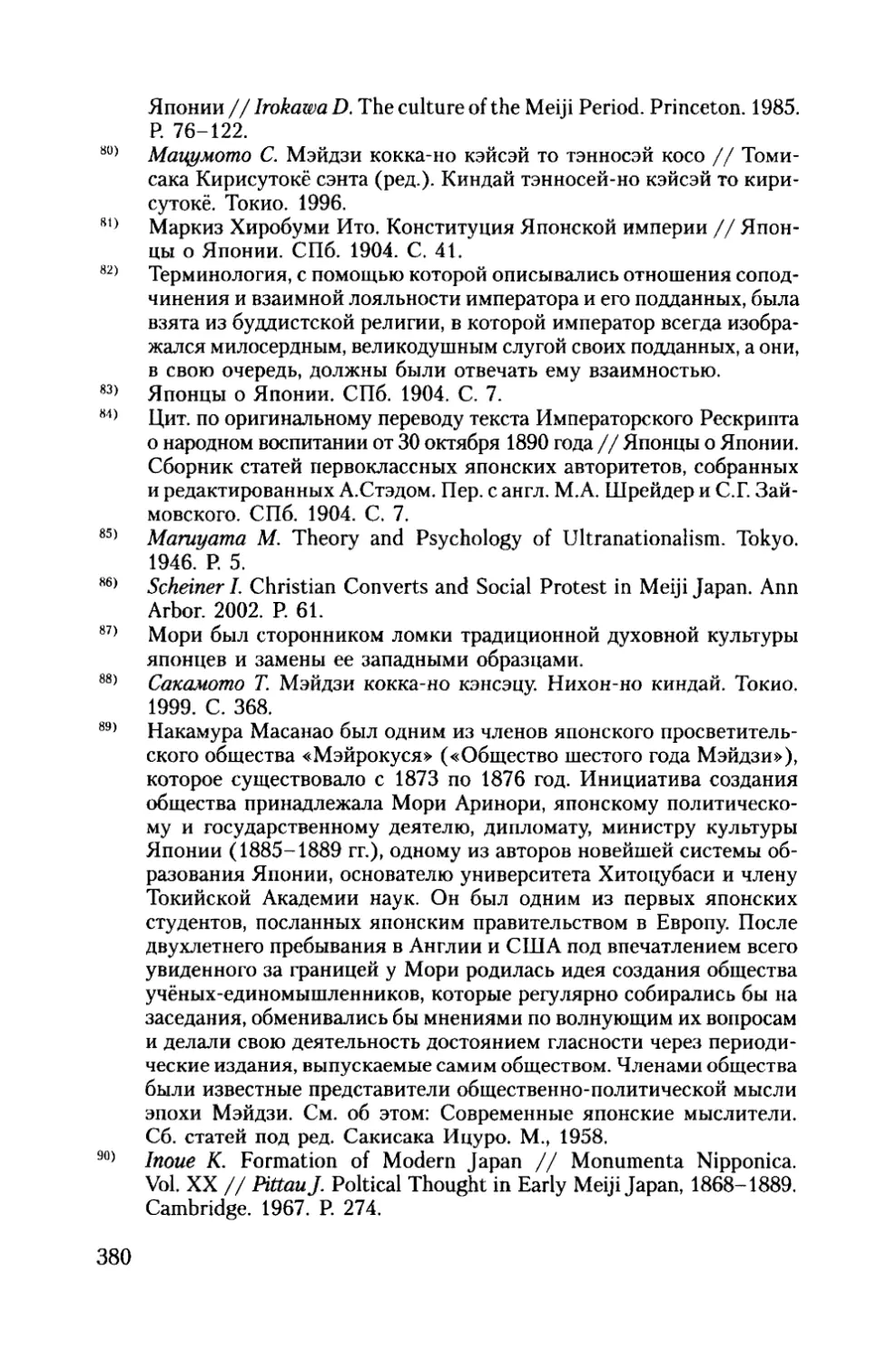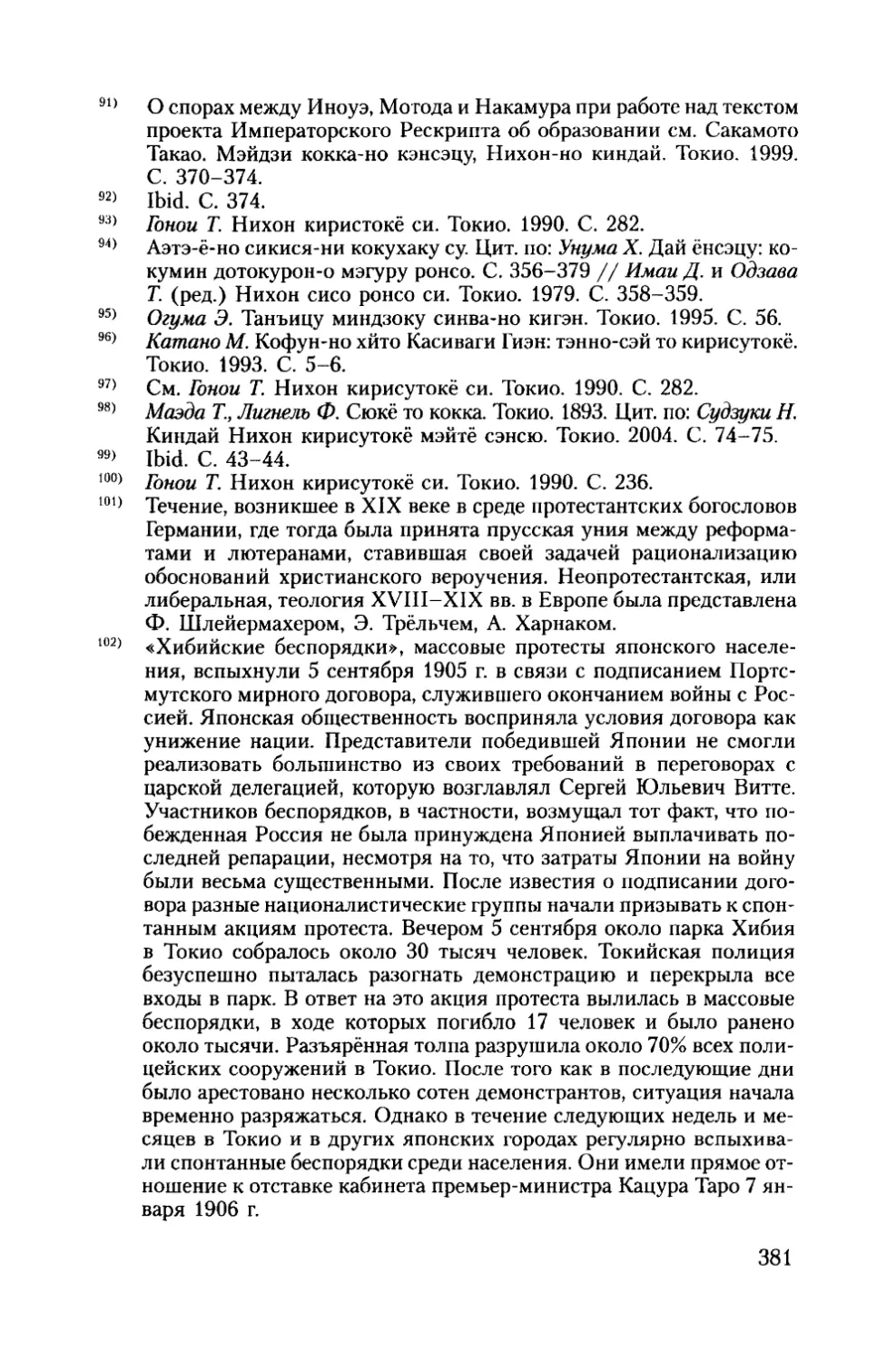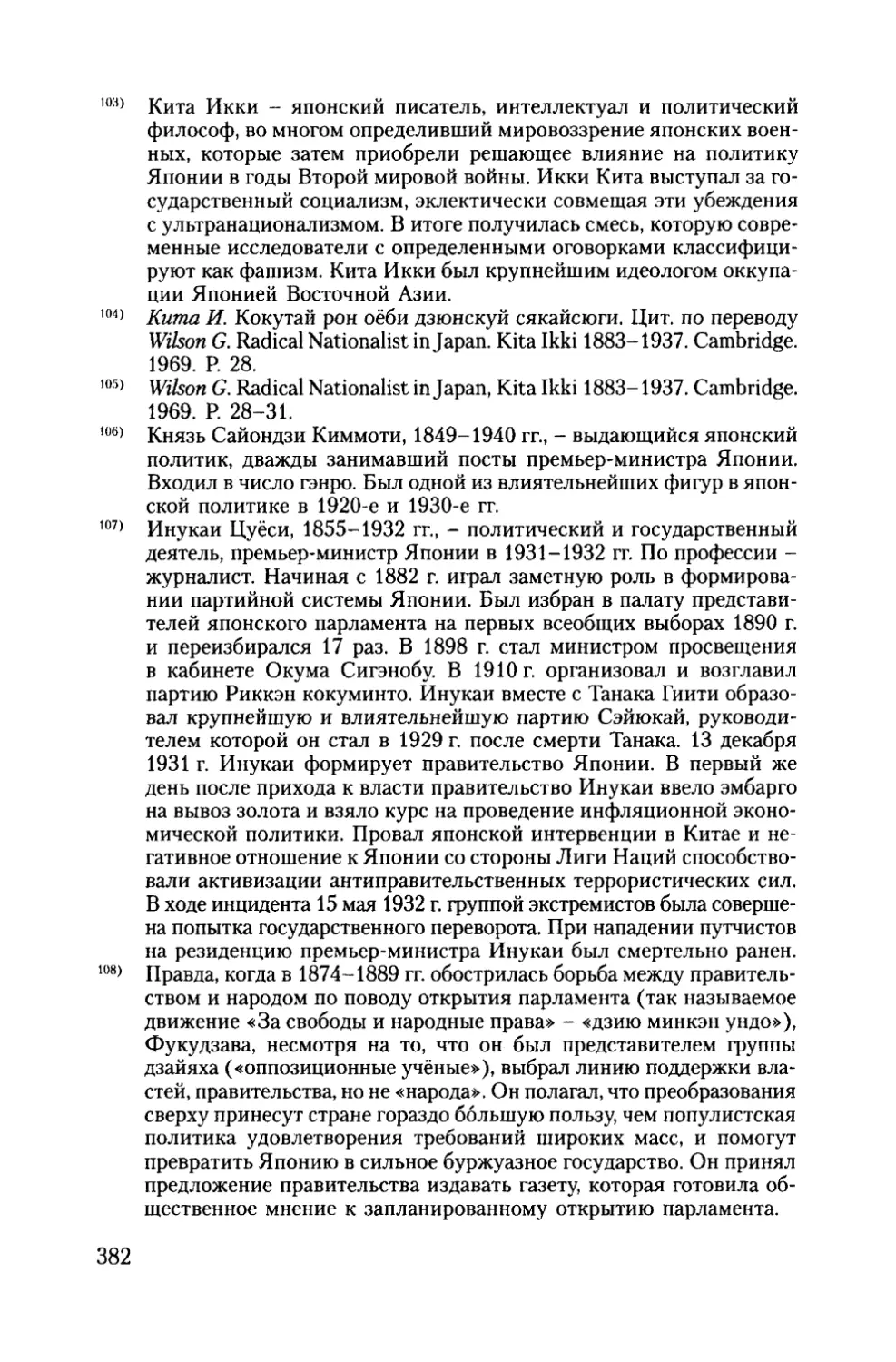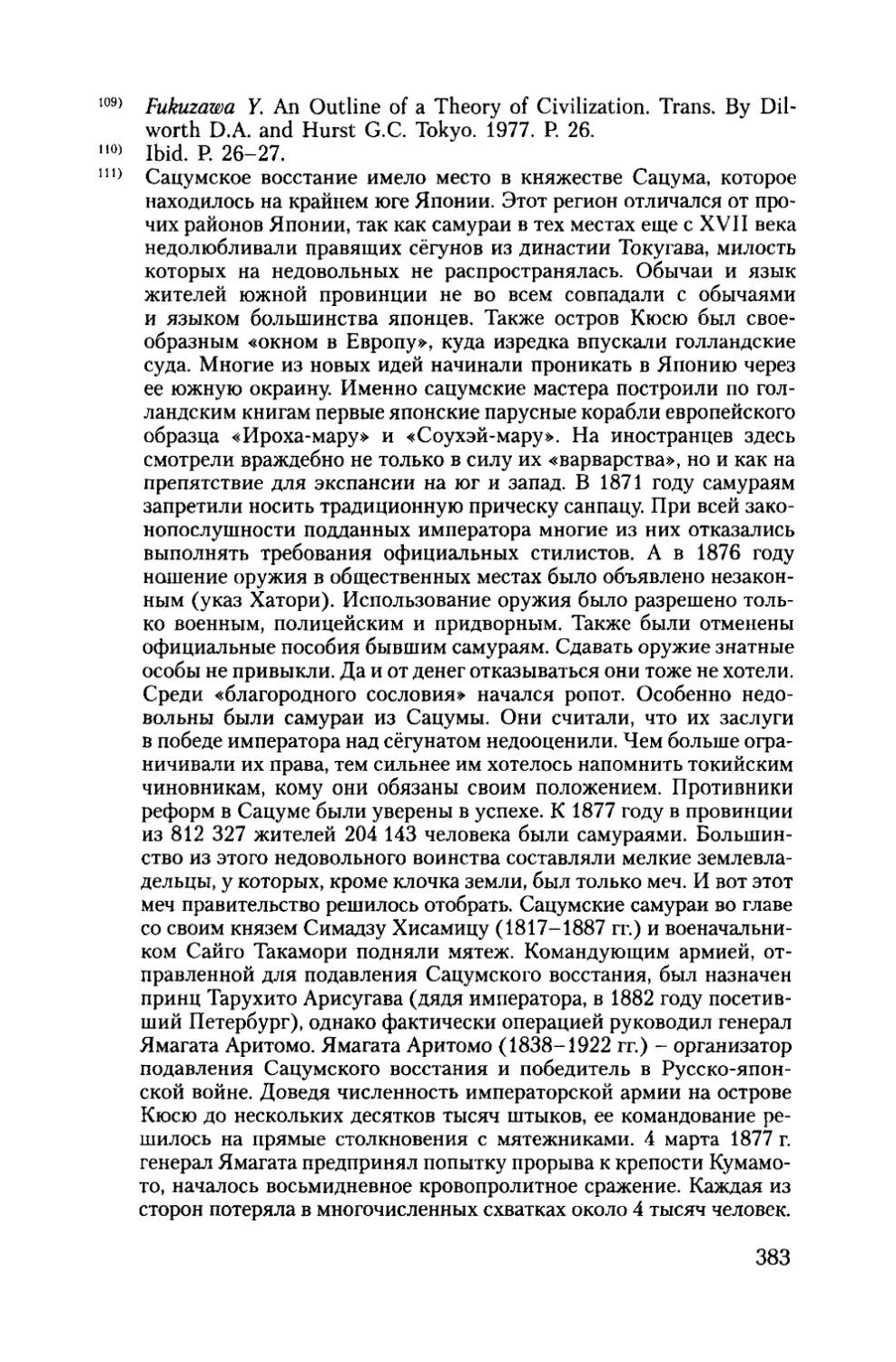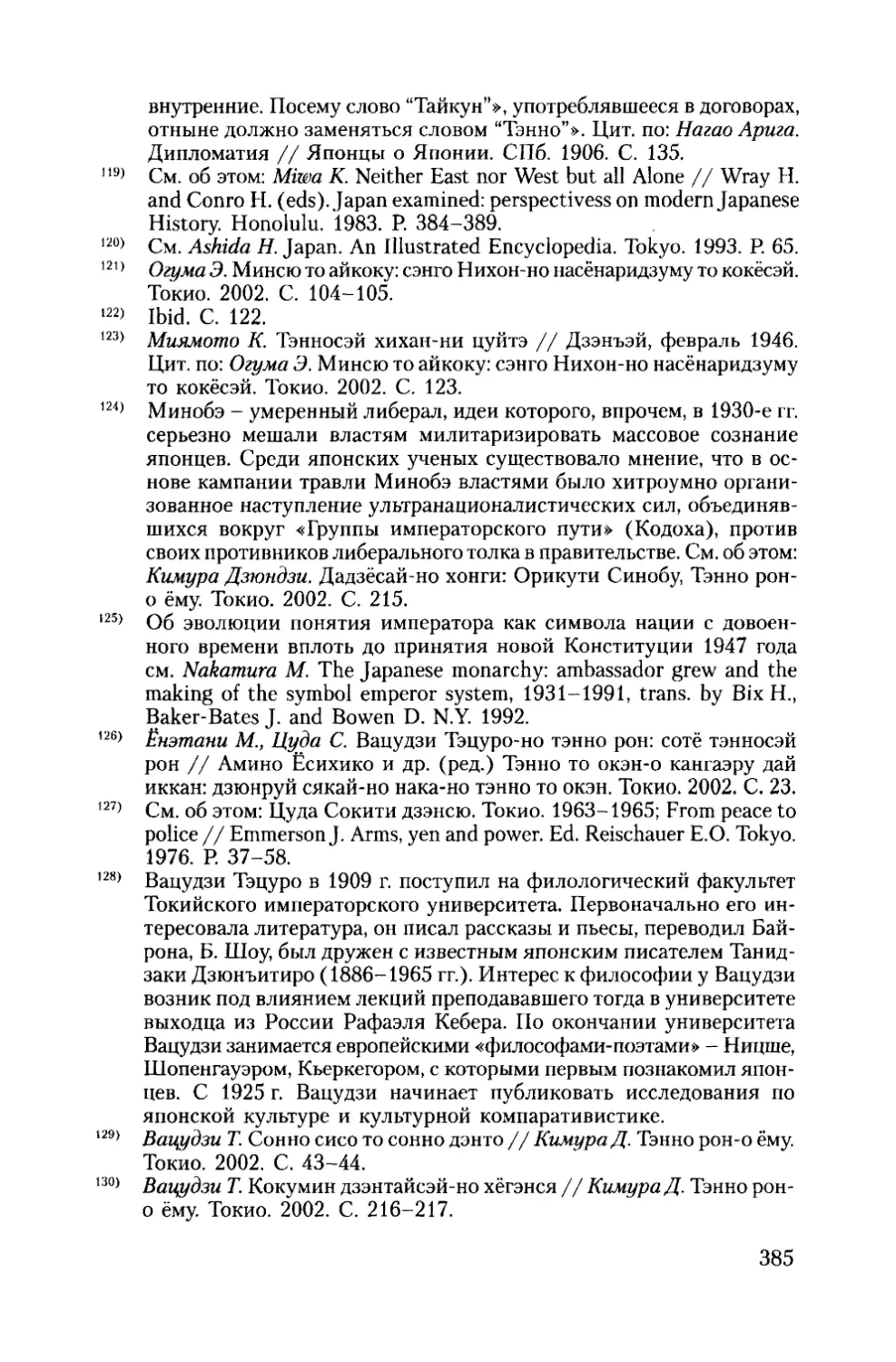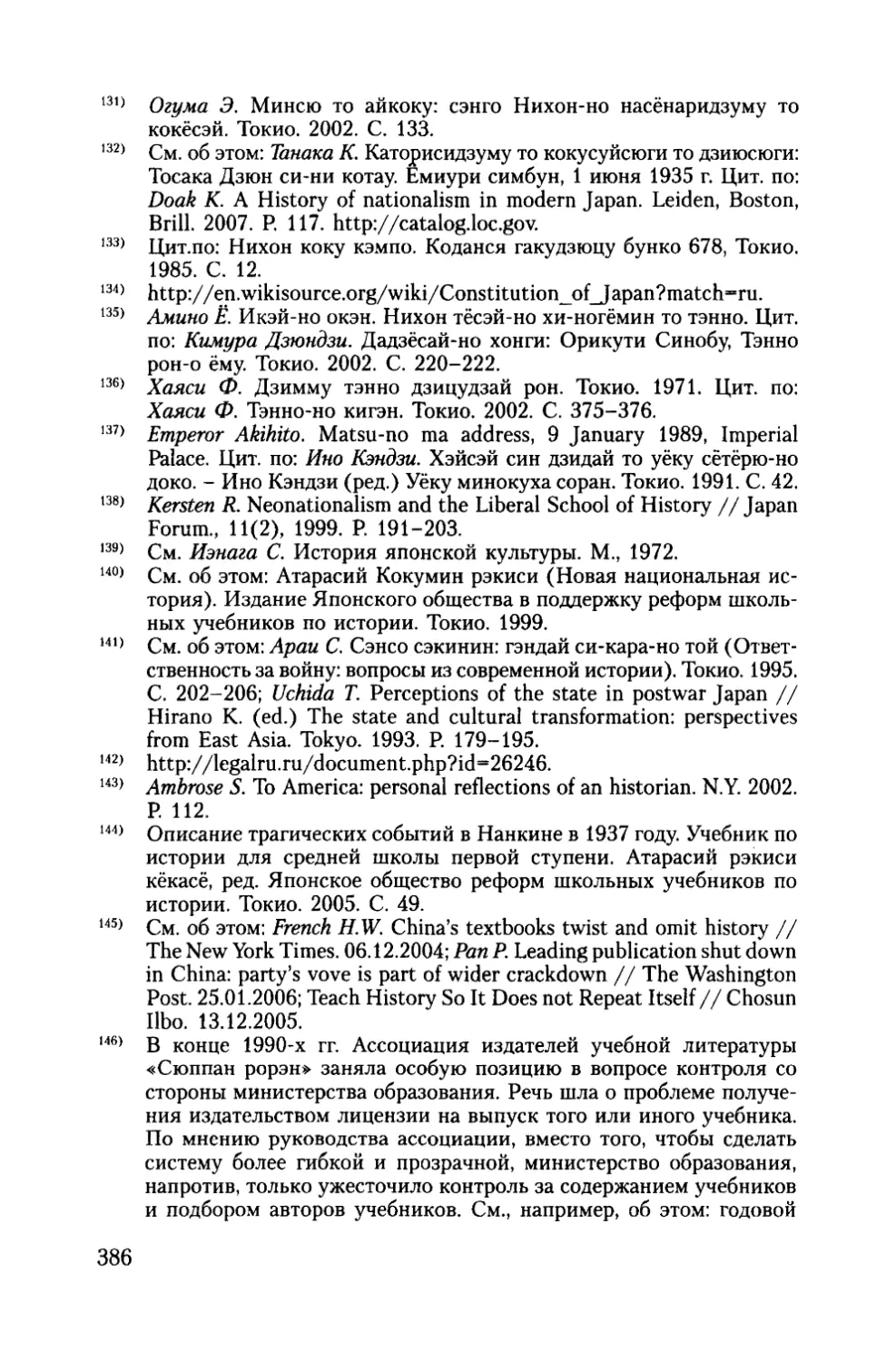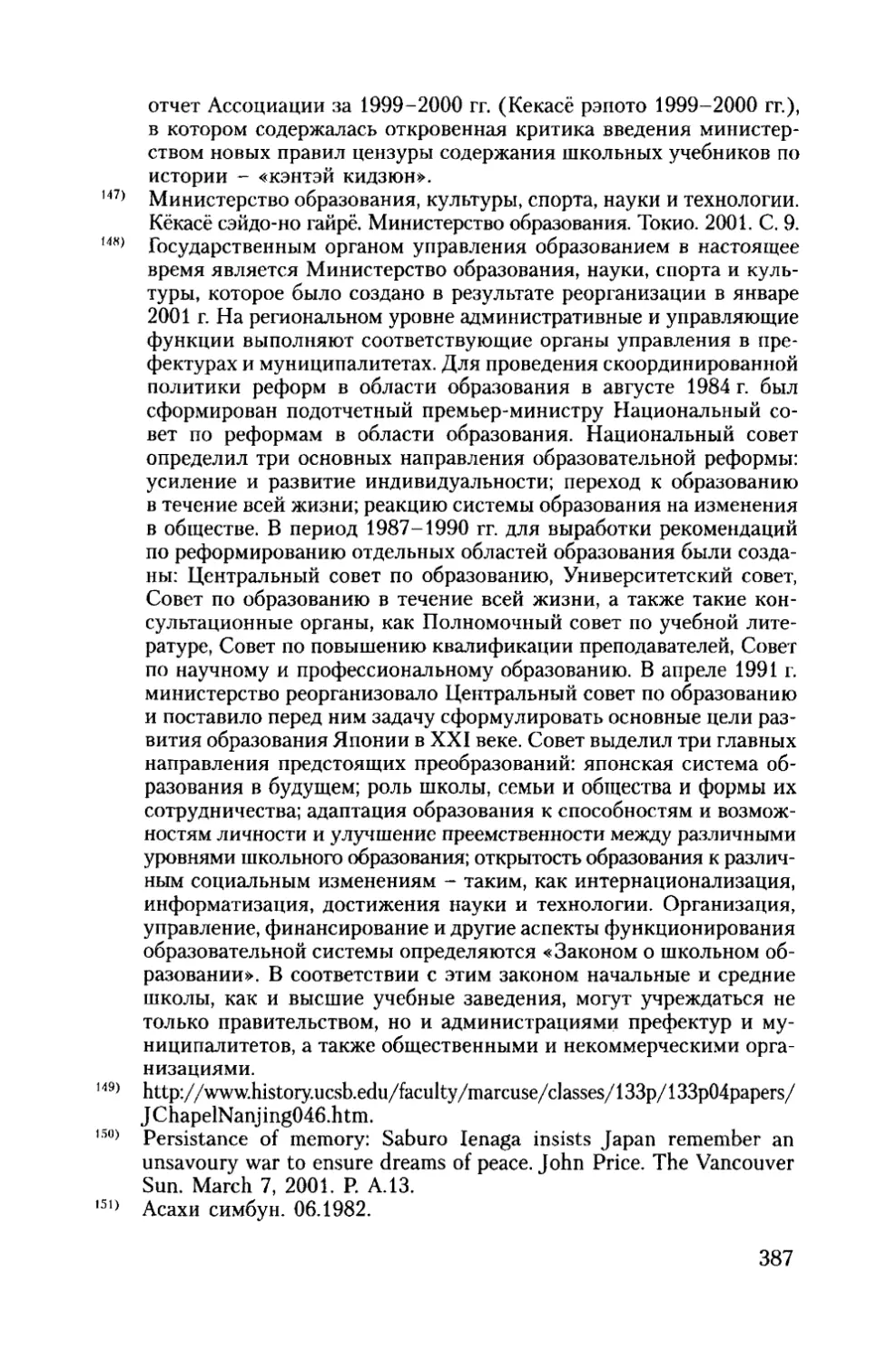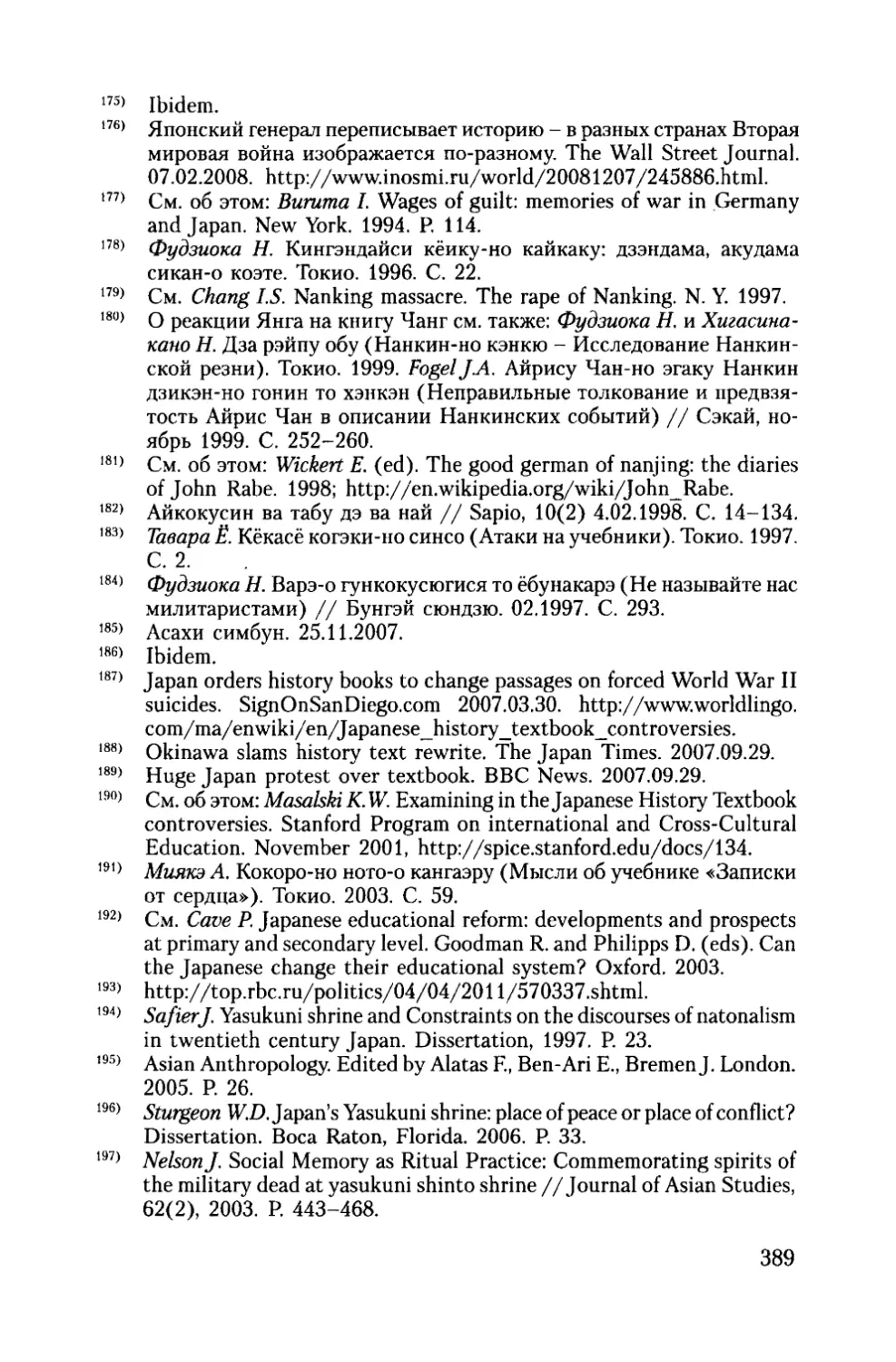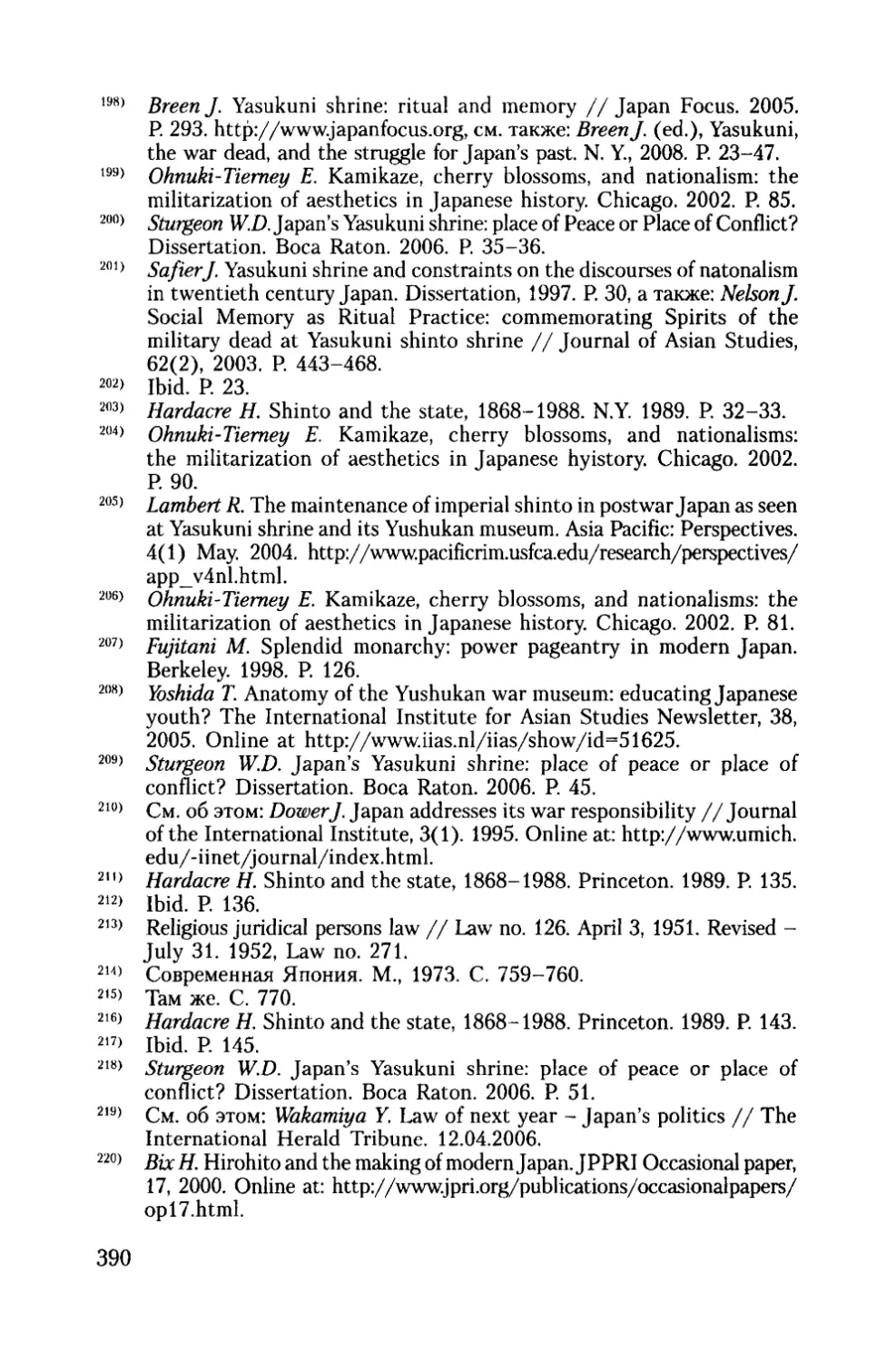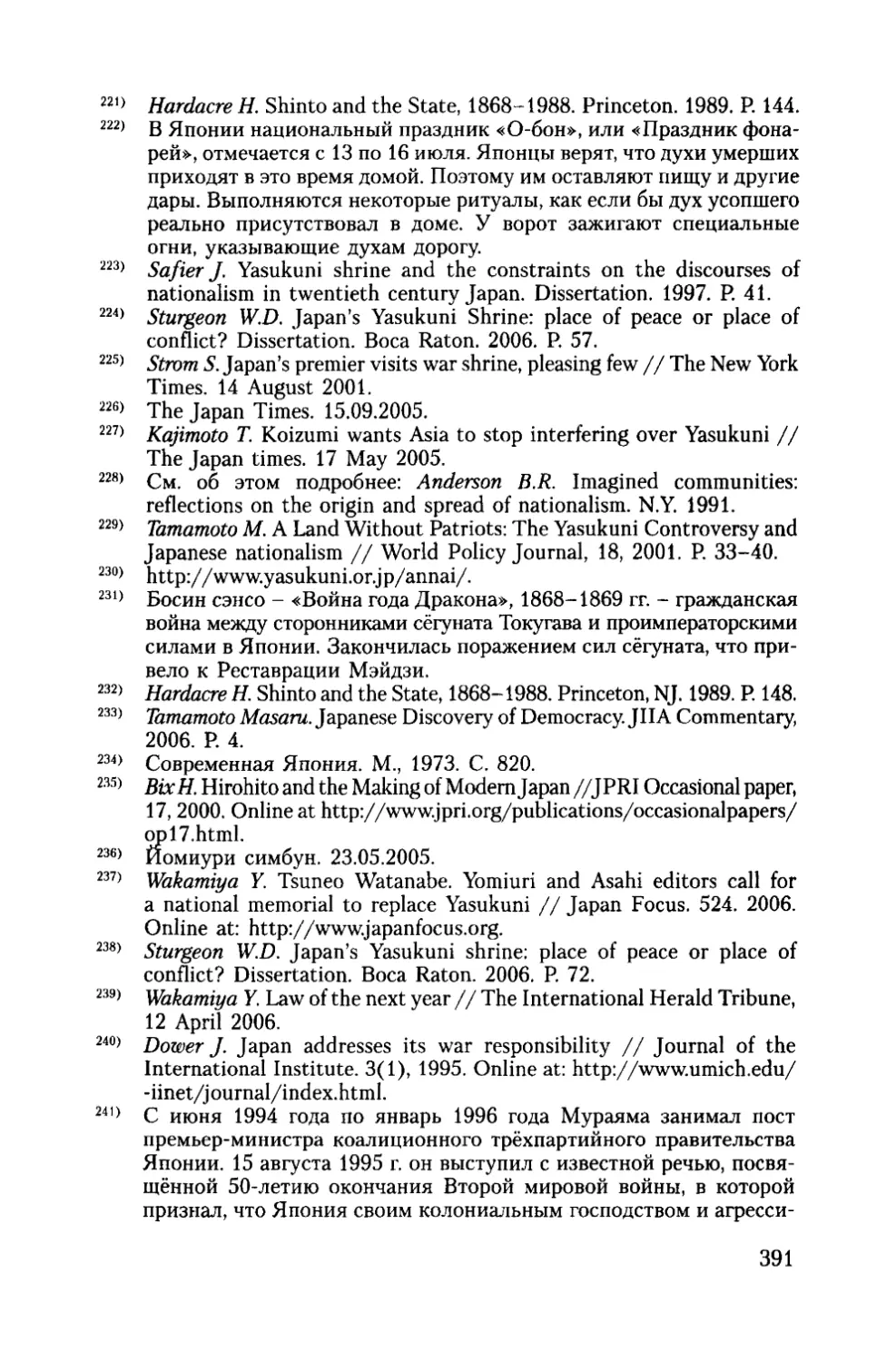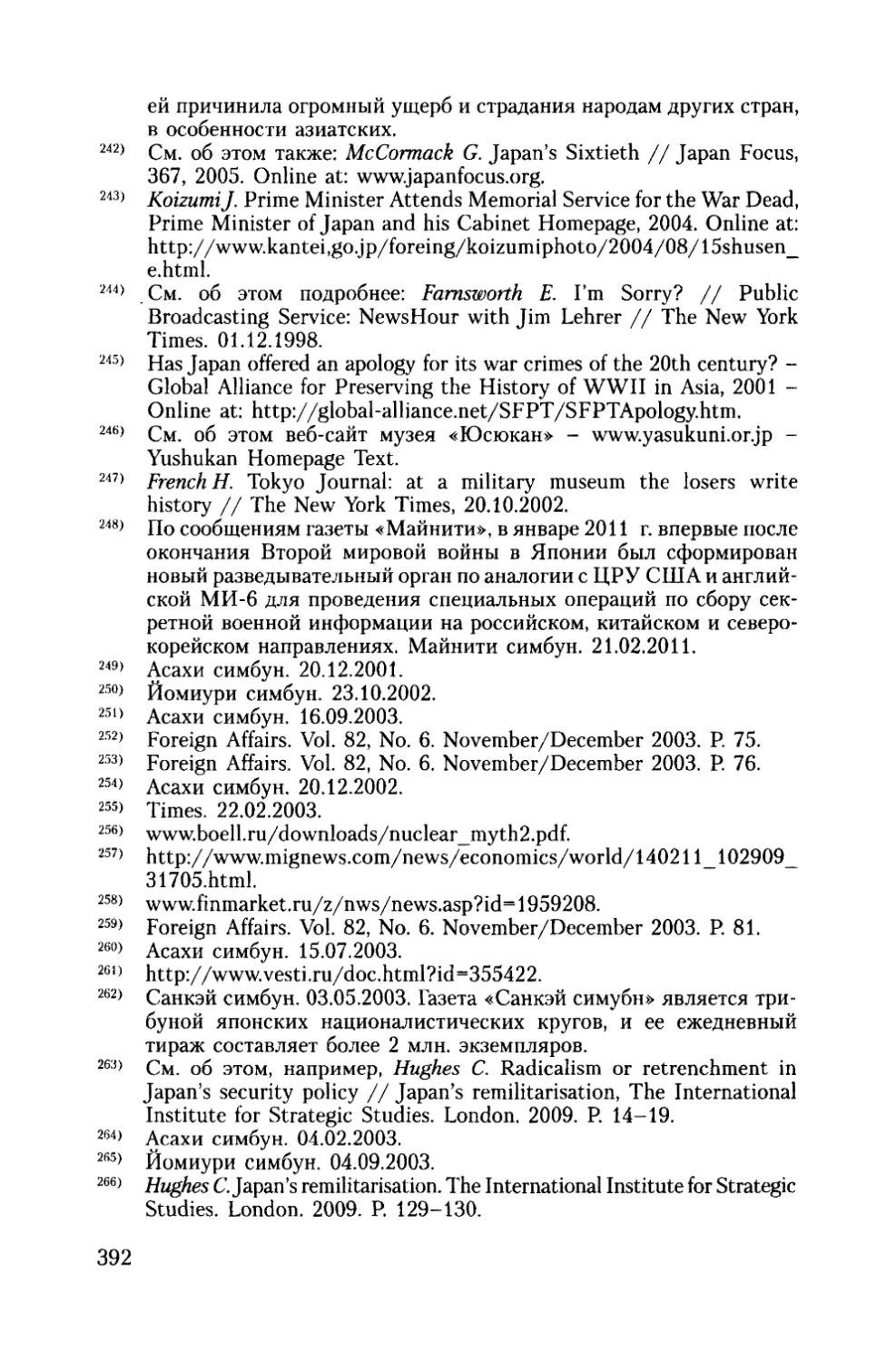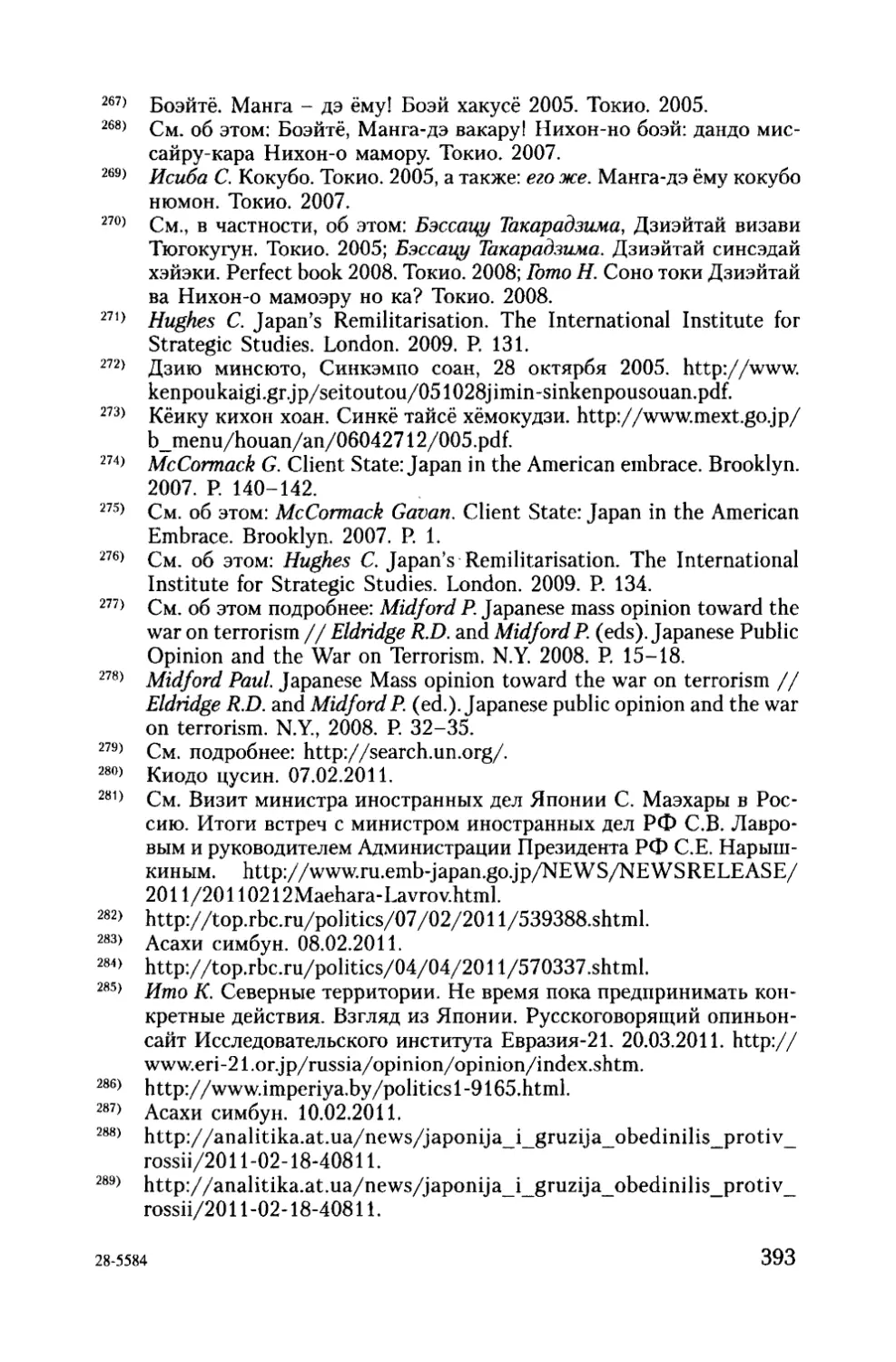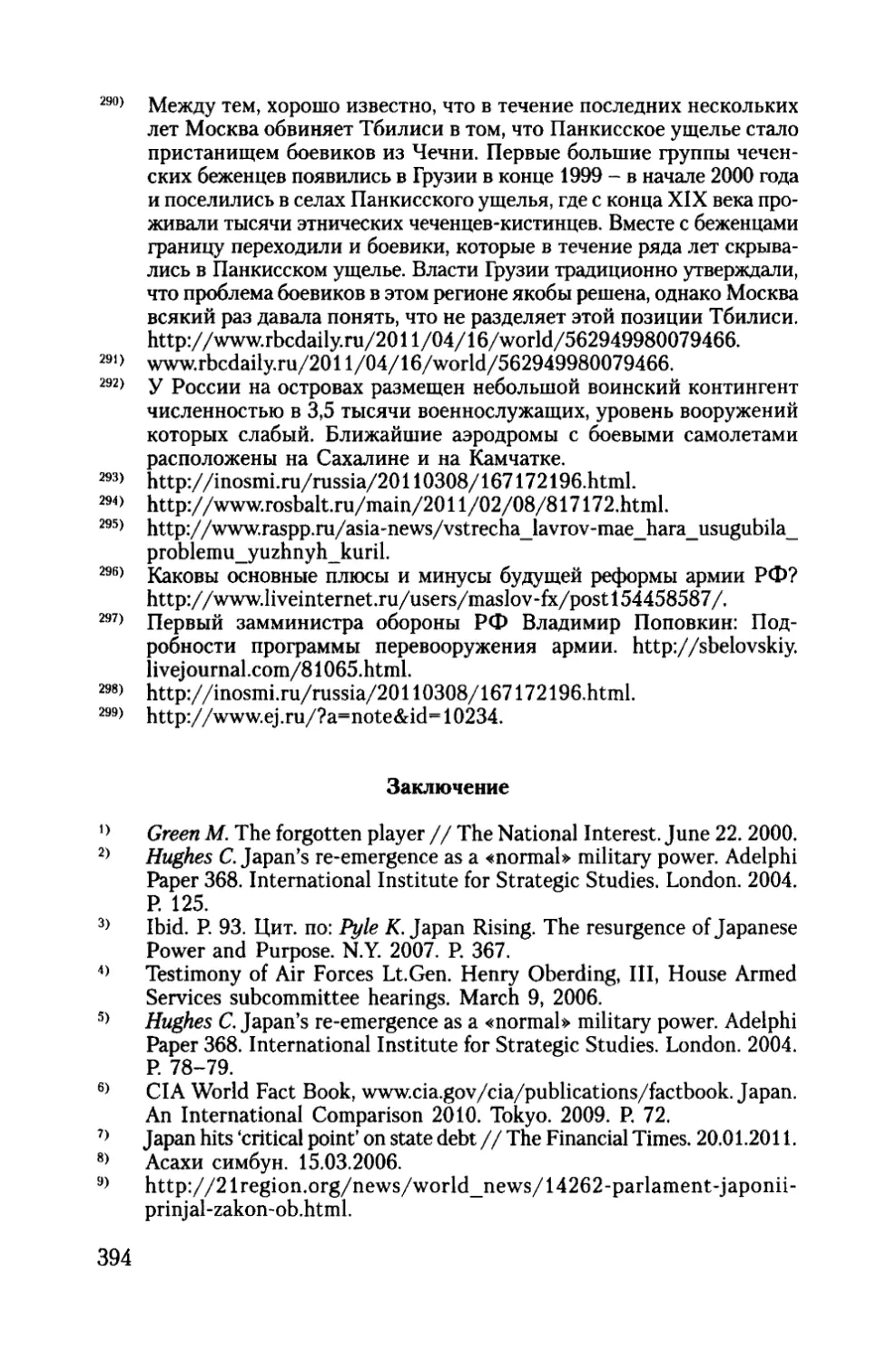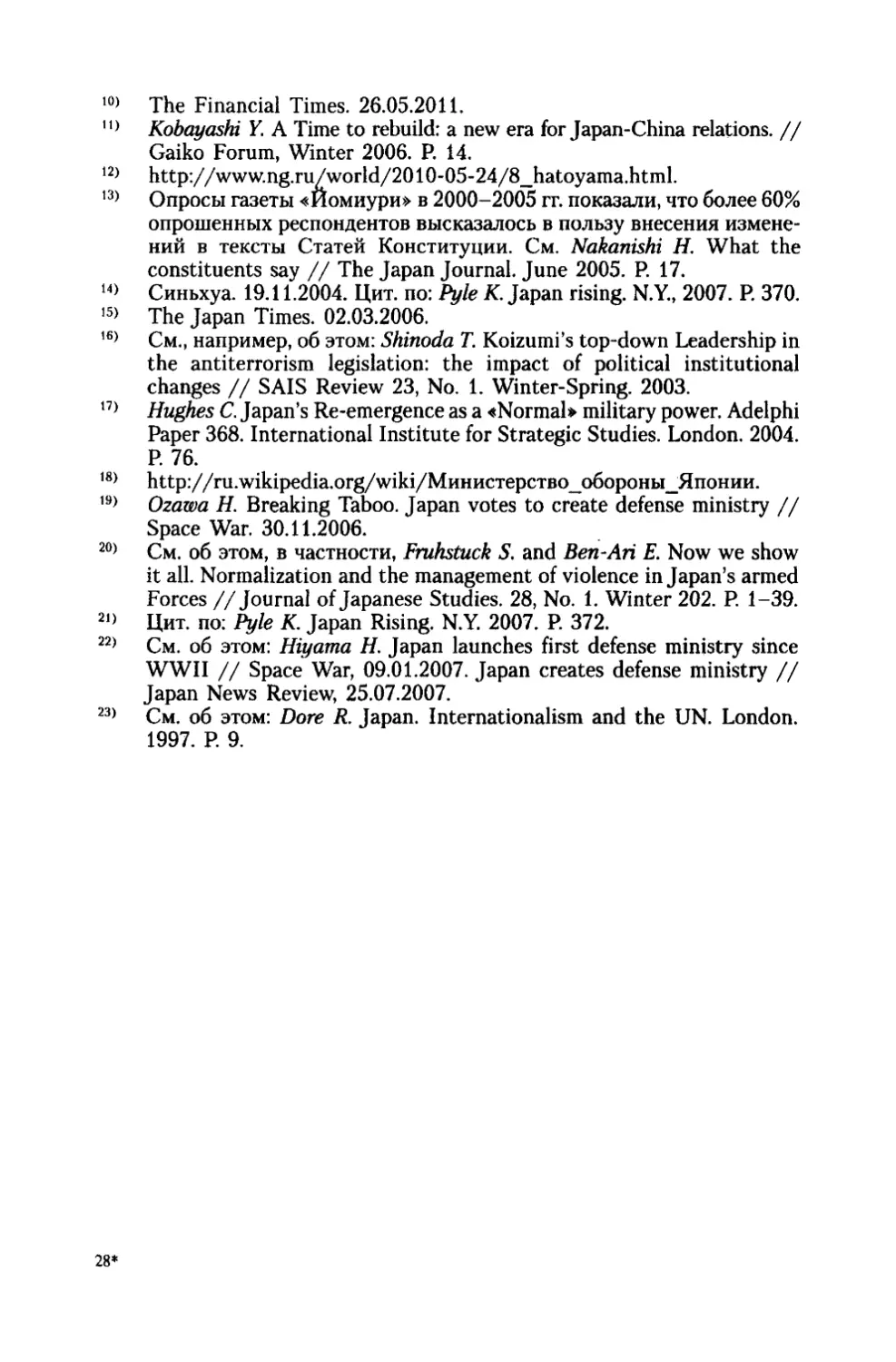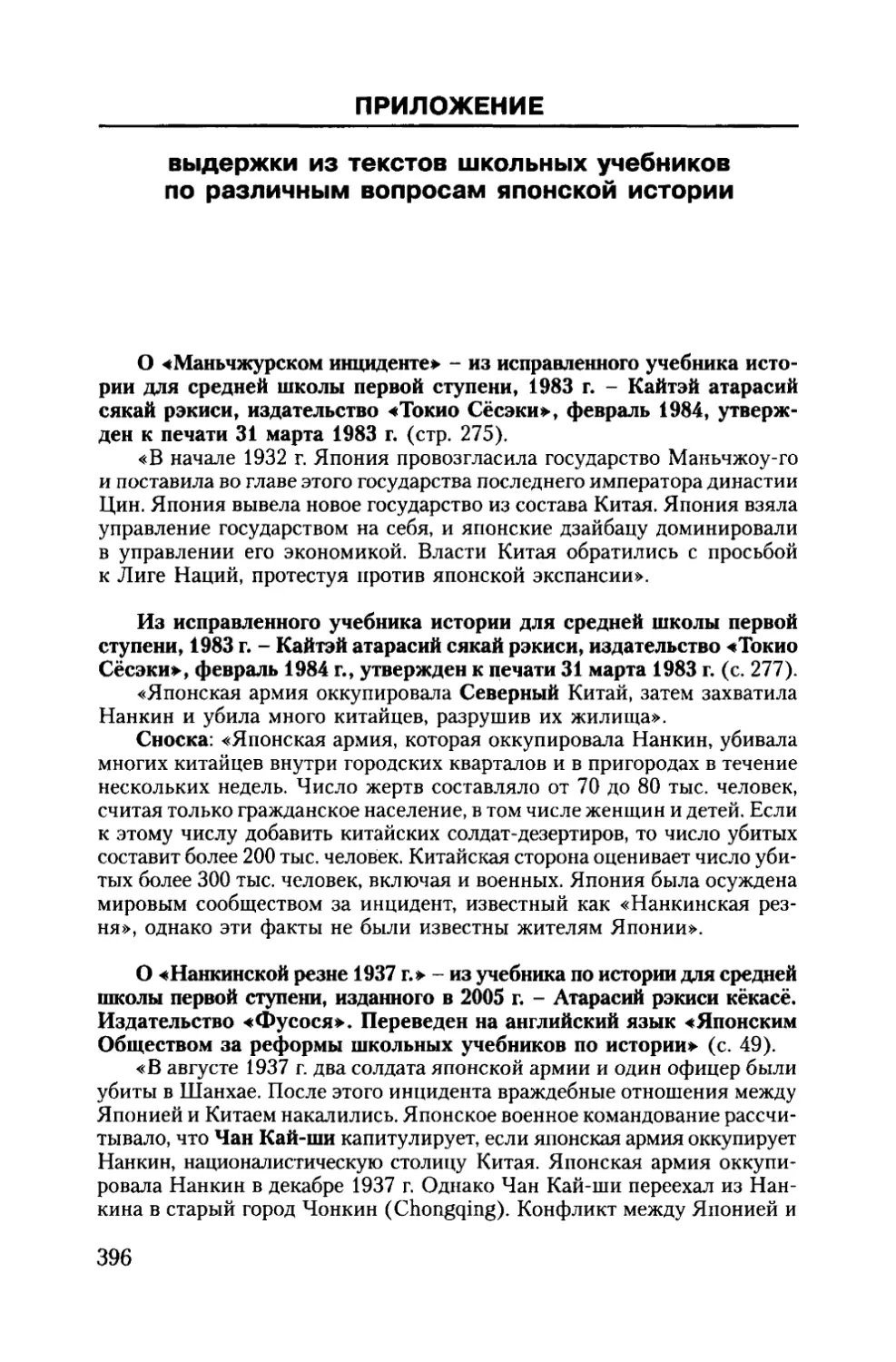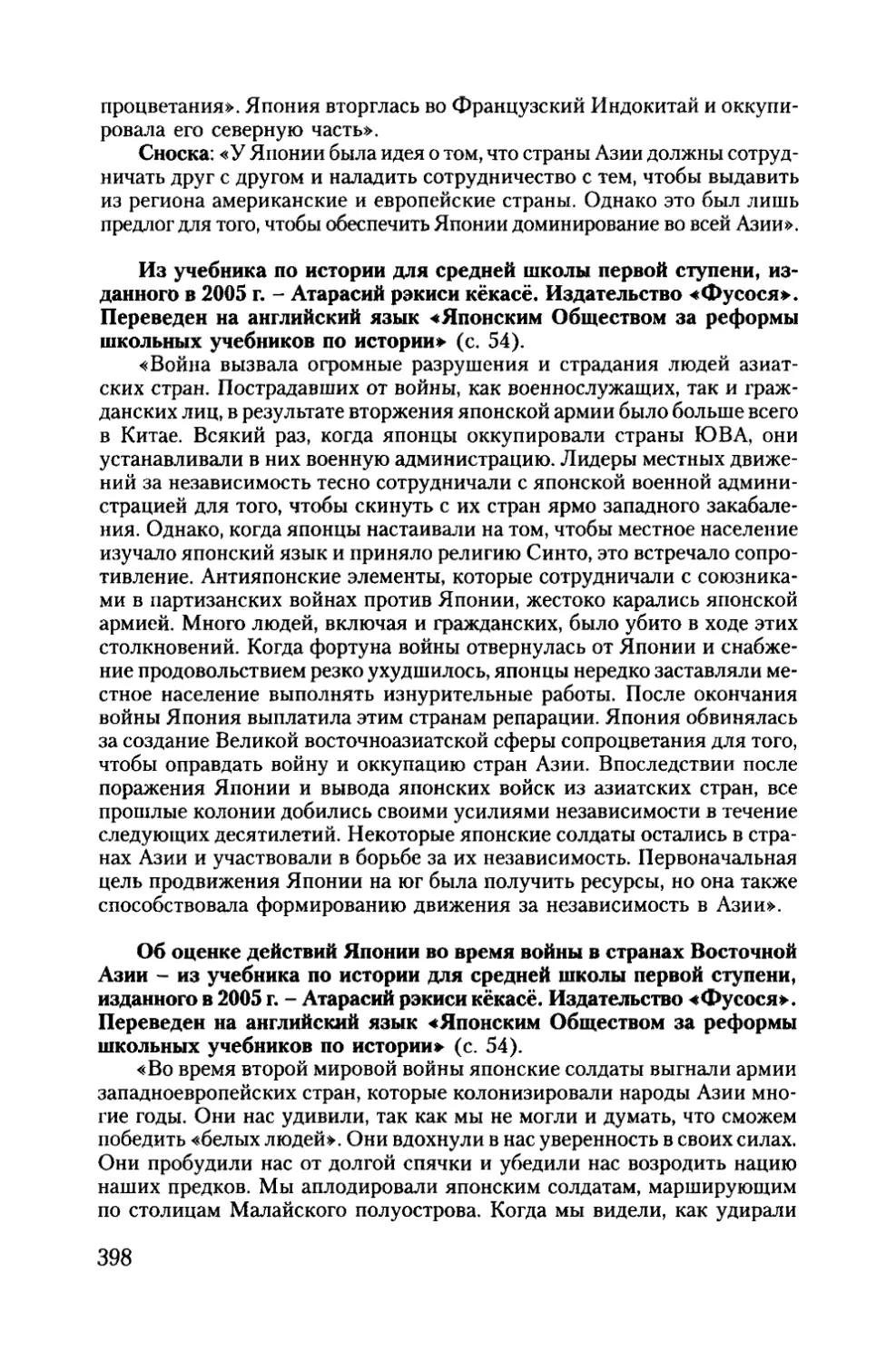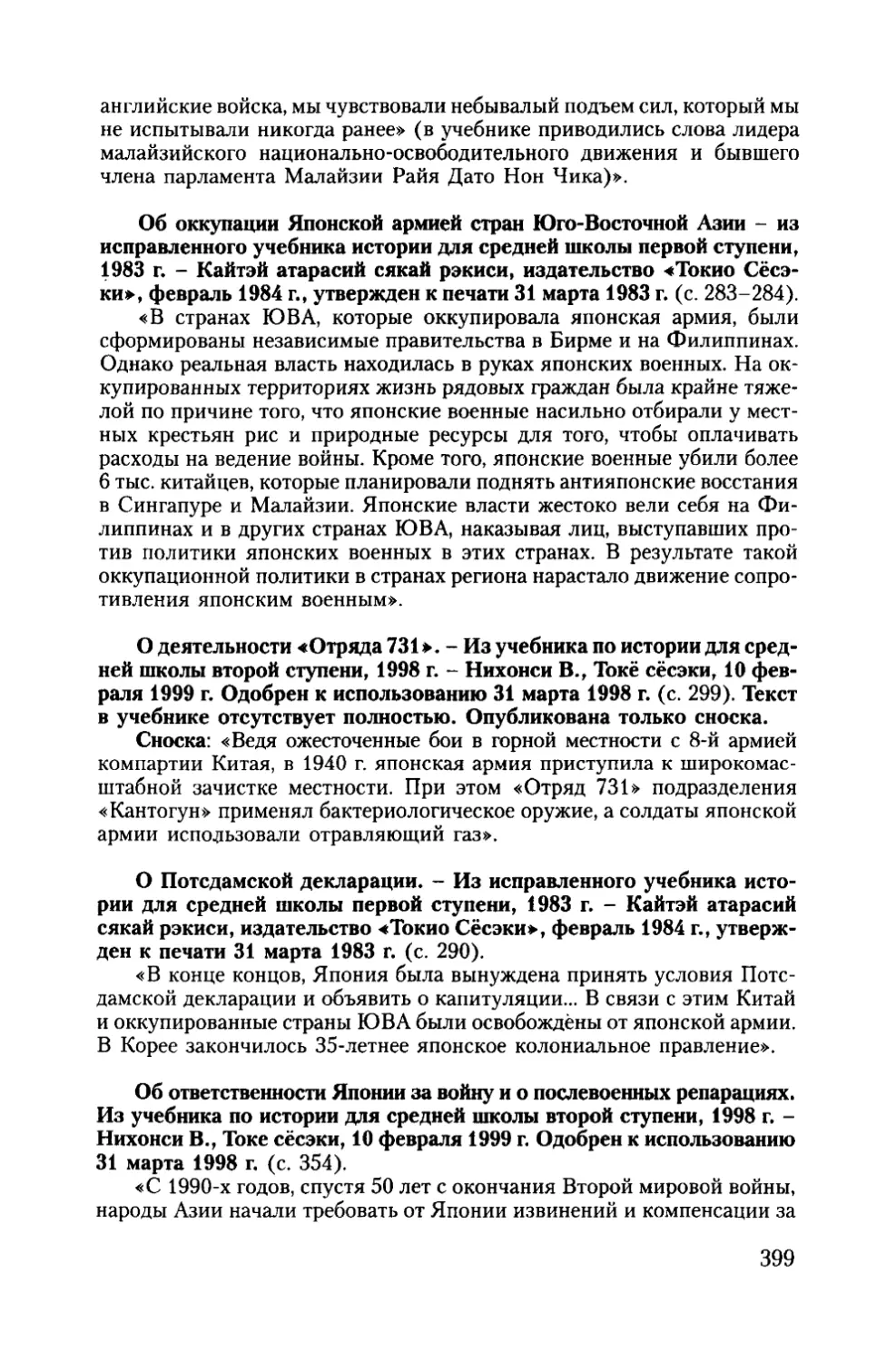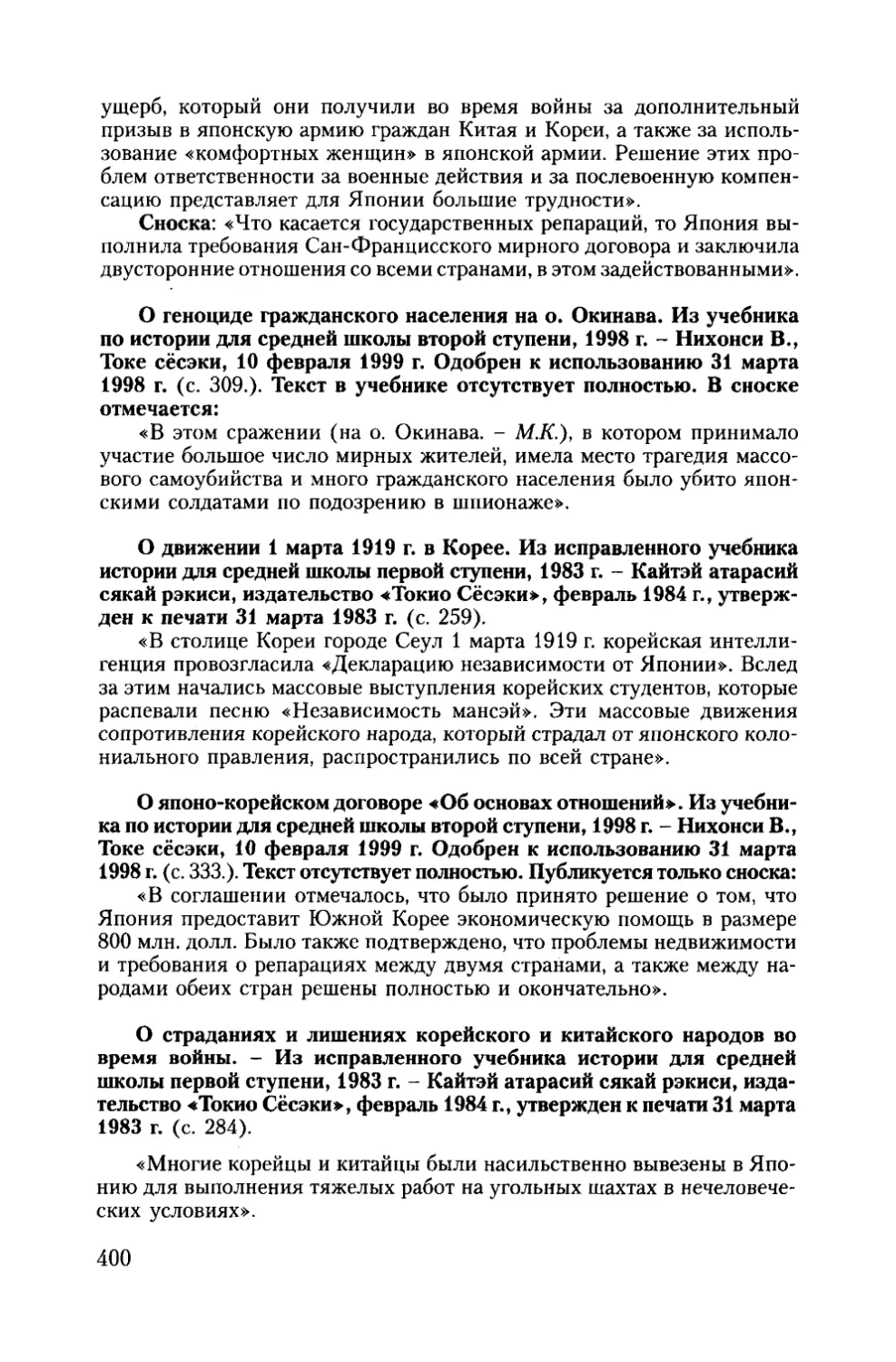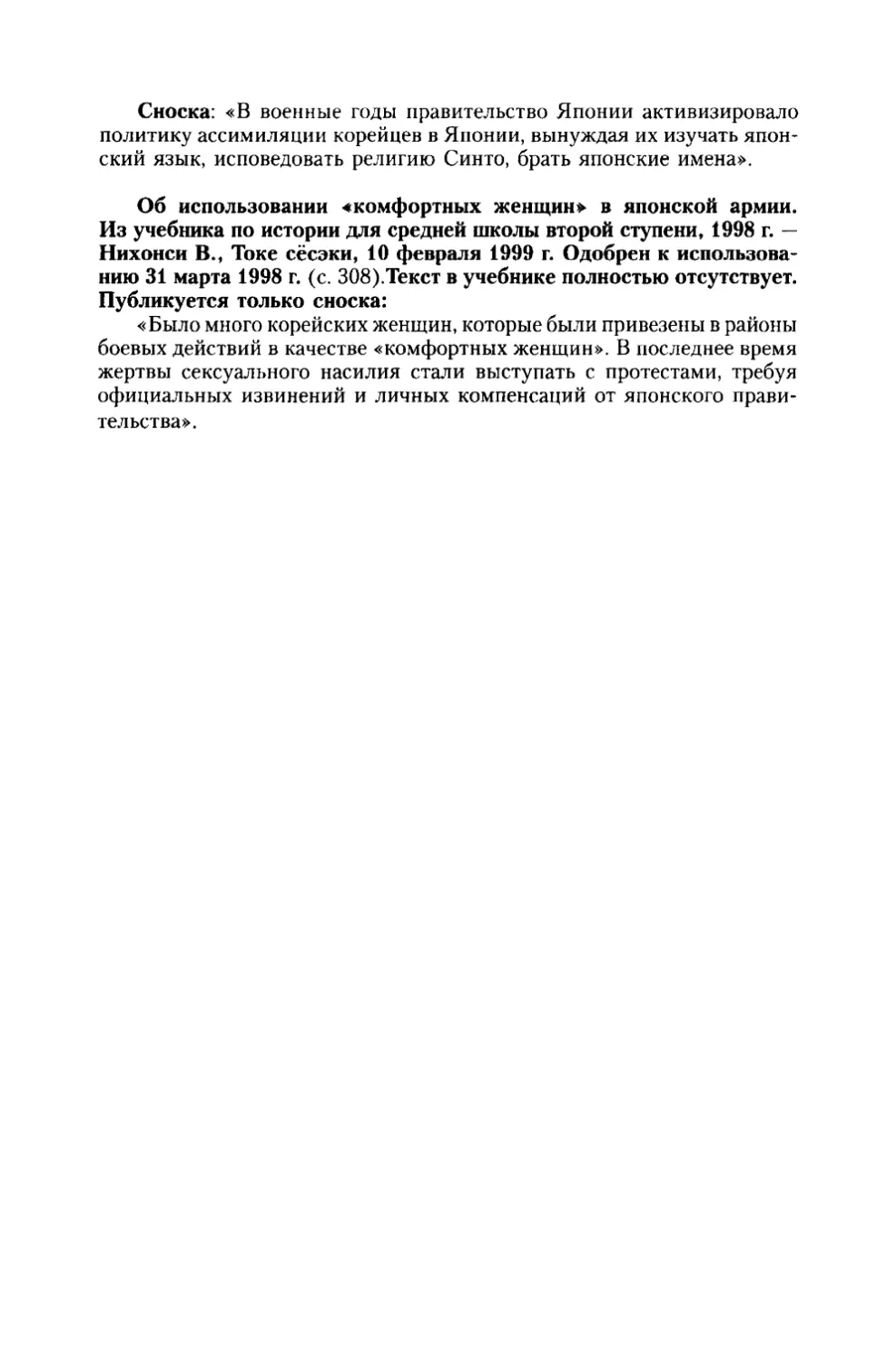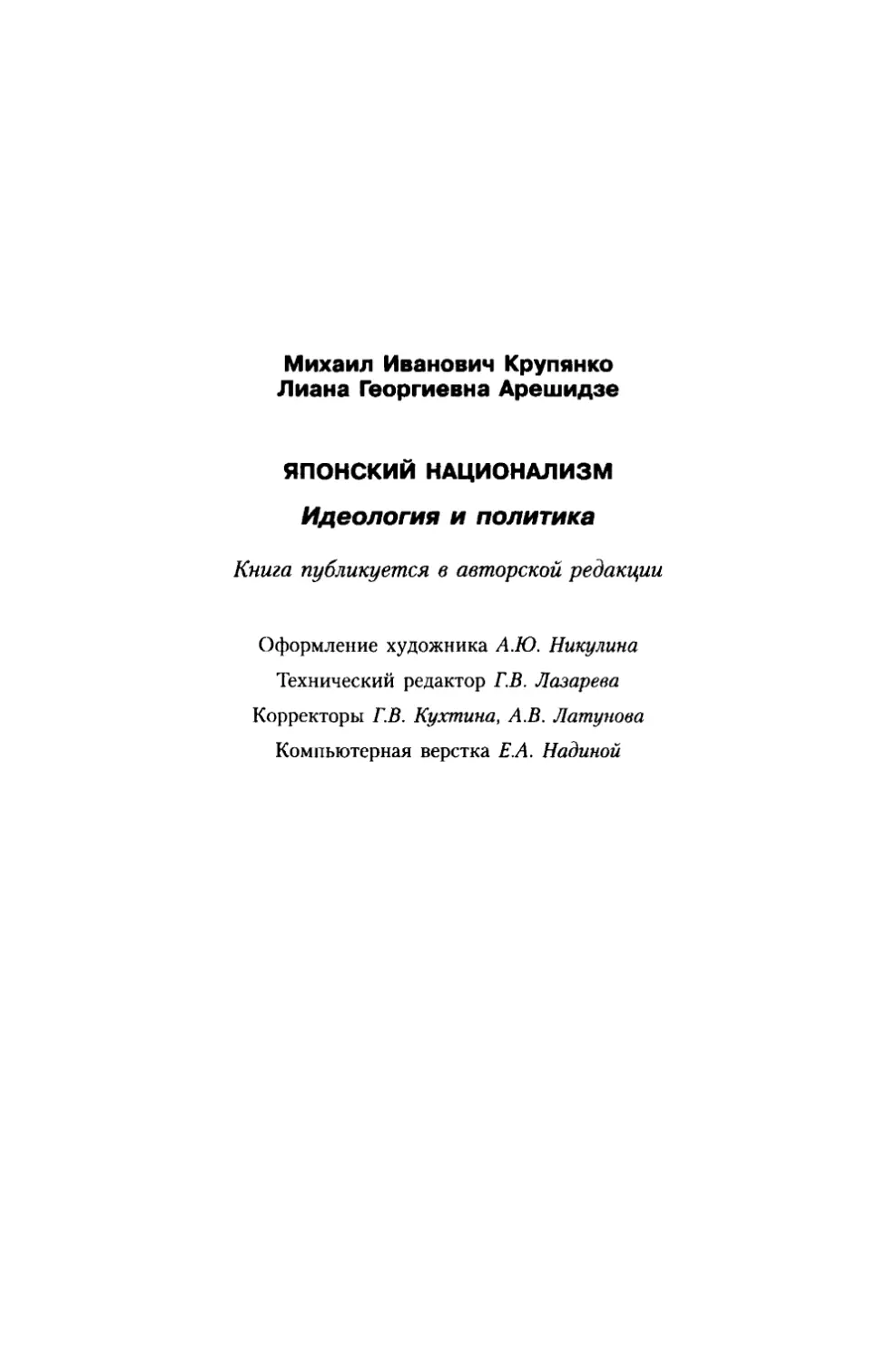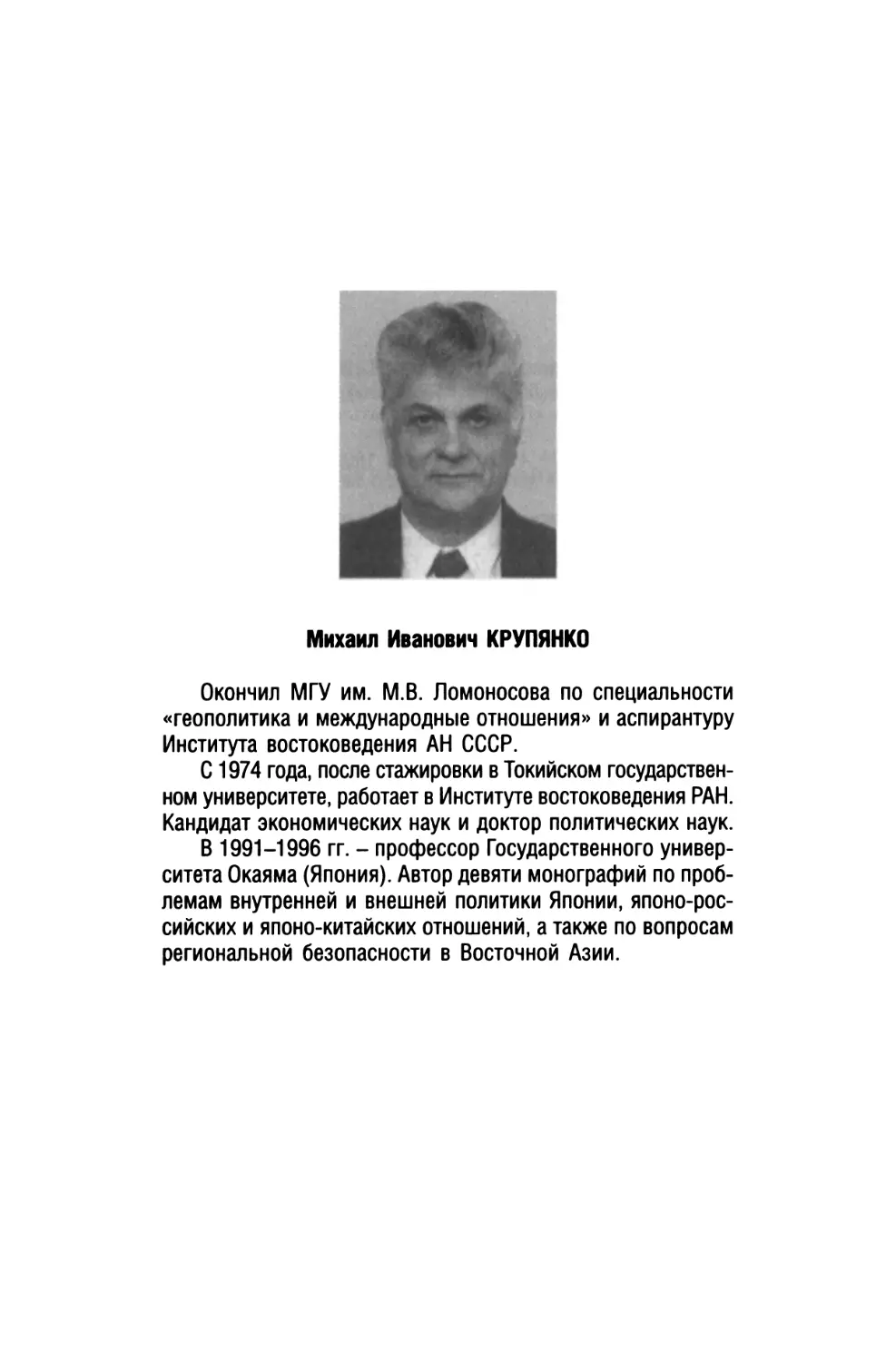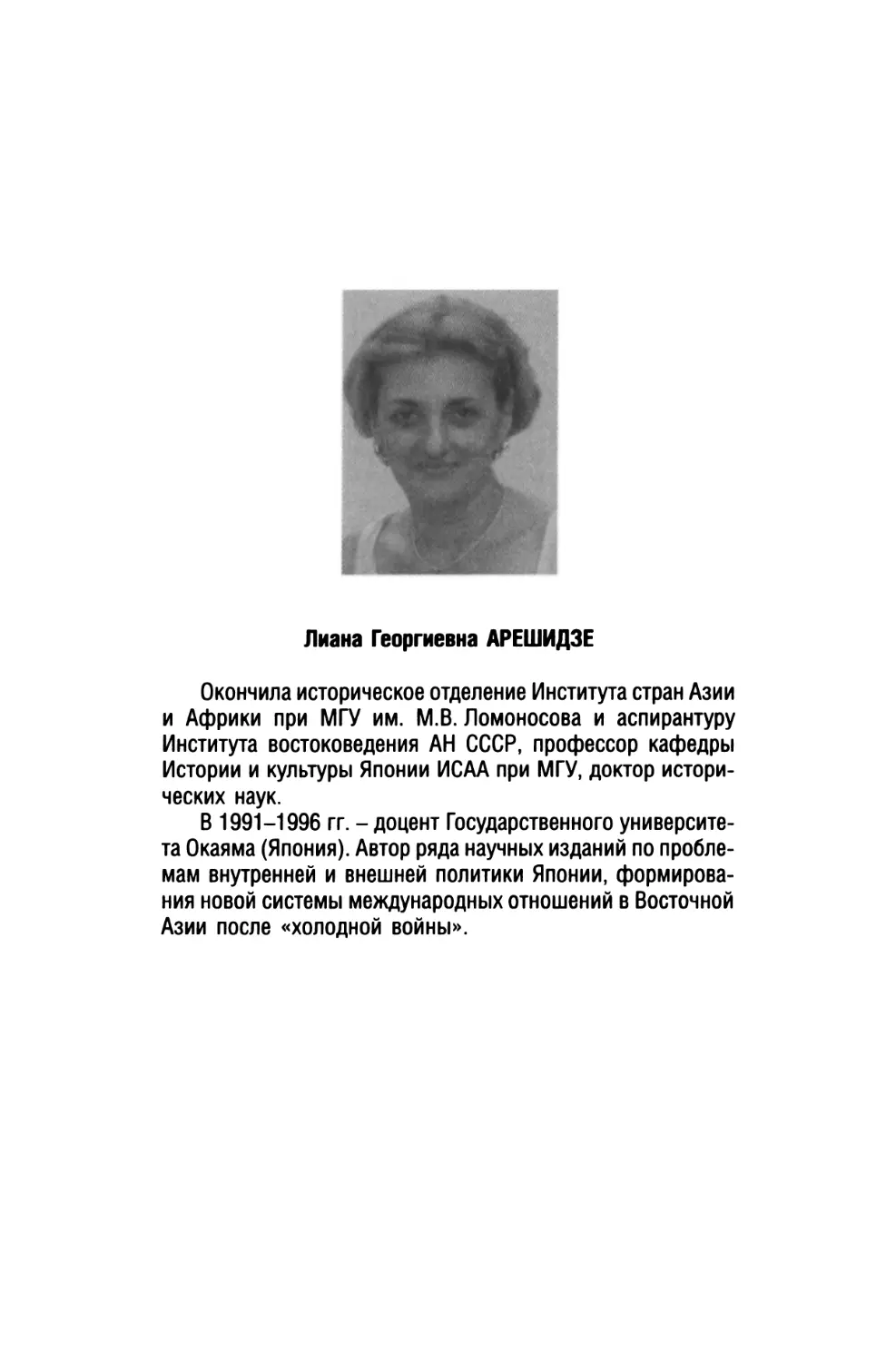Автор: Крупянко М.И. Арешидзе Л.Г.
Теги: национальные, народные, этнические движения и проблемы, национальные и этнические меньшинства внутреннее положение внутренняя политика политика история японии
ISBN: 978-5-7133-1416-3
Год: 2012
Текст
М. Крупянко Л. Арешидзе
Японский национализм
Идеология и политика Л
российская академия наук
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
М. Крупянко
Л. Арешидзе
Японский
национализм
Идеология
и политика
МОСКВА
«Международные отношения»
2012
УДК 323.14(520)
ББК 66.3(5Япо),5
К84
М.И. Крупянко, Л.Г. Арешидзе
К84 Японский национализм (идеология и политика). - М.:
Междунар. отношения, 2012. - 408 с.
ISBN 978-5-7133-1416-3
Фундаментальное исследование российских востоковедов посвящено
проблемам происходящего в Японии возрождения идеологии государствен-
ного национализма - традиционного инструмента манипулирования массо-
вым сознанием в драматические периоды новой и новейшей истории страны.
В книге подчеркивается, что подъем националистических настроений пре-
следует цель сплотить и мобилизовать потенциал нации перед лицом реаль-
ной угрозы снижения международного статуса Японии.
В работе выявлены основные носители националистической идеологии
в Японии, исследована роль института императорской власти в подъеме на-
ционалистических настроений, показана политика властей по формирова-
нию националистического мировоззрения у японской молодежи.
Авторы обозначили ближайшие перспективы развития национализма в
Японии, а также негативные последствия националистической политики для
развития японо-российских и японо-китайских отношений.
УДК 323.14(520)
ББК 66.3(5Япо),5
ISBN 978-5-7133-1416-3
© Крупянко М.И., Арешидзе Л.Г., 2012
© Подготовка и оформление изд-ва
«Международные отношения», 2012
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ............................................. 5
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЯПОНСКОГО НАЦИОНА-
ЛИЗМА............................................... 26
1. Общие проблемы теории национализма.......... 26
2. Японский национализм в контексте мировых теорий
национализма................................... 30
3. Японские ученые-теоретики о японском национализме 45
ЯПОНСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ В НОВОЙ И НОВЕЙШЕЙ
ИСТОРИИ............................................. 55
1. Особенности формирования государственного нацио-
нализма в период Мэйдзи........................ 55
2. Японский национализм в период Интербеллум (между
Первой и Второй мировыми войнами).............. 84
3. Японский национализм в период «холодной войны» .... 104
ВОЗРОЖДЕНИЕ ИДЕОЛОГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАЦИОНАЛИЗМА В ЯПОНИИ НА РУБЕЖЕ XX-XXI вв. .. 132
1. Восстановление государственного национализма в Япо-
нии после «холодной войны».................... 132
2. Причины подъема националистических настроений в
японском обществе на современном этапе........ 144
3. Дискуссии в японском обществе по поводу необходимо-
сти возрождения идеологии государственного национа-
лизма в XXI в................................. 151
ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛИЗМА
В СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНИИ............................... 173
1. Носители националистической идеологии и их оппо-
ненты......................................... 173
3
2. Государственный национализм в попытках пересмотреть
Конституцию 1947 года....................... 194
3. Роль института императорской власти в развитии совре-
менного национализма........................ 207
4. Формирование националистического мировоззрения
у японской молодежи (переписывание школьных учеб-
ников по истории и морали).................. 257
5. Главный синтоистский храм Ясукуни как центр военно-
патриотического воспитания нации............ 283
6. Опасен ли сегодня японский национализм... 312
ЗАКЛЮЧЕНИЕ....................................... 344
ПРИМЕЧАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА........... 360
ПРИЛОЖЕНИЕ....................................... 396
ВВЕДЕНИЕ
Один из видных американских теоретиков национализма Пол
Рейнш еще в начале XX в. утверждал, что «если бросить внима-
тельный взгляд на историю мирового развития, начиная с эпохи
Возрождения, то можно обнаружить один принцип, вокруг кото-
рого гармонично группируется огромное количество самых раз-
нообразных фактов, и этим принципом является национализм.
С тех пор, как были сформированы еще в Средние века идеалы
. мирового государства, этот принцип является краеугольным кам-
нем подлинной государственности вплоть до нашего времени»0.
Для Рейнша национализм - это не просто позитивный и конст-
руктивный элемент внутренней и внешней политики любого го-
сударства, но, в сущности, ее самый фундаментальный фактор,
ее основа. Двадцатое столетие, по мнению многих аналитиков,
стало настоящим «веком национализма». «Двадцатый век, - пишет
в своей работе «Национализм: его смысл и история» известный
американский историк, профессор Нью-Йоркского университета
Ганс Кон, - является первым периодом в мировой истории, когда
человечество стало столь активно использовать концепцию госу-
дарственного национализма в своей внутренней и внешней поли-
тике»2*.
Однако роль национализма как идеологии и политической
практики государства не была на протяжении XX столетия одно-
значной. Он, несомненно, сыграл положительную, прогрессивную
роль в процессе становления национальных государств, в особен-
ности способствуя разрушению колониального мира после Вто-
рой мировой войны. Вместе с тем, его роль зачастую и наиболее
заметно в первой половине XX века имела явно деструктивный,
разрушительный характер. Национализм нередко сопровождался
формированием ненависти к другим нациям и народам, имел явно
воинствующее, милитаристское содержание. Направленный про-
тив других народов, такой национализм нес в себе угрозу не толь-
ко «потенциальному противнику», но и собственному народу.
Ибо, как справедливо отмечал Н.А. Бердяев, «идолопоклонниче-
5
ство перед нацией» всегда превращает национальность в верхов-
ную и абсолютную ценность, так как при этом культивируется
чуть ли не зоологическое отношение к человеку в попытке выра-
ботать и сохранить «чистоту расы». Националистические «выви-
хи» в политике и организации социальной жизни нередко превра-
щали национализм в «чуму XX века», придавая этому понятию
устойчиво негативное содержание. Геноцид армян и евреев в исто-
рии XX века наглядное тому доказательство. В результате в на-
учной литературе и политической практике проявлялись даже тен-
денции неприятия этого социального феномена как пережитка
прошлого, не вписывающегося в процессы современного демо-
кратического мирового развития, как явления, деформирующего,
искажающего и тормозящего его.
Но что есть современный национализм XX века, как он транс-
формировался по отношению к веку прошедшему, как можно
было бы его объективно оценить с точки зрения интересов раз-
вития отдельно взятой нации и мирового сообщества в целом?
Эти важные аспекты современного национализма авторы предпо-
лагают рассмотреть на примере Японии, одной из ведущих совре-
менных держав мира, имеющей немалый опыт использования
националистической идеологии в целях эффективного государ-
ственного строительства. В предлагаемой читателю книге авторы
делают попытку проанализировать истинное содержание япон-
ского национализма, показать и его сильные, и его негативные
стороны.
Если следовать определению национализма, которое предла-
гает Британская энциклопедия, трактуя его как чувство «лояль-
ности и преданности своей нации, своей стране и выражающееся
в предпочтении личных или корпоративных пристрастий инте-
ресам нации и государства», то можно сказать, что национализм
в Японии традиционно отвечал этим критериям3*. Профессор Ка-
лифорнийского университета, известный специалист по проблемам
японского национализма Кевин Доук вообще склонен рассматри-
вать японских националистов как романтиков и идеалистов, го-
товых жертвовать своими жизнями ради процветания великой
Японии4*.
В истории развития государственного национализма в Япо-
нии были периоды подъема и отката. Периодом подъема можно
считать время до и после реставрации Мэйдзи, когда японские
националисты активно боролись против силой навязанных Япо-
нии неравноправных Ансэйских договоров, заключенных сегуна-
том с рядом держав Запада. Эти договоры, безусловно, являлись
национальным позором Японии, ее унижением в глазах мирового
6
сообщества. Но именно они стали одновременно и сильнейшим
стимулом к сплочению нации, консолидации ее национального
самосознания на почве антизападничества5). После незавершен-
ной буржуазной революции 1867-1868 гг. японские национали-
сты поставили перед новым правительством Мэйдзи вопрос об
отмене неравноправных договоров, однако неоднократные попыт-
ки японских властей добиться этого не приводили к успеху Это
стало возможным лишь в 1894 году когда Англия накануне войны
Японии с Китаем пошла на заключение с Токио договора, отме-
нявшего с 1899 года неравноправные статьи Ансэйского договора,
за исключением ограничений таможенной автономии. По образ-
цу англо-японского договора 1894 года Япония заключила новые
договоры и с другими великими державами. После победы Япо-
нии в японо-китайской войне 1894-1895 гг. и русско-японской
войне 1904-1905 гг. национальная гордость японцев была восста-
новлена, ущемление национального самосознания - компенсиро-
вано. Японские националисты «праздновали» победу®*.
Однако они вновь были вынуждены испытать горечь нацио-
нального позора и унижения, когда в ходе войны на Тихом океане
1941-1945 гг. полностью рухнули националистические иллюзии,
связанные с созданием «Великой сферы сопроцветания в Восточ-
ной Азии и на Тихом океане», а оккупационные власти США в
1945 году лишили страну национального суверенитета и ввели
строгий запрет на любую пропаганду национализма и национали-
стической идеологии. Японские националисты не могли смириться
с таким положением дел и ждали удобного исторического момен-
та для реанимации националистической идеологии и проведения
активной националистической политики.
Любой национализм, как теория и политическая практика, как
идеология и образ мышления представляет собой уникальную
систему ценностей, свойственную данной нации и отличающую
ее от других. Японский национализм есть в первую очередь осо-
бый продукт объединения государственной идеологической по-
литики по патриотическому воспитанию нации с традиционным,
этническим национализмом как глубоко укоренившейся в созна-
нии японцев системой общечеловеческих ценностей, позволяю-
щих консолидировать нацию в единое целое. Стало быть, ключ
к пониманию феномена японского национализма, на наш взгляд,
лежит в правильном представлении об интересах и поведенческой
природе японского государства-нации со специфическими особен-
ностями процесса индоктринации общества с опорой на государ-
ственную идеологию, с государственным контролем над экономи-
кой и системой образования, с доминированием центрального
7
управления над местными органами власти. Иными словами,
японский национализм есть конечный продукт тонкой и кропот-
ливой работы государства по формированию, воспитанию и кон-
солидации японской нации. Усилия государства при этом всегда
направлены на мобилизацию национального потенциала по реа-
лизации проектов модернизации, на выживание нации как суве-
ренного государства в разные исторические периоды ее развития.
Национализм в Японии - это не только продукт деятельности
государства. В японском обществе чрезвычайно сильны традици-
онные националистические начала, которые составляют мораль-
ный фундамент нации. Моральные основы нации включают в себя
уважение и любовь японцев к своей родине, своей истории, к исто-
рической памяти, к истокам японской цивилизации, к институту
императорской власти и т.п. Однако при этом важно помнить, что
за процессом формирования националистического самосознания
японцев всегда стоит государство, которое умело эксплуатирует
и направляет объективную потребность японцев к самоидентифи-
кации в своих политических и экономических интересах, в инте-
ресах выживания власти и нации. И здесь государство опирается
на важнейший базовый принцип формирования националисти-
ческой идеологии в обществе - оно уважает свой народ, знает его
нужды и проблемы, видит в нации привилегированный компо-
нент национальной политической системы. Именно эта особен-
ность политической культуры Японии доходит до сердца каждого
японца, составляет фундамент его национальной идентичности.
Государство тщательно оберегает эту сторону взаимодействия
власти и нации. При этом в случаях, когда такие связи ослабевают
или нарушаются, нации предоставляется возможность выразить
свой протест институту власти, которая признает свою вину пе-
ред обществом за невыполненные ею обязательства. Такой про-
тест в прошлом «оформлялся» через механизм народных бунтов
и волнений, а в настоящем - путем голосования электората на
общенациональных или местных выборах, когда одна правящая
политическая партия мирно уступает место своему политическо-
му оппоненту.
Сами японцы вкладывают в понятие национализма свою спо-
собность к национальному сплочению, к внутренней консолида-
ции и концентрации усилий в интересах всей нации, четко осоз-
навая необходимость национального выживания, сохранения
национальной идентичности, независимости и государственного
суверенитета в трудные периоды национальной истории. Яркий
пример именно такого восприятия дал период 1990-2010 гг., ко-
торый для многих японцев оказался потерянными десятилетиями.
8
Причины такого впечатляющего застоя японцы видели в сниже-
нии мотивации к усердному труду в желании работать меньше
часов, иметь более продолжительный отпуск, а также в сокраще-
нии численности населения и его старении. Чтобы изменить эти
тенденции и вернуть Японии динамику национального развития,
японцы должны больше работать, иметь в семьях больше детей,
разрешить иммиграцию иностранной рабочей силы. Однако сти-
мулы для реализации всего этого в современном японском обще-
стве просто отсутствуют.
И нация это хорошо понимает. Японцы не бьют тревогу, ак-
тивно не ищут пути выхода из трудных проблем. Вместо этого
в Японии можно наблюдать рост новых форм бедности и безра-
ботицы. При этом японцы хорошо скрывают свои проблемы, вы-
ставляя на передний план национальную гордость, солидарность
японских семей, укрепление национальных корпоративных тра-
диций. Компании сокращают размеры ежегодных бонусов своим
сотрудникам, но не увольняют их. Молодые японцы, как правило,
не устраиваются на постоянную работу, не достигнув 30-летнего
возраста, молодежь перебивается временными заработками. За-
мужние женщины остаются дома, довольствуясь доходами мужа.
Политические партии, которые опираются на стареющий электо-
рат, не склонны призывать к переменам. И под всем этим заложен
прочный фундамент национализма. Он выражается, прежде все-
го, в понимании японским обществом объективных трудностей
развития нации, понимании необходимости всем «затянуть пояса»
до лучших времен.
Японские националисты в целом поддерживают проводимую
властями страны политику «застоя». Видный политический и об-
щественный деятель Японии, известный своими националисти-
ческими настроениями, вице-губернатор Токио Наоки Иносэ
официально заявлял, что «эра экономического роста в Японии
закончилась. Когда в середине XIX века страны Запада угрожали
независимости и суверенитету Японии, японцы приняли вызов,
«открыли границы» и быстрыми темпами модернизировали эко-
номику и политическую жизнь. В этом японцы неплохо преуспе-
ли. Однако сегодня Япония готова вернуться к своим традицион-
ным национальным ценностям, восстановить социальную гармонию
и нулевой экономический рост»7).
На первый взгляд, призывы некоторых видных представите-
лей правящего истеблишмента Японии, националистов по убеж-
дениям, «вернуть» страну в прошлое, в эпоху Эдо, звучат нелепо
и несерьезно, напоминая некую поэтическую утопию. Но подоб-
ного рода высказывания могут приобрести некоторый реальный
9
смысл, если под них подвести националистическую основу. Не мо-
жет не вызывать удивления тот факт, что современные японские
студенты больше уже не стремятся учиться за границей, их даже
мало интересует английский язык. На фоне того, что китайцы и юж-
ные корейцы становятся все более «глобализированными нация-
ми», упорно изучая английский, немецкий, французский языки
и приветствуя приток в страну все большего числа иммигрантов,
Япония, напротив, похоже, вступает в «процесс деглобализации».
Она как бы на ходу разворачивается в своем движении вовнутрь,
теряя интерес к участию в процессах глобализации. Япония, как
улитка, втягивает голову в свой национализм, отгораживаясь
с его помощью от внешнего мира. Она уже существенно сократи-
ла бюджет для оказания помощи слаборазвитым странам. Более
того, японские националисты во власти не отказываются эксплуа-
тировать навязчивую националистическую идею добиться оттор-
жения у России «исконных японских территорий Южных Курил».
Очевидно, однако, что в такой тенденции заложены немалые опас-
ности для развития Японии как суверенного и мощного государ-
ства. Пятившаяся назад Япония стала бы потерей для всего мира.
Японский национализм - явление неоднозначное. Об этом,
в частности, говорит тот факт, что в японском языке существует
три различных корневых понятия для передачи сути национали-
стических чувств японцев: «кокуминсюги» (чувство любви к стра-
не, к Родине), «миндзокусюги» (чувство любви к народным тра-
дициям, национальной культуре) и «коккасюги» (чувство любви
к институтам власти, к государству и к императору). В современ-
ной японской литературе по национализму часто можно встре-
тить передаваемое в звуковой транскрипции английское слово
«национализм» как «насёнаридзуму»8*. Однако, передавая поня-
тие «национализм» посредством англоязычного варианта этого
термина, японцы лишний раз как бы намеренно подчеркивают,
что европейское понимание национализма не свойственно япон-
скому народу, японской нации и цивилизации, что оно является
чуждым японскому народу, так как заимствовано из западной
культуры, где это понятие впервые и появилось.
В своем исследовании авторы пытаются разобраться не толь-
ко в теории и практике национализма в Японии, его эволюции
в истории страны, но также и в толковании проблемы японского
национализма самими японскими учеными. Почему, например,
существующее в европейских языках одномерное понятие нацио-
нализма, во всяком случае в его лингвистическом выражении,
в японском языке трансформируется в целый набор вышеназван-
ных понятий9*.
10
Для понимания сути японского национализма, как нам пред-
ставляется, следует иметь в виду два момента. Во-первых, это
проблема интерпретации национализма в Японии. В своей истории
он не раз сталкивался с опасностью саморазрушения, а нация -
подвергалась угрозе утраты своей национальной идентичности
и суверенитета. Так было в период нашествия татаро-монгол под
руководством Хубилай-хана в XIII веке, так было в годы Второй
мировой войны, так было в годы последующей американской
оккупации, когда США навязали Японии свою Конституцию
1947 года, стремясь разрушить японский национализм и превра-
тить Японию в подконтрольное Америке государство. Все эти ис-
торические события сыграли свою негативную роль в развитии
японского национализма, всякий раз как бы отбрасывая его назад,
на исходные рубежи. Это не значит, что они подрывали основы
национализма в Японии и меняли его традиционную опору. Ско-
рее, они выступали факторами, корректирующими содержание
и формы японского национализма. Такая «коррекция», впрочем,
нередко приводила к искажению изначальной традиционной
природы этнического национализма японцев, накладывала свой
негативный отпечаток на исконные националистические чувства
японцев «любить Родину». Поэтому не случайно, что в основе
многих научных дискуссий о природе японского национализма
лежит твердое убеждение их участников, что японская нация
является уникальной по отношению к другим нациям и народам
мира. Японские националисты видят эту уникальность прежде
всего в том, что потенциал нации еще не раскрыт полностью, что
Япония еще не достигла апогея своего национального развития,
и неудовлетворенность японцев своей прошлой историей подо-
гревает их национальные амбиции на будущее, а число сторонни-
ков национализма в Японии только растет.
Во-вторых, в массовом сознании японцев существует опреде-
ленная грань в восприятии, с одной стороны, государства - «кокка»,
а с другой, - нации - «кокумин или миндзоку». Иными словами,
если в европейском национализме устойчивой категорией явля-
ется понятие «государство-нация», то в Японии эти категории как
бы разведены в стороны. Правда, в годы Второй мировой войны
власти пытались объединить эти два понятия в одно целое, одна-
ко давалось им это с большим трудом. Дело в том, что в своей
истории Япония ни конституционно, ни институционально не
была готова стать крепким «государством-нацией». Это было
связано с тем, что эволюция государственного развития Японии
проходила медленно по историческим меркам, в этом развитии
чередовались различные организационные формы управления
11
нацией, а именно: гражданский институт императорского прав-
ления, сменивший его в конце XII века институт военного прав-
ления сёгуната (военного правительства бакуфу), а в середине
XIX века вновь верховная власть перешла к гражданскому мо-
нархическому государству. После капитуляции во Второй ми-
ровой войне Япония вообще жила с 1945 по 1947 год без четко-
го государственного устройства. И только после обнародования
Конституции 1947 года, написанной оккупационным штабом
американского генерала Макартура, Япония вновь обрела статус
конституционной монархии. При этом император Японии был
сильно урезан в своих политических правах лидера государства,
но оставлен его «символом», лишенным реальной власти. Все го-
сударственные назначения и решения он мог производить только
по представлению Кабинета министров, который и нес за них
всю полноту ответственности. Правда, на дипломатических
встречах император был наделен формальными функциями гла-
вы государства.
В истории послевоенного японского национализма заметную
роль сыграло укрепление японской государственности после
подписания Сан-францисского мирного договора в 1951 году. Это
позволило японским властям вернуться на путь укрепления го-
сударственного и этнического национализма, однако не способ-
ствовало ясности в понимании японцами категорий «государства»
и «нации». С одной стороны, послевоенные власти были заинте-
ресованы в скорейшем восстановлении «государственного нацио-
нализма» как национальной идеологии, но, с другой, - они нахо-
дились под пристальным контролем США в этих вопросах, а в
обществе сохранялась объективная потребность в поддержании
традиционного «этнического национализма», к воспроизводству
культурных традиций и т.п. И в этом смысле японский национа-
лизм долгое время сохранял свой внутренний «конфликтный
потенциал», раздваиваясь между государственным и этническим
национализмом.
Суть политики государственного национализма в Японии
сводится к попытке ее властей «поставить» каждого члена обще-
ства в такую удобную для его личной жизни систему координат,
организовать такой благоприятный и понятный ему политиче-
ский и социальный порядок в государстве, которым он искренне
мог бы дорожить и гордиться. Национализм в Японии, таким
образом, есть следствие реализации концепции жизнеустройства
государства и нации, которая принимается большинством его
членов. В результате деятельности в этом направлении хаотич-
ные общественные массы с их индивидуальными интересами
12
формируются в нацию, чтобы впоследствии, если в этом возни-
кает государственная необходимость, действовать от лица нации,
«руководствуясь» ее национальными интересами.
Средством достижения государством заданной цели в этой
области является пропаганда идеологии государственного нацио-
нализма, которая подкрепляется реальными достижениями в со-
циально-экономической сфере жизнедеятельности нации. Нацио-
налистическая идеология призвана устранить, таким образом,
разрыв между нацией как этнической общностью со свойствен-
ным ей этническим национализмом и государственными полити-
ческими институтами, которые говорят и действуют от имени
нации.
Нация на определенном этапе своего развития объективно
нуждается в опоре на государство и должна составлять с ним
единое целое - государство-нацию. До появления императора
в период Кофун (III век н.э.) древняя Япония периода Дзёмон
и Яёй (10 тыс. лет до н.э. - III век н.э.) развивалась не как госу-
дарство, а как этническое сообщество лиц, относящих себя к япон-
ской нации. Появление и становление японской государственно-
сти произошло с появлением во главе японского этнического
сообщества императора в период Кофун в 300-710 гг. н.э. Тогда
же зародился и японский национализм. Роль императора в исто-
рии японского национализма трудно переоценить, ибо с этим
институтом власти японцы традиционно связывали свои надеж-
ды на защиту от внешних врагов, а также на сохранение сильного,
политически и экономически управляемого государства, способ-
ного обеспечить выживание всей нации. Таким образом, японский
национализм формировался по принципу «снизу - вверх», т.е. от
этнического сообщества - к императору и государству. Поэтому
этнический национализм в Японии появился раньше, чем возник-
ли императорская система, государство и государственный нацио-
нализм. Последний развивался в Японии как некая объективная
потребность японского социума существовать в упорядочен-
ной системе координат, соблюдая культурные традиции пред-
ков, и встраивать себя в государственные институты, делегируя
им функции национальной защиты в самом широком смысле
слова. Поэтому конфликт между «этническим национализмом» -
миндзокусюги и «государственным национализмом» - кокумин-
сюги или коккасюги, о котором так много рассуждают в современ-
ной Японии, скорее всего все-таки надуман представителями
академических кругов, пытающихся конструировать стройные тео-
рии разных национализмов в Японии. В реальной действительно-
сти японская нация всегда жила и продолжает существовать,
13
особо не замечая разницы между этническим и государственным
национализмом, а тем более не превращая их в поле борьбы друг
с другом.
Государственный национализм в Японии имеет ряд особенно-
стей. Во-первых, его наличие способствует реализации полити-
ческих, социально-экономических и стратегических задач разви-
тия нации. И только потом он отражает состояние умов самих
японцев, являясь выражением национального самосознания или
специфических интересов национальных групп. Идеология госу-
дарственного национализма в Японии традиционно решала одну
сверхзадачу - она консолидировала нацию, помогала удерживать
власть в руках правящей элиты, и на этой основе власть облегчала
себе решение общенациональных задач. По сути, речь идет о за-
даче, которая имеет много общего с антиколониальной борьбой
народов за свою независимость, за недопущение стратегического
и экономического контроля со стороны более сильных держав,
за противодействие экспансии чуждой культуры в японское об-
щество и сохранение его традиционной системы ценностей.
Механизм осуществления идеологических задач по распро-
странению национализма в Японии реализовывался через уста-
новление государственного контроля над всеми сторонами жизни
нации, через реформирование политической или экономической
системы сверху, через формирование под патронажем государства
гомогенной национальной идентичности населения. Государство
в Японии заметно преуспело в создании специфической нацио-
нальной общности, что верно подметил Джон Брейли в своей
известной работе «Национализм и государство»10). Японский
национализм как политическая практика не знал в своей истории
политических конфликтов в форме противостояния одних групп
населения другим по национальному признаку. Внутренние кон-
фликты имели место лишь как форма борьбы за власть разных сил,
интегрированных, впрочем, в одну и ту же политическую систему.
Не было в истории японского национализма и борьбы различных
национальных идентичностей, которые противоборствующие по-
литические силы использовали бы в целях захвата и удержания
власти, что в принципе характерно для многонациональных госу-
дарств, когда одна этническая общность ассоциирует себя с госу-
дарством, оттесняя другие этносы на задний план10.
Во-вторых, государственный национализм в Японии всегда
работал на мобилизацию нации на борьбу с внешней угрозой.
Япония относительно поздно (в конце XIX века после революции
Мэйдзи) приступила к военному соперничеству с другими вели-
кими державами за сферы влияния в регионе Восточной Азии и на
14
Тихом океане. Это требовало от государства и нации невиданной
концентрации усилий всех слоев общества, включая крестьян-
ство, рабочий класс и интеллигенцию. Все эти группы населения
говорили на одном и том же японском языке, имели одну и ту же
религию. Политически японская нация полностью соответство-
вала понятию японского государства-нации, что делало его весь-
ма консолидированным, сильным и сплоченным институтом.
Внутри государственных границ японская нация воспринимала
себя как единую общность, имелось понимание гражданами своей
ответственности и чувства долга перед государством. Можно
даже говорить, что в своем большинстве японцы разделяли цели
и методы государственного строительства и национальную идею.
Власти страны добились того, что в конце XIX - начале XX века
государство отождествляло себя с нацией, а нация - с государ-
ством. Государственный национализм в Японии развивался как
«интегральный» в том смысле, что милитаристские, индустриаль-
ные и реформистские начала национальной политики работали
как единое целое, а его идеология традиционно опиралась на
пропаганду государством особых уникальных добродетелей япон-
ской расы-нации, позволявших ей оправдывать свои агрессивные
устремления по отношению к другим нациям, и прежде всего -
к своим соседям по Восточной Азии. Власти внушали японцам,
непосредственно участвовавшим в агрессивных войнах в регионе,
что они благородно взяли на себя труд защитить «братские ази-
атские народы» от колонизации их великими европейскими дер-
жавами.
В-третьих, важной особенностью государственного японского
национализма является то, что он способствовал реализации
основных доктрин национального поведения страны в системе
международных отношений, а именно: «оборонительной», «осто-
рожного сближения с другими нациями», «просвещенного между-
народного лидерства» и «радикализации (обострения) конфликта».
В первой половине XX века национальное мышление японцев ха-
рактеризовалось пониманием этих основных особенностей внешне-
политического поведения сраны в мире. Эта поведенческая модель
никогда не была статичной, она всегда динамично развивалась.
Например, японский просветитель и основатель одного из круп-
нейших университетов страны Кэйо - Фукудзава Юкити призна-
вал, что японский национализм, прежде всего, отражал два основ-
ных принципа национального поведения, а именно: искусство
«осторожного сближения с другими государствами» и «просве-
щенного международного лидерства». Именно эти ведущие прин-
ципы международного поведения позволяли Японии устанав-
15
ливать и поддерживать контакты с великими мировыми держа-
вами. Используя такую идеологию, Япония уже на рубеже XIX и
XX веков вошла в клуб великих мировых держав и приблизились
к «мировой цивилизации» через модернизацию нации, хотя еще
за несколько десятков лет до этого Япония оставалась подконт-
рольной великим державам нацией в рамках неравноправных
и навязанных ей силой Ансэйских договоров. Эта идеологическая
модель японского государственного национализма побуждала ли-
деров иностранных держав уважать «особенности национальных
традиций Японии» как важного элемента ее усилий по «поиску
баланса между идеологией реформ и сохранением сильных авто-
ритарных методов управления государством».
В-четвертых, японский государственный национализм разви-
вался в истории как авторитарный и императорский. Другие
известные формы государственного национализма, как-то: либе-
ральный, популистский, экспансионистский - всё-таки скорее
являлись маргинальными для японского национализма.
В-пятых, особенность государственного японского национа-
лизма заключается также в особом соотношении национального
и интернационального в массовом сознании японцев. Националь-
ное самосознание японцев всегда реактивно реагировало на внеш-
ние угрозы и было подтверждено воздействию внешних факторов.
Власти Японии стремились искусственно поддерживать в массо-
вом сознании японцев чувство страха перед внешними угрозами,
что находило свое выражение в особом «оборонительном» нацио-
нализме и «защитном» патриотизме. Представляется, что с этим
связано использование культа личности императора как отца
нации, которого все японцы должны защищать и оберегать как
национальное достояние в случае внешней опасности.
Фактически националистическая «оборонительная» идеоло-
гия разрабатывалась в Японии на протяжении последних двухсот
лет, начиная со школы Мито, когда в феодальной Японии в пе-
риод правления сёгуна Токугавы Мицукуни (1628-1700) был
открыт «Исследовательский институт истории Японии», в кото-
ром готовилось к выпуску монументальное издание - «Великая
история Японии» - Дай Нихон си, труд, над которым японские
историки работали более 50 лет и который в окончательном виде
был представлен сёгунату лишь в 1720 году. Уже тогда эта книга
обратила на себя внимание современников своим националисти-
ческим субъективизмом. Она была пропитана националистиче-
ским духом восхваления японской нации, ее уникальности. Труд
впитал в себя националистическую идеологию синтоизма и конфу-
цианской морали, которая лежала в основании «самурайского на-
16
ционализма», самурайской системы ценностей, в середине XIX века
трансформировавшейся в известный постулат предмэйдзийской
Японии - «Сонно дзёи» (защитим императора - изгоним варва-
ров). Японские националисты опасались, что европейцы и Запад
в своей политике на японском направлении были нацелены на
разрушение и колонизацию Японии, и поэтому власти призывали
японцев к защите отечества. Закономерно, что после революции
Мэйдзи была разработана националистическая идеология «Коку-
тай» (Государство), в которой император выступал как защитник
нации, заботившийся о своих подданных, как отец японского на-
рода, а международное окружение Японии рассматривалось как
сугубо враждебное.
Наконец, важной особенностью японского государственного
национализма является наличие разнообразных форм его прояв-
ления. Государство всегда было заинтересовано в том, чтобы в
японском обществе существовало, по возможности, больше раз-
нообразных проявлений национализма, чтобы было больше япон-
ских «национализмов», которые постоянно «подпитывали» бы и
работали на идеологию государственного национализма. Сегодня
в Японии существует много националистических организаций
и националистов, которые проявляют свои националистические
чувства в разных областях жизни нации. В одном случае нацио-
налисты представлены борцами за «возвращение исконных япон-
ских территорий», якобы «оккупированных Россией», в другом
националисты пропагандируют пересмотр Конституции и пере-
писывание национальной истории, настаивают на введении новых
школьных учебников по истории. Существуют мощные национа-
листические структуры, в том числе поддерживаемые первыми
лицам государства, предписывающие обязательное и регулярное
посещение японскими руководителями главного после Исэ син-
тоистского храма Японии - Ясукуни. Перечисление даже этого,
далеко не полного списка разного рода вариантов проявления
«японского государственного национализма» говорит лишь о вы-
сокой степени заинтересованности властей в сохранении и в вос-
производстве разнообразных по форме и содержанию национали-
стических идей и способов их реализации. Власти современной
Японии хотят гальванизировать в массовом сознании японцев
«довоенный государственный национализм», приукрасить его
и адаптировать к новым историческим условиям. Правящая эли-
та Японии твердо убеждена в том, что национализм - крайне нуж-
ная для современного потребительского общества идеология. Без
него общество, нация превращаются в рыхлую, плохо управляе-
мую массу под названием «население»12*.
2-5584
17
В отличие от государственного современный этнический нацио-
нализм в Японии есть закономерная реакция японского общества
на усиление глобализации, опасности поглощения и растворения
в ней традиционных базовых японских культурно-этнических
ценностей. Эта реакция выражается в подъеме националистиче-
ских настроений в обществе, так как глобализация по модели Рах
Americana в мире, похоже, не состоялась и многие государства
стали искать способы выживания «не вместе», а поодиночке, вновь
обращаясь к своей национальной специфике. Японское общество
традиционно демонстрировало скептическое отношение к так
называемым универсальным ценностям и делало акцент на разви-
тие национальной социокультурной уникальности. Правда, при
этом Японии пришлось испытать на себе и пройти через времен-
ные приливы «глобализации» в конце 1980-х - начале 1990-х го-
дов. Именно тогда в употреблении появились такие термины,
обозначающие этот процесс, как «гуробаридзэсён», «гуробарука»,
«тикюка». Их охотно брали на вооружение крупные японские
корпорации, министерства, правительственные организации. Эти
термины стали неотъемлемой частью корпоративной идеологии,
которую утверждали в конъюнктурных целях президенты компа-
ний, их использовали первые лица государства в своих официаль-
ных речах. В правительственных документах термин «глобализа-
ция» стал употребляться для выражения программных установок
и целей государства. В частности, ответ японского правительства
на вызовы глобализации нашел свое выражение в курсе на интег-
рацию японской экономики в глобальную экономику в 1990-е годы
и приведение ее в соответствие с глобальными стандартами (под
которыми подразумевались западные стандарты) всех сфер жиз-
ни, и в особенности системы образования, с целью формирования
личности, способной успешно функционировать в условиях гло-
бального мира.
Однако японский официальный «проект глобализации», обо-
значенный в конце XX века и ратующий за установление глобаль-
ных стандартов, принятие универсальных ценностей, норм и пра-
вил и идущий в кильватере американского глобализационного
проекта, не разделялся не только националистически настроен-
ной влиятельной частью японского крупного предприниматель-
ства, но и значительной частью общественных деятелей страны,
представителями профсоюзов и учеными. Его оппоненты, как
правило, признавая необходимость инновационных реформ япон-
ской экономики и общества в целом, настаивали на необходимо-
сти сохранения культурного многообразия, различий моделей
общественного развития и делали акцент на ценностях, присущих
18
локальным и региональным сообществам, обращали внимание на
выявление сил, которые могли быть противовесом давлению гло-
бализации по американскому сценарию. В этом смысле показа-
тельным является сборник статей ведущих японских ученых под
редакцией Г. Хука и X. Хасэгавы «Японский ответ на глобализа-
цию. Политика, безопасность, экономика и бизнес»13*. В книге
дается оценка глобализации как процесса, движимого США и в ин-
тересах США. При этом отмечалось, что «направления глобали-
зации есть не нечто предопределенное и универсальное, но гибкое
и многообразное, и, без сомнения, они подвержены влиянию со
стороны его акторов в конкретных исторических условиях»14*.
Одно из серьезных опасений японских националистов в связи
с навязываемым Японии неолиберальным проектом глобализа-
ции заключается в том, что Япония перестанет быть социально
привлекательным и комфортным государством. Среди ученых
и общественных деятелей, высказывающих озабоченность по по-
воду социальных рисков неолиберального проекта и выступаю-
щих за поиски японской стратегии глобализации, нельзя не упомя-
нуть придерживающегося социалистических взглядов экономиста
Канэко Масару, разработавшего теорию «сетей безопасности»,
в которой значительную роль по минимизации социальных рисков
свободного рынка он отводит государству15*. Сходную позицию
занимает ученый-политолог Ёсихары Кумио, который доказыва-
ет, что Япония может сама предложить жизнеспособную модель
глобализации, альтернативную американской. «США создали, -
считает Ёсихара, - динамичную экономику, основанную на дере-
гуляции и либерализации, но страдающую от нежелательных
социальных последствий... Япония предлагает остальной Азии
и другим развивающимся странам мира надежную альтернативу
экономического роста без социально негативных вариантов раз-
вития». По мнению Ёсихары, две опоры развития, а именно: мас-
совое образование с акцентом на гуманитарные знания, позво-
ляющие формировать нравственные принципы в промышленном
и финансовом менеджменте, и рациональное государственное
вмешательство в экономику - должны быть использованы для
того, чтобы ограничить неравенство доходов в обществе и устра-
нить другие социальные язвы капитализма16*.
Японскому национализму традиционно было свойственно
отличное от европейского представление об индивидуальности17*.
Если американское понимание индивидуальности делает акцент
на независимости индивида и предполагает его самоопределение
через связь с другими индивидами, то в Японии действует кол-
лективистская корпоративная этика, основанная на системе вза-
2*
19
имного доверия. Показательно, что молодые японцы, пытаясь
подчеркнуть свою индивидуальную идентичность, к примеру,
тщательным образом выбирают мелодию звонка своего мобиль-
ного телефона, однако в итоге из несметного изобилия мелодий
они отдают предпочтение одним и тем же национальным мелоди-
ям. С возрастом национализм и национальные ценности вообще
начинают преобладать в поведенческой модели японцев.
Японский этнический национализм повторяет особенности
японского этноса, для которого не свойственна инвариантность
и незыблемость каких-либо стандартов. Установленные нормы
и решения обладают в японском социуме большой степенью гиб-
кости и ситуативности. Прошло время, когда японцы стремились
всячески акцентировать свою приверженность западным стандар-
там, за которыми порой скрывалась некая болезненная ущерб-
ность. Как пишет японский философ и общественный деятель
Икэда Дайсаку, «сегодня Япония уже прошла период интенсив-
ного заимствования европейской культуры и вступила в стадию
ассимиляции и творчества. И все еще сохраняющаяся нынешняя
нерешительность японцев является продуктом перехода к своему
новому качеству»18*. Действительно, многие японцы пока еще
робеют в ситуациях, требующих самостоятельности и творческо-
го подхода. Но это - вопрос времени. Более широкое распрост-
ранение националистического самосознания неминуемо приведет
к уверенности и гордости за свою нацию.
Японский национализм - это национализм традиционного
общества, в котором, однако, присутствует феномен гармоничного
симбиоза традиций и инноваций. Этот симбиоз получил в япон-
ском языке свой особый термин - «дзассюсэй», т.е. гибридность,
выражающий сущностную характеристику японской национали-
стической идеологии. Но откуда берется высокий уровень адап-
тации самосознания японцев к гибридизации, если любые инно-
вации в традиционных обществах всегда вызывали возмущение
и известное сопротивление? Все дело в том, что, во-первых, япон-
ское общественное сознание исторически выработало способ-
ность трансформировать и адаптировать заимствования настоль-
ко эффективно, что они принимаются как нечто органичное и не
противоречащее традиции. Во-вторых, специфика японской тра-
диции заключается в том, что приспособление к инновациям не
требует концептуальной перестройки национального сознания,
ибо в Японии никогда не стоял вопрос о насильственном вытесне-
нии «старого» - «новым», «своего» - «чужим». Заимствованное
легко ассимилировалось, дополняя японскую традицию, органи-
чески встраивалось в национальную традицию.
20
Японский национализм после реставрации Мэйдзи формиро-
вался в системе координат, определяемой двумя полюсами -
Восток-Запад, и тяготел попеременно то к одному, то к другому
полюсу Если Европа и США для японских националистов вы-
ступали в качестве «другого», отличного от всего японского, но
которому Япония стремилась подражать, то Азия большей частью
была для нее олицетворением собственного прошлого, от которо-
го она пыталась отдалиться. До Второй мировой войны и во время
войны существовала двухслойная структура самовосприятия
японской нации: японцы считали себя не столько частью Азии,
сколько нацией, призванной цивилизовать Азию. Япония психо-
логически ощущала себя между Америкой и Азией. Миссия «ос-
вобождения Азии» содержала элемент противопоставления япон-
ской и азиатской идентичности. В послевоенные годы маятник
японского националистического самосознания вновь качнулся
в сторону Запада.
Однако уже в 1970-1980-е гг. самосознание японцев, опра-
вившихся после поражения в войне и капитуляции, во многом
стало определяться концепцией национальной уникальности
японцев - «Нихондзин рон». На поверхности эта теория была
призвана объяснить истоки японского экономического чуда,
т.е. не свойственных рыночной экономике высоких темпов роста.
Однако, по сути, японские националисты, включая академиче-
ские круги, ставили перед собой задачу продемонстрировать
японцам и всему миру способность и уверенность нации не сда-
ваться, не падать духом, а, напротив, за короткие исторические
сроки создать мощный экономический и научно-технический
потенциал и вырваться на передовые рубежи среди высокоразви-
тых стран Запада. Правда, экономический кризис 1990-х годов при-
вел к тому, что подобного рода националистические теории утра-
тили свою популярность. Интеллектуальная элита отказалась
тогда от объяснений уникального хозяйственного поведения
японцев и стала призывать японцев к глобализации и структур-
ным реформам на всех уровнях экономической и социальной
жизни.
Вместе с тем это не привело к снижению уровня национали-
стической пропаганды в обществе. Ряд общественных и полити-
ческих деятелей Японии, писателей и публицистов конца XX века
не отказались тогда от ключевых характеристик и концептов,
сформированных ими в теории «Нихондзин рон», а именно идеи
групповой ориентации, взаимной солидарности, групповой гар-
монии, чувства единства с природой, эгалитаризма и расового
единства японцев. Одним из ярких примеров попыток возрождения
21
националистической пропаганды в конце XX - начале XXI века
в духе «Нихондзин рон» стала книга известного правого полити-
ка и убежденного националиста, бывшего мэра Токио Исихара
Синтаро «Япония, которая может сказать “нет”»19*. В своей рабо-
те автор подчеркивал, что японцев отличает особое трудолюбие,
самоотверженность и сдержанность. И выживание Японии как
нации в будущем будет связано именно с этими уникальными
национальными чертами. Другой известный японский национа-
лист консервативного толка Сиба Рётаро (1923-1996) призывал
к возрождению ценностей эпохи Мэйдзи для решения проблем,
с которыми Япония сталкивается в условиях современной глоба-
лизации. Дух эпохи Мэйдзи, который помог японцам в XIX веке
избежать колонизации и создать, по сути, на пустом месте конку-
рентоспособное государство, по его мнению, сформировался бла-
годаря соединению самурайских этических норм и принципов
с западными ценностями свободы и независимости20*. Популяр-
ность националистических взглядов Сиба Рётаро свидетельство-
вала о том, что они разделяются многими современными японцами.
С 90-х годов XX века, спустя пятьдесят лет после окончания Вто-
рой мировой войны, японские националисты вновь стали разы-
грывать карту своей азиатской идентичности. Более того, эксплу-
атируя этот тезис, они демонстрировали заинтересованность вновь
обрести утраченное в первой половине XX в. доверие азиатских
стран, развивать региональное сотрудничество, избежать само-
изоляции в регионе, сбалансировать отношения не только с США,
но и с остальной Азией21*.
В начале XXI века прилив национализма в Японии должен
был гармонично встроиться в концепцию «азиатских ценностей»,
разработанную в 1990-х годах бывшими премьер-министрами
Малайзии и Сингапура - Махатхир Мохамадом и Ли Кван Ю,
а также другими азиатскими политическими и интеллектуальны-
ми лидерами в качестве альтернативы западным ценностям. Если
в конце XIX века генератором идей азиатизма выступала Япония,
то сейчас инициативу перехватили страны Азии, принадлежащие
к системе стран АСЕАН. Идеи нового паназиатизма были быстро
подхвачены японскими националистическими идеологами. В част-
ности, упоминавшийся выше Исихара Синтаро выступил соавто-
ром Махатхира Мохамада в их совместной книге «Азия, которая
может сказать “нет”», английское издание которой вышло под
названием «Голос Азии: два лидера обсуждают грядущее столе-
тие»22*. В своей работе оба автора, указывая что Азия имеет более
древнюю цивилизацию и культуру по сравнению с Соединенны-
ми Штатами, заключали, что необходимо создать антиамерикан-
22
ский азиатский фронт для защиты своих исконных азиатских цен-
ностей. Исихара особо подчеркивал, что « Япония - азиатская
страна с азиатским народом, в жилах которого течет азиатская
кровь», и поэтому она должна идентифицировать себя в большей
степени с Азией, чем с Америкой.
Вместе с тем, несмотря на то, что идеи возрождения и объ-
единения Азии весьма популярны среди японских национали-
стов, большинство из них не столь категоричны в своих суждениях
относительно западной культуры и западной системы ценностей.
Можно сказать, что в целом японские националисты занимают
в отношении «азиатских ценностей» позицию, обособленную
от позиций их коллег в азиатских странах. Размышляя над ролью
Японии в мире и в Азии, профессор Университета Васэда -
Ивабути Коити, в частности, отмечал, что, хотя проникновение
японской массовой культуры в культуры других азиатских стран
в 1990-х отличалось большим многообразием, противоречиво-
стью и неоднозначностью, «снисходительное чувство лидерства
в Азии и асимметричность связей между Японией и остальной
частью Азии по-прежнему не изменилась. Японский культурно-
националистический проект не встроился гармонично в транс-
национальную и постколониальную ситуацию»23*. Ивабути под-
черкивал, что недвусмысленные претензии японцев на циви-
лизационное превосходство над другими азиатскими странами
камуфлируются акцентированием культурной общности, что по-
зволяет продвигать проект создания «Азии, устремленной к Япо-
нии». Весьма любопытным, на наш взгляд, представляется его
замечание о том, что ряд современных японских националистов
усматривает истоки единства Японии и Азии не столько в общ-
ности исторических корней и ценностей, сколько в общности
опыта восприятия современной западной цивилизации. Вместе
с тем, Ивабути формулирует особенности современной азиатской
составляющей японской идентичности следующим образом:
«Распространение японской культуры в Азии, подобно довоенно-
му дискурсу в духе паназиатизма, генерирует не просто претен-
зии на азиатскую общность, но демонстрирует идеологическую
установку на то, что национальная идентичность Японии не должна
более конструироваться только на основе ее уникальной воспри-
имчивости к западному модернизму. Скорее, это конструирование
определяется способностью Японии производить привлекатель-
ный идеологический продукт и распространять его за границей,
в частности в Азии, и ее лидирующей ролью в формировании
пространства азиатской массовой культуры. Она, таким образом,
становится полигоном, где японские комментаторы стараются
23
выявить японскую азиатскую идентичность и заново утвердить
позицию Японии в Азии, но одновременно над ней благодаря ее
беспрецедентной способности к усвоению иностранных систем
ценностей. Аргумент, что Японию и Азию объединяет опыт «гиб-
ридной» модернизации, по сути, означает, что японский опыт
может стать моделью для других азиатов...»24*.
• Японские националисты убеждены в том, что формирование
новой японской идентичности и на ее основе - нового японского
национализма обусловлено изменившейся ролью Японии в мире.
Япония не должна больше ассоциировать себя ни с Западом, ни
с Востоком, а играть объединительную роль посредника, строить
мост между западными и азиатскими ценностями. Одним из раз-
работчиков этой идеи является известный японский социолог,
профессор Токийского университета Имада Такатоси, описываю-
щий состояние сегодняшнего мира, в котором гегемония Запада
уходит в прошлое, как состояние хаоса, в котором действуют
разнонаправленные силы. По его мнению, для «хаотичного» мира
самое главное - это преодолевать различия, не отрицая и не
искореняя их. Именно Япония обладает уникальной способно-
стью к «редактированию» различных цивилизаций, и такого рода
синтез может стать ее новой ролью в XXI веке25*.
Современный японский национализм, усиливая азиатскую
составляющую современной японской идентичности, не сопро-
вождает ее усилением антиамериканизма в массовом сознании
японцев. По утверждению Сугита Ацуси, Япония считает себя
цивилизованной в той же мере, что и Запад, и поэтому японцы
«отвергают любую мысль о том, что Япония и Запад различаются».
Большинство японцев убеждены, что Япония является членом
западного сообщества, и поэтому нет оснований испытывать по
отношению к другим странами чувство неприязни, ненависти или
вражды26*.
В Японии исторически сложилась двуединая национальная
идентичность: внешняя (институциональная) - западная и внут-
ренняя (духовно-нравственная) - азиатская. Трудно однозначно
определить, какая из них сегодня является ключевой. Можно
предположить, что на наших глазах в Японии идет процесс фор-
мирования новой японской идентичности, в которой противопо-
ставление Запада и Востока снимается за счет появления некой
гибридности, осмысленной в терминах соотнесения глобального
и локального измерений.
Современные японские националисты убеждены, что знают
ответ на вопрос, что должна делать Япония для того, чтобы вы-
жить в XXI веке. Япония не будет противодействовать глобали-
24
зации как объективному процессу, но она будет выбирать свой
путь приспособления к ней. Пока она будет действовать как пас-
сивный участник этого глобального тренда, хотя и не станет от-
казываться от попыток позиционировать себя как ее активный
проводник. Японская националистическая элита намерена искать
свой собственный путь вхождения в глобализацию и выживания
в новых исторических условиях. При этом она не будет копиро-
вать полностью западные ценности, а будет предлагать собствен-
ные сценарии глобализации, основанные на идеях социального
государства, гибкости глобальных норм, взаимоприемлемом со-
пряжении и гармонизации ценностей и смыслов. Японские нацио-
налисты рассчитывают, что только такая парадигма развития на-
ции обеспечит ей относительно стабильное выживание в XXI веке.
Глава 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЯПОНСКОГО
НАЦИОНАЛИЗМА
1. Общие проблемы теории национализма
Макс Вебер, один из признанных теоретиков национализма и на-
ционалист по убеждениям, предупреждал, что построение любых
общих теорий национализма обречено на неудачу0. Он объяснял
это сложностью проблем, заложенных в самой природе нацио-
нализма. В самом деле, на сегодняшний день среди ученых нет
консенсуса при определении ключевых понятий национализма,
нет единства при постановке теоретических задач, характери-
зующих данное явление, наконец, существуют различия в ценност-
ном отношении к национализму. Вследствие этого возникают
совершенно нелепые и противоположные точки зрения при оценке,
например, национал-социализма в Германии в 1920-1930-е годы
XX века или идеологии государственного национализма в Япо-
нии в 1930-1940-е годы. Эти исторические события, причины
и цели использования националистической идеологии властями
того или иного государства в конкретный исторический период
разноголосо трактуются их современниками и свидетелями, с од-
ной стороны, а с другой, - их потомками многие десятилетия
спустя.
В сущности, ни одной из существующих теорий национализ-
ма никогда не удавалось комплексно проанализировать весь
спектр вопросов, имеющих отношение к данной проблематике.
А это означало бы теоретически систематизировать проблемы
происхождения и формирования этносов, определить природу этно-
центризма как основы формирования этнических сообществ,
выявить содержание национальной идентичности, социальных,
культурных и политических основ нации, установить характер
националистических идеологий и движений и их роль в возник-
новении национализма, а также методы использования государ-
ством национализма в своих политических интересах. Наконец,
в тот же круг изучаемых проблем теории национализма должно
было бы входить и выявление значения разных национализмов
26
для культуры мира, их геополитическое влияние, возможности
создания межнациональных сообществ и многие иные аспекты
этой поистине «необъятной проблематики»2*.
И все же, несмотря на все это, вывод о невозможности тео-
ретического осмысления национализма выглядел бы излишне
пессимистичным. Общая теория национализма объективно необ-
ходима по причине заметно возрастающего воздействия этого яв-
ления на другие области общественной жизни, особенно на между-
народную политику и стабильность в мире. Разработка такой
теории позволила бы не только понять саму природу явления,
но и подсказать лидерам ведущих мировых держав перспективы
и пределы реализуемых ими в своих странах политических про-
ектов, обеспечивая при этом национальную безопасность и ста-
бильность.
Можно утверждать, что ученые, изучающие различные аспек-
ты национализма, смогли внести свой вклад в разработку общей
теории национализма, заметно расширив наши познания в дан-
ной области. Если во второй половине XX века ученые фокуси-
ровали основное внимание на идеологии государственного нацио-
нализма, то в исследованиях начала XXI века больше внимания
стало уделяться изучению разных аспектов этнического национа-
лизма, заметно реанимировавшего свое влияние после окончания
«холодной войны». В поле зрения ученых сегодня находятся проб-
лемы влияния национального языка на подъем националистиче-
ских настроений в обществе, системы ценностей, оценки нацио-
нальной истории, исторической памяти и т.п.
Каждая из крупных научных школ в области национализма,
а именно: примордиалистская, перенниалистическая, этносимво-
лическая, модернистская и постмодернистская - вносили свой
посильный теоретический вклад в осмысление сути данного явле-
ния. Примордиалисты (примордиализм - одно из теоретических
направлений в этнологии, рассматривающее этнос как изначаль-
ное и неизменное объединение людей «по крови» с неизменными
признаками) считали национализм природным феноменом (гены,
ландшафт). С ними не были согласны примордиалисты-конст-
руктивисты, отрицавшие изначальную заданность этнических
свойств национализма в пользу благоприобретенных его свойств,
т.е. свойств, полученных в результате воспитания, образования,
деятельности СМИ и т.п. культурной деятельнсти. Примордиа-
листы традиционно стремились в первую очередь осмыслить
такие особенности нации, как склонность ее членов к самопожерт-
вованию ради блага всей нации, выявить причины, порождающие
сильные чувства коллективной принадлежности. Последователь-
27
ними примордиалистами были К. Маркс, Ф. Энгельс, польский
этнограф и историк Францишек Генрик Духинский, многие пред-
ставители немецкой романтической философии с её «кровью
и почвой» и «вечным возвращением к Природе». Среди предста-
вителей последней можно назвать Иоганна Гердера. Для Гердера,
например, нация была синонимом языковой группы, а нацио-
нальный язык - синонимом мысли, поскольку язык можно изу-
чать только в национальной общности, а каждая общность думает
по-разному, по-своему3*. После Второй мировой войны взгляды
примордиалистов стали все больше эволюционировать в сторону
конструктивистских подходов, согласно которым природа нации
рассматривается как конструкт, созданный в первую очередь
политическими технологиями и политиками в национальных
интересах. В отличие от примордиалистов, считавших национа-
лизм природным феноменом, конструктивисты утверждают, что
маленького ребёнка можно воспитать, кем угодно, внушить ему
какую угодно систему ценностей, которую он будет любить и ува-
жать до конца своей жизни4*.
Перенниалистическая школа теории национализма рассмат-
ривает его с точки зрения «longue duree», т.е. долговременных
факторов исторического развития нации, непрерывных во времени.
Перенниалисты склонны видеть в национализме скорее результат
фундаментальных этнических взаимоотношений внутри нации,
чем следствие манипуляции общественным сознанием в полити-
ческих интересах. Такие исследователи-перенниалисты, как Фиш-
ман, Армстронг, Сетон-Уотсон, Коннро и Горовитц, всегда отда-
вали должное значению общего национального языка, этнических
связей, а также силы мифов о происхождении нации, что и спо-
собствовало горячей народной поддержке национальных чувств
и любви к родине. Причем перенниалисты были убеждены, что
приливы националистических волн могут повторяться в нацио-
нальной истории5*.
Этносимволическая школа в исследованиях по национализму
показывает, как современные национализмы заново открывают и
истолковывают национальные символы, мифы, воспоминания,
ценности и традиции истории. Эти особенности национализма
изучали Армстронг, Хатчинсон, Энтони Смит. Этносимволисты
убеждены, что символы, ценности и мифы формируют нацио-
нальные традиции субъективного и объективного восприятия
исторических измерений нации. Они помогают объяснить, каким
образом власти используют, например, национальные мифы для
оправдания этнической уникальности нации, сакраментальности
ее происхождения и т.п.
28
Модернисты исследуют поведение правящих элит по фор-
мированию политики мобилизации нации с использованием но-
вых средств и методов в целях нейтрализации возрастающих
политических требований общества к управлению государством,
к поддержанию в нем достойных условий существования. Андер-
сон и Хобсбаум детально исследовали использование властями
новых сетей коммуникации и национальной символики в стиму-
лировании националистических настроений в обществе. Манн,
Бройи, Тилли и Гидденс исследуют роль государства, бюрократии
и создание образа врага для консолидации национального само-
сознания. Брасс и Хэтчер изучают интересы правящих элит в сти-
мулировании националистических настроений в современных
обществах, Хрох и Нейрон - анализируют роль национальной
интеллигенции в этих процессах.
Наконец, постмодернисты свои исследования посвящают
проблеме «постнационального» миропорядка в условиях глоба-
лизации не только экономической и политической жизни разных
суверенных государств, но и насаждения глобальной культуры
и системы ценностей. В этой области работают такие ученые, как
Бхабха, Чаттерджи и Ювал-Дэвис, а также Мосс, Шлезингер,
Кандийоти, Брубейкер и Биллинг.
И всё же, несмотря на усилия большой армии ученых-теоре-
тиков, работающих по проблемам современного национализма, об-
щей теории национализма вплоть до настоящего времени так и не
создано. Теоретическая мысль глубоко расколота и фрагментарно
разбросана между различными школами, представители которых,
особенно примордиалисты, модернисты и перенниалисты, продол-
жают вести горячие споры о природе национализма и факторах, спо-
собствующих его ренессансу после окончания «холодной войны».
Вместе с тем теоретические исследования по национализму
остаются весьма актуальной научной задачей. На современном
этапе можно выделить ряд универсальных факторов, которые вли-
яют на подъем националистических умонастроений общественного
самосознания. Во-первых, это заинтересованность государства в
поддержании высокого уровня национализма в обществе, в укреп-
лении чувства преданности своих сограждан власти, в мобилизации
их электоральных возможностей для сохранения существующей
власти, на формирование сплоченности нации в рамках государства.
Во-вторых, подъем националистических настроений в обще-
стве есть фактор обеспечения защиты национальной территории,
поскольку они предполагают «защиту святых для каждого мест»
своей Родины, нерушимость национальных границ и государ-
ственных рубежей.
29
В-третьих, подъем национализма - это политика защиты на*
ционального родного языка. Раскручивание в обществе движений
за «родной язык и языковое возрождение», политика ограничений
на использование «неродного» языка, исключение его из школь-
ных программ, дискриминация граждан по языковому принципу -
все это способствует нагнетанию в обществе агрессивного нацио-
нализма, ведет к росту этнической преданности и к усилению
национальных чувств.
В-четвертых, рост национализма предполагает подключение
к этому процессу религии, церкви и духовенства. XXI век начался
всплеском религиозных национализмов, наполнением повседнев-
ной жизни современного общества религиозными верованиями
и настроениями. Одновременно заинтересованные слои общества
и политики нагнетают идеи об этнической избранности адептов
той или иной религии, мобилизуют их на основе единой веры для
реализации своих политических целей.
В-пятых, подъему национализма способствует переписывание
национальной истории. Принимая во внимание центральную
роль «истории» и историописания в формировании национали-
стических настроений, государство может в своих интересах «кор-
ректировать» историю, активно влиять на формирование нового
исторического сознания в обществе, на воспитание новых поколе-
ний с чувством преемственности национального развития в исто-
рии. Власти готовы создавать новые проекты «этноисторий», делая
всякий раз акцент на «золотых веках» в истории развития нации.
В-шестых, прилив национализма сопровождается пересмот-
ром национальных праздников, ритуалов, государственных сим-
волов и церемоний. С учетом центральной роли мифов об истоках
и происхождении нации, роль национальных праздников, памят-
ников и обрядов поминовения, особенно тех, в которых чтят паять
«великих усопших» и павших героев, - этот фактор стал приоб-
ретать особую весомость в националистической пропаганде.
В силу всех этих причин национализм как государственная иде-
ология и этническое явление объективно требует новых объясне-
ний и толкования тех сложных проблем, с которыми сталкивают-
ся многие государства в своей внутренней и внешней политике.
2. Японский национализм в контексте мировых
теорий национализма
Японские ученые никогда не разрабатывали собственной теории
национализма, поскольку в этом для них не было необходимости.
30
В японском языке нет даже специального термина «национа-
лизм». Как уже отмечалось, японское понимание этого явления
далеко отстоит от восприятия «национализма» и «националистов»
европейцами, которые преимущественно трактуют эти понятия
в негативном смысле слова. Однако в японском языке и то и другое
понятие имеют исключительно положительное значение, ибо на-
ционализм, государство и народность в сознании японцев неотде-
лимые субстанции. И обусловлено это тем решающим обстоятель-
ством, что национализм в Японии никогда не был абстрактной
теорией, он рассматривался властями страны и обществом как
крайне важная идеология и политическая практика.
Национализм как государственная идеология в Японии тра-
диционно политически обслуживал государство-нацию. Он по-
могал в истории развития японского этатизма отстаивать нацио-
нальный суверенитет над территорией и ее подданными, избегать
колонизации Японии со стороны Запада. В этих целях, опираясь
на националистическую идеологию, государство консолидирова-
ло нацию для ведения войн, как агрессивных, так и оборонитель-
ных, повышало уровень эксплуатации населения на добровольной
основе, увеличивало налогообложение и вообще эффективно
обеспечивало государственный контроль над обществом. Так было
в период управления Японией военным правительством сёгуната,
так было и после восстановления в результате революции Мэйдзи
в 1868 году императорской формы правления. Японские власти
исторически рассматривали национализм как важнейший поли-
тический инструмент консолидации общества для решения слож-
нейших задач модернизации страны и защиты национального
суверенитета.
Теоретическое осмысление национализма в Японии можно
проводить с позиций историков-регионоведов, неплохо осведом-
ленных об особенностях национального развития страны, но мож-
но - и с позиций ученых-социологов, не привязанных к истории
конкретных стран, но владеющих теориями национализма. Симби-
оз таких специалистов, на наш взгляд, в принципе позволяет шире
охватывать изучением такую многоаспектную и многофакторную
проблему, как японский национализм, который остается сложным
политическим и этническим явлением, несмотря на глобализиру-
ющийся мир и «мир без границ» XXI века. Национализм в Япо-
нии не только сохраняет многие свои традиционные черты, но и
динамично развивается, оставаясь чрезвычайно востребованным
инструментом управления обществом в руках правящей элиты.
Из наиболее известных направлений теоретической мысли о
природе национализма, а именно социокультурной теории Эрне-
31
ста Геллнера, соединяющей нацию и национализм с потребностями
выработки «высокой культуры» для нужд модернизации и про-
мышленного развития, социоэкономической теории Тома Нейрона
и Майкла Хэтчера, выводящей национализм из соображений
рациональной эксплуатации мировой экономики и социально-
экономических интересов индивидов, идеологической теории
Эли Кедури, а также Брюса Капферера и Марка Юргенсмайера,
которые рассматривали национализм как систему убеждений,
суррогата религий и связывали его зарождение и мощь с измене-
ниями в сфере идей и убеждений, нам представляется, что наи-
более применимой к Японии можно считать теорию, сфокусиро-
ванную на политической природе национализма, которая была
разработана такими признанными учеными-теоретиками, как
Чарльз Тилли, Энтони Гидденс, Майкл Манн и Джон Бройи. Эти
ученые в первую очередь рассматривали взаимоотношения нацио-
нализма с политическими интересами власти, элит и государства6*.
Формирование японского национализма укладывается в оп-
ределение, данное Энтони Гидденсом в его известной работе
«Государство-нация и насилие». В ней Гидденс подчеркивал, что
государство есть «территориально ограниченное национальное
образование, опирающееся на военную и полицейскую силу»,
а нация и национализм - есть его важнейшие отличительные чер-
ты. «Нация, по Гидденсу, есть общность, существующая на четко
ограниченной территории, которая подчиняется единой админи-
страции, рефлексивно контролируется государственным аппара-
том»7*. Гидденс определяет национализм как преимущественно
психологическое явление, как «приверженность индивидов к со-
вокупности символов и верований, придающих особое значение
чувству общности у представителей данного политического по-
рядка»8*. Прав Гидденс, когда подчеркивает, что национальное го-
сударство и национализм появляются только тогда, когда «столица»
государства начинает отправлять свои постоянные управленческие
функции. Именно за это на протяжении нескольких столетий в
XII-XIX веках в Японии боролись лидеры нескольких японских
сёгунатов. Они интуитивно руководствовались идеей, что нация
формируется только в ходе государственной централизации и ад-
министративной экспансии, так как государство есть «важнейшее
вместилище власти, обладающее национальными границами».
Национализм в Японии появился задолго до Нового времени,
и в этом отношении его возникновение и формирование выходят
за исторические рамки политических модернистов. Национализм
в Японии, по сути, стартовал одновременно со становлением
японского государства, в котором понятие «Родина» уже было
32
переплетено с мифами о божественном происхождении государ-
ства Ямато от Богини неба Аматэрасу Омиками, которая и явля-
лась «носителем» этих националистических идеалов9*. Национа-
лизм в Японии изначально выступал, с одной стороны, как особая
восприимчивость островной нации к своему суверенитету и неза-
висимости, а с другой, - как выражение особого пиетета к высшей
власти, к тому же, божественного происхождения, которая этот
суверенитет надежно защищала в истории государства. В этом, нам
представляется, и была историческая «рациональность выбора»
японцев, которым трудно было себя представить в роли колонии
Запада, зависимой и подконтрольной иностранному государству.
Поэтому национализм в Японии был изначально обречен
развиваться как «неизбежно государственный и политический»,
тогда как «культурному национализму», который по определению
всегда находится в подчиненном положении по отношению к
«политическому», в национальной истории Японии отводилось
второстепенное место. Последний мог бы занять лидирующее
положение в массовом сознании по отношению к «политическому
национализму» только в случае провала последнего, что, впрочем,
однажды имело место в истории страны, когда Япония потерпела
поражение во Второй мировой войне и была оккупирована вой-
сками США в 1945 году. Однако и в тех условиях в японском
обществе не находилось большого числа сторонников «культур-
ного, этнического национализма», так как он не обладал столь
необходимой «коллективной энергией», которой обладает только
«политический, государственный национализм», нацеленный на
то, чтобы отстаивать национальный суверенитет и независимость.
Национализм и нация оказались значимыми в истории Япо-
нии лишь постольку, поскольку они всегда были связаны с госу-
дарством. В Японии нация не обладала независимым концепту-
альным статусом вне своей связи с государством, всегда была
инкорпорирована в понятие государства и никогда не существо-
вала независимо от него. Японцы в своей истории отдавали жизни
не за абстрактную нацию как «сообщество незнакомцев», а за
весьма конкретное государство-нацию, с которым они ощущали
тесную психологическую связь, даже если они и не были знакомы
с большинством его представителей, ради которых они были
готовы идти на реальные жертвы.
Вместе с тем, национализм в Японии охватывал не только
одну идею политического сообщества или служил средством го-
сударственной власти, но всегда был тесно связан с культурным
сообществом, т.е. с народом - «миндзоку», проживающим на
своей исторической и духовной «родине»10*.
3-5584
33
Японская нация была сформирована государством в резуль-
тате его экономической и военной деятельности. Согласно Чарль-
зу Тилли, именно государство возникает раньше нации, тогда как
последняя является лишь простой конструкцией, зависящей от
государства по своей силе и значению, а потому никогда не бы-
вает самостоятельной11*. Государство в Японии возникло в резуль-
тате внутренних, гражданских войн, т.е. «войны создавали госу-
дарство в Японии», а уже потом оно само вело войны. Войны
и конфликты были двигателями процесса создания государства
в Японии и процесса формирования японской нации. Именно по-
этому впоследствии японский национализм расширял и углублял
роль войны как консолидирующее начало нации. Японские нацио-
налисты считали войну необходимой для выживания нации и куль-
турных ценностей, ее олицетворяемых. По мере роста промышлен-
ного производства и военных технологий массового уничтожения
с конца XIX и в первой половине XX века этот идеал способство-
вал переходу Японии к участию в серии крупных международных
конфликтов. Такой переход сопровождался интернационализаци-
ей участия японского государства в системе международных от-
ношений и растущим его проникновением в повседневную жизнь
японцев от имени нации.
Роль перманентных войн и конфликтов, в которых участвова-
ла Япония и которые работали на укрепление японского нацио-
нализма, была действительно значимой. Майкл Манн писал по
этому поводу, что войны вообще обладают первостепенной важ-
ностью в процессе формирования национализма12). Так же как
Тилли и Гидденс, являясь убежденным модернистом, Манн утвер-
ждал, что военно-политические факторы играли важную роль в
становлении наций и национализма. И этому теоретическому
посылу мы находим достаточно подтверждений в японской исто-
рии, в которой на протяжении длительного периода XII-XIX веков
шел процесс консолидации нации и национализма именно под
руководством военной формы правления - бакуфу (полевая
ставка), а после революции Мэйдзи - императорского правления.
В эти периоды формировалось ядро «агрессивного японского на-
ционализма», число сторонников которого постепенно увеличи-
валось по мере роста милитаристского капиталистического госу-
дарства, социального расслоения в обществе, объективной не-
обходимости для правящей элиты внешних захватов рынков
сырья и рынков сбыта для сохранения власти и выживания нации
в условиях обострения борьбы между великими мировыми дер-
жавами за сферы влияния и контроля в системе международных
отношений.
34
Согласно политической теории национализма, в Японии госу-
дарство всегда довлело над жизнью своих подданных. Однако в от-
личие от национализма Европы в Японии его развитие никогда
не являлось составляющей широкого движения за демократию.
Именно этим, вероятно, и можно объяснить агрессивную природу
японского национализма. Национализм в Японии не развивался
как реакция на авторитарные, милитаризованные действия госу-
дарства, которое беспрепятственно вторгалось в семейную жизнь
японцев, в религию и систему образования, подчиняло их своим
интересам. Национализм в Японии формировался ее властями,
которые внушали народу, что его частные интересы и нацио-
нальные интересы государства есть одно целое. В результате
народ был приучен к тому, что он есть составная часть мили-
таризированного сообщества, которое защищает его интересы,
но взамен оно рассчитывает получить лояльность и исполнение
гражданами долга перед нацией.
Рассматривая национализм в Японии с позиций интересов
государства как продукт гармонических, а не конфликтных отно-
шений, следует обратить внимание на то, что японские национа-
листы всегда поддерживали государство в вопросе расширения
национальных границ. Более того, для них было нормальным
и даже «естественным» решение проблемы расширения нацио-
нальных границ с использованием силы13*. Если, например, обра-
титься к попыткам Японии уже в XXI веке вернуть российские
территории в районе Южных Курил, то нельзя не заметить, что
националисты апеллируют при этом к чувству «родины», к воз-
вращению исконных, а потому священных японских территорий,
а не просто ведут речь о восстановлении границ между двумя
государствами, нарушенных в результате Второй мировой войны.
Японские власти способны тонко манипулировать чувствами
японцев - эмоциональными и политическими - к своей земле,
истории и территории, превращая их в главную движущую силу
национальной мобилизации и последующих притязаний на пра-
вовой статус «исконных» японских земель. Поэтому с такой ма-
ниакальной настойчивостью власти Японии продолжают после-
довательно «бомбардировать» российское руководство, требуя во
что бы то ни стало вернуть Японии ее «исконные территории»
Южных Курил, спекулируя на националистических чувствах
японцев, ими же подогретых.
Работая на государственные интересы, японские националисты
не устают подчеркивать «уникальность» японской нации и япон-
ской национальной культуры. В этих целях в Японии в 1970-е годы
была даже разработана специальная националистическая «тео-
35
рия» - Нихондзинрон (доел. - теория японцев). Следует подчерк-
нуть, что националистическая «теория» об исключительности
японской нации разделяется и принимается подавляющим боль-
шинством японского общества. Японцам приятно видеть и осоз-
навать, когда иностранцы отдают дань уважения особому харак-
теру японской культуры, национальным традициям, японской
кухне, высокому эстетическому уровню, японской морали, архи-
тектуре и т.п. При этом никто из японских националистов не
говорит о том, что японский национализм не раз в истории являл-
ся в форме агрессивного национализма и даже фашизма. Не го-
ворят японские националисты и о том, что государство не раз
в своей истории не выполняло собственные обещания, данные
нации, и тем самым подрывало концепцию «горизонтальности
нации», равных возможностей и равной ответственности лидеров
перед своим народом, заменяя ее концепцией «вертикальной
нации», когда народ становится лишь послушным исполнителем
воли государства.
Исторический опыт развития японского национализма под-
тверждает теорию о его рукотворном, государственном происхож-
дении, свидетельствует о том, что главной целью японского на-
ционализма всегда являлось укрепление государства. При этом
националистическая идея как политическая доктрина держалась
в Японии на трех опорах: во-первых, на том, что японская нация
обладает ярко выраженной уникальностью и особым характером,
во-вторых, на том, что интересы и ценности японской нации обла-
дают приоритетом перед всеми остальными интересами и ценностя-
ми, и, в-третьих, на том, что японская нация должна быть незави-
симой, насколько это возможно на данный исторический момент.
В истории Японии национализм как форма политики иногда
выступал в форме оппозиции существующему правящему режи-
му. Так было накануне реставрации императорской модели прав-
ления, которая должна была заменить слабеющий режим военно-
го правления сёгуната Токугава в середине XIX века. Тогда ради
своего спасения во власти сёгунат пошел на политическое преда-
тельство государственных интересов и установил коллаборацио-
нистские отношения с великими державами Европы и США,
прося их поддержки своему режиму. Мобилизация оппозицион-
ных политических сил трех мятежных провинций южной Японии
с использованием националистических лозунгов «сонно дзёи» -
«восстановим власть императора, изгоним варваров» была пред-
назначена только для того, чтобы покончить с существующим
режимом сёгуната, реформировать его в националистическом на-
правлении, укрепить независимость и суверенитет. Однако до-
36
бившись своих целей и свергнув « предательский» режим бакуфу,
новое императорское правительство Мэйдзи, пришедшее к вла-
сти на националистических лозунгах, развернулось в своей поли-
тике на 180 градусов и само пошло на существенные уступки
Западу, рассчитывая, в свою очередь, на его экономическую и
силовую поддержку.
На наш взгляд, японский национализм вполне укладывается
в типологию, предложенную Джоном Бройи. Последний выделя-
ет несколько типов национализма в зависимости от того, за что
каждый из них выступает и что поддерживает: национализм ради
национального объединения; национализм ради проведения ре-
форм; национализм, предполагающий готовность идти на времен-
ные уступки более сильным и могущественным государствам
ради последующего укрепления национальной военной и эконо-
мической мощи14). Подъем националистических настроений, как
мы это видели на примере мобилизации политических и военных
сил трех южных провинций Японии накануне реставрации импе-
раторской власти в 1868 году, был способен заменить одну систему
власти на другую, объединить различные социальные группы
и обеспечить общую основу их разрозненных социальных инте-
ресов. Японским националистам удалось тогда объединить в об-
щем реформаторском порыве средних чиновников, часть недо-
вольного внутренней и особенно внешней политикой сёгуната
самурайского сословия, лиц свободных профессий, торговцев
и интеллектуалов. В националистическом протестном движении
в последние годы правления сёгуната Токугава участвовали кре-
стьяне и рабочие, но их солидарность не носила классового харак-
тера, а была продиктована надеждами на императорскую власть,
которая должна принести им облегчение в труде и улучшить их
материальное положение. Однако в Японии национализм рабо-
чего класса и крестьянства никогда не был оппозиционным госу-
дарству. Напротив, мобилизованные в армию японские рабочие
и крестьяне становились образцом выполнения воинского долга,
служения императору и нации.
Теория японского национализма определяет важную роль
интеллигенции в его становлении и развитии. Интеллигенция
в Японии по большей своей части традиционно испытывала кон-
формистские чувства по отношению к государству и нередко
соглашательски воспринимала внутреннюю и внешнюю полити-
ку властей, его националистическую идеологию. Справедливыми
в отношении японской интеллигенции представляются слова
Джона Бройи о том, что «дискурсивные навыки, статусные инте-
ресы и профессиональные потребности лиц свободных профес-
37
сии делают их решительными сторонниками дела национализ-
ма»15). Интеллигенция Японии предпочитала всегда оставаться
политкорректной в отношении государства и проводимой им
внутренней и внешней политики, подчиняться вводимым ограни-
чениям и действовать в рамках существующих в данный момент
политических режимов.
Поэтому особое значение националисты Японии всегда при-
давали включению в свои ряды образованной интеллигенции, лиц
свободных профессий, способствующих развитию и сплочению
националистического движения как политического. В первую
очередь в Японии обращали внимание на вовлечение школьных
учителей и преподавателей вузов в националистические движения.
Эта категория лиц умственного труда ставит категорию «нация»
на первое место и придает ей соответствующее политическое зна-
чение. Именно их воображение и разум передают с помощью об-
разов и символов очертания и эмоциональное содержание нации,
придают национализму его мобилизующую привлекательность
и направленность. Идеология и символика национализма, озву-
ченные устами интеллигенции, всегда весьма значимы в полити-
ческом смысле слова16*.
Японские теоретики национализма по-своему объясняют при-
чины подъема современного японского национализма на рубеже
XX-XXI вв. Они обращают внимание на углубляющийся разрыв
между «государством» и «обществом» в Японии в условиях си-
стемного кризиса мирового капитализма. В этих условиях востре-
бованность националистической идеологии в обществе действитель-
но возрастает. Джон Бройи подчеркивает, что именно возникновение
проблем раскола в отношениях между государством и обществом
порождает национализм, поскольку он становится политической
попыткой решения и этой сложной проблемы. Единственной
заботой националистов от государственного управления стано-
вится восстановление гармонических отношений между властью
и обществом17*. Националистическая идеология в Японии, с од-
ной стороны, удовлетворяет духовные потребности общества,
напоминая ему об «исключительности японской нации», а с дру-
гой, - оказывает поддержку правящей элите по консолидации
общества. Националисты при этом как бы возвращают общество
к его естественному состоянию, акцентируя внимание граждан на
восприятии национальной культуры и национальной уникально-
сти через призму уникальности того государства, в котором они
проживают и которому они всем обязаны. Другими словами, за-
дача японских националистов в условиях системного кризиса
капитализма заключается в наведении мостов между этнической
38
уникальностью нации и ее политической уникальностью, а прак-
тической целью национализма в данном случае становится гармо-
низация общества, воспитание чувства ответственности перед
нацией как у рядовых ее граждан, так и у правящих элит.
Японские националисты эффективно справляются с этой за-
дачей. Они воссоединяют общество и государство, активно про-
пагандируют идеи «уникальности» японской нации не только
в рамках собственного государства, но и в сравнении с другими
нациями. Националисты Японии незаметно «перескакивают»
от культуры к политике, подменяют культурную самобытность
японской нации политической нацией граждан. Своей пропаган-
дой они стремятся восстановить славное прошлое нации, которое
благодаря усилиям государства успешно преобразовано в свет-
лое настоящее и оптимистическое будущее. Как подчеркивал
Джон Бройи, и что справедливо в отношении национализма в
Японии, - национализм есть «форма политики, которая может
быть понятна лишь по отношению к тому, как развивалось госу-
дарство» *8).
При этом культурная идентичность японской нации становит-
ся основой ее политической мобилизации. Именно поэтому япон-
ские националисты так бережно охраняют культурную, этниче-
скую идентичность японцев, заботятся об уникальном культурном
наследии нации и «индивидуальности» каждого отдельно взятого
японца.
Японские националисты опираются в своей националистиче-
ской пропаганде на религиозные, расовые и лингвистические осо-
бенности нации, однако они никогда не отрицают первичность
роли государства. Национализм - это форма политики, но при
этом это и форма культуры, основанная на уникальном истори-
ческом опыте развития нации, которая поддерживает его дух,
внутреннюю энергию и динамику развития, создает основу для
представлений последующих поколений об их общей судьбе с
жившими до них предками. Поэтому японские националисты пред-
лагают сценарии «выживания нации» в XXI веке, используя в том
числе религиозную, расовую и лингвистическую идеологию и тра-
диции, но никогда не забывая при этом о политических задачах
развития государства.
Исконность национальной территории имеет для теоретиков
японского национализма особое значение. Она выступает в каче-
стве необходимой арены и формата государственной власти. Стрем-
ление непременно контролировать «свои исконные земли» -
весьма характерная черта японского национализма; это «земли
предков», исторические земли, а потому они столь желанны из-
39
за своей символической ценности, из-за своего политического
значения или экономических ресурсов, принадлежащих японской
нации. Бройи, например, считает государство силой, которая долж-
на формировать привязанность граждан к национальной терри-
тории, любовь к символам, образам и понятиям национализма.
В конечном счете, по Бройи, чтобы превратить «территорию» в
«Родину», необходимы образы и националистическая символика,
которую и закладывает в массовое сознание государство19*.
Японская нация и японский национализм были созданы силь-
ным государством, сформировавшимся на основе единых куль-
турных ценностей, которые существовали с далекой древности.
Японское государство в своей истории было движущей силой
процесса объединения разбросанных и слабоуправляемых из
единого центра провинций. Центр нуждался в налоговых поступ-
лениях, он участвовал во внутренних объединительных граждан-
ских войнах, организовывал защиту японских островов от внеш-
ней агрессии, сам пытался осуществлять агрессию на материк.
Но всегда при этом государство в Японии извлекало пользу из
единства нации, которая поддерживала его власть и обеспечивала
материальную сторону ее существования. Последнее было особен-
но заметно в периоды попыток внешних сил завоевать Японию
(завоевательные походы Хубилай-хана на Японию в XIII веке и
коллективное национальное сопротивление внешним захватчи-
кам в период изоляции страны 1639-1868 гг.). Это значит, что
в Японии государство всегда развивалось pari passu (наравне)
с нацией, потому что у основного населения, которое поддержи-
вало государство и населяло основную историческую его терри-
торию, уже имелись единые мифы, воспоминания и символы,
формирующие национальное самосознание. И даже если в отда-
ленном прошлом население Японии происходило из двух основ-
ных этнических источников - с севера Японию заселяли племена
айну, а с юга - племена хаято, то в последующие исторические
периоды обстоятельства их совместного проживания сплачивали
эти разные народы, у них появлялось чувство культурной общно-
сти, которое, в свою очередь, создавало основу государственной
власти и государственных институтов управления. Жители Япо-
нии использовали общий язык для отправления функций управ-
ления, для исполнения религиозных обрядов как заимствованно-
го из Китая буддизма, так и национального синтоизма. И даже
в период активного проникновения христианства в Японию в пе-
риод XVI - начала XVII в. мессы в католических костёлах также
проводились на японском языке, общем языке государства и
общества.
40
Таким образом, государственный и культурный национализм
в Японии исторически развивались рука об руку. Этничность
и язык никогда в Японии не были альтернативной основой для
мобилизации общества против государства и правящих элит.
Модернизация Японии также не стимулировала этнические оп-
позиционные движения в стране, как это имело место в империях
Европы (реформы Иосифа II в Габсбургской империи ) или Азии
(реформы танзимата - в Османской империи). Напротив, в Япо-
нии националисты традиционно обращались к народной культуре
и общему национальному прошлому как к единственному факто-
ру, который только и был способен объединить нацию и побудить
ее к совместным действиям. Японские власти никогда не ограни-
чивали себя в эксплуатации исторического культурного наследия
для удовлетворения своих текущих политических потребностей
и интересов. Они возвращались к этому не раз в ходе подготовки
внешних агрессий в Китай в 1894-1895 гг. и в 1937-1945 гг.,
в Корею - в 1910-1945 гг., в царскую Россию - в 1904-1905 гг.,
в СССР - с конца 1930-х годов и в годы Второй мировой войны.
Для правящей элиты Японии это было наиболее распространен-
ным и надежным методом мобилизации нации на борьбу с ее
врагами.
Идеология японского национализма всегда использовалась
государством для мобилизации населения и легитимации своей
агрессивной внешней политики. Власти страны действовали на
ограниченном территориальном пространстве Японских остро-
вов, что, безусловно, облегчало задачи по сплочению общества на
идеологической националистической основе, поскольку японская
нация всегда оставалась пространственно ограниченной катего-
рией20*. Государство и нация в Японии в своей истории отделя-
лись от других государств и наций признанными и постоянно
охраняемыми границами, которые четко обозначали рамки их
юрисдикции и которые одновременно охранялись не столько
даже многочисленной армией пограничников, сколько созданием
легальных барьеров, препятствующих проникновению на тер-
риторию Японских островов иностранцев. Так было в период
«закрытия» и изоляции страны от внешних сношений в период
Токугава, так во многом остается и по сей день - натурализовать-
ся в Японии иностранцам достаточно проблематично, и это отно-
сится не только к гражданам «враждебных государств», но также
и к представителям «дружественных» стран.
Роль государства как центрального элемента националисти-
ческой идеологии в Японии особенно значима. Японцы убежде-
ны, что именно государство защищает нацию и национальную
41
культуру. Государство в Японии оказалось способным даже в на-
иболее неблагоприятные для этого исторические периоды после-
военной американской оккупации (1945-1951 гг.) сохранить
культурную идентичность нации, ее коллективную память и оте-
чество, этническое прошлое и национальное единство. Оно это
сделало вопреки американской политике разрушения традицион-
ного государственного и культурного японского национализма
после Второй мировой войны. Власти Японии отстояли нацио-
нальную и государственную независимость, умело сопротивля-
ясь американской политике демонтажа всего национального,
начиная от искоренения японского национализма, его духовной
основы - синтоизма, системы довоенного образования и кончая
военно-промышленными корпорациями дзайбацу.
Американская оккупация не смогла разрушить фундамент
японского национализма по одной простой причине - государ-
ство в Японии всегда серьезно относилось к сохранению этниче-
ских истоков нации. Они традиционно служили неотъемлемой
составляющей националистической японской идеологии. Куль-
турная история в Японии являлась прочной основой притягатель-
ности и успеха японского национализма в прошлом и настоящем.
Задача исследователей, работающих в области теории и прак-
тики современного национализма, в конечном счете, состоит в том,
чтобы дать ответ на вопрос: какое воздействие национальные
и этнические явления способны оказать не только на состояние
общественной жизни в той или иной стране, но также на между-
народную практику и стабильность в мире? Эти знания особенно
важны применительно к государствам, которые своей историей
уже показали способность использовать национализм в попытках
получить односторонние стратегические, экономические и поли-
тические преимущества в системе международных отношений за
счет ущемления интересов других стран и их разрушения. В зна-
чительной мере это относится и к Японии, поведение которой
в мире с конца XIX вплоть до середины XX века представляло
собой значительную опасность для региональной безопасности
и стабильности, влияло на нарушение глобального баланса сил.
Разумеется, теоретическое осмысление феномена японского
национализма не исключает использования грубых моделей 1950-
1960-х годов, которые преимущественно фокусировали внимание
на идеологии национализма per se, на строительстве националь-
ного государства в Японии по модели «кокутай», ибо в тех или
иных латентных формах эти модели работают и сегодня. Однако
по прошествии нескольких десятилетий уже в начале XXI века
японский национализм испытывает на себе заметное влияние
42
ряда новых факторов, которые стимулируют и нацию и государ-
ство на активизацию националистических движений и национа-
листической мысли в Японии. К ним в первую очередь относится
распространение глобализации, массовой американской культу-
ры, подъем националистического движения в мире после «холод-
ной войны», переписывание истории, модификация и адаптация
исторических символов, мифов и исторической памяти в полити-
ческой практике государства, стимулирующих и активизирую-
щих националистические движения и националистическую мысль
в Японии.
Идеологи современного национализма в Японии в новых
исторических условиях делают больший акцент на «приморди-
альные», т.е. исконно присущие нации и укоренившиеся в общем
культурном наследии и языке атрибуты этого феномена. К ним
в первую очередь относится восстановление сильного чувства
коллективной принадлежности к уникальной японской нации, ак-
цент на отношения кровного родства всех японцев, их готовность
к самопожертвованию. При этом государство усиливает пропа-
ганду тесной взаимосвязи между этническими особенностями
японской нации, с одной стороны, и принципиальным подходом
к защите исконных границ национальной территории, предпола-
гающим идти до конца в решении спорных территориальных
проблем со своими соседями по региону, - с другой.
Японские националисты переосмысливают развитие японской
нации с точки зрения процессов long duree, т.е. долговременности
ее исторического развития, отличавшегося непрерывностью во
времени и в пространстве. Согласно теории перенниализма, япон-
ские националисты выводят историю развития японской нации
из фундаментальных этнических корней, а не из процессов ее
модернизации. Поэтому столь большое значение придается рас-
пространению в массовом сознании японцев мифов о происхож-
дении японской нации, о националистической символике, о цен-
ностях и националистических привязанностях японцев, начиная
с рассказов об этом в детских садах и заканчивая популяризацией
этих сюжетов в телевизионных программах и в многочисленных
популярных у японского массового читателя комиксах - манга.
Японские власти искусственно, но последовательно выковывают
субъективное историческое измерение японской нации и япон-
ского национализма.
Решая задачи в области националистической пропаганды в со-
временных условиях, государство в Японии использует истори-
ческую память о войне, но не о той войне, которую страна про-
играла и военные преступники которой были осуждены между-
43
народным военным трибуналом, а о той, в которой национальные
герои Японии отдавали жизни за защиту суверенитета и незави-
симости своей Родины. Представляется, что в Японии еще долго
не наступит «постнациональный» порядок, о котором так много
пишут современные постмодернисты, убежденные в поглощении
национальной идентичности глобальной культурой в условиях
•наступления эры глобализации.
Тезис о готовности японцев еще долгое время сохранять свои
национальные корни, свою самобытность и избегать поглощения
«глобальной культурой» находит свою аргументацию в прошлой
истории страны. Во-первых, с ранних этапов организации госу-
дарства в Японии японцы демонстрировали чувство преданности
ему вначале на уровне своего даймё (сюзерена), а впоследствии -
на уровне сегуна или императора как главы «большой японской
семьи». Во-вторых, японцы умело защищали свою территорию
как на уровне общины, так и на уровне государства. Они оберегали
свои «святые места», связывая с ними представления о «Родине».
В-третьих, японцы оберегали свой язык и систему письма в раз-
личные периоды истории, включая и период американской окку-
пации страны после Второй мировой войны. В-четвертых, свой
национализм японцы традиционно наполняли религиозными
представлениями. Это в первую очередь относится не столько
даже к заимствованной религии буддизма, сколько к националь-
ной религии синто, которая в большей степени выражала этни-
ческую «избранность» японской нации. Именно синто поддержи-
вало в нации дух к сопротивлению любым внешним интрузиям
и посягательствам на национальный суверенитет. В-пятых, боль-
шую роль в сохранении национальной идентичности японцев
играла в прошлом, играет в настоящем и, вероятно, будет играть
в будущем историописание нации: знаменитые национальные
памятники Японии Кодзики, Нихон сёки, Сёку Нихонги, Дай
Нихон си, общее содержание которых хорошо известно каждому
японцу. Чувство общей истории нации, того, что называется
«этноисторией», пустило прочные корни в массовом сознании
японцев. Наконец, в-шестых, важную роль в поддержании япон-
ского национализма играют ритуалы и национальные церемонии.
В Японии поддержание национальных традиций, подготовка и про-
ведение красочных национальных праздников, всякого рода цере-
моний с использованием национальных символов и ритуалов —
все это является выражением коллективной идентичности и со-
лидарности нации в оценках национальной культуры и традиций.
Проведение национальных праздников опирается на централь-
ную роль мифов о национальных истоках и происхождении япон-
44
ской нации, о родовых памятниках и обрядах поминовения, в ходе
которых японцы особо чтят память «великих усопших» и героев,
павших за спасение Родины.
3. Японские ученые-теоретики
о японском национализме
Влиятельным и авторитетным японским ученым-теоретиком по
проблемам национализма считается профессор Токийского уни-
верситета Маруяма Macao (1914-1996). Маруяма разработал свое
понятие «японская нация» и выделил основные этапы развития
национализма в японской истории. Он изложил это в работе
«Логика и психология японского ультранационализма»2^ (Тёкок-
касюги-но ронри то синри), вышедшей в 1946 году, т.е. сразу после
окончания Второй мировой войны и капитуляции Японии. Ис-
следование Маруяма было переведено на английский язык и по-
лучило широкую известность на Западе. Правда, интерпретация
японского национализма по Маруяма способна, с нашей точки
зрения, несколько исказить его суть, особенно когда он пишет
о гиперинтенсивном национализме в Японии, «выходящем за
национальные рамки» и распространяющем свою идеологию
и влияние на другие государства. Многие европейские теоретики
национализма не согласились тогда с однобокой интерпретацией
национализма, особенно с его взглядами о природе японского на-
ционализма, посчитав, что он увидел в нем лишь «разрушительную
силу». Он также во всех своих произведениях делал вывод о том,
что в Японии ни в коем случае нельзя допускать восстановления
национализма ни в какой форме. Вместе с тем Маруяма никогда не
позиционировал себя убежденным критиком японского национа-
лизма, он его не осуждал в принципе. Он пытался лишь критически
оценить предвоенную и военную ситуацию в Японии, в которой
ультранационализм «правил бал». В своих же произведениях
Маруяма широко пропагандировал идеи своего уважаемого учи-
теля, японского просветителя Фукудзава Юкити, который, в свою
очередь, мечтал о завершении национального проекта «построе-
ния в Японии демократического здорового национализма»22^
Итак, какой смысл вкладывал Маруяма в ключевые теорети-
ческие понятия «национализм» и «нация»? В 1944 году, накануне
своей отправки в императорскую армию, Маруяма разработал
теорию японского национализма, проследив его развитие от пе-
риода реставрации Мэйдзи до середины XX века, т.е. на этапе
модернизации, демократизации и японского государственного
45
национализма23*. Маруяма заимствовал у известного немецкого
историка, противника нацистской идеологии Фридриха Мейнеке
концептуальную идею о существовании двух подходов к понятию
«нация» - «нация как этническая категория» и «нация как поли-
тическая категория». Поэтому Маруяма старался использовать
в своих работах термины «кокумин» (нация, народ, этнос) и «ко-
куминсюги» (национализм), подчеркивая тем самым, что он вкла-
дывает в это понятие в первую очередь этническую и культурную
доминанту нации.
Маруяма Macao следующим образом аргументировал свой
подход. Он писал: «Японские националисты используют в своем
лексиконе термин «национализм» как «миндзокусюги», передавая
тем самым на японском языке его расовую суть. Но этот термин
также применим и к народам со статусом национальных мень-
шинств в других государствах, а также к колониальным народам,
отстаивающим свою независимость. Кроме того, люди одной и той
же расы могут быть разделены на группы в разных государствах-
нациях, где они могут образовать независимую нацию. В Японии
расовая гомогенность сохранялась с древнейших времен, не про-
воцируя никаких серьезных расовых (этнических) конфликтов,
и нет никакой нужды выпячивать расовые корни, настаивая на
употреблении термина «миндзокусюги». Более того, когда япон-
ские националисты употребляют термин «миндзокусюги», созда-
ется впечатление, что они используют этот термин исключитель-
но в отношении иностранных государств и народов. На самом
деле японцам более понятен термин «коккасюги» - государствен-
ность, который используется в японском языке как антоним поня-
тия «индивидуализм». Поэтому, чтобы избежать многих запутан-
ных нюансов при передаче понятия «национализм» на японском
языке, куда разумнее использовать термин «кокуминсюги»24).
Согласно Маруяма, история появления японского национа-
лизма относится к периоду Токугава, т.е. к моменту появления
в Японии первых культурных и интеллектуальных теорий разви-
тия общества. В период преобразований общественной и эконо-
мической жизни после революции Мэйдзи разработка теории
национализма развивалась под нарастающим влиянием идей
демократии. Национализм с периода Мэйдзи стал своего рода на-
деждой в японском обществе на установление подлинных демо-
кратических свобод в культурной и политической жизни в усло-
виях начавшейся модернизации. Однако в противовес этим
устремлениям новые власти гораздо большую опасность своим
интересам видели в отсутствии идеологии государственного на-
ционализма. Они опасались, что без его широкой пропаганды
46
в обществе может быть нарушена хрупкая стабильность, которая
сформировалась в новой Японии между зарождавшейся демокра-
тией и авторитарными институтами власти.
В довоенный и военный периоды Маруяма в большинстве
случаев в своих работах просто игнорировал употребление тер-
мина «миндзокусюги», отрицая расовую форму национализма
в Японии. Он предпочитал использовать исключительно понятия
«кокумин» и «кокуминсюги». Однако уже в послевоенное время
в условиях не только сохранения американского военного при-
сутствия в Японии, но и сильного американского влияния на
внутреннюю и внешнюю политику своей страны Маруяма от-
казался от своей прежней позиции жесткого критика теории
«миндзокусюги». Он стал больше размышлять на тему о том, что
фашизм и национал-социализм не означают исключительно тота-
литарное доминирование государства над умами и душами своих
граждан. Продолжая решительно осуждать иррациональный вклад
фашистской идеологии в культуру, он уже не выступал категорич-
но против усиления роли государства в идеологии и не отрицал
теории «миндзокусюги». Причины, которые способствовали из-
менениям взглядов Маруяма после окончания Второй мировой
войны, представляются очевидными: они вызваны новыми на-
строениями в японском обществе в связи с утратой Японией
своего суверенитета.
Видную роль в разработке теории японского национализма
сыграл японский историк Тояма Сигэки, выпускник Токийского
университета и профессор Йокогамского городского университе-
та. Для его трудов характерны попытки раскрыть влияние идео-
логии на политические события и даже на экономику страны.
В послевоенные годы он был одним из интеллектуальных лиде-
ров марксистской школы «этнического национализма», страст-
ным поклонником трудов И.В. Сталина о национализме25*. Он про-
пагандировал идеи этнического национализма «миндзокусюги»
и не боялся этого делать в условиях американской оккупации,
хотя США запрещали пропаганду любого национализма в Япо-
нии, объясняя это необходимостью борьбы с реваншистскими на-
строениями в японском обществе, идеологической базой которых
он мог стать. В 1951 году Тояма опубликовал в популярном жур-
нале «Тюо корон» статью «Борьба двух национализмов: исто-
рическое исследование», в которой он проводил главную мысль
о том, что в Японии никогда не было «одного национализма»,
а был один «прогрессивный национализм», а другой - «реак-
ционный» и они конкурировали друг с другом26*. Опираясь в своих
исследованиях на работы И. Сталина, Тояма расценивал «этни-
47
ческий национализм» как «народный», т.е. национализм «рабоче-
го класса», который всегда находился в оппозиции «национализ-
му угнетателей», т.е. национализму правящего класса.
Однако Тояма не просто адаптировал и перенес теорию нацио-
нализма И.Сталина на японскую почву. Он характеризовал япон-
ский реакционный национализм как «ультранационализм», под-
держивая, в частности, критические оценки Маруямы японского
государственного национализма довоенного и военного периодов.
Однако он не ограничивал временные рамки японского «ультра-
национализма» только предвоенными и военными годами, рассмат-
ривая его в более широком историческом контексте. Он осуждал
реакционный национализм и поддерживал этнический народный
национализм, оформленный в «Движение за народные права»
еще в конце XIX века. Тояма видел будущее Японии в расшире-
нии и активизации пропаганды этнического национализма (мин-
дзокусюги), но идущего снизу, от народных масс, а не насаждае-
мого сверху27*.
Весьма примечательным, с нашей точки зрения, было то, как
Тояма легитимизировал «этнический национализм», размывая
фактические границы разных национализмов, существовавших
в Японии. Если Маруяма был весьма аккуратен в признании раз-
ных видов национализмов в Японии, то Тояма разделял их весьма
поверхностно. Для него в первую очередь было важно, как власти
использовали ту или иную форму национализма и в каких целях.
Тояма, например, не делал различий между этническим национа-
лизмом - «миндзокусюги» и патриотизмом - «айкокусюги», меж-
ду государственным национализмом - «коккасюги» и народным
национализмом - «кокуминсюги». Тояма поступал с известной
долей хитрости, используя для всех видов национализма в Япо-
нии одно заимствованное английское слово Nationalism - «насёна-
ризуму». Это было «ноу-хау» японского историка. Обходя острые
углы в критических оценках разных национализмов в Японии,
Тояма тем самым облегчал свою исследовательскую задачу: он не
давал оценки использованию властями националистической иде-
ологии в политических и стратегических целях.
Но в то же время Тояма не соглашался с тем, что отсутствие
четких границ в определении разных видов национализма в Японии,
в частности «миндзокусюги» и «кокуминсюги», является его от-
казом признать тезис Маруяма Macao о том, что «этнический на-
ционализм» способствует развитию в обществе либеральной де-
мократии. Дело в том, что для Тояма существовало всего два
вида национализма - прогрессивный, т.е. «миндзокусюги», и ре-
акционный, хотя существование первого в Японии он никогда не
48
признавал в чистом виде28>. Вместе с тем, Тояма всегда рассмат-
ривал «этнический национализм» - миндзокусюги как важней-
ший элемент освободительной идеологии в мире. Тояма вошел
в историю исследований в области японского национализма как
ученый-теоретик, пытавшийся доказать важность существования
идеологии «этнического национализма» для развития нации.
В истории послевоенного японского национализма имели ме-
сто события, которые объединили правых и левых националистов
под одними знаменами. Такое событие произошло в 1960 году,
когда в Вашингтоне был подписан новый японо-американский
«договор безопасности». Официальное название договора -
«Японо-американский договор (о взаимном сотрудничестве и га-
рантии) безопасности» 1960 года, юридически оформивший дву-
сторонний военно-политический союз. Новый Договор был под-
писан вместо Японо-американского договора (о гарантии) без-
опасности 1951 года. Договор 1960 года сохранял за США право
создавать и использовать базы на территории Японии и разме-
щать на них неограниченное количество своих вооруженных сил.
Япония взяла тогда на себя обязательства гарантировать размеще-
ние базы, а также наращивать свой военный потенциал. Срок
действия договора устанавливался в 10 лет, по истечении которых
любая из сторон имела право заявить о своем намерении его де-
нонсировать. Однако и сегодня, в начале второго десятилетия
XXI века, Договор 1960 года не утратил своей силы. Необходимо
отметить, что Договор 1960 года, в отличие от Договора 1951 года,
не включал положения, допускавшие вмешательство вооружен-
ных сил США во внутренние дела Японии, но он запрещал япон-
ской стороне принимать самостоятельные и независимые реше-
ния о соглашениях по военным вопросам с третьими странами,
В 1960 году по всей Японии прокатилась мощная волна про-
тестов против Договора, в чем самое активное участие принимали
и правые, и левые японские националисты. Националисты Япо-
нии видели в заключении Договора прямое нарушение нацио-
нального суверенитета их страны29*. Японские историки получи-
ли богатый исторический материал для переосмысления теории
и практики национализма.
Профессор Токийского университета Ёсимото Такай проана-
лизировал по итогам массовых националистических выступлений
японской общественности в начале 1960-х годов требования пра-
вых и левых националистов, которые отличались сильными анти-
империалистическими, антиамериканскими настроениями. В сво-
их выводах Ёсимото пошел дальше Тояма, который делал акцент
на национальной идентичности японцев. Ёсимото попытался
4-5584
49
доказать, что националистические чувства японцев лежат далеко
за пределами осознанных ими абстрактных академических кате-
горий познания, но являются проявлением простых человеческих
настроений, выражением общественных эмоций. Если ученые,
утверждал он, надуманно создали такие теоретические категории
для обозначения понятия «народ», как «миндзоку» или «коку-
мин», то почему нельзя для тех же целей использовать японское
слово «тайсю», т.е. народные массы, или взять на вооружение
англоязычное понятие «насёнаризуму». В 1964 году он опубли-
ковал интересную работу о японском национализме, представля-
ющую собой историческое исследование, в котором попытался
убедительно показать, что «народный национализм» всегда нахо-
дился в Японии под «наблюдением» академических ученых и вла-
стей, которые использовали эти естественные народные движения
в своих интересах и целях. При этом власти никогда не позволя-
ли, чтобы националистические процессы в обществе выходили за
границы «дозволенного» и принимали стихийные проявления30*.
Есимото рассматривал национализм как народное и потому не
поддающееся четкому научному опредлению явление. И тем не
менее, как это ни покажется странным, японские ученые охотно
брали подходы Ёсимото за основу своих многочисленных тео-
ретических исследований по национализму. Многие японские ис-
торики были уверены в том, что национализм в Японии имеет
долгую историю, суть которой сводилась всегда к тому, что «народ,
выражая свои националистические чувства, хотел быть в центре
политической и культурной жизни нации, быть активным ее
элементом».
Научное наследие прошлого довлеет над японскими истори-
ками национализма и сегодня, когда они уклоняются от разработ-
ки четких, научно выверенных определений понятий «нация»,
«национализм» (до сих пор не очевидно, что японские ученые
понимают под национализмом - «миндзокусюги», или «кокумин-
сюги», или «коккасюги»). Современным японским исследовате-
лям теоретических проблем национализма в Японии куда проще
следовать оценкам Ёсимото Такай или Тояма Сигэки и использо-
вать английское понятие «насёнаризуму» для характеристики
этого явления. Они охотно также берут на вооружение выводы
о том, что массовое сознание японской нации всегда было объек-
том манипулирования властью и обслуживающей эту власть ин-
теллектуальной элитой.
Особое место среди японских теоретиков национализма зани-
мает Хасикава Бундзо. В 1968 году он опубликовал свою извест-
ную работу о японском национализме «Насёнаризуму», которая
50
была переиздана в 1994 году31*. В отличие от Тояма Сигэки, ко-
торый в своих исследованиях опирался на теории этнического на-
ционализма И. Сталина, Хасикава больше внимания в своих тру-
дах уделял теории национализма известных европейских ученых,
таких, например, как видного английского историка Эдварда Кар-
ра, автора 14-томной Истории Советского Союза, английского
профессора Эли Кэдури, автора фундаментальной работы о нацио-
нализме, и ряда других. Отталкиваясь от теорий национализма,
разработанных запаноевропейскими учеными, Хасикава доказы-
вал, что национализм - одна из сторон культурного ядра нации,
которое имеет тенденцию смещаться либо в сторону универса-
лизма, либо партикуляризма, и что такое смещение происходит
от специфических исторических условий развития каждой нации,
когда роль божественного учения в национальной идеологии
замещается более универсальной моралью. В этом смысле Хаси-
кава противопоставлял национализм патриотизму и доказывал,
что национализм - это «универсальное чувство, свойственное всем
расам и этническим сообществам. Оно не является новой идеей,
которая возникает в особые периоды национальной истории, как
патриотизм рождается во время войны. В мирное для нации вре-
мя вместо патриотизма всегда выступает обыкновенный нацио-
нализм»32*.
По сути, Хасикава делает различия между «чувством любви
к родине» и современным национализмом, который он ассоции-
рует с государством-нацией - «кокумин-кокка». Такой подход
побуждает Хасикава искать корни японского национализма в пе-
риоде Эдо, когда в обществе сосуществовали синтоистская и кон-
фуцианская системы ценностей. Хасикава утверждает, что государ-
ство-нация в Японии впервые стало оформляться после прихода
к берегам Японии «Черных кораблей» американского коммодора
Перри в 1854 году и когда японцы впервые ощутили реальную
угрозу утраты национальной независимости.
Важный вывод, к которому приходит Хасикава: государство
и продуцируемая им идеология национализма являются нераз-
дельным целым. Хасикава считает, что государство испортило
национализм, развратило его. В качестве доказательства своего
тезиса он воспользовался историческим романом Симадзаки
Тосон «Перед рассветом», в котором идет речь о сознательном
отторжении синтоистских священников от политической жизни
после революции Мэйдзи. Так же, как и Тояма и Ёсимото, Хаси-
кава видит фундаментальные основы японского национализма в
качестве «приводных ремней» государственной машины. Правда,
он нигде не говорит о том, что национализм как важнейший ин-
4*
51
струмент государственной политики может быть использован для
сглаживания в обществе классовых противоречий, или о том, что
интеллектуальная элита общества всегда эффективно используется
властью для удержания народных масс в повиновении.
Хасикава был на редкость настойчив в своих «требованиях»
концептуально не объединять в одно целое понятие «нация» -
«кокумин» и понятие «государство» - «кокка». Он также наста-
ивал на том, чтобы отличать национализм как «насёнаризуму»
от патриотизма как «айкокусин» или «сококуай». Для воззрений
Хасикава было также характерно и то, что он никогда в своих ра-
ботах не упоминал термин национализм как «миндзокусюги»,
т.е. в значении этнического национализма. Хасикава называет
«этнический национализм» иначе - «дзинсю тюсинтэки насёна-
ризуму», подчеркивая тем самым его «расовую» природу. Хаси-
кава ассоциировал «этнический национализм» прежде всего с по-
нятием «миндзоку» - т.е. с почвенническим чувством расовой
принадлежности к своей родине (миндзоку-но симэйкан)33). Ха-
сикава полностью разделял точку зрения Ёсимото на природу
«этнического национализма» - «миндзокусюги» как основу «по-
чвеннического национализма», так как «все народы любят свою
родину, где они родились». Правда, Хасикава старался дистанци-
роваться от такого рода упрощенческих конструкций.
Нечеткость логических выводов Хасикава делала его теорию
национализма внутренне весьма противоречивой. С одном сторо-
ны, в основе его теории национализма лежал «этнический нацио-
нализм», который, правда, он опасался называть «патриотизмом».
Его опасения были связаны с тем, что «государственный нацио-
нализм» - государство-нация - «кокумин кокка» также призыва-
ет нацию к патриотизму, который, однако, таковым, по мнению
Хасикава, не является. Он считал, что государственный национа-
лизм есть просто одна из форм угнетения нации. С другой сторо-
ны, разрабатывая свою теорию национализма, Хасикава опирался
на свой личный опыт участия во Второй мировой войне. Будучи
непосредственным участником боевых сражений в рядах импера-
торской армии, Хасикава не мог мириться с тяжелейшими усло-
виями эксплуатации государством своих подданных. Поэтому ему
было непросто принимать и разделять идею «любви к Родине»,
к государству - т.е. к «кокумин-кокка», поскольку на его глазах
государство нещадно эксплуатировало свой народ как на фронте,
так и в тылу в строго государственных интересах. В этих условиях
японцы не могли испытывать искренние чувства «патриотизма»
и любви к такому «нелюбимому» государству. Хасикава был скры-
тым противником эксплуатации «общей воли» народа политиче-
52
скими и социальными институтами государства. Он предлагал
набраться терпения и «ждать появления новых поколений», ко-
торые, возможно, изменят отношение государства к своему наро-
ду и народа - к своему государству34*.
Таким образом, из сказанного выше можно сделать, как мини-
мум, два вывода. Во-первых, в теоретическом плане проблема
национализма в Японии всегда исследовалась учеными под углом
зрения правильности подбора адекватных идеологических при-
емов и методов для того, чтобы убедить «народ» (кокумин, мин-
дзоку, тайсю) любить Родину. Ибо от того, насколько народ был
бы готов быть «убежденным» в этом, всегда зависело, как нацио-
нализм воспринимается обществом и насколько он будет эффек-
тивным орудием в руках властей для реализации ими конкретных
политических или экономических целей. Борьба за то, чтобы
«народ» вначале осознал свою самоидентификацию, а затем уже
был бы ключевым агентом реализации националистической иде-
ологии, не раз приводила к противопоставлению терминов и
концепций. Рядовым японцам всегда было непросто разобраться
в понимании проблемы народа-нации и нации-государства. Япон-
ские ученые - теоретики национализма были призваны облегчить
им понимание этой разницы.
Поэтому в основе всех теоретических дискуссий о японском
национализме всегда лежало стремление убедить японцев в том,
что их нация - одновременно категория исторически заданная,
но при этом японская нация - явление уникальное. А также в том,
что ее потенциал еще не раскрыт полностью, ибо на сегодняшний
день японцы не удовлетворены своим местом в мировой истории,
а их национальные амбиции еще полностью не раскрыты.
И, во-вторых, разработка теории национализма в Японии
наталкивается на проблему правильного определения грани меж-
ду понятиями «государство» - кокка и «нация» - кокумин или
миндзоку. Иными словами, если в европейской теории национа-
лизма устойчивой категорией всегда было понятие «государство-
нация», то в Японии эти категории были разведены в стороны.
Причем такой позиции в Японии придерживались и либеральные
теоретики, и марксисты, и ультраконсерваторы. Это имело место
даже тогда, когда настойчиво раздавались голоса в пользу объеди-
нения понятий «государство» и «нация» - кокумин-кокка, как,
например, это делали власти Японии в годы Второй мировой войны.
Начиная с периода Мэйдзи Япония ни конституционно, ни ин-
ституционально не была готова стать «государством-нацией».
Но, как только политические условия (окончание режима окку-
пации Японии после подписания мирного Сан-Францисского до-
53
говора в 1951 году) позволили японским властям стать на путь
укрепления национальной государственности, официальные кру-
ги столкнулись с этой проблемой - противостояния в обществе
«государства» и «нации». Это значит, что, с одной стороны, вла-
сти были крайне заинтересованы в восстановлении «государ-
ственного национализма» как национальной идеологии, а, с дру-
гой, - в обществе всегда сохранялась потребность к поддержанию
«этнического национализма», к сохранению культурных тради-
ций и т.п. И в этом был заложен смысл японского национализма,
конфликтного по своей внутренней природе. Он, прежде всего,
конфликтен внутри самого себя, ибо до сих пор не прекращаются
дебаты по поводу того, что есть японский национализм: имеет ли
он природу «этнического национализма» или это «государствен-
ный национализм» с высоким уровнем гражданской сознательно-
сти общества - сознательности гражданского общества - кокумин?
Между тем, национализм в Японии есть некая объективная
потребность японского социума существовать в упорядоченной
системе координат, соблюдая культурные традиции предков,
и встраивать себя в государственные институты, делегируя им
функции национальной защиты в самом широком смысле слова.
Поэтому так называемый теоретический конфликт между «этни-
ческим национализмом» - миндзокусюги и «государственным
национализмом» - кокуминсюги или коккасюги - скорее всего,
все-таки надуман представителями академических кругов, пыта-
ющихся выстраивать стройные теории национализма. В действи-
тельности же японская нация живет, особо не замечая разницы
в этих понятиях, а тем более, не видя конфликта между двумя
видами «национализмов», впрочем, оставляя немало поводов
японским теоретикам продолжать спор о важности их обоих.
Глава 2
ЯПОНСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ В НОВОЙ
И НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ
1. Особенности формирования государственного
национализма в период Мэйдзи
Японский национализм развивался в этот период преимуще-
ственно в форме государственного национализма. В своем разви-
тии он последовательно прошел три основные стадии: стадию
«оборонительного» национализма, стадию «постепенного приоб-
щения Японии к клубу мировых держав» и стадию «просвещен-
ного» национализма.
Государственный национализм оказался значимым явлением
в новой истории Японии лишь постольку, поскольку он всегда был
связан с государством, т.е. с достижениями и успехами государ-
ственной власти в управлении страной и обществом. В Японии
нация не обладала независимым концептуальным статусом вне
своей связи с государством. Она всегда была инкорпорирована в по-
нятие государства и никогда не существовала независимо от него.
Исторически сложилось так, что в XVI-XIX вв. политика экс-
пансионизма и войн, которые вели великие европейские держа-
вы, была основной чертой системы международных отношений.
Слабые, развивающиеся государства, к которым принадлежала
и Япония, мечтали лишь о том, чтобы сильные державы не ока-
зывали на них политического и силового давления. «Оборони-
тельный» вариант идеологии государственного национализма
рассматривал политику великих европейских держав как сугубо
враждебную по отношению к Японии, и его сторонники призы-
вали власти смотреть на эти страны как на потенциальных сопер-
ников Японии в экономической и стратегической областях.
Великий французский мыслитель и националист Жан-Жак
Руссо писал еще в середине 1760-х годов о том, что «в мировой
истории были «моменты тишины», когда нации еще не были объ-
единены в великие и сильные государства, а были внутренне разоб-
щены и потому - слабые. Мужчины воевали друг с другом только
тогда, когда они встречались друг с другом, но, к счастью чело-
55
вечества, они редко встречались. В воздухе висели локальные
войны, но мир в целом жил в покое и тишине»0. Руссо обращал
тогда внимание на то, что национальное мышление представите-
лей слабых наций, испытывавших страх перед сильными держа-
вами из-за неравенства в силовом потенциале, формировало «обо-
ронительный государственный национализм». Поэтому переход
в последующие столетия миропорядка к состоянию перманент-
ных войн сильно напугал малые страны и народы. Они выступали
за такие реформы системы международных отношений, в кото-
рых они могли бы рассчитывать на гарантии своей безопасности
от иностранного порабощения. Очевидно, что Руссо, как демо-
крат и вольнодумец, был на стороне слабых наций. Руссо призы-
вал слабые нации укреплять национальный дух сопротивления,
националистическое самосознание. Он отмечал с сожалением, что
единственная возможность для слабых наций сохранить нацио-
нальную идентичность - это научиться с выгодой для себя тор-
говать моральными принципами, исходя из объективной не-
обходимости делать выбор в пользу сохранения национального
суверенитета за счет уступок в понятиях о добре и зле2*. И дей-
ствительно, руководителям малых наций, включая и Японию,
приходилось платить высокую моральную цену за свое выжива-
ние во враждебном окружении. «Оборонительный национализм»
в Японии, таким образом, был продуктом своего рода вынужден-
ных уступок «слабого» по отношению к «сильному» в системе
международных отношений. Поэтому государственный национа-
лизм малых стран и народов всегда имел ярко выраженный кон-
центрированный, а не размытый характер, присущий национализ-
му великих, многонациональных государств.
Идеологию японского «оборонительного национализма», ко-
торая способствовала мобилизации нации на сопротивление ино-
странным захватчикам, в начале XIX века высоко оценивал немец-
кий философ Иоанн Готфрид Гердер. Он был учеником Иммануила
Канта и считал, что свободу и демократию через «открытие»
страны нельзя навязать, а тем более использовать для этого силу.
И то, что власти Японии, опираясь на японский государственный
национализм, достойным образом оказывали сопротивление внеш-
ним захватчикам, вызывало у Гердера восхищение, одобрение и под-
держку3*. Но если сам Иммануил Кант призывал малые нации
добровольно подчиняться международным законам, основанным
на «равной свободе» для всех народов и государств, то Гердер
отделял «цивилизованную политику» великих держав по отно-
шению к малым нациям от политики грубой военной силы и
политического давления, всякий раз напоминая о том, что между-
56
народное право и международные законы и без демонстрации
силы традиционно служили интересам великих держав. Гердер
писал, что «в мире, в котором правит сила, а не закон, единствен-
ным правильным решением для малых народов является укреп-
ление их национализма как единственного способа защитить свою
свободу и независимость от иностранного порабощения»4*.
Идеология «оборонительного национализма» была широко
распространена в Токугавской Японии (1600-1868 гг.). Сёгунат
Токугава постоянно работал над укреплением национального
оборонного потенциала, уделяя особое внимание повсеместному
распространению идеологии «оборонительного национализма».
Сёгунат воспринимал внешний мир как враждебный, пытающий-
ся навязать японцам свою систему ценностей, а потому - чрезвы-
чайно опасный. Сёгунат Токугава уже в XVIII веке организовал
в городе Мито центр по подготовке и обучению «идеологических
работников». Эта школа официально называлась «Конфуцианско-
националистическая школа ученых Митогаку по строительству
нации». Сёгунат испытывал большой страх перед внутренней
раздробленностью Японии, чем могли легко воспользоваться
внешние враждебные ей силы. Ученые школы Митогаку в своих
трудах доказывали, что процесс разрушения Японии может быть
остановлен только одним способом - путем создания сильной
и понятной всем японцам системы национальной самоидентифи-
кации как идеологии «оборонительного национализма». Лидеры
школы Мито рекомендовали сёгунату развернуться во внутренней
политике от примитивной «антизападной пропаганды» в сторону
формирования общенациональной идеи комбинированного со-
противления иностранцам на основе идеологии «оборонительно-
го национализма» и сильной, консолидированной нации5*.
Важную роль в формировании идеологии «оборонительного
национализма» сыграл ученый из школы Мито Айдзава Сэйсисай
(1781-1863). Американский японовед японского происхождения
Боб Тадаси Вакабаяси считал Айдзаву ярым националистом, шо-
винистом и ненавистником всего иностранного. Айдзава отстаивал
традиционную систему «бакуфу», сложившуюся в XVII веке6*.
Ученые, коллеги Айдзава по «Школе Мито» - Сакума Сёдзан
и Йосида Сёин, оставаясь националистами, тем не менее, не были
настроены столь антизападнически. Они считали, что интересам
Японии в первую очередь отвечает политика приспособления
к враждебному окружению при условии укрепления национально-
го оборонного потенциала и широкой пропаганды «оборонитель-
ного национализма»7*. В своей известной в Токугавской Японии
книге «Новые тезисы» (Синрон), опубликованной в 1825 году,
57
Айдзава подчеркивал: «Великие и сильные мировые державы
заняты разделом мира. Сегодня Япония ощущает себя чрезвычай-
но одинокой во враждебном мире. Японцы умеют хорошо защи-
щать один замок своего феодала, но по границам страны враги
построили много крепостей для вторжения на японские острова...
Такая ситуация угрожает нам сегодня. Мы должны приспособить-
ся к ней и оставаться готовыми в любой момент реагировать на ее
изменение. Мы должны построить адекватную национальную обо-
рону, мы должны научиться наносить по врагу превентивные уда-
ры, мы должны стать сильными националистами»8*.
Как видный идеолог «оборонительного национализма» Айд-
зава выделял несколько специфических изменений в экспансио-
нистской политике стран Запада в XIX веке, к которым Японии
следовало быть готовой. Он предупреждал сёгунат о целеустрем-
ленности европейских лидеров к внешним захватам, их после-
довательности в реализации поставленных экспансионистских,
захватнических целей, заинтересованности в захвате не столько
соседних территорий, сколько в колонизации земель, далеко от-
стоящих от их национальных границ, в использовании для этого
самой современной на тот исторический момент военной техники
и видов транспорта. Но самое опасное для интересов Японии,
по мнению Айдзава, было то, что великие державы Запада широ-
ко использовали для внешних захватов свое идеологическое ору-
жие в виде чуждой японцам христианской идеологии. Эта идео-
логия могла легко трансформировать обычных воинов, «устало
идущих по дорогам войны», лишенных координации и способно-
сти к мобилизации, в современные боевые воинские подразделе-
ния. Айдзава тогда не мог предвидеть потенциальную опасность,
исходящую для Японии от силового потенциала флота Россий-
ской или Британской империй, которые были способны силой за-
ставить сёгунат «открыть» Японию и использовать ее террито-
рию в своих стратегических интересах. Он, прежде всего, был
обеспокоен «политической проекцией» иностранной военной
силы на независимость Японии, когда, например, соседняя Рос-
сия или далекая Великобритания косвенными способами, т.е.
путем распространения своей идеологии через торговлю могли
бы повлиять на изменение традиционной японской системы цен-
ностей, ослабить самурайский дух к сопротивлению. Айдзава пре-
дупреждал сёгунат, что европейские державы способны без еди-
ного выстрела, распространяя среди японцев книги и европейскую
религию, переключить внимание целой нации на новые ценности
и постепенно вытравить из массового сознания традиционную япон-
скую культуру предков. Айдзава писал: «Когда они (европейцы)
58
захватят Японию, они будут еще активнее использовать свою
идеологию в целях разрушения массового сознания японцев. Они
будут расширять торговлю, они изучат особенности японской
территории и слабости ее обороны. И если они убедятся, что
Япония слаба в военном отношении, то они двинут свои войска
для захвата японских островов. Если же они придут к выводу, что
Япония сильна и может оказывать сопротивление, они будут
пропагандировать идеологию христианства для того, чтобы осла-
бить страну изнутри»9*.
В своем научном труде об основах «оборонительного нацио-
нализма» в Японии Айдзава доказывал: прошлый исторический
опыт как самой Японии, так и других азиатских стран убедитель-
но показал, что невинно звучащие, например, предложения евро-
пейцев торговать с Японией никогда не ограничивались только
коммерческими интересами. Европейцы в действительности были
в первую очередь заинтересованы в распространении среди япон-
цев разрушительной христианской идеологии, которая, по сути,
являлась идеологическим оружием, ослабляющим дух японцев
к сопротивлению. Айдзава тщательно исследовал особенности евро-
пейской колониальной политики, которая была нацелена на подчи-
нение и контроль возможно большего числа стран мира, на эксплу-
атацию их ресурсов и населения в интересах своего процветания.
Айдзава подчеркивал, что европейский экспансионизм был всегда
агрессивен по своей природе. Захватывая по очереди острова в
Тихом океане, европейцы все чаще взором обращались к Японии10).
Айдзава обращал внимание сёгуната на то, что изоляция Японии
как островного государства, игравшая решающую роль в ее обо-
роне в прошлом, в XIX веке уже не решала поставленных целей.
Вместе с тем, он не отрицал возможности и впредь использовать
в национальных интересах этот объективно благоприятный для обо-
роны фактор, но считал необходимым применять его в сочетании
с передовыми «оборонными технологиями» и, в частности, исполь-
зовать стратегию упреждающего удара по противнику11). Айдзава
имел в виду нанесение упреждающих ударов по территории царской
России и силовую оккупацию японской армией Курильских остро-
вов. Айдзава также рекомендовал сёгунату обратить внимание на
колонизацию, по примеру европейских стран, восточноазиатских
«варварских государств» с одной-единственной целью - отодви-
нуть национальные границы Японии на континент и там встре-
чать неприятеля, близко не подпуская его к Японским островам.
В рамках разработанной им и его соратниками по школе Мито
идеологии «оборонительного национализма» Айдзава оправды-
вал политику экспансии Японии на континенте «мессианской
59
ролью Японии» по отношению к варварам, а также необходимо-
стью спасти и уберечь народы Азии от порабощения их европей-
скими колонизаторами, стремящимися доминировать на всем
земном шаре12). Оправдывая в глазах сёгуната экспансионистские
притязания Японии на континент, Айдзава ссылался на старую
легенду о том, что японский путешественник, долго бороздя про-
сторы Тихого океана, приблизился, наконец, к огромной стране
к востоку от Японии на расстоянии трех тысяч миль и установил
на берегу флаг Японии, на котором он сделал надпись «Часть
Японии» - Нихонкоку. Айдзава комментировал эту легенду как
возможность японского открытия Америки13*. Однако в первой
половине XIX века сёгунат был еще не в состоянии оказывать
достойного сопротивления европейским странам у берегов Япо-
нии, не говоря уже о том, чтобы встречать армии европейцев на
территории Китая или Кореи. Все, что могли реально делать
власти бакуфу, это сохранять режим «закрытости» страны от ино-
странцев, распространять идеологию «оборонительного национа-
лизма», воспитывать японцев в духе преданности нации и нена-
висти к иностранцам.
Однако надвигающаяся опасность оказаться колонией Запа-
да, который в середине XIX века стал проявлять повышенный
интерес к Японии, побуждала сёгунат к переосмыслению своей
внешней политики, к приспособлению идеологии «оборонитель-
ного национализма» к новым историческим реалиям. Айдзава и его
ученики по школе Мито продолжали работать в этом направле-
нии. В центр разработанной Айдзавой системы преподавания
этнокультурных ценностей японской национальной традиции
была поставлена задача консолидации духовных ценностей япон-
ской нации. Это было необходимо, по мнению Айдзавы, для того
чтобы превратить территорию и проживающий на ней японский
этнос из простого населения в полноценную нацию - кокутай.
Айдзава предложил сёгунату не только активно пропагандиро-
вать национализм в кругах правящей элиты, но также распрост-
ранять его среди рядовых членов общества. Впрочем, задача по-
вышения уровня национализма и патриотизма среди населения
не была новой для феодальной Японии. Предшественники Айд-
завы также обращали внимание властей на необходимость рас-
пространения национальных мифов и религиозных доктрин как
важнейшего средства формирования чувства любви к Родине
и противодействия попыткам распространения влияния западно-
европейского христианства.
Однако предложения Айдзавы по идеологическому, патриоти-
ческому воспитанию японцев имели более отдаленный прицел -
60
укрепить обороноспособность Японии, прививая чувство любви
к родине у рядовых японцев. Айдзава предупреждал власти сёгу-
ната, что именно простой народ является, в первую очередь,
объектом идеологического воздействия европейских миссионе-
ров, которые всегда были готовы заполнить духовные, идеологи-
ческие пустоты христианской системой ценностей, так как япон-
ские проповедники этого не делали на протяжении многих веков.
Поэтому важная задача распространения идеологии «оборони-
тельного национализма», по мнению Айдзава, состояла для сёгу-
ната в том, чтобы воспитать у рядовых японцев отторжение за-
падной культуры и западной системы ценностей, предоставив
взамен сугубо японскую традиционную культуру, проникающую
в сердца простых граждан, которую каждый японец должен был
любить и гордиться ею. Айдзава призывал власти реанимировать
древние японские мифы и преобразовать их в национальную госу-
дарственную идеологию, чтобы опередить европейцев в обработке
массового сознания японцев европейской культурной традицией.
Айдзава не уставал повторять: «Если варвары выиграют борьбу за
умы и сердца японцев, они поработят Японию без единого выстрела.
Единственно правильный путь помешать им в этом - заполнить
массовое сознание мифами о Божественном происхождении
японского народа и на этой основе добиться духовного единения
всех японцев. Он подчеркивал, что японцы не были должным обра-
зом идеологически подготовлены к боевым столкновениям с арми-
ями европейских государств, к тому же хорошо вооруженными.
Более того, японцы в феодальной Японии были, как правило,
оторваны от знаний по внешней политике и были сосредоточены
в основном на местных интересах своих феодалов в междоусоб-
ной борьбе друг с другом. Их сознание было открыто для любого
внешнего воздействия, было «открытой книгой» (tabula rasa) для
впитывания любой иностранной идеологии. В этих условиях для
японских властей было самоубийственно рассчитывать только на
эффективность традиционной политики изоляции страны, когда
нация не знала о слабостях национальной обороны и была плохо
ориентирована в вопросах внешней политики14*. Сёгунат, по мне-
нию Айдзавы, должен был принимать неотложные меры к изме-
нению внутренней и внешней политики, насаждать национали-
стическую идеологию и приспосабливать нацию к проведению
новой внешней политики, более пригодной для новой системы
международных отношений, идеологически подготавливать на-
цию к возможной внешней агрессии.
Предложения Айдзавы по усилению националистической,
патриотической пропаганды в обществе произвели сильное впе-
61
чатление на бакуфу. Правящая феодальная элита постепенно
приходила к пониманию того, что для своего выживания ей не-
обходимо менять ориентиры внешней политики, опираясь при
этом на более широкие слои общества. Айдзава подчеркивал, что
«если эффективно управлять населением и патриотически его
образовывать, если, наконец, обратить внимание на повышение
уровня морали в обществе и воспитывать японцев в классических
традициях, если повышать уровень жизни и укрепить обороно-
способность, то Япония может получить шанс сохранить нацио-
нальную независимость и не стать колонией Запада даже в усло-
виях сближения с европейскими странами»15*.
Иными словами, по мнению Айдзавы, индоктринация япон-
ского общества идеологией «оборонительного национализма»
объективно была необходима для формирования государства-
нации (кокутай). Айдзава предупреждал, что наряду с подготовкой
нации к смене внешнеполитических приоритетов необходимо
также перестраивать традиционное мышление самих правящих
кругов на новое, адекватное восприятие внешнего давления на
Японию, которое будет иметь долгосрочный характер. Парадок-
сально, но только в конце XVIII века японские ученые из школы
Мито стали активно реанимировать традиционную этику в мас-
совом сознании, а правящим кругам рекомендовали вернуться
к постулатам китайской конфуцианской идеологии, в том числе
предлагавшим тезис о том, что «властители не смогут успешно
управлять, а государство не сможет процветать, если народ будет
оставаться невежественным и глупым и не любить своей Роди-
ны»16*. Айдзава первым стал призывать сёгунат перестать отно-
ситься к рядовым японцам как к «пушечному мясу», а начать
воспитывать в японцах патриотический дух, консолидирующий
и сплачивающий нацию17*.
Так же как и в Европе, идеологическая доктрина «оборонитель-
ного национализма» в Японии, которую инициировали Айдзава
и его сторонники из школы Мито, была этноцентрична и изна-
чально популистской. Айдзава сам был откровенным национали-
стом, но в то же время он оставался консерватором. Он понимал
важность сохранения в государстве и обществе жесткой вертика-
ли управления «сверху вниз». Поэтому среди его предложений
властям были рекомендации (может быть, сделанные впервые за
всю историю Японии) задуматься о важности формирования
японской нации как живого организма, в котором люди живут
своей жизнью, имеют свои потребности и простые человеческие
желания. Обеспечение этих условий силами и возможностями го-
сударства, широкая пропаганда деятельности государства в этих
62
областях могли оказывать только положительное воздействие на
укрепление националистических чувств и любви к Родине у ря-
довых японцев.
Наряду с усилиями властей феодальной Японии по пропаган-
де идеологии «оборонительного национализма» Айдзава со сво-
ими единомышленниками из школы Мито рекомендовал сёгуна-
ту также обратить внимание на постепенную обработку массового
сознания нации в рамках новой националистической идеологии,
а именно: «постепенного приобщения Японии к клубу мировых
держав». Данный формат националистической идеологии по мере
подготовки к внесению кардинальных изменений во внешне-
политической курс Японии в середине XIX века был призван
сгладить яростное отторжение и сопротивление японских нацио-
налистов, воспитанных в духе жесткого «оборонительного нацио-
нализма» и недоверия к Западу. Сёгунат отслеживал развитие
политической мысли на Западе с целью понимания основных
тенденций ее развития, изменений национальных интересов евро-
пейских стран и их национальной идеологии. С одной стороны,
бакуфу хотел заранее предвидеть и просчитать все негативные
последствия для Японии от возможного нападения на нее вели-
ких европейских держав и США, а с другой, - был заинтересован
в освоении европейского опыта по национальной обороне. Как
отмечает американский историк-японовед Исаак Крамник, в кру-
гах правящей элиты феодальной Японии уже в начале XIX века
была хорошо известна фундаментальная работа американских
авторов «Федералистские записки» 1787 года, в которых авторы
утверждали, что наступит день, когда экономически богатая и
сильная в военном отношении Америка обгонит Великобританию
и другие великие государства Европы. Она займет мировое лидер-
ство среди великих держав. Американцы будут презирать мысль
о том, чтобы стать послушным инструментом европейского могу-
щества. Они будут обучаться законам модернизации, покажут
Европе настоящие человеческие добродетели и сформируют ве-
ликую Американскую империю, которая будет контролировать
пространство Старого и Нового света,8>.
Власти феодальной Японии были знакомы также с трудами
европейских мыслителей по вопросам государственного строи-
тельства и укрепления обороноспособности, в частности с труда-
ми немецкого философа Гегеля. В 1798 году он сформулировал
свой вариант строительства государства-нации на примере фео-
дальной Германии. К этому его подвигла политика экспансиониз-
ма соседней Франции. Гегель выступил тогда за превращение Гер-
мании в сильное военное государство, готовое обороняться от
63
неприятеля не только силой оружия, но и идеологически обрабо-
танным населением19*. В своих трудах, которые японские власти
особенно внимательно изучали, великий немецкий философ от-
стаивал концепцию единства нации на основе укрепления тради-
ционных институтов, а также продвижения модернизации. Гегель
основательно разрабатывал основы идеологии немецкого национа-
лизма как фундамента строительства государства-нации. Он на-
стаивал на том, что у Германии должна быть самая сильная армия
в мире, а «борьба за независимость и суверенитет государства»
есть самая высокая обязанность и долг власти и гражданина, тогда
как вопросы сохранения собственности и даже личной жизни
немцев вторичны по отношению к сохранению независимости
Родины20).
Властям феодальной Японии импонировали националисти-
ческие взгляды американских и европейских мыслителей по воп-
росам строительства государства-нации и распространения нацио-
налистической идеологии. Из всех вариантов идеологических
доктрин модернизации Японии наибольшую популярность и ши-
рокое распространение в правящих кругах получила национали-
стическая доктрина «постепенного, осторожного вхождения Япо-
нии в клуб великих мировых держав», что в немалой степени было
стимулировано прибытием в 1853 году к берегам Японии амери-
канской военной эскадры под командованием коммодора М. Перри
и заключением годом позже под давлением американских пушек
неравноправного «Временного договора об американо-японской
дружбе». Это обстоятельство спровоцировало небывалый рост
националистических настроений в самых широких кругах япон-
ской общественности и властвующих элит.
Дискуссии в кругах японской правящей элиты относительно
построения современного государства-нации в Японии и форми-
рования нового национализма охватывали все более широкий
круг проблем, цетральное место среди которых, как подчеркивал
японский ученый из школы Мито Йосида Сёин, занимал вопрос
о «новом месте Японии в мире» и о готовности японской нации
выдержать борьбу с другими великими державами, отстояв при
этом свою независимость и суверенитет21). Другой японский уче-
ный из Митогаку Исида Итиро анализировал разительный разво-
рот в сознании правящей элиты от «традиционного патриотизма»
и «оборонительного национализма» периода Токугава и «закры-
тия» страны в направлении «нового патриотизма периода про-
свещения и осторожного сближения с Западом»22). Этот разворот
в сознании правящей феодальной элиты Японии был совершен
под давлением внешних обстоятельств и имел как позитивные,
64
так и негативные последствия для модернизации страны. Нега-
тивные последствия трансформации японского «оборонительно-
го национализма» в «просвещенный национализм» периода сбли-
жения с Западом в середине XIX века японские ученые видели
в «печальной необходимости» делать уступки агрессивному За-
паду. В этот исторический период Япония все еще оставалась сла-
бой страной, лидеры которой не видели для себя иного пути, кроме
как «учиться играть в мире по правилам великих европейских
держав». В противном случае Япония должна была бы испить чашу
национального позора и унижения до дна и стать, как и соседний
Китай, колонией Запада в Восточной Азии. Положительные сто-
роны трансформации консервативного «оборонительного нацио-
нализма» и враждебности к Западу в сторону сближения с ним
на основе идеологии «просвещенного национализма», что имело
место в середине XIX века, японские ученые видели в возможно-
сти эффективно использовать иностранные займы в целях пост-
роения современного государства-нации и модернизации промыш-
ленности. Более того, сторонники перехода к «просвещенному
национализму» исходили из того, что самым эффективным спо-
собом оказывать сопротивление экспансии западных стран по от-
ношению к Японии являлось построение современного, социаль-
но и экономически прогрессивного государства.
Либеральный мыслитель и националист Фукудзава Юкити
обстоятельно исследовал проблему соотношения положительных
и негативных сторон политики уступок Японии Западу в середи-
не XIX века. Он подвел под такую политику уступок определен-
ную идеологическую базу. Фукудзава писал, что Япония была не
в состоянии противостоять напору Запада в его экспансионист-
ской политике в Азии. Он ставил под сомнение вопрос о том,
а нужно ли было Японии вообще сдерживать этот напор, не ра-
зумнее ли для ее интересов «поплыть с Западом в той же лодке,
использовать тот же попутный ветер и начать наслаждаться пло-
дами цивилизации»? По мнению Фукудзава, минусы от полити-
ки уступок Западу оказались вполне сопоставимыми с плюсами
от нее. К тому же слабая Япония была на том этапе не в состоянии
повлиять на ход мировых событий, изменить их в свою пользу,
затормозить экспансию европейских стран и США в Восточную
Азию. «Мудрые люди, - писал Фукудзава, - не стали бы тратить
силы напрасно, они подчинились бы обстоятельствам, которые не
в состоянии изменить»23).
Идеи Фукудзавы Юкити совершили определенный переворот
в национальном самосознании по отношению к «оборонитель-
ному мышлению» Айдзавы Сэйсисай. Фукудзава обстоятельно
5-5584
65
разъяснял японским националистам, пропитанным идеологией
«оборонительного мышления», что, во-первых, амбиции запад-
ных стран по колонизации слабой Японии имеют свои ограничи-
тели, т.е. что «жадность» европейских стран - не беспредельна.
Она сдерживалась рамками политической мотивации по отноше-
нию к таким слабым странам, какой была феодальная Япония
периода Токугава. Европейские страны понимали страх японцев,
но. понимали также и национальные интересы Японии по отно-
шению к Западу, которые сводились к получению передовых по
тем временам западных инвестиций и военных технологий. Евро-
па сама хотела понять для себя, в чем был тайный политический
смысл японской националистической «оборонительной идеоло-
гии», ее политики «изоляции» от внешнего мира и что, наконец,
означал лозунг: «Вернем власть императору, изгоним варваров» -
«Сонно Дзёи». Лозунг был взят из «теории об абсолютной лояль-
ности к императору» - соннорон, разработанной еще в период
сёгуната Токугава ученым-историком Такэноути Сикибу (1712-
1767). Идея об изгнании варваров (европейцев и американцев)
была реакцией на неравноправные торговые договоры, навязан-
ные Японии после прибытия к ее берегам «чёрных кораблей»
коммодора Перри в 1853 году и ненавидимые по всей Японии.
200 с лишним лет изоляции Японии от внешнего мира привели
к тому, что появление на японской земле иностранцев выглядело
для японцев, как наступление конца света. Правительство сёгу-
ната, допустившее это, многими в Японии стало рассматриваться
как совершившее неслыханное предательство и, следовательно,
утратившее право на управление страной. Сторонники этих взгля-
дов вначале не имели какой-либо чёткой программы действий, за
исключением того, чтобы перебить предателей, свергнуть бакуфу
и по священной воле императора изгнать варваров-иностранцев,
чтобы все стало, как раньше, только лучше, или хотя бы спрово-
цировать конфликт между варварами и бакуфу. Лозунг использо-
вался в качестве боевого девиза во время восстаний в княжествах
Теею и Сацума. Императорский двор в Киото симпатизировал
этому движению. Группы ронинов, разделявших эти идеи, совер-
шали убийства сторонников сёгуната и иностранцев, в частности
они убили британского коммерсанта Чарльза Ричардсона. Его убий-
ство спровоцировало ответные действия Запада. Европейские
страны выдвинули требования огромных репараций и обстреля-
ли столицу княжества Сацума - Кагосима после того, как они их
не получили. Этот инцидент привел к политическому ослабле-
нию режима Токугава и способствовал образованию союза между
мятежными княжествами Сацума и Тёсю, что впоследствии при-
66
вело к реставрации власти императора. Одновременно это пока-
зало, что Япония слишком слаба, чтобы противостоять западной
военной мощи. После восстановления императорской власти в
1868 году лозунг был быстро «изъят из обращения» и забыт. Он был
заменён на другой - «создадим богатую страну и сильную армию»
(фукоку кёхэй). Этот лозунг активно воплощался новыми вла-
стями Японии в жизнь во время Мэйдзи, что привело к тому, что
всего через несколько десятилетий страна стала одной из круп-
нейших мировых держав24>.
И, во-вторых, силовой потенциал западных стран, многократ-
но превышающий японский, не ограничивался лишь превосход-
ством в военной технике или воинствующей религией католи-
цизма. Сила Запада состояла в духовном единении государства
и нации, которого японцы не имели, но которое должны были
приобрести в короткие исторические сроки. Айдзава, правда,
исходил из того, что «духовная сила европейцев» была заложена
в их религии, но более поздние японские идеологи рассматривали
уже иные идеологические категории мощи европейских стран,
а именно: их передовую по тем временам систему образования,
эффективное государственное управление, что сильно отличало
их от слабой Японии, равно как и от других стран Восточной Азии.
Более того, Фукудзава Юкити впервые для японской полити-
ческой элиты выдвинул предположение, что европейская сила
в своей основе лежит на крепком мобилизационном фундаменте,
когда государство способно в короткие исторические сроки моби-
лизовать потенциал нации на разные виды деятельности в эконо-
мической, технической, интеллектуальной и военной областях,
что гарантировало этим странам успех в их внешней активности.
Относительно высокий уровень благосостояния и образованно-
сти европейских наций были ключевыми факторами их силового
потенциала.
Эти принципиальные теоретические выводы Фукудзавы Юкити
о будущем развитии Японии стали основой политической практи-
ки видного государственного деятеля начального периода эпохи
Мэйдзи Ито Хиробуми25). По поводу идеологического обслужи-
вания модернизации Японии после реставрации императорской
власти он писал, что, «когда наш просвещенный император решил
проводить политику «открытых дверей», обнаружилась острей-
шая потребность в создании интеллектуального потенциала на-
ции, а также в активизации национального капитала и в создании
идеологии нового национализма. Прежний фундамент «оборони-
тельного национализма» должен быть разрушен, так как разру-
шилась феодальная система, его поддерживавшая. Необходимо
5*
67
создать новый национализм, позволяющий «любить императора
и Родину» в условиях открытости Японии для связей с внешним
миром. Это возможно сделать только при условии, если будет
создана новая политическая система, в которой каждый гражда-
нин имел бы свободу выбора. Свобода выбора, таким образом,
должна стать неотъемлемой чертой цивилизованного правления
в Японии, основой ее нового национализма. Если нация лишена
этих основных прав, она не может развиваться. Но если нация не
развивается, она не может обеспечить своим подданным благо-
состояние и защиту от внешних угроз. Развитие силового потен-
циала нации и продвижение ее вперед по пути обретения миро-
вого авторитета зависит от потенциала каждого отдельно взятого
гражданина. Поэтому для того, чтобы стать сильной в военном
отношении державой и обрести международный авторитет и ува-
жение, необходимо в первую очередь организовать в стране новую
систему образования и объяснить нации смысл преобразований
и реформ, которые проводят власти. Общество должно уважать
власть, а власть - уважительно относиться к интересам каждого
члена общества. Эти принципы и должны лечь в основу нового
японского национализма периода модернизации»26*. Пойти на
уступки Западу, по мнению Ито Хиробуми, не означало сдаваться
Западу, но присоединиться к Западу, к сожалению, на условиях
последнего.
Национальная идентичность японцев подвергалась серьезной
корректировке по мере формирования новой националистиче-
ской идеологии, столь необходимой властям для успешной реа-
лизации задач по модернизации страны. Правительство Мэйдзи
приняло решение поставить императора и императорскую систему
правления в центр новой национальной идентичности японцев,
новой идеологии государственного национализма. В преамбуле
Закона «Об Императорском доме», принятом И февраля 1889 г.,
было четко прописано, что «Императорский трон Японии, осеня-
емый милостью неба и существующий непрерывно в течение
многих веков в порядке прямого наследования, передан был нам
предшествующими властителями. Основные правила Нашей фа-
милии утверждены были раз навсегда в то время, когда предки
Наши закладывали основы Нашей империи. И поныне еще бле-
щут, яко светила небесные. Мы желаем ныне дать заветам Наших
предков более точное и ясное выражение и установить для Наше-
го потомства закон о фамилии, на коем Наш Дом да утвержден
будет в вечно длящейся крепости и достоинство его ограждено
навсегда»27*. Статья 1 Главы 1 «Император» Конституции Япон-
ской империи 1889 года гласила: Японская империя должна уп-
68
равляться, и над нею должна царствовать непрерывная во веки
веков линия императора28*.
Эклектическое сочетание рациональных и мифических, совре-
менных и прошлых элементов и понятий в Конституции 1889 года
было результатом влияния германской юридической школы и не-
мецких советников при правительстве Мэйдзи, которые принима-
ли участие в подготовке текста Конституции. Немецкая юридиче-
ская школа сама находилась под сильным влиянием авторитарной
и феодальной националистической идеологии, в значительной
мере восходящей к «государственному и этническому национа-
лизму», в отличие от либерального и гражданского национализма,
получившего распространение в Великобритании и в других ан-
глоговорящих странах. Япония относилась к странам с «запозда-
лым развитием» своей государственности, которая как современ-
ная держава сформировалась намного позже европейских стран
и США. Именно поэтому японский государственный национа-
лизм впитал в себя много авторитарных элементов, а немецкая
авторитарная идеология прижилась в правящих кругах Мэйдзий-
ской Японии.
Конечно, не следует упрощать или преувеличивать воздей-
ствие на Японию германского опыта государственного строи-
тельства по авторитарной модели. Дело в том, что еще в XVIII и
XIX вв. сама Германия в области государственного строительст-
ва заимствовала многие институты из Великобритании, так как
была достаточно отсталой в этой области европейской страной.
К середине XIX века, особенно после поражения Революции
1848-1849 гг., для германских политиков стало аксиомой, что
наиболее стабильными и процветающими являются именно те
государства, которые развиваются в истории как конституцион-
ные монархии, а не как республики с демократическими инсти-
тутами управления. Наиболее успешными государствами-нациями
были те, в которых уважались национальные традиции и основу
управления в которых составляли фамильные династии королей,
королев, исторических авторитетов. Например, в 1790 году член
партии вигов английского парламента Эдмунд Бёрк (Edmund
Burke), как идейный родоначальник британского консерватизма,
впервые предложил модель конституционной монархии, которая
впоследствии широко распространилась по европейским столи-
цам и дошла даже до Японии29*. Отвечая сторонникам строитель-
ства государства по модели «полная свобода действий - карт
бланш», которая была принята французскими революционерами,
Эдмунд Бёрк парировал, утверждая, что англичане намерены
сохранить все те управленческие формы, которые достались им
69
от отцов и дедов, и ничего не хотят ломать в том естественном
и отработанном механизме, который был сформирован веками.
Любые разрушительные действия, которые ведут к дерегулирова-
нию, будут рассматриваться как тяжелые преступления30*.
Идеализированная «английская школа» как антипод «фран-
цузской модели» с ее анархизмом и революционным атеизмом
оказала огромное влияние на государственное строительство во
многих странах. В Германии Гегель, например, восхищался иде-
альной Конституцией Эдмунда Бёрка и использовал некоторые
пассажи из его работ в своих сочинениях, посвященных «органи-
ческой» германской модели строительства государства-нации.
Немецкие советники при правительстве Мэйдзи также рекомен-
довали японцам взять за основу английскую парламентскую си-
стему и адаптировать ее к реалиям Японии, японским традициям
в условиях революции Мэйдзи. В Германии в 1871 году прусский
король Вильгельм провозгласил себя императором новой Герман-
ской империи («второго рейха»), а в Японии новая Япония начи-
налась с революции Мэйдзи в 1868 году31*.
Японские реформаторы периода Мэйдзи были заинтересова-
ны продемонстрировать миру, что Япония способна и готова всту-
пить в клуб великих современных держав Запада, но что Консти-
туция страны сохранит в своей основе японские классические
политические традиции и принятую в обществе патерналистскую
мифологию как основу государственного национализма. Ито
Хиробуми объяснял это исключительно прагматическими зада-
чами модернизации: в трудные переходные периоды любое госу-
дарство должно опираться на прочный фундамент национальных
традиций, которые консолидируют общество и не дают ему рас-
сыпаться32*.
В отличие от Японии развитие национализма в странах Евро-
пы всегда способствовало объединению представителей разных
классов (буржуазии и наемных работников, богатых и бедных)
в одну национальную общность, помогая строительству более или
менее сплоченного государства-нации. В Японии же национализм
не обладал таким мощным объединительным потенциалом. Таким
потенциалом обладал только один институт власти - это «Импе-
раторский дом», который всегда служил объединительным фун-
даментом японской нации, национальной идентичности японцев.
Поэтому, составляя первую Конституцию Японии, ее авторы
учитывали именно эту особенность японской цивилизации. Они
заложили и обосновали в Основном законе страны, что непрере-
каемым авторитетом в Японии является только Император как
наивысшая инстанция в государстве33*.
70
Японский государственный национализм (как «оборонитель-
ный», так и национализм постепенного приобщения к клубу миро-
вых держав» конца периода Токугава - начала периода Мэйдзи)
строился на знаниях рядовыми японцами генеалогии император-
ской системы в Японии, которая имела глубокие корни, хорошо
известные всей нации. Это важное обстоятельство закладывало
прочный фундамент идеологии «кокутай» на многие десятилетия
вперед. В отличие от Японии природа монархической власти в Ве-
ликобритании всегда была сокрыта от общества. Это обстоятель-
ство вызывало одобрение у части политиков Мэйдзийского пери-
ода, которые полагали, что и Японии также не следует открывать
обществу сакральный характер императорской власти, а надо
брать пример с английской модели34*.
Наряду с идеологией «оборонительного национализма», а так-
же националистической идеологией «постепенного приобщения
к клубу мировых держав» в начальный период Мэйдзи государ-
ственный национализм в Японии в процессе своей эволюции
прошел еще одну важную стадию - стадию «просвещенного на-
ционализма». Последняя предполагала особую форму националь-
ного самосознания великих мировых колониальных держав, к ко-
торой Япония последовательно стремилась после реставрации
Мэйдзи, пытаясь освободиться от неравноправных и унизитель-
ных для национального самосознания Ансэйских договоров, за-
ключенных сёгунатом Токугава в последний период его пребы-
вания у власти. Однако государство подключало идеологию
«просвещенного национализма» только по мере обретения наци-
ей силового потенциала, сопоставимого с мощью других великих
мировых держав.
Власти постмэйдзийской Японии сознавали, что на «просве-
щенное международное лидерство» может претендовать только
то государство, которое является моделью либерального государ-
ства с внутренней и внешней свободой действия. Государства
с либеральной идеологией национализма могут и должны сдержи-
вать политику милитаристских, социально отсталых или деспо-
тических государств-наций, которые провоцируют межстрановые
или международные конфликты. Классическим инструментом
вмешательства «просвещенных стран» в урегулирование меж-
страновых противоречий всегда рассматривалось использование
международной торговли, которая была призвана смягчать между-
народные противоречия, обладая гибким механизмом уступок
и разрешения споров экономическими или политическими мето-
дами. Использование торговли и мирная колонизация, подключе-
ние человеческих и материальных ресурсов слабых государств
71
через торговлю с ними могли бы способствовать улучшению ус-
ловий жизни населения как стран-метрополий, так и в известной
мере самих колоний. Оно также могло укреплять международную
безопасность и стабильность в системе международных отноше-
ний. С другой стороны, промышленно развитые передовые стра-
ны являлись примерами для слаборазвитых стран с точки зрения
успехов последних в промышленном, техническом развитии.
Однако их военная мощь закономерно вызывала у отсталых стран
не столько восторг, сколько серьезные опасения.
На формирование идеологии «просвещенного национализма»
в Японии в конце XIX века большое влияние оказали идеи изве-
стного английского мыслителя Джона Стюарта Милля (1806-
1873). Его работа «О свободе», опубликованная в 1856 году, была
переведена на японский язык уже в 1871 году. Это произведение
имело широкий резонанс в академических и политических кругах
мэйдзийской Японии в силу оправдания колониальных захватов
сильными державами слабых и разивающихся стран35*. Милль
различал государства, которые по своему уровню развития были
готовы к формированию представительных органов управления,
и отсталые общества, которые к этому готовы не были. К первым
Милль относил страны, способные стать колониальными держа-
вами «европейской расы», ко вторым английский мыслитель
относил отсталые страны, приводя в пример Индию и страны
с неевропейским, азиатским населением. Если слаборазвитые
страны управлялись напрямую или опосредованно европейской
страной, то Милль признавал это вполне законным, легитимным,
так как это облегчало отсталым народам приобщение к высокому
уровню развития цивилизации36*.
Такова была суть идеологии «просвещенного национализма»,
на который опиралась Великобритания в своей колониальной
политике и которую мечтали воспроизвести новые японские
власти после революции Мэйдзи. Ито Хиробуми в свое время
заявлял по этому поводу буквально следующее: «Внешнеполити-
ческая цель нашей страны после революции Мэйдзи заключается
в обретении среди других великих мировых держав статуса циви-
лизованной нации, члена содружества европейских стран и США,
которые являются великими мировыми державами. Присоеди-
ниться к такому содружеству для Японии означает стать одной
из них, однако для этого японцы должны взять на себя права
и ответственность, которые сопровождают такое членство. Всем
цивилизованным странам знакомо понятие «всеобщая справед-
ливость». Любой член содружества великих держав обязан со-
блюдать принципы «всеобщей справедливости». Однако в тра-
72
дициях великих стран Азии, и прежде всего Китая и Японии,
несмотря на уважение к ним со стороны других великих держав,
в первую очередь присутствует уважение к своим собственным
странам. Поэтому в рамках принципов «всеобщей справедливо-
сти», развивая отношения с другими великими державами, Япо-
ния хотела бы опираться также на принципы «всеобщего равен-
ства» в отношениях с ними, чтобы одни великие государства не
диктовали свои условия другим великим государствам»37*.
Некоторые американские ученые и политики рекомендовали
японцам скорее приступить к реализации экспансионистской
политики в Восточной Азии в целях «стабилизировать нестабиль-
ный Китай», а также укротить имперские амбиции царской Рос-
сии на Дальнем Востоке, равно как и Великобритании. Так, Тео-
дор Рузвельт в конце 1890-х годов рекомендовал новым властям
Японии «освоить американскую версию доктрины Монро». После
победы Японии в японо-китайской войне 1894-1895 гг. извест-
ный американский историк-ориенталист, приглашенный в Япо-
нию в качестве профессора Токийского императорского универ-
ситета в период 1870-1874 гг., Уильям Гриффитс (1843-1928)
писал, что «европейцы были поражены военными успехами япон-
цев, которых они всегда рассматривали как обычных азиатских
имитаторов». Он отдавал должное неутомимым японским амби-
циям унизить Китай и произвести, таким образом, сильное впе-
чатление на другие великие державы с тем, чтобы побудить их
считаться с Японией»38*.
Японские националистические лидеры продемонстрировали
в войне с Китаем уверенность нации в превосходстве над другими
странами Азии. Для японцев было крайне важно, может быть,
впервые почувствовать себя сильной державой, способной на
равных разговаривать с другими великими державами и получить
со стороны последних заслуженную похвалу. Гриффис в своих
произведениях распространял сведения о Японии как о «моло-
дой, энергичной нации», готовой бросить вызов старым импери-
ям как в Европе, так и в Азии. Он приветствовал «покорение
Японией Тайваня», считая этот исторический факт достойным
восхищения. Гриффитс писал, что «Тайвань (Формоза) является
неотъемлемой частью «Великой Японии» в геологическом и эт-
ническом отношениях. Под управлением Японии и, возможно,
в рамках одного поколения этот остров преобразуется в цивили-
зационном отношении из очага рабства и пиратства в один из цент-
ров мировой торговли... Прикрывая Восточную Азию с моря,
независимая и непокоренная Япония остановила агрессию евро-
пейских держав в этой части Азиатского континента»39*.
73
Однако даже самые проевропейски настроенные японские
политики в конце XIX - начале XX века сомневались, что в от-
ношениях с европейскими державами Япония сможет достигнуть
«справедливого признания» своих национальных интересов.
Лидеры постмэйдзийской Японии ясно осознавали, что не суще-
ствует четких критериев, определяющих статус «великой держа-
вы». Эти критерии нередко подвержены изменениям - как вслед-
ствие изменений ее национальных интересов, так и изменений
возможностей отражать угрозы со стороны других великих дер-
жав. Позиции Японии в этом смысле были наименее благоприят-
ными, так как, во-первых, она намного позже других великих
держав вступила в их клуб и, во-вторых, не являлась европейской
державой с глобальными интересами, а стала лишь сильной ре-
гиональной державой. Даже такие благожелательные сторонники
повышения статуса Японии до уровня великой региональной
державы, как английский социолог Герберт Спенсер, Теодор Руз-
вельт, а также английские советники императора Мэйдзи по со-
ставлению Императорской Конституции, рекомендовали новым
лидерам Японии «не торопиться» с завоеванием статуса «вели-
кой мировой державы», во всяком случае - не добиваться этого
в течение короткого исторического периода времени. Благо-
желательно относящиеся к Японии иностранцы сильно сомнева-
лись, что представители неевропейской цивилизации способны
реально сформировать стабильное государство с конституцион-
ными формами правления и сделать это своими собственными
силами.
Поддаваясь столь пессимистическим оценкам способностей
Японии по обустройству государства на современный лад, многие
японские политики мэйдзийской Японии стали также сомневать-
ся в возможности страны войти в разряд даже второстепенных
государств, не говоря уже о приобретении статуса великой дер-
жавы, сопоставимой с европейскими государствами или США.
При этом, правда, новые власти Японии соглашались на роль
форпоста этих великих держав в Восточной Азии. В 1873 году в
письме к японским оппозиционным политикам, призывающим
к войне с Кореей, Окубо Тосимити призывал учитывать ряд фак-
торов, которые объективно препятствуют Японии завоевать ста-
тус «великой цивилизованной нации»40*. Он писал: «Договоры,
которые Япония подписала с европейскими странами и с США,
изначально были неравноправными. Они содержали много ста-
тей, наносящих ущерб независимости японской нации... Власти
Великобритании и Франции под тем предлогом, что наша внут-
ренняя система управления разрушена и она не может гаранти-
74
ровать безопасность граждан, построили на территории нашей
страны военные бараки и разместили в них свои войска, действуя
так, как будто мы являемся их колонией. Такое поведение иност-
ранцев в Японии нарушает наш национальный суверенитет. Новое
правительство Мэйдзи должно приложить все силы к тому, чтобы
избавить нас от иностранного военного присутствия и вернуть Япо-
нии национальное достоинство и национальную независимость»40.
Фукудзава Юкити также не раз выражал опасения в связи с
утратой Японией своей независимости после подписания неравно-
правных Ансэйских договоров с западными державами. В работе
«Очерки по теории цивилизации» он подчеркивал, что «Японии
необходимо как можно быстрее сбросить с себя феодальную отста-
лость и провести в короткие сроки радикальные реформы. Нельзя
допустить того, чтобы Япония превратилась в колонию Запада»42*.
Размышления Фукудзава Юкити о необходимости формиро-
вания идеологии нового японского национализма и нового госу-
дарства - «кокутай» были далеки от романтического идеализма,
который присутствовал в работах либерального английского
философа Джона Милля. В отличие от Айдзавы Сэйсисай и ос-
торожного реформатора Ито Хиробуми, Фукудзава последова-
тельно отстаивал идею о том, чтобы японцы, наконец, осознали,
что для превращения Японии в современную нацию они должны
отбросить в сторону как непригодные для модернизации япон-
ские традиционные ценности. Японцы должны их просто забыть,
писал он43). Его рекомендации по проведению реформ имели да-
леко идущие последствия и основывались на принципах мерито-
кратии, основу которых составляет способность властей прини-
мать смелые политические решения. Фукудзава находился под
сильным влиянием западноевропейской политической мысли,
в частности таких видных ее представителей, как Гизо, Токвилль
и Джон Милль. Поэтому в его предложениях по внутреннему
реформированию японской государственности и японского нацио-
нализма лежали предложения о формировании демократических
институтов власти, а также создание мобильного «индивидуали-
стического» общества. Только создав такие условия в Японии,
полагал Фукудзава, страна сможет войти в клуб великих европей-
ских держав и покончить со своим зависимым, по сути колони-
альным, положением после заключения неравноправных Ансэй-
ских договоров.
Такие взгляды Фукудзавы в полной мере соответствовали ра-
ционалистической идеологии «просвещенного лидерства» Джона
Милля и его единомышленников в Великобритании, США и
Франции. Однако идеи либерального национализма Фукудзава
75
не были распространены в японском обществе, и потому европей-
цы не очень доверяли японцам, не были готовы принять Японию
в «клуб великих держав». Стремясь, однако, привнести европейские
ценности в японское общество, Фукудзава рассчитывал именно
на это и мечтал о том времени, когда Япония обретет статус не-
зависимого игрока в системе международных отношений. При-
чем это касалось как системы международной торговли, так и ее
возможности заключать политические или военные союзы. Фу-
кудзава понимал, что отсутствие в японском обществе индивиду-
алистической идеологии Запада и меритократической системы
ценностей создает непреодолимые препятствия на пути вхожде-
ния его страны в «клуб великих европейских держав» и приобще-
ния Японии к европейским ценностям. Когда «Черные корабли»
американского коммодора Перри в 1853 году впервые вошли
в Токийский залив, Фукудзава писал: «Американцы заставляли
японцев насильно «открыть свою страну». Их основными аргу-
ментами при этом было то, что все люди на Земле - братья, что
у всех у них - одно небо и одна земля под ногами и если японцы
откажут своему брату заключить с ним торговую сделку, то япон-
цы совершат большой грех перед Богом. Поэтому даже если спор
о торговле приведет к войне, то ее надо будет вести. Но для япон-
цев это будет справедливая война. Какие замечательные слова
произносил командор Перри и какими ужасными оказались его
практические дела! Его слова и дела были диаметрально противо-
положными. Если перевести слова Перри на простой язык, то он
говорил примерно следующее: если вы не будете торговать со мной,
то вам придется иметь дело с гробовщиками44*. Как националист
Фукудзава резко негативно воспринимал силовую политику евро-
пейских держав и США по отношению к Японии, но допускал ее
в отношении других слаборазвитых стран Восточной Азии.
Подъем националистических, антизападных настроений в япон-
ском обществе после революции Мэйдзи сильно раздражал поли-
тиков ведущих держав Запада, создавал дополнительные препят-
ствия на пути реализации стратегических планов в отношении
Японии. Несмотря на то, что европейские страны, заключившие
с Японией в середине XIX века неравноправные Ансэйские дого-
воры, постоянно заявляли о равенстве в правах всех договаривав-
шихся сторон, в действительности идея равенства и равных прав
оставалась лишь на бумаге. По мнению Фукудзавы, хотя иност-
ранцы в результате заключенных согашений и не принесли Япо-
нии большого экономического вреда, они отняли у японцев их
национальную гордость и национальное достоинство. Фукудзава
напоминал, что в мировой истории было немало случаев, когда,
76
например, американцы «ставили ногу» на земли, заселенные
индейцами, а затем выгоняли их с исконных земель или истреб-
ляли как собственников земли, оставаясь на чужой территории
полноправными хозяевами. То, что происходило с индейцами
после сгона их со своих земель, американцев всегда мало интере-
совало. Так же несправедливо по отношению к местному населе-
нию, по мнению Фукудзавы, вели себя европейские колонизаторы
в Восточной Азии и Океании, где уже не оставалось земли, куда
бы не ступала нога европейца. Опираясь на силу, европейские ко-
лонизаторы захватывали все новые и новые территории, залежи
природных ресурсов, получали баснословные прибыли от торгов-
ли, лишали народы этих территорий какой-либо независимости.
Таким образом европейцы вели себя в Персии, Индии, Сиаме, на
Яве. Фукудзава соглашался с оценками Айдзавы в том, что для
Японии самое страшное могло быть еще впереди. И чтобы встре-
тить опасность, японцы должны опираться исключительно на
себя, защищать свою национальную идентичность, опираясь на
крепкий националистический фундамент45).
Не случайно националист Фукудзава ставил такие ценности,
как сохранение независимости, суверенитета и обороноспособ-
ность, намного выше любых либеральных принципов демократии
и модернизации. Обращая свое внимание на ценностные приори-
теты Джона Милля, японский мыслитель подчеркивал, что нацио-
нальная независимость должна занимать высшее место в системе
национальных приоритетов, так как именно она является основой
государственности - «кокутай».
Для Фукудзавы национальная независимость, впрочем, не ис-
ключала широкой вовлеченности государства в мировые дела,
но при этом она не должна была навязываться стране извне силой.
Носители западной системы ценностей были правы, по мнению
Фукудзавы, когда утверждали, что только те государства, система
управления которыми основывалась на справедливых демокра-
тических выборах и индивидуалистической системе ценностей,
могут быть прогрессивными. Но, по его мнению, они были непра-
вы, когда заявляли, что отсталые страны вначале должны стать
цивилизованными, а уже потом требовать себе независимость.
«Независимость, - писал Фукудзава, - есть необходимое сред-
ство для развития цивилизованных форм государственности, она
является ее неотъемлемой частью. И если кто-то думает, что
либеральные реформы можно навязать стране извне, тот глубоко
заблуждается. Общество само должно пройти в своем развитии
через несчастья, ненависть к колонизаторам, через решимость
бороться со злом за демократические преобразования»46).
77
Националист Фукудзава был убежден, что невозможно через
развитие внешней торговли, причем навязанной извне силой, под-
готовить Японию к проведению прогрессивных социальных ре-
форм и в конечном счете модернизировать ее. Внешняя торговля
способна лишь ускорить прогрессивные преобразования, но она
не может стать их движителем. Для этого необходимо, чтобы
в обществе сформировались национальный дух, национальная
гордость, чувство независимости, страстное желание всех членов
общества вырваться вперед в соревновании с развитыми страна-
ми Запада.
Фукудзава был националистом, но не был консервативен в сво-
ем национализме. Он не одобрял националистические взгляды,
согласно которым классические японские традиции должны были
бы непременно сохраниться по мере продвижения в стране поли-
тических реформ. У него были либеральные взгляды на этот счет.
Он считал, например, что любой гражданин в новом японском
обществе волен сам выбирать, какие феодальные традиции следует
оставить, а от каких лучше отказаться. Просвещенный и раскре-
пощенный гражданин Японии должен быть готов «любить и за-
щищать свою родину, вносить свой вклад в укрепление ее мощи
и международного авторитета в мире, в котором все нации-госу-
дарства жестко конкурируют друг с другом»47).
Поскольку экономическая мощь и силовой потенциал госу-
дарств-наций есть необходимое средство достижения уважения
и признания со стороны других членов мирового сообщества на-
ций, Фукудзава обращал особое внимание на то, чтобы новое
государственное строительство в Японии не было бы навязано ей
извне силой. Он мечтал, чтобы оно стало естественной потребно-
стью самой Японии, самих японцев. Меры, которые предлагал
Фукудзава Юкити новому правительству Мэйдзи во внешне-
политической области, не всегда гармонировали и совпадали с его
либеральными убеждениями. Он, например, серьезно сомневался
в том, что мировой порядок основан на сохранении национального
суверенитета и независимости государств, членов мирового сооб-
щества, что государства, вступающие в конкурентную борьбу на
мировой арене за влияние и позиции, способны удерживать внут-
реннюю стабильность в своих странах, так как он придерживался
принципа «либо пушки, либо масло». Фукудзава не мог понять,
или, вернее, признать, как естественное право, христианство и все-
общий закон о правах человека сочетаются у европейских поли-
тиков с насильственным установлением повсюду национальных
границ по своему усмотрению, что вынуждало граждан формиро-
вать общины внутри новых границ, называя их нациями, форми-
78
ровать правительства, которые обслуживали бы интересы вновь
созданных «национальных образований» в ущерб местным жи-
телям, и т.д.
Впрочем, вслед за Жан-Жаком Руссо, Гегелем и другими из-
вестными мыслителями Фукудзава признавал подобные насиль-
ственные действия «неизбежным злом». Фукудзава отмечал, что
«если есть политики, которые игнорируют интересы других наций
и производят насильственные действия, которым мы не можем
противостоять, то нам также следует предпринимать шаги в сво-
их интересах и научиться сопротивляться. И поскольку влияние
внешних сил на Японию оказалось решающим в части заключе-
ния неравноправных Ансэйских договоров, то японцам следует
быть готовыми жертвовать своими жизнями ради сохранения
национальной независимости и суверенитета. Войны, согласно
нормам морали европейцев, это благородные и необходимые сред-
ства расширения прав независимых государств. Такие нормы Япо-
ния также может и должна взять на вооружение и использовать
их в своих национальных интересах»48).
Фукудзава исходил из реальности несоответствия между эти-
ми «людоедскими» нормами международного поведения некото-
рых европейских государств, с одной стороны, и либеральными
принципами, которых они придерживались, - с другой. Фукудзава
подчеркивал: «Некоторые люди могут сказать, что человечество
не разрешает нам ставить национальную независимость в каче-
стве единственной цели развития нации и что мы должны пресле-
довать вечные и более благородные ценности, нежели те, которые
обеспечивают стремление к достижению независимости через вой-
ны и убийства людей других стран. Это правда, но в сегодняшнем
жестком мире нет места для разговоров о благородстве, а каждый,
кто будет заводить разговор на эту тему, может прослыть дураком
или наивным мечтателем... Первый и самый важный мой наказ
лидерам Японии состоит в том, чтобы наша страна оставалась
независимой, чтобы японский народ здравствовал и процветал.
И только потом можно будет продолжать бессмысленные и беско-
нечные разговоры об улучшении человеческой цивилизации...»49).
Сопоставляя такие высказывания великих японских мысли-
телей конца XIX века с оценками их европейских коллег, можно
прийти к выводу, что страны Запада обоснованно опасались до-
пускать Японию в члены клуба великих мировых держав. И даже
если предположить, что японцы искренне стремились постигнуть
азы и суть европейской цивилизации и приобщиться к ней, то ни
в конце XIX, ни в начале XX века они не были к этому готовы.
Как подчеркивал известный американский историк-японовед,
79
профессор Гарвардского университета Мариус Янсен, «достичь
признания и равенства в клубе великих держав для Японии было
действительно трудной задачей. И когда Япония периода Мэйдзи
думала, что она уже готова войти в этот клуб, было очевидно, что
ей еще многому следует научиться в своем международном по-
ведении»5^. В конце XIX века для Японии, стремящейся быть
признанной в качестве одной из великих мировых держав, недо-
статочно было принять современную Конституцию, обеспечить
развитие современной экономики, а также сформировать в госу-
дарстве современную систему просвещения. От Японии как от
потенциально великой державы Запад был вправе ожидать спо-
собность приобретать колонии в слаборазвитых странах, управ-
ление и контроль за которыми Япония была бы готова взять на
себя.
Однако соперники и конкуренты Японии из числа великих
западных держав были возмущены и не на шутку обеспокоены
обнародованием амбициозных планов маленькой Японии, кото-
рая еще вчера пребывала в состоянии длительного застоя и изо-
ляции от внешнего мира. Угрозу от Японии начали испытывать
и слаборазвитые государства Восточной и Юго-Восточной Азии:
они опасались стать ее колониальными территориями. Лидеры
слаборазвитых государств региона исходили из того, что процве-
тающая нация, декларируя свои интересы стать империей, не долж-
на при этом проводить политику порабощения других стран, она
должна, напротив, обеспечивать им гарантии свободного раз-
вития. Однако лидеры постмэйдзийской Японии действовали
иначе. Слабая Япония, которая в середине XIX века еще только
формировала планы превращения в великую региональную дер-
жаву, выбрала путь радикализации своей внутренней и внешней
политики с тем, чтобы ускорить этот процесс, применяя самые
жесткие формы и методы колонизации других стран региона51*.
Экспансионистская политическая мысль японских национа-
листов раннего периода Мэйдзи включала в себя ряд любопытных
аспектов. Во-первых, японские власти в 1880-1890-е годы быстро
добились поддержки и понимания в обществе национальной поли-
тики расширения границ собственно Японии за счет захвата тер-
риторий на континенте. Более того, в официальной печати и в вы-
ступлениях официальных лиц постмэйдзийской Японии четко
и недвусмысленно озвучивалась мысль о том, что экспансия на
континент является для Японии единственным средством выжи-
вания нации52*. Умеренные либералы, такие как Фукудзава Юкити,
вначале отказывались поддерживать экспансионистскую полити-
ку властей в Восточной Азии, однако уже в период японо-китай-
80
ской войны 1894-1895 гг. тот же Фукудзава стал оправдывать
колониальные захваты Японии в рамках политики «Прощай,
Азия» - «Дацу-А», которую последовательно проводили правя-
щие круги Японии, осуществляя внешние захваты. Фукудзава
доказывал, что «международный статус Японии сильно отлича-
ется от других стран Азии, которые отстали от Японии на пути
цивилизационного развития. У Японии просто нет исторического
времени ожидать, пока ее соседи подтянутся к японскому уровню
с тем, чтобы вместе идти по пути модернизации. В то же время
всем видно, как империалистические страны усиливают соперни-
чество за захват новых сфер влияния, Японии благоразумнее
сбросить с себя бремя заботы о слаборазвитых азиатских странах
и присоединиться к развитым странам Запада»53*. Другими сло-
вами, Япония, по мнению Фукудзавы, поступила бы намного ра-
зумнее, если бы быстрее присоединилась к клубу великих держав
вместо того, чтобы рисковать самой превратиться в одну из их
колоний в Азии, утратив независимость и национальный сувере-
нитет.
Курс на внешние захваты в Восточной Азии японские нацио-
налистические политики продолжили и после окончания Первой
мировой войны. В 1938 году в документе, написанном на англий-
ском языке и предназначенном для англо-американской аудито-
рии, японские власти официально оправдывали политику экспан-
сии в Восточной Азии «необходимостью не столько обеспечить
национальную безопасность, сколько важностью решить «страте-
гические задачи континента, а именно: спасти азиатские народы
от разлагающего влияния европейской коррупции, морального
и политического разложения. Поэтому милитаризация Японии
должна восприниматься народами Восточной Азии как средство
обеспечения гарантий их безопасности в мире. Продвижение Япо-
нии на континент не следует путать с агрессией за счет ущемления
других стран региона. Япония просто заинтересована сделать из
народов Восточной Азии одну большую азиатскую семью»54*.
Подобного рода националистическая риторика японских вла-
стей, призванная оправдать их экспансионистские действия в
Восточной Азии, была направлена против колониальной полити-
ки европейских держав и США, которые в конце XIX века вы-
ступали откровенными конкурентами Японии в колониальных
захватах. Как отмечал известный японский дипломат, сторонник
японского экспансионизма накануне Второй мировой войны Та-
цуо Каваи (1889-1965), «народы Восточной Азии должны отбро-
сить как пустую и вредную европейскую индивидуалистическую
систему ценностей и европейский материализм. Азиатские наро-
6-5584
81
ды представляют собой иную цивилизацию, опирающуюся на
коллективизм и общую веру в светлое будущее Азии. Пройдя путь
самоусовершенствования и коллективизма, все народы Азии смо-
гут объединиться в одну азиатскую нацию, создать «новый поря-
док и дисциплину», сохраняя при этом индивидуальную свободу
действий, независимость и взаимное уважение друг к другу...
Сейчас наступило время Японии «открыть» двери азиатских
стран с тем, чтобы они сплотились в борьбе с европейской коло-
низацией»5^.
Под влиянием японских националистов после реставрации
Мэйдзи внешняя политика страны заметно радикализировалась.
Власти все чаще стали обращаться к нормам поведенческой мора-
ли, которую использовали великие европейские державы, оправ-
дывая свои захватнические, агрессивные по отношению к колони-
зируемым ими странам действия. Японские националисты охотно
брали на вооружение западноевропейские теории, призванные
служить оправданием подобных действий. Известный англий-
ский историк Евгений Джозеф Вебер (1925-2007 гг.) писал, что
«внешние завоевания есть первая стадия в развитии и распрост-
ранении национализма. При этом нация не должна покорять
другие народы. Она просто должна нести им просвещенную куль-
туру, обогащать их новыми знаниями, в чем, собственно, и состоит
цивилизационная миссия колонизаторов, которую никто не мо-
жет отрицать»56*.
Националистически ориентированные политики постмэйд-
зийской Японии брали пример с действий на внешней арене
ведущих западноевропейских стран, и прежде всего Великобри-
тании и Франции. Отражая рост расистских настроений в поли-
тических, военных и академических кругах европейских стран,
идеологию расизма отчетливо сформулировал Джозеф Чембер-
лен, госсекретарь по делам заморских территорий Великобрита-
нии: «Я верю в расовое превосходство англосаксонской расы,
которая является растущей и самой великой расой, которую ког-
да-либо видел мир. Это гордая, самоуверенная и упрямая нация,
которую не способны разрушить ни суровый климат, ни соци-
альные катаклизмы. Эта нация будет определяющей силой в бу-
дущем мировой истории и мировой цивилизации»57*. Гилберт
Мюррей, генерал-губернатор Канады с 1898 по 1904 год, ученый-
историк и сторонник создания Лиги Наций, писал в 1900 году, что
«в мире существует иерархия человеческих рас. Есть расы, кото-
рые много употребляют в течение жизни продуктов питания, есть
такие, которые имеют завышенные материальные или финансо-
вые потребности, есть расы, которые любят руководить жизнью
82
других народов. Англосаксы принадлежат к последним, и в этом
никто в мире не должен сомневаться»58*.
Может быть, эти выводы Гилберта Мюррея следует иметь
в виду, когда мы хотим понять причины радикализации японско-
го национализма в период после революции Мэйдзи. С одной сто-
роны, их можно объяснить уходящими в глубь истории мифами,
изображающими Японию как Богоизбранную страну для «руко-
водства миром». С другой стороны, японские власти с удоволь-
ствием реализовывали идеологические установки на автори-
тарную и защитную функции Японии по отношению к другим
странам Восточной Азии, которые были заложены в Император-
ской Конституции 1889 года и впоследствии были усилены нацио-
налистическим воспитанием в японских школах и университетах.
Процесс радикализации японского националистического созна-
ния был дополнительно укреплен в обществе результатами двух
победоносных для Японии войн - с Китаем в 1894-1895 гг. и с
царской Россией в 1904-1905 гг. При этом Япония всегда «смот-
рела по сторонам» и предпочитала не отставать в подъеме нацио-
нализма от аналогичных процессов в европейских странах накануне
Первой мировой войны. Европейский радикальный национализм,
безусловно, влиял на радикализацию национализма в Японии и
стимулировал ее, не стесняясь демонстрировать свое расовое пре-
восходство по отношению к другим странам и народам.
Таким образом, развитие государственного национализма в
Японии в конце XIX - начале XX века отражало тенденции в раз-
витии националистической идеологии в мире.
Вместе с тем, надо иметь в виду, что Япония в этот период
была «догоняющей» нацией. Она также использовала идеологию
государственного национализма как один из важных инструмен-
тов своей внутренней и внешней политики, никогда не забегая
вперед в развертывании своей националистической идеологии,
но и не отставая от других стран. Японские власти старались
«синхронизировать» эти процессы с другими мировыми держа-
вами. Нечто подобное происходит в начале XXI века, японские
власти стали активно раскручивать «националистическую карту»,
рассматривая идеологию и практику национализма как важней-
шее средство консолидации нации59*.
Сегодня Япония вновь обращается к пропаганде традицион-
ных японских ценностей, переписывает школьные учебники исто-
рии, как бы напоминая японской молодежи о былом величии
нации и ее исторических достижениях. При этом японские по-
литики не прибегают к примитивной апологетике прошлой импе-
риалистической политики внешних захватов. Более того, они не
6*
83
упускают из виду шанс изобразить Японию в качестве «жертвы»
прошлого несправедливого мирового порядка, который был навя-
зан ей великими европейскими державами, «напомнить» молоде-
жи о больших экономических и политических потерях, которые
Япония понесла от вынужденного заключения ею неравноправ-
ных Ансэйских договоров под угрозой применения силы, о том,
что Япония в середине XIX века была унижена как государство-
нация, а национальное достоинство японцев было попрано вели-
кими европейскими державами и США. Но японские идеологи
национализма откровенно замалчивают «невыгодные факты» не-
давней истории нации, когда своими действиями сама Япония
несла горе и страдания народам Азии в ходе своей экспансиони-
стской политики на континенте.
2. Японский национализм в период Интербеллум
«между Первой и Второй мировой войнами»
Националистическое самосознание японцев после Первой миро-
вой войны отличалось рядом особенностей, которые оказали воз-
действие на идеологию и политику государственного национализ-
ма в Японии в последующие периоды.
Во-первых, в государственной националистической пропаган-
де заметно возросла роль идеологии Синто. В основе Синто, как
известно, лежит культ императора, института императорской
власти, которые в религиозной форме юридически позволяют
властям оправдывать как тоталитаризм, так и политику экспан-
сионизма. В соответствии с ценностями Синто император Япо-
нии нарекается «арахито гами», т.е. коронованным божеством,
который принадлежит роду богини Солнца Аматэрасу. Перево-
площение верований отдельных племен и родов в единую религию,
получившую название «синто», было тесно связано с историей
зарождения раннего японского государственного образования
Ямато («великая гармония, мир»), которое возникло в районе
Ямато (совр. префектура Нара) в III-IV вв. н.э. Оно существова-
ло в течение одноимённого периода Ямато до VIII века, пока не
было переименовано в 670 году в Ниппон - «Японию». Власть
в государстве концентрировалась в руках правителей централь-
ной области Ямато. Тогда же оформился культ богини Аматэрасу
как верховного божества и покровительницы правительского
дома. Божества остальных кланов, подчинившихся клану Ямато,
занимали подчиненное положение. По Конституции 1889 года им-
ператор был узаконен как «глава империи» и «главнокомандующий
84
японской армией и флотом». Это значит, что каждый японец был
обязан беспрекословно подчиняться его воле и выражать ему
полную лояльность.
Государственная религия Синто традиционно делала акцент
на том, что японский император находится в центре мироздания.
В начальный период Сева (1926-1989 гг.) все религиозные и по-
литические доктрины Японии исходили из того, что император
определяет все важнейшие события в мире. Это он собирает «во-
семь углов под одной крышей» - хакко итиу, т.е. воплощает в жизнь
историческую миссию Японии, заложенную в древних сакраль-
ных текстах, а именно: собрать «восемь углов» мира (в данном
случае - страны Азии) «под одной крышей». Используя автори-
тет императора, японские политики оправдывали свою военную
и идеологическую экспансию в Восточной Азии. Все официальные
заявления императора подавались как имеющие большое религи-
озное значение. За связь государственной религии Синто с япон-
ским государственным национализмом отвечали такие видные
политические и государственные деятели периода между двумя
мировыми войнами XX века, как принц Канин Котохито, генерал-
лейтенант Хэйсукэ Янагава, генерал Куниаки Койсо, будущий пре-
мьер-министр Японии и министр колоний; государственный и по-
литический деятель, премьер-министр Японии Киитиро Хиранума.
Во-вторых, после окончания Первой мировой войны на фор-
мирование японского государственного национализма большое
влияние оказали ее итоги, которые были подведены в Версале
в июне 1919 года. Версальский мирный договор не признавал тер-
риториальные требования Японии в Китае, а международные
морские договоры, заключенные Японией с США, Великобрита-
нией, Францией, Италией (Вашингтонский морской договор в фев-
рале 1922 года и Лондонский морской договор в апреле 1930 года),
накладывали серьезные ограничения на строительство ее морских
военных судов и сокращали размеры японского военного флота
по отношению к США и Великобритании в пропорциях 5:5:3. Эти
договоры рассматривались многими в Японии как отказ великих
держав рассматривать ее равноправным партнером в системе
международных отношений. Именно такое прочтение договоров
подтолкнуло молодых офицеров армии и флота, а также группы
боевиков из националистической организации «Школа любви
к родной земле» - Айкёдзюку к попытке государственного пере-
ворота 15 мая 1932 г.
По сути, рост японского агрессивного национализма в период
между двумя мировыми войнами был напрямую связан с опасе-
ниями части политической элиты Японии за национальную без-
85
опасность в ближайшем будущем, когда в столицах ведущих ми-
ровых держав уже ощущалась подготовка к новой мировой войне.
Такие опасения высказывали даже те умеренные политики -
демократы периода Тайсё, которые до этого выступали за мирную
экономическую экспансию японского капитала в страны Восточ-
ной Азии60). В результате японские власти выбрали путь военной
диктатуры и территориальных завоеваний как наилучший путь
«защиты Отечества» - Ямато дамасий.
В-третьих, важной особенностью развития государственного
национализма в период между двумя мировыми войнами являет-
ся появление в интеллектуальных кругах Японии ряда ученых-
националистов, которые своими трудами оказывали непосредст-
венное влияние на формирование националистической идеологии.
К таковым в первую очередь можно отнести известного японского
теоретика национализма Кита Икки. Он был сторонником госу-
дарственного социализма и азиатского национализма - идеологии,
которая впоследствии переросла в Японии в ультранационализм
и японский милитаризм. Политическая философия Кита Икки
была сформулирована в его главных трудах: «О национальной го-
сударственной политике и чистом социализме» (Кокутайрон оёби
дзюнсэй сякайсюги), которую он опубликовал еще в 1908 году,
а также «План перестройки Японии» (Нихон кайдзо хоан тайко),
которая вышла в свет в 1928 году. Кита призывал к военному
перевороту в стране с тем, чтобы заменить существовавшую по-
литическую систему силой и установить в Японии прямую воен-
ную диктатуру. По мнению Кита Икки, новое военное руководство
Японии должно было отменить Императорскую конституцию
1889 года, запретить политические партии, распустить парламент,
погрязший в коррупции, и сформировать национальную ассамб-
лею. Кита Икки предлагал также провести национализацию
основных отраслей экономики Японии. Он выступал за введение
в стране строгого контроля за владением частной собственностью
и предлагал проведение земельной реформы, которая облегчила
бы жизнь миллионам крестьянских семей. Укрепив внутренний
потенциал, Япония, по мнению Кита, могла бы помочь народам
Восточной Азии сбросить с себя иго западного колониализма и
капитализма.
Несмотря на то, что произведения Кита Икки были запреще-
ны властями сразу же после их публикации, они продолжали
будоражить умы японской молодежи, а также оказались весьма
популярными и востребованными в кругах молодого офицерства,
мечтавшего о сильном государстве и имперской политике. Фило-
софию Кита Икки поддерживали широкие левонастроенные на-
86
родные массы, которые разделяли его убеждения о необходимо-
сти проведения земельной реформы и идеи национализации
крупной собственности в пользу средних слоев.
Немалое влияние на развитие национализма в Японии в пе-
риод между двумя мировыми войнами оказали идеи другого
видного теоретика государственного национализма - Окава Сю-
мэй, который в отличие от Кита Икки, националиста левого тол-
ка, принадлежал к числу праворадикальных философов. Он был
организатором многих националистических обществ в Японии
в период 1920-1930-х гг. В 1926 году он опубликовал свою извест-
ную работу «Япония и путь японцев» (Нихон оёби Нихондзин-но
мити), в которой изложил взгляды на объективную неизбежность
столкновения цивилизаций, в частности японской и западной,
о чем, по сути, спустя почти 70 лет в начале 1990-х писал извест-
ный геополитик Самуэль Хантингтон в своем популярном трак-
тате «Столкновение цивилизаций». Теория национализма Окава
Сюмэй впитала в себя многие идеи, изложенные в работах Кита
Икки, но при этом Окава делал особый акцент на необходимости
возвращения Японии к традиционным принципам построения
государства «кокутай», если она хочет выжить в условиях нараста-
ющих социальных и экономических противоречий капитализма
(он писал свои труды накануне Великой депрессии 1929-1933 гг.,
охватившей экономику многих ведущих капиталистических дер-
жав) и проникновения в массовое сознание японцев западной
либеральной системы ценностей.
Японский национализм в 1920-1930-е годы формировался не
только под воздействием идей ученых-теоретиков правого или
левого толка. Большое влияние на его развитие оказывали и вид-
ные политики, и государственные деятели. Одним из них по праву
можно считать Садао Араки, военного министра и министра об-
разования в кабинете Фумимаро Коноэ. Он являлся известным
философом и пользовался большим авторитетом среди офицеров
императорской армии в 1920-е годы. Несмотря на свою причаст-
ность к попытке вооруженного государственного переворота,
предпринятого радикальными фашиствующими группировками
в японской армии 26 февраля 1936 г., он продолжал занимать
видные государственные посты в правительстве. Японская армия,
реформированная по прусскому образцу вскоре после реставра-
ции Мэйдзи, представляла собой в плане идеологического созна-
ния ее офицерского корпуса нечто среднее между «идеологией
Ямато-дамасий» и «Прусским военным порядком». Именно по-
этому власти Японии без больших проблем заключили 27 сентяб-
ря 1940 г. в Берлине «Пакт о военном союзе между Германией,
87
Италией и Японией» для сдерживания СССР. Согласно документу,
Пакт предоставлял Японии право формировать «Великое Восточ-
но-Азиатское пространство», а Германии и Италии - распростра-
нять свое влияние на все страны Европы60. Как националист
Араки испытывал ностальгию по самурайским традициям и ко-
дексу Бусидо, а также по военно-административной системе прав-
ления периода сёгуната Токугава; При этом Араки был информи-
рован, что власти Италии в лице кабинета Муссолини также
ностальгировали по временам Римской империи, а лидеры нацист-
ской партии Германии часто вспоминали времена Первого Рейха
и Тевтонского ордена62).
Националист Араки модифицировал интерпретацию Бусидо
и кодекса самурайской чести, приспособив их к разработанным
им же принципам националистической идеологии «духовного
воспитания» нации - «сэйсин кёику», которую он пытался вне-
дрить в японскую армию, будучи военным министром и мини-
стром образования. Араки разработал принципы новой внешней
политики Японии и был инициатором формирования марионе-
точного государства Маньчжоу-Го на северо-востоке Китая на
границе с СССР. Идеологической основой деятельности марио-
неточного государства должны были стать военно-социалисти-
ческие доктрины государственного устройства, близкие по своей
природе к национал-социализму Германии. Араки выступал в под-
держку местных националистических движений в странах ЮВА,
а также активно использовал деятельность белогвардейцев как
идеологических врагов Советской России в Маньчжурии накану-
не Второй мировой войны.
Большое влияние на рост националистических настроений
в Японии в период между двумя мировыми войнами оказывало
националистическое движение под названием «Реставрация
Сёва». Оно зародилось сразу после окончания Первой мировой
войны, когда Кита Икки и Окава Сюмэй еще в 1919 году объеди-
нились для организации националистической Ассоциации «Юд-
зонся» - Общество выживания. Эта организация объединяла в
своих рядах националистически настроенных политиков и явля-
лась, по сути, прикрытием для разного рода правосоциалистиче-
ских общественных движений. Вскоре после своего образования
Ассоциация распалась вследствие идеологических противоречий
между Кита и Окава. Однако конкретным результатом ее много-
летней деятельности стало объединение националистических сил
на праворадикальной, антисоциалистической основе. Национали-
стическое движение «Реставрация Сёва» способствовало объеди-
нению националистически настроенных паназиатских военных
88
обществ с центристами и сторонниками государственной социа-
листической идеологии. Сторонники укрепления японской госу-
дарственности и государственной националистической идеоло-
гии активно использовали лозунги «Реставрации Сёва» после
прихода к власти в декабре 1926 года 124-го императора Японии
Хирохито. Смысл лозунгов заключался в необходимости смены
коррумпированной и прогнившей политической системы импе-
ратора Тайсе (1912-1926 гг.), которая обслуживала нечистоплот-
ных политиков и крупный капитал, на новую власть, которая,
наконец, должна была реализовать задачи революции Мэйдзи и
установить в стране прямое императорское правление, опираясь
на армию и силовые структуры.
Впрочем, смысл понятия «Реставрация Сёва» по-разному по-
нимался различными политическими силами и обществом в Япо-
нии. Для националистов-радикалов из Ассоциации «Сакуракай»
оно означало насильственное свержение существовавшего режима
власти и создание народного государства с более справедливым
распределением богатства и отстранением от власти коррумпиро-
ванных политиков и руководителей дзайбацу. Для представите-
лей молодого офицерства лозунги «Реставрации Сёва» означали
в известной мере возврат к форме военного правления бакуфу
периода сёгуната Токугава, когда император, хотя и не был наде-
лен реальной политической властью с диктаторскими функция-
ми, оставался при этом символом нации, а его полномочия могли
быть еще больше ограничены невмешательством в работу демо-
кратического парламента, тогда как важные политические реше-
ния принимались высшим военным руководством страны.
Японские националисты в период Интербеллум испытывали
определенное давление со стороны императорского окружения,
которое было настроено на введение прямого императорского
правления. Брат императора Хирохито - принц Титибу прямо и
настойчиво советовал императору это сделать как можно быст-
рее, даже если для этого придется временно приостановить дей-
ствие Конституции 1889 года. Некоторые японские ученые-тео-
ретики, в свою очередь, рекомендовали императору осуществить
«Реставрацию Сёва», т.е. реализовать план передачи императору
прямых функций по руководству предстоящими экспансионист-
скими захватами в Восточной Азии. Собственно, именно это пред-
лагали и организаторы государственного переворота 26 февраля
1936 г. Правда, после неудачной его попытки было принято иное
решение, а именно: сформировать сильную военно-политическую
националистическую организацию, которая была бы способна
оказывать прямое воздействие на принятие государственных ре-
89
шений. Националисты возглавили радикальную группировку -
«Кодоха», которая ставила своей целью приход к власти путем
военного переворота и установления полного контроля за всеми
политическими силами в Японии, включая умеренных демократов.
Формирование новой националистической группировки «Ко-
доха» оказало сильное влияние на идеологические взгляды воен-
ных, промышленников и крупных землевладельцев, которые все
отчетливее стали выражать заинтересованность в реставрации
системы военного правления в Японии по образцу бакуфу пери-
ода сёгуната Токугава, разумеется, с поправками на новые исто-
рические условия и необходимость учитывать новые реалии во
внутренней и внешней политике Японии как великой державы
XX века. Решающую роль в подогревании таких настроений играло
руководство японских ВМС и армии, которое официально за-
являло, что готово выполнить любые приказы высшего военного
командования нового японского «Сёгуната». Националисты пред-
полагали, что в новой политической системе сёгуната роль импе-
ратора будет сильно ограничена. Он должен будет выполнять по-
литическую волю стоявших над ним военных.
Следует признать, что провалившиеся попытки государствен-
ного переворота, предпринятые различными ассоциациями япон-
ских националистов в 1930-е годы, сильно дискредитировали саму
идею «Реставрации Сёва». Вместе с тем националистическая идея
необходимости проведения политических преобразований и пре-
вращения Японии в великую азиатскую державу была подхваче-
на японскими политиками, которые разделяли не столько воинст-
вующую идеологию японских милитаристов, сколько фашист-
вующую философию лидеров некоторых европейских государств,
и в первую очередь Германии и Италии.
Анализируя особенности развития идеологии и практики го-
сударственного национализма в Японии между двумя мировыми
войнами, необходимо особо подчеркнуть, что на этот процесс
сильное влияние оказывала националистическая, фашиствующая
идеология политических элит ряда европейских стран. В 1920-е
и особенно в 1930-е годы японские политики охотно приглашали
в Японию представителей фашистских партий Европы, прежде
всего из Германии и Италии. В то же время в Токио и в некоторых
других районах Японии создавались компактные поселения, где
проживали немцы и итальянцы, которые распространяли свою
систему ценностей, свою националистическую идеологию среди
японского населения. Власти Японии охотно принимали у себя
основоположника германской школы геополитики Карла Хаусхо-
фера, который с 1908 года состоял в качестве советника при япон-
90
ском военном командовании. Хаусхофер не раз повторял, что
видит будущее Германии как великой евроазиатской державы
только в военном союзе с Японией, которой он отводил роль
великой морской тихоокеанской державы, призванной защищать
континентальные интересы Германии с моря, со стороны Тихого
океана.
Японские националистические политики прислушивались
также к идеям другого немецкого ученого-геополитика Хальфор-
да Маккиндера. Японским политикам особенно импонировала его
теория о «Мировом острове», под которым Маккиндер понимал
Евразию и Африку, где Германия и Япония должны осуществлять
свой контроль.
Экспансионистские идеи немецких геополитиков нашли свое
преломление в трудах японских ученых-националистов Сюмэй
Окава, Кингоро Хасимото и Исивара Кандзи. Кингоро Хасимото,
например, заимствовал из трудов Маккиндера идеи установления
социальной справедливости, основанной на военной диктатуре
под руководством одной партии власти и эгалитарном популиз-
ме, который пропагандировали фашистские идеологи ряда евро-
пейских стран. Японские националисты стремились конструи-
ровать политическую систему Японии, беря пример с Германии
и Италии, где у власти находился один сильный лидер - Гитлер
и Муссолини. Такая высокая централизация политической и воен-
ной власти в одних руках, по замыслам японских националистов,
укрепляла национальный потенциал сопротивления, способство-
вала повышению управляемости государства для целей отраже-
ния любой внешней агрессии. По мнению японских национали-
стов-геополитиков, авторитарная система правления позволяла
также консолидировать нацию на борьбу с внутренними врагами
в лице разного рода либералов и диссидентов. Она держала
в страхе высшие эшелоны власти и предоставляла больше прав
и возможностей среднему классу, включая крестьянство, рыбаков,
промышленных рабочих и др., продвигаться по карьерной лест-
нице, получать больше благ в рамках политики более равно-
мерного и более справедливого распределения национального бо-
гатства. Но главное - она укрепляла внутреннюю стабильность
и благоприятствовала созданию необходимых условий для внеш-
ней экспансии.
Праворадикальная националистическая идеология нашла свое
выражение в «Доктрине Амау», этом японском варианте амери-
канской доктрины Монро. (Доктрина получила свое название по
имени У. Амау - пресс-секретаря МИДа Японии в 1930-е годы.
Она предусматривала организацию решительной военной победы
91
над США на Тихом океане и достижение Японией полного гос-
подства в этой части мира.) Согласно «Доктрине Амау» Япония
брала на себя ответственность за «поддержание мира и стабиль-
ности в Восточной Азии». На ее основании премьер-министр
Коки Хирота оправдал японскую военную экспансию в Северо-
Восточный Китай для создания «специальной зоны борьбы с со-
ветским коммунизмом» путем создания марионеточного государ-
ства на территории Маньчжоу-Го. Эта зона японской ответствен-
ности рассматривалась властями Японии как «фундаментальная
основа» выживания Японии в качестве суверенного государства.
И если реформисты из правого крыла японских национали-
стов «какусин уёку» горячо поддерживали «Доктрину Амау» как
отвечающую долгосрочным национальным интересам Японии,
то праворадикальные идеалисты - «каннэн уёку» отрицали фа-
шистскую идеологию как идеологию, имеющую европейские кор-
ни и потому непригодную для Японии. Правые радикалы считали
себя «чистыми почвенниками».
В 1924 году была создана националистическая организация
«Кокухонся». Инициатива ее создания принадлежала министру
юстиции и председателю верхней палаты пэров японского парла-
мента Киитиро Хиранума. Эта организация призывала патрио-
тов Японии в принципе отказаться от употребления всевозмож-
ных европейских заимствований - «измов», включая социализм,
марксизм, анархизм, фашизм, и использовать исключительно тер-
минологию «кокутай» как единственно отвечающую японскому
национальному духу. Само название организации «Кокухон»
(этатизм) было выбрано как антоним слова «минпон» (минпон-
сюги), что в переводе с японского означает «демократия». Орга-
низация «Кокухон» предлагала японцам добровольно поддержать
тоталитарную националистическую идеологию.
Период 1928-1932 гг. вошел в историю японского национа-
лизма как время бурного его расцвета на фоне глубокого струк-
турного кризиса рыночной модели воспроизводства, охватившего
всю мировую экономику. Власти Японии не могли справиться
с кризисом традиционными методами и потому обратились к кон-
солидации нации на почве распространения националистической
пропаганды. Унижение Японии на международных конференци-
ях также способствовало подъему государственного национализ-
ма в этот период. В 1930 году в Лондоне открылась Конференция
пяти держав по вопросам морских вооружений. Организаторы
Лондонской конференции ставили перед собой задачу укрепить
Версальско-Вашингтонскую систему международных отноше-
ний, ограничив гонку вооружений на морях. Япония, напротив,
92
была заинтересована выровнять соотношение морских вооруже-
ний в свою пользу, настаивая на соотношении 5:5:3 (пропор-
циональный тоннаж военно-морского флота у США, Великобри-
тании и Японии соответственно). Представители США и думать
не хотели о предложениях Японии и настаивали на необходи-
мости ослабить ее морской потенциал. Благодаря закулисным
переговорам, всякого рода подкупам Япония обеспечила себе по
итогам Лондонской конференции преимущество по тяжелым
крейсерам в соотношении 5:4. Однако такие слабо утешительные
результаты участия Японии в Лондонской конференции не уст-
раивали ультраправых японских националистов, которые вышли
с протестами и осуждением антияпонской политики великих
держав по всей стране. В результате поражения японской делега-
ции на Лондонской конференции националисты даже совершили
покушение на премьер-министра Хамагути Осати, который был
убит 14 ноября 1930 г.
В условиях мирового экономического кризиса 1929-1933 гг.
японские власти, несмотря на все усилия стабилизировать внут-
реннюю ситуацию с использованием националистической про
паганды, успеха не добились. Они вообще утратили контроль за
ситуацией. Корреспондент газеты «Нью-Йорк тайме» писал, что
Япония превращается в страну, которая управляется «правитель-
ством смертников». Армия, поведение которой контролировалось
армейским командованием, была неподвластна гражданскому пра-
вительству. Воспользовавшись слабостью и нерешительностью
гражданских властей, военное командование самостоятельно на-
правило японские войска в Маньчжурию летом 1931 года63>. А в
марте 1933 года Япония демонстративно вышла из состава Лиги
Наций, показав всему миру, что впредь намерена действовать во
внешней политике без оглядки на мировое общественное мнение.
Японский национализм играл решающую роль в процессе
усиления роли военных во внутренней и внешней политике стра-
ны. Местные политики, учителя, синтоистские священники были
мобилизованы различными националистическими организация-
ми для распространения ультранационалистической идеологии,
оправдывающей действия военных. Японские националисты мало
обращали внимания на идеологическую работу с японским пред-
принимательством и партийными политиками. Их внимание в
первую очередь было обращено на демонстрацию своей лояльно-
сти Императору и военному руководству страны. В мае 1932 года
группа праворадикального крыла японского военного корпуса
совершила очередное покушение на премьер-министра страны
и предприняла попытку государственного переворота, которая
93
привела к ликвидации всех политических партий. В период 1932-
1936 гг. Япония практически управлялась высшим военно-мор-
ским командованием. Националистический угар в обществе, ох-
вативший все слои населения, привел к тому, что деятельность
гражданского правительства была парализована. Кульминацией
политического кризиса стали события 26 февраля 1936 г., которые
вошли в историю Японии как «инцидент 26 февраля». Тогда
около 1500 ультраправых военнослужащих промаршировали по
центру Токио. По плану они должны были дойти до здания кабинета
министров, ликвидировать всех членов правительства и провоз-
гласить «Реставрацию Сёва». Премьер-министр Окада избежал
смерти только потому, что укрылся в гараже в саду своего дома.
Однако революционные события, приведшие к кровопролитию,
закончились только тогда, когда император отдал приказ их пре-
кратить.
Деятельность различных националистических организаций
в Японии в 1930-е годы способствовала тому, что в умах военных
и политиков стали вызревать идеи создания «Великой Восточно-
Азиатской сферы сопроцветания». Японские ультранационали-
сты в своей пропаганде умело обыгрывали тот факт, что «великие
державы представляют собой угрозу интересам безопасности
народам Восточной Азии» и что страны региона смогут выжить
только в том случае, если возьмут за образец своего националь-
ного развития пример Японии. Япония является единственной
азиатской и неевропейской страной, которая продемонстрирова-
ла пример успешной модернизации и индустриализации и пото-
му оказалась способной стать конкурентом европейских стран
и США в борьбе за сферы влияния в мире. Японские национали-
сты официально опровергали тезис о том, что Япония якобы пла-
нирует широкую экспансию в Китай, в Корею и в страны ЮВА
и их последующую колонизацию. Напротив, они утверждали, что
Япония намерена защищать народы этих стран от европейской
и американской колонизации, а создание «Великой сферы сопро-
цветания народов Восточной Азии» как раз и нацелено на объ-
единение суверенных государств ради отражения нападения со
стороны западных империалистов. Японские националисты ут-
верждали, что идея создания «Великой сферы сопроцветания
народов Восточной Азии» находится в рамках конфуцианской
идеологии патернализма, а также идеологии императорского
Синто - «Косицу синто». При этом японские националисты часто
напоминали о другой, весьма распространенной националисти-
ческой доктрине «Восемь углов под одной крышей» - «хакко
итиу», т.е. «Объединение восьми углов мира под управлением
94
императора Сёва». Вместе с тем, японские националисты пред-
почитали замалчивать факты о реальных действиях японской ар-
мии в странах Восточной Азии, которые существенно отличались
от их пропагандистских лозунгов. Штаб командования японски-
ми вооруженными силами закрывал глаза на массовые убийства
местного населения в Китае (Нанкинская резня), в Сингапуре,
в странах ЮВА (массовые убийства в Маниле), на деятельность
«Отряда 731», на использование японской армией химического
и бактериологического оружия против мирного населения.
Подъем националистических настроений в Японии в началь-
ный период Сёва находил свое выражениие также в росте раси-
стских предубеждений по отношению к другим национальностям.
Режим Сёва опирался в своей внутренней политике на пропаган-
ду расового превосходства японцев по отношению к другим на-
родам мира, на расовые теории Ямато-дамасий. Один из учителей
императора Сёва - историк Куракити Сиратори подчеркивал,
что «ничто в мире не может сравниться со священной природой
(синсэй) императорского рода и с нашей священной родиной (ко-
кутай). Именно они составляют основу превосходства японской
нации над всеми другими народами мира»64>. Многие зверства
японских националистов в Китае, на Филиппинах и в других
азиатских странах были обусловлены националистическими пред-
рассудками о якобы принадлежности японцев к высшей расе.
Японские солдаты, индоктринированные националистической
идеологией превосходства, смотрели на китайцев, филиппинцев
и другие народы ЮВА как на неполноценную расу, как на «недо-
человеков», жизнь которых ничего не стоит и потому не заслужи-
вает внимания. Именно такая националистическая идеология как
бы развязывала руки сотрудникам «Отряда 731», проводившим
бесчеловечные опыты на военнопленных. В результате жестокого
обращения с пленными накануне и в годы Второй мировой войны
японцами было убито и замучено более 200 тыс. человек.
На гребне националистической волны в японском обществе
накануне Второй мировой войны стали разворачиваться антисе-
митизм и антисемитская пропаганда. Этому в целом не свойствен-
ному японцам явлению прямо способствовало присоединение
страны 25 ноября 1936 г. к «Антикоминтерновскому пакту» -
международному договору, заключённому между Германией и
Японией, который создал двусторонний блок этих государств,
направленный против стран III Коммунистического Интернацио-
нала с целью не допустить дальнейшего распространения совет-
ского влияния в мире. В ноябре 1937 года к «Антикоминтернов-
скому пакту» присоединилась и Италия. В 1939-1940 гг. «Анти-
95
коминтерновский пакт» был превращен в открытый военный
союз, подкрепленный в дальнейшем двусторонним «Стальным
пактом» 1939 года Германии и Италии и общим для стран-участ-
ников «Берлинским пактом 1940 года». Японские националисты
умело манипулировали антисемитской идеологической картой,
не доводя, правда, преследование евреев до чисток по расовому
признаку, что имело место в фашистской Германии. Министр
иностранных дел Японии Ёсукэ Мацуока, выступая 31 декабря
1940 г. перед бизнесменами еврейской национальности в Токио,
подчеркивал, что «он отвечает за поддержание тесных отношений
между Японией и Германией, но он не давал прямых обещаний
Гитлеру проводить антисемитскую политику истребления евреев
на территории Японии»65*.
Необходимо подчеркнуть, что среди высшего звена японских
военных было немало офицеров, которые не разделяли антисе-
митской идеологии. Так, генерал-майор императорской армии
Киитиро Хигути разрешил 20 тыс. евреев въехать на территорию
Маньчжоу-Го в 1938 году, когда преследования евреев в Германии
приняли массовый характер, вплоть до их физического уничто-
жения. Его подчиненный, полковник Квантунской армии Нори-
хиро Ясуэ, обеспечивал еврейских беженцев регулярным питани-
ем, занимался их расселением в Харбине и Шанхае, а также
отвечал за выдачу им выездных виз из Китая в другие страны
мира. После войны заслуги этих двух японских высших офицеров
были по достоинству оценены руководством Израиля, и они были
приглашены на церемонию награждения почетными орденами за
помощь евреям во время Второй мировой войны.
Японский дипломат Сугихара Тиунэ, служивший в должно-
сти вице-консула Японской империи в Литовской Республике
вскоре после присоединения Литвы к Советскому Союзу, помог
более чем 6 тысячам польских и литовских евреев, бежавших от
преследования нацистов, покинуть страну. Он выдавал им тран-
зитные японские визы, по которым они могли следовать по тер-
ритории СССР на Дальний Восток и в страны Восточной и Юго-
Восточной Азии. В 1985 году за вклад в спасение евреев от
нацистов в годы Второй мировой войны правительство Израиля
присвоило Сугихара Тиунэ почетное звание «Праведник мира»66*.
Националистическая пропаганда в Японии получила новый
сильный импульс в ходе подготовки и проведения войны с Кита-
ем. В июле 1937 года в Японии была проведена всеобщая моби-
лизация среди населения для участия в этой войне. С самого
начала война с Китаем была объявлена «священной войной»,
поскольку она была санкционирована императором Сёва. Быстро
96
наступавшая в Китае в период 1937—1938 гг. японская армия
одерживала одну победу за другой, что вдохновляло японских
националистов в Токио. Японские сухопутные силы имели мень-
шее количество вооружений и артиллерии, чем армии Китая,
но японцы оказались более маневренными, а координация вой-
сками в японской армии находилась на высоком уровне. (Терри-
тория Китая была разделена тогда на две части, одну из которых
контролировала армия под командованием Мао Цзэдуна, а дру-
гую - армия под командованием националистического прави-
тельства Чан Кайши.) Стратегическое преимущество Японии в
войне с Китаем обеспечивал также третий по величине военный
флот в мире, который насчитывал 2 700 самолетов морской авиа-
ции. В самом начале войны японцы легко разгромили 29-ю армию
Китая и уже в конце июля 1937 года захватили Пекин. С этого
началось быстрое продвижение японских войск на юг, для чего
японцы в первую очередь использовали железнодорожную маги-
страль Пекин-Ханчжоу. За короткий срок уже во второй полови-
не 1937 года вся территория Китая была, по сути, оккупирована
японской армией. К октябрю 1937 года отборные китайские ар-
мии под командованием Чан Кайши потерпели сокрушительное
поражение под Шанхаем. В конце 1937 года столица южного Китая
Нанкин также была полностью захвачена японской армией.
Националистически индоктринированные японские солдаты
и офицеры участвовали в боестолкновениях с китайцами с небы-
валой жестокостью. В начале 1940 года японское командование
издало пресловутый приказ о поведении японской армии в Китае,
который гласил: «Убивать всех китайцев, сжигать всех китайцев,
грабить всех китайцев». В рамках этого приказа были убиты
миллионы мирных жителей Китая. Китайские власти, в свою
очередь, призывали сограждан начинать партизанскую войну
против японских захватчиков и оккупантов. Однако такого рода
призывы китайского руководства способствовали лишь еще боль-
шей радикализации поведения японских солдат, так как массовое
истребление мирного китайского населения проводилось ими уже
как бы «на законных основаниях», т.е. за помощь партизанам.
Очередной виток раскручивания националистической волны
в Японии непосредственно в начале Второй мировой войны со-
впал с объявлением 7 июля 1940 г. премьер-министром Японии
Фумимаро Коноэ указа о «Новой структуре нации» - Синтайсэн.
Данный документ превращал Японию в «обороняющееся госу-
дарство». В рамках «Закона о всеобщей мобилизации нации от
1938 года» правительство получило мандат на проведение любых
чрезвычайных мероприятий по законам военного времени. Все
7-5584
97
существовавшие в стране политические партии должны были
самоликвидироваться и войти в националистическую политиче-
скую «Ассоциацию помощи трону» как единственную правящую
партию власти, исповедующую тоталитарную идеологию и систе-
му ценностей. Декрет о государственной службе, а также деятель-
ность «Общественного движения за духовную мобилизацию»
были призваны консолидировать нацию для ведения войны про-
тив империалистических держав Запада. Однако правительствен-
ный указ о «Новой структуре нации», по сути провозглашавший
монархо-профашистский режим правления в Японии, не предпо-
лагал создания какой-либо фашистской партии. Он был направ-
лен на формирование разветвленной полицейско-бюрократиче-
ской сети государственных органов, содействующих деятельности
«Ассоциации помощи трону», начиная от ее руководства и кончая
ее сельскими отделениями в провинции. Во главе «Ассоциации
помощи трону» стоял премьер-министр, ее верхние этажи запол-
нялись министрами, генералами, адмиралами, высшими чинов-
никами. Через губернаторов префектур и мэров городов, а также
сельских старост Ассоциация распространяла свое идеологическое
влияние на все слои общества, включая военных и резервистов.
«Самораспустившиеся» буржуазно-помещичьи политические
партии также были включены в «новую политическую структу-
ру» путем создания в 1942 году «Политической ассоциации по-
мощи трону», которая объединяла большинство депутатов парла-
мента, весь актив партий Сэйюкай и Минсейто. Женщины были
обязаны в принудительном порядке объединиться в «Женскую
Ассоциацию обороны родины», в «Общество женщин-патриоток»,
представители интеллигенции, писатели и работники печати -
в «Патриотический союз работников печати и литературы» и пр.
Жестоко были подавлены и разгромлены все ранее созданные
организации трудящихся, распущены профсоюзы, вместо которых
было сформировано «Общество служения отечеству» во главе
с правительственными чиновниками. Законом 1938 года «О все-
общей регистрации и всеобщей мобилизации» был запрещен само-
вольный переход рабочих с одного предприятия на другое.
В рамках действия Указа «О новой структуре нации» был
пересмотрен в сторону дальнейшего ужесточения, вплоть до при-
менения смертной казни, Закон «Об охране порядка». Допол-
нительно в 1941 году был принят Закон «Об обеспечении нацио-
нальной обороны», согласно которому преследовалось всякое
«распространение сведений, наносящих вред общественному спо-
койствию и порядку». Под такие действия могли быть подведены
любые проявления общественного недовольства. Вводилась си-
98
стема повальной полицейской слежки, возрождалась с этой целью
сеть «средневековых учреждений», таких как сельские соседские
общины, которые через местные ячейки «Ассоциации помощи
трону» получали ряд административных и полицейских функций.
«Моральному воспитанию» в духе тэнноизма подвергалось
все население Японии, особенно армия. Под контроль «Ассоци-
ации помощи трону» были поставлены все средства массовой
информации. Для пропаганды великодержавных идей в 1941 году
была создана массовая националистическая организация «Во-
сточноазиатская лига великой Японии». Своеобразной «библи-
ей» тэнноизма стала в это время брошюра, изданная в 1937 году
Министерством просвещения под названием «Основные прин-
ципы императорского пути». Состоящая из канонизированных
идеологических требований, предъявляемых к «подданным вели-
кой Японской империи», и основанная на признании «божест-
венного» происхождения императорской династии, «вечной, как
Небо и Земля», она использовалась в качестве основы «мораль-
ного» воспитания и обучения в школах, университетах и пр.
«Новой структуре нации» соответствовала и «Новая экономи-
ческая структура», которая служила полному подчинению япон-
ской экономики задачам усиления военной мощи и подготовке
к войне. В соответствии с «Новой экономической структурой»
в основных отраслях промышленности, в торговле и финансах
создавались «контрольные ассоциации», принудительно объеди-
нявшие все предприятия той или иной отрасли или района в более
крупные объединения. Их возглавляли назначаемые правитель-
ством из представителей крупного капитала президенты, которым
поручался контроль над производством, снабжением сырьем,
регулирование цен, право распределять рабочую силу по пред-
приятиям и отраслям и пр. На практике это привело к установ-
лению военного режима труда для рабочих, лишало их каких бы
то ни было легальных возможностей отстаивать свои права.
В годы войны четко проявилась тенденция к сращиванию
функций административных, полицейских и военных органов
власти. Усиление централизации местного самоуправления со-
провождалось созданием надпрефектуральных органов, возглав-
ляемых сначала губернаторами крупных префектур, а затем гене-
ральными комиссарами, командующими военными округами.
Деятельность полиции поддерживалась военной жандармерией,
военизированными отрядами, создаваемыми по образцу штурмо-
вых отрядов в нацистской Германии.
Среди мер, принятых властями Японии в поддержку усиления
пропаганды идеологии государственного национализма в период
7*
99
между двумя мировыми воинами, следует упомянуть подготовку
и публикацию министерством образования 30 марта 1937 г. изда-
ния «Об основах национальной политики» - Кокутай-но Хонги.
Издание «Кокутай-но хонги» в количестве 300 тыс. экземпляров
было разослано преподавательскому составу всех школ и универ-
ситетов, директорам школ вручались специальные уведомления
о необходимости использования любой возможности для озна-
комления как можно более широкого круга читательской аудито-
рии с содержанием брошюры. До марта 1943 года был продан
1 млн. 900 тыс. официально переизданных экземпляров, к тому
же около 28 тыс. экземпляров было допечатано в частных типо-
графиях. Более 50 тыс. раз тексты брошюры воспроизводились
в других публикациях. Отдельные куски включались в учебники
для школ. Кроме того, «Кокутай-но хонги» использовалась в ка-
честве учебника и материалов для дополнительного чтения в
школах старшей ступени. Преподавателям предписывалось орга-
низовывать семинары для изучения и обсуждения материалов
брошюры. В дальнейшем вошло в обычай ссылаться на этот текст
в речах и во время церемоний национальных праздников и раз-
личных собраний.
Идеологическая суть подобного рода официальных изданий
состояла в реализации националистической идеи об исторической
миссии Японии по сооружению моста между Востоком и Западом
в рамках теории «Восемь углов под одной крышей» - Хакко итиу.
Эта идея закладывалась в сознание даже японским школьникам,
которые изучали ее на уроках истории. Академические учебники
по истории, правда, предлагали более сложный вариант этой
идеологемы, которая выступала уже под названием «Симмин-но
мити» - Народная дорога. Теория об исторической миссии япон-
ского народа была представлена также в «Национальной народ-
ной Библии», в которой содержались материалы по истории
японской нации, религии, культуре, рассказы о национальной
идеологии и цивилизационных особенностях японцев.
Японские националисты не ограничивались в период между
двумя мировыми войнами пассивной пропагандой своей идеоло-
гии. Периодически они организовывали эффектные «выступле-
ния» с одной единственной целью - привлечь к себе внимание
общества. 26 февраля 1936 г. японские военные, представленные
элитными подразделениями Первой пехотной дивизии импера-
торской армии, преприняли очередную попытку отстранить от
власти гражданское правительство как несправлявшееся с функ-
циями по подготовке Японии к мировой войне. Переворот воен-
ных, однако, провалился, они были обезоружены, а впоследствии
100
казнены. Но действия японских националистов из числа офице-
ров императорской армии, попытки гражданских властей дискре-
дитировать их в глазах рядовых японцев не прошли бесследно
для гражданского правительства Японии, которое в итоге было
вынуждено капитулировать перед высшим военным командова-
нием, остановить внутренние беспорядки и стабилизировать
внутреннюю ситуацию в стране накануне войны. Гражданское
правительство удовлетворило требования националистов об уве-
личении военного бюджета, ускорило работы по строительству
военно-морского флота, объявило о том, что не будет следовать
ограничениям, наложенным на Японию западными державами на
Вашингтонской и Лондонской конференциях по ограничению
морских вооружений. Более того, гражданские власти активно
подключились к развертыванию в обществе националистической
пропаганды в рамках подготовки к участию Японии во Второй
мйровой войне.
Японские националисты в период между двумя мировыми
войнами не были однородны по своим взглядам и убеждениям.
В их среде было немало таких, кто не разделял полностью пози-
цию наиболее радикальной части военного руководства Японии,
стремящегося де-юре установить в стране военную диктатуру,
которая и так была установлена де-факто. Высшее военное руко-
водство Японии, в свою очередь, отличалось собственными поли-
тическими пристрастиями. Так, премьер-министр Японии гене-
рал Тодзё Хидэки откровенно признавал, что нередко испытывал
трудности в поиске консенсуса с некоторыми, наиболее радикаль-
ными представителями военных кругов. Начальный период Сёва
характеризовался наличием гражданской политической оппози-
ции, которая выступала против усиливавшегося в 1930-е годы
влияния военных в жизни страны. Несмотря на то что японское
общество в целом поддерживало агрессивную внешную политику
властей в Китае, в странах ЮВА, в политических кругах была
оппозиция такому авантюристическому курсу. Хара Такаси, на-
пример, либерал из партии Риккэн Сэйюкай, выбранный на пост
премьер-министра Японии в 1918 году на волне своих заявлений
о том, что «милитаризм в Японии умер», выступал против планов
японских военных по подготовке агрессии в Китай. За свои оп-
позиционные убеждения и несогласие с военными по поводу
экспансии на российский Дальний Восток и в Северный Китай
был убит ультраправым националистом в 1921 году.
Откровенный сторонник пацифизма в правящей элите Япо-
нии барон Кидзюро Сидэхара (1872-1951) также нередко вы-
ступал с критикой воинствующей националистической идеоло-
101
гии в период между двумя мировыми войнами. Он был извест-
ным политическим деятелем, активным дипломатом межвоенно-
го периода, а также 44-м премьер-министром Японии с 9 октября
1945 г. по 22 мая 1946 г. Сидэхара выступал против вооружен-
ной интервенции Японии в Китай. Он также призывал к нор-
мализации отношений с Великобританией и США. В политиче-
ском лексиконе было даже выражение «Дипломатия Сидэхара»,
что означало либеральный курс Японии во внешней политике
в 1920-е годы. Сидэхара исходил из того, что агрессивная внешняя
политика существенно ослабляет национальный потенциал, сдер-
живает усилия властей по повышению уровня благосостояния об-
щества и по повышению международного авторитета Японии.
В оппозиции к японским националистам в 1930-е годы нахо-
дился и барон Такума Дан, директор Банка Мицуи, который ак-
тивно выступал против планов военной интервенции Японии
в Азии. Он также был известен своими проамериканскими взгля-
дами. 5 марта 1932 г. на него было совершено покушение активи-
стами «Ассоциации Лиги крови». Другой противник японского
национализма - профессор Токийского императорского универ-
ситета Минобэ Тацукити в 1935 году официально заявлял, что
император должен быть частью конституционной системы Японии,
а не национальной святыней, стоящей над государством. Трактов-
ка Основного закона, которую представлял Минобэ, пользова-
лась поддержкой значительной части японского бюрократиче-
ского аппарата в 1920-е годы. Однако усиление влияния военных
на политическую жизнь Японии в 1930-е годы привело к тому,
что позиция Минобэ подверглась жесткой критике в стенах Па-
латы пэров японского парламента и он был вынужден подать в
отставку.
Последовательным борцом с идеологией воинствующего на-
ционализма накануне Второй мировой войны был Сайто Такао -
выпускник Йельского университета, член партии Риккэн Мин-
сэйто. 2 февраля 1940 г. он выступил с речью в нижней палате
парламента, в которой подверг жесткой критике вторжение япон-
ской армии в Китай, объявленное властями Японии как «священ-
ная война» против этой страны. Он был исключен из депутатов
парламента уже 7 марта 1940 г., но изложенные им критические
замечания в адрес организаторов агрессии подтолкнули часть
парламентариев к созданию парламентской Ассоциации, члены
которой выступили за переоценку «священной войны» с Китаем.
Адмирал Такэо Такаги был одним из главных оппонентов
японского национализма в военных кругах. Он выступал против
объявления войны Соединенным Штатам Америки и по просьбе
102
министра ВМС Японии Сигэтаро Симада провел анализ причин
поражения Японии в Тихоокеанской войне в 1942 году. Выводы
доклада Такаги на уровне 1942 года свидетельствовали о неизбеж-
ном поражении Японии и во Второй мировой войне. Единствен-
ный способ избежать позорного поражения для Японии, по его
мнению, состоял в отстранении от власти правительства Хидэки
Тодзио и в заключении мирного договора с США. Такаги плани-
ровал его убийство, однако в июле 1944 года Тодзико покинул
пост премьер-министра.
Среди оппозиционеров националистической идеологии и аг-
рессивному курсу во внешней политике Японии был Дзигоро
Кано, основатель школы Дзюдо - Кодокан и современной систе-
мы школьного образования, член японского Олимпийского коми-
тета, министр иностранных дел. Опасаясь, что разработанная им
техника рукопашного боя «дзюдо» может быть использована не
в спортивных, а в военных целях, Кано обратился с просьбой
к императору не допустить распространения дзюдо как боевого
вида искусства в японской армии. Предложения такого рода сто-
или известному спортсмену жизни: японские историки до сих пор
не выяснили истинные причины его смерти в 1938 году, не исклю-
чая, впрочем, покушения на него со стороны японских национа-
листов.
В период между двумя мировыми войнами японские нацио-
налисты проявляли удивительную последовательность и целе-
устремленность в своих действиях по развертыванию национали-
стической идеологии в обществе, стремясь во что бы то ни стало
превратить Японию в авторитарное государство, не обращая вни-
мания на критику своих взглядов со стороны оппонентов из
либерального лагеря. Японские националисты в верхних эшело-
нах власти опирались в своей деятельности на «Закон о призыве
на армейскую службу», на «Закон о всеобщей патриотической
мобилизации». Несмотря на дискредитацию внешней политики
Японии после ее капитуляции во Второй мировой войне, япон-
ский государственный национализм успел пустить глубокие кор-
ни. Даже самые ярые сторонники мирного развития Японии после
войны не могли признать и согласиться с решением оккупацион-
ных властей США о виновности и ответственности императора за
военные преступления. Поэтому под давлением общественности
многие военные преступники класса «А», такие, например, как
Киси Нобусукэ, были реабилитированы. Более того, чистки в го-
сударственном аппарате и среди военных, которые проводили
оккупационные власти США, в долгосрочной перспективе не при-
вели к ожидаемым результатам: националистические настроения
103
в японском обществе, как среди политической элиты, так и среди
предпринимательского сообщества, не были искоренены полно-
стью. Вначале чистки в верхних эшелонах власти привнесли свежую
кровь в политическую систему послевоенной Японии, однако уже
в начале 1950-х годов многие консервативные, националистиче-
ски настроенные политики вновь вернулись во власть. Фактиче-
ски лишь несколько сотен сотрудников японской полиции были
уволены после войны за свои политические убеждения из органов
МВД Японии. К их числу можно прибавить еще около 1600 со-
трудников частных охранных компаний. Однако во всех японских
учреждениях после войны работали миллионы служащих, кото-
рые имели производственный опыт и соответствующую идеоло-
гическую подготовку, полученную ими накануне и в годы Второй
мировой войны. Как ни парадоксально, но их способности и тру-
довые подвиги были высоко оценены обществом в послевоенной
Японии. Именно эти кадры и обеспечили в 1950-1960-е годы
Японии быстрый экономический рост и последующее превраще-
ние ее в мировую экономическую сверхдержаву.
3. Японский национализм в период «холодной войны»
Поражение японской империи во Второй мировой войне стало
важным рубежом в развитии японского государственного нацио-
нализма, идеология которого держалась на вере в государство,
в императора, ответственного за судьбы каждого японца в самые
трудные времена истории страны. Однако капитуляция импера-
тора, позорно проигравшего войну, четко продемонстрировала
в глазах японцев тот факт, что император и государство могут
в определенных исторических условиях бросать своих граждан на
произвол судьбы и что, в конечном счете, каждый гражданин
Японии должен самостоятельно искать пути выхода из трудных
жизненных проблем. А сделать это, по мнению послевоенных
националистов, возможно было лишь при одном условии - если
нация будет единой и сплоченной перед лицом как внутренних,
так и внешних угроз. Однако решение проблемы консолидации
нации затруднялось тем решающим обстоятельством, что японцы
до конца не понимали, как они должны воспринимать себя
в новой побежденной стране: как «государевы люди» - «кокумин»
и на этой основе сплачиваться в государство-нацию по довоенно-
му образцу, или выживать как этническая нация - «миндзоку»
с опорой на свои собственные силы, находясь в двойственных,
противоречивых отношениях с государством.
104
На процесс формирования националистической идеологии
после Второй мировой войны решающее воздействие оказывали
два унизительных факта ее истории. Во-первых, утрата Японией
своего национального суверенитета в период с сентября 1945 года
по апрель 1952 года. В этот семилетний период де-юре она не яв-
лялась самостоятельным, суверенным государством, а находилась
под американской военной оккупацией и внешним управлением.
Правительством Японии, по сути, являлось Верховное командо-
вание оккупационными силами союзников (Supreme Commander
of the Allied Powers - SCAP), которое возглавлял генерал Макар-
тур. Этот внешний орган насчитывал несколько сотен граждан-
ских и военных американских советников, которые фактически
осуществляли внешнее управление страной. И во-вторых, в усло-
виях утраты Японией своей национальной независимости внеш-
ние силы в лице сотрудников штаба оккупационных сил разрабо-
тали для нее новую «неимператорскую» Конституцию, которая
изначально была написана на английском языке, но одобрена
японским парламентом страны в 1946 году. Конституция была
принята под сильным внешним давлением США, хотя де-факто
была «составлена» как бы от имени японского народа - кокумин,
что нашло свое отражение в Главе III Основного закона - «Права
и обязанности народа»67). Статья 11 гласила, что «Народ беспре-
пятственно пользуется всеми основными правами человека. Эти
основные права человека, гарантируемые народу настоящей Кон-
ституцией, предоставляются нынешнему и будущим поколе-
ниям в качестве нерушимых вечных прав»68).
После войны американцы решали для себя задачу ослабления
Японии - в идеологическом, экономическом и политическом
отношении. Они были заинтересованы внедрить в массовое со-
знание нации чуждые ей «либеральные ценности». В частности,
в новой Конституции Японии вводились нормы, размывающие
состав японской нации, расширяющие возможности граждан
других стран также считать себя японцами. Статья 10 и статья 14
прямо указывали, что «японцем» впредь мог называть себя вся-
кий гражданин, заявляющий о своей японской идентичности и
судьбе, а не только имеющий японское происхождение, японские
корни или исповедующий национальную религию. Показательно,
что, прописывая такую конституционную норму, американские
составители Основного закона, по сути, расширяли базу получе-
ния японского гражданства, допускали возможность включения
в ее состав представителей других национальностей. Делалось это
с очевидной целью - ослабить Японию изнутри, помешать воз-
рождению японского государственного национализма и воспре-
105
пятствовать консолидации нации на этой основе. Американцы не
были заинтересованы в реставрации в Японии сильного государ-
ства-нации, полностью независимого, суверенного государства,
хотя и оставляли возможности японским националистам гордить-
ся национальными традициями и историей своей страны, сохра-
нив основной националистический символ в лице императора.
Несмотря на то что в послевоенной Японии распространение
идеологии этнического национализма не было ограничено кон-
ституционно, тем не менее, процесс ее реализации властями стра-
ны столкнулся с рядом серьезных проблем. Во-первых, руковод-
ство послевоенной Японии было вынуждено маневрировать в своей
идеологической политике, попеременно чередуя использование
элементов государственного и этнического национализма довоен-
ного образца. Но действуя таким образом, японские власти ста-
новились объектом критики со стороны общественности и окку-
пационных сил за продолжение идеологической политики военного
государства. Поэтому правительство искало пути реабилитации
идеологии государственного национализма, что, в свою очередь,
затруднялось отсутствием суверенного государства в Японии
в период ее оккупации. Во-вторых, японские власти, маневрируя,
временами подменяли запрещенную пропаганду государственно-
го национализма идеологией этнического национализма, распро-
странение которого было формально разрешено американцами.
Статья 20 Конституции 1947 года гласила, что «свобода религии
гарантируется для всех». В-третьих, японские власти с трудом
находили общий язык с оккупационным командованием в общих
вопросах пропаганды националистической идеологии: американцы
отталкивались от собственных представлений об «американской
нации» как об интегрированном сообществе лиц англо-саксон-
ской национальности и не были знакомы с проблемами национа-
лизма мононационального государства, каким исторически явля-
лась Япония.
В свою очередь, и японцы имели отличные от американцев
представления о нации. Японские власти рассматривали нацию,
прежде всего, как «гомогенную структуру лиц одной и той же
национальности, системно организованных в государство-нацию
во главе с императором». Эти особенности накладывали свой от-
печаток на деятельность японских националистов после войны,
которые в своем большинстве критически воспринимали полити-
ку оккупационных властей по идеологическому разрушению
японского государства-нации. В частности, известный японский
социолог послевоенного периода Вацудзи Тэцуро в своих трудах
не раз подчеркивал, что своей «декомпозиционной» политикой
106
американцы «бьют» по самой важной части национальной идео-
логии - ее моральной составляющей, которая позволяла японцам
в их новейшей истории консолидировать нацию, индоктриниро-
ванную идеологией государственного и этнического национализ-
ма. Вацудзи выступал с критикой политики оккупационных сил,
стремившихся деморализовать японскую нацию и внедрить в мас-
совое сознание японцев чуждую им индивидуалистическую мо-
раль и западную либеральную систему ценностей69*.
Реализация властями послевоенной Японии идеологической
политики затруднялась также и тем обстоятельством, что часть
японской интеллектуальной элиты поддерживала усилия амери-
канцев в борьбе с японским довоенным государственным нацио-
нализмом. Эта интеллигенция была преимущественно представ-
лена либерально ориентированными силами, которые до и во
время войны выступали против агрессивной политики властей по
захвату чужих территорий на континенте под разного рода нацио-
налистическими лозунгами. Японские либералы были сторонни-
ками «индивидуалистического национализма» и открытыми про-
тивниками государственного национализма, отрицающего западный
индивидуализм. Они были последователями Фукудзава Юкити,
который настаивал на «отделении» государства от личности,
исходя из необходимости ее свободного, демократического разви-
тия, исключающего «государственные путы». Один из видных
послевоенных ученых-социологов, Маруяма Macao, разработал
даже теорию «мягкого национализма», которая предполагала,
с одной стороны, сотрудничество нации с государством, однако,
с другой, настаивала на сохранении социальной автономии лич-
ности от государства70*.
События послевоенных десятилетий, а именно: рост антиаме-
риканских настроений из-за насильственной пролонгации японо-
американского договора безопасности, усиление политической
и стратегической зависимости от США во внешней политике,
сохранение военных баз США на японской территории - все это,
вместе взятое, способствовало стихийному накапливанию анти-
американских настроений, а главное - формировало благоприят-
ную идеологическую среду для роста националистических настро-
ений в самых широких слоях японского общества. Власти получали
шанс активизировать пропаганду государственного национализма
в интересах консолидации нации на решении актуальных задач
экономического роста и выживания в условиях обострения конку-
рентной борьбы с великими державами на мировых рынках71*.
Если японские политики предвоенного и военного времени
ставили перед собой задачу сплотить нацию на основе преимуще-
107
ственно государственного национализма, то властям послевоен-
ной Японии не оставалось ничего иного, как опираться на исполь-
зование инструментария традиционного этнического национализма
для консолидации нации ради скорейшего восстановления эко-
номики и разрушенной японской государственности. Японские
власти были вынуждены учитывать новые послевоенные полити-
ческие реалии и считаться с интересами США в отношении ок-
купированной Японии, которые хотели видеть страну и японскую
нацию демилитаризированной, деполитизированной и деидеоло-
гизированной, без всякого «националистического привкуса».
Профессор Сато Масаюки писал по этому поводу, что оккупаци-
онные американские власти строго контролировали процесс вос-
питания и идеологической индоктринации японской молодежи
в оккупированной Японии. Поэтому они обращали особое внима-
ние на замену ее идеологических ценностных ориентиров. Через
систему школьного воспитания, а также через послевоенные СМИ
американцы стремились «выбить» из сознания молодых японцев
остатки «коллективистской» довоенной националистической идео-
логии, построенной по принципу «Япония - одна большая семья»,
и внедрить ценности «общества индивидуалистов», что являлось
одной из важнейших идеологических задач оккупационных сил
в послевоенной Японии72*.
В японском обществе сохранялись условия для возрождения
идеологии государственного национализма. Дело в том, что после
войны ни японская молодежь, ни тем более среднее и старшее
поколение в целом еще не были готовы к тому, чтобы на 180 гра-
дусов «развернуть» свое сознание от традиционной коллективист-
ской системы ценностей в сторону индивидуалистической систе-
мы и восприятия либеральных ценностей. Сразу после окончания
периода американской послевоенной оккупации известный япон-
ский исследователь проблем японского национализма Янагита
Кунио подчеркивал, что «Япония оказалась не готова к трансфор-
мации общественной японской идеологии с коллективистской на
индивидуалистическую. В послевоенном японском обществе были
единицы, кто вообще понимал, что должно происходить в массо-
вом сознании японцев под влиянием воздействия на него направ-
ленной либеральной идеологической политики оккупационных
властей США»73*. Однако усилия американцев были четко на-
правлены именно на разрушение основ государственного япон-
ского национализма и коллективистской системы ценностей.
Власти США проводили целеустремленную политику в на-
правлении насаждения в массовое сознание японцев либераль-
ных ценностей. Такая политика подразумевала в первую очередь
108
проведение реформы системы образования. Оккупационные вла-
сти США были готовы, в крайнем случае, перевести стрелки часов
на этнический национализм, на пропаганду традиционности и на-
родности в массовом сознании японцев, но при этом категориче-
ски исключить реанимацию идеологии государственного нацио-
нализма. Главной для США оставалась задача ослабления и раз-
рушения существовавших в довоенной Японии крепких связей
между нацией и государством. При этом оккупационные власти
удовлетворяли «националистические запросы» японцев, предлагая
им суррогат из традиционных ценностей. Поэтому до принятия
американской Конституции 1947 года японцы вообще не осозна-
вали себя единым государством-нацией - «кокумин». Они ощу-
щали себя просто «населением» Японских островов. Впрочем,
и после «принятия» Конституции 1947 года вплоть до 1952 года,
т.е. до подписания мирного Сан-Францисского договора, Япония
даже с формальной точки зрения не была независимым государст-
вом и понятие «нации» - «мин» просто не к чему было «присоеди-
нять», чтобы образовать понятие «государство-нацию» - «кокумин».
Американские оккупационные силы с выгодой использовали
в своих интересах тот факт, что с момента капитуляции Японии
и ликвидации в ней императорской системы в довоенном смысле
этого слова жители страны перестали чувствовать себя поддан-
ными императора - «симин». Американцы прилагали усилия
к тому, чтобы закрепить в массовом сознании японцев этот важ-
ный идеологический постулат. Они предпочитали делать это
руками самих же японцев, но противников императорской вла-
сти. Руководители КПЯ (Коммунистическая партия Японии)
Токуда Кюити и Сига Ёсио, выпущенные американцами из тюрь-
мы уже к 10 октября 1945 г., официально обратились с воззванием
к народу Японии, который они назвали «дзиммин». Американцы
не случайно предоставили широкую общественную трибуну
японским коммунистам. Они знали, что до войны руководство
КПЯ было самым последовательным критиком императорской
системы правления, обличая всю фальшь так называемых «патер-
налистских отношений» императора и народа. По иронии судьбы
японские коммунисты, выступая с антиимператорских позиций
и разоблачая неискренность императорской пропаганды, невольно
становились слепым оружием в руках американских оккупацион-
ных сил, задачей которых было ослабление Японии как сильного
конкурента Америки на Тихом океане и в мире в целом после
окончания Второй мировой войны. Остатки государственной ма-
шины довоенной Японии были уже не в состоянии отразить анти-
императорские атаки руководства Коммунистической партии Япо-
109
нии, что и было использовано оккупационными силами в их де-
ятельности по ослаблению и разрушению довоенной Японии74*.
Идеологический вакуум, образовавшийся в результате разру-
шения после войны «государства-нации», постепенно заполнялся
идеологией этнического национализма, которую приняли в усло-
виях оккупационного режима как правые, так и левые японские
националисты. Однако было очевидно, что «гроздья гнева» про-
тив американской оккупации, против насильственного распрост-
ранения чуждой японскому обществу индивидуалистической
системы ценностей не раз вызревали в японском обществе в этот
переходный период. Так, в феврале 1947 года то же самое руко-
водство КПЯ, которое американцы вслепую использовали в кам-
пании по дискредитации императорской системы правления, на этот
раз попыталось организовать в стране всеобщую национальную
забастовку против присутствия американских оккупационных сил,
которая, впрочем, была запрещена штабом Макартура. С этого
момента левые силы Японии перестали рассматривать американ-
цев как своих освободителей и сторонников в борьбе с император-
ским режимом и стали относиться к ним как к врагам нации.
Антиамериканские позиции японских левых только крепли по
мере прихода к власти в Китае КПК во главе с Мао Цзэдуном,
а также в связи с войной на Корейском полуострове. В середине
1948 года руководство КПЯ объявило о своей поддержке деятель-
ности «национального фронта Японии», который в своей пропа-
ганде руководствовался принципами этнической националисти-
ческой идеологией «миндзоку». Дискуссии по проблемам японского
этнического национализма, развернувшиеся в японских послево-
енных СМИ, не запрещались штабом оккупационных сил - отча-
сти потому, что американцы недооценивали влияние этнического
национализма на консолидацию и сплочение японской нации
после войны, отчасти потому, что данный вид национализма под-
держивался и разделялся сторонниками КПЯ, что для амери-
канцев де-факто означало отсутствие в нем милитаристского,
реакционного начала.
После подписания Сан-Францисского мирного договора в
1951 году и формального окончания периода послевоенной окку-
пации Японии внимание оккупационных сил все больше стало
привлекать появление нежелательных для США тенденций в япон-
ском обществе, сопровождавшихся попытками властей реаними-
ровать идеологию государственного национализма, институцио-
нально запустить в стране и обществе процесс строительства
государства-нации. США были обеспокоены этими явлениями
и поэтому, всячески поддерживая и стимулируя политику япон-
110
ских властей по пропаганде традиционного этнического национа-
лизма, недооценили последствия его активной пропаганды.
Индивидуалистическая идеология и либеральные ценности,
которые активно насаждали американские оккупационные силы
в массовом сознании японцев после войны, видя в ней эффектив-
ное противодействие идеологии государственного национализма,
находили понимание и поддержку у части японской интеллиген-
ции, не разделяющей идеологию государственного национализ-
ма. Интеллектуальная часть японского общества исходила из
того, что новую демилитаризированную и демократическую Япо-
нию можно построить, лишь навсегда отбросив в сторону, как
«проклятое прошлое», довоенный государственный и этнический
национализм в сознании японцев.
Японская интеллигенция, разделявшая такие взгляды, объ-
единилась в «Школу гражданского общества» - Симин сякайха.
Среди постоянных членов «Гражданского общества» были такие
известные личности, как Маруяма Macao (1914-1996) - ведущий
ученый-политолог, профессор Токийского университета, специа-
лизировавшийся на изучении теории и истории политической
мысли в Японии, Оцука Хисао - профессор экономической ис-
тории Токийского университета. Многие представители школы
являлись носителями левых, демократических убеждений, и они
исходили из того, что их научная деятельность могла бы найти
понимание и поддержку у оккупационных властей. Они полно-
стью разделяли стратегию модернизации послевоенной Японии,
проводимую американцами, рассчитывая в свою очередь на ско-
рое превращение страны в современное демократическое государ-
ство. Представители школы рассматривали период американской
оккупации как уникальный исторический шанс для Японии по-
строить, наконец, в стране подлинное демократическое государ-
ство-нацию, свободное от императорской политической системы
правления. Путь к этому они, как и американцы, видели в прове-
дении реформ массового сознания японцев и в социальных пре-
образованиях. Важным элементом их идеологических концепций
была приверженность принципам интернационализма и космо-
политизма. Они дистанцировались от идеологии национальной
избирательности, этнического партикуляризма, равно как и этни-
ческого превосходства отдельных наций. По мнению Маруяма,
например, универсализм в современном его понимании не обяза-
тельно должен ассоциироваться с западной системой ценностей,
а Хисао Оцука, в свою очередь, считал, что христианство содер-
жит набор универсальных ценностей, намного превосходящий
систему индивидуалистических ценностей западных обществ75).
111
Вместе с тем по мере того как часть японской послевоенной
академической элиты прилагала усилия к модернизации обще-
ственного сознания посредством пропаганды демократических,
универсальных либеральных ценностей, само общество все боль-
ше дрейфовало в сторону материальной, потребительской систе-
мы ценностей, которую Исида Такэси называл «тайсю сякай» -
общество простолюдинов76*. Эта новая послевоенная тенденция
в трансформации массового сознания японцев была призвана под-
готовить идеологическую почву для экономического роста с сере-
дины 1950-х годов и постепенного приобщения японцев к форми-
рованию потребительского общества. Рост японской экономики
предопределил прорыв в массовом сознании японцев, когда у них
появилась национальная гордость за экономические достижения
своей страны, которая в короткие исторические сроки оказалась
в состоянии быстро перешагнуть от всеобщей нужды и дефицита
послевоенных лет в общество массового потребления в 1960-е годы.
Насаждаемая властями Японии идеология так называемого
«экономического национализма», основанная на гордости за эко-
номические успехи страны в 1960-1970-е годы, продолжала ока-
зывать сильное влияние на массовое сознание японцев на протя-
жении последующих 40 лет. По мнению Симидзу Икутаро, одного
из самых влиятельных теоретиков японского послевоенного на-
ционализма, «это был самый важный период в развитии массово-
го националистического самосознания японцев, которые не толь-
ко перестали чувствовать себя ущербными и униженными после
позорной капитуляции Японии во Второй мировой войне и после-
военной американской оккупации, но обрели смысл существования
себя как единой нации, обрели свою национальную идентич-
ность»77). Рикки Кёрстен, директор Института по изучению ази-
атских и тихоокеанских проблем при университете Сиднея, изве-
стный специалист по проблемам японского национализма,
высоко оценивала исследования в области теории японского на-
ционализма, проведенные Симидзу Икутаро. Она, в частности,
отмечала, что если многие послевоенные японские интеллектуалы
видели в поражении Японии во Второй мировой войне уникаль-
ную возможность, наконец, отделить общество от государства
и на этой основе «рвануть вперед», то Симидзу как раз напротив -
выражал свое несогласие с такого рода оценками. Он критиковал
своих коллег за их историческую близорукость и доказывал, что
поражение Японии в войне некорректно воспринимать как нача-
ло процесса изменений ценностных ориентаций части японского
общества. По мнению Симидзу, этот процесс правильнее было бы
трактовать как коллапс традиционной японской системы ценно-
112
стей. Любое поражение в войне, по мнению Симидзу, не может
вести нацию к дальнейшему созидательному развитию. И именно
это обстоятельство являлось для ученого куда более существен-
ным, чем все послевоенные попытки отделить общество от госу-
дарства, которые так усердно пыталась осуществить американская
оккупационная администрация, стремясь окончательно разру-
шить и ослабить Японию.
Очевидно, что формирование идеологии послевоенного япон-
ского национализма было напрямую связано с поражением Японии
во Второй мировой войне, ее последующей оккупацией враждеб-
ным Японии государством, утратой суверенитета и ущемлением
независимости государства. Вместе с тем японские исследовате-
ли этого процесса называли ряд взаимоисключающих друг друга
оценок последствий поражения Японии в войне для формирования
послевоенного национализма в этой стране. Так, если Маруяма
Macao видел в поражении Японии в войне шанс для ее после-
дующего быстрого развития на фоне либерализации и демокра-
тизации общественной мысли, то Симидзу, как уже отмечалось,
рассматривал факт поражения как коллапс и дезорганизацию
японской нации. Насильственное приобщение к новой системе
ценностей (индивидуалистической взамен коллективистской),
подчеркивал он, не может приводить к позитивным результатам.
И самым большим препятствием на пути демократизации и вне-
дрения в массовое сознание либеральных ценностей в послевоен-
ной Японии, по мнению Симидзу, было не государство, а ин-
стинкт самосохранения самой нации, национальная интуиция,
диктующая сохранение традиционной, коллективистской систе-
мы ценностей как основы национального выживания78*.
Неоднозначная трактовка поражения Японии в войне и его
влияния на дальнейшее развитие японского национализма под-
толкнула японских ученых к активному обсуждению вопроса о
том, что же все-таки следует понимать под термином «японский
народ» (миндзоку, дзиммин, кокумин, тайсю), пропаганду какой
системы ценностей следует предпочесть для решения актуальных
задач послевоенного развития нации и превращения Японии
в сильное, независимое государство, как сделать так, чтобы миро-
воззрение нации менялось в сторону демократических преобра-
зований в обществе и в политической системе и в то же время,
чтобы приверженность либеральным ценностям и демократии не
разрушала бы основ японского традиционного националистиче-
ского самосознания.
На протяжении длительного исторического периода после
реставрации Мэйдзи в 1868 году государство в политических
8-5584
из
целях давало разные определения японскому народу как нации.
Так, в 1868-1889 гг. (до принятия императорской Конституции
1889 года) существовало определение японской нации как «дзим-
мин» (народ). В период 1889-1905 гг., т.е. в период ведения Япо-
нией двух войн - против Китая и царской России, японские
власти предпочитали обращаться к нации как к «симин», что в
дословном переводе на русский означало «подданные империи».
В 1905-1914 гг., до начала Первой мировой войны, государство
называло своих подданых «хэймин», т.е. «простой народ», люди
третьего сословия, оттеняя тем самым привилегированное поло-
жение в обществе «кидзоку», т.е. титулованной знати, и «сидзо-
ку» - сословие самураев. В период 1914-1923 гг. власти обраща-
лись к своему народу как к «сёмин», т.е. народные массы, рядовые
граждане. В 1923-1932 гг. в государственной пропаганде был рас-
пространен термин «дзёмин», по смыслу похожий на понятие «бра-
тья и сестры» в русском языке. В 1932-1945 гг. государство на-
зывало свой народ «кокумин» - «государевы люди», вкладывая
в это понятие в первую очередь категорию «верности и предан-
ности всех японцев своему государству». В 1945-1960 гг. власти
использовали термин «дзиммин» - «народ», как бы вновь возвра-
щаясь к терминологии постмэйдзийского периода. В 1960-1976 гг.,
т.е. в период высоких темпов экономического роста, власти назы-
вали японский народ «дзюмин», т.е. жители Японии, «постоян-
ные резиденты», постоянное население. После 1976 года и вплоть
до настоящего времени в политическом лексиконе властей преоб-
ладает термин «симин», т.е. граждане Японии. Наряду с этими
наиболее распространенными определениями понятия «японская
нация» в официальной политической лексике власти использовали
термины «миндзоку» или «кокумин», подчеркивая тем самым факт
сплоченности всего японского народа как «государства-нации»79).
Манипулирование терминологией при обращении к японской
нации, меняющейся в зависимости от исторических условий и си-
туаций, критически воспринималось в академических кругах
Японии. Так, профессор Симидзу Икутаро предпочитал называть
японский народ, используя термин «сёмин», под которым он
подразумевал «простого человека», словосочетание, введенное
в политический оборот вице-президентом США Генри Уоллесом
в 1942 году, который назвал XX век «веком простого человека» -
century of the common man. Такой подход, по мнению Симидзу, имел
то решающее преимущество, что позволял опираться при анализе
проблем послевоенного национализма на исследование японской
национальной традиции, не акцентируя внимания на расовом или
этническом превосходстве японцев по отношению к другим нациям.
114
Такая лексика, считал Симидзу, позволяла внедрять в массовое
сознание японцев мысль о том, что государство и нация в Япо-
нии - единое целое. В ней не было признаков антигосударствен-
ных настроений, присущих понятию «миндзоку» - народ, равно
как и не было намека на принадлежность всех японцев к госу-
дарству, что, отмечал Симидзу, заложено в понятии «кокумин» -
государственный (государев) человек. Симидзу, таким образом,
рассматривал свою идею идентификации «простого человека» -
«сёмин» в качестве базового фундамента построения в Японии
гражданского общества с его демократическими ценностями.
Исследователи послевоенного национализма в Японии, поми-
мо изучения вопроса о влиянии фактора поражения страны в войне
на развитие национального самосознания, пытались осмыслить
взаимосвязь в развитии гражданского общества и политики госу-
дарственного национализма. Симидзу Икутаро впервые задумался
об этом еще до войны, в 1940 году. Ученый хотел видеть в созда-
нии гражданского общества в Японии, прежде всего, неприятие
рядовыми японцами всевластия императорского государства над
их умами и судьбами. Он считал, что гражданское общество в
Японии должно представлять собой современное общество, кото-
рое формируется как оппозиция государственному абсолютизму
на путях освобождения гражданина от его пут. Разумеется, в ус-
ловиях внутреннего кризиса и враждебности к Японии со сторо-
ны других мировых держав в период 1931-1945 гг. японская ин-
теллигенция могла только мечтать о построении гражданского
общества в общепринятом понимании этого слова. Однако после
капитуляции Японии исторические условия в стране радикально
изменились, и появилась возможность реально сформировать
гражданское общество в стране, пусть и оккупированной амери-
канцами. Симидзу рассчитывал на то, что в новых исторических
условиях может измениться и содержание японского национализ-
ма как государственной идеологии.
Вопреки надеждам Симидзу, однако, из войны государство в
Японии вышло более сильным, чем общество, что резко сужало
возможности формирования гражданского общества. После вой-
ны перед японской академической элитой встала другая задача -
попытаться трансформировать национальное сознание японцев,
«изгнав из него дух всесильного самодовлеющего государства».
Поиск путей решения этой задачи взяли на себя сотрудники
Исследовательского центра XX века во главе с Симидзу Икутаро.
Вокруг ученого сгруппировалась тогда когорта его единомышлен-
ников, включая Маруяма Macao, Цуру Сигэто, Минами Хироси,
Такасима Дзэнъя и Хаяси Кэнтаро80). Симидзу и его сторонники
8*
115
исходили из того, что изменившиеся для Японии международные
условия требовали переоценки политики государства по отноше-
нию к нации, а самой нации - по отношению к государству. Уче-
ные понимали, что период американской оккупации Японии рано
или поздно закончится, комплекс национальной «неполноценно-
сти» пройдет и самосознание японцев неизбежно развернется
в сторону реанимации идеологии национализма и патриотизма.
Под последним Симидзу понимал процесс осознания японцами
своей личной независимости как первого шага на пути к реали-
зации независимости государственной и создание на этой основе
демократического государства. В 1950 году Симидзу опубликовал
свое исследование «О патриотизме (айкокусин) в гражданском
демократическом обществе»80. В 1960 году он вновь вернулся
к этой теме, но отказался от прежней теории этноцентризма -
«миндзоку тюсинсюги», предполагавшей рассмотрение этнической
основы национализма и патриотизма как противоположности го-
сударственному национализму, распространенному в довоенной
и военной Японии. Симидзу предложил рассматривать граждан-
ское общество в контексте современных институтов политически
независимого, суверенного государства-нации82*. Уже в 1980 году
Симидзу Икутаро «вбросил» в массовое сознание оригинальный
националистический лозунг - «Япония - стань государством!»
с явно антиамериканским подтекстом. Симидзу был убежден, что
только сильный государственный национализм в Японии спосо-
бен помочь государству превратиться в независимую и сильную
державу, готовую играть активную, конструктивную роль в регио-
нальных и мировых делах.
Многие теоретики национализма в послевоенной Японии
рассматривали массовые выступления японской общественности
в начале 1960-х годов против заключения нового японо-амери-
канского Договора безопасности как первое после капитуляции
страны в войне проявление зрелого националистического и пат-
риотического самосознания нации в рамках формирующегося в
послевоенной Японии гражданского общества. Объединенные на
националистической волне, японцы дружно демонстрировали
готовность отстаивать национальный суверенитет вопреки поли-
тическому давлению со стороны США. Это патриотическое дви-
жение объединило тогда самые широкие слои населения, от ле-
вых до правых политических сил, включая студентов, домохозяек
и рядовых граждан. Были, правда, и другие мнения, которые
сводились к тому, что массовый подъем националистических на-
строений в начале 1960-х годов в Японии был всего лишь стихий-
ным выступлением части общества против курса властей на со-
116
хранение политической и стратегической зависимости от Соеди-
ненных Штатов Америки. Ученые, придерживавшиеся таких взгля-
дов, считали, что японская нация на уровне 1960-х годов была еще
не готова выступить единым фронтом в борьбе за национальную
независимость от США.
В действительности, события вокруг продления японо-амери-
канского договора безопасности в I960 году показали, что нацио-
налистическая антиамериканская волна в обществе была отчасти
искусственно инспирирована и направлена японскими властями
и крупным капиталом страны. Правящие круги Японии были
просто заинтересованы оказать на Вашингтон давление и полу-
чить взамен экономические уступки. 1960-е годы, как известно,
оказались «золотым веком» для японской промышленности, ко-
торая росла в тот период небывалыми для рыночной экономики
других держав высокими темпами. Власти Японии умело направ-
ляли националистический «гнев» народных масс в выгодном для
национальных интересов направлении. При этом Токио никогда
не забывал и о политических дивидендах мощной антиамерикан-
ской националистической волны начала 1960-х годов: в глазах
многих японцев заметное улучшение их материального положе-
ния в период высоких темпов роста, стабильные рабочие места
и сохранение системы пожизненного найма при низком уровне
безработицы - все это способствовало повышению авторитета
партии власти в глазах широкой японской общественности.
Подобного рода манипуляции общественным мнением, одна-
ко, были скорее свидетельством эффективности политики вла-
стей по ускоренной реанимации в японском обществе идеологии
и практики государственного национализма, чем ростками фор-
мирования гражданского общества. Можно даже предположить,
что впервые в послевоенной истории Японии государство искус-
ственно создало и использовало благоприятные условия для воз-
рождения идеологии государственного национализма83^
Мобилизация японской общественности под националисти-
ческими знаменами в начале 1960-х годов была, по существу,
первой попыткой реанимировать после войны государственный
национализм. Уже в середине 1970-х годов государство продолжи-
ло усилия в этом направлении и стало активно внедрять в массовое
сознание японцев националистическую концепцию исключитель-
ности японской нации - «Нихондзинрон». Данная концепция не
представляла собой результат какого-либо научного поиска, и она
не была научно разработана и обоснована. Да властям это и не тре-
бовалось. Важно было то, что она целиком и полностью отвечала
задачам укрепления государственного национализма в Японии.
117
Суть данной националистической «теории» сводилась к аргу-
ментации превосходства японской нации над всеми другими
нациями в мире, она была призвана «доказать» ее уникальность.
Правда, ряд японских ученых-социологов, в частности Харуми
Бэфу, Косаку Ёсино, считали, что внедрение «теории превосход-
ства и уникальности японской нации» не столько отвечало зада-
чам укрепления государства-нации, сколько, в первую очередь,
способствовало восстановлению чувства национальной гордости,
национальной идентичности японцев, а главное - разрушало ком-
плекс неполноценности нации после поражения в войне84*. Со-
гласно их точке зрения, теория «Нихондзинрон» реанимировала
политику государственного национализма постмэйдзийской эпо-
хи 1870-х годов. Она опиралась в основном на пропаганду этниче-
ского национализма, но вместе с тем в ней широко использовалось
понятие «миндзоку» - народ. Тем самым власти хотели «напом-
нить» японскому обществу о том, что успехи в истории государ-
ства всегда были связаны с опорой на прочный фундамент еди-
нения государства и народа, нации. Иными словами, уникальность
японской нации состояла не только и не столько в особых уни-
кальных национальных традициях, культуре, расовом превосход-
стве, сколько, прежде всего, - в сплоченности нации и государ-
ства, обеспечившей Японии выживание в условиях сильнейшей
борьбы за место под солнцем с другими великими державами.
Широко пропагандируя в обществе теорию «Нихондзинрон»,
власти давали понять рядовым японцам, что перед нацией после
войны встала задача не столько построения в стране гражданско-
го общества, сколько в первую очередь создание сильного нацио-
нального государства-нации, большой японской семьи - «Japan
Incorporated». Идеология современного японского национализ-
ма, опирающегося как на свою этническую, так и на этатическую
составляющую, была именно той идеологией, той национальной
идеей, в которой.остро нуждалась послевоенная Япония ради вос-
становления прочных позиций в мировой экономике и политике.
Идеология японской исключительности «Нихондзинрон»
в японском обществе распространялась и в 1980-е годы, однако по
мере наступления эпохи глобализации и интернационализации
многим в Японии она уже стала казаться анахронизмом и была
малоуместна в глобализированном мировом сообществе. Стали
появляться исследования, в которых внимание акцентировалось
не столько на исключительности японской нации, сколько, на-
против, выискивались общие, схожие черты японцев с народами
других стран и прежде всего - европейских и США. Авторы
подобного рода исследований пытались доказать, что и японцы
118
тяготеют к ценностям потребительского общества с его индиви-
дуализмом и иной моралью, но что это и есть современное демо-
кратическое, либеральное общество. Примером такого рода иссле-
дований являются труды Фудзиока Вакао, который, изучая форми-
рование нового потребительского японского общества в эпоху
глобализации, называл его обществом «микромасс»85). Он пропо-
ведовал идеи о том, что потребительское общество отнюдь не
разрушает основы традиционной коллективистской идеологии
и системы ценностей, не воспроизводит поколения, для которых
главное состоит в удовлетворении своих примитивных матери-
альных потребностей, якобы для «обретения индивидуальной
свободы». Он аргументировал свои выводы тем, что в новом гло-
бализированном мире быстро развиваются процессы социальной
фрагментации и деморализации общества. На примере изучения
особенностей ментальности новых поколений японцев, сознание
которых сформировалось уже в период превращения Японии в
«экономическое животное» в 1970-1980-е годы, он откровенно
признавал, что у многих из них оказались атрофированными
какие-либо политические или морально-духовные интересы, а все
их жизненное пространство заполнило стремление к материаль-
ному благополучию. Фудзиока Вакао мало беспокоило, что у таких
японцев отсутствует коллективистская система ценностей, ува-
жение к традиционной японской этатической политической куль-
туре, наконец, отсутствует понятие патриотизма и национализма.
Для него было важно констатировать, что в новом глобализиро-
ванном мировом экономическом и политическом пространстве
XXI века японцам просто иного не дано и они должны будут рано
или поздно смириться с подобного рода тенденциями в мире.
Противоположной точки зрения придерживались ученые левой
ориентации. Они видели реальную возможность объединения
японской нации в рамках реанимации социалистического проекта
в Японии как разумной альтернативы «обществу потребления» с его
разрушительным индивидуализмом и аморальностью. В 1985 году
профессора университета Рицумэйкан Коянаги Кимихиро и Ка-
цураги Кэндзи в сотрудничестве с десятком своих единомышлен-
ников опубликовали многотомное исследование, посвященное
теории и практике построения социалистического, гражданского
общества в Японии86). Если исследования Фудзиока по «микро-
массам» откровенно пропагандировали ценности потребитель-
ского общества, то ученые, группировавшиеся вокруг Коянаги
и Кацураги, напротив, были сторонниками социалистической си-
стемы ценностей и коллективистской идеологии. В предисловии
к своему многотомному исследованию эти ученые писали, что видят
119
свою задачу в разъяснении широкой японской общественности
социалистического выбора для Японии как единственно правиль-
ного, позволяющего преодолеть разрушительные последствия
системного кризиса капиталистической модели воспроизводства,
особенно ярко обнаружившие себя в начале XXI века87>.
Вместе с тем было очевидно, что никакие теории социали-
стических преобразований в Японии, даже ради консолидации
нации в будущем, не могли быть приняты ее властями по понят-
ным политическим соображениям. Однако власти не снимали
с себя ответственности за решение задачи консолидации нации
в условиях всеохватывающей глобализации. Обсуждение идеи
выбора наиболее эффективных путей ее реализации в XXI веке
из кабинетов академических ученых все чаще стали переноситься
на страницы японских СМИ, книг популярных писателей, вклю-
чались в официальные выступления видных политических деяте-
лей. В японском обществе в начале XXI века была развернута ши-
рокая дискуссия о том, как правильнее следует формировать
отношения между нацией и государством с тем, чтобы, с одной
стороны, эти отношения не сковывали процесс формирования
гражданского общества и не препятствовали развитию демокра-
тии в стране, а с другой стороны, чтобы нация оставалась консо-
лидированной и сплоченной под эгидой государства. Отсюда
была понятной постановка вопроса о необходимости проведения
властями Японии более активной политики по пропаганде как
государственного национализма, так и этнического национализма.
Как отмечалось выше, пропаганда этнического национализма
в Японии была формально разрешена оккупационными властями
и потому получила свое развитие сразу после поражения в войне
на фоне запрета идеологии государственного национализма. Для
японских властей в этот период главным было не допустить идео-
логического вакуума в массовом сознании японцев и предотвра-
тить процесс разрушения государства-нации, к чему в немалой сте-
пени прикладывали усилия американские оккупационные силы.
Первой официальной «презентацией» этнического национа-
лизма в оккупированной Японии, имевшей большое политиче-
ское значение, стало публичное выступление ректора Токийского
университета Нанбара Сигэру с лекцией, которую он произнес
11 февраля 1946 г. в Токио. Лекция была посвящена проблеме:
«Создание новой японской культуры». В ней профессор Сигэру
по-новому аргументировал тезис о том, что в основе этнического
национализма в Японии всегда лежал прочный национальный
фундамент, а главным действующим лицом был «японский на-
род» - миндзоку, а не государство «кокка». По мнению Сигэру,
120
японское государство совершало военные преступления по отно-
шению к народам других стран. Именно государство, подчерки-
вал Сигэру, посылало японский народ на священную войну, хотя
японский народ по своей генетической природе - мирный народ.
Сигэру, будучи приверженцем немецкой классической филосо-
фии Фихте, а также Вильсонианского идеализма периода Первой
мировой войны, был искренне убежден, что если бы границы
государств можно было бы провести по этническому признаку,
то на земле немедленно наступил бы подлинный и устойчивый
мир. Сигэру не раз подчеркивал, что «хотя японское государство
совершило руками своего народа много преступлений во время
Второй мировой войны, но мы, японцы, принадлежим к этому
народу и к этому государству. И мы испытываем нескончаемую
любовь к нему. Из этого следует, что мы сами накажем своих
государственных преступников из числа японского народа, кото-
рые были виновны в преступлениях. И только таким путем мы
сможем восстановить доброе имя японцев во всем мире»88).
Трактовку понятия «народ», которую ввел в оборот в своем
выступлении ректор Токийского университета Нанбара Сигэру,
«подхватила» вся Япония. Она была «на ура» воспринята япон-
ским обществом. Ее охотно тиражировали популярные журналы,
книги, посвященные проблемам японского национализма в после-
военной Японии. Но что самое удивительное - запущенная по
всей стране кампания пропаганды «народного национализма»
сразу после поражении страны во Второй мировой войне была
инициирована и поддержана японскими либералами и предста-
вителями левой части политического спектра Японии. Многие
довоенные правые националисты, в том числе Кагэяма Масахару,
находились в тени и не обращались в тот период к массовой
аудитории в попытках пропагандировать свои взгляды на япон-
ский национализм89^.
Публичная лекция ректора Токийского университета имела
для послевоенных властей Японии и другое значение. Без согла-
сования со штабом оккупационных сил Макартура он дал сигнал
обществу о том, что в послевоенной Японии можно было, на свой
страх и риск, открыто обсуждать проблемы возрождения нацио-
налистической идеологии. Этот призыв нашел отклик в академи-
ческих кругах Японии, и ученые стали заинтересованно изучать
проблемы этнического национализма. Уже в 1949 году в свет
вышла книга профессора Токийского университета Симэя Маса-
мити «Теория эволюции японского народа», в которой автор
перебрасывал мост от довоенных дискуссий о «японском народе»
к послевоенному обсуждению этой проблематики в японском
121
обществе. Симэй был известным в японских научных кругах
теоретиком национализма во время войны, одним из составите-
лей многотомной коллективной монографии, вышедшей в свет в
1939 году, «Народ и война». В монографию Симэя «Теория эво-
люции японского народа» были включены лекции, которые про-
фессор читал в Императорском университете Тохоку в период
1943-1945 гг. В своей работе он прослеживал этапы изменения
национального самосознания японцев в военный и послевоенный
периоды. Исследование Симэя позволяло сделать вывод о том,
почему японский империализм получал легитимацию в нацио-
нальном сознании японского народа во время войны и как это
сознание эволюционировало в послевоенный период в условиях
оккупированной Японии. В своих работах Симэй традиционно
опирался на труды известных японских теоретиков национализ-
ма военного периода, таких как Таката Ясума, Комацу Кэнтаро
и Косака Масааки, а также широко использовал работы ведущих
европейских теоретиков либерального толка, в том числе Хобсо-
на, Мьюера и Макдугалла. Он делал это с единственной целью -
доказать обществу в послевоенной Японии, что суть националь-
ной идентичности японцев заложена в уникальном понимании
ими нации как сообщества людей, опирающегося на общность
языка, исторический опыт и общую судьбу90*. Так же как и после
Первой мировой войны, японские теоретики-либералы, к кото-
рым причислял себя и Симэй, после Второй мировой войны де-
лали акцент на важности учитывать национальные чувства япон-
цев как определяющего фактора наличия или отсутствия народа-
нации. Сам Симэй четко различал в своих трудах такие понятия,
как раса, нация и государство.
Симэй проанализировал проблемы эволюции японского эт-
нического национализма в послевоенный период, попытался оп-
ределить степень его распространения в массовом сознании япон-
цев, а также возможности властей использовать национализм
в целях консолидации нации в условиях американской оккупа-
ции. Дело в том, что в новой для японского народа (миндзоку)
исторической ситуации (утрата национального суверенитета),
именно нация, а не государство, должна была стать, по мнению
Симэя, основным носителем японского национализма. Во время
войны отношения «нации» и «государства» были критически
важными для выживания и победы Японии на полях сражения.
Симэй подчеркивал, что ошибаются те, кто думает, что государ-
ство создает и объединяет нацию. Появление нации далеко не
всегда предопределено действиями государства. Разумеется, если
политический процесс управления государством развивается ус-
122
пешно, то и формирование и консолидация нации также проте-
кают гладко. Но государство не является источником формиро-
вания и развития нации. Оно всего лишь отвечает за ее «воспи-
тание», за то, что, собственно, и является одной из важнейших
задач государственного строительства в любой стране. И в этом
смысле можно говорить о «культурной нации» - «бунка миндзо-
ку» или о «некультурной, т.е. «невоспитанной нации» - «бунка-
тэки-ни окурэта миндзоку»91*. Одну из задач при разработке те-
ории этнического национализма в послевоенной Японии Симэй
видел в том, чтобы доказать, что японцы, временно утратив
национальную независимость и суверенитет после поражения во
Второй мировой войне, тем не менее не утратили своей нацио-
нальной идентичности, которая и стала в итоге основой возрож-
дения японского национализма и японской государственности
в последующие периоды.
Другая задача при разработке Симэем теории японского
этнического национализма состояла в том, чтобы доказать от-
сутствие разрыва, т.е. преемственность эволюционного процесса
в развитии японского национализма в условиях утраты госу-
дарством-нацией национального суверенитета. Иными словами,
если государственный национализм предполагает как минимум
наличие независимого суверенного государства, которое было
в Японии в довоенные и военные годы и которое было утрачено
в период американской оккупации, то этнический национа-
лизм способен развиваться и в отсутствие независимого госу-
дарства, что, по мнению Симэя, имело место в послевоенной
Японии.
Особенности развития национализма в послевоенной Японии
рассматривались рядом ученых и с точки зрения эволюции поли-
тики японского империализма. Изучением этого аспекта после-
военного национализма в Японии занимался Вакамори Таро, кото-
рый был известен своими откровенно проимпериалисгическими
настроениями. В своем исследовании «Теория японской нации» -
«Нихон миндзокурон», опубликованном в 1947 году, Вакамори,
в частности, утверждал, что этнический национализм в Японии
всегда занимал особое место в истории японского национализма
и его развитие никогда не определялось развитием японского го-
сударства. Из этого он делал вывод, что государственный нацио-
нализм в Японии довоенного и военного образца, толкавший
японцев на военные преступления, подлинным национализмом
не являлся, а был всего лишь имитацией этнического национа-
лизма, который в своей основе никогда в Японии не носил агрес-
сивного, милитаристского характера92*.
123
Неожиданный аспект связи национализма и японского импе-
риализма увидел известный японский писатель левого толка Ку-
бокава Цурудзиро, много писавший о послевоенном национа-
лизме в Японии. В своих произведениях он обратил внимание на
то, что понятие «японская нация» использовалось властями им-
ператорской Японии для обозначения жителей в японских коло-
ниях в Восточной Азии, население которых также формально
включалось в состав японской нации. Это было необходимо япон-
ским властям для того, чтобы лишить колониальные народы
возможности использовать свой национализм в качестве инстру-
мента борьбы с японскими захватчиками и колонизаторами за
независимость от метрополии. Японские власти проводили внут-
реннюю колонизацию других народов, маскируя, таким образом,
суть своих внешних захватов и колонизацию. Кубокава не отрицал
существование этнического национализма в японском обществе,
но он критически оценивал политику части политической элиты
Японии, которая не использовала его в борьбе за достижение по-
литической независимости страны от США после окончания Вто-
рой мировой войны. Это не значит, что Кубокава призывал власти
использовать идеологию этнического национализма для борьбы
с американцами на территории Японии. Он призывал лишь от-
бросить формальный подход в оценке этнического национализма
как сугубо культурного аспекта развития нации и рассматривать
его в качестве важнейшего инструмента в борьбе за восстановле-
ние национального суверенитета и независимости страны93*.
Японские ученые левого толка исследовали проблемы япон-
ского национализма с позиций неприкрытого антиамериканизма.
Кубокава Цурудзиро, например, не скрывал своих антиамерикан-
ских настроений, что находило понимание и разделялось многи-
ми японскими послевоенными историками. Некоторые из них были
членами японской компартии. Уже на 6-м съезде КПЯ в 1947 году
был провозглашен принцип борьбы за достижение «националь-
ной независимости» от США - «миндзоку докурицу». Левые по-
литические силы в послевоенной Японии стремились привлечь
общественное внимание к активной пропаганде идеологии этниче-
ского национализма, видя в нем единственную возможность объ-
единить нацию и противостоять оккупационной политике США94*.
Левые силы в послевоенной Японии были последовательны-
ми носителями японского этнического национализма как сред-
ства борьбы за национальный суверенитет и независимость от
военной оккупации страны США. Японские левые чувствовали
свою моральную ответственность за распространение идеологии
этнического национализма в деле подъема нации на борьбу за осво-
124
бождение от военной оккупации, они активно критиковали поли-
тику властей, во многом сдавших национальные интересы в угоду
США. Таких взглядов придерживались японские историки-мар-
ксисты, в том числе Исимода Сё, Тома Сайта, Мацумото Синпа-
тиро. Они сформировали и возглавили «националистическую
фракцию» японских историков, влияние которой быстро рас-
пространилось в кругах японской послевоенной интеллигенции.
В 1951-1952 гг. в Японии проводились Конференции ученых-
историков, на которых активно обсуждались вопросы эволюции
национальной идентичности японцев как решающего фактора
развития японской истории95*.
Левые ученые-историки признавали тот факт, что «нация»
есть исторический продукт, результат исторической эволюции,
однако среди них не было консенсуса по поводу выделения исто-
рических рамок формирования нации в Японии. Исимода Сё,
например, утверждал, что японская нация сформировалась в пери-
од, предшествующий вступлению Японии в капиталистическую
формацию, т.е. до реставрации Мэйдзи в 1868 году и начала про-
цесса модернизации страны. С ним, однако, не были согласны
Иноуэ Киёси, Эгути Бокуро и Тояма Сигэки, которые, в свою
очередь, считали, что японская нация сформировалась только
в процессе развития капитализма в Японии, т.е. была продуктом
его развития96*. Несмотря, однако, на различные подходы к оценке
периода формирования японской нации, левые ученые-историки
считали, что послевоенная история Японии не столько освободи-
ла японцев от фашистской идеологии, сколько закамуфлировала
эту идеологию под «демократические» обертки. Как подчеркивал
Кубокава Цурудзиро, «если в довоенный и военный период фа-
шистская националистическая идеология и милитаризм открыто
пропагандировались властями Японии, то после войны они рас-
пространялись уже от лица нового «демократического» правле-
ния. Однако только свободная и независимая от оккупационных
властей Япония способна обеспечить подлинное демократиче-
ское развитие нации»97*.
Очевидно, что левые силы были не единственными в после-
военной Японии, кто выступал против американской оккупации,
предлагая в качестве основного метода борьбы распространение
в обществе идеологии этнического национализма. И если любые
проявления государственного национализма после войны жесто-
ко пресекались оккупационными силами, то их отношение к этни-
ческому национализму было вполне либеральным. Американцы
не принимали во внимание, что многие японские ученые, журна-
листы просто скрывали свои националистические убеждения,
125
опасаясь преследований. Ясуда Ёдзюро, как один из влиятельных
послевоенных японских ученых-националистов, был в 1948 году
даже арестован властями. Однако он не отказался от своих взгля-
дов и находил различные способы выражать свое мнение по воп-
росу утраты Японией независимости. Он писал стихи и публико-
вал их под разными псевдонимами. Он также не боялся выступать
на собраниях единомышленников с критикой властей. Он публи-
ковал свои националистические материалы в журнале Сококу
(1949—1955 гг.). Он писал, в частности, что массовое сознание
японского народа, представленного после войны в основном кре-
стьянскими массами, оставалось традиционно консервативным,
далеким от западной системы ценностей. Любые попытки искус-
ственно внедрить эту систему в традиционное японское общество,
что предпринимало правительство Мэйдзи, заканчивались неуда-
чей. Поэтому власти Японии, вместо подмены национальной идеи
и традиционной националистической идеологии, должны были
бы, по мнению Ясуда, обратиться к пропаганде разрешенного
и понятного обществу этнического национализма98*. Национали-
стические взгляды Ясуда перекликались с оценками левых исто-
риков необходимости развертывания националистической пропа-
ганды в послевоенной Японии как альтернативы распространению
западной культуры и системы ценностей. Ясуда и его единомыш-
ленники выступали за освоение Японией «третьего, серединного
пути развития», который предполагал бы дистанцирование как от
модели социалистической идеологии, распространенной в Совет-
ском Союзе и Китае, так и от американского индивидуализма.
В своих исследованиях Ясуда оставался для многих послевоен-
ных японских интеллектуалов убежденным консервативным на-
ционалистом, выступавшим с позиций этнического национализма,
и откровенным противником распространения в Японии идеоло-
гии государственного национализма.
Однако влияние и авторитет Ясуда как консервативного на-
ционалиста было серьезно подорвано нападками на него со сто-
роны левых националистов. Его одноклассник и друг Такэути
Ёсими, например, не рассматривал послевоенную Японию как
страну, способную оказать сопротивление распространению за-
падной системы ценностей в Азии, опираясь только на идеологию
этнического национализма. Такэути полагал, что роль подлинного
защитника интересов народов Восточной Азии в борьбе с амери-
канским империализмом за независимость и суверенитет мог
играть только могучий Китай, который в своей истории сам не раз
страдал от агрессии японского империализма, а после 1949 года
воссоздал себя как крепкое традиционное общество, способное
126
не разрушиться под влиянием «вестернизации». В своей борьбе
с колонизаторами Китай всегда опирался на китайский государ-
ственный национализм, в котором «народность», «коллективизм»
составляли его главную сущность. Такэути Ёсими полагал, что
и Япония могла бы взять за образец идеологию китайского госу-
дарственного национализма и поставить барьеры на пути распро-
странения западного влияния в японском обществе.
Такэути был убежден, что только идеология государственного
народного национализма «китайского образца» должна быть
инвестирована в новое послевоенное строительство государства-
нации в Японии, что только государственный национализм, ин-
доктринированный в массовое сознание японцев, способен отстоять
национальную независимость и суверенитет в условиях иност-
ранной оккупации страны. В 1951 году в своем очерке «Модер-
низация и проблемы японского национализма» Такэути критико-
вал авторов, упрекавших Ясуда за его пособничество военным
преступлениям властей в годы войны. Однако, по мнению Такэути,
Ясуда на самом деле выступал против агрессии Японии в Китае
и в другие страны Восточной и Юго-Восточной Азии, но он при-
ветствовал «освободительную» войну на Тихом океане, которую
Япония вела против политики колонизации западных стран в этом
районе мира. Такэути был уверен, что послевоенное японское об-
щество должно быть построено с опорой на идеологию «народно-
го национализма» - миндзокусюги, т.е. на основе приверженно-
сти азиатской системе ценностей в противоположность западной.
Так называемый «народный государственный национализм»
Такэути был во многом схож с идеями левых националистов
в Японии, которые также критиковали западный модернизм, под-
держивали солидарность с народами Азии, выступали против
американской оккупации Японии. В 1959 году вышла в свет еще
одна работа Такэути «Преодолевая модернизм», которая, по сути,
стала идейным манифестом массовых выступлений японской об-
щественности против антинациональной политики правящей ЛДП,
против пролонгации японо-американского договора безопасно-
сти. И хотя многие антиамериканские движения протеста были
организованы левыми силами Японии, сам Такэути не принадле-
жал к их числу. Он был представителем той части национали-
стических сил Японии, которая поддерживала распространение
идеологии «народного национализма» в послевоенном японском
обществе. Эта идеология отличалась от государственного нацио-
нализма, который пропагандировали японские власти.
В обширном списке трудов по послевоенной проблематике
японского национализма выделялись теоретические работы Така-
127
сима Дзэнъя, посвященные изучению проблем этнического нацио-
нализма под углом зрения классовой теории марксизма. Такасима
объединил в своей монографии теоретические взгляды И. Стали-
на по проблемам национализма в классовом обществе и взгляды
Исимода с его либерально-националистическими теориями. Кро-
ме того, в книге Такасима были подробно проанализированы на-
ционалистические идеи Вацудзи Тэцуро и Иманака Цугимаро,
а также консервативные теории национализма Хаяси Фусао и
Мисима Юкио. Для Такасима ключом к пониманию природы
послевоенного японского национализма являлись различия в ин-
тересах государства и собственно нации в отношении использо-
вания националистической идеологии. Национализм, по Такэсима,
предполагал, что существование нации есть главная цель суще-
ствования государства и что под «нацией» государство понимает
этнос - народ (миндзоку), который возник намного раньше, чем
политические институты государства и даже национальная куль-
тура. Такасима доказывал, что «народ» - миндзоку - есть мать,
прародительница нации, тогда как общественный класс есть
форма управления народом - «ботай тосйтэ-но миндзоку, сютай
тосйтэ-но кайкю»99).
Испытав на себе влияние представлений о нации, сформули-
рованных в трудах как либералов, так и марксистов, Такасима,
в частности, был солидарен с оценками ученых-марксистов в том,
что нация есть «конечный общественный продукт», по отноше-
нию к которому взгляды буржуазии и пролетариата совпадали.
Иными словами, несмотря на то, что два основных антагонисти-
ческих класса капиталистического общества имеют непримири-
мые противоречия в социально-экономической и политической
области, это не мешает им иметь схожие позиции в отношении
национализма, рассматривая себя как части одной и той же на-
ции, одного и того же народа. Такасима подчеркивал, что отделе-
ние нации от государства - ошибочная позиция и такого деления
можно избежать только в гражданском обществе, которое способ-
но заставить государство служить интересам широких народных
масс, а не только обслуживать интересы правящей, как правило,
буржуазной элиты.
Несмотря, однако, на то, что в понимании японских ученых-
марксистов «национал-социализм» есть «народный национа-
лизм», в реальности его не существовало в послевоенной Японии.
Отчасти это было связано с тем, что национал-социализм был
чужд послевоенной японской политической культуре, отчасти
потому, что в условиях американского оккупационного режима
дискуссии о возрождении национализма, включая и национал-
128
социализм, были запрещены и проблемы возрождения национа-
лизма рассматривались лишь в контексте этнического национа-
лизма.
Обсуждение проблем развития японского национализма в
1960-1970-е годы шло в основном по пути дискуссий об особен-
ностях национальной идентичности японцев, об их системе цен-
ностей, толкования традиций. Питер Дейл следующим образом
резюмировал характер этих дискуссий: «Самое любопытное в них
состоит в том, что, с одной стороны, японские националисты за-
являют, что в Японии существует цельная идеология национализ-
ма, а с другой, они отрицают, что национализм в Японии не имеет
никакого отношения ни к политике, ни к идеологии. После-
военная теория уникальности японской нации «Нихондзинрон»,
например, есть попытка замаскировать все разговоры о довоен-
ном государственном национализме и приукрасить его нацио-
нальными традициями и культурологическими идиомами»100*.
Такасима в своих трудах намеревался вычленить понятие
«народ» - миндзоку из теории национализма и направить дискус-
сию в культурологическое русло, однако он не сумел доказать
главного, а именно: какое отношение нация имеет к культуроло-
гической теории. По сути, он не добавил ничего нового в теорию
национализма, отличного от того, о чем говорили ведущие япон-
ские ученые в этой области после войны, начиная от сторонников
левых взглядов, таких как Исимода и Иноуэ, и кончая консерва-
тивными учеными, такими как Ясуда и Хаяси, или либералами,
как Янаихара и Нанбара. Все они четко доказывали, что понятия
«нация» и «государство» суть различные категории и объединять
их в одно понятие «государство-нация» было бы некорректно.
Японская действительность, однако, лишний раз показала, что
теория и практика национализма - различные категории, далеко
не всегда связанные друг с другом. С начала 1980-х годов япон-
ский национализм из объекта научных дискуссий и разговоров
интеллектуалов стал объектом пристального внимания полити-
ков-практиков. В политический лексикон эта идеология вошла
под названием «неонационализм». Она опиралась на достижения
Японии в экономическом развитии, с одной стороны, и на необ-
ходимость отстаивать позиции японского капитала в жесткой
конкурентной борьбе с основными партнерами Японии на мировой
арене, и прежде всего с США - с другой. Решающую роль в укреп-
лении неонационализма в этот период сыграл премьер-министр
Ясухиро Накасонэ. Он стал премьером в 1982 году, и его приход
олицетворял долгие надежды демократического крыла ЛДП на
преодоление «ненормального» послевоенного национализма Ёсиды
9-5584
129
Сигэру с его акцентами на либеральный меркантилизм как на
самодостаточную основу националистической идеи послевоен-
ной Японии. На партийном семинаре в Сидзуока в 1986 году
Накасонэ предложил однопартийцам обсудить идею нового «ли-
берального национализма», который в первую очередь олицетво-
рял бы понятие нации с послевоенным государством. Тогда На-
касонэ допустил трагическую ошибку, приравняв в одном из
своих выступлений интернационализм к «правильному национа-
лизму», под которым он понимал «миндзокусюги», т.е. народный
национализм101*. Акцент, который Накасонэ сделал на необходи-
мости распространения в обществе «народного национализма»
как «правильной» и «здоровой» формы национализма вообще,
сильно задел чувства тех японцев, которые мысленно стали воз-
вращаться к идеологии государственного национализма довоен-
ного образца.
Открыто демонстрируя свою приверженность идеологии «на-
родного национализма», Накасонэ много потерял в глазах и тех
японских националистов, которые видели в нем государственни-
ка, стремящегося поставить перед нацией новые задачи и готового
идти до конца ради их выполнения. Разворот Накасонэ в сторону
«народного национализма» выглядел довольно неожиданным,
принимая во внимание его большой политический опыт и авто-
ритет как видного послевоенного японского государственного
деятеля. Как позднее писал о позиции Накасонэ в этом вопросе
известный американский ученый-японовед Кеннет Пайл, «он всегда
искал пути сдерживания государственного национализма, неже-
ли его поощрения»102).
Накасонэ в бытность свою премьер-министром стремился
решить две задачи: содействовать обществу в обретении им своей
национальной идентичности и помочь сбросить с себя комплекс
неполноценной нации, который был индоктринирован американ-
цами в массовое сознание послевоенных поколений японцев.
Накасонэ последовательно и решительно проводил курс на обре-
тение независимой от США внешней политики. Он считал, что
Япония и японцы уже заплатили Америке свой «последний счет»
за помощь в восстановлении после войны и впредь Япония вправе
считать себя свободной во внешнеполитической деятельности от
своих обязательств перед Вашингтоном. Счеты со странами За-
пада Япония вела еще со времен окончания Первой мировой вой-
ны, когда США и ведущие европейские страны проводили поли-
тику ограничения ее флота и вооружений. Правда, в 1980-е годы
японское общество было еще не готово воспринять призывы к
возрождению идеологии государственного национализма, хотя
130
планы Накасонэ по реставрации этнического национализма так-
же в значительной степени не были осуществлены им на практике.
Однако на рубеже XX и XXI веков поддержка в обществе
народного национализма стала заметно снижаться. Отчасти паде-
ние интереса к нему в Японии после «холодной войны» было
обусловлено общественным непониманием того, по каким причи-
нам в демократической Японии вообще возникает необходимость
в оживлении идеологии национализма и почему такой видный
политический деятель послевоенной Японии, как Ясухиро Нака-
сонэ, стал инициатором этого процесса. С другой стороны, про-
изошло сильное разочарование японцев в левой идеологии, чему
в немалой степени способствовали окончание «холодной войны»
и утрата СССР позиций второй сверхдержавы в мире.
Однако главная причина постепенного снижения интереса
в обществе к этническому национализму после «холодной войны»
состояла, на наш взгляд, в вытеснении ее другой националисти-
ческой идеологией - идеологией государственного национализ-
ма, которая оказалась более востребованной в условиях растущей
социально-экономической и политической нестабильности как
внутри самой Японии, так и в системе международных отношений.
Очевидно при этом, что новая японская идеология государствен-
ного национализма - «кокуминсюги» не предполагала полного раз-
рыва или противопоставления себя этническому национализму -
«миндзокусюги», к которому нация привыкла за все послевоен-
ные десятилетия103*. Очевидно, идеология государственного нацио-
нализма оказалась более востребованной, потому что Япония
вновь оказалась в сложных для нее исторических условиях выжи-
вания, а исторический опыт говорил о том, что необходимую для
этого сплоченность и консолидацию ей может обеспечить идео-
логия государственного национализма.
Но только время покажет, насколько глубоко идеология госу-
дарственного национализма сегодня способна укорениться в япон-
ском обществе начала XXI века и какое место в ней останется
приверженцам этнического национализма.
9*
Глава 3
ВОЗРОЖДЕНИЕ ИДЕОЛОГИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛИЗМА В ЯПОНИИ
НА РУБЕЖЕ XX-XXI вв.
1. Восстановление государственного национализма
в Японии после «холодной войны»
С конца XX века японские власти заметно активизировали уси-
лия по распространению в обществе идеологии и практики госу-
дарственного национализма, сохраняя при этом и основы после-
военной идеологии этнического национализма. Как уже было
отмечено, под государственным национализмом в Японии (кок-
касюги) в отличие от этнического национализма (миндзокусюги)
понимается специфическая государственная идеология, призван-
ная консолидировать и объединить нацию, а также практика ее
применения властями страны. Японский национализм - это осо-
бый идеологический конструкт, созданный правящими элитами
с целью удовлетворения внутренних и внешних потребностей
нации и интересов правящей элиты.
Иными словами, современный японский государственный на-
ционализм есть государственная идеология, крайне востребован-
ная властью и обществом для целей выживания нации в XXI веке.
Японские власти, активизируя после «холодной войны» идеоло-
гию национализма, «рассказывают» обществу про уникальность
японской нации, про ее огромный созидательный потенциал,
а также про задачи власти по его сохранению и совершенство-
ванию. При этом правящая элита Японии всякий раз аккуратно
«намекает» нации на то, что ее выживание во враждебном миро-
вом окружении в XXI веке возможно только на путях объединения
коллективных усилий всех японцев «под руководством импера-
тора и государства» для защиты независимости и суверенитета
страны и выполнения приоритетных задач национального развития.
Таким образом, японский государственный национализм на
современном этапе его развития есть комплекс идеологических
воззрений и политической практики японских властей, в которой
центральное место отводится манипуляции массовым сознанием
японцев от имени нации и ради ее блага. Обращает на себя вни-
132
мание тот факт, что национализм и националистическая идеоло-
гия в Японии не пришли в упадок к началу XXI века вопреки
предсказываемой рядом теоретиков (например, Энтони Смитом)
понижательной траектории развития этого феномена, а напротив,
в Японии они успели набрать большие обороты. Это обусловлено,
на наш взгляд, тем решающим обстоятельством, что японские
власти и в начале XXI века видели свое историческое предназна-
чение в том, чтобы воспрепятствовать приходу в японское обще-
ство новых разрушительных глобальных сил с чуждыми японцам
идеологиями, способными взорвать единство нации и разрушить
ее «уникальность». Национализм в Японии и сегодня остается
объединительной, защитной силой. Возможно, он останется тако-
вым и в будущем. И связано это прежде всего с тем, что нацио-
нализм как государственная идеология в Японии всегда находил
и находит поддержку со стороны подавляющей части общества,
он неотделим от существования и выживания японской нации
и японского государства.
Отличительной чертой современных националистов в Япо-
нии является их особо уважительное отношение и признание
опыта традиционного довоенного национализма, который объ-
единил националистическую идеологию в системе координат
«снизу вверх», а не «сверху вниз». Поэтому современные япон-
ские националисты своим идеалом считают национализм, не спу-
щенный властями сверху в общество, а национализм, который
продуцирует и воспроизводит сама нация, который идет как бы
от самого общества, когда сама нация дозревает до осознания
своей идентичности, до появления потребности в сохранении
и защите своей особой традиционной для японского общества си-
стеме ценностей.
Современные японские власти готовы прилагать большие
усилия для укрепления «духа нации», но при этом они не наме-
рены повторять ошибки прошлого. Современная националисти-
ческая пропаганда в Японии нацелена на поддержание у японцев
устойчивой веры в силы нации и государства, на распространение
традиционной японской системы ценностей, прежде всего, среди
японской молодежи, умело работая «на длительную перспективу».
Властям Японии удается это делать эффективно несмотря на то,
что японцы много путешествуют по миру, проживают на своей тер-
ритории вместе с мигрантами из других стран, существуют в мире
широких транснациональных и глобализированных рынков, в по-
требительском обществе и в обществе массовых коммуникаций.
Японские националисты сегодня активно работают в законо-
дательных и исполнительных органах власти, в японских школах
133
и университетах. Они формируют разветвленные сети организа-
ций поддержки националистической идеологии по всей стране.
При этом японские националисты работают не в рамках элитарных
структур, деятельность которых особенно не видна на поверхно-
сти, а идут в народ, распространяют националистическую идео-
логию, корректируют школьные учебники, воздействуют через
СМИ на массовое сознание японцев.
, И надо сказать, что националистические идеи находят отклик
и понимание в японском обществе. Пока, правда, еще рано гово-
рить о том, что националистическая волна «с головой» накрыла
Японию, хотя некоторые ответственные японские ученые считают,
что процесс реанимации национализма в Японии успешно запущен
государством и пустил глубокие корни в массовом сознании0.
В Японии сегодня можно часто слышать, что кризис капита-
листической системы 1990-х годов - начала XXI века, пережи-
ваемый всеми ведущими странами Запада, включая и Японию,
открыл благоприятные возможности для появления на полити-
ческой сцене новых националистических лидеров правого толка.
Левые силы в Японии оказались неспособными на протяжении
всей второй половины XX века инкорпорировать идеи патриотиз-
ма в японское общество, что сработало на руку правым силам,
которые быстро заполнили образовавшийся вакуум. Резко сузив-
шийся идеологический спектр в парламентской практике, там, где
после войны левые партии имели стабильные позиции, сегодня
привел к тому, что в политику все больше и больше стали прихо-
дить сторонники правого, националистического толка, серьезно
радикализируя даже не столько внутреннюю, сколько внешнюю
политику Японии. Провозглашение в японском парламенте ле-
том 2009 года «законности территориальных требований к России
о возвращении Японии ее исконных территорий Южно-Куриль-
ской гряды», а также требования японского правительства в кон-
це 2009 года о «незамедлительном возвращении этих территорий
Японии» - весомое тому доказательство.
Радикализация требований современных японских национа-
листов усугубляется также и тем обстоятельством, что, находясь
во власти, они все чаще заявляют о том, что послевоенная демо-
кратизация Японии, осуществленная под давлением американских
оккупационных сил, есть не что иное, как историческая ошибка
нации, а послевоенные демократы - идеологические «враги япон-
ского народа». Японские националисты объясняют столь негатив-
ную оценку процесса демократизации в послевоенной Японии
тем, что он резко ослабил японское государство-нацию, подорвал
традиционную для японцев систему ценностей, обеспечивавшую
134
столетиями социальную стабильность и послушание японского
народа государству.
Правда, неонационалисты Японии встречают критику и со-
противление своей пропаганде со стороны тех сил, которые винят
самих националистов и ура-патриотов во всех бедах и трагедиях
японского народа, чья политика привела Японию к поражению
и национальному позору в результате капитуляции во Второй ми-
ровой войне. Таким образом, современные националисты неиз-
бежно раскалывают японское общество на сторонников сильного,
независимого, суверенного государства и демократов, готовых, по
их оценкам, идти на соглашательство и уступки по многим воп-
росам внутренней и внешней политики иностранным державам,
сохраняя на долгие годы вперед зависимое, подконтрольное по-
ложение страны от других великих держав.
Представляется, что до поры до времени японские национа-
листы будут действовать осторожно, маскируя свою идеологию
под «либеральную». Однако «либеральные платья», в которые
они сегодня переодеваются, свидетельствуют скорее о том, что
демократические ценности не чужды части японского общества
и говорить о полной победе националистических сил в Японии
в. начале XXI века было бы преждевременно.
Но, тем не менее, было бы опрометчиво не замечать опреде-
ленной опасности восстановления позиций довоенного государ-
ственного национализма в общественном сознании японцев, пусть
и видоизмененного. На распространение идеологии государствен-
ного национализма сегодня в Японии работает большая армия ква-
лифицированных специалистов идеологического фронта, включая
крупных ученых обществоведов, журналистов, либеральных по-
литиков. В Японии в последние десятилетия было выстроено
достаточно монолитное идеологическое здание со многими эле-
ментами довоенного национализма. Разумеется, активизация
деятельности различных националистических групп в современ-
ной Японии, восстановление властями страны довоенных нацио-
налистических символов еще не означают автоматического воз-
вращения довоенного государственного национализма в японское
общество. К тому же, возврата к прошлому в Японии мало кто
и хочет. Да это и невозможно сделать в полном объеме, хотя бы
потому, что интересы современных националистов лежат не в
плоскости реанимации довоенной Японии с ее агрессивным, во-
инствующим национализмом и опасным милитаризмом, а в пост-
роении «новой, сильной и независимой страны», которая для
своего выживания в XXI веке непременно должна иметь сильную
и понятную массам националистическую идеологию. Ибо после
135
«холодной войны» Япония оказалась в новом враждебном ей
международном окружении, доминирующими игроками в кото-
ром стал американский неоимпериализм и китайский неонацио-
нализм.
Власти вполне открыто проводят кампании по подъему госу-
дарственного национализма. Пересматривается содержание школь-
ных учебников по национальной истории, переосмысливается
военная история и ответственность Японии за агрессивную поли-
тику во Второй мировой войне, переоценке подвергается японская
культура и история развития японской цивилизации. Сюжеты на
данные темы наводняют телевизионные программы, выплескива-
ются на страницы наиболее популярных и читаемых журналов
(как старых, так и специально созданных для этих целей новых),
еженедельников, газет, а также иллюстрированных журналов
«манга». В обществе искусственно разворачиваются дискуссии по
весьма деликатным и чувствительным (как для самих японцев,
так и для стран - соседей Японии по Восточной и Юго-Восточной
Азии) темам, таким как ответственность лидеров страны за уча-
стие во Второй мировой войне. Такого рода дискуссии привет-
ствуются японскими националистами, которые усматривают в
них позитивные шаги в сторону поиска японцами своей новой
идентичности, очищенной от комплекса неполноценности, с ко-
торым нация прожила все послевоенные десятилетия. Правда, на-
ходятся в японском обществе и те, кто пытается бить тревогу по
поводу насильственного распространения в обществе правой,
ультранационалистической идеологии, особенно среди японской
молодежи, не пережившей ужасов войны и незнакомой с осужде-
нием международным сообществом преступлений японской ар-
мии на территории стран Азии. Но их голоса тонут в общем хоре
ура-патриотических настроений.
В современной Японии официальные власти руками нацио-
налистов пытаются восстановить довоенную национальную иден-
тичность японцев, возвращая национальные символы, которые
имели широкое распространение в довоенный и военный периоды.
Первые лица государства регулярно осуществляют ритуальные
посещения синтоистского храма Ясукуни - символа японского
воинского, патриотического духа, негласно поощряют издание
государственных учебников истории, субъективно и предвзято
интерпретирующих историю Японии, восстанавливают «мораль-
ное» образование в школе - «дотоку».
Новое поколение японцев не переживало событий Второй
мировой войны, они не могут знать и объективно оценивать дей-
ствия японской военщины на оккупированных территориях Ки-
136
тая и Кореи. Однако власти и японские националисты преподносят
японской молодежи «новую историю» Японии, как «героические»
страницы национального прошлого, когда лучшие представители
японской нации мужественно вставали на защиту независимости
и суверенитета страны.
Подъему пропаганды идеологии государственного национа-
лизма в Японии на современном этапе, безусловно, способствует
приход к власти нового поколения политиков, которые легко
принимают на вооружение правую националистическую идеоло-
гию, не имея за плечами опыта войны и рассчитывая на то, что
она действительно является наиболее эффективным средством
консолидации нации. И премьер Дзюнъитиро Койдзуми, и Таро
Асо, и Масаёси Охира, а также Ясухиро Накасонэ никогда не
скрывали своих националистических убеждений.
Идеология государственного национализма в Японии сегодня
способна составить конкуренцию традиционно популярной в япон-
ском обществе идеологии этнического национализма, прежде
всего, в силу ее наступательного характера. Можно даже сказать,
что степень ее востребованности в обществе ничуть не ниже этни-
ческого национализма, основанного на пропаганде этнической
культуры, мифов, изучении древней истории Японии. Идеология
государственного национализма как бы дополняет этнический
национализм и ни в коей мере ему не противостоит2*. К тому же,
этнический национализм был единственно разрешенной нацио-
нальной идеологией в послевоенные десятилетия, и не одно после-
военное поколение японцев к нему просто привыкло. Они доволь-
ствовались сохранением разрешенной оккупантами идеологии
этнического национализма, которая позволяла им отправлять тра-
диционные культовые обряды, проводить национальные празд-
ники и т.п.
Правящие круги Японии с удвоенной энергией активизирова-
ли пропаганду идеологии государственного национализма после
окончания «холодной войны» и погружения системы междуна-
родных отношений в хаос многополярного мира. Даже поверхно-
стный взгляд на публикации массовых японских изданий дает
основания говорить о том, что темы японского патриотизма, на-
ционализма, японской идентичности перестали быть запретными
и подвергаться цензуре властей, как это было в первые годы после
окончания Второй мировой войны. Националистическая темати-
ка сегодня присутствует даже в изданиях литературной направ-
ленности, в целом далеких от политики, в частности в широко
читаемых журналах «Рондза», «Сэкай», «Тюо корон», «Сэйрон»,
«Сапио», «Сёкун». В специальном выпуске журнала «Сапио»
137
в феврале 1998 года, например, была опубликована целая подбор-
ка материалов о государственном национализме в Японии, в том
числе статья о «футбольном национализме», интервью с режис-
сером и телевизионным продюсером Битом Такэси по поводу
японского патриотизма, а также результаты социологического
опроса, призванные свидетельствовать о том, что японцы - наи-
более патриотическая нация в мире по сравнению с десяью дру-
гими нациями, где был проведен аналогичный опрос. Название
серий комического сериала Кобаяси Ёсинори «Новая гуманисти-
ческая декларация» (Син гуманидзуму сэнгэн) говорит само за
себя: «Японцы просыпаются утром для того, чтобы оказать сопро-
тивление американцам вечером». Если кратко охарактеризовать
суть передачи, то можно сказать, что ее авторы попытались вос-
становить в массовом сознании истинно японские ценности вза-
мен навязываемых обществу на протяжении многих послевоенных
десятилетий американских ценностей, американской массовой
культуры, американского образа жизни. Передача по каналам
государственной радиовещательной корпорации Эн-Эйч-Кэй
«Правда о Нанкинской резне в Китае не есть правда» затрагивала
весьма чувствительную страницу японской предвоенной истории
и фактически оправдывала массовую резню гражданского китай-
ского населения в 1937 году, которую учинили солдаты импера-
торской армии, оккупировавшие Китай. Авторы публично крити-
ковали содержание известного памятника того времени - «Дневника
Джона Рабэ», германского бизнесмена, оказавшегося в 1937 году
в Китае и ставшего очевидцем тех трагических событий, которые
он позднее подробно описал в своем дневнике, известном как
«Дневник Рабэ». Тогда ему удалось спасти от рук японских сол-
дат около 250 тыс. мирных китайцев, которых он защищал от
имени гитлеровской Германии, будучи членом национал-социа-
листической партии и ответственным представителем Германии
в «Нанкинской зоне спасения» - убежище для жителей города3*.
В передаче японские журналисты изо всех сил стремились вы-
явить противоречия в тексте и исторические несоответствия
с документами, оставленными японскими военными по следам
тех событий4*. Цель передачи - создать у японской молодежи
новый имидж солдат японской армии в Китае, менее кровожад-
ный и более объективный.
Сам отбор исторических сюжетов для их презентации в СМИ,
а также предлагаемый «анализ» исторических событий рассчитан
на массовую аудиторию и носит предвзятый, явно заказной характер.
Он лишний раз свидетельствует о том, что с конца 1990-х годов
в Японии стартовала очередная заказанная «сверху» национали-
138
стическая кампания, призванная консолидировать нацию перед
новыми вызовами XXI века, связанными с глубоким системным
кризисом мирового капитализма.
Государство помогает СМИ в организации националистиче-
ской пропаганды. Показательно, что японские власти сотрудни-
чают с издателями новых журналов с националистической тема-
тикой. К таковым можно отнести популярный среди современной
японской молодежи журнал «Сапио», первый номер которого
вышел в свет в начале 1990-х годов. Подобная массовая литера-
тура по замыслам властей должна быть ориентирована на моло-
дежную читательскую аудиторию, которая по своим возрастным
особенностям разделяет «агрессивный стиль» подачи материалов,
но непременно должна включать в себя патриотическую пробле-
матику.
Ёсими Сунио провел исследование националистических ма-
териалов, опубликованных в массовых журналах «Спа», «Сапио»
и «Брутус». Журналист отмечает новые черты в подаче матери-
алов в этих журналах, характеризуя их содержание как «агрессив-
ный национализм»5*. Ёсими проанализировал «этапы большого
пути» распространения националистической литературы в Япо-
нии в последние полтора десятилетия, которое начиналось с об-
суждения в СМИ истории использования «комфортных женщин»
в японской армии, а заканчивалось откровенными антиамерикан-
скими, антикитайскими и антикорейскими сюжетами, регулярно
мелькавшими на страницах газет, журналов и на экранах телеви-
дения6*.
Сегодня в японских СМИ можно встретить откровенные
националистические высказывания с антиамериканским подтек-
стом известных идеологов государственного национализма, та-
ких, например, как профессор Токийского университета Фудзи-
ока Нобукацу. Рассуждая о важности активизации национализма
в Японии, он пишет, что его взгляды на необходимость пропаган-
ды идеологии национализма в японском обществе окончательно
сформировались тогда, когда он увидел, как США унижают его
страну в период первой войны в Персидском заливе в январе-
феврале 1991 года. Фудзиока убежден, что преклонение Япо-
нии перед Америкой слишком затянулось, из-за чего всю вторую
половину XX века Япония не имела независимой внешней по-
литики7*.
Целый ряд исторических событий конца XX века, а именно:
унизительная по вине США роль Японии в первой войне в Пер-
сидском заливе в 1991 году, смерть императора Хирохито в январе
1989 года, пятидесятая годовщина капитуляции Японии во Вто-
139
рой мировой войне в 1995 году - все эти события действительно
создавали благоприятную почву для выступлений японских на-
ционалистов. Японские консерваторы из ЛДП и правые полити-
ки прилагали большие усилия к тому, чтобы не только активно
пропагандировать националистические идеи Фудзиока Нобука-
цу, но и финансировать эту деятельность, переводя на его личные
счета, а также на счета ведущих националистических организа-
ций Японии большие средства по линии коммерческих структур
и частных спонсоров8*.
Националист Фудзиока имеет немало сторонников в акаде-
мических кругах. Одним из них является Кобаяси Ёсинори,
широко известный художник-мультипликатор иллюстрирован-
ного журнала «манга». Он отчаянно защищает свои национа-
листические убеждения в опубликованной им монографии «Тео-
рия войны» (Сэнсорон). Главная идея книги - это попытка
принести извинения старшему поколению японцев за их уча-
стие и гибель на фронтах Второй мировой войны. Публикация
Кобаяси дала толчок к проведению в декабре 1998 года очеред-
ного, V симпозиума «Японского общества по исправлению тек-
стов учебников национальной истории», в котором приняли уча-
стие такие видные японские националисты, как Нисио Кандзи,
Кобаяси Ёсинори, Фудзиока Нобукацу и другие члены данной
общественной организации. Раскручивая сегодня спираль нацио-
нализма, власти Японии, опираясь на часть японской интелли-
генции, пытаются провести ревизию национальной истории для
использования некоторых ее страниц в своих политических ин-
тересах.
В 1990-е годы группа японских националистов во главе с
Фудзиока Нобукацу, в которую вошли также профессор филосо-
фии и истории немецкой литературы Нисио Кандзи, историк
Такахаси Сиро, а также Кобаяси Ёсинори, организовали две на-
ционалистические организации - «Японское общество по исправ-
лению текстов учебников национальной истории» (Атарасий рэ-
киси кёкасё-о цукурукай), а также «Ассоциацию по продвижению
либеральных взглядов на историю» (Дзиюсюги сикан кэнкюкай).
Политический смысл образования этих националистических
организаций заключался в попытке привлечь внимание общест-
венности к необходимости приступить, наконец, к преподаванию
в японской школе «правильного» взгляда на историю страны,
воспитывая у молодежи национальную гордость за свою страну
и исключая «мазохистские» варианты самобичевания японской
истории, которые в изобилии присутствуют в современных учеб-
никах истории Японии9*.
140
Однако уже в 1997 году, согласно проведенным социологи-
ческим замерам в обществе, выяснилось, что власти несколько
«перегнули палку» с пропагандой национализма в японском
обществе и, вместо ожидаемой позитивной реакции на призывы
и действия националистов, популярность националистических
призывов среди населения стала заметно снижаться, а критика
«ура-патриотов» в либеральных СМИ только возросла10). Вместе
с тем это не смутило японских националистов, и они не сбавили
обороты националистической пропаганды. Более того, национа-
листы истолковали эту ситуацию как необходимость удвоить
усилия по пропаганде националистических идей в обществе в
последующий период. Опираясь на поддержку властей, в 1998-
1999 гг. японские националисты стали регулярно проводить на-
учные симпозиумы по националистической проблематике, пуб-
ликовать материалы в известных журналах «Сэйрон» и «Сёкун».
По данным на конец 1998 года, число членов «Японского обще-
ства по исправлению текстов учебников национальной истории»
уже превысило 6,5 тыс. человек, а на митинге, организованном
этим Обществом в Токио в сентябре 1998 года, приняло участие
более 2 тыс. представителей японской молодежи11).
Весьма показательна история с реанимацией исторической
роли и оценок деятельности бывшего премьер-министра Японии,
военного преступника, осужденного международным Токийским
трибуналом, Тодзио Хидэки. В июле 2007 года все японские ве-
дущие газеты, как по команде, опубликовали снимки и поместили
о нем восторженные статьи, в которых его ставили в пример как
японца, до конца выполнившего свой долг перед Родиной, кото-
рый должен всегда оставаться в народной памяти национальным
героем12). В 1978 году имя Тодзио вместе с другими 7 казненными
было высечено на плитах в синтоистском храме Ясукуни, нацио-
нальном мемориале павшим в войнах, которые вела Япония.
В 1980 году на месте приведения приговора в исполнение был
поставлен памятник национальному герою генералу Тодзио.
В июле 2007 года СМИ Японии опубликовали фотографии
внучки Тодзио - Юко Тодзио, которая регулярно посещает храм
Ясукуни и отдает дань памяти своему деду. Внучка генерала дели-
лась на страницах газет воспоминаниями о своем деде как о мягком
человеке, который писал теплые письма своей семье, разрешал ей
играть с детьми обслуживающего персонала в саду их дома в
Токио. Юко Тодзио занимает видное место в современной поли-
тической жизни Японии. Она является членом верхней палаты
японского Парламента от ЛДП, многие члены и руководство
которой разделяют националистические взгляды и поддержива-
141
ют идеи пересмотра не только школьных учебников по истории,
но и оценок поведения Японии во Второй мировой войне. Многие
видные члены руководства ЛДП, включая бывших премьеров
Синдзо Абэ Дзюнъитиро Койдзуми, мэра Токио Исихара Синта-
ро, также являются откровенными националистами. Они вы-
ступают за пересмотр конституции 1947 года, отстаивают идеи
ремилитаризации страны, ратуют за переписывание национальной
истории с исключением всего «негатива» об агрессивной полити-
ке страны и замены его материалами, восхваляющими японский
патриотизм и высокие моральные качества японцев в националь-
ной истории.
Примечательно, что подобная трактовка японской истории
была запрещена в послевоенной Японии, но сегодня она получает
поддержку общественности, которая напугана быстрым военным
строительством в Китае и КНДР, особенно развитием ядерного
и ракетного оружия. США, которые по договору безопасности не-
сут ответственность за ее обеспечение, сами всячески подталки-
вают Японию к ускоренной милитаризации. Как подчеркивает
профессор Ян Цзитон из Пекинского Университета, «национализм
в Японии окреп и только будет набирать силу в будущем»13*. Мэр
Токио Исихара Синтаро, откровенный националист, в админи-
стративном порядке требует строго наказывать школьных учите-
лей истории в случае, если они не преподают предмет с патрио-
тических позиций. Правда, сотни японских учителей не согласны
с такими требованиями властей и отказываются оправдывать зло-
деяния японской военщины в Китае или в Корее в годы Второй
мировой войны. Только в Токио в 2007 году 320 учителей были
наказаны административно и оштрафованы за отказ вставать и
салютовать японскому флагу и исполнять национальный гимн,
что сегодня требует школьный Устав. Так, учитель средней шко-
лы в Токио Кимико Нэдзу так часто нарушала школьный Устав
в этой части, что вместо положенных 58 тыс. долларов зарплаты
в год она получила всего 17 тыс. долл.14* Она сама объясняла такое
наказание со стороны администрации школы своим нежеланием
вставать при исполнении национального гимна и на уроках исто-
рии рассказывала про «комфортных женщин» в японской армии
в период Второй мировой войны, хотя на преподавание этой темы
в Японии наложено «табу». Официально комментируя подобные
истории, учительница Нэдзу отмечала, что на нее всегда оказы-
валось давление со стороны властей с тем, чтобы она строго при-
держивалась националистической идеологии в преподавании исто-
рии в школе. Такая политика властей особенно усилилась в начале
1990-х годов и стала просто невыносимой с приходом к власти
142
в Токио в 1999 году националиста Исихара Синтаро. В наказание
за непослушание власти перевели непокорную учительницу исто-
рии из обычной школы в школу для детей с отклонениями в пси-
хике. Впоследствии она была вообще уволена по приказу о непол-
ном служебном соответствии.
Националистическая кампания в Японии сегодня зашла
так далеко, что даже лидеры оппозиционной Демократической
партии в своих программных выступлениях, не стесняясь, под-
держивают ускоренное военное строительство в Японии, высту-
пают за повышение международной активности страны за рубе-
жом путем участия японской армии в миротворческих операциях.
Лидеры Демократической партии Японии стараются «не заме-
чать» подачи националистических материалов в СМИ. Они не-
официально разделяют оценки того, что история Второй мировой
войны и роль в ней Японии субъективно и предвзято освеща-
лась историками стран-победительниц, они согласны с тем, что
нужна переоценка ряда важных событий в национальной истории
с целью реабилитации в них роли как самой Японии, так и ее на-
циональных героев.
Интерпретация истории Второй мировой войны устами япон-
ских националистов выглядит примерно следующим образом:
Япония вторглась на территорию своих соседей по региону Во-
сточной Азии и совершила нападение на базу ВМФ США Перл-
Харбор в 1941 году только потому, что США задушили Японию
экономическими санкциями накануне войны. Япония приняла
вызов и участвовала в самообороне страны. Никаких агрессивных
действий со стороны Японии, никакого ее участия в империа-
листической войне в Восточной Азии и на Тихом океане не было,
как об этом искаженно пишут историки из стран антигитлеров-
ской коалиции.
Современные японские националисты считают себя сторон-
никами либерального национализма, однако их критики убежде-
ны в том, что свою пропаганду они ведут с традиционных правых
позиций государственного национализма. Это вызывает особые
опасения в обществе, так как в случае более тесного сближения
националистов с правыми радикалами в кругах правящей поли-
тической элиты и многочисленными правыми политическими
организациями внутри страны внешняя и внутренняя политика
Япония может кардинально поменять вектор своего развития
и стать опасной для своих соседей по региону Восточной Азии,
в том числе и для России15).
143
2. Причины подъема националистических настроений
в японском обществе на современном этапе
Главная причина подъема националистических настроений в
японском обществе на современном этапе, на наш взгляд, состоит
в объективной необходимости консолидировать японскую нацию
перед лицом новых вызовов, обеспечив на ближайшее будущее
социально-экономическую и политическую стабильность разви-
тия госудаства, а также укрепив национальную безопасность от
внешних угроз - реальных и виртуальных. Кроме того, активной
пропагандой националистической идеологии внутри своих стран
власти рассчитывают сплотить все слои общества на бесклассо-
вой основе и облегчить себе решение задач повышения уровня
управляемости и укрепления стабильности своих режимов.
В первую очередь, официальные круги Японии начали пугать
японскую общественность усилением внешних угроз националь-
ной безопасности, перед лицом которых нация должна сплачи-
ваться и быть готовой к отражению любой внешней агрессии,
откуда бы она ни исходила. Речь шла о гипотетических угрозах
безопасности Японии со стороны ее соседей по региону Восточ-
ной Азии. Японские власти официально заявляли, что «в Восточ-
ной Азии страна окружена недружественными государствами»,
в число которых входит Китай, Россия и КНДР, т.е. странами,
политика которых в той или иной степени направлена на ущем-
ление национальных интересов Японии. Поэтому, дескать, япон-
ская нация должна готовиться к новым вызовам и угрозам своей
безопасности, к возможному использованию силы для защиты
своих национальных интересов в регионе. А для этого нация
должна быть сплочена и едина в поддержке внутренней и внеш-
ней политики правительства16*.
Разрушение в конце XX века биполярного миропорядка вто-
рой половины столетия, формирование на границах с Японией
в Восточной Азии нового полюса силы в лице КНР, неустойчивое
внутриполитическое и экономическое развитие соседней России,
а также крайне нестабильная и взрывоопасная ситуация на Ко-
рейском полуострове, все это, вместе взятое, давало японским
властям немало оснований для оправдания курса на возрождение
в обществе консолидирующей идеологии государственного нацио-
нализма. Сознательно драматизируя международную обстановку
вокруг Японии в Восточной Азии в начале XXI века, в декабре
2010 года правящая Демократическая партия пошла даже на край-
ние меры, официально объявив о необходимости введения в стра-
не новой воинствующей доктрины национальной безопасности
144
под названием «Динамичная оборона». Такие явно провокацион-
ные формулировки оборонных доктрин не решалось объявлять
даже правительство консерваторов, которое в 1976 году сформу-
лировало относительно безобидные «Базовые принципы оборон-
ной концепции», предполагавшие для Японии обладание мини-
мумом военной силы на случай ее использования для отражения
угрозы национальной безопасности в стратегическом поле вокруг
Японии. В отличие от оборонной концепции 1976 года новая
военная доктрина Японии образца 2010 года исходила уже из
того, что Японию по всему периметру окружают враждебные ей
государства. Впервые после окончания Второй мировой войны
официальный Токио не только открыто и поименно назвал своих
потенциальных противников в Восточной Азии, сдерживание
которых требует от властей идеологической консолидации и спло-
ченности всего японского общества, но и объявил о готовности
в случае необходимости использовать военную силу для защиты
национальных интересов. Очевидно, что подобного рода воин-
ствующие демарши могут делать только те политики, которые
уверены в том, что такой курс найдет понимание и поддержку
большинства японцев. Однако очевидно и то, что такую под-
держку нужно готовить, и она возможна лишь при сформирован-
ном в обществе высоком уровне патриотизма, готовности встать
на «защиту» Родины по первому призыву властей.
Здесь уместно, на наш взгляд, отметить, что внешние угрозы
национальной безопасности по-разному воспринимаются «верха-
ми» и «низами» одной и той же нации. «Верхи» обычно заинте-
ресованы в обострении ситуации с гипотетическими угрозами,
рассчитывая на то, что таким путем они мобилизуют энергию
нации на «отпор врагу», тогда как реальные угрозы ухудшения
материального и социального положения большинства населения
можно отодвинуть на второй план. Нагнетание военной угрозы
всегда работало на консолидацию этноцентрических, патриоти-
ческих настроений в обществе. Как писал Макс Вебер, «страх
нации перед потенциальной возможностью своего разрушения
является основным движущим стимулом для ее сплочения, для
принятия мер по ее защите и роста национализма»17).
С друтой стороны, «низы» реагируют на гипотетические
внешние угрозы достаточно спокойно, далеко не всегда разделяя
«озабоченность верхов» возможностью потенциального против-
ника реализовать такие угрозы. Интуиция подсказывает им, что
оборонный потенциал нации достаточно велик, чтобы ни одна
страна-сосед в регионе Восточной Азии не решилась бы на пря-
мую агрессию. К тому же, в обществе хорошо известно, что Япо-
10-5584
145
ния не только сама тратит огромные средства для укрепления
национального оборонного потенциала, но и имеет обязательства
со стороны США как своего стратегического союзника по Дого-
вору безопасности защитить ее в случае возникновения чрезвы-
чайных обстоятельств.
Кроме того, сознание японской общественности на протяже-
нии всех послевоенных десятилетий обрабатывалось в пацифист-
ском духе. Сами власти внушали тогда своим гражданам, что
Япония - мирная держава, что она позиционирует себя в системе
международных отношений как страна «просвещенного лидер-
ства», что на нее никто не будет «нападать». Это значит, что япон-
ская нация выступала на международной арене с популярными
идеями ограничения насилия в мире, призывала к установлению
более предсказуемых международных отношений на основе норм
международного права и доверия. И подавляющее большинство
японцев всегда поддерживали такую миролюбивую политику
властей. Им импонировал имидж Японии как «просвещенного
и мирного государства», у которого не может быть серьезных вра-
гов, коль скоро сама Япония никому не угрожает18*. Поэтому
японцы с известным подозрением и недоверием относятся к на-
гнетанию властями националистической истерии в связи с угро-
зами внешнего нападения на их страну.
Вместе с тем японская общественность понимает, что мас-
штабы и глубина государственной националистической полити-
ки должны определяться наличием реальных угроз безопасности
нации, опасности для ее физического выживания и сохранения
как государства. Однако в отличие от так называемого «оборони-
тельного национализма и этноцентризма», который обычно свой-
ственен мирному периоду национальной истории, когда государ-
ство просто выстраивает заградительные идеологические барьеры
против разрушающего основы нации внешнего давления и таким
образом консолидирует нацию, «радикальный национализм»,
который осторожно пытаются использовать власти Японии, пред-
полагает объединение сил нации на решительный отпор врагу -
потенциальному или реальному уже сегодня. Очевидно, что этот
вид национализма используется властями Японии в превентив-
ных целях. Но он опасен тем, что может незаметно перерасти
в свои радикальные формы. И тогда он становится весьма опас-
ным для окружающих стран. На него могут опираться те япон-
ские политики, которые рассматривают изменения баланса сил в
региональной системе международных отношений как угрозу
своему положению, своему статусу и привилегиям. После окон-
чания «холодной войны» и разрушения биполярного мира правя-
146
щие круги Японии оказались заинтересованы в использовании
предлога внешней угрозы для оправдания радикализированного
варианта государственного национализма в обществе.
Столкнувшись с обострением внутренних социально-экономи-
ческих проблем, японские власти ищут оправдание необходимости
консолидации нации на основе националистической идеологии.
Дело в том, что в результате затянувшегося на два десятилетия
1980-1990-х годов социально-экономического кризиса в стране
позиции японской правящей элиты серьезно пошатнулись. Росло
массовое недовольство социально-экономической политикой, про-
водимой правительством консерваторов. Власти посчитали весьма
своевременным в целях стабилизации общества вновь, как это уже
не раз бывало в прошлом, обратиться к идеологии государствен-
ного национализма, утверждая что только сплоченная нация спо-
собна преодолеть любые экономические трудности, которые ждут
нацию в XXI веке. Особое внимание при этом обращалось на про-
паганду «уникальности» японской нации - «Нихондзинрон».
В большинстве случаев обществу просто навязывалась точка зре-
ния властей на политические события японской истории XX века.
Была еще одна причина повышенной необходимости в рас-
пространении националистической идеологии в Японии на рубе-
же XX-XXI вв. Дело в том, что японские власти рассчитывали
использовать подъем национализма в обществе как рычаг допол-
нительного давления на США, чтобы обрести более значимый
статус Японии в системе японо-американских отношений и укре-
пить позиции страны в неравноправном японо-американском
стратегическом партнерстве.
Парадоксальным образом, но националисты в Японии и спу-
стя более полувека оказались неспособными кардинально испра-
вить ситуацию с сохранением политической и стратегической
зависимости страны от США: Японо-американский договор без-
опасности действует, его никто не отменял, а власти как бы набрали
в рот воды. Японские националисты хранят молчание по поводу
вопиющего нарушения японского суверенитета, сохранения аме-
риканских военных баз на территории страны, подчинения внеш-
ней политики Японии глобальным и региональным интересам
США. И если иногда раздаются отдельные голоса в пользу отста-
ивания национальных интересов вне союза с США (Морита Акио
и Исихара Синтаро)19), то они тонут в море восторженных оценок
сторонников укрепления союза с США, среди которых, увы, не-
мало влиятельных японских националистов.
После «холодной войны» для Японии, по сути, должен был бы
закончиться период американской оккупации и Соединенные
ю*
147
Штаты должны были бы «отпустить» Японию в «свободное пла-
вание» в новую хаотическую и нестабильную систему между-
народных отношений многополярного мира. Однако этого не
произошло: США продолжают использовать Японию как свой
стратегический плацдарм в Восточной Азии и на Тихом океане.
Правящая элита Японии (не важно, какая политическая партия
стоит у власти - консерваторы или демократы) оказалась не го-
товой и спустя 60 лет после окончания Второй мировой войны
эффективно мобилизовать потенциал японского национализма во
имя обретения независимости от США. В то же время японские
власти не отказываются использовать национализм как рычаг
давления на США для отстаивания национальных интересов.
Они рассчитывают на то, что может наступить момент, когда
Япония мобилизует националистические, антиамериканские на-
строения в обществе и обретет, наконец, спустя многие десятиле-
тия после капитуляции во Второй мировой войне столь долго-
жданную независимость от США.
Немаловажную роль в возрождении японского государствен-
ного национализма в начале XXI века играет развернувшийся в мире
процесс глобализации и как результат - защитная реакция на него
японских националистов. Противниками глобализации в первую
очередь являются националистически настроенные представите-
ли крупного национального капитала Японии, президенты бан-
ков, лидеры корпораций, которые всячески сопротивляются по-
глощению страны в сметающие все на своем пути бурные потоки
глобализации. Объяснение в целом негативной реакции японских
националистических кругов, включая и предпринимательские кру-
ги, на процесс глобализации можно найти в работах современных
постмодернистов. Дело в том, что, как отмечает известный бри-
танский истории Эрик Хобсбаум, по мере распространения гло-
бализации и поглощения ею государств-наций национализм
перестает быть фактором развития суверенного государства. Еще
в 1990 году он писал, что «в эпоху глобализации государства-нации
уходят с политической арены мира, они поглощаются наднацио-
нальными структурами и становятся частью глобального мирово-
го пространства»20*. Процесс глобальной перестройки действитель-
но меняет национальный состав государства в сторону размывания
титульной нации, фрагментирует национальную идентичность,
ослабляет экономический суверенитет нации, усиливает полити-
ческую зависимость государств-наций от влияния ТНК.
Вместе с тем японские националисты убеждены, что глобали-
зация не в силах побудить власти суверенного государства отка-
заться от национальных выгод в угоду интересам ТНК. В условиях
148
глобализации ни национализм, ни государства-нации никуда не
исчезают. Поэтому Япония намерена в условиях глобализации
активнее использовать национализм для повышения междуна-
родного авторитета страны, для утверждения ее в качестве силь-
ной мировой державы. Окончание «холодной войны» совпало
с заметно ухудшившимися для Японии условиями экономическо-
го воспроизводства - выросла конкуренция со стороны Китая,
Южной Кореи. К тому же, Япония перестала чувствовать себя
самым важным стратегическим союзником США в Восточной Азии
для сдерживания Китая и России на Дальнем Востоке, а период
быстрых темпов развития ее экономики, по сути, закончился.
Японским властям сегодня сложно сдерживать обещания перед
нацией о повышении жизненного уровня японцев, о создании
новых рабочих мест и т.п. Отсюда - стремление к реанимации
государственного национализма, националистической идеологии,
призванных сыграть роль эффективного средства национального
самоутверждения.
Японские националисты опасаются, что в один прекрасный
день на смену национализму в Японию может прийти космо-
политическая культура, чуждая по своей природе национальной
японской идентичности. Подобного рода высказывания отнюдь
нередки со стороны ученых постмодернистов, которые предве-
щают замену национальных государств и националистической
идеологии глобальными организациями управления с идеологи-
ей космополитизма и интернационализма. Такие исследователи,
как Зигмунт Бауманн и Дональд Хорн, например, вообще готовы
отправить национализм в «огромный музей» истории для тури-
стов! !!21)
Представляется, однако, что японский государственный на-
ционализм выдержит любые испытания и выстоит под напором
глобализации, потому что власти страны не утратили способно-
сти управлять «государством-нацией» и не намерены доброволь-
но сдавать свои управленческие функции каким-либо наднацио-
нальным органам управления. Трудно представить себе и отказ
правящей элиты Японии от национальной идеологии и нацио-
нальной идентичности в пользу идеологии космополитизма.
Нереальным выглядит также и предположение об утрате Японией
экономического суверенитета. Словом, Японию, как великую ми-
ровую экономическую державу, трудно себе представить объектом
«поглощения» глобализма. Япония подстрахована на этот счет
глубоким проникновением государства в политическую, эконо-
мическую и социально-культурную сферу, особенно в таких обла-
стях, как всеобщее образование, массовая коммуникация, здраво-
149
охранение и социальное обеспечение. Такая государственная
экспансия легитимировала себя, опираясь на глубоко внедренную
в массовое сознание националистическую идеологию, которая
в известной мере компенсировала сохраняющуюся политическую
и экономическую зависимость Японии от США.
Правда, ученые-модернисты нередко пытаются убедить миро-
вую общественность в том, что тенденции утраты управляемо-
сти национальными государствами, напротив, набирают обороты,
а потому национализм, национальная идентичность медленно,
но верно замещается наднациональной и/или глобальной иден-
тичностью и объединениями. В доказательство они приводят фак-
торы, которые «работают» на этот процесс. Стивен Кастельс, на-
пример, убежден, что национальное государство «становится все
более нерелевантным (несущественным) как на экономическом
поле, так и на культурном уровне» по причине растущей эконо-
мической взаимозависимости и культурной интернационализа-
ции»22>. На примере такого мультикультурного государства, как
Австралия, он делает вывод, что попытки обращения к примор-
диальным темам национализма там терпят провал из-за нехватки
героических мифов и слабого влияния иммигрантов на местную
культуру, а укрепление австралийского национализма на «герои-
ческой истории» австралийских аборигенов просто лишено для
властей всякого смысла.
Сильным доводом постмодернистов в пользу неизбежного
«растворения» национального государства и национализма во
всемирной глобализации считается также и тот факт, что массо-
вые коммуникации и электронные технологии порождают гло-
бальную потребительскую культуру, которая, в свою очередь,
делает национальные культуры все более открытыми, похожими
друг на друга и даже ненужными. По утверждениям некоторых
ученых, идея «глобальной культуры» может рассматриваться как
еще одна форма «потребительского империализма». Она действу-
ет сквозь призму средств культурной коммуникации и, хотя вы-
дает себя за универсальную, на деле имеет четко выраженное
происхождение из одного-двух источников - Соединенных Шта-
тов Америки и Великобритании23*.
Правящие круги Японии, как могут, противостоят глобальной
экспансии международных ТНК. И в этом они также рассчиты-
вают опереться на идеологию государственного национализма, на
традиционную национальную культуру, столь богатую историче-
скими традициями. Власти также поддерживают специфический
образ жизни нации, который остается неповторимым для других
стран. Япония использует электронные средства коммуникаций
150
в интересах укрепления старых этнических идентичностей и со-
здания новых. На экранах телевидения и на дисплеях детских
электронных компьютеров (например, Нинтэндо) в большом
количестве присутствуют национальные компоненты - истори-
ческие драмы, инсценировки национальных мифов и легенд,
исторические сериалы. В эпоху добровольных сетей социального
взаимодействия, основанных на потребностях индивидуумов,
этнонациональная организация (типа «одноклассников», «кон-
тактов») служит важным каналом для выражения индивидуаль-
ной идентификации и в то же время национальной солидарности,
потому что она отвечает человеческим потребностям оставаться
в коллективе, что приобретает особое значение в современном
обществе индивидуалистов и попросту одиноких людей. Опираясь
на японский язык, национальную культуру и древнюю историю,
японские националисты формируют у молодежи, которая наибо-
лее приспособлена и активна в потреблении электронной инфор-
мации, националистическую идеологию и националистические
ценности. Япония держит удар глобализма и не превратится в поле
битвы с космополитизмом на своей территории24*.
После «холодной войны» японские власти проявляли заинте-
ресованность в приливе националистической волны в обществе
по причинам как внутреннего, так и внешнего свойства. Искусст-
венно вызванный подъем национализма в Японии после «холод-
ной войны» можно рассматривать как вынужденное средство,
к которому прибегают правящие элиты для укрепления своей вла-
сти и демонстрации внутренней сплоченности и единства нации.
Разумеется, раскручивание националистической спирали способ-
но усиливать международную напряженность и даже спровоциро-
вать риски международных конфликтов. Поэтому применительно
к государственному японскому национализму 1990-х годов - на-
чала XXI века корректнее говорить о его преимущественном пред-
назначении для внутриполитических целей, и в гораздо меньшей
степени - для использования во внешней политике.
3. Дискуссии в японском обществе по поводу
необходимости возрождения идеологии
государственного национализма в XXI в.
В 1990-е годы и в начале XXI века в японском обществе развер-
нулась дискуссия по поводу необходимости возрождения нацио-
налистического духа нации, а также усиления патриотического
воспитания молодежи.
151
Необходимо подчеркнуть, что в современном японском обще-
стве нет влиятельных политических сил, которые вообще катего-
рически отрицали бы необходимость распространения идеологии
государственного национализма. Дискуссии идут лишь о формах
и содержании националистической пропаганды, о взаимоотноше-
ниях общества и государства. Поэтому одной из основных дискус-
сионных проблем о современном японском национализме стал
вопрос о необходимости восстановления правильных, гармонич-
ных, т.е. неконфронтационных отношений между народом и вла-
стью, которые существовали в японском обществе после рестав-
рации Мэйдзи. По мнению одного из ведущих специалистов
в области японского национализма Асаба Митиаки, «Япония се-
годня находится в периоде затянувшегося на многие десятилетия
после Второй мировой войны процесса становления современно-
го независимого государства. Японцы хотят восстановить незави-
симое государство, восстановить национальный силовой потен-
циал. Об этом нельзя было думать в послевоенные годы, так как
это было запрещено оккупационными властями. Сегодня нация
нуждается в гармонизации государственного самосознания (кок-
ка исики) и суверенного независимого развития (сютайсэй). Это
и есть государственный японский национализм начала XXI в.»25).
Асаба, безусловно, прав, когда пишет, что в своем подсозна-
нии японцы после поражения в войне требовали к себе уважения
как к нации, призывали власти сохранить нацию, ее независимость
и суверенитет. Природа современного национализма в Японии
как раз и заключается в появлении у членов общества граждан-
ского чувства ответственности за защиту национальных интересов.
Асаба считает, что важным проявлением растущей потребности
нации в самоуважении является развитие в обществе националь-
ной попкультуры, включая комиксы (манга), демонстрацию на-
ционалистических художественных фильмов, публикацию книг
по научной фантастике, в которой Япония выступает как сильная
и независимая от США мировая держава. Подчиненную роль
в дискуссиях о национализме, по мнению Асаба, должно играть
обсуждение теоретических проблем развития и изменений в со-
держании японского национализма, публикации академических
исследований по националистической проблематике и т.п. Асаба
верно передает самую важную черту всех имеющих место обсуж-
дений в обществе проблем современного японского национализма:
националистические настроения японцев формируют не акаде-
мические дискуссии, а журналисты и политики, которые расстав-
ляют нужные акценты в патриотическом воспитании молодого
поколения японцев.
152
Водоразделом в обсуждении проблем японского национализ-
ма после «холодной войны» стали события, связанные с первой
войной в Персидском заливе 1991 года и участием в ней Японии,
которое ограничилось «чековой дипломатией», т.е. материальной
компенсацией ее прямого «неучастия» в конфликте. Но Япония
и не могла поступить иначе. Японские политики были едины во
мнении, что Конституция 1947 года категорически запрещает
Японии посылать свои войска за пределы национальных границ.
Власти Японии не побоялись тогда остаться в международной
изоляции, но отстояли демократические принципы соблюдения
конституционных норм и не создали опасного прецедента на
будущее. Иными словами, тогда Япония проявила свою полити-
ческую самомостоятельность и известное «непослушание», не-
смотря на оказанное на нее давление со стороны США.
Популярной темой дискуссий о возрождении национализма
в Японии является вопрос о том, а не пора ли ей, наконец, стать
«нормальным государством». Впервые эту тему поднял в своей
работе Одзава Итиро, один из известных и популярных японских
политиков 1990-х годов. В 1993 году он опубликовал монографию
«Горизонты новой Японии», которая сразу стала своего рода
манифестом «нормального государства» - «Фуцу-но куни», ибо
именно такой Японию хотели бы видеть многие японские наци-
онал исты26>. Смысл публикации «Манифеста» о превращении
Японии в «нормальное государство» заключался в том, чтобы
объединить в одно целое государство и нацию и на этой основе
построить «здоровый японский государственный национализм»
(кэндзэнна кокуминсюги ). Если Ясухиро Накасонэ являлся боль-
ше сторонником придания второго дыхания этническому нацио-
нализму в Японии (миндзокусюги), то Одзава решительно вы-
ступил за распространение в стране именно «здорового государ-
ственного национализма». Япония, по мнению Одзавы, должна
действовать на международной арене как суверенное, незави-
симое государство, переписав американскую Конституцию для
Японии 1947 года и исправив ошибочное толкование «Доктрины
Йосида», в соответствии с которой Япония должна «на вечные
времена» отказаться от права на самооборону27*.
В своей работе Одзава задался вопросом, а что, собственно,
«должна сделать Япония, чтобы превратиться в настоящую ми-
ровую державу и стать "‘нормальной страной”». Но что такое
«нормальная страна»? Одзава подчеркивает, что «“нормальной”
страна становится, тогда, когда берет на себя международную
ответственность как полноценный субъект мирового сообщест-
ва. Она не отказывается нести на своих плечах часть бремени
153
мирового сообщества, даже в ущерб внутренней нестабильности.
Но при этом она не должна поддаваться «международному дав-
лению», а действовать исключительно в своих национальных ин-
тересах»28*.
В дискуссии о государственном национализме Одзава нигде
открыто не призывает к его восстановлению в Японии. Но при
этом он избегает говорить языком «этнического националиста»,
как, например, Ясухиро Накасонэ, т.е. не призывает японцев стать
членами либеральной нации, в которой превыше всего ценятся
индивидуальные, а не коллективистские ценности29*. Одзава за-
вуалированно призывает шире внедрять в японское общество
именно эти ценности, которые он формулирует простой идеоло-
гемой государственного национализма - «один за всех и все за
одного». При этом Одзава подчеркивает, что не государство «да-
рует» обществу демократию, объявляя демократию высшей цен-
ностью и государство ее носителем, а само общество должно
дойти до понимания демократии и выгод, которые в ней заложе-
ны для каждого отдельно взятого японца. Одзава пишет, что
«основная причина дефицита независимости японцев лежит в
поведении самих японцев. До тех пор, пока граждане Японии
будут неспособны взять на себя ответственность, до тех пор мы
будем жить в квазидемократическом государстве, независимо от
того, сколько политиков или чиновников будут заявлять о том,
что они стараются управлять страной в соответствии с демокра-
тическими нормами»30*.
Одзава убежден, что не только демократия находится в руках
общества, но и идеология национализма также есть неотъемлемая
его черта, ибо она является особым путем общественного поведе-
ния граждан, когда нация сама выстраивает для себя комфорт-
ную систему политических, этических и гражданских ценностей.
И такая общественная пирамида имеет крепкое основание, ибо
она строится снизу вверх, а не сверху вниз. Одзава, вместе с тем,
считает, что не имеет смысла сидеть сложа руки и ждать, пока
такое основание общественной пирамиды построится само собой,
спонтанно. Для его сооружения необходимы коллективные уси-
лия всего общества и власти, объединенных националистической
идеей, построенной на основе коллективистской, а не индивиду-
алистической системы ценностей.
Свою точку зрения о необходимости активизации в японском
обществе националистической идеологии высказывает также
другой активный участник дискуссии, известный японский поли-
тик и государственный деятель Синдзо Абэ, сын бывшего мини-
стра иностранных дел и внук бывшего премьер-министра. Абэ
154
принадлежит к послевоенному поколению японских политиков
(родился он в сентябре 1954 года), не знавших ужасов Второй ми-
ровой войны и лично ни в какой форме не участвовавших в рас-
пространении националистической идеологии довоенного и после-
военного образца. Вместе с тем по своим политическим убеж-
дениям Абэ является сторонником идеологии государственного
национализма. Накануне своего избрания премьер-министром
в сентябре 2006 года Абэ опубликовал работу под названием
«Навстречу прекрасной стране» (Уцукусий куни-э), в которой он
продолжил развивать идеи Одзава и Накасонэ о необходимости
распространения в японском обществе идеологии «здорового на-
ционализма», под которым он лично понимает государственный
национализм. Правда, в отличие от Накасонэ, сторонника этни-
ческого национализма, Абэ выступает за продолжение линии
Одзава на превращение Японии в сильное государство-нацию
в XXI веке. Несмотря на то, что Синдзо Абэ, так же как Ёсимото
и Асаба, использует для обозначения государственного национализ-
ма заимствованный термин «насёнаридзуму» (от английского -
Nationalism), знакомство с произведением Абэ не оставляет сомне-
ний в том, что он является откровенным приверженцем идеологии
именно государственного национализма, основанного на цен-
ностях гражданского общества, патриотическом воспитании мо-
лодежи и ставящего коллективистские ценности нации выше
либеральных, индивидуалистических свобод. Абэ предпочитает
использовать в своей монографии термин «кокуминсюги» (госу-
дарственный национализм), имея в виду необходимость постро-
ения сильного государства-нации, а не рыхлое «этническое обще-
ство» - «миндзоку сякай».
В своей программной работе Абэ четко формулировал свое
идеологическое кредо: быть японским националистом значит ува-
жать государственную символику - национальный флаг и нацио-
нальный гимн. Он не признавал националистов, которые в первую
очередь обращают внимание на происхождение или на кровное
родство японцев со своими древними потомками, в прошлом
заселявшими японские острова. Для Абэ принадлежность к япон-
ской нации не определяется расовой чистотой. Синдзо Абэ убеж-
ден в том, что японцем может себя считать только государствен-
ник по своим убеждениям, т.е. такой японец - представитель
«кокумин», для которого чувство долга и преданность японскому
государству и нации - самые высшие ценности на земле.
В развернувшейся в 1990-е годы в японском обществе дискус-
сии о необходимости активизации националистической идеоло-
гии одним из главных дискуссионных вопросов оставался вопрос
155
о роле государства в формировании и распространении идеоло-
гии государственного национализма. Критики государственного
национализма обычно выступают с позиций минимизации роли
государства в распространении националистической идеологии,
сводя функции последнего лишь к необходимости поддержания
этнического, традиционного национализма, в котором, по сути,
роль государства и так минимальна. Оппоненты же государствен-
ного национализма в Японии аргументируют свою позицию тем,
что во время войны государство сильно себя скомпрометировало,
распространяя в обществе идеологию государственного национа-
лизма. Оно проводило антинародную политику, действовало против
интересов нации, наносило большой ущерб государствам и наро-
дам стран Восточной и Юго-Восточной Азии.
В первых рядах критиков государственного национализма и
роли государства в формировании националистической идеоло-
гии всегда выступали и выступают японские коммунисты. Они
официально заявляют, что буржуазное японское государство в
период войны сознательно проводило империалистическую, аг-
рессивную, нелегитимную политику как в отношении собствен-
ного народа, так и в отношении народов колонизируемых Япони-
ей стран. Поэтому сегодня японское буржуазное государство не
имеет права героизировать прошлую историю страны и всячески
поощрять распространение идеологии государственного национа-
лизма.
Сторонники же реанимации в японском обществе идеологии
государственного национализма, со своей стороны, убеждают
японцев в том, что героическое прошлое государства в националь-
ной истории имеет большое значение в процессе формирования
национальной идентичности японцев, воспитывает в японцах
чувство гордости за свою страну, повышает уровень националь-
ного самосознания. Во всех этих процессах роль государства
трудно переоценить: оно является организатором и вдохновите-
лем всех «великих побед Японии в ее истории».
На этом фоне этнический национализм играл и играет подчи-
ненную роль в процессах обретения нацией международного
авторитета и влияния. Даже сторонники идеологии этнического
национализма из «Либеральной школы истории» (такие, как Фуд-
зиока Нобукацу, Нисио Кандзи, Кобаяси Ёсинори) вынуждены
отдавать должное необходимости одновременной пропаганды как
государственного, так и этнического национализма, который,
впрочем, они также рассматривают как важную составную часть
понятия «государства-нации». Как подчеркивала профессор Цент-
ра современных японских исследований Университета Лейден
156
в Голландии Рикки Кёрстен, «...хорошо, что Фудзикацу, пропа-
гандируя современный национализм в Японии, иногда рядится
в так называемые либеральные тоги. Тем самым он подчеркивает,
что либерализм был и остается в современной Японии основной
узаконенной идеей»30. Очевидно, однако, и то, что либерализм
в Японии, будь то довоенный «старомодный либерализм» или
послевоенный «новый-старый либерализм», всегда рассматри-
вался его сторонниками как «здоровый национализм», способный
уравновесить интересы рядовых граждан с интересами государства.
Важной дискуссионной проблемой остается вопрос о роли и
месте государственного и этнического национализма в укрепле-
нии японской государственности на современном этапе. Если
сторонники государственного национализма воспринимают ло-
яльность к государству как прямой долг и обязанность каждого
гражданина Японии, то приверженцы этнического, либерального
национализма не признают необходимости проявлять предан-
ность по отношению к государству, к его институтам, к проводи-
мой им внешней и внутренней политике. С этих позиций Синдзо
Абэ, например, в отличие от Ясухиро Накасонэ, критически оце-
нивал роль этнического национализма в государственном строи-
тельстве. Он был убежден, что только идеология государственно-
го национализма может играть эффективную роль при решении
этой задачи. Абэ сам не раз демонстрировал своим поведением
уважение и лояльность к государственным символам. Так, Абэ
открыто призывал японцев отдавать знаки уважения государ-
ственной геральдике, демонстрировать особый пиетет по отно-
шению к национальному флагу Японии32*.
Абэ не раз подчеркивал, что когда японские либералы под-
разделяют японский национализм на два типа, государственный
и этнический, то они делают это исключительно с одной целью -
исказить в глазах нации суть государственного национализма,
объявив его «недемократическим». Однако Абэ убежден в том,
что, когда японцы выражают уважение к национальному флагу
«Хиномару», они далеки от желания продемонстрировать в гла-
зах окружающих свой неистовый фанатизм. Они просто выража-
ют почтение к прошлой истории страны, к ее победам и к памяти
всех погибших в борьбе за независимость своей родины33*.
Однако справедливости ради необходимо признать, что япон-
ские либералы, критикуя идеологию государственного национализ-
ма, вместе с тем полностью не отвергают ее. Они просто опасаются,
что чрезмерное навязывание обществу националистической идео-
логии, к тому же инициируемой государством «сверху», может
разрушить основы этнического, традиционного японского нацио-
157
нализма, который, в отличие от идеологии государственного на-
ционализма, никогда не отличался наступательным, агрессивным
характером.
Стоит отметить, что участники дискуссии вокруг роли госу-
дарственного и этнического национализма в укреплении япон-
ской государственности предпочитают рассуждать о проблемах
современного японского национализма не абстрактно-теорети-
чески, а сугубо прагматично, т.е. оценивать это явление на кон-
кретных примерах японской действительности.
Продемонстрируем различия в позициях сторонников госу-
дарственного и этнического национализма в Японии на примере
их отношения к такому знаковому событию в жизни современной
Японии, как посещение первыми лицами государства синтоист-
ского храма Ясукуни - символа довоенного японского государ-
ственного национализма. Бывший премьер-министр Японии, из-
вестный своими националистическими воззрениями, Дзюнъитиро
Койдзуми подчеркивал, что посещает храм Ясукуни для того,
чтобы отдать дань уважения и памяти японцам, которые не пожа-
лели своих жизней ради защиты отечества. И делает это не из
религиозных убеждений. Он считает, что каждый японец обязан
помнить о тех, кто отдавал свои жизни в прошлом за их сегодняш-
нее благополучие. Визиты официальных лиц Японии в Ясукуни,
как важный составной элемент идеологической практики госу-
дарственного национализма, всегда приветствовали даже адепты
католической конфессии в Японии, такие видные, например, как
Соно Аяко - современная японская писательница и обществен-
ный деятель, а также Миура Сюмон - японский писатель, эссеист
и общественный деятель, представитель литературной группы
«третьих новых», президент Японской академии искусств. Эти
и многие другие представители японской творческой интеллиген-
ции своими посещениями храма Ясукуни объективно солидари-
зируются со сторонниками идеологии государственного нацио-
нализма34*.
Показательно, что при этом настойчиво подчеркивается: эти
официальные визиты не являются нарушением Конституции
1947 года и юридически узаконены решением Верховного суда
Японии от 1977 года. В том решении, в частности, отмечалось, что
«посещение храма Ясукуни в целях совершения ритуала по умер-
шим в соответствии с национальными традициями не должно рас-
сматриваться как религиозный акт»35*. Отсюда делается вывод,
что все первые лица государства просто обязаны поддерживать
конституционные гарантии свободы вероисповедания, так как яв-
ляются их гарантами. Японские официальные лица, посещающие
158
храм Ясукуни, не отрицают своего уважения к императору и свою
приверженность к государственной религии синто. Они заявля-
ют, что принадлежат к тем японцам, которые считают, что импе-
ратор является национальным героем, а посещение храма Ясуку-
ни есть важный признак восстановления в Японии синтоизма как
государственной национальной религии, в которой нуждаются
все японцы и которая была запрещена в период американской
оккупации страны.
Напротив, позиция критиков посещения первыми лицами
государства синтоистского храма Ясукуни и возвеличения нацио-
налистической государственной религии синто сводится к тому,
что в этом храме находится прах японских солдат, которые испо-
ведовали разные религии, а не только синтоизм. Что же касается
отношения первых лиц Японии к императору как к национально-
му герою, то противники государственного национализма в Япо-
нии подчеркивают, что император по Конституции 1889 года был
не только символом нации, но и ее верховным главнокомандую-
щим. В качестве неопровержимого аргумента они приводят текст
Статьи И Конституции японской империи 1889 года, которая
гласила: «Императору принадлежит верховное командование
армией и флотом»36*. Комментируя этот параграф Конституции,
ее составитель Ито Хиробуми подчеркивал, что «верховная
власть в военных и морских делах Японии воплощалась в лице
его высочайшей особы, и дела эти подчиняются распоряжениям,
издаваемым императором»37*. Таким образом, роль императора
в политической жизни и национальной истории Японии до опуб-
ликования Конституции 1947 года не ограничивалась лишь пред-
ставительскими функциями. Он нес всю полноту ответственно-
сти за участие Японии во Второй мировой войне и в силу одного
только этого обстоятельства не может считаться национальным
героем.
Каково же будущее идеологии государственного национализ-
ма в политической и общественной жизни Японии? Получит ли
он дальнейшее распространение в японском обществе и какое
место при этом будет отводиться этническому национализму?
Возможно ли объединение этих двух основных видов национа-
лизма в Японии в единую националистическую идеологию? Эти
вопросы составляют важную содержательную часть многих дис-
куссий, и общество ждет четких ответов на эти вопросы.
Дело в том, что в современной Японии действительно наблю-
дается повышенный интерес к националистической идеологии
вообще и к идеологии государственного национализма в частно-
сти. Несмотря на наличие в общественном сознании глубоких
159
пацифистских настроений приверженности демократическим
ценностям, подключение Японии к процессам глобализации, по-
требность в национальной идее и националистической идеологии
объективно существует. Рост интереса к проявлению различных
форм национализма в Японии совпадает по времени с аналогич-
ными процессами во многих странах мира, что в свою очередь
обусловлено повышенной тягой общественных настроений к на-
циональному самоуважению. Более того, многие японцы стали за-
думываться о том, что никакая демократия невозможна без на-
ционализма, и если она не может развиваться без национализма
в других странах мира, то почему Япония должна быть в этом
отношении исключением38*.
С началом 1980-х годов процесс консолидации японской на-
ции и государства проходил под знаком реанимации идеологии
государственного национализма. Впервые об этом открыто заго-
ворил в 1980 году премьер-министр Масаеси Охира, поддержав
публикацию аналитического доклада под названием «Управление
экономикой в эпоху наступления эры культурного ренессанса» -
«Бунка-но дзидай-но кэйдзай унъэй», подготовленного ведущи-
ми специалистами в области экономики и государственного уп-
равления Японии39*. В докладе, в частности, подчеркивалось,
что государство должно обеспечивать максимальную поддержку
и понимание потребностей нации, однако делать это эффективно
для общего блага государству в новых исторических условиях
становится все труднее и труднее. Власти страны, разумеется,
заинтересованы в минимизации негативных последствий систем-
ного кризиса капитализма для нации и будут стремиться избе-
жать будущей «дисперсности общества и индивидуализации
интересов каждого его члена в приходящей в Японию экономике
либерального типа». Однако сделать это без широкого распро-
странения идеологии государственного национализма, направ-
ленной на консолидацию нации, представляется маловероятным.
Иными словами, правительственный доклад впервые обозначил
наметившийся после периода высоких темпов роста разрыв меж-
ду интересами нации и возможностями государства по их удов-
летворению. Однако составители доклада должны были проде-
монстрировать обществу готовность государства позаботиться
о повышении народного благосостояния и в новых нестабильных
условиях наступления кризиса либеральной экономики.
В Японии обратили внимание на то, что авторы доклада
Масаеси Охира избегали употреблять привычное для слуха рядо-
вых японцев понятие «миндзоку» - народ, соотечественники.
Они предпочитали использовать термин «кокумин» - «государ-
160
ство-нация», хотя еще в 1970-е годы тот же Масаёси Охира много
говорил именно о японском народе (миндзоку) как о единой
этнической общности с развитыми коллективистскими началами.
Тогда он пользовался исключительно термином «миндзоку», что
означало единение государства и нации, власти и общества40*.
Более того, один из составителей доклада Охира, директор Нацио-
нального музея этнографии Умэсао Тадао был уверен в том, что
в окончательном тексте доклада сохранится предложенный им ва-
риант определения нации как этнической общности - «миндзоку»,
а не политической категории - «кокумин». Однако для Охира
было важно использовать именно понятие нации как «государ-
ства-нации» - «кокумин». Эти новации в официальной термино-
логии не были случайными - они совпали с началом распростра-
нения в обществе идеологии государственного национализма -
«коккасюги», преследуя цель сгладить социальную напряжен-
ность и не допустить роста противоречий в отношениях между
нацией и государством.
Доклад Охира акцентировал внимание на проблемах взаимо-
отношений нации и государства, т.е. общества и власти. Состави-
тели доклада всячески избегали прибегать к таким понятиям, как
этнический или культурный национализм, как коллективизм.
Доклад напоминал дебаты 1950-х годов вокруг проблемы, должна
ли Япония «быть сильным государством или просто мирной,
послушной нацией»41*. Доклад Охира опирался на плюралисти-
ческую теорию государства, внутренняя и внешняя политика
которого не обязательно должна совпадать с интересами нации42*.
Поэтому Охира в своем докладе делал акцент на стимулировании
в обществе идеологии государственного национализма, основан-
ного на гражданской ответственности японцев, т.е. на послуша-
нии власти.
Премьер-министр Ясухиро Накасонэ (1982-1987 гг.) в начале
1980-х годов вслед за Охира Масаёси продолжил процесс консо-
лидации нации и государства как основной идеологический тренд
японского общества на последующие десятилетия. Для этого
необходимо было придать новые импульсы идеологии государст-
венного национализма, но эффективно сочетать ее с идеологией
либерального экономизма, более соответствующей новым труд-
ным условиям выживания Японии в глобализированном мире
после ушедшего в историю периода быстрых темпов экономиче-
ского роста. Несмотря на наличие различных названий этого иде-
ологического симбиоза, начиная от либерального национализма
и кончая государственным национализмом, за основу в итоге
Накасонэ принял название новой идеологии как идеологии «здо-
11-5584
161
рового национализма нормальной нации», в отношении которого
у соседей Японии по Восточной Азии, равно как и у разных по-
литических сил внутри страны, не было бы возражений.
Ясухиро Накасонэ, как японский националист, был заинтере-
сован в одном - в целях выживания нации в новых исторических
условиях XXI века создать прочный союз «государства и нации» -
«миндзоку кокка». При этом, как справедливо отмечал известный
американский японовед Кеннет Пайл, Накасонэ в первую очередь
намеревался укрепить основы либерального национализма в об-
ществе, который восхвалял бы уникальность японской нации,
ее созидательный потенциал. Вместе с тем Накасонэ ратовал за
то, чтобы японцы с уважением относились и к другим нациям,
и прежде всего - к американской, так как он хорошо понимал, что
с американцами Японии предстоит еще долгие годы сотрудничать
в рамках японо-американского проекта безопасности в XXI веке43).
Однако националистические взгляды Накасонэ, как, впрочем,
и большинства современных японских националистов-консерва-
торов и либералов, - не отличались последовательностью. С од-
ной стороны, они хотели бы видеть в Японии максимально «от-
крытое, нормальное и интернациональное» государство, навсегда
покончившее с изоляционистской политикой. Однако с другой,
это трудно совмещалось с идеологией этнического национализма,
основанной на теории уникальности японской нации - « Нихон -
дзинрон».
Участники дискуссии о путях формирования националисти-
ческой идеологии в XXI веке в японском обществе оказались еди-
нодушными во мнении о том, что развитие националистических
идей Масаёси Охира и Ясухиро Накасонэ о необходимости даль-
нейшего укрепления отношений государства и нации в интересах
выживания Японии в XXI веке должно стать основой политики
в области развития японского национализма в XXI веке. После
официальных заявлений двух политических лидеров Японии о
своем видении будущего национализма в Японии, в целом совпа-
дающих со взглядами лидеров националистических сил страны,
националистические настроения в обществе получили как бы вто-
рое дыхание. Упоминавшийся ранее известный в Японии нацио-
налист, профессор Токийского университета Фудзиока Нобукацу
со своими сторонниками еще в июле 1995 года открыл «Либераль-
ную школу японской истории», своего рода националистическую
организацию, объединившую более 500 членов. Организация
включала представителей разных слоев общества, охваченных
навязчивой идеей «спасать Японию» путем распространения
идеологии государственного национализма.
162
Против чрезмерного патриотического рвения японских нео-
националистов, и в частности участников группы Фудзиока
Нобукацу, решительно выступают левонастроенные японские
школьные учителя. Но им традиционно противостоят японские
националисты, которые в защиту своей позиции обычно заявля-
ют, что стремятся всего лишь прославить и воздать должное ге-
ройству японских солдат - враги Японии их просто «втянули
в войну, которую страна хотела избежать»44*. Но если критики
националистических взглядов Нобукацу Фудзиока и его сторон-
ников говорят об игнорировании исторических фактов, то сам
Фудзиока утверждает, что он и его сторонники лишь «системати-
зируют факты, которые наилучшим образом представляют япон-
скую историю в глазах современных поколений японской моло-
дежи»45*.
Следует отметить, что освещение национальной истории в
школьных учебниках остается одним из важных дискуссионных
вопросов о проблемах развития национализма в современном
японском обществе. Как освещать сегодня прошлую историю
развития нации, ее историческую память, захватнические войны,
которые Япония вела еще задолго до реставрации Мэйдзи, как
подавать молодежи политику властей во время войны по отноше-
нию к военнопленным, как описывать деятельность отряда 737
и другие деликатные аспекты агрессивной, империалистической
политики японских властей в истории страны? В послевоенной
Японии эти темы практически были табуированы и широко не
обсуждались ни на академическом уровне, ни в японских СМИ.
Однако уже с конца 1970-х годов можно было отметить нараста-
ющий интерес широкой японской общественности к этой проб-
лематике. Английский историк Джеффри Голдфарб оценил этот
феномен как выражение подлинной демократии в японском об-
ществе46*.
В дискуссиях на эти темы активное участие всегда принимают
видные японские ученые-обществоведы. Помимо Фудзиока Но-
букацу к числу откровенных сторонников государственного на-
ционализма по праву можно отнести Саэки Кэйси, который на-
чинал свою карьеру как академический ученый, но в середине
1990-х стал активным глашатым японского государственного на-
ционализма. В 1996 и 1998 гг. он опубликовал две монографии,
в которых, в частности, писал, что «либеральная демократия»
в оккупированной Японии оказалась бессильной восстановить
в послевоенном японском обществе национальное достоинство
и гордость, прежде всего потому, что была настроена слишком
враждебно к государству47*.
и* 163
Причиной деградации политической мысли в послевоенной
Японии, по мнению Саэки, явилось полное пренебрежение в усло-
виях американской оккупации к формированию в обществе госу-
дарственного мышления (кокка исики), чувства общности госу-
дарства и нации. Послевоенный либерализм стремился вытравить
из массового сознания любое проявление коллективистского само-
сознания, коллективистской системы ценностей, традиционно
присущей японцам. Осуждалось решительно все, что имело при-
знаки лояльности к государству48*. Саэки открыто не призывал
к полному подчинению личности государству. Однако в своих
трудах он ратовал за поиск гармонии между обществом и государ-
ством, даже в рамках «либеральной демократии». Саэки выражал
уверенность в том, что японская демократия должна вытравить из
себя послевоенную эгоистическую идеологию индивидуализма и за-
менить ее подлинно демократическими ценностями, которые может
обеспечить только суверенное, сильное и независимое государство
путем распространения идеологии государственного национализ-
ма, основанного на коллективистских началах служения обществу.
Саэки призывал развернуть широкую пропаганду нового на-
ционализма, кардинально отличающегося от системы послевоен-
ного, оккупационного этнического либерального национализма.
И в этом Саэки был полностью солидарен с позицией другого
университетского профессора, Мацумото Кэнъити, который так-
же опубликовал ряд популярных работ для массового читателя
по националистической проблематике. Мацумото анализировал
конкретные проявления и новые ростки националистической идео-
логии и системы ценностей в обществе, обращая, в частности,
внимание на принятый 13 августа 1999 г. парламентом Японии
«Закон об официальном флаге Японии «Хи-но маару» и «Закон
о национальном гимне» «Кими га ё». Мацумото подчеркивал ле-
гитимность процедуры принятия подобных законов, подчерки-
вая, что парламент страны избран японским народом и потому
выражает волю всей нации. Более того, в своих трудах Мацумото
обращал внимание на то, что парламент юридически, т.е. де-юре
оформил лишь те положения, которые в послевоенной Японии
носили неформальный характер, но существовали де-факто. Не-
обходимо отметить, что все левые оппозиционные силы Японии
резко осудили тогда решение парламентского большинства.
Показательно, что Мацумото как активный пропагандист
концепции «здорового национализма» трактует понятие японской
нации как «этнической нации» - миндзоку, а не как «государства-
нации» - «кокумин». Он убежден, что любое внешнее культурное
воздействие на японскую нацию - для нее разрушительное зло.
164
Согласно позиции Мацумото, японская нация должна не просто
иметь свой национальный флаг, но этот символ непременно дол-
жен утверждаться парламентом, а не быть привычной «заставкой»
японского государства. Национальный флаг, по мнению Мацумо-
то, это составная часть японской уникальной традиции и уникаль-
ной культуры49*. Опасения Мацумото в отношении формализа-
ции процедуры принятия национального флага и национального
гимна в парламенте связаны с тревогой за то, что у японской
нации может сложиться неверное представление о национальной
культурной традиции, которую в том числе представляет и флаг
нации. Вместе с тем идеологические позиции Мацумото не отли-
чаются последовательностью - он поддерживает все действия
властей, направленные на восстановление в обществе идеологии
государственного национализма, под которым он, однако, пони-
мает государство-нацию, основанное на этническом национализ-
ме, а не на идеологии государственного национализма.
Мацумото, как и Саэки и многие другие их единомышленники-
неонационалисты, едины в понимании того, что в XXI веке в целях
сохранения в Японии либеральной демократии обществу необхо-
дима внятная националистическая идеология. Вместе с тем их
мнения сегодня расходятся по вопросу о том, пропаганду какого
национализма - государственного или этнического - следует
распространять в первую очередь. Йосико Сакураи, выпускница
Гавайского университета, широко известная публицистка и автор
многих телевизионных и радиопередач, считает, например, что
в Японии необходимо заниматься пропагандой исключительно
государственного национализма - «кокуминсюги», который вы-
ходит далеко за рамки этнического национализма и, в сущности,
поглощает его. Аргументируя свою позицию, Сакураи подчерки-
вает, что в XXI веке японская нация нуждается в более прагма-
тическом подходе к национализму, который должен быть востре-
бован нацией при решении актуальных и практических задач
современности. По мнению ученого, проблемы проистекают не из-
за того, что в Японии «слишком много национализма», а потому,
что японская нация все еще очень слабая нация. И укрепить ее
может только распространение идеологии государственного на-
ционализма50*, а потому сегодня излишне опасаться того, что
широкое распространение в обществе этой идеологии способно
привести нацию к новым военным авантюрам или способствовать
экспансионистской политике. Напротив, пропаганда государ-
ственного национализма - «кокуминсюги» может лишь способ-
ствовать консолидации нации на основе гармонизации личных
интересов граждан и власти.
165
Более того, по мнению Сакураи, японский национализм
1990-х годов обнаруживает большую схожесть с национализмом
довоенной и военной Японии, нежели с различными формами на-
ционализма периода «холодной войны». И связано это с тем, что
неонационализм после «холодной войны» - это преимуществен-
но «государственный национализм», для которого послевоенная
демократизация Японии - идеологический противник.
Подведем итоги. Анализ итогов дискуссий в японском об-
ществе по проблемам развития идеологии национализма позво-
ляет сделать ряд общих выводов, свидетельствующих о высокой
степени актуализации данной проблематики для Японии начала
XXI века.
Во-первых, дискуссия демонстрирует, что японские власти се-
годня проявляют особую заинтересованность в повышении уров-
ня эффективности националистической пропаганды в обществе.
Они оправдывают свои действия в этой области необходимостью
консолидировать нацию в целях выживания государства, решения
задач государственного управления и обеспечения стабильности
развития. Особую роль при этом власти отводят системе образо-
вания, чему посвящена реформа образования, а также пересмотру
Закона об образовании 1947 года. Власти санкционируют перепи-
сывание учебников по истории, а также разработали новый учеб-
ник морали. Упор делается на героизацию национальной исто-
рии, на пропаганду ее славных страниц, а не на критику того, что
Япония драматически переживала в прошлом.
Можно лишь отметить, что переписывание и переосмысление
истории характерно не только для Японии. Сегодня власти мно-
гих стран - будть то США, Великобритания, Германия, Украина,
Прибалтика или Россия - озабочены одной проблемой - как сле-
дует «правильно» преподавать национальную историю, как вос-
питывать у молодежи патриотизм, отвлекать попутно ее внимание
от нарастающих социально-экономических проблем: безработицы,
дефицита бюджетных средств на образование и т.п.
Во-вторых, в ходе дискуссий обнаружилось, что если власти
Японии открыто демонстрируют свою политическую заинтересо-
ванность в возможно более широком и повсеместном распростра-
нении идеологии государственного национализма, то само обще-
ство относится к этому неоднозначно. Национал-патриотам всерьез
противостоят либералы, которые являются сторонниками сохра-
нения в общественном сознании послевоенных демократических
ценностей, осуждают довоенную и военную экспансионистскую
политику властей, не поддерживают идею переписывания школь-
ных учебников и реабилитации военных преступников. Так, пред-
166
ставители этой части японского общества высказывают немало
замечаний по поводу подготовленного националистическим
Обществом «Атарасий рэкиси кёкасё-о Цукуру кай» и одобрен-
ного министерством образования «Нового учебника по истории»,
который вышел в 2002 году. Критике либералов подвергся еще
один подготовленный обществом «Цукуру кай» совместно с ми-
нистерством образования школьный учебник по курсу националь-
ной истории «Кокоро-но ното» - «Записки сердца», в котором ис-
торические сюжеты также подаются исключительно под углом
зрения патриотического воспитания в ущерб исторической прав-
де. Однако приходится признать, что консервативные, радикаль-
но-националистические силы одерживают верх в этом противо-
стоянии идей и мировоззрений.
В-третьих, названные дискуссии продемонстрировали, что
борьба вокруг содержания школьных учебников - это всего лишь
один из аспектов проблемы столкновения взглядов. Другой ас-
пект проблемы заключается в том, как подавать материал о буду-
щем японской нации. Если сторонники националистического
Общества «Цукуру кай» преследуют цель воссоздать лубочный
имидж «красивой Японии», в которой японцы выглядят сильны-
ми духом, готовыми отражать любые нападки противников Японии
извне и изнутри, то их противники из либерального лагеря, пред-
ставленные, например, членами Общества «Учебники XXI века»,
озабочены тем, что националисты и патриоты тянут Японию
назад, в авторитарное прошлое, а это только ослабляет ее нацио-
нальный потенциал, разрушают ее послевоенные демократиче-
ские завоевания и созданные демократические институты.
Вместе с тем эти дискуссии убедительно показывают, что
идеологически противостоящие друг другу националистические
силы - государственников и либералов, тем не менее, демонстри-
руют единство взглядов в одном - в желании помочь стране
выжить как суверенному, процветающему государству в XXI веке,
облегчить властям решение многих проблем, с которыми Японии
придется столкнуться в будущем. Различия касаются лишь выбо-
ра путей и методов решения этой действительно сложной нацио-
нальной задачи.
В-четвертых, дискуссии о будущем националистической идео-
логии свидетельствуют о том, что длительное пребывание у власти
консервативных политических сил в лице Либерально-демокра-
тической партии (с середины 1950-х годов) «сработало» на укреп-
ление позиций японских националистов-государственников.
Показательно, но лидеры так называемой политической оппози-
ции в Японии в лице Демократической партии, которая пришла
167
к власти в 2009 году, также в своем большинстве оказались с кон-
серваторами в «одной идеологической лодке», прежде всего в по-
нимании реформы школьного образования. Придя к власти, «де-
мократы» не встали в оппозицию консерваторам в том, что
касается пропаганды национализма в японском обществе. Они не
присоединились ни к либералам, ни к левым силам в их непри-
миримой критике политики национализма. Противники распро-
странения националистической идеологии в современном япон-
ском обществе, представленные в основном демократической
академической интеллигенцией и отчасти работниками СМИ,
критикуют власти за попытки сформировать в Японии «государ-
ство-нацию», подчинить общество политическим и экономическим
интересам государства и власти и фактически разрушить основы
созданных в послевоенное время демократических институтов.
Как следует из материалов дискуссии о судьбах национализма
в Японии в XXI веке, ни один из этих двух подходов к государ-
ственному национализму еще не завершился убедительной побе-
дой одного из них. Борьба продолжается. Однако очевидно, что
стремление большинства японской нации обрести свою нацио-
нальную идентичность, основы которой были подорваны оккупа-
ционным режимом после Второй мировой войны, усиление нацио-
налистических настроений в обществе и желание, наконец, спустя
многие десятилетия после капитуляции вновь стать «нормальной
страной», а не большой военной базой США, сегодня, безусловно,
преобладают в Японии. И с этим нельзя не считаться всем сосе-
дям Японии по региону Восточной Азии.
В-пятых, следует признать, что надежды японской либераль-
ной общественности на то, что волна национализма в Японии
сбавит свой ход с приходом к власти в сентябре 2009 года Демо-
кратической партии Японии во главе с премьером Юкио Хатояма,
похоже, не оправдались. И дело даже не в том, что националист
Хатояма после своей отставки с поста премьер-министра и лидера
Демократической партии в июне 2010 года уступил кресло нацио-
налисту однопартийцу Кан Наото. Как следует из официальной
позиции Демократической партии, ее руководство разделяет
взгляды японских консерваторов на необходимость реанимации
националистической идеологии в японском обществе. Это видно
даже по отношению Демпартии Японии к вопросу о пересмотре
Конституции 1947 года и, в частности, к корректировке содержа-
ния ее Статьи 9. Официальная партийная позиция сводится к сле-
дующему: Статья 9 действующей Конституции 1947 года, олице-
творяющая пацифистский имидж Японии, должна быть сохранена,
однако для реализации планов по коллективной обороне Япония
168
должна четко обозначить свои приоритеты: во-первых, она долж-
на поддерживать усилия ООН по обеспечению коллективной
безопасности, во-вторых, ограниченные права на самооборону
должны быть пересмотрены, в-третьих, Демократическая партия
готова ввести ограничения на использование вооруженной силы,
но она сделает это только в случае пересмотра Статьи 9. Други-
ми словами, ДПЯ в принципе допускает пересмотр Конституции
1947 года и Статьи 9. ДПЯ выступает за уточнение в новой Кон-
ституции принципа «гражданского контроля» над армией, а так-
же принципа участия Японии в коллективных действиях ООН по
укреплению безопасности50.
Показательна также позиция Демократической партии Япо-
нии по вопросу сохранения преемственности курса японских
консерваторов-националистов из ЛДП на ускоренное военное
строительство в Японии. 17 декабря 2009 г. правительство Хато-
яма утвердило военный бюджет на 2010-й финансовый год (ап-
рель 2010 - март 2011) в полном соответствии с нормами, зало-
женными в Национальной программе обороны, которая была
одобрена еще в 2005-м финансовом году правительством консер-
ваторов. ЛДП призывала тогда увеличить военные расходы и ус-
корить военное строительство, а также расширить деятельность
по отправке военных миссий за рубеж в полном соответствии со
стратегическими запросами США. Кабинет Хатояма разработал
новую программу военного строительства, дополнив и расширив
статьи прежней программы военного строительства «Основные
принципы национальной оборонной политики», утвержденной на
период 2005/2009 финансовый год. Новая программа была при-
нята в 2010 году. Она предусматривает дальнейшее наращивание
военной мощи Японии, игнорируя Статью 9 Конституции 1947 года.
Увеличение финансирования было реализовано по статьям «по-
сылка японских солдат для участия в составе войск коалиции
США и НАТО в Ираке», а также «военное сотрудничество с США
в о!герациях американских сил в мире»52).
Правительство демократов Кана Наото продолжило линию
японских консерваторов-националистов. Размещение японских
войск за рубежом стало уже рутинным событием для демократи-
ческой власти Японии. И при правительстве демократов япон-
ские войска продолжали находиться в Ираке, в Индийском оке-
ане, а также у побережья Сомали. Под предлогом необходимости
участия Японии в международном военном сотрудничестве пра-
вительство увеличивало военные расходы, в том число на такие
военные операции, как дозаправка военных самолетов в воздухе,
направление нефтеналивных судов в район боевых действий США,
12-5584
169
посылка военно-транспортных судов для нужд американской ар-
мии в Индийском океане. В частности, министерство обороны
запросило у правительства Кана увеличенный бюджет на закупку
новых современных вертолетоносцев водоизмещением 20 тыс.
тонн, способных нести на своем борту 14 боевых вертолетов,
стоимостью 118,1 млрд, иен (около 1,2 млрд. долл. США). Кроме
того, новый военный бюджет предусматривал расходы на строи-
тельство японской ПРО-РАСЗ, которая составляет часть амери-
канской системы ПРО ТВД в Восточной Азии и направлена на
сдерживание Китая, России, КНДР в интересах национальной
безопасности США.
Кабинет Кана Наото не был намерен сокращать военные рас-
ходы в государственном бюджете, которые уже в 2009 году со-
ставляли 50 млрд, долл., включая расходы на содержание амери-
канских военных баз на территории Японских островов. Кабинет
Кана, по сути, продолжил политику консерваторов по укрепле-
нию военного сотрудничества с США и не демонстрировал готов-
ность к сокращению военных расходов в ближайшие годы53*.
Наконец, в-шестых, анализ содержания дискуссий по нацио-
нализму в японском обществе свидетельствует о том, что нацио-
нализм и государственное строительство являются важнейшими
характеристиками нового и новейшего времени в развитии Япо-
нии, и национализм служит той силой, которая ускоряет создание
государства-нации. В свое время Э. Хобсбаум и другие постмо-
дернисты доказывали, что по мере распространения глобализа-
ции национализм перестанет быть фактором национального стро-
ительства. В 1990 году Хобсбаум писал, что государства-нации
уходят с политической арены мира, что они будут поглощены
наднациональными структурами и станут составной частью гло-
бального мирового пространства54*.
Однако уже в 1990-е годы стало очевидно, что ни национализм,
ни государства-нации никуда не исчезли. Произошло переосмыс-
ление понятия «государство-нация», переоценка понятий «нацио-
нальная идентичность» и «национализм». Подъем, а отнюдь не
отказ от «национализма» стал доминирующей силой после иде-
ологического противостояния Запада и Востока в годы «холод-
ной войны». Национализм приобрел большой размах как новая
деструктивная сила, он стал причиной многих межнациональных
конфликтов и насилия в таких районах мира, как Восточная
Европа и Восточная Азия. И такое развитие событий не могло не
привлечь к себе внимание ученых в последние годы.
Участники дискуссий с удовлетворением констатировали, что
Японию не коснулась волна радикального национализма, веко-
170
дыхнувшая многие страны мира после окончания «холодной
войны». Но для Японии был характерен заметный подъем госу-
дарственного национализма, который инициировали и направляли
властвующие элиты, нагнетая патриотические, националистиче-
ские чувства, а также культурный или «народный» национализм,
пропагандируемый и распространяемый по заказу тех же поли-
тиков интеллектуальной частью общества, включавшей армию
журналистов, писателей, кинематографистов. Общественное вни-
мание было сфокусировано на переосмыслении и героизации
национальной истории, на воспитании в обществе чувства нацио-
нальной гордости через пропаганду японской культуры, нацио-
нальных «ценностей», уникальности японской нации - « Нихон -
дзинрон». В большинстве случаев национализм просто навязы-
вался обществу.
Все это вызывает интерес и в кругах японоведов США и Европы.
Одни зарубежные ученые усматривают в этом процессе сугубо
внутренние причины политической жизни Японии, а именно -
попытки консерваторов, находящихся у власти более 50 лет, и в
дальнейшем сохранить свои властвующие позиции, используя
в этих целях национализм. Другие видят в активизации японского
национализма внешнеполитический сигнал, подаваемый япон-
скими властями соседям Японии по Восточной Азии о том, что
страна меняет свой привычный пацифистский имидж и становит-
ся «нормальной страной», имея в виду прежде всего сильную со-
временную армию, оснащенную новейшим вооружением. Пози-
ционирование Японии как сильной военной державы многими
зарубежными японоведами оценивается как подготовка Токио
к возможному обострению отношений с Китаем и корейскими
государствами в недалекой перспективе55*.
Противоречия в японо-китайских отношениях, усилившиеся
по мере превращения Китая в новый центр силы в Восточной
Азии, служат реальным стимулом к росту националистических
настроений в самой Японии. Эти противоречия затрагивают самые
чувствительные стороны национальных интересов Японии в ре-
гионе, который сами японцы традиционно рассматривали как
зону своего экономического и геополитического влияния. Такие
деликатные аспекты внешней политики Японии, как интерпретация
национальной истории в контексте отношений с Китаем, изложение
в школьных учебниках агрессии Японии в Китае в 1894-1895 гг.
н в 1937-1945 гг., извинения Токио за поведение японских солдат
императорской армии в период оккупации Китая и многое другое -
все это вызывает раздражение рядовых японцев и служит благо-
датной почвой для роста антикитайских настроений.
171
С другой стороны, рост японского национализма рассматри-
вается зарубежными исследователями как ответная мера Японии
на активизацию националистических, антияпонских настроений
в Китае и корейских государствах, где они носят масштабный
и весьма агрессивный характер. Поэтому за рубежом склонны оп-
равдывать действия японских политиков, допускающих нередко
использование националистической риторики в качестве сред-
ства защиты национальных интересов и национального достоин-
ства японцев56*.
Вместе с тем некоторые исследователи считают, что антики-
тайские или антикорейские выпады японской стороны не более,
чем демарши, призванные привлечь внимание японской обще-
ственности к наличию «внешних угроз» со стороны Китая или
Кореи. На самом же деле Токио вовсе и не стремится открыто
демонстрировать своей агрессивности в отношении соседей в ре-
гионе, а заинтересован в поддержании стабильности и безопасно-
сти в регионе Восточной Азии. Очевидно, что такой прием часто
используется правящими элитами и в других странах, где также
раскручивается националистическая спираль с тем, чтобы отвлечь
внимание широких масс от внутренних социальных, экономиче-
ских и политических проблем, получить их поддержку в принятии
сложных решений по вопросам внешней и внутренней политики.
Таким образом, национализм можно рассматривать как весь-
ма эффективное средство манипулирования общественным со-
знанием, чем, собственно, широко пользуются правящие элиты
многих мировых держав для легитимации своей власти и демон-
страции внутренней сплоченности и единства нации. Однако,
с другой стороны, злоупотребление национализмом как средст-
вом манипуляции общественным сознанием, раскручивание на-
ционалистической спирали способно усиливать международную
напряженность и даже спровоцировать международные конфликты.
Применительно к раскручиванию националистической спирали
в Японии в конце XX - начале XXI века корректнее, на наш взгляд,
говорить об использовании национализма преимущественно во
внутриполитических целях и в гораздо меньшей степени - как
фактора внешнего давления на соседей по региону, способного
нарушить стратегическую стабильность и сложившийся статус-
кво в Восточной Азии, что не отвечает национальным интересам
самой Японии.
172
<
Главный вход в синтоистский храм Ясукуни
Зклейка. Заказ № 5584
Посещение храма Ясукуни императором Хирохито накануне второй
мировой войны.
Главная дорога к храму Ясукуни.
Группа летчиков- камикадзе фотографируется на память накануне
боевого вылета в октябре 1944 года.
Самолет палубной авиации Mitsubishi А6М Zero, используемый
летчиками-камикадзе.
Специальный зал в военно-историческом музее храма Ясукуни,
посвященный победе Японии в русско-японской войне 1904-1905 гг.
Реактивный самолет-снаряд «Ока-11» пилотируемый летчиком-
камикадзе. Подвешивался к двухмоторному бомбардировщику G4M2e.
Пилотируемая человек- торпеда «Кайтэн».
Национальный
праздник
на территории храма
Ясукуни.
У разных поколений японцев
в почете военная форма
императорской армии, которую
они надевают по праздникам.
«День возвращения Северных территорий - мирный день».
Надпись на здании Кабинета министров Японии.
Военнослужащие японской армии
маршируют по территории храма
Ясукуни.
Глава 4
ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛИЗМА
В СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНИИ
1. Носители националистической идеологии
и их оппоненты
Современные японские националисты - это представители ново-
го поколения японских консерваторов. Они отличаются от старо-
го послевоенного поколения консерваторов тем, что занимают
более активную, радикальную позицию в отношении ускорения
темпов милитаризации страны и модернизации японской армии,
пересмотра мирной конституции, а также по вопросу усиления
роли императора в политической жизни страны. Они - опытные
популисты и пропагандисты, их националистическая пропаганда
рассчитана в основном на лиц среднего и молодого возраста. Они
позиционируют себя в обществе, что называется, как «хорошие
парни»: они нейтральны в оценках и открыты для любых дискус-
сий. Сознательно воздерживаясь от официального включения в чис-
ло своих сторонников политиков и законодателей, лоббирующих
интересы японских военных и военно-промышленных кругов,
они создают собственные комитеты в парламенте, через которые
лоббируют законопроекты, отвечающие их интересам (к примеру,
созданный в 2001 году двухпартийный комитет «молодые законода-
тели - за укрепление национальной безопасности в XXI веке»). Они
родились и сформировались уже в послевоенные десятилетия,
а потому не чувствуют за собой никакой вины за прошлые пре-
ступления японской военщины. Движимые патриотической гор-
достью, они намерены лишь способствовать укреплению имиджа
Японии в мире. Они рассматривают Китай как государство, ко-
торое накопило за долгую историю большую обиду на Японию,
и считают, что Китай просто на какое-то время затаился с тем,
чтобы в подходящий исторический момент отомстить Японии за
все ее злодеяния в истории по отношению к китайцам. Современ-
ные японские националисты не собираются каким бы то ни было
образом извиняться перед Китаем. Подобно этому они рассмат-
ривают и японо-корейские отношения (не различая отношения
13-5584
173
Японии с КНДР и с Республикой Кореей), выражая заинтересо-
ванность в восстановлении нормальных межгосударственных
отношений, в которых уже не будет места прошлым обидам. Они
выступают за внесение поправок в Конституцию 1947 года, прежде
всего за изъятие Статьи 9 из текста Основного закона, что позво-
лило бы Японии стать «нормальным» государством, имеющим
легитимные основания на обладание современной армией, как и
другие суверенные государства в мире.
Их националистическая идеология - государственно ориен-
тированная идеология. Они называют просто позорным поведение
Японии в первой войне в Персидском заливе (2 августа 1990 г. -
28 февраля 1991 г.)1*. Японские нео-националисты не могут смирить-
ся с тем фактом, что всего лишь 10% опрошенных японцев подтвер-
дили тогда свою готовность отправиться в район боевых действий,
в то время как 85% южнокорейцев (по итогам социологического
опроса) были готовы пойти сражаться за интересы своей нации
в той войне за тысячи километров от Корейского полуострова.
Японские неонационалисты считают, что современная Япо-
ния все еще не стала сильным современным государством. Под
«сильным государством» они в первую очередь понимают не
столько обладание современным военным потенциалом, сколько
наличие у нации «потенциала лояльности и доверия» к властям,
к государству. А это, в свою очередь, возможно только в таком
государстве, в котором преобладает коллективистская идеология,
существует уверенность каждого гражданина в том, что государство
его не бросит на произвол судьбы и он всегда может рассчитывать
на его поддержку, а также на помощь своих соотечественников
в трудные периоды жизни. Нео-националисты рассматривают это
в качестве национального достояния. Нео-националисты увере-
ны, что сильным является государство, которым каждый японец
может гордиться и готов внести свой посильный вклад в укреп-
ление его позиций в мире. Поэтому воспитание чувства любви
и уважения к своему государству должно быть краеугольным кам-
нем в основании всей системы образования в Японии.
Японские неонационалисты осуждают действия американ-
ских оккупационных сил после Второй мировой войны, которые
были направлены на дискредитацию и разрушение государства
как единой национальной общности. Сформированная американ-
цами в Японии послевоенная политическая культура предполага-
ла такой идеал демократии, в котором государство как институт
управления было лишено авторитета2*. Усилия США по ослабле-
нию Японии как своего соперника на Тихом океане впоследствии
сказались на затянувшейся беспомощности японских властей в
174
принятии самостоятельных решении по внешнеполитическим
вопросам. Именно это, по мнению современных японских нацио-
налистов, и было лишний раз наглядно продемонстрировано
неучастием Японии в первой войне в Персидском заливе. Прави-
тельство Японии не демонстрировало тогда никакой политической
инициативы. Ответственность за национальную безопасность
Японии вплоть до настоящего момента, по сути, была отдана в руки
иностранного государства - США. Власти Японии, по мнению
японских неонационалистов, просто самоустранились от ответ-
ственности за внешнюю политику страны, прячась за Статью 9
в Конституции 1947 года и полагая, что она надежно защищает
Японию от внешней агрессии.
К числу наиболее известных японских политиков-неонацио-
налистов в возрасте 40-50 лет можно отнести Синдзо Абэ -
премьер-министра Японии в период с сентября 2006 по сентябрь
2007 года; Дзюнъитиро Койдзуми - премьер-министра (апрель
2001 - сентябрь 2006 г.), весьма жесткого политика в вопросах
внешней политики Японии Тору Хасимото - тридцативосьмилет-
него мэра Осаки; Сигэру Исиба - министра обороны и самого
влиятельного сторонника участия Японии в военных акциях
США в Ираке; Синтаро Исихара - мэра Токио и одного из авторов
популярной в Японии книги «Япония, которая может сказать Нет»;
Сэйдзи Маэхара - бывшего лидера Демократической партии
Японии, политика, который занимал весьма жесткую позицию в от-
ношении КНДР; Сёити Накагава - президента комитета по поли-
тическим исследованиям штаба ЛДП; Кэйдзо Такэми - члена ЛДП
и лидера «Группы молодых законодателей» Итита; Ямамото -
главу исследовательской группы ЛДП по вопросам санкций в от-
ношении КНДР.
К носителям идеологии государственного национализма в
современной Японии можно отнести также большую группу
японской академической и творческой интеллигенции. Национа-
листические настроения этой влиятельной и образованной части
японского общества традиционно раздваивались между патрио-
тизмом и интернационализмом, разумеется, при преобладании
первого над вторым. Гордая японская интеллигенция не готова
мириться с несправедливым отношением к Японии со стороны
великих мировых держав, которые всегда хотели ее за что-то
«наказать» и унизить. Более того, японская интеллигенция была
раздражена непредсказуемостью интересов великих держав в ми-
ровой политике, постоянным нарушением с их стороны правил
игры, что цинично сопровождалось призывами к установлению
более справедливого и транспарентного мирового порядка.
13*
175
Однако при этом националистически настроенная часть япон-
ской интеллигенции, испытывая сильные патриотические чувства,
предпочитает видеть такой мировой порядок, который в первую
очередь отвечал бы национальным интересам самой Японии и
только потом удовлетворял бы запросы других великих держав.
В качестве примера японского ученого-националиста можно
привести имя профессора Токийского государственного универ-
ситета Фудзиока Нобукацу. Он родился на Хоккайдо в 1943 году
и в 1962 году поступил на 1-й курс Хоккайдского государствен-
ного университета. В это время по всей Японии прокатилась мощ-
ная волна протестов против пересмотра японо-американского до-
говора безопасности, в которых он принимал активное участие.
Ближайшее окружение Фудзиока Нобукацу в университете раз-
делилось тогда на два идеологически противостоящих друг другу
лагеря. Один был представлен противниками подписания не-
равноправного для Японии договора с США, и в него входили
студенты левых убеждений. Другой охватывал студентов, придер-
живавшихся правых, антикоммунистических убеждений. В идео-
логическом противостоянии правых и левых, разделенных своего
рода «демаркационной линией», между противниками и сторон-
никами подписания японо-американского договора Фудзиока
выбрал «левую баррикаду» студенческого движения «Минсэй»,
хотя не симпатизировал левым. Как он вспоминал позднее,
к левым он присоединился просто потому, что его сильно раздра-
жало поведение лидеров правых группировок в студенческой
среде3*.
В период первой войны в Персидском заливе в 1991 году Фуд-
зиока расценил пассивность японских властей и их идеологию
«построения пацифизма в отдельно взятой стране» как полную
беспомощность в использовании международного авторитета
Японии. Фудзиока считал национальным позором тот факт, что
правительство Кувейта даже не сочло возможным выразить Япо-
нии официальную благодарность после войны в Персидском за-
ливе за финансовую помощь4*.
Спустя семь лет после окончания первой войны в Персидском
заливе Фудзиока напишет, что власти Японии, может быть, впер-
вые после Второй мировой войны осознали, что страна должна
была в рамках союзнических обязательств оказать посильную
силовую поддержку США в конфликте, а не прибегать к практике
«чековой дипломатии», уклоняясь от своего прямого участия в
конфликте. Фудзиока сравнивал тогда поведение Японии с Кувей-
том, неспособным даже самостоятельно ответить на удары агрес-
сора. Он особо подчеркивал, что Япония в начале 1990-х годов
176
была похожа на «раздетую женщину, которая, прогуливаясь по
тротуару, просила, чтобы ее кто-нибудь “атаковал”»5*.
По мнению Фудзиока Нобукацу, после окончания «холодной
войны» международное поведение Японии оставляло желать
лучшего. Если ФРГ и США сумели после окончания «холод-
ной войны» перекроить карту Восточной Европы в свою пользу,
то Япония не смогла обеспечить себе права на Южно-Курильские
острова, именуемые в Токио «исконной японской территорией».
Впоследствии Фудзиока будет отчаянно критиковать «колено-
преклоненный японский пацифизм» и «импотенцию нации» уча-
ствовать в военных конфликтах после «холодной войны», оце-
нивая это как национальный позор, на котором недопустимо
воспитывать новые поколения японцев6*.
Период 1990-х годов, который, как считают японские нео-
националисты правого толка, японские власти просто «прозевали»
при перераспределении «мирового пирога» по итогам «холодной
войны», тем не менее оказался, по их мнению, благоприятным
временем, позволившим им перегруппировать силы и активизи-
ровать идеологическую работу по превращению Японии в «нор-
мальное государство» с сильной армией, сильной национали-
стической идеологией, способное постоять за себя перед лицом
будущих вызовов XXI века.
Именно в этот период Фудзиока Нобукацу выдвинулся в ка-
честве одного из влиятельных и активных лидеров японских
националистов. Он возглавил националистическое движение за
«переписывание истории». Фудзиока исходил из того, что «исто-
рия - это не просто набор открытий и комментариев историче-
ских фактов и источников. История нуждается в переосмыслении
в соответствии с меняющимися реалиями современности. И ког-
да это не происходит, в обществе должны найтись интеллектуалы,
которые были бы готовы взять на себя труд переосмысления
событий национальной истории»7*.
Фудзиока не испытывал недостатка в портфеле заказов на
подготовку материалов по националистической проблематике.
Он активно публиковал националистически ангажированную
литературу. В июле 1995 года Фудзиока организовал «Либераль-
ную школу исторической науки» и начал тесно сотрудничать
с издательским домом «Мэйдзи тосо». К сентябрю 1995 года Фуд-
зиока создал собственный журнал и стал его главным редактором.
Журнал назывался «Лекции по переосмыслению современной
истории» - «Кингэндайси-но дзюгё кайкаку». С ним активно со-
трудничали националистические организации правого толка по
всей Японии. Уже в одном из первых номеров журнала Фудзиока,
177
обосновывая необходимость переосмысливать историю, продик-
тованную прямым искажением событий, оцененных по «горячим
следам», приводил в качестве примера несправедливые, по его
мнению, решения Международного военного трибунала для
Дальнего Востока, на котором заинтересованные участники про-
цесса из стран-победительниц во Второй мировой войне сделали
из Японии «мальчика для битья», хотя в развязывании той войны
было много «виноватых»8*.
Фудзиока и его сторонники неонационалисты по-своему ин-
терпретируют основы «идеологии государственного национа-
лизма». Во-первых, они убеждены, что такие принципы, как не-
зависимость, свобода и индивидуализм личности должны быть
трансформированы в принципы поведения группы, коллектива.
Во-вторых, пути развития японской нации вокруг построения
сильного в военном и идеологическом отношении государства,
которыми власти не воспользовались сразу после реставрации
Мэйдзи, должны были быть учтены властями еще в период рус-
ско-японской войны и во время Второй мировой войны. Однако
этого также не было сделано, и поэтому впервые в японской
истории произошло унизительное для японской нации пораже-
ние и капитуляция. И в-третьих, принципы государственного
национализма, по мнению Фудзиока, были четко сформулиро-
ваны еще известным японским политическим деятелем, учёным
и премьер-министром Японии Исибаси Тандзаном (1884-1973),
и ими следовало бы воспользоваться последующим лидерам Япо-
нии9*. Этого также сделано не было. Поэтому современные япон-
ские националисты не руководствуются этими принципами в сво-
ей пропаганде идеологии государственного национализма.
Вместе с тем идеологическая платформа Фудзиока Нобукацу
выглядит сегодня весьма эклектической. Называя своим учите-
лем Исибаси Тандзана, известного в Японии сторонника невме-
шательства государства в жизнь нации, последовательного защит-
ника Статьи 9 мирной Конституции 1947 года и политического
противника подписания Японо-американского договора безопас-
ности, Фудзиока Нобукацу выражает свое несогласие со взгляда-
ми Исибаси по поводу его непризнания важности легитимации
современных политических реалий по отношению к историче-
ской ткани прошлого. Фудзиока Нобукацу, например, не разделя-
ет взгляды Исибаси на необходимость продолжения линии демо-
кратических преобразований периода Тайсё в 1920-е годы, а также
демократических реформ оккупационного периода (1945-1950)
в современной политической действительности, так как эти ре-
формы, по мнению Фудзиока, были способны только существен-
178
но ослабить нацию10*. Вместе с тем Нобукацу полностью соглаша-
ется с оценками Исибаси Тандзан в отношении «необходимости
использовать исторический опыт для трансформации отношений
между государством и обществом».
Националистические взгляды Фудзиока Нобукацу не ограни-
чиваются повторением идей только одного авторитета в этой
области, каким был для него Исибаси Тандзан. Фудзиока широко
опирается также на националистические идеи другого ученого -
историка и новеллиста Сиба Рютаро (1923-1996), которого назы-
вают «японским Пикулем» из-за его известной книги «Последний
сёгун», которая посвящена истории жизни последнего сёгуна
Токугава Есинобу. Сиба романтизировал революцию Мэйдзи и
русско-японскую войну что вдохновило Фудзиоку на весьма
высокие оценки творчества писателя как патриота и национали-
ста-государственника10. Фудзиока называет Сибу ученым «тре-
тьего пути» в освещении национальной истории Японии и даже
использует понятие «Особый взгляд Сибы на историю», имея
в виду непрерывный характер исторического процесса в Японии.
Он согласен с Сиба в оценке особого исторического пути Японии,
но считает, что период с 1935 по 1945 год выбивался из общего
поступательного движения страны по пути прогресса и модерни-
зации, называя этот период «антияпонским»12). Фудзиока по-
хвально отзывается о «здоровом национализме» Сибы, под кото-
рым он понимает патриотические оценки по поводу важной роли
государства в истории, здоровый реализм, скептицизм по поводу
непатриотических либеральных идеологий и критику бюрокра-
тизма в системе государственного управления. Вместе с тем сам
Сиба не разделял взгляды Фудзиока на войну Японии за «Вели-
кую восточноазиатскую сферу сопроцветания», под которой по-
следний понимал самооборону Японии от внешних врагов во
Второй мировой войне13*.
Впервые Фудзиока изложил свои националистические взгля-
ды на историю Японии в книге «История, которую не преподают
в школах» (Кёкасё га осиэнай рэкиси) и в серии своих статей
в газете «Санкэй симбун». Впоследствии он собрал все опубли-
кованные им материалы в четырехтомник своих сочинений. В мае
1997 года первый и второй тома были распроданы почти милли-
онным тиражом, что оказалось крайне нетипичным для реализа-
ции книжной продукции как на Западе, так и в самой Японии.
Вместе с тем читательская востребованность в литературе такого
рода продемонстрировала интерес японцев к националистиче-
ской проблематике14*. Фудзиока рассчитывал на то, что его труды
будут использованы учениками старших классов японской шко-
179
лы при подготовке к сдаче экзаменов по японской истории. Каж-
дый исторический эпизод национальной истории в изложении
Фудзиока не превышал трех страниц текста, был адаптирован для
легкого усвоения его школьниками. Публикация материалов
была направлена, по замыслу Фудзиока, на «революцию» в созна-
нии японской молодежи под лозунгом: «В глубине наших сердец
мы, японцы, хотим гордиться своей историей». Фудзиока уточ-
нял: «Честно говоря, начиная с периода Мэйдзи, т.е. с 1868 года,
власти Японии сделали немало ошибок, но они их совершили
намного меньше, чем руководители других великих держав. Мы
имеем самую яркую историю в мире»15).
В своих трудах Фудзиока критикует использование термина,
введенного оккупационными властями в Японии после оконча-
ния Второй мировой войны, а именно: «Война на Тихом океане».
Он предлагает пользоваться более точным, по его мнению поня-
тием: «Великая восточноазиатская война». Фудзиока приводит
слова чешского писателя Милана Кундера, который в свое время
заметил, что «последняя стадия уничтожения исторической па-
мяти у народа наступает тогда, когда у действующей власти по-
является желание вычеркнуть из его сознания «невыгодные» для
власти страницы истории и заменить их новыми. В этом случае
нация в самом скором времени начинает забывать свое прошлое
и не понимает свое настоящее. Именно такое явление и произош-
ло в послевоенной Японии. К этому сознательно и не в послед-
нюю очередь приложили руку американцы»16).
В своих трудах Фудзиока особенно резко критиковал поли-
тику американских оккупационных властей, которые в конце
1940-х годов через средства массовой пропаганды подменили
в массовом сознании японцев оценки многих исторических со-
бытий, «наполнив их сердца ненавистью к прошедшей войне».
Настоящий смысл такой политики США, заключает он, состоял
в легитимации их собственной «положительной» роли во Второй
мировой войне»17).
Интерпретация истории любой страны, согласно национали-
стическим воззрениям Фудзиока, должна включать в первую оче-
редь описание ее героических страниц, порою даже не связанных
исторической логикой. Но это описание должно непременно со-
держать героику нации, а не попытку «объективного», а на самом
деле - пристрастного анализа исторических событий в угоду суще-
ствующей в стране политической конъюнктуре. При большом
желании, подчеркивает Фудзиока, в национальной истории всегда
можно найти исторические факты, которые характеризовали бы
поведение государства как с положительной, так и с негативной
180
стороны, т.е. как «демонизирующие» и осуждающие действия
власти, так и восхваляющие ее.
Фудзиока Нобукацу, таким образом, предлагает описывать
и оценивать историю Японии довоенного и военного периода как
бы с нейтральных позиций. Под «нейтральностью» оценок Фуд-
зиока понимает такой анализ, когда, с одной стороны, ученый-
историк хорошо ориентируется в материалах «Международного
Токийского трибунала по военным преступлениям Японии»,
а с другой, имеет «объективный взгляд на историю войны в Во-
сточной Азии» с учетом национальных интересов Японии. Со-
гласно Фудзиока, только такой подход исключает «исследова-
тельский мазохизм», устраняет описание национальной истории
только в черных красках и не допускает обработку массового
сознания японцев с антинациональных позиций. В противном
случае учителя истории в Японии будут «работать не на интересы
нации», а на интересы ее врагов, лить воду на мельницу тех, кто
хотел бы видеть Японию слабой и незащищенной.
Фудзиока, как откровенный носитель националистической
идеологии, имеет свой взгляд на японский национализм, который,
впрочем, разделяется многими его сторонниками в современной
Японии. Во-первых, носители идеологии японского государствен-
ного национализма убеждены в том, что после поражения во
Второй мировой войне авторы исследований по японской исто-
рии утонули в опасном самобичевании и самоотрицании полити-
ки японских властей. Это произошло потому, что они оказались
под сильным влиянием двух враждебных Японии европейских
концепций прочтения японской истории. С одной стороны, это
социалистический взгляд на историю Японии, который распро-
странялся участниками Коминтерна в довоенный и отчасти в
послевоенный период18*. Его суть сводилась к тому, что в Японии
можно было бы построить мирное государство, в конституции
которого был бы записан «отказ от войны как от средства разре-
шения международных споров». Однако Фудзиока убежден, что
у Японии не должно быть «мирной конституции», учитывая ее
враждебное окружение в мире, в регионе Восточной Азии и на
Тихом океане. Мирная конституция только ослабляет государ-
ство, и в таких условиях было бы трудно говорить о построении
сильного «государства-нации»19*.
С другой стороны, японские послевоенные историки оказа-
лись под сильным впечатлением от решений Международного
Токийского трибунала над военными преступниками. Здесь Фуд-
зиока видит прямую вину стран-победительниц во Второй миро-
вой войне, и прежде всего США, которые после победы над Япо-
181
нией были заинтересованы в ослаблении своего главного стра-
тегического противника на Тихом океане. Поэтому, по мнению
Фудзиока, организаторы Токийского трибунала сознательно «де-
монизировали» новую и новейшую историю Японии, искажали
и подтасовывали исторические факты, выступали с осуждением
внешней политики императорской Японии. Эти предвзятые оцен-
ки врагов нации, по мнению Фудзиока, легли позднее в основу
написания учебников национальной истории, в которых, хотя они
и были написаны японскими историками, события оценивались
с позиций осуждения и презрения прошлой истории страны, ее
национальных интересов и полностью соответствовали враждеб-
ным взглядам США, стран Западной Европы и России на исто-
рию императорской Японии20*.
Носители националистической идеологии убеждены, что в
современной Японии два фактора, а именно: социалистическое
мировоззрение и проамериканские настроения в сознании ряда
японских историков - по-прежнему мешают не только «правиль-
но» оценивать довоенную историю, но, что более важно, - фор-
мировать правильные представления о том, какой должна быть
современная система исторического образования в Японии.
Смысл подобного рода высказываний очевиден - «японцы не
должны быть заложниками национальных интересов иностранных
государств в вопросах освещения собственной истории, а должны
освещать ее в национальных интересах японского народа»21*.
Японские националисты пытаются дистанцироваться от воз-
можных упреков в свой адрес в том, что они разделяют взгляды
тех, кто и сегодня смотрит на будущее Японии через призму
создания «Великой сферы сопроцветания в Восточной Азии»
довоенного образца22*. Вместе с тем они открыто заявляют, что не
признают правомерными оценки японской истории с позиций
решений Международного Токийского военного трибунала, осу-
дившего Японию как агрессора во Второй мировой войне, как
экспансионистскую державу в регионе. Японские националисты
убеждены в том, что нельзя оценивать историю Японии по прин-
ципу дихотомии «хорошие парни - плохие парни». Они считают
законным постановку вопроса о том, почему на Токийском про-
цессе вся критика была обращена только на агрессивную полити-
ку Японии и ни слова не говорилось об агрессивной политике
Соединенных Штатов в отношении Японии. Участие Японии во
Второй мировой войне, как считают японские националисты,
было бы правильнее рассматривать как национально-освободи-
тельную войну, в которой Япония на протяжении ста лет своей
истории после Мэйдзи просто «защищала свою цивилизацию от
182
варваров, стремившихся ее разрушить»23*. Несмотря на критику
со стороны целого ряда японских историков-либералов, среди
которых есть такие известные имена, как Ёсида Ютака и Огура
Тосимару, японские националисты продолжают настаивать на
том, что участие Японии во Второй мировой войне было для стра-
ны единственным, естественным и оправданным способом «само-
обороны», а страны Восточной и Юго-Восточной Азии Япония
пыталась спасти от американской и европейской оккупации и их
превращения в колонии24*.
Носителей националистической идеологии сегодня немало
и в рядах вооруженных сил Японии. В начале 2000-х годов вни-
мание широкой японской общественности привлекла к себе нашу-
мевшая история с командующим Воздушными силами самооборо-
ны Японии (ВССЯ), ректором Академии штаба объединенного
командования японской армии генералом Тамогами Тосио. Гене-
рал опубликовал тогда серию статей, в которых полностью отри-
цал вину Японии за участие в агрессивных войнах в XX веке.
Японские власти, не желая публично осудить высказывания ге-
нерала и отправить его с позором в отставку после такого рода
«откровений», тихо вручили ему выходное пособие в размере
70 миллионов иен (около 700 тыс. долл. США) и попросили по-
кинуть официальный пост командующего ВССЯ. После отставки
Тамогами Тосио, тем не менее, продолжал выступать с публичны-
ми лекциями, знакомил японскую аудиторию со своими оценками
японского милитаризма.
Совершенно очевидно, что откровения генерала - это не еди-
ничный случай вырвавшихся наружу националистических на-
строений в рядах высшего командного состава японской армии.
Руководители страны и министр обороны были хорошо осведом-
лены о его националистических настроениях и неприятии дей-
ствующей Конституции 1947 года. А когда генерал Тамогами был
отстранен со своего поста и его одиозные высказывания получили
широкую огласку в обществе, власти Японии не стали комменти-
ровать причины его отставки и официально не осудили национа-
листические высказывания генерала, не дали им правовой оценки,
тем самым в известной мере продемонстрировав свою солидар-
ность с его националистической позицией.
Правда, премьер-министр Японии Асо Таро (24 сентября
2008 г. - 16 сентября 2009 г.) и министр обороны в его кабинете
Хамада Ясукадзу постарались официально дистанцироваться от
высказываний генерала Тамогами. Они заявляли, что не знали
о его националистических взглядах, об отказе считаться с исто-
рическими фактами, о желании обелить японский милитаризм,
183
который был осужден всем мировым сообществом. Однако эту
позицию премьер- министра и министра обороны Японии вряд ли
можно назвать честной, поскольку генерал Тамогами не раз вы-
ступал с подобными утверждениями как внутри самого министер-
ства обороны, так и на публике. Единственное, что японские
власти сочли возможным сделать в той ситуации, так это при-
знать высказывания генерала «неуместными».
Генерал Тамогами хорошо знал и чувствовал националисти-
ческие настроения в руководящих эшелонах японской армии.
Перед тем как быть назначенным на должность командующего
ВССЯ, он работал на руководящей должности в штабе ВССЯ.
Уже тогда в статье во внутриведомственном периодическом жур-
нале «Хою», который издается Академией ВССЯ, генерал Тамо-
гами не стесняясь высказывал свое критическое отношение к про-
американской политике правительства Японии. Будучи в должно-
сти командующего ВССЯ, Тамогами в мае 2007 года опубликовал
в том же журнале свою очередную статью, в которой вновь четко
сформулировал позицию о непризнании Японии военным агрес-
сором в годы Второй мировой войны. Совершенно очевидно, что
и высшее руководство министерства обороны Японии и канцеля-
рия премьер-министра были знакомы с содержанием нашумевших
статей генерала Тамогами в журнале «Хою». Еще в мае 1992 года
Коикэ Киёхико, работавший в начале 1990-х годов директором
департамента военной подготовки Управления национальной
обороны Японии (ныне министерство обороны), объяснял в ко-
митете обороны палаты советников японского парламента, что
в обязанность руководства УНО входит редактирование журнала
«Хою». Поэтому отрицать факт знакомства японских властей
с материалами, публикуемыми генералом Тамогами, или делать
вид, что они прошли мимо глаз редакторов, просто некорректно.
Более того, в 2002 году, когда генерал Тамогами был назначен
на пост директора Академии штаба объединенного командования
японской армии, он подготовил новую учебную программу под
названием «Взгляд на историю и государство в Японии», для
написания которой он пригласил японских ученых-историков,
своих единомышленников. В результате на свет появился учеб-
ник «История Японии для военных академий», в котором оправ-
дывалась военная политика Японии в период после революции
Мэйдзи и в первой половине XX века. Курс по национальной
истории в Военной академии поручалось вести исключительно
преподавателям, разделявшим националистические взгляды. Ге-
нерал Тамогами сам вел занятия, читал курсы лекций высшим
офицерам японской армии, в которых оправдывал идеи легитим-
184
ности ведения Японией «Великой войны в Восточной Азии»,
а также говорил о нелегитимности решений Международного То-
кийского военного трибунала по военным преступлениям Япо-
нии в Восточной Азии25*.
После назначения генерала Тамогами на пост командующего
ВССЯ он официально и открыто заявлял, что его националисти-
ческие взгляды всегда разделяли премьер-министры Йосиро
Мори и Асо Таро. И все же практически все националистические
высказывания Тамогами никогда не осуждались ни на официаль-
ном, ни на общественном уровне. Власти Японии конкретно не
высказались по данному поводу, так же как им не давал никакой
оценки ни один министр обороны. Поэтому, даже уйдя в отставку,
Тамогами безнаказанно продолжал свою пропагандистскую нацио-
налистическую деятельность, призывая руководство страны при-
знать, наконец, за Японией право участвовать в коллективной
самообороне, право иметь наступательное вооружение, включая
и ядерное оружие. В своих лекциях и публичных выступлениях
Тамогами и сегодня призывает власти и общество осознать, что
Япония на законных основаниях должна снять все ограничения
на военное строительство и на оснащение своей армии современ-
ными видами наступательного оружия26*.
В свою очередь, официальные круги Японии, включая и ми-
нистра обороны, иногда все-таки позволяли себе комментировать
выступления генерала Тамогами, слегка журя его за излишнюю
откровенность. Они подчеркивали, что своими высказываниями
генерал «несколько нарушает конституционный принцип «граж-
данского контроля» за деятельностью военных» и потому должен
тщательнее следить за своими мыслями, которые он откровенно
озвучивает27*. Однако дальше призывов к военным быть осторож-
ными при публичном выражении своих националистических
чувств власти Японии не идут. Они не идут ни на осуждение на-
ционалистических высказываний генерала Тамогами и ему подоб-
ных, ни на их юридическое преследование за националистические
высказывания. И до тех пор, пока правительство будет смотреть
сквозь пальцы на подобную националистическую практику, пока
не обратит внимание на расширение националистической пропа-
ганды в обществе, включая представителей высшего офицерства
Японии, до тех пор будет складываться впечатление, что власти
поддерживают и разделяют такие взгляды. Правящие круги Япо-
нии, судя по всему, сегодня не заинтересованы ограничивать
распространение идеологии государственного национализма не
только в гражданском обществе, но также и среди высших воен-
ных кругов страны, его офицерского корпуса.
185
Официальные круги Японии, как бы молча, поощряют созда-
ние и деятельность многочисленных националистических орга-
низаций в стране. В мае 2007 года в Японии вышел специальный
номер журнала «Ниппон кайги» (Японская конференция) под
названием «Дыхание Японии» - Ниппон-но ибуки, который был
целиком посвящен проблемам формирования нового японского
государственного национализма, (журнал «Японская конферен-
ция» в мае 2007 года отмечал уже десятую годовщину своего
существования).
В журнале, в частности, отмечалось, что у японцев, наконец,
появилась надежда на то, что навязанная оккупационными вой-
сками послевоенная внутренняя и внешняя политика будет пере-
осмыслена и страна сможет вернуться на свой традиционный путь
развития. Первыми симптомами такого поворота можно считать
попытки некоторых политических сил пересмотреть «Основной
Закон об образовании 1947 года», вслед за которым имеется в
виду пересмотр Конституции 1947 года и принятие проекта но-
вого Основного закона, «который будет написан японцами для
японцев»28). Составители журнала с чувством большого удовлет-
ворения поместили высказывания премьер-министр Абэ Синдзо
(сентябрь 2006 - сентябрь 2007 г.), который в своих выступлени-
ях прямо призывал «покончить с послевоенным режимом управ-
ления страной». Он подчеркивал, что после «холодной войны»
в Японии создалась благоприятная атмосфера для изменения
послевоенной Конституции 1947 года и проведения конституци-
онных реформ.
Националистическая организация под названием «Японская
конференция» - «Ниппон кайги» была создана 30 мая 1997 г.
путем объединения «Национального конгресса в защиту Японии» -
«Ниппон-о мамору кокумин кайги», учрежденного в 1981 году,
и «Общества в защиту Японии» - «Ниппон-о мамору кай», ко-
торое работало с 1974 года. Новая влиятельная и авторитетная
в националистических кругах организация стала результатом
объединения представителей всех правых националистических
сил Японии, выступающих за пересмотр послевоенной Конститу-
ции, а также за легализацию системы императорского правления
в Японии. В настоящем «Японскую конференцию» возглавляет
совет директоров в составе президента Миёси Тору, бывшего
председателя Верховного суда Японии, вице президента Одамура
Сиро, бывшего президента одного из старейших (1900-й год ос-
нования) университетов Японии - Таку секу (Токио), а также
вице-президента Ямамото Такума, почетнго председателя совета
директоров крупной корпорации Фудзицу. Все они одновременно
186
входят в состав почетного руководства храма Ясукуни, ведущего
в Японии центра по пропаганде идеологии японского национа-
лизма и центра военно-патриотического воспитания молодежи.
Все участники этой организации едины в своем отрицании факта
военной агрессии Японии в отношении соседей по региону Во-
сточной Азии в годы Второй мировой войны. Таким образом,
«Японская конференция» является главной штаб-квартирой на-
ционалистических сил страны, выступающих за пересмотр Кон-
ституции и превращение Японии в «нормальное государство».
Помимо «Японской конференции» в Японии активно дей-
ствует другой влиятельный и авторитетный националистический
орган - «Всеяпонский парламентский комитет», в котором, по
данным на июнь 2005 года, насчитывалось 235 членов парламента
от ЛДП, Демократической партии и других консервативных
партий. Участники «Японской конференции» также убеждены
в том, что идеологический кризис, в котором оказалось японское
общество в начале XXI века, обусловлен навязанной еще в после-
военные годы оккупационными силами негативной трактовкой
поведения Японии в период Второй мировой войны. Этот кризис,
считают они, зашел слишком далеко. Он подрывает традицион-
ную систему ценностей японцев, на которую всегда опиралось
японское общество, формирует у большинства его членов чувство
вины, комплекс неполноценности, ограничивает возможности
властей консолидировать нацию на патриотической основе. Чле-
нов «Всеяпонского парламентского комитета» ничуть не смущает
тот факт, что, например, в 1993 году бывший секретарь кабинета
министров Коно Ехэй опубликовал заявление, в котором от лица
японских властей принес извинения за недостойное поведение
японских солдат в годы Второй мировой войны, за использование
иностранных девушек в качестве «сексуальных рабынь». Кроме
того, в 1995 году премьер-министр Японии социалист Мураяма
Томиити также официально извинялся за политику японских
властей в годы войны и за ее колониальное прошлое. Однако
такого рода извинения не принимаются во внимание японскими
националистами2^.
Участники «Японской конференции» и «Всеяпонского парла-
ментского комитета» занимают весьма критическую позицию по
поводу официальных извинений японских властей за «преступное
поведение» Японии в Восточной Азии в первой половине XX века.
Мнение руководства «Японской конференции», например, по
этому вопросу было четко сформулировано в ее программных
документах. В них, в частности, отмечалось, что «распространя-
емые в мире взгляды по поводу «справедливости» и «объектив-
187
ности» решений Токийского трибунала по Японии (Международ-
ный военный трибунал по Восточной Азии), осуждающих ее за
преступное поведение в период Второй мировой войны, диктуют
Токио «извинительную дипломатию» на мировой арене, а главное -
наносят непоправимый ущерб менталитету японской молодежи,
лишая ее возможности гордиться своей страной и быть уверенны-
ми в достоинствах японской нации. С этим не могут мириться все
японские патриоты»30*.
Руководство ведущих националистических организаций Япо-
нии последовательно и целеустремленно пытается навязать об-
ществу свое понимание истории страны в XX веке, всякий раз
переписывая ее с позиций оправдания внешней силовой агрес-
сии, восхваления империалистической политики ее правящих
кругов. «Японская конференция», например, в 2008 году высту-
пила спонсором создания националистического фильма «Мы ни-
чего не забыли», продемонстрированного в Музее войны в храме
Ясукуни - «Юскжан». Фильм был посвящен восхвалению военной
политики, которую проводили правящие круги страны в первой
половине XX века. Главная сюжетная линия фильма заключается
в том, что Япония вела войны за самовыживание и самозащиту
нации и отдала миллионы жизней своих соотечественников, ко-
торые погибли с героическими мыслями о сохранении японской
нации и государства на вечные времена»31*.
В японском обществе, однако, есть силы, которые продолжа-
ют последовательно выступать с критикой политики и практики
государственного национализма в прошлом и настоящем, силы,
которые противятся нагнетанию в обществе националистической
истерии. Японские националисты встречают отпор со стороны
либеральной интеллигенции, а также левых сил, которые не ус-
тают критиковать власти за распространение в обществе нацио-
налистической пропаганды и идеологии. Более всего это заметно
в вопросе изменений содержания школьных учебников по истории.
«На баррикаде» противников переписывания истории в школь-
ных учебниках стоят такие организации, как «Дети и школьные
учебники в XXI веке» - (Кодомо то кёкасё дзэнкоку нэтто 21),
часть преподавательского корпуса университетов, журналисты,
писатели, многочисленные родительские комитеты - РТА (Parents
and Teachers Associations) по всей стране. Это разрозненные силы,
но они открыто выражают свою озабоченность националистиче-
ской активностью руководства ЛДП, министерства образования,
Обществом «Цукуру кай» и других националистических органи-
заций. Кроме того, тревога исходит и от общественных и акаде-
мических организаций за рубежом.
188
Всеяпонская организация «Дети и школьные учебники в
XXI веке» - ведущая антинационалистическая организация Япо-
нии, которую возглавляет Тавара Ёсифуми. Эта организация перво-
начально называлась «Национальная лига в поддержку школьных
учебников и против цензуры» - (Кёкасё кэнтэй сосё-о сиэн суру
дзэнкоку рэнраку кай). Она не раз поддерживала в судах писателя
и ученого-историка Иэнагу Сабуро, но после его победы в суде в
1998 году была распущена32*. Свою важнейшую задачу Организа-
ция «Дети и школьные учебники в XXI веке» видит в стремлении
развеять миф о так называемом «националистическом взгляде»
на историю. Она пропагандирует новый учебник по истории -
«Атарасий рэкиси кёкасё», равно как и другие нежелательные
и «опасные» для националистов школьные учебники по истории,
привлекая внимание общественности к необходимости, наконец,
прекратить процесс «переписывания национальной истории».
Другие антинационалистические организации, такие как
«Всеяпонское общество за демократическое обучение» (Дзэнкоку
минсюсюги кёику кэнкю кай), также сопротивляются продавли-
ванию националистической идеологии в школьные программы.
Они привлекают общественное мнение к конкретным направле-
ниям и формам борьбы с националистической идеологией в япон-
ском обществе, настаивают на прекращении исторического реви-
зионизма, создают общественные «Комитеты за правдивые и сво-
бодные учебники истории» (Кёкасё-ни синдзицу то дзию рэнраку
кай). Антинационалистические силы в Японии добиваются, прав-
да пока безуспешно, создания Консультативного комитета для об-
суждения преподавания социальных наук в школе (Сякай кёкасё
кондан кай). Они публикуют брошюры, книги, статьи в журналах,
проводят научные конференции, распространяют критические
статьи в Интернете, в которых открыто критикуют национали-
стические выступления в японских СМИ.
Небывалых размеров достигла критика национализма в Ин-
тернете в связи с содержанием школьных учебников по истории.
Причем критические высказывания раздаются не только от япон-
ских пользователей Интернета, но также и от китайских и корей-
ских пользователей электронных средств коммуникации. Броса-
ется в глаза, что Интернет объединяет в разных странах всех тех,
кто выступает откровенным противником роста национализма
в Японии33*.
В то время как сторонники националистической идеологии во
власти, члены националистических и патриотических обществен-
ных организаций Японии лоббируют местные парламенты, их
противники делают то же самое со своей стороны, собирая под-
14-5584
189
держку родителей школьников, школьных учителей, преподава-
телей университетов, юристов. Так, в период, когда новый учеб-
ник по истории проходил в министерстве образования процедуру
согласования, одобрения и принятия к печати, многие лоббиру-
ющие группы антинационалистов осуждали нечеткую позицию
правительства в этом вопросе. В декабре 2000 года японские анти-
националисты выпустили манифест, в котором четко сформули-
ровали требования к властям не допустить возврата шовинизма
и национализма в японское общество по аналогии с довоенным
временем34*. Первоначально обращение было подписано 60 япон-
скими учеными-историками, однако впоследствии число подпи-
сантов резко увеличилось, в том числе за счет зарубежных японо-
ведов. По данным на март 2001 года, их число уже достигало 900 че-
ловек. Другое обращение представителей японских академических
и писательских кругов, озабоченных неадекватной реакцией вла-
стей на проблему переписывания истории в школьных учебни-
ках, также было направлено в правительство в марте 2001 года.
В обращении выдвигались требования к соблюдению прозрач-
ности процесса редактирования учебников, а также проведения
открытых дискуссий по поводу подготовки новых школьных
учебников. В частности, в тексте обращения были такие слова:
«Мы выражаем серьезную обеспокоенность регрессивным под-
ходом к описанию национальной истории в школьных учебниках.
Мы требуем от правительства принятия соответствующих мер по
предотвращению подобного развития ситуации в будущем»35*.
Благодаря давлению со стороны демократической обществен-
ности новый, националистически ангажированный учебник по
истории Японии был предложен к использованию лишь весьма
ограниченному числу школ - 39. Новые учебники, в частности,
были направлены в государственные школы для детей с ограни-
ченными возможностями, а также в 6 частных школ36*. Показа-
тельно, что более половины всех японских школ - 51,3% пользо-
вались другим учебником по национальной истории - «Новое
общество: история» (Атарасий сякай: рэкиси), изданным прогрес-
сивным издательством «Токио сёсэки»37*.
Противники широкого распространения в японском обществе
националистической идеологии пополняют свои ряды за счет
подключения таких организаций, как «Противодействие насилию
в отношении женщин» - Violence against Women in War-Network
Japan -VAWW-Net Japan, Центра по изучению документации об
ответственности Японии за действия во время войны (Нихон
сэнсо сэкинин сирё сэнта), которые имеют выход на аналогичные
структуры за рубежом.
190
В этом контексте заслуживает внимания активная деятель-
ность «Конференции азиатской солидарности по вопросам созда-
ния международного учебника по истории Азии» (Адзиа рэнтай
кинкю кайги), которая периодически проводит свои заседания в
Токио. «Конференция» приглашает на встречи представителей из
Кореи, Китая, Тайваня, Филиппин, Малайзии и Индонезии. Цель
руководителей «Конференции» - реализовать на практике меры
по запрещению выхода в свет «Нового учебника по истории»
(Атарасий рэкиси кёкасё), который лоббируется сторонниками
националистического общества «Цукуру кай». Участники «Кон-
ференции» выступают в поддержку создания новой системы
школьного исторического образования во всех странах Азии.
Их влияние распространяется на все уровни принятия реше-
ний в этой области, начиная от руководства общеобразователь-
ных школ и родительских комитетов и кончая международным
уровнем, через обращение к соответствующим комитетам ООН
и международным неправительственным организациям. Кроме
того, участники «Конференции» поддерживают идею организа-
ции разветвленной «Сети исторического образования в Азиат-
ских странах» - Рэкиси кёику Адзиа нэттоваку, которая была бы
способна реализовать масштабный проект составления единых
учебников по истории для школ в Китае, Корее и Японии38*.
Разнообразная деятельность подобного рода организаций
свидетельствует о живом интересе гражданского общества в стра-
нах Восточной Азии к проблеме объективного освещения исто-
рических событий, к формированию у молодежи этих стран не
искаженного национализмом восприятия прошлого. Члены таких
обществ готовы честно и открыто обсуждать любые, даже самые
драматические события прошлой истории этих стран, но при этом
дистанцироваться от националистической идеологии ангажиро-
ванных японских составителей школьных учебников по истории.
Чрезмерная настойчивость японских националистов из «Цукуру
кай» и других националистических организаций Японии в их
попытках освещать японскую историю только такой, какой они
хотели бы ее видеть, сыграла с ними злую шутку. Она привела
лишь к тому, что появились заинтересованные силы, и не только
в самой Японии, которые хотели бы этому противодействовать
и готовы взять в свои руки подготовку школьных учебников по
истории.
Очевидно, что перспективы такого развития событий резко
отрицательно воспринимаются носителями националистической
идеологии в самой Японии. Так, из официального заявления Обще-
ства «Цукуру кай» следует, что «невозможно предположить, что-
14*
191
бы разные нации региона Восточной Азии имели общее, совпада-
ющее видение исторических событий. Если мы пойдем на комп-
ромисс с другими нациями в вопросах интерпретации истори-
ческих событий в регионе в XX в., потакая их видению истории,
то Япония должна будет сдать все завоеванные ранее позиции.
В этом случае статус-кво в регионе будет серьезно дестабилизи-
рован, а международный авторитет Японии - сильно подорван.
Японский народ не может этого допустить и никогда с этим не
смирится»39*.
Противники распространения националистической идеоло-
гии в Японии не намерены сдаваться. Свое внимание они также
обращают в первую очередь на формирование сознания подра-
стающего поколения. Они привлекают к своей работе историков
из других восточноазиатских стран. Разного рода рекомендации
в этой области разрабатывают участники «Конференции азиат-
ской солидарности по вопросам учебника по истории Азии» (Адзиа
рэнтай кинкю кайги). В ее заседаниях принимают участие про-
фессора истории и представители влиятельных общественных
организаций не только из Японии, но также из Кореи и Китая.
Участники Конференции в свое время изъявили желание подго-
товить первый альтернативный коллективный школьный учеб-
ник по истории стран Восточной Азии в XX веке, в котором ис-
торические события были бы объективно описаны и получили
честные оценки. По замыслу авторов такой учебник мог бы легко
конкурировать с учебником, созданным участниками общества
«Цукуру кай», в котором история Восточной Азии в XX веке
получила тенденциозное и однобокое освещение. Проект написа-
ния международного учебника по истории получил название
«Форума по проблемам исторического сознания и мира в Восточ-
ной Азии» - «Рэкиси нинсики то хигаси Адзиа хэйва Фораму» и
впервые был заявлен еще в 2002 году в китайском городе Нанки-
не. Впоследствии о нем шла речь на заседаниях рабочих групп
Форума в Токио в 2003 году и в Сеуле в 2004 году. Китайские
участники Форума предварительно создали Исследовательскую
группу по проблемам японских школьных учебников по истории,
сфокусировав внимание на оценках Нанкинских событий. В Нан-
кине был построен даже специальный Мемориал в память жертв
японского геноцида в 1937 году. Составители нового учебника
в своей работе опирались на материалы издающегося в Китае под
грифом Академии наук КНР журнала «Антияпонские военные
исследования» (Anti-Japanese War Studies). С японской стороны
участники Форума представлены членами Общества «Учебники
XXI века» и Центром по изучению документации об ответствен-
192
ности Японии за действия во время войны (Нихон сэнсо сэкинин
сирё сэнта). Составители данного издания уверены в успешной
реализации совместного проекта по написанию школьного учеб-
ника по истории с тем расчетом, чтобы впоследствии подгото-
вить учебник по истории стран Восточной Азии в XX веке и для
высшей школы. Материалы докладов выступавших на Форуме
участников в Нанкине и в Токио были опубликованы на сайте
«Преподавание истории в странах Азии»40*.
Разумеется, участники Форума, работая над учебником, отда-
вали себе отчет в том, что создать школьный учебник по истории,
подготовленный международным коллективом авторов из разных
восточноазиатских стран, - дело чрезвычайно сложное, даже
просто организовать совместные исследования по истории япо-
но-китайских и японо-корейских отношений весьма затрудни-
тельно в силу разного прочтения исторических фактов учеными
разных стран40. Однако противники распространения национали-
стической идеологии в Японии убеждены в том, что такой проект
имеет право на существование и при взаимном учете интересов
всех участников может быть успешно реализован.
Объективные трудности борьбы с носителями националисти-
ческой идеологии в Японии очевидны. Они обнаружились при
первой же попытке реализовать в начале нового столетия между-
народный проект по написанию школьного учебника по истории
стран Восточной Азии. Международный авторский коллектив
столкнулся с ними не только при подготовке материалов в содер-
жательной части учебника, но и с институциональными пробле-
мами, включая различные конечные цели школьного образования
в разных странах. В лучшем случае составители учебников смог-
ли выйти на общее понимание и трактовку несущественных ис-
торических деталей, но им было трудно прийти к общему согла-
сию в интерпретации судьбоносных событий в истории каждой
страны42*.
Итак, несмотря на то, что голос противников распространения
в Японии националистической идеологии звучит сегодня все
явственней, говорить о том, что именно они определяют полити-
ку государства в этой области, а тем более, что они определяют
формирование сознания японцев, - не приходится. Противники
национализма не могут сегодня противостоять напору национа-
листических сил, имеющих мощную базу как в самом обществе,
так и поддержку сверху. Время покажет, сумеет ли гражданское
общество в Японии сбалансировать влияние этих двух разноправ-
ленных сил на самосознание японцев.
193
2. Государственный национализм в попытках
пересмотреть Конституцию 1947 года
Японские националисты заинтересованы в пересмотре Консти-
туции 1947 года, составленной американскими юристами и со-
ветниками из штаба оккупационных сил генерала Дугласа Ма-
картура для капитулировавшей в войне Японии. Направления
их.усилий сосредоточены на реставрации тех юридических норм
и ценностей Основного закона, которые были утрачены нацией
по итогам Второй мировой войны, но которые спустя 60 лет после
ее окончания должны, по мнению националистов, быть восста-
новлены в пересмотренной Конституции. Прежде всего, речь
идет о реанимации Статей, прямо способствующих превращению
страны в «сильную, непобедимую державу», обладающую совре-
менной армией, способную принимать участие в коллективных
операциях за многие тысячи километров от территории Японских
островов.
Показательно, что движение за пересмотр Конституции это не
инициатива «снизу». Более того, законодательные инициативы
по пересмотру Основного закона не выносятся на обсуждение
парламента рядовыми парламентариями. Их делают лидеры стра-
ны, премьер-министры, что придает таким инициативам большой
вес и продуманный характер. В ноябре 2005 года инициативу
пересмотра ряда статей Конституции 1947 года внес премьер-
министр Дзюнъитиро Койдзуми. После согласования с руковод-
ством правящей ЛДП он лично предложил пакет поправок в
действующую Конституцию с целью использовать их в дальней-
шем в качестве юридических оснований для принятия в парла-
менте проекта закона о направлении японской армии за границу,
трех проектов закона «О введении чрезвычайного положения»,
а также проекта закона о посылке войск в Ирак в составе войск
международной коалиции. В своих выступлениях в парламенте
Койдзуми не раз подчеркивал, что нынешняя Конституция Япо-
нии является препятствием для реализации эффективной внеш-
ней политики страны и поэтому ее устаревшие положения можно
и нужно обходить. На сессии парламента в конце июля 2006 года
Койдзуми прямо заявил, что «было бы желательно принять закон
о пересмотре Конституции, не слишком затягивая с решением
этого вопроса»43*. Койдзуми с удовлетворением отмечал, что Де-
мократическая партия Японии, так же как и ЛДП, признает не-
обходимость внесения поправок в Конституцию 1947 года. Япон-
ские националисты были весьма удовлетворены четкой позицией
премьера в этих вопросах44*.
194
Премьер-министр Ясухиро Накасонэ (ноябрь 1982 - ноябрь
1987 г.) также не раз официально заявлял о необходимости пере-
смотра Конституции 1947 года. В частности, он подчеркивал, что
сменяемых в послевоенной истории Японии лидеров страны
можно разделить на две группы. Одна включает в себя таких
политиков, как Йосида Сигэру, Икэда Хаято и Эйсаку Сато, ко-
торые в бытность свою премьер-министрами делали акцент на
создание в стране максимально благоприятных не только внут-
ренних, но в первую очередь - внешних условий для ее быстрого
экономического роста и выдвижения в число мировых экономи-
ческих сверхдержав. Пацифистский имидж Японии в то время
полностью отвечал и соответствовал заявленным целям. Другая
группа политиков состояла из таких известных националистов,
как премьер-министры Итиро Хатояма, Киси Нобусукэ и Ясухиро
Накасонэ, которые делали акцент на укреплении вертикали госу-
дарственного управления. Ясухиро Накасонэ не сомневался в том,
что настоящие и будущие японские лидеры правого национали-
стического толка, наконец, решатся переписать Конституцию
и вернут Японии статус великой и сильной мировой державы.
Ясухиро Накосонэ оказался первым премьером, который после
Итиро Хатояма еще в 1950-е годы призвал к скорейшему пере-
смотру «американской» Конституции 1947 года в пользу включе-
ния в ее текст статей, отвечавших национальным интересам
Японии, а не Соединенных Штатов. Так откровенно и официаль-
но об этом после Хатояма осмеливался заявлять лишь Накасонэ.
Но, как ни парадоксально, оставаясь на посту премьера в первой
половине 1980-х годов, он не предпринимал конкретных и реаль-
ных действий по изменению Конституции, ограничиваясь лишь
общими декларациями на этот счет. Представляется, что свою
задачу он видел в том, чтобы подготовить сознание правящей
элиты и общества к неизбежности такого пересмотра.
Койдзуми Дзюнъитиро на посту премьер-министра (апрель
2001 - сентябрь 2006 г.) пошел дальше Накасонэ. Он официально
призвал к внесению конкретных поправок в текст Основного
закона и озвучил их содержание. Это был исторический момент
в политике современной Японии, так как Койдзуми мобилизовал
японскую правящую элиту и общественность на поддержку его
конкретных предложений об исключении «позорящей нацию»
Статьи 9 из текста нынешней Конституции, а также реализовал
право Японии на коллективную самооборону. Он продолжил уси-
лия японских властей в этом направлении, когда еще в 1992 году
парламент одобрил закон, разрешавший японской армии участво-
вать в операциях миротворческих сил ООН за рубежом. Впослед-
195
ствии японская армия уже на законных основаниях направлялась
за рубеж в составе коалиционных сил для участия в силовых акциях
США против Ирака и Афганистана. В атмосфере нагнетания нацио-
налистических настроений в верхних эшелонах власти в 2000 году
верхняя и нижняя палаты японского парламента создали специ-
альную законодательную структуру - «Парламентскую комис-
сию по пересмотру Конституции 1947 года».
Обращает на себя внимание один примечательный факт.
Японские националисты, педалируя политическую деятельность
по пересмотру «американской» Конституции для Японии 1947 года,
обвиняя ее составителей в ущемлении национальных интересов
Японии, при всем при этом ведут себя непоследовательно. Они
выступают за укрепление военно-политического союза с Соеди-
ненными Штатами, по сути соглашаясь с неравноправным харак-
тером отношений в этом союзе, с зависимым положением в нем
самой Японии. В рамках стратегического партнерства с США
Япония, например, добровольно согласилась в 1996-1997 гг. на
пересмотр в сторону укрепления военно-политического союза
с Америкой целого ряда основополагающих документов. Тогда же
была подписана «Совместная декларация по безопасности (Союз
безопасности на XXI век)», приняты пересмотренные «Руководя-
щие принципы японо-американского сотрудничества в области
обороны».
Создается впечатление, что правящие круги Японии вначале
пошли на укрепление фундамента японо-американских отноше-
ний и получили от США гарантии безопасности, для того чтобы
потом пойти на пересмотр Конституции 1947 года. Хорошо изве-
стный специалистам доклад заместителя госсекретаря США Ри-
чарда Армитиджа «Соединенные Штаты и Япония: продвиже-
ние к зрелому партнерству», опубликованный в США в октябре
2000 года, т.е. накануне вступления в должность премьер-мини-
стра Койдзуми Дзюнъитиро, стал своего рода спусковым меха-
низмом в кампании по принятию японским парламентом новых
законов, разрешавших Японии принимать участие в коллектив-
ных силах обороны, против чего последовательно выступали все
предшествующие лидеры страны. Кроме того, Статья 9 Консти-
туции 1947 года сегодня является основным «раздражителем»
и для американской стороны, так как она препятствует участию
Японии в коллективных с США военных операциях в мире.
Кампания за пересмотр Конституции 1947 года набирала обо-
роты по мере того, как администрация Буша приступила на прак-
тике к реализации стратегии упреждающего удара как основы
своей внешней политики и глобальной стратегии. В конце июля
196
2005 года Конституционный исследовательский комитет при штаб-
квартире ЛДП опубликовал законопроект о внесении поправок
в текст Конституции, касающихся укрепления национальной без-
опасности. Заявляя о праве Японии на самооборону, а также на
участие в коллективной обороне как средстве поддержания япон-
ской безопасности, законопроект предлагал переписать текст тех
статей Конституции, которые юридически запрещали Японии
располагать достаточной военной мощью для самообороны и при-
менять ее в этих целях. Очевидно, что новые формулировки
Статьи 9 целиком и полностью отвечают стратегическим интере-
сам США в отношении использования силового потенциала
Японии как своего союзника по Договору безопасности. Это от-
крывает дорогу японским националистам к пересмотру Консти-
туции в части, касающейся превращения страны в сильное воен-
ное государство.
Выступая в поддержку пересмотра Конституции, лидеры
Японии преследуют важную цель - сделать из Японии сильную
в военном отношении державу и сотрудничать с США в реали-
зации новой стратегии упреждающего удара. Койдзуми еще в
бытность свою премьер-министром в 2000-2006 гг. положил на-
чало бесповоротному отходу Японии от мирной послевоенной
Конституции. Сегодня Япония готовится к использованию воен-
ной силы в вооруженных конфликтах. Развернувшаяся в стране
после «холодной войны» националистическая кампания направ-
лена на идеологическую подготовку именно к такому повороту
событий, к изменению пацифистского имиджа Японии в направ-
лении превращения страны в «нормальное государство».
Националисты из руководства ЛДП, внося свои поправки в
новый текст Конституции страны, рассчитывали укрепить поли-
тический рейтинг правящей партии, который начал ослабевать.
Это наглядно проявилось в ходе дискуссий в парламентской
комиссии по пересмотру Конституции. Премьер-министр Койд-
зуми не раз обращался с просьбой к руководству ЛДП ускорить
работу по завершению законопроекта о пересмотре Конституции
к ноябрю 2005 года. Комитет по пересмотру Конституции заверил
премьера, что постарается учесть пожелание премьера и подгото-
вить окончательный вариант к указанному сроку. Властям было
крайне важно создать в обществе впечатление, что вся страна
принимает участие в обсуждении поправок к тексту Конститу-
ции, внесенных руководством ЛДП, что, безусловно, повышало
бы рейтинг консерваторов в неустойчивой политической системе
Японии по отношению к другим политическим силам. (После
общенациональных выборов 2009 года Либерально-демократи-
197
ческая партия была вынуждена уступить право формировать ка-
бинет министров Демократической партии Японии, которая за-
няла большинство мест как в палате представителей, так и в палате
советников. - М.К.)
Националисты из ЛДП действовали тогда решительно, не обра-
щая внимания ни на мнение общественности по поводу содержа-
ния поправок, ни на мнение оппозиционных политических сил.
Отправка японских военнослужащих в Ирак для участия в сило-
вой акции международной коалиции во главе с США, по сути по-
ставила точку в общественных дискуссиях о пересмотре Статьи 9
Конституции. Правительство, разумеется, пыталось объяснить
парламентариям и обществу, что отправка японских солдат в Ирак
не является нарушением Конституции, так как «они не будут
находиться в зонах боевых действий», что действительно запре-
щено Основным законом. Однако японцы не услышали от прави-
тельства, какие зоны в Ираке являются «боевыми», а какие - нет,
ибо разделить одни от других всегда достаточно сложно в вою-
ющей стране.
Правительство в итоге провело через парламент закон, кото-
рый предоставлял право вооруженным силам Японии оказывать
тыловую поддержку Соединенным Штатам во время проведения
антитеррористических операций в любом районе земного шара.
Одновременно кабинет министров утвердил в парламенте по-
правку к закону о вооруженных силах, возложив на них, в част-
ности, полномочия по охране американских баз и других важных
объектов в стране. Новый законопроект впервые после 1945 года
предоставлял японским войскам право действовать за границей
без получения на это прямых санкций СБ ООН. До этого, в слу-
чае чрезвычайных обстоятельств, сфера их действия ограничива-
лась территорией, водами и воздушным пространством собствен-
ной страны и кроме того так называемыми «прилегающими
районами». Теперь же контингенты японских вооруженных сил
могут размещаться в любой стране (при условии, что ее власти
дадут на это согласие), даже если в зоне дислокации не будет
существовать угрозы возникновения реальных боевых действий,
представляющих опасность для безопасности самой Японии.
Националисты добились того, что согласно новому закону,
вооруженные силы Японии могут впредь выполнять следующие
функции: перебрасывать контингентам американских ВС и их
союзникам, находящимся на чужой территории, продовольствие
и медикаменты, оказывать медицинскую помощь, участвовать
в поисковых и спасательных операциях, помогать беженцам. По-
мимо права применять оружие для самозащиты японским воен-
198
нослужащим разрешено отныне открывать огонь в случае возник-
новения угрозы для лиц, «находящихся под японской опекой»,
включая, например, раненых американских солдат в японских
госпиталях. Однако Токио пока исключил возможность прямого
участия японской армии в боевых действиях.
Очевидно, что как бы ни формулировался новый закон, его
принятие де-факто уже нарушило Статью 9 Конституции страны.
Именно поэтому националистические силы страны намерены
окончательно устранить неопределенности в этом вопросе и пе-
реписать старую Конституцию, легально превратив Японию в го-
сударство, способное участвовать в вооруженных конфликтах по
всему миру.
17 ноября 2004 г. Парламентская комиссия по пересмотру
Конституции передала в Комиссию по составлению законопроек-
тов свои предложения. Председатель комиссии Ясуока Окихару
подтвердил готовность комиссии учесть все замечания и предло-
жения и подготовить первый вариант законопроекта к декабрю
2004 года с тем, чтобы к весне 2005 года внести его на рассмот-
рение очередной сессии парламента. Проект переработанной
Конституции в новой редакции Ясуока Окихару обещал предста-
вить на рассмотрение парламентариев уже к сентябрю 2005 года,
а в октябре 2005 года новая Конституция страны должна была
быть одобрена парламентом. Японские националисты во главе с
премьер-министром Койдзуми торопились завершить работу по
составлению нового варианта Конституции к 50-летию образова-
ния Либерально-демократической партии Японии, т.е. к 15 нояб-
ря 2005 г. Однако формально этого не произошло и в 2011 году.
Знакомство с подготовленным, но все еще не принятым доку-
ментом, возможно, проясняет причины задержки с окончатель-
ным одобрением его парламентом страны. Во-первых, японские
националисты не ограничивали свои требования по пересмотру
Конституции только изменением антивоенной Статьи 9, хотя
и заинтересованы в ее изменении в первую очередь. Дело в том,
что если бы они вынесли на общенациональный референдум
только вопрос об изменении содержания антивоенной Статьи 9,
то японская общественность не поддержала бы власти и вся идея
пересмотра Конституции, которая в значительной мере затева-
лась из-за этой статьи, могла бы провалиться. Поэтому правящие
круги предложили внести поправки в Конституцию, добавив в
нее другие статьи, в частности статью о защите окружающей
среды, о правах человека и ряд других, которые отвлекали бы
внимание общественности от Статьи 9, и потому в целом идея
поправок Конституции «в пакете» могла бы быть поддержана
199
японской общественностью. Новая Конституция, составленная
ЛДП, таким образом, была бы представлена японскому народу
как новый Основной закон, опирающийся на широкую поддерж-
ку японского народа. Но ЛДП упустила историческое время, так
как сегодня она уже не является правящей партией.
Во-вторых, японские националисты лукавят, когда аргумен-
тируют необходимость включения в текст новой Конституции
поправок о «праве нации на коллективную самооборону». ЛДП
предлагала разбить Статью 9 на две части: «Пацифизм и интер-
национализм» (параграф 4) и «Чрезвычайные обстоятельства
и использование сил самообороны в военных конфликтах» (па-
раграф 8). Варинаты формулировок новых статей Конституции
предполагали, таким образом, легализацию права Японии на уча-
стие в вооруженных конфликтах вместе с войсками США и НАТО
на коллективной основе. При этом Токио рассчитывал удовлет-
ворить стратегические запросы США как своего военно-полити-
ческого союзника, а также интересы крупного капитала Японии,
военно-промышленных кругов, прежде всего надеявшихся полу-
чить немалые доходы от процесса ремилитаризации страны. Одна-
ко прямо и откровенно об этом в тексте поправок ничего сказано
не было.
Истинные намерения составителей поправок, однако, про-
сматривались лишь в сноске на странице 13 проекта поправок.
Они заключались в том, чтобы провести через парламент следую-
щую формулировку первой части новой Статьи 9, которая гласи-
ла: «Использование военной силы возможно в целях как само-
обороны, так и в случаях коллективной самообороны, а также
в качестве вклада в международные миротворческие операции по
поддержанию или установлению мира в зонах конфликтах. Такое
участие Японии не должно быть запрещено»45). Далеко не случай-
но, что «уточнения» к Статье 9 были помещены в проекте новой
Конституции в качестве сноски к Статье 9, а не включены в ее
основной текст.
Параграф 8 проекта новой Конституции был посвящен дей-
ствиям Японии в случае «чрезвычайных обстоятельств». Этот
раздел содержал 3 подраздела: «защита национальной безопасно-
сти в случае чрезвычайных обстоятельств», «обеспечение обще-
ственной безопасности» и «помощь при стихийных бедствиях».
При этом действия властей в случае «чрезвычайных обстоя-
тельств, предполагавшие обеспечение общественной безопасно-
сти», включали в себя реакцию на террористические атаки, равно
как и потенциальные атаки по территории Японских островов со
стороны внешних сил. В этих случаях премьер-министр получал
200
право издавать Указ, согласно которому фундаментальные права
и свободы граждан страны могли быть резко ограничены. По сути,
это означало легализацию властями своего права ограничивать
демократические свободы японцев, что напоминает пресловутый
Закон о «Чрезвычайном положении» и Закон об «Охране тайны»
в довоенной Японии. Принятие такого рода поправок в новую
Конституцию, которые узаконивали бы объявление «чрезвычай-
ных обстоятельств» с самым широким толкованием данного поня-
тия, может обоснованно рассматриваться как антидемократиче-
ские действия властей Японии в отношении своих граждан, как
наступление на их общегражданские права. Это обстоятельство
также работало против широкой поддержки японской обществен-
ностью поправок к Конституции в варианте, предложенном ЛДП.
В-третьих, среди предложенных поправок в текст Конститу-
ции были и такие, которые предполагали ущемление прав граж-
дан контролировать верховную власть. Японские националисты
предпочитают в первую очередь расширить круг полномочий
самих властей при осуществлении контроля над гражданами.
Конституции современных государств существуют как основной
закон государства, который сдерживает государственную власть
от скатывания к тоталитарному, деспотическому режиму правле-
ния. В Статье 99 нынешней конституции Японии, например,
сказано, что «Император или Регент, а также государственные
министры, члены Парламента, судьи и все остальные публичные
должностные лица обязаны уважать и охранять настоящую Кон-
ституцию»46*. Однако японские националисты в лице лидеров
ЛДП предлагают добавить к тексту Статьи 99 еще один параграф,
который гласил бы, что «граждане несут ответственность за ува-
жение новой конституции и обязаны ее защищать». В случае, если
пересмотренная конституция была бы принята, то любой протест
против принятия реакционных или военных статей мог рассмат-
риваться как нарушение данной статьи конституции и лицо, ее на-
рушившее, подлежало бы наказанию либо в административном,
либо в уголовном порядке.
Японские националисты, прежде всего из числа правящей
элиты, заинтересованы в таком варианте новой конституции, кото-
рая накладывала бы на граждан новые, дополнительные обязатель-
ства и ответственность перед государством. Например, в проект
пересматриваемой конституции власти включают такие новые
статьи, как необходимость граждан «защищать национальный
суверенитет и безопасность страны, участвовать в расходах на со-
циальные нужды, формировать патриотические убеждения и си-
стему ценностей». Власти стараются также частично переложить
201
на граждан расходы по их социальному обеспечению, высвобож-
дая немалые средства для финансирования других статей госу-
дарственного бюджета, особенно расходов на оборону.
В-четвертых, заинтересованность националистов, в том числе
и в правящем истеблишменте страны, в пересмотре конституции
обусловлена также желанием реанимировать довоенный государ-
ственный национализм и в первую очередь - роль императора как
главы государства, повысив его статус до уровня, который импе-
ратор занимал согласно старой японской императорской Консти-
туции 1889 года.
При этом аргументация сторонников «возвращения импера-
тора на престол» сводится к следующему: «Новая Конституция
Японии должна базироваться на традиционных японских ценно-
стях и уходить корнями в историю и культуру страны, а также
в систему моральных ценностей, которые японцы поддерживали
на протяжении столетий и которые авторы ныне действующей
Конституции 1947 года проигнорировали в силу того, что Япония
была оккупированной страной»47*. Националисты хотели бы ви-
деть новую конституцию Японии как фундамент для «создания
идеального режима управления нацией». Последний подразуме-
вает, в том числе, восстановление системы императорского прав-
ления как незыблемого, традиционного оплота национального
развития. Эта мысль, по мнению японских националистов, также
должна быть включена в Статью 1 новой Конституции, а также
в уточняющее ее содержание Статью 2, касающуюся «роли импе-
ратора как символа нации». Старый текст должен быть заменен
на слова: «Император должен быть главой государства, а также
символом национальной истории, традиций и культуры японско-
го государства, равно как и символом единения японского народа.
Император должен быть лидером нации и частью исполнитель-
ной власти в государстве, представлять Японию на международ-
ном уровне».
Японских националистов не смущает тот факт, что обнародо-
вание своих планов по пересмотру Конституции и возвращению
нации в XIX век не находит сегодня единодушной поддержки
японской общественности. Передовая газеты «Майнити симбун»
от 21 ноября 2004 г. прямо выразила мнение подавляющего боль-
шинства японцев, отметив, что такие планы по пересмотру Ос-
новного закона страны вряд ли могут найти понимание в сердцах
японцев48*. Восстановление императорской системы правления
в новой Конституции Японии и превращение ее в военную сверх-
державу не получат поддержки также и у соседей Японии по
Восточной Азии, а также и в других странах мира.
202
3 мая 2007 г. Парламентская комиссия по пересмотру Консти-
туции Японии сделала достоянием общественности проект новой
конституции, представляющей нацию как идеальное современное
государство. Главная отличительная черта проекта нового Основ-
ного закона состоит в том, что Япония в нем становится государ-
ством с императорской системой власти, в которой император
не номинальный символ, как это было записано в Конституции
1947 года, а лицо, которому принадлежит суверенная власть над
народом. В предлагаемом проекте четко записано, что «японский
народ, объединенный вокруг императора, после войны преодолел
много трудностей и успешно развил нацию». Из этого следует,
что император Японии является «главой государства»49*.
В проекте новой конституции предлагается полностью изме-
нить Статью 9 ныне действующей конституции 1947 года, соглас-
но которой Япония отказывается на вечные времена от войны как
суверенного права нации, а также от угрозы или применения
вооруженной силы как средства разрешения международных
споров50*. Проект новой конституции констатирует, что граждане
Японии должны «защищать свою Родину», он включает право мо-
билизовать всех граждан в случае чрезвычайного положения для
участия в военных действиях, а также призывает к восстановле-
нию довоенного японского общества.
Заслуживает внимания и тот факт, что как кабинеты мини-
стров, сформированные консервативной Либерально-демократи-
ческой партией, так и правительство демократов в своем большин-
стве состоят из сторонников пересмотра действующей Конституции.
Так, по имеющимся данным, из 18 членов кабинета Абэ, 12 были
членами Парламентской комиссии по пересмотру Конституции.
Если к этому числу добавить тех членов кабинета, которые явля-
ются сторонниками националистической идеологии, то общее
число откровенных националистов в составе правительства Абэ
достигало бы 15 из 18. Именно такой пропорциональный состав
правящей элиты определяет внутреннюю и внешнюю политику
Японии. Она в основном состоит из явных или скрытых сторон-
ников идеологии государственного национализма.
Бывший премьер Абэ в бытность свою лидером Японии выдви-
нул лозунг с сугубо националистическим подтекстом: «Япония -
прекрасная страна». По сути он повторил девиз «Японской кон-
ференции», который был выдвинут ее организаторами в момент
создания этой националистической организации еще в 1990-е годы
и который звучал: «Восстановим Японию как прекрасную стра-
ну». Абэ призывал покончить, наконец, с послевоенным либераль-
ным режимом правления в Японии и быстрее восстановить до-
203
военную систему правления с центрообразующей ролью импера-
тора и традиционным институтом японской семьи как наиваж-
нейшей ценностью японской цивилизации.
При этом националисты намерены вычеркнуть не устраиваю-
щие их страницы истории и заявляют, что уже давно наступило
время денонсировать преамбулу ныне действующей Конститу-
ции 1947 года, в которой содержится призыв «к миру на вечные
времена» и который на деле означает «извинения перед оккупа-
ционными силами за поведение страны в годы Второй мировой
войны». Япония не намерена ни перед кем извиняться, так как
«война - есть война»50.
20 мая 2007 г. в Токио состоялся симпозиум, организованный
«Парламентской комиссией по пересмотру Конституции». На нем
председатель комиссии Фунада Хадзимэ заявил, что «ведущая
политическая сила Японии - ЛДП (до 2009 года она была тако-
вой) приступила к отходу от курса на принижение роли государ-
ства в управлении общественными процессами, который был
навязан Японии Конституцией 1947 года. В новой Конституции
роль государства в воспитании общества на началах патриотизма
будет кардинально изменена и усилена». Известный американский
японовед, профессор Колумбийского университета Джеральд
Куртис высказался по поводу данного официального заявления
следующим образом. Он отметил, что «считает труднообъясни-
мым факт заявления официального представителя власти демо-
кратической страны о желании ее правящих кругов покончить
с послевоенным режимом правления и вернуться к довоенной
модели управления государством. Было бы желательно, чтобы
премьер-министр официально разъяснил мировой и японской
общественности, чем был так плох послевоенный демократиче-
ский режим правления в Японии, который необходимо карди-
нально менять»50. Широко известный в мире американский про-
фессор Фрэнсис Фукуяма по этому поводу, в свою очередь, заме-
тил, что «отказ правящей элиты Японии от Статьи 9 Конституции
1947 года в очередной раз продемонстрировал набирающий силу
японский национализм. Такая политика японского руководства
может неминуемо привести Японию к политической изоляции
в мире и спровоцировать напряженность в ее отношениях со стра-
нами Восточной Азии»53).
Позиция правящей Демократической партии Японии по воп-
росу о пересмотре Конституции несколько отличается от позиции
руководства японских консерваторов. Она состоит в следующем:
Статья 9 действующей Конституции 1947 года, олицетворяющей
пацифистский имидж Японии в мире, должна быть сохранена,
204
однако для реализации планов по коллективной обороне Япония
должна четко обозначить свои приоритеты. Они сводятся, во-
первых, к поддержанию усилий ООН по обеспечению коллектив-
ной безопасности; во-вторых, к ограничению прав на самооборону;
в-третьих, к необходимости ввести максимальные ограничения на
использование вооруженной силы в случае пересмотра Статьи 9.
Другими словами, руководство ДПЯ, в принципе, допускает пере-
смотр Конституции 1947 года и изменение содержания Статьи 9
в частности. В пересмотренной Конституции ДПЯ выступает за
уточнение принципа «гражданского контроля», а также принци-
па участия Японии в коллективных действиях ООН по укрепле-
нию безопасности54*.
Вместе с тем Демократическая партия Японии продолжает
курс консервативной ЛДП на ускоренное военное строительство
в Японии. 17 декабря 2009 г. правительство демократов утвер-
дило военный бюджет на 2010-й финансовый год (апрель 2010 -
март 2011 г.) в полном соответствии с нормами, заложенными
в Национальной программе обороны, которая была одобрена
в 2005-м финансовом году правительством консерваторов. ЛДП
призывала тогда увеличить военные расходы и ускорить военное
строительство, а также расширить деятельность по отправке во-
енных миссий за рубеж в полном соответствии со стратегически-
ми запросами США.
Правительство демократов разработало новую программу
военного строительства, дополнив и расширив статьи прежней
программы военного строительства «Основные принципы нацио-
нальной оборонной политики», утвержденной ЛДП на период
2005/2009 финансовый год. Новая программа была принята в
2010 году. Она предусматривает дальнейшее наращивание воен-
ной мощи Японии и, по сути, игнорирует Статью 9 Конституции
1947 года. Увеличивается размер финансирования расходов по
статьям «посылка японских солдат для участия в составе войск
коалиции США и НАТО в Ираке», а также по статье «военное
сотрудничество с США в операциях американских сил в мире»55*.
Новое правительство демократов продолжает линию япон-
ских консерваторов. Размещение японских войск за рубежом ста-
ло рутинным событием для Японии. При новом правительстве
японские войска продолжают находиться в Ираке, в Индийском
океане, а также у побережья Сомали. Новое правительство уве-
личивает военные расходы под предлогом необходимости участия
Японии в международном военном сотрудничестве. Расходы уве-
личиваются на такие военные операции, как дозаправка военных
самолетов в воздухе, направление нефтеналивных судов в район
15-5584
205
боевых действий США, посылка военно-транспортных судов для
нужд американской армии в Индийском океане. В частности,
министерство обороны запросило в 2010 году у кабинета демо-
кратов новый увеличенный бюджет на закупку современных вер-
толетоносцев водоизмещением 20 тыс. тонн, способных нести на
борту 14 боевых вертолетов, стоимостью 118,1 млрд, иен (около
1,2 млрд. долл. США). Кроме того, новый военный бюджет пре-
дусматривает расходы на строительство японской ПРО - РАСЗ,
которая является составной частью американской системы ПРО
ТВД в Восточной Азии и направлена на сдерживание Китая,
России и КНДР в интересах национальной безопасности США.
Демократы во власти не намерены сокращать военные рас-
ходы в новом бюджете, который составляет около 50 млрд. долл.
(5 трилл. иен), включая расходы на содержание американских
военных баз на территории Японии. Демократические власти
продолжают линию консерваторов на укрепление военного со-
трудничества с США и не демонстрируют готовности сокращать
военные расходы в ближайшие годы56).
Таким образом, националисты в новой власти, которые нахо-
дятся сегодня в руководстве сменившей ЛДП правящей Демо-
кратической партии, не намерены отказываться от пересмотра
Конституции 1947 года. Им импонирует идея не только перепи-
сать действующую мирную Конституцию, но скорректировать
статус императора страны и даже предоставить ему право прини-
мать иностранных гостей Японии. Так, 15 декабря 2009 г. импера-
тор Акихито встречался с вице-президентом КНР Си Цзиньпи-
ном. Встреча была организована руководством Демократической
партии Японии, однако глава императорской канцелярии накану-
не встречи выразил озабоченность правомерностью использо-
вания императора в «политических целях». На это генеральный
секретарь правящей Демократической партии Японии Итиро
Одзава заявил, что отвергает любые сомнения по этому поводу
и посоветовал главе императорской канцелярии «внимательнее
читать существующую Конституцию»571.
Следует отметить, что ныне действующая Конституция Япо-
нии не дает право императору принимать участие во встречах
с иностранными политическими деятелями «в рамках государ-
ственных дел». Император должен получать на это рекомендации
и одобрение кабинета министров. При этом, согласно Конститу-
ции 1947 года, встречи императора не должны иметь полити-
ческого смысла. Но в руководстве Демократической партии
Японии, вероятно, считают, что если нельзя, но очень хочется,
то можно...
206
Японские либералы критически реагируют на все попытки
демократической власти переписать Основной закон страны,
который все послевоенные десятилетия создавал образ Японии
как мирной, демократической державы, добровольно отказавшей-
ся от разрешения международных споров военными средствами.
Обнародованные поправки в текст действующей Конституции не
находят поддержки в обществе. Поэтому, несмотря на огромные
усилия японских националистов, и в 2011 году Япония жила по
старому Основному закону 1947 года.
3. Роль института императорской власти в развитии
современного национализма
В противовес историческому опыту и традициям многих других
стран национализм в Японии традиционно олицетворялся с со-
хранением и укреплением института императорской власти -
«тэнносюги», потому что исторически он развивался как нацио-
нализм государственный. Японская нация на протяжении своей
тысячелетней истории гордилась наличием этого института. Дан-
ное обстоятельство всегда добавляло весомые аргументы япон-
ским националистам для пропаганды «уникального» характера
японской нации в мировой истории58*.
По сути вся история постмэйдзийской реставрации импера-
торской власти в Японии во второй половине XIX века показала,
что не государство с его внутренней и внешней политикой, а имен-
но институт императорской власти оказался сильнейшим фак-
тором объединения и сплочения нации, роста японского нацио-
нального самосознания. С именем императора солдаты японской
армии шли в бой и побеждали в японо-китайской войне 1894
1895 гг. и в русско-японской войне 1904-1905 гг. Особая роль им-
ператора как вдохновителя и организатора вооруженной агрессии
Японии в Восточной Азии и на Тихом океане была отмечена и в
период Второй мировой войны. Закономерно поэтому, что после
победы над Японией в 1945 году Соединенные Штаты и их союз-
ники так спешили ослабить в первую очередь именно институт
императорской власти.
Было бы, однако, ошибкой переоценивать роль и значение
института императорской власти в развитии государственного
национализма в Японии. Дело в том, что государство в Японии
традиционно зиждилось на двух опорах - на системе император-
ской власти и на идеологии государственного национализма,
которые попеременно обеспечивали нации ее устойчивость, спло-
15*
207
ченность и выживаемость в сложных международных условиях.
Поэтому, анализируя особенности современного японского нацио-
нализма, важно иметь правильное представление о сложном ха-
рактере взаимоотношений этих двух субъектов политической
культуры Японии - системы императорской власти и собственно
идеологии японского государственного национализма. Отноше-
ния их взаимозависимости лучше всего, на наш взгляд, просмат-
риваются при осмыслении следующих четырех основных аспек-
тов этой проблемы, а именно: роли императора как «защитника
и отца нации», его роли как «морального авторитета нации», как
«политического лидера нации» и, наконец, как «символа нации».
Роль императора как «защитника и отца нации»
Важный идеологический посыл японских националистов сво-
дится к тому, что только полноценная, т.е. не обремененная ус-
ловиями (о необходимости передачи верховной власти от им-
ператора к сёгуну, введения конституционных ограничений на
исполнение императором роли верховного руководителя Японии
и т.п.) система императорской власти способна укрепить основы
государственного национализа и обеспечить защиту и выживание
нации. Историческое подтвержение этому: в Японии в середине
XIX века заинтересованные политические силы выставили мо-
нарха-императора в роли единственного защитника и отца нации,
единственного ее лидера, способного свергнуть режим военного
правления бакуфу и лишить сёгунат права властвовать. Рестав-
рация императорской власти предполагала наступление эры со-
циальной гармонии, единения нации, мира и процветания в Япо-
нии, т.е. всего того, чего не мог дать нации институт сёгуната.
Заметную роль в пропаганде за скорейшую реставрацию вла-
сти императора играли труды ученого-историка конфуцианской
школы Мито Айдзава Сэйсисай (1782-1863), который в 1825 году
подготовил свою известную монографию «Синрон» (Новая нацио-
нальная политика). Это исследование оказало большое влияние
на сплочение всех проимператорских сил в Токугавской Японии
на националистической основе59*. В своем фундаментальном тру-
де Айдзава пытался аргументировать, что Япония может выжить
в предстоящий сложный для нее исторический период не путем
«латания дыр» непрекращающимися реформами и модернизаци-
ей, а только сплотившись под защитой императора и государ-
ственной системы «кокутай». Ученые-историки из школы Мито,
включая и самого Айдзава Сэйсисай, были твердо убеждены в том,
что только таким путем можно вернуть японской нации ее уникаль-
208
ный национальный дух. Они предлагали сделать это путем соеди-
нения императорского государства с идеологией государственного
национализма. Кумулятивная и в значительной степени заимство-
ванная в прошлом из Китая политическая и социальная культура
Японии должна была, наконец, трансформироваться в особую,
сугубо национальную идеологию государственного национализма
«кокутай». При этом решающую объединительную роль национа-
листы отводили только одному человеку в государстве, а именно
императору.
В дословном переводе с японского «кокутай» означает «госу-
дарственный (коку) организм (тай)», однако в повседневной
жизни японцы понимали под «кокутай» «национальное устрой-
ство», «сущность нации» или «организацию государства»60*. По-
нятие «кокутай» использовалось японскими националистами для
обозначения «уникального характера» японского государства, ко-
торый понимался ими, прежде всего, как «непрерывность в веках
продолжения династии императоров», а также как уверенность
японцев в том, что государство в Японии одна большая семья,
в которой отношения между императором как главой семьи и всеми
остальными ее «членами» представляют собой отношения между
«отцом и его детьми».
Идея о том, что Япония по своему происхождению и по своей
организации не похожа на многие другие государства в мире, была
довольно старой идеей. Она восходила еще к периоду, когда
Япония называлась «страной Богов». Однако только с началом
периода Эдо (1600-1868) эта «уникальность японского государ-
ства» стала объектом особого внимания японских националистов.
Растущий национализм в этот период появился в японском обще-
стве на фоне недовольства его правящей элиты по поводу усили-
вающейся зависимости японцев от конфуцианской идеологии,
преклонения перед всем китайским. В кругах, приближенных
к сёгунату Токугава, формировалось мнение о том, что в целях
консолидации нации в период ее изоляции от внешнего мира
необходима была «оборонительная» идеология, построенная на
ксенофобии и патриотизме, на страхе перед внешней угрозой
колонизации страны. Националистическая идеология была при-
звана сыграть в этом решающую роль.
Закономерно, что в этот период популярным в Японии стал
националистический тезис о том, что не Китай, а именно Япония
является «серединным государством» в регионе Восточной и
Юго-Восточной Азии, что японская культура и система государ-
ственного управления в прошлом не были заимствованы из Ки-
тая, а напротив, Китай взял на вооружение японскую культуру
209
и государственное устройство. Именно Синто как национальная
религия Японии, ознаменовавшая собой «Путь японских Богов»,
была первичной религией по отношению к конфуцианству, а не
наоборот60. В конце периода Эдо по мере роста влияния в обще-
стве идей «Кокугаку» (Изучение истории японской нации и го-
сударства) и в особенности роста авторитета исторической нацио-
налистической «Школы Мито» внимание японских политиков и
ученых было всецело приковано к пропаганде идеологии «Кокутай».
Концепция построения государства в Японии по принципу
«одной большой семьи» стала основой системы народного обра-
зования в Японии начиная с 1890-х годов. В 1890 году был опуб-
ликован Императорский рескрипт об образовании, в котором
важное место отводилось пропаганде «кокутай». Этот документ
регулярно зачитывался на уроках во всех японских школах как
главная молитва в христианстве «Отче наш». Он являлся основой
преподавания на уроках японской истории, этики и традиций на
протяжении более полувека вплоть до поражения Японии во
Второй мировой войне.
Характерно, что знание основ националистической идеологии
«кокутай» было обязательной нормой для всех японцев, и лица,
которые ее критиковали или не хотели ей следовать, преследова-
лись в административном порядке. Один из самых нашумевших
инцидентов с гонениями по идеологическим соображениям имел
место в 1935 году. Он вошел в японскую историю как инцидент
«Тэнно кикан сэцу», когда Минобэ Такути, член палаты пэров
парламента официально подверг сомнению божественное проис-
хождение императора, на чем держалась вся идеология «кокутай».
Он утверждал, что «император есть всего лишь часть государ-
ственной машины Японии», а не божественная персона. Минобэ
инкриминировали оскорбление императора, а его работы были
запрещены к публикации. Инцидент с Минобэ Такути получил
широкую огласку, так как власти были заинтересованы донести
до общества важность следования в своем поведении нормам
Закона 1925 года «О поддержании общественного спокойствия» -
Тиан идзи хо, в первой Статье которого было четко записано, что
все граждане Японии обязаны уважать идеологию «кокутай» и не
отступать от нее. По сути этот недемократический закон был
направлен на запрет любой деятельности, предполагавшей внесе-
ние каких-либо изменений в идеологию «кокутай».
Японские националисты, сторонники националистической
идеологии «кокутай», исключали и жестко пресекали проявление
любой ереси относительно данного идеологического трактата.
Вместе с тем попытки подобного рода предпринимались в рамках
210
общественного движения «Кокутай мэйтё ундо», результатом
деятельности которого стало появление в 1937 году книги «Ко-
кутай но хонги» - Основные принципы японской идентичности.
В 1949 году она была опубликована министерством образования
Японии и стала основным учебником по преподаванию морали
в японских школах. В учебнике были собраны традиционные
мифы Японии, которые трактовались как исторические факты.
Учебник был пропитан националистической идеологией и ксено-
фобией по отношению к иностранцам. В учебнике, однако, была
несколько скорректирована интерпретация понятия «кокутай».
В последнем варианте это означало «вечнопродолжающееся прав-
ление непрерываемой в веках династии императоров Великой
японской империи, послушно выполняющих приказы своих пред-
шественников»62).
Таким образом, японские националисты на протяжении дли-
тельного периода времени, начиная от бакумацу и кончая после-
военным периодом, стремились идеологически внушить нации,
что ее выживание и процветание связано исключительно с сохра-
нением института императорской власти, что действительно де-
лает Японию «уникальной» среди других стран. Они доказывали,
что император никогда и никем не свергался в Японии путем
революционных преобразований. В политической культуре на-
ции никогда не было движений, требовавших разрушения или
низложения института императорской власти. Все, что было свя-
зано с императором в национальной истории, так или иначе имело
глубоко патриотические, моральные, а не политические корни,
а сама Япония представлялась уникальной страной в плане вы-
сокой политической морали (сэйдзэн-но ринри). Высокая мораль
в политике поддерживалась опять-таки институтом император-
ской власти, а не была уделом «грязной игры различных сил и
групп интересов». Институт императора всегда возвышался над
политическими интригами и тем самым сохранял фундамент
единства нации63).
В тексте «Кокутай» издания 1937 года в Главе второй «Священ-
ные добродетели» об императоре Японии было прямо написано, что
«Император, являющийся божественным воплощением «Акицу-
миками», правит нашей страной в соответствии с волей его авгу-
стейших предков. Однако называя императора «воплощенным
богом» - «Арахито-гами», мы не имеем в виду так называемого
«абсолютного Бога» или «всеведущего и всемогущего Бога»,
но лишь указываем, что августейшие предки воплотились в особе
императора, являющегося их божественным потомком, что им-
ператор един со своими августейшими предками и что он на века
211
воплощает развитие жизни народа и страны и что его благость не
имеет границ. Статья первая Императорской конституции 1899 года,
гласящая, что «Великая Японская империя управляется непре-
рывной в веках династией императоров», и статья третья, глася-
щая, что «...особа императора священна и неприкосновенна», ясно
показывают японскую специфику толкования сущности импера-
торской власти64*.
Националистическая концепция «кокутай» была призвана
подчеркнуть уникальность японской нации преимущественно в
том, что никакая другая нация на земле на протяжении долгого
пути своего развития непрерывно не возглавлялась «отцом нации»,
т.е. членом священной императорской фамилии. Эта привилегия
была только у японской нации. Это утверждение оспорил англий-
ский историк, профессор Кембриджского университета Йозеф
Питтау, который писал, что концепция «кокутай» не является по
своему происхождению японской. Она изначально родилась в Китае
и имела мало общего с прославлением монархического образа
правления. Китайский вариант «кокутай» касался лишь теории
и практики «организации государства». В Японии же «кокутай»
был превращен в панегирик императорской власти. Впервые
об этом заговорил Китабатакэ Тикафуса (1293-1354 гг.), автор
«Дзинносётоки» (Хроники сменяемости священных императо-
ров)65*. Сам Китабатакэ был сторонником «Южного двора» и хотел
поддержать его позиции в противостоянии с «Северным двором».
В своем произведении он не только хотел доказать легитимность
нахождения у власти и права на трон представителей «Южного
императорского двора», но также хотел подчеркнуть, что между
императором и народом существуют самые тесные связи и имен-
но эти отношения императора и нации он и называл системой
«кокутай»66*.
Именно такой смысл концепции «кокутай» японские нацио-
налисты хотели внушить японской общественности. Они широко
его пропагандировали особенно накануне реставрации власти
императора Мэйдзи, всякий раз делая акцент не только на тесной
связи императора с народом, но и на его патерналистских чувст-
вах к народу как защитника и спасителя японской нации.
Институт императорской власти в японском обществе тради-
ционно и осознанно ассоциировался с попытками стабилизиро-
вать внутреннюю политику и обеспечить внешнюю безопасность
нации. С одной стороны, это аргументировалось тем, что монар-
хия всегда являлась источником продолжения и сохранения ис-
конно японской традиции в политике и культуре в сравнении
с китайской политической культурой, для которой была харак-
212
терна революционная сменяемость правящих династий. С другой
стороны, последователи националистической школы Мито, на-
пример, в своих трудах подчеркивали сакральный, уникальный
характер политической системы Японии, для которой лояльность
императору составляла не только долг всех японцев, но также
была важнейшей чертой обеспечения национальной безопасно-
сти. Монархическая политическая культура в Японии внедрялась
в массовое сознание нации как своего рода барьер на пути про-
никновения в Японию начиная с XV века враждебного христиан-
ства, т.е. служила своего рода щитом и бастионом (какурэ мино)
для политического и военного завоевания Японии европейцами
и превращения Японии в колонию Запада67*. С появлением у бе-
регов Японии в начале XIX века российских судов, а позднее
судов и других европейских стран чувства опасения японских
властей стали носить перманентный характер.
Пропаганда роли императора как «отца и защитника нации»
традиционно являлась важным стимулом для подъема национа-
листических настроений в японском обществе. Эту закономер-
ность изучил японский историк Маруяма Macao. В своих трудах
он отмечал, что подъем национализма был характерен в основном
для периодов императорского правления в Японии, и он не был
ярко выражен в периоды правления сёгунатов. В период сёгунат-
ского правления, начиная с установления сёгуната Камакура в
начале XII века и кончая сёгунатом Токугава вплоть до его падения
в 1868 году, в Японии существовало двоевластие, когда в стране
сохранялся институт императорской власти и император выпол-
нял роль духовного защитника нации, а реальная власть находи-
лась в руках сёгунатов. После реставрации императорского прав-
ления в результате революции Мэйдзи в 1868 году параллельный
институт власти сёгуната был свергнут и вся полнота власти
сосредоточилась в руках императора. В результате император
стал выступать одновременно и как духовный отец нации, и как
ее реальный защитник. И японские националисты были мобилизо-
ваны уже императорской властью для оказания содействия в кон-
солидации нации68*.
Маруяма провел анализ взаимоотношений между императо-
ром и нацией в постмэйдзийский период. Он выявил, что харак-
тер этих отношений был далеко не таким гладким и предсказуе-
мым, как это виделось проимператорским силам в конце периода
правления сёгуната Токугава. Перед тем как император мог пред-
стать перед нацией как ее духовный и политический лидер, имели
место сложные дебаты в кругах правящей элиты по актуальным
вопросам политической, юридической, идеологической и куль-
213
турной деятельности нового императорского государства. Имен-
но в этот период закладывался фундамент новых взаимоотноше-
ний императора и нации с использованием таких старых идеоло-
гических инструментов, как идеология «кокутай», «тэнносюги»,
и новых - таких, как широкая пропаганда национализма и новой
японской государственности.
У националистически настроенных архитекторов новой Япо-
нии после революции Мэйдзи и, в частности, у ее первого пре-
мьер-министра Ито Хиробуми (декабрь 1885 - апрель 1888 г.) не
было сомнений относительно того, что император должен оста-
ваться высшим лицом в государстве, его единственным защитни-
ком и отцом нации. Однако император был в состоянии взять на
себя и более широкие практические функции государственного
управления. В правящих кругах новой Японии никто не хотел
видеть императора в рамках традиционной Хэйанской модели
управления, в которой император играл лишь символическую роль
«отца нации» и «не опускался» до низменных функций реального
руководства страной. Окончательное решение по вопросу о ста-
тусе императора в постмэйдзийской Японии было результатом
длительных и сложных согласований и переговоров между внут-
ренними конкурирующими властными элитами, а также предста-
вителями оппозиционных сил, такими как «Движение за свободу
и народные права», целью которых было оспорить легитимность
претензий императора на единоличное правление без учета инте-
ресов нации.
Основные политические дискуссии в ранний постмэйдзий-
ский период разворачивались в основном уже не вокруг роли и
места императора во главе нации (он уже был во власти), а скорее
касались важной проблемы выстраивания правовых отношений
между руководителями государства (коккэн) и самой нацией
(минкэн). Когда новые власти стали широко использовать поня-
тие «кокутай», они в первую очередь попытались сформировать
новую японскую государственность и четко определить место
в ней императора. В итоге решение вопроса о роли императора
в политической системе Японии принималось политическими
элитами на основе идеологии «кокутай»69*.
Японские националисты хотели видеть тесную взаимосвязь
между укреплением института императорской власти и распро-
странением идеологии «кокутай», так как первая способствовала
распространению в обществе второй. Об этом феномене полити-
ческой культуры Японии много писал японский просветитель и
националист Фукудзава Юкити (1835-1901 гг.), который крити-
чески оценивал такую взаимозависимость. Он был одним из пер-
214
вых и наиболее авторитетных японских просветителей, который
досконально изучив националистическую концепцию «кокутай»,
пришел к выводу о том, что между институтом императорской
власти и идеологией «кокутай» нет прямой зависимости. Еще в
1875 году, т.е. спустя 7 лет после революции Мэйдзи, в работе
«Основы теории цивилизации» он предложил новое толкование
«кокутай», приблизив его к английскому пониманию термина
«nationality» - нация. По-настоящему новым в его трактовке ста-
ла оценка независимого места и роли идеологии «кокутай» в по-
литической системе Японии без привязки ее к системе император-
ской власти, за что его сильно критиковали японские националисты.
Они категорически отвергали такой вывод. Националисты
видели смысл реставрации Мэйдзи, прежде всего, в духовном
и политическом объединении нации под руководством императо-
ра как «отца и защитника нации». Ёсиока Токумэй, как полити-
ческий нативист и один из жестких критиков Фукудзава, писал
в своей работе «Кайка хонрон», которая вышла в 1879 году, о том,
что «смешным выглядит желание Фукудзава толковать сугубо
японское понятие «кокутай» в западной манере. «Кокутай» есть
отображение уникальности японской нации, обусловленной в пер-
вую очередь неразрывной связью истории Японии с институтом
императорской власти. И связь эта никогда не прерывалась во
времени. Было бы грубейшей ошибкой и искажением, как с точки
зрения лингвистики, так и концептуально, пытаться перевести
сугубо японское понятие «кокутай» на европейский язык». Взгля-
ды нативистов, тем не менее, не были широко представлены в
правящей элите постмэйдзийской Японии и потому не могли
оказывать прямого воздействия на формирование внутренней
и внешней политики новой Японии, на принятие политических
решений. Политики во власти больше руководствовались модер-
нистскими идеями Фукудзава Юкити, нежели устаревшими
взглядами нативистов70*.
Это подтверждается политическими действиями Ито Хиро-
буми - первого премьер-министра Японии и автора Конституции
Мэйдзи. Ито не придавал большого значения связи идеологии
«кокутай» с институтом императорской власти в истории Японии.
Он вообще рассматривал «кокутай» как «националистическую
концепцию», подверженную изменениям во времени - «кахэнтэки
на моно». Подобно взглядам многих теоретиков формирования
государства-нации после революции Мэйдзи, взгляды Хиробуми
носили эклектический характер. Его в первую очередь заботили
проблемы создания новой политической системы, новой полити-
ческой культуры и подготовка первой Конституции страны.
215
Модернистские идеологические взгляды Ито Хиробуми раз-
делял известный государственный деятель и дипломат из его ок-
ружения, также один из авторов первой японской Конституции
1889 года Канэко Кэнтаро. Он подчеркивал, что «кокутай» преж-
де всего выражает потребность нации в переменах, но при сохра-
нении уникальных, непреходящих традиций японской нации.
По мнению Канэко Кэнтаро, только исполнительная ветвь власти
(сэйтай) - является категорией изменчивой в противополож-
ность стабильной и постоянной идеологии «кокутай», с которой
японцы связывают неизменную линию императорского правле-
ния в истории Японии.
Правда, взгляды Канэко Кэнтаро отличались от взглядов Хи-
робуми на отношения взаимозависимости «кокутай» с институтом
императорской власти. Канэко был согласен с необходимостью
политических и экономических перемен в Японии, однако в отли-
чие от Хиробуми, он выступал за их постепенный, эволюционный
характер. Будучи традиционалистом, Канэко ратовал за сохране-
ние культурных традиций в японском обществе. Он даже сумел
повлиять на позицию Хиробуми в том, чтобы убедить последнего,
что «кокутай» и «сэйтай» - категории различные и их не следует
объединять в одно целое. В результате «биполярная теория» Канэ-
ко Кэнтаро - «кокутай»-«сэйтай» быстро обрела поддержку поли-
тической элиты постмэйдзийской Японии и в итоге идеология
«кокутай» была принята в ее националистической интерпретации.
К дискуссии о правильном выборе идеологической платфор-
мы реформ в Японии после реставрации Мэйдзи, включавшей
определение в ней места императора как «защитника и отца на-
ции», позднее присоединился Ито Миёдзи, один из членов «моз-
гового треста» Ито Хиробуми. Миёдзи определял «кокутай» как
«постоянство и непрерывность императорской формы правления
в Японии», как отражение уникальности японской нации. И в
этом смысле новые власти Японии в лице правительства Мэйдзи,
по мнению Миёдзи, должны действовать, руководствуясь нор-
мами Императорской конституции 1889 года, т.е. принципами,
заложенными в «кокутай», учитывая настроения большинства
японцев (миндзё). Это значит, что Ито Миёдзи не столько отож-
дествлял «кокутай» с институтом императорской власти, сколько
рассматривал «кокутай» как свидетельство непреходящего, по-
стоянного характера японской нации, ее традиций, культуры. При
этом он вовсе не исключал возможности управления нацией с
опорой на институт императорской власти.
Таким образом, Миёдзи не рассматривал «кокутай» как поли-
тический аналог формирования государства-нации во главе с им-
216
ператором. Для него было важно, чтобы новое государство было
основано на исполнении законов и конституции. Для Миёдзи «ко-
кутай» не был юридической основой государственности в Япо-
нии, но он настаивал на том, что концепцию «кокутай» нужно
использовать в целях консолидации нации и обеспечения тем
самым ее защиты и безопасности по аналогии с использованием
в тех же целях националистических идеологий европейских госу-
дарств, в частности Германии. Миёдзи не допускал мысли о том,
что западные формы правления подрывают или ослабляют идео-
логические основы японской нации, сформулированные в кон-
цепции «кокутай».
Широкое обсуждение в кругах правящей элиты постмэйдзий-
ской Японии различных точек зрения на проблемы «кокутай» в
связи с определением роли императора как «защитника и отца
нации», никак не умаляло важнейшей практической задачи ново-
го правительства Мэйдзи - консолидации нации вокруг институ-
та императорской власти с опорой на использование идеологии
«кокутай»71*. Новые власти придавали особую роль институту
монархии как основы идеологии «кокутай», опираясь при этом
на националистическую идеологию Синто. С лозунгами «сонно
дзёи» и «иккун баммин» (один император и миллионы японцев)
новое императорское правительство решало принципиальный
вопрос - как получить поддержку нации для обеспечения поли-
тической стабильности и сохранения привилегированных пози-
ций новой властвующей элиты в обществе. Уже к 1881 году новая
правящая верхушка осознала, что такие задачи требуют создания
новой политической системы государства, в которой император
должен играть ключевую интеграционную роль - объединителя,
защитника и отца государства-нации. При этом власти были за-
интересованы создать условия, при которых нация видела бы, что
ею управляют чиновники, которые, с одной стороны, следуют
воле императора, а с другой, проводят в жизнь решения, учиты-
вающие интересы широких слоев населения. Новая власть также
была заинтересована в том, чтобы продемонстрировать свою са-
мостоятельность от императора в принятии решений, свое жела-
ние учитывать волю народа и быть защитницей его жизненных
интересов, а не только служанкой воли императора72*.
Правительство Мэйдзи проводило особую линию поведения
в отношении императора. В рамках идеологии «кокутай» оно
демонстрировало перед нацией, что император, хотя и является
«отцом нации и ее защитником», но именно по этой причине стоит
выше рутинных забот, связанных с решением каждодневных
проблем управления страной. Император должен заниматься
217
в первую очередь «высшими делами нации», например вопросами
составления первой Конституции Японии с тем, чтобы в ней были
закреплены все его привилегии в рамках идеологии «кокутай»,
а также учтены заботы и чаяния простых японцев. Конституция
Японии 1889 года должна была четко объяснить нации роль
императора, его прерогативы, а также показать, каким образом
император мог бы минимизировать свое непосредственное участие
в управлении государством. Но при этом, разумеется, Конститу-
ция не должна была преуменьшать политической ответственно-
сти императора за все, что происходит во внутренней и внешней
политике государства73*.
Проблемы определения места и роли императора в японском
обществе после реставрации в 1868 году института император-
ской власти оказались настолько важными и неоднозначными,
что их обсуждение на протяжении всех 70-х годов XIX века шло
одновременно с дискуссиями о содеражнии текста императорской
Конституции, а в 1881 году вокруг них разразился даже полити-
ческий кризис. Тогда развернулась острая политическая борьба
между сторонниками Ито Хиробуми, поддерживавшими «суве-
ренную монархию», и единомышленниками Окума Сигэнобу
(видного японского государственного и политического деятеля,
дипломата и финансиста периодов Мэйдзи и Тайсе, дважды
премьер-министра Японии), отстаивавшими интересы «суве-
ренной нации». Последние были представлены различными по-
литическими силами, выражавшими интересы разных слоев
японского общества74). Окума не разрабатывал специальной роли
для императора в рамках конституционной монархии, но он ви-
дел политическое место японского императора в системе управ-
ления страной, аналогичное роли королевы Великобритании.
Основное предложение Окума сводилось к созданию в Японии
«конституционного правительства», состоящего из представи-
телей основных политических партий. При этом Окума обра-
щал особое внимание на непременное уточнение границ прав
верховной власти в государстве, с одной стороны, и прав рядо-
вых граждан, с другой75). Язык, на котором Окума говорил о пра-
вах человека (минкэн), а также о правах политических партий
в парламенте страны, воспринимался в правящих кругах Японии
как прямой вызов Ито Хиробуми и Ивакура Томоми, их усилиям
по сохранению и укреплению суверенной власти императора.
По этой причине предложения Окума были отвергнуты, и впо-
следствии он был вынужден покинуть правительство вместе с дру-
гими своими сторонниками, пробыв на посту премьера всего
4 месяца.
218
Важным следствием политического кризиса 1881 года яви-
лось то, что исполнительная власть в Японии оказалась в руках
откровенных националистов и сторонников проимператорских
сил, представленных выходцами из мятежных и оппозиционных
сёгунату Токугава префектур Сацума и Тёсю (клика Са-тё), а про-
цесс разработки и принятия первой Конституции Японии принял
затяжной характер. Официальное провозглашение Конституции
великой японской империи состоялось И февраля 1889 года,
а в силу она вступила только 29 ноября 1890 года. Конституция
устанавливала правовые отношения между государством в лице
исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти,
институтом императора и нацией, обозначенные в юридической
форме на последующие 55 лет вплоть до вступления в силу после-
военной Конституции Японии 1947 года.
Императорская конституция 1889 года искусно маскировала
главное противоречие политической системы постмэйдзийской
Японии, а именно - она скрывала положение, при котором нацио-
нальный суверенитет осуществляли не собственно граждане
Японии, лишенные гражданских прав (минкэн), а институт им-
ператорской власти (коккэн). В Конституции 1889 года было
четко прописано, что национальный суверенитет обеспечивается
властью императора, функции которого закреплены в тексте кон-
ституции как «право управлять» - тотикэн7б). Конституция офи-
циально узаконивала суверенитет монарха и исключала любые
намеки на право реализации суверенных прав граждан. Рядо-
вые японцы в Конституции 1889 года обозначались всего лишь
как «субъекты» суверена (симин), а правительство называлось
собранием министров, назначаемых императором. В задачу дан-
ного органа входило лишь оказание консультационных услуг им-
ператору.
С первых дней опубликования Конституции Мэйдзи стали
раздаваться критические голоса в адрес трактовки прав императора
и его подданных. Министр просвещения в правительстве Мэйдзи
Мори Аринори критиковал положение о признании граждан Япо-
нии «субъектами», которые должны подчиняться императору.
Мори считал, что это положение не соответствует разделу Кон-
ституции «о правах и обязанностях граждан». По его мнению,
было бы достаточно просто оговорить в тексте Конституции со-
циальный статус гражданина как подданного императора и не
уточнять при этом, что он непременно должен подчиняться воле
императора. В свою очередь позиция Мори подверглась жесткой
критике со стороны японских националистов за ее «антиконсти-
туционный подход».
219
О том, кто же реально держал власть в постмэйдзийской
Японии, можно было судить по списку лиц, подписавших Импе-
раторский Рескрипт, который был выпущен специально по слу-
чаю опубликования Конституции. Рескрипт был издан 11 февра-
ля 1889 г. формально от имени императора, но был подписан
премьер-министром Курода Киётака и членами его кабинета.
Кроме графа Курода (из провинции Сацума) среди подписавших
Императорский Рескрипт оказались Ито Хиробуми (провинция
Тёсю), Окума Сигэнобу (провинция Хидзэн), Сайго Цугумити
(Сацума), Иноуэ Каору (Тёсю), Ямада Акиёси (Тёсю), Мацуката
Масаёси (Сацума) и Ояма Ивао (Сацума), а также виконт Мори
Аринори (Сацума) и Эномото Такэаки (бывший адвокат бакуфу).
Анализ представленного списка позволяет сделать, как мини-
мум, два любопытных вывода. Во-первых, все подписавшие явля-
лись высокопоставленными представителями новой властвующей
элиты, стоящими в политической оппозиции сёгунату. В качестве
таковых их социальная позиция и политические интересы были
целиком и полностью на стороне императора и императорской
системы правления, что и было закреплено в Конституции. Во-
вторых, все они, за исключением Эномото, были выходцами из
двух мятежных провинций - Сацума и Тёсю. Окума оказался
среди подписавших Императорский Рескрипт в силу того, что он
на момент подписания был назначен на пост министра иностран-
ных дел - власти оценили его заслуги в переговорах с европей-
скими странами по вопросу преследования японских христиан
в Японии. Его пригласили в состав кабинета министров прави-
тельства Мэйдзи в расчете на его молчаливую поддержку пози-
ции властей в вопросе о нарушении «прав человека» в Японии,
заложенных в Конституции, что всегда являлось объектом кри-
тики со стороны Окума. Однако кандидатура Окума не была
удачной с точки зрения Хиробуми - в конце 1889 года он стал
жертвой террористической атаки со стороны националистов. Сам
Ито Хиробуми был назначен на пост руководителя Государствен-
ного совета при императоре.
Принятие Конституции 1889 года фактически подвело черту
под обсуждением вопроса о роли Императора как «отца и защит-
ника нации». Комментируя это важнейшее место в тексте Основ-
ного закона японской империи, Ито Хиробуми четко сказал:
«Первый параграф Конституции устанавливает важный принцип
нераздельности Японской империи и императорской династии на
вечные времена в непрерывном прямом наследовании, а также то,
что этот принцип никогда не нарушался в прошедшем и никогда
не будет нарушен в будущем... Под выражением «царствовать
220
и управлять» Конституция разумеет, что император на своем
троне соединяет в себе верховенство и управление страной и сво-
ими подданными»77*.
Роль императора как «морального авторитета нации»78)
После провозглашения императорской Конституции 1889 года
и Императорского Рескрипта «О народном воспитании» 1890 года
отношение в обществе к императору как к «моральному лидеру
нации» заметно изменилось в сторону снижения его «рейтинга».
Лозунг времен революции Мэйдзи «Да здравствует император» -
постепенно терял свою былую привлекательность. В стране раз-
ворачивались дискуссии о месте и роли императора в жизни
нации, о его праве быть моральным лидером нации. В обсуждении
принимали участие самые различные слои общества, включая
даже традиционно пассивное японское крестьянство79*.
Если до опубликования Конституции в 1889 году дискуссии
в обществе на эти темы носили в основном абстрактно-теорети-
ческий характер, то после 1889-1890 гг. дебаты о роли монарха,
в том числе и как морального лидера нации, перешли в практи-
ческую плоскость80*. В основе этих процессов лежала смена об-
щественных ожиданий в отношении императора и института
императорской власти как таковой: от их безусловной поддержки
в период бакумацу до нарастания в обществе страха перед усиле-
нием деспотизма монархической власти после реставрации Мэйдзи.
Некоторое охлаждение нации к институту монархии строилось
на убеждении, что император стал просто заложником и марио-
неткой в руках рвущихся к власти политических сил из группи-
ровки Сацума-Тёсю, которые в итоге захватили все командные
посты в новом правительстве Мэйдзи и диктовали свою волю
императору. Приверженцы таких взглядов называли правитель-
ство не иначе, как «деспотическое правление» - «сэнсэй сэйфу».
В обществе распространялось мнение о том, что жесткая полити-
ка, осуществляемая руками представителей мятежных кланов
Сацума-Тёсю, способствовала лишь утрате авторитета императо-
ра, отдалению его от своих подданных, выводила нацию за рамки
прямого участия в политической жизни страны.
Критика в адрес императора раздавалась и со стороны тех сил,
которые поддерживали монархию, но которые не хотели видеть
в императоре лишь беспомощную фигуру, своего рода политиче-
ского «козла отпущения», на которого правительство переклады-
вало ответственность за все принимаемые властью непопулярные
меры. Так, например, Статья 28 Конституции гарантировала под-
16-5584
221
данным императора свободу вероисповедания, и это находило
широкое понимание в обществе. Однако, как следовало из текста
Конституции 1889 года, составители Основного закона ограничи-
ли это право жесткими рамками поведения граждан в этой обла-
сти. В Императорской Конституции 1889 года данное положение
было записано следующим образом: «Вера и убеждение - плод
душевной работы, духовного творчества. Что касается богослу-
жения, религиозных споров, способов религиозной пропаганды
и образования религиозных сообществ и митингов, то для под-
держания общественного порядка и спокойствия необходимы
некоторые законодательные и полицейские ограничения общего
характера. Ни один адепт той или другой религии не имеет права
выходить за пределы законов империи под предлогом служения
своему божеству и слагать с себя обязанности по отношению
к государству, лежащие на нем как на подданном. Это именно
и устанавливает Конституция, показывая, в каком отношении на-
ходятся друг к другу религиозные и политические права»80. Оче-
видно, что благие намерения императора как морального лидера
нации были «подмочены» ограничениями прав и свобод челове-
ка, введенными правительством Мэйдзи и, в частности, премьер-
министром Ито Хиробуми. При этом, как следовало из текста
Конституции, сам император наделялся уникальным моральным
статусом, который никто из его подданных не мог подвергать
сомнению.
Было два основных источника наделения императора особы-
ми моральными привилегиями. Во-первых, это Императорский
Рескрипт «Об объявлении Конституции империи от 11 февраля
1889 г.» и, во-вторых, Императорский Рескрипт от 30 октября
1890 г. «О народном воспитании». Первый документ делал акцент
на том, что император - это больше, чем просто конституционный
монарх, который действует на основе современных законов и про-
цедур. Рескрипт свидетельствовал о том, что, во-первых, импера-
тор Мэйдзи есть лицо, которое имеет священные корни, уходящие
в глубокую древность, во-вторых, что вся императорская ветвь
власти священна, и, в-третьих, что все подданные императора
также являются потомками древних японцев, которые когда-то
также были верными слугами императора, а император был их
заботливым отцом. На этом основании моральный авторитет
императора оставался непререкаемым, и он наделялся моральным
правом определять, что хорошо, а что плохо для интересов нации,
как бы выступая в данном случае в роли отца одной большой
японской семьи82). Конституция и Императорский Рескрипт об
образовании призывали японцев к полной лояльности и покор-
222
ности своему суверену. Любые случаи неповиновения императо-
ру заведомо объявлялись предательством по отношению к своим
предкам и осуждались с моральной точки зрения.
Все моральные добродетели императора, с которого японцы
должны были брать пример поведения, были изложены в Импе-
раторском Рескрипте «О народном воспитании»83*. Фактически
этот документ впервые официально закреплял за императором
статус «морального лидера нации». Он был достаточно лаконич-
ным по форме официальным документом, но четко определял
моральные отношения между монархом и нацией. Документ по
своей природе не опирался на религиозные догмы, хотя и приспо-
сабливал конфуцианскую этику к отношениям императора со
своими подданными. В преамбуле документа, в частности, под-
черкивалось, что «Родоначальник Нашего Императорского Дома
и другие царственные предки Наши заложили основание Нашей
Империи на величественном и долговечном базисе и глубоко
насадили доблести, кои да будут лелеемы вечно». Уточняя основы
морального поведения подданных императора, в рескрипте, в част-
ности, отмечалось: «Будьте преданы вашим родным, как мужья
и жены, и верны вашим друзьям. Пусть поведение ваше будет
вежливо и воздержанно. Любите ближних, как самих себя. Будьте
прилежны в своих занятиях и следуйте каждый своему призва-
нию. Развивайте ваши умственные способности и воспитывайте
в себе нравственные качества. Содействуйте общественному благу
и служите интересам общества. Всегда оказывайте строгое пови-
новение Конституции и всем законам Нашей Империи. Разви-
вайте свой патриотизм и свое мужество и этим оказывайте Нам
поддержку в возвеличении и сохранении славы и благоденствия
Нашей Империи, одновечной с небесами и землею»84*. Импера-
торский Рескрипт «О народном воспитании» 1890 года впослед-
ствии стал основой, наряду с «кокутай», японской общественной
морали, за формирование которой «отвечал» император.
Власти Японии различали и проводили грань между исполь-
зованием морального фактора во внутренней и внешней полити-
ке. Утверждалось, например, что моральная система важна только
в ее применении внутри японского общества, но моральное пове-
дение японских солдат во время ведения Японией оборонитель-
ных войн подчиняется иным канонам и нормам.
Императорский Рескрипт «О народном воспитании» стал
официальным признанием того важного факта, что японское го-
сударство и император, как составные части «кокутай», морально
едины, сплочены, и император наделен моральным правом опре-
делять систему ценностей для подданных империи. Именно с этого
16*
223
времени император официально провозглашался главным законо-
дателем этих ценностей83).
Публикация Императорского Рескрипта «О народном воспи-
тании» дала толчок общественной дискуссии о принципах нацио-
нальной морали, месте и роли императора в ее формировании.
Дело в том, что по мере превращения Японии в империалисти-
ческую державу в конце XIX - начале XX в. и ее участия в войне
с Китаем и царской Россией правящие круги все острее чувство-
вали потребность в моральном оправдании своей внутренней и
внешней политики. Часть японского общества не разделяла про-
водимой властями экспансионистской внешней политики. Преж-
де всего, критика раздавалась со стороны японских христиан,
католиков и протестантов, которые выступали категорически
против внедрения в массовое сознание японцев радикальной
националистической идеологии и морали. В свою очередь, правя-
щие круги постмэйдзийской Японии были убеждены в том, что
«кокутай» как самобытная японская культура, отличная от китай-
ской и индийской, и основанная на ней японская система мораль-
ных ценностей являются весьма востребованными категориями
для новой, модернизирующейся Японии. Страна остро нуждалась
в поддержании высокого морального духа нации, готовой нести
жертвы ради процветания, модернизации и политической ста-
бильности.
Из текста Императорского Рескрипта прямо не следовало, что
император признавался «моральным отцом нации». Но между
строк там были заложены идеи о том, что высшая мораль нации -
это уважение и лояльность всех японцев к своему императору.
Христиане критиковали Рескрипт «О народном воспитании»
за искусственное и неоправданное возвышение роли императора
как морального лидера нации, как религиозную фигуру «инкар-
нированного бога» - арахито гами. Парадоксально, но автором
Рескрипта «О народном воспитании» был японский христианин
Накамура Масанао, который утверждал, что христианство и его
система моральных ценностей должны стать национальной рели-
гией Японии и что для реалиазации этой задачи император сам
должен принять христианство86). Христиане выступали против
того, чтобы император имел единоличное право навязывать об-
ществу моральную систему ценностей, отличную от христиан-
ской. Последнее шло в нарушение Конституции Мэйдзи, которая
гарантировала свободу вероисповедания в Японии.
Разобраться в дебатах по поводу Рескрипта «О народном
воспитании» и роли императора как морального лидера нации
в Японии помогают, на наш взгляд, труды японского ученого-
224
историка, одного из ведущих идеологов тэнноизма Мотода На-
гадзанэ (1819-1891). Он оказал большое влияние на формирова-
ние позиции самого императора в вопросах морального воспита-
ния нации на протяжении более 20 лет с момента революции
Мэйдзи и до своей смерти в 1891 году. Он был приглашен ко двору
в 1871 году в качестве наставника императора Мэйдзи. Мотода
был сторонником укрепления конфуцианской системы моральных
ценностей. Он разделял моральные принципы отношения поддан-
ных к правителю, исходя из доктрины «тайги мэйбун» (мораль-
ные обязательства по отношению к императору после церемонии
его коронации). Однако Мотода считал, что одних только конфу-
цианских принципов морали явно недостаточно для морального
воспитания молодежи на примере авторитета самого императора.
Он призывал по-новому трактовать конфуцианские догмы для
формирования нравственных устоев японской нации в духе тра-
диционной морали, но с учетом задач модернизации нации, всту-
пившей на капиталистический путь развития. «Японизированно-
му» конфуцианству, перестроенному под националистические
потребности тэнноистских постулатов конфуцианского учения
о морально-этических обязанностях императора и его подданных,
Мотода противопоставлял этические теории западных филосо-
фов, получившие широкое распространение в преподавательской
среде в период, когда пост министра просвещения занимал Ари-
нори Мори (1884-1888), один из самых откровенных западников
в окружении Мэйдзи87).
Однако в процессе работы по подготовке первой японской
Конституции 1889 года концептуальные идеи Мотода об импера-
торе как о моральном лидере были серьезно скорректированы.
Это сделали видные политические деятели правительства Ито
Хиробуми и Иноуэ Коваси. Оба они имели современные по тому
времени взгляды на мораль, на моральное воспитание нации и на
роль и место императора в этом процессе. Они стремились, преж-
де всего, превратить императора в конституционного монарха,
который должен играть роль опоры нового централизованного
государства, а не претендовать на роль морального лидера нации.
После провозглашения Императорской Конституции в
1889 году Мотода и его сторонники искали пути реализации своих
идей относительно повышения роли императора как морального
лидера нации. Действуя в обход планам Хиробуми и Иноуэ на
ограничение функций императора, Мотода стал призывать новые
власти к усилению влияния синтоизма в японском обществе как
государственной религии «коккё», которая гарантирует лояль-
ность всех подданных империи императору. Такая радикальная
225
и неожиданная идеологическая атака на массовое сознание нации
отличалась от усилий бюрократов из министерства просвещения,
которые, в свою очередь, пытались проводить политику умиро-
творения нации - «кокумин кёка» путем трансформации синто-
истских верований в современную систему моральных ценностей.
Однако, как подчеркивал в этой связи Сакамото Такао, сам Мо-
тода относился к пропаганде синтоизма в японском обществе
весьма прохладно, поскольку был приверженцем конфуцианских
догм, которые предполагали в первую очередь почитание в импе-
раторе отца нации и ее морального лидера, а не фанатика, привер-
женного «этническому трайбализму»88*.
Попытки реанимировать роль императора как морального
лидера нации предпринимали и другие националисты, включая
Накамура Масанао и Мори Аринори, которые так же, как и Мо-
тода, подвергались остракизму со стороны окружения Ито Хиро-
буми89*. Вместе с тем Ито Хиробуми имел солидную поддержку
своих позиций со стороны откровенных противников монархиз-
ма в Японии, одним из которых был Иноуэ Коваси. Он являлся
членом Бюро по изучению конституционных систем, созданного
в 1884 году и возглавляемого Ито Хиробуми. Иноуэ обвинял
сторонников монархизма и, в частности, Накамуру Масанао за то,
что последний считал христианство логическим продолжением
конфуцианской этики. Иноуэ не был согласен также с тезисом
Накамуры о том, что «лояльность и пиетет к императору восходят
из религиозных догм уважения к Богу за его учение о рае небес-
ном - тэнсю»90>. Иноуэ вычеркнул этот пассаж о христианских
ценностях из проекта Конституции, побудив Накамура еще раз
обратиться к трудам Мотода и к конфуцианской интерпретации
его понятия «императора» как источника конфуцианской добро-
детели и этических норм морали для всей нации90.
Императорский Рескрипт «О народном воспитании» после
своего опубликования в октябре 1890 года оказался в центре вни-
мания широкой японской общественности, так как затрагивал
различные аспекты будущего развития системы образования,
распространения в обществе системы моральных ценностей, а так-
же идеологии «кокутай». Дискуссии по данной проблематике обо-
стрились в январе 1891 года, когда Утимура Кандзо - учитель им-
ператорской средней школы, христианин по вероисповеданию,
отказался поклониться перед портретом императора и тем самым
выразил ему свое неуважение. Утимура, и это важно подчеркнуть,
не был противником самого Рескрипта «О народном воспитании»,
равно как он не был и противником реставрации императорской
власти. Он просто отказался участвовать в кампании по насажде-
226
нию культа личности императора Мэйдзи и, в частности, высту-
пил против обязательного преклонения перед его портретами
в публичных местах92*. Демонстративное поведение Утимура как
знак неуважения к изображению императора спровоцировало в
школе большой скандал. Позднее, когда выяснилось, что Утимура -
христианин, этот случай получил особый резонанс в обществе,
а газеты писали об инциденте «фукэй», т.е. о «предательстве» го-
сударственного служащего своему долгу перед нацией. Некото-
рые представители японской интеллигенции осудили поведение
Утимура как недостойное звания японского учителя, обвинив его
в нелояльности к власти, в неуважении к японским традициям
и в преклонении перед Западом. Случай непочтительного отно-
шения к портрету императора Японии со стороны японца-хри-
стианина дал впоследствии толчок началу проведения национа-
листической кампании, осуждавшей всех христиан Японии за их
«предательскую, антиимператорскую, антинациональную сущность».
В результате преподавание основ христианской религии в япон-
ских школах было запрещено93*.
Однако в обществе были противники слепого поклонения
перед культом императора. Пять протестантов во главе с Осикава
Масаеси (1849-1928), Уэмура Масаёси (1858—1925) и Ивамото
Ёсихару (1863-1942) встали тогда на защиту учителя-христиани-
на Утимура. Они опубликовали совместное заявление в газете
«Йомиури» о своей поддержке позиции Утимура. Они аргумен-
тировали ее тем, что упоминание об императоре, как о Боге (ками)
и принуждение всех граждан Японии его боготворить везде и всегда
нарушает Статью 28 Императорской Конституции Мэйдзи, кото-
рая гарантирует свободу религии. Все члены «группы поддержки»
Утимура заявляли о своем желании «бороться до конца» с нару-
шением Конституции и отстаивать свои убеждения94*. Их усилия,
впрочем, ни к чему не привели, так как сложившаяся в обществе
националистическая атмосфера исключала любые случаи прояв-
ления неуважительного поведения в адрес императора и предпо-
лагала наказание тех, кто это допускал.
После смерти Метода в 1891 году роль защитника традици-
онной японской морали в борьбе с христианством и признания за
императором права быть моральным лидером нации взял на себя
известный японский философ Иноуэ Тэцудзиро. Он был откро-
венным противником распространения христианства в Японии.
Иноуэ Тэцудзиро не раз обращался к приверженцам свободы
религий с призывом понять и признать, что Императорская Кон-
ституция, в частности ее Статья 28, гарантирует «свободу веро-
исповедания» только в ограниченных масштабах, рамки которых
227
нельзя переступать и тем самым дестабилизировать мир и поря-
док в японском обществе. Также, по мнению Иноуэ, было недо-
пустимо принижать обязанности японцев как подданных импера-
тора. В ноябре 1892 году Иноуэ Тэцудзиро опубликовал свои
тезисы по поводу взаимоотношений между религией и мораль-
ным образованием в Японии. В них он подчеркивал, что Импе-
раторский Рескрипт «О народном воспитании», который в пер-
вую очередь был направлен на сохранение уникальной японской
моральной системы ценностей, не согласуется с принципами хри-
стианства. Христианская религия не делает различий по расово-
му или национальному принципу, рассматривая всех людей как
представителей Бога на земле. Иноуэ же утверждал, что христи-
анство наносит большой вред государству и оно совершенно не
совместимо с духом Императорского Рескрипта «О народном
воспитании», что лишний раз своим поведением доказал школь-
ный учитель Утимура95*.
Японские христиане, однако, не были согласны с обвинения-
ми в свой адрес о нелояльности к императору и непризнании его
в качестве морального лидера нации. Они объясняли свою по-
зицию в первую очередь несогласием с положениями Рескрипта
«О народном воспитании», так как этот документ, по их мнению,
был несовместим с их религиозными убеждениями96*. Вместе с тем
далеко не все христиане разделяли такую точку зрения. Некото-
рые из них говорили об «объективной неизбежности» столкнове-
ния христианской религии с традиционной системой образования
в Японии, которой не следует опасаться. Сторонники такой точки
зрения поддерживали тезис о том, что христианин может быть
лоялен императору и признавать за ним моральное лидерство.
Сразу после выхода в свет статьи Иноуэ Тэцудзиро француз-
ский католический священник Франсуа Ленгель (Francois Linguel)
и первый японский католический епископ Токийской епархии
Маэда Тёта подготовили и опубликовали в 1893 году совместный
труд под названием «Религия и государство», в котором подробно
разобрали тезисы Иноуэ с точки зрения основ католицизма97*. Как
бы полемизируя с Иноуэ о том, что христианство никогда не может
быть лояльной религией по отношению к императору, поскольку
все христиане лояльны только одному единственному Богу, Ма-
эда и Ленгель цитировали Библию: «отдавай цезарю - цезарево,
но отдавай Богу - божье»98*. Крупнейшие книжные магазины
постмэйдзийской Японии, включая Марудзэн, Мэйходо, Хаку-
бунся и Фукюся, охотно распространяли книгу «Религия и госу-
дарство» до тех пор, пока она официально не была запрещена
властями и не изъята из продажи по цензурным соображениям.
228
После осуждающих заявлений Иноуэ Тэцудзиро о том, что хри-
стиане, подобно учителю Утимура, не выражают своего уважения
к императору, Маэда, напротив, подчеркивал, что такое «неуваже-
ние» (фукэй) противоречит христианской морали и учению като-
лической церкви. Маэда не уставал повторять в своей работе, что
католическая церковь представляет собой самую большую школу
уважения, терпимости и пиетета к Богу, а уважение и почитание
его императорского величества как главы государства является
само собой разумеющимся и естественным поведением9*0.
Критика Маэда и Франсуа Ленгеля обнаружила тот примеча-
тельный факт, что Иноуэ пытался придать императору функции
моралиста нации, т.е. раздвинуть функциональные рамки, которые
прописаны императору Конституцией 1889 года. Позиция Маэда
и Ленгеля, напротив, корреспондировала с точкой зрения на мо-
нархию, которую впоследствии развивал Ито Хиробуми. Послед-
ний, в частности, заявлял, что император - всего лишь конститу-
ционный монарх и что признание или непризнание за ним прав
быть моральным лидером нации не входит в противоречие с кон-
ституционными правами японцев, подданных императора, кото-
рые остаются свободны в своих убеждениях и в выборе объектов
почитания.
Несмотря на то, что Маэда и Ленгель немало преуспели в кри-
тике позиции Иноуэ, их религиозные взгляды отчасти совпадали
с ним, и в этом их позиция отличалась от жестких оценок самого
Ито Хиробуми. Например, Иноуэ и католические священники
разделяли точку зрения на то, что ни одно государство в мире не
может существовать без глубоко инкорпорированной в массовое
сознание моральной системы ценностей. Поэтому они не высту-
пают против концепции Иноуэ об определяющей роли императора
в формирования такой системы. Другое дело, что Иноуэ «делеги-
ровал на эту работу» реально существующего живого императора
Японии, выдавая этого «ложного Бога» за Бога-творца всего жи-
вого на земле. А вот с этой посылкой Маэда и Ленгель согласиться
не могли. Они резонно замечали, что ни один образованный япо-
нец, находясь в добром здравии, никогда не поверит в то, что ми-
фическая Богиня Солнца Аматэрасу была прародительницей
японского императора. Поэтому лично они сомневаются в том,
а верит ли сам Иноуэ в этот миф.
Маэда и Ленгель приветствовали политику модернизации
Японии, построенную на христианской системе ценностей и мо-
рали, хотя они были реалистами и не рассчитывали превратить
Японию в христианское государство. Скорее, они выражали свою
заинтересованность в том, чтобы моральное самосознание япон-
229
цев, пусть и индоктринированное идеологией преклонения перед
императором, стало важнейшей опорой при построении стабиль-
ной и благополучной нации. Эти два католических священника
отнюдь не отрицали роль монархии как системы управления
высокоморальным государством в Японии. Но они подчеркивали,
что император и нация - это разные составные части одного
государства и что общественная мораль проявляется через реаль-
ные поступки людей, которые составляют нацию, и она не является
продуктом императорской власти. Мораль нельзя поддерживать
в обществе путем директивных указаний императора. Поэтому
моральное состояние нации не достигается с помощью одного
лишь прославления императора.
Японские националисты, однако, выступали против распро-
странения всех «иностранных» религий в японском обществе,
включая христианство и отдавая предпочтение лишь националь-
ной религии Синто. В этом они видели реальную помощь импе-
ратору как моральному лидеру нации. Неудивительно, что под
давлением националистических сил правительство Мэйдзи за-
претило распространение книги «Религия и государство» сразу
после ее выхода в свет.
Японские историки до сих пор спорят о том, что же послужи-
ло причиной такого резкого неприятия католицизма в относи-
тельно толерантной постмэйдзийской Японии. Складывалось
впечатление, что эта европейская религия просто была принесена
в жертву давлению со стороны японских националистов, наста-
ивавших на усилении пропаганды национальной религии Синто.
В 1892 году профессор Кумэ Кунитакэ был смещен со своей ка-
федры истории в Токийском императорском университете только
за то, что опубликовал в журнале «Сигаккай дзасси» статью,
в которой называл Синто «устаревшей религией, которая занята
исключительно преклонением перед императором и небесами».
Его критика в адрес Синто, как религии, которая способна лишь
плодить националистов, имела в своей основе позитивистские
воззрения. Тот факт, что Кумэ испытывал серьезные проблемы
в обнародовании своих убеждений, лишний раз свидетельство-
вало о том, что условия для формирования японского нацио-
нализма в период после реставрации Мэйдзи были весьма благо-
приятными. Тем более выглядит парадоксальным, что японские
христиане, протестанты и католики горячо поддержали вступ-
ление Японии в японо-китайскую войну 1894-1895 гг., полу-
чив возможность лишний раз продемонстрировать свою лояль-
ность императору и начисто забыв про моральную сторону этой
агрессии100*.
230
После завершения японо-китайской войны 1894-1895 гг. по-
зиции императора как морального лидера нации несколько ослаб-
ли по причине непопулярности войны среди японской обществен-
ности. В этот период к противникам признания за императором
статуса морального лидера нации присоединились также сторон-
ники школы «Либеральной теологии» в Японии100. Они высту-
пили с антивоенными призывами, а также не признавали в монар-
хе морального лидера нации. И хотя влияние школы либеральной
теологии в японском обществе не было продолжительным, ее по-
литические и социальные последствия оказались достаточно суще-
ственными. Из рядов школы «Либеральной теологии» вышли
сторонники идей, которые пропагандировало «Общество по изу-
чению социализма», основанное в Японии в 1898 году, включав-
шее в свои ряды преимущественно японских христиан. Котоку
Сюсуй (1871-1911) был одним из зачинателей социалистиче-
ского движения в Японии. Он начинал свою политическую дея-
тельность в либеральном «Движении за свободу и народные
права» и был учеником теоретика этого движения Т. Наказ. Ко-
току Сюсуй активно участвовал в работе «Общества по изучению
социализма», был одним из инициаторов преобразования его в
«Социалистическую лигу» (1900 г.). Вместе с С. Катаямой, С. Абэ
и другими он учредил Социал-демократическую партию (1901 г.).
В своих произведениях Котоку Сюсуй пропагандировал идеи
социализма («Сущность социализма» и др.). Совместно с Т. Са-
каи он перевел на японский язык «Манифест Коммунистической
партии». За свою антивоенную пропаганду, в частности за изда-
ние «Хэймин симбун» («Народной газеты»), которую он продол-
жал и в ходе русско-японской войны 1904-1905 гг., Котоку был
приговорен к тюремному заключению. С 1906 года, после поездки
в США, Котоку проповедовал идеи анархо-синдикализма, проти-
вопоставляя парламентаризму методы «прямых действий». Кото-
ку был обвинен по делу о покушении на императора (1910 г.) и
казнен.
Конечно, большинство противников экспансионистской по-
литики императора не заходили в своей антимонархической про-
паганде так далеко, как это делал Котоку Сюсуй, который призы-
вал к ликвидации института монархии как таковой. Вместе с тем
идеологические противоречия конца XIX века между конститу-
ционными монархистами, которых поддерживало большинство
японских христиан, и сторонниками сохранения императорской
системы власти без всяких конституционных ограничений обна-
ружили одну примечательную деталь, а именно - незыблемый
авторитет императора как морального наставника всей нации не
231
был уж столь очевиден и непоколебим, как это могло казаться
монархистам и японским националистам сразу после реставра-
ции Мэйдзи.
Роль императора как «политического лидера нации»
Внешняя политика Японии, экспансионистский характер ко-
торой особенно наглядно проявился в период Мэйдзи и Тайсё
в ходе японо-китайской войны 1894-1895 гг. и аннексии Тайваня,
в японо-русской войне 1904-1905 гг., в аннексии Кореи в 1910 году,
сильно подорвала авторитет императоров Мэйдзи и Тайсё (пери-
од с 1912 по 1926 год), с именами которых проводились эти си-
ловые кампании. Японская общественность критически воспри-
няла тогда их результаты. В стране были отмечены массовые
протестные движения. Особый резонанс получили массовые бес-
порядки в парке Хибия в Токио в сентябре 1905 года102). Можно
даже сказать, что они обозначили начало нового периода япон-
ской истории, который историки назвали «Эрой народного наси-
лия». В течение последующих 13 лет Япония сотрясалась от се-
рии насильственных протестных выступлений - девять крупных
восстаний имели место только в Токио. Все они в итоге вылились
в знаменитые «Рисовые бунты 1918 года» массовые социальные
волнения, прокатившиеся по Японии в период с июля по октябрь
1918 года, когда около 10 млн. человек в 42 из 47 префектур про-
тестовали против спекулятивных цен на рис - основного продук-
та питания японцев.
Растущая социальная напряженность не могла не сказаться
на рейтинге императора как «политического лидера нации», пик
которого приходился на период бакумацу (с 1853 по 1869 год) и
который постепенно начал снижаться после реставрации импера-
торской системы правления в 1868 году и дошел до своего мини-
мума после русско-японской войны. В этот период даже в рядах
японских националистов, основных сторонников монархии в Япо-
нии, наметился раскол. Правда, он начался еще в 1890-е годы с
критики государства, которое угнетало японский народ, и закон-
чился осуждением политики японского империализма, которую
невольно олицетворял сам император. С конца XIX века Япо-
ния стала позиционировать себя в системе международных от-
ношений в Восточной Азии как великая региональная держава.
Ее политика в отношении стран региона воспринималась в мире
как сугубо империалистическая и захватническая. Критика импе-
ратора, несущего ответственность за такую политику, нарастала
как в самом японском обществе, так и за пределами Японии.
232
Антиимпериалистические, антияпонские движения быстро наби-
рали силы в Китае и особенно в Корее, которая вообще оказалась
под японским управлением сразу после окончания русско-япон-
ской войны.
В японском обществе заметно активизировалась критика дей-
ствий императора, его внутренней и внешней политики. Недо-
вольные действиями императора выдвигали аргументы, не толь-
ко касающиеся территориальных захватов в Восточной Азии,
но в первую очередь затрагивающие неутешительное состояние
с правами человека и подавление демократии в самой Японии.
Нередко критические оценки высказывались и в адрес император-
ской Конституции, которая на деле оказалась оправданием экс-
пансии, ибо гарантировала незыблемость императорской власт-
ной вертикали, проводившей такую политику.
Император и его окружение всерьез озаботились растущей
протестной волной. В 1906 году один из зачинателей социали-
стического движения Японии Котоку Сюсуй (1871-1911), кото-
рый впоследствии был обвинен в подготовке заговора против им-
ператора и казнен, призывал своих сторонников к радикализации
общественного протеста в сторону «прямых действий», направ-
ленных против императора как политического лидера нации,
против политики его правительства. Многие представители Со-
циалистической партии Японии, возглавляемой христианским
социалистом Катаяма Сэн, оказались под сильным влиянием идей
Котоку и его призывов к «прямым действиям» с использованием
забастовок, протестных маршей, других насильстственных дей-
ствий против императорской власти. Радикализируя социали-
стическое движение, Котоку со своими сторонниками выводил
на улицы Токио десятки тысяч протестующих, которые открыто
призывали сбросить империалистическое правительство Мэйд-
зи. По указанию императора в 1910 году Котоку был арестован
как лидер анархистов, якобы готовивших заговор против импера-
тора и его убийство. В 1911 году Котоку и его И единомышлен-
ников были приговорены к смертной казни, что лишний раз про-
демонстрировало в глазах японской общественности страх власти
перед радикальной политической оппозицией.
Тревога императора, однако, за снижение своего политическо-
го рейтинга в обществе не уменьшалась. Власти были не в состо-
янии полностью искоренить распространение социалистической
идеологии как мощной и влиятельной оппозиционной императо-
ру силы. Социалисты продолжали занимать непримиримую по-
зицию в вопросе об императорской системе власти и об агрессив-
ной империалистической политике Японии.
233
Император Мэйдзи и его окружение в целях поддержания
политического авторитета монарха в обществе использовали иде-
ологическую неоднородность японских социалистов. Акцент был
сделан на работу с теми антимонархическими силами из числа
социалистов, кто не разделял радикальных идей Котоку о необ-
ходимости свержения монархии. В 1906 году власти вышли на Кита
Икки (настоящее имя - Тэрудзиро Кита) и помогли ему опубли-
ковать монографию «Теория нации и чистый национализм»103*.
Работа Кита Икки шокировала социалистов во многих стра-
нах мира. В ней автор подчеркивал, что вместо того, чтобы видеть
в государстве классовый инструмент управления в интересах
буржуазии, как это делал социалист Котоку, надо исходить из
того, что государство само является частью общества и что пар-
ламент есть представительный народный орган законодательной
власти. А это значит, подчеркивал Кита, что император является
слугой народа, который представляет «государство всех граждан»
(комин кокка). «Император Японии, - писал Кита Икки, - это лицо,
которое существует для реализации целей выживания и эволюции
государства... Очевидно, что когда император действует как глава
государства или как главнокомандующий армией, он действует
как совокупный административный орган»104*. Таким образом,
Кита Икки призывал изменить негативное, критическое отношение
к императору и к институту императорской власти и вновь рассмат-
ривать императора, как достойного политического лидера нации.
Кита Икки был не единственным, кто призывал вернуть им-
ператору положение политического лидера нации. Английский
историк Джордж Уильсон, блестящий знаток истории японского
национализма, подчеркивал, что взгляды Кита Икки напоминали
ему взгляды Минобэ Тацукити, который также высоко оценивал
политическую роль императора как главы государства. Правда,
в отличие от Минобэ, Кита считал, что император не должен пре-
тендовать на самый высокий пост в государстве, а быть только
частью государственной машины, наряду с другой важной состав-
ной частью государства - его гражданами105*. По сути, Кита Икки
пытался своими аргументами в защиту императора как бы под-
сказать японским социалистам то, что до него ранее говорили
японские христианские интеллектуалы, а именно: что институт
императора несовместим ни с идеологией «кокутай», ни с тотали-
тарной монархической системой правления в Японии и что им-
ператор есть священный символ японской нации и он непод-
суден по обычным понятиям добра и зла.
Содержание дискуссий в обществе о статусе императора как
политического лидера нации и императорской власти как таковой
234
менялось в зависимости от исторического периода. Если основ-
ными проблемами в период Мэйдзи были такие, как легитимация
его власти, централизация власти в одних руках, границы приме-
нения властных полномочий и преданность императору как выс-
шему сановнику, то уже в период Тайсё добавилась проблема обес-
печения преемственности власти императора. Под преемствен-
ностью императорской власти националисты понимали в первую
очередь вопрос не о том, кто будет следующим после Мэйдзи им-
ператором Японии - его место должен был занять сын импера-
тора Муцухито-Ёсихито. Куда сложнее выглядела проблема про-
лонгации императорской власти во времени. Проблема, как она
виделась японским националистам в начале XX века, сводилась
к тому, какие институциональные изменения следует внести для
того, чтобы система императорской власти работала на укрепле-
ние позиций Японии в мире, что в этом случае необходимо делать
и кто это должен делать.
Очевидно, что дискуссия по данному вопросу не проходила
в политическом вакууме. В начале XX века еще были живы те
люди, которые формировали Японию как императорскую держа-
ву в 1870-1890-е годы. Однако после смерти Мэйдзи в 1912 году
нация оказалась в растерянности, сможет ли новый император
Ёсихито (император Тайсё) достойно продолжить дело, начатое
его отцом. В обществе назревал политический кризис. Многие
японцы испытывали чувство наступающего «конца истории на-
ции». Возникали даже сомнения в том, готово ли новое поколение
японцев приносить себе в жертву для обеспечения безопасности
и процветания Японии в будущем.
Обеспокоенность общественности и правительства по поводу
будущего императорской власти наглядно проявилась в органи-
зации «Движения в защиту Конституции» (гокэн ундо), которое
развернуло свою деятельность в конце 1912 - начале 1913 г.
Движение началось сразу после падения второго кабинета Сай-
ондзи и созыва Конференции «По проблемам защиты Конститу-
ции»106*. В Конференции приняли участие такие видные политики
того времени, как Одзаки Юкио от партии «Сэйъюкай» и Инукаи
Цуёси - от «Кокуминто» (Народной партии). Гэнро, как орган
из девяти японских государственных деятелей, которые служили
в качестве неофициальных советников императоров Мэйдзи,
Тайсё и Сева и считались «отцами-основателями» современной
Японии, проигнорировали Конференцию. Они просто назначили
министра внутренних дел Кацура Таро следующим премьер-ми-
нистром. Это произошло 21 декабря 1912 г. В ответ на явное пре-
небрежение гэнро интересами широкой японской общественно-
235
сти десятки тысяч протестующих окружили императорский дво-
рец 10 февраля 1913 г. и потребовали отставки кабинета Кацура.
Премьер-министр и весь его кабинет были вынуждены подать в
отставку на следующий день, т.е. И февраля 1913 г. Историки,
которые оценивали исторический период Тайсё с 1912 по 1926 г.
как «период расцвета демократии» в Японии, всегда опирались
на пример высокой результативности деятельности «Движения
в защиту Конституции», рассматривая его как ключевой инстру-
мент в развитии японской «суверенной демократии».
Действительно, в «Движении в защиту Конституции» был
заложен большой потенциал. С одной стороны, его можно было
рассматривать как проконституционное, проимператорское дви-
жение, которое было сформировано как антагонист «Движению
за свободу и народные права», выступавшему с антимонархиче-
скими лозунгами. С другой, оно позиционировало себя в обществе
как новое движение, отражающее интересы новой политической
силы в Японии, а именно «народа», который также хотел играть
свою роль в управлении государством и видеть себя в качестве
легитимного источника суверенитета Японии. «Народ» как поли-
тическая сила часто использовался заинтересованными полити-
ческими кругами императорской Японии как фактор психологи-
ческого давления на императора путем организации протестущих
масс вокруг императорского дворца в Токио. «Народ» также ис-
пользовался при организации митингов протестов в «Защиту
конституции», а также для поддержки политической «Народной
партии» Инукаи Цуёси «Сэйюъкай»107>. Все требования к властям
от имени «народа» ставили императорский режим в трудное и дву-
смысленное положение, ибо гарантом Конституции выступал сам
император, который ее «даровал» японскому «народу», но поче-
му-то при этом сам «народ» должен был защищать Конституцию
от императора и его окружения.
«Народные защитники конституции» были немало удивлены,
когда обнаружили среди своих влиятельных оппонетов последо-
вателей идей Фукудзава Юкити, который был известен в Японии
своими демократическими взглядами и принадлежал к известным
японским правозащитникам108*. Фукудазва умер в 1901 г., но вла-
сти использовали его идеи в борьбе с «защитниками Конститу-
ции». Правительство перепечатало и охотно распространяло из-
вестную работу Фукудзава Юкити «Об императорском дворе»,
в которой он с пиететом оценивал роль императора в новой по-
литической системе управления. Правда, по иронии судьбы Фу-
кудзава не раз повторял, что ученый не должен состоять на служ-
бе власти, он должен ее критиковать. Поэтому Фукудзава так
236
часто встречался с известными критиками власти, с журналиста-
ми, учеными. Вместе с тем Фукудзава разделял убеждения Иноуэ
Тэцудзиро, его неприятие христианства и его поддержку властей,
особенно после 1881 года.
Впрочем, взгляды Фукудзава на институт монархии и на
место императора в политической системе Японии менялись во
времени. В начале своей научной карьеры Фукудзава разрабаты-
вал либеральную теорию национализма, в которой он делал раз-
личия между концепцией «кокутай» и монархией акцентируя
внимание на том, что именно народ формирует сильную нацию.
Потенциал нации, писал Фукудзава, напрямую не зависит от фор-
мы правления - монархической или демократической. Он связы-
вал концепцию «кокутай» с властью вообще (сэйто) и с наслед-
ственной монархией в частности. Он задавался риторическим
вопросом: почему, собственно, Япония оказалась способной не раз
менять свою политическую систему правления на протяжении
столетий (чередуя императорскую систему с системой сёгуната),
но не разрушая и не причиняя при этом большого вреда нации,
суверенитету страны? Ответ Фукудзава на его риторический
вопрос состоял в том, что Япония все это время управлялась
японскими националистами, находящимися либо в рамках импе-
раторской системы правления, либо в рамках сёгуната, но нация
всегда сохраняла общую историю, общий язык и традиции109*.
Когда Фукудзава писал эти строки, он все еще полагал, что чув-
ство общей судьбы, общей национальной истории куда важнее,
чем национальная идентичность или кровное родство при опре-
делении национальности человека.
Но, что важно подчеркнуть, Фукудзава не преувиличивал
мнимые ценности императорской формы правления. Он доказы-
вал, что «кокутай» и монархия не есть синонимы. Он был уверен,
что «кокутай» может видоизменяться, как это имело место во
многих европейских странах, тогда как императорская система
должна оставаться незыблемой. Фукудзава никогда не заявлял
о том, что только «кокутай» - единственное условие для единения
государства и нации и образования государства-нации. Он при-
водил в пример Германию, в которой различные земли были, по
сути, независимыми образованиями, но их объединял общий язык
и литература, и они имели общие ценности и общее историческое
наследие германцев. Поэтому, подчеркивал Фукудзава, герман-
ская нация всегда отличалась от других наций в мировой истории
своей сплоченностью и своим национализмом110*.
Фукудзава утверждал, что если императорский двор и имел
какое-то политическое значение в истории японской государ-
’'•5584
237
ственности, то оно заключалось в возможности объединения на-
ции в единое целое. Фукудзава находился под сильным впечат-
лением от поведения императора как лидера нации, когда после
подавления восстания в Сацума самураи, ушедшие воевать, вер-
нулись домой без всяких наград, но были довольны только тем,
что их поблагодарил император111*. Фукудзава Юкити был убеж-
ден, что институт императорской власти должен быть вне поли-
тики (тэйсицу ва сэйдзися-гай-но моно нари), а стало быть, им-
ператор не может быть политическим лидером нации112*.
Позиция, высказанная Фукудзава по поводу роли императора
в политической системе, очевидно, не устраивала националисти-
ческие круги японской правящей элиты на разных этапах новой
и новейшей истории Японии, которые изо всех сил «защищали»
первую императорскую Конституцию 1889 года, а после Второй
мировой войны требовали переписать Конституцию 1947 года, со-
ставленную американцами. Современным националистам всегда
была куда ближе радикальная позиция Кита Икки в этом вопросе,
который называл императора «народным императором» (коку-
мин - но тэнно), т.е. наделял его функциями национального,
народного лидера.
Разумеется, свой «антиимператорский труд» Фукудзава Юкити
писал в определенном историческом контексте. Это было время
сразу после политического кризиса в Японии 1881 года, когда
демократические партии были лишены влияния на политическую
жизнь общества и дорога к власти открывалась лишь партии
функционеров. Фукудзава опасался, что японская нация может
погрузиться в пучину гражданской войны, не найти в себе силы
к объединению и станет легкой добычей в руках иностранных
экспансионистов. Фукудзава хотел возвысить императора над по-
литикой, т.е. представить его в роли своеобразного лидера нации,
понятной рядовому обывателю или политику в Европе, в соот-
ветствии с которой «император правит, но не управляет»113*.
Точнее говоря, Фукудзава, однако, видел императора не пас-
сивным «лидером нации», а активным игроком в политической
системе Японии в качестве ее духовного объединителя. Иными
словами, Фукудзава отводил императору роль лидера всех япон-
ских националистов, переводя институт монархии из консти-
туционного, предназначенного для национального объединения,
в первую очередь в орган этнического единения японцев, объеди-
нявшего синтоистские верования японцев как традиционную
нацональную религию114*.
Очевидно, что роль императора как идеологического настав-
ника нации была двусмысленной сама по себе. Конечно, импера-
238
тор мог поощрять традиционные искусства и ремесла японцев,
организовывать национальные школы, стимулировать молодых
японцев к получению новых знаний и т.п. Но он также должен
был исполнять роль объединителя нации и государства, устра-
нять противоречия между теми, кто борется за народные права,
и теми, кто ставит во главу угла укрепление государства и госу-
дарственности. В этом и состоял двойственный подход Фукудза-
ва к оценке роли императора как лидера японской политической
системы: он допускал возвышение императора до статуса первого
лица в государстве, но отводил ему роль главного «пропаганди-
ста» японского национализма в обществе.
Такой подход Фукудзава Юкити к оценке роли и места им-
ператора в политической системе Японии находил поддержку
у Като Хироюки, известного японского философа и теоретика го-
сударства, ректора Токийского университета с момента его обра-
зования в 1877 году, президента токийской Академии наук. Като
выступал против распространения христианства в Японии, про-
тив предоставления народу прав и свобод в ходе массовых дви-
жений в начале 1880-х годов. Като подчеркивал два момента, ко-
торые отличали его убеждения от многих других исследователей
конституционного права в постмэйдзийской Японии. Во-первых,
он был не согласен с принципом, согласно которому монархия
есть государственный орган и суверенитет остается у государства,
а не у монархии (кунсю кикан сэцу). Такую точку зрения под-
держивали Минобэ Тацукити и Итимура Мицуэ. И во-вторых,
Като не разделял принцип, согласно которому государственный
суверенитет не является свойством самого государства, но есть
особая привилегия монарха (кунсю сютай сэцу). Эту точку зре-
ния поддерживал целый ряд известных японских ученых-исто-
риков, включая Ходзуми Яцука, Симидзу Тору, Уэсуги Синъити
и Иноуэ Мицу.
Като находил ошибочным обе эти точки зрения. Он не был
согласен с тем, что государство есть искусственный институт
управления, тогда как нация - органический. Он считал, что в дан-
ном случае логика повернута с головы на ноги. Кроме того, Като
отвергал тезис о том, что японская монархия - уникальная в мире
и что суверенитет нации закреплен в монархии. По мнению Като,
национальный суверенитет является отличительной чертой само-
го государства115*.
В своих трудах Като пытался разработать новую теорию мо-
нархической формы правления, которая не повторяла бы зады
европейских исследователей, а в первую очередь оправдывала бы
экспансионистскую политику японской империи. Като подробно
17*
239
исследовал вопрос, каким образом императорская Япония, захва-
тывая Тайвань и Корею, выдвигала на передний план процесс
формирования японской мультинации. Като считал, что расши-
рение японской империи требовало новой теории государствен-
ного суверенитета, новой интерпретации политической роли
императора, которая не была бы слишком «узко националисти-
ческой», что не отвечало политике аннексии чужих земель, но
и не слишком «широко националистической», когда японская на-
ция теряла позиции титульной нации. Като стремился легитими-
ровать институт монархии на универсальной основе, избегая
мистических объяснений о том, что японский император это
посланец Синтоистского Бога на Земле, и никоим образом не
допуская замены суверенитета императора суверенитетом госу-
дарства.
Дискуссии об основах института императорской власти и роли
императора как политического лидера нации активизировались в
1920-е годы и особенно в 1930-е годы. Одной из хорошо извест-
ных работ того времени по данной проблематике было исследо-
вание Орикути Синобу «Истинное значение ритуалов император-
ской власти» (Дадзёсай-но хонги). Работа была выпущена накануне
восшествия на престол императора Сёва в декабре 1926 г. В от-
личие от Фукудзава Юкити и Като Хироюки Орикути видел
в императоре, прежде всего, религиозного лидера. Он считал, что,
может быть, лично сам император и не обладал этой сакрамен-
тальной духовной силой, но такой силой обладала сама импера-
торская ветвь власти. Орикути и его сторонники полагали, что
сохранение и продолжение императорского рода как неразрыва-
емой цепи личностей как раз и является самым важным элемен-
том духовности императора - «микотомоти». Согласно теории
Орикути, ритуал восшествия императора на престол относится
к религиозному пониманию Бога и император просто передает
послание небес на Землю. Японский император, подчеркивает
Орикути, является единственным лицом в политической системе
страны, кто имеет право передавать слово Божье на Землю -
«сумэра но микото». И в этом смысле теория Орикути как бы
подтверждала абсолютистскую, т.е. политическую власть импера-
тора. Единственным источником авторитета императора являет-
ся, по мнению Орикути, физическое воплощение императора как
божественного духа, процедуру легитимации которого передает
церемония восхождения его на престол - «дадзёсай»116).
Теория Орикути, согласно которой монарх - лидер японского
этноса, в известной мере подрывала основы идеологии государ-
ственного национализма, в соответствии с которой император -
240
суверенный глава многонационального японского государства.
Под последним японские националисты и империалисты пони-
мали японскую «сферу сопроцветания» с вхождением в нее, по-
мимо Китая и Кореи, ряда стран ЮВА. В середине 1930-х годов
группа известных японских ученых националистического толка,
в которую входили Такамура Ицуэ и Ясуда Ёдзюро, закономерно
оспаривали идею о том, что император Японии должен быть
только политическим лидером японской нации, и предлагали
рассматривать его в качестве религиозного лидера японской
империи. Дело в том, что оценка лидерства японского императора
с позиций национализма бросала серьезный вызов легитимности
новой японской империи и императора как ее законного лидера.
Допустить этого японские националисты не могли. Вопрос о роли
императора как лидера многонационального японского государ-
ства прямо проецировался на внешнюю политику Японии в Азии:
серия террористических актов и заказных политических убийств
в 1930-е годы в Японии совершалась руками сторонников япон-
ского национализма, не признающих многонациональный харак-
тер японского государства.
Для японских национал-радикалов традиционные конститу-
ционные теории, признающие японского императора в качестве
лидера многонациональной империи, были просто неприемлемы.
Японские националисты не могли и не хотели представлять япон-
ского императора в отрыве от сугубо национального контекста.
Они не рассматривали его в качестве размытой фигуры, находя-
щейся на службе интересов многонационального имперского го-
сударства. Японские националисты использовали шум вокруг
роли императора в государстве с одной единственной целью -
привлечь внимание общества к идеологии «кокутай» и побудить
правительство прямо высказаться по этому поводу. Японские
власти в 1937 году подготовили и широко распространили мани-
фест «О подлинном значении Кокутай» - «Кокутай-но хонги».
И хотя правительство официально не признавало этот документ
как призыв к подъему национализма в Японии, как того требова-
ли японские националисты, по сути выпуск манифеста послужил
спусковым крючком в раскручивании спирали националистиче-
ской пропаганды в Японии накануне Второй мировой войны.
Исследование «О подлинном значении Кокутай» отвергало
теорию превращения Японии в имперское государство. Данная
работа в первую очередь была призвана подчеркнуть, что «коку-
тай» есть синоним «уникальности японской нации», непрерывно-
сти императорской ветви власти во времени. «Кокутай» опреде-
лял место императора как политического лидера нации, правда,
241
он не определял место и статус «народа» по отношению к импе-
ратору. Всего лишь местами в «Кокутай» отмечалось, что «народ» -
это «подданные императора», что народ - это «нация» - кокумин,
т.е. «государевы люди». Но в работе практически ничего не гово-
рилось о народе как об этносе, как об этнической нации, т.е. как
о «миндзоку»117). Знакомство с исследованием «Кокутай» позво-
ляет сделать вывод о том, что целью его создания была задача
показать, что моноэтнический национализм не является угрозой
нации, но что такая угроза исходит от мультиэтнического национа-
лизма японской империи периода правления императора Мэйдзи.
Произведение «кокутай» более четко констатировало и закрепи-
ло «священный титул» императора как духовного лидера нации
и подчеркивало необходимость исполнения подданными императо-
ра долга лояльности и преданности. В «Кокутай» подчеркивалось,
что граждане Японии должны поддерживать существующий по-
рядок в рамках императорской конституционной системы прав-
ления, а любые попытки нарушить сложившийся порядок вещей
должны жестко пресекаться.
Политические силы, которые стояли за составителями «Коку-
тай», были заинтересованы не только в широком распространении
монархических идей и националистической идеологии в япон-
ском обществе, но также ориентировались и на зарубежного чи-
тателя. Когда император Хирохито в 1941 году объявил о войне
против США и Великобритании, он нарушил традицию обраще-
ния к императору Японии как к «тэнно» и настоял на том, чтобы
к нему обращались как к «котэй»118).Также поступил и дед Хиро-
хито - император Мэйдзи, когда он подписывал декларации о войне
с Китаем в 1894 году и с царской Россией - в 1904 году. Отец
Хирохито - император Ёсихито в период Тайсё, подписывая дек-
ларацию о вступлении в войну против Германии и ее союзников
в 1914 году, потребовал обращаться к нему как к «котэй».
Дело в том, что «котэй» - термин, который был широко известен
и распространен в странах Азии применительно к императорам
Китая, иногда применялся при обращении к императорам Кореи.
Японцы не придавали особого значения термину «котэй», кото-
рый в массовом сознании означал просто понятие «император
Японии». Однако войны, которые вела Япония в 1894,1904 годах,
объявлялись от имени императора «котэй», и японцы вели эти
войны как войны империалистические. И в 1941 году Япония
объявила о войне с двумя великими мировыми державами от
имени императора великой Японии - «котэй», являющегося не
просто высшим лицом японского государства, но и лидером ве-
ликой нации, ее главнокомандующим119).
242
Использование двух вариантов обозначения императора в зави-
симости от мирного или военного времени имело д ля японских вла-
стей глубокий идеологический и политический смысл. В 1941 году
Япония вступила во Вторую мировую войну с идеей создания
собственной империи в Азии - «Великой сферы сопроцветания
в Восточной Азии». Подавляющее большинство японцев разделя-
ли эту идею. Вместе с тем данный проект предусматривал фор-
мирование мультиэтнической империи, население которой было
бы представлено китайцами, корейцами, жителями стран ЮВА.
Такой план, помимо его идеологической составляющей, имел
сугубо прагматические политические цели, а именно: побудить
многомиллионное по численности население будущей японской
империи сражаться бок о бок с солдатами императорской армии
за процветание великой азиатской «сферы сопроцветания». На-
пример, в Китае контролируемое японцами правительство Ван
Цзинвэя 9 января 1943 г. объявило войну США и Англии и под-
писало японо-китайскую декларацию о совместном ведении войны
до победного конца под лозунгом: «И на жизнь, и на смерть -
вместе». Именно это и было нужно японским властям. И делать
это, как им тогда казалось, было бы легче, если бы император имел
более имперски звучащее звание «котэй» в сравнении с сугубо
японским понятием «тэнно». Однако лингвистическое манипу-
лирование названием императора Японии как лидера большой
Восточноазиатской империи оказалось малопродуктивным и
слишком запоздалым для того, чтобы повлиять на окончательный
исход участия Японии во Второй мировой войне, которую она
проиграла. Вместе с тем дискуссиями на тему о роли императора
как лидера нации воспользовались американские оккупацион-
ные войска при определении статуса императора в новой после-
военной Конституции Японии 1947 года. Они просто все свели
к понятию императора как «символа нации», убрав тем самым его
роль как политического лидера нации, а тем более лидера япон-
ской империи.
Роль императора как «символа нации».
Роль императора как символа японской нации была подтверж-
дена еще в довоенном издании «Кокутай - но хонги» 1937 года.
Но в довоенной Японии националистам было трудно снять идео-
логическую напряженность в спорах с японскими империали-
стами по поводу того, считать ли императора символом самооп-
ределения и национального суверенитета только японской нации
или многонациональной нации в рамках японской империи.
243
Поражение Японии во Второй мировой войне и ее оккупация
американской армией создали новые исторические условия не
только для переосмысления отношений между националистами и
империалистами Японии после 1945 года, но и по вопросу о роли
императора как символа нации.
Правда, и после войны эта проблема не имела простого реше-
ния, ибо упиралась в неоднозначность оценки того, кто же тогда
должен нести ответственность за втягивание Японии в войну и за
ее поражение. Уже 5 сентября 1945 г. член первого послевоенного
кабинета министров и будущий премьер-министр Японии Асида
Хитоси на первой послевоенной сессии японского парламента
выступил с меморандумом о «Причинах и ответственности за
неблагоприятные для Японии результаты Великой восточноази-
атской войны», в котором осторожно обозначил ответственность
императора за поражение страны в войне120*. На протяжении по-
следующих месяцев звучали громкие призывы к властям со сто-
роны общественности обнародовать имена истинных виновников
разгрома Японии, назвать их поименно, начиная с императора.
Однако акценты в «выявлении» таких виновных власти решили
сместить в сторону поиска их среди «чиновников» и «военных».
Император был исключен из списков ответственных за пора-
жение121*.
Однако с таким подходом были согласны далеко не все. Были
политики и политические силы, которые, не стесняясь, резко
осуждали императора как лидера нации за позорное поражение
в войне. В первую очередь, такие обвинения раздавались со сто-
роны руководства Коммунистической партии Японии. 10 октяб-
ря 1945 г. американцы освободили из Токийской тюрьмы Футю
лидеров Коммунистической партии Японии, в том числе Токуда
Кюити, Миямото Кэндзи и Сига Ёсио. В своих официальных
заявлениях японские коммунисты «снимали» с японского народа
вину за участие Японии во Второй мировой войне и полностью
перекладывали ее на императора и его окружение. В «Обращении
к японскому народу» (Дзиммин-ни утау) руководство КПЯ при-
зывало нацию сбросить монархию и установить в стране подлин-
ную демократию в форме «народной республики».
Дискуссии об ответственности императора за войну превра-
тились для противников монархии в удобное оружие борьбы за
свержение института императорской власти. В ноябре 1945 года
Сига Ёсио сформулировал жесткое обвинение в адрес императо-
ра Хирохито, которое было опубликовано в газете «Акахата».
В нем Сига аргументированно доказывал, что не японский народ,
а император Японии являлся самым большим военным преступ-
244
ником. Примечательно, однако, что, призывая к свержению им-
ператора и императорской власти в Японии, японские коммуни-
сты поддерживали национализм как идеологию, консолидирую-
щую японскую нацию. Правда, руководство КПЯ имело планы
распространения в послевоенной Японии идеологии «республи-
канского национализма», в основе которого лежал не государ-
ственный, а этнический национализм122^
Таким образом, в послевоенной Японии коммунисты и другие
левые силы активно препятствовали политической реабилитации
императора в качестве «символа нации». Японский национализм
марксистского толка всегда был направлен против сохранения
императорской системы правления как таковой. Основу маркси-
стского национализма в Японии составляло соблюдение принци-
па единства нации как этнического сообщества. Это следовало из
заявлений видного деятеля Коммунистической партии Японии
Кэндзи Миямото, который в своих трудах не раз подчеркивал, что
императорская система правления - это система «коррупции эт-
нической нации» (миндзоку-но осёку) и что история Японии -
это история поиска «истинной национальной гордости японцев»
(миндзоку-но хокори)123*.
Японские коммунисты были последовательными критиками
императорской стистемы правления и идеологии государственно-
го национализма. Впервые с этим они выступили еще в 1922 году,
опубликовав Проект программы КПЯ. Эта критика достигла сво-
его апогея в партийных тезисах в мае 1932 году, прямо призывав-
ших к свержению императора. Однако официально критика ин-
ститута императорской власти стала возможна лишь после войны,
в условиях объявленных американскими оккупационными сила-
ми демократии и политических свобод. Тогда руководство КПЯ
открыто обвинило императора в военных преступлениях, требуя
перестройки и демократизации политической системы управле-
ния и ликвидации института монархии. Лидеры КПЯ опирались
в своей послевовенной критике императора на общемировую
тенденцию широкой поддержки народными массами этнического
национализма как единственного легитимного оружия в борьбе
с мировым империализмом. Японские коммунисты видели эту
глобальную повестку дня как исторический шанс построения
в Японии нового, послевоенного национализма, который в своей
основе имел бы не императорскую, а этническую составляющую.
Если бы японским коммунистам удалось реализовать свой проект
построения «Японии без императора», разрушив постмэйдзийскую
политическую систему, то многонациональная империя была бы
разрушена, а вместе с ней ушла бы в прошлое и система, в которой
245
император был единственным национальным символом и носите-
лем национального суверенита. Японские коммунисты, таким об-
разом, выступали за моноэтнический, неимперский национализм.
Атака японских ученых-марксистов на институт император-
ской власти в послевоенной Японии была прогнозируемой. После
того, как главнокомандующий оккупационными силами на терри-
тории Японии генерал Макартур побудил императора Хирохито
отречься от своего божественного происхождения, что последний
сделал в известном императорском заявлении от января 1946 года.
«Нингэн сэнгэн» - «Декларация гуманизма», группа известных
японских ученых-историков поддержала эту американскую идею.
Среди них был профессор университета Васэда Цуда Сокити, ко-
торый еще в 1920-1930-е годы сам нанес сильный удар по мифо-
логической концепции древней яйонской истории, якобы доказы-
вавшей божественное происхождение императора.
Цуда Сокити - знаменитая фигура в японской истории XX века.
В предвоенные годы он подвергался преследованиям за то, что
рассматривал проблемы японских богов-ками, а следовательно,
и происхождение императоров с сугубо научной историко-рели-
гиоведческой точки зрения, тогда как власти, объявив синтоизм
государственной религией, обязали японцев считать непререкае-
мым священный, божественный вариант трактовки истории япон-
ского народа. Долгие годы ученый подвергался гонениям и трав-
ле, ему было запрещено не только публиковать свои лекции, но
и преподавать в университете. Однако трудности не сломили
ученого, и он продолжал свои исследования. Он опубликовал ряд
интересных работ по разоблачению божественного происхожде-
ния императора, среди которых - «Изучение древней истории
Японии», «Общество и идеология древней Японии», «Импера-
торский дом» и «Как трактовать историю». Под давлением левой
общественности, высоко ценившей труды Цуда Сокити, пожилой
и не сломленный властью ученый в 1949 году был даже награжден
«Орденом культуры» (в Императорском эдикте № 9 от 11 февра-
ля 1937 г. в связи с учреждением Ордена Культуры (бунка кунсё)
указывалось, что этот орден «предназначен для награждения тех,
кто внес исключительный вк^ад в развитие культуры»), а в 1951 году
Цуда был удостоен звания заслуженного деятеля национальной
культуры. Свою главную задачу как ученого Цуда Сокити всегда
видел в разрушении веками сложившегося реакционного миро-
воззрения в области института императорской власти. Он стре-
мился воссоздать реальную картину истории древней Японии и тем
самым содействовать воспитанию национального самосознания
с прогрессивных, демократических позиций.
246
Попытки разрушать миф о божественном происхождение
императора рассматривались во время войны властями Японии
как «опасное преступление», а носители таких взглядов заноси-
лись в черный список как «враги народа», т.е. враги государствен-
ной идеологии «Кокутай». Однако после поражения Японии
ученые историки, среди которых оказалось немало национали-
стов, сами скорректировали свое отношение к институту импера-
торской власти. Они стали разделять базовые ценности японской
цивилизации, поддерживать «Теорию Минобэ», согласно которой
институт монархии мог быть совместим с парламентской респуб-
ликой и демократией в Японии124*.
Японские историки в своем большинстве были убеждены, что
после войны и капитуляции Японии характер императорской
власти (тэнно), как и сама нация (кокумин) претерпели суще-
ственные изменения. Император лишился не только империи, но
даже ясной политической роли в послевоенной Японии, посколь-
ку Императорская конституция Мэйдзи 1889 года более не дей-
ствовала, а американцы работали над составлением проекта но-
вой, «неимператорской» Конституции для Японии. Император
Хирохито, который уже во время войны отказался от титула
«котэй» в пользу титула «тэнно», стал по своей функциональной
роли в политической системе послевоенной Японии малозамет-
ной фигурой. Его судьба и его функции были сильно размыты
и не определены. Про него даже говорили, что по новой Консти-
туции он вообще может оказаться «императором без портфеля».
В таких условиях для многих в Японии было очевидно, что роль
императора как символа нации утрачивала свое былое значение,
но она могла приобрести новые очертания.
Правящие круги послевоенной Японии и оккупационные
власти не пошли по пути полной ликвидации и разрушения сим-
волического значения института императорской власти, дабы не
погружать японское общество в идеологический хаос. Они хоро-
шо поработали над тем, чтобы заново сформировать и сформули-
ровать отношение нации (кокумин) к императору и к системе
императорской власти, сохранив при этом ее номинальный харак-
тер, но элиминировав политический смысл статуса императора в
новой системе власти. Уже в марте 1946 года, т.е. спустя букваль-
но два месяца после выступления Хирохито с «Декларацией гу-
манизма», в японских СМИ был опубликован проект новой Кон-
ституции, в которой император, хотя и сохранял привычное для
японцев название «тэнно», наделялся новым толкованием своего
статуса как «символа консолидации японской нации»125*. Это был
первый и наиболее важный шаг в «демократизации (кокуминка)
247
императорской системы», как об этом потом напишет Ёнэтани
Масафуми, анализируя труды Цуда Сокити и Вацудзи Тэцуро,
посвященные теории императорской власти126*. Это был иннова-
ционный, революционный прорыв в теории императорской власти,
в обозначении императора как «символа нации». Его суть состо-
яла в том, что властям Японии в сотрудничестве с американскими
оккупационными силами удалось найти консенсус, с одной сто-
роны, удовлетворив требования нации сохранить за императором
статус уникального символа власти, а с другой, определить ему
новое место в демократической Конституции страны, основанной
уже на соблюдении универсальных прав человека и демократи-
ческих свобод.
Японские националисты в послевоенной Японии приветство-
вали достигнутый компромисс. Спустя месяц, в апреле 1946 года
в журнале «Сэкай» была опубликована статья Цуда Сокити под
названием «Обстоятельства основания нашей страны и идеоло-
гия непрерывности императорской власти в Японии». В статье
Цуда аргументировал, что прошлая императорская система вла-
сти с присвоением монарху политических полномочий (что име-
ло место в период после реставрации Мэйдзи и до поражения
Японии во Второй мировой войне) являлась лишь отклонением
в истории японской монархии. В истории страны институт импе-
раторской власти всегда играл роль «символа нации», а импера-
тор редко брал на себя функции главы исполнительной власти
государства.
Столь откровенное высказывание ведущего в Японии спе-
циалиста по теории и истории императорской власти, каким был
Цуда Сокити, о признании императора лишь в качестве «символа
нации» многих тогда шокировало. Ведь только в 1943 году тот же
Цуда Сокити писал, что японские исторические хроники «Кодзи-
ки» и «Нихон сёки» были фальсификацией японской истории
и не подкреплялись реальными историческими фактами. Все они
были написаны с одной лишь целью - обосновать право импера-
тора на суверенную политическую власть. Ни о каком ограниче-
нии прав императора рамками «символа нации» не могло быть и
речи. И то, что после войны тот же Цуда Сокити стал оправдывать
институт императорской власти, никого из японских национали-
стов не удивило - в условиях американской оккупации ученый
встал на защиту японского национализма, на защиту тезиса об
уникальности японской нации, стал оправдывать наличие у на-
ции своих традиционных мифов, имеющих право на существова-
ние. Цуда отвергал внешнее давление со стороны США, которые
стремились на корню разрушить институт монархии в Японии
248
и лишить императора прав оставаться даже «символом нации»
как «живым Богом» для японцев127*.
Проблема сохранения за императором Японии статуса «сим-
вола нации» в послевоенный период серьезно заботила также
соратника Цуда, известного философа и культуролога Вацудзи
Тэцуро (1889-1960)128*. В своих попытках реабилитировать ста-
тус японского императора как «символа нации» Вацудзи имел,
правда, свою, отличную от Цуда Сокоти, «доказательную» базу.
Он утверждал, что в разгар войны на Тихом океане «святость»
японского монарха не имела особого значения, т.е. место и роль
императора в политической системе воюющей Японии не олиц-
творялись с его символом «родоначальника японской нации».
В этом смысле японский император резко отличался от «свято-
сти» Бога, которой евреи и христиане всегда наделяли Бога Яхве
или Христа129*. Вацудзи делал вывод, что жизнь императора Хи-
рохито не имела никакого отношения к его активной политиче-
ской роли. Он просто традиционно всегда был олицетворением
коллективной воли японской нации - «кокумин-но сои». И по-
скольку формирование национальной коллективной воли есть
решающий шаг в установлении национального суверенита - «ко-
кумин сюкэн», то институт монархии не может быть исключен
из процесса формирования демократической нации. Стало быть,
и после войны император Хирохито имеет все основания оста-
ваться «символом нации»130*.
В своих рассуждениях о роли императора как «символа нации»,
Вацудзи выделял мысль о том, что император сохраняет преем-
ственность императорской линии в истории. Правда, при этом
Вацудзи различал преемственность предшественников императо-
ра - «косо» по родственной линии и преемственность находяще-
гося у власти императора - «тэнно». Вацудзи подчеркивал, что
одно дело поддерживать монархию как «символ национального
единства», и другое - признавать действующего императора «свя-
щенной личностью» и символом нации. Вацудзи критиковал взгля-
ды тех националистов-монархистов, которые оценивали институт
императорской власти исключительно через призму религии Синто.
Немало сторонников сохранения за императором статуса «сим-
вола нации» в послевоенной Японии можно было найти и среди
японских либералов. Одним из ярких представителей либераль-
ного крыла японских националистов был профессор права в То-
кийском императорском университете Танака Котаро. Он принад-
лежал к сторонникам старой либеральной школы, которая всегда
поддерживала монархию. Он был убежденным католиком. Вы-
ступая в защиту сохранения института императорской власти
249
после воины, он призывал ограничить его место в политической
системе государства статусом «символа нации». Танака опасался,
что устранение императора из политической системы после-
военной Японии способно привести нацию к «анархии и деспо-
тизму», к утрате моральных основ общества, к отторжению и
презрению института государства как такового130. Танака пони-
мал, что политические силы, получившие влияние в обществе
в 1930-е и в начале 1940-х годов зарождались в недрах правых
экстремистских движений, которые опирались на две основные
идеологии - на идеологию крайнего национализма (коксуйсюги)
с ее отвержением универсальных ценностей, а также на радикаль-
ный либертаризм (дзиюсюги), который требовал свободы от
любых моральных ограничений132*. Поражение Японии в войне
«успокоило» Танаку в отношении невозможности возвращения
правого национализма в Японии, а следовательно, и его негатив-
ного влияния на новый демократический порядок в Японии.
Голос Танака в поддержку сохранения института император-
ской власти как символа нации был крайне важен хотя бы потому,
что Танака позиционировал себя не как националист, а как право-
верный католик. Оккупационные власти США, дискредитируя
идеологию правого национализма в послевоенном японском об-
ществе, расчищали дорогу приходу в Японию ранее не существо-
вавшей системы ценностей индивидуалистического гедонизма.
Танака был серьезно озабочен возможной утратой традиционной
для Японии системы моральных, коллективистских ценностей,
напоминая, что даже во время войны эти ценности поддерживали
стабильность и здоровье японской нации. Он не видел причин,
почему монархия, ограниченная новой Конституцией и демокра-
тическими ценностями, не может эффективно выражать довоен-
ные ценности японского общества в мирной, пацифистской Япо-
нии. Как либеральный демократ и католик, Танака объединил
свои идеи об императоре как о символе нации с идеями, выска-
занными в свое время Фукудзава Юкити. Кроме того, взгляды
Танака совпадали со взглядами Маэда и Лигнуэля, защищавшими
католицизм в Японии как идеологию, вполне совместимую с миро-
воззрением патриотически настроенных японцев, которые не те-
ряли веры и лояльности к императору страны.
Дискуссия в обществе о будущем монархии в Японии, о новом
месте и роли императора в послевоенной политической системе
страны фактически была завершена 3 мая 1947 г., когда новая
Конституция Японии, провозглашенная 3 ноября 1946 г., вступи-
ла в законную силу. Статья 1 первой главы новой Конституции
была посвящена роли императора и его отношениям с суверенной
250
нацией. Она четко определяла место императора как «символа
государств и единства нации»: «Император является символом
государства (Нихон коку-но сотё) и единства народа (Нихон
кокумин того), его статус определяется волей народа (Нихон
кокумин), которому принадлежит суверенная власть»133*.
Новая Конституция, таким образом, сохранила в высшем зако-
не страны позицию «старых либералов», согласно которой импе-
ратор - символ нации и эта его функция проистекает из «доброй
воли» всего японского народа. Идея такой формулировки при-
надлежала министру просвещения в кабинете Ёсида Сигэру -
Танака Котаро. Он оставил свое имя в списке других министров
кабинета как лицо, взявшее на себя юридическую и политическую
ответственность за данный документ, что было отражено в пре-
амбуле новой Конституции134*. Такая поддержка послевоенной
монархии со стороны видного либерала и католика оказалась
сильным аргументом в полемике с теми, кто впоследствии утвер-
ждал, что Конституция 1947 года дала новые силы государствен-
ному синтоизму в послевоенной Японии. Как католик Танака
просто не мог называть императора «живым богом на Земле»,
предпочитая просто называть его «символом нации».
Конституция 1947 года разрешала вопрос о том, выживет ли
монархия в послевоенной Японии или она займет подчиненную
роль по отношению к законодательной ветви власти, к японскому
парламенту. Правда, опубликование Конституции в 1946 году не
решало все вопросы сохранения института наследственной мо-
нархии в Японии. Просто дискуссии в обществе переместились из
области обсуждения проблемы ликвидации этого института вла-
сти как такового в сторону сохранения его в преобразованном
виде. После 1952 года этот вопрос вообще перешел в плоскость
академических споров, в ходе которых такие аспекты, как мораль-
ные ценности, моральное воспитание, культурная идентичность
стали играть куда более важную роль, нежели вопросы о роли
императора в политической системе страны. Конституция не
трактовала вопрос о том, должен ли император рассматриваться
как лидер или символ японской нации, как это было закреплено
статьями первой императорской Конституции Японии 1889 года.
Новая Конституция вообще оставила за скобками вопрос о том,
сохраняет ли за собой император роль «символа нации» и глав-
ного лица националистической религии Синто. В результате
академические ученые продолжили дискуссии вокруг всех этих
проблем, пытаясь осмыслить и разъяснить обществу, что озна-
чает для императора и для нации, когда монарх становится ее
«символом».
251
Наибольший вклад в теоретическую разработку вопроса о но-
вой роли и месте императора в послевоенной Японии внес веду-
щий японский политолог, авторитетный ученый в области япон-
ской политической мысли Маруяма Macao. Он возглавил группу
ученых-единомышленников «Школа Маруяма» (Модернистская
школа), в которую входили такие авторитеты, как Мацумото
Санносукэ, Фудзита Сёдзо и Камисима Дзиро. Все они долгое
время трудились над разработкой новой теории, определяющей
место и роль императора в новой политической послевоенной
системе Японии. Их объединяла идея о том, что довоенная форма
национальной идентичности японцев сохраняла свое назначение
и что монархическая идеология в послевоенной Японии, по сути,
должна продолжить эту традицию.
Японские историки последовательно изучали волнующие их
вопросы непрерывности монархии в Японии с тем, чтобы опре-
делиться с ролью императора как «символа нации». Так, Мидзуно
Хироси, находясь под сильным влиянием трудов Цуда Сокити,
отрицал мысль о непрерывности линии императорского правле-
ния, уходящей корнями в его «божественное происхождение».
В своей работе, вышедшей в 1952 году, «Введение в теорию о про-
исхождении японской монархии» он утверждал, что еще с древ-
нейших времен в Японии было несколько монархических дина-
стий, при этом каждая имела свою «кровную линию». Такой точки
зрения придерживался и другой японский историк - Амино Ёси-
хико, основательно развив данную теорию весомыми аргумента-
ми, которые свидетельствовали о наличии в древности несколь-
ких императорских династий в Японии. При этом профессор
Амино категорически отвергал тезис о том, что японцы являются
представителями аграрной нации и что император был самым
главным «рисоводом» в древней Японии. Амино утверждал, что
трансформация императорской власти произошла в период по-
зднего Средневековья. Согласно своей теории, Амино утверждал,
что император Годайго (1288-1339 гг.) возглавил эту трансфор-
мацию, когда он получил поддержку со стороны монархистов из
окружения сёгуна Асикага на реставрацию императорской систе-
мы правления. Императора Годайго тогда поддерживали ремес-
ленники, рыбаки, деклассированные элементы и даже уголовные
преступники, т.е. все те, кто так или иначе тяготился ограничени-
ями и нормами, введенными сёгунатом135*.
В Средние века императорскую форму правления в основном
поддерживали те слои японского феодального общества, которые
не были связаны с сельским хозяйством и которые рассчитывали
на либерализацию своей деятельности в случае, если монар хия
252
была бы восстановлена. Однако попытка императора Годайго
вернуть себе верховную власть окончилась провалом. Впрочем,
этот провал, по мнению Амино, имел далеко идущие положитель-
ные последствия для института монархии в Японии: он создал
традицию восприятия монархии как идеализированного либе-
рального пространства (доброго царя) для всех тех, кто ощущал
гнет и репрессии со стороны местной феодальной власти. Эта
традиция не только сыграла решающую роль в процессе рестав-
рации Мэйдзи, но и реанимировала послевоенный институт им-
ператорской власти - вплоть до начала XXI века в условиях
очередного подъема националистических настроений и ожидания
стабильности и благополучия от укрепления института импера-
торской власти.
Ямагути Macao проводил исследования роли императора как
«символа нации» с точки зрения антропологической теории монар-
хической формы правления. В работах «Портрет Микадо» (1986 г.),
а также «Микадо и конец века: логика монархии» (1987 г.) Яма-
гути помещал японскую монархию в общий контекст теории мо-
нархической формы правления в мире. При этом Ямагути пытал-
ся вынести японскую монархическую традицию за рамки сугубо
национальной теории «кокутай». Однако, как нам представляет-
ся, ему это не удалось, и он был вынужден рассматривать эволю-
цию японской монархической власти, оставаясь в рамках эволю-
ции японского национализма.
Проблема «символической монархии» вновь стала объектом
научной дискуссии в 1970-1980-е годы. Причины повышенного
интереса к данной прблемактике были напрямую связаны с опа-
сениями за подъем в японском обществе правонационалистиче-
ских, радикальных настроений и выдвижения новых аргументов
в пользу полноценной реставрации института императорской
власти, т.е. расширения рамок функциональных полномочий им-
ператора. Правые националисты, не игнорируя культурологиче-
ские аспекты монархии, свой основной акцент делали на полити-
ческом значении института императорской власти, его особой
роли в подъеме государственного национализма в японском об-
ществе. Сторонники восстановления в полном объеме современ-
ной монархии, естественно, остаются не удовлетворенными сохра-
нением в Конституци 1947 года Статей, низводящих императора
до роли «символа нации». Другими словами, их не удовлетворяет
«символическая монархия», поскольку именно такое место было
уготовлено японскому императору враждебными нации оккупа-
ционными силами, с чем современные японские националисты
просто не могут мириться.
18-5584
253
Драматическое самоубийство известного в послевоенной
Японии японского писателя и драматурга, националиста Мисима
Юкио в ноябре 1970 года невольно явилось водоразделом в дис-
куссии по вопросу о роли и месте императора в современной
Японии. За этим знаковым событием вскоре последовала публи-
кация книги Хаяси Фусао «Тезисы об императоре Дзимму как
о реальной исторической личности» - «Дзимму тэнно дзицудзай
рон» (1971 г.). Она была переиздана в 1988 и 2002 годах под на-
званием «Тэнно-но кигэн». Хаяси Фусао был одним из видных
представителей «Романтической школы» японских интеллекту-
лов во время Второй мировой войны. Он проповедовал национа-
листические идеи уникальности японской нации, а также суще-
ствование доисторических императоров как реальных личностей.
Но поскольку, как отмечал Хаяси, мифы игнорировали сущест-
вование этнической нации в первобытной Японии - «миндзоку»,
то они носили антинародный характер и были направлены про-
тив интересов японского народа - «хандзиммин-тэки»136}. Хаяси
был откровенным сторонником этнического национализма, одна-
ко более всего его интересовала левая идеология этнических на-
ционалистов, находящихся, как известно, в оппозиции к институ-
ту монархии в Японии вообще.
Монархические идеи Хаяси Фусао получили особенно широкий
резонанс в японском обществе после смерти писателя в 1975 году.
Именно в этот период правые националисты активно формиро-
вали националистические общества, вербуя в свои ряды все новых
и новых сторонников, не столько даже разделявших национали-
стическую идеологию, сколько в первую очередь поддерживав-
ших идеи распространения ядерного оружия, антикоммунизма,
не приемлющих ялтинско-потсдамские договоренности великих
держав по итогам Второй мировой войны, когда национальные
интересы Японии, с их точки зрения, были серьезно ущемлены.
Когда в сентябре 1988 года японский император Хирохито тяже-
ло заболел и японские СМИ стали обсуждать его уход из жизни,
называя даже примерные даты в промежутке от 20 сентября до
15 октября (Хирохито умер 7 января 1989 года в возрасте 87 лет),
старые и новые японские националисты выразили свой решитель-
ный протест против столь неуважительного и неэтичного отноше-
ния к императору. Они надеялись, что новый император избавит
Японию от наследия ялтинско-потсдамской системы, призовет
всех японцев к пересмотру американской Конституции 1947 года
и установит прямое монархическое правление в Японии.
Однако японские националисты неожиданно получили силь-
ный шок, когда 9 января 1989 г. новый император Акихито вы-
254
ступил на своей первой пресс-конференции в Мацу-но ма, в им-
ператорском дворце в Токио. Он четко сформулировал тогда свою
позицию по вопросу статуса императора. Она сводилась к следу-
ющему: «Я не прекращу работу по защите Конституции Японии
1947 года и я клянусь выполнять все свои конституционные обя-
занности, не прекращая надеяться на национальное процветание,
на укрепление мира и процветание во всем мире»137).
Поскольку конечная политическая цель правых национали-
стов Японии сводилась к реставрации полноценной импера-
торской власти вопреки «унизительным» решениям ялтинско-
потсдамских договоренностей великих держав и последовавшей
американской оккупации страны, то провозглашенная новым
императором Акихито поддержка послевоенной Конституции
1947 года вызвала в их рядах смятение. Слова императора спро-
воцировали состояние полной растерянности у правых национа-
листов, поскольку впредь они лишались возможности официаль-
но поддерживать реставрацию монархии, не вступая при этом
в противоречие с волей самого императора. Правда, японские на-
ционалисты утешали себя мыслью, что речь императора была
составлена бюрократами из правительства, тогда как по традиции
японский император не привык откровенно делиться собствен-
ными мыслями на публике. Один из лидеров правонациона-
листической организации публично даже предложил свергнуть
кабинет Нобору Такэсита, ответственного за составление речи им-
ператора Акихито в Мацу-но ма. 5 марта 1989 г. два националиста
были арестованы после теракта и взрыва грузовика, начиненного
газом, перед резиденцией премьр-министра. Взрыв был приуро-
чен к важной дате - 5 марта 1932 г. активист националистической
организации «Кэцумэйдан» Хисинума Горо совершил покушение
на барона Дан Такума. Сигнал был понятен всем японским нацио-
налистам: так же как и в начале 1930-х годов император оказался
заложником враждебной политической и финансовой элиты и
потому не мог полноценно служить интересам японской нации.
Смена императора в связи со смертью императора Хирохито
в 1989 году активизировала дискуссию в обществе о связи инсти-
тута императорской власти с подъемом национализма. Национа-
листы, как сторонники монархии, были убеждены, что с уходом
императора Хирохито создалась особо благоприятная ситуация
для активизации националистических настроений в стране. Осо-
бые надежды возлагали и левые силы, которые рассчитывали, что
при новом императоре можно будет вернуться к вопросу об от-
ветственности Хирохито за капитуляцию и допущение американ-
ской оккупации после войны в течение столь длительного периода
18*
255
времени. Правые в Японии, в свою очередь, надеялись на то, что
Акихито даст ответ на вопрос о возможности восстановления пря-
мого императорского правления в стране. Однако большинство
в Японии надеялось, что послевоенные демократические завоева-
ния, включая и установление режима конституционной монар-
хии, не будут разрушены ни с той, ни с другой стороны. Мало кто
из японцев всерьез был заинтересован в замене принятого в сегод-
няшней Японии термина «тэнно» на более агрессивный и импер-
ский термин «котэй».
В последние годы правления Хирохито в политической жизни
Японии происходили события, которые побуждали обществен-
ность задуматься о будущем императорской системы в Японии.
Так, 17 октября 1978 г. власти Японии неожиданно объявили, что
14 военных преступников класса «А» официально оказались вос-
становленными в списках погибших за родину в синтоистском
храме Ясукуни, наряду с тысячами других японских солдат, от-
давших свои жизни за Великую Японию в войнах, которые Япо-
ния вела в XIX и XX вв. В 1984 году премьер-министр Ясухиро
Накасонэ совершил свой официальный визит в Ясукуни в каче-
стве премьер-министра по случаю включения 14 «героев войны»
в списки погибших. Сделал он это для того, чтобы продемонст-
рировать всему японскому обществу свои националистические
настроения и призвать японцев к сплоченности как к единому
государству-нации. Правда, премьер Накасонэ был вынужден
после этого временно приостановить свои посещения храма Ясу-
куни из-за широкомасштабной волны протестов со стороны Китая,
Кореи и стран ЮВА, выступивших резко против этих действий
главы государства. Однако визиты первых лиц Японии в храм
Ясукуни возобновились уже в 1996 году, когда к власти пришел
премьер-министр Хасимото Рютаро. Правда, и Хасимото также
был вынужден временно приостановить официальные посещения
храма Ясукуни по той же причине. И когда в 2001 году премьер
Койдзуми только объявил о своем намерении посетить Ясукуни
и отдать долг памяти национальным героям Японии, волны воз-
мущения незамедлительно прокатились по многим странам Во-
сточной и Юго-Восточной Азии.
С 1978 года во внутренней и внешней политике Японии, одна-
ко, многое изменилось. Государственный национализм «шагает»
в обществе семимильными шагами. Японские военные впервые
после окончания Второй мировой войны официально направля-
ются для участия в войне в Ираке в составе сил коалиции под
руководством США. Молодые японцы настойчиво требуют пере-
смотра Конституции 1947 года, добиваясь возможности участия
256
японской армии во внешних операциях далеко за пределами
Японских островов. Националисты открыто настаивают на пере-
писывании школьных учебников истории и требуют правительст-
венного одобрения на издание новых учебников по истории в це-
лях усиления патриотического воспитания молодежи и форми-
рования у нее националистического мировоззрения138*. Словом,
японские националисты воспряли духом. Они надеются на подъем
национального самосознания и национальной гордости, на уход
в прошлое комплекса национальной неполноценности японцев
после капитуляции во Второй мировой войне и оккупации США
Японских островов.
Таким образом, в политической истории Японии институт
монархии играл и продолжает играть важнейшую роль. При этом
не так уж и важно, как этот институт называется - «тэнно»,
«котэй» или просто императорская система правления. Важным,
на наш взгляд, является тот факт, что монархия не могла бы суще-
ствововать в Японии, не опираясь на поддержку японских нацио-
налистов. Однако и национализм в Японии не может существо-
вать в отрыве от монархии. Монархия в Японии в своей долгой
истории играла роль «объединителя нации» - как сверху вниз,
так и снизу вверх. Будет ли монархия служить основой развития
нации в будущем и возможно ли в условиях монархической
формы правления говорить о демократической политической
системе в Японии - вопросы, ответы на которые, вероятнее всего,
следует искать все-таки за пределами института императорской
власти как таковой.
4. Формирование националистического мировоззрения
у японской молодежи (переписывание школьных
учебников по истории и морали)
Любые рассуждения про современный японский национализм
можно считать неполными, если не рассмотреть политику вла-
стей в вопросах формирования националистического мировоззре-
ния у японской молодежи. Эта проблема всерьез заботила япон-
ских националистов уже сразу после окончания Второй мировой
войны, и с тех пор власти продолжают прилагать большие усилия
в этом направлении. Японский национализм остается единствен-
ной идеологией, консолидирующей общество, системой ценно-
стей, формируемой смолоду, со школьной скамьи, а стало быть,
требующей особого внимания к содержанию школьных учебни-
ков по истории и морали.
257
Строго говоря, повышенное внимание к содержанию школьных
учебников по истории, их регулярное «переписывание», предпо-
лагающее изъятие тем, компрометирующих национальную гор-
дость и национальное величие, и напротив - включение текстов,
восхваляющих нацию, - это не только и даже не столько японская
проблема. После окончания «холодной войны» этот процесс, на-
пример, имел место во многих странах Восточной Европы, в быв-
ших- советских республиках, а также в самой России. Примеры
особого националистического рвения в стремлении «восстано-
вить историческую справедливость можно наблюдать в странах
Балтии, на Украине, в республиках Закавказья и в Средней Азии,
а также во всех восточноевропейских государствах.
Попытки пересмотра содержания школьных учебников в Япо-
нии имеют, однако, иную природу Система школьного образования
в Японии традиционно была сильно централизована, и процесс
написания любых учебников, включая и учебники по националь-
ной истории, всегда находился под строгим государственным
контролем. И когда после поражения страны оккупационные
силы попытались разрушить систему государственного контроля
в части написания школьных учебников, передав эту работу на
откуп коммерческим структурам, реакция японских национали-
стов была крайне негативной.
Японское государство придает особое значение преподаванию
истории и морали в школе как двум важнейшим инструментам
формирования националистического мировоззрения, национально-
го самосознания и легитимации власти правящей элиты. Законо-
мерно поэтому, что начиная с реставрации императорской формы
правления после революции Мэйдзи в 1868 году государство тща-
тельным образом контролировало процесс преподавания истории
и морали в японских школах и руководило им. После Второй
мировой войны оккупационные власти также стали рассматри-
вать японскую систему образования как важнейшую составную
часть мощного идеологического потенциала нации. Естественно,
что реформы системы образования, которые проводились после
войны в Японии под непосредственным контролем оккупацион-
ных властей, не могли оправдать надежды японских национали-
стов на сохранение довоенных идеологических традиций: прави-
тельство страны под давлением США было вынуждено взять курс
на «демократизацию» системы среднего и высшего образования
в Японии.
В основу послевоенной системы школьного образования был
положен Основной закон об образовании 1947 года и Закон о школь-
ном образовании. Сразу после их принятия власти страны обес-
258
покоились попытками проамериканских сил переписать содержа-
ние учебников по национальной истории, в «которых было слиш-
ком много «японского» и слишком мало «западного». Консерва-
тиные силы Японии уже в середине 1950-х годов предпринимали
усилия по пересмотру Основного закона об образовании. Впер-
вые об этом официально заявило руководство консервативной
Демократической партии Японии - Минсюто в 1955 году. В по-
следующие периоды позиция официальных властей в этом воп-
росе оставалась принципиально неизменной и даже становилась
предметом особых судебных разбирательств. Их, в частности, ини-
циировал профессор истории, либерал по убеждениям и автор
послевоенного учебника истории Японии Иэнага Сабуро, высту-
пивший с иском против министерства образования Японии139*.
Он твердо отстаивал принципы преподавания японской истории
с либеральных, а не с государственно-националистических пози-
ций. Непрекращающиеся дискуссии в обществе по этой проблеме
получили широкий резонанс. Позицию Иэнага поддерживала
левая, демократически настроенная часть японского общества,
тогда как против нее выступали японские националисты.
В октябре 1999 года националисты из «Японского общества
в поддержку реформ школьных учебников по истории» (Атара-
сий рэкиси кёкасё-о цукуру кай) объявили о своей готовности на-
писать новый «патриотический» учебник по истории под назва-
нием «История нации» - (Кокумин-но рэкиси). Вариант этого
учебника руководство данного Общества уже в апреле 2000 года
представило министерству образования в качестве основного
(взамен учебника по истории проф. Иэнага) школьного учебного
пособия по истории140*. Националисты «переписали» в своем учеб-
нике роль государства в национальной истории, а также вопросы
отношений государства со своими гражданами.
Содержание школьных учебников по истории Японии после
Второй мировой войны являлось своего рода барометром отноше-
ний в обществе к прошлой оценке роли государства, императора,
а также японской внутренней и внешней политики. Иными сло-
вами, обсуждая прошлое, японцы всю вторую половину XX века
хотели определиться со своим будущим. После войны нация
постоянно сталкивалась с разночтением и полярными взглядами
на свое «империалистическое прошлое», что ставило под большое
сомнение ее «демократическое настоящее» и неопределенное
политическое будущее. В начале 1990-х годов известный профес-
сор Токийского университета Фудзиока Нобукацу возглавил
идеологическую кампанию по пересмотру школьных учебников
по истории в сторону усиления в них патриотического содер-
259
жания. По его мнению, старые учебники по истории, и в частно-
сти учебник Изнага, писались после войны «врагами нации» под
контролем американских оккупационных властей. Фудзиока и
его единомышленники настаивали на том, чтобы идеи возрожде-
ния японского довоенного национализма стали определяющими
в новой идеологии школьных учебников истории. В свою очередь,
оппоненты профессора Фудзиока отстаивали необходимость со-
хранения в обществе «демократической идеологии» послевоен-
ного образца как альтернативу реанимации довоенного национа-
лизма.
Развернувшаяся в 1990-е годы острая борьба между сторон-
никами «традиционного японского национализма» и «послевоен-
ными демократами» демонстрировала сохраняющуюся и в начале
XXI века в современном японском обществе глубокую идеологи-
ческую пропасть между носителями традиционной для предвоен-
ной Японии националистической идеологии «кокутай», которая
юридически была закреплена в императорском рескрипте «О на-
родном воспитании» и подкреплялась в массовом сознании идеей
о том, что «все японцы - одна большая семья», и демократами,
отстаивающими идею «абсолютной автономии нации от государ-
ства» как идеологической основы послевоенной политической
системы Японии, исключающей возрождение государственого
национализма в любой форме. Многочисленные попытки после-
военного государства в Японии навязать обществу идеологию
государственного национализма оказывались не столь эффектив-
ными прежде всего потому, что они встречали сопротивление со
стороны тех сил, которые выступали за продолжение демокра-
тических преобразований в стране, в том числе и в сфере обра-
зования140.
В 2006 году Либерально-демократическая партия и партия
«Новая Комэйто» правящей коалиции Японии пришли к согла-
шению о внесении в Закон об образовании 1947 года положений
о патриотизме. Поправки, в частности, гласили: «Всем японцам
необходимо уважать традиции и культуру Японии, любить выпе-
стовавшую нас нашу страну и родину. Вместе с этим надо с ува-
жением относиться к другим странам, воспитывать стремление
к миру и добрососедские отношения с мировым сообществом»140.
При обсуждении поправок в парламенте некоторые парламента-
рии посчитали, что фраза «любовь к стране и к родине» у многих
может вызвать ассоциации с националистической идеологией
времен Второй мировой войны. Однако, как сообщал тогда госу-
дарственный телеканал NHK со ссылкой на председателя коми-
тета по изменению закона, правящая коалиция намеревалась все
260
же принять изменения в закон в самое ближайшее время. Эту
идею тогда активно поддерживал премьер-министр Японии Кой-
дзуми, сам предлагавший на парламентских слушаниях поправки
к Закону об образовании.
Противники внесения поправок в Закон об образовании сво-
им основным контраргументом выдвигали опасения, что изменен-
ный закон политизирует процесс образования, как это уже не раз
бывало в японской истории. Усиление «патриотического воспи-
тания» уже приводило к тому, что некоторых учителей наказыва-
ли и увольняли за нежелание вставать и исполнять перед началом
торжественных мероприятий национальный гимн «Кими га ё»
(«Царствование императора») - символ милитаризма и импе-
раторской власти. Кроме того, новшество могло вызвать волну
протестов в Китае и Южной Корее, усматривающих в нем при-
верженность японского руководства своему милитаристскому
прошлому. Однако все эти опасения не помешали властям принять
в 2006 году в закон об образовании поправку об усилении патрио-
тического воспитания молодежи.
На волне общественного признания необходимости усиления
патриотического воспитания молодежи японские националисты
стали официально настаивать на том, чтобы целый ряд позорных
страниц японской истории первой половины XX века, и прежде
всего связанных с преступлениями японской военщины против
народов стран Восточной и Юго-Восточной Азии, были полно-
стью изъяты из текстов школьных учебников для средней школы
как компрометирующих и позорящих японскую нацию и не спо-
собствующих патриотическому воспитанию молодежи. Национа-
листы предлагали хорошенько отредактировать школьные учеб-
ники по истории именно под этим углом зрения.
Надо отметить, что государственная цензура содержания
школьных учебников по истории носит в Японии традиционный
характер, так как она практиковалась сразу после реставрации
Мэйдзи. Однако в условиях американской оккупации сохранить
государственный контроль за изданием школьных учебников
оказалось для японских властей достаточно проблематичным.
Послевоенная система утверждения школьных учебников к печа-
ти была сформирована в 1947 году под началом штаба оккупа-
ционных войск генерала Макартура. По указанию штаба прави-
тельство должно было покончить с практикой государственного
контроля над составлением учебников - «Кокутэй кёкасё» и
перейти к системе подготовки и издания школьных учебников
частными издательствами. Местные власти по своему усмотре-
нию сами могли выбирать варианты учебников для распростра-
261
нения в местных школах. Штаб оккупационных войск исключил
из содержания школьных учебников любые упоминания о геро-
ических страницах побед японской армии, об идеологии «коку-
тай» и ультранационализме и предлагал больше публиковать
материалов о «правах человека и человеческом достоинстве» -
«кодзин-но сонтё». Американцы добились того, чтобы в Основ-
ной закон об образовании 1947 года было включено положение,
согласно которому правительству, хотя и вменялась в обязанно-
сти разработка основных направлений школьной программы,
однако исполнение ее всеми директорами школ являлось необя-
зательным, как это было в довоенный или военный период в
Японии. Правительственные установки в области преподования
общественных дисциплин, таким образом, разрабатывались лишь
в помощь директорам школ для их творческого применения в своих
школах, но не являлись обязательными к исполнению.
На первый взгляд послевоенная практика мало изменилась
в наши дни. Министерство образования в Японии сегодня не от-
вечает за издание школьных учебников как по истории, так и по
другим общественым предметам. Учебники готовят и издают не-
сколько ведущих частных компаний. Такая система как бы выво-
дит государство в лице министерства образования из-под удара
за нарушение Закона об образовании. Однако по сути государство
незримо присутствует на всем протяжении процесса подготовки
и утверждения учебников к печати, потому что, согласно Основ-
ному Закону об образовании 1947 года, руководство школ может
использовать в учебном процессе только те учебники, которые
допущены министерством образования. При этом местные орга-
ны власти выбирают школьные учебники из списка, предложен-
ного и утвержденного министерством образования.
Школьные учебники в Японии, перед тем как быть передан-
ными для утверждения в министерство образования, последова-
тельно проходят следующие основные стадии рассмотрения. Во-
первых, частная издательская компания разрабатывает и передает
для утверждения в министерство проект учебника. В структуре
министерства существует специальный Комитет по одобрению
школьных учебников к печати - «Кёка ёдзусё кэнтэй тёса синги-
кай». В его состав включены профессора университетов и школь-
ные учителя. Они рассматривают содержание учебников в соот-
ветствии с требованиями школьной программы и выносят свое
заключение на предмет «объективности и непредвзятости изло-
женных в них материалов, а также отсутствия в них ошибок по
существу». Министерство образования может вернуть учебник на
доработку в издательство в случае, если в нем будут обнаружены
262
неточности и ошибки, которые несовместимы с государственной
политикой в области образования. На второй стадии, когда изда-
тельство завершает работу по учету всех высказанных Комитетом
министерства образования замечаний и сам учебник утверждается
министерством, местный орган образования на основе имеющих-
ся у него полномочий отбирает по своему усмотрению учебник из
предложенного министерством списка. Процесс переаттестации
школьных учебников в министерстве образования Японии повто-
ряется каждые 4 года.
Ныне действующая государственная система утверждения
учебников, однако, вызывает серьезную критику со стороны тех
либеральных сил, которые убеждены, что государство вычерки-
вает из учебников любой материал, который изображает историю
императорской Японии в негативном ключе. В доказательство
именно такой направленности в действиях министерства они
приводят следующие аргументы. В 1960-е годы министерство
образования изъяло из школьных учебников по истории сюжеты,
описывающие массовые убийства мирного гражданского населе-
ния Китая в ходе «Нанкинской резни» 1937 года, а также вычерк-
нуло другие военные преступления японской военщины в годы
Второй мировой войны. Критики действий министерства в этом
вопросе не раз подавали жалобы в суд и спустя многие годы
выигрывали процессы.
С конца 1990-х годов претензии либералов к министерству
образования в части цензуры содержания школьных учебников
касались его благожелательной позиции в отношении утвержде-
ния школьного учебника по истории, подготовленного членами
«Японского общества по реформе школьных учебников истории».
В этом учебнике авторы делают акцент на изображении достиже-
ний императорской Японии по расширению ее жизненного про-
странства в предвоенные годы, положительно оценивают политику
по созданию «Великой Восточноазиатской сферы сопроцвета-
ния». Оценивая тенденции последнего времени в Японии в отно-
шении пересмотра истории в сторону самовосхваления нации,
американский историк Стефан Амброуз отмечал, что участие
Японии во Второй мировой войне преподносится сегодня япон-
ским школьникам весьма странным образом, а именно по прин-
ципу - «однажды по непонятным причинам американцы сброси-
ли на японцев атомные бомбы»143).
Следует, однако, признать, что министерство образования
Японии автоматически не дает «добро» на издание школьных
учебников по истории, если в них отсутствует упоминание о не-
гативных фактах японской истории, касающихся, в частности,
263
военной агрессии Японии в страны Восточной Азии и жестокости
японских солдат на захваченных территориях в ходе войны.
Пример с учебником по истории, подготовленным в 2005 году
«Японским Обществом реформ школьных учебников истории»,
лишний раз свидетельствует о попытке министерства сбаланиро-
вать свою позицию в процессе утверждения к печати и отойти от
полного отрицания или замалчивания неприглядных фактов япон-
ской истории ради «патриотического воспитания» школьников
исключительно на положительных примерах. Министерство об-
разования разрешило тогда публикацию учебника, но предупре-
дило его авторов о необходимости упоминания в нем историче-
ских событий, в которых японская армия во время Второй мировой
войны выглядела «не лучшим образом» и не была образцом для
подражания для последующих поколений молодежи. Правда,
подача такого рода материалов отставляла желать более подроб-
ного и более объективного освещения144).
Министерство образования всякий раз, когда возникают про-
блемы с освещением в школьных учебниках тех или иных исто-
рических событий, в которых внешняя или внутренняя политика
Японии выглядит негативно, старается привлечь для этой работы
наиболее известных специалистов-историков, чтобы отвести от
себя упреки в предвзятости и необъективности. В период 1960-
1970-х годов было, например, немало дискуссий с участием изве-
стных японских историков на предмет определения объективных
данных о количестве жертв геноцида мирного китайского населе-
ния в результате действий японских солдат на оккупированных
территориях. Это значит, что до выяснения истинных фактов и дан-
ных министерство образования стремилось избегать публикаций
в школьных учебниках фактов, компрометирующих в глазах япон-
ских школьников действия Японии в период войны. И только
тогда, когда в 1990-е годы японские историки пришли к консен-
сусу в оценке числа жертв японской военщины в годы войны на
территории стран Восточной и Юго-Восточной Азии, министер-
ство образования дало согласие на включение данной информа-
ции в школьные учебники по истории.
Японские националисты, парируя критику в свой адрес со
стороны Китая, Южной и Северной Кореи по поводу односторон-
него «переписывания истории», не раз подчеркивали, что власти
самих этих стран жестко контролируют на государственном уров-
не содержание национальных школьных учебников, запрещая их
выпуск частным национальным издательствам. Национальные
министерства образования Китая, Южной и Северной Кореи
издают один-единственный универсальный учебник по истории
264
для всех общеобразовательных школ. На этом основании японские
националисты делают вывод о том, что школьные учебники истории
в этих странах проходят строгую политическую цензуру на пред-
мет изображения национальной истории в положительном клю-
че, а Япония является в этом вопросе «догоняющей» страной145*.
Процедура цензурования школьных учебников по истории
министерством образования Японии дважды - в 1989 и 1999 годах
претерпевала изменения, которые были направлены на упроще-
ние системы контроля, а также на ее большую прозрачность146*.
Сегодня в Японии работает следующая система прохождения
аттестации содержания школьных учебников от составления тек-
ста до издания и передачи учебников в руки учеников. Частный
издатель представляет рукопись учебника в отдел Министерства
образования, отвечающий за выдачу разрешения на публикацию.
Специальный комитет по изучению содержания учебников при
министерстве образования проводит его предварительную экс-
пертизу. После этого составленный комитетом документ переда-
ется в Исследовательский совет по выдаче лицензии на публика-
цию. Профилированные советы детальнейшим образом изучают
содержание школьных учебников и выносят свою рекомендацию
министерству образования - либо разрешить издание, либо его
не рекомендовать к публикации, либо внести изменения. В по-
следнем случае авторам учебника предлагается исправить несо-
ответствующие образовательным стандартам места и только пос-
ле этого вновь пройти процедуру контроля содержания текста
учебника147*. Япония занимает особое место среди промышленно
развитых западных демократий Запада, практикуя весьма стро-
гую систему цензуры за содержанием школьных учебников148*.
Можно привести ряд примеров директивного управления
процессом составления и утверждения школьных учебников по
истории в Японии. В 1955 году широкую огласку получила исто-
рия с вмешательством властей в содержание школьного учебника
по истории, который получил название «Урэубэки кёкасё» (При-
скорбный учебник). Накануне всеобщих выборов в парламент
в феврале 1955 года Демократическая партия выступила с иници-
ативой передать практическую работу по подготовке и изданию
школьных учебников частным издательствам, оставив за мини-
стерством образования лишь функцию контроля за этим процес-
сом. Предлагалось также ограничить число учебников по каждому
предмету школьной программы двумя вариантами при строгом
цензуровании их содержания. Таким образом, государство, пред-
лагая по форме передать издание школьных учебников в частные
руки, по сути оставляло за собой право незримо контролировать
265
процесс издания. На заседании специального Комитета админи-
стративной инспекции палаты представителей японского парла-
мента в июле 1955 года Кадзутомо И сии - член парламента от
Демократической партии уточнил позицию своей партии по воп-
росу издания школьных учебников, предложив запретить публи-
кацию тех учебников, авторы которых не хотят следовать новым
послевоенным демократическим принципам системы образова-
ния в Японии и содержание которых выходило бы за рамки ре-
комендованных для японских школ американскими специалиста-
ми из оккупационных войск демократических норм. В качестве
примера недопустимости дальнейшего использования школьного
учебника по истории в японских школах приводился пример
с учебником «Урэубэки кёкасё», в котором в изобилии были из-
ложены факты тяжелого положения рабочего класса в послевоен-
ной Японии, отмечалась высокая степень его эксплуатации, откро-
венно рассказывалось о негативных сторонах капиталистической
социально-экономической системы Японии. В учебнике также
содержался материал, открыто пропагандирующий преимуще-
ства социалистической модели воспроизводства, которая дейст-
вовала в то время в СССР и КНР.
С августа по октябрь 1955 года руководство Демократической
партии Японии выпустило фундаментальное трехтомное исследо-
вание, в котором содержался подробнейший анализ содержания
учебника по истории «Урэубэки кёкасё». Особенно резкой кри-
тике подверглись сюжеты, опубликованные в учебнике для сред-
ней школы под названием «Общество» (Иппан сякай) под редак-
цией Мияхара Сэйити, которое вышло в издательстве «Дзиккё
сюппан». Критике также подвергся учебник «Общественное раз-
витие» (Сякай-но сикуми) под редакцией Мунаката Сэйя, вы-
пущенный издательством «Кёику сюппан». Возмущение анали-
тиков из Демократической партии Японии вызвало подробное
описание в учебнике нечеловеческих условий труда рабочего
класса в послевоенной Японии. В учебнике по социальным на-
укам для учеников 6 класса средней школы под редакцией Сюго
Хироси «Светлое будущее» (Акаруй сякай), изданном издатель-
ством «Тюукё сюппан», подробно описывались преимущества
социалистического строя в СССР и КНР и осуждалась капитали-
стическая система в Японии. Критике также подверглись школь-
ные учебники, в которых подробно описывались основы марксиз-
ма-ленинизма и научного коммунизма. С этих идеологических
позиций был написан школьный учебник по социальным наукам
под редакцией Осада Арата «Образцовые общества» (Мохан сякай),
изданный издательством «Дзиккё сюппан».
266
Власти Японии в лице руководства Демократической партии
резко осудили тогда содержание школьных учебников с несанк-
ционированной тематикой, охарактеризовав их как «красные
учебники» - «акай кёкасё». В ответ на критику авторы учебников
подали официальный протест. Однако партийное руководство
предпочло тогда не вступать в открытую полемику с авторами
«красных учебников» и привлекать тем самым общественное
внимание к самому вопросу. Дело было «спущено на тормозах».
После тех событий правительство официально запретило публи-
ковать любые школьные учебники с «сомнительным содержа-
нием» (хэнко). Строгой цензуре стал подвергаться каждый тре-
тий школьный учебник. Под давлением националистических сил
министерство просвещения, воспользовавшись ситуацией с «крас-
ными учебниками», потребовало изъятия из школьных учебни-
ков по истории вообще всех критических замечаний о роли Япо-
нии в войне на Тихом океане, а также об ее участии во второй
японо-китайской войне 1937-1945 гг.149)
В 1956 году прошла вторая волна чисток школьных учебников
на предмет исключения из них «нежелательных материалов». Она
прошла сразу после изменений в составе членов Комитета по
авторизации школьных учебников министерства образования
(«Кёка ёдзусё кэнтэй тёса иинкай») в сентябре 1956 года. Резуль-
татом «чисток» стал отзыв из издательств шести уже набранных
в типографии учебников, что было намного больше, чем в преды-
дущих случаях. До 1956 года в составе комитета по авторизации
было 5 секций, каждая из которых обозначалась буквами латин-
ского алфавита от А до Е. Однако в 1956 году в состав комитета
была включена еще одна секция, которой был присвоен индекс
«F» и которая имела право изымать нежелательные для властей
учебники прямо из частных издательств. Ответственность за цен-
зуру шести изъятых секцией «F» учебников взял на себя ее сотруд-
ник, профессор Университета Нихон - Ивао Такаяма. Этот слу-
чай, названный впоследствии «чисткой секции F» (Ф-ко паадзи),
также получил широкий общественный резонанс.
Последующие цензурные чистки школьных учебников не раз
практиковались в период 1965-1997 гг. Именно в это время про-
ходил суд, истцом в котором выступил профессор Токийского
университета Иэнага Сабуро, а ответчиком — министерство обра-
зования Японии. Сабуро Иэнага - известный в Японии ученый-
историк, прославившийся на ниве переписывания школьных учеб-
ников истории еще в первые послевоенные годы, когда в 1953 году
министерство просвещения Японии опубликовало школьный
учебник по истории под его редакцией. Однако именно тогда, как
267
бы спохватившись, оно потребовало по цензурным соображениям
изъять из учебников материалы, освещавшие военные преступле-
ния японской армии в годы Второй мировой войны. Иэнага как
редактор учебника обратился в суд на министерство просвещения
за нарушение его авторских прав и посягательство властей на
свободу мнений и выиграл процесс. В 2001 году он был номини-
рован на Нобелевскую премию вместе с Ноамом Чонски, амери-
канским лингвистом-теоретиком, известным за свои исследова-
ния в области порождающей грамматики. Чонски протестовал
против войны США во Вьетнаме и в Персидском заливе150).
В июне 1982 года работа государственной системы контроля
за содержанием школьных учебников по истории вновь стала
объектом внимания общественности. Газета «Асахи», одна из трех
крупнейших японских газет, опубликовала тогда сообщение о том,
что министерство просвещения Японии потребовало объяснений
от составителей школьного учебника по истории по поводу «не-
правомерного» использования термина «агрессия» (синряку) вме-
сто термина «продвижение» (синко) применительно к военной
агрессии Японии в Китае и в странах ЮВА в годы Второй миро-
вой войны150. На эту лингвистическую придирку министерства
образования Японии незамедлительно последовала жесткая ре-
акция китайской стороны, выдвинувшей решительный протест
против такой интерпретации исторических событий.
Японская сторона попыталась смягчить недовольство Пеки-
на. В ответ на китайскую ноту протеста от 26 августа 1982 г. Киити
Миядзава (в то время глава секретариата премьер-министра)
сделал следующее заявление: «Японское правительство и япон-
ский народ хорошо осведомлены о событиях, которые имели
место в прошлом и которые принесли страдания народам стран
Восточной и Юго-Восточной Азии, включая народы Южной
Кореи и Китая. После войны Япония выбрала мирный путь раз-
вития и твердо заверила, что никогда больше не повторит ничего
подобного. Япония признала в совместном Японо-южнокорей-
ском коммюнике от 1965 года, что прошлые отношения вызывают
сожаление, и Япония испытывает угрызения совести. В Японо-
китайском совместном коммюнике также было подчеркнуто, что
Япония сознает чувство глубокой ответственности за серьезный
ущерб, который она принесла в прошлом китайскому народу в
годы войны и себя за это корит. Эти признания японской стороны
свидетельствуют о том, что извинения за прошлое распростра-
няются и на сегодняшний день. И в такой позиции Японии не
произошло никаких изменений». Миядзава также подчеркнул
тогда в своем обращении, что «дух совместных заявлений Японии
268
с Южной Кореей и КНР соблюдается и в процессе подготовки
школьных учебников по истории. Однако власти Китая и Респуб-
лики Корея критикуют Японию за попытки «переписать» и при-
украсить историю. В целях сохранения дружеских отношений и
отношений доброй воли между нашими странами правительство
Японии обещает внимательно следить за трактовкой исторических
событий прошлого и в случае необходимости вносить поправки»152*.
В своем заявлении Миядзава одновременно подтвердил, что
в будущем правительство пересмотрит основные принципы конт-
роля за содержанием школьных учебников, но сделает это только
после завершения работы по вопросам освещения истории в школь-
ных учебниках в Комитете по авторизации и исследованиям
министерства образования. Что же касается содержания учебни-
ков, которые уже вышли и используются школьниками в учебном
процессе, то правительство примет меры по исправлению ситу-
ации и подготовит соответствующие документы. Япония полна
решимости сохранить взаимное понимание и развивать друже-
ские отношения сотрудничества со всеми соседними странами,
внося тем самым вклад в мирное и стабильное развитие в Азии
и во всем мире153*.
В ноябре 1982 года министерство просвещения одобрило об-
новленный список критериев при редактировании школьных
учебников по истории, исключавший появление протестов со
стороны соседей Японии по восточноазиатскому региону. Инст-
рукция министерства, в частности, гласила: «...содержание учеб-
ников должно демонстрировать понимание и международную
гармонию в освещении исторических фактов и современных исто-
рических событий, в которых задействованы соседние с Японией
страны»154*.
Нельзя не отметить, что позиция министерства образования
в вопросах цензуры содержания школьных учебников по истории
всегда находилась под пристальным вниманием националистиче-
ских организаций страны и в первую очередь «Японского общества
по реформированию учебников истории», которое в 2000 году
подготовило школьный учебник по «Новой истории» (Атарасий
рэкиси кёкасё), заявив, что оно намерено предложить японским
школьникам «новый и правильный» взгляд на историю своей
страны. В учебнике не освещались негативные стороны японской
военной агрессии в страны Восточной Азии в годы Второй миро-
вой войны а, напротив, приукрашивались действия Японии в Азии
в ходе первой японо-китайской войны, в период аннексии Япо-
нией Кореи в 1910 году, в период второй японо-китайской войны
в 1937-1945 гг. Учебник был одобрен министерством просвеще-
19-5584
269
ния в 2001 году, что, естественно, вызвало большой переполох как
в самой Японии, так и в соседнем Китае и Корее. Многие япон-
ские ученые-историки также выразили тогда решительный про-
тест против публикации данного учебника, подчеркивая, что
«правительство КНР и китайский народ сильно возмущены со-
держанием нового школьного учебника по истории Японии.
Китай будет протестовать против того, чтобы школьные учебни-
ки по истории в Японии составлялись откровенными национали-
стами»155).
. В результате большого общественного резонанса, по данным
на 15 августа 2001 г., учебник был использован лишь в ограни-
ченном числе японских школ второй ступени (по данным самого
Общества - в восьми частных школах, трех государственных
и в пяти государственных школах для детей с врожденными дефек-
тами развития в преф. Эхимэ)156). Тем не менее в 2005 году в знак
протеста против его публикации антияпонские демонстрации
прокатились по многим городам Китая и Южной Кореи.
Основной закон об образовании был принят в 1947 году, т.е.
в период американской оккупации Японии. Он был написан под
диктовку США и потому всегда являлся сильным «раздражителем»
для националистических кругов Японии. Начиная с 1950-х годов
они предпринимали различные попытки внести в него корректи-
рующие поправки и даже пересмотреть, приблизив к японским
реалиям, но только к началу XXI века удалось сдвинуть дело с
мертвой точки и на обсуждение в Парламент были внесены кон-
кретные поправки в текст Основного закона об образовании157).
В 2000 году Национальный комитет по реформам в сфере
образования предложил «усовершенствовать патриотическое
воспитание» в японской школе и, в частности, внести изменения
в содержание школьных учебников по истории с учетом «новых
требований по усилению патриотического воспитания» японской
молодежи. Такого рода рекомендации Комитета, однако, были
расценены идеологическими оппонентами японских национа-
листов как весьма тревожные, а японские либералы усмотрели
в них намерение вернуться к довоенной модели школьного обра-
зования.
14 ноября 2002 г. министерство образования Японии передало
в правительство свои выдержанные в том же духе предложения
об изменении «Закона об образовании 1947 года» в пользу уси-
ления преподавания в японской школе основ патриотизма. Такие
изменения, по мнению министерства, необходимо было внести
для того, чтобы японская школа готовила молодежь, способную
защищать национальные интересы Японии в обострившейся кон-
270
курентной борьбе в мире, молодежь, готовую любить свою Роди-
ну и японскую нацию. При этом подчеркивалось, что действую-
щий закон делал слишком большой акцент на формировании
у японской молодежи либеральных демократических ценностей,
пропагандировал равенство граждан и права человека и забывал
при этом, что главным в воспитании всегда должно оставаться
чуство преданности своей Родине158*.
В контексте усиления париотического воспитания в японской
школе в марте 2003 года Национальный комитет по реформам
в сфере образования опубликовал подготовленный им доклад
о «Новом фундаментальном Законе об образовании и базовых
планах по реформированию системы образования, отвечающих
требованиям времени». Среди многих рекомендаций в нем была
также высказана забота о необходимости «формирования у япон-
ской молодежи чувства гражданской отвественности, уважения к
национальным традициям и культуре, чувства любви и уважения
к Родине, к своему дому»159*.
Всеяпонский профсоюз учителей «Дзэкё» также поддержал
необходимость реформы школьного образования в Японии, одна-
ко счел важным отметить, что целью реформы должно стать не
столько формирование у японской молодежи новой национали-
стической системы ценностей, как это предлагают националисты,
сколько, в первую очередь, укрепление морали, ориентация мо-
лодежи на сохранение традиционных японских ценностей.
В марте 2008 года министерство образования Японии опубли-
ковало пересмотренные руководящие принципы в области обра-
зования для начальной и средней школы. В директиве, опреде-
лявшей цели школьного образования, в частности, отмечалось:
«Нравственное образование должно быть нацелено на воспита-
ние у молодежи чувства уважения к японским традициям и куль-
туре, чувства любви к своей Родине, которая их вырастила, а также
должно быть направлено на укрепление морали». Новые руково-
дящие принципы министерства образования обязывают учащих-
ся школ исполнять национальный гимн «Кими га ё» - «Царство-
вание императора» во всех шести классах начальной школы
(сёгакко), делая упор на обязательное знание школьниками тек-
ста гимна. Это стало новым требованием, более жестким по срав-
нению с предыдущим документом, так как в проекте руководя-
щих принципов от февраля 2008 года школьникам предлагалось,
по возможности, быть только знакомыми со словами националь-
ного гимна. Министерство образования заявило тогда, что оно
внесет изменения в проект Закона после учета всех пожеланий
общественности, а также принимая во внимание концепцию пе-
:9*
271
ресмотренного «Основного закона об образовании» и результаты
его обсуждения в парламенте, мнения позиций всех политических
партий.
В рамках повышения уровня патриотического воспитания
внимание японских националистов обращено также и на углуб-
ленное знание японской литературы в начальной школе. Согласно
руководящим принципам в области образования от марта 2008 года,
повышенное внимание в школе должно быть обращено на изучение
«народных сказок и мифов, а также легендарных историй Япо-
нии». Надо отметить, что в прежней редакции закона об образо-
вании обязательное изучение в школьной программе по японской
литературе «японских мифов» просто отсутствовало. Знакомство
с народным фольклором по Закону об образовании 1947 года
ограничивалось лишь рекомендациями о включении в программу
по литературе уроков по «изучению народных сказок и легендар-
ных историй».
В поле зрения японских националистов находится также и на-
чальная школа. Так, например, они считают, что преподавание
«обществоведения» (сякай) в начальных классах японской шко-
лы, в соответствии с пересмотренными руководящими принципа-
ми, должно «побуждать учащихся задумываться о проблемах
национальной безопасности и обороны страны от внешней угро-
зы, а также о важности усилий по поддержанию стабильности
в мире». Новые принципы обучения призывают японских учите-
лей вести занятия с учетом «разъяснения школьникам нацио-
нальных интересов Японии, а также основ национальной религии
Синто». Старый закон об образовании требовал от учителей лишь
обучения школьников «принятию справедливых решений». Ми-
нистерство образования довело до сведения всех директоров
школ, что окончательный переход на новые требования в началь-
ной школе произойдет в Японии в 2011-м учебном году, а в сред-
них (тюгакко и котогакко) - в 2012 году160).
Медленно, но верно японские националисты утверждают свои
принципы в японской системе школьного образования. Идеи
патриотического воспитания молодежи получили широкую под-
держку в обществе. В 2005 году националисты из «Цукуру кай»
запустили очередную кампанию, требуя более широкого по стра-
не распространения в школах «Нового учебника по истории».
Важным конкретным результатом их настойчивых усилий
можно считать восстановление в японских школах довоенных
уроков морали. 25 апреля 2006 г. правительство Японии утверди-
ло измененный Закон об образовании 1947 года, окончательно
вернув в программу средней школы «уроки морали» - дотоку.
272
Обучение морали происходит по новому учебнику под поэтиче-
ским названием «Тетрадь для сердца» (Кокоро-но ното), подго-
товленного и выпущенного министерством образования.
«Моральное воспитание» школьников - сэйсин кёику, кото-
рое преподавалось в довоенный и военный периоды в японской
школе, было запрещено оккупационными войсками после войны.
Однако послевоенное правительство не могло полностью отка-
заться от уроков морали в японской школе, несмотря даже на то,
что Всеяпонский союз учителей выступил тогда категорически
против. Тем не менее, уже в 1958 году правящая ЛДП провела
через парламент решение о повсеместном преподавании уроков
морали в японской школе в объеме одного академического часа
в неделю в начальной и средней школе. Учебников «по морали»,
которые были бы официально утверждены министерством обра-
зования, тогда еще не было, однако были подготовлены многочис-
ленные учебные пособия и методические разработки в помощь
учителям по преподаванию данного предмета.
Как только уроки морали были восстановлены в школьной
программе, они стали предметом ожесточенных споров между
правыми и левыми политическими силами в обществе. Правые,
по большей части националисты, традиционно высказывали со-
жаление о том, что у послевоенной молодежи формировался
дефицит патриотического воспитания. Реформа образования
конца 1990-х - начала XXI века как раз и была направлена на
повышение этого уровня.
Опасаясь критики со стороны либералов и демократической
общественности за возвращение в японскую школу уроков мора-
ли, министерство образования Японии подстраховало себя. Оно
официально заявило о том, что данный предмет преподается в
школе не по специально написанным и утвержденным учебни-
кам, а всего лишь по методическим пособиям. При этом мини-
стерство провело социологический опрос среди школьников и их
родителей на тему о целесообразности проведения таких уроков,
а также использования для этого учебной литературы. Большин-
ство опрошенных положительно ответило на вопросы анкетиро-
вания, что существенно укрепило позиции министерства в этом
вопросе161).
Тем не менее учебник по морали «Кокоро-но ното» в форме
учебного пособия представляет собой вполне законченный труд.
Он состоит из 4-х частей. Части 1-3 предназначены для учеников
начальной школы с 1-го по 6-й класс, а 4-я часть - для учеников
средней школы первой ступени с 7-го по 9-й класс. Учебник имеет
единый формат, а его содержание усложняется по мере взросле-
273
ния школьника. Каждый учебник содержит 4 главы в соответ-
ствии с основными аспектами новой программы преподавания
«морали» в школе, утвержденной министерством образования
в 2002 году Первый раздел каждого учебника содержит принци-
пы «морального» поведения индивидуума, второй - развивает эти
приципы в отношениях с другими членами общества, третий раз-
дел содержит правила отношения человека к природе и к окру-
жающему миру, и наконец, четвертый - правила поведения в кон-
кретном социуме.
Составители учебника дают свое толкование наиболее часто
употребляемым понятиям в тексте. Так, например, понятие «лич-
ность» трактуется в рамках конкретной индивидуальности, которая
реализует свои мечты и поставленные в жизни цели, стремится
к успеху, к самоусовершенствованию, берет на себя ответствен-
ность за свои поступки и т.п. Понятие «другие члены общества»
включает в себя, по мнению авторов учебника, умение личности
строить отношения с другими членами общества, учитывать их
интересы, понимать и правильно реагировать на их запросы, учит
толерантности в отношениях с другими членами общества. Поня-
тие «природы и добродетели» включает в себя размышления о
жизни и смерти. Понятие «группа и общество» означает овладе-
ние навыками социального поведения японца в обществе, навы-
ками, которые, в свою очередь, предполагают его полезность как
члена сообщества, знание своих прав и обязанностей, направлен-
ных на создание честного и справедливого общества без предрас-
судков и дискриминации, общества, в котором приоритетом яв-
ляется институт семьи, школы, родного города, страны и даже
целого мира162). В новом учебнике много иллюстраций и фило-
софских цитат, типа: «я сам хочу решать свои проблемы - дзибун-
но кото ва дзибун дэ кимэтай»163). В учебнике много пустых стра-
ниц, специально отведенных для записей учениками своих
мыслей и оценок окружающей действительности, комментариев
по содержанию учебника.
Несмотря на то, что по ряду аспектов новый учебник по мо-
рали оказался более удачным вариантом по сравнению с предше-
ствующими аналогичными изданиями, он не избежал некоторых
противоречивых оценок и недостатков. Во-первых, данный учеб-
ник не прошел стандартную процедуру цензуры и корректуры в
министерстве образования, которую обычно проходят все учеб-
ные материалы. Во-вторых, его содержание местами напоминает
утвержденный властями перед Второй мировой войной учебник
по морали «Кокутэй кёкасё»1б4). Критики увидели в нем современ-
ный ремейк довоенного и военного издания учебника по морали -
274
«Сюсин»165). В-третьих, самым настораживающим аспектом, со-
гласно мнению критиков, является метод составителей «контро-
лировать детское сознание». Специалисты по детской психоло-
гии признают, что работа в этой области была проведена весьма
аккуратно и квалифицированно с использованием тщательно
продуманного и отобранного лексического ряда166*.
Наиболее сложными для освещения вопросами в новом учеб-
нике по морали оказались темы, связанные с «отношением лич-
ности к группе и к обществу». Дело в том, что именно эти отно-
шения влияют на формирование патриотического сознания.
Исследователь данной проблемы профессор социологии Токий-
ского университета А. Миякэ обратил внимание на одну страницу
нового учебника, озаглавленную «Любовь к своей стране и жела-
ние ее процветания» - вага куни-о айси, сонно хаттэн-о нэгау».
На ней изображена Япония, к слову сказать, с включенными в ее
границы российскими Южно-Курильскими островами, представ-
ленная фотографиями с четырьмя красочными временами года.
Из'подобранного к фотографиям текста школьники узнают, что
в «стране Япония» каждое из четырех времен года «прекрасно по-
своему». И поэтому так естественно любить такую страну, жить
в ней и желать ей вечного процветания»167*.
Школьнику, пользующемуся на уроках морали данным учеб-
ником, упорно внушается мысль о том, что «любить одну страну -
Японию» - это не значит узко смотреть на мир. Если человек
любит Японию, то это означает, что он также способен любить
и весь мир168*. Японский детский психолог Такахаси, однако,
критически оценивает некоторые пассажи учебника по морали,
особенно для 3-го и 4-го года обучения. Он, например, считает,
что использование в тексте учебника термина «куни» в значе-
нии «страна» несет в себе двусмысленность, так как это может
быть местом рождения и/или родным городом или страной,
в зависимости от контекста. У него вызывает также недоумение
утверждение о том, что любовь человека к своей семье, к своему
дому должна распространяться и на свою школу, местную об-
щину, родной город, свою страну. Правда, последнее, по мнению
Такахаси, «является вполне естественным и здоровым явле-
нием»169*.
Появление на свет учебника по морали имеет свою историю.
Работа над его составлением началась еще в марте 1995 года, когда
после террористической атаки «Аум синрикё» в парламенте и в сте-
нах министерства образования начались бурные дискуссии о при-
чинах подобных инцидентов в японском обществе, когда одни
японцы «хотели смерти другим японцам». Масло в огонь дискус-
275
сий подлил также случай, происшедший в 1997 году, когда жестоко
был убит 14-летний школьник. Общество тогда сильно всколых-
нулось, а политики и чиновники были вынуждены реагировать
на резкое падение уровня морали в молодежной среде, связан-
ное с разрушением традиционной системы ценностей. Тогда
раздавались громкие призывы к принятию властями срочных
мер по повышению уровня морального воспитания подрастаю-
щего поколения, формированию молодежи со здоровой психи-
кой в широком смысле слова (кокоро-но кёику - воспитание
души)170*. Создание нового учебника по морали на этот раз было
поддержано уже не только националистическими силами, ко-
торые традиционно выступали за переписывание учебников по
истории и морали, но и широкими кругами японской общест-
венности.
Японские консерваторы из числа лидеров ЛДП также предла-
гали усилить внимание к преподаванию уроков морали в школах.
Большую активность в этом направлении проявлял Накасонэ
Хирофуми - сын известного политического деятеля начала
1980-х годов Ясухиро Накасонэ, а также его соратники по ЛДП -
Кавамура Такэо, Камэй Икуо и ряд других видных японских
политиков, которые открыто призвали к подготовке нового учеб-
ника по морали и его повсеместному распространению в япон-
ских школах170. Руководство и многие члены Общества «Цукуру
кай» и «Ниппон кайги» также поддержали планы по пересмотру
системы морального воспитания японской молодежи одновре-
менно с внесением поправок в Закон об образовании. Большую
роль в положительном решении этого вопроса сыграла «Ассоци-
ация в защиту основ образования»172*.
Проверить эффективность политики властей по воспитанию
патриотизма и здорового национализма можно будет спустя не-
сколько лет, когда молодые японцы, освоив учебники по морали
и новой истории Японии, сами будут определять, по какому пути
следует идти Японии в XXI веке173*.
В этой связи особого внимания заслуживают усилия японских
националистов по патриотическому воспитанию и формированию
«правильного» мировоззрения у японских военнослужащих, за-
щитников Отечества, а также у слушателей военных академий
и других военных учебных заведений страны. В этом вопросе по-
казательна деятельность националистов по переписыванию учеб-
ников истории Японии для слушателей Национальной академии
обороны Японии. Она подтверждает серьезность планов правя-
щей элиты Японии окончательно встать на путь пересмотра не-
выгодных для Японии итогов Второй мировой войны, переписать
276
мирную Конституцию 1947 года и «переформатировать» Японию
в «нормальное государство». Дело доходит до того, что слушатели
Национальной Академии обороны Японии сегодня изучают исто-
рию Второй мировой войны по учебникам, в которых концепту-
ально война характеризуется как «столкновение Японии со стра-
нами Запада в целях самообороны»174*. Учебник, по которому
слушатели Академии изучают историю, называется «Введение
в стратегические исследования». Он предназначен для слушате-
лей военной академии по курсу «Теория самообороны». Учебник
был подготовлен преподавателями Национальной академии обо-
роны Японии и рекомендован для обучения в марте 2007 года,
т.е. в период нахождения у власти видного японского национали-
ста Абэ Синдзо.
Учебник истории для военных академий весьма своеобразно
трактует причины возникновения Второй мировой войны. В нем,
в частности, подчеркивается, что «решения Версальской мирной
конференции по итогам Первой мировой войны наложили жест-
кие политические и военные ограничения на Германию, обвинив
ее в развязывании войны в Европе. Было очевидно, что рано или
поздно германский национализм захочет взять реванш. Волна
национализма перебросилась из Германии на другие европейские
страны, включая Италию, Испанию, а также и на Японию. Эти
обстоятельства оправдывают оборонительные войны, которые
вели нацистская Германия и японское военное руководство про-
тив своих обидчиков и стратегических противников»175*.
Учебник трактует войны, в которых участвовала Япония
в XIX и XX вв., исключительно как войны оборонительные, а со-
бытия, им сопутствующие, названы в терминах, которые исполь-
зовались в довоенной Японии. Так, в разделе «История войн,
которые вела Япония», прямо отмечается, что все войны, которые
вела Япония после реставрации Мэйдзи в 1868 году, включая япо-
но-китайскую, русско-японскую, Первую мировую войну и войну
на Тихом океане, называемую в учебнике «войной за Великую Во-
сточную Азию», имели целью защитить Азию от колониального
порабощения со стороны европейских держав, что представляло
собой прямую угрозу национальным интересам Японии.
Эти идеи официально озвучивал генерал японских ВВС Та-
могами Тосио, получивший широкую известность как в самой
Японии, так и за ее пределами. Он подчеркивает, что «Япония
никогда в своей истории не вела агрессивных войн, а вела войны
только в интересах самообороны. В этой связи содержание учеб-
ных программ по истории в Академии национальной обороны
Японии нуждается в серьезной корректировке»176*. Столь откро-
277
венные ультранационалистические высказывания и оценки в со-
временной Японии позволяют себе не только действующие гене-
ралы японской армии. Их взгляды разделяют и получают поддерж-
ку со стороны таких видных японских политиков, как, например,
премьер-министр Японии Йосио Мори и Абэ Синдзо. Последний
лично в марте 2007 года назначил генерала Тамогами на пост
главнокомандующего японскими ВВС, охарактеризовав его весь-
ма положительно.
Из всего массива международных исторических событий,
в которых Япония принимала участие после реставрации импе-
раторской системы правления в 1868 году, наибольшее внимание
у японских националистов в плане «переписывания истории»
привлекают к себе несколько проблем. Американский исследова-
тель Ян Бурума подчеркивает, что японский национализм дей-
ствительно имеет ряд «запретных тем», которые лишний раз не
стоит бередить в массовом сознании современных японцев. Од-
ной из них, по мнению Бурума, является «Нанкинская резня»
1937 года. Это событие, как пишет Бурума, обычно преподносит-
ся современными европейскими и американскими историками
как символ жестокости солдат японской армии по отношению
к мирным китайцам в годы Второй мировой войны. Однако, по
его мнению, - «это всего лишь мифологические страницы исто-
рии Второй мировой войны, аналогичные описанию немецкого
лагеря смерти Освенцим или трагедии атомной бомбардировки
Хиросимы и Нагасаки». Вторя японским националистам, Бурума
подвергает сомнению массовый характер гибели китайцев в ходе
событий в Нанкине в 1937 году, упирая на отсутствие достовер-
ных сведений о количестве жертв трагедии177*.
Эти выводы американского историка на ура подхватывают
и японские националисты. Фудзиока Нобукацу, опираясь на ряд
источников, вообще выдвигает смелое предположение, что как
таковых «Нанкинских событий» не было, т.е. не было массовых
убийств мирных китайских граждан в городе Нанкин в 1937 году
солдатами японской императорской армии178*. Фудзиока и его
сторонники были вдохновлены исследованиями иностранных ав-
торов, отрицающих факты «Нанкинской резни». Это в полной
мере относится к книге американского историка Айрис Чанг
«Нанкинская резня», опубликованной в 1997 году, которая доба-
вила аргументов японским националистам сомневаться в правди-
вости событий в Нанкине. На основании такого рода исследо-
ваний японские националисты заявляют, что упреки в адрес
японских солдат как нелюдей, истязавших и убивавших в мас-
совом количестве мирных китайских граждан, не состоятельны
278
и сделаны врагами японской нации179*. Однако профессор уни-
верситета Джорджа Вашингтона Дацин Янг обнаружил в иссле-
довании Айрис Чанг многочисленные ошибки и неточности и,
в свою очередь, подверг сомнению ряд фактов, изложенных в ее
книге180*.
Впрочем, разоблачения любого рода не останавливают нацио-
налистов. Их усилиями, например, была организована телевизи-
онная передача под названием «Правда о Нанкинской резне в Китае
не есть правда», о которой уже говорилось выше. Авторы переда-
чи публично выразили недоверие содержанию известного исто-
рического памятника того времени - «Дневника Джона Рабэ»,
германского бизнесмена, оказавшегося в 1937 году в Китае и став-
шего очевидцем тех трагических событий, которые он подробно
описал в своем дневнике. Тогда автору дневника удалось спасти
от рук японских солдат около 250 тыс. мирных китайцев, которых
он защитил от имени гитлеровской Германии, будучи членом на-
ционал-демократической партии и организатором «Нанкинской
зоны спасения» - убежища для жителей города181). В телевизион-
ной передаче японские журналисты изо всех сил старались выя-
вить противоречия и исторические несоответствия в тексте днев-
ника Рабэ с документами, оставленными японскими военными по
горячим следам тех событий, делая это тенденциозно и необъек-
тивно, явно стремясь не выходить за рамки «националистическо-
го заказа» авторов передачи182*.
Другой запретной темой, осложняющей патриотическое вос-
питание японской молодежи, японские националисты считают
проблему «комфортных женщин» в японской армии. Они убеж-
дены, что проблемы такого рода не должны вообще затрагиваться
в школьных учебниках по истории, ибо они серьезно компроме-
тируют доблестных солдат японской армии. В апреле 1997 года
Фудзиока и его последователи официально высказались в пользу
пересмотра вопроса «о комфортных женщинах» в японской им-
ператорской армии в годы Второй мировой войны и потребовали
исключить его из школьных учебников по истории, так как сохра-
нение в них данной темы нанесет серьезный моральный ущерб
воспитанию молодежи и даже может привести к «духовной де-
зинтеграции общества»183*.
Приводимые националистами аргументы в пользу полного
изъятия данного вопроса из школьных учебников сводятся к тому,
что в составе японской императорской армии вообще не было
подразделений, которые назывались бы «комфортными женщи-
нами» (дзюгун нанфу), и их присутствие можно сравнивать разве
что «с наличием буфета в здании Министерства образования
279
Японии», из чего должно следовать, что никаких легально узако-
ненных «публичных домов» в армии не было вовсе184*.
В 2007 году бывший министр образования Японии Нариаки
Накаяма официально заявил по этому поводу, что испытывает
чувство гордости за то, что правящая ЛДП наконец приняла
решение об изъятии из школьных учебников истории для средней
школы материалов, затрагивавших проблему «сексуальных ра-
бынь» в императорской армии в период Второй мировой войны.
«Наша кампания за очищение национальной истории от переска-
зов неприятных сюжетов увенчалась успехом, и японское обще-
ство поддержало власти в этом вопросе», - подчеркивал Нариаки
Накаяма185*. Нариаки особо подчеркивал, что в электронных
письмах, обращенных к нему как к министру образования, было
немало писем, авторы которых писали, что «женщины Азии долж-
ны гордиться тем, что они были «комфортными женщинами»
солдат японской императорской армии»18®*.
Японские националисты не устают повторять, что «комфорт-
ные женщины» в японской армии не были рекрутированы по
принуждению, что они были обычными проститутками и что заня-
тие проституцией было узаконено в предвоенные годы в Японии.
Японские националисты убеждают японскую общественность
в том, что молодое патриотическое поколение японцев не обяза-
тельно должно быть посвящено в такого рода детали военного
времени, учитывая их юный возраст. Современные японские
СМИ не должны ежедневно муссировать эту темы и демонстри-
ровать оставшихся в живых представительниц «комфортных жен-
щин» военных лет на экранах телевидения.
В июне 2007 года министерство просвещения Японии издало
специальный указ, предписывавший полное изъятие из школь-
ных учебников описания случаев принуждения гражданского
населения к самоубийству во время Второй мировой войны187*.
Речь шла о жителях острова Окинава во время Второй мировой
войны. Об этом широко стало известно в июне 2007 года, когда
Законодательное собрание префектуры Окинавы официально об-
ратилось с просьбой к министру просвещения отозвать министер-
ские инструкции с требованиями изъять из учебников по истории
разделы с описанием роли японской армии в массовом принуж-
дении жителей Окинавы к самоубийствам в 1945 году188*. В конце
сентября 2007 года более 100 тыс. жителей Окинава выступили
с протестом, требуя сохранить в школьных учебниках подобного
рода факты. Протестные действия приняли настолько масштаб-
ный характер, что их сравнивали даже с событиями 1972 года,
когда под давлением жителей острова американские власти вер-
280
нули Окинаву под японскую юрисдикцию. В сентябре 2007 года
губернатор Окинавы Хирокадзу Накаима выступил перед собрав-
шимися с речью, эмоционально напомнив жителям острова о том,
что поведение японских солдат на острове во время Второй миро-
вой войны приводило к массовым самоубийствам гражданского
населения и что забывать об этом сегодня просто недопустимо
и аморально189*.
Надо признать, что чем больше в японском обществе разго-
раются дискуссии вокруг реформы образования и внесения из-
менений в тексты школьных учебников, тем более очевидной ста-
новится преобладающая тенденция усиления патриотического
воспитания в японской школе. Сегодня мы наблюдаем объедине-
ние усилий - во имя этой цели - всех ведущих националистических
организаций Японии, включая общества «Цукуру кай» и «Ниппон
кайги», со сторонниками принятия нового Закона об образова-
нии, за который выступают депутаты парламента от ЛДП, а также
представители государства в лице руководства министерства
образования.
Либеральная критика расценивает эти действия как неконсти-
туционные и подчеркивает, что они вызывают серьезную оза-
боченность не только в странах - жертвах японской военщины,
но и внутри самой Японии со стороны демократической обще-
ственности страны190).
Все еще работающие учителя - участники войны, например,
не скрывают своего раздражения директивой министерства обра-
зования по поводу построения школьников для поднятия нацио-
нального флага «Хиномару» и исполнения гимна «Царствование
императора». Эти учителя все еще хранят в памяти милитарист-
ское прошлое страны. Не всегда принимается во внимание мнение
учителей, родителей, да и самих школьников по этим вопросам.
Однако попытки противников «переписывания истории»,
в частности, объединенных в либеральное Общество «Учебники 21»,
также нельзя признать эффективными. Вопреки новой волне
национализма они робко пытаются организовать протестное дви-
жение, призывают не принимать в школах для преподавания
истории «Новый учебник истории», составленный националисти-
ческим обществом «Цукуру кай». Противники изменений увере-
ны, что вслед за поправками к Закону об образовании произойдут
изменения Статей 19, 21, 23 и 26 самой Конституции191). Однако
призывы либералов тонут в море националистической пропаган-
ды, получившей широкое распространение в последние годы192).
Действительно, развернувшаяся с конца XX века в японском
обществе кампания в поддержку издания нового учебника по
281
морали, равно как и нового учебника по истории, стала важным
этапом не только на пути к пересмотру Закона об образовании
1947 года. Ее следует рассматривать как составную часть общих
усилий японских националистов по запуску процедуры пересмот-
ра японской мирной конституции 1947 года.
Борьба вокруг конкретного содержания школьных учебников
по истории и морали - это всего лишь один из аспектов проблемы
японского национализма сегодня. Более сложной для властей
задачей в области воспитания молодежи остается задача опреде-
лить, какой Япония будет завтра. Если японские националисты
преследуют цель воссоздать «красивую историю» для Японии,
то их противники из либерального лагеря больше озабочены тем,
что японские националисты тянут страну назад, ослабляя ее со-
зидательный потенциал, а главное - разрушая основы после-
военных демократических завоеваний.
Вместе с тем, очевидно, что обе стороны идеологического
противостояния заинтересованы в одном - содействовать тому,
чтобы Япония сумела выжить в новой, крайне нестабильной
системе международных отношений, переполненной разного рода
угрозами и кризисами. В этом заботы и японских националистов,
и их противников из лагеря либералов совпадают. Но их разъ-
единяют методы и подходы к решению проблемы будущего, про-
блемы выживания Японии.
Пребывание во власти консервативных, националистических
политических сил работает на усиление позиций японских нацио-
налистов. Но даже сторонники политической оппозиции япон-
ским консерваторам в лице Демократической партии, пришедшей
к власти в 2009 году, в значительной мере разделяют национали-
стическую идеологию, поддерживают реформы образования,
выступают за усиление патриотического воспитания молодежи.
Очевидно, что сегодня налицо осознание японцами своей
национальной идентичности, желание, наконец, спустя многие
десятилетия после капитуляции во Второй мировой войне вновь
стать «нормальной страной», а не большой военной базой США
в Восточной Азии. Такие настроения, безусловно, преобладают
сегодня в разных слоях японского общества. И с этим нельзя не
считаться и не учитывать в своих интересах всем соседям Японии
по региону Восточной Азии, включая и Россию. Приведем в под-
твержение этого акутальный пример. 4 апреля 2011 г. МИД РФ
был вынужден выступить с официальной критикой решения
министерства образования Японии, которое утвердило школьные
учебники, где присутствовали формулировки о «незаконной ок-
купации» южных Курильских островов. «Хотели бы в очередной
282
раз напомнить, что суверенитет России над указанными землями
не подлежит сомнению и основан на итогах Второй мировой
войны, закрепленных в международно-правовом плане в Крым-
ском соглашении трех великих держав по вопросам Дальнего
Востока от 11 февраля 1945 г., Потсдамской декларации от 26 июля
1945 г., Сан-Францисском мирном договоре от 8 сентября 1951 г.
и легитимизированных Статьей 107 Устава ООН», - говорится
в заявлении МИД. «...Остается лишь сожалеть по поводу того,
в каком недружественном духе в Токио продолжают формиро-
вать у подрастающего поколения отношение к соседнему госу-
дарству», - отметили в российском внешнеполитическом ве-
домстве193>.
5. Главный синтоистский храм Ясукуни
как центр военно-патриотического воспитания нации
Синтоистский храм Ясукуни занимает особое место в системе
патриотического воспитания японской нации. Он был построен
в 1869 году и, в отличие от других святилищ, до 1945 года нахо-
дился в ведении военного руководства страны. На праздниках
роль главных распорядителей традиционно принадлежала гене-
ралам и адмиралам. Именно в Ясукуни находились списки погиб-
ших во всех войнах, в которых Япония принимала участие. В этом
святилище также хранились зеркало и меч - атрибуты импера-
торской власти. В 1874 году император Мэйдзи посетил Ясукуни,
что было беспрецедентным поступком, поскольку там поклоня-
лись и богам, и душам погибших воинов. Таким образом, солдаты,
отдавшие жизнь за императора, были приравнены к богам-«ками».
Роль храма Ясукуни в воспитании японских патриотов и нацио-
налистов традиционно определялась двумя факторами: с одной
стороны, - это храм национальной японской религии Синто, яв-
ляющийся местом отправления национальных религиозных куль-
тов погребения убиенных японских воинов-героев, отдавших свои
жизни за императора и за великую Японию, а с другой, - это
государственный военно-мемориальный комплекс, центр пропаган-
ды государственного японского национализма, в стенах которого
побывало не одно поколение японцев. Как справедливо подчерки-
вает Дзося Сафиер в своей докторской диссертации на тему «Храм
Ясукуни и дискуссии о национализме XX века в Японии», «власти
в Японии всегда зависели от лояльности простолюдинов и саму-
раев, и ритуалы Синто служили им естественным идеологическим
орудием для мобилизации патриотических чувств нации»194).
283
Храм Ясукуни - это место национальной славы и гордости всех
японцев за тех, кто там похорнен, место, которое объединяет
в своих чувствах всю нацию, начиная от императора и высших
государственных чиновников и кончая рядовыми солдатами. Как
институт, выполняющий двойную воспитательную функцию -
религиозного центра и государственного военного мемориала, -
храм Ясукуни ведет отсчет своей деятельности с 1879 года.
•По своему прямому назначению религиозного центра синтоист-
ский храм Сёконся (впоследствии переименованный в Ясукуни)
был сооружен с целью «упокоения духа погибших в войнах, ко-
торые вела Япония в своей новой истории, национальных геро-
ев». Как отмечает профессор Центра японских и корейских иссле-
дований Лейденского университета в Нидерландах Ян ван Бремен,
все «усопшие» в Японии условно подразделяются на «недавно
умерших» - «сирэй» и тех, кто по прошествии 100 дней становит-
ся «давно умершими». Спустя 30 лет последние, в свою очередь,
превращаются в «предков» - «сорэй». Именно категория усоп-
ших «сорэй» по синтоистским канонам призвана защищать семьи
погибших и всех их потомков от злых духов195). Опираясь на син-
тоистское понимание «усопших», солдаты японской армии поги-
бали «не своей смертью», а их убивали в кровопролитном бою за
Родину, что предполагает особо уважительное отношение к ним
со стороны ныне здравствующих. Государственная идеология
Синто объявляет таких японцев святыми - «ками». В наши дни
к таким героям, думается, можно будет отнести ликвидаторов ава-
рии на АЭС Фукусима после трагедии на ней в марте 2011 года.
Известный немецкий японовед, профессор университета
Тюбингена и Центра японоведческих исследований Гарвардского
университета в США Энтони Клаус подчеркивает, что «дух япон-
ского воина» - это, прежде всего, олицетворение «духа сопротив-
ления» японцев всем захватчикам и врагам нации. Этот «воинст-
вующий дух» национальных героев следует «успокоить», «обес-
печить» всем необходимым, что и делают священники храма
Ясукуни. В этом отношении синтоистский храм Ясукуни отли-
чается от буддистских храмов, в которых отсутствует культура
«успокоения духа умерших воинов», а, напротив, ощущается рас-
пространение «эмоциональных страхов»196).
Функция хранилища «духов воинов» в храме Ясукуни имеет
большое воспитательное значение. Джон Нельсон отмечает, что
в Ясукуни лежат молодые воины - жертвы войны, чьи жизни на
Земле были несвоевременно прерваны в расцвете сил. В этом
случае, как пишет Нельсон, возникает «опасность возникновения
неуспокоенной души» - «онрё», которая «ожидает» признания
284
своего подвига и покоя. Душа погибшего воина не должна чув-
ствовать себя потерянной и забытой потомками. Она, скорее,
готова требовать компенсации у Родины за свою гибель, а не
апеллировать к врагам, ответственным за ее смерть197*.
Таким образом, храм Ясукуни призван не допускать забвения
подвигов во имя Родины. Священники храма по мере сил и
средств выполняют свой долг памяти перед «героями», оказывая
им ежедневные преподношения, пожертвования, всякого рода уми-
ротворения. Именно ради этих целей в стенах храма, куда рядо-
вым посетителям вход строго запрещен, были построены сцена
для представлений театра Но, ринг для борьбы Сумо, а также
другие места для развлечений «усопших душ». С конца XIX века
в храме Ясукуни для ублажения душ усопших устраивались
фейерверки, организовывались цирковые представления. Все это
было призвано иметь глубоко воспитательное значение для всех
ныне здравствующих японцев, демонстрировать заботу Родины о
своих защитниках даже посмертно, формировать патриотические
помыслы молодежи.
Однако в храме Ясукуни отдают почести не только «душам»
японцев, погибших в войнах за «оборону Японии». В непосред-
ственной близости от центрального здания храма, на удалении
всего 10 м, в 1965 году была построена миниатюрная кумирня -
специальная святыня «Умиротворение духа» - «тинрэйся».
Ее архитектура ничем особенно не примечательна, но там чтят
память всех умерших в войнах, преимущественно не японцев.
Воспитательное значение имеет, прежде всего, тот факт, что
Япония умеет уважать память убитых своих врагов, в том числе
англичан, американцев, китайцев, корейцев, погибших в боях
с японской армией. Все они покоятся в этом небольшом храме,
но им, правда, в отличие от погибших японских солдат-героев,
никто особых знаков внимания не выказывает. В настоящее вре-
мя вход в «тинрэйся» закрыт даже для ветеранов последней вой-
ны, которые часто посещают храм Ясукуни. Вместе с тем, и это
хорошо известно многим японцам, покоящимся в «тинрэйся» свя-
щенники храма Ясукуни ежедневно, утром и вечером, «выдают»
рисовые подношения198*.
Таким образом, важной воспитательной функцией храма Ясу-
куни является демонстрация заботы государства о «погибших
на полях сражений героях-японцах», которые с честью вполнили
свой долг перед Родиной199*. Священники храма Ясукуни добро-
совестно играют эту важную в глазах широкой японской обще-
ственности патриотическую роль. Первый заместитель главного
настоятеля храма Ясукуни - Ямагути Татэбуми откровенно сфор-
20-5584
285
мулировал воспитательные цели деятельности своего храма.
Он свел их «к возданию уважения и благодарности особо почи-
таемым японцам, прах которых умиротворенно покоится и охра-
няется в стенах храма. Все служители храма относятся к данной
своей миссии со всей серьезностью»200*.
Религиозная составляющая функциональной деятельности
храма Ясукуни тесно переплетается с идеологическими задачами
по воспитанию и пропаганде японского государственного нацио-
нализма, хотя по Конституции 1947 года церковь в Японии отде-
лена от государства. Священники храма, обслуживая прах погиб-
ших за Родину солдат-героев, ненавязчиво напоминают нации о том,
что начиная с периода установления императорского государства
после реставрации Мэйдзи в 1868 году власти помогают храму в
пропаганде японского национализма, в воспитании патриотов201*.
Как подчеркивает Дзося Сафиер, для лидеров империи, полити-
ческая судьба которых во многом зависела от реальной поддер-
жки со стороны рядовых обывателей и самураев, синтоизм помо-
гал государству эффективно решать сложные идеологические
задачи по мобилизации патриотических, националистических
настроений в обществе, по сплачиванию нации202*.
Государство, будучи заинтересовано в распространении иде-
ологии государственного национализма с опорой на ритуалы
Синто, «сопровождало» все поминальне службы в храмах. Пер-
вые такие службы по увековечиванию памяти погибших на полях
сражений японских солдат проходили в Киото в синтоистском
святилище «Рёдзэн гококу дзиндзя», которое было сооружено
в конце 1868 года, однако уже в 1869 году по указанию импера-
тора Мэйдзи токийский храм «Сёконся» (первое название храма
Ясукуни) был уполномочен властями выполнять ритуалы захо-
ронения павших солдат. Впоследствии во многих префектурах
были построены храмы, в которых увековечивали память погиб-
ших солдат и которые предоставляли государству возможность
участвовать от своего имени в этих поминальных торжествах. На-
чиная с 1875 года храм Ясукуни полностью монополизировал эту
идеологическую функцию, сосредоточив ритуал погребения на-
циональных героев в одном месте.
Богослужения по поводу усопших солдат японской армии
координировались по всей стране в рамках специального импера-
торского календаря. Регулярность отправления поминальных
служб напоминала богослужение в Великом храме Исэ, в месте,
где Богиня солнца Аматэрасу «спустилась» с небес на землю.
«Оркестровка» начала богослужений в национальном масштабе,
как отмечала американская исследовательница японского нацио-
286
нализма Элен Хардекр, была весьма эффективной попыткой
японского государства манипулировать общественным сознани-
ем в масштабах всей нации. Власти имели продуманный план
консолидации нации, используя для этого один-единственный
культ - поминание усопших воинов, который отправлял импера-
тор как высший служитель церкви. Он фокусировал внимание
нации на своих священных предках и на том, что солдаты отда-
вали свою жизнь за императора. За это они заслуживали быть
причисленными к лику Святых203*.
Использование храма Ясукуни в качестве идеологического
центра по распространению национализма и патриотизма в япон-
ском обществе в период Мэйдзи явилось удачной находкой вла-
стей. В ходе богослужений священники храма напоминали при-
хожанам о том, что император -это отец большой японской семьи,
отец нации. При этом также сообщалось, что превращение Япо-
нии в сильное государство предполагает консолидацию усилий
государства, нации и императора и что все японцы должны под-
держивать реформы, объявленные императором204*.
Новые власти Японии остро нуждались в поддержке со сто-
роны общества курса на проведение болезненных реформ, вклю-
чая и реформы по отделению синтоизма от буддизма. В 1872 году
правительство Мэйдзи законодательно ограничило права будди-
стских священников, в 1873 году новые власти ввели обязатель-
ную четырехлетнюю воинскую повинность для всех японских
мужчин, в 1882 году были приняты законы, закрепляющие рели-
гию Синто в качестве единственной государственной религии
Японии. В 1889 году торжественно была провозглашена Импера-
торская Конституция. И хотя Закон об образовании был одобрен
уже в 1872 году, императорский Рескрипт о народном воспитании
был провозглашен только в 1890 году. В 1893 и 1899 гг. были при-
няты законы, разрешавшие государству цензурировать книги,
в которых выражались мысли, противоречащие идеологии госу-
дарственного Синто. В школах были введены уроки морали205*.
Все эти преобразования нуждались в поддержке со стороны церкви.
И эту задачу, в том числе, решали священники храма Ясукуни.
Два знаковых события тех лет наложили свой отпечаток на всю
последующую деятельность храма Ясукуни как центра патриоти-
ческого воспитания нации и японского государственного нацио-
нализма. Во-первых, это принятие Императорской Конституции
1889 года и Закона о всеобщей воинской повинности в 1873 году.
Конституция 1889 года поставила императора в центр японской
государственности, в первую очередь как лидера, имеющего бо-
жественное происхождение, и как главу синтоистской церкви в
20*
287
Японии. Таким образом, император оказался единственным ли-
цом в Японии, который одновременно являлся ее духовным и
политическим лидером. Очевидно, что император впредь стано-
вился куратором деятельности храма Ясукуни как главного син-
тоистского святилища нации. «Божественное происхождение»
императора было четко записано в Конституции. Он наделялся
высшей государственной властью, тогда как его народ имел огра-
ниченные права и должен был лишь служить и беспрекословно
подчиняться воле императора. Основатели новой постмэйдзий-
ской Японии рассчитывали с помощью Конституции и синтоист-
ской идеологии государственного национализма превратить Япо-
нию в сильную консолидированную современную державу, спо-
собную выдержать силовое соперничество с другими великими
европейскими центрами силы.
Синтоизм должен был сыграть особую роль также в пропаган-
де и продвижении в обществе «Закона о всеобщей воинской
повинности» подданных императора. Закон гласил, что «каждый
японский мужчина должен отдать свой долг Родине и императо-
ру, заплатив за это кровью (сэйкэцу). Он должен быть счастли-
вым от того, что родился в Японии»206*. Синтоизм через систему
храмов был призван довести эти идеи до сознания каждого японца.
Трудно переоценить значение и роль храма Ясукуни в идео-
логическом обеспечении решения этих важнейших государствен-
ных задач по консолидации нации. Дело в том, что души, покоящи-
еся в храме Ясукуни, непременно должны были быть подданными
императора. Однако известно, что многие солдаты хотели, чтобы
на них смотрели как на самураев и верных слуг своих феодалов,
в том числе феодалов, выступавших противниками императора
и императорской системы власти. Важно подчеркнуть, что «Закон
о всеобщей воинской повинности» делал всех воинов солдатами
императора, тогда как самураям не было места в храме Ясукуни.
Священники храма внушали прихожанам, что солдаты, удостоен-
ные чести быть похороненными в храме, всегда благодарили
императора за предоставленную им возможность отдать за него
свои жизни. Поэтому в храме Ясукуни покоится прах только
солдат императора, а не самураев сёгуната. Благодаря «Закону
о всеобщей воинской повинности» обожествление гибели солдат,
подданных императора, распространялось на широкие слои япон-
ского общества, выходящие за узкие рамки самурайского сосло-
вия. Власти использовали синтоистские ритуалы увековечивания
памяти павших за императора в ходе войны с Китаем и с царской
Россией207*. Таким образом, храм Ясукуни играл роль места объ-
единения японской государственности с императорской системой
288
власти. В храме Ясукуни император молился за упокой душ своих
подданных, отдавших за него свою жизнь.
К началу Второй мировой войны храм Ясукуни окончательно
превратился в главный в Японии центр по патриотическому вос-
питанию молодежи. Он стал опорой распространения идеологии
государственного национализма, объединяющей нацию, государ-
ство и императора в одно целое, в одну большую семью под на-
званием «Кокутай». Был завершен длительный процесс консоли-
дации нации, начатый после реставрации Мэйдзи. В 1930-е годы
Япония развивалась как национал-патриотическое государство,
в котором власти уже могли заставить своих граждан, подданных
императора, отдать свою жизнь за любые провозглашенные им идеи.
Священники Ясукуни вдохновляли японцев на подвиги во имя
императора и внушали им националистическую идеологию. На тер-
ритории храма в 1931 году был реконструирован музей Юсюкан,
первоначально построенный еще в 1877 году в память жертв вос-
стания в Сацума, в котором впоследствии экспонировалось во-
оружение погибших японских солдат в войне с Китаем и с цар-
ской Россией, восхвалялись их доблестные подвиги. В 1934 году
в музее был сооружен новый зал «Кокубокан» (зал национальной
обороны), предназначенный для знакомства предвоенной япон-
ской молодежи с достижениями современной по тем временам
военной техники японской императорской армии, один вид кото-
рой также был призван вселять гордость и вдохновлять их на
новые подвиги208*.
Таким образом, в новой и новейшей истории Японии храм Ясу-
куни успешно выполняет две свои основные идеологические функ-
ции по патриотическому воспитанию нации: он демонстрирует
заботу об умиротворении праха всех воинов-героев, погибших за
императора и независимость Японии, и является главным местом
в стране по возданию особых почестей памяти и уважения тем
жертвам сражений, которые отдавали свою жизнь за спасение
нации. Эта функция храма стала особенно востребованной после
поражения Японии во Второй мировой войне в целях воспитания
нового поколения японцев, готовых продолжить борьбу за неза-
висимость и суверенитет своей страны.
Воспитательное значение храма Ясукуни, этого уникального
центра японского национализма, в который регулярно совершают
паломничество первые лица государства, определяется также
демонстрацией духа национальной независимости японцев. Дело
в том, что каждый японец знает, что страна потеряла во Второй
мировой войне 2,1 млн. своих солдат, прах которых с почестями
захоронен в храме. Каждый японец знает, что оккупационные
289
силы США, несмотря на все их усилия в послевоенный период по
минимизации влияния идеологии Синто в японском обществе,
несмотря на разрушение довоенной системы школьного образо-
вания, а также несмотря на ослабление роли императора в поли-
тической системе страны, несмотря даже на отделение церкви от
государства, согласно новой Констиуции 1947 года, - несмотря на
все эти принятые американцами меры, США не посмели закрыть
и разрушить храм Ясукуни.
Но как же могло получиться, что американские оккупацион-
ные силы «просмотрели» и не разрушили до основания этот важ-
нейший центр японского национализма и, как следствие, центр
сопротивления американской оккупации? Думается, что, когда
США оккупировали после войны Японию, они плохо знали, ка-
кую страну им пришлось захватить. Дефицит этих знаний испы-
тывали не только рядовые америанские солдаты, но и многие
эксперты. Так, например, генерал Джонатан Мэйхью Вайнрайт,
почетный доктор Сиракузского университета и командующий
союзными войсками на Филиппинах, который оказался самым
высокопоставленным военнопленным японской армии, заявлял
впоследствии, что «японцы - отсталый, архаичный народ. Япон-
цы демонстрировали на нас, на военнопленных удивительную
свою жестокость, несовместимую с цивилизацией XX века. Они
обращались с военнопленными как со скотом, не обращая ника-
кого внимания на аристократическое происхождение некоторых
из них. Они мучали и пытали военнопленных до тех пор, пока те
не умирали, будучи не в состоянии выдержать все муки»209*.
Многие политики в США не имели четкого представления
о том, что «делать» с Японией после войны. Большинство амери-
канцев, отвечавших за разработку оккупационной политики,
придерживались сугубо этноцентрических взглядов. Об этом пря-
мо написал известный американский японовед, профессор Гар-
вардского университета Джон Доувер, автор многих любопытных
исследований по японской истории, в том числе «Война без мило-
сердия: соперничество и сила в войне на Тихом океане», «Империя
и ее последствия» и ряда других. Плохое знание японской специ-
фики распространялось, в том числе, и на знания о религии Синто.
Для многих американцев она означала просто чрезмерное покло-
нение культу императора и рассматривалась как труднообъясни-
мая ересь. Как подчеркивал Доувер, «для европейцев и особенно
для христиан преклонение перед императором являлось формен-
ным богохульством»210*. Американцы просто недооценивали иде-
ологическое и политическое значение японского национализма
для своей последующей политики на японском направлении.
290
Поскольку информированность американских политиков о
Японии в основном опиралась на несколько книг по этой стране,
включая работу Рут Бенедикт «Хризантема и меч», то знания и
понимание религии Синто было и того хуже. Как утверждает
Элен Хардекр, по синтоизму в США были известны только две
книги американского автора Даниэля Холтома: «Национальная
религия Японии» (Daniel Holtom, The National Faith of Japan,
1938) и «Современная Япония и национализм Синто», опубли-
кованная в США в 1943 году. Холтом отождествлял синтоизм
с идеологией национализма, тогда как консолидирующее нацию
значение синтоизма им серьезно недооценивалось. Он считал
идеологию Синто инструментом в руках военных, пригодным
лишь для мобилизации национального самосознания во время
войн. Указание Холтома на прямую связь Синто с милитаризаци-
ей Японии, по сути, и сделало эту религию объектом серьезных
нападок со стороны оккупационных властей210.
В штабе оккупационных сил США в Японии вопросами рели-
гии занимался Отдел информации и образования. Персонально
этим направлением руководил лейтенант ВМФ США Уильям Бунс,
доктор философии, который в свое время преподавал в одном из
университетов Японии. Под его непосредственным руководством
Отдел информации и образования уже в декабре 1945 года под-
готовил специальную директиву по решению проблемы государ-
ственной национальной религии Синто. Документ был посвящен
политике по отделению Синто от государства. Он вступил в силу
в канун Рождества 1945 года.
По замыслам его составителей, японцы впредь должны были
полностью «освободиться» от любых форм давления на них со
стороны государства в плане выбора религиозных конфессий,
прекратить в принудительном порядке оказывать финансовую
поддержку синтоистским храмам, исключить возможности ис-
пользовать Синто в милитаристских или националистических
целях212). Одновременно с отречением императора от своего боже-
ственного происхождения директива по Синто предполагала кон-
кретные меры по отделению государства от церкви и от императо-
ра, т.е. предполагала полное разрушение той модели использования
Синто в политических и идеологических целях, которая была
создана в Японии в период Мэйдзи и которая была направлена
как раз на укрепление связи государства с религией и институтом
императорской власти. Усилия американских властей в этом на-
правлении были легализованы в форме 126-го «Закона о религи-
озных юридических лицах» от апреля 1951 года, предусматривав-
шего перевод всех синтоистских храмов в статус негосударст-
291
венных религиозных институтов, а также освобождение их от на-
логов. С тех пор синтоистский храм Ясукуни получил статус част-
ного религиозного юридического лица213*.
Под предлогом отделения церкви от государства и императо-
ра оккупационные власти в новой Конституции 1947 года в пер-
вую очередь рассчитывали ослабить ее финансовые возможности.
Статья 20 следующим образом формулировала и закрепляла этот
интерес: «Ни одна из религиозных организаций не должна полу-
чать от государства никаких привилегий и не может пользоваться
политической властью. Никто не может принуждаться к участию
в каких-либо религиозных сектах, празднествах, церемониях или
обрядах. Государство и его органы должны воздерживаться от
проведения религиозного обучения и какой-либо иной религиоз-
ной деятельности»214*. А Статья 89 Конституции 1947 года четко
предписывала, что «никакие государственные денежные средства
или иное имущество не могут ассигновываться или предназна-
чаться для использования, выгоды или содержания какого-либо
религиозного учреждения или ассоциации или для каких-либо
благотворительных, просветительных или филантропических
учреждений, не находящихся под контролем публичных вла-
стей»215*. Эти две статьи новой конституции прямо были адресо-
ваны к религии Синто и лишний раз официально закрепляли от-
деление государства от Синто в послевоенной Японии.
Однако во второй половине 1940-х и в начале 1950-х годов
деятельность синтоистских храмов, вопреки рассчетам оккупаци-
онных сил, не претерпела радикальных изменений по сравнению
с довоенным периодом. Расчет американцев на то, что без госу-
дарственной финансовой поддержки синтоистские храмы в Япо-
нии просто «засохнут на корню», не оправдались. В период 1945-
1949 гг. новогодние службы в синтоистских храмах привлекали
огромное число прихожан, что естественным образом пополняло
их финансовую базу. Благодаря двойственной природе Синто -
как националистической идеологии и как института памяти пав-
ших в боях за Японию - храм Ясукуни выжил и продолжал функ-
ционировать как важнейший идеологический центр патриотиче-
ского воспитания японской молодежи.
В послевоенной Японии синтоизм как идеология, формирую-
щая национальное самосознание японцев, сосуществовал в обще-
стве одновременно с буддизмом и даже с христианством. В от-
сутствие государственной финансовой поддержки синтоистские
храмы искали иные источники финансирования своей деятельно-
сти, в частности коммерциализировали проведение разного рода
церемоний, включая свадьбы и погребения. Однако, как отмечает
292
Элен Хардекр, общественность не одобряла коммерциализацию
деятельности синтоистских храмов, продолжая рассматривать
их как идеологические и воспитательные национальные центры,
не совместимые с духом наживы и коммерции216*.
Воспитательная и идеологическая роль храма Ясукуни прояв-
ляется также в героизации японской истории. Это находит свое
выражение в том, Священники храма Ясукуни, впрочем, как
и других синтоистских храмов, активно пропагандируют особен-
ности жизненного пути национальных героев, похороненных в хра-
ме, чтобы на их примерах воспитывать все новые и новые поко-
ления патриотов Японии. Каждый японец с детства знает подвиги
героев, их жизнь и борьбу во славу императора и Родины. В храме
священники рассказывают молодым японцам, о чем думали и ме-
чтали герои, идя в атаку и рискуя не вернуться домой. Священ-
ники передают современникам их напутствия о том, что японцы
должны «беречь родную страну от врагов, преумножать ее богат-
ство, защищать ее мирный труд и следовать тем идеалам добра
и справедливости, которым следовали они сами и за что они от-
давали свою жизнь».
Проникновенные слова священников храма Ясукуни, обращен-
ные к японской молодежи, всегда тиражировались в пропаганди-
стской деятельности разного рода националистических организа-
ций, созданных после войны в помощь Ясукуни. Так, в 1956 году
в память о своих родных и близких, убитых на войне, в Японии
была создана «Ассоциация семей, родственники которых погибли
в войнах» (Нихон идзокукай).
Предшественницей организации «Нихон идзокукай» была
«Лига помощи семьям, члены которых погибли в войне» - «Идзоку
косэй рэммэй», которая была создана в 1947 году. С1952 года Лига
взяла на себя заботы по сбору средств на «упокоение душ» усоп-
ших воинов в храме Ясукуни, а также в его отделениях по всей
Японии. В 1956 году Лига «Идзоку косэй рэммэй» была переиме-
нована в «Нихон идзококукай», которая стала регулярно обра-
щаться к государству с просьбами о «государственной поддерж-
ке» деятельности как самого храма Ясукуни в Токио, так и его
региональных отделений на местах, настаивая на восстановлении
довоенной системы государственной опеки синтоистских храмов.
При этом речь шла как о финансовой, так и о политической под-
держке: первые лица государства должны были регулярно посе-
щать храм Ясукуни и отдавать дань уважения павшим за родину
японским героям войны. Родственники погибших настаивали
также на том, чтобы не только премьер-министр совершал визиты
памяти в Ясукуни, но и руководство министерства обороны Япо-
293
нии и даже сам император. Такие официальные визиты имели
место до войны, и, по мнению руководства «Нихон идзокукай»,
они должны были непременно возобновиться и после войны217*.
Руководство храма Ясукуни давно готовилось к выполнению
этой роли. Как подчеркивал заместитель главного духовного лица
храма Ямагути Татэбуми, «храм давно был готов вернуть себе
функцию самого главного в стране государственного мемориала
памяти всех погибших в войнах. Однако Конституция 1947 года
стала основным препятствием на пути возвращения храма Ясу-
куни в лоно государства»218*. Вместе с тем руководство «Нихон
идзокукай» и все ее члены были благодарны руководству страны
за то, что оно, по сути, игнорировало все запреты и совершало
официальные визиты в Ясукуни.
В 1969 году по случаю 100-летия храма Ясукуни его руковод-
ство подготовило обращение к членам японского парламента
с просьбой об официальной поддержке храма в его деятельности
по увековечиванию памяти национальных героев и принятию
специального закона о храме - «Ясукуни дзиндзя хоан». Этот шаг
руководства храма поддержала националистическая ассоциация
«Нихон идзокукай». Она также выступила с предложением при-
знать храм «институтом, охраняемым государством», историче-
ским памятником особой национальной ценности, который помо-
гает государству осуществлять процедуру отдания почестей героям
Японии. Важно подчеркнуть, что ассоциация «Нихон идзокукай»
к 2006 году насчитывала уже более 4,5 млн. членов и считается
в Японии весьма влиятельной и авторитетной националистиче-
ской организацией. Она является мощным лоббистским инстру-
ментом поддержки японских консерваторов на общенациональ-
ных выборах. Законопроект «Ясукуни дзиндзя хоан» пока не
принят парламентом из-за опасений, что сам факт его одобрения
означал бы даже не столько удовлетворение амбиций японских
националистов, сколько откровенную попытку властей нару-
шить Основной закон в части Статьи 20 об «отделении церкви
от государства». В японском обществе есть немало противников
возвращения «церкви под крыло государства». Эти силы рассмат-
ривают попытки такого рода в тесной увязке с процессом пере-
смотра послевоенной конституции, ускорения ремилитаризации
и возвращения Японии на путь авторитарного довоенного госу-
дарства.
Проблема организации почестей и знаков уважения к погиб-
шим в войнах японским солдатам, с одной стороны, и вопрос
о правомерности отделения церкви от государства, с другой,
остаются нерешенными вплоть до настоящего времени. Эта проб-
294
лема только актуализирует все, что связано с вопросом о статусе
храма Ясукуни. Она привлекает повышенное внимание к офици-
альным визитам лидеров страны в храм Ясукуни с целью почтить
память национальных героев, т.е. к вопросу о том, нарушают ли
первые лица государства японские законы, переступая порог
храма Ясукуни, или нет. В силу этих причин в японском обществе
периодически муссируются идеи о сооружении альтернативного
Ясукуни мемориала героев, отдавших жизнь за Родину и императо-
ра, однако большинство японцев выступают против такой идеи219).
Националистические организации Японии активно помогают
храму Ясукуни сохранять и преумножать его авторитет в япон-
ском обществе как центра патриотического воспитания молоде-
жи. Уже 15 августа 1958 г. «Ассоциация семей, родственники
которых погибли в войнах» (Нихон идзокукай), Лига ветеранов
войны, а также Ассоциация синтоистских храмов организовали
первую после войны мемориальную церемонию. Местом ее про-
ведения, правда, был выбран зал «Кудокан», находящийся в не-
посредственной близости от храма Ясукуни и императорского
дворца. Однако впоследствии все аналогичные церемонии прово-
дились на территории храма Ясукуни. До 1963 года император
регулярно посещал мемориальные службы в Ясукуни, которые
японские националисты рассматривали, с одной стороны, как знак
уважения к императору Японии, а с другой, - как знак демонст-
ративного неуважения к американской Конституции 1947 года220).
После подписания Сан-Францисского мирного договора в
1951 году в традицию вошли регулярные посещения храма Ясу-
куни первыми лицами государства. В период с 1951 по 1989 год
практически все премьер-министры, за исключением Хатояма и
Исибаси, посещали храм Ясукуни. 15 августа 1964 г. и премьер-
министр Хаято Икэда, и император присутствовали на ежегодной
мемориальной церемонии на территории храма, буквально за не-
сколько недель до церемонии открытия летних Олимпийских игр
в Токио в 1964 году.
Визиты японских премьер-министров в храм Ясукуни
(1948-2010 гг.)
Фамилия Сроки пребывания у власти Число визитов
Йосида 10.1948-12.1954 4
Хатояма 12.1954-12.1956 —
Исибаси 12.1956-02.1957 —
Киси 02.1957-07.1960 2
295
Фамилия Сроки пребывания у власти Число визитов
Икэда 07.1960-11.1964 4
Сато 11.1964-07.1972 И
Танака 07.1972-12.1974 5
Мики 12.1974-12.1976 4
Фукуда 12.1976-12.1978 2
Охира 12.1978-07.1980 2
Судзуки 07.1980-11.1982 8
Накасонэ 11.1982-06.1989 10
Уно 06.1989-08.1989 —
Кайфу 08.1989-11.1991 —
Миядзава 11.1991-08.1993 —
Хосокава 08.1993-04.1994 —
Хата 04.1994-06.1995 —
Мураяма 06.1995-12.1996 —
Хасимото 12.1996-07.1998 1
Обути 07.1998-04.2000 —
Мори 04.2000-04.2001 —
Койдзуми 04.2001-09.2006 5
Абэ 09.2006-09.2007 1
Фукуда 09.2007-09.2008 1
Асо 09.2008-09.2009 1
Хатояма 09.2009-06.2010 —
Кан 06.2010- —
Политический смысл визитов первых лиц Японии в храм
Ясукуни менялся со временем. Если визиты в первые послевоен-
ные годы носили «частный» характер и власть «подстраивалась»
к традиционным праздникам поминовений всех усопших, то в
последующем эти визиты постепенно перестали носить сугубо
«частный» характер, хотя и не стали чисто «официальными».
В свое время начальник отдела информации и образования штаба
оккупационных сил Уильям Бунс, комментируя визиты первых
лиц Японии в храм Ясукуни, подчеркивал, что «когда премьер-
министр или другое официальное лицо из правительства совер-
шало официальный визит в Ясукуни, то его действия шли вразрез
со Статьей 20 Конституции Японии 1947 года. А если он к тому
же выделял государственные пожертвования храму, то нарушал
Статью 89. Вместе с тем первое лицо государства вполне могло
посещать храм Ясукуни как частное лицо, имеющее свои личные
религиозные убеждения, и тем самым его действия укладывались
в рамки требований Статей Конституции, которые определяли
свободу вероисповедания всем японцам, включая и первых лиц
государства»220.
296
И если характер визитов в Ясукуни первых лиц государства
было нелегко дифференцировать (как частный или официаль-
ный) уже в первые послевоенные годы, то тем более это трудно
сделать сейчас. Например, первое лицо может подъехать к храму
Ясукуни на своем личном автомобиле как рядовой гражданин
Японии без всякого намека на свой официальный статус. И в этом
случае такой визит премьера не может вызывать протеста со сто-
роны Пекина или Сеула. Другое дело - если японская сторона
демонстративно организует визит премьера как официальный,
подчеркивая тем самым, что Токио мало заботит реакция иност-
ранных государств по этому поводу, поскольку для всех японцев
самое важное - отдать дань уважениия памяти своих героев.
Первым из премьер-министров Японии, кто попытался «сбить
с толку» зарубежных наблюдателей, был премьер Мики Такэо
(находился у власти с 1974 по 1976 год), который посетил Ясу-
куни как частное лицо 15 августа 1975 г., в день годовщины ка-
питуляции Японии во Второй мировой войне (15 августа 1945 г.
император Японии Хирохито издал рескрипт о принятии усло-
вий капитуляции). И Пекин, и Сеул тогда были вынуждены ос-
тавить этот визит без официальной критики и «проглотить» его.
Столь удачный опыт Мики посещения храма Ясукуни в качестве
частного лица позднее повторили премьеры Фукуда и Судзуки,
которые также совершили свои визиты в храм Ясукуни в день го-
довщины капитуляции страны 15 августа 1945 г. как частные лица.
Однако премьер-министр Ясухиро Накасонэ, не скрывая сво-
их откровенно националистических убеждений, занял в этом
вопросе непримиримую позицию: он не стал прибегать к маски-
ровке и посетил храм Ясукуни как официальное лицо в день по-
миновения усопших «О-бон» 15 августа 1985 г., не обращая осо-
бого внимания на протесты со стороны Китая и Южной Кореи222).
Как отмечает Дзося Сафиер, «Накасонэ не следовал устоявшей-
ся традиции, предполагающей молитву, преподношение душам
усопших ветки священного дерева «сакаки», двукратное покло-
нение, двукратное похлопывание руками и затем еще один по-
клон. Вместо всего этого Накасонэ возложил букет цветов, при-
обретенный за казенные средства, и поклонился могилам только
один раз»223).
Нарочито официальный визит Накасонэ в Ясукуни, естест-
венно, спровоцировал бурю протестов и негодования в Китае и в
Корее, что было особенно наглядно на фоне спокойной реакции
в этих странах на визиты других японских премьеров в Ясукуни
как частных лиц. Американский японовед, выпускник универси-
тета Луисвиль в штате Кентукки Уильям Стерджей приводит
297
выдержку из газеты «Нью-Йорк тайме», комментировавшей ви-
зит Ясухиро Накасонэ в Ясукуни 15 августа 1985 г. Газета писала
тогда, что «китайский народ и китайские власти в душе надея-
лись, что правительство Японии будет уважать исторические
факты и не позволит себе неадекватных поступков, по сути, оп-
равдывавших агрессию в Азии без покаяния и без сожаления...
К глубокому сожалению, власти Японии решили впервые после
окончания Второй мировой войны нанести в храм Ясукуни офи-
циальный визит»224*. После демонстративного визита Накасонэ
в Ясукуни 15 августа 1985 г. в Пекине и в Сеуле обоснованно воз-
никли сомнения в искренности прежних заявлений японских
руководителей о покаянии за все преступления японской воен-
щины в годы Второй мировой войны. Следует, правда, отметить,
что впоследствии Ясухиро Накасонэ вообще не совершал визиты
в храм Ясукуни вплоть до окончания срока своего пребывания на
посту премьер-министра, т.е. до ноября 1987 года.
В 2001 году официальный визит в храм Ясукуни совершил
премьер-министр Японии Дзюнъитиро Койдзуми. Он пять раз со-
вершал такие визиты, однако всякий раз интриговал японскую
общественность и зарубежных наблюдателей, в каком качестве -
как официальное или как частное лицо - он будет это делать. Через
японские СМИ Койдзуми заранее оповещал о своих планах со-
вершить визит в Ясукуни в апреле, однако впоследствии менял
сроки посещения на 15 августа, при этом сдвигая само посещение
на 13 августа, т.е. время праздника «О-бон» (13-16 августа) 225*.
Койдзуми искусно маневрировал между правыми националистами
и либералами в вопросе о статусе своих визитов в Ясукуни, но при
этом он непременно их совершал, не обращая внимания на поли-
тические издержки подобного рода демаршей. Своими поступка-
ми Койдзуми всякий раз вызывал раздражение у китайцев, ибо
демонстративно игнорировал «приемлемые для них сроки визитов
в Ясукуни» (т.е. весной или осенью) и совершал их в период празд-
ника «О-бон» (13-16 августа). Поведение Койдзуми не всегда вы-
зывало одобрение и у японских националистов по причине нару-
шения своих обещаний делать визиты в Ясукуни исключительно
в памятные даты японского исторического календаря. Он часто
подвергался критике и справа, и слева за то, что пренебрегал
соблюдением всех ритуалов, принятых в этих случаях. Койдзуми,
например, совершал поклоны праху погибших только один раз и
не возлагал на могилы героев ветки священного дерева «сакаки»,
как это делали его предшественники и как того требует ритуал.
Однако для националиста Койдзуми в данном случае было
важно воспитательное значение самого факта официального по-
298
сещения храма Ясукуни, что он делал в нарушение Конституции
1947 года, демонстрируя тем самым растущую независимость
Японии от США, укрепление национального суверенитета даже
в условиях сохраняющейся оккупации страны. Более того, прове-
денный в 2005 году аудит финансовой деятельности храма Ясу-
куни выявил факты косвенного субсидирования его деятельности
со стороны руководства ЛДП на сумму в 3,1 млн. иен (около 30 тыс.
долл.), которые были потрачены на покупку «священных веток
дерева сакаки», которые премьер-министры возлагали на могилы
павших воинов во время своих посещений Ясукуни226*. Можно
предположить, что выявленные государственные расходы по статье
«дотации храму Ясукуни» - всего лишь капля в море тех средств,
которые правительство выделяет на поддержание деятельности
храма в нарушение статей Конституции об отделении церкви от
государства.
Критику со стороны китайского или корейского руководства
в связи с посещением официальными лицами Японии храма
Ясукуни японская общественность и политики рассматривают
Как «вмешательство во внутренние дела своей страны». Об этом,
в частности, можно судить по заявлению премьер-министра Кой-
дзуми в палате представителей японского парламента в мае
2005 года. Он подчеркивал, что «каждая страна имеет право чтить
память своих героев, погибших во время войны, и другие государ-
ства не должны вмешиваться в этот процесс»227*. Очевидно, что
Койдзуми лукавил: визиты первых лиц Японии в храм Ясукуни -
это не столько вопрос поминовения усопших героев. Это в первую
очередь символические визиты, имеющие глубокий политический,
идеологический и воспитательный смысл, обращенный к под-
растающему поколению японцев.
Деятельность храма Ясукуни рассматривается властями стра-
ны в контексте пропаганды идеологии государственного национа-
лизма. Совместно с настоятелями храма государство определяет,
кто достоин быть похороненным в мемориале национальных ге-
роев, с какими почестями должны чествоваться непризнаваемые
виновными военные преступники класса «А», осужденные Между-
народным Токийским трибуналом. Государство, по сути, давно
уже оправдало японских военных преступников и использует храм
Ясукуни для проведения церемоний памяти в их честь. На этом
фоне государству легче «переписывать историю» и открыто про-
пагандировать идеологию государственного национализма в со-
временном японском обществе.
Выбор властями Японии храма Ясукуни в качестве центра
патриотического воспитания молодого поколения далеко не слу-
299
чаен. Дело в том, что культура пропаганды государственного
национализма на примере героев, павших в сражениях за Родину,
различна в разных странах. Европейская цивилизация, например,
практикует в этих целях кенотаф как символическую могилу
неизвестного солдата, которая не содержит тела погибшего. Такие
могилы есть в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, в Копенга-
гене в «Ландсолдатен», в Париже у Триумфальной арки, в США -
на Арлингтонском кладбище, в Москве - в Александровском саду.
Могилы неизвестного солдата сооружаются в память не просто
погибших в войне солдат, а солдат, которые геройски отдали свою
жизнь за Родину, за государство228*. Как подчеркивает японский
исследователь Тамамото Масару, «могила неизвестного солдата
есть ключевой артефакт национализма с его анонимностью, с его
искусственным смыслом жертвенности за государство, с его на-
ционалистической мистикой»229*.
Японская культура национализма, когда речь идет о памяти
погибших за отечество, принципиально отличается от европейско-
американской. Японцы считают, что смерть не может и не должна
быть анонимной и неизвестной. Смерть всегда конкретна, и поэтому
синтоистский храм Ясукуни - это место погребения не «неизвест-
ных солдат», отдавших свои жизни за отечество, а мемориал кон-
кретных солдат, имевших свое имя на земле, погибших за Родину
и перечисленных поименно. По данным на начало XXI века, в храме
Ясукуни был захоронен прах 2 466 532 японских солдат, погиб-
ших за Японию. Каждый год осенью в храме прибавляются новые
именные захоронения. В первую очередь чести быть удостоенными
захоронения в храме Ясукуни получали те японцы, которые отда-
вали свои жизни за императора. Причем в этот список включались
имена только тех японцев, которые погибли за императора в пери-
од начиная с 1853 года, когда «черные корабли» коммодора Перри
встали на рейде в Токийском заливе, и кончая 1951 годом, когда
США подписали с Японией Сан-Францисский мирный договор.
Нижеследующая таблица дает представление о том, как рас-
пределялось число национальных героев, отдавших жизнь за
императора и удостоенных чести быть похороненными в храме
Ясукуни в этот период (по состоянию на 17 октября 2005 г.)230*.
Исторические события Число захороненных героев
Революция Мэйдзи 7 751
Восстание в Сацума 6 971
Японо-китайская война 13 619
Экспедиция на Формозу 1 230
300
Исторические события Число захороненных героев
Боксерское восстание 1 256
Русско-японская война 88 429
Первая мировая война 4 850
Шанхайский инцидент 185
Маньчжурский инцидент 17 176
Оккупация Китая 191 220
Вторая мировая война 2 133 915
Всего: 2 466 532
Показательным для националистического контекста деятель-
ности храма Ясукуни, на наш взгляд, является тот факт, что среди
погибших за императора в храме Ясукуни похоронены не только
лица японской национальности, но также и иностранцы. Это об-
стоятельство часто обыгрывается японскими националистами,
которые приводят его в доказательство отсуствия в их национа-
листической идеологии какого-либо иного смысла, кроме верно-
сти исполнению долга перед императором и японским государ-
ством, независимо от того, выполнял ли такой долг японец или
иностранец. Поэтому критерий преданности японскому импера-
тору является основополагающим для того, чтобы быть захоро-
ненным в Ясукуни. Даже настоятель храма Ясукуни Намбу Тоси-
аки, принимавший участие в гражданской войне Босин, не мог
быть удостоен права захоронения в Ясукуни, так как воевал на
стороне сёгуната против реставрации императорской власти и им-
ператора Мэйдзи231).
Чистота националистической идеологии выражается также
и в том, что храм Ясукуни предназначен только для погребения
солдат, сражавшихся и погибших за императора и Японию, сол-
дат, имена которых были идентифицированы и четко обозначены
в сопроводительных документах. Неидентифицированные япон-
ские солдаты, также погибавшие в войнах за императора и Япо-
нию, но не имевшие сопроводительных документов, погребены
на другом кладбище, расположенном недалеко от Ясукуни, -
на национальном кладбище «Тидори гафути».
Все покоящиеся в храме Ясукуни должны быть идентифици-
рованными не только по именам и фамилиям, но также по датам
и месту своего рождения, по обстоятельствам смерти за импе-
ратора и Японию. Предоставление такой информации возлага-
лось на министерство здравоохранения и социального обеспе-
чения Японии, которое по запросу храма Ясукуни делало это
бесплатно232).
21-5584
301
Несмотря на то, что решение о том, кого можно хоронить в
храме Ясукуни, а кого - нет, принимает главный настоятель хра-
ма, вплоть до настоящего времени только министерство здраво-
охранения и социального обеспечения Японии отвечает за предо-
ставление информации о том, кого в действительности можно
считать погибшим на войне. Это значит, что последнее слово
в вопросе получения права на захоронение в Ясукуни принадле-
жит все-таки министерству здравоохранения и социального обес-
печения Японии, предоставляющему самую полную информацию
о погибшем герое, а не руководству храма.
Власти Японии используют возможности храма Ясукуни так-
же для реализации весьма важного с точки зрения задач патрио-
тического воспитания молодежи процесса декриминализации
японских военных преступников, осужденных Международным
Токийским военным трибуналом. 11 Статья Сан-Францисского
договора предполагала, что японские власти будут соблюдать
требования Международного военного трибунала для Дальнего
Востока. Статья 11 гласила: «Япония признает приговор Между-
народного Военного Трибунала для Дальнего Востока и пригово-
ры других Союзных судов по военным преступлениям как внут-
ри, так и за пределами Японии и будет приводить в исполнение
приговоры, вынесенные ими в отношении японских граждан,
находящихся в заключении в Японии. Право помилования, смяг-
чения приговоров и досрочного освобождения в отношении таких
преступников не Может осуществляться иначе, как по решению
правительства или правительств, которые вынесли приговор в каж-
дом отдельном случае, и по рекомендации Японии».
Международный военный трибунал осудил 28 японских воен-
ных преступников класса «А». Несколько тысяч японских воен-
ных преступников также были осуждены судами в разных стра-
нах Восточной Азии и были отнесены к категориям «В» и «С».
7 военных преступников класса «А» были приговорены к смерт-
ной казни и повешены в тюрьме Сугамо 23 декабря 1948 г. в день
рождения крон-принца Японии.
В обмен на подписание мирного договора и согласие принять
условия военных трибуналов власти США обещали Японии обес-
печить ее «безопасность», включая и ядерную. Правда, при этом
США получили согласие японских властей на размещение своих
военных баз на территории страны. Иными словами, после войны
США использовали японский стратегический плацдарм в своей си-
ловой стратегии на Тихом океане и в Восточной Азии, а Японии
предоставили возможность «радоваться успехам экономического
и научно-технического развития». «Договор безопасности» с США,
302
таким образом, стал для Японии опорой стабильного развития и
в известной мере, как отмечает Тамамото Масару, «заменил ей
институт императорской власти - священной и нерушимой»233*.
Имея на руках американские гарантии безопасности, власти Япо-
нии могли спокойно заниматься решением экономических и со-
циальных проблем, не заботясь о необходимости нес.ти военные
расходы и сделав вид, что на время нация забыла свое унижение
и позор капитуляции.
Однако национальное сознание не могло долго терпеть такое
положение. Процесс восстановления национальной независимости
как раз и начался с процедуры помилования военных преступни-
ков. В музее «Юсюкан» при храме Ясукуни есть экспозиция,
посвященная процедуре помилования военных преступников,
осужденных Международным военным трибуналом для Дальне-
го Востока. Дело в том, что вторая часть Статьи 11 мирного до-
говора с Японией давала ей немалые преимущества в вопросах
помилования японских военных преступников. На основании
многочисленных просьб граждан Японии в 1953 году обе палаты
японского парламента одобрили проект резолюции об освобож-
дении военных преступников класса «А»234*. Все они были реаби-
литированы. Первая волна реабилитации прошла еще 6 августа
1951 г., когда были освобождены 13 904 военных преступника235*.
Важно подчеркнуть, что реабилитация военных преступников
Японии, осужденных Международным военным трибуналом для
Дальнего Востока, проходила в условиях, когда официальные
отношения между Японией и Китаем еще не были восстановлены
и согласие на реабилитацию давали только власти Республики
Китай на Тайване, а не власти Китайской Народной республики,
которые по очевидным соображениям такое решение вряд ли бы
поддержали. Как известно, Сан-Францисский мирный договор
был подписан лишь представителями Республики Китай на Тай-
ване, а не представителями КНР, постоянного члена СБ ООН, что
на долгие годы осложнило характер японо-китайских отношений.
Японские националисты приветствовали политику властей по
реабилитации военных преступников класса «А», которым не
запрещалось идти в большую политику. К последним, например,
можно отнести осужденного военным трибуналом и впослед-
ствии реабилитированного Сигэмицу Мамору, бывшего министра
иностранных дел, который подписывал капитуляцию Японии
и который впоследствии был назначен на должность заместителя
премьер-мнистра и министра иностранных дел в кабинете Итиро
Хатояма. Реабилитированным военным преступником оказался
и Кайя Окинори, назначенный на пост министра юстиции в каби-
21*
303
нете Хаято Икэда. Реабилитированный военный преступник Киси
Нобусукэ в феврале 1957 года был назначен премьер-министром
и проработал в этом качестве до июля 1960 года. Факты помило-
вания военных преступников класса «А» в послевоенной Японии
давали основания японским националистам утверждать, что стра-
на не участвовала в преступной военной агрессии в Восточной
Азии. Таким образом многие осужденные «врагами Японии»
военные преступники были реабилитированы и занимали руко-
водящие посты в послевоенной Японии.
Более того, в 1953 году парламент Японии принял закон о вы-
плате всем военным преступникам пенсий и денежных компен-
саций. Японские власти пошли еще дальше - они компенсирова-
ли задним числом все «невыплаченные» военным преступникам
зарплаты за период их нахождения под следствием и арестом в
период работы Международного военного трибунала для Дальне-
го Востока. Сделано это было на основании того, что суд над ними
проходил не по японским внутренним законам и поэтому в соот-
ветствии с уголовным законодательством Японии они не могли
рассматриваться как обычные преступники. Иностранное законо-
дательство в Японии не признается как имеющее силу закона236).
Весьма показательно, что японские националисты квалифи-
цируют вынесение и приведение в исполнение смертных приго-
воров для 14 военных преступников класса «А» в период до под-
писания мирного Сан-Францисского договора как «смерть при
исполнении ими своего долга перед Родиной». Это является ос-
нованием для увековечивания их памяти в храме Ясукуни237*.
В 1966 году в список «погибших при исполнении своего долга»,
который предоставило министерство здравоохранения и социаль-
ного развития в храм Ясукуни, были включены 14 военных пре-
ступников класса «А», которые «погибли» в Токийской тюрьме
Сугамо до 1951 года. Более того, по информации, полученной от
бывших офицеров императорской армии, которые после войны
работали в социальном департаменте министерства здравоохра-
нения Японии, стало известно, что военные преступники, осуж-
денные Международным трибуналом, получали точно такие же
денежные компенсации, как все другие японские участники Вто-
рой мировой войны, которые скончались до 1951 года238*.
Список военных преступников, захороненных в храме Ясуку-
ни, которых японские националисты относят к национальным геро-
ям, включает в себя такие хорошо известные личности, как гене-
рал Доихара Кэндзи (повешен), барон Хиранума Киитиро (умер
в тюрьме), барон Хирота Коки (повешен), генерал Итагаки Сэй-
сиро (повешен), генерал Кимура Хэйтаро (повешен), генерал Кой-
304
со Куниаки (умер в тюрьме), генерал Мацуи Иванэ (повешен),
министр иностранных дел Мацуока Йосукэ (умер в тюрьме),
генерал Муто Акира (повешен), адмирал Нагано Осами (умер
в тюрьме), дипломат и политик Сиратори Тосио (умер в тюрьме),
министр Великой Восточной Азии и министр иностранных дел
Того Сигэнори (умер в тюрьме), генерал Тодзё Хидэки (повешен),
генерал Умэдзу Йосидзиро (умер в тюрьме).
Как отмечалось выше, окончательное решение о том, кого
можно хоронить в храме Ясукуни, а кого - нет, по канонам храма
традиционно принимал его главный священник. В 1966 году им
был член императорской фамилии Цукуба Фудзимаро. Вся необ-
ходимая информация о 14 военных преступниках полностью по-
ступила в его распоряжение, однако свое окончательное решение
об их захоронении он предпочел задержать. Такое решение было
принято из-за соображений двусмысленности ситуации и воз-
можных протестов с разных сторон, включая Китай и Южную
Корею. Власти Японии не были заинтересованы в активизации
протестных движений накануне кампании, развернутой руковод-
ством ЛДП, по поддержке деятельности храма Ясукуни и продав-
ливания через парламент законопроекта «Ясукуни дзиндзя хоан».
Очевидно, что процедура захоронения военных преступников
в храме могла только навредить имиджу японских национали-
стов. Японский парламент пять раз отклонял упомянутый выше
законопроект о деятельности храма Ясукуни. Однако внезапная
смерть главного священника храма Цукуба Фудзимаро резко из-
менила ситуацию с принятием решения о захоронении военных
преступников в храме Ясукуни. На место Цукубы был назначен
бывший капитан-лейтенант императорского флота Мацудара
Нагаёси, который не признавал приговоров Международного
военного трибунала для Дальнего Востока и в 1978 году отдал
распоряжение захоронить прах 14 военных преступников в пан-
теоне храма. Об этом первоначально секретном решении руко-
водства храма стало известно лишь спустя год, в 1979 году239).
Таким образом, если посещение храма Ясукуни первыми лица-
ми Японии в контексте патриотического воспитания нации в период
1950-1970-х годов, т.е. до момента захоронения в нем 14 военных
преступников класса «А», не вызывало решительных протестов
со стороны соседей Японии по Восточной Азии, то после их за-
хоронения в 1978 году оснований для таких протестов появилось
немало. Более того, сам факт захоронения военных преступников,
осужденных Международным трибуналом, фактически отрицал
правомерность вынесения им приговоров этим международным
судом, невольно признавая задним числом его нелегитимность.
305
Факт официального захоронения японских военных преступни-
ков давал все основания для подхода с «двойными стандартами»
к оценке законности приговоров международных судов вообще,
ибо если на международном уровне решения таких судов имеют
юридическую силу и их никто не оспаривает, то в границах
субъектов международного права, в данном случае - Японии эти
решения не признаются законными вовсе и отрицаются как име-
ющие юридическую силу документы.
Экспозиции музея «Юсюкан» при храме Ясукуни убедитель-
но свидетельствуют именно о таком прочтении японской исто-
рии. В музее есть экспозиция, посвященная важной теме патри-
отического воспитания молодого поколения японцев, а именно:
так называемой проблеме официальных «извинений» властей за
поведение японской императорской армии во время Второй миро-
вой войны на захваченных территориях в Китае, в Корее, в стра-
нах ЮВЛ. Из материалов, представленных в музее, следует, что
начиная с 1965 года японское правительство формально не раз
приносило извинения за военные преступления японской армии,
за совершенные ею злодеяния по отношению к народам стран
Восточной и Юго-Восточной Азии, оккупированных во время
войны, за причиненные им страдания. Но всякий раз эти изви-
нения носили весьма лаконичный и нечеткий характер. Показа-
тельным в этом отношении, вероятно, могут служить извинения
министра иностранных дел Японии Сиина Эцусабуро перед ко-
рейским народом по случаю нормализации японо-южнокорей-
ских отношений в 1965 году. Тогда он заявлял: «Мы (японцы. -
М.К.) испытываем глубокое сожаление и угрызение совести за то,
что в долгой истории наших отношений были несчастливые пе-
риоды». Все последующие извинения японской стороны, по сути,
были выдержаны в таком же духе, т.е. по схеме, однажды сфор-
мулированной японским МИД для извинений Японии за прош-
лые военные преступления по отношению к народам оккупиро-
ванных стран.
В 1995 году парламент Японии одобрил резолюцию, офици-
ально регламентирующую формат «извинений» Японии за воен-
ные преступления прошлого. Правда, из 502 членов нижней па-
латы парламента «за» резолюцию проголосовали тогда только
230 депутатов. Резолюция была выдержана в весьма осторожных
выражениях. Но если депутаты от КПЯ настаивали на более
конкретных формулировках извинений, то депутаты от ЛДП,
напротив, предлагали обтекаемые и нечеткие формулировки либо
вообще голосовали против резолюции. Американский историк,
профессор Гарвардского университета Джон Доувер обратил
306
внимание на нечеткость и двусмысленность парламентской резо-
люции, касающейся формулировок «извинений» Японии за про-
шлые действия на оккупированных территориях. В своей работе
«Япония в войне и в мире» он приводит несколько выдержек из
той парламентской резолюции. «...По случаю 50-й годовщины
окончания Второй мировой войны парламент Японии выражает
свои искренние соболезнования всем тем, кто погиб в боевых
действиях в войнах во всем мире. Вспоминая многие случаи ко-
лониального правления и актов агрессии в современной мировой
истории и признавая, что Япония совершала такие действия в прош-
лом, нанося боль и страдания народам других стран, особенно
азиатским, члены нижней палаты парламента выражают чувство
глубокого раскаяния. Мы должны преодолеть различия в оценках
прошлой истории и покорно выучить ее уроки с таким расчетом,
чтобы построить мирное мировое сообщество. Нижняя палата
парламента выражает свою решимость, опираясь на мирную кон-
ституцию Японии, объединиться в рукопожатии с другими наро-
дами планеты и вымостить дорогу в будущее, которая позволит
всем людям на земле жить вместе дружно»240*.
Парламент Японии выступил с подобным «покаянием» всего
только один раз, да и то, когда консервативная партия власти, т.е.
ЛДП, временно не была у власти, а кабинет министров возглав-
лял социалист Мураяма Томиити241*.
При голосовании 200 членов нижней палаты, преимуществен-
но носителей националистической идеологии из числа японских
консерваторов, вообще протестовали против «покаянной речи»
премьер-министра социалиста Мураямы242*.
Обращает на себя внимание и тот факт, что в тексте выступ-
ления Мураямы японский колониализм и вооруженная агрессия
против народов Восточной Азии были поставлены в один ряд
с аналогичным поведением других великих мировых держав, что
должно было между строк означать, что агрессивная внешняя
политика Японии в период Второй мировой войны особо не вы-
делялась на фоне международного поведения других колониаль-
ных держав. Показательно также и то, что слова «извинений»
(по-японски - «сядзай» или «оваби») в речи Мураяма вообще от-
сутствовали.
Столь размытая позиция японских властей Японии в вопросе
«извинений» за совершенные во время Второй мировой войны
в странах Азии преступления не может не вызывать положитель-
ной оценки у японских националистов. Поэтому премьер-мини-
стры Японии весьма осторожно выступают с официальными
речами по случаю годовщины окончания Второй мировой войны.
307
Так, премьер Койдзуми Дзюнъитиро, произнося в период своего
нахождения у власти (2001-2006 гг.) официальные речи по слу-
чаю памятной даты окончания Второй мировой войны, всякий
раз выражал свою приверженность миру во всем мире и заявлял,
что Япония намерена быть ответственным членом мирового со-
общества. В своей речи 15 августа 2004 г. он, например, подчер-
кивал, что лично будет «прилагать усилия к тому, чтобы Япония
вновь обрела доверие в мире как страна, дорожащая миром во
всем мире»243*. Будучи по своим убеждениям откровенным нацио-
налистом, Койдзуми в своей речи вообще не принес никаких
извинений народам Восточной Азии за поведение японской ар-
мии и не вышел за рамки одобренного официального клише на-
бора извинений.
К большому удовольствию японских националистов язык
и подбор выражений всех официальных «извинений» первых лиц
Японии всегда отличался повышенной сдержанностью, в них
присутствовали местоимения от «первого лица» и исключалось
употребление понятия «мы - японский народ». Такой лингвисти-
ческий прием означал, что «извинения» за японскую агрессию
в страны Восточной Азии в годы войны должны быть персонифи-
цированы, они должны отводить ответственность от японской
нации и никогда не ставить ее под удар. Японская нация -
«неподсудна». Но именно это обстоятельство и вызывает силь-
ное раздражение и негодование китайской или корейской обще-
ственности244*. Неправительственная американская обществен-
ная организация «The Global Alliance for Preserving the History of
WWII in Asia» также отмечала, что, «хотя Япония и считает, что
она принесла уже много раз извинения народам Восточной Азии
за свою прошлую агрессию, правозащитники и жертвы этой аг-
рессии обвиняют японские власти в нарочитой двусмысленности
японских официальных извинений за прошлое. Если бы Япония
действительно хотела извиниться за свои прошлые преступления
на территории стран восточноазиатского региона, то она в первую
очередь предложила бы жертвам своей агрессии материальные
компенсации и выплаты. Но этого она делать не хочет»245*.
На волне растущего национализма в обществе власти Японии
не могут действовать иначе, кроме как «слегка обозначить» проб-
лему ответственности за прошлые военные преступления. В дей-
ствительности «извинения» Токио перед народами стран Восточной
и Юго-Восточной Азии таковыми и не являются, в них отсутст-
вует искреннее сожаление по поводу политики императорской
Японии во время Второй мировой войны. И дело не только в том,
что японские бюрократы сегодня сознательно избегают ответ-
308
ственности за прошлое. Дело в том, что на волне националисти-
ческой пропаганды многие в современной Японии просто не
понимают, за что в своем прошлом страна должна извиняться.
Всякий раз, когда Токио выражает скупые слова официальных
извинений за военные преступления, японские националисты
прилагают большие усилия с тем, чтобы нейтрализовать эти из-
винения и сформулировать противоположные взгляды на исто-
рию страны. Так, например, если официальный Токио делает шаг
навстречу улучшению отношений с Китаем, то японские национа-
листы делают при этом два шага назад, перечеркивая все позитив-
ное, что достигается в японо-китайских отношениях. В 1978 году
Япония подписала Договор о мире и дружбе с Китаем, однако уже
в 1979 году японский парламент поспешил одобрить «Закон об
императорском календаре» - Нэнго хо (например, 2011 год назы-
вается «Хэйсэй 23», датируя начало императорской династии
Хэйсэй и начало правления императора Акихито в 1989 году).
Впредь японские власти стали обязывать именно так официально
называть исторические периоды во всех японских изданиях, де-
монстрируя тем самым свое особое уважение к системе импера-
торской власти в Японии. Китайская сторона тогда крайне нега-
тивно отреагировала на эти новации.
Аналогичным образом действуют японские националисты и в
отношениях с Южной Кореей. После подписания в июне 1965 года
японо-южнокорейского базового договора уже 10 февраля 1966 г.
Япония впервые после окончания войны стала отмечать нацио-
нальный праздник «День основания государства» - Кигэнсэцу,
который после Второй мировой войны был запрещен как «насле-
дие мрачных времен», но который под давлением нацоналистов
был позднее восстановлен. В современной Японии произносить
вслух название праздника «Кигэнсэцу», надевать значок или
булавку для галстука с государственным флагом Хиномару -
значит публично демонстрировать свою приверженность к край-
не правым, националистическим взглядам.
В 1998 году состоялись официальные визиты президента
Южной Кореи Ким Дэ Джуна и председателя КНР Цзян Цзэминя
в Японию. Однако уже 13 августа 1999 г. в Японии был принят
закон о национальном флаге и гимне. Национальным флагом был
утвержден довоенный флаг японской империи «Хиномару» (флаг
начал рассматриваться как государственный еще в эпоху рестав-
рации Мэйдзи после 1868 года), а государственным гимном -
«Кими га ё» («Царствование императора»).
Последовательно восстанавливая символы довоенного нацио-
налистического прошлого, власти Японии уже не стесняются
309
демонстрировать японской и мировой общественности, что стра-
на уверенно идет в XXI век сплоченной и консолидированной
нацией, уважающей свою историю и преклоняющейся перед ней,
не испытывая за нее никакого чувства вины и комплекса «непол-
ноценности» перед окружающим миром. И ради такой высокой
цели Япония готова переписывать свою историю, устранять из
нее все то, что компрометирует нацию, позорит ее в глазах моло-
дого поколения японцев.
«Переписывание истории» является одной из важных задач
патриотического воспитания храма Ясукуни. Такую функцию
реализует Военно-мемориальный комплекс «Юсюкан», располо-
женный на территории храма Ясукуни и являющийся важной
составной частью всего храмового комплекса. «Юсюкан» - это не
музей храма Ясукуни, это музей национальных героев-воинов,
прах которых захоронен в храме Ясукуни. Музей имеет как бы две
воспитательные функции - он служит местом «поклонения и по-
коя» праха героев - «ками» и в то же время является центром
распространения «правды» об истории «великой Японии». В этом
втором качестве «Юсюкан» представляет собой уникальный
музей, единственный в своем роде музей в Японии. Он переносит
своих посетителей в атмосферу далеких 1930-х годов. Сегодня
музей является местом активной националистической пропаган-
ды, которая, в том числе, призывает японскую молодежь активнее
пополнять ряды японской армии, записываться в ряды почетных
японских ВВС и ВМФ. И в этом смысле роль музея «Юсюкан»
как центра национал-патриотического воспитания молодежи
трудно переоценить246*.
Во время американской оккупации музей «Юсюкан» по при-
казу штаба Макартура был закрыт. В 1961 году ограниченное число
артефактов, имевших отношение к жизни национальных героев
Японии, погибших на полях сражений за императора и родину,
было экспонировано в залах музея, которые не были разрушены
во время войны. В 1985-1986 гг. помещение музея «Юсюкан»
было полностью реконструировано и расширено, и музей был
открыт для посетителей. В 1999 году по случаю 130-й годовщины
со дня строительства храма Ясукуни в музее «Юсюкан» были до-
полнительно открыты новые просторные залы. В них были раз-
мещены не только такие крупногабаритные экспонаты, как, на-
пример, исторические вагоны первого железнодорожного состава,
курсировавшего по маршруту Таиланд-Бирма, но и реальные
японские военные истребители «Зэро», участвовавшие в авиауда-
рах по американской базе Перл-Харбор в декабре 1941 года. В залах
музея можно встретить плакаты с надписями, обращенными к япон-
310
ской молодежи: «Здесь находится правда по истории Японии,
которую мы восстанавливаем», «Мы хотим познакомить вас,
молодое поколение японцев, с войной, которую вы не знали».
Экспозиция музея «Юсюкан» сделана настолько мастерски, что
корреспондент газеты «Нью-Йорк тайме» Говард Френч, посетив
музей, был вынужден эмоционально заметить: «Оказывается,
Япония отдала немало жизней своих солдат в войнах XX века не
для того, чтобы покорять страны Азии, а для того, чтобы бороться
за их независимость от европейских колонизаторов!!!». Коммен-
тируя отсутствие в военном музее полномасштабных экспозиций
о деятельности, например, «Отряда 731», тематической подборки
фактов о сексуальном рабстве в японской армии или о «Нанкин-
ских событиях 1937 года», американский журналист писал, что
отсутствие такого рода материалов в музее связано с тем, что
«научные дискуссии по этим проблемам все еще продолжаются,
они не закончились и поэтому администрация музея не считает
возможным демонстрировать какие-либо экспонаты по этим де-
ликатным вопросам истории военного периода»247*.
Очевидно, что японские националисты не заинтересованы
бередить в сознании молодых поколений японцев раны прошло-
го. Поэтому невольно храм Ясукуни и военный музей «Юсюкан»
сегодня вынуждены формально играть своеобразную роль миро-
творцев, с одной стороны, «оберегающих» покой воинов прошлой
истории страны, а с другой, - посылающих сигнал последующим
поколениям японцев хранить о них память и не забывать, что они
отдавали свои жизни за их счастье. Японские националисты хо-
тят переписать историю именно под этим углом зрения, не отя-
гащая и не обременяя сознание нынешних поколений злодеяни-
ями японцев в прошлом. И хотя храм Ясукуни и музей «Юсюкан»
формально дистанцируются в своей деятельности от политики
распространения националистической идеологии в японском
обществе, на самом деле они являются ее активными проводни-
ками, формирующими сознание подрастающих поколений япон-
ской молодежи.
Японские националисты заинтересованы в том, чтобы госу-
дарство, открыто поддерживая деятельность храма Ясукуни и
военно-мемориального комплекса «Юсюкан», демонстрировало
японской и мировой общественности свое неприятие решений
Международного трибунала для Дальнего Востока по военным
преступлениям Японии во время Второй мировой войны, свое
нежелание извиняться и нести за это ответственность. Отсюда и
нескрываемая неудовлетворенность официальными «извинения-
ми» Японии, которую испытывают народы Китая, Южной Кореи,
311
а также общественность других стран региона, население которых
пострадало от рук японской военщины во время войны.
Двусмысленное значение имеют не только и не столько регуляр-
ные визиты первых лиц Японии в храм Ясукуни, сколько дву-
смысленны сигналы, которые Токио всякий раз посылает миро-
вой общественности. По сути, Япония не демонстрирует своим
поведением глубокого раскаяния за содеянное японской армией
на территории стран Восточной и Юго-Восточной Азии, за при-
чинение огромного ущерба экономике и населению этих стран.
Власти Японии сегодня и не пытаются скрывать свои национали-
стические настроения, коль скоро они демонстрируют готовность
«переписать историю», поддержать националистические настро-
ения в японском обществе, отказаться от Статьи 9 мирной Кон-
ституции 1947 года, пересмотреть Закон об образовании и т.п.
И дело не только в готовности Токио по факту пересмотреть
мирную Конституцию, а в том, что Япония своими действиями
игнорирует решения Потсдамской конференции, Сан-Францис-
ского мирного договора, Договора о мире и дружбе с Китаем,
Южной Кореей и даже с США. Это все «прощалось» Японии во
время «холодной войны». Однако после ее окончания такое по-
ведение Японии в ее отношениях с соседями вызывает недоуме-
ние. Многие страны - соседи Японии по восточноазиатскому
региону, в том числе и страны- жертвы ее агрессии, вправе ожи-
дать более точных и конкретных официальных оценок ее отноше-
ния к «проблеме храма Ясукуни». Без таких разъяснений храм
Ясукуни не может стать местом упокоения усопших, местом мира
и покоя для них.
6. Опасен ли сегодня японский национализм
Подъем националистических настроений в японском обществе
в начале XXI века существенно облегчал властям страны реше-
ние, как минимум, трех задач: во-первых, он способствовал фор-
мированию более благоприятных условий для радикализации
внешнеполитического поведения Японии на международной
арене, во-вторых, он облегчал решение задач по воспитанию пат-
риотического самосознания у новых поколений японской моло-
дежи и, наконец, в-третьих, он развязывал японским властям руки
в процессе реализации ими политики эскалации территориаль-
ных притязаний к России на Дальнем Востоке.
Радикализация внешнеполитического поведения Японии в начале
XXI века на фоне активного раскручивания спирали национализ-
312
ма в обществе выражалась в постепенном отходе ее правящих
кругов от философии пацифизма всех послевоенных десятилетий
и переходе к активной, наступательной дипломатии на междуна-
родной арене после «холодной войны». При этом очевидно, что
такой разворот был бы невозможен без заранее подготовленного
к этому и основательно обработанного идеологией государствен-
ного национализма массового сознания японцев, которые на про-
тяжении более полувека во второй половине XX столетия воспри-
нимали внешнюю политику страны исключительно через призму
мирных статей Конституции 1947 года, обязательств властей
соблюдать три неядерных принципа и неучастия японской армии
в вооруженных конфликтах за рубежом. Однако сегодня Токио
официально решает вопрос о пересмотре «трех принципов отказа
от экспорта вооружений», «трех неядерных принципов» (не иметь,
не производить и не ввозить ядерное оружие), а также официаль-
но признает право на коллективную самооборону, что может
пригодиться Японии при проведении японо-американских совме-
стных операций, например при возвращении российских Южно-
Курильских островов под японскую юрисдикцию.
Подъем национализма в японском обществе кардинально
изменил восприятие японцами новых международных реалий,
в которых власти не видят препятствий для проведения более
радикального внешнеполитического курса. В обществе практи-
чески прошло незамеченным, т.е. без массовых общественных
протестов и критики, принятие в декабре 2010 года новой про-
граммы национальной обороны. Она предусматривает переход
Японии от «базисной оборонной концепции», принятой прави-
тельством еще в 1976 году и предусматривавшей размещение
в стране минимально необходимого контингента Сил самооборо-
ны и вооружений, к «динамичной оборонной концепции», позво-
ляющей оперативно реагировать на угрозы со стороны Китая,
КНДР и России путем наращивания потенциала сдерживания,
последовательного и активного проведения разведки в условиях
видоизменяющихся вызовов и угроз, а главное - путем укрепле-
ния сотрудничества с вооруженными силами США и подключе-
ния американского воздушно-морского потенциала в интересах
укрепления национальной обороноспособности на вышеназван-
ных направлениях248^
О реальных последствиях таких изменений свидетельствуют
конкретные факты. Так, 18 декабря 2001 г. в Южно-Китайском
море произошел весьма показательный инцидент, обозначивший
отход от послевоенного пацифизма в массовом сознании япон-
цев. Впервые после капитуляции во Второй мировой войне япон-
313
ским ВМС был отдан приказ открыть огонь на поражение (потоп-
ление) иностранного судна, вторгшегося в территориальные воды
Японии. Приказ был успешно выполнен - иностранное судно
затонуло, а его экипаж погиб249*. Такое поведение японских воен-
ных было немыслимо себе представить даже в 1990-е годы, так
как это вызвало бы протесты широкой японской общественности.
На этот раз японская общественность не только не выступила
с резким осуждением действий военных моряков, но, по сути, под-
держала радикальные меры по защите национальных интересов
от «внешней угрозы», источник которой даже не был идентифи-
цирован. Такая реакция японцев стала возможной только в усло-
виях подъема националистической волны в японском обществе.
Распространяя идеологию государственного национализма,
японские власти эффективно обыгрывают виртуальные угрозы на-
циональной безопасности, якобы исходящие от Северной Кореи.
В октябре 2002 года власти КНДР официально объявили о про-
грамме производства ядерного оружия и о наличии в распоряже-
нии ее армии нескольких ядерных зарядов250*. Уже в середине фев-
раля 2003 года бывший министр национальной обороны Японии
Сигэру Исиба поспешил сделать официальное предупреждение
руководству КНДР о том, что «Япония готова нанести серию
превентивных ударов по территории Северной Кореи в случае
необходимости». Такое заявление японской стороны было по-
вторено 15 сентября 2003 г. в Лондоне. Тогда министр обороны
Японии особо подчеркивал, что Конституция страны позволяет
наносить превентивные удары по территории потенциального
противника в целях обороны, ибо «Токио не может допустить,
чтобы северокорейские ракеты первыми достигли японской тер-
ритории»251*. Японские СМИ и ряд видных членов кабинета ми-
нистров также подтвердили тогда тезис о том, что Япония будет
защищать себя всеми доступными ей средствами, не исключая
применение ядерного оружия, и работать на «опережение» потен-
циального противника252*.
В период «холодной войны» подобного рода высказывания
могли позволить себе лишь представители ультраправых нацио-
налистических организаций, однако после ее окончания наступа-
тельная риторика властей хорошо вписывается в контекст подъема
националистических настроений в японском обществе. Очевид-
но, однако, что столь радикальные изменения внешнеполитиче-
ской идеологии японского руководства не могут не оказывать
дестабилизирующего влияния на ситуацию в Восточной Азии, не
могут не нарушать сложившийся в регионе стратегический ба-
ланс сил.
314
Националистический фон в обществе благоприятствует правя-
щим кругам Японии ускоренными темпами реализовывать про-
граммы модернизации вооружений. Только в 2004 году расходы
на строительство новых систем ПРО страны составили 1,2 млрд,
долл., что в 9 раз превышало расходы на те же цели за пятилетие
1999-2003 гг. Ограничения, наложенные на процесс милитариза-
ции Статьей 9 Конституции 1947 года, активно размываются. Этот
процесс начался еще в 1987 году, когда впервые после 1970 года
военный бюджет страны превысил уровень 1% ВВП, долгое
время формально ограничивавший уровень военных расходов
(в 1955 году удельный вес военных расходов в ВВП составлял
1,78%, в 1960-м - 1,23%, в 1965 году - 1,07%). С тех пор японские
законодатели предпринимали различные попытки для того, чтобы
обходить добровольно принятые ограничения на военные приго-
товления в стране. Сразу после своего избрания в апреле 2001 года
на пост премьер-министра Японии Койдзуми сформировал спе-
циальную законодательную комиссию по вопросам пересмотра
Конституции, будучи заинтересованным в переоценке положе-
ний, касающихся использования военной силы. Одновременно
особое внимание он лично уделял обработке общественного мне-
ния в сторону разворота от пацифизма к необходимости укреп-
ления национальной обороноспособности. В результате большин-
ство японцев сегодня разделяют политику властей по созданию
в Японии полноценной современной армии: если еще в 2000 году
41% японцев выступал в поддержку изменения Статьи 9 Консти-
туции, то уже в 2001 году в условиях активной пропаганды, раз-
вернутой новым премьер-министром, эта доля увеличилась до
47%253) сПуСТЯ ю лет она составляет уже более половины всего
населения страны.
На фоне искусственного нагнетания страха перед внешней
опасностью и охвата националистической идеологией самых раз-
ных слоев японского общества ускоренные военные приготов-
ления властей уже не рассматривались японцами как вопию-
щее нарушение Статьи 9 мирной Конституции 1947 года. В конце
2002 года Синго Нисимура, видный представитель правого крыла
правящей ЛДП, официально заявлял, что «лидер КНРД Ким Чен
Ир ведет себя, как Гитлер, а японское правительство пытается его
умиротворить, действуя, как английское правительство Невилла
Чемберлена в конце 1930-х годов, когда оно проводило политику
умиротворения фашистских держав и подписало в итоге Мюн-
хенское соглашение 1938 года»254*. Английская газета «Таймс»
от 22 февраля 2003 г. писала, что Нисимура рассматривался на
Западе как одиозная личность среди японских политиков, а все
315
его рассуждения на тему о ядерном вооружении Японии ранее
объявлялись вне закона. Однако сегодня эта тема официально
поднимается многими политиками, представителями академиче-
ских кругов и высшими чиновниками255*.
И что самое показательное - японский избиратель сегодня
в основном поддерживает националистические высказывания
японских политиков. Характерной в этом отношении является
возросшая популярность мэра Токио Исихара Синтаро, известно-
го своими подчеркнуто патриотическими взглядами. Его попу-
лярность росла настолько быстро, особенно после выхода в свет
в начале 1990-х годов книги «Япония, которая может сказать
“нет”», что руководство ЛДП посчитало возможным поддержать
его на апрельских выборах 2003 года на пост мэра Токио, хотя
баллотировался он как независимый кандидат. Исихара набрал
тогда более 70% голосов избирателей, что было рекордным пока-
зателем для кандидатов, поддержанных ЛДП. А уже в сентябре
2003 года премьер-министр Койдзуми призвал общественность
открыть дебаты по внесению поправок в Статью 9 Конституции
Японии об «отказе от войны».
Радикализация внешней политики Японии на фоне растуще-
го национализма в обществе не остается незамеченной в странах
Европы и в США. Летом 2002 года руководство международной
организации «Гринпис», а также ее европейского отделения при-
звало страны-члены Евросоюза разорвать все двусторонние тор-
говые соглашения с Японией в ответ на проводимый ею курс на
превращение в ядерную державу. Обоснованность своей тревоги
«Гринпис» основывал на данных о быстро увеличивающихся за-
пасах оружейного плутония в стране. По данным «Гринпис», Япо-
ния уже накопила 38 тонн радиоактивных материалов и намерена
к 2020 году нарастить их в объеме 145 тонн. Принимая во внима-
ние, что для создания одного ядерного заряда необходимо всего
5 кг, к 2020 году Япония будет способна произвести 30 тыс. ядер-
ных боеголовок. Одновременно руководство «Гринпис» выража-
ло тревогу в связи с тем, что Япония добилась больших успехов
в освоении космического пространства в военных целях. Все это,
по мнению организации, означает, что Япония в скором времени
сможет претендовать на статус державы, обладающей современ-
ным ядерным оружием и средствами его доставки в космос256*.
Разумеется, раскручивание спирали националистической
пропаганды диктуется не только внешнеполитическими, но и
внутриполитическими соображениями. Послевоенные поколе-
ния японцев формировались в период, когда экономические
и технологические успехи Японии составляли законную гордость
316
нации, и они выросли с убеждением, что Япония станет лидером
в Восточной Азии, во всяком случае будет первой экономической
державой в регионе. Однако на протяжении последних 15 20 лет
японцы стали свидетелями прямо противоположных тенденций -
экономика Японии длительное время пребывает в состоянии
стагнации, а экономическое влияние их страны не только на гло-
бальном, но и региональном уровне заметно снижается. Мировой
финансовый кризис 2008 года, небывалый рост цен на энергоно-
сители, которые Япония вынуждена импортировать, а также раз-
рушительное землетрясение, цунами и события вокруг АЭС в
Фукусиме в марте-апреле 2011 года - все это усугубило и без того
нерадужное экономическое положение Японии в мире и в ре-
гионе, спровоцировало рост пессимистических настроений среди
японцев. Индекс деловой активности Японии - Никкэй - в на-
чале XXI века имел самые низкие показатели, упав ниже опасной
пороговой отметки в 8 000 пунктов. Уровень безработицы поддер-
живается на недопустимо высоком для Японии уровне в 5-6%,
практически сравнявшись с первыми послевоенными годами.
И этот показатель продолжает расти из года в год. Японцы уже
потеряли надежду на то, что власти страны смогут исправить
экономическое положение и стабилизировать его. Правительство
опасается любых реформ в экономике, так как считает, что они
могут еще больше обострить ситуацию.
В начале 2011 года правительство Японии официально при-
знало, что страна больше не является второй экономикой мира,
а по итогам 2010 года окончательно стало ясно, что Китай обошел
Японию по производству ВВП257).
Страны Восточной и Юго-Восточной Азии, которые построили
свою экономику с опорой на помощь Японии, сегодня все больше
обращают свои взоры на Китай, в лице которого они видят своего
самого важного и надежного торгового и экономического партнера.
Даже Япония осознает важность инвестирования в экономику
КНР. Среди наиболее крупных японских инвесторов в экономику
Китая можно выделить такие мощные корпорации, как NEC
и Хонда. В Китай вкладывают и многие крупные американские
и европейские промышленные и электротехнические корпорации.
Весьма распространенное среди японцев сегодня чувство оби-
ды за свою страну, усиленное напряженностью в двусторонних
отношениях с Китаем в стратегической области, подталкивает
японских националистов к убеждению в том, что только сильная
в военном отношении и консолидированная идеологически Япония
может заставить считаться с ее интересами соседей по региону.
Унижение, которое испытывают японцы в связи с нерешенностью
22-5584
317
в свою пользу спорных территориальных проблем, будь то с Китаем
из-за островов Сэнкаку или с РФ из-за Южно-Курильских ост-
ровов, только добавляет решимости националистическим кругам
в Японии добиваться выгодного для них решения.
При этом японские националисты искренне недоумевают, что
заставляет японский бизнес, который сам находится в состоянии
экономического кризиса, продолжать вывозить в Китай не только
прямые и портфельные инвестиции, но также технологию, предо-
ставлять кредиты и т.п., а Китай ежегодно наращивает расходы на
военные нужды258*. Японские националисты не одобряют такую
инвестиционную политику, которая наносит ущерб национальным
интересам страны. Нельзя же закрывать глаза на то, например,
что на протяжении ряда последних лет со стороны НОАК наблю-
дается повышенная активность в акватории спорных с Японией
островов Сэнкаку, которую японские военные специалисты вос-
принимают исключительно как проведение подготовительных
работ по минированию омывающих эти острова вод Тихого оке-
ана. Как не раз заявлял Исихара Синтаро, Япония вкладывает
средства в развитие военной промышленности КНР, которая
продолжает наращивать силовой потенциал на японском направ-
лении и совершенствует ядерное оружие259*.
Японские националисты требуют от правительства скоррек-
тировать внешнюю политику и на американском направлении.
На протяжении всего периода «холодной войны» США выступа-
ли как гарант безопасности Японии в Восточной Азии. Однако
после «холодной войны» японцы впервые почувствовали, что
интересы Америки и Японии в вопросах безопасности расходятся
и что новая внешняя политика США в мире далеко не всегда
отвечает интересам безопасности самой Японии. Например, со-
гласно проведенным летом 2003 года опросам общественного мне-
ния в Японии, более 60% респондентов считали, что война США
в Ираке была несправедливой260*.
Кроме того, многие японские националисты выступают за
ликвидацию американских военных баз на Окинаве. Митинги
протеста по этому поводу собирают более 100 тыс. человек. В ми-
тингах принимают участие главы всех административных единиц
префектуры во главе с губернатором острова. На очередном ми-
тинге 25 апреля 2010 г. губернатор Окинавы Хирокадзу Накаима
прямо заявил, что «тяжелейший груз от военных баз США в мас-
штабах всей Японии выглядит не иначе как неравенство, если
не сказать дискриминация по отношению к Японии». Участни-
ки митинга выразили тогда свое недовольство правительству
Японии нерешительной политикой в вопросе ликвидации воен-
318
ных баз США и затягиванием выполнения предвыборных обеща-
ний на этот счет260.
Еще в 2007 году между США и Японией было достигнуто со-
глашение о переносе американской базы Футэма на Окинаве в
район города Наго в той же префектуре. В своем предвыборном
манифесте Демократическая партия, победившая на выборах в
августе 2009 года и сформировавшая правительство Юкио Хато-
ямы, обещала пересмотреть соглашение, учитывая протесты ме-
стного населения. Жители требовали перенести базы с Окинавы,
где их сконцентрировано более 70% от всего числа американских
военных баз на территории Японии. Речь тогда шла о переносе
базы за пределы страны или, как минимум, за пределы префек-
туры. Однако решение пересмотреть японо-американское согла-
шение по размещению баз вызвало тогда резкую реакцию со сто-
роны США. Хатояма обещал обнародовать окончательный план
перевода базы к концу мая 2010 года, но ни один из районов
страны, которые назывались в качестве возможных мест размеще-
ния базы, был не готов даже обсуждать этот вопрос из-за протестов
населения. В середине апреля 2010 года после митинга на острове
Токуносима против планов размещения там американской базы
все три представителя местных административных районов отка-
зались от переговоров об этом с представителем правительства.
Японские националисты убеждены, что без сильной современ-
ной армии Япония обречена на пребывание в стратегической
зависимости от США. Сохраняющаяся напряженность ситуации
в Восточной Азии, в зоне стратегических интересов Японии, ук-
репляет позиции японских националистов в том, что Статья 9
Конституции страны должна быть в короткие сроки пересмотре-
на. Сомнения в надежности США как стратегического партнера
Японии прибавляют уверенности тем националистическим силам
в Японии, которые выступают в поддержку скорого превращения
страны в ядерную державу. Официальные представители США
в начале 2003 года осторожно намекали китайскому руководству
на то, что если Пекин не окажет давления на северокорейское
руководство и не побудит его отказаться от продолжения работ
в рамках ракетных и ядерных программ, то Япония будет вынуж-
дена приступить к производству ядерного оружия. Такая увязка
событий сыграла на руку японским националистам, и, по всей
вероятности, в будущем будет крайне сложно, если не невозмож-
но, загнать в бутылку японского «ядерного джинна»262).
Поворот в настроениях националистически настроенной части
правящего истеблишмента Японии в пользу радикализации внеш-
ней политики и ремилитаризации страны имеет еще один психо-
22*
319
логический аспект. На протяжении 1980-х и начала 1990-х гг.
Япония имела самый высокий уровень зарубежных инвестиций
в мире. Она инвестировала в экономику азиатских стран, она
делала большие вложения в бюджет ООН, во Всемирный банк,
в Азиатский Банк развития. Однако парадоксальным образом
Японии никогда не удавалось трансформировать эти огромные
вложения финансовых ресурсров в усиление своего политического
влияния в мире с тем, чтобы требовать от стран-заемщиков япон-
ского капитала подчинения ее интересам, выполнения ее требо-
ваний т.п. Япония работала как бы вхолостую на международной
арене, и то, что в японском обществе по праву воспринималось
как гордость за экономические и технические достижения нации,
другие страны воспринимали с определенным чувством безраз-
личия, по сути, игнорировали Японию и ее политическую роль
в системе международных отношений. Так, например, Японию
до сих пор не приняли в постоянные члены СБ ООН, гражданин
Японии ни разу не назначался на должность председателя Все-
мирного банка, равно как и Международного валютного фонда.
Единственным представителем Японии во влиятельной между-
народной организации - ООН была Садако Огата, которая была
назначена на должность верховного комиссара ООН по беженцам
в 1991 году, спустя годы лоббирования Японией этой должности
в руководстве ООН. Кроме этого, 1 декабря 2009 г. Генеральным
директором МАГАТЭ был назначен японец Юкия Амано.
Отсутствие международного признания Японии в качестве
полноценного и полноправного члена клуба великих мировых
держав воспринимается японцами как в высшей мере несправед-
ливый факт, оскорбляющий национальное достоинство. Япон-
ские националисты видят главную причину сложившегося поло-
жения дел только в одном - Япония все еще не имеет мощного
силового потенциала и современной армии, с которой считались
бы в мире. Наличие такой армии в сочетании с активной и неза-
висимой от США внешней политикой, по мнению японских на-
ционалистов, было бы способно вернуть стране уважение и между-
народный авторитет, которых она заслуживает.
Правда, праворадикальное крыло японских националистов
идет еще дальше и считает, что для этого необходимо развивать
не только гражданскую экономику, но в первую очередь восста-
новить в полном объеме отрасли ВПК, как это было в 1930-е гг.
Поэтому сегодня японские националисты выступают главной
политической силой, которая поддерживает столь непопулярные
в обществе и болезненные структурные реформы, имеющие сво-
им следствием рост безработицы, отказ от системы пожизненного
320
найма, экономическую стагнацию. Многие националистически
настроенные представители крупного капитала особенно рьяно
поддерживают американский стиль управления экономикой, ра-
дикально отличающийся от традиционного патерналистского
стиля японских корпораций. Они убеждены, что старая патерна-
листская экономическая система больше не работает и ее сохра-
нение угрожает выживанию нации как великой державы.
Сегодня многие японские националисты выступают против
государственного регулирования и вмешательства государства
в бизнес, против сильного контроля за деятельностью крупных
национальных корпораций. Они считают, что в таких современ-
ных высокотехнологических областях, как, например, телекомму-
никации, государственный контроль сдерживает технический
прогресс в производстве новых видов продукции, ставит япон-
ских производителей в менее выгодное положение на мировом
рынке, хотя в прошлом японские фирмы в этом секторе промыш-
ленности были лидерами.
Парадоксально, но националисты в Японии способствуют
тому, чтобы японское правительство как можно больше привле-
кало бы иностранных рабочих на японские предприятия для того,
чтобы те вытесняли стареющую японскую рабочую силу. По оцен-
кам министерства здравоохранения, труда и благосостояния,
к 2020 году лица старше 65 лет в Японии составят 26% всей чис-
ленности населения, а к 2050 году эта доля повысится до 36%.
И если на уровне 2010 года на 1 японского пенсионера приходи-
лось 4 активно работающих японца, то в 2050 году будет прихо-
диться 1,5 работника, что, по сути, приведет нацию к экономиче-
скому краху. Японские неонационалисты настаивают на увеличении
притока мигрантов для компенсации стареющего населения страны.
Исихара открыто призывает все больше приглашать иностранных
рабочих в Японию, независимо от того, как японцы относятся
к мигрантам, так как это необходимо Японии для ее экономиче-
ского выживания.
Процесс радикализации японской внешней и внутренней
политики под влиянием требований националистических сил
в Японии развивается быстрыми темпами. В ближайшие годы
Статья 9 Конституции 1947 года неминуемо будет пересмотрена
и ограничения на милитаризацию Японии будут сняты. Япония,
наконец, создаст полноценную современную армию (а не силы
самообороны), обладающую не только потенциалом обороны,
но главное - потенциалом наступления. При этом важно подчерк-
нуть, что, как это уже не раз бывало в японской истории, процесс
милитаризации будет развиваться параллельно с ростом нацио-
321
налистических настроений263*. Правда, если верить профессору
юриспруденции Токийского университета Съиити Китаока, в Япо-
нии, хотя и начался процесс ремилитаризации, мало кто из дей-
ствующих политиков хотел бы при этом выходить за существу-
ющие конституционные рамки264*. Однако даже конституционные
ограничения могут быть легко демонтированы, если угроза нацио-
нальной безопасности станет реальной, например в случае офи-
циального заявления руководства КНДР о наличии в стране
ядерного оружия и средств его доставки.
Реакция США на превращение Японии в ближайшем буду-
щем в сильную военную державу в Восточной Азии пока офици-
ально не озвучивается, и поэтому неизвестно, заинтересована
ли Америка видеть в лице Японии «младшего брата» или США
готовы иметь дело с полноценной военной державой в восточно-
азиатском регионе, стратегические интересы которой не обяза-
тельно будут совпадать с американскими. Сегодня непросто пред-
ставить себе последствия, которые могут иметь радикализация
внешней политики Японии и ее ускоренная ремилитаризация для
японо-американских отношенияй. Ведь американцы имеют свои
интересы в регионе, далеко не всегда связанные с сильной, мили-
таризированной Японией. Да, сегодня между США и Японией
существуют прочные стратегические связи, но если завтра Пекин
заподозрит Америку в поощрении ремилитаризации Японии,
то напряженность в американо-китайских отношениях сильно
возрастет. Правда, нельзя исключать при этом, что сильная в
военном отношении Япония пойдет на заключение «Пакта без-
опасности» с Китаем с целью предотвратить эскалацию гонки во-
оружений в Восточной Азии. Нетрудно предположить, что реак-
ция США на такой японо-китайский договор о безопасности
будет резко негативной. Власти КНР, со своей стороны, прилага-
ют усилия к тому, чтобы смягчить исторические противоречия
с Японией, и последняя отвечает на это взаимностью. Так, напри-
мер, в сентябре 2003 года министр обороны КНР Као Ганчуань
встречался с бывшим государственным министром, начальником
Управления национальной обороны Японии Исиба. Эта была
первая такая встреча за многие годы. Тогда же было объявлено,
что Япония впервые после 1949 года примет в своих доках для
ремонта китайский военный корабль265*. В свою очередь, китай-
ская сторона приняла с визитом дружбы эскадру японских воен-
ных кораблей.
Укрепление японо-китайского военного сотрудничества мо-
жет быть воспринято в США как попытка обеих сторон ослабить
американские стратегические позиции в Восточной Азии и на
322
Тихом океане, к чему Америка сегодня, похоже, не готова. Руко-
водство КНДР также может использовать процесс ремилитари-
зации Японии в качестве оправдания ускоренной реализации
своих ядерных и ракетных программ или их возобновления после
короткого перерыва.
Очевидно, что США могут поддержать позицию тех национа-
листически настроенных японских политиков, которые выступа-
ют за дальнейшее сближение с США. Однако США никогда не
будут поддерживать те националистические силы в японском
правящем истеблишменте, которые ориентированы на усиление
военного потенциала страны в ущерб стратегической зависимо-
сти Японии от США.
Одним из негативных последствий проникновения национали-
стических настроений в руководящие эшелоны японского руко-
водства, на наш взгляд, является непрозрачность его истинных
внешнеполитических интересов. Без понимания внешнеполити-
ческих интересов Токио невозможно уяснить, чего же в итоге
хочет японская сторона в отношениях с США, Китаем, обоими
корейскими государствами или Россией. Так, например, хотя
внешне японское руководство и продолжает поддерживать геге-
монистскую политику США в мире, многие в японских эшелонах
власти начинают осознавать, что поведение Америки в системе
международных отношений далеко не всегда соответствует нацио-
нальным интересам самой Японии. Японские националисты, на-
пример, нередко критикуют власти США за бездействие в отно-
шении КНДР, представляющей для Японии наиболее реальную
опасность.
Теоретически допустимо, что можно было бы использовать
рост националистических настроений в правящих кругах Японии
и в обществе в целом в конструктивном направлении, т.е. поддер-
жать их стремление возродить страну как независимую от США
мировую экономическую и технологическую сверхдержаву, как
гаранта стабильности в Восточной Азии и на Тихом океане. Но при
этом нельзя забывать, что эти усилия самым тесным образом свя-
заны со стремлением превратить Японию в ядерную и сильную
в военном отношении державу. А в этом случае избежать серьез-
ной дестабилизации в Восточной Азии в ближайшей перспективе
будет крайне сложно.
Ставка на национализм стала базовым условием и неотъемлемой
частью активной политики властей по усилению военно-патрио-
тического воспитания японской молодежи, по широкой пропаганде
военных знаний среди молодых поколений японцев. Министерство
обороны Японии наряду с его известным изданием «Белая книга
323
по обороне Японии» - «Боэй хакусё» стало выпускать компакт-
ную версию справочника, предназначенную для менее подготов-
ленного читателя и в основном ориентированную на молодежь.
По замыслу составителей сборника, японские молодые люди долж-
ны иметь более глубокие представления о внешних «угрозах»
безопасности Японии и о методах их предотвращения. По заказу
министерства обороны с 2005 года в Японии регулярно издается
другой вариант «Белой книги по обороне Японии», на этот раз
в виде комиксов - «манга», предназначенный в самой доступной
форме знакомить японских школьников с проблемами нацио-
нальной безопасности и военной политики страны. Специальные
издания комиксов освещают также вопросы строительства совре-
менной японской системы ПРО266*.
Удивляет изобретательность японских властей в области во-
енно-патриотического воспитания молодежи. Дело даже не толь-
ко в том, что власти ненавязчиво, но «в деталях» знакомят ее
с внешними «угрозами» безопасности; обращает на себя внима-
ние то, что для этого они используют такие нестандартные фор-
мы, как комиксы-манга, круг читателей которых в Японии в ос-
новном составляют лица дошкольного и школьного возраста. Так,
в издании «Белой книги по обороне» 2005 года, вышедшем в фор-
мате «манга», главный герой представлен в виде маленького наи-
вного и очень миролюбивого медвежонка, который с удивлением
пытается осмыслить и понять угрозы, с которыми вынуждена
сталкиваться Япония в начале XXI века, но, «осмыслив» их, силь-
но расстраивается. Он удивлен, что таких «угроз» для его страны
слишком много. Но при этом он высказывает по тексту твердую
уверенность в том, что безопасность Японии надежно защищена
мощными силами самообороны, которые никогда не дадут его
любимую родину в обиду267*.
В аналогичном издании министерства обороны Японии, вышед-
шем в 2007 году и посвященном проблемам «развертывания нацио-
нальной систем ПРО», два героя - мальчик и девочка «болеют»
на стадионе за одну футбольную команду. Они наблюдают за
игрой футболистов, но неожиданно переключают свое внимание
на обсуждение темы возможной ракетной атаки на Японию со сто-
роны ее ближайших соседей. Дети успокаивают друг друга тем,
что Япония имеет современную ПРО и ей абсолютно нечего
бояться. Тема ПРО и ракетных атак в издании как бы незаметно
переключается на игру футболистов на поле, на удары нападаю-
щих и защитников команд268*. До 2005 года министерство оборо-
ны Японии сотрудничало с издательствами в выпуске журнала
«Сэкуритариан» (Безопасность), предназначенного для популяри-
324
зации деятельности Сил самообороны. Начиная с 2005 года мини-
стерство обороны стало финансировать издание другого популяр-
ного журнала - «Мамору» (Оборона), стремясь расширить круг
читателей, познакомить их с потенциальными угрозами без-
опасности и с методами, которые применяет государство в целях
защиты безопасности своих граждан.
Заглавную роль в пропаганде знаний по военно-патриотиче-
скому воспитанию играет руководство министерства обороны,
которое проявляет в этой области немало инициатив. Так, ми-
нистр обороны Японии Сигэру Исиба (2008 г.) сам подготовил
текст введения для Специального выпуска журнала манга, посвя-
щенного вопросам национальной обороны. В нем он подробно
описал апокалипсические сценарии ракетных и ядерных атак
Северной Кореи на Японию, а также захват террористами само-
лета внутренних японских линий и его атаку на одну из японских
АЭС269>.
Как никогда в прошлом, сегодня полки книжных магазинов
крупных городов Японии заполнены литературой, посвященной
подробному описанию «угроз» безопасности страны со стороны
соседних государств. Авторы подобного рода литературы - от-
нюдь не случайные люди. Многие из них - профессора универ-
ситетов, отставные чиновники Управления национальной оборо-
ны Японии, известные политики. Авторы сполна удовлетворяют
запросы и специфической части читательской аудитории, так
называемых «гундзи о-таку» (домохозяек), которые «на кухне»
активно обсуждают друг с другом возможные сценарии силовых
столкновений Японии с Китаем или с КНДР. Всякий раз, успо-
каивая себя, они возлагают надежду на сильную японскую армию,
японский военный флот и авиацию, способные отразить любые
атаки на страну с воздуха или с моря270).
Новым моментом в этих широких патриотических кампаниях
является то, что многие ранее закрытые и секретные вопросы
военного строительства и обороны сегодня открыты для широкой
публики, и власти прямо рекомендуют использовать такого рода
сведения для дополнительной информации о японской армии,
о политике в области национальной безопасности, о важности
нанесения упреждающих ударов по потенциальному противнику
в целях безопасности.
Результативность работы в области военно-патриотического
воспитания, по пропаганде военных знаний и военной политики
находится в Японии на высоком уровне. Об этом, в частности,
свидетельствуют результаты социологических опросов, которые
однозначно показывают растущий интерес японцев к этим воп-
325
росам. Такой результат достигается не только путем знакомства
общества с официально рекомендованной литературой и откры-
тыми публикациями, но и организацией продуманной системы
образования в военной области. Так, согласно суммарным резуль-
татам опроса за период с 1978 по 2006 год, общественный интерес
к получению знаний в области военной политики, организации
обороны и систем безопасности вырос в Японии более чем на 70%.
Это значит, что властям в целом удалось сформировать в япон-
ском обществе консенсус по вопросам идеологического обеспече-
ния своей внешней политики, получить поддержку подавляющего
большинства населения на проведение более активной внешне-
политической стратегии, добиться одобрения на включение в
школьные программы уроков военно-патриотической подготовки
и уроков морали, которые были в довоенной Японии, но которые
были исключены из школьной программы оккупационными вла-
стями США после войны270.
Центральное место в военно-патриотическом воспитании япон-
ской молодежи на современном этапе занимают даже не столько
военно-прикладные аспекты образования, сколько преподавание
основ патриотической и националистической идеологии. В про-
екте поправок к Конституции, разработанных ЛДП в 2005 году,
предлагалось внести дополнение относительно обязательств япон-
ских граждан «защищать Родину». Однако впоследствии эта по-
правка была смягчена формулировками «о вере японского народа
в стремление всех народов мира жить в мире и дружбе друг
с другом, развивать мирные отношения», правда, при этом огова-
ривалось, что «японский народ должен сам обеспечивать свою
безопасность и условия своего выживания»272*.
Усилия японских националистов во власти активизировать
патриотическое воспитание молодежи продемонстрированы
также в предпринятой в декабре 2006 года попытке пересмотреть
Основной закон об образовании. Противники принятия закона
1947 года из числа японских националистов критиковали тогда
его содержание за откровенное навязывание японскому обществу
американских ценностей, а также за отсутствие в законе норм
обязательного патриотического воспитания японской молодежи.
После «холодной войны» японские консерваторы из ЛДП стали
подробно обсуждать с оппозиционными партиями содержание
понятия «патриотизм». Они предполагали включить в новый
закон об образовании положения, в которых было бы прописано,
что «японцы должны уважать японскую культуру и традиции,
любить свою родину, которая их воспитала, и при этом уважать
также традиции других стран и народов и содействовать укреп-
326
лению мира во всем мире, активно участвуя в развитии между-
народных связей»273*.
Таким образом, активность японских националистов из ЛДП
на ниве усиления патриотического воспитания молодежи внешне
была в известной мере сбалансирована их же призывами разви-
вать международное сотрудничество. Однако приоритетным на-
правлением деятельности японских консерваторов на сегодня
все-таки остается воспитание современного поколения японцев
в духе патриотизма и национализма как идеологии, формирую-
щей личность, готовящей молодое поколение японцев к выполне-
нию ими своего долга перед государством, если последнее их об
этом попросит. Такой подход к воспитанию японской молодежи
кардинально отличается от политики всех послевоенных десяти-
летий в этой области, когда такие понятия, как «патриотизм», вы-
полнение «долга перед государством» и т.п. категории идеологии
государственного национализма, были просто запрещены для
употребления под давлением американцев, требовавших вырвать
с корнем любые попытки милитаризации массового сознания
японцев. Сегодня, однако, складывается впечатление, что со-
временные японские националисты не жалеют усилий для того,
чтобы сформировать новую законодательную базу для национал-
патриотического воспитания японской молодежи274*.
И надо признать, что их старания в этом направлении пре-
восходят даже действия националистов в довоенной Японии.
Последние в своей деятельности по патриотическому воспитанию
молодежи опирались на Императорский «Рескрипт о воспитании
1890 года», который содержал указание на то, что «подданные
императора обязаны мужественно выполнять свой долг перед
Родиной», но при этом ничего, правда, не говорилось «об обязан-
ности каждого японца любить Родину». Императорский «Рескрипт
о воспитании 1890 года» был отменен американцами в период
оккупации Японии из-за опасений, что его сохранение способ-
но реанимировать милитаристское сознание японцев, особенно
японской молодежи. О такой категории, как «обязанность любить
Родину», на время все забыли. Однако современные национа-
листы в Японии стремятся реанимировать уже изрядно подза-
бытые патриотические понятия, ибо реалии развития Японии
в начале XXI века таковы, что страна, по меткому выражению
Маккорнака, стала слишком «нервной, несчастной и находится
в постоянно напряженных отношениях со всеми своими соседями
по Восточной Азии», что объективно диктует властям задачу
консолидации общества на националистической, патриотической
основе273*.
327
Национализм в Японии может стать опасным тогда, когда
националистические политики и общество придут к консенсусу
в отношении легального и эффективного использования силы для
обеспечения интересов национальной безопасности. Именно тог-
да окончательно произойдет замена послевоенной пацифистской
парадигмы национального развития на новую, силовую. Факты
развития Японии в первом десятилетии XXI века свидетельству-
ют, впрочем, о том, что страна все еще не готова к переходу на
силовую парадигму. Именно поэтому Япония продолжает с боль-
шим нежеланием, да и то под сильным давлением со стороны
США, соглашаться на использование своих вооруженных сил
в составе международных коалиций для решения стратегических
задач глобального характера в интересах Америки.
Вместе с тем правящая элита Японии продолжает целеуст-
ремленно работать над укреплением национального оборонного
потенциала, необходимого ей не столько для «отражения» внеш-
ней агрессии, сколько для укрепления позиций страны в военно-
политическом союзе с США, а также ее международных позиций
в новом мировом порядке. Токио готов вносить вклад в укрепле-
ние стратегического партнерства с США в рамках Договора без-
опасности. Сегодня японское общество поддерживает легитим-
ность японской армии как структуры, отвечающей за обороно-
способность страны. С момента окончания «холодной войны»
заметно возросла роль Японии как союзника США в совместных
операциях за рубежом, которые, впрочем, далеко не всегда отве-
чают национальным интересам безопасности самой Японии.
Японская общественность сегодня убеждена в том, что объедине-
ние силового потенциала японской армии и потенциала японо-
американского договора безопасности являются наилучшим сред-
ством защиты национальных интересов страны. Уверенность в этом
повысилась среди японцев с 40% в 1970-е годы до 80% в 2006 году.
Вместе с тем доверие общественности к возможностям японской
армии самостоятельно защищать Японию в случае внешней агрес-
сии, равно как и политика отказа от использования силы при раз-
решении международных споров (Статья 9 Конституции 1947 года),
не пользуется поддержкой большинства японцев276*.
Японское общественное мнение, добротно «обработанное»
идеологией государственного национализма и патриотизма, за-
метно изменилось после «холодной войны» в пользу понимания
важности в вопросах безопасности опоры на две названные выше
составляющие: на национальный оборонный потенциал и на
японо-американский военно-политический союз. Совершенствуя
военно-технические возможности своего вооружения, а также
328
расширяя географические зоны стратегической ответственности
в регионе Восточной Азии и западной части Тихого океана (а это,
в свою очередь, побуждает ее власти стремиться к размещению
вооружений за пределами территории Японских островов), Япо-
ния, несмотря на возрастание рисков такой политики, целеуст-
ремленно наращивает усилия именно по этим двум основным
направлениям своей военной политики.
Японии уже приходилось сталкиваться в начале XXI века со
случаями проникновения северокорейских разведывательных
судов в национальные территориальные воды и использовать
силу для их выдворения. Так, в марте 1999 года по северокорей-
скому судну, проникшему в территориальные воды Японии, было
произведено 35 предупредительных выстрелов со стороны япон-
ских ВМС, а самолеты береговой авиации Р-3 С сбросили на
корабль четыре 150-килограммовые морские бомбы в качестве
предупредительной меры. При этом важно отметить, что исполь-
зование силы в качестве предупредительной меры по объекту
противника в зоне ответственности японских сил самообороны
было поддержано как широкой японской общественностью, так и
министерством обороны, ибо гражданское руководство Морского
агентства безопасности, впоследствии переименованного в «Бере-
говую охрану Японии» (Кайдзё хоан тё), безуспешно пыталось
остановить тогда нарушителя. В декабре 2001 года вновь создан-
ные военизированные подразделения береговой охраны пытались
уже своими силами потопить северокорейское судно-нарушитель
с десятью членами команды. Использование силы на поражение
было применено Японией впервые после окончания Второй ми-
ровой войны. Но что самое примечательное, оно было широко
поддержано миролюбивой японской общественностью, консоли-
дированно выступившей в «защиту территориальной целостно-
сти родины».
Разумеется, использование японской стороной военной силы
на поражение не следует переоценивать и тем более рассматривать
этот факт как результат обработки общественного сознания идео-
логией национализма и патриотизма. Реакция японских военных
была вполне адекватной угрозе вторжения в территориальные
воды иностранного судна. Более того, приказ о применении огня
на поражение был отдан Управлением береговой охраны, а не
министерством обороны. Но тем не менее, столь решительные
действия японских властей в новых исторических условиях сле-
дует воспринимать как сигнал к возможному прорыву ее норма-
тивных ограничений на использование военной силы в мирное
время. Аналогичные примеры создают опасные прецеденты на
329
возможное применение Японией военной силы в будущем, напри-
мер при «освобождении незаконно оккупированных Россией
Южно-Курильских островов».
Складывается впечатление, что активная националистическая
и патриотическая пропаганда в Японии уже «приучила» япон-
скую общественность поддерживать военные операции, конкрет-
но предназначенные для «национальной обороны» с вынужденным
использованием «наступательных действий» японской армии277*.
Однако очевидно, что военная машина Японии, пригодная для
ведения «обороны» и немедленного реагирования на угрозы на-
циональной безопасности, все еще не приспособлена для ведения
активных наступательных действий за национальными граница-
ми, для чего ей как минимум необходимы военные базы в других
странах, включая и страны АТР. Поэтому японская обществен-
ность в целом благосклонно относится к участию сил самооборо-
ны в боевых операциях коалиционных сил, например, в Афгани-
стане в борьбе с международным терроризмом, но испытывает
двойственные чувства в отношении участия японской армии в войне
против Ирака, который не представлял прямой угрозы безопас-
ности Японии, а США были просто заинтересованы в силовой
замене нелояльного Америке режима Саддама Хусейна278*.
Националистическая индоктринация массового сознания япон-
ского общества сегодня вышла на такой уровень развития, когда
она может задавать тональность внешней и военной политике вла-
стей, поддерживая применение военной силы для защиты нацио-
нальных интересов в случае наличия реальных угроз националь-
ной безопасности или ущемления этих интересов либо препятствуя
властям в проведении таких действий. Японские политики вы-
нуждены сегодня просчитывать наперед возможную реакцию
общественности на участие японской армии в военных операци-
ях, которые после «холодной войны» все чаще инициируются
Пентагоном в разных частях мира и в той или иной форме втяги-
вают японскую армию в военные авантюры.
Но можно ли при этом утверждать, что японское обществен-
ное мнение способно сегодня играть роль «тормоза» на пути
обозначенного перехода японской внешней политики - от после-
военного пацифизма к активной, наступательной дипломатии по
всем направлениям, прямо влиять на решения об использовании
военной силы за рубежом, оказании военной поддержки армии
США в ее агрессивных внешних операциях в мире. Представля-
ется, что такой вывод был бы преждевременным. Общественность
Японии может не поддержать участие сил самообороны в опера-
циях за пределами страны, если они имеют агрессивную природу.
330
Но даже в этом случае японская общественность не будет возра-
жать против организации таких войн силами США. В этом смысле
поведение японской общественности заметно отличается от пове-
дения части американского или европейского общества, которое,
как хорошо известно, не самоустраняется от критики военных вы-
ступлений властей США, активно протестуя против войны в Ираке,
Афганистане, Ливии, Югославии и т.п., где Вашингтон использу-
ет силу для свержения законной власти.
Носители идеологии государственного национализма и патри-
отизма во власти и в обществе в Японии сегодня открыто поддер-
живают участие японской армии в военных операциях США в мире.
Свою позицию они объясняют возросшей нестабильностью в си-
стеме международных отношений, а также серьезным снижением
уровня эффективности ООН, и в частности игнорированием
ведущими странами - постоянными членами СБ ООН Статей 11
и 12 Устава ООН, определяющих ее Функции и Полномочия27*0.
Они видят в укреплении японо-американско военно-полити-
ческого союза единственный залог национальной безопасности
Японии. Японские националисты выступают в поддержку расши-
рения военного союза с США и видят лишь минимальные риски
вовлечения Японии в военные операции Америки за рубежом.
Япония будет придерживаться такой позиции в отношении сво-
его участия в японо-американском союзе до тех пор, пока будет
существовать прямая угроза нападения на Японию извне.
Таким образом, японские националисты сознательно откры-
вают дорогу для расширения границ японо-американского воен-
но-политического союза, разрешая США не только применять
военную силу в АТР, т.е. в зоне стратегических интересов самой
Японии, но и втягивать ее в свои глобальные планы по формиро-
ванию подконтрольной им новой системы международных отно-
шений. Японские националисты способствуют эрозии антивоен-
ных нормативных принципов, основы которых были заложены
в Конституции 1947 года. Националистическая пропаганда и воен-
но-патриотическое воспитание добились того, что сегодня япон-
ская общественность открыто поддерживает ценности построе-
ния сильного, военизированного японского государства. Причем
это происходит впервые за все послевоенные десятилетия. Требо-
вания к соблюдению трех неядерных принципов в Японии уже
не являются непреодолимыми. Сегодня эти принципы размыты.
В центре политической общенациональной повестки дня сегодня
стоит вопрос о пересмотре мирной Конституции 1947 года. И такой
вопрос будет решен, как только власти Японии сочтут момент для
этого наиболее подходящим. Однако сегодня японские политики
331
озабочены решением более неотложных задач экономического
и социального развития страны, особенно после стихийного бед-
ствия марта 2011 года, но они не снимаются вовсе с повестки дня.
Власти Японии будут продолжать наращивать усилия по совер-
шенствованию и углублению военно-патриотического воспита-
ния общества, особенно молодежи, формировать ее активную
жизненную позицию в вопросах «защиты национальных интере-
сов», как применительно к территории собственно Японских остро-
вов, так и в контексте военного союза с США. И с этого пути
Япония вряд ли сойдет в XXI веке.
На российском направлении японский национализм в первую
очередь опасен непрекращающейся эскалацией территориальных
притязаний Японии к нашей стране в районе Южно-Курильских
островов и как следствие - втягиванием России в затратную гонку
вооружений на Дальнем Востоке.
Подъем националистических и патриотических настроений в
японском обществе в начале XXI века обеспечил властям благо-
приятные условия для эскалации территориальных притязаний
к Кремлю по возвращению Японии четырех островов Южно- Ку-
рильской гряды как «исконно японских территорий». Эти требо-
вания приняли особенно вызывающий характер в 2010-2011 гг.,
когда первые лица государства уже перестали «стесняться в вы-
ражениях» по поводу принадлежности этих островов Японии
и их незаконной оккупации Россией. 7 февраля 2011 г. премьер-
министр Японии Наото Кан, выступая на Общенациональном
съезде за возвращение «северных территорий», назвал поездку
президента России Дмитрия Медведева на Кунашир в ноябре
2010 года «непозволительной грубостью в отношении Японии».
Он поспешил заявить тогда, что «выразил свой жесткий протест
президенту России по этому поводу»28*0.
Во время визита в Москву министра иностранных дел Японии
Маэхара 11 февраля 2011 г. японская сторона вновь заявила, что
«позиция России по островам для Японии неприемлема в прин-
ципе. Но если она изменится (читай: Россия отдаст Курилы
Японии. - М/С), то Япония готова рассмотреть возможные темы
для сотрудничества»280.
Подъем националистического самосознания позволяет сегод-
ня японской политической элите в лице первых лиц государства
считать возможным и допустимым пересечь черту нормального
политического диалога в отношениях с Россией. На национали-
стической волне видные японские политики позволяют себе ком-
ментировать правомерность поездок руководства России по рос-
сийской территории, они официально осуждают такие поездки
332
и демонстрируют свою «несгибаемую» волю в притязаниях на
чужие территории. Министр иностранных дел Японии Сэйдзи
Мазхара, например, посчитал возможным приехать в феврале
2011 года на переговоры в Москву, предварительно публично оз-
вучив ультимативные требования в адрес России о принципиаль-
ной неуступчивости Японии по главному вопросу переговоров
о территориальном споре. В Москве он вел переговоры с позиции
силы.
Японские националисты позволяют себе официально органи-
зовывать разнузданные кампании с требованиями к России неза-
медлительно вернуть Южные Курилы Японии. При этом власти
страны не только щедро финансируют эти кампании, но и посто-
янно наращивают средства на эти цели. Об этом открыто говорил
министр иностранных дел РФ С. Лавров, отвечая на вопросы
журналистов в феврале 2011 года282*. В общенациональный «День
северных территорий», проводимый в Японии каждый год 7 фев-
раля, власти легко собирают под националистическими знамена-
ми многотысячные митинги с выдвижением требований к России
вернуть «исконные и незаконно оккупированные» японские тер-
ритории Южных Курил. В таких митингах традиционно прини-
мают участие депутаты парламента и члены кабинета министров.
7 февраля 2011 г. националистические круги Японии органи-
зовали «День северных территорий» в особо вызывающем анти-
российском ключе. Националисты из различных организаций
и движений «за возвращение северных территорий», пользуясь
щедрой финансовой и политической поддержкой правительства
Японии, провели в одном из крупнейших токийских конференц-
центров «Общенациональный митинг», на котором в недопусти-
мой форме были озвучены притязания Японии на российские тер-
ритории, законно и неоспоримо принадлежащие России. На этом
митинге (всего за три дня до своей официальной поездки в Моск-
ву на переговоры И февраля 2011 г.) выступил министр иност-
ранных дел Японии Сэйдзи Маэхара. Он подчеркивал, что наме-
рен посвятить свою политическую карьеру тому, чтобы «как
можно скорее добиться возвращения исконных территорий Япо-
нии от России»283*.
В тот же день радикально настроенные участники митинга
явились к посольству РФ в Токио и осквернили российский флаг.
Националисты порвали его и исписали антироссийскими лозун-
гами. Очевидно, что японские националисты намеревались как
можно больнее ударить по национальной гордости россиян, и это
им удалось, если судить по резкому тону заявления МИДа РФ по
поводу этих событий.
23-5584
333
МИД России раскритиковал решение министерства образо-
вания Японии, которое в конце марта 2011 года утвердило школь-
ные учебники по истории с включением в текст формулировки
о «незаконной оккупации Россией» Южных Курильских остро-
вов. В заявлении МИДа РФ по этому поводу подчеркивалось, что
российское правительство «хотело бы в очередной раз напомнить,
что суверенитет России над указанными землями не подлежит
сомнению и основан на итогах Второй мировой войны, закреплен-
ных в международно-правовом плане в Крымском соглашении
трех великих держав по вопросам Дальнего Востока от 11 февра-
ля 1945 г., Потсдамской декларации от 26 июля 1945 г., Сан-Фран-
цисском мирном договоре от 8 сентября 1951 г. и легитимирован-
ных статьей 107 Устава ООН. Остается лишь сожалеть по поводу
того, в каком недружественном духе в Токио продолжают форми-
ровать у подрастающего поколения отношение к соседнему госу-
дарству», - было заявлено российским внешнеполитическим
ведомством284).
У российской стороны вызывает также сожаление, что к на-
ционалистическому хору японских реваншистов сегодня присо-
единились и представители академических кругов. Так, уважае-
мый и хорошо известный в России президент Японского Форума
по международным отношениям, профессор университета Цуку-
ба Ито Кэнъити в марте 2011 года опубликовал в журнале Япон-
ского исследовательского института «Евразия» статью, в которой
четко дает понять, что «японцы должны последовательно отстаи-
вать принципы закона и справедливости, занимая в этом вопросе
бескомпромиссную позицию и не подчиняясь никакому давлению.
Я приветствую позицию главы МИД Японии Маэхара, который
говорил: «Кто бы и сколько бы должностных лиц ни побывало там
(на Южных Курилах. - М.К.), сколько бы они ни увеличивали там
свое военное присутствие, правовая оценка состоит в том, что
«Северные территории» являются территорией, исконно принад-
лежащей Японии, и она, эта оценка, остается без всякого измене-
ния». При этом Ито Кэнъити осуждает тех в японском обществе,
кто демонстрирует «сознание безнадежности перед лицом власт-
ного, повелительного обращения с японцами, демонстрирует чув-
ство признания установившихся фактов, проявляет покорность
к запугиванию и шантажу». «Вот почему, - подчеркивает профес-
сор Ито, - японцы должны поднимать шум... Мы не должны отка-
зываться от собственных принципов и приспосабливаться к предъ-
являемым нам требованиям... Все должно сводиться к вопросу
о том, удастся ли Японии отстоять суверенитет и принципы закона
и справедливости... Если мы откажемся от островов, то результатом
334
нашего отказа станет абсолютное отсутствие возвращения четырех
островов. В противном случае, если мы будем твердо отстаивать
свою позицию, то шанс на возвращение останется навсегда»285*.
На фоне подъема националистической волны в Японии новой
и весьма опасной тенденцией в развитии территориального спора
Японии и России о принадлежности Южных Курил можно счи-
тать активное подключение властей США к японским требова-
ниям о возвращении российских территорий их «исконным вла-
дельцам». 1 ноября 2010 г. пресс-секретарь Госдепа США Филип
Краули официально заявил: «...да, мы поддерживаем требования
Японии к России»286*. Очевидно, что подыгрывая японским нацио-
налистам, американские власти решают свои геополитические
задачи. Таким образом, за взрывом нынешней территориальной
истерии в значительной степени стоят все те же геополитические
интересы США в Тихоокеанской зоне, а территориальные пре-
тензии служат лишь удобным инструментом. Другими словами,
Япония играет роль типичного «мальчика-провокатора», рассчи-
тывая на поддержку «Большого брата» за своей спиной. В рас-
сматриваемой ситуации Россия имеет дело с тандемом, в котором
«ведущий» партнер в лице США пытается достичь своих геополи-
тических целей, а «ведомый» (Япония) - своих локальных целей.
Подталкивая японских националистов к усилению террито-
риальных требований к России, США прежде всего рассчитывают
ослабить рост экономического и военного присутствия и влияния
России в АТР. Интересам Вашингтона не отвечают развитие топ-
ливно-энергетического комплекса на Сахалине, развитие Дальнего
Востока, строительство трубопроводов в Китай, поездки прези-
дента и министров правительства России по региону, и в частно-
сти на Курильские острова, прямо указывающие на стремление
России расширить свое присутствие в этом стратегически важ-
ном районе мира. В военном плане российскому тихоокеанскому
флоту (ТОФ) придан статус главной силы, которая получит
большую часть новых кораблей и подводных лодок. Именно на
ТОФ будут направлены перспективные французские вертолето-
носцы типа «Мистраль». Кроме того, владение Курилами делает
Охотское море внутренним морем России, что позволяет иметь
здесь закрытые ракетные полигоны для баллистических ракет
и базы подводных лодок. Россия, восстанавливая военное присут-
ствие в регионе Дальнего Востока и Восточной Азии, а также
в восточной части Тихого океана, естественным образом огра-
ничивает стратегическое присутствие США и Японии в регионе.
Поэтому США и их военный союзник Япония упрямо пытаются
остановить продвижение РФ и исключить возможность дальней-
23*
335
шего ее военного усиления. С другой стороны, потеря Россией
даже одного острова Курильской гряды открывает доступ в Охот-
ское море не только «мирным» японским рыбакам, но и многочис-
ленным боевым и разведывательным средствам США и «закупо-
ривает» главную базу ТОФ во Владивостоке. Потеря же всех
островов перекрывает все транспортные пути для российского
экспорта и создает условия для экономической и морской блокады.
В политическом плане уступка Россией даже одного острова
Японии тут же выстраивает в длинную очередь других претен-
дентов на якобы «исконно свои исторические земли», незаконно
оккупированные нашей страной. Именно на это рассчитывает
и Япония. Помимо прямого доступа к богатейшим природным
ресурсам Охотского моря, она получает взрыв «патриотических»
претензий на другие российские территории, и можно не сомне-
ваться, что следующим объектом притязаний может стать Саха-
лин и его шельф с запасами нефти и газа. Доступ к ресурсам,
и особенно к топливным, как воздух, необходимым как США, так
и Японии.
На что могут рассчитывать США и Япония в начатой ими
националистической кампании по захвату Курил? Ведь позиция
России в этом вопросе озвучена президентом, а намерение Крем-
ля укреплять границы в районе Южных Курил регулярно под-
тверждается визитами министров, включая и министра обороны.
Что же все-таки дает Вашингтону и Токио надежду на то, что
в итоге они сумеют «дожать» Россию в территориальном споре
вокруг Южных Курил? Намек на ответ на этот вопрос содержится
в статье газеты «Асахи симбун», которая была опубликована нака-
нуне визита главы японского МИД в Москву в феврале 2011 года.
Обозреватель газеты подчеркивал, что «в 2011 году в России стар-
тует сезон большой политики - выборы в Госдуму в декабре,
а весной 2012 года - выборы президента. В этих условиях «малая»
политика японского МИД может принести успех. Двусмыслен-
ные заявления некоторых российских политиков допускают воз-
можность политической торговли в виде дележа четырех остро-
вов в разных пропорциях или в рамках совместного управления
и развития, что является фактически размыванием и ослаблени-
ем российского суверенитета на спорные территории»287*.
К большому нашему сожалению, неоднозначность и непосле-
довательность позиции российского руководства в территориаль-
ном вопросе действительно могут вселять некоторую надежду
властям Японии и США на реализацию, в конечном счете, своих
притязаний. Накануне сезона выборов Россия демонстрирует
твердость, но все может измениться после выборов, и Япония
336
готова и дальше «размачивать твердую позицию Кремля», обещая
инвестиции, взаимовыгодное сотрудничество... Ведь Кремль, в кон-
це концов, тихо уступил российскую территорию Китаю ради «стра-
тегического партнерства». Почему, рассуждают в Токио, Японии
не попробовать сделать то же самое? К тому же территориальные
претензии Японии к нашей стране «интернационализировались»,
и сегодня Токио получает политическую поддержку от США и даже
от руководства Грузии, когда председатель временной комиссии
парламента страны по вопросам восстановления территориаль-
ной целостности Грузии Шота Малашхия И февраля 2011 г. под-
твердил, что грузинские депутаты проголосуют за признание
Курильских островов территорией Японии.
Японские националисты с большой охотой принимают под-
держку Грузии по оказанию политического давления на руковод-
ство России в решении территориального спора вокруг Южных
Курил. Парламент Грузии, заявляя о своем решении принять ре-
золюцию об оккупации Россией Курильских островов, делает это
в расчете, что депутаты японского парламента отплатят им той же
монетой - то есть примут ответную резолюцию по оккупации
Россией грузинских территорий в Южной Осетии и Абхазии288*.
О сделке между «обиженными» Россией государствами (Япони-
ей и Грузией) 18 февраля 2011 г. официально заявлял упоминав-
шийся выше Шота Малашхия. Он детально обсуждал этот вопрос
с послом Японии в Тбилиси Масаёси Комохарой и сообщил ему,
что резолюция грузинского парламента о «русских оккупантах»
будет аналогичной той, которую ранее приняли парламенты ряда
европейских стран в отношении Абхазии и Южной Осетии и на-
мерен принять Конгресс США. «С точки зрения оккупации терри-
торий соседних государств сегодняшние власти России не менее
виноваты, чем коммунистический режим, - заявил Малашхия. -
Мы не раз делали заявление о правовой оценке преступлений,
совершенных Советским Союзом. Поэтому оправдана постановка
аналогичного вопроса об оккупированных территориях в отноше-
нии Японских островов, что парламент Грузии сделает в самое
ближайшее время»289*. Глава парламентской комиссии ознако-
мил японского посла с подходом грузинской стороны к проблеме
оккупированных территорий, а также рассказал об инициативе
комиссии по созданию документальных фильмов на эту тему.
И, как утверждал Малашхия, глава японской дипмиссии заинте-
ресовался проектом и заявил о желании японской стороны уча-
ствовать в нем.
Очевидно, что и Япония, и Грузия согласовали свои позиции
в отношении уместности и своевременности оказания давления
337
на Кремль в территориальном вопросе с властями США, посколь-
ку именно в феврале 2011 года в американском посольстве в Москве
сделали весьма неприятное для России политическое заявление:
если ранее американское руководство открыто демонстрировало
свою солидарность с Грузией по поводу «оккупации РФ» Абха-
зии и Южной Осетии, то на этот раз они официально признали
суверенитет Японии над четырьмя южными островами Куриль-
ской гряды.
Япония оказывает властям Грузии содействие не только в
предъявлении Кремлю требований о «незаконной оккупации
Россией территории Абхазии и Южной Осетии». Как стало из-
вестно, например, в апреле 2011 года Токио заявил о готовности
предоставить «помощь» жителям Панкисского ущелья, где дол-
гие годы скрываются боевики из Чечни. Как заявил глава адми-
нистрации Ахметского района Коба Маисурадзе, японцы, несмот-
ря на проблемы в собственной стране, продолжают оказывать нам
материальную помощь. «Атташе посольства поговорил с местным
населением и обещал помочь с ремонтом дороги, системой водо-
снабжения и берегоукреплением», - подчеркнул Маисурадзе290*.
Характерно, что Токио заявлял о готовности помочь Грузии сразу
после землетрясения и разрушительного цунами в Японии 11 марта
2011 г. Обещание экономической помощи жителям Панкисского
ущелья - не первый случай, когда Токио оказывает прямую ма-
териальную поддержку Тбилиси. В конце 2010 года сообщалось,
что правительство Японии выделило 98 тысяч долларов «Союзу
молодых педагогов» Грузии291*.
Попытки японских националистов «дожать» российское руко-
водство в территориальном споре о Южных Курилах реально
опасны для России и в том отношении, что Япония провокаци-
онно втягивает нас в гонку вооружений на Дальнем Востоке,
чреватую как излишними финансовыми затратами, так и усиле-
нием напряженности в отношениях с соседними государствами
региона. Нас упорно и последовательно подталкивают к наруше-
нию сложившегося здесь на протяжении многих послевоенных
десятилетий стратегического статус-кво, к дестабилизации ситуа-
ции, создавая о России представление как о стране, быстрыми
темпами наращивающей силовой потенциал в регионе. В самом
деле, уже в начале марта 2011 года российские власти приняли
решение о размещении крылатых ракет на спорных Южных Ку-
рильских островах, что стало ответом на антироссийские претен-
зии Токио на эти территории. Москва тем самым подала сигнал
японскому руководству о том, что будет пресекать любые попыт-
ки силой решить территориальный вопрос в свою пользу, несмот-
338
ря на стремление России к формированию «модернизационных
альянсов» с Западом в целом и с Японией в частности и курс на
привлечение иностранных инвестиций и технологий для россий-
ской модернизации и инноваций. При этом Медведев не только
принял решение самому посетить спорные территории на Юж-
ных Курилах, но также делегировал в этот район еще нескольких
высокопоставленных, знаковых российских чиновников, включая
министра обороны Анатолия Сердюкова и министра иностран-
ных дел Сергея Лаврова. Все они, включая президента РФ Мед-
ведева, в своих выступлениях в регионе говорили о необходимости
массированного укрепления российского военного присутствия
на островах.
Нельзя исключать, что в один прекрасный день Япония может
избрать Курилы, слабо защищаемые Россией, в качестве легкой
мишени для совершения акта агрессии, используя свой спор
с Россией как «инструмент для переключения общественного
внимания с внутренних проблем на борьбу против внешнего
врага». Можно даже предположить, что Токио вольно или неволь-
но как бы провоцирует Москву на демонстрацию последней своей
настойчивости и упорства по «защите национальных интересов
и достоинства России», побуждая ее решительно демонстрировать
намерение до конца отстаивать территориальную целостность
государства, наращивая при этом силовой потенциал.
Политика втягивания России в гонку вооружений на Дальнем
Востоке предполагает искусственное создание японской стороной
напряженной политической и стратегической атмосферы вокруг
территориального спора по Южным Курилам. Из мировой истории
хорошо известно о склонности Японии начинать вооруженные
конфликты с неожиданного и хорошо продуманного нападения -
тактике, которую страна использовала во всех войнах, которые
она вела. Близость Японии к островам позволяет ей быстро до-
ставить туда военные грузы и подкрепления для высадившегося
морского десанта, одновременно обеспечивая ему массированную
поддержку с воздуха посредством ударных вертолетов. Японские
военные хорошо обучены, высоко мотивированы и национали-
стически индоктринированы. Они обладают большим количе-
ством самого современного оружия и оборудования. У них есть
уникальные «многоцелевые ракеты типа 96» и системы НАТМ-6
на «хаммероподобных» шасси, которые могут быть доставлены на
острова даже легкими средствами доставки. Они могут быть в
равной степени эффективны как против танков, так и против
артиллерии. Все это в сочетании с массированным применением
авиации и широким использованием точечного оружия создает
339
реальную опасность расчетов на возможный успех, в том числе
в случае массированного нападения с проникновением в ночное
время при помощи быстрых моторных катеров292*.
Правда, при всем при этом нелегко предположить самое глав-
ное - а именно то, что Япония сможет напасть на Россию. Однако
российское военное планирование должно исходить из худшего
из возможных сценариев. Действительно, близость островов к япон-
ским берегам делает задачу их обороны весьма и весьма сложной.
Предлагаемые Кремлем меры по укреплению обороны Курил
современными ракетами выводят дипломатическую риторику
в практическую стадию военных приготовлений.
Хочется надеяться, что российское руководство готовится к
таким шагам заранее и внимательнейшим образом планирует
свои действия. Ракеты «Яхонт» имеют дальность полета в 200-
300 километров на сверхзвуковой скорости и могут достичь не-
которых частей острова Хоккайдо. Система «Тор-М2» может вы-
пускать одновременно четыре ракеты по четырем разным целям.
Россия планирует также разместить на островах вертолеты Ми-28,
которые способны нести противотанковые ракеты. Высокопостав-
ленные российские командующие намекают даже на то, что гото-
вы разместить на Южных Курилах современные высокоэффек-
тивные системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф»293*.
Ужесточение силовой политики со стороны российского руко-
водства на японском направлении нашло свое отражение в заявле-
нии министерства иностранных дел в Москве от 6 февраля 2011 г.
В нем, в частности, подчеркивалось, что Япония должна придер-
живаться «трезвого и сбалансированного подхода к реальности.
Мы надеемся, что объективная территориальная действитель-
ность, выработанная после Второй мировой войны и закреплен-
ная в Уставе ООН, будет преобладать в Токио. Прекращение
искусственного акцентирования внимания на «островном» воп-
росе поможет создать спокойную и конструктивную атмосферу
для японско-российского диалога», - было отмечено в заявлении
российского МИД294*.
Однако японские националисты мало прислушиваются к по-
добного рода заявлениям российской стороны. Они провоцируют
создание напряженности в треугольнике отношений Китай-Рос-
сия-Япония. Кремль, как известно, предложил сотрудничество
Китаю в деле развития Курил. Однако в Пекине отдают себе отчет
в том, что, кто бы ни согласился инвестировать в развитие Курил,
он будет вынужден принять на себя большую степень долгосроч-
ного риска - риска потерять дружбу Японии, а также быть гото-
вым столкнуться с краткосрочным риском санкций со стороны
340
Токио. Китай может принять решение использовать инвестиции
как геополитическую разменную монету, как средство, чтобы еще
глубже вбить клин между Россией и Японией. В китайских ком-
ментариях решительные действия российских политиков в от-
ношении Курил в конце 2010 года оценивались как «решающий
момент российской стратегии для всего Дальнего Востока и для
Азиатско-Тихоокеанского региона в целом». Редактор «Пиплз
дейли» в статье для «Глобал тайз» практически сигнализировал
о том, что Пекин будет с крайней осторожностью относиться к
вопросу, который может вовлечь его в политическую ловушку.
Геополитическую составляющую действий России суммировало
информационное агентство Синьхуа: «Курильские острова рас-
положены в ключевом месте в географическом плане, там они
обеспечивают безопасность выхода в Тихий океан для российско-
го Тихоокеанского флота. Если четыре острова получит назад
Япония и вместе с США будет использовать их как естественный
барьер, российский Тихоокеанский флот окажется отрезанным от
Тихого океана и может столкнуться с прямой военной угрозой со
стороны вышеназванных двух стран... это также может означать,
что соседняя Камчатка и регион Сахалина, оба стратегически
важные для России в плане возможностей отвечать на атаки,
также окажутся незащищенными. Очевидно, что все это, вместе
взятое, только осложнит ситуацию в регионе»295*.
Новая «реальная политика» в системе международных отноше-
ний XXI века в Восточной Азии и на Тихом океане требует от
Москвы научиться заранее обеспечивать себе преимущества в ре-
гионе, дабы не быть застигнутой врасплох или, по крайней мере, не
увеличивать свои потери. В конце февраля 2011 года Кремль пред-
ставил план перевооружения российской армии на 650 миллиардов
долларов до 2020 года, который включает получение флотом и ВВС
20 новых субмарин, в том числе восьми атомных, и более чем ше-
стисот самолетов, ста новых кораблей и тысячи вертолетов296*.
«Основная задача - модернизация наших вооруженных сил, -
заявил российский замминистра обороны Владимир Поповкин. -
Наша новая стратегия отдельно предназначена для возрождения
морских возможностей советских времен и для создания системы
противоракетной обороны нового поколения, которая придет на
замену комплексам С-300297*.
Действия России начиная с медведевского визита на Курилы
и заканчивая нынешними планами перевооружения показывают,
что одна из важнейших стратегических целей страны - восстано-
вить наши стратегические позиции в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, разрушенные и утерянные в 1990-е годы.
341
Японские националисты побуждают Россию демонстриро-
вать свою боеготовность, которую некоторые страны восприни-
мают как «бряцание оружием»298*. В июле 2010 года министерство
обороны РФ провело масштабные оперативно-стратегические
учения «Восток-2010». В них были задействованы войска трех
военных округов: Дальневосточного, Сибирского и Приволжско-
Уральского, а также силы Тихоокеанского и Черноморского
флотов. Всего в маневрах участвовало 25 тысяч военнослужа-
щих, более двух тысяч единиц военной техники, 70 боевых само-
летов и вертолетов, 30 кораблей299*. Показательно, что по одной
из легенд учений войскам ставилась задача отразить нападение
«регулярных вооруженных сил противника, которые имеют
в своем распоряжении ракеты, самолеты, подводные лодки и над-
водные корабли». На многих аналогичных предыдущих учениях
российская армия, правда, по легенде вела «борьбу с террори-
стами или на худой конец - с крупными формированиями сепа-
ратистов».
Однако на состоявших учениях «Восток-2010» ставились
несколько иные боевые задачи. Во-первых, надо было продемон-
стрировать иностранным наблюдателям боеспособность россий-
ской армии и возможности «проецировать силу» на большие рас-
стояния. Иными словами, показать, что российская армия может
быстро перебрасывать войска к самым дальним границам нашей
необъятной Родины. Для доказательства были проведены две
важные операции: три десятка фронтовых бомбардировщиков
Су-24, истребителей-бомбардировщиков Су-34 пролетели из цент-
ральных районов страны на Дальний Восток без посадки, с не-
сколькими дозаправками в воздухе. Кроме того, из Екатеринбур-
га в Приморье была перебазирована целая мотострелковая бригада
СибВО. Бригада летела налегке, без тяжелого вооружения. Тан-
ки, БМП, артиллерию она получила уже на месте на базе хране-
ния. Это была первая попытка такого рода переброски. Сегодня
в Генштабе всерьез рассматривают возможность обеспечения
безопасности страны за счет быстрой переброски войск в район
вероятного конфликта, не пытаясь, как прежде, дислоцировать
войска по всей территории страны. Если так, то теряют смысл
разговоры о том, что России из-за ее гигантской территории
нужна миллионная армия.
Японские националисты своими провокационными, антирос-
сийскими действиями в отношении территориальных притязаний
к России стремятся втянуть нас в «большую игру» в Восточной
Азии, предлагая нам, по совету своего стратегического союзника, об-
новленный вариант «звездных войн» 1980-х годов. Россию пытают-
342
ся вписать в «большую политику», которая при ближайшем рассмот-
рении оказывается продолжением борьбы за новый передел мира.
Сегодня очевидно одно - США и их союзники запустили
серию новых проектов, которые, как говорил в 2008 году пре-
зидент Обама и как сказано в новой военной стратегии США,
должны обеспечить Америке благоприятные условия для «более
совершенного лидерства в мире». В настоящий момент можно
с уверенностью констатировать, что определенную роль в этой
стратегии американцы отводят Японии, подталкивая Токио ре-
шить территориальный вопрос о принадлежности Южных Курил
в свою пользу и ослабить тем самым стратегические позиции
России на Дальнем Востоке и на Тихом океане.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На рубеже XX-XXI вв. внутриполитическая жизнь Японии
сопровождалась небывалым для всех послевоенных десятилетий
подъемом националистических настроений. В новых условиях
глобальной дестабилизации выживание и дальнейшее стабильное
существование японской нации, по мнению лидеров Японии,
было возможным только на путях консолидации национального
единства, цементирующей основой которого в Японии тради-
ционно считалась идеология государственного национализма.
Каких же реальных результатов добились власти Японии,
активизировав националистические настроения в японском об-
ществе?
Надо признать, что два десятилетия после окончания «холод-
ной войны» оказались для Японии, по сути, «потерянным време-
нем». Ее экономика пребывала в состоянии застоя, японская
дипломатия не внесла никакого вклада в расширение националь-
ной территории за счет приобретения спорных территорий ее
соседей в Восточной Азии, хотя, правда, безуспешно пыталась
это делать как на китайском, так и на российском направлениях.
Япония вообще создавала о себе в мире впечатление «забытого
игрока», как образно охарактеризовал ее статус и поведение после
«холодной войны» известный американский японовед Майкл
Грин, руководитель Японского центра Института стратегиче-
ских и международных отношений при Джорджтаунском универ-
ситете0.
Вместе с тем было бы неверно не замечать, что Япония, япон-
ская нация в этот исторический период сосредоточивалась,
а лидеры страны, принадлежащие уже к новому поколению Хэй-
сэй, подбирали для нее оптимальные пути развития, новую, от-
личную от послевоенной идеологию развития, адекватную изме-
нившимся историческим условиям. И выбор при этом пал на
идеологию государственного национализма как на единственную,
которая была бы способна консолидировать нацию в интересах
ее выживания в XXI веке.
344
Начало процессу возрождения идеологии и практики государ-
ственного национализма в Японии еще в 1980-е гг. положил вид-
ный националистический лидер Ясухиро Накасонэ, а в начале
первого десятилетия XXI века эстафету у него на посту премьер-
министра принял другой выдающийся политик националистиче-
ской ориентации Дзюнъитиро Койдзуми. Именно в этот период
внутренняя и внешняя политика Японии стали меняться, эконо-
мика восстанавливаться, а внешнеполитическое поведение госу-
дарства в мире заметно радикализироваться. Лидеры-национали-
сты были убеждены, что сложные задачи обеспечения национальной
безопасности и будущего национального развития в новых исто-
рических условиях можно успешно решать, только опираясь на
сплоченную и консолидированную нацию. На подъеме новой
националистической волны японским властям стало намного
проще реализовывать на практике конкретные вопросы государ-
ственного строительства, в том числе готовить общественное
мнение к пересмотру мирной Конституции 1947 года, решать воп-
росы модернизации армии и нового военного строительства.
На националистической волне в начале 1990-х гг. в Японии
была пересмотрена краеугольная доктрина всей послевоенной
японской дипломатии - «Доктрина Йосиды», запрещавшая, в ча-
стности, посылать японскую армию за рубеж. Первым шагом в
этом направлении было направление японских сил самообороны
в составе миротворческой миссии ООН в Камбоджу в 1992 году,
что получило одобрение в парламенте Японии. Постепенно Япо-
ния стала наращивать темпы отправки своих войск за границу.
В 2002 году были сняты многие ограничения на масштаб и харак-
тер японских военных миссий за рубежом. Сегодня солдатам
японской армии разрешается выходить за рамки невоенных или
логистических операций, они получили право принимать участие
в более опасных операциях, включающих операции по принуж-
дению к миру и прекращению огня, уничтожению вооружений
и т.п. Как отмечает Кристофер Хьюг, в начале XXI века Япония
способна эффективно выполнять военную роль в ходе миротвор-
ческих операций, поскольку по уровню боевой подготовки и про-
фессионального мастерства японские солдаты не уступают солда-
там армий Великобритании и Франции2>.
На подъеме националистических настроений в японском об-
ществе стало возможно раздвинуть рамки конституционных огра-
ничений на участие Японии в коллективной «самообороне», под
которой японские политики понимают активизацию военной роли
в японо-американском союзе. По мере того, как в начале XXI века
Япония все теснее сближалась с США в вопросах военного вза-
345
имодействия, японские власти по просьбе американской стороны
направляли армейские подразделения в Афганистан и Ирак и
делали это уже на легальной основе, принимая соответствующие
решения в каждом отдельном случае. При этом инициативы вла-
стей по официальной легализации вопроса об участии японской
армии в коллективных действиях по самообороне с внесением
необходимых поправок в Статью 9 действующей Конституции
получали растущую поддержку со стороны большинства членов
парламента.
Националистическая идеология, активно распространяемая
в обществе с конца XX века, облегчала японским властям задачу
проецирования силы на внешнеполитическую деятельность. Се-
годня власти Японии активно закупают ранее запрещенные виды
наступательных вооружений, такие как самолеты-дозаправщики
в воздухе марки Боинг-767, реализовывают проекты по приобре-
тению вертолетоносцев, которых у Японии не было с 1945 года.
Япония все послевоенные десятилетия не имела права осуществ-
лять закупки наступательных видов вооружений, ограничивая
оснащение сил самообороны минимальным количеством воору-
жений для защиты собственно территории Японских островов.
В настоящее же время власти Японии легально демонстрируют
интерес к разработкам и приобретению высокотехнологичных
и высокоточных видов вооружений, к закупкам самолетов даль-
ней авиации для переброски сил быстрого реагирования в районы,
удаленные от Японских островов на многие тысячи километров.
Японская общественность воспринимает как само собой разуме-
ющиеся факты широкого стратегического сотрудничества с арми-
ей США по всему миру, не декларируя при этом никакие свои
обязательства по поддержанию стабильности и безопасности по
отношению к соседям по региону. В 2005 году Токио, например,
официально заявил о своей готовности поддержать власти Тай-
ваня в мерах по «обеспечению мира и безопасности» в проливе,
на что крайне нервозно отреагировали в Пекине.
Доказательством поддержания в японском обществе высокого
уровня националистических настроений может служить и обна-
ружившаяся в последние годы готовность общественности актив-
но и широко обсуждать проблемы ядерного вооружения Японии.
Несмотря на сохранение в исторической памяти послевоенных
поколений японцев официального заявления премьер-министра
Эйсаку Сато, сделанного им еще в 1967 году, об отказе Японии
обладать ядерным оружием, сегодня эта тема не только не табу-
ирована, но стала часто всплывать в национальных СМИ, а также
в выступлениях ведущих политиков. Сегодня японцы убеждены,
346
что Япония может иметь ядерное оружие, находясь в окружении
двух ядерных держав - Китая и КНДР, от которых исходит по-
тенциальная угроза его применения против Японии. В ходе офи-
циальных встреч с китайским руководством в 2002 году Итиро
Одзава, например, доверительно говорил о том, что «если Япония
пожелает, она сможет развернуть тысячи ядерных боеголовок.
Запасы оружейного плутония позволяют стране иметь от 3-х до
4-х тысяч ядерных зарядов. И если такое случится, то Япония не
уступит Китаю по ядерному потенциалу»31. Японские национали-
стические лидеры не делают сегодня большого секрета из того,
что оснащают японскую армию современными средствами воору-
жений, правда, открыто пока ничего не заявляя о ядерном ору-
жии. Такая позиция позволяет им выглядеть увереннее как в от-
ношениях с потенциальными соперниками Японии в регионе, так
и со своими союзниками. Разумеется, до тех пор, пока американ-
ский «ядерный зонтик» обеспечивает Японии защиту, Токио, оче-
видно, не будет претворять в жизнь свои ядерные амбиции. Од-
нако как только Япония почувствует, что он ослабевает, она будет
готова развернуть свой ядерный потенциал. И сегодня в этом уже
никто не сомневается.
Подъем националистических настроений в японском обще-
стве облегчил властям решение сложного и деликатного вопроса
торговли военными технологиями. Еще в 1976 году Токио взял
на себя обязательства не экспортировать военную технологию
за рубеж, укрепляя тем самым свой имидж миролюбивой нации.
Однако уже в 2003 году власти страны официально объявили об
импорте из США компонентов системы ПРО, а также об обмене
с Пентагоном передовыми технологиями в области противоракет-
ной обороны. Решение об этом было объявлено молниеносно
с тем, чтобы поставить японскую общественность перед свершив-
шимся фактом, хотя в обычной практике принятие такого реше-
ния требовало длительного двустороннего обмена информацией,
военной технологией и специалистами. Японские националисты
всячески поддержали тогда решение властей, акцентируя внима-
ние общественности на сохранении реальной угрозы ракетного
нападения со стороны КНДР, опасности ускоренного военного
строительства в Китае, а также на наличие у японского ВПК своих
коммерческих интересов. Показательно, что на подъеме национа-
листической волны руководители Кэйданрэн (Федерация эконо-
мических организаций Японии) в 2004 году потребовали от пра-
вительства отказаться от самоограничений на экспорт вооружений
и на обмен военными технологиями, аргументируя свои требо-
вания необходимостью удержать передовые позиции в области
347
военных технологий в мире и сохранить за Японией завоеванные
рынки сбыта. Еще в 1983 году японский премьер-националист
Ясухиро Накасонэ официально подписал соглашение об обмене
военными технологиями с США, однако длительное время оно не
работало эффективно. И только в 2006 году представители Пен-
тагона официально объявили, что Япония является самым важ-
ным партнером США в мире в области разработок современных
систем ПРОЧ Руководители японского ВПК сегодня также высо-
ко оценивают результаты своего сотрудничества с американски-
ми партнерами в области высокоточных лазеров и других слож-
ных передовых военных технологий.
На подъеме националистической волны японские власти
создали для себя более спокойные условия для наращивания
объемов военных расходов, давно реально превысивших порог
в 1% ВВП. Правительство научилось маскировать реальный уро-
вень расходов на военные нужды. В частности, оно широко прак-
тикует рассрочку платежей по государственным закупкам воору-
жений на срок более 5 лет, используя отсрочку платежей по уже
объявленным закупкам новых систем вооружений, что способ-
ствует скрытому дополнительному финансированию этих статей
бюджета5*.
По оценкам ЦРУ, Япония в начале XXI века по уровню воен-
ных расходов занимала 3-4-е место в мире среди крупнейших во-
енных держав, хотя официально японская статистика сильно пре-
уменьшает этот показатель, ставя Японию лишь на 6-е место в
мире6*. Заинтересованность властей в еще больших военных рас-
ходах в Японии сдерживалась в первом десятилетии XXI века
увеличением размера государственного долга, который достигал
200% ВВП: по итогам 2010 года, задолженность страны составила
более 900 триллионов иен, т.е. около 10 триллионов долларов7*.
Однако власти не жалеют средств на финансирование военных
НИОКР в области новейших технологий, предпочитая экономить
на закупках традиционного вооружения периода «холодной войны».
Наконец, обращает на себя внимание и тот факт, что японские
националисты активно поддерживают все решения властей в
области использования космоса в военных целях. В 2003 году
Япония запустила в космос свой первый национальный спутник-
шпион, а уже в 2006 году японские консерваторы-националисты
подготовили в парламенте законопроект о легализации деятель-
ности министерства обороны страны по использованию косми-
ческого пространства в военных целях8*.
Закон был одобрен парламентом в мае 2008 года. Новый закон
позволяет Японии разрабатывать и использовать разведыватель-
348
ные спутники-шпионы в течение всего времени их задействова-
ния в военных целях. При голосовании в Парламенте закон под-
держали националисты из Либерально-демократической партии,
Комэйто, а также из Демократической партии Японии. В законе
подчеркивается, что космос должен вносить решающий вклад
в обеспечение национальной безопасности Японии в соответст-
вии с принципами ее конституции, а Япония должна иметь воз-
можность производить и использовать разведывательные спут-
ники в интересах своей обороны9*. В соответствии с Законом в
состав кабинета министров включено новое управление по пол-
номасштабному освоению космического пространства.
Позиция японских националистов после «холодной войны»,
однако, характеризуется непоследовательностью в отстаивании
национальных интересов, суверенитета и территориальной цело-
стности в том, что касается добровольного подчинения Японии
внешнеполитическим и стратегическим интересам Соединенных
Штатов Америки и даже укрепления отношений зависимости.
И если еще в период «холодной войны» японские националисты
демонстрировали свою относительно самостоятельную от США
позицию в таких вопросах, как формирование объединенного
военного командования, как взаимодействие и подчинение япон-
ской армии приказам американского командования, и даже в воп-
росах проведения прямых консультаций командования войск
США на территории Японии с Управлением сил ее самообороны,
стремясь свести их к минимуму, то сегодня отношение японских
националистов по всем этим вопросам принципиально измени-
лось. Начиная с конца 1990-х г. Япония последовательно наращи-
вает усилия по координации своих действий в области военного
сотрудничества с США, и японские националисты сегодня актив-
но поддерживают и проводят через парламент законопроекты,
направленные на пересмотр старых военных доктрин времен
«холодной войны», в которых в той или иной степени сохраня-
лись элементы самостоятельности, добиваются более тесного
сотрудничества с США в области развертывания системы ПРО
в Восточной Азии, по вопросам обмена разведывательной инфор-
мацией и секретной военной технологией.
Конечно, уровень военно-политического сотрудничества Япо-
нии с США все еще не сопоставим с уровнем отношений США
с Великобританией, о котором говорил президент США Барак
Обама 25 мая 2011г., - создание нового оборонного альянса
с Британией10*.
Именно в силу националистических устремлений японские
и американские политики имеют различное видение перспектив
24-5584
349
будущего развития двустороннего союза. С точки зрения Амери-
ки, японо-американский союз должен быть направлен на обеспе-
чение доминирующих позиций США в Восточной Азии и на
Тихом океане, и Вашингтон рассчитывает на поддержку в этом
Японии. Но Япония не заинтересована вечно оставаться «млад-
шим партнером» США в этом союзе и постоянно «таскать для них
каштаны из огня». В XXI веке японские националисты рассчиты-
вают на равноправную, независимую и самостоятельную роль
страны как в союзе с США, так и в системе международных от-
ношений в целом.
Проведенный анализ эволюции идеологии государственного
национализма в Японии после «холодной войны» позволяет сде-
лать вывод о том, что японские националисты впредь будут стре-
миться к обеспечению максимальной свободы действий, автономии
и полностью «развязанных для себя рук» в процессе сотрудниче-
ства с США по реализации американских стратегических целей
в мире, разумеется, при сохранении тесных партнерских отноше-
ний с ними. Более того, в обозримом будущем Япония никогда не
станет враждебна к США, к их глобальной стратегии по сдержи-
ванию Китая, России, КНДР. Но в то же время Япония не за-
бывает, что она является частью Восточной Азии, азиатской дер-
жавой, что дом всех японцев находится именно в Азии, а не за
океаном. Япония объективно заинтересована в первую очередь
в «перезагрузке» своих отношений с ведущими государствами
Азии и Тихого океана, и она будет много и активно «инвестиро-
вать» в укрепление этих отношений11*. Япония готова конкуриро-
вать с Китаем за влияние в регионе Восточной Азии, но при этом
заинтересована в гармоничном развитии политической и страте-
гической региональной ситуации в целом, в которой она рассчи-
тывает позиционировать себя в качестве равноправного партнера
в японо-американском альянсе и лидера региональной интеграции.
Растущий японский национализм будет усиливаться в настрое-
ниях общественности, требующей, например, ликвидировать аме-
риканские военные базы на японской территории. Японцы мно-
гие десятилетия после окончания Второй мировой войны терпели
унижение от безнаказанного присутствия десятков тысяч амери-
канских военнослужащих, гарантированных правом экстеррито-
риальности на Японских островах, от наличия большого числа
военно-морских и военно-воздушных баз США вблизи крупных
японских мегаполисов, от изъятия под американские военные
нужды больших участков дефицитной равнинной японской тер-
ритории. Все эти проблемы национальной уязвимости Японии
в будущем могут только обостряться, что объективно будет слу-
350
жить лишь дополнительным фактором для роста националисти-
ческих, антиамериканских настроений в обществе. События ап-
реля 2010 года, когда десятки тысяч жителей Окинавы громко по-
требовали убрать с острова американскую военную базу Футэмна
и под давлением общественности она была перемещена из цент-
ральной части острова в ее береговую часть, явились тревожным
сигналом для властей США, предупреждавшим их о готовности
японских националистов и в дальнейшем действовать решитель-
но, напористо. И хотя в мае 2010 года премьер-министр Японии
Юкио Хатояма официально извинялся перед согражданами за
невыполненное предвыборное обещание о полной ликвидации
американской военной базы Футэмна на острове Окинава, японцы,
может быть, впервые почувствовали тогда, что своими консоли-
дированными действиями они могут добиться подвижек в защите
национальной независимости и суверенитета12*. Не случайно еще
в 2006 году власти США приняли решение перевести к 2014 году
8 тыс. американских пехотинцев с Окинавы на американский ост-
ров Гуам. Националисты Японии расценивают заявления подоб-
ного рода как бесспорный факт, доказывающий укрепление пози-
ций страны в союзе с США, как шаг вперед по пути установления
наконец равноправного сотрудничества.
Усилия японских националистов впредь будут направлены на
кардинальную реорганизацию институтов государственного уп-
равления, и в первую очередь их внимание будет обращено на
пересмотр послевоенной американской Конституции 1947 года с
целью легализации более значимой роли японских силовых
структур в политической жизни страны, а также на юридическое
обоснование права нации на коллективную оборону. Японские на-
ционалисты знают, что поправки в Конституции такого рода по-
требуют одобрения 2/3 депутатов нижней палаты парламента
после проведения общенационального референдума. Такие усло-
вия было сложно обеспечить в период «холодной войны», однако
в условиях развернувшегося в обществе после ее окончания
подъема националистических настроений обеспечить поддержку
подобного рода решений будет намного вероятней. Национали-
сты сегодня эффективно обыгрывают в пропаганде тот факт, что
Конституция 1947 года была написана для Японии иностранной
державой в условиях военной оккупации, что ее Статья 9 мораль-
но устарела и не отвечает современным международным услови-
ям и национальному потенциалу Японии, что в Конституции
слабо отражены национальные традиции Японии и исконно япон-
ские ценности. Носители японской националистической идеоло-
гии в рядах всех политических партий, среди депутатов обеих
24*
351
палат японского парламента, в СМИ и общественных организа-
циях активно поддерживают эти настроения. Они разворачивают
широкую деятельность по составлению разного рода проектов по-
правок и изменений Статей Конституции. Показательным явля-
ются результаты социологических опросов, проведенных в Японии
на протяжении первой половины первого десятилетия XXI века,
которые подтверждают выводы о том, что усилия японских нацио-
налистов не являются напрасными - сегодня большинство япон-
цев высказывается в пользу внесения таких поправок в после-
военную Конституцию страны13*.
Японские националисты отдают себе отчет в том, что поиск
консенсуса в обществе по вопросу пересмотра ряда статей Кон-
ституции 1947 года займет некоторое время, однако для них оче-
видно другое - Япония уже никогда не свернет с этого пути,
несмотря даже на резкую критику ее действий со стороны соседей
Японии по мировому сообществу. Токио стал мало обращать
внимания, например, на то, что власти КНР выражают протест
против изменений японской Конституции, тогда как Пекин пря-
мо заявляет, что стремление переписать Основной закон в Японии
есть не что иное, как «неприкрытое стремление Токио реализо-
вать свои амбиции по превращению страны в XXI веке в полити-
ческую и военную мировую сверхдержаву»14*.
Японцы особенно не реагируют также на заявления лидеров
Южной Кореи, которые, оценивая усилия японских национали-
стов по переписыванию Конституции и превращению Японии
в сильное государство, нередко отмечают, что под заявления-
ми о «стремлении стать «нормальным государством» в Японии,
в первую очередь, понимают действия не в направлении гармо-
низации своих отношений с универсальными мировыми ценно-
стями в рамках соблюдения международных правил поведения,
а действия, направленные на превращение Японии в мировую
военную сверхдержаву»15*. Очевидно, что прогресс в области
пересмотра Конституции японские националисты связывают со
стечением ряда политических, экономических и стратегических
обстоятельств вокруг Японии, однако не вызывает сомнения,
что усилиями националистов мирная послевоенная Конституция
Японии будет рано или поздно пересмотрена и адаптирована к
традиционным японским нормам и пониманию японцами своего
места в мире.
Националисты Японии нацелены на повышение роли премьер-
министра в процессе принятия решений по вопросам внешней
политики и национальной безопасности. Они заинтересованы
в усилении его доминирующих позиций с тем, чтобы премьер был
352
способен быстро реагировать на любые изменения внешнеполи-
тического поля вокруг Японии и принимать оперативные реше-
ния в кризисных ситуациях, адекватно формировать стратегиче-
ское поведение Японии, быстро оценивать угрозы национальной
безопасности. На это, по сути, и были направлены администра-
тивные реформы периода 1999-2002 гг., которые, с одной сторо-
ны, сняли многие бюрократические ограничения на отправление
руководящих функций первым лицом государства, тогда как, с дру-
гой, позволили премьеру больше учитывать общественные настрое-
ния и мнение националистических политиков нового поколения
при принятии окончательных решений16*.
Широкая поддержка националистическими кругами кандида-
туры премьера Койдзуми на всеобщих выборах позволила ему,
во-первых, усилить контроль за поведением лидеров фракций и
депутатов от ЛДП в парламенте, во-вторых, сформировать более
работоспособный секретариат кабинета министров и, в-третьих,
создать вокруг себя сплоченную команду единомышленников,
способную эффективно генерировать новые идеи. И хотя все эти
шаги не являлись гарантией получения Койдзуми «карт-бланша»
на проведение внешней политики, полностью независимой от по-
литических оппонентов из либерального лагеря, тем не менее,
он быстро использовал «благоприятную» международную ситу-
ацию после событий И сентября 2001 г. в США и принял реше-
ние направить японские войска в Афганистан и Ирак. Койдзуми
продемонстрировал тогда новый подход японских политиков при
принятии внешнеполитических решений, принципиально отли-
чающихся своим наступательным характером, не свойственным
периоду «холодной войны» и пацифистской внешнеполитиче-
ской идеологии «доктрины Йосиды».
Подъем националистических настроений в начале XXI века
способствовал тому, что японские власти без большого сопротив-
ления со стороны общественности приняли целую серию новых
законов на случай чрезвычайных обстоятельств и кризисных
ситуаций, приняли их в нарушение действующей Конституции,
но аргументируя свои решения необходимостью подготовить
нацию к отражению потенциальной внешней «угрозы». Под «угро-
зами» нации сегодня в Японии понимают угрозы ракетной атаки,
вторжение в территориальные воды, атаки с помощью химиче-
ского или биологического оружия, любого рода масштабные тер-
рористические атаки. Характерно, что в годы «холодной войны»
японские националисты как бы не замечали необходимости орга-
низации в стране «кризисного управления» по той простой при-
чине, что Япония находилась под защитой американского «ядер-
353
ного зонтика» на случай внешней атаки любого рода. Японские
националисты тогда не считали необходимым предоставлять
японским военным большие полномочия на случай чрезвычай-
ных обстоятельств, ограничивая их деятельность рамками дейст-
вий гражданского правительства. Однако настроения национали-
стических сил во власти в вопросах национальной безопасности
заметно радикализировались после «холодной войны» и распада
биполярного мира. Воспользовавшись новой ситуацией, япон-
ские власти заметно активизировали дипломатию, оправдывая
свои действия, с одной стороны, увеличением внешних угроз,
а с другой, - необходимостью оказания большей стратегиче-
ской поддержки США в кризисных районах мира на правах их
союзника.
В 2003-2004 гг. парламент принял ряд законов на случай
чрезвычайного положения, в том числе разрешающих властям
экспроприировать частную собственность, а также предоставля-
ющих министерству обороны Японии право использовать граж-
данские аэропорты, морские порты, частные дороги, объекты
транспортной инфраструктуры в военных целях. Кроме того,
законодательство на случай чрезвычайных обстоятельств разре-
шает инспектировать иностранные суда в японских территори-
альных водах, а также обеспечивать логистическую поддержку
армии США в кризисных районах мира. Японские националисты
удовлетворены легализацией права пресекать, в том числе и си-
ловым методом, любые нарушения морского и воздушного про-
странства Японии. В 2006 году правительство провело широко-
масштабную реорганизацию военного ведомства Японии, поставив
деятельность национальных сухопутных сил, ВМС и ВВС под конт-
роль одного командующего, что было сделано впервые с момента
окончания Второй мировой войны. Японские националисты во
власти без шума провели модернизацию вооружений, доведя
военно-технический потенциал своих ВВС и ВМФ до уровня
второй после США военной державы в регионе Восточной Азии.
Националистические силы Японии после успешного завершения
легализации всех необходимых действий на случай чрезвычай-
ных обстоятельств, наконец, впервые за десятилетия осознали,
что сегодня нация готова на равных с другими великими держа-
вами принимать участие в военных действиях в регионе17).
Серьезным практическим достижением японских национали-
стов можно считать преобразование созданного после Второй
мировой войны Управления сил самообороны в полноценное
министерство обороны Японии. Это произошло 9 января 2007 г.
после вступления в силу закона, принятого парламентом 15 де-
354
кабря 2006 г. Новое министерство обладает самым крупным шта-
том сотрудников в правительстве Японии: численность его пер-
сонала превышает 277 тыс. человек18*. Показательно, что верхняя
палата парламента проголосовала за законопроект об изменении
статуса министерства обороны подавляющим большинством го-
лосов, поскольку за это проголосовала и Демократическая партия
Японии, которая тогда была в оппозиции. И только японские ком-
мунисты и Социал-демократическая партия проголосовали тогда
против, аргументируя свою позицию тем, что это окончательно
подорвет пацифистский имидж Японии в мире и в будущем об-
легчит японской армии участие в вооруженных конфликтах в Во-
сточной Азии19*.
Заинтересованность японских националистов в повышении
статуса министерства обороны в политической системе Японии
предопределена тем важным для них обстоятельством, что после-
военные законы о формировании Сил самообороны 1954 года не
только официально закрепляли подчиненное положение армии
и контроль со стороны гражданского общества, но и превращали
японских военнослужащих в своего рода изгоев общества. Напри-
мер, в 1950-1980-е гг. японские военнослужащие стеснялись но-
сить военную форму за пределами мест своего расквартирования
на военных базах. По сути, они чувствовали себя маргиналами в
послевоенном японском обществе с его пацифистской идеологи-
ей. Дело порой доходило до того, что японские военнослужащие
не назывались «солдатами или офицерами», а назывались «спе-
циальными государственными служащими». Их военные форми-
рования именовались «рабочими местами», но никак не «баталь-
онами или бригадами». Отдавая боевые приказы подчиненным,
офицеры пользовались японскими выражениями вежливости
«о-нэгаи симасу» - очень Вас прошу сделать то-то и то-то...
В официальных СМИ деятельность Сил самообороны характери-
зовалась исключительно как деятельность, направленная на об-
щественное благо, на пользу общества, включая помощь армии
в ликвидации последствий стихийных бедствий и т.п. чрезвычай-
ных обстоятельств, но никак не связанная прямо с военными
функциями армии по защите безопасности Родины20*.
По мнению националистов, в послевоенные десятилетия ав-
торитет японской армии был сознательно дискредитирован вра-
гами Японии и поэтому в национальных интересах было важно
его восстановить. Усилия националистов в этом направлении
«воздаются сторицей»: по опросам газеты «Асахи», в начале
XXI века уже более 85% опрошенных японцев имеют самое благо-
приятное мнение о японской армии, она пользуется заслуженным
355
авторитетом в обществе20. Авторитет и влияние японских воен-
ных в общественной жизни растут день ото дня. Драматические
события марта 2011 года, когда японская армия была мобилизо-
вана на ликвидацию последствий разрушительного землетрясе-
ния, цунами и разрушений АЭС «Фукусима», только прибавили
ей авторитета в глазах всех японцев.
По оценкам японских СМИ, японские националисты горячо
приветствовали переезд министерства обороны Японии в заново
отстроенный, монументальный комплекс зданий в токийском
районе Итигая, где до Второй мировой войны размещалось ми-
нистерство обороны императорской армии22*. В этом комплексе
зданий нового министерства обороны японские националисты
«отстояли» два объекта национальной истории: во-первых, они
настояли на восстановлении и реконструкции помещения Меж-
дународного трибунала для военных преступников, в котором
в 1945 году проходил суд над японскими военнослужащими, и,
во-вторых, было восстановлено здание, с трибуны которого извест-
ный японский писатель, националист Мисима Юкио в 1970 году
совершил самоубийство в знак протеста против национального
унижения Японии и утраты японцами национального духа. Япон-
ским националистам импонирует также, что новая архитектура
министерства обороны Японии больше обращена в будущее, чем
в прошлое, что призвано символизировать новую траекторию на-
ционального развития Японии в XXI веке как великой и сильной
военной мировой державы.
Своей последовательной и целеустремленной деятельностью
японские националисты достигли главного - голос Японии сегод-
ня хорошо слышен в мире. Послевоенный синдром «ущербной
нации», который Япония получила в результате поражения во
Второй мировой войне и который был усилен в годы «холодной
войны» необходимостью подчиняться контролю США, в начале
XXI века стал постепенно исчезать - Япония набрала свой сило-
вой потенциал, и с ее национальными интересами стали больше
считаться как союзники, так и ее потенциальные противники. Это
подтверждается способностью Японии сопротивляться полити-
ческому и даже военному давлению со стороны Китая в террито-
риальном споре в отношении островов Сэнкаку и прилегающих
к ним подводных запасов природных ресурсов. Позиция Японии
окрепла настолько, что японские ВВС сегодня легко поднимают
в воздух истребители-перехватчики с тем, чтобы таким образом
подать сигнал китайской стороне о нарушении ее самолетами на-
ционального воздушного пространства в районе спорных терри-
торий. В споре с Россией о принадлежности Южных Курил по-
356
зиция Токио также приобрела на редкость агрессивный характер,
по сути, означая вмешательство во внутренние дела суверенного
государства.
Не менее показательными в этом отношении являются и име-
ющие провокационную основу официальные визиты японских
лидеров в синтоистский храм Ясукуни, где захоронены, в том
числе, военные преступники класса «А», осужденные Между-
народным Токийским трибуналом. И самое важное - эти визиты
демонстративно проходят на глазах Пекина и Сеула, категориче-
ски их осуждающих. Более того, против подобного рода провока-
ций со стороны официального Токио выступают и японские де-
ловые круги, не заинтересованные нести экономический ущерб от
растущей напряженности в японо-китайских или японо-южноко-
рейских отношениях. Однако националистически настроенные
японские политики остаются непреклонными в своих решениях
в этом вопросе и не идут на уступки никакому внешнему давлению.
Складывается впечатление, что националистические политики
Японии сегодня в первую очередь заинтересованы не столько в
том, чтобы прислушиваться к зарубежным критическим голосам,
сколько в том, чтобы получать признание своей нации, благодар-
ной властям за память о национальных героях. Общественное
мнение Японии сегодня поддерживает и не осуждает поведение
решительных национальных лидеров, не готовых «склонять голо-
ву» перед давлением извне.
Современные японские политики-националисты эпохи Хэй-
сэй исходят в своей идеологии и политической культуре из посы-
ла, что самое ценное, чем располагает Япония, заключается в ее
уникальной национальной идентичности, которая вполне вписы-
вается в международное сообщество. Это значит, что внешняя
политика страны может быть диверсифицированной. В отноше-
ниях с Китаем, например, новое поколение японских политиков
чувствует себя сегодня более уверенно и раскованно по срав-
нению с поведением своих послевоенных предшественников,
«зацикленных» в основном на чувстве вины перед странами-
объектами агрессии Японии в Восточной Азии. Современные
японские лидеры видят в Китае не столько жертву японской
агрессии в XX веке, сколько в первую очередь сильного соперни-
ка и конкурента Японии в XXI веке.
Несмотря, однако, на очевидные успехи японских национали-
стов по укреплению международных позиций Японии и ее авто-
ритета как великой державы, их амбиции по обретению страной
достойного места в международной иерархии все еще остаются
неудовлетворенными. Япония продолжает искать свое «место под
357
солнцем», которое соответствовало бы ее «истинному предназна-
чению». Японские националисты не забывают сегодня, например,
о том, что их страна незаслуженно обойдена достойным местом
постоянного члена Совета Безопасности ООН. В мае 2005 года
в Токио были приглашены послы Японии для участия в необыч-
ном совещании, повестка дня которого была целиком посвящена
необходимости приложить все дипломатические усилия для по-
лучения, наконец, Японией места постоянного члена СБ ООН.
Токио хотел бы таким образом послать миру сигнал о том, что
этот вопрос давно назрел и его необходимо решать в пользу
Японии. С тех пор, однако, прошло несколько лет, но никаких
реальных подвижек в этом направлении не произошло. По мне-
нию японских националистов, враги Японии, не принимая страну
в состав постоянных членов СБ ООН спустя более полувека после
окончания Второй мировой войны, лишний раз хотят тем самым
унизить национальное достоинство японцев23*.
Японские националисты не откажутся от своей конечной стра-
тегической цели - добиться превращения Японии в сильную
и авторитетную мировую сверхдержаву, вернуть ей былое вели-
чие империи первой половины XX века. Для реализации этой
задачи Япония будет проводить в высшей мере оппортунистскую
политику в мировых делах, адаптируя ее к любым изменениям
международной ситуации и стремясь «оседлать» основные миро-
вые тенденции в своих национальных интересах. В условиях
несформировавшегося ко второму десятилетию XXI века миро-
вого порядка Япония будет следовать этим курсом, не опасаясь
того, что намерение Токио активно участвовать в мировой поли-
тике на правах сильной мировой державы может столкнуть ее с
другими ведущими игроками нового мирового порядка.
Будущая внешняя политика Японии в XXI веке будет осуще-
ствляться руками националистически настроенных политиков
поколения Хэйсэй. Эти политики должны будут сделать для
Японии то, чего не смогли сделать послевоенные лидеры страны,
а именно: вернуть ей национальную гордость за свою прошлую
историю, за своих национальных героев, но при этом не провоци-
ровать подъем антияпонских настроений у своих соседей по ре-
гиону Восточной Азии. Провозглашенная после поражения Япо-
нии во Второй мировой войне «Доктрина Йосиды» о «неизменной
приверженности Японии мирной конституции» более не работа-
ет. Япония не станет в будущем «Венецией Востока», она также
не будет «мировой гражданской силой». Изменения, которые
происходят сегодня во внутренней и внешней политике Японии,
не поверхностны - они направлены на кардинальную перестройку
358
всей японской политической системы. Этот процесс может пойти
быстро, но может, в зависимости от разного рода обстоятельств,
занять определенное историческое время. Очевидным, однако,
остается одно: вектор эволюции Японии, заданный в последние
десятилетия ее националистическими силами в руководстве и в
обществе, сохранится неизменным, и современная Япония стоит
на пороге нового исторического этапа своего развития как воз-
рожденная великая мировая держава.
ПРИМЕЧАНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Введение
Reinch Р. World politics of the ninteenth century. N.Y., 1902. P. 2.
Kohn H. Nationalism. Its meaning and history. Princeton, 1955. P. 9.
Britannica. Настольная энциклопедия. T. II. М., 2006. С. 1290.
Doak К. Dreams of difference: The Japan romantic school and the crisis
of modernity. Berkeley, 1994. P. 2.
Ансэйские договоры, неравноправные договоры, заключенные в
1854-1858 гг. США и другими державами с Японией в годы Ан-
сэй - официальное наименование периода царствования (1854-
1860 гг.) императора Комэй. Как известно, в 1852 году правитель-
ство США послало в Японию военную эскадру коммодора М. Перри,
который под угрозой применения оружия добился заключения
31 марта 1854 г. в Канагаве первого американо-японского договора,
открывшего для американских судов порты Хакодате и Симода,
правда, без права торговли. 14 октября 1854 г. Япония была вы-
нуждена заключить аналогичный договор с Англией, 7 февраля
1855 г. - с Россией. Прибывший в Японию в 1856 г. американский
генеральный консул Т. Харрис при помощи угроз и шантажа добил-
ся заключения 17 июня 1857 г. нового, более выгодного для США
договора об установлении отношений, а через год, 29 июля 1858 г.,
был заключен кабальный для Японии торговый договор. По образ-
цу американо-японского торгового договора 1858 года впослед-
ствии были заключены договоры с Россией (19 августа 1858 г.),
с Англией (26 августа 1858 г. и 9 октября 1858 г.). Ансэйские до-
говоры устанавливали свободу торговли для иностранных куп-
цов на территории Японии. Предоставляя иностранцам право
экстерриториальности и консульской юрисдикции, они лишали
Японию таможенной автономии, навязали ей низкие ввозные по-
шлины.
См.: Гримм ЭЛ. Сборник договоров и других документов по исто-
рии международных отношений на Дальнем Востоке (1842-1925 гг.).
М., 1927; Treaties and conventions between the Empire of Japan
and other powers.., rev. ed. Tokio. 1884. Файнберг Э.Я. Внутреннее
и международное положение Японии в середине XIX в. М., 1954;
Петров Д.В. Колониальная экспансия Соединенных Штатов Аме-
рики в Японии в середине XIX в. М., 1955.
360
7) Сорман Г. Мечтая о новой эпохе Эдо. Project Syndicate, http://
www.project-syndicate.org/commentary/sormanl2/Russian. Инодзэ
предлагает обратиться к опыту развития нации в период Эдо
(1600-1868 гг.), не видя в этом никакой национальной трагедии.
Более того, он убежден в том, что если Япония XXI века вернется
к модели развития периода Эдо, то сократившееся население будет
пользоваться достаточным богатством, которое будет распреде-
ляться более равномерно, и Япония сможет инвестировать свою
креативность в промышленность и культуру. Правда, при этом
Инодзэ упускает из вида, что эпоха Эдо рухнула, когда ВМС США
силой открыли японский рынок с помощью «черных кораблей»
коммодора Перри в 1853 году. Но выдержит ли современная Япо-
ния «римэйк эпохи Эдо в XXI веке», если ей придется отражать
атаки на этот раз своего могучего китайского соседа? Впрочем,
Инодзэ уверен, что националистически сильная Япония будет спо-
собна дать адекватный отпор любым попыткам внешних сил посяг-
нуть на ее суверенитет и территориальную целостность, откуда бы
такие угрозы ни исходили.
Н) См., например, популярный в Японии сборник «Нихон-но ронтэн» -
«Японские проблемы», издающийся массовым тиражом. В выпуск
за 2006 год была включена глава по национализму, названная не
японскими эквивалентами национализма, а иностранным заимст-
вованным словом - «насёнаридзуму». Нихон-но ронтэн. Токио.
2005. С. 240-273.
9) См., например, определение национализма в работе известного
специалиста в этой области, профессора Бостонского университета
Лии Гринфельд «Национализм: пять путей к современности». М.,
2008. С. 8-9. Как подчеркивает Лия Гринфельд, в английском язы-
ке нет большого разнообразия для передачи понятия «нация» или
«национализм»: англоязычные исследователи национализма про-
сто различают «этнический национализм» - «ethnic nationalism»,
«гражданский национализм» - «civil nationalism», «политический
национализм» - «political nationalism».
10) Breuilly J. Nationalism and the state. Manchester, 1982. P. 2.
10 Особая культурная идентичность шотландцев, например, поддер-
живала чувство их общности в противостоянии с другой частью
британских граждан, что было этнической реакцией шотландского
меньшинства на политический национализм доминирующего боль-
шинства британцев.
12) См. об этом подробнее: Armstrong J. Nations before nationalism.
Chapel Hill. 1982; Seton- Watson H. Nationalism: old and new. Sydney.
1965; Connor IV. Ethno-nationalism: the quest for understanding.
Princeton. 1994; Horowitz D. Ethnic groups in conflict. Berkeley. 1985;
Anderson B. Imagined communities: reflections on the origins and
spread of nationalism, 2nd edn. London. 1991; Hobsbawm E. Nations
and nationalism since 1780. Cambridge. 1990. Heywood A. Political
Ideologies. An Introduction. Ch.l, 4th edition. New York. 2007. Комо-
ри Ё. и Такахаси T. (ред.) Насёнару хистории-о коэтэ (Меняющаяся
361
японская история). Токио, 1998, а также: Ватанабэ А. Нихон то ва
до иу куни ка, доко-э мукаттэ ику-но ка (Какая страна Япония?
Куда она идет?). Токио, 1998.
13) Japanese Responses to Globalization. Politics, security, economics and
business. N.Y. 2006.
14) Introduction: Japanese responses to globalization, Edited by Glenn
Hook and Hasegawa H. London. 2010. P. 5.
15) См.: Масару К. Сэфути нэтто сэйдзи кэйдзай гаку (Политическая
экономия сетей безопасности). Токио. 1999.
16) Yoshihara К. Globalization and national identity Alternative to the
American model. Malasia. 2001. P. 158.
,7) См., например, Kitayama S., Markus H. The coherence of personality:
Social cognitive bases of personality consistency, variability and
organization. N.Y. 1999. P. 242-302.
18> Избери жизнь. Диалог Арнольда Тойнби с Дайсаку Икэда. М., 2007.
С. 286.
19) Ishihara S. Japan that can say no: why Japan will be first among equals.
N.Y. 1991.
20) Сиба P. Мэйдзи то иу кокка (Государство Мэйдзи), в 2-х томах.
Токио, 1994.
21 > См. об этом подробнее: Чугров С.В. Япония уточняет свою идентич-
ность перед вызовами глобализации: глобальные вызовы - япон-
ский ответ. М., 2008.
22) Mahathir М. and Ishihara S. The voice of Asia: two leaders discuss the
coming century. Tokyo, 1996.
23) Iwabuchi K. Japanese popular culture and postcolonial desire for Asia -
Popular culture, globalization and Japan. London and N.Y. 2006. P. 17.
24) Ibidem.
25) Имада Г. Контон-но тикара (Сила хаоса). Токио, 1994.
26) Sugita A. Janus at Large: Neo-liberalism and statism in contemporary
Japan: Japanese responses to globalization. Politics, security, economics
and bisiness. Hook G. and Hasegawa H. Hound mills. 2006. P. 28.
Глава 1
° Weber M. Nationalism and power-politics - in Stanford Encyclopedia
of philosophy - http://plato.Stanford.edu/entries/weber.
2) См., например, об этом: Breuilly J. Nationalism and the state.
Manchester. 1993; Tilly Ch. (ed.) The formation of national states in
Western Europe. Princeton. 1975; Giddens A. The nation state and
violence. Cambridge. 1985; Mann M. Political theory of nationalism
and its excesses - in Sukumar Periwal (ed.) Notions of nationalism.
Budapest. 1995; Brown D. Contemporary nationalism, ethnocultural and
multicultural politics. London. 2000; Hearn J. Rethinking nationalism:
A critical introduction. Basingstoke and New York. 2006; Hobsbawm EJ.
Nations and nationalism since 1780: Programme, myth and reality.
Cambridge and New York. 1990; Hutchinson J. and Smith A.D. (eds.)
362
Nationalism. Oxford and New York. 1994; Ozkirmli U. Contemporary
debates on nationalism; A critical engagement. Basingstoke and New
York. 2005; Smith A.D. Nationalism; theory, ideology, history. Cambridge
and Malden. 2001; Spencer P. and Wollman H. Nationalism; A critical
introduction. London and Thousand Oaks. 2002.
3) См. об этом: Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества
(Серия «Памятники исторической мысли»). М., 1977.
4) См. об этом: HaywardJ.t Barry В., Brown A. The British Study of Politics
in the Twentieth Century. Oxford. 2003. Yehouda AS. The Arab Jews:
a postcolonial reading of nationalism, religion, and ethnicity. Stanford.
2N№.Jacquin-BerdalD. Nationalism and ethnicity in the Horn of Africa:
A Critique of the ethnic interpretation. London. 1999. Smith A.D.
Nationalism and modernism: a critical survey of recent theories of
nations and nationalism. London. 1998. Ozkirimli U. Theories of
nationalism. London. 2000.
5) См. об этом: Travers P.D. and Rebore R.W. Foundations of education,
becoming a teacher. Upper Saddle River. 1990; Hutchins M.R. Great
Books: The foundation of a liberal education. New York. 1954; Kneller G.F.
Introduction to the philosophy of education. N.Y. 1971; Erlich T. Dewey
versus Hutchins: The next round. Education and democracy: Reimagining
liberal learning in America. Ed. Orril R. New York. 1997.
6) Cm. BreuillyJ. Nationalism and the state. Manchester. 1993; Tilly C. (ed.)
The formation of national states in Western Europe. Princeton. 1975;
Giddens A. The Nation-state and violence. Cambridge. 1985; Mann M.
A political theory of nationalism and its excesses in: Sukumar Periwal
(ed.) Notions of nationalism. Budapest. 1995. P. 44-64.
7) Giddens A. The Nation-state and violence. Cambridge. 1985. P. 116.
8> Ibid. P. 116.
9) Согласно древнему японскому памятнику «Кодзики» - Записки
о деяниях древности конца VII - начала VIII в., включавшему
мифы и древние предания, старинные истории и изложенные в хро-
нологическом порядке события, богиня была «рождена» богом Ид-
занаги из капель воды.
10) Smith A.D. The ethnic origin of nations. Oxford. 1986. Ch. 3.
11} Tilly C. (ed.) The formation of national states in Western Europe.
Princeton. 1975. Conclusion.
l2) Mann M. The sources of social power. Vol. 1. Cambridge. 1986. P. 527-530.
13) См. об этой стороне государственного национализма: Tilly С. (ed.)
The formation of national states in Western Europe. Princeton. 1975.
Introduction.
14) Breuilly J. Nationalism and the state. Manchester. 1993, P. 12-14.
15> Ibid. P. 36-46.
16) Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках
и распространении национализма. Гл. 5. Москва. 2001.
,7) Breuilly J. Nationalism and the state. Manchester. 1993. P. 70.
18) Breuilly J. Nationalism and the state. Manchester. 1993. P. 398-401.
,9> Ibid. Ch. 10.
363
20) Например, всегда было непросто сплотить на единой националь-
ной основе многонациональные и разбросанные по обширной тер-
ритории этносы Советского Союза, не говоря уже о современной
России.
21 > Maruyama М. The theory and psychology of ultranationalism. Tokyo.
1946. Эту работу перевел и издал на английском языке английский
японовед Иван Моррис. Morris I. Thought and behavior in modem
Japanese politics. London. 1963. См. об этом также: Kersten R. Democracy
in Japan: Maruyama Masao and the search for autonomy. London and
New York. \№&,Ansderson G.C. Progressive representations of the nations:
Early postwar Japan and beyond. Social Science // Japan Journal, 4,
No. 1. P. 1-19.
22) Ansderson G.C. Progressive representations of the nations: Early postwar
Japan and beyond. Social Science // Japan Journal, 4, No. 1. P. 1.
23) Maruyama M. Author’s introduction. - Studies in the intellectual
history of Tokugawa Japan. Princeton. 1947. P. 33.
24> Ibid. P. 324.
25) См. подробнее о японских послевоенных ученых-сторонниках
марксистской школы «этнического национализма» - Curtis. Marxist
history and postwar Japanese nationalism. London. 2003.; см. также
об этом: Doak К. What is a nation and who belongs: national narratives
and the ethnic imagination in twentieth century Japan // The American
historical review. Vol. 102. No. 2. April 1997. P. 283-309; Амино Й.
Рэкиси тосйтэ-но сэнго сигаку. Токио. 2000.
26) Тояма С. Футацу-но насёнаризуму-но тайко: сонно рэкиситэки
косацу // Тюо корон. № 6. 1951.
27> Ibid. Р. 3-4.
28) Тояма Сигэки. Киндайси: кайкю то миндзоку-но каймэй-о сютосйтэ.
Кодза рэкиси. Т. 2. Токио. 1955.
29) Японо-американский договор (о гарантии) безопасности 1951 г. -
военное соглашение между США и Японией, подписанное 8 сен-
тября 1951 г., в один день с Сан-Францисским мирным договором
и вступившее в силу 28 апреля 1952 г. Договор предоставлял США
право создавать военные базы и размещать неограниченное коли-
чество вооруженных сил на японской территории как для «обеспе-
чения безопасности Японии от вооруженного нападения извне»,
так и для «подавления крупных внутренних бунтов и беспорядков»
по соответствующей просьбе японского правительства. Он ограни-
чивал суверенитет Японии, запрещая ей заключать какие-либо
соглашения военного характера с третьими державами без предва-
рительного согласия США. Вместо конкретного срока окончания
договора в нем содержалось расплывчатое указание на возмож-
ность его прекращения, когда вступят в силу другие соглашения,
обеспечивающие мир и безопасность в районе Японии. Японо-
американский договор 1951 года был заменен в 1960 году Догово-
ром о взаимном сотрудничестве и гарантии безопасности.
30) Ёсимото Т. Нихон но насёнаризуму. Ёсимото (ред). Насёнаризуму.
Гэндай Нихон сисо тайкэй. Т. 4. Токио. 1964. С. 7-54.
364
3,) Хасикава Б. Насёнаризуму. Токио. 1968. См. об этом также: Моло-
дяков В.Э. Консервативная революция в Японии: политика и иде-
ология. Диссертация на соискание ученой степени доктора поли-
тических наук. М. 2004.
32) Хасикава Б. Насёнаризуму. Токио. 1968. Р. 16.
33> Ibid. Р. 123-126.
34> Ibid. Р. 186.
Глава 2
° Rousseau J.-J. Essay on the origins of language // Gourevitch V. (ed.)
The discourses and other early political writings. Cambridge, 1997.
P. 268-269.
2) Rousseau J.-J. Considerations on the government of Poland // Victor
Gourevitch (ed.) The social contract and other later political writings.
Cambridge, 1997. P. 185.
3) HerderJ. Letters for the advancement of humanity // Forster M.H. (ed.).
Herder: Philosophical Writings. Cambridge. 2002. P. 382; см. также об
этом: Kant I. Perpetual peace. - in: Reiss H.(ed.) Political writings.
Cambridge. 1991. P. 232.
4) Herder J. Letters for the advancement of humanity // Forster M.H. (ed.)
Herder: Philosophical writings. Cambridge. 2002. P. 384-385.
5) Nishimura S. The way of the gods: Motoori Norinaga’s Naobi-no
Mitama // Monumenta Nipponica. № 26, 1. 1991. P. 21-41.
6) О предложениях, которые высказывал Айдзава по укреплению
«оборонительного национализма», см.: Motoyama Y. The political
thought of the late Mito school // Philosophical Studies of Japan.
11, 1975. P. 95-119.
7) Wakabayashi B.T. Opium, expulsion, sovereignty: China’s lessons for
Bakumatsu Japan // Monumenta Nipponica. № 47, 1. 1992. P. 21.
8) Aizawa S. The new theses // Wakabayashi B.T. Antiforeignism and
Western learning in early modem Japan: the new theses of 1825.
Cambridge. 1986. P. 199.
9> Ibid. P. 150, 169, 194, 200-201.
10) Анализ внешней политики европейских держав в XIX веке, сделан-
ный Айдзава, выглядит не вполне корректным. Так, он сильно
переоценивал силовой потенциал царской России на Дальнем
Востоке в сравнении с другими европейскими державами, с одной
стороны, и недооценивал империалистические амбиции Велико-
британии, Франции и США - с другой. Айдзава преувеличивал
роль и место христианской идеологии в политике внешних захва-
тов, равно как и переоценивал солидарность западных стран в их
экспансионистской политике в Восточной Азии.
И) Власти Японии, руководствуясь, возможно, рекомендациями Ай-
дзава, уже в новых исторических условиях применили страте-
гию упреждающего удара в атаке на Перл-Харбор в декабре
1941 года.
25-5584
365
12) Aizawa S. The new theses // Wakabayashi B.T. Antiforeignism and
Western learning in early-modern Japan: The New Theses of 1825.
Cambridge. 1986. P. 168, 173, 196-197, 251.
,3> Ibid. P. 251.
,4> Ibid. P. 163, 170-171, 180.
,5> Ibid. P. 172.
l6) Ibid. P. 150. См. об этом также: Tsunoda R.W. Theodore de Bary, and
Keen D. (eds.) Sources of Japanese tradition. Vol. 2. New York. 1964.
P. 517.
17) Aizawa S. The new theses // Wakabayashi B.T. Antiforeignism and
Western learning in early-modern Japan: the new theses of 1825.
Cambridge. 1986. P. 164.
18) Kramnick I. (ed.) The Federalist papers 1787. London. 1987. P. 133-
134, 144.
19) Hegel G.W.F. The German Constitution // Dickey L. (ed.) Political
writings. Cambridge. 1999.
20) Hegel G.W.F. Philosophy of right. Trans. T.M. Knox. Oxford. 1967.
P. 209-210.
21) Tsunoda R.W. Theodore de Bary and Keen D. (eds.) Sources of Japanese
tradition. Vol. 2. New York. 1964. P. 620.
22) Ishida I. The spirit of Meiji // Philosophical Studies of Japan. № 9.
1969. P. 4.
23) Fukuzawa Y. Goodbye Asia // Lu D.(ed.) Japan: A Documentary
history. New York. 1997. P. 351-353.
24) Накаока С. в - Wakabayashi B.T. Opium, expulsion, sovereignty:
China’s lessons for Bakumastu Japan // Monumenta Nipponica. № 47,1.
1992. P. 21.
25) Хиробуми Ито (1841-1909) - выдающийся японский политик,
первый (а также 5-й, 7-й и 10-й) премьер-министр Японии, первый
генерал-резидент Кореи, первый (а также 3-й, 8-й и 10-й) предсе-
датель Тайного Совета, автор проекта первой Конституции Япо-
нии 1889 года. Он был одним из лидеров Реставрации Мэйдзи,
а также входил в состав советников императора - гэнро.
2fi ) Tsunoda R.W. Theodore de Bary and Keen D. (eds.) Sources of Japanese
tradition. Vol. 2. New York. 1964. P. 677-679.
27) Цит. по: Японцы о Японии // Под редакцией А. Стэдома. С-Петер-
бург. 1904. С. 525.
28> Там же. С. 530.
29) Политические взгляды Бёрка наиболее последовательно отрази-
лись в его памфлетах против Великой французской революции.
Бёрк был первым, кто подверг идеологию французских революцио-
неров систематической и безжалостной критике. Корень зла он видел
в пренебрежении традициями и ценностями, унаследованными от
предков, в том, что революция бездумно уничтожает духовные ре-
сурсы общества и накопившееся столетиями культурно-идеологи-
ческое наследие. Радикализму французских революционеров он
противопоставлял не написанную британскую конституцию и её
основные ценности: заботу о политической преемственности и есте-
366
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
ственном развитии, уважение к практической традиции и конкрет-
ным правам вместо абстрактной идеи закона, умозрительных построе-
ний и основанных на них нововведений. Бёрк полагал, что общество
должно принять за должное существование иерархической системы
среди людей, что ввиду несовершенства любых человеческих
ухищрений искусственное перераспределение собственности мо-
жет обернуться для общества катастрофой. - См. об этом: Burke Е.
Reflections on the revolution in France. Ed. EG. Selby. London. 1890.
Ibid. P 34-37.
О влиянии немецкой и английской политической мысли при под-
готовке первой Конституции Японии 1889 года см.: Pittau J.
Political thought in early Meiji Japan, 1868-1889. Cambridge. 1967.
P. 131-157, 170-230.
Tsunoda R.W. Theodore de Bary and Keen D. (eds.) Sources of Japanese
tradition. Vol. 2. N.Y. 1964. P. 675-676.
См.: Закон «Об Императорском доме в Японии» от февраля
1889 года // «Японцы о Японии» под редакцией А. Стэдома.
С-Петербург. 1904. С. 525-529.
Американский японовед из Принстонского университета Кэрол
Глак писал, что в 1880-е годы Ито Хиробуми успокаивал обеспо-
коенных японских консервативных политиков относительно того,
что точка зрения ученых из Школы Мито, а также Эдмунда Бёрка
в отношении возможных изменений с течением времени сути «ко-
кутай» как государства-нации является некорректной. Любое об-
щество может меняться, но суть «кокутай», по мнению Хиробуми,
в Японии остается неизменной. - Gluck С. Japan’s modern myths:
ideology in the late Meiji period. Princeton. 1985. P. 143-145.
Напе M. The sources of English liberal concepts in early Meiji Japan //
Monumenta Nipponica. № 24. 3. 1969. P. 259-272.
Mill J. S. Consideration on representative government // On liberty
and other essays. Ed. John Gray. Oxford. 1991. P. 449, 453.
Tsunoda R. W. Theodore de Bary and Keen D.(eds.) Sources of Japanese
tradition. Vol. 2. New York. 1964. P. 678.
См. об этом: Griffis W. Brave little Holland and what she taught us.
Tokyo. 1894.
Griffis W. The Mikado’ empire: a history of Japan from the mythological
age to the Meiji era. New York and Tokyo. 2000. P. 433.
Окубо Тосимити - японский политик, самурай из княжества Са-
цума, один из «трех благородных людей» революции Мэйдзи, воз-
главлявших проимператорские силы в 1868 году в борьбе против
сёгуната Токугава.
Tsunoda R.W. Theodore de Bary and Keen D. (eds.) Sources of Japanese
tradition. Vol. 2. New York. 1964. P. 660-661.
Craig A. Fukuzawa Yukichi: the philosophical foundations of Meiji
nationalism // Ward R.E. (ed.) Political development in modern Japan.
Princeton. 1968. P. 99-148.
Fukuzawa Y. An outline of a theory of civilization. Trans. Dilworth D.
and Hurst G.C. Tokyo. 1970. P. 172.
25*
367
44) Fukuzawa Y. An outline of a theory of civilization. Tokyo. 1970. P. 183,
188-189.
45> Ibid. P. 190.
46> Ibid. P. 186, 189, 193.
47> Ibid. P. 177-178.
48> Ibid. P. 190-191.
49> Ibid. P. 193.
50) Jansen M. Modernization and foreign policy in Meiji Japan. - Ward R.E.
Political development in modern Japan. Princeton. 1968. P. 183;
см. об этом также: Huffman J.L., Jansen M.B. 2000. The making of
modern Japan. (Book Review) //Journal of Asian and African Studies.
July 1, 2003.
5,) Надо отметить, что либеральные политики-реформаторы в Мэйд-
зийской Японии мечтали о мягких путях захвата новых террито-
рий. Многие из них находились под сильным влиянием идей
Джона Локка (1632-1704), британского философа, представителя
эмпиризма и либерализма. В своих произведениях Локк руковод-
ствовался теорией «продуктивного использования территорий»,
которая на деле означала оправдание колониальных захватов вели-
кими державами земель в слаборазвитых странах. При этом аме-
риканские и европейские политики предпочитали проводить раз-
личие между колониальными захватами земель, удаленных от
Европы на многие тысячи километров, и использованием военной
силы для перекраивания карты Европы в границах континента.
Правда, к концу XIX века эти два подхода к захвату великими дер-
жавами новых территорий практически объединились в одно целое.
Попытки Великобритании использовать «мягкую торговлю» в отно-
шении Индии и Китая вызывали яростное сопротивление со стороны
народов этих стран, что побудило английское правительство разме-
стить в этих странах войска и ввести прямое правление из метро-
полии над непокорным местным населением. В погоне за создани-
ем колониальных империй в 1880-е и 1890-е годы бывшие торговые
соперники на мировом рынке встретились лицом к лицу в борьбе за
новые территории. Националистическая идеология великих держав
была двуличной: с одной стороны, она осуждала колониальные за-
хваты, когда речь шла о действиях их соперников и конкурентов
из числа других великих держав, однако с другой - великие дер-
жавы не отказывались от использования силы для захвата коло-
ний, когда дело касалось их собственных национальных интересов.
52) Pittau J. Inoue Kowashi 1843-1895 and the formation of modern
Japan // Monumenta Nipponica. 20, 3-4, 1965. P. 273.
53> Fukuzawa Y Goodbye Asia (Datsu-A) // Lu D. (ed.) Japan: A documen-
tary history. N.Y. 1997. P. 351-353.
54) Kawai T. The goal of Japanese expansion. Tokyo. 1938. P. 15, 39, 63-65.
55> Ibid. P. 113-114.
56) Weber E. Peasants into Frenchmen: the modernization of rural France,
1870-1914. Stanford. 1976. P. 486.
57) Banton M. The idea of race. London. 1977. P. 96.
368
58)
59)
60)
61)
62)
63)
Ibid. P. 96.
Benner E. Japanese national doctrines in international perspective //
Nationalism in Japan. Shimazu N. (ed.). London and New York.
2009. P. 9.
Антивоенные настроения, распространившиеся в стране в резуль-
тате неудачной военной экспедиции против Советской России
1922 г., нашли свое отражение и в некотором сокращении числен-
ности вооруженных сил. Военный министр — генерал Угаки Кад-
зусигэ, который возглавлял это министерство в пяти кабинетах
вплоть до 1930 г., издал приказ о сокращении армии на 4 дивизии,
что было встречено с негодованием со стороны офицерства. Но реа-
лии внешней и внутренней политики того времени требовали от-
каза от откровенно экспансионистской линии. Именно на это вре-
мя приходилась нормализация дипломатических отношений между
Японией и Советским Союзом. Первые предварительные перего-
воры об этом начались еще в 1923 г. Тогда прибывший в Токио по
приглашению мэра японской столицы, виконта Симпэя Гото, пред-
ставитель Советской России Адольф Иоффе потребовал не только
дипломатического признания РСФСР, но и объявления японским
правительством сроков эвакуации своих войск с Северного Саха-
лина. В то время даже обсуждать эту тему японская сторона была
не намерена. Поэтому до официальных переговоров дело тогда не
дошло. Лишь в январе 1925 г. делегации обеих стран встретились
в Пекине. Там и была подписана Пекинская конвенция об основ-
ных принципах взаимоотношений. Между СССР и Японией были
установлены дипломатические и консульские отношения. Япония
обязалась вывести свои войска с Северного Сахалина к 15 мая
1925 г. Были определены и основы экономических связей: достиг-
нуты договоренности о пересмотре российско-японской рыболовной
конвенции 1907 г. и о предоставлении японским предпринимате-
лям концессий на разработку угля и нефти на севере Сахалина.
Однако до заключения полномасштабного торгового договора так
и не дошло. Несмотря на обмен полномочными послами, отношения
между Москвой и Токио продолжали оставаться напряженными.
См.: Записка В.М. Молотова № 131 «Берлинский Пакт о Тройст-
венном союзе» - http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&
task=view&id=1526&Itemid=30)/
Первым рейхом была Священная Римская империя германской
нации, которая существовала с 962 г. по 1806 г.; Второй Рейх,
1871—1918 гг., - держава Гогенцоллернов. Тевтонский орден - рели-
гиозный орден, основанный в конце XII века, просуществовал до
1947 г. Девиз Тевтонского ордена: нем. «НеИеп — Wehren — Heilen»
(«Помогать — Защищать — Исцелять»),
Еще по итогам русско-японской войны 1904-1905 гг. Япония раз-
местила в Маньчжурии свой воинский контингент. После инци-
дента со взрывом железнодорожного полотна на КВЖД поздно ве-
чером 18 сентября 1931 г. в местечке Лютяогоу около г. Мукден
командование японской армией привело части Квантунской армии
369
в боевую готовность и отдало приказ о нападении на китайские
войска. Правительство Минсэйто, во главе которого стоял преем-
ник убитого Хамагути - Вакацуки Рэйдзиро, оказалось не в состо-
янии повлиять на военных и отменить наступление Квантунской
армии на китайские подразделения. Японские солдаты захватили
всю Маньчжурию. Военная оккупация китайской территории спо-
собствовала приходу к власти японского марионеточного прави-
тельства Маньчжоу-Го. Японский парламент, который контроли-
ровался военными, проголосовал за выход Японии из Лиги Наций.
Первые признаки предстоящих военных событий в Восточной
Азии получили свое воплощение в жизнь.
64) См. об этом: Сиратори К. Какан то катон сёгб ко. (Исследование
титулов каган и катунь) // Тоё гакухо. 1922. Vol. И, № 3.
65) См. об этом: Залесский КА. Кто был кто во второй мировой войне.
Союзники Германии. М., 2003.
в6* http://ru.wikipedia.org/wiki/CyrHxapa,_TnyH3/.
67) Нихонкоку кэмпо. Токио. 1985. С. 18.
Там же. С. 18.
69) См. об этом: Bernier В. National communion: Watsuji Tetsuro’s conception
of ethics, power, and the Japanese imperial state // Philosophy East
and West. Vol. 56, No. 1, January 2006 - http://www.highbeam.com/
doc/lGl-141082479.html.
70) Rikki R. Democracy in postwar Japan: Maruyama Masao and the search
for autonomy. London and New York. 1996. P. 66.
71 > Anderson G.C. Progressive representations of the nation: early postwar
Japan and beyond // Social Science. Japan Journal. Vol. 4, No. 1. 2003.
P. 14.
72) Camo M. Кодзин -но сюготай тосйтэ-но сякай то иу кангаэката-но
тэйтяку-ни хатасйта сёки сякайка-но якувари // Сякайка кёику
кэнкю, № 68, июнь 20, 1993. С. 18-29.
73) Янагита К. Сякайка-но синкодзо. Токио. 1953. - Цит. по: Сато М.
Кодзин-но сюготай тосйтэ-но сякай то иу кангаэката-но тэйтяку-ни
хатасйта сёки сякайка-но якувари // Сякайка кёику кэнкю, № 68,
июнь 20, 1993. С. 25-26.
74) Исида Т. Нихон но сякай кагаку. Токио. 1984. С. 161-167.
75) Там же. С. 189.
7б> Там же. С. 172-173.
77) Там же. С. 176. См. также: Симидзу И. Айкосин. Токио. 1950.
78) Rikki К. Democracy in Japan: Maruyama Masao and the search for
autonomy. London and New York. 1996; Rikki K. Neo-nationalism and
liberal school of history //Japan Forum, 11, 2. 1999. P. 191-203;
Rikki K. Shimizu Ikutaro: the heart of a chameleon. London and New
York. 1996.
79) См. об этом подробнее: Фурусава Т. и Санада Н. Ред. Гэндай симин
сякай дзэнсю. Т. 1. Симин сякай-но кисо гэнри. Токио. 1977.
80) Симидзу И. Айкокусин. Токио. 1950. С. 23-24.
81 > Там же. С. 34.
370
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)
100)
101)
102)
103)
Симидзу И. Тайсю сякайрон-но сёри (Победа теории массового об-
щества) // Сисо, № 10. 1960.
Сироцука Н. Симин сякай-но имэдзи то гэндзицу // Сисо, № 6,
июнь 1966. С. 1-15. Таканабэ М. Симин ундо-но сосйки гэнри -
в переводе Koschmann J.V. Authority and individual in Japan:
citizen protest in historical perspective. Tokyo. 1978. P. 189-199;
Фурусава T. и С. Ред. Гэндай симин сякай дзэнсю: симин сякай-но
кисо гэнри. Токио. 1977. С. 131-132. Иноуэ С. Вакамонотати-но
ханэтатидзуму // Тэмбо. № 145, январь 1971. С. 60-67.
Kosaku У. Cultural nationalism in contemporary Japan. London. 1992.
Harumi B. Hegemony of homogeneity. Melbourne. 2001.
Фудзиока В. Футатаби «сайонара тайсю» // Voice. January 1986.
Р. 206-229. Материал статьи Фудзиока был переведен на англий-
ский язык и опубликован в журнале « Japan Echo». Vol. 13. No. 1.
1986. P. 31-38.
Коянаги К. и Кацураги К. Симин сякай-но сисо то ундо. Киото. 1985.
Там же. С. 1.
Цит. по: Огума Э. Минею то айкоку: сэнго Нихон-но насёнаридзу-
ма то кокёсэй. Токио. 2002. С. 139.
Кагэяма М. Сэнрёка-но миндзокуха: данъацу то тёкоку-но сёгэн.
Токио. 1979.
Симмэй М. Синтэки миндзоку рирон. Токио. 1949. С. 36-68.
Там же. С. 55-56.
Вакамори Т. Нихон миндзокурон. Токио. 1947. - Цит. по: Doak К.
Building national identity through ethnicity: ethnology in wartime
Japan and after //Journal of Japanese Studies. Vol. 27. No. 1. 2001.
P. 33-34.
Кубокава Ц. Бунгаку сисо сэйкацу. Токио. 1948. С. 241-242.
Curtis G. Marxist history and postwar Japanesae nationalism. London
and New York. 2003. P. 52-57.
Doak K. What is a nation and who belongs: national narratives and
ethnic imagination in twentieth century Japan // The American
historical review. Vol. 102. No. 2. April 1997. P. 302-303.
Curtis G. Marxist history and postwar Japanesae nationalism. London
and New York. 2003. P. 86-87.
Кубокава Ц. Бунгаку сисо сэйкацу. Токио. 1948. С. 242.
См. о послевоенных националистических взглядах Ясуда: Окэтани X.
Ясуда Ёдзюро. Токио. 1996.
Такасима Д. Миндзоку то кайкю. Токио. 1970. С. 29-53.
Dale Р. The myth of Japanese uniqueness. New York. 1986. P. 38-39.
Накасонэ Я. Миндзокусюги то кокусайсюги-но тёва-о // Гэккан
дзию минею. Октябрь 1987. С. 44-61.
Pyle К. The Japanese question: power and purpose ia a new era.
Washington. 1992. P. 63.
См. об этом в частности: Мацумото К. Хиномару, кимигаё-но ханаси.
Токио. 1999. Асаба М. Насёнаридзуму: мэйтё-дэ тадору Нихон сисо
нюмон. Токио. 2004.
371
Глава 3
]) См. об этом, например: Комори Ё. и Такахаси Т. (ред.) Насёнару
хистории-о коэтэ (Меняющаяся японская история). Токио. 1998.
А также: Ватанабэ А. Нихон то ва до иу куни ка, доко-э мукаттэ
ику-но ка (Какая страна Япония? Куда она идет?). Токио. 1998.
2) См. об этом, в частности: Мацумото К Хиномару, кимигаё-но ха-
наси. Токио. 1999. Асаба М. Насёнаридзуму: мэйтё-дэ тадору Ни-
хон сисо нюмон. Токио. 2004.
3) Wickert Е. (ed.). The good German of nanjing: the diaries of John Rabe.
N.Y. 1998; http://en.wikipedia.org/wiki/John_Rabe.
4) Айкокусин ва табу дэ ва най // Сапио. 10(2) 4.02.1998. С. 14—134.
5> Ёсими С. Дзасси мэдиа то насионаризумо-но сёхи // Комори Ё, и
Такахаси Т. (ред.) Насионару хистории-о коэтэ (Переходя границы
национальной истории). Токио. 1998. С. 195-212.
6) Нисио К., Фудзиока Н. (ред.) Рэкиси кёкасё то но 15 нэн сэнсо
(15-летняя война за учебники истории). Токио. 1997; Кобаяси Ё.
Син гоманидзуму сэнгэн, дай гокан (Новая гуманистическая дек-
ларация). Токио. 1998.
7) McCormack G. The Japanese movement to «correct history» // Bulletin
of concerned Asian scholars. 30(2), 1998. P. 20.
8) Kersten R. Neo-nationalism and the «Liberal school of history» //Japan
Forum. 11(2), 1999. P. 128.
9> Ibid. P. 191-204.
10) См. например, об этом статьи в таких популярных журналах, как
«Рэкиси хёрон», «Кёику», «Сэкай», «Сюкан кинъёби» за 1997 год.
11> Сэкай. 12, 1998. С. 91. Сэйрон. 12, 1998. С. 230.
12) После капитуляции Японской империи 2 сентября 1945 года ко-
мандующий армиями союзников отдал приказ об аресте японских
военных преступников. Одним из них был генерал Тодзио, который
обвинялся по следующим пунктам: а) развязывание агрессив-
ных войн и нарушение международного права, б) развязывание не-
спровоцированной войны против Китайской Республики, в) раз-
вязывание агрессивной войны против США, г) развязывание
агрессивной войны против Содружества наций, д) развязыва-
ние агрессивной войны против Нидерландов, е) развязывание
агрессивной войны против Франции, ж) отдача приказов о бесче-
ловечном обращении с военнопленными. Тодзио полностью при-
знал свою вину. 12 ноября 1948 года он был приговорен к смерт-
ной казни. Приговор был приведен в исполнение 23 декабря
1948 года.
13) Асахи симбун. 26.07.2007.
Н) Наоко Н. Национализм усиливает свою поступь в Японии. Асахи
симбун. 26.07.2007.
15) McCormack G. The Japanese movement to «correct» history // Bulletin
of concerned Asian scholars. 30(2), 1998. P. 17.
16) DPJ defense guideline reveals hostility toward neighbors - http://
www.japan-press.co.jp/modules/news. 26.12.2010.
372
17) Weber М. Ethnic Groups - in economy and society. Vol. 1. Berkeley.
1978. P. 385- 398.
IK) В этом отношении власти Японии брали пример в создании имид-
жа миролюбивого государства с Великобритании и США, которые
на протяжении последних трех столетий также пытались позицио-
нировать себя на международной арене как «просвещенные госу-
дарства», выступающие за развитие мировой торговли, а не за на-
ращивание военных мускул. Правда, эти два государства, предлагая
миру торговать, а не воевать, использовали саму торговлю как
важнейшее средство для распространения своего влияния в систе-
ме международных отношений.
19) См. об этом, например: Морита А. и Исихара С. Япония, которая
может сказать нет. Токио. 1991.
20) Hobsbawm EJ. Nations and nationalism since 1780. Cambridge and
New York, 1990. P. 182.
21 * Baumann Z. Soil, blood and identity // Social Review. No. 40. 1992.
P. 675-701; Home. D. The great museum. Sydney, 1984. P. 1-2. Cm.
об этом также: Hobsbawm EJ. Ethnicity and nationalism in Europe
today // Balakrishnan G. (ed.) Mapping the nation. London and New
York. 1996. P. 255-266; Castles S., Cope B., Kalantzis M., Morrissey M.
Mistaken identity: multiculturalism and the demise of nationalism in
Australia. Sydney, 1988. P. 140—144.
22) Castle S., Cope B., Kalantzis M., Morrissey M. Mistaken identity:
multiculturalism and the demise of nationalism in Australia. Sydney,
1988. P. 140-144.
23) О «потребительском империализме» см.: Billing М. Banal nationalism.
London. 1995. Ch. 6; Tomlinson J. Cultural imperialism: a critical
introduction. London. 1991. Ch. 3; Smith A. Nations and nationalism
in a global era. Cambridge, 1995. Ch. 1.
2i) Обращает на себя внимание разница в подходах японского и западно-
европейского капитала, организующего, например, автосборочные
предприятия за рубежом. Японцы, строя автомобильные заводы
«Тойота», «Ниссан», «Мазда» и другие за границей, ориентирова-
ны на продвижение японского имиджа в мире. Европейский же ка-
питал заинтересован в первую очередь в получении дополнитель-
ной прибыли. На это обратил внимание президент Франции
Николя Саркози. Выступая в январе 2010 г. в Париже на встрече
с президентом корпорации «Рено» Карлосом Гоном, президент
Франции обвинил руководителей автокорпораций в том, что, от-
крывая производство за рубежом, они забывают о своей националь-
ности. В свою очередь, К. Гон парировал выпад Саркози в свой
адрес, подчеркнув, что автомобиль нового поколения «Клио 4»
будут производить как на территории Франции, так и в Турции,
несмотря на то, что на территории последней производство данной
марки автомобиля дешевле на 1,400 евро. - Associated Press. Paris.
17.01.2010.
25) Асаба М. Насёнаридзуму: мэйтё-дэ тадору Нихон сисо нюмон.
Токио. 2004. С. 288-289.
26-5584
373
26) Одзава И. Нихон кайдзо кэйкаку. Токио. 1993.
27) Ozawa I. Blueprint for a new Japan: the rethinking of a nation. Ed.
By Eric Gower. Tokyo, 1994.
28> Ibid. P. 94.
29> Ibid. P. 156-158.
30> Ibid. P. 203.
3I) Kersten. R. Neo-nationalism and the liberal school of history //Japan
Forum. Vol. 11. No. 2. 1999. P. 202.
32) Флаг Японии Ниссёки, солнечный флаг, представляет со-
бой белое полотно с большим красным кругом в середине, олице-
творяющим восходящее солнце. Согласно легенде, традиция этого
флага берет начало в XIII веке, со времен монгольского нашествия
в Японию. Флаг был предложен японскому императору, считающе-
муся потомком богини Солнца, буддийскими монахами. Флаг на-
чал рассматриваться как государственный в эпоху национальной
реставрации после 1868 года. Флаг имеет соотношение сторон 2:3
и является государственным и гражданским флагом Японии, а также
государственным и гражданским вымпелом (знаком). Флаг япон-
ской империи - Хиномару в 1870 году официально стал торговым
флагом. Он немного отличался от современного - его пропорции были
7:10, а не 2:3 и солнечный диск находился левее центра. Современный
флаг Японии был утвержден законом о национальном флаге и гимне
в 1999 году. Солнечный диск находится строго по центру флага.
33) Синдзо А. Уцукусий куни-э. Бунгэй синсё 524. Токио. 2006, С. 98-99.
34) Доак К. Синко-кара мита Ясукуни санпай мондай // Voice, сентябрь
2006. С. 195-201.
35) Решение Верховного суда от 1977 года. - Цит. по: Абэ С. Уцукусий
куни-э. Бунгэй синсё 524. Токио. 2006. С. 66-67.
зб) цит по: Японцы о Японии // Под ред. А. Стэда. СПб., 1904. С. 530.
37> Там же. С. 36.
38) Doak К. A History of nationalism in modern Japan // Handbook of
oriental studies. Section 5. Japan. Ch. 5. Boston. 2007. P. 164-215.
39) Охира сори-но сэйсаку кэнкю хококусё. Токио. 1980.
40) Pyle К. The Japanese question: power and purpose in a new age.
Washington. 1992. P. 69.
4|) Исида T. Нихон-но сэйдзи то котоба-дэ: «хэйва» то «кокка». Токио.
1989. С. 225-229.
42> Там же. С. 222-226.
43) Pyle К. The Japanese question: power and purpose in a new age.
Washington. 1992. P. 94-101.
44) Фудзиока H. Варэ-о гункокусюгися то ёбонакарэ // Бунгэй сюнд-
зю. Февраль 1997. С. 292-302. См. также: Kersten R. Neo-nationalism
and the liberal school of history //Japan Forum. Vol. 11. No. 2. 1999.
P. 191-203.
45) Фудзиока H. Варэ-о гункокусюгися то ёбонакарэ // Бунгэй сюндзю.
Февраль 1997. С. 302.
46) Goldfarb J. Civility and subversion: the intellectual in democratic
society. Cambridge. 1998. P. 42-55.
374
47) См.: Саэки К. Гэндай Нихон-но рибэрариздзуму. Токио. 1996, а также
его же: Гэндай Нихон-но идэороги: гуробаридзуму то кокка исики.
Токио. 1998.
48> Там же. С. 72.
49) Мацумото К. «Хи-но маару, Кими га ё» - но ханаси. Токио. 1999.
С. 193-194.
50) Сакураи Й. Нихон-но кики синтё бунко. Токио. 1998. С. 353-368.
5t) Reischauer institute of Japan Studies. Constitutional Revision in Japan
Research Project. - http://wax.lib.harvard.edu/collections/seed.
do?lang=eng&primColl= 101 &coll= 101 &cameFrom=collection&seed=554;
The Democratic Party of Japan (DPJ): Constitution Research Coucil,
Archived web site of www.dpj.or.jp/policy/kenpou/index.html.
52) http://www.japan-press.co.jp/2009/2651/politics4.html.
53) Ibidem.
54) Hobsbawm E.J. Nations and nationalism since 1780. Cambridge and
New York. 1990. P. 182.
55) См., например, об этом: Тюгоку дзёсэй кэнкюкай, Ниттю сётоцу, Токё:
дзицугё но Нихонся (Общество по изучению японо-китайских от-
ношений: столкновение между Японией и Китаем). Токио. 1998;
Эдо Юсукэ. Китарубэки Тюгоку то но сэнсо (Неотвратимая война
Японии с Китаем). Токио. 1998; Bernstein R., Munro R. The coming
conflict with China. New York, 1996.
56) Nakano K. Nationalism and localism in Japan’s political debate of the
1990’s. // Pacific Review, 11 (4), 1998. P. 505-524.
Глава 4
° Война в Персидском заливе (между многонациональными силами
во главе с США и Ираком) отмечена невиданным доселе размахом
применения авиации, а также «умного» и высокоточного оружия,
что, по мнению многих специалистов, знаменовало собой начало
новой эпохи в военном искусстве.
2) Kersten R. Defining neo-nationalism in postwar Japan // Conference
Paper, British association of Japanese studies conference. Oxford
Brookes University. 9 April 1996. P. 199.
3) См. об этом подробнее: Фудзиока Н. Одзёку-но кингэндайси (Наше
позорное историческое образование). Токио. 1996. С. 91.
4) Фудзиока Н. Варэ-о гункокусюгися то ёбунакарэ (Не называйте нас
милитаристами) // Бунгэй Сюндзю, 2, 1997. С. 298-299.
5) Там же. С. 299; см. также: Фудзиока Н. и Намикава Э. Рэкиси-но
хоннэ (Истинный смысл истории). Токио. 1997. С. 249.
6) Фудзиока Н. Кингэндайси кёику-но кайкаку: дзэндама, акудама
сикан-о коэтэ (Реформирование современного исторического об-
разования: пора преодолевать преподавание истории по принципу
«хороших парней» и «плохих парней»). Токио. 1996. С. 20.
7) Там же. С. 21.
26*
375
Международный военный трибунал для Дальнего Востока был
образован 19 января 1946 года в Токио в результате переговоров
между союзными правительствами. В трибунале были представле-
ны И государств: СССР, США, Китай, Великобритания, Австралия,
Канада, Франция, Нидерланды, Новая Зеландия, Индия и Филип-
пины. В ходе процесса было проведено 818 открытых судебных
заседаний и 131 заседание в судейской комнате; трибунал принял
4356 документальных доказательств и 1194 свидетельских показа-
ний, из которых 419 были заслушаны непосредственно трибуналом.
(См. Фудзиока Н. Варэ-о гункокусюгися то ёбунакарэ (Не называйте
пас милитаристами) // Бунгэй сюндзю. 02.1997. С. 300-301.
9) На посту премьера Исибаси в целом продолжил линию Хатоямы,
выступая за «независимую дипломатию» и развитие отношений
с Китайской Народной Республикой и Советским Союзом. Он под-
держивал заключение многостороннего мирного договора между
Японией, США, Китаем и Советским Союзом, но, став непопуляр-
ным в либерально-демократической партии, он потерпел пораже-
ние на выборах 1963 года.
1,0 См. об этом: Nolte S. Liberalism in modern Japan. Berkeley, 1987. P. 136.
И) Фудзиока H. Кингэндайси кёику-но кайкаку: дзэндама, акудама
сикан-о коэте. Токио. 1996. С. 94-100.
12) Там же. С. 107.
13) См. об этом: Тавара Ё. Кёкасё когэки-но синсо (Сильные атаки на
учебники истории). Токио. 1997. С. 59, а также: Накадзима М., Сиба
Рютаро то Маруяма Macao. (Сиба Рютаро и Маруяма Macao.) Токио.
1998. С. 28.
Н) Тавара Ё. Кёкасё когэки-но синсо (Сильные атаки на учебники
истории). Токио. 1997. С. 42.
,5) Фудзиока Н. Кёкасё га осиэнай рэкиси (История, о которой не пишут
в учебниках). Т. 2. Токио. 1996. С. 10.
16) Там же. С. 64.
,7) Там же. С. 65.
,8) Коминтерн был распущен во время Второй мировой войны 15 мая
1943 г.
|9) См. Фудзиока Н. Варэ-о гункокусюгися то ёбунакарэ (Не называйте
нас милитаристами) // Бунгэй сюндзю. 02.1997. С. 292-302.
2,0 Цит. по: Тавара Ё. Кёкасё когэки-но синсо (Атаки па учебники).
Токио. 1997. С. 2.
20 Фудзиока Н. Кингэндайси кёику-но кайкаку: дзэндама, акудама
сикаи-о коэте. Токио. 1996. С. 2.
22) См., например, об этом книгу известного японского автора нацио-
налистического толка Хаяси Ф. Книга картин без картинок. М.-Л.,
1928.
23) Фудзиока Н. Кингэндайси кёику-но кайкаку: дзэндама, акудама
сикан-о коэте. Токио. 1996. С. 56-64.
24} См. Ёсида Ю. Хэйфуса суру насёнаризму (Спрятанный национа-
лизм) // Сэкай. Апрель 1997. С. 74-82; Огура Тосимару. Гэндай-но
рэбиёнисуто ва дай тоа сэнсо котэйрон-о до ко мадэ коэтэ ка.
376
(До какой степени современные ревизионисты готовы оправдывать
войну за создание Великой восточноазиатской сферы сопроцвета-
ния) // Гэккан фораму. Июль 1997. С. 43-54. Фудзиока Нобукацу.
Кингэндайси кёику-но кайкаку: дзэндама, акудама сикан-о коэте.
Токио. 1996. С. 89 . Фудзиока Нобукацу и Намикава Эйта. Рэкиси-
но хоннэ (Истинное значение истории). Токио. 1997. С. 183-185.
25) См. об этом, подробнее: Акахата. 03.12.2008.
26) Нихон кэйдзай симбун, 20.11.2008.
27) См. The Wall Street Journal. 07.12.2008.
28) Цит. no: Japan Press Weekly. 26.12.2009.
29) http://www.japan-press.co.jp/2007/2529/yasukuni.html.
30) Ibidem.
31) Акахата симбун. 27.05. 2007.
32) Иэнага С. История японской культуры. Токио. 1972.
33) См. об этом: Ducke I. Use of the Internet by political actors in the
Japanese-Korean textbook controversy, http://cms.mit.edu/conf/it2/
abstracts/duclel.pdf. 29 July 2004.
34) December 2000 Appeal by Japanese historians and history educators -
http://www.ne.jp/asahi/kyokasho/net21 /e_yukoy_seimei2001205.htm.
October 4, 2001.
35) Цит. no: http://www.iwanami.co.jp/jpworld/text/statement01.html.
23.07.2001.
36) Nelson K. Tempest in a textbook: a report on the new middle-school
history textbook in Japan // Critical Asian studies. 34. No. 1.2002. P. 144.
37) См. об этом: Сюппан рорэн, 2002 нэндо ё кёкасё-но сайтаку кэкка
(Результаты апробации школьных учебников для использования
в 2002 г.). Кёкасё рэппото. 46, 2003.
38) Англоязычный вариант материалов работы «Конференции» см. на
сайте: www.angelfire.com/ny2/village/textbook-conf.html 06.08.2003.
39) Japanese society for history textbook reform. The restoration of a
national history. Tokyo. 1998. P. 3.
40) http://www.jca.apc.org/asia-net.
41) См. об этом: Kimijima К. The Continuing legacy of Japanese
colonialism: the Japan-South Korea joint study group in history
textbooks. Hein I. and Selden M. (eds) Censoring history: citizenship
and memory in Japan, Germany and the United States. Armonk, 2000.
42) См. об этом доклад китайского ученого-историка Янга «Regime of
Truth and Possibilities of Transnational History in Japan and China»,
представленный на научной конференции в университете Мэйдзи
гакуин на тему: «Можем ли мы написать Историю» 19 марта 2002 г.
http://www.meijigakuin.ac.jp/-iism/frontier/proceedings/12yangspeechd.
yang.pdf от 29 июля 2004 г.
43) Асахи симбун. 27.07.2006.
44) Дзюнъитиро Койдзуми - лидер Либерально-демократической
партии Японии и премьер-министр Японии с 2001 по 2006 гг. Он
никогда не скрывал своих националистических убеждений. Не-
смотря на протесты со стороны стран, оккупированных Японией в
период Второй мировой войны, Койдзуми на посту премьера не-
27-5584
377
однократно посещал известный синтоистский храм Ясукуни, на
территории которого похоронены погибшие в ходе войны японские
солдаты и военные деятели, включая тех, кто совершил военные
преступления. Койдзуми неоднократно требовал возврата принад-
лежащих России островов Южно-Курильской гряды. Активно про-
пагандировал отправку японского контингента в Ирак. Выступал
за изменение Конституции Японии с целью утвердить наследова-
ние императорского трона по женской линии. Асахи симбун.
20.10.2004.
45) Цит. по: Акахата. 27.11.2004.
46) Цит. по: Современная Япония. М., 1973. С. 99.
47) Асахи симбун . 28.06.2004.
48) Майнити симбун. 21.11.2004.
49) Асахи симбун. 04.05.2007.
50) См. Современная Япония. М., 1973. С. 758.
51) http://www.japan-press.co.jp/2007/2529/yasukuni.html.
52) Ibidem.
53> Japan Press Weekly. 26.12.2009.
54) Reischauer Institute of Japan Studies. Constitutional Revision in
Japan Research Project, http://wax.lib.harvard.edu/collections/seed.
do?lang=eng&primColl= 101 &coll= 101 &cameFrom=collection&seed=554;
The Democratic Party of Japan (DPJ): Constitution Research Council,
Archived web site of www.dpj.or.jp/policy/kenpou/index.html.
55) http://www.japan-press.co.jp/2009/2651/politics4.html.
56) Ibidem.
57) Асахи симбун. 16.12.2009.
58) В отечественном японоведении эти проблемы основательно иссле-
дованы в работах Силы-Новицкой Т.Г. Культ императора в Японии.
М., 1990. Мещерякова А.Н. Японский император и русский царь.
М., 2004, его же: Император Мэйдзи и его Япония. М., 2006. Мо-
лодякова В.Э. Синто и японская мысль // Синто. Путь японских
богов. СПб. Т. 1. 2002. С. 634-687, его же: Основные принципы
кокутай: Перевод и комментарии // Синто. Путь японских богов.
СПб. Т. 2. 2002. С. 335-350, его же: Бренд «Япония»: превращение
национальной идеи // Глобальные вызовы - японский ответ. М.,
2008. С. 41-58.
59) См. Aizawa S. Japan. An Illustrated Encyclopedia. Tokyo. 1993. P. 24.
60) Основные принципы «кокутай». В пер. В.Э. Молодякова // Синто.
Путь японских богов. Т. 2. СПб. 2002. С. 335-350.
61) Накорчевский А.А. Синто в эпоху Токугава // Синто. Путь япон-
ских богов. Т. 1. СПб. 2002. С. 203-260.
62> Japan. Tokyo. 1993. Р. 819-820.
63) Исикава И. Бакумацу исин-ни окэру кокка-но ариката-о мэгуро
ронсо // ИмаиД., Одзава Т. (ред.) Нихон сисо ронсёси. Токио. 1979.
С. 298-300.
64) Синто. Путь японских Богов. Т. 2. Тексты Синто. СПб. 2002. С. 341.
65) Симонова-Гудзенко Е.К. Дзинносётоки // Синто. Путь японских бо-
гов. Т. 2. СПб. 2002. С. 226-239.
378
66) См. об этом: Pittau J. Political Thought in early Meiji Japan, 1868-
1889. Cambridge. 1967. P. 215.
67) Исикава И. Бакумацу исин-ни окэру кокка-но ариката-о мэгуро
ронсо // Имаи Дзюн, Одзава Томно, (ред.) Нихон сисо ронсёси.
Токио. 1979. С. 300.
Maruyama М. Theory and Phychology of Ultranationalism. 1946 //
Morris I. ed. Maruyama Masao. Thought and behaviour in modern
Japanese politics. 1963. P. 4.
69) Кимура Д. (ред) Тэнно рон-но кэйфу - в Тэнно рон-о ёму, Киндай
Нихон сисо кэнкюкай (ред). Токио. 1963.
70) Harootuniam H.D. The consciousness of archaic form in the new
realism of kokugaku // Najita T. and Scheiner 1. eds., Japanese thought
in the Tokugawa period: methods and metaphors. Chicago. 1978.
P. 63-104.
71 > Silberman B. The Bureaucratic State in Japan: The Problem of authority
and legitimacy // Najita T. and Victor J. 1982. P. 226-257; а также:
Cages of reason: the rise of the rational state in France, Japan, the United
States and Great Britain. Chicago. 1993. P. 193-198.
72) Ibid. P. 193.
73) Umegaki M. After the Restoration: the beginning of Japan’s modern
State. New York and London. 1988. P. 216-217.
74) Окума Сигэнобу - видный японский государственный деятель.
Выходец из самураев княжества Сага. После революции 1867-1868 гг.
занимал крупные посты в финансовых и промышленных ведом-
ствах нового правительства, в 1873-1881 гг. возглавлял департа-
мент финансов. Был тесно связан с фирмой (впоследствии одним
из крупнейших японских концернов) Мицубиси. В 1882 году орга-
низовал буржуазную партию Кайсинто и до 1888 года принимал
активное участие в правом либерально-конституционном движении.
75) Цит. по: Pittau J. Political Thought in Early Meiji Japan 1868-1889.
Cambridge. 1967. P. 85.
76) Дай Нихон тэйкоку кэмпо. Токио. 1985. С. 66-77.
77) Цит. по: Маркиз Хиробуми Ито. Констиуция Японской империи //
Японцы о Японии. Сборник статей первоклассных японских авто-
ритетов, собранных и редактированных А. Стэдом. СПб., 1907.
С. 32-33.
78) Под моралью в данном случае мы понимаем принятую в японском
обществе эстетическую категорию «дотоку», которая в иероглифи-
ческом изображении обозначает «путь». Согласно конфуцианско-
му учению, «путь» есть мораль, которая скрыта внутри человека,
но внешне управляет его поведением и мыслями. В понимании
японцев мораль не только эстетическая система ценностей поведе-
ния отдельно взятого человека, но есть агрегированный показатель
поведения всего общества как одной большой семьи. Поэтому
мораль для японцев состоит из отношения человека к абсолютным
ценностям, например к Богу, к нации, а также к окружающему миру.
79) См. об этом: Ирокава Дайкити, который подробно описал участие
японского крестьянства в дискуссии о роли императора в новой
27*
379
Японии // Irokawa D. The culture of the Meiji Period. Princeton. 1985.
P. 76-122.
80) Мацумото С. Мэйдзи кокка-но кэйсэй то тэнносэй косо // Томи-
сака Кирисутокё сэнта (ред.). Киндай тэнносей-но кэйсэй то кири-
сутокё. Токио. 1996.
81 > Маркиз Хиробуми Ито. Конституция Японской империи // Япон-
цы о Японии. СПб. 1904. С. 41.
82) Терминология, с помощью которой описывались отношения сопод-
чинения и взаимной лояльности императора и его подданных, была
взята из буддистской религии, в которой император всегда изобра-
жался милосердным, великодушным слугой своих подданных, а они,
в свою очередь, должны были отвечать ему взаимностью.
83) Японцы о Японии. СПб. 1904. С. 7.
84) Цит. по оригинальному переводу текста Императорского Рескрипта
о народном воспитании от 30 октября 1890 года // Японцы о Японии.
Сборник статей первоклассных японских авторитетов, собранных
и редактированных А.Стэдом. Пер. с англ. М.А. Шрейдер и С.Г. Зай-
мовского. СПб. 1904. С. 7.
85) Maruyama М. Theory and Psychology of Ultranationalism. Tokyo.
1946. P. 5.
86) Scheiner L Christian Converts and Social Protest in Meiji Japan. Ann
Arbor. 2002. P. 61.
87) Мори был сторонником ломки традиционной духовной культуры
японцев и замены ее западными образцами.
88) Сакамото Т. Мэйдзи кокка-но кэнсэцу. Нихон-но киндай. Токио.
1999. С. 368.
89) Накамура Масанао был одним из членов японского просветитель-
ского общества «Мэйрокуся» («Общество шестого года Мэйдзи»),
которое существовало с 1873 по 1876 год. Инициатива создания
общества принадлежала Мори Аринори, японскому политическо-
му и государственному деятелю, дипломату, министру культуры
Японии (1885-1889 гг.), одному из авторов новейшей системы об-
разования Японии, основателю университета Хитоцубаси и члену
Токийской Академии наук. Он был одним из первых японских
студентов, посланных японским правительством в Европу. После
двухлетнего пребывания в Англии и США под впечатлением всего
увиденного за границей у Мори родилась идея создания общества
учёных-единомышленников, которые регулярно собирались бы на
заседания, обменивались бы мнениями по волнующим их вопросам
и делали свою деятельность достоянием гласности через периоди-
ческие издания, выпускаемые самим обществом. Членами общества
были известные представители общественно-политической мысли
эпохи Мэйдзи. См. об этом: Современные японские мыслители.
Сб. статей под ред. Сакисака Ицуро. М., 1958.
90) Inoue К. Formation of Modern Japan // Monumenta Nipponica.
Vol. XX // Pittau J. Poltical Thought in Early Meiji Japan, 1868-1889.
Cambridge. 1967. P. 274.
380
91 > О спорах между Иноуэ, Мотода и Накамура при работе над текстом
проекта Императорского Рескрипта об образовании см. Сакамото
Такао. Мэйдзи кокка-но кэнсэцу, Нихон-но киндай. Токио. 1999.
С. 370-374.
92) Ibid. С. 374.
93) Гонои Т. Нихон киристокё си. Токио. 1990. С. 282.
94) Аэтэ-ё-но сикися-ни кокухаку су. Цит. по: Унума X. Дай ёнсэцу: ко-
кумин дотокурон-о мэгуру ронсо. С. 356-379 // Имаи Д. и Одзава
Т. (ред.) Нихон сисо ронсо си. Токио. 1979. С. 358-359.
95) Огума Э. Танъицу миндзоку синва-но кигэн. Токио. 1995. С. 56.
э6) Катано М. Кофун-но хйто Касиваги Гиэн: тэнно-сэй то кирисутокё.
Токио. 1993. С. 5-6.
97) См. Гонои Т. Нихон кирисутокё си. Токио. 1990. С. 282.
98) Мазда Т., Лигнель Ф. Сюке то кокка. Токио. 1893. Цит. по: Судзуки Н,
Киндай Нихон кирисутокё мэйте сэнсю. Токио. 2004. С. 74-75.
"> Ibid. С. 43-44.
100) Гонои Т. Нихон кирисутокё си. Токио. 1990. С. 236.
101) Течение, возникшее в XIX веке в среде протестантских богословов
Германии, где тогда была принята прусская уния между реформа-
тами и лютеранами, ставившая своей задачей рационализацию
обоснований христианского вероучения. Неопротестантская, или
либеральная, теология XVIII-XIX вв. в Европе была представлена
Ф. Шлейермахером, Э. Трёльчем, А. Харнаком.
102) «Хибийские беспорядки», массовые протесты японского населе-
ния, вспыхнули 5 сентября 1905 г. в связи с подписанием Портс-
мутского мирного договора, служившего окончанием войны с Рос-
сией. Японская общественность восприняла условия договора как
унижение нации. Представители победившей Японии не смогли
реализовать большинство из своих требований в переговорах с
царской делегацией, которую возглавлял Сергей Юльевич Витте.
Участников беспорядков, в частности, возмущал тот факт, что по-
бежденная Россия не была принуждена Японией выплачивать по-
следней репарации, несмотря на то, что затраты Японии на войну
были весьма существенными. После известия о подписании дого-
вора разные националистические группы начали призывать к спон-
танным акциям протеста. Вечером 5 сентября около парка Хибия
в Токио собралось около 30 тысяч человек. Токийская полиция
безуспешно пыталась разогнать демонстрацию и перекрыла все
входы в парк. В ответ на это акция протеста вылилась в массовые
беспорядки, в ходе которых погибло 17 человек и было ранено
около тысячи. Разъярённая толпа разрушила около 70% всех поли-
цейских сооружений в Токио. После того как в последующие дни
было арестовано несколько сотен демонстрантов, ситуация начала
временно разряжаться. Однако в течение следующих недель и ме-
сяцев в Токио и в других японских городах регулярно вспыхива-
ли спонтанные беспорядки среди населения. Они имели прямое от-
ношение к отставке кабинета премьер-министра Кацура Таро 7 ян-
варя 1906 г.
381
103) Кита Икки - японский писатель, интеллектуал и политический
философ, во многом определивший мировоззрение японских воен-
ных, которые затем приобрели решающее влияние на политику
Японии в годы Второй мировой войны. Икки Кита выступал за го-
сударственный социализм, эклектически совмещая эти убеждения
с ультранационализмом. В итоге получилась смесь, которую совре-
менные исследователи с определенными оговорками классифици-
руют как фашизм. Кита Икки был крупнейшим идеологом оккупа-
ции Японией Восточной Азии.
,04) Кита И. Кокутай рон оёби дзюнскуй сякайсюги. Цит. по переводу
Wilson G. Radical Nationalist in Japan. Kita Ikki 1883-1937. Cambridge.
1969. P. 28.
,05) Wilson G. Radical Nationalist in Japan, Kita Ikki 1883-1937. Cambridge.
1969. P. 28-31.
,06) Князь Сайондзи Киммоти, 1849-1940 гг., - выдающийся японский
политик, дважды занимавший посты премьер-министра Японии.
Входил в число гэнро. Был одной из влиятельнейших фигур в япон-
ской политике в 1920-е и 1930-е гг.
107) Инукаи Цуёси, 1855-1932 гг., - политический и государственный
деятель, премьер-министр Японии в 1931-1932 гг. По профессии -
журналист. Начиная с 1882 г. играл заметную роль в формирова-
нии партийной системы Японии. Был избран в палату представи-
телей японского парламента на первых всеобщих выборах 1890 г.
и переизбирался 17 раз. В 1898 г. стал министром просвещения
в кабинете Окума Сигэнобу. В 1910 г. организовал и возглавил
партию Риккэн кокуминто. Инукаи вместе с Танака Гиити образо-
вал крупнейшую и влиятельнейшую партию Сэйюкай, руководи-
телем которой он стал в 1929 г. после смерти Танака. 13 декабря
1931 г. Инукаи формирует правительство Японии. В первый же
день после прихода к власти правительство Инукаи ввело эмбарго
на вывоз золота и взяло курс на проведение инфляционной эконо-
мической политики. Провал японской интервенции в Китае и не-
гативное отношение к Японии со стороны Лиги Наций способство-
вали активизации антиправительственных террористических сил.
В ходе инцидента 15 мая 1932 г. группой экстремистов была соверше-
на попытка государственного переворота. При нападении путчистов
на резиденцию премьер-министра Инукаи был смертельно ранен.
108> Правда, когда в 1874-1889 гг. обострилась борьба между правитель-
ством и народом по поводу открытия парламента (так называемое
движение «За свободы и народные права» - «дзию минкэн ундо»),
Фукудзава, несмотря на то, что он был представителем группы
дзайяха («оппозиционные учёные»), выбрал линию поддержки вла-
стей, правительства, но не «народа». Он полагал, что преобразования
сверху принесут стране гораздо большую пользу, чем популистская
политика удовлетворения требований широких масс, и помогут
превратить Японию в сильное буржуазное государство. Он принял
предложение правительства издавать газету, которая готовила об-
щественное мнение к запланированному открытию парламента.
382
109) Fukuzawa Y. An Outline of a Theory of Civilization. Trans. By Dil-
worth D.A. and Hurst G.C. Tokyo. 1977. P. 26.
,10) Ibid. P. 26-27.
11 ° Сацумское восстание имело место в княжестве Сацума, которое
находилось на крайнем юге Японии. Этот регион отличался от про-
чих районов Японии, так как самураи в тех местах еще с XVII века
недолюбливали правящих сёгунов из династии Токугава, милость
которых на недовольных не распространялась. Обычаи и язык
жителей южной провинции не во всем совпадали с обычаями
и языком большинства японцев. Также остров Кюсю был свое-
образным «окном в Европу», куда изредка впускали голландские
суда. Многие из новых идей начинали проникать в Японию через
ее южную окраину. Именно сацумские мастера построили по гол-
ландским книгам первые японские парусные корабли европейского
образца «Ироха-мару» и «Соухэй-мару». На иностранцев здесь
смотрели враждебно не только в силу их «варварства», но и как на
препятствие для экспансии на юг и запад. В 1871 году самураям
запретили носить традиционную прическу санпацу. При всей зако-
нопослушности подданных императора многие из них отказались
выполнять требования официальных стилистов. А в 1876 году
ношение оружия в общественных местах было объявлено незакон-
ным (указ Хатори). Использование оружия было разрешено толь-
ко военным, полицейским и придворным. Также были отменены
официальные пособия бывшим самураям. Сдавать оружие знатные
особы не привыкли. Да и от денег отказываться они тоже не хотели.
Среди «благородного сословия» начался ропот. Особенно недо-
вольны были самураи из Сацумы. Они считали, что их заслуги
в победе императора над сёгунатом недооценили. Чем больше огра-
ничивали их права, тем сильнее им хотелось напомнить токийским
чиновникам, кому они обязаны своим положением. Противники
реформ в Сацуме были уверены в успехе. К 1877 году в провинции
из 812 327 жителей 204 143 человека были самураями. Большин-
ство из этого недовольного воинства составляли мелкие землевла-
дельцы, у которых, кроме клочка земли, был только меч. И вот этот
меч правительство решилось отобрать. Сацумские самураи во главе
со своим князем Симадзу Хисамицу (1817-1887 гг.) и военачальни-
ком Сайго Такамори подняли мятеж. Командующим армией, от-
правленной для подавления Сацумского восстания, был назначен
принц Тарухито Арисугава (дядя императора, в 1882 году посетив-
ший Петербург), однако фактически операцией руководил генерал
Ямагата Аритомо. Ямагата Аритомо (1838-1922 гг.) - организатор
подавления Сацумского восстания и победитель в Русско-япон-
ской войне. Доведя численность императорской армии на острове
Кюсю до нескольких десятков тысяч штыков, ее командование ре-
шилось на прямые столкновения с мятежниками. 4 марта 1877 г.
генерал Ямагата предпринял попытку прорыва к крепости Кумамо-
то, началось восьмидневное кровопролитное сражение. Каждая из
сторон потеряла в многочисленных схватках около 4 тысяч человек.
383
20 марта ключевая высота была захвачена правительственной ар-
мией. 8 марта 1877 г. правительственные войска нанесли удар в
самое сердце восстания, захватив город Кагосиму. На трех кораб-
лях в центр мятежной провинции были доставлены 500 полицей-
ских и несколько армейских рот. Пользуясь отсутствием самураев,
войска легко заняли арсенал и административные здания Кагоси-
мы и арестовали сацумского губернатора Ояму, которого тут же
отправили в Осаку. Посланные Сайго самураи исправить положе-
ние не смогли. Как только мятежники начали небольшими группа-
ми проникать в город, правительство тут же направило в Кагосиму
подкрепления, против которых мечи были бессильны. Почти сразу
же после подавления Сацумского восстания появились произве-
дения, восхваляющие покойного маршала. В 1878 году, несмотря на
возможное наказание, в Токио с успехом была поставлена пьеса
о Сайго. Вскоре после этого была сочинена песня о главном мятеж-
нике, которую в японской армии стали использовать в качестве
строевой. Оды на смерть Сайго стали обычной темой японских
бардов. Сейчас в Кагосиме в Центральном парке стоит ему памят-
ник. А сама битва вдохновила создателей фильма «Последний са-
мурай». См. об этом: Кимура Дзюндзи, Тэйсицу рон: Фукудзава
Юкити - в Тэнно рон-о ёму. Токио. 2002. С. 15.
ню фукудзава Ю. Тэйсицу рон. Цит. по: Сакамото Т. (ред). Фукудзава
Юкити тёсакусю. Токио. 2002. С. 9,163-217. В 1937 г. министерство
просвещения объявило этот труд Фукудзавы «непригодным» для
использования в университете Кэйо, который он организовал и чьим
именем назван. Более того, данная работа Фукудзавы была исключена
из сборника избранных трудов автора. Книга, посвященная импера-
торской фамилии, была разрешена к использованию лишь в 2002 г.
113> Тэйсицу ва банки-о субуру моно дэ арии, атару моно дэ ва. -
Сакамото Т. (ред.) Фукудзава Юкити тёсакусю. Токио. 2002. С. 309.
П4) См. об этом: Енэхара К. Киндай Нихон-но айдэнтэйтэй то сэйдзи.
Токио. 2002. С. 17-24.
115) Като X. Кокка но тотикэн. Токио. 1913. Цит. по: Като X. Като
Хироюки но бунсё. Киото. 1990. С. 629-661.
П6) Кимура Д. Дадзёсай-но хонги: Орикути Синобу. Тэнно рон-о ёму.
Токио. 2002. С. 20-21.
117) См. об этом: Кокутай-но хонги. http://j-texts.com/showa/kokutaiah.
html#sec0403. См. также «Основные принципы Кокутай» в пере-
воде В.Э. Молодякова // Синто. Путь японских богов. СПб. 2002.
С. 335-351.
118) 15 января 1868 г. лорд Хигасикудзи, начальник вновь учрежденно-
го бюро иностранных дел в императорском правительстве Мэйдзи,
вручил представителям пяти держав, собравшихся в Хёго, важный
документ, помеченный 10 января 4-го года Кэйо, подписанный
императором и скрепленный большой печатью империи, гласив-
ший следующее: «Мы, Тэнно Японии, сим уведомляем императо-
ров и королей каждой и всех держав и их подданных ...Отныне мы
будем лично решать все дела государственные как внешние, так и
384
внутренние. Посему слово “Тайкун”», употреблявшееся в договорах,
отныне должно заменяться словом “Тэнно”». Цит. по: Нагао Арига.
Дипломатия // Японцы о Японии. СПб. 1906. С. 135.
,,9) См. об этом: Miwa К. Neither East nor West but all Alone // Wray H.
and Conro H. (eds). Japan examined: perspectivess on modern Japanese
History. Honolulu. 1983. P. 384-389.
120) Cm. Ashida H. Japan. An Illustrated Encyclopedia. Tokyo. 1993. P. 65.
121} Огума Э. Минею то айкоку: сэнго Нихон-но насёнаридзуму то кокёсэй.
Токио. 2002. С. 104-105.
12 2> Ibid. С. 122.
12 3> Миямото К. Тэнносэй хихан-ни цуйтэ // Дзэнъэй, февраль 1946.
Цит. по: Огума Э. Минею то айкоку: сэнго Нихон-но насёнаридзуму
то кокёсэй. Токио. 2002. С. 123.
124) Минобэ - умеренный либерал, идеи которого, впрочем, в 1930-е гг.
серьезно мешали властям милитаризировать массовое сознание
японцев. Среди японских ученых существовало мнение, что в ос-
нове кампании травли Минобэ властями было хитроумно органи-
зованное наступление ультранационалистических сил, объединяв-
шихся вокруг «Группы императорского пути» (Кодоха), против
своих противников либерального толка в правительстве. См. об этом:
Кимура Дзюндзи. Дадзёсай-но хонги: Орикути Синобу, Тэнно рон-
о ёму. Токио. 2002. С. 215.
125) Об эволюции понятия императора как символа нации с довоен-
ного времени вплоть до принятия новой Конституции 1947 года
см. Nakamura М. The Japanese monarchy: ambassador grew and the
making of the symbol emperor system, 1931-1991, trans, by Bix H.,
Baker-Bates J. and Bowen D. N.Y. 1992.
126) Ёнэтани M., Цуда С. Вацудзи Тэцуро-но тэнно рон: сотё тэнносэй
рон // Амино Ёсихико и др. (ред.) Тэнно то окэн-о кангаэру дай
иккан: дзюнруй сякай-но нака-но тэнно то окэн. Токио. 2002. С. 23.
127) См. об этом: Цуда Сокити дзэнсю. Токио. 1963-1965; From peace to
police // Emmerson J. Arms, yen and power. Ed. Reischauer E.O. Tokyo.
1976. P. 37-58.
128) Вацудзи Тэцуро в 1909 г. поступил на филологический факультет
Токийского императорского университета. Первоначально его ин-
тересовала литература, он писал рассказы и пьесы, переводил Бай-
рона, Б. Шоу, был дружен с известным японским писателем Танид-
заки Дзюнъитиро (1886-1965 гг.). Интерес к философии у Вацудзи
возник под влиянием лекций преподававшего тогда в университете
выходца из России Рафаэля Кебера. По окончании университета
Вацудзи занимается европейскими «философами-поэтами» - Ницше,
Шопенгауэром, Кьеркегором, с которыми первым познакомил япон-
цев. С 1925 г. Вацудзи начинает публиковать исследования по
японской культуре и культурной компаративистике.
12£>) Вацудзи Т. Сонно сисо то сонно дэнто // Кимура Д. Тэнно рон-о ёму.
Токио. 2002. С. 43-44.
130) Вацудзи Т. Кокумин дзэнтайсэй-но хёгэнся // Кимура Д. Тэнно рон-
о ёму. Токио. 2002. С. 216-217.
385
131} Огума Э. Минею то айкоку: сэнго Нихон-но насёнаридзуму то
кокёсэй. Токио. 2002. С. 133.
,32) См. об этом: Танака К. Каторисидзуму то кокусуйсюги то дзиюсюги:
Тосака Дзюн си-ни котау. Емиури симбун, 1 июня 1935 г. Цит. по:
Doak К. A History of nationalism in modern Japan. Leiden, Boston,
Brill. 2007. P. 117. http://catalog.loc.gov.
133) Цит.по: Нихон коку кэмпо. Коданся гакудзюцу бунко 678, Токио.
1985. С. 12.
134) http://en.wikisource.org/wiki/Constitution of_Japan?match=ru.
135) Амино Ё. Икэй-но окэн. Нихон тёсэй-но хи-ногёмин то тэнно. Цит.
по: Кимура Дзюндзи. Дадзёсай-но хонги: Орикути Синобу, Тэнно
рон-о ёму. Токио. 2002. С. 220-222.
136) Хаяси Ф. Дзимму тэнно дзицудзай рон. Токио. 1971. Цит. по:
Хаяси Ф. Тэнно-но кигэн. Токио. 2002. С. 375-376.
137) Emperor Akihito. Matsu-no ma address, 9 January 1989, Imperial
Palace. Цит. по: Ино Кэндзи. Хэйсэй син дзидай то уёку сётёрю-но
доко. - Ино Кэндзи (ред.) Уёку минокуха соран. Токио. 1991. С. 42.
t38) Kersten R. Neonationalism and the Liberal School of History //Japan
Forum., 11(2), 1999. P. 191-203.
139) См. Иэнага С. История японской культуры. M., 1972.
140) См. об этом: Атарасий Кокумин рэкиси (Новая национальная ис-
тория). Издание Японского общества в поддержку реформ школь-
ных учебников по истории. Токио. 1999.
141) См. об этом: Араи С. Сэнсо сэкинин: гэндай си-кара-но той (Ответ-
ственность за войну: вопросы из современной истории). Токио. 1995.
С. 202-206; Uchida Т. Perceptions of the state in postwar Japan //
Hirano K. (ed.) The state and cultural transformation: perspectives
from East Asia. Tokyo. 1993. P. 179-195.
142) http://legalru.ru/document.php?id=26246.
143) Ambrose S. To America: personal reflections of an historian. N.Y. 2002.
P. 112.
144) Описание трагических событий в Нанкине в 1937 году. Учебник по
истории для средней школы первой ступени. Атарасий рэкиси
кёкасё, ред. Японское общество реформ школьных учебников по
истории. Токио. 2005. С. 49.
145) См. об этом: French H.W. China’s textbooks twist and omit history //
The New York Times. 06.12.2004; Pan P. Leading publication shut down
in China: party’s vove is part of wider crackdown // The Washington
Post. 25.01.2006; Teach History So It Does not Repeat Itself // Chosun
Ilbo. 13.12.2005.
146) В конце 1990-х гг. Ассоциация издателей учебной литературы
«Сюппан рорэн» заняла особую позицию в вопросе контроля со
стороны министерства образования. Речь шла о проблеме получе-
ния издательством лицензии на выпуск того или иного учебника.
По мнению руководства ассоциации, вместо того, чтобы сделать
систему более гибкой и прозрачной, министерство образования,
напротив, только ужесточило контроль за содержанием учебников
и подбором авторов учебников. См., например, об этом: годовой
386
147)
148)
149)
150)
151)
отчет Ассоциации за 1999-2000 гг. (Кекасё рэпото 1999-2000 гг.),
в котором содержалась откровенная критика введения министер-
ством новых правил цензуры содержания школьных учебников по
истории - «кэнтэй кидзюн».
Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологии.
Кёкасё сэйдо-но гайрё. Министерство образования. Токио. 2001. С. 9.
Государственным органом управления образованием в настоящее
время является Министерство образования, науки, спорта и куль-
туры, которое было создано в результате реорганизации в январе
2001 г. На региональном уровне административные и управляющие
функции выполняют соответствующие органы управления в пре-
фектурах и муниципалитетах. Для проведения скоординированной
политики реформ в области образования в августе 1984 г. был
сформирован подотчетный премьер-министру Национальный со-
вет по реформам в области образования. Национальный совет
определил три основных направления образовательной реформы:
усиление и развитие индивидуальности; переход к образованию
в течение всей жизни; реакцию системы образования на изменения
в обществе. В период 1987-1990 гг. для выработки рекомендаций
по реформированию отдельных областей образования были созда-
ны: Центральный совет по образованию, Университетский совет,
Совет по образованию в течение всей жизни, а также такие кон-
сультационные органы, как Полномочный совет по учебной лите-
ратуре, Совет по повышению квалификации преподавателей, Совет
по научному и профессиональному образованию. В апреле 1991 г.
министерство реорганизовало Центральный совет по образованию
и поставило перед ним задачу сформулировать основные цели раз-
вития образования Японии в XXI веке. Совет выделил три главных
направления предстоящих преобразований: японская система об-
разования в будущем; роль школы, семьи и общества и формы их
сотрудничества; адаптация образования к способностям и возмож-
ностям личности и улучшение преемственности между различными
уровнями школьного образования; открытость образования к различ-
ным социальным изменениям - таким, как интернационализация,
информатизация, достижения науки и технологии. Организация,
управление, финансирование и другие аспекты функционирования
образовательной системы определяются «Законом о школьном об-
разовании». В соответствии с этим законом начальные и средние
школы, как и высшие учебные заведения, могут учреждаться не
только правительством, но и администрациями префектур и му-
ниципалитетов, а также общественными и некоммерческими орга-
низациями.
http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/classes/133p/133p04papers/
JChapelNanjingO46.htm.
Persistance of memory: Saburo lenaga insists Japan remember an
unsavoury war to ensure dreams of peace. John Price. The Vancouver
Sun. March 7, 2001. P. A.13.
Асахи симбун. 06.1982.
387
152) Ibidem.
I53) Statement by chief cabinet secretary kiichi Miyazawa on history
textbooks. August 26, 1982.
154) Асахи симбун. 28.11.1982.
155> CRI Online. April 2001.
156) Майнити симбун. 27 сентября 2004. См. также об этом: Saaler S.
Politics, memory and public opinion: the history textbook Controversy
and Japanese society. Munnich, 2005.
157) Cm. Okada A. Education of whom, for whom, by whom? Revising the
fundamental law of education in Japan //Japan forum. 14, No. 3, 2002.
P. 431.
158) Асахи симбун. 15.11.2002.
159) Education Reform - Fundamental Law of education and basic
promotional plan - 2003: http://www.mext.go.jp - 28 July 2004.
160> AP&Kyodo News. 28.03.2008.
161 > Тавара Ю. Има кёику - кёкасё га абунай (Текущие опасности от
системы образования и учебников). Гунма-но кёику. Июль 2003.
http://linkclub.or.jp 21.07.2004.
,62) Japanese government policies in education, culture, sports, science and
technology 2002. http://wwwwp.mext.go.jp/wp. 31.07.2004.
163) Милке Ю. Кокоро-но ното о кангаэру. Токио. 2003. С. 7.
1б4) Об авторах учебника по морали - «Кокоро-но ното» см. Сюппан
Рорэн. Кокоро-но ното то ва нани моно ка (Что же из себя пред-
ставляет учебник по морали?). Кёкасё рэпото. 47, 2003. С. 23-27.
См. также: Милке Ю. Кокоро-но ното-о кангаэру (Мысли по поводу
учебника по морали «Кокоро-но ното») Токио. 2003. С. 64.
165) См. об этом: Такахаси Т Кокоро то сэнсо (Душа и война). Токио.
2003. С. 35.
,66) Тавара Ю. Има кёику - кёкасё га абунай (Текущие опасности от
системы образования и учебников). Гунма-но кёику. Июль 2003.
http://linkclub.or.jp 21.07.2004.
|67) Мияке Ю. Кокоро-но ното-о кангаэру (Мысли по поводу учебника
по морали «Кокоро-но ното»). Токио. 2003. С. 47-48.
,68) Кокоро-но ното (для средней школы). Токио. 2002. С. 47.
169) Такахаси Т. Кокоро то сэнсо (Душа и война). Токио. 2003. С.45-46.
170) Сюппан Рорэн. Кокоро-но ното то ва нани моно ка (Что же из
себя представляет учебник по морали?). Кёкасё рэпото. 47, 2003.
С. 23-27.
171} Тавара Ю. Има кёику - кёкасё га абунай (Текущие опасности от
системы образования и учебников). Гунма-но кёику. Июль 2003.
http://linkclub.or.jp 21.07.2004.
172) Атарасий кёику кихонхо-о мотомэру кай. Такахаси Т. Кокоро то
сэнсо (Душа и война). Токио. 2003. С. 90.
173) Тавара Ю. Има кёику - кёкасё га абунай (Текущие опасности от
системы образования и учебников). Гунма-но кёику. Июль 2003.
http://linkclub.or.jp 21.07.2004.
174> Акахата. 11.11.2008.
388
175) Ibidem.
176) Японский генерал переписывает историю - в разных странах Вторая
мировая война изображается по-разному. The Wall Street Journal.
07.02.2008. http://www.inosmi.ru/world/20081207/245886.html.
177> См. об этом: Buruma I. Wages of guilt: memories of war in Germany
and Japan. New York. 1994. P. 114.
,78) Фудзиока H. Кингэндайси кёику-но кайкаку: дзэндама, акудама
сикан-о коэте. Токио. 1996. С. 22.
179) См. Chang I.S. Nanking massacre. The rape of Nanking. N. Y. 1997.
180) О реакции Янга на книгу Чанг см. также: Фудзиока Н. и Хигасина-
кано Н. Дза рэйпу обу (Нанкин-но кэнкю - Исследование Нанкин-
ской резни). Токио. 1999. Fogel JA. Айрису Чан-но эгаку Нанкин
дзикэн-но гонин то хэнкэн (Неправильные толкование и предвзя-
тость Айрис Чан в описании Нанкинских событий) // Сэкай, но-
ябрь 1999. С. 252-260.
18,) См. об этом: Wickert Е. (ed). The good german of nanjing: the diaries
of John Rabe. 1998; http://en.wikipedia.org/wiki/John_Rabe.
182) Айкокусин ва табу дэ ва най // Sapio, 10(2) 4.02.1998. С. 14-134.
,83) Тавара Ё. Кёкасё когэки-но синсо (Атаки на учебники). Токио. 1997.
С. 2.
184) фудзиока Н. Варэ-о гункокусюгися то ёбунакарэ (Не называйте нас
милитаристами) // Бунгэй сюндзю. 02.1997. С. 293.
185) Асахи симбун. 25.11.2007.
186) Ibidem.
187) Japan orders history books to change passages on forced World War II
suicides. SignOnSanDiego.com 2007.03.30. http://www.worldlingo.
com/ma/enwiki/en/Japanese_history_textbook_controversies.
188> Okinawa slams history text rewrite. The Japan Times. 2007.09.29.
189) Huge Japan protest over textbook. BBC News. 2007.09.29.
190) См. об этом: Masalski К. W. Examining in the Japanese History Textbook
controversies. Stanford Program on international and Cross-Cultural
Education. November 2001, http://spice.stanford.edu/docs/134.
19,) Миякэ А. Кокоро-но ното-о кангаэру (Мысли об учебнике «Записки
от сердца»). Токио. 2003. С. 59.
192) См. Cave Р. Japanese educational reform: developments and prospects
at primary and secondary level. Goodman R. and Philipps D. (eds). Can
the Japanese change their educational system? Oxford. 2003.
l93) http://top.rbc.ru/politics/04/04/201 l/570337.shtml.
194) Safier J. Yasukuni shrine and Constraints on the discourses of natonalism
in twentieth century Japan. Dissertation, 1997. P. 23.
1Э5) Asian Anthropology. Edited by Alatas E, Ben-Ari E., Bremen J. London.
2005. P. 26.
196) Sturgeon W.D, Japan’s Yasukuni shrine: place of peace or place of conflict?
Dissertation. Boca Raton, Florida. 2006. P. 33.
197) Nelson J. Social Memory as Ritual Practice: Commemorating spirits of
the military dead at yasukuni shinto shrine //Journal of Asian Studies,
62(2), 2003. P. 443-468.
389
!98) Breen J. Yasukuni shrine: ritual and memory // Japan Focus. 2005.
P. 293. http://www.japanfocus.org, см. также: Breen J. (ed.), Yasukuni,
the war dead, and the struggle for Japan’s past. N. Y., 2008. P. 23-47.
199) Ohnuki-Tiemey E. Kamikaze, cherry blossoms, and nationalism: the
militarization of aesthetics in Japanese history. Chicago. 2002. P. 85.
200) Sturgeon W.D. Japan’s Yasukuni shrine: place of Peace or Place of Conflict?
Dissertation. Boca Raton. 2006. P. 35-36.
2(1 ° Safier J. Yasukuni shrine and constraints on the discourses of natonalism
in twentieth century Japan. Dissertation, 1997. P. 30, а также: Nelson J.
Social Memory as Ritual Practice: commemorating Spirits of the
military dead at Yasukuni shinto shrine // Journal of Asian Studies,
62(2), 2003. P. 443-468.
202> Ibid. P. 23.
203) Hardacre H. Shinto and the state, 1868-1988. N.Y. 1989. P. 32-33.
204) Ohnuki-Tiemey E. Kamikaze, cherry blossoms, and nationalisms:
the militarization of aesthetics in Japanese hyistory. Chicago. 2002.
P. 90.
205) Lambert R. The maintenance of imperial shinto in postwar Japan as seen
at Yasukuni shrine and its Yushukan museum. Asia Pacific: Perspectives.
4(1) May. 2004. http://www.pacificrim.usfca.edu/research/perspectives/
app_v4nl.html.
206) Ohnuki-Tiemey E. Kamikaze, cherry blossoms, and nationalisms: the
militarization of aesthetics in Japanese history. Chicago. 2002. P. 81.
207) Fujitani M. Splendid monarchy: power pageantry in modern Japan.
Berkeley. 1998. P. 126.
208) Yoshida T. Anatomy of the Yushukan war museum: educating Japanese
youth? The International Institute for Asian Studies Newsletter, 38,
2005. Online at http://www.iias.nl/iias/show/id=51625.
209) Sturgeon W.D. Japan’s Yasukuni shrine: place of peace or place of
conflict? Dissertation. Boca Raton. 2006. P. 45.
210) См. об этом: DowerJ. Japan addresses its war responsibility //Journal
of the International Institute, 3(1). 1995. Online at: http://www.umich.
edu/-iinet/journal/index.html.
2H) Hardacre H. Shinto and the state, 1868-1988. Princeton. 1989. P. 135.
212> Ibid. P. 136.
2,3) Religious juridical persons law // Law no. 126. April 3, 1951. Revised -
July 31. 1952, Law no. 271.
214) Современная Япония. M., 1973. С. 759-760.
215> Там же. С. 770.
216) Hardacre Н. Shinto and the state, 1868-1988. Princeton. 1989. P. 143.
217> Ibid. P. 145.
218) Sturgeon W.D. Japan’s Yasukuni shrine: place of peace or place of
conflict? Dissertation. Boca Raton. 2006. P. 51.
219) См. об этом: Wakamiya Y, Law of next year - Japan’s politics // The
International Herald Tribune. 12.04.2006.
220) Bix H. Hirohito and the making of modern Japan. J PPRI Occasional paper,
17, 2000. Online at: http://www.jpri.org/publications/occasionalpapers/
opl7.html.
390
221) Hardacre Н. Shinto and the State, 1868-1988. Princeton. 1989. P. 144.
222) в Японии национальный праздник «О-бон», или «Праздник фона-
рей», отмечается с 13 по 16 июля. Японцы верят, что духи умерших
приходят в это время домой. Поэтому им оставляют пищу и другие
дары. Выполняются некоторые ритуалы, как если бы дух усопшего
реально присутствовал в доме. У ворот зажигают специальные
огни, указывающие духам дорогу.
223) Softer J. Yasukuni shrine and the constraints on the discourses of
nationalism in twentieth century Japan. Dissertation. 1997. P. 41.
224) Sturgeon W.D. Japan’s Yasukuni Shrine: place of peace or place of
conflict? Dissertation. Boca Raton. 2006. P. 57.
225) Strom S. Japan’s premier visits war shrine, pleasing few // The New York
Times. 14 August 2001.
226) The Japan Times. 15.09.2005.
227) Kajimoto T. Koizumi wants Asia to stop interfering over Yasukuni //
The Japan times. 17 May 2005.
228) См. об этом подробнее: Anderson B.R. Imagined communities:
reflections on the origin and spread of nationalism. N.Y. 1991.
229> Tamamoto M. A Land Without Patriots: The Yasukuni Controversy and
Japanese nationalism // World Policy Journal, 18, 2001. P. 33-40.
230) http://www.yasukuni.or.jp/annai/.
231) Босин сэнсо - «Война года Дракона», 1868-1869 гг. - гражданская
война между сторонниками сёгуната Токугава и проимператорскими
силами в Японии. Закончилась поражением сил сёгуната, что при-
вело к Реставрации Мэйдзи.
232) Hardacre Н. Shinto and the State, 1868-1988. Princeton, NJ. 1989. P. 148.
233) Tamamoto Masaru. Japanese Discovery of Democracy. JI IA Commentary,
2006. P. 4.
234) Современная Япония. M., 1973. С. 820.
235) BixH. Hirohito and the Making of Modem Japan //JPRI Occasional paper,
17,2000. Online at http://www.jpri.org/publications/occasionalpapers/
opl7.html.
236) Йомиури симбун. 23.05.2005.
237) Wakamiya Y. Tsuneo Watanabe. Yomiuri and Asahi editors call for
a national memorial to replace Yasukuni // Japan Focus. 524. 2006.
Online at: http://www.japanfocus.org.
238) Sturgeon W.D. Japan’s Yasukuni shrine: place of peace or place of
conflict? Dissertation. Boca Raton. 2006. P. 72.
239) Wakamiya Y. Law of the next year // The International Herald Tribune,
12 April 2006.
240) Dower J. Japan addresses its war responsibility // Journal of the
International Institute. 3(1), 1995. Online at: http://www.umich.edu/
-iinet/journal/index.html.
24° С июня 1994 года по январь 1996 года Мураяма занимал пост
премьер-министра коалиционного трёхпартийного правительства
Японии. 15 августа 1995 г. он выступил с известной речью, посвя-
щённой 50-летию окончания Второй мировой войны, в которой
признал, что Япония своим колониальным господством и агресси-
391
ей причинила огромный ущерб и страдания народам других стран,
в особенности азиатских.
242) См. об этом также: McCormack G. Japan’s Sixtieth // Japan Focus,
367, 2005. Online at: www.japanfocus.org.
243) Koizumi J. Prime Minister Attends Memorial Service for the War Dead,
Prime Minister of Japan and his Cabinet Homepage, 2004. Online at:
http://www.kantei,go.jp/foreing/koizumiphoto/2004/08/15shusen_
e.html.
244) См. об этом подробнее: Farnsworth E. I’m Sorry? // Public
Broadcasting Service: NewsHour with Jim Lehrer // The New York
Times. 01.12.1998.
245) Has Japan offered an apology for its war crimes of the 20th century? -
Global Alliance for Preserving the History of WWII in Asia, 2001 -
Online at: http://global-alliance.net/SFPT/SFPTApology.htm.
246) См. об этом веб-сайт музея «Юсюкан» - www.yasukuni.or.jp -
Yushukan Homepage Text.
247) French H. Tokyo Journal: at a military museum the losers write
history // The New York Times, 20.10.2002.
248) По сообщениям газеты «Майнити», в январе 2011 г. впервые после
окончания Второй мировой войны в Японии был сформирован
новый разведывательный орган по аналогии с ЦРУ США и англий-
ской МИ-6 для проведения специальных операций по сбору сек-
ретной военной информации на российском, китайском и северо-
корейском направлениях. Майнити симбун. 21.02.2011.
249) Асахи симбун. 20.12.2001.
250) Йомиури симбун. 23.10.2002.
251) Асахи симбун. 16.09.2003.
252) foreign Affairs. Vol. 82, No. 6. November/December 2003. P 75.
253) Foreign Affairs. Vol. 82, No. 6. November/December 2003. P. 76.
254) Асахи симбун. 20.12.2002.
255> Times. 22.02.2003.
256) www.boell.ru/downloads/nuclear_myth2.pdf.
257) http://www.mignews.com/news/economics/world/140211_102909_
31705.html.
258) www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=1959208.
259) Foreign Affairs. Vol. 82, No. 6. November/December 2003. P. 81.
260) Асахи симбун. 15.07.2003.
261) http://www.vesti.ru/doc.html?id=355422.
262) Санкэй симбун. 03.05.2003. Газета «Санкэй симубн» является три-
буной японских националистических кругов, и ее ежедневный
тираж составляет более 2 млн. экземпляров.
263> См. об этом, например, Hughes С. Radicalism or retrenchment in
Japan’s security policy // Japan’s remilitarisation, The International
Institute for Strategic Studies. London. 2009. P. 14-19.
264) Асахи симбун. 04.02.2003.
265) Йомиури симбун. 04.09.2003.
266) Hughes C. Japan’s remilitarisation. The International Institute for Strategic
Studies. London. 2009. P. 129-130.
392
267) Боэйтё. Манга - дэ ёму! Боэй хакусё 2005. Токио. 2005.
268) См. об этом: Боэйтё, Манга-дэ вакару! Нихон-но боэй: дандо мис-
сайру-кара Нихон-о мамору. Токио. 2007.
269) Исиба С. Кокубо. Токио. 2005, а также: его же. Манга-дэ ёму кокубо
нюмон. Токио. 2007.
270) См., в частности, об этом: Бэссацу Такарадзима, Дзиэйтай визави
Тюгокугун. Токио. 2005; Бэссацу Такарадзима. Дзиэйтай синсэдай
хэйэки. Perfect book 2008. Токио. 2008; Гото Н. Соно токи Дзиэйтай
ва Нихон-о мамоэру но ка? Токио. 2008.
27Hu ghes С. Japan’s Remilitarisation. The International Institute for
Strategic Studies. London. 2009. P. 131.
272> Дзию минсюто, Синкэмпо соан, 28 октярбя 2005. http://www.
kenpoukaigi.gr.jp/seitoutou/051028jimin-sinkenpousouan.pdf.
273) Кёику кихон хоан. Синкё тайсё хёмокудзи. http://www.mext.go.jp/
b_menu/houan/ап /06042712/005. pdf.
274) McCormack G. Client State: Japan in the American embrace. Brooklyn.
2007. P. 140-142.
275) См. об этом: McCormack Gavan. Client State: Japan in the American
Embrace. Brooklyn. 2007. P. 1.
276) См. об этом: Hughes C. Japan’s Remilitarisation. The International
Institute for Strategic Studies. London. 2009. P. 134.
277) См. об этом подробнее: Midford P. Japanese mass opinion toward the
war on terrorism // Eldridge R.D. and Midford P. (eds). Japanese Public
Opinion and the War on Terrorism. N.Y. 2008. P. 15-18.
278) Midford Paul. Japanese Mass opinion toward the war on terrorism //
Eldridge R.D. and MidfordP. (ed.). Japanese public opinion and the war
on terrorism. N.Y., 2008. P. 32-35.
279) См. подробнее: http://search.un.org/.
280) Киодо цусин. 07.02.2011.
281 > См. Визит министра иностранных дел Японии С. Маэхары в Рос-
сию. Итоги встреч с министром иностранных дел РФ С.В. Лавро-
вым и руководителем Администрации Президента РФ С.Е. Нарыш-
киным. http://www.ru.emb-japan.go.jp/NEWS/NEWSRELEASE/
2011/20110212Maehara-Lavrov.html.
282) http://top.rbc.ru/politics/07/02/2011/539388.shtml.
283) Асахи симбун. 08.02.2011.
284) http://top.rbc.ru/politics/04/04/201 l/570337.shtml.
285> Ито К. Северные территории. Не время пока предпринимать кон-
кретные действия. Взгляд из Японии. Русскоговорящий опиньон-
сайт Исследовательского института Евразия-21. 20.03.2011. http://
www.eri-21.or.jp/russia/opinion/opinion/index.shtm.
286) http://www.imperiya.by/politics 1-9165.html.
287) Асахи симбун. 10.02.2011.
288) http://analitika.at.ua/news/japonija_i_gruzija_obedinilis_protiv_
rossii/2011-02-18-40811.
289) http://analitika.at.ua/news/japonija_i_gruzija_obedinilis_protiv_
rossii/2011-02-18-40811.
28-5584
393
290) Между тем, хорошо известно, что в течение последних нескольких
лет Москва обвиняет Тбилиси в том, что Панкисское ущелье стало
пристанищем боевиков из Чечни. Первые большие группы чечен-
ских беженцев появились в Грузии в конце 1999 - в начале 2000 года
и поселились в селах Панкисского ущелья, где с конца XIX века про-
живали тысячи этнических чеченцев-кистинцев. Вместе с беженцами
границу переходили и боевики, которые в течение ряда лет скрыва-
лись в Панкисском ущелье. Власти Грузии традиционно утверждали,
что проблема боевиков в этом регионе якобы решена, однако Москва
всякий раз давала понять, что не разделяет этой позиции Тбилиси.
http://www.rbcdaily.ru/2011/04/16/world/562949980079466.
291) www.rbcdaily.ru/2011/04/16/world/562949980079466.
292) у россии на островах размещен небольшой воинский контингент
численностью в 3,5 тысячи военнослужащих, уровень вооружений
которых слабый. Ближайшие аэродромы с боевыми самолетами
расположены на Сахалине и на Камчатке.
293) http: //inosmi.ru/russia/20110308/167172196.html.
http://www.rosbalt.ru/main/2011/02/08/817172.html.
295) http://www.raspp.ru/asia-news/vstrecha_lavrov-mae_hara_usugubila_
problemuyuzhnyhkuril.
296) Каковы основные плюсы и минусы будущей реформы армии РФ?
http://www.liveinternet.ru/users/maslov-fx/post154458587/.
297) Первый замминистра обороны РФ Владимир Поповкин: Под-
робности программы перевооружения армии. http://sbelovskiy.
livejournal.com/81065.html.
298) http: //inosmi.ru/russia/20110308/167172196.html.
299) http:/ /www.ej.ru/?a=note&id= 10234.
Заключение
° Green М. The forgotten player // The National Interest. June 22.2000.
2) Hughes C. Japan’s re-emergence as a «normal» military power. Adelphi
Paper 368. International Institute for Strategic Studies. London. 2004.
P. 125.
3) Ibid. P. 93. Цит. no: Pyle K. Japan Rising. The resurgence of Japanese
Power and Purpose. N.Y. 2007. P. 367.
4) Testimony of Air Forces Lt.Gen. Henry Oberding, III, House Armed
Services subcommittee hearings. March 9, 2006.
5) Hughes C. Japan’s re-emergence as a «normal» military power. Adelphi
Paper 368. International Institute for Strategic Studies. London. 2004.
P. 78-79.
6) CIA World Fact Book, www.cia.gov/cia/publications/factbook.Japan.
An International Comparison 2010. Tokyo. 2009. P. 72.
7) Japan hits ‘critical point’ on state debt // The Financial Times. 20.01.2011.
8) Асахи симбун. 15.03.2006.
9) http://21region.org/news/world_news/14262-parlament-japonii-
prinjal-zakon-ob.html.
394
10) The Financial Times. 26.05.2011.
ll) Kobayashi Y. A Time to rebuild: a new era for Japan-China relations. //
Gaiko Forum, Winter 2006. P. 14.
12) http://www.ng.ru/world/2010-05-24/8_hatoyama.html.
,3) Опросы газеты «Йомиури» в 2000-2005 гг. показали, что более 60%
опрошенных респондентов высказалось в пользу внесения измене-
ний в тексты Статей Конституции. См. Nakanishi Н. What the
constituents say // The Japan Journal. June 2005. P. 17.
14) Синьхуа. 19.11.2004. Цит. no: Pyle К. Japan rising. N.Y., 2007. P. 370.
15) The Japan Times. 02.03.2006.
16) См., например, об этом: Shinoda T. Koizumi’s top-down Leadership in
the antiterrorism legislation: the impact of political institutional
changes // SAIS Review 23, No. 1. Winter-Spring. 2003.
17) Hughes C. Japan’s Re-emergence as a «Normal» military power. Adelphi
Paper 368. International Institute for Strategic Studies. London. 2004.
P. 76.
,8) http://ru.wikipedia.org/wiki/MHHHCTepcTBO_o6opoHH_RnoHHH.
19) Ozawa H. Breaking Taboo. Japan votes to create defense ministry //
Space War. 30.11.2006.
20) См. об этом, в частности, Fruhstuck S, and Ben-Ari E. Now we show
it all. Normalization and the management of violence in Japan’s armed
Forces //Journal of Japanese Studies. 28, No. 1. Winter 202. P. 1-39.
2,) Цит. no: Pyle K. Japan Rising. N.Y. 2007. P. 372.
22) См. об этом: Hiyama H. Japan launches first defense ministry since
WWII // Space War, 09.01.2007. Japan creates defense ministry //
Japan News Review, 25.07.2007.
23) См. об этом: Dore R. Japan. Internationalism and the UN. London.
1997. P. 9.
28*
ПРИЛОЖЕНИЕ
выдержки из текстов школьных учебников
по различным вопросам японской истории
О «Маньчжурском инциденте* - из исправленного учебника исто-
рии для средней школы первой ступени, 1983 г. - Кайтэй атарасий
сякай рэкиси, издательство «Токио Сёсэки», февраль 1984, утверж-
ден к печати 31 марта 1983 г. (стр. 275).
«В начале 1932 г. Япония провозгласила государство Маньчжоу-го
и поставила во главе этого государства последнего императора династии
Цин. Япония вывела новое государство из состава Китая. Япония взяла
управление государством на себя, и японские дзайбацу доминировали
в управлении его экономикой. Власти Китая обратились с просьбой
к Лиге Наций, протестуя против японской экспансии».
Из исправленного учебника истории для средней школы первой
ступени, 1983 г. - Кайтэй атарасий сякай рэкиси, издательство «Токио
Сёсэки», февраль 1984 г., утвержден к печати 31 марта 1983 г. (с. 277).
«Японская армия оккупировала Северный Китай, затем захватила
Нанкин и убила много китайцев, разрушив их жилища».
Сноска: «Японская армия, которая оккупировала Нанкин, убивала
многих китайцев внутри городских кварталов и в пригородах в течение
нескольких недель. Число жертв составляло от 70 до 80 тыс. человек,
считая только гражданское население, в том числе женщин и детей. Если
к этому числу добавить китайских солдат-дезертиров, то число убитых
составит более 200 тыс. человек. Китайская сторона оценивает число уби-
тых более 300 тыс. человек, включая и военных. Япония была осуждена
мировым сообществом за инцидент, известный как «Нанкинская рез-
ня», однако эти факты не были известны жителям Японии».
О «Нанкинской резне 1937 г.» - из учебника по истории для средней
школы первой ступени, изданного в 2005 г. - Атарасий рэкиси кёкасё.
Издательство «Фусося». Переведен на английский язык «Японским
Обществом за реформы школьных учебников по истории» (с. 49).
«В августе 1937 г. два солдата японской армии и один офицер были
убиты в Шанхае. После этого инцидента враждебные отношения между
Японией и Китаем накалились. Японское военное командование рассчи-
тывало, что Чан Кай-ши капитулирует, если японская армия оккупирует
Нанкин, националистическую столицу Китая. Японская армия оккупи-
ровала Нанкин в декабре 1937 г. Однако Чан Кай-ши переехал из Нан-
кина в старый город Чонкин (Chongqing). Конфликт между Японией и
396
Китаем продолжался. В это время много китайских солдат и мирных
гражданских лиц было убито или ранено солдатами японской армии.
(Инцидент в Нанкине.) Документальные сведения не дают точные данные
о числе жертв инцидента. Дискуссии об этом продолжаются и по сей день».
О «Японо-китайском совместном коммюнике» - из учебника по
истории для средней школы второй ступени, 1998 г. - Нихонси В, Токе
сёсэки, 10 февраля 1999 г. Одобрен к использованию 31 марта 1998 г.
(с. 343). В учебнике отсутствует текст по данному вопросу. Публику-
ется лишь сноска:
«Япония выражает глубокое понимание своей ответственности за
серьезный урон, который был причинен и глубоко об этом сожалеет.
...Также в этом коммюнике Китай отказался от своих требований к
военным репарациям от Японии».
Об инциденте на мосту Марко Поло в 1937 г. - из учебника по
истории для средней школы первой ступени, изданного в 2005 г. - Ата-
расий рэкиси кёкасё. Издательство «Фусося». Переведен на англий-
ский язык «Японским Обществом за реформы школьных учебников
по истории» (с. 49).
«7 июля 1937 г. японские солдаты были обстрелены в ходе маневров
в районе моста Марко Поло (мост находится в пригороде Пекина). На
следующий день этот инцидент перерос в столкновения с китайскими
военными. Инцидент не имел большого значения и стороны постарались
его быстро урегулировать. Но Япония решила послать большую военную
группировку в Китай, где националистическое правительство издало
приказ о всеобщей мобилизации. Эти события послужили началом
войны, которая длилась 8 лет».
О росте милитаризма в Японии в 1930-е годы - из исправленного
учебника истории для средней школы первой ступени, 1983 г. - Кайтэй
атарасий сякай рэкиси, издательство «Токио Сёсэки», февраль 1984 г.,
утвержден к печати 31 марта 1983 г. (с. 275-276).
«Инциденты 15 мая 1932 года и 26 февраля 1936 года оказали вли-
яние на военные круги в плане повышения их политической активности.
Идеи, которые противостояли милитаризму, жестко контролировались.
Многие либералы и верующие преследовались в соответствии с «Зако-
ном о поддержании спокойствия» и к концу войны (1945 г.) было аре-
стовано 75 тыс. человек за нарушение этого закона. Некоторые из них
подвергались пыткам».
О планах Японии по созданию «Великой восточоазиатской сферы
сопроцветания» - из исправленного учебника истории для средней
школы первой ступени, 1983 г. - Кайтэй атарасий сякай рэкиси, изда-
тельство «Токио Сёсэки», февраль 1984 г., утвержден к печати 31 марта
1983 г. (с. 282).
«В 1940 г. после поражения Франции в войне с Германией власти
Японии объявили о создании «Великой восточноазиатской сферы со-
397
процветания». Япония вторглась во Французский Индокитай и оккупи-
ровала его северную часть».
Сноска: «У Японии была идея о том, что страны Азии должны сотруд-
ничать друг с другом и наладить сотрудничество с тем, чтобы выдавить
из региона американские и европейские страны. Однако это был лишь
предлог для того, чтобы обеспечить Японии доминирование во всей Азии».
Из учебника по истории для средней школы первой ступени, из-
данного в 2005 г. - Атарасий рэкиси кёкасё. Издательство «Фусося».
Переведен на английский язык «Японским Обществом за реформы
школьных учебников по истории»* (с. 54).
«Война вызвала огромные разрушения и страдания людей азиат-
ских стран. Пострадавших от войны, как военнослужащих, так и граж-
данских лиц, в результате вторжения японской армии было больше всего
в Китае. Всякий раз, когда японцы оккупировали страны ЮВА, они
устанавливали в них военную администрацию. Лидеры местных движе-
ний за независимость тесно сотрудничали с японской военной админи-
страцией для того, чтобы скинуть с их стран ярмо западного закабале-
ния. Однако, когда японцы настаивали на том, чтобы местное население
изучало японский язык и приняло религию Синто, это встречало сопро-
тивление. Антияпонские элементы, которые сотрудничали с союзника-
ми в партизанских войнах против Японии, жестоко карались японской
армией. Много людей, включая и гражданских, было убито в ходе этих
столкновений. Когда фортуна войны отвернулась от Японии и снабже-
ние продовольствием резко ухудшилось, японцы нередко заставляли ме-
стное население выполнять изнурительные работы. После окончания
войны Япония выплатила этим странам репарации. Япония обвинялась
за создание Великой восточноазиатской сферы сопроцветания для того,
чтобы оправдать войну и оккупацию стран Азии. Впоследствии после
поражения Японии и вывода японских войск из азиатских стран, все
прошлые колонии добились своими усилиями независимости в течение
следующих десятилетий. Некоторые японские солдаты остались в стра-
нах Азии и участвовали в борьбе за их независимость. Первоначальная
цель продвижения Японии на юг была получить ресурсы, но она также
способствовала формированию движения за независимость в Азии».
Об оценке действий Японии во время войны в странах Восточной
Азии - из учебника по истории для средней школы первой ступени,
изданного в 2005 г. - Атарасий рэкиси кёкасё. Издательство «Фусося».
Переведен на английский язык «Японским Обществом за реформы
школьных учебников по истории»* (с. 54).
«Во время второй мировой войны японские солдаты выгнали армии
западноевропейских стран, которые колонизировали народы Азии мно-
гие годы. Они нас удивили, так как мы не могли и думать, что сможем
победить «белых людей». Они вдохнули в нас уверенность в своих силах.
Они пробудили нас от долгой спячки и убедили нас возродить нацию
наших предков. Мы аплодировали японским солдатам, марширующим
по столицам Малайского полуострова. Когда мы видели, как удирали
398
английские войска, мы чувствовали небывалый подъем сил, который мы
не испытывали никогда ранее» (в учебнике приводились слова лидера
малайзийского национально-освободительного движения и бывшего
члена парламента Малайзии Райя Дато Нон Чика)».
Об оккупации Японской армией стран Юго-Восточной Азии - из
исправленного учебника истории для средней школы первой ступени,
1983 г. - Кайтэй атарасий сякай рэкиси, издательство -«Токио Сёсэ-
ки», февраль 1984 г., утвержден к печати 31 марта 1983 г. (с. 283-284).
«В странах ЮВА, которые оккупировала японская армия, были
сформированы независимые правительства в Бирме и на Филиппинах.
Однако реальная власть находилась в руках японских военных. На ок-
купированных территориях жизнь рядовых граждан была крайне тяже-
лой по причине того, что японские военные насильно отбирали у мест-
ных крестьян рис и природные ресурсы для того, чтобы оплачивать
расходы на ведение войны. Кроме того, японские военные убили более
б тыс. китайцев, которые планировали поднять антияпонские восстания
в Сингапуре и Малайзии. Японские власти жестоко вели себя на Фи-
липпинах и в других странах ЮВА, наказывая лиц, выступавших про-
тив политики японских военных в этих странах. В результате такой
оккупационной политики в странах региона нарастало движение сопро-
тивления японским военным».
О деятельности «Отряда 731». - Из учебника по истории для сред-
ней школы второй ступени, 1998 г. - Нихонси В., Токё сёсэки, 10 фев-
раля 1999 г. Одобрен к использованию 31 марта 1998 г. (с. 299). Текст
в учебнике отсутствует полностью. Опубликована только сноска.
Сноска: «Ведя ожесточенные бои в горной местности с 8-й армией
компартии Китая, в 1940 г. японская армия приступила к широкомас-
штабной зачистке местности. При этом «Отряд 731» подразделения
«Кантогун» применял бактериологическое оружие, а солдаты японской
армии использовали отравляющий газ».
О Потсдамской декларации. - Из исправленного учебника исто-
рии для средней школы первой ступени, 1983 г. - Кайтэй атарасий
сякай рэкиси, издательство «Токио Сёсэки», февраль 1984 г., утверж-
ден к печати 31 марта 1983 г. (с. 290).
«В конце концов, Япония была вынуждена принять условия Потс-
дамской декларации и объявить о капитуляции... В связи с этим Китай
и оккупированные страны ЮВА были освобождены от японской армии.
В Корее закончилось 35-летнее японское колониальное правление».
Об ответственности Японии за войну и о послевоенных репарациях.
Из учебника по истории для средней школы второй ступени, 1998 г. -
Нихонси В., Токе сёсэки, 10 февраля 1999 г. Одобрен к использованию
31 марта 1998 г. (с. 354).
«С 1990-х годов, спустя 50 лет с окончания Второй мировой войны,
народы Азии начали требовать от Японии извинений и компенсации за
399
ущерб, который они получили во время войны за дополнительный
призыв в японскую армию граждан Китая и Кореи, а также за исполь-
зование «комфортных женщин» в японской армии. Решение этих про-
блем ответственности за военные действия и за послевоенную компен-
сацию представляет для Японии большие трудности».
Сноска: «Что касается государственных репараций, то Япония вы-
полнила требования Сан-Францисского мирного договора и заключила
двусторонние отношения со всеми странами, в этом задействованными».
О геноциде гражданского населения на о. Окинава. Из учебника
по истории для средней школы второй ступени, 1998 г. - Нихонси В.,
Токе сёсэки, 10 февраля 1999 г. Одобрен к использованию 31 марта
1998 г. (с. 309.). Текст в учебнике отсутствует полностью. В сноске
отмечается:
«В этом сражении (на о. Окинава. - М.К.), в котором принимало
участие большое число мирных жителей, имела место трагедия массо-
вого самоубийства и много гражданского населения было убито япон-
скими солдатами по подозрению в шпионаже».
О движении 1 марта 1919 г. в Корее. Из исправленного учебника
истории для средней школы первой ступени, 1983 г. - Кайтэй атарасий
сякай рэкиси, издательство «Токио Сёсэки», февраль 1984 г., утверж-
ден к печати 31 марта 1983 г. (с. 259).
«В столице Кореи городе Сеул 1 марта 1919 г. корейская интелли-
генция провозгласила «Декларацию независимости от Японии». Вслед
за этим начались массовые выступления корейских студентов, которые
распевали песню «Независимость мансэй». Эти массовые движения
сопротивления корейского народа, который страдал от японского коло-
ниального правления, распространились по всей стране».
О японо-корейском договоре «Об основах отношений». Из учебни-
ка по истории для средней школы второй ступени, 1998 г. - Нихонси В.,
Токе сёсэки, 10 февраля 1999 г. Одобрен к использованию 31 марта
1998 г. (с. 333.). Текст отсутствует полностью. Публикуется только сноска:
«В соглашении отмечалось, что было принято решение о том, что
Япония предоставит Южной Корее экономическую помощь в размере
800 млн. долл. Было также подтверждено, что проблемы недвижимости
и требования о репарациях между двумя странами, а также между на-
родами обеих стран решены полностью и окончательно».
О страданиях и лишениях корейского и китайского народов во
время войны. - Из исправленного учебника истории для средней
школы первой ступени, 1983 г. - Кайтэй атарасий сякай рэкиси, изда-
тельство «Токио Сёсэки», февраль 1984 г., утвержден к печати 31 марта
1983 г. (с. 284).
«Многие корейцы и китайцы были насильственно вывезены в Япо-
нию для выполнения тяжелых работ на угольных шахтах в нечеловече-
ских условиях».
400
Сноска: «В военные годы правительство Японии активизировало
политику ассимиляции корейцев в Японии, вынуждая их изучать япон-
ский язык, исповедовать религию Синто, брать японские имена».
Об использовании «комфортных женщин» в японской армии.
Из учебника по истории для средней школы второй ступени, 1998 г. —
Нихонси В., Токе сёсэки, 10 февраля 1999 г. Одобрен к использова-
нию 31 марта 1998 г. (с. 308).Текст в учебнике полностью отсутствует.
Публикуется только сноска:
«Было много корейских женщин, которые были привезены в районы
боевых действий в качестве «комфортных женщин». В последнее время
жертвы сексуального насилия стали выступать с протестами, требуя
официальных извинений и личных компенсаций от японского прави-
тельства».
Михаил Иванович Крупянко
Лиана Георгиевна Арешидзе
ЯПОНСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ
Идеология и политика
Книга публикуется в авторской редакции
Оформление художника А.Ю. Никулина
Технический редактор Г.В. Лазарева
Корректоры Г.В. Кухтина, А.В. Латунова
Компьютерная верстка Е.А. Надиной
Подписано в печать 9.02.2012.
Формат 60x901/16. Бумага офсетная.
Гарнитура «Петербург». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 25,5.
Изд. № 41/2011. Тираж 1000 экз.
Цена договорная. Заказ № 5584.
Издательство «Международные отношения»
129090, Москва, 1-й Троицкий пер., д. 12, стр. 5
Тел.: 662-71-34, 662-45-28
www.inter-rel.ru
e-mail: info@inter-rel.ru
Отпечатано с оригинал-макета
издательства «Международные отношения»
в ОАО ордена «Знак Почета»
«Смоленская областная типография им. В.И. Смирнова»
214000, Смоленск, проспект Ю. Гагарина, 2
Тел.: 38-01-60, 38-14-17, 38-46-20
Михаил Иванович КРУПЯНКО
Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности
«геополитика и международные отношения» и аспирантуру
Института востоковедения АН СССР.
С1974 года, после стажировки в Токийском государствен-
ном университете, работает в Институте востоковедения РАН.
Кандидат экономических наук и доктор политических наук.
В 1991-1996 гг. - профессор Государственного универ-
ситета Окаяма (Япония). Автор девяти монографий по проб-
лемам внутренней и внешней политики Японии, японо-рос-
сийских и японо-китайских отношений, а также по вопросам
региональной безопасности в Восточной Азии.
Лиана Георгиевна АРЕШИДЗЕ
Окончила историческое отделение Института стран Азии
и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова и аспирантуру
Института востоковедения АН СССР, профессор кафедры
Истории и культуры Японии ИСАА при МГУ, доктор истори-
ческих наук.
В 1991-1996 гг. - доцент Государственного университе-
та Окаяма (Япония). Автор ряда научных изданий по пробле-
мам внутренней и внешней политики Японии, формирова-
ния новой системы международных отношений в Восточной
Азии после «холодной войны».
Международные отношения