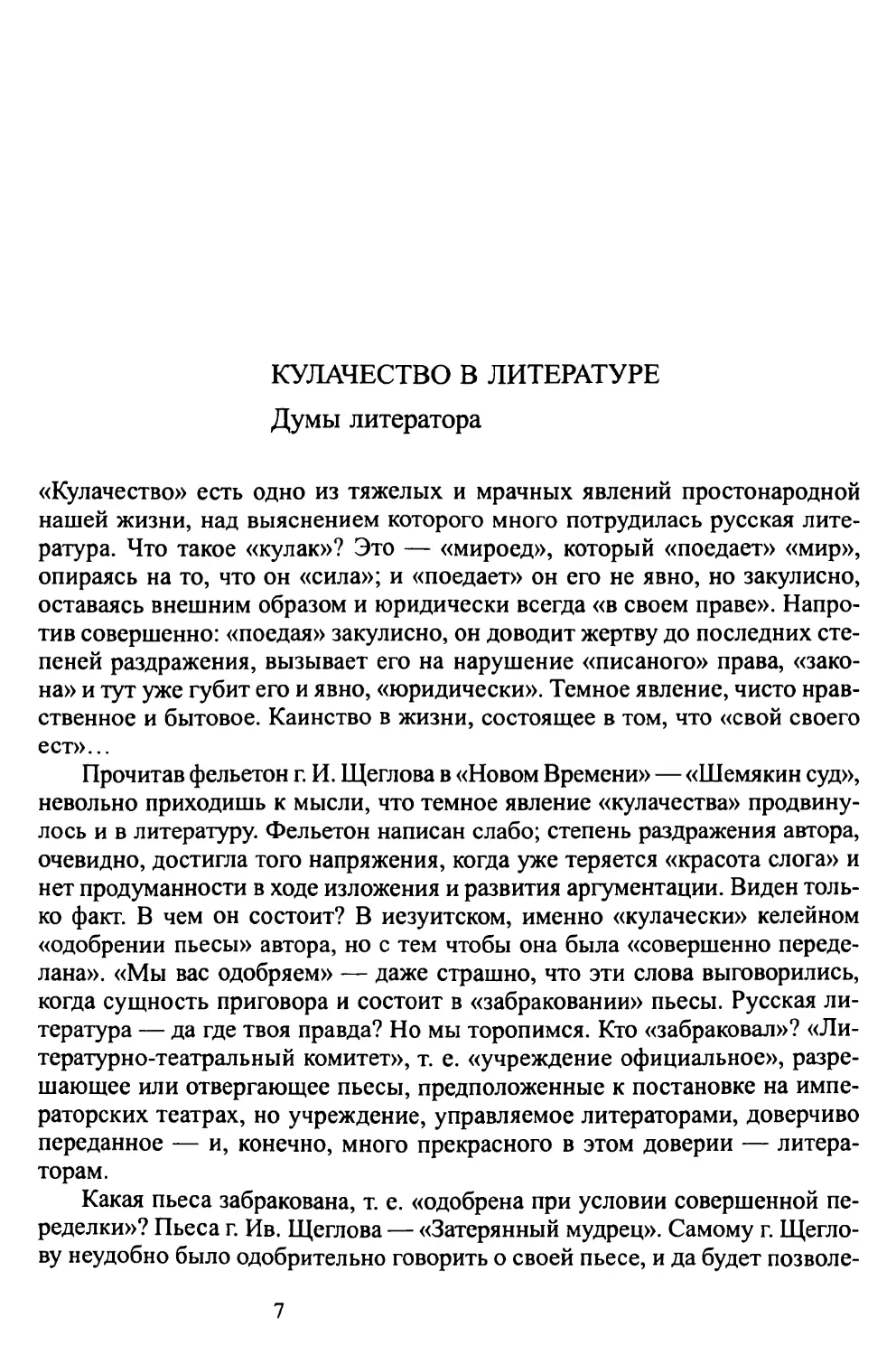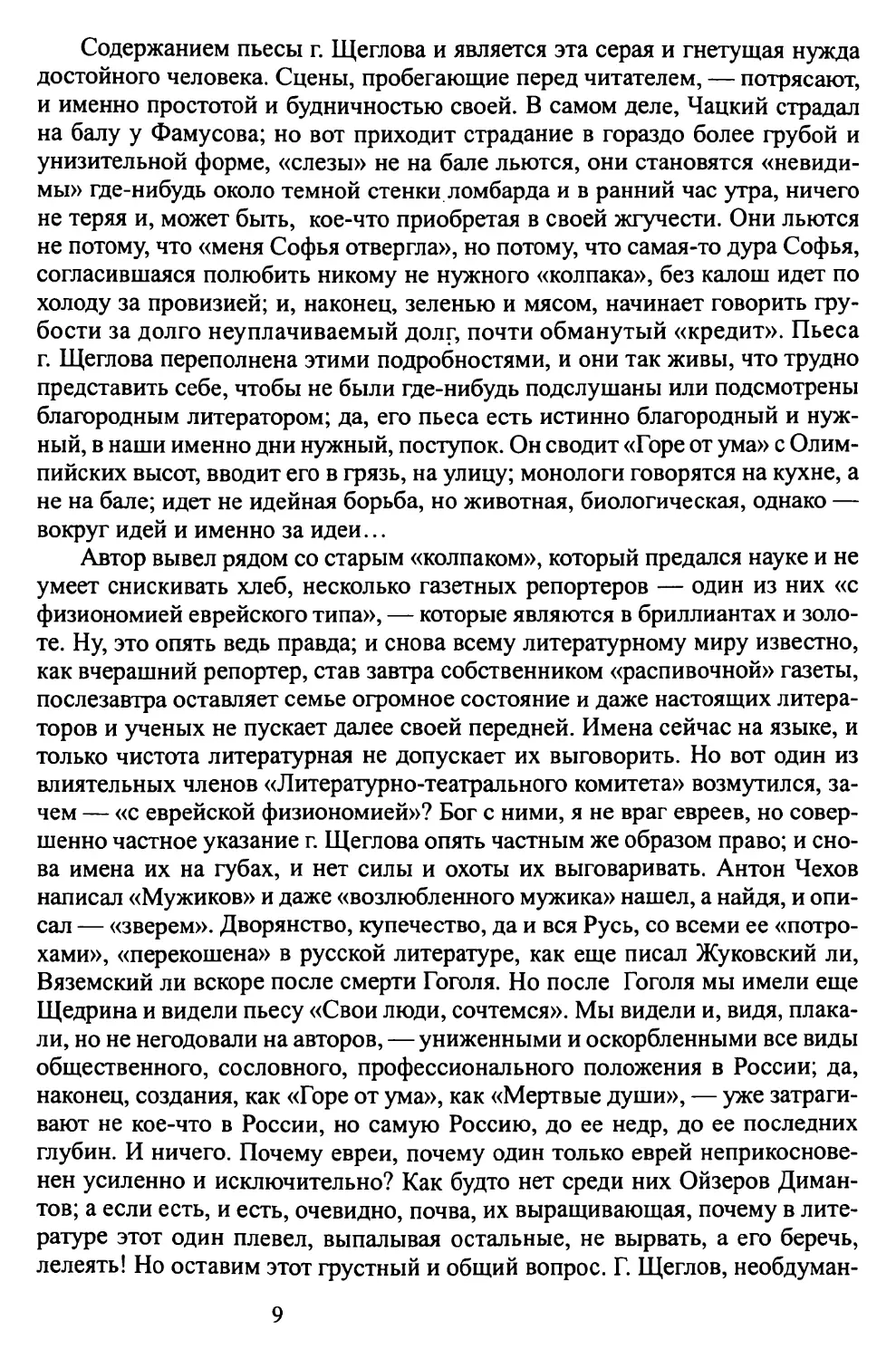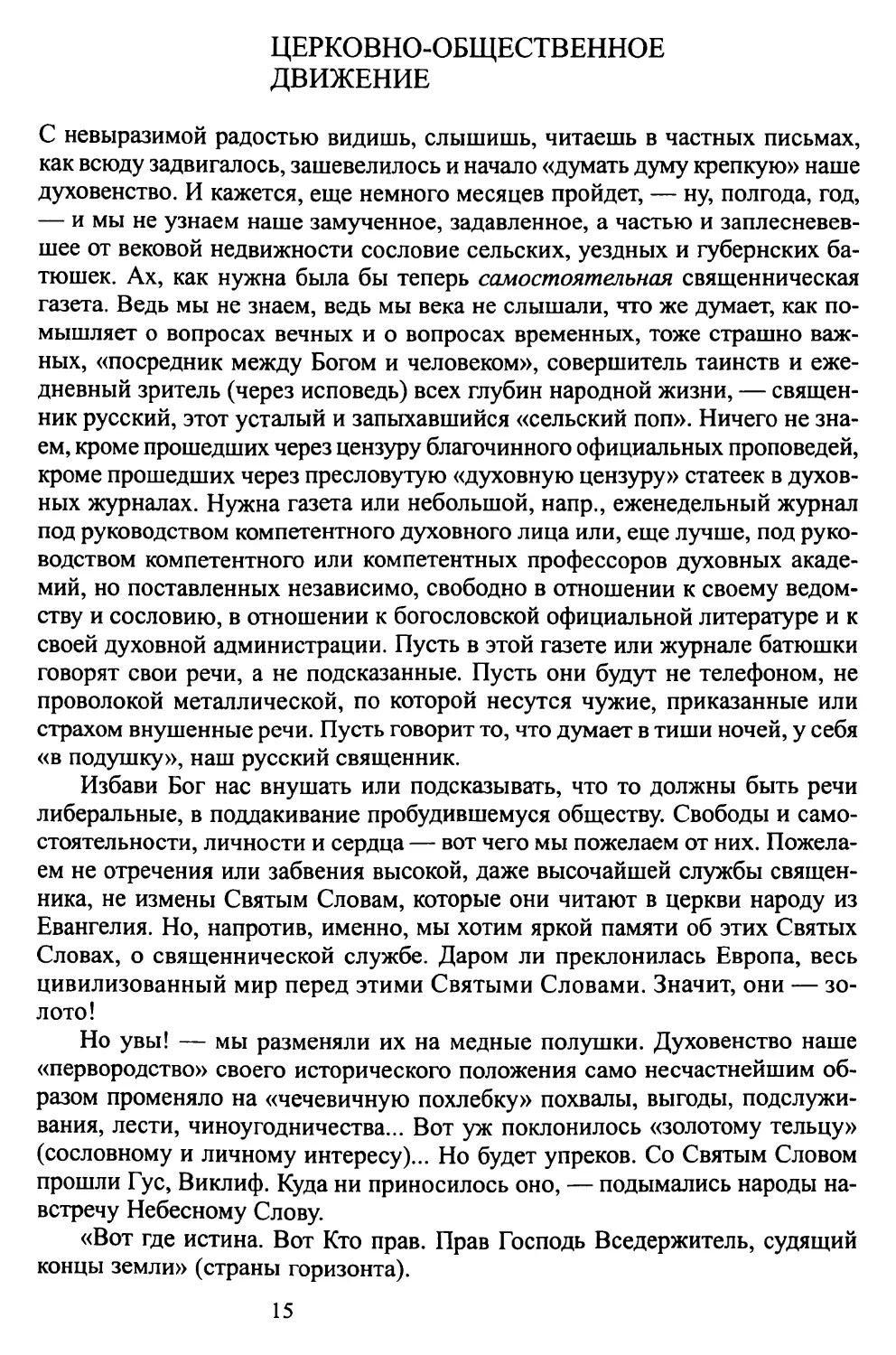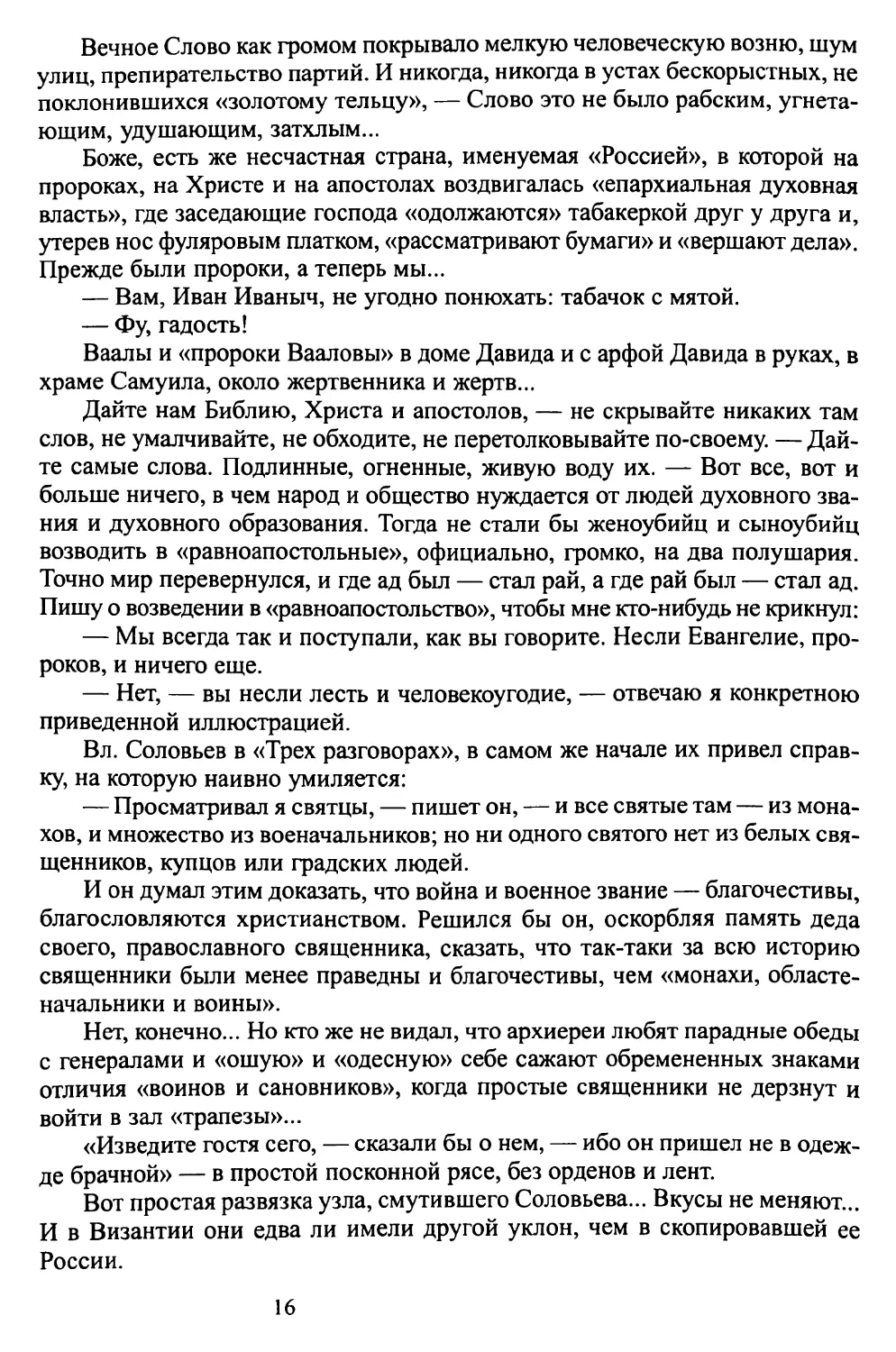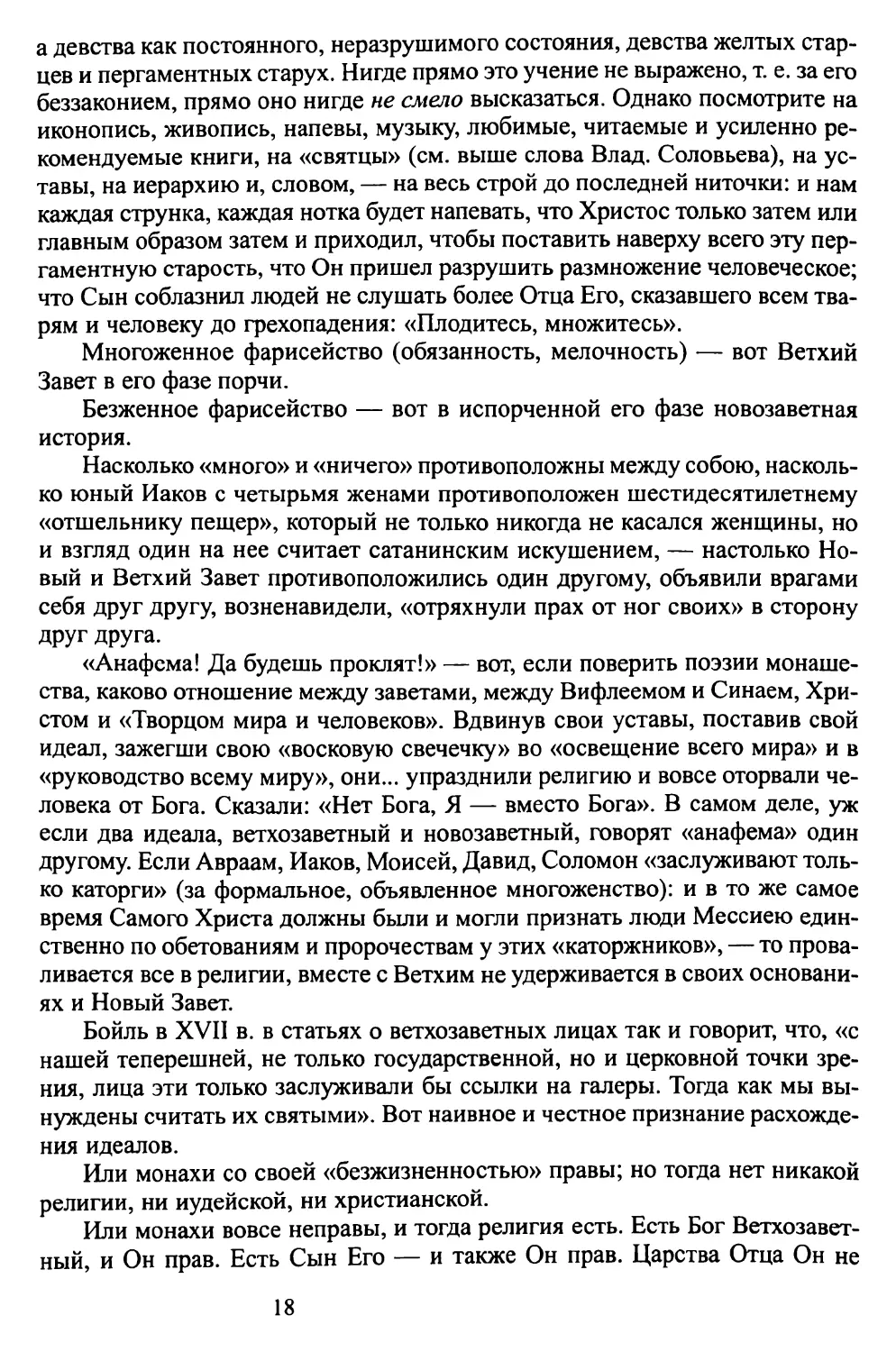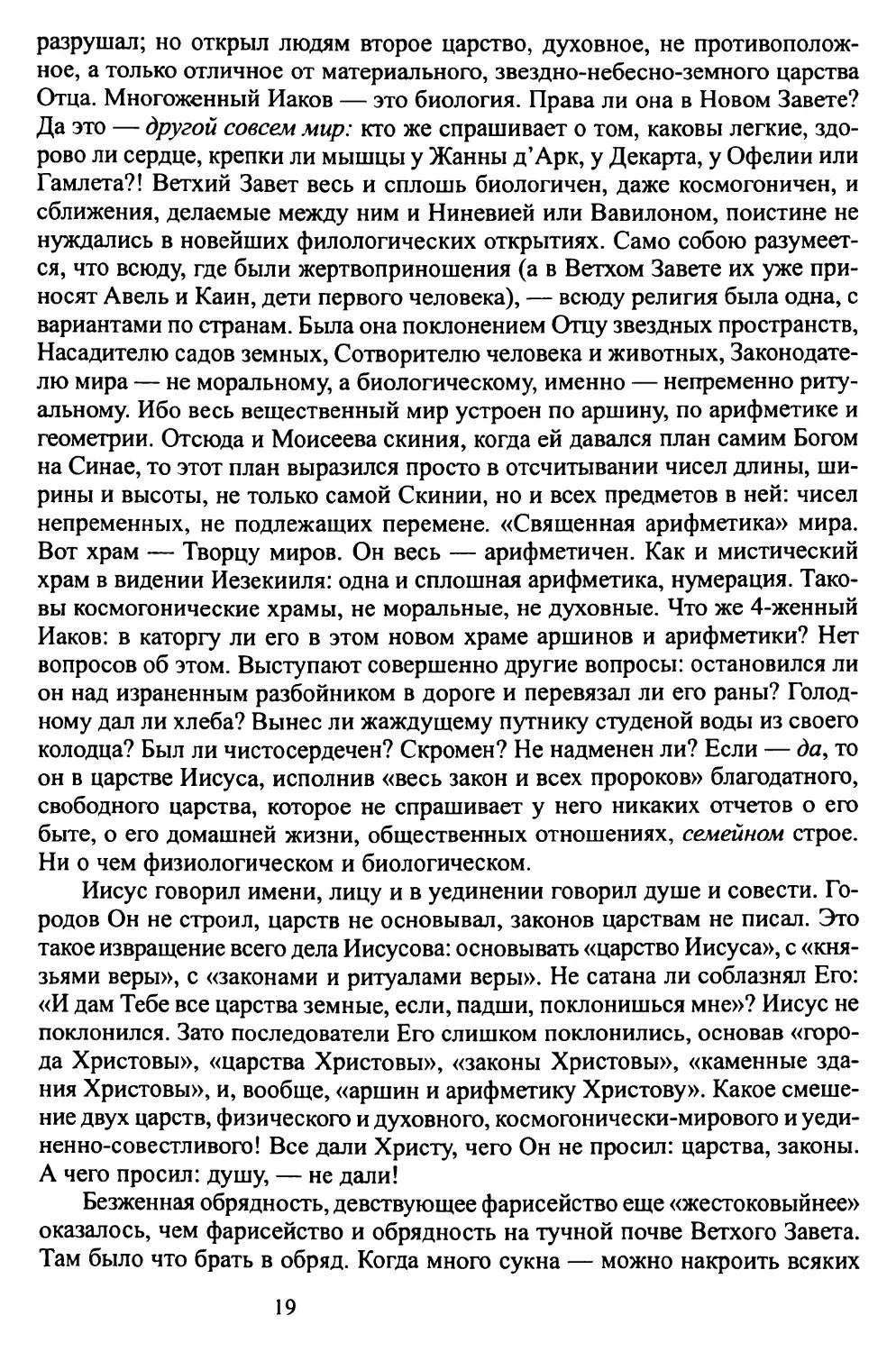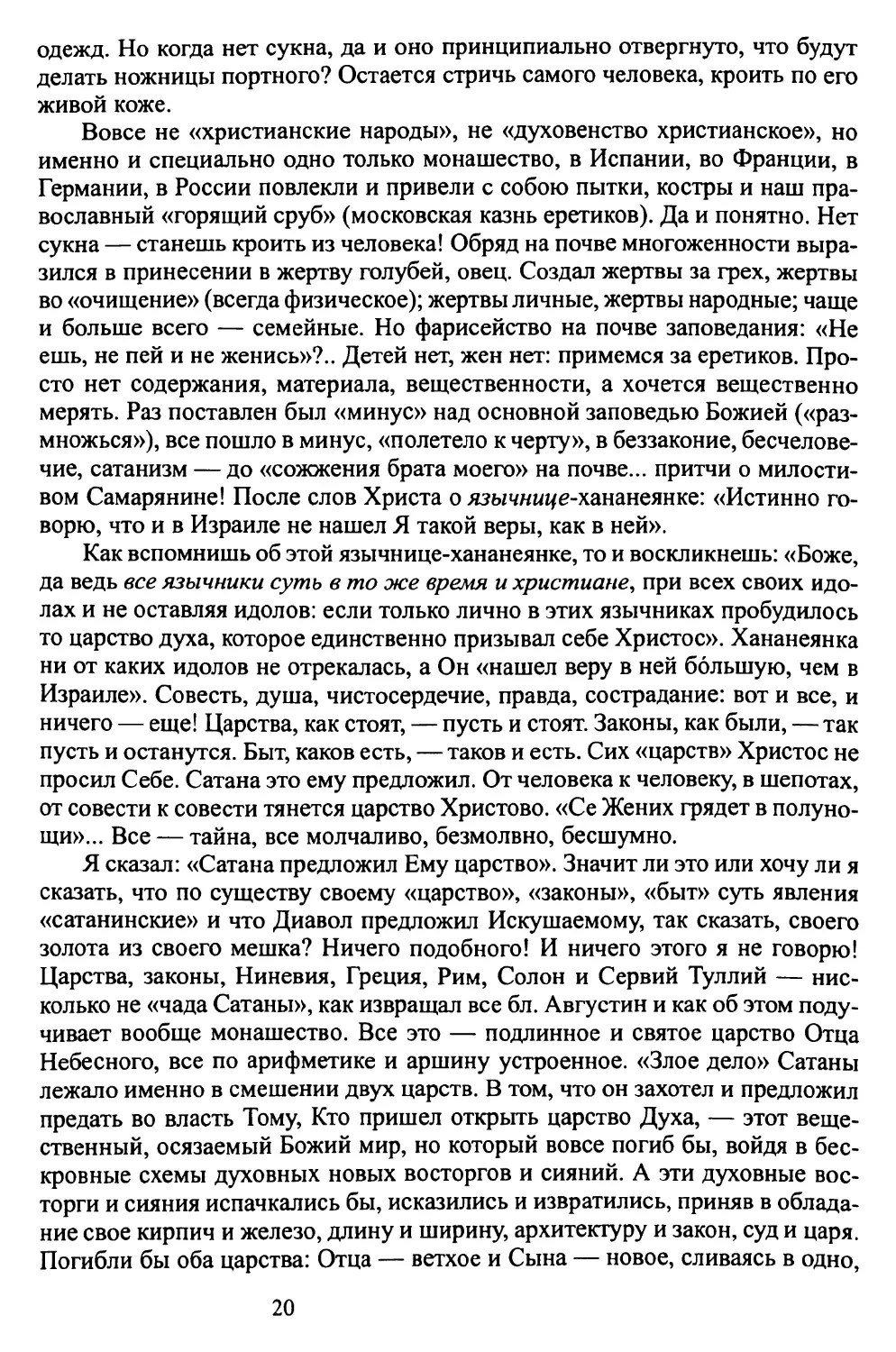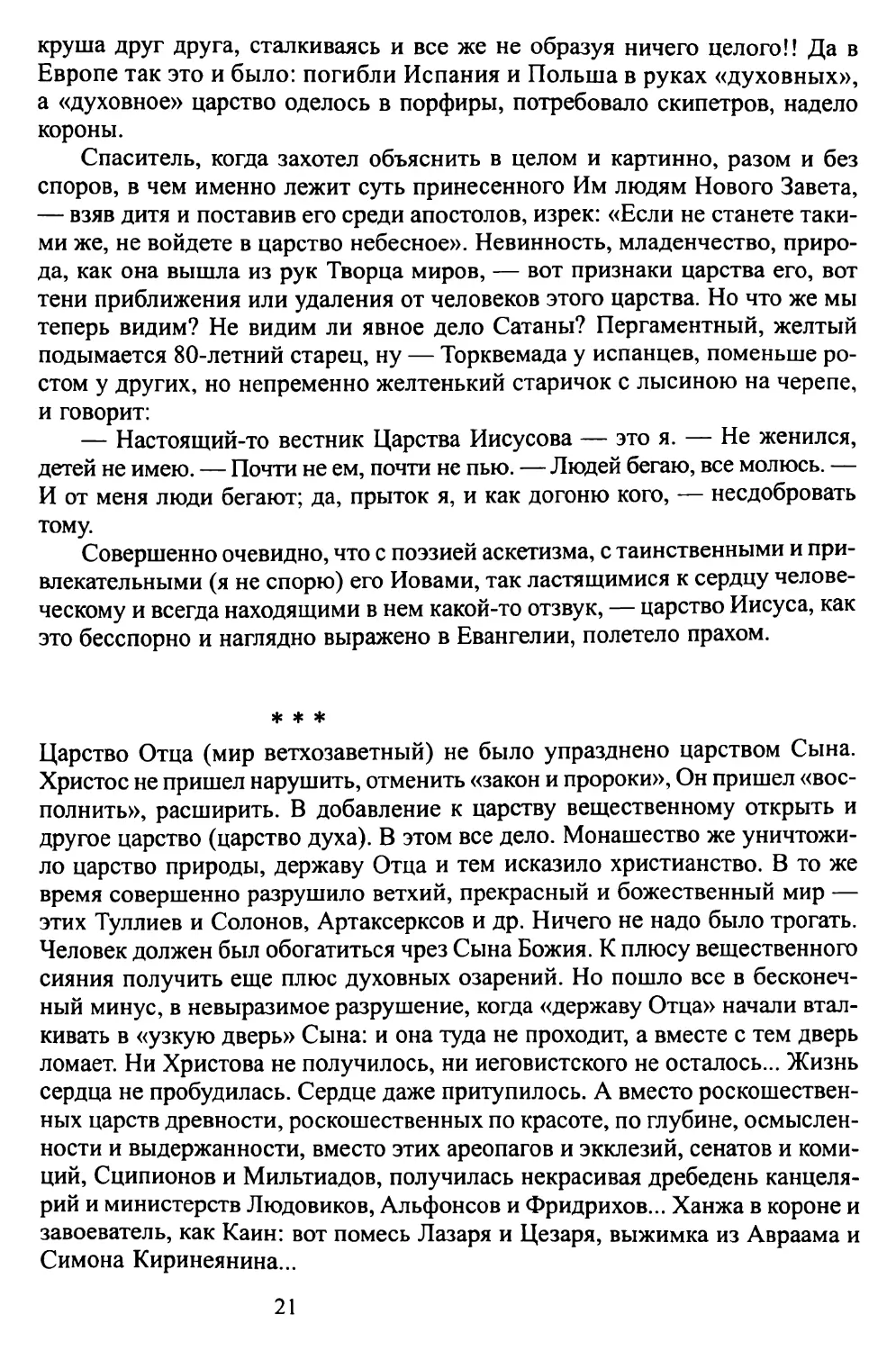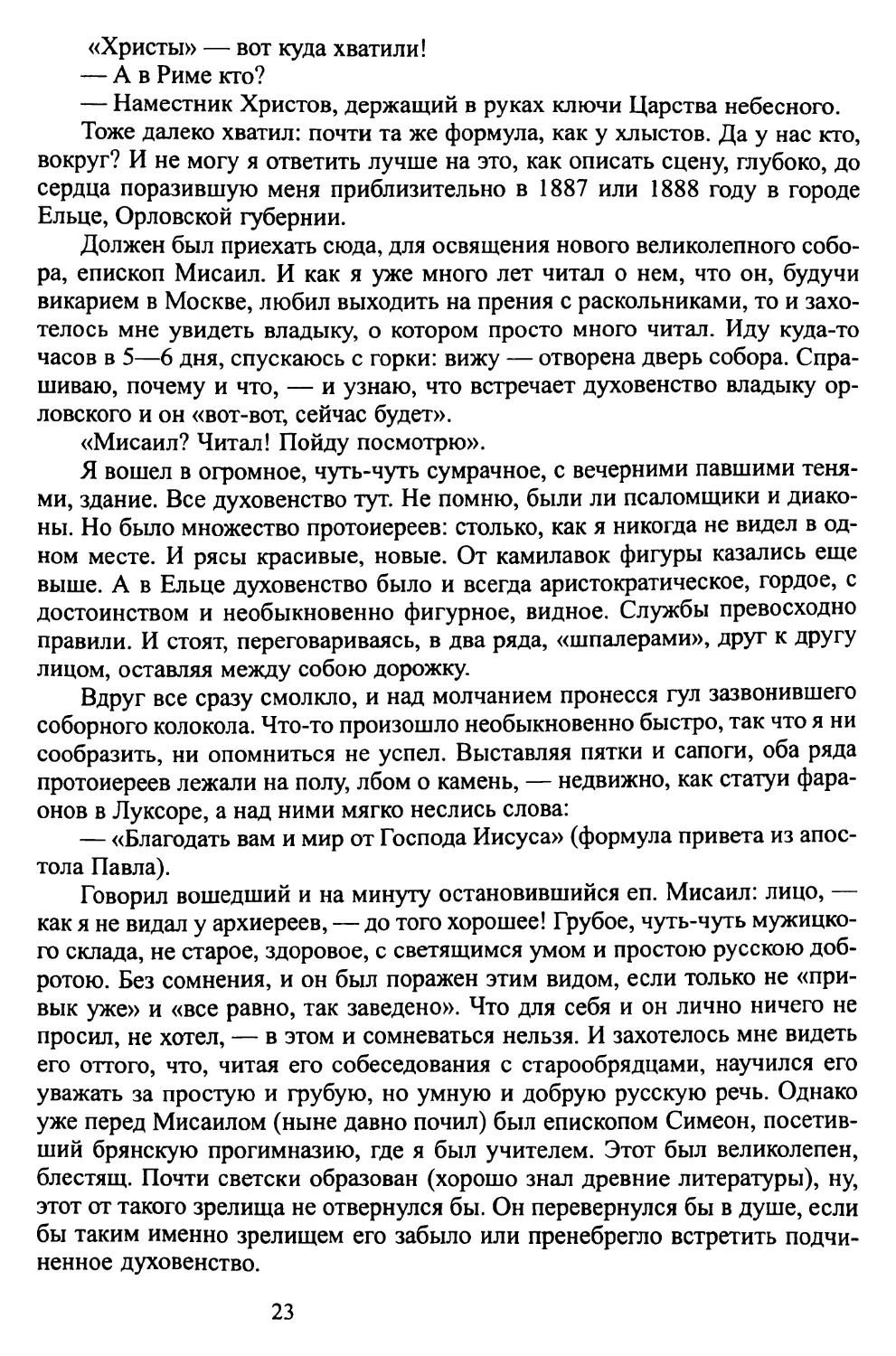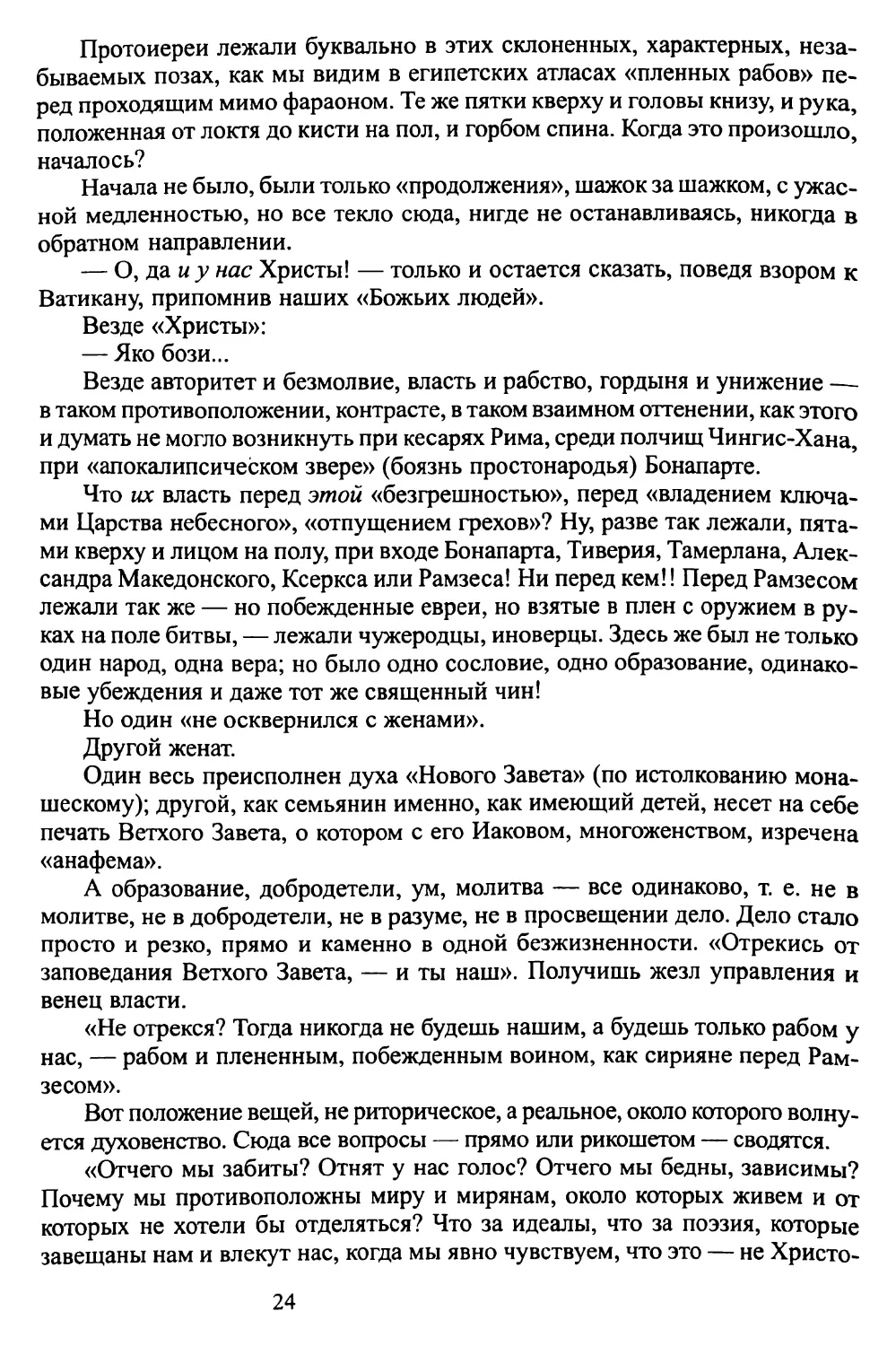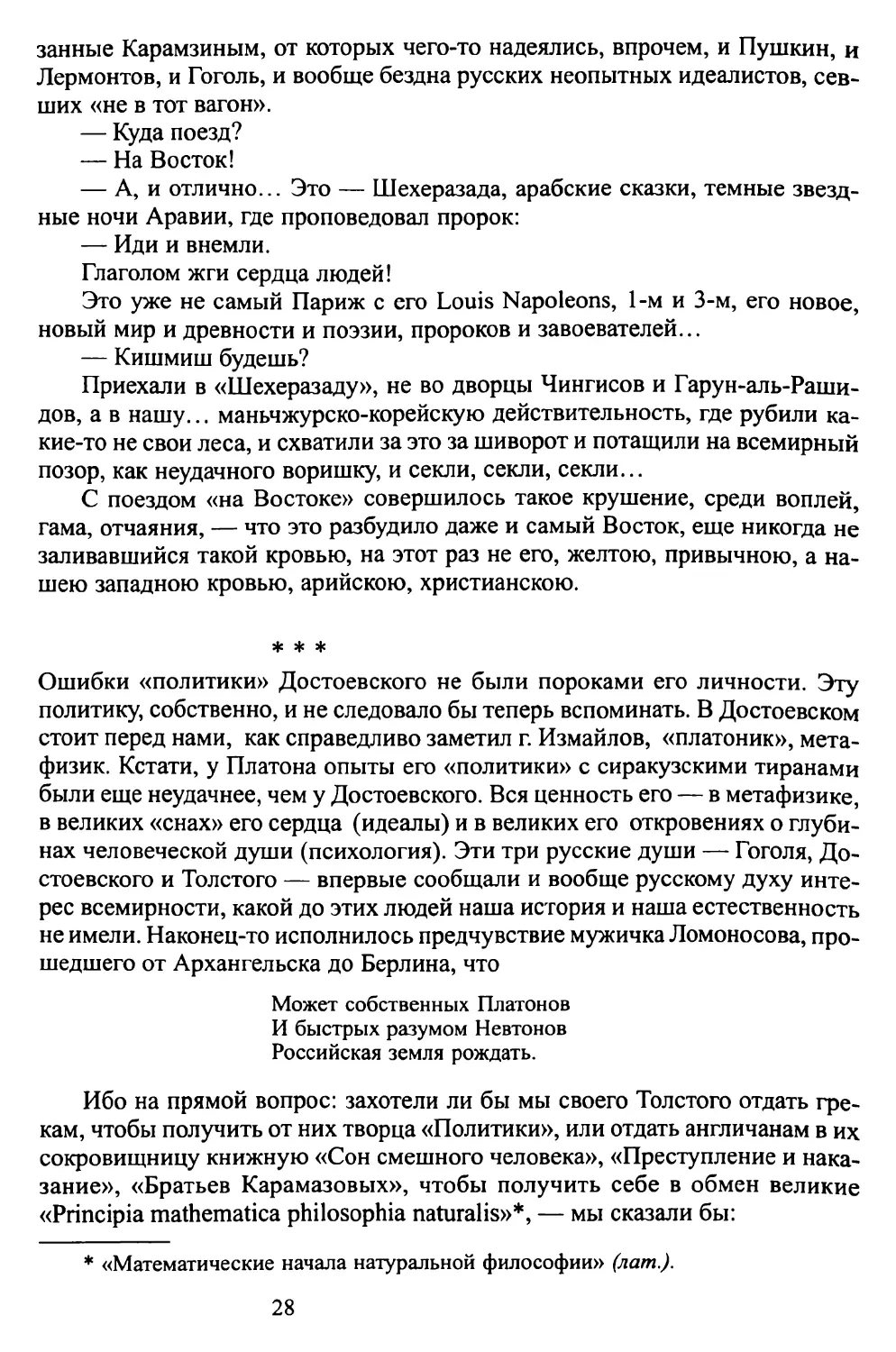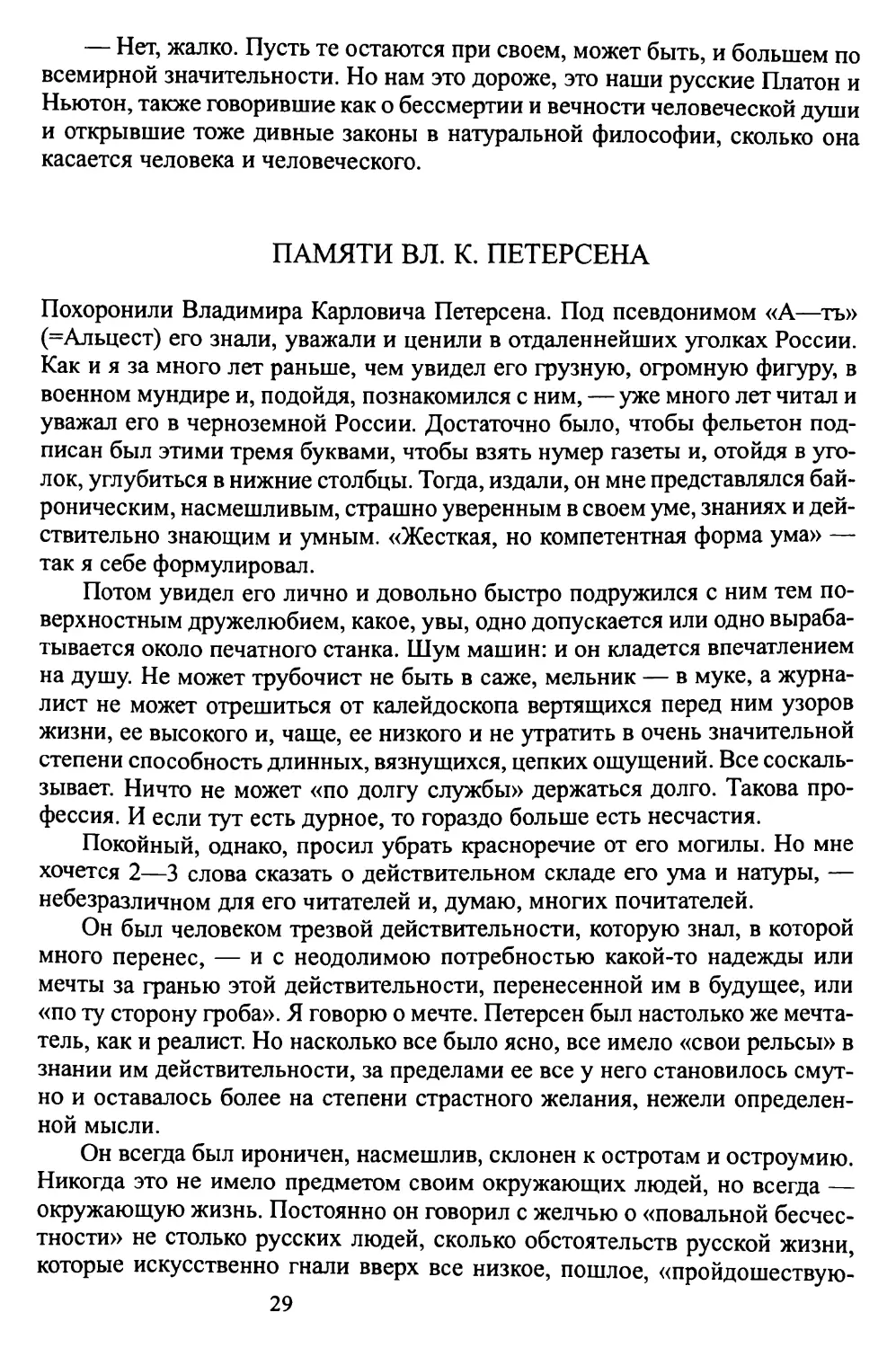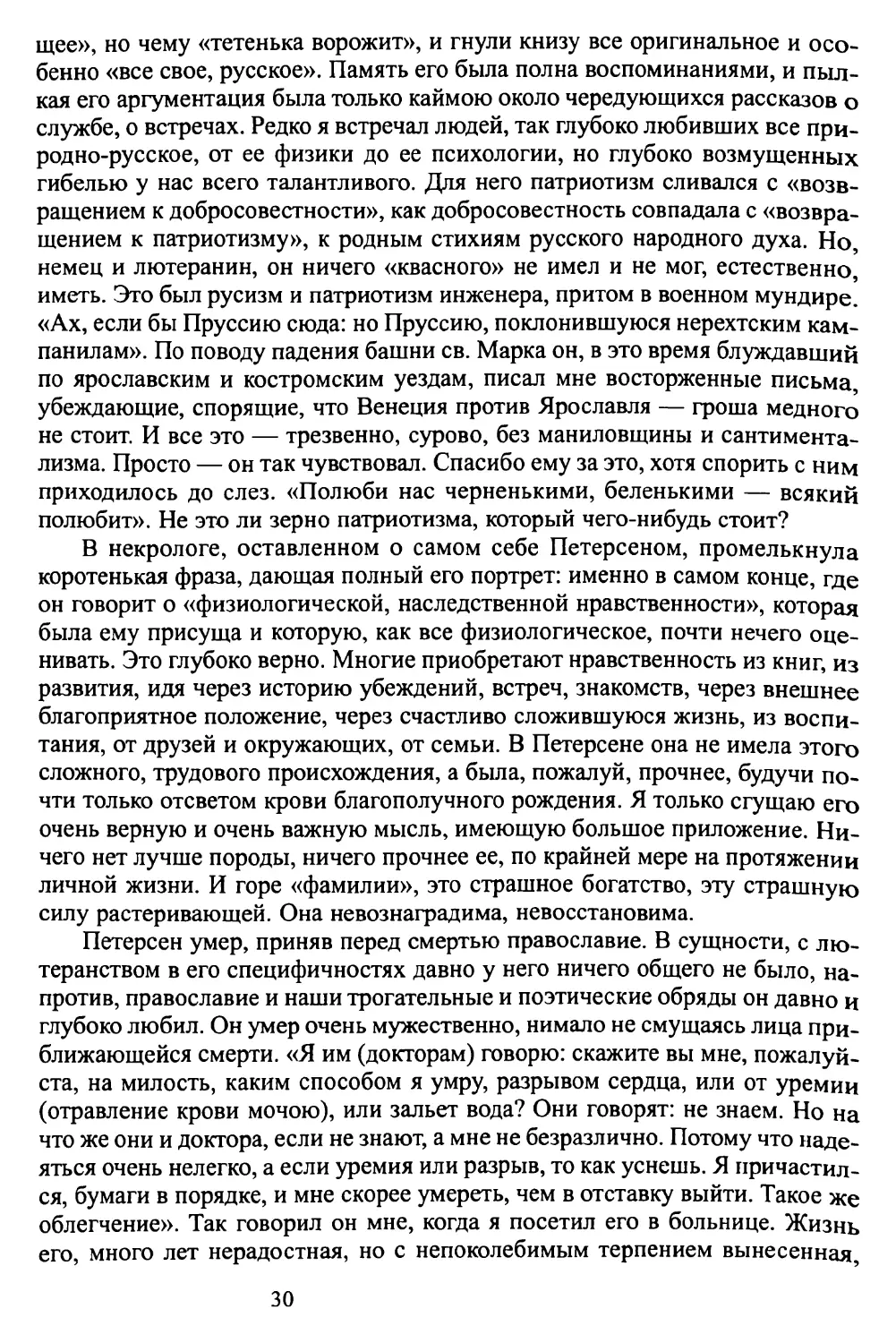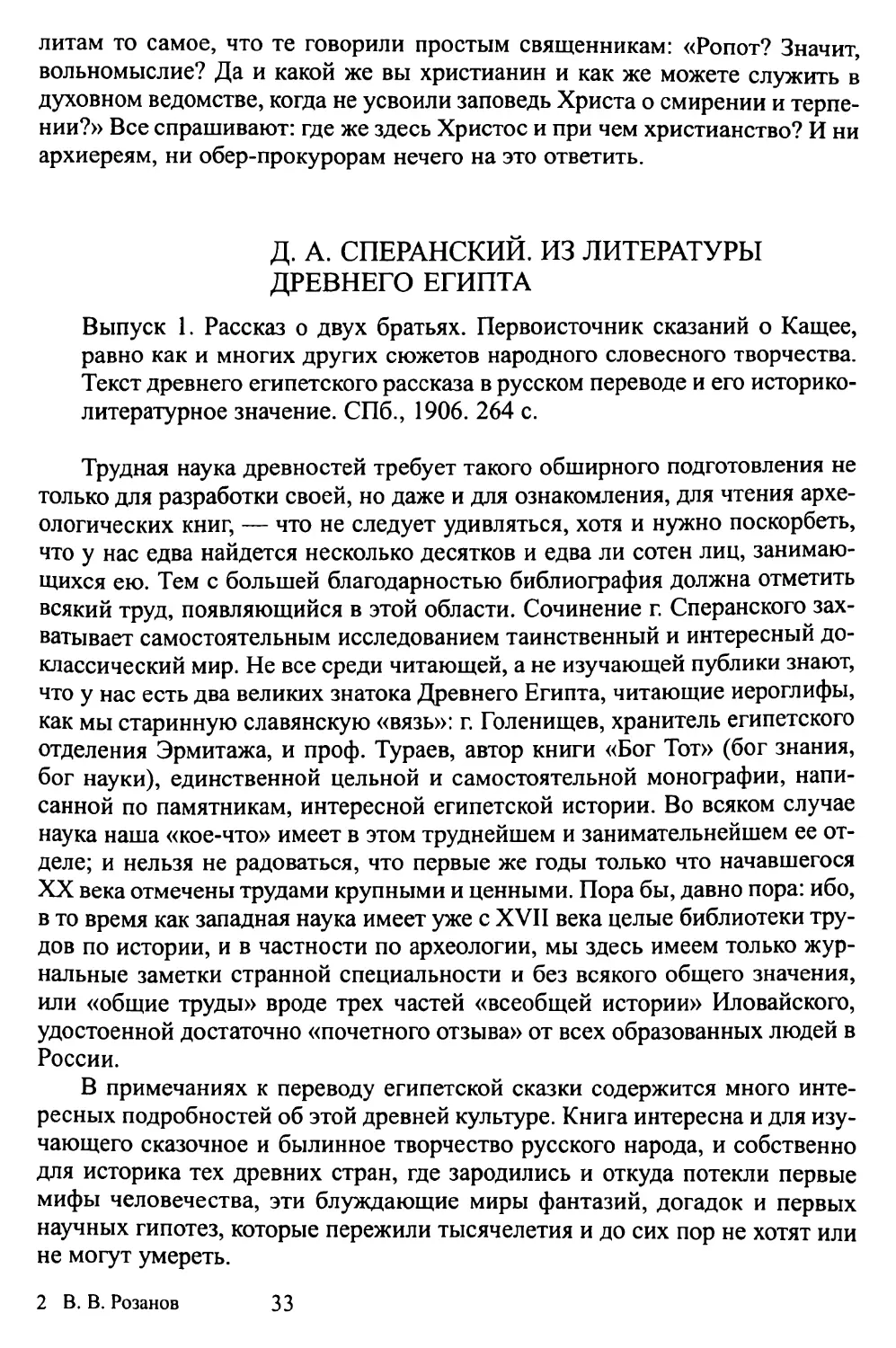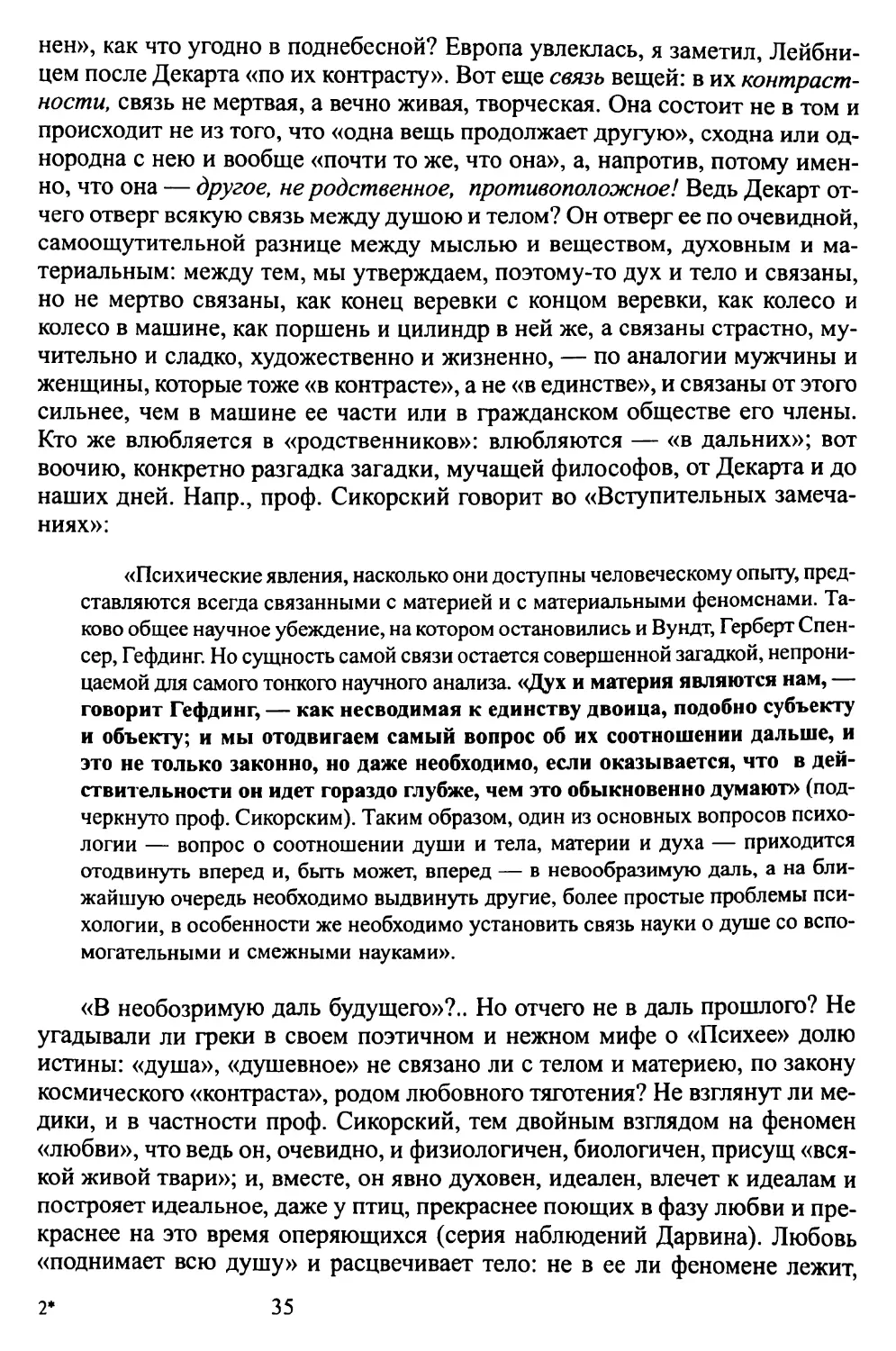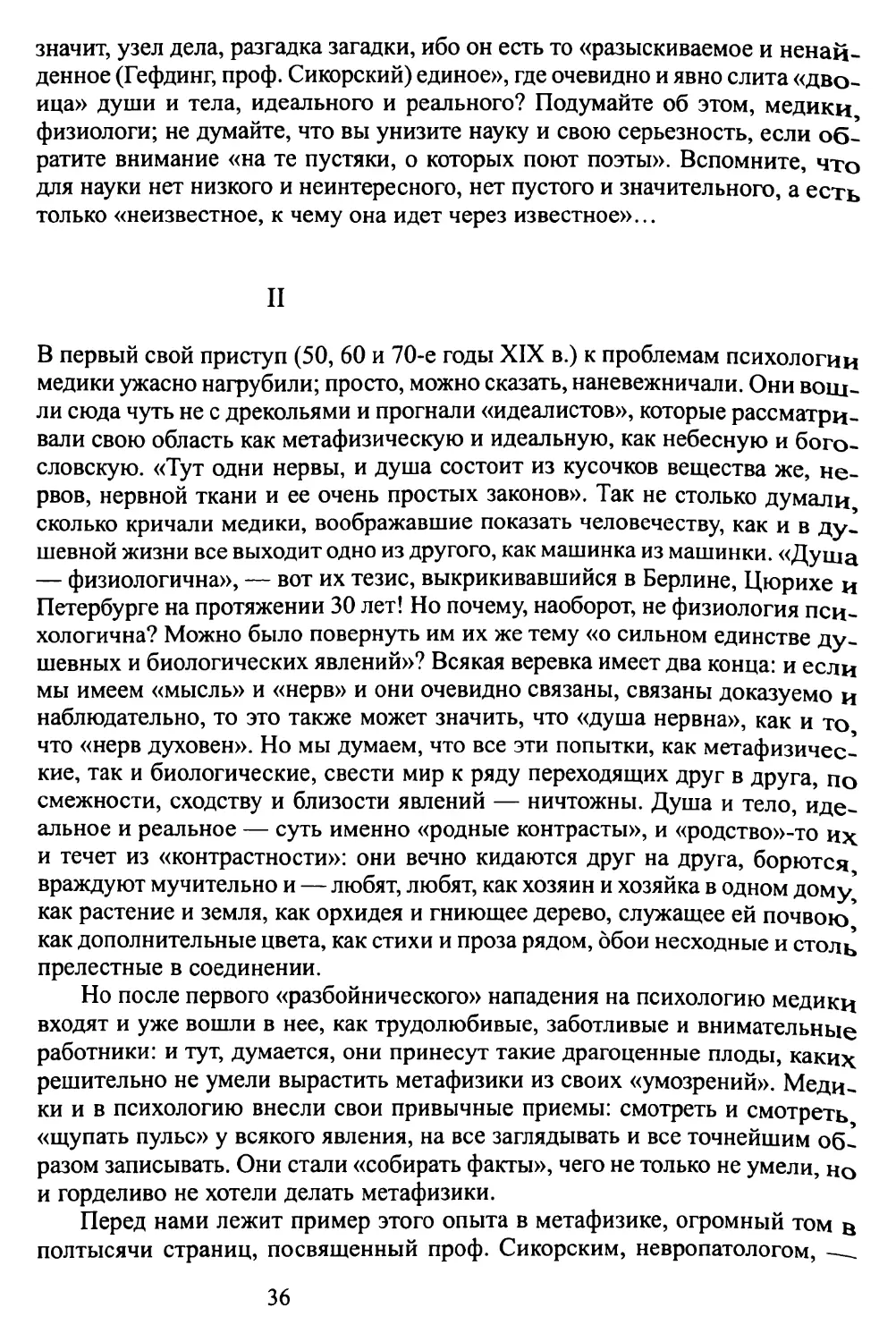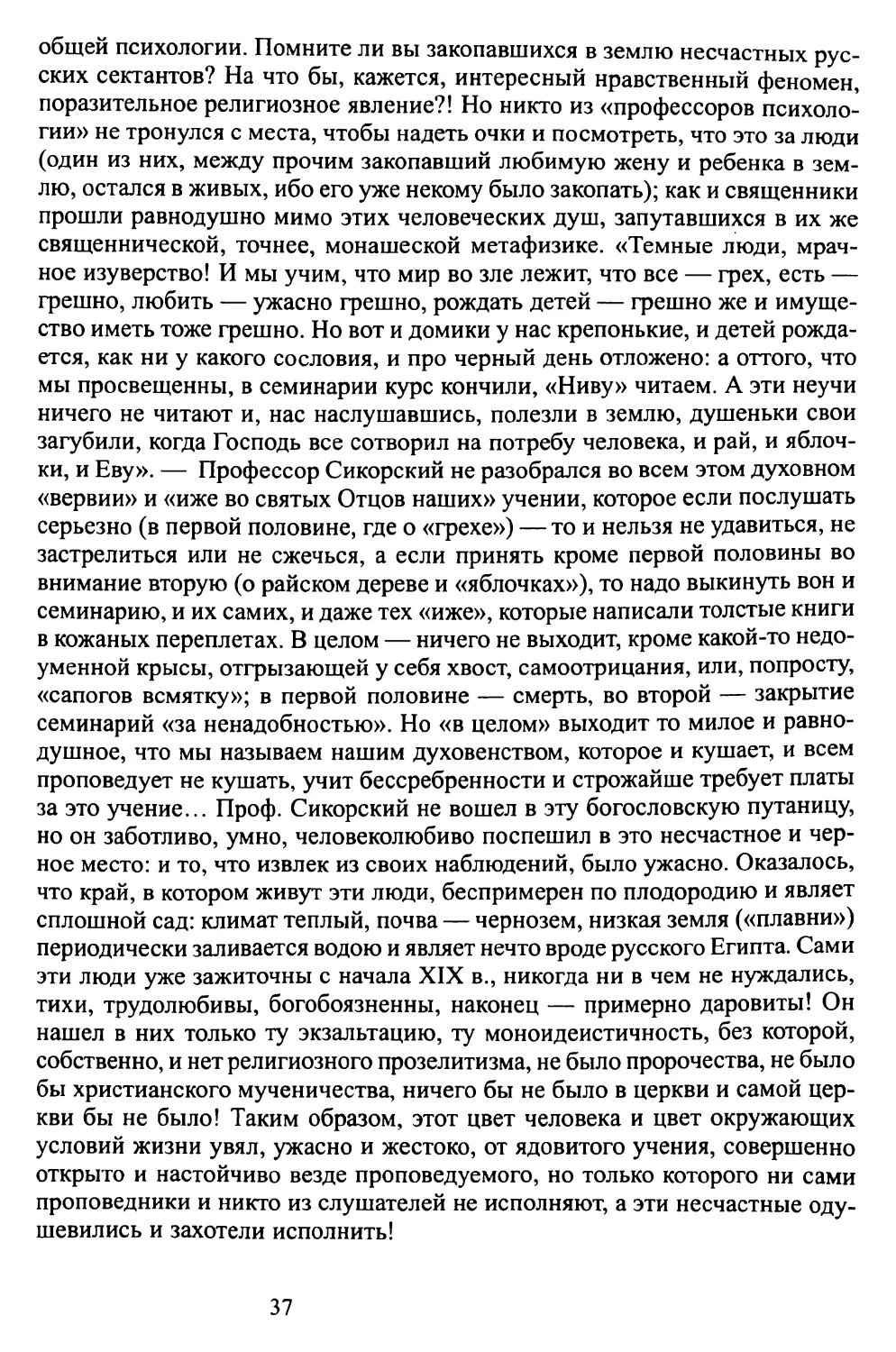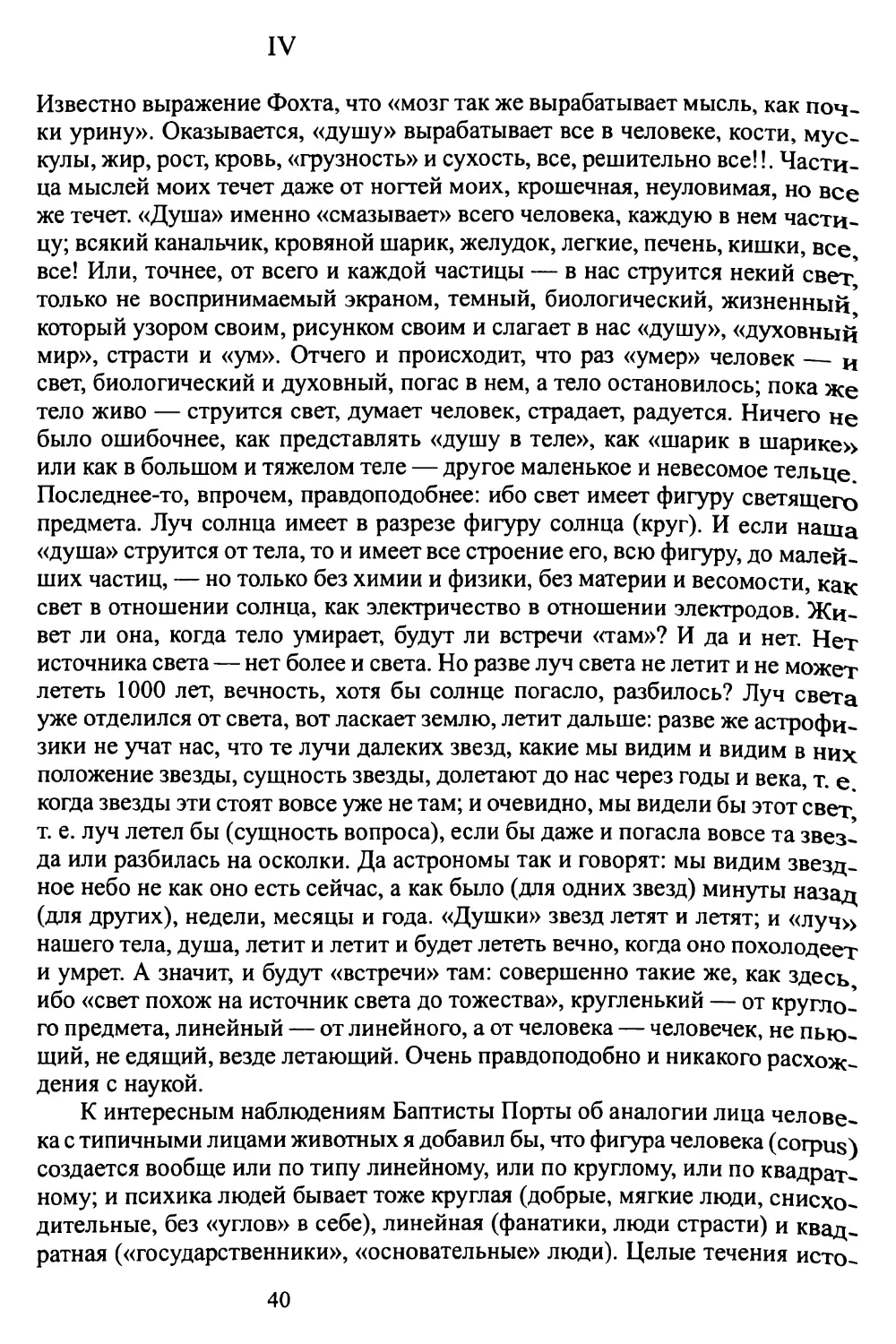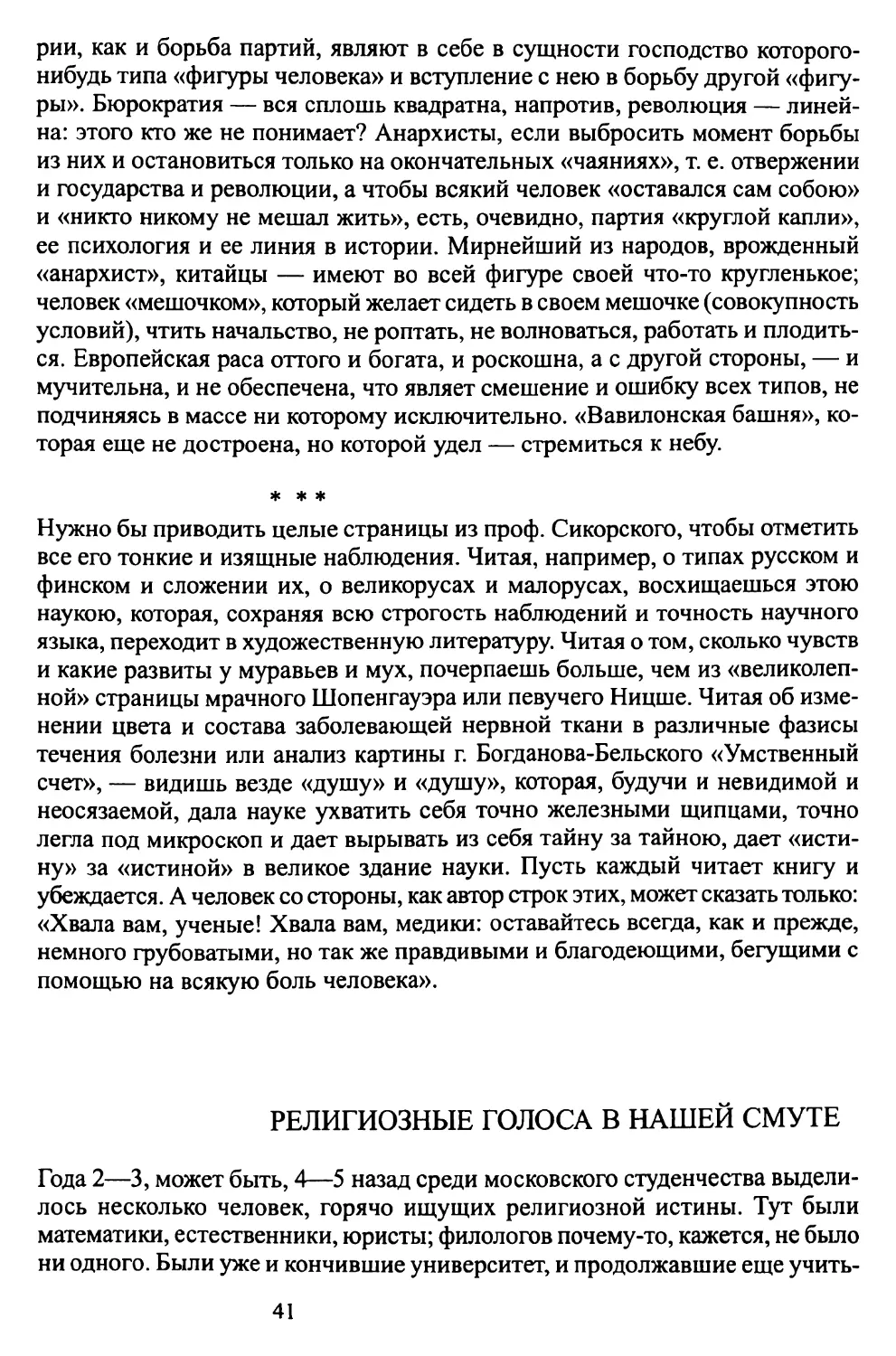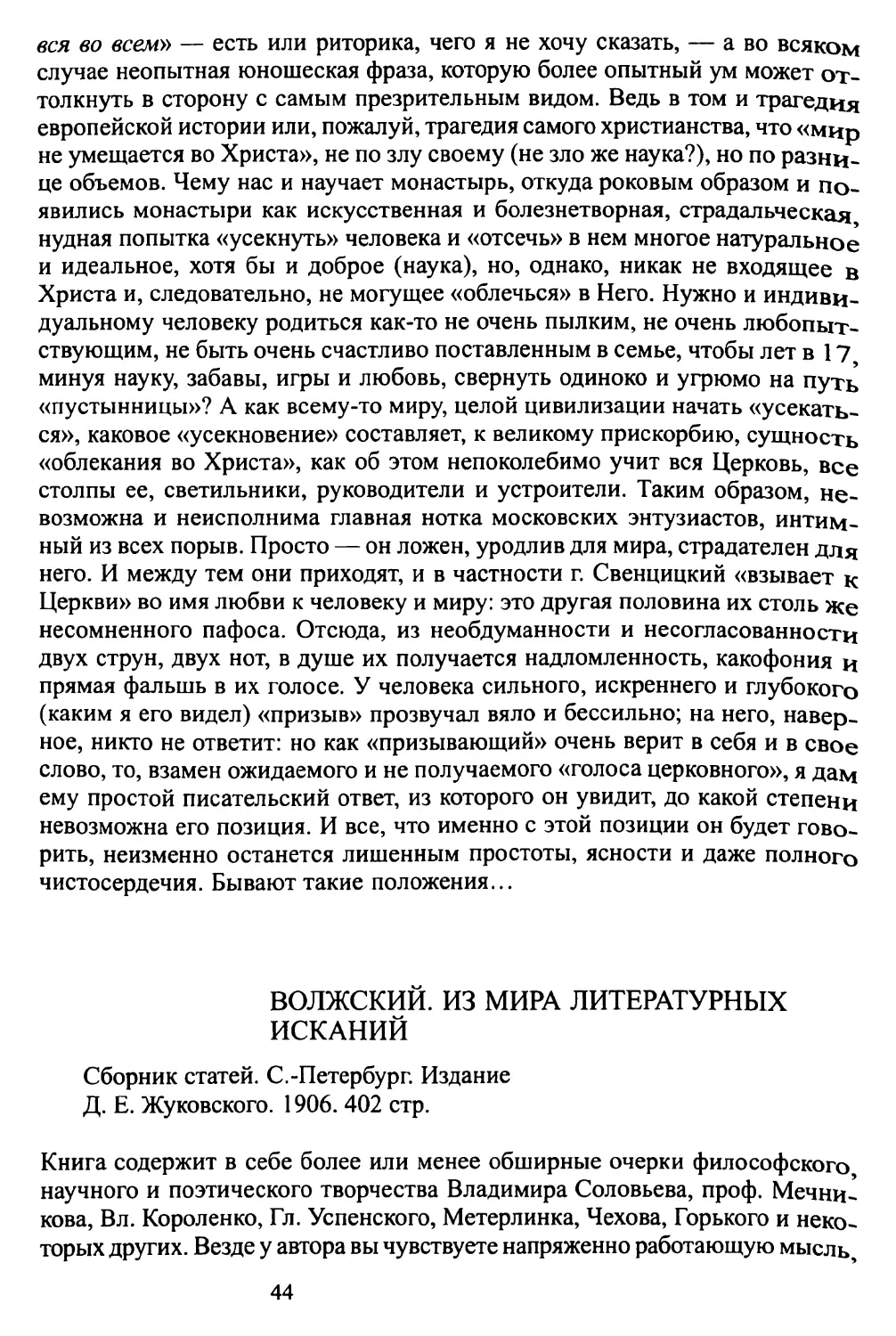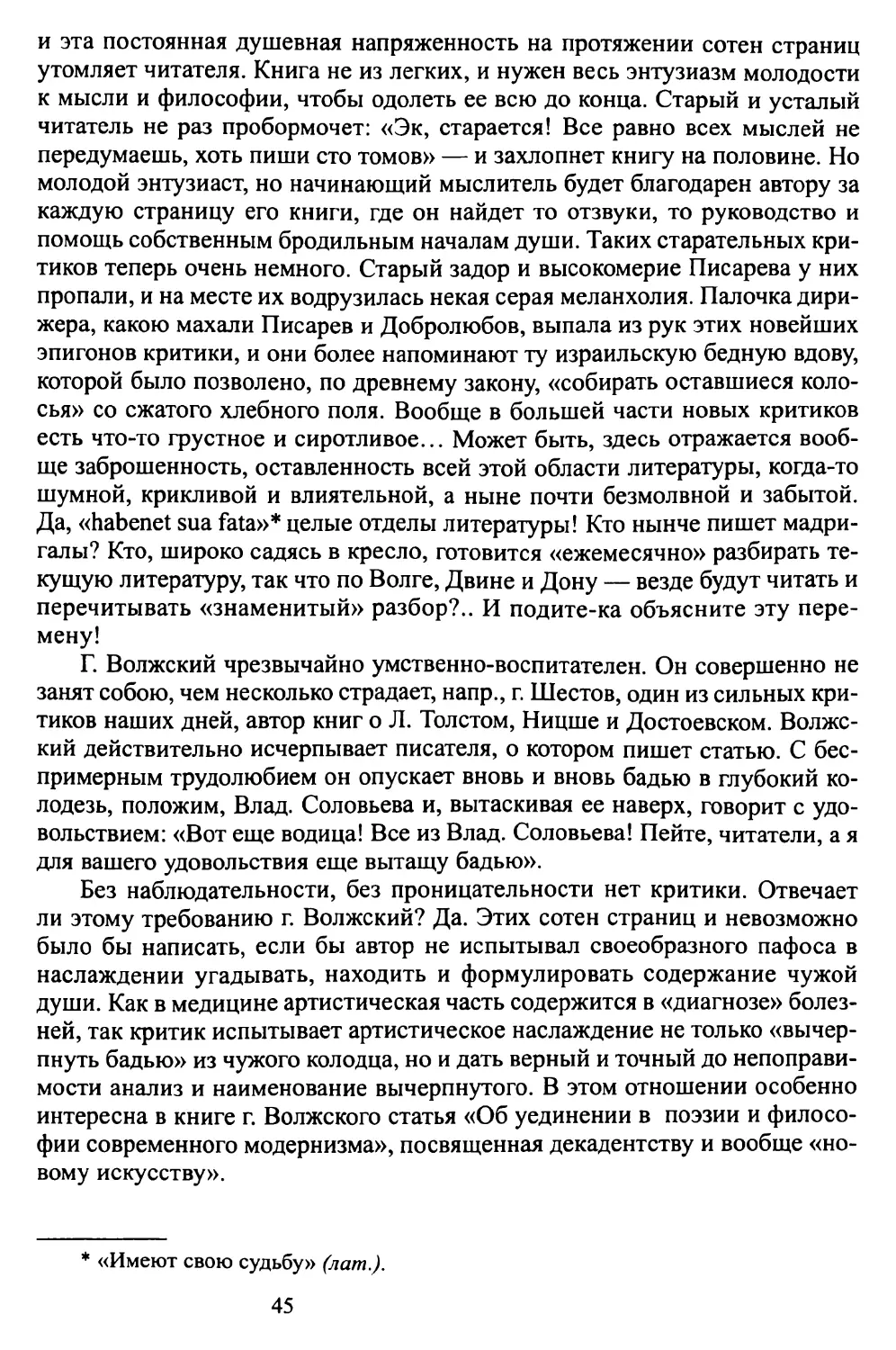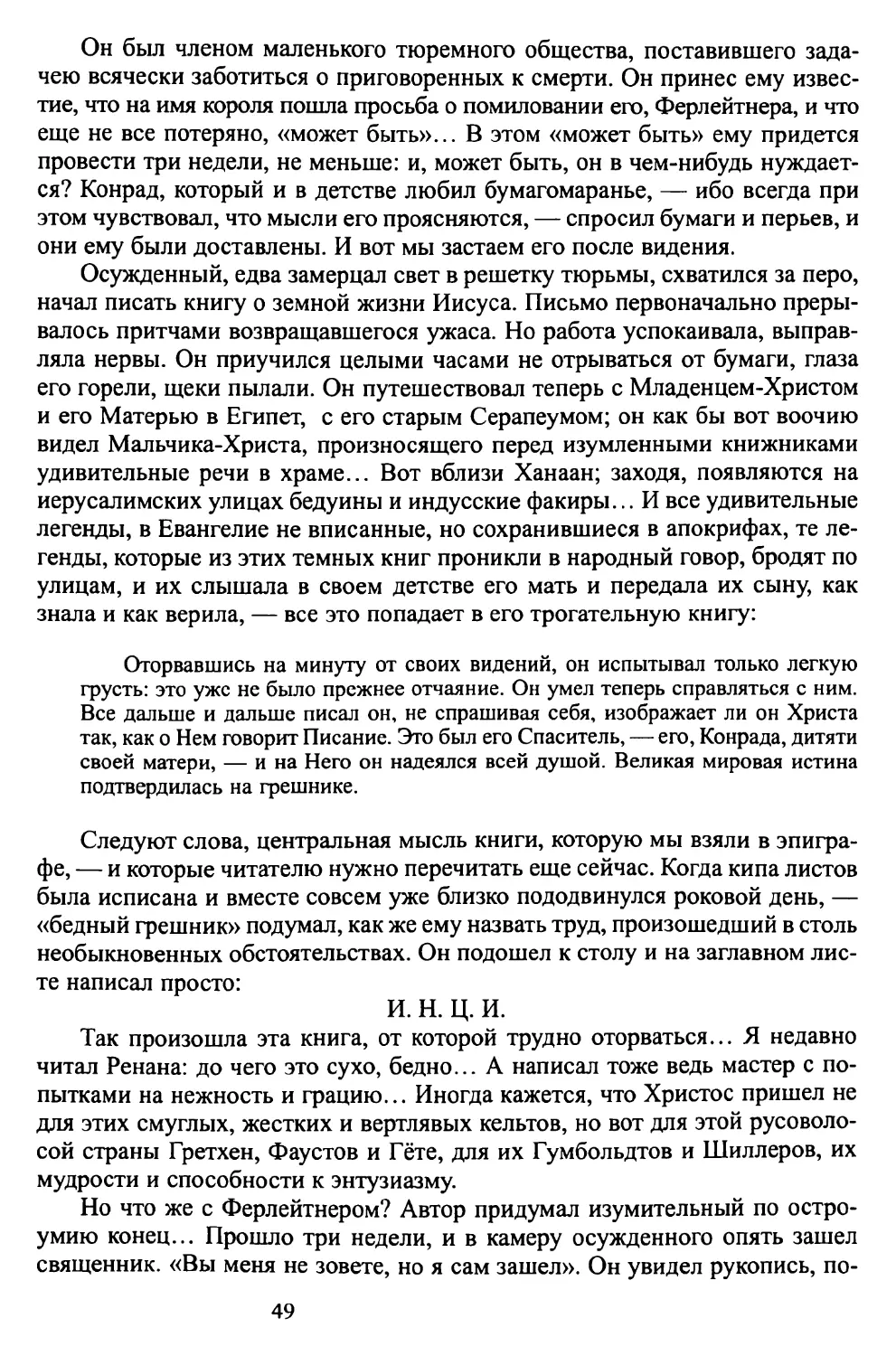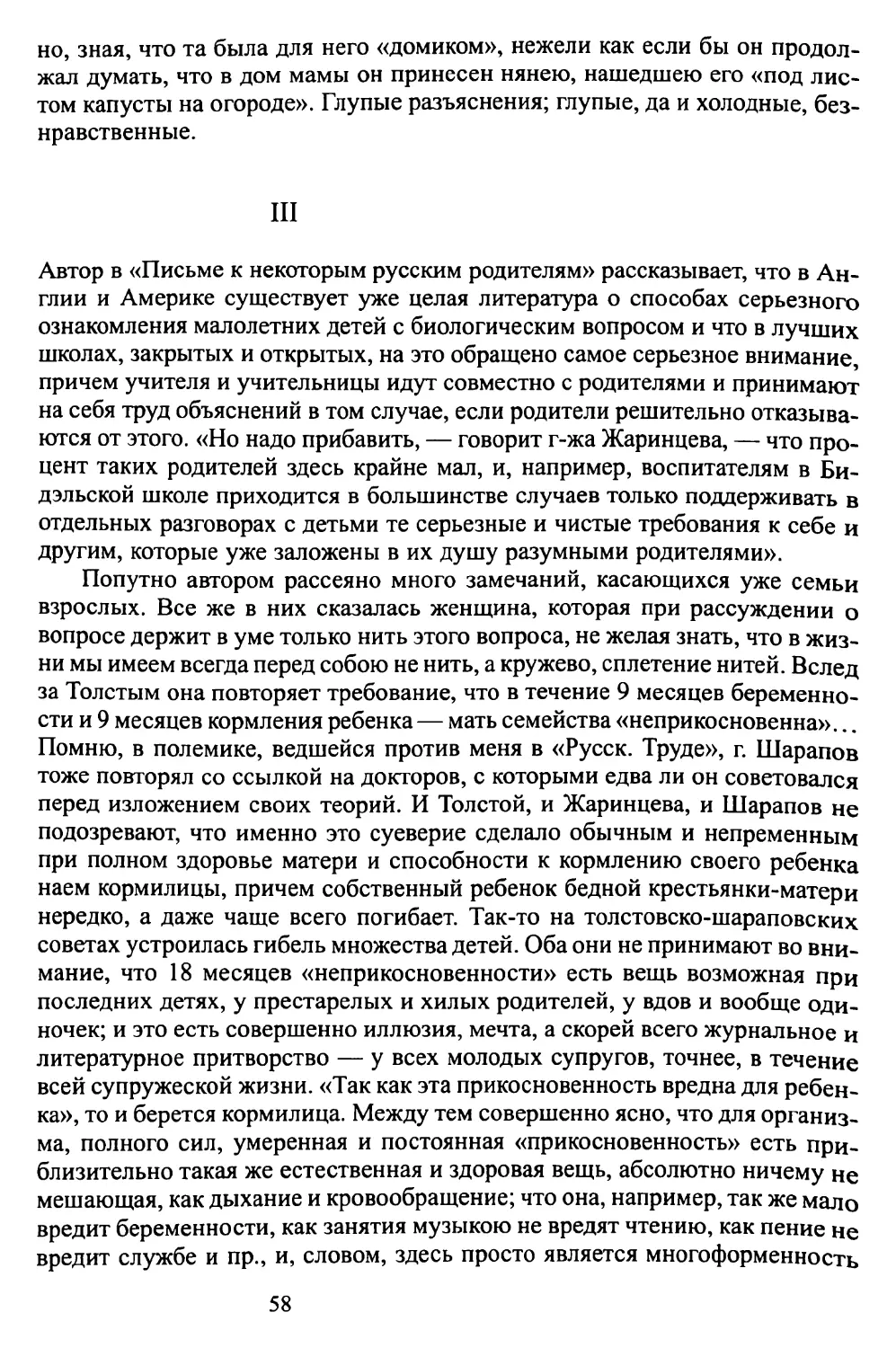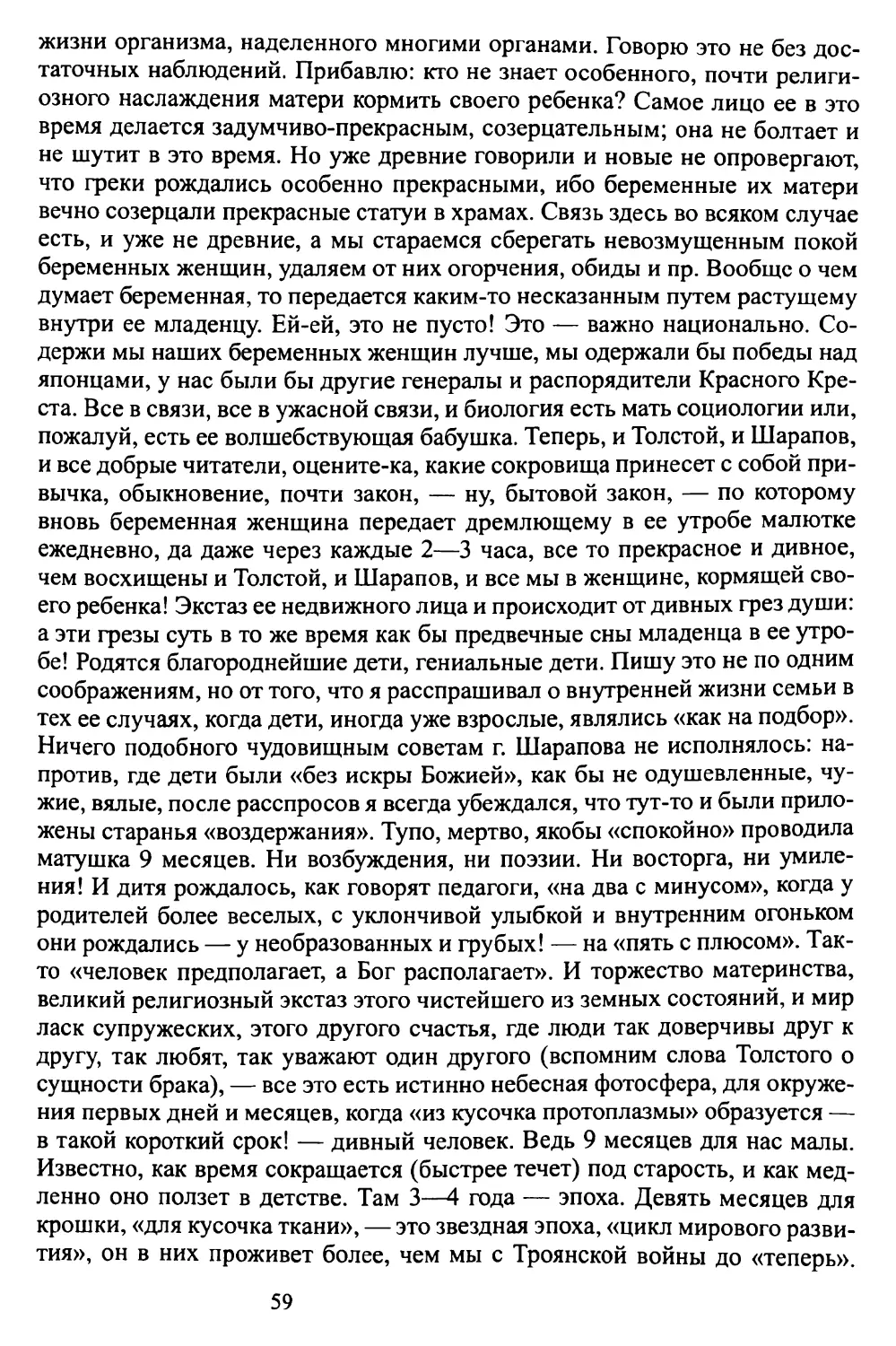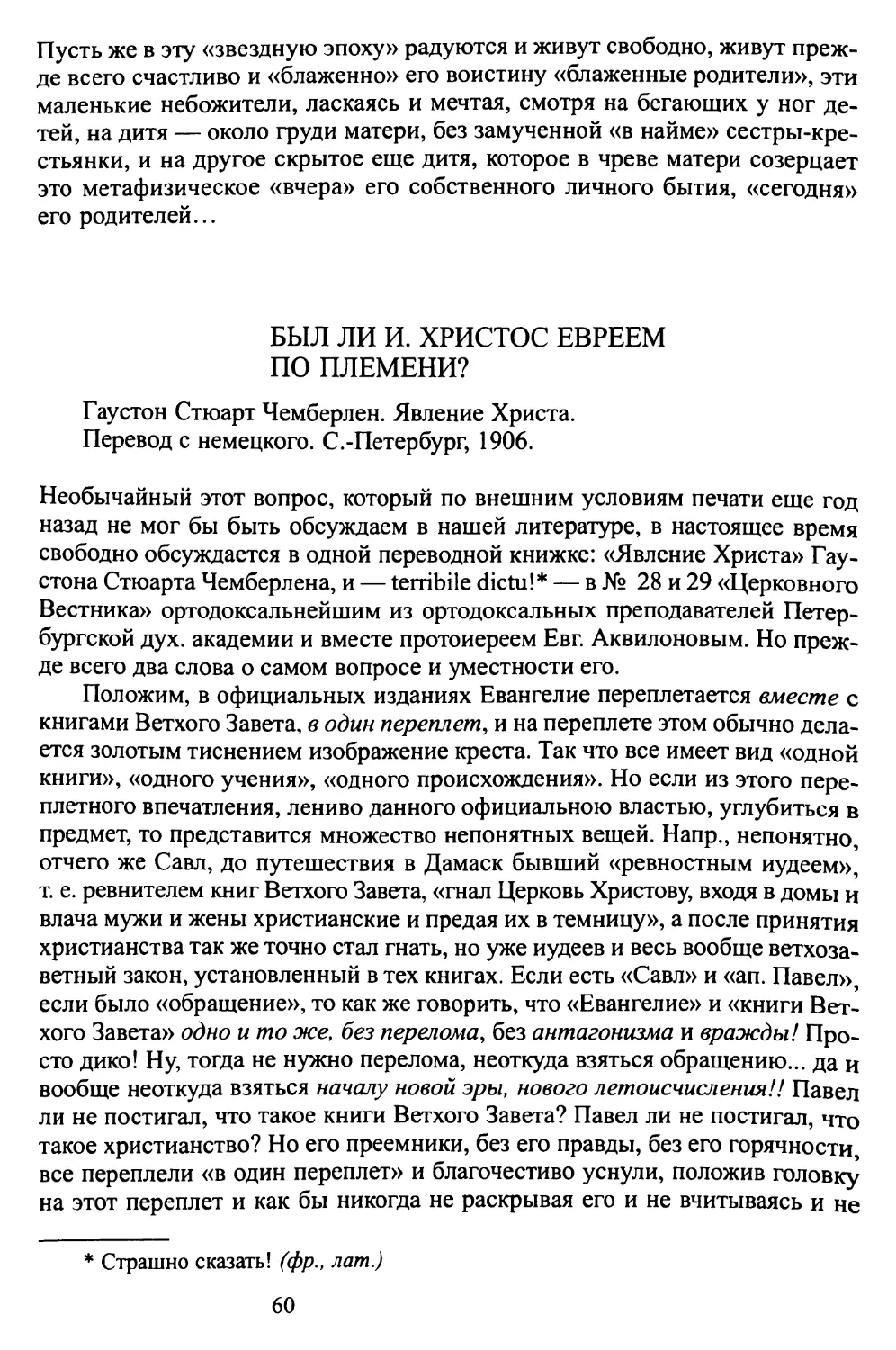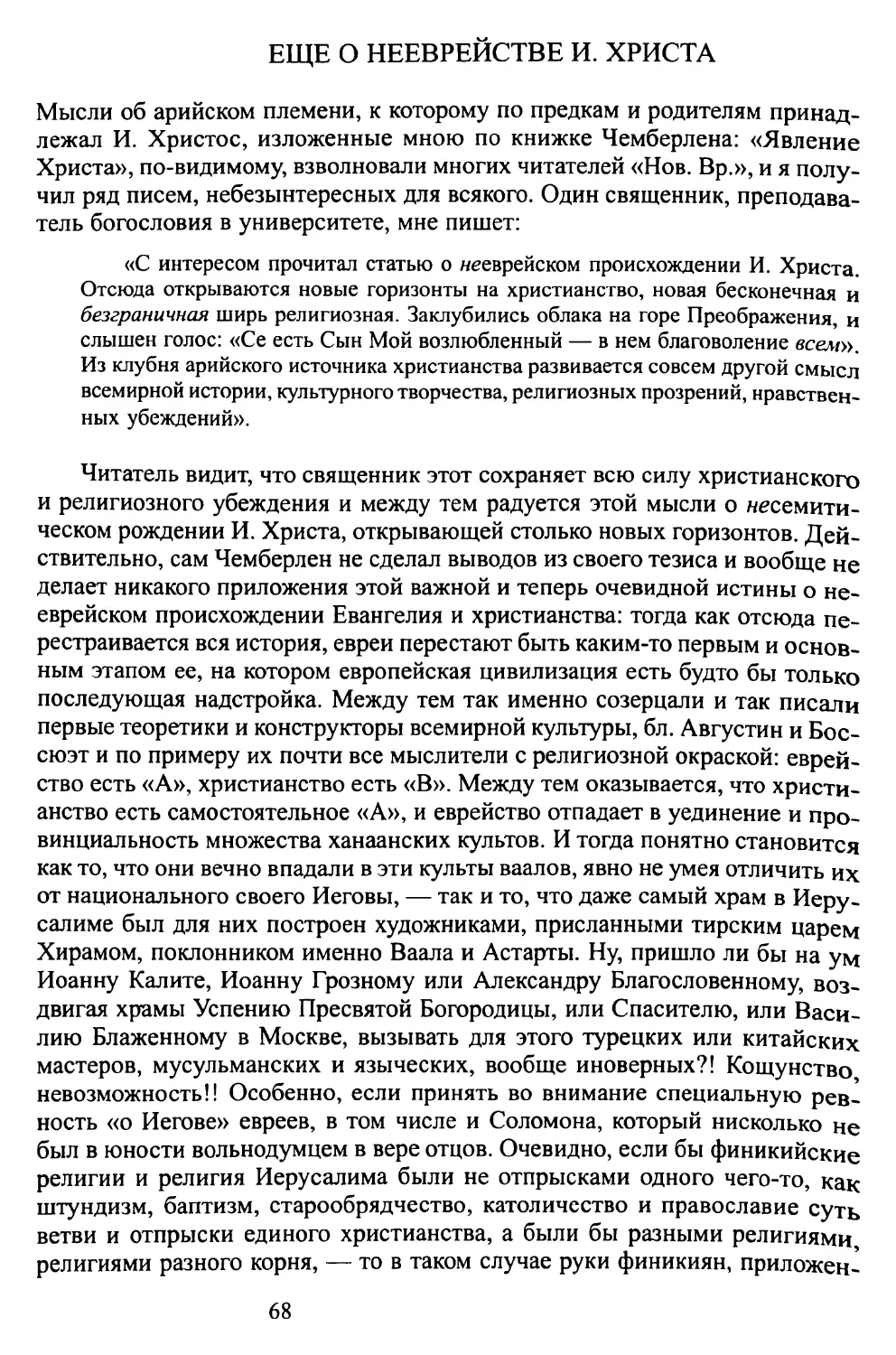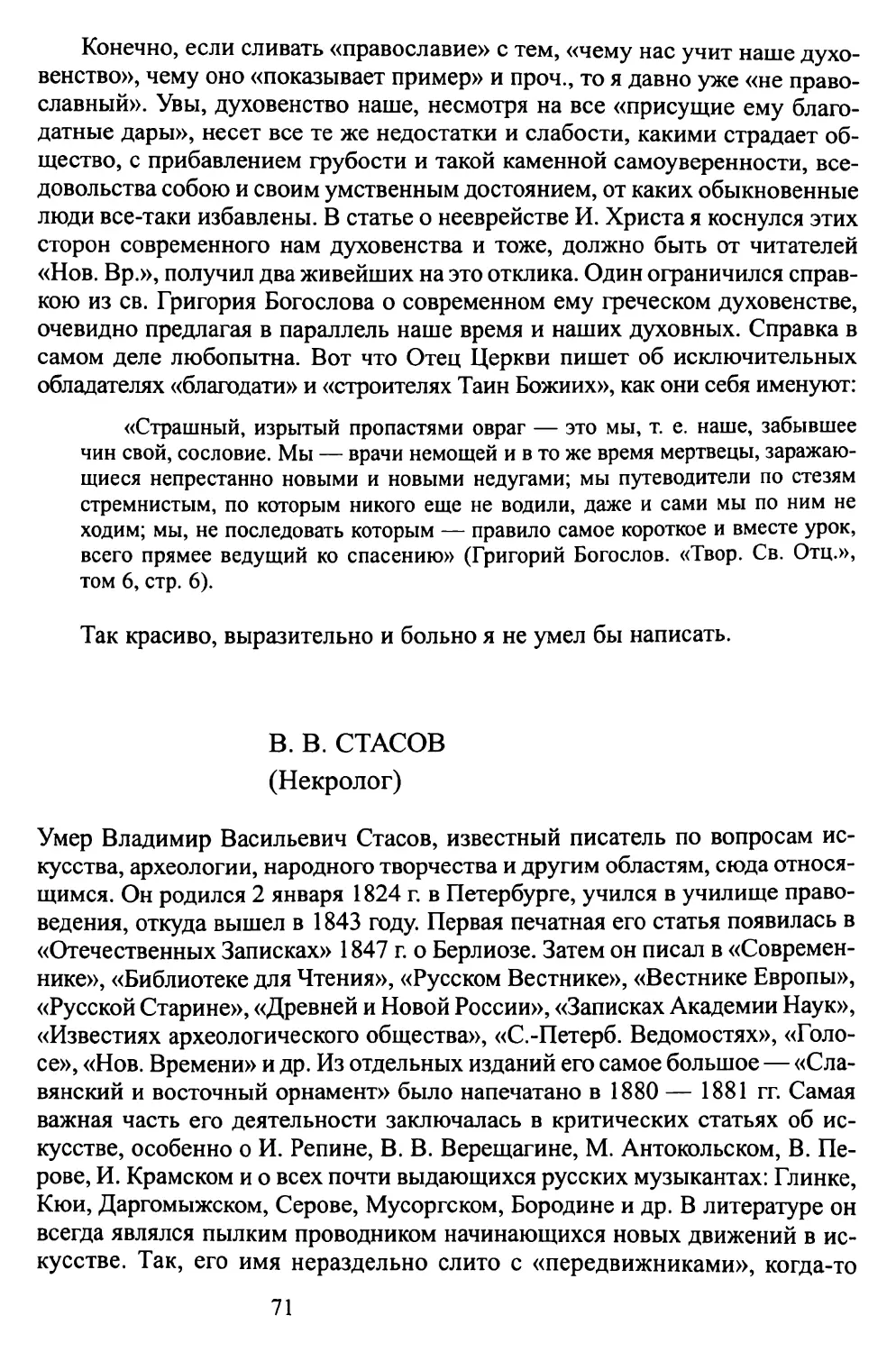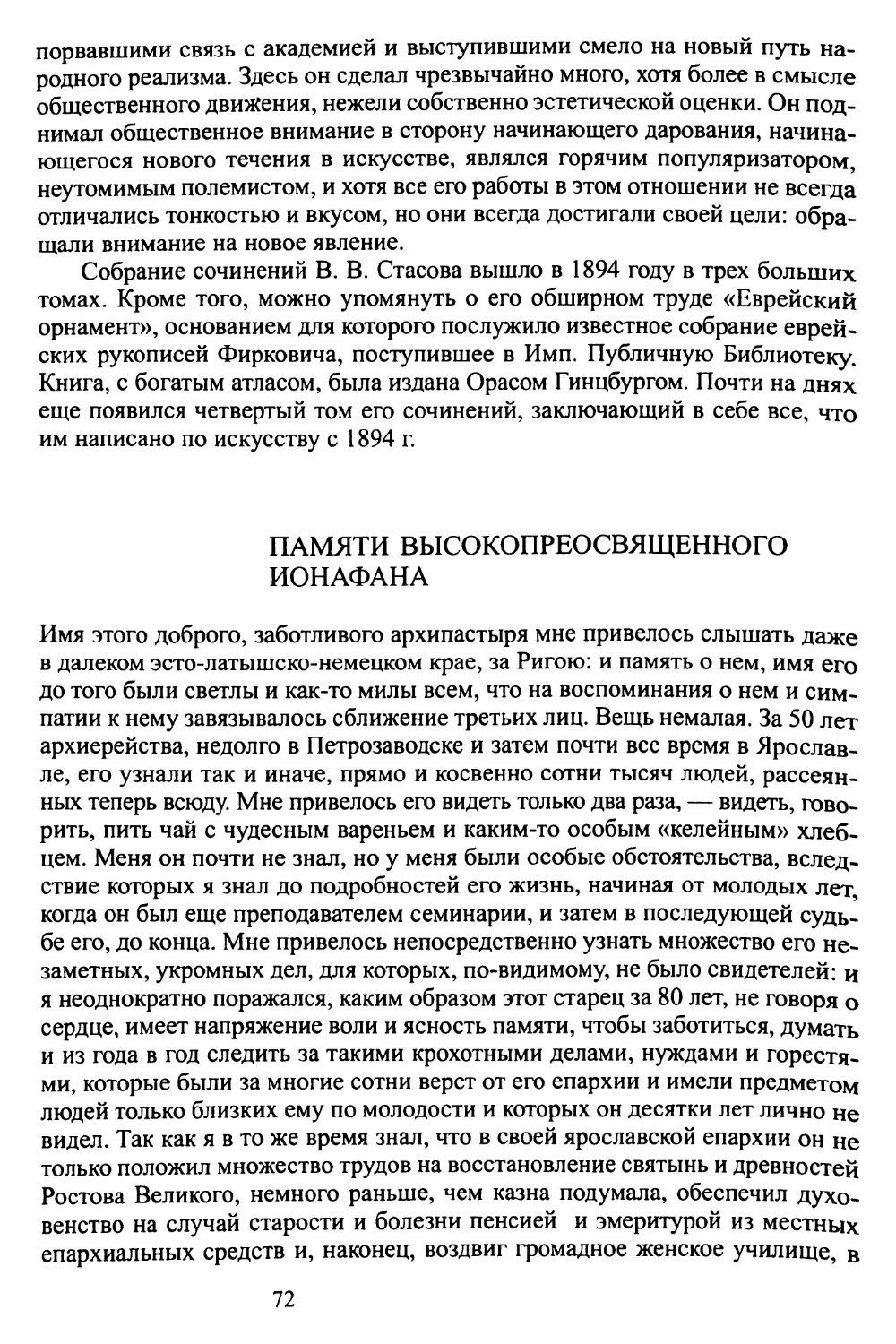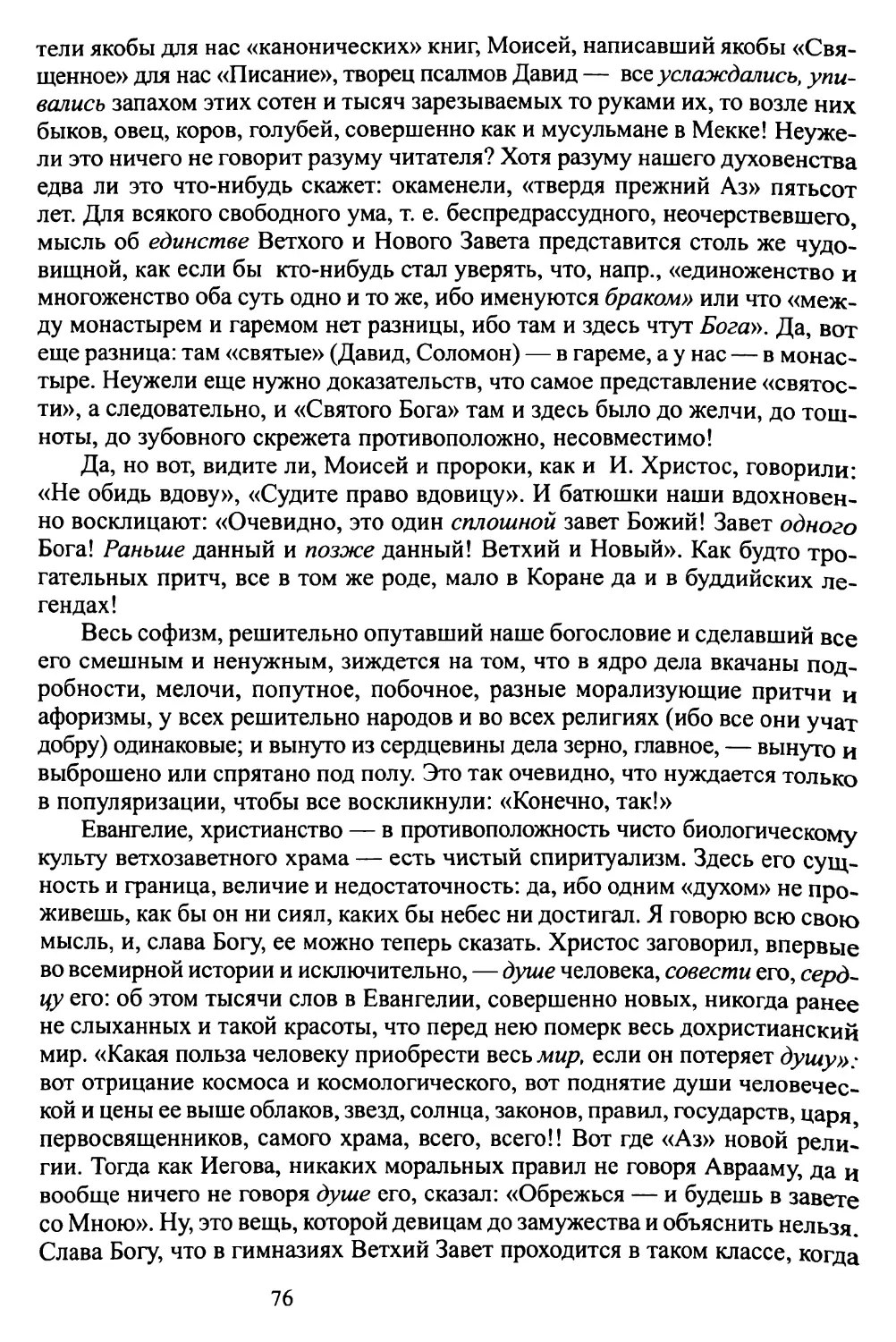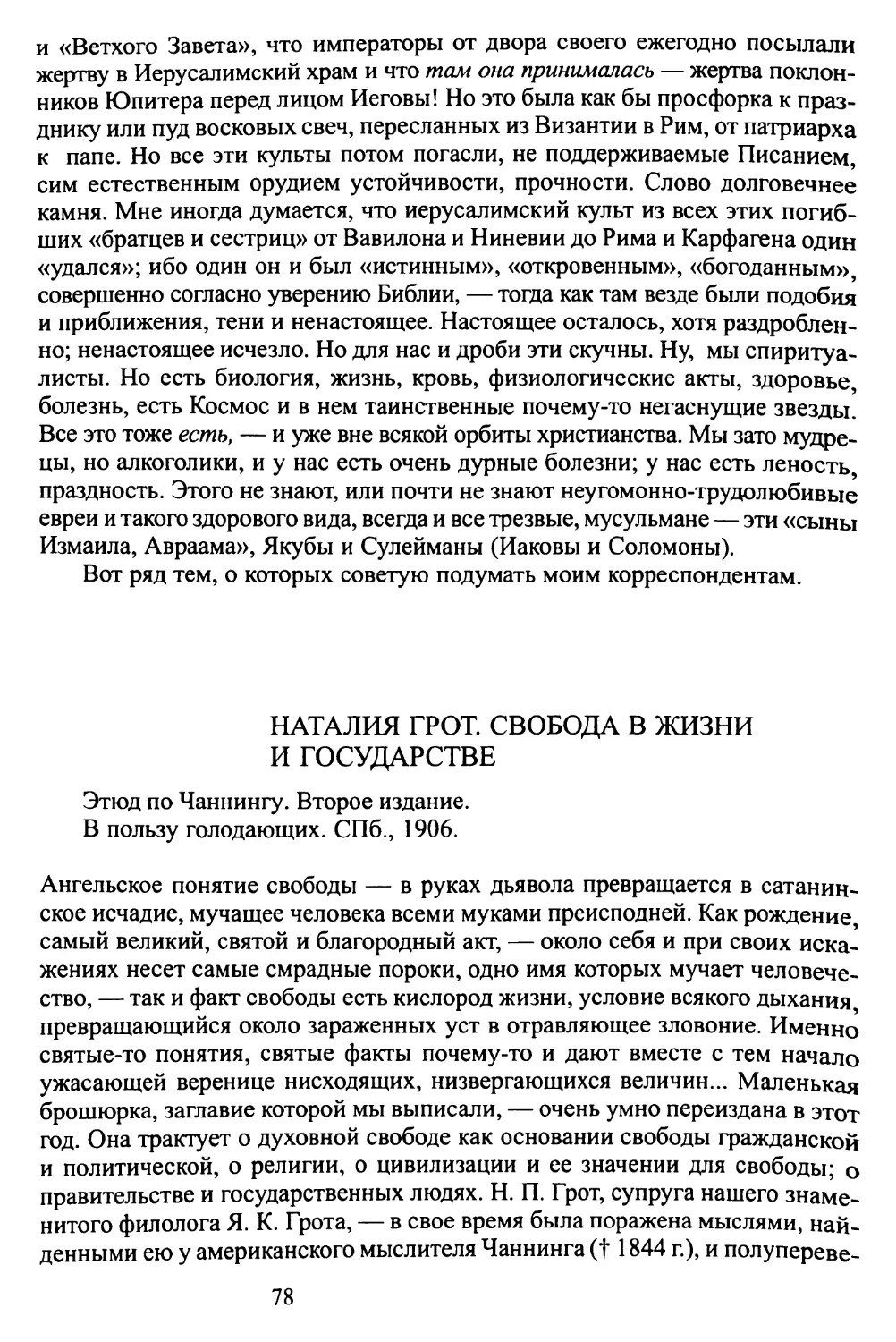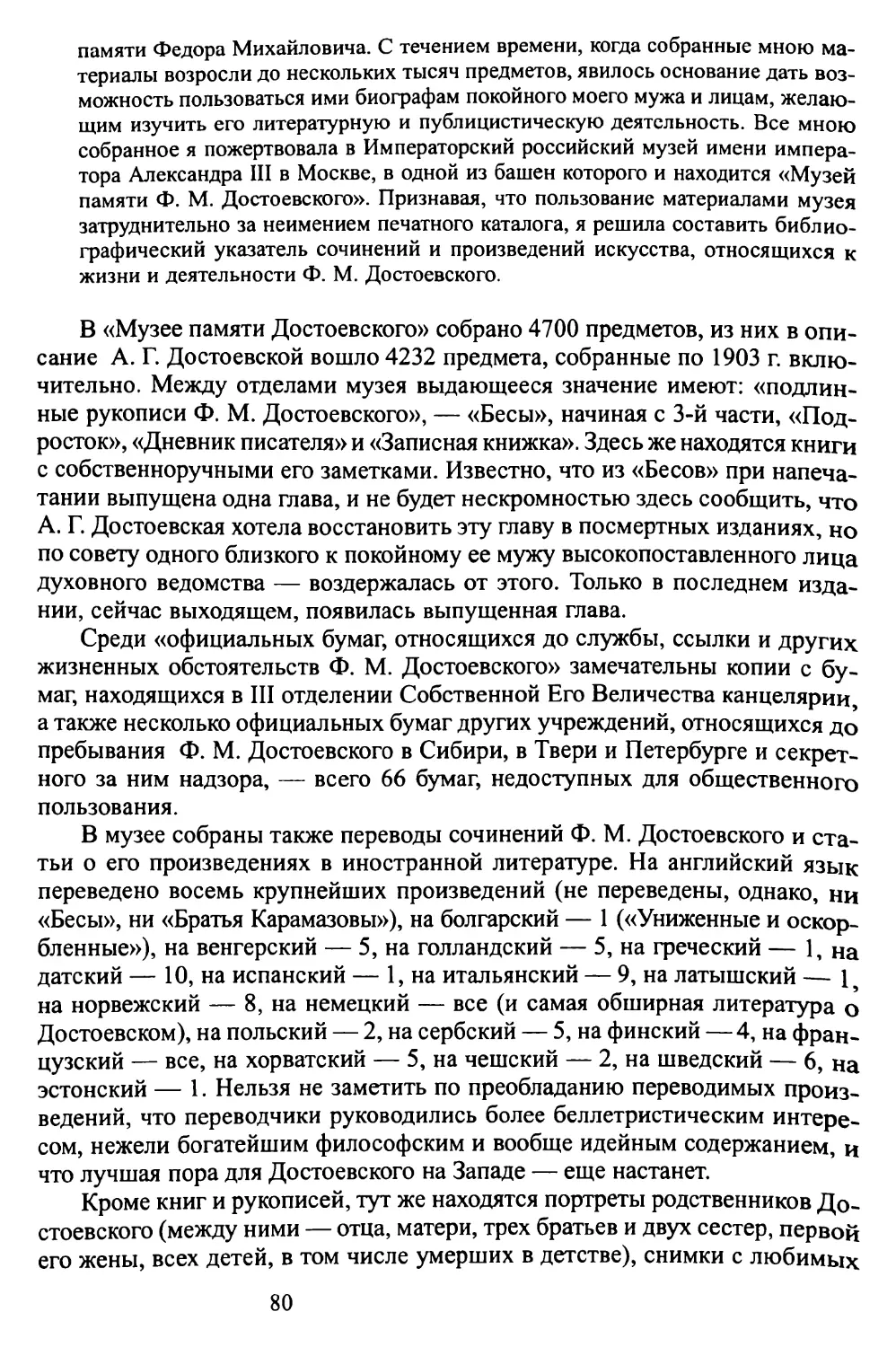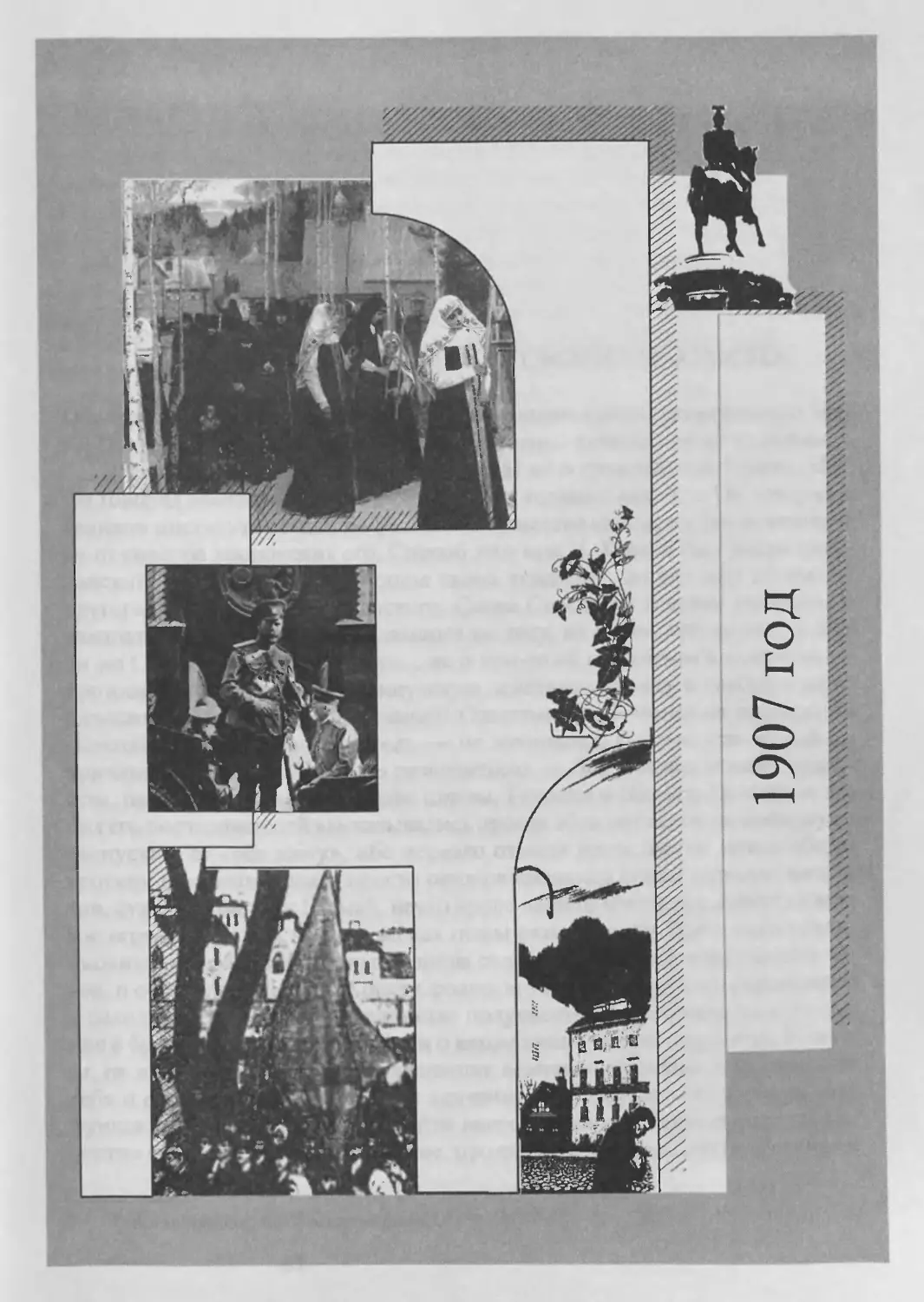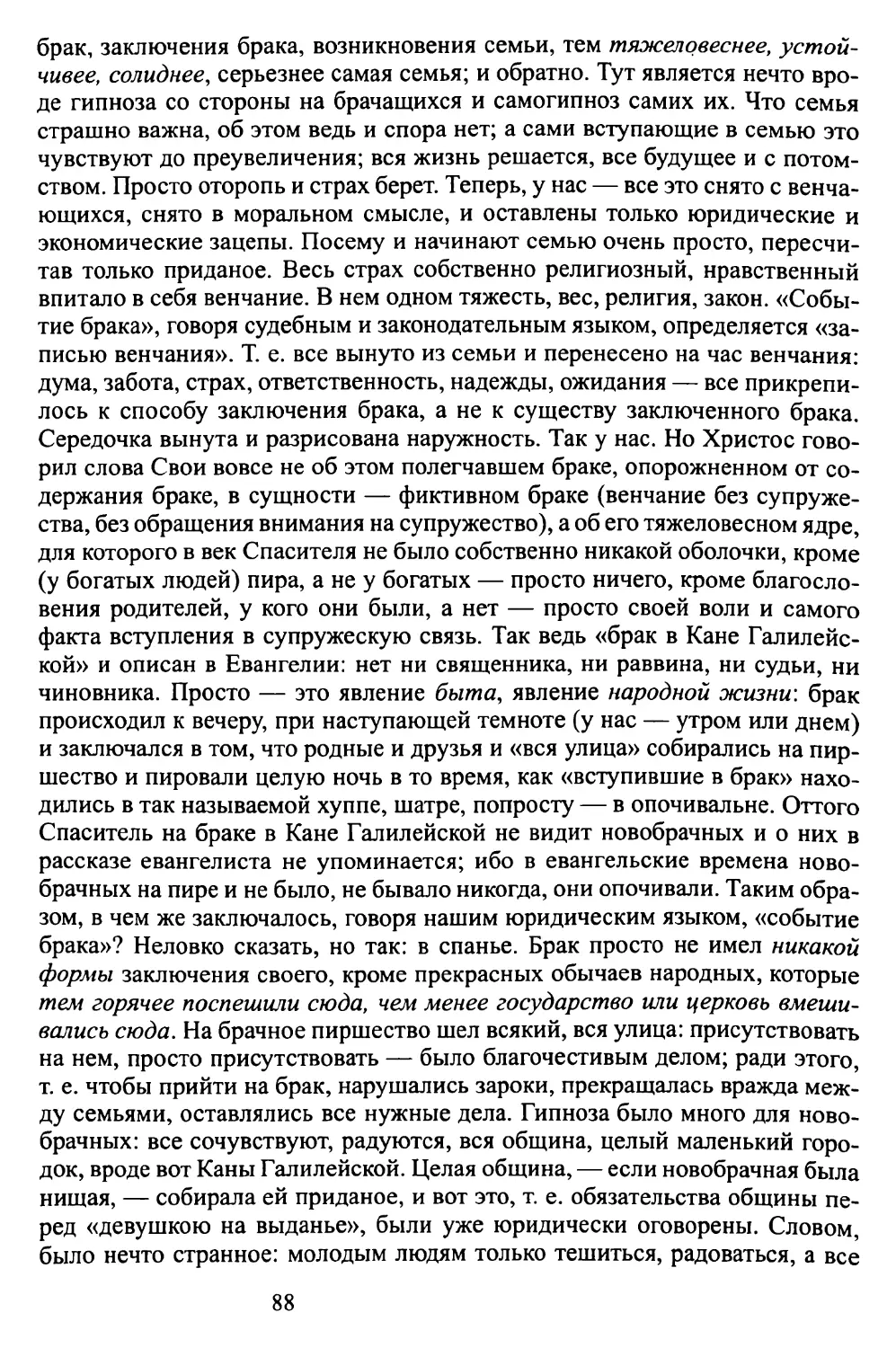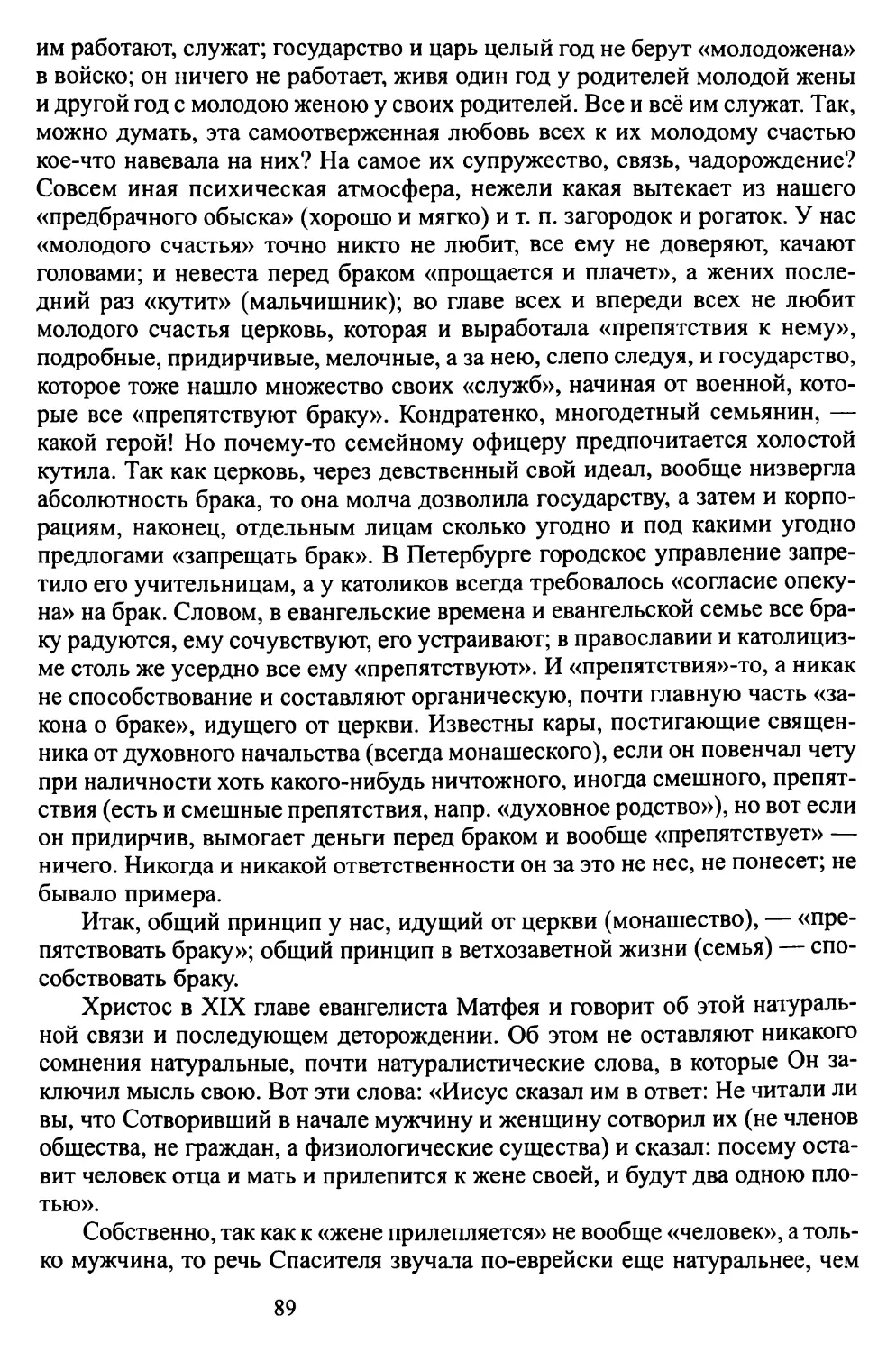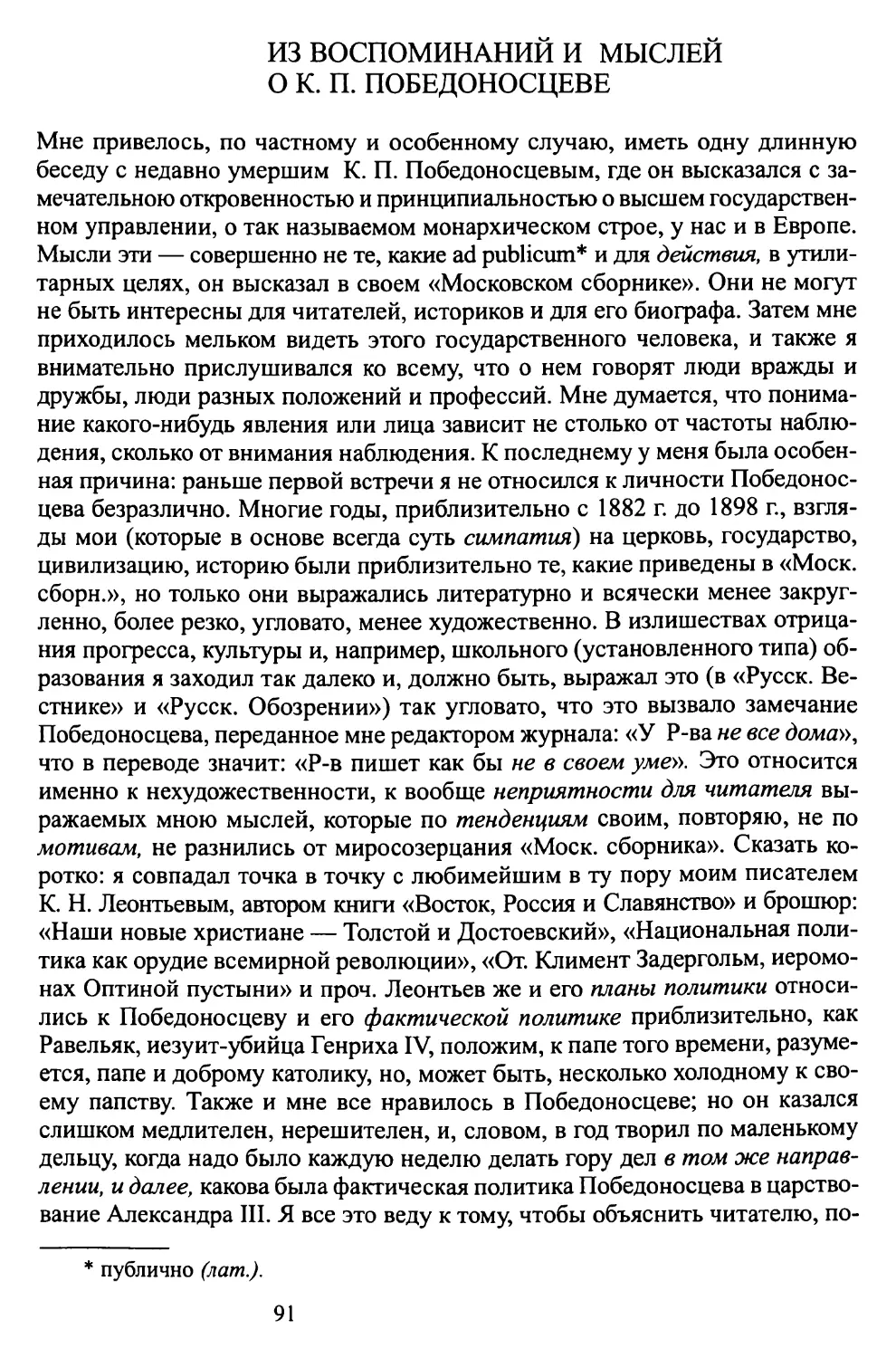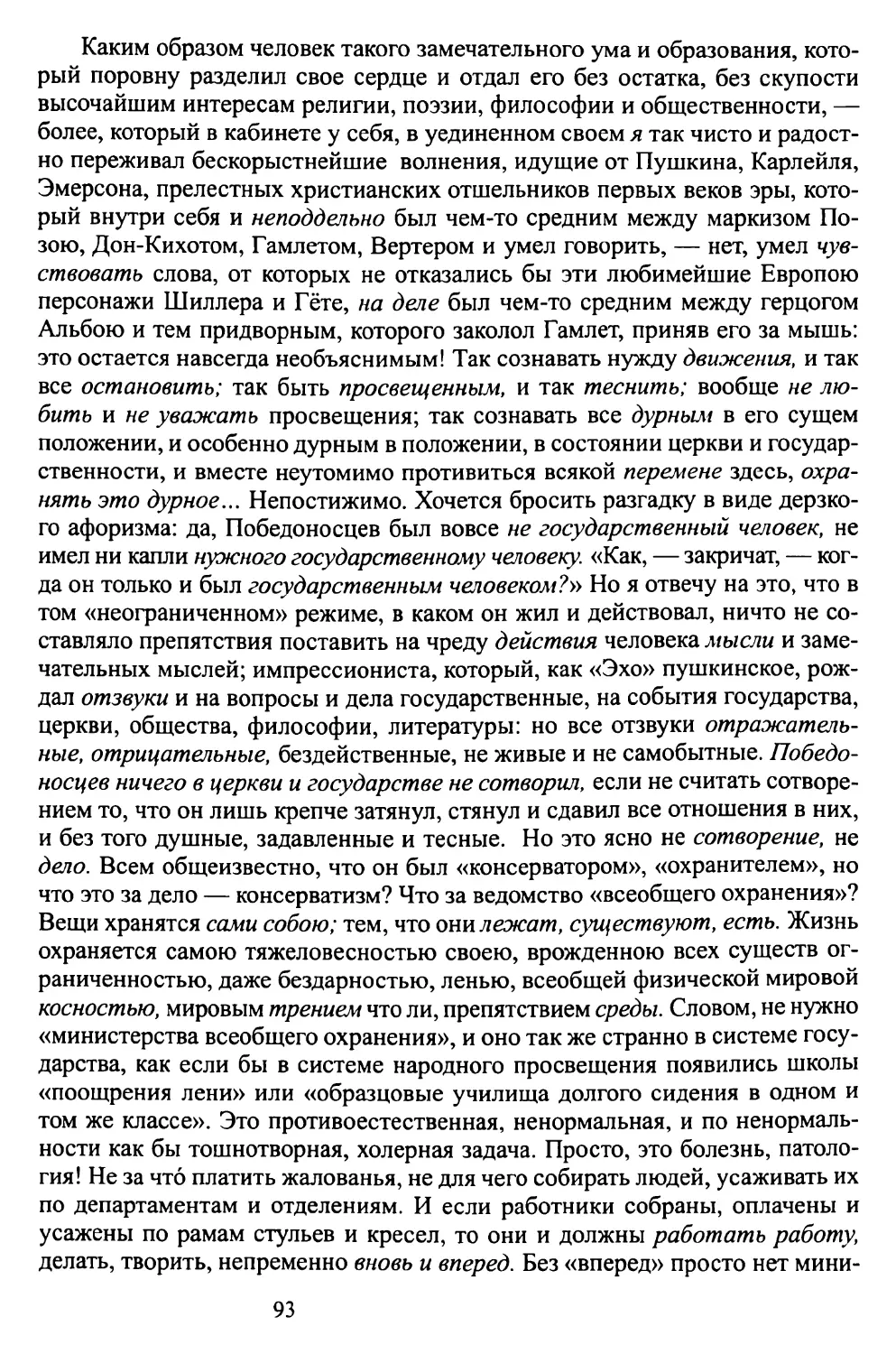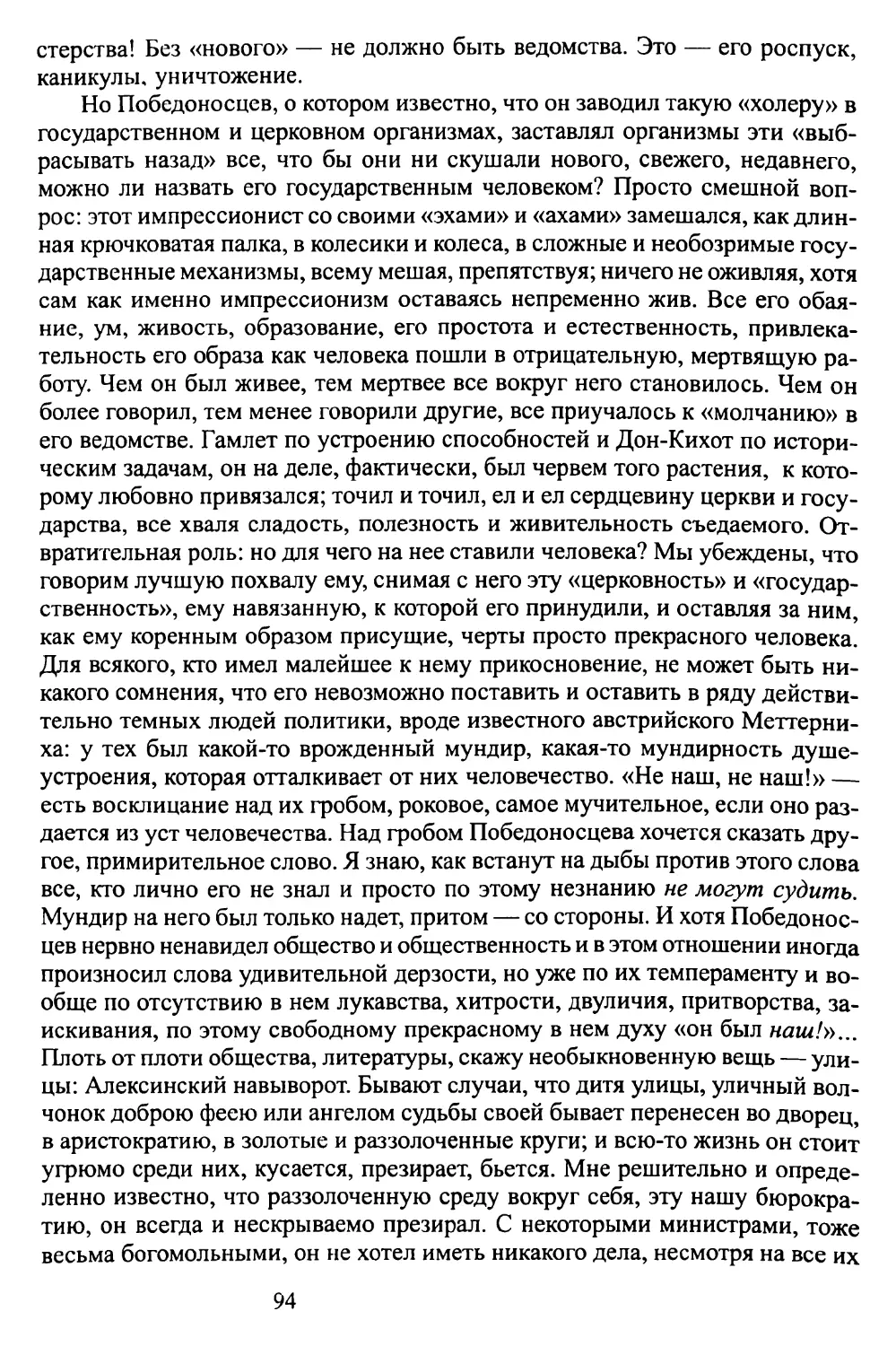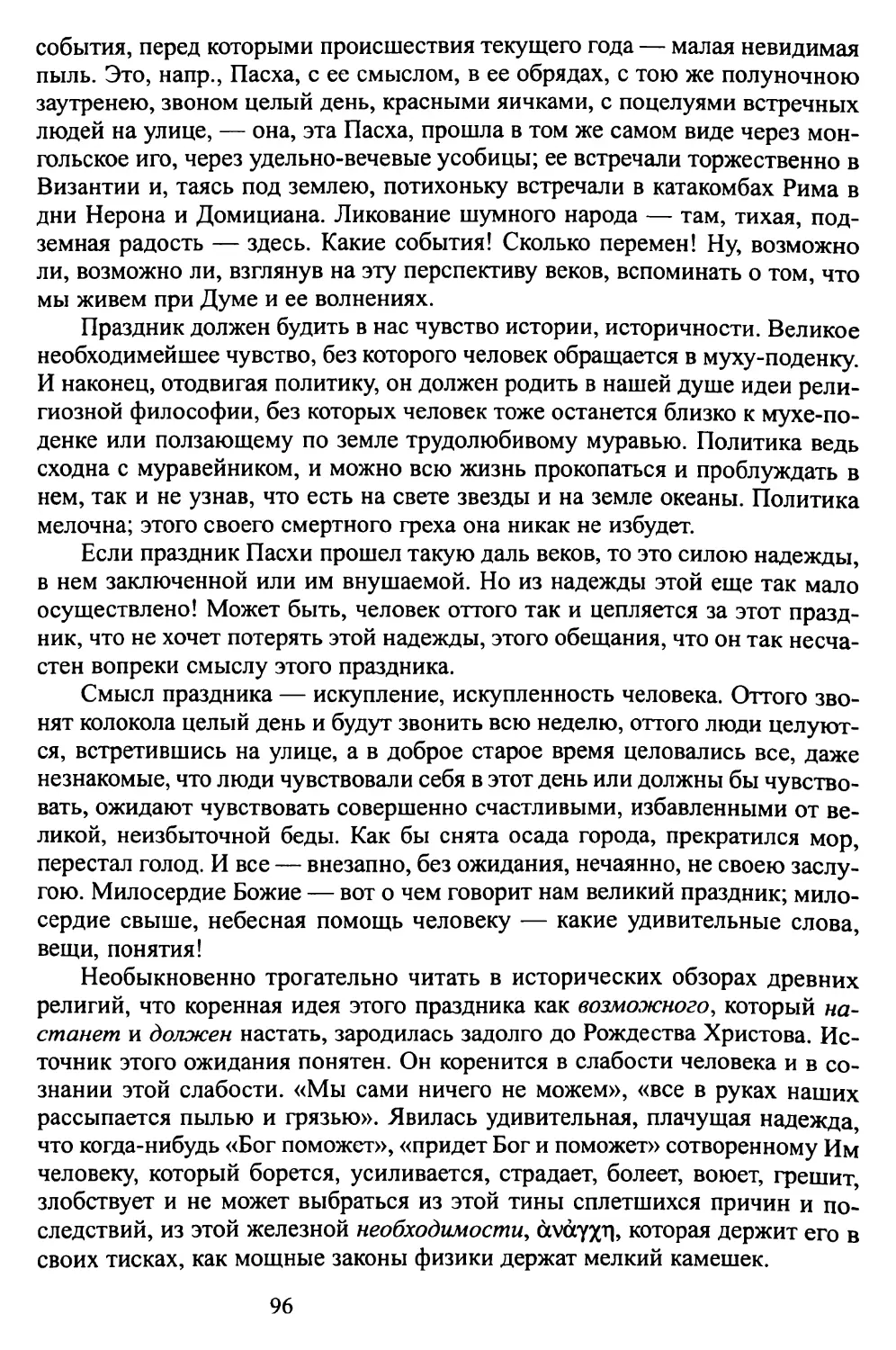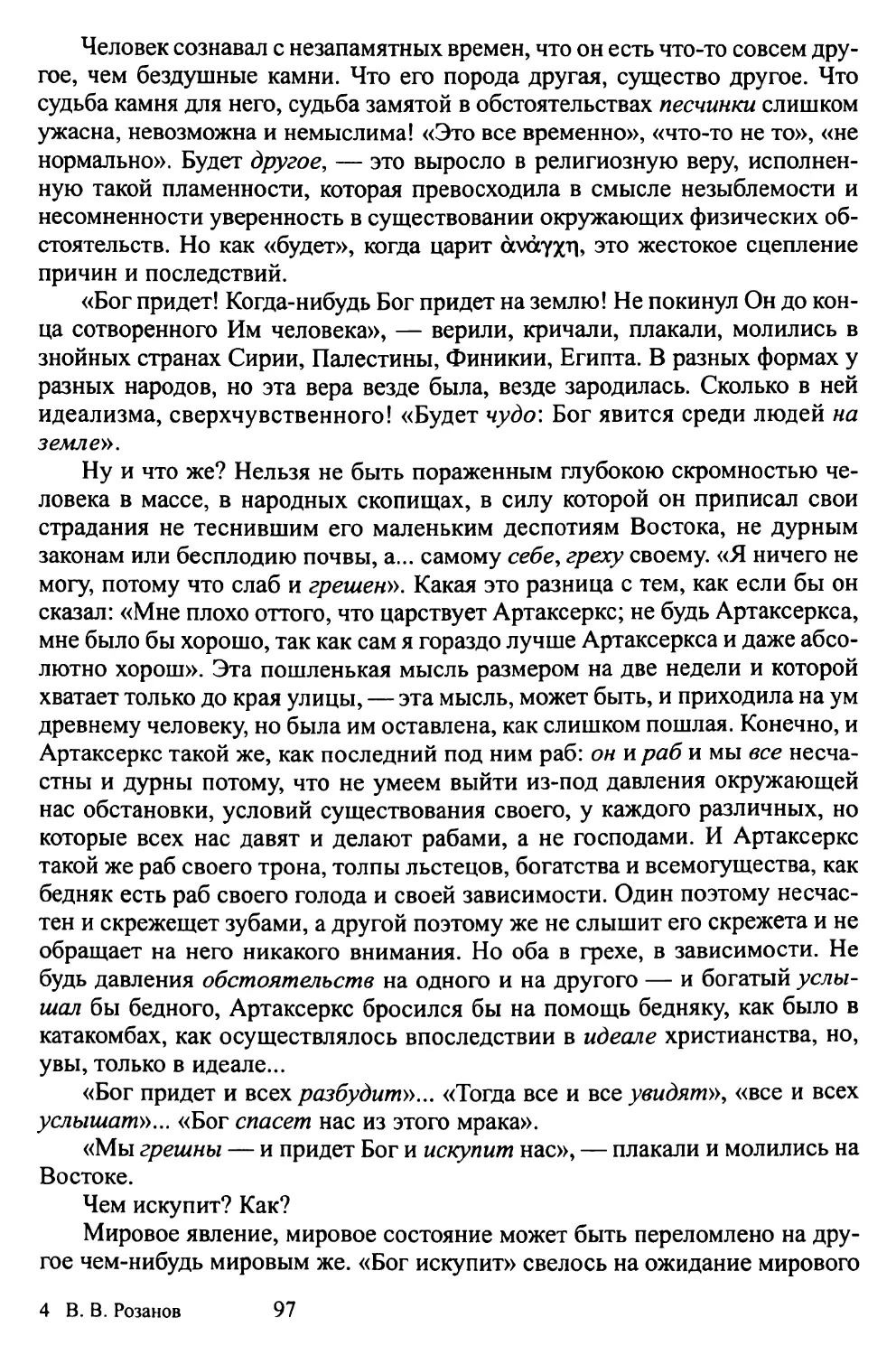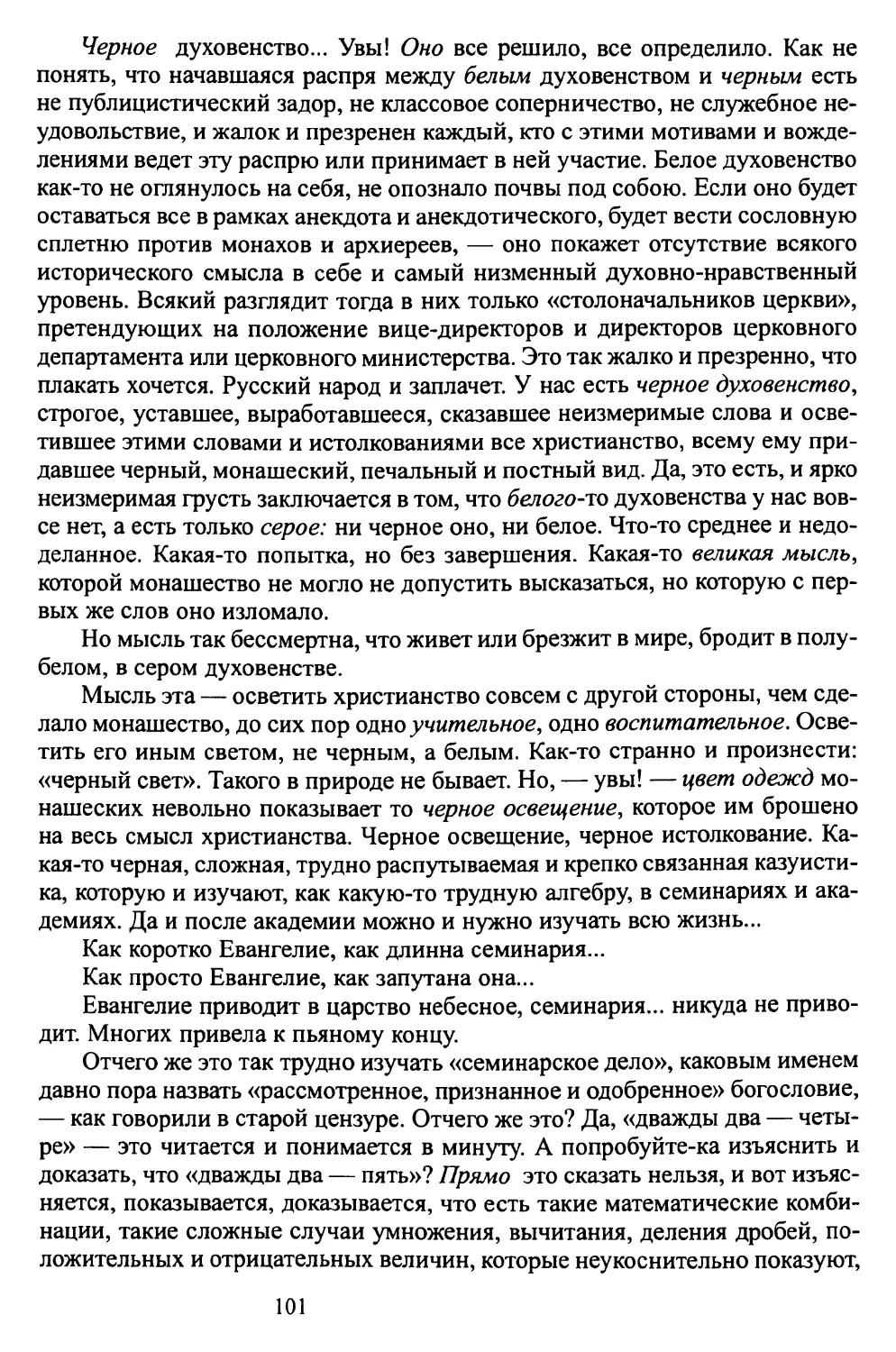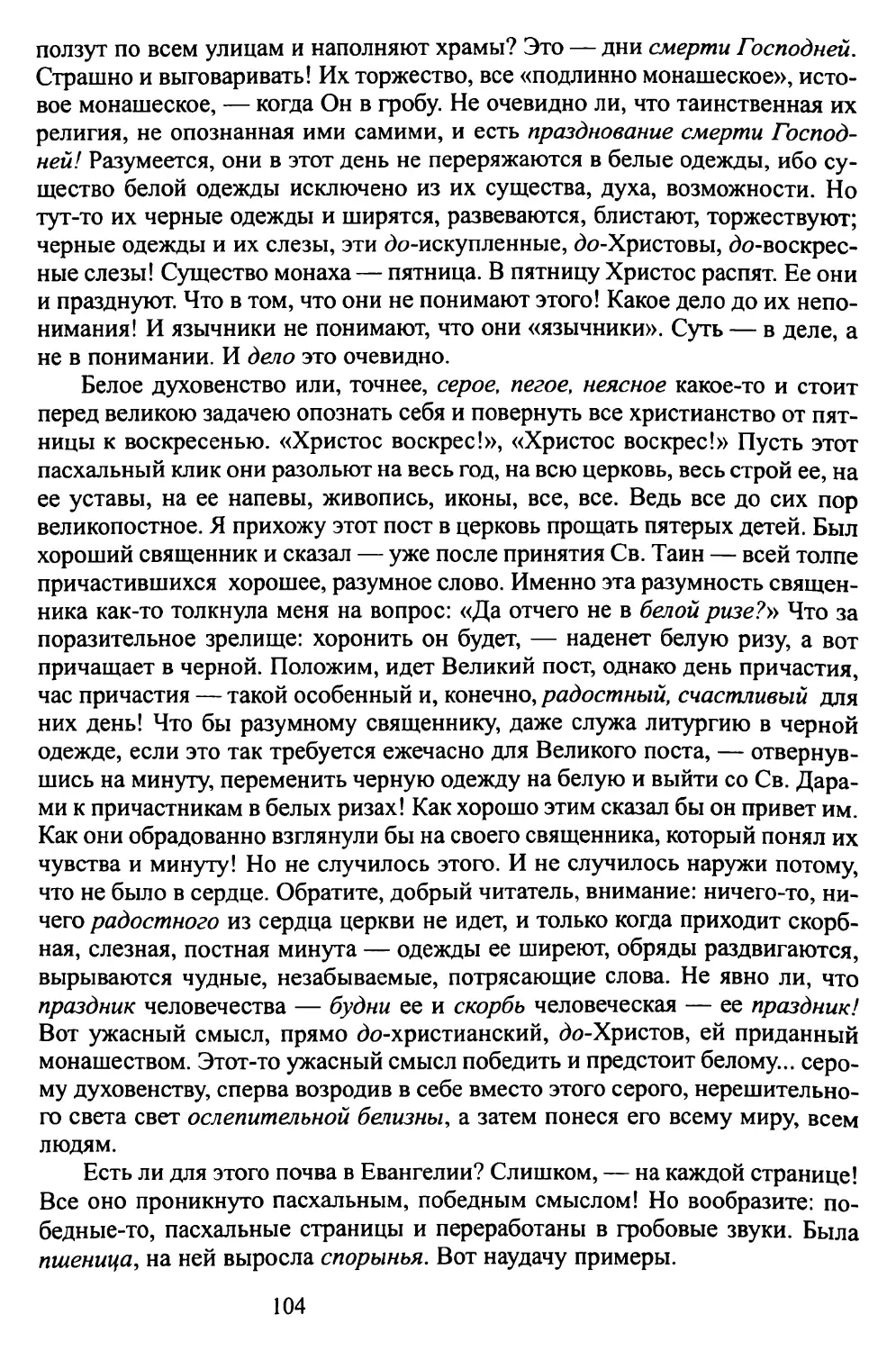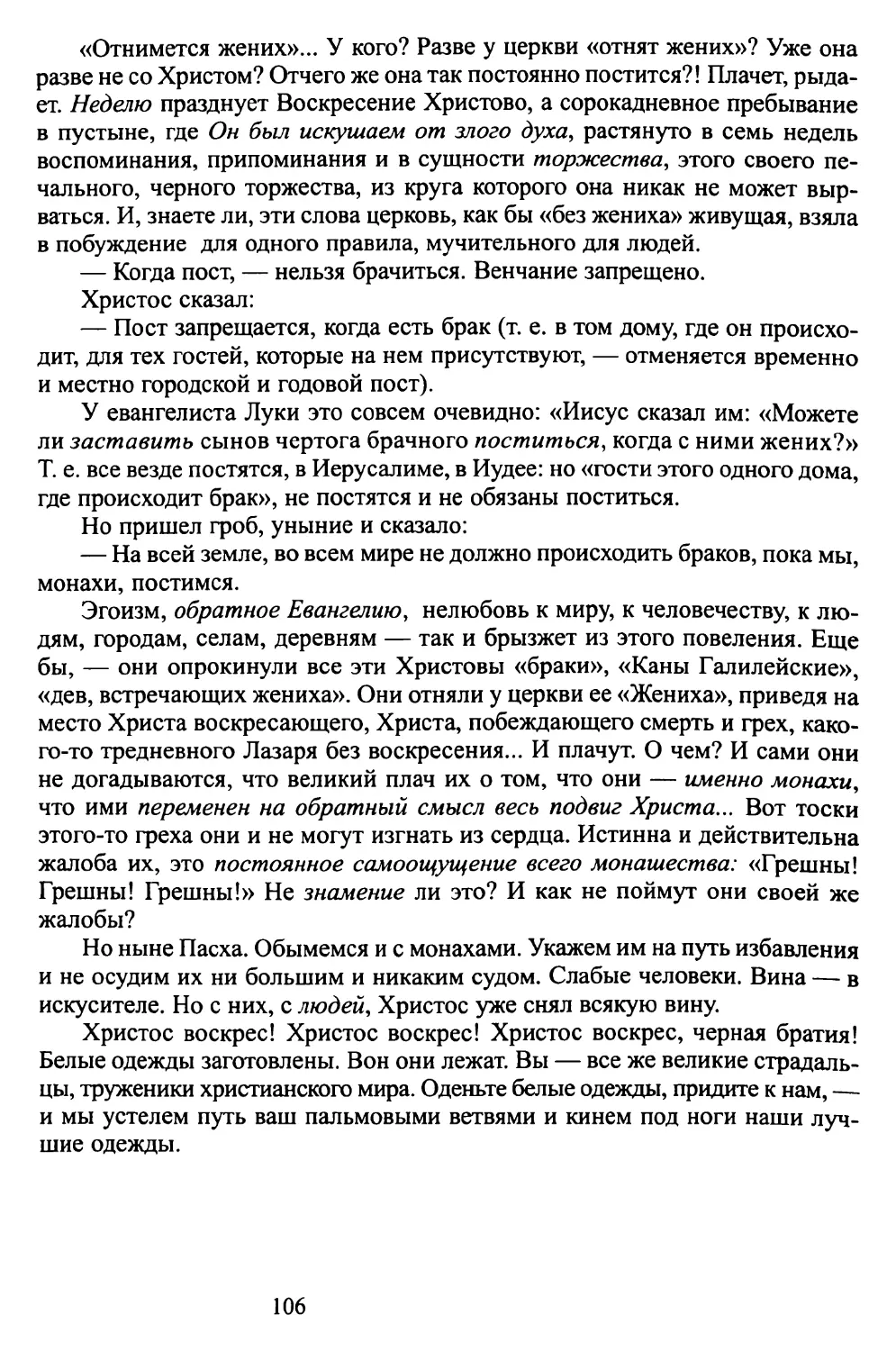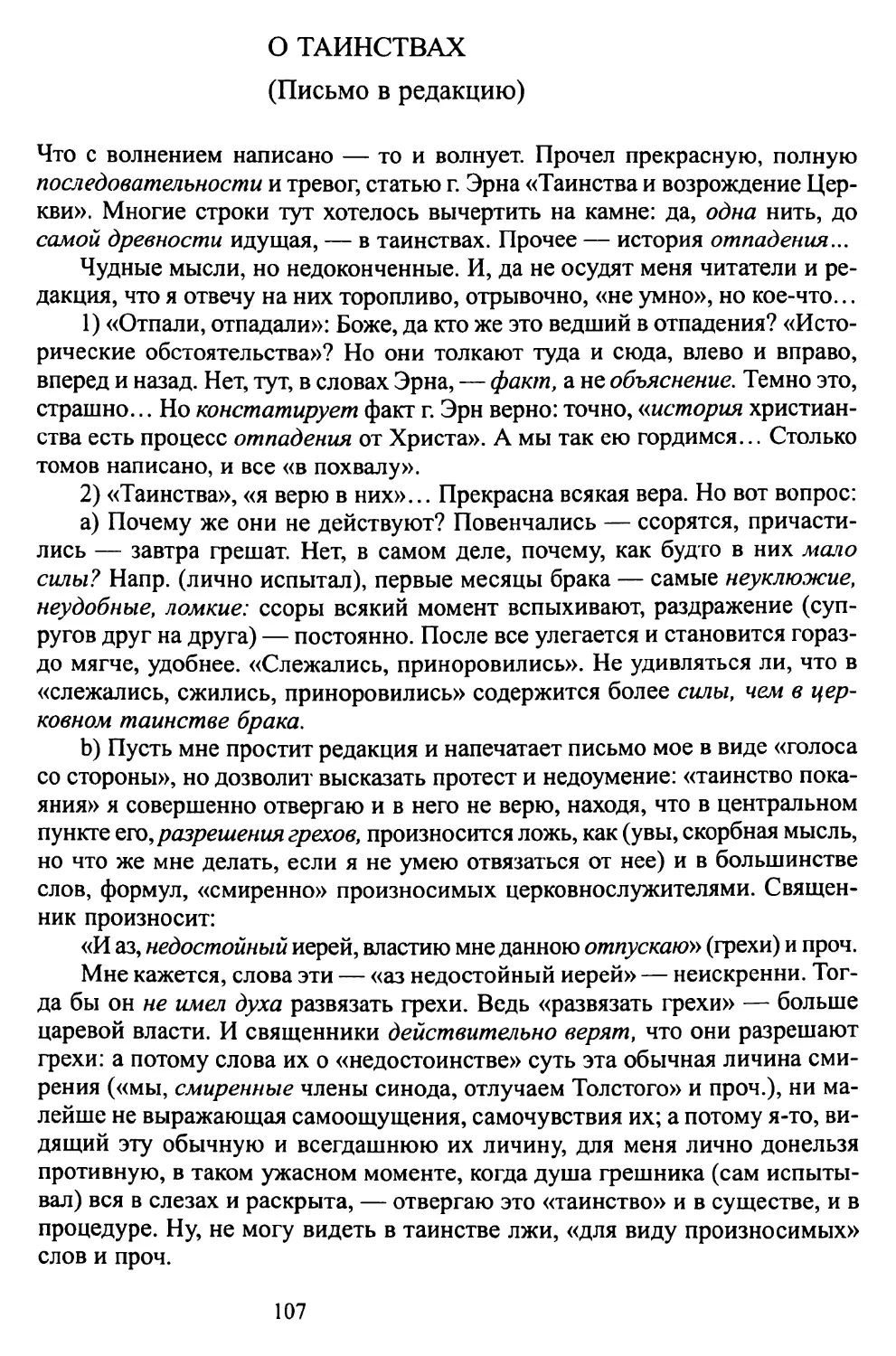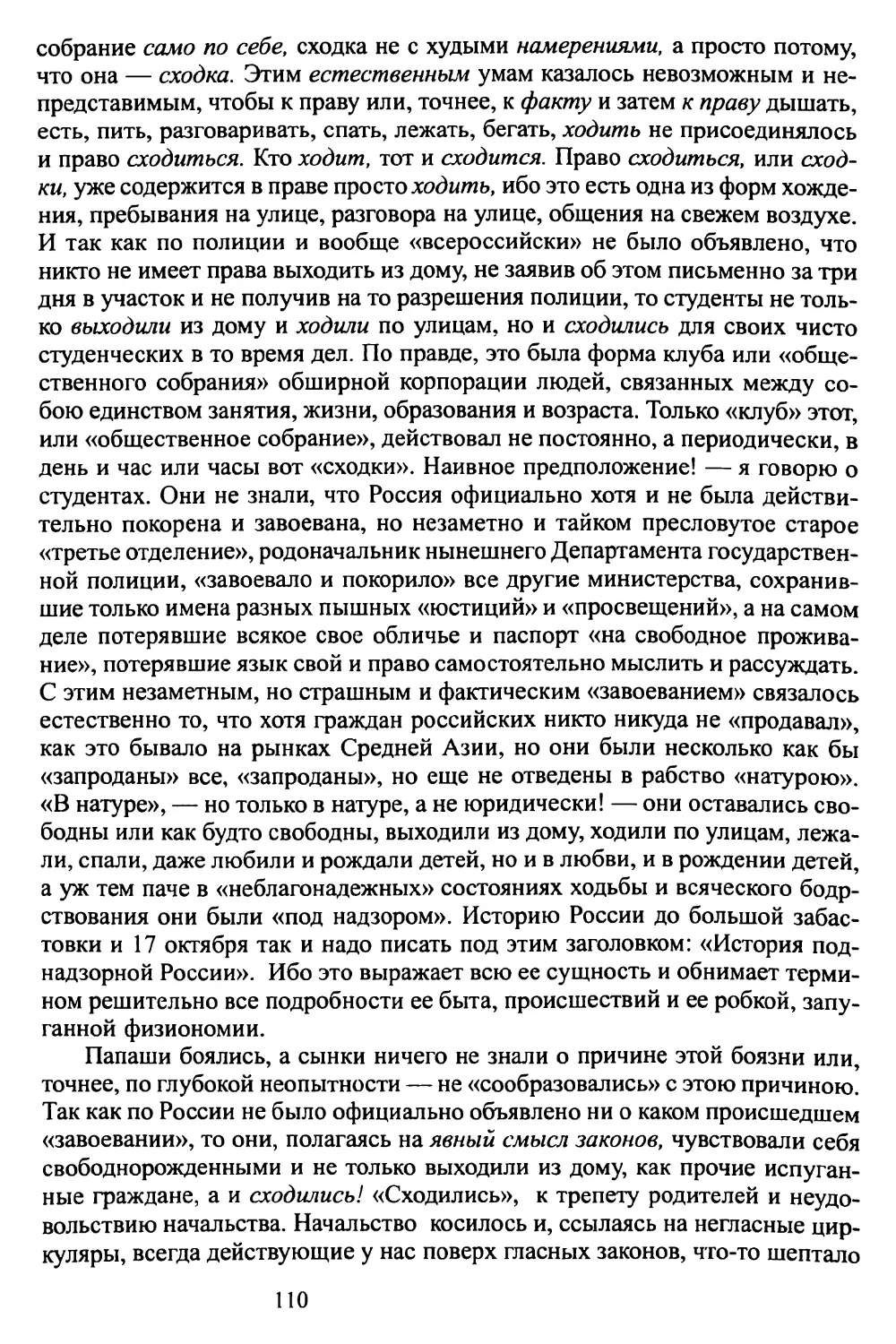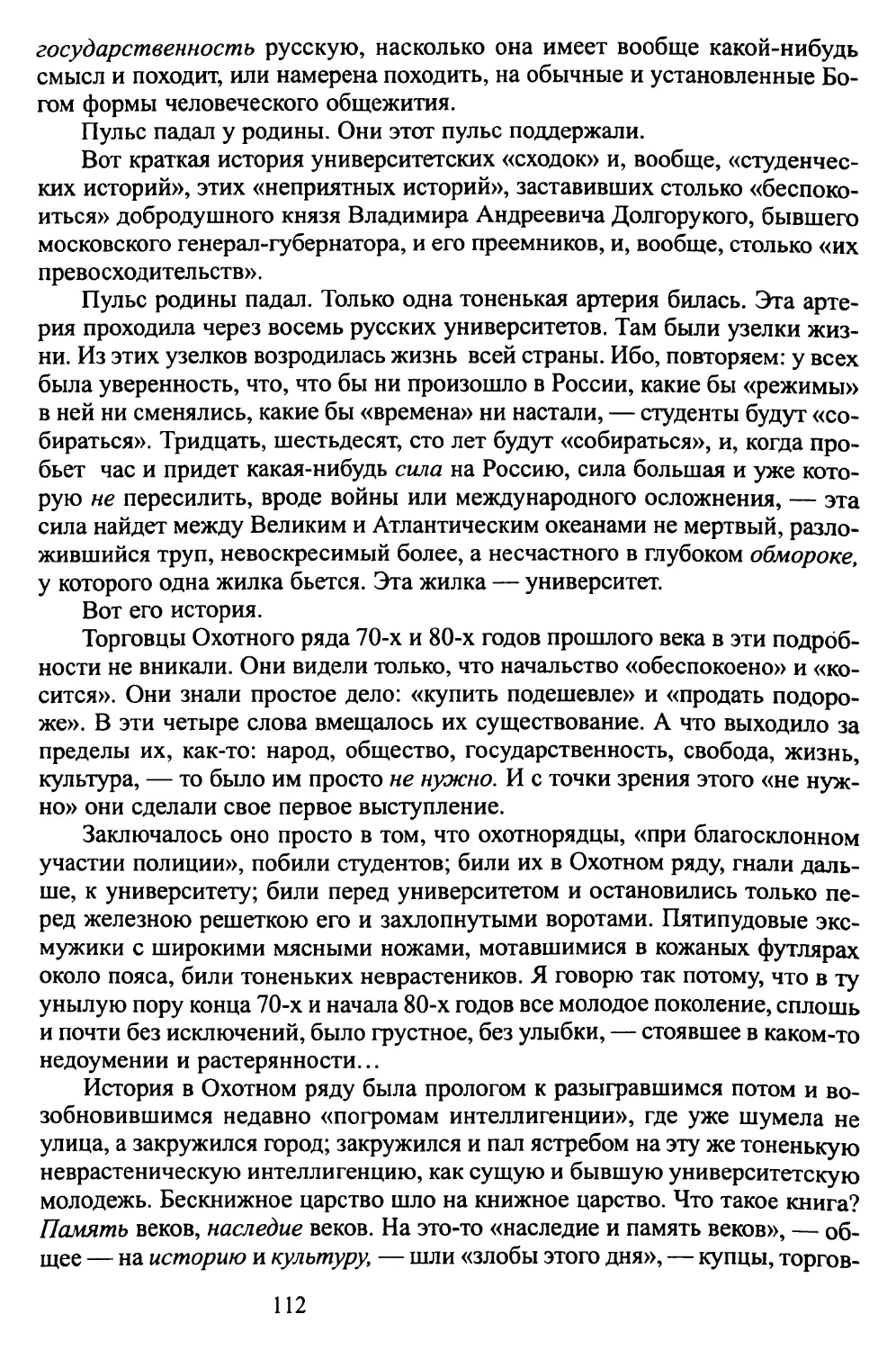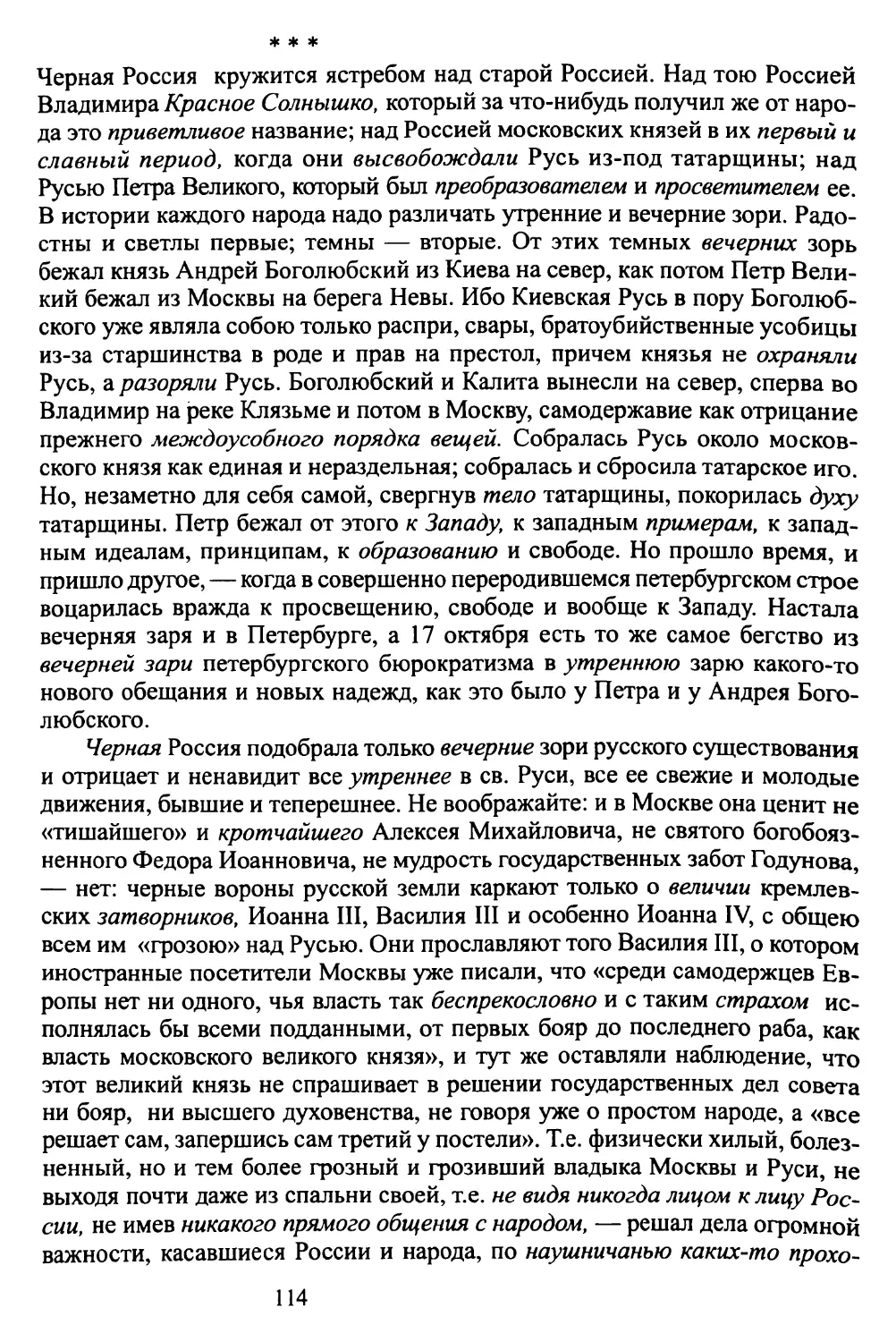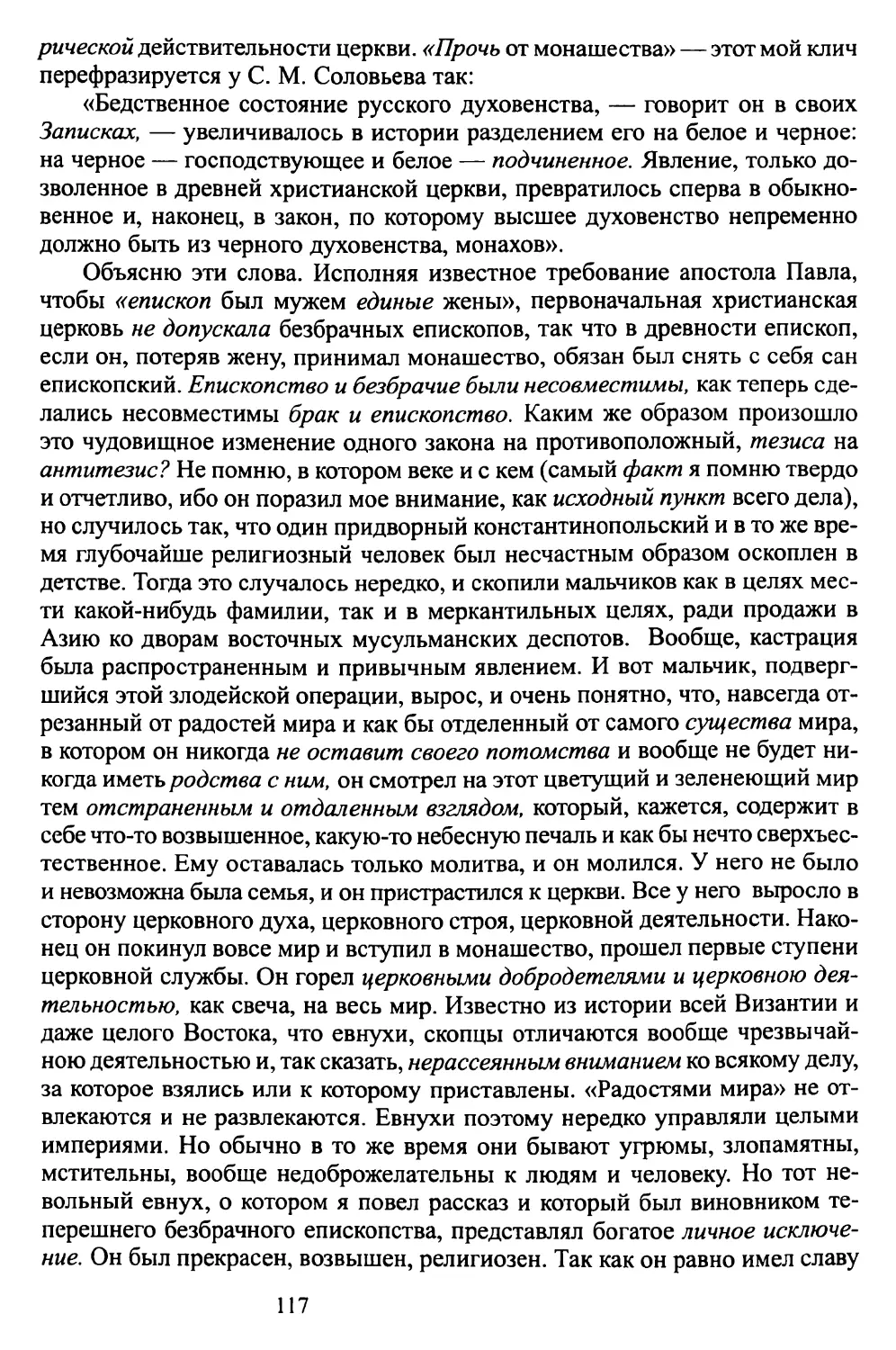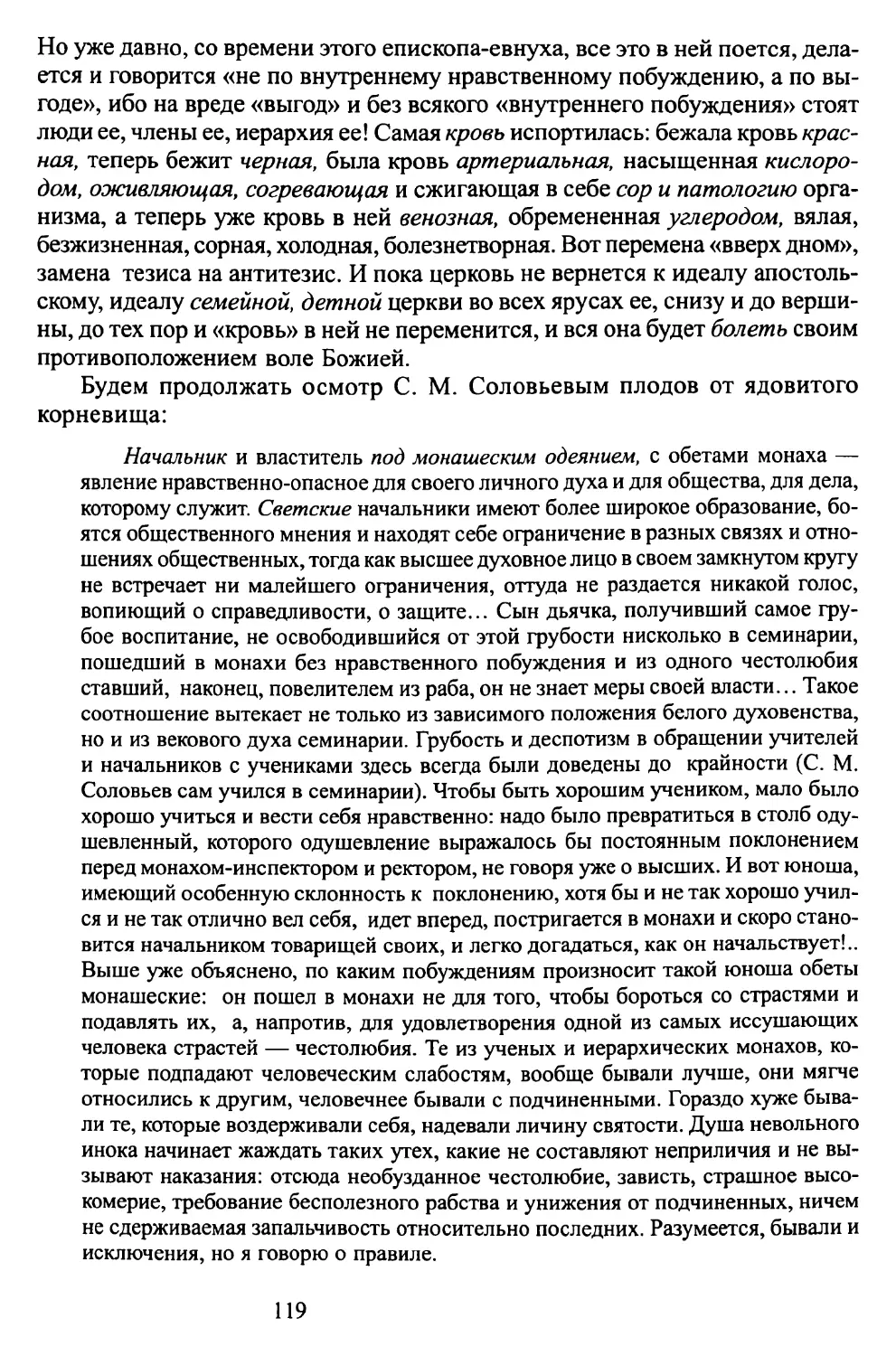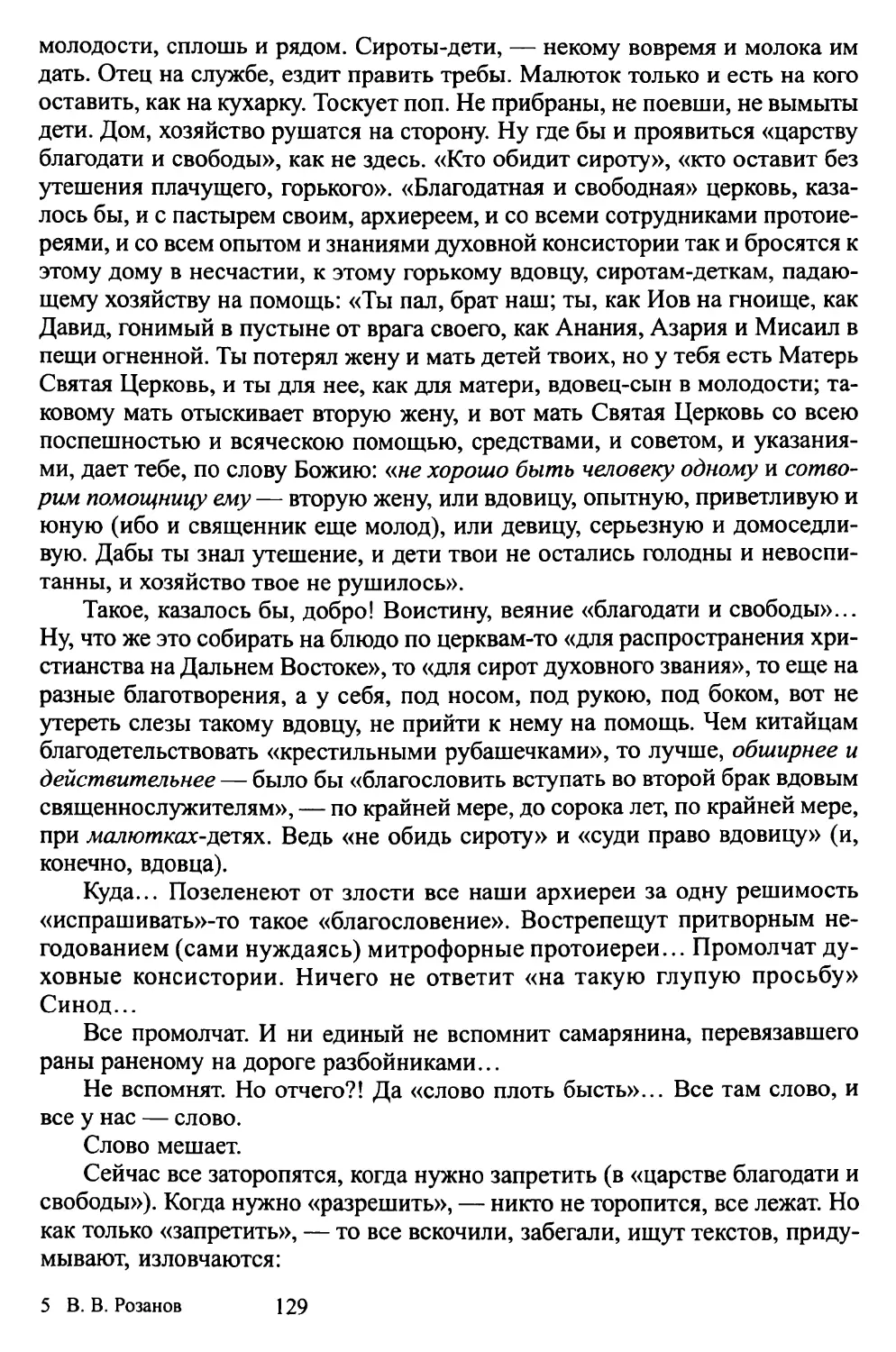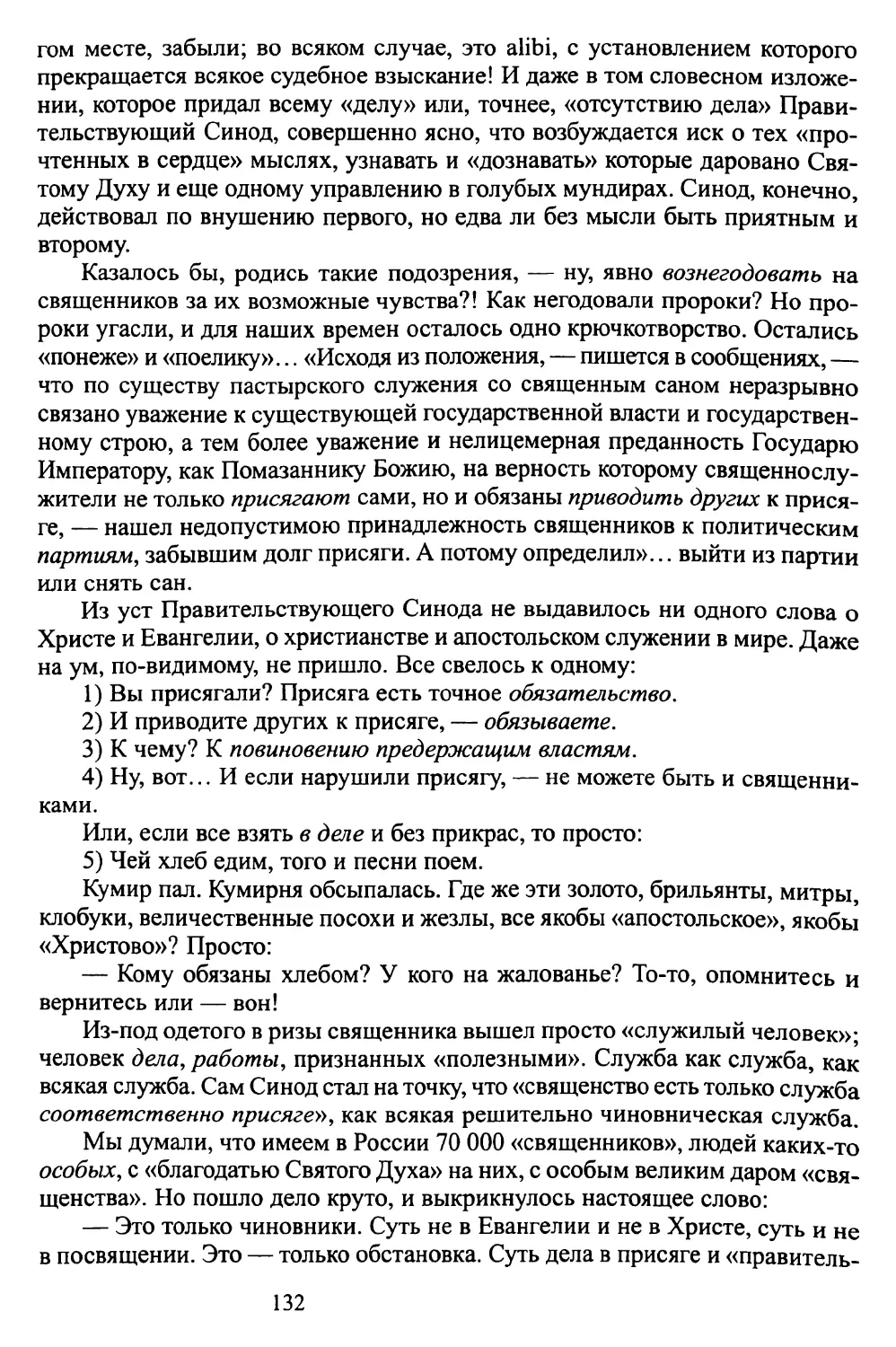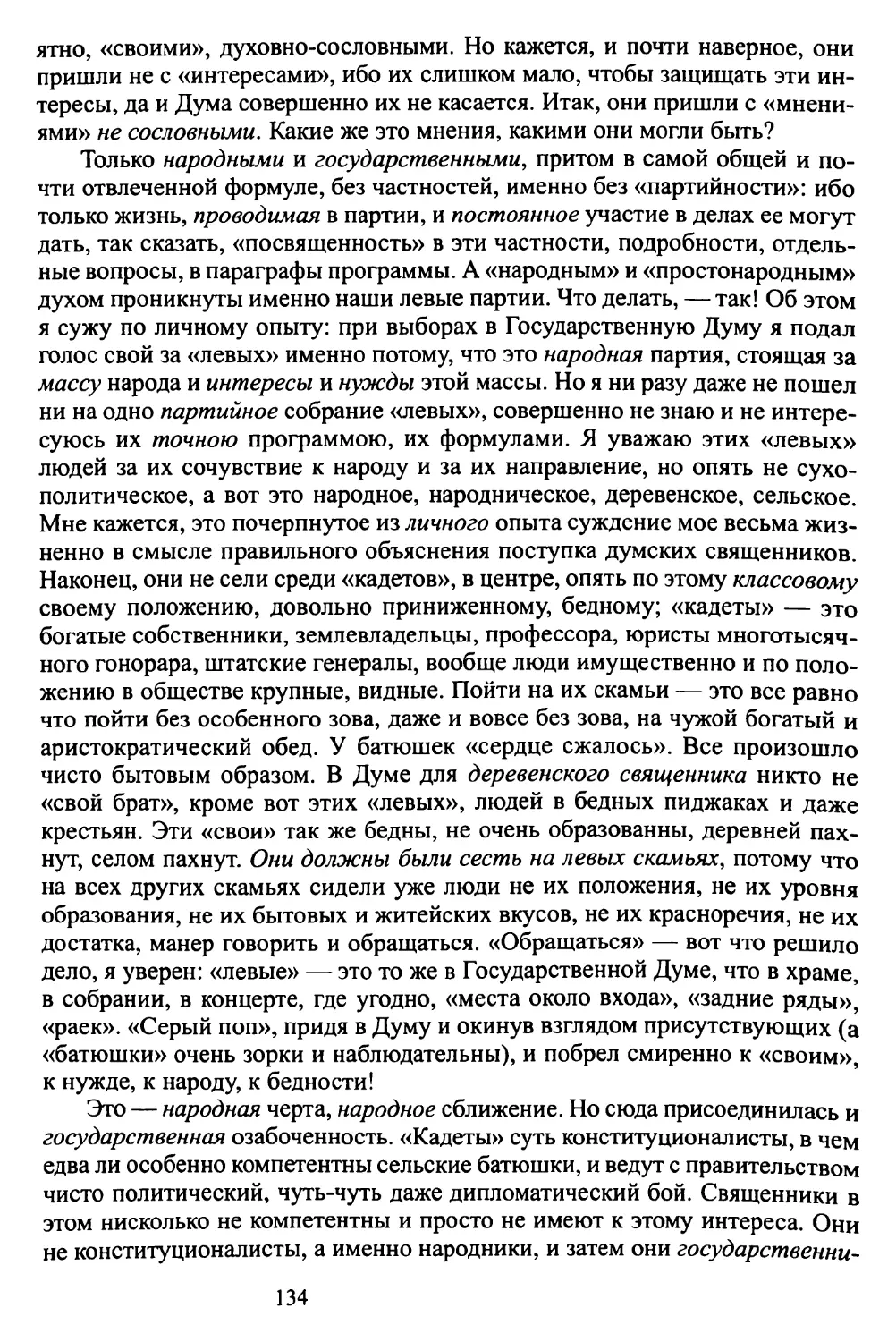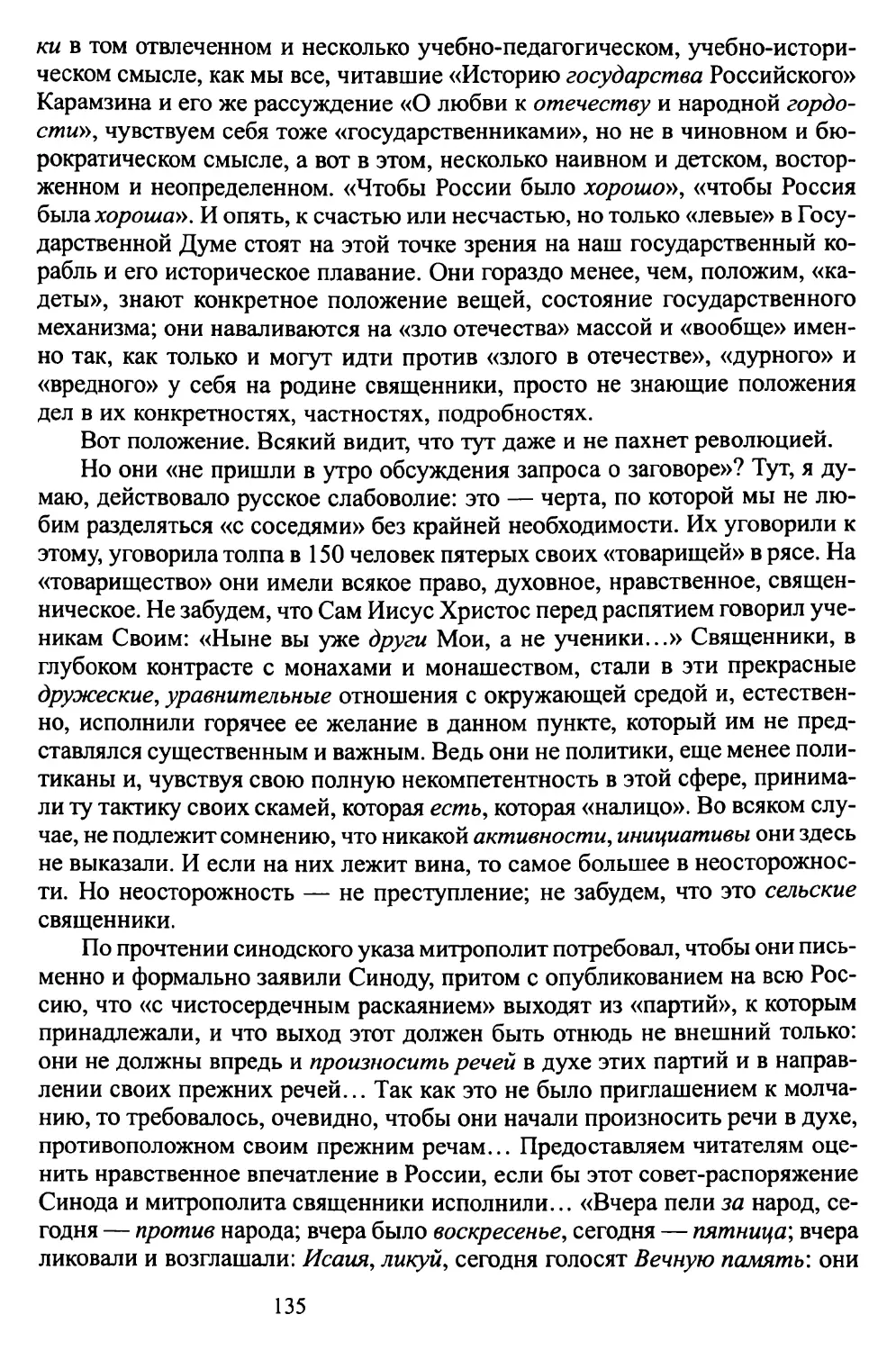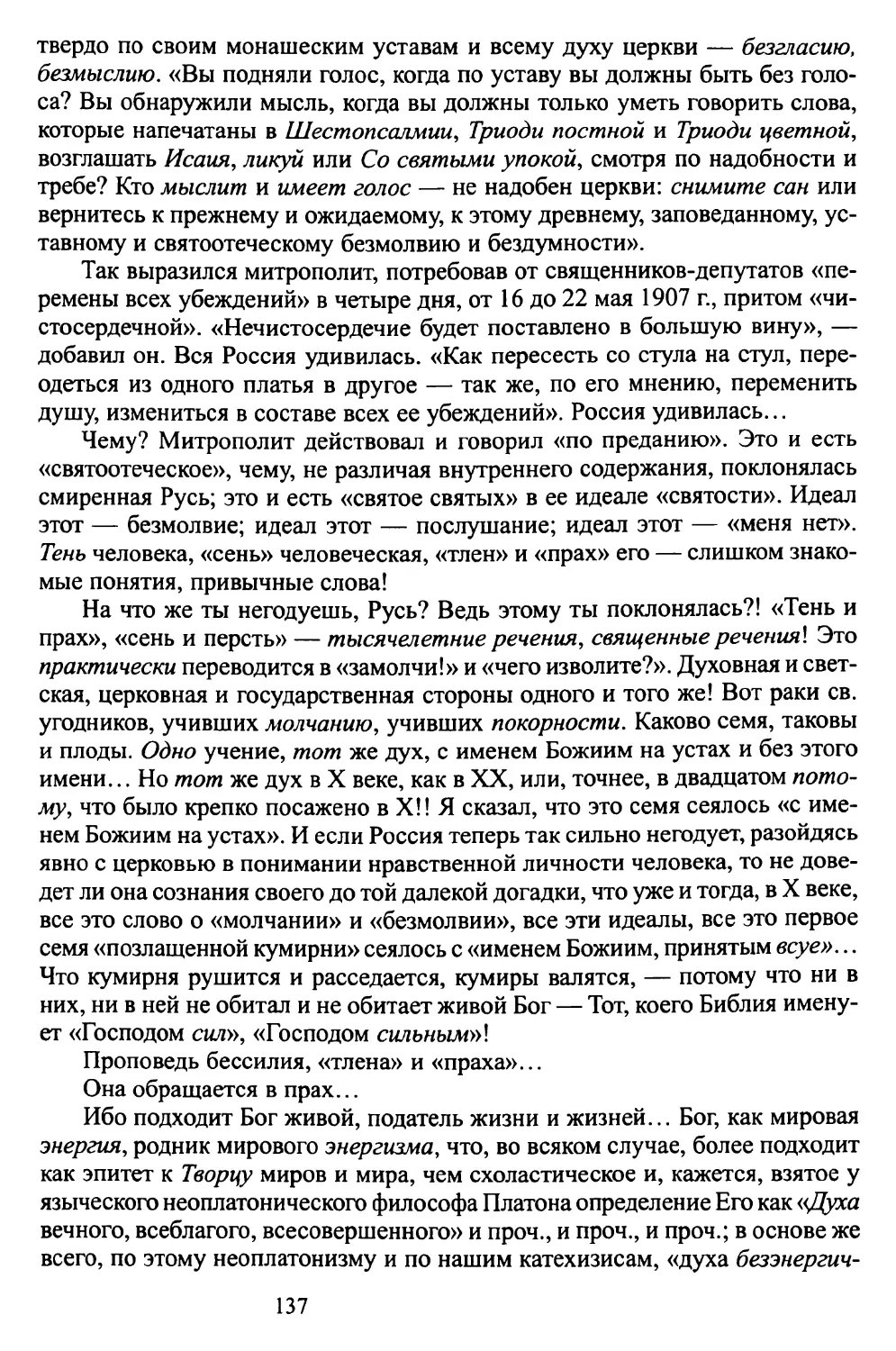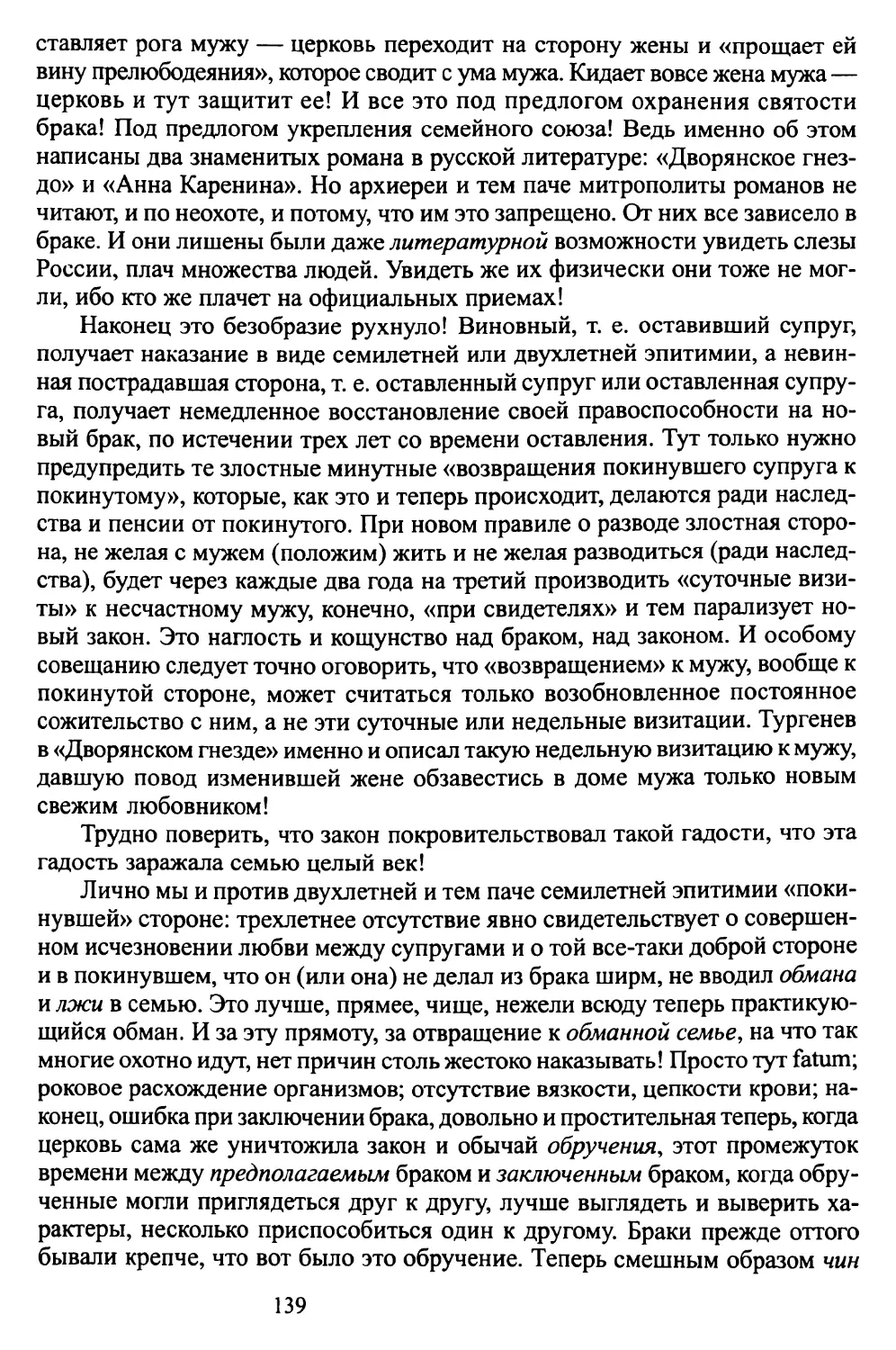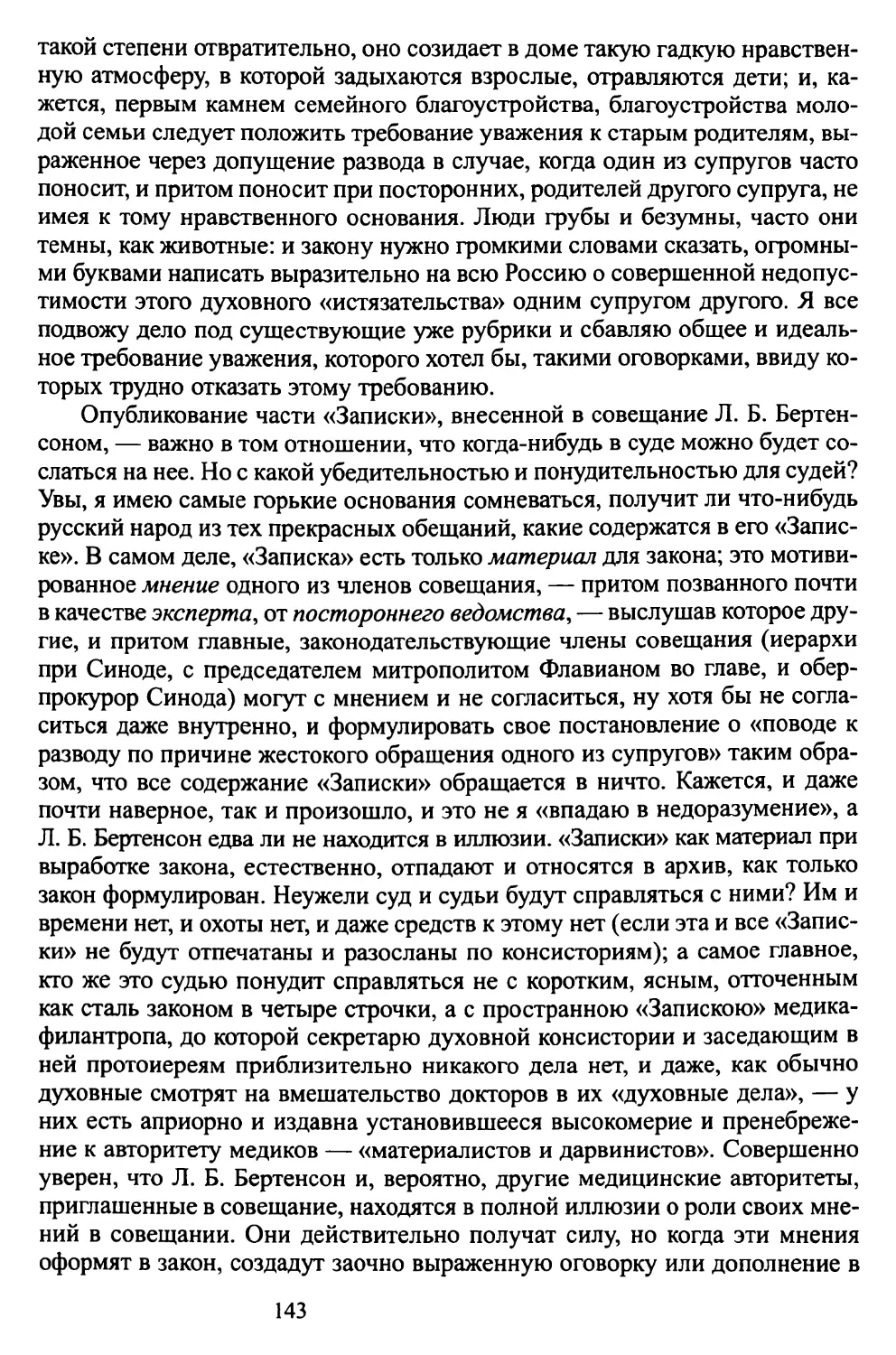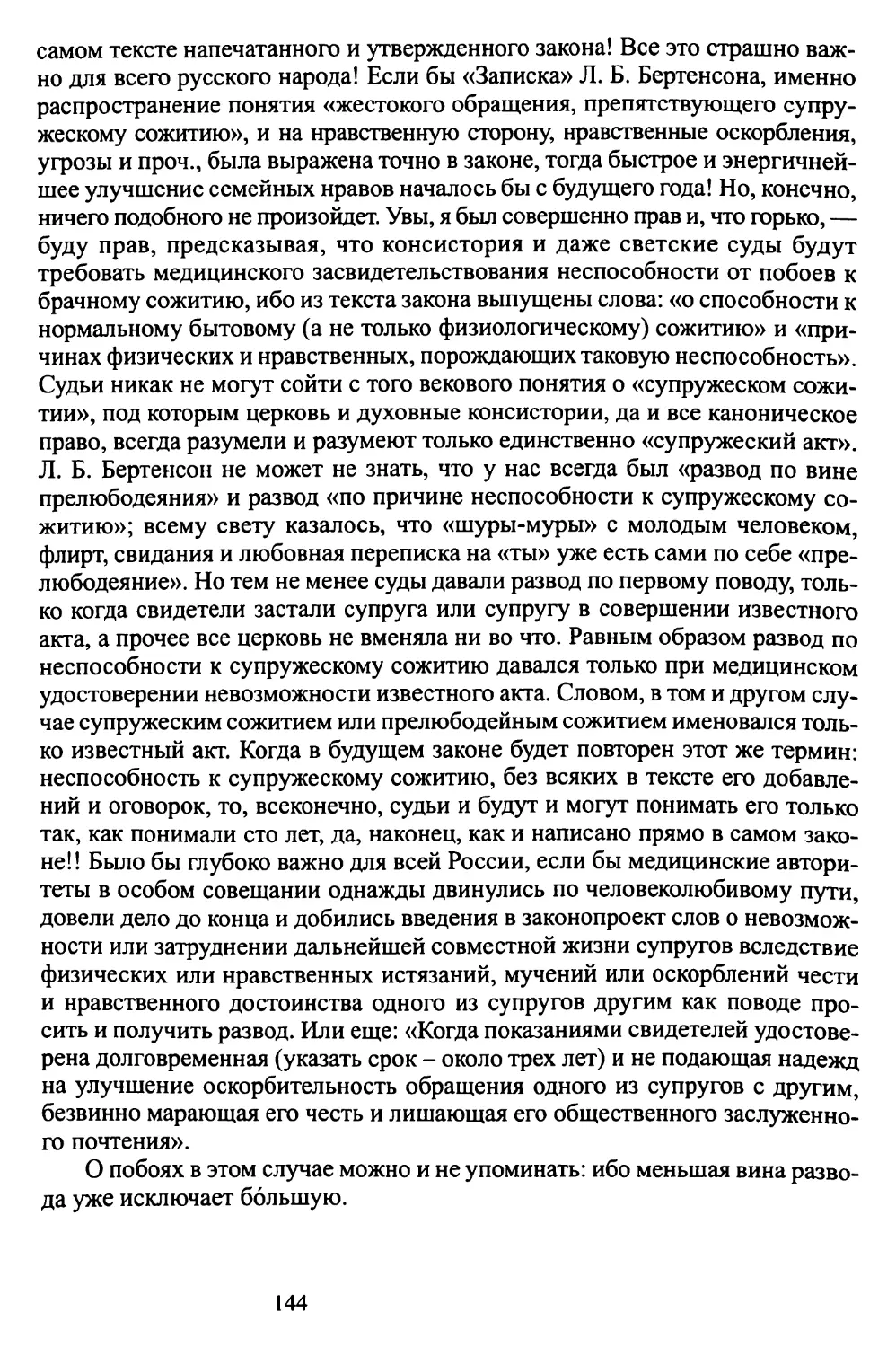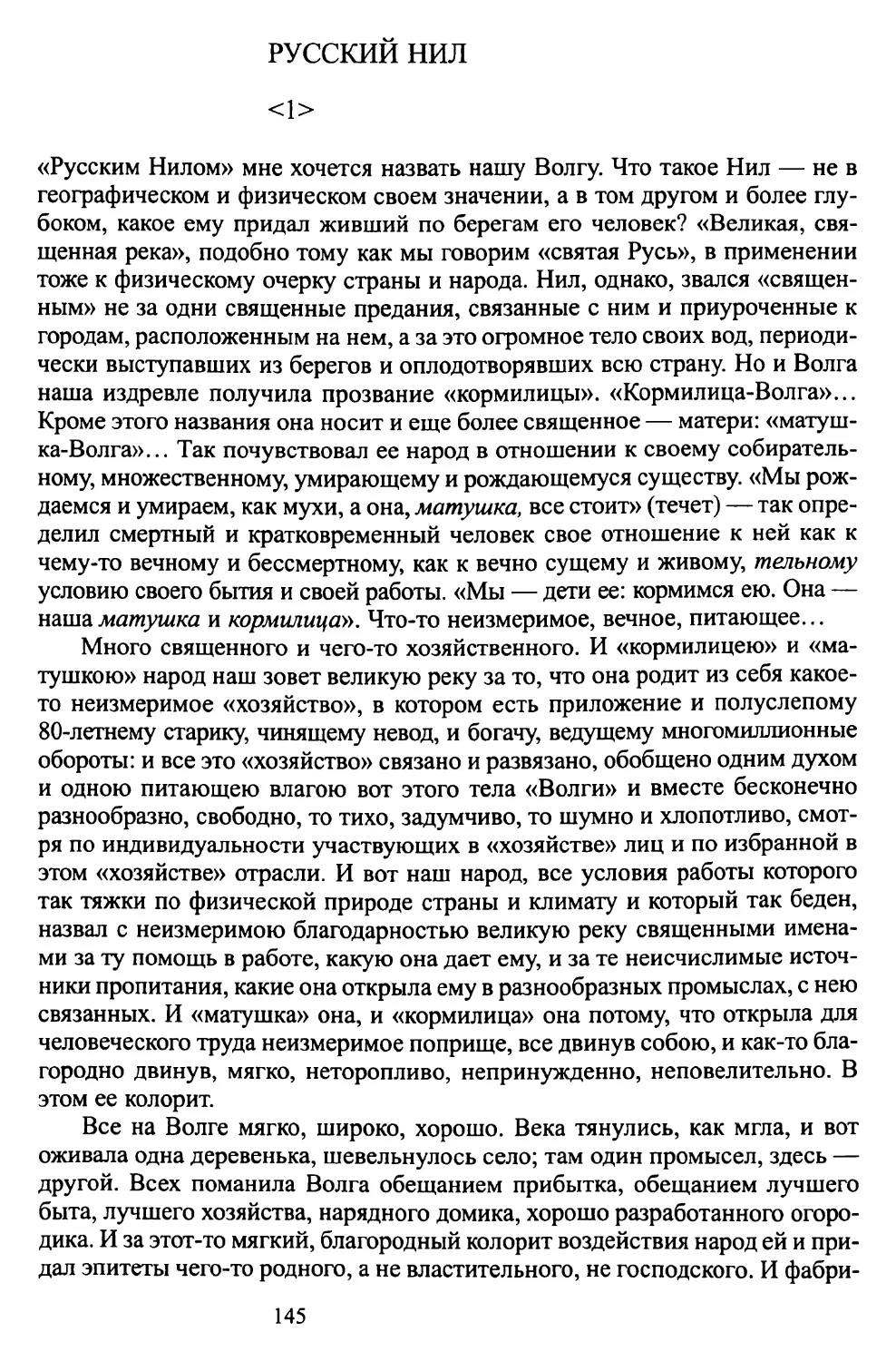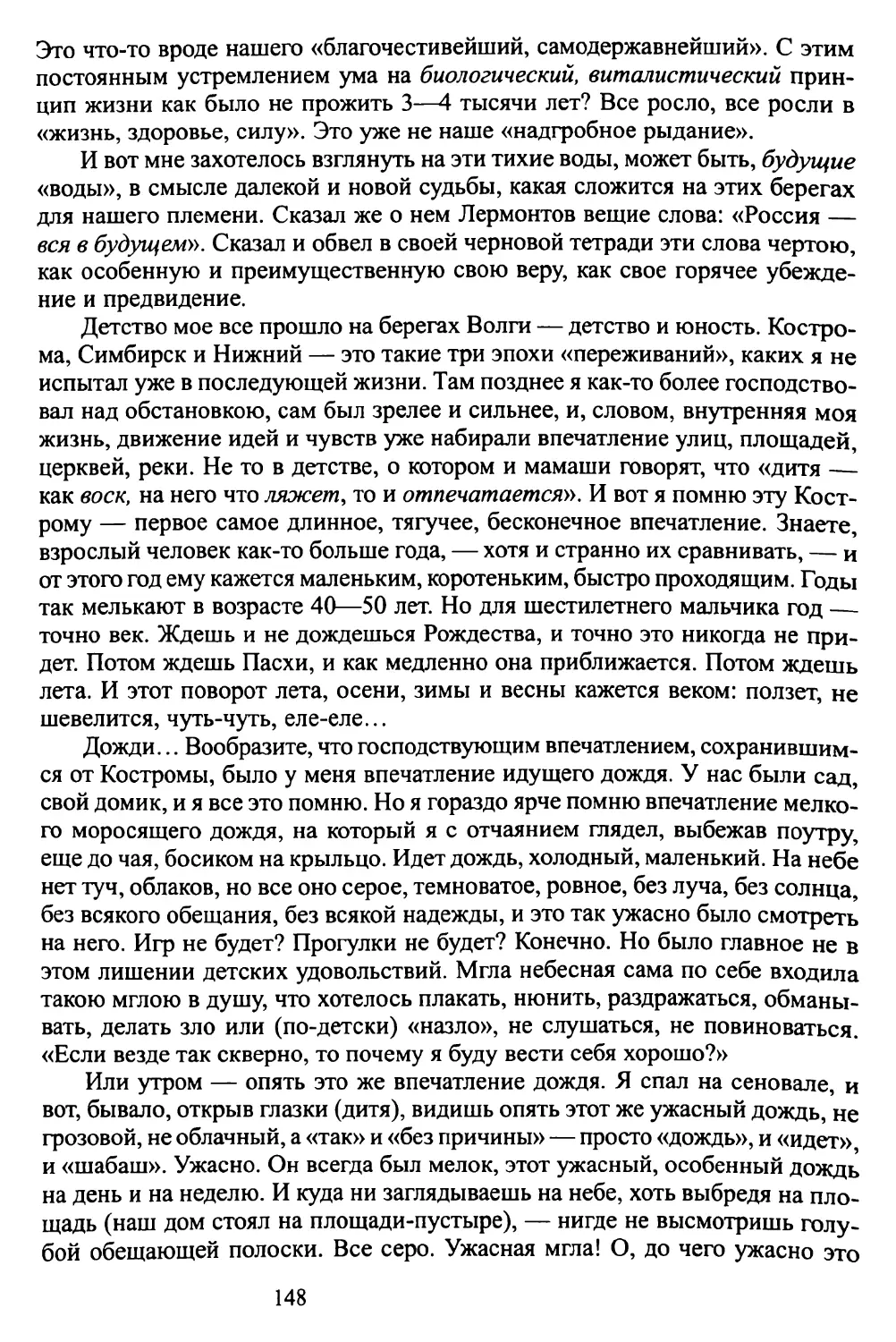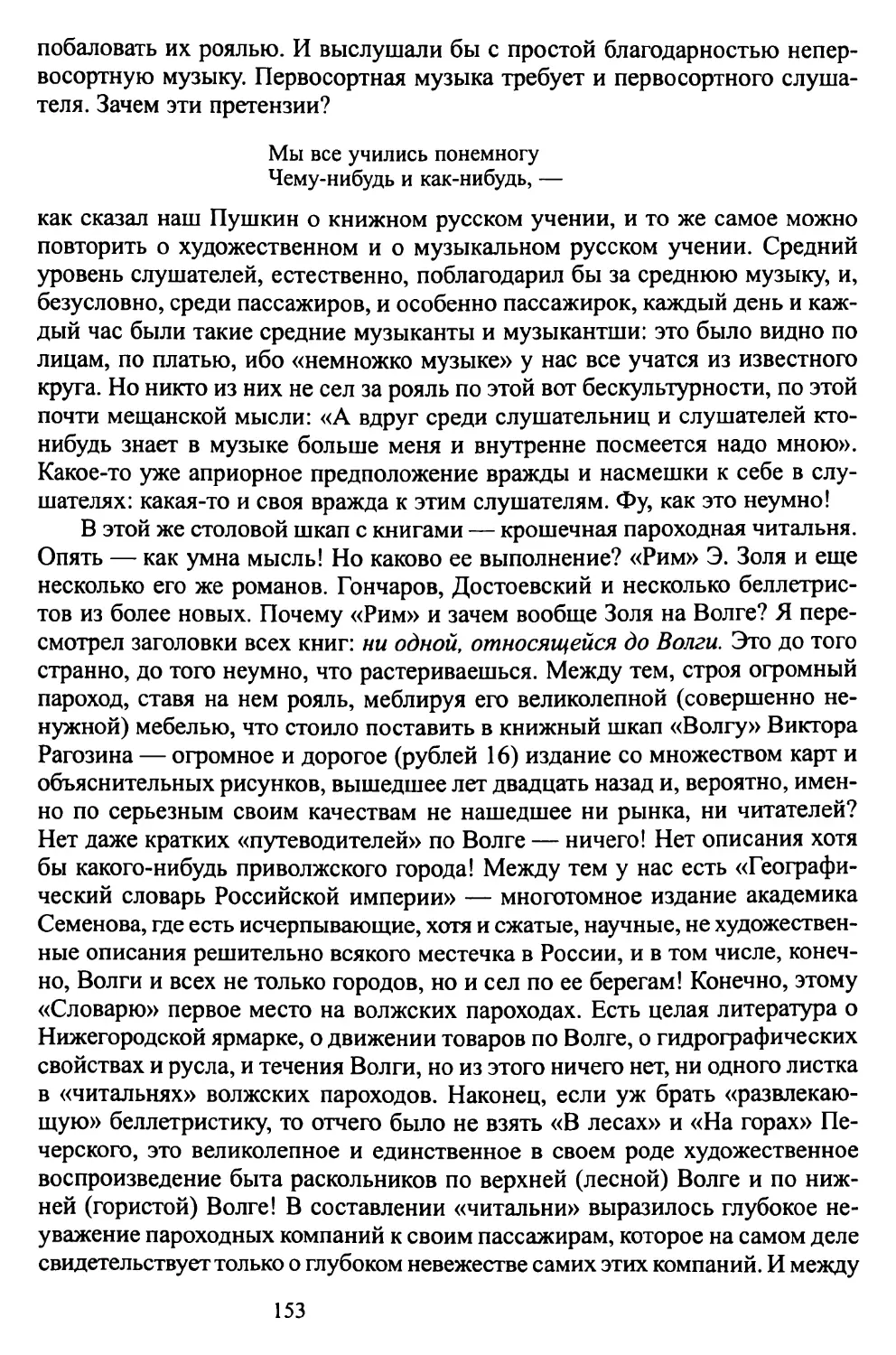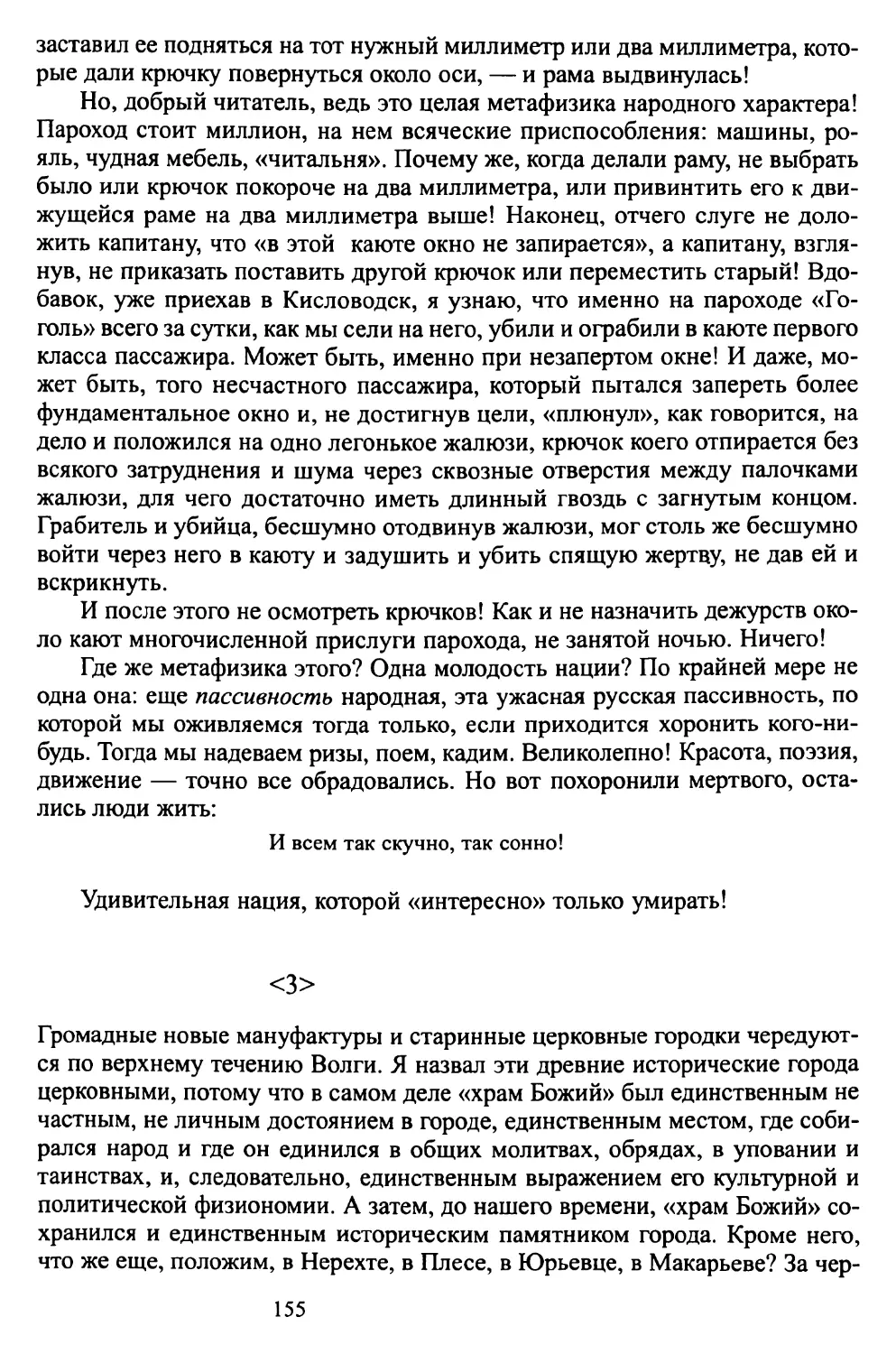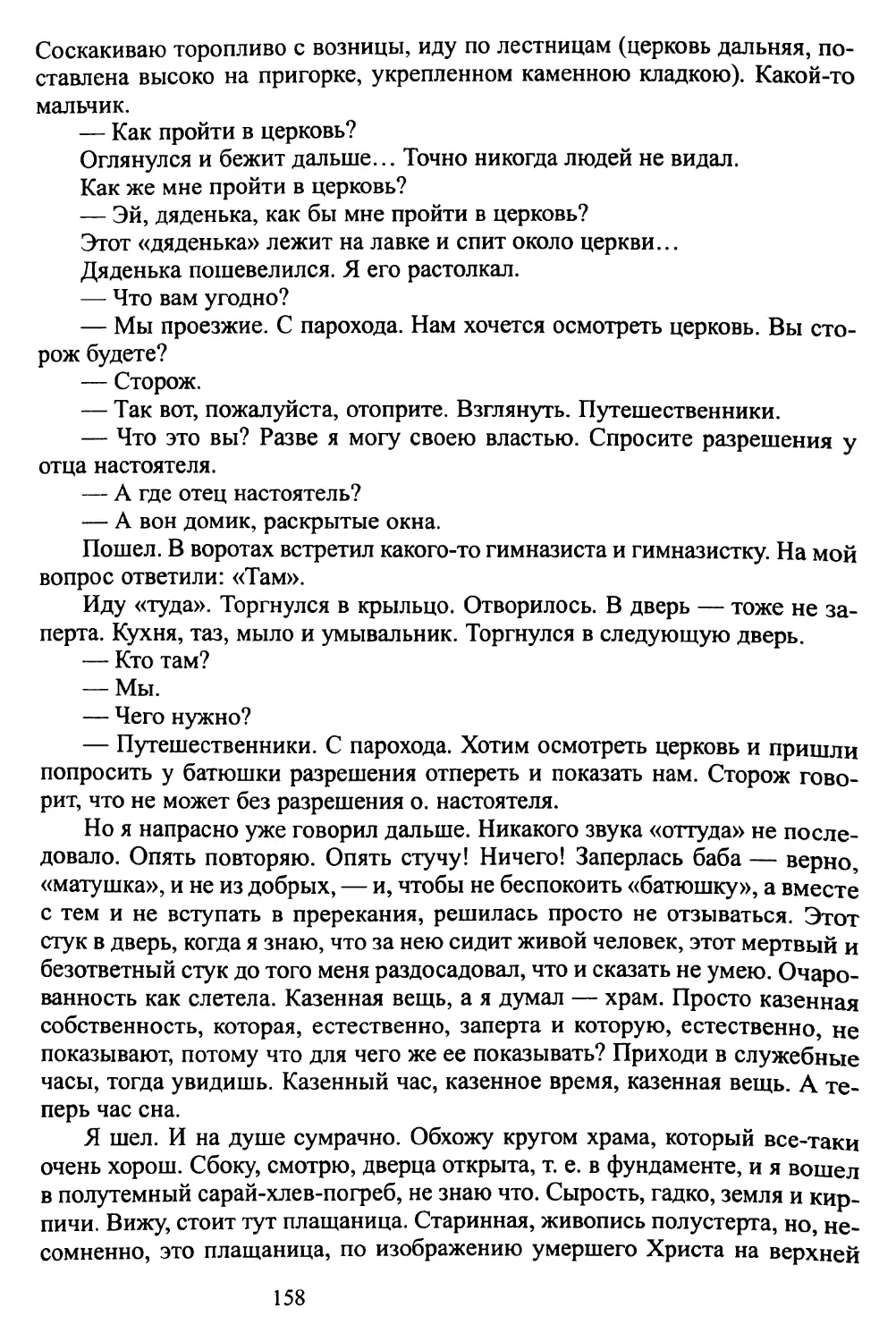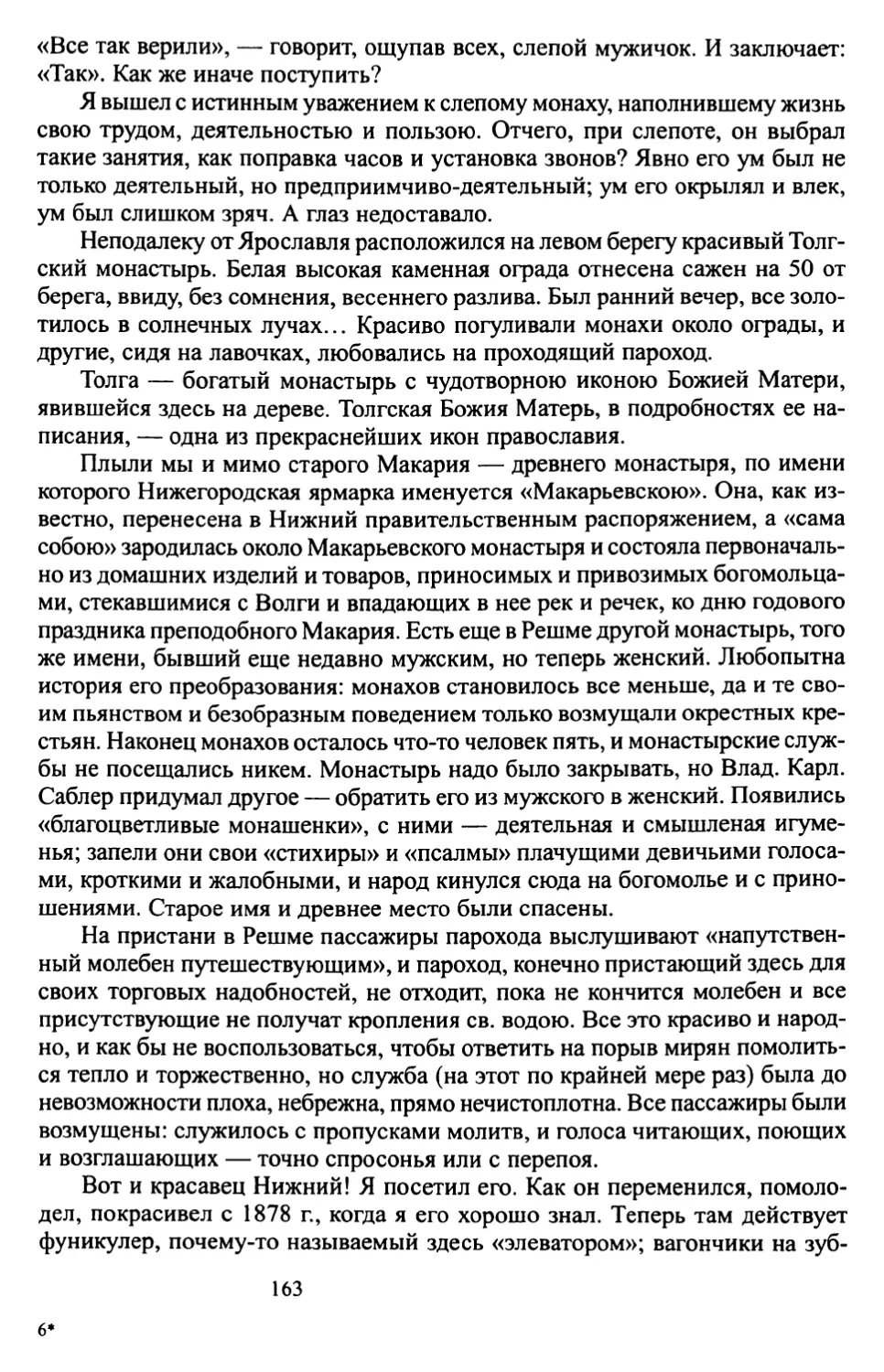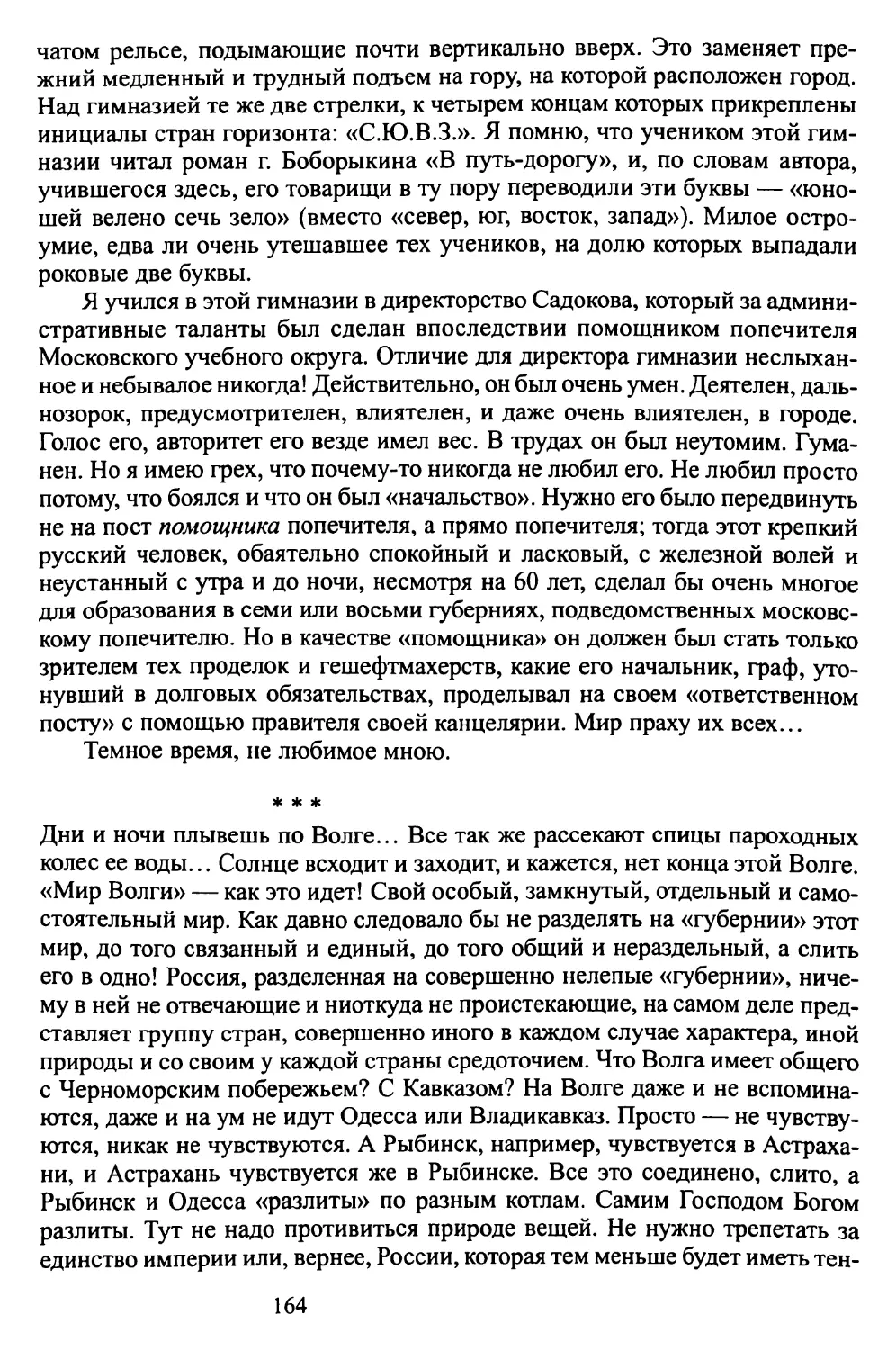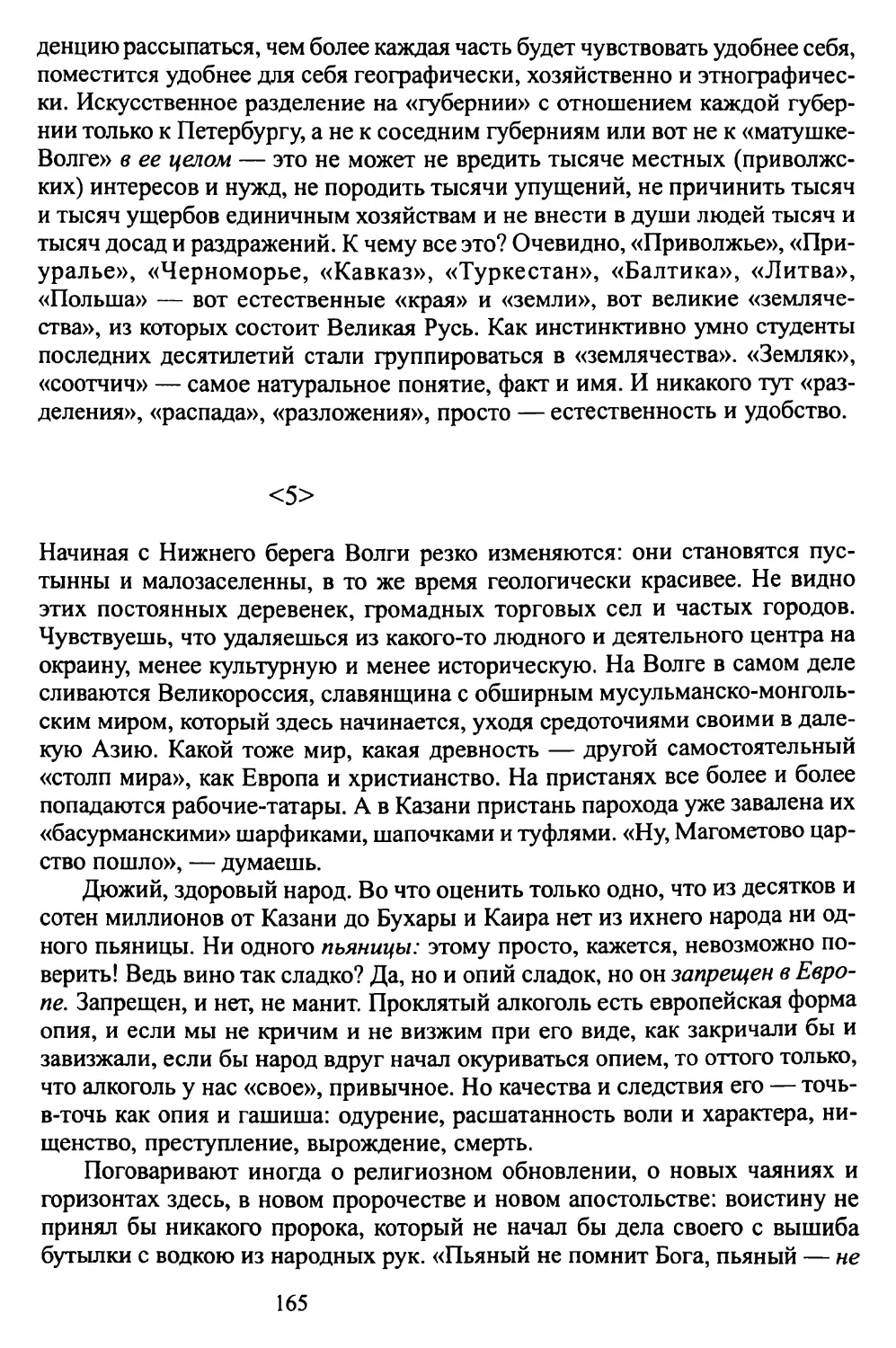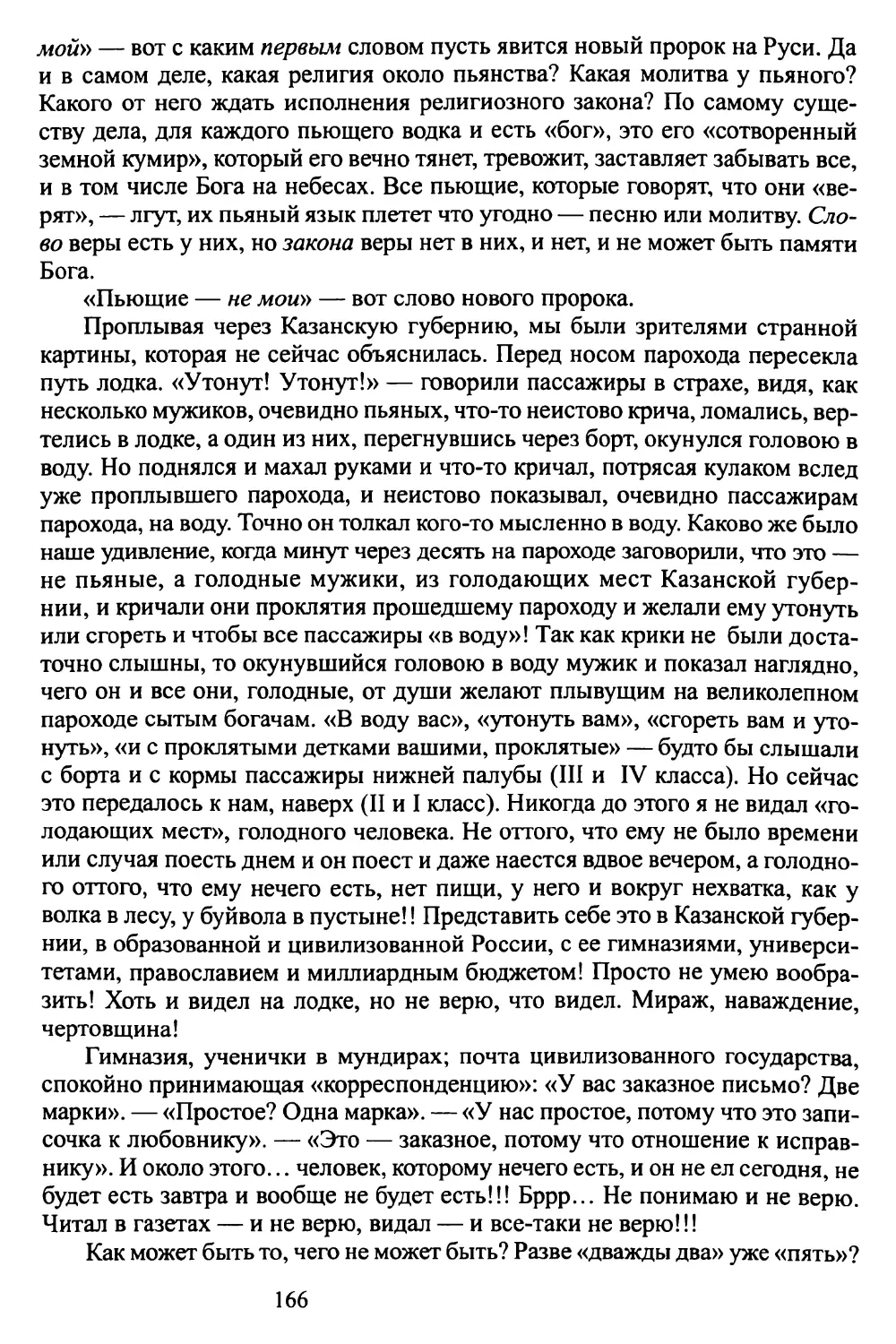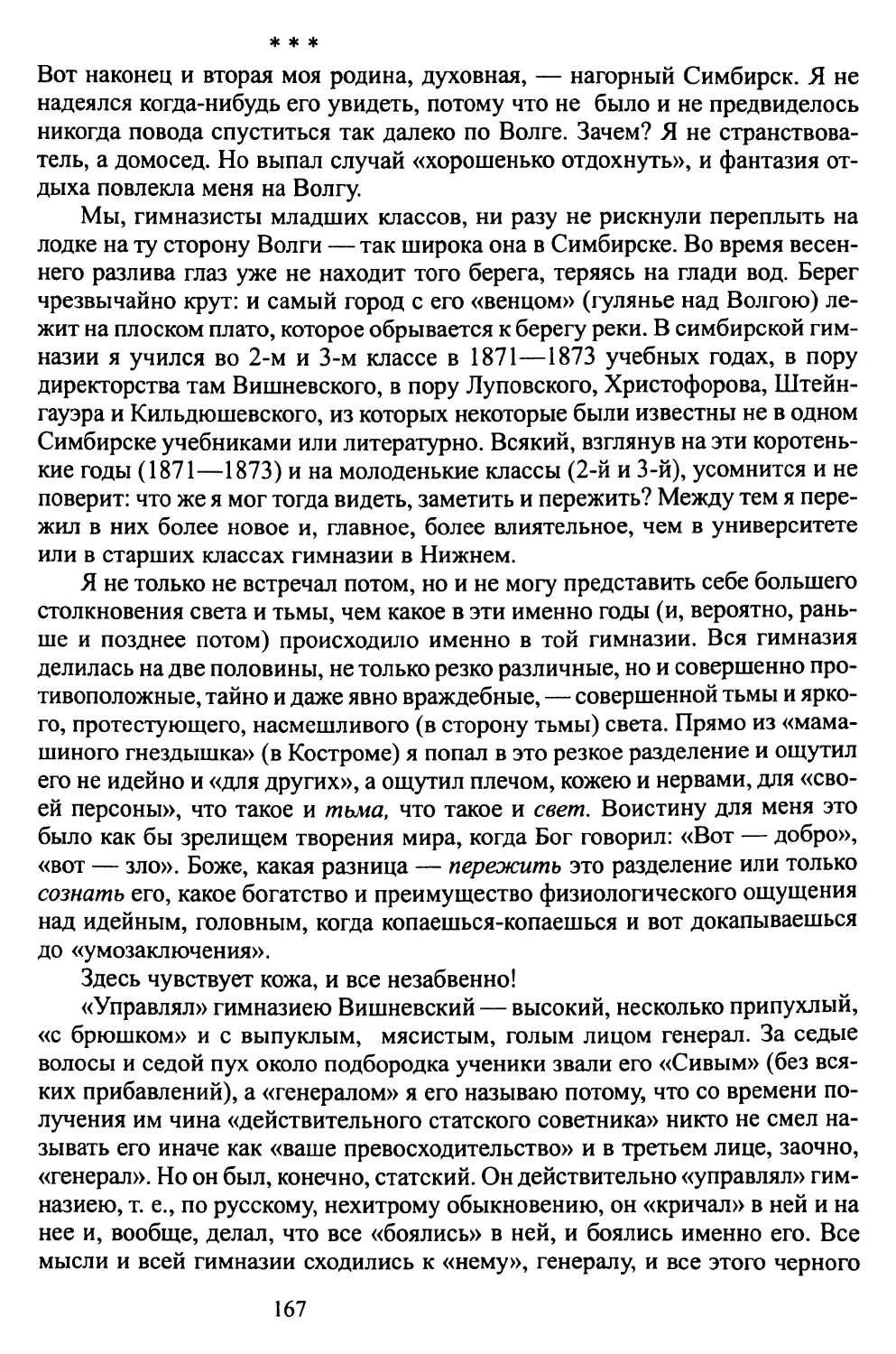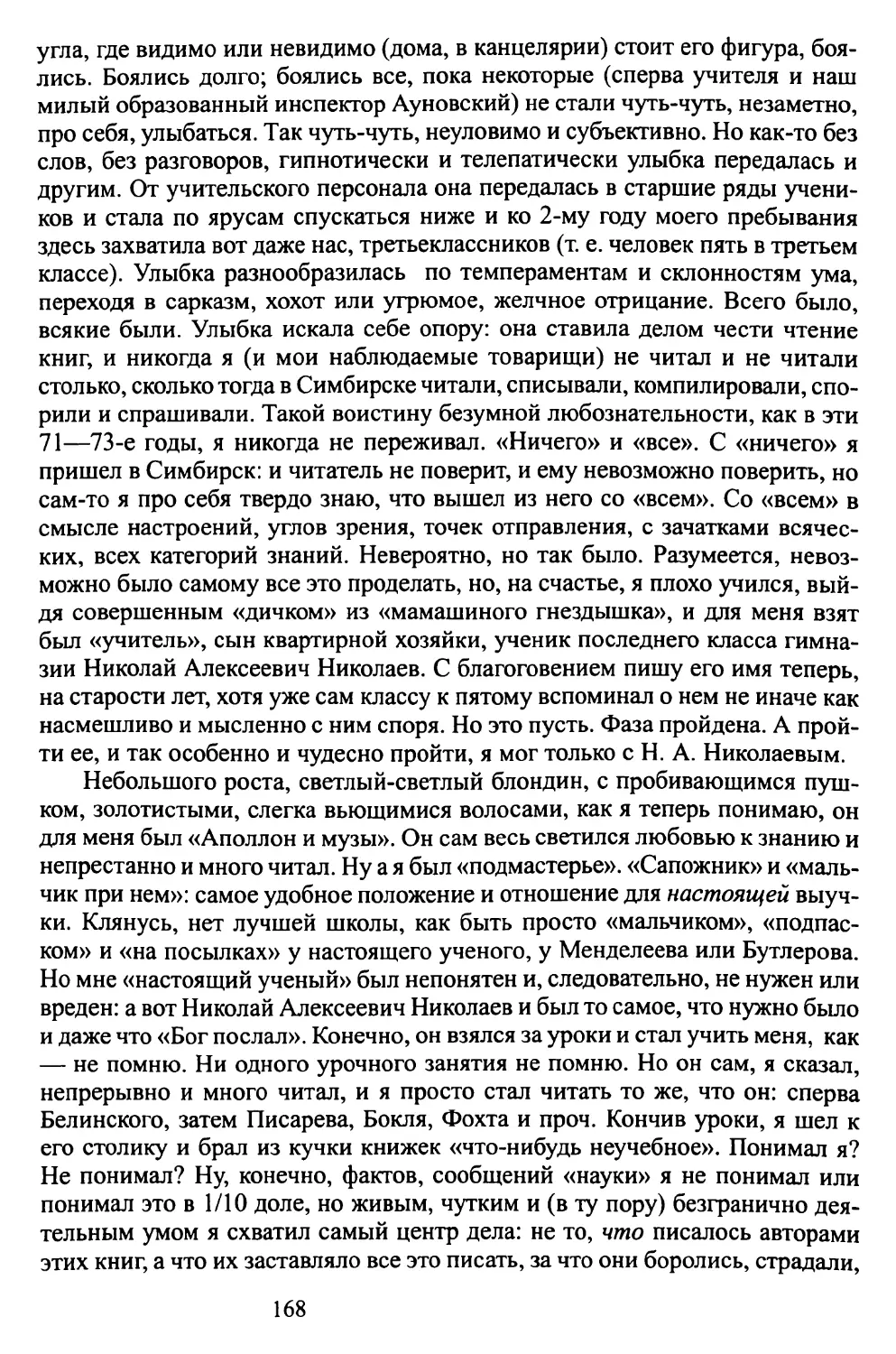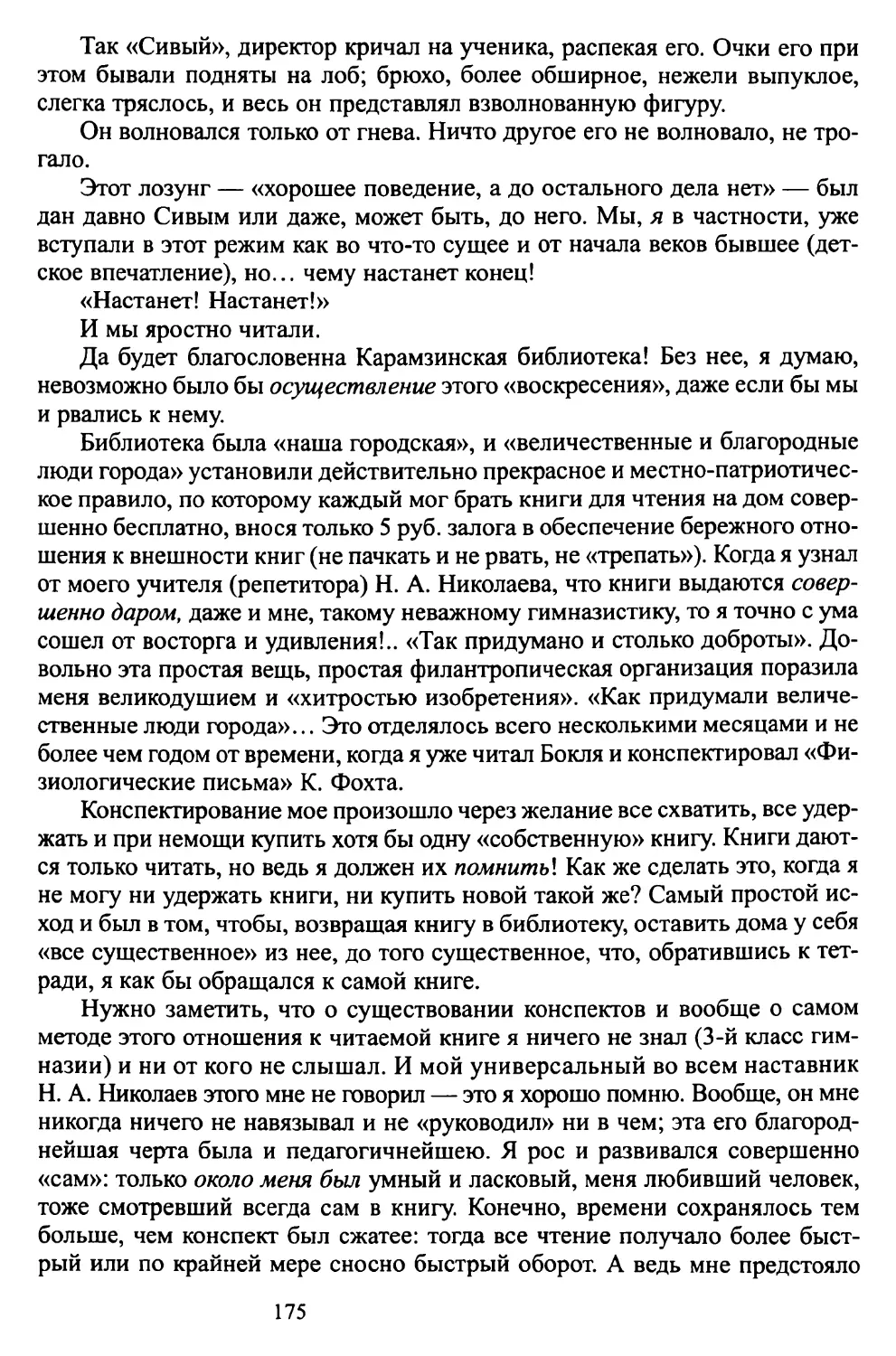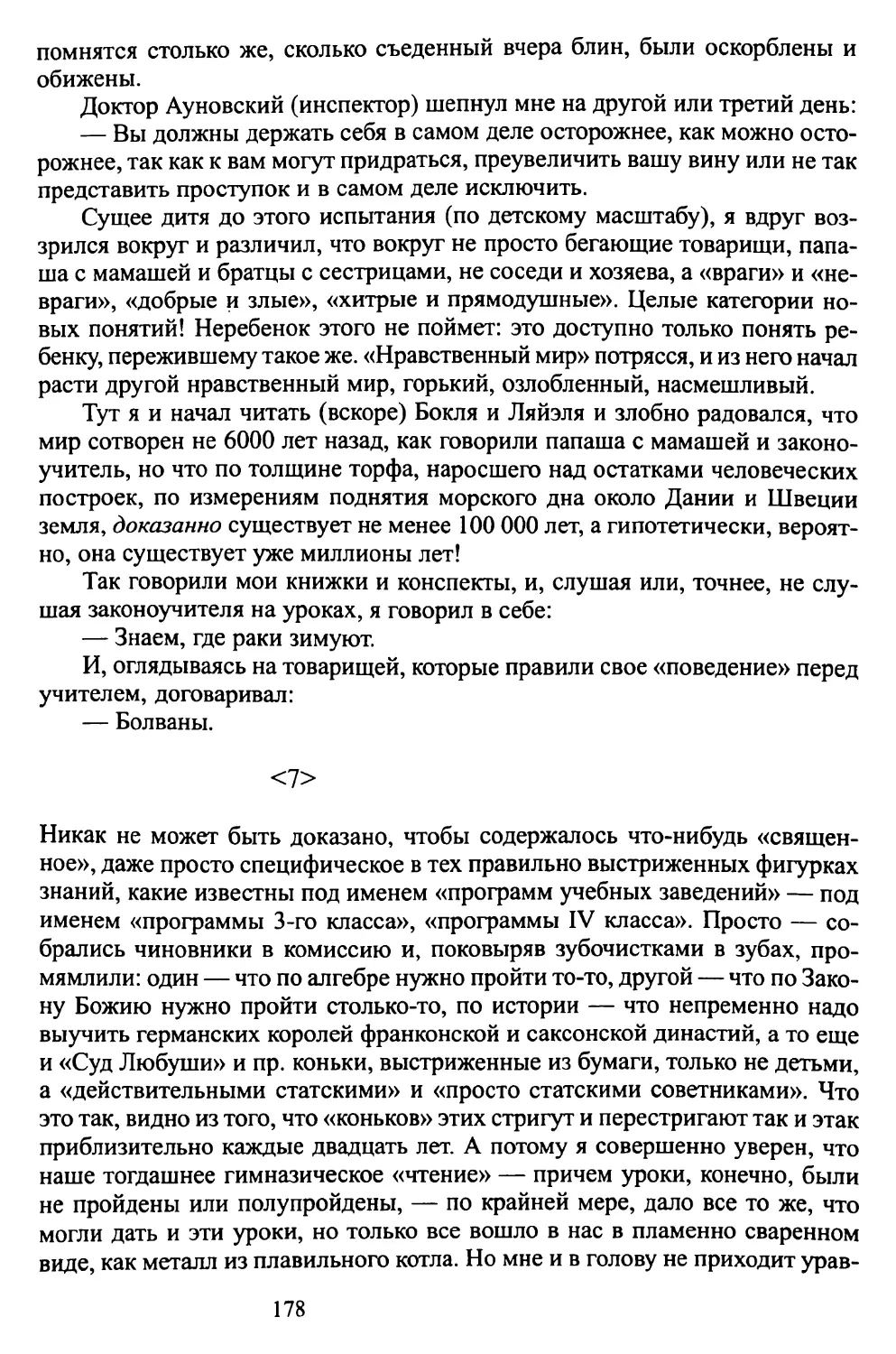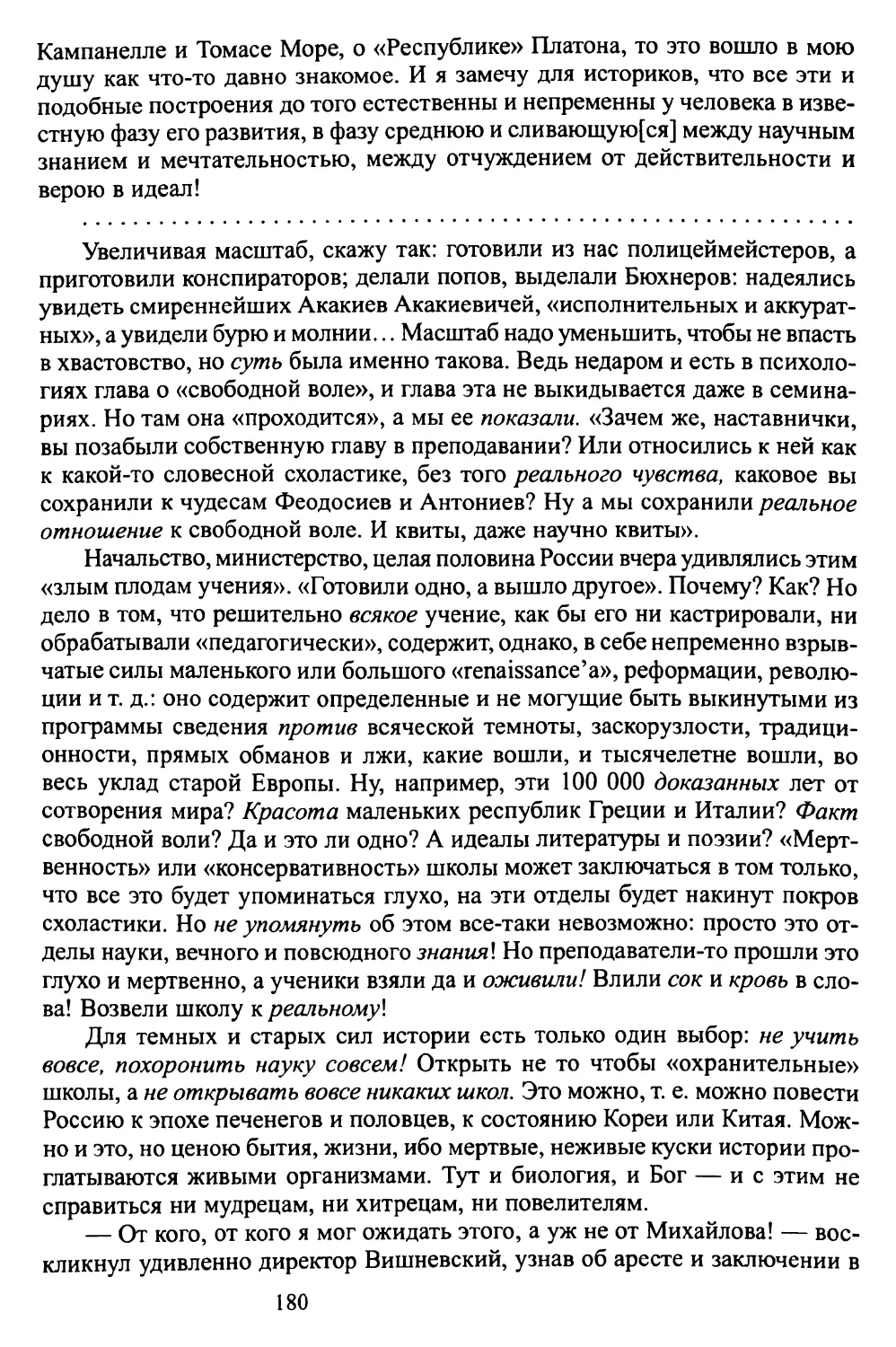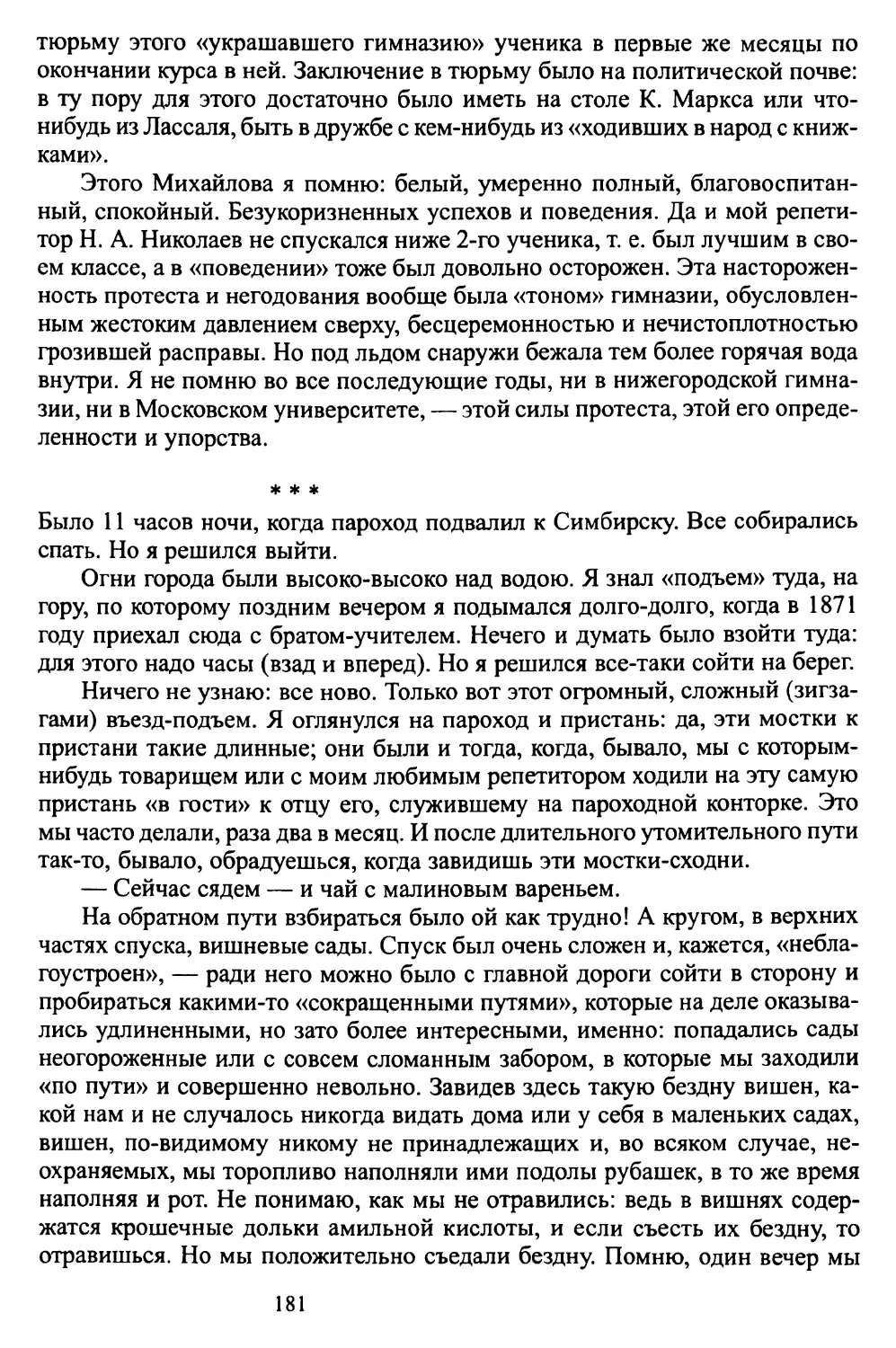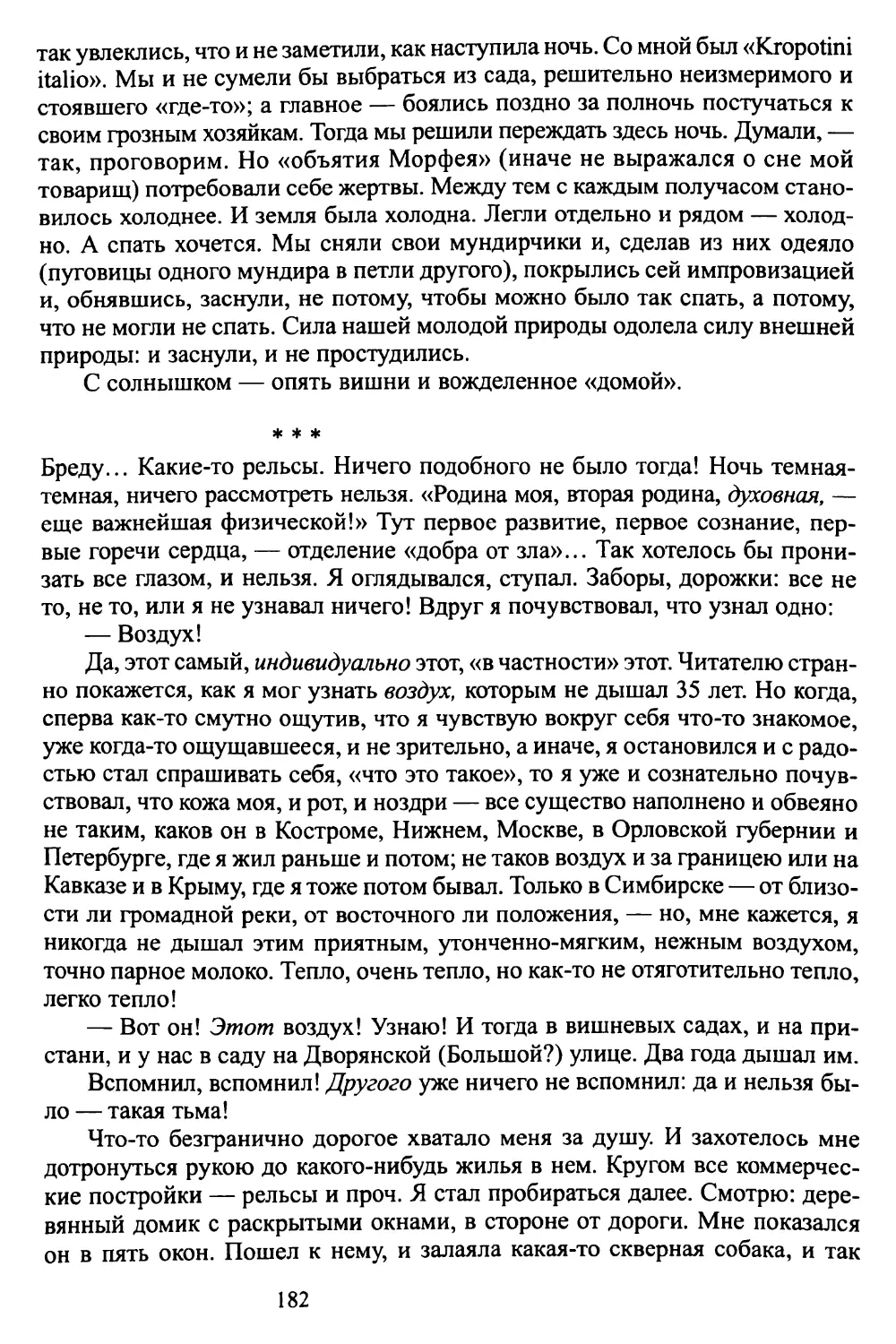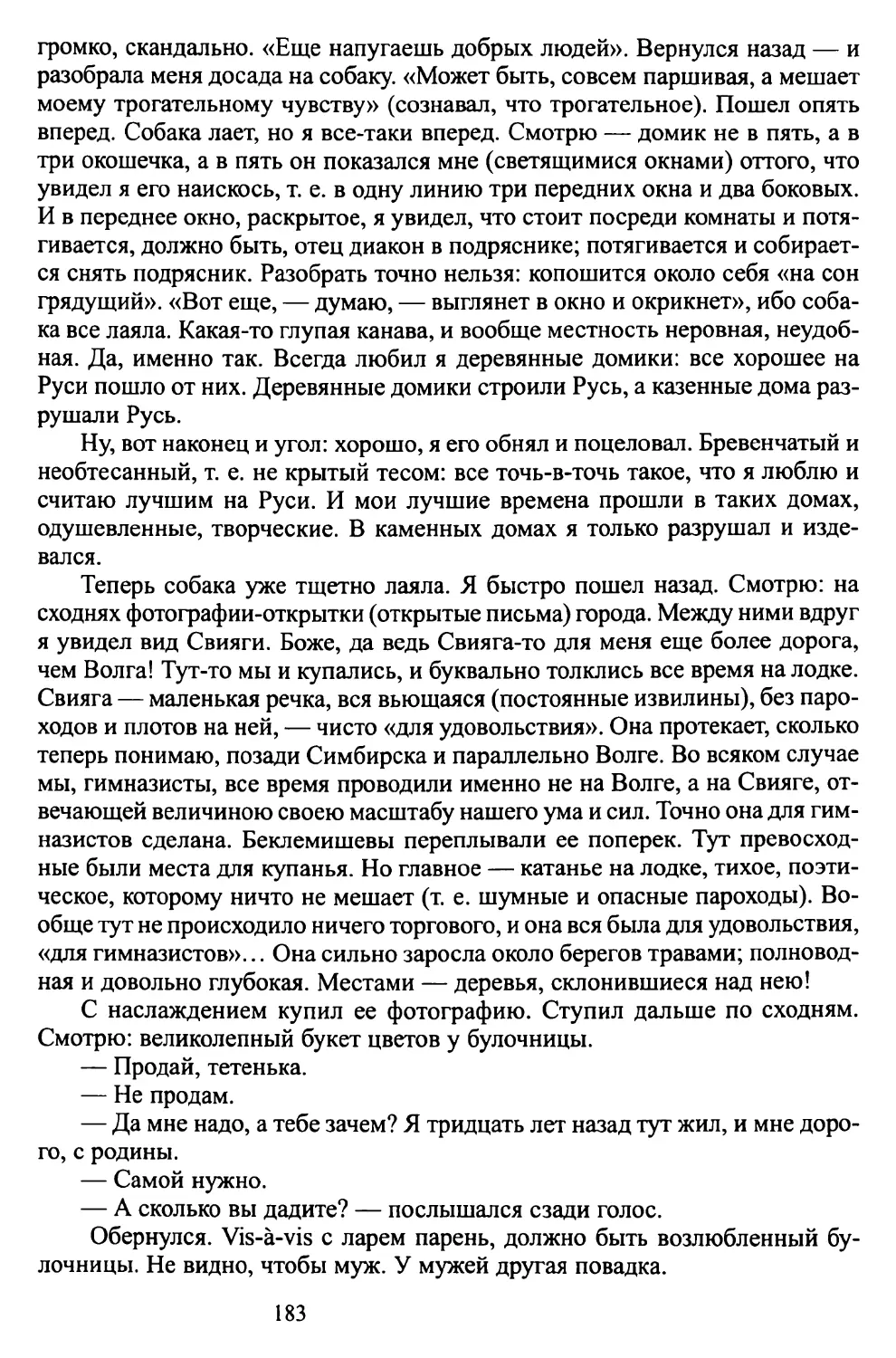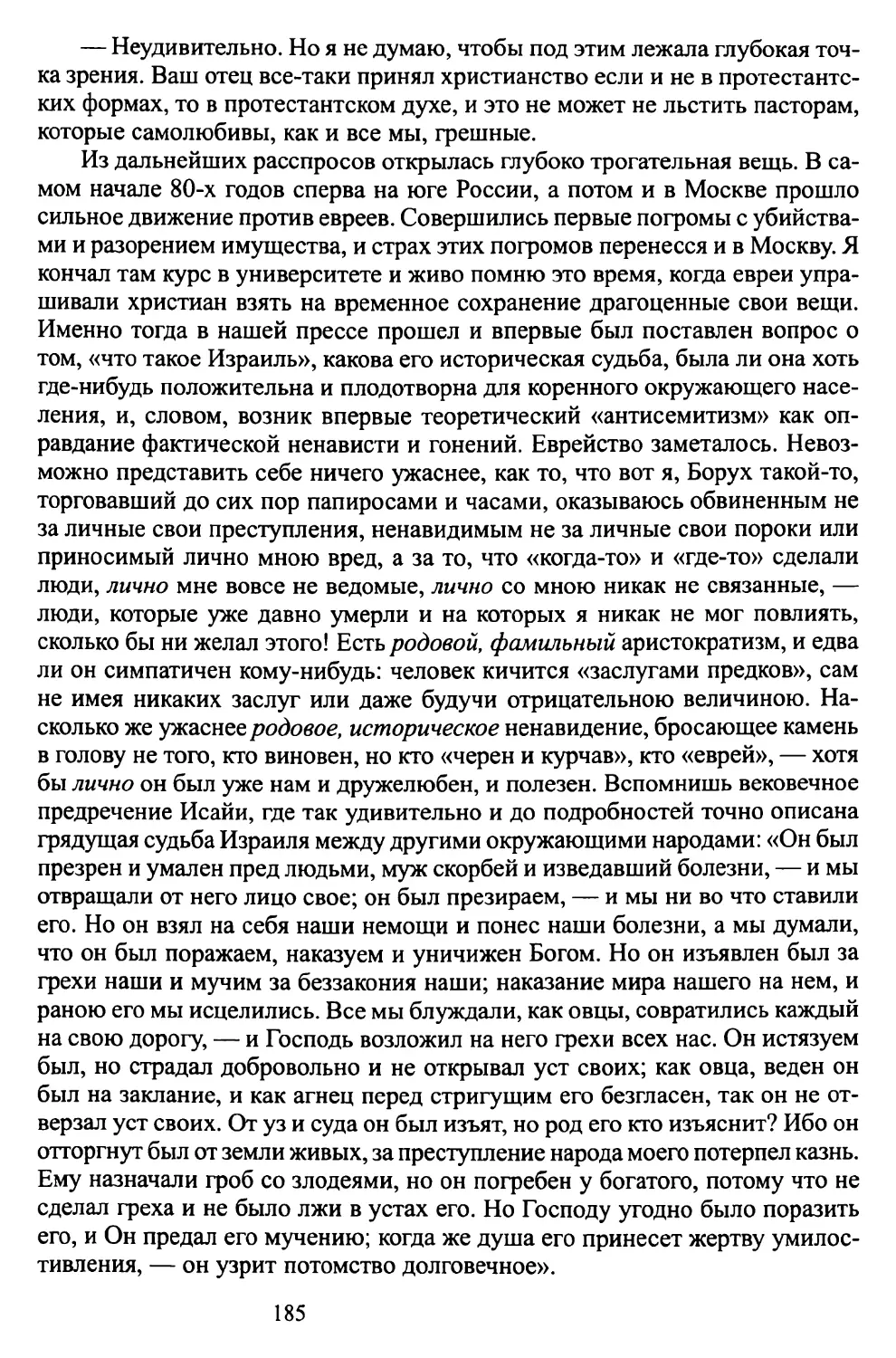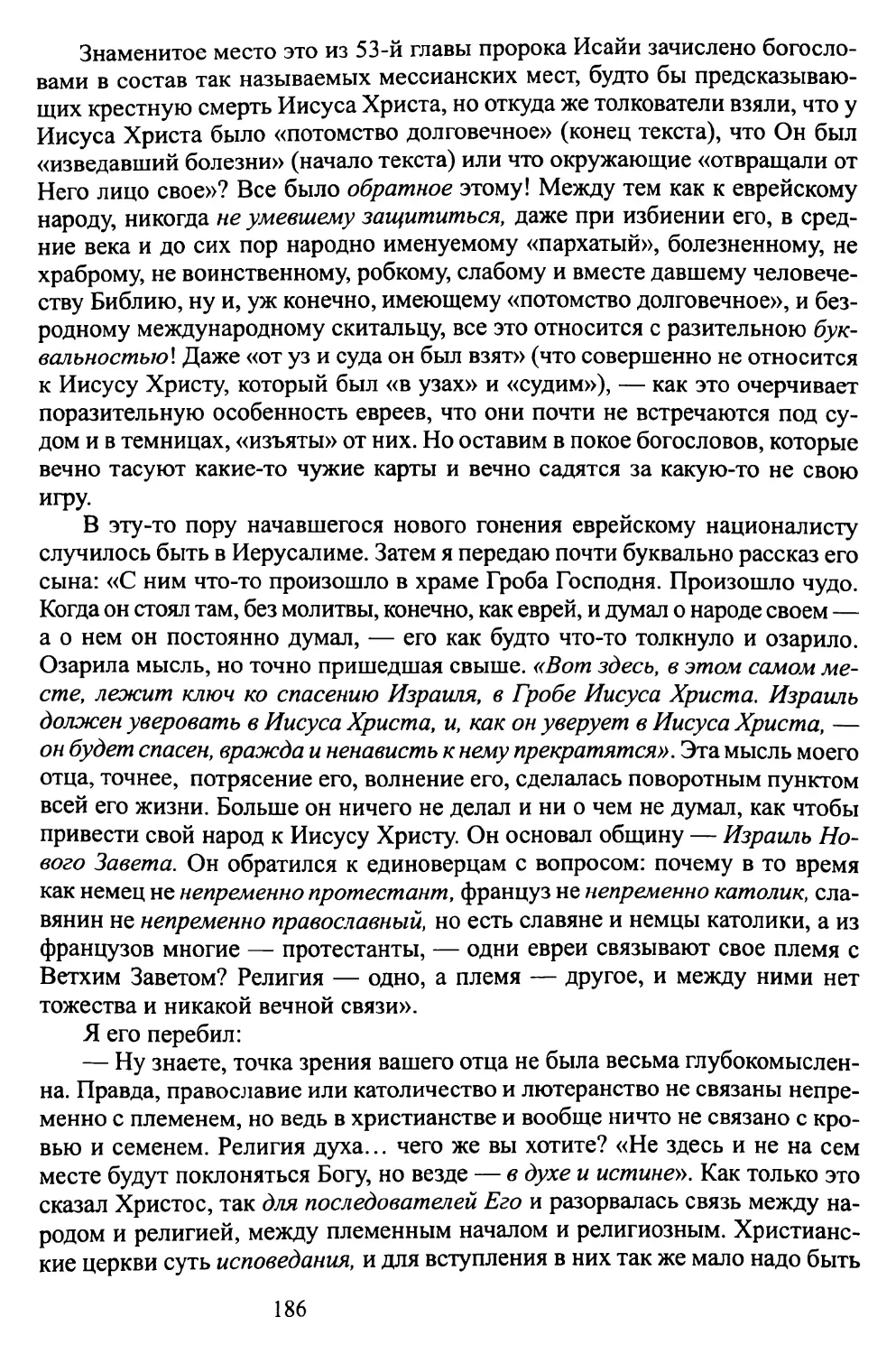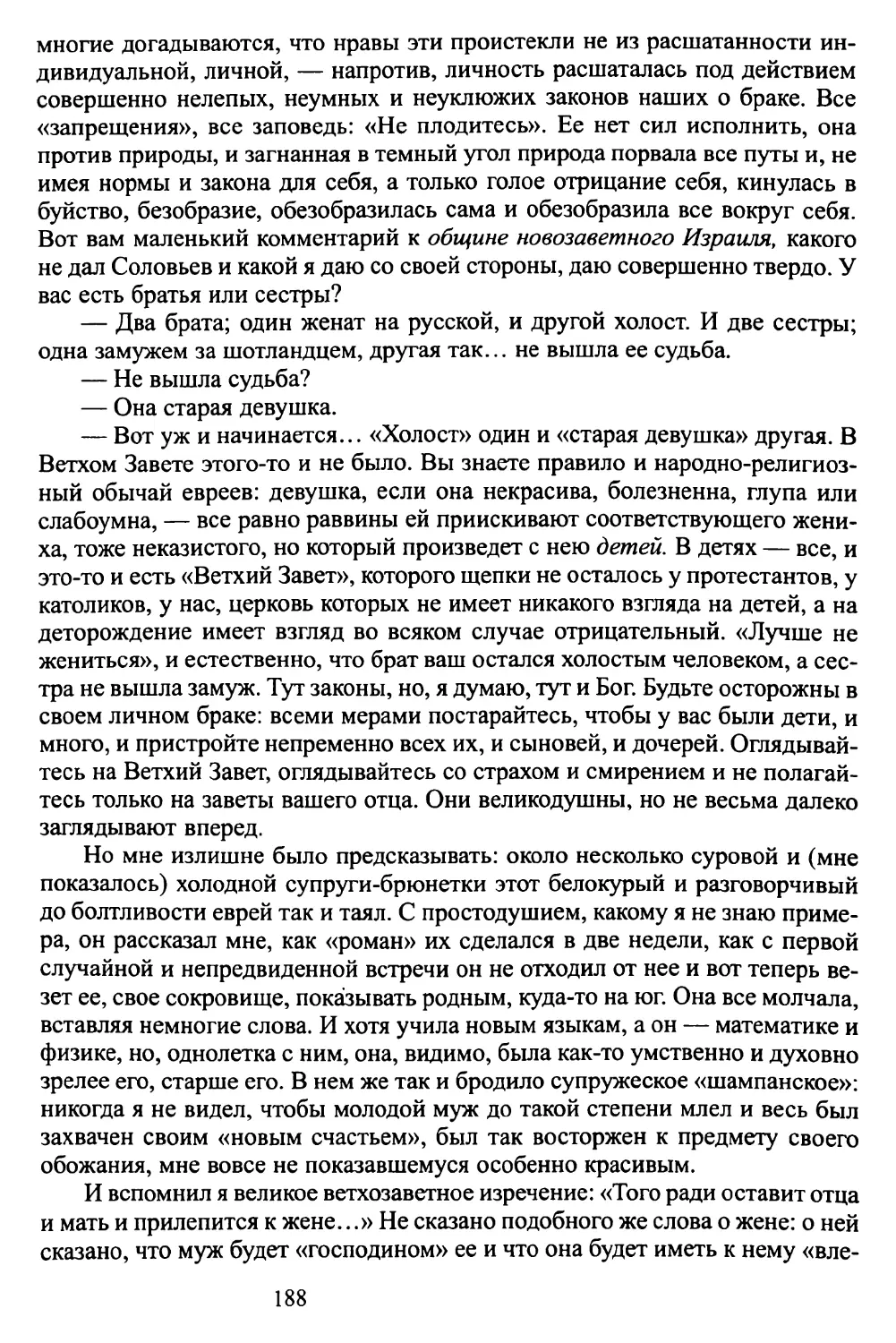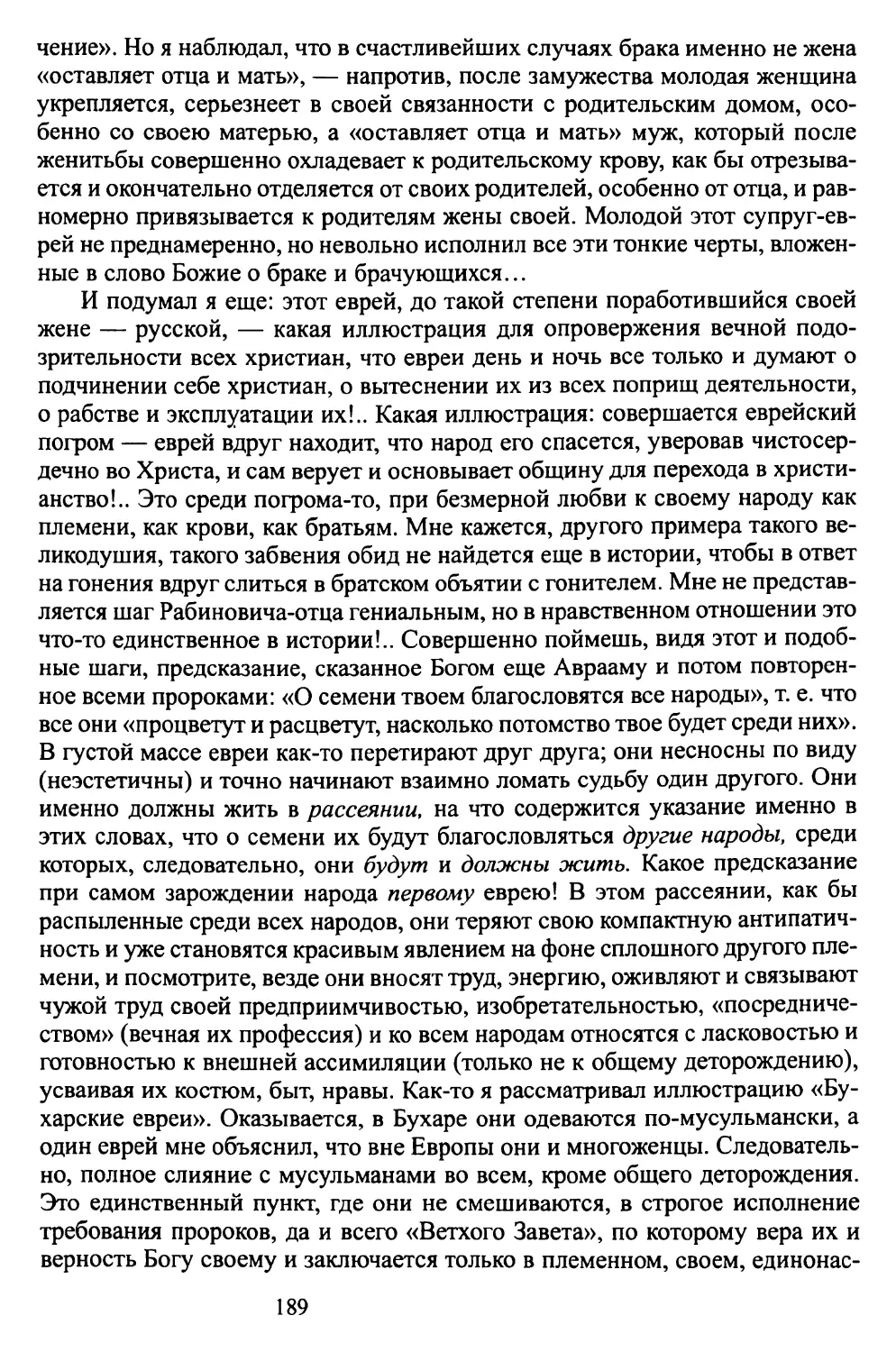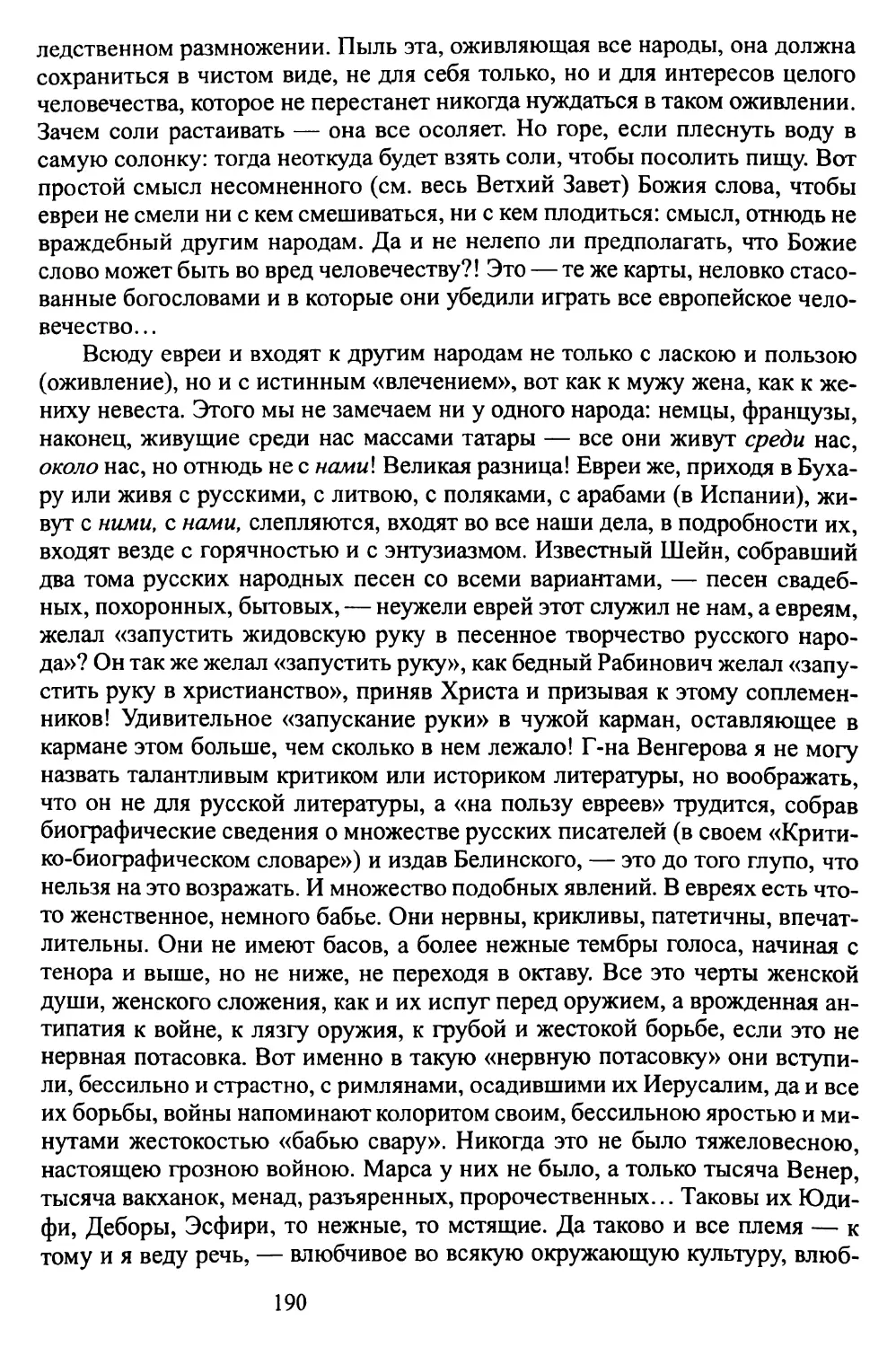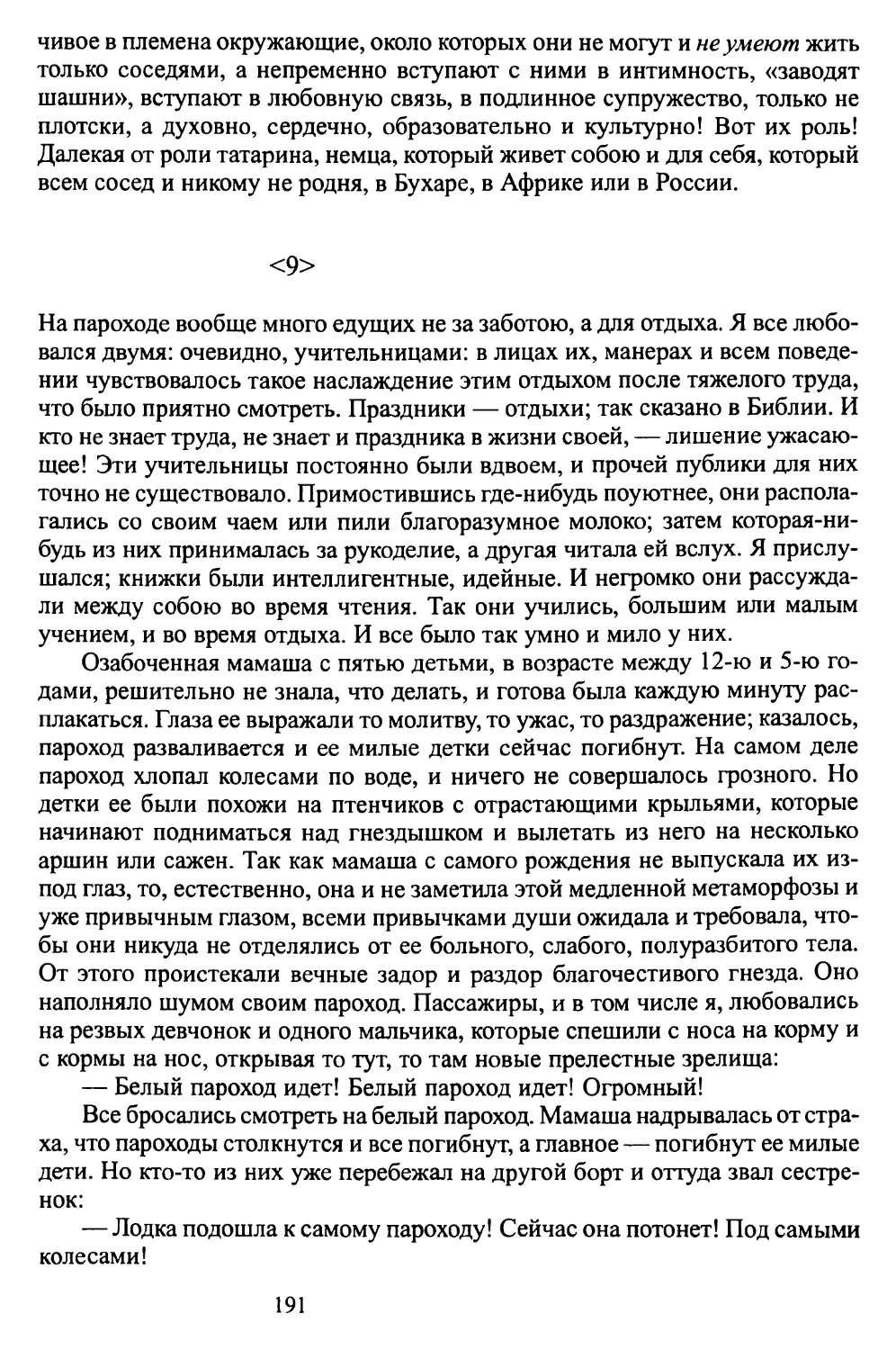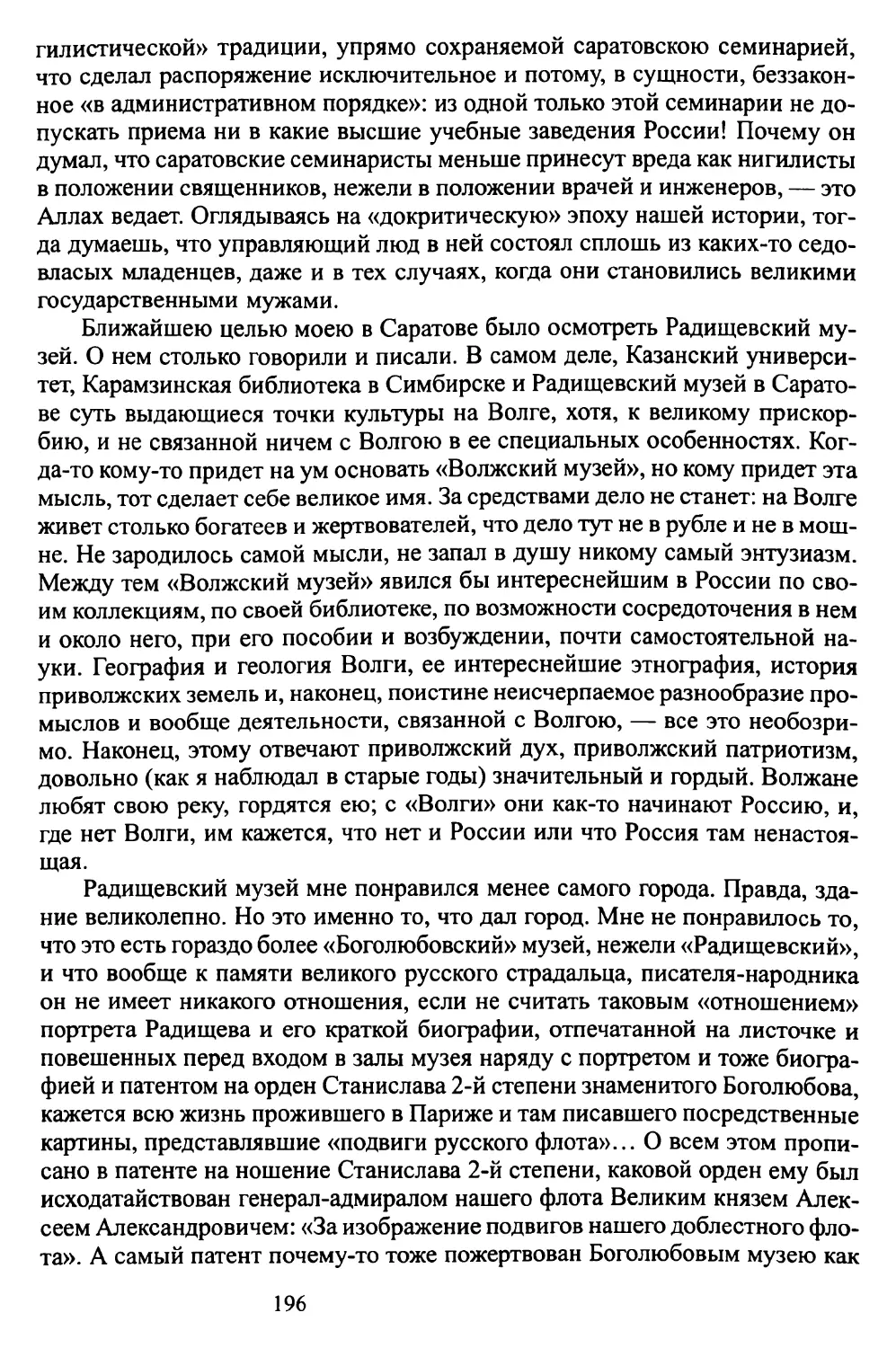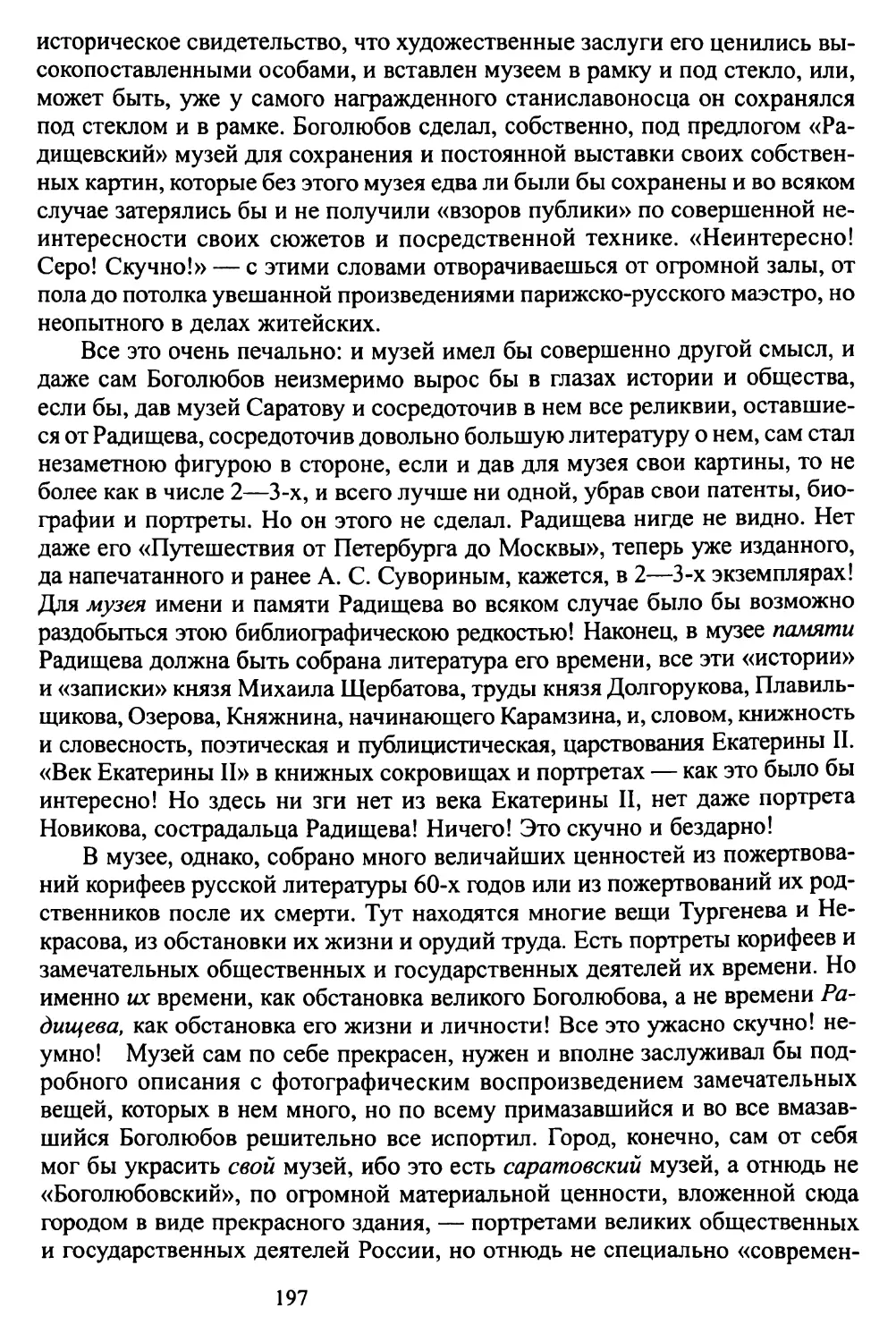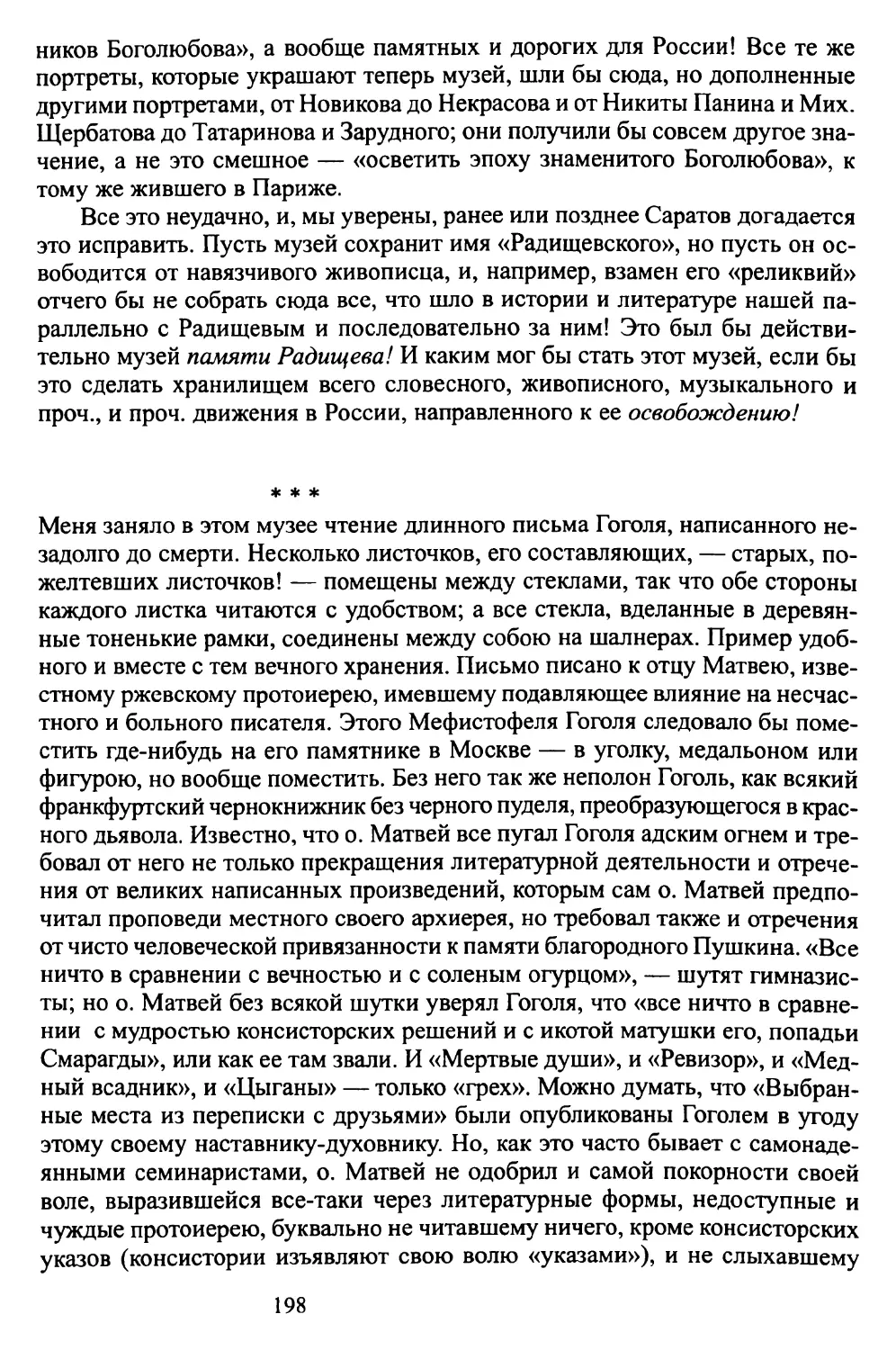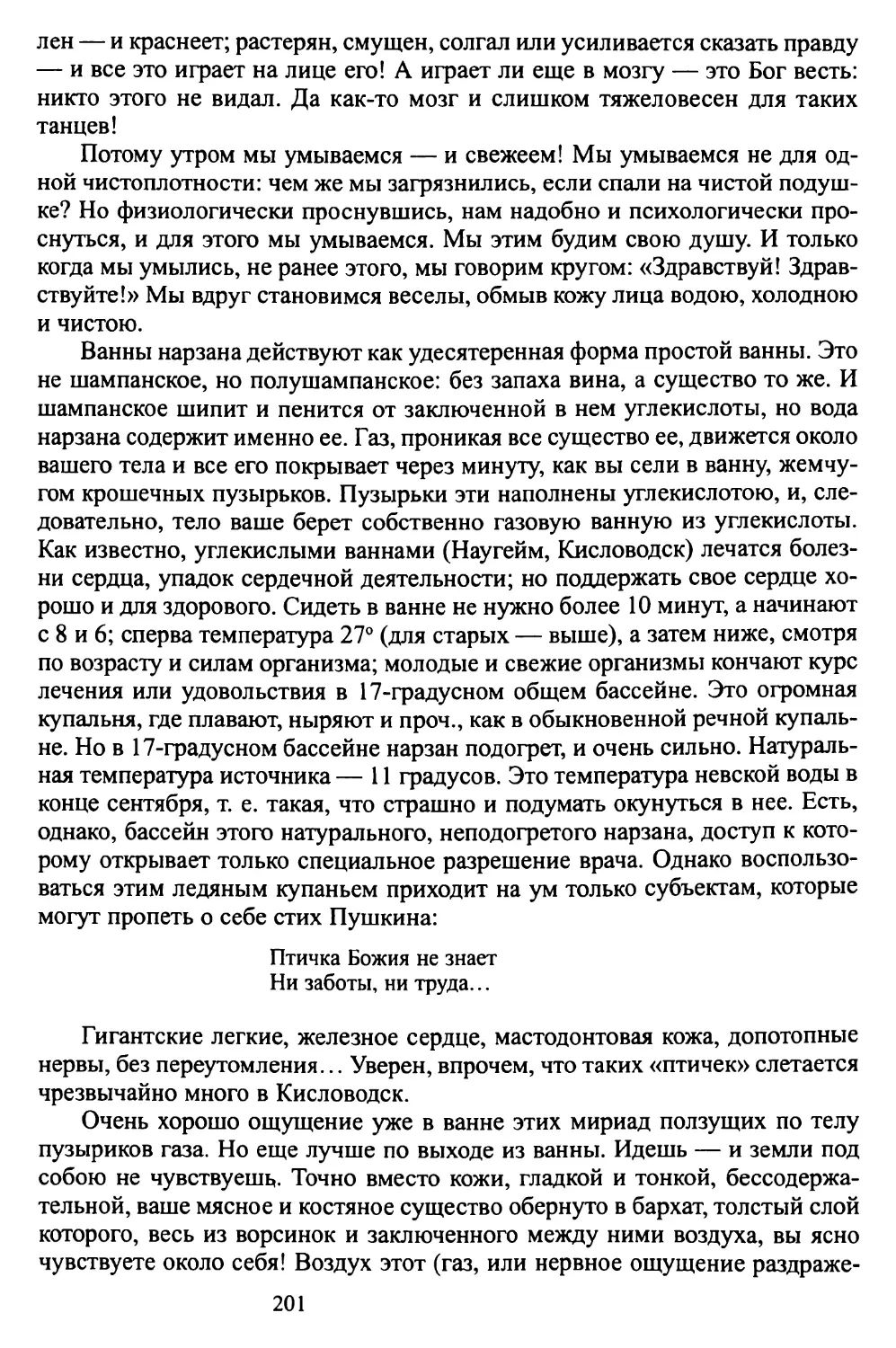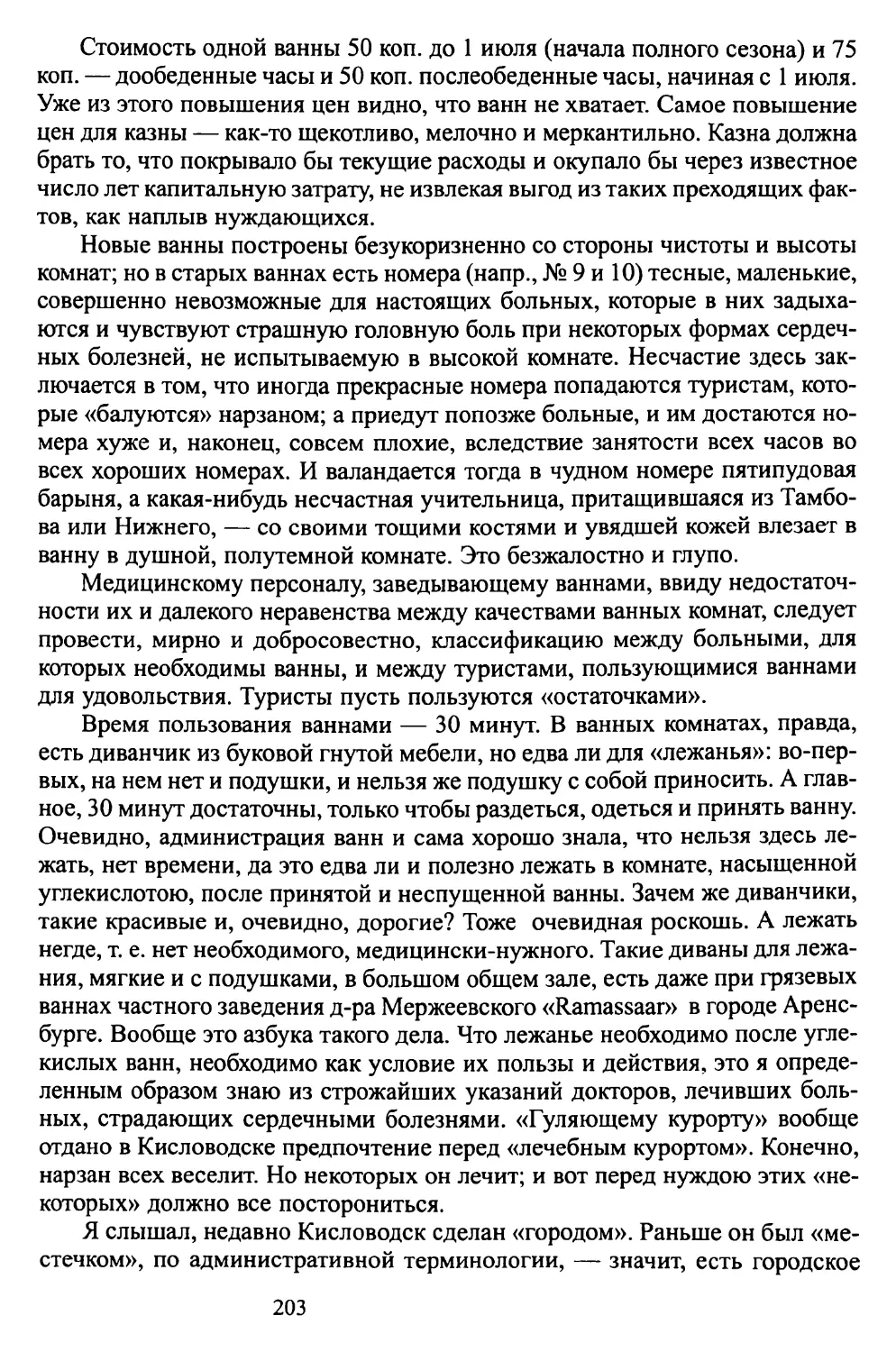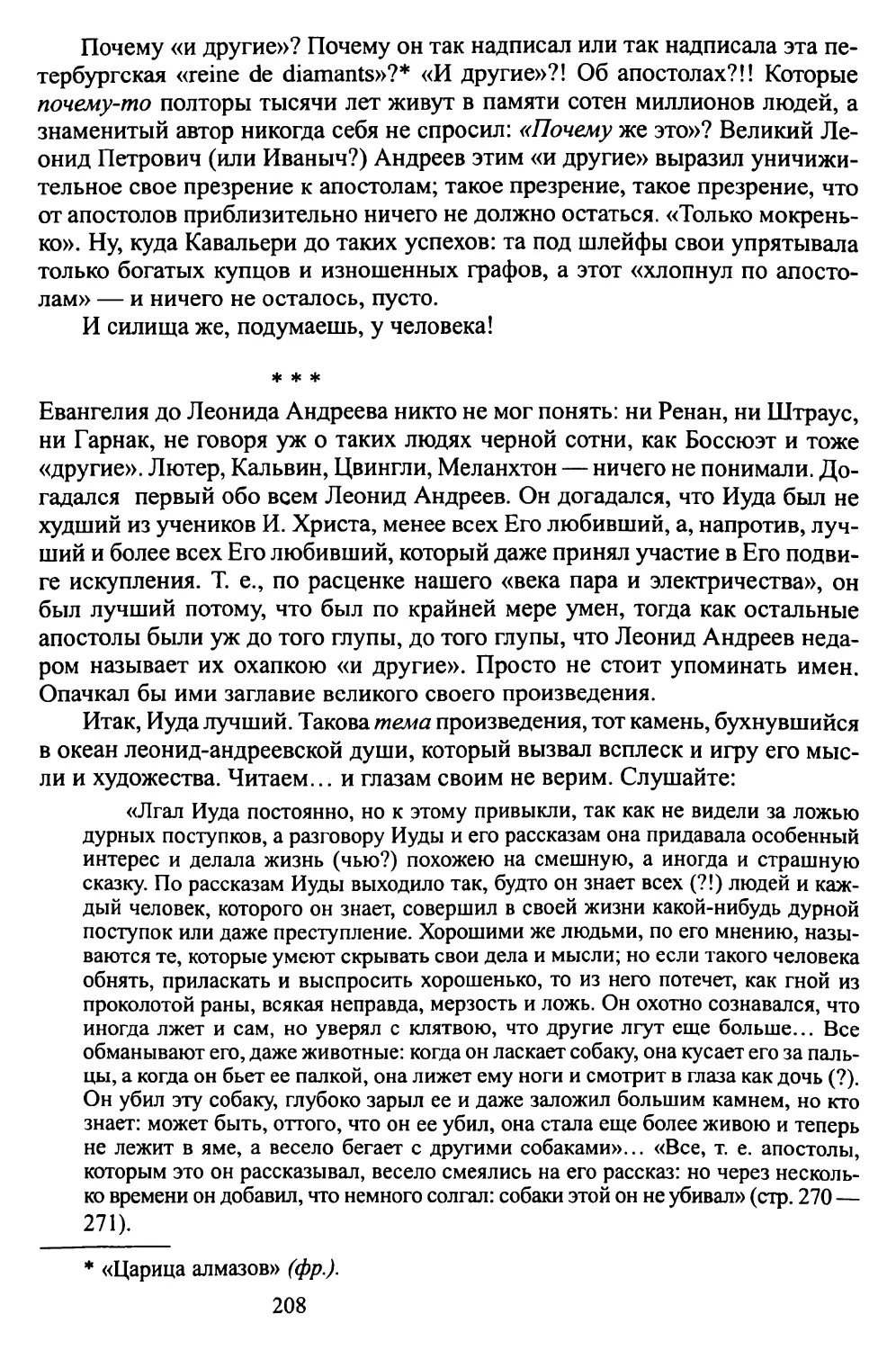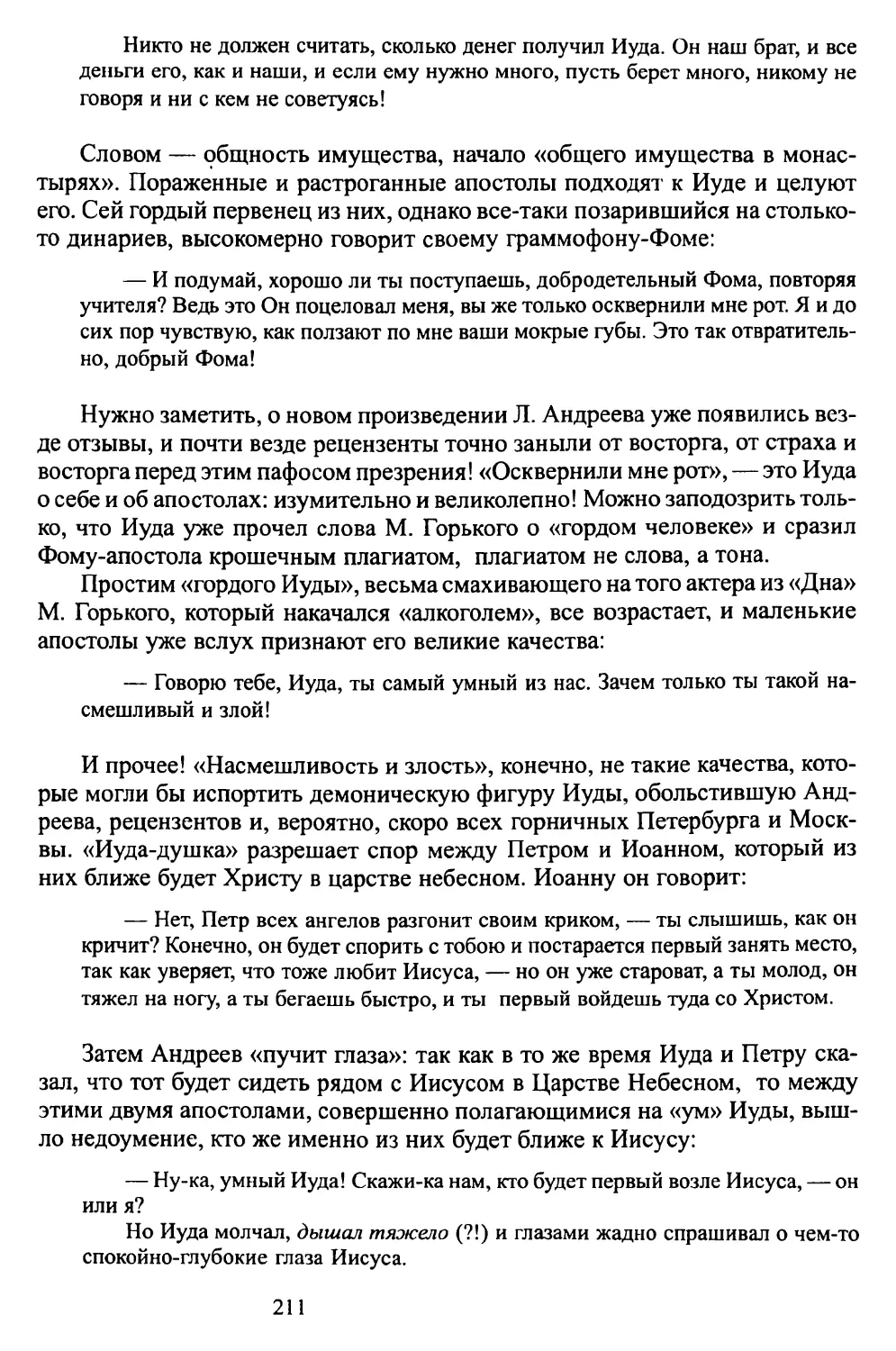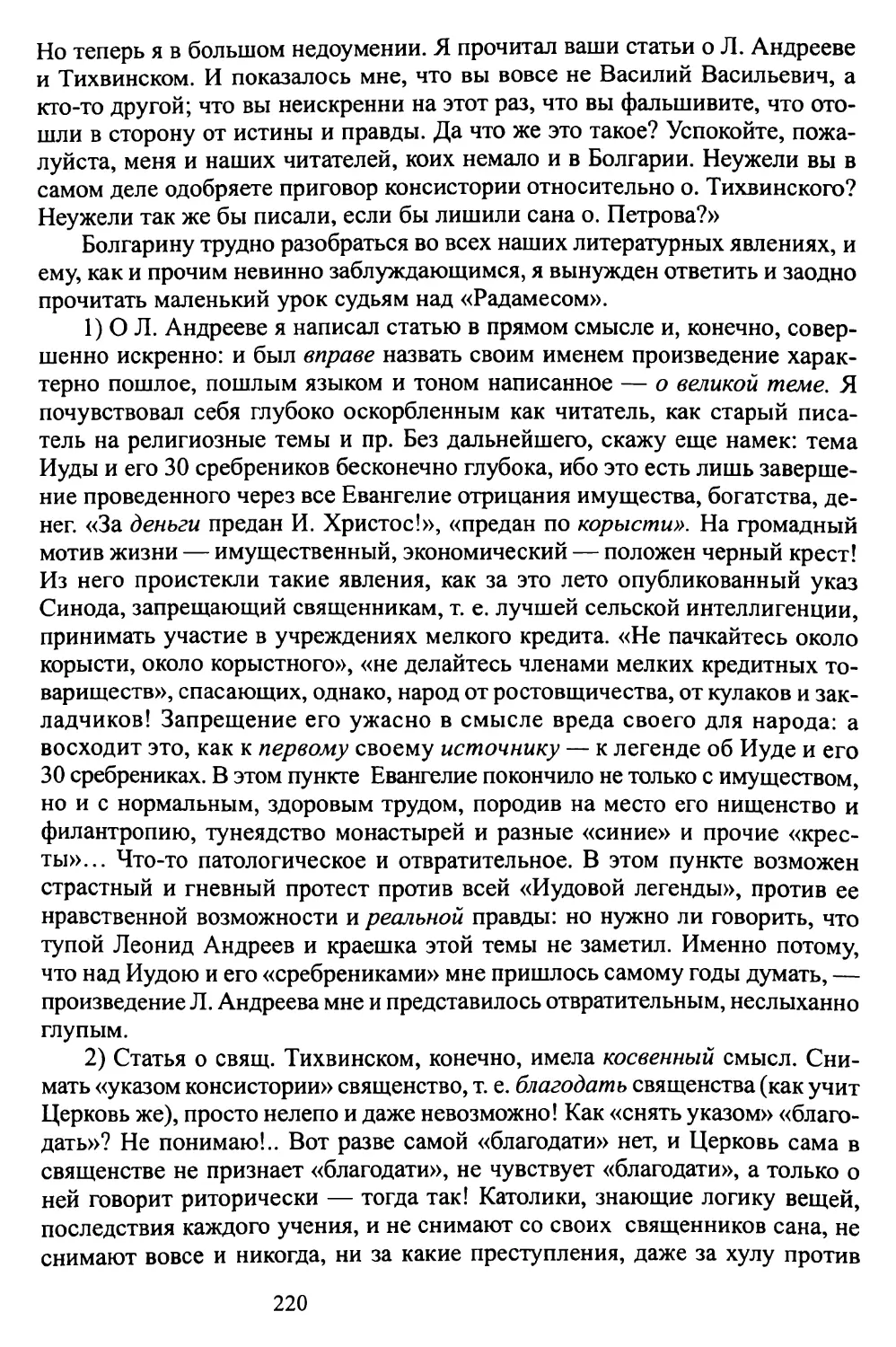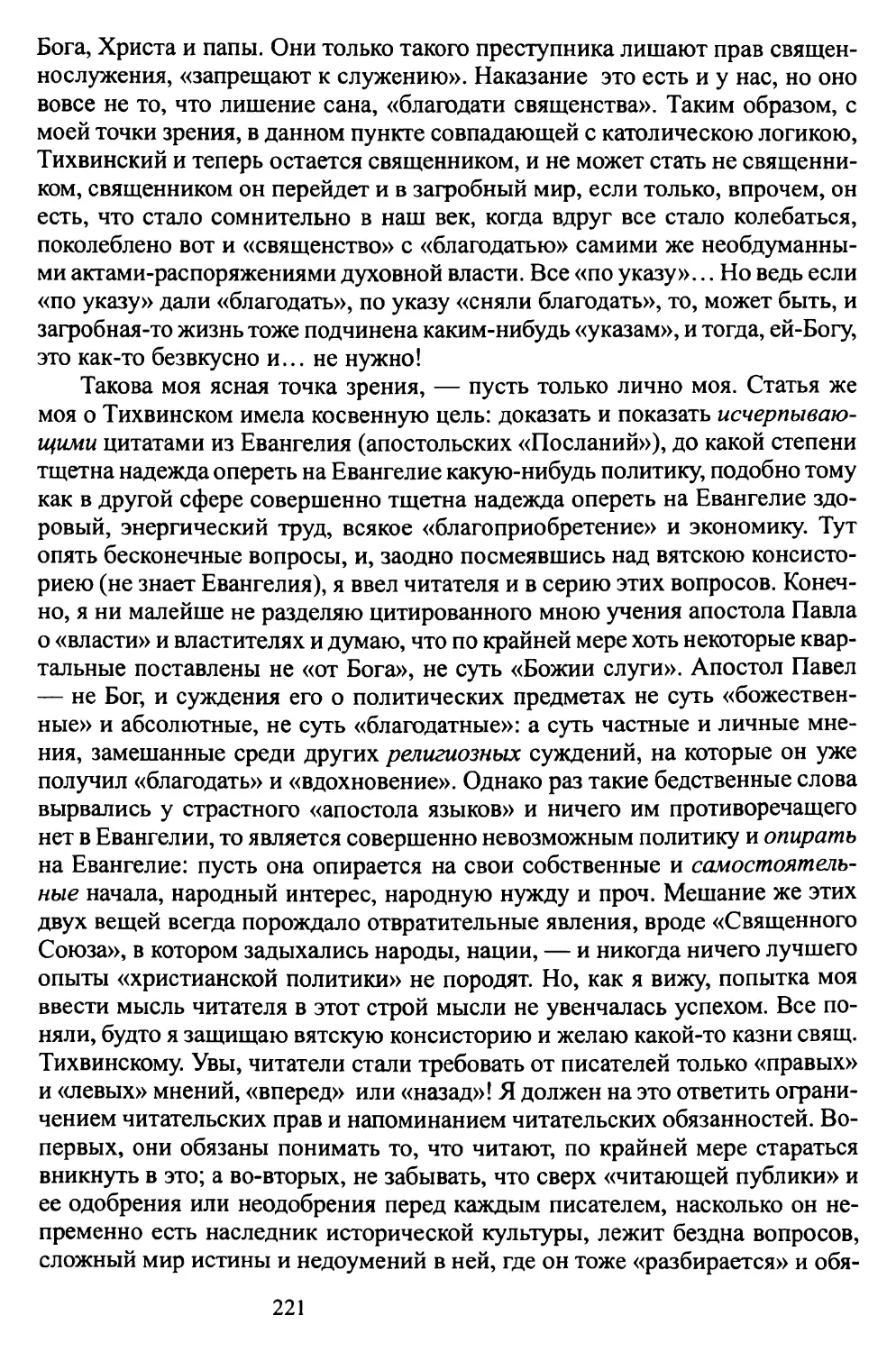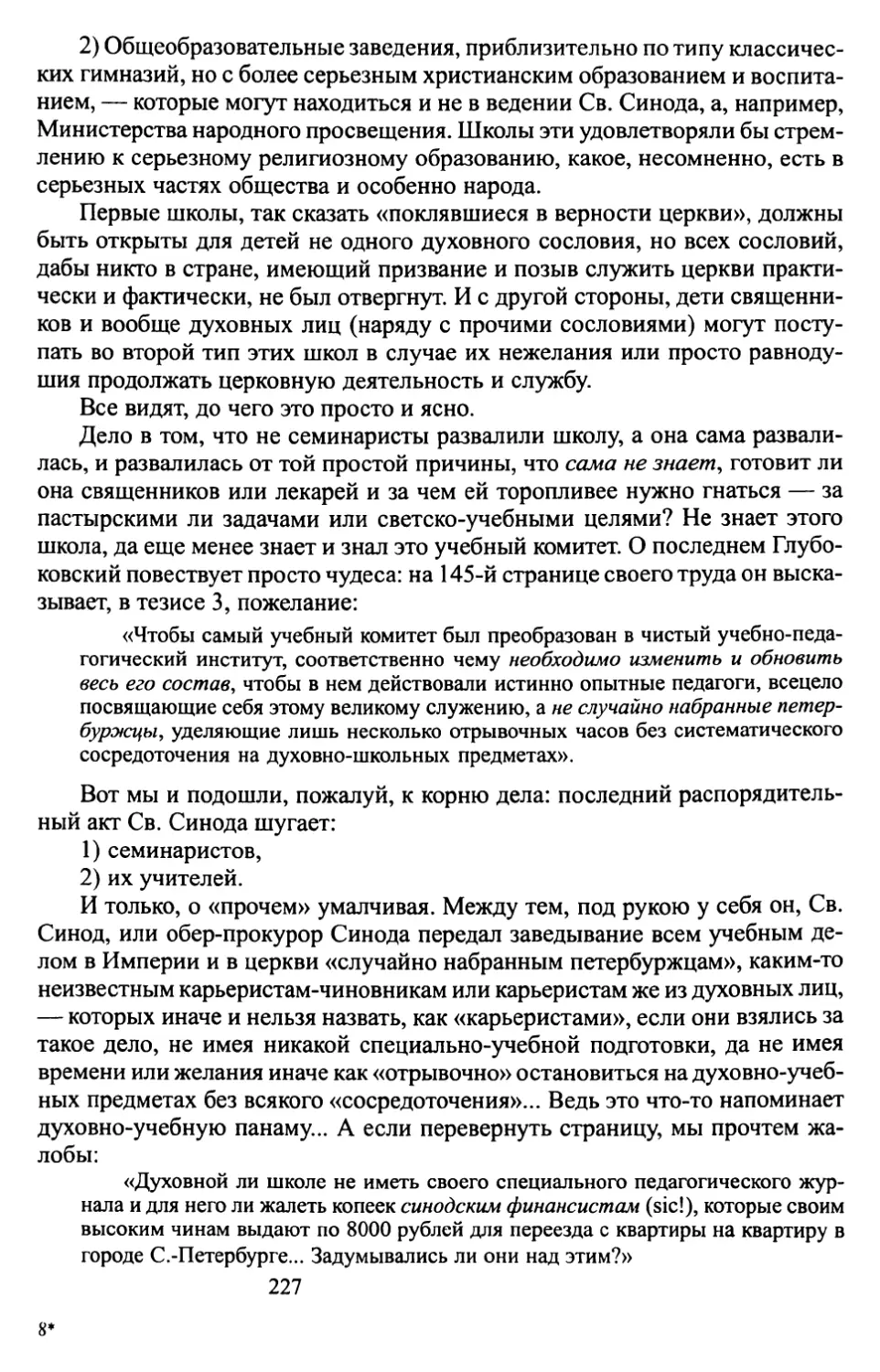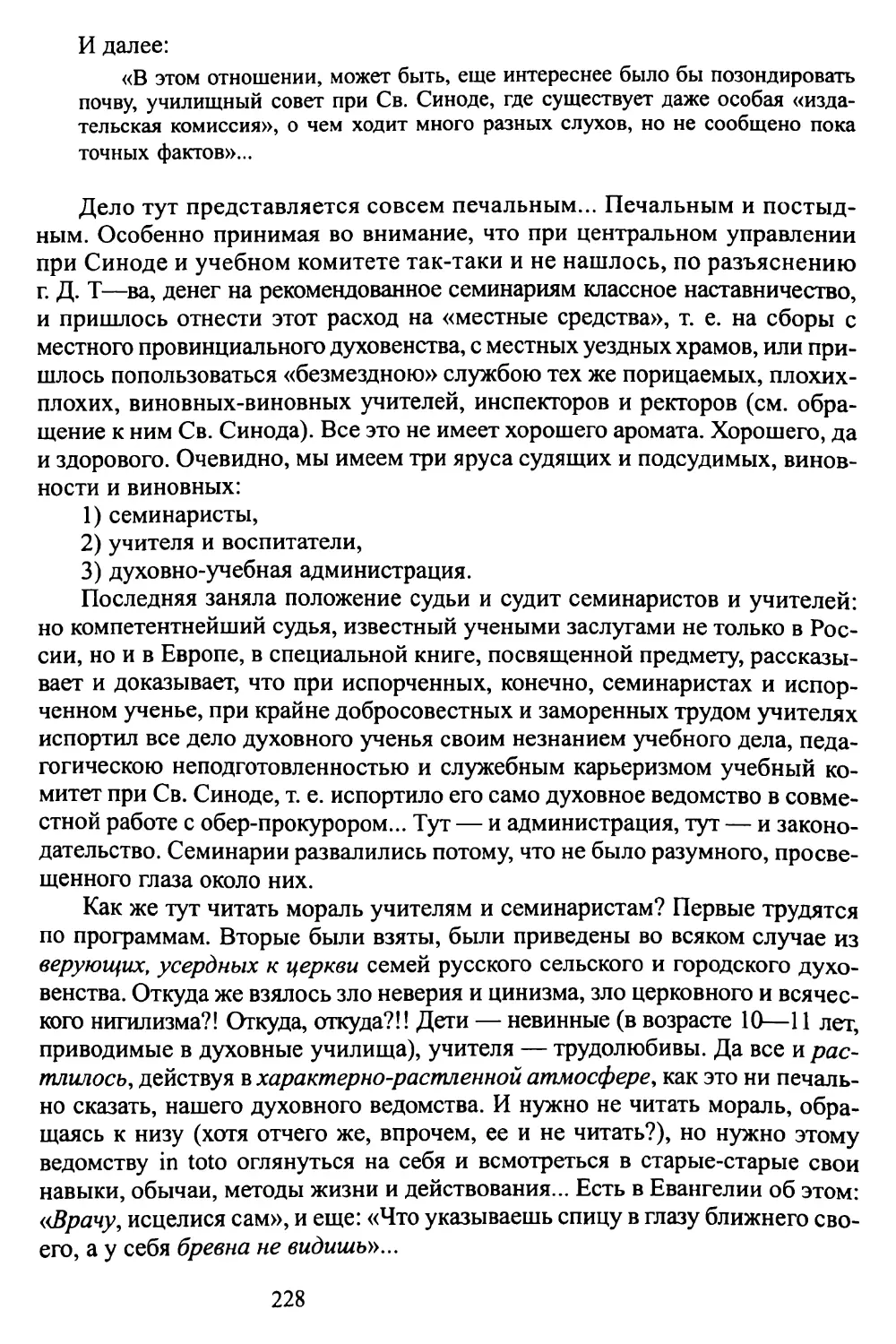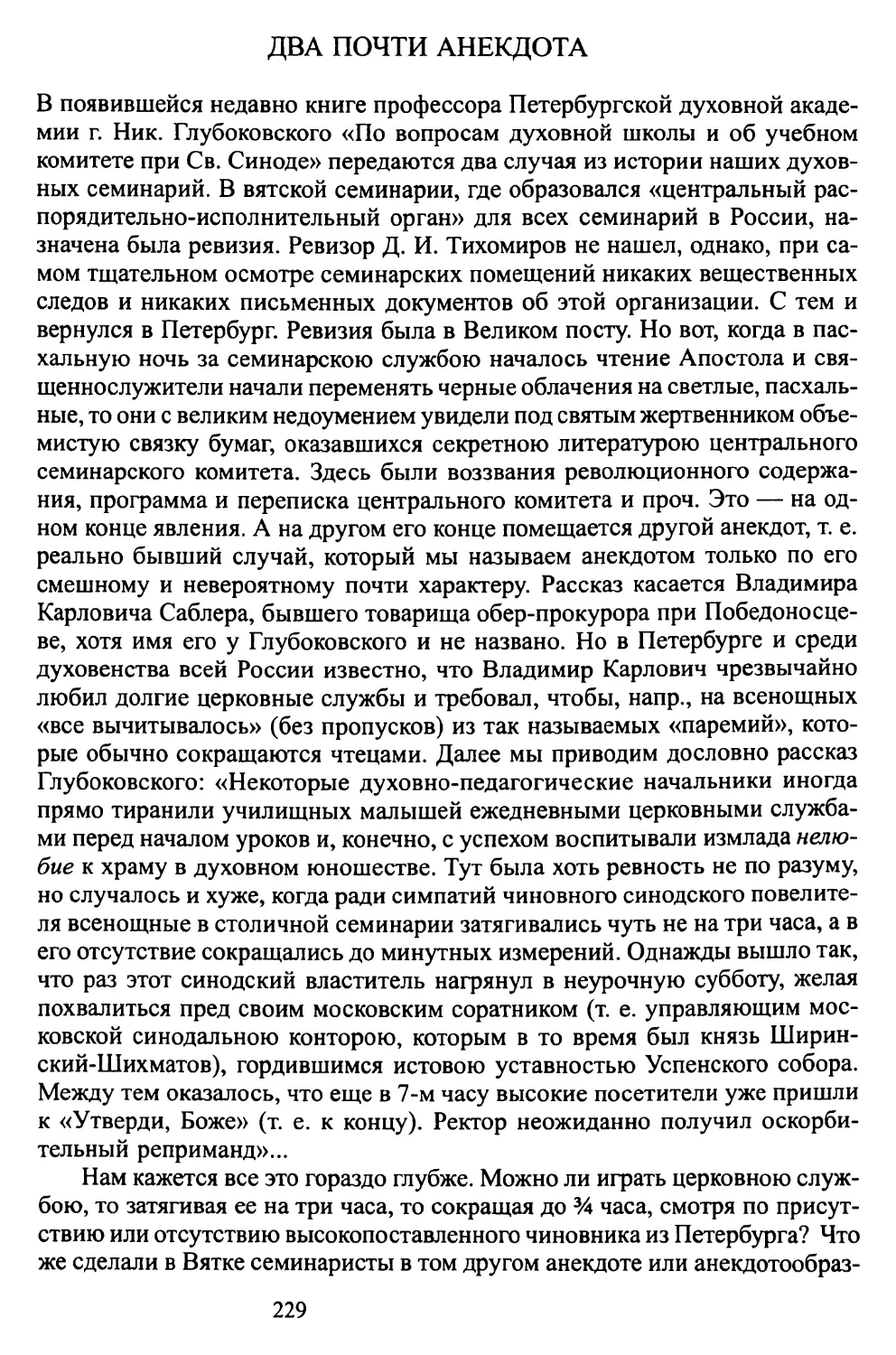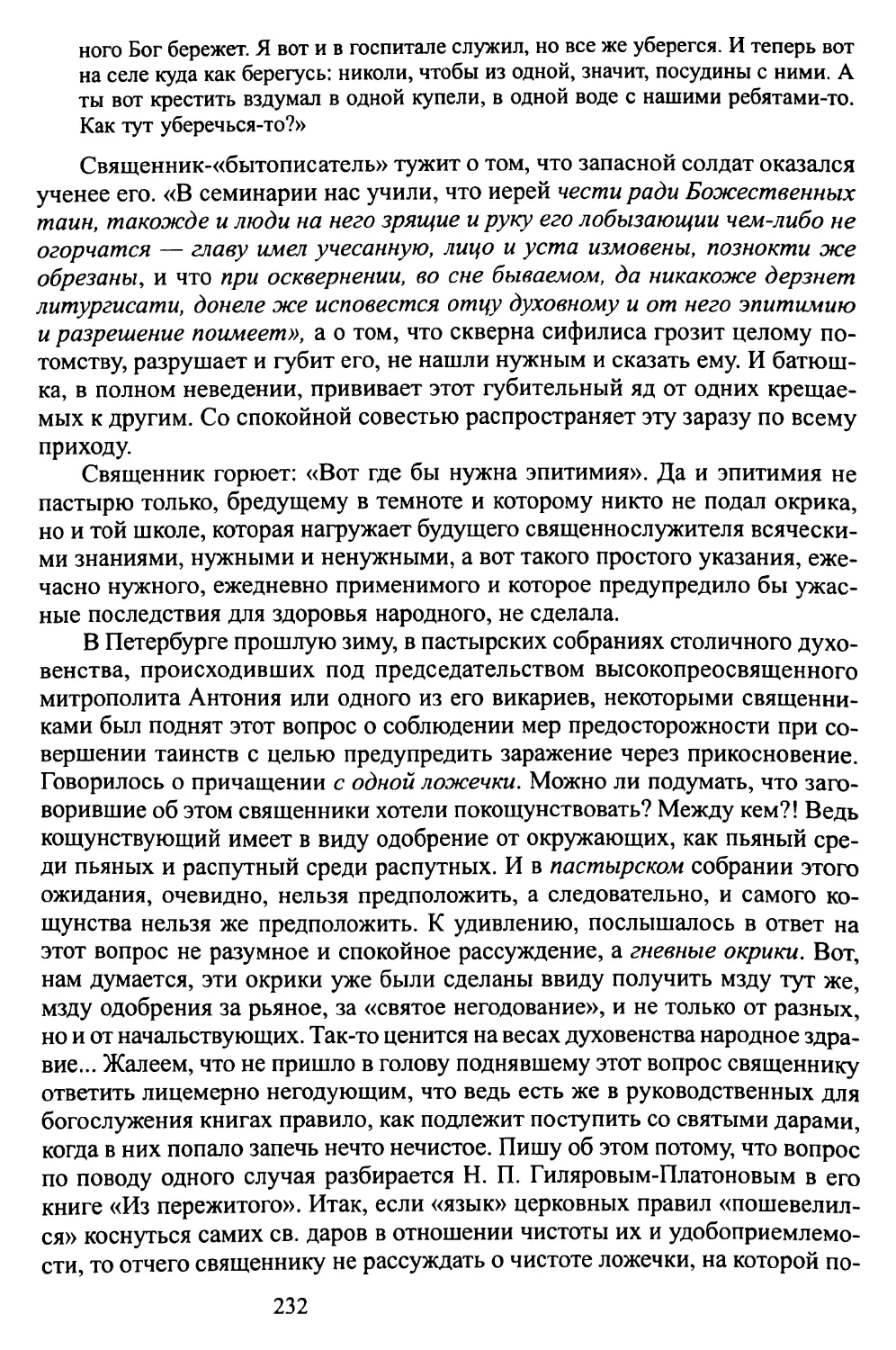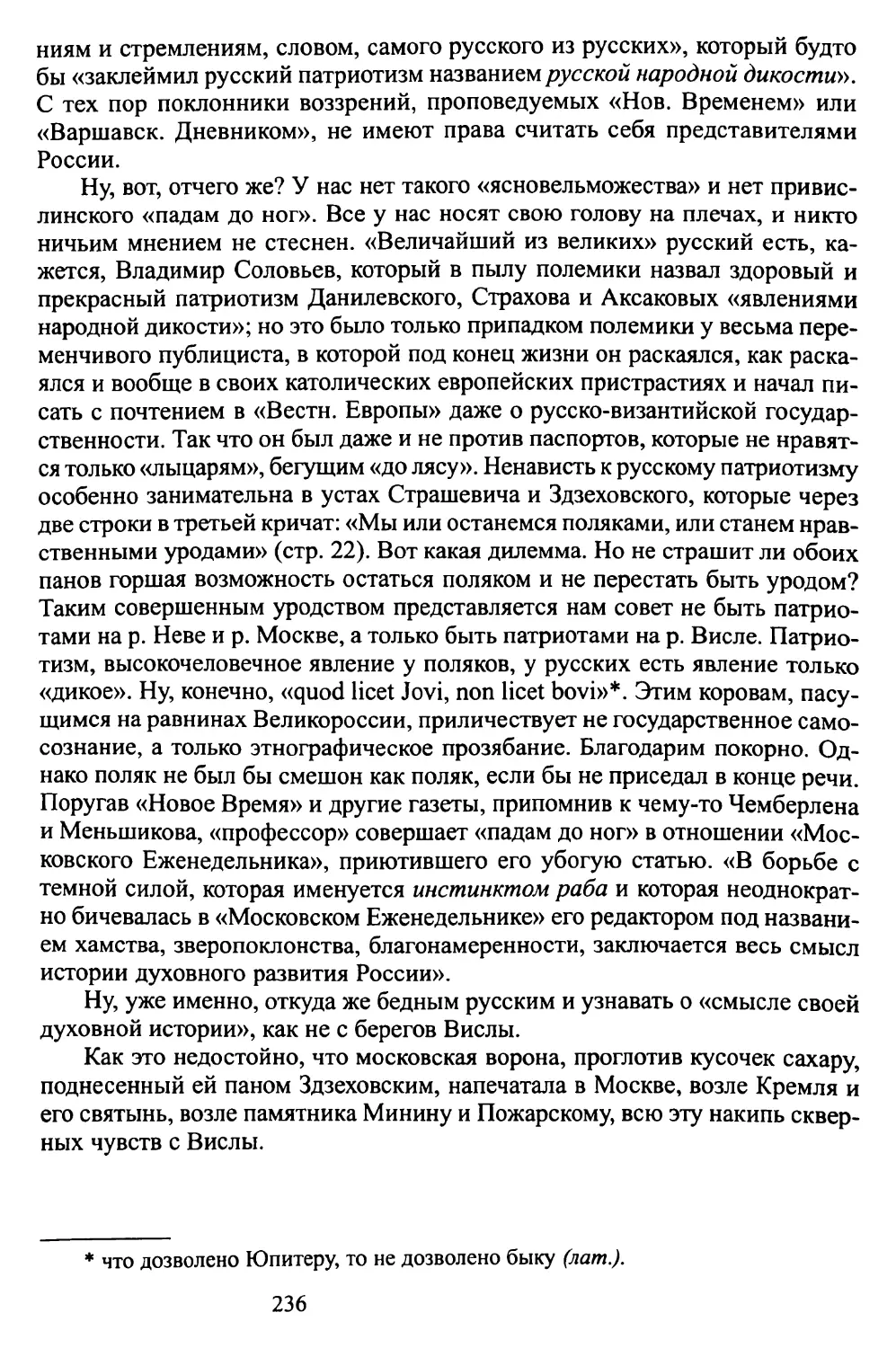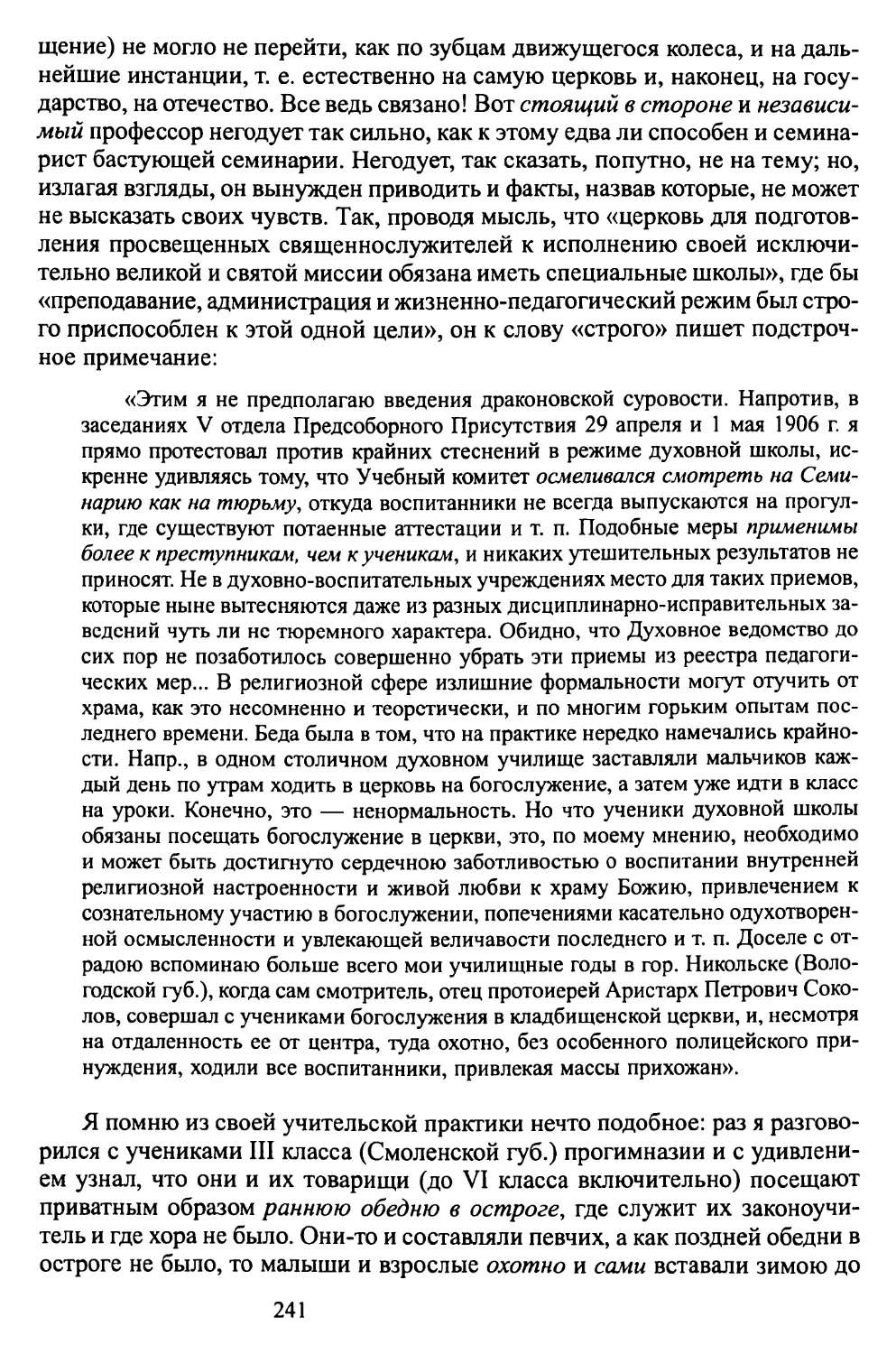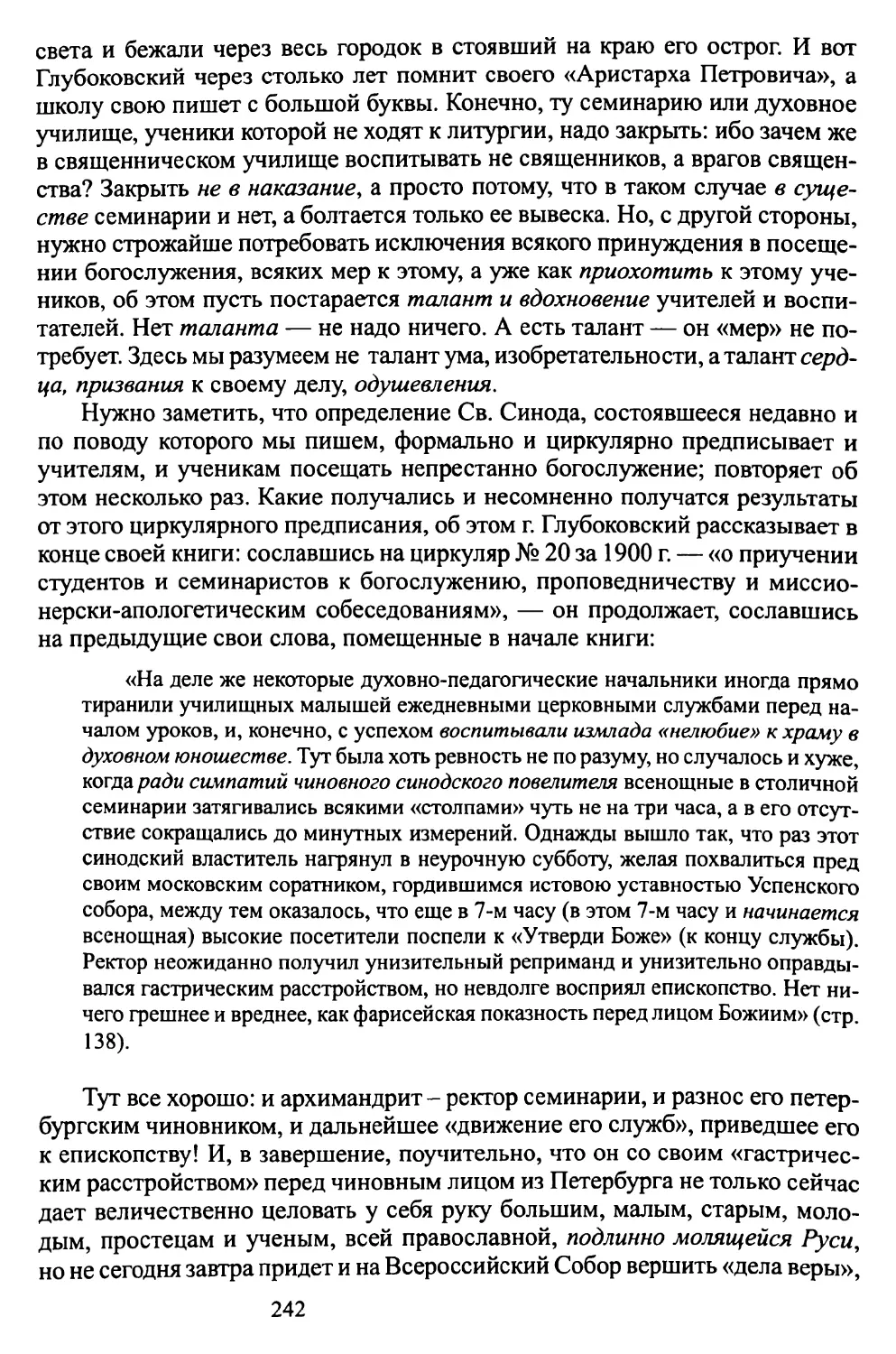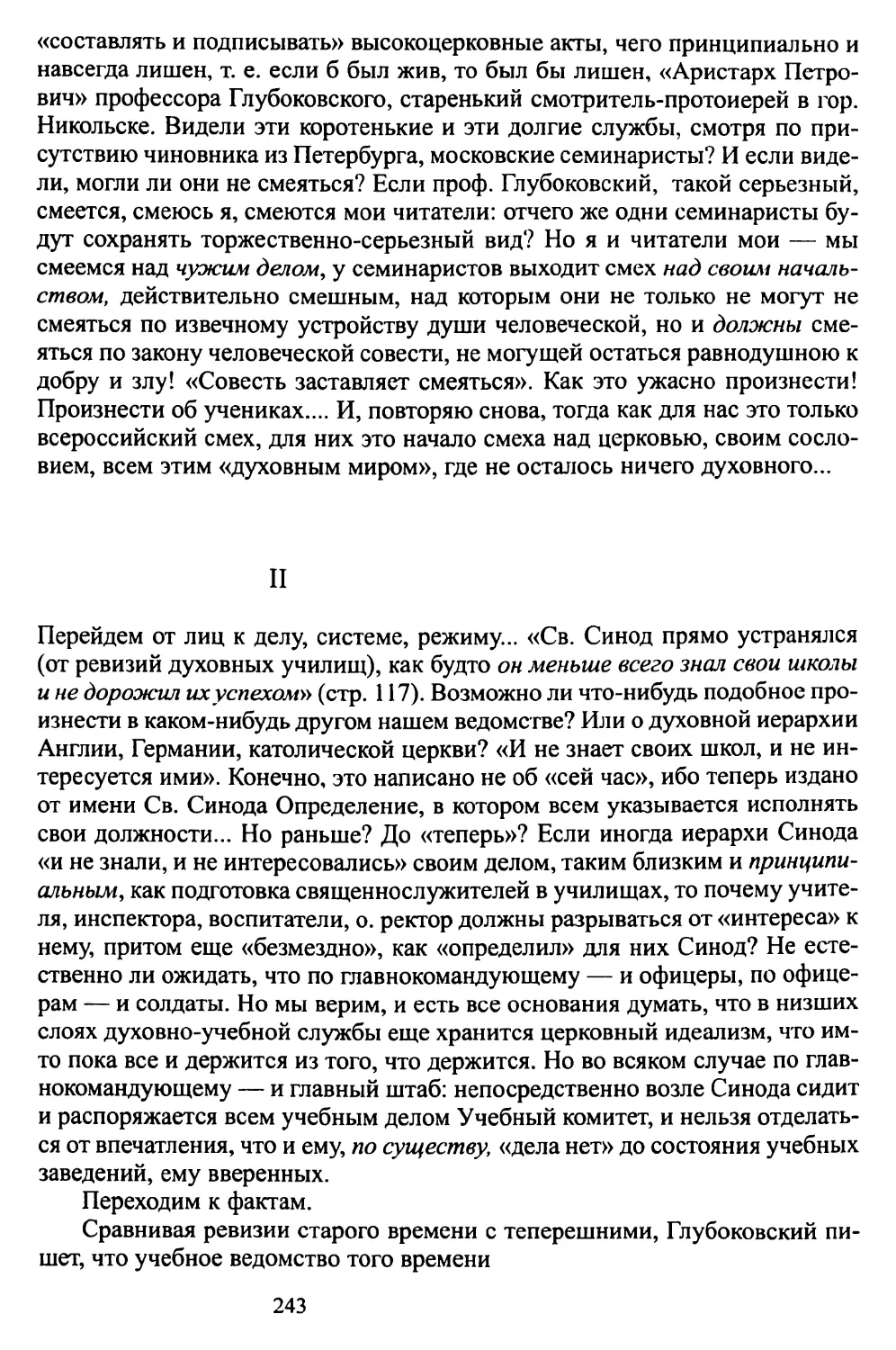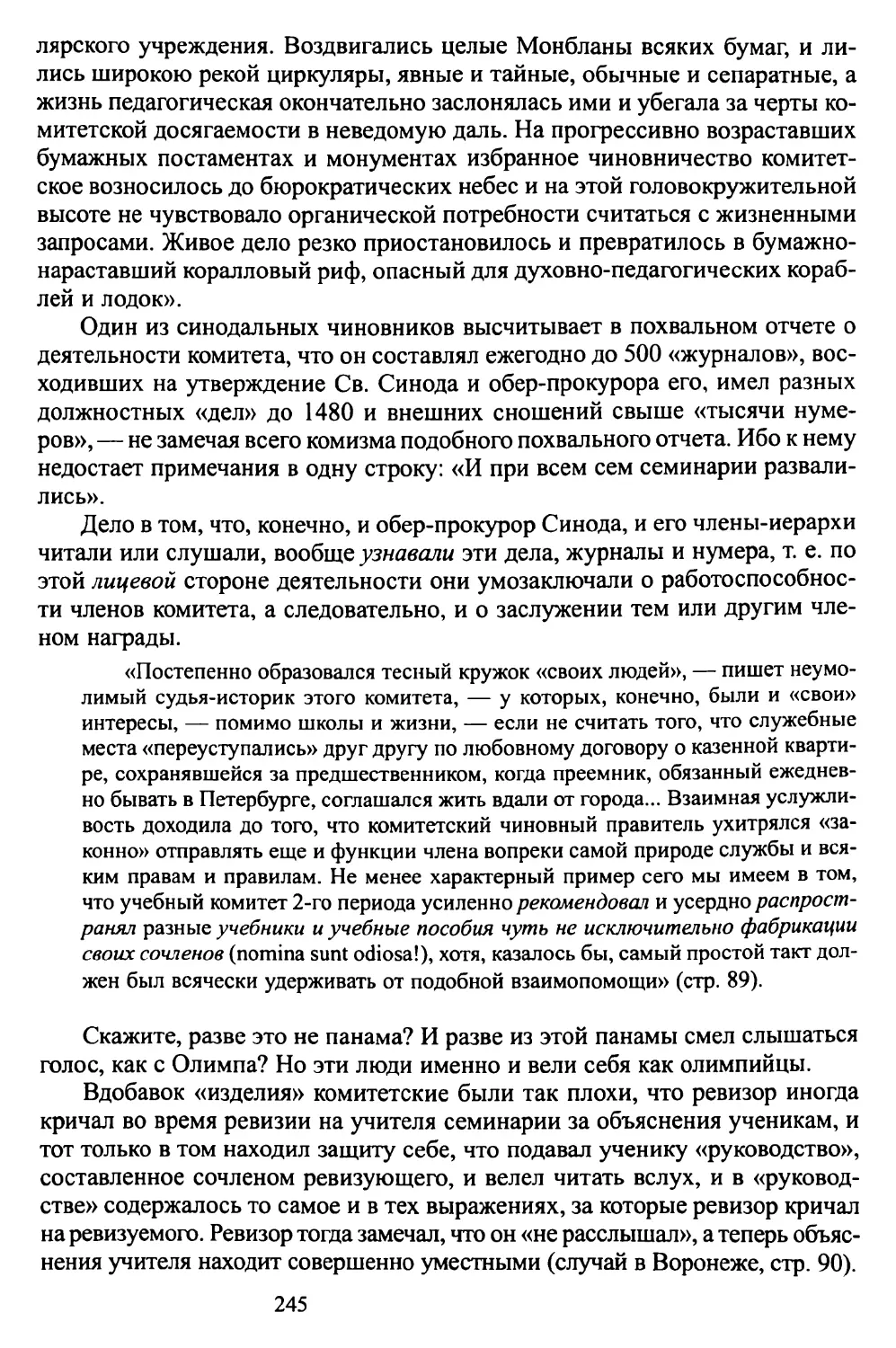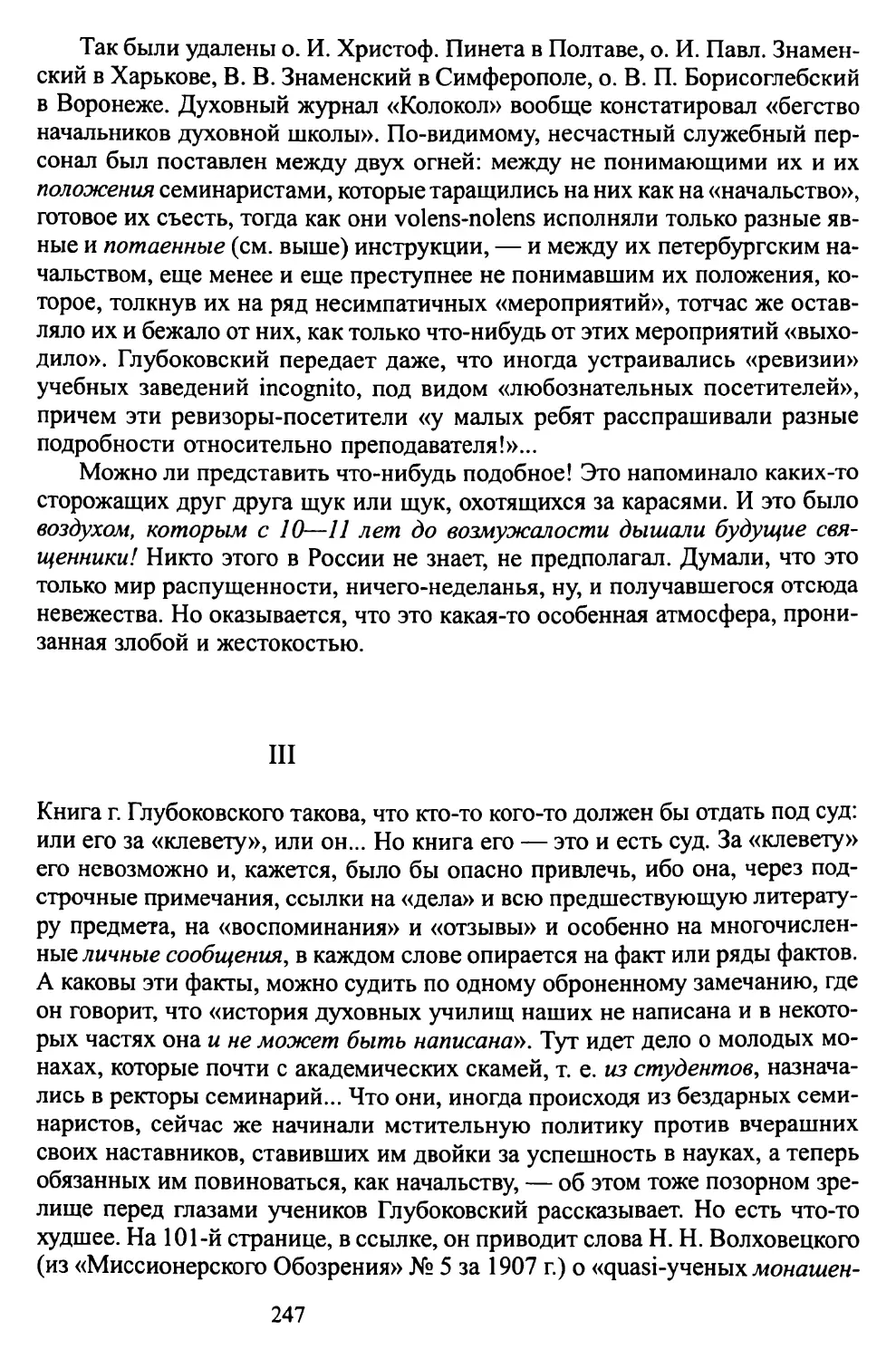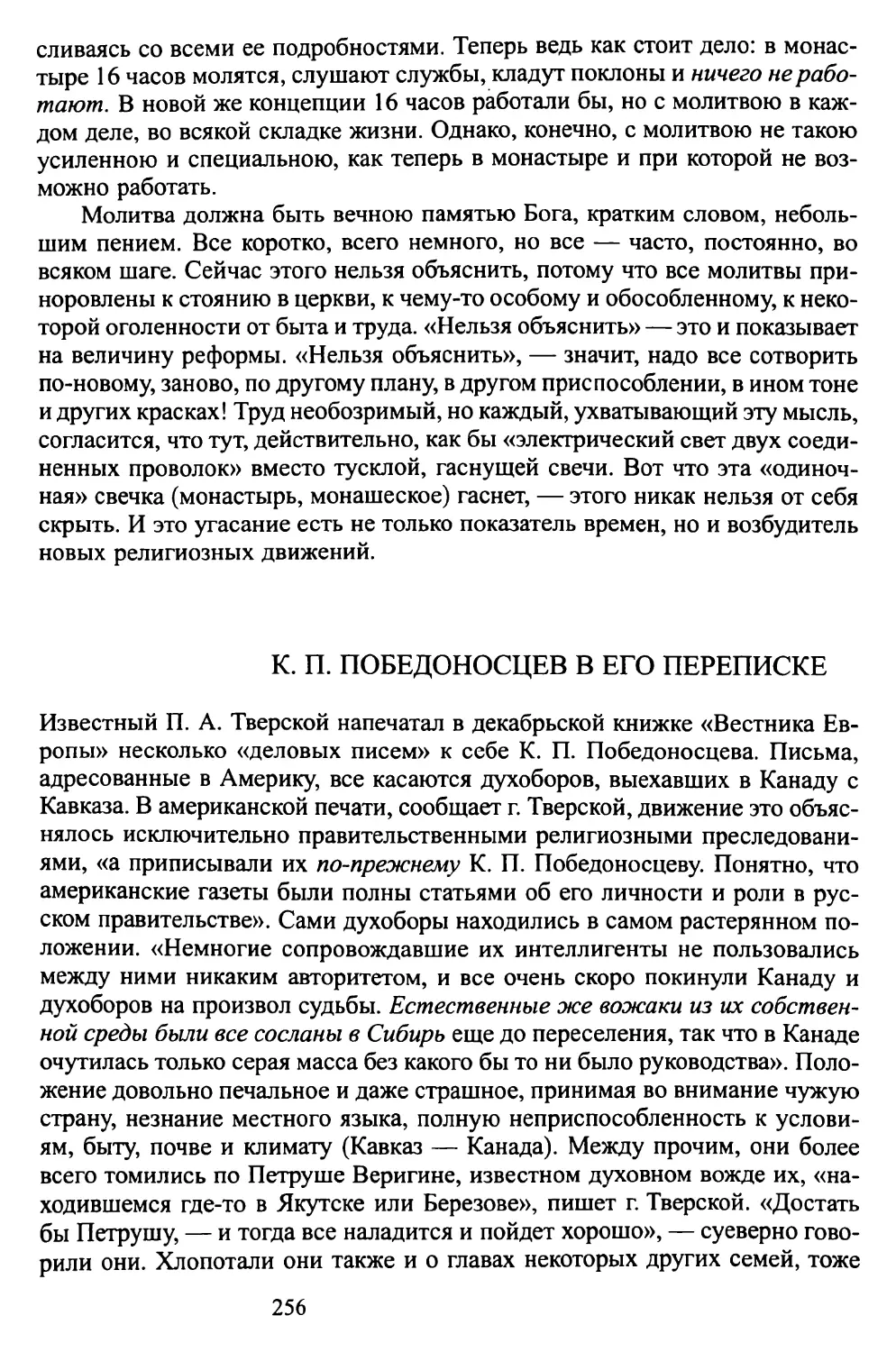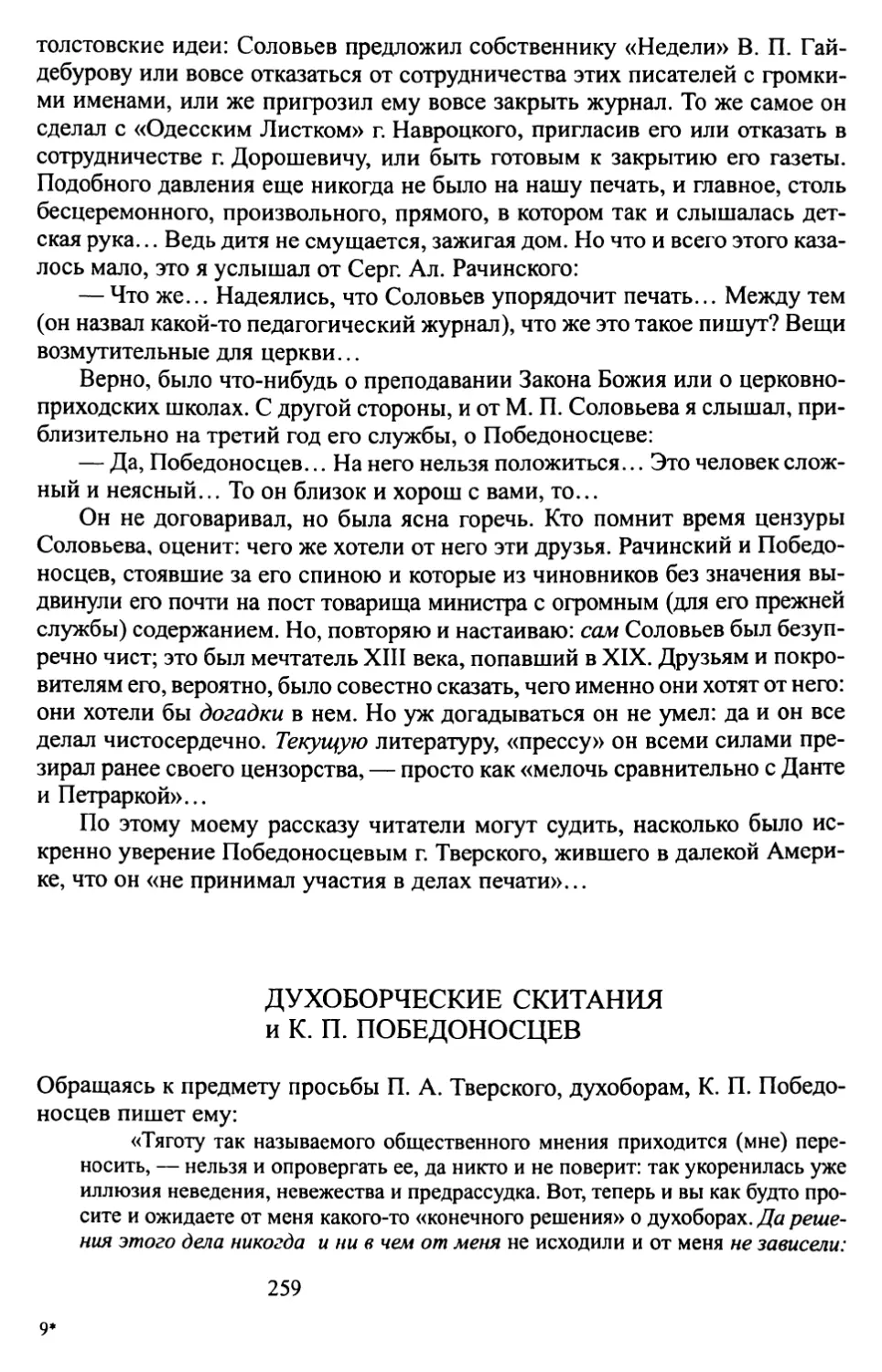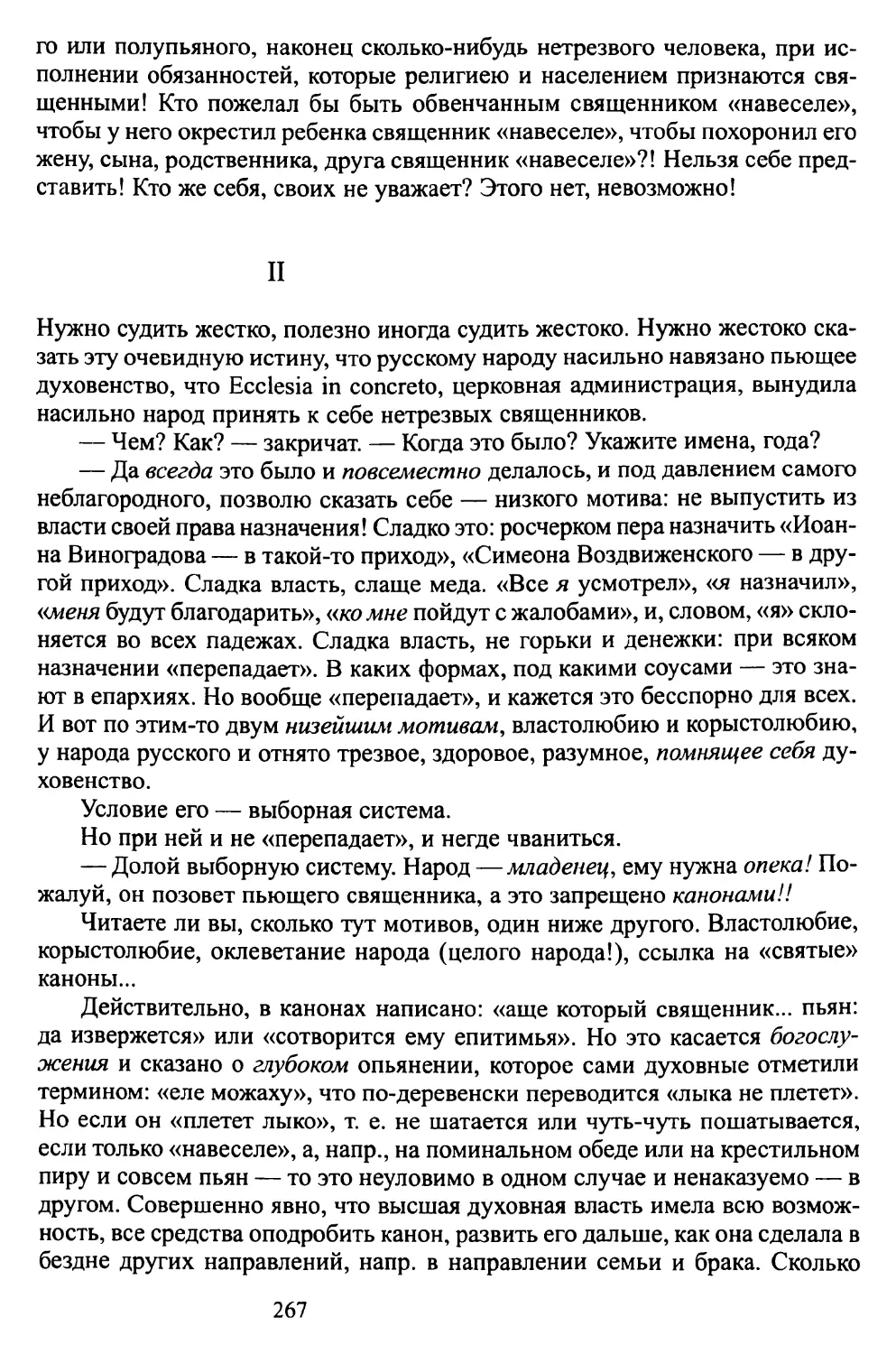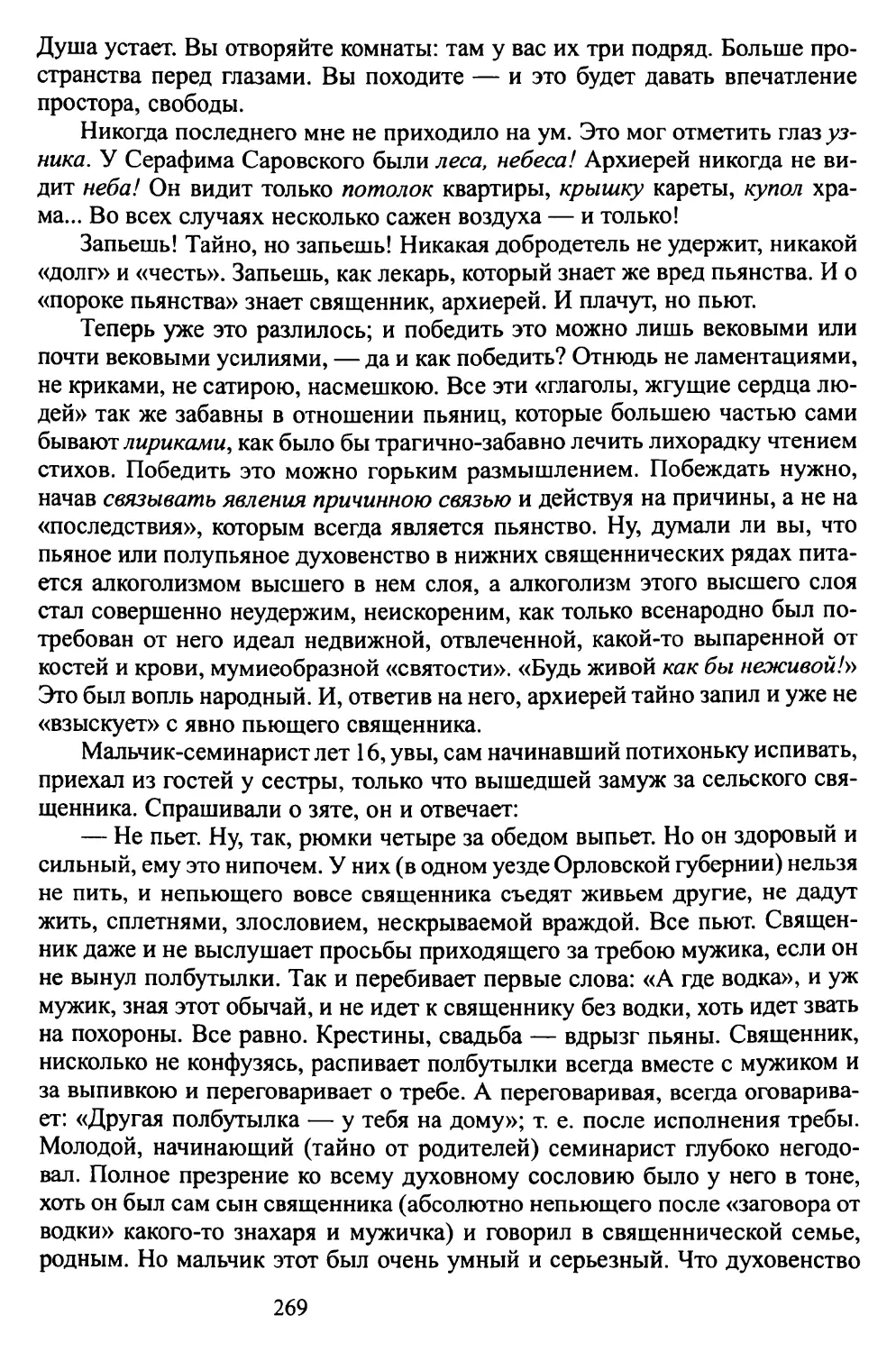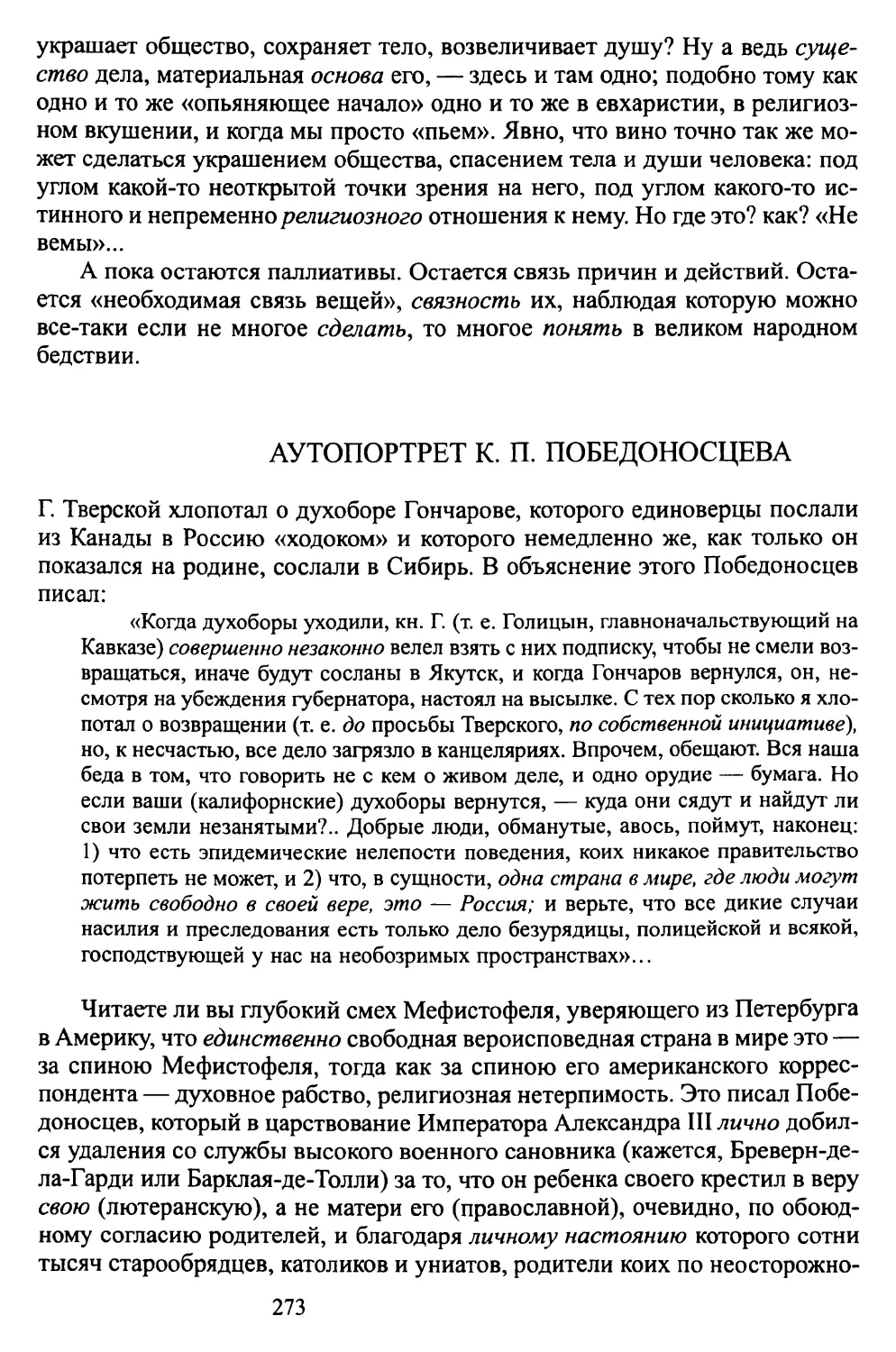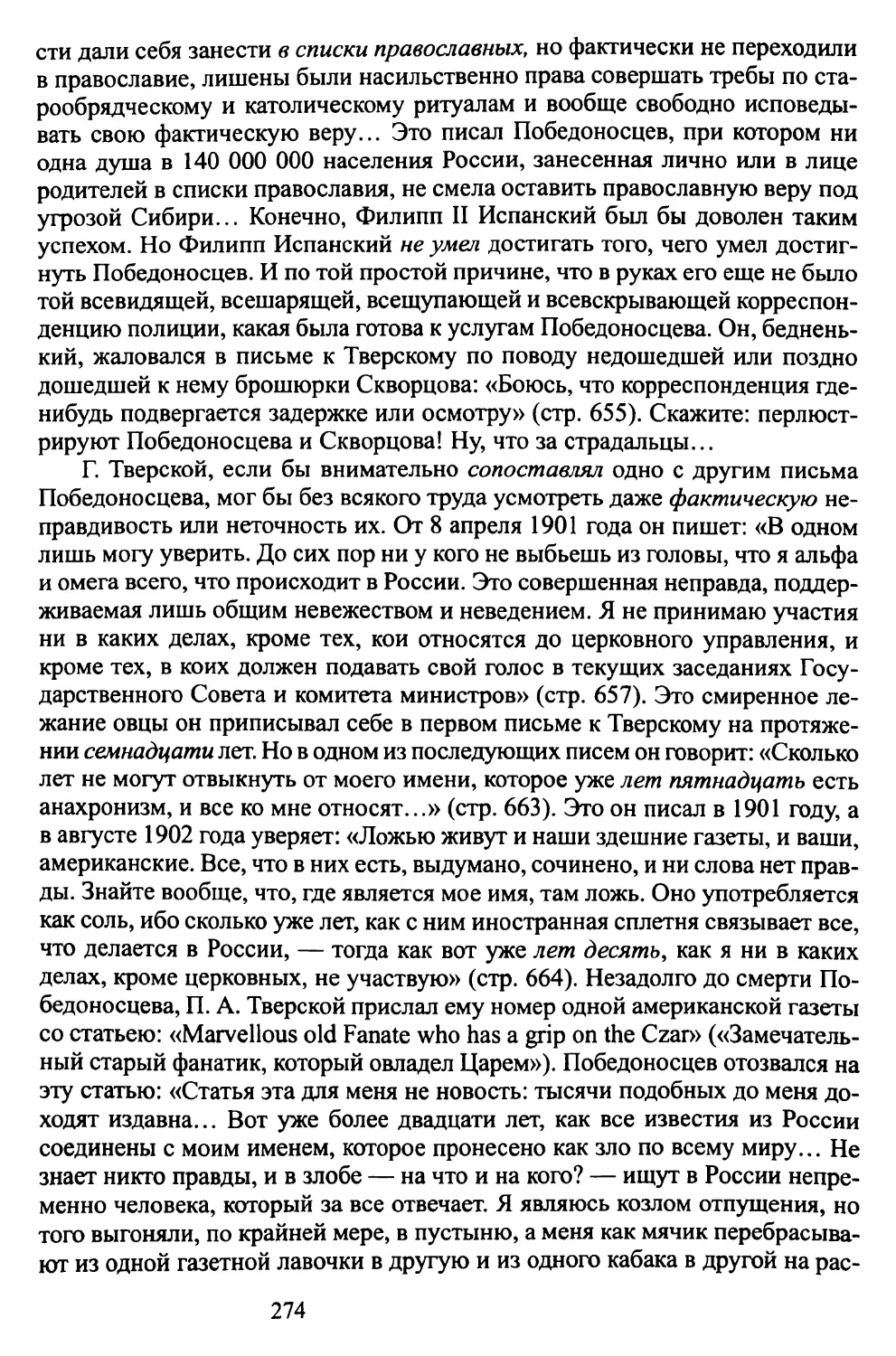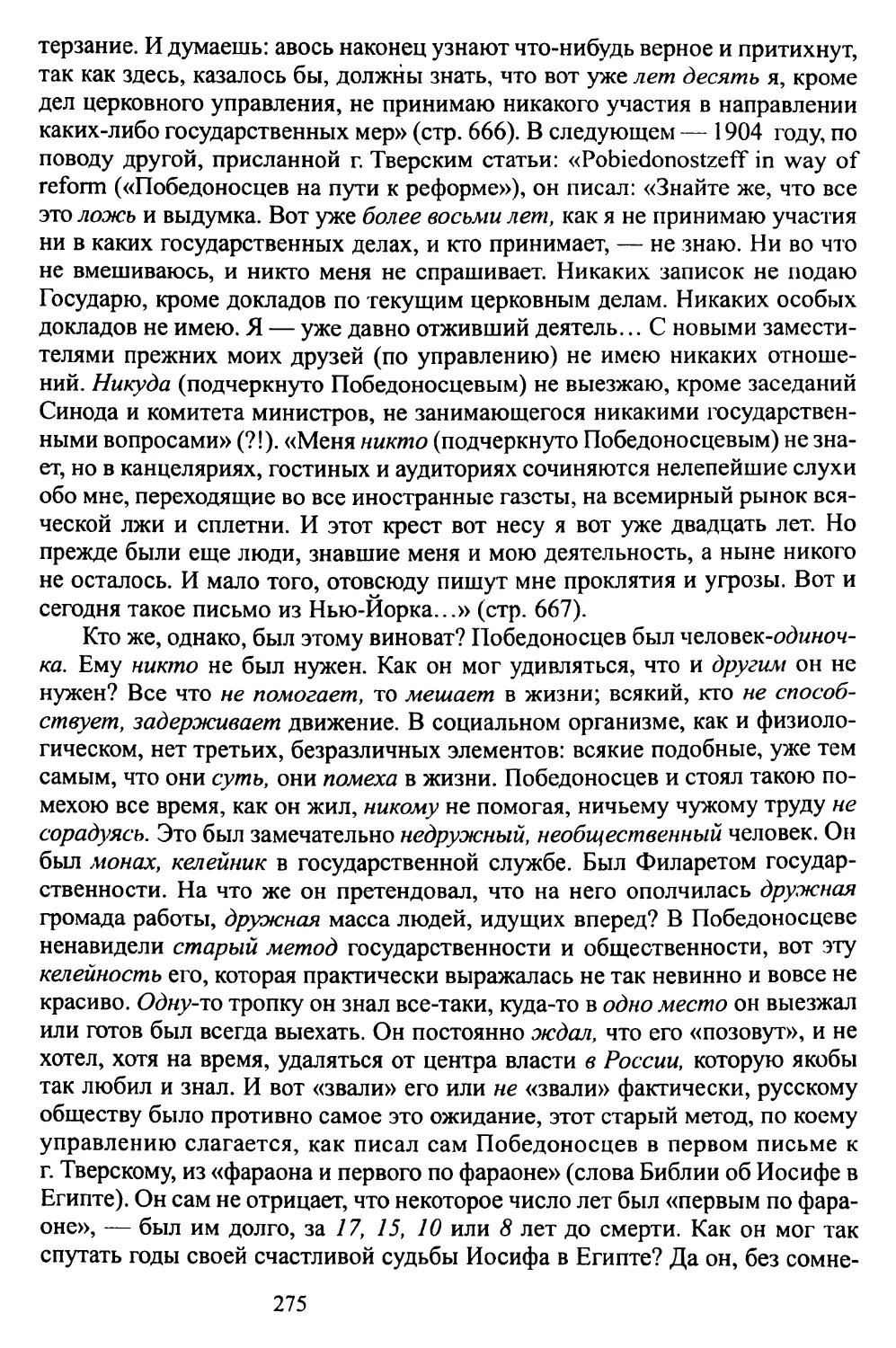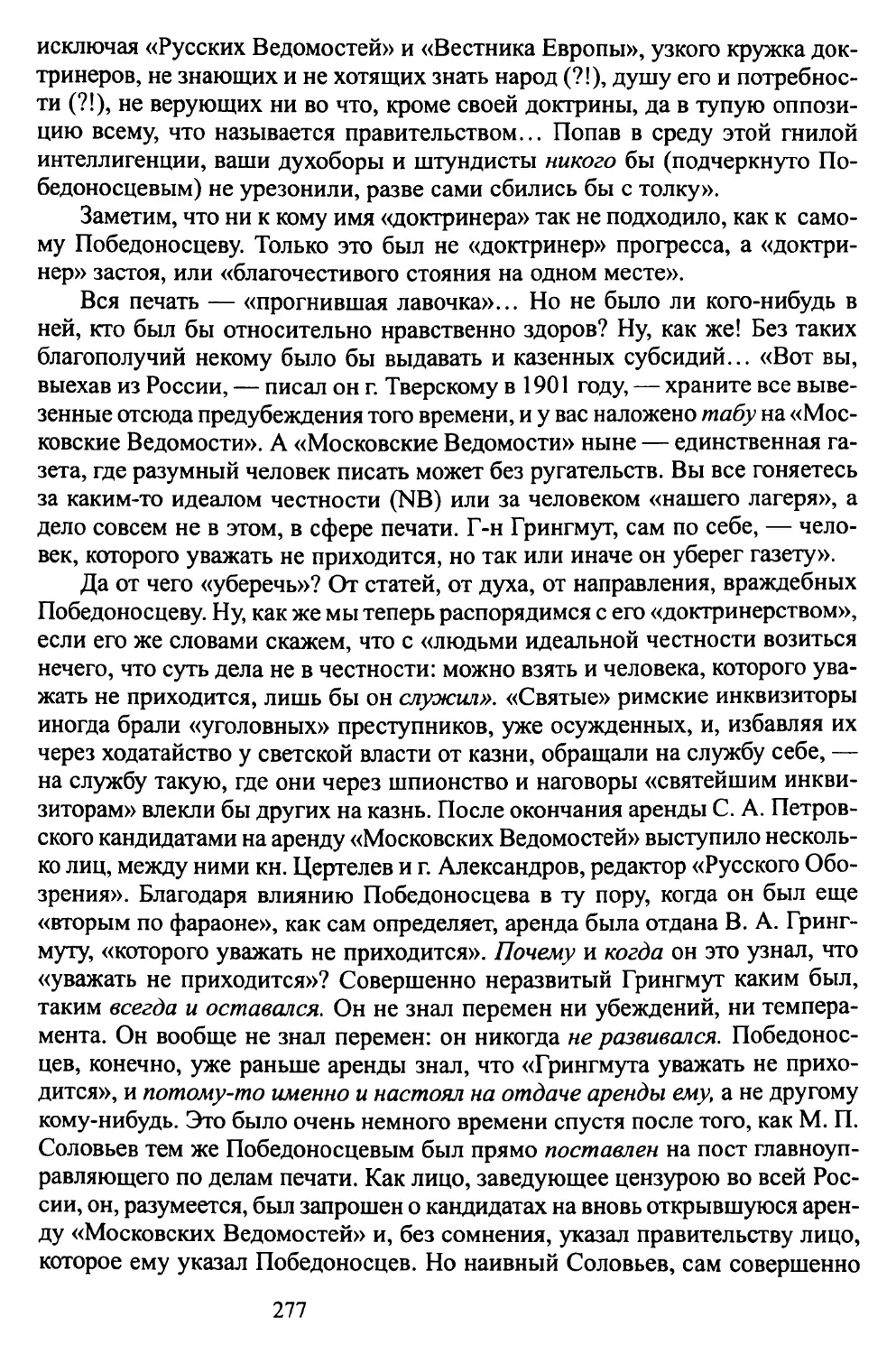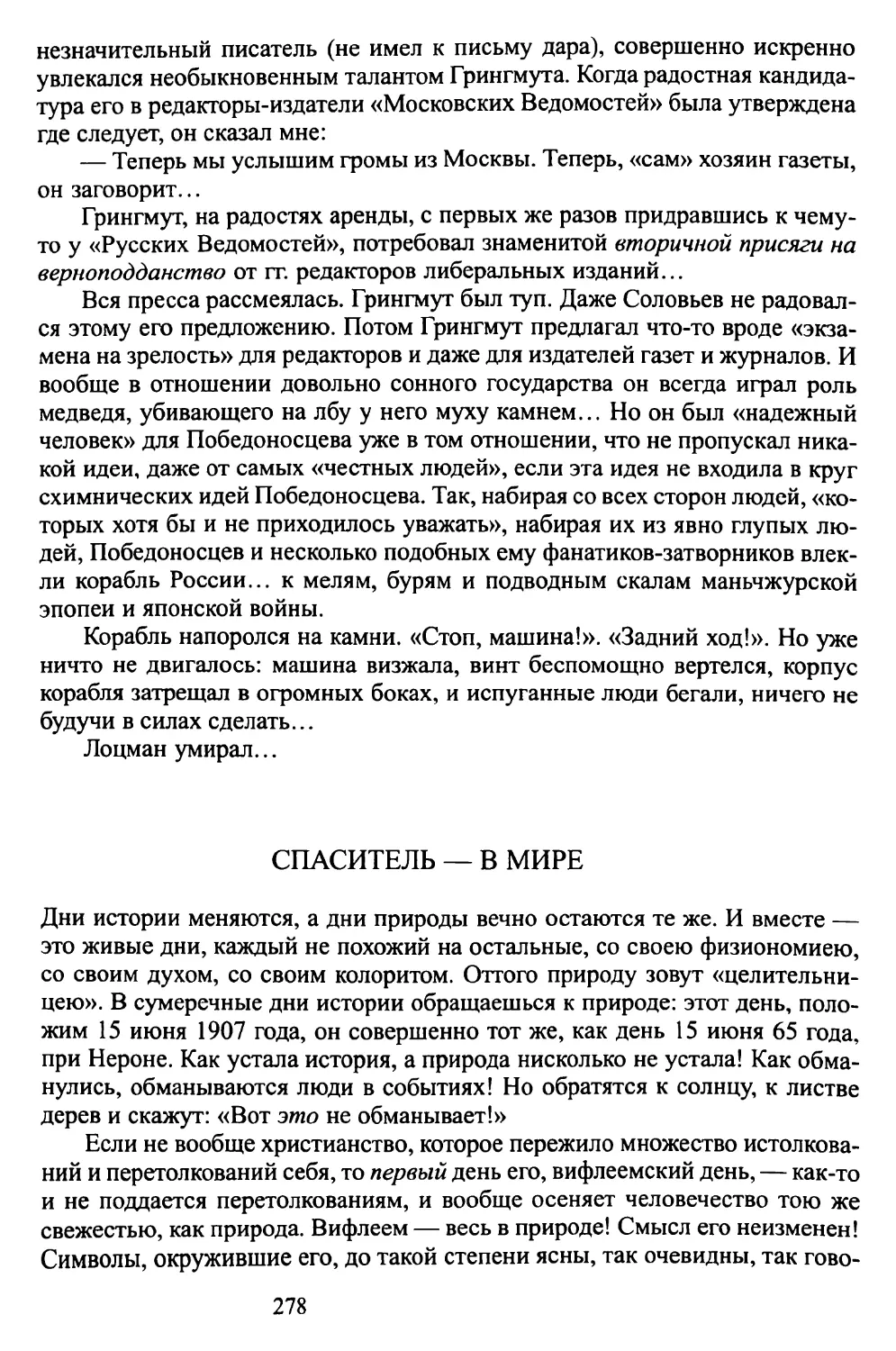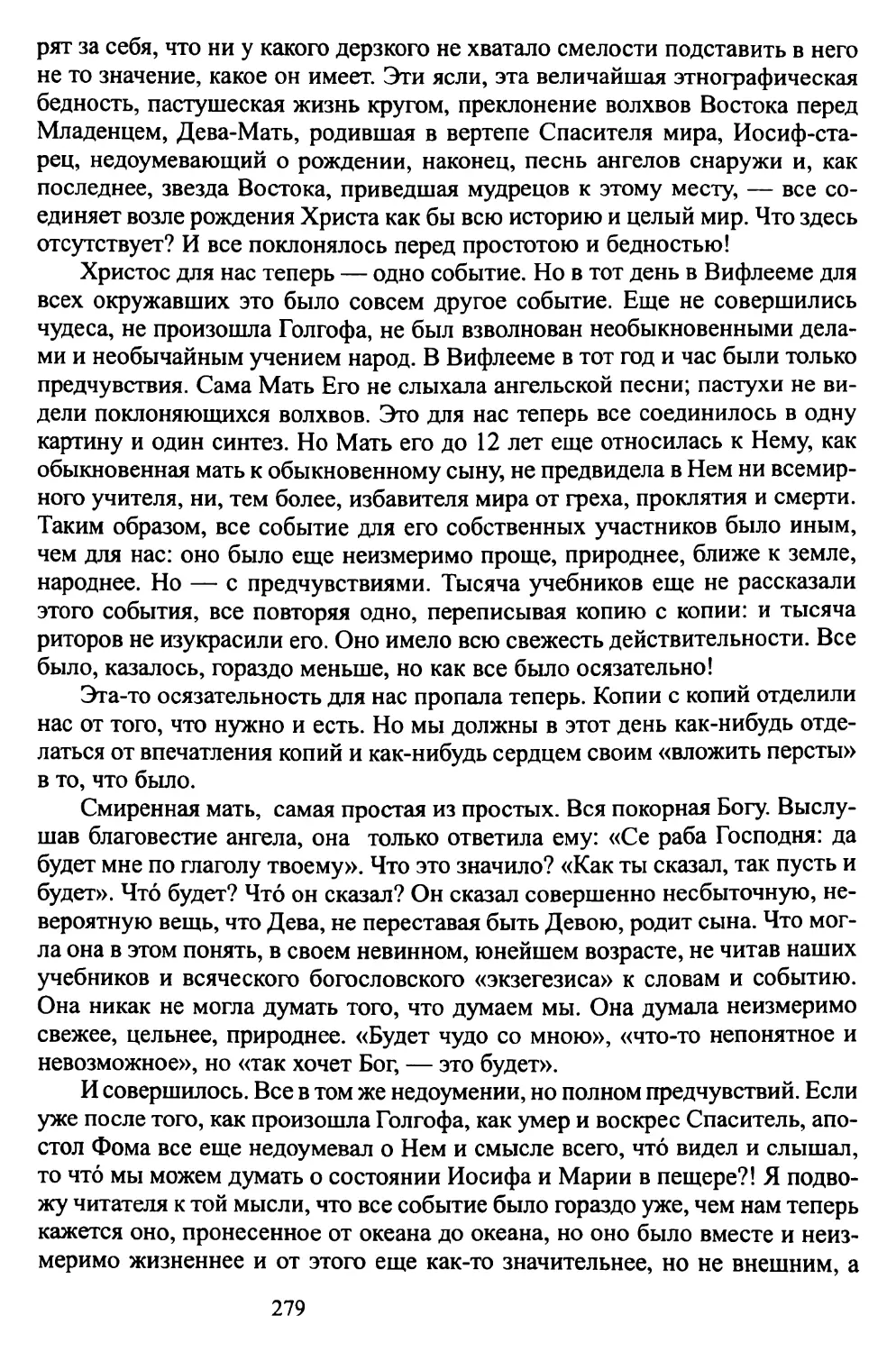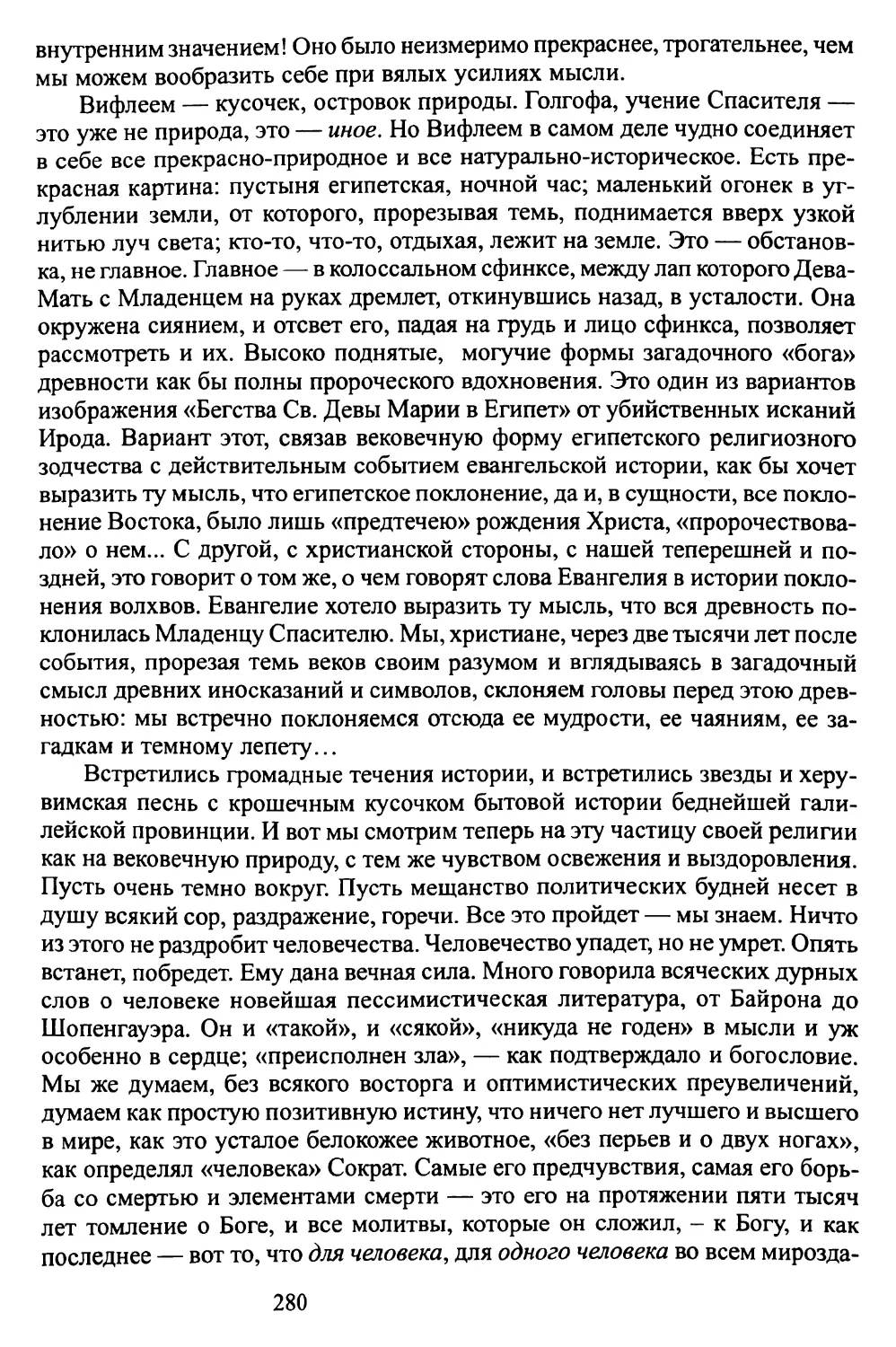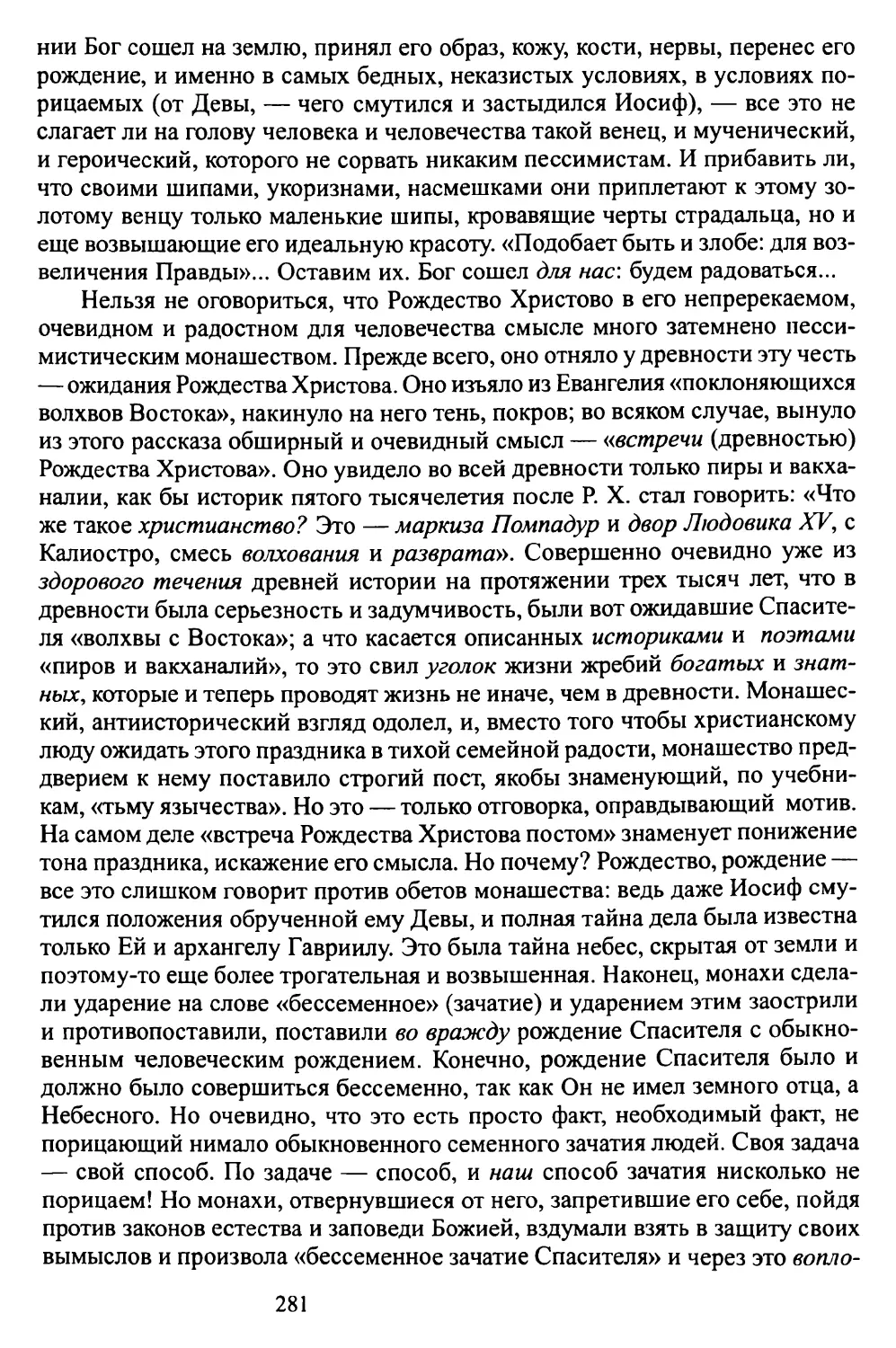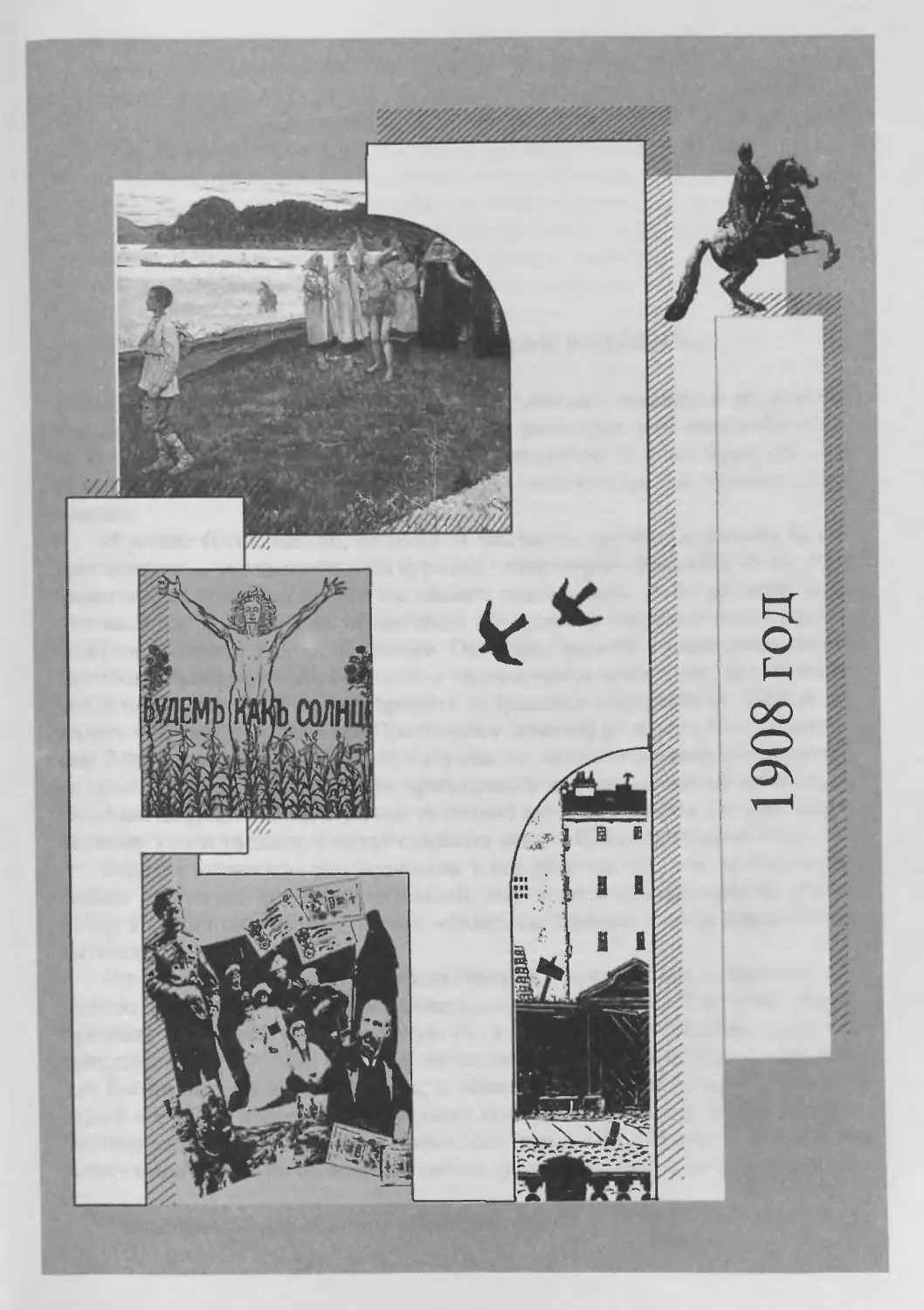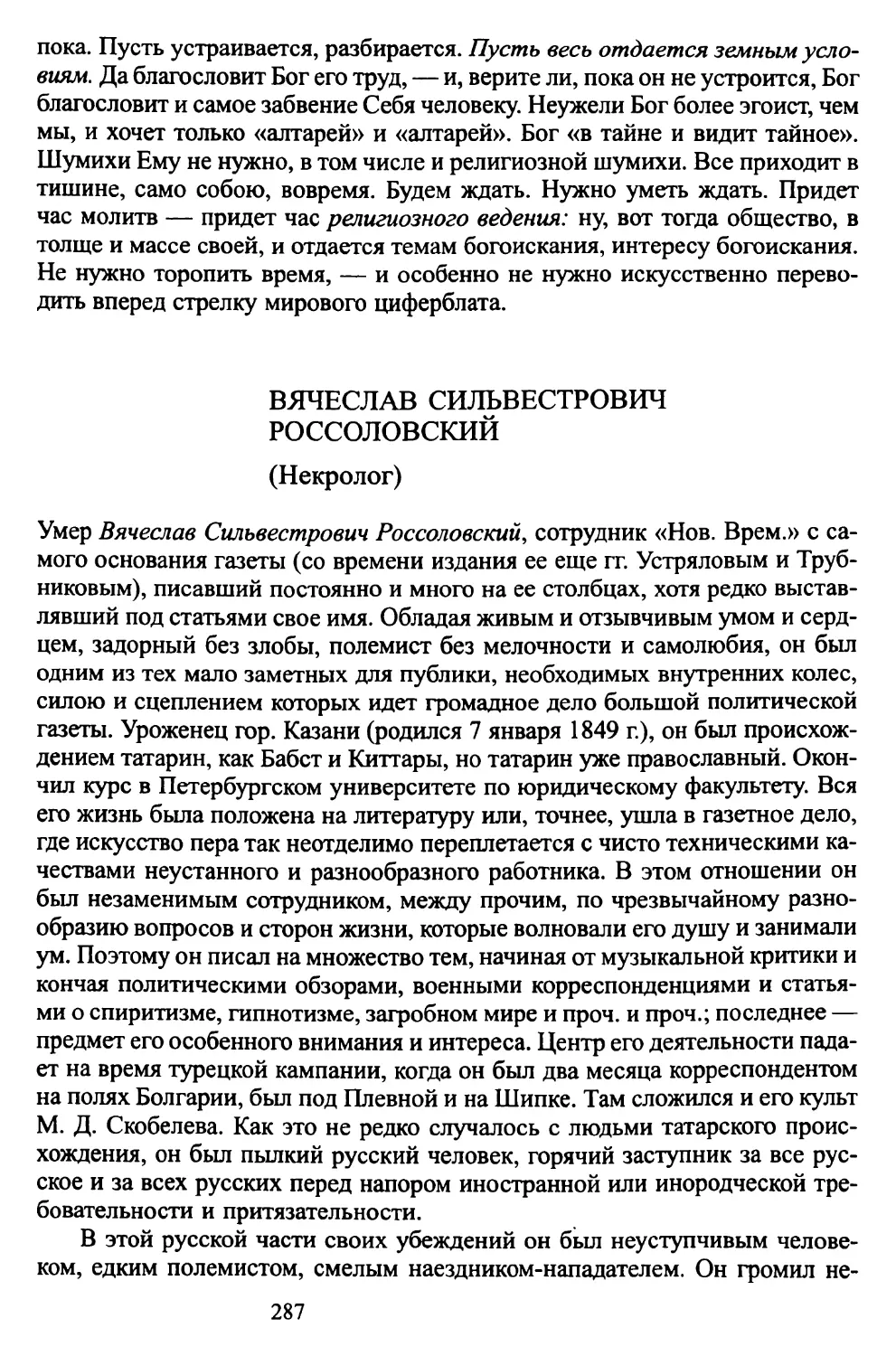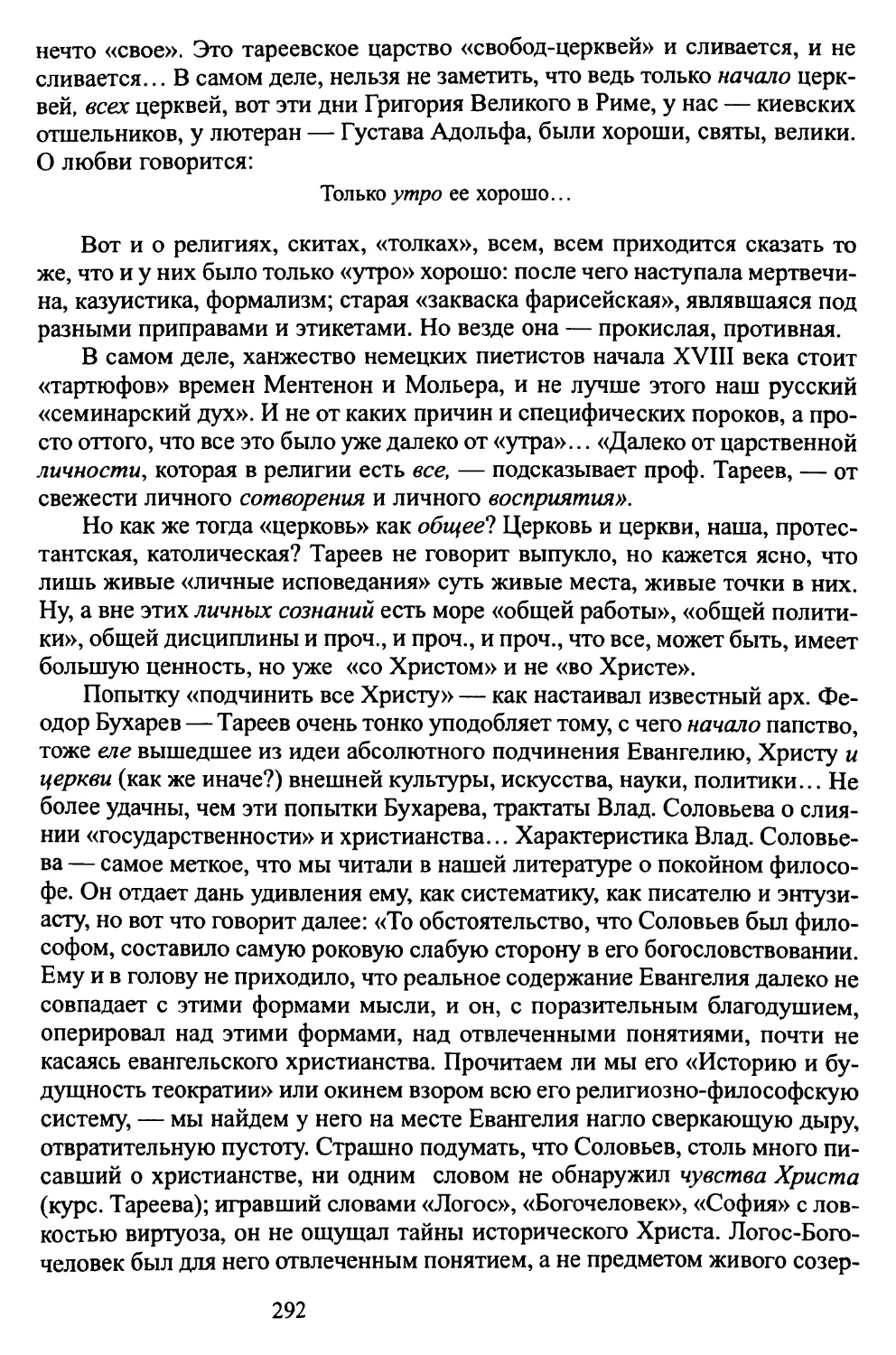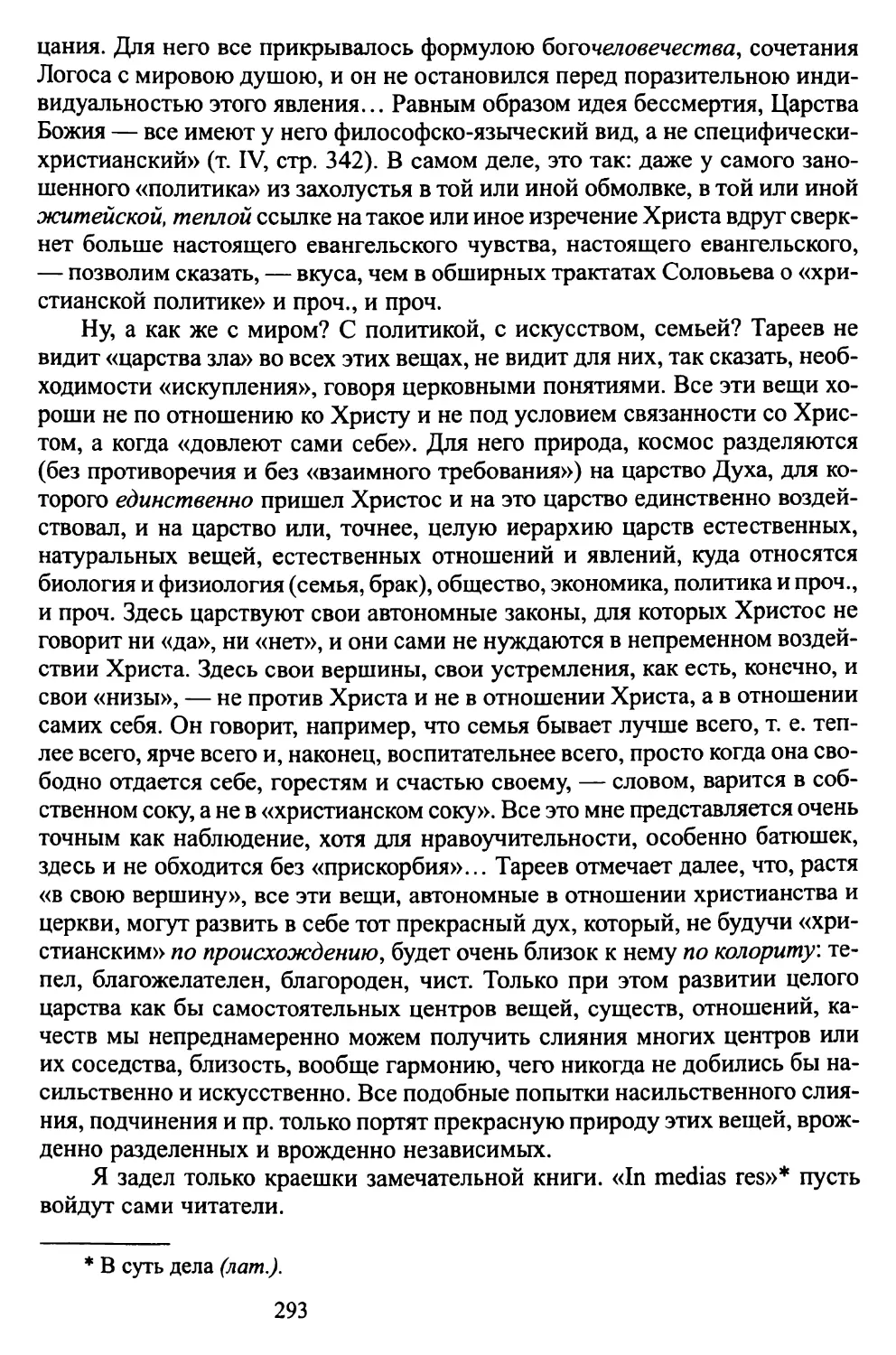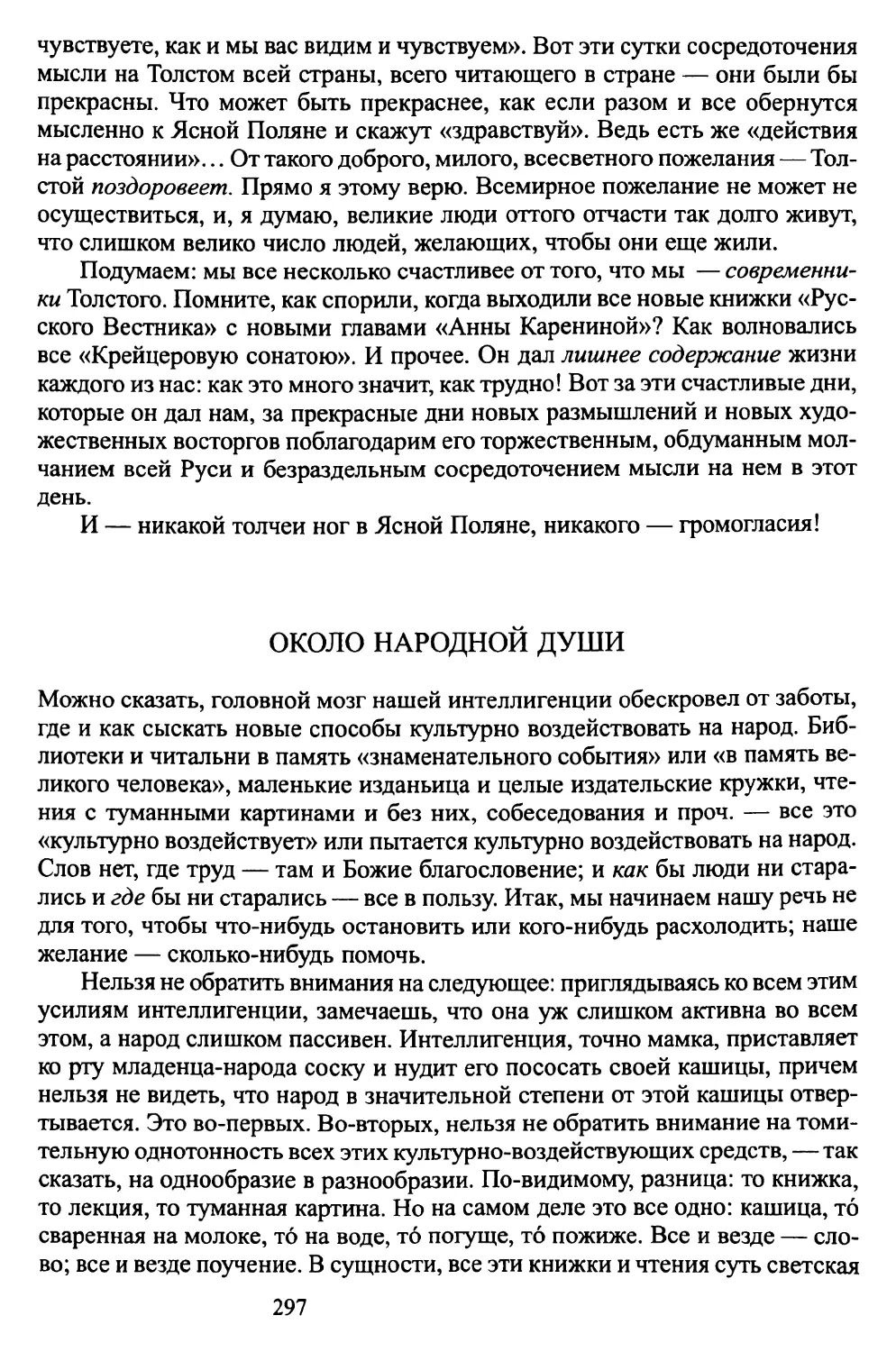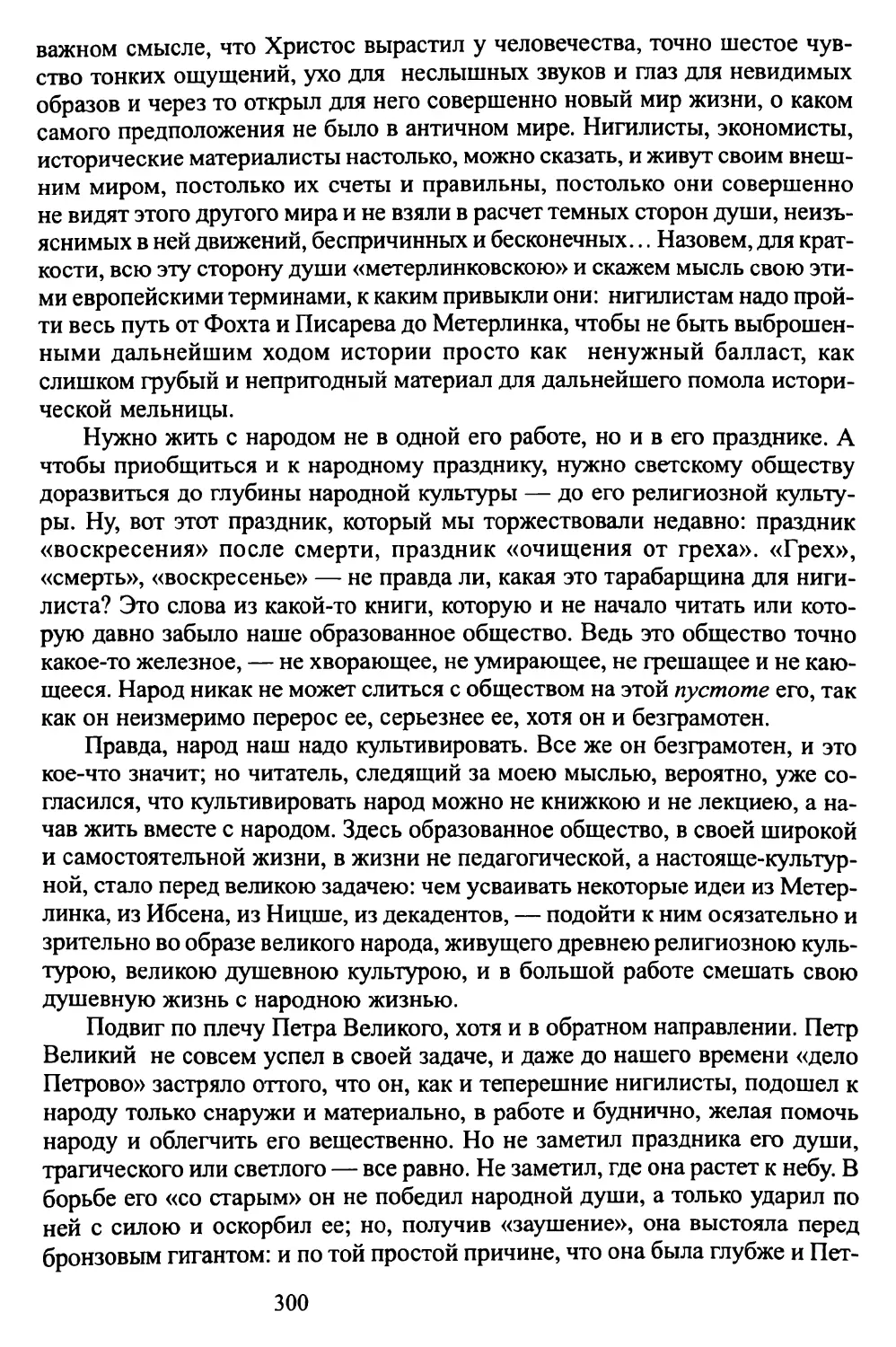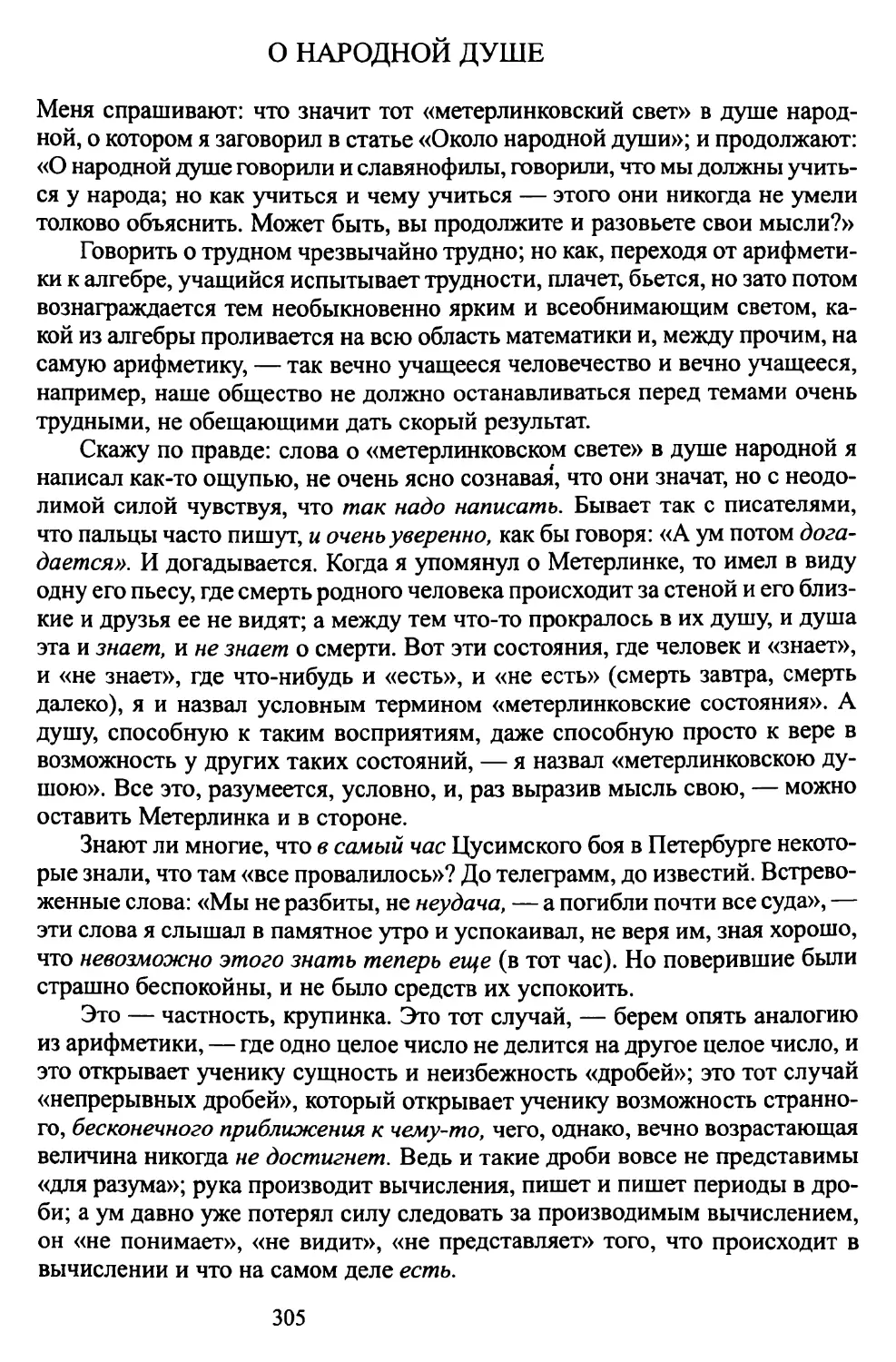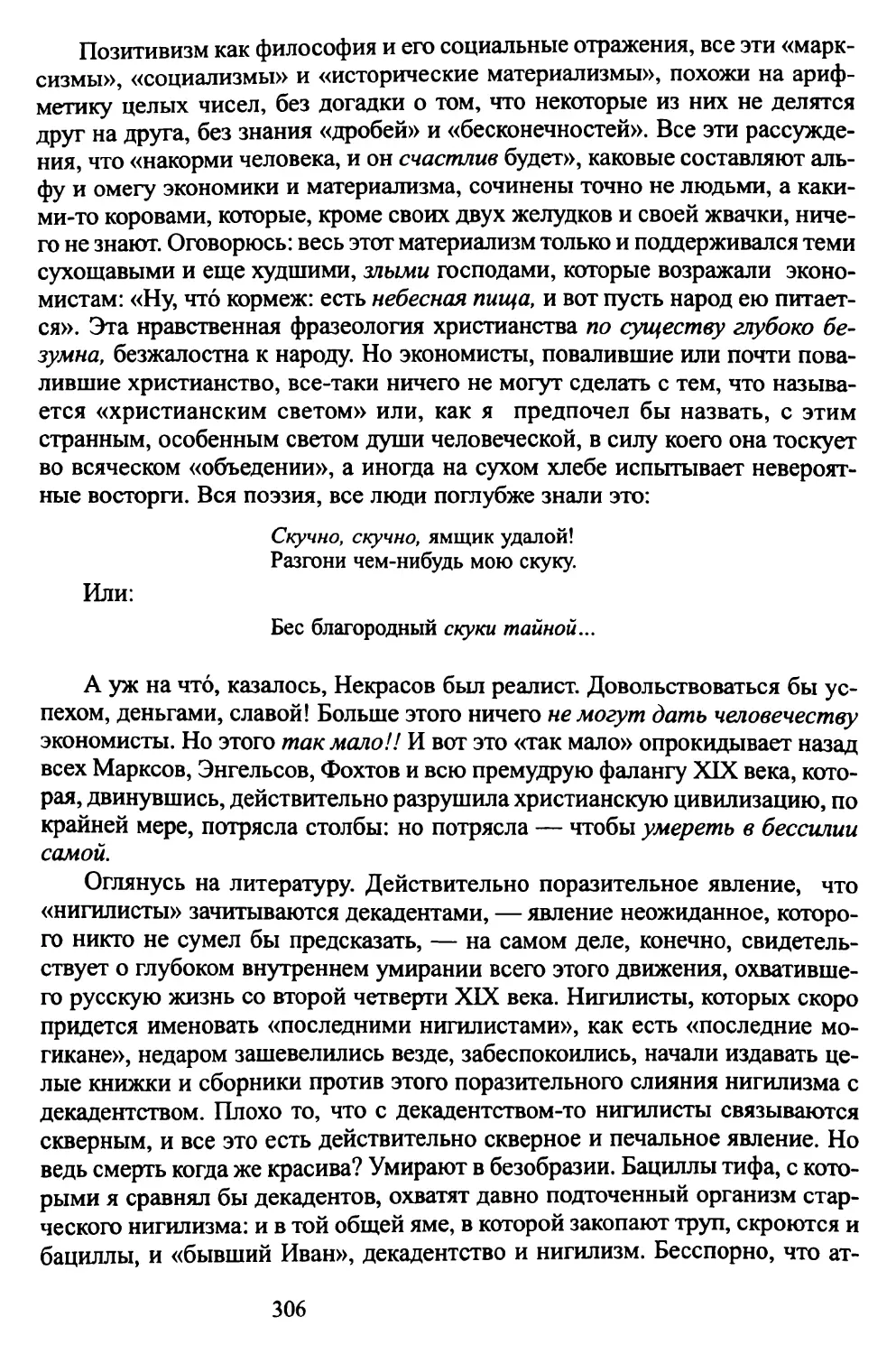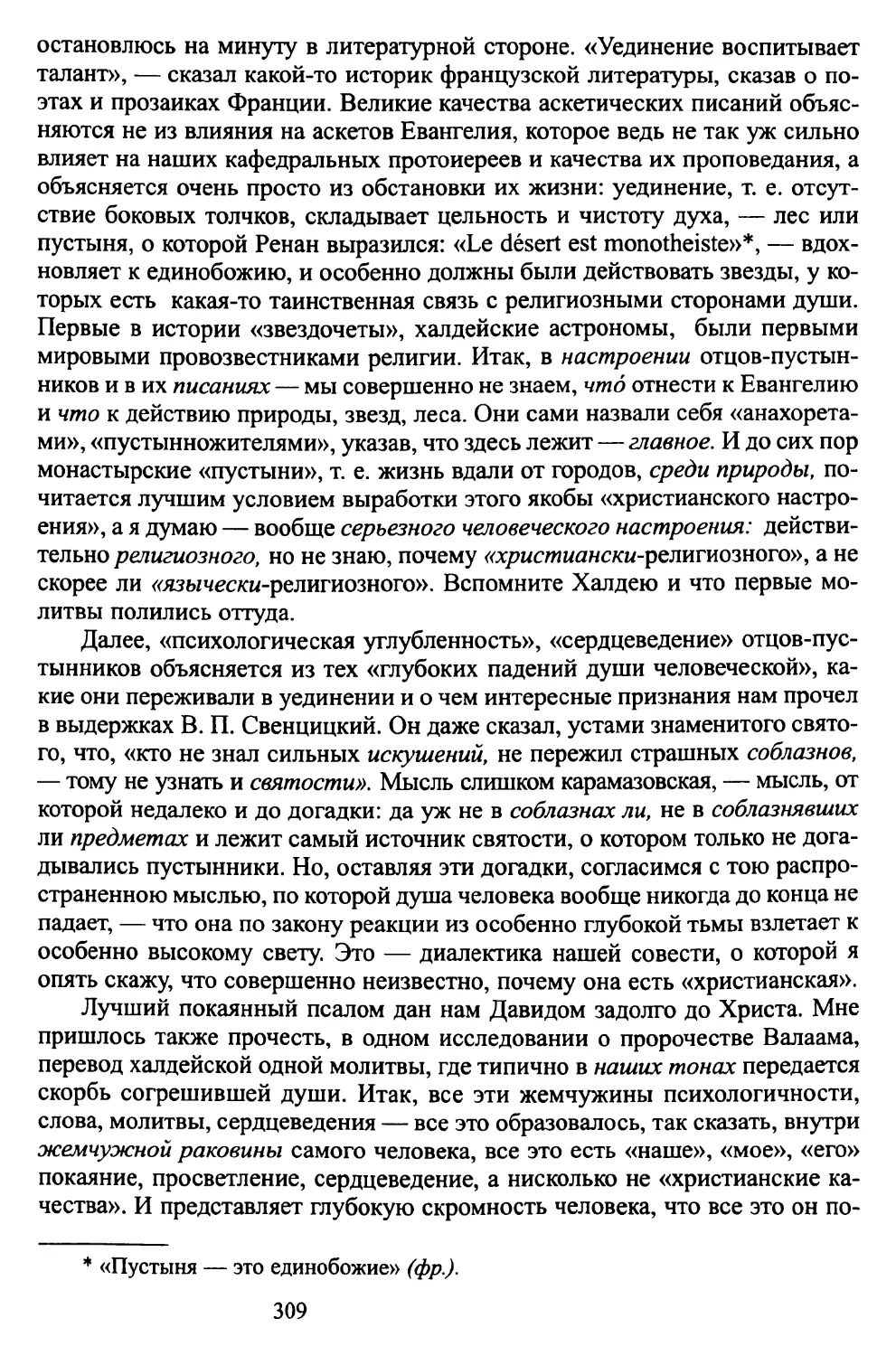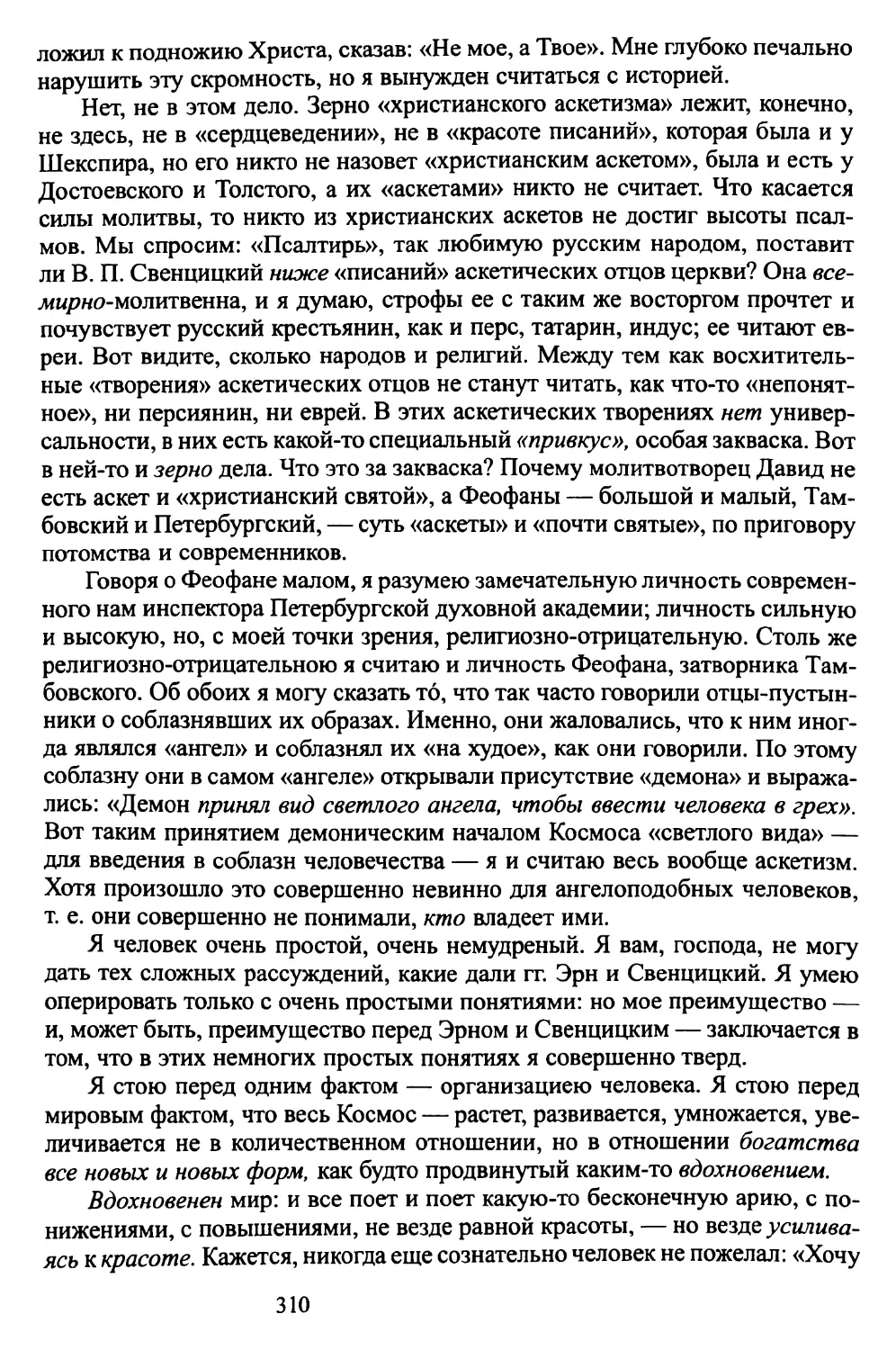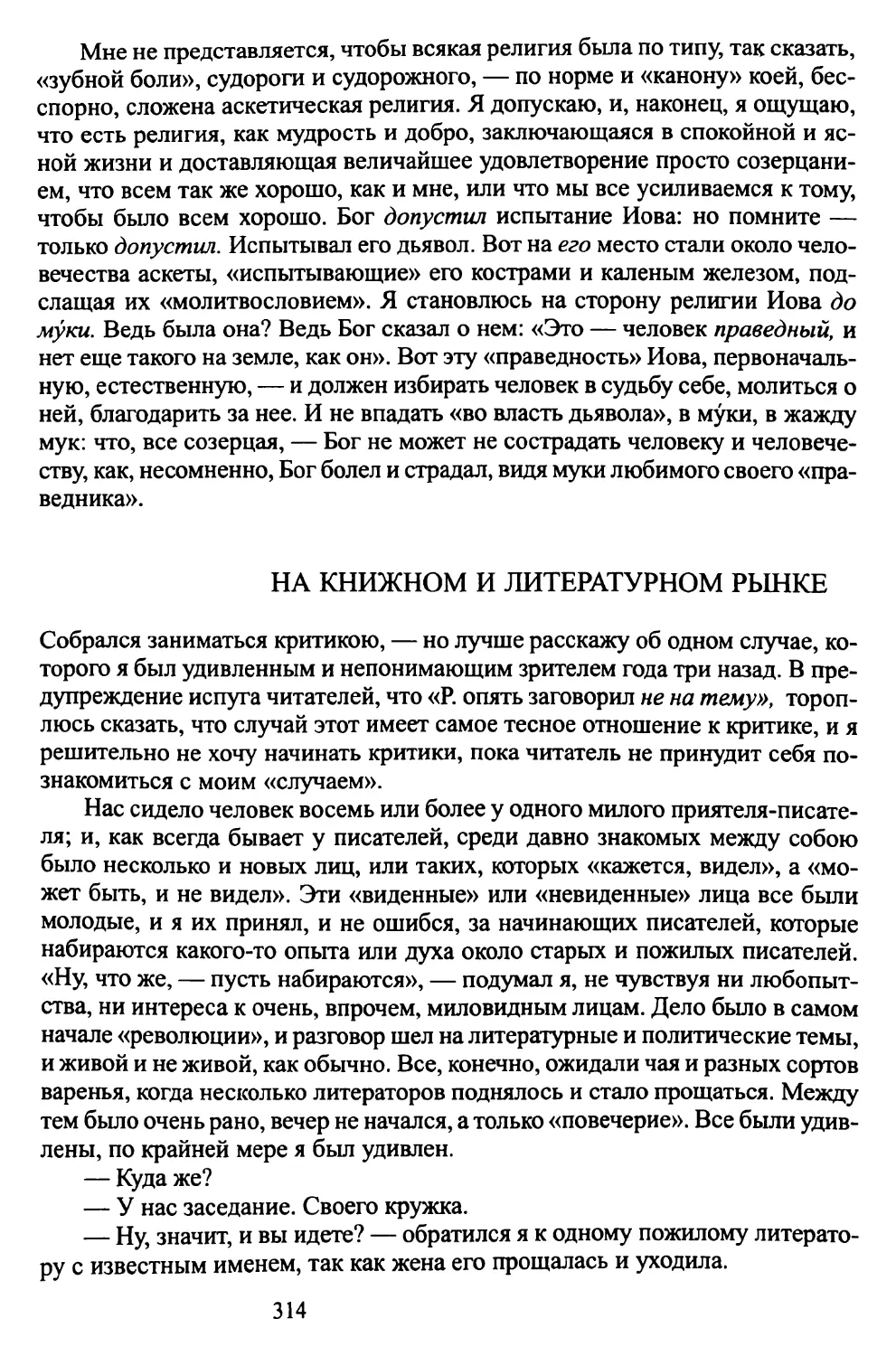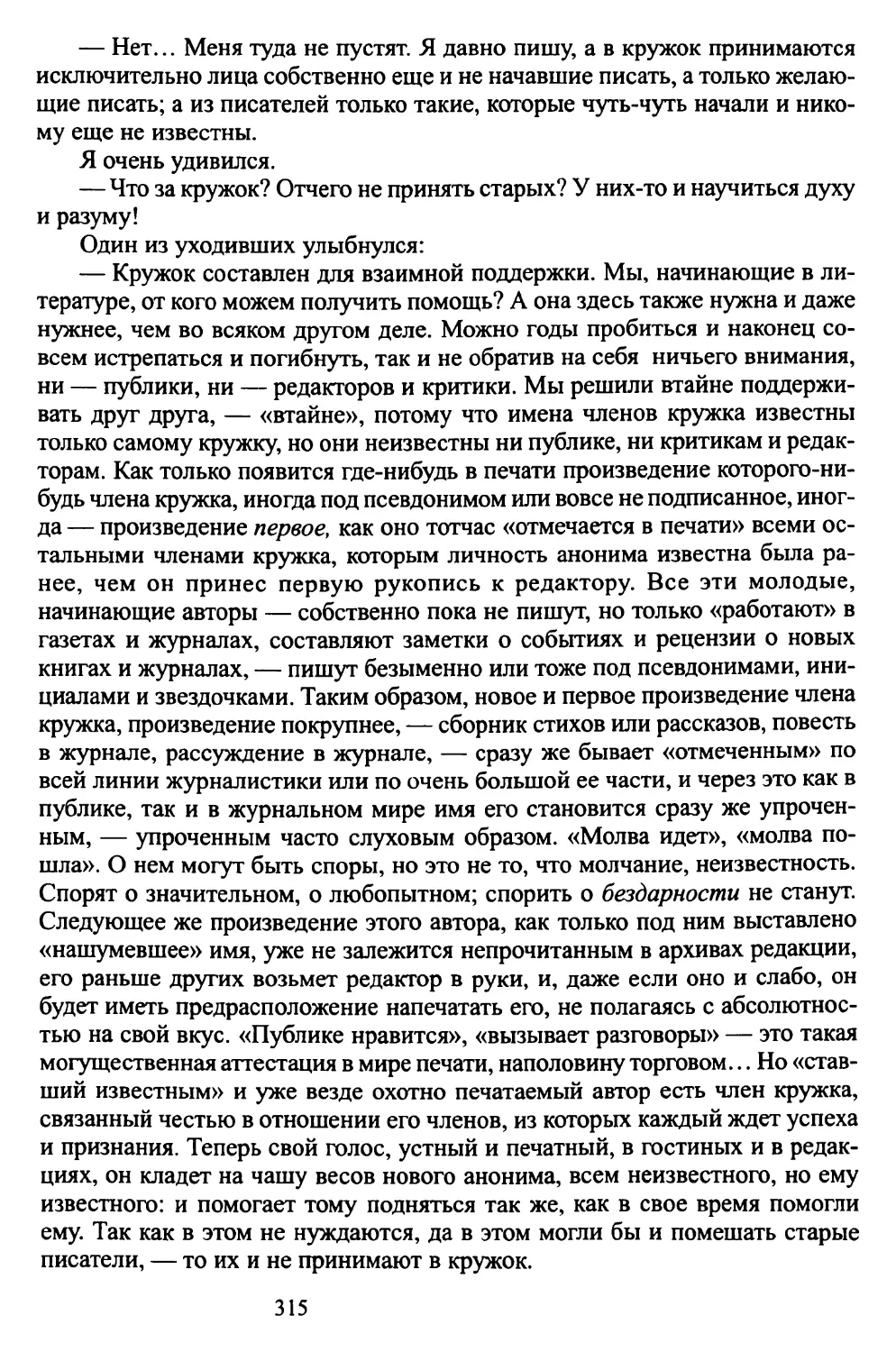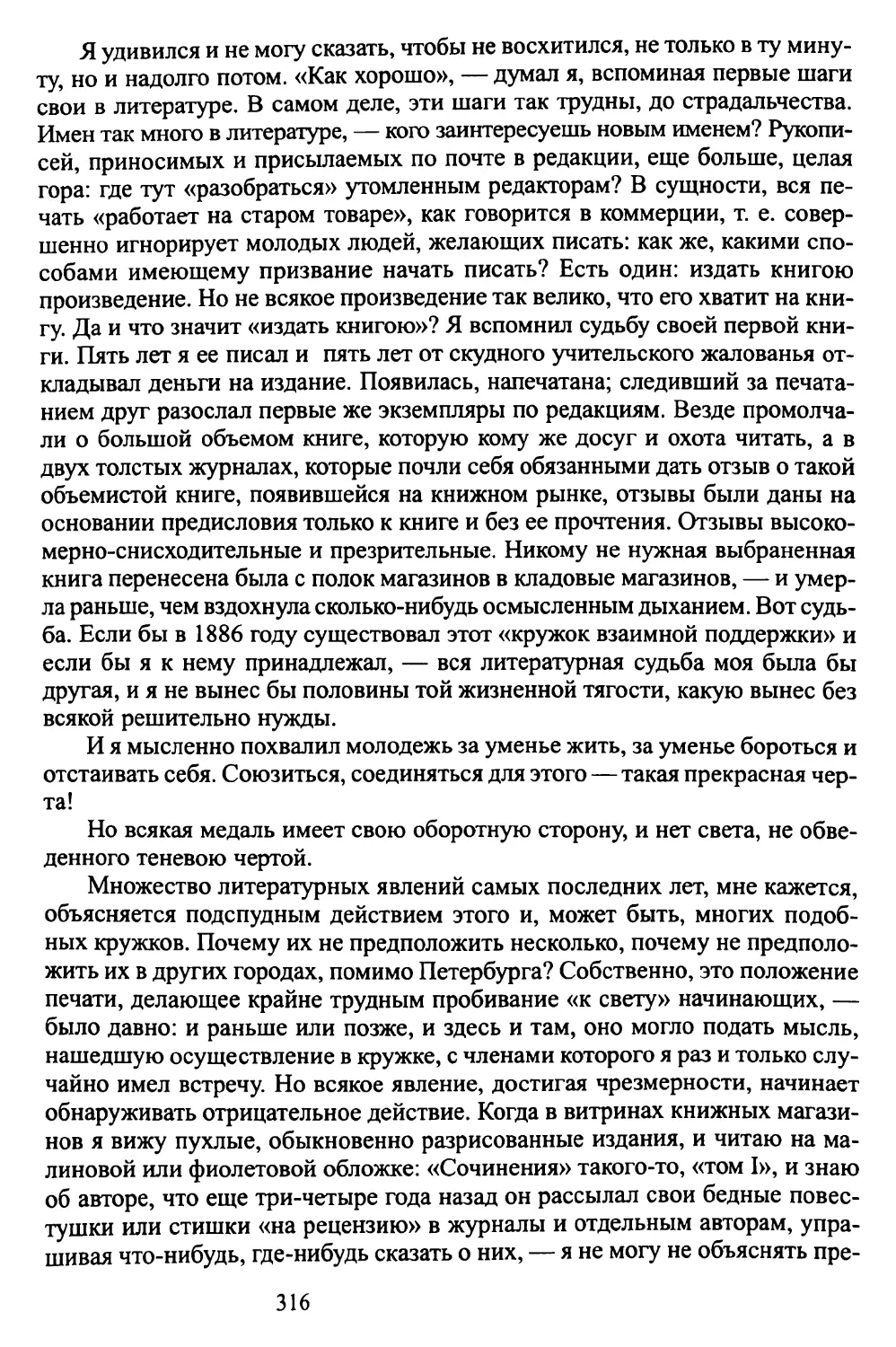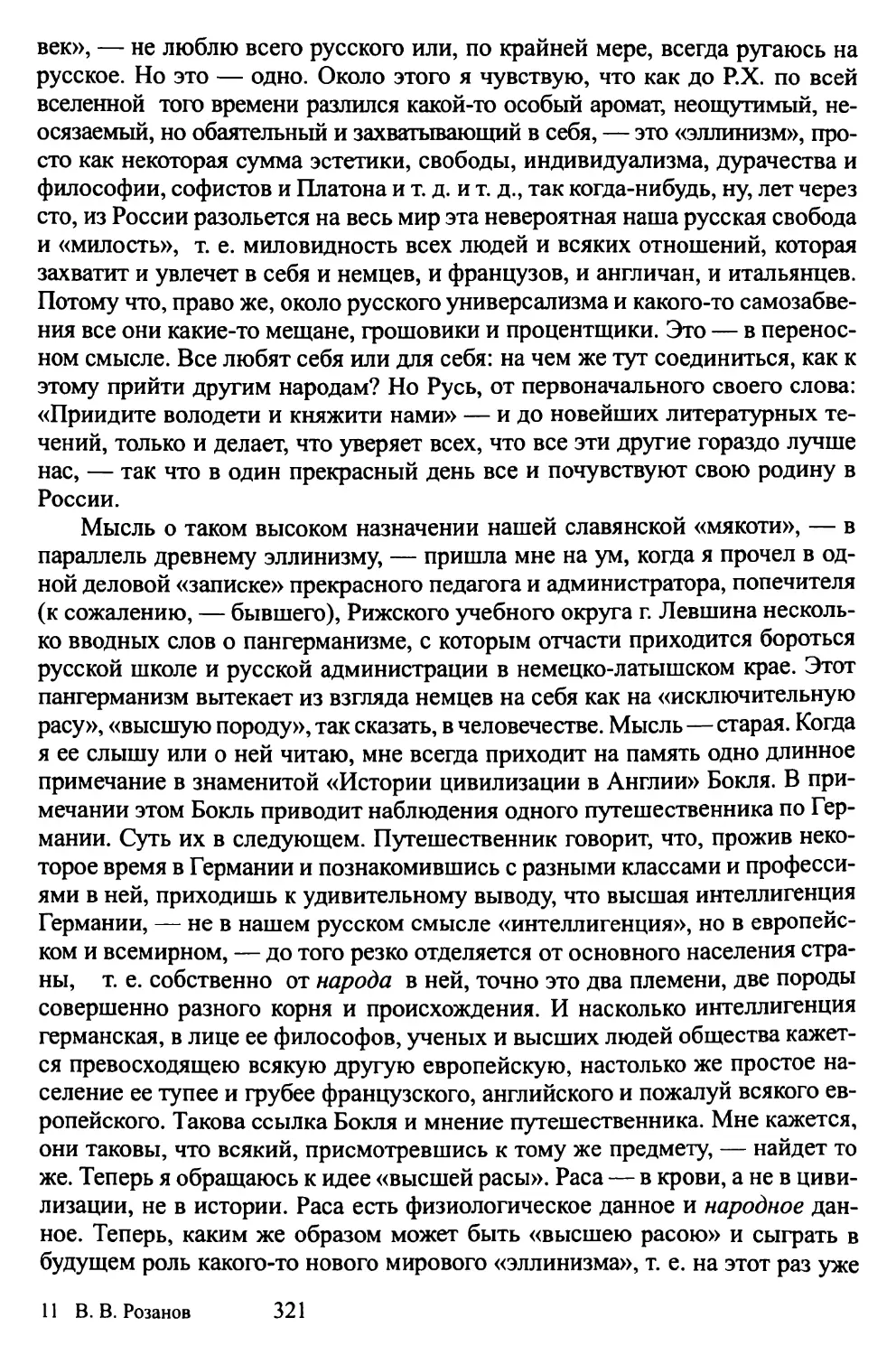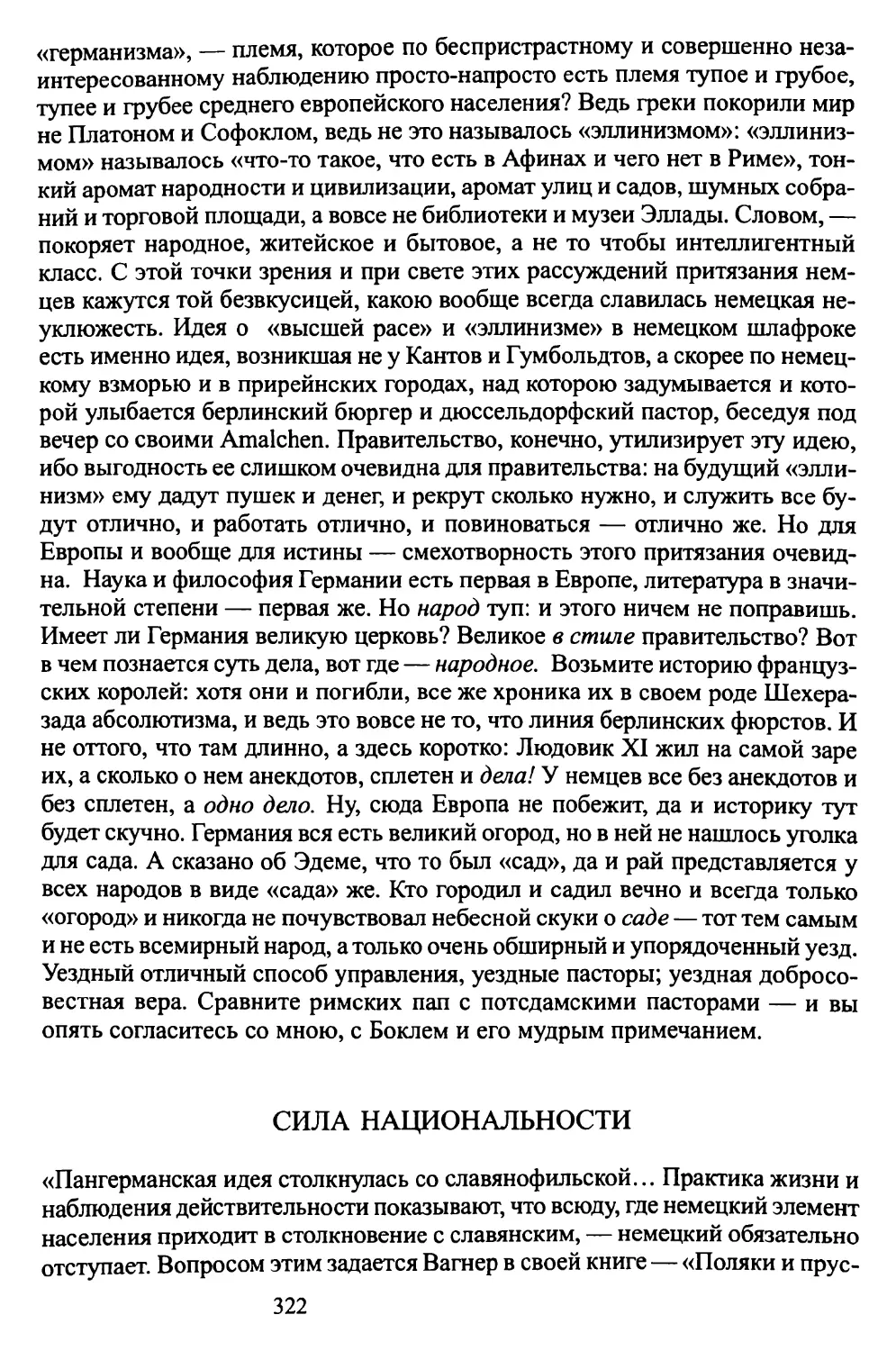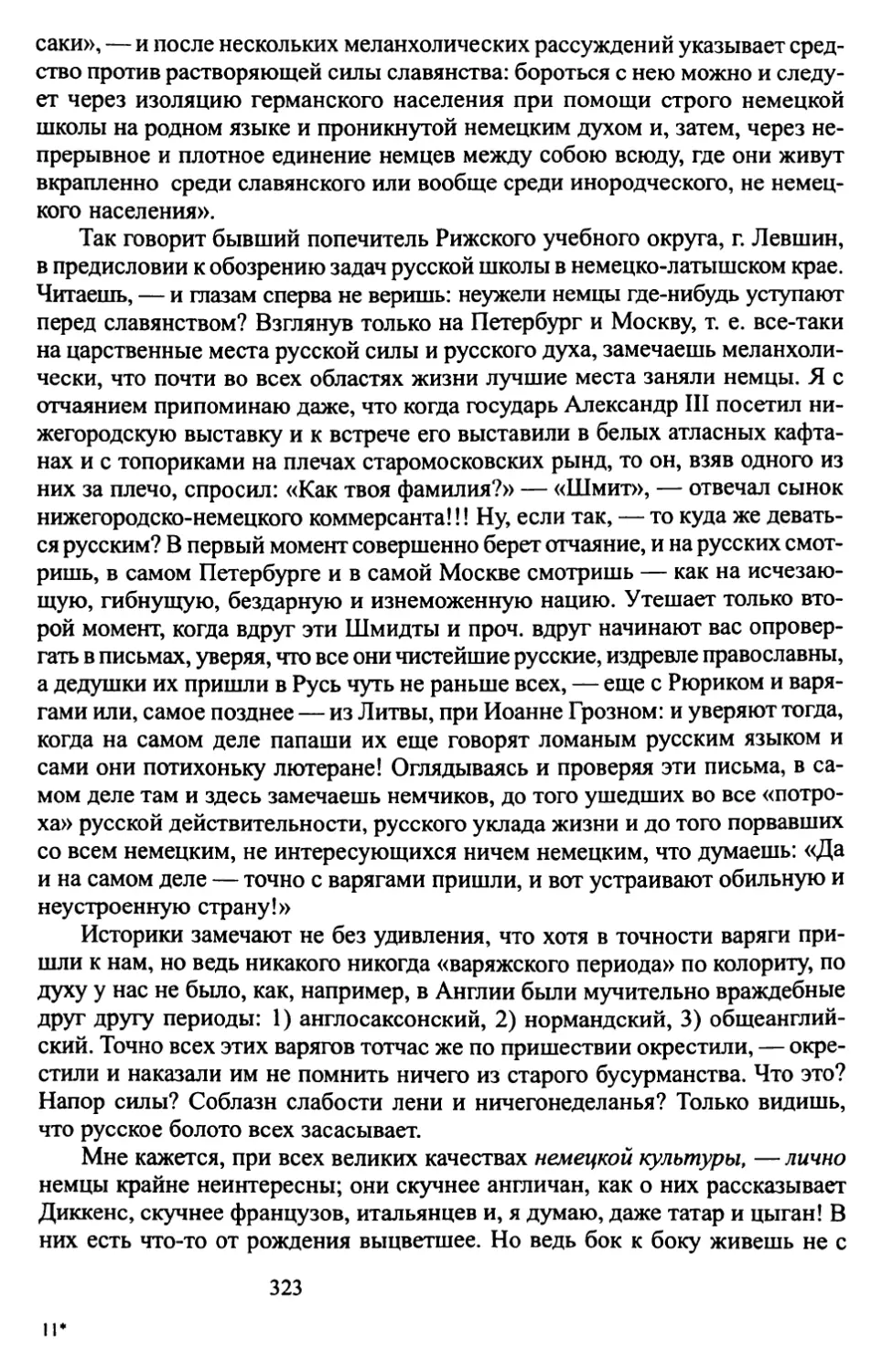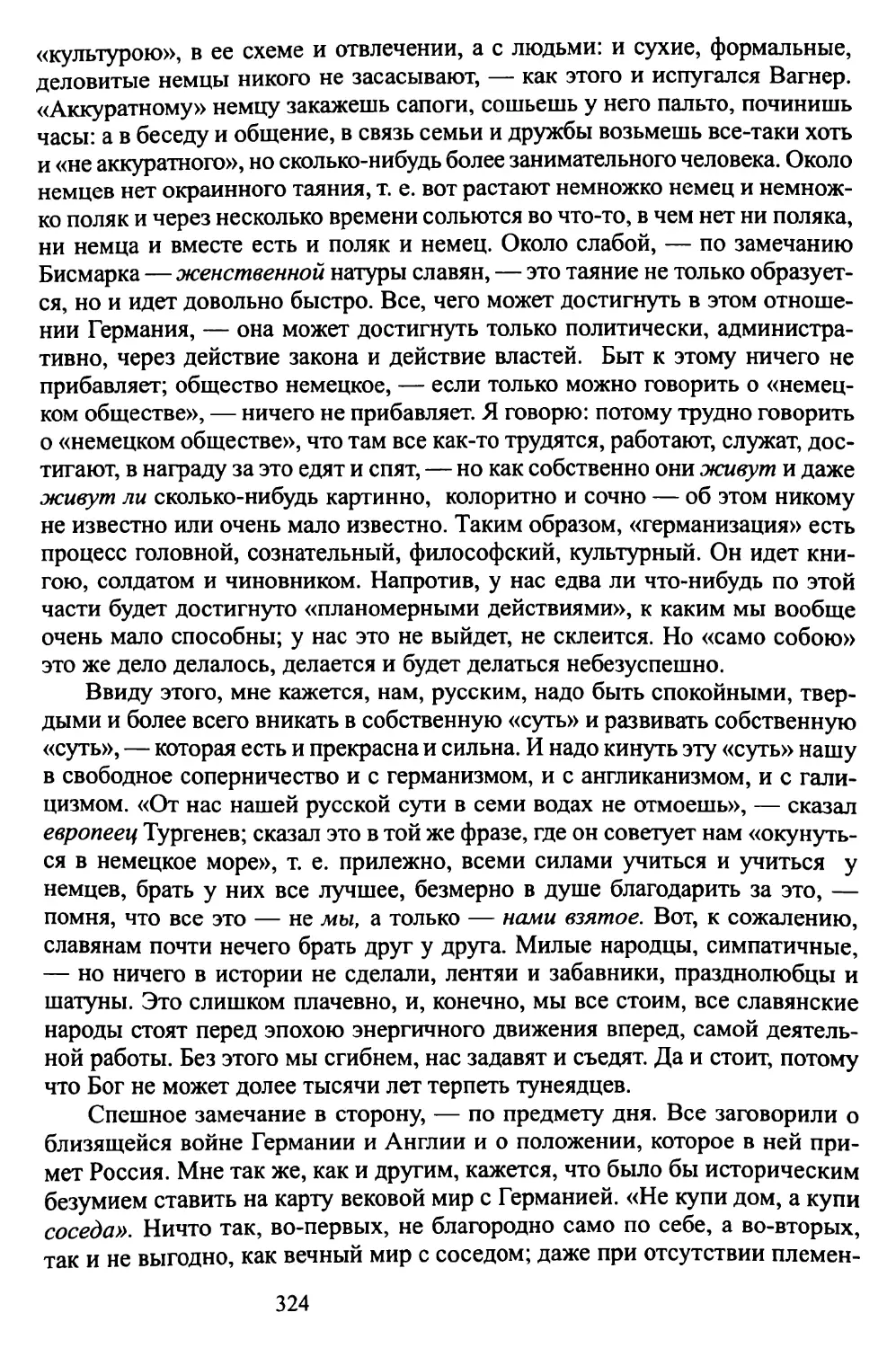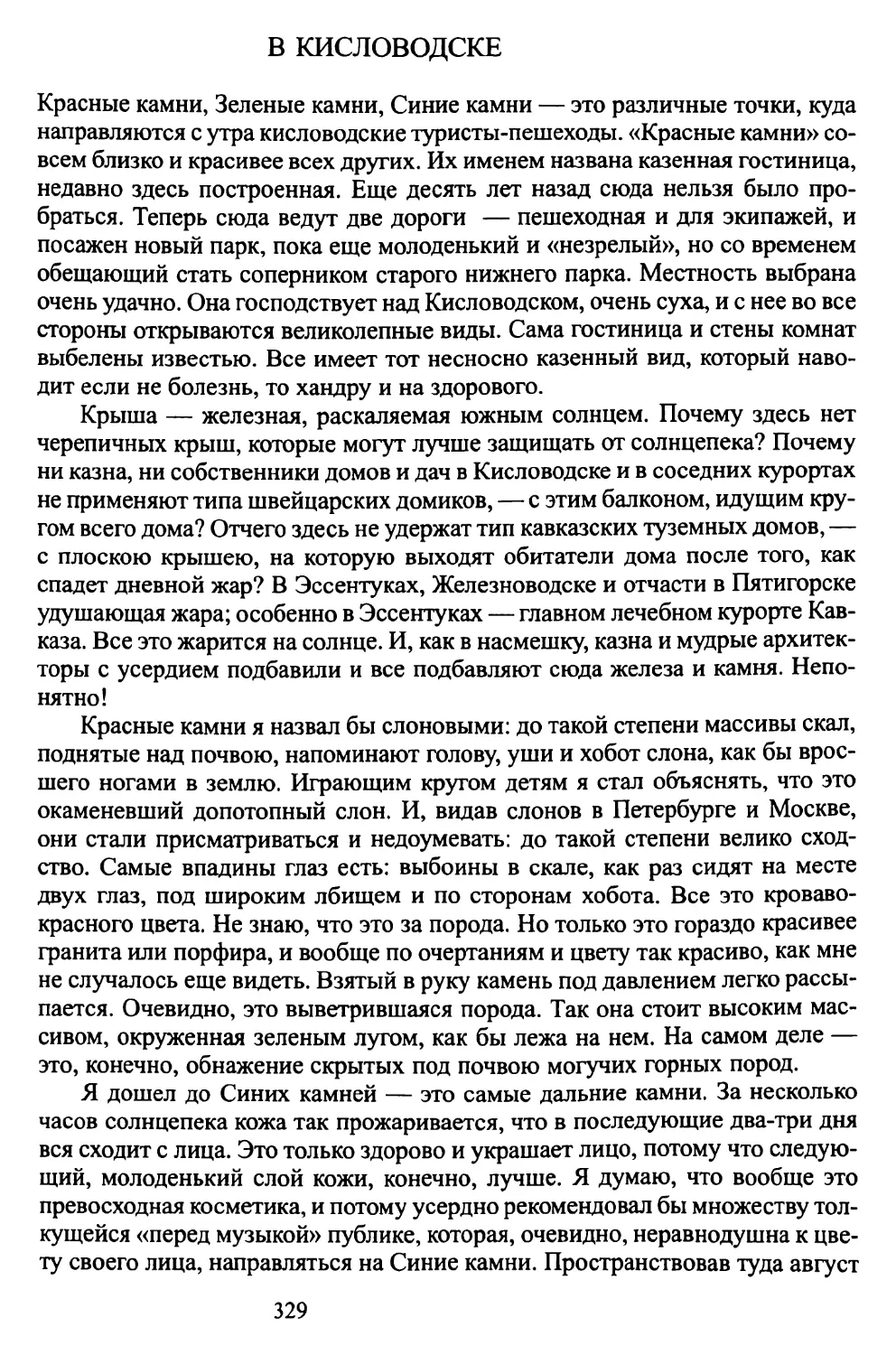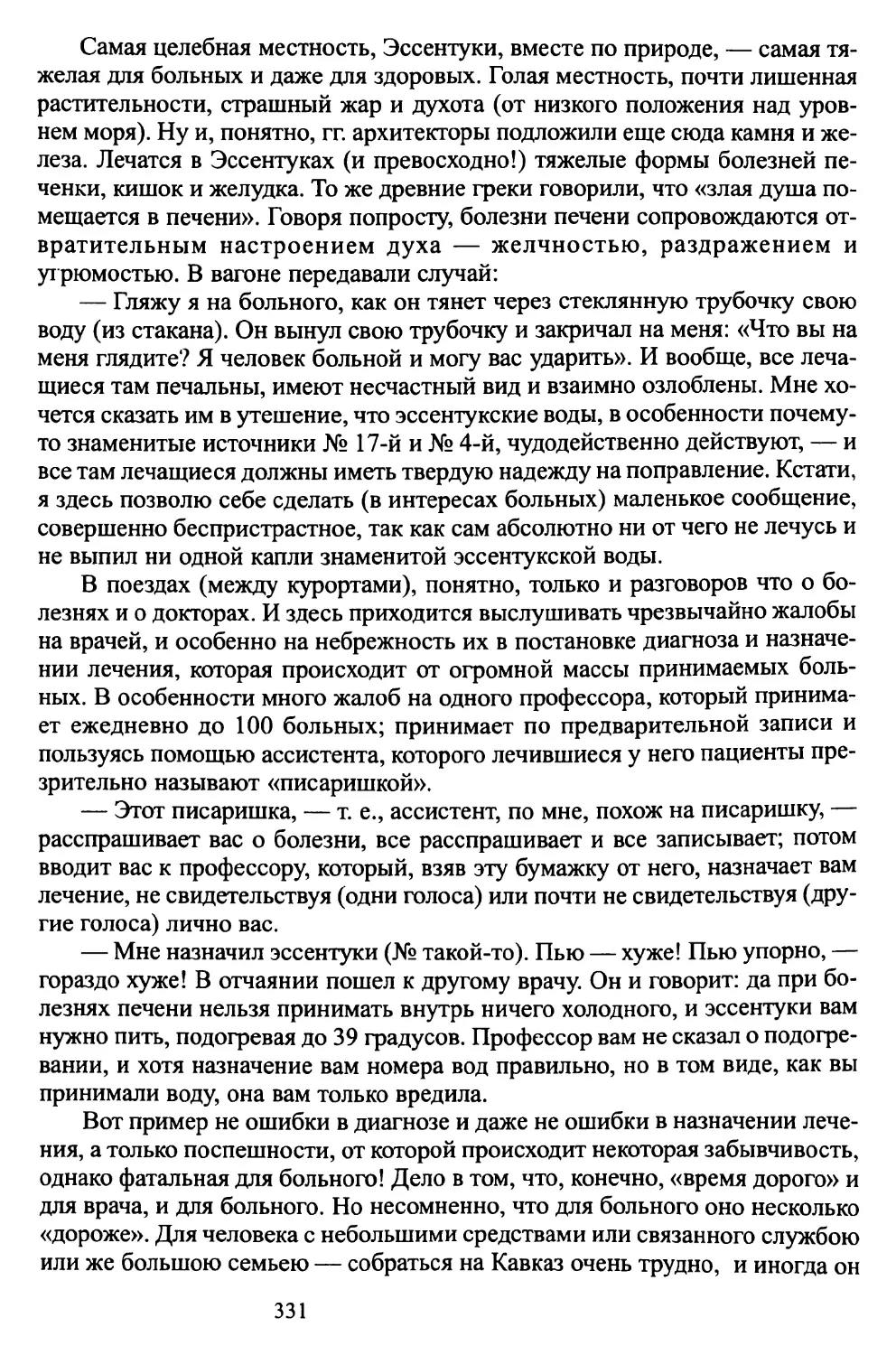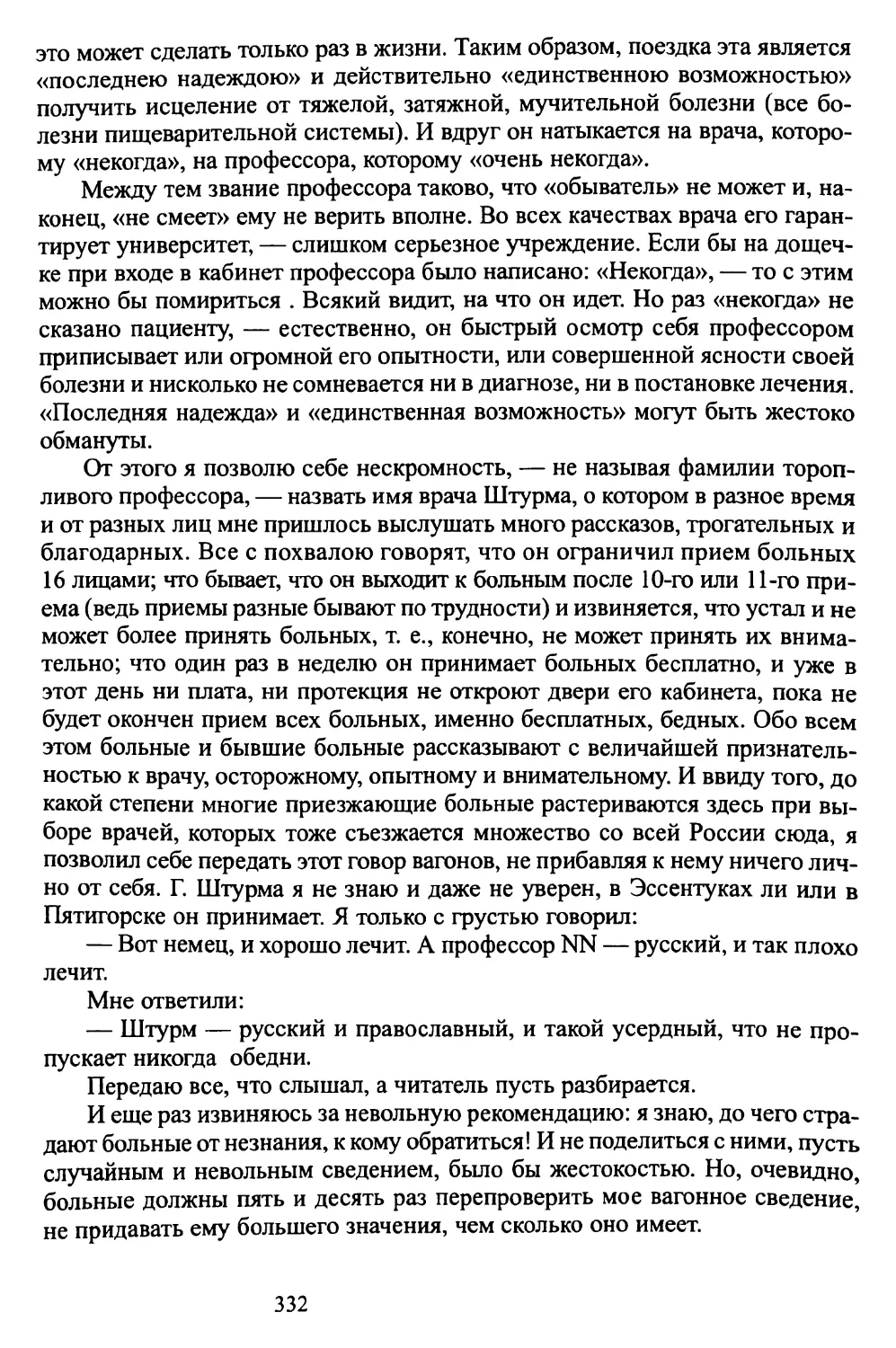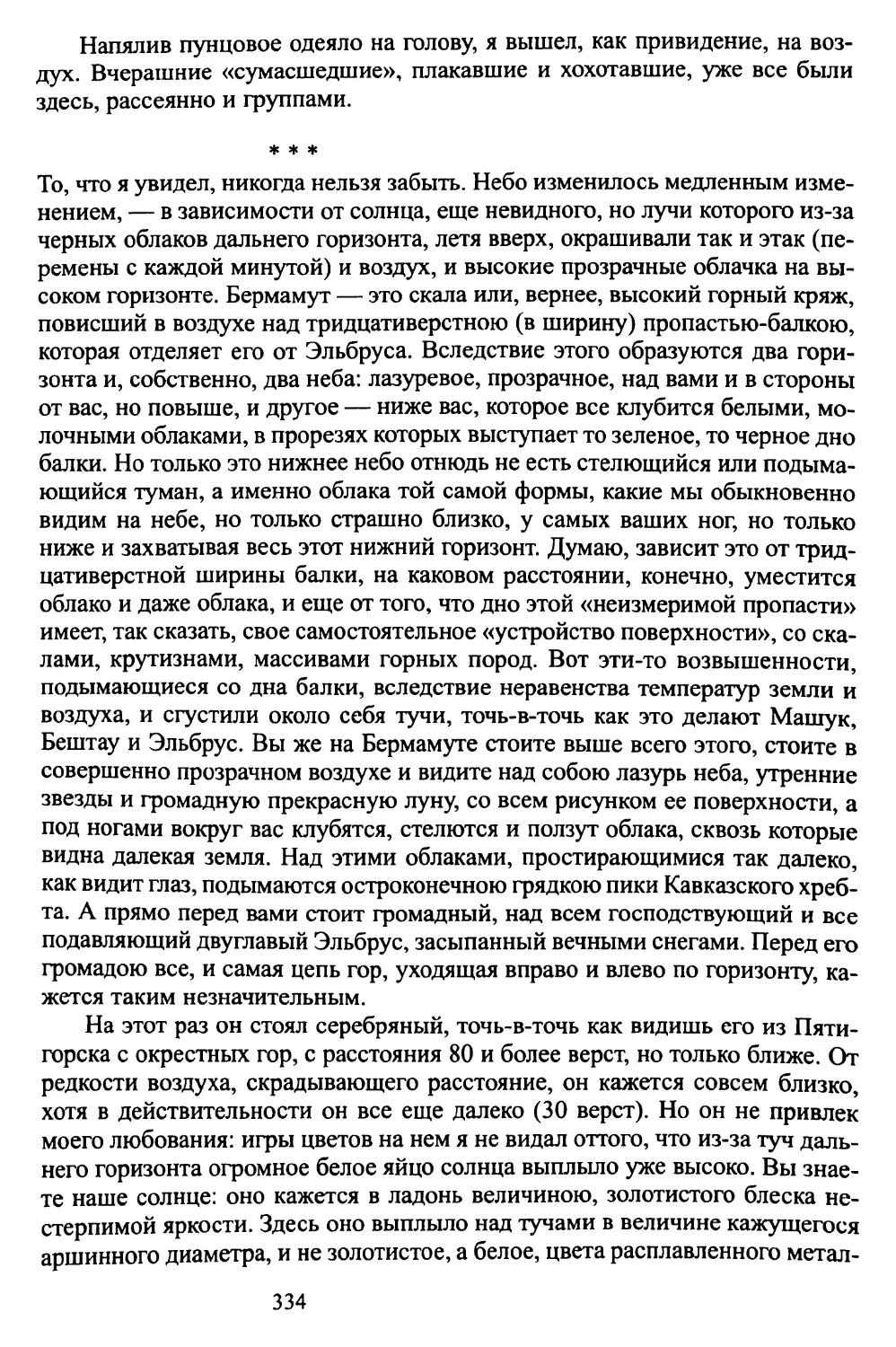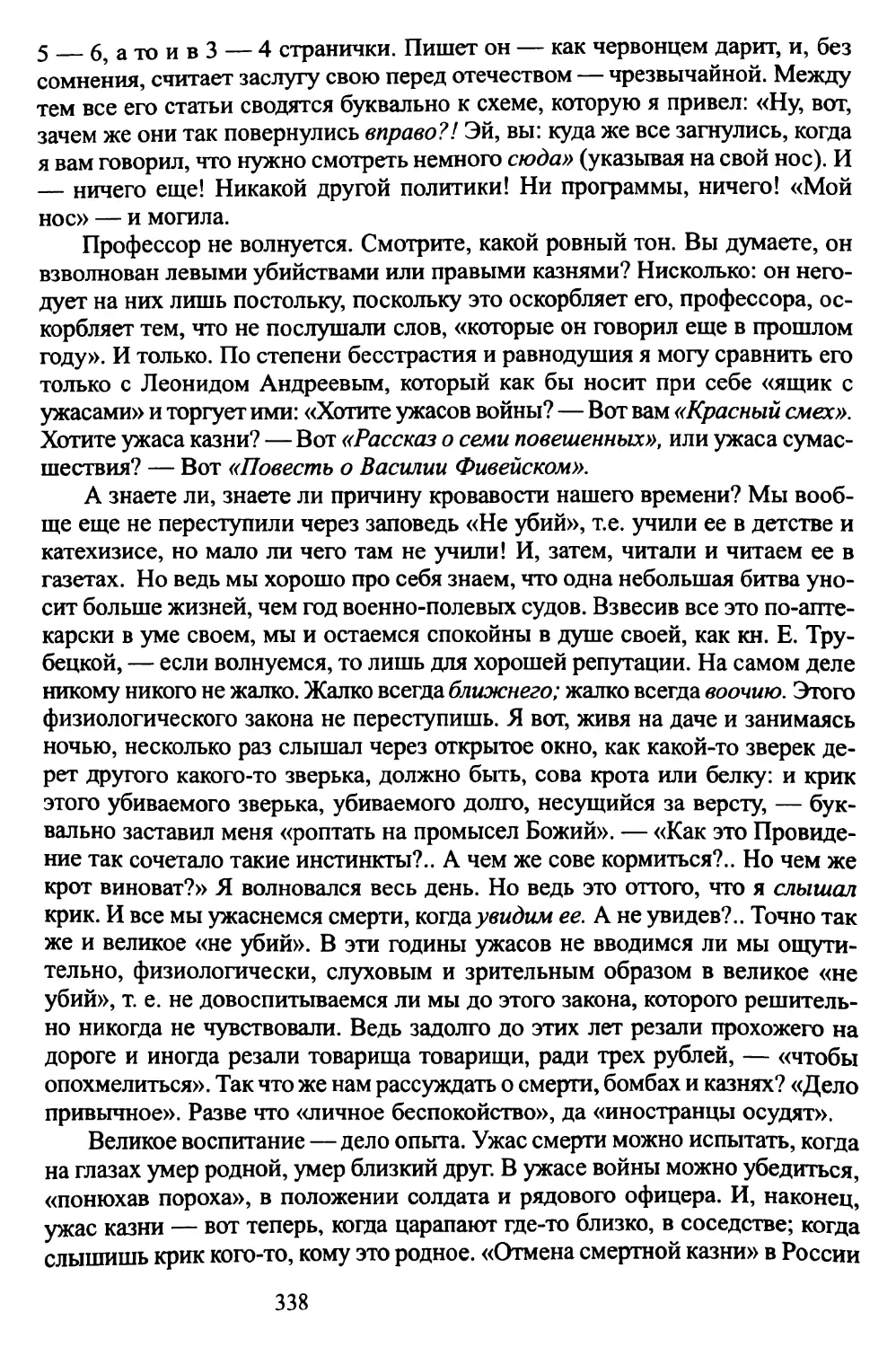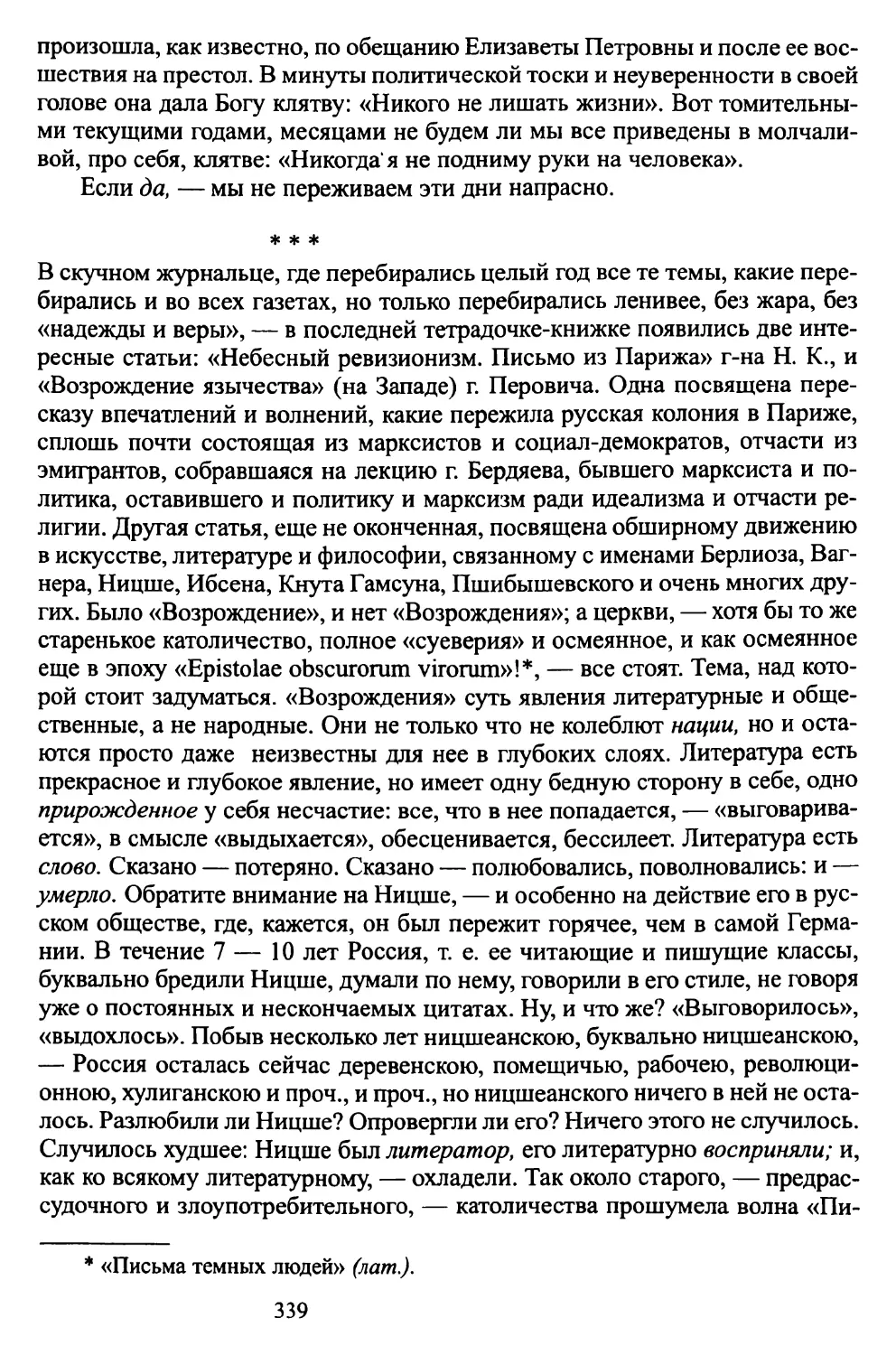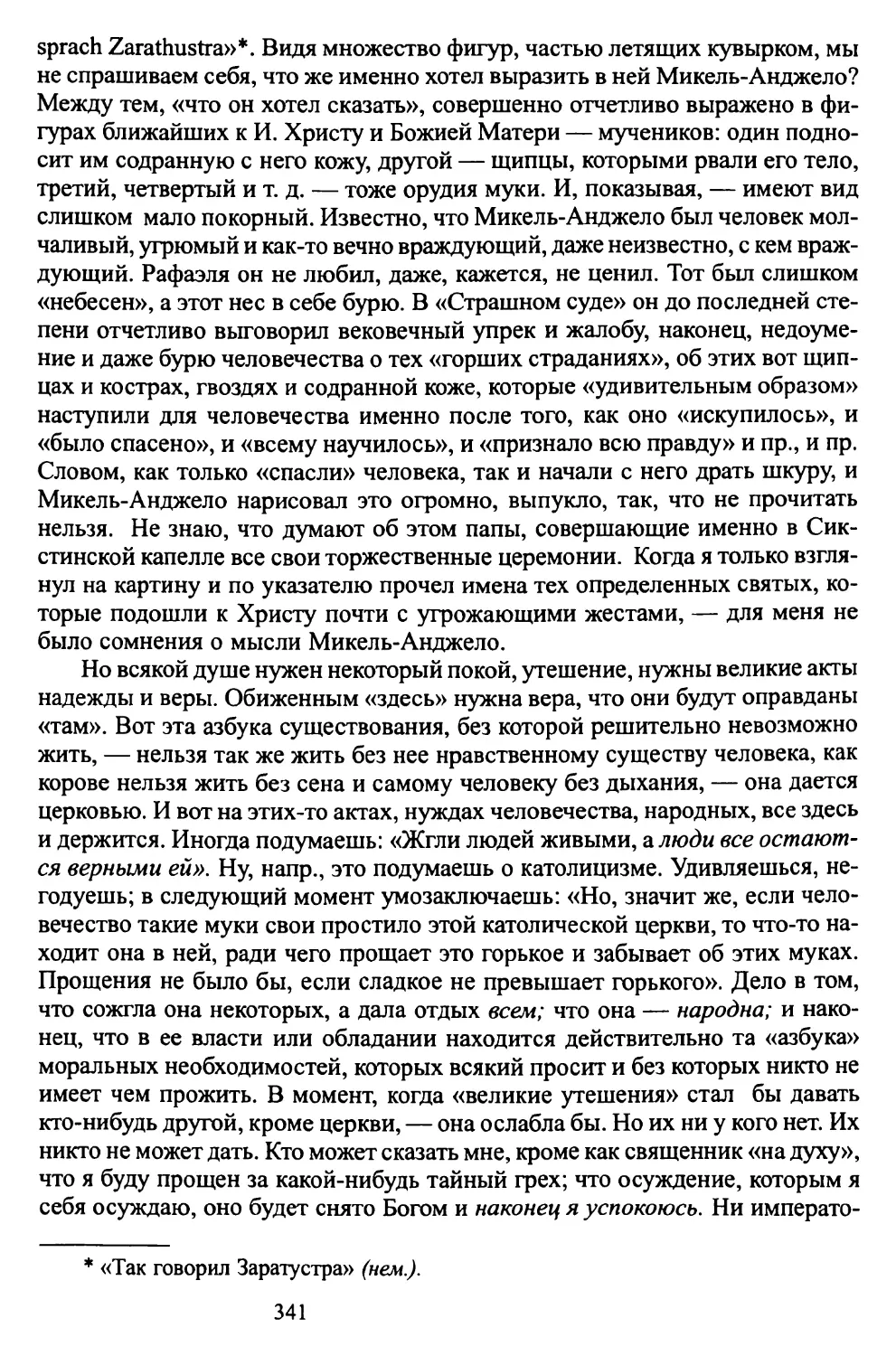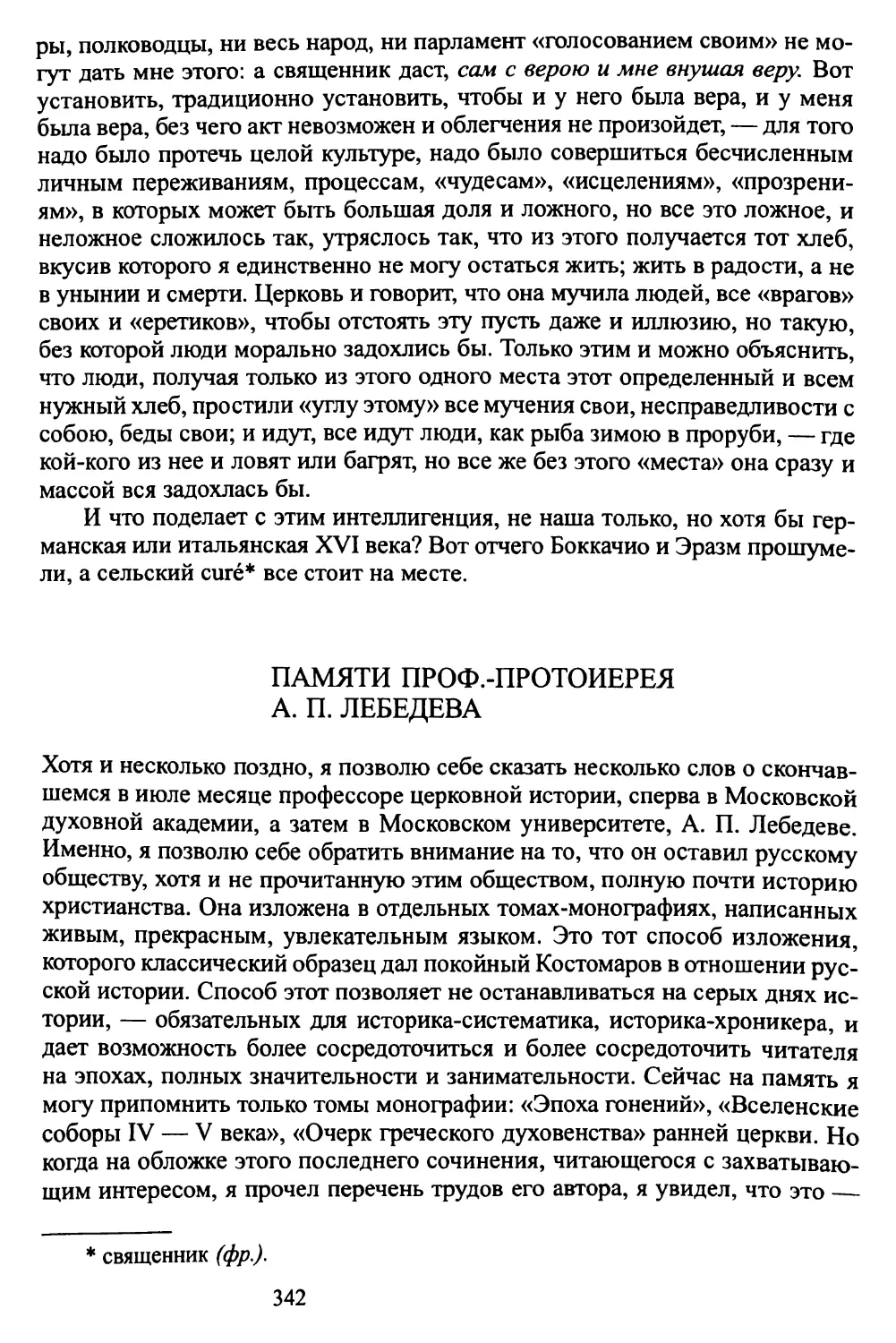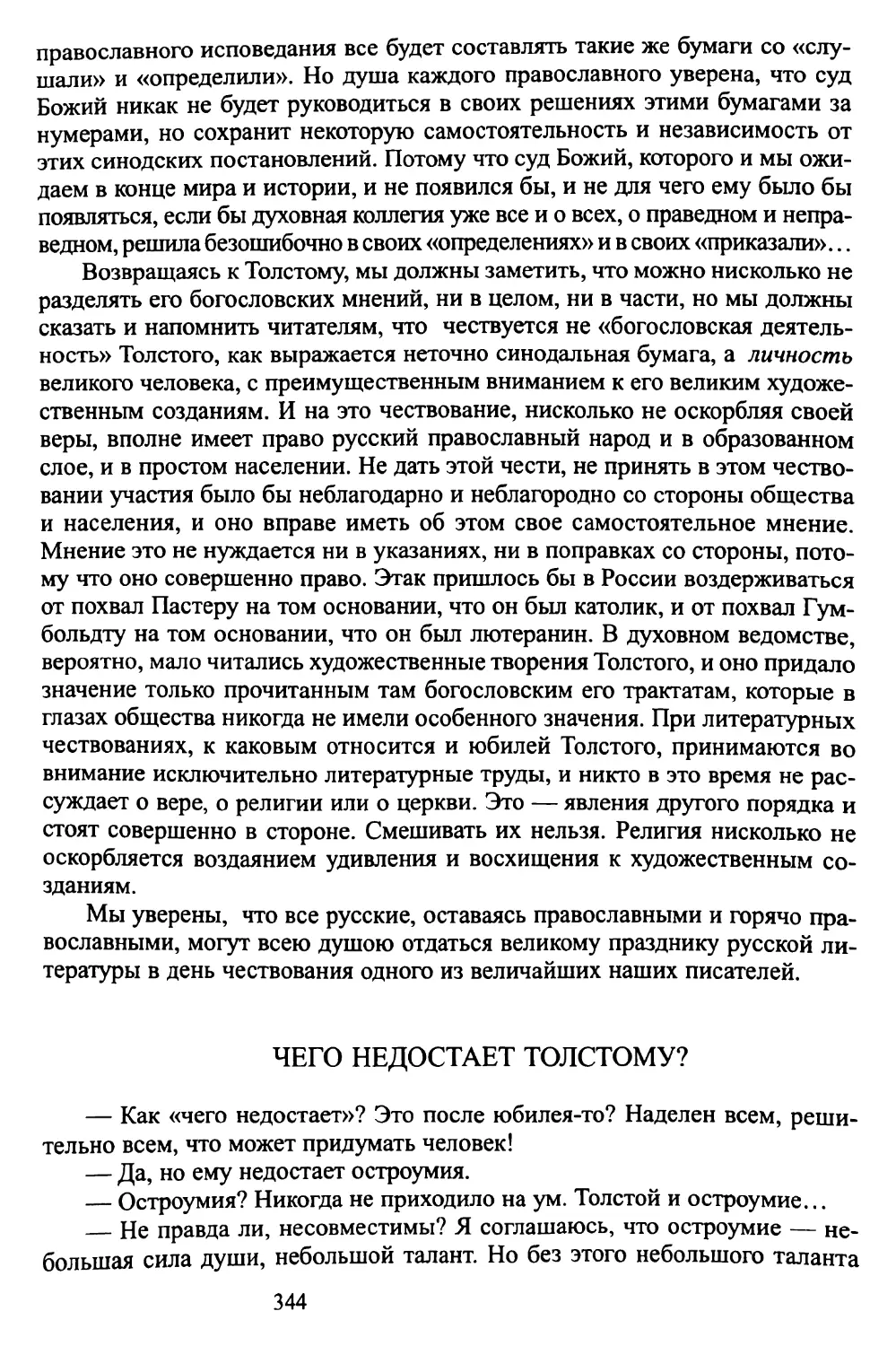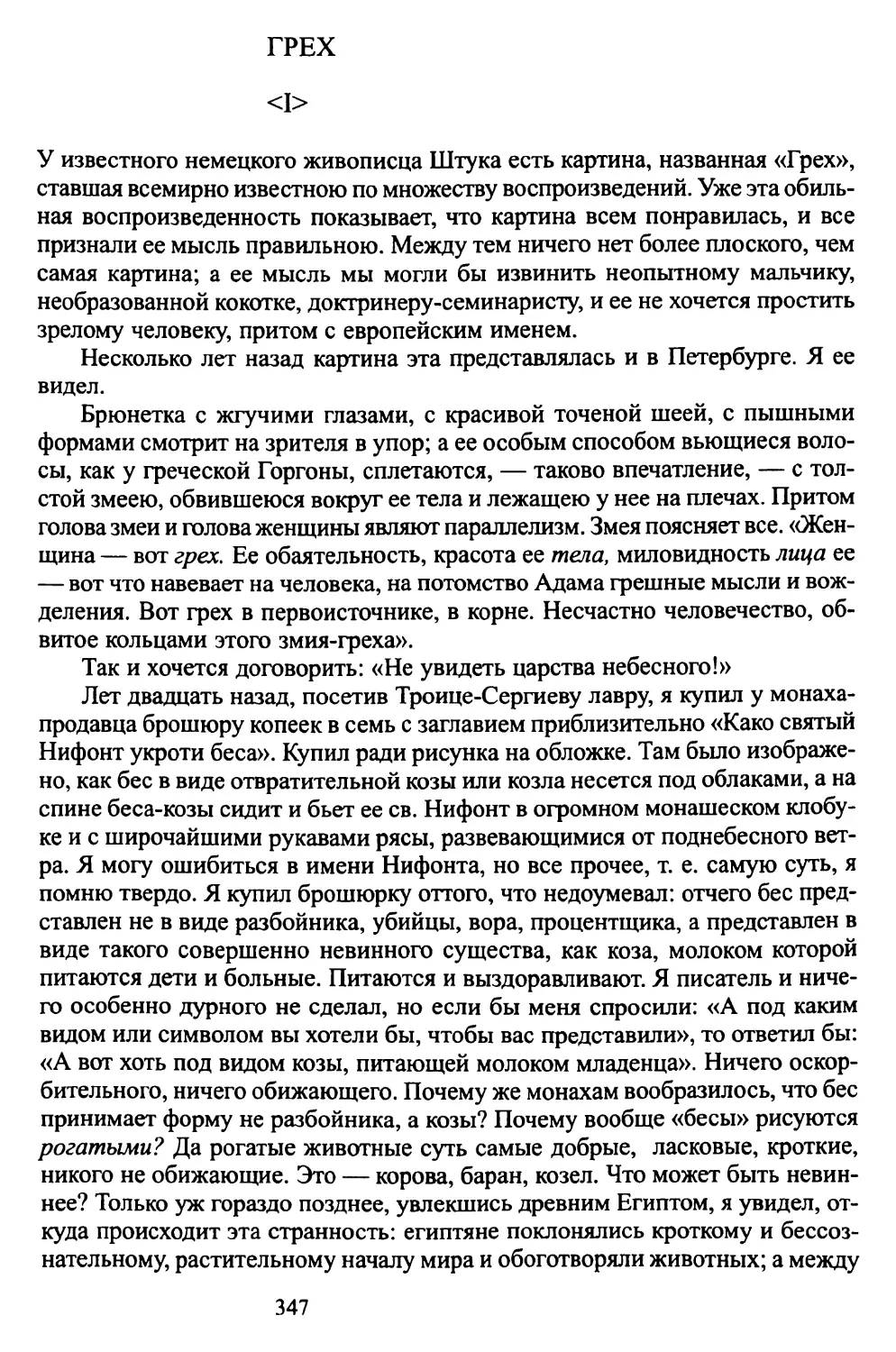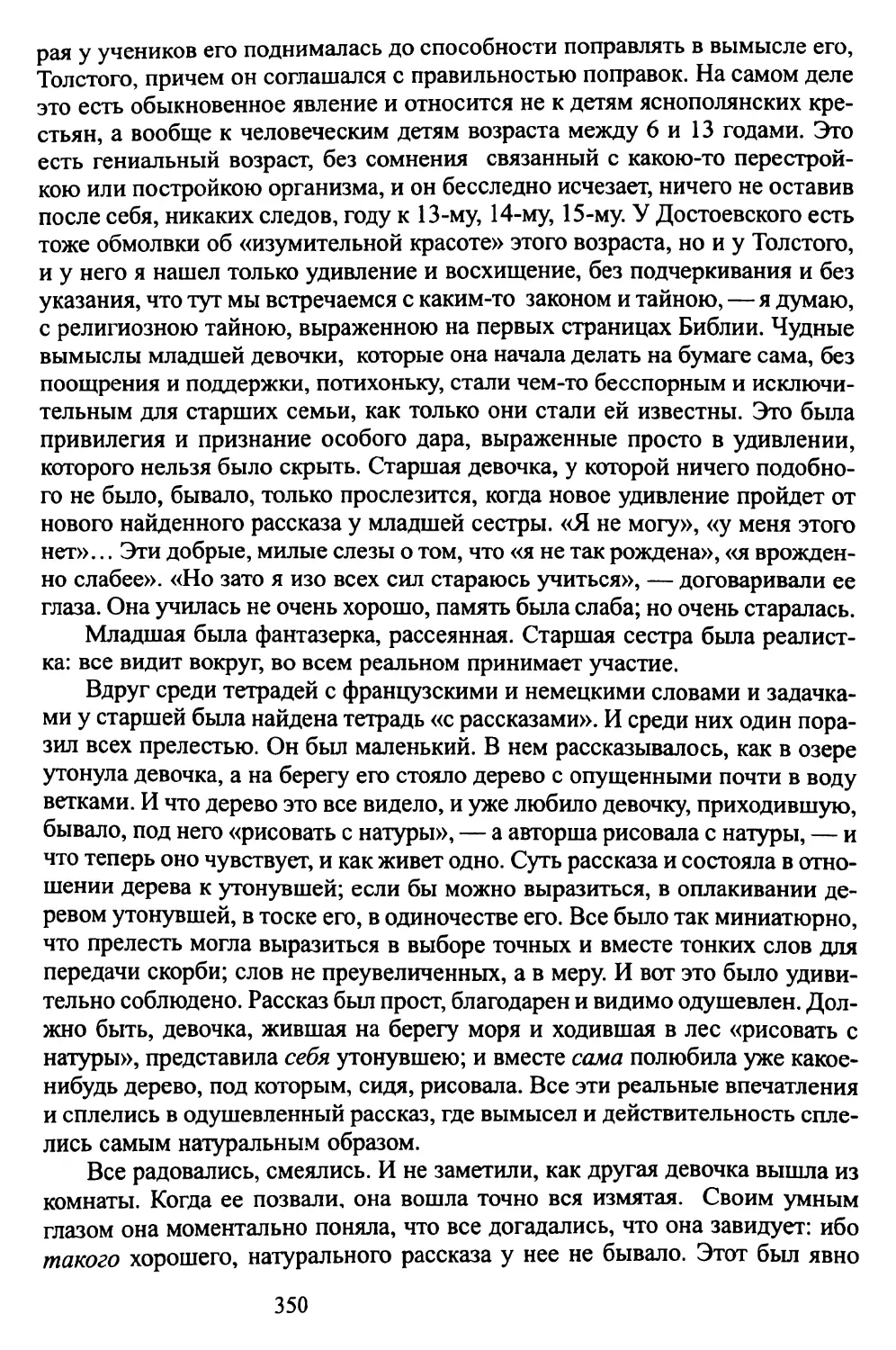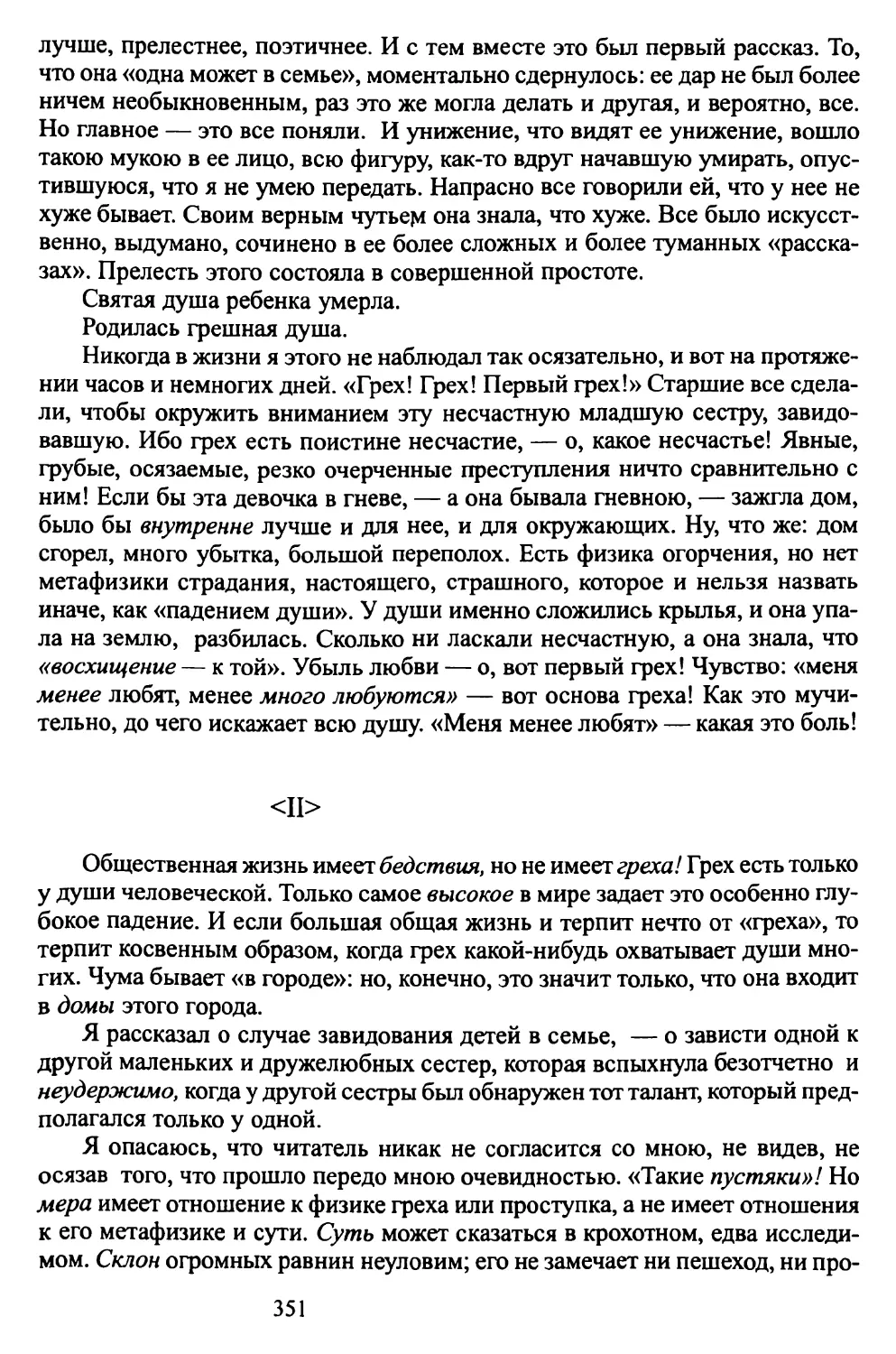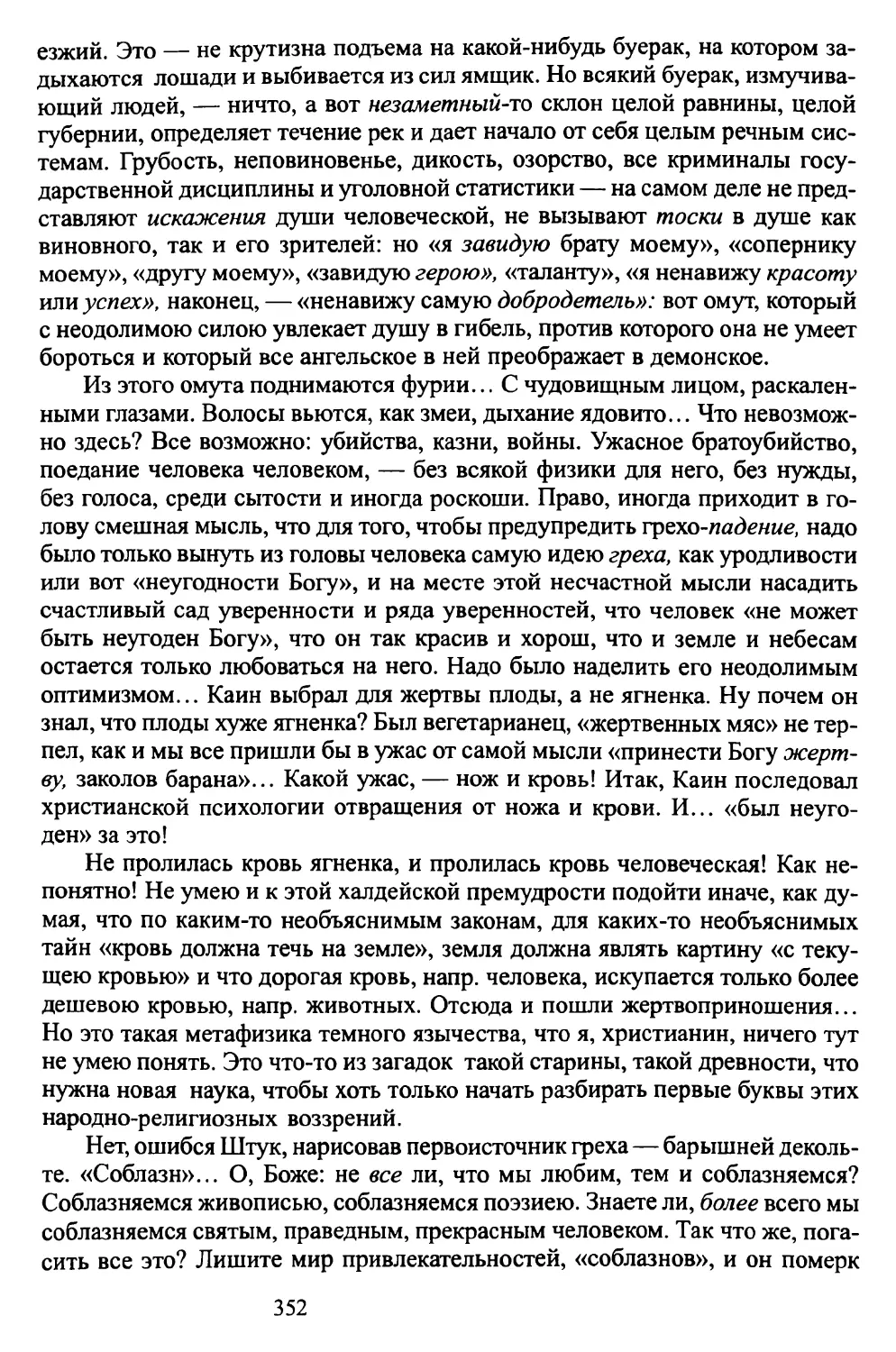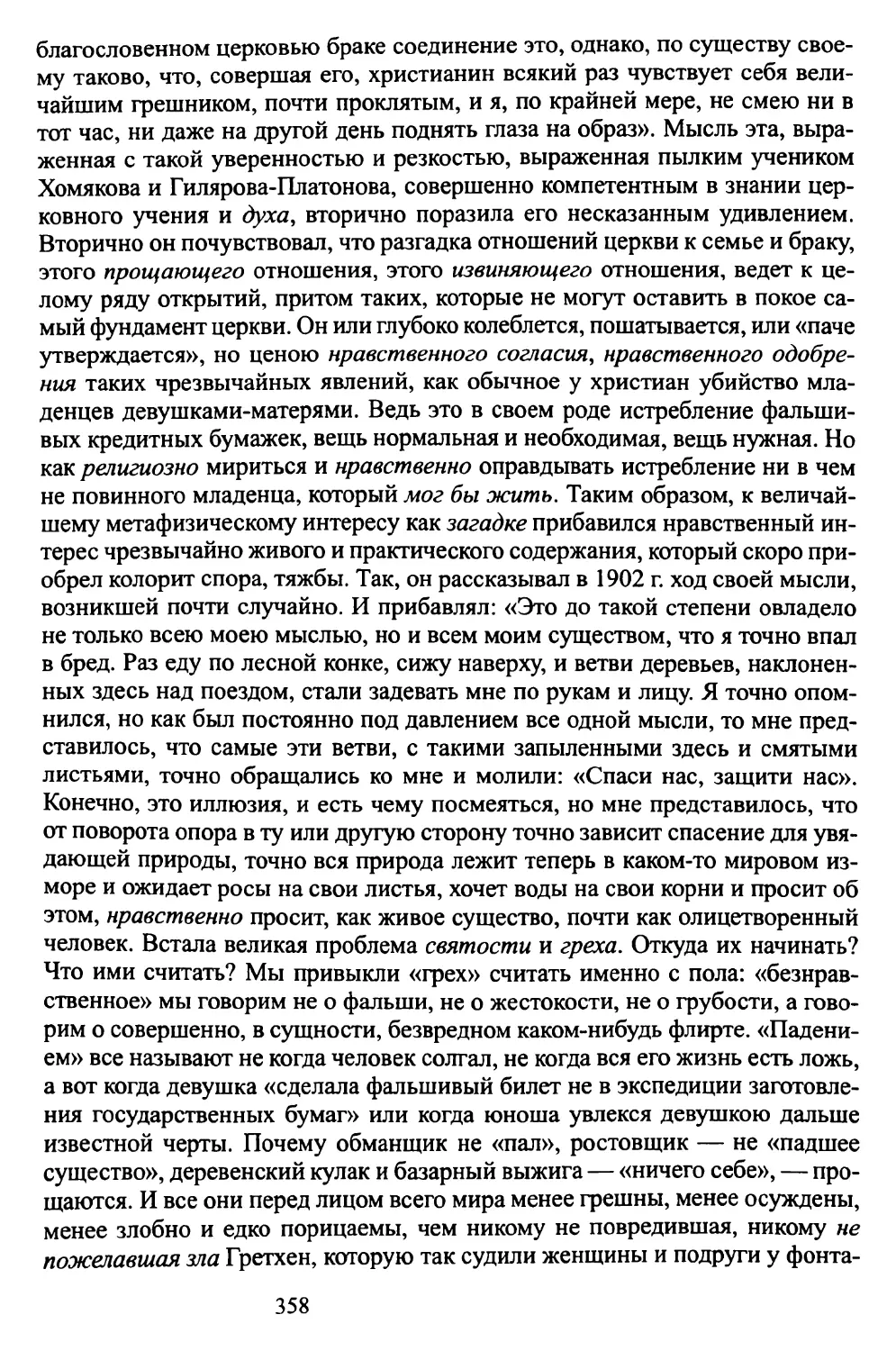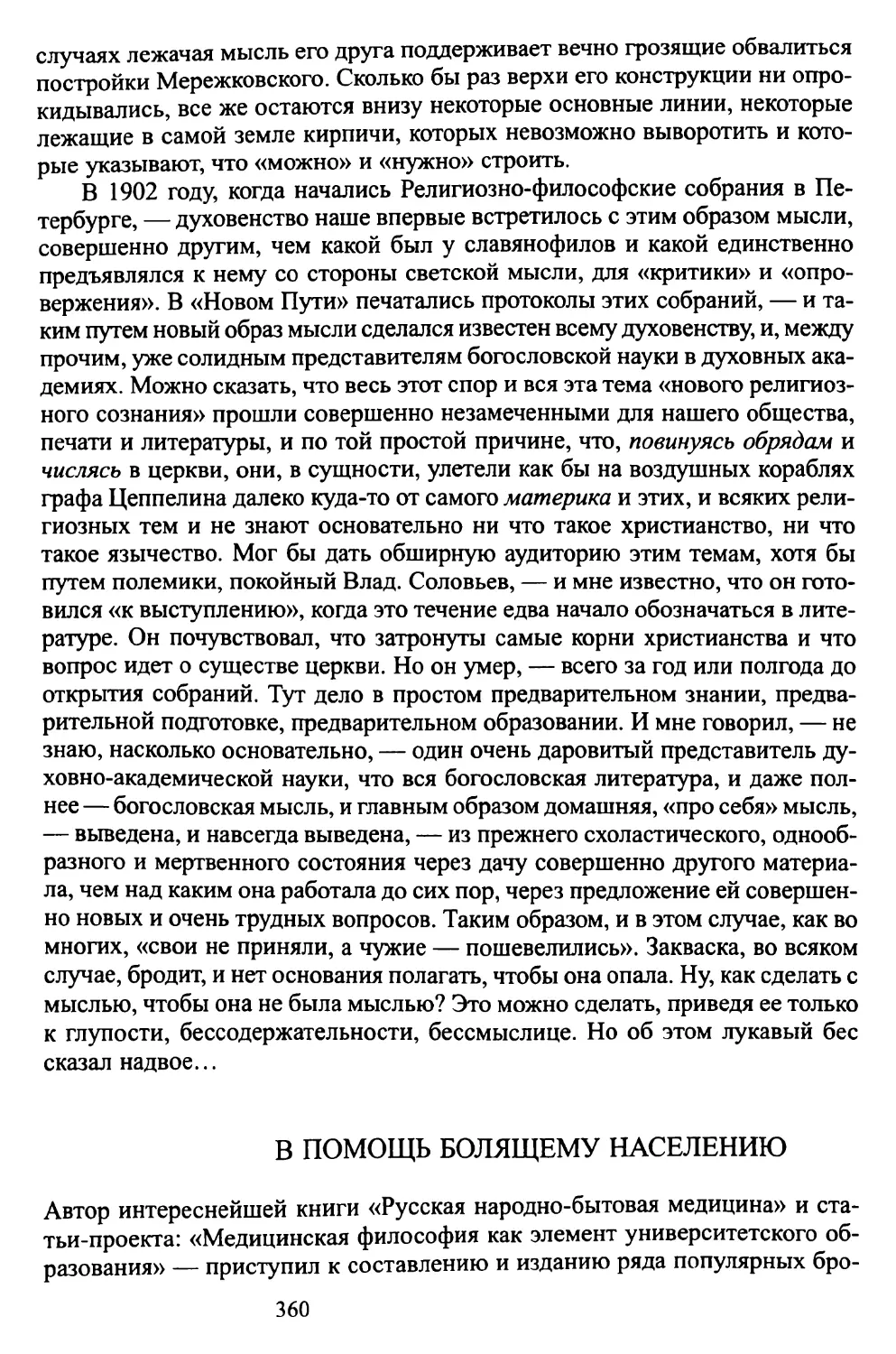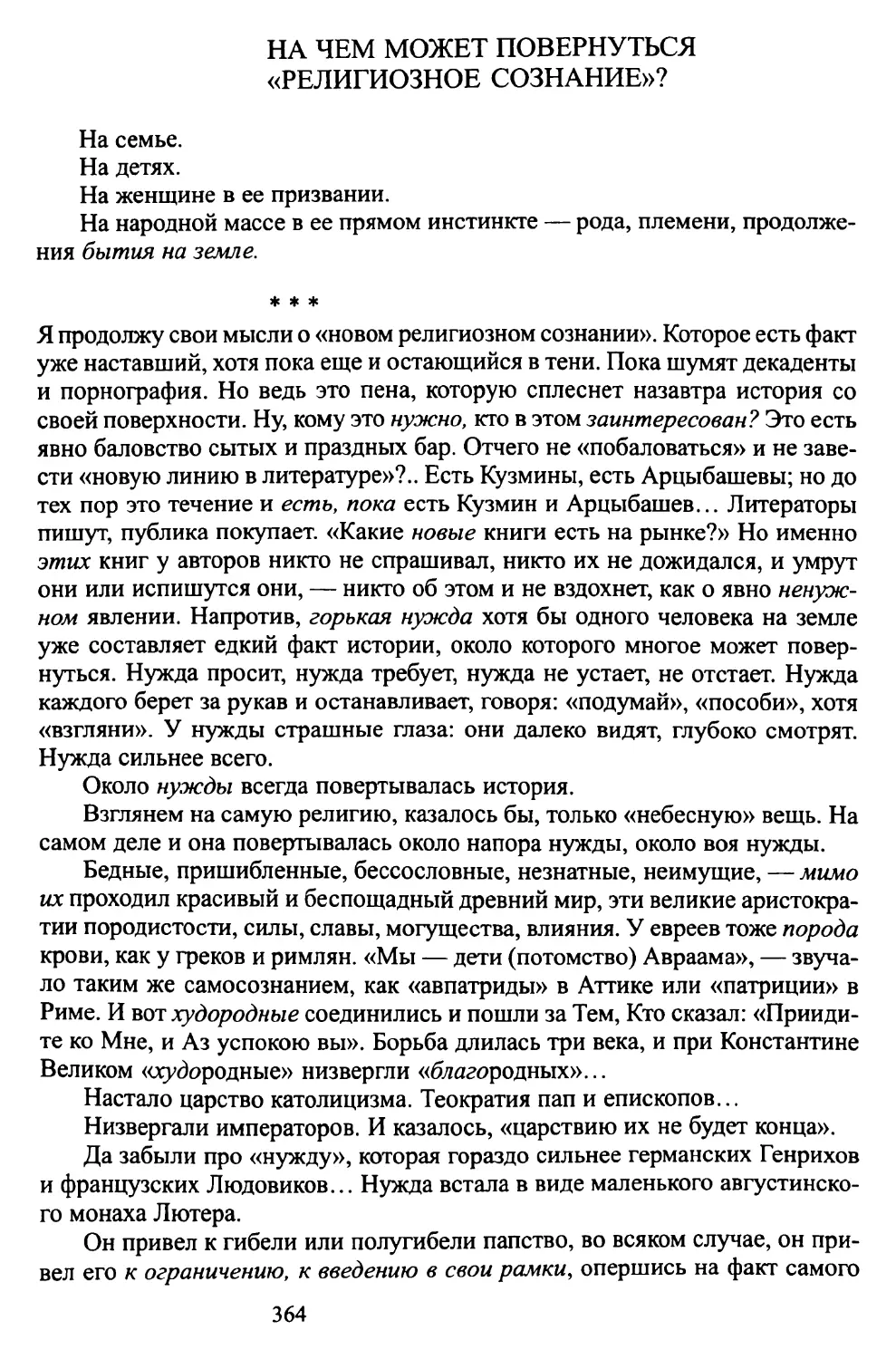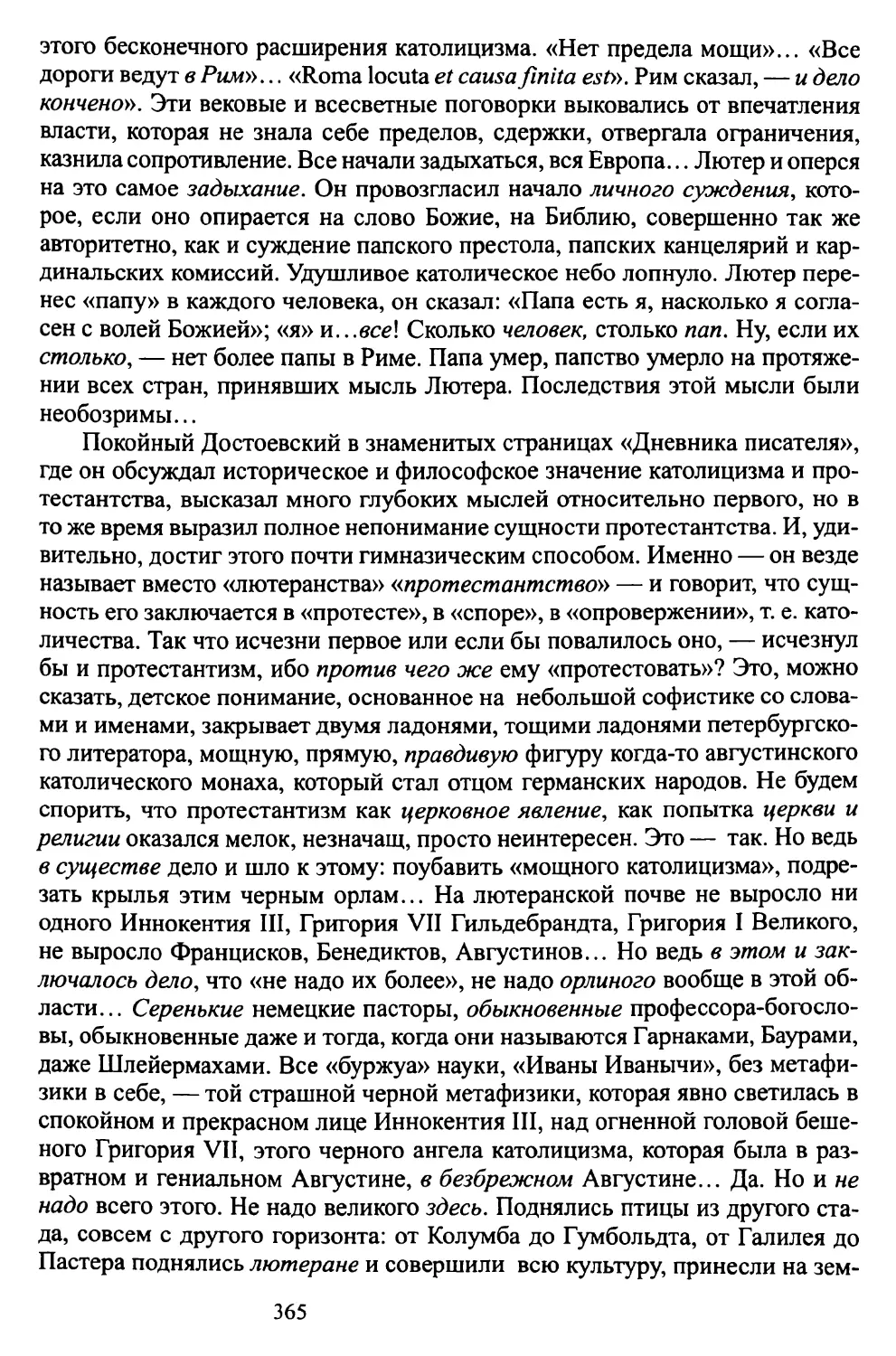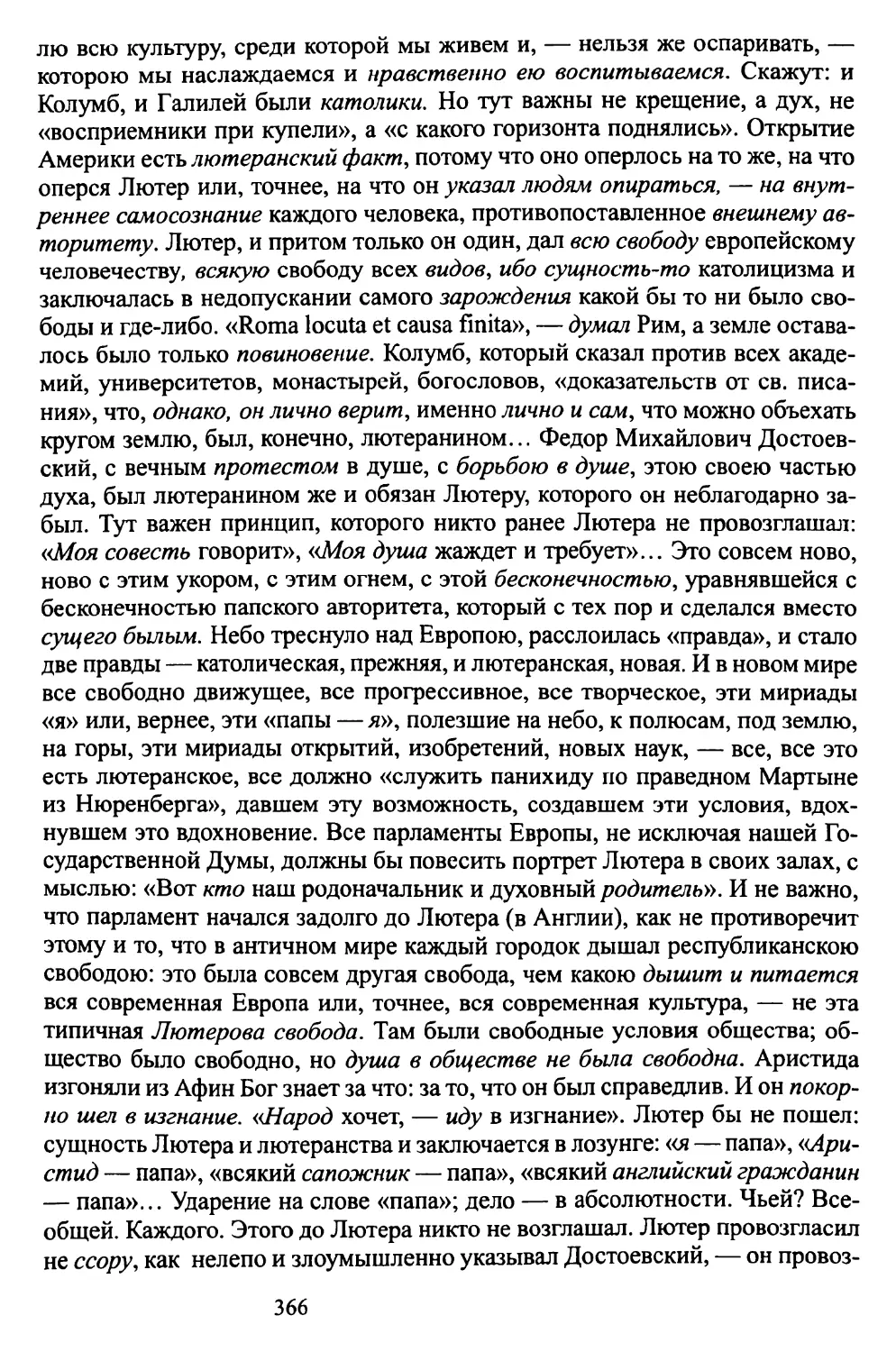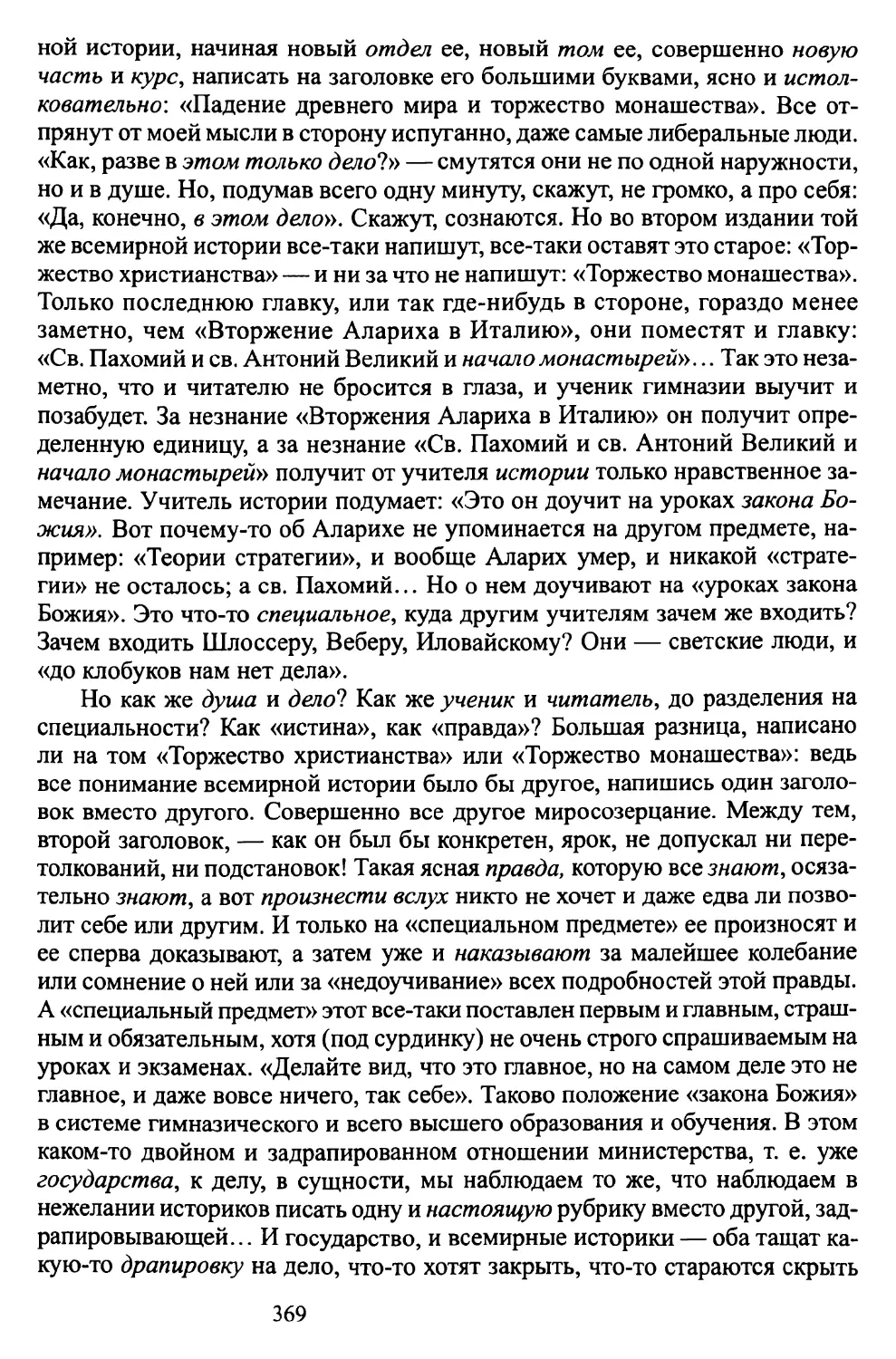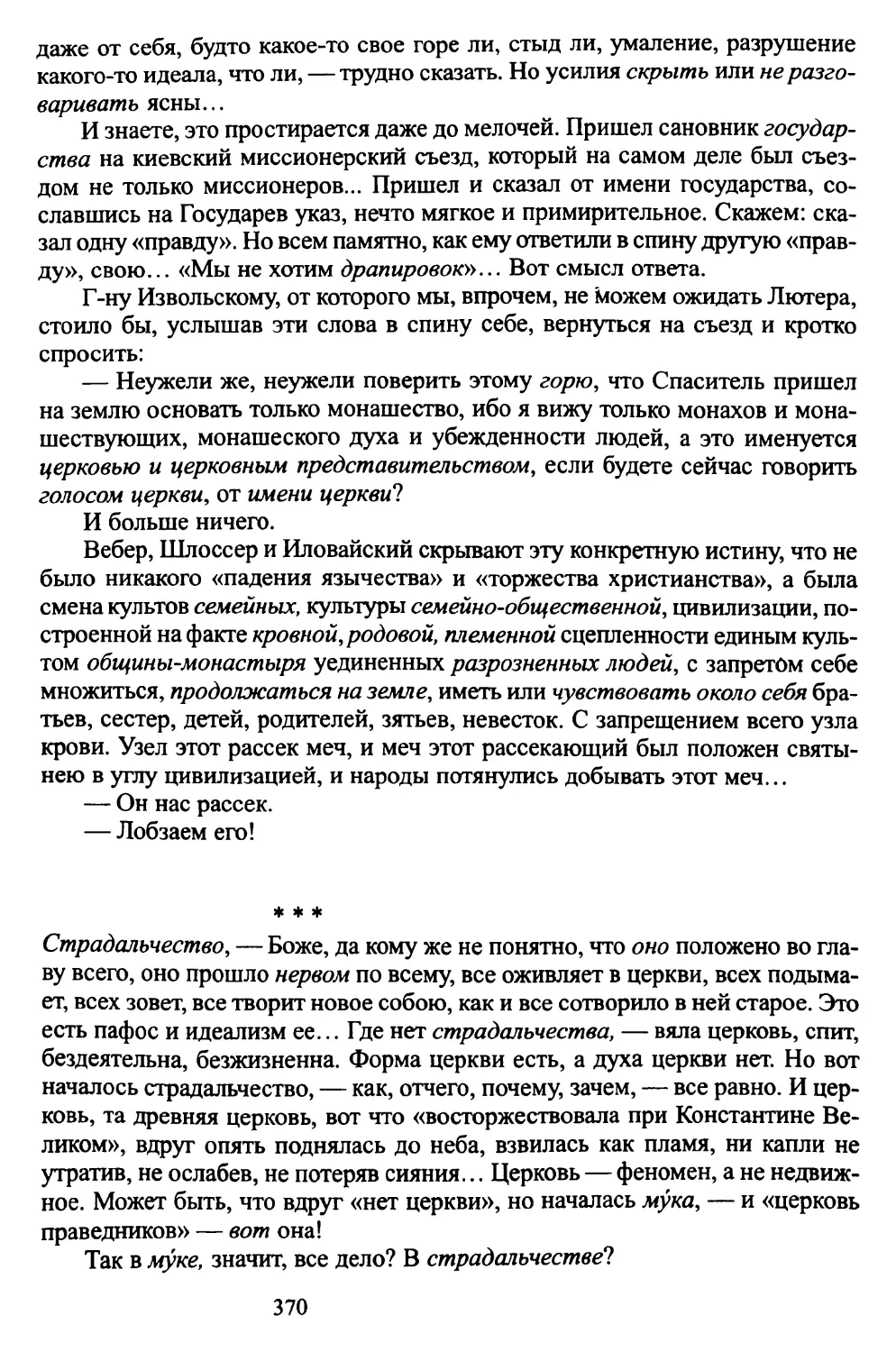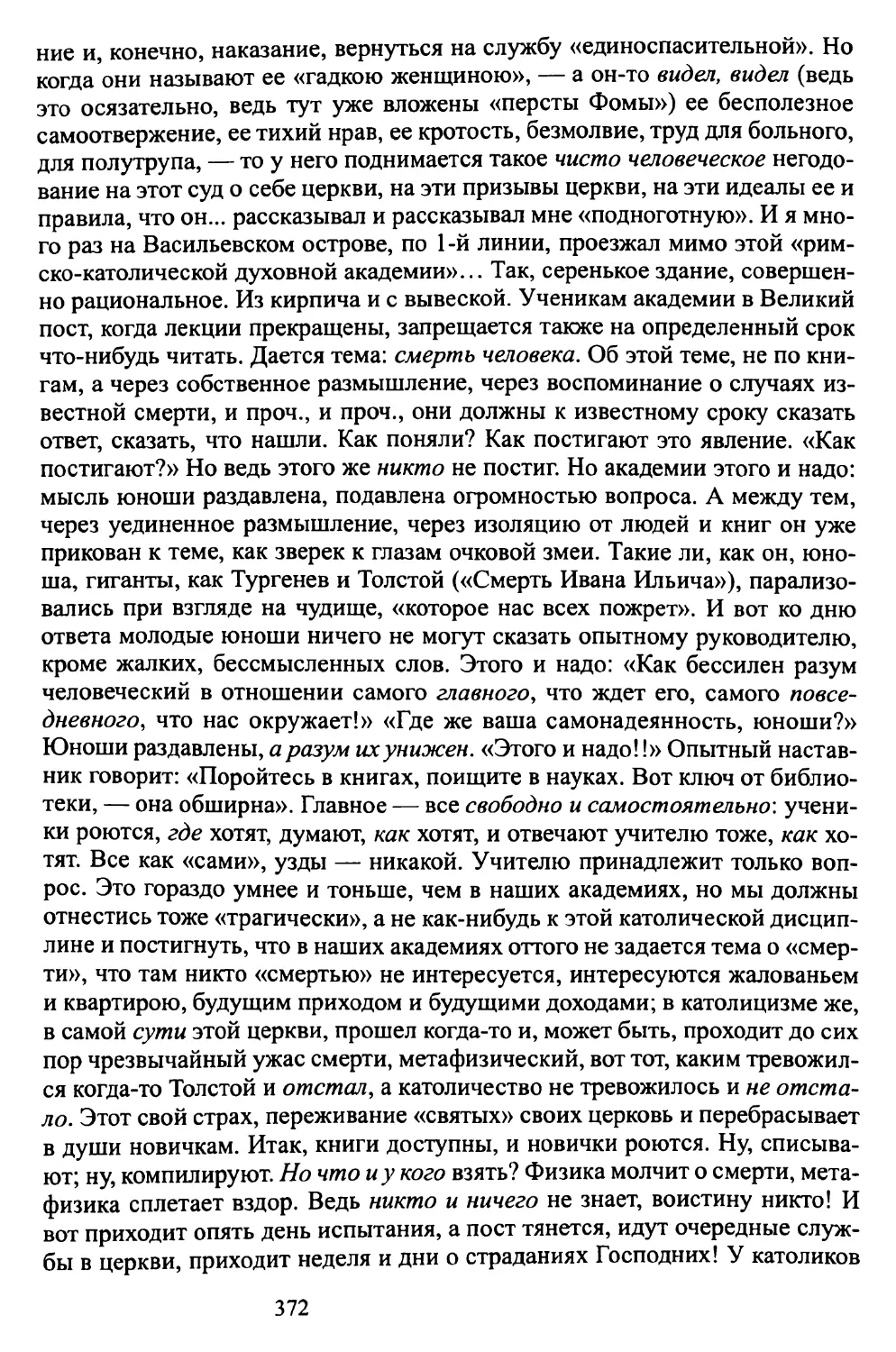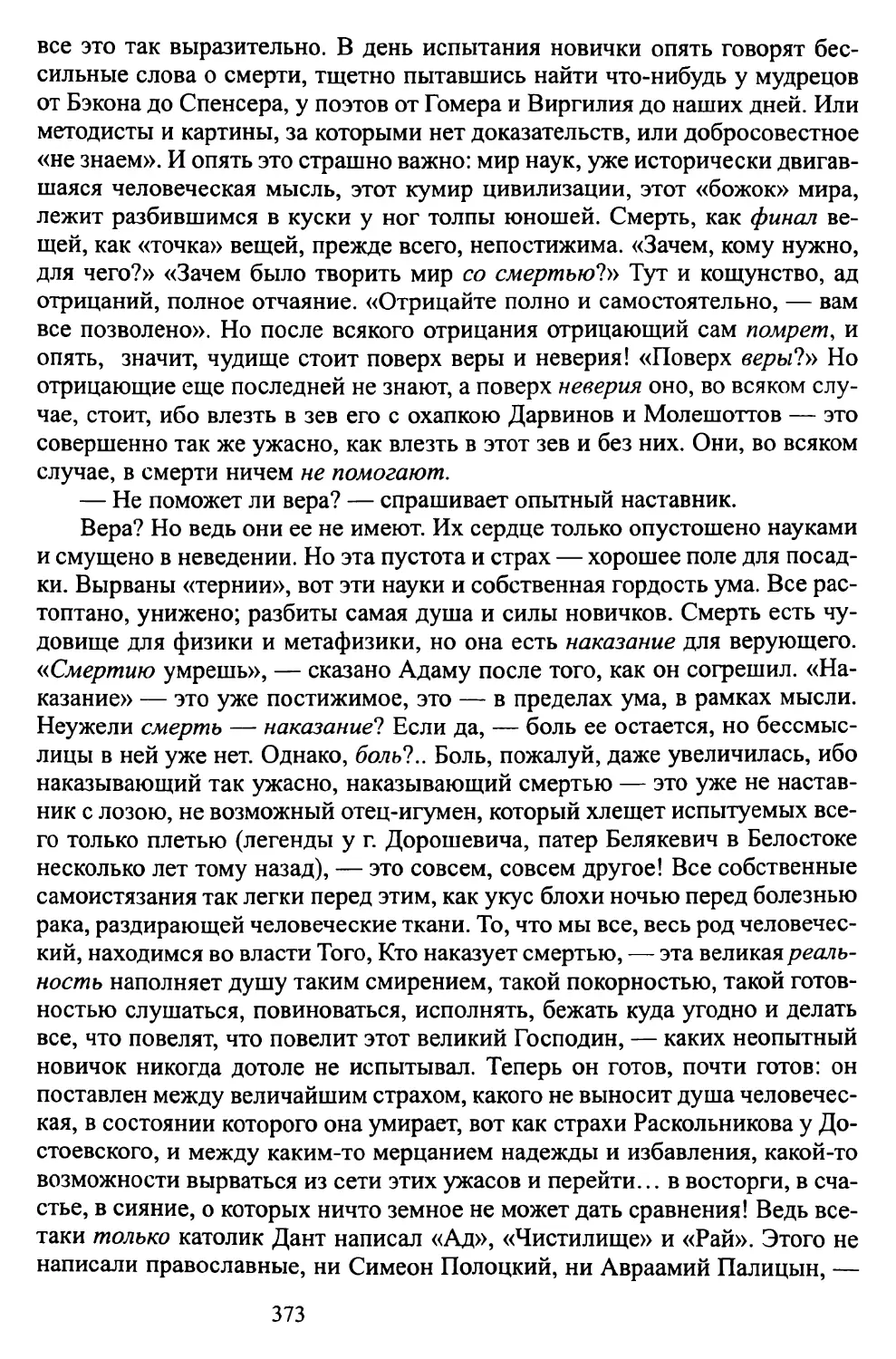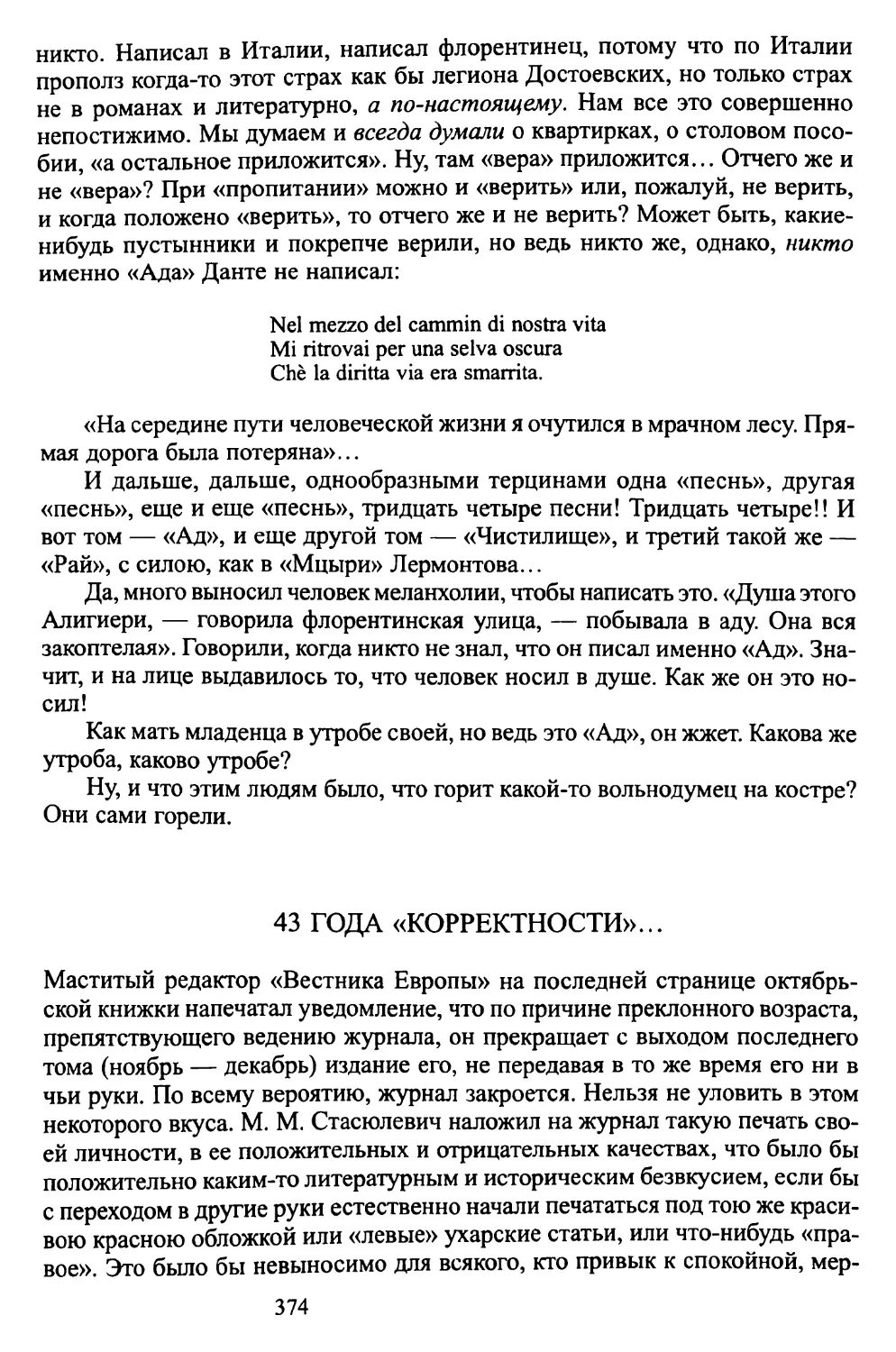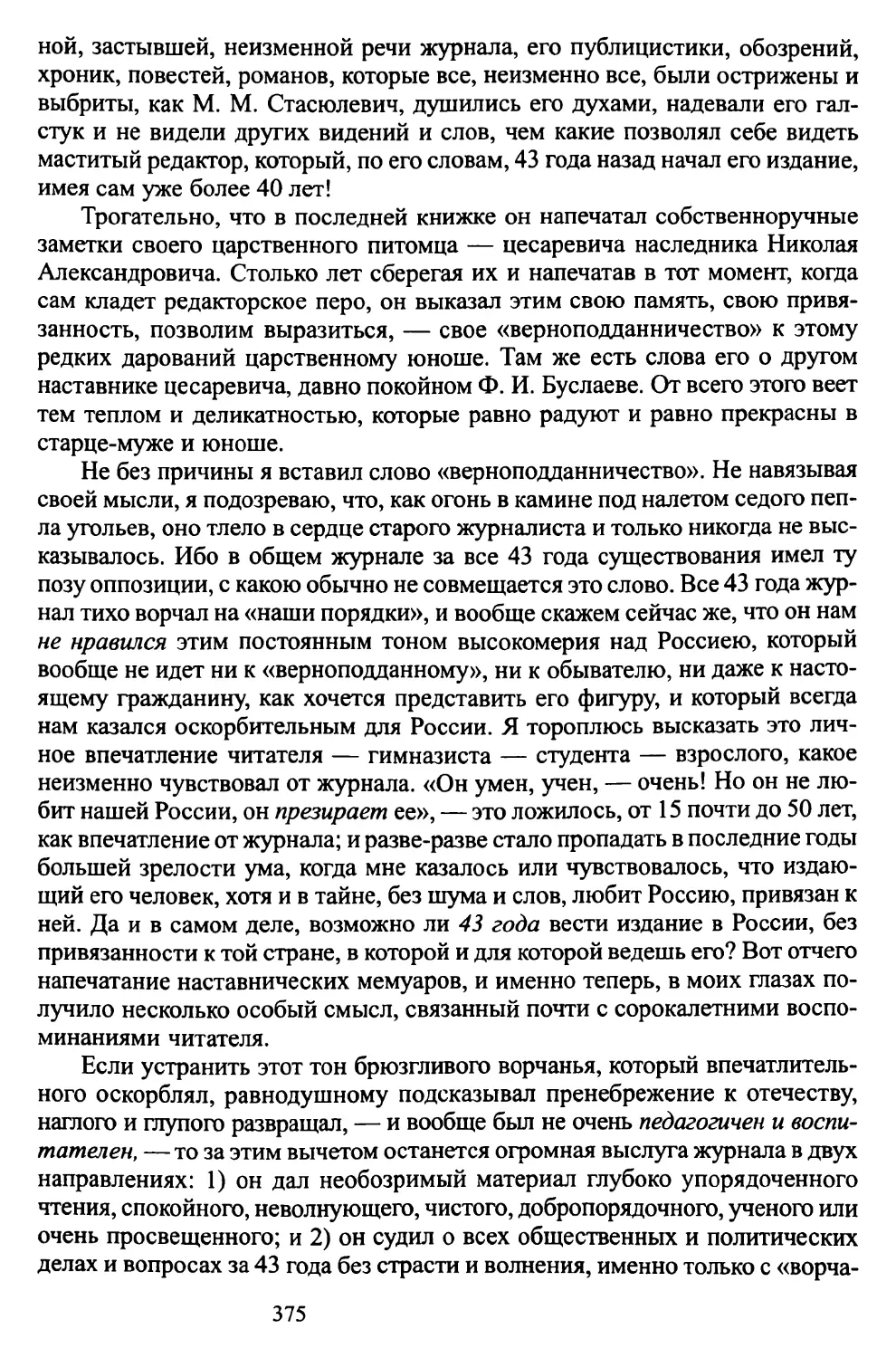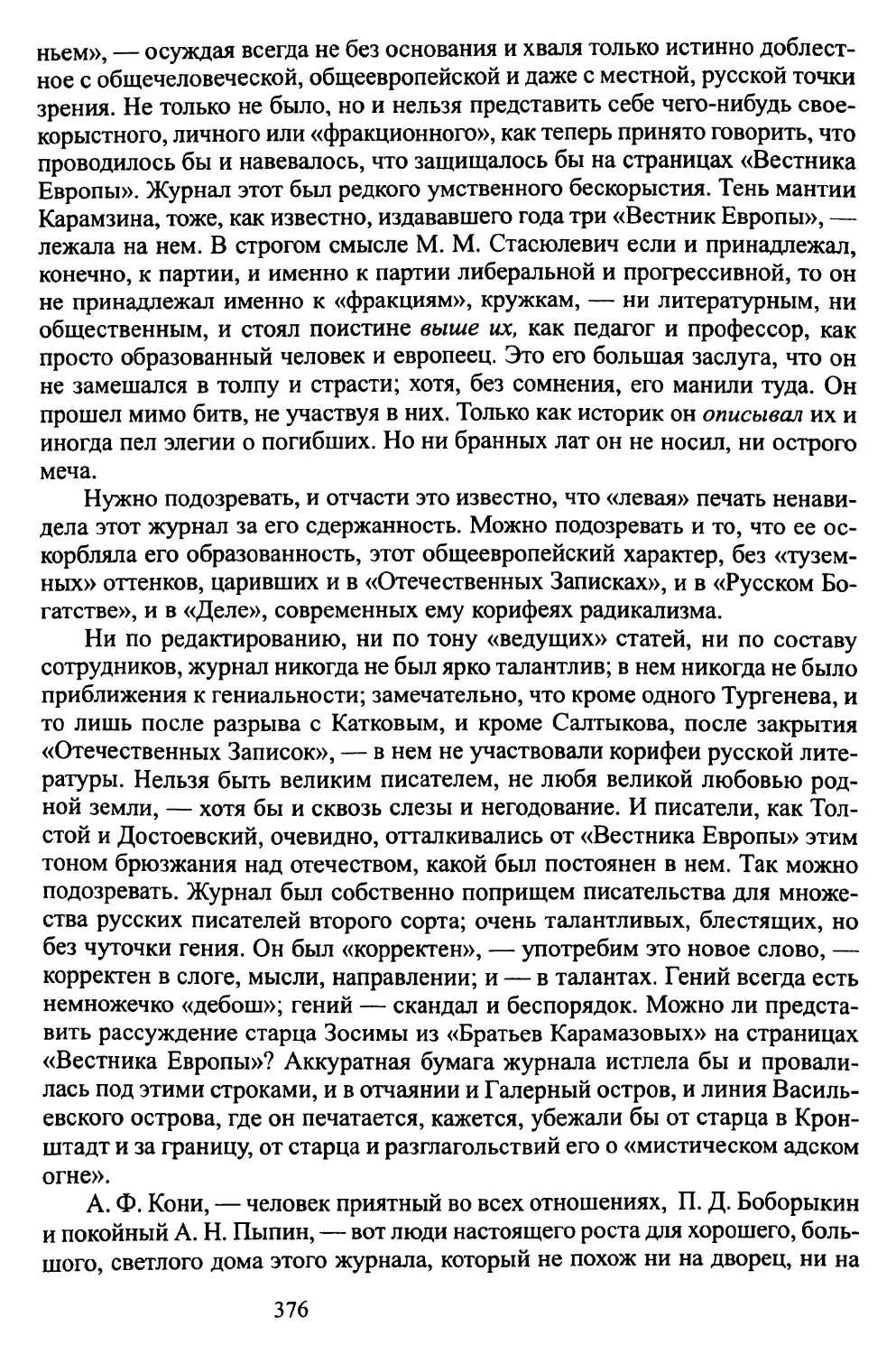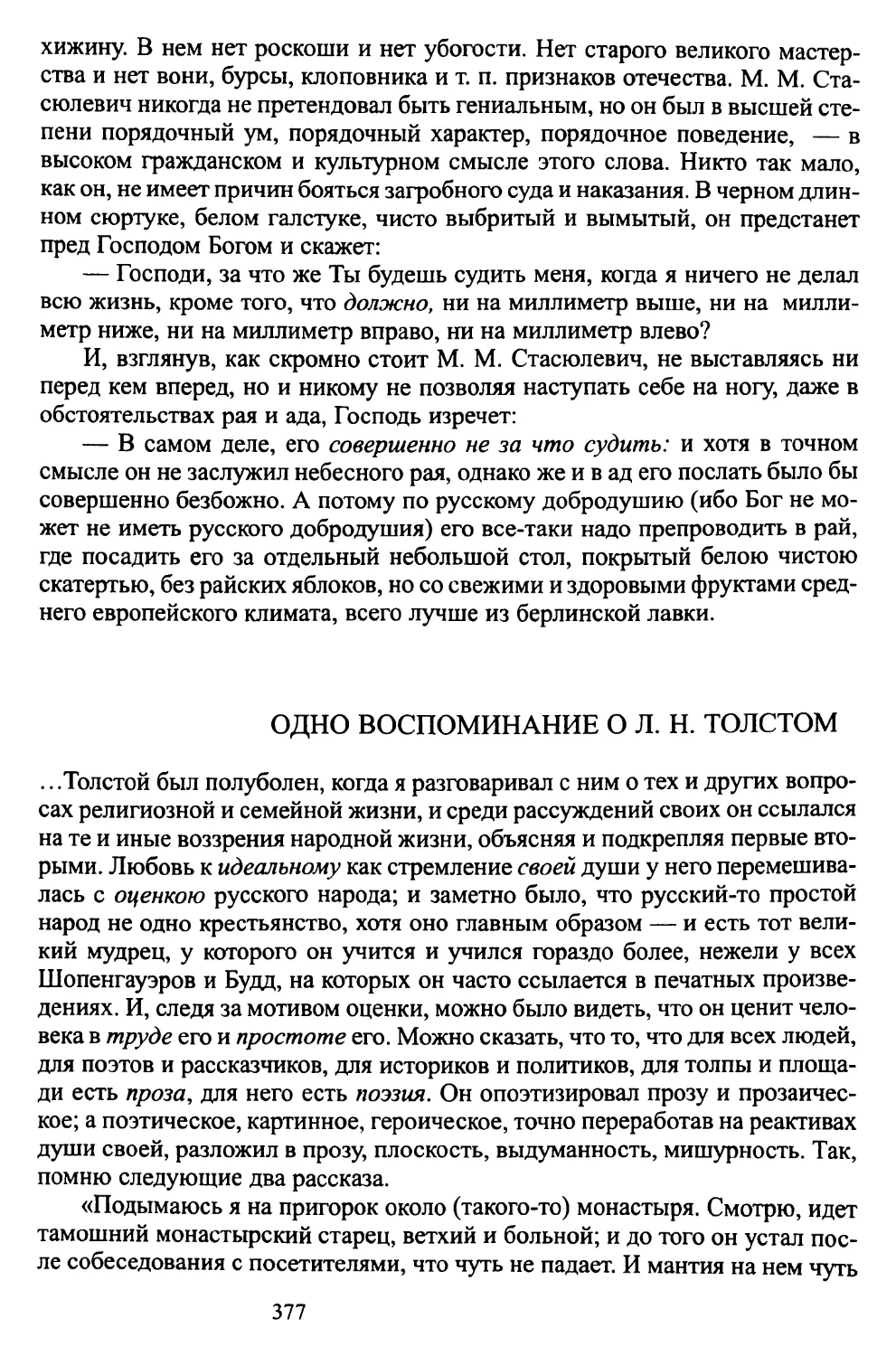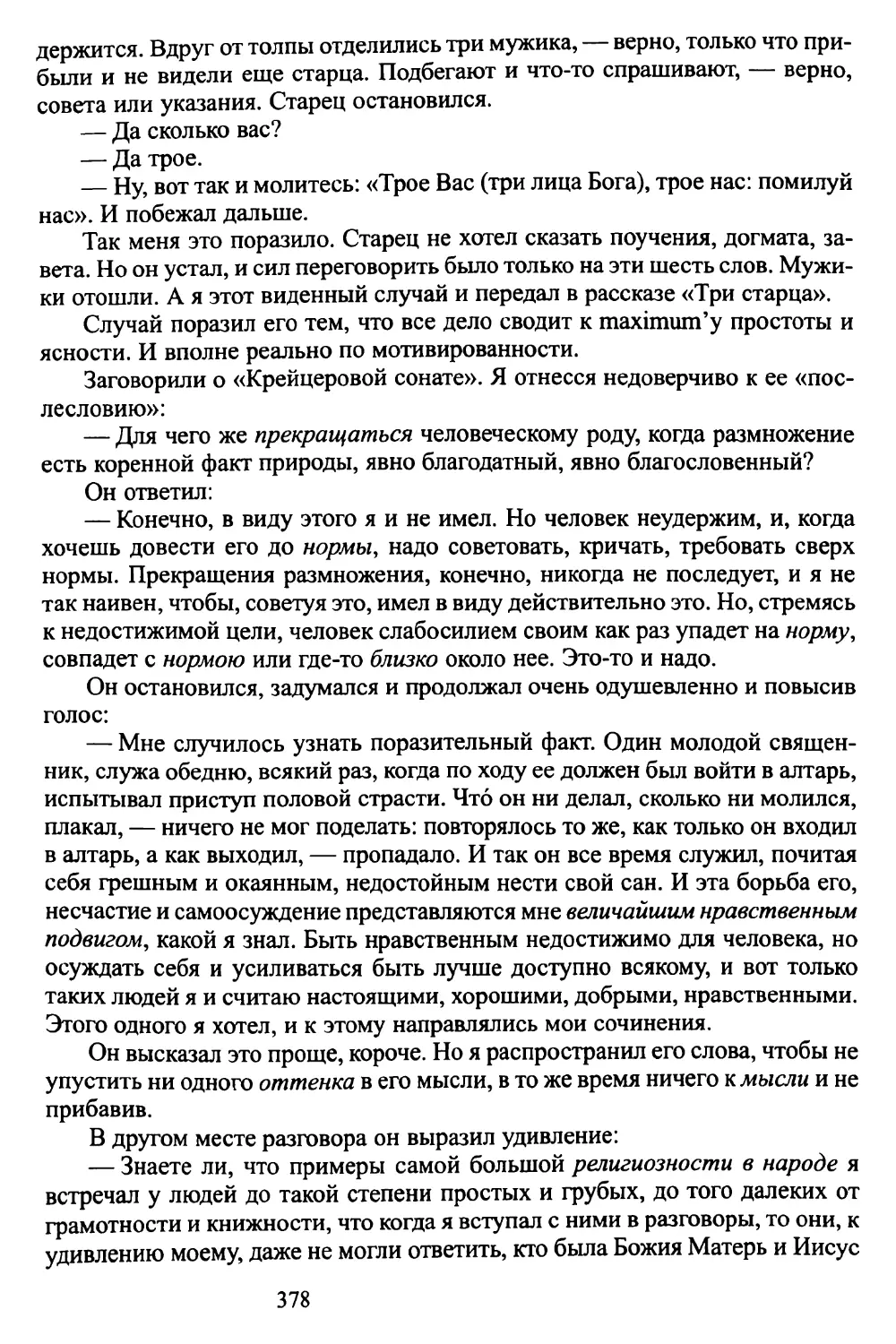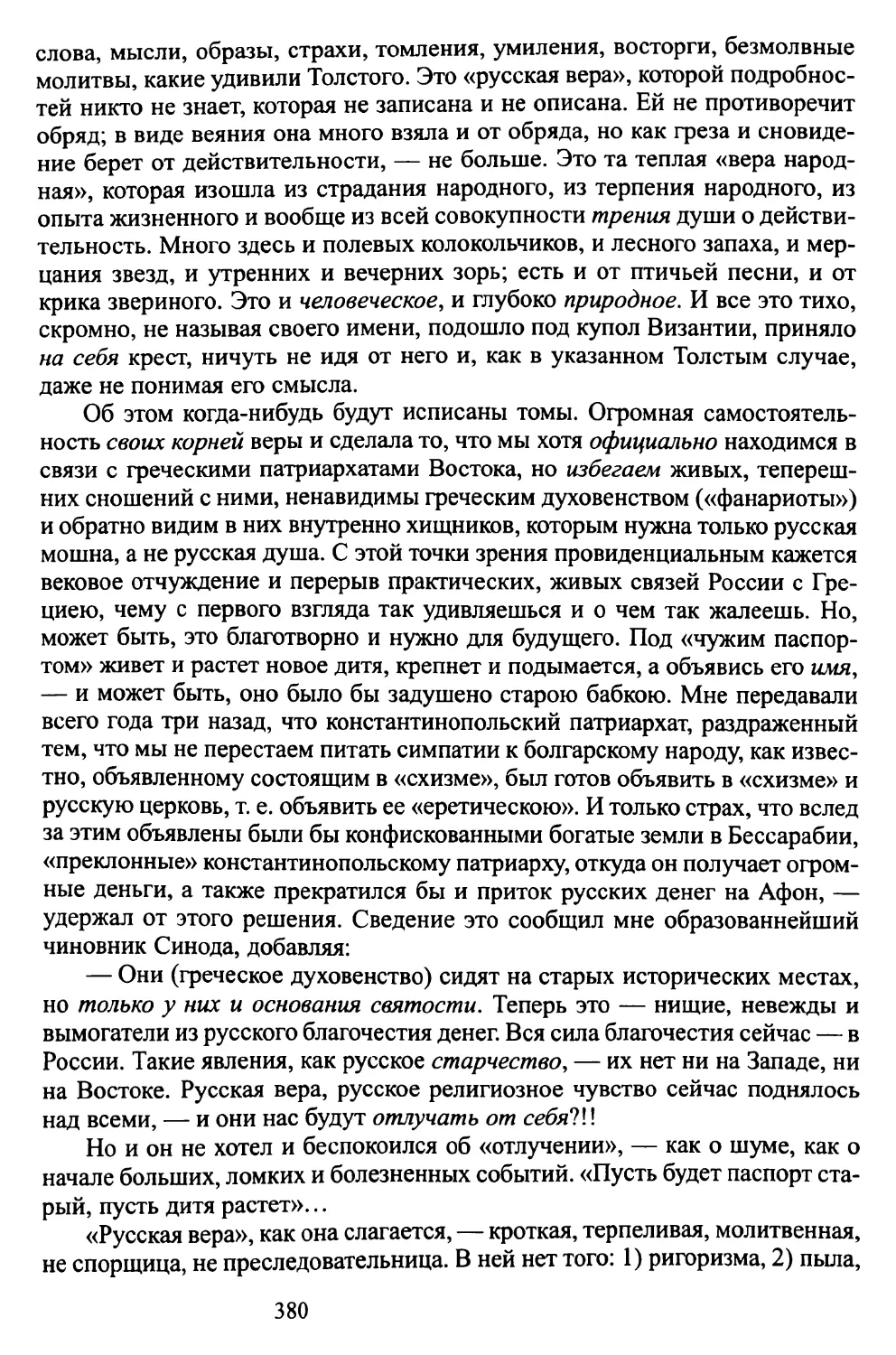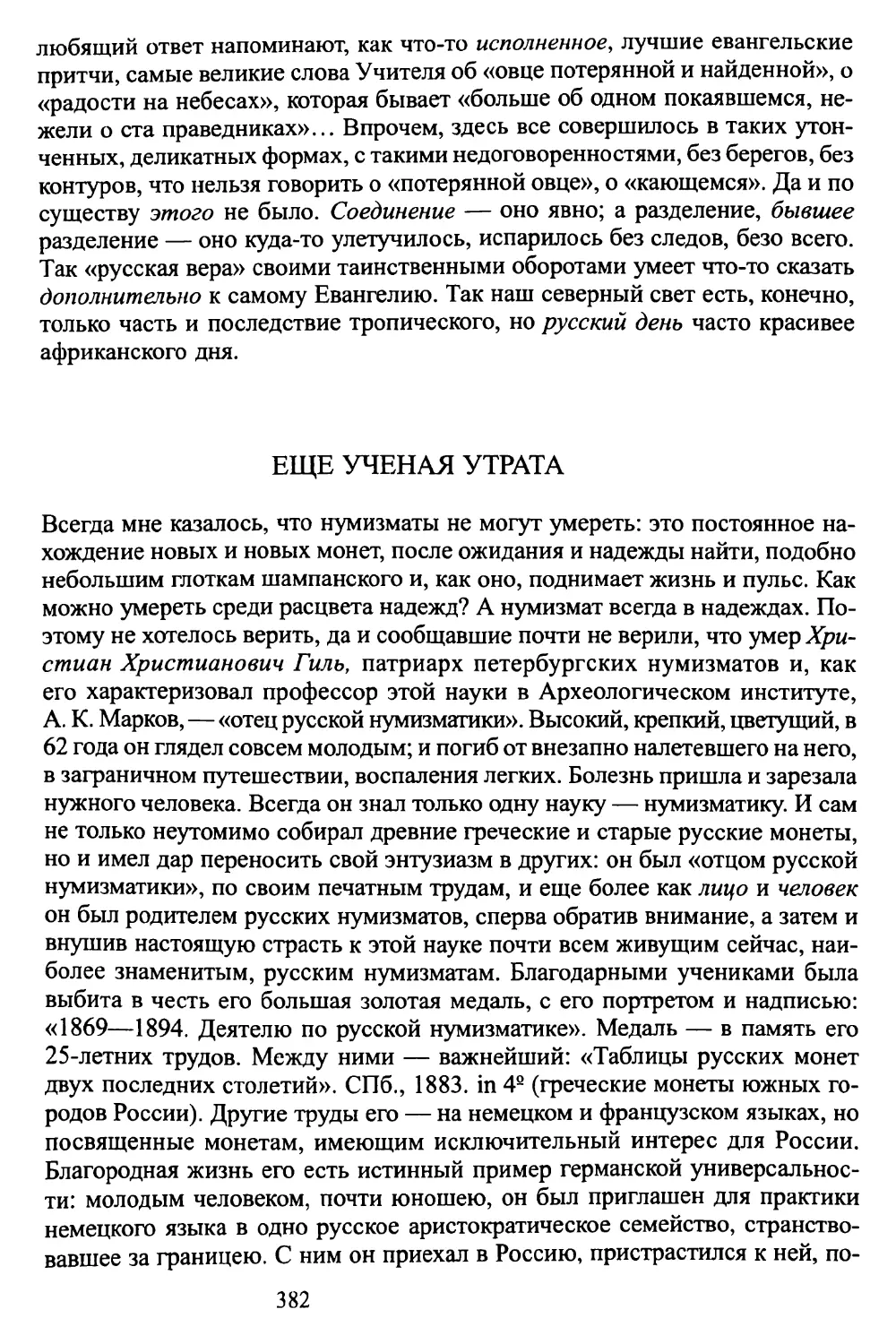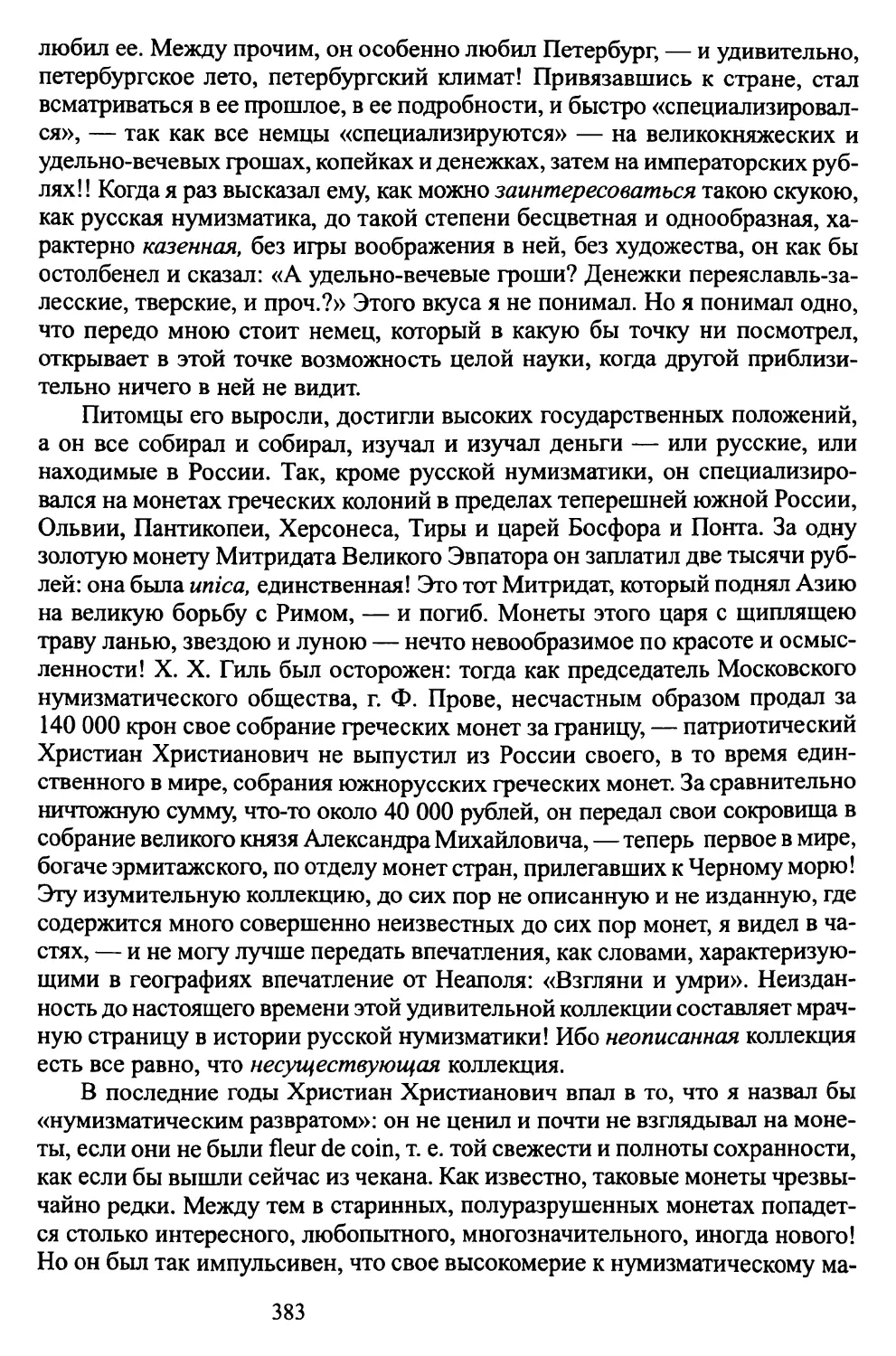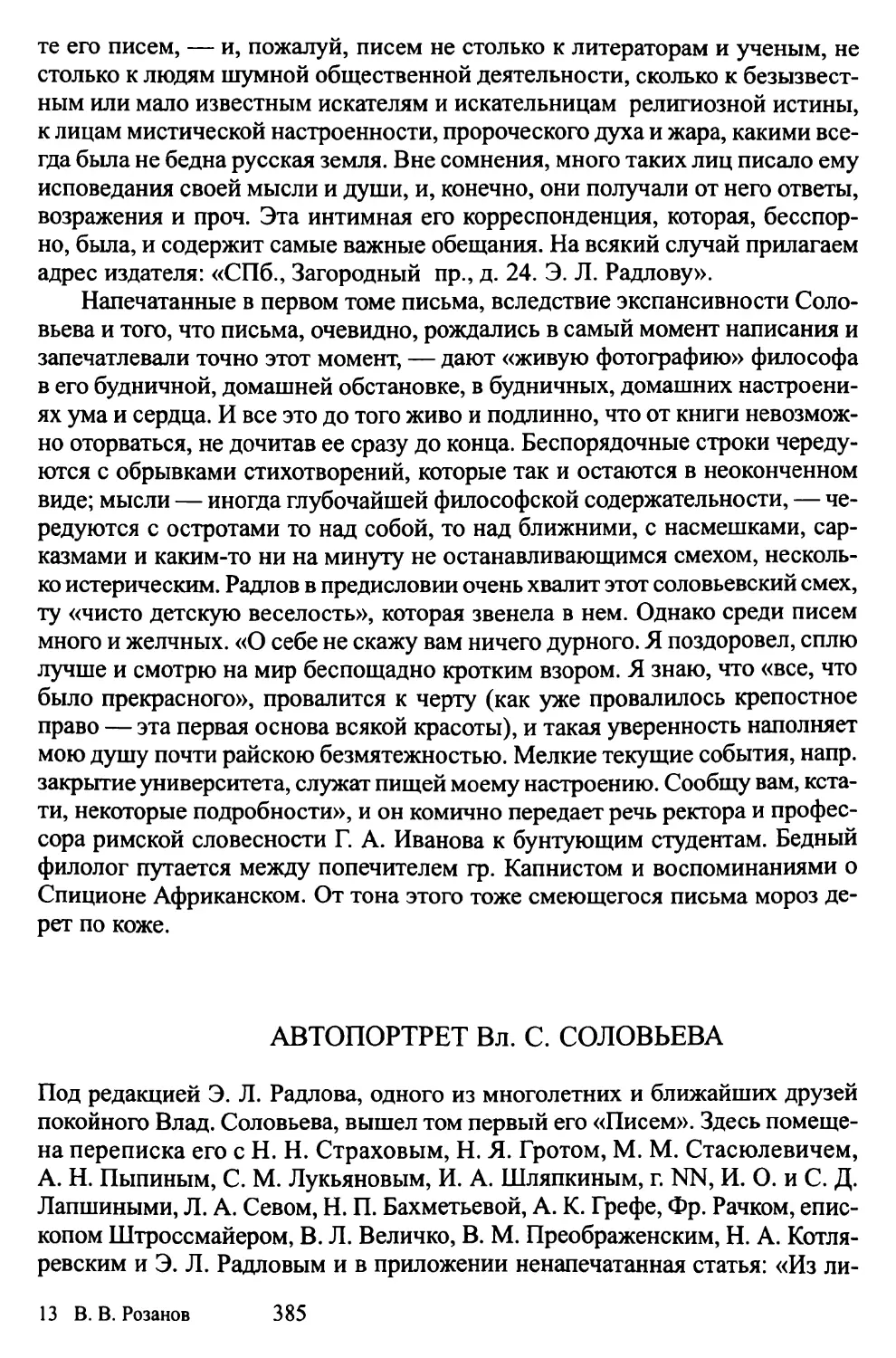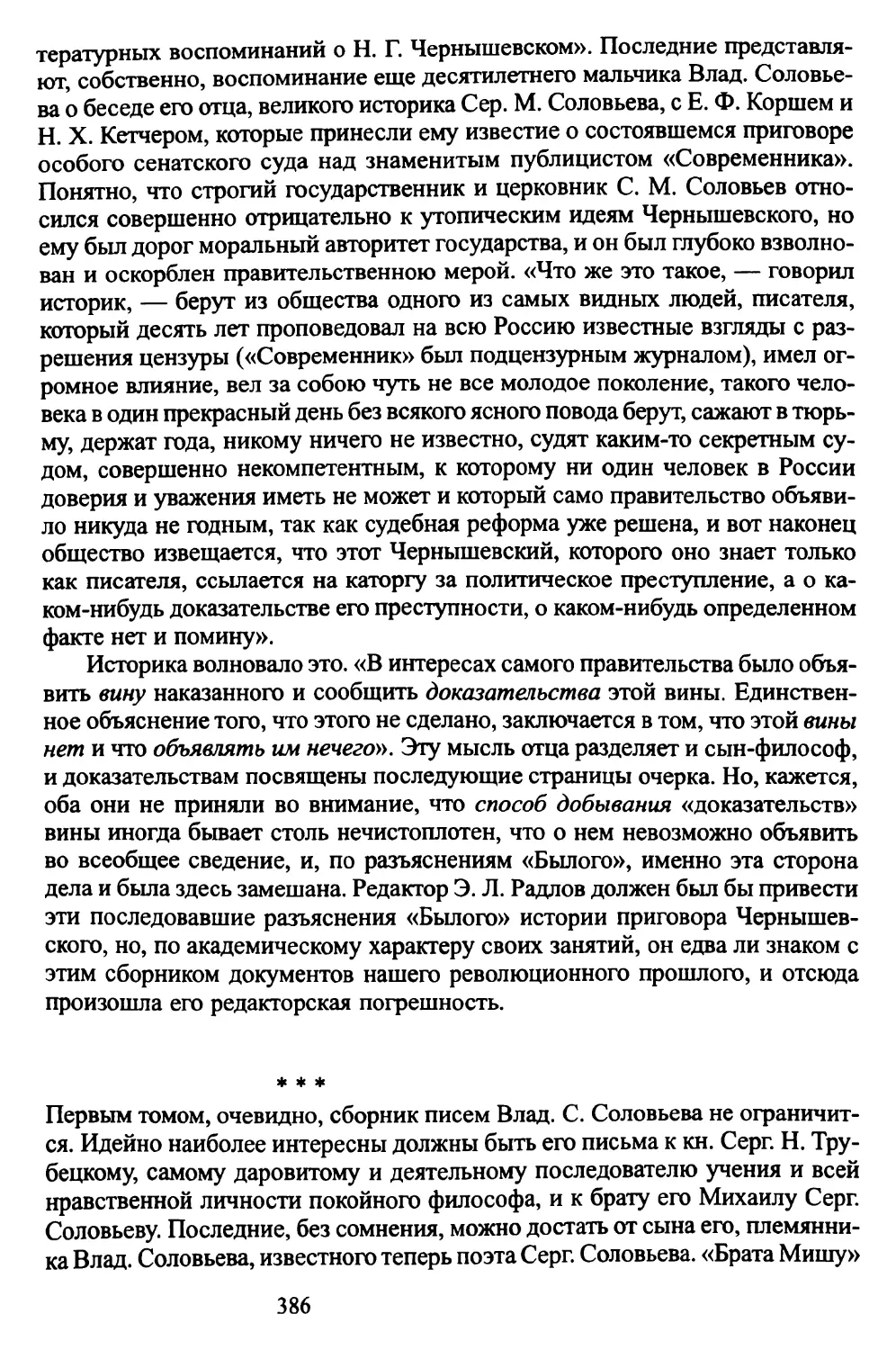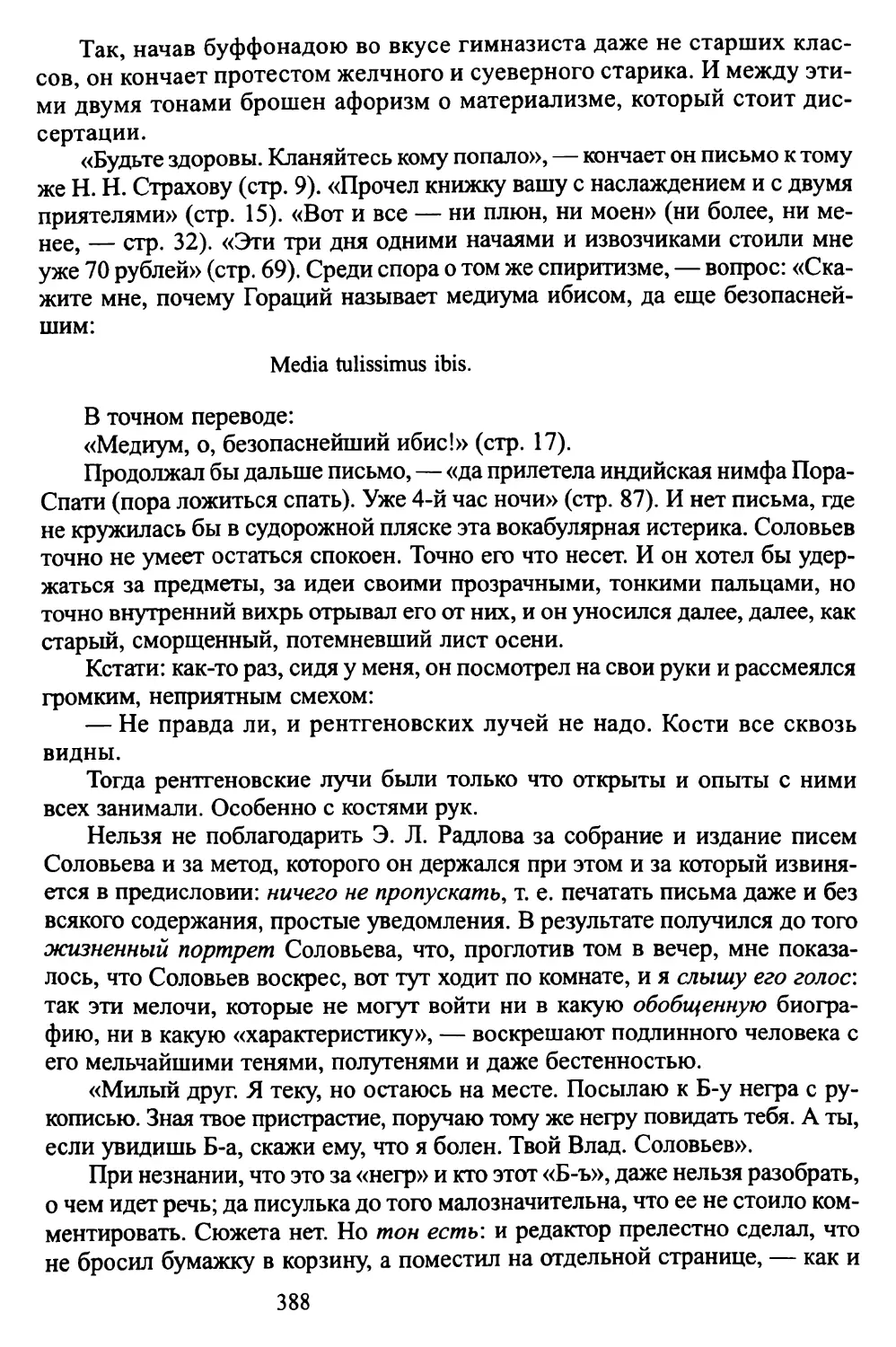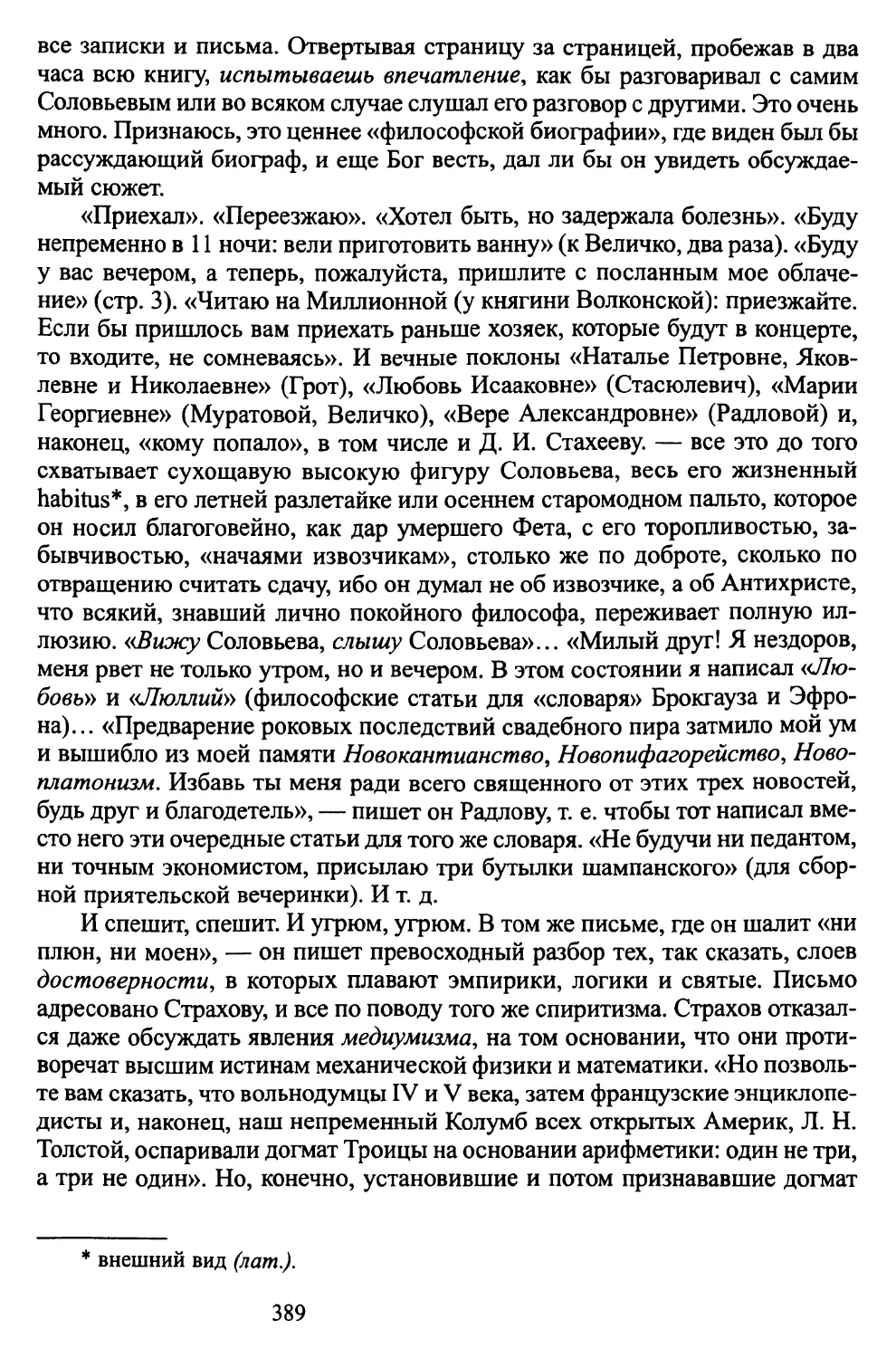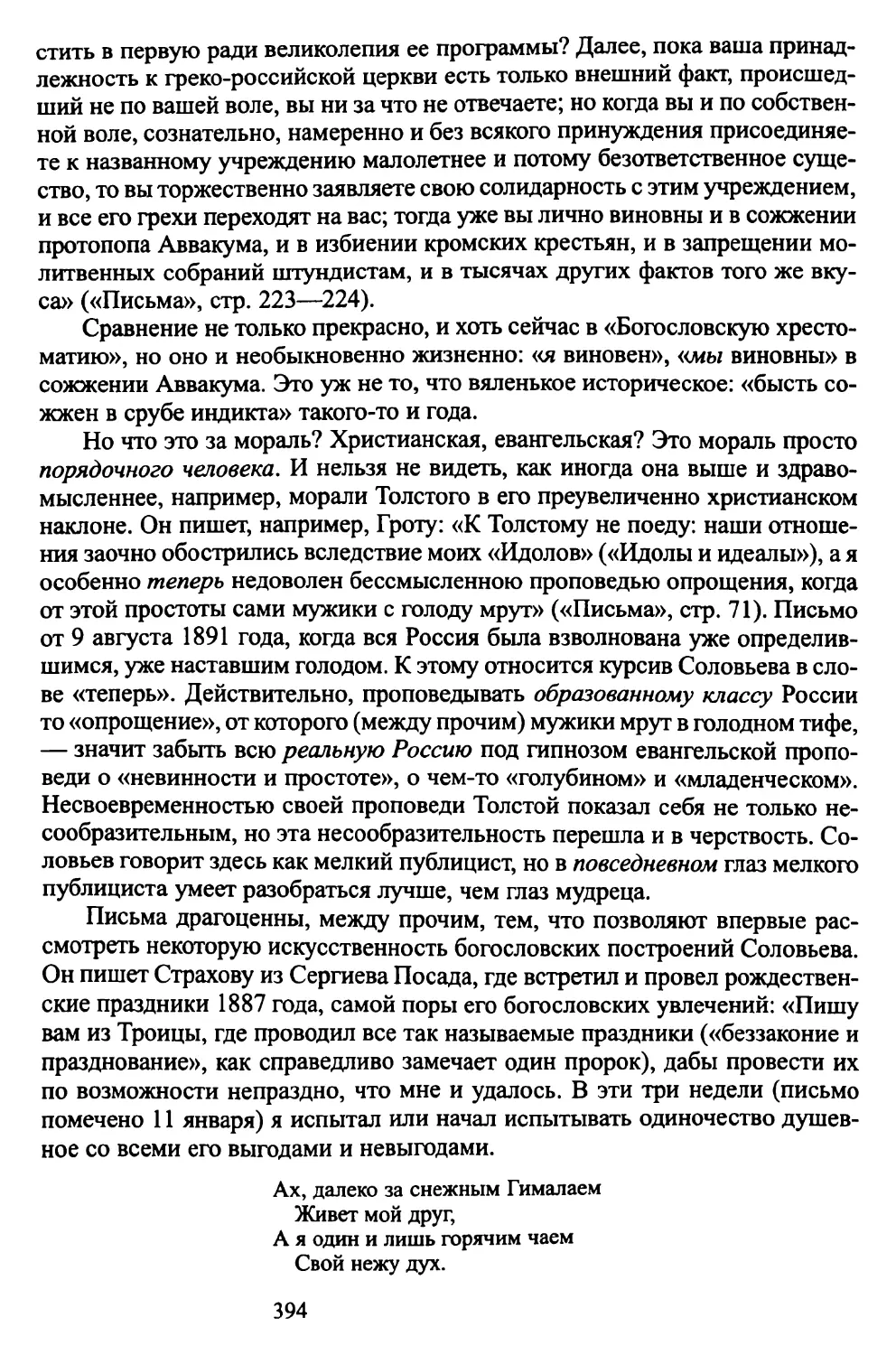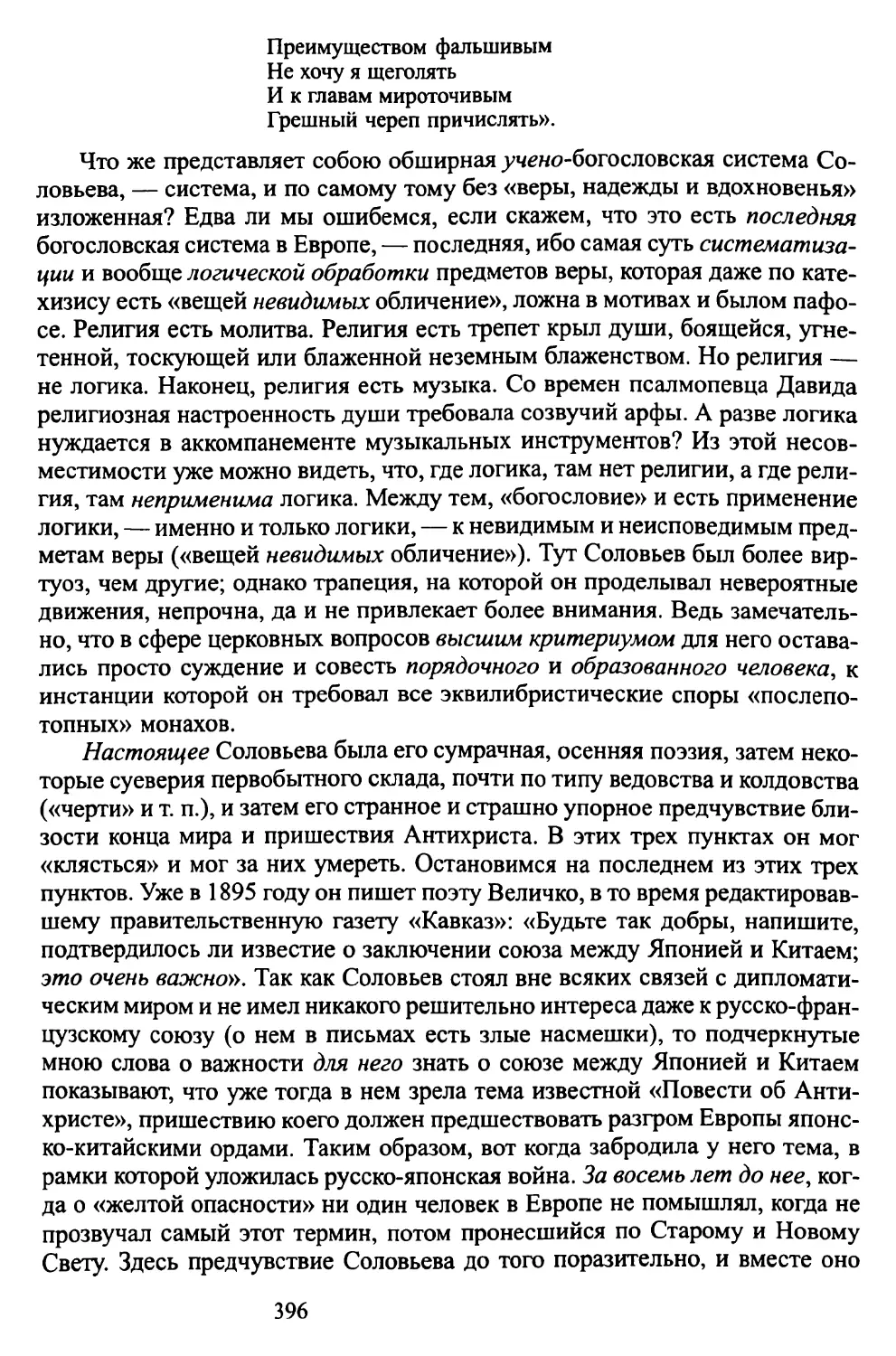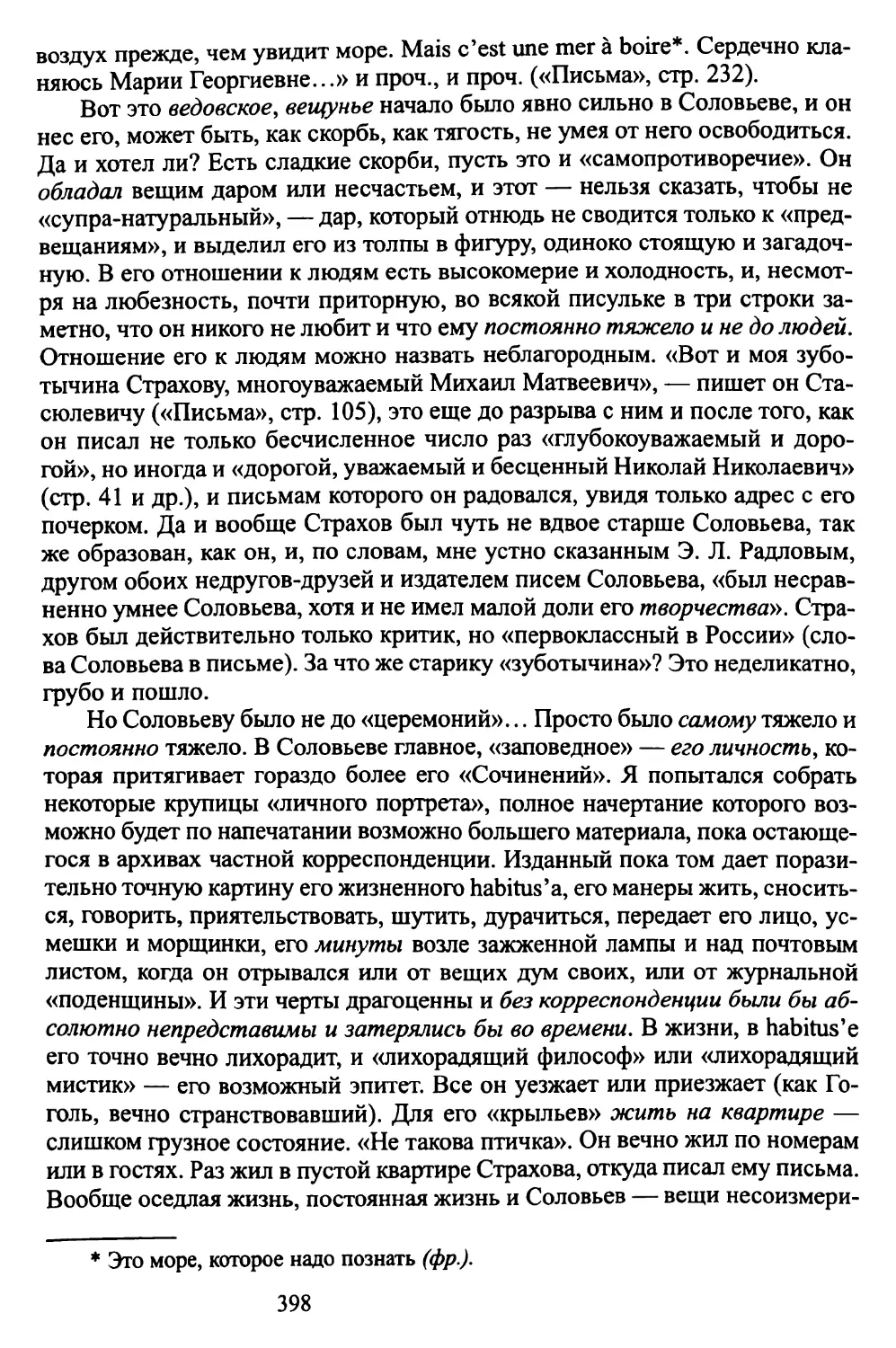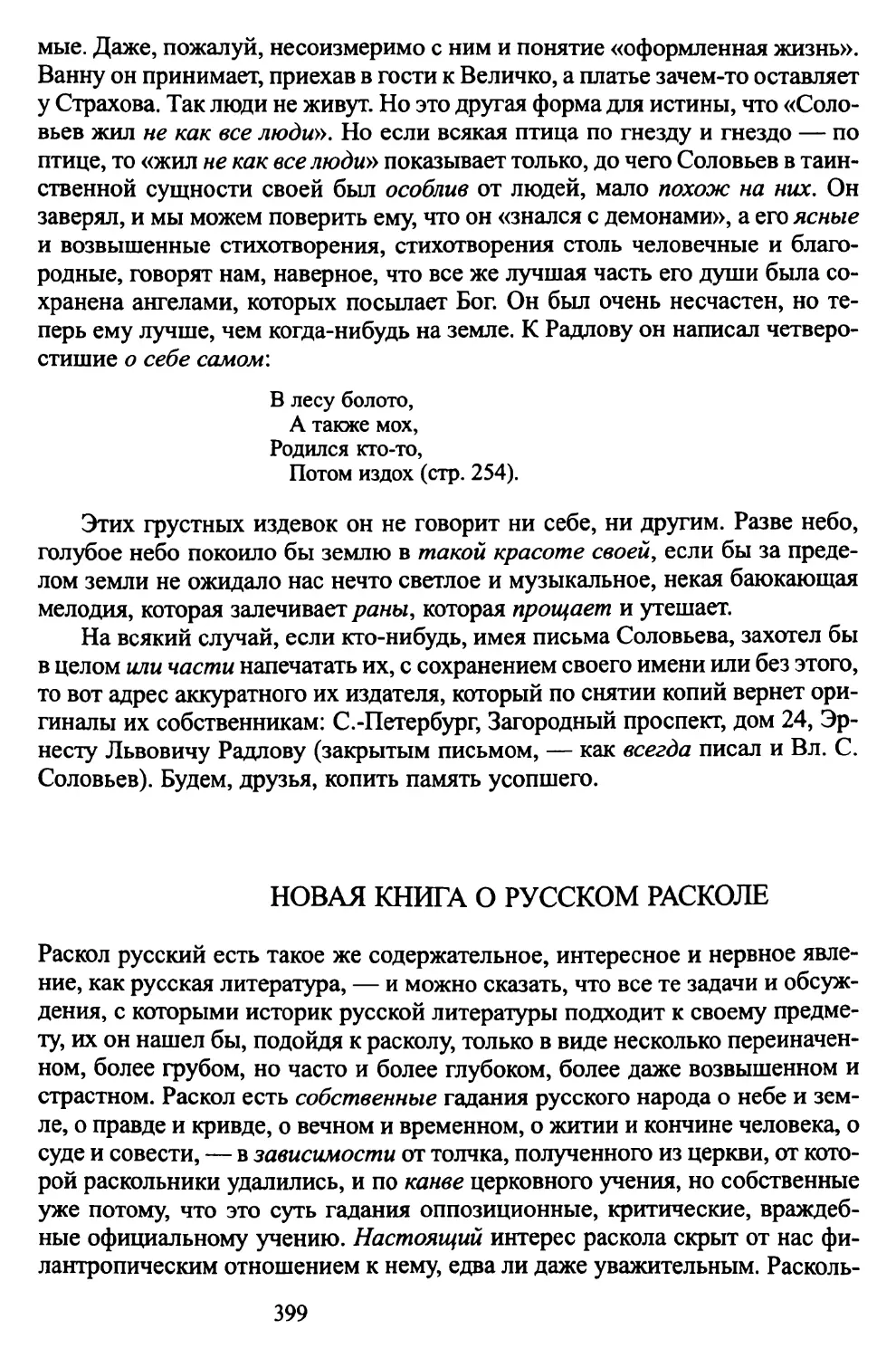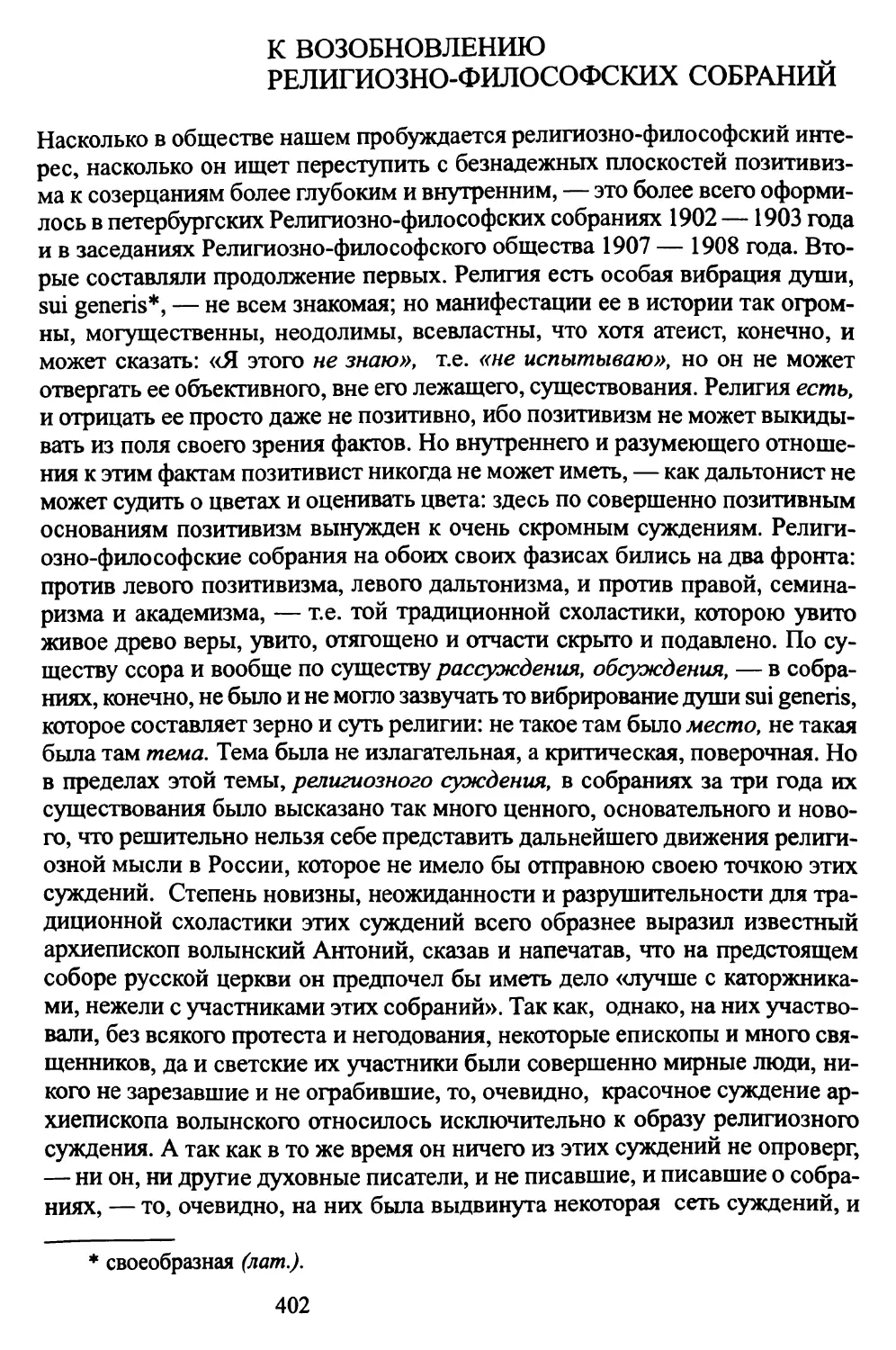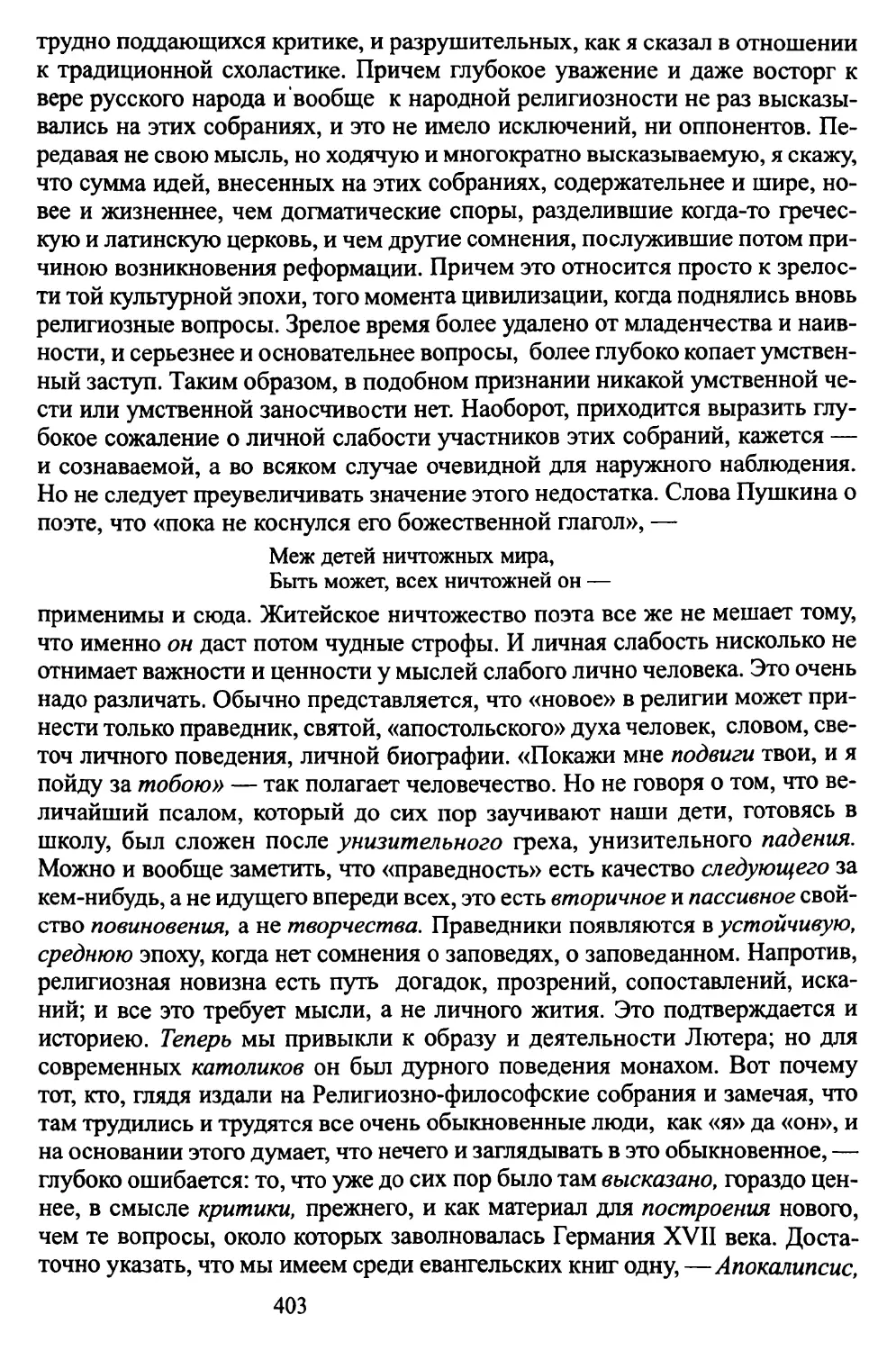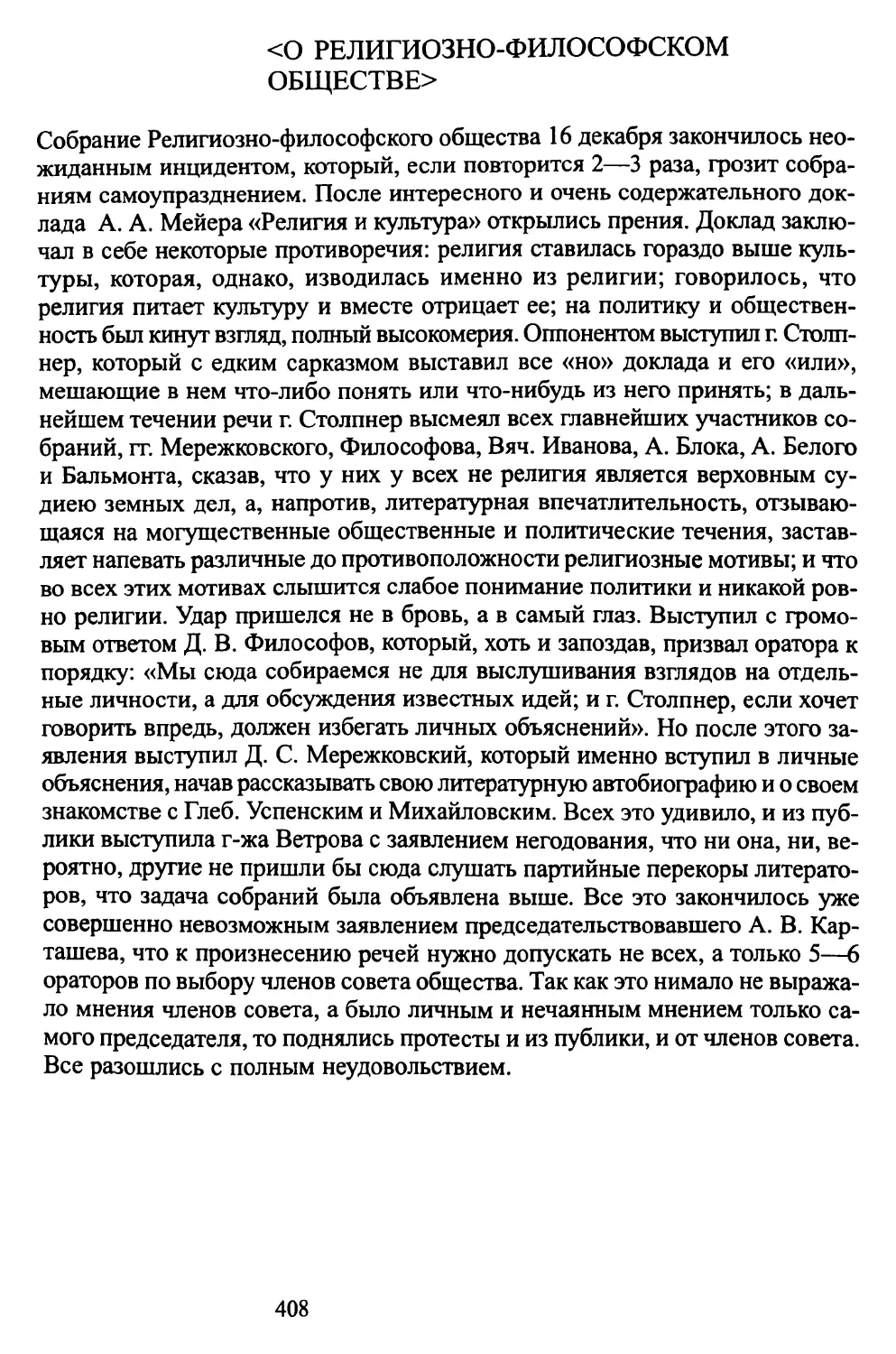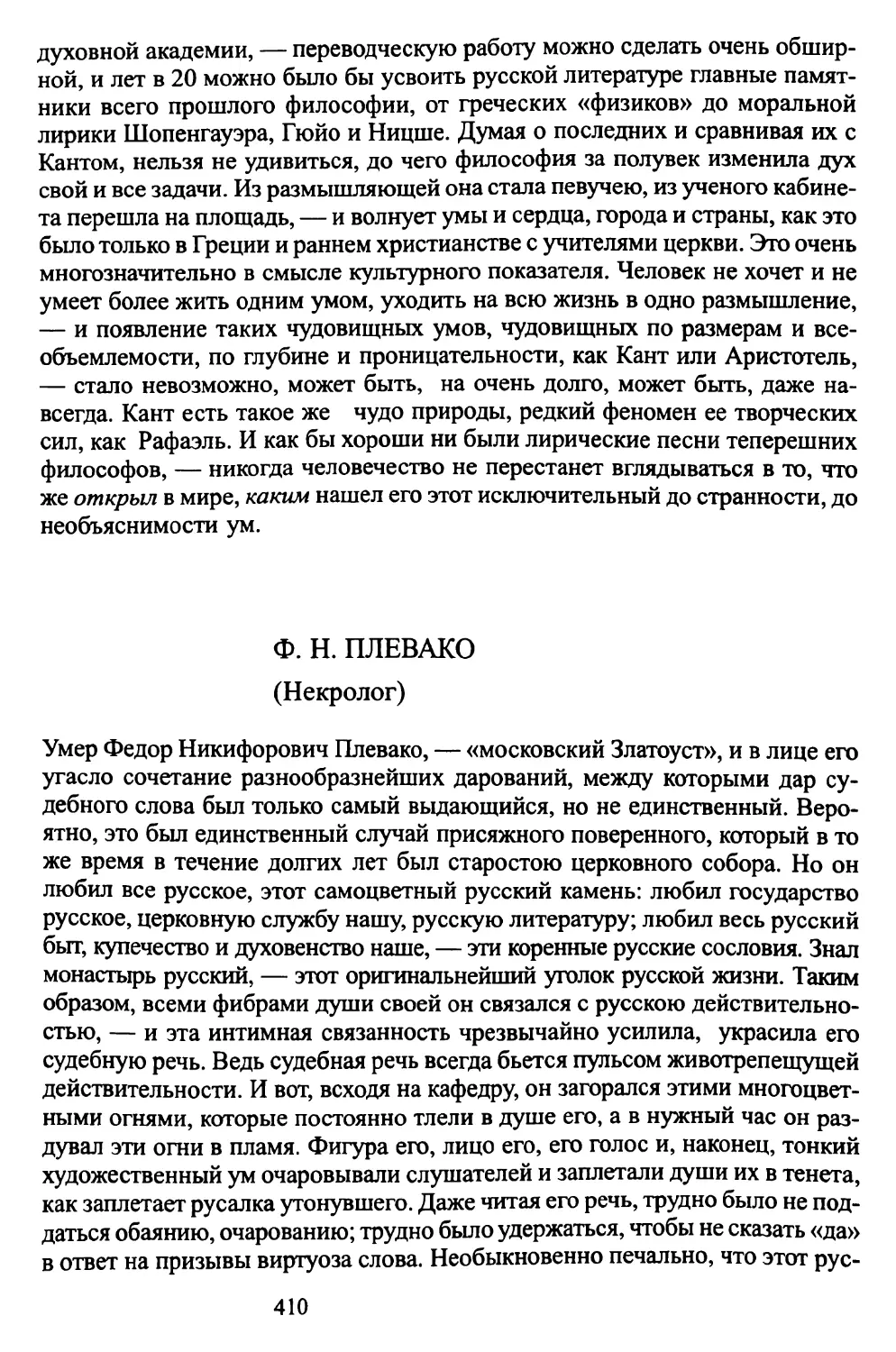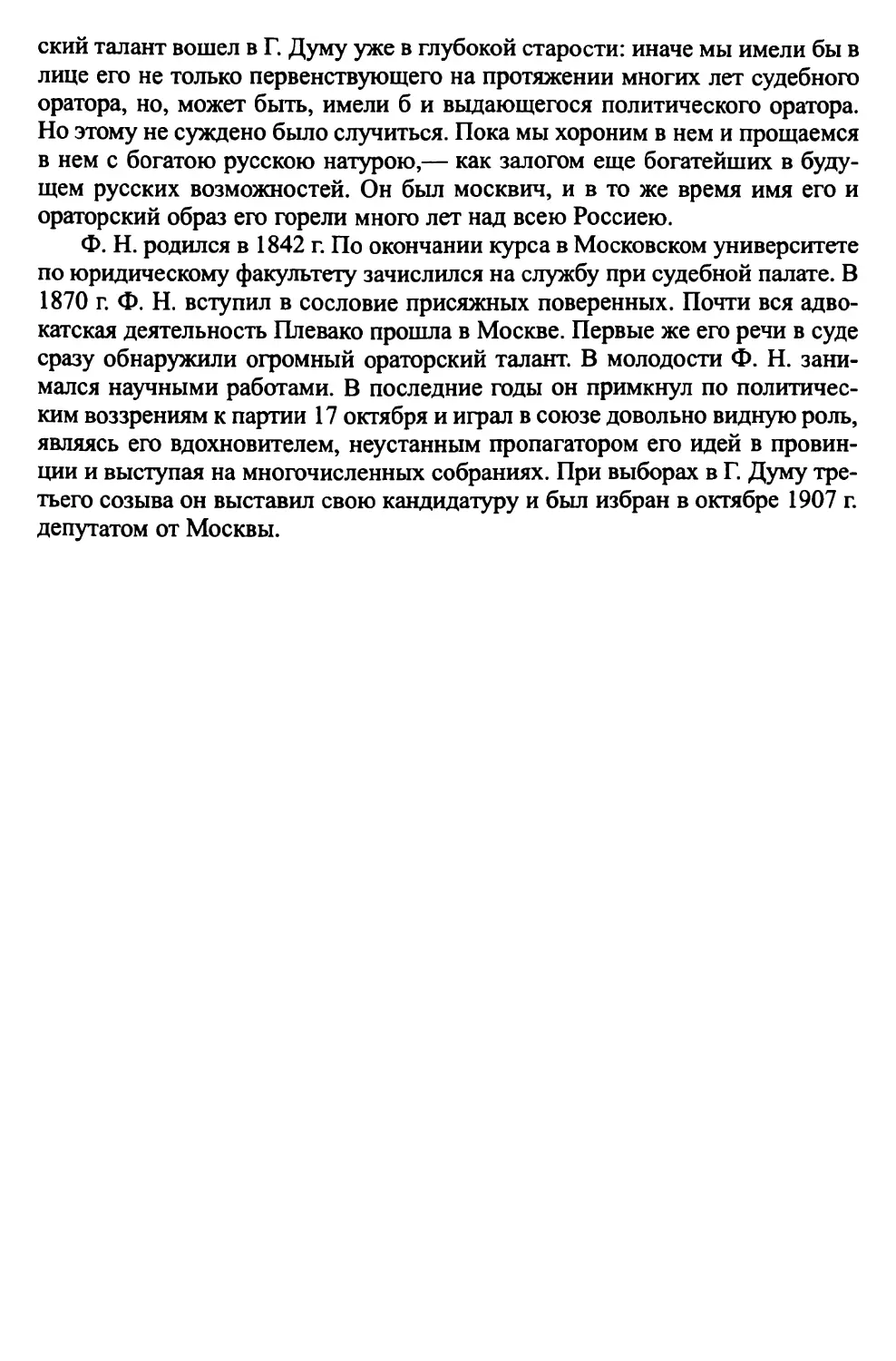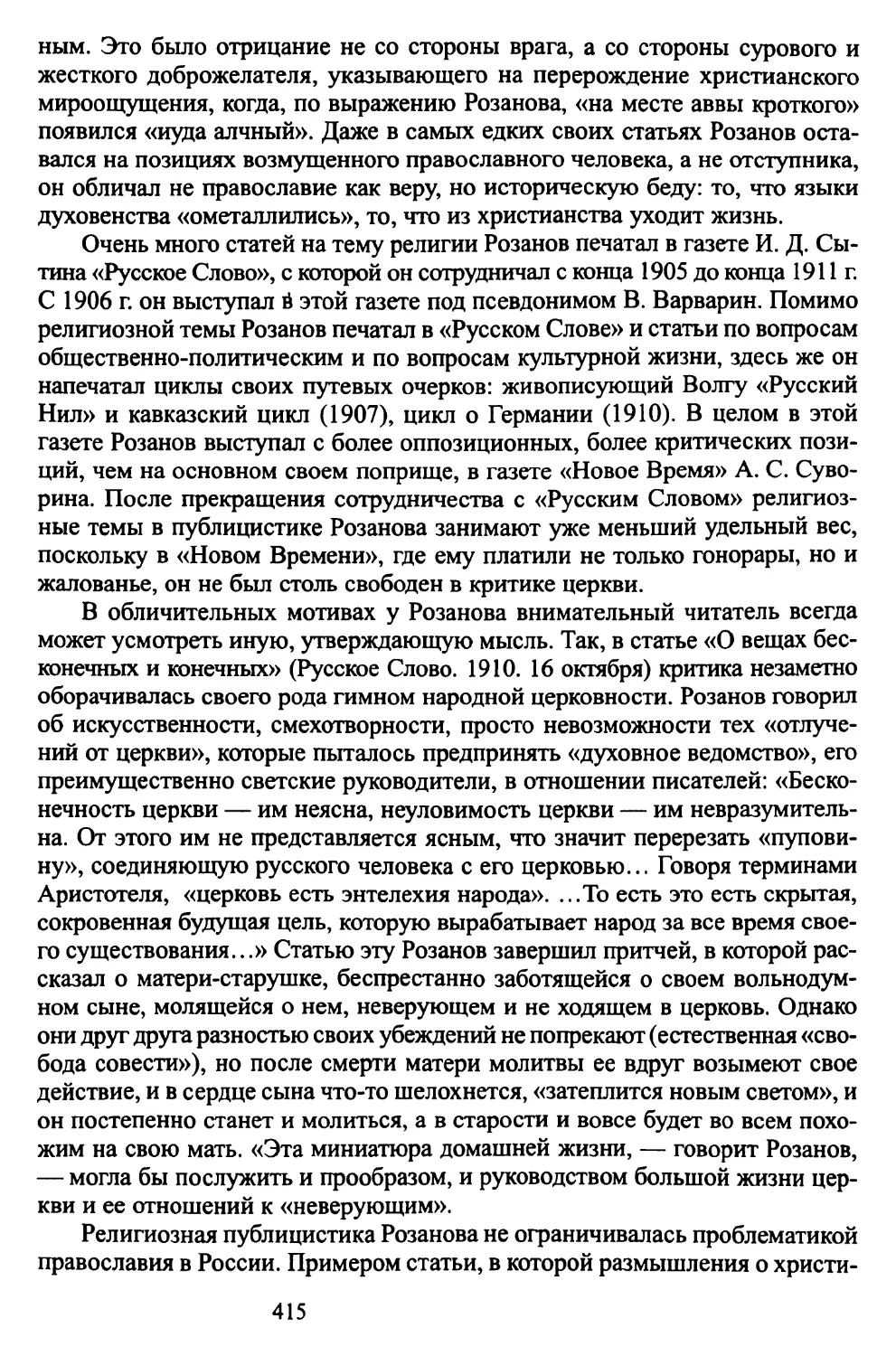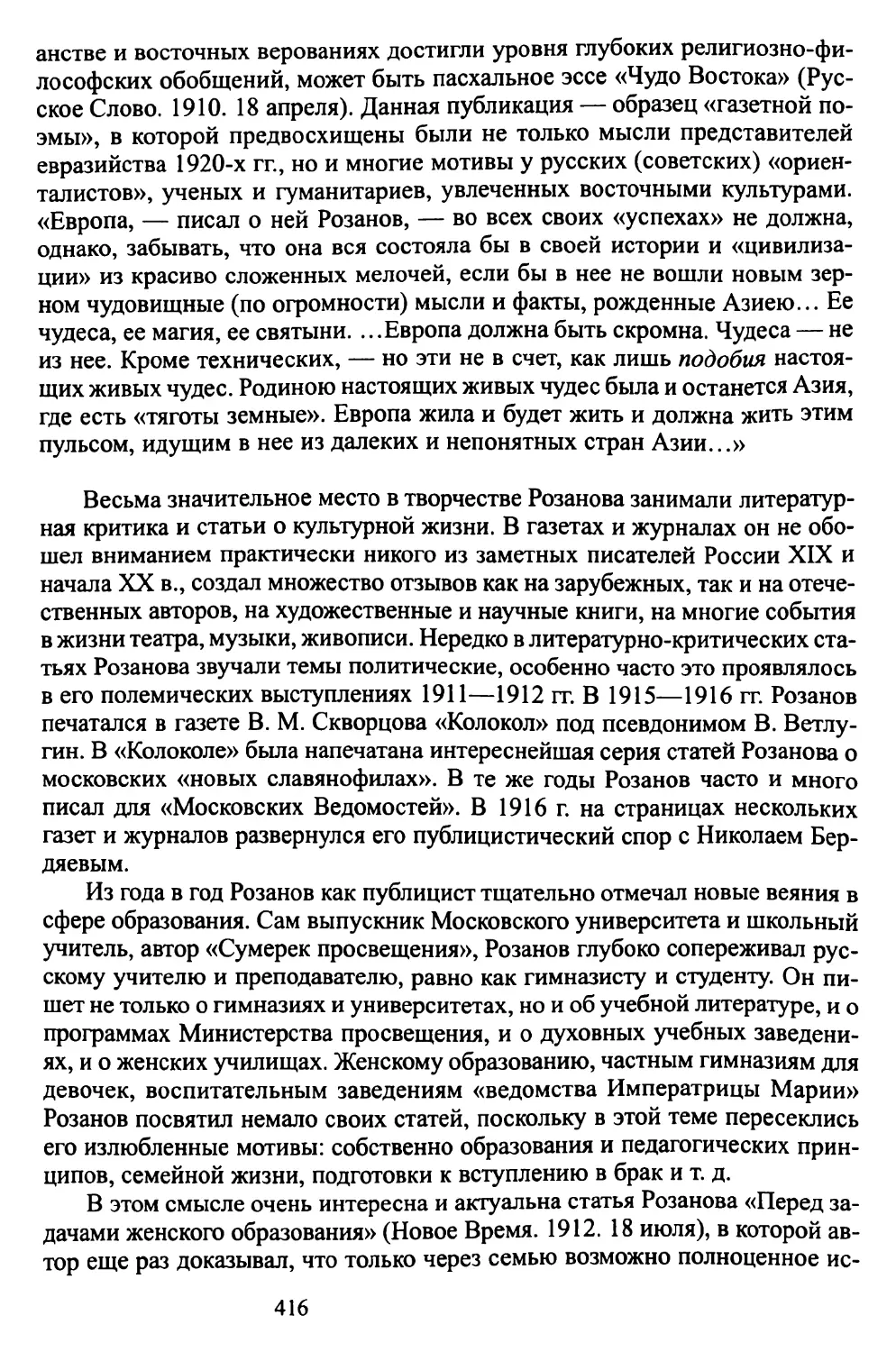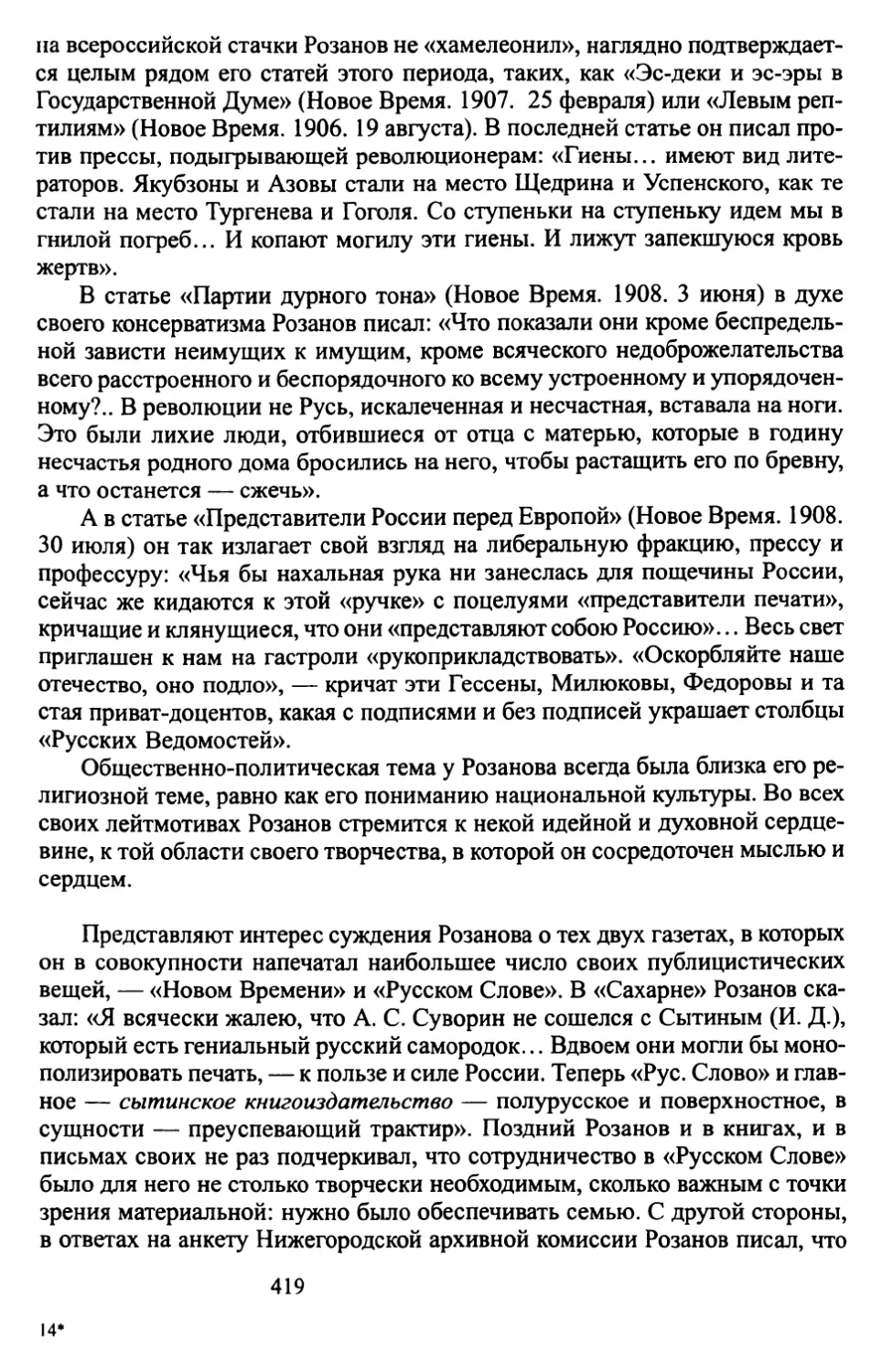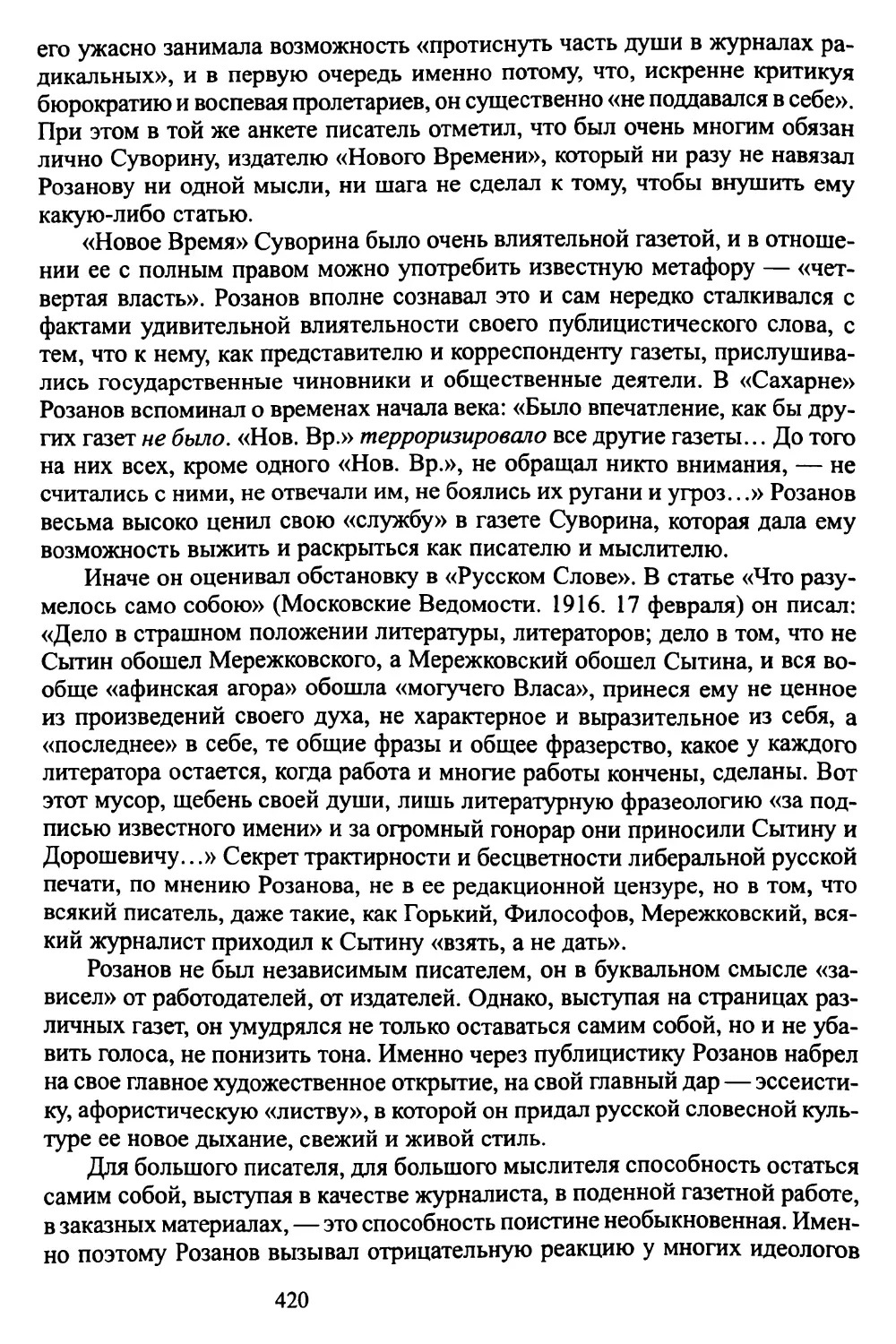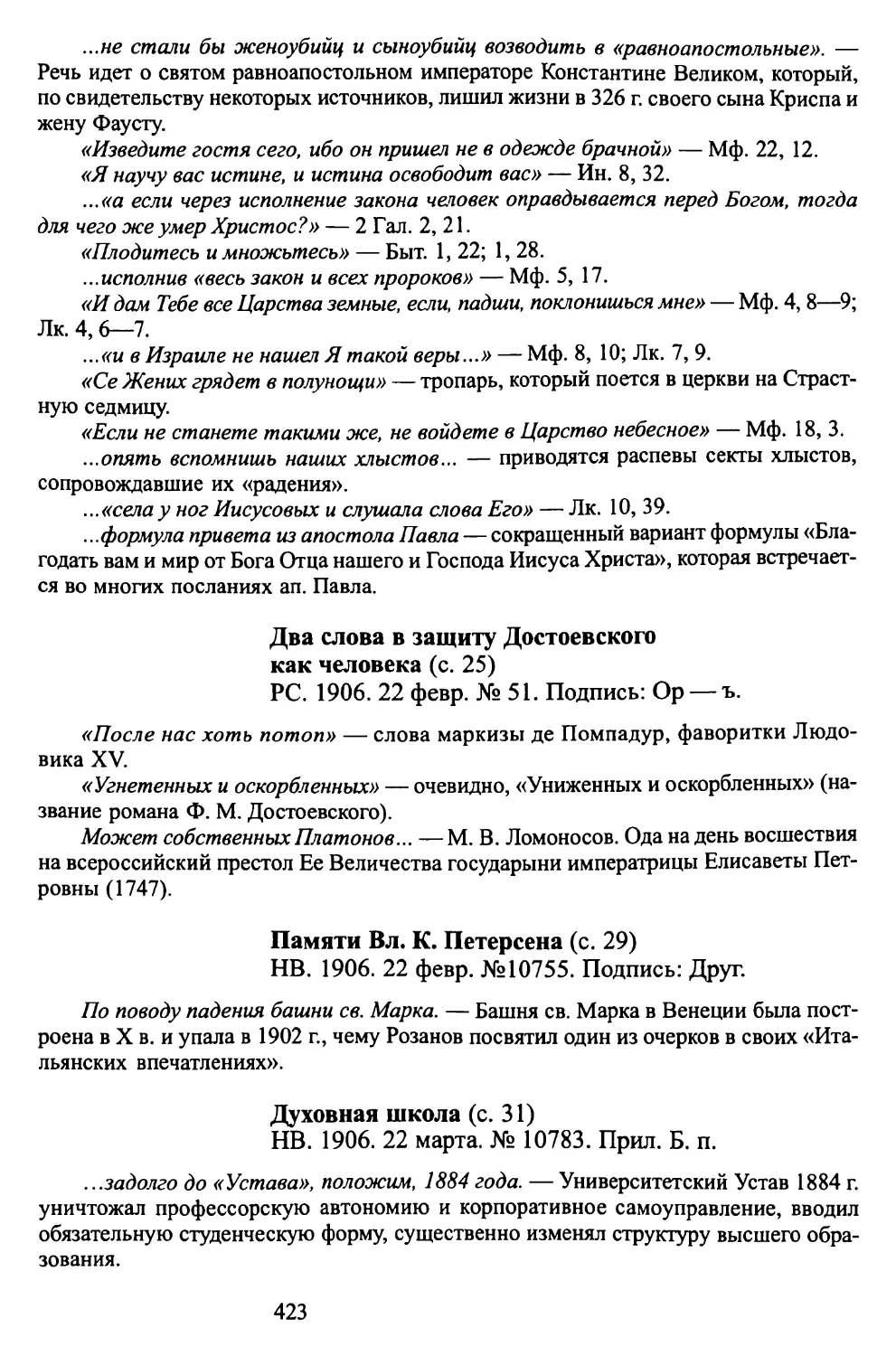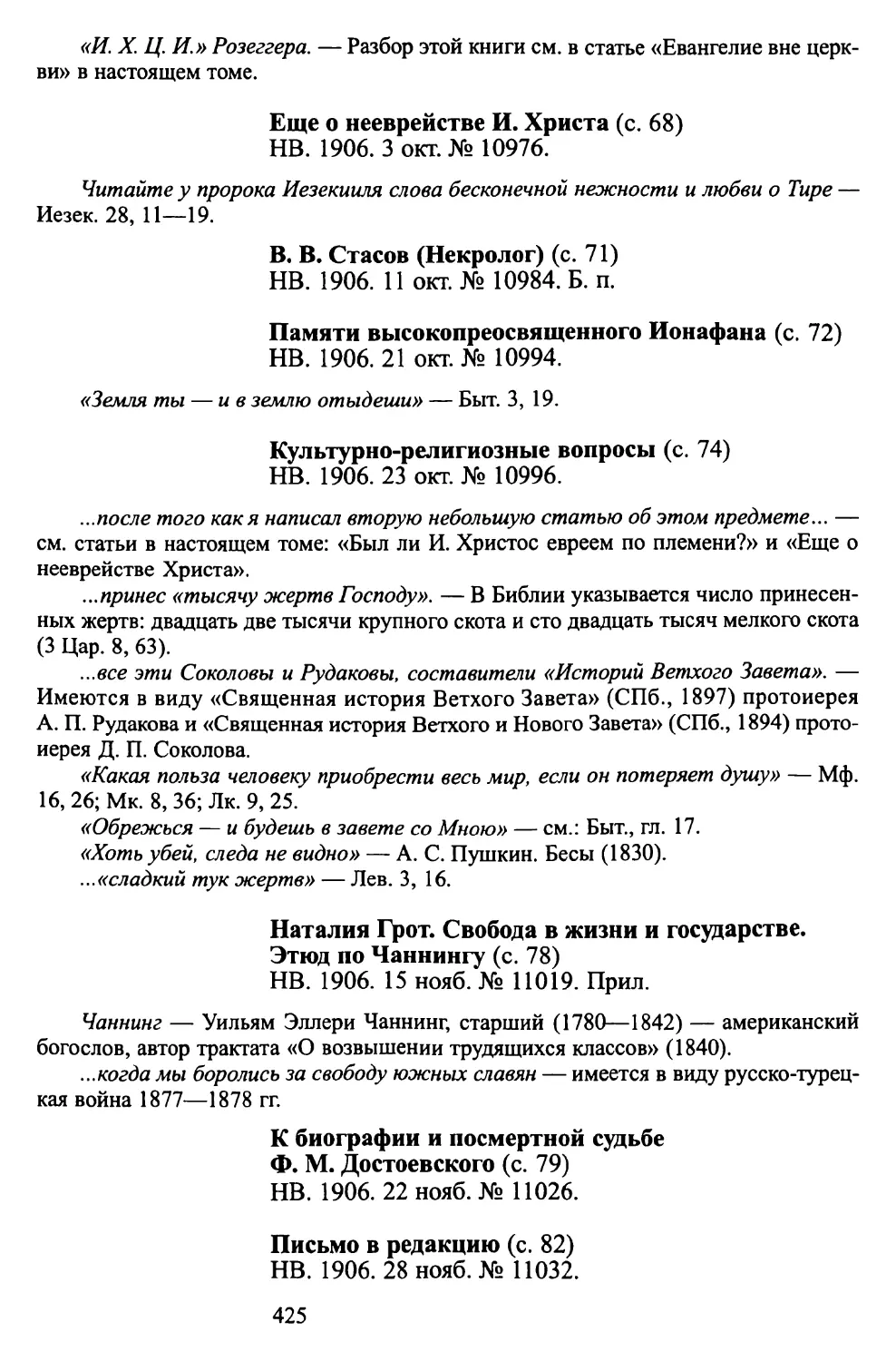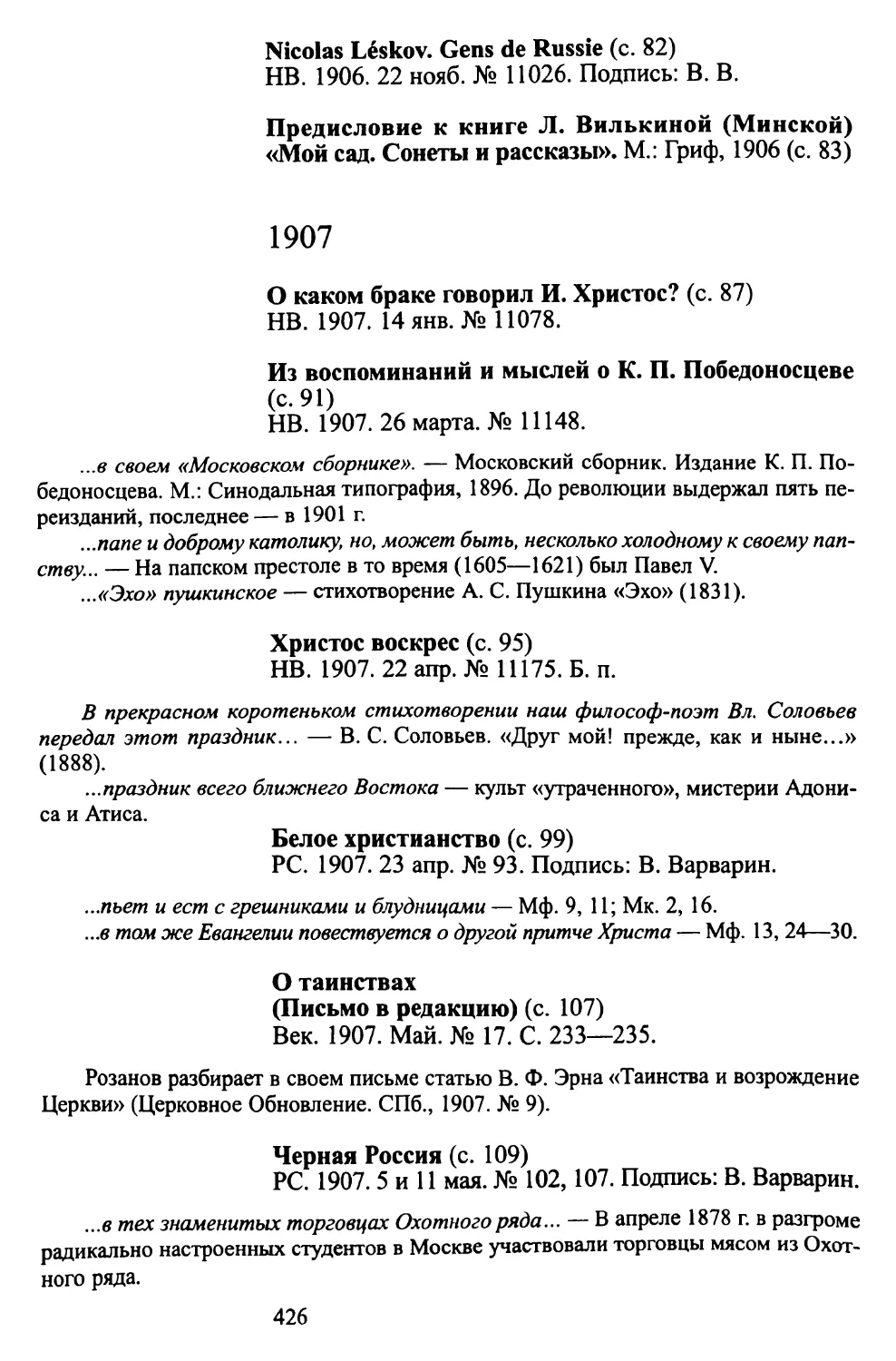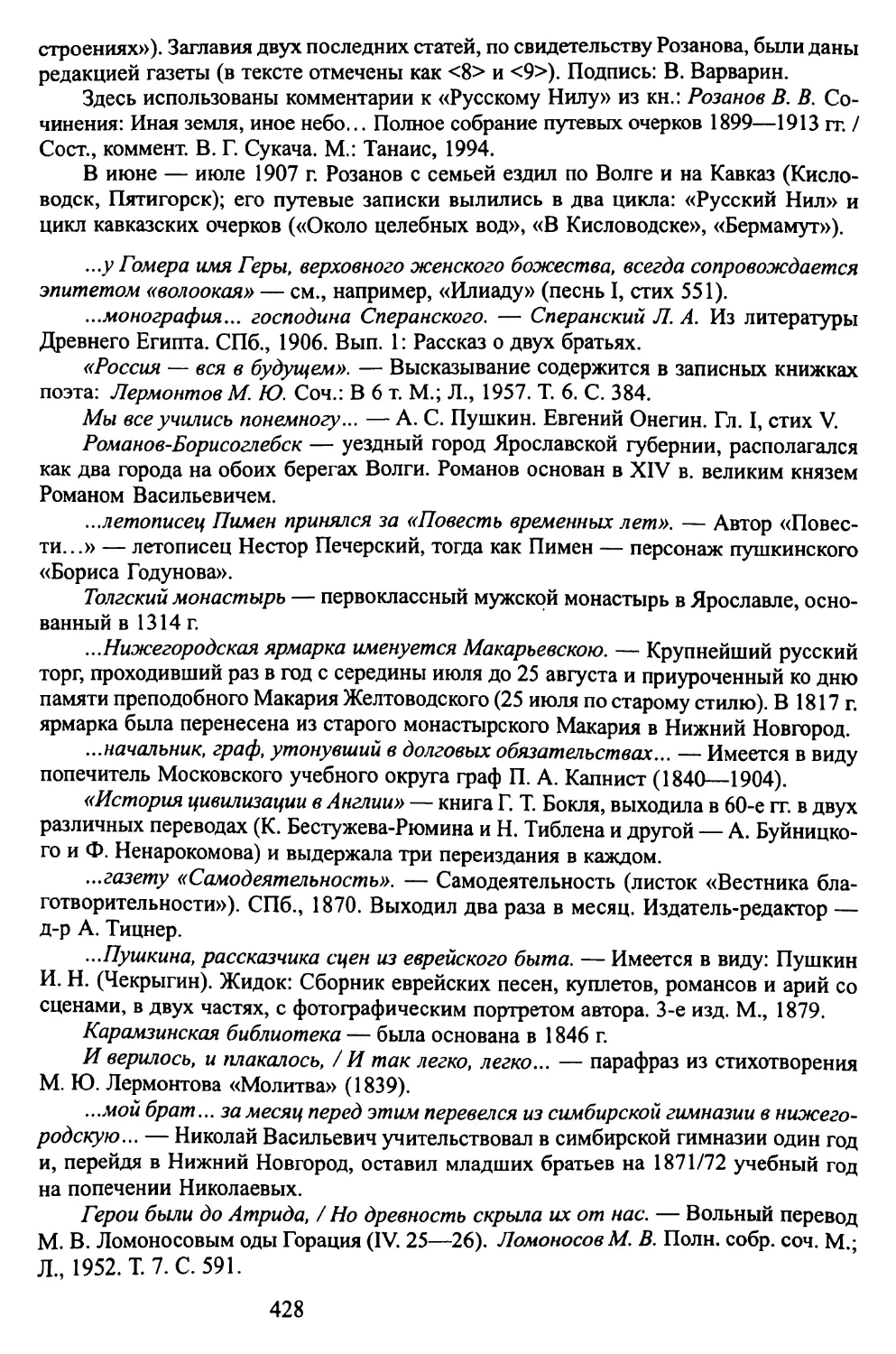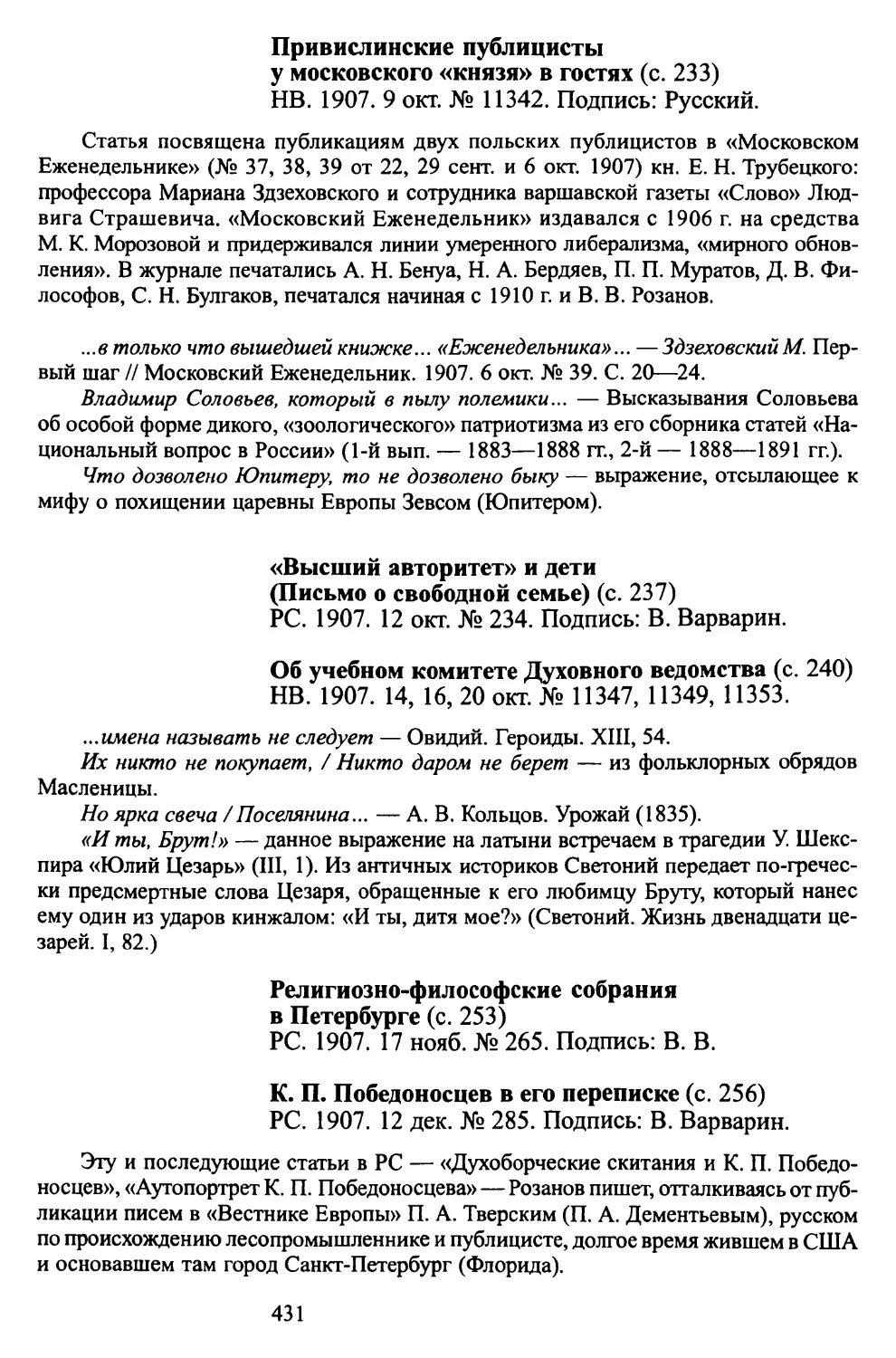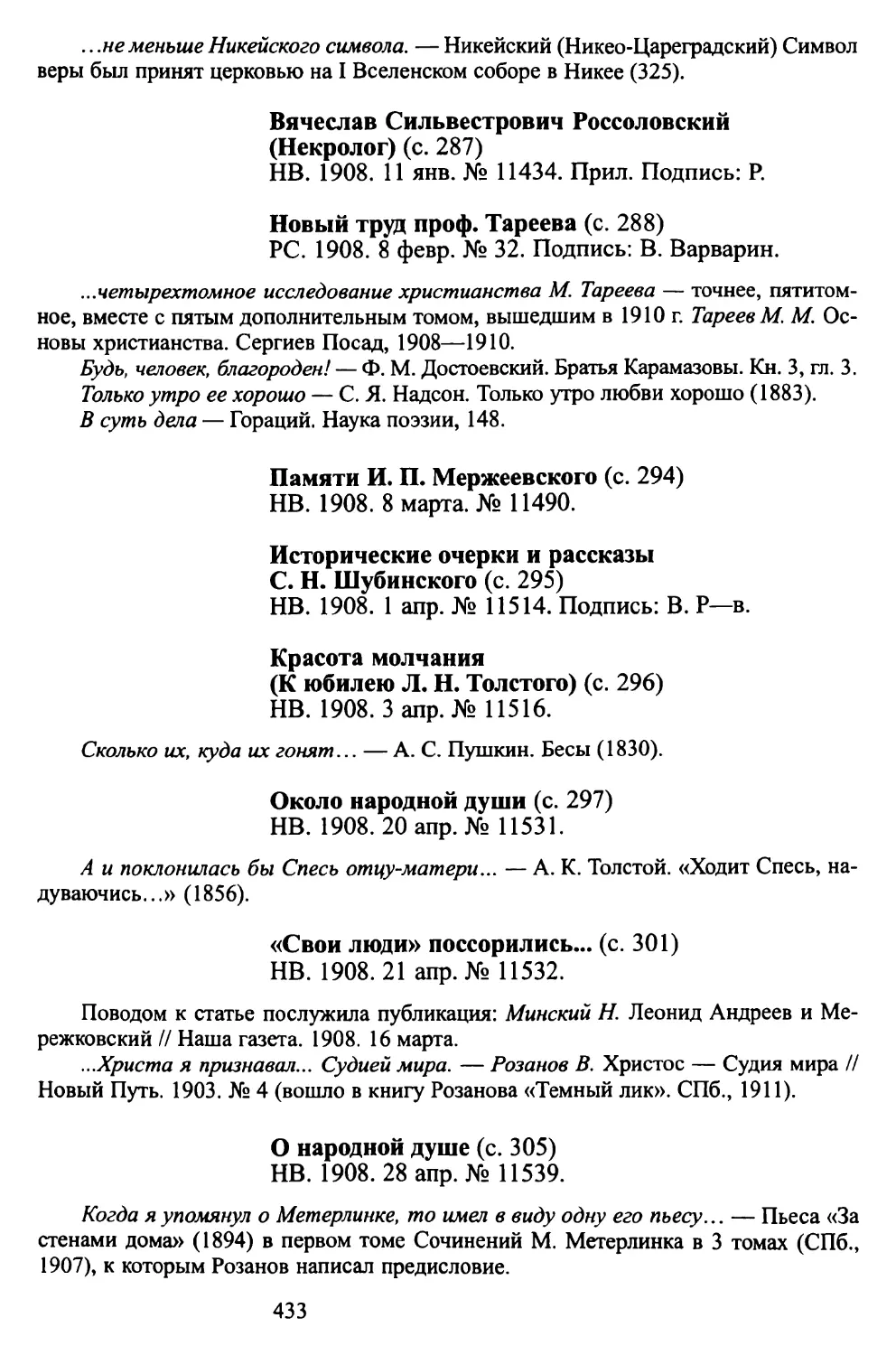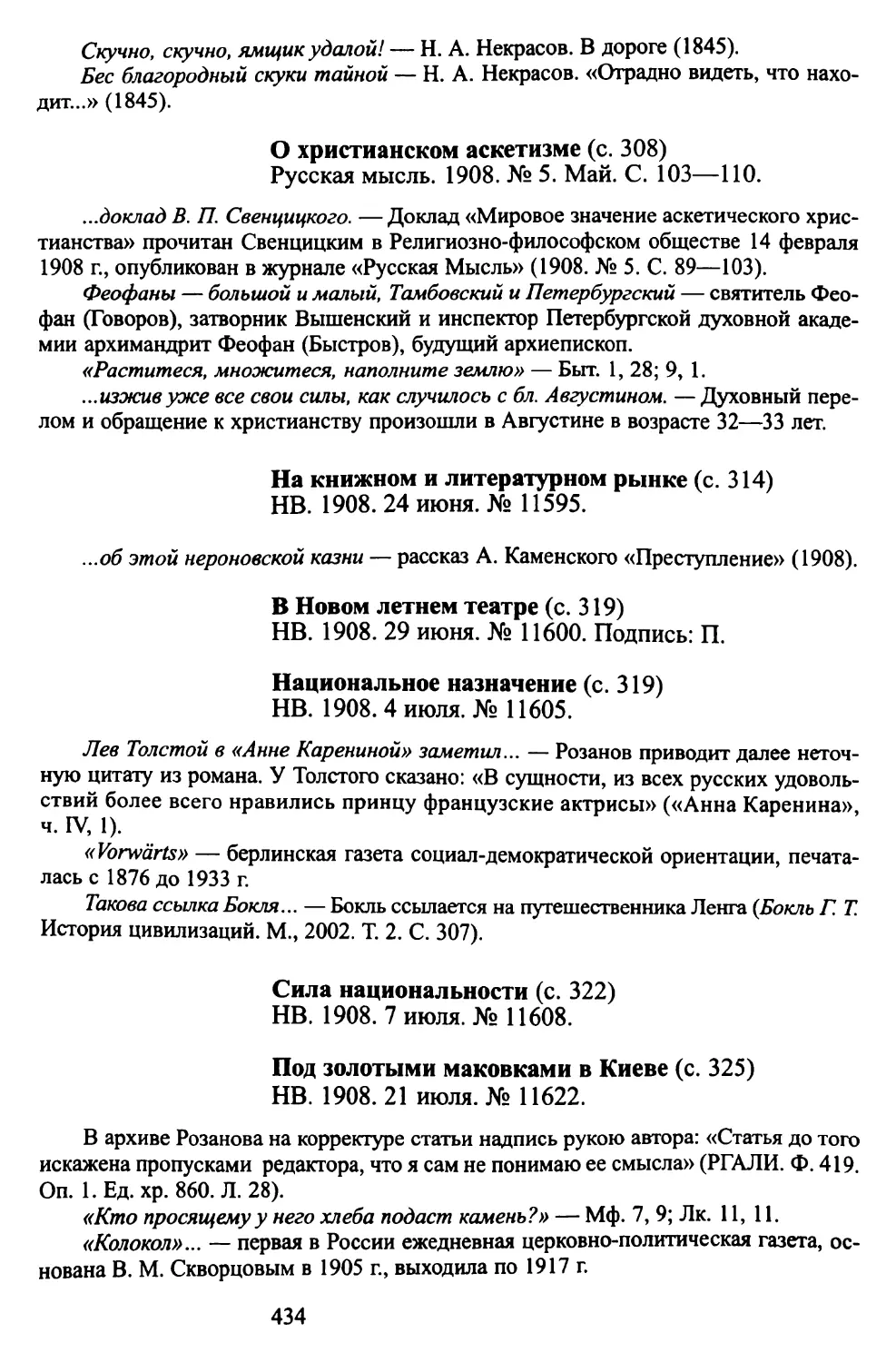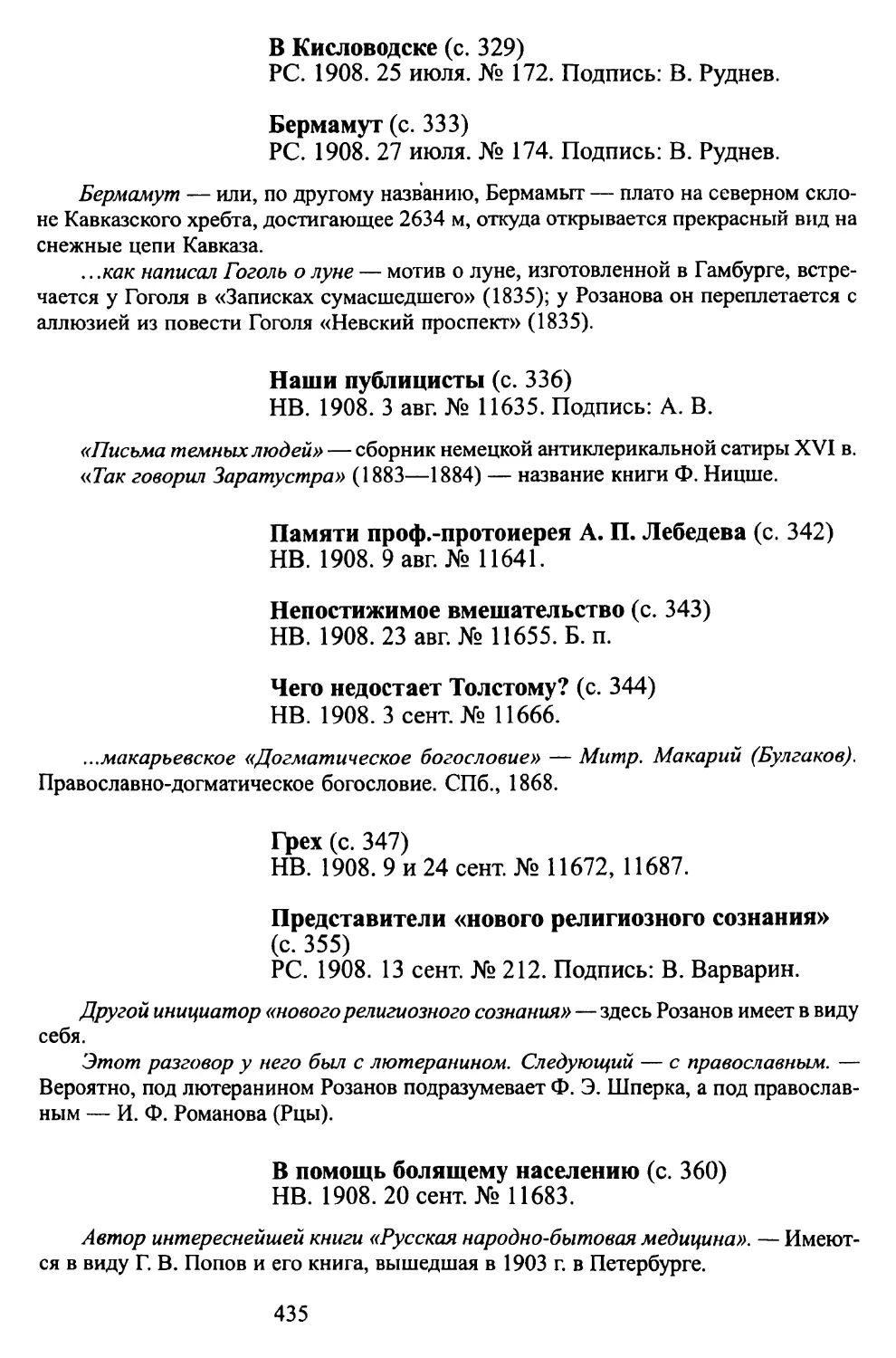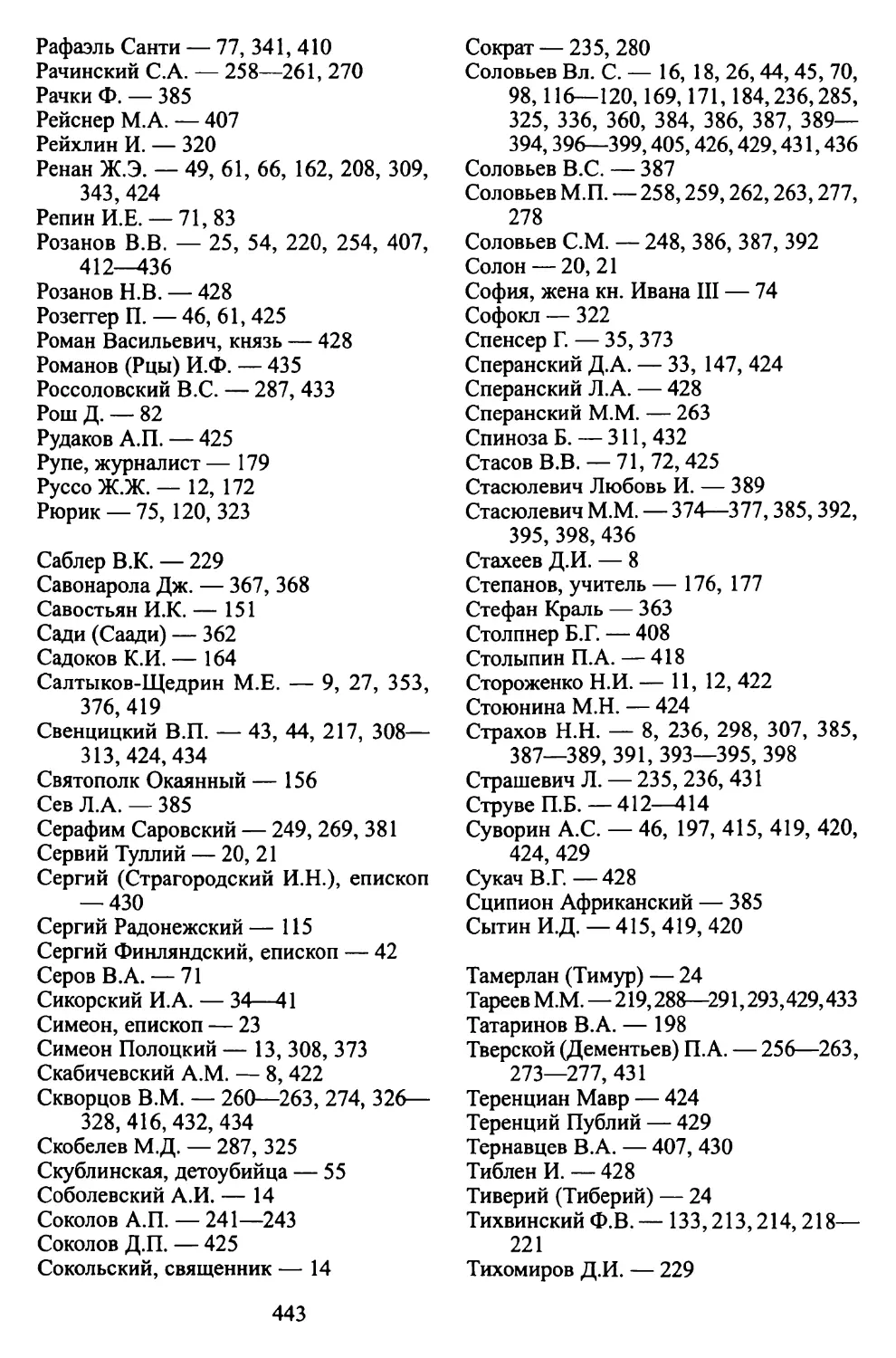Автор: Розанов В.В.
Теги: история философии поэзия русская литература художественная литература собрание сочинений
ISBN: 5-250-01870-Х
Год: 2003
Текст
В. В. Розанов Около народной души
В. В. Розанов
Около
народной души
Статьи 1906 —1908 гг.
В. В. Розанов
Собрание
сочинений
В
В. В. РОЗАНОВ
ОКОЛО
НАРОДНОЙ ДУШИ
Статьи 1906-1908 гг.
Собрание сочинений
под общей редакцией
А. Н. Николюкина
Москва
Издательство «Республика»
2003
УДК1
ББК 87.3
Р64
Российская академия наук
Институт научной информации
по общественным наукам
Составление и подготовка текста
А. Н. Николюкина, В. Н. Дядичева,
П. П. Апрышко
Послесловие и комментарии
В. В. Аверьянова
Проверка библиографии
В. Г. Сукача
Указатель имен
М. В. Толмачёвой
Розанов В. В.
р 64 Собрание сочинений. Около народной души (Статьи 1906—
1908 гг.) / Под общ. ред. А. Н. Николюкина. — М.: Республика, 2003. —-
447 с.
ISBN 5-250-01870-Х
Настоящий том Собрания сочинений В. В. Розанова включает его статьи 1906—
1908 гг. по вопросам культуры, философии, религии, литературы, впервые собранные
в отдельную книгу из газет, журналов, сборников. Тематически данный том в извест-
ной мере является продолжением книг Розанова «О писательстве и писателях» и «Ле-
генда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского». В заглавиях статей здесь вновь
встречаются имена Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, Вл. С. Соловьева, К. П. Побе-
доносцева.
Издание адресовано всем, кто интересуется историей русской философии и куль-
туры.
ББК 87.3
ISBN 5-250-01870-Х
© Издательство «Республика», 2003
© А. Н. Николюкин, составление, 2003
1900 ГОД
КУЛАЧЕСТВО В ЛИТЕРАТУРЕ
Думы литератора
«Кулачество» есть одно из тяжелых и мрачных явлений простонародной
нашей жизни, над выяснением которого много потрудилась русская лите-
ратура. Что такое «кулак»? Это — «мироед», который «поедает» «мир»,
опираясь на то, что он «сила»; и «поедает» он его не явно, но закулисно,
оставаясь внешним образом и юридически всегда «в своем праве». Напро-
тив совершенно: «поедая» закулисно, он доводит жертву до последних сте-
пеней раздражения, вызывает его на нарушение «писаного» права, «зако-
на» и тут уже губит его и явно, «юридически». Темное явление, чисто нрав-
ственное и бытовое. Каинство в жизни, состоящее в том, что «свой своего
ест»...
Прочитав фельетон г. И. Щеглова в «Новом Времени» — «Шемякин суд»,
невольно приходишь к мысли, что темное явление «кулачества» продвину-
лось и в литературу. Фельетон написан слабо; степень раздражения автора,
очевидно, достигла того напряжения, когда уже теряется «красота слога» и
нет продуманности в ходе изложения и развития аргументации. Виден толь-
ко факт. В чем он состоит? В иезуитском, именно «кулачески» келейном
«одобрении пьесы» автора, но с тем чтобы она была «совершенно переде-
лана». «Мы вас одобряем» — даже страшно, что эти слова выговорились,
когда сущность приговора и состоит в «забраковании» пьесы. Русская ли-
тература — да где твоя правда? Но мы торопимся. Кто «забраковал»? «Ли-
тературно-театральный комитет», т. е. «учреждение официальное», разре-
шающее или отвергающее пьесы, предположенные к постановке на импе-
раторских театрах, но учреждение, управляемое литераторами, доверчиво
переданное — и, конечно, много прекрасного в этом доверии — литера-
торам.
Какая пьеса забракована, т. е. «одобрена при условии совершенной пе-
ределки»? Пьеса г. Ив. Щеглова — «Затерянный мудрец». Самому г. Щегло-
ву неудобно было одобрительно говорить о своей пьесе, и да будет позволе-
7
но это сделать стороннему человеку. Ее тема — старинное «Горе от ума»,
которое, кажется, навечно останется национальным горем России. Россия
есть темная страна, страна действительно удивительного умственного и даже
вообще душевного мрака:
... Наг и дик скрывался
Троглодит в пещерах скал,
По полям номад скитался
И поля опустошал.
Плод полей и грозды сладки
Не блистают на пирах;
Лишь дымятся тел остатки
На кровавых алтарях...
Эти слова из гимна Церере внимательному и размышляющему зрителю
ежеминутно приходится повторять в России, оглядываясь на одно, огляды-
ваясь на другое, скорбя, негодуя, смеясь, издеваясь, но в конце концов под-
водя эту общую формулу:
Наг и дик скитался
Троглодит в пещерах скал...
Духовная нагота и дикость — о, конечно, не в «В лесах», а в людных
городах, в красивой «Северной Пальмире», в «Литературно-театральном
комитете», — да отчего не сказать — и вообще в литературе, в нашей доро-
гой и милой, когда-то так правдивой литературе. Но оставим общее и перей-
дем к частностям. «Затерянный мудрец» — это главное лицо пьесы г. Щег-
лова, это — тот же Чацкий, но в серенькой и будничной обстановке, в наши
текущие дни, скромный ученый, «известный за границей и очень мало изве-
стный у нас», как значится при поименовании «действующих лиц» сейчас
под ее заголовком. Содержание пьесы — его «забытость», «заброшенность»,
и отсюда текущая «нужда». Литературно-театральный комитет, в лице гг.
Вейнберга, Скабичевского и еще какого-то третьего кривосуда, объявил, что
«этого теперь не бывает», «нет нужды у ученых». Но мне лично было пере-
дано г. Д. Стахеевым, как раз покойный Н. Н. Страхов попросил у него, при-
шедшего к нему в гости, т. е. у своего гостя, которого надо было напоить
чаем, «рубль — чтобы послать в лавочку за чаем». Итак, кривосуды рассу-
дили несколько криво: нужда есть, она есть факт; и, при семье, т. е. детях,
может доходить до жгучих и оскорбительных форм. Да в одном из напеча-
танных писем Достоевского, т. е. романиста и, следовательно, находившего-
ся в наилучшем положении относительно заработка, есть фраза: «Я заложил
последнюю юбку жены, а вы все тянете еще гонорар» (т. е. не высылаете
денег по почте). Но... «сытый кулак» пустоты в животе не чувствует, и ему
кажется от этого, что все животы в мире переполнены до пресыщения; так в
жизни — и вот, оказывается, так в литературе!
8
Содержанием пьесы г. Щеглова и является эта серая и гнетущая нужда
достойного человека. Сцены, пробегающие перед читателем, — потрясают,
и именно простотой и будничностью своей. В самом деле, Чацкий страдал
на балу у Фамусова; но вот приходит страдание в гораздо более грубой и
унизительной форме, «слезы» не на бале льются, они становятся «невиди-
мы» где-нибудь около темной стенки ломбарда и в ранний час утра, ничего
не теряя и, может быть, кое-что приобретая в своей жгучести. Они льются
не потому, что «меня Софья отвергла», но потому, что самая-то дура Софья,
согласившаяся полюбить никому не нужного «колпака», без калош идет по
холоду за провизией; и, наконец, зеленью и мясом, начинает говорить гру-
бости за долго неуплачиваемый долг, почти обманутый «кредит». Пьеса
г. Щеглова переполнена этими подробностями, и они так живы, что трудно
представить себе, чтобы не были где-нибудь подслушаны или подсмотрены
благородным литератором; да, его пьеса есть истинно благородный и нуж-
ный, в наши именно дни нужный, поступок. Он сводит «Горе от ума» с Олим-
пийских высот, вводит его в грязь, на улицу; монологи говорятся на кухне, а
не на бале; идет не идейная борьба, но животная, биологическая, однако —
вокруг идей и именно за идеи...
Автор вывел рядом со старым «колпаком», который предался науке и не
умеет снискивать хлеб, несколько газетных репортеров — один из них «с
физиономией еврейского типа», — которые являются в бриллиантах и золо-
те. Ну, это опять ведь правда; и снова всему литературному миру известно,
как вчерашний репортер, став завтра собственником «распивочной» газеты,
послезавтра оставляет семье огромное состояние и даже настоящих литера-
торов и ученых не пускает далее своей передней. Имена сейчас на языке, и
только чистота литературная не допускает их выговорить. Но вот один из
влиятельных членов «Литературно-театрального комитета» возмутился, за-
чем — «с еврейской физиономией»? Бог с ними, я не враг евреев, но совер-
шенно частное указание г. Щеглова опять частным же образом право; и сно-
ва имена их на губах, и нет силы и охоты их выговаривать. Антон Чехов
написал «Мужиков» и даже «возлюбленного мужика» нашел, а найдя, и опи-
сал — «зверем». Дворянство, купечество, да и вся Русь, со всеми ее «потро-
хами», «перекошена» в русской литературе, как еще писал Жуковский ли,
Вяземский ли вскоре после смерти Гоголя. Но после Гоголя мы имели еще
Щедрина и видели пьесу «Свои люди, сочтемся». Мы видели и, видя, плака-
ли, но не негодовали на авторов, — униженными и оскорбленными все виды
общественного, сословного, профессионального положения в России; да,
наконец, создания, как «Горе от ума», как «Мертвые души», — уже затраги-
вают не кое-что в России, но самую Россию, до ее недр, до ее последних
глубин. И ничего. Почему евреи, почему один только еврей неприкоснове-
нен усиленно и исключительно? Как будто нет среди них Ойзеров Диман-
тов; а если есть, и есть, очевидно, почва, их выращивающая, почему в лите-
ратуре этот один плевел, выпалывая остальные, не вырвать, а его беречь,
лелеять! Но оставим этот грустный и общий вопрос. Г. Щеглов, необдуман-
9
но написав: «Репортер с еврейской физиономией», столь же необдуманно,
хотя совершенно мельком, упомянул о «жене, сбежавшей к молодому про-
фессору». Это — «против высшего образования», воскликнул «влиятель-
ный член Литературно-театрального комитета», и против «стремления жен-
щин к свету!». Что за раздражительность и подозрительность: женщина сбе-
жала к молодости профессора, а не к его учености, а что ученость и моло-
дость совпали — это случай; «грех сей от Адама» — и высших женских
курсов не затрагивает. Но если бы и затронул: опять — вся Россия уже за-
тронута, она вся «перекошена», и нельзя представить себе формулы: «Пропа-
дай Россия — был бы цел еврей и курсы!!» Но Литературно-театральный
комитет именно становится на сторону этой формулы, и, собственно, он яв-
ляется «кулаком» от этой формулы, — в его лице эта формула начинает «ку-
лачить» на России и «жать масло» из литераторов...
Как «жать», какими способами? Да тем именно способом, какой и на
деревне употребляется, — «кулаком»: бить по карману, т. е., как в данном
случае, не одобряя, т. е. «одобряя при условии совершенной переделки»
пьесу автора к представлению на императорской сцене и отнимая у автора,
«не подписавшего формулы», известную поспектакльную плату. «Коше-
лек или жизнь» — ну конечно, жизнь, убеждение, свобода мышления и мне-
ния: «кошелек или ваши убеждения». Но тут помогает разобраться пьеса
г. Щеглова: морозы, а у жены автора — я не о г. Щеглове говорю, а о воз-
можном г. Щеглове, о другом авторе в положении г. Щеглова — нет, как
написано в его пьесе, «лисьей шубы». Где-то в «Русской Мысли» у какого-
то кривосуда я прочел ужасные издевательства над этой «лисьей шубой» и
не одобрил автора, который о ней упомянул; позднее гораздо, прочитав пьесу
г. Щеглова и увидя, что это он заговорил о «лисьей шубе», — я был тронут
до глубины души: любящая, верная и прекрасная жена «затерянного мудре-
ца» тем и открывает пьесу, что заговаривает о «лисьей шубе»: но точь-в-
точь, как Катерина Ивановна Мармеладова («Преступление и наказание»),
уже сумасшедшая и чахоточная, все лепечет о «драдедамовом платке» —
предмете ее фамильной гордости и личного восхищения. «Лисья шуба» —
это тридцатилетняя мечта жены «заброшенного мудреца», и она не носит
ее, как представилось рецензенту «Русской Мысли», а только издали и вот
уже тридцать лет манится к ней; а в горькие размолвки с мужем, которого,
однако, так благородно, бескорыстно любит, — она упоминает ему о «лись-
ей шубе», в надеждах на которую, еще молодых и предбрачных, обману-
лась. Все это в высшей степени правдиво и трогательно: пьеса г. Щеглова
есть истинно благородное произведение. Ее представление на сцене про-
шло бы могучей и потрясающей струйкой по зрительной зале, и, Бог весть,
сколько бы мыслей и добрых чувств у многих пробудила. Но... «пьеса сня-
та с репертуара» не полицией, а... гг. литераторами? О Каины! О начинаю-
щееся в литературе каинство!!..
10
ПАМЯТИ Н. И. СТОРОЖЕНКО
В понедельник, 16 января, опущено в могилу тело заслуженного проф. Мос-
ковского университета по кафедре истории всеобщей литературы Н.И. Сто-
роженко. Едва ли есть сколько-нибудь значительный городок в России, с
гимназиею или прогимназиею, где не было бы хотя одного человека, знав-
шего лично покойного профессора, так как и историки, и классики, а не одни
только словесники слушали его исторические курсы. Вот почему не будет
преувеличением сказать, что этого замечательного наставника мысленно
проводила в место последнего упокоения вся Россия; в бесчисленных угол-
ках ее кто-нибудь вздохнул о нем, так или иначе подумал, вспомнил что-
нибудь особенное, им замеченное. Что касается Москвы, то все сколько-ни-
будь образованное в ней знало этого ученого, писателя и человека общества.
Первоначальные его работы имели предметом изучение цикла шекспи-
ровского творчества; но затем этому изучению подверглись предшествен-
ники Шекспира, особенно Марло и Р. Грин, — наконец, век Шекспира, уче-
ные, посвящавшие ему свои труды, и тут уже входила в предмет обозрения
ученая Германия, входил вообще театр, эта живейшая часть литературы, и,
наконец, она вся в необозримом идейном и художественном своем движе-
нии. Так, концентрическими кругами расширяясь, из первоначальной спе-
циальности выросла плодотворная, разнообразная, всеохватывающая рабо-
та на кафедре Ник. Ильича. Кто знает его только по диссертациям и мелким
журнальным заметкам, ничего особенно выдающегося не представляющим,
тот не может составить никакого представления о степени благотворности
его устных курсов, о степени пользы их, об образовательном их значении.
Устная речь его складывалась несравненно занимательнее, остроумнее, за-
кругленнее, чем письменная. Он говорил, имея перед собою на лоскутках
бумаги только план и едва ли даже конспект предполагаемой к чтению лек-
ции. Поэтому лекции его были систематическою, обдуманною, подготов-
ленною импровизациею, — но именно импровизациею, со всеми преиму-
ществами последней, со всем вдохновением последней. Поминутно, при ли-
тературных характеристиках, при характеристиках целых политических эпох,
отразившихся на литературе или получивших себе толчок в литературе, у
него соскальзывали, может быть незаметно и для самого него, но заметно
для слушателя, блестки остроумия, юмора, психологических освещений. Это
сообщало необыкновенную живость и теплоту его чтениям. И так как на
кафедре сидела все та же задумчивая фигура настоящего ученого, без еди-
ной улыбки, которой я у него не видал ни разу, — то эти человечные и жиз-
ненные черты, разбросанные в его лекциях, получали удвоенную цену, уд-
военное влияние на слушателя. Точно он вводил в старинное книгохранили-
ще, с тысячами золотящихся корешков переплетов, с инкунабулами в одной
зале, с энциклопедистами в другой, с театром в третьей: и все эти книги
зашелестели, развернулись, зашептали вошедшей сюда толпе неофитов-сту-
дентов XIX века голосами XIV, XVII, XVIII веков, то манерно ломаных, то
И
торжественно-напыщенных, то страстных и буйных, то говорили нам, через
любимого профессора, Дидро, Руссо, Малерб, Босюэт, незабываемые Пьет-
ро Аретино, Лоренцо Валла, Поджио, Филельфо. 23 года с тех пор прошло, —
и все помнишь, почти с той подробностью, как бывало «к экзамену». Это не
мало, слишком не мало!!
По лекциям Стороженко лучше всего можно определить, до чего книга
не может заменить изустного слушания и, следовательно, до чего никакая
степень развития «книжного рынка», возрастания ученой литературы, хотя
бы самых высших качеств, не заменяет собою благотворности собственно
университетских аудиторий. Весь смысл университета — именно в слуша-
нии. Не в науке. И до чего ошибаются те, кто, «записавшись в университет»
и внеся деньги, проводит время вне его стен и (как нередко бывает) уезжает
даже вовсе в провинцию «зашибать копейку» (уроками). Конечно, нужда к
чему не нудит. Но, уступая нужде, нужно помнить, что это — горе и что
чтение литографированных лекций или печатных курсов данного профес-
сора есть уже университет «без вкуса, запаха и цветов». Живого-то магне-
тизма и нет тут. Возразят: что «за магнетизм в науке?! Это — истины и
доказательства». Ну, это такая же правда, как и то, что поэзия есть коро-
тенькие строчки, оканчивающиеся рифмами. Нет, друзья, и старые и юные,
наука, когда она есть мудрость и поэзия, когда она есть огонь, — именно
магнетизм и электричество душ, а намагничиваются им на старых, истер-
тых поколениями лавках аудиторий, где-нибудь присев, за теснотою, на сту-
пеньке кафедры.
В 1878 — 1882 гг. лекции Н. И. Стороженко превосходно записывались
и литографировались. Его курсы по итальянскому и германскому возрожде-
нию и по французской литературе XVIII века я с наслаждением (а не с од-
ною пользою) перечитывал по окончании курса в университете; давал их
для прочтения товарищам по службе. К сожалению, уже здесь, в Петербур-
ге, они кем-то в последние 5 — 6 лет «зачитались» (пропали в чтении). У
многих, однако, они, без сомнения, хранятся в целости. В Москве есть мно-
го бывших слушателей Ник. Ил., с положением, средствами и влиянием.
Нужно непременно теперь же приступить к напечатанию его курсов, кото-
рые обнимут очень значительную часть всемирной литературы, именно ин-
тереснейшие ее эпохи. Я, по крайней мере, ни оригинальных русских, ни
переводных книг по западным литературам не читал столь интересных и
оживленных, как лекции покойного. Издание их есть дело серьезное, и к
нему нужно приступить немедленно, стойко и аккуратно.
Не помню никогда ни одного отзыва, ни одного слова о Ник. Ил., ска-
занного с мелочью, раздражением или злобою. И это показывает, что истин-
ный профессор всегда найдет в русских студентах настоящую оценку. Меж-
ду тем Стороженко не только никогда не «заискивал» у студентов, — но в
статье, посвященной его памяти, как-то даже грустно произносить это по-
шлое слово. Мне лично всегда казалось, что Ник. Ил. мало замечал студен-
тов, что он до того любил свое дело, любил науку и университет, что наши
12
мало сведущие головы — еще не осмысленные лица — представлялись ему
мало фигурными. Он не был строг (на экзаменах), но снисходителен или
очень снисходителен тоже никогда не был. Никому не «мирволил», никогда
не «потакал». Просто вел дело «как следует». «Поощрять» или «приневоли-
вать» студентов он тоже ни к чему не поощрял и не приневоливал. Мне ду-
мается, это казалось ему недостойным потому, что науку в интересах ее и
себя самого, как человека, безупречно науке служащего, он считал неизме-
римо выше и значащее, чем вот, положим, слушатели 78 — 82 годов. Он
читал и будет читать, мы все пришли к уйдем; конечно, профессор неизме-
римо значительнее своей аудитории, людей только с «обещаниями» и «воз-
можностями», а может быть, и пустоцвета, тогда как он (если сознает себя
достойным профессором) есть уже данное, достигнутое, есть реальный фак-
тор научного образования в целой стране. Поэтому он именно давал себя
слушать, давал желающим возможность заниматься около себя, получать от
него советы или указания. Но ничего больше. Не могу передать, до чего это
нравилось студентам; до чего нравилось, что они стояли на втором плане,
после науки и после университета.
Как человек общества и науки, он был и человеком свободы, т. е. защит-
ником свободной науки и свободного преподавания, в частности — автоно-
мии университетской. Но без всякой нервности и торопливости. Мне кажет-
ся, т. е. он давал чувствовать всем своим поведением, что смотрит на свобо-
ду как на условие порядочности порядочного человека, о которой так же нет
споров, как об употреблении мыла при умывании или о здорованье при встре-
че. Где прекращалась свобода мысли, слова, просвещения, общественной
жизни, начиналась область неприличия, с желанием сказать: «Откройте фор-
точку, дурно пахнет», и без всякой дальнейшей философии. Он не умел до-
казывать эти вещи, едва ли бы сумел бороться против увлечения. Он просто
от нее заболел бы и умер, если б ему встретилось что-нибудь подобное в
жизни или при преподавании. И все это отношение, вся сумма его сообщала
еще больше достоинства его духовной фигуре, всегда живой и человечной,
никогда не нервной и не ажитированной.
Если бы в его могилу или на его могилу сложить все лепестки роз, ка-
кие — может быть, и для себя незаметно — он оставил в сердцах своих
бесчисленных слушателей, поднялся бы большой холм. Не умеем лучше вы-
разить, как сравнением с этим цветком любви, впечатление от его лекций,
столь серьезных по тону произнесения и содержания и столь душистых по
колориту изложения, по таланту изложения.
Пусть еще и еще приходят в Московский университет такие наставни-
ки. Тогда не оскудеет он и слушателями и останется первою звездою на
русском умственном небосклоне. А тебе, добрый и милый наставник, веч-
ная память среди живых и радостный отдых... «в Елисейских полях». Про-
фессор был немножко «гуманистом» во вкусе XVI века, и, позволю себе
кончить этим пожеланием, более во вкусе Монтеня, нежели Симеона По-
лоцкого.
13
ПРАВОСЛАВНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Том VI. С 42 рисунками. Составлен под редакциею Н. Н. Глубоковского,
доктора богословия, ординарного профессора С.-Петербургской духов-
ной академии. Издание преемников умершего проф. А. П. Лопухина.
СПб., 1905. — 1018 столбцов.
Можно было опасаться за судьбу этого настольного издания, столь не-
обходимого для образования нашего духовенства, после смерти деятельно-
го и предприимчивого проф. А. П. Лопухина. Но с шестого тома редактиро-
вание его принял на себя виднейший представитель русской богословской
науки Н. Н. Глубоковский, — и дальнейшую судьбу издания можно считать
вполне обеспеченною. Как известно, к ученому сотрудничеству в «Энцик-
лопедии» приглашено большинство ученых богословских сил наших четы-
рех академий и также университетов; сверх их и из светских ученых пригла-
шены академики Н. П. Кондаков (история христианского искусства) и А. И.
Соболевский (русский язык и словесность), проф. А. С. Вязигин (всеобщая
история) и X. М. Лопарев (рукописи). Научная компетентность статей и все-
сторонность освещения каждого предмета — вне всякого, конечно, сомне-
ния, кроме неизбежных и в строгой науке личных пристрастий и вкусов.
«Энциклопедию» вообще можно считать изданием более всего и впереди
всего документально-научным, по преимуществу историко-археологическим,
а также учебно-руководственным; как оно и должно быть. И в меньшей сте-
пени это есть издание идейно освещающее, религиозно-напутственное.
Нельзя оспаривать полную правильность такого отношения к делу: «энцик-
лопедия» — не программа, а арсенал, не победа и не поход, а обоз около
идущих в поход. Огромное множество статей читается с величайшим любо-
пытством: имея доступность и занятность журналистики, они чужды жур-
нальной болтливости (от необходимо энциклопедической сжатости). Тако-
вы в этом шестом томе статьи: «Иерусалим библейский и Иерусалим совре-
менный» (40 столбцов) и «Иерусалим христианский: исторический очерк и
памятники» — огромная статья в 90 страниц, со множеством фотогравюр и
рисунков, акад. Кондакова; подобные статьи уже сами по себе представляют
литературную ценность. Чтобы показать план «Энциклопедии», укажем,
например, что имя «Иисус» (Христос) сопровождается следующими статья-
ми: «Иисус Христос евангельской истории», проф.-протоиерея Буткевича
(стр. 605—629); «Иисус Христос с пасторологической точки зрения», свящ.
Сокольского (стр. 629—648); «Иисус Христос, как совершенный образец иде-
альной нравственности», проф. А. А. Бронзова (стр. 648—665); «Иисус Хри-
стос по внешнему виду», проф. А. П. Голубцова (стр. 665—676); «Иисус
Христос по памятникам иконографии», проф. Н. В. Покровского (стр.676—
679); «Иисус и культ сердца Иисусова и его общества», П. С. Тычинина (стр.
679—688). Последняя статья, очень интересная, дает очерк истории и куль-
та своеобразного католического богослужения.
14
ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОЕ
ДВИЖЕНИЕ
С невыразимой радостью видишь, слышишь, читаешь в частных письмах,
как всюду задвигалось, зашевелилось и начало «думать думу крепкую» наше
духовенство. И кажется, еще немного месяцев пройдет, — ну, полгода, год,
— и мы не узнаем наше замученное, задавленное, а частью и заплесневев-
шее от вековой недвижности сословие сельских, уездных и губернских ба-
тюшек. Ах, как нужна была бы теперь самостоятельная священническая
газета. Ведь мы не знаем, ведь мы века не слышали, что же думает, как по-
мышляет о вопросах вечных и о вопросах временных, тоже страшно важ-
ных, «посредник между Богом и человеком», совершитель таинств и еже-
дневный зритель (через исповедь) всех глубин народной жизни, — священ-
ник русский, этот усталый и запыхавшийся «сельский поп». Ничего не зна-
ем, кроме прошедших через цензуру благочинного официальных проповедей,
кроме прошедших через пресловутую «духовную цензуру» статеек в духов-
ных журналах. Нужна газета или небольшой, напр., еженедельный журнал
под руководством компетентного духовного лица или, еще лучше, под руко-
водством компетентного или компетентных профессоров духовных акаде-
мий, но поставленных независимо, свободно в отношении к своему ведом-
ству и сословию, в отношении к богословской официальной литературе и к
своей духовной администрации. Пусть в этой газете или журнале батюшки
говорят свои речи, а не подсказанные. Пусть они будут не телефоном, не
проволокой металлической, по которой несутся чужие, приказанные или
страхом внушенные речи. Пусть говорит то, что думает в тиши ночей, у себя
«в подушку», наш русский священник.
Избави Бог нас внушать или подсказывать, что то должны быть речи
либеральные, в поддакивание пробудившемуся обществу. Свободы и само-
стоятельности, личности и сердца — вот чего мы пожелаем от них. Пожела-
ем не отречения или забвения высокой, даже высочайшей службы священ-
ника, не измены Святым Словам, которые они читают в церкви народу из
Евангелия. Но, напротив, именно, мы хотим яркой памяти об этих Святых
Словах, о священнической службе. Даром ли преклонилась Европа, весь
цивилизованный мир перед этими Святыми Словами. Значит, они — зо-
лото!
Но увы! — мы разменяли их на медные полушки. Духовенство наше
«первородство» своего исторического положения само несчастнейшим об-
разом променяло на «чечевичную похлебку» похвалы, выгоды, подслужи-
вания, лести, чиноугодничества... Вот уж поклонилось «золотому тельцу»
(сословному и личному интересу)... Но будет упреков. Со Святым Словом
прошли Гус, Виклиф. Куда ни приносилось оно, — подымались народы на-
встречу Небесному Слову.
«Вот где истина. Вот Кто прав. Прав Господь Вседержитель, судящий
концы земли» (страны горизонта).
15
Вечное Слово как громом покрывало мелкую человеческую возню, шум
улиц, препирательство партий. И никогда, никогда в устах бескорыстных, не
поклонившихся «золотому тельцу», — Слово это не было рабским, угнета-
ющим, удушающим, затхлым...
Боже, есть же несчастная страна, именуемая «Россией», в которой на
пророках, на Христе и на апостолах воздвигалась «епархиальная духовная
власть», где заседающие господа «одолжаются» табакеркой друг у друга и,
утерев нос фуляровым платком, «рассматривают бумаги» и «вершают дела».
Прежде были пророки, а теперь мы...
— Вам, Иван Иваныч, не угодно понюхать: табачок с мятой.
— Фу, гадость!
Ваалы и «пророки Вааловы» в доме Давида и с арфой Давида в руках, в
храме Самуила, около жертвенника и жертв...
Дайте нам Библию, Христа и апостолов, — не скрывайте никаких там
слов, не умалчивайте, не обходите, не перетолковывайте по-своему. — Дай-
те самые слова. Подлинные, огненные, живую воду их. — Вот все, вот и
больше ничего, в чем народ и общество нуждается от людей духовного зва-
ния и духовного образования. Тогда не стали бы женоубийц и сыноубийц
возводить в «равноапостольные», официально, громко, на два полушария.
Точно мир перевернулся, и где ад был — стал рай, а где рай был — стал ад.
Пишу о возведении в «равноапостольство», чтобы мне кто-нибудь не крикнул:
— Мы всегда так и поступали, как вы говорите. Несли Евангелие, про-
роков, и ничего еще.
— Нет, — вы несли лесть и человекоугодие, — отвечаю я конкретною
приведенной иллюстрацией.
Вл. Соловьев в «Трех разговорах», в самом же начале их привел справ-
ку, на которую наивно умиляется:
— Просматривал я святцы, — пишет он, — и все святые там — из мона-
хов, и множество из военачальников; но ни одного святого нет из белых свя-
щенников, купцов или градских людей.
И он думал этим доказать, что война и военное звание — благочестивы,
благословляются христианством. Решился бы он, оскорбляя память деда
своего, православного священника, сказать, что так-таки за всю историю
священники были менее праведны и благочестивы, чем «монахи, областе-
начальники и воины».
Нет, конечно... Но кто же не видал, что архиереи любят парадные обеды
с генералами и «ошую» и «одесную» себе сажают обремененных знаками
отличия «воинов и сановников», когда простые священники не дерзнут и
войти в зал «трапезы»...
«Изведите гостя сего, — сказали бы о нем, — ибо он пришел не в одеж-
де брачной» — в простой посконной рясе, без орденов и лент.
Вот простая развязка узла, смутившего Соловьева... Вкусы не меняют...
И в Византии они едва ли имели другой уклон, чем в скопировавшей ее
России.
16
Освежающая теперь волна идет от белого священства и сильнейшим
образом движется около духовных учебных заведений, академий и семина-
рий. Всякий священник здесь был, знает и помнит порядки. Каждый имеет
там сыновей. Семинария и академия, это — половина быта и психики наше-
го духовенства. С волнением и критикою белого священства, академиков и
семинаристов не расходится и критика учителей и профессоров в них, кото-
рые принужденно молчат, но не менее критикуют заплесневевшие порядки
этих старых, завещанных от схоластики и частью схоластических школ. Мы
очерчиваем большие контуры слагающихся мнений, не говоря об исключе-
ниях, которые могут быть и очень остры, и даже очень многочисленны. Вол-
нуется, частью негодует и требует перемен пассивная масса духовенства,
«демос» его, толпа, основной пласт, фундамент. Против критики держится,
то пытаясь согласиться, не решаясь очень противоречить, отступая, пятясь
и защищаясь, верхний слой духовенства, «правительствующее» монашество;
и за его спиною уже совершенно твердое, с ежовыми рукавицами, чиновни-
чество. Знаете историю Церкви, не официальную, но искреннюю, не теоре-
тическую, а практическую?
Пришли монахи и задавили Церковь.
Пришли чиновники и задавили монахов.
Христос основал царство свободы и благодати. Отменил не только древ-
нее законодательство, восходящее через Моисея и Синай к санкции самого
Бога, но и упразднил самый принцип законности, законов как формального
пути спасения. «Я научу вас истине, и истина освободит вас», «а если через
исполнение закона человек оправдывается перед Богом, тогда для чего же
умер Христос?» (ап. Павел). Это — царство метафизической нравственнос-
ти, где ценно только неуловимое, тайное, неопределимое, неформулируе-
мое, глубочайше всегда личное, сердечное. Все фарисеи провалились, все
гордое, самонадеянное, пышное в словах и поступках. Поднялись сироты
мира, сборщики податей, блудницы, нищие Лазари; люди самые невинные,
последние. Вся паутина вещественных, осязаемых отношений к Богу была
порвана, жертвы и жертвоприношения, каменный храм, явная на глазах дру-
гих молитва. Все видимое было отвергнуто, как земное и низшее. Было по-
звано невидимое в человеке, как небесное.
Пришли монахи и снова ввели на место метафизической — физическую
нравственность, измеряемую, исчисляемую, проверяемую, осязуемую. Пра-
вила еды, спанья, женитьбы или — точнее — неженитьбы. Все стало можно
сосчитать по пальцам. Тайные беседы Христа с Никодимом и самарянкою
— где они здесь?! Неприменимы, даже неуместны? Монашество, сейчас же
облекшееся в уставы и «уставность», где каждый шаг делается «по прави-
лу», где «по правилу» бывает еда, питье, сон, каждое слово, беседа, раз-
говор, одежда. Монашество, где «первые» и остаются «первыми», а «после-
дние суть последние», — есть полное восстановление древнего фарисей-
ства на новозаветной почве. Именно — фарисейства девственности и дев-
ства, не розового и юного, естественного в свой возраст каждому существу,
17
а девства как постоянного, неразрушимого состояния, девства желтых стар-
цев и пергаментных старух. Нигде прямо это учение не выражено, т. е. за его
беззаконием, прямо оно нигде не смело высказаться. Однако посмотрите на
иконопись, живопись, напевы, музыку, любимые, читаемые и усиленно ре-
комендуемые книги, на «святцы» (см. выше слова Влад. Соловьева), на ус-
тавы, на иерархию и, словом, — на весь строй до последней ниточки: и нам
каждая струнка, каждая нотка будет напевать, что Христос только затем или
главным образом затем и приходил, чтобы поставить наверху всего эту пер-
гаментную старость, что Он пришел разрушить размножение человеческое;
что Сын соблазнил людей не слушать более Отца Его, сказавшего всем тва-
рям и человеку до грехопадения: «Плодитесь, множитесь».
Многоженное фарисейство (обязанность, мелочность) — вот Ветхий
Завет в его фазе порчи.
Безженное фарисейство — вот в испорченной его фазе новозаветная
история.
Насколько «много» и «ничего» противоположны между собою, насколь-
ко юный Иаков с четырьмя женами противоположен шестидесятилетнему
«отшельнику пещер», который не только никогда не касался женщины, но
и взгляд один на нее считает сатанинским искушением, — настолько Но-
вый и Ветхий Завет противоположились один другому, объявили врагами
себя друг другу, возненавидели, «отряхнули прах от ног своих» в сторону
друг друга.
«Анафема! Да будешь проклят!» — вот, если поверить поэзии монаше-
ства, каково отношение между заветами, между Вифлеемом и Синаем, Хри-
стом и «Творцом мира и человеков». Вдвинув свои уставы, поставив свой
идеал, зажегши свою «восковую свечечку» во «освещение всего мира» и в
«руководство всему миру», они... упразднили религию и вовсе оторвали че-
ловека от Бога. Сказали: «Нет Бога, Я — вместо Бога». В самом деле, уж
если два идеала, ветхозаветный и новозаветный, говорят «анафема» один
другому. Если Авраам, Иаков, Моисей, Давид, Соломон «заслуживают толь-
ко каторги» (за формальное, объявленное многоженство): и в то же самое
время Самого Христа должны были и могли признать люди Мессиею един-
ственно по обетованиям и пророчествам у этих «каторжников», — то прова-
ливается все в религии, вместе с Ветхим не удерживается в своих основани-
ях и Новый Завет.
Бойль в XVII в. в статьях о ветхозаветных лицах так и говорит, что, «с
нашей теперешней, не только государственной, но и церковной точки зре-
ния, лица эти только заслуживали бы ссылки на галеры. Тогда как мы вы-
нуждены считать их святыми». Вот наивное и честное признание расхожде-
ния идеалов.
Или монахи со своей «безжизненностью» правы; но тогда нет никакой
религии, ни иудейской, ни христианской.
Или монахи вовсе неправы, и тогда религия есть. Есть Бог Ветхозавет-
ный, и Он прав. Есть Сын Его — и также Он прав. Царства Отца Он не
18
разрушал; но открыл людям второе царство, духовное, не противополож-
ное, а только отличное от материального, звездно-небесно-земного царства
Отца. Многоженный Иаков — это биология. Права ли она в Новом Завете?
Да это — другой совсем мир: кто же спрашивает о том, каковы легкие, здо-
рово ли сердце, крепки ли мышцы у Жанны д’Арк, у Декарта, у Офелии или
Гамлета?! Ветхий Завет весь и сплошь биологичен, даже космогоничен, и
сближения, делаемые между ним и Ниневией или Вавилоном, поистине не
нуждались в новейших филологических открытиях. Само собою разумеет-
ся, что всюду, где были жертвоприношения (а в Ветхом Завете их уже при-
носят Авель и Каин, дети первого человека), — всюду религия была одна, с
вариантами по странам. Была она поклонением Отцу звездных пространств,
Насадителю садов земных, Сотворителю человека и животных, Законодате-
лю мира — не моральному, а биологическому, именно — непременно риту-
альному. Ибо весь вещественный мир устроен по аршину, по арифметике и
геометрии. Отсюда и Моисеева скиния, когда ей давался план самим Богом
на Синае, то этот план выразился просто в отсчитывании чисел длины, ши-
рины и высоты, не только самой Скинии, но и всех предметов в ней: чисел
непременных, не подлежащих перемене. «Священная арифметика» мира.
Вот храм — Творцу миров. Он весь — арифметичен. Как и мистический
храм в видении Иезекииля: одна и сплошная арифметика, нумерация. Тако-
вы космогонические храмы, не моральные, не духовные. Что же 4-женный
Иаков: в каторгу ли его в этом новом храме аршинов и арифметики? Нет
вопросов об этом. Выступают совершенно другие вопросы: остановился ли
он над израненным разбойником в дороге и перевязал ли его раны? Голод-
ному дал ли хлеба? Вынес ли жаждущему путнику студеной воды из своего
колодца? Был ли чистосердечен? Скромен? Не надменен ли? Если — да, то
он в царстве Иисуса, исполнив «весь закон и всех пророков» благодатного,
свободного царства, которое не спрашивает у него никаких отчетов о его
быте, о его домашней жизни, общественных отношениях, семейном строе.
Ни о чем физиологическом и биологическом.
Иисус говорил имени, лицу и в уединении говорил душе и совести. Го-
родов Он не строил, царств не основывал, законов царствам не писал. Это
такое извращение всего дела Иисусова: основывать «царство Иисуса», с «кня-
зьями веры», с «законами и ритуалами веры». Не сатана ли соблазнял Его:
«И дам Тебе все царства земные, если, падши, поклонишься мне»? Иисус не
поклонился. Зато последователи Его слишком поклонились, основав «горо-
да Христовы», «царства Христовы», «законы Христовы», «каменные зда-
ния Христовы», и, вообще, «аршин и арифметику Христову». Какое смеше-
ние двух царств, физического и духовного, космогонически-мирового и уеди-
ненно-совестливого! Все дали Христу, чего Он не просил: царства, законы.
А чего просил: душу, — не дали!
Безженная обрядность, девствующее фарисейство еще «жестоковыйнее»
оказалось, чем фарисейство и обрядность на тучной почве Ветхого Завета.
Там было что брать в обряд. Когда много сукна — можно накроить всяких
19
одежд. Но когда нет сукна, да и оно принципиально отвергнуто, что будут
делать ножницы портного? Остается стричь самого человека, кроить по его
живой коже.
Вовсе не «христианские народы», не «духовенство христианское», но
именно и специально одно только монашество, в Испании, во Франции, в
Германии, в России повлекли и привели с собою пытки, костры и наш пра-
вославный «горящий сруб» (московская казнь еретиков). Да и понятно. Нет
сукна — станешь кроить из человека! Обряд на почве многоженности выра-
зился в принесении в жертву голубей, овец. Создал жертвы за грех, жертвы
во «очищение» (всегда физическое); жертвы личные, жертвы народные; чаще
и больше всего — семейные. Но фарисейство на почве заповедания: «Не
ешь, не пей и не женись»?.. Детей нет, жен нет: примемся за еретиков. Про-
сто нет содержания, материала, вещественности, а хочется вещественно
мерять. Раз поставлен был «минус» над основной заповедью Божией («раз-
множься»), все пошло в минус, «полетело к черту», в беззаконие, бесчелове-
чие, сатанизм — до «сожжения брата моего» на почве... притчи о милости-
вом Самарянине! После слов Христа о язычнике-хананеянке: «Истинно го-
ворю, что и в Израиле не нашел Я такой веры, как в ней».
Как вспомнишь об этой язычнице-хананеянке, то и воскликнешь: «Боже,
да ведь все язычники суть в то же время и христиане, при всех своих идо-
лах и не оставляя идолов: если только лично в этих язычниках пробудилось
то царство духа, которое единственно призывал себе Христос». Хананеянка
ни от каких идолов не отрекалась, а Он «нашел веру в ней большую, чем в
Израиле». Совесть, душа, чистосердечие, правда, сострадание: вот и все, и
ничего — еще! Царства, как стоят, — пусть и стоят. Законы, как были, — так
пусть и останутся. Быт, каков есть, — таков и есть. Сих «царств» Христос не
просил Себе. Сатана это ему предложил. От человека к человеку, в шепотах,
от совести к совести тянется царство Христово. «Се Жених грядет в полуно-
щи»... Все — тайна, все молчаливо, безмолвно, бесшумно.
Я сказал: «Сатана предложил Ему царство». Значит ли это или хочу ли я
сказать, что по существу своему «царство», «законы», «быт» суть явления
«сатанинские» и что Диавол предложил Искушаемому, так сказать, своего
золота из своего мешка? Ничего подобного! И ничего этого я не говорю!
Царства, законы, Ниневия, Греция, Рим, Солон и Сервий Туллий — нис-
колько не «чада Сатаны», как извращал все бл. Августин и как об этом поду-
чивает вообще монашество. Все это — подлинное и святое царство Отца
Небесного, все по арифметике и аршину устроенное. «Злое дело» Сатаны
лежало именно в смешении двух царств. В том, что он захотел и предложил
предать во власть Тому, Кто пришел открыть царство Духа, — этот веще-
ственный, осязаемый Божий мир, но который вовсе погиб бы, войдя в бес-
кровные схемы духовных новых восторгов и сияний. А эти духовные вос-
торги и сияния испачкались бы, исказились и извратились, приняв в облада-
ние свое кирпич и железо, длину и ширину, архитектуру и закон, суд и царя.
Погибли бы оба царства: Отца — ветхое и Сына — новое, сливаясь в одно,
20
круша друг друга, сталкиваясь и все же не образуя ничего целого!! Да в
Европе так это и было: погибли Испания и Польша в руках «духовных»,
а «духовное» царство оделось в порфиры, потребовало скипетров, надело
короны.
Спаситель, когда захотел объяснить в целом и картинно, разом и без
споров, в чем именно лежит суть принесенного Им людям Нового Завета,
— взяв дитя и поставив его среди апостолов, изрек: «Если не станете таки-
ми же, не войдете в царство небесное». Невинность, младенчество, приро-
да, как она вышла из рук Творца миров, — вот признаки царства его, вот
тени приближения или удаления от человеков этого царства. Но что же мы
теперь видим? Не видим ли явное дело Сатаны? Пергаментный, желтый
подымается 80-летний старец, ну — Торквемада у испанцев, поменьше ро-
стом у других, но непременно желтенький старичок с лысиною на черепе,
и говорит:
— Настоящий-то вестник Царства Иисусова — это я. — Не женился,
детей не имею. — Почти не ем, почти не пью. — Людей бегаю, все молюсь. —
И от меня люди бегают; да, прыток я, и как догоню кого, — несдобровать
тому.
Совершенно очевидно, что с поэзией аскетизма, с таинственными и при-
влекательными (я не спорю) его Иовами, так ластящимися к сердцу челове-
ческому и всегда находящими в нем какой-то отзвук, — царство Иисуса, как
это бесспорно и наглядно выражено в Евангелии, полетело прахом.
* * *
Царство Отца (мир ветхозаветный) не было упразднено царством Сына.
Христос не пришел нарушить, отменить «закон и пророки», Он пришел «вос-
полнить», расширить. В добавление к царству вещественному открыть и
другое царство (царство духа). В этом все дело. Монашество же уничтожи-
ло царство природы, державу Отца и тем исказило христианство. В то же
время совершенно разрушило ветхий, прекрасный и божественный мир —
этих Туллиев и Солонов, Артаксерксов и др. Ничего не надо было трогать.
Человек должен был обогатиться чрез Сына Божия. К плюсу вещественного
сияния получить еще плюс духовных озарений. Но пошло все в бесконеч-
ный минус, в невыразимое разрушение, когда «державу Отца» начали втал-
кивать в «узкую дверь» Сына: и она туда не проходит, а вместе с тем дверь
ломает. Ни Христова не получилось, ни иеговистского не осталось... Жизнь
сердца не пробудилась. Сердце даже притупилось. А вместо роскошествен-
ных царств древности, роскошественных по красоте, по глубине, осмыслен-
ности и выдержанности, вместо этих ареопагов и экклезий, сенатов и коми-
ций, Сципионов и Мильтиадов, получилась некрасивая дребедень канцеля-
рий и министерств Людовиков, Альфонсов и Фридрихов... Ханжа в короне и
завоеватель, как Каин: вот помесь Лазаря и Цезаря, выжимка из Авраама и
Симона Киринеянина...
21
«Мы — вместо Христа», фарисейство старцев, «не осквернившихся с
женами», «анафема Ветхому Завету». «Каторжники были Авраам, Иаков,
Моисей, Давид, Соломон, преизбыточествовавшие женами и девами». «Про-
клята от Сатаны первая заповедь Божия» (размножения)... Ну когда все так
повернулось дело, то пришли жалкие остатки Сципионов и Солонов, дека-
денты государственности и законности, и сказали просто:
«Нет, мы — лучше этих старцев. Бога мы не знаем, но ведь и эти все
извратили, все перелицевали в законе Божием. Благодати и свободы не дали,
а аршин и меру стали применять не туда. Извратили мир физический и нрав-
ственный, одев порфиру на Лазаря, а Цезарю дав суму для собирания мило-
стыни. Лучше — мы, бездарненькие, коротенькие, но неизвращенные».
Застонали монахи. Как раньше застонал под ними мир. Если «не есть,
не пить и не жениться», то ведь что же остается кроме денег и власти? Одно
утешение. И вдруг ударили по власти, ударили по богатству. Оставили, в
самом деле, только «не жениться, не есть и не пить». Прежде стригли они по
чужому живому телу, и вдруг ножницы коснулись собственного! «Стриги
дальше», — требует вековечный минус, который они же сотворили и нарас-
тили в истории. Раздались стенания, каких еще не слыхал мир: прочитайте
лирику жалобы, тоску в католической, в нашей литературе... Читайте пора-
зительные записки архиепископа Никанора (одесского): «Из истории учено-
го монашества»...
«Двенадцать ночей не спал», — пишет он об одном «обиженном» епис-
копе.
«Исходил кровью горлом», — говорит о другом.
«Кончил самоубийством», — намекает на третьего.
А между тем, все было оставлено «ученым монахам», о которых он вспо-
минает, психологию которых объясняет: пост, молитва, неженитьба. Все
идеалы им сохранены... О чем же они плакали?
«Не почтили», «не дали власти», «нет богатства»...
Страшно читать. Страшно думать.
Царство ты, царство,
Духовное царство, —
опять вспомнишь наших хлыстов и их знаменитый напев, как и другой лю-
бимый их стишок-распевец:
Марфу не щадите,
Марию любите.
Это Мария «села у ног Иисусовых и слушала слова Его» (монашество,
отречение от всего), а Марфа хлопотала по дому, чтобы приготовить трапезу
(хозяйство, заботы, все мирское).
— У вас кто? — спрашиваем их.
— У нас — Христы...
22
«Христы» — вот куда хватили!
— Ав Риме кто?
— Наместник Христов, держащий в руках ключи Царства небесного.
Тоже далеко хватил: почти та же формула, как у хлыстов. Да у нас кто,
вокруг? И не могу я ответить лучше на это, как описать сцену, глубоко, до
сердца поразившую меня приблизительно в 1887 или 1888 году в городе
Ельце, Орловской губернии.
Должен был приехать сюда, для освящения нового великолепного собо-
ра, епископ Мисаил. И как я уже много лет читал о нем, что он, будучи
викарием в Москве, любил выходить на прения с раскольниками, то и захо-
телось мне увидеть владыку, о котором просто много читал. Иду куда-то
часов в 5—6 дня, спускаюсь с горки: вижу — отворена дверь собора. Спра-
шиваю, почему и что, — и узнаю, что встречает духовенство владыку ор-
ловского и он «вот-вот, сейчас будет».
«Мисаил? Читал! Пойду посмотрю».
Я вошел в огромное, чуть-чуть сумрачное, с вечерними павшими теня-
ми, здание. Все духовенство тут. Не помню, были ли псаломщики и диако-
ны. Но было множество протоиереев: столько, как я никогда не видел в од-
ном месте. И рясы красивые, новые. От камилавок фигуры казались еще
выше. А в Ельце духовенство было и всегда аристократическое, гордое, с
достоинством и необыкновенно фигурное, видное. Службы превосходно
правили. И стоят, переговариваясь, в два ряда, «шпалерами», друг к другу
лицом, оставляя между собою дорожку.
Вдруг все сразу смолкло, и над молчанием пронесся гул зазвонившего
соборного колокола. Что-то произошло необыкновенно быстро, так что я ни
сообразить, ни опомниться не успел. Выставляя пятки и сапоги, оба ряда
протоиереев лежали на полу, лбом о камень, — недвижно, как статуи фара-
онов в Луксоре, а над ними мягко неслись слова:
— «Благодать вам и мир от Господа Иисуса» (формула привета из апос-
тола Павла).
Говорил вошедший и на минуту остановившийся еп. Мисаил: лицо, —
как я не видал у архиереев, — до того хорошее! Грубое, чуть-чуть мужицко-
го склада, не старое, здоровое, с светящимся умом и простою русскою доб-
ротою. Без сомнения, и он был поражен этим видом, если только не «при-
вык уже» и «все равно, так заведено». Что для себя и он лично ничего не
просил, не хотел, — в этом и сомневаться нельзя. И захотелось мне видеть
его оттого, что, читая его собеседования с старообрядцами, научился его
уважать за простую и грубую, но умную и добрую русскую речь. Однако
уже перед Мисаилом (ныне давно почил) был епископом Симеон, посетив-
ший брянскую прогимназию, где я был учителем. Этот был великолепен,
блестящ. Почти светски образован (хорошо знал древние литературы), ну,
этот от такого зрелища не отвернулся бы. Он перевернулся бы в душе, если
бы таким именно зрелищем его забыло или пренебрегло встретить подчи-
ненное духовенство.
23
Протоиереи лежали буквально в этих склоненных, характерных, неза-
бываемых позах, как мы видим в египетских атласах «пленных рабов» пе-
ред проходящим мимо фараоном. Те же пятки кверху и головы книзу, и рука,
положенная от локтя до кисти на пол, и горбом спина. Когда это произошло,
началось?
Начала не было, были только «продолжения», шажок за шажком, с ужас-
ной медленностью, но все текло сюда, нигде не останавливаясь, никогда в
обратном направлении.
— О, да и у нас Христы! — только и остается сказать, поведя взором к
Ватикану, припомнив наших «Божьих людей».
Везде «Христы»:
— Яко бози...
Везде авторитет и безмолвие, власть и рабство, гордыня и унижение —
в таком противоположении, контрасте, в таком взаимном оттенении, как этого
и думать не могло возникнуть при кесарях Рима, среди полчищ Чингис-Хана,
при «апокалипсическом звере» (боязнь простонародья) Бонапарте.
Что их власть перед этой «безгрешностью», перед «владением ключа-
ми Царства небесного», «отпущением грехов»? Ну, разве так лежали, пята-
ми кверху и лицом на полу, при входе Бонапарта, Тиверия, Тамерлана, Алек-
сандра Македонского, Ксеркса или Рамзеса! Ни перед кем!! Перед Рамзесом
лежали так же — но побежденные евреи, но взятые в плен с оружием в ру-
ках на поле битвы, — лежали чужеродцы, иноверцы. Здесь же был не только
один народ, одна вера; но было одно сословие, одно образование, одинако-
вые убеждения и даже тот же священный чин!
Но один «не осквернился с женами».
Другой женат.
Один весь преисполнен духа «Нового Завета» (по истолкованию мона-
шескому); другой, как семьянин именно, как имеющий детей, несет на себе
печать Ветхого Завета, о котором с его Иаковом, многоженством, изречена
«анафема».
А образование, добродетели, ум, молитва — все одинаково, т. е. не в
молитве, не в добродетели, не в разуме, не в просвещении дело. Дело стало
просто и резко, прямо и каменно в одной безжизненности. «Отрекись от
заповедания Ветхого Завета, — и ты наш». Получишь жезл управления и
венец власти.
«Не отрекся? Тогда никогда не будешь нашим, а будешь только рабом у
нас, — рабом и плененным, побежденным воином, как сирияне перед Рам-
зесом».
Вот положение вещей, не риторическое, а реальное, около которого волну-
ется духовенство. Сюда все вопросы — прямо или рикошетом — сводятся.
«Отчего мы забиты? Отнят у нас голос? Отчего мы бедны, зависимы?
Почему мы противоположны миру и мирянам, около которых живем и от
которых не хотели бы отделяться? Что за идеалы, что за поэзия, которые
завещаны нам и влекут нас, когда мы явно чувствуем, что это — не Христо-
24
во? Ибо Христос возлюбил мир и был с миром и в мире, среди лугов, хлеб-
ных полей, на глади Генисаретского озера, — всегда среди природы и среди
человеков?!»
А монашество, наше «смиренное» и в то же время жадно-властолюби-
вое, все это взяло и ничего взамен не дало. Засушило и задавило «лилии»
христианства.
ДВА СЛОВА В ЗАЩИТУ ДОСТОЕВСКОГО
КАК ЧЕЛОВЕКА
Только что привелось мне прочесть одновременно вдумчивую статью «со-
брата по перу» г. Измайлова о Достоевском (в «Русск. Слове») и таковую же
статью, посвященную 25-летней памяти его, — г. Шестова (№ 7 «Полярной
Звезды»). И последняя статья резко обожгла душу тоном своего отношения
к Достоевскому — как личности, как нравственному характеру.
«Жена его (Д—го) в последние годы жизни писателя прикапливала день-
жонку»; «обеспеченный Достоевский в политике, проводимой в «Дневнике
писателя», выступил на идейную защиту и обоснование грубейших нацио-
налистических аппетитов, зарождавшихся во дворцах и проводимых на прак-
тике нашею бездушною бюрократией). Так, он советовал не только взять
Константинополь, но и, выселив татар из Крыма, — заселить его русскими»
и т. д. Так пишет г. Шестов, которого наряду с упомянутыми г. Измайловым
критиками Достоевского, Мережковским, Розановым, Волынским, можно
поставить также в ряд виднейших исследователей творчества нашего вели-
кого писателя, и мало сказать — «исследователя»: Шестов сам едва ли не
находится под обаянием Достоевского в среднем периоде его деятельности,
особенно его сумрачных «Записок из подполья». Но именно в юбилейный
день он как-то капризно сбросил это обаяние, кажется, на минуту и ad hoc, и
сказал слова, которым бы лучше остаться несказанными. Когда мы читали
его статью в «Полярной Звезде», мы не видели привычного, вдумчивого,
страдающего Шестова, к какому привыкли и которого полюбили в «Апофе-
озе беспочвенности» и «Ницше и Достоевский», и перед нами точно гово-
рил сухой и ничего не чувствующий человек юридического и формального
склада души и мышления.
Против идей Достоевского можно и иногда должно спорить: политика
его, и «внешняя» и «внутренняя», должна быть теперь почти целиком от-
вергнута. Все это так. И «Константинополь», и «татары» лежат упреком на
его памяти, и не только они, но и многое «еще горшее». Но невозможно,
отгородившись от этой «политики» Достоевского, часто скрупулезной, кап-
ризной, злобной, прямо — темной, не окончить, однако, великим апофеозом
его личности, его нравственного характера, сняв все пятна с его жизни и
отстранив малейшее подозрение кривых мотивов в этой печальной его «по-
литике».
25
Нет, не двору и не бюрократии служил этот бедный обитатель малень-
кой квартирки в глухом и грязном переулке; не двору, при котором он ни-
когда не бывал, и не бюрократии, с которою никаких связей и даже, кажет-
ся, никаких отношений не имел, если не считать «тайного советника»
А. Н. Майкова, поэта и чиновника цензуры. Но Достоевский (см. его письма
и «Дневник писателя») еще мальчиком, до поступления в пансион, читал, в
присутствии и под наблюдением отца, торжественные страницы «Истории
государства Российского» Карамзина; читал — и даже в этот детский воз-
раст прочел всего Карамзина. «Мы воспитывались не так, как теперь наши
дети, без родины и истории», — записывает он в воспоминаниях о кружке
Петрашевского. Первые детские впечатления — неизгладимы; и кто не зна-
ет, не испытывал, что именно под старость (годы издания Дневника писате-
ля) эти детские впечатления, лежавшие точно под пеплом всю жизнь, вдруг
начинают снова цвести всем отроческим благоуханием своим, получают
снова рост, жизнь и силу. Я упомянул о «торжественной прозе» Карамзина:
конечно, для нас она ошибочна; мы познакомились с нею в зрелом возрасте,
после Соловьева и Костомарова, уже обеспеченные против ее поэтического
и нереального обаяния, но ведь Достоевский не в этом порядке с нею знако-
мился: и как и Пушкин, и даже вместе с Пушкиным, которого он так безмер-
но любил, «вслед Пушкину» он направил корабль своего государственного
мышления, своих историко-государственных созерцаний, «в кильватер» той
данной линии русских писателей (Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Гоголь
Грановский), впереди которых шла «торжественная проза», «сей неизглади-
мый язык» — Карамзина. Вот очень простое объяснение лозунгов: «взять
Константинополь», «выселить татар и заселить русскими Крым». У Карам-
зина — покорение Казани — центр 11-томного пафоса, а Грозный именно
так поступил с казанскими татарами: множество их выселил во внутренние
русские области, поселив на их место русских. Политика Достоевского
конечно, была не реальная, а литературная; была не прозаическая, а поэти-
ческая: и нельзя не простить ему эти «вольности поэта».
Но он свою «политику» проводил с горячностью и желчностью. Нельзя
здесь не принять во внимание всю вообще несчастную судьбу Достоевского
и, между прочим, несчастное его литературное положение. Он (как и Тол-
стой свои большие романы) печатал свои произведения в таких изданиях,
которые только тогда и только потому и начинали читаться, когда в них пе-
чатались Толстой или Достоевский. Это был «Русский Вестник» Каткова
где после Достоевского, и до Достоевского, и все вокруг Достоевского пах-
ло «Катковым и Леонтьевым», и лицеем, и «греко-латинским словарем»
изданным горбатым другом Каткова под аусинциями министра просвеще-
ния Д. А. Толстого. Вся русская печать, все русское образованное общество
сторонилось от этого издания, — и сторонилось уже невольно и «вообще»
также лучшего украшения его — Достоевского (как долго — и Толстого).
Достоевский (и очень долго Толстой) были поставлены в изолированное по-
ложение. И просто это была неудача, ошибка, случайность биографии, без
26
чего-нибудь вначале принципиального: неложное случайное местоположе-
ние повело за собою потом, как следствие, уже впадение в ошибки, и прин-
ципиальные. Поставив палатку свою не там, где следовало (и это — просто
случай личного знакомства, личного доброго слова и полистной платы), не
видя вокруг себя общества и литературы иначе, как враждебно насторожен-
ного, — Достоевский (и тоже очень долго и Толстой) и сами нервно насто-
рожились против общества и печати. Невозможно исчислять всех печаль-
ных, всех невознаградимых, огромных последствий для общества и даже
для истории того обстоятельства, что глубочайшие труды Достоевского и
Толстого печатались не в «Отечественных Записках» или «Вестнике Евро-
пы», т. е. в коренном русле общественного самосознания, а в «Русском Вес-
тнике», т. е., до некоторой степени, вне истории и жизни, в боковом, болез-
ненном, микробном даже не «притоке», а «оттоке» жизни и истории. Всю
жизнь Достоевский — бедняк-рабочий и Толстой — отшельник-праведник
ехали в «салон-вагоне» Стивы Облонского, по их же выражению, «цини-
ка», для которого «apres moi le deluge»*, и, не замечая или мало замечая, не
разглядывая сидевшую с ними компанию, смотрели в окно этого салон-ва-
гона и любовались и записывали приключения тут же рядком бежавшего
около рельсов Левина, с его «исканиями» и «мучениями». Что у Достоевс-
кого (и у Толстого) по существу было общего с Катковым, с Леонтьевым, с
Болеславом Маркевичем, с лицеем и «греко-латинским словарем»? — Ни-
чего!!! Что было общего с Некрасовым, Глебом Успенским, Златовратским,
Короленко, Гаршиным? Бездна общего; даже при вражде, полемике — без-
дна интимно единящего. Но их непосредственное несчастное соседство —
это и были Облонские, Вронские, Elen Безухова, те князья Вальковские (отец
Алеши в «Угнетенных и оскорбленных»), которых литературно они так му-
чительно ненавидели. Бывают такие положения. И именно у гениев, кото-
рые так рассеянны, что мало что замечают в ближайшем к себе соседстве.
Просто — «сел не в тот вагон». И сколько от этого истории убыло...
Видя почти все «либеральное общество» враждебно к себе настроен-
ным, — Достоевский, столь нервно-впечатлительный, и сам против него
враждебно насторожился. А вражда — это завеса, это — порог для понима-
ния. Он скользнул (нельзя этого отрицать) по «либерализму» русскому, по
радикализму русскому, не прочитав, не вникнув в кроваво-нервные литеры
его истории, его судьбы, его характера. Все ему казалось здесь пусто и по-
верхностно, все казалось здесь какою-то толпою «Балалайкиных» (адвокат
у Щедрина), а вот, видите ли, «Власы» и «пророк» Израиля-России выйдет,
окончивши курс в лицее цесаревича Николая, что около Крымского моста,
и, вероятно, взяв «народную» должность земского начальника. Словом, «Русь
скажет свое слово миру» устами губернатора Лемке («Бесы»), «Рюрикови-
ча» кн. Вальковского и чуть ли не из-под кружевной юбки Elen Besouchov’ofi.
Все это «древние, исторические начала», воспетые Державиным и расска-
* «После меня хоть потоп» (фр.).
27
занные Карамзиным, от которых чего-то надеялись, впрочем, и Пушкин, и
Лермонтов, и Гоголь, и вообще бездна русских неопытных идеалистов, сев-
ших «не в тот вагон».
— Куда поезд?
— На Восток!
— А, и отлично... Это — Шехеразада, арабские сказки, темные звезд-
ные ночи Аравии, где проповедовал пророк:
— Иди и внемли.
Глаголом жги сердца людей!
Это уже не самый Париж с его Louis Napoleons, 1-м и 3-м, его новое,
новый мир и древности и поэзии, пророков и завоевателей...
— Кишмиш будешь?
Приехали в «Шехеразаду», не во дворцы Чингисов и Гарун-аль-Раши-
дов, а в нашу... маньчжурско-корейскую действительность, где рубили ка-
кие-то не свои леса, и схватили за это за шиворот и потащили на всемирный
позор, как неудачного воришку, и секли, секли, секли...
С поездом «на Востоке» совершилось такое крушение, среди воплей,
гама, отчаяния, — что это разбудило даже и самый Восток, еще никогда не
заливавшийся такой кровью, на этот раз не его, желтою, привычною, а на-
шею западною кровью, арийскою, христианскою.
* * *
Ошибки «политики» Достоевского не были пороками его личности. Эту
политику, собственно, и не следовало бы теперь вспоминать. В Достоевском
стоит перед нами, как справедливо заметил г. Измайлов, «платоник», мета-
физик. Кстати, у Платона опыты его «политики» с сиракузскими тиранами
были еще неудачнее, чем у Достоевского. Вся ценность его — в метафизике,
в великих «снах» его сердца (идеалы) и в великих его откровениях о глуби-
нах человеческой души (психология). Эти три русские души — Гоголя, До-
стоевского и Толстого — впервые сообщали и вообще русскому духу инте-
рес всемирности, какой до этих людей наша история и наша естественность
не имели. Наконец-то исполнилось предчувствие мужичка Ломоносова, про-
шедшего от Архангельска до Берлина, что
Может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.
Ибо на прямой вопрос: захотели ли бы мы своего Толстого отдать гре-
кам, чтобы получить от них творца «Политики», или отдать англичанам в их
сокровищницу книжную «Сон смешного человека», «Преступление и нака-
зание», «Братьев Карамазовых», чтобы получить себе в обмен великие
«Principia mathematica philosophia naturalis»*, — мы сказали бы:
* «Математические начала натуральной философии» (лат.).
28
— Нет, жалко. Пусть те остаются при своем, может быть, и большем по
всемирной значительности. Но нам это дороже, это наши русские Платон и
Ньютон, также говорившие как о бессмертии и вечности человеческой души
и открывшие тоже дивные законы в натуральной философии, сколько она
касается человека и человеческого.
ПАМЯТИ ВЛ. К. ПЕТЕРСЕНА
Похоронили Владимира Карловича Петерсена. Под псевдонимом «А—тъ»
(=Альцест) его знали, уважали и ценили в отдаленнейших уголках России.
Как и я за много лет раньше, чем увидел его грузную, огромную фигуру, в
военном мундире и, подойдя, познакомился с ним, — уже много лет читал и
уважал его в черноземной России. Достаточно было, чтобы фельетон под-
писан был этими тремя буквами, чтобы взять нумер газеты и, отойдя в уго-
лок, углубиться в нижние столбцы. Тогда, издали, он мне представлялся бай-
роническим, насмешливым, страшно уверенным в своем уме, знаниях и дей-
ствительно знающим и умным. «Жесткая, но компетентная форма ума» —
так я себе формулировал.
Потом увидел его лично и довольно быстро подружился с ним тем по-
верхностным дружелюбием, какое, увы, одно допускается или одно выраба-
тывается около печатного станка. Шум машин: и он кладется впечатлением
на душу. Не может трубочист не быть в саже, мельник — в муке, а журна-
лист не может отрешиться от калейдоскопа вертящихся перед ним узоров
жизни, ее высокого и, чаще, ее низкого и не утратить в очень значительной
степени способность длинных, вязнущихся, цепких ощущений. Все соскаль-
зывает. Ничто не может «по долгу службы» держаться долго. Такова про-
фессия. И если тут есть дурное, то гораздо больше есть несчастия.
Покойный, однако, просил убрать красноречие от его могилы. Но мне
хочется 2—3 слова сказать о действительном складе его ума и натуры, —
небезразличном для его читателей и, думаю, многих почитателей.
Он был человеком трезвой действительности, которую знал, в которой
много перенес, — и с неодолимою потребностью какой-то надежды или
мечты за гранью этой действительности, перенесенной им в будущее, или
«по ту сторону гроба». Я говорю о мечте. Петерсен был настолько же мечта-
тель, как и реалист. Но насколько все было ясно, все имело «свои рельсы» в
знании им действительности, за пределами ее все у него становилось смут-
но и оставалось более на степени страстного желания, нежели определен-
ной мысли.
Он всегда был ироничен, насмешлив, склонен к остротам и остроумию.
Никогда это не имело предметом своим окружающих людей, но всегда —
окружающую жизнь. Постоянно он говорил с желчью о «повальной бесчес-
тности» не столько русских людей, сколько обстоятельств русской жизни,
которые искусственно гнали вверх все низкое, пошлое, «пройдошествую-
29
щее», но чему «тетенька ворожит», и гнули книзу все оригинальное и осо-
бенно «все свое, русское». Память его была полна воспоминаниями, и пыл-
кая его аргументация была только каймою около чередующихся рассказов о
службе, о встречах. Редко я встречал людей, так глубоко любивших все при-
родно-русское, от ее физики до ее психологии, но глубоко возмущенных
гибелью у нас всего талантливого. Для него патриотизм сливался с «возв-
ращением к добросовестности», как добросовестность совпадала с «возвра-
щением к патриотизму», к родным стихиям русского народного духа. Но
немец и лютеранин, он ничего «квасного» не имел и не мог, естественно,
иметь. Это был русизм и патриотизм инженера, притом в военном мундире.
«Ах, если бы Пруссию сюда: но Пруссию, поклонившуюся нерехтским кам-
панилам». По поводу падения башни св. Марка он, в это время блуждавший
по ярославским и костромским уездам, писал мне восторженные письма
убеждающие, спорящие, что Венеция против Ярославля — гроша медного
не стоит. И все это — трезвенно, сурово, без маниловщины и сантимента-
лизма. Просто — он так чувствовал. Спасибо ему за это, хотя спорить с ним
приходилось до слез. «Полюби нас черненькими, беленькими — всякий
полюбит». Не это ли зерно патриотизма, который чего-нибудь стоит?
В некрологе, оставленном о самом себе Петерсеном, промелькнула
коротенькая фраза, дающая полный его портрет: именно в самом конце, где
он говорит о «физиологической, наследственной нравственности», которая
была ему присуща и которую, как все физиологическое, почти нечего оце-
нивать. Это глубоко верно. Многие приобретают нравственность из книг, из
развития, идя через историю убеждений, встреч, знакомств, через внешнее
благоприятное положение, через счастливо сложившуюся жизнь, из воспи-
тания, от друзей и окружающих, от семьи. В Петерсене она не имела этого
сложного, трудового происхождения, а была, пожалуй, прочнее, будучи по-
чти только отсветом крови благополучного рождения. Я только сгущаю его
очень верную и очень важную мысль, имеющую большое приложение. Ни-
чего нет лучше породы, ничего прочнее ее, по крайней мере на протяжении
личной жизни. И горе «фамилии», это страшное богатство, эту страшную
силу растеривающей. Она невознаградима, невосстановима.
Петерсен умер, приняв перед смертью православие. В сущности, с лю-
теранством в его специфичностях давно у него ничего общего не было, на-
против, православие и наши трогательные и поэтические обряды он давно и
глубоко любил. Он умер очень мужественно, нимало не смущаясь лица при-
ближающейся смерти. «Я им (докторам) говорю: скажите вы мне, пожалуй-
ста, на милость, каким способом я умру, разрывом сердца, или от уремии
(отравление крови мочою), или зальет вода? Они говорят: не знаем. Но на
что же они и доктора, если не знают, а мне не безразлично. Потому что наде-
яться очень нелегко, а если уремия или разрыв, то как уснешь. Я причастил-
ся, бумаги в порядке, и мне скорее умереть, чем в отставку выйти. Такое же
облегчение». Так говорил он мне, когда я посетил его в больнице. Жизнь
его, много лет нерадостная, но с непоколебимым терпением вынесенная
30
действительно делала для него кончину давно желанною «отставкою», от-
ставкою от трудной должности. Мир праху твоему, добрый работник. И спа-
сибо, что ты возлюбил «усвоенную родину» такою горячею, туземною лю-
бовью.
ДУХОВНАЯ ШКОЛА
Сборник. Москва, 1906. 348 стр.
Книга эта, составленная всецело из трудов-воспоминаний и из трудов-рас-
суждений бывших питомцев духовных семинарий и духовных академий,
теперь самостоятельно занимающихся на учебном поприще, интересна и в
смысле описательном, и в смысле подготовительном. Многочисленные ста-
тьи, вошедшие в состав ее, суть менее ученические и более учительские: но
только — тех добрых и редких учителей, которые вносят в свой учительс-
кий труд весь драгоценный материал незабытого ученического опыта, уче-
нических испытаний, ученических наблюдений. Со стороны школу попра-
вить очень трудно: это все же слишком специальное дело; школа должна
поправиться изнутри — вот этими педагогами, не позабывшими ученичес-
кого опыта, т. е. людьми зрелыми и вместе свежими. Авторы пишут в пре-
дисловии:
«О связи духовной школы с церковным обществом говорить не нужно: в
конце концов школа — это не что иное, как то же общество, только в состоянии
школьного развития... Школа — самое дорогое дитя общества, на котором его
надежды, его любовь, его слава. Это все ясно. Но русская действительность
жестоко смеется и над ясными истинами. В школе, дитяти своем, общество не
может и не хочет видеть кровное детище. Школа — подкидыш. Современная
духовная школа — тоже подкидыш, суровым историческим процессом подбро-
шенная русской церкви».
Доскажем: положение «семинарий» в великом и святом (по идее) орга-
низме церкви такое же, как духовных консисторий: эти осуществляют «ду-
ховный суд» церкви, как семинарии осуществляют «духовное просвещение»
церкви. И те и другие, являясь как бы левым и правым крылом церкви, роня-
ют ее в грязь, в такую грязь, о которой имеют представление только люди,
послушавшие семинарских и консисторских «историек», легенд, «рассказ-
цев», являющих подлинное, настоящее лицо действительности, сокрытое
под красноречием официальных отчетов и торжественных актовых речей.
Для философа и историка навсегда останется неразрешимой или во всяком
случае чрезвычайно любопытной проблемой: каким образом «святой орга-
низм церкви» мог вырастить из себя эти два крыла или привязать к себе эти
два искусственных крыла (спасительная гипотеза!), столько лет лететь на
них и все шлепаться в грязь... Удивительное явление! Вспомнишь притчу
Спасителя о «плевелах», которые почему-то непременно должны упасть
между зерен пшеницы. Разъяснение, но не утешение...
31
Нужно, впрочем, заметить: вглядываясь в деятельность нашего духов-
ного сословия, все же видишь много положительных качеств, каких не ви-
дишь или мало видишь в других сословиях: трудоспособность, стойкость,
бережливость, весьма упорядоченный быт, наконец, сохраненную веру в Бога
и твердый исторический колорит. Откуда это? Многие, особенно из светс-
ких людей, не знающих подробностей всего уклада семинарской и академи-
ческой школы, говорят: «Результаты все-таки удовлетворительны, и, следо-
вательно, удовлетворительная школа», «в реформе она не нуждается». За-
бывают только, что все те же качества духовенства: стойкость, терпение,
труд, религиозность, историчность - были задолго до «Устава», положим,
1884 года, задолго и до «бурсы», что это были всегдашние качества духовен-
ства, отлившиеся у него, очевидно, под действием условий труда, всегда тя-
желого, всегда около народа, всегда вблизи к природе (сельское духовен-
ство), всегда под поэтическим воздействием богослужений и слова Божия.
И сохранились эти качества не «благодаря школе», а, может быть, «вопре-
ки» ей: ибо что-нибудь значит же голос всего почти духовенства (белого),
всего почти учительского персонала, жалующегося на глубоко раздражаю-
щие принципы и средней, и высшей духовной школы. Вот иллюстрация,
которую кто же отвергнет в ее факте и в ее уродливом зле:
«Чиновник, в вицмундире или в рясе, и не думал прикасаться к закону. Вся-
кий протест и даже не вовремя обращенная просьба рассматривались как рели-
гиозное преступление. Просящий или протестующий, во-первых, недоволен
своим положением, а всякое недовольство есть признак вольномыслия и непо-
корства властям; во-вторых, он оказывает себя и дурным христианином, не ус-
воившим заповедь Христову о «терпении»; дурные же христиане нетерпимы на
службе по духовному ведомству. Таким образом, кроме простой физической
силы, на которую опиралась светская бюрократия, ее духовная сестра имела у
себя на службе и «христианскую» идеологию, убивавшую в корне не только
проявление, но и самое зарождение недовольства. Как известно, мощь и сила
«усмотрения» растет в сторону наименьшего сопротивления, а потому духов-
ная бюрократия неминуемо должна была возрасти в могучее ветвистое дерево с
яркими, пышными, одуряющего запаха цветами и ядовитыми плодами».
Действительно, момент власти и, наконец, самого дикого, безудержного
самовластия нигде так не разросся, нигде так мало не замаскирован, как на
святом теле церкви. Инквизиция ведь только ее кульминационная точка; а
«кое-что вроде инквизиции» — это везде, это повсюдный цветочек на теле
церкви. Сломлено всякое сопротивление, всякий ропот в грозном: «Ты хри-
стианин? Как же ты ропщешь?» Молчание. Нет защиты, кроме как в проте-
сте, диком, нелепом, преступном, бессильном, — какие и разыгрываются в
семинариях время от времени. Обер-прокуратура при Синоде если не воз-
никла, то удерживалась два века как «поправка к монашеству», и, может
быть, она была бы благодетельна, при всей «некатоличности» своей, если
бы сама не впала во все недостатки епископства же, т. е. тоже безграничного
самовластия. Ибо и обер-прокуроры начали говорить архиереям и митропо-
32
литам то самое, что те говорили простым священникам: «Ропот? Значит,
вольномыслие? Да и какой же вы христианин и как же можете служить в
духовном ведомстве, когда не усвоили заповедь Христа о смирении и терпе-
нии?» Все спрашивают: где же здесь Христос и при чем христианство? И ни
архиереям, ни обер-прокурорам нечего на это ответить.
Д. А. СПЕРАНСКИЙ. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ
ДРЕВНЕГО ЕГИПТА
Выпуск 1. Рассказ о двух братьях. Первоисточник сказаний о Кащее,
равно как и многих других сюжетов народного словесного творчества.
Текст древнего египетского рассказа в русском переводе и его историко-
литературное значение. СПб., 1906. 264 с.
Трудная наука древностей требует такого обширного подготовления не
только для разработки своей, но даже и для ознакомления, для чтения архе-
ологических книг, — что не следует удивляться, хотя и нужно поскорбеть,
что у нас едва найдется несколько десятков и едва ли сотен лиц, занимаю-
щихся ею. Тем с большей благодарностью библиография должна отметить
всякий труд, появляющийся в этой области. Сочинение г. Сперанского зах-
ватывает самостоятельным исследованием таинственный и интересный до-
классический мир. Не все среди читающей, а не изучающей публики знают,
что у нас есть два великих знатока Древнего Египта, читающие иероглифы,
как мы старинную славянскую «вязь»: г. Голенищев, хранитель египетского
отделения Эрмитажа, и проф. Тураев, автор книги «Бог Тот» (бог знания,
бог науки), единственной цельной и самостоятельной монографии, напи-
санной по памятникам, интересной египетской истории. Во всяком случае
наука наша «кое-что» имеет в этом труднейшем и занимательнейшем ее от-
деле; и нельзя не радоваться, что первые же годы только что начавшегося
XX века отмечены трудами крупными и ценными. Пора бы, давно пора: ибо,
в то время как западная наука имеет уже с XVII века целые библиотеки тру-
дов по истории, и в частности по археологии, мы здесь имеем только жур-
нальные заметки странной специальности и без всякого общего значения,
или «общие труды» вроде трех частей «всеобщей истории» Иловайского,
удостоенной достаточно «почетного отзыва» от всех образованных людей в
России.
В примечаниях к переводу египетской сказки содержится много инте-
ресных подробностей об этой древней культуре. Книга интересна и для изу-
чающего сказочное и былинное творчество русского народа, и собственно
для историка тех древних стран, где зародились и откуда потекли первые
мифы человечества, эти блуждающие миры фантазий, догадок и первых
научных гипотез, которые пережили тысячелетия и до сих пор не хотят или
не могут умереть.
2 В. В. Розанов
33
МЕДИКИ В ПСИХОЛОГИИ
Проф. И. А. Сикорский. Всеобщая психология с физиологией, в иллюс-
трированном изложении. С 21 таблицею в красках и 285 фигурами в
тексте.
I
Декарт до такой степени разделил душу и тело, идеальное и материальное,
что заставил учеников своих, т. е. на некоторое время целую Европу, пове-
рить не только в отсутствие какой-нибудь связи между этими сторонами
бытия, но, например, и поверил в такую несбыточную вещь, что все живот-
ные до человека суть только движущиеся автоматы, нисколько не одушев-
ленные, не думающие, не чувствующие, даже не ощущающие!!! Человек
один имеет «душу» и «идеальное» в себе. Не припомнит ли читатель, что
это очень походило на ту другую, тысячелетнюю истину всеобъемлющего
тогда католичества, что папа и патеры одни только имеют «дар благодати» в
себе, являют собой «священный класс людей», тогда как прочие человеки
хотя и верующие, хотя бы очень добродетельные, однако лишены вовсе «этого
чего-то такого», что называется «благодатью», и не имеют ни капли в себе
святого, священного значения. Я хочу указать этою аналогией), несомненно
существующею, до какой степени первая великая философия в Европе, не-
смотря на претензии абсолютной к себе свободы, на самом деле тоже дыша-
ла тем воздухом, каким дышали все люди ее времени, и по той проститель-
ной причине, что никакого другого тогда не было. Но вот пришел Лейбниц,
протестант и немец, т. е. не централист, а федералист в вере, в политике и в
быте, и он не менее ясно и убедительно, чем Декарт, доказал ту другую и
противоположную истину, что, напротив, нет такого мельчайшего существа
в мире, до последней пылинки, до последней былинки, которое не имело бы
«своей души», и даже до того замкнутой, что на нее ничто внешнее не мо-
жет действовать. И все былинки мира, его «монады», оттого только связыва-
ются в «систему мира», в «красоту и порядок», что над ними господствует
«мировая гармония», не без аналогии с тем, как старый добрый «август»
Священной Римской империи управлял миром крошечных самовластных
княжеств. «Всякий феодал есть государь в своем феоде» — эта поговорка
средних веков укладывает в себя всю монадологию Лейбница. Эта филосо-
фия, можно сказать, децентрализованной метафизики жадно воспринялась
всюду по контрасту именно с декартовскою: и Европа, эта целая и прекрас-
ная Европа, пережила два увлекательных философских романа, равно ис-
тинных и ошибочных, испытав в них истинное философское счастье и раз-
вившись и утончившись на них во всю меру умственного гения и Декарта, и
Лейбница. Я говорю «романа» без всякого упрека и порицания, без всякой
тенденции указать на неистинность: разве «роман» не так же действителен
и реален, существен и нужен, как еда или сон, и вообще не так же «исти-
34
нен», как что угодно в поднебесной? Европа увлеклась, я заметил, Лейбни-
цем после Декарта «по их контрасту». Вот еще связь вещей: в их контраст-
ности, связь не мертвая, а вечно живая, творческая. Она состоит не в том и
происходит не из того, что «одна вещь продолжает другую», сходна или од-
нородна с нею и вообще «почти то же, что она», а, напротив, потому имен-
но, что она — другое, не родственное, противоположное! Ведь Декарт от-
чего отверг всякую связь между душою и телом? Он отверг ее по очевидной,
самоощутительной разнице между мыслью и веществом, духовным и ма-
териальным: между тем, мы утверждаем, поэтому-то дух и тело и связаны,
но не мертво связаны, как конец веревки с концом веревки, как колесо и
колесо в машине, как поршень и цилиндр в ней же, а связаны страстно, му-
чительно и сладко, художественно и жизненно, — по аналогии мужчины и
женщины, которые тоже «в контрасте», а не «в единстве», и связаны от этого
сильнее, чем в машине ее части или в гражданском обществе его члены.
Кто же влюбляется в «родственников»: влюбляются — «в дальних»; вот
воочию, конкретно разгадка загадки, мучащей философов, от Декарта и до
наших дней. Напр., проф. Сикорский говорит во «Вступительных замеча-
ниях»:
«Психические явления, насколько они доступны человеческому опыту, пред-
ставляются всегда связанными с материей и с материальными феноменами. Та-
ково общее научное убеждение, на котором остановились и Вундт, Герберт Спен-
сер, Гефдинг. Но сущность самой связи остается совершенной загадкой, непрони-
цаемой для самого тонкого научного анализа. «Дух и материя являются нам, —
говорит Гефдинг, — как несводимая к единству двоица, подобно субъекту
и объекту; и мы отодвигаем самый вопрос об их соотношении дальше, и
это не только законно, но даже необходимо, если оказывается, что в дей-
ствительности он идет гораздо глубже, чем это обыкновенно думают» (под-
черкнуто проф. Сикорским). Таким образом, один из основных вопросов психо-
логии — вопрос о соотношении души и тела, материи и духа — приходится
отодвинуть вперед и, быть может, вперед — в невообразимую даль, а на бли-
жайшую очередь необходимо выдвинуть другие, более простые проблемы пси-
хологии, в особенности же необходимо установить связь науки о душе со вспо-
могательными и смежными науками».
«В необозримую даль будущего»?.. Но отчего не в даль прошлого? Не
угадывали ли греки в своем поэтичном и нежном мифе о «Психее» долю
истины: «душа», «душевное» не связано ли с телом и материею, по закону
космического «контраста», родом любовного тяготения? Не взглянут ли ме-
дики, и в частности проф. Сикорский, тем двойным взглядом на феномен
«любви», что ведь он, очевидно, и физиологичен, биологичен, присущ «вся-
кой живой твари»; и, вместе, он явно духовен, идеален, влечет к идеалам и
построяет идеальное, даже у птиц, прекраснее поющих в фазу любви и пре-
краснее на это время оперяющихся (серия наблюдений Дарвина). Любовь
«поднимает всю душу» и расцвечивает тело: не в ее ли феномене лежит,
2*
35
значит, узел дела, разгадка загадки, ибо он есть то «разыскиваемое и ненай-
денное (Гефдинг, проф. Сикорский) единое», где очевидно и явно слита «дво-
ица» души и тела, идеального и реального? Подумайте об этом, медики,
физиологи; не думайте, что вы унизите науку и свою серьезность, если об-
ратите внимание «на те пустяки, о которых поют поэты». Вспомните, что
для науки нет низкого и неинтересного, нет пустого и значительного, а есть
только «неизвестное, к чему она идет через известное»...
II
В первый свой приступ (50, 60 и 70-е годы XIX в.) к проблемам психологии
медики ужасно нагрубили; просто, можно сказать, наневежничали. Они вош-
ли сюда чуть не с дрекольями и прогнали «идеалистов», которые рассматри-
вали свою область как метафизическую и идеальную, как небесную и бого-
словскую. «Тут одни нервы, и душа состоит из кусочков вещества же, не-
рвов, нервной ткани и ее очень простых законов». Так не столько думали,
сколько кричали медики, воображавшие показать человечеству, как и в ду-
шевной жизни все выходит одно из другого, как машинка из машинки. «Душа
— физиологична», — вот их тезис, выкрикивавшийся в Берлине, Цюрихе и
Петербурге на протяжении 30 лет! Но почему, наоборот, не физиология пси-
хологична? Можно было повернуть им их же тему «о сильном единстве ду-
шевных и биологических явлений»? Всякая веревка имеет два конца: и если
мы имеем «мысль» и «нерв» и они очевидно связаны, связаны доказуемо и
наблюдательно, то это также может значить, что «душа нервна», как и то,
что «нерв духовен». Но мы думаем, что все эти попытки, как метафизичес-
кие, так и биологические, свести мир к ряду переходящих друг в друга, по
смежности, сходству и близости явлений — ничтожны. Душа и тело, иде-
альное и реальное — суть именно «родные контрасты», и «родство»-то их
и течет из «контрастности»: они вечно кидаются друг на друга, борются,
враждуют мучительно и — любят, любят, как хозяин и хозяйка в одном дому,
как растение и земля, как орхидея и гниющее дерево, служащее ей почвою,
как дополнительные цвета, как стихи и проза рядом, обои несходные и столь
прелестные в соединении.
Но после первого «разбойнического» нападения на психологию медики
входят и уже вошли в нее, как трудолюбивые, заботливые и внимательные
работники: и тут, думается, они принесут такие драгоценные плоды, каких
решительно не умели вырастить метафизики из своих «умозрений». Меди-
ки и в психологию внесли свои привычные приемы: смотреть и смотреть,
«щупать пульс» у всякого явления, на все заглядывать и все точнейшим об-
разом записывать. Они стали «собирать факты», чего не только не умели, но
и горделиво не хотели делать метафизики.
Перед нами лежит пример этого опыта в метафизике, огромный том в
полтысячи страниц, посвященный проф. Сикорским, невропатологом, ——
36
общей психологии. Помните ли вы закопавшихся в землю несчастных рус-
ских сектантов? На что бы, кажется, интересный нравственный феномен,
поразительное религиозное явление?! Но никто из «профессоров психоло-
гии» не тронулся с места, чтобы надеть очки и посмотреть, что это за люди
(один из них, между прочим закопавший любимую жену и ребенка в зем-
лю, остался в живых, ибо его уже некому было закопать); как и священники
прошли равнодушно мимо этих человеческих душ, запутавшихся в их же
священнической, точнее, монашеской метафизике. «Темные люди, мрач-
ное изуверство! И мы учим, что мир во зле лежит, что все — грех, есть —
грешно, любить — ужасно грешно, рождать детей — грешно же и имуще-
ство иметь тоже грешно. Но вот и домики у нас крепонькие, и детей рожда-
ется, как ни у какого сословия, и про черный день отложено: а оттого, что
мы просвещенны, в семинарии курс кончили, «Ниву» читаем. А эти неучи
ничего не читают и, нас наслушавшись, полезли в землю, душеньки свои
загубили, когда Господь все сотворил на потребу человека, и рай, и яблоч-
ки, и Еву». — Профессор Сикорский не разобрался во всем этом духовном
«вервии» и «иже во святых Отцов наших» учении, которое если послушать
серьезно (в первой половине, где о «грехе») — то и нельзя не удавиться, не
застрелиться или не сжечься, а если принять кроме первой половины во
внимание вторую (о райском дереве и «яблочках»), то надо выкинуть вон и
семинарию, и их самих, и даже тех «иже», которые написали толстые книги
в кожаных переплетах. В целом — ничего не выходит, кроме какой-то недо-
уменной крысы, отгрызающей у себя хвост, самоотрицания, или, попросту,
«сапогов всмятку»; в первой половине — смерть, во второй — закрытие
семинарий «за ненадобностью». Но «в целом» выходит то милое и равно-
душное, что мы называем нашим духовенством, которое и кушает, и всем
проповедует не кушать, учит бессребренности и строжайше требует платы
за это учение... Проф. Сикорский не вошел в эту богословскую путаницу,
но он заботливо, умно, человеколюбиво поспешил в это несчастное и чер-
ное место: и то, что извлек из своих наблюдений, было ужасно. Оказалось,
что край, в котором живут эти люди, беспримерен по плодородию и являет
сплошной сад: климат теплый, почва — чернозем, низкая земля («плавни»)
периодически заливается водою и являет нечто вроде русского Египта. Сами
эти люди уже зажиточны с начала XIX в., никогда ни в чем не нуждались,
тихи, трудолюбивы, богобоязненны, наконец — примерно даровиты! Он
нашел в них только ту экзальтацию, ту моноидеистичность, без которой,
собственно, и нет религиозного прозелитизма, не было пророчества, не было
бы христианского мученичества, ничего бы не было в церкви и самой цер-
кви бы не было! Таким образом, этот цвет человека и цвет окружающих
условий жизни увял, ужасно и жестоко, от ядовитого учения, совершенно
открыто и настойчиво везде проповедуемого, но только которого ни сами
проповедники и никто из слушателей не исполняют, а эти несчастные оду-
шевились и захотели исполнить!
37
Ill
Мы напомнили об этой важной и живой заслуге проф. Сикорского, чтобы
привлечь внимание читателя к его новому огромному труду.
Это — необозримый ряд наблюдений над живою психологиею и над
психологиею, запечатленною словом и живописью. Автор входит в мир по-
эзии, драмы, комедии и трагедии, чтобы следить за ходом ощущений и «ло-
гикою» страстей; а фотография дала ему могущественное средство для со-
хранения выражений лица в известных, ярко выраженных стадиях психи-
ческой жизни (масса снимков «из моего альбома»), как равно для сохране-
ния лиц резко выраженного определенного характера (убийцы, преступники,
идиоты). Автор здесь входит в мир физиогномики, «чтения души по лицу»>
которое занимало уже древних, потом было оставлено «метафизиками-мыс-
лителями» и теперь вновь привлекает внимание пытливых ученых. В книге
своей «В мире неясного и нерешенного» я указал на связь лица с душою и
даже высказал гипотезу, что душа как бы разлита в лице человека, пролита
по этому лицу. Укажу некоторые основания для этого: электричество могу-
щественно в деле лечения «нервных заболеваний», т. е. с «нервами», «ду-
шою» оно имеет такое же (приблизительно) специфическое соотношение,
как хина с лихорадкою. «Что-то неуловимое, но вот, все видим!» Между тем
электричество в предметах распределяется именно по поверхности их: ток
бежит не внутри проволоки, а по ее оболочке, снаружи. Таким образом, есть
большие основания думать, что и душа заключена не внутри человека, а, так
сказать, обливает его организацию и пластику снаружи. Только при этом
допущении и могут быть объяснены «пассы» магнетизеров: пальцами руки
он проводит по лицу человека, по щекам, лбу, бокам, словом, — снаружи и
по наружности, и человек засыпает. Человек и особенно таинственное лицо
его, а также ладони рук и вообще важные, «говорящие» части как бы смаза-
ны «душою»: это совершенно обратное представление тому, очень распрос-
траненному и обычному, что «душа» — это внутреннейшая капля в челове-
ке, где-то «в самой середине» его организации, и особенно его мозга. К это-
му подводит еще и странная, очевидная связь между «душою» и кожею:
иногда при расстройствах души выступает сыпь на коже, которая и прохо-
дит с успокоением. На почве нервозности развиваются упорные формы тя-
желой кожной болезни, экземы; лучшее лечение от неврастении — обтира-
ние холодною водою, т. е. опять-таки действие на кожу. Кожа — то же, что
звуковое слово, речь для мысли. Умер человек: и первым поблекло его лицо;
даже до секунды смерти, когда еще легкие дышат и сердце бьется, лицо пер-
вое мертвеет. Пока оно — загадка для психологов, но кто знает, не станет ли
когда-нибудь в руках медика оно же могущественным приемником оздоров-
ляющих сил и проводником их, притом не исключительно для патологии
нервов, но и других органов. Кое-что в этом отношении мы и теперь знаем:
в грустном состоянии — есть не хочется, в веселом — отличный аппетит.
Решительно, можно излечиваться от счастья, от довольства: как вот бедные
38
сектанты захворали и даже умерли от печали, от печальных учений, от пе-
чальных религиозных внушений.
* ♦ ♦
Уже в книге 1856 года один неаполитанец, Баптиста Порта, указал и доказал
через рисунки замечательную вещь: что некоторые характерные лица людей
воспроизводят типичные черты «лица» же некоторых животных. Проф. Си-
корский основательно припоминает эту книгу и дает из нее рисунки трех
лиц: сложенного по типу морды свиньи, головы и лица коровы и головы,
лица верблюда. Несмотря на кажущуюся невозможность здесь сходства, вся-
кий, взглянув на портреты лиц, притом отнюдь не некрасивых, скажет: «Да,
тут несомненное единство типа, единство художественного плана у этих
человеческих лиц и у этих характерных животных!» Если я спрошу читате-
ля, на кого похож Собакевич, на птицу или на слона, то читатель по сумме
психологического очерка, данного Гоголем, закричит: «Никогда Собакевич
не мог иметь птичьего лица, а он имел фигуру слона, да и все лицо у него
было как слон, — четырехугольное и неподвижное». Вот еще связь души с
чем: с фигурой человека, с пластикою тела его! Но ведь и пластика тела есть
своего рода «физиогномия», и нисколько не легкомысленно рассматривать
всего человека, от макушки до пяток, как одно длинное и обширно развитое
лицо, только несколько притупленное в других частях и более выразитель-
ное, «говорящее» — собственно в «лице». Для нас, вечно кутающихся в одеж-
ды, это ново: когда же нам представляется случай вглядеться пристально в
фигуру человека, притом, вечно закутанная, эта «фигура» и выцвела ужас-
но, выдохлась, увяла, как растение под колпаком, как животное в вечной
темноте. Но древние, можно сказать, «дышали» телом, и у них фигура Нио-
беи или, напротив, Аполлона Бельведерского «говорит». Лицо в бельведер-
ской статуе очень мало значит, очень мало выразительно и «идейно» срав-
нительно с плечами, грудью, животом, постановкою ног. В этой статуе со-
вершенно очевидно, что весь человек есть одно «лицо». И например, если
от психики Собакевича мы заключаем к его фигуре, то, очевидно, можем и
обратно — заключать от фигуры Аполлона к его психике.
Сколько ключей для разгадок, и как они интереснее тех, какими занима-
лись, уткнув лицо в подушку и отказавшись смотреть на «презираемый»
мир, спиритуалисты, от Платона до гейдельбергских профессоров.
Был ли Плюшкин очень большого роста? Конечно — нет! Был ли он
квадратной фигуры? Опять же — нет и нет! Фигура его была старая, сухая,
маленькая. Такова фигура у всех фанатиков, однодумов, людей страстного
сосредоточения воли. Я думаю, среди инквизиторов ни одного не было туч-
ного. Толщина человека несовместима с жестокостью, толщина и вообще
«грузность». Почему? Вот пускай поищут спиритуалисты и равно те биоло-
ги, которые привычно помещали душу в «мозг».
39
IV
Известно выражение Фохта, что «мозг так же вырабатывает мысль, как поч-
ки урину». Оказывается, «душу» вырабатывает все в человеке, кости, мус-
кулы, жир, рост, кровь, «грузность» и сухость, все, решительно все!!. Части-
ца мыслей моих течет даже от ногтей моих, крошечная, неуловимая, но все
же течет. «Душа» именно «смазывает» всего человека, каждую в нем части-
цу; всякий канальчик, кровяной шарик, желудок, легкие, печень, кишки, все,
все! Или, точнее, от всего и каждой частицы — в нас струится некий свет,
только не воспринимаемый экраном, темный, биологический, жизненный,
который узором своим, рисунком своим и слагает в нас «душу», «духовный
мир», страсти и «ум». Отчего и происходит, что раз «умер» человек — и
свет, биологический и духовный, погас в нем, а тело остановилось; пока же
тело живо — струится свет, думает человек, страдает, радуется. Ничего не
было ошибочнее, как представлять «душу в теле», как «шарик в шарике»
или как в большом и тяжелом теле — другое маленькое и невесомое тельце.
Последнее-то, впрочем, правдоподобнее: ибо свет имеет фигуру светящего
предмета. Луч солнца имеет в разрезе фигуру солнца (круг). И если наша
«душа» струится от тела, то и имеет все строение его, всю фигуру, до малей-
ших частиц, — но только без химии и физики, без материи и весомости, как
свет в отношении солнца, как электричество в отношении электродов. Жи-
вет ли она, когда тело умирает, будут ли встречи «там»? И да и нет. Нет
источника света — нет более и света. Но разве луч света не летит и не может
лететь 1000 лет, вечность, хотя бы солнце погасло, разбилось? Луч света
уже отделился от света, вот ласкает землю, летит дальше: разве же астрофи-
зики не учат нас, что те лучи далеких звезд, какие мы видим и видим в них
положение звезды, сущность звезды, долетают до нас через годы и века, т. е.
когда звезды эти стоят вовсе уже не там; и очевидно, мы видели бы этот свет,
т. е. луч летел бы (сущность вопроса), если бы даже и погасла вовсе та звез-
да или разбилась на осколки. Да астрономы так и говорят: мы видим звезд-
ное небо не как оно есть сейчас, а как было (для одних звезд) минуты назад
(для других), недели, месяцы и года. «Душки» звезд летят и летят; и «луч»
нашего тела, душа, летит и летит и будет лететь вечно, когда оно похолодеет
и умрет. А значит, и будут «встречи» там: совершенно такие же, как здесь,
ибо «свет похож на источник света до тожества», кругленький — от кругло-
го предмета, линейный — от линейного, а от человека — человечек, не пью-
щий, не едящий, везде летающий. Очень правдоподобно и никакого расхож-
дения с наукой.
К интересным наблюдениям Баптисты Порты об аналогии лица челове-
ка с типичными лицами животных я добавил бы, что фигура человека (corpus)
создается вообще или по типу линейному, или по круглому, или по квадрат-
ному; и психика людей бывает тоже круглая (добрые, мягкие люди, снисхо-
дительные, без «углов» в себе), линейная (фанатики, люди страсти) и квад-
ратная («государственники», «основательные» люди). Целые течения исто-
40
рии, как и борьба партий, являют в себе в сущности господство которого-
нибудь типа «фигуры человека» и вступление с нею в борьбу другой «фигу-
ры». Бюрократия — вся сплошь квадратна, напротив, революция — линей-
на: этого кто же не понимает? Анархисты, если выбросить момент борьбы
из них и остановиться только на окончательных «чаяниях», т. е. отвержении
и государства и революции, а чтобы всякий человек «оставался сам собою»
и «никто никому не мешал жить», есть, очевидно, партия «круглой капли»,
ее психология и ее линия в истории. Мирнейший из народов, врожденный
«анархист», китайцы — имеют во всей фигуре своей что-то кругленькое;
человек «мешочком», который желает сидеть в своем мешочке (совокупность
условий), чтить начальство, не роптать, не волноваться, работать и плодить-
ся. Европейская раса оттого и богата, и роскошна, а с другой стороны, — и
мучительна, и не обеспечена, что являет смешение и ошибку всех типов, не
подчиняясь в массе ни которому исключительно. «Вавилонская башня», ко-
торая еще не достроена, но которой удел — стремиться к небу.
* * *
Нужно бы приводить целые страницы из проф. Сикорского, чтобы отметить
все его тонкие и изящные наблюдения. Читая, например, о типах русском и
финском и сложении их, о великорусах и малорусах, восхищаешься этою
наукою, которая, сохраняя всю строгость наблюдений и точность научного
языка, переходит в художественную литературу. Читая о том, сколько чувств
и какие развиты у муравьев и мух, почерпаешь больше, чем из «великолеп-
ной» страницы мрачного Шопенгауэра или певучего Ницше. Читая об изме-
нении цвета и состава заболевающей нервной ткани в различные фазисы
течения болезни или анализ картины г. Богданова-Бельского «Умственный
счет», — видишь везде «душу» и «душу», которая, будучи и невидимой и
неосязаемой, дала науке ухватить себя точно железными щипцами, точно
легла под микроскоп и дает вырывать из себя тайну за тайною, дает «исти-
ну» за «истиной» в великое здание науки. Пусть каждый читает книгу и
убеждается. А человек со стороны, как автор строк этих, может сказать только:
«Хвала вам, ученые! Хвала вам, медики: оставайтесь всегда, как и прежде,
немного грубоватыми, но так же правдивыми и благодеющими, бегущими с
помощью на всякую боль человека».
РЕЛИГИОЗНЫЕ ГОЛОСА В НАШЕЙ СМУТЕ
Года 2—3, может быть, 4—5 назад среди московского студенчества выдели-
лось несколько человек, горячо ищущих религиозной истины. Тут были
математики, естественники, юристы; филологов почему-то, кажется, не было
ни одного. Были уже и кончившие университет, и продолжавшие еще учить-
41
ся. Среди коренных русских фамилий попадались немецкие и польские: но
все они были православные, т. е. это были внуки и правнуки обрусевших
немцев, поляков, литовцев. Они завязали связи с ректором и некоторыми
профессорами Московской духовной академии; приезжали сюда, в Петер-
бург, искать «советов», «разъяснений» и указаний у ректора здешней ду-
ховной академии, епископа Сергия (теперь епископ Финляндский), извест-
ного своим образованием, мягкостью и кротким христианским духом. Сре-
ди рядового студенчества они выделялись большею начитанностью, зна-
нием иностранных языков; некоторые из них побывали за границею и в
юго-славянских землях; некоторые же получили степень магистра такого-
то «права» или такой-то «математики» (чистой или прикладной). Но удиви-
тельнее было то, что рассказывалось об их жизни: со всем фанатизмом мо-
лодости они кинулись на путь «буквального» исполнения евангельских за-
ветов Спасителя и, как первые христиане или подражая им (не думаю, что-
бы «подражая»), — спали чуть не на досках, соблюдали посты или во всяком
случае еду и питье сократили до наименьшего; женщин не касались и вооб-
ще так же старались по части «умерщвления плоти», как и пламенного про-
поведничества. Явление это среди учащихся не было для меня совершенно
новым. В гимназии, в Нижнем Новгороде, я помню своего товарища Мари-
нина, который, живя в бедной, но не очень бедной семье, спал не только на
досках, но и подбивая доски гвоздиками — «подражая Христу»... Был чист
душою, как дитя; тоже был начитан: и все старался исполнять «букваль-
но»! Замечательно это стремление у нас, русских, к «буквальности», — от
старообрядцев до университета.
Двоих из этих молодых людей я видел и слышал в приезд их в Петер-
бург, год назад. И, как и многие другие, я был очарован их словом, энтузиаз-
мом, верой вот в эту «буквальность», будто все можно исполнить «по букве
и до конца», «как сказал Христос». С историей они не считались. С действи-
тельностью не считались. Для них точно ничего и не было, никого и не рожда-
лось между мучениками римских цирков и их собственною готовностью
«хоть на муку». На мой старый возраст, однако, они подействовали талан-
том, но не подействовали убеждением: и я только улыбнулся на их разные
«призывы». Передо мною точно воскрес мой добрый Маринин, с его пра-
ведною душою, с его неопытностью. Помню, тот все улыбался и глаза све-
тились радостью (восторгом?). Эти были старше, с бородами, угрюмее, гроз-
нее, печальнее. Видно было только, что и они страшно чисты душою и жиз-
нью. «Как дело обернется: не вышло бы из вас печальной памяти Фотиев»,
— подумал я про себя.
Не в моем духе эта пугающая, грозящая, постящаяся религиозность. Не
понимаю, какая непременная связь всего этого с Богом? Вспомнили бы эти
юноши Христа, который «ел с мытарями и блудницами», в противополож-
ность Иоанну Крестителю, который «питался акридами и диким медом в
пустыне». Уж если настаивать на «буквальности», то я сказал бы молодым
людям, что они идут «по пути Иоанна Крестителя», но «на путь Христа»
42
даже не вступали: на тот «путь», где прежде всего развязаны узы «субботы»,
т. е. точности, формализма, внешности и господства формул, обрядности и
закона. Словом, «братаясь с мытарями и блудницами», даже, вероятно, сам
принадлежа к ним, я не был потрясен «пророческим видом» приезжих из
Москвы. Но не могу скрыть, что на других они производили очень сильное
впечатление. «Этот вид пророка» всегда обаятелен, и особенно, когда он
соединен с молодостью и окружен молодежью же, порывистой, самоотвер-
женной, готовой к страдальчеству. И опять же мне приходилось слышать,
что личное влияние этих молодых людей в Москве очень сильно. Между
прочим, они сильно действуют и на священников. Главное — «пост и мо-
литва», и такое сочетание с математикой!
Один из этого кружка, г. Вал. Свенцицкий, в недавней книжке «Поляр-
ной Звезды» напечатал «Открытое обращение верующего к православной
церкви»:
«Я не могу молчать... Я жажду голоса церкви, я исстрадался, не слыша его.
И я, слабый в своем одиночестве, — ибо все мы без церкви одиноки, — но веруя
и исповедуя невидимую святую соборную и апостольскую церковь, — теперь
решаюсь воззвать к ее голосу».
Далее, в оправдание своей дерзости «воззвать», он говорит слова, пожа-
луй служащие интимным исповеданием не только его лично, но и всего это-
го кружка, который я охарактеризовал выше:
«Если вы веруете в Христа и церковь для вас — не мертвый звук, а живое
тело его, если вы не на словах, а всем существом своим поняли, что весь смысл
жизни в том, чтобы облечься во Христа и облечь в Него мир, чтобы каждое
дыхание ваше свершалось во имя его — «да будет Бог вся во всем», — то вы»
и т. д. «должны» то-то и то-то.
Подчеркнутые мною слова и есть credo энтузиаста, сколько я могу су-
дить не по напечатанному «обращению» теперь, а по тому, что привелось
изустно услышать от него в его приезд в Петербург.
Отвечу на этот пафос так: самому облечься во Христа — еще можно, да
и то туда не уместится ни математика, ни юриспруденция, ни вообще уни-
верситет. Ведь кружок молодых людей, в сущности, «разорвал с наукою»,
выйдя на религиозный путь: и что из того, что они не «ругают» науки, не
«отрицают» ее? Они к ней похолодели, перестали ею заниматься; так что,
очевидно, если бы они, положим, не с университета, а еще с 3-го класса
гимназии стали «облекать себя во Христа», то они вовсе и не пошли бы в
университет, в них не развилось бы самого любопытства к науке, заинтере-
сованности ее вопросами: а в этом все и дело, в заинтересованности, в
пытливости умственной. Где она — Христос как бы еще не рождался; а где
Он родился — потухла наука; не буду спорить, может быть, потухла как
головешка перед солнцем, но во всяком случае «потухла», в этом все дело, и
следовательно, призыв нового апостола «облечься во Христа, да будет Бог
43
вся во всем» — есть или риторика, чего я не хочу сказать, — а во всяком
случае неопытная юношеская фраза, которую более опытный ум может от-
толкнуть в сторону с самым презрительным видом. Ведь в том и трагедия
европейской истории или, пожалуй, трагедия самого христианства, что «мир
не умещается во Христа», не по злу своему (не зло же наука?), но по разни-
це объемов. Чему нас и научает монастырь, откуда роковым образом и по-
явились монастыри как искусственная и болезнетворная, страдальческая
нудная попытка «усекнуть» человека и «отсечь» в нем многое натуральное
и идеальное, хотя бы и доброе (наука), но, однако, никак не входящее в
Христа и, следовательно, не могущее «облечься» в Него. Нужно и индиви-
дуальному человеку родиться как-то не очень пылким, не очень любопыт-
ствующим, не быть очень счастливо поставленным в семье, чтобы лет в 17
минуя науку, забавы, игры и любовь, свернуть одиноко и угрюмо на путь
«пустынницы»? А как всему-то миру, целой цивилизации начать «усекать-
ся», каковое «усекновение» составляет, к великому прискорбию, сущность
«облекания во Христа», как об этом непоколебимо учит вся Церковь, все
столпы ее, светильники, руководители и устроители. Таким образом, не-
возможна и неисполнима главная нотка московских энтузиастов, интим-
ный из всех порыв. Просто — он ложен, уродлив для мира, страдателен ддя
него. И между тем они приходят, и в частности г. Свенцицкий «взывает к
Церкви» во имя любви к человеку и миру: это другая половина их столь Же
несомненного пафоса. Отсюда, из необдуманности и несогласованности
двух струн, двух нот, в душе их получается надломленность, какофония и
прямая фальшь в их голосе. У человека сильного, искреннего и глубокого
(каким я его видел) «призыв» прозвучал вяло и бессильно; на него, навер-
ное, никто не ответит: но как «призывающий» очень верит в себя и в свое
слово, то, взамен ожидаемого и не получаемого «голоса церковного», я дам
ему простой писательский ответ, из которого он увидит, до какой степени
невозможна его позиция. И все, что именно с этой позиции он будет гово-
рить, неизменно останется лишенным простоты, ясности и даже полного
чистосердечия. Бывают такие положения...
ВОЛЖСКИЙ. ИЗ МИРА ЛИТЕРАТУРНЫХ
ИСКАНИЙ
Сборник статей. С.-Петербург. Издание
Д. Е. Жуковского. 1906. 402 стр.
Книга содержит в себе более или менее обширные очерки философского,
научного и поэтического творчества Владимира Соловьева, проф. Мечни-
кова, Вл. Короленко, Гл. Успенского, Метерлинка, Чехова, Горького и неко-
торых других. Везде у автора вы чувствуете напряженно работающую мысль,
44
и эта постоянная душевная напряженность на протяжении сотен страниц
утомляет читателя. Книга не из легких, и нужен весь энтузиазм молодости
к мысли и философии, чтобы одолеть ее всю до конца. Старый и усталый
читатель не раз пробормочет: «Эк, старается! Все равно всех мыслей не
передумаешь, хоть пиши сто томов» — и захлопнет книгу на половине. Но
молодой энтузиаст, но начинающий мыслитель будет благодарен автору за
каждую страницу его книги, где он найдет то отзвуки, то руководство и
помощь собственным бродильным началам души. Таких старательных кри-
тиков теперь очень немного. Старый задор и высокомерие Писарева у них
пропали, и на месте их водрузилась некая серая меланхолия. Палочка дири-
жера, какою махали Писарев и Добролюбов, выпала из рук этих новейших
эпигонов критики, и они более напоминают ту израильскую бедную вдову,
которой было позволено, по древнему закону, «собирать оставшиеся коло-
сья» со сжатого хлебного поля. Вообще в большей части новых критиков
есть что-то грустное и сиротливое... Может быть, здесь отражается вооб-
ще заброшенность, оставленность всей этой области литературы, когда-то
шумной, крикливой и влиятельной, а ныне почти безмолвной и забытой.
Да, «habenet sua fata»* целые отделы литературы! Кто нынче пишет мадри-
галы? Кто, широко садясь в кресло, готовится «ежемесячно» разбирать те-
кущую литературу, так что по Волге, Двине и Дону — везде будут читать и
перечитывать «знаменитый» разбор?.. И подите-ка объясните эту пере-
мену!
Г. Волжский чрезвычайно умственно-воспитателен. Он совершенно не
занят собою, чем несколько страдает, напр., г. Шестов, один из сильных кри-
тиков наших дней, автор книг о Л. Толстом, Ницше и Достоевском. Волжс-
кий действительно исчерпывает писателя, о котором пишет статью. С бес-
примерным трудолюбием он опускает вновь и вновь бадью в глубокий ко-
лодезь, положим, Влад. Соловьева и, вытаскивая ее наверх, говорит с удо-
вольствием: «Вот еще водица! Все из Влад. Соловьева! Пейте, читатели, а я
для вашего удовольствия еще вытащу бадью».
Без наблюдательности, без проницательности нет критики. Отвечает
ли этому требованию г. Волжский? Да. Этих сотен страниц и невозможно
было бы написать, если бы автор не испытывал своеобразного пафоса в
наслаждении угадывать, находить и формулировать содержание чужой
души. Как в медицине артистическая часть содержится в «диагнозе» болез-
ней, так критик испытывает артистическое наслаждение не только «вычер-
пнуть бадью» из чужого колодца, но и дать верный и точный до непоправи-
мости анализ и наименование вычерпнутого. В этом отношении особенно
интересна в книге г. Волжского статья «Об уединении в поэзии и филосо-
фии современного модернизма», посвященная декадентству и вообще «но-
вому искусству».
* «Имеют свою судьбу» (лат.).
45
ЕВАНГЕЛИЕ ВНЕ ЦЕРКВИ*
...Исторический Иисус не всегда становился
Спасителем, а Спаситель, в Которого верят,
вселяясь в душу людей, владычествует над миром.
Людям гораздо доступнее Христос, живущий
в их сердцах, чем Тот, о Котором они читают.
В этом-то заключается великая тайна вечной
силы Спасителя. Мы читаем в Евангелии,
что Христос не всегда в одном и том же
образе являлся людям; из этого следует,
что каждый должен искать своего Спасителя.
Если мы только любим Его и верим в Него —
это и есть настоящий Христос.
П. Розеггер
Длинный этот эпиграф, стоящий последними строками во введении, содер-
жит самое зерно той философской и религиозной мысли, какая положена в
основание книги, только что переведенной на русский язык. От нее нельзя
оторваться, а прочитывается она (406 стр.) в один день... Вот как она про-
изошла. Сирота-мальчик, по ремеслу столяр, переходя от хозяина к хозяину
и из города в город, превращается в юношу и в эти-то горячие годы попадает
в Гамбург, где сближается с каким-то социалистическим кружком.
Юноше, почти мальчику, впечатлительному, доброму, нежному, при-
шлось участвовать в выемке жребия при задуманном и решенном покуше-
нии на жизнь канцлера. Ему и в голову не приходило, чтобы жребий выпал
именно ему. Он ничего не помнил: как дали ему револьвер, указали место,
дали знак... Покушение совершилось; канцлер был тяжело ранен, и случи-
лось так, что телеграфное известие о его безнадежном положении разнес-
лось в тот самый день, когда присяжные вынесли свой приговор юноше,
неинтеллигентному, очевидно попавшему, «как курица», в какой-то «чужой
суп». Присяжные ожесточились и приговорили его к смертной казни. Книга
открывается зрелищем, как из здания суда провозят осужденного мимо на-
родной толпы. В ней несутся первобытные речи:
— Куда мы бежим? Ведь сегодня, во всяком случае, приговор не будет при-
веден в исполнение. О дне казни объявят в газетах.
— Что ты выдумал? Уверяю тебя, что только почетные гости будут пригла-
шены на это зрелище. Уж прошли времена публичных казней. Народ теперь
отодвинут на задний план.
Дети и дикари!.. Сидя между двумя жандармами с ружьями, осужден-
ный жмется, чтобы не стеснить... И вот он в своей одиночке. Он весь дро-
жит. Следует чудное рассуждение о смертной казни:
♦ И. Н. Ц. И. Благая весть грешника. П. Розеггера. СПб., 1906. Изд. А. С. Суво-
рина.
46
Я хотел совершить убийство, а они говорят, что подобное намерение рав-
няется преступлению. Разве не сказано: жизнь за жизнь? Об этом говорится и в
Священном Писании. Но только это одно говорится, — ничего больше! Пусть
они возьмут мою жизнь нечаянно, внезапно, как и я хотел сделать. Поступать
иначе несправедливо! Неужели только малодушие заставляет меня так бояться?
Этот ужас... О таком смертельном страхе не упоминается в Писании. Ведь те,
которые меня осудили сегодня, тоже люди. Разве они не понимают, что приго-
вор мой произнесен не один, а тысячу раз. Зачем же я живу, если они лишили
меня жизни три часа тому назад? Один удар в спину — и все было бы кончено!
Неужели у них нет настолько милосердия!.. Сегодня в суде кто-то сказал, что я
обязан искупить свой грех. Господи, я сознаю, что я должен умереть, но это уже
их преступление, что они тот же час не казнили меня...
Глубокая истина: ужас смерти неизмеримо, несравнимо больнее, чудо-
вищнее, нежели физическая смерть. И более страшного, чем «смертная казнь
по суду», во всей ее тяжелой и медлительной арматуре, не существует ниче-
го. Два-три дня между приговором и казнью сокращаются в «последние сут-
ки», сутки в часы, все — медленно, как машина, и неостановимо, как солн-
це... И вот последний час: но и он высыхает, сжимается, четверть часа, де-
сять минут, три минуты, одна минута... конечно, уж если быть смертной
казни, ей быть моментально после суда...
Входит священник. Осужденный — Конрад Ферлейтнер — отказался от
исповеди, но не отказался от беседы. Тут является то, вследствие чего раз-
бор этой книги мы хотели бы озаглавить: «Евангелие вне церкви». Это —
какое-то глубокое и новое влечение к Евангелию, но тщательно берегущее-
ся всякого прикосновения к стенам церковным. Немного лет назад была пе-
реведена на русский язык почти такая же даровитая, пылкая книга, как и
лежащая сейчас перед нами: «История детской души», г-жи Корелли (анг-
личанки). Она также проникнута любовью к Евангелию и разрывом с цер-
ковною традициею. Итак, к Конраду входит священник. Заключенный, нео-
хотно ведя беседу, кончает просьбою прислать ему Евангелие:
— Вы желаете получить Евангелие?
— Да, у моей матери была эта книга. Она ее часто читала и объясняла мне.
Если бы я мог получить ее теперь, мне стало бы легче.
— Вот что я скажу вам, мой друг. Нет книги лучше Евангелия, недаром она
называется Благою Вестью...
— Да, я это знаю. Я теперь как раз и нуждаюсь в этом...
— Но эту Весть надо уразуметь. Странное дело: из десяти человек, читаю-
щих Евангелие, понимает его лишь один, да и то не совсем верно. Это слишком
божественная книга, в которую надо глубоко вдумываться; ведь сказано же, что
на нее наложено семь печатей. Ее должны толковать сведущие люди. Некото-
рые места я с удовольствием прочту с вами, а пока я вам пришлю для поучения
другие книги, из которых вы также можете почерпнуть мир и утешение.
Конрад закрыл лицо руками.
— Вы больной, а я врач, — кончил священник. — Я лучше знаю, чем по-
мочь страждущему. С помощью тех книг вы в то же время можете приготовить-
ся и к покаянию...
47
Вот эта-то тупость и отталкивает... «Возьми нашу семинарию: на дне
ее лежит и Евангелие, которое ты в таком случае правильно поймешь, и не
впадешь в ересь: а то накануне смерти ты, пожалуй, объявишься еретиком».
И ни секунды мысли об этом осужденном, о читателе, о человеке! Час спус-
тя к Конраду внесли в его «№ 19» кипу книг. Это были молитвенники и
несколько поучительных рассуждений. Страницы, на которых особенно дол-
жен был остановиться заключенный, были заложены полосками бумаги. Но,
увы, в этих местах именно говорилось о том, чего уже не в силах была выно-
сить и без того душа юноши: о смерти и приготовлении к ней. Тут были
покаянные молитвы и «отходные».
Он просмотрел все книги, принимался читать то одну, то другую, но вскоре
с грустью отложил их. Еще усерднее стал он напрягать свою память, чтобы вос-
кресить картины детства, при словах о котором на минуту забылся в разговоре с
тюремщиком. Покойная мать особенно живо представлялась ему: она будто вста-
ла из могилы, чтобы ободрить своего несчастного сына. Ее облик, слова, песни,
ее рассказы о земной жизни Христа наполняли миром душу заключенного. Он
понял, что Бог еще не совсем его оставил. Ведь несколько часов тому назад
отчаяние доводило его до исступления, а как только начали воскресать милые
тени прошлого, из глаз его полились слезы, облегчившие его исстрадавшееся
сердце. Всю ночь он не мог заснуть. То молился, то мечтал. Но вдруг им опять
овладел прежний ужас, и тело его начинало дрожать, как в лихорадке...
Вот новая почва, через которую многие хотят сблизиться с Христом,
отодвигая старую почву священника служебных ритуалов и церковных книг:
детство, свое детство, семья своя, родная мать; дом и местность, где все это,
невозвратное, протекло...
И в тюрьму светит звездочка. Конрад, привлекавший к себе молодостью
и кротким характером, получил лучшую камеру. Окно было очень высоко
над полом, и в него виднелся уголок неба, — о, крошечный, но голубой,
воздушный. В этом-то уголке показывалась в час ночи золотая звездочка и
медленно проползала аршин видимого пространства. Как следил за нею Кон-
рад! В последнюю ночь ему опять привиделась покойная мать.
На ней было праздничное платье, в котором она ходила причащаться. С ней
был еще кто-то. Она подошла к жалкому ложу сына и сказала:
— Конрад, я привела к тебе хорошего знакомого.
Когда узник протянул к ней руку, она исчезла. Но среди темной камеры
стоял Господь Иисус Христос в белом одеянии. Его длинные волосы спуска-
лись на плечи, а сияющий лик был обращен к Конраду.
Видение прошло и кончилось. Душа Конрада страшно потрясена. Он
вскочил в темноте, не понимая, что случилось.
— О, небесное видение, я никогда тебя не забуду!
В вечер этой ночи его посетил председатель суда, тот самый, который
был так суров во время самого суда.
48
Он был членом маленького тюремного общества, поставившего зада-
чею всячески заботиться о приговоренных к смерти. Он принес ему извес-
тие, что на имя короля пошла просьба о помиловании его, Ферлейтнера, и что
еще не все потеряно, «может быть»... В этом «может быть» ему придется
провести три недели, не меньше: и, может быть, он в чем-нибудь нуждает-
ся? Конрад, который и в детстве любил бумагомаранье, — ибо всегда при
этом чувствовал, что мысли его проясняются, — спросил бумаги и перьев, и
они ему были доставлены. И вот мы застаем его после видения.
Осужденный, едва замерцал свет в решетку тюрьмы, схватился за перо,
начал писать книгу о земной жизни Иисуса. Письмо первоначально преры-
валось притчами возвращавшегося ужаса. Но работа успокаивала, выправ-
ляла нервы. Он приучился целыми часами не отрываться от бумаги, глаза
его горели, щеки пылали. Он путешествовал теперь с Младенцем-Христом
и его Матерью в Египет, с его старым Серапеумом; он как бы вот воочию
видел Мальчика-Христа, произносящего перед изумленными книжниками
удивительные речи в храме... Вот вблизи Ханаан; заходя, появляются на
иерусалимских улицах бедуины и индусские факиры... И все удивительные
легенды, в Евангелие не вписанные, но сохранившиеся в апокрифах, те ле-
генды, которые из этих темных книг проникли в народный говор, бродят по
улицам, и их слышала в своем детстве его мать и передала их сыну, как
знала и как верила, — все это попадает в его трогательную книгу:
Оторвавшись на минуту от своих видений, он испытывал только легкую
грусть: это уже не было прежнее отчаяние. Он умел теперь справляться с ним.
Все дальше и дальше писал он, не спрашивая себя, изображает ли он Христа
так, как о Нем говорит Писание. Это был его Спаситель, — его, Конрада, дитяти
своей матери, — и на Него он надеялся всей душой. Великая мировая истина
подтвердилась на грешнике.
Следуют слова, центральная мысль книги, которую мы взяли в эпигра-
фе, — и которые читателю нужно перечитать еще сейчас. Когда кипа листов
была исписана и вместе совсем уже близко пододвинулся роковой день, —
«бедный грешник» подумал, как же ему назвать труд, произошедший в столь
необыкновенных обстоятельствах. Он подошел к столу и на заглавном лис-
те написал просто:
И. Н. Ц. И.
Так произошла эта книга, от которой трудно оторваться... Я недавно
читал Ренана: до чего это сухо, бедно... А написал тоже ведь мастер с по-
пытками на нежность и грацию... Иногда кажется, что Христос пришел не
для этих смуглых, жестких и вертлявых кельтов, но вот для этой русоволо-
сой страны Гретхен, Фаустов и Гёте, для их Гумбольдтов и Шиллеров, их
мудрости и способности к энтузиазму.
Но что же с Ферлейтнером? Автор придумал изумительный по остро-
умию конец... Прошло три недели, и в камеру осужденного опять зашел
священник. «Вы меня не зовете, но я сам зашел». Он увидел рукопись, по-
49
просил ее для прочтения. С грустью Конрад смотрел, что у него берут эти
листы, с которыми он был так счастлив; и необъяснимо прежние мука и
страх стали подыматься в нем. На другой день священник вошел очень до-
вольный:
— Знаете, это можно издать для бедных, для ночлежных приютов. Но
как назвать?
— Мне все равно, — ответил Конрад. Между тем пришел роковой отказ
в помиловании: канцлер умер. Все правила тюрьмы смягчились для «греш-
ника». В одно утро, размахивая рукописью, входит к нему сияющий свя-
щенник.
Думая, что вышло помилование, Конрад вскочил с соломы.
— Благая Весть! Благая Весть!
Кровь ударила в голову.
— Значит, помилование?
— Я придумал заглавие. Мы назовем книгу: «И. Н. Ц. И., благая весть
бедного грешника».
Конрад зашатался и оперся на стену.
Вышло полное недоразумение. Смену неописуемой радости и опять ле-
дяного ужаса не вынес хрупкий, надорванный организм. Подавая кружку с
водой, священник увидел, что губы узника остаются крепко сжаты, а глаза
сделались стеклянными. Подошел сторож.
— Так хорошо. Так лучше. Боже, как велико твое милосердие!
Угрюмый и казавшийся злым для заключенных старик тюремщик был в
сущности добрее и священника этого, и судьи.
Священник, захватив рукопись, пошел к выходу. В коридоре он встре-
тил судью, медленно выступавшего. Подойдя к нему, судья сказал:
— Вам, к сожалению, придется провести тяжелую ночь. Преступнику
Ферлейтнеру потребуется священник. В шесть часов утра он будет казнен.
— Преступник Конрад Ферлейтнер не нуждается более ни в священни-
ке, ни в судье. Он помилован.
ВОПРОСЫ СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ
(По поводу двух новых брошюр г-жи Н. Жаринцевой)
I
Нет семьи, — не только русской, но и немецкой, французской, английской
вообще европейской, — которая безусловно про себя не томилась бы одним
вопросом: как уберечь чистоту подрастающих детей, как предохранить их,
и особенно начиная со школьного возраста, когда ребенок впервые вступает
в товарищество со сверстниками из семей самого разнообразного нравствен-
50
ного склада, от разговоров, шуток, остроумия около интимных сторон се-
мьи, от соблазнительных намеков, разъяснений и безграничной игры вооб-
ражения, начинающейся отсюда? Все здесь скрытно и потому не контроли-
руемо для родителей и воспитателей, все управляется, именно в детском
или отроческом возрасте, одним исключительным мотивом: «сладко» и
«ново». Вот почему с необыкновенной энергией и быстротой вслед за пер-
вым же, иногда очень ранним «ознакомлением» наступает для несчастных
детей какое-то «Монте-Карло» чувственности, рулетка грязных картин и слов,
где не руководимый никем, кроме развратившихся ранее его товарищей,
мальчик 9—11—13 лет проигрывает «все свое состояние» раньше, чем в
действительности успел получить его. Горе родителей при этом неописуе-
мо. По разным признакам они видят, что какой-то вор уносит душу, силы,
здоровье их ребенка, и не смеют назвать по имени этого вора, закричать о
воровстве, закричать самому мальчику или девочке (оне совершенно так же
мало защищены, как и мальчики); наконец, даже не могут вслух попросить
помощи, совета друг у друга. Папаши, занятые службою, еще остаются спо-
койнее при этом: «как-нибудь обломается дело». Но ведь это спокойствие
человека, который не смотрит на пожар, а не спокойствие того, у кого пожа-
ра нет. Напротив, мать, естественно стоящая ближе к детям, имеющая детс-
кий мир своею специальною сферою, томится невыразимым томлением.
Не женщина любви нас учит,
А первый пакостный роман, —
вздохнул еще Пушкин глубоким вздохом. Ведь существует целая детская
развратная литература, «распространяемая, на правах рукописи» и даже «ус-
тного предания»... Не все ли равно, в каком виде? Она все равно действует.
Существует быт развратный в этих глухих, потайных товариществах, в этих
шепотах пансионных спален, в тихих разговорах классов. Да и вовсе не ти-
хих: это «тихо» на глазах надзирателя и учителя, но едва он скрылся из глаз,
как юноши и отроки вознаграждают себя за временную, вынужденную скром-
ность такими словечками «вслух», что у родителей и воспитателей душа бы
перевернулась, если бы они услышали. Вздох Пушкина об отвратительном
способе «первого ознакомления» не получил бы себе ответа, но нужно было
появиться Толстому и его могущественной «Крейцеровой сонате», чтобы
расшевелить вообще весь половой вопрос. Незамечено для читателей, он
его коснулся еще в «Детстве и отрочестве», коснулся и в «Смерти Ивана
Ильича», опять незамечено. С невыразимою болью он говорит в первом
произведении о «нечистых уединениях» маленького Коли: во втором — о
«несчастном гимназисте», сыне Ивана Ильича, «с темными кругами все»,
— «этим все они страдают, все, все»... Какая боль любящего отца клокочет
под этими словами. Но они так кратки! «Кто же об этом говорит много?»
Имущество наше горит, но таким позорным способом, что невозможно ска-
зать об этом. Представьте, ребенок ваш упал не в пруд или реку, а в клоаку:
и «клоака» была бы нецензурным словом. «Нельзя ни полиции сказать, ни
51
соседу закричать, что ребенок захлебывается: ибо как объяснить, чем он
захлебывается»... Ужасное положение!
Но ведь это горе не семьи, а нации! Ведь гибнет энергия и свежесть
завтрашнего поколения. Ведь Толстой же говорит: «у всех это горе».
Года три назад я посетил Толстого, не без мысли обратить могущество
его нравственного авторитета, могущество безукоризненной личной жизни
на упрочение единственного способа остановить застарелый и не поддаю-
щийся никаким усилиям ужас и грех убийства детей своими матерями-де-
вушками и матерями-вдовами. Конечно, секрет заключается в том, если бы
таковые чувствовали себя в таком же нормальном положении и нравствен-
но удовлетворительном стоянии души, как и замужние женщины; а секрет
этого уравновешенного состояния души зависит просто от очень высокой
санкции безукоризненно-нравственного авторитета, каковым может быть не
непременно авторитет государства или духовенства, но, например, одного
человека или группы людей, как Толстой, или приблизительно, как Толстой.
Все это мне хотелось сказать, ему именно лично, т. е. почему он, классичес-
кий семьянин, не покажет пример, в лице детей своих и судьбы их, лучшего,
менее формального — более любящего, устроения брака? Щекотливое чув-
ство, однако, помешало мне сказать ему полными словами это предложе-
ние; но добрый граф и сам догадался о мучившем меня вопросе и рассказал,
применительно именно к себе и своей семье, мысли, совершенно удовлет-
ворительные. Лишь на несколько минут задержался он на мысли, что в от-
ношениях между полами есть что-то «нечистое», в смысле именно «нечис-
топлотности», и вероятной поэтому религиозной неодобрительности.
— Как же, граф: это есть просто застенчивость природы, и кажущаяся
нечистоплотность и антипатичность — орудия этой застенчивости. Приро-
да не хочет, чтобы этого касались в ненужное время, чтобы это бередили,
поминутно заглядывая и пошличая здесь. Как же закрыть? где покровы? В
области такой страсти железные засовы не помогут. Природа и употребила
средства, гораздо могущественнее железа, замков, угроз или страданий: за-
волокла все в одеяло всемирно-отвратительное, непроницаемо-гнусное, о
чем прекращены речи, невозможно слово, а только мысль. Мысль-то есть у
всех... Всем нравится и всем хочется, но никто не говорит: то есть никто
ранее времени и нужды и не манится. Ну, а когда пришла нужда и подошел
срок, то ведь ничуть и никто уже ни отвратительным, ни гнусным не нахо-
дит, не ощущает. Таким образом, здесь напутали философы и религиозные
мистики, не разгадав одного из самых чудных приспособлений природы в
целях защиты и охранения ее нежнейших и глубочайших движений, фено-
менов и существ (дети, все рождаемое).
Он со мною согласился и объяснил, что знаменитое «послесловие» к
«Крейцеровой сонате» написал в педагогических целях, что, так сказать,
хотел послужить той же цели, сбережения в природе и особенно у людей ее
драгоценнейших механизмов и процессов. «Разумеется, род человеческий
не перестанет размножаться, и с этой стороны советы мои не могли принес-
52
ти ему вреда: но советы мои, и чем резче выражаться, тем лучше, должны
были породить... если хотите, то же чувство гнусности, которым и природа
оберегает себя от несвоевременных и вообще вредных касаний и береже-
ния».
Эту педагогическую и гигиеническую подкладку «Крейцеровой сона-
ты» и я, конечно, высочайше одобрял: хотя и выразил бы ее прямо, без ухищ-
ренной философии и хотя бы словесной (не сердечной) неправды.
— Но мне отвратительно, — заговорил он, — что, точно по барабану,
девушка и юноша должны сейчас же после венца, или вообще совершают
вот тут и теперь, этот величайший акт, который никак не может быть по
барабану и сейчас. Мое отвращение ко всему этому способу любви, к нача-
лу семьи и было главным или одним из главных мотивов «Крейцеровой со-
наты». Вовсе это ни для чего не нужно. Пусть венчание будет только знаком,
что они отныне муж и жена, что они имеют физическое право дру1 на ^руга.
А осуществить его... пусть это совершится в обстановке и психологии соот-
ветствующей: в минуты особенного прилива дружбы и нежности. Когда это
совершится — их двоих дело, и ни государству, ни обществу, ни закону тут
не для чего совать нос. Они будут иметь детей, или вправе их иметь — вот
все, что нужно и можно знать обществу и закону.
Это превосходная мысль. Она тянет к поэтизации брака, из тех ужасных
«задворков», из грубости и неодухотворенности, в каких сейчас он протека-
ет, и особенно протекает его пресловутый «медовый месяц» (какое сильное,
с улыбочками название). Разумеется, слияние полов есть только физическая
сторона величайшего слияния душ, абсолютной друг к другу доверчивости,
уважения и проч. Как мы не знаем «души» без тела, и знаем живое тело
только «одушевляемым», т. е. проницаемым «душевностью», так величай-
шее напряжение дружбы, уважения, идеализации друг друга, вся эта «душа»
взаимных отношений, «археи» (схоластический термин) обоюдности полу-
чает себе «тело» и «оболочку» в слиянности полов. Единственное физичес-
кое слияние двух, какое мы знаем. Таким образом, телесный брак есть, ко-
нечно, только отражение уже совершившегося душевного брака, сочетания
душ: без этого он немыслим, преступен и уродлив.
Но мысль Толстого к чему же ведет? Да к тому, что и я всегда говорил,
что любовь = браку, и обратно; и что чем менее здесь вмешиваются громозд-
кие институты закона и духовного авторитета, тем лучше и идеальнее все
совершается. Так, собственно, в ранние века истории и было; так было и у
христиан до эдиктов Льва VI Философа и Алексея Комнена, в X и XI веках:
брак и семья оставались специально частным институтом; новая семья за-
рождалась в ячейке старой, родительской семьи. Общество участвовало (а
могло и не призываться и не участвовать) здесь только в праздник, участво-
вало сочувствием и нисколько не авторитетом. Отсюда развились и были
живы до новейших узаконений обширные народные брачные обычаи. Все
было весело, пока не пришла полиция, гражданская и аскетическая. Аскет и
губернатор все взяли в свои руки, «для урегулирования», «для правильнос-
53
ти и порядка». И... амур задохся в их жестких руках. Браки теперь ведь
почти совершаются и без любви, и без уважения. Все об этом знают: но вина
этого — не в людях, которые вечно любили и будут любить, а единственно в
жестких рукавицах, которым никакого до любви дела нет, ничего они в люб-
ви не понимают, судят не по любви, сообразуются не с любовью, а с каким-
то гнусным своим «авторитетом» и «престижем», да еще с вечным оскоп-
ляющим мотивом. Любовь встала на дыбы; «авторитеты» встали тоже на
дыбы. Их ошибка — вот — есть текущий момент семьи. Толстой говорил,
или из слов его следовало, что «авторитетам» просто надо отойти в сторону.
Что семья уляжется, нравы успокоятся и, бесспорно, величайте очистятся —•
как только все потечет в семье «сообразно с любовью», т. е. сообразно с
искренним, чистосердечным чувством, уважением и идеализациею друг
друга. А где дух умер, — что оживляет тело? Зачем делать «симуляцию»
дыхания в нем, искусственно вытягивать из легких и нагнетать в легкие воз-
дух?! Симуляция, идолы, обман — вот что мы имеем на месте брака.
Все это само собою из слов его следовало, и я выразил ему мой тезис:
— Всякий раз, когда физическое соединение протекает без излишеств и
когда оно есть выражение идеальных друг к другу отношений, оно однако
же безгрешно? И притом безразлично, будет ли совершаться с соблюдением
или без соблюдения внешних, требуемых обществом или государством форм?
— Конечно, безгрешно и свято. — Последние слова я определенно за-
помнил и привожу их ввиду того, что во множестве случаев литераторы рус-
ские (напр., Н.М. Минский и архимандрит Михаил, в докладах и прениях на
бывших религиозно-философских собраниях в Петербурге) предполагали
пропасть между воззрениями Толстого на брак и между моими воззрениями
на тот же предмет. «Все скверно — учит Толстой; и все свято — учит Роза-
нов». Добавлю, что не только Толстой не расходится с воззрением: «все свя-
то в соединении полов, когда есть любовь», — но то же высказал в статьях
своих и прениях и архимандрит Михаил, и более определенно, с указанием
на любовь, как единственную и вполне достаточную санкцию физического
соединения полов, высказали два выдающиеся профессора Московской ду-
ховной академии, в статьях за этот 1905 г. в «Богословском Вестнике». Так
называемая «свободная любовь», но идеально понятая и воспринятая, или,
что то же — брак, как индивидуальное дело двух любящих существ, — можно
сказать, одержал победу не только философскую, но и богословскую, т.е. он
одержал победу в недрах самой церкви. И только об этом пока еще не «зво-
нили колокола», т. е. все это мало известно, пишется в ученых статьях, и не
получило популяризации. Может быть, однако, строки эти сыграют роль
такой популяризации.
Из замечаний Толстого приведу еще следующее, сказанное на мои раз-
мышления о детоубийстве:
— Ведь не нужно, чтобы дитя убивалось. Все делается гораздо проще и
благовиднее, а ужас тот же. Дитя в первые дни жизни умрет, если ему не
оказать энергических и неусыпных забот. Достаточно, если молоко не све-
54
жее — и желудок не переваривает, и оно умирает с голоду. Скублинская или
другие детоубийцы нимало не вынуждены душить детей. Это опасно. Про-
сто дают не очень свежего молока или не дезинфицируют соску, и дитя по-
гибает, как задушенное крупом или скарлатиной. Всякий это знает, и «фаб-
рикация ангелов» происходит «на законном основании».
Ясно, что одно средство уничтожить эту «фабрикацию» лежит в унич-
тожении стыда рождения. Толстой вполне выразил, что ни в каких случаях и
никогда этого стыда не должно происходить. Он догадался тут и о моем
безмолвном вопросе и сказал, в деликатных и тонких словах, что никогда не
взял бы на себя осудить кого-нибудь из нисходящего потомства своего, если
бы один из его членов родил младенца без соблюдения предварительных
общепринятых формальностей вступления в брак.
Дай Бог нам поскорее отойти от форм: ибо они мешают заняться сущ-
ностями! Посмотрите, сколько забот об «окликах», «предварительном го-
веньи» и пр. Все заботы — об одной форме! Законодатели, священники
только на это и смотрят. Ну, а дурная болезнь — чья забота? «Не наша», —
говорят законоведы-канонисты: «не наша», — вторит духовенство. «А что
любовь исчезла из семьи? Что детоубийство — хроника каждой улицы?» —
«И это не наше дело», — вторят те же авгуры. Мне кажется, всем смыс-
лящим людям пора начать так же мало обращать внимания на формы, как
те не обращают внимания на сущности, и заняться этими сущностями. По
крайней мере произойдет «разделение труда» и, вероятно, выигрыш циви-
лизации. Пусть общество любит, рождает, гонит неистово проституцию,
сводит с лица земли детоубийство: а законодатели и духовенство пусть дер-
жат на руках разогнутые томы «Свода законов» и «метрических книг». Оба
будут довольны.
II
Один из реальных вопросов семьи: как предохранить детей от порчи через
разговоры и объяснения с прислугою и испорченными товарищами? Все
сознают, что кем-то «объяснения» должны быть сделаны, будут сделаны.
Но из серьезных и нравственных людей никто не берется или, по крайней
мере, не брался за это из страха к «той грязной оболочке», в которую, по
замечанию Толстого, обернуто все дело, обернута великая тайна появления
живых существ на землю. До чего рано эти вопросы представляются детям,
можно видеть из ходячих ответов, даваемых им: «ребенка аист приносит»,
«он найден под листом капусты». Вообще, что он взялся откуда-то со сторо-
ны в дом, принесен извне; что он дому этому, и в том числе спрашивающим
детям, — не родной, а чужой, не един с ними в происхождении, а разобщен.
Ужасное объяснение, если в него вдуматься: ибо оно отвергает и стыдится
родства всех вещей, ставит холод на место теплоты, не говоря уже о том, что
ставит ложь на место истины, и, можем добавить — на место дорогой исти-
ны. Можно было предвидеть, что именно матери семейств, которым счастье
55
и целомудрие детей всего ближе, рано или поздно прорвут эту цепь лжи; из
страха, из справедливого ужаса перед «товарищескими» и иногда даже ла-
кейскими объяснениями — воскликнут: «Нет, мы лучше сами расскажем
нашим детям! Будет трудно, не знаем, как взяться за дело, но будем искать и
найдем средства, слова, отыщем подходящее время».
Когда, года четыре назад, ко мне обратилась с письмом отца мать семей-
ства, спрашивая в нем, не могу ли я указать ей какую-нибудь книгу или жур-
нальную статью, где содержался бы ответ на вопрос, как, обегая духовного
заражения, знакомить детей с происхождением живых существ, — призна-
юсь, я растерялся. Она рассказывала в письме, что у нее сын 13 лет, и что
она находится в величайшем страхе за очевидно близкое уже «объяснение»,
и не отдает его в гимназию, а занимается с ним дома сама, страшась именно
развращающего действия товарищей. Признаюсь, я был поражен совершен-
ною невозможностью для матери сказать это. Размышляя, однако, о вопро-
се, я пришел к выводу, что ведь все затруднение происходит собственно от
того, что, начиная объяснять — невольно почувствуешь беспокойство, сму-
щение, неловкость. Почему однако? Да уже возраст не тот: 13 лет не невин-
ное детство, не рай «неведения», когда по Библии «были наги и не стыди-
лись». Как ни чудовищным казался следующий шаг моих размышлений, —-
я должен был его сделать: «объяснение» нужно передвинуть к более ранне-
му возрасту, когда нет и самых предчувствий, самой возможности собствен-
ных волнений ребенка. Когда взрослый человек, в его очах, есть только боль-
шая кукла, как и в куколках своих он чувствует живых и настоящих малень-
ких людей. Вот в этом возрасте полной еще невинности, полного покоя соб-
ственного организма, и следует в серьезных и торжественных словах как бы
разъяснить мысль Божию в чудном происхождении живых тварей, разъяс-
нить ее, как мать объясняет ему, приблизительно и обобщая, движение звезд,
устройство мира, устройство жизни. Пусть это будет отделом детской кос-
мологии и религии. Частичка-то «закона Божия» ведь тут несомненно есть.
Затем все эти объяснения, как доброе зернышко, запорошится землицей заб-
вения — но до времени. Все сохранится, как ведение, нимало младенца не
развратившее, но ему со временем имеющее понадобиться. Я упомянул о
торжественных и важных словах, о «законе Божием». В 13—14 лет, когда
впервые пробудятся в ребенке возможности собственных волнений, он и
взглянет торжественным, а не смеющимся, не рулеточным взглядом на весь
этот мир, откуда, он уже знает это, зародится его собственная семья, вырас-
тут его собственные дети. Он знает, что сам есть хозяин великого капитала*
что все из него потерянное — невозвратимо; что он будет всю жизнь жить
этим капиталом, и чем бережнее будет его тратить, тем обеспеченнее будет в
старости. Во всяком случае пошлые «объяснения» товарищей он оттолкнет
с грубостью, как если бы они оскорбили его мать, его сестер, отца1.
1 Все эти мысли мною изложены во 2-м томе «Семейного вопроса в России»
стр. 304—305, где анонимно приведено и письмо обратившейся ко мне с вопросом
матери.
56
Наконец, известная переводчица Джерома К. Джерома, г-жа Н. Жарин-
цева, взялась за разрешение трудного вопроса. С большой жадностью я про-
бежал две ее книжки, составляющие первую и вторую «части» одного тру-
да: 1) «Объяснение полового вопроса детям. Письмо к некоторым русским
родителям» и 2) «Как все на свете рождается. Письмо к детям». Написанные
превосходным языком, с великой любовью к детям, с глубокой нежностью к
семье не только у человека, но к семье у птиц, у животных, — книжки эти
неодолимо поселяют во всяком читающем, и в том числе в детях, чувство
отвращения ко всякой шутке в этой серьезнейшей области. Невозможно не
заметить, до какой степени, к позору самих взрослых мужчин, отцов семей-
ства и пр., распространена у нас в мелькающих, небрежных разговорах веч-
ная «порнография», вечный цинизм анекдотов и остроумия. Можно поду-
мать, что это какие-то «не помнящие родства» Ваньки — эти статские и
действительные статские советники, чуть не «отцы народа», если уж не «отцы
отечества». «Простонародье наше глубоко чтит родство (остаток язычества?),
считает исчезающие степени родства, помнит «сватьев», «свояка» и «своя-
ченицу», «деверьев», «золовок», — слова, самый смысл которых уже не ясен
для образованных людей, для которых и факт и понятие родства исчерпыва-
ется связью детей и родителей, братьев и сестер, дядей и племянников, и
здесь обрывается». «По прекрасному и удивительному закону великой при-
роды, каждое живое существо в нашем мире происходит из частички тела
наших родителей. Этому закону подчинено все: начиная от простой травки,
микроскопической инфузории, мошки, рыбы, ласточки, белки и кончая ду-
бом, крокодилом, орлом, аистом, львом и человеком. Природа велела каждо-
му существу продолжать свой род, и он продолжается из года в год, все дальше
и дальше; и все его дети, правнуки и потомки остаются похожими одни на
других и принадлежат к одному семейству. Если бы у природы не было ве-
ликой заботы о нас всех, то все существа на земле были бы чужими друг
другу, не родными, не похожими; не было бы определенных пород цветов и
фруктов; не было бы муравейников с их удивительным устройством; не было
бы пчелиных ульев; не было бы стад с барашками, жеребятами и телятами;
в общем, не было бы всего того чувства любви и заботы, которое нам всем
знакомо и радостно; мы все, все были бы чужие друг другу: каждый стоял
бы один (курс, авт.) в мире... Даже жутко себе представить, не правда ли?»
(стр.1).
Хороший урок аскетам; хорошая программа для размышлений и тракта-
тов о сущности и истории монашества.
Всякое слово, исходящее из уст матери, для ребенка 7—6 лет священ-
но. Ею приведены в «Письме к родителям» буквальные разговоры, в каких
она делала разъяснения собственному сыну. Замечательно, что, узнавая тай-
ну рождения, узнавая о том, что когда-то он с матерью составлял одно, один
организм, питался ее кровью и дышал «через ниточку» (пуповина) внутри
ее тела, мальчик говорил: «Как хорошо это», «Как, мама, я тебя люблю те-
перь». Конечно, малютке есть более причин смотреть на мать благоговей-
57
но, зная, что та была для него «домиком», нежели как если бы он продол-
жал думать, что в дом мамы он принесен нянею, нашедшею его «под лис-
том капусты на огороде». Глупые разъяснения; глупые, да и холодные, без-
нравственные.
III
Автор в «Письме к некоторым русским родителям» рассказывает, что в Ан-
глии и Америке существует уже целая литература о способах серьезного
ознакомления малолетних детей с биологическим вопросом и что в лучших
школах, закрытых и открытых, на это обращено самое серьезное внимание,
причем учителя и учительницы идут совместно с родителями и принимают
на себя труд объяснений в том случае, если родители решительно отказыва-
ются от этого. «Но надо прибавить, — говорит г-жа Жаринцева, — что про-
цент таких родителей здесь крайне мал, и, например, воспитателям в Би-
дэльской школе приходится в большинстве случаев только поддерживать в
отдельных разговорах с детьми те серьезные и чистые требования к себе и
другим, которые уже заложены в их душу разумными родителями».
Попутно автором рассеяно много замечаний, касающихся уже семьи
взрослых. Все же в них сказалась женщина, которая при рассуждении о
вопросе держит в уме только нить этого вопроса, не желая знать, что в жиз-
ни мы имеем всегда перед собою не нить, а кружево, сплетение нитей. Вслед
за Толстым она повторяет требование, что в течение 9 месяцев беременно-
сти и 9 месяцев кормления ребенка — мать семейства «неприкосновенна».
Помню, в полемике, ведшейся против меня в «Русск. Труде», г. Шарапов
тоже повторял со ссылкой на докторов, с которыми едва ли он советовался
перед изложением своих теорий. И Толстой, и Жаринцева, и Шарапов не
подозревают, что именно это суеверие сделало обычным и непременным
при полном здоровье матери и способности к кормлению своего ребенка
наем кормилицы, причем собственный ребенок бедной крестьянки-матери
нередко, а даже чаще всего погибает. Так-то на толстовско-шараповских
советах устроилась гибель множества детей. Оба они не принимают во вни-
мание, что 18 месяцев «неприкосновенности» есть вещь возможная при
последних детях, у престарелых и хилых родителей, у вдов и вообще оди-
ночек; и это есть совершенно иллюзия, мечта, а скорей всего журнальное и
литературное притворство — у всех молодых супругов, точнее, в течение
всей супружеской жизни. «Так как эта прикосновенность вредна для ребен-
ка», то и берется кормилица. Между тем совершенно ясно, что для организ-
ма, полного сил, умеренная и постоянная «прикосновенность» есть при-
близительно такая же естественная и здоровая вещь, абсолютно ничему не
мешающая, как дыхание и кровообращение; что она, например, так же мало
вредит беременности, как занятия музыкою не вредят чтению, как пение не
вредит службе и пр., и, словом, здесь просто является многоформенность
58
жизни организма, наделенного многими органами. Говорю это не без дос-
таточных наблюдений. Прибавлю: кто не знает особенного, почти религи-
озного наслаждения матери кормить своего ребенка? Самое лицо ее в это
время делается задумчиво-прекрасным, созерцательным; она не болтает и
не шутит в это время. Но уже древние говорили и новые не опровергают,
что греки рождались особенно прекрасными, ибо беременные их матери
вечно созерцали прекрасные статуи в храмах. Связь здесь во всяком случае
есть, и уже не древние, а мы стараемся сберегать невозмущенным покой
беременных женщин, удаляем от них огорчения, обиды и пр. Вообще о чем
думает беременная, то передается каким-то несказанным путем растущему
внутри ее младенцу. Ей-ей, это не пусто! Это — важно национально. Со-
держи мы наших беременных женщин лучше, мы одержали бы победы над
японцами, у нас были бы другие генералы и распорядители Красного Кре-
ста. Все в связи, все в ужасной связи, и биология есть мать социологии или,
пожалуй, есть ее волшебствующая бабушка. Теперь, и Толстой, и Шарапов,
и все добрые читатели, оцените-ка, какие сокровища принесет с собой при-
вычка, обыкновение, почти закон, — ну, бытовой закон, — по которому
вновь беременная женщина передает дремлющему в ее утробе малютке
ежедневно, да даже через каждые 2—3 часа, все то прекрасное и дивное,
чем восхищены и Толстой, и Шарапов, и все мы в женщине, кормящей сво-
его ребенка! Экстаз ее недвижного лица и происходит от дивных грез души:
а эти грезы суть в то же время как бы предвечные сны младенца в ее утро-
бе! Родятся благороднейшие дети, гениальные дети. Пишу это не по одним
соображениям, но от того, что я расспрашивал о внутренней жизни семьи в
тех ее случаях, когда дети, иногда уже взрослые, являлись «как на подбор».
Ничего подобного чудовищным советам г. Шарапова не исполнялось: на-
против, где дети были «без искры Божией», как бы не одушевленные, чу-
жие, вялые, после расспросов я всегда убеждался, что тут-то и были прило-
жены старанья «воздержания». Тупо, мертво, якобы «спокойно» проводила
матушка 9 месяцев. Ни возбуждения, ни поэзии. Ни восторга, ни умиле-
ния! И дитя рождалось, как говорят педагоги, «на два с минусом», когда у
родителей более веселых, с уклончивой улыбкой и внутренним огоньком
они рождались — у необразованных и грубых! — на «пять с плюсом». Так-
то «человек предполагает, а Бог располагает». И торжество материнства,
великий религиозный экстаз этого чистейшего из земных состояний, и мир
ласк супружеских, этого другого счастья, где люди так доверчивы друг к
другу, так любят, так уважают один другого (вспомним слова Толстого о
сущности брака), — все это есть истинно небесная фотосфера, для окруже-
ния первых дней и месяцев, когда «из кусочка протоплазмы» образуется —
в такой короткий срок! — дивный человек. Ведь 9 месяцев для нас малы.
Известно, как время сокращается (быстрее течет) под старость, и как мед-
ленно оно ползет в детстве. Там 3—4 года — эпоха. Девять месяцев для
крошки, «для кусочка ткани», — это звездная эпоха, «цикл мирового разви-
тия», он в них проживет более, чем мы с Троянской войны до «теперь».
59
Пусть же в эту «звездную эпоху» радуются и живут свободно, живут преж-
де всего счастливо и «блаженно» его воистину «блаженные родители», эти
маленькие небожители, ласкаясь и мечтая, смотря на бегающих у ног де-
тей, на дитя — около груди матери, без замученной «в найме» сестры-кре-
стьянки, и на другое скрытое еще дитя, которое в чреве матери созерцает
это метафизическое «вчера» его собственного личного бытия, «сегодня»
его родителей...
БЫЛ ЛИ И. ХРИСТОС ЕВРЕЕМ
ПО ПЛЕМЕНИ?
Гаустон Стюарт Чемберлен. Явление Христа.
Перевод с немецкого. С.-Петербург, 1906.
Необычайный этот вопрос, который по внешним условиям печати еще год
назад не мог бы быть обсуждаем в нашей литературе, в настоящее время
свободно обсуждается в одной переводной книжке: «Явление Христа» Гау-
стона Стюарта Чемберлена, и — terribile dictu!* — в № 28 и 29 «Церковного
Вестника» ортодоксальнейшим из ортодоксальных преподавателей Петер-
бургской дух. академии и вместе протоиереем Евг. Аквилоновым. Но преж-
де всего два слова о самом вопросе и уместности его.
Положим, в официальных изданиях Евангелие переплетается вместе с
книгами Ветхого Завета, в один переплет, и на переплете этом обычно дела-
ется золотым тиснением изображение креста. Так что все имеет вид «одной
книги», «одного учения», «одного происхождения». Но если из этого пере-
плетного впечатления, лениво данного официальною властью, углубиться в
предмет, то представится множество непонятных вещей. Напр., непонятно,
отчего же Савл, до путешествия в Дамаск бывший «ревностным иудеем»,
т. е. ревнителем книг Ветхого Завета, «гнал Церковь Христову, входя в домы и
влача мужи и жены христианские и предал их в темницу», а после принятия
христианства так же точно стал гнать, но уже иудеев и весь вообще ветхоза-
ветный закон, установленный в тех книгах. Если есть «Савл» и «ап. Павел»,
если было «обращение», то как же говорить, что «Евангелие» и «книги Вет-
хого Завета» одно и то же, без перелома, без антагонизма и вражды! Про-
сто дико! Ну, тогда не нужно перелома, неоткуда взяться обращению... да и
вообще неоткуда взяться началу новой эры, нового летоисчисления!! Павел
ли не постигал, что такое книги Ветхого Завета? Павел ли не постигал, что
такое христианство? Но его преемники, без его правды, без его горячности,
все переплели «в один переплет» и благочестиво уснули, положив головку
на этот переплет и как бы никогда не раскрывая его и не вчитываясь и не
* Страшно сказать! (фр., лат.)
60
вдумываясь в страницы текста, действительно совершенно разного вначале
(Ветхий Завет) и в конце (Новый Завет).
Взволнованность, горячность, язык нетерпеливый и пламенный, сжа-
тый, грозящий или ласкающий, почти улащивающий, — вот колорит Вет-
хого Завета, даже в законодательных его частях, даже где идет дело об ар-
хитектуре (описании Скинии). Не говоря уже о пророках... И — тишина.
Это в Евангелии: такого небесного покоя, даже при изложении самых страш-
ных событий, каковы страдания Христа, такого ровного изложения, невоз-
мущенного повествования мы не найдем ни в одной человеческой книге.
Слово Евангелия вообще чудо и тайна, и почти средоточием этого чуда нужно
признать особенный тон языка; тон отношения повествователя к повеству-
емым предметам и к читателю, равного которому, параллельного с которым
мы ничего не найдем в литературах человеческих. Тут невозможно перело-
жение, Евангелие нельзя перелагать, переиначивать, сокращая или разже-
вывая: и все так называемые (учебные) «Истории Нового Завета», как и
книжки от Ренана до Фаррара, сантиментальные и мелкие, суть религиоз-
ные кощунства и художественные безвкусицы. Такого простого, кроткого,
целостного, прозрачного до дна и высокого до звезд изложения нет и не
было.
Да, но это характерно арийская речь, во всяком случае не семитическая,
не эта крикливая и патетическая, с румянцем на щеках и сверканием глаз
речь. Вот в чем дело. И Евангелие, переданное на разных языках, славянс-
ком, русском, греческом, латинском, при всей абсолютной точности перево-
дов, заимствует оттенок из духа этих языков, и на читающего ложится не
совершенно тожественным впечатлением. Например, латинская речь, с ее
повелительными герундиями и супинами на «иш», чему нет подобного в дру-
гих языках, придает и Евангелию этот сильный волевой характер, эти от-
тенки чего-то непременного в будущем. Таково влияние обволакивающего
языка. Но еще сильнее влияние строя души, например арийской или семи-
тической: и, «воплощаясь», божественный глагол — одни и те же истины —
воплотились бы иначе через семитическую кровь, темперамент, нежели че-
рез кровь и темперамент арийские.
Таков наш личный взгляд, весьма естественный. С глубоким волнением
поэтому начал я читать названное исследование Гаустона Стюарта Чембер-
лена. Но прежде всего два слова об этой маленькой, изящной, многодумной
книжке.
На протяжении немногих месяцев вот уже второй раз попадается мне
книга (первая: «И. Н. Ц. И.» Розеггера), написанная с бесконечной любовью
и благоговением ко Христу, но стоящая совершенно вне Церкви. Большое
предостережение для духовенства, не только нашего, но и лютеранского и
католического: еще немного времени пройдет, и если это духовенство не
вернется к жизни, не пропитает свое слово и все отношения свои к религи-
озным предметам личным сердечным чувством, своим личным умом, лич-
ною пытливостью и любовью, то руководство религиею общества оконча-
61
тельно будет им потеряно. Общество явно не хочет более трафаретов, не
хочет стереотипов, не хочет этих закапанных воском и замазанных деревян-
ным маслом старых поучений, где в каждой строчке сквозит «я», «я», «я»
духовенства и ни капли любви к Богу, ни луча религии.
Когда-то мне случилось войти в мастерскую золотых дел мастера: ка-
ким-то камнем, гладким и блестящим, он тер почерневшие от времени, за-
ношенные и страшно некрасивые «оклады» икон. «Оклады» (ризы) так и
вертелись в руках его; но, правда, где он почистил, выходило блестяще и
красиво. Он думал о своем камне и думал о металле. Разговаривал со мной,
рассказывал про свое мастерство, а с которого образа была снята которая
рама, и где тот храм, откуда принесен он, и что там за лица, и как молятся
этой иконе, его не интересовало. Просто — не нужно было. С этим мастеро-
вым я всегда сравниваю наших «духовных» писателей, которые так же чис-
тят оклад церковный, но только словом, а не камнем: и слово это так же
бездушно, как камень, и чувствуется, что им просто не нужны и не интерес-
ны все эти небесные вещи, которые они чистят, но уж нельзя, такое ремесло.
Таков их дух или, точнее, таков умерший в них дух, умершее вдохновение: и
как это сказывается в стиле, каком-то общем, безличном, у Ивана, как у Пет-
ра, и у всех Петров, таком же, как у всех Иванов.
Новое внимание, новый внимающий всегда найдет в предмете что-ни-
будь такое, чего раньше никто не замечал. Так, в книжке Чемберлена мы
нашли замечания, каких ни у кого не замечали. Например, приведя слова
Спасителя: «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня; ибо Я кроток и
смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго Мое благо и бремя
Мое легко», — он говорит по поводу их, что главная сила слов Христа зак-
лючается не в прямом и материальном смысле их, так сказать, — в «тексте»
их, а в каком-то побочном веянии, от них идущем, от неизъяснимой их пре-
лести, очаровании. Мы видим цветок: он мал; но далеко несется благоуха-
ние его. Вот это «далеко несущееся» всегда соприсутствует словам Христа:
«Подобно тому как звук голоса дополняет то, что мы знаем из черт лица, из
поступков человека, прибавляя что-то неуловимое, непередаваемое, самую
суть его личности, так и тут нам кажется, что в этих словах Христа мы
слышим Его голос: что Он сказал в точности, мы не знаем, но какой-то
несомненный, незабвенный звук поражает наше ухо и оттуда проникает в
сердце».
И много таких заметок, отвечающих ожиданиям религиозной души,
найдет в этой прекрасной книжке читатель. Обратимся теперь к самой инте-
ресной части книги, к научному обоснованию того, что И. Христос не был
евреем: не правда ли, весть поразительная?!
Чемберлен устанавливает положение о нееврейском происхождении
И. Христа только в евангельской части, основываясь на исторических и гео-
графических данных. Но проф. Аквилонов более осторожно и вместе очень
основательно предпосылает этому утверждению другое, библейское: что
чистым евреем не был и пророк и царь Давид, «в роде которого должен был
62
появиться Мессия». Каждому понятна связь этих двух тезисов, и как опасно
было бы утвердить первый из них, не утвердив второго. Подтверждая цита-
тами из книг Ветхого Завета и из новых ученых каждую строку своего тек-
ста, он говорит:
«Пророк и царь Давид был гораздо менее иудеем, нежели как это обыкно-
венно допускается. Несомненно, прабабка Давида, Руфь, — моавитянка*. Не
имеется такого же буквального свидетельства Библии об иноземном происхож-
дении и Давидовой матери, зато неоднократное указание на «меньшего сына»
Иессеева, отрока «белокурого, с красивыми глазами и приятным лицом»1 2, под-
крепляемое таким важным обстоятельством, что Вифлеем располагался в стра-
не, густо населенной Аммореями, наводит на мысль об амморейской родослов-
ной жены Иессея. Описанная Библией внешность отрока Давида, если только
доверять авторитету Вирхова, — явление, никогда не встречающееся среди ев-
реев и уроженцев сирийской группы. Весь склад душевной жизни Давида, его
необыкновенно впечатлительный, нежно-женственный характер, его вольные и
невольные ошибки и всегдашняя готовность раскаяться в них, никогда не поки-
давшие его смирение и великодушие, выдающаяся храбрость до пренебреже-
ния личной безопасностью, подчас ярко выражаемое пристрастие к филистим-
лянам и заметное равнодушие к своим израильским подданным3 — все эти ка-
чества решительно выделяют Давида из ряда других израильских героев и до-
вольно близко роднят с людьми иного племени. Во всяком случае занимающий
современную библиологию вопрос, не был ли Давид на половину или на три
четверти Аммореем, родился не в какой-то досужей фантазии, а имеет глубокий
raison d’etre. Наследник Давидов Соломон произошел от матери хеттеянки4, чем
и объясняется его претившая подданным политика».
Переходя к евангельской части темы, к рождению И. Христа, проф. Ак-
вилонов вполне следует Чемберлену, и потому мы будем заниматься только
последним.
Всеобщее убеждение европейцев — русских, французов, немцев, анг-
личан, — что Христос был евреем, так как родился в еврейской стране, от
еврейских родителей и исповедовал Моисеев закон, — совершенно анало-
гично тому, без сомнения, всеобщему же убеждению жителей Канады или
Пиренейского полуострова, незнакомых с подробностями русского существо-
вания, что, напр., Никон, преобразователь русского богослужения, родом из
Нижегородской области или Джапаридзе, бывший член русской Гос. Думы,
родом из Кутаисской губернии, — все областей русских и православных —
оба были славянского происхождения, русскими по рождению.
1 Моав, сын Лота и старшей его дочери, происходил не от Авраама, родона-
чальника евреев.
2 Первая книга Царств, глава 16, стих 12; и глава 17, стих 42.
3 Две последние черты указал Renan: «Hist. Du people d’Isradl», t. II, p. 35.
4 И Аммореи, и Хеттеи - племена Ханаана не еврейского корня.
63
Так думают и не могут иначе думать жители Пиренеев, Альп, вообще
всего цивилизованного мира, кроме редких знатоков России, вроде Леруа-
Болье или Рамбо, которые знают, что первый был мордвин родом, а второй
— грузин, — единицы мелкие и миру неизвестные, так сказать не мечущие-
ся в глаза при мысли о каком бы то ни было событии или лице русской исто-
рии. Общее охватывает собою частности, которые в нем меркнут. Затем это
общее («еврейская страна»; «еврейская религия») вошло в учебники и с ними
во всеобщее, с детства повторяемое убеждение. Между тем как «субботни-
ки», «иудействующие» есть и между коренными русскими. Не различают
религии Моисеева закона от крови отцов Авраама, Исаака и Иакова (еврей-
ство) и, зная, что Моисеев закон исповедовался И. Христом и матерью его,
равно как Иоакимом и Анною, родителями св. Девы из Назарета; не обра-
щают внимания на то, что сам-то Назарет находился вовсе не в Иудее, насе-
ленной двумя коленами, составлявшими в эпоху независимости еврейского
народа правоверное и чистое по крови Иудейское царство, а в Галилее, об-
ласти, лежавшей на месте павшего за 720 лет до Р. X. Израильского цар-
ства, в каковой евреев вовсе не осталось нисколько, не осталось до такой
степени, что хотя эти жители Галилеи исповедовали Моисеев закон и даже
были фанатично ему преданы (как и русские «иудействующие», даже фана-
тичнее евреев в их законе, — как мне передавали евреи), но до такой степе-
ни были чужими по крови подлинным иудеям, что последние, соблюдая
чистоту крови Авраама, Исаака и Иакова, вовсе не вступали с ними в брач-
ные связи! И. Христос родился в области и в племени и в семье не только
«может быть, не иудейской», но наверное, бесспорно не иудейской!
Вот факты этой истории и географии:
1) Галилея, от слов «Gelil haggoyim», буквально означает «языческую
область», выражение, оставившее свой след и в Евангелии, где упоминается
о «Галилее языческой». Это областное название возникло оттого, что уже за
много веков до Р. X. здесь только местами и изредка сохранялось поклоне-
ние Иегове; масса населения почти непрерывно поклонялась языческим бо-
жествам соседних народов. Это происходило от 2-й причины:
2) Географически Галилея, отделенная от Иудеи Самариею, была вооб-
ще мало связана с нею и с Иерусалимом. От Генисаретского озера пролегала
дорога в Дамаск, которою из Галилеи было ближе и удобнее проходить в
Тир и Сидон, столицы Финикиян, чем в Иерусалим.
3) Уже Соломон подарил тирскому царю Хираму 20 галилейских горо-
дов этой «языческой страны» в вознаграждение за строительный материал
присланный им для иерусалимского храма. Но города эти были малолюдны
и Энтом переселил сюда многих жителей из своей области. Это первая вол-
на не-евреев, хлынувшая в Галилею.
4) При наступившем, по смерти Соломона, разделении престола Давида
на царство Иудейское (колено Иудино и Вениаминово с гор. Иерусалимом)
и на царство Израильское (Галилея), обнимавшее остальные 10 колен, пос-
леднее, получив себе от Иеровоама культ двух тельцов, воздвигнутых в Ве-
64
филе и другом городе, окончательно прервало связи с Иудеею, с Иерусали-
мом и с культом Иеговы.
5) В 720 г. до Р. X. ассирийский царь вторгся и разрушил Израильское
царство (Галилею), уведя все население в плен и рассеяв его по областям и
городам своего необозримого царства. Смешанное и дотоле, и почти сплошь
языческое, оно в последующем полутысячелетнем рассеянии не имело (в
религии) никаких препятствий не смешиваться с теми племенами разносос-
тавной ассирийской монархии, среди которых жило. Возможно, хотя мало
вероятно, что где-нибудь сохранилась беспримесная израильская кровь; не-
сомненно, что гомеопатическими долями она осложнила кровь других се-
митов, арийцев (особенно персов), хамитов и туранцев. Но главная сторона
не в том, что случилось с израильтянами, а в том, что на места их, в их
родную область (Галилея) было вогнано ассирийским царем население из
других, преимущественно отдаленных и чужеродных, областей его. Следу-
ющий эпизод, наивно переданный в Библии, указывает, что в Галилее не
было оставлено ни одного еврея. Когда чужестранцы пришли в эту опусто-
шенную землю, то размножившиеся здесь до чрезвычайности хищные зве-
ри поедали скот у колонистов и их самих; в отчаянии эти суеверные люди
приписали бедствие тому, что на них гневается за завладение не своею зем-
лею какой-то туземный бог, которого нужно умилостивить жертвами, т. е.
первоначальный бог этой страны (Иегова). Они решились на умилостивле-
ние, но не было никого тут, кто мог бы их научить, какой это бог и как ему
поклоняться. Тогда они послали к своему ассирийскому царю, единоверно-
му единокровному, посланцев с просьбою, чтобы он отпустил им из плена
израильского священника для наставления в существовавших здесь ранее
религиозных обрядах и законах. Просьба была исполнена, и присланный
еврейский священник сообщил им формы Моисеева культа, — который, как
прозелиты, новообращенны, они приняли с чрезвычайною ревностью. Од-
нако, несмотря даже на Моисеев закон, подлинные евреи из Иудейского цар-
ства, в силу неизменной исторической тенденции потомства Авраама, Исаа-
ка, Иакова к сохранению несмешанности своей крови, под страхом религи-
озного преступления не вступали с ними в брак.
6) Много времени спустя, когда уже Ассирийское царство в свою оче-
редь пало и из выселенцев галилейских многие могли вернуться обратно на
родину, хотя бы и не имея в своих жилах уже чистой крови, один из Макка-
веев, Симон Фасси, после удачного похода на Сирию собрал всех евреев,
находящихся в Галилее, и убедил их эмигрировать в Иудею.
7) В эпоху И. Христа иноплеменность Галилеи в отношении евреев была
так несомненна и общеизвестна, что когда Ирод Агриппа, построив город
Тивериаду, предложил туда переселиться, между прочим, нескольким ев-
рейским семьям, то не мог склонить к этому никого (Гретц: «Ист. евреев»,
I, 568).
8) Во время И. Христа еврейский язык был только языком Св. Писания;
он вымер; на место его в живом говоре употреблялся арамейский язык как в
3 В. В. Розанов
65
Иудее, так и в Галилее. Но галилеяне говорили на нем с столь странным
акцентом, что на улицах Иерусалима это возбуждало смех, а в храме им
было запрещено публично читать Тору (Пятикнижие Моисеево). В Еванге-
лии и записано, что во дворе первосвященника служители сказали ап. Пет-
ру: «Речь твоя обличает тебя» (т. е. «ты не иудей»). По Ренану и Максу
Мюллеру, особенностью галилейского выговора было то, что галилеяне по
устройству голосового аппарата не в состоянии были выговаривать много-
численных гортанных букв, присущих еврейскому языку и равно всем семи-
тическим, т. е. что они были даже не семиты!! Только в подробностях узна-
ется дело: в индоевропейских языках для гортанного придыхательного h есть
только один звук, тогда как в семитических языках пять разных звуков. На-
против, семитические языки бедны язычными звуками (г — у евреев, z — в
индоевропейских): и как евреи испытывают непреодолимое затруднение в
выговоре этих не существующих у них язычных звуков, так индоевропейцы
и галилеяне вместе с жителями Назарета, родины родителей И. Христа
испытывали неодолимое затруднение в выговоре этих семитических, этих
еврейских гортанных!
Впечатление получается поразительное.
Оно поддерживается тем, что население Галилеи отличалось совсем
другим характером, нежели иудеи: чрезвычайно смелое, иногда случалось_
воинственное, немеркантильное, не знавшее практических уловок в при-
способлении к чужому владычеству, вообще к иностранцам, оно выделя-
лось непрестанными порывами к идеализму, к свободе, к культуре. Так, Чем-
берлен приводит девиз одного из вождей их еще во времена Помпея и Цеза-
ря: «Един Бог — владыка, смерть — нипочем, свобода — все!» Греческое
население густыми потоками уже давно вливалось в Галилею, без упорства
принимая иудейскую веру; так, в лице Птолемеев они без всякого упорства
без перелома приняли многобожие египтян. Далее Чемберлен говорит:
«О женщинах галилейских неоднократно упоминается в Св. Писании:
они славились особенной, только им свойственной красотой. Христиане
первых веков рассказывают, кроме того, об их необыкновенной доброте и
предупредительности к людям других вероисповеданий, в противополож-
ность надменно-презрительному обращению истых евреев».
Как сюда подходят типы евангельских женщин! Вспомним Марию Маг-
далину, Марфу, вспомним слова И. Христа, обращенные хананеянке, т. е.
женщине не только не еврейской крови, но и не Моисеевой религии: «Ис-
тинно, истинно говорю вам — ив Израиле не нашел Я такой веры, как в
ней!» Вообще тогда сразу становится понятным, отчего все сцены евангель-
ские, такие спокойные, ясные, не взволнованные, не мятущиеся, как это вез-
де, решительно везде, мы находим в книгах Ветхого Завета, действительно
суть типично не еврейские бытовые сцены, не еврейские бытовые карти-
ны. Вся речь евангелистов не еврейская, хотя Евангелия и были написаны
(первоначально) на арамейском языке людьми Моисеева закона, но уже не
единоплеменниками пророков и вообще всех написателей всех еврейских
66
ветхозаветных книг (истые евреи)! Вот разница, вот загадка! Прибавлю лич-
ное, за много лет до чтения Чемберлена образовавшееся у меня впечатле-
ние, которое я не рисковал кому-нибудь сообщить.
Да, Евангелия вовсе не семитические книги! Они не только не приняты
нигде у семитов, отвергнуты всеми семитами, арабами, евреями и, напро-
тив, усвоены арийцами, но как будто их и написал ариец: арийский дух,
арийская кровь.
Чуть-чуть косвенно это выражено было мною в 1891 г. в статье (и потом
книжке) «Место христианства в истории»: «О родственности христианства
именно с арийским духом», этим ясным и спокойным духом, не имеющим
ничего в себе из семитической нервности и «ярости». Сам Бог Библии, Иего-
ва, — непрерывно «яростен»; «яростен» и потом нежен, и затем опять ярос-
тен, без третьего, без спокойствия. И когда Иисус говорит об «Отце Небес-
ном», он говорит не об Иегове евреев, который говорит о себе Сам, что Он
топчет народы и кровь человеческую, как винодел топчет в чанах виноград-
ные ягоды, и красный сок их обливает ему ноги. Ничего подобного в Еванге-
лии, совсем другой дух!»
И евреи поэтому-то и кричали: «Наш Иегова не имеет сына!»
Иисус и не был сыном Иеговы, а «Божий», сын «Небесного Отца», все-
мирного, а не еврейского, не племенного семитического.
Как много разгадок разгадывается. Сам Чемберлен делает только штрих
по теме: на самом деле из клубня этого развивается совсем другой смысл
всемирной истории! Иной, чем как видел его Боссюэт, бл. Августин, да и
наши соотчичи и современники. Недаром многие (и Чемберлен) уже давно
отмечали, что некоторым изречениям Христа есть тоны, есть мысли, созвуч-
ные то там, то здесь в арийских священных книгах; есть такие мысли в «Сут-
рах», у Будды, у Зороастра, тогда как у пророков и Моисея ничего созвучно-
го не найдем этим индусским или персидским изречениям, тонам, душев-
ной музыке. Становится понятна неумолимая распря между иерусалимля-
нами-иудеями и галилеянином-Христом; распря какая-то первоначальная,
из каких-то элементов духа идущая; становится понятным легкое, без вся-
ких затруднений распространение Евангелия среди германцев, кельтов, сла-
вян, да и греков и римлян; понятно, что евреи ждут «другого, своего Мес-
сию». В законе Моисея выросший, его исполняющий, его не нарушающий
Иисус, однако, не придавал исполнению этому страстной ревности, непре-
менной пунктуальности, «единоспасительности», и одновременно в этот
старый культ Он насадил, без всяких намерений, такой новый дух, от кото-
рого все переполошилось, и избранное племя оказалось «отвергнутым»,
а неизбранные призваны были «к спасению». Так, садовник, беря ста-
рую лозу, прививает к ней малый кусок другой сладости, другой поро-
ды: и дальше растет уже не старая порода, а эта новая. Она ее продолжа-
ет, она ее отрицает! Она ее убила, она ее оживила! Вот евреи и мы, вот
Христос в истории.
3* 67
ЕЩЕ О НЕЕВРЕИСТВЕ И. ХРИСТА
Мысли об арийском племени, к которому по предкам и родителям принад-
лежал И. Христос, изложенные мною по книжке Чемберлена: «Явление
Христа», по-видимому, взволновали многих читателей «Нов. Вр.», и я полу-
чил ряд писем, небезынтересных для всякого. Один священник, преподава-
тель богословия в университете, мне пишет:
«С интересом прочитал статью о нееврейском происхождении И. Христа.
Отсюда открываются новые горизонты на христианство, новая бесконечная и
безграничная ширь религиозная. Заклубились облака на горе Преображения, и
слышен голос: «Се есть Сын Мой возлюбленный — в нем благоволение всем».
Из клубня арийского источника христианства развивается совсем другой смысл
всемирной истории, культурного творчества, религиозных прозрений, нравствен-
ных убеждений».
Читатель видит, что священник этот сохраняет всю силу христианского
и религиозного убеждения и между тем радуется этой мысли о несемити-
ческом рождении И. Христа, открывающей столько новых горизонтов. Дей-
ствительно, сам Чемберлен не сделал выводов из своего тезиса и вообще не
делает никакого приложения этой важной и теперь очевидной истины о не-
еврейском происхождении Евангелия и христианства: тогда как отсюда пе-
рестраивается вся история, евреи перестают быть каким-то первым и основ-
ным этапом ее, на котором европейская цивилизация есть будто бы только
последующая надстройка. Между тем так именно созерцали и так писали
первые теоретики и конструкторы всемирной культуры, бл. Августин и Бос-
сюэт и по примеру их почти все мыслители с религиозной окраской: еврей-
ство есть «А», христианство есть «В». Между тем оказывается, что христи-
анство есть самостоятельное «А», и еврейство отпадает в уединение и про-
винциальность множества ханаанских культов. И тогда понятно становится
как то, что они вечно впадали в эти культы ваалов, явно не умея отличить их
от национального своего Иеговы, — так и то, что даже самый храм в Иеру-
салиме был для них построен художниками, присланными тирским царем
Хирамом, поклонником именно Ваала и Астарты. Ну, пришло ли бы на ум
Иоанну Калите, Иоанну Грозному или Александру Благословенному, воз-
двигая храмы Успению Пресвятой Богородицы, или Спасителю, или Васи-
лию Блаженному в Москве, вызывать для этого турецких или китайских
мастеров, мусульманских и языческих, вообще иноверных?! Кощунство
невозможность!! Особенно, если принять во внимание специальную рев-
ность «о Иегове» евреев, в том числе и Соломона, который нисколько не
был в юности вольнодумцем в вере отцов. Очевидно, если бы финикийские
религии и религия Иерусалима были не отпрысками одного чего-то, как
штундизм, баптизм, старообрядчество, католичество и православие суть
ветви и отпрыски единого христианства, а были бы разными религиями
религиями разного корня, — то в таком случае руки финикиян, приложен-
68
ные к постройке храма в Иерусалиме, прямо сквернили бы его, а такое до-
пущение финикийских зодчих и даже призыв их был бы для Соломона «гре-
хом». Да и Бог, «Бог Израилев», не принял бы Дома Себе, будь он построен
нечистыми руками, как бы для нас «жидовскими» или «языческими». Допу-
стим ли мы евреев строить себе храм? Допустим ли татар? Вот вопрос, кото-
рым решается в утвердительном смысле тезис о единстве всех ханаанских
культов, включительно с иерусалимским. Все это были «братцы», «роднень-
кие»: хотя и ссорились так жестоко, кляли друг друга, как православные со
старообрядцами, католики с лютеранами. «Царица Шабас» еврейских ле-
генд, «Шехина» их Талмуда, т. е. их как бы «отцов Церкви», есть, очевидно,
параллель и повторение «Небесной Царицы», «Небесной Владычицы», как
именуется в Библии и у Геродота «Астарта» финикийских городов Сидона и
Тира. От этого статуя Астарты и вносилась по временам прямо в иерусалим-
ский храм, без всяких его приспособлений и переделок для этого. Но раз
христианство открывается и даже противополагается Библии, нет уже ника-
ких препятствий приурочить весь ветхозаветный, нам чуждый, специально
семитический культ к этой подлинной его родине, подлинному источнику.
Кстати, «Иеру-Салим» повторяется даже на надписях финикийских монет:
и финикияне называли свою митрополию «Иеро-Тирос», «Святой Тир».
Какое сходство даже в мелочах! Читайте у пророка Иезекииля слова беско-
нечной нежности и любви о Тире, где он называется «возлюбленным сыном
Божиим», «Святою Горою», и называется так через пророка самим Иего-
вою. Вот несколько простых истин, которые закрывает ладонями, но бес-
сильно, наше духовенство от простецов-читателей.
Зато же эти читатели и путаются со своими мыслями. Мне пишет дру-
гой корреспондент:
«По поводу книги Чемберлена вы развиваете лютеранство, говоря, что И.
Христос был не еврей. Разве мало неправды на Руси, что вы желаете быть авто-
ром еще одной ереси, так как ересью правильно называть всякую неправду о И.
Христе. Родители Пресвятой Девы Марии, Богородицы, были чистокровные
евреи, от архиерейского и царского рода; следовательно, и И. Христос был чис-
токровный еврей».
Остановлюсь на минуту. У евангелиста Матфея в известной родослов-
ной И. Христа исчисляется родословное древо вовсе не Девы Марии, Мате-
ри Иисуса, а только исключительно Иосифа, которому она была обручена.
Предлагаем автору заглянуть в Евангелие. Он продолжает в письме:
«Моисей, пророчествуя о И. X., сказал евреям, что Бог воздвигнет вам из рода
вашего, от вас, из среды вашей — пророка: Того послушаете» (мои курсивы)...
Но ведь евреи именно не послушали И. Христа: не явно ли, что в этих
словах Моисея не только не говорится о И. Христе, но говорится о чем-то
совершенно Ему противоположном, об одном из страстных националистов-
пророков, может быть, об Исайе, об Иезекииле, об Ездре? О ком угодно,
69
только не о Христе, которого евреи не приняли, распяли, отвергли и... по-
гибли через это сами. Но автор, так сказать, глух не своей глухотою, слеп не
собственною слепотою: действительно, в несчастной нашей богословской
литературе, по стопам александрийских книжников И, III, IV век., все такие
темные, безличные, общие указания пророков зачислены в так называемые
«мессианские места», будто бы имеющие отношение к И. Христу.
«Родословие И. Христа, — продолжает автор письма, — сына Давида, сына
Авраамова, служит тоже самым твердым доказательством, что И. Христос был
чистокровный еврей. Пророк и царь Давид, как и отец его Иессей, были чисто-
кровные же евреи, — прежде всего потому, что Бог обещал Аврааму, что «из
его племени воздвигнет Того, Который спасет народ Израильский», т. е. воз-
двигнет Спасителя. Если обещал, то полностию. Племя Авраама, конечно, не
до последнего человека было чистокровное, но Спаситель, очевидно, согласно
обещанию Бога Аврааму, принял вочеловечение от чистой крови еврейской».
И здесь, очевидно, слова: «Тот, который спасет Израиля», ни малейшего
отношения к И. Христу не имеют, ибо не принявший его Израиль погиб
исторически, религиозно и всячески: неужели это не очевидно?! Что касает-
ся родословия, то текст Евангелия говорит о родословии Иосифа, плотника
из Назарета, который не имел отцовства к Христу. А о родословии Св. Девы
Марии нигде в Евангелии не говорится.
Чтобы покончить с «мессианскими местами», заметим, что все они суть
национально-пророчественные места, говорящие о будущей славе, но имен-
но только Израиля, или Израиля во главе всех остальных народов, о «спасе-
нии» — об «избавлении» — но опять же Израиля, о «законодателе» — но
только для него одного или для него и всех народов, насколько они подчи-
нятся ему. К И. Христу все это, очевидно, никакого отношения не имеет, ибо
с Него-то и началось глубочайшее разделение между Израилем и остальны-
ми (арийскими) народами: так что уже «слава», «закон» и проч, для одного
народа есть «бесславие» и «беззаконие» для другого, в другом. Но автор,
ослепленный семинарскими книжками, ничего этого не видит.
Автор кончает упреком, и сколько таких несется по адресу «иносослов-
ных» людей, не из духовного сословия, решающихся говорить о религиоз-
ных предметах:
«Наш философ Соловьев, вследствие самомнения, обратился в католика (ни-
чуть!!) и предпочел католичество, отступившее во многом от истины, правосла-
вию; Лев Толстой по той же причине гордости духа и самомнения мало-помалу
совсем отделился от И. Христа (??) и отвергнул Бога (??), — вообразив, что
мертвое, материя, создало на земле все живое и человека; надо опасаться, что
по той же причине ц вы отступите от православия и перейдете в лютеранство.
Искренно желаю вам укрепляться в православной вере, не руководствуясь мне-
ниями ни лютеранина Чемберлена, ни профессора дух. академии Аквилонова, у
которого, без сомнения, меньше кротости, чем у царя Давида, а самомнения
более, чем у многих знатных и сильных царей Израильских. — Читающий «Но-
вое Время».
70
Конечно, если сливать «православие» с тем, «чему нас учит наше духо-
венство», чему оно «показывает пример» и проч., то я давно уже «не право-
славный». Увы, духовенство наше, несмотря на все «присущие ему благо-
датные дары», несет все те же недостатки и слабости, какими страдает об-
щество, с прибавлением грубости и такой каменной самоуверенности, все-
довольства собою и своим умственным достоянием, от каких обыкновенные
люди все-таки избавлены. В статье о нееврействе И. Христа я коснулся этих
сторон современного нам духовенства и тоже, должно быть от читателей
«Нов. Вр.», получил два живейших на это отклика. Один ограничился справ-
кою из св. Григория Богослова о современном ему греческом духовенстве,
очевидно предлагая в параллель наше время и наших духовных. Справка в
самом деле любопытна. Вот что Отец Церкви пишет об исключительных
обладателях «благодати» и «строителях Таин Божиих», как они себя именуют:
«Страшный, изрытый пропастями овраг — это мы, т. е. наше, забывшее
чин свой, сословие. Мы — врачи немощей и в то же время мертвецы, заражаю-
щиеся непрестанно новыми и новыми недугами; мы путеводители по стезям
стремнистым, по которым никого еще не водили, даже и сами мы по ним не
ходим; мы, не последовать которым — правило самое короткое и вместе урок,
всего прямее ведущий ко спасению» (Григорий Богослов. «Твор. Св. Отц.»,
том 6, стр. 6).
Так красиво, выразительно и больно я не умел бы написать.
В. В. СТАСОВ
(Некролог)
Умер Владимир Васильевич Стасов, известный писатель по вопросам ис-
кусства, археологии, народного творчества и другим областям, сюда относя-
щимся. Он родился 2 января 1824 г. в Петербурге, учился в училище право-
ведения, откуда вышел в 1843 году. Первая печатная его статья появилась в
«Отечественных Записках» 1847 г. о Берлиозе. Затем он писал в «Современ-
нике», «Библиотеке для Чтения», «Русском Вестнике», «Вестнике Европы»,
«Русской Старине», «Древней и Новой России», «Записках Академии Наук»,
«Известиях археологического общества», «С.-Петерб. Ведомостях», «Голо-
се», «Нов. Времени» и др. Из отдельных изданий его самое большое — «Сла-
вянский и восточный орнамент» было напечатано в 1880 — 1881 гг. Самая
важная часть его деятельности заключалась в критических статьях об ис-
кусстве, особенно о И. Репине, В. В. Верещагине, М. Антокольском, В. Пе-
рове, И. Крамском и о всех почти выдающихся русских музыкантах: Глинке,
Кюи, Даргомыжском, Серове, Мусоргском, Бородине и др. В литературе он
всегда являлся пылким проводником начинающихся новых движений в ис-
кусстве. Так, его имя нераздельно слито с «передвижниками», когда-то
71
порвавшими связь с академией и выступившими смело на новый путь на-
родного реализма. Здесь он сделал чрезвычайно много, хотя более в смысле
общественного движения, нежели собственно эстетической оценки. Он под-
нимал общественное внимание в сторону начинающего дарования, начина-
ющегося нового течения в искусстве, являлся горячим популяризатором
неутомимым полемистом, и хотя все его работы в этом отношении не всегда
отличались тонкостью и вкусом, но они всегда достигали своей цели: обра-
щали внимание на новое явление.
Собрание сочинений В. В. Стасова вышло в 1894 году в трех больших
томах. Кроме того, можно упомянуть о его обширном труде «Еврейский
орнамент», основанием для которого послужило известное собрание еврей-
ских рукописей Фирковича, поступившее в Имп. Публичную Библиотеку.
Книга, с богатым атласом, была издана Орасом Гинцбургом. Почти на днях
еще появился четвертый том его сочинений, заключающий в себе все, что
им написано по искусству с 1894 г.
ПАМЯТИ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО
ИОНАФАНА
Имя этого доброго, заботливого архипастыря мне привелось слышать даже
в далеком эсто-латышско-немецком крае, за Ригою: и память о нем, имя его
до того были светлы и как-то милы всем, что на воспоминания о нем и сим-
патии к нему завязывалось сближение третьих лиц. Вещь немалая. За 50 лет
архиерейства, недолго в Петрозаводске и затем почти все время в Ярослав-
ле, его узнали так и иначе, прямо и косвенно сотни тысяч людей, рассеян-
ных теперь всюду. Мне привелось его видеть только два раза, — видеть, гово-
рить, пить чай с чудесным вареньем и каким-то особым «келейным» хлеб-
цем. Меня он почти не знал, но у меня были особые обстоятельства, вслед-
ствие которых я знал до подробностей его жизнь, начиная от молодых лет
когда он был еще преподавателем семинарии, и затем в последующей судь-
бе его, до конца. Мне привелось непосредственно узнать множество его не-
заметных, укромных дел, для которых, по-видимому, не было свидетелей: и
я неоднократно поражался, каким образом этот старец за 80 лет, не говоря о
сердце, имеет напряжение воли и ясность памяти, чтобы заботиться, думать
и из года в год следить за такими крохотными делами, нуждами и горестя-
ми, которые были за многие сотни верст от его епархии и имели предметом
людей только близких ему по молодости и которых он десятки лет лично не
видел. Так как я в то же время знал, что в своей ярославской епархии он не
только положил множество трудов на восстановление святынь и древностей
Ростова Великого, немного раньше, чем казна подумала, обеспечил духо-
венство на случай старости и болезни пенсией и эмеритурой из местных
епархиальных средств и, наконец, воздвиг громадное женское училище, в
72
честь его названное «Ионафановским», для дочерей духовенства, то я пора-
жался этой добротой и неусыпностью его далекого глаза, кстати, почти сле-
пого. Он начал терять зрение лет восемь назад. Здесь, в этом его характере
какого-то вечного «строительства», «воздвижения», вечной «думки» о дру-
гом и других, очевидно, сказывались талант, призвание, натура, врожден-
ное. Приведу пример: он, положим, высылает плату за учение малютки-де-
вочки, которой и не видал никогда, а когда-то видел близких ей людей, тогда
он накажет, чтобы по весне были присланы ему экзаменационные отметки;
кончила курс учения — он спрашивает о ее службе или вообще дальнейшей
деятельности. Болезнь случится — он присылает ярославского «сослужив-
ца», товарища по академии или семинарии: справиться, узнать, какой док-
тор лечит, хороший ли, и лично через него (старинная «оказия») передаст
деньги. Все это — кратко, без канители, без благодарностей, без того, чтобы
ему писали или с чем-нибудь его поздравляли. Почивший вообще не был
самолюбив, тщеславен. Большой красоты старец ходил в подряснике таком,
что при первой встрече я его принял чуть-чуть за «попа», скорей за диакона:
между тем перед самым моим входом к нему из дверей кабинета вышел
гражданский чиновник в полной парадной форме в орденах. Я заговорил о
заботах: так все это, все эти подробности в 50—60 лет легки в отношении
единичных людей, а ему 80 лет, и таких «единиц» он имел сотни, кроме
официальных обязанностей!
Когда во второй раз я его видел, года три назад, проездом в Сарово, он
был уже (недавно) «на покое» и жил в Ярославле же, при монастыре, в ка-
менном старом и тесном помещении, с железными решетками в окнах. Долж-
но быть, переделка из амбара или что-нибудь. Так было неприятно это ви-
деть, а он на вопрос мой ответил: «Я мог бы попросить это переделать, но к
чему? Боюсь простудиться и окон не отворяю и летом. Так к чему менять и
переделывать?» Помню, на этот раз, встав от послеобеденного «почиванья»,
что-то в три часа дня, он вышел в рясе с двумя прикрепленными к ней звез-
дами, очевидно никогда и не отцеплявшимися. Придерживался за стенку:
так был слаб. Но когда сел и подышал и заговорил: какой ясный, отчетливый
ум был виден! Опять ни о чем не забыл — о всем и всех спросил, опять эта
забота, постоянная материальная (о других) забота: строится ли дом? цел ли
дом? женился ли? вышла ли замуж? как дети? как их здоровье и ученье?
Истинный домовод, домоустроитель. Монашеским, враждебным миру и
мирскому от него не веяло. Впрочем, он весь был какой-то «не придуман-
ный», а естественный.
— Пойдете от меня, посмотрите мою могилу. — И он сказал что-то при-
служивавшему его человеку.
Это был заготовленный склеп в небольшой церкви, построенной, ка-
жется, им самим. Подробностей не помню. «Вот тут то-то и то-то, потому-
то и потому-то; а вот земля, каменная кладка, и тут будет поставлен гроб
преосвященного».
«Земля ты — ив землю отыдеши», — вспомнил я сказанное Адаму.
73
И все мы Адамы. И все мы умрем. Но как хорошо умереть, не оставляя
позади себя слез иначе, как жалости, сожаления и благодарности. И как
хорошо даже жить, оглядываясь на таких людей или держа их память.
Умер он 91 года. Фамилия его Руднев. Он был в родстве с знаменитым
Инокентием (Ждановым), архиепископом Таврическим в пору Крымской
войны.
КУЛЬТУРНО-РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОПРОСЫ
Тезис о нееврейском происхождении И. Христа, так ясно, просто и убеди-
тельно проведенный Гаст. Чемберленом в его книге «Явление Христа», го-
рячо воспринят русскими читателями. Уже после того как я написал вторую
небольшую статью об этом предмете, я получаю еще больше писем от свя-
щенников и несвященников, из провинции и из-за границы, от людей, оче-
видно мало учившихся, и, с другой стороны, от архимандритов и профессо-
ров высших учебных заведений. В одной распространенной московской га-
зете было посвящено два фельетона изложению взглядов Чемберлена, как я
их передал. Со стороны главного тезиса я считаю дело исчерпанным самим
Чемберленом: в Галилее, откуда была родом Св. Дева Мария, вовсе не было
евреев, которые до единого все были выведены в ассирийский плен, и на
место их присланы были завоевателем колонисты других, именно арий-
ских, народцев. Вопрос этим кончается: чтобы оспорить тезис Чемберлена
надо приводить не цитаты из Евангелия, как это делают все авторы писем ко
мне, а сделать историко-географические изыскания и доказать, что в Гали-
лее ко времени рождения И. Христа сохранилась хотя бы часть первона-
чального еврейского населения.
Само собою разумеется, что для начертателей Евангелия, которые име-
ли в виду душу человеческую, религию, заняты были грехом и искуплени-
ем, вопросов этнографических вовсе не существовало. Все это, для нас так
интересное, лежало вне угла их зрения, не возбуждало никакого о себе воп-
роса, не было ни любопытно, ни значительно: и они, как и ап. Павел, как и
все лица евангельские, нарекали И. Христа «евреем», «из дома Давидова» и
«от корня Иессеева» (об этом пишут все письма ко мне) совершенно так же,
как мы писали бы и говорили «московский царь Борис Годунов», «всерос-
сийский патриарх Никон», «из дома Романовых», напр., о Екатерине I и Ека-
терине II, хотя бы в жилах этих называемых лиц и была кровь: в первом
случае — татарская, во втором — мордовская, а в третьем — германская. Ин-
терес к этнографии, во всей его скрупулезности, возник только в наше время*
но в эпоху рождения Христа этого интереса вовсе не существовало, и были
разделения и сопричисления только культурно-религиозные, соответствен-
но которым И. Христос был, конечно, евреем и никак иначе не мог быть
назван, совершенно подобно тому, как София, супруга вел. кн. Иоанна III,
Елена, супруга Василия III, Борис Годунов, Екатерина I и Екатерина II были
74
«лицами русскими», лицами «царственного дома Рюрика», «дома Владими-
ра Св., Ярослава Мудрого и Александра Невского». Все бралось «вообще»,
ибо не был устремлен взор на частности, как и мы теперь не видим множе-
ства частностей, о которых будет поднят вопрос потом.
Одно из этих «потом» мне хочется приблизить к «теперь». Из тезиса
Чемберлена о «ееврействе И. Христа прямо вытекает вопрос о том, как же в
точности относится богослужение наших теперешних церквей, так сказать
«религия Успенского Собора», «религия св. Петра в Риме» и «религия бер-
линских кирок» к культу Моисеевой скинии и Иерусалимского храма Хира-
ма — Соломона (финикиянин Хирам — строитель, Соломон-еврей — заказ-
чик)? Я как можно конкретнее и осязаемее называю вещи, дабы читатель
сколько возможно живее и действительнее почувствовал эти явления, увы,
сделавшиеся для нас совершенно книжными, отвлеченными и непредстав-
ляемыми. Было ли одно и то же бого-почитание и бого-видение здесь и там?
— вот трансформация вопроса об отношении христианства к Библии, к Мои-
сею, ко всему Ветхому Завету и еврейству. Еще яснее: почитаем ли мы те-
перь того же Бога, о Коем с каждой страницы своей говорит Библия, с при-
бавлением И. Христа, или у нас религия совершенно другая, именно только
И. Христа, а о ветхозаветной религии и «Боге Моисея и пророков» мы не
только не имеем никакого понятия, но и не хотим иметь, отвращаемся от
него всеми силами души, ну как, напр., от мусульманства с его «Алла» и
«Магомет — пророк его»?! Да, именно последнее! до муки! до негодования!
Сказать ли истину, которая брезжит, но скоро разгорится в полное пламя, в
непререкаемую очевидность, что настоящими преемниками и продолжате-
лями иерусалимского культа, усвоившими самые сердцевинные, главные,
неотступные, ненарушимые его части, и являются мусульмане: с их безвид-
ностью Бога, отвращением и страхом к религиозным изображениям («ико-
нопочитанием» у нас), с их обрезанием, с многоженством, как у Авраама,
Иакова, Моисея и Давида, с их религиозными омовениями, повторяющими
погружения первосвященника и священников в так называемое «каменное
море» Иерусалимского храма и главное, самое главное — с их жертвопри-
ношениями!! Мне приводилось читать, что в дни великих праздников в Мекке
около Каабы «зарезываются до тысячи верблюдов, лошадей и жеребят»: от-
вратительнейшее зрелище, абсолютно непереносимое для христианского
взора, этого спиритуалистического, морализующего взора, и совершенно
повторяющее сцену, когда Соломон в день празднования окончания храма
принес «тысячу жертв Господу», — такая картина, от которой, плюясь и за-
жимая нос, убежали бы все эти Соколовы и Рудаковы, составители «Исто-
рий Ветхого Завета» для учеников гимназий и духовных училищ, — убежали
бы с учениками своими, с учителями своими, с богомольцами Успения в
Москве, Петра в Риме и берлинских кирок. Невыносимо! гнусно! отврати-
тельно! проклято! этот визг, писк, рев зарезаемых животных и бочки хлещу-
щей живой крови с ее терпким запахом! Ну, а пророки, первосвященники,
Ездра, Иезекииль, Иеремия, Иона, Захария, Малахия, оригинальные написа-
75
тели якобы для нас «канонических» книг, Моисей, написавший якобы «Свя-
щенное» для нас «Писание», творец псалмов Давид — все услаждались, упи-
вались запахом этих сотен и тысяч зарезываемых то руками их, то возле них
быков, овец, коров, голубей, совершенно как и мусульмане в Мекке! Неуже-
ли это ничего не говорит разуму читателя? Хотя разуму нашего духовенства
едва ли это что-нибудь скажет: окаменели, «твердя прежний Аз» пятьсот
лет. Для всякого свободного ума, т. е. беспредрассудного, неочерствевшего,
мысль об единстве Ветхого и Нового Завета представится столь же чудо-
вищной, как если бы кто-нибудь стал уверять, что, напр., «единоженство и
многоженство оба суть одно и то же, ибо именуются браком» или что «меж-
ду монастырем и гаремом нет разницы, ибо там и здесь чтут Бога». Да, вот
еще разница: там «святые» (Давид, Соломон) — в гареме, а у нас — в монас-
тыре. Неужели еще нужно доказательств, что самое представление «святос-
ти», а следовательно, и «Святого Бога» там и здесь было до желчи, до тош-
ноты, до зубовного скрежета противоположно, несовместимо!
Да, но вот, видите ли, Моисей и пророки, как и И. Христос, говорили:
«Не обидь вдову», «Судите право вдовицу». И батюшки наши вдохновен-
но восклицают: «Очевидно, это один сплошной завет Божий! Завет одного
Бога! Раньше данный и позже данный! Ветхий и Новый». Как будто тро-
гательных притч, все в том же роде, мало в Коране да и в буддийских ле-
гендах!
Весь софизм, решительно опутавший наше богословие и сделавший все
его смешным и ненужным, зиждется на том, что в ядро дела вкачаны под-
робности, мелочи, попутное, побочное, разные морализующие притчи и
афоризмы, у всех решительно народов и во всех религиях (ибо все они учат
добру) одинаковые; и вынуто из сердцевины дела зерно, главное, — вынуто и
выброшено или спрятано под полу. Это так очевидно, что нуждается только
в популяризации, чтобы все воскликнули: «Конечно, так!»
Евангелие, христианство — в противоположность чисто биологическому
культу ветхозаветного храма — есть чистый спиритуализм. Здесь его сущ-
ность и граница, величие и недостаточность: да, ибо одним «духом» не про-
живешь, как бы он ни сиял, каких бы небес ни достигал. Я говорю всю свою
мысль, и, слава Богу, ее можно теперь сказать. Христос заговорил, впервые
во всемирной истории и исключительно, — душе человека, совести его, серд-
цу его: об этом тысячи слов в Евангелии, совершенно новых, никогда ранее
не слыханных и такой красоты, что перед нею померк весь дохристианский
мир. «Какая польза человеку приобрести ъъсъмир, если он потеряет душу»:
вот отрицание космоса и космологического, вот поднятие души человечес-
кой и цены ее выше облаков, звезд, солнца, законов, правил, государств, царя,
первосвященников, самого храма, всего, всего!! Вот где «Аз» новой рели-
гии. Тогда как Иегова, никаких моральных правил не говоря Аврааму, да и
вообще ничего не говоря душе его, сказал: «Обрежься — и будешь в завете
со Мною». Ну, это вещь, которой девицам до замужества и объяснить нельзя.
Слава Богу, что в гимназиях Ветхий Завет проходится в таком классе, когда
76
ученицы и ученики вообще ни о чем не спрашивают, а «долбят слова». Толь-
ко этим и избегнут конфуз. Для нас, спиритуалистов, это физиологическое
«подчищение человека ножичком» просто смешно, забавно! «Хоть убей,
следа не видно», — как говорит Пушкин о бесовской ночи. А по месту «под-
чистки» человека — просто гадость, неприличие! Та «гадость», которая не-
преоборимо лежит (если его живо вообразить) на всем ветхозаветном куль-
те, с его зарезанными коровами и быками и погружениями голых мужских
тел в каменный чан с водою! Стоит сказать выпукло — и мы зажмем нос. Но
углубимся же в «бесовскую ночь» юдаизма, чтобы что-нибудь понять в ней.
Чтобы понять точные отношения спиритуалистического христианства к био-
логическому юдаизму, надо помнить, что Христос не принес руками Свои-
ми ни одного жертвоприношения в храме к Иегове, «обоняющему сладкий
тук жертв» (слова Библии, законодательные).
— Сумасшествие и преступление! — вот дохристианский мир для хри-
стианина, все эти ханаанские культы, включительно с иерусалимским.
— Нуль! ничего! пустота! — вот мы для евреев, последнего осколка Хана-
ана, — с нашими молитвами, со всем трогательным и невыразимым, что есть
у нас, в нашей «вере», в наших тихих и безмолвных церквах, где вид крови
заставил бы испуганно разбежаться всех.
— Гадость! — вот наше впечатление.
Пустота! — вот впечатление еврея.
Вот отношение Евангелия к Ветхому Завету.
Вот отношение Библии к Евангелию.
* * *
Два слова еще: без «тела», однако, не живет дух. Для нас всех, после Данта
и Шекспира, после Рафаэля и Ньютона, которые по спиритуализму своему
все суть дети Евангелия, — лучшие его дети, самые верные, самые глубокие,
— все ветхозаветное, биологическое, кровное, космологическое, родное,
«родственное» между собою и с миром стало просто скучно и неинтересно.
Все религии после Христа утратили вкус, цвет и запах... Но — мы учимся и
потом женимся, выходим замуж, рождаем детей, «роднимся». Это уже другое,
это не Шекспир и Дант. Изнутри заглянуть на это, и особенно родник этого
всего — некрасиво, как и ветхозаветный культ; «нестерпимо для зрения и
обоняния». Но — нужно, но — есть! Таким образом, я, христианин и спи-
ритуалист, написав все сказанное, не уничижаю что-либо из ветхозаветного,
не отрицаю, не порицаю, но говорю только, что это «совсем, совсем не то,
чем христианство»! Вот и все. Еще культурный вывод: через жертвы, стер-
жень Ветхого Завета, он объединяется, как некая «двоюродность» и «трою-
родность», с жертвенными культами не только Ханаана и Месопотамии
(«Библия и Вавилон» Делича), но и с другими культами — Пергама, Саиса,
Мемфиса, Афин, Рима. Совершенно понятна становится, например, такая
необъяснимая подробность римской истории, да необъяснимая подробность
77
и «Ветхого Завета», что императоры от двора своего ежегодно посылали
жертву в Иерусалимский храм и что там она принималась — жертва поклон-
ников Юпитера перед лицом Иеговы! Но это была как бы просфорка к праз-
днику или пуд восковых свеч, пересланных из Византии в Рим, от патриарха
к папе. Но все эти культы потом погасли, не поддерживаемые Писанием,
сим естественным орудием устойчивости, прочности. Слово долговечнее
камня. Мне иногда думается, что иерусалимский культ из всех этих погиб-
ших «братцев и сестриц» от Вавилона и Ниневии до Рима и Карфагена один
«удался»; ибо один он и был «истинным», «откровенным», «богоданным»,
совершенно согласно уверению Библии, — тогда как там везде были подобия
и приближения, тени и ненастоящее. Настоящее осталось, хотя раздроблен-
но; ненастоящее исчезло. Но для нас и дроби эти скучны. Ну, мы спиритуа-
листы. Но есть биология, жизнь, кровь, физиологические акты, здоровье,
болезнь, есть Космос и в нем таинственные почему-то негаснущие звезды.
Все это тоже есть, — и уже вне всякой орбиты христианства. Мы зато мудре-
цы, но алкоголики, и у нас есть очень дурные болезни; у нас есть леность,
праздность. Этого не знают, или почти не знают неугомонно-трудолюбивые
евреи и такого здорового вида, всегда и все трезвые, мусульмане — эти «сыны
Измаила, Авраама», Якубы и Сулейманы (Иаковы и Соломоны).
Вот ряд тем, о которых советую подумать моим корреспондентам.
НАТАЛИЯ ГРОТ. СВОБОДА В ЖИЗНИ
И ГОСУДАРСТВЕ
Этюд по Чаннингу. Второе издание.
В пользу голодающих. СПб., 1906.
Ангельское понятие свободы — в руках дьявола превращается в сатанин-
ское исчадие, мучащее человека всеми муками преисподней. Как рождение,
самый великий, святой и благородный акт, — около себя и при своих иска-
жениях несет самые смрадные пороки, одно имя которых мучает человече-
ство, — так и факт свободы есть кислород жизни, условие всякого дыхания,
превращающийся около зараженных уст в отравляющее зловоние. Именно
святые-то понятия, святые факты почему-то и дают вместе с тем начало
ужасающей веренице нисходящих, низвергающихся величин... Маленькая
брошюрка, заглавие которой мы выписали, — очень умно переиздана в этот
год. Она трактует о духовной свободе как основании свободы гражданской
и политической, о религии, о цивилизации и ее значении для свободы; о
правительстве и государственных людях. Н. П. Грот, супруга нашего знаме-
нитого филолога Я. К. Грота, — в свое время была поражена мыслями, най-
денными ею у американского мыслителя Чаннинга (t 1844 г.), и полупереве-
78
ла, полусоставила этюд по ней в 1878 году, когда мы боролись за свободу
южных славян. Она приводит в предисловии слова Лабулэ, переводчика
Чаннинга на французский язык, и они так удачны, что будут лучшим введе-
нием и рекомендациею и для русского читателя:
Недавно попались мне случайно в руки творения Чаннинга. Читая писате-
ля, умершего уже несколько лет назад и которого имя мне было вовсе неизвест-
но, я был изумлен и даже смущен, найдя в нем рассмотрение и даже разрешение
тех ужасных задач, которые под именем социализма волнуют всю Европу и ви-
сят еще на горизонте грозными тучами.
Н. П. Грот собственно воодушевилась только Чаннингом, но разложила
его мысли самостоятельно. Эпоха, когда она воспиталась и жила, и люди, с
которыми она жила, — все это имело о свободе, о цивилизации, о граждан-
ственности совсем иные понятия, чем какими питается наше время, увы,
уже не имеющее таких руководителей, как люди тех десятилетий.
К БИОГРАФИИ И ПОСМЕРТНОЙ СУДЬБЕ
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
«Музей памяти Федора Михайловича Достоевского в Императорском
российском историческом музее имени Императора Александра III в
Москве. 1846 — 1903 гг.». Составила А. Достоевская. С портретами и
видами. 392 стр. СПб., 1906.
«Библиографический указатель сочинений и произведений искусства,
относящихся к жизни и деятельности Ф. М. Достоевского, собранных в
Музее памяти Ф. М. Достоевского в московском историческом музее
имени Императора Александра III. 1846—1903 гг.». Составила А. Дос-
тоевская. СПб., 1906.
С самого года смерти Ф. М. Достоевского вдова его, Анна Григорьевна,
непрерывно трудится над задачею, которую мы назвали бы «обработкою его
памяти». Она увековечила ее 1) созданием прекрасной школы памяти Ф. М.
Достоевского в Старой Руссе, месте обыкновенного летнего отдыха его, и,
главное, 2) музея его.
Вот что рассказывает она о последнем в предисловии к «Библиографи-
ческому указателю».
Двадцать пять лет назад скончался мой муж, Федор Михайлович Достоевс-
кий. Глубоко потрясенная его преждевременною кончиною, я нашла для себя
некоторое утешение в мысли... сохранить для моих детей воспоминания об их
почившем отце. С этою целью я стала собирать его портреты, бюсты покойно-
го, статьи о его произведениях, — словом, все, что так или иначе относилось к
79
памяти Федора Михайловича. С течением времени, когда собранные мною ма-
териалы возросли до нескольких тысяч предметов, явилось основание дать воз-
можность пользоваться ими биографам покойного моего мужа и лицам, желаю-
щим изучить его литературную и публицистическую деятельность. Все мною
собранное я пожертвовала в Императорский российский музей имени импера-
тора Александра III в Москве, в одной из башен которого и находится «Музей
памяти Ф. М. Достоевского». Признавая, что пользование материалами музея
затруднительно за неимением печатного каталога, я решила составить библио-
графический указатель сочинений и произведений искусства, относящихся к
жизни и деятельности Ф. М. Достоевского.
В «Музее памяти Достоевского» собрано 4700 предметов, из них в опи-
сание А. Г. Достоевской вошло 4232 предмета, собранные по 1903 г. вклю-
чительно. Между отделами музея выдающееся значение имеют: «подлин-
ные рукописи Ф. М. Достоевского», — «Бесы», начиная с 3-й части, «Под-
росток», «Дневник писателя» и «Записная книжка». Здесь же находятся книги
с собственноручными его заметками. Известно, что из «Бесов» при напеча-
тании выпущена одна глава, и не будет нескромностью здесь сообщить, что
А. Г. Достоевская хотела восстановить эту главу в посмертных изданиях, но
по совету одного близкого к покойному ее мужу высокопоставленного лица
духовного ведомства — воздержалась от этого. Только в последнем изда-
нии, сейчас выходящем, появилась выпущенная глава.
Среди «официальных бумаг, относящихся до службы, ссылки и других
жизненных обстоятельств Ф. М. Достоевского» замечательны копии с бу-
маг, находящихся в III отделении Собственной Его Величества канцелярии,
а также несколько официальных бумаг других учреждений, относящихся до
пребывания Ф. М. Достоевского в Сибири, в Твери и Петербурге и секрет-
ного за ним надзора, — всего 66 бумаг, недоступных для общественного
пользования.
В музее собраны также переводы сочинений Ф. М. Достоевского и ста-
тьи о его произведениях в иностранной литературе. На английский язык
переведено восемь крупнейших произведений (не переведены, однако, ни
«Бесы», ни «Братья Карамазовы»), на болгарский — 1 («Униженные и оскор-
бленные»), на венгерский — 5, на голландский — 5, на греческий — 1, на
датский — 10, на испанский — 1, на итальянский — 9, на латышский — 19
на норвежский — 8, на немецкий — все (и самая обширная литература о
Достоевском), на польский — 2, на сербский — 5, на финский — 4, на фран-
цузский — все, на хорватский — 5, на чешский — 2, на шведский — 6, на
эстонский — 1. Нельзя не заметить по преобладанию переводимых произ-
ведений, что переводчики руководились более беллетристическим интере-
сом, нежели богатейшим философским и вообще идейным содержанием, и
что лучшая пора для Достоевского на Западе — еще настанет.
Кроме книг и рукописей, тут же находятся портреты родственников До-
стоевского (между ними — отца, матери, трех братьев и двух сестер, первой
его жены, всех детей, в том числе умерших в детстве), снимки с любимых
80
Ф. М. Достоевским произведений искусства и ноты нравившихся ему музы-
кальных произведений.
«Вещи, принадлежавшие Ф. М. Достоевскому и его матери» — дают
обстановку его писательской деятельности в бытовой жизни. Тут и крупное
и мелочи, до красного кожаного портсигара, вставочки для перьев и коробки
обычно им покупаемых перьев, обычно куримых папирос и т. д. На первом
месте помещена «Икона Пресвятой Богородицы Всех Скорбящих Радости»,
всегда находившаяся в кабинете Ф. М. Достоевского. Как недостает тут того
экземпляра Евангелия, который был с ним в Сибири и с которым, по воспо-
минаниям, он не расставался всю жизнь, и даже перед смертью, «открыв
наугад место» по смыслу прочитанного с центральным словом — «не удер-
живай», предугадал, что жизнь его кончилась, что хлопоты врачей беспо-
лезны!
Удивительно необозримая библиография всего, что когда-либо и где-либо
писалось о Достоевском как при жизни его, так и после его смерти; даже
всего, где только упомянуто его имя, как, напр., рубрики «Среди газет и
журналов». Для этой египетской работы вдове его пришлось просмотреть, —
по крайней мере, внимательно перелистать, — журналы и газеты, вплоть до
провинциальных и самых маленьких, более чем за полвека! И все-таки этот
ужасный труд далеко не полон! Например, прекрасная книга г. Шестова
«Апофеоз беспочвенности» не упомянута в библиографии. Авторы должны
сами помочь музею и прислать свои книги и статьи туда, с отметками мест
или даже без отметок. Имея эти явные недостатки, библиография местами
имеет излишества: например, указаны мои статьи о Риме, где, я наверно
помню, ни слова не говорится о Достоевском. Но, во всяком случае, этим
трудом Ан. Гр. Достоевская вывела основной фундамент библиографии о
великом русском человеке, всегда нужный и страшно облегчающий и следу-
ющую работу.
Такого же египетского терпения требовало составление «Указателя имен
личных» и «Предметного указателя», где каждая строчка требовала справ-
ки, а строк этих — тысячи! Да благословит Господь Бог всех, подобным спо-
собом трудившихся: работа их поистине нуждается в помощи Неба. Но вот
опять чего недостает, и мысль о чем мне приходит уже многие годы: состав-
ление «идейного библиографического указателя к сочинениям Ф. М. Досто-
евского». В «Приложениях» к своему разбору его «Легенды об Инквизито-
ре» я сделал подобную попытку соединить в одно все места из Достоевско-
го, где он говорит, например, о самоубийстве, о католицизме. То же можно
сделать, но с указанием только страниц какого-нибудь одного определенно-
го издания, по рубрикам: «Бессмертие души», «Национальности» и среди
них — «Евреи», «Немцы» (например, доктор Герценштубе в «Братьях Кара-
мазовых» или в «Бесах» — губернатор-немец, клеящий коробочки). Это тре-
бует отличного знания текста Достоевского, значительного ума и искусства
и страшного опять прилежания. Так как во мне текст Достоевского стоит
довольно ярко, то мысль подобного «идейного указателя» мне представля-
81
лась всегда страшно соблазнительной: но... терпение! терпение! Его нужно
слишком много для подобного «Указателя».
Своим трудом А. Г. Достоевская пожала руку всей русской литературе,
и русская литература за это ответно пожмет ее руку.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Ошибка — не грех, когда она вовремя исправлена. И я спешу предупредить
возможный грех, делая поправку к словам своим о «Библиографическом
указателе сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и де-
ятельности Ф. М. Достоевского», составленном А. Гр. Достоевскою и только
что появившемся. Оказывается, что в библиографический указатель его не
внесено ни одной статьи, где бы не говорилось о Достоевском, что статьи
вносились в указатель после тщательного просмотра их текста состави-
тельницею, а вовсе не руководствуясь только их заглавиями или авторами,
как я это предположил в своем отзыве. А что это все — так, она блистательно
мне доказала, отправившись в Публичную библиотеку и, по наведении над-
лежащей справки, выписав дословно из моих «Римских впечатлений» мес-
та, где я говорю о связи трудов Достоевского с христианским таинством
покаяния, и еще одно место. Между тем как в своей статье я категорически
высказался, что в «Римских впечатлениях» имя Достоевского не упоминает-
ся. Мне очень совестно и перед читателями, и перед страшно трудолюби-
вою составительницею, — и я считаю долгом чести печатно сказать о своей
неосторожности.
NICOLAS LESKOV. GENS DE RUSSIE
Traduction et preface de Denis Roche.
Librairie academique Perrin et C-ie.
Автору нужно было обладать не только большим, но огромным знанием
русского языка в его, так сказать, «идиомах», «идиотизмах», неуловимых
оригинальных оттенках, чуждых грамматике других языков, чтобы взяться
за передачу на французский язык покойного Лескова. Но для французов и
вообще западных людей Лесков даст множество поразительно новых черт
русского быта, русской жизни. Самый заголовок переводов г. Дени Роща
хорошо обнимает эту коллективную тему: «Русские люди» — так можно оза-
главить все или «избранные» сочинения Лескова. Вкус автора сказался в том,
что на первое место в серии переводов он выдвинул «Чертогон» (Le Chasse-
diable) — одно из самых характерных явлений русской жизни и один из са-
82
мых характерных рассказов Лескова. Если поставят около него «Запечат-
ленного Ангела» (L’ange seelie), то вот уже целая уйма русского духа, рус-
ского языка, русской нескладицы, мук и поэзии, по которой очень и очень о
многом может судить иностранец, может задуматься иностранец и, нам ка-
жется, многое может полюбить иностранец. Знаток Лескова оценит пере-
водчика, пробежав заголовок других переведенных вещей: «Cheramour»,
«Nicolas Fermor», «Un pygmee», «Tourmant d’esprit», «17artiste et toupets»*.
Автор, очевидно, имеет в России личные связи и, может быть, дружбы, судя
по посвящению сборника своих переводов русской женщине. Книге пред-
послана биография и очерк литературной деятельности Лескова и снимок с
его портрета работы Репина. Рисунком этого художника украшена и облож-
ка книги.
Предисловие к книге
Л. Вилькиной (Минской)
«Мой сад. Сонеты и рассказы»
Поэтесса сказала мне: «Напишите предисловие к моим сонетам». Но как же
я напишу его? Думалось мне. Впрочем, ведь «предисловие» есть дверь во-
обще, а не описание убранства комнаты, в которую ведет она. И отчего мне
не сказать двух-трех слов о комнате и ее обитательнице, чтобы, читая книгу,
читатель знал и сколько-нибудь мог представить, откуда же исходят звуки,
которые он слушает...
Буду браниться, ибо не хочу хвалить. Это так конфектно-приторно. К
тому же похвала может быть не искренняя, когда брань имеет всю истину
невольного траура. Итак, написательница этих сонетов есть несносное, кап-
ризное существо, не знающее сил, под которыми смирился мир: господина,
закона и обычая. Вы подумаете, что она не чешет по утрам голову и не сни-
мает на ночь башмаков? Нет, что ей удобно, она делает все, и снимает баш-
маки на ночь не «по обычаю», а потому что иначе ей было бы жарко. Поэто-
му не сегодня-завтра вы можете увидеть женщину, идущую в июльские дни
босою по петербургским тротуарам. Уверен, если она не сделала этого до
сих пор, то только по неизобретательности. Она больше задумывается, чем
надумывает, и предпочитает больше грезить, нежели видеть.
Я дошел до главного.
Стих — это плод мечты, как и жизнь их автора, и вся личность его есть
необузданная ткань мечты, и только мечты с ужасной враждой к действи-
тельности, закону и обществу. Удивляюсь, как родители и муж (единствен-
* «Шерамур», «Инженеры-бессребреники», «Пигмей», «Томление духа», «Ту-
пейный художник» (фр.).
83
ные «законные» обстоятельства ее жизни) не переселили на чердак или в
мезонин эту вечную угрозу своему порядку, удобствам и привычкам. Мож-
но объяснить это только тем, что мечты поэтессы созерцательны, тихи, что
почти нужно удивляться, как они нашли себе воплощающее слово. Лениво
она кидала их на бумагу: это уже не была самая отрадная часть ее творче-
ства. Лучшая часть его — до слова. Как снежинки, ледяные в облаках, тают,
прижимаясь к земле, — так все мечты нашего автора мрачнее, чем в яркой
зале ее воображения.
Она — немного сомнамбула в стихах. Читатель редко сумеет связать их
с действительностью. В дни войны или мира, сытости или голода, болезни
или здоровья — она не отрываясь творит в этой зале своего воображения,
как бы ничего не было, кроме нее. Это недостаток в наш реальный век. По-
этесса не претендует на современность. Она принадлежит к тем «душам-
потемкам», которых окрестили именем символистов: хотя святое таинство
едва ли согласился бы священник сотворить над этими «нехристями». «Душа-
потемки» — не значит без свеч, без огней; напротив, внутри такие души
освещены слишком ярко; это значит только «душа без окон в мир». И нельзя
в нее заглянуть никому, кого автор, взяв за руку, не проведет в нее большей
частью узкими, низкими и не совсем безопасными коридорами. Что делать,
у всякой души свои законы; символисты претендуют на свои в этой области.
Я — не из сочувствующих этой школе. Все реальное очевидно здорово,
как чрезмерно субъективное очевидно болезненно. Читатель найдет в этой
книжке много болезненных тонов, в смысле хождения «непротоптанными
дорожками». Если он не боится наколоться, ушибиться и вовсе упасть, —
пусть перелистывает книжку дальше. Но если он добрый буржуа, как я, бе-
регущий послеобеденный и ночной сон, хороший аппетит и нормальность
«всех прочих отправлений», — пусть положит ее на стол не разрезывая. Я
люблю порядок, не терплю беспорядка: и никак не могу рекомендовать эту
книгу, на которую автор указал мне, безмолвно улыбнувшись. Ненавижу
сфинксов, ненавижу Египет — я ненавижу этих новых египетских жриц.
О КАКОМ БРАКЕ ГОВОРИЛ И. ХРИСТОС
Обращаюсь к частностям письма, возражающего против гражданского бра-
ка. Повторяю: для меня это как бы говор толпы, лучших людей из толпы.
«Христос говорил (Матфея, XIX глава) не о гражданском браке». Нет,
Он говорил именно о гражданском браке, и только о нем, т. е. Он говорил о
великом институте семьи, но великом в существе своем, а отнюдь великом
не от способа заключения его. Способ этот при И. Христе был чисто граж-
данский, и евреи, не изменяющие своих традиций, до сих пор не имеют
другого брака, кроме гражданского. Слова Спасителя о браке переданы у
евангелиста как попутные, сказанные на ходу, на улице, среди толпы; мог
ли же Спаситель отвечать толпе... не о чем-то ей известном и понятном, а
прозревая в русскую или французскую действительность и говоря о като-
лическом или православном браке?! Опытами такой магии на расстоянии
«благой Учитель», наш Учитель — не занимался. Вопрос «по всякой ли
причине можно одобрительно разводиться» — был questio vexata* иудей-
ства, по которому разошлись две школы, Гиллеля и Шамая: Гиллель и ли-
ния его последователей высказывались против абсолютности свободы мужа
«отпускать от себя жену», ибо нередко отсюда проистекали явные обиды
кротким и верным женам, просто разонравившимся своим мужьям; напро-
тив, сухой формалист Шамай, нечто вроде нашего Филарета, отвергал вся-
кое ограничение для воли мужа как главы размножения. Вот с этим тради-
ционным вопросом, подобным нашим схоластическим спорам средних ве-
ков, и обратились евреи к Христу, ровно за тысячу лет до того «серьезного
и солидного, от духовного ведомства получаемого разрешения на вступле-
ние в брак», с каким знакомы мы и о каком пишет корреспондентка. Кажет-
ся, не нужно разъяснять, что священник венчающий ничего собственно от
себя и души своей не делает при венчании, а выполняет порученную ему
функцию. Опять потороплюсь зайти вперед и сказать корреспондентке це-
лостно свою мысль: чем воздушнее, прозрачнее, легче способ вступления в
* Животрепещущий вопрос (лат.).
87
брак, заключения брака, возникновения семьи, тем тяжеловеснее, устой-
чивее, солиднее, серьезнее самая семья; и обратно. Тут является нечто вро-
де гипноза со стороны на брачащихся и самогипноз самих их. Что семья
страшно важна, об этом ведь и спора нет; а сами вступающие в семью это
чувствуют до преувеличения; вся жизнь решается, все будущее и с потом-
ством. Просто оторопь и страх берет. Теперь, у нас — все это снято с венча-
ющихся, снято в моральном смысле, и оставлены только юридические и
экономические зацепы. Посему и начинают семью очень просто, пересчи-
тав только приданое. Весь страх собственно религиозный, нравственный
впитало в себя венчание. В нем одном тяжесть, вес, религия, закон. «Собы-
тие брака», говоря судебным и законодательным языком, определяется «за-
писью венчания». Т. е. все вынуто из семьи и перенесено на час венчания:
дума, забота, страх, ответственность, надежды, ожидания — все прикрепи-
лось к способу заключения брака, а не к существу заключенного брака.
Середочка вынута и разрисована наружность. Так у нас. Но Христос гово-
рил слова Свои вовсе не об этом полегчавшем браке, опорожненном от со-
держания браке, в сущности — фиктивном браке (венчание без супруже-
ства, без обращения внимания на супружество), а об его тяжеловесном ядре,
для которого в век Спасителя не было собственно никакой оболочки, кроме
(у богатых людей) пира, а не у богатых — просто ничего, кроме благосло-
вения родителей, у кого они были, а нет — просто своей воли и самого
факта вступления в супружескую связь. Так ведь «брак в Кане Галилейс-
кой» и описан в Евангелии: нет ни священника, ни раввина, ни судьи, ни
чиновника. Просто — это явление быта, явление народной жизни', брак
происходил к вечеру, при наступающей темноте (у нас — утром или днем)
и заключался в том, что родные и друзья и «вся улица» собирались на пир-
шество и пировали целую ночь в то время, как «вступившие в брак» нахо-
дились в так называемой хуппе, шатре, попросту — в опочивальне. Оттого
Спаситель на браке в Кане Галилейской не видит новобрачных и о них в
рассказе евангелиста не упоминается; ибо в евангельские времена ново-
брачных на пире и не было, не бывало никогда, они опочивали. Таким обра-
зом, в чем же заключалось, говоря нашим юридическим языком, «событие
брака»? Неловко сказать, но так: в спанье. Брак просто не имел никакой
формы заключения своего, кроме прекрасных обычаев народных, которые
тем горячее поспешили сюда, чем менее государство или церковь вмеши-
вались сюда. На брачное пиршество шел всякий, вся улица: присутствовать
на нем, просто присутствовать — было благочестивым делом; ради этого,
т. е. чтобы прийти на брак, нарушались зароки, прекращалась вражда меж-
ду семьями, оставлялись все нужные дела. Гипноза было много для ново-
брачных: все сочувствуют, радуются, вся община, целый маленький горо-
док, вроде вот Каны Галилейской. Целая община, — если новобрачная была
нищая, — собирала ей приданое, и вот это, т. е. обязательства общины пе-
ред «девушкою на выданье», были уже юридически оговорены. Словом,
было нечто странное: молодым людям только тешиться, радоваться, а все
88
им работают, служат; государство и царь целый год не берут «молодожена»
в войско; он ничего не работает, живя один год у родителей молодой жены
и другой год с молодою женою у своих родителей. Все и всё им служат. Так,
можно думать, эта самоотверженная любовь всех к их молодому счастью
кое-что навевала на них? На самое их супружество, связь, чадорождение?
Совсем иная психическая атмосфера, нежели какая вытекает из нашего
«предбрачного обыска» (хорошо и мягко) и т. п. загородок и рогаток. У нас
«молодого счастья» точно никто не любит, все ему не доверяют, качают
головами; и невеста перед браком «прощается и плачет», а жених после-
дний раз «кутит» (мальчишник); во главе всех и впереди всех не любит
молодого счастья церковь, которая и выработала «препятствия к нему»,
подробные, придирчивые, мелочные, а за нею, слепо следуя, и государство,
которое тоже нашло множество своих «служб», начиная от военной, кото-
рые все «препятствуют браку». Кондратенко, многодетный семьянин, —
какой герой! Но почему-то семейному офицеру предпочитается холостой
кутила. Так как церковь, через девственный свой идеал, вообще низвергла
абсолютность брака, то она молча дозволила государству, а затем и корпо-
рациям, наконец, отдельным лицам сколько угодно и под какими угодно
предлогами «запрещать брак». В Петербурге городское управление запре-
тило его учительницам, а у католиков всегда требовалось «согласие опеку-
на» на брак. Словом, в евангельские времена и евангельской семье все бра-
ку радуются, ему сочувствуют, его устраивают; в православии и католициз-
ме столь же усердно все ему «препятствуют». И «препятствия»-™, а никак
не способствование и составляют органическую, почти главную часть «за-
кона о браке», идущего от церкви. Известны кары, постигающие священ-
ника от духовного начальства (всегда монашеского), если он повенчал чету
при наличности хоть какого-нибудь ничтожного, иногда смешного, препят-
ствия (есть и смешные препятствия, напр. «духовное родство»), но вот если
он придирчив, вымогает деньги перед браком и вообще «препятствует» —
ничего. Никогда и никакой ответственности он за это не нес, не понесет; не
бывало примера.
Итак, общий принцип у нас, идущий от церкви (монашество), — «пре-
пятствовать браку»; общий принцип в ветхозаветной жизни (семья) — спо-
собствовать браку.
Христос в XIX главе евангелиста Матфея и говорит об этой натураль-
ной связи и последующем деторождении. Об этом не оставляют никакого
сомнения натуральные, почти натуралистические слова, в которые Он за-
ключил мысль свою. Вот эти слова: «Иисус сказал им в ответ: Не читали ли
вы, что Сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их (не членов
общества, не граждан, а физиологические существа) и сказал: посему оста-
вит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною пло-
тью».
Собственно, так как к «жене прилепляется» не вообще «человек», а толь-
ко мужчина, то речь Спасителя звучала по-еврейски еще натуральнее, чем
89
как это перешло в греческий и славянский переводы: «Посему мужчина ос-
тавляет дом, отца и матерь и ищет женщины, к которой прилепляется, и
прилепляется к ней, и обращаются оба в плоть едину», т. е. единый орга-
низм их двух и детей их.
И далее Спаситель кончает:
«Так что они уже не двое, а одна плоть. Итак, что Бог сочетал, человек
да не разлучает».
«Да не разлучает», — выдвинуто как угроза против всех «препятствий»
молодой семье, молодому чувству, и в зарождении этого чувства, и в по-
следствиях оного. Хороши, ввиду этих слов Спасителя, пресловутые «рас-
торжения браков» духовным ведомством, — браков иногда уже с детьми,
счастливых и любящих. Да, это не так кроваво, как «производить операцию
пациенту» или «присутствовать на операции» в клинике, ввиду чего и в
предупреждение чего Синод и не дозволил священникам учиться медици-
не. Такая примерная кротость: «на операциях проливается кровь челове-
ческая»... А что она тоже «проливается», и вовсе не бумажно, а иногда фак-
тически и натурально от этих «расторжений» брака и «недопущений» бра-
ка, от законов о «внебрачных детях» — это, видите ли, «не составляет пре-
пятствия для нашей святости» и не противоречит «бескровной евхаристии»,
приносимой на литургии. Еще бы, делается все за углом, не на глазах; там в
темноте давят (детей) и вешаются (влюбленные, счастливые); и посему не
марает все это тех «украшений гроба», которыми одними мы заняты: блис-
тающий, в золоте и серебре, стоит он перед нами, среди фимиамов и мо-
литв.
Итак, моя корреспондентка и тысячи русских могут видеть, что граж-
данский брак нисколько не противоречит словам Спасителя и говорившего
о гражданском браке или, точнее, говорившего о великом институте семьи
человеческой, о неизмеримом факте связанности полов и деторождения —
без всякого при этом внимания к форме, через посредство которой брак «зак-
лючается», и каковой «формы» при Спасителе и не было вовсе. Не о «пире»
же гостей Он говорил, а был именно и только «пир», «пирушка», веселье,
вино и их восточные танцы. Больше ничего. Священника не было, чиновни-
ка не было, «записей в книгу» не было, — ничего не было, кроме «домаш-
ней», «своей» записи, этих ихних «гетов» вроде нашей почтовой квитанции,
где рукою мужа обозначалось, что вот «такая-то, дочь такого-то, становится
моею женою», и «гет» этот хранился у мужа (некоторые века) или у тестя
(другие века). Частная записка, вроде наших «пригласительных билетов» на
свадьбу, т. е. легчайшая, воздушнейшая, могущая быть разорванною, форма
гражданского брака.
90
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ И МЫСЛЕЙ
О К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВЕ
Мне привелось, по частному и особенному случаю, иметь одну длинную
беседу с недавно умершим К. П. Победоносцевым, где он высказался с за-
мечательною откровенностью и принципиальностью о высшем государствен-
ном управлении, о так называемом монархическом строе, у нас и в Европе.
Мысли эти — совершенно не те, какие ad publicum* и для действия, в утили-
тарных целях, он высказал в своем «Московском сборнике». Они не могут
не быть интересны для читателей, историков и для его биографа. Затем мне
приходилось мельком видеть этого государственного человека, и также я
внимательно прислушивался ко всему, что о нем говорят люди вражды и
дружбы, люди разных положений и профессий. Мне думается, что понима-
ние какого-нибудь явления или лица зависит не столько от частоты наблю-
дения, сколько от внимания наблюдения. К последнему у меня была особен-
ная причина: раньше первой встречи я не относился к личности Победонос-
цева безразлично. Многие годы, приблизительно с 1882 г. до 1898 г., взгля-
ды мои (которые в основе всегда суть симпатия) на церковь, государство,
цивилизацию, историю были приблизительно те, какие приведены в «Моск,
сборн.», но только они выражались литературно и всячески менее закруг-
ленно, более резко, угловато, менее художественно. В излишествах отрица-
ния прогресса, культуры и, например, школьного (установленного типа) об-
разования я заходил так далеко и, должно быть, выражал это (в «Русск. Ве-
стнике» и «Русск. Обозрении») так угловато, что это вызвало замечание
Победоносцева, переданное мне редактором журнала: «У Р-ва не все дома»,
что в переводе значит: «P-в пишет как бы не в своем уме». Это относится
именно к нехудожественности, к вообще неприятности для читателя вы-
ражаемых мною мыслей, которые по тенденциям своим, повторяю, не по
мотивам, не разнились от миросозерцания «Моск, сборника». Сказать ко-
ротко: я совпадал точка в точку с любимейшим в ту пору моим писателем
К. Н. Леонтьевым, автором книги «Восток, Россия и Славянство» и брошюр:
«Наши новые христиане — Толстой и Достоевский», «Национальная поли-
тика как орудие всемирной революции», «От. Климент Задергольм, иеромо-
нах Оптиной пустыни» и проч. Леонтьев же и его планы политики относи-
лись к Победоносцеву и его фактической политике приблизительно, как
Равельяк, иезуит-убийца Генриха IV, положим, к папе того времени, разуме-
ется, папе и доброму католику, но, может быть, несколько холодному к сво-
ему папству. Также и мне все нравилось в Победоносцеве; но он казался
слишком медлителен, нерешителен, и, словом, в год творил по маленькому
дельцу, когда надо было каждую неделю делать гору дел в том же направ-
лении, и далее, какова была фактическая политика Победоносцева в царство-
вание Александра III. Я все это веду к тому, чтобы объяснить читателю, по-
* публично (лат.).
91
чему я был внимателен к личности Победоносцева, дабы он не отвернулся
от воспоминаний человека, почти и не знавшего его. Здесь было внимание
любви, уважения. Приблизительно с 1898 г. я был внимателен уже от другой
причины: негодования, неуважения всех дел, всей политики. Негодование
тоже заостряет внимание. Таким образом, хотя я смотрел через два стекла
на его личность, но я его рассматривал при этом и, естественно, мог заме-
тить многое, чего другие не замечают и при самом частом общении, даже
именно от частоты, вульгарности, обыденности.
Скажу также, что хотя в этот второй период я уже смотрел на дела его
через черное стекло, но лично сам к нему как к личности сохранял все пре-
жнее отношение, похожее на привязанность. Все мне в делах его казалось
смешным, ненужным; когда разгорелась у нас революция или что-то похо-
жее на революцию, я не мог удержаться, чтобы не написать ему краткого
указания, что происхождением своим никому эта революция так не обяза-
на, как ему и его политике в царствование Александра III. Но это — фило-
софия. Кроме философии, есть поэзия, и вот этой второй частью своего
существа я до конца его жизни не мог не восхищаться черным Дон-Кихо-
том, таким грустным, таким беспомощным, таким благородным и бескоры-
стным, как и знаменитый идальго Ла-Манча. Его известный ум и образова-
ние не были для меня (как для многих) самою в нем привлекательною чер-
тою: может быть, строя иллюзии, я вечно слушал его сердце и по всемирно-
му сочувствию, всемирному братству людей не мог без глубокой любви
думать об этом сердце, которое так много само любило политически, так
часто увлекалось и знало такие разочарования... Здесь мне приходит на ум
одна параллель. Подобно тому как мы все не знаем настоящей причины
нервного и озлобленного расхождения гр. Л. Н. Толстого с церковью, и
причина эта, без сомнения, кроется в чем-нибудь очень интимном и част-
ном, в какой-нибудь такой незаметной, но существенной черточке биогра-
фии великого писателя, которой он никогда и никому не рассказал; так же
точно политические и исторические убеждения Победоносцева, все окра-
шенные в такой черный, скептический и презирающий цвет, без сомнения,
имеют основанием для себя тоже что-нибудь частное, личное, какую-то
великую обиду или горечь, какую замечательный государственный человек
постоянно нес в своем сердце, нес ежедневно и не мог ее выдавить из себя.
Тут я комментарий могу дать только в замечательной мусульманской пого-
ворке, которую мне когда-то случилось прочесть. Поговорка говорит: «Что
тому человеку за дело до мира, у которого тесна обувь». Поговорка выраже-
на как-то изящнее и резче, может быть: «Что тому человеку в радостях
света, у которого сапог жмет пъ мозоль». Вот у Победоносцева, как и у Тол-
стого, где-то нажало мозоль, стыдливую, застенчивую, о которой не пой-
дешь и не расскажешь соседу: и оба закричали, один — в одном тоне, дру-
гой — в другом тоне, что мир неладно устроен, и «зачем земля кругла», и для
чего «планеты ходят по небу». Но суть не в планетах и не в земле, а в сапоге
и мозоли.
92
Каким образом человек такого замечательного ума и образования, кото-
рый поровну разделил свое сердце и отдал его без остатка, без скупости
высочайшим интересам религии, поэзии, философии и общественности, —
более, который в кабинете у себя, в уединенном своем я так чисто и радост-
но переживал бескорыстнейшие волнения, идущие от Пушкина, Карлейля,
Эмерсона, прелестных христианских отшельников первых веков эры, кото-
рый внутри себя и неподдельно был чем-то средним между маркизом По-
зою, Дон-Кихотом, Гамлетом, Вертером и умел говорить, — нет, умел чув-
ствовать слова, от которых не отказались бы эти любимейшие Европою
персонажи Шиллера и Гёте, на деле был чем-то средним между герцогом
Альбою и тем придворным, которого заколол Гамлет, приняв его за мышь:
это остается навсегда необъяснимым! Так сознавать нужду движения, и так
все остановить; так быть просвещенным, и так теснить; вообще не лю-
бить и не уважать просвещения; так сознавать все дурным в его сущем
положении, и особенно дурным в положении, в состоянии церкви и государ-
ственности, и вместе неутомимо противиться всякой перемене здесь, охра-
нять это дурное... Непостижимо. Хочется бросить разгадку в виде дерзко-
го афоризма: да, Победоносцев был вовсе не государственный человек, не
имел ни капли нужного государственному человеку. «Как, — закричат, — ког-
да он только и был государственным человеком?» Но я отвечу на это, что в
том «неограниченном» режиме, в каком он жил и действовал, ничто не со-
ставляло препятствия поставить на чреду действия человека мысли и заме-
чательных мыслей; импрессиониста, который, как «Эхо» пушкинское, рож-
дал отзвуки и на вопросы и дела государственные, на события государства,
церкви, общества, философии, литературы: но все отзвуки отражатель-
ные, отрицательные, бездейственные, не живые и не самобытные. Победо-
носцев ничего в церкви и государстве не сотворил, если не считать сотворе-
нием то, что он лишь крепче затянул, стянул и сдавил все отношения в них,
и без того душные, задавленные и тесные. Но это ясно не сотворение, не
дело. Всем общеизвестно, что он был «консерватором», «охранителем», но
что это за дело — консерватизм? Что за ведомство «всеобщего охранения»?
Вещи хранятся сами собою; тем, что они лежат, существуют, есть. Жизнь
охраняется самою тяжеловесностью своею, врожденною всех существ ог-
раниченностью, даже бездарностью, ленью, всеобщей физической мировой
косностью, мировым трением что ли, препятствием среды. Словом, не нужно
«министерства всеобщего охранения», и оно так же странно в системе госу-
дарства, как если бы в системе народного просвещения появились школы
«поощрения лени» или «образцовые училища долгого сидения в одном и
том же классе». Это противоестественная, ненормальная, и по ненормаль-
ности как бы тошнотворная, холерная задача. Просто, это болезнь, патоло-
гия! Не за что платить жалованья, не для чего собирать людей, усаживать их
по департаментам и отделениям. И если работники собраны, оплачены и
усажены по рамам стульев и кресел, то они и должны работать работу,
делать, творить, непременно вновь и вперед. Без «вперед» просто нет мини-
93
стерства! Без «нового» — не должно быть ведомства. Это — его роспуск,
каникулы, уничтожение.
Но Победоносцев, о котором известно, что он заводил такую «холеру» в
государственном и церковном организмах, заставлял организмы эти «выб-
расывать назад» все, что бы они ни скушали нового, свежего, недавнего,
можно ли назвать его государственным человеком? Просто смешной воп-
рос: этот импрессионист со своими «эхами» и «ахами» замешался, как длин-
ная крючковатая палка, в колесики и колеса, в сложные и необозримые госу-
дарственные механизмы, всему мешая, препятствуя; ничего не оживляя, хотя
сам как именно импрессионизм оставаясь непременно жив. Все его обая-
ние, ум, живость, образование, его простота и естественность, привлека-
тельность его образа как человека пошли в отрицательную, мертвящую ра-
боту. Чем он был живее, тем мертвее все вокруг него становилось. Чем он
более говорил, тем менее говорили другие, все приучалось к «молчанию» в
его ведомстве. Гамлет по устроению способностей и Дон-Кихот по истори-
ческим задачам, он на деле, фактически, был червем того растения, к кото-
рому любовно привязался; точил и точил, ел и ел сердцевину церкви и госу-
дарства, все хваля сладость, полезность и живительность съедаемого. От-
вратительная роль: но для чего на нее ставили человека? Мы убеждены, что
говорим лучшую похвалу ему, снимая с него эту «церковность» и «государ-
ственность», ему навязанную, к которой его принудили, и оставляя за ним,
как ему коренным образом присущие, черты просто прекрасного человека.
Для всякого, кто имел малейшее к нему прикосновение, не может быть ни-
какого сомнения, что его невозможно поставить и оставить в ряду действи-
тельно темных людей политики, вроде известного австрийского Меттерни-
ха: у тех был какой-то врожденный мундир, какая-то мундирность душе-
устроения, которая отталкивает от них человечество. «Не наш, не наш!» —
есть восклицание над их гробом, роковое, самое мучительное, если оно раз-
дается из уст человечества. Над гробом Победоносцева хочется сказать дру-
гое, примирительное слово. Я знаю, как встанут на дыбы против этого слова
все, кто лично его не знал и просто по этому незнанию не могут судить.
Мундир на него был только надет, притом — со стороны. И хотя Победонос-
цев нервно ненавидел общество и общественность и в этом отношении иногда
произносил слова удивительной дерзости, но уже по их темпераменту и во-
обще по отсутствию в нем лукавства, хитрости, двуличия, притворства, за-
искивания, по этому свободному прекрасному в нем духу «он был наш!»...
Плоть от плоти общества, литературы, скажу необыкновенную вещь — ули-
цы: Алексинский навыворот. Бывают случаи, что дитя улицы, уличный вол-
чонок доброю феею или ангелом судьбы своей бывает перенесен во дворец,
в аристократию, в золотые и раззолоченные круги; и всю-то жизнь он стоит
угрюмо среди них, кусается, презирает, бьется. Мне решительно и опреде-
ленно известно, что раззолоченную среду вокруг себя, эту нашу бюрокра-
тию, он всегда и нескрываемо презирал. С некоторыми министрами, тоже
весьма богомольными, он не хотел иметь никакого дела, несмотря на все их
94
заискивание. Вульгарно, а 1а Алексинский, он произносил о Сенате: «сенато-
ры» («знаем мы этих сенаторов»), о Витте — «Этот Витта»... Вообще он
бранился, порицал, «как товарищи», как «на митингах». Это немногие за
ним знают, это характерно.
Но фея отделила волчонка рано и от улицы: видя ее только издали, как
грязь, прилипающую к колесам своего экипажа, — он презирал и ее дале-
ким, непонимающим, отвлеченным презрением. Я сравнил его с Алексинс-
ким: это грубо. Но его можно действительно сравнить с Добролюбовым, о
котором рассказывают, что как-то, проходя мимо Публичной библиотеки,
он сказал: «Вы думаете, это кому-нибудь нужно, этот старый хлам веков? Ее
просто надо сжечь». Вот Победоносцев и был таким Добролюбовым с дру-
гой стороны: «Что такое газеты? Разве в них пишут так хорошо, как Пуш-
кин? Их надо просто сжечь, да и все новое сжечь, всю эту якобы литературу
и просвещение, оставив святцы, Ефрема Сирина и Пушкина». Который-то
из персонажей тургеневского «Дыма» говорит об Ирине, главной героине
там, что она имела «posloblenny ум»... Вот такой «позлобленный ум», и с
этим именно ириновским темпераментом, женственным, оскорбленным,
измученным, имел и Победоносцев.
ХРИСТОС ВОСКРЕС
Дни годовых великих праздников естественно сделались днями если не ве-
ликих, то обширных припоминаний и более или менее обширных же по теме
соображений. Но политика, теперь заполонившая все места, сделала то, что
и дни великих праздников обратились в дни широких политических веща-
ний, ради которых имя праздника и смысл праздника только притягивался,
как говорится, за волосы. Так, на куцую программку кадетов или трудови-
ков и сегодня будут натягиваться зубами и «Голгофа», и «крест», и «воскре-
сение»... Всякий станет кивать на себя и даст понять, что их партия «висит
на кресте» и что от нее следует ждать «воскресения». Нужно ли говорить,
до чего все это противно, глупо, тошнотворно. Нужно ли напоминать, что
мы должны пощадить народ и, после того как тащили его к своей политике
триста шестьдесят дней, остающиеся пять дней года, ну, вот дни этих вели-
ких праздников, должны сами оставить политику и, несколько умывшись и
пообчистившись от ее угара, пойти в гости к народу, поклониться ему и про-
вести праздник у него на дому, не внося сюда ничего своего и подчинив-
шись во всем народному и вековому.
Пора бы повестись обычаю в дни великих праздников оставлять всякую
политику, восстановлять в душе так нужный для нее покой и мир. Приуро-
чивать не праздник к политике, а политику подчинить идее праздника, не
фальсифицируя его смысла: разница неизмеримая, если в нее хорошо вду-
маться и твердо ее выполнить! Каждый праздник идет к нам из дали веков.
Каждый прибрел и перешагнул, сохранившись неизменным, через такие
95
события, перед которыми происшествия текущего года — малая невидимая
пыль. Это, напр., Пасха, с ее смыслом, в ее обрядах, с тою же полуночною
заутренею, звоном целый день, красными яичками, с поцелуями встречных
людей на улице, — она, эта Пасха, прошла в том же самом виде через мон-
гольское иго, через удельно-вечевые усобицы; ее встречали торжественно в
Византии и, таясь под землею, потихоньку встречали в катакомбах Рима в
дни Нерона и Домициана. Ликование шумного народа — там, тихая, под-
земная радость — здесь. Какие события! Сколько перемен! Ну, возможно
ли, возможно ли, взглянув на эту перспективу веков, вспоминать о том, что
мы живем при Думе и ее волнениях.
Праздник должен будить в нас чувство истории, историчности. Великое
необходимейшее чувство, без которого человек обращается в муху-поденку.
И наконец, отодвигая политику, он должен родить в нашей душе идеи рели-
гиозной философии, без которых человек тоже останется близко к мухе-по-
денке или ползающему по земле трудолюбивому муравью. Политика ведь
сходна с муравейником, и можно всю жизнь прокопаться и проблуждать в
нем, так и не узнав, что есть на свете звезды и на земле океаны. Политика
мелочна; этого своего смертного греха она никак не избудет.
Если праздник Пасхи прошел такую даль веков, то это силою надежды,
в нем заключенной или им внушаемой. Но из надежды этой еще так мало
осуществлено! Может быть, человек оттого так и цепляется за этот празд-
ник, что не хочет потерять этой надежды, этого обещания, что он так несча-
стен вопреки смыслу этого праздника.
Смысл праздника — искупление, искупленность человека. Оттого зво-
нят колокола целый день и будут звонить всю неделю, оттого люди целуют-
ся, встретившись на улице, а в доброе старое время целовались все, даже
незнакомые, что люди чувствовали себя в этот день или должны бы чувство-
вать, ожидают чувствовать совершенно счастливыми, избавленными от ве-
ликой, неизбыточной беды. Как бы снята осада города, прекратился мор,
перестал голод. И все — внезапно, без ожидания, нечаянно, не своею заслу-
гою. Милосердие Божие — вот о чем говорит нам великий праздник; мило-
сердие свыше, небесная помощь человеку — какие удивительные слова,
вещи, понятия!
Необыкновенно трогательно читать в исторических обзорах древних
религий, что коренная идея этого праздника как возможного, который на-
станет и должен настать, зародилась задолго до Рождества Христова. Ис-
точник этого ожидания понятен. Он коренится в слабости человека и в со-
знании этой слабости. «Мы сами ничего не можем», «все в руках наших
рассыпается пылью и грязью». Явилась удивительная, плачущая надежда,
что когда-нибудь «Бог поможет», «придет Бог и поможет» сотворенному Им
человеку, который борется, усиливается, страдает, болеет, воюет, грешит,
злобствует и не может выбраться из этой тины сплетшихся причин и по-
следствий, из этой железной необходимости, &уйухт|, которая держит его в
своих тисках, как мощные законы физики держат мелкий камешек.
96
Человек сознавал с незапамятных времен, что он есть что-то совсем дру-
гое, чем бездушные камни. Что его порода другая, существо другое. Что
судьба камня для него, судьба замятой в обстоятельствах песчинки слишком
ужасна, невозможна и немыслима! «Это все временно», «что-то не то», «не
нормально». Будет другое, — это выросло в религиозную веру, исполнен-
ную такой пламенности, которая превосходила в смысле незыблемости и
несомненности уверенность в существовании окружающих физических об-
стоятельств. Но как «будет», когда царит avdy%r|, это жестокое сцепление
причин и последствий.
«Бог придет! Когда-нибудь Бог придет на землю! Не покинул Он до кон-
ца сотворенного Им человека», — верили, кричали, плакали, молились в
знойных странах Сирии, Палестины, Финикии, Египта. В разных формах у
разных народов, но эта вера везде была, везде зародилась. Сколько в ней
идеализма, сверхчувственного! «Будет чудо'. Бог явится среди людей на
земле».
Ну и что же? Нельзя не быть пораженным глубокою скромностью че-
ловека в массе, в народных скопищах, в силу которой он приписал свои
страдания не теснившим его маленьким деспотиям Востока, не дурным
законам или бесплодию почвы, а... самому себе, греху своему. «Я ничего не
могу, потому что слаб и грешен». Какая это разница с тем, как если бы он
сказал: «Мне плохо оттого, что царствует Артаксеркс; не будь Артаксеркса,
мне было бы хорошо, так как сам я гораздо лучше Артаксеркса и даже абсо-
лютно хорош». Эта пошленькая мысль размером на две недели и которой
хватает только до края улицы, — эта мысль, может быть, и приходила на ум
древнему человеку, но была им оставлена, как слишком пошлая. Конечно, и
Артаксеркс такой же, как последний под ним раб: он и раб и мы все несча-
стны и дурны потому, что не умеем выйти из-под давления окружающей
нас обстановки, условий существования своего, у каждого различных, но
которые всех нас давят и делают рабами, а не господами. И Артаксеркс
такой же раб своего трона, толпы льстецов, богатства и всемогущества, как
бедняк есть раб своего голода и своей зависимости. Один поэтому несчас-
тен и скрежещет зубами, а другой поэтому же не слышит его скрежета и не
обращает на него никакого внимания. Но оба в грехе, в зависимости. Не
будь давления обстоятельств на одного и на другого — и богатый услы-
шал бы бедного, Артаксеркс бросился бы на помощь бедняку, как было в
катакомбах, как осуществлялось впоследствии в идеале христианства, но,
увы, только в идеале...
«Бог придет и всех разбудит»... «Тогда все и все увидят», «все и всех
услышат»... «Бог спасет нас из этого мрака».
«Мы грешны — и придет Бог и искупит нас», — плакали и молились на
Востоке.
Чем искупит? Как?
Мировое явление, мировое состояние может быть переломлено на дру-
гое чем-нибудь мировым же. «Бог искупит» свелось на ожидание мирового
4 В. В. Розанов
97
потрясения, мирового катаклизма, мировой трагедии. «Совершится ужас-
ное, от чего мир содрогнется и — обновится». Что же это такое? Задолго до
Христа на всем Востоке забрежжила мысль, что «пришедший Бог умрет»,
«искупит смертью». Бог и смерть, Его поглотившая, какое ужасное сочета-
ние понятий, только выслушав которое невольно содрогаешься! Смерть его
поглотит, грех Его поглотит, но, войдя в самую челюсть ее, в эту зияющую
черную дыру, куда все уходит и откуда никто не возвращается, Бог разрушит
ее, самые столбы ее вырвет и выйдет опять к нам, выйдет из смерти и после
смерти, воскресший.
Вот наш праздник! Во всем очерке.
Поэтому с необыкновенным чувством удивления мы читаем, как в зной-
ной Сирии задолго до Р. X., в определенное время года, городские жители,
но преимущественно женщины, выходили в поле и, подражая манерам ищу-
щих, бродя взад и вперед, будто кого-то отыскивая, восклицали: «Он умер,
он умер, наш возлюбленный». Иногда называли они его «утраченным». Они
имели печальный вид, при распущенных волосах, плакали и били себя в
грудь кулаками. Платье на них было разорванное, убогое. «Он умер!» Эти
стенания, оглашавшие пустыню, продолжались три дня, ритуально. По окон-
чании их внезапно все преобразовывалось: необычайное ликование охваты-
вало толпу: «Он найден, он найден! Он воскрес, наш возлюбленный!» Руби-
ща сменялись блестящими одеяниями, все отдавалось восторгу, неописуе-
мому под тем южным солнцем.
В прекрасном коротеньком стихотворении наш философ-поэт Вл. Со-
ловьев передал этот праздник всего ближнего Востока, семито-хамитичес-
кого.
И вот что ожидалось — сбылось в христианстве. Поразительные стра-
ницы Евангелия дают нам уже не намек и схему, а реальный рассказ о дей-
ствительно происшедшем событии, со множеством названных лиц, свиде-
телей и участников события, с изложением всего хода его. «И камень был
отставлен, пещера пуста; повивальные простыни лежали тут же, но погре-
бенного не было». Нельзя не содрогнуться при чтении о действительном
исполнении тысячелетних чудесных ожиданий! Бог был с нами! нумер! и
воскрес! «Христос воскресе!»
Смерть побеждена, грех разрушен. Чем? Как? Совершилась величай-
шая мировая трагедия: и вот это новое влияние в историю трагического
начала должно бы растворить ее, размягчить так, что уже прежняя жест-
кость, грубость и поверхность души человеческой и жизни человеческой
должна бы исчезнуть. Замечаем мы все, что когда умер у кого-нибудь близ-
кий дорогой человек, то переживающий скорбь свою живой родственник
теряет прежние грубые и жесткие черты, не кричит, не обижает, как равно
не лжет и вообще не говорит пустых слов. Действие печали торжественно и
углубляет. Каково же должно бы быть действие печали при мысли, при виде
смерти Бога и Искупителя? Увы, наше горе в том, что мы как следует и горя-
чо не переживаем в предшествующие дни «смерти Бога» и от этого в надле-
98
жащей полноте не умеем почувствовать и «воскресения Бога». Одно в меру
другого: там сердце не упало так глубоко, как нужно, и теперь не подымает-
ся так высоко, как могло бы!
Великий праздник, велика его мысль, великие связаны были с ним ожи-
дания веков. Отчего же мы все как будто грустны и чего-то все ждем, когда
казалось, что уже все пришло, сбылось. В таинственном Евангелии, однако,
сказано, что люди после вознесения Христова на небо должны ожидать и
получат Духа-Утешителя, который будет послан им. Эти слова повторяются
и в любимейшей народом нашим молитве «Царю Небесный». Вообще хотя
в рамках евангельского рассказа событие Голгофы и Воскресения как будто
окончено, но по смыслу того же Евангелия, по непререкаемым его словам,
событие это как бы живет и осуществляется невидимо в истории, в ее неви-
димом духовном процессе. Как по чувству нашего народа «кроме видимого
антихриста есть неосязаемый и невещественный антихрист», так, конечно,
мы должны думать и о том, что в мире вечно есть и действует «Невидимый
Христос», основывающий Свое Невидимое Царство, основывающий и бо-
рющийся за него. Но Царству этому положены препятствия, границы. Свет
не сразу одолевает мглу. Косный, неповоротливый, неподдающийся мир со-
противляется свету Христова Воскресения. В этой борьбе всякая наша доб-
рая мысль, каждый хороший поступок, все серьезное в нас, торжественное,
глубоко помогает Христу. И тот привет, которым сегодня мы встречаем друг
друга, совершенно заменим словами одной молитвы, может быть более от-
вечающими теперешнему нашему моменту времени, все же несколько груст-
ному и как бы недоконченному:
«Да приидет Царствие Твое!»
БЕЛОЕ ХРИСТИАНСТВО
В смутное время и смутные мысли, в мятежное время — мятежные мысли.
Что делать? Они родятся сами. И некуда от них уйти. Будем говорить, что
есть на уме, не приноравливая речей искусственно к ожиданию читателей.
Хотели бы вы, чтобы была вечно Пасха? Хотели бы вы, чтобы был веч-
ный пост? Не правда ли, странный вопрос? Пост есть только подготовление
к тому, что главнее поста. Не правда ли? Не правда ли?
Но это полное, решительное ожидание души нашей, эта полная уверен-
ность ума опрокидывается действительностью. Сколько дней мы будем празд-
новать Пасху? По звону — семь дней. Но только по звону. Мальчишкам,
простонародью предоставлено взбираться на колокольни и звонить. Это —
народное, уличное явление, впрочем, очень милое и всех радующее. Но
насколько было бы глубже и прекраснее, если бы это явление с поверхнос-
ти, где оно задевает только колокольни и улицу, проникло и в душу церкви,
пошло в алтарь, село на престол! Церковь, несомненно, празднует Пасху
4* 99
только один день, ибо только в этот день весь народ, буквально весь, стека-
ется в храмы. «Будет что-то новое и единственное». И никто этого не про-
пускает. На «новое и единственное» старый, хилый — все пойдут. И если
совершенно бесспорно уже с понедельника народ сидит дома или гуляет,
лезет на колокольни звонить, но не входит в самый храм, то очевидно, что в
остальные шесть дней Красной недели внутри храма и не происходит ниче-
го «нового и единственного».
Между тем каждый день Страстной седьмицы как церковно разрисо-
ван, убран! Какие памятные — литературно и всячески памятные — были
произнесены в эти дни поучительные слова с церковной кафедры от Иоанна
Златоуста до нашего архиепископа Иннокентия (Таврического!). Дни печа-
ли, — и церковь умеет поучать. Христос в гробу, — ее язык развязан. Какие
великие, огромные слова на первой, на седьмой неделях Поста, да и какая
красота всех этих служб на протяжении семи недель, печальных, черных,
рыдательных! Но Христос воскрес, — язык церкви вдруг падает. Я говорю
сравнительно и относительно, ибо здесь и нельзя решить дела иначе, как
сравнением. Конечно, нельзя же не праздновать Воскресения Христова, не
сказать в Воскресение Христово слова. И говорится, и празднуется, и гово-
рилось, и праздновалось. Но сколько? Но как? Увы! — для всякого христиа-
нина совершенно очевидно, что мы имеем пышно разукрашенную печаль
Христову, печаль евангельскую, а для радости евангельской, для радости
Христовой у нас не нашлось ни цветов, ни речи, ни обрядов.
Нужно ли яркое доказательство? Какой мы носим символ на себе: смер-
ти ли Христа или Его воскресения? Что мы лобзаем по окончании литур-
гии, как бы прощаясь с храмом? Везде, всегда — символ Его смерти, ору-
дие муки Его. Между тем, мы спасены Его воскресением. «Христос вос-
крес! Христос воскрес!» Дивиться ли, что некоторая, и даже значительная,
часть народа русского, отпав от церкви, образовала свою, другую церковь,
какую-то потаенную, члены которой узнают друг друга, произнося при
встрече этот пасхальный возглас: «Христос воскрес». Это у них круглый
год. Так же и все свои писания и даже частные письма друг к другу они
начинают приветствием: «Христос воскрес». Как у нас рукопожатие, как
наше «здравствуй».
И нельзя их строго осудить. Разве мы не могли бы символом христиан-
ства своего носить это радостное, белое изображение Христа воскресающе-
го? Почему только одну неделю, на Пасхе, мы меняемся этими веселыми
красными яичками? Каждый знает это изображение Воскресения Христова,
какое показывается в более дорогих из этих яиц, внутри, через стеклышко.
Отчего на шее нашей висят не эти светлые, обещающие, манящие, поддер-
живающие и ободряющие душу символы христианства? Везде угрожающий,
пугающий крест, крестная мука, крестная скорбь и слезы. Почему мука? Разве
христианство — мука? Но тогда почему же открыто, официально не называ-
ют его религией отчаяния, страдания и слез? Зачем паспорт един — свет-
лый, а существо дела — черное?
100
Черное духовенство... Увы! Оно все решило, все определило. Как не
понять, что начавшаяся распря между белым духовенством и черным есть
не публицистический задор, не классовое соперничество, не служебное не-
удовольствие, и жалок и презренен каждый, кто с этими мотивами и вожде-
лениями ведет эту распрю или принимает в ней участие. Белое духовенство
как-то не оглянулось на себя, не опознало почвы под собою. Если оно будет
оставаться все в рамках анекдота и анекдотического, будет вести сословную
сплетню против монахов и архиереев, — оно покажет отсутствие всякого
исторического смысла в себе и самый низменный духовно-нравственный
уровень. Всякий разглядит тогда в них только «столоначальников церкви»,
претендующих на положение вице-директоров и директоров церковного
департамента или церковного министерства. Это так жалко и презренно, что
плакать хочется. Русский народ и заплачет. У нас есть черное духовенство,
строгое, уставшее, выработавшееся, сказавшее неизмеримые слова и осве-
тившее этими словами и истолкованиями все христианство, всему ему при-
давшее черный, монашеский, печальный и постный вид. Да, это есть, и ярко
неизмеримая грусть заключается в том, что белого-го духовенства у нас вов-
се нет, а есть только серое: ни черное оно, ни белое. Что-то среднее и недо-
деланное. Какая-то попытка, но без завершения. Какая-то великая мысль,
которой монашество не могло не допустить высказаться, но которую с пер-
вых же слов оно изломало.
Но мысль так бессмертна, что живет или брезжит в мире, бродит в полу-
белом, в сером духовенстве.
Мысль эта — осветить христианство совсем с другой стороны, чем сде-
лало монашество, до сих пор учительное, одно воспитательное. Осве-
тить его иным светом, не черным, а белым. Как-то странно и произнести:
«черный свет». Такого в природе не бывает. Но, — увы! — цвет одежд мо-
нашеских невольно показывает то черное освещение, которое им брошено
на весь смысл христианства. Черное освещение, черное истолкование. Ка-
кая-то черная, сложная, трудно распутываемая и крепко связанная казуисти-
ка, которую и изучают, как какую-то трудную алгебру, в семинариях и ака-
демиях. Да и после академии можно и нужно изучать всю жизнь...
Как коротко Евангелие, как длинна семинария...
Как просто Евангелие, как запутана она...
Евангелие приводит в царство небесное, семинария... никуда не приво-
дит. Многих привела к пьяному концу.
Отчего же это так трудно изучать «семинарское дело», каковым именем
давно пора назвать «рассмотренное, признанное и одобренное» богословие,
— как говорили в старой цензуре. Отчего же это? Да, «дважды два — четы-
ре» — это читается и понимается в минуту. А попробуйте-ка изъяснить и
доказать, что «дважды два — пять»? Прямо это сказать нельзя, и вот изъяс-
няется, показывается, доказывается, что есть такие математические комби-
нации, такие сложные случаи умножения, вычитания, деления дробей, по-
ложительных и отрицательных величин, которые неукоснительно показуют,
101
что если не признать «2 х 2=5», то и ничего нельзя принять и понять, и вся
эта головоломная математика рассыпалась бы прахом. Конечно, на это надо
время и «выдающиеся способности», как требуется в семинариях.
Там «доказывается» еще гораздо более трудное и несбыточное, чем
2 х 2=5.
Послушайте-ка:
Нужно довести человека до веры и убеждения, что Христос умер за гре-
хи наши, а грех еще не снят с нас. Чего, — даже утяжелился!
Доказывается, что Христос извел нас из темницы: поэтому мы должны
построить на земле темницу, преобращать землю в темницу. Ибо что такое,
как не темница, идеал церковного жития — монастырь? Темница добро-
вольная, восторженная, «своя и своими руками сделанная», где все — имен-
но тюремное: тюремная еда, тюремная теснота, тюремный присмотр; все
поведение — арестованное, «не свое».
Монастырь — сердце церкви. В то же время бесспорно, что монастырь
есть темница. Все — темничное: устав, правила, дисциплина; узенькие окна,
крепкие ворота, высокие стены. Скажите, что там не по образцу темницы?
Чем идеальнее, строже монастырь, тем он подробнее и точнее копирует
темницу.
Скажут: «Нет! Это — добровольно!» Но не ужаснее ли еще то, что здесь
узник и смотритель темницы слились в одном лице, что здесь человек сам
себя сторожит, сам надел на себя оковы, запер дверь на замок; запер и
ключ от замка бросил в бездонный океан, где бы его никогда не найти, никто
не нашел. В темнице самое ужасное — «одиночка». До этого додумался толь-
ко хитрый и ученый XX век. Но в Церкви уже в III, IV, V и во всех последу-
ющих веках эти «одиночки» давно были известны: ux-то, именно их и изби-
рали «идеальнейшие» подвижники, которые «уходили в пещеру», «вдаль от
людей, в леса», «никому не показывались», «ни с кем не говорили», «без-
молвствовали» и почти не ели.
— «Сын Человеческий», — сказано о Христе, — «и пьет, и ест»... Мало
того: «пьет и ест с грешниками и блудницами».
В четвертой главе евангелиста Луки рассказывается о первом благовес-
тии Иисуса Христа, по возвращении из пустыни, где Он был искушаем сата-
ной.
«И возвратился Иисус в силе духа в Галилею, и разнеслась молва о Нем
по всей окрестной стране.
Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем.
И пришел в Назарет, где был воспитан, и пошел, по обыкновению Сво-
ему, в день субботний в синагогу, и встал читать.
Ему подали книгу пророка Исаии. И Он, раскрыв книгу, нашел место,
где было написано:
«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим,
и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным
освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу.
102
Проповедовать лето Господне благоприятное».
И закрыв книгу, и отдав служителю, сел; — и глаза всех в синагоге были
устремлены на Него.
И Он начал говорить им: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное
вами».
В словах этих, первых по выходе из пустыни, — не дана ли как бы тема
христианства, а с тем вместе не определилась ли вся задача церкви Христо-
вой на земле?
Да, но в том же Евангелии повествуется о другой притче Христа: Он
сказал, как иногда приходит ночью «враг» и всевает в «пшеницу Господ-
ню», посеянную днем, свои черные плевелы. И всходят они вместе с пшени-
цею. И приходит утром Хозяин, и не узнает поля, которое Он засевал вчера.
Христос пришел извести из темницы. Начиная с II, с III века, в лице
сонма «подвижников», церковь воздвигает темницы, как именно идеал, к
которому должна устремляться всякая христианская душа, как тип земного
устроения, по которому должна сложиться земная жизнь христианской об-
щины, селения, города, народа, церкви. Эти подвижники обольстились или,
вернее, «враг» обольстил их существом «подвига» трудного. Добрые чита-
тели, ну, что, если бы сегодня, когда все явились в наряде, в белых и лучших
платьях к заутрене, — среди них вдруг появился трубочист, обсыпанный
сажею?!
Добрый читатель, для тебя, именно вот для этого теперешнего нашего
момента, Христос и рассказал чудную притчу о явившемся на брак царева
сына в одежде небрачной.
Эти «небрачные одежды» — монашеские; темные, угрюмые, плачущие.
Их «подвиги», пост, отшельничество, печаль — все это до-христианс-
кие подвиги, подвиги до и вне искупления; как бы в тоске ожидания и не-
верной надежды, кто их придет и избавит. «Кто?» — они спрашивают. Но
этот «Кто» уже пришел и избавил! Не в этом ли смысл христианства? Что же
такое тоска и угрюмость, а слезы и «подвиги» их, как не отрицание Христа
и распространение печальной вести, что Он не приходил и никого не изба-
вил. Со своими «подвигами» они похожи на людей, которые, расположась
вокруг церкви с рубанками, пилами, топорами, гвоздями и начав рубить,
пилить, строгать и бить молотами во время литургии, наполнили бы уши
молящихся гамом, визгом и стуком работы своей. «Мы работаем, мы тру-
димся, когда вы праздно стоите!» — кричали бы они молящимся в церкви.
Суббота, сотворенная Богом после шести дней труда, — не была ли выс-
шим днем, чем все эти шесть? Праздник не выше ли будня? Монашество,
вся суть его, и заключается в том, что оно уничтожило праздничность чело-
вечества, изъяло из мирового времени существо праздника, вырвало «вос-
кресение» из недели. Взгляните в Пасху, у заутрени и на улицах: нет мона-
хов, куда-то попрятались. Это не их день. Как страшно сказать: «Воскресе-
нье — не их день», «Св. Пасха — не их день». Но когда же «их день», это
какое-то таинственное их торжество, когда они выползают из нор своих,
103
ползут по всем улицам и наполняют храмы? Это — дни смерти Господней.
Страшно и выговаривать! Их торжество, все «подлинно монашеское», исто-
вое монашеское, — когда Он в гробу. Не очевидно ли, что таинственная их
религия, не опознанная ими самими, и есть празднование смерти Господ-
ней! Разумеется, они в этот день не переряжаются в белые одежды, ибо су-
щество белой одежды исключено из их существа, духа, возможности. Но
тут-то их черные одежды и ширятся, развеваются, блистают, торжествуют;
черные одежды и их слезы, эти do-искупленные, до-Христовы, до-воскрес-
ные слезы! Существо монаха — пятница. В пятницу Христос распят. Ее они
и празднуют. Что в том, что они не понимают этого! Какое дело до их непо-
нимания! И язычники не понимают, что они «язычники». Суть — в деле, а
не в понимании. И дело это очевидно.
Белое духовенство или, точнее, серое, пегое, неясное какое-то и стоит
перед великою задачею опознать себя и повернуть все христианство от пят-
ницы к воскресенью. «Христос воскрес!», «Христос воскрес!» Пусть этот
пасхальный клик они разольют на весь год, на всю церковь, весь строй ее, на
ее уставы, на ее напевы, живопись, иконы, все, все. Ведь все до сих пор
великопостное. Я прихожу этот пост в церковь прощать пятерых детей. Был
хороший священник и сказал — уже после принятия Св. Таин — всей толпе
причастившихся хорошее, разумное слово. Именно эта разумность священ-
ника как-то толкнула меня на вопрос: «Да отчего не в белой ризе?» Что за
поразительное зрелище: хоронить он будет, — наденет белую ризу, а вот
причащает в черной. Положим, идет Великий пост, однако день причастия,
час причастия — такой особенный и, конечно, радостный, счастливый для
них день! Что бы разумному священнику, даже служа литургию в черной
одежде, если это так требуется ежечасно для Великого поста, — отвернув-
шись на минуту, переменить черную одежду на белую и выйти со Св. Дара-
ми к причастникам в белых ризах! Как хорошо этим сказал бы он привет им.
Как они обрадованно взглянули бы на своего священника, который понял их
чувства и минуту! Но не случилось этого. И не случилось наружи потому,
что не было в сердце. Обратите, добрый читатель, внимание: ничего-то, ни-
чего радостного из сердца церкви не идет, и только когда приходит скорб-
ная, слезная, постная минута — одежды ее ширеют, обряды раздвигаются,
вырываются чудные, незабываемые, потрясающие слова. Не явно ли, что
праздник человечества — будни ее и скорбь человеческая — ее праздник!
Вот ужасный смысл, прямо do-христианский, до-Христов, ей приданный
монашеством. Этот-то ужасный смысл победить и предстоит белому... серо-
му духовенству, сперва возродив в себе вместо этого серого, нерешительно-
го света свет ослепительной белизны, а затем понеся его всему миру, всем
людям.
Есть ли для этого почва в Евангелии? Слишком, — на каждой странице!
Все оно проникнуто пасхальным, победным смыслом! Но вообразите: по-
бедные-то, пасхальные страницы и переработаны в гробовые звуки. Была
пшеница, на ней выросла спорынья. Вот наудачу примеры.
104
Иисус не только с первым чудом поспешил не к скорбящим и больным,
но предварительно на брак в Кане Галилейской (кстати: видал ли кто в цер-
кви изображение брака в Кане Галилейской? Я его ни разу не видел, — буд-
то этой страницы и нет в Евангелии, она зачеркнута, затоптана), но он лю-
бил избирать брачные сравнения, именуя себя Женихом:
«Подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильни-
ки свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразум-
ных.
Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же,
вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих.
И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался
крик: «Вот, жених идет, — выходите на встречу ему». Тогда встали все девы те
и поправили светильники свои.
Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что
светильники наши гаснут». Но мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недо-
статка и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе».
Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на
брачный пир, и двери затворились» (Матфей, 25-я глава).
Знаете ли вы, что сделали из этого «немудрые девы, забывшие взять
масла с собою»: дивный этот образ, дивный по белизне, сиянию и торже-
ству своему, — они переделали в заунывное пение, слушая которое неволь-
но рыдаешь, ибо в нем есть что-то предсмертное. Точно «девы» встречали
«жениха из могилы», в саване. Да и перенесено это пение в Страстную сед-
мицу и сделано надгробным. Вот и царство небесное... Как бы Спаситель
сказал: «Царство небесное подобно гробу, над которым монахи тянут свое
«Аллилуйя». Где же здесь девы? Почему о них сказал Спаситель? И так мно-
го: десять дев. Монах испуган и одною. Произнеся: «Чур меня», он вырвал
соблазнительную (для него) евангельскую страницу и заменил ее другою,
черною.
Между тем образностью своею, скульптурностью эти слова Спасителя
о чем-то обещаемом и грядущем, о том, что поведет за собою Его воскресе-
ние, Его св. Пасха, — слова эти так и просятся в дивный лосле-пасхальный
обряд, народный, торжественный, городской, весенний... Теперь и монаше-
ством все это перенесено в Великий пост, но эта страница после-пасхаль-
ная: до того явен ее смысл. Вот работа для будущего, которое мы не опреде-
ляем в подробностях, а только говорим, что она возможна.
Еще пример, и опять без выбора:
У евангелиста Марка, во 2-й главе, рассказывается:
«Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к Иисусу и гово-
рят: почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не по-
стятся?
И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с
ними жених? Доколе с ними жених, — не могут поститься.
Но придут дни, когда отнимется у них жених, и в те дни будут поститься!»
105
«Отнимется жених»... У кого? Разве у церкви «отнят жених»? Уже она
разве не со Христом? Отчего же она так постоянно постится?! Плачет, рыда-
ет. Неделю празднует Воскресение Христово, а сорокадневное пребывание
в пустыне, где Он был искушаем от злого духа, растянуто в семь недель
воспоминания, припоминания и в сущности торжества, этого своего пе-
чального, черного торжества, из круга которого она никак не может выр-
ваться. И, знаете ли, эти слова церковь, как бы «без жениха» живущая, взяла
в побуждение для одного правила, мучительного для людей.
— Когда пост, — нельзя браниться. Венчание запрещено.
Христос сказал:
— Пост запрещается, когда есть брак (т. е. в том дому, где он происхо-
дит, для тех гостей, которые на нем присутствуют, — отменяется временно
и местно городской и годовой пост).
У евангелиста Луки это совсем очевидно: «Иисус сказал им: «Можете
ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених?»
Т. е. все везде постятся, в Иерусалиме, в Иудее: но «гости этого одного дома,
где происходит брак», не постятся и не обязаны поститься.
Но пришел гроб, уныние и сказало:
— На всей земле, во всем мире не должно происходить браков, пока мы,
монахи, постимся.
Эгоизм, обратное Евангелию, нелюбовь к миру, к человечеству, к лю-
дям, городам, селам, деревням — так и брызжет из этого повеления. Еще
бы, — они опрокинули все эти Христовы «браки», «Каны Галилейские»,
«дев, встречающих жениха». Они отняли у церкви ее «Жениха», приведя на
место Христа воскресающего, Христа, побеждающего смерть и грех, како-
го-то тредневного Лазаря без воскресения... И плачут. О чем? И сами они
не догадываются, что великий плач их о том, что они — именно монахи,
что ими переменен на обратный смысл весь подвиг Христа... Вот тоски
этого-то греха они и не могут изгнать из сердца. Истинна и действительна
жалоба их, это постоянное самоощущение всего монашества: «Грешны!
Грешны! Грешны!» Не знамение ли это? И как не поймут они своей же
жалобы?
Но ныне Пасха. Обымемся и с монахами. Укажем им на путь избавления
и не осудим их ни большим и никаким судом. Слабые человеки. Вина — в
искусителе. Но с них, с людей, Христос уже снял всякую вину.
Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес, черная братия!
Белые одежды заготовлены. Вон они лежат. Вы — все же великие страдаль-
цы, труженики христианского мира. Оденьте белые одежды, придите к нам, —
и мы устелем путь ваш пальмовыми ветвями и кинем под ноги наши луч-
шие одежды.
106
О ТАИНСТВАХ
(Письмо в редакцию)
Что с волнением написано — то и волнует. Прочел прекрасную, полную
последовательности и тревог, статью г. Эрна «Таинства и возрождение Цер-
кви». Многие строки тут хотелось вычертить на камне: да, одна нить, до
самой древности идущая, — в таинствах. Прочее — история отпадения...
Чудные мысли, но недоконченные. И, да не осудят меня читатели и ре-
дакция, что я отвечу на них торопливо, отрывочно, «не умно», но кое-что...
1) «Отпали, отпадали»: Боже, да кто же это ведший в отпадения? «Исто-
рические обстоятельства»? Но они толкают туда и сюда, влево и вправо,
вперед и назад. Нет, тут, в словах Эрна, — факт, а не объяснение. Темно это,
страшно... Но констатирует факт г. Эрн верно: точно, «история христиан-
ства есть процесс отпадения от Христа». А мы так ею гордимся... Столько
томов написано, и все «в похвалу».
2) «Таинства», «я верю в них»... Прекрасна всякая вера. Но вот вопрос:
а) Почему же они не действуют? Повенчались — ссорятся, причасти-
лись — завтра грешат. Нет, в самом деле, почему, как будто в них мало
силы? Напр. (лично испытал), первые месяцы брака — самые неуклюжие,
неудобные, ломкие: ссоры всякий момент вспыхивают, раздражение (суп-
ругов друг на друга) — постоянно. После все улегается и становится гораз-
до мягче, удобнее. «Слежались, приноровились». Не удивляться ли, что в
«слежались, сжились, приноровились» содержится более силы, чем в цер-
ковном таинстве брака.
Ь) Пусть мне простит редакция и напечатает письмо мое в виде «голоса
со стороны», но дозволит высказать протест и недоумение: «таинство пока-
яния» я совершенно отвергаю и в него не верю, находя, что в центральном
пункте его, разрешения грехов, произносится ложь, как (увы, скорбная мысль,
но что же мне делать, если я не умею отвязаться от нее) и в большинстве
слов, формул, «смиренно» произносимых церковнослужителями. Священ-
ник произносит:
«И аз, недостойный иерей, властию мне данною отпускаю» (грехи) и проч.
Мне кажется, слова эти — «аз недостойный иерей» — неискренни. Тог-
да бы он не имел духа развязать грехи. Ведь «развязать грехи» — больше
царевой власти. И священники действительно верят, что они разрешают
грехи: а потому слова их о «недостоинстве» суть эта обычная личина сми-
рения («мы, смиренные члены синода, отлучаем Толстого» и проч.), ни ма-
лейше не выражающая самоощущения, самочувствия их; а потому я-то, ви-
дящий эту обычную и всегдашнюю их личину, для меня лично донельзя
противную, в таком ужасном моменте, когда душа грешника (сам испыты-
вал) вся в слезах и раскрыта, — отвергаю это «таинство» и в существе, и в
процедуре. Ну, не могу видеть в таинстве лжи, «для виду произносимых»
слов и проч.
107
с) Далее, я давно начал соображать, что в «таинстве покаяния» Церковь
прощает «грехи» собственно ей неинтересные и ненужные, где ее существо
и особенно привилегии не затрагиваются. Я давно об этом писал и напоми-
наю: девушка в слезах, кается, что у нее «так себе» прижитый ребенок, «в
обиду Церкви» — без венчания. Ну, конечно, священник «разрешил грех»:
но лишь — по шаблону, чтобы «не портить правила», как не «портят супа».
На самом деле Церковь как «богозданное учреждение», universalis Eclesia,
вот эта «святая, соборная и апостольская» ни малейше, конечно, ей не «от-
пускает греха» и выражает это в том осязательном отказе, какой девушка,
девочка наивная, находит, если она придет в консисторию и со слезами люб-
ви и восторга скажет:
— Батюшка-то... простил! А так была грешна! Тоска задавила душу, а
теперь — ничего. И тятька с мамкой улыбнулись. Соседи — тем дела нет.
Сделайте же так, чтобы ребенок был мой, моим именем и прочее звался, и
без всякого порицания, ибо порицание было до покаяния, а после «разреше-
ния» греха какое же порицание...
Девушка говорит еще гораздо наивнее и трогательнее, чем я написал.
Так, что люди бы расплакались. Но вот эта «святая, соборная и апостольс-
кая» темнеет в лице:
— Этого нельзя. Ты обидела Церковь, не испросив у нее согласия, не
послушав ее голоса, преслушав прещения... Не могу! Не могу! Прости мы
теперь и тебя, что же будет? Кто же будет у нас венчаться...
Все это я написал очень скудно и плохо, в 4 часа ночи и безгранично
усталый, — но читатель дополнит и дорисует мое слово и согласится с тем
тезисом его, что Церковь прощает только ей «ненужные грехи», что потре-
пал Ванька Машку, или украл вот, или обсчитал рабочего хозяин. Это все —
на стороне, и вот такие грехи «на стороне» Церковь прощает; или там рито-
рические, «неверие» и проч., отчего «прибытку церковного не убавляется».
Но где затрагивается имущество Церкви, не материальное, а вот эти приви-
легии власти, авторитета, значительности и проч., и проч., и проч., — там
Церковь прощает «укромно в уголке» (в исповедальне), чтобы «не портить
правила», «не портить супа»; но на самом деле и серьезно ничего не проща-
ет, негодует, презирает грешника и его грех.
Ну, на этой почве, много «Марий» удавилось, и я прерываю речь, веро-
ятно надоевшую читателям.
По всем этим мотивам я «таинство покаяния» совсем отвергаю.
d) Не увлечен ли г. Эрн действительно изумительною трогательностью
слов, сопровождающих «таинства»... Не увлечен ли он их эстетикою? Пусть
об этом даст ответ в своем сознании. Это — страшно важно: ибо эстетика —
это еще не истина...
Сколько «таинств»? Церковь учит — семь. Вот мне кажется возможным
найти, при внимательном наблюдении, еще случаи таких «возрождений
души», «укрепления души», «просветления совести», которые далеки от
рационального объяснения и слишком явны в благодетельном значении сво-
108
ем, чтобы отвергнуть в них присутствие «религиозного таинства». Здесь мы
можем встретить страшное, страшное (от непривычки, новизны или пред-
рассудка), но и самое обыкновенное, за чем, может быть, когда-нибудь будет
признано значение «таинства».
Я не знаю и говорю поэтому: «Может быть. Я определенно наблюдал
среди нас, русских, не совершающих никогда церковных таинств и не ходя-
щих никогда в церковь, — людей столь изумительной доброты душевной,
чистоты поведения и вообще всего благоустройства жизни, что не мог по-
нять и допустить, чтобы они обходились вовсе без «благодати Божией». Как
же она на них сходит? Где? Не применимы ли сюда слова: «Дух веет, и де
же хощет»... Я не настаиваю, но иногда мне кажется, что при добром уст-
роении сердца как будто вся жизнь, самая жизнь есть уже «таинство», «бла-
годать», или что-то находящееся под постоянным ее веянием, в ее облада-
нии. Так и рвется слово: «Бог — всяческая, и — во всем». А ведь Бого-
присутствием, Бого-участием определяется и существо «таинства».
ЧЕРНАЯ РОССИЯ
Кроме «Великой», «Малой» и «Белой России», сокращенно именуемых «Ве-
ликороссией», «Малороссией» и «Белоруссией», в эти два года обозначи-
лась еще четвертая Русь — «Чернороссия», или «Черная Россия». Она жи-
вет вкрапленно во всех трех Россиях, но до того противоположна им по
духу, по характерам, по идеалам, что она фактически не сливается, и ее
невозможно идейно слить с теми тремя Россиями и нужно выделить в не-
что особое и обозначить особым именем. Пусть именем этим будет Черно-
россия.
Имя не выдуманное, а которого они сами требуют, эти чернороссы. Ядро
их, зерно их — черная сотня. Зародыш «черной сотни» — в тех знаменитых
торговцах Охотного ряда, которые лет тридцать тому назад сделали первое
«активное выступление» против студенчества Московского университета.
Студенчество ничем их не трогало. Но оно по наивной молодости вело себя
так, как вообще следовало бы вести себя всякому русскому гражданину и
всем русским гражданам, как естественно ведет себя всякий натуральный
человек или просто «человек», не принявший на себя ига рабства, незавое-
ванный, непокоренный, не проданный в рабство каким-нибудь азиатским
ханом или не проигранный в карты каким-нибудь помещиком крепостной
эпохи. Это натуральное поведение естественно свободных людей, между
прочим, выражалось в сходках. Студенты собирались на них и «с разреше-
ния», и «без разрешения», просто собирались фактически, не постигая юным
и неопытным умом, как может быть запрещено не зловредное собрание, а
109
собрание само по себе, сходка не с худыми намерениями, а просто потому,
что она — сходка. Этим естественным умам казалось невозможным и не-
представимым, чтобы к праву или, точнее, к факту и затем к праву дышать,
есть, пить, разговаривать, спать, лежать, бегать, ходить не присоединялось
и право сходиться. Кто ходит, тот и сходится. Право сходиться, или сход-
ки, уже содержится в праве просто ходить, ибо это есть одна из форм хожде-
ния, пребывания на улице, разговора на улице, общения на свежем воздухе.
И так как по полиции и вообще «всероссийски» не было объявлено, что
никто не имеет права выходить из дому, не заявив об этом письменно за три
дня в участок и не получив на то разрешения полиции, то студенты не толь-
ко выходили из дому и ходили по улицам, но и сходились для своих чисто
студенческих в то время дел. По правде, это была форма клуба или «обще-
ственного собрания» обширной корпорации людей, связанных между со-
бою единством занятия, жизни, образования и возраста. Только «клуб» этот,
или «общественное собрание», действовал не постоянно, а периодически, в
день и час или часы вот «сходки». Наивное предположение! — я говорю о
студентах. Они не знали, что Россия официально хотя и не была действи-
тельно покорена и завоевана, но незаметно и тайком пресловутое старое
«третье отделение», родоначальник нынешнего Департамента государствен-
ной полиции, «завоевало и покорило» все другие министерства, сохранив-
шие только имена разных пышных «юстиций» и «просвещений», а на самом
деле потерявшие всякое свое обличье и паспорт «на свободное прожива-
ние», потерявшие язык свой и право самостоятельно мыслить и рассуждать.
С этим незаметным, но страшным и фактическим «завоеванием» связалось
естественно то, что хотя граждан российских никто никуда не «продавал»,
как это бывало на рынках Средней Азии, но они были несколько как бы
«запроданы» все, «запроданы», но еще не отведены в рабство «натурою».
«В натуре», — но только в натуре, а не юридически! — они оставались сво-
бодны или как будто свободны, выходили из дому, ходили по улицам, лежа-
ли, спали, даже любили и рождали детей, но и в любви, и в рождении детей,
а уж тем паче в «неблагонадежных» состояниях ходьбы и всяческого бодр-
ствования они были «под надзором». Историю России до большой забас-
товки и 17 октября так и надо писать под этим заголовком: «История под-
надзорной России». Ибо это выражает всю ее сущность и обнимает терми-
ном решительно все подробности ее быта, происшествий и ее робкой, запу-
ганной физиономии.
Папаши боялись, а сынки ничего не знали о причине этой боязни или,
точнее, по глубокой неопытности — не «сообразовались» с этою причиною.
Так как по России не было официально объявлено ни о каком происшедшем
«завоевании», то они, полагаясь на явный смысл законов, чувствовали себя
свободнорожденными и не только выходили из дому, как прочие испуган-
ные граждане, а и сходились! «Сходились», к трепету родителей и неудо-
вольствию начальства. Начальство косилось и, ссылаясь на негласные цир-
куляры, всегда действующие у нас поверх гласных законов, что-то шептало
НО
попечителю учебного округа, попечитель шептал ректору, ректор «беспоко-
ился», грозил, увещевал, распоряжался... Но никогда из этого ничего не
выходило: студенты собирались и собирались. Тогда не видно было, к чему
это приведет и вообще что это за явление ^прекращающегося неповинове-
ния начальству, отнюдь не переходившее (тогда) ни во что политическое и
ограничивающееся чисто учебными делами, вопросами студенческой бы-
товой жизни. Только теперь, через тридцать лет, стало явно для всех, что
это гордое и независимое положение, занятое студенчеством, жившим и
чувствовавшим себя так, как если бы вся Россия была свободна, — и послу-
жило зерном фактического освобождения России. Ибо для всех и тогда было
бесспорно, и теперь совершенно очевидно, что, не будь 17 октября 1905 г., —
они 30, 60, 100 лет ждали бы все так же в этом же независимом положе-
нии, выражающемся просто вот в свободных «сходках», другого 17 октября,
помогая или сочувствуя всякой «забастовке» или чему другому аналогично-
му и вообще предоставляя всегда готовую помощь всему движущемуся к
своей свободе и к общему высвобождению родины. Тут менее замечательна
политическая и более замечательна бытовая сторона явления. Все родилось
просто из быта, из житейского поведения студенчества, из той, можно ска-
зать, необозримой его наивности, по которой оно считало себя вправду сво-
боднорожденным и имеющим права на видное натуральное житье, безвред-
ное для другого. Не подчиняясь «подпольным» циркулярам, оно жило тем
«естественным правом», jus naturale, былое которого отмечено уже римски-
ми юристами и которое у первых христиан получило название «закона Бо-
жия, написанного в сердцах человеческих». По этому, «написанному в сер-
дцах своих, закону Божию» оно и действовало, собираясь на сходки (в то
время отнюдь не политические) как естественные выражения собиратель-
ной жизни всяких сознательных существ. «Сходятся» мужики в деревнях,
чиновники — в клубах, туркмены Средней Азии — у колодца, арабы и древ-
ние евреи — где-нибудь около палатки. Увы! — к неудовольствию полиции,
даже журавли по небу летают «сходками»! «Вместе» и «дружно» — да как
вырвать из человечества этот нерв его дыхания, эту естественную, необхо-
димейшую, самую натуральную форму общения! Даже черные люди, — и
те «собираются» в чайных, толкуют, сговариваются и проч.! Полиция, или
департамент полиции, или прежнее третье отделение, посягнув на сходки
бессознательно для себя (иначе бы оно не решилось на это), посягнуло на
nervus vitalis общества и живущего в общежитии человека, с перерезом ко-
торого они так же не могут существовать, как, напр., не может совершиться
пищеварения с перерезом кишок. А посягнуть «на нерв общежития» — оче-
видно, значит посягнуть и на центр самой государственности, ибо государ-
ственность есть только форма общежития. Таким образом, когда студенты
уперлись пред этим «последним пунктом независимости» и «с разрешения»
или «без разрешения» начальства собирались, просто и фактически собира-
лись, то, тоже бессознательно для себя самих, они отстаивали и отстояли
не только жизнь отцов своих, семей своих, целого общества, но и самую
111
государственность русскую, насколько она имеет вообще какой-нибудь
смысл и походит, или намерена походить, на обычные и установленные Бо-
гом формы человеческого общежития.
Пульс падал у родины. Они этот пульс поддержали.
Вот краткая история университетских «сходок» и, вообще, «студенчес-
ких историй», этих «неприятных историй», заставивших столько «беспоко-
иться» добродушного князя Владимира Андреевича Долгорукого, бывшего
московского генерал-губернатора, и его преемников, и, вообще, столько «их
превосходительств».
Пульс родины падал. Только одна тоненькая артерия билась. Эта арте-
рия проходила через восемь русских университетов. Там были узелки жиз-
ни. Из этих узелков возродилась жизнь всей страны. Ибо, повторяем: у всех
была уверенность, что, что бы ни произошло в России, какие бы «режимы»
в ней ни сменялись, какие бы «времена» ни настали, — студенты будут «со-
бираться». Тридцать, шестьдесят, сто лет будут «собираться», и, когда про-
бьет час и придет какая-нибудь сила на Россию, сила большая и уже кото-
рую не пересилить, вроде войны или международного осложнения, — эта
сила найдет между Великим и Атлантическим океанами не мертвый, разло-
жившийся труп, невоскресимый более, а несчастного в глубоком обмороке,
у которого одна жилка бьется. Эта жилка — университет.
Вот его история.
Торговцы Охотного ряда 70-х и 80-х годов прошлого века в эти подроб-
ности не вникали. Они видели только, что начальство «обеспокоено» и «ко-
сится». Они знали простое дело: «купить подешевле» и «продать подоро-
же». В эти четыре слова вмещалось их существование. А что выходило за
пределы их, как-то: народ, общество, государственность, свобода, жизнь,
культура, — то было им просто не нужно. И с точки зрения этого «не нуж-
но» они сделали свое первое выступление.
Заключалось оно просто в том, что охотнорядцы, «при благосклонном
участии полиции», побили студентов; били их в Охотном ряду, гнали даль-
ше, к университету; били перед университетом и остановились только пе-
ред железною решеткою его и захлопнутыми воротами. Пятипудовые экс-
мужики с широкими мясными ножами, мотавшимися в кожаных футлярах
около пояса, били тоненьких неврастеников. Я говорю так потому, что в ту
унылую пору конца 70-х и начала 80-х годов все молодое поколение, сплошь
и почти без исключений, было грустное, без улыбки, — стоявшее в каком-то
недоумении и растерянности...
История в Охотном ряду была прологом к разыгравшимся потом и во-
зобновившимся недавно «погромам интеллигенции», где уже шумела не
улица, а закружился город; закружился и пал ястребом на эту же тоненькую
неврастеническую интеллигенцию, как сущую и бывшую университетскую
молодежь. Бескнижное царство шло на книжное царство. Что такое книга?
Память веков, наследие веков. На это-то «наследие и память веков», — об-
щее — на историю и культуру, — шли «злобы этого дня», — купцы, торгов-
112
цы, домовладельцы, которые жили «сим днем», и ни до вчерашнего дня, ни
до завтрашнего им просто не было дела.
Так исторически, на протяжении 30 — 35 лет отслаивалась и наконец
вовсе отделилась «Черная Россия», противопоставив себя Великой, Малой
и Белой Руси. Она везде хотела бы господствовать. Она громко заявляет свое
«я», заявляет его как фетиш, которому все должны прийти и поклониться.
— У, поганое идолище! — говорит, шепчет старая Россия, — Белая, Ма-
лая и Великая, — при виде этого идола-фетиша, позлащенного и дешевого.
— Я была свята, — а ты?
— Я была добра, проста, — а ты?
— Я была прямодушна, глубокомысленна, остроумна, шутлива, — но ты?
— У меня пословицы, песни, хороводы, прибаутки, веселые ночи, тру-
долюбивые дни, — а у тебя?
Черной России можно ответить только одно:
— У меня погромы!
Можно ли представить себе, чтобы Пуришкевич, Крушеван, Грингмут,
Илиодор и весь «освященный собор» этих «истинно русских людей» спел
хотя одну простодушную русскую песенку? Невозможно! Когда-нибудь пе-
реписываются ли они русской забавной прибауткой? В их «Русском Знаме-
ни», якобы «Русском (?!) Знамени», есть ли что-нибудь от русского остро-
умия, хитрословия, от этого художественного русского слова, о котором Го-
голь говорил, что оно «играет и живет, будто живое что-то, и всего человека
схватывает и очерчивает в одном звуке»? Угрюмая, желчная, тяжеловесная,
тупая словесность «истинно русских людей» пахнет разъевшимся остзей-
ским бароном, упитанным русским барином, «ясновельможным» паном из
Варшавы и каким-нибудь содомитом-монахом, который «гнушается женщи-
ною», предпочитая ей мальчиков. Все это скорбно, тучно, зло, меланхолич-
но, порочно, бездельно.
В России был и есть голод: и где же были «истинно русские люди» в это
время? Кто видел их кормящими и поящими?
Была японская война, — «просто»-русские люди умирали в дальней
Маньчжурии, а «истинно русские люди» даже не вздохнули, не оглянулись,
не поехали посмотреть, что там делается такое. Без сомнения, у «истинно
русских людей» есть жены и дочери, тоже, конечно, «истинно русского на-
правления». И вот кто этих «истинно русских женщин» видал на перевязоч-
ных пунктах утешающими раненых солдат, пишущими от имени их или со
слов их «весточку» на родину? Увы! — все знают, что на маньчжурскую
страду поехали «нигилистки», т.е. приблизительно нигилистки, курсистки,
студенты, — вот те, которых били охотнорядцы; а «истинно русские» не
женщины, а барыни только шуршали шелковыми юбками в «дамских круж-
ках», филантропических «комитетах» и разных «синих» и «красных» крес-
тах с их вечно недописанной и какою-то запутанной «отчетностью»...
Шуму много. Славы много. Но очень мало чести и никакого труда.
И, главное, — ничего «просто»-русского!!
113
* * *
Черная Россия кружится ястребом над старой Россией. Над тою Россией
Владимира Красное Солнышко, который за что-нибудь получил же от наро-
да это приветливое название; над Россией московских князей в их первый и
славный период, когда они высвобождали Русь из-под татарщины; над
Русью Петра Великого, который был преобразователем и просветителем ее.
В истории каждого народа надо различать утренние и вечерние зори. Радо-
стны и светлы первые; темны — вторые. От этих темных вечерних зорь
бежал князь Андрей Боголюбский из Киева на север, как потом Петр Вели-
кий бежал из Москвы на берега Невы. Ибо Киевская Русь в пору Боголюб-
ского уже являла собою только распри, свары, братоубийственные усобицы
из-за старшинства в роде и прав на престол, причем князья не охраняли
Русь, а разоряли Русь. Боголюбский и Калита вынесли на север, сперва во
Владимир на реке Клязьме и потом в Москву, самодержавие как отрицание
прежнего междоусобного порядка вещей. Собралась Русь около москов-
ского князя как единая и нераздельная; собралась и сбросила татарское иго.
Но, незаметно для себя самой, свергнув тело татарщины, покорилась духу
татарщины. Петр бежал от этого к Западу, к западным примерам, к запад-
ным идеалам, принципам, к образованию и свободе. Но прошло время, и
пришло другое, — когда в совершенно переродившемся петербургском строе
воцарилась вражда к просвещению, свободе и вообще к Западу. Настала
вечерняя заря и в Петербурге, а 17 октября есть то же самое бегство из
вечерней зари петербургского бюрократизма в утреннюю зарю какого-то
нового обещания и новых надежд, как это было у Петра и у Андрея Бого-
любского.
Черная Россия подобрала только вечерние зори русского существования
и отрицает и ненавидит все утреннее в св. Руси, все ее свежие и молодые
движения, бывшие и теперешнее. Не воображайте: и в Москве она ценит не
«тишайшего» и кротчайшего Алексея Михайловича, не святого богобояз-
ненного Федора Иоанновича, не мудрость государственных забот Годунова,
— нет: черные вороны русской земли каркают только о величии кремлев-
ских затворников, Иоанна III, Василия III и особенно Иоанна IV, с общею
всем им «грозою» над Русью. Они прославляют того Василия III, о котором
иностранные посетители Москвы уже писали, что «среди самодержцев Ев-
ропы нет ни одного, чья власть так беспрекословно и с таким страхом ис-
полнялась бы всеми подданными, от первых бояр до последнего раба, как
власть московского великого князя», и тут же оставляли наблюдение, что
этот великий князь не спрашивает в решении государственных дел совета
ни бояр, ни высшего духовенства, не говоря уже о простом народе, а «все
решает сам, запершись сам третий у постели». Т.е. физически хилый, болез-
ненный, но и тем более грозный и грозивший владыка Москвы и Руси, не
выходя почти даже из спальни своей, т.е. не видя никогда лицом к лицу Рос-
сии, не имев никакого прямого общения с народом, — решал дела огромной
важности, касавшиеся России и народа, по наушничанью каких-то прохо-
114
димцев-любимчиков («запершись сам третий у постели»), вкравшихся в рас-
положение его какими-нибудь хамскими услугами, чем-нибудь лично-уни-
зительным и льстившими непомерной гордости властелина. Вспомнишь о
Навуходоносоре... Царь Иоанн Грозный, потонувший в личных пороках, —
о которых пишет Курбский и которые стыдно назвать в печати, до того они
гадки и противоестественны, — и омывшийся в крови человеческой, — в то
же время «богомольствовал» о своей власти и совершенно был уверен, что
он «правит русскою землею по заступничеству Пресвятой Богородицы, по
молитвам святых угодников Божиих и по батюшкину благословению». Ос-
тавляя «батюшку» в стороне, невозможно постигнуть, как такой тиран-блуд-
ник решался в нечистые свои уста, полные смрада, принять святое имя чи-
стейшей Девы! Имя Девы Марии в устах того, кто, растлив чужих невест,
умерщвляя при ропоте их женихов, кто осквернял супруг чужих, при ропоте
умерщвляя мужей, и, наконец, дошел до скотско-содомской связи с прибли-
женным опричником Басмановым! Вот Москва, на которую облизывается
Грингмут, а не на ту он Москву глядит, которая при Димитрии Донском и
св. Сергии Радонежском освобождала Русь! Да, «освобождала», — все же
этого слова нельзя избежать, как бы от него ни чихалось Грингмуту.
Эта-то Черная Россия, достойные преемники охотнорядцев 70-х годов
прошлого века, — собрались на шумный съезд... я чуть не сказал: в Охот-
ном ряду. Нет, она заседала при электрическом освещении в роскошных хол-
лах. Ну и конечно, — «ура»! И конечно, — шампанское! Ведь это солдат и
мужик, «росто-русские люди, дергают водку в четвертак ценою за бутылку,
а «чисто русские» люди спрашивают вина из французских виноградных лоз
по 6 рублей за бутылку. Но и с шампанским, и при электрическом освеще-
нии у них все те же речи, и то же сердце, и тот же смысл, как у «малых» из
Охотного ряда 30 лет назад, с широкими ножами в коже, болтающимися у
пояса:
— Бей интеллигенцию!
Ну, и изобьете! Но родится она вновь, ибо вечна — книга.
II
Как у России «просто», без эпитетов и украшений, есть любимые циклы
своей истории, и эти циклы все суть светлые и счастливые, так у «черной
России» тоже есть свои любимые «периоды», — периоды и личности. Меж-
ду такими личностями в эпоху, ближайшую к нам, выделяются и указыва-
ются две. Это — митрополит Московский Филарет и император Николай 1.
Первый — умом, а второй — характером, и, наконец, оба духом своего уп-
равления дали нечто завершительное. Они хотели быть образцом и приме-
ром, которому могли бы следовать преемники их положения. И многие им
следовали или пытались следовать, хотя недолго и бессильно, — и вообще
«дело» и «дух» этих двух замечательных личностей русской истории можно
115
в настоящее время считать рухнувшими. И «черная Россия», конечно, толь-
ко треплет их имена без всякой силы поднять их авторитет. Но усилия под-
нять его продолжаются. Как борющийся полк борется, пока сохранено зна-
мя, оглядывается на него, собирается к нему, так «черная Россия» до извест-
ной степени объединена в великом почитании этих двух имен, и, в сущнос-
ти, она борется за те идеалы, осуществление которых находит в этих двух
исторических лицах.
Поэтому в высокой степени интересно и важно точно установить, что
представляли собою эти два лица. «Покажи мне твое знамя, и я скажу тебе,
кто ты», «назови мне идеального твоего человека, и я буду знать, с кем имею
дело».
В «Вестнике Европы» с мартовской книжки печатаются «Записки»
С. М. Соловьева. Под заголовком их он написал: «Мои записки для детей моих,
а если можно, — и для других». Много лет по смерти автора, величайшего
русского историка, ничего не появлялось из этих «Записок», и только лет
десять тому назад часть их, содержащая характеристику митрополита Фи-
ларета, была напечатана в журнале «Русский Вестник» и тогда же вызвала
чрезвычайный шум. А в только что вышедшей майской книжке «Вестника
Европы», в печатаемом продолжении этих «Записок», содержится характе-
ристика императора Николая I. Волнение, вызываемое в печати и обществе
этими характеристиками, происходит от чрезвычайной авторитетности го-
ворящего лица, можно сказать, — авторитетности исчерпывающей. Напи-
сав 29 томов «Истории России», С. М. Соловьев, конечно, не мог этого сде-
лать, не любя чрезвычайно Россию. Сын московского священника, учивший-
ся и учивший в Москве, хранитель Грановитой палаты, призванный препо-
давать русскую историю детям Императора Александра II, он, будучи
студентом, был пламенным славянофилом. В одном месте «Записок» («Вести.
Евр.», апрель, с. 467) он говорит мимоходом о том, как в Париже, на лекции
Мишле, увидел случайно Бакунина, известного эмигранта-революционера:
«Сзади меня встает господин огромного роста, трясет шапкой и кричит: «Vive
la Pologne!»*. Это был знаменитый Бакунин, которого прежде встретил я
мельком в Дрездене, говорил с ним минут десять и отошел с тем, чтобы
после никогда не сходиться: неприятное впечатление произвел он на меня
своими отзывами о России».
Вот какой человек свидетельствует нам о Филарете и Императоре Нико-
лае I: человек, который дает себе слово никогда больше не разговаривать и
не входить в сношения с случайным знакомым, при первой встрече загово-
рившим дурно о России.
Попутно он делает замечания о монашеском строе церкви. Мне прихо-
дилось так много рассуждать на страницах «Русского Слова» о монашестве,
что я пользуюсь случаем подтвердить свои из размышления вытекшие взгля-
ды взглядами великого русского историка, вытекшими из наблюдения эмпи-
* «Да здравствует Польша!» (фр.)
116
рической действительности церкви. «Прочь от монашества» — этот мой клич
перефразируется у С. М. Соловьева так:
«Бедственное состояние русского духовенства, — говорит он в своих
Записках, — увеличивалось в истории разделением его на белое и черное:
на черное — господствующее и белое — подчиненное. Явление, только до-
зволенное в древней христианской церкви, превратилось сперва в обыкно-
венное и, наконец, в закон, по которому высшее духовенство непременно
должно быть из черного духовенства, монахов».
Объясню эти слова. Исполняя известное требование апостола Павла,
чтобы «епископ был мужем единые жены», первоначальная христианская
церковь не допускала безбрачных епископов, так что в древности епископ,
если он, потеряв жену, принимал монашество, обязан был снять с себя сан
епископский. Епископство и безбрачие были несовместимы, как теперь сде-
лались несовместимы брак и епископство. Каким же образом произошло
это чудовищное изменение одного закона на противоположный, тезиса на
антитезис? Не помню, в котором веке и с кем (самый факт я помню твердо
и отчетливо, ибо он поразил мое внимание, как исходный пункт всего дела),
но случилось так, что один придворный константинопольский и в то же вре-
мя глубочайше религиозный человек был несчастным образом оскоплен в
детстве. Тогда это случалось нередко, и скопили мальчиков как в целях мес-
ти какой-нибудь фамилии, так и в меркантильных целях, ради продажи в
Азию ко дворам восточных мусульманских деспотов. Вообще, кастрация
была распространенным и привычным явлением. И вот мальчик, подверг-
шийся этой злодейской операции, вырос, и очень понятно, что, навсегда от-
резанный от радостей мира и как бы отделенный от самого существа мира,
в котором он никогда не оставит своего потомства и вообще не будет ни-
когда иметь родства с ним, он смотрел на этот цветущий и зеленеющий мир
тем отстраненным и отдаленным взглядом, который, кажется, содержит в
себе что-то возвышенное, какую-то небесную печаль и как бы нечто сверхъес-
тественное. Ему оставалась только молитва, и он молился. У него не было
и невозможна была семья, и он пристрастился к церкви. Все у него выросло в
сторону церковного духа, церковного строя, церковной деятельности. Нако-
нец он покинул вовсе мир и вступил в монашество, прошел первые ступени
церковной службы. Он горел церковными добродетелями и церковною дея-
тельностью, как свеча, на весь мир. Известно из истории всей Византии и
даже целого Востока, что евнухи, скопцы отличаются вообще чрезвычай-
ною деятельностью и, так сказать, нерассеянным вниманием ко всякому делу,
за которое взялись или к которому приставлены. «Радостями мира» не от-
влекаются и не развлекаются. Евнухи поэтому нередко управляли целыми
империями. Но обычно в то же время они бывают угрюмы, злопамятны,
мстительны, вообще недоброжелательны к людям и человеку. Но тот не-
вольный евнух, о котором я повел рассказ и который был виновником те-
перешнего безбрачного епископства, представлял богатое личное исключе-
ние. Он был прекрасен, возвышен, религиозен. Так как он равно имел славу
117
при императорском дворе и в слоях духовенства, то, наконец, когда дошел
черед, был поставлен вопрос: «Нельзя ли ради его одного, как исключитель-
ного лица, нарушить апостольское правило о брачности епископов и возвес-
ти его в высокое епископское служение, обещающее принести великие пло-
ды для церкви, хотя вследствие оскопления в детстве он и не может быть
женат, даже при готовности и желании всячески выполнить волю апосто-
ла: епископ должен быть единые жены мужем?» В то время канонов еще
не существовало, каноны только составлялись, обдумывались, и церковь была
свободнее в новых и ощутимо благих решениях. Ясно, что решить надо
было в пользу епископата: великий молитвенник, в детстве несчастно ос-
копленный, чем же он был виноват перед Богом, перед ап. Павлом, перед
церковью, чтобы его не пускать на высшую чреду служения церкви ради
причины, в которой личного его участия не было, в которой он был неви-
нен? Невинного не наказывают, а нарочитое лишение самого доступа к епис-
копскому сану, которое пало бы вот на него лично, было бы, конечно, лич-
ным наказанием. Церковь этого безвинного наказания не захотела сделать, и
епископство дано было евнуху. Читатель обратит внимание, через какую
пропасть софизмов и лжи, хитрых изворотов мысли и словесных подтасо-
вок церковь и духовенство вынуждены были пройти, чтобы, так сказать,
«перевернуть лодку вверх дном», от допущенного до епископства евнуха
шагнуть к правилу: только евнухи же или подобные евнухам, добровольно и
в самой воле оскопившие себя, навеки безбрачные, с порукою за их безбра-
чие, и достойны одни быть епископами. Произошел бунт против ап. Павла,
но бунт так хорошо прикрытый, в такие софизмы обернутый и под маскою
такого благочестия и якобы готовности повиноваться каждому апостольско-
му слову, каждому их завету и всем идеалам, что ни в какой момент не было
заметно, что церковь бунтует против своего основателя. Лодка так незамет-
но переворачивалась, что зрителям казалось, будто она все та же и стоит так
же. «Дно кверху» мы видим только теперь, и видим привычно, века, так что
о противоположном и подумать невозможно и страшно, «страшно» поду-
мать, как бы лодка не стала прямо, вверх мачтою или — переходя от приме-
ра к делу — чтобы епископы были женатые, семейные и детные люди!
С. М. Соловьев и пишет о великих, так сказать, житейских, бытовых
последствиях этого, о худом дереве, поднявшемся от худого корня (наруше-
ние слова и идеала апостольского):
«И вот сын дьячка какого-нибудь хорошо учится в семинарии, — бли-
жайшее начальство начинает поставлять ему на вид, что ему выгоднее по-
стричься в монахи и достигнуть высокого сана, чем быть простым священ-
нослужителем, — и вот он с этою целью, а не по внутренним нравственным
побуждениям постригается в монахи, становится архимандритом, ректором
семинарии или академии и т.д.».
«Не по внутренним побуждениям, а по выгоде»... Как ужасно это чи-
тать о сердце церкви, ибо теперь монашество — это сердце церкви или, точ-
нее, общий цвет ее, в который одета она вся, в ее молитвах, поэзии, уставах!
118
Но уже давно, со времени этого епископа-евнуха, все это в ней поется, дела-
ется и говорится «не по внутреннему нравственному побуждению, а по вы-
годе», ибо на вреде «выгод» и без всякого «внутреннего побуждения» стоят
люди ее, члены ее, иерархия ее! Самая кровь испортилась: бежала кровь крас-
ная, теперь бежит черная, была кровь артериальная, насыщенная кислоро-
дом, оживляющая, согревающая и сжигающая в себе сор и патологию орга-
низма, а теперь уже кровь в ней венозная, обремененная углеродом, вялая,
безжизненная, сорная, холодная, болезнетворная. Вот перемена «вверх дном»,
замена тезиса на антитезис. И пока церковь не вернется к идеалу апостоль-
скому, идеалу семейной, детной церкви во всех ярусах ее, снизу и до верши-
ны, до тех пор и «кровь» в ней не переменится, и вся она будет болеть своим
противоположением воле Божией.
Будем продолжать осмотр С. М. Соловьевым плодов от ядовитого
корневища:
Начальник и властитель под монашеским одеянием, с обетами монаха —
явление нравственно-опасное для своего личного духа и для общества, для дела,
которому служит. Светские начальники имеют более широкое образование, бо-
ятся общественного мнения и находят себе ограничение в разных связях и отно-
шениях общественных, тогда как высшее духовное лицо в своем замкнутом кругу
не встречает ни малейшего ограничения, оттуда не раздается никакой голос,
вопиющий о справедливости, о защите... Сын дьячка, получивший самое гру-
бое воспитание, не освободившийся от этой грубости нисколько в семинарии,
пошедший в монахи без нравственного побуждения и из одного честолюбия
ставший, наконец, повелителем из раба, он не знает меры своей власти... Такое
соотношение вытекает не только из зависимого положения белого духовенства,
но и из векового духа семинарии. Грубость и деспотизм в обращении учителей
и начальников с учениками здесь всегда были доведены до крайности (С. М.
Соловьев сам учился в семинарии). Чтобы быть хорошим учеником, мало было
хорошо учиться и вести себя нравственно: надо было превратиться в столб оду-
шевленный, которого одушевление выражалось бы постоянным поклонением
перед монахом-инспектором и ректором, не говоря уже о высших. И вот юноша,
имеющий особенную склонность к поклонению, хотя бы и не так хорошо учил-
ся и не так отлично вел себя, идет вперед, постригается в монахи и скоро стано-
вится начальником товарищей своих, и легко догадаться, как он начальствует!..
Выше уже объяснено, по каким побуждениям произносит такой юноша обеты
монашеские: он пошел в монахи не для того, чтобы бороться со страстями и
подавлять их, а, напротив, для удовлетворения одной из самых иссушающих
человека страстей — честолюбия. Те из ученых и иерархических монахов, ко-
торые подпадают человеческим слабостям, вообще бывали лучше, они мягче
относились к другим, человечнее бывали с подчиненными. Гораздо хуже быва-
ли те, которые воздерживали себя, надевали личину святости. Душа невольного
инока начинает жаждать таких утех, какие не составляют неприличия и не вы-
зывают наказания: отсюда необузданное честолюбие, зависть, страшное высо-
комерие, требование бесполезного рабства и унижения от подчиненных, ничем
не сдерживаемая запальчивость относительно последних. Разумеется, бывали и
исключения, но я говорю о правиле.
119
Так говорит С. М. Соловьев. Резюмируем:
Что для евнуха и скопца — деньги, то для монаха — власть: оба, сужен-
ные в течении страстей, устремляются в одном допущенном направлении,
устремляются безгранично, дико, с неодолимым темпераментом! Первые
миллионеры в России — скопцы, первые если не в достигнутом авторитете,
поперек которого стало государство, то в авторитете жаждаемом — монахи.
Так извратилось царство Божие, царство благодати. И разрушилась на-
дежда небесного Иерусалима, о котором в откровении Иоанна сказано, что
посреди его — древо жизни, приносящее плоды двенадцать раз в год. Вот
уж не монашество, которое не приносит плодов и один раз в год!
Все обратное! И не поправиться церкви, доколе с риз своих, с поэзии
своей, с иконописи своей, со всего, всего своего она не снимет этих пани-
хидных, смертных, могильных одежд, одежд монашеских!
Дети, семья, «древо жизни, двенадцать раз в год приносящее плоды», —
вот великий зов впереди христианства, впереди церкви. Услышат они его,
— все спасено; останутся к нему глухи, — и шире разверзнется черная пасть
смерти, куда все идет и валится. Безверие, ложь, лукавство, злоба, разделе-
ние людей, разделение самой вот церкви на два пылающие взаимным озлоб-
лением лагеря белого и черного духовенства, — как это все ужасно, какие
это признаки, — говоря языком староверчества, — царства Антихриста,
или, скажу своим языком: какие признаки это отпадения от Бога!
В наблюдениях С. М. Соловьева так много поучительного для наших
именно дней, для завязавшейся смертной борьбы с «черною Россией», что я
позволяю себе попутно остановиться на перемене в духовном сословии, ко-
торое началось при нем, но не докончилось и сейчас:
Скоро я мог уже заметить мерцание света, — пишет он, — обещавшее вы-
ход из этого страшного положения. То направление, которым шла Россия в про-
должение 150 лет, взяло наконец свое: просвещение, начавшее наконец смяг-
чать нравы, распространять лучшие понятия в русском обществе, проникло с
этим благодетельным влиянием своим и в семинарии, и в духовенство. Русский
человек любит читать: это искони было залогом его прогресса; читали, — и
усердно читали, — семинаристы и духовенство, оглянулись на самих себя при
новом свете... Началось распространяться недовольство своим воспитанием,
условиями своего быта, и это был уже огромный шаг; начали отряхаться, обчи-
щаться извне, но с этим вместе шло, хотя понемногу, и внутреннее очищение.
Особенно большое влияние оказала здесь, как и на все русское общество, пе-
чать; при сравнении нескольких поколений священников, — старых, средних
новых, — легко было увидать разницу в пользу последних...
Будто это пишется сейчас. Но как дорого звучит сейчас этот голос авто-
ритетнейшего человека в России, автора 29-томной истории ее, который
мыслью своею протек от Рюрика, Владимира и Ярослава, от Иоаннов мос-
ковских, от Петра и Екатерины до филаретовских и николаевских времен.
Протек и сжился со всем. И всему радовался, и от злого болел. Вот же его
завет каждому русскому человеку: каждый вечер, проведенный над чтени-
120
ем, каждый час этого чтения, простого грамотного чтения, уже приближает
нашу дорогую Русь к чему-то лучшему и отводит в сторону от темной опас-
ности и черных дней.
Примем просто этот совет великого старца. Будем читать и учиться. Я
не договорил о Филарете и Николае I и в следующий раз кончу.
«ПОЗЛАЩЕННЫЕ КУМИРЫ»
(К суду над священниками — депутатами
Думы)
Крушение внешних и ложных, постылых и навязанных авторитетов или ав-
торитетов, которыми население было обольщено, составляет едва ли не важ-
нейшую черту истекших двух лет. «Вынос кумиров» — так будущий исто-
рик может назвать главу, повествующую о наших днях. Вы помните, в Биб-
лии, в четырех книгах «Царств», эти горькие страницы, рассказывающие о
неустанной борьбе пророков против «идолов» и всего «идольского». Но «идо-
лы» бывают вещественные и духовные', как и апостол, говоря об обрезании,
указывал, что оно бывает тоже «телесное и духовное». И, как обрезание, бу-
дучи добром, будучи знаком завета между Богом и человеком, в духовной
стороне своей еще драгоценнее и выше, нежели в телесной, так точно вред-
ное существо «идола» становится гораздо опаснее, когда человек делает
предметом своего поклонения что-нибудь мысленное. «Есть обрезание плот-
ское, а есть еще обрезание духовное», — этой мысли апостола Павла мы
дадим параллель в применении к идолам: «есть идолы физические, из мра-
мора, бронзы, золота или серебра, из красок; они пусты, но мало опасны;
они обольщают взор, но не отравляют душу. Но есть другие идолы, истинно
опасные: это — духовные идолы, духовное идолослужение. Они губят душу
тем, что связывают человека, лишают его свободного распоряжения своими
силами, вырывают из него настоящее чувство ответственности, настоя-
щее чувство долга». Помните ли вы заповедь Божию: «Не приемли имени
Господа Бога твоего всуе»? Думали ли вы когда-нибудь об ее смысле? Эту
заповедь истолковали в том смысле, что она «запрещает произносить имя
Божие без достаточного благоговения и в пустых, мелочных разговорах».
Как будто великое содержание десяти заповедей, из которых каждая выво-
дила какой-нибудь фундамент жизни, фундамент вековечный и без которого
жизнь не могла бы стоять, — могло коснуться наших клубных, гостиных и
базарных разговоров, нашего пустословия и вообще так или иначе опреде-
лить филологию нашего языка, стиль и колорит наших бесед! Библия, книга
121
бытия, книга жития, занята не словами, а вещами, событиями, фактами!
Это глубоко фактическая, жизненная книга! В этой заповеди предупрежда-
ется вовсе не то, чтобы два гимназиста, Ваня и Петя, не сказали «по-пусто-
му» и «в пустом разговоре»: «ей-Богу», «слава Богу». Хотя, конечно, дурно,
что мы так говорим. Но знаете ли, отчего мы так и говорим? От несоблюде-
ния не гимназистами, а вот взрослыми, и в основе всего от непонимания и
несоблюдения нашими седыми богословами и законоучителями, настоящего
смысла этой важнейшей заповеди: «не приемли имени Господа Бога твоего
всуе».
Великая эта заповедь предупреждает и ограничивает «ложное», «всуе»
совершаемое вмешивание богословия в то, что мы назвали бы натуральным
порядком вещей, натуральным течением вещей. «Бога не приплетай по-пу-
стому»... Это относится не к гимназистам и детям, а вот именно к взрос-
лым, седым. Оно направляет нашу мысль, не хочет нашей риторики, не хо-
чет ложного пафоса, вот этого «богословского» пафоса, которым страдают
седовласые богословы, к делу и не делу, кстати и некстати приплетая имя
«Бога». «Не приемли (не помяни, не назови) имени Бога твоего всуе», как
они на это слово не оглянутся в проповедях своих, в законоучительстве сво-
ем, — где поминутно у них — «Бог», при всяком случае — «Бог». Вот это-
то, что через два слова третьим они поминают имя «Бога», — и есть насто-
ящая причина того, что и слушающие их на уроках гимназисты поминутно
твердят: «ей-Богу», «слава Богу», «Бог знает как», «Бог знает что»... На-
блюдаете ли вы, что слово «Бог» от этого постоянного его употребления
уже даже потеряло первоначальное свое значение и сделалось какою-то грам-
матическою «частицею», вроде «де», «может быть» и т. п., и теперь просто
оттеняет характер речи, тон говорящего. «Вы говорите Бог знает что»,
вместо: «Вы говорите вздор», или «Бог знает, как это вышло у меня», вме-
сто: «Не знаю сам, как это у меня вышло». Вы замечаете, что речения со
словом «Бог» сделались какими-то прибаутками, филологическими придат-
ками в разговорной речи, без самостоятельного и вообще какого-нибудь
значения. Так стало между мальчишками, но все пошло от богословов, кото-
рые уничтожили это великое целомудрие имени «Бог»; разрушили святое
молчание около Святого Имени, тишину, безмолвие. Своими проповедями,
базарностью, навязыванием, толковым и бестолковым, они вовлекли имя
Божие в суету, в сор жизни, в шум улиц и домов. Везде «Бог», при всяком
слове «Бог», при всяком случае «Бог». Пьяный мужик обронил огонь, сгоре-
ла хата и деревня: «Бог попустил», «Бог наказал». Больна баба после родов,
напортила невежественная повитуха: это, видите ли, «Божие попущение».
Не умеют мужики пахать землю, не глубоко пашут, не обводнена земля, пе-
ресохла и не родит: «Бог не дал урожая»... И наконец, мужик не умывается
мылом, завелась у него парша: и это, видите ли, «Бог послал»... Не замечая
сами, мы глубочайше и ежеминутно кощунствуем, — кощунствуем, как са-
мые худые язычники, относя весь сор нашей жизни «к Богу», приписывая
Ему все наши гадости, — все, что родится из нашей лени, пороков, невеже-
122
ства. По этой терминологии всякое зло, пожары, болезни, несчастия «насы-
лает нам Бог»; и выходит, что мы сами — какие-то паиньки, но вот над нами
сидит какое-то всемогущее и вечно против нас злоумышляющее существо,
«Бог», который мешает нашему благополучию. Вы чувствуете, что это —
форменное язычество, форменное бесопоклонение. Но я оправдаю деревню
и мужиков: ибо кто же, как не батюшки, навели на них эту богословскую
мглу, приплетая 1000 лет слово «Бог» ко всякому случаю, ко всякой мелочи,
все Ему приписывая, все к Нему относя, и неурожай, и болезни, и пожары. Я
хорошо помню двадцать лет назад восклицание одной матушки-попадьи. В
городе были частые пожары, и я спросил, «застрахован ли у них дом», боль-
шой, деревянный, единственное имущество. Она почти закричала на меня,
что ее муж (священник) «не нехристь», что «он не станет страховать против
Бога», ибо если дом сгорит, то это может произойти только оттого, что на-
слал Бог, и грех от этого защищаться или вообще принимать меры, как
равно грех и умалять несчастье, страхуя имущество. Это значило бы отре-
каться принять «Божию напасть» в полной мере отмерянного, данного, от-
пущенного «по грехам нашим».
Матушка, конечно, говорила не свое богословие, а мужнино, а муж ее
был соборный протоиерей, сын же был законоучителем гимназии, окончив-
шим курс в Петербургской духовной академии. В комнате все сидели «ду-
ховные», из «духовных семей», и никто ничего не возразил.
«Не приемли имени Бога твоего всуе», — дает продолжение, развитие,
дает подробности той еще высшей заповеди, которая говорит: «не сотвори
себе кумира». Отрицание «кумиров» низвергает идолов, а запрещение упо-
минать имя Божие «всуе» низвергает, по крайней мере, добрую половину
нашего книжного богословия и выметает дочиста вот это «богословие как
присловие» в домах наших, в семьях наших, на базаре, в работе, болезнях и
неудачах.
Как отречение от кумиров дает великое освобождение человеческому
сердцу, так это запрещение вмешивать имя Божие «всуе» возвращает к вели-
кой свободе человеческий ум. Оно говорит человеку, чтобы он не делал «лож-
ных объяснений», — в применении к природе или своей жизни. Чтобы он
давал натуральные, естественные объяснения всему, что естественно само
по себе. Не «приплетал всуе Божие имя» там, где действует механика, физи-
ка, химия. Перед этою заповедью падают все те напыщенные и торжествен-
ные, обычно же только риторические, разглагольствия наших батюшек, по-
слушав которые бедный темный люд не может не думать, что никаких ему
наук не надо, никаких не надо школ, а вот надо быть только смиренным и
преклонять ухо к этим разглагольствованиям, в которых изъясняется земля
и небо, прошлое и будущее, ад и рай, правда и неправда. Бедные батюшки
никогда не подумают, что все эти словеса их... только «принятие имени Бо-
жия всуе»\
— «Да! да! Не сотвори мысленного идола\ — говорят, потирая руки,
богословы. — Не поклонись искусству! Не поклонись науке! Не возлюби
123
общественной жизни! Не прилепляйся ни к чему земному, суетному, прехо-
дящему»...
Они потирают руки от удовольствия, а между тем, как хочется добавить
вслух то общее молчаливое заключение, какое находится в конце всех этих
рассуждений:
— «А поклонись только нам! Нам одним, и никому еще! Нам, отцам
духовным, пресвитерам, архимандритам и всему клиру». «Мы ходим в зо-
лоченых и серебряных одеждах, которые на нас имеют то же название, как
на иконах».
Невозможно не обратить внимания, что старая вековая вражда духо-
венства, не нашего только, но, напр., и католического, к наукам и искусст-
вам имеет в основании своем много этого чувства ревности и соревнова-
ния, чувства соперничества старого «идола» к новым возможным идолам.
«Любит науку, все читает книги: и невнимателен стал к проповеди, к наше-
му слову»... «Болен, — зовет доктора, а уже не шлет телеграмму Иоанну
Кронштадтскому о целебной молитве». «Мы», «наше» уменьшается по
мере того, как человек обращается к книге, начинает учиться, начинает ува-
жат ь науку.
Однако разберемся. Наука вовсе не есть идол. Она не «позлащена». Она
есть то, что есть, и только одно это, что в ней есть, без преувеличений, без
прикрас. В преувеличениях-то и все дело. С них и начинается идол. Ведь
кусок камня, мрамора, гранита, бронзы, серебра, золота мы можем рассмат-
ривать, любоваться ими, ценить их в меру существа их, без всякого греха!
Драгоценные камни и золото перечисляются в первых главах Библии при
описании рая, насажденного человеку Богом, и перечисление это вновь по-
вторяется при описании Небесного Иерусалима в «Откровении» Иоанна
Богослова. Это — не без причины и ясно указывает, что Бог, как владыка
радостей человеческих, не только «насадил для него сад сладости», но и,
когда будет искуплен грех и низведен будет на землю Небесный Иеруса-
лим, — он вернет человеку все обилие плодов земных, даже удесятерен-
ное! Итак, натуральные вещи природы не запрещены человеку. Гранит, —
его и почитай по природе гранита, строй из него жилища, делай памятни-
ки, обрабатывай в фигуры (не человека, что явно запрещено словом Божи-
им, как «подобие», как бездушная копия настоящего живого творения).
Мрамор, — он лучше гранита, и чти его, покупай или продавай дороже.
Только опять статуй из него не делай. Почитание принадлежит всем вещам
соответственное их природе. Так же и наука, и искусство не суть «идолы»
ибо это суть натуральные человеческие вещи, натуральные человеческие
произведения, как есть, так и лежат! Уважение к ним есть уважение к уму
человеческому, как он сотворен Богом, и к вкусу человеческому (искусст-
во), как он дарован Богом же. Это цена гранита, цена мрамора; продажная
стоимость их, способность к поделкам, к удовлетворению польз челове-
ка. Не меньше, но и не больше. Все просто, естественно. Нигде нет прикра-
сы, преувеличения. Но вот...
124
Тут-то мы и входим в больную сторону духовенства. Рядом перемен в
истории, цепью незаметных прибавлений, преобразований оно мало-пома-
лу дошло до того, что во внутреннем существе его действительно вырос
идол; сложились эти идольские чувства о себе, сложились и полезли наружу
и потребовали себе «риз», тех священных «риз», каких никто не носит, ник-
то в них не облекается, ни первые мудрецы века, ни народные поэты, а толь-
ко единственно образа, иконы в церкви. «В ризе» только священник и икона,
и на обоих она подобится; непременно этот золотистый, серебристый цвет...
Подставим другое слово, и для нас вдруг раскроется настоящий смысл это-
го. «Ризы» на иконах именуются еще «окладами». Произнесем же, что свя-
щенник во время службы выходит перед народ «в окладе», и мы поймем
явление в его неизмеримом значении! Конечно, это есть установление «жи-
вых икон», «чтимых образов, но которые ходят, движутся, произносят рече-
ния». И чаще всего этого смысла: «никакой еще иконы, кроме меня»\
Не так, не так Моисей, которого «Откровение» Иоанна Богослова назы-
вает с великою любовью и какою-то человеческою близостью «рабом Божи-
им», вел народ Божий через пустыни. Он не шествовал перед народом «в
ризах», как наше духовенство в крестных ходах, этою торжественною золо-
тящеюся толпою! Апостол Павел в его неутомимых странствованиях с еван-
гельскою проповедью — опять нельзя его представить в золоте или сереб-
ре, в этой торжественной одежде... Воистину, оба были «рабы Божии»
между сынами Божиими, как наречен человек в одном из псалмов Давида, и
это наречение повторено у апостола. Все — просто, все — естественно, все
— натурально. Моисей был великим хозяином народа Божия, и хозяином
освобождения его: в вечных хлопотах, трудах, попечении, кормил, поил,
исцелял, молился. Да, не только молился, но в основе всего трудился. Тру-
женик был. Одна молитва без труда — суха и едва ли угодна Богу. Кто был к
Богу ближе Моисея: ему только одному дано было увидеть Бога лицом к
лицу, как это и сказано в священной Библии. И вот этот-то труженик Божий
сказал о себе в отношении к народу: «Я носил тебя, как мать носит младен-
ца в утробе своей». Вот забота и насыщенность и пересыщенность рабо-
тою!
А золотых одежд он не носил. И чтился не «по посвящению», а по труду,
работе, содеянному. «Что есть, то и естъ\» Опять что-то натуральное, есте-
ственное: но только натуральные-то силы его были чрезвычайной огромно-
сти! И опять, заметьте, волю его и волю Божию: могила его, тело его умер-
шее было сокрыто Богом, дабы не вышло «мощей», темный народ дабы не
поклонился его «останкам». «Ты — персть! Земля, и в землю отыдеши!» —
сказано Адаму и в лице Адамовом всему поколению Адамову — человече-
ству. «Никто не Бог, кроме как Бог». В этом: «никто еще не Бог, кроме Меня,
Который на небесах и Которого увидеть никому не дано», в этом заповеда-
нии и обеспечена великая человеческая свобода от видимых вещей и существ,
ограждена его независимость в земных делах, в жизни своей, в своем зем-
ном устроении, в отношениях к окружающим. «Никому не поклонись, кро-
125
ме Меня, Который в духе твоем и в невидимых небесах», «никому не покло-
нись из того и тех, кого ты видишь», «не сотвори себе идола»...
Как совершилось в истории — не будем разбирать, но совершенно оче-
видно, что духовенство уже сейчас, без личной вины на ком-либо из священ-
ников, так сказать, наследственно и сословно, in corpora, несет на себе эту
позлащенность идола; несет из дальних времен, — и, как мы строго огова-
риваем, — без личной чьей-либо вины. «Так все само собою устроилось»,
«сложилось». Но столь же бесспорно, что стоит перед человеком это вели-
кое заповедание: «Не сделай себе идола ни на небесах, ни на земле, ни в
море, ни на суше»... «Никто есть Бог, кроме как Бог». Человек свободен: а
в небесах — невидимый и вечный его Освободитель и Отец.
Вернемся к нашей теме. Вот в эти два года, как мы живем, и происходит
великое колебание древнего идола. Дрожит почва под ним, дрожит он сам.
И позолота спадает с него, отколупывается цельными кусками и падает на
землю, рассыпаясь в прах...
Духовенство страшно взволновано и смущено... В нем, в лучших чле-
нах его, под позлащенным саном проснулась простая человеческая совесть;
проснулась и заработала. Вспомним одно из чудных слов «Откровения»
Иоанна Богослова, где говорится, что перед снисхождением к людям второ-
го «Небесного Иерусалима» люди запоют древнюю песню «раба Божия
Моисея»... Нам кажется, что в духовенстве нашем вот и запела эта «песня
раба Божия Моисея», как мы очертили его и каков он, бесспорно, был —
работник, труженик, народолюбец, без прикрас и преувеличения. «Чешуя
с идола спадает», и перед нами простой гранит, в его добрых качествах, сто-
ящий, чего стоит. Духовенство наше, в лучших его членах, оставляя золоти-
стую чешую своего богословия и своих преувеличений и «санов», начинает
просто и беспретенциозно работать для народа, заботиться о народе, как
«раб Божий Моисей», который не захотел для себя «мощей» и не потребо-
вал для одежды своей ни виссона, ни золота. «Это — Божии украшения,
украшения на утвари в скинии, на жертвеннике, ковчеге. А я — человек, и
мне принадлежит только человеческое», — полотно, шерстяная ткань, как
на всех.
Чешуя спадает. Позолота осыпается. И из-под нее, как лжи, видимости
и обманы, выступает добрый натуральный материал. В священнике загово-
рил человек. Заговорил народолюбец-работник. Несколько таковых вошло в
Государственную Думу. И как известно, — все они в этом народолюбии сво-
ем и работе своей. За это народолюбие и работу они и позваны к ответу.
II
Разберемся в истории, которая случилась со священниками-депутатами Го-
сударственной Думы.
Как она могла начаться! Как мог Синод вмешаться в речи депутатов?
Как мог митрополит Антоний призвать их и произнести им слово, которое
126
по сухости и формализму смутило всех? Как все это могло совершиться в
церкви, в христианстве?
Да очень просто. Слово о «церкви» есть, а церкви как дела нет; слово о
христианстве, литература о христианстве, книжность христианская, — все
это есть, есть и есть, но христианства как некоего сердечного и жизненного
делания — его не только нет, но о нем даже и вопроса не подымается. Вели-
кие слова евангелиста Иоанна Богослова, которые так торжественно произ-
носятся на пасхальной службе, произносятся как некое чудо, совершившее-
ся между небом и землею, потрясшее небо и землю, связавшее небо и зем-
лю: «И Слово плоть бысть» — эти слова исторически получили ужасно
странный оттенок. Оттенок этот заключается в том, что слово, словесность,
фразеология сделались воистину «плотью» в христианах. Они все говорят,
говорят, говорят; спорят, препираются; учат, проповедуют; построили томы
догматов и сотни томов «разъяснений» к ним; заключили в строжайшую
словесную формулу свою веру. Все слова... И «слово» это и сделалось для
них плотью, единственно видимою и единственно осязаемою. Слово, — а
дела никакого! Дело может быть какое угодно.
Церковь, — она вся словесна. Словесное исповедание, словесные — ве-
ликие и прекрасные — формулы при таинствах; литургия — это сплошь
слово, тут только произносят и поют. Я не отрицаю, что это поучительно, и
даже не отрицаю, что это вообще «прекрасно» и «так нужно», а только под-
черкиваю, что все «говорят», «говорят», и в итоге — «слово плоть бысть».
Перечитайте богословские журналы, читайте лучшие из них и о чем
угодно: вы увидите, что это все слова и о словах. Из пределов слова христи-
анская мысль или, точнее, христианское «вперед!», вот этот инстинкт, нудя-
щий нас шагнуть, рвануться, — не умеет выйти. Всякая тоска христиан-
ская выражается словом, всякое недоумение разрешается вопросом (слово же);
на нужду христиане отвечают «утешением», т. е. опять словом же! Тут по-
ставлены какие-то вековечные вехи, или, попроще и погрубее, христиан-
ский конь впряжен в такие словесные оглобли, на него наложена такая сло-
весная упряжь, что, сколько он ни прыгай, — никак из этих оглобель «золо-
того слова» не может выпрыгнуть и этой словесной упряжи никак не может
с себя сбросить. Что-то вечное и до того упорное, будто тут в самом деле
есть нечто сверхъестественное, магическое.
Когда мы несем к язычникам, в Японию или в Китай христианство, ког-
да миссионеры, наставники и священники ведут в Казани и Поволжье пре-
ния с мусульманами, то на вопрос «чем христианство лучше Корана» и «что
такое вообще христианство», — они отвечают: «Это религия благодати и
свободы, принесенная на землю И. Христом». «Благодати и свободы»...
Перед этим все падает, идолы, Коран; крушатся целые цивилизации, как со-
крушилась цивилизация эллинизма и цивилизация Рима. В «благодати» и
«свободе» каждый чует для себя такое великое обещание, видит такую лу-
чезарную надежду, ради которой отказывается от своих богов, отцов, роди-
ны и... переходит в «царство благодати и свободы», заведуемое в каждой
127
епархии, ну хоть в шанхайской или пекинской, если бы случилось, в токий-
ской, американской или якутской, непременно духовной консисториею.
Как только окрестились якуты или мусульмане в «благодатную и сво-
бодную веру», так сейчас же поступают в ведение духовной консистории,
которая им:
1) дает попов, и, если кто-нибудь овдовеет, хоть через месяц после бра-
ка, — ему на всю жизнь запрещено жениться;
2) дает монахов, которым вовсе запрещено жениться;
3) и если от китайца, японца или якута сбежала жена, то ему ни в каком
случае не будет разрешено взять другую жену, а будет предложено сожи-
тельствовать с паспортною книжкою, и рождать детей от паспортной книж-
ки, и вести хозяйство, тоже имея «помощницею», как установил Бог для
первого человека, — вот этот женин паспорт. «Слово плоть бысть». Слово
«жена» для церкви и вообще у христиан вполне заменяет дело жены, суще-
ство женино. «Зачем существо, когда есть слово! Мы уже не язычники, мы
— духовные».
Обещается царство «благодати и свободы», но при оговорке: «слово плоть
бысть»... И вот, пока на вновь крещаемого надевается беленькая рубашечка
и золотой крестик, он сам верит и ему все окружающие говорят, что он всту-
пил в благодатное и свободное царство. Дух ширеет, дух подымается. Но
раньше, чем эта крестильная рубашечка успела заноситься и пойти в стирку,
он узнает, что в «царстве благодати и свободы»:
1) «Запрещено», «запрещено», «запрещено»...
2) «Не дозволено», «не дозволено», «не дозволено»...
3) «Ограничено».
4) «Надо спроситься».
5) Надо испросить «благословения».
Такое сладкое, «благодатное» это слово: благословение. «Благословите,
батюшка!» «Благослови, владыко (к архиерею)», «благослови, духовная кон-
систория», «благослови, Святейший Синод».
— Не благословляю, не благословляем.
Опять, как умилительно! Какая мягкая форма выражения. «Не благо-
словляю». Ведь это на всемирном языке значит «лучше бы ты иначе посту-
пил», «мой совет тебе — на иное». Но это так кажется, это для видимости,
это для некрещеных и чтобы они скорее крестились. На самом деле это лас-
ковое, нежное, братское, отеческое.
— Не благословляю —
означает:
— Запрещаю!
И с такой, опять умалкиваемой, но всем хорошо известною (т.е. всем
крещеным) угрозою и с такими грозными последствиями за непослушание
что никому даже и на ум не приходит поступить не по «благословению»..
Священник молодой. Трое малюток. Дом. Хозяйство. Помирает жена-
матушка, простудившись или мало ли от чего. Мало ли женщин умирают в
128
молодости, сплошь и рядом. Сироты-дети, — некому вовремя и молока им
дать. Отец на службе, ездит править требы. Малюток только и есть на кого
оставить, как на кухарку. Тоскует поп. Не прибраны, не поевши, не вымыты
дети. Дом, хозяйство рушатся на сторону. Ну где бы и проявиться «царству
благодати и свободы», как не здесь. «Кто обидит сироту», «кто оставит без
утешения плачущего, горького». «Благодатная и свободная» церковь, каза-
лось бы, и с пастырем своим, архиереем, и со всеми сотрудниками протоие-
реями, и со всем опытом и знаниями духовной консистории так и бросятся к
этому дому в несчастии, к этому горькому вдовцу, сиротам-деткам, падаю-
щему хозяйству на помощь: «Ты пал, брат наш; ты, как Иов на гноище, как
Давид, гонимый в пустыне от врага своего, как Анания, Азария и Мисаил в
пещи огненной. Ты потерял жену и мать детей твоих, но у тебя есть Матерь
Святая Церковь, и ты для нее, как для матери, вдовец-сын в молодости; та-
ковому мать отыскивает вторую жену, и вот мать Святая Церковь со всею
поспешностью и всяческою помощью, средствами, и советом, и указания-
ми, дает тебе, по слову Божию: «не хорошо быть человеку одному и сотво-
рим помощницу ему — вторую жену, или вдовицу, опытную, приветливую и
юную (ибо и священник еще молод), или девицу, серьезную и домоседли-
вую. Дабы ты знал утешение, и дети твои не остались голодны и невоспи-
танны, и хозяйство твое не рушилось».
Такое, казалось бы, добро! Воистину, веяние «благодати и свободы»...
Ну, что же это собирать на блюдо по церквам-то «для распространения хри-
стианства на Дальнем Востоке», то «для сирот духовного звания», то еще на
разные благотворения, а у себя, под носом, под рукою, под боком, вот не
утереть слезы такому вдовцу, не прийти к нему на помощь. Чем китайцам
благодетельствовать «крестильными рубашечками», то лучше, обширнее и
действительнее — было бы «благословить вступать во второй брак вдовым
священнослужителям», — по крайней мере, до сорока лет, по крайней мере,
при малютках-детях. Ведь «не обидь сироту» и «суди право вдовицу» (и,
конечно, вдовца).
Куда... Позеленеют от злости все наши архиереи за одну решимость
«испрашивать»-™ такое «благословение». Вострепещут притворным не-
годованием (сами нуждаясь) митрофорные протоиереи... Промолчат ду-
ховные консистории. Ничего не ответит «на такую глупую просьбу»
Синод...
Все промолчат. И ни единый не вспомнит самарянина, перевязавшего
раны раненому на дороге разбойниками...
Не вспомнят. Но отчего?! Да «слово плоть бысть»... Все там слово, и
все у нас — слово.
Слово мешает.
Сейчас все заторопятся, когда нужно запретить (в «царстве благодати и
свободы»). Когда нужно «разрешить», — никто не торопится, все лежат. Но
как только «запретить», — то все вскочили, забегали, ищут текстов, приду-
мывают, изловчаются:
5 В. В. Розанов
129
— «Ведь Ева-то была одна дана Адаму. Значит, нельзя дать другой жены».
Забывают, что Ева дана была бессмертною и бессмертному Адаму. Она дана
была ему до греха, а до греха они были бессмертны. Но я не хочу спорить
дальше. Я только констатирую злость ответов.
— Умерла жена? Но ведь это не без Божия смотрения. Гляди текст; во-
лос не падает с головы человеческой без воли Божией, Значит, Богу угодно
было взять жену от сего священника. Мы-то что же: неужели будем пере-
чить воле Божией? Смотрение Божие о сем человеке было таково, и дать
второй жены ему невозможно.
— Да и самое желание им супружества неодобрительно. Что есть свя-
щенство и в каком отношении священник стоит к церкви? Он обручен с цер-
ковью. А двоеженство недопустимо: почему и нельзя уже посвященному
священнику, уже совершающему литургию, вступать в брак. Он имеет суп-
ругою церковь. Но по материнскому великому милосердию церковь нисхо-
дит к слабости человеческой и, собственно, не благословляет, а только про-
щает посвящаемому во священники молодому человеку тот первый его брак,
в который он вступил до принятия священства...
И прочее, и прочее, и прочее.
И тому подобное, и тому подобное, и тому подобное.
И так далее, и так далее, и так далее...
На телегу не уложишь богословия. Лошадь измается везти, сколько на-
писано поистине «духом злобы», с зелеными глазами, с недоброжелатель-
ным сердцем, пространных слов, вместо того чтобы сказать кратко и не
увертливо:
— Не хочу дать молока. Дети просят? Не хочу!
— Ревет поп? — Пусть! «Ближний?» — Ха-ха-ха! «Пастырь душ?». —
Ха-ха-ха-ха!
— Разоряется? — Наплевать! Сказано: «Нищими будьте!» Ха-ха-ха! Мы
сами ничего не имеем. Все общее. Монахи. Хи-хи-хи!
Ведь вот «подоплека»-то богословия, внутреннее его сердце... Ну, а
снаружи — тексты, величие и этот ужасный страх «нарушить волю Божию».
Я немножечко отвлекся. Но без этого отвлечения невозможно понять,
что, собственно, случилось с депутатами-священниками. Ведь в чем все дело.
Мир, общество, печать так удивились тону Синода и митрополита. Печать,
общество — ведь они, по глубокому неведению духовного мира, мира на-
шего духовенства, мира церкви и церковных правил и традиций, имеют на
все воззрение, вот как в беленьких рубашечках только что окрещенные ки-
тайцы или якуты. У них в памяти это одно: «царство благодати и свободы»,
«церковь благодатно действует и не теснит ничьей свободы».
Но это — в белых крестильных рубашечках. А в митрах и камилавках
давно все знают и, главное, давно привыкли все к крючкотворству, и что «без
крючкотворства нельзя», и «без крючкотворства какое же дело? Как могло
бы жить духовное ведомство? И как могла бы прожить церковь?»
На «крючкотворстве» основаны вдовые попы.
130
На «крючкотворстве» основано монашество и власть монахов.
Все каноническое право есть только одно крючкотворство.
Крючкотворством наполнены семинарские и академические библиотеки.
И молодые годы духовенства, 14—16 лет учения, только и уходят на то,
чтобы усвоить, зазубрить (ибо понять по разуму невозможно) и, наконец,
войти во вкус этого крючкотворства. Получить крючкотворный стиль и за-
кал. И чем этот стиль строже, а закал прочнее — тем выше подымется ками-
лавка на протоиерее, митра на монахе, тем сердце его сделается черствее и
недоступнее для всего мирского, человеческого, слезного, горького. Тогда
он «настоящий»?
Это на одном приеме, кончив дело, один доктор, желая быть любезным,
сказал высокопреосвященному Исидору, покойному митрополиту Петербург-
скому:
— Я удивлен видеть вас, ваше высокопреосвященство, в таких годах и
столь еще свежим и сохраняющим такую память и ясность суждения.
— Мне восемьдесят четыре года. И рецепт прост: я никогда ничего близко
сюда не принимал.
И старческой, белой, бескровной рукой он указал на сердце. Есть дет-
ская сказочка: «Брильянтовое сердце». Вот и у владыки было не мускульное,
человеческое, кровное, утомляющееся, способное к заболеваниям сердце, а
это — скажем любезно же — брильянтовое сердце.
Или, по-демократически и как на митингах: просто там лежал булыж-
ник.
Булыжник, обернутый в человеческую кожу, которая, в свою очередь,
завернута в шелковую мантию «с разводами».
III
Депутаты Думы — священники и попали в это «духовное крючкотворство»,
которому так удивился внешний свет и которое он теперь рассмотрит при
этом удобном случае.
Как известно, пророки прекратились и пророчество угасло с тех самых
пор, как «слово стало плотью». Вместо пророков даны нам протоиереи. Нет
у нас и первосвященника, но мы имеем Святейший Правительствующий
Синод. Итак, в газетах сообщалось, что Святейший Правительствующий
Синод в заседании 12 мая «имел суждение» о священниках — депутатах
Думы, которые, «принадлежа к революционным партиям, дозволили себе
показно отсутствовать в заседании Думы 7 мая при обсуждении запроса по
поводу заговора, угрожавшего жизни Государя Императора, и этим действи-
ем явно уклонились от порицания замыслов цареубийства».
Заметим, что и «показное» отсутствие, и «явное» уклонение суть от-
рицательные деяния, суть недостатки каких-то действий, которых просто
не было, — и что же тут судить, и как судить о том, чего не было^Л «Не
было», «не пришли», «не явились», пролежали дома, проспали, были в дру-
5*
131
гом месте, забыли; во всяком случае, это alibi, с установлением которого
прекращается всякое судебное взыскание! И даже в том словесном изложе-
нии, которое придал всему «делу» или, точнее, «отсутствию дела» Прави-
тельствующий Синод, совершенно ясно, что возбуждается иск о тех «про-
чтенных в сердце» мыслях, узнавать и «дознавать» которые даровано Свя-
тому Духу и еще одному управлению в голубых мундирах. Синод, конечно,
действовал по внушению первого, но едва ли без мысли быть приятным и
второму.
Казалось бы, родись такие подозрения, — ну, явно вознегодовать на
священников за их возможные чувства?! Как негодовали пророки? Но про-
роки угасли, и для наших времен осталось одно крючкотворство. Остались
«понеже» и «поелику»... «Исходя из положения, — пишется в сообщениях, —
что по существу пастырского служения со священным саном неразрывно
связано уважение к существующей государственной власти и государствен-
ному строю, а тем более уважение и нелицемерная преданность Государю
Императору, как Помазаннику Божию, на верность которому священнослу-
жители не только присягают сами, но и обязаны приводить других к прися-
ге, — нашел недопустимою принадлежность священников к политическим
партиям, забывшим долг присяги. А потому определил»... выйти из партии
или снять сан.
Из уст Правительствующего Синода не выдавилось ни одного слова о
Христе и Евангелии, о христианстве и апостольском служении в мире. Даже
на ум, по-видимому, не пришло. Все свелось к одному:
1) Вы присягали? Присяга есть точное обязательство.
2) И приводите других к присяге, — обязываете.
3) К чему? К повиновению предержащим властям.
4) Ну, вот... И если нарушили присягу, — не можете быть и священни-
ками.
Или, если все взять в деле и без прикрас, то просто:
5) Чей хлеб едим, того и песни поем.
Кумир пал. Кумирня обсыпалась. Где же эти золото, брильянты, митры,
клобуки, величественные посохи и жезлы, все якобы «апостольское», якобы
«Христово»? Просто:
— Кому обязаны хлебом? У кого на жалованье? То-то, опомнитесь и
вернитесь или — вон!
Из-под одетого в ризы священника вышел просто «служилый человек»;
человек дела, работы, признанных «полезными». Служба как служба, как
всякая служба. Сам Синод стал на точку, что «священство есть только служба
соответственно присяге», как всякая решительно чиновническая служба.
Мы думали, что имеем в России 70 ООО «священников», людей каких-то
особых, с «благодатью Святого Духа» на них, с особым великим даром «свя-
щенства». Но пошло дело круто, и выкрикнулось настоящее слово:
— Это только чиновники. Суть не в Евангелии и не в Христе, суть и не
в посвящении. Это — только обстановка. Суть дела в присяге и «правитель-
132
ственности», начиная с «Правительствующего Синода», которому даже не
приходит на ум вспомнить о Христе, когда он заторопится...
* * *
Синод, действительно, торопился. 12 мая состоялось его постановление, а
уже на послезавтра депутаты-священники о. Архипов, о. Гриневич, о. Коло-
кольников и о. Тихвинский явились по вызову петербургского митрополита.
На приеме присутствовали член Синода епископ Иннокентий и протопрес-
витер придворного духовенства и духовник Государя И. Л. Янышев.
Это очень надо отметить и не судить особо строго, по человечеству,
митрополита. Именно в эту минуту он был крайне «правительственное лицо».
Как бывают частные раввины, свои и настоящие, у евреев, так в этом случае
под четырьмя наблюдающими его глазами, конечно, он был «присяжным
митрополитом». По человечеству судить мы его не можем, но как высуну-
лось шило из мешка и перед всею Россией сказало громко:
— Есть присяжная церковь. А Христовой церкви... ну, она и есть, эта
присяжная церковь. Со времен Константина Великого, когда государство
оказало покровительство церкви и вывело ее из катакомб, и посадило на
престол ее, и одело ее в пышные одежды, и дало власть над народами, —
обратно церковь Христова дала присягу на верность всякой сущей власти,
верность и нелицемерную преданность.
Митрополит, глубоко традиционно, по уставу и «преданию св. отец», и
совершил все это, и говорил:
— Прочли священникам указ Синода о «принадлежности к политичес-
ким партиям». Весьма основательно они ответили, что ни в одной из поли-
тических партий не состоят членами, но, войдя в парламент, тем самым
вошли невольно и сами собой в одно из подразделений, «фракций», на кото-
рые парламент делится. Пришел в комнату, сел на стул, а стул-то стоит «в
ряду», и уже естественно, сев на стул, — попал и «в ряд». Это так вообще, в
смысле оправдания словесной поправки, какую сделали священники к сло-
вам митрополита и распоряжению Синода о выходе из «партий». Одно дело
— сесть на стул и другое — расставлять стулья. Священники до входа в
Государственную Думу не были участниками ни которой партии, ничего
партийного не организовали и вообще никакой активности в партийной
жизни и деятельности не имели. Не только до Думы, но и в Думе. Это вид-
но по всему, по речам их, нимало не подчиненным «партийной дисципли-
не» и не согласованным с «партийною тактикой». Они суть только люди
мнений, именно как священники. Но, скажут, «левые скамьи»? Почему не
правые?
Да что же им было делать, этим священникам, если правые скамьи суть
сословные и дворянские; священники просто не принадлежат к этой партии,
состоящей из дворян и защищающей дворянские интересы, и не принадле-
жат потому, что они-то сами из другого сословия, просто из другого, маж&
без всякой вражды, и уж если пришли в Думу с «интересами», то тоже, веро-
133
ятно, «своими», духовно-сословными. Но кажется, и почти наверное, они
пришли не с «интересами», ибо их слишком мало, чтобы защищать эти ин-
тересы, да и Дума совершенно их не касается. Итак, они пришли с «мнени-
ями» не сословными. Какие же это мнения, какими они могли быть?
Только народными и государственными, притом в самой общей и по-
чти отвлеченной формуле, без частностей, именно без «партийности»: ибо
только жизнь, проводимая в партии, и постоянное участие в делах ее могут
дать, так сказать, «посвященность» в эти частности, подробности, отдель-
ные вопросы, в параграфы программы. А «народным» и «простонародным»
духом проникнуты именно наши левые партии. Что делать, —так! Об этом
я сужу по личному опыту: при выборах в Государственную Думу я подал
голос свой за «левых» именно потому, что это народная партия, стоящая за
массу народа и интересы и нужды этой массы. Но я ни разу даже не пошел
ни на одно партийное собрание «левых», совершенно не знаю и не интере-
суюсь их точною программою, их формулами. Я уважаю этих «левых»
людей за их сочувствие к народу и за их направление, но опять не сухо-
политическое, а вот это народное, народническое, деревенское, сельское.
Мне кажется, это почерпнутое из личного опыта суждение мое весьма жиз-
ненно в смысле правильного объяснения поступка думских священников.
Наконец, они не сели среди «кадетов», в центре, опять по этому классовому
своему положению, довольно приниженному, бедному; «кадеты» — это
богатые собственники, землевладельцы, профессора, юристы многотысяч-
ного гонорара, штатские генералы, вообще люди имущественно и по поло-
жению в обществе крупные, видные. Пойти на их скамьи — это все равно
что пойти без особенного зова, даже и вовсе без зова, на чужой богатый и
аристократический обед. У батюшек «сердце сжалось». Все произошло
чисто бытовым образом. В Думе для деревенского священника никто не
«свой брат», кроме вот этих «левых», людей в бедных пиджаках и даже
крестьян. Эти «свои» так же бедны, не очень образованны, деревней пах-
нут, селом пахнут. Они должны были сесть на левых скамьях, потому что
на всех других скамьях сидели уже люди не их положения, не их уровня
образования, не их бытовых и житейских вкусов, не их красноречия, не их
достатка, манер говорить и обращаться. «Обращаться» — вот что решило
дело, я уверен: «левые» — это то же в Государственной Думе, что в храме,
в собрании, в концерте, где угодно, «места около входа», «задние ряды»,
«раек». «Серый поп», придя в Думу и окинув взглядом присутствующих (а
«батюшки» очень зорки и наблюдательны), и побрел смиренно к «своим»,
к нужде, к народу, к бедности!
Это — народная черта, народное сближение. Но сюда присоединилась и
государственная озабоченность. «Кадеты» суть конституционалисты, в чем
едва ли особенно компетентны сельские батюшки, и ведут с правительством
чисто политический, чуть-чуть даже дипломатический бой. Священники в
этом нисколько не компетентны и просто не имеют к этому интереса. Они
не конституционалисты, а именно народники, и затем они государственны-
134
ки в том отвлеченном и несколько учебно-педагогическом, учебно-истори-
ческом смысле, как мы все, читавшие «Историю государства Российского»
Карамзина и его же рассуждение «О любви к отечеству и народной гордо-
сти», чувствуем себя тоже «государственниками», но не в чиновном и бю-
рократическом смысле, а вот в этом, несколько наивном и детском, востор-
женном и неопределенном. «Чтобы России было хорошо», «чтобы Россия
былахорои/а». И опять, к счастью или несчастью, но только «левые» в Госу-
дарственной Думе стоят на этой точке зрения на наш государственный ко-
рабль и его историческое плавание. Они гораздо менее, чем, положим, «ка-
деты», знают конкретное положение вещей, состояние государственного
механизма; они наваливаются на «зло отечества» массой и «вообще» имен-
но так, как только и могут идти против «злого в отечестве», «дурного» и
«вредного» у себя на родине священники, просто не знающие положения
дел в их конкретностях, частностях, подробностях.
Вот положение. Всякий видит, что тут даже и не пахнет революцией.
Но они «не пришли в утро обсуждения запроса о заговоре»? Тут, я ду-
маю, действовало русское слабоволие: это — черта, по которой мы не лю-
бим разделяться «с соседями» без крайней необходимости. Их уговорили к
этому, уговорила толпа в 150 человек пятерых своих «товарищей» в рясе. На
«товарищество» они имели всякое право, духовное, нравственное, священ-
ническое. Не забудем, что Сам Иисус Христос перед распятием говорил уче-
никам Своим: «Ныне вы уже други Мои, а не ученики...» Священники, в
глубоком контрасте с монахами и монашеством, стали в эти прекрасные
дружеские, уравнительные отношения с окружающей средой и, естествен-
но, исполнили горячее ее желание в данном пункте, который им не пред-
ставлялся существенным и важным. Ведь они не политики, еще менее поли-
тиканы и, чувствуя свою полную некомпетентность в этой сфере, принима-
ли ту тактику своих скамей, которая есть, которая «налицо». Во всяком слу-
чае, не подлежит сомнению, что никакой активности, инициативы они здесь
не выказали. И если на них лежит вина, то самое большее в неосторожнос-
ти. Но неосторожность — не преступление; не забудем, что это сельские
священники.
По прочтении синодского указа митрополит потребовал, чтобы они пись-
менно и формально заявили Синоду, притом с опубликованием на всю Рос-
сию, что «с чистосердечным раскаянием» выходят из «партий», к которым
принадлежали, и что выход этот должен быть отнюдь не внешний только:
они не должны впредь и произносить речей в духе этих партий и в направ-
лении своих прежних речей... Так как это не было приглашением к молча-
нию, то требовалось, очевидно, чтобы они начали произносить речи в духе,
противоположном своим прежним речам... Предоставляем читателям оце-
нить нравственное впечатление в России, если бы этот совет-распоряжение
Синода и митрополита священники исполнили... «Вчера пели за народ, се-
годня — против народа; вчера было воскресенье, сегодня — пятница', вчера
ликовали и возглашали: Исаия, ликуй, сегодня голосят Вечную память: они
135
ни во что не верят, в них нет души». Но характерно и многозначительно,
что с высоты церковной иерархии была выражена уверенность не найти в
священниках никакой души, а в случае нахождения такой «оказии» заявлено
требование, чтобы ее впредь не было. Это уже факт, и, — увы! — «что напи-
сано пером, того не вырубишь топором». Навсегда останется впечатление у
народа, что у священника медные уста, которые звонят, что прикажут, что
подсказано, что конфиденциально предписано; что это не живой человек, а
кукла в руках монашества. В факте этом мы должны различить две стороны:
он манифестует, с одной стороны, безграничную подавленность белого ду-
ховенства черным, которое предписывает душе его что угодно; но, с другой
стороны, тут выразился весьма обыкновенный и уже привычный принцип
монашества, принцип «послушания». Иерархия — монахи; а монахи и все-
гда учили, с первых веков христианства, будто «послушание» есть столь ве-
ликий дар, с которым не сравнятся ни пост, ни молитва, ни самое, кажется,
пресловутое их «безбрачие». Это, будто бы, высшая христианская доброде-
тель, основной зиждительный камень монашества и монаха. Мне приходи-
лось читать, что великие подвижники монашества учили, что если кто при-
шел к ним «спасаться», то должен помнить, что менее греха даже в непослу-
шании Бога, нежели в непослушании «духовного старца», игумена монас-
тыря и вообще духовной власти, духовного «владыки». Достоевский, который
едва ли этого не знал (до того это общеизвестно), удивительным образом
приписал в «Легенде об Инквизиторе», эпизодически введенной в «Братьев
Карамазовых», эту черту «послушания» католичеству, будто католическая
церковь «догадалась», что миру недостает «послушания» и что вообще нельзя
ничего устроить в мире без «послушания». И этому католическому принци-
пу он противопоставил нашу восточную, нашу православную свободу. Меж-
ду тем именно на Востоке, в православных греческих странах, в Сирии,
Палестине, в Египте и на Афоне, «отцы пустынники и жены непорочны»,
трогательно воспетые Пушкиным, первые «догадались», что в мире все есть,
а недостает одного — послушания, что грех человека, грех Адама, был именно
в непослушании, а потому и возрождение человека от греха, его «спасение»
должно начаться с полного и глубокого умерщвления в себе личности, лич-
ного взгляда, личного мнения, личного своего желания. «Все, как отче»,
«все, как игумен», «все, как епископ», «как митрополит»’, или, с учреждени-
ем Синода и «нашествием» светлых пуговиц на рясы: «все, как секретарь
консистории», «все, как обер-прокурор», «как его превосходительство при-
кажут». Но как в одном случае, так и в другом, по линии ряс или вицмунди-
ров, все то же и одинаковое’, «меня нет, а есть его преосвященство» или «его
превосходительство».
Нет никакого сомнения, что Синод и митрополит в своем обращении к
депутатам-священникам действовали «по вдохновению» многих «превос-
ходительств», которым надоела оппозиция в Думе, или, по крайней мере, с
надеждою «быть приятными» этим «превосходительствам». Но, с другой
стороны, получив «вдохновение свыше», они уже действовали привычно и
136
твердо по своим монашеским уставам и всему духу церкви — безгласию,
безмыслию. «Вы подняли голос, когда по уставу вы должны быть без голо-
са? Вы обнаружили мысль, когда вы должны только уметь говорить слова,
которые напечатаны в Шестопсалмии, Триоди постной и Триоди цветной,
возглашать Исаия, ликуй или Со святыми упокой, смотря по надобности и
требе? Кто мыслит и имеет голос — не надобен церкви: снимите сан или
вернитесь к прежнему и ожидаемому, к этому древнему, заповеданному, ус-
тавному и святоотеческому безмолвию и бездумности».
Так выразился митрополит, потребовав от священников-депутатов «пе-
ремены всех убеждений» в четыре дня, от 16 до 22 мая 1907 г., притом «чи-
стосердечной». «Нечистосердечие будет поставлено в большую вину», —
добавил он. Вся Россия удивилась. «Как пересесть со стула на стул, пере-
одеться из одного платья в другое — так же, по его мнению, переменить
душу, измениться в составе всех ее убеждений». Россия удивилась...
Чему? Митрополит действовал и говорил «по преданию». Это и есть
«святоотеческое», чему, не различая внутреннего содержания, поклонялась
смиренная Русь; это и есть «святое святых» в ее идеале «святости». Идеал
этот — безмолвие; идеал этот — послушание; идеал этот — «меня нет».
Тень человека, «сень» человеческая, «тлен» и «прах» его — слишком знако-
мые понятия, привычные слова!
На что же ты негодуешь, Русь? Ведь этому ты поклонялась?! «Тень и
прах», «сень и персть» — тысячелетние речения, священные речения'. Это
практически переводится в «замолчи!» и «чего изволите?». Духовная и свет-
ская, церковная и государственная стороны одного и того же! Вот раки св.
угодников, учивших молчанию, учивших покорности. Каково семя, таковы
и плоды. Одно учение, тот же дух, с именем Божиим на устах и без этого
имени... Но тот же дух в X веке, как в XX, или, точнее, в двадцатом пото-
му, что было крепко посажено в X!! Я сказал, что это семя сеялось «с име-
нем Божиим на устах». И если Россия теперь так сильно негодует, разойдясь
явно с церковью в понимании нравственной личности человека, то не дове-
дет ли она сознания своего до той далекой догадки, что уже и тогда, в X веке,
все это слово о «молчании» и «безмолвии», все эти идеалы, все это первое
семя «позлащенной кумирни» сеялось с «именем Божиим, принятым всуе»...
Что кумирня рушится и расседается, кумиры валятся, — потому что ни в
них, ни в ней не обитал и не обитает живой Бог — Тот, коего Библия имену-
ет «Господом сил», «Господом сильным»'.
Проповедь бессилия, «тлена» и «праха»...
Она обращается в прах...
Ибо подходит Бог живой, податель жизни и жизней... Бог, как мировая
энергия, родник мирового энергизма, что, во всяком случае, более подходит
как эпитет к Творцу миров и мира, чем схоластическое и, кажется, взятое у
языческого неоплатонического философа Платона определение Его как «Духа
вечного, всеблагого, всесовершенного» и проч., и проч., и проч.; в основе же
всего, по этому неоплатонизму и по нашим катехизисам, «духа безэнергич-
137
ного», который только и мог породить наше безэнергичное «духовенство», а
уж никак не землю в ее неизмеримой тяжести и не солнце с кипящими тем-
пературами...
Р. S. Я уже окончил статью, когда услышал из совершенно достоверно-
го источника, что протопресвитер И. Л. Янышев произнес на приеме у мит-
рополита священникам-депутатам прекрасное увещание: «Я сам сын сель-
ского священника и с младенчества видел горе народное и страдал за на-
род; понимаю это чувство и в вас, и продолжайте говорить за него в Думе,
как вы говорили до сих пор». Итак, ошибочно то, что я предположил о смыс-
ле его присутствия на приеме. Радостно приношу это извинение-поправку.
Ибо кто не радуется достоинству человеческому? Но о. И. Л. Янышев —
белый священник и к тому же первая звезда академического преподавания
60-х годов.
МЕДИЦИНА И ЦЕРКОВЬ В ВОПРОСЕ
О БРАКЕ И РАЗВОДЕ
Сообщения о работах особого совещания при Св. Синоде, пересматриваю-
щего поводы к расторжению брака, конечно, читаются с живейшим интере-
сом всею Россиею и множеством отдельных семей и с мучительным ожида-
нием и болью. Совещания направляются вообще по доброму пути: видна
тенденция не сохранять более видимости брака или, точнее, его юридичес-
ких последствий там, где в наличности брака уже нет, где он фактически
расторгнут самими супругами. Таково «намеренное оставление одним из
супругов другого, сопровождающееся раздельным жительством супругов в
течение не менее трех лет». Наконец-то брошенные женами мужья и обрат-
но, которые до сих пор несли за вину прелюбодея и обидчика наказание,
избавляются от него! Бывало, бросит муж жену, церковь бросившего не на-
казывает, а наказывает брошенного (приговорив к безбрачию). Убежит жена
от мужа, убежит к возлюбленному или в форменный разврат: в глазах ее
опять виновен муж, виновен оставленный, а жена, сколько бы ни родила на
стороне и от кого бы ни родила, церковь при всех протестах мужа даже отка-
зывалась признать их незаконными, а записывала на имя брошенного мужа,
в наследники его имущества, наживаемого иногда тяжким трудом. Вообще
законы о разводе были и пока еще сохраняются столь чудовищные, что едва
они будут отменены, как сделается едва вероятным, что они когда-нибудь
существовали. Эти законы представляли полное покровительство всякому
разврату, всякому дебошу, всякой распущенности, зверству, наглому произ-
волу. Преступник всегда прав, потерпевший всегда наказан. Заражает раз-
вратник-муж жену дурною болезнью — церковь на стороне заразившего
мужа; тиранит муж жену — церковь на стороне тирана. Наоборот, жена на-
138
ставляет рога мужу — церковь переходит на сторону жены и «прощает ей
вину прелюбодеяния», которое сводит с ума мужа. Кидает вовсе жена мужа —
церковь и тут защитит ее! И все это под предлогом охранения святости
брака! Под предлогом укрепления семейного союза! Ведь именно об этом
написаны два знаменитых романа в русской литературе: «Дворянское гнез-
до» и «Анна Каренина». Но архиереи и тем паче митрополиты романов не
читают, и по неохоте, и потому, что им это запрещено. От них все зависело в
браке. И они лишены были даже литературной возможности увидеть слезы
России, плач множества людей. Увидеть же их физически они тоже не мог-
ли, ибо кто же плачет на официальных приемах!
Наконец это безобразие рухнуло! Виновный, т. е. оставивший супруг,
получает наказание в виде семилетней или двухлетней эпитимии, а невин-
ная пострадавшая сторона, т. е. оставленный супруг или оставленная супру-
га, получает немедленное восстановление своей правоспособности на но-
вый брак, по истечении трех лет со времени оставления. Тут только нужно
предупредить те злостные минутные «возвращения покинувшего супруга к
покинутому», которые, как это и теперь происходит, делаются ради наслед-
ства и пенсии от покинутого. При новом правиле о разводе злостная сторо-
на, не желая с мужем (положим) жить и не желая разводиться (ради наслед-
ства), будет через каждые два года на третий производить «суточные визи-
ты» к несчастному мужу, конечно, «при свидетелях» и тем парализует но-
вый закон. Это наглость и кощунство над браком, над законом. И особому
совещанию следует точно оговорить, что «возвращением» к мужу, вообще к
покинутой стороне, может считаться только возобновленное постоянное
сожительство с ним, а не эти суточные или недельные визитации. Тургенев
в «Дворянском гнезде» именно и описал такую недельную визитацию к мужу,
давшую повод изменившей жене обзавестись в доме мужа только новым
свежим любовником!
Трудно поверить, что закон покровительствовал такой гадости, что эта
гадость заражала семью целый век!
Лично мы и против двухлетней и тем паче семилетней эпитимии «поки-
нувшей» стороне: трехлетнее отсутствие явно свидетельствует о совершен-
ном исчезновении любви между супругами и о той все-таки доброй стороне
и в покинувшем, что он (или она) не делал из брака ширм, не вводил обмана
и лжи в семью. Это лучше, прямее, чище, нежели всюду теперь практикую-
щийся обман. И за эту прямоту, за отвращение к обманной семье, на что так
многие охотно идут, нет причин столь жестоко наказывать! Просто тут fatum;
роковое расхождение организмов; отсутствие вязкости, цепкости крови; на-
конец, ошибка при заключении брака, довольно и простительная теперь, когда
церковь сама же уничтожила закон и обычай обручения, этот промежуток
времени между предполагаемым браком и заключенным браком, когда обру-
ченные могли приглядеться друг к другу, лучше выглядеть и выверить ха-
рактеры, несколько приспособиться один к другому. Браки прежде оттого
бывали крепче, что вот было это обручение. Теперь смешным образом чин
139
обручения, говор его слит, соединен с самим венчанием в непрерывный по-
луторачасовой обряд. И вероятно, духовенство вполне убеждено, что обру-
чение продолжает существовать, не отменено! Между тем, как чувствуют и
понимают все вступающие в брак, стало сложнее венчание, а обручения
между ними никакого не происходит. Ибо суть его, конечно, не в «говоре», а
в сроке и предварительном ознакомлении на правах близости, доверия, по-
стоянного ежедневного общения, когда узнаешь и характер, и ум, и весь нрав.
Брак, описываемый в «Крейцеровой сонате», этот брак вдруг и по впечатле-
нию, опять же есть характерный брак без обручения и проистек из отмены
церковью этого благодетельного древнего как бы «введения к супружеству»...
Но вот что в проектированных правилах дает повод к бесчисленным
злоупотреблениям разводящей инстанции и к вероятному денежному вымо-
гательству или попросту взяточничеству. Это статья о дурном или жестоком
обращении. В предыдущих своих заседаниях особое совещание формули-
ровало ее в том смысле, что таковое жестокое и дурное обращение тогда
становится «поводом к разводу», если оно угрожает жизни или вредит здо-
ровью избиваемого и вообще терпящего супруга. Судя по доставляемым
сведениям, в бракоразводном совещании происходит сильная борьба. Пре-
жняя добрая формула, очевидно, была установлена под напором медицинс-
ких авторитетов, заботящихся о здоровье населения и всякого единичного
человека. Теперь эта статья изменена в том смысле, что «поводом к разводу
дурное обращение может служить в случае, если оно устраняет возможность
супружеского сожития». Это повергает в совершенное недоумение: какое
же такое «дурное обращение» или какая степень «жестокости» может уст-
ранить возможность супружеского сожития?! Никакая! Хоть каждый день
запарывай до полусмерти, это супружескому сожитию не препятствует ни
тогда, когда избитый супруг лежит в бесчувствии, ни особенно тогда, когда
он опамятуется! Неужели церковь становится на сторону такого безобразия,
защищает его, покровительствует ему? Явно, что такое формулирование ста-
тьи совершенно ее уничтожает; что разводов «по поводу жестокого обраще-
ния» вовсе не будет даваться. Но тогда для чего она вводится? Увы, старое
консисторское лицемерие! Статья эта будет свидетельствовать о гуманнос-
ти нашего брачного законодательства; духовенство будет ссылаться, что оно
запрещает жестокость, наказует за ее и даже высвобождает терпящую сто-
рону от жестокого обращения. Совсем Синий или Красный Крест. Но у него
есть подкладка, вот эта оговорка, делающая невозможным когда-либо дать
повод к разводу по причине жестокости, разве что за очень большую взятку,
многотысячную. Нельзя не заподозрить, что введение этой статьи при этом
дополнении и сделано ввиду больших ожидаемых от нее доходов и также
чтобы обелить себя, придать себе человеколюбивый вид. «Статья есть; по
поводу жестокости разводим». — «Ну, так разведите мою дочь с мужем
который живого места в ней не оставил». — «Хорошо. Достаньте медицин-
ское удостоверение, что от побоев мужа она стала неспособною к супружес-
кому сожитию!»
140
Какая грубость!
Каково положение родителей такой избиваемой дочери, иногда вдовы-
матери, бессильной в ходатайствах, в судебных изворотах и законодатель-
ных крючках.
Уже не говорим о самой жене, которая вынуждена молить Бога, чтобы
муж, пиная ее, положим, сапогом, так ударил в живот, чтобы она сделалась
навсегда бесплодной. Хотя, впрочем, и это не нарушит «способности к суп-
ружескому сожитию», не простирающемуся на внутренние органы! Бедные
русские жены, несчастная русская женщина!
Еще одно замечание. В сообщении от 18 мая сказано, что «ввиду доло-
женного лейб-медиком, т. е. Бертенсоном, заключения медицинского совета
сделано изменение в принятом раньше положении о хронических венери-
ческих болезнях как основаниях к расторжению брака в том смысле, что
поводом к разводу может служить только сифилис, если при наличии его по
заключению экспертов в каждом отдельном случае брачное сожитие пред-
ставляет опасность для здорового супруга или для потомства».
Конечно, медицина ответила о том, о чем ее спрашивали: о вреде для
потомства или для здорового супруга. Но неужели чуткая совесть не под-
скажет членам от духовного ведомства занести в эту главную мысль то не-
обходимое придаточное предложение, что ведь если основным и главным
поводом к разводу была и остается вина прелюбодеяния, то, конечно, зара-
жение супруга какою бы то ни было формою венерической болезни, отсут-
ствующей у другого супруга, несомненно, свидетельствует о совершенном
с кем-то третьим прелюбодеянии и в качестве такового свидетельства, а не
существа болезни принимается самою церковью, в соблюдение слов Хрис-
товых, поводом к непременному разводу. Или кратко и как resume: всякое
половое страдание, полученное через заражение в общении, если оно отсут-
ствует у другого супруга, есть повод к разводу по основанию доказанного
прелюбодеяния.
Зачем софизмы около Евангелия! Зачем уклоняться от слов Христовых!
Для чего покровительствовать мужьям, семейным людям, в посещении до-
мов терпимости, в разгуле с проститутками, от которых единственно эти
болезни приобретаются, о чем опять-таки знают все, кроме монашествую-
щих! И что это за брак en trois: муж, жена и проститутка или проститутки.
Ибо последних всегда много, и обычно заражаются не от первой.
Бедная русская семья! И нельзя же не сказать, что только монашествую-
щие, не видящие живого образа семьи, живых семейных личностей, никог-
да не бывшие мужьями, никогда не имевшие детей, не ласкавшие их, не
ухаживавшие за ними в болезнях, могли продиктовать эти унизительные для
семьи законы, и так властительно!
Непонятно, чего смотрит г. Извольский. И неужели для кого-то не оче-
видны эти очевидности? Он обер-прокурор, сановник. Но ведь он еще и чело-
век, и от него Россия ожидает не одного чиновнического «делопроизводства»,
а и человеческого, мудрого и гуманного делания, совета, заступничества.
141
О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ СЕМЕЙНЫХ
ЖЕСТОКОСТЕЙ
(По поводу письма Л. Б. Бертенсона)
Уничтожить жестокое обращение в семье — это такая важная сторона быта,
народной нравственности, воспитания детей, что поистине счастливы зако-
нодатели, которые трудятся над этой великой задачею. Разумеется, здесь
ничего нельзя сделать распоряжением; очень малого можно достигнуть со-
ветом; но можно ко многому в этом направлении понудить людей и народ-
ную массу, поставив предполагаемых обидчика и обижаемого в новые и
именно более свободные, менее зависимые отношения. Вся беспримерная
жестокость, мало-помалу и уже века развившаяся в христианской семье и
параллелей которой нет у языческих образованных народов (Греция, Рим,
Китай, Япония), выросла из идеи и закона об абсолютной почти нерастор-
жимости брачного союза, — нерасторжимости его ни по каким поводам (ка-
толики), о нерасторжимости его по поводу жестокого обращения (у нас до
сих пор). До какой степени, к несчастию, в этом замешана церковь, можно
судить из того, что давлению чрезвычайного авторитета митрополита Фила-
рета мы обязаны (в 40-х годах XIX века) уничтожением гуманной статьи
прежнего закона, по которому развод давался в случае покушения одного из
супругов на убийство другого. С этого-то времени и начались семейные
ужасы, о которых доносят обществу суд и печальные хроники газет. В этих
ужасах виновен более всего монах Филарет, которого (как монаха) со здра-
вой точки зрения и допускать никогда не следовало ни до каких рассужде-
ний о семье, а авторитет его в этих вопросах давно следовало государствен-
ной власти признать равным нулю.
Но оставим здравый смысл, права которого всегда считались «ничтож-
ными» в той области каноники, которая, к несчастью народному, отвоевала
у государства право устанавливать нормы для семьи. И вернемся к тепереш-
нему положению дела.
Письмо глубокоуважаемого Л. Б. Бертенсона, лейб-медика и члена осо-
бого совещания при Св. Синоде, пересматривающего поводы к разводу, пред-
ставляет очень ценные данные о ходе занятий в этом совещании и будет с
благодарностью прочтено всею Россиею. Извлечения из «Записки» его, где
он понятие о «жестоком обращении» расширяет случаями нравственного,
вообще сердечного оскорбления, обиды, угрозы и проч., — все это оставля-
ет в читателе впечатление полного удовлетворения. Я позволю себе в разъяс-
нение его слов и для убеждения читателей напомнить случающиеся в быту
факты, когда муж поминутно корит жену ее родителями, словесно издевает-
ся над ними, над их умом, над их характерами, над их бедною, положим,
жизнью или недостаточно высоким происхождением, и все это часто из-за
недоданного приданого, не имея сам никаких положительных качеств и при
полном нравственном достоинстве поносимых родителей! Зрелище это до
142
такой степени отвратительно, оно созидает в доме такую гадкую нравствен-
ную атмосферу, в которой задыхаются взрослые, отравляются дети; и, ка-
жется, первым камнем семейного благоустройства, благоустройства моло-
дой семьи следует положить требование уважения к старым родителям, вы-
раженное через допущение развода в случае, когда один из супругов часто
поносит, и притом поносит при посторонних, родителей другого супруга, не
имея к тому нравственного основания. Люди грубы и безумны, часто они
темны, как животные: и закону нужно громкими словами сказать, огромны-
ми буквами написать выразительно на всю Россию о совершенной недопус-
тимости этого духовного «истязательства» одним супругом другого. Я все
подвожу дело под существующие уже рубрики и сбавляю общее и идеаль-
ное требование уважения, которого хотел бы, такими оговорками, ввиду ко-
торых трудно отказать этому требованию.
Опубликование части «Записки», внесенной в совещание Л. Б. Бертен-
соном, — важно в том отношении, что когда-нибудь в суде можно будет со-
слаться на нее. Но с какой убедительностью и понудительностью для судей?
Увы, я имею самые горькие основания сомневаться, получит ли что-нибудь
русский народ из тех прекрасных обещаний, какие содержатся в его «Запис-
ке». В самом деле, «Записка» есть только материал для закона; это мотиви-
рованное мнение одного из членов совещания, — притом позванного почти
в качестве эксперта, от постороннего ведомства, — выслушав которое дру-
гие, и притом главные, законодательствующие члены совещания (иерархи
при Синоде, с председателем митрополитом Флавианом во главе, и обер-
прокурор Синода) могут с мнением и не согласиться, ну хотя бы не согла-
ситься даже внутренно, и формулировать свое постановление о «поводе к
разводу по причине жестокого обращения одного из супругов» таким обра-
зом, что все содержание «Записки» обращается в ничто. Кажется, и даже
почти наверное, так и произошло, и это не я «впадаю в недоразумение», а
Л. Б. Бертенсон едва ли не находится в иллюзии. «Записки» как материал при
выработке закона, естественно, отпадают и относятся в архив, как только
закон формулирован. Неужели суд и судьи будут справляться с ними? Им и
времени нет, и охоты нет, и даже средств к этому нет (если эта и все «Запис-
ки» не будут отпечатаны и разосланы по консисториям); а самое главное,
кто же это судью понудит справляться не с коротким, ясным, отточенным
как сталь законом в четыре строчки, а с пространною «Запискою» медика-
филантропа, до которой секретарю духовной консистории и заседающим в
ней протоиереям приблизительно никакого дела нет, и даже, как обычно
духовные смотрят на вмешательство докторов в их «духовные дела», — у
них есть априорно и издавна установившееся высокомерие и пренебреже-
ние к авторитету медиков — «материалистов и дарвинистов». Совершенно
уверен, что Л. Б. Бертенсон и, вероятно, другие медицинские авторитеты,
приглашенные в совещание, находятся в полной иллюзии о роли своих мне-
ний в совещании. Они действительно получат силу, но когда эти мнения
оформят в закон, создадут заочно выраженную оговорку или дополнение в
143
самом тексте напечатанного и утвержденного закона! Все это страшно важ-
но для всего русского народа! Если бы «Записка» Л. Б. Бертенсона, именно
распространение понятия «жестокого обращения, препятствующего супру-
жескому сожитию», и на нравственную сторону, нравственные оскорбления,
угрозы и проч., была выражена точно в законе, тогда быстрое и энергичней-
шее улучшение семейных нравов началось бы с будущего года! Но, конечно,
ничего подобного не произойдет. Увы, я был совершенно прав и, что горько, —
буду прав, предсказывая, что консистория и даже светские суды будут
требовать медицинского засвидетельствования неспособности от побоев к
брачному сожитию, ибо из текста закона выпущены слова: «о способности к
нормальному бытовому (а не только физиологическому) сожитию» и «при-
чинах физических и нравственных, порождающих таковую неспособность».
Судьи никак не могут сойти с того векового понятия о «супружеском сожи-
тии», под которым церковь и духовные консистории, да и все каноническое
право, всегда разумели и разумеют только единственно «супружеский акт».
Л. Б. Бертенсон не может не знать, что у нас всегда был «развод по вине
прелюбодеяния» и развод «по причине неспособности к супружескому со-
житию»; всему свету казалось, что «шуры-муры» с молодым человеком,
флирт, свидания и любовная переписка на «ты» уже есть сами по себе «пре-
любодеяние». Но тем не менее суды давали развод по первому поводу, толь-
ко когда свидетели застали супруга или супругу в совершении известного
акта, а прочее все церковь не вменяла ни во что. Равным образом развод по
неспособности к супружескому сожитию давался только при медицинском
удостоверении невозможности известного акта. Словом, в том и другом слу-
чае супружеским сожитием или прелюбодейным сожитием именовался толь-
ко известный акт. Когда в будущем законе будет повторен этот же термин:
неспособность к супружескому сожитию, без всяких в тексте его добавле-
ний и оговорок, то, всеконечно, судьи и будут и могут понимать его только
так, как понимали сто лет, да, наконец, как и написано прямо в самом зако-
не!! Было бы глубоко важно для всей России, если бы медицинские автори-
теты в особом совещании однажды двинулись по человеколюбивому пути,
довели дело до конца и добились введения в законопроект слов о невозмож-
ности или затруднении дальнейшей совместной жизни супругов вследствие
физических или нравственных истязаний, мучений или оскорблений чести
и нравственного достоинства одного из супругов другим как поводе про-
сить и получить развод. Или еще: «Когда показаниями свидетелей удостове-
рена долговременная (указать срок - около трех лет) и не подающая надежд
на улучшение оскорбительность обращения одного из супругов с другим,
безвинно марающая его честь и лишающая его общественного заслуженно-
го почтения».
О побоях в этом случае можно и не упоминать: ибо меньшая вина разво-
да уже исключает большую.
144
РУССКИЙ НИЛ
«Русским Нилом» мне хочется назвать нашу Волгу. Что такое Нил — не в
географическом и физическом своем значении, а в том другом и более глу-
боком, какое ему придал живший по берегам его человек? «Великая, свя-
щенная река», подобно тому как мы говорим «святая Русь», в применении
тоже к физическому очерку страны и народа. Нил, однако, звался «священ-
ным» не за одни священные предания, связанные с ним и приуроченные к
городам, расположенным на нем, а за это огромное тело своих вод, периоди-
чески выступавших из берегов и оплодотворявших всю страну. Но и Волга
наша издревле получила прозвание «кормилицы». «Кормилица-Волга»...
Кроме этого названия она носит и еще более священное — матери: «матуш-
ка-Волга»... Так почувствовал ее народ в отношении к своему собиратель-
ному, множественному, умирающему и рождающемуся существу. «Мы рож-
даемся и умираем, как мухи, а она, матушка, все стоит» (течет) — так опре-
делил смертный и кратковременный человек свое отношение к ней как к
чему-то вечному и бессмертному, как к вечно сущему и живому, тельному
условию своего бытия и своей работы. «Мы — дети ее: кормимся ею. Она —
наша матушка и кормилица». Что-то неизмеримое, вечное, питающее...
Много священного и чего-то хозяйственного. И «кормилицею» и «ма-
тушкою» народ наш зовет великую реку за то, что она родит из себя какое-
то неизмеримое «хозяйство», в котором есть приложение и полуслепому
80-летнему старику, чинящему невод, и богачу, ведущему многомиллионные
обороты: и все это «хозяйство» связано и развязано, обобщено одним духом
и одною питающею влагою вот этого тела «Волги» и вместе бесконечно
разнообразно, свободно, то тихо, задумчиво, то шумно и хлопотливо, смот-
ря по индивидуальности участвующих в «хозяйстве» лиц и по избранной в
этом «хозяйстве» отрасли. И вот наш народ, все условия работы которого
так тяжки по физической природе страны и климату и который так беден,
назвал с неизмеримою благодарностью великую реку священными имена-
ми за ту помощь в работе, какую она дает ему, и за те неисчислимые источ-
ники пропитания, какие она открыла ему в разнообразных промыслах, с нею
связанных. И «матушка» она, и «кормилица» она потому, что открыла для
человеческого труда неизмеримое поприще, все двинув собою, и как-то бла-
городно двинув, мягко, неторопливо, непринужденно, неповелительно. В
этом ее колорит.
Все на Волге мягко, широко, хорошо. Века тянулись, как мгла, и вот
оживала одна деревенька, шевельнулось село; там один промысел, здесь —
другой. Всех поманила Волга обещанием прибытка, обещанием лучшего
быта, лучшего хозяйства, нарядного домика, хорошо разработанного огоро-
дика. И за этот-то мягкий, благородный колорит воздействия народ ей и при-
дал эпитеты чего-то родного, а не властительного, не господского. И фабри-
145
ка дает «источники» пропитания, «приложение» труду. Дают его копи, ка-
менные пласты. Но как?! «Черный город», «кромешный ад», «дьявольский
город» — эти эпитеты уже скользят около Баку, еще не укрепившись прочно
за ним. Но ни его, ни Юзовку не назовут дорогими, ласкающими именами
питаемые ими люди. Значит, есть хлеб и хлеб. Там он ой-ой как горек. С
полынью, с отравой. Волжский «хлеб» — в смысле источников труда —
питателен, здоров, свеж и есть воистину Божий дар...
Нил связался у меня с Волгой, однако, не по этой одной причине. Я при-
помнил одно чрезвычайно удивившее меня сообщение, услышанное лет семь
назад, в самый разгар моих увлечений страной фараонов. Сперва об этих
увлечениях. Конечно, не фараоны меня заняли и не пресловутые касты, на
которые будто бы делилось население Египта. Я хорошо знал, что эти касты
никогда не существовали в том нелепом виде, как это представляют нам гим-
назические учебники, что образование открывало доступ к первым должно-
стям в государстве всякому сыну пастуха или земледельца; а что касается
фараонов, то они... царствовали и завещали археологам свои мумии. Вели-
кий интерес к Египту проистек у меня из удивления к такому подъему в нем
жизненной энергии, сочных, ярких сил, какого, я твердо знал, никогда не
существовало ни в Греции, ни в Риме, ни у евреев. Меня все занимал воп-
рос, откуда проистекала эта энергия, не опадавшая на протяжении времени,
равного протекшему от Троянской войны (XII в. до Р. X.) до наших дней. Гре-
ки гениально творили на протяжении каких-нибудь трехсот лет, римляне —
на протяжении четырех столетий, но Египет не уставая, весело, с улыб-
кой творил начиная уже с 4-й династии, по крайней мере за три тысячи лет
до Р. X., и до этого самого Р. X., когда александрийские художники слави-
лись еще изяществом и вкусом своих работ, а знаменитая библиотека, осно-
ванная Птоломеем-Филадельфом, видела в стенах своих первых ученых тог-
дашнего мира. И все это без усталости, без исторического утомления, без
того утомления, которое после 1500 лет самобытной европейской истории
так явно легло на все народы Западной Европы, французов, отчасти немцев
и англичан, на полувыродившихся итальянцев, испанцев, португальцев, не
говоря уже о жалком отребье, оставшемся от «эллинов». И как я угадывал
не без основания, что родник жизни всякого народа лежит в его отношениях
к трансцендентному миру, в его понятиях о Боге, о душе, о совести, о жизни
здесь и судьбе души после смерти, то, естественно, меня и заняла мысль
проникнуть в «святая святых» племен, поклонявшихся каким-то странным
Аписам и «волооким» Изидам. Это у Гомера имя Геры, верховного женского
божества, всегда сопровождается эпитетом «волоокая», «с бычачьими гла-
зами», «boopis». «Что за красота?» — посмеивались мы гимназистами. Но
когда я стал заниматься Египтом, то догадался, что Гера новенького гречес-
кого народца приходится кровною внучкою Изиде с берегов Нила, которая
изображалась (не всегда) в виде женщины, но с головою коровы или (чаще)
в виде молодой, красиво сложенной коровы, с разумными, почти говорящи-
ми глазами, «boopis», очевидно, осталось эпитетом от этих древнейших изоб-
146
ражений ее бабушки. В Греции она стала полным человеком, без малейшего
атрибута четвероногого, но «глазок» этого четвероногого сохранила.
Вдруг я узнаю, что один архилиберальнейший издатель в Петербурге,
все издающий книжки по естествознанию и социологии, нечто вроде покой-
ного Павленкова, имеет обыкновение каждые два года хоть раз съездить на
берег Нила — так просто «отдохнуть и погулять», по-русски. На мое изум-
ление, мне рассказали, что привлекают его вовсе не феллахи и английское
владычество в Египте, но памятники древности; однако привлекают не как
археолога и историка, ибо он не блистал этими качествами, а как живого
человека, вот именно как издателя архилиберальнейших книжек, «самых
современных и самых нужных». Удивлению моему не было конца. «Он про-
сто любит это зрелище Египта, древнего, прежнего, сочного, яркого; и нахо-
дит, что это очень напоминает нашу Волгу, но только напоминает, как что-то
осуществленное и зрелое, свой ранний задаток, свою младенческую фазу.
Т. е. Волга — это младенчество, а Нил времени фараонов — это расцвет. И
любитель Сен-Симона и социализма, немножко и сам социалист, бродит
около старых сфинксов с мыслью, что около Нерехты, Арзамаса и Казани
могли бы стоять не худшие. Что придет время, и бассейн Волги сделается
территорией такой же цветущей, хлебной, счастливой и здоровой цивилиза-
ции, как и побережье великой африканской реки».
Признаюсь, это удивительное сообщение, услышанное мною совершенно
случайно, в мелькающем разговоре без темы, заставило меня взглянуть с
совершенно новой точки зрения на наших радикалов. Несомненно, вот уже
пятьдесят лет в них бьется какой-то сильный пульс. Несомненно, они куда-
то ведут Россию. Их почему-то любят, за ними идут. Идут за их честностью,
прямотою, решительностью, готовностью к жертвам. И куда они приведут
Россию? Порыв пока ясен в одном: в направлении к сочности, жизни, цвету
народной и вообще человеческой жизни, без теснейших определений. Но я
не думаю, чтобы это «безбожное» движение, каким оно выступает сейчас, и
до конца осталось таковым. Когда-нибудь оно захочет молитв, поднимет глаза
к небу, задумается о гробе и жизни. И тогда каковы будут эти молитвы? Куда?
Кому?
Как бы то ни было, но, услышав приведенное сообщение, я крепко по-
жал руку оригинальному петербургскому либералу, которого никогда лично
не встречал, хотя и знал его фамилию, как ее знает вся Россия. «Вот еще на
какой почве русский человек может сойтись с русским человеком: не на вку-
совом и симпатическом сочувствии, а 1а Чаадаев к католицизму, не на соло-
вьевской теократии, не на протестантских чаяниях молодого нашего свя-
щенства, а на вкусе, симпатии... просто к соку, силе и цвету бытия и жизни,
на Ниле или на Волге». Кстати, в этот год вышла небольшая монография об
одной египетской легенде г-на Сперанского в связи с вариациями той же
темы в европейских сказаниях. При чтении ее меня поразило следующее: в
египетских надписях, в папирусах собственные имена фараонов всегда со-
путствуются предшествующими им предикатами: «Жизнь, здоровье, сила».
147
Это что-то вроде нашего «благочестивейший, самодержавнейший». С этим
постоянным устремлением ума на биологический, виталистический прин-
цип жизни как было не прожить 3—4 тысячи лет? Все росло, все росли в
«жизнь, здоровье, силу». Это уже не наше «надгробное рыдание».
И вот мне захотелось взглянуть на эти тихие воды, может быть, будущие
«воды», в смысле далекой и новой судьбы, какая сложится на этих берегах
для нашего племени. Сказал же о нем Лермонтов вещие слова: «Россия —
вся в будущем». Сказал и обвел в своей черновой тетради эти слова чертою,
как особенную и преимущественную свою веру, как свое горячее убежде-
ние и предвидение.
Детство мое все прошло на берегах Волги — детство и юность. Костро-
ма, Симбирск и Нижний — это такие три эпохи «переживаний», каких я не
испытал уже в последующей жизни. Там позднее я как-то более господство-
вал над обстановкою, сам был зрелее и сильнее, и, словом, внутренняя моя
жизнь, движение идей и чувств уже набирали впечатление улиц, площадей,
церквей, реки. Не то в детстве, о котором и мамаши говорят, что «дитя —
как воск, на него что ляжет., то и отпечатается». И вот я помню эту Кост-
рому — первое самое длинное, тягучее, бесконечное впечатление. Знаете,
взрослый человек как-то больше года, — хотя и странно их сравнивать, — и
от этого год ему кажется маленьким, коротеньким, быстро проходящим. Годы
так мелькают в возрасте 40—50 лет. Но для шестилетнего мальчика год —
точно век. Ждешь и не дождешься Рождества, и точно это никогда не при-
дет. Потом ждешь Пасхи, и как медленно она приближается. Потом ждешь
лета. И этот поворот лета, осени, зимы и весны кажется веком: ползет, не
шевелится, чуть-чуть, еле-еле...
Дожди... Вообразите, что господствующим впечатлением, сохранившим-
ся от Костромы, было у меня впечатление идущего дождя. У нас были сад,
свой домик, и я все это помню. Но я гораздо ярче помню впечатление мелко-
го моросящего дождя, на который я с отчаянием глядел, выбежав поутру,
еще до чая, босиком на крыльцо. Идет дождь, холодный, маленький. На небе
нет туч, облаков, но все оно серое, темноватое, ровное, без луча, без солнца,
без всякого обещания, без всякой надежды, и это так ужасно было смотреть
на него. Игр не будет? Прогулки не будет? Конечно. Но было главное не в
этом лишении детских удовольствий. Мгла небесная сама по себе входила
такою мглою в душу, что хотелось плакать, нюнить, раздражаться, обманы-
вать, делать зло или (по-детски) «назло», не слушаться, не повиноваться.
«Если везде так скверно, то почему я буду вести себя хорошо?»
Или утром — опять это же впечатление дождя. Я спал на сеновале, и
вот, бывало, открыв глазки (дитя), видишь опять этот же ужасный дождь, не
грозовой, не облачный, а «так» и «без причины» — просто «дождь», и «идет»
и «шабаш». Ужасно. Он всегда был мелок, этот ужасный, особенный дождь
на день и на неделю. И куда ни заглядываешь на небе, хоть выбредя на пло-
щадь (наш дом стоял на площади-пустыре), — нигде не высмотришь голу-
бой обещающей полоски. Все серо. Ужасная мгла! О, до чего ужасно это
148
впечатление дождливых недель, месяцев, годов, целого детства — всего ран-
него детства.
«Дождь идет!» — «Что такое делается в мире?» — «Дождь идет». —
«Для чего мир создан?» — «Для того, чтобы дождь шел». Целая маленькая
космология, до того невольная в маленьком ребенке, который постоянно
видит, что идут только дожди. «Будет ли когда-нибудь лучше?» — «Нет, бу-
дут идти дожди». — «На что надеяться?» — «Ни на что». Пессимизм. Мог
ли я не быть пессимистом, когда все мое детство, по условиям тогдашней
нашей жизни зависевшее всецело от ясной или плохой погоды, прошло в
городе такой исключительной небесной «текучести». «Течет небо на землю,
течет и все мочит. И не остановить его, и не будет этому конца».
И не настало «конца», пока нас, маленьких двух братьев, не перевезли
из Костромы в Симбирск. Но тут началось уже все другое. Другая погода,
другая жизнь. Я сам весь и почти сразу сделался другим. Настал второй
«век» моего существования. Именно «век», никак не меньше для маленько-
го масштаба, который жил в детской душе.
И вот почти в старости мне захотелось пережить «опять на родине»,
пережить этот трогательный сюжет многих великих русских поэтов.
<2>
Обыкновенно желающие отдохнуть на Волге отправляются из Петербурга
до Нижнего и уже здесь садятся на пароход, чтобы видеть «наиболее краси-
вые берега Волги». Это большая ошибка. Прежде всего железнодорожный
путь, с летнею жарою и пылью, теснотой вагонов и вынужденною непод-
вижностью, является сильным приемом нового утомления на усталые не-
рвы. Во-вторых... берега. Правда, после Нижнего они становятся гористы-
ми, но это наши русские «горы», напоминающие только поговорку: «На без-
рыбье и рак — рыба». Действительно, Россия до того равнинная страна,
что, всю жизнь живя в ней и даже совершая большие поездки, можно так-
таки и не увидать ни единой горы по самый гроб свой. Для такого переутом-
ленного равнинностью соотечественника правый, «гористый» берег Волги,
правда, кое-что представляет. Но для каждого, кто доезжал до Урала, бывал
на Кавказе, в Финляндии и тем более кто видал Тироль и Альпы, «горис-
тый» берег Волги является приблизительно «ничем». А так как «отдых на
Волге» предполагает некоторые средства у отдыхающего, то большинство
их видали настоящие горы запада и юга и, садясь на пароход в Нижнем,
имеют какое угодно удовольствие, но только не от «гористого» берега Вол-
ги. Напротив, если бы они сели на пароход в Рыбинске, как это сделал я, они
испытали бы чрезвычайно много нового, свежего и поучительного, хотя бы
и были заправскими туристами.
Важен не берег, а то, что на берегу. Как и везде в природе, интереснее
всего человек. Верхняя половина Волги, до Нижнего, несравненно изящнее,
149
красивее и одухотвореннее нижней тою огромною деятельностью, которая
развита на ней именно начиная с Рыбинска. Едва по длиннейшим сходням
вы спускаетесь на один из громадных, рядом стоящих пароходов, вы точно
окунываетесь в «волжский труд», как что-то своеобразное, в себе замкну-
тое, как в особый новый мир, который сразу отшибает у вас память Петер-
бурга, Москвы и даже вообще всего «не волжского». Удивительное ощуще-
ние, почти главное условие действительного отдыха, доставляемого Вол-
гою! Пока вы сидите в вагоне, все равно, Николаевской или Рыбинско-Боло-
говской дороги, вы точно тащите за собою Петербург. Его впечатления, его
психология, его треволнения — все с вами и около вас в разговорах, которые
вы слышите, в ваших собственных думах. Даже когда живешь на даче очень
далеко от Петербурга, уже по тому одному, что она связана непрерывною
линией рельсов с Петербургом — этим железом и этим стуком, этою почтою
и этими газетами, — вы никак не можете изолироваться от Петербурга и
продолжаете, в сущности, жить в нем, но только как бы на очень отдаленной
улице и мало посещаете центры его. Между тем для петербуржца суть от-
дыха, разумеется, заключается в перерыве петербургских ощущений, в раз-
рыве с Петербургом. В этом отношении не только лучшим, но единствен-
ным способом «обновления духа» является плавание, и непременно не по
Финскому заливу, который, естественно, является дополнением Петербур-
га, «предисловием» или «послесловием» к книге его духа и его истории.
Мерные удары колес по воде не утомляют вас, потому что это ново. Эти
удары мягкие, влажные. Ими почти наслаждаешься, как простым проявле-
нием движения и жизни, после того вечного стука и лязга железа о железо
или о камень, от которого никуда нельзя скрыться в Петербурге и в Москве
и который истощает и надрывает всяческое терпение. У петербуржца и мос-
квича половина душевной силы уходит на борьбу с этими пассивными впе-
чатлениями, вам ненужными, которых вы не ищете, но которые лезут вам в
душу независимо от вашей воли, и каждое из них потому только, что оно
влезло в ваше ухо или в ваш глаз, — непременно «чиркнет» по вашей несча-
стной душе, как фосфорная спичка по зажигающей поверхности, и кое-что
снимет с нее или покроет каким-то своим, повторяю, для вас ненужным и
неинтересным налетом. Как бы эти впечатления ни были малы, но, уже в
силу чрезвычайного их множества, они ложатся чрезвычайным балластом
на душу. И я уверен, что так называемая неврастения, или душевное пере-
утомление, столичного жителя происходит не столько от работы его, сколь-
ко вот от этих пассивных и ненужных впечатлений, зрительных и особенно
слуховых, которые ни с какою работою не связаны, а раздражают даже боль-
ше работы именно оттого, что они невольны, неизбежны, что в отношении
их чувствуешь себя каким-то зависимым рабом. Со временем, когда-нибудь,
медики окончательно об этом догадаются и изобретут какой-нибудь изоля-
тор для ушей, при котором они открывались бы только тогда, когда я хочу
слушать. Все люди, желающие не только слушать, но еще и немножко раз-
мышлять и вообще жить «про себя» и «с собою», сторицею поблагодарят
150
медиков за это изобретение. Говорят: «труд» и «труд». Но разве Бернулли и
Лейбницы работали меньше теперешних докторов, адвокатов, журналистов?
Но они решительно были свежее, бодрее их: и просто оттого, что в «доброе
старое время» улицы еще не мостились, конки не звенели, фабричные тру-
бы не дымили и не свистели.
Пассивные впечатления... ими займется когда-нибудь медицина!
* * *
Уже на другой и третий день, как я сел на пароход, мне казалось, что я не
только никогда не жил в Петербурге и помню его только какою-то далекою
памятью, но что я никогда не был и писателем. До того новый мир, «волж-
ский мир», охватывает вас крепко своим кольцом, не дает пробудиться ниче-
му из прежнего. Писем и не ждешь, тогда как прежде три раза в сутки почта-
льон «подавал почту». Газеты, во-первых, только на больших пристанях, а
во-вторых, они до того являются запоздавшими против «сегодняшнего дня»,
что как-то не хочется и взглянуть. Да и сверх того натуральный, естествен-
ный мир самой Волги, панорама которой все шире раскидывается с каждым
часом и сутками, решительно кажется вам интереснее всяких возможных
политических новостей. Чувствуется, что здесь живут века: века строили
эти городки и села, и, кажется, век стояла вот эта миниатюрная лавочка, где
я покупаю чайную посуду. Сидит в ней и продает чашки какая-то «тетень-
ка», а до нее торговала ее «маменька», а до них обеих — их «дедушка». И
всегда-то это «было», не началось и не росло, а только было и дышало. И все
на Волге, и сама Волга точно не движется: не суетится, а только «дышит»,
ровным, хорошим, вековым дыханием.
Вот это-то вековое ее дыхание, ровное, сильное, не нервное, и успо-
каивает.
* * *
Людей на пароходе, сравнительно с городскою улицею, конечно, слишком
мало. И это тоже очень хорошо, и даже слишком хорошо. Все молча стано-
вятся «знакомыми», запримечая друг друга некоторым ласковым примеча-
нием. Не образуется опять-таки той «толпы без лица», вечно новой и куда-
то уходящей, которая в Петербурге и Москве проходит перед вашими глаза-
ми как бесконечная лента шляпок и «котелков». «Фу, пропасть! Устал!» —
этого вы не говорите на пароходе, видя, как вчера и сегодня усаживается за
свой «чаек» та же чета, или семья, или одиночки. Манеры каждого помнят-
ся, и образуется, повторяю, молчаливое ласковое знакомство всех со всеми,
не утомляющее, не раздражающее и развлекающее.
Несколько практических замечаний для туристов: пароходы всех реши-
тельно компаний, вероятно нуждою соперничества, сведены к совершенно
одинаковой плате за проезд и совершенно одинаковы в смысле комфорта,
величины, хода и пр. Так что как одинаково покупать булку у Филиппова,
Савостьянова или Бартельса, так совершенно одинаково садиться на паро-
151
ход «Самолета», или «По Волге», или «Бр. Каменских». Все они теперь так
называемой американской системы, которая дивила и чаровала лет трид-
цать назад взор волжан первыми пароходами этой системы: «Император
Александр II», «Колорадо» и «Бернардаки». Теперь этих пароходов нет, но
все таковы же: только самолетские некрасиво розоватого цвета. «По Волге» —
белого (очень красивого) и, кажется, других обществ — тоже белого. Бе-
лая стройная громада, быстро движущаяся по реке, чрезвычайно красива.
Практическое замечание об одинаковости всех пароходов важно в том отно-
шении, что делает совершенно ненужным телеграфный заказ себе каюты из
Петербурга или Москвы: всегда в течение полусуток вы можете отыскать
себе свободную и удобную каюту на пароходе, отправляющемся через 1—
2—3—5 часов, и это не составляет многих хлопот, так как все пароходные
пристани рядом. Далее, если бы вы сделали эту ошибку — заказали по теле-
графу, то ни в каком случае не заказывайте первого класса, а второго. В ста-
рой конструкции пароходов, не «американской системы», действительно
была разница между первым классом, который помещался наверху, и вто-
рым, который помещался внизу, в корпусе корабля. В случае пожара, столк-
новения и вообще несчастия с пароходом, днем или, особенно, ночью, поло-
жение пассажиров второго класса было гибельно, ибо каюты его быстро за-
ливались водою, а выбежать из них нельзя было скоро; в этом отношении
первый класс представлял огромные преимущества. Но при «американской
системе» оба класса выведены на верхнюю палубу, каюты совершенно оди-
накового размера по величине и по всему убранству, и пассажиры обоих
классов пользуются всею верхнею палубою, обнесенною барьером и ничем
не разгороженною, не отделенною, совершенно слитою. Единственная раз-
ница заключается в том, что столовая первого класса имеет несколько вели-
колепных кожаных кресел, тогда как во втором классе мебель столовой —
гнутая, буковая, тоже превосходная в смысле комфорта и изящества. Второй
класс помещен на кормовой палубе, первый — на носовой. Вот и все. Разни-
ца до того ничтожна, что кажется нелепым самое разделение на «первый» и
«второй» классы. Поэтому при большом рейсе, и особенно если поездка со-
вершается семьею, причем цена билетов становится уже значительною, ни
в коем случае не следует брать каюты первого класса. Несколько десятков
рублей, выигрываемых при этом, гораздо лучше истратить на том же паро-
ходе на что-нибудь более приятное.
Два слова о бескультурности, о нашей русской молодой бескультурнос-
ти, которая объясняется не отсутствием ума или уменья, а вот именно толь-
ко молодостью, неопытностью, недосмотром и какою-то именно молодою
торопливостью, ажиотажем или застенчивостью. Например, в столовой пер-
вого класса есть рояль, но за восемь дней путешествия только один раз слу-
чилось, что одна пассажирка сыграла после обеда несколько пассажей, га-
лантно попросив позволения у присутствующих. Между тем музыка так
приятна на реке, что естественно было бы, если бы вечером перед ужином
или после обеда «присутствующие» просили бы кого-нибудь в среде своей
152
побаловать их роялью. И выслушали бы с простой благодарностью непер-
восортную музыку. Первосортная музыка требует и первосортного слуша-
теля. Зачем эти претензии?
Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь, —
как сказал наш Пушкин о книжном русском учении, и то же самое можно
повторить о художественном и о музыкальном русском учении. Средний
уровень слушателей, естественно, поблагодарил бы за среднюю музыку, и,
безусловно, среди пассажиров, и особенно пассажирок, каждый день и каж-
дый час были такие средние музыканты и музыкантши: это было видно по
лицам, по платью, ибо «немножко музыке» у нас все учатся из известного
круга. Но никто из них не сел за рояль по этой вот бескультурности, по этой
почти мещанской мысли: «А вдруг среди слушательниц и слушателей кто-
нибудь знает в музыке больше меня и внутренне посмеется надо мною».
Какое-то уже априорное предположение вражды и насмешки к себе в слу-
шателях: какая-то и своя вражда к этим слушателям. Фу, как это неумно!
В этой же столовой шкап с книгами — крошечная пароходная читальня.
Опять — как умна мысль! Но каково ее выполнение? «Рим» Э. Золя и еще
несколько его же романов. Гончаров, Достоевский и несколько беллетрис-
тов из более новых. Почему «Рим» и зачем вообще Золя на Волге? Я пере-
смотрел заголовки всех книг: ни одной, относящейся до Волги. Это до того
странно, до того неумно, что растериваешься. Между тем, строя огромный
пароход, ставя на нем рояль, меблируя его великолепной (совершенно не-
нужной) мебелью, что стоило поставить в книжный шкап «Волгу» Виктора
Рагозина — огромное и дорогое (рублей 16) издание со множеством карт и
объяснительных рисунков, вышедшее лет двадцать назад и, вероятно, имен-
но по серьезным своим качествам не нашедшее ни рынка, ни читателей?
Нет даже кратких «путеводителей» по Волге — ничего! Нет описания хотя
бы какого-нибудь приволжского города! Между тем у нас есть «Географи-
ческий словарь Российской империи» — многотомное издание академика
Семенова, где есть исчерпывающие, хотя и сжатые, научные, не художествен-
ные описания решительно всякого местечка в России, и в том числе, конеч-
но, Волги и всех не только городов, но и сел по ее берегам! Конечно, этому
«Словарю» первое место на волжских пароходах. Есть целая литература о
Нижегородской ярмарке, о движении товаров по Волге, о гидрографических
свойствах и русла, и течения Волги, но из этого ничего нет, ни одного листка
в «читальнях» волжских пароходов. Наконец, если уж брать «развлекаю-
щую» беллетристику, то отчего было не взять «В лесах» и «На горах» Пе-
черского, это великолепное и единственное в своем роде художественное
воспроизведение быта раскольников по верхней (лесной) Волге и по ниж-
ней (гористой) Волге! В составлении «читальни» выразилось глубокое не-
уважение пароходных компаний к своим пассажирам, которое на самом деле
свидетельствует только о глубоком невежестве самих этих компаний. И между
153
тем нельзя поверить, чтобы в составе «правлений» их не было людей очень
образованных и умных. Просто «не пришло в голову», «не догадались» вот
этою молодою недогадкою 17-летнего юноши или только что кончившей
курс гимназистки.
На стенах столовой — ни одного политипажа приволжского города, тог-
да как, естественно, ожидалось бы встретить здесь «виды» всех значитель-
ных городов. Это так ведь легко! И наконец, — что составляет уже совер-
шенное и необъяснимое варварство, — ни на котором из двух лучших паро-
ходов общества «Самолет», на которых я ехал: «Ю1язь Юрий Суздальский»
(ходит до Нижнего) и «Гоголь» (от Нижнего до Астрахани), нет карты Волги
и нет даже карты Российской империи, по которой бы можно было следить
пассажирам, где они будут, к какому городу пристанут в ближайший час,
какая река впадает в Волгу в этом-то месте и проч.! Между тем в Петербурге
на Финляндском вокзале висит громадная карта Финляндии, и на ней все
железные дороги ее и другие пути сообщения: реки, каналы, озера, все, что
может быть нужно или любопытно пассажиру узнать.
Варварство! Дикое варварство!
И между тем эта грошовая претензия на интеллигентность: «Князь Юрий
Суздальский» (знание до некоторой степени частностей истории), «Гоголь»,
«Достоевский» (якобы любовь к литературе!). И такое невежество в про-
стой грамоте!
На ночь в каюте, прекрасной, благоустроенной, пытаюсь запереть окно,
выдвинув его из-за жалюзи, которое весь день прекрасно затеняло каюту.
Ушиб руку, ссадил палец и должен был вызвать звонком слугу, который на-
конец и справился: наложил крючок на петлю. «Так просто?» — удивитесь
вы. Но что же делать: крючок привинчен к движущейся деревянной раме
так низко, что не может свободно вращаться вокруг своей оси, а упирается
кончиком в подоконник. Окно (в задвигающейся раме) было в течение дня
открыто, и предательский крючок уже наставился, так сказать, «упрямым
лбом» в подоконник. Его следовало бы спичкой или гвоздиком предвари-
тельно приподнять и затем выдвинуть раму. Но, не ожидая «западни» в та-
ком месте, я просто сильно дернул раму из пазов. Тогда «упрямый лобик»
крючка плотно уткнулся в подоконник. Рассмотрев дело, я уже пытаюсь
приподнять крючок спичкою. Не тут-то было: он «плотно уперся», спичка
ломается, а он в том же положении. Дергаю — не поддается. Тогда, чтобы
расслабить крючок и его «упорство», я чувствую, что раму надо еще дальше
задвинуть внутрь пазов. Тогда все ослабнет, и я подыму крючок за «носик»
спичкою. Но рама уже до края задвинута, и дальше подвинуть невозможно.
А потому невозможно и ослабить упершегося крючка, а следовательно, и
приподнять его, а с тем вместе и закрыть все окна! Я до того поражен глупо-
стью и чепухой всего этого дела, что стал сильнее и сильнее дергать раму,
думая, что она хоть сколько-нибудь приподнимется в пазу, крючок сделает
оборот около оси — и все дело кончено. Ничего не вышло, — и я с болящей
рукою зову слугу, который, рванув раму мужицкою силою, действительно
154
заставил ее подняться на тот нужный миллиметр или два миллиметра, кото-
рые дали крючку повернуться около оси, — и рама выдвинулась!
Но, добрый читатель, ведь это целая метафизика народного характера!
Пароход стоит миллион, на нем всяческие приспособления: машины, ро-
яль, чудная мебель, «читальня». Почему же, когда делали раму, не выбрать
было или крючок покороче на два миллиметра, или привинтить его к дви-
жущейся раме на два миллиметра выше! Наконец, отчего слуге не доло-
жить капитану, что «в этой каюте окно не запирается», а капитану, взгля-
нув, не приказать поставить другой крючок или переместить старый! Вдо-
бавок, уже приехав в Кисловодск, я узнаю, что именно на пароходе «Го-
голь» всего за сутки, как мы сели на него, убили и ограбили в каюте первого
класса пассажира. Может быть, именно при незапертом окне! И даже, мо-
жет быть, того несчастного пассажира, который пытался запереть более
фундаментальное окно и, не достигнув цели, «плюнул», как говорится, на
дело и положился на одно легонькое жалюзи, крючок коего отпирается без
всякого затруднения и шума через сквозные отверстия между палочками
жалюзи, для чего достаточно иметь длинный гвоздь с загнутым концом.
Грабитель и убийца, бесшумно отодвинув жалюзи, мог столь же бесшумно
войти через него в каюту и задушить и убить спящую жертву, не дав ей и
вскрикнуть.
И после этого не осмотреть крючков! Как и не назначить дежурств око-
ло кают многочисленной прислуги парохода, не занятой ночью. Ничего!
Где же метафизика этого? Одна молодость нации? По крайней мере не
одна она: еще пассивность народная, эта ужасная русская пассивность, по
которой мы оживляемся тогда только, если приходится хоронить кого-ни-
будь. Тогда мы надеваем ризы, поем, кадим. Великолепно! Красота, поэзия,
движение — точно все обрадовались. Но вот похоронили мертвого, оста-
лись люди жить:
И всем так скучно, так сонно!
Удивительная нация, которой «интересно» только умирать!
Громадные новые мануфактуры и старинные церковные городки чередуют-
ся по верхнему течению Волги. Я назвал эти древние исторические города
церковными, потому что в самом деле «храм Божий» был единственным не
частным, не личным достоянием в городе, единственным местом, где соби-
рался народ и где он единился в общих молитвах, обрядах, в уповании и
таинствах, и, следовательно, единственным выражением его культурной и
политической физиономии. А затем, до нашего времени, «храм Божий» со-
хранился и единственным историческим памятником города. Кроме него,
что же еще, положим, в Нерехте, в Плесе, в Юрьевце, в Макарьеве? За чер-
155
тою храмов, вне круга богослужений, уже начинается совершенно частная,
пофамильная жизнь; начинаются те «семейные хроники», один образец ко-
торых оставил нам С. Т. Аксаков. Жизнь эта, бесполезно медлительная, по-
чти стоячая, везде сходная, в каждом доме, во всяком дворе, есть уже досто-
яние литературы, поэзии, бытовой живописи. Здесь каждый мазок, поло-
жим, живописца, изображает и момент, и вечность, ибо относится равно и к
концу, и к началу XIX века, да даже, пожалуй, и к XIX, и к XVII веку. Я
сказал, что это «стоячая жизнь», и мне грустно, что тут есть упрек, которого
в душе у меня нет: «стоячее» — я говорю не в ином смысле, как назвал бы
«стоячим», неизменяющимся и наше лицо. И оно изменяется так медленно,
как будто вовсе не изменяется. Но в этой своей недвижности оно, конечно,
живет. Так и быт в XIX веке уже чуть-чуть не тот, что в XVII, но именно
чуть-чуть. Так же доят коров, выгоняют их в поле, делают из молока творог
и сметану, любят, женятся, рождают, умирают; рассказывают о колдунах и
разбойниках; мечтают о царе, царице и царевиче. И надо всем этим един-
ственною историческою фигурою стоит «поп», который крестит, венчает и
хоронит по обрядам Византии. «По обрядам Византии», а не по обычаям
Нерехты: и как сказали это слово, так и началась история, открылись связь
народов, судьба и водоворот культур. Византия — это павшее язычество,
начавшееся христианство. Здесь приходи Иловайский и пиши свой труд вза-
мен поэтических страниц Аксакова, Тургенева и Некрасова.
Вот почему я и говорю об этих городках: «церковные». Исторического в
них только и есть церковь, храмы. И как же хороши они, напр., в Романове-
Борисоглебске, двойном городке, раскинутом на обоих берегах еще неши-
рокой здесь Волги. Самые имена и одного и другого города, и Романова, и
Борисоглебска, говорят о самом начале нашей истории, о князе Романе (не-
ужели Галицком?) и святых убитых братьях Борисе и Глебе. Если связать
все это с недалеким Ярославлем, получившим свое имя от Ярослава Мудро-
го, мстившего Святополку Окаянному за умерщвление Бориса и Глеба, то
вот и все «зачало» русской истории. Грустная история. И как-то сумела же
она сохранить не только имя, но и колорит, или «наваждение», святой среди
таких сцен убийства, братоненавидения и кровавых распрь. Читаешь под-
робности: все, кажется, дрались, убивали. Одно ослепление Василька Рос-
тиславича чего стоит: нанятый раб вырезал ножом глаза предварительно
связанному князю, который смотрел, как этот раб точит нож, смотрел пос-
ледним смотрением очей своих и знал, что он готовится сделать, и заплакал
последними слезами... Бррр!.. Но вот умерли все; посыпал всех землицей
исторический «поп». Собрат его, летописец Пимен, принялся за «Повесть
временных лет» — «откуда есть-пошла русская земля». И все стало «свя-
тым». Чудное действие воображения и исторической перспективы.
Только еще в Москве есть такие прекрасные церкви, как в Романове-
Борисоглебске и Нерехте, да не знаю, сравнятся ли и московские. Пишу
наугад и потому только, что московские мне тоже очень нравятся. Но когда
я смотрел на эти палевые, темно-желтые или светло-серые колоколенки,
156
высокие, остроконечные, с маленькими окошечками-просветами на все сто-
роны: когда смотрел (у других церквей) на совершенно крошечные ярко-
золотые главки, выделяющиеся на синем фоне купола храма, — мне каза-
лось, что ничего лучшего не только нет, но и нельзя себе вообразить, нельзя
пожелать. «Вечно бы молилися в этом храме» — внушить эту мысль, выз-
вать это расположение — не есть ли задача вообще церковного строитель-
ства? И если она вызвана, в сущности, «избушечкой на курьих ножках» (по
величине и незамысловатости всего), то ведь что до этого за дело? Почему
храм должен быть величествен, огромен, изящен, пропорционален, «Пар-
фенон» или «Пропилеи»! Нипочему. Храм должен быть просто храм, то
есть чтобы вот молиться Богу. Должно быть, в русской душе есть что-то
бесконечно прекрасное в отношении ее к Богу, милое, простое, доброе, что
она создала такие для себя храмы, создала медленным тысячелетним сози-
данием. Уверен, в Греции таких нет. И нигде нет. Это вовсе не «влияние
Византии», ибо ведь строили их уездные маленькие зодчие, ну — губернс-
кие, но вообще «какие-нибудь», не Растрелли, не Тоны, и проч. Отчего же
этих московских приходских церквей или вот романово-борисоглебских и
нерехтских нет в Петербурге, в Одессе, где ученые архитекторы, уж конеч-
но, знают хорошо «византийский стиль»? Нет, тут провинциальный наш
вкус, тот милый вкус, который дал кружево и аромат таким приволжским
созданиям, как, например, «Обрыв» Гончарова или тургеневским «Запис-
кам охотника». Это воздвигли не «православная вера» и даже не «христи-
анство», которые воздвигли же в других местах — св. Петра в Риме, св.
Павла в Лондоне, кельнский и страсбургский кафедралы. Нет, просто это
«русская вера» создала себе каморочки, где она молится, где она теплится.
И как это хорошо!
С печалью я думаю, и давно думаю, что пройдет время — и развалятся
эти кирпичные уездные церковки. И вот будущий историк даже не поймет, о
чем я здесь говорю: до такой степени отлетит память о них. Ибо, кажется,
никто не сохраняет для исторической памяти и нигде в подробностях красок
и размеров не воспроизведены эти уездные «избушечки на курьих ножках».
Святейший Синод за два века своего существования не озаботился состав-
лением генерального описания всех российских монастырей и церквей. «Ге-
нерального» — это прежде так говорилось о всем «всеобщем»: «генераль-
ная карта России» и проч. Генеральное значило «универсальное», «исчер-
пывающее». Это в ту пору, когда Россия была помешана на генералах или,
деликатнее, «чувствительно тронута» ими...
Когда мы подъехали к Кинешме, то, завидев издали такие-то вот две
церковки на окраине города, за садами и в садах, я не утерпел и, так как
пароход грузился у пристани два часа, решил осмотреть их. Взял возницу.
Подъем. Пыль. Какие-то лавочки. Бульварчики. Бредут жители. Сонно, ус-
тало, жарко. Что-то копают, кажется, новый затон. Это по части «мануфак-
туры и торговли», и я спешил далее, к старой исторической Руси. Но вот
показались и корпуса церквей с золотыми главками над синим куполом.
157
Соскакиваю торопливо с возницы, иду по лестницам (церковь дальняя, по-
ставлена высоко на пригорке, укрепленном каменною кладкою). Какой-то
мальчик.
— Как пройти в церковь?
Оглянулся и бежит дальше... Точно никогда людей не видал.
Как же мне пройти в церковь?
— Эй, дяденька, как бы мне пройти в церковь?
Этот «дяденька» лежит на лавке и спит около церкви...
Дяденька пошевелился. Я его растолкал.
— Что вам угодно?
— Мы проезжие. С парохода. Нам хочется осмотреть церковь. Вы сто-
рож будете?
— Сторож.
— Так вот, пожалуйста, отоприте. Взглянуть. Путешественники.
— Что это вы? Разве я могу своею властью. Спросите разрешения у
отца настоятеля.
— А где отец настоятель?
— А вон домик, раскрытые окна.
Пошел. В воротах встретил какого-то гимназиста и гимназистку. На мой
вопрос ответили: «Там».
Иду «туда». Торгнулся в крыльцо. Отворилось. В дверь — тоже не за-
перта. Кухня, таз, мыло и умывальник. Торгнулся в следующую дверь.
— Кто там?
— Мы.
— Чего нужно?
— Путешественники. С парохода. Хотим осмотреть церковь и пришли
попросить у батюшки разрешения отпереть и показать нам. Сторож гово-
рит, что не может без разрешения о. настоятеля.
Но я напрасно уже говорил дальше. Никакого звука «оттуда» не после-
довало. Опять повторяю. Опять стучу! Ничего! Заперлась баба — верно,
«матушка», и не из добрых, — и, чтобы не беспокоить «батюшку», а вместе
с тем и не вступать в пререкания, решилась просто не отзываться. Этот
стук в дверь, когда я знаю, что за нею сидит живой человек, этот мертвый и
безответный стук до того меня раздосадовал, что и сказать не умею. Очаро-
ванность как слетела. Казенная вещь, а я думал — храм. Просто казенная
собственность, которая, естественно, заперта и которую, естественно, не
показывают, потому что для чего же ее показывать? Приходи в служебные
часы, тогда увидишь. Казенный час, казенное время, казенная вещь. А те-
перь час сна.
Я шел. И на душе сумрачно. Обхожу кругом храма, который все-таки
очень хорош. Сбоку, смотрю, дверца открыта, т. е. в фундаменте, и я вошел
в полутемный сарай-хлев-погреб, не знаю что. Сырость, гадко, земля и кир-
пичи. Вижу, стоит тут плащаница. Старинная, живопись полустерта, но, не-
сомненно, это плащаница, по изображению умершего Христа на верхней
158
доске, — или, благочестивее, «деке», «дщице», а на передней боковой доске
какие-то пророки или праотцы, и что-то они говорят, потому что от губ их,
входя в губы острым уголком, идут далее расширяющиеся ленточки, на ко-
торых написаны изречения, цитаты из этих пророков или праотцев, вероят-
но предрекающие пришествие Христа и Его крестную за нас смерть. Не-
сомненно, это как образ, да и, кажется, плащаница считается еще святее об-
раза: с каким благоговением к ней прикладываются в Страстную пятницу и
субботу! Но куда же ее поместили? Это гораздо хуже сарая, это — хлев и
даже более черное место, которое страшно назвать. Запах был несносный,
тяжелый.
— Верно, это старая плащаница, прежняя, не употребляемая более. И
вынесена, так сказать, без священства в несвятое место.
Все, с кем я был, думали так же. Пошли спросить сторожа, ибо за пла-
щаницу мы были смущены и почти испуганы. Но сторож куда-то ушел. Обо-
шел вокруг церкви. Дворик, должно быть, сторожа. Вошел туда. Смотрю:
женщина в положении католических мадонн чистит самовар. Следы юбки,
расстегнута рубашка, груди наружу, молодая и нестесненная.
— А где сторож?
— Не знаю.
— Это что у вас за плащаница там?
— Плащаница.
— В сарае?
— Это не сарай, а место.
— Как «не сарай, а место»: это хуже сарая, там пахнет, грязь и сор, вся-
ческое.
— Ну так что же?
— Как «что же»? Верно, есть другая плащаница, новая, а это — пре-
жняя, вышедшая из употребления. Тогда — другое дело. Вы, верно, тетень-
ка, не знаете.
— Знаю я, что другой плащаницы в церкви нет. А что открыли место, и
вам бы не надо туда заглядывать, то для того, чтобы просушить. Сыро там.
Еще бы не «сыро». Как в могиле. И какая ирония: поместить в самом
деле «Христа в гробу», что изображает собою плащаница, в такую ужасную
яму, под фундаментом, грязную! Воистину «в могилу»! Но как это сделано,
конечно, без всякой имитации и уподобления грозному и ужасному собы-
тию Иерусалима, а по кинешемскому небрежению, то невозможно не ска-
зать, что эта «простота», грубость и бесчувственность стоят западного ост-
рословия.
Ну, эти кинешемские Ренаны, пожалуй, отрицают не меньше парижско-
го, только на другой фасон. А впрочем...
Я сел на извозчика.
— А впрочем, «казенное место»!
Пыль, жара, барышни, гимназисты, мост и строящийся затон. А вот и
наш «Самолет» и пароход «Князь Юрий Суздальский».
159
<4>
В Ярославле мне захотелось отслужить панихиду по недавно почившем ар-
хиепископе Ионафане — человеке добром, простом, чрезвычайно деятель-
ном, но деятельном без торопливости и ажитации. Потеряв рано жену и имея
дочь, он постригся в монашество, но сохранил под монашескою рясой серд-
це простого и трудолюбивого мирянина, отличный хозяйственный талант и
благорасположенное, внимательное сердце к мириадам людей, с которыми
приходил в связь и отношения. За это он получил название «отца», несшее-
ся далеко за пределами его епархии. Ничего специфически монашеского в
нем не было, но, не рассуждая, он принял с’благоговением всю монашескую
«оснащенность» и нес ее величественно и прекрасно, веря в нее традицион-
но, но полагая «кумир» свой не в клобуке и жезле, а в заботе о людях и в
устроении надобностей епархии. И как-то он приветливо и хорошо это де-
лал, что имя его благословлялось в далеких краях и рядами поколений. Бо-
гословом он не был, принимал целиком и все традиционное. Все из приня-
того было для него «свято». Но, выразив свое отношение к традиции в этих
пяти буквах, он затем уже, не растериваясь и не разбрасываясь, всю энергию
живого человека обратил на теперешнее, текущее, современное.
Пароход подходил поздно к Ярославлю, и я поспешил к мужскому мо-
настырю, где погребен преосвященный Ионафан, пока не заперли ворот. Вот
опять эти памятные садики и дорожки монастыря — резиденции местного
архиепископа. Только мне показалось, что все теперь запущеннее и распу-
щеннее, чем как было при Ионафане. Впрочем, может быть, только показа-
лось. По садику бредут... не то монахи, не то послушники, молодые и боро-
датые, и как будто нетвердою поступью. Подумал, грешный: «Венера и Ба-
хус из древних богов одни перешли к нам; здесь, может быть, и нет Венеры,
но царство Бахуса очевидно». Впрочем, может быть, это все мои преувели-
чения и из намеков я построил действительность. Иду дальше, подхожу к
какой-то арке, соединяющей два здания, и вижу монаха ли, послушника ли,
идущего уже явно нетвердою, виляющею походкой и вытянув руки. «Ну,
пьян так, что на ногах не держится, и ищет, за что бы ухватиться и подер-
жаться». Я смотрел с отвращением, но, подойдя ближе, с удивлением уви-
дел, что это — слепой. Вынув гривенник, кладу ему в протянутую руку (сле-
пой-калека, сам не может пропитываться).
— На что? — переспросил он.
Голос резкий, громкий.
— Милостыня.
— Я милостыни не беру. Не нуждаюсь.
И он отстранил руку.
Сконфузившись, я сказал, чтобы он поставил свечку над могилой пре-
освященного Ионафана.
— Это могу. — И положил гривенник в карман подрясника.
— На что же ты, голубчик, живешь?
160
— На свои средства. Звонарь. Исполняю должность звонаря здесь.
— Звонаря? Но ведь это надо лазить на колокольню? Как же при
слепоте?
Он, нащупав дверь и замок, отпер ее.
— Так что же? Слепота не мешает. Я везде хожу и все делаю.
И главное, такой бодрый и крепкий голос, глубоко уверенный в каждой
ноте, при очевидной старости монаха ли, послушника ли.
— Вы что же, монах будете?
— Рясофорный. Я рясофорный монах. (Т. е. имеющий рясу-мантию, до-
вольно величественную.)
Это значит в монашестве то же, что у нас «столбовой дворянин».
Я стал вежливее и все удивлялся полуудивлением.
— Не хотите ли у меня чаю откушать?
Я и мои спутники поблагодарили его, но обещали зайти на обратном
пути, отслужив предварительно панихиду по Ионафану.
Пошли и отслужили по доброму владыке. Мир праху твоему, воистину
пастырь добрый.
Любопытство наше было возбуждено, и мы решили завернуть в келью
слепого звонаря. Она помещается в фундаменте ли церкви или в толстой
старинной стене — я не разобрал хорошенько. Во всяком случае три сту-
пеньки от двора ведут вниз, в углубление. Стоит одиноко, не примыкая ни к
каким другим кельям. Похоже на сторожку именно звонаря.
Вошли. Все чисто прибрано. Просторно, хоть и не очень. На стенах по-
чему-то несколько часов. На комоде тоже часы. Посреди комнаты новенькая
фисгармония. За нею кровать. Прибрано и чисто, но странно.
— Чья же это фисгармония?
— Моя.
— Кто же на ней играет?
— Я играю. — В голосе его удивление на мои вопросы.
— Как играете, когда вы слепы? Ведь вы не видите клавиш, куда же вы
ударите пальцем?
Не отвечая, он сел за фисгармонию, издал несколько приятных ак-
кордов.
— Что же вам сыграть, светское или духовное?
У «рясофорного монаха» мы решились выслушать что-нибудь духов-
ное. Я попросил из пений на Страстной седмице.
Но как в пении это хорошо, так на фисгармонии выходило «не очень».
Или слух не приучен, или уже те протяжные и монотонные звуки так и сооб-
разованы только с человеческим голосом. Правда, «играть» и «петь» — ка-
кая в этом разница! Вероятно, звуки симфоний показались бы тоже нелепы-
ми, попробуй их выполнить через пение.
Была игра, и правильная игра. Я вспомнил «св. Цецилию», слепую му-
зыкантшу католической церкви. Право, этот деятельный русский монах мне
нравился не менее. На этот миг.
6 В. В. Розанов
161
Оставив клавиши, он заговорил (на мои вопросы):
— Рано ослеп. Ребенком. Света и не помню. Играю, потому что слух
есть. Я все звоны здесь установил, до меня была нелепость, нелепый звон,
немузыкальный и несогласованный.
Так как я не понимаю в звоне, то и не мог очень понимать его разъясне-
ний. Но определение «нелепый звук», несколько раз твердо им сказанное,
запомнил хорошо. Скорей из направления и тона его объяснений я понял
только, что наука звона мудреная и сложная, требующая понимания музы-
ки, гаммы; что требуется подбор колоколов и проч.
— Ив Ростове Великом звоны я же устанавливал. Там пять звонов. (В
цифре могу ошибаться.)
Он говорил явно о системе звона, о методе и тоне, что ли, не понимаю.
Очевидно, однако, по твердости и уверенности объяснений и по высокой
разумности всей речи, что он был высокий художник этого, в сущности,
очень важного дела. Наблюдали ли вы, что по звонам, например, различают-
ся католическая и наша церковь? В католической церкви колокольный звон —
точно мяуканье кошки. Так вкус выбран. Что-то крадущееся и стелюще-
еся, «иезуитское». У нас звон — точно телка бредет. Басок, тенорок и дис-
кант — все в согласии. «Хоровое начало» славянофилов? Не знаю. Во вся-
ком случае, для городов и весей русских выбор характера колокольных зво-
нов куда важнее «filioque»*, в котором никто ничего не понимает. Мелодич-
но-грустный «вечерний звон» русских церквей скольких скептиков и
сатириков удержал от протеста, критики и сатиры: и, может быть, только
благодаря мягкому «вечернему звону» у нас никогда не зародился ни Воль-
тер, ни Ренан.
— А для чего у вас не одни часы на стене? Двое, трое...
Я обернулся назад, ожидая увидеть еще.
— Это не мои. Я поправляю.
Он указал на комод, где лежала по крайней мере пара карманных
часов.
— Вы поправляете часы?!!
Изумлению моему не было предела.
— Теперь стар стал, и рука не тверда. Волоска (в механизме) не могу
поправить, а прежде и волосок мог. Но если волосок цел и неисправны дру-
гие части механизма, я чиню хорошо. Разберу, поправлю и соберу.
— Не ошибетесь? Ведь так тонко и сложно все?!
— Как бы ошибался — не брался бы.
По возрасту монаху лет 45—50. Конечно, из мужичков, и «богословие»
тут ни при чем. «Живет по преданию». Это «по преданию», мне кажется,
естественно заменило «истину» для темного, безграмотного люда. «По пре-
данию», — значит, ощупью. Пощупал батюшку — «так верил», пощупал
дедушку — «так верил». И так до Николая-чудотворца и святителя Алексея.
* «И от Сына» (лат.).
162
«Все так верили», — говорит, ощупав всех, слепой мужичок. И заключает:
«Так». Как же иначе поступить?
Я вышел с истинным уважением к слепому монаху, наполнившему жизнь
свою трудом, деятельностью и пользою. Отчего, при слепоте, он выбрал
такие занятия, как поправка часов и установка звонов? Явно его ум был не
только деятельный, но предприимчиво-деятельный; ум его окрылял и влек,
ум был слишком зряч. А глаз недоставало.
Неподалеку от Ярославля расположился на левом берегу красивый Толг-
ский монастырь. Белая высокая каменная ограда отнесена сажен на 50 от
берега, ввиду, без сомнения, весеннего разлива. Был ранний вечер, все золо-
тилось в солнечных лучах... Красиво погуливали монахи около ограды, и
другие, сидя на лавочках, любовались на проходящий пароход.
Толга — богатый монастырь с чудотворною иконою Божией Матери,
явившейся здесь на дереве. Толгская Божия Матерь, в подробностях ее на-
писания, — одна из прекраснейших икон православия.
Плыли мы и мимо старого Макария — древнего монастыря, по имени
которого Нижегородская ярмарка именуется «Макарьевскою». Она, как из-
вестно, перенесена в Нижний правительственным распоряжением, а «сама
собою» зародилась около Макарьевского монастыря и состояла первоначаль-
но из домашних изделий и товаров, приносимых и привозимых богомольца-
ми, стекавшимися с Волги и впадающих в нее рек и речек, ко дню годового
праздника преподобного Макария. Есть еще в Решме другой монастырь, того
же имени, бывший еще недавно мужским, но теперь женский. Любопытна
история его преобразования: монахов становилось все меньше, да и те сво-
им пьянством и безобразным поведением только возмущали окрестных кре-
стьян. Наконец монахов осталось что-то человек пять, и монастырские служ-
бы не посещались никем. Монастырь надо было закрывать, но Влад. Карл.
Саблер придумал другое — обратить его из мужского в женский. Появились
«благоцветливые монашенки», с ними — деятельная и смышленая игуме-
нья; запели они свои «стихиры» и «псалмы» плачущими девичьими голоса-
ми, кроткими и жалобными, и народ кинулся сюда на богомолье и с прино-
шениями. Старое имя и древнее место были спасены.
На пристани в Решме пассажиры парохода выслушивают «напутствен-
ный молебен путешествующим», и пароход, конечно пристающий здесь для
своих торговых надобностей, не отходит, пока не кончится молебен и все
присутствующие не получат кропления св. водою. Все это красиво и народ-
но, и как бы не воспользоваться, чтобы ответить на порыв мирян помолить-
ся тепло и торжественно, но служба (на этот по крайней мере раз) была до
невозможности плоха, небрежна, прямо нечистоплотна. Все пассажиры были
возмущены: служилось с пропусками молитв, и голоса читающих, поющих
и возглашающих — точно спросонья или с перепоя.
Вот и красавец Нижний! Я посетил его. Как он переменился, помоло-
дел, покрасивел с 1878 г., когда я его хорошо знал. Теперь там действует
фуникулер, почему-то называемый здесь «элеватором»; вагончики на зуб-
163
6*
чатом рельсе, подымающие почти вертикально вверх. Это заменяет пре-
жний медленный и трудный подъем на гору, на которой расположен город.
Над гимназией те же две стрелки, к четырем концам которых прикреплены
инициалы стран горизонта: «С.Ю.В.З.». Я помню, что учеником этой гим-
назии читал роман г. Боборыкина «В путь-дорогу», и, по словам автора,
учившегося здесь, его товарищи в ту пору переводили эти буквы — «юно-
шей велено сечь зело» (вместо «север, юг, восток, запад»). Милое остро-
умие, едва ли очень утешавшее тех учеников, на долю которых выпадали
роковые две буквы.
Я учился в этой гимназии в директорство Садокова, который за админи-
стративные таланты был сделан впоследствии помощником попечителя
Московского учебного округа. Отличие для директора гимназии неслыхан-
ное и небывалое никогда! Действительно, он был очень умен. Деятелен, даль-
нозорок, предусмотрителен, влиятелен, и даже очень влиятелен, в городе.
Голос его, авторитет его везде имел вес. В трудах он был неутомим. Гума-
нен. Но я имею грех, что почему-то никогда не любил его. Не любил просто
потому, что боялся и что он был «начальство». Нужно его было передвинуть
не на пост помощника попечителя, а прямо попечителя; тогда этот крепкий
русский человек, обаятельно спокойный и ласковый, с железной волей и
неустанный с утра и до ночи, несмотря на 60 лет, сделал бы очень многое
для образования в семи или восьми губерниях, подведомственных московс-
кому попечителю. Но в качестве «помощника» он должен был стать только
зрителем тех проделок и гешефтмахерств, какие его начальник, граф, уто-
нувший в долговых обязательствах, проделывал на своем «ответственном
посту» с помощью правителя своей канцелярии. Мир праху их всех...
Темное время, не любимое мною.
* * *
Дни и ночи плывешь по Волге... Все так же рассекают спицы пароходных
колес ее воды... Солнце всходит и заходит, и кажется, нет конца этой Волге.
«Мир Волги» — как это идет! Свой особый, замкнутый, отдельный и само-
стоятельный мир. Как давно следовало бы не разделять на «губернии» этот
мир, до того связанный и единый, до того общий и нераздельный, а слить
его в одно! Россия, разделенная на совершенно нелепые «губернии», ниче-
му в ней не отвечающие и ниоткуда не проистекающие, на самом деле пред-
ставляет группу стран, совершенно иного в каждом случае характера, иной
природы и со своим у каждой страны средоточием. Что Волга имеет общего
с Черноморским побережьем? С Кавказом? На Волге даже и не вспомина-
ются, даже и на ум не идут Одесса или Владикавказ. Просто — не чувству-
ются, никак не чувствуются. А Рыбинск, например, чувствуется в Астраха-
ни, и Астрахань чувствуется же в Рыбинске. Все это соединено, слито, а
Рыбинск и Одесса «разлиты» по разным котлам. Самим Господом Богом
разлиты. Тут не надо противиться природе вещей. Не нужно трепетать за
единство империи или, вернее, России, которая тем меньше будет иметь тен-
164
денцию рассыпаться, чем более каждая часть будет чувствовать удобнее себя,
поместится удобнее для себя географически, хозяйственно и этнографичес-
ки. Искусственное разделение на «губернии» с отношением каждой губер-
нии только к Петербургу, а не к соседним губерниям или вот не к «матушке-
Волге» в ее целом — это не может не вредить тысяче местных (приволжс-
ких) интересов и нужд, не породить тысячи упущений, не причинить тысяч
и тысяч ущербов единичным хозяйствам и не внести в души людей тысяч и
тысяч досад и раздражений. К чему все это? Очевидно, «Приволжье», «При-
уралье», «Черноморье, «Кавказ», «Туркестан», «Балтика», «Литва»,
«Польша» — вот естественные «края» и «земли», вот великие «земляче-
ства», из которых состоит Великая Русь. Как инстинктивно умно студенты
последних десятилетий стали группироваться в «землячества». «Земляк»,
«соотчич» — самое натуральное понятие, факт и имя. И никакого тут «раз-
деления», «распада», «разложения», просто — естественность и удобство.
Начиная с Нижнего берега Волги резко изменяются: они становятся пус-
тынны и малозаселенны, в то же время геологически красивее. Не видно
этих постоянных деревенек, громадных торговых сел и частых городов.
Чувствуешь, что удаляешься из какого-то людного и деятельного центра на
окраину, менее культурную и менее историческую. На Волге в самом деле
сливаются Великороссия, славянщина с обширным мусульманско-монголь-
ским миром, который здесь начинается, уходя средоточиями своими в дале-
кую Азию. Какой тоже мир, какая древность — другой самостоятельный
«столп мира», как Европа и христианство. На пристанях все более и более
попадаются рабочие-татары. А в Казани пристань парохода уже завалена их
«басурманскими» шарфиками, шапочками и туфлями. «Ну, Магометово цар-
ство пошло», — думаешь.
Дюжий, здоровый народ. Во что оценить только одно, что из десятков и
сотен миллионов от Казани до Бухары и Каира нет из ихнего народа ни од-
ного пьяницы. Ни одного пьяницы: этому просто, кажется, невозможно по-
верить! Ведь вино так сладко? Да, но и опий сладок, но он запрещен в Евро-
пе. Запрещен, и нет, не манит. Проклятый алкоголь есть европейская форма
опия, и если мы не кричим и не визжим при его виде, как закричали бы и
завизжали, если бы народ вдруг начал окуриваться опием, то оттого только,
что алкоголь у нас «свое», привычное. Но качества и следствия его — точь-
в-точь как опия и гашиша: одурение, расшатанность воли и характера, ни-
щенство, преступление, вырождение, смерть.
Поговаривают иногда о религиозном обновлении, о новых чаяниях и
горизонтах здесь, в новом пророчестве и новом апостольстве: воистину не
принял бы никакого пророка, который не начал бы дела своего с вышиба
бутылки с водкою из народных рук. «Пьяный не помнит Бога, пьяный — не
165
мой» — вот с каким первым словом пусть явится новый пророк на Руси. Да
и в самом деле, какая религия около пьянства? Какая молитва у пьяного?
Какого от него ждать исполнения религиозного закона? По самому суще-
ству дела, для каждого пьющего водка и есть «бог», это его «сотворенный
земной кумир», который его вечно тянет, тревожит, заставляет забывать все,
и в том числе Бога на небесах. Все пьющие, которые говорят, что они «ве-
рят», — лгут, их пьяный язык плетет что угодно — песню или молитву. Сло-
во веры есть у них, но закона веры нет в них, и нет, и не может быть памяти
Бога.
«Пьющие — не мои» — вот слово нового пророка.
Проплывая через Казанскую губернию, мы были зрителями странной
картины, которая не сейчас объяснилась. Перед носом парохода пересекла
путь лодка. «Утонут! Утонут!» — говорили пассажиры в страхе, видя, как
несколько мужиков, очевидно пьяных, что-то неистово крича, ломались, вер-
телись в лодке, а один из них, перегнувшись через борт, окунулся головою в
воду. Но поднялся и махал руками и что-то кричал, потрясая кулаком вслед
уже проплывшего парохода, и неистово показывал, очевидно пассажирам
парохода, на воду. Точно он толкал кого-то мысленно в воду. Каково же было
наше удивление, когда минут через десять на пароходе заговорили, что это —
не пьяные, а голодные мужики, из голодающих мест Казанской губер-
нии, и кричали они проклятия прошедшему пароходу и желали ему утонуть
или сгореть и чтобы все пассажиры «в воду»! Так как крики не были доста-
точно слышны, то окунувшийся головою в воду мужик и показал наглядно,
чего он и все они, голодные, от души желают плывущим на великолепном
пароходе сытым богачам. «В воду вас», «утонуть вам», «сгореть вам и уто-
нуть», «и с проклятыми детками вашими, проклятые» — будто бы слышали
с борта и с кормы пассажиры нижней палубы (III и IV класса). Но сейчас
это передалось к нам, наверх (II и I класс). Никогда до этого я не видал «го-
лодающих мест», голодного человека. Не оттого, что ему не было времени
или случая поесть днем и он поест и даже наестся вдвое вечером, а голодно-
го оттого, что ему нечего есть, нет пищи, у него и вокруг нехватка, как у
волка в лесу, у буйвола в пустыне!! Представить себе это в Казанской губер-
нии, в образованной и цивилизованной России, с ее гимназиями, универси-
тетами, православием и миллиардным бюджетом! Просто не умею вообра-
зить! Хоть и видел на лодке, но не верю, что видел. Мираж, наваждение,
чертовщина!
Гимназия, ученички в мундирах; почта цивилизованного государства,
спокойно принимающая «корреспонденцию»: «У вас заказное письмо? Две
марки». — «Простое? Одна марка». — «У нас простое, потому что это запи-
сочка к любовнику». — «Это — заказное, потому что отношение к исправ-
нику». И около этого... человек, которому нечего есть, и он не ел сегодня, не
будет есть завтра и вообще не будет есть!!! Бррр... Не понимаю и не верю.
Читал в газетах — и не верю, видал — и все-таки не верю!!!
Как может быть то, чего не может быть? Разве «дважды два» уже «пять»?
166
* * ♦
Вот наконец и вторая моя родина, духовная, — нагорный Симбирск. Я не
надеялся когда-нибудь его увидеть, потому что не было и не предвиделось
никогда повода спуститься так далеко по Волге. Зачем? Я не странствова-
тель, а домосед. Но выпал случай «хорошенько отдохнуть», и фантазия от-
дыха повлекла меня на Волгу.
Мы, гимназисты младших классов, ни разу не рискнули переплыть на
лодке на ту сторону Волги — так широка она в Симбирске. Во время весен-
него разлива глаз уже не находит того берега, теряясь на глади вод. Берег
чрезвычайно крут: и самый город с его «венцом» (гулянье над Волгою) ле-
жит на плоском плато, которое обрывается к берегу реки. В симбирской гим-
назии я учился во 2-м и 3-м классе в 1871—1873 учебных годах, в пору
директорства там Вишневского, в пору Луповского, Христофорова, Штейн-
гауэра и Кильдюшевского, из которых некоторые были известны не в одном
Симбирске учебниками или литературно. Всякий, взглянув на эти коротень-
кие годы (1871—1873) и на молоденькие классы (2-й и 3-й), усомнится и не
поверит: что же я мог тогда видеть, заметить и пережить? Между тем я пере-
жил в них более новое и, главное, более влиятельное, чем в университете
или в старших классах гимназии в Нижнем.
Я не только не встречал потом, но и не могу представить себе большего
столкновения света и тьмы, чем какое в эти именно годы (и, вероятно, рань-
ше и позднее потом) происходило именно в той гимназии. Вся гимназия
делилась на две половины, не только резко различные, но и совершенно про-
тивоположные, тайно и даже явно враждебные, — совершенной тьмы и ярко-
го, протестующего, насмешливого (в сторону тьмы) света. Прямо из «мама-
шиного гнездышка» (в Костроме) я попал в это резкое разделение и ощутил
его не идейно и «для других», а ощутил плечом, кожею и нервами, для «сво-
ей персоны», что такое и тьма, что такое и свет. Воистину для меня это
было как бы зрелищем творения мира, когда Бог говорил: «Вот — добро»,
«вот — зло». Боже, какая разница — пережить это разделение или только
сознать его, какое богатство и преимущество физиологического ощущения
над идейным, головным, когда копаешься-копаешься и вот докапываешься
до «умозаключения».
Здесь чувствует кожа, и все незабвенно!
«Управлял» гимназиею Вишневский — высокий, несколько припухлый,
«с брюшком» и с выпуклым, мясистым, голым лицом генерал. За седые
волосы и седой пух около подбородка ученики звали его «Сивым» (без вся-
ких прибавлений), а «генералом» я его называю потому, что со времени по-
лучения им чина «действительного статского советника» никто не смел на-
зывать его иначе как «ваше превосходительство» и в третьем лице, заочно,
«генерал». Но он был, конечно, статский. Он действительно «управлял» гим-
назиею, т. е., по русскому, нехитрому обыкновению, он «кричал» в ней и на
нее и, вообще, делал, что все «боялись» в ней, и боялись именно его. Все
мысли и всей гимназии сходились к «нему», генералу, и все этого черного
167
угла, где видимо или невидимо (дома, в канцелярии) стоит его фигура, боя-
лись. Боялись долго; боялись все, пока некоторые (сперва учителя и наш
милый образованный инспектор Ауновский) не стали чуть-чуть, незаметно,
про себя, улыбаться. Так чуть-чуть, неуловимо и субъективно. Но как-то без
слов, без разговоров, гипнотически и телепатически улыбка передалась и
другим. От учительского персонала она передалась в старшие ряды учени-
ков и стала по ярусам спускаться ниже и ко 2-му году моего пребывания
здесь захватила вот даже нас, третьеклассников (т. е. человек пять в третьем
классе). Улыбка разнообразилась по темпераментам и склонностям ума,
переходя в сарказм, хохот или угрюмое, желчное отрицание. Всего было,
всякие были. Улыбка искала себе опору: она ставила делом чести чтение
книг, и никогда я (и мои наблюдаемые товарищи) не читал и не читали
столько, сколько тогда в Симбирске читали, списывали, компилировали, спо-
рили и спрашивали. Такой воистину безумной любознательности, как в эти
71—73-е годы, я никогда не переживал. «Ничего» и «все». С «ничего» я
пришел в Симбирск: и читатель не поверит, и ему невозможно поверить, но
сам-то я про себя твердо знаю, что вышел из него со «всем». Со «всем» в
смысле настроений, углов зрения, точек отправления, с зачатками всячес-
ких, всех категорий знаний. Невероятно, но так было. Разумеется, невоз-
можно было самому все это проделать, но, на счастье, я плохо учился, вый-
дя совершенным «дичком» из «мамашиного гнездышка», и для меня взят
был «учитель», сын квартирной хозяйки, ученик последнего класса гимна-
зии Николай Алексеевич Николаев. С благоговением пишу его имя теперь,
на старости лет, хотя уже сам классу к пятому вспоминал о нем не иначе как
насмешливо и мысленно с ним споря. Но это пусть. Фаза пройдена. А прой-
ти ее, и так особенно и чудесно пройти, я мог только с Н. А. Николаевым.
Небольшого роста, светлый-светлый блондин, с пробивающимся пуш-
ком, золотистыми, слегка вьющимися волосами, как я теперь понимаю, он
для меня был «Аполлон и музы». Он сам весь светился любовью к знанию и
непрестанно и много читал. Ну а я был «подмастерье». «Сапожник» и «маль-
чик при нем»: самое удобное положение и отношение для настоящей выуч-
ки. Клянусь, нет лучшей школы, как быть просто «мальчиком», «подпас-
ком» и «на посылках» у настоящего ученого, у Менделеева или Бутлерова.
Но мне «настоящий ученый» был непонятен и, следовательно, не нужен или
вреден: а вот Николай Алексеевич Николаев и был то самое, что нужно было
и даже что «Бог послал». Конечно, он взялся за уроки и стал учить меня, как
— не помню. Ни одного урочного занятия не помню. Но он сам, я сказал,
непрерывно и много читал, и я просто стал читать то же, что он: сперва
Белинского, затем Писарева, Бокля, Фохта и проч. Кончив уроки, я шел к
его столику и брал из кучки книжек «что-нибудь неучебное». Понимал я?
Не понимал? Ну, конечно, фактов, сообщений «науки» я не понимал или
понимал это в 1/10 доле, но живым, чутким и (в ту пору) безгранично дея-
тельным умом я схватил самый центр дела: не то, что писалось авторами
этих книг, а что их заставляло все это писать, за что они боролись, страдали,
168
куда летели. Словом, думаю и вполне уверен (теперь, в 50 лет), что я схва-
тил суть дела, суть, если хотите, всего русского и европейского умственно-
го развития, в 14—15 лет, с свежестью и безграничностью будущего, какая
заключена в сути этого возраста! Тем, которые, читая эти строки, сомни-
тельно качают головами, я скажу: но разве между мною, 14-летним симбир-
ским гимназистом, и Боклем, с его философской «Историей цивилизации в
Англии», было больше разницы, нежели между «рыбаком» Петром и И.
Христом, с его «глаголами жизни вечной»? И между тем не первосвященни-
ки, не учители фарисеев, не Никодим, а Петр и Иоанн восприняли слово
Христово, полнее всего его уразумели и разнесли по всему свету. Вот поче-
му, не в силах будучи проверить всех «сообщений» Бокля, я в святая святых
души его, ума его, характера его, метода его — того всего, ради чего Бокль и
жил, вошел, может быть, лучше всех европейских читателей и его перевод-
чика Бестужева-Рюмина. Клянусь, из нас двоих — меня, 14-летнего мальчи-
ка, и Бестужева-Рюмина — Бокль прижал бы к сердцу как «своего» именно
— меня! Ибо я был тот же самый Бокль, только без «арсенала», без его эру-
диции. Но «душа»-то боклевская и потом вот писаревская, фохтовская, Бе-
линского — не вместе, а порознь и преемственно — в эти безумные два года
чтения, эта душа через посредство той изумительной ассимиляции, воспри-
имчивости, какая свойственна 14 годам, — она, эта душа, вошла в меня,
росла во мне, жила во мне!.. Чего же им, как учителям, нужно было еще?
Конечно, я был лучший их ученик в России и в Европе и говорю это твердо
теперь, в 50 лет.
— Да когда же ты дашь мне покой? — выговорил как-то мой уставший
учитель на прогулке или когда мы куда-то шли, может быть, вот на пароход-
ную пристань, где служил начальником конторы (по письменной части) его
отец. Этот его вопрос я помню: наконец и он утомился, который сам во мне
все пробудил и возбудил милыми, прекрасными, охотными разговорами-рас-
суждениями-разъяснениями. Утром ли, став, я перебегал с своей постели на
его; и вечером опять был под его одеялом. Мать его (моя хозяйка) была гру-
бая, жесткая, смышленая и почему-то очень меня не любившая женщина,
смеявшаяся над моею заброшенностью, сиротством (без отца и матери) и
бедностью; старший его брат был слабоумный; сестра Соня была девяти
лет; отец бывал дома только с вечера субботы до вечера воскресенья; ос-
тальное время он был занят службою в «конторке» на пароходной пристани
«Самолета». Таким образом, не только для меня, но и для него не было вок-
руг и непосредственно родной атмосферы умственного общения: был толь-
ко я, как для меня был только он (грубость семьи его, это я подчеркиваю, и
это сыграло большую роль). Мать его была не только грубая женщина, но и
властительница, и от этого, верно, в дому его не появлялось его товарищей,
кроме одного Соловьева, по-видимому влиявшего на него. Сам он в семье
был и подавлен, и свободен, уважаем и ценим, но ценим, как ценят 17-лет-
него даровитого юношу его родители, заработавшие хлеб и давшие ему вос-
питание (молчаливое требование благодарности и повиновения). В самом
169
дому, в отношениях его со старшими, образовалась атмосфера условности,
сдержанности и умолчаний. Опять уже для него самого был, таким образом,
открыт, чтобы «поделиться», только я один. И он меня никогда не учил, не
наставлял, кроме разве первых месяцев моего пробуждения, а жил около
меня, но свободно и делясь только со мною, и я тоже жил около него свобод-
но же и делясь только с ним. Но какая это была жизнь...
Сдержанный в отношении к внешним, он был неизменно веселый (без
шума), ласковый, остроумный, шутливый, изобретательный, «придумчивый»
со мною; и сам-то, все читая и читая, только еще сам многое узнав недавно
и вновь, он имел не только охоту, но и потребность делиться знаниями, «го-
ризонтами», идеями, надеждами русскими и европейскими, по части «муз»
и рабочего вопроса, критики и публицистики, социологии и политики — и
делился со мною. Т. е. просто при мне и вслух мечтал, негодовал, восхищал-
ся, порицал, смеялся, как и я при нем недоумевал, спрашивал, негодовал,
сомневался, — при нем и обращаясь к нему. Должно быть, и даже без сомне-
ния, он нашел во мне душу, единственную по восприимчивости, впечатли-
тельности и любознательности (тогда); такой пожирающей любознательно-
сти, желания все знать, во все заглянуть, все разрешить себе, на все постро-
ить умственный ответ и разрешение я никогда не испытывал сам и ни в ком
никогда не встречал. «Перечитал бы все книги, переслушал бы всех людей...»
Почувствовав такую восприимчивость, он, вероятно, и меня ответно
полюбил, как я его: о чувствах мы никогда не говорили. Считали «глупостя-
ми» это и вообще всякую нежность, в том числе дружбу с ее «знаками».
Просто ничего не говорили о себе и своем отношении, а только о мире, о
вещах, о предметах и вообще внешнем и далеком. Я хорошо помню, что мы
никогда и ничего не говорили даже об учителях и гимназии (в которой и он
кончал курс), о доме или родных: мы исключительно говорили о далеком и
идейном...
Не могу иначе передать этих отношений, никогда еще потом не пережи-
тых, как что мы взаимно влюбились друг в друга влюбчивостью идейной,
мозговой, и формально прожили два года в любовничестве страстном и го-
рячем, духовном, спиритуалистическом. Как иначе назвать эти двухгодич-
ные отношения, в которых не было не только дня, но и минуты взаимного
неудовольствия, недоверия или подозрительности, неуважения, ни ниточки
скрытности? И между тем, собственно, «симпатии», «милого» или чего-ни-
будь сюда входило так мало, что, разлучившись, мы с ним ни разу даже не
обменялись письмом. Между прочим, и по невозможности: «личного» мы
никогда ничего друг другу не говорили, а продолжать прежние рассужде-
ния, разговоры — это значило бы бросить учение и вообще все дела, обязан-
ности и только начать писать. Конечно, мы предпочли каждый «уткнуться
носом» в свою книгу, расставшись и молча, мы оба погрузились в «дальней-
шее чтение», «развитие»...
Помню, он выписывал на свои деньги газету «Самодеятельность». Уж
из заглавия читатель видит, что это была газета, с одной стороны, «60-х го-
170
дов», а с другой — грядущего «освободительного движения»... Помню и
выражение его: «Маленькая, но хорошая газета». Никогда я потом и позднее
не видал ее. Казанская или петербургская? Кто был редактор и сотрудники?
Поступил он на медицинский факультет, где был годом его раньше кончив-
ший курс Соловьев, вскоре умерший. Фигуру этого Соловьева, как друга
моего друга, я ярко не помню.
По этим двум лицам, вплотную и без заменения увиденным мною в
1871—1873 годах, я судил потом всю жизнь и до сих пор сужу, что такое тот
менее идейный и более психологический перелом, какой около того време-
ни вообще совершился в русской душе, а по зависимости истории от души
— совершился и в истории русской. О нем можно было бы и нужно было
писать целую книгу. Значение его, смысл его, содержание его, многоцвет-
ные ниточки в нем неисчислимы. Но для меня выпуклее всего бросается в
глаза следующее.
Грубость внешняя. Отрицание всяких «фасонов», условностей; всякого
притворства, риторики, лжи. Всего «ненастоящего». Свирепая ненависть к
«идеализму» и «утонченности», ибо от Жуковского до Шеллинга именно
«идеализм»-то и «утонченность» стали какою-то неприступною и красивою
внешностью, за которою пряталось и где мариновалось все в жизни ложное,
риторическое, фальшивое, с тем вместе бездушное и иногда безжалостное,
жестокое.
Свирепая правда! — вот лучшее определение перелома. Притом самый
перелом совершился до того целомудренно и застенчиво, так сказать, «не
смотрясь в зеркало», что я даже не помню, чтобы слова «правда» и «правди-
вость» когда-нибудь и у кого-нибудь из «них» фигурировали или даже про-
сто упоминались. Просто шли «боком» и «плечом» к правде, не смотря ей в
глаза и (с виду) как будто «не интересуясь этой барыней».
Все движение было в шутках. Шутка была «колором» движения. Так
ведь это и сохранилось потом и до сих пор, когда тон «Русского Богатства»,
«Отечественных Записок» или «Товарища» есть шутливый, шутящий, гру-
бо и просто шутящий, если сравнить его с тоном «Вестника Европы», «Речи»
и пр.
Под этою шероховатой, грубой, шумящей внешностью скрыто зерно
невыразимой и упорной, нерастворяющейся и нехолодеющей теплоты к че-
ловеку и жизненного идеализма, во всем — в политике, социологии, лите-
ратуре, публицистике, «музах» и проч., и проч., и проч. Я не смогу лучше этого
выразить, как сказав, что в ту пору, 60—70-х г., рождался (и родился) в Рос-
сии совершенно новый человек, совершенно другой, чем какой жил за всю
нашу историю. Я настаиваю, что человек именно «родился» вновь, а не пре-
образовался из прежнего, напр. из известного «человека 40-х г.», тоже «иде-
алиста и гегельянца», любителя муз и прогрессивных реформ. Этому тогда
«вновь родившемуся человеку» не передали ничего ни декабристы, ни даже
Герцен: хотя в литературе «этих людей» и трактовались постоянно декабри-
сты и Герцен, даже трактовались с видом подчинения и восторга. Но именно
171
только «с видом»... Если я назову Некрасова около декабристов, Гл. И. Ус-
пенского около «великолепного» Герцена, — всякий поймет, что я говорю и
насколько основательно говорю...
«Пошел другой человек» — вот слово, вот формула!
Наконец, я не скрою своей внутренней догадки, догадки за 20 лет раз-
мышления об этом явлении, так рано увиденном: что перелом этот есть не
«оплакиваемое, желаемое и не полученное» возвращение к «естественному
человеку», о чем говорили Руссо, Пушкин («Цыганы»), Толстой («Казаки»)
и Достоевский («Сон смешного человека»), а реальный и как-то даром и «с
неба» полученный «натуральный человек», простой, добрый, безыскусст-
венный, освободившийся от всех традиций истории. Буквально как «вновь
рожденный». И чтобы договаривать уже все и сразу окинуть смысл проис-
шедшей перемены, скажем так: что это... возвращение к этнографии, на-
родности, язычеству! Последний термин нуждается в объяснении: я наблю-
дал — на людях и в книгах, в журналах, в газетах, в разговорах, — что ничто
до такой степени не чуждо этим людям, как хотя бы первый «аз» религиоз-
ной метафизики, которая нам известна под формою христианского богосло-
вия, чужд и неприятен всякий тон сентиментальной «кротости», «прощения
врагу», «милосердия», «миротворчества», «непротивления» и проч., и проч.,
и проч.! Словом, весь тот дух и тон, какой мы соединяем с христианством,
жаргон и фразеология его, его мотивировка, его слова и манеры, жесты и
причитания, какие имеют «главным складом» своим духовенство и распро-
странены всюду, которые имеют главною книгою Евангелие и действитель-
но пошли от него, — все, все это имеет себе в «мыслящих реалистах», в
Базаровых и Рахметовых, такое непонимание себя, такое отрицание себя,
такую вражду, гнев и презрение к себе, недоверие и отвращение, что я не
умею передать! Да это все знают, все чувствуют! В этой «первичной этног-
рафии», которую мы чудесным образом опять получили в своих Рахмето-
вых и Базаровых, Писаревых и Добролюбовых, — русский человек станет с
«этнографическим любованием» смотреть на еврея, татарина, язычника, тоже
«этнографически» посмотрит и на «попа», без вражды, но чтобы он «подо-
шел к нему под благословение» или записался в «братчики» человеколюби-
вого комитета, им основанного, чтобы он о чем-нибудь начал «по душе» с
ним разговаривать, — этого не было, нет и не будет никогда!
Все — реальность — в одном!
Все — идеология — в другом!
Непреодолимое расхождение! До отвращения, до крови!
Вот мой внутренний взгляд, внутреннее понимание явления, о котором
размышляю тридцать лет, которое хотела понять вся наша литература и так
и оставила его, не разгадав, несмотря на кажущуюся его простоту и элемен-
тарность. «Пришли новые люди, всем нагрубили и всех прогнали». Да, они
«нагрубили», как остготы римлянам: и ведь никогда римлянин не мог по-
нять вестгота!
172
<6>
Я продолжу о состоянии симбирской гимназии в 1871—1873 гг., так как этот
маленький уголок и за небольшое время был, в сущности, тою культурною
«молекулою», которая повторялась на протяжении всей России и обнимает
приблизительно 30 лет перелома в ее жизни — перелома до такой степени
важного, что я не умею сравнить с ним никакой другой фазис ее истории.
«Рождался новый человек» — этим все сказано, ибо из человека родится его
история: и когда появилось новое в человеке, то уже, наверное, все и в исто-
рии пойдет иначе.
Вся гимназия разделилась на «старое» и «новое», разделилась в учени-
ках, в учителях. «Нового» было меньше, около ’/4, */5. Но в каждом классе,
начиная с самых маленьких (приблизительно с 3-го), была группа лично
связанных друг с другом учеников, которые, точно китайскою стеною, были
отделены от остальных учеников, от главной их массы, без вражды, без спо-
ров, без всякой распри, — просто равнодушием! Теперь, 35 лет спустя, это
нашло себе выражение в терминах «сознательный», «бессознательный»,
«сознательное», «бессознательное». Термин очень удачен, ибо он попадает
точь-в-точь в суть явления. Тогда этого имени и самого слова не было. Не
попадало на язык. Но явление было точь-в-точь то самое, которое теперь
охватывается этим явлением.
Масса учеников, 3/4 или 4/5, были, так сказать, реалистами текущего мо-
мента. Папаши с мамашами или, грубее (потому что в их лагере все было
грубо), официальные «родители», «власть имущие», отдали их в гимназию.
Гимназия, «казенное заведение», — это было что-то еще более «власть иму-
щее», нежели сами родители. Робкая, смирная, недалекая, ленивая душа этих
учеников, смесь сатиры и идиллии, снизу вверх с необозримым страхом взи-
рала на эту как бы железную крышу всяческих «властей», домашних и го-
родских, семейных и государственных, и, подавленная, только думала об
исполнении. Исполнение — оно скучно, сухо. Это «учеба уроков» и хоро-
шее «поведение». Нужна и поэзия: поэзией и утешением, грубее — развле-
чением для них служили драки, плутовство, озорство, ложь, обман, в стар-
ших классах — кутежи, водка и тайный ночной дебош. Как заключение это-
го подготовления, как награда за скучные учебные годы давалась и получа-
лась «казенная служба», такая или иная, смотря по выбору, склонностям,
успехам и связям или общественному положению родителей. В основе все
это было лениво и косно. Было формально и без всякой сути в себе. Тоже
удачно было это названо в 80-х годах «белым нигилизмом». Тут не было ни
отечества, ни веры, но формы «отечества» и «веры» были. Стояли какие-то
мертвые скелеты, риторические выспренности, и им поклонялись мертвым
поклонением высушенные мумии, просто с тусклым в себе я, без порыва,
без идеала, без «будущего» в смысле мечты и вообще чего-нибудь, отлично-
го от «того, что есть».
173
Люди «как они есть» и поклоняются «тому, что есть», — общее, чем
этою формулою, я не умею выразить этого состояния.
Общею внешнею чертою, соединявшею этих людей (мальчиков и юно-
шей), было отсутствие чтения. «На ловца и зверь бежит», — говорит посло-
вица. Правда, в гимназии не поощрялось чтение, но в глубине явления лежа-
ло то, что, если бы чтение даже и поощрялось учителями и начальством,
ученики эти все равно не стали бы читать по отсутствию внутреннего к нему
мотива.
Я склонен думать, что и «русские условия» в самом обширном смысле
слова, захватывая сюда не одну политику, но и городской и сословный строй,
и церковь, и «учебу», — все вместе мало-помалу измельчили «русскую по-
роду», довели ее до вырождения, до бессилия, дикости, черствости, до поте-
ри самой впечатлительности, и эта тупость впечатлительности стала не лич-
ным явлением, но родовым, наследственным, откуда и объясняется множе-
ством людей отмеченный факт, что более даровитыми и «обещающими»
являются люди с крайне диких русских окраин, «сибиряки», с Дона, с глу-
хой-глухой Волги, из далекого северного края, ибо эти люди выросли вне
всяких влияний «русской гражданственности» и «русского просвещения»,
которые, как плохой плуг землю, только портят, а не обрабатывают чело-
века.
Отсутствие «чтения» проходило разделяющею чертой не только между
учениками, но и между учителями. И они тоже делились на читающих и
нечитающих, на любящих книгу и не любящих книгу. Кажется, это странно
встретить в учителе гимназии. Между тем уже в 1886 году при первом по-
сещении мною семьи одного учителя русского языка я на вопрос о чтении
его взрослых детей услышал ответ, сопровождаемый полуулыбкой, полу-
смехом:
— У нас в дому читают одного Пушкина. Дети, жена и я.
— Ну что же, отличное чтение. Одного Пушкина прочитать...
— Да не Александра Сергеевича. Мы ужасно любим, собираясь все вме-
сте, читать Пушкина, рассказчика сцен из еврейского быта. Помираем со
смеху!
Не знаю этого Пушкина и в первый и единственный раз о «Пушкине,
рассказчике из еврейского быта» я услышал от этого учителя русского языка
в русской гимназии, уже прослужившего 25 лет в Министерстве народного
просвещения и который в этом другом Пушкине находил более вкуса и ин-
тереса, нежели «в том, в Александре Сергеевиче», которого он, однако, по
обязанности службы преподавал ученикам едва ли очень охотно.
«Нечитающая» часть учителей симбирской гимназии была, естествен-
но, и «непросвещенною». Они были тоже «реалистами текущего момента».
Служба министерству, порядок, благочиние, тишина, исправность. Чтобы
ревизии (из Казани, от учебного округа) сходили хорошо да чтобы не было
«историй».
— Мне твои успехи не нужны. Мне нужно твое поведение.
174
Так «Сивый», директор кричал на ученика, распекая его. Очки его при
этом бывали подняты на лоб; брюхо, более обширное, нежели выпуклое,
слегка тряслось, и весь он представлял взволнованную фигуру.
Он волновался только от гнева. Ничто другое его не волновало, не тро-
гало.
Этот лозунг — «хорошее поведение, а до остального дела нет» — был
дан давно Сивым или даже, может быть, до него. Мы, я в частности, уже
вступали в этот режим как во что-то сущее и от начала веков бывшее (дет-
ское впечатление), но... чему настанет конец!
«Настанет! Настанет!»
И мы яростно читали.
Да будет благословенна Карамзинская библиотека! Без нее, я думаю,
невозможно было бы осуществление этого «воскресения», даже если бы мы
и рвались к нему.
Библиотека была «наша городская», и «величественные и благородные
люди города» установили действительно прекрасное и местно-патриотичес-
кое правило, по которому каждый мог брать книги для чтения на дом совер-
шенно бесплатно, внося только 5 руб. залога в обеспечение бережного отно-
шения к внешности книг (не пачкать и не рвать, не «трепать»). Когда я узнал
от моего учителя (репетитора) Н. А. Николаева, что книги выдаются совер-
шенно даром, даже и мне, такому неважному гимназистику, то я точно с ума
сошел от восторга и удивления!.. «Так придумано и столько доброты». До-
вольно эта простая вещь, простая филантропическая организация поразила
меня великодушием и «хитростью изобретения». «Как придумали величе-
ственные люди города»... Это отделялось всего несколькими месяцами и не
более чем годом от времени, когда я уже читал Бокля и конспектировал «Фи-
зиологические письма» К. Фохта.
Конспектирование мое произошло через желание все схватить, все удер-
жать и при немощи купить хотя бы одну «собственную» книгу. Книги дают-
ся только читать, но ведь я должен их помнитъ\ Как же сделать это, когда я
не могу ни удержать книги, ни купить новой такой же? Самый простой ис-
ход и был в том, чтобы, возвращая книгу в библиотеку, оставить дома у себя
«все существенное» из нее, до того существенное, что, обратившись к тет-
ради, я как бы обращался к самой книге.
Нужно заметить, что о существовании конспектов и вообще о самом
методе этого отношения к читаемой книге я ничего не знал (3-й класс гим-
назии) и ни от кого не слышал. И мой универсальный во всем наставник
Н. А. Николаев этого мне не говорил — это я хорошо помню. Вообще, он мне
никогда ничего не навязывал и не «руководил» ни в чем; эта его благород-
нейшая черта была и педагогичнейшею. Я рос и развивался совершенно
«сам»: только около меня был умный и ласковый, меня любивший человек,
тоже смотревший всегда сам в книгу. Конечно, времени сохранялось тем
больше, чем конспект был сжатее: тогда все чтение получало более быст-
рый или по крайней мере сносно быстрый оборот. А ведь мне предстояло
175
сколько прочитать! С тем вместе конспект должен был вполне заменить книгу,
ибо и цель-то его была именно в замене книги. Поэтому энергично, с вели-
чайшею точностью, торопливостью и вниманием я, как только ухватился за
Фохта или за «Древность человеческого рода» Ч. Ляйэля, я начинал выбра-
сывать мысленно все лишнее, прибавочное, словесное, все литературные
распространения — это с одной стороны, а с другой — все остающееся,
«нужное», фактически и идейно сжимал в передаче до последней степени
сжимаемости.
Мне неизвестно, поступали ли так другие читающие, но это все равно,
— идя другими путями, они срывали другие плоды! Но ничего подобного
этому «нахлынувшему чтению», какому-то «потопу» его, который все «сры-
вал с петель», ломал и переворачивал в старом миросозерцании, точнее —
«ни в каком миросозерцании», а просто в старой лени и косности, я не за-
помню ни в последующие годы в нижегородской гимназии, ни потом в уни-
верситете. Должно быть, не было уже этого возраста, святых этих лет, когда
И верилось, и плакалось,
И так легко, легко...
Прошу прощения у поэта, что ставлю применительно к воспоминаниям
в прошедшем времени его глаголы... Старшие классы этой гимназии, в ко-
торой я знал много учеников, конечно, «читали» уже гораздо сознательнее и
серьезнее, чем мы, и, не вмешиваясь, молча, мы прислушивались к их спо-
рам. Совершалось все это на «сборных» ученических квартирах, где в од-
ной комнате жили ученики и II—III класса, и VI—VII. Нельзя сказать, что-
бы мы искали слушать эти споры; нельзя сказать, чтобы ученики старших
классов нам «пропагандировали». Они на нас не обращали внимания, но и
не стеснялись. Итак, все вышло само собою. Во всяком случае и религиоз-
ный и политический переворот стоял «вот-вот» у входа нашей души. Впро-
чем, нельзя сказать, чтобы «политический». В определенном смысле этого
не было. Имен не было. Было «начальство», «вообще начальство», русское
или французское, — и все это сливалось с Кильдюшевским, Сивым (дирек-
тор Вишневский) и Степановым, который, бывало, своим грозным, положи-
тельно страшным голосом говорил:
— Дубъовский, боуан, пошел, стань хожей в угол.
Т. е. «Дубровский, болван, пошел, стань рожей в угол».
Он не выговаривал некоторых букв. Дубровский, высокий, худенький
мальчик, был выше этого кряжевитого, низкорослого, масляного, бесшум-
ного в движениях (кот) учителя со старомодными бакенбардами. Благодаря
тому что он преподавал математику, а следовательно, и мог каждого сбить в
ответе и свести к «богвану», каковое имя им выговаривалось страшно и гроз-
но, мы, бывало, все затихаем, как мертвая вода, перед его уроком.
Нам, читающим, он «богвана» уже не говорил. Вообще, удивительная
вещь: мы их, учителей, ненавидели и боялись никак не менее, чем нечитаю-
щие, косные мальчики. Но, должно быть, что-то и у учителей было в отно-
176
шении «читающих» учеников: я не помню ни одного случая, чтобы учитель,
даже явно ненавидевший подобного ученика, сказал ему, однако, какую-ни-
будь резкость или грубость, закричал на него. Что-то удерживало. Я помню
на себя окрик во II классе «Сивого»:
— Я тебя, паршивая овца, вон выгоню!
Но это было до «чтения». Случай этот, крик директора, мне памятен по
причине первой испытанной мною несправедливости. В перемену мы бега-
ли, гонялись, ловили друг друга по узкому длинному коридору между клас-
сами. Все это делают массою. Да и как иначе отдохнуть от сидения на уро-
ке? Но когда в некоторые минуты шум и гам сотен ног становится уже очень
непереносимым для слуха надзирателя (что понятно и извинительно), он
хватает кого-нибудь за рукав и, ставя к стене или двери, кричит:
— Останься без обеда!
Это сразу останавливает толпу, успокаивает резвость и смягчает дей-
ствительно несносный для усталого надзирателя гам беготни и стукотни.
Это хорошо, и так нужно. Но схваченный и поставленный к стене явно есть
«козлище отпущения», без всякой на себе вины, ибо точь-в-точь так же бега-
ли двести учеников. Это знают и надзиратель, и ученики, но для «профор-
мы» такого гипотетического «безобедника» после всех уроков, на общей
молитве всей гимназии, все же вызывают перед директора (в этом и суть
наказания), говорят: «Вот бежал по коридору в перемену» (т. е. худо, что не
шел степенно), после чего директор обычно говорил: «Веди себя тише» — и
отпускал, в отличие от других настояще виновных учеников. Когда я вышел
перед директора, совсем маленький, и он, такой огромный и с качающимся
животом и звездою на груди, закричал: «Я тебя, паршивая овца, вон выго-
ню!», — то мне представилось это в самом деле кануном исключения из
гимназии! И за что? За беганье, когда все бегают.
Я помню хорошо, что когда долго плакал (прямо рыдал), услыхав этот
окрик, то это было не от страха исключения, а от обиды несправедливости:
«Все бегают, а грозят исключить меня одного». Почему? Как? Весь мой нрав-
ственный мир, вот эти заложенные в человека первичные аксиомы юрисп-
руденции, ожидания юриспруденции, были жестоко потрясены.
И между тем в ту же минуту я знал, что этот личный и особенный окрик
происходил из-за того, что мой брат и воспитатель (за круглым сиротством),
в то же время учитель этой же гимназии и, значит, подчиненный директора,
за месяц перед этим перевелся из симбирской гимназии в нижегородскую
по причине самых неопределенных и общих «неладов» с начальством. Брат
мой не был либералом, но он читал Гизо и Маколея, любил Д. С. Милля и
среди Кильдюшевских, Степановых и Вишневских, естественно, был «ко-
ровою не ко двору». Директор был, однако, оскорблен не тем, что он пере-
шел в другую гимназию, а тем, что он сделал это с достоинством и свобод-
но, тактично и вместе с тем чуть-чуть высокомерно в отношении к оставля-
емому месту. «Мертвые души», у которых он не выпрашивал ни прощаль-
ного обеда, ни рекомендаций, ни тех «лобзаний на прощанье», которые
177
помнятся столько же, сколько съеденный вчера блин, были оскорблены и
обижены.
Доктор Ауновский (инспектор) шепнул мне на другой или третий день:
— Вы должны держать себя в самом деле осторожнее, как можно осто-
рожнее, так как к вам могут придраться, преувеличить вашу вину или не так
представить проступок и в самом деле исключить.
Сущее дитя до этого испытания (по детскому масштабу), я вдруг воз-
зрился вокруг и различил, что вокруг не просто бегающие товарищи, папа-
ша с мамашей и братцы с сестрицами, не соседи и хозяева, а «враги» и «не-
враги», «добрые и злые», «хитрые и прямодушные». Целые категории но-
вых понятий! Неребенок этого не поймет: это доступно только понять ре-
бенку, пережившему такое же. «Нравственный мир» потрясся, и из него начал
расти другой нравственный мир, горький, озлобленный, насмешливый.
Тут я и начал читать (вскоре) Бокля и Ляйэля и злобно радовался, что
мир сотворен не 6000 лет назад, как говорили папаша с мамашей и законо-
учитель, но что по толщине торфа, наросшего над остатками человеческих
построек, по измерениям поднятия морского дна около Дании и Швеции
земля, доказанно существует не менее 100 000 лет, а гипотетически, вероят-
но, она существует уже миллионы лет!
Так говорили мои книжки и конспекты, и, слушая или, точнее, не слу-
шая законоучителя на уроках, я говорил в себе:
— Знаем, где раки зимуют.
И, оглядываясь на товарищей, которые правили свое «поведение» перед
учителем, договаривал:
— Болваны.
<7>
Никак не может быть доказано, чтобы содержалось что-нибудь «священ-
ное», даже просто специфическое в тех правильно выстриженных фигурках
знаний, какие известны под именем «программ учебных заведений» — под
именем «программы 3-го класса», «программы IV класса». Просто — со-
брались чиновники в комиссию и, поковыряв зубочистками в зубах, про-
мямлили: один — что по алгебре нужно пройти то-то, другой — что по Зако-
ну Божию нужно пройти столько-то, по истории — что непременно надо
выучить германских королей франконской и саксонской династий, а то еще
и «Суд Любуши» и пр. коньки, выстриженные из бумаги, только не детьми,
а «действительными статскими» и «просто статскими советниками». Что
это так, видно из того, что «коньков» этих стригут и перестригают так и этак
приблизительно каждые двадцать лет. А потому я совершенно уверен, что
наше тогдашнее гимназическое «чтение» — причем уроки, конечно, были
не пройдены или полупройдены, — по крайней мере, дало все то же, что
могли дать и эти уроки, но только все вошло в нас в пламенно сваренном
виде, как металл из плавильного котла. Но мне и в голову не приходит урав-
178
нивать одно и другое. Какое! Мы пережили, точнее, переживали и каждые
2—3 года целую культуру и культуры. Вот «trivium» и «quadrivium» ранней
схоластики, вот — renaissance, а там подальше и «революция»; у немногих
бывала, — да, бывала! — и целая «реформация», религиозные перевороты,
переходы от веры в неверие и от неверия к вере глубочайшей искренности,
чистосердечия, да даже, я думаю, — и глубины. Отчего нет? Что опять-таки
за специфичность в вопросах Лютера? Да и вообще, если измерять дело дос-
тоинством души человеческой, а не внешними событиями, разыгравшими-
ся из этих душевных переворотов, если все мерить Божиею мерою, а не че-
ловеческою мерою, без тщеславия и искания славы, то непонятно, почему
история наших тогдашних душ меньше или незначительнее историй самых
знаменитых душевных развитий, о каких записано в биографиях и автобио-
графиях, в мемуарах и правильно изложенных историях. Об одних расска-
зано, а о других не рассказано, вот и вся разница. Вспомнишь Ломоносова:
Герои были до Атрида,
Но древность скрыла их от нас.
Т. е. и до Ахилла были Ахиллы, но без Гомера они умерли и были забы-
ты, как и вообще все как бы не существуют без истории и историков...
Из учеников старших классов симбирской гимназии — вот этих отшат-
нувшихся от начальства и вставших в новый строй — я помню Михайлова,
Викторова, Расторгуева, Есипова, но особенно — братьев Беклемишевых,
из которых младший был моим товарищем. Из своих товарищей, выходив-
ших в «новые люди», — помимо двух братьев Баудер, Рупе (сын местного
аптекаря) и особенно Кропотова, который почему-то звал себя и подписы-
вался на записочках: «Kropotini italio». Что за фантазия? Конечно, потому,
что Италия — страна Данте и Петрарки: это-то мы знали и чувствовали и в
3-м классе. Дело и шалости, «развитие» и поэзия, ребячество и чуть не за-
мыслы «потом» перевернуть весь свет — все шло в восхитительном сплете-
нии, узор и красоту узора которого рассматриваешь только вот в 50 лет. Боже,
сколько свежести! Боже, сколько веры!
Вот отчего в зрелые свои 50 лет я скажу, что никакая «система образова-
ния», классическая или реальная, никакой лицей или гимназия, — не дали
бы нам большего и, главное, лучшего, чем это «саморазвитие», в какое мы и
целая симбирская гимназия тех лет бросались, как странствующие Робинзо-
ны. Удачное имя: именно как Робинзоны, но только со страстью не к морс-
ким приключениям, а с определенною и твердою верою, что «там», где-то
«дальше», за пределами нашей гимназии и за спинами этих Кильдюшевс-
ких и Вишневских, скрывается мир бесконечного и прекрасного идеала,
людей истинно добрых и благородных, знаний безграничных, жизни свет-
лой и возвышенной. Еще «подальше» манила нас какая-то благоустроенная
и мудрая жизнь народа нашего или, точнее, всех народов, «человечества».
«Но только для этого надо трудиться; этого еще нет; злые люди мешают».
Когда потом, в старших классах гимназии, я читал у Щеглова и Чичерина о
179
Кампанелле и Томасе Море, о «Республике» Платона, то это вошло в мою
душу как что-то давно знакомое. И я замечу для историков, что все эти и
подобные построения до того естественны и непременны у человека в изве-
стную фазу его развития, в фазу среднюю и сливающуюся] между научным
знанием и мечтательностью, между отчуждением от действительности и
верою в идеал!
Увеличивая масштаб, скажу так: готовили из нас полицеймейстеров, а
приготовили конспираторов; делали попов, выделали Бюхнеров: надеялись
увидеть смиреннейших Акакиев Акакиевичей, «исполнительных и аккурат-
ных», а увидели бурю и молнии... Масштаб надо уменьшить, чтобы не впасть
в хвастовство, но суть была именно такова. Ведь недаром и есть в психоло-
гиях глава о «свободной воле», и глава эта не выкидывается даже в семина-
риях. Но там она «проходится», а мы ее показали. «Зачем же, наставнички,
вы позабыли собственную главу в преподавании? Или относились к ней как
к какой-то словесной схоластике, без того реального чувства, каковое вы
сохранили к чудесам Феодосиев и Антониев? Ну а мы сохранили реальное
отношение к свободной воле. И квиты, даже научно квиты».
Начальство, министерство, целая половина России вчера удивлялись этим
«злым плодам учения». «Готовили одно, а вышло другое». Почему? Как? Но
дело в том, что решительно всякое учение, как бы его ни кастрировали, ни
обрабатывали «педагогически», содержит, однако, в себе непременно взрыв-
чатые силы маленького или большого «renaissance’a», реформации, револю-
ции и т. д.: оно содержит определенные и не могущие быть выкинутыми из
программы сведения против всяческой темноты, заскорузлости, традици-
онности, прямых обманов и лжи, какие вошли, и тысячелетне вошли, во
весь уклад старой Европы. Ну, например, эти 100 000 доказанных лет от
сотворения мира? Красота маленьких республик Греции и Италии? Факт
свободной воли? Да и это ли одно? А идеалы литературы и поэзии? «Мерт-
венность» или «консервативность» школы может заключаться в том только,
что все это будет упоминаться глухо, на эти отделы будет накинут покров
схоластики. Но не упомянуть об этом все-таки невозможно: просто это от-
делы науки, вечного и повсюдного знания'. Но преподаватели-то прошли это
глухо и мертвенно, а ученики взяли да и оживили! Влили сок и кровь в сло-
ва! Возвели школу к реальному'.
Для темных и старых сил истории есть только один выбор: не учить
вовсе, похоронить науку совсем! Открыть не то чтобы «охранительные»
школы, а не открывать вовсе никаких школ. Это можно, т. е. можно повести
Россию к эпохе печенегов и половцев, к состоянию Кореи или Китая. Мож-
но и это, но ценою бытия, жизни, ибо мертвые, неживые куски истории про-
глатываются живыми организмами. Тут и биология, и Бог — и с этим не
справиться ни мудрецам, ни хитрецам, ни повелителям.
— От кого, от кого я мог ожидать этого, а уж не от Михайлова! — вос-
кликнул удивленно директор Вишневский, узнав об аресте и заключении в
180
тюрьму этого «украшавшего гимназию» ученика в первые же месяцы по
окончании курса в ней. Заключение в тюрьму было на политической почве:
в ту пору для этого достаточно было иметь на столе К. Маркса или что-
нибудь из Лассаля, быть в дружбе с кем-нибудь из «ходивших в народ с книж-
ками».
Этого Михайлова я помню: белый, умеренно полный, благовоспитан-
ный, спокойный. Безукоризненных успехов и поведения. Да и мой репети-
тор Н. А. Николаев не спускался ниже 2-го ученика, т. е. был лучшим в сво-
ем классе, а в «поведении» тоже был довольно осторожен. Эта насторожен-
ность протеста и негодования вообще была «тоном» гимназии, обусловлен-
ным жестоким давлением сверху, бесцеремонностью и нечистоплотностью
грозившей расправы. Но под льдом снаружи бежала тем более горячая вода
внутри. Я не помню во все последующие годы, ни в нижегородской гимна-
зии, ни в Московском университете, — этой силы протеста, этой его опреде-
ленности и упорства.
* * *
Было 11 часов ночи, когда пароход подвалил к Симбирску. Все собирались
спать. Но я решился выйти.
Огни города были высоко-высоко над водою. Я знал «подъем» туда, на
гору, по которому поздним вечером я подымался долго-долго, когда в 1871
году приехал сюда с братом-учителем. Нечего и думать было взойти туда:
для этого надо часы (взад и вперед). Но я решился все-таки сойти на берег.
Ничего не узнаю: все ново. Только вот этот огромный, сложный (зигза-
гами) въезд-подъем. Я оглянулся на пароход и пристань: да, эти мостки к
пристани такие длинные; они были и тогда, когда, бывало, мы с которым-
нибудь товарищем или с моим любимым репетитором ходили на эту самую
пристань «в гости» к отцу его, служившему на пароходной конторке. Это
мы часто делали, раза два в месяц. И после длительного утомительного пути
так-то, бывало, обрадуешься, когда завидишь эти мостки-сходни.
— Сейчас сядем — и чай с малиновым вареньем.
На обратном пути взбираться было ой как трудно! А кругом, в верхних
частях спуска, вишневые сады. Спуск был очень сложен и, кажется, «небла-
гоустроен», — ради него можно было с главной дороги сойти в сторону и
пробираться какими-то «сокращенными путями», которые на деле оказыва-
лись удлиненными, но зато более интересными, именно: попадались сады
неогороженные или с совсем сломанным забором, в которые мы заходили
«по пути» и совершенно невольно. Завидев здесь такую бездну вишен, ка-
кой нам и не случалось никогда видать дома или у себя в маленьких садах,
вишен, по-видимому никому не принадлежащих и, во всяком случае, не-
охраняемых, мы торопливо наполняли ими подолы рубашек, в то же время
наполняя и рот. Не понимаю, как мы не отравились: ведь в вишнях содер-
жатся крошечные дольки амильной кислоты, и если съесть их бездну, то
отравишься. Но мы положительно съедали бездну. Помню, один вечер мы
181
так увлеклись, что и не заметили, как наступила ночь. Со мной был «Kropotini
italio». Мы и не сумели бы выбраться из сада, решительно неизмеримого и
стоявшего «где-то»; а главное — боялись поздно за полночь постучаться к
своим грозным хозяйкам. Тогда мы решили переждать здесь ночь. Думали, —
так, проговорим. Но «объятия Морфея» (иначе не выражался о сне мой
товарищ) потребовали себе жертвы. Между тем с каждым получасом стано-
вилось холоднее. И земля была холодна. Легли отдельно и рядом — холод-
но. А спать хочется. Мы сняли свои мундирчики и, сделав из них одеяло
(пуговицы одного мундира в петли другого), покрылись сей импровизацией
и, обнявшись, заснули, не потому, чтобы можно было так спать, а потому,
что не могли не спать. Сила нашей молодой природы одолела силу внешней
природы: и заснули, и не простудились.
С солнышком — опять вишни и вожделенное «домой».
* * *
Бреду... Какие-то рельсы. Ничего подобного не было тогда! Ночь темная-
темная, ничего рассмотреть нельзя. «Родина моя, вторая родина, духовная, —
еще важнейшая физической!» Тут первое развитие, первое сознание, пер-
вые горечи сердца, — отделение «добра от зла»... Так хотелось бы прони-
зать все глазом, и нельзя. Я оглядывался, ступал. Заборы, дорожки: все не
то, не то, или я не узнавал ничего! Вдруг я почувствовал, что узнал одно:
— Воздух!
Да, этот самый, индивидуально этот, «в частности» этот. Читателю стран-
но покажется, как я мог узнать воздух, которым не дышал 35 лет. Но когда,
сперва как-то смутно ощутив, что я чувствую вокруг себя что-то знакомое,
уже когда-то ощущавшееся, и не зрительно, а иначе, я остановился и с радо-
стью стал спрашивать себя, «что это такое», то я уже и сознательно почув-
ствовал, что кожа моя, и рот, и ноздри — все существо наполнено и обвеяно
не таким, каков он в Костроме, Нижнем, Москве, в Орловской губернии и
Петербурге, где я жил раньше и потом; не таков воздух и за границею или на
Кавказе и в Крыму, где я тоже потом бывал. Только в Симбирске — от близо-
сти ли громадной реки, от восточного ли положения, — но, мне кажется, я
никогда не дышал этим приятным, утонченно-мягким, нежным воздухом,
точно парное молоко. Тепло, очень тепло, но как-то не отяготительно тепло,
легко тепло!
— Вот он! Этот воздух! Узнаю! И тогда в вишневых садах, и на при-
стани, и у нас в саду на Дворянской (Большой?) улице. Два года дышал им.
Вспомнил, вспомнил! Другого уже ничего не вспомнил: да и нельзя бы-
ло — такая тьма!
Что-то безгранично дорогое хватало меня за душу. И захотелось мне
дотронуться рукою до какого-нибудь жилья в нем. Кругом все коммерчес-
кие постройки — рельсы и проч. Я стал пробираться далее. Смотрю: дере-
вянный домик с раскрытыми окнами, в стороне от дороги. Мне показался
он в пять окон. Пошел к нему, и залаяла какая-то скверная собака, и так
182
громко, скандально. «Еще напугаешь добрых людей». Вернулся назад — и
разобрала меня досада на собаку. «Может быть, совсем паршивая, а мешает
моему трогательному чувству» (сознавал, что трогательное). Пошел опять
вперед. Собака лает, но я все-таки вперед. Смотрю — домик не в пять, а в
три окошечка, а в пять он показался мне (светящимися окнами) оттого, что
увидел я его наискось, т. е. в одну линию три передних окна и два боковых.
И в переднее окно, раскрытое, я увидел, что стоит посреди комнаты и потя-
гивается, должно быть, отец диакон в подряснике; потягивается и собирает-
ся снять подрясник. Разобрать точно нельзя: копошится около себя «на сон
грядущий». «Вот еще, — думаю, — выглянет в окно и окрикнет», ибо соба-
ка все лаяла. Какая-то глупая канава, и вообще местность неровная, неудоб-
ная. Да, именно так. Всегда любил я деревянные домики: все хорошее на
Руси пошло от них. Деревянные домики строили Русь, а казенные дома раз-
рушали Русь.
Ну, вот наконец и угол: хорошо, я его обнял и поцеловал. Бревенчатый и
необтесанный, т. е. не крытый тесом: все точь-в-точь такое, что я люблю и
считаю лучшим на Руси. И мои лучшие времена прошли в таких домах,
одушевленные, творческие. В каменных домах я только разрушал и изде-
вался.
Теперь собака уже тщетно лаяла. Я быстро пошел назад. Смотрю: на
сходнях фотографии-открытки (открытые письма) города. Между ними вдруг
я увидел вид Свияги. Боже, да ведь Свияга-то для меня еще более дорога,
чем Волга! Тут-то мы и купались, и буквально толклись все время на лодке.
Свияга — маленькая речка, вся вьющаяся (постоянные извилины), без паро-
ходов и плотов на ней, — чисто «для удовольствия». Она протекает, сколько
теперь понимаю, позади Симбирска и параллельно Волге. Во всяком случае
мы, гимназисты, все время проводили именно не на Волге, а на Свияге, от-
вечающей величиною своею масштабу нашего ума и сил. Точно она для гим-
назистов сделана. Беклемишевы переплывали ее поперек. Тут превосход-
ные были места для купанья. Но главное — катанье на лодке, тихое, поэти-
ческое, которому ничто не мешает (т. е. шумные и опасные пароходы). Во-
обще тут не происходило ничего торгового, и она вся была для удовольствия,
«для гимназистов»... Она сильно заросла около берегов травами; полновод-
ная и довольно глубокая. Местами — деревья, склонившиеся над нею!
С наслаждением купил ее фотографию. Ступил дальше по сходням.
Смотрю: великолепный букет цветов у булочницы.
— Продай, тетенька.
— Не продам.
— Да мне надо, а тебе зачем? Я тридцать лет назад тут жил, и мне доро-
го, с родины.
— Самой нужно.
— А сколько вы дадите? — послышался сзади голос.
Обернулся. Vis-a-vis с ларем парень, должно быть возлюбленный бу-
лочницы. Не видно, чтобы муж. У мужей другая повадка.
183
— Двадцать пять копеек дам.
— Отдай, Матрена, — распорядился он.
Она передала мне букет. И розы, и все. Прекрасный. Я вошел с ними на
пароход. И все дивился: как попал букет к булочнице?
— Да ведь завтра Троица, — сказали мне на пароходе. — Букет она при-
готовила себе, чтобы идти с ним в церковь, и оттого не продавала.
Так и вышло, что «возлюбленный» и надежда завтра «выпить» принес-
ли мне цветы с родины.
<8>
На волжском пароходе мне встретилась молодая парочка. Он — светлый
блондин, хорошего роста, с открытым веселым лицом; она — темная брю-
нетка, молчаливая и несколько угрюмая. Я все примеривал мысленно, ка-
кую службу он занимает, и решил, что служит или в банке, или по Мини-
стерству народного просвещения. Любопытство взяло верх над нерешитель-
ностью, и я спросил его.
— Рабинович. Учитель Р-ской гимназии, по математике и физике.
— Но ведь это еврейская фамилия? «Рабби», «Рабинович»?
— Я еврей. А вы и не узнали?
— Но вас из русских русское лицо! И вся повадка, манеры, речь. И жена
ваша еврейка? Эту-то видно, такая темная!
— Из русских русская. — Он назвал фамилию в девичестве. — И она
учительница, преподавала новые языки в В-ской гимназии.
— Значит, вы православный? Браки с евреями запрещены.
— Я евангельского вероисповедания. Да вы, может быть, слышали: наш
род — старинный ученый еврейский род, но отец мой принял христианство,
однако не православное, а евангелическое. Он, впрочем, был и не лютера-
нин. Он принял только христианство, в его общей форме, не церковной. И
основал особую общину «Израиль Нового Завета».
Я тотчас вспомнил статью Владимира Соловьева, написанную с боль-
шим энтузиазмом, об этом новом движении в еврействе, какое тогда только
что произошло. Влад. Соловьев указывал, что «доктор Рабинович» своею
«общиною новозаветного Израиля» дает радикальное разрешение еврейс-
кого вопроса, перекинув мост между племенами и культурами, доселе не-
примиримо враждебными. Он писал с энтузиазмом и о самой личности Ра-
биновича, высокоидеальной и чистой.
— Это о вашем отце писал Владимир Соловьев?
— Да. У отца моего хранилось много писем Владимира Соловьева. По
его смерти их взял, для разбора и издания, мой старший брат, занимающийся
историею. Без сомнения, в них много есть любопытного. В лютеранском крае,
у нас, о моем отце и возбужденном им религиозном движении читают лекции,
и оно вообще вошло в круг протестантского богословского изложения.
184
— Неудивительно. Но я не думаю, чтобы под этим лежала глубокая точ-
ка зрения. Ваш отец все-таки принял христианство если и не в протестантс-
ких формах, то в протестантском духе, и это не может не льстить пасторам,
которые самолюбивы, как и все мы, грешные.
Из дальнейших расспросов открылась глубоко трогательная вещь. В са-
мом начале 80-х годов сперва на юге России, а потом и в Москве прошло
сильное движение против евреев. Совершились первые погромы с убийства-
ми и разорением имущества, и страх этих погромов перенесся и в Москву. Я
кончал там курс в университете и живо помню это время, когда евреи упра-
шивали христиан взять на временное сохранение драгоценные свои вещи.
Именно тогда в нашей прессе прошел и впервые был поставлен вопрос о
том, «что такое Израиль», какова его историческая судьба, была ли она хоть
где-нибудь положительна и плодотворна для коренного окружающего насе-
ления, и, словом, возник впервые теоретический «антисемитизм» как оп-
равдание фактической ненависти и гонений. Еврейство заметалось. Невоз-
можно представить себе ничего ужаснее, как то, что вот я, Борух такой-то,
торговавший до сих пор папиросами и часами, оказываюсь обвиненным не
за личные свои преступления, ненавидимым не за личные свои пороки или
приносимый лично мною вред, а за то, что «когда-то» и «где-то» сделали
люди, лично мне вовсе не ведомые, лично со мною никак не связанные, —
люди, которые уже давно умерли и на которых я никак не мог повлиять,
сколько бы ни желал этого! Есть родовой, фамильный аристократизм, и едва
ли он симпатичен кому-нибудь: человек кичится «заслугами предков», сам
не имея никаких заслуг или даже будучи отрицательною величиною. На-
сколько же ужаснее родовое, историческое ненавидение, бросающее камень
в голову не того, кто виновен, но кто «черен и курчав», кто «еврей», — хотя
бы лично он был уже нам и дружелюбен, и полезен. Вспомнишь вековечное
предречение Исайи, где так удивительно и до подробностей точно описана
грядущая судьба Израиля между другими окружающими народами: «Он был
презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, — и мы
отвращали от него лицо свое; он был презираем, — и мы ни во что ставили
его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали,
что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъявлен был за
грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего на нем, и
раною его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый
на свою дорогу, — и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем
был, но страдал добровольно и не открывал уст своих; как овца, веден он
был на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не от-
верзал уст своих. От уз и суда он был изъят, но род его кто изъяснит? Ибо он
отторгнут был от земли живых, за преступление народа моего потерпел казнь.
Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не
сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить
его, и Он предал его мучению; когда же душа его принесет жертву умилос-
тивления, — он узрит потомство долговечное».
185
Знаменитое место это из 53-й главы пророка Исайи зачислено богосло-
вами в состав так называемых мессианских мест, будто бы предсказываю-
щих крестную смерть Иисуса Христа, но откуда же толкователи взяли, что у
Иисуса Христа было «потомство долговечное» (конец текста), что Он был
«изведавший болезни» (начало текста) или что окружающие «отвращали от
Него лицо свое»? Все было обратное этому! Между тем как к еврейскому
народу, никогда не умевшему защититься, даже при избиении его, в сред-
ние века и до сих пор народно именуемому «пархатый», болезненному, не
храброму, не воинственному, робкому, слабому и вместе давшему человече-
ству Библию, ну и, уж конечно, имеющему «потомство долговечное», и без-
родному международному скитальцу, все это относится с разительною бук-
вальностью'. Даже «от уз и суда он был взят» (что совершенно не относится
к Иисусу Христу, который был «в узах» и «судим»), — как это очерчивает
поразительную особенность евреев, что они почти не встречаются под су-
дом и в темницах, «изъяты» от них. Но оставим в покое богословов, которые
вечно тасуют какие-то чужие карты и вечно садятся за какую-то не свою
игру.
В эту-то пору начавшегося нового гонения еврейскому националисту
случилось быть в Иерусалиме. Затем я передаю почти буквально рассказ его
сына: «С ним что-то произошло в храме Гроба Господня. Произошло чудо.
Когда он стоял там, без молитвы, конечно, как еврей, и думал о народе своем —
а о нем он постоянно думал, — его как будто что-то толкнуло и озарило.
Озарила мысль, но точно пришедшая свыше. «Вот здесь, в этом самом ме-
сте, лежит ключ ко спасению Израиля, в Гробе Иисуса Христа. Израиль
должен уверовать в Иисуса Христа, и, как он уверует в Иисуса Христа, —
он будет спасен, вражда и ненависть к нему прекратятся». Эта мысль моего
отца, точнее, потрясение его, волнение его, сделалась поворотным пунктом
всей его жизни. Больше он ничего не делал и ни о чем не думал, как чтобы
привести свой народ к Иисусу Христу. Он основал общину — Израиль Но-
вого Завета. Он обратился к единоверцам с вопросом: почему в то время
как немец не непременно протестант, француз не непременно католик, сла-
вянин не непременно православный, но есть славяне и немцы католики, а из
французов многие — протестанты, — одни евреи связывают свое племя с
Ветхим Заветом? Религия — одно, а племя — другое, и между ними нет
тожества и никакой вечной связи».
Я его перебил:
— Ну знаете, точка зрения вашего отца не была весьма глубокомыслен-
на. Правда, православие или католичество и лютеранство не связаны непре-
менно с племенем, но ведь в христианстве и вообще ничто не связано с кро-
вью и семенем. Религия духа... чего же вы хотите? «Не здесь и не на сем
месте будут поклоняться Богу, но везде — в духе и истине». Как только это
сказал Христос, так для последователей Его и разорвалась связь между на-
родом и религией, между племенным началом и религиозным. Христианс-
кие церкви суть исповедания, и для вступления в них так же мало надо быть
186
русским или немцем, как и для выдержания экзамена по алгебре. Но Ветхий
Завет... вы понимаете, с чего он начался?
Он смотрел на меня с недоумением.
— Ветхий Завет есть договор обоюдной верности, в который Бог всту-
пил с Авраамом и потомством его через знак, положенный на самый орган
воспроизведения этого потомства, —через обрезание. Тут никакого испове-
дания нет, это не алгебра и не Никейский символ веры, под которым можно
подписаться, как под присяжным листом. Это совсем другое дело, и суть
религии еврейской и заключается в племенности ее, в родовитости ее, в
нисходящих потомках, которые поскольку рождаются, постольку уже со-
стоят в Ветхом Завете, со всеми добавлениями к нему, включительно до
Талмуда. Поэтому для германца, например, стать католиком — не значит
вовсе перестать быть германцем, отречься от духа германского и культуры
германской. Но для еврея выйти из Ветхого Завета и перейти в «религию
духа» — значит как бъ\ умереть и родиться во что-то новое. Иисус Христос
так ведь и сказал еврею Никодиму: «Нужно родиться вновь». О «рожде-
нии» мы не станем распространяться, но я указываю, что отец ваш совер-
шенно не понимал того, что для еврея выйти из Ветхого Завета — значит
умереть как еврею. И значит, вопрос о «спасении» Израиля не был нисколь-
ко разрешен им: он предложил ему «спастись» ценою «перестать быть».
Неужели проповедь его имела успех? Уверен — нет. Простолюдье еврейс-
кое инстинктом знает, в чем суть дела.
— Нет. Община Нового Израиля составилась, но не была многолюдна.
Может быть, рассуждение ваше и верно, но проповедь отца моего имела то
благотворное и обширное действие, что евреи на юге России перестали ди-
читься христианства. И например, таких случаев, какие бывали в старину,
что евреи убивали того единоверца, который принимал христианство, что
нередко случалось с еврейскими девушками в случае любви к христианину
и замужества с ним, — этих случаев более нет. Взгляды сделались терпи-
мее, и браки евреев с христианами с переходом их в христианство — не
редкость теперь на юге и не возбуждают той смертельной вражды, как прежде.
— Я очень стою за эти браки и от души радуюсь, видя вас женатым на
русской, и, по-видимому, так счастливо. Но это мой русский интерес и рус-
ский взгляд. Я люблю русских, и мне не антипатичны евреи. Я думаю, меж-
ду этими племенами, в отдельности очень несчастными, гонимыми извне и
угнетенными у себя дома, есть какое-то сочувствие и тяготение, какого, на-
пример, явно нет между русскими и немцами, да даже между русскими и
французами. В этом взаимном тяготении, взаимной симпатии, которая для
меня очевидна, несмотря на погромы, мне мерещится многое исторически
значительное. Я думаю, от смешения этих двух кровей произойдет гениаль-
ное. .. Но, как и всегда в супружестве, связь должна быть обоюдосторонняя:
мы, русские, должны многое взять у евреев, например их семейное цело-
мудрие, верность, их половую чистоту, доведенную до щепетильности...
Посмотрите наши нравы, семейные и вне семьи. Это что-то ужасное. Но не
187
многие догадываются, что нравы эти проистекли не из расшатанности ин-
дивидуальной, личной, — напротив, личность расшаталась под действием
совершенно нелепых, неумных и неуклюжих законов наших о браке. Все
«запрещения», все заповедь: «Не плодитесь». Ее нет сил исполнить, она
против природы, и загнанная в темный угол природа порвала все путы и, не
имея нормы и закона для себя, а только голое отрицание себя, кинулась в
буйство, безобразие, обезобразилась сама и обезобразила все вокруг себя.
Вот вам маленький комментарий к общине новозаветного Израиля, какого
не дал Соловьев и какой я даю со своей стороны, даю совершенно твердо. У
вас есть братья или сестры?
— Два брата; один женат на русской, и другой холост. И две сестры;
одна замужем за шотландцем, другая так... не вышла ее судьба.
— Не вышла судьба?
— Она старая девушка.
— Вот уж и начинается... «Холост» один и «старая девушка» другая. В
Ветхом Завете этого-то и не было. Вы знаете правило и народно-религиоз-
ный обычай евреев: девушка, если она некрасива, болезненна, глупа или
слабоумна, — все равно раввины ей приискивают соответствующего жени-
ха, тоже неказистого, но который произведет с нею детей. В детях — все, и
это-то и есть «Ветхий Завет», которого щепки не осталось у протестантов, у
католиков, у нас, церковь которых не имеет никакого взгляда на детей, а на
деторождение имеет взгляд во всяком случае отрицательный. «Лучше не
жениться», и естественно, что брат ваш остался холостым человеком, а сес-
тра не вышла замуж. Тут законы, но, я думаю, тут и Бог. Будьте осторожны в
своем личном браке: всеми мерами постарайтесь, чтобы у вас были дети, и
много, и пристройте непременно всех их, и сыновей, и дочерей. Оглядывай-
тесь на Ветхий Завет, оглядывайтесь со страхом и смирением и не полагай-
тесь только на заветы вашего отца. Они великодушны, но не весьма далеко
заглядывают вперед.
Но мне излишне было предсказывать: около несколько суровой и (мне
показалось) холодной супруги-брюнетки этот белокурый и разговорчивый
до болтливости еврей так и таял. С простодушием, какому я не знаю приме-
ра, он рассказал мне, как «роман» их сделался в две недели, как с первой
случайной и непредвиденной встречи он не отходил от нее и вот теперь ве-
зет ее, свое сокровище, показывать родным, куда-то на юг. Она все молчала,
вставляя немногие слова. И хотя учила новым языкам, а он — математике и
физике, но, однолетка с ним, она, видимо, была как-то умственно и духовно
зрелее его, старше его. В нем же так и бродило супружеское «шампанское»:
никогда я не видел, чтобы молодой муж до такой степени млел и весь был
захвачен своим «новым счастьем», был так восторжен к предмету своего
обожания, мне вовсе не показавшемуся особенно красивым.
И вспомнил я великое ветхозаветное изречение: «Того ради оставит отца
и мать и прилепится к жене...» Не сказано подобного же слова о жене: о ней
сказано, что муж будет «господином» ее и что она будет иметь к нему «вле-
188
чение». Но я наблюдал, что в счастливейших случаях брака именно не жена
«оставляет отца и мать», — напротив, после замужества молодая женщина
укрепляется, серьезнеет в своей связанности с родительским домом, осо-
бенно со своею матерью, а «оставляет отца и мать» муж, который после
женитьбы совершенно охладевает к родительскому крову, как бы отрезыва-
ется и окончательно отделяется от своих родителей, особенно от отца, и рав-
номерно привязывается к родителям жены своей. Молодой этот супруг-ев-
рей не преднамеренно, но невольно исполнил все эти тонкие черты, вложен-
ные в слово Божие о браке и брачующихся...
И подумал я еще: этот еврей, до такой степени поработившийся своей
жене — русской, — какая иллюстрация для опровержения вечной подо-
зрительности всех христиан, что евреи день и ночь все только и думают о
подчинении себе христиан, о вытеснении их из всех поприщ деятельности,
о рабстве и эксплуатации их!.. Какая иллюстрация: совершается еврейский
погром — еврей вдруг находит, что народ его спасется, уверовав чистосер-
дечно во Христа, и сам верует и основывает общину для перехода в христи-
анство!.. Это среди погрома-то, при безмерной любви к своему народу как
племени, как крови, как братьям. Мне кажется, другого примера такого ве-
ликодушия, такого забвения обид не найдется еще в истории, чтобы в ответ
на гонения вдруг слиться в братском объятии с гонителем. Мне не представ-
ляется шаг Рабиновича-отца гениальным, но в нравственном отношении это
что-то единственное в истории!.. Совершенно поймешь, видя этот и подоб-
ные шаги, предсказание, сказанное Богом еще Аврааму и потом повторен-
ное всеми пророками: «О семени твоем благословятся все народы», т. е. что
все они «процветут и расцветут, насколько потомство твое будет среди них».
В густой массе евреи как-то перетирают друг друга; они несносны по виду
(неэстетичны) и точно начинают взаимно ломать судьбу один другого. Они
именно должны жить в рассеянии, на что содержится указание именно в
этих словах, что о семени их будут благословляться другие народы, среди
которых, следовательно, они будут и должны жить. Какое предсказание
при самом зарождении народа первому еврею! В этом рассеянии, как бы
распыленные среди всех народов, они теряют свою компактную антипатич-
ность и уже становятся красивым явлением на фоне сплошного другого пле-
мени, и посмотрите, везде они вносят труд, энергию, оживляют и связывают
чужой труд своей предприимчивостью, изобретательностью, «посредниче-
ством» (вечная их профессия) и ко всем народам относятся с ласковостью и
готовностью к внешней ассимиляции (только не к общему деторождению),
усваивая их костюм, быт, нравы. Как-то я рассматривал иллюстрацию «Бу-
харские евреи». Оказывается, в Бухаре они одеваются по-мусульмански, а
один еврей мне объяснил, что вне Европы они и многоженцы. Следователь-
но, полное слияние с мусульманами во всем, кроме общего деторождения.
Это единственный пункт, где они не смешиваются, в строгое исполнение
требования пророков, да и всего «Ветхого Завета», по которому вера их и
верность Богу своему и заключается только в племенном, своем, единонас-
189
ледственном размножении. Пыль эта, оживляющая все народы, она должна
сохраниться в чистом виде, не для себя только, но и для интересов целого
человечества, которое не перестанет никогда нуждаться в таком оживлении.
Зачем соли растаивать — она все осоляет. Но горе, если плеснуть воду в
самую солонку: тогда неоткуда будет взять соли, чтобы посолить пищу. Вот
простой смысл несомненного (см. весь Ветхий Завет) Божия слова, чтобы
евреи не смели ни с кем смешиваться, ни с кем плодиться: смысл, отнюдь не
враждебный другим народам. Да и не нелепо ли предполагать, что Божие
слово может быть во вред человечеству?! Это — те же карты, неловко стасо-
ванные богословами и в которые они убедили играть все европейское чело-
вечество...
Всюду евреи и входят к другим народам не только с ласкою и пользою
(оживление), но и с истинным «влечением», вот как к мужу жена, как к же-
ниху невеста. Этого мы не замечаем ни у одного народа: немцы, французы,
наконец, живущие среди нас массами татары — все они живут среди нас,
около нас, но отнюдь не с нами\ Великая разница! Евреи же, приходя в Буха-
ру или живя с русскими, с литвою, с поляками, с арабами (в Испании), жи-
вут с ними, с нами, слепляются, входят во все наши дела, в подробности их,
входят везде с горячностью и с энтузиазмом. Известный Шейн, собравший
два тома русских народных песен со всеми вариантами, — песен свадеб-
ных, похоронных, бытовых, — неужели еврей этот служил не нам, а евреям,
желал «запустить жидовскую руку в песенное творчество русского наро-
да»? Он так же желал «запустить руку», как бедный Рабинович желал «запу-
стить руку в христианство», приняв Христа и призывая к этому соплемен-
ников! Удивительное «запускание руки» в чужой карман, оставляющее в
кармане этом больше, чем сколько в нем лежало! Г-на Венгерова я не могу
назвать талантливым критиком или историком литературы, но воображать,
что он не для русской литературы, а «на пользу евреев» трудится, собрав
биографические сведения о множестве русских писателей (в своем «Крити-
ко-биографическом словаре») и издав Белинского, — это до того глупо, что
нельзя на это возражать. И множество подобных явлений. В евреях есть что-
то женственное, немного бабье. Они нервны, крикливы, патетичны, впечат-
лительны. Они не имеют басов, а более нежные тембры голоса, начиная с
тенора и выше, но не ниже, не переходя в октаву. Все это черты женской
души, женского сложения, как и их испуг перед оружием, а врожденная ан-
типатия к войне, к лязгу оружия, к грубой и жестокой борьбе, если это не
нервная потасовка. Вот именно в такую «нервную потасовку» они вступи-
ли, бессильно и страстно, с римлянами, осадившими их Иерусалим, да и все
их борьбы, войны напоминают колоритом своим, бессильною яростью и ми-
нутами жестокостью «бабью свару». Никогда это не было тяжеловесною,
настоящею грозною войною. Марса у них не было, а только тысяча Венер,
тысяча вакханок, менад, разъяренных, пророчественных... Таковы их Юди-
фи, Деборы, Эсфири, то нежные, то мстящие. Да таково и все племя — к
тому и я веду речь, — влюбчивое во всякую окружающую культуру, влюб-
190
чивое в племена окружающие, около которых они не могут и не умеют жить
только соседями, а непременно вступают с ними в интимность, «заводят
шашни», вступают в любовную связь, в подлинное супружество, только не
плотски, а духовно, сердечно, образовательно и культурно! Вот их роль!
Далекая от роли татарина, немца, который живет собою и для себя, который
всем сосед и никому не родня, в Бухаре, в Африке или в России.
<9>
На пароходе вообще много едущих не за заботою, а для отдыха. Я все любо-
вался двумя: очевидно, учительницами: в лицах их, манерах и всем поведе-
нии чувствовалось такое наслаждение этим отдыхом после тяжелого труда,
что было приятно смотреть. Праздники — отдыхи; так сказано в Библии. И
кто не знает труда, не знает и праздника в жизни своей, — лишение ужасаю-
щее! Эти учительницы постоянно были вдвоем, и прочей публики для них
точно не существовало. Примостившись где-нибудь поуютнее, они распола-
гались со своим чаем или пили благоразумное молоко; затем которая-ни-
будь из них принималась за рукоделие, а другая читала ей вслух. Я прислу-
шался; книжки были интеллигентные, идейные. И негромко они рассужда-
ли между собою во время чтения. Так они учились, большим или малым
учением, и во время отдыха. И все было так умно и мило у них.
Озабоченная мамаша с пятью детьми, в возрасте между 12-ю и 5-ю го-
дами, решительно не знала, что делать, и готова была каждую минуту рас-
плакаться. Глаза ее выражали то молитву, то ужас, то раздражение; казалось,
пароход разваливается и ее милые детки сейчас погибнут. На самом деле
пароход хлопал колесами по воде, и ничего не совершалось грозного. Но
детки ее были похожи на птенчиков с отрастающими крыльями, которые
начинают подниматься над гнездышком и вылетать из него на несколько
аршин или сажен. Так как мамаша с самого рождения не выпускала их из-
под глаз, то, естественно, она и не заметила этой медленной метаморфозы и
уже привычным глазом, всеми привычками души ожидала и требовала, что-
бы они никуда не отделялись от ее больного, слабого, полуразбитого тела.
От этого проистекали вечные задор и раздор благочестивого гнезда. Оно
наполняло шумом своим пароход. Пассажиры, и в том числе я, любовались
на резвых девчонок и одного мальчика, которые спешили с носа на корму и
с кормы на нос, открывая то тут, то там новые прелестные зрелища:
— Белый пароход идет! Белый пароход идет! Огромный!
Все бросались смотреть на белый пароход. Мамаша надрывалась от стра-
ха, что пароходы столкнутся и все погибнут, а главное — погибнут ее милые
дети. Но кто-то из них уже перебежал на другой борт и оттуда звал сестре-
нок:
— Лодка подошла к самому пароходу! Сейчас она потонет! Под самыми
колесами!
191
Пароход принимал нового пассажира, спускали трап; лодку, правда,
страшно качало, но все обходилось без драмы и трагедии.
В чудном вечернем закате солнца пароход несколько притих. Чай кон-
чился, и остающиеся час или полтора до сна все отдались любованию и
безмолвию. Даже притихла и успокоилась заботливая мамаша, около кото-
рой сгруппировались ее дети, по-видимому уставшие за день. Старшая из ее
девочек, несколько отделившись, сидела поджав под себя ноги и, вытягивая
напряженно губки, что-то мечтала про себя. В руке у нее был клочок помя-
той бумаги.
Я подошел и заговорил с нею. Она подала мне клочок бумаги, который я
выпросил у нее на память — так мне это показалось любопытным. Всего
12 лет, только что перейдя из первого во второй класс гимназии, она с ужасны-
ми кляксами и чудовищными грамматическими ошибками переписала для
себя стихотворение, которое теперь восторженно повторяла про себя, как
бы молитву на сон грядущий или заветное письмо, полученное от подруги.
На бумажке было написано:
На Дальнем Востоке заря загоралась.
Сегодня уснуть я всю ночь не могла.
То жизнь мне в венке из цветов улыбалась,
То терном колючим грозила и жгла.
О жизнь, не хочу я позорного счастья,
Твоих не прошу я обманчивых роз.
Хочу я свободы, свободы, свободы,
И знай, — не боюсь ни страданий, ни гроз.
Иди, я бороться с тобою готова,
Я жажду волнений, я жажду борьбы.
И пусть я паду за любовь, пусть паду я,
Не буду покорной рабыней судьбы.
Я был ошеломлен. Не было сомнения, что девочка не имела никакого
понятия о том, к чему относилось это стихотворение, ничего не знала друго-
го, так сказать, из «репертуара» этих понятий, слов и особенно действий.
Между тем она читала его явно богомольно.
— Нравится вам это стихотворение?
— Очень нравится!
— Что же вам в нем нравится?
— Что? — Она подумала и указала на некоторые строки; это были са-
мые красивые и патетические строки. Девочка схватила в стихотворении,
так сказать, общую ситуацию души человеческой, души молодой и именно
девичьей, каковою была сама, и приняла все стихотворение как прямо обра-
щенное к себе. Именно как письмо, к ней адресованное, но которое почталь-
он не донес, выронил на дороге, а она случайно гуляла и нашла его. Извест-
но, что дети растут впереди своих лет, «выходят замуж» и «женятся» в 9, 10,
11 лет, «имеют детей» и носят их в виде кукол. Предварение будущего —
вечный закон души человеческой. Девочка страшно горячо взяла душою
192
выбор, выбор между счастьем и страданием, и в сторону последнего. «По-
зорное счастье», «обманчивые розы» и, в противоположность им, что-то
«грозящее и жгучее», что она примет на себя в какой-то «неясной борьбе»,
— это уже плакало в душе ее. Я видел это по глазам и губам. И может быть,
она заснет эту ночь, как и та 19-летняя девушка, к которой на самом деле
письмо-стихотворение написано. Вот вы и подите и исследите законы влия-
ний души на душу, проследите те тропы и дорожки, по которым оно идет в
стране, в народе, в обществе, в эпохе. Вспомнить из Иова вопрос Божий:
«Знаешь ли ты время, когда рождают дикие козы на скалах, и замечал ли
роды ланей? Можешь ли рассчитать месяцы беременности их? И знаешь ли
время родов их?» (глава 39, стихи 1—2). Неисследимое! Неисследима жи-
вая природа в ее диком устроении, а уж душа человеческая с ее «тайничка-
ми» и культура человеческая с нехожеными дорогами, впереди ее и по всей
ее, неисследима стократно...
— Откуда же вы списали, милая девочка, это стихотворение?
— Из журнала. Папа получает много журналов. Кажется, из «Русского
Богатства».
И что такое «Русское Богатство» — она не знала. Короленко, Михайлов-
ский — все terra incognita для малютки, почти малютки.
И подумал я: какой вздор самая мысль остановить уже раз начавшееся
движение идей! «Останавливать» что-нибудь можно было до книгопечата-
ния, до Гуттенберга, при рыцарях, закованных в латы, и вообще в том эле-
ментарном строе, когда «останавливающий» властелин или олигархия вла-
стелинов могли охватить глазом и руками комплекс явлений, подлежащих
стискиванию, вот эту маленькую жизнь германского феодального княже-
ства или какого-нибудь епископского городка. Но теперь? Теперь все явле-
ния социальной жизни стали воздухообразны и решительно неуловимы для
физического воздействия. Воздух, электричество, магнетизм — вот сравне-
ния для умственной жизни. Она автономировалась, получила ту свободу,
какой никто не давал ей, просто потому, что стала волшебно-переносимой,
волшебно-подвижной, волшебно-неуловимой, неощутимой. «Лови руками
холеру», «хватай щипцами запах розы» — вот что можно ответить цензуре и
властелинам, рассмеявшись на их попытки. И вообще, уже все давно пошло
свободно и свободно будет идти, повинуясь лишь своим автономным зако-
нам, умирая, «когда смерть пришла», своя, внутренняя, от естественной дрях-
лости: а пока смерть «не пришла», то живи, несмотря на все палки и камни,
которые неумные люди швыряют в запах розы ли холеру, кому как угодно и
кто как назовет.
Свобода и автономия, автономия каждой точечки духовной жизни, —
это уже такой факт, который никогда не исчезнет из истории человеческой!
И как хорошо, наглядно объяснила мне это умная девочка. «Нельзя обнять
необъятное», — сказали мне умные глазки, вытянутый ротик и эти две ру-
чонки, из которых одна держала куколку, а другая — революционное сти-
хотворение. «Неужели и меня будут арестовывать? Но ведь я такая малень-
7 В. В. Розанов
193
кая, и мне хочется умереть, как и Иисус Христос, с терниями и муками, а не
жить в позорном счастье, в венке из роз, все кушая варенье и пирожное»...
«Это только дети делают, а я большая, завтра буду большая, — и это завт-
ра скажет мне, за что умереть».
«Нельзя обнять необъятное», и «никто не знает, где рождают дикие
козы»...
* * *
Не сам я познакомился и разговорился, а моя спутница, тоже с одною инте-
ресною для наших времен пассажиркою парохода. Она ехала одна. И ее за-
мечательное лицо привлекло мою спутницу и заставило, как это возможно
только в путешествиях, заговорить с нею на разные, сперва житейские, а
затем внутренние и идейные темы.
Купеческая дочь. Ушла или, точнее, отделилась, без вражды, но упрямо,
от родителей и, «оставив отца и мать», богатство и спокойствие, пошла по
фабрикам и заводам Нижегородской губернии... с Евангелием!.. Да, я пере-
даю читателю, как все слышал. Теперь она ехала вниз по Волге, ехала, еще
не зная сама, куда и на что, негодующая, раздраженная и убитая: ее выгнали,
осмеяли, презрели.
— Народ страшно озлоблен! Так озлоблен, так озлоблен... Что я ни де-
лала, ни говорила о Христе, о мире, который Он принес на землю, о проще-
нии обид и огорчений, о несении каждым креста своего — все было напрас-
но! Это только мучило людей и озлобляло их еще больше. Глухая стена.
Камень. А под ним страдание. Что делать? А между тем разве Христос — не
истина?
Разве Он принес на землю не истину? Но между этою Христовою исти-
ною и теми людьми, среди которых я работала, легла какая-то непереступи-
мая пропасть. Что такое — я не понимаю, и никто не может объяснить этого.
Она была, таким образом, проповедницей Евангелия среди народных
масс. Все знают, что девушки и женщины гораздо восприимчивее, нежели
мужчины или юноши, евангельскому слову: что по лицу варварской Европы
первые женщины пронесли евангельскую весть: св. Клотильда — у фран-
ков, св. Берта — у англосаксов, св. Ольга — у русских, св. Нина — в Гру-
зии... И вот эта девушка, из купеческого звания, образованная и, словом,
«интеллигентка», пошла в народ, в рабочую среду, в революцию, но не с
темами о заработной плате и не с Карлом Марксом, а со словом, которое
принесли варварам их первые святые и княжны! Не правда ли, удивитель-
но? Уверен, что редкий этот случай не одиночен. Она говорила:
— Нужно вовсе не это. Я догадалась. Примирить народ может только
великая жертва. Такая жертва, такая жертва, которая была бы больше его
собственного страдания, которое очень тяжело. И когда она будет принесе-
на — сердце этих людей раскроется.
Что она разумела под этим словом — было совершенно загадочно.
— Вы обо мне еще услышите...
194
И это было загадочно. Что услышать? О чем услышать? О подвиге?
Может быть, о преступлении? Так все перепуталось в наше время. Была ли
она христианка? Была ли она язычница, ибо только язычество знало нату-
ральные жертвы, жертвы шкурой и кровью? Но она явно говорила о своем
решении, о пожертвовании собою. И что значит: «Раскроешь сердце народ-
ное»? Судя по предыдущей проповеди Евангелия, как будто это должно было
раскрыть сердце народное для Христова слова. Но она так явно была занята
Россией и русскими, честнее — работающим людом, что, кажется, смысл ее
клонился не к тому, чтобы втиснуть как-нибудь евангельское слово в душу
народную, а скорее к тому, что нужно смягчить эту душу, погасить в ней
злобу и мрачное отъединение, — и само Евангелие было для этого только
испытанным орудием, попыткою неудачною и брошенною. Идея жертвы,
как что-то огромное и новое, сильнейшее самого Евангелия, заняла бедный
ум девушки, может быть начавший помрачаться.
— Нужна жертва! Нужна жертва! Я знаю.
Может быть, она умрет, работая около холерных. Так совпало. Она на-
правлялась в низовья Волги всего за неделю перед тем, как голодный и из-
мученный, одинокий и злобный люд начал, сверх всего, умирать от ужасной
болезни, которая двигалась, как мрак, как ночь, без виновных, без суда и
следствия. Может быть, она бросится в эту ночь, если чтобы не спасти, то
чтобы утешить свое взволнованное сердце.
И кто запишет эти подвиги? Кто знает о них? Я услышал и точнейшим
образом передал первые строки тихого подвига. А сколько их, сколько среди
горькой и благородной русской земли! И — клянусь, — как ни бедна и ис-
терзана и, наконец, унижена теперь наша Русь, — я не захотел бы ни за что
быть сыном какой-нибудь другой земли, кроме нее. Я думаю, тысячи чита-
телей, пробежав эти строки мои, скажут: «Аминь».
* * *
Мы подплыли к Саратову. Город этот теперь назначен быть университет-
ским, но это случилось уже после того, как я побывал в нем. В самом деле,
это — столица нижней Волги. Едва мы сошли на берег, как впечатления
именно столицы пахнули на нас. Чистота и ширина улиц, прекраснейшие
здания, общая оживленность, роскошнейший городской сад, полный интел-
лигентного люда, — все это что-то несравнимо не только с другими приволж-
скими городами, но и с такими огромными средоточиями волжской жизни,
как Нижний Новгород и Казань. Из всех русских городов, виденных мною,
он мне всего более напомнил Ригу, но только это чисто русский город, «по-
рижски» устроившийся. И в этой подобранности и величайших усилиях стать
«европейским», кажется, большую роль сыграли богатые литературные и
общественные традиции Саратова. Это — родина Чернышевского, Пыпина
и вообще «движения шестидесятых годов...». Граф Д. А. Толстой, в быт-
ность министром народного просвещения, был так раздражен упорством «ни-
195
?♦
гилистической» традиции, упрямо сохраняемой саратовскою семинарией,
что сделал распоряжение исключительное и потому, в сущности, беззакон-
ное «в административном порядке»: из одной только этой семинарии не до-
пускать приема ни в какие высшие учебные заведения России! Почему он
думал, что саратовские семинаристы меньше принесут вреда как нигилисты
в положении священников, нежели в положении врачей и инженеров, — это
Аллах ведает. Оглядываясь на «докритическую» эпоху нашей истории, тог-
да думаешь, что управляющий люд в ней состоял сплошь из каких-то седо-
власых младенцев, даже и в тех случаях, когда они становились великими
государственными мужами.
Ближайшею целью моею в Саратове было осмотреть Радищевский му-
зей. О нем столько говорили и писали. В самом деле, Казанский универси-
тет, Карамзинская библиотека в Симбирске и Радищевский музей в Сарато-
ве суть выдающиеся точки культуры на Волге, хотя, к великому прискор-
бию, и не связанной ничем с Волгою в ее специальных особенностях. Ког-
да-то кому-то придет на ум основать «Волжский музей», но кому придет эта
мысль, тот сделает себе великое имя. За средствами дело не станет: на Волге
живет столько богатеев и жертвователей, что дело тут не в рубле и не в мош-
не. Не зародилось самой мысли, не запал в душу никому самый энтузиазм.
Между тем «Волжский музей» явился бы интереснейшим в России по сво-
им коллекциям, по своей библиотеке, по возможности сосредоточения в нем
и около него, при его пособии и возбуждении, почти самостоятельной на-
уки. География и геология Волги, ее интереснейшие этнография, история
приволжских земель и, наконец, поистине неисчерпаемое разнообразие про-
мыслов и вообще деятельности, связанной с Волгою, — все это необозри-
мо. Наконец, этому отвечают приволжский дух, приволжский патриотизм,
довольно (как я наблюдал в старые годы) значительный и гордый. Волжане
любят свою реку, гордятся ею; с «Волги» они как-то начинают Россию, и,
где нет Волги, им кажется, что нет и России или что Россия там ненастоя-
щая.
Радищевский музей мне понравился менее самого города. Правда, зда-
ние великолепно. Но это именно то, что дал город. Мне не понравилось то,
что это есть гораздо более «Боголюбовский» музей, нежели «Радищевский»,
и что вообще к памяти великого русского страдальца, писателя-народника
он не имеет никакого отношения, если не считать таковым «отношением»
портрета Радищева и его краткой биографии, отпечатанной на листочке и
повешенных перед входом в залы музея наряду с портретом и тоже биогра-
фией и патентом на орден Станислава 2-й степени знаменитого Боголюбова,
кажется всю жизнь прожившего в Париже и там писавшего посредственные
картины, представлявшие «подвиги русского флота»... О всем этом пропи-
сано в патенте на ношение Станислава 2-й степени, каковой орден ему был
исходатайствован генерал-адмиралом нашего флота Великим князем Алек-
сеем Александровичем: «За изображение подвигов нашего доблестного фло-
та». А самый патент почему-то тоже пожертвован Боголюбовым музею как
196
историческое свидетельство, что художественные заслуги его ценились вы-
сокопоставленными особами, и вставлен музеем в рамку и под стекло, или,
может быть, уже у самого награжденного станиславоносца он сохранялся
под стеклом и в рамке. Боголюбов сделал, собственно, под предлогом «Ра-
дищевский» музей для сохранения и постоянной выставки своих собствен-
ных картин, которые без этого музея едва ли были бы сохранены и во всяком
случае затерялись бы и не получили «взоров публики» по совершенной не-
интересности своих сюжетов и посредственной технике. «Неинтересно!
Серо! Скучно!» — с этими словами отворачиваешься от огромной залы, от
пола до потолка увешанной произведениями парижско-русского маэстро, но
неопытного в делах житейских.
Все это очень печально: и музей имел бы совершенно другой смысл, и
даже сам Боголюбов неизмеримо вырос бы в глазах истории и общества,
если бы, дав музей Саратову и сосредоточив в нем все реликвии, оставшие-
ся от Радищева, сосредоточив довольно большую литературу о нем, сам стал
незаметною фигурою в стороне, если и дав для музея свои картины, то не
более как в числе 2—3-х, и всего лучше ни одной, убрав свои патенты, био-
графии и портреты. Но он этого не сделал. Радищева нигде не видно. Нет
даже его «Путешествия от Петербурга до Москвы», теперь уже изданного,
да напечатанного и ранее А. С. Сувориным, кажется, в 2—3-х экземплярах!
Для музея имени и памяти Радищева во всяком случае было бы возможно
раздобыться этою библиографическою редкостью! Наконец, в музее памяти
Радищева должна быть собрана литература его времени, все эти «истории»
и «записки» князя Михаила Щербатова, труды князя Долгорукова, Плавиль-
щикова, Озерова, Княжнина, начинающего Карамзина, и, словом, книжность
и словесность, поэтическая и публицистическая, царствования Екатерины II.
«Век Екатерины II» в книжных сокровищах и портретах — как это было бы
интересно! Но здесь ни зги нет из века Екатерины II, нет даже портрета
Новикова, сострадальца Радищева! Ничего! Это скучно и бездарно!
В музее, однако, собрано много величайших ценностей из пожертвова-
ний корифеев русской литературы 60-х годов или из пожертвований их род-
ственников после их смерти. Тут находятся многие вещи Тургенева и Не-
красова, из обстановки их жизни и орудий труда. Есть портреты корифеев и
замечательных общественных и государственных деятелей их времени. Но
именно их времени, как обстановка великого Боголюбова, а не времени Ра-
дищева, как обстановка его жизни и личности! Все это ужасно скучно! не-
умно! Музей сам по себе прекрасен, нужен и вполне заслуживал бы под-
робного описания с фотографическим воспроизведением замечательных
вещей, которых в нем много, но по всему примазавшийся и во все вмазав-
шийся Боголюбов решительно все испортил. Город, конечно, сам от себя
мог бы украсить свой музей, ибо это есть саратовский музей, а отнюдь не
«Боголюбовский», по огромной материальной ценности, вложенной сюда
городом в виде прекрасного здания, — портретами великих общественных
и государственных деятелей России, но отнюдь не специально «современ-
197
ников Боголюбова», а вообще памятных и дорогих для России! Все те же
портреты, которые украшают теперь музей, шли бы сюда, но дополненные
другими портретами, от Новикова до Некрасова и от Никиты Панина и Мих.
Щербатова до Татаринова и Зарудного; они получили бы совсем другое зна-
чение, а не это смешное — «осветить эпоху знаменитого Боголюбова», к
тому же жившего в Париже.
Все это неудачно, и, мы уверены, ранее или позднее Саратов догадается
это исправить. Пусть музей сохранит имя «Радищевского», но пусть он ос-
вободится от навязчивого живописца, и, например, взамен его «реликвий»
отчего бы не собрать сюда все, что шло в истории и литературе нашей па-
раллельно с Радищевым и последовательно за ним! Это был бы действи-
тельно музей памяти Радищева! И каким мог бы стать этот музей, если бы
это сделать хранилищем всего словесного, живописного, музыкального и
проч., и проч, движения в России, направленного к ее освобождению!
* * *
Меня заняло в этом музее чтение длинного письма Гоголя, написанного не-
задолго до смерти. Несколько листочков, его составляющих, — старых, по-
желтевших листочков! — помещены между стеклами, так что обе стороны
каждого листка читаются с удобством; а все стекла, вделанные в деревян-
ные тоненькие рамки, соединены между собою на шалнерах. Пример удоб-
ного и вместе с тем вечного хранения. Письмо писано к отцу Матвею, изве-
стному ржевскому протоиерею, имевшему подавляющее влияние на несчас-
тного и больного писателя. Этого Мефистофеля Гоголя следовало бы поме-
стить где-нибудь на его памятнике в Москве — в уголку, медальоном или
фигурою, но вообще поместить. Без него так же неполон Гоголь, как всякий
франкфуртский чернокнижник без черного пуделя, преобразующегося в крас-
ного дьявола. Известно, что о. Матвей все пугал Гоголя адским огнем и тре-
бовал от него не только прекращения литературной деятельности и отрече-
ния от великих написанных произведений, которым сам о. Матвей предпо-
читал проповеди местного своего архиерея, но требовал также и отречения
от чисто человеческой привязанности к памяти благородного Пушкина. «Все
ничто в сравнении с вечностью и с соленым огурцом», — шутят гимназис-
ты; но о. Матвей без всякой шутки уверял Гоголя, что «все ничто в сравне-
нии с мудростью консисторских решений и с икотой матушки его, попадьи
Смарагды», или как ее там звали. И «Мертвые души», и «Ревизор», и «Мед-
ный всадник», и «Цыганы» — только «грех». Можно думать, что «Выбран-
ные места из переписки с друзьями» были опубликованы Гоголем в угоду
этому своему наставнику-духовнику. Но, как это часто бывает с самонаде-
янными семинаристами, о. Матвей не одобрил и самой покорности своей
воле, выразившейся все-таки через литературные формы, недоступные и
чуждые протоиерею, буквально не читавшему ничего, кроме консисторских
указов (консистории изъявляют свою волю «указами»), и не слыхавшему
198
ничего, кроме икоты своей матушки. Он, очевидно, выбранил Гоголя и за
«Переписку», найдя и в ней если не «соблазн» и «грех», чего решительно
там нельзя было отыскать и чего не было, то все-таки найдя вредным тот
шум и пересуды, вообще литературное и общественное волнение, какое воз-
будила «Переписка». Гоголь возбудил его «суету сует и всяческую суету»,
чего не одобряет Экклезиаст.
В письме, сохраняемом в Радищевском музее, великий писатель оправ-
дывается перед о. Матвеем в опубликовании ее. Весь тон письма унижен-
ный, деланный и лживый; глубоко несчастный, и еще более нравственно
несчастный, нежели умственно несчастный, Гоголь был странно сложен.
Болея, умирая, он оставался несколькими головами выше своего советчи-
ка-духовника и инквизитора. Но это была уже рушащаяся башня, подко-
шенное болезнью и какими-то нравственными страданиями величие. Оно
падало, и падало к ногам коротенького чугунного столбика, где-то теряв-
шегося около его подножия. О. Матвей брал именно короткостью своего
существа, где по самым размерам не могло уместиться ничего сложного.
Он был прост, ясен и убежден. Он был целен. Всем этим он был неизмери-
мо сильнее Гоголя, как Санчо Панса сильнее Дон Кихота и какой-нибудь
лакей сильнее Гамлета, знающего столько сомнений. «Вера двигает горы»,
и о. Матвей своей упорной «верою», стоявшею на фундаменте неведения и
равнодушия, житейского индифферентизма и умственной узости, не толь-
ко сдвинул гору-Гоголя, но и заставил ее шататься и, наконец, пасть к ногам
своим с громом, который раздался на всю литературу и был слышен не-
сколько десятилетий.
Печальная и страшная история. Бог с нею. Так около гения наших дней
в подобной же роли Мефистофеля стоит упорный узколобый его «друг» из
Лондона, который, издавая за границею его морально-религиозные творе-
ния, в своем роде продолжение «Выбранных мест из переписки с друзья-
ми», фанатично убеждает его, что около этого «соленого огурца» ничто и
«вечность», и Шекспир, и «Анна Каренина».
ОКОЛО ЦЕЛЕБНЫХ ВОД
Опять этот неумолчный шум Ольховки, который, право же, составляет не
меньшую прелесть Кисловодска, чем нарзан. Нарзан лечит, и поди дожи-
дайся осязательных результатов этого лечения, а Ольховка — это что-то сей-
час действующее, действующее страшно ново для коренного русского оби-
тателя, слегка возбуждающе и вместе успокаивающе. Право, как нарзан дей-
ствует в ваннах на кожу, так точь-в-точь Ольховка действует на слух: и оба
действуют на душу, и еще вопрос, которое действие решительнее. По край-
ней мере я без Ольховки и ради одного нарзана ни за что не потащился бы
такую даль.
199
Я проследил ее верст за пять вверх, по направлению к так называемому
Лермонтовскому гроту: это что-то больше ручья и меньше речки. Крошеч-
ная, живая, очень чистая речка, совершенно мелкая в сухое время года, —
она стремительно бежит между извилинами гор, разливаясь шире в доли-
нах. Я сказал: «Стремительно бежит». Разве это не ново для коренного рус-
ского обитателя, который знает только реки, медленно текущие, почти не-
движные и совершенно бесшумные? Вот это «стремительно бежит» и дей-
ствует на вашу душу: и она точно просыпается, протирает глазки, как быва-
ет поутру, и весело начинает бежать, точно вперегонки с речкою. А
действительность, вероятно, вечное свойство души. Во всяком случае, стре-
мительный бег ваших мыслей, фантазий и грез, пока вы бредете по краю
капризного ручья, разливается каким-то здоровьем на все ваше существо, и
вы, несмотря на усталость ног, веселее улыбаетесь солнцу, горам и стадам
жеребят, коров и баранов, которые пасутся всюду вокруг.
Затем этот горный ручей вступает в знаменитый Кисловодский парк,
который, может быть, и не разросся бы так пышно, не будь влаги этого ру-
чья. Здесь, в парке, через него перекинуто несколько мостиков, каменных и
деревянных. И в самом парке он шумит неодинаково: вот в грунте камня, по
которому все время бежит он, образуется уступик, и шум его чрезвычайно
возрастает, похож на гнев, хотя и детский. Впрочем, после дождей этот дет-
ский гнев переходит в настоящую ярость мужчины: он ревет. Но это случает-
ся редко. Ровнее его ложе — и ручей-речка чуть-чуть шелестит. Во всяком
случае, пока вы идете возле него, ни на одну минуту шум не остается одина-
ковым: он то замирает, то оживляется. И наконец, шум этот, милый природ-
ный шум, до чего он не похож на механический шум города! Даже когда,
разлившись, он ревет, все это мягко в звуке, не пилит и не раздирает ваших
нервов, не стучит вам по голове, как эти фабрики, экипажи и ломовики в
Петербурге.
Звука металла вы не слышите здесь, и уже одно это какое отдохновение!
Ванны нарзана — это «пользует душу», с другой стороны. Мне давно
кажется, что наша кожа есть не что иное, как наша душа, пластически выра-
женная. Бывает же нервная сыпь на коже! Человек расстроен, получил не-
приятность, и вообще у него страдает душа: кожа покрывается у него сы-
пью, от этого покрывается! Не чудо ли? Не ясная ли связь души и кожи? С
другой стороны, гипнотизеры усыпляют душу, проводя пальцами по коже
лица, плеч, рук; проводя по ним и даже только вблизи их. Конечно, науки
медицины я не знаю, и мне неведомо, что думают об этом гг. биологи, но
приведенные факты до того крупны, осязательны, что по крайней мере обы-
вательским простым умом невозможно не подумать: «Э, да кожа наша —
это и есть душа наша или настоящее ее жилище». Почему нам думать, что
душа в нас — это что-то подобное кусочку и что лежит она приблизительно
в черепе? Почему не думать, что это скорее простыня и в нее завернут чело-
век? Доброта человека, ум его, страсти — все качества души, как они отра-
жены в лице его, т. е. снаружи, в коже... Человек боится — и бледнеет, дово-
200
лен — и краснеет; растерян, смущен, солгал или усиливается сказать правду
— и все это играет на лице его! А играет ли еще в мозгу — это Бог весть:
никто этого не видал. Да как-то мозг и слишком тяжеловесен для таких
танцев!
Потому утром мы умываемся — и свежеем! Мы умываемся не для од-
ной чистоплотности: чем же мы загрязнились, если спали на чистой подуш-
ке? Но физиологически проснувшись, нам надобно и психологически про-
снуться, и для этого мы умываемся. Мы этим будим свою душу. И только
когда мы умылись, не ранее этого, мы говорим кругом: «Здравствуй! Здрав-
ствуйте!» Мы вдруг становимся веселы, обмыв кожу лица водою, холодною
и чистою.
Ванны нарзана действуют как удесятеренная форма простой ванны. Это
не шампанское, но полушампанское: без запаха вина, а существо то же. И
шампанское шипит и пенится от заключенной в нем углекислоты, но вода
нарзана содержит именно ее. Газ, проникая все существо ее, движется около
вашего тела и все его покрывает через минуту, как вы сели в ванну, жемчу-
гом крошечных пузырьков. Пузырьки эти наполнены углекислотою, и, сле-
довательно, тело ваше берет собственно газовую ванную из углекислоты.
Как известно, углекислыми ваннами (Наугейм, Кисловодск) лечатся болез-
ни сердца, упадок сердечной деятельности; но поддержать свое сердце хо-
рошо и для здорового. Сидеть в ванне не нужно более 10 минут, а начинают
с 8 и 6; сперва температура 27° (для старых — выше), а затем ниже, смотря
по возрасту и силам организма; молодые и свежие организмы кончают курс
лечения или удовольствия в 17-градусном общем бассейне. Это огромная
купальня, где плавают, ныряют и проч., как в обыкновенной речной купаль-
не. Но в 17-градусном бассейне нарзан подогрет, и очень сильно. Натураль-
ная температура источника — 11 градусов. Это температура невской воды в
конце сентября, т. е. такая, что страшно и подумать окунуться в нее. Есть,
однако, бассейн этого натурального, неподогретого нарзана, доступ к кото-
рому открывает только специальное разрешение врача. Однако воспользо-
ваться этим ледяным купаньем приходит на ум только субъектам, которые
могут пропеть о себе стих Пушкина:
Птичка Божия не знает
Ни заботы, ни труда...
Гигантские легкие, железное сердце, мастодонтовая кожа, допотопные
нервы, без переутомления... Уверен, впрочем, что таких «птичек» слетается
чрезвычайно много в Кисловодск.
Очень хорошо ощущение уже в ванне этих мириад ползущих по телу
пузыриков газа. Но еще лучше по выходе из ванны. Идешь — и земли под
собою не чувствуешь. Точно вместо кожи, гладкой и тонкой, бессодержа-
тельной, ваше мясное и костяное существо обернуто в бархат, толстый слой
которого, весь из ворсинок и заключенного между ними воздуха, вы ясно
чувствуете около себя! Воздух этот (газ, или нервное ощущение раздраже-
201
ния?), наполняющий вашу кожу, дает впечатление необычайной нежности и
легкости: кажется, вот поднимешься и полетишь! Но нега еще преобладает
над легкостью, и, как бы боясь потерять ее, грубо поцарапать, — напротив,
все движения инстинктивно совершаешь медленно, а еще лучше хотелось
бы лечь. Настоящие больные после ванн обязательно должны лежать. Я в
качестве здорового медленно добираюсь до дома (все парком и сейчас за
ним садом), ложусь и, если ничто не мешает, засыпаю. Сон глубокий, дол-
гий и спокойный! Проснувшись, чувствуешь себя несколько помолодевшим
и укрепившимся.
Все в совокупности так хорошо, что несчастным можно почитать каж-
дого русского, кто не испытал этой величайшей прелести нашей родины —
ванн нарзана! Что, если бы перенести их в Москву, в Петербург? Половину
неврастении и хандры сняло бы!
* * *
Всего года три действуют в Кисловодске новые ванны. Это — дворец, на-
стоящий дворец, воздвигнутый в начале Тополевой аллеи, шагах в 50 от ста-
рых ванн, находящихся в конце галереи около источника. Одни говорят, что
в новых ваннах газа не меньше, чем в старых, другие говорят, что меньше,
что из труб происходит утечка газа. Возможно, что это сплетня, сопровож-
дающая у нас всякое новое дело. Не отрицая, я не утверждаю ничего, до-
вольствуясь свидетельством, что газа очень много, что тело покрывается би-
сером пузырьков через минуту, как вы сели в ванну.
Для чего понадобился дворец для ванн? «Надо то, что надо, а чего не
надо, того не надо». Весьма возможно, что для Кисловодска, который тянет-
ся стать на ногу первоклассного европейского курорта, было желательно
получить лишнее здание a la palais; но что до этого больным и даже что до
этого казне? Очевидно, больные нисколько не нуждались в каменном двор-
це для ванн, а в сухом, светлом, поместительном здании, с гигиеничными и,
между прочим, с хорошо проветриваемыми (вентилируемыми) ванными
комнатками при общем зале, отведенном для лежанья-отдыха. Такой задаче
могло вполне удовлетворить построенное на каменном фундаменте дере-
вянное здание или 2, 3, 4 деревянных здания, соединенных между собою.
Стоя вчетверо дешевле каменного, они могли бы включить в себе четверное
количество ванн против теперешнего и удовлетворить наконец нужде в них,
которой решительно не удовлетворяет теперешнее число ванн — 22 в ста-
рых ваннах, 60 в новых и еще 9 офицерских и 9 солдатских ванн, всего 100.
Казна не должна выносить ничего лишнего. Это принцип добросовест-
ного хозяйства. На свои средства — строй дворцы и хоть «висячие сады
Семирамиды». Не на свои — только дай, что требуют. А казенные деньги —
не свои для чиновников, администрации и даже для государства. Оно их
только распределяет, утилизирует. Здесь пользующийся — народ и даваль-
щик — народ.
202
Стоимость одной ванны 50 коп. до 1 июля (начала полного сезона) и 75
коп. — дообеденные часы и 50 коп. послеобеденные часы, начиная с 1 июля.
Уже из этого повышения цен видно, что ванн не хватает. Самое повышение
цен для казны — как-то щекотливо, мелочно и меркантильно. Казна должна
брать то, что покрывало бы текущие расходы и окупало бы через известное
число лет капитальную затрату, не извлекая выгод из таких преходящих фак-
тов, как наплыв нуждающихся.
Новые ванны построены безукоризненно со стороны чистоты и высоты
комнат; но в старых ваннах есть номера (напр., № 9 и 10) тесные, маленькие,
совершенно невозможные для настоящих больных, которые в них задыха-
ются и чувствуют страшную головную боль при некоторых формах сердеч-
ных болезней, не испытываемую в высокой комнате. Несчастие здесь зак-
лючается в том, что иногда прекрасные номера попадаются туристам, кото-
рые «балуются» нарзаном; а приедут попозже больные, и им достаются но-
мера хуже и, наконец, совсем плохие, вследствие занятости всех часов во
всех хороших номерах. И валандается тогда в чудном номере пятипудовая
барыня, а какая-нибудь несчастная учительница, притащившаяся из Тамбо-
ва или Нижнего, — со своими тощими костями и увядшей кожей влезает в
ванну в душной, полутемной комнате. Это безжалостно и глупо.
Медицинскому персоналу, заведывающему ваннами, ввиду недостаточ-
ности их и далекого неравенства между качествами ванных комнат, следует
провести, мирно и добросовестно, классификацию между больными, для
которых необходимы ванны, и между туристами, пользующимися ваннами
для удовольствия. Туристы пусть пользуются «остаточками».
Время пользования ваннами — 30 минут. В ванных комнатах, правда,
есть диванчик из буковой гнутой мебели, но едва ли для «лежанья»: во-пер-
вых, на нем нет и подушки, и нельзя же подушку с собой приносить. А глав-
ное, 30 минут достаточны, только чтобы раздеться, одеться и принять ванну.
Очевидно, администрация ванн и сама хорошо знала, что нельзя здесь ле-
жать, нет времени, да это едва ли и полезно лежать в комнате, насыщенной
углекислотою, после принятой и неспущенной ванны. Зачем же диванчики,
такие красивые и, очевидно, дорогие? Тоже очевидная роскошь. А лежать
негде, т. е. нет необходимого, медицински-нужного. Такие диваны для лежа-
ния, мягкие и с подушками, в большом общем зале, есть даже при грязевых
ваннах частного заведения д-ра Мержеевского «Ramassaar» в городе Аренс-
бурге. Вообще это азбука такого дела. Что лежанье необходимо после угле-
кислых ванн, необходимо как условие их пользы и действия, это я опреде-
ленным образом знаю из строжайших указаний докторов, лечивших боль-
ных, страдающих сердечными болезнями. «Гуляющему курорту» вообще
отдано в Кисловодске предпочтение перед «лечебным курортом». Конечно,
нарзан всех веселит. Но некоторых он лечит; и вот перед нуждою этих «не-
которых» должно все посторониться.
Я слышал, недавно Кисловодск сделан «городом». Раньше он был «ме-
стечком», по административной терминологии, — значит, есть городское
203
управление. И пришло же на ум этому городскому управлению начать ре-
монт улиц, да фундаментальный ремонт, с поднятием всех мостовых, и за-
няться проведением каких-то труб, — как раз к «полному сезону». Еще в
июне можно было с запинками проезжать по улицам; но как раз к первому
июля, когда в Кисловодске все дома, квартиры, мезонины и каморки рас-
хватаны и везде толпится многотысячная толпа, городское управление бук-
вально «подняло вверх дном» все улицы. Опять для туристов это только
«божье наказание», и то с улыбкой; но это составляет серьезное препят-
ствие для лечения настоящих больных, которым, как я уже объяснял выше,
после ванн нельзя двигаться, они обязательно должны возвращаться домой
в экипаже, а между тем проехать до дому нельзя ввиду развороченности
некоторых улиц или отдельных участков на улице. В Кисловодске летняя
погода вдвое длиннее, чем, напр., в Петербурге, и для ремонта улиц есть и
апрель и май или осенью — сентябрь и октябрь. Лечебный сезон несомнен-
но «подгажен» управлением города, который от него все имеет, который
только и богат от приезжих, оставляющих сотни тысяч его населению, тор-
говцам и всякому трудящемуся люду, всякому в нем промыслу и ремеслу.
До чего это глупо, до чего глупо!
* * *
Никогда и нигде я не видел столько породистости, такого хорошего роста и
цветущего вида людей, как в Кисловодске. Южные темные цвета и север-
ные бледные сливаются здесь в очень красивое сочетание. Первые дни по
приезде невольно любуешься на людей: после Петербурга, Москвы и вооб-
ще внутренней России — это ново. И все люди не заняты, ничего не делают.
До какой степени здесь отсутствует труд и забота, можно видеть из того,
что, напр., писчую бумагу можно достать только в фотографии, а где можно
достать стальных перьев — я уж и не знаю!
Вся многотысячная толпа съехавшихся гуляет, питается и влюбляется.
Я не порицаю и не хвалю, — а передаю факт — и зрелище, нимало не маски-
руемое. Везде это — между прочим, везде — подспорье.
То же, что дрова для парохода: пароход, конечно, едет не для дров. Но
здесь питание, удовольствие и любовь — самая цель существования, по край-
ней мере на эти «кисловодские дни». И это так ново!
Сам не склонный ни питаться, ни влюбляться, я смотрел первое время с
удовольствием на эту отдыхающую толпу. Такая масса отдыха! И это пере-
дается как-то телепатически, гипнотически. Все не торопится, не спешит;
даже не «идет», а гуляет. Редко в одиночку, а больше парами, группами. Сот-
ни столиков с завтракающими и кофейничающими на открытом воздухе.
Немного в стороне столиков шесть с играющими в карты статскими и воен-
ными; эти играют днем и вечером, при свечах в стеклянных колпаках. Игра
в карты на таком райском воздухе, среди такой завораживающей природы
возмущала меня и десять лет назад, возмущает и теперь. Это что-то вроде
204
опиума: тупо и патологично. Для чего же было ехать в Кисловодск? Это
можно делать и в Вологде!
Русские, армяне, в меньшем числе — грузины; слышна английская и
много польской речи; речь немецкая и французская, изредка итальянская;
немного персов, страшно редки турки, — вот тот тесный, душистый — от
дамских духов, — нарядный и богатый фойе, который представляет собой
главная аллея парка, площадка перед источником и особенно большая пло-
щадь перед курзалом, где по вечерам ежедневно играет симфоническая му-
зыка и куда собирается «tout Kislowodsk»*.
Утренняя музыка перед источником — так себе, и особенно мешает слу-
шать вечно чем-то упоенный дирижер оркестра: до того он кланяется и дви-
жется, — точно вечно объясняется в любви с правыми и с левыми частями
оркестра! И главное, — это во все лицо улыбка, лицо вечно сияющее, точно
он каждый день именинник, — все это подзадоривает к смеху и рассеивает
внимание. Но вечерняя музыка — действительно прекрасная и серьезная.
Наряды и наряды! Откуда только деньги взялись на них в разоренной
России? Но удивительно: Россия, разорение, революция, Г. Дума, министер-
ство — все это в такой мере забыто в отдыхающем Кисловодске, до такой
степени никого не занимает, что трудно этому поверить, не побывав на мес-
те. Убийство Карангозова в Пятигорске, о котором я узнал из телеграммы в
поезде, в котором ехал в Пятигорск, не занимало никого ни в поезде, ни в
Пятигорске, ни в Кисловодске. Брали телеграммы, — брали немногие и ле-
ниво читали, бросали затем под лавку и заговаривали с соседом о чем угод-
но, только не об убийстве. Ни впечатления, ни разговоров, ни вопроса о том:
как и почему, — ничего! В Петербурге словам моим не поверят, но это — так!
Изумителен этот непоколебимый покой удовольствий, среди которых
живет Кисловодск! Я шел брать ванну нарзана часов в 6 вечера. Прошел
парк и его главную аллею, ничего. Вступаю на Тополевую аллею, на кото-
рой построено здание новых ванн: смотрю — солдаты с примкнутыми шты-
ками к ружьям. Спрашиваю одного отделившегося: «Что? Почему?» Гово-
рит: «Стреляют». — «В кого, где, когда?» — «Да вот в аллее застрелили
барыню, только сейчас. Назначили патрули». — «Как сейчас? Да я сейчас
проходил через аллею. Там ничего». — «Минут двадцать тому назад. Бары-
ню пронесли на руках. Его арестовали. Муж стрелял, а она была со студен-
том».
Но я оставляю разговор. Через 20 минут после убийства (почти убий-
ство, ибо раны кончились смертью) я прошел по месту убийства. И оно, как
всегда, было полно гуляющими, и я не заметил ни смущения, ни смятения,
ничего, ничего! Никто не отказался от своего стакана нарзана! Когда я по-
том шел назад, то эти красавицы — их можно назвать красавицами, в Кис-
ловодске очень много красивых женщин — в дорогих кружевных платьях,
такие высокие, стройные, с прекрасными бюстами, сильными ногами (по-
* Весь Кисловодск (фр.).
205
ходка), шли высоко подняв голову, и на лицах их я читал какую-то смесь
торжества, гордости и неодолимой-неодолимой энергии.
— Так и будем, будем! Он застрелил, кровь, пусть... Но мы будем лю-
бить, и хотим любить, и нас не остановит ни кровь, ни смерть, ничто, нич-
то... Пусть стреляют эти мужья или оставленные любовники: мы все-таки
будем искать молодости, свежести и счастья!
Уверен, что я прочитал так смысл лиц. После убийства женщины имен-
но настроение женщин поднялось! Я не ошибаюсь. И мне показалось, что
этого потока темпераментов и сил никакая сила не остановит.
Я прошел смиренно и скромно, почти испуганно, домой.
РУССКИЙ «РЕАЛИСТ» ОБ ЕВАНГЕЛЬСКИХ
СОБЫТИЯХ И ЛИЦАХ
Ни Толстой, ни Достоевский не были так счастливы, чтобы на оборотной
стороне заглавного листка новых своих произведений выставлять такую
надпись:
«Право собственности вне России закреплено за автором во всех странах,
где это допускается существующими законами».
«Гг. переводчиков просят обращаться за разрешением на перевод и за справ-
ками к представителю автора, Ив. И. Ладыженскому, по следующему адресу:
«Berlin W, 15, Uhlandstrasse, 145; Biihnen-und-Buch Verlag russischer Autoren
J. Ladyjensky».
Так напечатано после повторенного для чего-то названия нового произ-
ведения Леонида (Петровича? Ивановича?) Андреева на оборотной стороне
заглавного листка, на лицевой стороне которого оттиснуто:
Леонид Андреев.
«Иуда Искариот и другие».
Это в книжке XVI сборника «Знание», СПб., 1907 г. Нам кажется, все
это печатание можно было бы заменить другим:
Величайший хвастун в России.
Вранье об Евангелии, об И. Христе и апостолах.
«За разрешением переводить обращаться к Ладыженскому, так как утом-
ленный просьбами автор не отвечает ни на письма, ни на телеграммы и только
вскрывает те пакеты, в которых ему посылаются за испрашиваемые переводы
деньги».
Счастливый автор! Мне кажется, даже счастливее Хлестакова в ту бла-
женную минугу его биографии, когда чиновники испуганного городка под-
носили ему «приношения», убедительно прося «взять», и когда он предла-
206
гал «руку и сердце» чужой жене. Леонид Андреев гораздо счастливее Хлес-
такова уже по тому одному, что Хлестаков «царствовал» всего одни сутки, а
Леонида Андреева переводят «в таком множестве», что он, бедный, устал
сам соглашаться на переводы на все всемирные языки, «где существуют ка-
кие-нибудь законы»! Счастливый автор!
Ни у Толстого, ни у Достоевского, ни у Пушкина такой судьбы не было.
Даже и приблизительно!
К тому же, если судить по многочисленным фотографиям, развешан-
ным в Петербурге по разным витринам, где «Леонид Андреев» красуется
около девиц Отеро, Кавальери и Клео де-Мерод, то он почти так же хорош,
как те барышни: еще молоденький, лицо «с мыслью», такой серьезный взгляд,
бородка ничего себе, не большая и не маленькая, не худ и не толст, сложен,
очевидно, хорошо. Снимается то в европейском костюме, то по-русски. Жал-
ко, что фотографии не раскрашены: брюнет он или блондин? Меня забирает
вопрос: женат ли он? Должно быть, и жена прехорошенькая. Такому молод-
цу не может не быть во всем удачи.
В пессимистическое и грустное наше время с удовольствием встреча-
ешь истинно счастливого человека! И таким хорошим счастьем: сознанием
великого у себя таланта! Немножко грустили на этот счет все у нас: Гоголь
сжег 2-ю часть «Мертвых душ», Толстой отрекся от своих художественных
произведений... Всех точил проклятый
Бес благородный скуки тайной.
Но Леонид Андреев — к нему «этот бес» не подберется! «Сорок тысяч
курьеров» и обременительное множество писем и телеграмм, где все испра-
шивается позволение на перевод его произведений, стоят такой плотной сте-
ной, что «тайному бесу скуки», хоть он сожмись до булавочки, к нему ни за
что не пролезть. Куда тут скучать, досуг ли?..
Душа Леонида Андреева подобна глубокому океану, в который бухают
камни. Океан всплескивается под камнем. Этот всплеск, так сказать, игра
волн и брызгов и потом красивых, замирающих кругов, и образует его тво-
рения. Я уже сказал, что океан — это его душа. Камень — это какой-нибудь
вопрос, тема: всегда тема великая и вопрос глубокий. Ну, а брызги и прочее
— это те страницы и строки, которые ловят переводчики, как мошкара обле-
пившие Андреева.
— Устал... не могу отвечать... Пусть ответит Ладыженский, Ladyjensky,
Berlin, Uhlandstrasse, 145. Не мешайте мне: отдыхаю на лаврах и розах!
— Счастливый!
Хлестаков был «с Пушкиным на дружеской ноге» и, бывало, говорил
ему: «Ну, что, брат Пушкин?» Андреев хватил куда дальше: он решил «пере-
кинуться картишками»... с апостолами Петром и Иоанном, с евангелистом
Матфеем «и прочими». Он так и надписал, не покраснев, не побледнев:
«Иуда Искариот и другие».
207
Почему «и другие»? Почему он так надписал или так надписала эта пе-
тербургская «reine de diamants»?* «И другие»?! Об апостолах?!! Которые
почему-то полторы тысячи лет живут в памяти сотен миллионов людей, а
знаменитый автор никогда себя не спросил: «Почему же это»? Великий Ле-
онид Петрович (или Иваныч?) Андреев этим «и другие» выразил уничижи-
тельное свое презрение к апостолам; такое презрение, такое презрение, что
от апостолов приблизительно ничего не должно остаться. «Только мокрень-
ко». Ну, куда Кавальери до таких успехов: та под шлейфы свои упрятывала
только богатых купцов и изношенных графов, а этот «хлопнул по апосто-
лам» — и ничего не осталось, пусто.
И силища же, подумаешь, у человека!
* * *
Евангелия до Леонида Андреева никто не мог понять: ни Ренан, ни Штраус,
ни Гарнак, не говоря уж о таких людях черной сотни, как Боссюэт и тоже
«другие». Лютер, Кальвин, Цвингли, Меланхтон — ничего не понимали. До-
гадался первый обо всем Леонид Андреев. Он догадался, что Иуда был не
худший из учеников И. Христа, менее всех Его любивший, а, напротив, луч-
ший и более всех Его любивший, который даже принял участие в Его подви-
ге искупления. Т. е., по расценке нашего «века пара и электричества», он
был лучший потому, что был по крайней мере умен, тогда как остальные
апостолы были уж до того глупы, до того глупы, что Леонид Андреев неда-
ром называет их охапкою «и другие». Просто не стоит упоминать имен.
Опачкал бы ими заглавие великого своего произведения.
Итак, Иуда лучший. Такова тема произведения, тот камень, бухнувшийся
в океан леонид-андреевской души, который вызвал всплеск и игру его мыс-
ли и художества. Читаем... и глазам своим не верим. Слушайте:
«Лгал Иуда постоянно, но к этому привыкли, так как не видели за ложью
дурных поступков, а разговору Иуды и его рассказам она придавала особенный
интерес и делала жизнь (чью?) похожею на смешную, а иногда и страшную
сказку. По рассказам Иуды выходило так, будто он знает всех (?!) людей и каж-
дый человек, которого он знает, совершил в своей жизни какой-нибудь дурной
поступок или даже преступление. Хорошими же людьми, по его мнению, назы-
ваются те, которые умеют скрывать свои дела и мысли; но если такого человека
обнять, приласкать и выспросить хорошенько, то из него потечет, как гной из
проколотой раны, всякая неправда, мерзость и ложь. Он охотно сознавался, что
иногда лжет и сам, но уверял с клятвою, что другие лгут еще больше... Все
обманывают его, даже животные: когда он ласкает собаку, она кусает его за паль-
цы, а когда он бьет ее палкой, она лижет ему ноги и смотрит в глаза как дочь (?).
Он убил эту собаку, глубоко зарыл ее и даже заложил большим камнем, но кто
знает: может быть, оттого, что он ее убил, она стала еще более живою и теперь
не лежит в яме, а весело бегает с другими собаками»... «Все, т. е. апостолы,
которым это он рассказывал, весело смеялись на его рассказ: но через несколь-
ко времени он добавил, что немного солгал: собаки этой он не убивал» (стр. 270 —
271).
* «Царица алмазов» (фр.).
208
Мне кажется, что ни собака, ни Иуда не лгут, однако, так, как Леонид
Андреев, и по такому скверному мотиву: во-первых, по внутреннему хвас-
товству, постоянно стоящему в его душе, вследствие которого он блаженно
уверен, что, какую бы чепуху ни написал, — все будет «талантливо», а во-
вторых, даже и собака в своей «лжи» достигает некоторой цели, тогда как
Леонид Андреев уходит со своей ложью совершенно в сторону от той темы,
которую поставил для своего нового произведения: именно показать, что
Иуда Искариот был лучший, и между прочим, патетически, нравственно
лучший, чем прочие апостолы.
Я говорю это в отношении темы Леонида Андреева и уже не останавли-
ваюсь над всей, так сказать, «автономной» чепухой, какую представляет со-
бой этот отрывок. Чья это жизнь «смешная и страшная»? Откуда выскочила
собака? Как мог Иуда «всех людей» знать?
Недоумевающие апостолы, видя, как Иуда цыганит надо всем, спраши-
вают его об отце и матери: «Разве хоть они-то не были хорошие люди?»
Иуда отвечает невероятными словами, невозможными не только в Еванге-
лии, среди евангельских лиц, хотя бы как слушателей, но и нигде на семит-
ском Востоке:
— А кто был мой отец? Может быть, тот человек, который бил меня розгой,
а может быть, и дьявол, и козел, и петух. Разве может Иуда знать всех, с кем
делила ложе его мать? У Иуды много отцов. Про которого вы говорите?
Андреев, воображающий, что он всегда «умен», мазнул мочалкою, под-
нятой со «Дна» М. Горького, по евангельским лицам, не смутившись даже
перед азбучным требованием от всякого художественного произведения,
чтобы лица, положим, семитской крови не выражались языком монголов
или индийцев и в I веке до Р. X. не говорили так, как говорят в парижских
кабачках XIX—XX века.
Этот разговор «о родителях» происходит на 272-й странице, — и без
всякого перехода, без всяких смягчающих оттенков, без какого-либо подго-
товления читателя уже на 273-й странице, т. Q. рядом, Л. Андреев неожидан-
но, так сказать, сдергивает полотно с главной мысли своего произведения,
имеющей ошеломить и испугать читателя:
Апостолы спрашивают Иуду, хулиганящего над своей матерью и мно-
жеством предполагаемых отцов.
— Любишь ли ты Иисуса?
Со страшною злобою Искариот бросил отрывисто и резко:
— Люблю.
Сделаю оговорку. Уже при чтении его «Василия Фивейского» меня уди-
вило постоянное усилие знаменитого автора, так сказать, таращить глаза и
этими вытаращенными глазами стараться напугать читателя. Это «стиль
Андреева», везде пробегающий у него и решительно не свойственный ни
одному русскому писателю, которые все пишут просто. Таково в «Василии
209
Фивейском» описание дома, который страшно мигал черными окнами и еще
что-то делал, когда из него выбежал этот несчастный поп. И в приведенных
отрывках читатель заметит эти же струйки. Но это мелочь, и я продолжаю.
Штрих за штрихом Л. Андреев сгущает краски многозначительности на
Иуде. Но чем и как? После приведенных им милых разговоров совершенно
невозможно было вложить Иуде какое-нибудь глубокое слово. Ведь это шут,
и только шут, по его же характеристике, совершенно нецелесообразной.
Андреев и не пытается этого сделать. С другой стороны, он и не приписыва-
ет Иуде сколько-нибудь значительных поступков, которые бы говорили об
его оригинальной и в основе глубокой душе. В одном месте Иуда бросает
очень тяжелые камни без всякой цели, а в другом он своим шутовством об-
ращает на себя гнев разъяренной народной толпы, погнавшейся за Иисусом,
и тем дает Ему спастись. Но и это «деяние» ничего особенного не представ-
ляет. «Многозначительность» Иуды и превосходство его над апостолами
показывается Андреевым иным путем: тем, что он повсюду заставляет Иуду
трунить над апостолами, причем, естественно, Иуда оказывается ровно
столько остроумным, сколько остроумен Андреев, сочиняющий за него ост-
роты. Ну, а ум Андреева, разумеется, здесь как и везде.
Толпа апостолов идет по дороге за Иисусом. Он обращается к Фоме:
— Ты хочешь видеть глупцов? Посмотри, вот идут они по дороге, кучкой,
как стадо баранов, и подымают пыль. А ты, умный Фома, плетешься сзади, и я,
благородный, прекрасный Иуда, плетусь сзади...
«Умным» он назвал ап. Фому только в глаза, ибо, как показывает Л. Ан-
дреев, Иуда в глаза всем льстит и за глаза всех ругает.
Об ап. Петре он говорит тому же Фоме, который у Андреева везде игра-
ет роль граммофона, воспринимающего слова Иуды:
— Разве есть кто-нибудь сильнее Петра? Когда он кричит, все ослы в Иеру-
салиме думают, что пришел их Мессия, и тоже подымают крик. Ты слышал ког-
да-нибудь их крик, Фома?
Не правда ли, как остроумно? Этот «Мессия ослов», апостол Петр —
Мессия ослов? Совершенно как у Вольтера!
Наконец, пафос подымается. Это тоже «стиль Андреева»... Что бы вы
ни читали у Андреева, с первой строчки вы чувствуете, что попали на пате-
тического писателя, сосредоточенного, немножко угрюмого, таинственно-
го, который вот-вот откроет вам изумительную истину, никогда не прихо-
дившую никому в голову. Интеллигентский писатель, — и метафизичес-
кий.
Иуда украл несколько динариев из денежного ящика, который ему было
поручено носить. Апостолы стали обличать его перед Христом. Тот «кротко
посмотрел на него и поцеловал его». Иоанн, поняв мысль Иисуса, «внезап-
но загоревшись весь, смешивая слезы с гневом, восторг со слезами, звонко
(?!) воскликнул»:
210
Никто не должен считать, сколько денег получил Иуда. Он наш брат, и все
деньги его, как и наши, и если ему нужно много, пусть берет много, никому не
говоря и ни с кем не советуясь!
Словом — общность имущества, начало «общего имущества в монас-
тырях». Пораженные и растроганные апостолы подходят к Иуде и целуют
его. Сей гордый первенец из них, однако все-таки позарившийся на столько-
то динариев, высокомерно говорит своему граммофону-Фоме:
— И подумай, хорошо ли ты поступаешь, добродетельный Фома, повторяя
учителя? Ведь это Он поцеловал меня, вы же только осквернили мне рот. Я и до
сих пор чувствую, как ползают по мне ваши мокрые губы. Это так отвратитель-
но, добрый Фома!
Нужно заметить, о новом произведении Л. Андреева уже появились вез-
де отзывы, и почти везде рецензенты точно заныли от восторга, от страха и
восторга перед этим пафосом презрения! «Осквернили мне рот», — это Иуда
о себе и об апостолах: изумительно и великолепно! Можно заподозрить толь-
ко, что Иуда уже прочел слова М. Горького о «гордом человеке» и сразил
Фому-апостола крошечным плагиатом, плагиатом не слова, а тона.
Простим «гордого Иуды», весьма смахивающего на того актера из «Дна»
М. Горького, который накачался «алкоголем», все возрастает, и маленькие
апостолы уже вслух признают его великие качества:
— Говорю тебе, Иуда, ты самый умный из нас. Зачем только ты такой на-
смешливый и злой!
И прочее! «Насмешливость и злость», конечно, не такие качества, кото-
рые могли бы испортить демоническую фигуру Иуды, обольстившую Анд-
реева, рецензентов и, вероятно, скоро всех горничных Петербурга и Моск-
вы. «Иуда-душка» разрешает спор между Петром и Иоанном, который из
них ближе будет Христу в царстве небесном. Иоанну он говорит:
— Нет, Петр всех ангелов разгонит своим криком, — ты слышишь, как он
кричит? Конечно, он будет спорить с тобою и постарается первый занять место,
так как уверяет, что тоже любит Иисуса, — но он уже староват, а ты молод, он
тяжел на ногу, а ты бегаешь быстро, и ты первый войдешь туда со Христом.
Затем Андреев «пучит глаза»: так как в то же время Иуда и Петру ска-
зал, что тот будет сидеть рядом с Иисусом в Царстве Небесном, то между
этими двумя апостолами, совершенно полагающимися на «ум» Иуды, выш-
ло недоумение, кто же именно из них будет ближе к Иисусу:
— Ну-ка, умный Иуда! Скажи-ка нам, кто будет первый возле Иисуса, — он
или я?
Но Иуда молчал, дышал тяжело (?!) и глазами жадно спрашивал о чем-то
спокойно-глубокие глаза Иисуса.
211
— Да, — подтвердил снисходительно Иоанн, — скажи-ка ему, кто будет
первый возле Иисуса!
Заметьте, как обернулся вопрос: «Первый возле Иисуса». О, Л. Андре-
ев хитер. Читатель уже смущен: «Возле Иисуса? первый?» Можно задро-
жать от вопроса, заныть от страшного предчувствия.
— Не отрывая глаз от Христа, Иуда медленно поднялся и ответил тихо и
важно:
— Я!
Иисус медленно опустил взоры. И, тихо бия себя в грудь костлявым паль-
цем, Искариот повторил торжественно и строго:
— Я! Я буду возле Иисуса!
И вышел. Пораженные ученики...
И проч.
У горничных, я думаю, зуб на зуб не попадает целую ночь после этих
строк. О, Л. Андреев знает их психологию и чем и как защемить их сердце!
* * *
Ну, я думаю, можно и не продолжать? Да, из «деяний апостольских» одно
подробно описано! Вечер, гористый край пустыни, и апостолы, отрывая кам-
ни и камешки, спорят, кто дальше кинет. Немножко по-гимназически? Ни-
чего! В спор входит и то, какой величины камень. Всех побеждает, разумеет-
ся, ап. Петр, Иуда отсутствовал, но подошел он и «побил рекорд». Все это
рассказано на нескольких страницах, натуралистически, с соком.
Об учении Иисуса Христа в рассказе Андреева ничего не сказано. Вооб-
ще разительную сторону его составляет следующее. Если апостолов и зани-
мало, кто из них дальше кинет камень, то это не только понятно, но и не-
вольно в изложении Андреева: они совершенно ничем не заняты, не имеют
никакого, так сказать, предмета жизни, заботы, тревоги. Сущие «бараны»,
как и аттестовал их совершенно основательно великий Иуда, — т. е. у Анд-
реева выведены только бараны. Во всем рассказе не проходит никакого уст-
ремления, заботы, ничего вообще высшего, кроме острословия. Иисус Хри-
стос точно нанял их ходить за собою, «а Иуда носит ящик». Наконец Иисус
Христос? Л. Андреев представил Его бледным, немного сутуловатым от
постоянной задумчивости, прекрасным, — и я думаю, если б поставить зер-
кало, то он вышел бы немного похож на одного тоже задумчивого и очень
знаменитого современного нам беллетриста. К чему называть имена, будем
скромны.
Так вот эта-то история, как бараны ходили за бледным Учителем, — заня-
ла народы на 1900 лет! До того глупо человечество. Но умный Л. Андреев
наконец разъяснил нам все: единственный умный из баранов был Иуда «из
Кариота». Он один возлюбил Учителя, Которого предал. За что? почему? в
212
каких целях? Самой повести я не имел сил дочитать, но рецензенты с дрожью
рассказывают, будто Л. Андреев «приподнял завесу над тайной Евангелия»,
показал убедительно, что ведь только «один Иуда помог Иисусу Христу совер-
шить подвиг, для которого Он и пришел на землю: умереть, притом умереть
жестоко, страдальчески»... Бррр... в самом деле? Помог Иисусу, один помог?
Толкнул на «искупление» человечества. Только, я думаю, все-таки Л. Андреев
не догадался об одном недоумении своих читателей: что ведь если все так по-
шло было это дело, как о нем передает Л. Андреев и если оно совершилось
среди таких изумительной пошлости людей, то ведь тогда какое же «искупле-
ние», «подвиг» и проч.? Просто — убили человека, называемого «Иисусом»,
как раньше убивали Иванов и Петров. А Иуда его предал, но вовсе не на «под-
виг», а просто на смерть: ибо среди таких глупцов, какими нам показал Андре-
ев всех этих людей, события, обстановку и время, никаких вообще «подвигов»
не бывает и не может быть, да и не нужно вовсе! Я хочу этим сказать ту про-
стую вещь, что для событий евангельских нужен был мотив в уровень с Еван-
гелием: какая-то страшная нужда людей и чрезвычайная красота их, досто-
инство; нужда прекрасного и великого. Ведь только за это и могла быть проли-
та «божественная кровь» и мог Отец послать Сына искупить творение свое.
Но если, как представил дело Андреев, эти блаженные совершенно счастливы
в своем ничтожестве и только и занимаются бросанием каменьев и остросло-
вием, — о, неужто по поводу их трястись небесам, Отцу посылать Сына, обре-
кать древний Иерусалим на падение и, словом, перевертывать землю и исто-
рию? Ну, и перевернулось все, «Христос искупил людей при пособии Иуды»
(тема Андреева), — и что же вышло? Иуда ровно столько же остроумен, как
Андреев, а Андреев через 1900 лет так же острит, как его Иуда, и оба друг
друга стоят, не лучше и не хуже, и все как было глупо «до Рождества Христо-
ва», так и осталось глупо «после Рождества Христова». О чем же писал Анд-
реев и что вообще он думал, когда писал?
НЕПРОСТИТЕЛЬНЫЕ ПРОПУСКИ
Небрежность в ссылке на основания суда непозволительна у судьи. Я слу-
чайно вздумал проверить ссылки вятской духовной консистории на места
Св. Писания, приводимые ею будто бы в основание осуждения священника
Тихвинского за его известные речи и поступки в Г. Думе: но, к удивлению, в
двух ссылках не нашел ничего, прямо сюда относящегося. А несколько пе-
релистав Апостолов, в обилии нашел у них места, прямо относящиеся к
извергнутому из сана священнику Тихвинскому, но консисториею не приве-
денные.
Консистория пишет, предпосылая изложению своего решения о священ-
нике Тихвинском: «Слово Божие: 2 Коринф. 5, 18; 1 Тимофею 1—2; Римля-
нам 13, 1—7» .
213
Открываю эти места и читаю:
Второе послание ап. Павла к Коринфянам, глава 5, стих 18:
«Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего
нам служение примирения;
Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям пре-
ступлений их, и дал нам слово примирения».
Здесь я беру два стиха, 18 и 19, вместо одного 18, указанного духовною
консисториею. И если 18-м стихом косвенно (но не прямо) и осуждаются
речи и поступки о. Тихвинского, или ныне просто г. Тихвинского, как, ко-
нечно, «немирные», то продолжением текста, стихом 19, осуждается ведь и
сама духовная консистория, «вменившая ему преступления его». Вообще
тут говорится о таком мире и примирении, при котором никаких судов и
осуждений, судей и подсудимых не должно бы быть. Консистория, конечно,
не думает, чтобы это время уже настало: она судит Тихвинского; но и Тих-
винский мог думать, что такое время не настало: и что посему он вправе
судить начальство. Он — священник; но и подписали консисторский указ
три священника.
Я не о принципе говорю, а только о точности дела и о небрежности
консистории.
Перехожу далее.
Первое послание Св. Апост. Павла к Тимофею, глава 1, стих 2:
«Тимофею, истинному сыну в вере: благодать, милость, мир от Бога, Отца
нашего, и Христа Иисуса, Господа нашего».
Тут только адрес! И если говорится о «благодати, милости, мире» — то
ведь во все стороны, для всех, для подсудимых консистории и для самой
консистории. При этой «благодати» никого и ни за что судить не надо!
Только последняя ссылка консистории правильна: это — на знаменитое
учение ап. Павла о власти. Вот оно:
Послание к Римлянам, глава 13, стих 1—7:
«Всякая душа да будет покорна высшим властям ибо нет власти не от Бога.
Почему противящийся власти противится Божию установлению.
Начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло — бойся:
ибо он не напрасно носит меч.
И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по
совести.
Для сего вы и подати платите: ибо они Божии служители, сим самым по-
стоянно занятые.
Итак, отдавайте всякому должное: кому подать — подать, кому оброк —
оброк, кому страх — страх, кому честь — честь».
Место это таково, что просто захватывает дух при чтении. Остановимся
на нем немного.
214
Прежде всего, в каком отношении оно стоит в Евангелии? Эти слова в
каком находятся отношении с речениями Иисуса Христа о тех же предметах?
Конечно, ап. Павел не был бы самым великим Христовым учеником,
если бы влагал в слова свой собственный дух, а не Христов. Здесь, как и
решительно во всех других местах, он придал учению Христа, кроткому и
как бы безвольному (но именно только «как бы»), огонь, полет и жар. Мяг-
кому металлу он придал твердый закал. Христос учил: «Царство мое не от
мира сего». Этим Он отстранился от царств мира сего, вышел из дел мира
сего. Но отстраниться — не значит порицать, отрицать. Напротив, отрица-
нию и порицанию Христос положил предел, сказав ученикам Своим, что
если Он — «не от мира сего», то и следующие за Ним тоже, конечно, долж-
ны отстраниться «от мира сего», перестать активно и страстно чего-нибудь
желать в нем, перестать порицать, перестать отрицать. На уста всех после-
дующих Христовых учеников положена была вечная печать политического
молчания, политической тишины. Поэтому священнику решительно невоз-
можно политически протестовать, не совлекшись сейчас же всего «Христо-
ва духа», не начав соединяться «с миром сим». Всякий чувствует, однако, в
этих золотых словах Христа еще как бы расплавленность, мягкость, бес-
форменность. Металл есть, а закала нет. Ап. Павел вдруг дает закал. «Вся-
кая власть от Бога; властители — Божии слуги; вы, человеки, насколько вы
уже христиане — платите подати, оброки, бойтесь, чтите». Огненным спо-
собом, решительным словом, была похоронена вся древняя, волнующаяся,
страстная политика, все эти «ауорос», «сенаты», народные собрания; малень-
кие «республики», боровшиеся с «тиранами», все, все античное, языческое,
волевое начало. Ведь политика была самым страстным пунктом связаннос-
ти человека с землею. Ап. Павел перерезал эту пуповину: и естественно
получилось «царство не от мира сего» — церковь. Христос дал направле-
ние, ап. Павел двинулся по нему.
Константин Великий, перенесший столицу из беспокойного Рима в Кон-
стантинополь и задумавший новую систему государственных отношений,
основанную на безмерной покорности снизу, на безмерной власти сверху, не
мог не оценить всего необъятного смысла этих слов ап. Павла. Империя
давно была, но все не находилось для нее настоящих подданных, «верно-
подданных». Константин Великий проницательным взглядом высмотрел в
этих сопротивлявшихся языческой империи христианах настоящий элемент
империи — «верноподданство», чему мешала только религия цезаря, про-
тив которой собственно и волновались они. Он понял, что в час, как он сам
примет веру этих «рабов» Господних, будет основано тысячелетнее царство
политической автократии, «самодержавия». И конечно, он и никто другой
был настоящим основателем эпохи Средних веков, которую нужно начи-
нать не с падения Западной Римской империи, а с основания Восточной, и
особенно христианской, империи. Цезарь — христианин: вот в каком акте
глубже всего, окончательнее всего, невоскресимо пал античный мир и ро-
дился на месте его совершенно новый.
215
Слова ап. Павла не могли не сделаться догматом веры для христиан: и
все эти верующие ео ipso* как бы растаивали в древнем существе «граждан-
ства», невольно и фатально переставали быть «cives», вечными спорщика-
ми о правах своих, шумящею и задорною толпою на площади, индивиду-
умами, сознающими какое-то достоинство, свое, земное достоинство! Все
это умерло, растаяло, испарилось внутреннейшим образом. Люди «не от мира
сего», отныне страстно занятые неземными вопросами, небесными отноше-
ниями, небесною своею будущностью, пропорционально сделались равно-
душными, спокойными, инертными к вопросам и делам «мира сего», куда
относится и политика, государство. Закипели «вселенские соборы», а госу-
дарством правило несколько евнухов из приближенных кесаря. И с той поры
и до нашего времени, только истаивая в священстве, истаивая даже в хрис-
тианстве своем, во всех этих интересах к «небесному» и «преисподнему»
мирам, к «царству небесному» и «аду», — люди как бы просыпаются вновь
к политике, свежеют в политике, крепчают в политике. Паралич там — вос-
кресение здесь, воскресение там — паралич здесь.
Второе мое замечание касается упреков, нередко высказывавшихся и еще
теперь высказываемых по адресу церкви, всего нашего духовенства, и в осо-
бенности по адресу почившего митрополита Филарета, почему в свое время
они не протестовали против крепостного права, почему ни одного слова не
положили на чашу освобождения крестьян. Но это напрасные упреки, жес-
токие упреки: как бы они могли протестовать против крепостного права или
хотя бы в душе своей священнической желать отмены его, когда им активно,
со вдохновением указано: «Итак, отдавайте всякому должное: кому подать
— подать, кому оброк — оброк, кому страх — страх, кому честь — честь».
Не мог же митрополит Филарет восстать против ап. Павла! Жестоко это тре-
бование.
В душе, однако, он роптал против известного обер-прокурора Протасо-
ва, «шпоры которого задевали за его рясу». Роптал и уступил. Почему? Да и
ропот его этот был неправилен, был личным буйством. По ап. Павлу, он
обязан был, как истый монах и именно, именно как первое лицо церкви,
первый сан ее, т. е. всему в церкви образец и пример, — склонить выю перед
всяким желанием Протасова: «Ибо начальник есть слуга Божий». Обер-про-
куратура Синода и политически-параличное состояние церкви, ее как бы
безвольность, ее двухвековая покорность есть вовсе не выдумка Петра Ве-
ликого: великий преобразователь, как, конечно, и Феофан Прокопович, и
ген.-ад. Протасов, — все три не могли не знать слишком известных слов
ап. Павла и не победить ими, связать ими и раздавить ими всякую попытку
сопротивления.
Обращаю это указание к группе молодых наших политических и рели-
гиозно-церковных деятелей, члену второй Г. Думы С. Н. Булгакову и це-
лому кружку писателей и деятелей, около него группирующихся в Москве:
1 Тем самым (лат.).
216
гг. Свенцицкому, Эрну, Ельчанинову, Флоренскому. Они образовали некоторую
лигу христианско-политической, христианско-экономической и в основе хри-
стианско-социалистической борьбы. Ну вот «борьбы»-то никакой и не мо-
жет у них выйти иначе, как если бы они отреклись от ап. Павла (весь приве-
денный текст) и отдаленно и косвенно, но совершенно решительно, и от
И. Христа («царство не от мира сего»).
Христианство сообщило каноничность — притом не ошибочную, а со-
вершенно точную — всякой эмпирической политической системе, всякому
экономическому строю, всяким социальным отношениям, как они есть, ка-
ковы есть! Оно канонизировало покорность. Оно отрицает всякую борьбу.
Если бы — помимо духовенства — завтра наступил, напр., социалистичес-
кий строй, без монарха и с железною диктатурою пролетариата, то священ-
ники, конечно, обязаны и ему покориться, безвольно, инертно или, точнее,
тоже со «страхом» и «почтением». Но вот принять участие в переходе от
капиталистического строя к социалистическому — этого они никогда не
могут, никак не могут! Они и все, кто сколько-нибудь понимает дух Христо-
ва учения.
«Золотой венчик» (святость, канонизация) лег вокруг политически-су-
щего, экономически-сущего, социально-сущего; вокруг всякой эмпиричес-
кой здесь действительности; вокруг всего видимого и осязаемого.
Совершенно в духе этого учения ап. Павла есть еще следующие места
из апостольских посланий, небрежно и непростительно обойденные вят-
скою духовною консисториею.
Послание ап. Павла к Титу, глава 3, стих 1:
«Напоминай им повиноваться и покоряться властям».
Второе послание ап. Петра, глава 2, стих 9-11:
«Знает Господь, как беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания,
— а наипаче тех, которые идут вослед скверных похотей плоти, презирают на-
чальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших, тогда как и
ангелы, превосходя их крепостию и силою, не произносят на них пред Госпо-
дом укоризненного суда».
Место — чрезвычайно важное: оно сливает политическую автократию
с небесною теократиею.
Первое послание ап. Петра, глава 2, стих 13:
«Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа:
царю ли, как верховной власти, правителям ли — как от него посылаемым для
наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть
воля Божия».
Там же, стих 17—18:
«Всех почитайте, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом пови-
нуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым.
Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая
несправедливо».
217
И после этого завета первенствующего апостола требовали, чтобы мит-
рополит Филарет восставал против жестокостей крепостного права? Разве
он не был христианин? И, оставаясь им, мог ли он восстать против всеобъ-
емлющей в христианстве идеи «Голгофы» и идеи «креста», т. е. терпения,
страдания и кротости? Нужно ли доказывать публицистам, что без этих крае-
угольных идей нет самого христианства? Что без покорности и терпения все
дело его в истории превратилось бы в золу и пепел, развеваемые ветром.
Соборное послание св. Ап. Иуды, гл. 1, стих 7-8:
«Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовав-
шие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены
в пример, -
Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отверга-
ют начальства и злословят высокие власти».
И далее, в стихе 16-18:
«Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям не-
честиво и беззаконно; уста их произносят надутые слова.
Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апостолами Господа наше-
го Иисуса Христа:
Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие
по своим нечестивым похотям».
Вот изречения, печальное забвение которых нельзя не назвать или неве-
жественным, или небрежным со стороны вятской духовной консистории. И
если она не помнит, как она будет укорять других священников, что они
тоже не помнят слова Божия, в частности что забыл его священник Тихвин-
ский? И наконец, мы спросим растерянно: кто же обязан помнить это слово,
когда сама власть духовная не держит в памяти слова Божии о власти?!
А ведь приведи консистория особенно последние два текста, — она по-
чти конкретно очертила бы ораторов второй Думы. Тут что-то даже есть
пророчественное: точно для наших дней и о нас сказано... Sapienti sat*.
Слова мои и указания должны быть приняты распространительно. Моя
задача — не упрекнуть духовную консисторию. Я думаю, они все довольно
невежественны, и мне кажется — это ни для кого не составит новости. Я
имею в виду других лиц. Мне определенно известно, что в России есть и не
сегодня завтра очень усилится тенденция ввести Евангелие в центр налич-
ной политической борьбы; сделать опорою своих чрезвычайно энергичных
и ли/пера/иур«(?-талантливых усилий, в области политики и экономики, хри-
стианизм. Но дело в том, что усилия эти, прекрасные в литературном изло-
жении, религиозно-бесталанны. Они покоятся на подмене своим личным
«я» подлинной и документальной (записи в Евангелиях) воли Христовой.
Все это — буйство личной филантропии. Все это «свои размышления» о
человечестве. Не могу не обратить внимания всей этой молодой и энергич-
* Мудрому достаточно (лат.).
218
ной партии на замечательный труд проф. Моск. дух. академии М. М. Тарее-
ва, года три назад появившийся, в котором все их темы разбираются чрезвы-
чайно обстоятельно и выносится им отрицательный приговор. Они обязаны
знать литературу своей темы. Книга посвящена философии христианства и
между прочим рассматривает религиозные символы. Не имея ее под рукою,
я не могу привести заглавия. Но труды проф. Тареева вообще слишком изве-
стны, а в заглавие этого труда входит упоминание именно о символах. По
этому указанию они легко могут найти книжку и многому поучиться из нее.
Кстати, крайне желательно вступление в прямую полемику, хотя на страни-
цах «Московского Еженедельника», — проф. Тареева с гт. С. Н. Булгаковым
и молодою группою писателей, ораторов и агитаторов, стоящих за ним и
вкруг его.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ДЕЛА
Давно, мне кажется, основной литературный вопрос на Руси — не в писате-
ле и книге, но в читателе и читателях. Увы, мы давно не имеем той компакт-
ной массы высокообразованных читателей, много и чутко читающих, чи-
тающих — если можно выразиться — компетентно, которые в 40—50-х го-
дах минувшего века давали первый и верный тон пониманию книги или
статьи, и за этим поданным тоном устанавливалось верное или по крайней
мере мотивированное отношение к писателю или литературному произве-
дению во всей России. По этому основанию в 40-х и 50-х годах немыслимо
было установление многолетней репутации за такими учеными, как Н. Ка-
реев, и за такими беллетристами, как Л. Андреев, которые в наши дни поко-
рили рынок, публику и если не критиков, то рецензентов.
Уже о вкусе как дирижере успеха — не может быть и речи. Куда до вку-
са: ищешь в читателе простой грамотности, чтобы он разбирался по край-
ней мере в мыслях и идеях, разбирался в написанном — и не находишь! Не
находишь «выразительного и толкового чтения», что требуется по правилу
при поступлении в 1-й класс гимназии.
Этим летом мне пришлось написать две статьи: о Л. Андрееве и его
новелле «Иуда Искариот и другие» и о снятии сана со священника Тихвин-
ского, бывшего члена 2-й Г. Думы. По поводу статей этих, как я слышал,
появилось «великое недоумение» в публике и печати: «Как? Что?» и прочее.
Будто бы меня судили и, пародируя «Аиду», спрашивали: «Радамес, Рада-
мес, оправдай себя». Суда этого, за выбытием из Петербурга, я не читал; но,
вернувшись в Петербург, нашел «сострадательные» письма даже друзей и
старых своих читателей с насмешливыми вырезками из газет и припискою к
ним: «Ты этого хотел, Жорж Данден».
Все бы это я пропустил, но меня искренно тронуло одно письмо из Бол-
гарии, где я и не думал иметь читателей: «С 1898 г. я читаю вас постоянно...
219
Но теперь я в большом недоумении. Я прочитал ваши статьи о Л. Андрееве
и Тихвинском. И показалось мне, что вы вовсе не Василий Васильевич, а
кто-то другой; что вы неискренни на этот раз, что вы фальшивите, что ото-
шли в сторону от истины и правды. Да что же это такое? Успокойте, пожа-
луйста, меня и наших читателей, коих немало и в Болгарии. Неужели вы в
самом деле одобряете приговор консистории относительно о. Тихвинского?
Неужели так же бы писали, если бы лишили сана о. Петрова?»
Болгарину трудно разобраться во всех наших литературных явлениях, и
ему, как и прочим невинно заблуждающимся, я вынужден ответить и заодно
прочитать маленький урок судьям над «Радамесом».
1) О Л. Андрееве я написал статью в прямом смысле и, конечно, совер-
шенно искренно: и был вправе назвать своим именем произведение харак-
терно пошлое, пошлым языком и тоном написанное — о великой теме. Я
почувствовал себя глубоко оскорбленным как читатель, как старый писа-
тель на религиозные темы и пр. Без дальнейшего, скажу еще намек: тема
Иуды и его 30 сребреников бесконечно глубока, ибо это есть лишь заверше-
ние проведенного через все Евангелие отрицания имущества, богатства, де-
нег. «За деньги предан И. Христос!», «предан по корысти». На громадный
мотив жизни — имущественный, экономический — положен черный крест!
Из него проистекли такие явления, как за это лето опубликованный указ
Синода, запрещающий священникам, т. е. лучшей сельской интеллигенции,
принимать участие в учреждениях мелкого кредита. «Не пачкайтесь около
корысти, около корыстного», «не делайтесь членами мелких кредитных то-
вариществ», спасающих, однако, народ от ростовщичества, от кулаков и зак-
ладчиков! Запрещение его ужасно в смысле вреда своего для народа: а
восходит это, как к первому своему источнику — к легенде об Иуде и его
30 сребрениках. В этом пункте Евангелие покончило не только с имуществом,
но и с нормальным, здоровым трудом, породив на место его нищенство и
филантропию, тунеядство монастырей и разные «синие» и прочие «крес-
ты»... Что-то патологическое и отвратительное. В этом пункте возможен
страстный и гневный протест против всей «Иудовой легенды», против ее
нравственной возможности и реальной правды: но нужно ли говорить, что
тупой Леонид Андреев и краешка этой темы не заметил. Именно потому,
что над Иудою и его «сребрениками» мне пришлось самому годы думать, —
произведение Л. Андреева мне и представилось отвратительным, неслыханно
глупым.
2) Статья о свящ. Тихвинском, конечно, имела косвенный смысл. Сни-
мать «указом консистории» священство, т. е. благодать священства (как учит
Церковь же), просто нелепо и даже невозможно! Как «снять указом» «благо-
дать»? Не понимаю!.. Вот разве самой «благодати» нет, и Церковь сама в
священстве не признает «благодати», не чувствует «благодати», а только о
ней говорит риторически — тогда так! Католики, знающие логику вещей,
последствия каждого учения, и не снимают со своих священников сана, не
снимают вовсе и никогда, ни за какие преступления, даже за хулу против
220
Бога, Христа и папы. Они только такого преступника лишают прав священ-
нослужения, «запрещают к служению». Наказание это есть и у нас, но оно
вовсе не то, что лишение сана, «благодати священства». Таким образом, с
моей точки зрения, в данном пункте совпадающей с католическою логикою,
Тихвинский и теперь остается священником, и не может стать не священни-
ком, священником он перейдет и в загробный мир, если только, впрочем, он
есть, что стало сомнительно в наш век, когда вдруг все стало колебаться,
поколеблено вот и «священство» с «благодатью» самими же необдуманны-
ми актами-распоряжениями духовной власти. Все «по указу»... Но ведь если
«по указу» дали «благодать», по указу «сняли благодать», то, может быть, и
загробная-то жизнь тоже подчинена каким-нибудь «указам», и тогда, ей-Богу,
это как-то безвкусно и... не нужно!
Такова моя ясная точка зрения, — пусть только лично моя. Статья же
моя о Тихвинском имела косвенную цель: доказать и показать исчерпываю-
щими цитатами из Евангелия (апостольских «Посланий»), до какой степени
тщетна надежда опереть на Евангелие какую-нибудь политику, подобно тому
как в другой сфере совершенно тщетна надежда опереть на Евангелие здо-
ровый, энергический труд, всякое «благоприобретение» и экономику. Тут
опять бесконечные вопросы, и, заодно посмеявшись над вятскою консисто-
риею (не знает Евангелия), я ввел читателя и в серию этих вопросов. Конеч-
но, я ни малейше не разделяю цитированного мною учения апостола Павла
о «власти» и властителях и думаю, что по крайней мере хоть некоторые квар-
тальные поставлены не «от Бога», не суть «Божии слуги». Апостол Павел
— не Бог, и суждения его о политических предметах не суть «божествен-
ные» и абсолютные, не суть «благодатные»: а суть частные и личные мне-
ния, замешанные среди других религиозных суждений, на которые он уже
получил «благодать» и «вдохновение». Однако раз такие бедственные слова
вырвались у страстного «апостола языков» и ничего им противоречащего
нет в Евангелии, то является совершенно невозможным политику и опирать
на Евангелие: пусть она опирается на свои собственные и самостоятель-
ные начала, народный интерес, народную нужду и проч. Мешание же этих
двух вещей всегда порождало отвратительные явления, вроде «Священного
Союза», в котором задыхались народы, нации, — и никогда ничего лучшего
опыты «христианской политики» не породят. Но, как я вижу, попытка моя
ввести мысль читателя в этот строй мысли не увенчалась успехом. Все по-
няли, будто я защищаю вятскую консисторию и желаю какой-то казни свящ.
Тихвинскому. Увы, читатели стали требовать от писателей только «правых»
и «левых» мнений, «вперед» или «назад»! Я должен на это ответить ограни-
чением читательских прав и напоминанием читательских обязанностей. Во-
первых, они обязаны понимать то, что читают, по крайней мере стараться
вникнуть в это; а во-вторых, не забывать, что сверх «читающей публики» и
ее одобрения или неодобрения перед каждым писателем, насколько он не-
пременно есть наследник исторической культуры, лежит бездна вопросов,
сложный мир истины и недоумений в ней, где он тоже «разбирается» и обя-
221
зан «разбираться»: и что вот это-то все для него и есть главное, после чего
он может прислушаться и к мнению массового читателя. Мнение это — как
и имущество: его надо уважать и ценить, не уменьшая и не преувеличивая.
Надо его любить и хотеть его одобрения, однако не непременно. Я отвергаю
легенду Иуды: и сребреники хороши, эти прекрасные римские динарии и
еврейские сикли, которых столько я понасобирал вопреки Евангелию в свою
коллекцию, и не каюсь в этом; и успех в толпе прекрасен же, уже потому, что
он народен, а отделяться от народа нехорошо. Но и прочное с народом со-
единение дается только некоторым высшим: это служением истине. Об этом-
то должен помнить каждый читатель и не требовать себе большей роли, чем
какая ему принадлежит по существу.
* * *
Все сие я ответил, как «Радамес» своим обвинителям, а теперь перейду и к
обвинению в другой, педагогической сфере. Со всех сторон я слышу о мно-
жестве отказов в поступлении на Высшие женские курсы («Бестужевские»).
Директор их, г. Фаусек, вместе с коллегиею наличных профессоров, кото-
рые ничем, между прочим, не участвовали в труднейшем деле создания Кур-
сов, а только читают из них лекции, — постановили от себя правила, по
которым ныне они принимают на курсы только «медалисток», т. е. окончив-
ших среднее учебное заведение «с медалью». Без медалей почему-то прини-
маются только болгарки, которым почему-то отдано предпочтение перед рус-
скими — неизвестно. К требованию медалей могут приноровиться теперь
оканчивающие курс в гимназиях: но оно было совершенно непредвидимо
лет 5 — 6, да даже 3 — 4 года назад, и знай об этом гимназистки тех лет, они
совершенно легко могли бы заработать себе медаль, оставшись на повтори-
тельный курс (год) в последнем классе! Ведь это, т. е. лишний год в гимна-
зии, сущие пустяки в сравнении с драгоценным правом приобрести высшее
образование в России. Затем, почему-то не принимаются на Курсы без ис-
ключения все епархиалки, т. е. все множество дочерей священников, диако-
нов и пр.! Все это по распоряжению мудрой коллегии профессоров, издан-
ному 2 или 3 года назад! Можно ли было предвидеть это провинциальным
священникам, диаконам и причетникам, отдававшим иногда даровитейших
своих дочерей в епархиальные училища, равные прочим учебным средним
заведениям, без всякого ограничения, — просто оттого, что эти заведения
были ближе, под рукою, что по духу они роднее сословию священников!
Возможно ли же наносить удар всем этим ни в чем не повинным девушкам,
лишая их прав высшего образования, — лишая их совершенно непредви-
денно для тех лет, когда их отдавали в учебные заведения и когда они окан-
чивали в них курс! Это несправедливо, это жестоко. Позволю сказать как
бывший педагог, что это, наконец, и глупо: кому в быту нашем, в педагоги-
ческом быту, не известно, что зарабатывают «медаль» нередко вовсе не луч-
шие ученики гимназий, не деятельные и развитые, которые к этому тщес-
222
лавному украшению ученической груди остаются довольно равнодушны, а
пустенькие, неразвитые и вообще так называемые «зубрилки». Заработав
тщеславно медаль при выпуске, они так же торопятся на первом же курсе
заработать «репутацию передовой». Я не о серьезных явлениях здесь гово-
рю, которые есть, а об несерьезных, которые тоже есть, и это очевидно для
всех сторон. В учебном мире от этого происходит та нелепость, что в то
время как в августе множеству учеников или учениц отказано в приеме в
университет или на курсы «за теснотою аудиторий, не могущих вместить
всех желающих», смотришь в ноябре — декабре эти самые аудитории пус-
туют, ибо все разбежались по митингам и сходкам. Разве это не известно г-
ну Фаусеку? Разве ему и его коллегам не известно, что лекции вообще ни-
когда не посещаются всем составом принятых, едва посещаются даже и по-
ловиною? И что поэтому определить 1 сентября реальный контингент лиц,
могущих вместиться в аудитории, невозможно, не ошибившись самым гру-
бым образом?
Наконец, мне жаловались именно желавшие поступить на историко-
филологическое отделение Курсов, столь малолюдное везде: но разве для
лекций по предметам этого курса нельзя было иногда занимать актового зала,
огромного?! Ведь посещаются не все лекции одинаково, ведь это азбучная
истина университетской жизни: людно посещаются только лекции талант-
ливейших профессоров, и вот для этих лекций, т. е. на немногие часы, ко-
нечно, можно было отводить вообще пустующий актовый зал. Ну, а актовый
зал Высших женских курсов, уж во всяком случае, может вместить всех
филологичек, и принятых, и отвергнутых в этом году!! Не будьте самолю-
бивы, гг. профессора, г. Фаусек: признайтесь, что вы поторопились делом,
что вы не пожалели множества любознательнейших девушек, и поверните
быстро и энергично необдуманное дело в другую сторону; наконец, вспом-
ните и то, что именно на Курсах, создание которых стоило громадных жертв
и трудов множеству русских людей, старавшихся вовсе не для «медалисток
и шифристок» Министерства народного просвещения и ведомства Импе-
ратрицы Марии, а вообще для талантливой и энергичной женской молоде-
жи в России, что в этом деле распорядиться «по-своему» вы не имели ни
малейшего нравственного права. Казенное право, конечно, у вас было, но
ведь это не то, что требуется и о чем я говорю, обращаясь к наставникам и
ученым... Вы были не на высоте этих определений, этих званий, и признай-
тесь в своей ошибке с тою человеческой простотой, которая помнит, что не
раскаивается только глупый и злой. В мою бытность студентом я помню, до
чего переменялась судьба первых учеников (медалистов) гимназии в уни-
верситете: это были самые ленивые, праздные слушатели в аудиториях, да и
просто они не понимали, не усваивали содержания лекций, ибо в гимназии,
бывало, зубря уроки, не читали ничего и вообще были совершенно чужды
научного, книжного (и лекционного) духа и языка. На первые ряды в уни-
верситете именно выдвигались «посредственные» и даже «плохие» учени-
ки гимназий, шалуны в гимназиях и немного «радикалы» в них, зачитывав-
223
шиеся книгами, авторами, — и никогда решительно ни о каких «медалях»
не помышлявшие. Эти-то именно и были университетским золотом, влюб-
лялись в науку и в профессоров; да и на сходки, по крайней мере тщеслав-
но, они не спешили, ибо все это было для них не новинка, было «вчерашним
днем», сегодня уже скучным.
Вы сделали несомненную ошибку, ошибку с точки зрения интересов
науки на самих Курсах. Вы обязаны всех кандидаток принять; филологичек,
юристок и математичек, для которых не требуется кабинетов, а только лек-
ционные залы, — во всяком случае, всех. Наконец, неужели для аудиторий
нельзя нанять временного помещения: ведь суть Курсов, конечно, не в зда-
нии, а в составе профессоров, ведь рвутся на них ради этого состава, а где
профессора читают — это все равно! Неужели же в Петербурге нет пустых
зал? Это невероятно, — и рассуждать об этом я нахожу просто глупым. Мо-
тив отказа, настоящий мотив, лежит, конечно, не в тесном помещении, а в
тщеславном желании поднять «гепоттё» своего учебного заведения, к чему
от сотворения мира, увы, стремились все «начальства»...
О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РЕЛИГИОЗНО-
ФИЛОСОФСКИХ СОБРАНИЙ
Бывшие в 1902 — 1903 годах Религиозно-философские собрания в Петер-
бурге возобновляются. Устав общества, выработанный в нескольких весен-
них заседаниях главным образом бывшими участниками Религиозно-фило-
софских собраний 1902 — 1903 гг., за это лето получил утверждение, и та-
ким образом формальная и юридическая сторона дела приведена в надлежа-
щий вид. Вопрос лишь за нравственными и умственными силами, и здесь
центр дела в равной мере распределен между руководящим собраниями об-
ществом, т. е. реальными участниками будущих собраний, чтецами рефера-
тов, русским обществом в большом его объеме, ибо оно будет возбуждать и
направлять ход чтений устными возражениями на рефераты, поднятием спо-
ров около известных тем и общим положением нашего отечества, поскольку
оно дает свои отражения на религиозную мысль людей. Из бывших видных
участников Религиозно-философских собраний 1902 — 1903 гг. некоторых
нет теперь в Петербурге, хотя, будем надеяться, их нет не навсегда, но зато
на собрания внесут свою энергию деятели-чтецы религиозных совершенно
новых кружков, образовавшихся за последние три года около Московского
университета, из окончивших курс питомцев этой общерусской almae matris.
Будем, словом, надеяться, что все будет достаточно живо, остро и мучитель-
но, как и надлежит быть всему на этой священной и горячей почве. Обще-
ство тщательно отгородило себя от всякого академического духа и хочет
быть местом встречи верующих людей, а не людей религиозно-осведошеи-
ных, не ученых, для которых религия есть пережиток старины, любопыт-
224
ный только для исследователей и исследования. Оно ожидает и вполне уве-
рено, что если не сразу, то очень скоро соберет вокруг себя всех ищущих
религиозной истины, всех людей с большим религиозным прошлым, в виде
ли жизненного опыта, в виде ли найденных теоретических решений. «Не о
хлебе одном жив бывает человек», — этот ответ И. Христа искусителю оп-
ределил судьбу в истории христианского идеализма, и участники возобнов-
ляемых собраний вполне уверены, что идут не по какому другому, а по это-
му же пути. Среди вопросов о хлебе насущном, так высоко и пылко подняв-
шихся эти два года в нашем отечестве, они поднимают вопрос о хлебе ду-
ховном; не в отрицание первых хлебов, а в дополнение к ним. Доброму делу
добрый путь.
ЗА ПАСТЫРЕМ — И ОВЦЫ
Хотя, конечно, странно поднимать вопрос, с кого начинать какое-нибудь улуч-
шение, кто первый должен стать лучше, начальник или подначальный, па-
сущий или пасомый, пастырь или овцы, учителя или ученики, — но иногда
скрепя сердце все же приходится поднять этот вопрос. Разумеется, все дол-
жны стать лучше, для всех путь один — в гору, вверх; но когда путь очень
труден и извилист, когда он грозит безуспешностью странникам, — пусть
ринутся вперед начальники. Пусть сделают усилие невероятное, чрезвычай-
ное; но нужно спасти дело. Если же они пускают или особенно гонят вперед
овечек, неосмысленных, ну, допустим, глупых, во всяком случае неопытных
и молодых, можно сказать только: «стыдно», можно прибавить только: «ни-
чего не выйдет».
Наша духовная школа полужива, если не мертва. Нужно читать факты,
приведенные во второй половине книги «По вопросам духовной школы,
средней и высшей, и об учебном комитете при Св. Синоде» г. Глубоковского
(профессора духовной академии в СПб.), чтобы прийти в настоящий ужас.
Ученья — нет; повиновенья — нет; нравы, привычные старые нравы — воз-
мутительны. Определение К. П. Победоносцева (незадолго перед смертью),
что «духовная школа стала кабаком», совпадает с тем определением Глубо-
ковского, что духовная школа — разломана и запачкана, что от нее остались
какие-то грязные щепы, что все из нее и от нее бегут.
Факт налицо, и о компетенции свидетелей не может быть вопроса. Но
нельзя не прийти в крайнее изумление, если мы обратим внимание на то,
что и сам Победоносцев, которому, конечно, были открыты возможности
действовать на других, а не на духовном, поприщах, до конца дней сохранил
привязанность именно к нему и не оставил его ни для какого другого; а Глу-
боковский не только везде пишет вместо принятого «семинария», «семина-
рии» — «Семинария» (с большой буквы), но и говорит везде о них, о семи-
нарских учителях, о старых семинарских ревизорах и, наконец, о всем вооб-
ще духовном сословии хотя и с постоянною болью, но и с такою привязан-
8 В. В. Розанов 225
ностью и уважением, которые удивительны и не могут не тронуть. Есть,
значит, в этом мире что-то великое и притягивающее, — не обезображенное.
Заложена какая-то великая возможность, за которую цепляются идеалисты,
и ради этих возможностей не хотят отсюда уйти; но эта возможность на
практике развернулась в позорное зрелище, в ряды фактов, в целую паутину
их, где задыхается всякая честь, разум, совесть. В одном месте говоря, что
подъем школы духовной неотделим от оздоровления вообще всего духовно-
го мира, он замечает:
«Нужно позаботиться о поднятии запросов пастырского служения канони-
ческим возрождением соборности церковного устройства, правильною орга-
низацией) приходской жизни, христианским образованием верующих хотя бы
через христиански-гуманитарные школы, а также всяческим и всевозможным
улучшением быта нашего духовенства, имеющего величайшие заслуги перед
обществом и государством, чуть ли не больше других сословий» (с. 15).
На первой же странице своей книги он говорит о прошлом и будущем
семинарий:
«Настало, кажется, время взглянуть прямо в глаза действительности и —
не с осуждением духовной школы, а с благодарностью ей за выполненную мис-
сию — констатировать, что корень зла, жалобы на которое слышатся со всех
сторон и все учащаются и становятся резче, — лежит не в самом существе ее,
откуда возникает принципиальный вопрос: не отжили ли свой век наличные
духовно-учебные формы?»
И затем предлагает совершенно уничтожить, упразднить существующие
семинарии и духовные училища, как совмещающие в начале и задачах сво-
их совершенно несовместимое и не могущее никогда ужиться рядом, — и
заменить их двумя типами школ, совершенно обособленных, ничем между
собою не связанных, отнюдь не подчиненных даже одному ведомству, од-
ной власти:
1) Конфессиональные (вероисповедные) школы для приготовления свя-
щенников и вообще церковнослужителей, с планом и духом совершенно
единым, без всякого совместительства целей и задач, без погони за двумя
или более зайцами (теперешние духовные училища и семинарии). В них
все, программа, подчинение и распорядок внутренней жизни, должно быть
приноровлено к исключительной и великой задаче — дать народу русскому
и православному добрых пастырей, верующих, одушевленных, одновремен-
но нравственных и уставных. Из программ школ этих должно быть выкину-
то все, что в теперешних духовных училищах и семинариях не отвечает за-
даче единственного пастырского служения, т. е. должны быть исключены
все светские предметы, введенные в курс духовного образования частью по
уступке общим образовательным принципам, частью ввиду того, что мно-
жество из воспитанников духовных училищ и семинарий уклоняются от
священнического, вообще от церковного пути и идут через университет в
доктора, в юристы, в чиновники и проч.
226
2) Общеобразовательные заведения, приблизительно по типу классичес-
ких гимназий, но с более серьезным христианским образованием и воспита-
нием, — которые могут находиться и не в ведении Св. Синода, а, например,
Министерства народного просвещения. Школы эти удовлетворяли бы стрем-
лению к серьезному религиозному образованию, какое, несомненно, есть в
серьезных частях общества и особенно народа.
Первые школы, так сказать «поклявшиеся в верности церкви», должны
быть открыты для детей не одного духовного сословия, но всех сословий,
дабы никто в стране, имеющий призвание и позыв служить церкви практи-
чески и фактически, не был отвергнут. И с другой стороны, дети священни-
ков и вообще духовных лиц (наряду с прочими сословиями) могут посту-
пать во второй тип этих школ в случае их нежелания или просто равноду-
шия продолжать церковную деятельность и службу.
Все видят, до чего это просто и ясно.
Дело в том, что не семинаристы развалили школу, а она сама развали-
лась, и развалилась от той простой причины, что сама не знает, готовит ли
она священников или лекарей и за чем ей торопливее нужно гнаться — за
пастырскими ли задачами или светско-учебными целями? Не знает этого
школа, да еще менее знает и знал это учебный комитет. О последнем Глубо-
ковский повествует просто чудеса: на 145-й странице своего труда он выска-
зывает, в тезисе 3, пожелание:
«Чтобы самый учебный комитет был преобразован в чистый учебно-педа-
гогический институт, соответственно чему необходимо изменить и обновить
весь его состав, чтобы в нем действовали истинно опытные педагоги, всецело
посвящающие себя этому великому служению, а не случайно набранные петер-
буржцы, уделяющие лишь несколько отрывочных часов без систематического
сосредоточения на духовно-школьных предметах».
Вот мы и подошли, пожалуй, к корню дела: последний распорядитель-
ный акт Св. Синода шугает:
1) семинаристов,
2) их учителей.
И только, о «прочем» умалчивая. Между тем, под рукою у себя он, Св.
Синод, или обер-прокурор Синода передал заведывание всем учебным де-
лом в Империи и в церкви «случайно набранным петербуржцам», каким-то
неизвестным карьеристам-чиновникам или карьеристам же из духовных лиц,
— которых иначе и нельзя назвать, как «карьеристами», если они взялись за
такое дело, не имея никакой специально-учебной подготовки, да не имея
времени или желания иначе как «отрывочно» остановиться на духовно-учеб-
ных предметах без всякого «сосредоточения»... Ведь это что-то напоминает
духовно-учебную панаму... А если перевернуть страницу, мы прочтем жа-
лобы:
«Духовной ли школе не иметь своего специального педагогического жур-
нала и для него ли жалеть копеек синодским финансистам (sic!), которые своим
высоким чинам выдают по 8000 рублей для переезда с квартиры на квартиру в
городе С.-Петербурге... Задумывались ли они над этим?»
227
8*
И далее:
«В этом отношении, может быть, еще интереснее было бы позондировать
почву, училищный совет при Св. Синоде, где существует даже особая «изда-
тельская комиссия», о чем ходит много разных слухов, но не сообщено пока
точных фактов»...
Дело тут представляется совсем печальным... Печальным и постыд-
ным. Особенно принимая во внимание, что при центральном управлении
при Синоде и учебном комитете так-таки и не нашлось, по разъяснению
г. Д. Т—ва, денег на рекомендованное семинариям классное наставничество,
и пришлось отнести этот расход на «местные средства», т. е. на сборы с
местного провинциального духовенства, с местных уездных храмов, или при-
шлось попользоваться «безмездною» службою тех же порицаемых, плохих-
плохих, виновных-виновных учителей, инспекторов и ректоров (см. обра-
щение к ним Св. Синода). Все это не имеет хорошего аромата. Хорошего, да
и здорового. Очевидно, мы имеем три яруса судящих и подсудимых, винов-
ности и виновных:
1) семинаристы,
2) учителя и воспитатели,
3) духовно-учебная администрация.
Последняя заняла положение судьи и судит семинаристов и учителей:
но компетентнейший судья, известный учеными заслугами не только в Рос-
сии, но и в Европе, в специальной книге, посвященной предмету, рассказы-
вает и доказывает, что при испорченных, конечно, семинаристах и испор-
ченном ученье, при крайне добросовестных и заморенных трудом учителях
испортил все дело духовного ученья своим незнанием учебного дела, педа-
гогическою неподготовленностью и служебным карьеризмом учебный ко-
митет при Св. Синоде, т. е. испортило его само духовное ведомство в совме-
стной работе с обер-прокурором... Тут — и администрация, тут — и законо-
дательство. Семинарии развалились потому, что не было разумного, просве-
щенного глаза около них.
Как же тут читать мораль учителям и семинаристам? Первые трудятся
по программам. Вторые были взяты, были приведены во всяком случае из
верующих, усердных к церкви семей русского сельского и городского духо-
венства. Откуда же взялось зло неверия и цинизма, зло церковного и всячес-
кого нигилизма?! Откуда, откуда?!! Дети — невинные (в возрасте 10—11 лет,
приводимые в духовные училища), учителя — трудолюбивы. Да все и рас-
тлилось, действуя в характерно-растленной атмосфере, как это ни печаль-
но сказать, нашего духовного ведомства. И нужно не читать мораль, обра-
щаясь к низу (хотя отчего же, впрочем, ее и не читать?), но нужно этому
ведомству in toto оглянуться на себя и всмотреться в старые-старые свои
навыки, обычаи, методы жизни и действования... Есть в Евангелии об этом:
«Врачу, исцелися сам», и еще: «Что указываешь спицу в глазу ближнего сво-
его, а у себя бревна не видишь»...
228
ДВА ПОЧТИ АНЕКДОТА
В появившейся недавно книге профессора Петербургской духовной акаде-
мии г. Ник. Глубоковского «По вопросам духовной школы и об учебном
комитете при Св. Синоде» передаются два случая из истории наших духов-
ных семинарий. В вятской семинарии, где образовался «центральный рас-
порядительно-исполнительный орган» для всех семинарий в России, на-
значена была ревизия. Ревизор Д. И. Тихомиров не нашел, однако, при са-
мом тщательном осмотре семинарских помещений никаких вещественных
следов и никаких письменных документов об этой организации. С тем и
вернулся в Петербург. Ревизия была в Великом посту. Но вот, когда в пас-
хальную ночь за семинарскою службою началось чтение Апостола и свя-
щеннослужители начали переменять черные облачения на светлые, пасхаль-
ные, то они с великим недоумением увидели под святым жертвенником объе-
мистую связку бумаг, оказавшихся секретною литературою центрального
семинарского комитета. Здесь были воззвания революционного содержа-
ния, программа и переписка центрального комитета и проч. Это — на од-
ном конце явления. А на другом его конце помещается другой анекдот, т. е.
реально бывший случай, который мы называем анекдотом только по его
смешному и невероятному почти характеру. Рассказ касается Владимира
Карловича Саблера, бывшего товарища обер-прокурора при Победоносце-
ве, хотя имя его у Глубоковского и не названо. Но в Петербурге и среди
духовенства всей России известно, что Владимир Карлович чрезвычайно
любил долгие церковные службы и требовал, чтобы, напр., на всенощных
«все вычитывалось» (без пропусков) из так называемых «паремий», кото-
рые обычно сокращаются чтецами. Далее мы приводим дословно рассказ
Глубоковского: «Некоторые духовно-педагогические начальники иногда
прямо тиранили училищных малышей ежедневными церковными служба-
ми перед началом уроков и, конечно, с успехом воспитывали измлада нелю-
бие к храму в духовном юношестве. Тут была хоть ревность не по разуму,
но случалось и хуже, когда ради симпатий чиновного синодского повелите-
ля всенощные в столичной семинарии затягивались чуть не на три часа, а в
его отсутствие сокращались до минутных измерений. Однажды вышло так,
что раз этот синодский властитель нагрянул в неурочную субботу, желая
похвалиться пред своим московским соратником (т. е. управляющим мос-
ковской синодальною конторою, которым в то время был князь Ширин-
ский-Шихматов), гордившимся истовою уставностью Успенского собора.
Между тем оказалось, что еще в 7-м часу высокие посетители уже пришли
к «Утверди, Боже» (т. е. к концу). Ректор неожиданно получил оскорби-
тельный реприманд»...
Нам кажется все это гораздо глубже. Можно ли играть церковною служ-
бою, то затягивая ее на три часа, то сокращая до 3/а часа, смотря по присут-
ствию или отсутствию высокопоставленного чиновника из Петербурга? Что
же сделали в Вятке семинаристы в том другом анекдоте или анекдотообраз-
229
ной действительности? Они только и сделали, что перешли в другой анек-
дот же.
Анекдот сменился анекдотом, анекдот перешел в анекдот же, но выско-
чивший с другого полюса. Об этом предсказывал еще отец славянофильства
А. С. Хомяков, писавший о «вере безверной» у нас, о «лести и разврате» на
месте святом. О том же писал И. С. Аксаков в «Руси» своей, говоря, что у
нас царствует «мерзость запустения на месте святе». Наконец, пред моги-
лою этим признанием обмолвился и Победоносцев: он резко назвал семина-
рии «кабаками» и в другом месте еще грубее (см. посмертно изданную пе-
реписку его с г. Гавриловым). Так он выразился об учебных заведениях, где
рука его была «владыкою». Почему он не сказал: «Я привел семинарии в
совершенно негодный вид, — я и те лица, которым я так доверял».
Почему не хотят и теперь понять, что не новыми карами, не новою суро-
востью дисциплины можно обновить духовную школу, сохранив в ней ста-
рый «победоносцевский дух», а обновлением всего строя духовных семина-
рий, новым, евангельским оживлением всей церковной жизни.
К ЗАБОТАМ О НАРОДНОМ ЗДОРОВЬЕ
В Казани несколькими профессорами тамошней духовной академии, с г. Пи-
саревым во главе, издается прекрасный журнал «Церковно-Общественная
Жизнь».
Между прочим, под псевдонимом «Бытописатель» в нем помещает свои
наблюдения и размышления сельский священник. Ряд статей и озаглавлен:
«Из дневника сельского священника». Прочел я последний его дневник и
так и ахнул. Никогда в голову не приходило того, о чем рассказывает и чем
затревожился этот священник; а между тем, дело так очевидно, бесспорно и
каждый день губит или угрожает сотням и тысячам человеческих жизней,
но только не явно и вдруг, а потаенно и медленно. И в какой момент, до чего
невинным!
В дневнике от 23 ноября он записывает, что принесли в церковь окрес-
тить шесть младенцев, с ними пришли и шесть кум, шесть кумовьев и шесть
бабушек-повитух. Он всех записал в метрики. Вода была уже приготовлена,
и он расставил бабушек по порядку: с мальчиками — впереди, с девочками
— позади. Но только было приготовился начать крещение, как один из ку-
мовьев подошел и прошептал ему:
— Батюшка, сердись — не сердись, а я с Феклистовым сыном своего
крестника крестить не буду. У Феклиста-то и его хозяйки Маланьи носы-то
стали проваливаться. Как бы от них и к нам эта болезнь не пристала, в од-
ной-то купели да в одной воде коли будешь всех крестить. На селе-то давно
уже все чураются их, сторонятся, значит, из одной посудины с ними не пьют
и не едят.
230
Священник-«бытописатель», конечно, исполнил его желание: ребенка
больных родителей окрестил отдельно от прочих. Но, придя домой, он зат-
ревожился: «Ведь я и ранее тех же Феклистовых младенцев крестил заодно
с другими, не меняя воды. Да и одна ли Феклистова семья на себе недосчи-
тывает у себя носов? Сам я, хоть и пастырь, берегусь и не угощаюсь в этих
домах. А о детях, о крещении и в голову не приходило. И что, если я при
первом же таинстве незаметно и незнаемо распространил по селу сифи-
лис».
Признаюсь, когда я прочел это испуганное признание священника, я
моментально и тоже испуганно вспомнил слова знаменитого московского
врача Захарьина. По смерти его печатались разные воспоминания о нем,
припоминались слова и мысли, им сказанные, и вот между ними была сле-
дующая: «Бедная наша Россия! С горем и страхом смотрю я на нее. Как тело
больного лишаем покрывается отвратительными мокрыми пятнами, так я
вижу всю нашу Россию покрытою пятнами зловонных заразительных бо-
лезней, из которых на первом месте стоит сифилис. В редкой уже деревне
кто-нибудь не болен им, а есть деревни и волости, где им заражена четвер-
тая часть населения, половина населения. И болезнь, по законам своим, рас-
пространяется неудержимо. Что будет дальше? Народ не понимает. А ведь с
сифилисом идет смерть народная, вымирающее, больное и уже с самого рож-
дения своего заражающее потомство».
Много лет с болью ношу я в душе это изречение Захарьина, но никогда
мне не приходило в голову, что, может быть, священники сыграли здесь ро-
ковую роль, — сыграли просто по необдуманности, по неоглядчивости.
Общение в таинствах. Ведь, в самом деле, если на селе есть два-три зара-
женных сифилисом людей, то от них могут другие уберечься в остальном
обиходе жизни, но при непременном общении при таинствах болезнь по-
ползет. Но я передам все лучше строками дневника священника.
Он призвал к себе Феклистова кума. Тот оказался запасным рядовым, а
раньше на службе состоял при военном госпитале. И рассказал священнику,
чего тот и сам не знал:
«Солдатики всякими болезнями хворают, и часто вот этой самой, которая
все за нос-то хватает. Таким дают разные лекарства, и особые врачи для этого
нанимаются. Но самое главное лекарство то, чтобы с такими больными не як-
шаться другим: в госпитале их держат отдельно, в особых палатах, поят и кор-
мят все в одиночку. К другим болезнь никогда не переносится. Которого рано
захватят, — того вылечивают, видимости на нем никакой не остается, только
разве зубы повытрясутся. А который запоздает в госпиталь-то, то его частенько
выписывают и на побывку домой. Всего же хуже те солдатики, которые скрыва-
ют свою болезнь и совсем больными возвращаются на свою родину. От таких-
то запасных и у нас, на селе, развилась эта болезнь. Где бы им нужно лечиться,
а они жениться. Женятся, ребят рожают и баб своих заражают. Старики вот не
помнят такой болезни, а теперь что ни улица, то два-три дома совсем гнилых.
Трудно уберечься и нам от этого гнилья, но все же нужно остерегаться: береже-
231
ного Бог бережет. Я вот и в госпитале служил, но все же уберегся. И теперь вот
на селе куда как берегусь: николи, чтобы из одной, значит, посудины с ними. А
ты вот крестить вздумал в одной купели, в одной воде с нашими ребятами-то.
Как тут уберечься-то?»
Священник-«бытописатель» тужит о том, что запасной солдат оказался
ученее его. «В семинарии нас учили, что иерей чести ради Божественных
тайн, такожде и люди на него зрящие и руку его лобызающий чем-либо не
огорчатся — главу имел учесанную, лицо и уста измовены, познокти же
обрезаны, и что при осквернении, во сне бываемом, да никакоже дерзнет
литургисати, донеле же исповестся отцу духовному и от него эпитимию
и разрешение поимеет», а о том, что скверна сифилиса грозит целому по-
томству, разрушает и губит его, не нашли нужным и сказать ему. И батюш-
ка, в полном неведении, прививает этот губительный яд от одних крещае-
мых к другим. Со спокойной совестью распространяет эту заразу по всему
приходу.
Священник горюет: «Вот где бы нужна эпитимия». Да и эпитимия не
пастырю только, бредущему в темноте и которому никто не подал окрика,
но и той школе, которая нагружает будущего священнослужителя всячески-
ми знаниями, нужными и ненужными, а вот такого простого указания, еже-
часно нужного, ежедневно применимого и которое предупредило бы ужас-
ные последствия для здоровья народного, не сделала.
В Петербурге прошлую зиму, в пастырских собраниях столичного духо-
венства, происходивших под председательством высокопреосвященного
митрополита Антония или одного из его викариев, некоторыми священни-
ками был поднят этот вопрос о соблюдении мер предосторожности при со-
вершении таинств с целью предупредить заражение через прикосновение.
Говорилось о причащении с одной ложечки. Можно ли подумать, что заго-
ворившие об этом священники хотели покощунствовать? Между кем?! Ведь
кощунствующий имеет в виду одобрение от окружающих, как пьяный сре-
ди пьяных и распутный среди распутных. И в пастырском собрании этого
ожидания, очевидно, нельзя предположить, а следовательно, и самого ко-
щунства нельзя же предположить. К удивлению, послышалось в ответ на
этот вопрос не разумное и спокойное рассуждение, а гневные окрики. Вот,
нам думается, эти окрики уже были сделаны ввиду получить мзду тут же,
мзду одобрения за рьяное, за «святое негодование», и не только от разных,
но и от начальствующих. Так-то ценится на весах духовенства народное здра-
вие... Жалеем, что не пришло в голову поднявшему этот вопрос священнику
ответить лицемерно негодующим, что ведь есть же в руководственных для
богослужения книгах правило, как подлежит поступить со святыми дарами,
когда в них попало запечь нечто нечистое. Пишу об этом потому, что вопрос
по поводу одного случая разбирается Н. П. Гиляровым-Платоновым в его
книге «Из пережитого». Итак, если «язык» церковных правил «пошевелил-
ся» коснуться самих св. даров в отношении чистоты их и удобоприемлемо-
сти, то отчего священнику не рассуждать о чистоте ложечки, на которой по-
232
даются св. дары и которая ведь не есть же «тело и кровь Христовы»? Свя-
щеннику просто не пришло это на ум. По церковным правилам, таковое при-
частие не дают, но бережно и торжественно, при соответствующих молит-
вах, сжигают. Так, Гиляров-Платонов вспоминает о случае, имевшем место
в Москве, когда у мирянина, только что причастившегося, все вышло обрат-
но вон; священник, тут же став на колени, потребил вышедшее при рвоте и
тем избежал необходимой в таких случаях процедуры сожжения и выскаб-
ливания пола, куда пало причастие. Гиляров похваляет усердие священни-
ка, не убоявшегося, что он может отравиться чем-нибудь, случайно попав-
шим за ночь в св. дары, ядовитым насекомым или его выделением. Итак,
вопрос есть, он трактуется, трактуется в церковной литературе. Но он
существует только в отношении св. даров. В «Церковно-Общественной
Жизни» «бытописатель»-священник очень уместно поднимает его в отно-
шении общей купели для крещаемых и несменяемой воды в купели, когда
одновременно крестится несколько младенцев...
ПРИВИСЛИНСКИЕ ПУБЛИЦИСТЫ
У МОСКОВСКОГО «князя» в гостях
Славянский вопрос и положение в нем России и Польши, русских и поля-
ков, довольно ясно. Тяжкий молот исторических обстоятельств раздробил
Польшу и укрепил Русь. Не говоря о других, рано и преждевременно задав-
ленных славянских народностях, русская и польская народности могли бы
сделаться центрами славянского объединения, славянского самостоятель-
ного культурного слияния, одна на Востоке и другая на Западе. Совершен-
но мирно они могли бы существовать одна параллельно другой, как нет и
никогда не было ни зависти, ни злобы, ни соперничества между южносла-
вянскими народностями и русскою. Но Бог судил иначе. Польша погналась
за блестками западной цивилизации. В противоположность глубокому де-
мократизму всех славянских племен, всего славянского духа, Польша и по-
ляки всегда были «ясновельможны»; и «ясновельможество» всегда было
для них каким-то «царством небесным», за которое они променивали само-
стоятельность, независимость, труд, благосостояние и т. п. «малоценнос-
ти» демократического масштаба. Хотя для других-то славянских племен и
было ясно всегда, что «ясновельможные» поляки с такими изумительными
усами и в ослепительных «кунтушах» сидят вовсе не в карете западноевро-
пейской цивилизации, а только стоят у нее на запятках и катаются туда и
сюда по чужой воле, а нисколько не правят ее конями. Поляков не считали
способными к высшему мировому служению, к усвоению и проведению
далеких исторических перспектив. Несмотря на то, что они «лежили кры-
жем» перед Ватиканом, Ватикан только давал им целовать руку, как и На-
233
полеон, побаловав их самолюбие созданием «польского легиона», предо-
ставил умирать за себя, не взяв никоторого «лыцаря» себе в маршалы. Вто-
рые роли, даже третьи и четвертые роли, и никогда не первая роль, были их
историческим уделом.
Более всего через принятие католичества, но также и через все другие
подробности своей истории и жизни поляки никогда не сознавали глубокой
и самостоятельной ценности славянского в себе зерна. Они всегда искали
латинской позолоты, рыцарской позолоты, королевско-блестящей позоло-
ты, претенциозно-дворянской позолоты. Усы, кунтуш, «падам до ног» в мину-
ту опасности и несносное высокомерие, как только опасность проходила, —
таковы их бытовые и исторические черты, несносные и мало постижимые
для остального славянского духа, который от начала нес и, вероятно, до кон-
ца дней своих пронесет крестьянскую в себе складку, здоровый и суровый
мужицкий дух. Может быть, это и неизящно, да зато крепко.
Русь без злобы и, главное, без всякой мстительности вспоминает татар-
ское над собою иго. Татар у нас положительно любят, — любят в населении,
массою и массу. С турками сколько войн мы вели, но и к туркам ни малей-
шей ненависти у русских и в России нет. Инородцы все у нас пригреты. Из
мордвы был знаменитый патриарх Никон, а Годунов был потомком казан-
ских князей. Литва, белорусы, грузины — все у нас свои люди, все сидят за
русским столом, без кичливости над ними хозяина. Им не подают грязных
салфеток, не обносят кушаньем. И, мы верим, в русских «инородцах» Рос-
сия получит, как уже и получала, преданнейших слуг или, точнее, детей-
слуг себе. Такими были Багратион, Барклай-де-Толли. Во всяком случае это
действительно, по-настоящему блестящая параллель тому потоку истребле-
ния, каким в пору силы устремились «ясновельможные» на Литву, на несча-
стную Белоруссию, на давших им хороший отпор хохлов. Лучшие победы
Россия одержала добротою и широтою, как Польша все проиграла «ясно-
вельможностью», кичливостью, нервностью, незнанием ни в чем меры, —
поведением легкомысленным и жестоким.
Россия — универсальна в славянстве. Не зная гордости «своей крови»,
гордости «предками, которые спасли Рим», она смешивалась охотно и легко
с татарскою кровью, с финскими племенами, с немцами, — хотя менее всего
с поляками. На всем земном шаре «ясновельможные» претят нам, претят
как-то органически. Тут — расхождение демократическое и аристократи-
ческое, которое решительно исключает одно другое. Даже «восточные чело-
веки» нам более переносимы. Не говоря о грузинах, глубоко симпатичной
нам нации, не упоминая о татарах, везде народно уважаемых и любимых,
даже об армянах у нас рассказывают анекдоты более в забавном, нежели
злом тоне. Но все, что звучит о поляках, — звучит в народе неуважением и
антипатиею. Только ради «политики» смягчается это народное, культурное
отношение.
Россия стала в центре славянского возрождения. И, без сомнения, в нем
и останется.
234
Ее положение в славянстве совершенно ясно. Оно никем и не оспарива-
ется. Напротив, положение Польши или, лучше сказать, поляков необыкно-
венно трудно, и трудность лежит в духовном и культурном расхождении их
с славянским миром. В этом трудном положении все, что остается им, —
быть скромными, непритязательными, старательно изучать себя и других.
Сократовское «yvcoOt oeccdtov»* очень шло бы им в качестве исторического
напутствия.
Но то, к чему призывал Сократ, кажется «не в долбежку» ясновельмож-
ным. Ну, как они станут учиться, присматриваться, приглядываться, слушать
и взвешивать свое положение, когда они уже всех умнее и всех ученее? А в
теперешний момент, конечно, временного ослабления России и чувствуют
себя необыкновенно сильными.
Князь Евг. Трубецкой в только что вышедшей книжке своего «Ежене-
дельника» имел бестактность поместить «Первый шаг» проф. Мариана Здзе-
ховского. У поляков нет незнаменитых людей. «Знаменитый» Здзеховский
притащил в «Еженедельник» «знаменитого» Людовика Страшевича, и оба
наговорили о русско-польских отношениях что-то такое, что показалось
московскому князю-публицисту весьма умным, а нам представляется со-
вершенно глупым. Во-первых, он говорит не о России и Польше, а о «Нов.
Времени» и Меньшикове, и, во-вторых, вся статья «профессора» не содер-
жит никакой последовательной мысли, а только потуги на остроумие, кото-
рое нам представляется совершенно плоским. Жару много, а ожога никако-
го. Есть такие тела, которые кипят при низких температурах, и к числу их
относится «ясновельможество» с Вислы. И Страшевич, и Здзеховский со 2-й
же страницы забыли, о чем хотели говорить. Начав вообще обличать рус-
скую узость и русскую черствость и сославшись на какого-то «ученого нем-
ца», по наблюдению которого «человек без паспорта в кармане — явление
непостижимое для ума русского бюрократа», оба вдруг обрушиваются на
«Новое Время» и «Московские Ведом.» и кричат, что они с ними «не хотят
разговаривать». «Не хотят», — а между тем от начала до конца ни о чем и
не говорят, как о двух им ненавистных газетах, только «бочком», с этой
личиной ясновельможного презрения. «Никто из поляков, сохраняющих
чувство собственного достоинства, не станет отвечать сотрудникам «Нов.
Врем.» и «Моск. Вед.», зная, что эти люди пишут по заказу, для денег, в
полном сознании своей низости». Все это — голословно, и в этом трагизм
говорящего, у которого нож в сердце и бубенчик арлекина в руках. На рус-
ских улицах и не так ругаются, и у русских есть об этом поговорка: «Соба-
ка лает, ветер носит». — «Если им угодно беседовать с поляками (почему-
то курсив у автора), пусть они исполнят» такое-то и такое-то условие. Да
никто усиленно и не собирается «беседовать» с поляками. Затем он ано-
нимно припоминает какого-то «величайшего русского мыслителя, челове-
ка русского по происхождению, по воспитанию, по складу ума, по воззре-
* «Познай самого себя» (греч.).
235
ниям и стремлениям, словом, самого русского из русских», который будто
бы «заклеймил русский патриотизм названием русской народной дикости».
С тех пор поклонники воззрений, проповедуемых «Нов. Временем» или
«Варшавск. Дневником», не имеют права считать себя представителями
России.
Ну, вот, отчего же? У нас нет такого «ясновельможества» и нет привис-
линского «падам до ног». Все у нас носят свою голову на плечах, и никто
ничьим мнением не стеснен. «Величайший из великих» русский есть, ка-
жется, Владимир Соловьев, который в пылу полемики назвал здоровый и
прекрасный патриотизм Данилевского, Страхова и Аксаковых «явлениями
народной дикости»; но это было только припадком полемики у весьма пере-
менчивого публициста, в которой под конец жизни он раскаялся, как раска-
ялся и вообще в своих католических европейских пристрастиях и начал пи-
сать с почтением в «Вести. Европы» даже о русско-византийской государ-
ственности. Так что он был даже и не против паспортов, которые не нравят-
ся только «лыцарям», бегущим «до лясу». Ненависть к русскому патриотизму
особенно занимательна в устах Страшевича и Здзеховского, которые через
две строки в третьей кричат: «Мы или останемся поляками, или станем нрав-
ственными уродами» (стр. 22). Вот какая дилемма. Но не страшит ли обоих
панов горшая возможность остаться поляком и не перестать быть уродом?
Таким совершенным уродством представляется нам совет не быть патрио-
тами на р. Неве и р. Москве, а только быть патриотами на р. Висле. Патрио-
тизм, высокочеловечное явление у поляков, у русских есть явление только
«дикое». Ну, конечно, «quod licet Jovi, non licet bovi»*. Этим коровам, пасу-
щимся на равнинах Великороссии, приличествует не государственное само-
сознание, а только этнографическое прозябание. Благодарим покорно. Од-
нако поляк не был бы смешон как поляк, если бы не приседал в конце речи.
Поругав «Новое Время» и другие газеты, припомнив к чему-то Чемберлена
и Меньшикова, «профессор» совершает «падам до ног» в отношении «Мос-
ковского Еженедельника», приютившего его убогую статью. «В борьбе с
темной силой, которая именуется инстинктом раба и которая неоднократ-
но бичевалась в «Московском Еженедельнике» его редактором под названи-
ем хамства, зверопоклонства, благонамеренности, заключается весь смысл
истории духовного развития России».
Ну, уже именно, откуда же бедным русским и узнавать о «смысле своей
духовной истории», как не с берегов Вислы.
Как это недостойно, что московская ворона, проглотив кусочек сахару,
поднесенный ей паном Здзеховским, напечатала в Москве, возле Кремля и
его святынь, возле памятника Минину и Пожарскому, всю эту накипь сквер-
ных чувств с Вислы.
* что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку (лат.).
236
«ВЫСШИИ АВТОРИТЕТ» И ДЕТИ
(Письмо о свободной семье)
Меня удивляло оба последние года, почему в то время, как был поднят воп-
рос об освобождении печати от цензоров, общественных собраний — от
«благословения» начальства, университетов — от министерской опеки, ког-
да все шумно бежало к независимости и автономии и получало ее, — один
семейный союз не поднял своей головы и ничего не сказал о себе. Это тем
замечательнее показалось мне, что до японской войны именно семья выка-
зывала более всего внутреннего движения: она писала о себе, о ней писали,
а между 1902 и 1905 гг. она добилась некоторых улучшений в своем положе-
нии, правда неохотно и ухищренно данных. Пример этого ухищренного,
недоброжелательного отношения можно видеть, например, в оговорке, ко-
торою сопровождался закон об «усыновлении». Закон, как бы охраняя се-
мейный мир и стоя стражем интересов обоих супругов, дозволил усыновле-
ние мужу «не иначе, как при наличии согласия на это его жены». Само со-
бою разумеется, что когда бездетная семья усыновляет себе чужого ребенка,
сироту или бездомного, то это является до такой степени благим актом, бла-
гим в семейном, личном и общественном отношении, наконец, актом до та-
кой степени религиозным и церковным, что закону никогда не приходило в
голову ставить ему препятствие, и подобное усыновление совершалось лег-
ко во все времена. Новый закон, раз он издавался, раз для него собирались и
о нем рассуждали законодатели, — очевидно, имел в виду что-то новое, ка-
кую-то новую категорию усыновляемых лиц. Какую? Говоря об усыновле-
нии одною стороною, он имел в виду случаи фактически разорванных се-
мей, где жена не живет с мужем. В этих случаях обычно и муж, и жена обза-
водятся новою семьею. Закон, всегда дозволявший жене, хотя бы и не живу-
щей при муже, но брак которой с ним формально не расторгнут, записывать
рождаемых ею детей на имя мужа и с его отчеством, как совершенно «за-
конных», — тем самым спас и узаконил всех в сущности внебрачных детей,
какие рождались от жен, покинувших своих мужей. Если на это были жало-
бы, — и страстные, горькие, — то потому, что ничего подобного не было
разрешено и мужьям. Дети, рождающиеся у них в новой (нелегальной) се-
мье, никогда и ни при каких видах не могли получить фамилию и отчество
отца, оставались и не материнскими, и не отцовскими, получая фамилию
по имени крестного отца и оставаясь всячески выброшенными из семьи,
оторванными от отца и матери. Этот двойной закон, столь покровительствен-
ный в отношении к жене, оставившей мужа, и столь беспощадный к мужу,
оставившему свою жену и даже оставленному ею без своей вины, был явно
несправедлив и жесток.
Разберитесь внимательно. Вот муж оставлен женою. Одинок, бездетен,
скучен. Запить ли или в карты позабавиться? Может, выйти на улицу и пой-
ти к проститутке в ее логово? Измучен был женою, да и годы прошли! Вер-
231
ности ей, самой уже давно неверной, что же с него спрашивать? Ее нет в
душе и не может быть в жизни. Но «верность» числится в консисторских
бумагах: брак формально не расторгнут, и формально, т. е. в консистории и
в следующем за ее «уставом» государстве, «считается», что жена живет при
муже. Все «считается», и только муж сидит «просчитанным». Государство и
церковь живут тысячелетия, а ему дано семьдесят лет, и вот половина ис-
порчена и вторая — без надежды...
Этого человека не пожалели ни церковь, ни государство. Пожалела его
мимо его дома проходящая женщина. Угрюмый вид жилища и печальный
жилец не выходят из сердца ее. Душа женская глубоко заглядывает и видит
дальше полицейского и попа. Возможно замужество для нее, сватаются же-
нихи, но она, — отцовская ли дочь, вдова ли, — уже «пожалела» оставлен-
ного человека тою степенью жалости, которую наш народ так глубоко опре-
делил как сильнейшую «любовь». Идут дни, борьба, — иногда и внутрен-
няя долгая борьба, но Бог одолевает, и, в сущности, как человек идет в мона-
стырь, так эта женщина, от всей себя и от всего своего отрекаясь, — входит
в этот угрюмый дом и приносит чистую ласку человеку, до такой степени
заброшенному всеми! Она его воскрешает ценою всей жизни своей, своей
судьбы, будущности детей своих, родных...
Люди образуют новую семью, находят в своем углу свое хорошее счас-
тье. Но тут вмешивается консистория:
— Позвольте: нельзя. У него жена есть, к метриках записано. Все у нас
запечатано, и печать в руках.
И действительно, запечатано. В новой семье рождается ребенок, и они
его несут крестить, несут, пока кротчайшие христиане. Но консистория бдит,
давно настороже. При виде ребенка она сейчас:
— Что? Что такое? Ребенок этой девицы? Так и запишем по крестному
отцу. Что говоришь, отец есть? Кто? Этот!!! Н-н-н-ет!!! У него другая жена,
вот и выпись из метрики. Ты ему не жена, а девица такая-то, гуляющая по
улице и приблудно родившая ребенка. Волчье рожденье, как у волчицы в
поле, — и волчий ему ошейник. Мы так и тебя запишем, и его. Девичество
твое опозорено ребенком, но и этою ценою ты все же не попадешь ему в
настоящие матери: имя, фамилию он будет носить вовсе не твою, а вот ду-
ховного восприемника от купели. Отец — Алексеев, ты — Семенова; но
ребенок — и не Алексеев, и не Семенов. Он будет Петров, и никто, встретив
его, не узнает, кто его отец и мать.
В разбитом было человеке возродился новый семьянин. В семье роди-
лась новая скрепа, родился ребенок. В дом, как говорилось во времена Биб-
лии, с ребенком снизошло благословение Божие. Но ребенок этот, это благо-
словение Божие, по суждению консисторских мужей, контрабандный, и в
семье, которая засветилась было чистым, долгим светом, поселяется горе.
Ничем нельзя поправить судьбы ребенка, никак нельзя поправить. Он как
бы от рождения хронически больной, расслабленный, с вывихом, с горбом,
урод. Он юридически больной, церковно больной, общественно больной,
238
«меченый», с «бубновым тузом» на младенческой, на крестильной рубашечке,
которую ему надел поп записью в метрике. Только эта крестильная руба-
шечка с бубновым тузом будет всегда надеваться поверх всякого другого
платья, армяка, тулупа, сюртука, мундира. И если для каторжного есть срок,
— для него нет срока, а между тем, он только родился, и в этом вся его
вина! Они только родили, и в этом тоже вся их вина; никого не ограбили, не
убили, не обманули, не обидели.
— Такие кротчайшие и так наказаны!
В защиту этих безвинных «преступников» и был издан закон 1902 года.
Он был издан, несомненно, под давлением шума в печати, поднятого в за-
щиту таких детей, отцов их и матерей. Закон, по-видимому, широко ставил
права усыновления. На практике он оказывался совершенно неприменимым,
потому что, конечно, никакая жена, возненавидевшая и бросившая своего
мужа, никогда не даст ему «письменного согласия на усыновление ребен-
ка», что по закону требуется для усыновления. Уже Достоевский заметил,
— да это и всемирно известно, — что оскорбитель обычно мстит оскорб-
ленному. Чувство внутренней вины, своей негодности терзает его, но никог-
да он этого не скажет, никогда не сознается, что виновен именно он, а терза-
ние сердца своего переносит на другого с этим дьявольским утешением:
«Мучусь я, мучься и ты». «Мучусь я в душе, будь же ты измучен во внешнем
положении». «Виновна я, но кажись виновным ты». Возьмем роман Турге-
нева «Дворянское гнездо» и судьбу Лаврецкого, Лизы Калитиной и m-me
Лаврецкой. Последняя гуляет в Париже, бросив мужа в русской деревне.
Лиза, благочестивая, тихая, покорная, любит ни за что покинутого человека.
В романе она, узнав, что жена его жива, уходит в монастырь, ибо (в те годы!)
ей и в голову не приходила возможность другого пути! Но пусть бы она
повернула свой путь в другую сторону и твердою рукою взяла судьбу чело-
века, решительно брошенного. На твердость зла ответила бы твердостью
добра. Неужели можно представить себе, неужели редакторы нового закона
предполагали, что эта m-me Лаврецкая, сама и не помышлявшая о верности,
обманувшая и кинувшая мужа воочию для него и для общества, — на сми-
ренное письмо его: «Не позволит ли она» или, по формуле нового закона:
«Не даст ли согласия своего на усыновление им такого-то ребенка», о кото-
ром она очень хорошо знает (или тотчас навела бы справки), что он родился
от ее мужа и Лизы Калитиной, — прислала бы заверенное у нотариуса со-
гласие?! Конечно, ничего подобного! «Я не верна, но ты должен быть мне
верен», — эта нелепая до чудовищности формула есть, так сказать, награб-
ленное имущество всех христианских жен, издавна, тысячелетия данная им
привилегия. И с привилегиею этою, именно как ограбленною и несправед-
ливою, не расстанется никакая злая женщина, ни одна распущенная жена. И
законодатели русские, конечно, знали, что m-me Лаврецкая и все ее бесчис-
ленные копии никогда не дадут «согласия» на испрашиваемое мужьями их
«усыновление», а посему и «усыновление» это, так благостно данное в зако-
не, никогда на самом деле не состоится. И все останется по-старому: т. е.
239
будут усыновлять чужих детей разные филантропы, разные бездетные счаст-
ливые семьи, скучающие своим одиночеством, но ни один отец своего ре-
бенка не усыновит, кроме прижитого после венчания и только в венчании.
Я хочу говорить о свободной семье в свободном обществе и обращая
внимание, что в то время как профессорские корпорации и даже студенчес-
кие кружки получили право автономии и самоуправления в учреждении, в
здании, в материальной обстановке, фактически все-таки принадлежащей
не им, а государству, в это самое время, в шумные эти годы любящая, беско-
рыстная, всем пожертвовавшая для человека женщина все же не может во
многих случаях сказать о нем: «Это — мой муж», о детях: «Это — мои
дети», и дети об отце: «Это — наш отец»...
О копейке спорят и копейку, свою, наживную, получают по суду. Но ни
по какому суду нельзя получить во многих случаях своих детей.
Дитя ли ценится меньше рубля в христианском обществе?
По крайней мере, в законодательстве христианском оно менее обдума-
но, чем рубль (коммерческое право, коммерческие суды, вексельный устав).
Никто ни у кого рубля не отнимает, но церковь и государство во многих
случаях ни за что не подпускают родителей к детям, т. е. отнимают их. И в
то время, как «заимодавец», «кредитор», «должник» — все пойдут, потребу-
ют, взыщут «свое право», — одни родители и дети во многих, во многих
случаях не добьются «своих прав». На что? На ими рожденное'. И когда они
этого хотят, когда дети этого хотят! Да хочет (судя по печати) и само обще-
ство.
— Nolo! — говорит церковь.
— Nolo! — говорит государство.
И настоящие собственники этого, — люди, отцы, матери, дети, — роб-
ко жмутся, пугаясь возражать, не смея искать, требовать.
ОБ УЧЕБНОМ КОМИТЕТЕ ДУХОВНОГО
ВЕДОМСТВА
I
Деспот и карьерист — вот два имени на одном лице, стоящем надзором,
руководителем и чуть не «богом» над несчастными нашими семинариями,
— на лице учебного комитета при Св. Синоде. Он-то и главный виновник
всей распущенности здесь: ведь снизу все видно, ведь люди, находящиеся в
ежовых рукавицах этого комитета, знают вещи, скрытые от остальной Рос-
сии. Все видят и знают учителя семинарий, знают и семинаристы. И тех и
других это отношение к делу и к себе возмутило, подняло на дыбы во внеш-
нем смысле, а во внутреннем породило в них жесточайшее отвращение и
презрение к ближайшему своему абсолютному начальству, которое (отвра-
240
щение) не могло не перейти, как по зубцам движущегося колеса, и на даль-
нейшие инстанции, т. е. естественно на самую церковь и, наконец, на госу-
дарство, на отечество. Все ведь связано! Вот стоящий в стороне и независи-
мый профессор негодует так сильно, как к этому едва ли способен и семина-
рист бастующей семинарии. Негодует, так сказать, попутно, не на тему; но,
излагая взгляды, он вынужден приводить и факты, назвав которые, не может
не высказать своих чувств. Так, проводя мысль, что «церковь для подготов-
ления просвещенных священнослужителей к исполнению своей исключи-
тельно великой и святой миссии обязана иметь специальные школы», где бы
«преподавание, администрация и жизненно-педагогический режим был стро-
го приспособлен к этой одной цели», он к слову «строго» пишет подстроч-
ное примечание:
«Этим я не предполагаю введения драконовской суровости. Напротив, в
заседаниях V отдела Предсоборного Присутствия 29 апреля и 1 мая 1906 г. я
прямо протестовал против крайних стеснений в режиме духовной школы, ис-
кренне удивляясь тому, что Учебный комитет осмеливался смотреть на Семи-
нарию как на тюрьму, откуда воспитанники не всегда выпускаются на прогул-
ки, где существуют потаенные аттестации и т. п. Подобные меры применимы
более к преступникам, чем к ученикам, и никаких утешительных результатов не
приносят. Не в духовно-воспитательных учреждениях место для таких приемов,
которые ныне вытесняются даже из разных дисциплинарно-исправительных за-
ведений чуть ли нс тюремного характера. Обидно, что Духовное ведомство до
сих пор не позаботилось совершенно убрать эти приемы из реестра педагоги-
ческих мер... В религиозной сфере излишние формальности могут отучить от
храма, как это несомненно и теоретически, и по многим горьким опытам пос-
леднего времени. Беда была в том, что на практике нередко намечались крайно-
сти. Напр., в одном столичном духовном училище заставляли мальчиков каж-
дый день по утрам ходить в церковь на богослужение, а затем уже идти в класс
на уроки. Конечно, это — ненормальность. Но что ученики духовной школы
обязаны посещать богослужение в церкви, это, по моему мнению, необходимо
и может быть достигнуто сердечною заботливостью о воспитании внутренней
религиозной настроенности и живой любви к храму Божию, привлечением к
сознательному участию в богослужении, попечениями касательно одухотворен-
ной осмысленности и увлекающей величавости последнего и т. п. Доселе с от-
радою вспоминаю больше всего мои училищные годы в гор. Никольске (Воло-
годской губ.), когда сам смотритель, отец протоиерей Аристарх Петрович Соко-
лов, совершал с учениками богослужения в кладбищенской церкви, и, несмотря
на отдаленность ее от центра, туда охотно, без особенного полицейского при-
нуждения, ходили все воспитанники, привлекая массы прихожан».
Я помню из своей учительской практики нечто подобное: раз я разгово-
рился с учениками III класса (Смоленской губ.) прогимназии и с удивлени-
ем узнал, что они и их товарищи (до VI класса включительно) посещают
приватным образом раннюю обедню в остроге, где служит их законоучи-
тель и где хора не было. Они-то и составляли певчих, а как поздней обедни в
остроге не было, то малыши и взрослые охотно и сами вставали зимою до
241
света и бежали через весь городок в стоявший на краю его острог. И вот
Глубоковский через столько лет помнит своего «Аристарха Петровича», а
школу свою пишет с большой буквы. Конечно, ту семинарию или духовное
училище, ученики которой не ходят к литургии, надо закрыть: ибо зачем же
в священническом училище воспитывать не священников, а врагов священ-
ства? Закрыть не в наказание, а просто потому, что в таком случае в суще-
стве семинарии и нет, а болтается только ее вывеска. Но, с другой стороны,
нужно строжайше потребовать исключения всякого принуждения в посеще-
нии богослужения, всяких мер к этому, а уже как приохотить к этому уче-
ников, об этом пусть постарается талант и вдохновение учителей и воспи-
тателей. Нет таланта — не надо ничего. А есть талант — он «мер» не по-
требует. Здесь мы разумеем не талант ума, изобретательности, а талант серд-
ца, призвания к своему делу, одушевления.
Нужно заметить, что определение Св. Синода, состоявшееся недавно и
по поводу которого мы пишем, формально и циркулярно предписывает и
учителям, и ученикам посещать непрестанно богослужение; повторяет об
этом несколько раз. Какие получались и несомненно получатся результаты
от этого циркулярного предписания, об этом г. Глубоковский рассказывает в
конце своей книги: сославшись на циркуляр № 20 за 1900 г. — «о приучении
студентов и семинаристов к богослужению, проповедничеству и миссио-
нерски-апологетическим собеседованиям», — он продолжает, сославшись
на предыдущие свои слова, помещенные в начале книги:
«На деле же некоторые духовно-педагогические начальники иногда прямо
тиранили училищных малышей ежедневными церковными службами перед на-
чалом уроков, и, конечно, с успехом воспитывали измлада «нелюбие» к храму в
духовном юношестве. Тут была хоть ревность не по разуму, но случалось и хуже,
когда ради симпатий чиновного синодского повелителя всенощные в столичной
семинарии затягивались всякими «столпами» чуть не на три часа, а в его отсут-
ствие сокращались до минутных измерений. Однажды вышло так, что раз этот
синодский властитель нагрянул в неурочную субботу, желая похвалиться пред
своим московским соратником, гордившимся истовою уставностью Успенского
собора, между тем оказалось, что еще в 7-м часу (в этом 7-м часу и начинается
всенощная) высокие посетители поспели к «Утверди Боже» (к концу службы).
Ректор неожиданно получил унизительный реприманд и унизительно оправды-
вался гастрическим расстройством, но невдолге восприял епископство. Нет ни-
чего грешнее и вреднее, как фарисейская показность перед лицом Божиим» (стр.
138).
Тут все хорошо: и архимандрит - ректор семинарии, и разнос его петер-
бургским чиновником, и дальнейшее «движение его служб», приведшее его
к епископству! И, в завершение, поучительно, что он со своим «гастричес-
ким расстройством» перед чиновным лицом из Петербурга не только сейчас
дает величественно целовать у себя руку большим, малым, старым, моло-
дым, простецам и ученым, всей православной, подлинно молящейся Руси,
но не сегодня завтра придет и на Всероссийский Собор вершить «дела веры»,
242
«составлять и подписывать» высокоцерковные акты, чего принципиально и
навсегда лишен, т. е. если б был жив, то был бы лишен, «Аристарх Петро-
вич» профессора Глубоковского, старенький смотритель-протоиерей в гор.
Никольске. Видели эти коротенькие и эти долгие службы, смотря по при-
сутствию чиновника из Петербурга, московские семинаристы? И если виде-
ли, могли ли они не смеяться? Если проф. Глубоковский, такой серьезный,
смеется, смеюсь я, смеются мои читатели: отчего же одни семинаристы бу-
дут сохранять торжественно-серьезный вид? Но я и читатели мои — мы
смеемся над чужим делом, у семинаристов выходит смех над своим началь-
ством, действительно смешным, над которым они не только не могут не
смеяться по извечному устройству души человеческой, но и должны сме-
яться по закону человеческой совести, не могущей остаться равнодушною к
добру и злу! «Совесть заставляет смеяться». Как это ужасно произнести!
Произнести об учениках.... И, повторяю снова, тогда как для нас это только
всероссийский смех, для них это начало смеха над церковью, своим сосло-
вием, всем этим «духовным миром», где не осталось ничего духовного...
II
Перейдем от лиц к делу, системе, режиму... «Св. Синод прямо устранялся
(от ревизий духовных училищ), как будто он меньше всего знал свои школы
и не дорожил их успехом» (стр. 117). Возможно ли что-нибудь подобное про-
изнести в каком-нибудь другом нашем ведомстве? Или о духовной иерархии
Англии, Германии, католической церкви? «И не знает своих школ, и не ин-
тересуется ими». Конечно, это написано не об «сей час», ибо теперь издано
от имени Св. Синода Определение, в котором всем указывается исполнять
свои должности... Но раньше? До «теперь»? Если иногда иерархи Синода
«и не знали, и не интересовались» своим делом, таким близким и принципи-
альным, как подготовка священнослужителей в училищах, то почему учите-
ля, инспектора, воспитатели, о. ректор должны разрываться от «интереса» к
нему, притом еще «безмездно», как «определил» для них Синод? Не есте-
ственно ли ожидать, что по главнокомандующему — и офицеры, по офице-
рам — и солдаты. Но мы верим, и есть все основания думать, что в низших
слоях духовно-учебной службы еще хранится церковный идеализм, что им-
то пока все и держится из того, что держится. Но во всяком случае по глав-
нокомандующему — и главный штаб: непосредственно возле Синода сидит
и распоряжается всем учебным делом Учебный комитет, и нельзя отделать-
ся от впечатления, что и ему, по существу, «дела нет» до состояния учебных
заведений, ему вверенных.
Переходим к фактам.
Сравнивая ревизии старого времени с теперешними, Глубоковский пи-
шет, что учебное ведомство того времени
243
«попечительно следило за своими насаждениями. Это были его собствен-
ные детища, дорогие для высшего духовно-учебного управления во всех мело-
чах и реальностях фактического уклада. Естественно, что под видом ревизоров
посылались на места нс грозные олимпийцы бюрократического величия, а лю-
бящие и опытные няньки, способные и готовые помогать добрым советом и
авторитетным указанием, но не холодными прещениями и страшными карами.
Сам я, например, с искреннею благодарностию вспоминаю почившего С. В. Кер-
ского, который к заброшенной мелюзге Никольского духовного училища (в
Вологодской губ.) обнаруживал трогательную заботливость, входя во все наши
ребяческие интересы и нужды. Даже суровый по внешности позднейший реви-
зор, Степ. Исид. Лебедев, не чужд был сердечных порывов, хотя нагонял на
вологодских семинаристов немало фальшивого ужаса своими бесцеремонными
и грубыми покрикиваниями на всех и на все. При подобных условиях и реви-
зорские отчеты не были мертвыми бумагами. В них до известной степени отра-
жалась подлинная духовно-школьная жизнь, которая лучше всяких канцеляр-
ски-красивых фраз говорила, что у нее есть хорошего и полезного для обеспече-
ния дальнейшего процветания. Эти «отчеты» были настоящими педагогически-
ми трактатами или «томами» с массою ярких наблюдений и удостоверенных
соображений. В компетентных источниках сообщается, что таковы именно были
донесения С. В. Керского, которые составляют целую библиотеку педагогических
заметок и материалов для истории духовного образования в России» (стр. 83).
Таковы были ревизии старого времени приблизительно до 1884 года:
замечательно, что именно с этого времени, когда стал обер-прокурором
К. П. Победоносцев, такой, казалось бы, друг и радетель религии и право-
славия, характер деятельности учебного комитета совершенно изменился и
извратился. Вытекло это из необъятного властолюбия этого религиозного и
православного человека, из властолюбия, которое заглушало в нем самую
веру, которое не мирилось с чьею-нибудь властью, кроме своей, которое не
допускало возле авторитета своего ума еще чьего-нибудь умственного авто-
ритета, даже не допускало, чтобы еще где-нибудь были умные люди, кроме
единственного Победоносцева. Он обратил учебный комитет «в рабски по-
слушную свою канцелярию» (стр. 85), в которой быстро развился обычный
канцелярский дух, сводящийся к двум заветам — выслуживания и подслу-
живания. «Всякая самостоятельность была потеряна, а выиграли лишь ко-
митетские заседатели, где иногда простые «служилые» чиновники быстро
двигались по иерархической лестнице вплоть до тайных советников, укра-
шались высокими знаками орденского созвездия, осыпались крупными до-
бавочными пособиями, рентами, квартирными и многими богатыми и вы-
сокими милостями чиновного мира, когда даже 50-летние (по службе) про-
фессора, воспитавшие целый ряд иерархов до митрополитов включительно,
едва выходили действительными статскими советниками без особых орден-
ских декораций и со скромною пенсией на недолгую, истинно маститую
старость»...
Это — со стороны карьеры и карьеризма. А по существу, и в работе
«учебный комитет получил характер бюрократического и бумажно-канце-
244
лярского учреждения. Воздвигались целые Монбланы всяких бумаг, и ли-
лись широкою рекой циркуляры, явные и тайные, обычные и сепаратные, а
жизнь педагогическая окончательно заслонялась ими и убегала за черты ко-
митетской досягаемости в неведомую даль. На прогрессивно возраставших
бумажных постаментах и монументах избранное чиновничество комитет-
ское возносилось до бюрократических небес и на этой головокружительной
высоте не чувствовало органической потребности считаться с жизненными
запросами. Живое дело резко приостановилось и превратилось в бумажно-
нараставший коралловый риф, опасный для духовно-педагогических кораб-
лей и лодок».
Один из синодальных чиновников высчитывает в похвальном отчете о
деятельности комитета, что он составлял ежегодно до 500 «журналов», вос-
ходивших на утверждение Св. Синода и обер-прокурора его, имел разных
должностных «дел» до 1480 и внешних сношений свыше «тысячи нуме-
ров», — не замечая всего комизма подобного похвального отчета. Ибо к нему
недостает примечания в одну строку: «И при всем сем семинарии развали-
лись».
Дело в том, что, конечно, и обер-прокурор Синода, и его члены-иерархи
читали или слушали, вообще узнавали эти дела, журналы и нумера, т. е. по
этой лицевой стороне деятельности они умозаключали о работоспособнос-
ти членов комитета, а следовательно, и о заслужении тем или другим чле-
ном награды.
«Постепенно образовался тесный кружок «своих людей», — пишет неумо-
лимый судья-историк этого комитета, — у которых, конечно, были и «свои»
интересы, — помимо школы и жизни, — если не считать того, что служебные
места «переуступались» друг другу по любовному договору о казенной кварти-
ре, сохранявшейся за предшественником, когда преемник, обязанный ежеднев-
но бывать в Петербурге, соглашался жить вдали от города... Взаимная услужли-
вость доходила до того, что комитетский чиновный правитель ухитрялся «за-
конно» отправлять еще и функции члена вопреки самой природе службы и вся-
ким правам и правилам. Не менее характерный пример сего мы имеем в том,
что учебный комитет 2-го периода усиленно рекомендовал и усердно распрост-
ранял разные учебники и учебные пособия чуть не исключительно фабрикации
своих сочленов (nomina sunt odiosal), хотя, казалось бы, самый простой такт дол-
жен был всячески удерживать от подобной взаимопомощи» (стр. 89).
Скажите, разве это не панама? И разве из этой панамы смел слышаться
голос, как с Олимпа? Но эти люди именно и вели себя как олимпийцы.
Вдобавок «изделия» комитетские были так плохи, что ревизор иногда
кричал во время ревизии на учителя семинарии за объяснения ученикам, и
тот только в том находил защиту себе, что подавал ученику «руководство»,
составленное сочленом ревизующего, и велел читать вслух, и в «руковод-
стве» содержалось то самое и в тех выражениях, за которые ревизор кричал
на ревизуемого. Ревизор тогда замечал, что он «не расслышал», а теперь объяс-
нения учителя находит совершенно уместными (случай в Воронеже, стр. 90).
245
Характер ревизий резко изменился:
«Это были не наблюдательные ревизии, собиравшие жизненный педагоги-
ческий материал, но по преимуществу полицейские отчеты с велемудрыми со-
ображениями об искоренении непорядков и крамол. Недаром же стали назы-
вать комитетских ревизоров «синодальными Шерлоками Холмсами». Вынуж-
даемся с грустью констатировать, что такие тенденции, систематически и дес-
потически прививавшиеся по провинции, ухудшали и все местные отношения.
Постепенно погасал тон скромного труженичества и быстро заменялся пролаз-
ничеством, покорностью, отличительством. Даже архиереи, всегда прежде пи-
тавшие непосредственную искренность и отеческую простоту в обращении со
своими школами, стали проникаться соглядатайским формализмом» (стр. 113).
То они нагрянут в 8 ч. утра в семинарию, то приедут в понедельник
22-го числа, т. е. когда в субботу была получка жалованья, а затем праздник,
и вот... ревизор как снег на голову! Ревизии получили развращающий смысл:
если у меня ищут только обмана, а делу не учат, — то из делового человека
я и превращаюсь мало-помалу в служебного гешефтмахера, т. е. в полную
противоположность наставнику, воспитателю! Г. Глубоковский приводит и
свидетельства других. «Нынешние ревизии сосредоточивают свое внима-
ние только на внешней стороне воспитания», - говорит один. «Каким бы
эффектом и помпою ни был обставлен внезапный и только опасный, но не
поучительный наезд ревизора, — результаты оказываются бесплодными для
воспитательного дела в духовно-учебных заведениях» (стр. 113, примеча-
ние). Ища «скверной ямы» в каждой семинарии, ревизоры собственно к класс-
ному преподаванию относились совершенно небрежно, — визитируя по
классам, на несколько минут и слегка просматривая ученические тетради.
Верхоглядство достигло того, что один ревизор обревизовал женскую гим-
назию вместо епархиального училища и, только прощаясь с начальницею,
узнал, что он попал в гимназию, т. е. в заведение совсем другого ведомства.
Казалось бы, при таком отношении «спустя рукава» нужно было быть уже
скромным и сдержанным с другими. Но «святой бьет того беса, который его
особенно кусает»: ревизоры, вероятно оплакивая в душе свои вины, были
беспощадны к чужим винам:
«Единственным осязаемым результатом ревизий было внешнее усмирение
семинарий, не всегда разбиравшее правых и виноватых, — но оно чаще означа-
ло притаившуюся пришибленность и вызывало невдолге более резкие взрывы,
ибо всякие походы только опустошают страну и никогда не культивируют ее. И
разве могло быть что-нибудь другое, если заслуженные ректоры семинарий,
чуть не платившие жизнию (во взбунтованных семинариях?), изгонялись и пред-
почитали разбегаться по кладбищенским и приходским церквам и здесь благо-
словляли свою судьбу, когда ранее ректорская должность была величайшею че-
стью духовно-пастырского и педагогического преуспеяния? Стойкие работни-
ки устранялись «волею» или «нуждою» и заменялись удобными и ловкими оп-
портунистами с невысоким цензом по местной оценке... Ни добра, ни пути тут
нельзя было и ожидать» (стр. 116).
246
Так были удалены о. И. Христоф. Пикета в Полтаве, о. И. Павл. Знамен-
ский в Харькове, В. В. Знаменский в Симферополе, о. В. П. Борисоглебский
в Воронеже. Духовный журнал «Колокол» вообще констатировал «бегство
начальников духовной школы». По-видимому, несчастный служебный пер-
сонал был поставлен между двух огней: между не понимающими их и их
положения семинаристами, которые таращились на них как на «начальство»,
готовое их съесть, тогда как они volens-nolens исполняли только разные яв-
ные и потаенные (см. выше) инструкции, — и между их петербургским на-
чальством, еще менее и еще преступнее не понимавшим их положения, ко-
торое, толкнув их на ряд несимпатичных «мероприятий», тотчас же остав-
ляло их и бежало от них, как только что-нибудь от этих мероприятий «выхо-
дило». Глубоковский передает даже, что иногда устраивались «ревизии»
учебных заведений incognito, под видом «любознательных посетителей»,
причем эти ревизоры-посетители «у малых ребят расспрашивали разные
подробности относительно преподавателя!»...
Можно ли представить что-нибудь подобное! Это напоминало каких-то
сторожащих друг друга щук или щук, охотящихся за карасями. И это было
воздухом, которым с 10—11 лет до возмужалости дышали будущие свя-
щенники! Никто этого в России не знает, не предполагал. Думали, что это
только мир распущенности, ничего-неделанья, ну, и получавшегося отсюда
невежества. Но оказывается, что это какая-то особенная атмосфера, прони-
занная злобой и жестокостью.
III
Книга г. Глубоковского такова, что кто-то кого-то должен бы отдать под суд:
или его за «клевету», или он... Но книга его — это и есть суд. За «клевету»
его невозможно и, кажется, было бы опасно привлечь, ибо она, через под-
строчные примечания, ссылки на «дела» и всю предшествующую литерату-
ру предмета, на «воспоминания» и «отзывы» и особенно на многочислен-
ные личные сообщения, в каждом слове опирается на факт или ряды фактов.
А каковы эти факты, можно судить по одному оброненному замечанию, где
он говорит, что «история духовных училищ наших не написана и в некото-
рых частях она и не может быть написана». Тут идет дело о молодых мо-
нахах, которые почти с академических скамей, т. е. из студентов, назнача-
лись в ректоры семинарий... Что они, иногда происходя из бездарных семи-
наристов, сейчас же начинали мстительную политику против вчерашних
своих наставников, ставивших им двойки за успешность в науках, а теперь
обязанных им повиноваться, как начальству, — об этом тоже позорном зре-
лище перед глазами учеников Глубоковский рассказывает. Но есть что-то
худшее. На 101-й странице, в ссылке, он приводит слова Н. Н. Волховецкого
(из «Миссионерского Обозрения» № 5 за 1907 г.) о «quasi-ученых монашен-
247
ках, состоящих наперсницами епархиальных владык»... В ссылке тоже рас-
сказывается об одном молодом архимандрите-ректоре, который когда уез-
жал на дачу, то надо было ремонтировать его (казенную) квартиру. Оказа-
лось изнутри заперто, но так как ремонтировать очень нужно было, да и
самый запор представлялся каким-то недоумением, то дверь сломали: и вот
тут (пишет Глубоковский) «вошедшим представилось нечто неожиданное».
Он ставит многоточие, но мне от одного епископа пришлось выслушать под-
робно эту историю, имевшую место в киевской епархии, и я знаю, что по
взломе двери там оказались неожиданные жильцы, отнюдь не революцион-
ного характера и вовсе без динамита... Насмешливо через страницу он при-
водит мнение-требование одного из деятельнейших двигателей восстанов-
ления у нас патриаршества: «Не следует допускать ни одного светского сюр-
тучника на службу в патриаршее или епархиальное управление» (стр. 103).
Я думаю, что в патриаршее время надо будет особенно крепко инокам запи-
рать свои двери, и вообще «поменьше истории»...
Еще «одно последнее сказанье». Лучшую сторону книги проф. Глубо-
ковского составляет то, что она с равною порывистостью защищает культо-
вые, богослужебные, вообще традиционные задачи и права церкви, — и за-
щищает науку и преподавание ее в полной независимости, в полной свобо-
де. Со страстью к одному, со страстью к другому. Везде он казнит религиоз-
ный цинизм семинаристов, считая это гадостью (как оно и есть). Но и науку
он отстаивает. Об «ученых монашенках, наперсницах владык» он заговорил
по поводу вообще защиты в литературе «нашего ученого монашества», го-
воря, что оно именно — не ученое, а невежественное, хотя и с дипломами, и
смертельно враждебно науке. Нужно заметить, что чем менее вообще учеб-
ный комитет (судя по деятельности) отличался религиозным духом, этим
святым одушевлением сделать свято каждое дело, тем более и пропорцио-
нально этому он, так сказать, надвигал на свою главизну монашеский ку-
коль: «пусть все видят, что я молюсь Богу и предан церкви». Около казен-
ных квартир, аренд, командировочных и проч, он всюду в деятельности сво-
ей проводил монашескую тенденцию, в той, впрочем, немудреной ее форме,
что всюду выдвигал монахов, передал все видные места по учебно-ученой
службе монахам и, наконец, почтительно расшаркивался перед требования-
ми монахов. Теперь и начинается важная подробность: так как в монахи (об
этом подробно писал в своих «Записках» историк С. М. Соловьев) идут са-
мые малоспособные из студентов духовных академий, т. е. лица, к которым
естественно менее всего бывали приветливы профессора этих академий, то
они на всю жизнь потом затаивали вражду к этим академиям и профессорам
и — к богословским наукам, к академической учености. Затаивали это и на
верху иерархического положения, коего, естественно, как (якобы) «ученые
монахи» они достигали, и иногда достигали быстро. Учебный комитет, драпи-
ровавшийся в монашеский дух как в мантию над своим карьеризмом, совер-
шенно шел об руку с этим иерархическим отношением. Он вложил, и без
всякой перчатки, руку, или «десницу», в ученые дела академий, в ученые
248
взгляды академий, начал вмешиваться в учено-литературную деятельность
профессоров...
«При полной собственно педагогической косности, учебный комитет при-
своил себе роль верховного цензора всей духовной и вспомогательной литера-
туры. Он стал в России единственным учреждением, где выдавались влиятель-
ные апробации для всех богословских сочинений, которые не имели иных спо-
собов добиться авторитетного церковного признания. Все ведал безапелляци-
онно один учебный комитет, не умевший или не хотевший серьезно разбираться
даже в своих учебных азбуках. Но, пользуясь таким великим правом, он не же-
лал видеть в этом для себя ответственного долга и потом (в 1898 г.) формально
устранился от обязательного рассмотрения представляемых на одобрение сочи-
нений, продолжая сохранять все цензорские прерогативы ad libitum' (см. цирку-
ляр № 18 за 1898 г. и в брошюре «Об Учебном комитете», стр. 9—10). А верши-
телями были члены, совмещавшие тогда самые удивительные специальности.
Понятно, что комитетские рекомендации получали иногда только рыночную
ценность, особенно крепкую при существовании разных проскрипционных ката-
логов. Эта цензорская работа нормировалась великими течениями и веяниями».
Отсутствие одного принципа в этих одобрениях и неодобрениях приво-
дило к смешным результатам: напр., докторскую диссертацию проф. Мос-
ковского университета Ал. П. Лебедева то устраняли из семинарских биб-
лиотек, и даже не позволялось выдавать ее на руки студентам академий, а
затем ее же назначили в руководство для преподавания. Классический труд
проф. Е. Е. Голубинского - «История канонизации святых в русской церк-
ви» появилась «с тяжким трудом и систематически преследовалась суровы-
ми вердиктами», но потом что-то понадобилось в ней при постановке воп-
роса о канонизации преподобного Серафима Саровского, и тогда «она же
принялась в основу для апологии (защиты от нареканий и вообще критичес-
кого отношения) этого важного церковного акта».
«Узурпировав несвойственную и непосильную ему миссию верховного бо-
гословского судьи, Учебный комитет в то же время забывал о живых книжных
интересах духовной школы. Все школьно-учебные кредиты произвольно и бес-
контрольно исчерпывались заранее центральным распоряжением без всякого
внимания к наличным потребностям и действительным нуждам. В счет этих
кредитов, очень ограниченных, рассылался по семинариям всякий бумажный
балласт, который обременял тесные библиотечные помещения и лежал мерт-
вым грузом без всякого употребления... Через это заведения лишались после-
дних крохотных средств и отказывались от необходимых учебных и вспомога-
тельных пособий» (стр. 95).
Преподаватель одной семинарии в частном письме сообщает Глубоков-
скому, что с нее ежегодно берется центральным ведомством в Петербурге
75 руб., в счет книг, какие будут присланы, но книг ни в один год не высыла-
лось на эту сумму, да и высылались вовсе не требующиеся, при отсутствии
1 По желанию (лат.).
249
необходимых. В библиотеке не было, например, отцов церкви в русском пере-
воде, а высылали «Revue intemationale de theologie», по 4—5 книжек зараз.
Их никто не покупает,
Никто даром не берет.
Не страшны слова: страшны дела, и они творились много лет\ А что же
К. П. Победоносцев? Писал изящные страницы «Московского сборника»,
грустил, вздыхал; особенно вздыхал о том, что «людей нет», что он все один-
«единственный»; и, под конец жизни, на смертном одре, обругал семинарии
«кабаком». Но во всяком кабаке есть целовальник, и нельзя скрыть от себя
ту печальную мысль, что «целовальником» семинарского кабака именно и
был вздохнувший о них государственный муж. Amicus Plato, magis arnica
veritas1. Что делать, литература — одно, дело — другое. От дела, своего и
личного, он отгородился неутомимым своим помощником, который бегал,
говорил, хлопотал, к каждому «делу» и «делопроизводству» наклонял ухо
и, словом, был всегда и весь запыхавшись, сметал чиновную пыль и поды-
мал вокруг себя чиновную пыль, любил «хорр-ро-шие» церковные службы
(на то и «Карлович»), но уже ни о каких нововведениях вопроса не подымал,
отчасти и потому, что вообще в этом, в принципиальной и духовной стороне
ведомства, не очень понимал.
И ... не беспокоил начальства, которое книжку за книжкою выпускало в
синодальной типографии на какой-то чудной веленевой бумаге и отпечатан-
ные краской с чудным синеватым отливом. Начальство «сочиняло», чинов-
ники под ним обделывали свои делишки, все эти «квартирные», «команди-
ровочные» и по части «издания» своих «руководств», которые писались в
той хорошей надежде, что уж будут «одобрены»... «Цыпочка по зернышку
клюет». И ничто не беспокоило Константина Петровича, кроме этих под-
лых семинаристов: то там, то здесь, то отсюда, то оттуда приходили, как к
Годунову в конце царствования, известия, что «там поколотили инспекто-
ра», «там разбили стекло», там «ели демонстративно колбасу перед прича-
щением» (см. у Глубоковского) и вообще везде не ходят ни к коротким, ни к
длинным богослужениям. Константин Петрович, сам любивший богослу-
жения поэтическою душою, не мог понять этой непоэтичности студентов.
«Такие свиньи»... Но семинаристы упорно повели себя в училищах «как в
кабаке». Настойчиво и упорно. «Кабак и кабак», — твердили они поведени-
ем своим о том, о чем все говорили, думали, чаяли и надеялись, что это
«церковь», «храм», «богослужение»... В конце концов упорство семинарис-
тов все преодолело. Все увидели, что это действительно «кабак». Глубоков-
ский написал об этом целую книгу, но она именно интересна в том отноше-
нии, что он поднял вопрос о взрослых кабатчиках, поднял его и повел «след-
ствие» над головами юных дебоширов, о которых до сих пор исключитель-
но говорили.
1 Платон мне друг, но истина дороже (лат.).
250
... Вот я пишу, а в голову стучится настойчивая мысль: да не имеет ли
все это за собою более возвышенной метафизики? «Испорченное ведомство»,
«недостойные люди». Так Апулей, Ювенал и писатели поздней поры языче-
ства сокрушались о жрецах Юпитера, что они много пили, ели и ничего не
делали. Но ведь для историка-христианина стало ясно, что не в людях тут
коренилась болезнь, а в деле. В язычестве уже не было одушевления и не-
винности, и, не получая вдохновений и естественно не невинные, служите-
ли храмов пили и ели. Что же было им делать?!! Не имей я одушевления к
писанию и кое-каких домашних обязанностей — я стал бы только есть и
пить. Непременно! Человеку свойственно есть и пить, как только он не заво-
еватель, не поэт, не философ, не герой и не святой. Даже монахи, если они
скучают в монастыре, непременно пьют. Тут ни малейшего порока нет. Пи-
тье и еда являются только показателями третьего, и вот в этом третьем-то и
скрыта сущность вещей. «Пить и есть» вообще начинают тогда, когда кон-
чаются эпохи великого идеализма и остается только «практика». «Живем
как живем». «День да ночь, сутки прочь». То, о чем скрупулезно, почти в
тысячах примечаний, рассказывает Глубоковский, в каждой строке своей
наливается красным смыслом: «Все умирает, и все мертвы...» Никто не оду-
шевлен, никто ничего не желает, кроме казенной квартиры, хорошей пен-
сии, награды, «добавочных» и прочее. И ведь сам Константин Петрович за-
ботился только, чтобы его «не беспокоили». «Не начинайте ничего вновь»,
«пожалуйста, ничего нового», ибо это мешало ему писать сочинения. То же
рассуждение, как и у каждого его столоначальника. Но, позвольте, что же
лежит подо всем этим? Он, да, и вероятно, и «они», все сплошь в этом ве-
домстве, любят и любили «хор-ро-шие богослужения». Трогательные напе-
вы, красивый культ. Но, позвольте, почему это религия! Это — просто изящ-
ное и любовь к изящному, голодок эстета; но почему этот эстет называет
себя религиозным человеком? Никаких оснований. «Все умирает, и все мер-
твы», потому что кончился великий христианский идеализм, что христиан-
ство уже никого и ни к чему не одушевляет. Даже «судью» всех этих вещей,
самого Глубоковского, мы ловим трагическим образом на том самом, на чем
он всех обвиняет. О чем написана его книга и кто он сам? Это исправный,
«истовый» домохозяин, который возмущен разорением хозяйства. Но — не
более: христианин, религиозный человек... все это просто к нему не отно-
сится. И он любит культ, традиции: и, так сказать, «обмаранность» всего
этого и казнит. Но дальше культа и традиции, т. е. ученого профессора и
добропорядочного как бы «ктитора храма», дело не идет. Но я думаю, ка-
кие-нибудь ктиторы были и у храмов Юпитера. Дело, очевидно, в жрецах, в
жречестве, в пророчестве: все это угасло в христианстве и теплится только
еще по селам, в безграмотных избушках:
Но ярка свеча
Поселянина
Пред иконою
Божьей Матери.
251
Вот и все! Собственно к вере народной и даже простонародной и при-
мыкает все: давно уже, очень давно не иерархия держит религию, теплит ее,
сыпет фимиамы на ее жертвенник, — нет! Давно сама-то иерархия и все эти
академии и профессора, Владимиры Карловичи и Константины Петровичи,
«держатся за кафтан Сидора», за карниз темной деревни, и только покуда и
стоят, пока не изменил этот карниз, не подался этот Сидор и, словом, пока
Но жарка свеча...
И прочее. Но ведь это убийственнейшее же положение вещей, если так,
ибо, очевидно, не от Альба-Лонги и предместий Афин загорелась религия
Юпитера-Зевса, а самой Альба-Лонге, и Риму, и Афинам сообщила вечность
и значение та религия, которая дана была народу как свет, тепло и пища.
Позвольте: согревающий и согреваемое никогда не суть одно. Если вся теп-
лота веры исходит от народа (об этом кричали даже и славянофилы), то
ведь это открывает ту ужасную истину, что в самой-чо религии нет ничего,
что это пепел холодный, которому дай время — и его разнесет ветер. Мне
хочется оправдать не только Глубоковского, но даже всех «заседателей», ко-
торых обвиняет он: позвольте, ну «Ведомство» беззаботно, а мы? Тоже без-
заботны!!!! Любим обедню, — «все так красиво и трогает», а дальше дело
не идет. Когда умирают великие эпохи, умирает всё в них, все. «И мы тоже»...
«tu quoque, Brute!»1 И Глубоковский, и я — ученые, писатели, археологи,
публицисты. Но вот этого, чтобы была «жарка свеча наша пред иконой Бо-
жией Матери», нет во всех нас, почти во всех, кроме темных людей!
Ужасное положение, ибо тьма есть все-таки тьма, и этого никак не обой-
дешь, не оговоришь и ни на какой кривой не объедешь. Тьма свидетельству-
ет о незнании, о неведении. «Юпитеру горячо поклонялся народ, а жрецы
посмеивались»; не похоже ли это на молчаливое «отстранение от дел» всего
необозримого образованного класса нашего, который совершенно безучас-
тен к религии, около тепло молящегося народа. Увы, «молитвы народа» не
спасли Юпитера: все дело решает именно ведение, образованные классы,
решает все и безапелляционно даже в религии. Пришел ап. Павел: и куда
пошли, много ли весили перед ним «молитвы народа»? Нет, «ведение» и
«образованные классы» — это страшная сила, даже если они и отрицаются
от этого, хныкают о себе, что они «бессильны», «безверны» и проч. Их неве-
рие так же сильно, как их вера: вот в чем ужас!
Все оседает, низится: и вот настоящий корень того, что «так плохо пра-
вославное ведомство». Не в чиновниках тут дело. Они показатели, а не при-
чина. Нет великих и иерархов. Нет великих законов и законодательства, и
вообще — ничего и нигде нет. Нет святой, повышенной, одушевленной жиз-
ни. Просто — не к чему одушевиться, и тут хочется даже защитить бедного
человека. Ну, — не «одушевляет», и шабаш. Что тут поделаешь. Не пальца-
ми же из глаз слезы выковыривать. «Не плачется», «не любится», «не верит-
ся». Пожалеем бедного человека, пожалеем его первого', ибо ведь кто плачет,
1 «И ты, Брут!» (лат.)
252
любит и верит, как он счастлив! До чего же несчастен сейчас человек, от
которого все это «куда-то уходит»...
Уходит, падает, низится... И вот я без всякой надежды пишу это о «по-
правлении ведомства православного исповедания». Палуба должна быть
хорошо вымыта поутру, и у того корабля, который тонет, и в тот самый день,
когда он утонет. Нужно и умереть чистоплотно. Никакой грязи, никакого
«кабака»: это недостойно человека, который должен жить и не смеет уме-
реть иначе чем «порядочным человеком». Небу — небесное, человеку - зем-
ное. В конце концов ведь это небо дает человечеству некоторые идеи, и дает
жизни их срок, и перестригает нить этой жизни; все это и судьбы этого скрыты
в голубых мерцающих звездочках, о которых сказано, что они — «Престол
Божий», а земля — Божие «подножие». Ну, что же, «подножие» — и будет
подножием. Куда нам разобраться в небесных идеях: впору чисто вымыть
свою лесенку. Ограниченное существо и ограниченный долг.
РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЕ СОБРАНИЯ
В ПЕТЕРБУРГЕ
Теперь, когда мы наблюдаем отлив политической и общественной волны,
глаз невольно выискивает области, где эта волна подымается. Падение ду-
ховной жизни невозможно на пространстве всего народного и обществен-
ного моря. Куда-нибудь душа бежит же, где она может поднять крылья. Нельзя
подрезать кругом и разом все оперение души народной.
В Петербурге, собственно, образовалось, по примеру московского, —
религиозно-философское общество, открывшее свои собрания. Но и по ме-
сту собраний, залу географического общества, а главным образом по темам,
духу и большинству участников и даже посетителей, оно бесспорно являет-
ся простым возобновлением бывших в 1902-1903 гг. Религиозно-философ-
ских собраний. Правда, были и продолжаются попытки передвинуть их к
академическому обсуждению философских тем, лежащих на границе с ре-
лигиею. Сюда тянут председатель общества г. Аскольдов, некоторые члены
в составе совета общества. В этом направлении была произнесена на пер-
вом собрании г-ном Карташевым вступительная речь; с этой точки зрения
произнес свою речь и диспутировал на том же собрании проф. Александр
И. Введенский. Но эти упорные стремления не то чтобы встречают отпор, а
вязнут во всеобщей неохоте. Живым образом пошло течение по старому пути
собраний 1902-1903 гг., стремившихся ответить на вопрос: «Как нам веро-
вать?» Собрания 1907 года суть также вероисповедные. Это их отличитель-
ная черта, в этом весь их нерв. Они или разъясняют, доказывают и мотиви-
руют невозможность старой веры, прежней веры, прошлой веры; или пыта-
ются выяснить условия, пределы, формы, прибавления, сравнительно с про-
шлою, — новой веры. Староверие и нововерие, — в борьбе их
253
сосредоточивается вся жизнь собраний. В этом отношении, как и собрания
1902-1903 гг., их можно назвать самым определенным, длительным и, по-
жалуй, содержательным выражением русского религиозного «протеста».
За весь XIX век, начиная с А. С. Хомякова, нельзя указать ни одного
русского религиозного мыслителя, ни одного писателя на религиозные темы,
который не имел бы в себе струйки этого «протеста». Протеста против су-
щего, наличного. Он у одних ширился, у других узился, но у всех был. Мысль
о переменах, ожидание перемен охватило даже все священническое сосло-
вие. Никто не был доволен status quo церкви. Но в священническом классе
это ожидание никогда не поднималось выше практических перемен. Сумме
этих ожиданий специально духовного сословия и ответит, как известно, бу-
дущий церковный собор. В нем не предполагается поднимать никаких веро-
исповедных вопросов, а решено улучшить и урегулировать только некото-
рые стороны церковного уклада жизни. Но в светском обществе, начиная с
Хомякова, живет «протест» более широкий. Он является последствием тос-
ки по церковном идеале. Мы назвали слово, которым разграничивается ду-
ховно-сословный «протест» от общерусского. Духовенство томится неудоб-
ствами; общество вздыхает по идеале. Всякий поймет, что тут — пропасть.
Хомяков томился по целом, огромном, всеобъемлющем идеале церкви, но
еще церкви византийской и даже византийско-монашеской. Критика его была
совершенно поверхностна. Он не затрагивал ни одного принципа, ничего
принципиального. Можно сказать, что как был недавно «союз союзов», так
Хомяков в отношении «беспокойств» духовного сословия выразил нечто
объединительное: он заговорил о «неудобстве всех неудобств», заговорил
об обновлении всего лика церкви, но именно лика, а не духа ее, который по-
прежнему оставался византийским и монашеским, оставался духом нашей
Оптиной пустыни, Афона и Цареграда. Немного времени прошло, и все это
показалось скучным и безнадежным. Гораздо далее шел архимандрит Фео-
дор Бухарев. Он выдвинул священнический идеал в противоположность мо-
нашескому идеалу. Это уже было качание самих принципов. Византийская
церковь вся создана монахами и как бы для одних монахов. Указание Буха-
рева опрокидывало всю концепцию Хомякова. Бухарев показал, выразил,
наконец, он застонал о том, что даже величайший идеал в границах хомяков-
ских предположений не удовлетворил бы никого: что это идеал узкий, огра-
ниченный и односторонний; что он неправилен по объему. Собственно, Бу-
харев и является родоначальником всего последующего обновительного дви-
жения. Даже темы Религиозно-философских собраний, разрабатывая, напри-
мер, темы о христианской общественности, о религиозном освящении
плоти, вращаются в рамках, естественно уже наметившихся у Бухарева.
Бухарев спросил: «А мир? Может ли быть также и мир церковным? Притом
не идя нисколько в монастырь, не отрекаясь от себя и от своего?». Из вопро-
са этого вытекают и все рассуждения, например, Мережковского и Розано-
ва. В годы Бухарева только не ясно было, что вопрос, если ставить его таким
образом, перестает быть вопросом церковным и становится вопросом рели-
254
гиозным; и самый «протест» направляется уже не к церковному обновле-
нию, а к религиозному обновлению. В самом деле, если вся церковь создана
монахами и для монахов, то совершенно очевидно, что если хочет быть ре-
лигиозным самый мир, притом без отречения от себя, то он нудит к образо-
ванию не монашеской, а совершенно другой, новой церкви. Но где ее прин-
ципы, какие? Как их выработать?
Один из лучших продолжателей и развивателей священнической концеп-
ции церкви, на которую указал архимандрит Феодор Бухарев, — священник
А. П. Устьинский, таким образом выразил отношение церкви прошлого к
церкви грядущего: подобно тому как одинокая светильня свечи горением
своим дает тусклый свет, а две проволоки, светящие через прикосновение
свое в электрическом огне, дают неизмеримо более яркий, могущественный
и приятный свет, так точно церковь, построенная на двойном начале семьи,
а не на одиночном начале монастыря, даст больший взрыв, даст широчай-
шее течение религиозной жизни, нежели какое дала и знала Византия.
Россия стоит перед большими религиозными ожиданиями, чем какие
были известны в Византии. Россия стоит перед новым, перед лучшим. Вот
вывод. Вот очевидность, которой ныне уже никто не может не видеть.
Поэтому, когда в 1902 году впервые сошлись лицом к лицу представите-
ли духовенства, архиереи, архимандриты и священники и с другой стороны
— светские религиозные мыслители, — то последние, нисколько не путая
дела, не входя ни в какие туманы и неопределенности, повели речь об опре-
деленных устоях церкви, устоях все монашеских и византийских, требуя
замены их другими, которые ответили бы мировому универсализму, кото-
рые ответили бы потребности мира войти также в церковь, не ломая себя,
не искажаясь в себе.
Присутствовавшим монахам решительно нечего было на это ответить.
Движение, очевидно, религиозное, к Богу. Но движения этого решительно
не мог встретить монастырь, не мог открыть ему объятий: вышли бы не
«объятия», а такая разверзшаяся ширина, объемлющая весь мир, какая раз-
ламывала самые стены монастыря, сносила его весь, как что-то маленькое и
утлое.
В монастыри «уходили» от гадкой, грешной, развращенной жизни.
Но зачем гадость, грех и разврат? Вне монастыря они так же отврати-
тельны, как и в нем.
Гадости, греха и разврата не надо нигде: ни в труде, ни в быте, ни в
семье, на улице и вообще ни в каком месте, обстоятельстве и условиях.
Станем все лучше!
И не станем никуда «уходить»: не надо вовсе монастыря.
Черный монастырь, как отрицание, как вражда, а потому непременно и
как злоба, — заменялся белым монастырем: тихим и кротким бытом мириад
людей, нисколько не покидающих мест своих, занятий своих, труда своего,
семей своих. Ритуал и молитва, теперь стоящие в стороне от жизни, — вот в
одиноком монастыре, в «пустыне», — пусть они разольются на всю жизнь,
255
сливаясь со всеми ее подробностями. Теперь ведь как стоит дело: в монас-
тыре 16 часов молятся, слушают службы, кладут поклоны и ничего не рабо-
тают. В новой же концепции 16 часов работали бы, но с молитвою в каж-
дом деле, во всякой складке жизни. Однако, конечно, с молитвою не такою
усиленною и специальною, как теперь в монастыре и при которой не воз-
можно работать.
Молитва должна быть вечною памятью Бога, кратким словом, неболь-
шим пением. Все коротко, всего немного, но все — часто, постоянно, во
всяком шаге. Сейчас этого нельзя объяснить, потому что все молитвы при-
норовлены к стоянию в церкви, к чему-то особому и обособленному, к неко-
торой оголенности от быта и труда. «Нельзя объяснить» — это и показывает
на величину реформы. «Нельзя объяснить», — значит, надо все сотворить
по-новому, заново, по другому плану, в другом приспособлении, в ином тоне
и других красках! Труд необозримый, но каждый, ухватывающий эту мысль,
согласится, что тут, действительно, как бы «электрический свет двух соеди-
ненных проволок» вместо тусклой, гаснущей свечи. Вот что эта «одиноч-
ная» свечка (монастырь, монашеское) гаснет, — этого никак нельзя от себя
скрыть. И это угасание есть не только показатель времен, но и возбудитель
новых религиозных движений.
К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВ В ЕГО ПЕРЕПИСКЕ
Известный П. А. Тверской напечатал в декабрьской книжке «Вестника Ев-
ропы» несколько «деловых писем» к себе К. П. Победоносцева. Письма,
адресованные в Америку, все касаются духоборов, выехавших в Канаду с
Кавказа. В американской печати, сообщает г. Тверской, движение это объяс-
нялось исключительно правительственными религиозными преследовани-
ями, «а приписывали их по-прежнему К. П. Победоносцеву. Понятно, что
американские газеты были полны статьями об его личности и роли в рус-
ском правительстве». Сами духоборы находились в самом растерянном по-
ложении. «Немногие сопровождавшие их интеллигенты не пользовались
между ними никаким авторитетом, и все очень скоро покинули Канаду и
духоборов на произвол судьбы. Естественные же вожаки из их собствен-
ной среды были все сосланы в Сибирь еще до переселения, так что в Канаде
очутилась только серая масса без какого бы то ни было руководства». Поло-
жение довольно печальное и даже страшное, принимая во внимание чужую
страну, незнание местного языка, полную неприспособленность к услови-
ям, быту, почве и климату (Кавказ — Канада). Между прочим, они более
всего томились по Петруше Веригине, известном духовном вожде их, «на-
ходившемся где-то в Якутске или Березове», пишет г. Тверской. «Достать
бы Петрушу, — и тогда все наладится и пойдет хорошо», — суеверно гово-
рили они. Хлопотали они также и о главах некоторых других семей, тоже
256
сосланных в Сибирь, тогда как эти семьи были в Канаде. Они обращались к
корреспондентам, к посещавшим их представителям квакерских общин с
просьбой ходатайствовать перед русским правительством о возвращении им
этих сосланных лиц и, наконец, с тою же просьбой обратились и к П. А.
Тверскому. Он решил помочь им и в январе 1900 года написал большое письмо
к обер-прокурору Синода, коего лично не знал и коему был известен только
по литературному своему имени. «В ответ я, с оборотом почты, получил от
него отказ от 19 февраля 1900 года». Это касалось главным образом Вери-
гина, а также других лиц, именно глав нескольких эмигрировавших семей,
которые в Канаде могли бы стать теми «естественными вождями», коих ду-
хоборам не хватало, и могли бы спасти от несчастий и, может быть, от гибе-
ли эту огромную массу все же русского люда, не причиняя в то же время
никакого вреда России, православию. В этом отношении Америка «изоли-
ровала православное население от вредного влияния вероучителей» даже
более, чем это мог сделать Сахалин или самые отдаленные трущобы Сиби-
ри. Поэтому в быстром отказе Победоносцева, «с оборотом почты», г. Твер-
ской, если бы был проницательнее и последовательнее, мог бы рассмотреть
и мелкое мстительное чувство к бывшим вождям духоборов, очевидно не
имеющее ничего общего с заботами о будущем, а только казнящее за про-
шлые дела или, точнее, за прошлое влияние, за прошлое руководство, и, на-
конец, он мог бы увидеть в нем очень плохого русского человека и плохого
христианина. Ибо в «пространном письме» г. Тверской, очевидно, во всех
подробностях описал бедственное положение эмигрировавших, которое он
и семь лет спустя очерчивает как совершенно жалкое и растерянное, кло-
нившееся к явной гибели. Но он не ограничился этим письмом и написал
следующее и следующие, на которые К. П. Победоносцев отвечал. Эти-то
ответные ему письма и печатает теперь П. А. Тверской, с оговоркой, что он
не знает, «насколько корреспондент был искренен со мною». Нужно заме-
тить, что Победоносцев знал, что г. Тверской — всегда желанный гость в
американской печати - был способен более всякого другого «корректиро-
вать» те некрасивые изображения, которые там делались с его нравствен-
ной, политической и религиозной личности.
«Я ничего не могу, и даже меня вовсе нет: все дела идут помимо меня, хотя
и в высшей степени отвечая моим желаниям, но уж это Божия милость ко мне.
Сам же я, за старостью лет, лежу и едва дышу, пережив свою славу, свою силу; и
мне остается только созерцать повороты колеса судьбы, впрочем едущей туда
именно, куда я всегда желал». Таков общий тон и смысл его писем. «Вы обра-
щаетесь ко мне, — пишет он просителю, — под тем же впечатлением, которое
вот уже лет восемнадцать тяготит ко мне и изо всей Европы, и Америки, и даже
изнутри России»... «К несчастию, утвердилось всюду фантастическое представ-
ление о том, что я являюсь каким-то первым по фараоне лицом в нашем прави-
тельстве, и сделали меня козлом отпущения за все, чем те или другие недоволь-
ны в России и на что те или другие негодуют. Так, взвалили на меня и жидов, и
печать, и Финляндию, и вот еще духоборов, — дела, в коих я не принимал ника-
кого участия, — и всякие распоряжения власти, в коих я нисколько не повинен».
9 В. В. Розанов
257
Тут я могу сообщить кое-что лично мне известное. Победоносцев упо-
минает: «и печать», т. е. он отрицает, будто влиял когда-нибудь на печать и
был виновником ее стеснений. Между тем И. Л. Горемыкин назначил глав-
ноуправляющим по делам печати вовсе неизвестное ему дотоле лицо, юрис-
консульта при канцелярии военного министра, М. П. Соловьева, — после
того, как этот последний, страстный исповедник катковских начал, страст-
ный любитель Византии и средневековья, сделался лично известен Победо-
носцеву через посредство личного друга (на «ты») последнего, Серг. Алекс.
Рачинского. Соловьев показал Рачинскому, по его просьбе, свои миниатюры
к Данте и к Петрарке, т. е. привез их в квартиру Победоносцева, где всегда
останавливался, как в своем дому, Рачинский. Здесь-то его впервые увидел
Победоносцев, и в беседе, которую имел с ним, мог увидеть, до чего Соло-
вьев свысока и неглижорски относится ко всей текущей периодической пе-
чати и до чего он страстно ненавидит широко разлившееся тогда толстов-
ство. Не более как через 1 Уг или 2 месяца после знакомства Соловьев, ни-
когда не служивший не только в управлении цензуры, но и в Министерстве
внутренних дел, был, ко всеобщему изумлению, призван на высокий пост
главноуправляющего по делам печати, т. е. на пост почти товарища мини-
стра по делам печати, и с жалованьем, раза в три превышавшим его преж-
нее. А Соловьев всегда нуждался, — не на широкую жизнь, а на свои худо-
жественные поездки в Италию и на художественно-научные приобретения.
Вообще, он был энтузиаст-идеалист, младенчески неопытный в текущей
жизни. Иллюстрируя Данте, он точно и жил в эпоху Данте. Победоносцеву
и было нужно это невинное дитя, которое он мог бы начинять своими инс-
пирациями. Психологически понятно, что поклонник литературного и по-
литического гения Каткова мог поступать гораздо жестче и решительнее,
чем поступал бы, вероятно, сам Катков, будь он призван к политике. Катков
бы осмотрелся и удержался... Но младенчествующий ученик его не стал бы
ни оглядываться, ни удерживаться. Таков и был Соловьев. Как человек, он
был кристально чист душой, а как главноуправляющий по делам печати и
вместе отличный юрист, — он в первые же месяцы, собрав все литографи-
рованное и отпечатанное за границею, что вышло из-под пера Л. Н. Толсто-
го, приступил к составлению обширного доклада на Высочайшее имя, с зак-
лючением, что или законы Российской империи должны исполняться, и тог-
да Толстой должен быть предан суду, — или... Но, конечно, «законы долж-
ны исполняться». Нужно заметить, что как для Рачинского, инициатора
церковноприходских школ, так и для Победоносцева Толстой был главным
не просто «человеком других убеждений», но религиозным врагом. И док-
лад М. П. Соловьева, конечно, отвечал их самым горячим и давним желани-
ям. Доклад остался без последствий, — без сомнения, в силу глубокого ува-
жения, какое к гению Толстого имел Государь Александр III. Но и далее тот
же Соловьев впервые ввел знаменитое «назначение редакторов» в газеты и
через это буквально терроризировал печать. Его гонению особенно подверг-
лась гайдебуровская «Неделя», где несколько сотрудников распространяли
258
толстовские идеи: Соловьев предложил собственнику «Недели» В. П. Гай-
дебурову или вовсе отказаться от сотрудничества этих писателей с громки-
ми именами, или же пригрозил ему вовсе закрыть журнал. То же самое он
сделал с «Одесским Листком» г. Навроцкого, пригласив его или отказать в
сотрудничестве г. Дорошевичу, или быть готовым к закрытию его газеты.
Подобного давления еще никогда не было на нашу печать, и главное, столь
бесцеремонного, произвольного, прямого, в котором так и слышалась дет-
ская рука... Ведь дитя не смущается, зажигая дом. Но что и всего этого каза-
лось мало, это я услышал от Серг. Ал. Рачинского:
— Что же... Надеялись, что Соловьев упорядочит печать... Между тем
(он назвал какой-то педагогический журнал), что же это такое пишут? Вещи
возмутительные для церкви...
Верно, было что-нибудь о преподавании Закона Божия или о церковно-
приходских школах. С другой стороны, и от М. П. Соловьева я слышал, при-
близительно на третий год его службы, о Победоносцеве:
— Да, Победоносцев... На него нельзя положиться... Это человек слож-
ный и неясный... То он близок и хорош с вами, то...
Он не договаривал, но была ясна горечь. Кто помнит время цензуры
Соловьева, оценит: чего же хотели от него эти друзья. Рачинский и Победо-
носцев, стоявшие за его спиною и которые из чиновников без значения вы-
двинули его почти на пост товарища министра с огромным (для его прежней
службы) содержанием. Но, повторяю и настаиваю: сам Соловьев был безуп-
речно чист; это был мечтатель XIII века, попавший в XIX. Друзьям и покро-
вителям его, вероятно, было совестно сказать, чего именно они хотят от него:
они хотели бы догадки в нем. Но уж догадываться он не умел: да и он все
делал чистосердечно. Текущую литературу, «прессу» он всеми силами пре-
зирал ранее своего цензорства, — просто как «мелочь сравнительно с Данте
и Петраркой»...
По этому моему рассказу читатели могут судить, насколько было ис-
кренно уверение Победоносцевым г. Тверского, жившего в далекой Амери-
ке, что он «не принимал участия в делах печати»...
ДУХОБОРЧЕСКИЕ СКИТАНИЯ
и К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВ
Обращаясь к предмету просьбы П. А. Тверского, духоборам, К. П. Победо-
носцев пишет ему:
«Тяготу так называемого общественного мнения приходится (мне) пере-
носить, — нельзя и опровергать ее, да никто и не поверит: так укоренилась уже
иллюзия неведения, невежества и предрассудка. Вот, теперь и вы как будто про-
сите и ожидаете от меня какого-то «конечного решения» о духоборах. Да реше-
ния этого дела никогда и ни в чем от меня не исходили и от меня не зависели:
259
9*
распоряжались и распоряжаются генерал-губернаторы и министр внутренних
дел. О переселении же духоборов в Америку я узнал, когда оно уже состоялось.
Поэтому и на вопросы ваши о духоборах не могу ничего ответить. Духоборчес-
кое дело — дело неведения, невежества и равнодушия местных (подчеркнуто у
Победоносцева) властей. На Кавказе духоборы составляют республику, status in
statu, под правлением своей Лукерьи. Местные власти мирились с этим, полу-
чали от Лукерьи удовлетворение всяких требований и не заботились даже знать,
что такое духоборы с верованиями их и бытом. Когда умерла Лукерья, респуб-
лика эта замутилась спорами претендентов на ее наследство. К несчастию, вла-
сти, вместо того чтобы предоставить им расправляться между собою, вме-
шались в дело и подняли тревогу. Поднялся мятеж, начался ряд неумелых рас-
поряжений, как раз тут подобрались к духоборам пропагандисты толстовских
учений, — и духоборы превратились в толстовцев, постников-анархистов. Тут,
мало-помалу, Толстой, Чертков и вся компания стали подговаривать массу к пе-
реселению в Америку, собрали на это средства, переселили их, хотя часть, наи-
более разумная, осталась на месте. Спрашивается, чем же повинна в этом пере-
селении правительственная власть? Я-то уж нисколько во всем этом не пови-
нен. Единственное с моей стороны распоряжение состояло в том, что, когда под-
нялась на Кавказе история о духоборах со стороны властей, не имевших о них
прямого понятия, — я послал туда человека, знакомого с сектами, разведать их,
пожить и поговорить с ними... Вот все, что могу сказать в ответ на ваше пись-
мо. А в дополнение посылаю вам печатное, правдивое изложение истории о
духоборах»...
Это «печатное, правдивое изложение», по всему вероятию, было одно
из «приложений» к «Миссионерскому Обозрению», издаваемому Вас. Мих.
Скворцовым, чиновником особых поручений при К. П. Победоносцеве по
сектантским делам, и принадлежало перу последнего. Это-то и был тот че-
ловек, «знакомый с сектами», которого Победоносцев командировал к духо-
борам на Кавказ, но командировал не после смерти их пророчицы-учитель-
ницы-правительницы Лукерьи, как сообщает он г. Тверскому, «когда напу-
тали местные власти», а гораздо ранее. За делом этим я совершенно не сле-
дил и едва знал о нем, когда оно происходило. Но поистине Бог привел меня
увидеть и услышать частности, как раз поправляющие показания или «са-
морассказы» Победоносцева.
Приблизительно в 1896 или 1897 году, не позже, т. е. когда духоборы
еще и не начали выселяться в Канаду, мне случалось посещать Рачинского,
останавливавшегося, как я уже писал, всегда в квартире Победоносцева и
занимавшего малый его кабинет. В один из приходов моих Рачинский был
как-то особенно настроен, точно ожидал чего-то. И сейчас же сообщил, что
«наверху, в голубой (или красной, — не помню, но он назвал цвет) гостиной
заседает собрание министров, с участием князя Голицына, главноначаль-
ствующего на Кавказе». Повторяю, я о духоборах тогда не имел никакого
понятия. Голицын был та «местная власть, благодаря которой произошли
все недоразумения с духоборами». Уже по участию Голицына ясно было,
что предметом совещаний служили какие-то кавказские дела, а по месту их
260
собраний — в частной квартире обер-прокурора Синода, — ясно, что это
были дела церковные, вероисповедные. А скоро явилось и подтверждение
этого: часа через два комната Рачинского наполнилась людьми, вышедшими
из оконченного заседания. Тут я впервые увидел и В. М. Скворцова, черного
брюнета в вице-мундире, «эксперта по сектантским делам», каковым он яв-
лялся на всех судебных разбирательствах о малеванцах, штундистах, бапти-
стах, скопцах и... духоборах. Очевидно, при участии Голицына речь шла и о
них. Это было года за три до начала переселения их в Канаду и, может быть,
непосредственно предшествовало времени, когда «Петруша Веригин» и дру-
гие главы видных духоборческих семей начали выселяться «куда-то в Бере-
зов или в Якутск», как пишет несколько небрежно об этом г. Тверской. Во
всяком случае, что Победоносцев «последним узнал о всем духоборческом
деле», когда оно было уже кончено, — это такая неправда, которую Победо-
носцев мог сказать г. Тверскому, лишь рассчитывая на слишком большую
его доверчивость и почти на его простоватость.
Что «сведущим в сектах человеком», которого Победоносцев посылал
на Кавказ, был именно В. М. Скворцов, — об этом я узнал от последнего
приблизительно в 1902 или 1903 году, и опять очень просто: просто он в
длинном и живописном рассказе передал мне о том изумительном почти
«царстве» (отнюдь не «республике», как пишет Победоносцев Тверскому),
какое завелось у них на Кавказе, с Лукерьей во главе. Очевидно, к основно-
му духоборческому стволу на Кавказе привились какие-то побочные хлыс-
товские веточки: по крайней мере, Лукерья играла в обширной и могуще-
ственной их общине, связывавшей несколько деревень и сел, ту роль, ка-
кую у хлыстов играют их «пророчицы» и «богородицы», а «Петруша» по-
лучил значение полухлыстовского «Христа». Об этом говорит и тон
сообщения г. Тверского: «Все они (духоборы в Канаде) с каким-то суевер-
ным почтением относились к «Петруше» Веригину... Всякий разговор сво-
дился к Веригину и к необходимости его присутствия: только бы достать
«Петрушу», и все наладится и пойдет отлично. С просьбой «добыть» им
«Петрушу» обращались они и ко всем их покровителям»... В словах этих
каждый сколько-нибудь знакомый с нашим сектантством сейчас же узнает
дух хлыстовщины-христовщины, с обожанием живого человека, с отнесе-
нием к нему почти божеского почитания. В. М. Скворцов передавал мне,
что Лукерья окружила себя, или, точнее, духоборы окружили ее (явно, —
«богородицу» свою), ореолом необыкновенного блеска и абсолютным, до
потери в себе личности, до отречения от домов своих, от имущества, от
всякой своей воли, повиновением. Они устроили ей особый конвой: в папа-
хах, кафтанах и с кинжалами, они сопровождали ее экипаж, куда бы она ни
двинулась. И с такою помпой она въезжала и в губернский город. По одно-
му ее указанию духоборы закидывали бумажками и серебряными рублями
экипаж человека, и у В. М. Скворцова составилось представление о не-
сметном богатстве этой общины. При таком абсолютном, притом любов-
ном повиновении, при трудоспособности их, при отсутствии внешних трат
261
на себя, ибо в сердце их место богатства и роскоши занял религиозный
восторг, — естественно, что у них действительно скопилась огромная об-
щинная казна. Местным властям, конечно, при этом «перепадало». Но во
время русско-турецкой войны Лукерья сумела оказать при каком-то случае
и значительную услугу русским войскам по части снабжения их провиан-
том и поставки подвод в критическое время, когда их неоткуда было дос-
тать. Как и пишет Победоносцев Тверскому, местные власти «не заботи-
лись даже знать, что такое духоборы в верованиях». В переводе с синодаль-
ного языка на гражданский это значило, что «виновные во всем» граждан-
ские власти Кавказа требовали от духоборов исполнения подданнических
обязанностей, т. е. уплаты налогов, чинки мостов, и проч., и проч., не вме-
шиваясь в вероисповедную сторону. Местные власти дали им религиозную
свободу: для починки этого-то несчастья Победоносцев и командировал туда
«сведущего в сектах человека»... Местные власти смотрели на всю эту ре-
лигиозно-бытовую феерию как на явление глубоко местное, внутренно-
религиозное, без общественных и политических продолжений, без всякого
действия на общество и народ за краями духоборческой общины. Чем силь-
нее был экстаз в ней, тем более ледяное равнодушие окружало ее. Но не
таков, очевидно, был взгляд Победоносцева, увидавшего здесь «республи-
ку»... Так как поездка Скворцова была еще при жизни Лукерьи, то явно,
что ссылка «Петруши» в глухое место Сибири после ее смерти была отъя-
тием «главы» у зловредной «республики», которой «имела невежество»
покровительствовать местная власть...
Несколько выше Победоносцев упоминает о «пружинах, приводящих в
действие наши административные дела», и что их мало знают за границей и
в России. Действительно, когда даже вскроют архивы Синода, Министер-
ства внутренних дел и кавказского управления, — в них найдут только «бу-
маги за № №», текущие в известном направлении и клонящиеся к опреде-
ленному решению. Нигде в них не будет упомянуто о том неофициальном
заседании, почти о домашней беседе, какая состоялась на дому у Победо-
носцева из нескольких (не всех) министров с участием главноначальствую-
щего гражданскою частью на Кавказе и при участии «эксперта по сектант-
ству» В. М. Скворцова. Как ни из каких бумаг и ни из каких архивов нельзя
будет узнать и того, что М. В. Соловьев, с его страшным режимом над печа-
тью, был поставлен главноуправляющим по делам печати тем же Победо-
носцевым, в поддержке коего слишком нуждался И. Л. Горемыкин, тогдаш-
ний министр внутренних дел, — если только не был обязан ему самым этим
министерством. Во всяком случае, Горемыкин не знал лично Соловьева, и
совершенно очевидно, что он поставил его почти на пост товарища своего
не по своему усмотрению. Совершенно случайно мне пришлось быть зрите-
лем этих перемен, этих пружин административных передвижений, и я го-
раздо позже потом, вот почти только эти годы, стал понимать их значение.
Между прочим, оттого тогда всего этого и не скрывали от меня, что совер-
шенно правильно рассчитывали, что, и все видя, я не «сведу концы с конца-
262
ми», т. е. не догадаюсь об общем смысле и внутренних намерениях движе-
ния. Мне тогда казалось это «добрым событием» в судьбе хорошего знако-
мого, почти друга, а о смысле заседания министров, с участием Голицына,
мне стало ясно только из писем к Тверскому Победоносцева.
Одним из членов системы Победоносцева было следующее. Он не был
министром, повелительно давящим на чиновников, он не машинно достигал
своих целей. Он знал, что около страха стоит лукавство и около повинове-
ния — обман. В той сфере духа, где он жил и действовал (церковь), мертвым
повиновением подчиненных немногого достигнешь. Он своим тусклым гла-
зом высматривал поэтому человека, который был бы тех же мыслей, как он,
того же одушевления, того же направления, но... не очень умен и, всего луч-
ше, наивен. Высматривал «истинно русского человека» (Соловьев-катковец),
«истинно православного человека» (Скворцов). Высматривал иногда вне
сферы своего синодского чиновничества (Соловьев — в канцелярии воен-
ного министра, Скворцов — преподаватель киевской семинарии, по любви
к делу приватно занявшийся миссионерством среди штундистов). Этих лю-
дей с приватным одушевлением, каку Победоносцева, — он вдруг ставил на
«ответственное» место, крайне активное, крайне властительное, и не только
в свое ведомство, но и в другие влиятельные, напр. в Министерство внут-
ренних дел. Тут личный первоначальный порыв «восшедшей звезды» полу-
чал «воспомоществование» как в естественном чувстве личной благодарно-
сти к Победоносцеву, так и в приватных, келейных инспирациях его... По
письмам его к Тверскому, по колеблющимся выражениям самого Тверского,
можно видеть, что даже этого эмигранта и друга духоборов он сумел вов-
лечь в сферу симпатичного притяжения к нему, Победоносцеву... В этом
отношении переписка Тверского с ним есть характерный исторический до-
кумент. Она объясняет те психологические, интимные пружины, действием
которых Победоносцев в течение трех царствований сумел быть наверху
положения и оказывать действительно беспримерное влияние на дела. Все
(его товарищи по управлению Россиею) были хвастливы и преувеличивали
свое значение; он был скромен и преуменьшал свое значение. В том «режи-
ме», какой есть у нас, он знал, что скромность — лестница к почестям и
власти, а хвастовство, болтливость о своем значении, силе и влиянии — то
же, что Тарпейская скала у римлян, с которой низвергали возносившихся...
П. Д. Делянов, старый службист и блестящий кавалер ордена Андрея Пер-
возванного, тоже держал себя скромнее учителя гимназии (буквально и точ-
но)... И восходил, все восходил и восходил, когда повалились вокруг него
Валуевы, Тимашевы, Игнатьевы, Лорис-Меликовы... Победоносцев слиш-
ком знал нашу историю и дух страны. Он помнил судьбу Сперанского и
Аракчеева. Он предоставлял выскакивать вперед другим, сам отходя в тень,
постоянно в тень...
История Золушки... Ее знал Победоносцев. Тон этой смиренной Зо-
лушки, которым все было достигнуто, — стал его постоянным тоном, пе-
решедшим в частную переписку, например, с Тверским. И даже, кажется,
263
во сне он не смог бы принять позу хвастливо-глупого человека, столь несо-
ответственного Российской империи; он и во сне или впросонках стал бы
уверять: «Я — ничего, только сплю... И даже меня вовсе нет... Но благоде-
тельная фея... то, бишь, православные ангелы блюдут меня и делают то,
что все происходит именно так, как мне хочется, и даже гораздо лучше, чем
я мог бы сам устроить и сделать...
ОРГАНИЧЕСКАЯ РАБОТА НАД НАРОДНЫМ
ОЗДОРОВЛЕНИЕМ
I
Незадолго до своей смерти проф. Захарьин говорил: «Бедная наша Россия:
когда я подумаю о теле народном, которое, как тело больного лишаем, —
покрыто пятнами самых отвратительных болезней, когда я думаю о народ-
ном пьянстве, то становится страшно за ее будущность». Плодом этой забо-
ты и тревоги было то, что он оставил по духовному завещанию 500 000 р. на
церковноприходские школы. Медик, клиницист, профессор, он назначил их
в премию за ученые работы, не для основания какой-нибудь недостающей
кафедры медицинского факультета, наконец даже не на фельдшерские шко-
лы. Завещая, он дал направление к свету и к религии. «Там ищите спасе-
ния»... От чего? — От всего; в том числе даже и от физического недомога-
ния, от накожных болезней.
Вспомнишь ветхозаветный храм, куда именно больные с язвами, с сы-
пями и всякою кожною нечистотою приходили, показывались священникам
и как-то там «очищались», — едва ли одною молитвою. В храме стояло «ка-
менное море», огромный бассейн с водою, как бы с нашею «святою водою»,
или с нашею «крестильною водою». В культ служения были введены погру-
жения первосвященника и священников в это «море». Больным священники
давали какие-нибудь советы, может быть тайно передаваемые по традиции
при храме; и, без сомнения, в отношении их широко применялось это «по-
гружение в воду» и «омовения», — для чего во дворе храма был еще и осо-
бый умывальник, с кранами на четыре стороны. Наши «истории Ветхого
Завета», проходимые гимназистами, не упоминают обо всем этом «по ме-
лочности». Но на самом деле это определяет важнейшую черту ветхозавет-
ных религиозных забот. Как она совпадает с мыслью Захарьина: «Надо что-
то религиозное, надо что-то просветительное»; «это надо не для одной души,
но прежде всего для здоровья тела». Конечно, все эти погружения и омове-
ния в ветхозаветном храме, как и кой-какие советы, там дававшиеся, было
не то, что наши ртутные вспрыскивания и другие могущественные методы.
Там были только зародыши теперешнего водяного лечения, не более. Но вот
что важно: и Захарьин думал не о приумножении высшей, ученой школы, но
264
и первоначальном и зато всенародном. Древняя ортопедевтика была перво-
начальна, элементарна, простовата: но ее мог каждый получать и даром; за
нею каждый религиозно обязан был обратиться к священнику. Все было так
же ежедневно, просто и доступно, как у нас поставить свечку в церкви и
обязательно как прочесть «Отче наш».
«Потребление вина не только не падает, но даже несколько увеличива-
ется, достигая полуведра на душу, а если исключить 30 миллионов старооб-
рядцев, евреев и мусульман, то и почти 3А ведра на душу», — сказал в засе-
дании Гос. Совета 5 декабря Вл. П. Череванский.
«Если исключить 30 миллионов старообрядцев, евреев и мусульман».
Эта сплошная стена непьющих, внутрь которой алкоголь не просачивается,
непререкаемо убеждает, что пьянство есть сплошное явление, которое под-
держивается или даже растет под влиянием каких-то сплошных условий,
обстоятельств, качеств жизни, быта, характера, духа и физиологии. Пьет не
«Иван», а «Иваны», не в семье пьют, а пьет улица, город, село. Непьющие —
это скорее исключение, это люди, счастливо избежавшие общего алкоголь-
ного потопа путем ли личного усилия или врожденного отвращения к водке
(есть и такие) или благодаря хорошо сложившимся условиям воспитания,
семьи, профессии и проч.
Напр., поговорка «Пьян как сапожник», по-видимому, указывает на ка-
кую-то связь между ремеслом и алкоголизмом. Так как, однако, ремесло само
по себе явно не может иметь связи с пьянством, то, очевидно, связь здесь
происходит через что-то третье; связь эта не прямая, а посредственная, за-
висимая. Ремесло или, точнее, некоторые определенные виды ремесла так
складывают быт, обстановку жизни, может быть, так действуют на психику,
что люди в ней невольно запивают, имеют предрасположение запить, имеют
удобство запить. Явно, что тут необходимы исследования, прежде всего ста-
тистические, которые могли бы проложить тропу и к размышлениям.
Пьет «улица», кроме счастливых исключений... Однако, обратившись к
каждому частному случаю, можно отметить момент, с которого тот или иной
«Иван» начал пить. Таким образом, в высшей степени правдоподобно, что
главный источник алкоголизма лежит в стихии социальной, бытовой, мо-
ральной, религиозной обстановки русского человека, куда один за одним
вовлекаются все... Разделительная черта между пьянством и непьянством,
как указал Вл. П. Череванский, совпадает с разделительною чертою веры,
вероисповедания. Заметим, что ни старообрядцам, ни евреям закон не зап-
рещает вина; а мусульманам закон запрещает только одно виноградное вино,
— но употребление хлебного вина у них не запрещено. «Не запрещено» —
законом. А духовенство, которое формально, «канонически» что ли, не вправе
остановить его употребление, тем не менее практически не дало, или почти
не дало просочиться в мусульманскую массу алкоголизму. В Казани издает-
ся проф. Писаревым прекрасный духовно-церковный журнал «Церковно-
Общественная Жизнь», и в нем, по понятным местным причинам, встреча-
ется много статей, посвященных мусульманству и вообще быту татар. В ста-
265
тьях этих мне пришлось читать, что выпивающий мулла — вещь совершен-
но неизвестная у мусульман. Повторяем, по закону (по «шариату», — кано-
ническое право мусульман) и им позволено пить. Но у мусульман духовен-
ство выборное, как и у наших староверов, — вторая группа, отмеченная
Вл. П. Череванским «непьющею». В «Церк. Общ. Жизни» рассказывается, что,
как только появился хоть признак, хоть единичный случай, что мулла был
пьян или как будто пьян, — татарское село или деревня немедленно устра-
няют его и требуют себе у духовного начальства другого. Этим народным
требованием, строгою народною ревизиею, весь состав мусульманского ду-
ховенства сделан трезвым: мусульманская администрация уже и не посыла-
ет на «места» предрасположенных к вину мулл, зная, что это бесполезно,
что таковые будут возвращены обратно. Но и с другой стороны: раз уже вся
«стенка» духовенства у мусульман — непьющая, то оно хотя и не по закону,
но практическим, бытовым давлением принудила все население бросить
вино. Теми или иными средствами, укоризнами, наказаниями, может быть,
несправедливыми придирками — они мстительно преследуют «запиваю-
щих», «начинающих запивать» и, в конце концов, вымели если и не на чис-
тоту, то почти начистоту пьянство из татарского населения. Эта, именно эта
сторона у них поставлена строго, как у нас посты. Ведь пост тоже нелегок;
ведь он вводился когда-то в первоначально-языческую массу. Но духовен-
ство наше так энергично взялось за эту задачу, что сумело настоять на сво-
ем: и если теперь, вот эти самые последние годы, менее десятилетия, посты
не везде соблюдаются и в селах, то это — неслыханное «новшество»: духо-
венство сумело на несколько веков и повсеместно установить строжайшее,
ненарушимое нигде и никем (в простонародье) соблюдение поста.
То же явление параллельно было в старообрядчестве. Что такое для на-
селения, для деревни, села пьющий священник? Ну когда все кругом пьют,
то «на людях и смерть красна». Но что такое первый пьющий священник?
Или поступивший в селе на место такого священник, который не пил? Это
— не помнящий себя священник, потерявший разум или который в непред-
виденные часы, вот всегда, когда пьян, — не имеет разума. Если пьющий
сапожник все-таки остается сапожником, то про священника, который пьет,
никак нельзя сказать, что и он тоже «остается священником». Священник —
нравственный руководитель; он указывает «путь жизни»; уже как отпуска-
ющий грехи на исповеди, да и вообще как совершитель таинств — он есть
посредник между Богом и человеком. Что же такое пьющий священник?
Ничего! Пустота, мираж, маска! Костюм без содержания. Можно ли же пред-
ставить себе, чтобы не теперь, когда уже все пьют, «стеною», но первона-
чально население, пользуйся оно выборными правами в отношении священ-
ников, позвало к себе или оставило у себя пьющих священников? Никогда!
Немыслимо, невозможно!
Это — аксиома, подтверждаемая населением старообрядцев, мусульман,
евреев, т. е. вер столь несхожих! Везде, сплошь не пьют, несмотря на раз-
ность вер. Ибо ни в какой вере и ни один человек не пожелает видеть пьяно-
266
го или полупьяного, наконец сколько-нибудь нетрезвого человека, при ис-
полнении обязанностей, которые религиею и населением признаются свя-
щенными! Кто пожелал бы быть обвенчанным священником «навеселе»,
чтобы у него окрестил ребенка священник «навеселе», чтобы похоронил его
жену, сына, родственника, друга священник «навеселе»?! Нельзя себе пред-
ставить! Кто же себя, своих не уважает? Этого нет, невозможно!
II
Нужно судить жестко, полезно иногда судить жестоко. Нужно жестоко ска-
зать эту очевидную истину, что русскому народу насильно навязано пьющее
духовенство, что Ecclesia in concrete, церковная администрация, вынудила
насильно народ принять к себе нетрезвых священников.
— Чем? Как? — закричат. — Когда это было? Укажите имена, года?
— Да всегда это было и повсеместно делалось, и под давлением самого
неблагородного, позволю сказать себе — низкого мотива: не выпустить из
власти своей права назначения! Сладко это: росчерком пера назначить «Иоан-
на Виноградова — в такой-то приход», «Симеона Воздвиженского — в дру-
гой приход». Сладка власть, слаще меда. «Все я усмотрел», «я назначил»,
«меня будут благодарить», «ко мне пойдут с жалобами», и, словом, «я» скло-
няется во всех падежах. Сладка власть, не горьки и денежки: при всяком
назначении «перепадает». В каких формах, под какими соусами — это зна-
ют в епархиях. Но вообще «перепадает», и кажется это бесспорно для всех.
И вот по этим-то двум низейшим мотивам, властолюбию и корыстолюбию,
у народа русского и отнято трезвое, здоровое, разумное, помнящее себя ду-
ховенство.
Условие его — выборная система.
Но при ней и не «перепадает», и негде чваниться.
— Долой выборную систему. Народ — младенец, ему нужна опека! По-
жалуй, он позовет пьющего священника, а это запрещено канонами!!
Читаете ли вы, сколько тут мотивов, один ниже другого. Властолюбие,
корыстолюбие, оклеветание народа (целого народа!), ссылка на «святые»
каноны...
Действительно, в канонах написано: «аще который священник... пьян:
да извержется» или «сотворится ему епитимья». Но это касается богослу-
жения и сказано о глубоком опьянении, которое сами духовные отметили
термином: «еле можаху», что по-деревенски переводится «лыка не плетет».
Но если он «плетет лыко», т. е. не шатается или чуть-чуть пошатывается,
если только «навеселе», а, напр., на поминальном обеде или на крестильном
пиру и совсем пьян — то это неуловимо в одном случае и ненаказуемо — в
другом. Совершенно явно, что высшая духовная власть имела всю возмож-
ность, все средства оподробить канон, развить его дальше, как она сделала в
бездне других направлений, напр. в направлении семьи и брака. Сколько
267
здесь «запрещений», во скольких случаях «недопустимо», как часто накла-
дываются «епитимьи». Вспомним жестокий закон о вдовстве священников.
Да, наконец, обратим внимание на выдержанность и упорство в направле-
нии постов. Но отчего же здесь ничего не было сделано? «Сами пьем... по-
тихоньку. И в вине порока не видим. Нужно же человеку где-нибудь уте-
шиться»...
Вот тайный мотив, в законах, конечно, не приведенный, в «докладных»
и «объяснительных записках», конечно, не упомянутый, который и был на-
стоящею причиною, почему народу русскому дано пьяное или полупьяное
духовенство, во всяком случае нимало не трезвое. Доказательства последне-
го (хотя оно очевидно и так) я отлагаю до «ниже». Теперь же упомяну, что и
в обширном дневнике знаменитого путешественника по Востоку, епископа
Порфирия Успенского («Книга бытия моего» — несколько томов в издании
Академии наук), и в «Записке об истории ученого монашества» покойного
Никанора, архиепископа Одесского, передается, что тайное опьянение есть
обычное явление архиерейства как в Греции и Палестине, так и в России. Я
знаю, до какой степени одни закричат, что «этого нет», а с другой - тоже
закричат: «До чего это ужасно». Первым скажу, что показание епископов
Порфирия и Никанора слишком авторитетно, ибо они показывали о себе (не
буквально) и своих, о друзьях, знакомых и проч.; а негодующих я останов-
лю требовательно: «Размышляйте, и вы перестанете удивляться и даже не
будете негодовать»...
— Как?! Епископ? Пьющий и даже тайный пьяница (показание Никано-
ра)?..
— А что же ему делать 16 часов ежесуточно, когда он не спит, и из кото-
рых он большую часть употребляет на прочитывание «дел» и выслушива-
ние «докладов», все только служебного, только административного содер-
жания, т. е. до такой степени лишенных поэзии, не поэтичных, не могущих
развлечь или утешить, и когда самым саном и положением он... не то поса-
жен в клетку, не то обделан в киот, как драгоценный фетиш или икона...
Между тем он жив, он полный человек. Живой, он должен вести себя как бы
неживой. «Ничего не алкать, не желать». «Ничем не пользоваться». Нужно
читать у арх. Никанора строки ужаснейшего пессимизма, мрачного отчая-
ния, развивающегося на верху монашеского служения, в архиерействе. «Мы
— представители мирового пессимизма», «мы почти теряем веру в Бога,
повторяя: Боже, помоги моему неверию!», «закусив рукав подрясника, толь-
ко выплачешь горе в свою подушку» и т. п. «Я плакал, читая записки Ника-
нора: до того это верно, это — наше, это — родное», - сказал мне один
епископ. Когда он получил посвящение в епископа, то очень любивший его
начальник сказал ему:
— Теперь вы будете томиться. Мы, архиереи, — как свеча в подсвечни-
ке: на нас все смотрят. И ни одного жеста, ни одного слова мы не можем
произнести не подумавши. Все «свое» в нас умерло, предполагается умер-
шим. Мы никогда не бываем наедине и никогда не бываем без надзора...
268
Душа устает. Вы отворяйте комнаты: там у вас их три подряд. Больше про-
странства перед глазами. Вы походите — и это будет давать впечатление
простора, свободы.
Никогда последнего мне не приходило на ум. Это мог отметить глаз уз-
ника. У Серафима Саровского были леса, небеса! Архиерей никогда не ви-
дит неба! Он видит только потолок квартиры, крышку кареты, купол хра-
ма... Во всех случаях несколько сажен воздуха — и только!
Запьешь! Тайно, но запьешь! Никакая добродетель не удержит, никакой
«долг» и «честь». Запьешь, как лекарь, который знает же вред пьянства. И о
«пороке пьянства» знает священник, архиерей. И плачут, но пьют.
Теперь уже это разлилось; и победить это можно лишь вековыми или
почти вековыми усилиями, — да и как победить? Отнюдь не ламентациями,
не криками, не сатирою, насмешкою. Все эти «глаголы, жгущие сердца лю-
дей» так же забавны в отношении пьяниц, которые большею частью сами
бывают лириками, как было бы трагично-забавно лечить лихорадку чтением
стихов. Победить это можно горьким размышлением. Побеждать нужно,
начав связывать явления причинною связью и действуя на причины, а не на
«последствия», которым всегда является пьянство. Ну, думали ли вы, что
пьяное или полупьяное духовенство в нижних священнических рядах пита-
ется алкоголизмом высшего в нем слоя, а алкоголизм этого высшего слоя
стал совершенно неудержим, неискореним, как только всенародно был по-
требован от него идеал недвижной, отвлеченной, какой-то выпаренной от
костей и крови, мумиеобразной «святости». «Будь живой как бы неживой!»
Это был вопль народный. И, ответив на него, архиерей тайно запил и уже не
«взыскует» с явно пьющего священника.
Мальчик-семинарист лет 16, увы, сам начинавший потихоньку испивать,
приехал из гостей у сестры, только что вышедшей замуж за сельского свя-
щенника. Спрашивали о зяте, он и отвечает:
— Не пьет. Ну, так, рюмки четыре за обедом выпьет. Но он здоровый и
сильный, ему это нипочем. У них (в одном уезде Орловской губернии) нельзя
не пить, и непьющего вовсе священника съедят живьем другие, не дадут
жить, сплетнями, злословием, нескрываемой враждой. Все пьют. Священ-
ник даже и не выслушает просьбы приходящего за требою мужика, если он
не вынул полбутылки. Так и перебивает первые слова: «А где водка», и уж
мужик, зная этот обычай, и не идет к священнику без водки, хоть идет звать
на похороны. Все равно. Крестины, свадьба — вдрызг пьяны. Священник,
нисколько не конфузясь, распивает полбутылки всегда вместе с мужиком и
за выпивкою и переговаривает о требе. А переговаривая, всегда оговарива-
ет: «Другая полбутылка — у тебя на дому»; т. е. после исполнения требы.
Молодой, начинающий (тайно от родителей) семинарист глубоко негодо-
вал. Полное презрение ко всему духовному сословию было у него в тоне,
хоть он был сам сын священника (абсолютно непьющего после «заговора от
водки» какого-то знахаря и мужичка) и говорил в священнической семье,
родным. Но мальчик этот был очень умный и серьезный. Что духовенство
269
стоит главным упором против вывода из народа пьянства, является непри-
миримым врагом обществ трезвости, — об этом мне говорил покойный Серг.
Ал. Рачинский, инициатор подобных обществ в округе сел около своего
имения Татева в Смоленской губернии. Разумеется, это имеет очень многие
исключения, но именно — исключения. А правило — таково.
III
Удивительно, что самые ясные, очевидные вещи, для каждого бесспорные,
иногда остаются не видны толпе, множеству. Человек видит больше и луч-
ше, чем люди. Напр., знаете, что в теперешнем опьянении составляет самую
отвратительную и вместе опасную сторону? Толпа не ответит, винная моно-
полия не ответила. А между тем это так ясно: выпивка стала беззаку сочной.
Берется в винной лавке «мерзавчик». С ним рабочий или мастеровой
выходит на улицу, ударом ладони по дну вышибает слабо прикрепленную
бумажкой пробочку и, опрокинув бутылочку над горлом, проглатывает со-
держимое. Это какой-то химико-физический способ опьянения. Ни чело-
вечности, ни психологии, ни картины. Ни Гоголю, ни Глебу Успенскому око-
ло такого зрелища делать нечего. Плюнули бы и отвернулись. Гадко. Ма-
шинно. Буквально — бесчеловечно. Но это не одно. Главное в том, что алко-
голь попадает в пустой желудок и во всяком случае без сопутствия
какой-нибудь пищи. Действие его на кожу, на нервы желудка очень обиль-
ное, острее, жгучее, так сказать, наркотичнее. Прежде пьянствовали, теперь
наркотизируются водкой. Это гораздо опаснее в смысле предрасположения
к образованию так называемого запоя, т. е. определенной болезни крови и
нервов, приучающихся к периодическим возбуждениям. Пьянство прежде
угрожало быту, марало быт. Теперь оно угрожает крови, расслабляет кровь.
Это гораздо опаснее.
Переместим миллионные траты на общества попечительства о народ-
ной трезвости на другой предмет, неизмеримо более дешевый: чтобы, унося
мерзавчик с собою, рабочий имел право другой рукой захватить с блюда,
стоящего в той же винной лавке, или соленый огурец, или крепко посолен-
ный кусок хлеба. Не мечтаю уже о ломтике крепко посоленной говядины.
Вредность выпивки, вредность данного глотка водки на одну четвертую долю
притупилась бы, ослабела, уменьшилась. Потребность закуски после вы-
пивки до такой степени велика, что ее никто не преминул бы взять. Очевид-
но, сам организм борется против грядущего запоя через это требование за-
куски. И одно из печальных последствий официальной торговли вином со-
стоит в том, что, как и все официальное, она сделала выпивку одинокой,
скучной, уличной, без компании и вот без закуски...
Отметим и хорошую сторону данного преобразования винной торгов-
ли. Я не допускаю и нельзя представить себе, чтобы с ее введением пьян-
ство в народе увеличилось. Тут нельзя доверяться и статистике, ибо, считая
270
свои цифры, она никогда не может с убедительностью сказать, как пили бы
при старой системе в изменившихся условиях народной жизни и быта, какие
мы имеем сейчас. Старый кабак засасывал; он засасывал именно богатством
быта, нравов около него. Вот всем тем, что изображали Гоголь и Успенс-
кий. Кабак был преступен, но для темной несчастной массы он был очаро-
«ялиегьл/о-преступен. Из кабака вытаскивали «мертвецки» пьяных. Кабак
«спаивал», преднамеренно, хитро. Казенная винная лавка, очевидно, ничего
подобного не делает и не может делать. Она только «дозволяет»: и уже эта
одна перемена «засасывает» в «позволяет» есть огромный выигрыш.
На закуску я указываю для примера, чтобы показать, как много около
огромного народного зла недодумано мелочей, притом простых и ясных.
Они победимы самыми легкими мерами. Соединение с едою выпивки —
вот мелкая и страшно важная сторона, над которою могла бы подумать и
могущественная, богатая монополия, и разные частные общества.
Затем, час выпивки: совершенно иное дело, если выпивается после ра-
боты, усталым человеком, чем если оно выпивается перед работою, поут-
ру... Зрелище улицы показывает, что в народе все более и более распростра-
няется утреннее пьянство! Старый кабак был утром и днем пуст или полу-
пуст, а к вечеру наполнялся. Теперешняя рациональная винная лавка, отпус-
кающая водку, как аптека отпускает лекарства, работает, как и аптеки, больше
всего утром и днем. Это патологическая ее сторона, сторона к худшему. Ут-
ренняя выпивка портит работу, делает нетрезвым рабочий день. Это не мо-
жет не отражаться страшным ударом на экономике страны, на мастерствах,
на ремеслах, если не на фабриках.
Перехожу от этих деталей вопроса к его, так сказать, общей и философ-
ской теме. Конечно, и огурчиком ничего не спасешь; и выпивкой «к вечеру»,
т. е., напр., закрытием винных лавок в утренние часы и даже (в обильно
мастеровых кварталах, в фабричных селах) во все рабочие часы, не многому
поможешь.
* * *
Вино веселит: делает ласковее, если не добрее, предрасполагает к искрен-
ности, к простоте; «in vino veritas»1 ... Вот его опаснейшие афоризмы.
Нужно на всякое дело широко раскрыть глаза. Трезвые мусульмане, од-
нако, не поэтичны. Вечно деятельные, торговые старообрядцы слишком су-
ровы, угрюмы и монотонны. Грустную сторону явления составляет то, что
ни Ломоносова, ни Пушкина нельзя представить себе «не берущими капли
вина в рот». Я думаю, пьянствуют, алкогольничают только бездарности. Но
и совершенно «капли не берут в рот» — тоже недаровитые люди. Что отно-
сится к людям, относится и к эпохам, к цивилизациям. Гений уже сам по
себе есть прекрасное вино в человеке и, не допуская соперников, однако,
дружит с подобным себе. Вот отношение вина к духу человеческому. От-
1 «Истина в вине» (лат.).
271
вергать здесь так же опасно, как и утверждать. Нельзя утвердить, — нельзя
вполне и отвергнуть. Не по одному бессилию, но и по истине.
Толстой, посвятивший столько рассуждений борьбе с вином, убил их
одним художественным наблюдением. Это та страница в его «Воскресении»,
где севший в вагон Нехлюдов между другими спутниками встречает одного
мужичка «навеселе». «Он был немного выпивши, — пишет Толстой, — и
по этому случаю чувствовал себя в прекрасном расположении духа. Когда
он бывал совершенно трезв, то он скучал, был раздражителен, был неинте-
ресен и сам ничем не интересовался. Но пропустив немного, он» и т. д.,
следует описание в положительном, одобрительном смысле. Передаю не
буквально, но сохраняя все оттенки в описании Толстого, поразившие меня
при чтении «Воскресенья», потому что я их сопоставил с его же рассужде-
ниями. Правда, очевидно, в художественном описании, взятом с натуры, а
не в рассуждениях, выдуманных из головы. Горькая, самая горькая сторона
вина, его ядовитая «душа», лежит в том, что она «родит хорошее располо-
жение духа»... Я не могу лучше ударить в центр вопроса, как сказав, что
отсюда-то и должно быть извлечено все исцеление от алкоголизма. Не душу
вина должны мы убить: но из горькой сделать ее сладкою, из смертоносной
— оплодотворяющею.
Как это сделать? Кто может это сделать? Мудрец, законодатель или сто
поэтов и тысяча моралистов? Невозможно человеку победить человеческой
слабости. Но Бог — вот кто может.
Конечное, удовлетворяющее разрешение вопроса о вине, я думаю, ле-
жит в религии. О, вовсе не в морализующих ее поучениях: здесь она слива-
ется с бессилием человеческим, здесь она антропоморфична, а должна быть
божественна. Нет, не то. Христос, устанавливая величайшее таинство, взял
хлеб и вино. Отринуто ли вино? Нет. Неужели для божества Его, для мудро-
сти, не было способа иначе, через другие способы и другие вещи, устано-
вить символически или реально таинство единения с Собою всех верую-
щих? Отчего бы не взять плуг и не сказать: «Так пашите в Мое воспомина-
ние». Христос в хлебе и вине взял две основные стихии мира, питание и
увеселение, вот это «приведение себя в счастливое расположение духа», и,
указав их совершать, назвал это общением с Богом. Как бы то ни было, а
материальный состав таинства таков. Мысль эта как молния озаряет воп-
рос: религия — вот кто должен овладеть вином и дать его человеку в опло-
дотворение души, а не в убийство тела.
Вот полное разрешение вопроса. Подобно тому как другая и, говорят,
родственная вину стихия, — стихия страсти, чувственного влечения, — из
разрушительной обращена в благотворную через религиозный институт
брака, так что-то подобное, какое-то подобное упорядочение должно про-
изойти и с огненною стихиею вина. Но как? Кто это сделает? Когда? Все это
темно. Но едва ли кто отвергнет, что здесь — путь, и до конца идущий. «Не-
упорядоченные половые страсти» — это «распутство». Оно грязнит быт,
губит душу, растлевает тело. Но вот семья: что благороднее ее, что более
272
украшает общество, сохраняет тело, возвеличивает душу? Ну а ведь суще-
ство дела, материальная основа его, — здесь и там одно; подобно тому как
одно и то же «опьяняющее начало» одно и то же в евхаристии, в религиоз-
ном вкушении, и когда мы просто «пьем». Явно, что вино точно так же мо-
жет сделаться украшением общества, спасением тела и души человека: под
углом какой-то неоткрытой точки зрения на него, под углом какого-то ис-
тинного и непременно религиозного отношения к нему. Но где это? как? «Не
вемы»...
А пока остаются паллиативы. Остается связь причин и действий. Оста-
ется «необходимая связь вещей», связность их, наблюдая которую можно
все-таки если не многое сделать, то многое понять в великом народном
бедствии.
АУТОПОРТРЕТ К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВА
Г. Тверской хлопотал о духоборе Гончарове, которого единоверцы послали
из Канады в Россию «ходоком» и которого немедленно же, как только он
показался на родине, сослали в Сибирь. В объяснение этого Победоносцев
писал:
«Когда духоборы уходили, кн. Г. (т. е. Голицын, главноначальствующий на
Кавказе) совершенно незаконно велел взять с них подписку, чтобы не смели воз-
вращаться, иначе будут сосланы в Якутск, и когда Гончаров вернулся, он, не-
смотря на убеждения губернатора, настоял на высылке. С тех пор сколько я хло-
потал о возвращении (т. е. до просьбы Тверского, по собственной инициативе),
но, к несчастью, все дело загрязло в канцеляриях. Впрочем, обещают. Вся наша
беда в том, что говорить не с кем о живом деле, и одно орудие — бумага. Но
если ваши (калифорнские) духоборы вернутся, — куда они сядут и найдут ли
свои земли незанятыми?.. Добрые люди, обманутые, авось, поймут, наконец:
1) что есть эпидемические нелепости поведения, коих никакое правительство
потерпеть не может, и 2) что, в сущности, одна страна в мире, где люди могут
жить свободно в своей вере, это — Россия; и верьте, что все дикие случаи
насилия и преследования есть только дело безурядицы, полицейской и всякой,
господствующей у нас на необозримых пространствах»...
Читаете ли вы глубокий смех Мефистофеля, уверяющего из Петербурга
в Америку, что единственно свободная вероисповедная страна в мире это —
за спиною Мефистофеля, тогда как за спиною его американского коррес-
пондента — духовное рабство, религиозная нетерпимость. Это писал Побе-
доносцев, который в царствование Императора Александра III лично добил-
ся удаления со службы высокого военного сановника (кажется, Бреверн-де-
ла-Гарди или Барклая-де-Толли) за то, что он ребенка своего крестил в веру
свою (лютеранскую), а не матери его (православной), очевидно, по обоюд-
ному согласию родителей, и благодаря личному настоянию которого сотни
тысяч старообрядцев, католиков и униатов, родители коих по неосторожно-
273
сти дали себя занести в списки православных, но фактически не переходили
в православие, лишены были насильственно права совершать требы по ста-
рообрядческому и католическому ритуалам и вообще свободно исповеды-
вать свою фактическую веру... Это писал Победоносцев, при котором ни
одна душа в 140 000 000 населения России, занесенная лично или в лице
родителей в списки православия, не смела оставить православную веру под
угрозой Сибири... Конечно, Филипп II Испанский был бы доволен таким
успехом. Но Филипп Испанский не умел достигать того, чего умел достиг-
нуть Победоносцев. И по той простой причине, что в руках его еще не было
той всевидящей, всешарящей, всещупающей и всевскрывающей корреспон-
денцию полиции, какая была готова к услугам Победоносцева. Он, беднень-
кий, жаловался в письме к Тверскому по поводу недошедшей или поздно
дошедшей к нему брошюрки Скворцова: «Боюсь, что корреспонденция где-
нибудь подвергается задержке или осмотру» (стр. 655). Скажите: перлюст-
рируют Победоносцева и Скворцова! Ну, что за страдальцы...
Г. Тверской, если бы внимательно сопоставлял одно с другим письма
Победоносцева, мог бы без всякого труда усмотреть даже фактическую не-
правдивость или неточность их. От 8 апреля 1901 года он пишет: «В одном
лишь могу уверить. До сих пор ни у кого не выбьешь из головы, что я альфа
и омега всего, что происходит в России. Это совершенная неправда, поддер-
живаемая лишь общим невежеством и неведением. Я не принимаю участия
ни в каких делах, кроме тех, кои относятся до церковного управления, и
кроме тех, в коих должен подавать свой голос в текущих заседаниях Госу-
дарственного Совета и комитета министров» (стр. 657). Это смиренное ле-
жание овцы он приписывал себе в первом письме к Тверскому на протяже-
нии семнадцати лет. Но в одном из последующих писем он говорит: «Сколько
лет не могут отвыкнуть от моего имени, которое уже лет пятнадцать есть
анахронизм, и все ко мне относят...» (стр. 663). Это он писал в 1901 году, а
в августе 1902 года уверяет: «Ложью живут и наши здешние газеты, и ваши,
американские. Все, что в них есть, выдумано, сочинено, и ни слова нет прав-
ды. Знайте вообще, что, где является мое имя, там ложь. Оно употребляется
как соль, ибо сколько уже лет, как с ним иностранная сплетня связывает все,
что делается в России, — тогда как вот уже лет десять, как я ни в каких
делах, кроме церковных, не участвую» (стр. 664). Незадолго до смерти По-
бедоносцева, П. А. Тверской прислал ему номер одной американской газеты
со статьею: «Marvellous old Fanate who has a grip on the Czar» («Замечатель-
ный старый фанатик, который овладел Царем»). Победоносцев отозвался на
эту статью: «Статья эта для меня не новость: тысячи подобных до меня до-
ходят издавна... Вот уже более двадцати лет, как все известия из России
соединены с моим именем, которое пронесено как зло по всему миру... Не
знает никто правды, и в злобе — на что и на кого? — ищут в России непре-
менно человека, который за все отвечает. Я являюсь козлом отпущения, но
того выгоняли, по крайней мере, в пустыню, а меня как мячик перебрасыва-
ют из одной газетной лавочки в другую и из одного кабака в другой на рас-
274
терзание. И думаешь: авось наконец узнают что-нибудь верное и притихнут,
так как здесь, казалось бы, должны знать, что вот уже лет десять я, кроме
дел церковного управления, не принимаю никакого участия в направлении
каких-либо государственных мер» (стр. 666). В следующем — 1904 году, по
поводу другой, присланной г. Тверским статьи: «Pobiedonostzeff in way of
reform («Победоносцев на пути к реформе»), он писал: «Знайте же, что все
это ложь и выдумка. Вот уже более восьми лет, как я не принимаю участия
ни в каких государственных делах, и кто принимает, — не знаю. Ни во что
не вмешиваюсь, и никто меня не спрашивает. Никаких записок не подаю
Государю, кроме докладов по текущим церковным делам. Никаких особых
докладов не имею. Я — уже давно отживший деятель... С новыми замести-
телями прежних моих друзей (по управлению) не имею никаких отноше-
ний. Никуда (подчеркнуто Победоносцевым) не выезжаю, кроме заседаний
Синода и комитета министров, не занимающегося никакими государствен-
ными вопросами» (?!). «Меня никто (подчеркнуто Победоносцевым) не зна-
ет, но в канцеляриях, гостиных и аудиториях сочиняются нелепейшие слухи
обо мне, переходящие во все иностранные газеты, на всемирный рынок вся-
ческой лжи и сплетни. И этот крест вот несу я вот уже двадцать лет. Но
прежде были еще люди, знавшие меня и мою деятельность, а ныне никого
не осталось. И мало того, отовсюду пишут мне проклятия и угрозы. Вот и
сегодня такое письмо из Нью-Йорка...» (стр. 667).
Кто же, однако, был этому виноват? Победоносцев был человек-одиноч-
ка. Ему никто не был нужен. Как он мог удивляться, что и другим он не
нужен? Все что не помогает, то мешает в жизни; всякий, кто не способ-
ствует, задерживает движение. В социальном организме, как и физиоло-
гическом, нет третьих, безразличных элементов: всякие подобные, уже тем
самым, что они суть, они помеха в жизни. Победоносцев и стоял такою по-
мехою все время, как он жил, никому не помогая, ничьему чужому труду не
сорадуясь. Это был замечательно недружный, необщественный человек. Он
был монах, келейник в государственной службе. Был Филаретом государ-
ственности. На что же он претендовал, что на него ополчилась дружная
громада работы, дружная масса людей, идущих вперед? В Победоносцеве
ненавидели старый метод государственности и общественности, вот эту
келейность его, которая практически выражалась не так невинно и вовсе не
красиво. Одну-то тропку он знал все-таки, куда-то в одно место он выезжал
или готов был всегда выехать. Он постоянно ждал, что его «позовут», и не
хотел, хотя на время, удаляться от центра власти в России, которую якобы
так любил и знал. И вот «звали» его или не «звали» фактически, русскому
обществу было противно самое это ожидание, этот старый метод, по коему
управлению слагается, как писал сам Победоносцев в первом письме к
г. Тверскому, из «фараона и первого по фараоне» (слова Библии об Иосифе в
Египте). Он сам не отрицает, что некоторое число лет был «первым по фара-
оне», — был им долго, за 17, 15, 10 или 8 лет до смерти. Как он мог так
спутать годы своей счастливой судьбы Иосифа в Египте? Да он, без сомне-
275
ния, их и не путал. Г-н Тверской, давно покинувший Россию и до сих пор
живущий в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, не знал состояния русских дел,
и он писал ему слишком небрежно, отчасти схематично и обще; во всяком
случае, писал с полным пренебрежением к факту срока прекратившегося
сильного своего влияния. Но небрежность — небрежностью; однако харак-
терно и то, что он играет фактом, годами, называя ту цифру или другую, с
такою легкостью. Это — прием или, скорее, умонаклонность келейника иг-
рать фактами, которые лежат за пределами его кельи. Можно представить
себе, как он ими «играл» в эпоху своего всемогущества, оставаясь около
этой игры патетичным и даже трагично-патетичным, как и в письмах к
г. Тверскому. По заметкам адресата, сопровождающим опубликованную пе-
реписку, видно, что хотя он и не знает, «искренен ли Победоносцев», но что
идейно Победоносцев повлиял на него, толкнул его мысли к другим настро-
ениям, к другим симпатиям, к другим оценкам фактов и лиц, — это сквозит
и в тоне г. Тверского о духоборах и о руководивших ими интеллигентах. Тон
является отчужденный и высокомерный, — господствующий тон Победо-
носцева-келейника в суждении о лицах и фактах. Так, в одном месте Побе-
доносцев пишет о Ванновском, в пору, как он, став министром народного
просвещения, проломил могучим плечом стену нашей педагогической авги-
евой конюшни: «Вот и выходит: Плеве — реакционер, в союзе со мною,
Ванновский — герой либерализма. Какой вздор! Сказали бы: герой бесто-
лочи и невежества» (стр. 663). Что он сделал Победоносцеву? Ничего, но
он в своем ведомстве, солидарно с обществом и печатью, в благородном
содружестве с ними, стал смывать вековой навоз помрачительного, а не
просветительного министерства. Между тем, этот Ванновский, как переда-
ют, умер от потрясения, пережитого от первых японских побед, хотя в них
он, уже давно не военный министр, не мог винить себя. Победоносцев, столь
же старый, как Ванновский, пережил эти победы, пережил Цусиму и Мук-
ден. В одном письме г. Тверской, очевидно, не без идейного толчка со сторо-
ны Победоносцева, сообщает ему, что в случае возвращения духоборов мас-
сою в Россию полезно было бы направить их предварительно в Петербург,
чтобы показать русской интеллигенции и представителям печати этих
наивных и чуть не запреподобных людей, за которых она столько ратовала и
которых так идеализировала. На это Победоносцев ответил с живостью:
«Ваша мысль о том, что здесь, в Петербурге, они, будучи сведены с предста-
вителями печати, не могли бы не произвести отрезвляющего впечатления на
все ее лагеря, — эта мысль, извините, показывает только, что вы, живя в
Америке и освоившись с орудиями мысли в вашем крае, совсем отвыкли от
России. Вы, видно, не чуете еще, во что обратилась печать в России и как
низко погрузились в болото все ее лагери, — даже с тех пор, как вы отсюда
выехали. И теперь едва ли вы мне поверите, когда я скажу, что нет ни одного
журнала и газеты у нас, где бы можно было рассчитывать на действие разу-
ма и здравого смысла. Все суть не что иное, как или грязные лавочки в руках
невежественного уличного сброда проходимцев и недоучек, или органы, не
276
исключая «Русских Ведомостей» и «Вестника Европы», узкого кружка док-
тринеров, не знающих и не хотящих знать народ (?!), душу его и потребнос-
ти (?!), не верующих ни во что, кроме своей доктрины, да в тупую оппози-
цию всему, что называется правительством... Попав в среду этой гнилой
интеллигенции, ваши духоборы и штундисты никого бы (подчеркнуто По-
бедоносцевым) не урезонили, разве сами сбились бы с толку».
Заметим, что ни к кому имя «доктринера» так не подходило, как к само-
му Победоносцеву. Только это был не «доктринер» прогресса, а «доктри-
нер» застоя, или «благочестивого стояния на одном месте».
Вся печать — «прогнившая лавочка»... Но не было ли кого-нибудь в
ней, кто был бы относительно нравственно здоров? Ну, как же! Без таких
благополучий некому было бы выдавать и казенных субсидий... «Вот вы,
выехав из России, — писал он г. Тверскому в 1901 году, — храните все выве-
зенные отсюда предубеждения того времени, и у вас наложено табу на «Мос-
ковские Ведомости». А «Московские Ведомости» ныне — единственная га-
зета, где разумный человек писать может без ругательств. Вы все гоняетесь
за каким-то идеалом честности (NB) или за человеком «нашего лагеря», а
дело совсем не в этом, в сфере печати. Г-н Грингмут, сам по себе, — чело-
век, которого уважать не приходится, но так или иначе он уберег газету».
Да от чего «уберечь»? От статей, от духа, от направления, враждебных
Победоносцеву. Ну, как же мы теперь распорядимся с его «доктринерством»,
если его же словами скажем, что с «людьми идеальной честности возиться
нечего, что суть дела не в честности: можно взять и человека, которого ува-
жать не приходится, лишь бы он служил». «Святые» римские инквизиторы
иногда брали «уголовных» преступников, уже осужденных, и, избавляя их
через ходатайство у светской власти от казни, обращали на службу себе, —
на службу такую, где они через шпионство и наговоры «святейшим инкви-
зиторам» влекли бы других на казнь. После окончания аренды С. А. Петров-
ского кандидатами на аренду «Московских Ведомостей» выступило несколь-
ко лиц, между ними кн. Цертелев и г. Александров, редактор «Русского Обо-
зрения». Благодаря влиянию Победоносцева в ту пору, когда он был еще
«вторым по фараоне», как сам определяет, аренда была отдана В. А. Гринг-
муту, «которого уважать не приходится». Почему и когда он это узнал, что
«уважать не приходится»? Совершенно неразвитый Грингмут каким был,
таким всегда и оставался. Он не знал перемен ни убеждений, ни темпера-
мента. Он вообще не знал перемен: он никогда не развивался. Победонос-
цев, конечно, уже раньше аренды знал, что «Грингмута уважать не прихо-
дится», и потому-то именно и настоял на отдаче аренды ему, а не другому
кому-нибудь. Это было очень немного времени спустя после того, как М. П.
Соловьев тем же Победоносцевым был прямо поставлен на пост главноуп-
равляющего по делам печати. Как лицо, заведующее цензурою во всей Рос-
сии, он, разумеется, был запрошен о кандидатах на вновь открывшуюся арен-
ду «Московских Ведомостей» и, без сомнения, указал правительству лицо,
которое ему указал Победоносцев. Но наивный Соловьев, сам совершенно
277
незначительный писатель (не имел к письму дара), совершенно искренно
увлекался необыкновенным талантом Грингмута. Когда радостная кандида-
тура его в редакторы-издатели «Московских Ведомостей» была утверждена
где следует, он сказал мне:
— Теперь мы услышим громы из Москвы. Теперь, «сам» хозяин газеты,
он заговорит...
Грингмут, на радостях аренды, с первых же разов придравшись к чему-
то у «Русских Ведомостей», потребовал знаменитой вторичной присяги на
верноподданство от гг. редакторов либеральных изданий...
Вся пресса рассмеялась. Грингмут был туп. Даже Соловьев не радовал-
ся этому его предложению. Потом Грингмут предлагал что-то вроде «экза-
мена на зрелость» для редакторов и даже для издателей газет и журналов. И
вообще в отношении довольно сонного государства он всегда играл роль
медведя, убивающего на лбу у него муху камнем... Но он был «надежный
человек» для Победоносцева уже в том отношении, что не пропускал ника-
кой идеи, даже от самых «честных людей», если эта идея не входила в круг
схимнических идей Победоносцева. Так, набирая со всех сторон людей, «ко-
торых хотя бы и не приходилось уважать», набирая их из явно глупых лю-
дей, Победоносцев и несколько подобных ему фанатиков-затворников влек-
ли корабль России... к мелям, бурям и подводным скалам маньчжурской
эпопеи и японской войны.
Корабль напоролся на камни. «Стоп, машина!». «Задний ход!». Но уже
ничто не двигалось: машина визжала, винт беспомощно вертелся, корпус
корабля затрещал в огромных боках, и испуганные люди бегали, ничего не
будучи в силах сделать...
Лоцман умирал...
СПАСИТЕЛЬ — В МИРЕ
Дни истории меняются, а дни природы вечно остаются те же. И вместе —
это живые дни, каждый не похожий на остальные, со своею физиономиею,
со своим духом, со своим колоритом. Оттого природу зовут «целительни-
цею». В сумеречные дни истории обращаешься к природе: этот день, поло-
жим 15 июня 1907 года, он совершенно тот же, как день 15 июня 65 года,
при Нероне. Как устала история, а природа нисколько не устала! Как обма-
нулись, обманываются люди в событиях! Но обратятся к солнцу, к листве
дерев и скажут: «Вот это не обманывает!»
Если не вообще христианство, которое пережило множество истолкова-
ний и перетолкований себя, то первый день его, вифлеемский день, — как-то
и не поддается перетолкованиям, и вообще осеняет человечество тою же
свежестью, как природа. Вифлеем — весь в природе! Смысл его неизменен!
Символы, окружившие его, до такой степени ясны, так очевидны, так гово-
278
рят за себя, что ни у какого дерзкого не хватало смелости подставить в него
не то значение, какое он имеет. Эти ясли, эта величайшая этнографическая
бедность, пастушеская жизнь кругом, преклонение волхвов Востока перед
Младенцем, Дева-Мать, родившая в вертепе Спасителя мира, Иосиф-ста-
рец, недоумевающий о рождении, наконец, песнь ангелов снаружи и, как
последнее, звезда Востока, приведшая мудрецов к этому месту, — все со-
единяет возле рождения Христа как бы всю историю и целый мир. Что здесь
отсутствует? И все поклонялось перед простотою и бедностью!
Христос для нас теперь — одно событие. Но в тот день в Вифлееме для
всех окружавших это было совсем другое событие. Еще не совершились
чудеса, не произошла Голгофа, не был взволнован необыкновенными дела-
ми и необычайным учением народ. В Вифлееме в тот год и час были только
предчувствия. Сама Мать Его не слыхала ангельской песни; пастухи не ви-
дели поклоняющихся волхвов. Это для нас теперь все соединилось в одну
картину и один синтез. Но Мать его до 12 лет еще относилась к Нему, как
обыкновенная мать к обыкновенному сыну, не предвидела в Нем ни всемир-
ного учителя, ни, тем более, избавителя мира от греха, проклятия и смерти.
Таким образом, все событие для его собственных участников было иным,
чем для нас: оно было еще неизмеримо проще, природнее, ближе к земле,
народнее. Но — с предчувствиями. Тысяча учебников еще не рассказали
этого события, все повторяя одно, переписывая копию с копии: и тысяча
риторов не изукрасили его. Оно имело всю свежесть действительности. Все
было, казалось, гораздо меньше, но как все было осязательно!
Эта-то осязательность для нас пропала теперь. Копии с копий отделили
нас от того, что нужно и есть. Но мы должны в этот день как-нибудь отде-
латься от впечатления копий и как-нибудь сердцем своим «вложить персты»
в то, что было.
Смиренная мать, самая простая из простых. Вся покорная Богу. Выслу-
шав благовестие ангела, она только ответила ему: «Се раба Господня: да
будет мне по глаголу твоему». Что это значило? «Как ты сказал, так пусть и
будет». Что будет? Что он сказал? Он сказал совершенно несбыточную, не-
вероятную вещь, что Дева, не переставая быть Девою, родит сына. Что мог-
ла она в этом понять, в своем невинном, юнейшем возрасте, не читав наших
учебников и всяческого богословского «экзегезиса» к словам и событию.
Она никак не могла думать того, что думаем мы. Она думала неизмеримо
свежее, цельнее, природнее. «Будет чудо со мною», «что-то непонятное и
невозможное», но «так хочет Бог, — это будет».
И совершилось. Все в том же недоумении, но полном предчувствий. Если
уже после того, как произошла Голгофа, как умер и воскрес Спаситель, апо-
стол Фома все еще недоумевал о Нем и смысле всего, что видел и слышал,
то что мы можем думать о состоянии Иосифа и Марии в пещере?! Я подво-
жу читателя к той мысли, что все событие было гораздо уже, чем нам теперь
кажется оно, пронесенное от океана до океана, но оно было вместе и неиз-
меримо жизненнее и от этого еще как-то значительнее, но не внешним, а
279
внутренним значением! Оно было неизмеримо прекраснее, трогательнее, чем
мы можем вообразить себе при вялых усилиях мысли.
Вифлеем — кусочек, островок природы. Голгофа, учение Спасителя —
это уже не природа, это — иное. Но Вифлеем в самом деле чудно соединяет
в себе все прекрасно-природное и все натурально-историческое. Есть пре-
красная картина: пустыня египетская, ночной час; маленький огонек в уг-
лублении земли, от которого, прорезывая темь, поднимается вверх узкой
нитью луч света; кто-то, что-то, отдыхая, лежит на земле. Это — обстанов-
ка, не главное. Главное — в колоссальном сфинксе, между лап которого Дева-
Мать с Младенцем на руках дремлет, откинувшись назад, в усталости. Она
окружена сиянием, и отсвет его, падая на грудь и лицо сфинкса, позволяет
рассмотреть и их. Высоко поднятые, могучие формы загадочного «бога»
древности как бы полны пророческого вдохновения. Это один из вариантов
изображения «Бегства Св. Девы Марии в Египет» от убийственных исканий
Ирода. Вариант этот, связав вековечную форму египетского религиозного
зодчества с действительным событием евангельской истории, как бы хочет
выразить ту мысль, что египетское поклонение, да и, в сущности, все покло-
нение Востока, было лишь «предтечею» рождения Христа, «пророчествова-
ло» о нем... С другой, с христианской стороны, с нашей теперешней и по-
здней, это говорит о том же, о чем говорят слова Евангелия в истории покло-
нения волхвов. Евангелие хотело выразить ту мысль, что вся древность по-
клонилась Младенцу Спасителю. Мы, христиане, через две тысячи лет после
события, прорезая темь веков своим разумом и вглядываясь в загадочный
смысл древних иносказаний и символов, склоняем головы перед этою древ-
ностью: мы встречно поклоняемся отсюда ее мудрости, ее чаяниям, ее за-
гадкам и темному лепету...
Встретились громадные течения истории, и встретились звезды и херу-
вимская песнь с крошечным кусочком бытовой истории беднейшей гали-
лейской провинции. И вот мы смотрим теперь на эту частицу своей религии
как на вековечную природу, с тем же чувством освежения и выздоровления.
Пусть очень темно вокруг. Пусть мещанство политических будней несет в
душу всякий сор, раздражение, горечи. Все это пройдет — мы знаем. Ничто
из этого не раздробит человечества. Человечество упадет, но не умрет. Опять
встанет, побредет. Ему дана вечная сила. Много говорила всяческих дурных
слов о человеке новейшая пессимистическая литература, от Байрона до
Шопенгауэра. Он и «такой», и «сякой», «никуда не годен» в мысли и уж
особенно в сердце; «преисполнен зла», — как подтверждало и богословие.
Мы же думаем, без всякого восторга и оптимистических преувеличений,
думаем как простую позитивную истину, что ничего нет лучшего и высшего
в мире, как это усталое белокожее животное, «без перьев и о двух ногах»,
как определял «человека» Сократ. Самые его предчувствия, самая его борь-
ба со смертью и элементами смерти — это его на протяжении пяти тысяч
лет томление о Боге, и все молитвы, которые он сложил, - к Богу, и как
последнее — вот то, что для человека, для одного человека во всем мирозда-
280
нии Бог сошел на землю, принял его образ, кожу, кости, нервы, перенес его
рождение, и именно в самых бедных, неказистых условиях, в условиях по-
рицаемых (от Девы, — чего смутился и застыдился Иосиф), — все это не
слагает ли на голову человека и человечества такой венец, и мученический,
и героический, которого не сорвать никаким пессимистам. И прибавить ли,
что своими шипами, укоризнами, насмешками они приплетают к этому зо-
лотому венцу только маленькие шипы, кровавящие черты страдальца, но и
еще возвышающие его идеальную красоту. «Подобает быть и злобе: для воз-
величения Правды»... Оставим их. Бог сошел для нас: будем радоваться...
Нельзя не оговориться, что Рождество Христово в его непререкаемом,
очевидном и радостном для человечества смысле много затемнено песси-
мистическим монашеством. Прежде всего, оно отняло у древности эту честь
— ожидания Рождества Христова. Оно изъяло из Евангелия «поклоняющихся
волхвов Востока», накинуло на него тень, покров; во всяком случае, вынуло
из этого рассказа обширный и очевидный смысл — «встречи (древностью)
Рождества Христова». Оно увидело во всей древности только пиры и вакха-
налии, как бы историк пятого тысячелетия после Р. X. стал говорить: «Что
же такое христианство? Это — маркиза Помпадур и двор Людовика XV, с
Калиостро, смесь волхования и разврата». Совершенно очевидно уже из
здорового течения древней истории на протяжении трех тысяч лет, что в
древности была серьезность и задумчивость, были вот ожидавшие Спасите-
ля «волхвы с Востока»; а что касается описанных историками и поэтами
«пиров и вакханалий», то это свил уголок жизни жребий богатых и знат-
ных, которые и теперь проводят жизнь не иначе, чем в древности. Монашес-
кий, антиисторический взгляд одолел, и, вместо того чтобы христианскому
люду ожидать этого праздника в тихой семейной радости, монашество пред-
дверием к нему поставило строгий пост, якобы знаменующий, по учебни-
кам, «тьму язычества». Но это — только отговорка, оправдывающий мотив.
На самом деле «встреча Рождества Христова постом» знаменует понижение
тона праздника, искажение его смысла. Но почему? Рождество, рождение —
все это слишком говорит против обетов монашества: ведь даже Иосиф сму-
тился положения обрученной ему Девы, и полная тайна дела была известна
только Ей и архангелу Гавриилу. Это была тайна небес, скрытая от земли и
поэтому-то еще более трогательная и возвышенная. Наконец, монахи сдела-
ли ударение на слове «бессемейное» (зачатие) и ударением этим заострили
и противопоставили, поставили во вражду рождение Спасителя с обыкно-
венным человеческим рождением. Конечно, рождение Спасителя было и
должно было совершиться бессеменно, так как Он не имел земного отца, а
Небесного. Но очевидно, что это есть просто факт, необходимый факт, не
порицающий нимало обыкновенного семенного зачатия людей. Своя задача
— свой способ. По задаче — способ, и наш способ зачатия нисколько не
порицаем! Но монахи, отвернувшиеся от него, запретившие его себе, пойдя
против законов естества и заповеди Божией, вздумали взять в защиту своих
вымыслов и произвола «бессемейное зачатие Спасителя» и через это вопло-
281
щение Бога, радостное из радостных событий для человечества, преобразо-
вали в скорбь для человечества, выводя из него порицание и отвержение
плоти, тела, костей, нервов, всего жизненного состава человека. Опершись
на «бессеменность», они перетолковали Рождество Христово в смысле, об-
ратном тому, какое оно имело: любящего соединения Бога с образом, с ви-
дом, с плотью — телом человека. На это потрачены были громадные усилия
монашеством; шаг за шагом они завоевывали свое черное поле. Какой-то
страх их перед Рождеством Христовым выразился в том, что, установив всю
храмовую живопись, они не допустили в нее, иначе как в небольшом, не
отовсюду видном изображении, икону Рождества Христова. Всегда эта не-
большая икона, без ризы, выносимая и полагаемая на аналой в этот день:
торжества, славы, величия, великолепия здесь нет. Нет ударения голоса, а
как бы понижение его до шепота. Отвергнуть не смеют, но все покрыли ву-
алью. Наконец, Божия Матерь, полная Матерь, с заботами о Сыне, не удаля-
ющаяся человеческого быта, не бегущая людей, живущая в народе, — чер-
ты, глубоко выражающие «вочеловечение» Бога, — усилиями монахов пе-
ределана почти в схимницу, во всяком случае, в монахиню, с вечною скор-
бью, и только скорбью, с печалью, унынием. Час Голгофы, когда Она стояла
перед крестом и рыдала, час этот, один час, розлит на всю Ее предыдущую
жизнь и всю последующую. Тогда как Она узнала ведь о воскресении Сына:
и неужели не было в Ней восторга о том, что через Нее пришел на землю
Спаситель мира? Здесь монахи совершенно устранили небесную сторону
явления, главную, и выразили только человеческую и земную; они уже пред-
ставляют не Богоматерь, а только матерь, как бы обыкновенного человека,
ужаснувшуюся земной жизни Сына и не понимающую ее небесного значе-
ния. Вековую эту работу Византии над Рождеством Христовым едва ли ис-
купает собственно словесное творчество ее около праздника, трогательное
и прекрасное. Мы воздаем каждой работе свое. Одно — прекрасно, другое
— дурно. И, предаваясь всем сердцем хорошему, мы должны в мысли своей
делать поправку к тому ложному освещению, какое монашество надвинуло
на событие.
— Это праздник природы и человека!
— Это из праздников праздник, ибо Господь наш и с нами\
О «РУССКИХ БОГОИСКАТЕЛЯХ»
В «Московск. Еженедельнике» кн. Е. Н. Трубецкого помещена интересная
статья: «Русские богоискатели» известного философа-публициста-богосло-
ва Н. А. Бердяева. Тон ее грустный и жалующийся. Все это будто бы «не-
признанные пророки в своем отечестве»... И мне хочется разобраться в этих
мыслях.
«Русские богоискатели, начиная от Чаадаева, не были признаны ни об-
ществом, ни... установленными курсами литературы». Таков его тезис. Мне
кажется, для трех лиц он мог бы сделать исключение, — по крайней мере,
что касается признания их обществом, историею и «курсами литературы».
Чаадаев, Хомяков и Влад. Соловьев. Особенно первый и последний имеют
за собою обширное общественное и литературное признание, кроме таких
исключений, которые можно принять за quantites negligeables*. Нельзя же
падать в обморок от того, что Протопопов (критик) не читает Влад. Соловь-
ева. Влад. Соловьев снискал себе энтузиастов-иоследоватиелеи, энтузиастов-
поклонников. О Чаадаеве мне не приходилось прочесть в нашей литературе
ни одной порицательной строчки. А похвал ему, удивления к его необыкно-
венному уму и таланту, я читал слишком много. Итак, признание есть.
Бердяев назвал сам ряд журналов, в которых эти «богоискатели» выра-
зились и которые имели же читателей, хоть и не в составе многих тысяч.
«Мир Искусства», «Новый Путь», «Вопросы Жизни» — все имели своих
читателей.
Но Бердяев, конечно, прав, когда говорит, что общество — большое об-
щество, масса его — не живет интересами богоискания. Этот факт нужно
признать как простую очевидность. Но к нему нужно отнестись просто и
рассудительно. Тут, мне кажется, не заключается никакой боли и опасения
для богоискателей и богоискания; и общество совершенно право, что те-
перь и все время прежде не занималось или мало занималось этими темами.
Человек сидит в погребе, а вы гневаетесь, зачем он не молится. Да он и не
может молиться — по состоянию своего духа, во-первых; а во-вторых, пото-
* величины, которыми можно пренебречь (фр.).
285
му, что в темноте погреба не может рассмотреть никакого образа, не знает,
куда молиться. Будем просты и скажем ту житейскую истину, что мы с
г. Бердяевым, положим «богоискатели», не обедав в полдень, не напившись
с булками чая утром и не зная, где поужинать, не станем в десятом часу ночи
продолжать темы «Религиозно-философских собраний», а побежим к тре-
тьему приятелю, напр. тоже «богоискателю» Мережковскому, чтобы захва-
тить у него чая с теплой булкой и по возможности бутербродов. Ученики
Христовы, при усталости, спали в самую ночь предательства Его. Значит,
это — вечное, что человек «печется» о «хлебе» — во-первых, т. е. о сумме
физических условий бытия своего, и о вере — во-вторых. Не забывайте же,
что мы здесь, на земле, находимся в условиях и обстоятельствах земного
физического существования; и, так сказать, планетному часу бытия своего
не только невольно подчиняемся, но обязаны ему и религиозно подчиниться
первенствующим образом. Я на земле ем и хочу быть свободен: и это есть
моя святыня, святое право и святой долг, прежде алтарей и икон. Перепорх-
ну я в другие условия бытия, — ну хоть звездные что ли (для примера) или
чисто духовные и «небесные», как хотите и кто что выберет: тогда в этих
других условиях я отдамся им всецело и буду, может быть, прежде строить
алтари, а потом уже есть. Я хочу сказать ту простую вещь, или простое
убеждение мое, что на земле еда, сон, не чрезмерная утомленность («8-час.
рабочий день»), свобода и проч., и проч., и проч, суть тезисы религиозной
веры, «члены» не меньше Никейского символа, и это с Божеской точки зре-
ния, не с моей, не с антропологической. Бог послал нас на землю (в земные
условия): будем покорны Ему, покорны этому часу своему и отдадим земле
все земное (земной свой час), порывисто, со страстью, на первом месте.
Мне кажется, человечество не рассуждает об этом, но инстинктивно очень
правильно выполняет это. Да, на этот XIX в. и, вероятно, весь XX век «печ-
ной горшок» ему дороже и должен быть дороже и гимнов, и молитв. Пере-
несемся на практику: конечно, я любил «Религиозно-философские собра-
ния», и кто бывал в них — это видел; но после Цусимы какая мысль о них?!!
Когда я думаю о молодых моряках (сынах отцов своих, устлавших дно моря),
— мне кажется, я проклял бы того или оттолкнул с отвращением, кто сказал
бы: «Ну, что ж, уснули и уснули морячки, — а мы живы: давайте решать
вопрос о теократии и об отношении в ней Первосвященника и Царя».
Человек не должен быть так бессовестен.
И моряки — наши братья. И они в «теократию» входят. Иносказательно
в «теократию», новую и настоящую, не в слепок средневековой, — входит и
свобода, и «хлеб», и освободительное, значит, движение, и голодуха про-
шлого года. Все входит. Всем место. И мы, «богоискатели», — должны быть
способны и терпеливы, — и дожидаться того времени, когда придет заклю-
чительный час гимнов и молитв, алтарей и икон. Я думаю, весь этот век,
последний век этого тысячелетия, уйдет, так сказать, на устройство «квар-
тиры» человечества, в частности европейского, христианского человечества.
Все страшно мучительно. Наконец, все страшно унизительно для человека
286
пока. Пусть устраивается, разбирается. Пусть весь отдается земным усло-
виям. Да благословит Бог его труд, — и, верите ли, пока он не устроится, Бог
благословит и самое забвение Себя человеку. Неужели Бог более эгоист, чем
мы, и хочет только «алтарей» и «алтарей». Бог «в тайне и видит тайное».
Шумихи Ему не нужно, в том числе и религиозной шумихи. Все приходит в
тишине, само собою, вовремя. Будем ждать. Нужно уметь ждать. Придет
час молитв — придет час религиозного ведения: ну, вот тогда общество, в
толще и массе своей, и отдается темам богоискания, интересу богоискания.
Не нужно торопить время, — и особенно не нужно искусственно перево-
дить вперед стрелку мирового циферблата.
ВЯЧЕСЛАВ СИЛЬВЕСТРОВИЧ
РОССОЛОВСКИЙ
(Некролог)
Умер Вячеслав Сильвестрович Россоловский, сотрудник «Нов. Врем.» с са-
мого основания газеты (со времени издания ее еще гт. Устряловым и Труб-
никовым), писавший постоянно и много на ее столбцах, хотя редко выстав-
лявший под статьями свое имя. Обладая живым и отзывчивым умом и серд-
цем, задорный без злобы, полемист без мелочности и самолюбия, он был
одним из тех мало заметных для публики, необходимых внутренних колес,
силою и сцеплением которых идет громадное дело большой политической
газеты. Уроженец гор. Казани (родился 7 января 1849 г.), он был происхож-
дением татарин, как Бабст и Киттары, но татарин уже православный. Окон-
чил курс в Петербургском университете по юридическому факультету. Вся
его жизнь была положена на литературу или, точнее, ушла в газетное дело,
где искусство пера так неотделимо переплетается с чисто техническими ка-
чествами неустанного и разнообразного работника. В этом отношении он
был незаменимым сотрудником, между прочим, по чрезвычайному разно-
образию вопросов и сторон жизни, которые волновали его душу и занимали
ум. Поэтому он писал на множество тем, начиная от музыкальной критики и
кончая политическими обзорами, военными корреспонденциями и статья-
ми о спиритизме, гипнотизме, загробном мире и проч, и проч.; последнее —
предмет его особенного внимания и интереса. Центр его деятельности пада-
ет на время турецкой кампании, когда он был два месяца корреспондентом
на полях Болгарии, был под Плевной и на Шипке. Там сложился и его культ
М. Д. Скобелева. Как это не редко случалось с людьми татарского проис-
хождения, он был пылкий русский человек, горячий заступник за все рус-
ское и за всех русских перед напором иностранной или инородческой тре-
бовательности и притязательности.
В этой русской части своих убеждений он был неуступчивым челове-
ком, едким полемистом, смелым наездником-нападателем. Он громил не-
287
мецких академиков в Петербургской академии наук и еврейских и гречес-
ких процентщиков в южной России и юго-западной нашей Палестине. Но
задорный публицист, он был кротким и тихим явлением в домашнем быту и
ежедневной работе. Товарищи по газете с глубоким прискорбием провожа-
ют в могилу этого благородного и ясного русского человека, помня всегда
участливое и милое отношение его ко всем, кого судьба ставила рядом с ним
по писанию ежедневных обзоров, всевозможных заметок, откликов на со-
бытия, по выпуску нумеров газеты. Упомянув о последнем, мы должны ска-
зать, что иногда в летние месяцы все дело по выпуску газеты возлагалось на
него. Полный множеством публицистических забот и теоретических инте-
ресов, он не имел ни досуга, ни интереса вносить в дело мелкие предрас-
суждения своего «я», и эта чистота его рабочей личности делала легким со-
трудничество с ним. Он пользовался всеобщею любовью окружающих, сам
любил их; и в меру возможного, был счастлив и во всяком случае удовлетво-
рен этою гармонией внешних и внутренних отношений. Последние два года
он много хворал и собирался переходить от городского шума и суеты к спо-
койной жизни сельского обитателя. Но смерть скосила его. Прощай, милый
товарищ и редко добрый человек!
НОВЫЙ ТРУД ПРОФ. ТАРЕЕВА
Откуда такое множество старых книг? Я говорю не о прежде напечатан-
ных, а о самых последних, только что выброшенных и постоянно вновь выб-
расываемых на книжный рынок? Купил книгу. Принес домой. Разрезал: крас-
кой пахнет. «Только что испеченная, — какое удовольствие!» Начал читать.
Боже, но ведь все это старое, когда-то, где-то читанное мною, только я за-
был, когда и где! Ни одного нового факта в книге, сообщения, наблюдения.
Ни одной новой мысли, нового освещения, нового угла зрения на вещи. Все
старо, ужасно старо, заношено, затаскано, до дыр, до обращения в тряпку. А
между тем, стоит на обложке «1908 г.». Наивные творцы сих старых книг не
представляют себе, какой они вред приносят человечеству, образованию,
самой книжности. Подложив под разные обложки, серенькие, зеленые, крас-
ные, желтые, коричневые и проч., и проч., и проч., одни те же «общие шаб-
лоны» книжности, передвигаемые от автора к автору, они слили все поле
«печати» во что-то серое, ненужное, неинтересное.
— Слишком много книг!
— Нет книг!
Изобретение Гуттенберга как будто переросло себя, пережило себя! Оно
(догадываются ли об этом) возвратило образование к состоянию почти ру-
кописной литературы. Увы! Среди необозримого множества «печати» стало
почти невозможно или очень трудно отыскать настоящую, живую, ценную
книгу, которая, и будучи напечатана, заваливается в книжных кладовых и
288
складах не хуже, чем драгоценный пергаментный свиток, бывало, в средне-
вековых монастырских чуланах! И иногда пройдут годы, прежде чем такая
книга, давно «напечатанная», вдруг нашлась как «новенькая» и привлекла к
себе внимание читателей. Помочь этому настоящему умственному бедствию
могла бы только настоящая библиография, обширная, серьезная, бесстраст-
ная. Но где же библиографы, эти бескорыстные любители книги как некоей
«вещи в себе»? Да и могут ли они быть компетентны во всех областях науки
и литературы? А это conditio, sine qua non...*
Это несколько меланхолическое предисловие я делаю, готовясь извлечь
из «кладовых» книгу, правда новенькую, которая, может быть, и без меня
получит широкий успех, но (кто знает?), пожалуй, и «завалится» за всеоб-
щим «некогда, недосуг». Это — только что появившееся четырехтомное ис-
следование христианства М. Тареева, профессора Московской духовной ака-
демии. «Свои» о нем скажут: «Слишком ново и для нас непривычно», а
посторонние скажут: «Слишком старо! Ведь это что-нибудь из давно пере-
жеванной семинарско-академической схоластики». И книга, которой бы жить,
которая обогатила бы умственно общество, может «даже и не вздохнуть»,
стиснутая между этими двумя стенами своей сословной неприязни и неве-
жества иносословных.
Книга вся есть личный труд профессора, и, до известной степени, это
есть его личное «переживание», может быть, и даже наверное, личное стра-
дание. Ну, и счастье. В конце 3-го тома, озаглавленного: «Христианское ми-
ровоззрение», он останавливается на вере русского народа в «Божьего чело-
века» как страдающего и уничиженного и на разделении в народном ощу-
щении понятий «христианского блага» от понятия не только внешнего до-
вольства, но и вообще всякого внешнего, даже в том числе духовного
совершенства, и на этих одних чертах народной веры основывает предска-
зание великой религиозной будущности русского народа. Каждый видит, что
тут пахнет деревней, а не академией. Но, с другой стороны, начертав осо-
бенности католичества (авторитет) и протестантства (личное пассивное бла-
гочестие) и перейдя к православию, он указывает, что, приняв от Византии в
X веке собственно богослужение, а не догматику и религиозную филосо-
фию, мы подчинились в истории этому изначальному толчку, и у нас сдела-
лась не какою-нибудь побочною чертою, но сущностью, серьезною сущнос-
тью религии, религиозности, благочестия обрядность. Православие — об-
рядоверие и обрядолюбие. Хорошо это или худо, много или мало, но это
так. И составляет простое научное достоинство эта точность диагноза и
формулы. Но если в этом «суть», то понятно и явление раскола старообряд-
чества: народ не позволял тронуть этой «сути» своей, даже в йоте. Здесь
Тареев согласен с Гарнаком, но Гарнак дальше этого в православии ничего
не видит. Тареев же вскрывает кору бронзовых обрядов и указывает, что под
нею теплятся в народе быт и психология таких религиозных оттенков, кото-
* необходимое условие (лат.).
10 В. В. Розанов 289
рые абсолютно ценны, — во-первых, и каких совершенно нет нигде на Запа-
де, во-вторых. Все это, однако, лишь область наблюдений. Я их указываю
как «кое-что» первое, попавшееся на глаза: собственная мысль автора дви-
жется и не здесь, и не сюда. Собственное содержание книги — бесконечное
углубление в личность Христа (том I — «Христос», том II — «Евангелие»,
том III — «Христианское мировоззрение», том IV — «Христианская свобо-
да»), не ученое, хотя и сквозь свет или, лучше сказать, помощь учености, но
сердечное, нравственное... Тайна вопроса, «как быть христианином», раз-
решается в другую: «как быть со Христом», и быть «со Христом» — значит
постигнуть или приблизиться к постижению, «чего же именно Христос хо-
тел от человека, что Он такое ему говорил, нашептывал, куда, к чему ма-
нил».
На это тысяча ответов! Хотя Евангелие лежит перед всеми и все могут
читать его, но именно на этом разошлись все церкви, народы, учители церк-
ви и еретики. Все хотели «понять Христа», «исполнить Его учение»... Ник-
то не говорил: «не хочу», «не последую». И к величайшему изумлению, не
могли ни «постигнуть», ни «исполнить», ни «повиноваться» сколько-нибудь
согласно и однородно'. Не загадка ли здесь, в самом деле? Не загадка ли
мировой и европейской истории? Но, может быть, даже более: здесь есть
загадочное в самой личности Учителя? Неужели, если бы Христос захотел,
Он не мог бы дать одного понимания Себя, Своего дела и Своего учения? И
не проще ли догадаться, что Он и не хотел единства понимания... Ну, на-
пример, как монотонности и однообразия, после которых ставят «точку» и
умолкают или умирают.
Загадка и совершенно непонятно.
Я оттого и поставил рискованные выражения: «чего Христос хотел от
человека», «о чем нашептывал», «куда манил», что, совершенно очевидно,
мы имеем в притчах, т. е. иносказаниях, и в таких неосязательных выраже-
ниях, как «царствие Божие», — не прямое учение, а косвенное, оставляю-
щее человеку догадаться... о чем? Ясно, что Христос именно манил, звал,
но куда, — об этом полного слова не оставлено. Все иносказания, все побоч-
ности. Что такое «царствие Божие», которое «внутрь нас есть»? Толстой не
писал бы своих толкований, если бы прежние были совершенно ясны. Оче-
видно, ясности нет. Очевидно, общей убедительности нет. Через две тысячи
лет после И. Христа нам представляется Его учение гораздо менее ясным,
«истолкованным», чем оно казалось апостолам. А сколько мудрости, уси-
лий положено на то, чтобы «истолковать и согласиться и исполнить»... Как
хотели! Но ничего не могли!
Загадка.
Проф. Тареев подходит к этой теме без того любопытства, какое позво-
лительно мне, светскому и ничем не связанному человеку. Книга его течет
из безмерной очарованности, оболыценности ликом Христа. Он только спра-
шивает себя: «Чего же хотел Он?» И дает ответ глубоко индивидуалисти-
ческий.
290
Христианство — не для царств и не в царствах. Запечатленное красо-
тою, оно и не для красоты, хотя и не против нее... Не для блага и не для
несчастья... Все это вне его, и не враждебно, и не дружелюбно ему. Хрис-
тос единственно имел отношение к душе человека, говорил ему как одному
или если «им», то как бы «одному»: совершенно слитым единством отноше-
ния к Нему. Бог и человек, Христос и человек, но совершенно нелепо гово-
рить: «Христос и общество», «Христос и государство». Я излагаю точку зре-
ния Тареева, совершенно, впрочем, присоединяясь к ней. Мне кажется, это
действительно настоящее понимание христианства и того, чего хотел Хри-
стос, что Он делал с людьми. Он будил лицо в человеке', вот и все, весь круг.
Тареев жестко и, наконец, жестоко настаивает на этом, и в этом великое до-
стоинство книги, что она вообще не виляет, не мямлит, не подслащает ве-
щей и не входит в компромиссы... Она жестка и тверда. Таково и должно
быть всякое в пределах великих тем.
«Христианский брак», «христианская семья» — все это contradictio in
adj ecto, все это ни да, ни нет для Христа. Во всяком состоянии, во всяком
положении можно быть «со Христом», но Ему этих «положений» и «состо-
яний» не нужно было, они не суть «дары Ему». Монашество с этой точки
зрения абсолютно отвергается или, точнее, не ставится ни в «да», ни в «нет».
Отвергается в том воззрении на себя, какое имеют монахи («Богу жертва»,
«мы угодны Богу»). Не нужно договаривать (хотя проф. Тареев и не ставит
этого выпукло), что и от обрядоверия, и обрядолюбия ничего не остается.
«Красиво»... и против этого Тареев не возражает, Он, впрочем, и не отделя-
ется от православия, указывая на странников, на Божиих людей: «Вот»...
Но и с ними он не сливается уже по широкой интеллигентности своей, уже
потому, что он все-таки не «Божий человек». Что же ему остается? Что у
него есть? Да вот эти четыре огромных тома, написанных «с верой, надеж-
дой и любовью», говоря все это не для прикрасы, а по существу. «Вера» в
четырех томах? Но почему нет? Он «со Христом» в смысле безмерной лич-
ной спиритуальности, которой и хотел Христос от человека, вовсе не связы-
вая ее какими-нибудь тезисами, оковами, умственными и житейскими по-
буждениями. Христос хотел совершенства духа у человека, но ведь вершин
может быть много, и даже каждый человек может расти в свою вершину.
Будь, человек, благороден.
Это сказал и Шиллер, не определив, «в чем» и «как» благороден... Мысль
Тареева движется в направлении безграничного освобождения человека, но
освобождения непременно религиозного и благочестивого; «расти вверх»
— вот задача; а к северу, западу, югу или востоку будет наклон, — это уже
вне зова Христова, вне того, что Он сделал с человеком. Невозможно не ос-
тановиться мыслью, что при таком воззрении истинных «вер» столько, сколь-
ко есть истинных, настоящих людей. В самом деле, «вера» — это абсолют-
но искреннее, а абсолютно искреннее, «поверованное» у всякого человека
291
ю*
нечто «свое». Это тареевское царство «свобод-церквей» и сливается, и не
сливается... В самом деле, нельзя не заметить, что ведь только начало церк-
вей, всех церквей, вот эти дни Григория Великого в Риме, у нас — киевских
отшельников, у лютеран — Густава Адольфа, были хороши, святы, велики.
О любви говорится:
Только утро ее хорошо...
Вот и о религиях, скитах, «толках», всем, всем приходится сказать то
же, что и у них было только «утро» хорошо: после чего наступала мертвечи-
на, казуистика, формализм; старая «закваска фарисейская», являвшаяся под
разными приправами и этикетами. Но везде она — прокислая, противная.
В самом деле, ханжество немецких пиетистов начала XVIII века стоит
«тартюфов» времен Ментенон и Мольера, и не лучше этого наш русский
«семинарский дух». И не от каких причин и специфических пороков, а про-
сто оттого, что все это было уже далеко от «утра»... «Далеко от царственной
личности, которая в религии есть все, — подсказывает проф. Тареев, — от
свежести личного сотворения и личного восприятия».
Но как же тогда «церковь» как общее! Церковь и церкви, наша, протес-
тантская, католическая? Тареев не говорит выпукло, но кажется ясно, что
лишь живые «личные исповедания» суть живые места, живые точки в них.
Ну, а вне этих личных сознаний есть море «общей работы», «общей полити-
ки», общей дисциплины и проч., и проч., и проч., что все, может быть, имеет
большую ценность, но уже «со Христом» и не «во Христе».
Попытку «подчинить все Христу» — как настаивал известный арх. Фе-
одор Бухарев — Тареев очень тонко уподобляет тому, с чего начало папство,
тоже еле вышедшее из идеи абсолютного подчинения Евангелию, Христу и
церкви (как же иначе?) внешней культуры, искусства, науки, политики... Не
более удачны, чем эти попытки Бухарева, трактаты Влад. Соловьева о слия-
нии «государственности» и христианства... Характеристика Влад. Соловье-
ва — самое меткое, что мы читали в нашей литературе о покойном филосо-
фе. Он отдает дань удивления ему, как систематику, как писателю и энтузи-
асту, но вот что говорит далее: «То обстоятельство, что Соловьев был фило-
софом, составило самую роковую слабую сторону в его богословствовании.
Ему и в голову не приходило, что реальное содержание Евангелия далеко не
совпадает с этими формами мысли, и он, с поразительным благодушием,
оперировал над этими формами, над отвлеченными понятиями, почти не
касаясь евангельского христианства. Прочитаем ли мы его «Историю и бу-
дущность теократии» или окинем взором всю его религиозно-философскую
систему, — мы найдем у него на месте Евангелия нагло сверкающую дыру,
отвратительную пустоту. Страшно подумать, что Соловьев, столь много пи-
савший о христианстве, ни одним словом не обнаружил чувства Христа
(курс. Тареева); игравший словами «Логос», «Богочеловек», «София» с лов-
костью виртуоза, он не ощущал тайны исторического Христа. Логос-Бого-
человек был для него отвлеченным понятием, а не предметом живого созер-
292
цания. Для него все прикрывалось формулою богочеловечества, сочетания
Логоса с мировою душою, и он не остановился перед поразительною инди-
видуальностью этого явления... Равным образом идея бессмертия, Царства
Божия — все имеют у него философско-языческий вид, а не специфически-
христианский» (т. IV, стр. 342). В самом деле, это так: даже у самого зано-
шенного «политика» из захолустья в той или иной обмолвке, в той или иной
житейской, теплой ссылке на такое или иное изречение Христа вдруг сверк-
нет больше настоящего евангельского чувства, настоящего евангельского,
— позволим сказать, — вкуса, чем в обширных трактатах Соловьева о «хри-
стианской политике» и проч., и проч.
Ну, а как же с миром? С политикой, с искусством, семьей? Тареев не
видит «царства зла» во всех этих вещах, не видит для них, так сказать, необ-
ходимости «искупления», говоря церковными понятиями. Все эти вещи хо-
роши не по отношению ко Христу и не под условием связанности со Хрис-
том, а когда «довлеют сами себе». Для него природа, космос разделяются
(без противоречия и без «взаимного требования») на царство Духа, для ко-
торого единственно пришел Христос и на это царство единственно воздей-
ствовал, и на царство или, точнее, целую иерархию царств естественных,
натуральных вещей, естественных отношений и явлений, куда относятся
биология и физиология (семья, брак), общество, экономика, политика и проч.,
и проч. Здесь царствуют свои автономные законы, для которых Христос не
говорит ни «да», ни «нет», и они сами не нуждаются в непременном воздей-
ствии Христа. Здесь свои вершины, свои устремления, как есть, конечно, и
свои «низы», — не против Христа и не в отношении Христа, а в отношении
самих себя. Он говорит, например, что семья бывает лучше всего, т. е. теп-
лее всего, ярче всего и, наконец, воспитательнее всего, просто когда она сво-
бодно отдается себе, горестям и счастью своему, — словом, варится в соб-
ственном соку, а не в «христианском соку». Все это мне представляется очень
точным как наблюдение, хотя для нравоучительности, особенно батюшек,
здесь и не обходится без «прискорбия»... Тареев отмечает далее, что, растя
«в свою вершину», все эти вещи, автономные в отношении христианства и
церкви, могут развить в себе тот прекрасный дух, который, не будучи «хри-
стианским» по происхождению, будет очень близок к нему по колориту', те-
пел, благожелателен, благороден, чист. Только при этом развитии целого
царства как бы самостоятельных центров вещей, существ, отношений, ка-
честв мы непреднамеренно можем получить слияния многих центров или
их соседства, близость, вообще гармонию, чего никогда не добились бы на-
сильственно и искусственно. Все подобные попытки насильственного слия-
ния, подчинения и пр. только портят прекрасную природу этих вещей, врож-
денно разделенных и врожденно независимых.
Я задел только краешки замечательной книги. «In medias res»* пусть
войдут сами читатели.
* В суть дела (лат.).
293
ПАМЯТИ И. П. МЕРЖЕЕВСКОГО
Бесчисленное множество людей, знавших покойного И. П. Мержеевского,
без сомнения, присоединятся сочувствием к немногим словам, которые мне
хочется сказать над могилою этого неожиданно — несмотря на 70 лет —
умершего ученого и врача. Слову «неожиданно» улыбнутся все, не знавшие
его лично; но кто знал его лично, все скажут, что действительно не было еще
никаких признаков дряхлости, изнеможения в этой изящной, подвижной
фигуре с прекрасным молодым цветом лица, в этой быстрой свежей речи,
непрерывно работающей голове. Вот уж ни одного листка не опало с этого
дерева: и оно пало разом и все, с крепкою кроной, державшейся на нем,
несмотря на то что за время его жизни земля уже семьдесят раз облетела
кругом солнца...
Он был как бы воплощенная медицина и лицо науки своей как бы носил
на собственном лице: «Смотрите, как я стар и сколько людей в мои годы
давно уже инвалиды и пенсионеры, на чужих руках. Но я верю в науку свою
и исполняю малейшее ее требование. Ничего лишнего в пище, ничего воз-
буждающего в питье, никаких сильных, ненужных движений, даже слов.
Бодрствования — сколько нужно, сна — сколько необходимо, не больше.
Пью много уже лет горячую воду с сахаром вместо чая. И принимаю еще
больных, не устаю при приемах, работаю для науки; и кроме того, очень
люблю живопись, но с грустью не нахожу ничего хорошего на новых выс-
тавках, где нет ни законченного рисунка, ни внимательности к краскам, где
все путано, порывисто и не докончено»...
Эти приблизительно речи я услышал от него при первом знакомстве
несколько лет назад в гор. Аренсбурге, где он отдыхал летние месяцы в сво-
ем доме-даче. Он не был доволен выбором места. «Здесь бывают ветры, и
это раздражающе действует на нервы». Но, кажется, и ветры на него не дей-
ствовали, или от них умел как-то оберегаться осторожный доктор и класси-
чески спокойный, скорее классически выдержанный человек.
Смотря на его безукоризненный сюртук и безукоризненную фигуру, при-
ходила мысль сравнить его с «посаженым отцом», который вот-вот сядет в
карету, чтобы везти букет белых цветов какой-то чужой невесте. Такое впе-
чатление он делал, а сколько между тем в тиши, в безмолвии кабинета он
совершил работ, труда, «службы» в разнообразнейших ее деталях. Но пыль
рабочего не лежала на нем, свой ученый фартук он оставлял в кабинете своем.
Мне приходилось если не самому, то в качестве третьего посредствую-
щего лица бывать при приеме им больных и вообще ознакомиться с ним как
с врачом. Без сомнения, давно не нуждаясь в деньгах, он к врачебной дея-
тельности относился, как артист: с художественною любовью и спокойстви-
ем. Не было никакой торопливости и «задолженности» в его приемах. «Ах,
там еще ждут», — этого испуга усталого врача у него не было на лице. Он
«разрабатывал» пациента путем опросов; и как внимательно он слушал!
Наконец, в подробностях лечения и советов была такая масса заботы о боль-
294
ном, такая дальновидность, предупредительности которой я дивился, зная,
что уже самому ему 70 лет! «Давно в отставке», а свеж и полон ожиданий и
готовности, «как юнкер».
Мне приходилось наблюдать и его редкую, исключительную доброту.
Он не был субъективен обращенный внутрь своего «я», он был объективен,
взгляд которого безустанно следил за наружным, за окружающим, с вечной
готовностью помочь. Он был добр добротою человека, который многого
достиг, которому лично уже ничего не нужно, но который знает своим спо-
койным и мудрым умом, что мир еще полон скорби, нужды, стенаний, ужа-
сов, чему всякий должен помогать, чему всякий счастлив помогать, пока
стоит на ногах. Особенность его добрых дел, как я наблюдал, заключалась в
том, что он не уставал от них, не тяготился ими, а как будто вот чувствовал
счастье, что и ему удалось что-нибудь сделать. Казалось, не он приходит с
немощью к нуждающемуся, а этот нуждающийся помогает существовать
ему, Ивану Павловичу Мержеевскому.
Мир праху твоему, истинно прекрасный, истинно изящный человек.
Сколько людей, даже из едва прикоснувшихся к тебе, не забудут твоего го-
лоса, твоего обращения, твоих советов и указаний и вообще всего тебя до
тех пор, пока сами живут... Вся жизнь твоя была постоянным ровным, не
нервным светом, льющимся от благородного существа человека.
Теперь этот свет угас. И сколько вздохнут об этом...
ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ И РАССКАЗЫ
С. Н. ШУБИНСКОГО
Издание пятое, дополненное и исправленное. С 89 портретами и иллю-
страциями. СПб., 1908. Стр. VII—711.
Пятое издание «Исторических очерков и рассказов» С. Н. Шубинского
доказывает, что книга эта имела успех и распространение среди публики.
По нашему мнению, она вполне этого заслуживает потому, что все рассказы
написаны очень живо и популярно и затрагивают темы, представляющие
общий интерес. Большая часть их рисует внутренний быт русского двора и
общества XVIII и начала XIX столетий. Читатель знакомится с домашней
жизнью Петра Великого, императрицы Анны Ивановны, Екатерины II, рус-
ских вельмож, помещиков, чудаков, авантюристов, самодуров и других ти-
пичных деятелей того времени. В пятое издание вошло, сравнительно с пре-
дыдущими, десять новых очерков и рассказов. Из них особенно любопытны
следующие: «Княгиня А. П. Волконская и ее друзья», «Богом данный гене-
рал-прокурор» и «Княгиня Лович» (жена великого князя Константина Пав-
ловича). Всех рассказов в настоящем издании 52, иллюстрированных 89 пор-
третами и рисунками, воспроизведенными преимущественно с редких ори-
гиналов. Издание снабжено двумя указателями - личных имен и рисунков.
295
КРАСОТА МОЛЧАНИЯ
(К юбилею Л. Н. Толстого)
Наше время очень похоже на то, как сухой ветер несет сухие листья:
Сколько их, куда их гонят...
Нет мыслей, а есть полумысли; нет слов, а есть полуслова, словечки,
выверты, выкрики, что-то упавшее до уровня стихийности, какая-то стихия
голосов, голосистости, словесности, звонов, перезвонов. Это давно называ-
ется «литературою» и «общественностью». Грешным делом, принимаешь в
нем участие и сам: но — принимаешь, а на душе как-то горько, кисло...
Спор о чествовании Л. Н. Толстого, конечно, должен разрешиться в сто-
рону молчания, так как это красивее и величественнее и в высшей степени
отвечает не только возрасту его, но, сколько понятно и сколько известно, и
его вкусам, нравственным и художественным. Что докажет юбилей? Что его
помнят, что его чтут? Но неужели есть до такой степени глупый человек,
которому бы это надо было доказывать? Малейшее известие о его здоровье
вызывает тревогу по всей печати, во всем обществе. Какие манифестации
юбилея что к этому прибавят?
Что скажут на юбилее? Да ничего особенного. Нечего сказать, все сказа-
но. О Толстом столько писали, думали, — и делали это первоклассные умы,
— что ораторам, которые потащились бы в Ясную Поляну «для произнесе-
ния приветственной речи Льву Николаевичу», ничего не остается, как по-
вторить «в своих словах» что-нибудь уже давно напечатанное. Мне кажется,
умный человек даже не возьмется за это невозможное дело. Новое слово и
должно сказать что-нибудь новое. А что новое скажешь о Толстом?
«Вы, Лев Николаевич, велики... вы — сердцевед, вы — несравненный
художник, вы нашу литературу подняли на недосягаемую... человеколю-
бец, моралист, друг народа, вы, вы, вы»... Стошнит и не одного Льва Нико-
лаевича от такого вчерашнего, прокислого, никому не нужного винегрета
похвал. Ну, а что другое скажешь или что другое хотели сказать предпола-
гавшиеся паломники?
Или:
— Вы потрясли государство и церковь.
Старо! Какой теперь гимназист не «трясет»... Просто — все это не нуж-
но. В пустом вихре несутся пустые слова.
Но как будет прекрасно, если действительно торжественный и до неко-
торой степени святой день русской литературы будет почтен просто мол-
чанием. Конечно, мое предложение не может быть принято, но если чего
мне хотелось бы, то это того, чтобы, сделав накануне его юбилея анонс о
80-летии, я, например, не помню дня юбилея, да и таких (забывчивых) очень
много, газеты предупредили бы, что назавтра они не выйдут. «Просто, мы в
молчании подумаем о вас и порадуемся, что вы еще вместе с нами, видите и
296
чувствуете, как и мы вас видим и чувствуем». Вот эти сутки сосредоточения
мысли на Толстом всей страны, всего читающего в стране — они были бы
прекрасны. Что может быть прекраснее, как если разом и все обернутся
мысленно к Ясной Поляне и скажут «здравствуй». Ведь есть же «действия
на расстоянии»... От такого доброго, милого, всесветного пожелания — Тол-
стой поздоровеет. Прямо я этому верю. Всемирное пожелание не может не
осуществиться, и, я думаю, великие люди оттого отчасти так долго живут,
что слишком велико число людей, желающих, чтобы они еще жили.
Подумаем: мы все несколько счастливее от того, что мы — современни-
ки Толстого. Помните, как спорили, когда выходили все новые книжки «Рус-
ского Вестника» с новыми главами «Анны Карениной»? Как волновались
все «Крейцеровую сонатою». И прочее. Он дал лишнее содержание жизни
каждого из нас: как это много значит, как трудно! Вот за эти счастливые дни,
которые он дал нам, за прекрасные дни новых размышлений и новых худо-
жественных восторгов поблагодарим его торжественным, обдуманным мол-
чанием всей Руси и безраздельным сосредоточением мысли на нем в этот
день.
И — никакой толчеи ног в Ясной Поляне, никакого — громогласия!
ОКОЛО НАРОДНОЙ ДУШИ
Можно сказать, головной мозг нашей интеллигенции обескровел от заботы,
где и как сыскать новые способы культурно воздействовать на народ. Биб-
лиотеки и читальни в память «знаменательного события» или «в память ве-
ликого человека», маленькие изданьица и целые издательские кружки, чте-
ния с туманными картинами и без них, собеседования и проч. — все это
«культурно воздействует» или пытается культурно воздействовать на народ.
Слов нет, где труд — там и Божие благословение; и как бы люди ни стара-
лись и где бы ни старались — все в пользу. Итак, мы начинаем нашу речь не
для того, чтобы что-нибудь остановить или кого-нибудь расхолодить; наше
желание — сколько-нибудь помочь.
Нельзя не обратить внимания на следующее: приглядываясь ко всем этим
усилиям интеллигенции, замечаешь, что она уж слишком активна во всем
этом, а народ слишком пассивен. Интеллигенция, точно мамка, приставляет
ко рту младенца-народа соску и нудит его пососать своей кашицы, причем
нельзя не видеть, что народ в значительной степени от этой кашицы отвер-
тывается. Это во-первых. Во-вторых, нельзя не обратить внимание на томи-
тельную однотонность всех этих культурно-воздействующих средств, — так
сказать, на однообразие в разнообразии. По-видимому, разница: то книжка,
то лекция, то туманная картина. Но на самом деле это все одно: кашица, то
сваренная на молоке, то на воде, то погуще, то пожиже. Все и везде — сло-
во; все и везде поучение. В сущности, все эти книжки и чтения суть светская
297
форма церковного проповедничества; и та тетрадочка, по которой пропо-
ведник говорит свое «слово», иногда довольно скучное, есть первый ори-
гинал и начальный корень всех теперешних книжечек и чтений, с которыми
интеллигенция выходит к народу. Все — слово, все — словесность; все —
поучение, с видом неизмеримого превосходства поучающего над поучающим.
И хочется крикнуть всему этому: «Не так!»
Прежде всего, это поучение нудно и для самой интеллигенции. Так, бед-
ная, старается, что пот со лба катится; приноравливается, изловчается, уси-
вается быть простоватой и удобопонятной, и чрезвычайно боится, — как и
всякий, впрочем, проповедник, — проболтаться о собственных пороках,
слабостях и грешках, которые по немощи человеческой у каждого есть, и
она их тоже не избежала. И она, как и духовные лица, делает «святое лицо»
перед народом, что не довольно легко и для настоящего проповедника. Во-
вторых: да оправдывается ли этот труд результатами? Проповедующая ин-
теллигенция немножко скучает, а поучаемый народ потихоньку позевывает.
Что скучно для учителя, не может не быть скучно и для ученика. Если народ
где и учится около образованных классов, то не прямо, а косвенно, — в мо-
менты, когда эти образованные классы не стараются быть особенно поучи-
тельны. Он учится и культурно воспитывается около настоящей и во всю
ширь развернутой, самостоятельной, своей жизни этих классов, где они ни-
мало не помышляют о наставительности, а живут страстями и умом, гне-
вом, ссорами и дружелюбием, живут жадно, живут, наконец, корыстно. На
хорошей, отлично поставленной мануфактуре народ настоящим образом
воспитывается, воспитывается в труде, в ответственности, ну — и образо-
вывается удивлением перед техникою и всеми чудесами науки. Равно в тех
немногих пока случаях, где простолюдин начнет по-настоящему понимать
настоящую литературу, — он воспитывается же. Не сегодня завтра Крылов
сделается любимой деревенской книжкой: вот это — воспитание, культура.
Очень жаль, что некоторые утонченности языка и мыслей Козьмы Пруткова
не могут сделаться понятными народу, а то он тоже мог бы войти в обиход
народный. Но только тогда, когда деревне станет понятна «Война и мир» и
эта громадная эпопея тоже станет достоянием села, мы можем, перекрес-
тившись, сказать: «Слава Богу, народ наш стал культурен». Увы, однако,
может быть, этого даже никогда не будет! Слишком все это трудно и слож-
но. Всех в гимназии не переучишь, а понимать нашу литературу почти не-
возможно, по крайней мере, без гимназического образования.
Нужно не читать народу лекции, а жить с народом — вот что я хочу
сказать. И не то, чтобы одеваться по-народному, — это будет «ряженье» и
«ряженые»; а чувствовать по-народному, по-народному думать. Надо выра-
стить в себе народный нюх и народный глаз. От ощущения — до мысли: вот
путь! Ошибка славянофилов заключалась в том, что они были слишком умны:
ну, куда такому ученому, как Данилевский, такому тонкому критику, как Стра-
хов, или такому «европейски образованному человеку», как И. С. Аксаков,
было «пойти в народ».
298
А и поклонилась бы Спесь отцу-матери,
Да ворота не крашены.
Нельзя не заметить и до известной степени не отдать чести нашим не
очень мудреным нигилистам, что им в семидесятых годах лучше удалась
славянофильская идея: не мудрствуя лукаво, они с одним Писаревым и Кар-
лом Фохтом за душою окунулись в народное море, ругаясь, споря с народом
из-за якобы «предрассудков» его, доходя чуть не до драки и, во всяком слу-
чае, иногда испытывая побои или представление «к г. становому». Но дело
сделали. Вошли в народ, они первые и массою, и пошли плечом к плечу,
около работы и вообще деловым образом, а не литературно и не книжно. Но
нельзя не заметить, однако, что та элементарность души, которая им помог-
ла просочиться в народ, найти первую скважину, в которую они и пролезли,
теперь мешает их дальнейшему действию на народ и слиянию с ним. Народ
жил тысячу лет. Конечно, он и младенец, но он — и старик. Он стар культу-
рою своею, не книжною, а бытовою, житейскою. Нигилисты могли сойтись
с ними как рабочие с рабочими, на интересах работы, заработной платы,
отдыха и проч. Но за этим начиналась в народе другая сложная жизнь, дру-
гая тонкая жизнь, в понимании истории нигилисты оказывались слишком
варварами, чтобы не только что «воздействовать» на народ, но хотя бы и
идти с ним рука об руку.
Это весь мир души человеческой, весь мир совести человеческой. Мож-
но так сказать: нигилисты поняли народ только в его будничной стороне и
будничным образом; они взяли человека в будень и посмотрели на него буд-
ничным глазом. Но в народе есть и праздник, у души народной есть и празд-
ничная сторона. Это все, где она является разрисованною, увеличенною,
сияющею, печально или светло — все равно. Ибо есть и печальные праздни-
ки. И вот тогда она уже не есть душа плотника, душа башмачника, дровоко-
ла, угольщика, с которою умеет разговаривать нигилист на ей понятном
языке, а душа человеческая: и вот к ней-то нигилист со своим багажом из
Писарева и Фохта не умеет подступить. Сказывают, теперь нигилисты бро-
сились к культуре и читают так много, как им отродясь не приходилось чи-
тать. Будто бы, далее, они натолкнулись в этом чтении на декадентов и по-
глощают их в таком количестве, что подняли спрос на всевозможные экзо-
тические альманахи и книгоиздательства всех созвездий. Наконец, разъяс-
няют, что они не столько ищут у декадентов их известные и неизвестные
«извращения», сколько просто смотрят на их книгу как на образовательную
энциклопедию, откуда могут почерпнуть самые последние взгляды и самые
шумные факты. Все это имеет тот вид ребячества и неопытности, какой все-
гда был присущ «мрачным» нигилистам, так что приведенным слухам мож-
но поверить.
В общем, однако, движение правильно: нигилисты, — они же и социа-
листы, марксисты и проч., — всегда были душевно неразвитые люди, были
какие-то грубые элементарные язычники, которых воистину «не просветил
свет Христов»; но просветил не в смысле вероучения, а в том гораздо более
299
важном смысле, что Христос вырастил у человечества, точно шестое чув-
ство тонких ощущений, ухо для неслышных звуков и глаз для невидимых
образов и через то открыл для него совершенно новый мир жизни, о каком
самого предположения не было в античном мире. Нигилисты, экономисты,
исторические материалисты настолько, можно сказать, и живут своим внеш-
ним миром, постолько их счеты и правильны, постолько они совершенно
не видят этого другого мира и не взяли в расчет темных сторон души, неизъ-
яснимых в ней движений, беспричинных и бесконечных... Назовем, для крат-
кости, всю эту сторону души «метерлинковскою» и скажем мысль свою эти-
ми европейскими терминами, к каким привыкли они: нигилистам надо прой-
ти весь путь от Фохта и Писарева до Метерлинка, чтобы не быть выброшен-
ными дальнейшим ходом истории просто как ненужный балласт, как
слишком грубый и непригодный материал для дальнейшего помола истори-
ческой мельницы.
Нужно жить с народом не в одной его работе, но и в его празднике. А
чтобы приобщиться и к народному празднику, нужно светскому обществу
доразвиться до глубины народной культуры — до его религиозной культу-
ры. Ну, вот этот праздник, который мы торжествовали недавно: праздник
«воскресения» после смерти, праздник «очищения от греха». «Грех»,
«смерть», «воскресенье» — не правда ли, какая это тарабарщина для ниги-
листа? Это слова из какой-то книги, которую и не начало читать или кото-
рую давно забыло наше образованное общество. Ведь это общество точно
какое-то железное, — не хворающее, не умирающее, не грешащее и не каю-
щееся. Народ никак не может слиться с обществом на этой пустоте его, так
как он неизмеримо перерос ее, серьезнее ее, хотя он и безграмотен.
Правда, народ наш надо культивировать. Все же он безграмотен, и это
кое-что значит; но читатель, следящий за моею мыслью, вероятно, уже со-
гласился, что культивировать народ можно не книжкою и не лекциею, а на-
чав жить вместе с народом. Здесь образованное общество, в своей широкой
и самостоятельной жизни, в жизни не педагогической, а настояще-культур-
ной, стало перед великою задачею: чем усваивать некоторые идеи из Метер-
линка, из Ибсена, из Ницше, из декадентов, — подойти к ним осязательно и
зрительно во образе великого народа, живущего древнею религиозною куль-
турою, великою душевною культурою, и в большой работе смешать свою
душевную жизнь с народною жизнью.
Подвиг по плечу Петра Великого, хотя и в обратном направлении. Петр
Великий не совсем успел в своей задаче, и даже до нашего времени «дело
Петрово» застряло оттого, что он, как и теперешние нигилисты, подошел к
народу только снаружи и материально, в работе и буднично, желая помочь
народу и облегчить его вещественно. Но не заметил праздника его души,
трагического или светлого — все равно. Не заметил, где она растет к небу. В
борьбе его «со старым» он не победил народной души, а только ударил по
ней с силою и оскорбил ее; но, получив «заушение», она выстояла перед
бронзовым гигантом: и по той простой причине, что она была глубже и Пет-
300
ровой души, как выше души теперешних нигилистов, вот этим «метерлин-
ковским светом», против которого что же поделаешь дубьем. Образован-
ным классам надо доделать дело Петрово: им нужно войти в душу народ-
ную, оглядеться там, многому, очень многому научиться; ну, а кое в чем и
вступить в борьбу, не педагогически, не учебно, а по-настоящему. Может
быть, образованное общество самому народу в той же линии душевности
откроет возможность новых восторгов, новых светов, новых ликований?
Может быть, о грехе, о смерти, о воскресении, о совести и раскаянии оно
скажет новое слово, для самого народа неожиданное? Вот где было бы до-
вершение Петрова дела; или, кто знает, поворот к чему-то совсем новому...
Все эти мысли невольно приходили на ум в минувший день Пасхи...
Величайший годовой праздник народа: а что мы в нем чувствовали? О, и мы
«приобщались народу» в этот день с пышными куличами и сладкими тво-
рожными пасхами. Но, поистине, насколько больше торжества и смысла было
в маленьком 50-копеечном куличе, какой, освятив его в церкви, нес к себе в
убогую комнатку петербургский рабочий. У него все так это обдумано и
связано. Связано с цельным годом душевной жизни, шедшей темпами, подъе-
мами и опусканиями. Это целая душевная драма, с большим трагическим
оттенком, какую переживал, а не то чтобы только видел народ в «слезном
покаянии» и вот в «светлом торжестве». Без этой драмы, без соучастия в
ней души народной, живущей церковно, — что значат куличи и пасхи? Лиш-
няя еда. Ее у нас и в будни много, и ее мы можем разнообразить сколько
угодно. Тут ничего нет. Нет прежде всего праздника. А чтобы пережить его,
нужно совершенно перемениться душою, расшириться до способности при-
нять в себя эти великие мистерии погребения и воскресенья, греха и очище-
ния от него, которые все пришли к нам в Европу с Востока.
Европа — она прекрасна, но маленькая. Есть какая-то связь великих
душевных явлений с массивностью обитаемой человеком земли. Кажется,
ни одна еще религия не приходила с острова. Азия, самый громадный мате-
рик, растящий такие чудовищные деревья и питающий таких огромных
животных, дала нам и великие таинства религии, всех религий.
Полувосточному, полузападному народу, русским как-то совершенно
даже не в меру довольствоваться очень научными, но очень короткими мыс-
лями, составляющими обиходную жизнь Европы. Там с религиею покончи-
ли или кончают; у нас она никогда не угаснет уже потому, что одною ногою
мы стоим в Азии.
«СВОИ ЛЮДИ» ПОССОРИЛИСЬ...
Сидели, сидели в одном гнезде и — рассорились. Я говорю о Д. С. Мереж-
ковском и Н. Минском, которые, сидя оба в Париже, присылают в петер-
бургские газеты статьи друг против друга. А еще давно ли, в зале Геогра-
фического общества, у Чернышева моста, в Религиозно-философских со-
301
браниях 1902 — 1903 гг., они витийствовали за одно дело, нападали на то
же, защищали то же! Почти. Разница была только в том, что Мережковский
критиковал церковь или, как он называл, — «историческое христианство»,
особенно нападая на аскетизм, а Минский был более ортодоксален, защи-
щал церковь и особенно прекрасным находил монашеское отречение от
мира. Только он подпирал его не ссылками на отцов церкви, а на Леопарди,
Шопенгауэра и вообще мизантропических и неженатых поэтов и филосо-
фов. Но это были оттенки, не жесткие. Минский до того увлекался в то
время «прекрасностью» монашества, что, испросив у одного высокопо-
ставленного монаха-иерарха дозволения или «благословения», прочитал
целый доклад перед его лицом и перед лицом со-иерархов об «истине иде-
алов церкви, и в особенности монашеского». Мы ожидали тогда, что он
крестится, так как Минский — еврей. Но так как он вместе с тем и адвокат,
то не очень удивились, что он не крестился: ибо адвокаты крещеные и не-
крещеные — все равно. И о чтении его перед лицом высокого иерарха в
защиту монашества мы тоже стали думать, что это — так, красноречие.
Всякая птица носит свое оперение, и куда же Минскому девать свое крас-
норечие, раз оно у него есть?
О чтении Минского я имею право печатно упомянуть, потому что оно
никогда ни от кого не скрывалось и потому что на нем присутствовало очень
много лиц, писателей и духовных. О нем не упоминалось в газетах един-
ственно для того, может быть, чтобы не поставить в неудобное положение
высокопоставленное духовное лицо, внимавшее поучениям еврея. Впрочем,
«поучения» были так идейно льстивы или лестны для монахов, что их мож-
но было принять и за «покаяние в вольнодумии»; кажется, иерархи, медлен-
но шевелившие губами во время чтения и ничего решительно не «изрек-
шие» после чтения, так, вероятно, и поняли, что Минский, «Бог ведает ка-
кой веры», кажется поэт и во всяком случае брюнет, читает что-то в похвалу
«вам», в оправдание «нас». И как «мы» собственно ни в каком оправдании
не нуждаемся, а к похвалам слишком привыкли, то в «неизреченном мило-
сердии» и проч, и проч, «решили снизойти к просьбе» сего незнакомого че-
ловека и битый час слушали или, точнее, не слушали этого чтеца, который
оказался «жидом». Так, мне представляется, произошло психологически и
идейно это дело, и такие оно получило лестные отражения. Несмотря на
пафос чтеца, все именно ничего не «изрекли», и было непонятно, для кого и
для чего совершалось чтение. Пришел человек, похвалил, а его даже не по-
благодарили!
И вдруг такая перемена! Вместо того чтобы, живя в одном Париже, про-
сто прийти ночью к Мережковскому и зарезать его, Минский старается сде-
лать то же самое, но мучительно, медленно, посылая статью за статьей в
газеты, где доказывает все литературное ничтожество и идейную зловред-
ность его, Мережковского, который только сеет «суеверия». В разряде «суе-
верия» оказывается вся религия, все христианство, все основные линии его,
его построения, какова, напр., идея о Христе и Антихристе, которою осо-
302
бенно занят Мережковский, разрабатывая ее, можно сказать, во всей своей
литературной деятельности, очень долговременной и значительной. Куда же
все девалось у Минского? Как еще недавно он громил в зале Географическо-
го общества меня за Христа! Он сравнивал меня с вором, около того време-
ни выкравшем лучший бриллиант из образа в Исаакиевском соборе: это —
за то, что Христа я признавал суровым Судией мира. «Нет, Он — не судия,
Он — только любовь», — возражал Минский. Думая, что и это все — крас-
норечие, я не очень обижался.
Ни о каком «переломе в убеждениях» Минского ничего не было слыш-
но, литературно это ни в чем не выразилось, он не издавал никакой «Испо-
веди», которой так естественно было бы ожидать от него, раз уже он так
радикально переменился. По-видимому, сам он не ощущает в себе переме-
ны. Писал, писал об одном — и вдруг о другом. На вопрос: почему? Он едва
ли имеет другой ответ, чем тот, что стал макать перо в другую чернильницу.
«Вот и все».
«Религия есть суеверие и плодит задержку жизни». Когда это говорит
гимназист III класса, утомленный катехизисом, тогда это понятно: но как
это понять у зрелого писателя, который знает же то место из Геродота, где
этот «отец истории» говорит, что «на земле встречаются разные народы с
разным политическим устройством и вовсе даже без устройства: но что нет
ни одного народа, который не имел бы вовсе религии». Опыт от Геродота до
нас что-нибудь значит. На слова Минского: «Религия — суеверие и несчас-
тие» — можно ответить: «Религия есть самая постоянная истина и высшее
счастье». О «высшем счастье, которое он находил в молитве», говорил и
Магомет. Правда, он был пастух и торговец; правда, Геродот не учился в
наших гимназиях. Это были люди поля и странствий, натуральные челове-
ки. Но тем драгоценнее. Не вправе ли мы видеть в тезисе Минского то убо-
гое мечтательство души, до которого доходит человек в условиях тепереш-
ней нашей образованности, мотаясь между стихами, адвокатурой, журнали-
стикой и архиереями? «Все и ничего»...
Человечеству безмерно многое нужно, и во главе всех вещей нужно что-
то глубокое и интимное, нежное и внутреннее, прекрасное, вместе и тре-
вожное и успокоительное, что все в высшей мере своей, в своей совершен-
нейшей форме находится в религии, в религиозности. Где-то мне попалось
выражение, что благочестивые люди всех вер наследуют в будущей жизни
блаженство. Судя по упоминанию о загробном блаженстве, это явно есть
изречение не философское, а изречение религиозное из какой-то священной
книги. Смотрите же, какая тут гуманность, какое достижение универсализ-
ма! Можно без преувеличения сказать, что в религии одной содержится бо-
лее благородных и воспитывающих чувств, мыслей, надежд, пожеланий,
нежели во всем человеческом искусстве, поэзии, науке и философии.
От этого-то так и больны, и странны повреждения религии и начинаю-
щиеся явные недочеты в ней, которые приводят к новым исканиям. И триж-
ды благословенны все, здесь ищущие!
303
Но оставим это. Вернемся к Минскому.
Чем же он заменит всемирную потребность молитвы? Не религия при-
думала молитвы, а скорее сама религия возникла и стала расти из молитвен-
ности души человеческой; явилась как некий синтез их, как сумма из слага-
емых. Кто не знал молитвы, не знает вовсе и религии, хотя бы вызубрил все
катехизисы и «прошел» все богословие. Молитва — первее религии, молит-
ва— душа ее, зерно ее. Кто же молится? О чем? Молятся все, кто знал утра-
ты, и дорогие утраты, кто боялся, кто смущался, кто тосковал. Молятся все
слабые и ограниченные: и Бог не знает молитвы (к кому?), а мы все —люди
— знаем молитву как помощь своей слабости, как поддержку своего ничто-
жества. И она нужна нам, как кислород задыхающимся. Будем «боги» — и
не станем молиться; будем счастливы, окончательно станем здоровы, не
умирающи — тогда зачем молитвы? Но пока?..
Вот источник религии. Минский скажет, и у него есть на это намеки,
что «цивилизация все всем заменит». Позвольте, да есть неисцелимые бо-
лезни, а вот мне близкий, дорогой человек, без которого я не могу и не хочу
жить, болен этою неисцелимою болезнью. На утешение, что «цивилиза-
ция в будущем станет помогать», я отвечу только: «Ха-ха-ха!!!» Мне не в
будущем нужно и не вообще, а вот сейчас, в моей комнате и у моей постели.
Тут мне «будущее», и «все люди» решительно ничего не значат, гроша мед-
ного не стоят: мне или жить (с больным), или умереть (без него), или вот
еще третье — молиться за него и после него. Пусть не поможет, часто не
помогает увы — почти всегда не помогает, но «когда-то кому-то помогло»,
«рассказывают», и у меня в этот ужасный миг, когда я абсолютно больше
не могу жить, является еще возможность не умирать, а молиться. Или —
умер: и я мыслью, всеми желаниями, пламенной верой лечу «за ним», «туда»,
чтобы жить еще «с ним». Повторяю, может быть, — иллюзия: но без нее
абсолютно невозможно человечеству жить; и отнимать религию у челове-
чества — все равно, как если бы кто-нибудь вдруг выбросил хлороформ из
операции.
Не измеряйте человечества своею пустотою, — вот что нужно ответить
Минскому, и ответить вообще на все писания против религии, аналогичные
его писаниям. «Вам не нужно, нужно человечеству». К великому сожале-
нию, религия кроме молитвы уснастилась еще всяким богословием, кото-
рое опровергать очень легко; легко холодным умом разрушать эту холодную
постройку. Но в религии есть теплота: и вот ее-то всю никаким умствова-
нием не заденете. Просто нет соответствующего крючка. Знаете ли, что все
пламенные души, даже когда они и называли себя атеистами, были, в сущ-
ности, религиозны: только не пришло им время опознать себя, не было слу-
чая? Это как смерть: «не настала», но «будет». Так и вечная всемирная жизнь
религиозности, она «будет» для каждого живого человека, хотя ее «нет» еще
у многих.
304
О НАРОДНОЙ ДУШЕ
Меня спрашивают: что значит тот «метерлинковский свет» в душе народ-
ной, о котором я заговорил в статье «Около народной души»; и продолжают:
«О народной душе говорили и славянофилы, говорили, что мы должны учить-
ся у народа; но как учиться и чему учиться — этого они никогда не умели
толково объяснить. Может быть, вы продолжите и разовьете свои мысли?»
Говорить о трудном чрезвычайно трудно; но как, переходя от арифмети-
ки к алгебре, учащийся испытывает трудности, плачет, бьется, но зато потом
вознаграждается тем необыкновенно ярким и всеобнимающим светом, ка-
кой из алгебры проливается на всю область математики и, между прочим, на
самую арифметику, — так вечно учащееся человечество и вечно учащееся,
например, наше общество не должно останавливаться перед темами очень
трудными, не обещающими дать скорый результат.
Скажу по правде: слова о «метерлинковском свете» в душе народной я
написал как-то ощупью, не очень ясно сознавая', что они значат, но с неодо-
лимой силой чувствуя, что так надо написать. Бывает так с писателями,
что пальцы часто пишут, и очень уверенно, как бы говоря: «А ум потом дога-
дается». И догадывается. Когда я упомянул о Метерлинке, то имел в виду
одну его пьесу, где смерть родного человека происходит за стеной и его близ-
кие и друзья ее не видят; а между тем что-то прокралось в их душу, и душа
эта и знает, и не знает о смерти. Вот эти состояния, где человек и «знает»,
и «не знает», где что-нибудь и «есть», и «не есть» (смерть завтра, смерть
далеко), я и назвал условным термином «метерлинковские состояния». А
душу, способную к таким восприятиям, даже способную просто к вере в
возможность у других таких состояний, — я назвал «метерлинковскою ду-
шою». Все это, разумеется, условно, и, раз выразив мысль свою, — можно
оставить Метерлинка и в стороне.
Знают ли многие, что в самый час Цусимского боя в Петербурге некото-
рые знали, что там «все провалилось»? До телеграмм, до известий. Встрево-
женные слова: «Мы не разбиты, не неудача, — а погибли почти все суда», —
эти слова я слышал в памятное утро и успокаивал, не веря им, зная хорошо,
что невозможно этого знать теперь еще (в тот час). Но поверившие были
страшно беспокойны, и не было средств их успокоить.
Это — частность, крупинка. Это тот случай, — берем опять аналогию
из арифметики, — где одно целое число не делится на другое целое число, и
это открывает ученику сущность и неизбежность «дробей»; это тот случай
«непрерывных дробей», который открывает ученику возможность странно-
го, бесконечного приближения к чему-то, чего, однако, вечно возрастающая
величина никогда не достигнет. Ведь и такие дроби вовсе не представимы
«для разума»; рука производит вычисления, пишет и пишет периоды в дро-
би; а ум давно уже потерял силу следовать за производимым вычислением,
он «не понимает», «не видит», «не представляет» того, что происходит в
вычислении и что на самом деле есть.
305
Позитивизм как философия и его социальные отражения, все эти «марк-
сизмы», «социализмы» и «исторические материализмы», похожи на ариф-
метику целых чисел, без догадки о том, что некоторые из них не делятся
друг на друга, без знания «дробей» и «бесконечностей». Все эти рассужде-
ния, что «накорми человека, и он счастлив будет», каковые составляют аль-
фу и омегу экономики и материализма, сочинены точно не людьми, а каки-
ми-то коровами, которые, кроме своих двух желудков и своей жвачки, ниче-
го не знают. Оговорюсь: весь этот материализм только и поддерживался теми
сухощавыми и еще худшими, злыми господами, которые возражали эконо-
мистам: «Ну, что кормеж: есть небесная пища, и вот пусть народ ею питает-
ся». Эта нравственная фразеология христианства по существу глубоко бе-
зумна, безжалостна к народу. Но экономисты, повалившие или почти пова-
лившие христианство, все-таки ничего не могут сделать с тем, что называ-
ется «христианским светом» или, как я предпочел бы назвать, с этим
странным, особенным светом души человеческой, в силу коего она тоскует
во всяческом «объедении», а иногда на сухом хлебе испытывает невероят-
ные восторги. Вся поэзия, все люди поглубже знали это:
Скучно, скучно, ямщик удалой!
Разгони чем-нибудь мою скуку.
Или:
Бес благородный скуки тайной...
А уж на что, казалось, Некрасов был реалист. Довольствоваться бы ус-
пехом, деньгами, славой! Больше этого ничего не могут дать человечеству
экономисты. Но этого так мало!! И вот это «так мало» опрокидывает назад
всех Марксов, Энгельсов, Фохтов и всю премудрую фалангу XIX века, кото-
рая, двинувшись, действительно разрушила христианскую цивилизацию, по
крайней мере, потрясла столбы: но потрясла — чтобы умереть в бессилии
самой.
Оглянусь на литературу. Действительно поразительное явление, что
«нигилисты» зачитываются декадентами, — явление неожиданное, которо-
го никто не сумел бы предсказать, — на самом деле, конечно, свидетель-
ствует о глубоком внутреннем умирании всего этого движения, охвативше-
го русскую жизнь со второй четверти XIX века. Нигилисты, которых скоро
придется именовать «последними нигилистами», как есть «последние мо-
гикане», недаром зашевелились везде, забеспокоились, начали издавать це-
лые книжки и сборники против этого поразительного слияния нигилизма с
декадентством. Плохо то, что с декадентством-то нигилисты связываются
скверным, и все это есть действительно скверное и печальное явление. Но
ведь смерть когда же красива? Умирают в безобразии. Бациллы тифа, с кото-
рыми я сравнял бы декадентов, охватят давно подточенный организм стар-
ческого нигилизма: и в той общей яме, в которой закопают труп, скроются и
бациллы, и «бывший Иван», декадентство и нигилизм. Бесспорно, что ат-
306
мосфера идет к очищению: лет через 8 — 10 не останется на Руси ни дека-
дентства, ни нигилизма. Я думаю, — выигрыш большой.
Вернусь к теме. Алгебра выше арифметики, и народ наш хотя и безгра-
мотен, однако так как несет в себе по преемству очень древнюю культуру, то
он имеет и душу в себе, так сказать, существенно алгебраическую, «тем-
ную», «метерлинковскую», • тогда как наши нигилисты и, в сущности, все
образованное общество, которое есть, конечно, общество нигилистическое,
— живет, так сказать, душою арифметическою и дальше «целых чисел» ни-
какого счета не знает. Народ, например, имеет «суеверия»: такой прелести,
— и глубокой прелести, — общество не знает. Народ испытывает страхи,
предчувствия; гадает: «Что значит, что комета пришла». Он различает лицо
неба, — ну, путает, а все же что такое там чувствует; не астролог он, не
вавилонянин, а сродни этим мудрецам. Знает «зорьки» и что значит алая
заря и бледная, что значит — «солнышко закатывается в облако» и «закаты-
вается в чистой лазури». Наше же «общество» давно вместо всяких зорек
зажгло керосиновый свет, а по вечерам только ходит на бульвар «ловить ба-
бочек» или собирается на конспиративные квартиры. Все это так плоско и,
наконец, так глупо, — что куда до народа. Даль собрал «поговорки» русско-
го народа; нуте-ка, соберите «поговорки» общества! Ничего не выйдет. Ни-
кому не интересно.
Это и показывает разную меру души. Народ наш развитее общества, а
общество только смышленее его, т. е. и осведомленнее, и немножко плуто-
ватее. Счет не в пользу общества.
Есть понятие «трогательное». Что такое «трогательное»? Это и не ум, и
не знания, и не глубина души, не только глубина. Народ имеет более «трога-
тельную» душу, чем общество: и это, кажется, все чувствуют, что высказы-
вается в том, как все жалеют народ, простолюдина, как относятся к нему
ласково, как склонны прощать его в заблуждениях, в ошибках, в грехах. Народ
— «трогательное» существо, а вот общество и «интеллигенты» почему-то
не трогательны. Это тоже все чувствуют. Почему? Интеллигент — какое-то
бедное существо, неразвитое, хоть вечно хлопочущее, подвижное и осве-
домленное. «Его не так жалко». В простолюдине «полон образ Божий», как-
то закруглен, закончен, очень насыщен внутренним содержанием; а интел-
лигенту всего этого не хватает. Толстой не станет рисовать интеллигентов,
не наполнит ими роман: а «простыми людьми», от генералов до мужика,
простыми — он наполнил «Войну и мир». Достоевский почти только интел-
лигентов и рисовал, но посмотрите же и согласитесь, до чего от этого сю-
жета его живость искривлена, судорожна, запачкана и отчасти порочна!
Сколько крови и распутства!
Славянофилы и бывшие «почвенники» (Данилевский, Страхов, братья
Достоевские) звали «прикоснуться к народу и исцелиться им». Мне же ка-
жется, нужно просто войти в душу народную, даже не столько с медицин-
скими, сколько с осведомительными целями: и оглядеться в ней, как Алад-
дин осматривался в подземелье. Ибо есть много чудных и интересных ве-
307
щей в ней, удивительных именно для знания нашего. Народ совершенно иначе
чувствует природу, чем мы; совершенно имеет другое представление о жиз-
ни человеческой, о судьбе и назначении человека. Наши богословы, если бы
начали прислушиваться к мнениям народа о «совести», о «Боге», а не только
читать пергаменты Симеона Полоцкого, — совершенно заново могли бы
построить свои «богословия», довольно жалкие. Это все примеры. Народ
имеет хороший «глазок» на все, имеет хорошие «меры» в душе; имеет здо-
ровое нравственное обоняние. Ну, куда его «спасать» марксистам, этим ве-
ликовозрастным ребятам, которые на каравае хлеба чертят рабство небес-
ное? Плохие чертежи и совсем плохие чертежники.
К этой теме я позволю себе и еще вернуться.
О ХРИСТИАНСКОМ АСКЕТИЗМЕ*
Золотою частью доклада В. П. Свенцицкого я считаю ту, где он указывает,
что анахореты пустынь сохранили нам чистое, несмешанное золото Еванге-
лия, и не на словах, а в преемственном строе души, тоне души; в созерцани-
ях ума, в отношениях к людям. Этим он ответил на целый ряд запросов,
которые были сделаны духовенству в собраниях 1902 — 1903 года: о том,
почему они не смешиваются с миром, не занимаются литературою, поэзиею,
публичною деятельностью. Ответ этот мне казался ясным и в 1902 году, но
я промолчал, ожидая, что скажут духовные. Тогда они решительно ничего
не сказали. Свенцицкий ответил за них. Действительно, как в механике есть
голая механика, изучающая отношения точек, линий, скоростей и пр. в от-
влеченной чистоте, и есть прикладная механика, строящая мосты и желез-
ные дороги, так и в христианстве должны были явиться специалисты хрис-
тианского настроения, специалисты христианского чувства, избравшие
себе условия жизни или выработавшие себе обстановку быта, где эти чув-
ства наименее портились бы, наиболее культивировались бы. Это — сперва
пустыня, затем — затвор, монастыри.
Мы здесь опускаем оговорки о том, что пустынники и монахи не только
сами не смешиваются с жизнью, но и смотрят недоброжелательно на жизнь
других людей; что они ищут не одного уединения, а ищут запора, запертос-
ти себя, подавления в себе естественных внутренних своих движений. Все
эти частности ощущены Свенцицким. Но возьмем все дело так, как он пред-
ставляет.
В. П. Свенцицкий увлекся литературною восхищенностью к их творе-
ниям, восхищенностью перед их сердцеведением, и вообще высокими дара-
ми духа, оставив в стороне все зерно дела. К нему я сейчас вернусь, а теперь
* Ответный доклад, читанный 12 марта 1908 г. в Петербургском Религиозно-
философском обществе.
308
остановлюсь на минуту в литературной стороне. «Уединение воспитывает
талант», — сказал какой-то историк французской литературы, сказав о по-
этах и прозаиках Франции. Великие качества аскетических писаний объяс-
няются не из влияния на аскетов Евангелия, которое ведь не так уж сильно
влияет на наших кафедральных протоиереев и качества их проповедания, а
объясняется очень просто из обстановки их жизни: уединение, т. е. отсут-
ствие боковых толчков, складывает цельность и чистоту духа, — лес или
пустыня, о которой Ренан выразился: «Le desert est monotheiste»*, — вдох-
новляет к единобожию, и особенно должны были действовать звезды, у ко-
торых есть какая-то таинственная связь с религиозными сторонами души.
Первые в истории «звездочеты», халдейские астрономы, были первыми
мировыми провозвестниками религии. Итак, в настроении отцов-пустын-
ников и в их писаниях — мы совершенно не знаем, что отнести к Евангелию
и что к действию природы, звезд, леса. Они сами назвали себя «анахорета-
ми», «пустынножителями», указав, что здесь лежит — главное. И до сих пор
монастырские «пустыни», т. е. жизнь вдали от городов, среди природы, по-
читается лучшим условием выработки этого якобы «христианского настро-
ения», а я думаю — вообще серьезного человеческого настроения: действи-
тельно религиозного, но не знаю, почему «х/?ис?ииянскм-религиозного», а не
скорее ли «язычески-религиозного». Вспомните Халдею и что первые мо-
литвы полились оттуда.
Далее, «психологическая углубленность», «сердцеведение» отцов-пус-
тынников объясняется из тех «глубоких падений души человеческой», ка-
кие они переживали в уединении и о чем интересные признания нам прочел
в выдержках В. П. Свенцицкий. Он даже сказал, устами знаменитого свято-
го, что, «кто не знал сильных искушений, не пережил страшных соблазнов,
— тому не узнать и святости». Мысль слишком карамазовская, — мысль, от
которой недалеко и до догадки: да уж не в соблазнах ли, не в соблазнявших
ли предметах и лежит самый источник святости, о котором только не дога-
дывались пустынники. Но, оставляя эти догадки, согласимся с тою распро-
страненною мыслью, по которой душа человека вообще никогда до конца не
падает, — что она по закону реакции из особенно глубокой тьмы взлетает к
особенно высокому свету. Это — диалектика нашей совести, о которой я
опять скажу, что совершенно неизвестно, почему она есть «христианская».
Лучший покаянный псалом дан нам Давидом задолго до Христа. Мне
пришлось также прочесть, в одном исследовании о пророчестве Валаама,
перевод халдейской одной молитвы, где типично в наших тонах передается
скорбь согрешившей души. Итак, все эти жемчужины психологичности,
слова, молитвы, сердцеведения — все это образовалось, так сказать, внутри
жемчужной раковины самого человека, все это есть «наше», «мое», «его»
покаяние, просветление, сердцеведение, а нисколько не «христианские ка-
чества». И представляет глубокую скромность человека, что все это он по-
* «Пустыня — это единобожие» (фр.).
309
ложил к подножию Христа, сказав: «Не мое, а Твое». Мне глубоко печально
нарушить эту скромность, но я вынужден считаться с историей.
Нет, не в этом дело. Зерно «христианского аскетизма» лежит, конечно,
не здесь, не в «сердцеведении», не в «красоте писаний», которая была и у
Шекспира, но его никто не назовет «христианским аскетом», была и есть у
Достоевского и Толстого, а их «аскетами» никто не считает. Что касается
силы молитвы, то никто из христианских аскетов не достиг высоты псал-
мов. Мы спросим: «Псалтирь», так любимую русским народом, поставит
ли В. П. Свенцицкий ниже «писаний» аскетических отцов церкви? Она все-
мирно-мышхьеннъ, и я думаю, строфы ее с таким же восторгом прочтет и
почувствует русский крестьянин, как и перс, татарин, индус; ее читают ев-
реи. Вот видите, сколько народов и религий. Между тем как восхититель-
ные «творения» аскетических отцов не станут читать, как что-то «непонят-
ное», ни персиянин, ни еврей. В этих аскетических творениях нет универ-
сальности, в них есть какой-то специальный «привкус», особая закваска. Вот
в ней-то и зерно дела. Что это за закваска? Почему молитвотворец Давид не
есть аскет и «христианский святой», а Феофаны — большой и малый, Там-
бовский и Петербургский, — суть «аскеты» и «почти святые», по приговору
потомства и современников.
Говоря о Феофане малом, я разумею замечательную личность современ-
ного нам инспектора Петербургской духовной академии; личность сильную
и высокую, но, с моей точки зрения, религиозно-отрицательную. Столь же
религиозно-отрицательною я считаю и личность Феофана, затворника Там-
бовского. Об обоих я могу сказать то, что так часто говорили отцы-пустын-
ники о соблазнявших их образах. Именно, они жаловались, что к ним иног-
да являлся «ангел» и соблазнял их «на худое», как они говорили. По этому
соблазну они в самом «ангеле» открывали присутствие «демона» и выража-
лись: «Демон принял вид светлого ангела, чтобы ввести человека в грех».
Вот таким принятием демоническим началом Космоса «светлого вида» —
для введения в соблазн человечества — я и считаю весь вообще аскетизм.
Хотя произошло это совершенно невинно для ангелоподобных человеков,
т. е. они совершенно не понимали, кто владеет ими.
Я человек очень простой, очень немудреный. Я вам, господа, не могу
дать тех сложных рассуждений, какие дали гг. Эрн и Свенцицкий. Я умею
оперировать только с очень простыми понятиями: но мое преимущество —
и, может быть, преимущество перед Эрном и Свенцицким — заключается в
том, что в этих немногих простых понятиях я совершенно тверд.
Я стою перед одним фактом — организациею человека. Я стою перед
мировым фактом, что весь Космос — растет, развивается, умножается, уве-
личивается не в количественном отношении, но в отношении богатства
все новых и новых форм, как будто продвинутый каким-то вдохновением.
Вдохновенен мир: и все поет и поет какую-то бесконечную арию, с по-
нижениями, с повышениями, не везде равной красоты, — но везде усилива-
ясь к красоте. Кажется, никогда еще сознательно человек не пожелал: «Хочу
310
безобразного». Но опять это все в милой раковине человека зародилось. Итак,
— мир растет и человек растет, под вдохновением мысли Божией, ска-
занной ему и миру в творческом: «Раститеся, множитеся, наполните зем-
лю».
О, здесь разумеется не одно биологическое размножение, не основание
только семейного союза: а разумелся расцвет всей природы, «март месяц»
мироздания и истории. Хотя, однако, в человеческом размножении, по край-
ней мере для ума человека, был дан первый исход понимания и также исход
отношения к вещам. В размножении было дано человеку то самочувствие,
которое, перенося в природу, перенося затем и в историю, — о всем человек
должен был повторять: «Как я размножаюсь и в этом нахожу радость и удов-
летворение, так, хотя и не музыкант и не поэт, — я сочувствую творению
симфоний Бетховеном, творению трагедий Шекспиром; и трудам Спинозы,
и исканиям Колумба и Коперника; и этому шумящему лесу, и дикому насе-
лению его. И как мне было бы больно, если бы кто-нибудь у меня отнял
жену и детей, — так не отниму я ничего из человеческих радостей, не пре-
кращу ни одного искания, не запрещу ни одной мысли. Я радуюсь, — благо-
словен Бог мой. Все радуется вокруг меня, потому что все вышло из благо-
словения Божия».
Встает монах и говорит:
— Стоп!!
Что такое? Весь мир сотрясся. Ну, не от маленького монаха, а вот от
этого «мирового аскетизма», которому позднюю «Песнь песней» пропел
Свенцицкий. Вместо правильного течения, подобно великим и вечным оке-
аническим течениям, образовался в религиозной области Мальштрем, —
водоворот, куда попадая, — обращаются в щепки корабли. Кончилась цель-
ность и единство человеческого созерцания. Рухнул монотеизм, не в вер-
бальном, не в арифметическом смысле, что «Бог — один», что очень просто
и немудрено, а вот в этом более мудреном и глубоком смысле, что отныне
мы не знаем, величайшие умы в человечестве не знают, что же «хорошо»,
«угодно Богу»: вечное ли умножение, рост мира? или это монашеское:
«стоп»?
Вся психика другая. Все заповеди другие. Весь колорит другой. Бук-
вально, — Мальштрем, и буквально мы ничего не знаем. Поет свою «Псал-
тирь» Давид, вечно размножавшийся; но начинают новую «Псалтирь» или,
по-моему, только пытаются начать другую «Псалтирь» неразмножавшиеся
аскеты в своих творениях, — с этим «стоп» в душе, в жизни, в быте, в поня-
тиях.
Посмотрите, в самом деле, на то «зерно», которое выпустил — предна-
меренно или непреднамеренно, я не знаю — Свенцицкий; суть аскета ведь
вовсе не в том, что он хорошо пишет, что он — герой, молитвенник. Все это
есть у Давида, у Шекспира и у умершего геройски в Порт-Артуре генерала
Кондратенка. Суть его и что он «святой» церкви, великий «подвижник» ее
— заключается в степени полноты умерщвления им «страстей своих», или,
311
по крайней мере, победы над ними, или уж во всяком случае, и непременно
— борьбы с ними: тех именно «страстей», без коих, увы, не растет ничего
в мире, — ни музыки, ни живописи, ни детей! Все рождается из страсти,
«похоти», по клеветническому слову аскетов. «Хочется» — родилось, «не
хочется» — не родилось: ни детей, ни музыки. Аскеты и самая суть аскетиз-
ма, зерно его, и заключается в пролиянии в мир: «Не хочется». К этому —
учение, в этом — обеты, сюда направлена обстановка быта, жизни. Ведь
леса и звезды они выбрали не по любви к ним, а чтобы не встречаться им с
женщиною, с бытом, с жизнью, с возбудителями и мотивами творчества,
желания; и прелесть молитв, впрочем с худым «привкусом», полилась у них
от этих звезд и лесов совершенно нерассчитанно, боком, нечаянно. А сквер-
ный привкус — «стоп», это Божие противление, составило все-таки реаль-
ное зерно, вечный «припев» их молитв и решительно всех писаний.
«Христианский аскетизм» вовсе не был школою героического воспита-
ния, — как нам нарисовал это Свенцицкий, нарисовал совершенно ложно,
до очевидности ложно. Это — римские и греческие мотивы жизни, граж-
данские и стоические. Он их не смел похищать для христианства; это —
чужой паспорт. Суть «христианского аскетизма» заключается в мировом
погублении зародышей, духовных или физических — все равно; зароды-
шей, поскольку каждый из них стремится стать полным и является зерном
хотения, воли. Суть аскетизма — детоубийство, духовное или физичес-
кое. И нет «святого» в церкви, ноги которого не были бы утверждены в
костях умерщвленного младенца, своего или чужого, прямо или косвенно
— это все равно. Все остальное — прекрасный и милый вид аскетов, как
«житие», их сочинения — это только парикмахерская отделка лжеца, лице-
мера и злодея; это тот вид «ангела», который любит принимать дьявол. Мне
нечего с ними церемониться, как они не церемонятся и не поцеремонились
с заповеданием Божиим, с детьми, с женщиною, со всею жизнью, с целою
цивилизациею. Тут дело дошло до ножей, и кто-то из двух — семья или
аскетизм — должен пасть, издохнуть, и даже без погребения и отпевания.
* * *
Взглянем теперь на боковые следствия этого мирового уничтожения заро-
дышей, зерен — в себе и в других. Переменилось самоощущение, и переме-
нилась мирооценка. В мирооценке все прониклось болью и отрицанием, тем
изначальным чувством, которое есть исходная, начальная точка отправле-
ния аскета. Когда-то в молодости, в отрочестве, или, напротив, изжив уже
все свои силы, как случилось с бл. Августином, каждый аскет сказал себе:
«Мне хочется, а я потерплю». С этого начался аскетизм, это есть primum
movens* его. «Хочется» — под этим я разумею органическое, естественное,
невольное, нормальное, что «есть и бывает», что «везде и вечно», в чем есть
вдохновение Божие. «Хочется, а я потерплю»: и это преобразовалось в ми-
* первое движение (лат.).
312
роотношение: «им хочется, но пусть они потерпят»; Колумб пусть оста-
нется на старом материке, Коперник пусть считает Землю центром вселен-
ной, а мужики в деревне русской, чем слушать музыку в церкви, — пусть
послушают безголосого дьяка, у которого ни одного слова не разберешь.
«Пусть все потерпят»: и по тому собственно мотиву, что вот когда — в нату-
ре или в видении — аскету явилась женщина, то он, вопреки Божескому
«размножься», сказал от себя или от внушившего ему дьявола: «Нет! Я по-
терплю».
Из этого неистового «терпения» аскетов вытекло «терпение» всего мира.
Терпят мученики на кострах инквизиции. Терпит от запоя русский народ,
потому что «ученики» аскетов считают водку постною, а молоко — скором-
ным, «грешным». Терпят всех этих отшельников, покрытых насекомыми,
ибо они считают «грешным» чесаться; терпят все их «правила», задыхают-
ся в брачных нормах, ими продиктованных, дебелые вдовы убивают детей
своих, прижитых без венчания, и все собственно потому, что Антоний «не
соблазнился девушкою». Очень надо. Очень интересно. Для всякого совер-
шенно очевидно, что в тот миг, когда он «не соблазнился», — он и погубил
мир: ну не маленькое «я» его, а вот все это мировое течение, в котором он
был составною частицею. Погубили они все, «не хотевшие» и «нехотение»
свое поставившие в закон мира, в идеал миру, против Божеского: «Пусть все
хочет и вожделеет».
Аскетизм — это мировой декабрь, когда ничто не растет, все замерзло,
обледенело.
Но аскетизм неисполним. Бог сильнее его. Аскетизм вечно «падает».
«Падает» и «подымается». Карамазовщина, как соединение Содома и Ма-
донны, — о чем уместно вспомнил Свенцицкий, — и есть психика аскетиз-
ма, вечный «канон» его, начертанный в изречении того святого, который
сказал, что «нет святости без греха».
Если нам почти точными словами говорят аскеты, «идеал Мадонны по-
купается ценою Содома», то такою для меня противоестественною ценою,
всему существу моему противною, я не хочу покупать эту жемчужину. Воз-
вращаюсь к аскетам: земля не поледенела под их «идеалом» только оттого,
что он неисполним, и никто его не исполнял, ни Антонии, ни Пахомии. Они
то «хотели» и «запрещали себе», то падали в блуд и каялись. Великий па-
мятник церкви об этом — покаянный канон Андрея Критского. Из этого
борения, из этой «карамазовщины» вышел тот водоворот страстей, подав-
ленных, подавляемых, который составляют вопли аскетической литерату-
ры, слезы аскетической литературы. Они прекрасны: но уж из слишком чер-
ной земли растут эти розы.
Я думаю — оне ядовиты, и, во всяком случае, я не хочу этого салата. Я
монотеист, и dey-заповедного Бога для меня не существует. Я плыву вдали и
спокойно мимо ревущего Мальштрема, где гибнут люди в пороках содом-
ских и гоморрских, убивают и затем возносятся «днесь в рай», и вообще вер-
тятся, молятся, кликушествуют. Мне непонятна эта мука, эта боль, судорога.
313
Мне не представляется, чтобы всякая религия была по типу, так сказать,
«зубной боли», судороги и судорожного, — по норме и «канону» коей, бес-
спорно, сложена аскетическая религия. Я допускаю, и, наконец, я ощущаю,
что есть религия, как мудрость и добро, заключающаяся в спокойной и яс-
ной жизни и доставляющая величайшее удовлетворение просто созерцани-
ем, что всем так же хорошо, как и мне, или что мы все усиливаемся к тому,
чтобы было всем хорошо. Бог допустил испытание Иова: но помните —
только допустил. Испытывал его дьявол. Вот на его место стали около чело-
вечества аскеты, «испытывающие» его кострами и каленым железом, под-
слащая их «молитвословием». Я становлюсь на сторону религии Иова до
муки. Ведь была она? Ведь Бог сказал о нем: «Это — человек праведный, и
нет еще такого на земле, как он». Вот эту «праведность» Иова, первоначаль-
ную, естественную, — и должен избирать человек в судьбу себе, молиться о
ней, благодарить за нее. И не впадать «во власть дьявола», в муки, в жажду
мук: что, все созерцая, — Бог не может не сострадать человеку и человече-
ству, как, несомненно, Бог болел и страдал, видя муки любимого своего «пра-
ведника».
НА КНИЖНОМ И ЛИТЕРАТУРНОМ РЫНКЕ
Собрался заниматься критикою, — но лучше расскажу об одном случае, ко-
торого я был удивленным и непонимающим зрителем года три назад. В пре-
дупреждение испуга читателей, что «Р. опять заговорил не на тему», тороп-
люсь сказать, что случай этот имеет самое тесное отношение к критике, и я
решительно не хочу начинать критики, пока читатель не принудит себя по-
знакомиться с моим «случаем».
Нас сидело человек восемь или более у одного милого приятеля-писате-
ля; и, как всегда бывает у писателей, среди давно знакомых между собою
было несколько и новых лиц, или таких, которых «кажется, видел», а «мо-
жет быть, и не видел». Эти «виденные» или «невиденные» лица все были
молодые, и я их принял, и не ошибся, за начинающих писателей, которые
набираются какого-то опыта или духа около старых и пожилых писателей.
«Ну, что же, — пусть набираются», — подумал я, не чувствуя ни любопыт-
ства, ни интереса к очень, впрочем, миловидным лицам. Дело было в самом
начале «революции», и разговор шел на литературные и политические темы,
и живой и не живой, как обычно. Все, конечно, ожидали чая и разных сортов
варенья, когда несколько литераторов поднялось и стало прощаться. Между
тем было очень рано, вечер не начался, а только «повечерие». Все были удив-
лены, по крайней мере я был удивлен.
— Куда же?
— У нас заседание. Своего кружка.
— Ну, значит, и вы идете? — обратился я к одному пожилому литерато-
ру с известным именем, так как жена его прощалась и уходила.
314
— Нет... Меня туда не пустят. Я давно пишу, а в кружок принимаются
исключительно лица собственно еще и не начавшие писать, а только желаю-
щие писать; а из писателей только такие, которые чуть-чуть начали и нико-
му еще не известны.
Я очень удивился.
— Что за кружок? Отчего не принять старых? У них-то и научиться духу
и разуму!
Один из уходивших улыбнулся:
— Кружок составлен для взаимной поддержки. Мы, начинающие в ли-
тературе, от кого можем получить помощь? А она здесь также нужна и даже
нужнее, чем во всяком другом деле. Можно годы пробиться и наконец со-
всем истрепаться и погибнуть, так и не обратив на себя ничьего внимания,
ни — публики, ни — редакторов и критики. Мы решили втайне поддержи-
вать друг друга, — «втайне», потому что имена членов кружка известны
только самому кружку, но они неизвестны ни публике, ни критикам и редак-
торам. Как только появится где-нибудь в печати произведение которого-ни-
будь члена кружка, иногда под псевдонимом или вовсе не подписанное, иног-
да — произведение первое, как оно тотчас «отмечается в печати» всеми ос-
тальными членами кружка, которым личность анонима известна была ра-
нее, чем он принес первую рукопись к редактору. Все эти молодые,
начинающие авторы — собственно пока не пишут, но только «работают» в
газетах и журналах, составляют заметки о событиях и рецензии о новых
книгах и журналах, — пишут безыменно или тоже под псевдонимами, ини-
циалами и звездочками. Таким образом, новое и первое произведение члена
кружка, произведение покрупнее, — сборник стихов или рассказов, повесть
в журнале, рассуждение в журнале, — сразу же бывает «отмеченным» по
всей линии журналистики или по очень большой ее части, и через это как в
публике, так и в журнальном мире имя его становится сразу же упрочен-
ным, — упроченным часто слуховым образом. «Молва идет», «молва по-
шла». О нем могут быть споры, но это не то, что молчание, неизвестность.
Спорят о значительном, о любопытном; спорить о бездарности не станут.
Следующее же произведение этого автора, как только под ним выставлено
«нашумевшее» имя, уже не залежится непрочитанным в архивах редакции,
его раньше других возьмет редактор в руки, и, даже если оно и слабо, он
будет иметь предрасположение напечатать его, не полагаясь с абсолютнос-
тью на свой вкус. «Публике нравится», «вызывает разговоры» — это такая
могущественная аттестация в мире печати, наполовину торговом... Но «став-
ший известным» и уже везде охотно печатаемый автор есть член кружка,
связанный честью в отношении его членов, из которых каждый ждет успеха
и признания. Теперь свой голос, устный и печатный, в гостиных и в редак-
циях, он кладет на чашу весов нового анонима, всем неизвестного, но ему
известного: и помогает тому подняться так же, как в свое время помогли
ему. Так как в этом не нуждаются, да в этом могли бы и помешать старые
писатели, — то их и не принимают в кружок.
315
Я удивился и не могу сказать, чтобы не восхитился, не только в ту мину-
ту, но и надолго потом. «Как хорошо», — думал я, вспоминая первые шаги
свои в литературе. В самом деле, эти шаги так трудны, до страдальчества.
Имен так много в литературе, — кого заинтересуешь новым именем? Рукопи-
сей, приносимых и присылаемых по почте в редакции, еще больше, целая
гора: где тут «разобраться» утомленным редакторам? В сущности, вся пе-
чать «работает на старом товаре», как говорится в коммерции, т. е. совер-
шенно игнорирует молодых людей, желающих писать: как же, какими спо-
собами имеющему призвание начать писать? Есть один: издать книгою
произведение. Но не всякое произведение так велико, что его хватит на кни-
гу. Да и что значит «издать книгою»? Я вспомнил судьбу своей первой кни-
ги. Пять лет я ее писал и пять лет от скудного учительского жалованья от-
кладывал деньги на издание. Появилась, напечатана; следивший за печата-
нием друг разослал первые же экземпляры по редакциям. Везде промолча-
ли о большой объемом книге, которую кому же досуг и охота читать, а в
двух толстых журналах, которые почли себя обязанными дать отзыв о такой
объемистой книге, появившейся на книжном рынке, отзывы были даны на
основании предисловия только к книге и без ее прочтения. Отзывы высоко-
мерно-снисходительные и презрительные. Никому не нужная выбраненная
книга перенесена была с полок магазинов в кладовые магазинов, — и умер-
ла раньше, чем вздохнула сколько-нибудь осмысленным дыханием. Вот судь-
ба. Если бы в 1886 году существовал этот «кружок взаимной поддержки» и
если бы я к нему принадлежал, — вся литературная судьба моя была бы
другая, и я не вынес бы половины той жизненной тягости, какую вынес без
всякой решительно нужды.
И я мысленно похвалил молодежь за уменье жить, за уменье бороться и
отстаивать себя. Союзиться, соединяться для этого — такая прекрасная чер-
та!
Но всякая медаль имеет свою оборотную сторону, и нет света, не обве-
денного теневою чертой.
Множество литературных явлений самых последних лет, мне кажется,
объясняется подспудным действием этого и, может быть, многих подоб-
ных кружков. Почему их не предположить несколько, почему не предполо-
жить их в других городах, помимо Петербурга? Собственно, это положение
печати, делающее крайне трудным пробивание «к свету» начинающих, —
было давно: и раньше или позже, и здесь и там, оно могло подать мысль,
нашедшую осуществление в кружке, с членами которого я раз и только слу-
чайно имел встречу. Но всякое явление, достигая чрезмерности, начинает
обнаруживать отрицательное действие. Когда в витринах книжных магази-
нов я вижу пухлые, обыкновенно разрисованные издания, и читаю на ма-
линовой или фиолетовой обложке: «Сочинения» такого-то, «том I», и знаю
об авторе, что еще три-четыре года назад он рассылал свои бедные повес-
тушки или стишки «на рецензию» в журналы и отдельным авторам, упра-
шивая что-нибудь, где-нибудь сказать о них, — я не могу не объяснять пре-
316
клонения издательских фирм и читателей перед новой знаменитостью ина-
че, как действием подобных подспудных кружков. В самом деле, мысли —
ни одной, художества — никакого, кроме самой обыкновенной техники
писательства, какой, мне кажется, может научиться всякий. Нет главного
— души писателя, а только несколько писательских манер, писательских
слов и оборотов. Почему же «сочинения» такого-то и «том первый»? Что
он скажет вторым томом и третьим? Что он говорит первым томом? Печа-
тается много: он взял и сгреб в свою душу все это печатающееся, повертел
какую-то машинку, превратил это прежде напечатанное в труху и вынул из
машинки своей душевности будто бы что-то новое, другое, а на самом деле
совершенно старое.
Почему же «том первый» и «сочинения»? И в издании старой, вековой
фирмы? Может выйти с «томом первым» и «сочинениями» только огромная
голова, несущая огромную какую-нибудь мысль, которой разработки хватит
на всю жизнь. А я знаю об авторе, что это почти мальчик.
Ну, вот, сюжет, — до знаменитости, до «тома первого» и «сочинений».
Интеллигент какой-то, где-то работающий и обозленный. Больше всего он
обозлен на хозяина, домовладельца, что ли, или купца, — я уже забыл, пото-
му что все это не интересно в тусклом рассказе на 20 страничках, помещен-
ных в книжке, мне присланной «для разбора». Должно быть, получив отказ
у этого хозяина, интеллигент... поступает мыльщиком в общественные бани,
те самые, куда ходит этот купец. «В таком виде», т. е. нагим и с шайкою в
руке, купец не узнает служившего у него, может быть, не близко, а в артели
— интеллигента. Купец садится мыться, и интеллигент его моет. Голова взмы-
лена, и, естественно, глаза купца закрыты, чтобы не попало мыло. Интелли-
гент наливает в шайку кипятку, — одного кипятку, не разбавив его холод-
ною водою, как водится: и опрокидывает ее на «красную, жирную, плеши-
вую» голову несчастного купца. Когда я прочитал об этой нероновской каз-
ни у «начинающего автора», — в рассказе, без всякого волнения сделанном,
— мне показался чрезвычайно странным состав его души, — какой-то смут-
ной, недоброй и беспредельной. У всякого человека есть предел, возможное
и невозможное. «Ты что можешь?» — «Вот таких-то и таких-то вещей не
могу». Поэтому мы узнаем человека, определяем его, — узнаем и определя-
ем его лицо. Известно, что у человека есть лицо, а у животных только «мор-
ды», т. е. общий очерк головы без индивидуального выражения. У автора
рассказа я предположил бы не голову на плечах, а только такой общий очерк
головы, в котором действительно «может» вместиться всякая мысль, пред-
положение, сюжет и проч. Нет предела, нет грани. Бесконечность как бес-
форменность.
А вот другой сюжет, — после знаменитости или, кажется, с которого и
началась знаменитость: едет офицер на вокзал, но как едет не домой, а в
гости, то вздумал купить фунт конфект. День жаркий, а офицер молодой.
Завязавшая конфекты продавщица приглянулась ему; он ей что-то сделал
глазами, она ему ответила глазами — и они очутились в каком-то закоулке,
317
не то чулане, не то комнатке при магазине. Все свершилось очень скоро.
«Фуражка лежала тут же и отстегнутая сабля — тут же». Офицер крякнул,
дал рубль или не дал рубля и вышел. Едет по железной дороге. На площадке
вагона стоит учительница, кажется — математики, кажется, из передовых.
Но офицер был молод, а день жаркий. Он опять крякнул, посмотрел на нее,
она поняла, — вышла, он за нею и опять «совершилось». Колеса вагона все
стучали. Вечер еще не наступил. Пыль была утомительная. Проходя по ва-
гону, офицер заглянул в полуотворенное купе и увидал матушку, жену свя-
щенника. Она тоже ему приглянулась, он, должно быть, опять крякнул, она
тоже поняла о его желании, согласилась, и опять «совершилось». Это —
три. Кто была четвертая — я уже не помню, но рассказ называется «Четы-
ре», и в нем описано четыре этих случая, с четырьмя женщинами и в один
день. Интересно? Я думаю, ни для кого не интересно. Почему написал ав-
тор? Я думаю оттого, что было перо в руках. Отчего же не писать? Сидишь,
сидишь, думаешь, думаешь, — и надумаешь. Прохожу как-то Невским, вижу,
кажется, и в магазине Попова, малиновые и лиловые издания, новые, разри-
сованные, и вдруг читаю изумленно:
Сочинения Анатолия Каменского
Том первый.
Изд. М. О. Вольфа.
Фирма старая и известная, — это более всего меня и поразило.
Таких или подобных явлений множество. И вот отсюда проистекает труд-
ность и даже невозможность критики. Что такое критика? Задумчивость над
литературою. Но задумчивость может быть над тем, что само задумчиво, —
само есть греза, или мысль, или вдохновенье. Но если мы имеем дело во
множестве только с «авторскою умелостью», то как над этим остановиться,
начать размышлять, спрашивать себя об авторе или обращать мысленные
вопросы и запросы автору? Критика исчезает, когда исчезла, по существу,
литература. Ну, авторы «умеют», т. е. умеют писать; а читатели, конечно,
умеют читать. Из этого сопоставления ничего не выходит. Литература дей-
ствительно потеряла задумчивость, — и это, пожалуй, самая ее характерная
черта в наши дни. Она представляет какой-то общий шум, и этот шум очень
значителен, и нет, кажется, имени, нет пера, которое не подбавляло бы этого
шума, точно в нем все заинтересованы, точно он всем для чего-то нужен.
Литература имеет «колорит», — этот общий, на всех лежащий, всех обоб-
щающий тон или бестонность, смысл или бессмысленность. И можно гово-
рить не об отдельных «нумерах» литературы, а вот об этом только ее общем
колорите. Занятие тусклое, бедное и довольно несчастное.
Нет великих писателей, нет счастливых критиков.
318
В НОВОМ ЛЕТНЕМ ТЕАТРЕ
«Вечер красоты», данный г-жою Ольгой Десмонд и г. А. Зальге в Новом
летнем театре, обманул всех, кто пришел на это новое для Петербурга зре-
лище с целью потешить истрепанные нервы. Одиннадцать воспроизведе-
ний знаменитых статуй древнего мира и на мотивы древнего мира новых
скульпторов сразу же перенесли душу зрителей в такой строгий мир пласти-
ки и поэзии, в близости с которым не смела шевельнуться чувственность.
Г-н А. Зальге такой же художник, как и О. Десмонд. Точность воспроизведе-
ния статуй, угол поворота их к зрителям, мраморный вид, достигнутый че-
рез запудренность обнаженных тел, их мертвая неподвижность, — все дела-
ло иллюзию, как бы вы прогуливаетесь в залах Эрмитажа или в Националь-
ном музее в Риме. Менее совершенны были танцы, но они и труднее, и тре-
буют дальнейшего упражнения артистов-художников. Но и в них
изумительную сторону зрелища представляло то, что появление совершен-
но нагих тел на эстраде театра до такой степени не оскорбляло вкуса, до
такой степени не действовало на низменные инстинкты, что все смотрели
на сцену, как смотрят на нагие фигуры лучших живописцев, выставленные
в галерее, и живописцев, только лучших и строгих. Желаем, чтобы артисты-
художники удержались на этой высоте, с которой очень легко пасть. Они
должны помнить, что им пасть можно только в грязь, и от этой грязи удер-
жать их может только классичность, только искусство, только великая тема
— показать и доказать возможность невинного человеческого тела.
НАЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Неизменное и древнее русское ядро со всех сторон обложилось «окраина-
ми». И «окраинный вопрос» в России есть один из самых темных и неясных
в путях своих и в существе своем. Он труден для правительства, мучителен
для населения. Не знают, как поступать в нем, русские, закинутые службою
на окраину, и русские внутри России. Для нас, при нашем несистематичес-
ком уме, неметодическом характере, он особенно страдателен: мы не умеем
за него взяться, еще хуже «продолжаем» дело и, наконец, как всегда почти,
начинаем «отмахиваться» через ссылку просто «на примеры у других наро-
дов». Но с кого брать пример: с немцев, поляков в Галиции, с англичан? Или
с римлян и греков? Все эти народы имели у себя «колониальные» или «исто-
рические» вопросы. И все смотрели на них совершенно различно и различ-
но разрешали их. Когда думаешь о применении русского ума или, точнее,
русской души к этому темному вопросу, то вырисовываются только два вос-
поминания. Одно — сообщение учебника географии России, где при обо-
зрении Якутской области сказано, что местное русское общество, даже об-
разованное, охотно говорит по-якутски, и даже это считается там шиком,
319
как французский язык во внутренней России. Второе воспоминание утеши-
тельное: где-то я прочел, что император Александр I подарил прусскому коро-
лю несколько крестьянских семей. Король отвел им место около Потсдама.
С тех пор они размножились. Говорят и по-немецки, но сохранили и язык, и
веру, и все обличье великорусских мужиков, не утратив йоты своей художе-
ственной личности. Только, может быть, не пьют так много и аккуратнее в
деньгах и труде. Да и то это предположительно!
Вот два факта, из которых что же выходит? Что русские — народ легко-
мысленный и что это народ стойкий. У нас это как-то совмещается. Рус-
ские люди отличаются двумя свойствами: ругать себя и все свое — это
первая русская черта, кажется, никем другим не разделяемая; и в то же вре-
мя они способны, — нет, больше, они требуют и ищут вечного восхищения
перед чужими и чужим! Только несчастные эллины и римляне, и то благо-
даря классическим гимназиям, не вызывали у нас восторга; но, напр., «Ве-
стник Европы» всегда восхищался Финляндиею и финляндцами, «Москов.
Ведом.» — часто татарами и Батыем, все русские — и барышни особенно
— черкесами и «восточными человеками», сибиряки и сибирячки — якута-
ми, правительство русское и образованное русское общество перессори-
лись между собою из-за того, кто восхитительнее: французы, немцы или
англичане. Даже Лев Толстой в «Анне Карениной» заметил, что «приехав-
шему в Петербург иностранному принцу из всех русских национальных осо-
бенностей, которые ему показывали, больше всего понравились францу-
женки из «Альказара». Разумеется, без этого — русские не русские и Пе-
тербург не Петербург. Что еще я припомню? Да, воспоминание-некролог
кн. Мещерского о каком-то, кажется, англичанине или вообще европейце.
Сей его «друг» лет сорок назад приехал в Россию по делам, требовавшим
для окончания нескольких месяцев. Но, приехав в Россию, он почувствовал
влияние какой-то растворяющей лени, — ив «несколько месяцев» дела не
окончил: отложил на год. За год лени принаросло, да и явились симпатич-
ные русские знакомые: было это сорок лет назад; англичанин и в год «дела»
не кончил, попросил у домашних или у какой-то там компании еще отсроч-
ки. Отсрочка пришла, но уже поздно: англичанин совсем не окончил дела,
остался навсегда в России, даже предпочитая терпеть утеснения от русско-
го исправника, и, чтобы окончательно обрусеть, — конечно, сделался рус-
ским либералом, начал кричать на все стороны, — что «в России жить не-
возможно», ругать с приятелями и, может быть, с приятельницами прави-
тельство и даже стал потихоньку выписывать «Vbrwarts». Когда он стал
читать «Vbrwarts», то о нем можно было сказать, что русская культура его
окончательно победила и что он настолько сделался русским, как бы его
родила московская попадья и сам он женился на чухломской поповне. Я
думаю, это понятно само собою. И после этого я спрашиваю: «Что же такое
значит русифицировать и как это можно сделать?»
Сделать этого мы, я думаю, по программе никак не сумеем: но не неве-
роятно, что это когда-нибудь сделается. Я тоже, как «чисто русский чело-
320
век», — не люблю всего русского или, по крайней мере, всегда ругаюсь на
русское. Но это — одно. Около этого я чувствую, что как до Р.Х. по всей
вселенной того времени разлился какой-то особый аромат, неощутимый, не-
осязаемый, но обаятельный и захватывающий в себя, — это «эллинизм», про-
сто как некоторая сумма эстетики, свободы, индивидуализма, дурачества и
философии, софистов и Платона и т. д. и т. д., так когда-нибудь, ну, лет через
сто, из России разольется на весь мир эта невероятная наша русская свобода
и «милость», т. е. миловидность всех людей и всяких отношений, которая
захватит и увлечет в себя и немцев, и французов, и англичан, и итальянцев.
Потому что, право же, около русского универсализма и какого-то самозабве-
ния все они какие-то мещане, грошовики и процентщики. Это — в перенос-
ном смысле. Все любят себя или для себя: на чем же тут соединиться, как к
этому прийти другим народам? Но Русь, от первоначального своего слова:
«Приидите володети и княжити нами» — и до новейших литературных те-
чений, только и делает, что уверяет всех, что все эти другие гораздо лучше
нас, — так что в один прекрасный день все и почувствуют свою родину в
России.
Мысль о таком высоком назначении нашей славянской «мякоти», — в
параллель древнему эллинизму, — пришла мне на ум, когда я прочел в од-
ной деловой «записке» прекрасного педагога и администратора, попечителя
(к сожалению, — бывшего), Рижского учебного округа г. Левшина несколь-
ко вводных слов о пангерманизме, с которым отчасти приходится бороться
русской школе и русской администрации в немецко-латышском крае. Этот
пангерманизм вытекает из взгляда немцев на себя как на «исключительную
расу», «высшую породу», так сказать, в человечестве. Мысль — старая. Когда
я ее слышу или о ней читаю, мне всегда приходит на память одно длинное
примечание в знаменитой «Истории цивилизации в Англии» Бокля. В при-
мечании этом Бокль приводит наблюдения одного путешественника по Гер-
мании. Суть их в следующем. Путешественник говорит, что, прожив неко-
торое время в Германии и познакомившись с разными классами и професси-
ями в ней, приходишь к удивительному выводу, что высшая интеллигенция
Германии, — не в нашем русском смысле «интеллигенция», но в европейс-
ком и всемирном, — до того резко отделяется от основного населения стра-
ны, т. е. собственно от народа в ней, точно это два племени, две породы
совершенно разного корня и происхождения. И насколько интеллигенция
германская, в лице ее философов, ученых и высших людей общества кажет-
ся превосходящею всякую другую европейскую, настолько же простое на-
селение ее тупее и грубее французского, английского и пожалуй всякого ев-
ропейского. Такова ссылка Бокля и мнение путешественника. Мне кажется,
они таковы, что всякий, присмотревшись к тому же предмету, — найдет то
же. Теперь я обращаюсь к идее «высшей расы». Раса — в крови, а не в циви-
лизации, не в истории. Раса есть физиологическое данное и народное дан-
ное. Теперь, каким же образом может быть «высшею расою» и сыграть в
будущем роль какого-то нового мирового «эллинизма», т. е. на этот раз уже
11 В. В. Розанов
321
«германизма», — племя, которое по беспристрастному и совершенно неза-
интересованному наблюдению просто-напросто есть племя тупое и грубое,
тупее и грубее среднего европейского населения? Ведь греки покорили мир
не Платоном и Софоклом, ведь не это называлось «эллинизмом»: «эллиниз-
мом» называлось «что-то такое, что есть в Афинах и чего нет в Риме», тон-
кий аромат народности и цивилизации, аромат улиц и садов, шумных собра-
ний и торговой площади, а вовсе не библиотеки и музеи Эллады. Словом, —
покоряет народное, житейское и бытовое, а не то чтобы интеллигентный
класс. С этой точки зрения и при свете этих рассуждений притязания нем-
цев кажутся той безвкусицей, какою вообще всегда славилась немецкая не-
уклюжесть. Идея о «высшей расе» и «эллинизме» в немецком шлафроке
есть именно идея, возникшая не у Кантов и Гумбольдтов, а скорее по немец-
кому взморью и в прирейнских городах, над которою задумывается и кото-
рой улыбается берлинский бюргер и дюссельдорфский пастор, беседуя под
вечер со своими Amalchen. Правительство, конечно, утилизирует эту идею,
ибо выгодность ее слишком очевидна для правительства: на будущий «элли-
низм» ему дадут пушек и денег, и рекрут сколько нужно, и служить все бу-
дут отлично, и работать отлично, и повиноваться — отлично же. Но для
Европы и вообще для истины — смехотворность этого притязания очевид-
на. Наука и философия Германии есть первая в Европе, литература в значи-
тельной степени — первая же. Но народ туп: и этого ничем не поправишь.
Имеет ли Германия великую церковь? Великое в стиле правительство? Вот
в чем познается суть дела, вот где — народное. Возьмите историю француз-
ских королей: хотя они и погибли, все же хроника их в своем роде Шехера-
зада абсолютизма, и ведь это вовсе не то, что линия берлинских фюрстов. И
не оттого, что там длинно, а здесь коротко: Людовик XI жил на самой заре
их, а сколько о нем анекдотов, сплетен и дела! У немцев все без анекдотов и
без сплетен, а одно дело. Ну, сюда Европа не побежит, да и историку тут
будет скучно. Германия вся есть великий огород, но в ней не нашлось уголка
для сада. А сказано об Эдеме, что то был «сад», да и рай представляется у
всех народов в виде «сада» же. Кто городил и садил вечно и всегда только
«огород» и никогда не почувствовал небесной скуки о саде — тот тем самым
и не есть всемирный народ, а только очень обширный и упорядоченный уезд.
Уездный отличный способ управления, уездные пасторы; уездная добросо-
вестная вера. Сравните римских пап с потсдамскими пасторами — и вы
опять согласитесь со мною, с Боклем и его мудрым примечанием.
СИЛА НАЦИОНАЛЬНОСТИ
«Пангерманская идея столкнулась со славянофильской... Практика жизни и
наблюдения действительности показывают, что всюду, где немецкий элемент
населения приходит в столкновение с славянским, — немецкий обязательно
отступает. Вопросом этим задается Вагнер в своей книге — «Поляки и прус-
322
саки», — и после нескольких меланхолических рассуждений указывает сред-
ство против растворяющей силы славянства: бороться с нею можно и следу-
ет через изоляцию германского населения при помощи строго немецкой
школы на родном языке и проникнутой немецким духом и, затем, через не-
прерывное и плотное единение немцев между собою всюду, где они живут
вкрапленно среди славянского или вообще среди инородческого, не немец-
кого населения».
Так говорит бывший попечитель Рижского учебного округа, г. Левшин,
в предисловии к обозрению задач русской школы в немецко-латышском крае.
Читаешь, — и глазам сперва не веришь: неужели немцы где-нибудь уступают
перед славянством? Взглянув только на Петербург и Москву, т. е. все-таки
на царственные места русской силы и русского духа, замечаешь меланхоли-
чески, что почти во всех областях жизни лучшие места заняли немцы. Я с
отчаянием припоминаю даже, что когда государь Александр III посетил ни-
жегородскую выставку и к встрече его выставили в белых атласных кафта-
нах и с топориками на плечах старомосковских рынд, то он, взяв одного из
них за плечо, спросил: «Как твоя фамилия?» — «Шмит», — отвечал сынок
нижегородско-немецкого коммерсанта!!! Ну, если так, — то куда же девать-
ся русским? В первый момент совершенно берет отчаяние, и на русских смот-
ришь, в самом Петербурге и в самой Москве смотришь — как на исчезаю-
щую, гибнущую, бездарную и изнеможенную нацию. Утешает только вто-
рой момент, когда вдруг эти Шмидты и проч, вдруг начинают вас опровер-
гать в письмах, уверяя, что все они чистейшие русские, издревле православны,
а дедушки их пришли в Русь чуть не раньше всех, — еще с Рюриком и варя-
гами или, самое позднее — из Литвы, при Иоанне Грозном: и уверяют тогда,
когда на самом деле папаши их еще говорят ломаным русским языком и
сами они потихоньку лютеране! Оглядываясь и проверяя эти письма, в са-
мом деле там и здесь замечаешь немчиков, до того ушедших во все «потро-
ха» русской действительности, русского уклада жизни и до того порвавших
со всем немецким, не интересующихся ничем немецким, что думаешь: «Да
и на самом деле — точно с варягами пришли, и вот устраивают обильную и
неустроенную страну!»
Историки замечают не без удивления, что хотя в точности варяги при-
шли к нам, но ведь никакого никогда «варяжского периода» по колориту, по
духу у нас не было, как, например, в Англии были мучительно враждебные
друг другу периоды: 1) англосаксонский, 2) нормандский, 3) общеанглий-
ский. Точно всех этих варягов тотчас же по пришествии окрестили, — окре-
стили и наказали им не помнить ничего из старого бусурманства. Что это?
Напор силы? Соблазн слабости лени и ничегонеделанья? Только видишь,
что русское болото всех засасывает.
Мне кажется, при всех великих качествах немецкой культуры, — лично
немцы крайне неинтересны; они скучнее англичан, как о них рассказывает
Диккенс, скучнее французов, итальянцев и, я думаю, даже татар и цыган! В
них есть что-то от рождения выцветшее. Но ведь бок к боку живешь не с
323
11
«культурою», в ее схеме и отвлечении, а с людьми: и сухие, формальные,
деловитые немцы никого не засасывают, — как этого и испугался Вагнер.
«Аккуратному» немцу закажешь сапоги, сошьешь у него пальто, починишь
часы: а в беседу и общение, в связь семьи и дружбы возьмешь все-таки хоть
и «не аккуратного», но сколько-нибудь более занимательного человека. Около
немцев нет окраинного таяния, т. е. вот растают немножко немец и немнож-
ко поляк и через несколько времени сольются во что-то, в чем нет ни поляка,
ни немца и вместе есть и поляк и немец. Около слабой, — по замечанию
Бисмарка — женственной натуры славян, — это таяние не только образует-
ся, но и идет довольно быстро. Все, чего может достигнуть в этом отноше-
нии Германия, — она может достигнуть только политически, администра-
тивно, через действие закона и действие властей. Быт к этому ничего не
прибавляет; общество немецкое, — если только можно говорить о «немец-
ком обществе», — ничего не прибавляет. Я говорю: потому трудно говорить
о «немецком обществе», что там все как-то трудятся, работают, служат, дос-
тигают, в награду за это едят и спят, — но как собственно они живут и даже
живут ли сколько-нибудь картинно, колоритно и сочно — об этом никому
не известно или очень мало известно. Таким образом, «германизация» есть
процесс головной, сознательный, философский, культурный. Он идет кни-
гою, солдатом и чиновником. Напротив, у нас едва ли что-нибудь по этой
части будет достигнуто «планомерными действиями», к каким мы вообще
очень мало способны; у нас это не выйдет, не склеится. Но «само собою»
это же дело делалось, делается и будет делаться небезуспешно.
Ввиду этого, мне кажется, нам, русским, надо быть спокойными, твер-
дыми и более всего вникать в собственную «суть» и развивать собственную
«суть», — которая есть и прекрасна и сильна. И надо кинуть эту «суть» нашу
в свободное соперничество и с германизмом, и с англиканизмом, и с гали-
цизмом. «От нас нашей русской сути в семи водах не отмоешь», — сказал
европеец Тургенев; сказал это в той же фразе, где он советует нам «окунуть-
ся в немецкое море», т. е. прилежно, всеми силами учиться и учиться у
немцев, брать у них все лучшее, безмерно в душе благодарить за это, —
помня, что все это — не мы, а только — нами взятое. Вот, к сожалению,
славянам почти нечего брать друг у друга. Милые народцы, симпатичные,
— но ничего в истории не сделали, лентяи и забавники, празднолюбцы и
шатуны. Это слишком плачевно, и, конечно, мы все стоим, все славянские
народы стоят перед эпохою энергичного движения вперед, самой деятель-
ной работы. Без этого мы сгибнем, нас задавят и съедят. Да и стоит, потому
что Бог не может долее тысячи лет терпеть тунеядцев.
Спешное замечание в сторону, — по предмету дня. Все заговорили о
близящейся войне Германии и Англии и о положении, которое в ней при-
мет Россия. Мне так же, как и другим, кажется, что было бы историческим
безумием ставить на карту вековой мир с Германией. «Не купи дом, а купи
соседа». Ничто так, во-первых, не благородно само по себе, а во-вторых,
так и не выгодно, как вечный мир с соседом; даже при отсутствии племен-
324
ной симпатии, как это у нас с немцами. И Англия, и Франция, конечно, не
суть наши вековые друзья, а только «друзья по моменту»: и что будет с
Россиею, как трудно сделается ее положение, когда, потеряв этих новых
друзей, она не найдет около себя и старого друга, — об этом и подумать
страшно. Оглянувшись на Китай и Японию сзади, — мы увидим Россию,
окруженную со всех сторон враждою, и враждою со стороны политичес-
ких могуществ, в сложности чрезвычайно превышающих ее собственное
могущество. Однако при мире с Германией Россия могла иметь неудачи и
неприятности на международной шахматной доске, но ей никогда не гро-
зил «шах и мат». Самую войну с Бонапартом мы вели психологически уве-
ренно, ибо при ненависти к нему Германии — это была очевидная авантю-
ра неудачного «антихриста». Но «шах и мат» — не сейчас, а в будущем —
может показаться на нашем горизонте, когда мы отойдем от Германии. Толь-
ко и можно сказать о подобных постановлениях: «Кого Бог захочет нака-
зать, у того он отнимает разум». Какие планы войны рассматривали перед
смертью Черняев и Скобелев, — это даже не интересно: отличные генера-
лы, высокоталантливые люди, беззаветные храбрецы и патриоты, они не
были людьми великой исторической судьбы, т. е. судьба не положила им
под подушку никакого великого, исключительного жребия. А это что-ни-
будь значит, отчего-нибудь было. Судьба не стояла над ними и за них, —
частные их мнения, в том числе и роковое мнение о войне с Германией,
суть только личные взгляды, может быть, удачные и, может быть, неудач-
ные; во всяком случае, не провиденциальные, без «перста Божия» в себе.
Бог с ним! Мы должны быть до смущения осторожны, потому что в после-
дние годы есть что-то не расположенное к нам в самой этой Судьбе. Так и
хочется сказать старым языческим термином, что время бы умолить богов.
Но мы не знаем жертв и не имеем богов.
ПОД ЗОЛОТЫМИ МАКОВКАМИ В КИЕВЕ
Месяца три назад какой-то благожелатель прислал мне нумер «Волынских
Епархиальных Ведомостей», а в нем на первом месте была помещена статья
местного владыки, известного витии и писателя Антония, архиепископа
Волынского, «о своем покойном друге», Владимире Соловьеве. Этот Влади-
мир Соловьев был вовсе не философ, — как в том ошибалась вся Россия;
философ он был плохой, а был преисправный алкоголик и потаенный блуд-
ник, только прикидывавшийся девственником, — и все это архиепископ
Антоний доподлинно знает на основании личного знакомства с Влад. Соло-
вьевым, и теперь рассказывает об этом всем своим читателям, и прежде все-
го — «овцам Волынской епархии», в предупреждение. Нумер «Волынских
Епархиальн. Ведомостей» я долго носил в кармане, все собираясь оповес-
тить публику о том, как разбирают или пробирают покойного философа, но
325
не собрался, и нумер затерял; однако ручаюсь читателям, что я нисколько не
преувеличиваю тона епископской статьи, который был чрезвычаек, и не
переиначиваю его точных обвинений, которые, впрочем, так крупны, что их
и нельзя переиначить. Ведь тут никаких оттенков и «подходцев», а все пря-
мо и одной черной краской.
Архиепископ Волынский и есть председатель киевского съезда миссио-
неров, произнесший при открытии его следующие слова об убыли «любви»
в мире, любви к пастве христианской, — т. е. собственно не в его и не в
ихней пастве, остающейся верною, а об убыли «любви» у убегающих от
верности, у раскольников, штундистов и проч., и проч. Плач о любви выра-
зился у него в следующих словах:
«Если раньше происходило отпадение в штунду или неверие по горячности
или в силу религиозных исканий и миссионерам приходилось бороться с мни-
мой ученостью и заблуждением, то теперь приходится им бороться с злобой
человеческой, гордостью, своекорыстием. Теперь нет стремления к исканию
истины; идеализм, отличавший прежде всех, теперь исчез. Сектанты, якобы воз-
рождавшие у себя в общинах древнее христианство, на самом деле носят только
искусную личину, и у них нет той любви и смирения, которые отличают русско-
го простодушного и смиренного крестьянина. Среди русского народа сияют
христианская любовь и воодушевление, и эта же сила духа и любви собрала и
ныне в Киев на съезд всех представителей православной миссии».
Заметим, что если «ныне» нет идеализма у сектантов, то, значит, преж-
де-то был идеализм? Ну, а каковы были последствия этого «идеализма», об
этом могут рассказать стены Суздальского монастыря-крепости и еще более
Соловки. Итак, «идеалисты» просили «хлеба» у церкви, у духовенства, у
митрополитов, епископов, миссионеров, а они им дали то, что не слаще еван-
гельского «камня». «Кто просящему у него хлеба подаст камень?» — спро-
сил Спаситель. Увы, Его же ученики и подали открыто и официально! Свет-
ские тюрьмы, тюрьмы «жестокого государства», которое Гоббс назвал не-
когда «Левиафаном», чудовищем, не были так суровы, как духовные темни-
цы кроткой религии.
Смиреннее других из собравшихся на съезде — В. М. Скворцов, извест-
ный деятель миссии при ряде обер-прокуроров, правая рука по этой части
К. П. Победоносцева, известный по делу духоборов на Кавказе и выпрово-
дивший их в Америку или, как лично объяснил он мне: «Напротив, удержи-
вавший их от безумного выселения». Вот подите, — питаю слабость к этому
человеку, несмотря на неблагоприятные слухи, которыми густо окружено
его имя, несмотря на то что он и меня побранил в своем «Колоколе» дека-
дентом и франкмасоном, что, по-видимому, по его мнению, одно и то же.
Собственно, слабость моя к нему в смысле сочувствия и основывается на
каком-то вселенском «все одно», какое стоит у него в голове по отношению
ко всем решительно, кто не спешит с ним на молебен к Исаакию, не ест у
него именинного пирога, не крестит у него детей и т. д. От него за сто верст
326
вперед пахнет русским человеком, — говорю без иронии, в хорошем смыс-
ле. На вопрос: «Что же именно значит быть православным?» — он едва ли
бы что нашелся сказать, как: «Крестить у меня детей и есть именинный пи-
рог!» Так как я питаю некоторую склонность к язычеству, то, что ли, рас-
крыть карты? — Я скажу, что люблю и почитаю этого В. М. Скворцова, как
такого типичного, существенного и натурального язычника, какого никогда
и нигде не встречал, какого в себе не чувствую. Но язычника немного чух-
ломского покроя.
Конечно, на Венеру Милосскую он сплюнет и скажет: «Это язычество»,
«хладный камень!». А деревяненькая, сосновенькая «своя родная» баба в
чухломском или костромском лесу, — да он только перед ней и жжет фими-
амы! И на этого язычника, который как бы и не слыхал никогда Христова
имени, который будто и не раскрывал никогда Евангелия, — я не могу сер-
диться, даже и думая или веря, что он сотни людей упрятал в тюрьмы, ра-
зослал по пустыням Севера и Востока. «Диоклетиан, и только!» Любишь
язычество, — помирись и с Диоклетианом. Вздыхаю, недоумеваю часто, —
и все никак не могу возненавидеть В. М. Скворцова, хотя, может быть, он и
«спровадил бы» и меня куда угодно, будь я у него под рукой или будь време-
на другие!
Признаюсь, не скрою, насколько я не люблю, и какой-то ежедневною,
памятливою неприязнью, не люблю архиепископа Антония, гордого и уче-
ного, представляющегося в душе беспощадным, настолько я не умею не
любить неученого В. М. Скворцова, который мне представляется благодуш-
ным, несмотря на всяческую молву о нем.
На Религиозно-философские собрания в Петербурге В. М. Скворцов
являлся неизменно в красном галстухе, какие носила вся «красная молодежь»
года три назад, и «при перчатках» малинового или коричного цвета, но во
всяком случае цветных. И когда я думал, что этот человек в то же время есть
первый по значительности человек в деле борьбы русской церкви с такими
фанатичными сектами, как самосожигатели, самозакалыватели, скопцы и
проч., и проч., — и этих людей, как бы с расплавленной лавой в душе, он
может сажать в темницы, рассылать по монастырям на покаяние и исправ-
ление, то я совершенно терялся в этом совсем невероятном. Там — сермяга,
исступленность; здесь — вечно ровное состояние духа и красный галстух а
1а молодой человек. И «молодой человек» берет старика за шиворот и от-
правляет в Суздаль, «как недостаточно православного»!..
Мне всегда нравились глаза его, полные какого-то недоумения о всем
происходящем кругом. Мне казалось, что я вижу в этих глазах все языче-
ство до пришествия Христа. В Киеве, среди такого собрания, он, конечно,
более всего почувствовал «велию славу».
«Сколько крестов на церквах и колокольнях; и звон и шум — полное
православие! Сколько митр! Господи, где у бусурман эта святыня?» Хоро-
шее чувство, настоящее! И в то время, как я почему-то и как-то не верю
ни единому слову, которое произносит архиепископ Антоний о «любви к
327
ближним у русского народа», мне брезжится полная искренность в словах
В. М. Скворцова, который, вероятно, не без красного галстуха, произнес в
том же первом собрании речь на тему, что «миссионерство — это богопо-
солъство и что без миссии — нет спасения, миссия же поддерживается день-
гами, которых на Западе отпускают на этот предмет многие миллионы, а у
нас, по началу дела, не отпускается даже десяток тысяч».
Газеты, печатавшие об этом, недоумевали. Но они не связывали все это
в цельный образ, который для меня так совершенно ясен...
В. М. Скворцов плавал в Киеве, как рыба в воде. «Все свои люди, все
такие же, как я». Он был «секретарем» и, следовательно, душой съезда, и
вот я начинаю с глаз, этих спокойных, встревоженных глаз миссионеров.
Христос принес в мир тревогу, Христос пришел на землю «по душу челове-
ческую». «Дайте душу человеческую, всего остального не нужно». Но в этом
ли вся суть христианства, все Христово на земле, что Он взял «душу челове-
ка», отринув все остальное, как Ему вовсе ненужное, как ничтожное? И хри-
стиан от нехристиан можно отличить по этой тревоге в глазах или по этому
покою глаз. Но в Киеве, судя по речам, которые есть звук взора, которые
говорят то же, что взор, но через пространство, — полное спокойствие души
и вот этот недоумевающий ясный взгляд наивного язычества. В церкви на-
шей, в духовенстве нашем много до ужаса непсихологичного: ум, ученость
— всего здесь есть; ловкость — до излишества; настойчивости — хоть от-
бавляй. Но все это — качество язычества, языческой добродетели. Доброде-
тель христианства — проницание в душу. Этого очень мало у современного
духовенства, и уж особенно у миссионеров, но и оно и они — даже не пони-
мают, что это значит. И вот от этой-то непсихологичности и происходит как
бессилие борьбы церкви с сектантством, так даже и обилие самого сектант-
ства. Куда же народу деть свою тоскующую душу, взысканную Христом,
куда ее обратить среди этого моря деревянных лиц? «Ох, душенька моя, ду-
шенька!» — вопит сектантство. «Душенька?.. В этом я не понимаю! А как
персты слагаешь?» — спрашивает епархиальный миссионер, спрашивает
консистория, спрашивают дальше.
Здесь и лежит зерно всего дела, — что народ-то наш с душою. И хотя
народ «по-ученому» ошибается в вере, т. е. ошибается в подробностях ее, но
зато он христианин в глубочайшем значении этого слова, по сознанию гре-
ховности своей, по сознанию своих слабостей, бессилия в борьбе с поро-
ком, по плачу души своей. Народ наш в сектантстве своем и духовенство в
«миссии» его колотятся друг о друга, как сноп хлеба об обух. Зерно сыплет-
ся, колос пустеет и ломается, но обух не плачет! И все это до сих пор жесто-
кое и грубое дело представляется каким-то продолжением человеческих
жертвоприношений, которых требовали себе старые боги Киева — Перун и
Велес.
328
В КИСЛОВОДСКЕ
Красные камни, Зеленые камни, Синие камни — это различные точки, куда
направляются с утра кисловодские туристы-пешеходы. «Красные камни» со-
всем близко и красивее всех других. Их именем названа казенная гостиница,
недавно здесь построенная. Еще десять лет назад сюда нельзя было про-
браться. Теперь сюда ведут две дороги — пешеходная и для экипажей, и
посажен новый парк, пока еще молоденький и «незрелый», но со временем
обещающий стать соперником старого нижнего парка. Местность выбрана
очень удачно. Она господствует над Кисловодском, очень суха, и с нее во все
стороны открываются великолепные виды. Сама гостиница и стены комнат
выбелены известью. Все имеет тот несносно казенный вид, который наво-
дит если не болезнь, то хандру и на здорового.
Крыша — железная, раскаляемая южным солнцем. Почему здесь нет
черепичных крыш, которые могут лучше защищать от солнцепека? Почему
ни казна, ни собственники домов и дач в Кисловодске и в соседних курортах
не применяют типа швейцарских домиков, — с этим балконом, идущим кру-
гом всего дома? Отчего здесь не удержат тип кавказских туземных домов, —
с плоскою крышею, на которую выходят обитатели дома после того, как
спадет дневной жар? В Эссентуках, Железноводске и отчасти в Пятигорске
удушающая жара; особенно в Эссентуках — главном лечебном курорте Кав-
каза. Все это жарится на солнце. И, как в насмешку, казна и мудрые архитек-
торы с усердием подбавили и все подбавляют сюда железа и камня. Непо-
нятно!
Красные камни я назвал бы слоновыми: до такой степени массивы скал,
поднятые над почвою, напоминают голову, уши и хобот слона, как бы врос-
шего ногами в землю. Играющим кругом детям я стал объяснять, что это
окаменевший допотопный слон. И, видав слонов в Петербурге и Москве,
они стали присматриваться и недоумевать: до такой степени велико сход-
ство. Самые впадины глаз есть: выбоины в скале, как раз сидят на месте
двух глаз, под широким лбищем и по сторонам хобота. Все это кроваво-
красного цвета. Не знаю, что это за порода. Но только это гораздо красивее
гранита или порфира, и вообще по очертаниям и цвету так красиво, как мне
не случалось еще видеть. Взятый в руку камень под давлением легко рассы-
пается. Очевидно, это выветрившаяся порода. Так она стоит высоким мас-
сивом, окруженная зеленым лугом, как бы лежа на нем. На самом деле —
это, конечно, обнажение скрытых под почвою могучих горных пород.
Я дошел до Синих камней — это самые дальние камни. За несколько
часов солнцепека кожа так прожаривается, что в последующие два-три дня
вся сходит с лица. Это только здорово и украшает лицо, потому что следую-
щий, молоденький слой кожи, конечно, лучше. Я думаю, что вообще это
превосходная косметика, и потому усердно рекомендовал бы множеству тол-
кущейся «перед музыкой» публике, которая, очевидно, неравнодушна к цве-
ту своего лица, направляться на Синие камни. Пространствовав туда август
329
месяц, к сентябрю они расцвели бы такими незабудками, которых, навер-
ное, петербургские и всероссийские кавалеры не забыли бы в течение вось-
ми месяцев зимнего сезона, и приехали бы вновь в Кисловодск искать лю-
бительниц Синих и Зеленых камней.
Впрочем, мудрая часть кисловодской публики, т. е. приблизительно
V часть ее, и теперь странствует туда довольно усердно. Взобравшись на
Романовскую гору, подъем на которую начинается прямо из парка, видишь,
как по дорожкам, ведущим к Зеленым и Синим камням, тянутся далекими
точечками и группами точек туристы. Это умно. В нашей равнинной одно-
образной России, забравшись в такой живописный уголок, как Кисловодск,
грех и позор сидеть дома или толочься «перед музыкой». Увы, — эту долю
избирает, однако, огромное большинство. Между тем стоит хоть раз преодо-
леть лень и взобраться на высоту, чтобы полюбить и, наконец, чтобы начать
горные прогулки. Правда, устаешь; тяжело дышишь. Горная прогулка — это
хорошая работа и для ног, и для груди. Но секрет в том, что прелесть гор
только и открывается при подъеме на них. Горы хороши не тогда, когда на
них смотришь снизу: пока это — ландшафт, притом без подробностей. Он
однообразен, неподвижен и, как бы ни был красив сам по себе, утомляет
именно от отсутствия перемен. Но вот вы взбираетесь. Невольно делая пе-
редышку, оглядываетесь назад и почти вскрикиваете от восхищения. Завет-
ная черточка человека — любовь к бесконечному, ширине — удовлетворе-
на: перед вами море воздуха вверху, внизу, в стороны. Дышишь совершенно
по-новому. Горизонт страшно раздвинут, и тут же, далеко внизу, бежит реч-
ка, уже с глухим шумом, а панорамы садов, города a vol d’oiseau*, ближних
станиц (пригороды) и, наконец, совершенно новых гор, поднявшихся из-за
горизонта, на верхних горбиках и широких плато которых пасутся табуны
лошадей и стада коров, — все это чарует глаз. Широко и легко. Вы ступаете
дальше и, сделав шагов сто, вновь обертываетесь, ожидая встретить тот же
вид, но он совершенно изменился теперь, оттого что вы передвинулись не-
много вправо или влево. Одни подробности ландшафта куда-то скрылись,
другие — выдвинулись; он тот же и не тот же; и, что очень важно, измени-
лись краски его: то, что было ярко-зеленым, подернулось голубоватой дым-
кой, многое стало неясным, а в резких контурах выдвинулись другие под-
робности.
Кисловодск лежит гораздо выше всех остальных курортов. Почти самая
низкая точка его, источник нарзана и галерея около него, лежит на одном
уровне с вершиной Машука, т. е. довольно значительной горы около Пяти-
горска, высота которой хорошо передается в восьми рублях взад и вперед —
таковую цену берут местные извозчики, чтобы доехать по хорошей дороге
до вершины его. От этой значительной высоты в Кисловодске совершенно
не бывает жары, от которой задыхается бедная, больная публика Пятигор-
ска, Железноводска и особенно Эссентуков.
* с высоты птичьего полета (фр.).
330
Самая целебная местность, Эссентуки, вместе по природе, — самая тя-
желая для больных и даже для здоровых. Голая местность, почти лишенная
растительности, страшный жар и духота (от низкого положения над уров-
нем моря). Ну и, понятно, гг. архитекторы подложили еще сюда камня и же-
леза. Лечатся в Эссентуках (и превосходно!) тяжелые формы болезней пе-
ченки, кишок и желудка. То же древние греки говорили, что «злая душа по-
мещается в печени». Говоря попросту, болезни печени сопровождаются от-
вратительным настроением духа — желчностью, раздражением и
угрюмостью. В вагоне передавали случай:
— Гляжу я на больного, как он тянет через стеклянную трубочку свою
воду (из стакана). Он вынул свою трубочку и закричал на меня: «Что вы на
меня глядите? Я человек больной и могу вас ударить». И вообще, все леча-
щиеся там печальны, имеют несчастный вид и взаимно озлоблены. Мне хо-
чется сказать им в утешение, что эссентукские воды, в особенности почему-
то знаменитые источники № 17-й и № 4-й, чудодейственно действуют, — и
все там лечащиеся должны иметь твердую надежду на поправление. Кстати,
я здесь позволю себе сделать (в интересах больных) маленькое сообщение,
совершенно беспристрастное, так как сам абсолютно ни от чего не лечусь и
не выпил ни одной капли знаменитой эссентукской воды.
В поездах (между курортами), понятно, только и разговоров что о бо-
лезнях и о докторах. И здесь приходится выслушивать чрезвычайно жалобы
на врачей, и особенно на небрежность их в постановке диагноза и назначе-
нии лечения, которая происходит от огромной массы принимаемых боль-
ных. В особенности много жалоб на одного профессора, который принима-
ет ежедневно до 100 больных; принимает по предварительной записи и
пользуясь помощью ассистента, которого лечившиеся у него пациенты пре-
зрительно называют «писаришкой».
— Этот писаришка, — т. е., ассистент, по мне, похож на писаришку, —
расспрашивает вас о болезни, все расспрашивает и все записывает; потом
вводит вас к профессору, который, взяв эту бумажку от него, назначает вам
лечение, не свидетельствуя (одни голоса) или почти не свидетельствуя (дру-
гие голоса) лично вас.
— Мне назначил эссентуки (№ такой-то). Пью — хуже! Пью упорно, —
гораздо хуже! В отчаянии пошел к другому врачу. Он и говорит: да при бо-
лезнях печени нельзя принимать внутрь ничего холодного, и эссентуки вам
нужно пить, подогревая до 39 градусов. Профессор вам не сказал о подогре-
вании, и хотя назначение вам номера вод правильно, но в том виде, как вы
принимали воду, она вам только вредила.
Вот пример не ошибки в диагнозе и даже не ошибки в назначении лече-
ния, а только поспешности, от которой происходит некоторая забывчивость,
однако фатальная для больного! Дело в том, что, конечно, «время дорого» и
для врача, и для больного. Но несомненно, что для больного оно несколько
«дороже». Для человека с небольшими средствами или связанного службою
или же большою семьею — собраться на Кавказ очень трудно, и иногда он
331
это может сделать только раз в жизни. Таким образом, поездка эта является
«последнею надеждою» и действительно «единственною возможностью»
получить исцеление от тяжелой, затяжной, мучительной болезни (все бо-
лезни пищеварительной системы). И вдруг он натыкается на врача, которо-
му «некогда», на профессора, которому «очень некогда».
Между тем звание профессора таково, что «обыватель» не может и, на-
конец, «не смеет» ему не верить вполне. Во всех качествах врача его гаран-
тирует университет, — слишком серьезное учреждение. Если бы на дощеч-
ке при входе в кабинет профессора было написано: «Некогда», — то с этим
можно бы помириться . Всякий видит, на что он идет. Но раз «некогда» не
сказано пациенту, — естественно, он быстрый осмотр себя профессором
приписывает или огромной его опытности, или совершенной ясности своей
болезни и нисколько не сомневается ни в диагнозе, ни в постановке лечения.
«Последняя надежда» и «единственная возможность» могут быть жестоко
обмануты.
От этого я позволю себе нескромность, — не называя фамилии тороп-
ливого профессора, — назвать имя врача Штурма, о котором в разное время
и от разных лиц мне пришлось выслушать много рассказов, трогательных и
благодарных. Все с похвалою говорят, что он ограничил прием больных
16 лицами; что бывает, что он выходит к больным после 10-го или 11-го при-
ема (ведь приемы разные бывают по трудности) и извиняется, что устал и не
может более принять больных, т. е., конечно, не может принять их внима-
тельно; что один раз в неделю он принимает больных бесплатно, и уже в
этот день ни плата, ни протекция не откроют двери его кабинета, пока не
будет окончен прием всех больных, именно бесплатных, бедных. Обо всем
этом больные и бывшие больные рассказывают с величайшей признатель-
ностью к врачу, осторожному, опытному и внимательному. И ввиду того, до
какой степени многие приезжающие больные растериваются здесь при вы-
боре врачей, которых тоже съезжается множество со всей России сюда, я
позволил себе передать этот говор вагонов, не прибавляя к нему ничего лич-
но от себя. Г. Штурма я не знаю и даже не уверен, в Эссентуках ли или в
Пятигорске он принимает. Я только с грустью говорил:
— Вот немец, и хорошо лечит. А профессор NN — русский, и так плохо
лечит.
Мне ответили:
— Штурм — русский и православный, и такой усердный, что не про-
пускает никогда обедни.
Передаю все, что слышал, а читатель пусть разбирается.
И еще раз извиняюсь за невольную рекомендацию: я знаю, до чего стра-
дают больные от незнания, к кому обратиться! И не поделиться с ними, пусть
случайным и невольным сведением, было бы жестокостью. Но, очевидно,
больные должны пять и десять раз перепроверить мое вагонное сведение,
не придавать ему большего значения, чем сколько оно имеет.
332
БЕРМАМУТ
Дождь, грязь, мелкий дождь, четырехконная тяжелая коляска, заваливаю-
щаяся набок и то подпрыгивающая по камням, то тонущая в липком черно-
земе, пронзительный холод и ветер — такова обстановка, в которой я дота-
щился до Бермамута. «Какой черт понес меня? Может ли быть хуже в аду?
Неужели может что-нибудь искупить эту омерзительную поездку?»
Я был в отчаянии. Я выехал в 12 часов дня, в сухую погоду, из Кисло-
водска. Но горная дорога быстро и неожиданно меняется. И часу в восьмом
вечера лошади доползли до какого-то домика на вершине выступа горного
кряжа, против Эльбруса. Эльбруса, конечно, не видать, да и не нужно. До
того озяб, до того мерзко на душе, что и не взглянул бы, хоть покажи сто
Эльбрусов. Дождь, туман и эта гадость, которая именуется «гостиницей пяти-
горского горного общества». Конечно, никакой гостиницы нет, и никакого
дома нет, как мне кажется, нет, и только фиктивно значится: «Горное обще-
ство в Пятигорске». Вообразите, я увидал перед собою продранную картон-
ную (не шучу) дверь, на петлях и с ручкою, и, переступив высоченный по-
рог (картонный), вошел в полутемный хлев, однако все же с окнами в кар-
тонных стенах и почему-то с зеркалом!!! «На кой черт тут зеркало, если это
хлев?» Повернуться негде, узко, тесно, грязно: через дыры в картонной кры-
ше каплет. В «общем зале» каплет, а в номерах течет.
Номера... Но лучше не описывать.
Приветливые, милые слуги внесли самовар, ведра в полтора, и даже не
грязный. Слава Богу, хоть какая-нибудь теплота. Туристов, разных компа-
ний набилось человек 18 в эту «общую» комнату с зеркалом. Точно все были
в отчаянии и точно все от досады, усталости и отчаяния сделались сумас-
шедшими —так кричали, хохотали и почти плакали. У хохочущих оказа-
лись арбуз и бутылка вина, а плачущих экипаж вывалил на сторону, и они
вывалялись в грязи. Теперь, в пустом номере, на таком холоду, они переоде-
лись, до белья включительно. Т. е. оделись без белья, отдав белье просушить
в какую-то сторожку, где ставили самовар. Со мной были коньяк и лимон, и
я предложил бедным Одиссеям согреться пуншем.
Пошел в номер, перетащил кровать из той половины его, где протекала
крыша и на полу (деревянном) стояла лужа, в ту половину его, где не проте-
кало и пол был сух, и, укутавшись в одеяло и плед, лег на сколоченные дос-
ки на четырех ножках, почему-то названные кроватью. «Черт с ними, с Бер-
мамутом и с Эльбрусом. Только бы добраться живым домой». Пунш и одея-
ло подействовали, и я начал согреваться. Но к рассвету, к часам трем, сы-
рость и холод, точно болото, полезли по бокам и спине.
Я закурил папироску и поднялся к окну. Небо проясняется.
Ну вас к черту, и луну, и небо; ни на что не хочу смотреть. Я забылся
тоскливым, глухим сном. Снился Петербург и в нем что-то. Но я не помню.
Толкнули в бок. Пора вставать. Рассвет.
— Ну что же, недаром платить 25 руб. ямщику. Надо посмотреть.
333
Напялив пунцовое одеяло на голову, я вышел, как привидение, на воз-
дух. Вчерашние «сумасшедшие», плакавшие и хохотавшие, уже все были
здесь, рассеянно и группами.
* * *
То, что я увидел, никогда нельзя забыть. Небо изменилось медленным изме-
нением, — в зависимости от солнца, еще невидного, но лучи которого из-за
черных облаков дальнего горизонта, летя вверх, окрашивали так и этак (пе-
ремены с каждой минутой) и воздух, и высокие прозрачные облачка на вы-
соком горизонте. Бермамут — это скала или, вернее, высокий горный кряж,
повисший в воздухе над тридцативерстною (в ширину) пропастью-балкою,
которая отделяет его от Эльбруса. Вследствие этого образуются два гори-
зонта и, собственно, два неба: лазуревое, прозрачное, над вами и в стороны
от вас, но повыше, и другое — ниже вас, которое все клубится белыми, мо-
лочными облаками, в прорезях которых выступает то зеленое, то черное дно
балки. Но только это нижнее небо отнюдь не есть стелющийся или подыма-
ющийся туман, а именно облака той самой формы, какие мы обыкновенно
видим на небе, но только страшно близко, у самых ваших ног, но только
ниже и захватывая весь этот нижний горизонт. Думаю, зависит это от трид-
цативерстной ширины балки, на каковом расстоянии, конечно, уместится
облако и даже облака, и еще от того, что дно этой «неизмеримой пропасти»
имеет, так сказать, свое самостоятельное «устройство поверхности», со ска-
лами, крутизнами, массивами горных пород. Вот эти-то возвышенности,
подымающиеся со дна балки, вследствие неравенства температур земли и
воздуха, и сгустили около себя тучи, точь-в-точь как это делают Машук,
Бештау и Эльбрус. Вы же на Бермамуте стоите выше всего этого, стоите в
совершенно прозрачном воздухе и видите над собою лазурь неба, утренние
звезды и громадную прекрасную луну, со всем рисунком ее поверхности, а
под ногами вокруг вас клубятся, стелются и ползут облака, сквозь которые
видна далекая земля. Над этими облаками, простирающимися так далеко,
как видит глаз, подымаются остроконечною грядкою пики Кавказского хреб-
та. А прямо перед вами стоит громадный, над всем господствующий и все
подавляющий двуглавый Эльбрус, засыпанный вечными снегами. Перед его
громадою все, и самая цепь гор, уходящая вправо и влево по горизонту, ка-
жется таким незначительным.
На этот раз он стоял серебряный, точь-в-точь как видишь его из Пяти-
горска с окрестных гор, с расстояния 80 и более верст, но только ближе. От
редкости воздуха, скрадывающего расстояние, он кажется совсем близко,
хотя в действительности он все еще далеко (30 верст). Но он не привлек
моего любования: игры цветов на нем я не видал оттого, что из-за туч даль-
него горизонта огромное белое яйцо солнца выплыло уже высоко. Вы знае-
те наше солнце: оно кажется в ладонь величиною, золотистого блеска не-
стерпимой яркости. Здесь оно выплыло над тучами в величине кажущегося
аршинного диаметра, и не золотистое, а белое, цвета расплавленного метал-
334
ла. И как я понял, что древние египтяне принимали его за космическое яйцо,
плывущее по небесной реке, «Небесному Нилу». И мне показалось живым,
живущим, чуть не дышащим, ибо оно, прорезываясь из облаков, точно кача-
лось и вообще как-то жизненно, молекулярно двигалось. И такое огромное!
И такое белое! Я понял, почему по утрам, именно взбираясь на высокие
горы, пифагорейцы молились ему. Совсем иное впечатление, чем от нашего,
например, петербургского, такого обыкновенного и простенького, точно его,
и в самом деле, сделал «медник Миллер из Гороховой улицы», — как напи-
сал Гоголь о луне.
Здесь не было той изумительной игры цветов неба, зеленого, опалового,
лазурного, желтого в тончайших оттенках и переливах, какую я наблюдал
тоже перед восходом солнца (отнюдь не во время восхода) на «Rocher de
Naye» в Швейцарии над Монтрё: не видел и этой кровавой точки, откуда
брызнули разом на все небо золотистые лучи первый миг, всего секунд де-
сять, показавшегося солнца. Вид Бермамута, «встреча солнца» на Бермаму-
те — совершенно что-то другое. Там была прелесть, но нельзя не сказать,
что она была несколько однотонна: была прелестная, оконченная картина,
как бы выдумка космического художника, который, нарисовав ее и положив
кисть, пригласил человека полюбоваться своим новым произведением. На
Бермамуте... вы точно сами побывали Господом Саваофом или украли лю-
бопытством ту минуту, когда Он сотворил мир, — до того все здесь массив-
но, огромно, в таком находится смешении сеть туч, у вас под руками земля и
небо, облака и твердь, целых два горизонта, хаос, космическое, недостроен-
ное, движущееся, живое, ежесекундно неустойчивое. Ибо весь вид постоян-
но меняется. Именно — точно творится мир. И конченое, уже недвижное,
вот только этот один Эльбрус: а горы, Кавказ и его небо, эти облака над
цепью их, — точно вот творится.
Не умею передать. Но в Швейцарии я не видел ничего подобного. И что
это действительно что-то единственное, — можно судить из того, что на
Бермамуте установилась всеобщая и непременная каждого туриста езда из
Кисловодска даже тогда, когда не было этого проклятого картонного домика
горного общества, а был только шалаш-землянка, и туристы в эту стужу и
высь брали с собою самовар и ставили его, бегая за три версты вниз в балку
за водою.
Воображаю...
Если я чуть не умер от холода и отвращения за эту ночь на Бермамуте,
то что же должны были испытывать тогда те несчастные?
И все же ездили: это лучшая оценка и измерение того, что представляет
собою Бермамут!
На «Rocher de Naye», одинокую скалу на страшной высоте и страшной
далекости от городов Монтрё, Террите и Кларанса, проведена железная до-
рога. По ней едешь час в безлюдной местности, и это во всяком случае не
ближе, чем Бермамут от Кисловодска. Там стоит прекрасная гостиница, т. е.
прекрасная в смысле удобства и стола. На Бермамуте, в отвратительном до-
335
мишке, горное общество не поставило даже переносных железных печей с
керосиновым нагреванием, что стоит несколько десятков рублей (по 10 руб.
за печь), которые были бы щедро оплачены туристами. Ничего в смысле
заботы и предусмотрительности — «любви к ближнему».
Я спросил об этом прислугу, расторопную и вежливую, по-видимому, из
«тутошних» жителей, вероятно, из аула, который стоит в балке.
— Мы бы построили сами и от себя деревянное строение, да горное
общество не позволяет. Все само делает.
Т. е. «не делает». Почему горное общество считает Бермамут «своим»?
Аллах знает. Впрочем, у нас в России все «Аллах знает, как, что и почему».
Я замечу только, что на высокой вершине Бештау (около Железноводска)
простой трактирный хозяин, заведший там маленькое чаепитие и «фрукто-
вые воды», действительно воздвиг для сего деревянный домик, кажущийся
раем сравнительно с картонной гадостью горного общества на Бермамуте.
«А еще образованные господа», — не могу я не заметить по адресу сего
общества.
Впрочем, Бог с ним.
Под дождем и по такой же скверной дороге, скверной до того, что в
опасных пунктах приходилось вылезать из коляски и месить глину ногами
на больших протяжениях, я вернулся в Кисловодск. Встретившая меня вла-
делица дачи, кисловодская старожилка, заметила мне:
— Я одиннадцать раз была на Бермамуте и не более двух раз видела его
одинаковым. Он при всяком посещении мне казался новым. Так он меняет-
ся в зависимости от погоды и состояний неба и гор.
НАШИ ПУБЛИЦИСТЫ
Каждую неделю по хорошему поучению... Если бы Россия читала их вни-
мательнее, она наверно поумнела бы за одну, за две зимы. Но она не умнеет,
потому что не хочет читать «Московского Еженедельника» кн. Е.Н. Трубец-
кого и, может быть, даже не очень знает о его существовании. Тоненькая
книжка-тетрадочка в обложке небесного цвета, напоминающая по виду
«Дневник институтки», представляет собою, таким образом, уединенный
стул, на котором сидит и важно вещает свои «спасительные речи» москов-
ский профессор, но его никто не слушает... Бедный профессор, несчастная
Россия!
Князю Мещерскому, если не ошибаюсь, около 80 лет: он сверстник и
однолеток Достоевского, князь Е. Н. Трубецкой — однолеток и, кажется,
ученик Влад. Соловьева, и, следовательно, ему около 50 — 55 лет, не более.
Но меня поражает следующее: не оспаривая общего мнения России, что
кн. Мещерский — злодей, гангрена страны, чума и яд, я все-таки нерешитель-
но замечаю, что этот злодей имеет некоторый, — допускаю, «чумный», — та-
336
лант и, что меня особенно поражает, имеет решительно молодость духа;
напротив, еще в свежих силах, кн. Евг. Трубецкой поражает меня какой-то
безнадежной старостью, преждевременным угасанием всех сил, и должно
быть, от этого присходит то, что он кажется таким неталантливым.
Послушаем 50-летнего московского профессора: «В своем отношении к
красному террору две первые Государственные Думы обнаружили преступ-
ное малодушие. В ответ на политические убийства они молчали. Но разве
не хуже поступают в настоящее время октябристы и правые, умалчивая о
политических князях? Разве не то же самое повторяется теперь в третьей
Думе! Разве сторонники убийства пользуются в ней меньшим весом и влия-
нием? Вся разница в том, что в ней драгоценнейшее из человеческих прав
— право на жизнь — приносится в жертву другим классам населения, дру-
гим выгодам и в другой, легальной форме. Но, в общем, третья Дума совер-
шает тот же преступный компромисс, как и первые две. Судьба двух первых
Дум должна послужить ей предостережением. Их двойственное, оппорту-
нистическое отношение к политическим убийствам, несомненно, послужи-
ло главным источником их внутреннего бессилия. Именно этим они восста-
новили против себя самого опасного врага — инстинкт самосохранения.
Страх за свое существование создал реакцию общественную. Хуже того:
реакция, выступившая на защиту неприкосновенности жизни и имущества,
против убийств и грабежей, тем самым получила то нравственное оправда-
ние, которое составляет условие ее силы. Теперь на этот же гибельный путь
вступает третья Дума. Потакая смертным казням, она также создает нрав-
ственный ореол и оправдание тому самому врагу, против которого она бо-
рется, —революции». И т. д., и т. д.
И вот, читая это, я недоумеваю: откуда этот глубоко старческий тон, как
будто автору этих строк 80 лет? «Моя аптека не ошибается: она дозирует
яды и целебные травы точь-в-точь, как прописано в рецепте». Этот тон са-
модовольного провизора никогда не меняется у профессора-философа, ко-
торый со своего одинокого стула неизменно каждую неделю в передовой
статье сперва обращается влево и говорит «товарищам»: «Вы очень повер-
нуты влево, вам надо повернуться немного вправо», а затем, обратившись к
правым, тою же интонациею продолжает: «Вы очень повернуты вправо, вам
надо повернуться немного влево». А при общем недоумении, куда же имен-
но надо повернуться, кн. Е. Н. Трубецкой оканчивает: «Смотрите прямо на
мой нос; это — нос профессорский; профессорские носы никогда не ошиба-
ются: ибо они не волнуются, бесстрастны, не краснеют и не бледнеют, не
потеют и не холодеют, но всегда остаются равными себе самим. И направля-
ют руль корабля, например общественного или государственного корабля,
— прямо по линии профессорского носа, всего лучше по линии моего носа
— это и значит идти к верному спасенью».
Я не шучу. Никогда мне не приходилось читать статей такого глубокого
нравственного самодовольства, как в «Еженедельнике» кн. Трубецкого, под-
писанных его именем, — неизменно на первом месте и никогда не больше
337
5___6, а то и в 3 — 4 странички. Пишет он — как червонцем дарит, и, без
сомнения, считает заслугу свою перед отечеством — чрезвычайной. Между
тем все его статьи сводятся буквально к схеме, которую я привел: «Ну, вот,
зачем же они так повернулись вправо?! Эй, вы: куда же все загнулись, когда
я вам говорил, что нужно смотреть немного сюда» (указывая на свой нос). И
— ничего еще! Никакой другой политики! Ни программы, ничего! «Мой
нос» — и могила.
Профессор не волнуется. Смотрите, какой ровный тон. Вы думаете, он
взволнован левыми убийствами или правыми казнями? Нисколько: он него-
дует на них лишь постольку, поскольку это оскорбляет его, профессора, ос-
корбляет тем, что не послушали слов, «которые он говорил еще в прошлом
году». И только. По степени бесстрастия и равнодушия я могу сравнить его
только с Леонидом Андреевым, который как бы носит при себе «ящик с
ужасами» и торгует ими: «Хотите ужасов войны? — Вот вам «Красный смех».
Хотите ужаса казни? — Вот «Рассказ о семи повешенных», или ужаса сумас-
шествия? — Вот «Повесть о Василии Фивейском».
А знаете ли, знаете ли причину кровавости нашего времени? Мы вооб-
ще еще не переступили через заповедь «Не убий», т.е. учили ее в детстве и
катехизисе, но мало ли чего там не учили! И, затем, читали и читаем ее в
газетах. Но ведь мы хорошо про себя знаем, что одна небольшая битва уно-
сит больше жизней, чем год военно-полевых судов. Взвесив все это по-апте-
карски в уме своем, мы и остаемся спокойны в душе своей, как кн. Е. Тру-
бецкой, — если волнуемся, то лишь для хорошей репутации. На самом деле
никому никого не жалко. Жалко всегда ближнего; жалко всегда воочию. Этого
физиологического закона не переступишь. Я вот, живя на даче и занимаясь
ночью, несколько раз слышал через открытое окно, как какой-то зверек де-
рет другого какого-то зверька, должно быть, сова крота или белку: и крик
этого убиваемого зверька, убиваемого долго, несущийся за версту, — бук-
вально заставил меня «роптать на промысел Божий». — «Как это Провиде-
ние так сочетало такие инстинкты?.. А чем же сове кормиться?.. Но чем же
крот виноват?» Я волновался весь день. Но ведь это оттого, что я слышал
крик. И все мы ужаснемся смерти, когда увидим ее. А не увидев?.. Точно так
же и великое «не убий». В эти годины ужасов не вводимся ли мы ощути-
тельно, физиологически, слуховым и зрительным образом в великое «не
убий», т. е. не довоспитываемся ли мы до этого закона, которого решитель-
но никогда не чувствовали. Ведь задолго до этих лет резали прохожего на
дороге и иногда резали товарища товарищи, ради трех рублей, — «чтобы
опохмелиться». Так что же нам рассуждать о смерти, бомбах и казнях? «Дело
привычное». Разве что «личное беспокойство», да «иностранцы осудят».
Великое воспитание — дело опыта. Ужас смерти можно испытать, когда
на глазах умер родной, умер близкий друг. В ужасе войны можно убедиться,
«понюхав пороха», в положении солдата и рядового офицера. И, наконец,
ужас казни — вот теперь, когда царапают где-то близко, в соседстве; когда
слышишь крик кого-то, кому это родное. «Отмена смертной казни» в России
338
произошла, как известно, по обещанию Елизаветы Петровны и после ее вос-
шествия на престол. В минуты политической тоски и неуверенности в своей
голове она дала Богу клятву: «Никого не лишать жизни». Вот томительны-
ми текущими годами, месяцами не будем ли мы все приведены в молчали-
вой, про себя, клятве: «Никогда* я не подниму руки на человека».
Если да, — мы не переживаем эти дни напрасно.
* * *
В скучном журнальце, где перебирались целый год все те темы, какие пере-
бирались и во всех газетах, но только перебирались ленивее, без жара, без
«надежды и веры», — в последней тетрадочке-книжке появились две инте-
ресные статьи: «Небесный ревизионизм. Письмо из Парижа» г-на Н. К., и
«Возрождение язычества» (на Западе) г. Перовича. Одна посвящена пере-
сказу впечатлений и волнений, какие пережила русская колония в Париже,
сплошь почти состоящая из марксистов и социал-демократов, отчасти из
эмигрантов, собравшаяся на лекцию г. Бердяева, бывшего марксиста и по-
литика, оставившего и политику и марксизм ради идеализма и отчасти ре-
лигии. Другая статья, еще не оконченная, посвящена обширному движению
в искусстве, литературе и философии, связанному с именами Берлиоза, Ваг-
нера, Ницше, Ибсена, Кнута Гамсуна, Пшибышевского и очень многих дру-
гих. Было «Возрождение», и нет «Возрождения»; а церкви, — хотя бы то же
старенькое католичество, полное «суеверия» и осмеянное, и как осмеянное
еще в эпоху «Epistolae obscurorum virorum»!*, — все стоят. Тема, над кото-
рой стоит задуматься. «Возрождения» суть явления литературные и обще-
ственные, а не народные. Они не только что не колеблют нации, но и оста-
ются просто даже неизвестны для нее в глубоких слоях. Литература есть
прекрасное и глубокое явление, но имеет одну бедную сторону в себе, одно
прирожденное у себя несчастие: все, что в нее попадается, — «выговарива-
ется», в смысле «выдыхается», обесценивается, бессилеет. Литература есть
слово. Сказано — потеряно. Сказано — полюбовались, поволновались: и —
умерло. Обратите внимание на Ницше, — и особенно на действие его в рус-
ском обществе, где, кажется, он был пережит горячее, чем в самой Герма-
нии. В течение 7 — 10 лет Россия, т. е. ее читающие и пишущие классы,
буквально бредили Ницше, думали по нему, говорили в его стиле, не говоря
уже о постоянных и нескончаемых цитатах. Ну, и что же? «Выговорилось»,
«выдохлось». Побыв несколько лет ницшеанскою, буквально ницшеанскою,
— Россия осталась сейчас деревенскою, помещичью, рабочею, революци-
онною, хулиганскою и проч., и проч., но ницшеанского ничего в ней не оста-
лось. Разлюбили ли Ницше? Опровергли ли его? Ничего этого не случилось.
Случилось худшее: Ницше был литератор, его литературно восприняли; и,
как ко всякому литературному, — охладели. Так около старого, — предрас-
судочного и злоупотребительного, — католичества прошумела волна «Пи-
* «Письма темных людей» (лат.).
339
сем темных людей», прошумели Ульрих фон Гутен, Эразм и Рейхлин; и
замерли, не только не опрокинув этой старой стены, но даже и не отмыв от
нее грязи. Литература по существу своему поглощает в себе великие энер-
гии, которые ее вздымают. Было великое чувство, ну, напр., неправды като-
лической церкви; оно могло бы перепрокинуть эту церковь, останься оно в
таких людях, как Иоанн Гусе, как Иероним Пражский, как народная масса.
Но оно пошло вверх и выкинулось фонтаном слов; создалась прекрасная
ветвь европейского «Renaissance», где «католичеству много досталось»: но
уже в католичестве эта ветвь, как и вообще весь Renaissance, ничего не пере-
менили. Можно ожидать, что это самое случится и с языческим возрожде-
нием наших дней.
Литературные явления приходят и уходят. Но жизненные отношения
остаются, — с литературой или без литературы — все равно. Если они не
находят выражения в слове, остается боль их, неудобство их, ненормаль-
ность их, сила их. И вот здесь есть опасность если не «возрождения языче-
ства», чего в прямом движении, кажется, нельзя ожидать, то опасность упадка
христианства, — чего мы все являемся довольно очевидными свидетелями.
Неясность, двусмысленность или колебания в отношении христианства:
1) к труду, 2) к семье и 3) к достатку, богатству, деньгам и вообще экономике,
— вот опаснейшие пункты дела, на которые давно следовало обратить вни-
мание всем заинтересованным. Здесь опасно уже колебание, неясность: как
наверно проиграет битву полководец, который не имеет перед нею совер-
шенно твердого, абсолютного плана сражения. «И так, и эдак», и «да, и нет»,
«ни да, ни нет» здесь губит больше, чем самое отрицание или полное не-
знание. Но совершенно очевидно, что в данных трех пунктах ни которые из
церквей, и, значит, все они вместе, не имеют совершенно твердого, адаман-
тового учения и решения. «Брак свят, но девство лучше», «мужем и женою
сотворил человека Бог, но кто не оскверняется этим — тот стоит выше»;
«труд — благословен, но нищенство — благословеннее», — все это очевид-
но «и да, и нет, ни да, ни нет». Около всего этого можно говорить годы и
исписать томы, но ведь народу-то не то нужно в таком коренном устое его
жития. Не станет же всякий человек в недоумении своем перечитывать це-
лую литературу, делать справки: некогда, от боли некогда. Ему надо видеть
догму, яркую, как молния, светлую, как солнце. А ее до очевидности нет: и
«целая литература» ведь и возникла потому именно, что надо же как-нибудь
скрыть, затенить недоразумение и колебание, надо обосновать и, наконец,
даже доказать, что нравы и «да» и «нет» и что даже «нет» совершенно рав-
няется «да» и есть то же самое, что «да». Это трудно. Оттого написаны томы.
Но томы не помогают, и боль и трудность, ненормальность положения ос-
таются. Повторяю, здесь гораздо больше опасности, чем в сорока Ницше,
ибо это не зависит от литературного успеха, да и вообще это уже не есть
литература, а тут стоит молчаливое страдальчество человечества.
Кстати, когда я рассматривал в Сикстинской капелле известный «Страш-
ный суд» Микель-Анджело, то мне тоже побрезжилось, что это стоит «Also
340
sprach Zarathustra»*. Видя множество фигур, частью летящих кувырком, мы
не спрашиваем себя, что же именно хотел выразить в ней Микель-Анджело?
Между тем, «что он хотел сказать», совершенно отчетливо выражено в фи-
гурах ближайших к И. Христу и Божией Матери — мучеников: один подно-
сит им содранную с него кожу, другой — щипцы, которыми рвали его тело,
третий, четвертый и т. д. — тоже орудия муки. И, показывая, — имеют вид
слишком мало покорный. Известно, что Микель-Анджело был человек мол-
чаливый, угрюмый и как-то вечно враждующий, даже неизвестно, с кем враж-
дующий. Рафаэля он не любил, даже, кажется, не ценил. Тот был слишком
«небесен», а этот нес в себе бурю. В «Страшном суде» он до последней сте-
пени отчетливо выговорил вековечный упрек и жалобу, наконец, недоуме-
ние и даже бурю человечества о тех «горших страданиях», об этих вот щип-
цах и кострах, гвоздях и содранной коже, которые «удивительным образом»
наступили для человечества именно после того, как оно «искупилось», и
«было спасено», и «всему научилось», и «признало всю правду» и пр., и пр.
Словом, как только «спасли» человека, так и начали с него драть шкуру, и
Микель-Анджело нарисовал это огромно, выпукло, так, что не прочитать
нельзя. Не знаю, что думают об этом папы, совершающие именно в Сик-
стинской капелле все свои торжественные церемонии. Когда я только взгля-
нул на картину и по указателю прочел имена тех определенных святых, ко-
торые подошли к Христу почти с угрожающими жестами, — для меня не
было сомнения о мысли Микель-Анджел о.
Но всякой душе нужен некоторый покой, утешение, нужны великие акты
надежды и веры. Обиженным «здесь» нужна вера, что они будут оправданы
«там». Вот эта азбука существования, без которой решительно невозможно
жить, — нельзя так же жить без нее нравственному существу человека, как
корове нельзя жить без сена и самому человеку без дыхания, — она дается
церковью. И вот на этих-то актах, нуждах человечества, народных, все здесь
и держится. Иногда подумаешь: «Жгли людей живыми, а люди все остают-
ся верными ей». Ну, напр., это подумаешь о католицизме. Удивляешься, не-
годуешь; в следующий момент умозаключаешь: «Но, значит же, если чело-
вечество такие муки свои простило этой католической церкви, то что-то на-
ходит она в ней, ради чего прощает это горькое и забывает об этих муках.
Прощения не было бы, если сладкое не превышает горького». Дело в том,
что сожгла она некоторых, а дала отдых всем; что она — народна; и нако-
нец, что в ее власти или обладании находится действительно та «азбука»
моральных необходимостей, которых всякий просит и без которых никто не
имеет чем прожить. В момент, когда «великие утешения» стал бы давать
кто-нибудь другой, кроме церкви, — она ослабла бы. Но их ни у кого нет. Их
никто не может дать. Кто может сказать мне, кроме как священник «на духу»,
что я буду прощен за какой-нибудь тайный грех; что осуждение, которым я
себя осуждаю, оно будет снято Богом и наконец я успокоюсь. Ни императо-
* «Так говорил Заратустра» (нем.).
341
ры, полководцы, ни весь народ, ни парламент «голосованием своим» не мо-
гут дать мне этого: а священник даст, сам с верою и мне внушая веру. Вот
установить, традиционно установить, чтобы и у него была вера, и у меня
была вера, без чего акт невозможен и облегчения не произойдет, — для того
надо было протечь целой культуре, надо было совершиться бесчисленным
личным переживаниям, процессам, «чудесам», «исцелениям», «прозрени-
ям», в которых может быть большая доля и ложного, но все это ложное, и
неложное сложилось так, утряслось так, что из этого получается тот хлеб,
вкусив которого я единственно не могу остаться жить; жить в радости, а не
в унынии и смерти. Церковь и говорит, что она мучила людей, все «врагов»
своих и «еретиков», чтобы отстоять эту пусть даже и иллюзию, но такую,
без которой люди морально задохлись бы. Только этим и можно объяснить,
что люди, получая только из этого одного места этот определенный и всем
нужный хлеб, простили «углу этому» все мучения свои, несправедливости с
собою, беды свои; и идут, все идут люди, как рыба зимою в проруби, — где
кой-кого из нее и ловят или багрят, но все же без этого «места» она сразу и
массой вся задохлась бы.
И что поделает с этим интеллигенция, не наша только, но хотя бы гер-
манская или итальянская XVI века? Вот отчего Боккачио и Эразм прошуме-
ли, а сельский сиге* все стоит на месте.
ПАМЯТИ ПРОФ.-ПРОТОИЕРЕЯ
А. П. ЛЕБЕДЕВА
Хотя и несколько поздно, я позволю себе сказать несколько слов о скончав-
шемся в июле месяце профессоре церковной истории, сперва в Московской
духовной академии, а затем в Московском университете, А. П. Лебедеве.
Именно, я позволю себе обратить внимание на то, что он оставил русскому
обществу, хотя и не прочитанную этим обществом, полную почти историю
христианства. Она изложена в отдельных томах-монографиях, написанных
живым, прекрасным, увлекательным языком. Это тот способ изложения,
которого классический образец дал покойный Костомаров в отношении рус-
ской истории. Способ этот позволяет не останавливаться на серых днях ис-
тории, — обязательных для историка-систематика, историка-хроникера, и
дает возможность более сосредоточиться и более сосредоточить читателя
на эпохах, полных значительности и занимательности. Сейчас на память я
могу припомнить только томы монографии: «Эпоха гонений», «Вселенские
соборы IV — V века», «Очерк греческого духовенства» ранней церкви. Но
когда на обложке этого последнего сочинения, читающегося с захватываю-
щим интересом, я прочел перечень трудов его автора, я увидел, что это —
* священник (фр.).
342
«История христианства», написанная по отделам. К великой печали, рус-
ское общество вовсе не знает своих настоящих ученых и дальше «Фаррара и
Ренана» не идет. Фаррар — для старушек, Ренан — для людей помоложе.
Один — недалекий, слащавый пиетист, такой, каким полагается быть всяко-
му пастору; другой — острый католик и изящный француз Style vieux*, ук-
рашение всякой академии, но не украшение какой-либо веры. Русское серд-
це, русская грудь, которая до сих пор дает из себя (в сектантстве, в старооб-
рядчестве) мучеников веры, которая создала «старчество» при монастырях,
которые ежегодно высылает десятки тысяч паломников «ко св. местам», эта
грудь ненасытнее, объемистее, таинственнее и священнее всяческих «Фар-
раров и Ренанов», которая решительно не должны бы ее удовлетворять, не
должны бы находить у нас себе читателей. Странно видеть читателя с зало-
гами более глубокими, чем какие есть у автора книги. Но с великой народ-
ною грудью, увы, общество наше не имеет ничего общего, не имеет одного
дыхания. Ну, пусть его зачитывается Ренаном и Фарраром. Кой-кому из об-
щества пусть все-таки скажут эти строчки, что у нас есть несравненно луч-
шие труды по истории христианства, и, главное, прекрасно и легко изложен-
ные, с наслаждением читающиеся, — и удовлетворяющие всем требовани-
ям науки.
Мир праху преемника по кафедре незабвенного прот.-профессора Иван-
цова-Платонова! Нужно пожелать, чтобы эта кафедра Московского универ-
ситета, уже имеющая славные традиции, была хорошо и осторожно замеще-
на. Об этом следует подумать всем, от кого это зависит.
НЕПОСТИЖИМОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
Случилась совершенно невероятная вещь. В то время как вся Россия, в са-
мых отдаленных ее углах, перелистывая тот или иной том Толстого, мыс-
ленно обращается в Ясную Поляну и говорит душою самые дорогие свои
слова, самые теплые великому писателю, украсившему на полвека свою стра-
ну и народ, — в это время с Сенатской площади Петербурга раздался голос,
изрекающий по образцу испанской инквизиции — «veto».
Духовное ведомство, в обычных канцелярских формах своего делопро-
изводства, выпустило бумагу, призывающую «православных чад церкви»
воздержаться от чествования графа Л. Н. Толстого и тем избавить себя от
суда Божия, помня, что «Бог поругаем не бывает»... Все это — за нумером
канцелярской бумаги, по духу и форме не отличающейся нисколько и от
других синодальных, и от всех обычных консисторских бумаг о бракорас-
торжении и т. п. многоценных сюжетах... То же самое «слушали» и «прика-
зали» и «определили»... Боимся, что и при светопреставлении ведомство
* старого стиля (фр.).
343
православного исповедания все будет составлять такие же бумаги со «слу-
шали» и «определили». Но душа каждого православного уверена, что суд
Божий никак не будет руководиться в своих решениях этими бумагами за
нумерами, но сохранит некоторую самостоятельность и независимость от
этих синодских постановлений. Потому что суд Божий, которого и мы ожи-
даем в конце мира и истории, и не появился бы, и не для чего ему было бы
появляться, если бы духовная коллегия уже все и о всех, о праведном и непра-
ведном, решила безошибочно в своих «определениях» и в своих «приказали»...
Возвращаясь к Толстому, мы должны заметить, что можно нисколько не
разделять его богословских мнений, ни в целом, ни в части, но мы должны
сказать и напомнить читателям, что чествуется не «богословская деятель-
ность» Толстого, как выражается неточно синодальная бумага, а личность
великого человека, с преимущественным вниманием к его великим художе-
ственным созданиям. И на это чествование, нисколько не оскорбляя своей
веры, вполне имеет право русский православный народ и в образованном
слое, и в простом населении. Не дать этой чести, не принять в этом чество-
вании участия было бы неблагодарно и неблагородно со стороны общества
и населения, и оно вправе иметь об этом свое самостоятельное мнение.
Мнение это не нуждается ни в указаниях, ни в поправках со стороны, пото-
му что оно совершенно право. Этак пришлось бы в России воздерживаться
от похвал Пастеру на том основании, что он был католик, и от похвал Гум-
больдту на том основании, что он был лютеранин. В духовном ведомстве,
вероятно, мало читались художественные творения Толстого, и оно придало
значение только прочитанным там богословским его трактатам, которые в
глазах общества никогда не имели особенного значения. При литературных
чествованиях, к каковым относится и юбилей Толстого, принимаются во
внимание исключительно литературные труды, и никто в это время не рас-
суждает о вере, о религии или о церкви. Это — явления другого порядка и
стоят совершенно в стороне. Смешивать их нельзя. Религия нисколько не
оскорбляется воздаянием удивления и восхищения к художественным со-
зданиям.
Мы уверены, что все русские, оставаясь православными и горячо пра-
вославными, могут всею душою отдаться великому празднику русской ли-
тературы в день чествования одного из величайших наших писателей.
ЧЕГО НЕДОСТАЕТ ТОЛСТОМУ?
— Как «чего недостает»? Это после юбилея-то? Наделен всем, реши-
тельно всем, что может придумать человек!
— Да, но ему недостает остроумия.
— Остроумия? Никогда не приходило на ум. Толстой и остроумие...
_____Не правда ли, несовместимы? Я соглашаюсь, что остроумие — не-
большая сила души, небольшой талант. Но без этого небольшого таланта
344
как-то неудобно жить и поминутно можно впасть в величайшие ошибки, не
столько опасные или вредные, сколько смешные. Остроумие есть малень-
кий талант внутренней критики, который не допускает ничего смешного,
прямо и явно ненужного, или прямо и явно глупого. И, знаете, мудрец, кото-
рый не обладает остроумием, иногда может натворить Бог весть что... Со-
крат был остроумен: но философы вообще этим качеством не отличаются и,
знаете, даже смотрят на него высокомерно и презрительно. Бог за это часто
их и наказывает, ибо никто так часто не делает явных глупостей, как фило-
софы. Например, Кант всю жизнь не выезжал из Кенигсберга: это вовсе не
требовалось философией.
— Да, Кант был не остроумен. Но возвратимся к Толстому. Отчего же он
в самом деле не остроумен? Ибо, кажется, это действительно так.
— Он не остроумен оттого, что вечно серьезен и очень трудится. Нельзя
так. Молиться Богу хорошо, но нельзя молиться 24 часа в сутки. Надо и
пообедать. Надо попить чайку. Надо дать место и шутке. А то 24 часа быть
серьезным... покорно благодарю! А Толстой все 24 часа серьезен.
— Это от большого ума.
— Я и не спорю, что недостаток остроумия проистекает у него от боль-
ших, тяжеловесных качеств души. Но все-таки остроумие так необходимо!
Без этих маленьких ножниц рукоделье человеческое выходит так несовер-
шенно. Поработай они над «Полным собранием сочинений»...
— Что вы, что вы...
— Не перебивайте. Поработай они там, где я указываю, и множество
богословских лохмотьев они отстригли бы несомненно, к выигрышу цело-
го. Я не говорю о религии, а о нудном в религии: знаете, где человек трудит-
ся, а со стороны видно, что даже и ему самому не хочется. Запряг себя чело-
век в хомут и везет, думая, что это «надобно», а на самом деле ни ему и
никому не «надобно». Это не остроумно, и вот тут бы ножницы...
— Например?
— Ну, например, кому нужен разбор макарьевского «Догматического
богословия», о котором богословы и сами говорят, что это есть недаровитая
компиляция, исполненная ошибок. Религия Толстого прелестно выразилась
в «Чем люди живы», «Много ли человеку земли нужно», в «Смерти Ивана
Ильича» и проч. И около этих живых религиозных страниц какой мертвой
кладью едет или везется его «Разбор догматического богословия». Немнож-
ко бы остроумия, грибоедовской или гоголевской веселости, — и Толстой
этого не написал бы. Не стал бы тратить на это драгоценных своих часов и
дней. Жизнь коротка, а хорошего, настоящего дела так много... Ведь все то,
что написал тут Толстой, мог бы написать смышленый и сердитый семина-
рист. А «Чем люди живы» сто профессоров не могут написать. Надо рассчи-
тывать силы и время. И вот здесь помогает остроумие...
— Вы говорите — это от избытка серьезности?
— Ужасного. Нельзя до такой степени быть серьезным, как Толстой.
Задохнешься. Шьет ли он сапоги — «заповедь», пашет землю — «заповедь».
345
Бог дал человеку только десять заповедей, а не сто десять. Почему бы? Мог
ведь и сто десять дать, «могуществу бо его не положено предела». Но Бог
пощадил человека и в милосердии сказал ему: «Погуляй». Десять заповедей
исполни, а одиннадцатой — не надо. Нет, я серьезно: Бог в этом выразил
глубокое попечение о его свободе, о его относительной даже и от Бога неза-
висимости. И в этой неполной скованности человека и выразил безмерную
к нему любовь и безмерное о нем попечение. Бог ограничил богословие, и я
думаю, что никто Ему так не противен, как профессора духовных академий,
которые все удлиняют и удлиняют богословие.
— Да, народ мало симпатичный. И, кажется, не особенно смышленый...
— Не остроумный. Все кроят и шьют и никогда ничего не обстригают.
Возвращаюсь к Толстому. Он все трудится. В душе его точно висит какая-то
гиря, и эта гиря все тянет и тянет и заставляет часовой механизм тикать и
тикать. Это его писанья, слова... Послушайте, нельзя произносить или пи-
сать безнаказанно такое море слов. Наполеон все воевал, и это, в конце кон-
цов, даже безвкусно. Но и все писать и писать, столько писать — это тоже
предел всякого вкуса... Писать о вегетарианстве, писать календари, писать
«Изречения мудрых» со всего света... Дайте вздохнуть, дайте пообедать. И,
главное, — все как «заповедь». Ужасно трудно.
— А вы все тянете к «облегчению»? Безнравственный вы человек!
— Может быть, и безнравственный, но оттого, что вы меня так задави-
ли. Что такое нравственность? Это врожденное добро. Нравственными рож-
даются, а не делаются. Нравственность — это свежая кровь, чистая кровь.
Нравственен тот, кто хорошо рожден. Посмотрите-ка вы на скверно рожден-
ных господ, с порченой кровью, гнилыми нервами, которые пытаются быть
нравственными: более отвратительного зрелища я не знаю. Притворство,
ханжество, фальшь, обман — все есть здесь, и все выдается или показывает
себя как добродетель. От таких господ половина социального зла и вся пор-
ча нашей цивилизации. Бог против этого и сотворил заповедь: «Не прелюбы
сотвори», которая переводится в двух разветвлениях: «Хорошо рождай» и
«хорошо рождайся». Без этого все нравоучения напрасны: не в коня корм.
— Так что вы думаете, что сто заповедей, сверх десяти, придуманы для
дурной крови и, пожалуй, людьми дурной крови?
— Придуманы в условиях дурной, уже испорченной крови. Пороков так
много, и мы в самом деле задыхаемся в них, как в дыму. Добрые люди и
стараются помочь человечеству все новыми заповедями. Но это все внешне.
Дым из нас идет, а не нас окружает. Дымимся мы все, коптимся... Как худая
лампа, в которой не перегорает керосин. Кислорода мало, и огонь слаб в
лампе. Жару мало. Огонь есть, но слабый. Задерганность человека разными
«заповедями» между тем еще понижает температуру лампы и только увели-
чивает копоть. Вот отчего вы видите это тоскливое зрелище, что заповедей
так много, что нравоучителей — сотни: а добродетели все нет. Добрая жизнь
человека и общества гаснет. И это просто оттого, что керосин не перегорает,
что мало кислорода во всеобщей крови.
346
ГРЕХ
<I>
У известного немецкого живописца Штука есть картина, названная «Грех»,
ставшая всемирно известною по множеству воспроизведений. Уже эта обиль-
ная воспроизведенность показывает, что картина всем понравилась, и все
признали ее мысль правильною. Между тем ничего нет более плоского, чем
самая картина; а ее мысль мы могли бы извинить неопытному мальчику,
необразованной кокотке, доктринеру-семинаристу, и ее не хочется простить
зрелому человеку, притом с европейским именем.
Несколько лет назад картина эта представлялась и в Петербурге. Я ее
видел.
Брюнетка с жгучими глазами, с красивой точеной шеей, с пышными
формами смотрит на зрителя в упор; а ее особым способом вьющиеся воло-
сы, как у греческой Горгоны, сплетаются, — таково впечатление, — с тол-
стой змеею, обвившеюся вокруг ее тела и лежащею у нее на плечах. Притом
голова змеи и голова женщины являют параллелизм. Змея поясняет все. «Жен-
щина — вот грех. Ее обаятельность, красота ее тела, миловидность лица ее
— вот что навевает на человека, на потомство Адама грешные мысли и вож-
деления. Вот грех в первоисточнике, в корне. Несчастно человечество, об-
витое кольцами этого змия-греха».
Так и хочется договорить: «Не увидеть царства небесного!»
Лет двадцать назад, посетив Троице-Сергиеву лавру, я купил у монаха-
продавца брошюру копеек в семь с заглавием приблизительно «Како святый
Нифонт укроти беса». Купил ради рисунка на обложке. Там было изображе-
но, как бес в виде отвратительной козы или козла несется под облаками, а на
спине беса-козы сидит и бьет ее св. Нифонт в огромном монашеском клобу-
ке и с широчайшими рукавами рясы, развевающимися от поднебесного вет-
ра. Я могу ошибиться в имени Нифонта, но все прочее, т. е. самую суть, я
помню твердо. Я купил брошюрку оттого, что недоумевал: отчего бес пред-
ставлен не в виде разбойника, убийцы, вора, процентщика, а представлен в
виде такого совершенно невинного существа, как коза, молоком которой
питаются дети и больные. Питаются и выздоравливают. Я писатель и ниче-
го особенно дурного не сделал, но если бы меня спросили: «А под каким
видом или символом вы хотели бы, чтобы вас представили», то ответил бы:
«А вот хоть под видом козы, питающей молоком младенца». Ничего оскор-
бительного, ничего обижающего. Почему же монахам вообразилось, что бес
принимает форму не разбойника, а козы? Почему вообще «бесы» рисуются
рогатыми? Да рогатые животные суть самые добрые, ласковые, кроткие,
никого не обижающие. Это — корова, баран, козел. Что может быть невин-
нее? Только уж гораздо позднее, увлекшись древним Египтом, я увидел, от-
куда происходит эта странность: египтяне поклонялись кроткому и бессоз-
нательному, растительному началу мира и обоготворяли животных; а между
347
ними они всего более привязались именно к рогатым. Несмотря на замеча-
тельную собственную красоту, судя по портретным изображениям, более
прекрасную и тонкую, чем какою обладали греки, они, однако, «богов» сво-
их изображали при человеческой фигуре (не всегда) тела, с головою непре-
менно животного, вот с этою рогатою головою. Христиане, которые счита-
ли, что «все древние боги суть демоны», что «язычники поклонялись демо-
нам», и начали изображать «дьявола рогатым». Между тем это ведет свое
происхождение от такого невинного существа, как корова. Всякий видит,
сколько здесь суеверия и непонимания. Штурмы египетских храмов христи-
анами все помнят и помнят, как, обвязывая веревками, толпа по слову епис-
копа стаскивала с пьедестала этих «рогатых демонов». Между тем они всего
только кормили молоком детей.
Возвращаюсь к Штуку. Вполне забавный смысл своей картины он мог
бы до конца рассмотреть, если бы несколько продолжил ее. Доказательство
«ad absurdum»* всегда самое очевидное. Когда «грех» есть приблизительно
декольтированная женщина, то сто декольтированных женщин представят
«узилище ада», говоря «древним языком». Но что такое сто декольтирован-
ных женщин, дышащих прелестью, соблазном и возбуждением? Увы, это
бал в его оживлении, тот, например, счастливый бал, где впервые показалась
Наташа Ростова в «Войне и мире» или где впервые танцевал Вронский с
Анной. На балу обязательно быть декольте: и почти девочка, почти подрос-
ток, Наташа очень конфузилась, когда ее одели впервые в открытое платье.
У Толстого это прелестно описано. Я и не за балы, и не за открытые платья:
но кто не рассмеется, если бы Штук нарисовал такой бал и в бальном осве-
щении кружащиеся пары и подписал бы: «Вот грех и греховное». Я согла-
шаюсь, что тут есть и проявляются человеческие слабости, легкомыслие.
Но все в той милой и недалекой, нецепкой связи, что жизнь положительно
была бы скучна и порочно испорчена, если бы общество и человек не имели
себе отдыха и развлечения в этих невинных удовольствиях.
В грехе темнеет душа: ну, а какие же «темные души», «омраченья души»
на балу? Совсем напротив... Да и наконец, Штук или не знал, или забыл
первую страницу Св. Писания, самую первую, где первому и единственному
на земле человеку Бог подводит женщину-жену, подводит ее нагую, для
любви и соединения... Сколько бы потом ни бились комментаторы, им не-
возможно устранить этого факта, — и направление Божьей воли останется
бесспорным для человечества... Иллюстрация Штука может испугать во-
ображение институтки или пробудить печальные воспоминания в промо-
тавшем состояние жуире: «Вот где погибло мое богатство! Правда, это грех
и первоисточник греха». Но это мысли утопленника о воде и «вреде» воды.
Мимо иллюстрации Штука пройдет равнодушно и презрительно семьянин,
видевший жизнь, испытавший ее, женивший сыновей и выдавший в заму-
жество дочерей. О той же «воде» он скажет: «Это не кладбище утопленни-
♦ до бессмыслицы (лат.).
348
ков, это великая стихия, без которой не было бы мореплавания, не было бы
нашего богатства, не было бы всего оживления, истории и культуры. Вода
лучший дар неба земле».
Та часть «греха», в которой выразилось «падение» человека, была и ос-
тается для нас всех как-то психологически неясною. Бог «повелел», Бога «не
послушал» Адам и «пал». Это — описание, это — факт, души которого мы
не видим и не понимаем. Ну, что же, что «не послушал» Бога: да мы вечно
Его не слушаем, вся наша жизнь есть сплошное непослушание; и, однако,
не всю же «сплошь жизнь» мы чувствуем убийственно грешною, а в ней
чувствуем грешными некоторые особенные, горькие, поистине грязные ми-
нуты, где мы точно чем-то отравляемся и душа наша несказанно темнеет и
тоскует. Сейчас я приведу иллюстрацию этого, а пока договорю о «непослу-
шании».
Это «падение человека», тожественное с «непослушанием», можно сколь-
ко-нибудь постигнуть, если только отождествить волю Божию с велением
внутренней природы. Вот этот внутренний водоворот, как бывают в океане
водовороты от встречи противоположных течений, можно принять за нехо-
рошую точку «греха». Вся природа говорит человеку: «Вот»... Но человек,
Адам или другой, говорит: «Нет». Говорит своею индивидуальною волею,
противящеюся всеобщему потоку вещей. Если бы в ответ на создание Евы
Адаму он отвратился от нее или если бы соблазненная «премудрым» змеем
Ева поступила, как те языческие девы, что на требование отцами их замуже-
ства отвечали «вечным отказом от супружества», тогда это можно было бы
понять как первоисточник греха, противление воле Божией.
Но все это не ясно... Ясным в Библии становится «грех» с пятых и ше-
стых страниц ее, всемирно памятных. Но я назову не их, а передам то, что
мне случилось однажды наблюдать в семье и что было совершенно парал-
лельно этим пятым и шестым ее страницам. Я был поражен, удивлен, испу-
ган. Я был истинно опечален... Я видел настоящее зарождение настоящего
греха. Кстати о семье: кто в ней зорок, может читать в истории семьи не
только повторение первых страниц в Библии, но и видеть или объяснить
себе по явлениям зарождение мифов и мифологического, веру в «духов»,
начало демонологии и ангелологии, наконец, даже видеть и понимать «по-
клонение идолам» первого человечества. Ибо для детей вся их спаленка полна
одушевления и таинственностей; для них кролик, собачка, кошка суть ис-
тинные «боги», как для египтян, но и, кроме того, печка и особенно то, «что
за печкой», воющая ветром труба и то, «что в трубе», все, наконец, предме-
ты, большие и малые, — это мир живых созданий, и ласкающих и грозных,
дружелюбных и враждебных человеку. Полная мифология...
В такой-то семье, полной зачатков мифа, росли две девочки-сестры, по-
годки, и младшая из них с ранних лет обнаружила дар настоящего, хороше-
го рассказа, прекрасно задуманного и прекрасно выраженного. Толстой в
педагогических опытах яснополянской школы отмечает у детей этот дар
рассказа и вымысла, дар художественной правды и поэтической меры, кото-
349
рая у учеников его поднималась до способности поправлять в вымысле его,
Толстого, причем он соглашался с правильностью поправок. На самом деле
это есть обыкновенное явление и относится не к детям яснополянских кре-
стьян, а вообще к человеческим детям возраста между 6 и 13 годами. Это
есть гениальный возраст, без сомнения связанный с какою-то перестрой-
кою или постройкою организма, и он бесследно исчезает, ничего не оставив
после себя, никаких следов, году к 13-му, 14-му, 15-му. У Достоевского есть
тоже обмолвки об «изумительной красоте» этого возраста, но и у Толстого,
и у него я нашел только удивление и восхищение, без подчеркивания и без
указания, что тут мы встречаемся с каким-то законом и тайною, — я думаю,
с религиозною тайною, выраженною на первых страницах Библии. Чудные
вымыслы младшей девочки, которые она начала делать на бумаге сама, без
поощрения и поддержки, потихоньку, стали чем-то бесспорным и исключи-
тельным для старших семьи, как только они стали ей известны. Это была
привилегия и признание особого дара, выраженные просто в удивлении,
которого нельзя было скрыть. Старшая девочка, у которой ничего подобно-
го не было, бывало, только прослезится, когда новое удивление пройдет от
нового найденного рассказа у младшей сестры. «Я не могу», «у меня этого
нет»... Эти добрые, милые слезы о том, что «я не так рождена», «я врожден-
но слабее». «Но зато я изо всех сил стараюсь учиться», — договаривали ее
глаза. Она училась не очень хорошо, память была слаба; но очень старалась.
Младшая была фантазерка, рассеянная. Старшая сестра была реалист-
ка: все видит вокруг, во всем реальном принимает участие.
Вдруг среди тетрадей с французскими и немецкими словами и задачка-
ми у старшей была найдена тетрадь «с рассказами». И среди них один пора-
зил всех прелестью. Он был маленький. В нем рассказывалось, как в озере
утонула девочка, а на берегу его стояло дерево с опущенными почти в воду
ветками. И что дерево это все видело, и уже любило девочку, приходившую,
бывало, под него «рисовать с натуры», — а авторша рисовала с натуры, — и
что теперь оно чувствует, и как живет одно. Суть рассказа и состояла в отно-
шении дерева к утонувшей; если бы можно выразиться, в оплакивании де-
ревом утонувшей, в тоске его, в одиночестве его. Все было так миниатюрно,
что прелесть могла выразиться в выборе точных и вместе тонких слов для
передачи скорби; слов не преувеличенных, а в меру. И вот это было удиви-
тельно соблюдено. Рассказ был прост, благодарен и видимо одушевлен. Дол-
жно быть, девочка, жившая на берегу моря и ходившая в лес «рисовать с
натуры», представила себя утонувшею; и вместе сама полюбила уже какое-
нибудь дерево, под которым, сидя, рисовала. Все эти реальные впечатления
и сплелись в одушевленный рассказ, где вымысел и действительность спле-
лись самым натуральным образом.
Все радовались, смеялись. И не заметили, как другая девочка вышла из
комнаты. Когда ее позвали, она вошла точно вся измятая. Своим умным
глазом она моментально поняла, что все догадались, что она завидует: ибо
такого хорошего, натурального рассказа у нее не бывало. Этот был явно
350
лучше, прелестнее, поэтичнее. И с тем вместе это был первый рассказ. То,
что она «одна может в семье», моментально одернулось: ее дар не был более
ничем необыкновенным, раз это же могла делать и другая, и вероятно, все.
Но главное — это все поняли. И унижение, что видят ее унижение, вошло
такою мукою в ее лицо, всю фигуру, как-то вдруг начавшую умирать, опус-
тившуюся, что я не умею передать. Напрасно все говорили ей, что у нее не
хуже бывает. Своим верным чутьем она знала, что хуже. Все было искусст-
венно, выдумано, сочинено в ее более сложных и более туманных «расска-
зах». Прелесть этого состояла в совершенной простоте.
Святая душа ребенка умерла.
Родилась грешная душа.
Никогда в жизни я этого не наблюдал так осязательно, и вот на протяже-
нии часов и немногих дней. «Грех! Грех! Первый грех!» Старшие все сдела-
ли, чтобы окружить вниманием эту несчастную младшую сестру, завидо-
вавшую. Ибо грех есть поистине несчастие, — о, какое несчастье! Явные,
грубые, осязаемые, резко очерченные преступления ничто сравнительно с
ним! Если бы эта девочка в гневе, — а она бывала гневною, — зажгла дом,
было бы внутренне лучше и для нее, и для окружающих. Ну, что же: дом
сгорел, много убытка, большой переполох. Есть физика огорчения, но нет
метафизики страдания, настоящего, страшного, которое и нельзя назвать
иначе, как «падением души». У души именно сложились крылья, и она упа-
ла на землю, разбилась. Сколько ни ласкали несчастную, а она знала, что
«восхищение — к той». Убыль любви — о, вот первый грех! Чувство: «меня
менее любят, менее много любуются» — вот основа греха! Как это мучи-
тельно, до чего искажает всю душу. «Меня менее любят» — какая это боль!
<П>
Общественная жизнь имеет бедствия, но не имеет греха! Грех есть только
у души человеческой. Только самое высокое в мире задает это особенно глу-
бокое падение. И если большая общая жизнь и терпит нечто от «греха», то
терпит косвенным образом, когда грех какой-нибудь охватывает души мно-
гих. Чума бывает «в городе»: но, конечно, это значит только, что она входит
в домы этого города.
Я рассказал о случае завидования детей в семье, — о зависти одной к
другой маленьких и дружелюбных сестер, которая вспыхнула безотчетно и
неудержимо, когда у другой сестры был обнаружен тот талант, который пред-
полагался только у одной.
Я опасаюсь, что читатель никак не согласится со мною, не видев, не
осязав того, что прошло передо мною очевидностью. «Такие пустяки»! Но
мера имеет отношение к физике греха или проступка, а не имеет отношения
к его метафизике и сути. Суть может сказаться в крохотном, едва исследи-
мом. Склон огромных равнин неуловим; его не замечает ни пешеход, ни про-
351
езжий. Это — не крутизна подъема на какой-нибудь буерак, на котором за-
дыхаются лошади и выбивается из сил ямщик. Но всякий буерак, измучива-
ющий людей, — ничто, а вот незаметный-то склон целой равнины, целой
губернии, определяет течение рек и дает начало от себя целым речным сис-
темам. Грубость, неповиновенье, дикость, озорство, все криминалы госу-
дарственной дисциплины и уголовной статистики — на самом деле не пред-
ставляют искажения души человеческой, не вызывают тоски в душе как
виновного, так и его зрителей: но «я завидую брату моему», «сопернику
моему», «другу моему», «завидую герою», «таланту», «я ненавижу красоту
или успех», наконец, — «ненавижу самую добродетель»: вот омут, который
с неодолимою силою увлекает душу в гибель, против которого она не умеет
бороться и который все ангельское в ней преображает в демонское.
Из этого омута поднимаются фурии... С чудовищным лицом, раскален-
ными глазами. Волосы вьются, как змеи, дыхание ядовито... Что невозмож-
но здесь? Все возможно: убийства, казни, войны. Ужасное братоубийство,
поедание человека человеком, — без всякой физики для него, без нужды,
без голоса, среди сытости и иногда роскоши. Право, иногда приходит в го-
лову смешная мысль, что для того, чтобы предупредить грехо-иаденме, надо
было только вынуть из головы человека самую идею греха, как уродливости
или вот «неугодности Богу», и на месте этой несчастной мысли насадить
счастливый сад уверенности и ряда уверенностей, что человек «не может
быть неугоден Богу», что он так красив и хорош, что и земле и небесам
остается только любоваться на него. Надо было наделить его неодолимым
оптимизмом... Каин выбрал для жертвы плоды, а не ягненка. Ну почем он
знал, что плоды хуже ягненка? Был вегетарианец, «жертвенных мяс» не тер-
пел, как и мы все пришли бы в ужас от самой мысли «принести Богу жерт-
ву, заколов барана»... Какой ужас, — нож и кровь! Итак, Каин последовал
христианской психологии отвращения от ножа и крови. И... «был неуго-
ден» за это!
Не пролилась кровь ягненка, и пролилась кровь человеческая! Как не-
понятно! Не умею и к этой халдейской премудрости подойти иначе, как ду-
мая, что по каким-то необъяснимым законам, для каких-то необъяснимых
тайн «кровь должна течь на земле», земля должна являть картину «с теку-
щею кровью» и что дорогая кровь, напр. человека, искупается только более
дешевою кровью, напр. животных. Отсюда и пошли жертвоприношения...
Но это такая метафизика темного язычества, что я, христианин, ничего тут
не умею понять. Это что-то из загадок такой старины, такой древности, что
нужна новая наука, чтобы хоть только начать разбирать первые буквы этих
народно-религиозных воззрений.
Нет, ошибся Штук, нарисовав первоисточник греха — барышней деколь-
те. «Соблазн»... О, Боже: не все ли, что мы любим, тем и соблазняемся?
Соблазняемся живописью, соблазняемся поэзиею. Знаете ли, более всего мы
соблазняемся святым, праведным, прекрасным человеком. Так что же, пога-
сить все это? Лишите мир привлекательностей, «соблазнов», и он померк
352
бы, как стеклянные глаза утопленника. Мир только и красится «соблазна-
ми», «соблазны»-то и суть талантливое мира, яркость мира; и поистине надо
было возненавидеть глубокою ненавистью мир, чтобы начать говорить про-
тив его «соблазнов»... «Умри, брат мой Авель, ибо тебя слишком любят»,
вот что мне слышится в голосе, который обвиняет соблазны. Это какое-то
мировое каинство, зависть к таланту мира, к красоте его, мука о том, что
«вот как Богу удался мир». А между тем, какие люди, какой меры и автори-
тета, говорили и говорят против «соблазнов». Эти-то недобрые речи повто-
рил и Штук, к счастью, так глупо.
Я не вел бы этих длинных речей о грехе, если бы последние недели не
был так поражен удивительными речами о Толстом. Один приволжский епис-
коп назвал душу его «подлою». Так и сказано. Миссионер Айвазов, пишу-
щий в «Колоколе» «Новые опыты во вкусе Щедрина», издал о Толстом ка-
кую-то книжку, уж до того «миссионерскую», что ее даже арестовали. Что
это такое? Откуда эта явная мука всего духовного сословия, хотя «безбо-
жие» Дарвина или Бокля, а следовательно, и бесчисленных поклонников у
нас этих двух английских мыслителей есть вещь старая. Да и вообще «без-
божников» в мире, я думаю, есть столько же, сколько и «божников», и это
так старо и общеизвестно, что никого не интересует.
Но откуда же это несчастие духовенства, которого оно не может скрыть;
что это за проходящая в душе его мука? «Он восхитил нашу славу...». «Он
есть похититель того, что от века принадлежало нам...». Как это похоже на
печальную мысль: «Моя жертва отвергнута». Духовенство осудило не пре-
словутые «заблуждения» Толстого, — мало ли их было и остается на свете,
оно осудило успех его, и на том самом поприще, на котором само трудится.
Дарвин был естествоиспытатель, и хотя его теория происхождения чело-
века, овладевшая всемирною мыслью, гораздо более колебала христианство
или, вернее, игнорировала его, чем все суждения Толстого, все же христиан-
ские, но этот труд английского ученого, в другой плоскости, в ином тоне
выполненный, не явился никаким совместником духовенства и его труда.
Толстой был совместник! Вот в чем дело. Что другое выразил Толстой в
(ошибочной) «Крейцеровой сонате», как не вечный припев, не тысячелет-
ний мотив монашества: «Не следует приближаться к женщине», «лучше без-
брачие, нежели брак». Разве это не та мысль, которую ректор духовной ака-
демии навевает каждому задумчивому, талантливому слушателю академии?
Разве это не мотив картин Нестерова, не обеты иноков? Но вся Россия вдруг
затуманилась тревогою от могучей «Сонаты»: «А в самом деле, лучше ли
жениться?» И монах Никанор, архиепископ Одесский, первый назвал Тол-
стого ересиархом за эту «Сонату». Ну, если в этой «Сонате» ересиаршество,
то, конечно, во всем монашестве ересиаршество, и тогда куда же деваться
самому архиепископу?? Но Никанор талантливо критиковал Канта, опро-
вергал позитивизм, а, собственно, на монашеский путь никого не увлек. В
мощи-тъ Толстого или, точнее, в том, что ему удалось то, что не удавалось
духовенству в плоскости той же проповеди, такой же точно морали, в рубри-
12 В. В. Розанов
353
ке этих призывов к телесной чистоте, к воздержанию, невкушению мясного,
к скромности, труду и бедности, наконец, в рубрике призывов именно к
Христу и Евангелию — духовенство и встретило себе как бы попрек! «К
нему пошли, к нам не пошли». Самое его «непротивление злу» есть только
завет монастырских старцев, его «неделание» есть только повторение при-
зыва пустынных созерцательных анахоретов к сосредоточению души в са-
мой себе; и, словом, во всем его религиозно-моральном учении нет ни ни-
точки оригинальности, нет ничего своего, личного, нет творчества и новиз-
ны. Все — самое обыкновенное, тысячелетнее! Но вдруг его послушались,
когда тысячу лет никого не слушали! «Моя жертва не угодна Богу»... Только
тут вместо «Богу» нужно читать — «всемирное внимание».
Все несчастие духовенства заключалось в том, что за целое столетие и
даже за два века, с Петра Великого, оно не выдвинуло ни одной великой
нравственной личности из себя, вот с этими же, как у Толстого, тревогами
совести, с мукою души о грехе своем, о долге своем, — именно своем, а не
чужом, ибо о «чужом долге» духовенство до «преизбыточества» говорило: и
никто из него не взволновал душу общества, не изъявил сердца человечес-
кого, как Толстой вечным своим «покаянием», самообличением и самобиче-
ванием. И хотя это ужасный трафарет в христианстве, но вот именно Тол-
стой его сделал, а духовенство его не делало, только приглашая других де-
лать это с собою. Вот настоящий мотив собственно успеха Толстого, неуспе-
ха духовенства и мучительного ненавидения духовенством Толстого. Он
прошел обычный круговорот того покаяния и учительства, который собствен-
но обязателен бы для каждого семинариста, для всякого будущего священ-
ника; но по трудности его, по нужде для него великой искренности, труда
над собою, предварительного унижения своей личности, — его никто из
них не исполняет. Это «забытый путь», однако путь всех отшельников и свя-
тых. Мне не нравится, как его прошел Толстой, — слишком громко и лите-
ратурно, слишком не «про себя». Однако бесспорно же, что это есть настоя-
щий и известный христианский путь, единственным следом коего в тепе-
решней терминологии остается эпитет «смиренный», коим подписываются
иерархи. Толстой «смирился»... Все ахнули: «А л<ы-то как же?». «Мы», вож-
ди христианства. Отвыкшее от этого зрелища общество шарахнулось в сто-
рону «кающегося литератора», было поражено, смущено, заволновалось...
Какой «соблазн»?! Ежегодно, постоянно, в зрелище, в книгах духовенство
должно бы раньше мирской «славы», и в предварение ее, проходить именно
этот путь душевной скорби о себе, должно бы рассказать и вековечно рас-
сказывать о своих язвах, муках, падениях, да не «вообще» и по трафарету, не
в безличных схемах, а лично, наглядно, именно вот так, как это сделал писа-
тель Толстой с дворянином Львом Николаевичем Толстым... Но этого обыч-
ного христианского пути оно не делало; оно все только сияло белыми одеж-
дами перед миром, и все отвернулись и побежали за грязной тряпкой, за
«рубищем» Толстого, в котором он бился с «грехами» своими и унижал и
бичевал свое графство, талант и знаменитость.
354
Толстого возненавидели как именно похитителя чего-то у себя, своего.
«Похитил нашу славу», «восхитил нашу честь». Вот узел этой нервности.
О, как не договорить: «Увы, нам! Мы были бесталанны, холодны, черствы,
задеревенели, закаменели в своих позолотах. И пришел иной, в рубище и с
палкою: и взял у нас все невесомое богатство, после которого у нас осталось
только весомое богатство, каменья, одежды, золото, мирская слава и земная
власть, о чем всем мы сами учили и учим и знаем, что все это тленно и
погибает на другой день после того, как бывают отняты духовные сокрови-
ща»...
И, как эпизод о завидующем младенце в семье, мною только что расска-
занный, — так и это: до чего оно печально и страшно и иллюстрирует пер-
вые сказания Библии о грехе и падении...
ПРЕДСТАВИТЕЛИ «НОВОГО
РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ»
Редакция «Русской Мысли» отвела большой отдел журнала проблемам ста-
рого и нового религиозного сознания, оговорившись, что сама она стоит в
стороне от спора, в стороне вообще от этих волнений, но находит их каче-
ственно ценными и занимательными для своих читателей. Позиция, кото-
рой, пожалуй, придерживается большинство русского образованного обще-
ства. Несомненно, в массе своей оно нисколько не затронуто религиозным
исканием и представляет то, что можно было бы назвать практическим по-
зитивизмом. Конт изложил свои взгляды в 5—6 больших томах. Современ-
ному человеку столького не нужно. Поутру он берет газету, пробегает теле-
граммы, просматривает вчерашнюю биржу, откладывает фельетон до вече-
ра, «к чаю» вместе со сладкими сухарями, и идет в училище, в контору и
вообще к какому-нибудь практическому делу, которое исполняет. В этом и
заключается не столько позитивный образ мысли, сколько позитивный об-
раз жизни. Но, разумеется, мысль не может очень далеко отойти от действи-
тельности. И практике дней наших, которая сводится к прошению молитвы
Господней: «Хлеб наш насущный дай нам днесь», отвечают и мысли не очень
удлиненные, не очень сложные и довольно трезвые.
«Новое религиозное сознание», которому едва можно насчитать десять
лет, зародилось в единичных кружках, точнее, — в немногих лицах, кото-
рые по обстоятельствам своей жизни не вынуждены были тянуть эту миро-
вую лямку ежедневного труда, крепкую, скучную и тяжелую. Это были лица,
не ведшие позитивного образа жизни, и им легче всего было сбросить и
позитивный образ мышления, или, вернее, они никогда крепко его и не дер-
жались, а скорее чуть-чуть придерживались. В первоначальном фазисе сво-
ем оно образовалось из двух течений, которые встретились почти случайно
и зародились оба самостоятельно и отдельно: из того, что в пушкинской
355
12*
своей речи Достоевский назвал «русским мировым скитальчеством», «тос-
кою русского человека», а в «Подростке» он же определил это как «благо-
родную грусть русского дворянина»; и из второго, более практического ис-
точника, но который случайно повел к массе теоретических открытий, — из
семейной нужды русского православного человека. Выразителем первого
течения явился Д. С. Мережковский, первоначально «антик» по своим ан-
тичным увлечениям, позднее — ницшеанец по долголетнему и глубокому
увлечению личностью и идеями Ницше, и позднее, в теперешнем фазисе
своих настроений, — искренний, «до обморока», христианин. Долго не чи-
таемый массою общества, осмеиваемый журналистами и газетными «обо-
зревателями», он ушел в себя и в книги, ушел в упорное чтение, в глубокий
восторг читателя и критика, критика не с пером в руке, а с мыслью в голове,
— и из его огромной начитанности, из глубокого, восторженного пережива-
ния множества чужих идей, из тонкого критического сопоставления этих
идей и родилось одно течение «нового русского религиозного сознания».
Какова почва, таково и растение; ну, не совсем, но, по крайней мере, таков
рост растения, его свежесть или блеклость, сила или слабость. В литератур-
ной деятельности Д. С. Мережковского, одного из образованнейших у нас
писателей, и чрезвычайно искреннего, есть одна больная черта: это — сла-
бость, отсутствие удара, силы; даже отсутствие кровности, сочности жиз-
ни. Точно это артерии с вытекшею из них кровью и пустые. Узор их удиви-
телен, сами они толсты и мощны, стенки их напряжены, упруги, эластичны.
Все — прекрасно. Кроме того, что во всем этом нет крови. Проистекает это,
— переходя от сравнения к действительности, — от почвы исключительной
начитанности, на которой вырос и сложился весь образ мысли Д. С. Ме-
режковского. Слушая его возбужденные и возбуждающие речи в Религиоз-
но-философских собраниях, всматриваясь во всю его личность, в весь его
«литературный портрет», невольно напрашивалось сравнение с Белинским.
Не полная, но частичная близость здесь есть. И Белинский, со студенчес-
кой, даже с гимназической скамьи, жил погруженный в книги и очень мало
оглядываясь на действительность. И Белинский хорошую книгу и особенно
хорошую мысль, вычитанную в книге, предпочитал всяким краскам житей-
ской жизни. Есть особенный романтизм — романтизм книжного магазина.
Романтизм, пожалуй, недурной. Этот невидимый океан мысли, лежащий на
полках и, по-видимому, столь недвижный и прозаический, который может
испепелиться от поднесенной зажженной спички (избави Боже!), — он ве-
лик, глубок, обаятелен, он сказочен и фантастичен в своем действии. Мож-
но отдаться ему, всю жизнь прожить им и даже атрофироваться в самом же-
лании выйти на солнечную улицу и пройтись в людной толпе. Такую фанта-
стическую жизнь среди книг и для книг прожил Белинский, который инте-
ресу книги подчинил свою личную жизнь, свои привязанности, дружбу и
вражду, свой быт, едва заметил семью около себя, и построил на книгах все
свои воззрения, религиозные, политические, нравственные. Такую прибли-
зительно жизнь ведет и Д. С. Мережковский, книги коего суть прибавление
356
к книгам всемирного книжного магазина, лишь с величайшим трудом про-
бивающиеся или почти не пробивающиеся к сердцу человеческому.
Другой инициатор «нового религиозного сознания» гораздо менее об-
разован, чем Мережковский, и менее его подвижен в идеях, даже почти не-
подвижен. Мысли его ползут, и даже он, по-видимому, не скучает, когда они
вовсе лежат. К тому, что он сам называет своим «религиозным открытием»,
он приведен был почти случайно. Как сам он рассказывал в кружках Рели-
гиозно-философских собраний 1902—1903 гг., ему однажды привелось рас-
суждать с двумя лицами о поле, — тема, так и этак волнующая теперь рус-
ское образованное общество, но о которой не было самого вопроса, не было
к ней никакого интереса лет 8—10 тому назад. В разговоре с одним из дру-
зей своих он обмолвился, что, по его мнению, пол в нас есть вовсе не орган
или функция, как говорят и даже пишут в книгах, а совсем особое и само-
стоятельное, полное существо, отношение которого к человеку, т. е. к про-
чим его частям, можно сравнить с отношением лица. Как лицо нельзя на-
звать органом и функциею, а оно есть что-то гораздо более значительное и
всеобъемлющее в человеке, хотя и занимает мало места, так точно и пол. Он
не просто производит потомство, но есть родник страстей, чувствований и,
наконец, многих обширнейших и важнейших идей в человеке и человече-
стве. До некоторой степени он есть только невидимое, но второе, скрытое,
тайное лицо в нас, имеющее свои «глаголы». Собеседник, чрезвычайно по-
раженный этими словами, ответно сказал: «Был Один, — и он назвал осно-
вателя нашей религии, — у Кого совершенно не было этого лица: никакая
Его мысль, никакое Его слово отсюда не течет». Этот ответ, — как рассказы-
вал он в 1902 году, — в свою очередь страшно поразил его. Он почувство-
вал, или, точнее, оба они почувствовали, что случайным тезисом и антите-
зисом они задели величайшую мировую загадку, над которою никто еще не
останавливался; что здесь какой-то узел важнейших исторических объясне-
ний, с одной стороны, а с другой — родник множества религиозных тезисов
самого обширного значения. Но все это пока неясно. Чувствуется что-то ог-
ромное, но что, — об этом нужно думать. Этот разговор у него был с люте-
ранином. Следующий — с православным. На слова его, что соединение по-
лов не может быть грешно, по крайней мере, в благословенном церковью
браке, и особенно потому не может быть, что в нем зарождается не одно
тело, но и душа будущего младенца, — этот благочестивый и чрезвычайно
образованный человек возразил, что такая точка зрения непонятна лично
ему и совершенно противна всему учению, всему чувству церкви, всему ее
вкусу, духу и законодательству. «Первоначально и извечно акт этот мерзок,
и церковь не разрешает его, а только прощает., и простить его только одна
она и может, по санкции величайшего авторитета, в ней скрытого, по своей
святости. От себя этот акт — преступление, хуже убийства; с разрешения
церкви — ничего. Как кредитная бумажка, отпечатанная лично вами, приво-
дит в Сибирь, а отпечатанная в экспедиции заготовления государственных
бумаг — составляет ценность и служит к приобретению всех вещей. Но и в
357
благословенном церковью браке соединение это, однако, по существу свое-
му таково, что, совершая его, христианин всякий раз чувствует себя вели-
чайшим грешником, почти проклятым, и я, по крайней мере, не смею ни в
тог час, ни даже на другой день поднять глаза на образ». Мысль эта, выра-
женная с такой уверенностью и резкостью, выраженная пылким учеником
Хомякова и Гилярова-Платонова, совершенно компетентным в знании цер-
ковного учения и духа. вторично поразила его несказанным удивлением.
Вторично он почувствовал, что разгадка отношений церкви к семье и браку,
этого прощающего отношения, этого извиняющего отношения, ведет к це-
лому ряду открытий, притом таких, которые не могут оставить в покое са-
мый фундамент церкви. Он или глубоко колеблется, пошатывается, или «паче
утверждается», но ценою нравственного согласия, нравственного одобре-
ния таких чрезвычайных явлений, как обычное у христиан убийство мла-
денцев девушками-матерями. Ведь это в своем роде истребление фальши-
вых кредитных бумажек, вещь нормальная и необходимая, вещь нужная. Но
как религиозно мириться и нравственно оправдывать истребление ни в чем
не повинного младенца, который мог бы жить. Таким образом, к величай-
шему метафизическому интересу как загадке прибавился нравственный ин-
терес чрезвычайно живого и практического содержания, который скоро при-
обрел колорит спора, тяжбы. Так, он рассказывал в 1902 г. ход своей мысли,
возникшей почти случайно. И прибавлял: «Это до такой степени овладело
не только всею моею мыслью, но и всем моим существом, что я точно впал
в бред. Раз еду по лесной конке, сижу наверху, и ветви деревьев, наклонен-
ных здесь над поездом, стали задевать мне по рукам и лицу. Я точно опом-
нился, но как был постоянно под давлением все одной мысли, то мне пред-
ставилось, что самые эти ветви, с такими запыленными здесь и смятыми
листьями, точно обращались ко мне и молили: «Спаси нас, защити нас».
Конечно, это иллюзия, и есть чему посмеяться, но мне представилось, что
от поворота опора в ту или другую сторону точно зависит спасение для увя-
дающей природы, точно вся природа лежит теперь в каком-то мировом из-
море и ожидает росы на свои листья, хочет воды на свои корни и просит об
этом, нравственно просит, как живое существо, почти как олицетворенный
человек. Встала великая проблема святости и греха. Откуда их начинать?
Что ими считать? Мы привыкли «грех» считать именно с пола: «безнрав-
ственное» мы говорим не о фальши, не о жестокости, не о грубости, а гово-
рим о совершенно, в сущности, безвредном каком-нибудь флирте. «Падени-
ем» все называют не когда человек солгал, не когда вся его жизнь есть ложь,
а вот когда девушка «сделала фальшивый билет не в экспедиции заготовле-
ния государственных бумаг» или когда юноша увлекся девушкою дальше
известной черты. Почему обманщик не «пал», ростовщик — не «падшее
существо», деревенский кулак и базарный выжига — «ничего себе», — про-
щаются. И все они перед лицом всего мира менее грешны, менее осуждены,
менее злобно и едко порицаемы, чем никому не повредившая, никому не
пожелавшая зла Гретхен, которую так судили женщины и подруги у фонта-
358
на перед собором. Но тут не в «подругах» и «женщинах» дело; они только
вторят, только эхо и резонаторы. Дело в изначальном осуждении, и почти
нельзя поднять глаза на того, кто его начал».
Так передавал он. И очень волновался, вместе — очень верил в себя.
«Нужно оживить землю и нужно вторично освятить ее. Что там касаться
религией наружности, поверхности, образа мыслей и сплетения слов: ведь в
этом состоят все наши схемы, и исповедания, и катехизисы. Нужно взять
дело реальнее и глубже. Нужно, чтобы косточки-то в нас пели Богу, нужно
изменить весь состав человека, нужно заставить его иначе и лучше рождать-
ся. Хорошие люди суть по природе хорошие, а дурные люди суть по природе
дурные. Глупыми не школа делает, а глупыми рождаются. Также и злыми.
Вынуть зло из рождения — вот задача! Вложить сюда добро, свет, просве-
щение — вот продолжение задачи! Но как, — об этом можно сто лет ду-
мать».
Идеи его или, точнее, вопросы и недоумения его очень удачно связа-
лись с эллинизмом и ницшеанством Мережковского. Они придали этому
эллинизму какую-то насущную значимость, интерес дня, интерес «теперь»,
и, в свою очередь, от этой встречи с эллинизмом страшно расширились в
горизонте, перейдя в вопрос: чем, в сущности, были древние угасшие ци-
вилизации, и эллинизм, и романтизм, и Египет. Не были ли они только дру-
гим полюсом, и именно утвердительным полюсом, по отношению к род-
никам жизни, чем тот явно отрицательный полюс, около которого лежит
вся европейская цивилизация? И не от этого ли другого утвердительного
отношения происходит эта поражающая нас красота и свежесть всех форм
тогдашней жизни, тогдашнего быта, и во главе всего — красота и свежесть
тогдашнего человеческого тела? Но от тела один шаг и до духа: in согроге
sano — mens sana*, и обратно. Мы — калеки, стенающие, больные, грустя-
щие, тоскующие, грязные и кающиеся. Вся наша литература, все наше об-
щество и государство отсюда, все от «зараженной лозы». Литература —
нервная, патологическая, экзальтированная, ну, и возвышенная. Мученики
доходят до святого экстаза. Но ведь все-таки они мученики, и зачем это? Не
нужно покаяния, ибо в основе самой не нужно и греха, надо избыть грех,
зло, и избыть его через другое рождение. Не нужно и целителей: не нужно
просто хворать. Эллинизм здесь не спасение, но все-таки некоторый ука-
зующий путь, некоторый этап, компас, рецепт здоровья, сохраненный в
пирамидах.
Мережковский и этот другой инициатор хорошо дополнили друг друга
и взаимно усилили. Мережковский пылок, быстр, подвижен, бегуч. У него
множество начитанности, много идей. Но все это, особенно прежде, имело
уж слишком большую быстроту и нераздельную с этим хрупкость. Мереж-
ковского можно сравнить с женщиной, которая вечно беременна, но никак
не умеет родить. И слышны только метания и вопли. Ползучая и во многих
* в здоровом теле — здоровый дух (лат.).
359
случаях лежачая мысль его друга поддерживает вечно грозящие обвалиться
постройки Мережковского. Сколько бы раз верхи его конструкции ни опро-
кидывались, все же остаются внизу некоторые основные линии, некоторые
лежащие в самой земле кирпичи, которых невозможно выворотить и кото-
рые указывают, что «можно» и «нужно» строить.
В 1902 году, когда начались Религиозно-философские собрания в Пе-
тербурге, — духовенство наше впервые встретилось с этим образом мысли,
совершенно другим, чем какой был у славянофилов и какой единственно
предъявлялся к нему со стороны светской мысли, для «критики» и «опро-
вержения». В «Новом Пути» печатались протоколы этих собраний, — и та-
ким путем новый образ мысли сделался известен всему духовенству, и, между
прочим, уже солидным представителям богословской науки в духовных ака-
демиях. Можно сказать, что весь этот спор и вся эта тема «нового религиоз-
ного сознания» прошли совершенно незамеченными для нашего общества,
печати и литературы, и по той простой причине, что, повинуясь обрядам и
числясь в церкви, они, в сущности, улетели как бы на воздушных кораблях
графа Цеппелина далеко куда-то от самого материка и этих, и всяких рели-
гиозных тем и не знают основательно ни что такое христианство, ни что
такое язычество. Мог бы дать обширную аудиторию этим темам, хотя бы
путем полемики, покойный Влад. Соловьев, — и мне известно, что он гото-
вился «к выступлению», когда это течение едва начало обозначаться в лите-
ратуре. Он почувствовал, что затронуты самые корни христианства и что
вопрос идет о существе церкви. Но он умер, — всего за год или полгода до
открытия собраний. Тут дело в простом предварительном знании, предва-
рительной подготовке, предварительном образовании. И мне говорил, — не
знаю, насколько основательно, — один очень даровитый представитель ду-
ховно-академической науки, что вся богословская литература, и даже пол-
нее — богословская мысль, и главным образом домашняя, «про себя» мысль,
— выведена, и навсегда выведена, — из прежнего схоластического, однооб-
разного и мертвенного состояния через дачу совершенно другого материа-
ла, чем над каким она работала до сих пор, через предложение ей совершен-
но новых и очень трудных вопросов. Таким образом, и в этом случае, как во
многих, «свои не приняли, а чужие — пошевелились». Закваска, во всяком
случае, бродит, и нет основания полагать, чтобы она опала. Ну, как сделать с
мыслью, чтобы она не была мыслью? Это можно сделать, приведя ее только
к глупости, бессодержательности, бессмыслице. Но об этом лукавый бес
сказал надвое...
В ПОМОЩЬ БОЛЯЩЕМУ НАСЕЛЕНИЮ
Автор интереснейшей книги «Русская народно-бытовая медицина» и ста-
тьи-проекта: «Медицинская философия как элемент университетского об-
разования» — приступил к составлению и изданию ряда популярных бро-
360
шюрок такой высокой практической пользы, что мы считаем долгом немед-
ленно же обратить на них внимание как образованных классов, так, по воз-
можности, и простолюдинов. Заголовок всей серии — «Побеседуем». Пока
вышло три книжки: 1) «Что такое образованность. — Пора взяться за ум.
— Чистота. — Уменье себя держать» — цена 3 коп. за 31 страницу текста;
2) «Как устроен человек?» — 7 коп. за 60 стр. текста, с рисунками почти на
каждой странице и с десятью изображениями, выполненными в красках
(все — относящееся до крови, кровообращения и системы кровеносных
сосудов), и самая сейчас нужная — 3) «От чего происходят болезни и смерть»
— 5 коп. за 59 стр. текста. Последняя брошюрка беседует о причинах забо-
леваний и о проводниках болезней — грибках заразных болезней и о насе-
комых, переносящих заразу в кровь через укус. Следуя своему принципу:
«говорить с народом языком его понятий», автор везде достиг величайшей
ясности. Посоветуем только при следующих изданиях и при составлении
следующих книжек: 1) по возможности вовсе исключить периодический
строй предложений, т. е. приспособляясь к восприятию только грамотного
люда, говорить исключительно простыми предложениями, осложняя их не
более чем двумя придаточными, как это делается в школьных книжках для
первоначального чтения, и 2) ничего не говорить в скобках, исключить вов-
се скобки из речи. Нужное сведение, включаемое в скобки, должно быть
выражено новым самостоятельным предложением. Книжки прочитывают-
ся с жадностью: так интересно само по себе содержание. Занос лихорадки
через комаров особливой формы или, точнее, особливой манеры стоять, —
поднимая зад брюшка почти вертикально кверху; занос чумы через блох,
которые соскакивают с зачумленных крыс после их смерти и заражают че-
ловека, заражают, напр., матросов корабля, которые в таком случае погиба-
ют все, и это прежде казалось страшно таинственным в открытом океане, и
тому подобные сведения; происхождение чесотки — убийственного народ-
ного бича, на лечение которого земствами тратится несколько миллионов
рублей ежегодно, — все это читается с интересом и не простолюдином.
При тексте помещено множество рисунков, а перемены крови под действи-
ем инфекционных заносов объяснены через изображения в красках. Обзор
сделан всех болезней, предотвратимых осторожностью. Подробно опи-
сана холера и меры осторожности против нее. Описаны и течение, и воз-
можные исходы болезни, и методы борьбы с нею. Всякий, приобретший
эту книжку, становится несколько сильнее против болезни. И мы думаем,
благодетелем будет каждый, кто, купив несколько десятков или сот этих
пятикопеечных книжек, попросту раздаст их извозчикам, прислуге, двор-
никам и «кому-нибудь», не мудрствуя лукаво. Книжки эти надо бы разда-
вать так, как по улицам задаром раздают «объявления» от магазинов. По-
благодарим высокообразованного врача и кое-что сделаем сами, чтобы по-
мочь его благородной мысли.
361
КНИГА ВОВРЕМЯ
В дни, когда тревога вновь разлилась по Балканскому полуострову, когда
одни ликуют, другие омрачены и вновь все полно неуверенности, муки от-
чаянных усилий и безнадежной скорби, — появляется как раз кстати зак-
лючительный том воспоминаний П. Д. Паренсова, бывшего военного ми-
нистра освобожденной Болгарии, боровшегося с австрофильством князя
Александра Баттенбергского, организатора болгарской армии, и то друга
или приятеля, то антагониста всего множества памятных лиц, действовав-
ших тогда в Болгарии и около Болгарии. Общее заглавие воспоминаний:
«Из прошлого», а этот заключительный том распадается на часть четвер-
тую: «В Болгарии» и часть пятую: «Через 30 лет». Отдельно к ним изданы
«Приложения», содержащие русский и французский тексты Сан-Стефанс-
кого договора, Берлинского трактата, конституции княжества Болгарского
(на русском и болгарском языке) и множество более частных документов-
памятников того времени, из которых многие приведены для устранения
сомнения в подлинности их, в facsimile. Страница за страницею и глава за
главою читаются эти воспоминания, и даже не специально заинтересован-
ный читатель увлекается драматичностью передаваемых событий, с мно-
жеством скрытых пружин под ними, с сложным мотком самолюбий, эгоиз-
мов, притворства, происков и редко-редко прямого и твердого служения
делу. Лучшее, что привлекает к книге читателя, — это теплота рассказа; та
русская и, пожалуй, немного старческая теплота, которая очень идет к рас-
сказу о том, что было тридцать лет назад. Ко всем таким воспоминаниям
ведь идут стихи Пушкина:
Иных уж нет, а те — далече,
Как Сади некогда сказал.
Но сквозь старческую речь везде сквозит умный и зоркий глаз наблю-
дателя. «Князь Александр был в то время безусловным красавцем: огром-
ного роста, замечательно стройный, с чудным румянцем на нежной коже,
еще очень маленькими, изящными усиками, он подкупал всех своею вне-
шностью; чрезвычайная любезность в обращении и изысканность манер
довершали хорошее впечатление; одни только глаза, маленькие, довольно
узкие, черные, не светились ни открытостью, ни добродушием. Взгляд был
тревожный, недоверчивый, ни на чем долго не останавливающийся и до-
вольно хитрый. Впоследствии все, имевшие личные сношения с князем, и
не одни только дружеские, признали, что в глазах князя светилась основная
черта его характера — скрытность». В другом месте П. Д. Паренсов харак-
теризует его «хитрым, но неумным человеком», — и, конечно, это правиль-
но в отношении человека, который выиграл столько миниатюрных побе-
док, в сумме сложивших колоссальное поражение. «Там — удача, здесь —
удача, везде — удача, но в штат — неудача!» Это судьба всех неумных
людей, как бы они ни были хитры. Князь Александр не имел ни капельки в
362
себе царственности: это был красивый мещанин, попавший на трон и на-
чавший княжение с обиды, со споров, со злобы, что ему по конституции
принадлежит титул «светлости», тогда как он уже по рождению имел титул
«высочества». Характеристика графа Кевенгюллера, рыцаря Мальтийского
ордена, получавшего от капитула его 80 000 флоринов, обязанного обетом
безбрачия и получавшего сведения от красивой левантинки, супруги одно-
го консула, бывшей с ним в связи за деньги, а с князем Александром — за
его высокое положение и красоту, характеристика английского агента Пель-
грэва, — не только интересны и важны, но, наконец, и художественны. «Я
был однажды очень удивлен, — рассказывает П. Д. Паренсов, — увидев
Пельгрэва, в его поношенном сером сюртуке, с таким же клетчатым шар-
фом, намотанным на длинной шее, принимавшим свечи у крестьянок и усер-
дно ставившим их перед образом у гробницы Стефана Краля в Софийском
соборе. На мой вопрос, что это задумалось ему заняться таким «православ-
ным» делом, он, смеясь, ответил: «Mon cher general, il faut toujours adorer le
Dieu du pays qu’on habite»*. В книге проходит очень много хитрых и гораздо
менее умных фигур: от этого Пельгрэва, который в костюме мусульманско-
го пилигрима объехал весь магометанский Восток, — так и веет умом, боль-
шим тяжеловесным английским умом, на присутствие которого никак не
хочется согласиться у Кевенгюллера, хотя у этого крошечные удачи спле-
лись в одну огромную удачу, но всю сплошь черную, злую в отношении
несчастных югославянских народностей. И, читая воспоминания ген. Па-
ренсова, с его непрерывающимися вздохами в отношении этих несчастных
стран, раздираемых алчностью и интригами соседей, хочется сказать в зак-
лючение, что настоящая мудрость заключается только в настоящей добро-
те, а все черное и злое, как бы виртуозно ни было, носит в себе залоги
безумия и смерти. Добро есть тот белый саван, который покрывает собою
черный труп всего злого, как бы оно временно ни торжествовало на земле.
Книга сопровождается множеством чудно выполненных рисунков, и меж-
ду ними редчайший, впервые появляющийся портрет императора Алексан-
дра II, снятый фотографом Левицким, с заказом принести его в Зимний дво-
рец в воскресенье, 1 марта. Но утром в воскресенье фотограф получил при-
каз принести портрет в понедельник, и, когда он исполнил его, — ему уже
пришлось снять новый портрет с Александра II в гробу. Таким образом, это
последний портрет Александра II, которого сам он уже не видел. Государь
сидит на нем усталый, грустный и серьезный. Однако лицо его положи-
тельно прекрасно на этом портрете...
* «Мой дорогой генерал, следует всегда обожать Бога той страны, где жи-
вешь» (фр.).
363
НА ЧЕМ МОЖЕТ ПОВЕРНУТЬСЯ
«РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ»?
На семье.
На детях.
На женщине в ее призвании.
На народной массе в ее прямом инстинкте — рода, племени, продолже-
ния бытия на земле.
* * *
Я продолжу свои мысли о «новом религиозном сознании». Которое есть факт
уже наставший, хотя пока еще и остающийся в тени. Пока шумят декаденты
и порнография. Но ведь это пена, которую сплеснет назавтра история со
своей поверхности. Ну, кому это нужно, кто в этом заинтересован? Это есть
явно баловство сытых и праздных бар. Отчего не «побаловаться» и не заве-
сти «новую линию в литературе»?.. Есть Кузмины, есть Арцыбашевы; но до
тех пор это течение и есть, пока есть Кузмин и Арцыбашев... Литераторы
пишут, публика покупает. «Какие новые книги есть на рынке?» Но именно
этих книг у авторов никто не спрашивал, никто их не дожидался, и умрут
они или испишутся они, — никто об этом и не вздохнет, как о явно ненуж-
ном явлении. Напротив, горькая нужда хотя бы одного человека на земле
уже составляет едкий факт истории, около которого многое может повер-
нуться. Нужда просит, нужда требует, нужда не устает, не отстает. Нужда
каждого берет за рукав и останавливает, говоря: «подумай», «пособи», хотя
«взгляни». У нужды страшные глаза: они далеко видят, глубоко смотрят.
Нужда сильнее всего.
Около нужды всегда повертывалась история.
Взглянем на самую религию, казалось бы, только «небесную» вещь. На
самом деле и она повертывалась около напора нужды, около воя нужды.
Бедные, пришибленные, бессословные, незнатные, неимущие, — мимо
их проходил красивый и беспощадный древний мир, эти великие аристокра-
тии породистости, силы, славы, могущества, влияния. У евреев тоже порода
крови, как у греков и римлян. «Мы — дети (потомство) Авраама», — звуча-
ло таким же самосознанием, как «авпатриды» в Аттике или «патриции» в
Риме. И вот худородные соединились и пошли за Тем, Кто сказал: «Прииди-
те ко Мне, и Аз успокою вы». Борьба длилась три века, и при Константине
Великом «худородные» низвергли «благородных»...
Настало царство католицизма. Теократия пап и епископов...
Низвергали императоров. И казалось, «царствию их не будет конца».
Да забыли про «нужду», которая гораздо сильнее германских Генрихов
и французских Людовиков... Нужда встала в виде маленького августинско-
го монаха Лютера.
Он привел к гибели или полугибели папство, во всяком случае, он при-
вел его к ограничению, к введению в свои рамки, опершись на факт самого
364
этого бесконечного расширения католицизма. «Нет предела мощи»... «Все
дороги ведут в Рим»... «Roma locuta et causa finita est». Рим сказал, — и дело
кончено». Эти вековые и всесветные поговорки выковались от впечатления
власти, которая не знала себе пределов, сдержки, отвергала ограничения,
казнила сопротивление. Все начали задыхаться, вся Европа... Лютер и оперся
на это самое задыхание. Он провозгласил начало личного суждения, кото-
рое, если оно опирается на слово Божие, на Библию, совершенно так же
авторитетно, как и суждение папского престола, папских канцелярий и кар-
динальских комиссий. Удушливое католическое небо лопнуло. Лютер пере-
нес «папу» в каждого человека, он сказал: «Папа есть я, насколько я согла-
сен с волей Божией»; «я» и...все! Сколько человек, столько пап. Ну, если их
столько, — нет более папы в Риме. Папа умер, папство умерло на протяже-
нии всех стран, принявших мысль Лютера. Последствия этой мысли были
необозримы...
Покойный Достоевский в знаменитых страницах «Дневника писателя»,
где он обсуждал историческое и философское значение католицизма и про-
тестантства, высказал много глубоких мыслей относительно первого, но в
то же время выразил полное непонимание сущности протестантства. И, уди-
вительно, достиг этого почти гимназическим способом. Именно — он везде
называет вместо «лютеранства» «протестантство» — и говорит, что сущ-
ность его заключается в «протесте», в «споре», в «опровержении», т. е. като-
личества. Так что исчезни первое или если бы повалилось оно, — исчезнул
бы и протестантизм, ибо против чего же ему «протестовать»? Это, можно
сказать, детское понимание, основанное на небольшой софистике со слова-
ми и именами, закрывает двумя ладонями, тощими ладонями петербургско-
го литератора, мощную, прямую, правдивую фигуру когда-то августинского
католического монаха, который стал отцом германских народов. Не будем
спорить, что протестантизм как церковное явление, как попытка церкви и
религии оказался мелок, незначащ, просто неинтересен. Это — так. Но ведь
в существе дело и шло к этому: поубавить «мощного католицизма», подре-
зать крылья этим черным орлам... На лютеранской почве не выросло ни
одного Иннокентия III, Григория VII Гильдебрандта, Григория I Великого,
не выросло Францисков, Бенедиктов, Августинов... Но ведь в этом и зак-
лючалось дело, что «не надо их более», не надо орлиного вообще в этой об-
ласти... Серенькие немецкие пасторы, обыкновенные профессора-богосло-
вы, обыкновенные даже и тогда, когда они называются Гарнаками, Баурами,
даже Шлейермахами. Все «буржуа» науки, «Иваны Иванычи», без метафи-
зики в себе, — той страшной черной метафизики, которая явно светилась в
спокойном и прекрасном лице Иннокентия III, над огненной головой беше-
ного Григория VII, этого черного ангела католицизма, которая была в раз-
вратном и гениальном Августине, в безбрежном Августине... Да. Но и не
надо всего этого. Не надо великого здесь. Поднялись птицы из другого ста-
да, совсем с другого горизонта: от Колумба до Гумбольдта, от Галилея до
Пастера поднялись лютеране и совершили всю культуру, принесли на зем-
365
лю всю культуру, среди которой мы живем и, — нельзя же оспаривать, —
которою мы наслаждаемся и нравственно ею воспитываемся. Скажут: и
Колумб, и Галилей были католики. Но тут важны не крещение, а дух, не
«восприемники при купели», а «с какого горизонта поднялись». Открытие
Америки есть лютеранский факт, потому что оно оперлось на то же, на что
оперся Лютер или, точнее, на что он указал людям опираться, — на внут-
реннее самосознание каждого человека, противопоставленное внешнему ав-
торитету. Лютер, и притом только он один, дал всю свободу европейскому
человечеству, всякую свободу всех видов, ибо сущность-то католицизма и
заключалась в недопускании самого зарождения какой бы то ни было сво-
боды и где-либо. «Roma locuta et causa finita», — думал Рим, а земле остава-
лось было только повиновение. Колумб, который сказал против всех акаде-
мий, университетов, монастырей, богословов, «доказательств от св. писа-
ния», что, однако, он лично верит, именно лично и сам, что можно объехать
кругом землю, был, конечно, лютеранином... Федор Михайлович Достоев-
ский, с вечным протестом в душе, с борьбою в душе, этою своею частью
духа, был лютеранином же и обязан Лютеру, которого он неблагодарно за-
был. Тут важен принцип, которого никто ранее Лютера не провозглашал:
«Моя совесть говорит», «Моя душа жаждет и требует»... Это совсем ново,
ново с этим укором, с этим огнем, с этой бесконечностью, уравнявшейся с
бесконечностью папского авторитета, который с тех пор и сделался вместо
сущего былым. Небо треснуло над Европою, расслоилась «правда», и стало
две правды — католическая, прежняя, и лютеранская, новая. И в новом мире
все свободно движущее, все прогрессивное, все творческое, эти мириады
«я» или, вернее, эти «папы — я», полезшие на небо, к полюсам, под землю,
на горы, эти мириады открытий, изобретений, новых наук, — все, все это
есть лютеранское, все должно «служить панихиду по праведном Мартыне
из Нюренберга», давшем эту возможность, создавшем эти условия, вдох-
нувшем это вдохновение. Все парламенты Европы, не исключая нашей Го-
сударственной Думы, должны бы повесить портрет Лютера в своих залах, с
мыслью: «Вот кто наш родоначальник и духовный родитель». И не важно,
что парламент начался задолго до Лютера (в Англии), как не противоречит
этому и то, что в античном мире каждый городок дышал республиканскою
свободою: это была совсем другая свобода, чем какою дышит и питается
вся современная Европа или, точнее, вся современная культура, — не эта
типичная Лютерова свобода. Там были свободные условия общества; об-
щество было свободно, но душа в обществе не была свободна. Аристида
изгоняли из Афин Бог знает за что: за то, что он был справедлив. И он покор-
но шел в изгнание. «Народ хочет, — иду в изгнание». Лютер бы не пошел:
сущность Лютера и лютеранства и заключается в лозунге: «я — папа», «Ари-
стид — папа», «всякий сапожник — папа», «всякий английский гражданин
— папа»... Ударение на слове «папа»; дело — в абсолютности. Чьей? Все-
общей. Каждого. Этого до Лютера никто не возглашал. Лютер провозгласил
не ссору, как нелепо и злоумышленно указывал Достоевский, — он провоз-
366
гласил и всю жизнь упорно провозглашал мир, но мир при условии беско-
нечного уважения к личности каждого, в гармонии лиц, абсолютно уравнен-
ных не во внешнем положении, не в богатстве, не в почете, не в силах, не в
талантах, а вот в праве нравственного личного существования, хотя бы скром-
ного, пусть маленького, пусть даже убогого. Лютер вдруг распустил огром-
ные крылья, на всю землю, и, как наседка цыплят, защитил всех этих и убо-
гих, и великих в правах личного нравственного существования. Это совсем
другая свобода, чем какую знал древний мир; ее не было ни в Афинах, ни в
Риме, не было в Париже, Лондоне и Москве. И свобода эта, — особенная,
Лютерова свобода, — она придет и в Китай, она обняла японцев, и ей конца
так же не будет, как не настало окончательного «конца» и папству. И нельзя
не заметить, что весь католицизм не несет в себе подобной ценности содер-
жания, — такого прекрасного, тихого и вечного содержания...
И при всем том Лютер был умственно весьма обыкновенен... Как «я»
да «он». В этом тоже сущность дела. Центр Лютера в нравственной силе,
такой огромности и упоре, каких, пожалуй, действительно не было еще ни у
кого на земле. Он совершенно противоположен именно безбрежному и ге-
ниальному Августину, который был настоящим духовным, идейным отцом
всего католицизма. Но от «отцов» наших мы получаем и гений, и болезни...
Мать оплакивала пороки Августина в молодости, и сам он рассказывает в
«Исповеди» своей, что в растленном Риме он был самым растленным бога-
чом, растленным и растлевателем... Ну, потом «покаялся» и в другую поло-
вину своей жизни написал «De civitate Dei», «О граде Божием», в котором
заложил фундамент всемирной концепции католицизма. Но католицизм при-
нял и гений его, и ту невольную растленность духа, ну, хотя бы вот эту рас-
тленность упоения своим гением, своим умственным превосходством над
всеми, которая пропитала знаменитую книгу и была только другою формою
той безудержной страсти, которая сказалась в пороках молодости. И весь
католицизм, то под главенством Иннокентиев, то под главенством Борджи-
ев, дышал и дышит этой двойной натурой Августина, то опаляя мир, то
развращая мир и всегда угнетая, подавляя мир. Лютер около Августина —
такой мещанин. Сер, сер... Ни одной гениальной мысли, ни одного вековеч-
ного слова, повторяя которое человечество туманилось бы в слезах востор-
га. Сер, но честен, — маленькое качество, которого недоставало великому
Августину. Лютер основал царство честных возможностей, честной про-
зы, честного труда, честного заработка. Все стали жить без фантазий, без
«крестовых походов», но зато... и не обсчитывая рабочих, не воруя у хозяи-
на. То, что в Берлине горничные не крадут себе «на булавки» от барынь, а
кухарки не «обсчитывают» на провизии господ, тогда как в Париже делают
то и другое, — это есть такие же лютеранские факты, как и открытие Аме-
рики.
А «протестовали» против папства и Савонарола, и Гусе. «Протестова-
ли», а «протестантства» не оставили. Вот о чем забыл Достоевский. И Саво-
нарола, и Гусе были благородные личности; но «благородных личностей»
367
было довольно много и до них. И личности умерли, а дела не осталось ника-
кого, потому что самый «протест» их был личным негодованием на злоупо-
требление, которое погашалось самым прекращением злоупотреблений.
«Дело» их не осталось и не развилось, потому что не содержало в себе но-
вой идеи, новой мысли, нового зерна для новой жизни. Вот к Гуссу и Саво-
нароле может быть отнесено все то, что писал Достоевский о «протестант-
стве», то есть что «оно существует, пока есть католицизм». Дело в том, что
новый принцип Лютера останется вечно жить даже в том случае, если бы
вовсе умер католицизм; католицизм дал ему толчок, «привел на ум» этот
принцип, но он существует независимо от каких бы то ни было католичес-
ких идей. И даже, если как церковь умрет протестантизм, «Лютеров дух»
все-таки останется вечным зерном европейской цивилизации. «Личная сво-
бода», «моя личная свобода» идет, пошла от Лютера. Это — не полное зер-
но, не все зерно, но это — вечное зерно.
Ну, вот семейного вопроса все-таки не задел Лютер; правда, он снял
клобук и женился на монахине. Но это в нем были эмпирические факты.
Может быть, он пил пиво, но это не значаще для протестантизма. Он сла-
гал песни, — это наверно, — но этим не положил никакого начала певческо-
му искусству. В жизни всякого великого человека нужно различать факты
упорные, главные, во что человек «уперся лбом» и все поворотил около сво-
его лба. Таков в Лютере был протест глубокого внутреннего самосознания
против внешнего или общего авторитета. «Моя совесть говорит»... И около
этих упорных, главных фактов есть множество побочных, тоже, может
быть, ценных в смысле зерна для дальнейшего развития, но которых сам
великий человек не заметил, не оценил, и в нем они остались просто эмпи-
рическими фактами, без значения и последствий. Личным своим примером
он поколебал католический целибат, и у лютеран нет монашества, но это
именно тот голый, беспринципиальный протест, которому предавались и
Савонарола, и Гусе и который не имел последствия. Развиваться может толь-
ко мысль, а факт не может развиваться. Ну, было монашество; ну, нет мо-
нашества. Мы все-таки же не знаем, в монашестве или семье правда. А в
«правде» все и дело. «Правда» — это уже не эмпирическое, это вечное. «Прав-
да» существует и останется тех пор, пока кто-нибудь, сильный и страш-
ный в отношении к этой «правде», вдруг покажет, что она есть ложь. Тогда
рушатся целые миры, именно основанные на этой былой «правде», как це-
лый мир когда-то возник, когда она была объявлена «правдою». Перемена
«правды» есть перемена цивилизации; ничего нет этого грознее, страшнее,
обещающее, заманчивее...
Одновременно с тем, что учебники излагают под рубрикою «Торже-
ство христианства», хотя остается неясным, в связи ли с ним (от этого мно-
го зависит, все зависит), произошло и «Торжество монашества». Учебники
почему-то стесняются переименовать рубрику, не пишут: «Торжество мо-
нашества». Ну, что бы Иловайскому, или Шлоссеру и Веберу, или кому-
нибудь из русских, самых просвещенных и свободных излагателей всемир-
368
ной истории, начиная новый отдел ее, новый том ее, совершенно новую
часть и курс, написать на заголовке его большими буквами, ясно и истол-
кователъно: «Падение древнего мира и торжество монашества». Все от-
прянут от моей мысли в сторону испуганно, даже самые либеральные люди.
«Как, разве в этом только дело?» — смутятся они не по одной наружности,
но и в душе. Но, подумав всего одну минуту, скажут, не громко, а про себя:
«Да, конечно, в этом дело». Скажут, сознаются. Но во втором издании той
же всемирной истории все-таки напишут, все-таки оставят это старое: «Тор-
жество христианства» — и ни за что не напишут: «Торжество монашества».
Только последнюю главку, или так где-нибудь в стороне, гораздо менее
заметно, чем «Вторжение Алариха в Италию», они поместят и главку:
«Св. Пахомий и св. Антоний Великий и начало монастырей»... Так это неза-
метно, что и читателю не бросится в глаза, и ученик гимназии выучит и
позабудет. За незнание «Вторжения Алариха в Италию» он получит опре-
деленную единицу, а за незнание «Св. Пахомий и св. Антоний Великий и
начало монастырей» получит от учителя истории только нравственное за-
мечание. Учитель истории подумает: «Это он доучит на уроках закона Бо-
жия». Вот почему-то об Аларихе не упоминается на другом предмете, на-
пример: «Теории стратегии», и вообще Аларих умер, и никакой «страте-
гии» не осталось; а св. Пахомий... Но о нем доучивают на «уроках закона
Божия». Это что-то специальное, куда другим учителям зачем же входить?
Зачем входить Шлоссеру, Веберу, Иловайскому? Они — светские люди, и
«до клобуков нам нет дела».
Но как же душа и дело? Как же ученик и читатель, до разделения на
специальности? Как «истина», как «правда»? Большая разница, написано
ли на том «Торжество христианства» или «Торжество монашества»: ведь
все понимание всемирной истории было бы другое, напишись один заголо-
вок вместо другого. Совершенно все другое миросозерцание. Между тем,
второй заголовок, — как он был бы конкретен, ярок, не допускал ни пере-
толкований, ни подстановок! Такая ясная правда, которую все знают, осяза-
тельно знают, а вот произнести вслух никто не хочет и даже едва ли позво-
лит себе или другим. И только на «специальном предмете» ее произносят и
ее сперва доказывают, а затем уже и наказывают за малейшее колебание
или сомнение о ней или за «недоучивание» всех подробностей этой правды.
А «специальный предмет» этот все-таки поставлен первым и главным, страш-
ным и обязательным, хотя (под сурдинку) не очень строго спрашиваемым на
уроках и экзаменах. «Делайте вид, что это главное, но на самом деле это не
главное, и даже вовсе ничего, так себе». Таково положение «закона Божия»
в системе гимназического и всего высшего образования и обучения. В этом
каком-то двойном и задрапированном отношении министерства, т. е. уже
государства, к делу, в сущности, мы наблюдаем то же, что наблюдаем в
нежелании историков писать одну и настоящую рубрику вместо другой, зад-
рапировывающей... И государство, и всемирные историки — оба тащат ка-
кую-то драпировку на дело, что-то хотят закрыть, что-то стараются скрыть
369
даже от себя, будто какое-то свое горе ли, стыд ли, умаление, разрушение
какого-то идеала, что ли, — трудно сказать. Но усилия скрыть или не разго-
варивать ясны...
И знаете, это простирается даже до мелочей. Пришел сановник государ-
ства на киевский миссионерский съезд, который на самом деле был съез-
дом не только миссионеров... Пришел и сказал от имени государства, со-
славшись на Государев указ, нечто мягкое и примирительное. Скажем: ска-
зал одну «правду». Но всем памятно, как ему ответили в спину другую «прав-
ду», свою... «Мы не хотим драпировок»... Вот смысл ответа.
Г-ну Извольскому, от которого мы, впрочем, не Можем ожидать Лютера,
стоило бы, услышав эти слова в спину себе, вернуться на съезд и кротко
спросить:
— Неужели же, неужели поверить этому горю, что Спаситель пришел
на землю основать только монашество, ибо я вижу только монахов и мона-
шествующих, монашеского духа и убежденности людей, а это именуется
церковью и церковным представительством, если будете сейчас говорить
голосом церкви, от имени церкви!
И больше ничего.
Вебер, Шлоссер и Иловайский скрывают эту конкретную истину, что не
было никакого «падения язычества» и «торжества христианства», а была
смена культов семейных, культуры семейно-общественной, цивилизации, по-
строенной на факте кровной, родовой, племенной сцепленности единым куль-
том общины-монастыря уединенных разрозненных людей, с запретом себе
множиться, продолжаться на земле, иметь или чувствовать около себя бра-
тьев, сестер, детей, родителей, зятьев, невесток. С запрещением всего узла
крови. Узел этот рассек меч, и меч этот рассекающий был положен святы-
нею в углу цивилизацией, и народы потянулись добывать этот меч...
— Он нас рассек.
— Лобзаем его!
Страдальчество, — Боже, да кому же не понятно, что оно положено во гла-
ву всего, оно прошло нервом по всему, все оживляет в церкви, всех подыма-
ет, всех зовет, все творит новое собою, как и все сотворило в ней старое. Это
есть пафос и идеализм ее... Где нет страдальчества, — вяла церковь, спит,
бездеятельна, безжизненна. Форма церкви есть, а духа церкви нет. Но вот
началось страдальчество, — как, отчего, почему, зачем, — все равно. И цер-
ковь, та древняя церковь, вот что «восторжествовала при Константине Ве-
ликом», вдруг опять поднялась до неба, взвилась как пламя, ни капли не
утратив, не ослабев, не потеряв сияния... Церковь — феномен, а не недвиж-
ное. Может быть, что вдруг «нет церкви», но началась мука, — и «церковь
праведников» — вот она!
Так в муке, значит, все дело? В страдальчестве*!
370
Ответим уклончиво: в трагическом начале мира...
Нужно же, нужно обратить внимание на то, что в то время, как реши-
тельно все волнуются инквизицией, длившеюся века, католичество просто
даже не почувствовало и не чувствует ее, не чувствует до сих пор и не
чувствовало никогда... «Не больно!» — «Как не больно? Неужели!!» —
«Не больно. Страдаю сам\ В муке\» Нужно читать, а лучше бы еще видеть
самоистязания католических «святых», эту их постоянную меланхолию,
грусть, страх, подавленность, чтобы разобраться наконец в страшном и все-
мирном явлении инквизиции. Жили не толстые и счастливые, а тощие и
несчастные... Г. Дорошевич, странствуя где-то в Сицилии, описал некото-
рые из католических монастырей и привел старые легенды, связанные с
этими монастырями. И было жутко читать, отвратительно, но и страшно.
Со стороны — несносно и отвратительно; но ведь всякое дело постигается
не «со стороны», а постигается, если «разделить пафос», принять веру по-
стигаемого в душу свою... И вот при таком постижении внутренней сторо-
ны легенд становилось очень страшно. Звали постоянно к страданию. Вид
человеческого счастливого лица был прямо несносен этим «святым», соб-
ственная душа которых была в судороге. Послушайте: вид холерного стра-
шен. Но для кого? Для смотрящего со стороны. Но если два холерных кор-
чатся в муках на двух рядом поставленных кроватях, то ни которому из
них нисколько не жалко другого. Вот и все объяснение инквизиции, полное,
дальше которого никогда не объяснить истории, да и не надо объяснять, —
все понятно. Чужую муку я могу воспринять только свободною душою: об-
разованные классы, теперь так сочувствующие сожженным, оттого и со-
чувствуют, что они освободились от этой ужасной психологии средних ве-
ков, удрученности, тоски, отчаяния, оттого, что они относительно счастли-
вы или, по крайней мере, спокойны. Но... холерный не чувствует холерно-
го, и не только инквизиторы, т. е. «святые» церкви, Торквемада и
францисканцы, но и вся она до сих пор просто никак не чувствует сожжен-
ных и нисколько им не сочувствует, о них не жалеет, их мукою не испугана,
что преемственно в семинариях и академиях католических через затвор от
мира и всего «текущего», через «возвращение к Фоме Аквинскому», кото-
рое указал всему католическому миру Лев XIII, они живут и воспитывают-
ся в этой же средневековой атмосфере ужаса, трепета, безнадежности и,
словом, «собственной холеры». Сравнение грубо, но оно указывает самую
суть дела. Я расспрашивал о воспитании в католической академии здесь, в
Петербурге, расспрашивал католического священника, бывшего. Несчаст-
ный, полубольной, но страшно правдивый и искренний, — теперь он же-
нат, без любви и увлечения, «из благодарности», на русской не очень моло-
дой простолюдинке-женщине, в годы болезни и приблизительно сумасше-
ствия вырвавшей его уходом от смерти и сумасшедшего дома. Трагедия,
ибо он «ей благодарен» и, однако, не любит ее, и женщина, очевидно, муча-
ется этим, что никак в спасенном не может пробудить любви. Тут fatum...
Ксендзы его уговаривают «бросить эту гадкую женщину» и, приняв покая-
371
ние и, конечно, наказание, вернуться на службу «единоспасительной». Но
когда они называют ее «гадкою женщиною», — а он-то видел, видел (ведь
это осязательно, ведь тут уже вложены «персты Фомы») ее бесполезное
самоотвержение, ее тихий нрав, ее кротость, безмолвие, труд для больного,
для полутрупа, — то у него поднимается такое чисто человеческое негодо-
вание на этот суд о себе церкви, на эти призывы церкви, на эти идеалы ее и
правила, что он... рассказывал и рассказывал мне «подноготную». И я мно-
го раз на Васильевском острове, по 1 -й линии, проезжал мимо этой «рим-
ско-католической духовной академии»... Так, серенькое здание, совершен-
но рациональное. Из кирпича и с вывеской. Ученикам академии в Великий
пост, когда лекции прекращены, запрещается также на определенный срок
что-нибудь читать. Дается тема: смерть человека. Об этой теме, не по кни-
гам, а через собственное размышление, через воспоминание о случаях из-
вестной смерти, и проч., и проч., они должны к известному сроку сказать
ответ, сказать, что нашли. Как поняли? Как постигают это явление. «Как
постигают?» Но ведь этого же никто не постиг. Но академии этого и надо:
мысль юноши раздавлена, подавлена огромностью вопроса. А между тем,
через уединенное размышление, через изоляцию от людей и книг он уже
прикован к теме, как зверек к глазам очковой змеи. Такие ли, как он, юно-
ша, гиганты, как Тургенев и Толстой («Смерть Ивана Ильича»), парализо-
вались при взгляде на чудище, «которое нас всех пожрет». И вот ко дню
ответа молодые юноши ничего не могут сказать опытному руководителю,
кроме жалких, бессмысленных слов. Этого и надо: «Как бессилен разум
человеческий в отношении самого главного, что ждет его, самого повсе-
дневного, что нас окружает!» «Где же ваша самонадеянность, юноши?»
Юноши раздавлены, а разум их унижен. «Этого и надо!!» Опытный настав-
ник говорит: «Поройтесь в книгах, поищите в науках. Вот ключ от библио-
теки, — она обширна». Главное — все свободно и самостоятельно', учени-
ки роются, где хотят, думают, как хотят, и отвечают учителю тоже, как хо-
тят. Все как «сами», узды — никакой. Учителю принадлежит только воп-
рос. Это гораздо умнее и тоньше, чем в наших академиях, но мы должны
отнестись тоже «трагически», а не как-нибудь к этой католической дисцип-
лине и постигнуть, что в наших академиях оттого не задается тема о «смер-
ти», что там никто «смертью» не интересуется, интересуются жалованьем
и квартирою, будущим приходом и будущими доходами; в католицизме же,
в самой сути этой церкви, прошел когда-то и, может быть, проходит до сих
пор чрезвычайный ужас смерти, метафизический, вот тот, каким тревожил-
ся когда-то Толстой и отстал, а католичество не тревожилось и не отста-
ло. Этот свой страх, переживание «святых» своих церковь и перебрасывает
в души новичкам. Итак, книги доступны, и новички роются. Ну, списыва-
ют; ну, компилируют. Но что и у кого взять? Физика молчит о смерти, мета-
физика сплетает вздор. Ведь никто и ничего не знает, воистину никто! И
вот приходит опять день испытания, а пост тянется, идут очередные служ-
бы в церкви, приходит неделя и дни о страданиях Господних! У католиков
372
все это так выразительно. В день испытания новички опять говорят бес-
сильные слова о смерти, тщетно пытавшись найти что-нибудь у мудрецов
от Бэкона до Спенсера, у поэтов от Гомера и Виргилия до наших дней. Или
методисты и картины, за которыми нет доказательств, или добросовестное
«не знаем». И опять это страшно важно: мир наук, уже исторически двигав-
шаяся человеческая мысль, этот кумир цивилизации, этот «божок» мира,
лежит разбившимся в куски у ног толпы юношей. Смерть, как финал ве-
щей, как «точка» вещей, прежде всего, непостижима. «Зачем, кому нужно,
для чего?» «Зачем было творить мир со смертью?» Тут и кощунство, ад
отрицаний, полное отчаяние. «Отрицайте полно и самостоятельно, — вам
все позволено». Но после всякого отрицания отрицающий сам помрет, и
опять, значит, чудище стоит поверх веры и неверия! «Поверх веры?» Но
отрицающие еще последней не знают, а поверх неверия оно, во всяком слу-
чае, стоит, ибо влезть в зев его с охапкою Дарвинов и Молешоттов — это
совершенно так же ужасно, как влезть в этот зев и без них. Они, во всяком
случае, в смерти ничем не помогают.
— Не поможет ли вера? — спрашивает опытный наставник.
Вера? Но ведь они ее не имеют. Их сердце только опустошено науками
и смущено в неведении. Но эта пустота и страх — хорошее поле для посад-
ки. Вырваны «тернии», вот эти науки и собственная гордость ума. Все рас-
топтано, унижено; разбиты самая душа и силы новичков. Смерть есть чу-
довище для физики и метафизики, но она есть наказание для верующего.
«Смертию умрешь», — сказано Адаму после того, как он согрешил. «На-
казание» — это уже постижимое, это — в пределах ума, в рамках мысли.
Неужели смерть — наказание? Если да, — боль ее остается, но бессмыс-
лицы в ней уже нет. Однако, боль?.. Боль, пожалуй, даже увеличилась, ибо
наказывающий так ужасно, наказывающий смертью — это уже не настав-
ник с лозою, не возможный отец-игумен, который хлещет испытуемых все-
го только плетью (легенды у г. Дорошевича, патер Белякевич в Белостоке
несколько лет тому назад), — это совсем, совсем другое! Все собственные
самоистязания так легки перед этим, как укус блохи ночью перед болезнью
рака, раздирающей человеческие ткани. То, что мы все, весь род человечес-
кий, находимся во власти Того, Кто наказует смертью, — эта великая реаль-
ность наполняет душу таким смирением, такой покорностью, такой готов-
ностью слушаться, повиноваться, исполнять, бежать куда угодно и делать
все, что повелят, что повелит этот великий Господин, — каких неопытный
новичок никогда дотоле не испытывал. Теперь он готов, почти готов: он
поставлен между величайшим страхом, какого не выносит душа человечес-
кая, в состоянии которого она умирает, вот как страхи Раскольникова у До-
стоевского, и между каким-то мерцанием надежды и избавления, какой-то
возможности вырваться из сети этих ужасов и перейти... в восторги, в сча-
стье, в сияние, о которых ничто земное не может дать сравнения! Ведь все-
таки только католик Дант написал «Ад», «Чистилище» и «Рай». Этого не
написали православные, ни Симеон Полоцкий, ни Авраамий Палицын, —
373
никто. Написал в Италии, написал флорентинец, потому что по Италии
прополз когда-то этот страх как бы легиона Достоевских, но только страх
не в романах и литературно, а по-настоящему. Нам все это совершенно
непостижимо. Мы думаем и всегда думали о квартирках, о столовом посо-
бии, «а остальное приложится». Ну, там «вера» приложится... Отчего же и
не «вера»? При «пропитании» можно и «верить» или, пожалуй, не верить,
и когда положено «верить», то отчего же и не верить? Может быть, какие-
нибудь пустынники и покрепче верили, но ведь никто же, однако, никто
именно «Ада» Данте не написал:
Nel mezzo del cammin di nostra vita
Mi ritrovai per una selva oscura
Che la diritta via era smarrita.
«На середине пути человеческой жизни я очутился в мрачном лесу. Пря-
мая дорога была потеряна»...
И дальше, дальше, однообразными терцинами одна «песнь», другая
«песнь», еще и еще «песнь», тридцать четыре песни! Тридцать четыре!! И
вот том — «Ад», и еще другой том — «Чистилище», и третий такой же —
«Рай», с силою, как в «Мцыри» Лермонтова...
Да, много выносил человек меланхолии, чтобы написать это. «Душа этого
Алигиери, — говорила флорентийская улица, — побывала в аду. Она вся
закоптелая». Говорили, когда никто не знал, что он писал именно «Ад». Зна-
чит, и на лице выдавилось то, что человек носил в душе. Как же он это но-
сил!
Как мать младенца в утробе своей, но ведь это «Ад», он жжет. Какова же
утроба, каково утробе?
Ну, и что этим людям было, что горит какой-то вольнодумец на костре?
Они сами горели.
43 ГОДА «КОРРЕКТНОСТИ»...
Маститый редактор «Вестника Европы» на последней странице октябрь-
ской книжки напечатал уведомление, что по причине преклонного возраста,
препятствующего ведению журнала, он прекращает с выходом последнего
тома (ноябрь — декабрь) издание его, не передавая в то же время его ни в
чьи руки. По всему вероятию, журнал закроется. Нельзя не уловить в этом
некоторого вкуса. М. М. Стасюлевич наложил на журнал такую печать сво-
ей личности, в ее положительных и отрицательных качествах, что было бы
положительно каким-то литературным и историческим безвкусием, если бы
с переходом в другие руки естественно начали печататься под тою же краси-
вою красною обложкой или «левые» ухарские статьи, или что-нибудь «пра-
вое». Это было бы невыносимо для всякого, кто привык к спокойной, мер-
374
ной, застывшей, неизменной речи журнала, его публицистики, обозрений,
хроник, повестей, романов, которые все, неизменно все, были острижены и
выбриты, как М. М. Стасюлевич, душились его духами, надевали его гал-
стук и не видели других видений и слов, чем какие позволял себе видеть
маститый редактор, который, по его словам, 43 года назад начал его издание,
имея сам уже более 40 лет!
Трогательно, что в последней книжке он напечатал собственноручные
заметки своего царственного питомца — цесаревича наследника Николая
Александровича. Столько лет сберегая их и напечатав в тот момент, когда
сам кладет редакторское перо, он выказал этим свою память, свою привя-
занность, позволим выразиться, — свое «верноподданничество» к этому
редких дарований царственному юноше. Там же есть слова его о другом
наставнике цесаревича, давно покойном Ф. И. Буслаеве. От всего этого веет
тем теплом и деликатностью, которые равно радуют и равно прекрасны в
старце-муже и юноше.
Не без причины я вставил слово «верноподданничество». Не навязывая
своей мысли, я подозреваю, что, как огонь в камине под налетом седого пеп-
ла угольев, оно тлело в сердце старого журналиста и только никогда не выс-
казывалось. Ибо в общем журнале за все 43 года существования имел ту
позу оппозиции, с какою обычно не совмещается это слово. Все 43 года жур-
нал тихо ворчал на «наши порядки», и вообще скажем сейчас же, что он нам
не нравился этим постоянным тоном высокомерия над Россиею, который
вообще не идет ни к «верноподданному», ни к обывателю, ни даже к насто-
ящему гражданину, как хочется представить его фигуру, и который всегда
нам казался оскорбительным для России. Я тороплюсь высказать это лич-
ное впечатление читателя — гимназиста — студента — взрослого, какое
неизменно чувствовал от журнала. «Он умен, учен, — очень! Но он не лю-
бит нашей России, он презирает ее», — это ложилось, от 15 почти до 50 лет,
как впечатление от журнала; и разве-разве стало пропадать в последние годы
большей зрелости ума, когда мне казалось или чувствовалось, что издаю-
щий его человек, хотя и в тайне, без шума и слов, любит Россию, привязан к
ней. Да и в самом деле, возможно ли 43 года вести издание в России, без
привязанности к той стране, в которой и для которой ведешь его? Вот отчего
напечатание наставнических мемуаров, и именно теперь, в моих глазах по-
лучило несколько особый смысл, связанный почти с сорокалетними воспо-
минаниями читателя.
Если устранить этот тон брюзгливого ворчанья, который впечатлитель-
ного оскорблял, равнодушному подсказывал пренебрежение к отечеству,
наглого и глупого развращал, — и вообще был не очень педагогичен и воспи-
тателен, — то за этим вычетом останется огромная выслуга журнала в двух
направлениях: 1) он дал необозримый материал глубоко упорядоченного
чтения, спокойного, неволнующего, чистого, добропорядочного, ученого или
очень просвещенного; и 2) он судил о всех общественных и политических
делах и вопросах за 43 года без страсти и волнения, именно только с «ворча-
375
ньем», — осуждая всегда не без основания и хваля только истинно доблест-
ное с общечеловеческой, общеевропейской и даже с местной, русской точки
зрения. Не только не было, но и нельзя представить себе чего-нибудь свое-
корыстного, личного или «фракционного», как теперь принято говорить, что
проводилось бы и навевалось, что защищалось бы на страницах «Вестника
Европы». Журнал этот был редкого умственного бескорыстия. Тень мантии
Карамзина, тоже, как известно, издававшего года три «Вестник Европы», —
лежала на нем. В строгом смысле М. М. Стасюлевич если и принадлежал,
конечно, к партии, и именно к партии либеральной и прогрессивной, то он
не принадлежал именно к «фракциям», кружкам, — ни литературным, ни
общественным, и стоял поистине выше их, как педагог и профессор, как
просто образованный человек и европеец. Это его большая заслуга, что он
не замешался в толпу и страсти; хотя, без сомнения, его манили туда. Он
прошел мимо битв, не участвуя в них. Только как историк он описывал их и
иногда пел элегии о погибших. Но ни бранных лат он не носил, ни острого
меча.
Нужно подозревать, и отчасти это известно, что «левая» печать ненави-
дела этот журнал за его сдержанность. Можно подозревать и то, что ее ос-
корбляла его образованность, этот общеевропейский характер, без «тузем-
ных» оттенков, царивших и в «Отечественных Записках», и в «Русском Бо-
гатстве», и в «Деле», современных ему корифеях радикализма.
Ни по редактированию, ни по тону «ведущих» статей, ни по составу
сотрудников, журнал никогда не был ярко талантлив; в нем никогда не было
приближения к гениальности; замечательно, что кроме одного Тургенева, и
то лишь после разрыва с Катковым, и кроме Салтыкова, после закрытия
«Отечественных Записок», — в нем не участвовали корифеи русской лите-
ратуры. Нельзя быть великим писателем, не любя великой любовью род-
ной земли, — хотя бы и сквозь слезы и негодование. И писатели, как Тол-
стой и Достоевский, очевидно, отталкивались от «Вестника Европы» этим
тоном брюзжания над отечеством, какой был постоянен в нем. Так можно
подозревать. Журнал был собственно поприщем писательства для множе-
ства русских писателей второго сорта; очень талантливых, блестящих, но
без чуточки гения. Он был «корректен», — употребим это новое слово, —
корректен в слоге, мысли, направлении; и — в талантах. Гений всегда есть
немножечко «дебош»; гений — скандал и беспорядок. Можно ли предста-
вить рассуждение старца Зосимы из «Братьев Карамазовых» на страницах
«Вестника Европы»? Аккуратная бумага журнала истлела бы и провали-
лась под этими строками, и в отчаянии и Галерный остров, и линия Василь-
евского острова, где он печатается, кажется, убежали бы от старца в Крон-
штадт и за границу, от старца и разглагольствий его о «мистическом адском
огне».
А. Ф. Кони, — человек приятный во всех отношениях, П. Д. Боборыкин
и покойный А. Н. Пыпин, — вот люди настоящего роста для хорошего, боль-
шого, светлого дома этого журнала, который не похож ни на дворец, ни на
376
хижину. В нем нет роскоши и нет убогости. Нет старого великого мастер-
ства и нет вони, бурсы, клоповника и т. п. признаков отечества. М. М. Ста-
сюлевич никогда не претендовал быть гениальным, но он был в высшей сте-
пени порядочный ум, порядочный характер, порядочное поведение, — в
высоком гражданском и культурном смысле этого слова. Никто так мало,
как он, не имеет причин бояться загробного суда и наказания. В черном длин-
ном сюртуке, белом галстуке, чисто выбритый и вымытый, он предстанет
пред Господом Богом и скажет:
— Господи, за что же Ты будешь судить меня, когда я ничего не делал
всю жизнь, кроме того, что должно, ни на миллиметр выше, ни на милли-
метр ниже, ни на миллиметр вправо, ни на миллиметр влево?
И, взглянув, как скромно стоит М. М. Стасюлевич, не выставляясь ни
перед кем вперед, но и никому не позволяя наступать себе на ногу, даже в
обстоятельствах рая и ада, Господь изречет:
— В самом деле, его совершенно не за что судить: и хотя в точном
смысле он не заслужил небесного рая, однако же и в ад его послать было бы
совершенно безбожно. А потому по русскому добродушию (ибо Бог не мо-
жет не иметь русского добродушия) его все-таки надо препроводить в рай,
где посадить его за отдельный небольшой стол, покрытый белою чистою
скатертью, без райских яблоков, но со свежими и здоровыми фруктами сред-
него европейского климата, всего лучше из берлинской лавки.
ОДНО ВОСПОМИНАНИЕ о л. н. толстом
.. .Толстой был полуболен, когда я разговаривал с ним о тех и других вопро-
сах религиозной и семейной жизни, и среди рассуждений своих он ссылался
на те и иные воззрения народной жизни, объясняя и подкрепляя первые вто-
рыми. Любовь к идеальному как стремление своей души у него перемешива-
лась с оценкою русского народа; и заметно было, что русский-то простой
народ не одно крестьянство, хотя оно главным образом — и есть тот вели-
кий мудрец, у которого он учится и учился гораздо более, нежели у всех
Шопенгауэров и Будд, на которых он часто ссылается в печатных произве-
дениях. И, следя за мотивом оценки, можно было видеть, что он ценит чело-
века в труде его и простоте его. Можно сказать, что то, что для всех людей,
для поэтов и рассказчиков, для историков и политиков, для толпы и площа-
ди есть проза, для него есть поэзия. Он опоэтизировал прозу и прозаичес-
кое; а поэтическое, картинное, героическое, точно переработав на реактивах
души своей, разложил в прозу, плоскость, выдуманность, мишурность. Так,
помню следующие два рассказа.
«Подымаюсь я на пригорок около (такого-то) монастыря. Смотрю, идет
тамошний монастырский старец, ветхий и больной; и до того он устал пос-
ле собеседования с посетителями, что чуть не падает. И мантия на нем чуть
377
держится. Вдруг от толпы отделились три мужика, — верно, только что при-
были и не видели еще старца. Подбегают и что-то спрашивают, — верно,
совета или указания. Старец остановился.
— Да сколько вас?
— Да трое.
— Ну, вот так и молитесь: «Трое Вас (три лица Бога), трое нас: помилуй
нас». И побежал дальше.
Так меня это поразило. Старец не хотел сказать поучения, догмата, за-
вета. Но он устал, и сил переговорить было только на эти шесть слов. Мужи-
ки отошли. А я этот виденный случай и передал в рассказе «Три старца».
Случай поразил его тем, что все дело сводит к maximum’y простоты и
ясности. И вполне реально по мотивированности.
Заговорили о «Крейцеровой сонате». Я отнесся недоверчиво к ее «пос-
лесловию»:
— Для чего же прекращаться человеческому роду, когда размножение
есть коренной факт природы, явно благодатный, явно благословенный?
Он ответил:
— Конечно, в виду этого я и не имел. Но человек неудержим, и, когда
хочешь довести его до нормы, надо советовать, кричать, требовать сверх
нормы. Прекращения размножения, конечно, никогда не последует, и я не
так наивен, чтобы, советуя это, имел в виду действительно это. Но, стремясь
к недостижимой цели, человек слабосилием своим как раз упадет на норму,
совпадет с нормою или где-то близко около нее. Это-то и надо.
Он остановился, задумался и продолжал очень одушевленно и повысив
голос:
— Мне случилось узнать поразительный факт. Один молодой священ-
ник, служа обедню, всякий раз, когда по ходу ее должен был войти в алтарь,
испытывал приступ половой страсти. Что он ни делал, сколько ни молился,
плакал, — ничего не мог поделать: повторялось то же, как только он входил
в алтарь, а как выходил, — пропадало. И так он все время служил, почитая
себя грешным и окаянным, недостойным нести свой сан. И эта борьба его,
несчастие и самоосуждение представляются мне величайшим нравственным
подвигом, какой я знал. Быть нравственным недостижимо для человека, но
осуждать себя и усиливаться быть лучше доступно всякому, и вот только
таких людей я и считаю настоящими, хорошими, добрыми, нравственными.
Этого одного я хотел, и к этому направлялись мои сочинения.
Он высказал это проще, короче. Но я распространил его слова, чтобы не
упустить ни одного оттенка в его мысли, в то же время ничего к мысли и не
прибавив.
В другом месте разговора он выразил удивление:
— Знаете ли, что примеры самой большой религиозности в народе я
встречал у людей до такой степени простых и грубых, до того далеких от
грамотности и книжности, что когда я вступал с ними в разговоры, то они, к
удивлению моему, даже не могли ответить, кто была Божия Матерь и Иисус
378
Христос? Ничего не знают. А сила молитвы удивительная, а преданность
Богу — пламенная, вера — твердая, хоть жизнь за нее положить. И удиви-
тельно глубокие, проникновенные слова о Боге.
Он высказал это как предмет величайшего изумления, не понимая его,
но, очевидно, особенно за это испытывая восхищение к народу, к племени и
крови русской.
Пример, что в крестьянстве не известно даже имя Божией Матери, я
помню из своего детства. Более 30 лет назад, мальчиком-гимназистом
IV класса, я жил с семьею верстах в 80 от Нижнего Новгорода на даче. И там,
как-то лежа со сверстниками-ребятишками на траве, заговорил по поводу
выпавшего из-за рубашки креста, об основных евангельских событиях, —
ничего не знают. Я спросил: «Да разве ты не знаешь, кто была Божия Ма-
терь?» — «Не знаю». И помнится, — но это недостоверно (за давностью
лет), — что как будто паренек лет 13 не знал Иисуса Христа: во всяком смысле
смысла креста, факта «крестной смерти за грехи наши», «искупления», стра-
дания, Голгофы — этого он ничего не знал. Это я помню твердо из удивлен-
ных расспросов.
Удивление Толстого, как и мое тогда, подводит к факту, собственно,
огромного, неизмеримого значения: откуда же берется у человека религия,
религиозность, религиозное настроение, молитвенность? Что не из науче-
ния, — это ясно. Но откуда же? Только и можно ответить: из крови, из
души. «Такрождаемся», «с этим рождаемся». И как «таланта», так и «это-
го» дается в рождении то мало, то много. От этого одни люди совершенно
нерелигиозны, и, сколько им ни говори об этом, ни учи их, ни проповедуй
им, сколько бы сами они ни читали «по этому предмету», — они так и не
узнают, не почувствуют ничего из области «веры», как не знает «соленой
воды» человек, живущий на берегу реки, а не на берегу моря. Другие же,
напротив, с полуслова все понимают; и, наконец, вовсе ничего не слышав о
религии, — все-таки религиозны сами по себе. В русском народе, очевид-
но, рождается много людей «с этим талантом», и хотя научение у нас самое
элементарное, а часто его и вовсе нет, но талантливое рождение все искупа-
ет, все покрывает.
Вот отчего возможно говорить о «русской вере» совершенно вне отно-
шения и связи с византийским преданием, с византийскими традициями и
историческими отношениями. Из Византии принесли к нам догмат и об-
ряд. Догмат был непонятен и даже неизвестен, ибо это есть наука и школа,
которых в тогдашней Руси не было. Обряд же сделался известен через на-
глядность: он передался в богослужении и через простые, краткие повеле-
ния священника населению. Все это запечатлелось и выковалось с желез-
ною твердостью. Ничто не может поворотить наших постов, молебнов, ака-
фистов. Но за этою ритуальною и обрядовою стороною душа темного на-
рода оставалась свободною для личного творчества; и вот богатый
«врожденный талант веры» пошел в это пустое место, оставленное ему
неведением, оставленное тысячелетнею безграмотностью, и сотворил те
379
слова, мысли, образы, страхи, томления, умиления, восторги, безмолвные
молитвы, какие удивили Толстого. Это «русская вера», которой подробнос-
тей никто не знает, которая не записана и не описана. Ей не противоречит
обряд; в виде веяния она много взяла и от обряда, но как греза и сновиде-
ние берет от действительности, — не больше. Это та теплая «вера народ-
ная», которая изошла из страдания народного, из терпения народного, из
опыта жизненного и вообще из всей совокупности трения души о действи-
тельность. Много здесь и полевых колокольчиков, и лесного запаха, и мер-
цания звезд, и утренних и вечерних зорь; есть и от птичьей песни, и от
крика звериного. Это и человеческое, и глубоко природное. И все это тихо,
скромно, не называя своего имени, подошло под купол Византии, приняло
на себя крест, ничуть не идя от него и, как в указанном Толстым случае,
даже не понимая его смысла.
Об этом когда-нибудь будут исписаны томы. Огромная самостоятель-
ность своих корней веры и сделала то, что мы хотя официально находимся в
связи с греческими патриархатами Востока, но избегаем живых, тепереш-
них сношений с ними, ненавидимы греческим духовенством («фанариоты»)
и обратно видим в них внутренно хищников, которым нужна только русская
мошна, а не русская душа. С этой точки зрения провиденциальным кажется
вековое отчуждение и перерыв практических, живых связей России с Гре-
цией), чему с первого взгляда так удивляешься и о чем так жалеешь. Но,
может быть, это благотворно и нужно для будущего. Под «чужим паспор-
том» живет и растет новое дитя, крепнет и подымается, а объявись его имя,
— и может быть, оно было бы задушено старою бабкою. Мне передавали
всего года три назад, что константинопольский патриархат, раздраженный
тем, что мы не перестаем питать симпатии к болгарскому народу, как извес-
тно, объявленному состоящим в «схизме», был готов объявить в «схизме» и
русскую церковь, т. е. объявить ее «еретическою». И только страх, что вслед
за этим объявлены были бы конфискованными богатые земли в Бессарабии,
«преклонные» константинопольскому патриарху, откуда он получает огром-
ные деньги, а также прекратился бы и приток русских денег на Афон, —
удержал от этого решения. Сведение это сообщил мне образованнейший
чиновник Синода, добавляя:
— Они (греческое духовенство) сидят на старых исторических местах,
но только у них и основания святости. Теперь это — нищие, невежды и
вымогатели из русского благочестия денег. Вся сила благочестия сейчас — в
России. Такие явления, как русское старчество, — их нет ни на Западе, ни
на Востоке. Русская вера, русское религиозное чувство сейчас поднялось
над всеми, — и они нас будут отлучать от себя?!!
Но и он не хотел и беспокоился об «отлучении», — как о шуме, как о
начале больших, ломких и болезненных событий. «Пусть будет паспорт ста-
рый, пусть дитя растет»...
«Русская вера», как она слагается, — кроткая, терпеливая, молитвенная,
не спорщица, не преследовательница. В ней нет того: 1) ригоризма, 2) пыла,
380
3) великих подвигов поста и 4) гневливости, какие отмечает покойный Кон-
стантин Леонтьев в «Очерках Афона», противополагая Ватопед и другие
греческие монастыри Пантелеймону и другим русским монастырям. «Дух
русской веры привлекает всех, — писал он там. — Хотя русские не могут
исполнить того, что исполняют греки, например несколько суток совсем воз-
держиваться от пищи». Добавим, что величайшие русские святые никогда
этого и не полагали идеалом подвижничества. В посту они бывали умерен-
ны, зато не уставали в помощи и совете людям, в нравственной и житейской
их поддержке. Таков был Серафим Саровский. Таков был Феофан Тамбовс-
кий. Таков был Амвросий Оптинский.
.. .Когда Толстой мне говорил о качествах русского простого народа — о
его великих свойствах в терпении, выносливости, незлобивости на перене-
сенные обиды, то я, помня хорошо славянофильские заветы и наблюдения и
зная, откуда эти советы шли, полувозразил, полуобъяснил ему:
— Но ведь, Лев Николаевич, все, о чем вы говорите, что восхищает вас
в русском народе, — все это содержится в учении церкви, всему этому выу-
чила русский народ церковь. Тысячам, миллионам страдальцев она говори-
ла на исповеди: «Терпи». И прибавляла: «Не ропщи». Это отпечаталось, за-
помнилось, как пост и «Господи помилуй». Наконец, это в самом деле стало
нравственным законом души. Ведь тысячелетие...
Я не договорил того, что было само собою ясно; каким образом он, вос-
хищенный так духом русского народа, — в то же время давно и резко начал
критиковать церковь, даже отвергать ее. Тут было явное противоречие, не-
последовательность. Как ужаленный, он воскликнул:
— Знаю я это!!
Я был изумлен. «Вот как...». Было явно, что он впал в величайшую муку
разлада с собою. Что он чего-то в собственном учении не различал, в соб-
ственном отрицании не расчленил, не отделил. «Стихия церкви» была в то
же время «стихиею народною», и вторую он так любил, так ценил, — пер-
вую же так отверг! В чем дело? Явно, что он восстал собственно не против
духа церкви, а против некоторых форм ее и злоупотреблений около нее, как,
например, преследование сектантов, высылка его друзей духоборов, гоне-
ния на штундистов и проч. Но явно, что это не суть дела... Наконец, он
восстал против некоторых догматов, которые няродно-неизвестны и суть
достояние библиотек, а не души...
Вот почему, когда добрый и разумный священник написал ему простые
слова о «возвращении в лоно церкви», как бы на грудь народа церковного, он
был растроган и перебежал быстро мостик, отделивший его, воспользовал-
ся случаем, чтобы сказать, что его «отлучили», но что он не «отлучался» и
разделения ни с кем не хочет. Это есть именно «русская вера», первое требо-
вание ее: мир, согласие. Без сомнения, эта же «русская вера» заговорила и
устами священника в его мирном и спокойном отношении все-таки к «отлу-
ченному». Капнуло с одной стороны, капнуло с другой стороны. Как сладка
эта капля... И наконец, как не припомнить, что это любящее обращение и
381
любящий ответ напоминают, как что-то исполненное, лучшие евангельские
притчи, самые великие слова Учителя об «овце потерянной и найденной», о
«радости на небесах», которая бывает «больше об одном покаявшемся, не-
жели о ста праведниках»... Впрочем, здесь все совершилось в таких утон-
ченных, деликатных формах, с такими недоговоренностями, без берегов, без
контуров, что нельзя говорить о «потерянной овце», о «кающемся». Да и по
существу этого не было. Соединение — оно явно; а разделение, бывшее
разделение — оно куда-то улетучилось, испарилось без следов, безо всего.
Так «русская вера» своими таинственными оборотами умеет что-то сказать
дополнительно к самому Евангелию. Так наш северный свет есть, конечно,
только часть и последствие тропического, но русский день часто красивее
африканского дня.
ЕЩЕ УЧЕНАЯ УТРАТА
Всегда мне казалось, что нумизматы не могут умереть: это постоянное на-
хождение новых и новых монет, после ожидания и надежды найти, подобно
небольшим глоткам шампанского и, как оно, поднимает жизнь и пульс. Как
можно умереть среди расцвета надежд? А нумизмат всегда в надеждах. По-
этому не хотелось верить, да и сообщавшие почти не верили, что умер Хри-
стиан Христианович Гиль, патриарх петербургских нумизматов и, как
его характеризовал профессор этой науки в Археологическом институте,
А. К. Марков, — «отец русской нумизматики». Высокий, крепкий, цветущий, в
62 года он глядел совсем молодым; и погиб от внезапно налетевшего на него,
в заграничном путешествии, воспаления легких. Болезнь пришла и зарезала
нужного человека. Всегда он знал только одну науку — нумизматику. И сам
не только неутомимо собирал древние греческие и старые русские монеты,
но и имел дар переносить свой энтузиазм в других: он был «отцом русской
нумизматики», по своим печатным трудам, и еще более как лицо и человек
он был родителем русских нумизматов, сперва обратив внимание, а затем и
внушив настоящую страсть к этой науке почти всем живущим сейчас, наи-
более знаменитым, русским нумизматам. Благодарными учениками была
выбита в честь его большая золотая медаль, с его портретом и надписью:
«1869—1894. Деятелю по русской нумизматике». Медаль — в память его
25-летних трудов. Между ними — важнейший: «Таблицы русских монет
двух последних столетий». СПб., 1883. in 4е (греческие монеты южных го-
родов России). Другие труды его — на немецком и французском языках, но
посвященные монетам, имеющим исключительный интерес для России.
Благородная жизнь его есть истинный пример германской универсальнос-
ти: молодым человеком, почти юношею, он был приглашен для практики
немецкого языка в одно русское аристократическое семейство, странство-
вавшее за границею. С ним он приехал в Россию, пристрастился к ней, по-
382
любил ее. Между прочим, он особенно любил Петербург, — и удивительно,
петербургское лето, петербургский климат! Привязавшись к стране, стал
всматриваться в ее прошлое, в ее подробности, и быстро «специализировал-
ся», — так как все немцы «специализируются» — на великокняжеских и
удельно-вечевых грошах, копейках и денежках, затем на императорских руб-
лях!! Когда я раз высказал ему, как можно заинтересоваться такою скукою,
как русская нумизматика, до такой степени бесцветная и однообразная, ха-
рактерно казенная, без игры воображения в ней, без художества, он как бы
остолбенел и сказал: «А удельно-вечевые гроши? Денежки переяславль-за-
лесские, тверские, и проч.?» Этого вкуса я не понимал. Но я понимал одно,
что передо мною стоит немец, который в какую бы точку ни посмотрел,
открывает в этой точке возможность целой науки, когда другой приблизи-
тельно ничего в ней не видит.
Питомцы его выросли, достигли высоких государственных положений,
а он все собирал и собирал, изучал и изучал деньги — или русские, или
находимые в России. Так, кроме русской нумизматики, он специализиро-
вался на монетах греческих колоний в пределах теперешней южной России,
Ольвии, Пантикопеи, Херсонеса, Тиры и царей Босфора и Понта. За одну
золотую монету Митридата Великого Эвпатора он заплатил две тысячи руб-
лей: она была unica, единственная! Это тот Митридат, который поднял Азию
на великую борьбу с Римом, — и погиб. Монеты этого царя с щиплящею
траву ланью, звездою и луною — нечто невообразимое по красоте и осмыс-
ленности! X. X. Гиль был осторожен: тогда как председатель Московского
нумизматического общества, г. Ф. Прове, несчастным образом продал за
140 000 крон свое собрание греческих монет за границу, — патриотический
Христиан Христианович не выпустил из России своего, в то время един-
ственного в мире, собрания южнорусских греческих монет. За сравнительно
ничтожную сумму, что-то около 40 000 рублей, он передал свои сокровища в
собрание великого князя Александра Михайловича, — теперь первое в мире,
богаче эрмитажского, по отделу монет стран, прилегавших к Черному морю!
Эту изумительную коллекцию, до сих пор не описанную и не изданную, где
содержится много совершенно неизвестных до сих пор монет, я видел в ча-
стях, — и не могу лучше передать впечатления, как словами, характеризую-
щими в географиях впечатление от Неаполя: «Взгляни и умри». Неиздан-
ность до настоящего времени этой удивительной коллекции составляет мрач-
ную страницу в истории русской нумизматики! Ибо неописанная коллекция
есть все равно, что несуществующая коллекция.
В последние годы Христиан Христианович впал в то, что я назвал бы
«нумизматическим развратом»: он не ценил и почти не взглядывал на моне-
ты, если они не были fleur de coin, т. е. той свежести и полноты сохранности,
как если бы вышли сейчас из чекана. Как известно, таковые монеты чрезвы-
чайно редки. Между тем в старинных, полуразрушенных монетах попадет-
ся столько интересного, любопытного, многозначительного, иногда нового!
Но он был так импульсивен, что свое высокомерие к нумизматическому ма-
383
териалу передал и многим. Путь этот, взгляд этот я считаю совершенно оши-
бочным, и, конечно, он не распространится и не удержится. Нумизматика
есть роскошная наука, а не одно коллекционирование. Правда, это есть цар-
ственная наука: государи Германии, Италии и Англии, многие великие кня-
зья, многие дипломаты, как покойный Баддингтон, бывший французский
посол в Париже, как наш бывший посланник в Риме и товарищ министра
иностранных дел К. А. Губастов, — посвящают свои немногие досуги этой
царице археологии.
Предаваясь ей, преуспевая в ней, оказав в ней бесчисленные услуги,
Христиан Христианович прожил редкую по безмятежности жизнь, и не
столько жалеешь, что смерть-разбойник зарезала человека, сколько жале-
ешь о том, что она зарезала такого счастливого человека. Ибо нумизматы, по
сильному отвлечению в сторону от житейских передряг, не имеют обыкно-
венных человеческих огорчений. Коллекции все растут. «Новые приобрете-
ния», — как озаглавил не раз свои печатные труды Христиан Христианович,
— не заставляют себя очень ждать. А с ним вливается и новое шампанское в
душу даже пожилого ученого. Так живут нумизматы. Так прожил свои
шестьдесят с лишком лет X. X. Гиль. И теперь, когда сотни и тысячи рус-
ских нумизматов узнают о его неожиданной кончине, — единодушный вздох о
нем пронесется по тысячам уединенных ученых кабинетов. Прости, сын двух
родин, — трудившийся в более скромной области, чем В. И. Даль, но с его
же неутомимостью и пылом, всю жизнь для России. В истории русской ар-
хеологии его имя не забудется.
СБОРНИК ПИСЕМ Влад. СОЛОВЬЕВА
Только что вышли из печати «Письма Владимира Сергеевича Соловьева»,
— том I, собранные и изданные другом покойного философа, проф. Э. Л.
Радловым (цена 2 руб.). Издание, рассчитанное на два или на три тома, за
окупкою издержек печатания, — чистым доходом своим пойдет на учрежде-
ние стипендии имени В. С. Соловьева, при котором-нибудь из наших уни-
верситетов, для молодых людей, окончивших в университете курс и готовя-
щихся к кафедре философии. Назначение в высшей степени симпатичное, и
общество имеет нравственный долг поддержать это начинание.
В биографии Вл. Соловьева, помещенной при IX томе его «Сочинений»,
проф. Радлов говорит: «Соловьев, при всей его кажущей общедоступности,
остается неуловимым для большинства... Во всей его деятельности, почти в
каждой строке, им написанной, чувствуется, что им владеет одна затаенная
мысль, предмет всей его жизни, всех его стремлений». В подчеркнутых
словах содержится указание действительно главной особенности, которою
Соловьев привлекал и до сих пор привлекает к себе любопытство. Вот для
разгадки-то этого х-а в высшей степени важно собрание в возможной полно-
384
те его писем, — и, пожалуй, писем не столько к литераторам и ученым, не
столько к людям шумной общественной деятельности, сколько к безызвест-
ным или мало известным искателям и искательницам религиозной истины,
к лицам мистической настроенности, пророческого духа и жара, какими все-
гда была не бедна русская земля. Вне сомнения, много таких лиц писало ему
исповедания своей мысли и души, и, конечно, они получали от него ответы,
возражения и проч. Эта интимная его корреспонденция, которая, бесспор-
но, была, и содержит самые важные обещания. На всякий случай прилагаем
адрес издателя: «СПб., Загородный пр., д. 24. Э. Л. Радлову».
Напечатанные в первом томе письма, вследствие экспансивности Соло-
вьева и того, что письма, очевидно, рождались в самый момент написания и
запечатлевали точно этот момент, — дают «живую фотографию» философа
в его будничной, домашней обстановке, в будничных, домашних настроени-
ях ума и сердца. И все это до того живо и подлинно, что от книги невозмож-
но оторваться, не дочитав ее сразу до конца. Беспорядочные строки череду-
ются с обрывками стихотворений, которые так и остаются в неоконченном
виде; мысли — иногда глубочайшей философской содержательности, — че-
редуются с остротами то над собой, то над ближними, с насмешками, сар-
казмами и каким-то ни на минуту не останавливающимся смехом, несколь-
ко истерическим. Радлов в предисловии очень хвалит этот соловьевский смех,
ту «чисто детскую веселость», которая звенела в нем. Однако среди писем
много и желчных. «О себе не скажу вам ничего дурного. Я поздоровел, сплю
лучше и смотрю на мир беспощадно кротким взором. Я знаю, что «все, что
было прекрасного», провалится к черту (как уже провалилось крепостное
право — эта первая основа всякой красоты), и такая уверенность наполняет
мою душу почти райскою безмятежностью. Мелкие текущие события, напр.
закрытие университета, служат пищей моему настроению. Сообщу вам, кста-
ти, некоторые подробности», и он комично передает речь ректора и профес-
сора римской словесности Г. А. Иванова к бунтующим студентам. Бедный
филолог путается между попечителем гр. Капнистом и воспоминаниями о
Спиционе Африканском. От тона этого тоже смеющегося письма мороз де-
рет по коже.
АВТОПОРТРЕТ Вл. С. СОЛОВЬЕВА
Под редакцией Э. Л. Радлова, одного из многолетних и ближайших друзей
покойного Влад. Соловьева, вышел том первый его «Писем». Здесь помеще-
на переписка его с Н. Н. Страховым, Н. Я. Гротом, М. М. Стасюлевичем,
А. Н. Пыпиным, С. М. Лукьяновым, И. А. Шляпкиным, г. NN, И. О. и С. Д.
Лапшиными, Л. А. Севом, Н. П. Бахметьевой, А. К. Грефе, Фр. Рачком, епис-
копом Штроссмайером, В. Л. Величко, В. М. Преображенским, Н. А. Котля-
ревским и Э. Л. Радловым и в приложении ненапечатанная статья: «Из ли-
13 В. В. Розанов 385
тературных воспоминаний о Н. Г. Чернышевском». Последние представля-
ют, собственно, воспоминание еще десятилетнего мальчика Влад. Соловье-
ва о беседе его отца, великого историка Сер. М. Соловьева, с Е. Ф. Коршем и
Н. X. Кетчером, которые принесли ему известие о состоявшемся приговоре
особого сенатского суда над знаменитым публицистом «Современника».
Понятно, что строгий государственник и церковник С. М. Соловьев отно-
сился совершенно отрицательно к утопическим идеям Чернышевского, но
ему был дорог моральный авторитет государства, и он был глубоко взволно-
ван и оскорблен правительственною мерой. «Что же это такое, — говорил
историк, — берут из общества одного из самых видных людей, писателя,
который десять лет проповедовал на всю Россию известные взгляды с раз-
решения цензуры («Современник» был подцензурным журналом), имел ог-
ромное влияние, вел за собою чуть не все молодое поколение, такого чело-
века в один прекрасный день без всякого ясного повода берут, сажают в тюрь-
му, держат года, никому ничего не известно, судят каким-то секретным су-
дом, совершенно некомпетентным, к которому ни один человек в России
доверия и уважения иметь не может и который само правительство объяви-
ло никуда не годным, так как судебная реформа уже решена, и вот наконец
общество извещается, что этот Чернышевский, которого оно знает только
как писателя, ссылается на каторгу за политическое преступление, а о ка-
ком-нибудь доказательстве его преступности, о каком-нибудь определенном
факте нет и помину».
Историка волновало это. «В интересах самого правительства было объя-
вить вину наказанного и сообщить доказательства этой вины. Единствен-
ное объяснение того, что этого не сделано, заключается в том, что этой вины
нет и что объявлять им нечего». Эту мысль отца разделяет и сын-философ,
и доказательствам посвящены последующие страницы очерка. Но, кажется,
оба они не приняли во внимание, что способ добывания «доказательств»
вины иногда бывает столь нечистоплотен, что о нем невозможно объявить
во всеобщее сведение, и, по разъяснениям «Былого», именно эта сторона
дела и была здесь замешана. Редактор Э. Л. Радлов должен был бы привести
эти последовавшие разъяснения «Былого» истории приговора Чернышев-
ского, но, по академическому характеру своих занятий, он едва ли знаком с
этим сборником документов нашего революционного прошлого, и отсюда
произошла его редакторская погрешность.
♦ * ♦
Первым томом, очевидно, сборник писем Влад. С. Соловьева не ограничит-
ся. Идейно наиболее интересны должны быть его письма к кн. Серг. Н. Тру-
бецкому, самому даровитому и деятельному последователю учения и всей
нравственной личности покойного философа, и к брату его Михаилу Серг.
Соловьеву. Последние, без сомнения, можно достать от сына его, племянни-
ка Влад. Соловьева, известного теперь поэта Серг. Соловьева. «Брата Мишу»
386
Влад. Соловьев чрезвычайно любил, проводил в его семье свои московские
досуги и очень ценил его зрелый и молчаливый ум. Правда, к близким род-
ным не пишут длинных писем, и, может быть, мы ошибаемся насчет бо-
гатств архива Михаила Серг. Соловьева. Во всяком случае, к этому именно
брату он был наиболее близок изо всей родни; от сестер он стоял далеко; не
был интимно близок и к матери; с братом-беллетристом, известным Всево-
лодом Соловьевым, был в разрыве и вне всяких сношений, кроме официаль-
ных (по наследству) и неприязненных. Но круг его «друзей» почти равняет-
ся кругу тогдашней литературы, и, кроме того, есть, вне сомнения, много
его важных писем к разным деятелям по вопросам церкви, и особенно —
самый интересный из них — к женщинам и девушкам, мистически настро-
енным. Как известно, Соловьев чрезвычайно на них действовал и сам очень
поддавался их действию. Здесь редактор, Э. Л. Радлов, хорошо и деятельно
поискав, может найти целую Голконду манускриптов в форме писем, и даже
здесь он может доискаться сокровенной внутренней веры Соловьева, или
сокровенных внутренних его исканий, томлений, сомнений, предчувствий,
о чем пока напечатанные письма не дают никакого понятия и представле-
ния. Все письма 1-го тома не к настоящим друзьям Соловьева, а к «литера-
турным приятелям», которые относились к внутреннему огню, сжигавшему
его, или безучастно, или даже иронически, чего не мог не замечать Соловь-
ев. Все напечатанное пока увековечивает ту гипсовую маску, которую всегда
носил философ, — маску, расписанную шутками, фарсами, гримасами, буф-
фонадой, какие так густо одевали Соловьева и крепко его закрывали от глаза
«непосвященного». В самом деле, в Соловьева надо было «посвящаться»...
И ни для кого «чужого» он не снимал маски и шутливого, почти шутовского,
плаща.
Н. Н. Страхову, по поводу его полемики с академиком Бутлеровым и с
проф. Вагнером о спиритизме, он пишет:
«Вы, может быть, получите от меня целый трактатец по этому поводу.
Пока же извольте получить и «немую похвалу», и немой протест. Он не только
немой, но и не мой (курсив везде Соловьева), ибо не я один восклицаю по
вашему адресу: «Не мой материализма тонким мылом диалектики, — кроме
пены, ничего не выйдет». Такого же мнения держатся два моих приятеля,
философы Лопатин и Грот, и мы даже собираемся написать вам соборне.
Однако, не мая же месяца дожидаться, а потому вот вам сейчас немая похва-
ла: я безусловно согласен и одобряю главный тезис вашего вступления, а
именно, что путем спиритизма религиозной истины добыть нельзя... Досе-
ле хвала. Что же касается вашей аргументации против спиритических чу-
дес, то она имеет силу (если имеет) также и против всяких чудес, и против
самого существования невидимых духовных деятелей, т. е. против всякой
религии, ибо хотя, говорят, есть религия без Бога (буддизм), но религии без
ангелов и чертей не бывало и быть не может. Государство без царя еще воз-
можно (Французская республика), но государство без чиновников и воров
абсолютно немыслимо».
Так, начав буффонадою во вкусе гимназиста даже не старших клас-
сов, он кончает протестом желчного и суеверного старика. И между эти-
ми двумя тонами брошен афоризм о материализме, который стоит дис-
сертации.
«Будьте здоровы. Кланяйтесь кому попало», — кончает он письмо к тому
же Н. Н. Страхову (стр. 9). «Прочел книжку вашу с наслаждением и с двумя
приятелями» (стр. 15). «Вот и все — ни плюн, ни моей» (ни более, ни ме-
нее, — стр. 32). «Эти три дня одними начаями и извозчиками стоили мне
уже 70 рублей» (стр. 69). Среди спора о том же спиритизме, — вопрос: «Ска-
жите мне, почему Гораций называет медиума ибисом, да еще безопасней-
шим:
Media tulissimus ibis.
В точном переводе:
«Медиум, о, безопаснейший ибис!» (стр. 17).
Продолжал бы дальше письмо, — «да прилетела индийская нимфа Пора-
Спати (пора ложиться спать). Уже 4-й час ночи» (стр. 87). И нет письма, где
не кружилась бы в судорожной пляске эта вокабулярная истерика. Соловьев
точно не умеет остаться спокоен. Точно его что несет. И он хотел бы удер-
жаться за предметы, за идеи своими прозрачными, тонкими пальцами, но
точно внутренний вихрь отрывал его от них, и он уносился далее, далее, как
старый, сморщенный, потемневший лист осени.
Кстати: как-то раз, сидя у меня, он посмотрел на свои руки и рассмеялся
громким, неприятным смехом:
— Не правда ли, и рентгеновских лучей не надо. Кости все сквозь
видны.
Тогда рентгеновские лучи были только что открыты и опыты с ними
всех занимали. Особенно с костями рук.
Нельзя не поблагодарить Э. Л. Радлова за собрание и издание писем
Соловьева и за метод, которого он держался при этом и за который извиня-
ется в предисловии: ничего не пропускать, т. е. печатать письма даже и без
всякого содержания, простые уведомления. В результате получился до того
жизненный портрет Соловьева, что, проглотив том в вечер, мне показа-
лось, что Соловьев воскрес, вот тут ходит по комнате, и я слышу его голос:
так эти мелочи, которые не могут войти ни в какую обобщенную биогра-
фию, ни в какую «характеристику», — воскрешают подлинного человека с
его мельчайшими тенями, полутенями и даже бестенностью.
«Милый друг. Я теку, но остаюсь на месте. Посылаю к Б-у негра с ру-
кописью. Зная твое пристрастие, поручаю тому же негру повидать тебя. А ты,
если увидишь Б-а, скажи ему, что я болен. Твой Влад. Соловьев».
При незнании, что это за «негр» и кто этот «Б-ъ», даже нельзя разобрать,
о чем идет речь; да писулька до того малозначительна, что ее не стоило ком-
ментировать. Сюжета нет. Но тон есть: и редактор прелестно сделал, что
не бросил бумажку в корзину, а поместил на отдельной странице, — как и
388
все записки и письма. Отвертывая страницу за страницей, пробежав в два
часа всю книгу, испытываешь впечатление, как бы разговаривал с самим
Соловьевым или во всяком случае слушал его разговор с другими. Это очень
много. Признаюсь, это ценнее «философской биографии», где виден был бы
рассуждающий биограф, и еще Бог весть, дал ли бы он увидеть обсуждае-
мый сюжет.
«Приехал». «Переезжаю». «Хотел быть, но задержала болезнь». «Буду
непременно в 11 ночи: вели приготовить ванну» (к Величко, два раза). «Буду
у вас вечером, а теперь, пожалуйста, пришлите с посланным мое облаче-
ние» (стр. 3). «Читаю на Миллионной (у княгини Волконской): приезжайте.
Если бы пришлось вам приехать раньше хозяек, которые будут в концерте,
то входите, не сомневаясь». И вечные поклоны «Наталье Петровне, Яков-
левне и Николаевне» (Грот), «Любовь Исааковне» (Стасюлевич), «Марии
Георгиевне» (Муратовой, Величко), «Вере Александровне» (Радловой) и,
наконец, «кому попало», в том числе и Д. И. Стахееву. — все это до того
схватывает сухощавую высокую фигуру Соловьева, весь его жизненный
habitus*, в его летней разлетайке или осеннем старомодном пальто, которое
он носил благоговейно, как дар умершего Фета, с его торопливостью, за-
бывчивостью, «начаями извозчикам», столько же по доброте, сколько по
отвращению считать сдачу, ибо он думал не об извозчике, а об Антихристе,
что всякий, знавший лично покойного философа, переживает полную ил-
люзию. «Вижу Соловьева, слышу Соловьева»... «Милый друг! Я нездоров,
меня рвет не только утром, но и вечером. В этом состоянии я написал «Лю-
бовь» и «Люллий» (философские статьи для «словаря» Брокгауза и Эфро-
на)... «Предварение роковых последствий свадебного пира затмило мой ум
и вышибло из моей памяти Новокантианство, Новопифагорейство, Ново-
платонизм. Избавь ты меня ради всего священного от этих трех новостей,
будь друг и благодетель», — пишет он Радлову, т. е. чтобы тот написал вме-
сто него эти очередные статьи для того же словаря. «Не будучи ни педантом,
ни точным экономистом, присылаю три бутылки шампанского» (для сбор-
ной приятельской вечеринки). И т. д.
И спешит, спешит. И угрюм, угрюм. В том же письме, где он шалит «ни
плюн, ни моей», — он пишет превосходный разбор тех, так сказать, слоев
достоверности, в которых плавают эмпирики, логики и святые. Письмо
адресовано Страхову, и все по поводу того же спиритизма. Страхов отказал-
ся даже обсуждать явления медиумизма, на том основании, что они проти-
воречат высшим истинам механической физики и математики. «Но позволь-
те вам сказать, что вольнодумцы IV и V века, затем французские энциклопе-
дисты и, наконец, наш непременный Колумб всех открытых Америк, Л. Н.
Толстой, оспаривали догмат Троицы на основании арифметики: один не три,
а три не один». Но, конечно, установившие и потом признававшие догмат
* внешний вид (лат.).
389
Троицы хорошо знали и признавали эту коротенькую арифметику: «три не
один», каковое признание им ничуть не мешало признавать и единство Бога
в трех лицах. Религиозные истины представляют собою следующий ярус
над физическими истинами. Подобное расслоение «достоверного», «истин-
ного» мы можем наблюдать даже в пределах какой-нибудь одной науки: ариф-
метика не знает и в арифметике непредставимы дробные степени или мни-
мые величины, а в алгебре те и другие есть в наличности. Так и Соловьев,
признавая опыт и эмпиризм, признает их только для определенных границ,
в которых не все кончается. И вдруг делает неожиданное признание, рас-
крывающее «святое святых» его души: «Если вы, полемизируя с Бутлеро-
вым и Вагнером, ссылаетесь на опыт внутренний, отрицая внешний, то ведь
и я могу опереться на свой внутренний опыт. Я не только верю во все сверхъес-
тественное, но, собственно говоря, только в это и верю. Клянусь четой и
нечетой, с тех пор, как я стал мыслить, тяготеющая над нами веществен-
ность всегда представлялась мне не иначе, как некий кошмар сонного чело-
вечества, которое давит домовой. Однако, дабы не предаваться парению ума,
обратимся к текущему. Так как вы не написали мне о себе, то я сделаю это
вместо вас, т. е. напишу вам о себе, — каламбуры прямо из логики Гегеля. Я
прочел две публичные лекции», и проч. (стр. 34). Я нарочно не прервал при-
знание страшной субъективной силы и кончил его каламбуром, который за
ним следует. Видите ли вы зарево страшного пожара, в котором сгорает все,
и внутри его пламени, в самой средней точке — шутовскую гримасу с упо-
минанием «логики» первого метафизика XIX века. Таков весь этот порази-
тельный отрывок. Нельзя отрицать, что самые каламбуры и острословие
Соловьева вытекали из того, что его ум и, пожалуй, гений вечно неслись по
самому краю какого-то задержанного, но чуть задержанного, безумия... Вот-
вот немножко еще в сторону, — и философ полетит «на 11-ю версту», как
говорят в Петербурге. Но колесо, стальной твердости и предопределенного
бега, не уклоняется ни на вершок далее опасной черты, — и из-под пера его
сыплются трактаты, томы, статьи, лекции, — изумительного блеска, и фи-
лософского, и религиозного.
Ему приходит сомнение о своих стихах, — прелестнейшем, лучшем и
вековечном, что он после себя оставил: «Философично ли я поступаю, пред-
лагая публике свои бусы, когда существуют у нее алмазы Пушкина, жемчуг
Тютчева, изумруды и рубины Фета, аметисты и гранаты А. Толстого, мра-
мор Майкова, бирюза Голенищева-Кутузова, кораллы, яшма и малахиты
Величко» (стр. 226, из письма к Величко). В этих нескольких строках боль-
ше истины и глубины, чем не только в разных выпрошенных рецензиях на
упражнения современных ему лауреатов, но и в довольно плачевных его
лекциях о Пушкине, Лермонтове и Тютчеве («Судьба Пушкина» и проч.).
Между тем, только в стихах Соловьев и выразил свое личное и особенное,
свое оригинальное и новое. Только здесь и живет его «я», тогда как в 8 то-
мах прозы живут только его способности и ученость, острый ум диалекти-
ка и изумительная эрудиция, работающая над чужими темами, хотя бы и
390
данными седою стариною или же новенькими событиями. И «Оправда-
ние добра», и «Критика отвлеченных начал» — все сюда входит, в его
ненастоящее. Ну, а в настоящем характере следующих стихов нельзя
усомниться:
Не жди ты песен стройных и прекрасных,
У темной осени цветов ты не проси;
Не знал я дней сияющих и ясных,
А сколько призраков, недвижных и безгласных,
Покинуто на сумрачном пути.
Таков закон: все лучшее в тумане,
А ясное иль больно, иль смешно.
Не миновать нам двойственной сей грани:
Из смеха звонкого и из глухих рыданий
Созвучие вселенной создано.
Из какой мрачной, безотрадной души это вырвалось! Сколько нужно
многолетней скорби, заглушаемой каламбурами, чтобы сказать такое при-
знание! Стихи: «все лучшее в тумане, а ясное иль больно, иль смешно», —
совсем как из Лермонтова, а общий смысл отрывка, особенно если рядом
поставить какой-нибудь каламбур из писем, дает впечатление гоголевской
физиономии. Соловьев как личность был гораздо слабее обоих названных
поэтов; в то же время был, конечно, неизмеримо их образованнее; был доб-
рее их, чутче их, — особенно к общественности. Но он из той же руды, как
они; обломок или выломок той же горной породы.
К Л. Н. Толстому он постоянно или неприязнен, или враждебен. В конце
концов, это вылилось, как известно, в диалогах «Под пальмами» («Три раз-
говора»), где смешным образом он совершенно серьезно представляет Тол-
стого как сокровенного Антихриста. Это то пятно на памяти Соловьева, ко-
торое напоминает об «11-й версте». Но в письмах есть шутки действитель-
но удачные: «Виделся у Фета с Л. Н. Толстым, который, ссылаясь на одного
немца, а также и на основании собственных соображений, доказывал, что
земля не вращается вокруг солнца, а стоит неподвижно и есть единственно
нам известное «твердое» (sic) тело, солнце же и прочие светила суть лишь
куски света, летающие над землею по той причине, что свет не имеет веса. Я
советовал ему написать об этом Бредихину, астроному, и вам, дорогой Ни-
колай Николаевич», — пишет он другу Толстого Н. Н. Страхову (стр. 19).
Научные рассуждения Толстого, мной слышанные от него устно, всегда име-
ют предметом полемику против чего-нибудь «общеустановленного» и явно
или скрыто опираются всегда на какую-нибудь прочитанную и увлекшую
его книжку. Они составляют несчастие Толстого, но не приносят никакого
несчастия публике. В другом месте Соловьев замечает: «Прочел Толстого
«В чем моя вера». Ревет ли зверь в лесу глухом (из «Эхо» Пушкина, — на-
мек). Вчера получил только что вышедшее собрание сочинений Козьмы
Пруткова, с портретом и факсимиле автора. Будьте здоровы, дорогой Н. Н.».
Это сближение Толстого с знаменитым К. Прутковым говорит ярко и без
391
раскрытия скобок. Письмо адресовано к тому же другу Толстого. Нельзя не
заметить, что глубоко трезвый взгляд Толстого на христианство, вследствие
своей крайней прозаичности, — стоит позади отношений к христианству и
церкви Влад. Соловьева. Оговоримся если не для «сейчас», то для будущих
времен. У Толстого есть собственная личная мистика души, мистика житей-
ского своего опыта, наконец, мистика опыта русского народа, а она глубо-
ка, и Соловьев, как и никто, не вправе над нею улыбаться. Но когда Толстой
придвигает к себе большие ученые книги и, с немцами в руках, начинает
«истолковывать» Евангелие и вылущивать из него «смысл жизни», он ста-
новится беден, как преподаватель Peter-Schule, взявшийся за роль Лютера.
Здесь его сердце, воображение не горит, и все ужасно тускло, безжизненно.
Здесь Соловьев, с его воплем, что «вселенная кажется ему кошмаром, кото-
рый снится человечеству, потому что это человечество давит домовой», —
хотя и намекает на «11-ю версту», но намекает так, как вещие и несбыточ-
ные видения Иезекииля, Даниила и Иоанна Богослова, которых все не пони-
мают, но все перед ними трепещут. Такой «сумбур» выше «трезвенности»
Толстого, и Соловьев сохранил права сблизить ее со здравомыслием Козьмы
Пруткова. Тут он прав.
АВТОПОРТРЕТ Вл. С. СОЛОВЬЕВА
Церковные занятия его и его личность
Известно, что % жизненного труда посвятил Соловьев богословским темам,
и собственный его племянник, даровитый поэт Сергей Соловьев, энтузиаст
его поэзии и философии и всей нравственной личности, тем не менее, дол-
жен был сознаться, что эта часть трудов великого его дяди наименее содер-
жит в себе долговечности и жизни. Он и сказал — почему. Не самое бого-
словие и уж, конечно, не религия недолговечна, но Влад. Соловьев все дело
взял слишком конкретно, слишком прилепляясь к истории, которая есть
именно «история», а не настоящее и не будущее. Статьи его в «Вестнике
Европы» о византийской государственности были археологичны и обреме-
нительны даже для Мих. М. Стасюлевича, и воображать, что ими заинтере-
суется новая Россия, было наивно. Новой России просто этого не надо, по-
тому что по части государственности она намерена жить своим умом, а не
византийским. Далее, его многолетнее отстаивание «примата апостола Пет-
ра», ведшее к признанию священства, папства и затем к мысли о соедине-
нии церквей западной и восточной, тоже является цепным, как рычаг для
пробуждения церковной мысли у нас, но весьма проблематично с абсолют-
ной точки зрения. Во всех этих темах Соловьев был неабсолютен. Им руко-
водила не «чистая истина», и чистой истины он не искал. Это-то и сообща-
ет умирающий характер его трудам данной категории. Он был превосход-
392
ным церковным публицистом своего времени, и как публицистические темы
его темы огромны: вопрос о соединении церквей, вопрос о догматическом
развитии церкви, т. е. об исторической возможности и необходимости дви-
гаться дальше семи соборов, названных «вселенскими», каковое движение
совершила западная церковь и предстоит совершить восточной церкви, —
такие вопросы своей огромностью, эмпирическою и истинною и жизнен-
ною важностью не могли не прогнать мертвый сон богословов 80-х и 90-х
годов XIX века. Встрепенулись и академии, протерло глаза духовенство,
забеспокоились власти. Все пришло в движение «против Соловьева», а
Соловьев наносил и наносил свои то острые, то тяжелые, то резвые удары.
Прямая полемика была невозможна по цензурным условиям, и он прибегал
к косвенной: против славянофилов, против Данилевского, против Страхо-
ва. Данилевский был близкий, если можно выразиться, кровный друг Стра-
хова, и Соловьев, начиная полемику против первого, предупреждает в пись-
мах Страхова, что больше ничего не остается делать, так как «духовные
журналы для меня закрыты, прямое проведение моей темы невозможно, и
остается только нападать на друзей друга и этим путем сказать хоть что-
нибудь». Относительно этой публицистики надо сказать, однако, следую-
щее. Не будучи абсолютна по прямой своей теме, она была до некоторой
степени абсолютна по своим побочным мотивам, и именно этическим, пря-
мого и простого человеческого благородства, без всякой примеси церков-
ности и даже религиозности. Например:
1) Что христианам ссориться? Вражда всегда есть зло, нравственное
зло. Поэтому надо искать примирения церквей, стремиться к слиянию
церквей.
2) Застой, мертвый сон отвратителен. Везде он гадок, а в религии и цер-
кви — удвоенно. Соловьев выдвигает учение о «догматическом развитии
церкви».
И т. д. Этический идеал — абсолютный; а «свои собственные столбы»
порознь в той или другой церкви — относительны.
В этом отношении характерно его письмо к В. Л. Величко, человеку
прямого ума и сердца, но чуть-чуть наивному (мое личное впечатление).
«Касательно православия и истин его, преимущественно перед протестант-
ством, поясню вам притчею. В некоем городе было две школы. Одна из них
отличалась превосходною программою учебною и воспитательною, — про-
грамма эта не оставляла ничего желать в смысле правильности и полноты,
так что, судя по одной программе, всякий должен был сказать: какая это,
право, чудная школа! Однако при всем том начальство и учителя этой образ-
цовой школы частью ничего не делали для обучения и воспитания юноше-
ства, частью же предавались содомскому греху и растлевали вверенных им
питомцев. Вторая школа имела программу хотя в основе правильную, но
весьма неполную и скудную; однако учителя в ней, вообще говоря, добросо-
вестно исполняли свои обязанности и от содомии и других неправильнос-
тей воздерживались. Резон ли взять младенца из этой второй школы и поме-
393
стать в первую ради великолепия ее программы? Далее, пока ваша принад-
лежность к греко-российской церкви есть только внешний факт, происшед-
ший не по вашей воле, вы ни за что не отвечаете; но когда вы и по собствен-
ной воле, сознательно, намеренно и без всякого принуждения присоединяе-
те к названному учреждению малолетнее и потому безответственное суще-
ство, то вы торжественно заявляете свою солидарность с этим учреждением,
и все его грехи переходят на вас; тогда уже вы лично виновны и в сожжении
протопопа Аввакума, и в избиении кромских крестьян, и в запрещении мо-
литвенных собраний штундистам, и в тысячах других фактов того же вку-
са» («Письма», стр. 223—224).
Сравнение не только прекрасно, и хоть сейчас в «Богословскую хресто-
матию», но оно и необыкновенно жизненно: «я виновен», «мы виновны» в
сожжении Аввакума. Это уж не то, что вяленькое историческое: «бысть со-
жжен в срубе индикта» такого-то и года.
Но что это за мораль? Христианская, евангельская? Это мораль просто
порядочного человека. И нельзя не видеть, как иногда она выше и здраво-
мысленнее, например, морали Толстого в его преувеличенно христианском
наклоне. Он пишет, например, Гроту: «К Толстому не поеду: наши отноше-
ния заочно обострились вследствие моих «Идолов» («Идолы и идеалы»), а я
особенно теперь недоволен бессмысленною проповедью опрощения, когда
от этой простоты сами мужики с голоду мрут» («Письма», стр. 71). Письмо
от 9 августа 1891 года, когда вся Россия была взволнована уже определив-
шимся, уже наставшим голодом. К этому относится курсив Соловьева в сло-
ве «теперь». Действительно, проповедывать образованному классу России
то «опрощение», от которого (между прочим) мужики мрут в голодном тифе,
— значит забыть всю реальную Россию под гипнозом евангельской пропо-
веди о «невинности и простоте», о чем-то «голубином» и «младенческом».
Несвоевременностью своей проповеди Толстой показал себя не только не-
сообразительным, но эта несообразительность перешла и в черствость. Со-
ловьев говорит здесь как мелкий публицист, но в повседневном глаз мелкого
публициста умеет разобраться лучше, чем глаз мудреца.
Письма драгоценны, между прочим, тем, что позволяют впервые рас-
смотреть некоторую искусственность богословских построений Соловьева.
Он пишет Страхову из Сергиева Посада, где встретил и провел рождествен-
ские праздники 1887 года, самой поры его богословских увлечений: «Пишу
вам из Троицы, где проводил все так называемые праздники («беззаконие и
празднование», как справедливо замечает один пророк), дабы провести их
по возможности непраздно, что мне и удалось. В эти три недели (письмо
помечено 11 января) я испытал или начал испытывать одиночество душев-
ное со всеми его выгодами и невыгодами.
Ах, далеко за снежным Гималаем
Живет мой друг,
А я один и лишь горячим чаем
Свой нежу дух.
394
Да сквозь века монахов исступленных
Жестокий спор
И житие мошенников священных
Следит мой взор.
Но лишь засну, — к Тибетским плоскогорьям,
Душа, лети!
И всем попам, Кириллам и Несторьям,
Скажи: прости!
Увы! Блаженство кратко в сновиденьи.
Впрочем, кроме монахов допотопных, мне приходится иметь дело и с
живыми, которые весьма за мною ухаживают, желая, по-видимому, купить
меня по дешевой цене, но я и за дорогую не продамся. Тем не менее, увлека-
емый благоразумием, я решился исключить из I тома моей «Истории тео-
кратии» вопрос о примате Петра» и т. д.
Под светом луча, брошенного в этом письме, мы безошибочно заключа-
ем, что все его «теократические» работы не были чем-то настоящим, а были
только «упражнением на тему». «Допотопные попы Кирилл и Несторий» —
это ведь св. Кирилл Александрийский, а Несторий — патриарх, поднявший
известное волнение в церкви, названное после победы над ним «несторие-
вой ересью». Все это — первые светильники эпохи вселенских соборов. Во
всяком случае, он заробел бы написать такое неучтивое стихотворение в от-
ношении тех «чиновников и воров» царства небесного, каковым именем он
назвал ангелов и бесов в одном цитированном ранее письме. Как резко и
сурово ответил он там Страхову: «Во все сверхъестественное верю больше,
чем в естественное». Тут — вера. А «попы», послепотопные и допотопные,
— это только полувера. Да и она едва ли есть: «Спор монахов исступлен-
ных» и «житие мошенников священных» не суть эпитеты даже полуверы.
Тут просто — ничего. И если посвящаются томы на разъяснение или прими-
рение этих «исступленных споров», то это не совсем чистосердечная дань
исторического почтения.
Тот же тон встречаем через пять лет в письме к М. М. Стасюлевичу. «О
бренном существовании своем не могу сказать ничего хорошего, — пишет
Соловьев. — Зеркало и гребень дают зловещие показания:
Цвет лица геморроидный,
Волос падает седой.
И грозит мне рок обидный
Преждевременной бедой.
Я на все, судьба, согласен,
Только плешью не дари:
Голый череп, — ах! — ужасен,
Что ты там ни говори.
Знаю, безволосых много
Меж святых отцов у нас;
Но ведь мне не та дорога:
В деле святости я — пас.
395
Преимуществом фальшивым
Не хочу я щеголять
И к главам мироточивым
Грешный череп причислять».
Что же представляет собою обширная ^чено-богословская система Со-
ловьева, — система, и по самому тому без «веры, надежды и вдохновенья»
изложенная? Едва ли мы ошибемся, если скажем, что это есть последняя
богословская система в Европе, — последняя, ибо самая суть систематиза-
ции и вообще логической обработки предметов веры, которая даже по кате-
хизису есть «вещей невидимых обличение», ложна в мотивах и былом пафо-
се. Религия есть молитва. Религия есть трепет крыл души, боящейся, угне-
тенной, тоскующей или блаженной неземным блаженством. Но религия —
не логика. Наконец, религия есть музыка. Со времен псалмопевца Давида
религиозная настроенность души требовала созвучий арфы. А разве логика
нуждается в аккомпанементе музыкальных инструментов? Из этой несов-
местимости уже можно видеть, что, где логика, там нет религии, а где рели-
гия, там неприменима логика. Между тем, «богословие» и есть применение
логики, — именно и только логики, — к невидимым и неисповедимым пред-
метам веры («вещей невидимых обличение»). Тут Соловьев был более вир-
туоз, чем другие; однако трапеция, на которой он проделывал невероятные
движения, непрочна, да и не привлекает более внимания. Ведь замечатель-
но, что в сфере церковных вопросов высшим критериумом для него остава-
лись просто суждение и совесть порядочного и образованного человека, к
инстанции которой он требовал все эквилибристические споры «послепо-
топных» монахов.
Настоящее Соловьева была его сумрачная, осенняя поэзия, затем неко-
торые суеверия первобытного склада, почти по типу ведовства и колдовства
(«черти» и т. п.), и затем его странное и страшно упорное предчувствие бли-
зости конца мира и пришествия Антихриста. В этих трех пунктах он мог
«клясться» и мог за них умереть. Остановимся на последнем из этих трех
пунктов. Уже в 1895 году он пишет поэту Величко, в то время редактировав-
шему правительственную газету «Кавказ»: «Будьте так добры, напишите,
подтвердилось ли известие о заключении союза между Японией и Китаем;
это очень важно». Так как Соловьев стоял вне всяких связей с дипломати-
ческим миром и не имел никакого решительно интереса даже к русско-фран-
цузскому союзу (о нем в письмах есть злые насмешки), то подчеркнутые
мною слова о важности для него знать о союзе между Японией и Китаем
показывают, что уже тогда в нем зрела тема известной «Повести об Анти-
христе», пришествию коего должен предшествовать разгром Европы японс-
ко-китайскими ордами. Таким образом, вот когда забродила у него тема, в
рамки которой уложилась русско-японская война. За восемь лет до нее, ког-
да о «желтой опасности» ни один человек в Европе не помышлял, когда не
прозвучал самый этот термин, потом пронесшийся по Старому и Новому
Свету. Здесь предчувствие Соловьева до того поразительно, и вместе оно
396
так документально засвидетельствовано, что может быть причислено к «чу-
десам» духовного зрения. Тут ни сомнению нет места, ни какому-либо ра-
циональному объяснению. Здесь мы говорим: «Пас. Не понимаю. Но вижу».
Незадолго до смерти он подробно (хотя несколько и забавно) изложил ход
завоевания монголами сперва России и затем Европы, причем даже приуро-
чил важнейшие битвы к определенным городам России и Европы. «Непре-
менно там-то будет бой». Это уже превосходит Козьму Пруткова и прибли-
жается к известному московскому Корейше. Но, устранив явно забавное,
нельзя не остановиться на серьезном: свет европейской цивилизации, хрис-
тианской цивилизации загаснет под напором желтолицых рас. Один фазис
этого ужасного цикла, предсказанного Соловьевым за восемь лет, мы не толь-
ко пережили, но в русско-японской войне странным и почти чудесным или
колдовским было то, что ведь мы не одержали там ни одной победы, не зах-
ватили в плен ни одной роты, и все вышло действительно так, как будто у
нас была «рука заворожена», а японцам кто-то «ворожил под руку». Этого
нельзя отрицать: вспомните смерть Макарова при первом выходе из бухты,
припомните, что адмирал Витгефт был убит первым ядром с японского ко-
рабля, попавшим именно в его корабль, и притом в самую рубку командую-
щего флотом. Не сказать, что «черт принес ядро», как и «подложил мину
Макарову», просто невозможно, и тут не суеверие родит объяснение, но чу-
десная действительность родит суеверие. Мы живем в рациональный, пози-
тивный век, и не сложилось о тех событиях суеверных рассказов и чудесных
легенд, но самая действительность была вполне суеверна, и творилась поис-
тине какая-то «чертовщина».
В «Трех разговорах» есть страница, которая поразила не одного меня
своим тоном и которая гораздо зловещее «Повести об Антихристе» с ее
забавными подробностями. Цитирую на память: «Замечали ли вы, — гово-
рит одно из действующих лиц, — как мало стало ясных дней? Я помню их
гораздо больше в детстве. Земная атмосфера заметно переменилась, именно
потускла, — и это не физическое, а духовное явление или физическое в за-
висимости от духовного. Это близкий уже Антихрист потемняет свет Бо-
жий». В моем изложении это слабо, потому что этому я не верю, но у Соло-
вьева это так грустно, так истинно сказалось, что при чтении я помню, что
вздрогнул. «В самом деле, как будто...» — этого нельзя не проговорить. Тут
Соловьев, как колдун, навевает. В сборнике его «Писем» есть следующее, в
Тифлис, к В. Л. Величко: «...Говорить о всем происходящем после нашей
разлуки — лучше и не пробовать. Ничего крупного, но
Есть бестолковщина,
Сон уж не тот,
Что-то готовится,
Кто-то идет.
Ты догадываешься, что под «кто-то» я разумею самого Антихриста. На-
ступающий конец мира веет мне в лицо каким-то явственным, хоть неулови-
мым дуновением, как путник, приближающийся к морю, чувствует морской
397
воздух прежде, чем увидит море. Mais c’est une шег a boire*. Сердечно кла-
няюсь Марии Георгиевне...» и проч., и проч. («Письма», стр. 232).
Вот это ведовское, вещунье начало было явно сильно в Соловьеве, и он
нес его, может быть, как скорбь, как тягость, не умея от него освободиться.
Да и хотел ли? Есть сладкие скорби, пусть это и «самопротиворечие». Он
обладал вещим даром или несчастьем, и этот — нельзя сказать, чтобы не
«супра-натуральный», — дар, который отнюдь не сводится только к «пред-
вещаниям», и выделил его из толпы в фигуру, одиноко стоящую и загадоч-
ную. В его отношении к людям есть высокомерие и холодность, и, несмот-
ря на любезность, почти приторную, во всякой писульке в три строки за-
метно, что он никого не любит и что ему постоянно тяжело и не до людей.
Отношение его к людям можно назвать неблагородным. «Вот и моя зубо-
тычина Страхову, многоуважаемый Михаил Матвеевич», — пишет он Ста-
сюлевичу («Письма», стр. 105), это еще до разрыва с ним и после того, как
он писал не только бесчисленное число раз «глубокоуважаемый и доро-
гой», но иногда и «дорогой, уважаемый и бесценный Николай Николаевич»
(стр. 41 и др.), и письмам которого он радовался, увидя только адрес с его
почерком. Да и вообще Страхов был чуть не вдвое старше Соловьева, так
же образован, как он, и, по словам, мне устно сказанным Э. Л. Радловым,
другом обоих недругов-друзей и издателем писем Соловьева, «был несрав-
ненно умнее Соловьева, хотя и не имел малой доли его творчества». Стра-
хов был действительно только критик, но «первоклассный в России» (сло-
ва Соловьева в письме). За что же старику «зуботычина»? Это неделикатно,
грубо и пошло.
Но Соловьеву было не до «церемоний»... Просто было самому тяжело и
постоянно тяжело. В Соловьеве главное, «заповедное» — его личность, ко-
торая притягивает гораздо более его «Сочинений». Я попытался собрать
некоторые крупицы «личного портрета», полное начертание которого воз-
можно будет по напечатании возможно большего материала, пока остающе-
гося в архивах частной корреспонденции. Изданный пока том дает порази-
тельно точную картину его жизненного habitus’а, его манеры жить, сносить-
ся, говорить, приятельствовать, шутить, дурачиться, передает его лицо, ус-
мешки и морщинки, его минуты возле зажженной лампы и над почтовым
листом, когда он отрывался или от вещих дум своих, или от журнальной
«поденщины». И эти черты драгоценны и без корреспонденции были бы аб-
солютно непредставимы и затерялись бы во времени. В жизни, в habitus’e
его точно вечно лихорадит, и «лихорадящий философ» или «лихорадящий
мистик» — его возможный эпитет. Все он уезжает или приезжает (как Го-
голь, вечно странствовавший). Для его «крыльев» жить на квартире —
слишком грузное состояние. «Не такова птичка». Он вечно жил по номерам
или в гостях. Раз жил в пустой квартире Страхова, откуда писал ему письма.
Вообще оседлая жизнь, постоянная жизнь и Соловьев — вещи несоизмери-
* Это море, которое надо познать (фр.).
398
мые. Даже, пожалуй, несоизмеримо с ним и понятие «оформленная жизнь».
Ванну он принимает, приехав в гости к Величко, а платье зачем-то оставляет
у Страхова. Так люди не живут. Но это другая форма для истины, что «Соло-
вьев жил не как все люди». Но если всякая птица по гнезду и гнездо — по
птице, то «жил не как все люди» показывает только, до чего Соловьев в таин-
ственной сущности своей был особлив от людей, мало похож на них. Он
заверял, и мы можем поверить ему, что он «знался с демонами», а его ясные
и возвышенные стихотворения, стихотворения столь человечные и благо-
родные, говорят нам, наверное, что все же лучшая часть его души была со-
хранена ангелами, которых посылает Бог. Он был очень несчастен, но те-
перь ему лучше, чем когда-нибудь на земле. К Радлову он написал четверо-
стишие о себе самом'.
В лесу болото,
А также мох,
Родился кто-то,
Потом издох (стр. 254).
Этих грустных издевок он не говорит ни себе, ни другим. Разве небо,
голубое небо покоило бы землю в такой красоте своей, если бы за преде-
лом земли не ожидало нас нечто светлое и музыкальное, некая баюкающая
мелодия, которая залечивает раны, которая прощает и утешает.
На всякий случай, если кто-нибудь, имея письма Соловьева, захотел бы
в целом или части напечатать их, с сохранением своего имени или без этого,
то вот адрес аккуратного их издателя, который по снятии копий вернет ори-
гиналы их собственникам: С.-Петербург, Загородный проспект, дом 24, Эр-
несту Львовичу Радлову (закрытым письмом, — как всегда писал и Вл. С.
Соловьев). Будем, друзья, копить память усопшего.
НОВАЯ КНИГА О РУССКОМ РАСКОЛЕ
Раскол русский есть такое же содержательное, интересное и нервное явле-
ние, как русская литература, — и можно сказать, что все те задачи и обсуж-
дения, с которыми историк русской литературы подходит к своему предме-
ту, их он нашел бы, подойдя к расколу, только в виде несколько переиначен-
ном, более грубом, но часто и более глубоком, более даже возвышенном и
страстном. Раскол есть собственные гадания русского народа о небе и зем-
ле, о правде и кривде, о вечном и временном, о житии и кончине человека, о
суде и совести, — в зависимости от толчка, полученного из церкви, от кото-
рой раскольники удалились, и по канве церковного учения, но собственные
уже потому, что это суть гадания оппозиционные, критические, враждеб-
ные официальному учению. Настоящий интерес раскола скрыт от нас фи-
лантропическим отношением к нему, едва ли даже уважительным. Расколь-
399
ники страдают; они несчастненькие; пожалеем их, как притесненных; эта
христолюбивая точка зрения, смотрящая на раскольников, как на нищенок,
конечно, справедлива с одной стороны, но она оскорбительна невниманием
к сердцевине всего дела. Раскольников проклинали, но ведь и они не благо-
словляли; их теснили, но ведь и они восстали! Тут огонь с обеих сторон,
жгучий, яростный. И значит, ничего не понять в деле и даже, значит, глубо-
чайше отрицать раскол, если смотреть на него с одной сердобольной точки
зрения. Раскол — не больница. Это возмущенная территория, это провин-
ции, поднявшие меч на метрополию, в духовном и идейном отношении. Это
война, и грозная война, где официальная церковь скорее обороняется, хотя
она и заключала в оковы и темницы. Конечно, «мученики христианства»
были нападающею стороною в отношении античного мира, а не этот антич-
ный мир, нимало не искавший с ними встречи, нимало их идеями не заинте-
ресованный. Подобное же положение, но лишь в миниатюре, повторилось и
в отношении раскола в нашей церкви.
Долго еще мы не получим настоящей, многотомной «Истории русского
раскола», долго еще нам ожидать многотомного же издания «Памятников
русского раскола», с напечатанием раскольничьих рассуждений, автобиог-
рафий, переписки их друг с другом, полемики, автозащиты, со снимками их
портретов и рукописаний и проч., и проч.; с изображением их костюмов,
жилищ, домашней утвари, любимых картин, иллюстраций, с передачею их
благоразумия и безрассудства. Мы не имеем даже фотографии с тех печаль-
ных могил, где закопались старообрядцы в Днепровских плавнях, а, по-мо-
ему, это интереснее «жилищ ископаемого человека». Небрежность русской
литературы в этом отношении дика и непростительна.
Хороший компендиум для первоначального, но зато полного ознаком-
ления с нашим расколом дает появившаяся книга г. Владимира Андерсона:
«Старообрядчество и сектантство, исторический очерк русского религиоз-
ного разномыслия». Книга начинается с первого летописного упоминания
о некоем «иноке Андреяне скопце», коего митрополит Леонтий «посади в
темницу» за укоризны церковным законам и епископам и пресвитерам. Это
внесено в летопись под 1004 годом! Отсюда начинается 900-летняя исто-
рия русского религиозного расщепления. Г. Андерсон хорошо делает, что
изложению истории и сущности каждого нового движения предпосылает
летописное уведомление о нем, т. е. дает то первое движение церковного
сознания, в котором оно формулировано, освещено и мотивировано. Это
очень правильно с методической стороны и очень помогает читателю ра-
зобраться и закрепить в памяти исходные точки необозримого множества
русских сектантских движений. Книга вообще проникнута здравомысли-
ем, — качество если и не очень глубокое, но зато удерживающее автора от
повторения темных и диких слухов касательно сектантства в тех случаях,
где эти слухи не подтверждены хорошо удостоверенными фактами. Так, он
отвергает причащение человеческим телом и кровью у хлыстов, ибо сооб-
щение это, сделанное известным Мельниковым, не имеет другого удосто-
400
верения, кроме ответа последнего, когда его стали определенно расспраши-
вать, что «ему говорил это один верный человек». Для полноты истории,
пожалуй, надо приводить и подобные рассказы, но скорее как характерис-
тику окружающей раскольников среды, как объяснение вражды к ним или
темного перед ними испуга. То же здравомыслие заставило автора удер-
жаться, при изложении учения и обрядов хлыстов, от выпуклого выставле-
ния пресловутого «свального греха», с которым и миссионеры и публика
чуть не отождествляют суть хлыстовства. Это та пошлая клевета, которую
охотно муссирует развращенное воображение читателей, слушателей, рас-
сказчиков и повествователей и где едва ли содержится хотя крупица под-
линной действительности. Возможно, что случаи и злоупотребления здесь
возведены в центр учений. Но это все одно, что сказать, будто намерением
и сущностью монастырской жизни являются тайное детоубийство и проти-
воестественные пороки, здесь иногда встречающиеся. Хлыстовство, кото-
рое в дальнейшей фазе развилось в скопчество, несомненно, есть экзальти-
рованное учение о девстве, о совершенном неосквернении тела, чем и объяс-
няется, что оно прививалось особенно в монастырях, где иногда весь со-
став монашествующих оказывался тайно увлекшимся в эту секту.
Совершенно правильно автор отвергает значение «секты» за иоаннитами.
Для образования секты необходимы известная догма, известное связанное
внутри учение, на что-либо опирающееся; нужны обособленная этика и
свой культ. Ничего подобного мы не находим у иоаннитов. Много страниц
посвящено автором духоборческому течению и связи его с толстовством.
Интересна одна сцена. Читают духоборы рассуждения Толстого, обращен-
ные к интеллигенции: «Да это все как у нас. И откуда только узнал это де-
душка?» — недоумевали духоборы. Другие говорили: «Дедушка Толстов
просветлел разумом, как узнал от наших стариков все заветы наших пред-
ков; научившись и постигнув всю эту великую премудрость, он теперь и
стал столбом до небес». Это наивное удивление всего лучше показывает,
что здесь мы имеем не зависимость одного учения от другого, и в особен-
ности не зависимость духоборов от знаменитого писателя, а просто два
родственные и сходные течения русской религиозной мысли, случайно
встретившиеся и радостно приветствовавшие друг друга. В качестве хоро-
шо составленного «руководства» книга г. Влад. Андерсона принесет боль-
шую пользу русским читателям, особенно приступающим к знакомству с
расколом. Она написана свежо, тепло и ясно. Автор работал по материалам
Публичной библиотеки, к сожалению, не пополненным личными наблюде-
ниями, личными странствованиями по Русской земле. углубления в дан-
ную тему это необходимо.
401
К ВОЗОБНОВЛЕНИЮ
РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ СОБРАНИЙ
Насколько в обществе нашем пробуждается религиозно-философский инте-
рес, насколько он ищет переступить с безнадежных плоскостей позитивиз-
ма к созерцаниям более глубоким и внутренним, — это более всего оформи-
лось в петербургских Религиозно-философских собраниях 1902 —1903 года
и в заседаниях Религиозно-философского общества 1907 — 1908 года. Вто-
рые составляли продолжение первых. Религия есть особая вибрация души,
sui generis*, — не всем знакомая; но манифестации ее в истории так огром-
ны, могущественны, неодолимы, всевластны, что хотя атеист, конечно, и
может сказать: «Я этого не знаю», т.е. «не испытываю», но он не может
отвергать ее объективного, вне его лежащего, существования. Религия есть,
и отрицать ее просто даже не позитивно, ибо позитивизм не может выкиды-
вать из поля своего зрения фактов. Но внутреннего и разумеющего отноше-
ния к этим фактам позитивист никогда не может иметь, — как дальтонист не
может судить о цветах и оценивать цвета: здесь по совершенно позитивным
основаниям позитивизм вынужден к очень скромным суждениям. Религи-
озно-философские собрания на обоих своих фазисах бились на два фронта:
против левого позитивизма, левого дальтонизма, и против правой, семина-
ризма и академизма, — т.е. той традиционной схоластики, которою увито
живое древо веры, увито, отягощено и отчасти скрыто и подавлено. По су-
ществу ссора и вообще по существу рассуждения, обсуждения, — в собра-
ниях, конечно, не было и не могло зазвучать то вибрирование души sui generis,
которое составляет зерно и суть религии: не такое там было место, не такая
была там тема. Тема была не излагательная, а критическая, поверочная. Но
в пределах этой темы, религиозного суждения, в собраниях за три года их
существования было высказано так много ценного, основательного и ново-
го, что решительно нельзя себе представить дальнейшего движения религи-
озной мысли в России, которое не имело бы отправною своею точкою этих
суждений. Степень новизны, неожиданности и разрушительности для тра-
диционной схоластики этих суждений всего образнее выразил известный
архиепископ волынский Антоний, сказав и напечатав, что на предстоящем
соборе русской церкви он предпочел бы иметь дело «лучше с каторжника-
ми, нежели с участниками этих собраний». Так как, однако, на них участво-
вали, без всякого протеста и негодования, некоторые епископы и много свя-
щенников, да и светские их участники были совершенно мирные люди, ни-
кого не зарезавшие и не ограбившие, то, очевидно, красочное суждение ар-
хиепископа волынского относилось исключительно к образу религиозного
суждения. А так как в то же время он ничего из этих суждений не опроверг,
— ни он, ни другие духовные писатели, и не писавшие, и писавшие о собра-
ниях, — то, очевидно, на них была выдвинута некоторая сеть суждений, и
* своеобразная (лат.).
402
трудно поддающихся критике, и разрушительных, как я сказал в отношении
к традиционной схоластике. Причем глубокое уважение и даже восторг к
вере русского народа и вообще к народной религиозности не раз высказы-
вались на этих собраниях, и это не имело исключений, ни оппонентов. Пе-
редавая не свою мысль, но ходячую и многократно высказываемую, я скажу,
что сумма идей, внесенных на этих собраниях, содержательнее и шире, но-
вее и жизненнее, чем догматические споры, разделившие когда-то гречес-
кую и латинскую церковь, и чем другие сомнения, послужившие потом при-
чиною возникновения реформации. Причем это относится просто к зрелос-
ти той культурной эпохи, того момента цивилизации, когда поднялись вновь
религиозные вопросы. Зрелое время более удалено от младенчества и наив-
ности, и серьезнее и основательнее вопросы, более глубоко копает умствен-
ный заступ. Таким образом, в подобном признании никакой умственной че-
сти или умственной заносчивости нет. Наоборот, приходится выразить глу-
бокое сожаление о личной слабости участников этих собраний, кажется —
и сознаваемой, а во всяком случае очевидной для наружного наблюдения.
Но не следует преувеличивать значение этого недостатка. Слова Пушкина о
поэте, что «пока не коснулся его божественной глагол», —
Меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он —
применимы и сюда. Житейское ничтожество поэта все же не мешает тому,
что именно он даст потом чудные строфы. И личная слабость нисколько не
отнимает важности и ценности у мыслей слабого лично человека. Это очень
надо различать. Обычно представляется, что «новое» в религии может при-
нести только праведник, святой, «апостольского» духа человек, словом, све-
точ личного поведения, личной биографии. «Покажи мне подвиги твои, и я
пойду за тобою» — так полагает человечество. Но не говоря о том, что ве-
личайший псалом, который до сих пор заучивают наши дети, готовясь в
школу, был сложен после унизительного греха, унизительного падения.
Можно и вообще заметить, что «праведность» есть качество следующего за
кем-нибудь, а не идущего впереди всех, это есть вторичное и пассивное свой-
ство повиновения, а не творчества. Праведники появляются в устойчивую,
среднюю эпоху, когда нет сомнения о заповедях, о заповеданном. Напротив,
религиозная новизна есть путь догадок, прозрений, сопоставлений, иска-
ний; и все это требует мысли, а не личного жития. Это подтверждается и
историею. Теперь мы привыкли к образу и деятельности Лютера; но для
современных католиков он был дурного поведения монахом. Вот почему
тот, кто, глядя издали на Религиозно-философские собрания и замечая, что
там трудились и трудятся все очень обыкновенные люди, как «я» да «он», и
на основании этого думает, что нечего и заглядывать в это обыкновенное, —
глубоко ошибается: то, что уже до сих пор было там высказано, гораздо цен-
нее, в смысле критики, прежнего, и как материал для построения нового,
чем те вопросы, около которых заволновалась Германия XVII века. Доста-
точно указать, что мы имеем среди евангельских книг одну, —Апокалипсис,
403
которая до сих пор не приведена ни в какое движение церковью, не читается
на богослужениях, не вошла в церковную живопись, и, словом, никак не
вошла в кругооборот христианской жизни и христианской мысли и как бы
остается запечатанною семью печатями. И действительно, что-то мешает
ее постигнуть, взять в руки, применить куда-то. Есть какой-то запор, зад-
вижка. В истории христианской мысли, впервые на Религиозно-философ-
ских собраниях в Петербурге эта пятая и непостижимая книга христианства
если и не раскрыта, то начала разгибаться: на нее постоянно ссылаются, ее
цитируют, на нее опираются. И что самое главное, появился какой-то дух,
какое-то одушевление, при котором стало сладко ссылаться на нее, манит
сослаться на нее, сладко привести из нее слова. Появился апокалиптичес-
кий вкус и апокалиптическая сладость, как несомненно в начале христиан-
ства языческий мир был побежден евангельскою сладостью, евангельским
вкусом. Я ограничиваюсь сжатым указанием, чтобы лишь подтвердить чем-
нибудь конкретным свои общие мысли. Пробуждение такого строя мысли,
такой настроенности сердца, что «запертая семью печатями книга» переста-
ет быть чуждою, холодною, непонятною и неинтересною, показывает, что:
1) собрания движутся, руководствуясь правильно-историческим духом, и
2) что самое движение чрезвычайно ново, и многоценно, и обещающе.
На этой неделе собрания возобновляются. Все обещает, что они приоб-
ретут еще большую, чем прежде, жизненность, — и за теснотою зала Гео-
графического общества будут, по-видимому, перенесены в другое место. Но
нельзя приходить в них только для слушания, для зрелища. Надо работать
мыслью, надо участвовать в их одушевлении или бороться с этим одушев-
лением. И для этого надо знать то, что было уже на них сказано, поднято в
виде вопроса или решено в положительном смысле. Мы пользуемся случа-
ем, чтобы указать, что все речи, произнесенные там, и прения по поводу их
стенографически записывались и напечатаны в трех книгах: 1) «Записки
петербургских Религиозно-философских собраний. 1902 — 1903 гг.». СПб.,
1906 г. 2) «Записки С.-Петербургского Религиозно-философского общества
1908 года». Выпуск I. 3) То же, выпуск II.
МЕЖДУ ТЬМОЮ И СВЕТОМ
(К инциденту в Религиозно-философском
обществе)
Во время чтения доклада в собрании Религиозно-философского общества,
13 ноября, была получена из канцелярии градоначальника бумага на имя
председателя общества, уведомлявшая, что «прения», заявленные на повес-
тке общества и о которых, конечно, было заранее известно градоначальнику,
«не разрешаются».
«Прения» эти существовали все три года: в 1902 г., в 1903 г., в 1907 —
1908 годах. О них всегда давались отчеты в газетах.
404
На собрания нельзя было проникнуть по покупному билету. Билетов не
было. Собрания были в том отношении «закрытыми», что на них можно
было попасть только по повестке, а повестки рассылались только действи-
тельным членам и членам-посетителям общества. В число последних, с край-
нею критикою, вносились только имена лиц, предварительно письменно
сообщивших совету общества о своем желании посещать собрания и, не-
пременно, об основательности к допущению — в качестве или списка фило-
софских, богословских или литературных трудов, или указания на теорети-
ческие запросы в области религии. Без указания подобных мотивов все про-
стые просьбы, устные и письменные, всегда, безусловно, отвергались в 1902,
1903 и 1907 — 1908 гт. Насколько трудно было попасть в собрание без этих
предварительных сношений, можно видеть из следующего маленького при-
мера: перед дверьми зала, где происходило заседание 13 ноября, ко мне об-
ратилась известная писательница Лидия Ив. Микулич с просьбою провести
в зал приехавшую с нею из Царского Села сестру покойного Влад. С. Соло-
вьева — М. С. Безобразову, также писательницу. Я ответил, что это невоз-
можно не только для г-жи Безобразовой, но и для самой г-жи Микулич, если
она не имеет повестки. На повторные просьбы я обратился с секретарю об-
щества, пропускавшему в зал. Он отказал пропустить этих двух известных
и почтенных писательниц, несмотря ни на какие мотивы. Вызвав председа-
теля общества, я вместе с ним просил секретаря впустить; он вторично от-
казал, сославшись, что правило для всех одинаково. И только вмешатель-
ство еще третьего члена совета, который с нами двумя (председателем и
мною) уже образовывал большинство совета (3 из 5), названные лица были
пропущены. Привожу эту подробность, дабы показать, до какой степени из
зала собраний был устранен всякий элемент случайной толпы и до чего во-
обще все это было именно собеседованием, спором, часто горячим спором,
но только лиц, носящих в себе религиозные запросы, о любимых темах сво-
ей жизни и мысли.
Всякая политика из этих собраний была устранена: все ежедневное, «се-
годняшнее», шумное, действующее на суету и нервы. Это было не только
устранено, но это и не входило никогда сюда, потому что и члены-учредите-
ли общества, и его посетители вовсе этим не интересовались. Собрание было
тихою академиею, занятою мучительными темами, — жгучими и славны-
ми, но для души, а отнюдь не для государства в его социальном и полити-
ческом осложнении.
Характер собраний был так далек от «текущей политики», что, говоря
искренно, представляется совершенно непостижимым вмешательство сюда
полиции, вмешательство мотивов «чрезвычайной охраны», ибо тогда «ох-
рана» может вмешаться в размещение инструментов астрономической об-
серватории, в расположение минералов в геологическом кабинете Горного
института... Мне совершенно понятны мотивы охраны; не боясь свистков, я
заявляю от себя лично, что вполне уважаю и существо полиции, и ее заботы
о «невозмущенности граждан». Этого, кажется, достаточно: заявив это, и
405
вполне чистосердечно, я сохраняю право со столь же большой чистосердеч-
ностью выразить изумление, каким образом полиция переступает физичес-
кие границы, какими она естественно ограничена, и вмешивается в духов-
ную область, где она просто не компетентна, не видит, не осязает, ничего не
«должна» и ничего не может.
Все это так само по себе очевидно, что является сомнение, не последо-
вала ли в этом случае полиция настойчивым желаниям духовного ведом-
ства, которому единственно может не нравиться обсуждение религиозных
тем, ибо для него «тем» нет, все уже «решено» и скреплено «нашей безгра-
мотностью» или «святейшей безграмотностью». Известно, что в пору цен-
зуры «отцы архимандриты», бывшие цензорами, «запрещали вообще все»,
в том числе даже печатание картин библейского содержания. «Отметаем и
не смотрим», «осуждаем и не взираем»... Но пожелание — одно, а право —
совсем другое. Раз объявлена свобода религиозной совести, свобода не шум-
ная, а для каждого своя и внутренняя, тем самым и все собеседования, по-
добные происходившим в Религиозно-философском обществе, дозволены и
подлежат именно охране внешней власти, в том числе и охране градона-
чальника. «Отцы», конечно, не компетентны в юриспруденции и готовы всех
заставить замолчать: но на это они должны получить устойчивый ответ, что
закон писан и для «отцов».
Представляется, во всяком случае, поразительным и чем-то явно слу-
чайным и недоразумением, что то явление русской и петербургской умствен-
ной жизни, которое свободно существовало и литературно выразилось в 1902
и 1903 гг., встретило «меры пресечения» в 1908 году! Обращаясь к верхам
власти, нельзя не заметить, что это идет вразрез со всем духом и направле-
нием ее же, насколько она является властью преобразованной и обновлен-
ной. Ведь этот дух и направление состоят в том, чтобы дать упорядоченным
русским силам свободу развития каждой и свободу соперничества друг с
другом. В этой перемене, и ни в какой другой, заключается суть 17 октября.
Власть перешла от положения распорядителя всеми русскими силами, все-
ми русскими работами, всеми русскими начинаниями к положению наблю-
дателя и охранителя этих сил, работ и начинаний, предупреждая и устра-
няя лишь анархическую их борьбу, переходящую в драку, побоище и дебош.
Вот и все. «Трудитесь все, каждый по-своему, в меру таланта своего, сил
своих: я вас не дам никому в обиду, ибо дети все равно дороги отцу». Вот
новый лозунг нового государства. Это и есть условие воскресения России.
Это и есть новая нравственная ее свобода, ставшая на место прежнего чер-
ного насилия, где все было безответно и все было «без объяснений». И мне
совершенно непонятно, чистосердечно непонятно, как в условиях этой нрав-
ственной свободы была причинена обида, горькая и злая, Философско-ре-
лигиозному обществу.
406
<В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМ
ОБЩЕСТВЕ>
26 ноября состоялось закрытое заседание Религиозно-философского обще-
ства. Из прочитанных докладов, В. В. Розанова и В. А. Тернавцева, особен-
но вызвал прения последний. С большой глубиной и сердечностью г. Тер-
навцев говорил, что народ наш носит в себе задатки другого благочестия,
нежели какое внушала ему церковь. Церковный идеал — аскетический, мо-
настырский, уходящий от жизни и чуждающийся труда; тогда как в народе,
безмерно преданном церкви, есть другое благочестие, благочестие земле-
дельства, свято чтущего землю и свято ее работающего. Народные приметы,
знание им месяцев и дней в году со всеми их отличительными признаками,
и вообще вся совокупность отношений народа к земле, к плугу, к хлебу, к
растению, — отношение его к домашним животным, все это благочестиво и
религиозно. И когда образованные классы «пошли в народ» и «поклонились
народу», они пошли за этим новым благочестием, и многие из образован-
ных людей исцелились, прямо «сев на землю», т. е. войдя в труд и дух этого
народного благочестия. Доклад этот вызвал страстные прения. Из говорив-
ших некоторые были или очень красноречивы, как проф. Рейснер, или очень
одушевлены, как писатели Вячеслав Иванов, Леонид Галич, г. Мережков-
ский и г. Неведомский. Оживленные и очень содержательные дебаты не были,
к сожалению, на этот раз стенографированы, как это делалось со всеми пре-
дыдущими, и литературное значение их пропало.
<КРУЖОК К. А. ГУБАСТОВА В ПАМЯТЬ
К. Н. ЛЕОНТЬЕВА>
По инициативе К. А. Губастова, бывшего нашего посла при папском дворе и
затем товарища министра иностранных дел, образуется кружок из лиц, со-
единенных глубоким уважением к личности и литературной деятельности
покойного публициста-романиста и критика К. Н. Леонтьева, автора двух-
томного сборника статей «Восток, Россия и Славянство» и рассказов «Из
жизни христиан в Турции». Кружок будет иметь целью изучение личности
замечательного писателя, собирание материалов для его полной биографии
и распространение в обществе его произведений. В кружке примут участие
люди совершенно разных, до противоположности, политических убежде-
ний, соединенных уважением к выдающемуся характеру покойного писате-
ля и к замечательным достоинствам его литературного стиля, без всякого
отношения и без всякого одобрения его политической программы. Словом,
— это культурный кружок, соединенный интересом к замечательной куль-
турно-исторической личности, и только. Те, кто пожелал бы так или иначе
отнестись к этому кружку или дать ему ценные сообщения о названном покой-
ном писателе, благоволят обратиться к К. А. Губастову, Конюшенная ул., д.1.
407
<О РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМ
ОБЩЕСТВЕ>
Собрание Религиозно-философского общества 16 декабря закончилось нео-
жиданным инцидентом, который, если повторится 2—3 раза, грозит собра-
ниям самоупразднением. После интересного и очень содержательного док-
лада А. А. Мейера «Религия и культура» открылись прения. Доклад заклю-
чал в себе некоторые противоречия: религия ставилась гораздо выше куль-
туры, которая, однако, изводилась именно из религии; говорилось, что
религия питает культуру и вместе отрицает ее; на политику и обществен-
ность был кинут взгляд, полный высокомерия. Оппонентом выступил г. Столп-
нер, который с едким сарказмом выставил все «но» доклада и его «или»,
мешающие в нем что-либо понять или что-нибудь из него принять; в даль-
нейшем течении речи г. Столпнер высмеял всех главнейших участников со-
браний, гг. Мережковского, Философова, Вяч. Иванова, А. Блока, А. Белого
и Бальмонта, сказав, что у них у всех не религия является верховным су-
диею земных дел, а, напротив, литературная впечатлительность, отзываю-
щаяся на могущественные общественные и политические течения, застав-
ляет напевать различные до противоположности религиозные мотивы; и что
во всех этих мотивах слышится слабое понимание политики и никакой ров-
но религии. Удар пришелся не в бровь, а в самый глаз. Выступил с громо-
вым ответом Д. В. Философов, который, хоть и запоздав, призвал оратора к
порядку: «Мы сюда собираемся не для выслушивания взглядов на отдель-
ные личности, а для обсуждения известных идей; и г. Столпнер, если хочет
говорить впредь, должен избегать личных объяснений». Но после этого за-
явления выступил Д. С. Мережковский, который именно вступил в личные
объяснения, начав рассказывать свою литературную автобиографию и о своем
знакомстве с Глеб. Успенским и Михайловским. Всех это удивило, и из пуб-
лики выступила г-жа Ветрова с заявлением негодования, что ни она, ни, ве-
роятно, другие не пришли бы сюда слушать партийные перекоры литерато-
ров, что задача собраний была объявлена выше. Все это закончилось уже
совершенно невозможным заявлением председательствовавшего А. В. Кар-
ташева, что к произнесению речей нужно допускать не всех, а только 5—6
ораторов по выбору членов совета общества. Так как это нимало не выража-
ло мнения членов совета, а было личным и нечаянным мнением только са-
мого председателя, то поднялись протесты и из публики, и от членов совета.
Все разошлись с полным неудовольствием.
408
НОВЫЕ ТРУДЫ ПО ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ
Профессора философии в высших учебных заведениях Петербурга если и
славятся своей мрачностью, страдая, кажется, сплошь печенью, то отече-
ство все-таки не может не поблагодарить их за то, что они чрезвычайно тру-
дятся в своей сфере. Они образовали философское общество при Петербург-
ском университете, и в сравнительно короткое время это общество издало
переводы монументальных трудов по философии: Декарта — «Метафизи-
ческие размышления» (А. И. Введенского), Аристотеля — «Никомахову эти-
ку» (Э. Л. Радлова), Беркли — «Трактат о началах человеческого знания»
(Н. Г. Дебольского) и в особенности огромный и интереснейший труд Ма-
лебранша — «Искание истины» (Э. Л. Радлова). Сверх этого «Критику чис-
того разума» Канта вновь и превосходно перевел Н. О. Лосский. Выделяем
его, потому что издан он был не философским обществом. В совокупности
это образует уже весьма порядочную библиотеку классических западноев-
ропейских философов на русском языке. Вполне сочувствуем мысли изда-
вать полные переводы философских творений, которые нам кажутся лучше
системы отрывочных переводов, т. е. перевода некоторых извлечений из ка-
кого-либо трактата, каковой системы придерживалось московское психоло-
гическое и философское общество. Но еще большее практическое значение,
чем перечисленные выше переводы, должен получить только что закончен-
ный перевод «Истории философии» Виндельбандта проф. А. И. Введенско-
го. Первый и наименее обширный отдел ее — «История древней филосо-
фии» — вышел в нынешнем году уже четвертым изданием и сделался на-
стольною книгою всех учащихся философии в университете и всех учащих
философию в средних школах. И одновременно с этим 4-м изданием I тома
вышло 2-е издание двухтомной «Истории новой философии в ее связи с об-
щей культурой и отдельными науками», коей первый том обнимает историю
философии от Возрождения до Канта, а второй том излагает историю фило-
софии от Канта до Ницше. Конечно, очень печально, что русские препода-
ватели философии за сто лет существования у нас университетских кафедр
ее не смогли сами и от себя дать историческое изложение и историческое
освещение фактам и личностям истории философии; печально и, наконец,
несколько постыдно. Но что же делать: при таком положении остается пере-
водить. История Виндельбандта совершенно заслоняет собою, по соедине-
нию в ней научности и философского духа, не только старую и излюблен-
ную гимназистами историю философии Льюиса, но и другие то более по-
верхностные, то до мертвечины сухие истории, как маленькая история Цел-
лера, переведенная проф. Каринским, Альфреда Вебера, перевед. проф.
Козловым, и другие более ранние переводы, как Швеглера и проч. К перево-
ду привлечены были проф. Введенским слушательницы Высших женских
курсов — и подобная работа, конечно, есть превосходное упражнение для
молодых умов. С тем вместе с помощью этих слушательниц, к которым сле-
довало бы присоединиться и студентам университета, и студентам здешней
409
духовной академии, — переводческую работу можно сделать очень обшир-
ной, и лет в 20 можно было бы усвоить русской литературе главные памят-
ники всего прошлого философии, от греческих «физиков» до моральной
лирики Шопенгауэра, Гюйо и Ницше. Думая о последних и сравнивая их с
Кантом, нельзя не удивиться, до чего философия за полувек изменила дух
свой и все задачи. Из размышляющей она стала певучею, из ученого кабине-
та перешла на площадь, — и волнует умы и сердца, города и страны, как это
было только в Греции и раннем христианстве с учителями церкви. Это очень
многозначительно в смысле культурного показателя. Человек не хочет и не
умеет более жить одним умом, уходить на всю жизнь в одно размышление,
— и появление таких чудовищных умов, чудовищных по размерам и все-
объемлемости, по глубине и проницательности, как Кант или Аристотель,
— стало невозможно, может быть, на очень долго, может быть, даже на-
всегда. Кант есть такое же чудо природы, редкий феномен ее творческих
сил, как Рафаэль. И как бы хороши ни были лирические песни теперешних
философов, — никогда человечество не перестанет вглядываться в то, что
же открыл в мире, каким нашел его этот исключительный до странности, до
необъяснимости ум.
Ф. Н. ПЛЕВАКО
(Некролог)
Умер Федор Никифорович Плевако, — «московский Златоуст», и в лице его
угасло сочетание разнообразнейших дарований, между которыми дар су-
дебного слова был только самый выдающийся, но не единственный. Веро-
ятно, это был единственный случай присяжного поверенного, который в то
же время в течение долгих лет был старостою церковного собора. Но он
любил все русское, этот самоцветный русский камень: любил государство
русское, церковную службу нашу, русскую литературу; любил весь русский
быт, купечество и духовенство наше, — эти коренные русские сословия. Знал
монастырь русский, — этот оригинальнейший уголок русской жизни. Таким
образом, всеми фибрами души своей он связался с русскою действительно-
стью, — и эта интимная связанность чрезвычайно усилила, украсила его
судебную речь. Ведь судебная речь всегда бьется пульсом животрепещущей
действительности. И вот, всходя на кафедру, он загорался этими многоцвет-
ными огнями, которые постоянно тлели в душе его, а в нужный час он раз-
дувал эти огни в пламя. Фигура его, лицо его, его голос и, наконец, тонкий
художественный ум очаровывали слушателей и заплетали души их в тенета,
как заплетает русалка утонувшего. Даже читая его речь, трудно было не под-
даться обаянию, очарованию; трудно было удержаться, чтобы не сказать «да»
в ответ на призывы виртуоза слова. Необыкновенно печально, что этот рус-
410
ский талант вошел в Г. Думу уже в глубокой старости: иначе мы имели бы в
лице его не только первенствующего на протяжении многих лет судебного
оратора, но, может быть, имели б и выдающегося политического оратора.
Но этому не суждено было случиться. Пока мы хороним в нем и прощаемся
в нем с богатою русскою натурою,— как залогом еще богатейших в буду-
щем русских возможностей. Он был москвич, и в то же время имя его и
ораторский образ его горели много лет над всею Россиею.
Ф. Н. родился в 1842 г. По окончании курса в Московском университете
по юридическому факультету зачислился на службу при судебной палате. В
1870 г. Ф. Н. вступил в сословие присяжных поверенных. Почти вся адво-
катская деятельность Плевако прошла в Москве. Первые же его речи в суде
сразу обнаружили огромный ораторский талант. В молодости Ф. Н. зани-
мался научными работами. В последние годы он примкнул по политичес-
ким воззрениям к партии 17 октября и играл в союзе довольно видную роль,
являясь его вдохновителем, неустанным пропагатором его идей в провин-
ции и выступая на многочисленных собраниях. При выборах в Г. Думу тре-
тьего созыва он выставил свою кандидатуру и был избран в октябре 1907 г.
депутатом от Москвы.
О ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ «ЛИСТВЕ»
РОЗАНОВА
Публицистика представляет собой большую часть творческого наследия
В. В. Розанова. Многие свои статьи в периодических изданиях Розанов исполь-
зовал при написании больших книг, составлении сборников на ту или иную
тему, однако значительный корпус его газетных и журнальных публикаций
до сих пор остается непереизданным.
Материал этот разнообразен, пестр, в высшей степени показателен в
отношении многосторонности творческих интересов писателя. Розанов-пуб-
лицист был поистине всеяден, писал практически на любые темы и в любых
жанрах (статьи, очерки, эссе, фельетоны, заметки и т. д.), но это никогда не
означало, что он готов писать о том, что по-настоящему его не занимало.
Каждую тему свою Розанов любил, в каждый повод к писанию он так или
иначе «влюблялся» и вкладывал страстность своего публицистического пись-
ма. Вместе с тем Розанов был профессионалом — он умел писать для раз-
ных изданий и выступал в газетах и журналах противоположных идеологи-
ческих направлений.
В ноябре — декабре 1910 г. в газете «Новое Время» был опубликован
небольшой цикл Розанова «Литературные и политические афоризмы (Ответ
К. И. Чуковскому и П. Б. Струве)», в котором он разъяснил свою творчес-
кую манеру: «Где начинается факт—для писателей начинается священство...
Факты загибами своими, своею изменчивостью, своим предательством ро-
дят новые и новые мысли, совсем другие мысли, «чем вчера»... Условность
и искусственность печати сжимает всякого «натурального человека», «нату-
рального писателя», и он, подобно рыбе из-подо льда, бросающейся к про-
руби, — бросается из издания в издание... к левым, к правым, к средним, ко
всяким...»
Этот цикл был ответом одновременно на «Открытое письмо В. В. Роза-
нову» Чуковского и на статью Струве «Большой писатель с органическим
пороком», в которых они выступили с резкой отповедью политической «бес-
принципности» Розанова. Критикам казалось, что Розанов изменил сам себе,
изменил собственным идеям и оценкам, которые высказывались им ранее: в
412
статьях 1901—1906 гг., собранных в книге «Когда начальство ушло» (СПб.,
1910). Струве обвинил Розанова в бесстыдстве, в политическом приспо-
собленчестве и сделал категорический вывод, что у него «нет никакого соб-
ственного стержня».
На первый взгляд аргументы тех, кто уличал Розанова в «цинизме» и
«двурушничестве», были ясны и логичны. Так, в упомянутой книге, увидев-
шей свет в апреле 1910 г., и в статьях, выходивших буквально в те же месяцы
в газетах, можно было прочесть вещи диаметрально противоположные: в
книге освободительное движение и чиновничество уподобляются «трудо-
любивому муравью» и «нарядной стрекозе» из басни Крылова, однако в
новых статьях революционеры-освободители названы «социал-сутенерами»,
которые едят дармовой, не заработанный ими хлеб. Подобных примеров
можно было собрать множество (и критики их собирали), при этом замеча-
ли иногда и существенную разницу розановских оценок в статьях, написан-
ных в одно и то же время, но для газет разных «платформ». В «Опавших
листьях» (Короб 2-й) Розанов сам признавал, что, бывало, «писал одновре-
менно «черные» статьи с эс-эрными. И в обеих был убежден».
Однако при более вдумчивом рассмотрении оказывается, что все не так
просто. Именно обоснованию своего взгляда на литературу, публицистику и
на их место в идейной борьбе Розанов и посвятил свой цикл «Литературные
и политические афоризмы», в котором писал: «Я с разными говорю на раз-
ных и языках: но говорю слова мои, именно ту часть моих слов, какая чув-
ствуется и оказывается общею со слушателем. В каждом издании я виден не
весь', но в каждом издании видна моя истина...»
То, что сказал Розанов о политике своим оппонентам, выглядит как из-
девательство, если встать на их точку зрения. Например, Розанов обличает
своего обличителя: «Способность «спеться в партию» или «сделать ис-
кусный ход в парламентской борьбе». Все это глупости, никому не нужные.
России не нужные. Поэтому дар песен и даже дар чутко слушать песню есть
великий государственный дар, и его следовало бы принимать во внимание
при установке «прав государственной службы», «голоса при выборах» и
проч.». И далее: «Одно и то же предложение «дождь идет» может быть ис-
тинно и не истинно: оно истинно, когда действительно дождь идет, а когда
солнце светит — уже не истинно».
Однако же, с розановской точки зрения, это никакое не издевательство,
а предельно серьезные, даже пафосные мысли. «Песня Гретхен решает для
меня «политику», — пишет он в этом же цикле, — и чему она улыбнется —
тому улыбнусь и я, а что она проклянет и возненавидит — отвернусь от того
и я. Даже еще подведу «философию» под ее улыбку и проклятие». «Вы с
сапогами и «кадетами», — замечает Розанов в адрес Струве в другом месте,
— залезли в область, куда вам никогда не следовало входить и где нельзя на
вас смотреть иначе как на «иностранца», «чужака»...»
Художественный дар, «верное служение своему глазу» ставились Роза-
новым выше политики, литература ставилась им выше фракционной борь-
413
бы, в которой он принципиально не участвовал. Однако Розанов не только в
литературном методе, но и в идейном, метафизическом своем корне оста-
вался верен себе и «своему Богу», о чем не подозревал Струве. Знакомство
с газетными публикациями Розанова как нельзя лучше дает представление
об этом.
В газетах и журналах, крупица за крупицей, слово за словом, Розанов
перерабатывал тот же материал, который закладывался им в основу всех его
больших произведений — сборников и книг. Но если в больших произведе-
ниях он сам создавал «художественное и смысловое целое», вкладывал не-
кую тенденцию, подчинял волевому усилию естественное течение мысли,
то в своей поденной работе в газетах сделать этого он никак не мог. Газетная
«листва» Розанова — это весьма объективный критерий как его таланта, так и
его духовных, жизненных ценностей. По нашему мнению, никакого хамеле-
онства, приспособленчества в стихийном, спонтанном Розанове-публицис-
те не было. Были темы главные — лейтмотивы его творчества, его самые
заветные думы, — а были более случайные, вызванные моментом и ситуа-
цией.
Первое, что обращает на себя внимание в публицистике Розанова, —
достаточно стабильное соотношение его тем. Внимание к различным сторо-
нам общественной жизни России было ровным и практически не ослабева-
ло: так, общественно-политические статьи на протяжении предреволюци-
онного десятилетия (1906—1917) составляли из года в год примерно треть
его публицистики, религиозной тематике была посвящена почти каждая чет-
вертая его статья, вопросам образования он посвящал, как правило, каждую
восьмую статью (в 1908 и 1910 гг. эта тема волновала его больше, чем обыч-
но), темам семьи, брака и пола — каждую десятую.
Лейтмотивы Розанова сохраняли завидную устойчивость, а сам он от-
личался редкостным упорством в следовании своей идейной позиции, в рас-
крытии заветных тем.
Одной из таких тем было осмысление религиозной жизни России, взаи-
моотношения православия с государством, русским народом, с институтом
семьи. Позиция Розанова в своем фундаментальном измерении оставалась
по существу неизменной, но выражалась в разные годы творчества по-раз-
ному: если в более ранний период в подаче религиозных вопросов преобла-
дают философичность и историчность, то в поздний период (начиная с 1914 г.)
заметна социальная обостренность, проблемность розановских статей.
Критический настрой к административной системе церкви в 1916—1917 гг.
у Розанова ослабевает, он вновь увлекается религиозно-философской поле-
микой. Однако и в более ранний период, даже в 1906—1908 гг., отрицание
церковного христианства, отрицание исторически конкретных форм право-
славия, его аскетических традиций, «духовного ведомства», «обер-прокура-
туры», консисторских злоупотреблений и т. д. не было полным и радикаль-
414
ным. Это было отрицание не со стороны врага, а со стороны сурового и
жесткого доброжелателя, указывающего на перерождение христианского
мироощущения, когда, по выражению Розанова, «на месте аввы кроткого»
появился «иуда алчный». Даже в самых едких своих статьях Розанов оста-
вался на позициях возмущенного православного человека, а не отступника,
он обличал не православие как веру, но историческую беду: то, что языки
духовенства «ометаллились», то, что из христианства уходит жизнь.
Очень много статей на тему религии Розанов печатал в газете И. Д. Сы-
тина «Русское Слово», с которой он сотрудничал с конца 1905 до конца 1911г.
С 1906 г. он выступал й этой газете под псевдонимом В. Варварин. Помимо
религиозной темы Розанов печатал в «Русском Слове» и статьи по вопросам
общественно-политическим и по вопросам культурной жизни, здесь же он
напечатал циклы своих путевых очерков: живописующий Волгу «Русский
Нил» и кавказский цикл (1907), цикл о Германии (1910). В целом в этой
газете Розанов выступал с более оппозиционных, более критических пози-
ций, чем на основном своем поприще, в газете «Новое Время» А. С. Суво-
рина. После прекращения сотрудничества с «Русским Словом» религиоз-
ные темы в публицистике Розанова занимают уже меньший удельный вес,
поскольку в «Новом Времени», где ему платили не только гонорары, но и
жалованье, он не был столь свободен в критике церкви.
В обличительных мотивах у Розанова внимательный читатель всегда
может усмотреть иную, утверждающую мысль. Так, в статье «О вещах бес-
конечных и конечных» (Русское Слово. 1910. 16 октября) критика незаметно
оборачивалась своего рода гимном народной церковности. Розанов говорил
об искусственности, смехотворности, просто невозможности тех «отлуче-
ний от церкви», которые пыталось предпринять «духовное ведомство», его
преимущественно светские руководители, в отношении писателей: «Беско-
нечность церкви — им неясна, неуловимость церкви — им невразумитель-
на. От этого им не представляется ясным, что значит перерезать «пупови-
ну», соединяющую русского человека с его церковью... Говоря терминами
Аристотеля, «церковь есть энтелехия народа». ...То есть это есть скрытая,
сокровенная будущая цель, которую вырабатывает народ за все время свое-
го существования...» Статью эту Розанов завершил притчей, в которой рас-
сказал о матери-старушке, беспрестанно заботящейся о своем вольнодум-
ном сыне, молящейся о нем, неверующем и не ходящем в церковь. Однако
они друг друга разностью своих убеждений не попрекают (естественная «сво-
бода совести»), но после смерти матери молитвы ее вдруг возымеют свое
действие, и в сердце сына что-то шелохнется, «затеплится новым светом», и
он постепенно станет и молиться, а в старости и вовсе будет во всем похо-
жим на свою мать. «Эта миниатюра домашней жизни, — говорит Розанов,
— могла бы послужить и прообразом, и руководством большой жизни цер-
кви и ее отношений к «неверующим».
Религиозная публицистика Розанова не ограничивалась проблематикой
православия в России. Примером статьи, в которой размышления о христи-
415
анстве и восточных верованиях достигли уровня глубоких религиозно-фи-
лософских обобщений, может быть пасхальное эссе «Чудо Востока» (Рус-
ское Слово. 1910. 18 апреля). Данная публикация — образец «газетной по-
эмы», в которой предвосхищены были не только мысли представителей
евразийства 1920-х гг., но и многие мотивы у русских (советских) «ориен-
талистов», ученых и гуманитариев, увлеченных восточными культурами.
«Европа, — писал о ней Розанов, — во всех своих «успехах» не должна,
однако, забывать, что она вся состояла бы в своей истории и «цивилиза-
ции» из красиво сложенных мелочей, если бы в нее не вошли новым зер-
ном чудовищные (по огромности) мысли и факты, рожденные Азиею... Ее
чудеса, ее магия, ее святыни. .. .Европа должна быть скромна. Чудеса — не
из нее. Кроме технических, — но эти не в счет, как лишь подобия настоя-
щих живых чудес. Родиною настоящих живых чудес была и останется Азия,
где есть «тяготы земные». Европа жила и будет жить и должна жить этим
пульсом, идущим в нее из далеких и непонятных стран Азии...»
Весьма значительное место в творчестве Розанова занимали литератур-
ная критика и статьи о культурной жизни. В газетах и журналах он не обо-
шел вниманием практически никого из заметных писателей России XIX и
начала XX в., создал множество отзывов как на зарубежных, так и на отече-
ственных авторов, на художественные и научные книги, на многие события
в жизни театра, музыки, живописи. Нередко в литературно-критических ста-
тьях Розанова звучали темы политические, особенно часто это проявлялось
в его полемических выступлениях 1911—1912 гг. В 1915—1916 гг. Розанов
печатался в газете В. М. Скворцова «Колокол» под псевдонимом В. Ветлу-
гин. В «Колоколе» была напечатана интереснейшая серия статей Розанова о
московских «новых славянофилах». В те же годы Розанов часто и много
писал для «Московских Ведомостей». В 1916 г. на страницах нескольких
газет и журналов развернулся его публицистический спор с Николаем Бер-
дяевым.
Из года в год Розанов как публицист тщательно отмечал новые веяния в
сфере образования. Сам выпускник Московского университета и школьный
учитель, автор «Сумерек просвещения», Розанов глубоко сопереживал рус-
скому учителю и преподавателю, равно как гимназисту и студенту. Он пи-
шет не только о гимназиях и университетах, но и об учебной литературе, и о
программах Министерства просвещения, и о духовных учебных заведени-
ях, и о женских училищах. Женскому образованию, частным гимназиям для
девочек, воспитательным заведениям «ведомства Императрицы Марии»
Розанов посвятил немало своих статей, поскольку в этой теме пересеклись
его излюбленные мотивы: собственно образования и педагогических прин-
ципов, семейной жизни, подготовки к вступлению в брак и т. д.
В этом смысле очень интересна и актуальна статья Розанова «Перед за-
дачами женского образования» (Новое Время. 1912. 18 июля), в которой ав-
тор еще раз доказывал, что только через семью возможно полноценное ис-
416
целение современной культуры от ее пороков и болезней. Афористически
он выразил это позднее в «Опавших листьях»: «Не университеты вырасти-
ли настоящего русского человека, а добрые безграмотные няни». В нововре-
менской же статье он обрушивается с критикой на Министерство просвеще-
ния, которое не задумалось над необходимостью разработать различные про-
граммы для женских и мужских училищ, забыв тем самым про насущные
потребности всей страны, каждой семьи, каждого дома: «Как забыть всю
страну? Как забыть домоводок, из которых каждая, даже единичная, колос-
сально важнее Софьи Ковалевской, ибо без «Софьи Ковалевской» и даже
без «Григория Гильдебрандта», наконец, без Цезаря и Платона мир, только
несколько иначе, все-таки же существовал, жил, был счастлив и устойчив: а
без «милой» домоводки, которая и сама скромно, изящно одета, и детей в
воскресенье поведет нарядно в церковь, и причастит их, и около которой
вечером соберется в «уют» ее не гениальное, но добропорядочное обще-
ство, без этой «обыкновенной фигуры», почти без имени и лица или с са-
мым обыкновенным именем и лицом — мир не стоит, мир разрушился,
пали царства, развратились воины, рухнули церкви».
До знакомства с публицистикой Розанова трудно оценить меру его внут-
ренней последовательности. Принято считать, что в первое десятилетие XX в.
Розанов переживает особый «гуманистический», «индивидуалистический»
период, резко контрастирующий как с ранним периодом творчества (кон-
сервативным), так и с периодом 10-х гг. Однако все эти годы, все это первое
десятилетие века Розанов, печатаясь в изданиях разных направлений, оста-
вался в первую очередь «нововременцем», ведущим публицистом газеты, в
которую он был принят как консервативный автор.
После более или менее полного знакомства с его публицистикой чита-
тель может оценить, насколько последовательно и всесторонне и в первое, и
во второе десятилетие века Розанов развивает и продолжает свою внутрен-
не консервативную линию 90-х гг. Увлечения Розанова и его сложное ста-
новление как мыслителя объясняются не столько парадоксальностью лич-
ности, не столько широтой души, сколько его идейной инаковостью по от-
ношению к устремлениям эпохи. Розанов представлял собой альтернативу
общественно-политическому сознанию своего времени, смотрел на него как
будто со стороны. Он был не «официозным», а свободным консерватором,
отстаивающим сам дух устоев русского бытия и ради духа этого готовый
порой поддержать резкую критику внешних форм, сковывающих нацио-
нальную жизнь.
Конечно, многое в политической публицистике Розанова менялось.
В первую очередь проблематика: до 1913 г. — это в основном думские выборы
и сессии, конституционная идея. После стабилизации Государственной Думы
и начала Первой мировой войны в политических статьях Розанова на пер-
вом плане стояла тема военная, в этот период его статьи обычно носят остро
проблемный характер, представляют собой яростные выступления обще-
14 В. В. Розанов 417
ственного трибуна (но не партийные, а личные) — много было написано
против пьянства, против абортов, против существующей практики разводов
(старая тема писателя) и т. д.
Меняются знаковые явления самой русской жизни — оттого меняются
и оценки. Россия Столыпина отличается от России 1905 г., Россия после
убийства Столыпина — это уже нечто третье. Период сочувствия так назы-
ваемой «первой русской революции», резких нападок на официальную цер-
ковь, симпатий к конституционализму был вовсе не столь контрастирую-
щим с ранним и поздним периодами творчества Василия Васильевича, как
это часто представляют. Даже в 1904—1908 гг. Розанов оставался верен глав-
ным коренным своим ценностям: он религиозен, он болеет за православ-
ное христианство, за русскую традиционную семью, за русскую цивилиза-
цию как в ее крупных, государственных, так и в бытовых чертах, за нацио-
нальную систему образования, за русскую литературу, русскую мысль, рус-
скую печать. Во всех этих мотивах Розанов-нововременец вовсе не отступает
от обычных своих взглядов, он последователен, может быть, даже «фанати-
чен».
Также и в 10-е гг. он не перестает критиковать то, что критиковал ранее:
он остается бескомпромиссным по отношению к административному про-
изволу и равнодушию, к церковной косности и фарисейству, к порокам су-
ществующей социальной системы, никогда не путает чиновничество и го-
сударственность. Поэтому в отличие от кадетов и либеральных публицис-
тов конституционализм был для него не англофильским идеалом, не выра-
жением догмы о единонаправленном прогрессе политических систем, но
способом трансформировать государственность, сообщить ей новые, жиз-
ненные импульсы. В этом смысле конституционная идея не бесконечна, не
абсолютна, но зависит от того, кто наполняет ее конкретным политическим
содержанием: с глубоким сожалением Розанов признавал, что в ходе ста-
новления русского парламента конституция не стала делом взаимного ува-
жения, но, напротив, послужила раздору и партийным распрям.
Однако и поздний Розанов вовсе не изменяет своего отношения к парла-
ментаризму. Взять хотя бы статью «К 10-летию Государственной Думы»
(Новое Время. 1916. 27 апреля), познакомившись с которой читатель воочию
убедится, что в главных своих мыслях, даже в самом тоне это был все тот же
Розанов 1906—1907 гг. Эта статья отвечает на вопрос, что дала России Дума,
но в ней звучит ответ «русского исторического человека», ответ «самостоя-
тельный, из своей души вынесенный, а не навеянный из программ партий».
«Стало живее на Руси. Стало энергичнее на Руси. Можно закричать — и все
услышат». Государственная Дума, пишет Розанов, «есть живое русское
явление, живой организм в живой стране».
Мыслитель подчеркивал, что миссия парламентаризма в России должна
состоять в постепенной выработке созидательного общественного мнения,
которое в течение нескольких десятилетий до Манифеста 17 октября было
отмечено «либеральными и радикальными штампами». То, что и во време-
418
на всероссийской стачки Розанов не «хамелеонил», наглядно подтверждает-
ся целым рядом его статей этого периода, таких, как «Эс-деки и эс-эры в
Государственной Думе» (Новое Время. 1907. 25 февраля) или «Левым реп-
тилиям» (Новое Время. 1906. 19 августа). В последней статье он писал про-
тив прессы, подыгрывающей революционерам: «Гиены... имеют вид лите-
раторов. Якубзоны и Азовы стали на место Щедрина и Успенского, как те
стали на место Тургенева и Гоголя. Со ступеньки на ступеньку идем мы в
гнилой погреб... И копают могилу эти гиены. И лижут запекшуюся кровь
жертв».
В статье «Партии дурного тона» (Новое Время. 1908. 3 июня) в духе
своего консерватизма Розанов писал: «Что показали они кроме беспредель-
ной зависти неимущих к имущим, кроме всяческого недоброжелательства
всего расстроенного и беспорядочного ко всему устроенному и упорядочен-
ному?.. В революции не Русь, искалеченная и несчастная, вставала на ноги.
Это были лихие люди, отбившиеся от отца с матерью, которые в годину
несчастья родного дома бросились на него, чтобы растащить его по бревну,
а что останется — сжечь».
А в статье «Представители России перед Европой» (Новое Время. 1908.
30 июля) он так излагает свой взгляд на либеральную фракцию, прессу и
профессуру: «Чья бы нахальная рука ни занеслась для пощечины России,
сейчас же кидаются к этой «ручке» с поцелуями «представители печати»,
кричащие и клянущиеся, что они «представляют собою Россию»... Весь свет
приглашен к нам на гастроли «рукоприкладствовать». «Оскорбляйте наше
отечество, оно подло», — кричат эти Гессены, Милюковы, Федоровы и та
стая приват-доцентов, какая с подписями и без подписей украшает столбцы
«Русских Ведомостей».
Общественно-политическая тема у Розанова всегда была близка его ре-
лигиозной теме, равно как его пониманию национальной культуры. Во всех
своих лейтмотивах Розанов стремится к некой идейной и духовной сердце-
вине, к той области своего творчества, в которой он сосредоточен мыслью и
сердцем.
Представляют интерес суждения Розанова о тех двух газетах, в которых
он в совокупности напечатал наибольшее число своих публицистических
вещей, — «Новом Времени» и «Русском Слове». В «Сахарне» Розанов ска-
зал: «Я всячески жалею, что А. С. Суворин не сошелся с Сытиным (И. Д.),
который есть гениальный русский самородок... Вдвоем они могли бы моно-
полизировать печать, — к пользе и силе России. Теперь «Рус. Слово» и глав-
ное — сытинское книгоиздательство — полурусское и поверхностное, в
сущности — преуспевающий трактир». Поздний Розанов и в книгах, и в
письмах своих не раз подчеркивал, что сотрудничество в «Русском Слове»
было для него не столько творчески необходимым, сколько важным с точки
зрения материальной: нужно было обеспечивать семью. С другой стороны,
в ответах на анкету Нижегородской архивной комиссии Розанов писал, что
419
14*
его ужасно занимала возможность «протиснуть часть души в журналах ра-
дикальных», и в первую очередь именно потому, что, искренне критикуя
бюрократию и воспевая пролетариев, он существенно «не поддавался в себе».
При этом в той же анкете писатель отметил, что был очень многим обязан
лично Суворину, издателю «Нового Времени», который ни разу не навязал
Розанову ни одной мысли, ни шага не сделал к тому, чтобы внушить ему
какую-либо статью.
«Новое Время» Суворина было очень влиятельной газетой, и в отноше-
нии ее с полным правом можно употребить известную метафору — «чет-
вертая власть». Розанов вполне сознавал это и сам нередко сталкивался с
фактами удивительной влиятельности своего публицистического слова, с
тем, что к нему, как представителю и корреспонденту газеты, прислушива-
лись государственные чиновники и общественные деятели. В «Сахарне»
Розанов вспоминал о временах начала века: «Было впечатление, как бы дру-
гих газет не было. «Нов. Вр.» терроризировало все другие газеты... До того
на них всех, кроме одного «Нов. Вр.», не обращал никто внимания, — не
считались с ними, не отвечали им, не боялись их ругани и угроз...» Розанов
весьма высоко ценил свою «службу» в газете Суворина, которая дала ему
возможность выжить и раскрыться как писателю и мыслителю.
Иначе он оценивал обстановку в «Русском Слове». В статье «Что разу-
мелось само собою» (Московские Ведомости. 1916. 17 февраля) он писал:
«Дело в страшном положении литературы, литераторов; дело в том, что не
Сытин обошел Мережковского, а Мережковский обошел Сытина, и вся во-
обще «афинская агора» обошла «могучего Власа», принеся ему не ценное
из произведений своего духа, не характерное и выразительное из себя, а
«последнее» в себе, те общие фразы и общее фразерство, какое у каждого
литератора остается, когда работа и многие работы кончены, сделаны. Вот
этот мусор, щебень своей души, лишь литературную фразеологию «за под-
писью известного имени» и за огромный гонорар они приносили Сытину и
Дорошевичу...» Секрет трактирности и бесцветности либеральной русской
печати, по мнению Розанова, не в ее редакционной цензуре, но в том, что
всякий писатель, даже такие, как Горький, Философов, Мережковский, вся-
кий журналист приходил к Сытину «взять, а не дать».
Розанов не был независимым писателем, он в буквальном смысле «за-
висел» от работодателей, от издателей. Однако, выступая на страницах раз-
личных газет, он умудрялся не только оставаться самим собой, но и не уба-
вить голоса, не понизить тона. Именно через публицистику Розанов набрел
на свое главное художественное открытие, на свой главный дар — эссеисти-
ку, афористическую «листву», в которой он придал русской словесной куль-
туре ее новое дыхание, свежий и живой стиль.
Для большого писателя, для большого мыслителя способность остаться
самим собой, выступая в качестве журналиста, в поденной газетной работе,
в заказных материалах, — это способность поистине необыкновенная. Имен-
но поэтому Розанов вызывал отрицательную реакцию у многих идеологов
420
партий и политических движений, организаторов общественных кампаний,
которые стремились подмять под себя все пространство периодической пе-
чати. Их не могло не возмущать соседство с ними явления, не укладываю-
щегося в рамки политической борьбы, выходящего за пределы рационально
устроенного мира прессы, в котором все однозначно и ясно: где правые, где
левые, что они собой представляют и что они обязаны говорить.
В. В. Аверьянов
КОММЕНТАРИИ
В настоящем томе печатаются статьи и очерки Розанова по вопросам филосо-
фии, религии и культуры, опубликованные в газетах и журналах в 1906—1908 гг.
Том включает публикации Розанова в газетах «Новое Время», «Русское Слово»
(в комментариях соответственно НВ и PC) и других изданиях. Сохраняются те же
принципы публикации, что и в предыдущих томах.
1906
Кулачество в литературе (с. 7)
Беседа. СПб., 1906. Февр. № 2. С. 56—63.
Статья написана в ноябре 1897 г. (РГАЛИ. Ф. 419. Ед. хр. 211. Л. 24—28).
...фельетон г. И. Щеглова в «Новом Времени»... — К этим словам в тексте ста-
тьи относится редакционное примечание: «Новое Время». 31 окт. 1897 г. По поводу
запрещения комедии Ив. Щеглова «Затерянный мудрец» С.-Петербургским отделом
Литературно-Театрального Комитета (напечатанной в сборнике Ив. Щеглова «Но-
вые пьесы»). Статья В. В. Розанова принадлежит к рукописям, в свое время не по-
павшим в печать. Но едва ли она утратила от этого интерес».
.. .слова из гимна Церере. — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Кн. 3, ч. 3.
...комитет в лице гг. Вейнберга, Скабичевского... — Примечание редакции
журнала: «Имя Скабичевского, включенное по недоразумению, очевидно, подвер-
нулось под перо В. В. как имя особенно типичное для определения узкопартийной
критики».
Памяти Н. И. Стороженко (с. 11)
НВ. 1906. 18янв. № 10721.
Православная богословская энциклопедия (с. 14)
НВ. 18янв. № 10721. Прил.
Церковно-общественное движение (с. 15)
PC. 1906. 6,11 февр. № 36,41. Подпись: Орион, Ор — ъ.
«Прав Господь Вседержитель, судящий концы земли» — аллюзия на библей-
ские слова (1 Цар. 2, 10).
422
...не стали бы женоубийц и сыноубийц возводить в «равноапостольные». —
Речь идет о святом равноапостольном императоре Константине Великом, который,
по свидетельству некоторых источников, лишил жизни в 326 г. своего сына Криспа и
жену Фаусту.
«Изведите гостя сего, ибо он пришел не в одежде брачной» — Мф. 22, 12.
«Я научу вас истине, и истина освободит вас» — Ин. 8, 32.
...«а если через исполнение закона человек оправдывается перед Богом, тогда
для чего же умер Христос?» — 2 Гал. 2, 21.
«Плодитесь и множьтесь» — Быт. 1, 22; 1, 28.
...исполнив «весь закон и всех пророков» — Мф. 5, 17.
«И дам Тебе все Царства земные, если, падши, поклонишься мне» — Мф. 4, 8—9;
Лк. 4, 6—7.
...«ив Израиле не нашел Я такой веры...» — Мф. 8, 10; Лк. 7, 9.
«Се Жених грядет в полунощи» — тропарь, который поется в церкви на Страст-
ную седмицу.
«Если не станете такими же, не войдете в Царство небесное» — Мф. 18, 3.
...опять вспомнишь наших хлыстов... — приводятся распевы секты хлыстов,
сопровождавшие их «радения».
...«села у ног Иисусовых и слушала слова Его» — Лк. 10, 39.
...формула привета из апостола Павла — сокращенный вариант формулы «Бла-
годать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа», которая встречает-
ся во многих посланиях ап. Павла.
Два слова в защиту Достоевского
как человека (с. 25)
PC. 1906. 22 февр. № 51. Подпись: Ор — ъ.
«После нас хоть потоп» — слова маркизы де Помпадур, фаворитки Людо-
вика XV.
«Угнетенных и оскорбленных» — очевидно, «Униженных и оскорбленных» (на-
звание романа Ф. М. Достоевского).
Может собственных Платонов... — М. В. Ломоносов. Ода на день восшествия
на всероссийский престол Ее Величества государыни императрицы Елисаветы Пет-
ровны (1747).
Памяти Вл. К. Петерсена (с. 29)
НВ. 1906. 22 февр. №10755. Подпись: Друг.
По поводу падения башни св. Марка. — Башня св. Марка в Венеции была пост-
роена в X в. и упала в 1902 г., чему Розанов посвятил один из очерков в своих «Ита-
льянских впечатлениях».
Духовная школа (с. 31)
НВ. 1906. 22 марта. № 10783. Прил. Б. п.
...задолго до «Устава», положим, 1884 года. — Университетский Устав 1884 г.
уничтожал профессорскую автономию и корпоративное самоуправление, вводил
обязательную студенческую форму, существенно изменял структуру высшего обра-
зования.
423
Д. А. Сперанский. Из литературы Древнего
Египта (с. 33)
НВ. 1906. 29 марта. № 10790. Прил.
Медики в психологии (с. 34)
Маленькая газета. 1906. 14, 16, 19, 20 апр. № 81, 83,
85, 86.
Религиозные голоса в нашей смуте (с. 41)
Маленькая газета. 1906. 18 апр. № 84.
Статья написана по поводу «Открытого обращения верующего к православной
церкви» В. Свенцицкого (Полярная Звезда. 1906. № 8. С. 561—564).
...не вышло бы из вас печальной памяти Фотиев. — По-видимому, речь идет об
архимандрите Фотии (Спасском), влиятельнейшем духовном лице при Александре I,
участнике политических интриг.
Волжский. Из мира литературных исканий (с. 44)
НВ. 1906. 19 апр. № 10810. Прил. Подпись: В. Р—въ.
...имеют свою судьбу — выражение римского грамматика Теренциана Мавра
(III в. до н. э.) в сочинении «О буквах, слогах и размерах», 258.
Евангелие вне церкви (с. 46)
НВ. 1906. 26 апр. № 10817. Прил.
Я недавно читал Ренана... — Розанов имеет в виду культовую в дореволюцион-
ной России книгу Э. Ренана «Жизнь Иисуса» (СПб., 1906).
Вопросы семьи и воспитания (По поводу двух
новых брошюр г-жи Н. Жаринцевой) (с. 50)
Церковная Газета. Харьков, 1906. 7, 14, 21 мая. №14,
15, 16.
В газете опубликовано в разделе «В своем углу».
К заглавию дано в сноске редакционное примечание: «Только что прошел горя-
чий спор в прессе о школьном преподавании элементов биологии. А. Суворин в «Нов.
Времени» встал за «кухонное» объяснение их. В. В. Розанов, конечно, стоит — за
школьное. В школах г-жи Левицкой (Царское Село) и, вероятно, скоро у г-жи Сто-
юниной будет это введено: не позже 1 — 2 класса, когда нервы еще спокойны и пол
не возбужден».
...в полемике, ведшейся против меня в «Русск. Труде», г. Шарапов...— полеми-
ка относится к 1898—1899 гг.; подробнее см.: Розанов В. В. Собр. соч. В мире неяс-
ного и нерешенного. М., 1995.
Был ли И. Христос евреем по племени? (с. 60)
НВ. 1906. 4 авг. № 10916.
...страшно сказать — Овидий. Метаморфозы.
424
«И. X. Ц. И.» Розеггера. — Разбор этой книги см. в статье «Евангелие вне церк-
ви» в настоящем томе.
Еще о нееврействе И. Христа (с. 68)
НВ. 1906. 3 окт. № 10976.
Читайте у пророка Иезекииля слова бесконечной нежности и любви о Тире —
Иезек. 28, 11—19.
В. В. Стасов (Некролог) (с. 71)
НВ. 1906. 11 окт. № 10984. Б. п.
Памяти высокопреосвященного Ионафана (с. 72)
НВ. 1906. 21 окт. № 10994.
«Земля ты — ив землю отыдеши» — Быт. 3, 19.
Культурно-религиозные вопросы (с. 74)
НВ. 1906. 23 окт. № 10996.
...после того как я написал вторую небольшую статью об этом предмете... —
см. статьи в настоящем томе: «Был ли И. Христос евреем по племени?» и «Еще о
нееврействе Христа».
...принес «тысячу жертв Господу». — В Библии указывается число принесен-
ных жертв: двадцать две тысячи крупного скота и сто двадцать тысяч мелкого скота
(3 Цар. 8, 63).
...все эти Соколовы и Рудаковы, составители «Историй Ветхого Завета». —
Имеются в виду «Священная история Ветхого Завета» (СПб., 1897) протоиерея
А. П. Рудакова и «Священная история Ветхого и Нового Завета» (СПб., 1894) прото-
иерея Д. П. Соколова.
«Какая польза человеку приобрести весь мир, если он потеряет душу» — Мф.
16, 26; Мк. 8, 36; Лк. 9, 25.
«Обрежься — и будешь в завете со Мною» — см.: Быт., гл. 17.
«Хоть убей, следа не видно» — А. С. Пушкин. Бесы (1830).
...«сладкий тук жертв» — Лев. 3, 16.
Наталия Грот. Свобода в жизни и государстве.
Этюд по Чаннингу (с. 78)
НВ. 1906. 15 нояб. № 11019. Прил.
Чаннинг — Уильям Эллери Чаннинг, старший (1780—1842) — американский
богослов, автор трактата «О возвышении трудящихся классов» (1840).
...когда мы боролись за свободу южных славян — имеется в виду русско-турец-
кая война 1877—1878 гг.
К биографии и посмертной судьбе
Ф. М. Достоевского (с. 79)
НВ. 1906. 22 нояб. № 11026.
Письмо в редакцию (с. 82)
НВ. 1906. 28 нояб. № 11032.
425
Nicolas L6skov. Gens de Russie (c. 82)
HB. 1906. 22 нояб. № 11026. Подпись: В. В.
Предисловие к книге Л. Вилькиной (Минской)
«Мой сад. Сонеты и рассказы». М.: Гриф, 1906 (с. 83)
1907
О каком браке говорил И. Христос? (с. 87)
НВ. 1907. 14янв. № 11078.
Из воспоминаний и мыслей о К. П. Победоносцеве
(с. 91)
НВ. 1907. 26 марта. № 11148.
...в своем «Московском сборнике». — Московский сборник. Издание К. П. По-
бедоносцева. М.: Синодальная типография, 1896. До революции выдержал пять пе-
реизданий, последнее — в 1901 г.
...папе и доброму католику, но, может быть, несколько холодному к своему пап-
ству... — На папском престоле в то время (1605—1621) был Павел V.
...«Эхо» пушкинское — стихотворение А. С. Пушкина «Эхо» (1831).
Христос воскрес (с. 95)
НВ. 1907. 22 апр. № 11175. Б. п.
В прекрасном коротеньком стихотворении наш философ-поэт Вл. Соловьев
передал этот праздник... — В. С. Соловьев. «Друг мой! прежде, как и ныне...»
(1888).
...праздник всего ближнего Востока — культ «утраченного», мистерии Адони-
са и Атиса.
Белое христианство (с. 99)
PC. 1907. 23 апр. № 93. Подпись: В. Варварин.
...пьет и ест с грешниками и блудницами — Мф. 9, 11; Мк. 2, 16.
...в том же Евангелии повествуется о другой притче Христа — Мф. 13, 24—30.
О таинствах
(Письмо в редакцию) (с. 107)
Век. 1907. Май. № 17. С. 233—235.
Розанов разбирает в своем письме статью В. Ф. Эрна «Таинства и возрождение
Церкви» (Церковное Обновление. СПб., 1907. № 9).
Черная Россия (с. 109)
PC. 1907. 5 и 11 мая. № 102,107. Подпись: В. Варварин.
...в тех знаменитых торговцах Охотного ряда... — В апреле 1878 г. в разгроме
радикально настроенных студентов в Москве участвовали торговцы мясом из Охот-
ного ряда.
426
...до большой забастовки и 17 октября. — Имеются в виду Всероссийская стач-
ка 1905 г. и царский Манифест от 17 октября.
«Русское Знамя» — газета «Союза русского народа», издававшаяся в 1905—
1917 гг.
Епископство и безбрачие были несовместимы, как теперь сделались несовмес-
тимы брак и епископство. — Монашество в первохристианские времена не могло
сочетаться со священным саном. Для рукоположения в клирики монах должен был
совлечь с себя монашество. И даже в более поздние времена, в IX в., на Поместных
Константинопольских соборах еще издавались правила, запрещающие немедлен-
ное возведение вчерашнего монаха в епископа без прохождения всех степеней иерар-
хии (17-е правило Двукратного собора), а также предписывающие снятие епископ-
ства с монашествующих, как «пасомых и кающихся» (2-е правило Собора, бывшего
в храме Премудрости Слова Божия). Об этих правилах Розанов упоминает ниже в
данной статье.
...древо жизни, приносящее плоды двенадцать раз в год — Откр. 22, 2.
«Позлащенные кумиры»
(К суду над священниками — депутатами Думы)
(с. 121)
PC. 1907. 23, 26, 29 мая. № 117, 120, 122.
Подпись: В. Варварин.
Есть обрезание плотское, а есть обрезание духовное — ср.: Рим. 2, 28—29.
Не приемли имени Господа Бога твоего всуе — Притч. 30, 9.
Не сотвори себе кумира — Исх. 20, 4.
Драгоценные камни... это вновь повторяется при описании Небесного Иеруса-
лима... — Откр. 21, 11—25.
Никто не Бог, кроме как Бог — Пс. 17, 32.
...запоют древнюю песню «раба Божия Моисея» — Откр. 15, 3.
И Слово плоть бысть — Ин. 1, 14.
Не обидь сироту... суди право вдовицу... — Исх. 22, 22; Втор. 10, 18.
...самарянина, перевязавшего раны раненому... —Лк. 10, 30—34.
...волос не падет с головы... — ср.: Деян. 27, 34.
«Отцы пустынники и жены непорочны...» — из одноименного стихотворения
А. С. Пушкина (1836).
Медицина и церковь в вопросе о браке
и разводе (с. 138)
НВ. 1907. 25 мая. № 11206.
О предупреждении семейных жестокостей
(По поводу письма Л. Б. Бертенсона) (с. 142)
НВ. 1907. 30 мая. № 11211.
Русский Нил (с. 145)
PC. 1907. 26,30 июня, 17,18,24,27 июля, 5,24,31 авг. № 145,149,163,164,169,
172, 180, 194 (под заглавием «Израиль»), 200 (под заглавием «В современных на-
427
строениях»). Заглавия двух последних статей, по свидетельству Розанова, были даны
редакцией газеты (в тексте отмечены как <8> и <9>). Подпись: В. Варварин.
Здесь использованы комментарии к «Русскому Нилу» из кн.: Розанов В. В. Со-
чинения: Иная земля, иное небо... Полное собрание путевых очерков 1899—1913 гг. /
Сост., коммент. В. Г. Сукача. М.: Танаис, 1994.
В июне — июле 1907 г. Розанов с семьей ездил по Волге и на Кавказ (Кисло-
водск, Пятигорск); его путевые записки вылились в два цикла: «Русский Нил» и
цикл кавказских очерков («Около целебных вод», «В Кисловодске», «Бермамут»).
...у Гомера имя Геры, верховного женского божества, всегда сопровождается
эпитетом «волоокая» — см., например, «Илиаду» (песнь I, стих 551).
...монография... господина Сперанского. — Сперанский Л. А. Из литературы
Древнего Египта. СПб., 1906. Вып. 1: Рассказ о двух братьях.
«Россия — вся в будущем». — Высказывание содержится в записных книжках
поэта: Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6 т. М.; Л., 1957. Т. 6. С. 384.
Мы все учились понемногу... — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. Гл. I, стих V.
Романов-Борисоглебск — уездный город Ярославской губернии, располагался
как два города на обоих берегах Волги. Романов основан в XIV в. великим князем
Романом Васильевичем.
...летописец Пимен принялся за «Повесть временных лет». — Автор «Повес-
ти...» — летописец Нестор Печерский, тогда как Пимен — персонаж пушкинского
«Бориса Годунова».
Толгский монастырь — первоклассный мужской монастырь в Ярославле, осно-
ванный в 1314 г.
...Нижегородская ярмарка именуется Макарьевскою. — Крупнейший русский
торг, проходивший раз в год с середины июля до 25 августа и приуроченный ко дню
памяти преподобного Макария Желтоводского (25 июля по старому стилю). В 1817 г.
ярмарка была перенесена из старого монастырского Макария в Нижний Новгород.
...начальник, граф, утонувший в долговых обязательствах... — Имеется в виду
попечитель Московского учебного округа граф П. А. Капнист (1840—1904).
«История цивилизации в Англии» — книга Г. Т. Бокля, выходила в 60-е гг. в двух
различных переводах (К. Бестужева-Рюмина и Н. Тиблена и другой — А. Буйницко-
го и Ф. Ненарокомова) и выдержала три переиздания в каждом.
...газету «Самодеятельность». — Самодеятельность (листок «Вестника бла-
готворительности»). СПб., 1870. Выходил два раза в месяц. Издатель-редактор —
д-р А. Тицнер.
...Пушкина, рассказчика сцен из еврейского быта. — Имеется в виду: Пушкин
И. Н. (Чекрыгин). Жидок: Сборник еврейских песен, куплетов, романсов и арий со
сценами, в двух частях, с фотографическим портретом автора. 3-е изд. М., 1879.
Карамзинская библиотека — была основана в 1846 г.
И верилось, и плакалось, / И так легко, легко... — парафраз из стихотворения
М. Ю. Лермонтова «Молитва» (1839).
...мой брат... за месяц перед этим перевелся из симбирской гимназии в нижего-
родскую... — Николай Васильевич учительствовал в симбирской гимназии один год
и, перейдя в Нижний Новгород, оставил младших братьев на 1871/72 учебный год
на попечении Николаевых.
Герои были до Атрида, / Но древность скрыла их от нас. — Вольный перевод
М. В. Ломоносовым оды Горация (IV. 25—26). Ломоносов М. В. Поли. собр. соч. М.;
Л., 1952. Т. 7. С. 591.
428
Я тотчас вспомнил статью Владимира Соловьева... — Новозаветный Израиль //
Соловьев Вл. С. Собр. соч. СПб.: Изд. Товарищества «Общественная польза». Б. г.
Т. 4. С. 182—195.
«Он был презрен и умален пред людьми...» — Ис. 53, 3—10.
«Не здесь и не на сем месте будут поклоняться Богу, но везде — в духе и исти-
не» — Ин. 4, 21—24.
«Нужно родиться вновь» — Ин. 3, 3—8.
И вспомнил я великое ветхозаветное изречение... — далее мысль Розанова вра-
щается вокруг библейских слов: Быт. 2, 23—24; Быт. 3, 16.
«О семени твоем благословятся все народы» — ср.: Быт. 22, 18; 26, 4.
«Путешествия...» ...напечатанного и ранее А. С. Сувориным... —Имеется в виду
издание: Путешествие из Петербурга в Москву. Сочинение А. Н. Радищева. Воспро-
изведение издания 1790 г. Изд. А. С. Суворина. СПб., 1888. Издано для «знатоков и
любителей» тиражом 100 экз.
...около гения наших дней в подобной же роли Мефистофеля стоит упорный
узколобый его «друг» из Лондона... — Розанов имеет в виду В. Г. Черткова (1854—
1936), проповедовавшего толстовство, многолетние отношения которого с Толстым
оценивались Розановым крайне отрицательно (см., например: Розанов В. Друг вели-
кого человека И НВ. 1911.5 июня).
Около целебных вод (с. 199)
НВ. 1907. 18, 22 июля, 7 авг.
№ 11259, 11263, 11279.
Птичка Божия не знает... — А. С. Пушкин. Цыганы (1824).
...«висячие сады Семирамиды» — одно из семи чудес света, висячие сады в Ва-
вилоне, устроенные царем Навуходоносором в VI в. до н. э.
...я прошел по месту убийства — см. очерк Розанова «Из жизненных встреч
(Памяти Железновой)» (PC. 1911.4 июня).
Русский «реалист» об евангельских событиях
и лицах (с. 206)
НВ. 1907. 19 июля. № 11260.
Бес благородный скуки тайной — Н. А. Некрасов. «Отрадно видеть, что
находит...» (1845).
«Сорок тысяч курьеров» — Хлестаков в VI явлении «Ревизора» Гоголя говорит
о спешащих за ним «тридцати пяти тысячах одних курьеров».
Непростительные пропуски (с. 213)
НВ. 1907. 14 авг. № 11286.
Мудрому достаточно — выражение, встречающееся у Плавта («Перс», IV, 7) и
Теренция («Формион», III, 3).
...замечательный труд проф. Моск. дух. академии М. М. Тареева, года три на-
зад появившийся... — Тареев М. М. Истина и символы в области духа. Сергиев По-
сад, 1905.
429
Литературные и педагогические дела (с. 219)
НВ. 1907. 5 сент. № 11308.
Этим летом мне пришлось написать две статьи... — см. выше статьи: «Рус-
ский «реалист» об евангельских событиях и лицах» и «Позлащенные кумиры».
«Ты этого хотел, ЖоржДанден» — крылатое выражение из комедии Мольера
«Жорж Данден, или Обманутый муж» (1668).
О возобновлении Религиозно-философских
собраний (с. 224)
НВ. 1907. 8 сент. № 11311.
Религиозно-философские собрания в Петербурге проходили с ноября 1901 до
апреля 1903 г. и были задуманы как место встречи и попытки взаимопонимания
церковной иерархии и религиозно мыслящей интеллигенции. В Совет собраний
входили: епископ Ямбургский Сергий (Страгородский), чиновник Синода В. А. Тер-
навцев, В. В. Розанов, Д. С. Мережковский, В. С. Миролюбов. Всего состоялось
22 собрания, стенограммы которых публиковались в журнале «Новый Путь», а за-
тем вышли отдельным изданием: Записки Петербургских Религиозно-философс-
ких собраний (1902—1903). СПб., 1906. Доклады на них Розанова представлены в
настоящем Собрании сочинений в томах: «В темных религиозных лучах» и «Око-
ло церковных стен».
3 октября 1907 г. под председательством А. В. Карташева состоялось первое за-
седание Религиозно-философского общества, многие восприняли его работу как про-
стое возобновление старых Собраний. Однако, несмотря на определенную преем-
ственность, собрания Общества стали иным, своеобразным явлением в русской ин-
теллектуальной жизни. Главная их тема — не сближение Церкви и интеллигенции, а
обсуждение связи и соотношения вопросов религиозных и общественно-политичес-
ких. Выступления на собраниях Общества публиковались в «Записках С.-Петербур-
гского Религиозно-философского общества», выходивших с 1908 г. Розанов печатал
свои комментарии и репортажи с этих собраний в «Новом Времени».
За пастырем — и овцы (с. 225)
НВ. 1907. 19 сент. № 11322.
В статье разбирается книга профессора Н. Глубоковского «По вопросам духов-
ной школы и об учебном комитете при Святейшем Синоде» (СПб., 1907). К этой же
книге Розанов обращается в следующей своей статье — «Два почти анекдота».
«Врачу, исцелися сам» — Лк. 4, 23.
«Что указываешь спицу в глазу ближнего твоего, а у себя бревна не видишь»...
— Мф. 7,3; Лк. 6,41.
Два почти анекдота (с. 229)
PC. 1907. 26 сент. № 220. Подпись: В. В.
К заботам о народном здоровье (с. 230)
PC. 1907. 28 сент. № 222. Подпись: В. Варварин.
«Церковно-Общественная Жизнь» — еженедельник, издававшийся в Казани в
1905—1907 гг.
430
Привислинские публицисты
у московского «князя» в гостях (с. 233)
НВ. 1907. 9 окт. № 11342. Подпись: Русский.
Статья посвящена публикациям двух польских публицистов в «Московском
Еженедельнике» (№ 37, 38, 39 от 22, 29 сент. и 6 окт. 1907) кн. Е. Н. Трубецкого:
профессора Мариана Здзеховского и сотрудника варшавской газеты «Слово» Люд-
вига Страшевича. «Московский Еженедельник» издавался с 1906 г. на средства
М. К. Морозовой и придерживался линии умеренного либерализма, «мирного обнов-
ления». В журнале печатались А. Н. Бенуа, Н. А. Бердяев, П. П. Муратов, Д. В. Фи-
лософов, С. Н. Булгаков, печатался начиная с 1910 г. и В. В. Розанов.
...в только что вышедшей книжке... «Еженедельника»... —ЗдзеховскийМ. Пер-
вый шаг И Московский Еженедельник. 1907. 6 окт. № 39. С. 20—24.
Владимир Соловьев, который в пылу полемики... — Высказывания Соловьева
об особой форме дикого, «зоологического» патриотизма из его сборника статей «На-
циональный вопрос в России» (1-й вып. — 1883—1888 гг., 2-й — 1888—1891 гг.).
Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку — выражение, отсылающее к
мифу о похищении царевны Европы Зевсом (Юпитером).
«Высший авторитет» и дети
(Письмо о свободной семье) (с. 237)
PC. 1907. 12 окт. № 234. Подпись: В. Варварин.
Об учебном комитете Духовного ведомства (с. 240)
НВ. 1907. 14, 16, 20 окт. № 11347, 11349, 11353.
...имена называть не следует — Овидий. Героиды. XIII, 54.
Их никто не покупает, / Никто даром не берет — из фольклорных обрядов
Масленицы.
Но ярка свеча /Поселянина... — А. В. Кольцов. Урожай (1835).
«И ты, Брут!» — данное выражение на латыни встречаем в трагедии У. Шекс-
пира «Юлий Цезарь» (III, 1). Из античных историков Светоний передает по-гречес-
ки предсмертные слова Цезаря, обращенные к его любимцу Бруту, который нанес
ему один из ударов кинжалом: «И ты, дитя мое?» (Светоний. Жизнь двенадцати це-
зарей. I, 82.)
Религиозно-философские собрания
в Петербурге (с. 253)
PC. 1907. 17 нояб. № 265. Подпись: В. В.
К. П. Победоносцев в его переписке (с. 256)
PC. 1907. 12 дек. № 285. Подпись: В. Варварин.
Эту и последующие статьи в PC — «Духоборческие скитания и К. П. Победо-
носцев», «Аутопортрет К. П. Победоносцева» — Розанов пишет, отталкиваясь от пуб-
ликации писем в «Вестнике Европы» П. А. Тверским (П. А. Дементьевым), русском
по происхождению лесопромышленнике и публицисте, долгое время жившем в США
и основавшем там город Санкт-Петербург (Флорида).
431
«Неделя» — ежедневная газета, издавалась в Петербурге в 1866—1901 гг., при
П. А. Гайдебурове представляла направление либеральных народников.
«Одесский Листок» — одно из первых изданий «уличной прессы», выходил с
1872 г. как листок объявлений, с 1880 г. в формате многостраничной газеты; изда-
вался до 1918 г.
Духоборческие скитания и К. П. Победоносцев (с. 259)
PC. 1907. 13 дек. Подпись: В. Варварин.
...государство в государстве — Спиноза. Этика, III.
«Миссионерское Обозрение» — журнал внутренней православной миссии, из-
давался с 1896 по 1917 г. Главный редактор В. М. Скворцов.
Тарпейская скала — в Древнем Риме отвесный утес с западной стороны Капито-
лийского холма, с которого сбрасывали осужденных на смерть государственных пре-
ступников.
Органическая работа над народным
оздоровлением (с. 264)
НВ. 1907. 18, 19, 28 дек. № 11412, 11413, 11420.
Истина в вине — Плиний Старший. Естественная история. XIV, 28.
Аутопортрет К. П. Победоносцева (с. 273)
PC. 1907. 19 дек. № 291. Подпись: В. Варварин.
«Московские Ведомости» — старейшая русская газета, издававшаяся с 1756 по
1917 г. В 1896—1907 гг. ее главным редактором был В. А. Грингмут.
«Русское Обозрение» — московский журнал, издавался в 1890—1898, 1901,
1903 гг.
«Русские Ведомости» — московская газета, издававшаяся с 1863 по 1918 г., с
1905 г. стала органом кадетской партии.
Спаситель — в мире (с. 278)
PC. 1907. 25 дек. № 296. Подпись: В. Варварин.
1908
О «русских богоискателях» (с. 285)
Живая Жизнь. 1908. 1 янв. № 1. С. 5—8.
Поводом к написанию статьи послужила публикация в «Московском Еженедель-
нике» (1907. № 29. С. 18—28) очерка «Русские богоискатели» Н. А. Бердяева.
.. .величины, которыми можно пренебречь — термин Б. Паскаля.
«Мир Искусства», «Новый Путь», «Вопросы Жизни» — журналы «Мир Искус-
ства» (1899—1904), орган петербургских символистов, «Новый Путь» (1903—1904),
орган Религиозно-философских собраний в Петербурге, продолжавшие его «Вопро-
сы Жизни» (1905).
432
.. .неменьше Никейского символа. — Никейский (Никео-Цареградский) Символ
веры был принят церковью на I Вселенском соборе в Никее (325).
Вячеслав Сильвестрович Россоловский
(Некролог) (с. 287)
НВ. 1908. 11 янв. № 11434. Прил. Подпись: Р.
Новый труд проф. Тареева (с. 288)
PC. 1908. 8 февр. № 32. Подпись: В. Варварин.
...четырехтомное исследование христианства М. Тареева — точнее, пятитом-
ное, вместе с пятым дополнительным томом, вышедшим в 1910 г. Тареев М. М. Ос-
новы христианства. Сергиев Посад, 1908—1910.
Будь, человек, благороден! — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Кн. 3, гл. 3.
Только утро ее хорошо — С. Я. Надсон. Только утро любви хорошо (1883).
В суть дела — Гораций. Наука поэзии, 148.
Памяти И. П. Мержеевского (с. 294)
НВ. 1908. 8 марта. № 11490.
Исторические очерки и рассказы
С. Н. Шубинского (с. 295)
НВ. 1908. 1 апр. № 11514. Подпись: В. Р—в.
Красота молчания
(К юбилею Л. Н. Толстого) (с. 296)
НВ. 1908. 3 апр. №11516.
Сколько их, куда их гонят... — А. С. Пушкин. Бесы (1830).
Около народной души (с. 297)
НВ. 1908. 20 апр. № Ц531.
А и поклонилась бы Спесь отцу-матери... — А.. К. Толстой. «Ходит Спесь, на-
дуваючись...» (1856).
«Свои люди» поссорились... (с. 301)
НВ. 1908.21 апр. № 11532.
Поводом к статье послужила публикация: Минский Н. Леонид Андреев и Ме-
режковский//Наша газета. 1908. 16 марта.
...Христа я признавал... Судией мира. — Розанов В. Христос — Судия мира //
Новый Путь. 1903. № 4 (вошло в книгу Розанова «Темный лик». СПб., 1911).
О народной душе (с. 305)
НВ. 1908. 28 апр. № 11539.
Когда я упомянул о Метерлинке, то имел в виду одну его пьесу... — Пьеса «За
стенами дома» (1894) в первом томе Сочинений М. Метерлинка в 3 томах (СПб.,
1907), к которым Розанов написал предисловие.
433
Скучно, скучно, ямщик удалой! — Н. А. Некрасов. В дороге (1845).
Бес благородный скуки тайной — Н. А. Некрасов. «Отрадно видеть, что нахо-
дит...» (1845).
О христианском аскетизме (с. 308)
Русская мысль. 1908. № 5. Май. С. 103—ПО.
...доклад В. П. Свенцицкого. —Доклад «Мировое значение аскетического хрис-
тианства» прочитан Свенцицким в Религиозно-философском обществе 14 февраля
1908 г., опубликован в журнале «Русская Мысль» (1908. № 5. С. 89—103).
Феофаны — большой и малый, Тамбовский и Петербургский — святитель Фео-
фан (Говоров), затворник Вышенский и инспектор Петербургской духовной акаде-
мии архимандрит Феофан (Быстров), будущий архиепископ.
«Раститеся, множитеся, наполните землю» — Быт. 1, 28; 9, 1.
...изживуже все свои силы, как случилось с бл. Августином. — Духовный пере-
лом и обращение к христианству произошли в Августине в возрасте 32—33 лет.
На книжном и литературном рынке (с. 314)
НВ. 1908. 24 июня. № 11595.
...об этой нероновской казни — рассказ А. Каменского «Преступление» (1908).
В Новом летнем театре (с. 319)
НВ. 1908. 29 июня. № 11600. Подпись: П.
Национальное назначение (с. 319)
НВ. 1908. 4 июля. № 11605.
Лев Толстой в «Анне Карениной» заметил... — Розанов приводит далее неточ-
ную цитату из романа. У Толстого сказано: «В сущности, из всех русских удоволь-
ствий более всего нравились принцу французские актрисы» («Анна Каренина»,
ч. IV, 1).
«Vorwarts» — берлинская газета социал-демократической ориентации, печата-
лась с 1876 до 1933 г.
Такова ссылка Бокля... — Бокль ссылается на путешественника Ленга (Бокль Г. Т.
История цивилизаций. М., 2002. Т. 2. С. 307).
Сила национальности (с. 322)
НВ. 1908. 7 июля. № 11608.
Под золотыми маковками в Киеве (с. 325)
НВ. 1908.21 июля. № 11622.
В архиве Розанова на корректуре статьи надпись рукою автора: «Статья до того
искажена пропусками редактора, что я сам не понимаю ее смысла» (РГАЛИ. Ф. 419.
On. 1. Ед. хр. 860. Л. 28).
«Кто просящему у него хлеба подаст камень?» — Мф. 7, 9; Лк. 11, 11.
«Колокол»... — первая в России ежедневная церковно-политическая газета, ос-
нована В. М. Скворцовым в 1905 г., выходила по 1917 г.
434
В Кисловодске (с. 329)
PC. 1908. 25 июля. № 172. Подпись: В. Руднев.
Бермамут (с. 333)
PC. 1908. 27 июля. № 174. Подпись: В. Руднев.
Бермамут — или, по другому названию, Бермамыт — плато на северном скло-
не Кавказского хребта, достигающее 2634 м, откуда открывается прекрасный вид на
снежные цепи Кавказа.
.. .как написал Гоголь о луне — мотив о луне, изготовленной в Гамбурге, встре-
чается у Гоголя в «Записках сумасшедшего» (1835); у Розанова он переплетается с
аллюзией из повести Гоголя «Невский проспект» (1835).
Наши публицисты (с. 336)
НВ. 1908. 3 авг. № 11635. Подпись: А. В.
«Письма темных людей» — сборник немецкой антиклерикальной сатиры XVI в.
«Так говорил Заратустра» (1883—1884) — название книги Ф. Ницше.
Памяти проф.-протоиерея А. П. Лебедева (с. 342)
НВ. 1908. 9 авг. № 11641.
Непостижимое вмешательство (с. 343)
НВ. 1908. 23 авг. № 11655. Б. п.
Чего недостает Толстому? (с. 344)
НВ. 1908. Зсент. № 11666.
...макаръевское «Догматическое богословие» — Митр. Макарий (Булгаков).
Православно-догматическое богословие. СПб., 1868.
Грех (с. 347)
НВ. 1908. 9 и 24 сент. № 11672, 11687.
Представители «нового религиозного сознания»
(с. 355)
PC. 1908. 13 сент. № 212. Подпись: В. Варварин.
Другой инициатор «новогорелигиозного сознания» — здесь Розанов имеет в виду
себя.
Этот разговор у него был с лютеранином. Следующий — с православным. —
Вероятно, под лютеранином Розанов подразумевает Ф. Э. Шперка, а под православ-
ным — И. Ф. Романова (Рцы).
В помощь болящему населению (с. 360)
НВ. 1908. 20 сент. № 11683.
Автор интереснейшей книги «Русская народно-бытовая медицина». — Имеют-
ся в виду Г. В. Попов и его книга, вышедшая в 1903 г. в Петербурге.
435
Книга вовремя (с. 362)
НВ. 1908. 1 окт. № 11694. Прил.
Иных уж нет, а те далече... — А. С. Пушкин. Евгений Онегин (VIII, LI).
На чем может повернуться «религиозное
сознание»? (с. 364)
PC. 1908. 4 окт. № 230. Подпись: В. Варварин.
Приидите ко Мне, и Аз успокою вы — Мф. 11, 28.
«На середине пути человеческой жизни...» — Розанов приводит первую терци-
ну «Божественной комедии» Данте и ее подстрочный перевод.
43 года «корректности»... (с. 374)
НВ. 1908. 5 окт. №511698.
«Вестник Европы» — русский общественно-политический журнал, издавался с
1866 по 1918 г.; с 1866 по 1909 г. редактировал М. М. Стасюлевич.
Карамзина, тоже... издававшего года три «Вестник Европы»... — Речь идет о
другом «Вестнике Европы», литературном журнале, основанном Н. М. Карамзиным
в 1802 г. и просуществовавшем до 1830 г.
Одно воспоминание о Л. Н. Толстом (с. 377)
PC. 1908. 11 окт. № 236. Подпись: В. Варварин.
Толстой был полуболен, когда я разговаривал с ним... — Единственная их встре-
ча состоялась 6 марта 1903 г. в Ясной Поляне.
...больше об одном покаявшемся, нежели о ста праведниках... — Лк. 15, 7.
Еще ученая утрата (с. 382)
НВ. 1908. 25 окт. № 11718. Прил.
Сборник писем Влад. Соловьева (с. 384)
НВ. 1908. 28 окт. № 11721.
.. .закрытие университета. — В цитируемом письме Соловьева речь идет о зак-
рытии на неопределенное время Московского университета в связи со студенчески-
ми волнениями в 1887 г.
Автопортрет Вл. С. Соловьева (с. 385)
PC. 1908. 28 окт. № 250. Подпись: В. Варварин.
Автопортрет Вл. С. Соловьева.
Церковные занятия его и его личность (с. 392)
PC. 1908. 31 окт. № 253. Подпись: В. Варварин.
.. .«вещей невидимых обличение» — Евр. 11,1.
В «Трехразговорах» есть страница... — Розанов по памяти передает из «Трех
разговоров» Вл. Соловьева высказывание Политика (в финале 3-го разговора): «Не
знаю, что это такое: зрение ли у меня туманится от старости, или в природе что-
нибудь делается? Только я замечаю, что ни в какой сезон и ни в какой местности нет
436
уж теперь больше тех ярких, а то совсем прозрачных дней, какие бывали прежде во
всех климатах...»
Новая книга о русском расколе (с. 399)
НВ. 1908. 3 нояб. № 11727.
К возобновлению Религиозно-философских собра-
ний (с. 402)
НВ. 1908. 10 нояб. № 11734.
Меж детей ничтожных мира... — А. С. Пушкин. Поэт (1827).
Между тьмою и светом
(К инциденту в Религиозно-философском
обществе) (с. 404)
НВ. 1908. 19 нояб. № 11741.
<В Религиозно-философском обществе> (с. 407)
НВ. 1908. 28 нояб. № 11752. Б. п.
<Кружок К. А. Губастова в память
К. Н. Леонтьева> (с. 407)
НВ. 1908. 6 дек. № 11760. Б. п.
<О Религиозно-философском обществе> (с. 408)
НВ. 1908. 18 дек. № 11772. Б. п.
Новые труды по истории философии (с. 409)
НВ. 1908. 20 дек. № 11774.
Ф. Н. Плевако (Некролог) (с. 410)
НВ. 1908. 24 дек. № 11778. Б. п.
Ненайденные статьи 1906 г.,
опубликованные в редких изданиях:
Среди догадок и страхов И Церковно-Общественная Жизнь. Казань, 1906.
18 авг. № 35. Стб. 1160—1165.
Перед церковным собором И Страна. СПб., 1906. 6 дек. № 231. С. 2—3. Под-
пись: Н. Георгиевский.
В. В. Аверьянов
437
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Аввакум Петрович, протопоп — 394
Августин Аврелий—20,68,312,367,434
Авраамий Палицын — 373
Азов (Ашкиназа В.А.) — 419
Айвазов И.Г. — 353
Аквилонов Е.П. — 60, 62, 63, 70
Аксаков И.С. — 298
Аксаков С.Т. — 156, 236
Аларих — 369
Александр I — 68, 326, 424
Александр II — 116, 152, 363
Александр III — 79, 91, 93,258,273, 323
Александр Батгенбергский — 362, 363
Александр Македонский — 24, 383
Александр Михайлович, князь — 383
Александр Невский — 75
Александров А.А. — 277
Алексей Комнен (Комнин) — 53
Алексей Михайлович, царь — 114
Алексинский Г.А. — 94, 95
Альба А., герцог — 73
Амвросий Медиоланский — 434
Амвросий Оптинский — 381
Анатолий Великий — 369
Андерсон В.М. — 401, 408
Андреев Л.Н. — 206—213,219,220, 337
Андреян, инок — 400
Андрей Боголюбский — 114
Андрей Критский — 313
Андрей Первозванный — 263
Анна Ивановна, императрица — 295
Антокольский М.М. — 71
Антоний (Вадковский А.В.), митрополит
— 126, 232, 325—327
Антоний (Храповицкий А.П.) — 402
Антоний Великий — 313
Апулей — 251
Аракчеев А.А. — 263
Аретино П. — 12
Аристотель — 409, 410, 415
Артаксеркс — 21, 97
Архипов, священник — 133
Арцыбашев М.П. — 364
Аскольдов С.А. — 253
Ауновский, инспектор— 168, 178
Бабст И.К. — 287
Багратион П.И. — 234
Байрон Дж. Г. — 280
Бакунин М.А. — 116
Бальмонт К.Д. — 408
Барклай де Толли М.Б. — 234, 273
Бартельс (Бартельт) Э. — 151
Басманов Ф.А. — 115
Батый — 320
Баудер, гимназист— 179
Баур Ф.К. — 365
Бахметьева (Бахметева) Н.П. — 385
Безобразов М.С. — 405
Беклемишевы, братья, гимназисты —
179, 183
Белинский В.Г. — 168, 190, 356
Белый А. — 408
Белякевич, патер — 373
Бенуа А.Н. —431
Бердяев Н.А. — 285, 286, 339, 416, 431,
432
Беркли Дж. — 409
Берлиоз Г.Л. — 71, 339
Берулий Я. — 151
Бертенсон Л.Б. — 141—144, 427
Бестужев-Рюмин К.Н. — 169, 428
Бетховен Л. ван — 311
Бисмарк О. — 324
Блок А.А. — 408
Боборыкин П.Д. — 164, 376
Богданов-Бельский Н.П. — 41
Боголюбов А.П. — 196, 197, 198
Бойль Р. — 18
Боккачио (Боккаччо) Дж. — 342
БокльГ.Т. — 168, 169,178,321,322,353
428, 434
438
Борис Святой — 156
Борисоглебский В.П. — 247
Бородин А.П. — 71
Босюэт (Боссюэ) Ж.Б. — 12, 66, 208
Бреверн-де-Лагарди А.И. — 273
Бредихин Ф.А. — 391
Брокгауз Э. — 389
Бронзов А.А. — 14
Брут Марк Юний — 431
Буйницкий А. — 428
Булгаков С.Н. — 216, 219, 431
Буслаев Ф.И. — 375
Буткевич, протоиерей — 14
Бутлеров А.М. — 168, 387, 390
Бухарев А.М. (арх. Федор)—254,255,292
Бэкон Ф. — 373
Бюхнер Л. — 180
Вагнер Е.Е. — 387, 390
Вагнер В.Р. — 339
Баддингтон В.А. — 384
Валла Л. — 12
Ванновский П.С. — 276
Василий III — 114
Василий Блаженный — 68
Введенский А.И. — 253, 409
Вебер А. — 409
Вебер Г. — 368—370
Вейнберг П.И. — 8,422
Величко В.Л. — 385, 390, 393, 396, 399
Величко Мария Г. — 389
Венгеров С.А. — 190
Верещагин В.В. — 71
Веригин П.В. — 257, 261, 262
Ветрова — 408
Виклиф Дж. — 15
Викторов, гимназист — 179
Вилькина (Минская) Л.Н. — 83, 426
Виндельбандт В. — 409
Виргилий (Вергилий) М.П. — 373
Витгефт В.К. — 397
Витте С.Ю. — 95
Вишневский И.В. — 167, 176, 177, 179,
186
Владимир Святой — 75, 114, 126
Волконская А.П. — 295
Волконская, княгиня — 389
Волжский (А.С. Глинка) — 44, 45
Волховецкий Н.Н. — 247
Волынский А.Л. — 25
Вольтер — 162, 210
Вольф М.О. — 318
Вундт В. — 35
Вяземский П.А. — 9
Вязигин А.С. — 14
Гаврилов — 230
Гайдебуров В.П. — 259
Гайдебуров П.А. — 432
Галилей Г. — 365, 366
Галич Л.Е. — 407
Гамсун К. — 339
Гарнак А. — 208, 289, 365
Гармин В.М. — 27
Гегель Г.В.Ф. — 390
Генрих IV — 91
Геродот — 303
Герцен А.И. — 171, 172
Гессен И.В. — 419
Гёте И.В. — 49, 73
Гефдинг (Гёффдинг X.) — 35, 36
Гизо Ф.П.Г. — 177
Гиль Х.Х. —382, 383,384
Гильдебрандт—см. Григорий VII—417
Гиляров-Платонов Н.П. — 232, 233, 358
Гинцбург О.И. — 71
Глеб Святой — 156
Глинка М.И. — 71
Глубоковский М.М. — 14,225, 227, 229,
242, 243, 246—252, 430
Гоголь Н.В. —9,26,28,39,154,198,199,
207, 270,271, 335, 345, 429,435
Годунов Б.Ф. — 74, 114, 234, 250
Голенищев В.С. — 33
Голенищев-Кутузов А.А. — 390
Голицын Г.С. — 260, 261, 263, 273
Голубинский Е.Е. — 249
Голубцов А.П. — 14
Гомер— 140, 179, 373,428
Гончаров И.А. — 153, 273
Гораций — 388, 428
Горемыкин И.Л. — 258, 267
Горький М. — 44, 209, 211, 420
Грановский Т.Н. — 26
Грефе А.К. — 385
Грибоедов А.С. — 345
Григорий Богослов — 71, 124—127
Григорий Великий — 292, 365
Григорий VII Гильдебрандт — 365, 417
Грин Р. — 11
Грингмут В.А. — 113, 115,277, 278,432
Гриневич, священник — 133
439
Грот Н.П. — 78, 79, 389
Грот Н.Я. — 385, 387, 394, 425
Грот Я.К. — 78
Губастов К.А. — 384, 407, 437
Гумбольдт А. — 49, 322, 344, 365
Гус Я. — 15, 340, 367, 368
Густав Адольф — 292
Гутген У. фон — 340
Гуттенберг (Гутенберг) И. — 288
Гюйо Ж.М. —410
Даль В.И. — 307, 384
Данилевский Н.Я. — 236, 298, 307, 393
Дант (Данте) Алигьери — 77, 179, 258,
373, 374
Дарвин Ч. — 35, 353, 373
Даргомыжский А.С. — 71
Дебольский Н.Г. — 409
Декарт Р. — 19, 34, 35, 409
Делич Ф. — 77
Делянов П.Д. — 263
Десмонд О. — 319
Джапаридзе С.Д. — 63
Джером К. Джером — 57
Дидро — 12
Диккенс Ч. — 323
Диоклетиан — 327
Дмитрий Донской — 115
Добролюбов Н.А. — 45, 95
Долгоруков П.В. — 197
Домициан Т.Ф. — 96
Дорошевич В.М. — 259, 371, 373, 420
Достоевская А.Г. — 79, 80, 81, 82
Достоевский М.М. — 307
Достоевский Ф.М. — 8, 25—27, 28, 45,
79—82, 91, 136, 153, 154, 172, 206,
207, 239, 307, 310, 336, 350, 356,
365—367,374,376,422,423,425,433
Дубровский, гимназист— 176
Ефрем Сирин — 95
Екатерина I — 74
Екатерина II Великая — 74,120,197,295
Елена, жена Василия III — 74
Елизавета Петровна, императрица —
339, 423
Ельчанинов (Епчанинов) Г.Г. — 217
Есипов, гимназист— 179
Жанна д’Арк— 19
Жаринцева Н.А. — 50, 57, 58, 424
440
Железнова К. — 429
Жуковский В.А. — 9, 26, 171
Жуковский Д.Е. — 44
Задергольм К. — 91
Зальге А. — 319
Зарудный С.И. — 198
Захарьин Г.А. — 231, 264
Здзеховский М. — 235, 236, 431
Златовратский Н.Н. — 27
Знаменский П. И. — 247
Золя Э. — 153
Ибсен Г. — 300, 339
Иван I Калита — 68, 114
Иван III — 114
Иван IV Грозный — 68, 114, 115, 323
Иванов Вяч. И. — 407,408
Иванов Г.А. — 385
Иванцов-Платонов А.М. — 343
Иероним Пражский — 340
Извольский П.П. — 141, 370
Измайлов А.А. — 25, 28
Илиодор (Труфсенов С.) — 113
Иловайский Д.И. — 368, 369, 370
Иннокентий III — 365
Инокентий (Жданов), архиепископ — 74,
100
Иоанн Златоуст — 100
Иоанн Кронштадтский (Сергиев И.И.) —
124
Ионафан (Руднев И.Н.), архиепископ —
72, 160, 425
Исидор, митрополит— 131
Калиостро А. — 281
Кальвин Ж. — 208
Каменские, братья — 152
Каменский А.П. — 318
Кампанелла Т. — 180
Кант И. — 322, 345, 353, 409, 410
Капнист П.А. — 385, 428
Карамзин Н.М. — 26, 28, 135, 175, 196,
197, 376, 436
Каринский М.И. — 409
Карлейль Т. — 93
Карташев А.В. — 253, 408, 430
Катков М.Н. — 26, 27, 258, 376
Кевенгюллер, граф — 363
Керский С.В. — 244
Кетгер Н.Х. — 386
Кильдюшевский П.И.—167,176,177,179
Кирилл Александрийский — 395
Киттары М.Я. — 287
Княжнин Я.Б. — 197
Ковалевская С.В. — 417
Козлов А.А. — 409
Козьма Прутков — 298, 391, 392, 397
Колокольников, священник— 133
Колумб X. — 311, 312, 365, 366, 389
Кольцов А.В. — 431
Кондаков Н.П. — 14
Кондратенко Р.И. — 311
Кони А.Ф. — 376
Константин Великий — 133, 215, 364,
370, 423
Константин Павлович, князь — 295
Конт О. — 355
Коперник Н. — 311, 312
Корейша И.Я. — 397
Корелли, англичанка — 47
Короленко В.Г. — 27, 44, 193
Корш Е.Ф. — 386
Костомаров Н.И. — 26
Котляревский Н.А. — 385
Крамской И.Н. — 71
Кропотов, гимназист — 179
Крушеван П.А. — 113
Крылов И.А. — 298, 413
Ксеркс — 24
Кузмин М.А. — 364
Курбский А.М. — 115
Кюи А. — 71
Лабулэ, переводчик — 79
Ладыженский И.И. — 206
Лапшины И.О. и С.Д. — 385
Лассаль Ф. — 181
Лебедев А.П. — 249, 342, 435
Лебедев С.И. — 244
Лев VI Философ — 53
Лев XIII — 371
Левицкая Е.С. — 424
Левицкий, фотограф — 363
Левшин, попечитель — 323
Лейбниц Г.В. — 34, 35, 151
Ленг А.Г. — 434
Леонтий, митрополит — 400
Леонтьев К.Н. — 26, 27, 91, 381,437
Леопарди Дж. — 302
Лермонтов М.Ю. — 26,28,148,260,374,
390—391, 428
Леруа-Болье А. — 64
Лесков Н.С. — 82, 83
Лович Грудзинская И. — 295
Ломоносов М.В. — 28,179,271,423,428
Лопарев Х.М. — 14
Лопатин Л.М. — 387
Лопухин А.П. — 14
Лосский Н.О. — 409
Лукьянов С.М. — 385
Лукерья, сектантка — 260, 261, 262
Луповский, учитель — 167
Льюис Дж. Г. — 409
Людовик XI — 322
Людовик XV — 281
Люллий (Луллий) Р. — 389
Лютер М. — 179,208,364—368,392,403
Ляйэль (Ляйель) Ч. — 176, 178
Магомет (Мухаммед) — 75, 165, 303
Майков А.Н. — 26, 390
Макарий (Булгаков), митрополит — 345,
435
Макарий Желтоводский — 428
Макарий Преподобный — 163
Макаров С.О. — 397
Малебранш (Мальбранш) Н. — 409
Малерб Ф. — 12
Маринин, гимназист — 42
Маркевич Б.М. — 27
Марков А.К. — 382
Маркс К. — 181, 194, 306
Марло К. — 11
Матвей Ф. Ржевский (Константиновский
М.А.)—198, 199
Мейер А.А. — 408
Меланхтон Ф. — 208
Мельников-Печерский П.И. — 400
Менделеев Д.С. — 168
Ментенон Ф. — 292
Меньшиков М.О. — 235, 236
Мережковский Д.С. — 25, 254, 286,
301—303, 356, 357, 359, 360, 407,
408, 420, 430
Мержеевский И.П. — 203, 294, 295, 433
Метерлинк М. — 44, 300, 305, 433
Меттерних (Меттерних-Виннебург)
К.В.Л. — 94
Мечников И.И. — 44
Мещерский В.П. — 326, 336
Микель-Анджело (Микеланджело)
Буонарроти — 340, 341
441
Микулич Л.И. — 405
Милль Д.С. — 177
Милюков П.Н. — 419
Минин К.М. — 236
Минский Н.М. — 54, 301—304, 433
Миролюбов В.С. — 430
Мисаил, епископ — 23
Митридат — 383
Михаил, архимандрит — 54
Михайлов, гимназист—179,180,181,193
Мишле Ж. — 116
Молешотт Я. — 373
Мольер Ж.Б. — 292, 430
Монтень М. де — 13
Мор Т. — 180
Морозова М.К. — 431
Муратов П.П. — 431
Муратова М.Г. — 389
Мусоргский М.П. — 71
Мюллер М. — 66
Навроцкий В.В. — 259
Навуходоносор — 115
Надсон С.Я. — 433
Наполеон Бонапарт — 24, 325, 346
Неведомский М. — 407
Некрасов Н.А. — 27, 156, 172, 197, 198,
306, 429, 434
Ненарокомов Ф. — 428
Нерон — 96, 278
Нестеров М.В. — 353
Нестор Печерский — 428
Несторий, патриарх — 395
Никанор, архиепископ — 268, 353
Николаев Н.А. — 168, 175, 181
Николай!— 115, 116, 120, 121
Николай II — 375
Никон, патриарх — 63, 74, 234
Новиков Н.И. — 198
Нифонт Святый — 347
Ницше Ф. — 25, 41, 45, 300, 339, 356,
409, 410, 435
Н.К. — 339
Ньютон И. — 29, 77
Овидий — 424, 431
Озеров В.А. — 197
Павел V — 426
Павленков Ф.Ф. — 147
Панин Н.И. — 198
Паренсов П.Д. — 362—363
Паскаль Б. — 432
Пастер Л. — 344, 365
Пахомий Великий — 313, 369
Пельгрэв, агент — 363
Перов В.Г. — 71
Перович, журналист — 339
Петерсен В.К. — 29, 30, 423
Петр I Великий— 114,120,216,295,300,
301,354
Петрарка Ф. — 179, 258
Петров Г.С. — 220
Петровский С.А. — 277
Пинета И.Х. — 247
Писарев Д.И.—45,168,230,265,299,300
Плавильщиков П.А. — 197
Плавт Т.М. — 429
Платон — 28, 29, 180, 321, 322, 417, 423
Плевако Ф.Н. — 410, 411, 437
Плиний Старший — 432
Победоносцев К.П. — 91—95, 225, 229,
230, 244, 250, 251, 256—263, 273—
278, 326, 426, 431,432
Поджио Браччолини — 12
Пожарский Д.М. — 236
Покровский Н.В. — 14
Помпадур Ж.А. — 281, 423
Попов Г.В. — 435
Порта Б. — 39,40
Порфирий Успенский — 268
Преображенский В.М. — 385
Прове Ф. — 383
Протасов Н.А. — 216
Протопопов М.А. — 285
Птолемей-Филадельф — 146
Пуришкевич В.М. — 113
Пушкин А.С. — 26,28,51,77,93,95,153,
172,174,198,201,207,271,362,390,
391, 403, 425-429, 433, 435—437
Пушкин (Чекрыгин) И.Н. — 428
Пшибышевский С. — 339
Пыпин А.Н. — 195, 376, 385
Рабинович, учитель— 184, 189, 190
Равельяк Ф. — 91
Радлов Э.Л. — 384—390, 409
Радлова В.А. — 389
Радищев А.Н. — 196—199, 429
Рамбо, грузин — 64
Рамзес — 24
Расторгуев, гимназист — 179
442
Рафаэль Санти — 77, 341, 410
Рачинский С.А. — 258—261, 270
Рачки Ф. — 385
Рейснер М.А. — 407
Рейхлин И. — 320
Ренан Ж.Э. — 49, 61, 66, 162, 208, 309,
343, 424
Репин И.Е. — 71, 83
Розанов В.В. — 25, 54, 220, 254, 407,
412—436
Розанов Н.В. — 428
Розеггер П. — 46, 61, 425
Роман Васильевич, князь — 428
Романов (Рцы) И.Ф. — 435
Россоловский В.С. — 287, 433
Рош Д. — 82
Рудаков А.П. — 425
Рупе, журналист — 179
Руссо Ж.Ж. — 12, 172
Рюрик —75, 120, 323
Саблер В.К. — 229
Савонарола Дж. — 367, 368
Савостьян И.К. — 151
Сади (Саади) — 362
Садоков К.И. — 164
Салтыков-Щедрин М.Е. — 9, 27, 353,
376, 419
Свенцицкий В.П. — 43, 44, 217, 308—
313, 424, 434
Святополк Окаянный — 156
Сев Л.А. — 385
Серафим Саровский — 249, 269, 381
Сервий Туллий — 20, 21
Сергий (Страгородский И.Н.), епископ
— 430
Сергий Радонежский — 115
Сергий Финляндский, епископ — 42
Серов В.А. — 71
Сикорский И.А. — 34—41
Симеон, епископ — 23
Симеон Полоцкий — 13, 308, 373
Скабичевский А.М. — 8, 422
Скворцов В.М. — 260—263, 274, 326—
328,416, 432, 434
Скобелев М.Д. — 287, 325
Скублинская, детоубийца — 55
Соболевский А.И. — 14
Соколов А.П. — 241—243
Соколов Д.П. — 425
Сокольский, священник — 14
Сократ — 235, 280
Соловьев Вл. С. — 16, 18, 26,44,45, 70,
98,116—120,169,171,184,236,285,
325, 336, 360, 384, 386, 387, 389—
394,396—399,405,426,429,431,436
Соловьев В.С. — 387
Соловьев М.П. — 258,259,262,263,277,
278
Соловьев С.М. — 248, 386, 387, 392
Солон — 20, 21
София, жена кн. Ивана III — 74
Софокл — 322
Спенсер Г. — 35, 373
Сперанский Д.А. — 33, 147, 424
Сперанский Л.А. — 428
Сперанский М.М. — 263
Спиноза Б. — 311, 432
Стасов В.В. — 71, 72, 425
Стасюлевич Любовь И. — 389
Стасюлевич М.М. — 374—377,385,392,
395, 398, 436
Стахеев Д.И. — 8
Степанов, учитель — 176, 177
Стефан Краль — 363
Столпнер Б.Г. — 408
Столыпин П.А. — 418
Стороженко Н.И. — 11, 12, 422
Стоюнина М.Н. — 424
Страхов Н.Н. — 8, 236, 298, 307, 385,
387—389, 391, 393—395, 398
Страшевич Л. — 235, 236, 431
Струве П.Б. — 412—414
Суворин А.С. — 46, 197, 415, 419, 420,
424, 429
Сукач В.Г. — 428
Сципион Африканский — 385
Сытин И.Д. — 415, 419, 420
Тамерлан (Тимур) — 24
Тареев М.М. — 219,28&—291,293,429,433
Татаринов В.А. — 198
Тверской (Дементьев) П.А. — 256—263,
273—277, 431
Теренциан Мавр — 424
Теренций Публий — 429
Тернавцев В.А. — 407, 430
Тиблен И. — 428
Тиверий (Тиберий) — 24
Тихвинский Ф.В. — 133,213,214,218—
221
Тихомиров Д.И. — 229
443
Тицнер А. — 428
Толстой А.К. — 390, 433
Толстой Д.А. — 195
Толстой Л.Н. — 26—28, 45, 51, 52, 54,
58, 59, 70,91, 92, 172, 206, 207, 258,
260,272,296,297,307,310,320,343,
344—346, 348—350, 353, 354, 372,
376,377,379,380,391,392,394,401,
433—436
Торквемада Т. — 371
Трубецкой Е.Н. — 235, 285, 336—338
Тураев Б.А. — 33
Тургенев И.С. — 156, 197, 239, 324, 372,
376
Тычинин П.С. — 14
Тютчев Ф.И. — 390
Успенский Г.И. — 27, 44, 172, 270, 271,
408,419
Устьинский А.П. — 255
Фаррар Ф.У. —61, 342,343
Фаусек, директор курсов — 222, 223
Федоров М.М. — 419
Феофан Большой (Говоров) Тамбовский
— 310,381,434
Феофан Малый (Быстров) — 310, 434
Феофан Прокопович — 216
Фет А.А. —389—391
Филарет (Дроздов В.М.), митрополит —
87, 115, 116, 120,216,218, 275
Филипп II Испанский — 274
Филиппов Д.И. — 151
Филельфо Ф. — 12
Философов Д.В. — 408, 420, 431
Фиркович А. — 71
Флавиан, митрополит — 143
Флоренский П.А. — 217
Фома Аквинский — 371
Фотий, архимандрит — 424
Фохт К. — 40,168,175,176,299,300,306
Хомяков А.С. — 254, 285, 230, 358
Христофоров, учитель — 167
Цвингли У. — 208
Цезарь Гай Юлий — 21, 22,417, 431
Целлер Э. — 409
Цеппелин Ф. — 360
Цертелев Д.Н. — 277
Чаадаев П.Я. — 285
Чаннинг У.Э., старший — 78, 79, 425
Чемберлен Г.С. — 60—63, 66, 68, 70, 74,
75
Чемберлен Дж. — 236
Череванский В.П. — 265, 266
Чернышевский Н.Г. — 15, 386
Черняев М.Г. — 325
Чертков В.Г. — 260, 429
Чехов А.П. — 9,44
Чингис-Хан (Чингисхан) — 24
Чичерин Б.Н. — 179
Чуковский К.И. — 412
Шарапов С.Ф. — 58, 59, 424
Швеглер, переводчик — 409
Шейн П.В. — 190
Шекспир У — 11, 77, 99, 310, 311,431
Шеллинг Ф.В. — 171
Шестов Л. — 25, 45, 81
Шиллер Ф. — 49, 73, 291
Ширинский-Шихматов П.А. — 229
Шлейермахер Ф. — 365
Шлоссер Ф.К. — 368—370
Шляпкин И.А. — 385
Шопенгауэр А. — 41, 280, 302, 377, 410
Шперк Ф.Э. — 435
Штейнгауэр, учитель — 167
Штраус Д.Ф. — 208
Штроссмайер, епископ — 385
Штук Ф. — 347, 348, 352
Штурм, врач — 332
Шубинский С.Н. — 294, 433
Щеглов И.Л. — 7, 9, 10, 179, 422
Щедрин — см. Салтыков-Щедрин М.Е.
Щербатов М.М. — 197, 198
Эмерсон Р.У. — 93
Энгельс Ф. — 306
Эразм Роттердамский — 340, 341
Эрн В.Ф. — 107, 108, 217, 310,426
Эфрон (Ефрон) И.А. — 389
Ювенал Децим Юний — 251
Юрий Суздальский — 154, 159
Якубзон (Якобсон) В.Р. — 419
Янышев И.Л. — 133, 138
Ярослав Мудрый — 75, 120, 156
Составитель М. В. Толмачёва
444
СОДЕРЖАНИЕ
1906 год
Кулачество в литературе............................................... 7
Памяти Н. И. Стороженко.............................................. 11
Православная богословская энциклопедия............................... 14
Церковно-общественное движение....................................... 15
Два слова в защиту Достоевского как человека..........................25
Памяти Вл. К. Петерсена...............................................29
Духовная школа........................................................31
Д. А. Сперанский. Из литературы Древнего Египта.......................33
Медики в психологии...................................................34
Религиозные голоса в нашей смуте......................................41
Волжский. Из мира литературных исканий................................44
Евангелие вне церкви..................................................46
Вопросы семьи и воспитания (По поводу двух новых брошюр г-жи
Н. Жаринцевой)........................................................50
Был ли И. Христос евреем по племени?..................................60
Еще о нееврействе И. Христа...........................................68
В. В. Стасов (Некролог)...............................................71
Памяти высокопреосвященного Ионафана..................................72
Культурно-религиозные вопросы.........................................74
Наталия Грот. Свобода в жизни и государстве. Этюд по Чаннингу.........78
К биографии и посмертной судьбе Ф. М. Достоевского....................79
Письмо в редакцию.....................................................82
Nicolas Leskov. Gens de Russie.........................................—
Предисловие к книге Л. Вилькиной (Минской) «Мой сад. Сонеты
и рассказы»...........................................................83
1907 год
О каком браке говорил И. Христос......................................87
Из воспоминаний и мыслей о К. П. Победоносцеве........................91
Христос воскрес.......................................................95
Белое христианство....................................................99
445
О таинствах (Письмо в редакцию).....................................107
Черная Россия...................................................... 109
«Позлащенные кумиры» (К суду над священниками — депутатами Думы)..... 121
Медицина и церковь в вопросе о браке и разводе..................... 138
О предупреждении семейных жестокостей (По поводу письма Л. Б. Бертенсона).. 142
Русский Нил........................................................ 145
Около целебных вод................................................. 199
Русский «реалист» об евангельских событиях и лицах..................206
Непростительные пропуски............................................213
Литературные и педагогические дела..................................219
О возобновлении Религиозно-философских собраний.....................224
За пастырем — и овцы................................................225
Два почти анекдота..................................................229
К заботам о народном здоровье.......................................230
Привислинские публицисты у московского «князя» в гостях.............233
«Высший авторитет» и дети (Письмо о свободной семье)................237
Об учебном комитете Духовного ведомства.............................240
Религиозно-философские собрания в Петербурге........................253
К. П. Победоносцев в его переписке..................................256
Духоборческие скитания и К. П. Победоносцев.........................259
Органическая работа над народным оздоровлением......................264
Аутопортрет К. П. Победоносцева.....................................273
Спаситель — в мире..................................................278
1908 год
О «русских богоискателях»............................................285
Вячеслав Сильвестрович Россоловский (Некролог).......................287
Новый труд проф. Тареева.............................................288
Памяти И. П. Мержеевского............................................294
Исторические очерки и рассказы С. Н. Шубинского......................295
Красота молчания (К юбилею Л. Н. Толстого)...........................296
Около народной души..................................................297
«Свои люди» поссорились..............................................301
О народной душе......................................................305
О христианском аскетизме.............................................308
На книжном и литературном рынке......................................314
В Новом летнем театре................................................319
Национальное назначение..............................................—
Сила национальности..................................................322
Под золотыми маковками в Киеве.......................................325
В Кисловодске........................................................329
Бермамут................................................................
446
Наши публицисты......................................................336
Памяти проф.-протоиерея А. П. Лебедева...............................342
Непостижимое вмешательство...........................................343
Чего недостает Толстому?.............................................344
Грех.................................................................347
Представители «нового религиозного сознания».........................355
В помощь болящему населению..........................................360
Книга вовремя........................................................362
На чем может повернуться «религиозное сознание»?.....................364
43 года «корректности»...............................................374
Одно воспоминание о Л. Н. Толстом....................................377
Еще ученая утрата....................................................382
Сборник писем Влад. Соловьева........................................384
Автопортрет Вл. С. Соловьева.........................................385
Автопортрет Вл. С. Соловьева. Церковные занятия его и его личность...392
Новая книга о русском расколе........................................399
К возобновлению Религиозно-философских собраний......................402
Между тьмою и светом (К инциденту в Религиозно-философском обществе) ... 404
<В Религиозно-философском обществе>..................................407
<Кружок К. А. Губастова в память К. Н. Леонтьева>....................—
<0 Религиозно-философском обществе>..................................408
Новые труды по истории философии.....................................409
Ф. Н. Плевако (Некролог).............................................410
В. В. Аверьянов. О публицистической «листве» Розанова................412
Комментарии..........................................................422
Указатель имен.......................................................438
447
Василий
Васильевич
Розанов
Собрание сочинений
ОКОЛО
НАРОДНОЙ
ДУШИ
Статьи 1906—1908 гг.
Заведующий редакцией
М. М. Беляев
Ведущий редактор
П. П. Апрышко
Художественный редактор
Е. А. Андрусенко
Технический редактор
А. Ю. Ефимова
Корректор
Е. Н. Горбунова
ЛР№ 010273 от 10.12.97.
Сдано в набор 25.11.02 г.
Подписано в печать 19.09.03 г.
Формат 60x84716.
Бумага офсетная № 1.
Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная.
Усл. печ. л. 26,08. Уч.-изд. л. 33,0.
Тираж 3000 экз. Заказ № 8825
Электронный оригинал-макет
подготовлен в издательстве.
Издательство «Республика»
Министерства Российской Федерации
по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.
ГП издательство «Республика».
Миусская пл., 7, Москва. А-47,
ГСП-3 125993.
Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6
В. В.Розанов