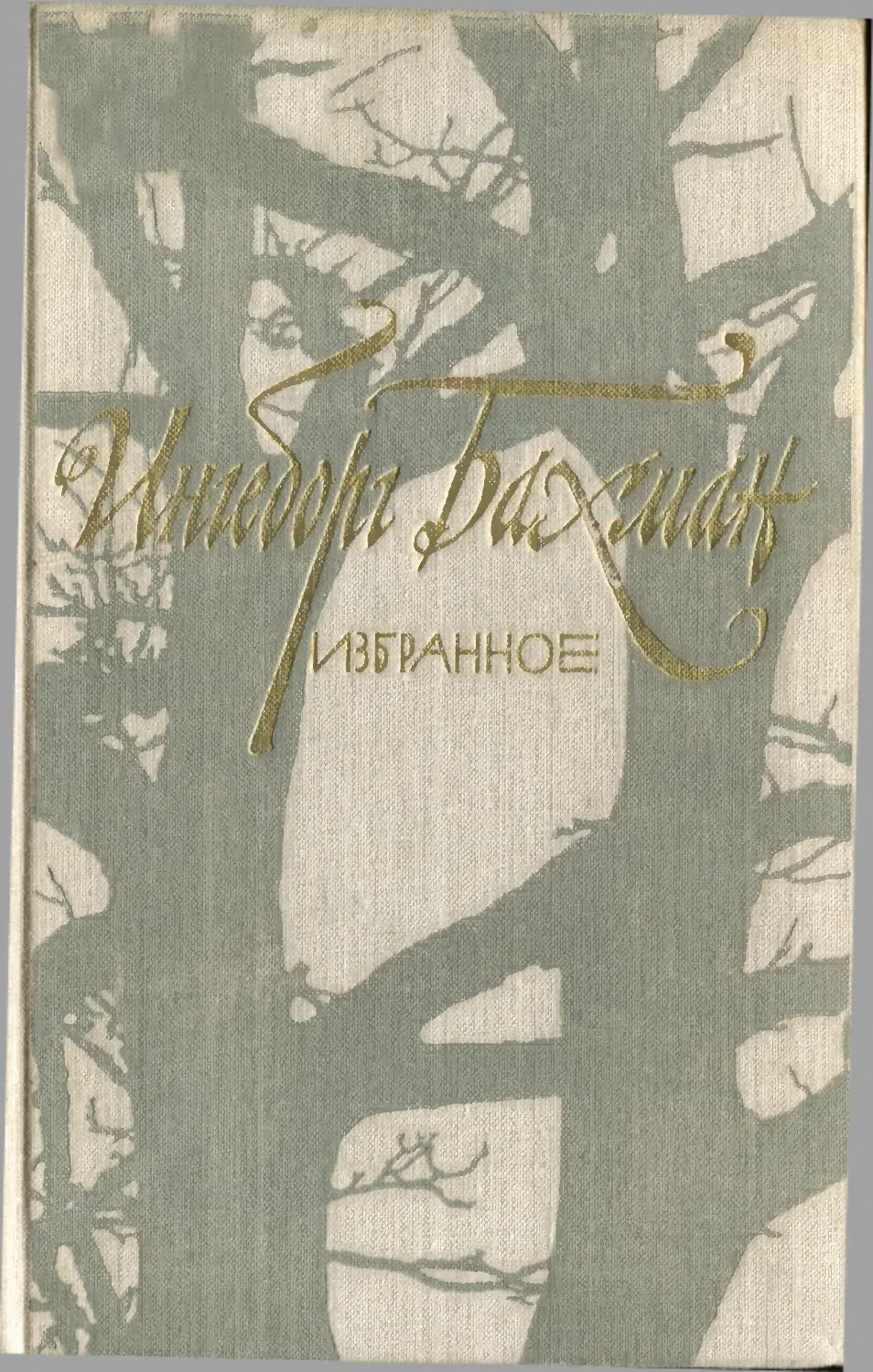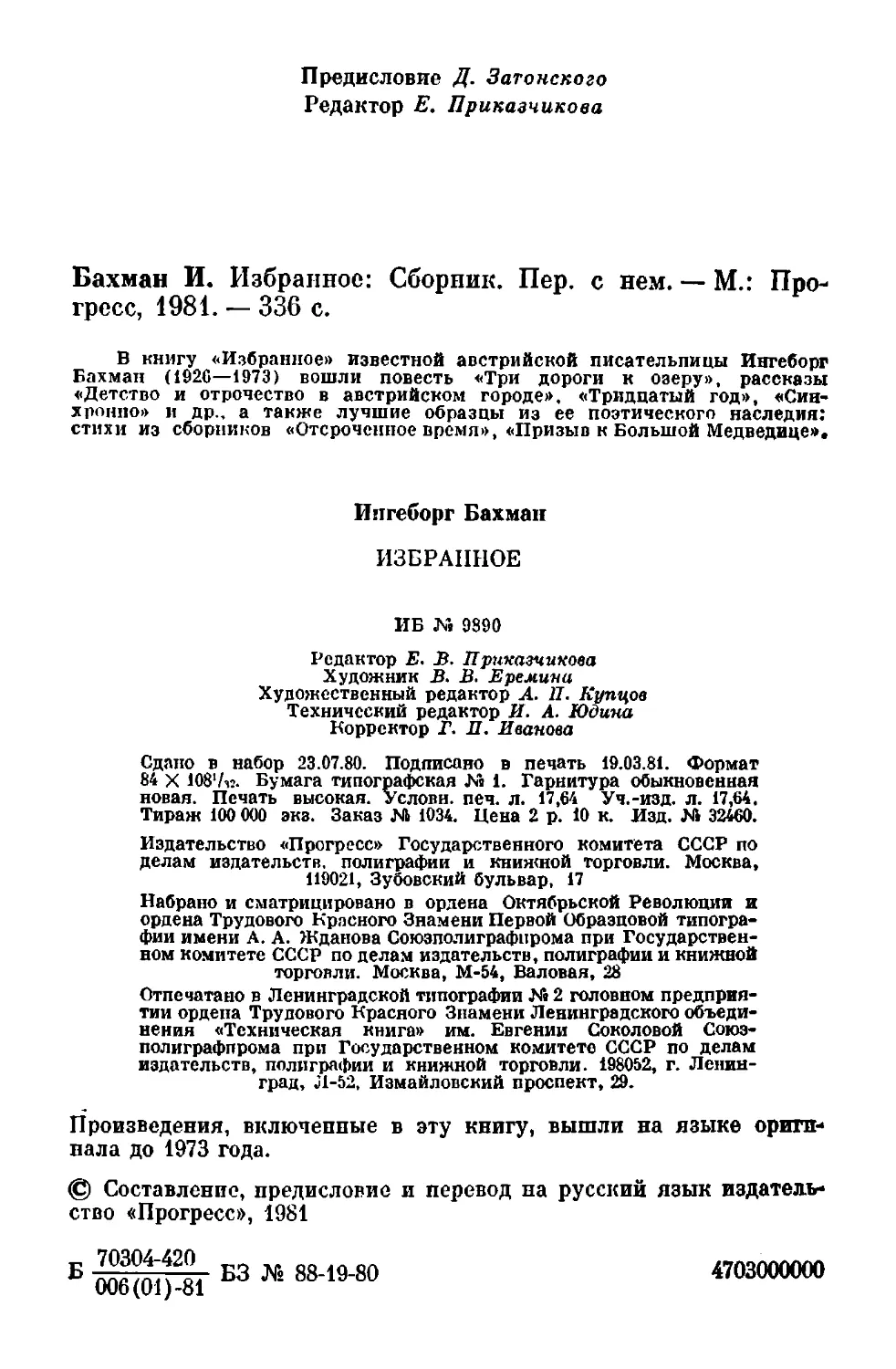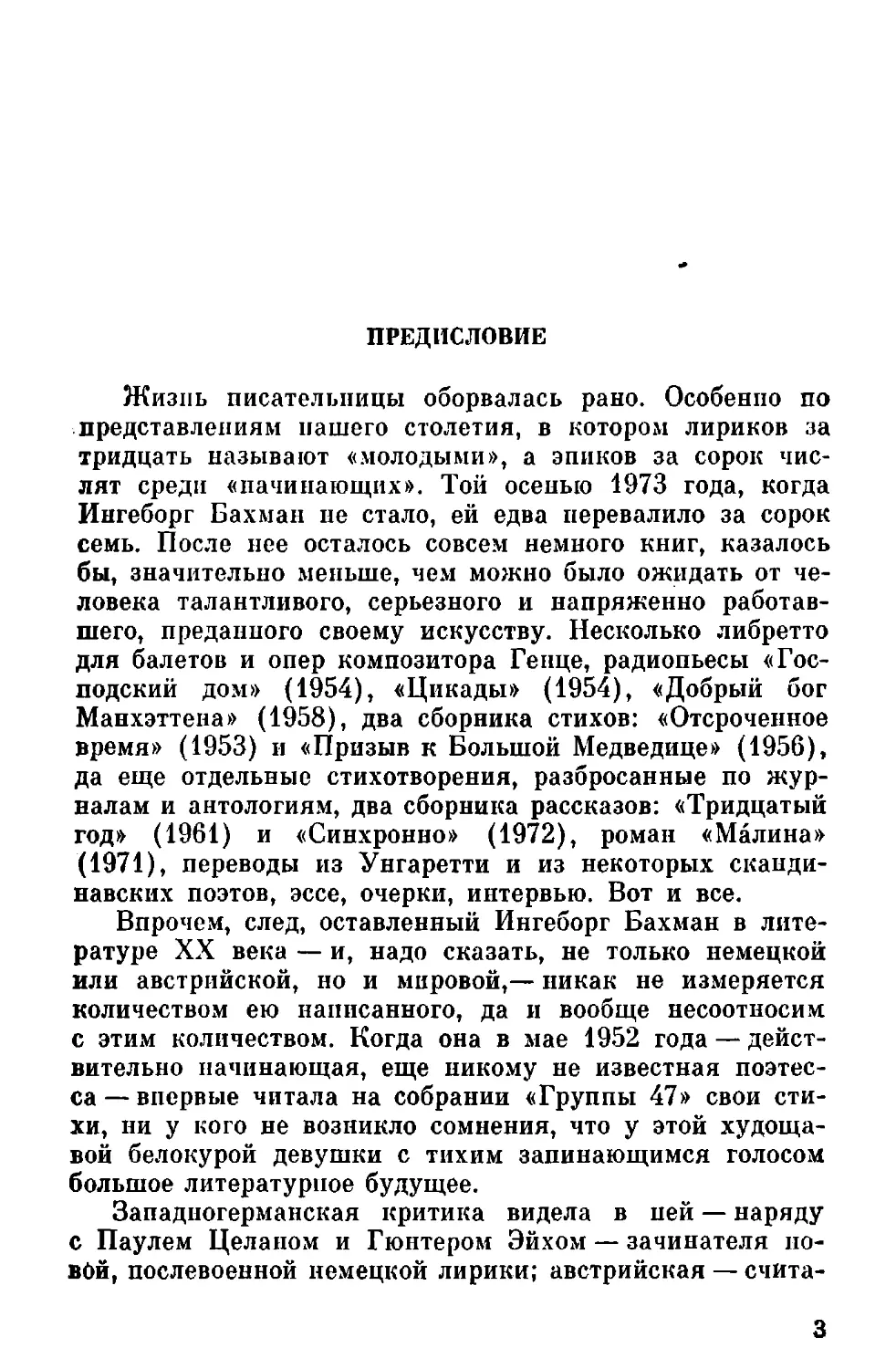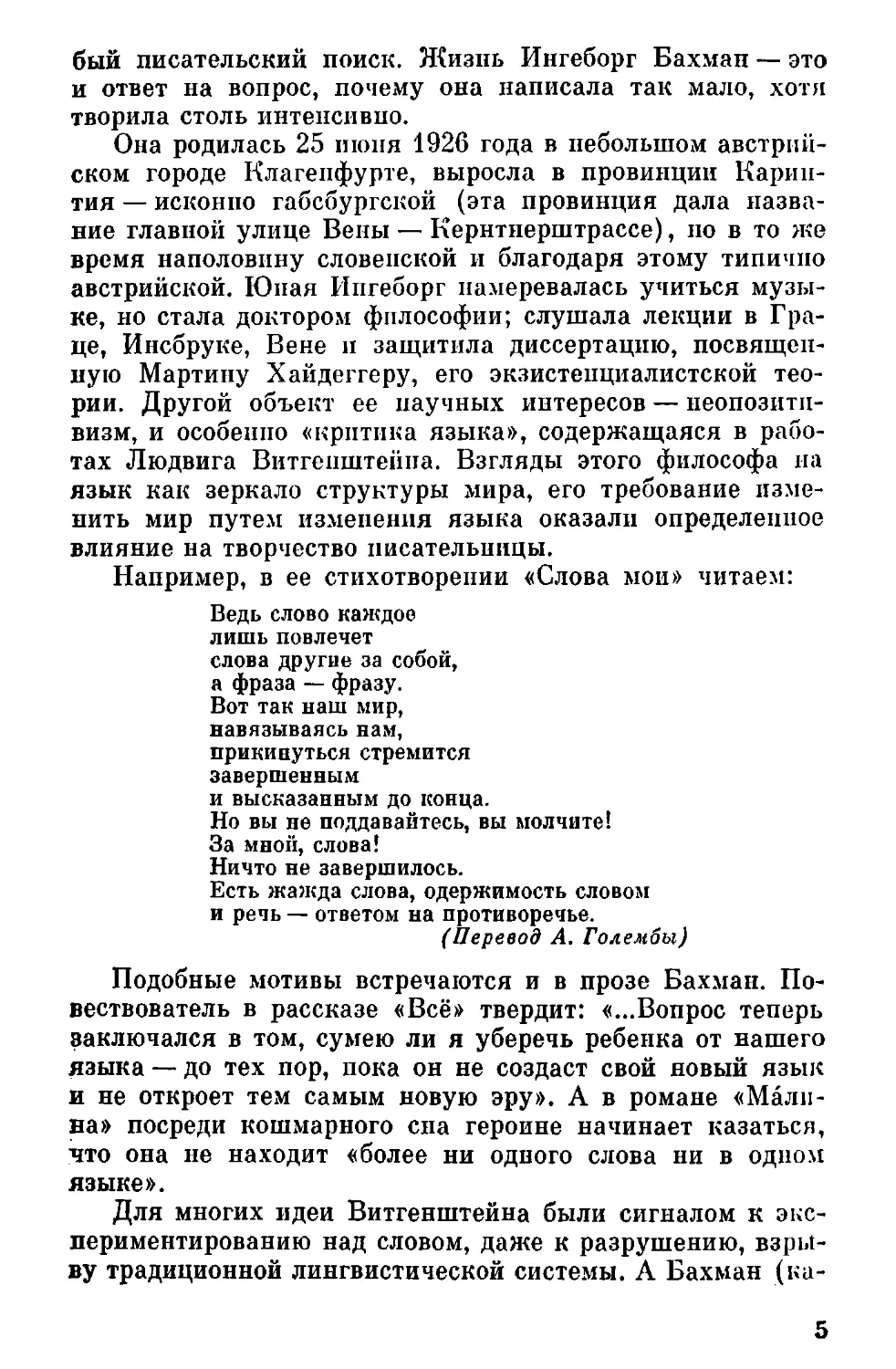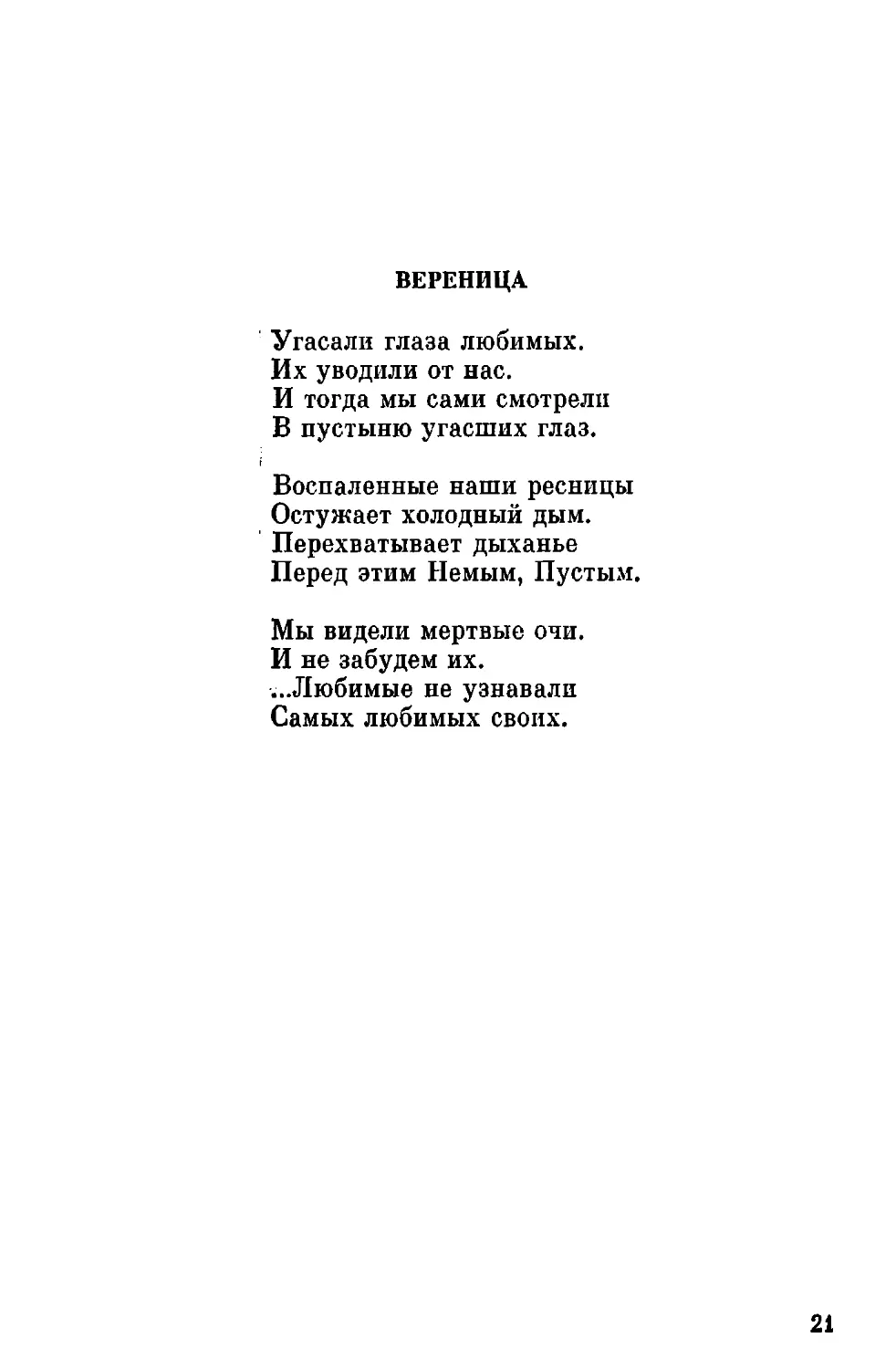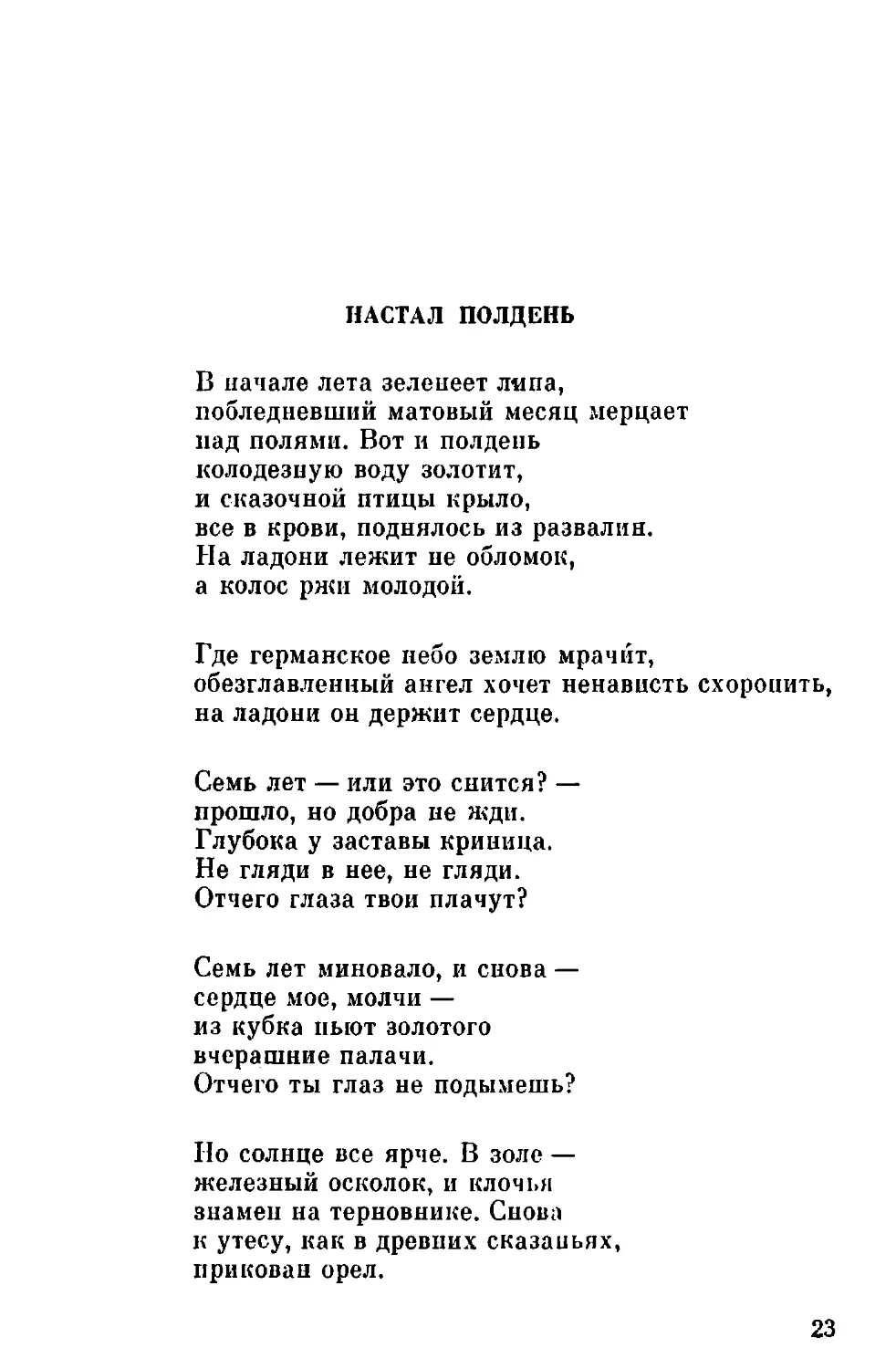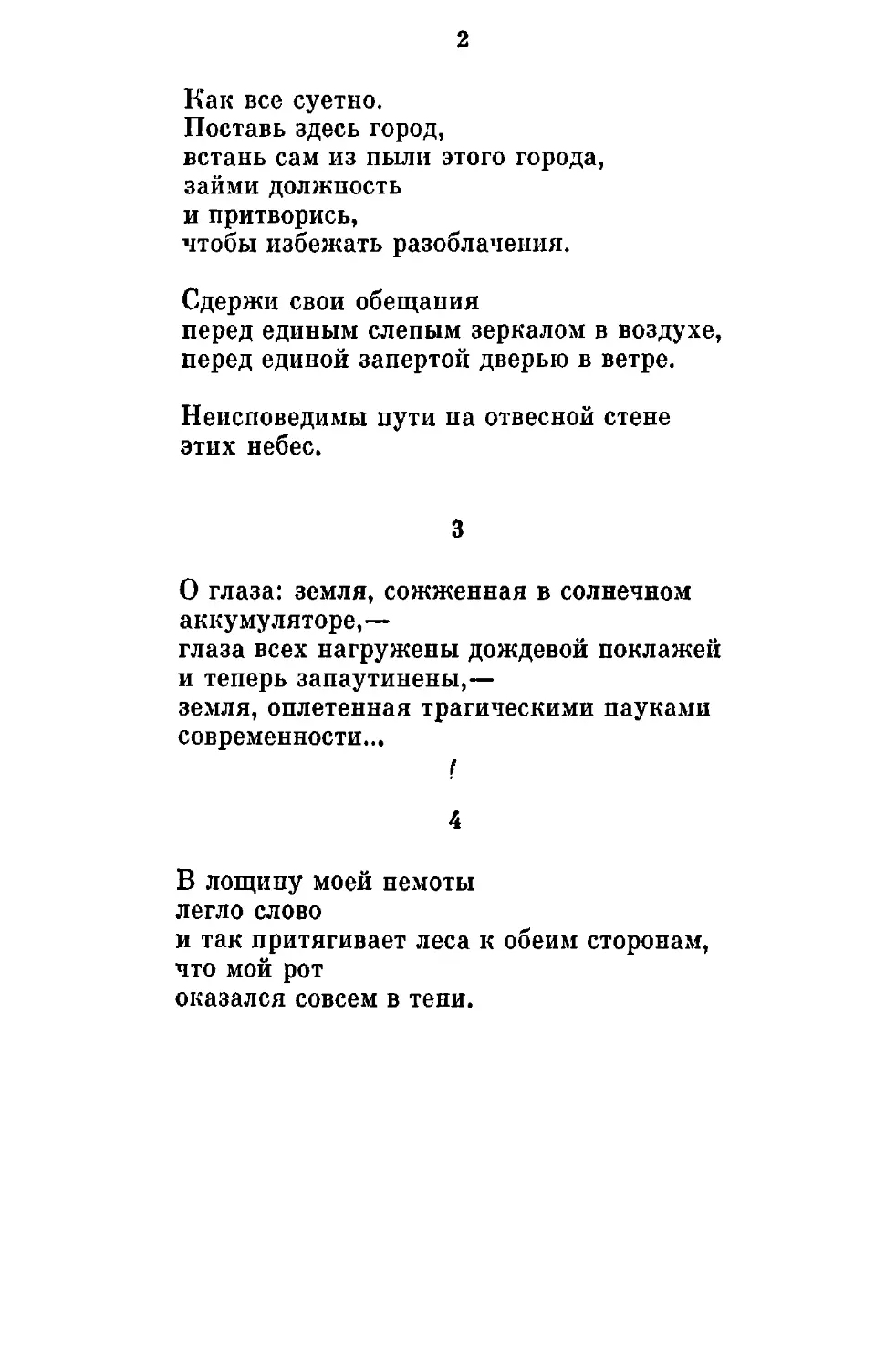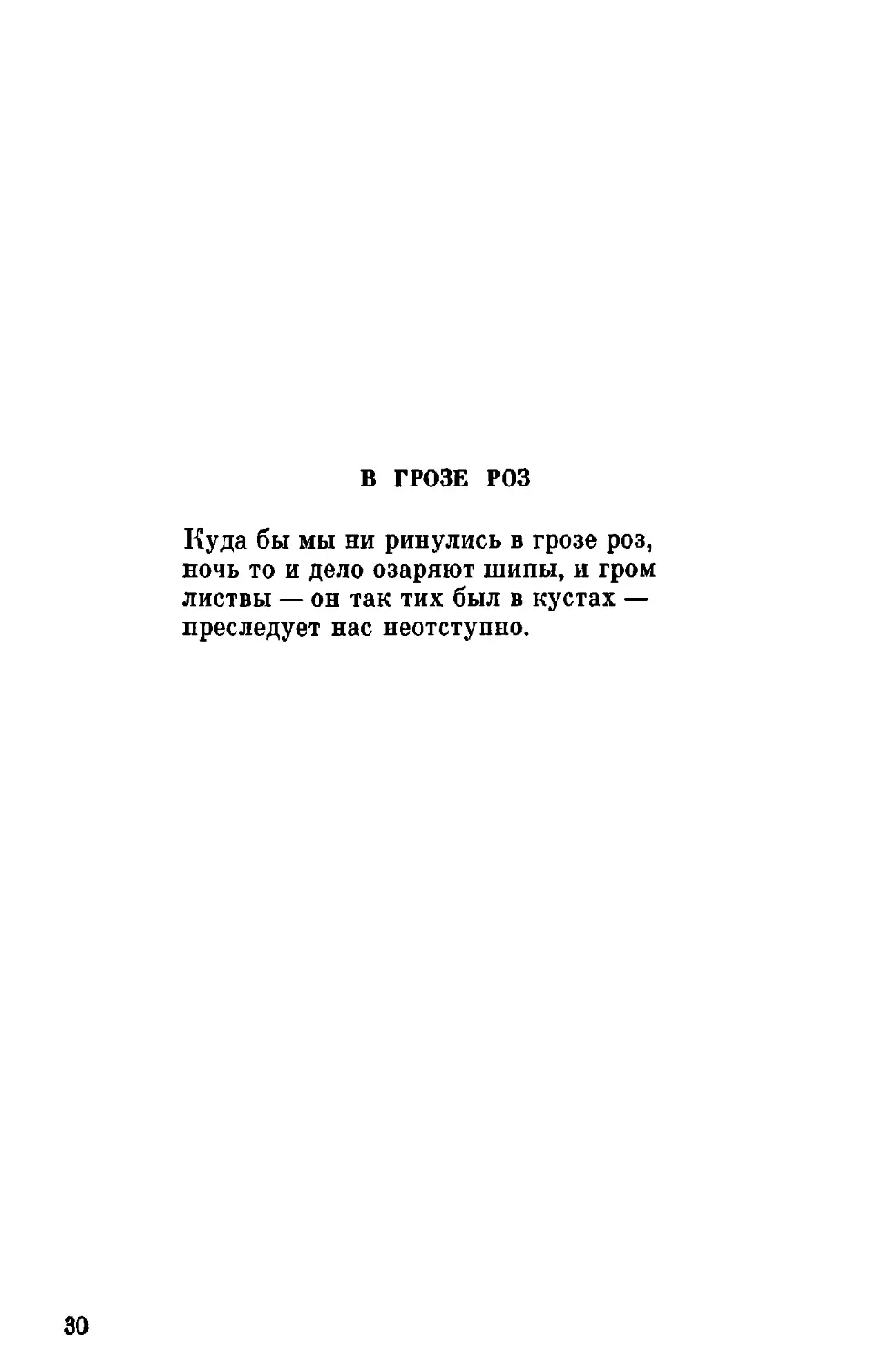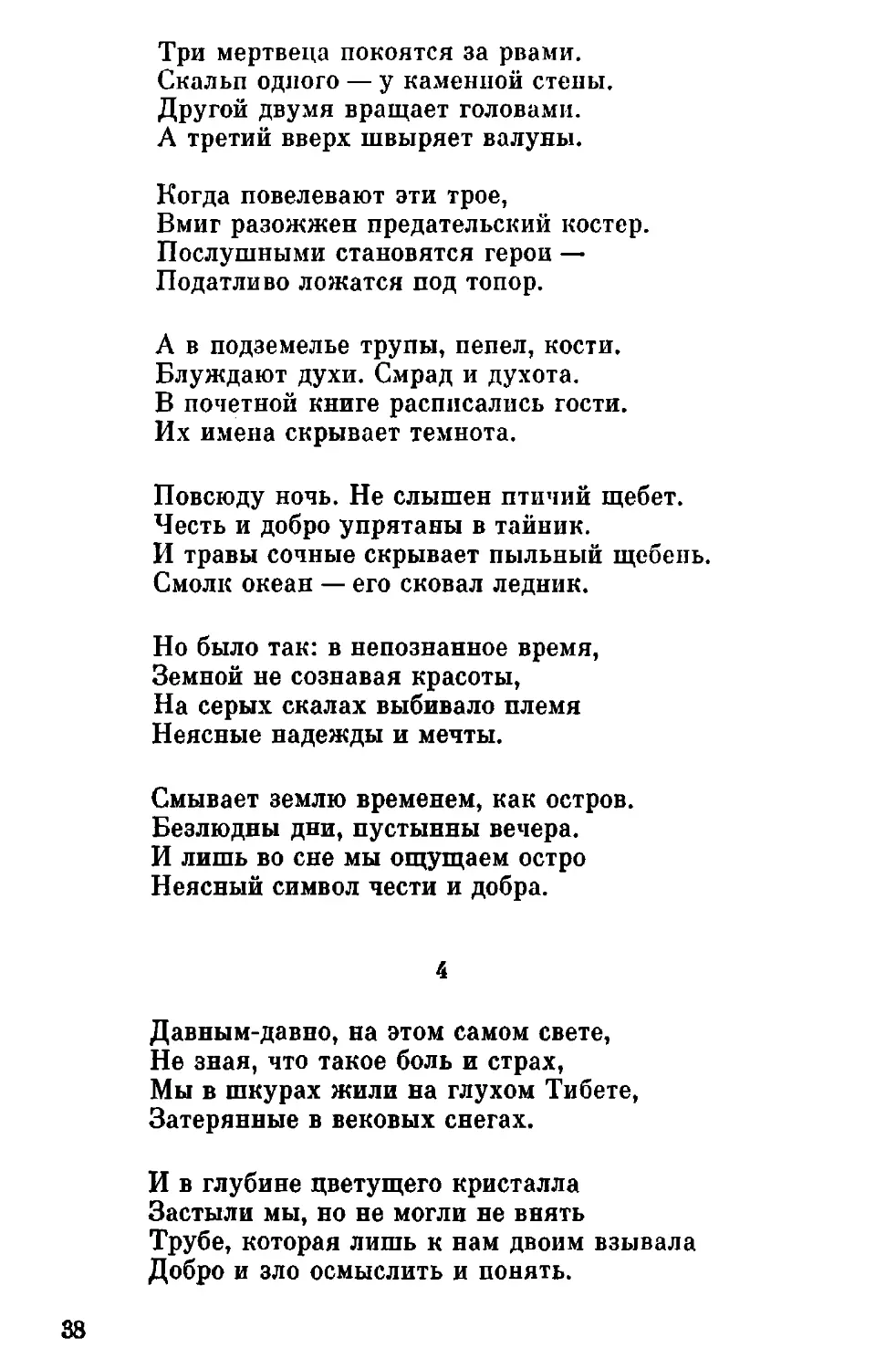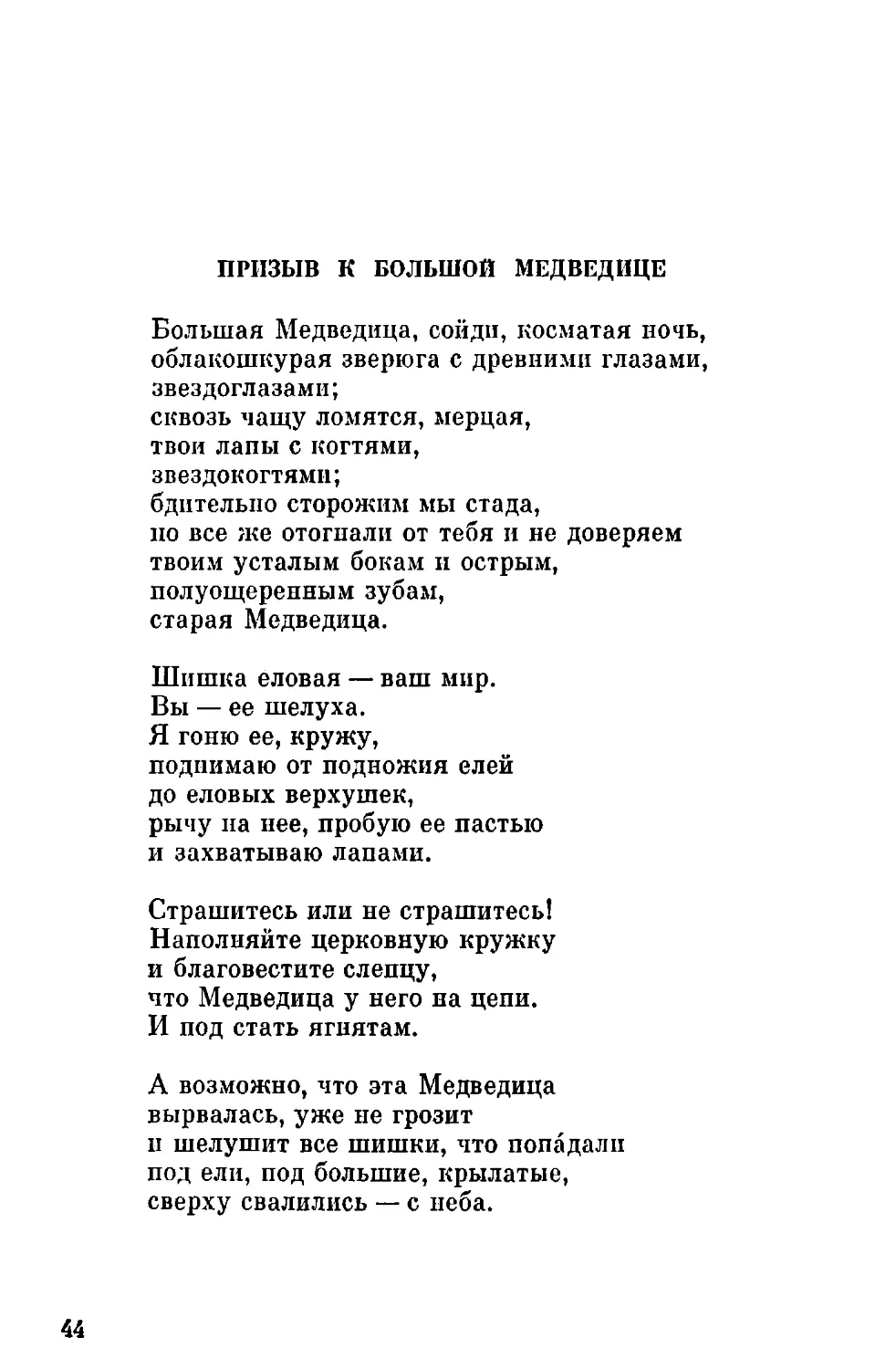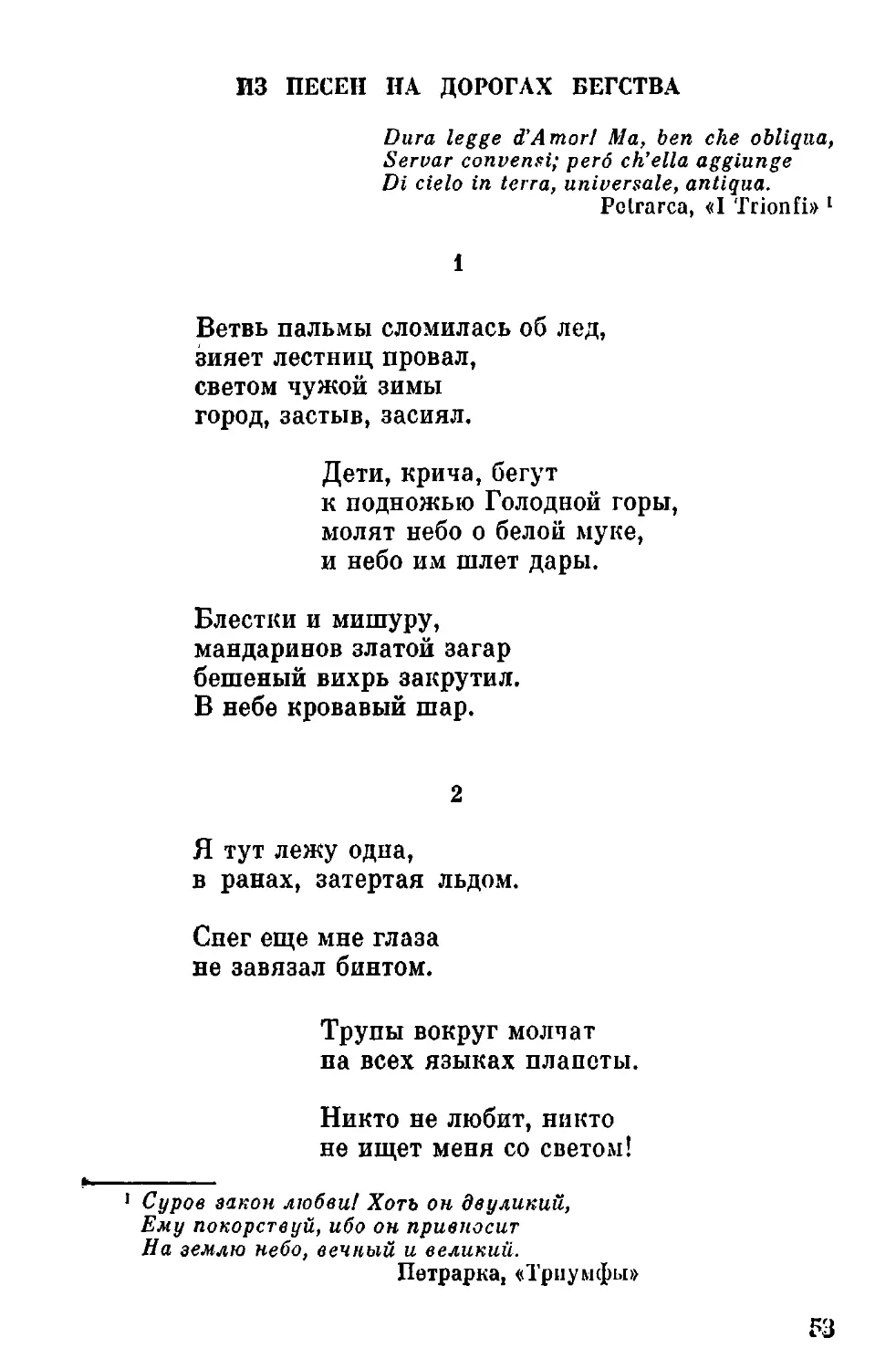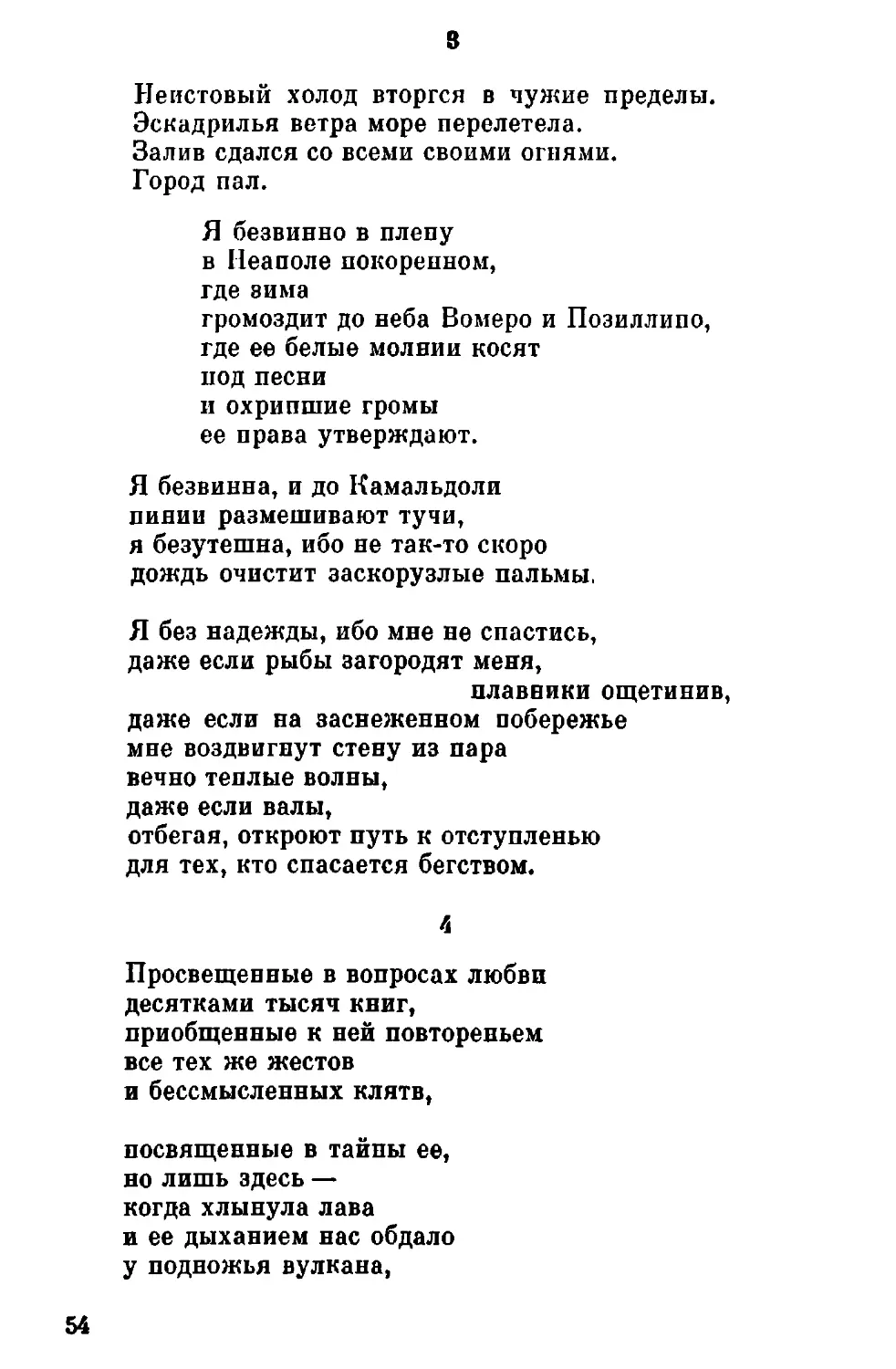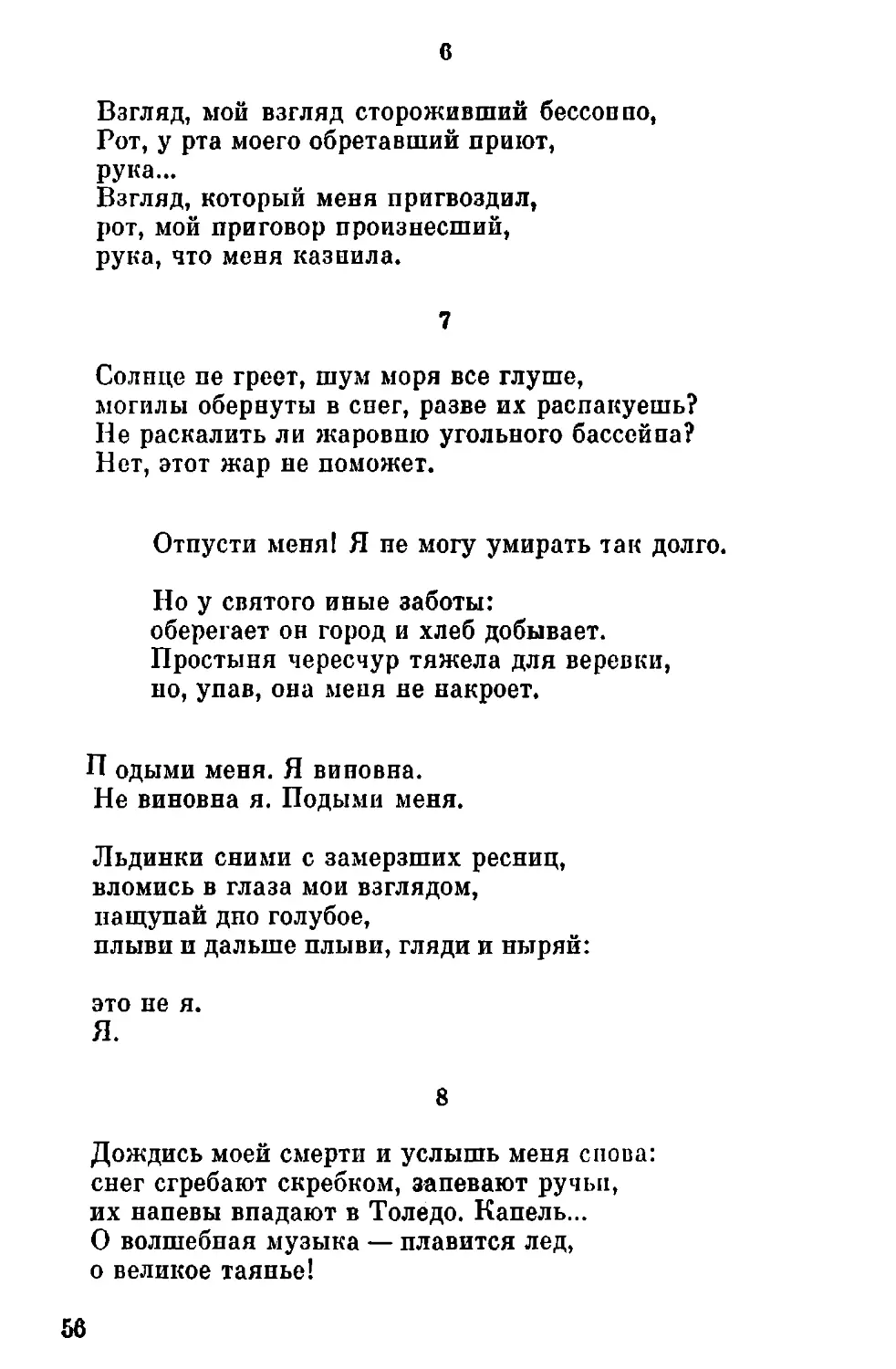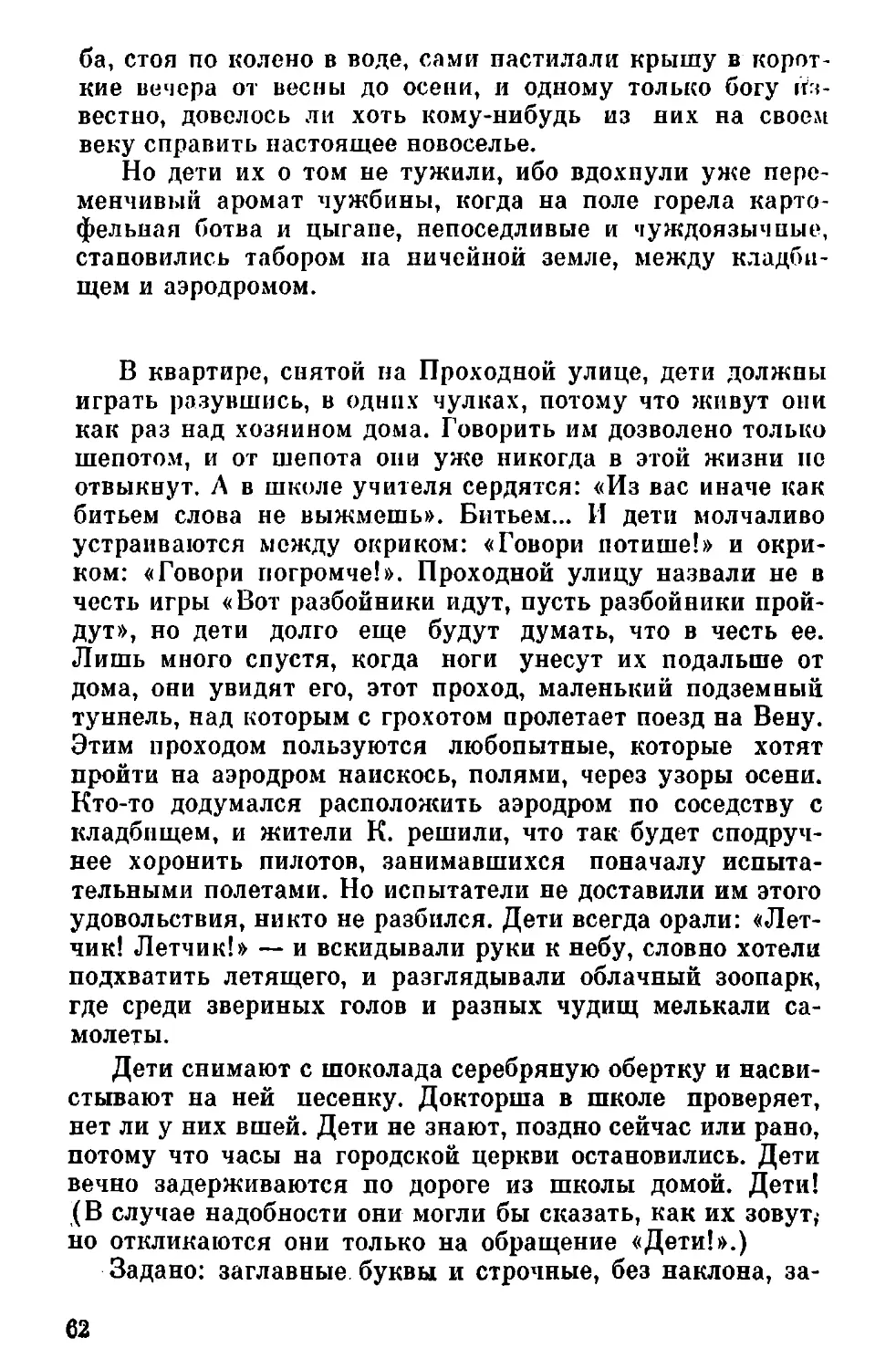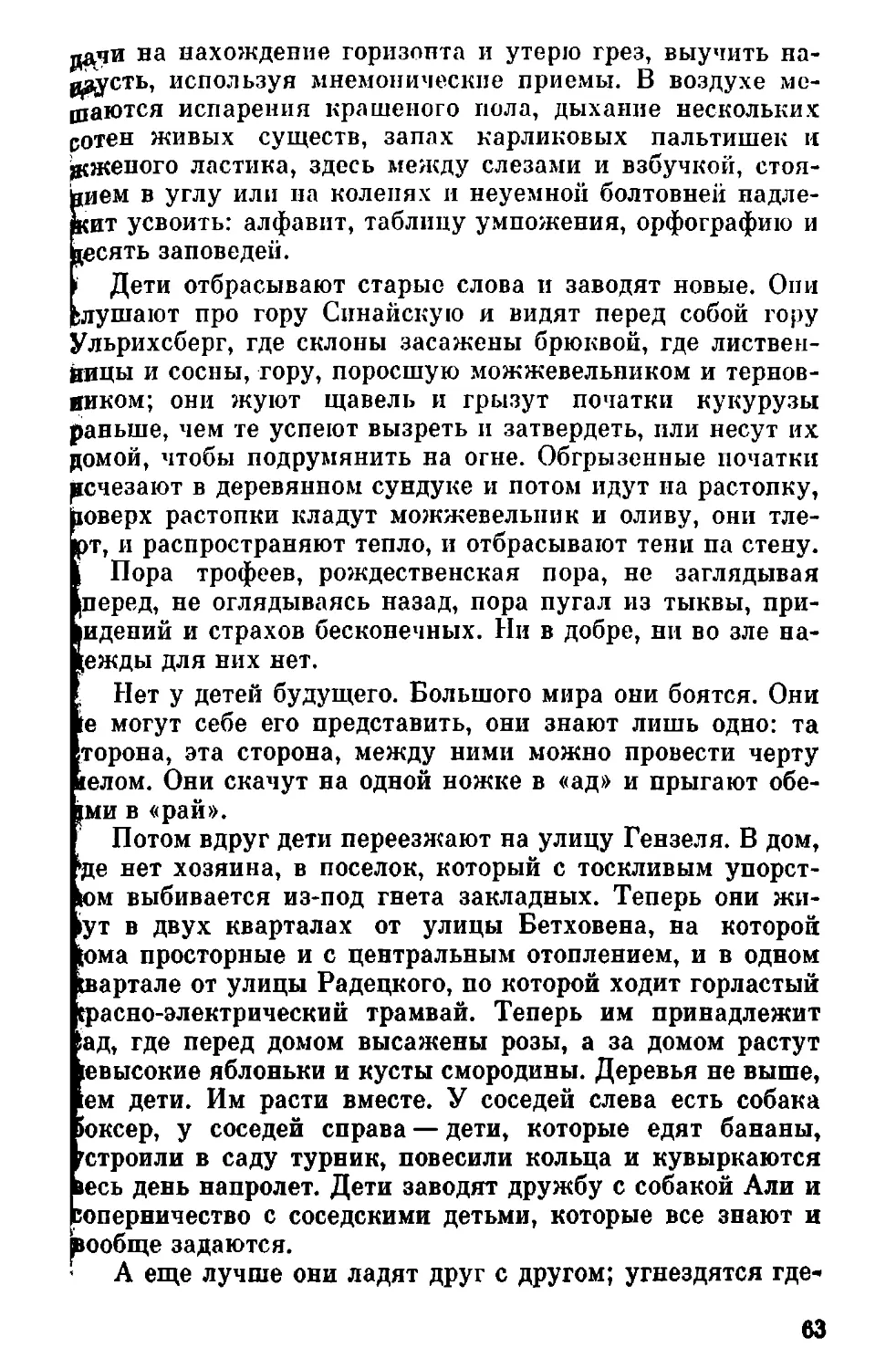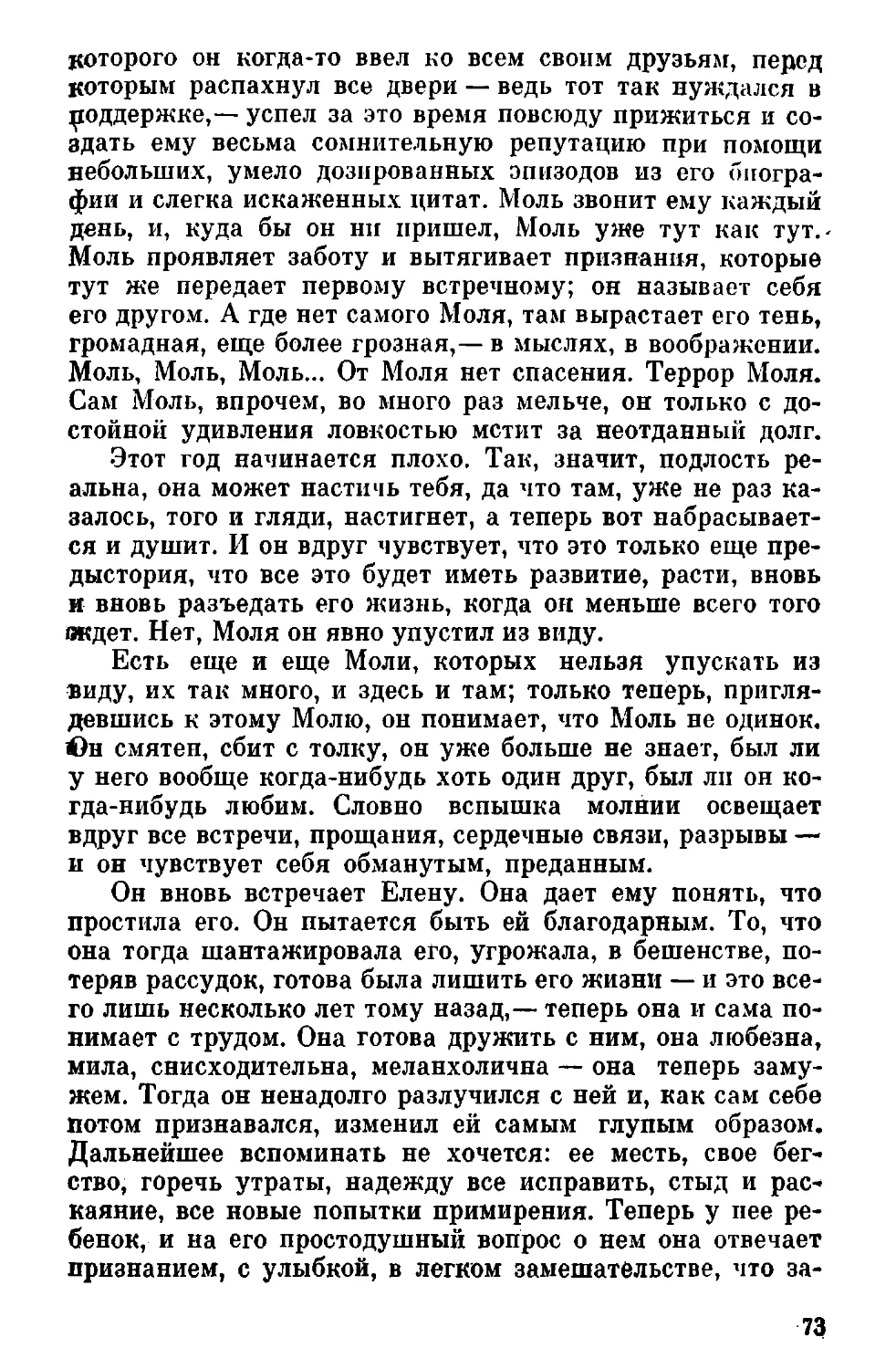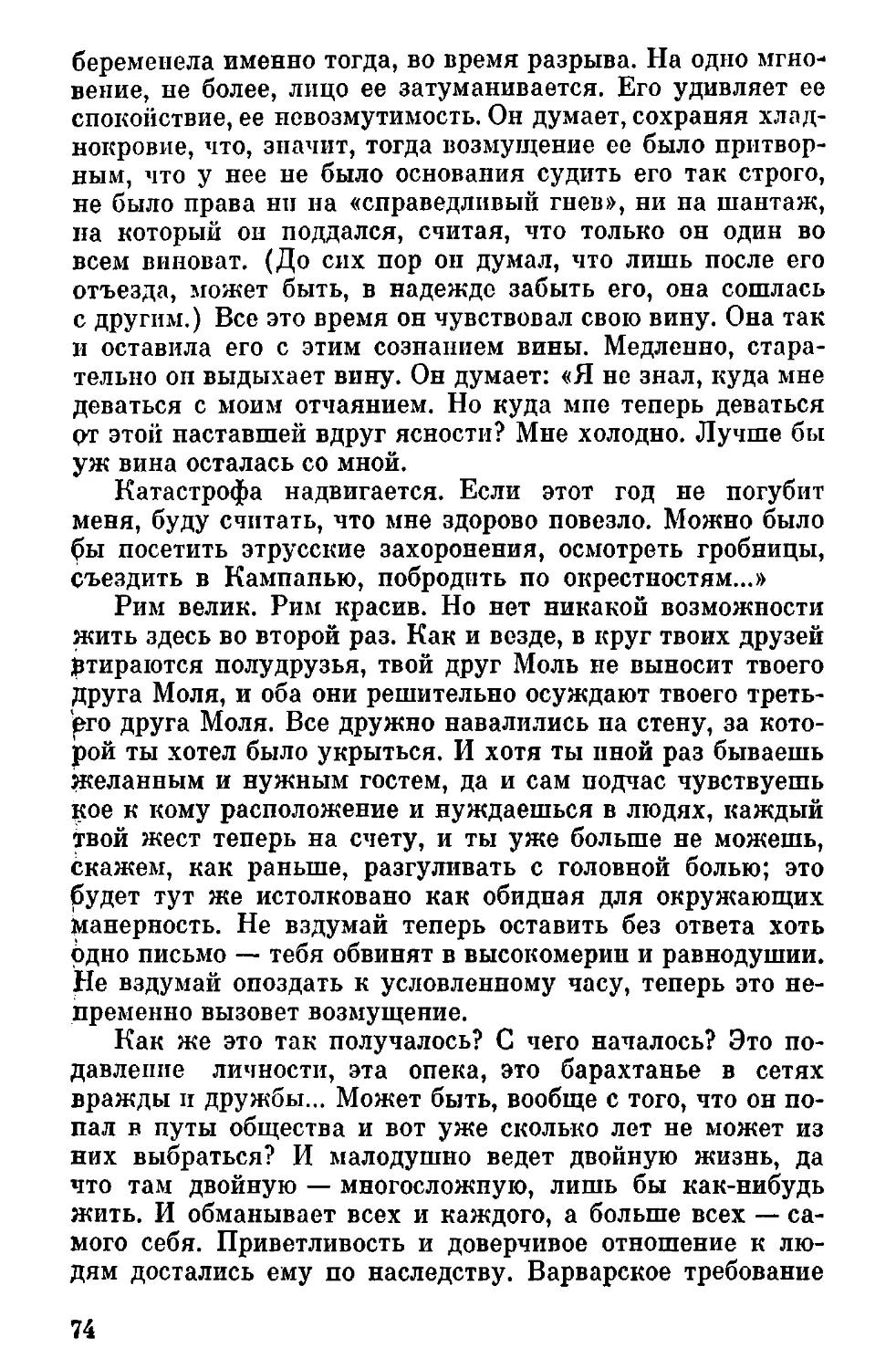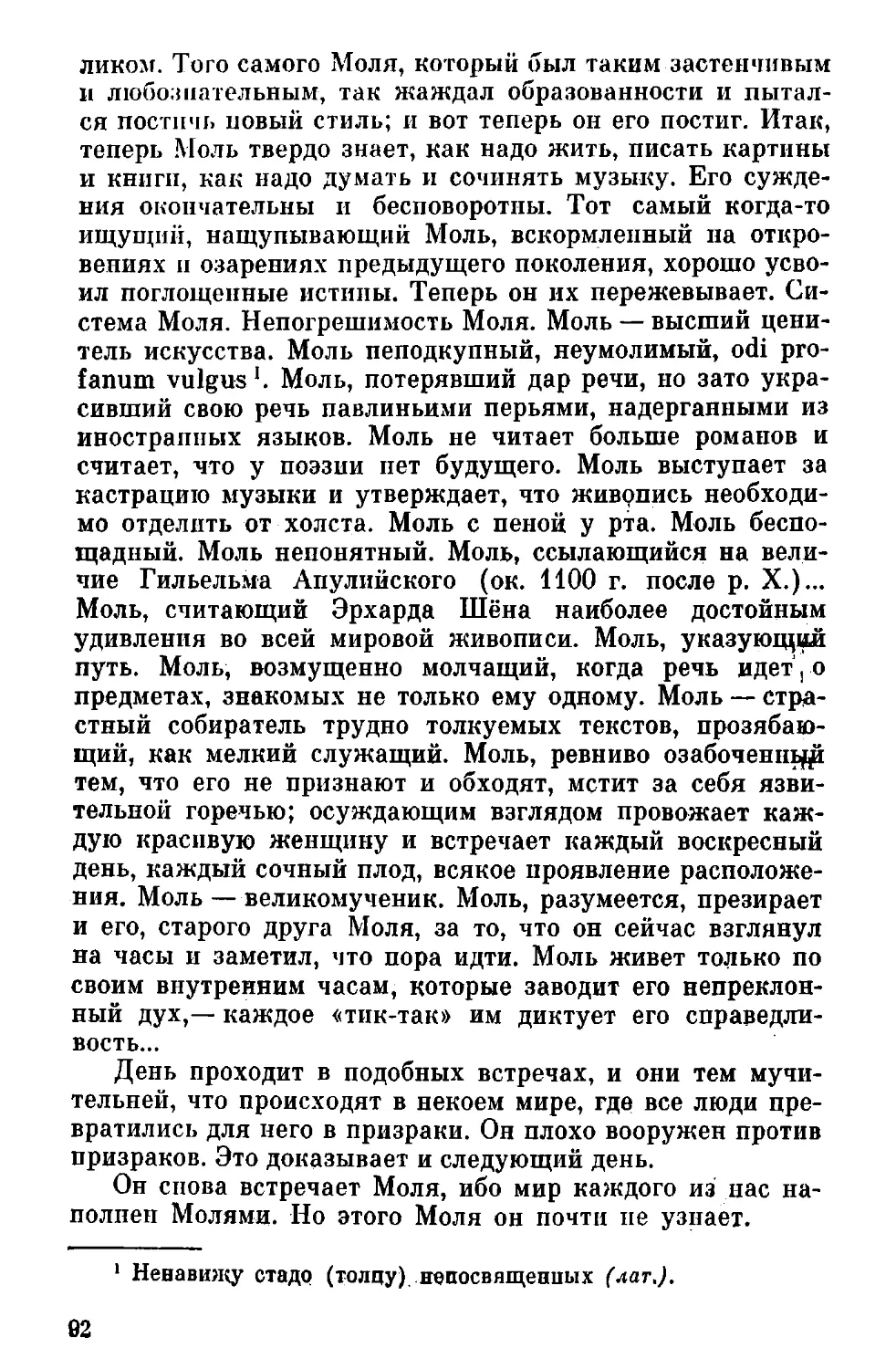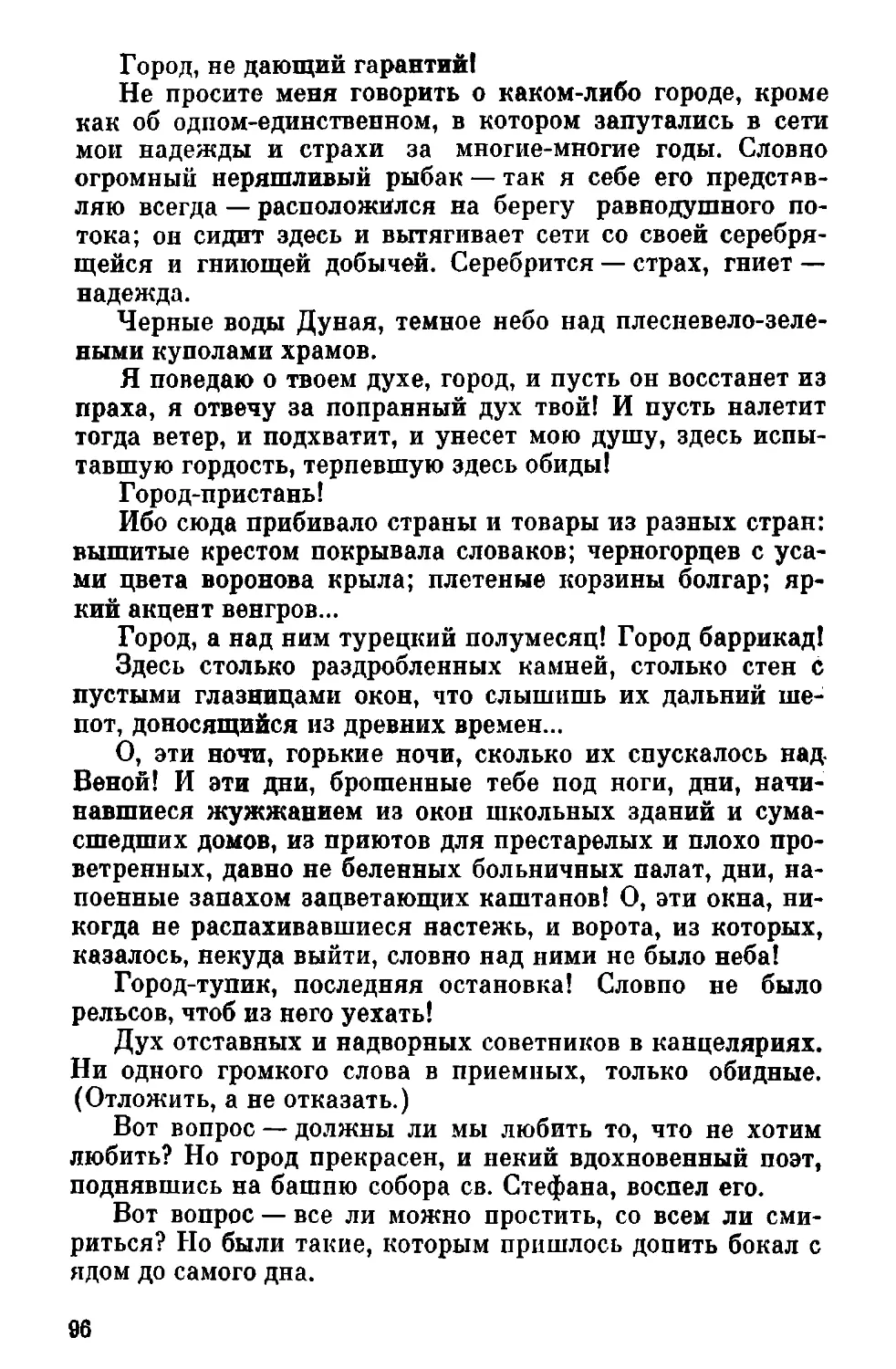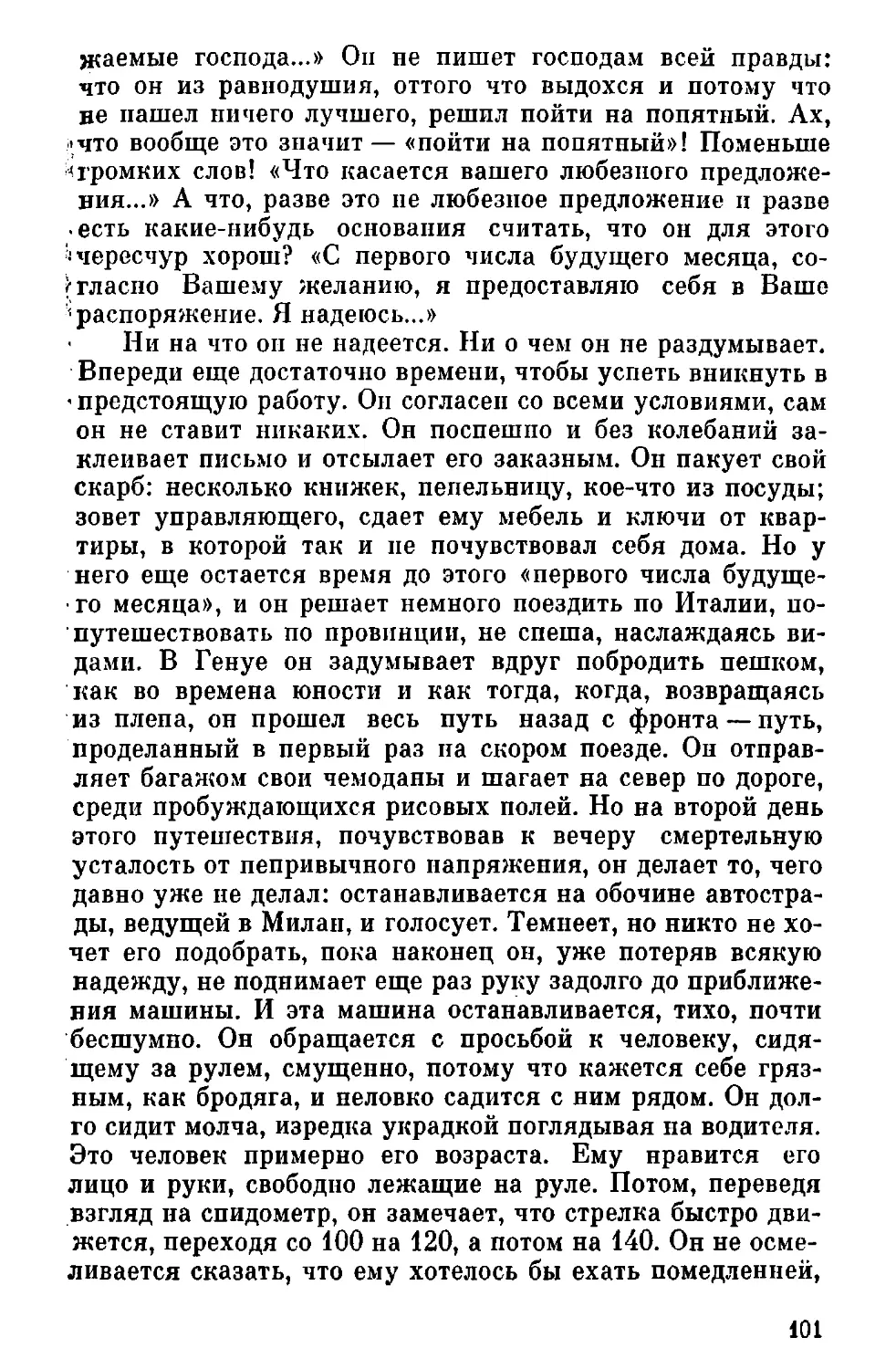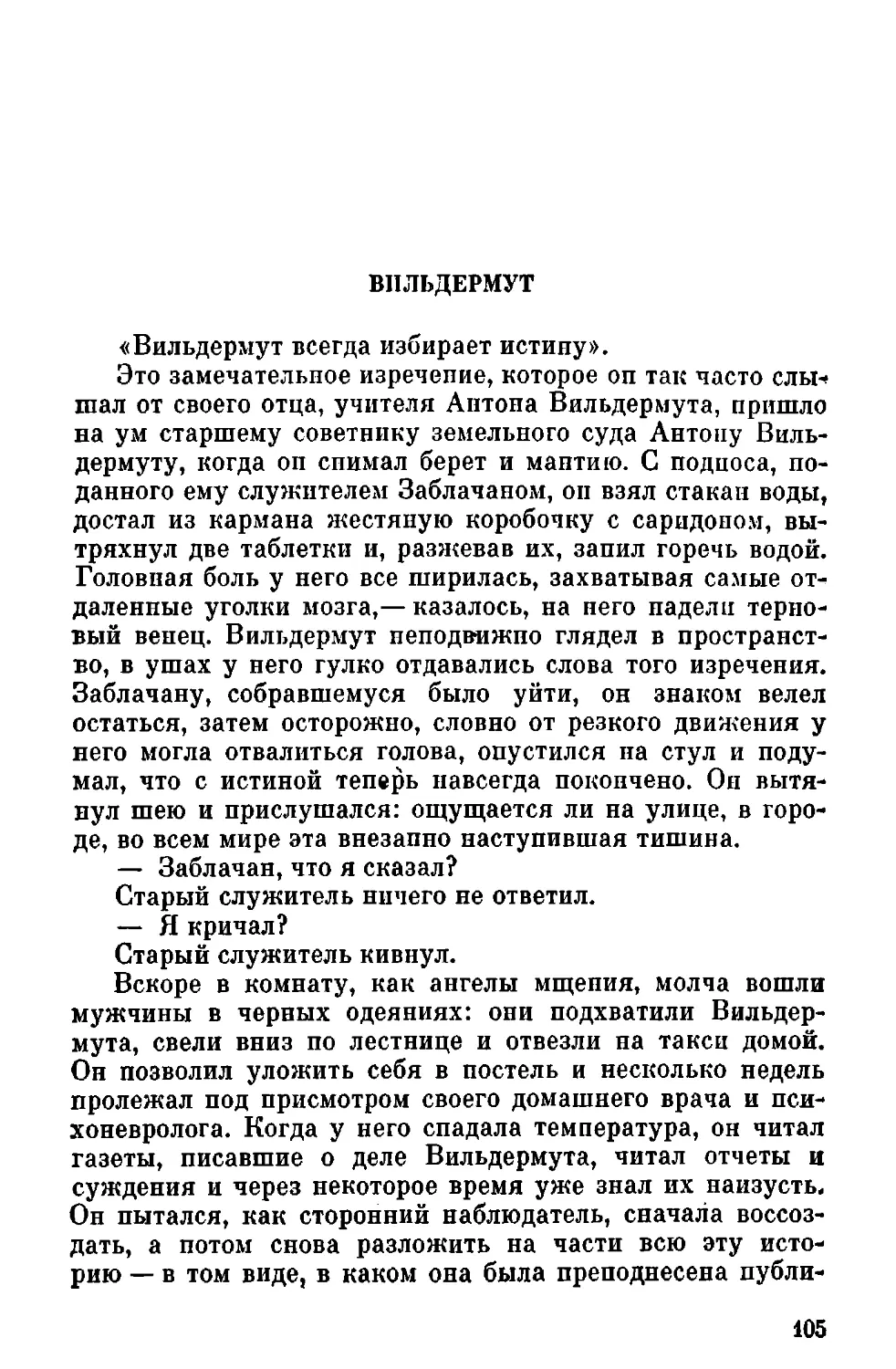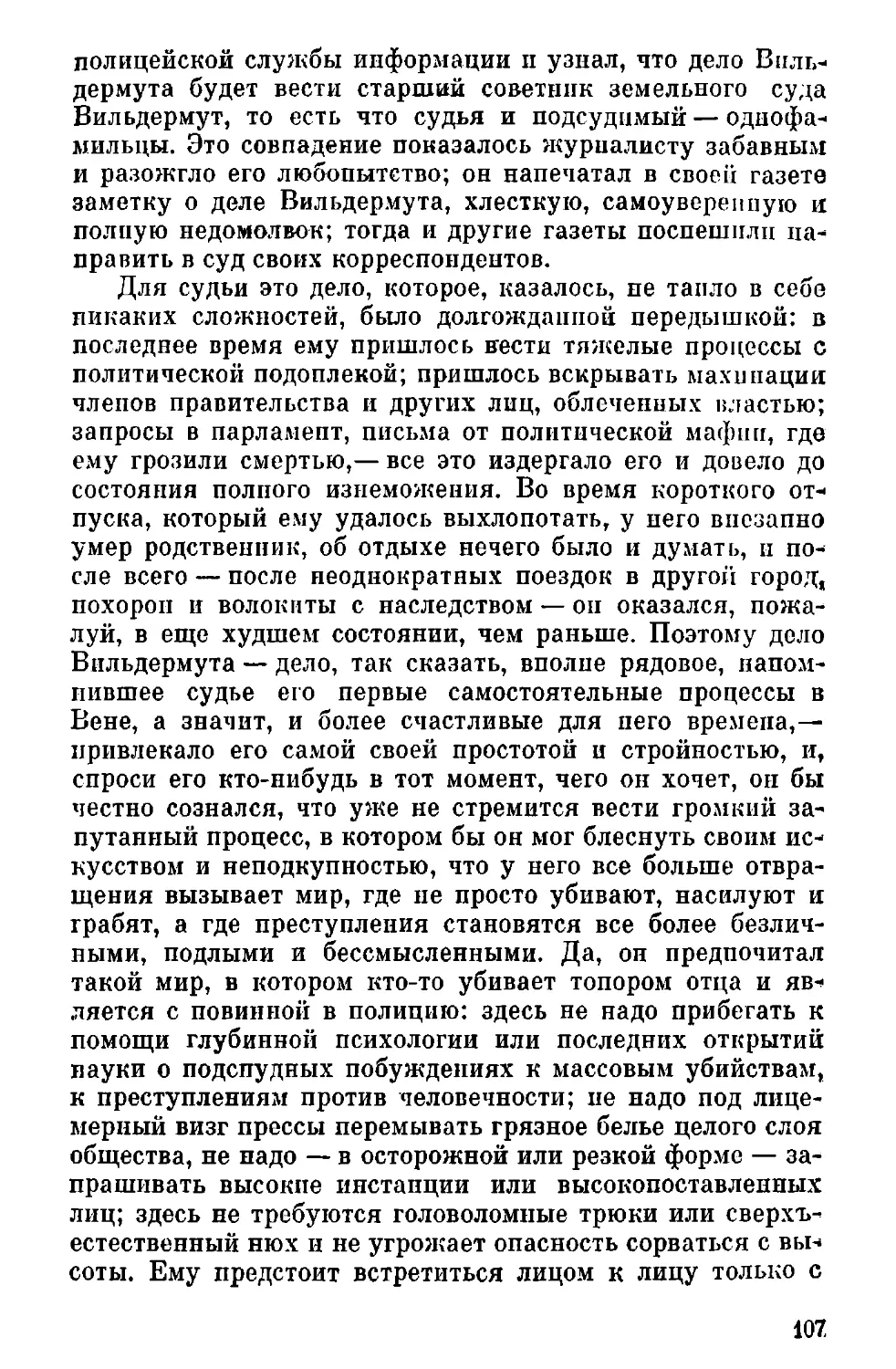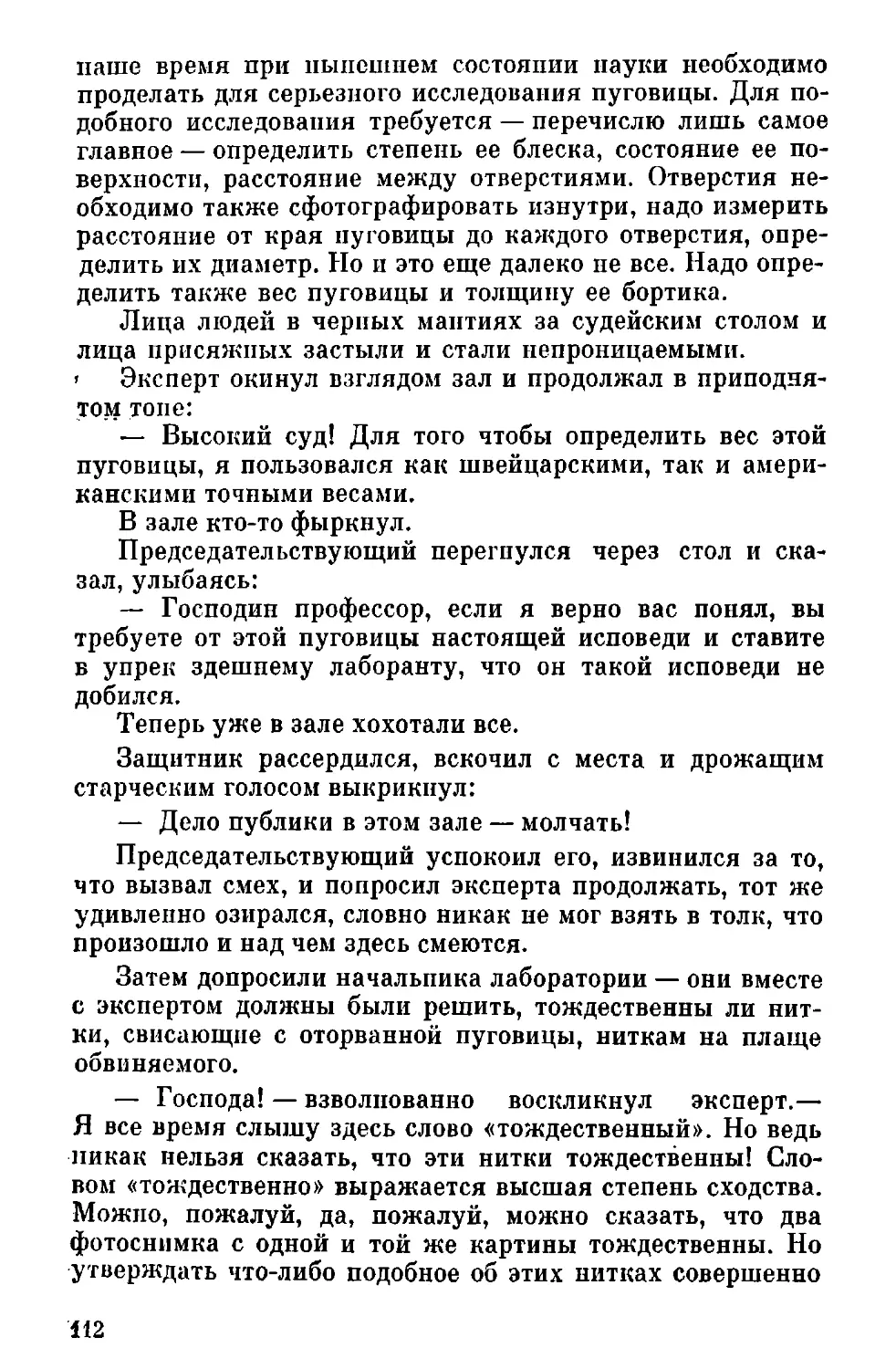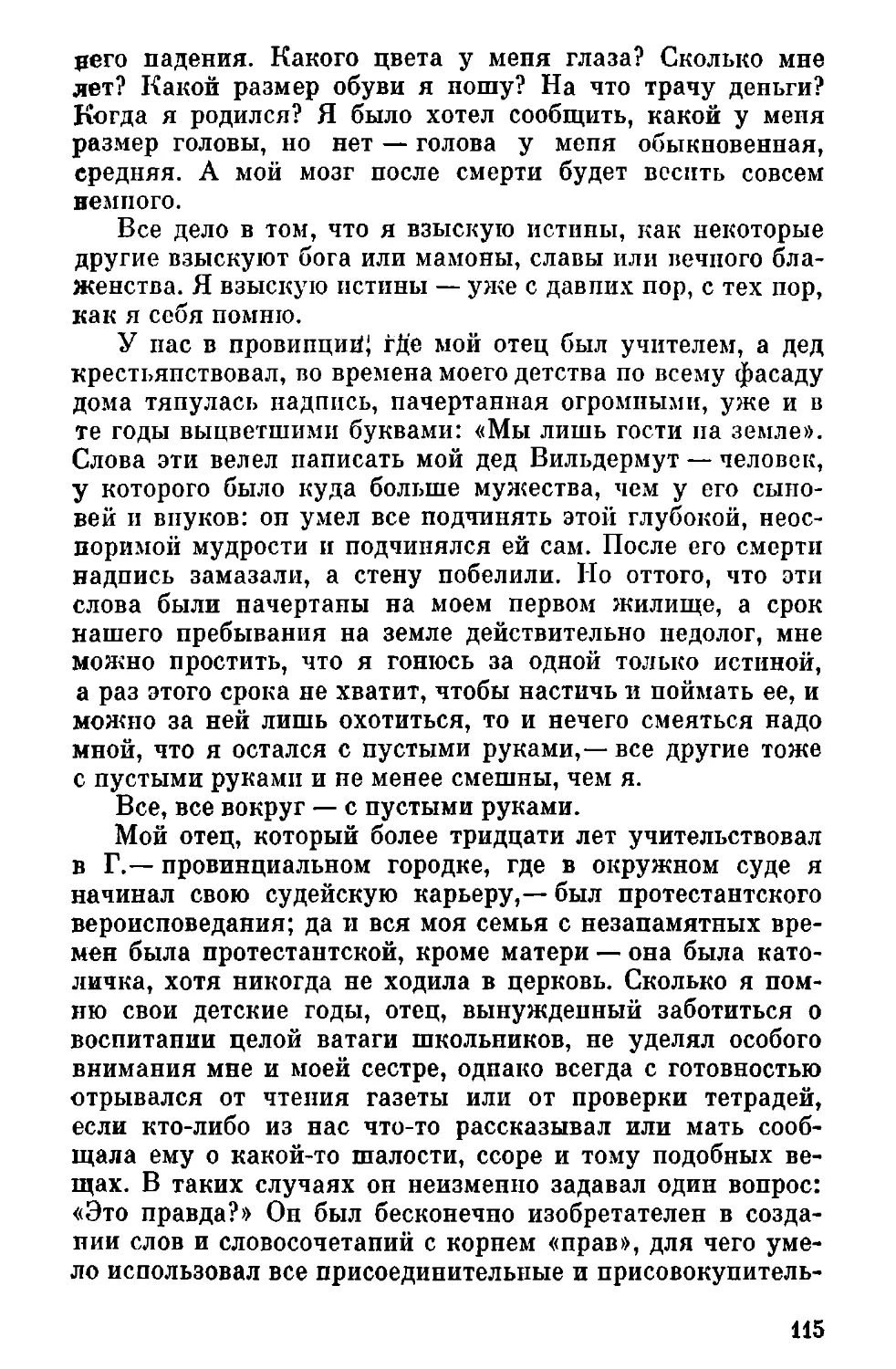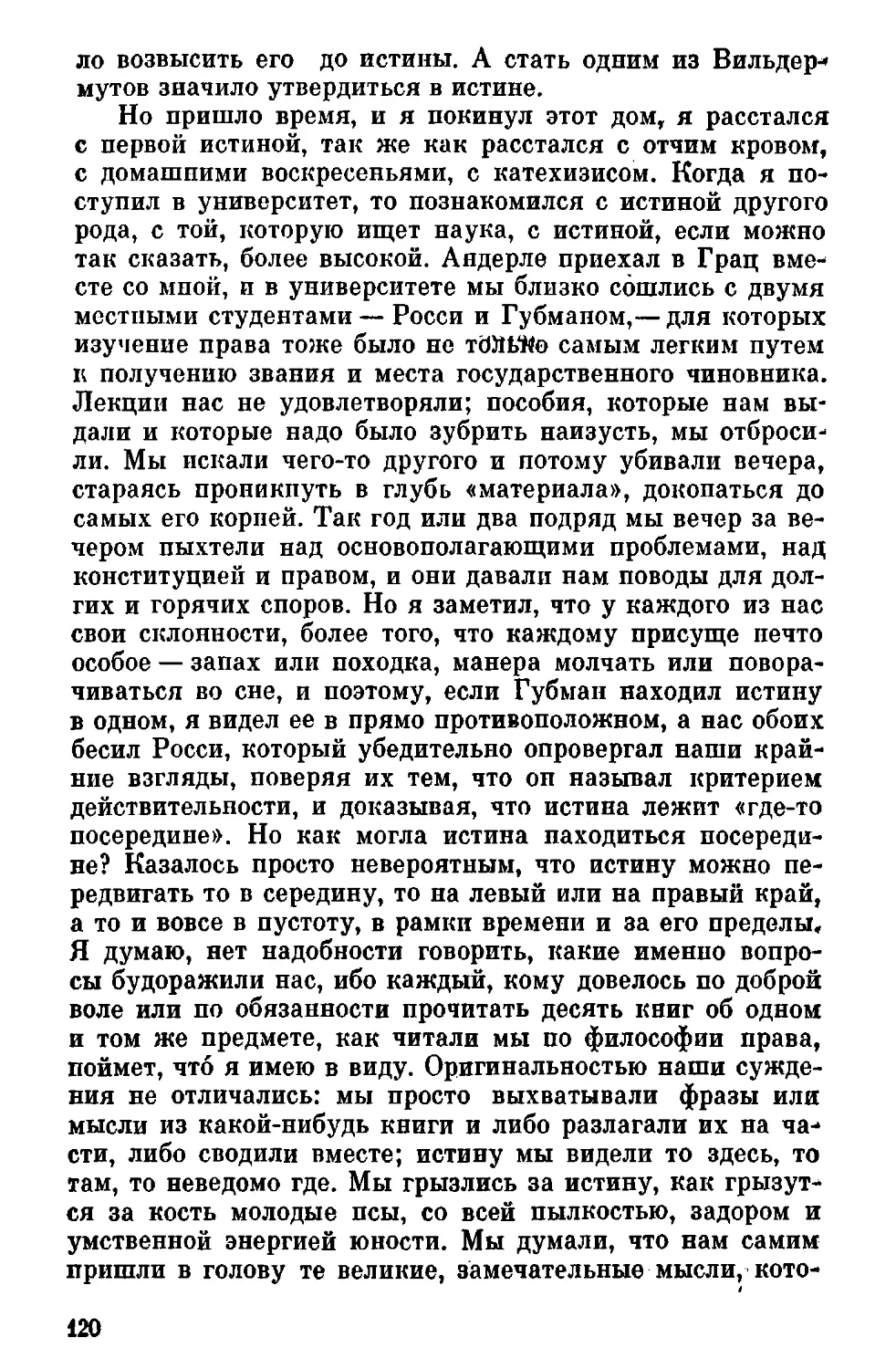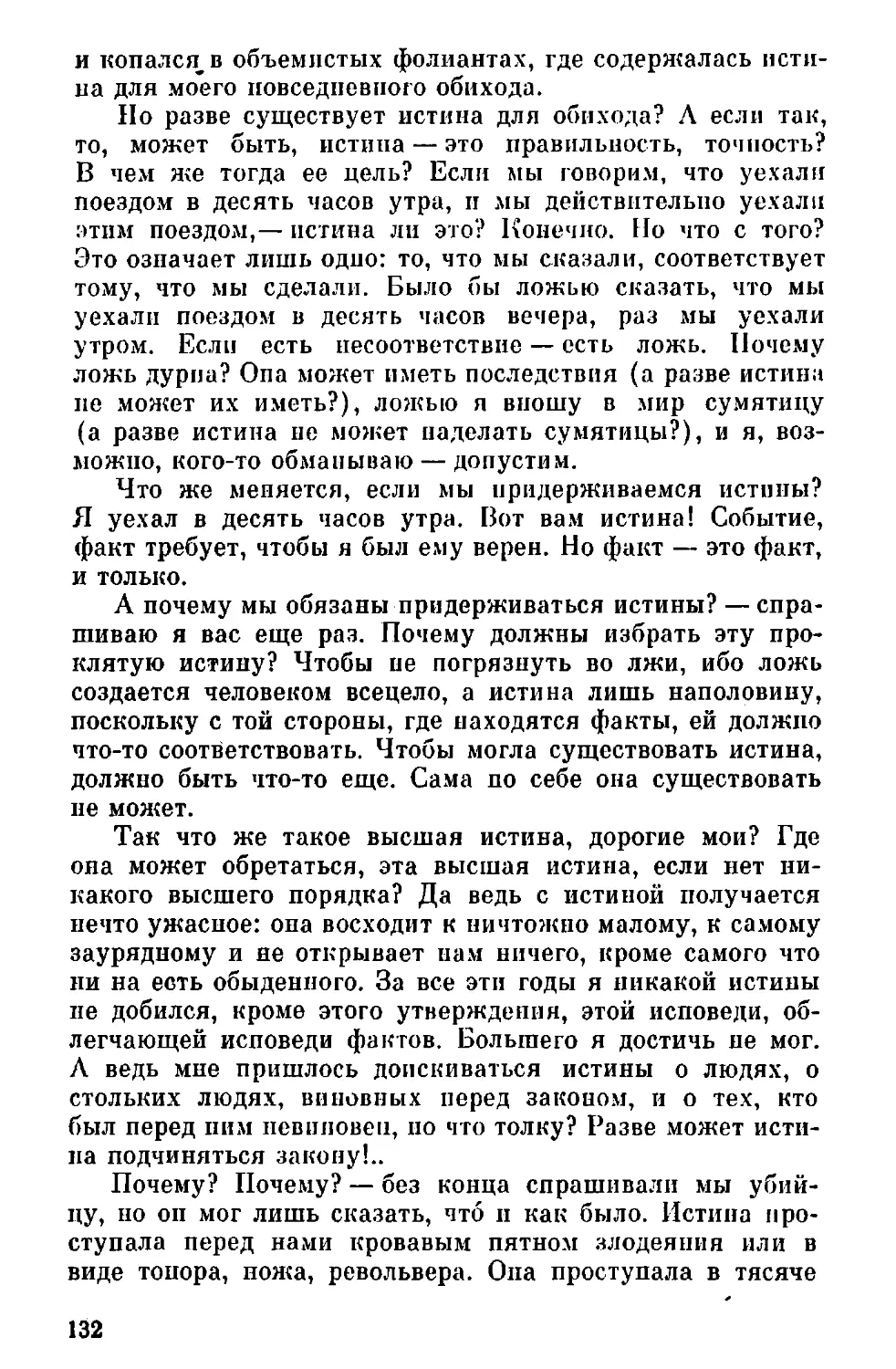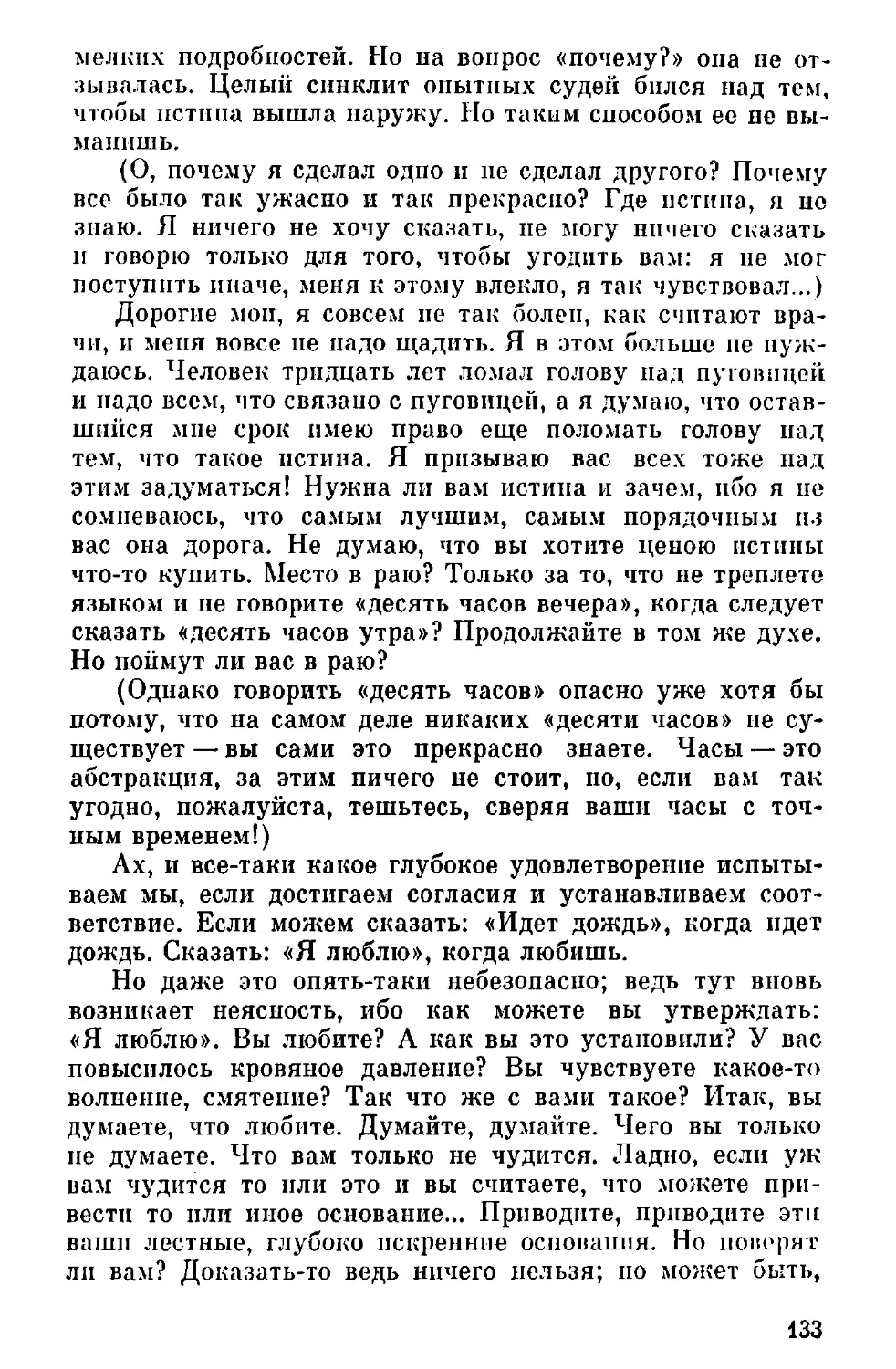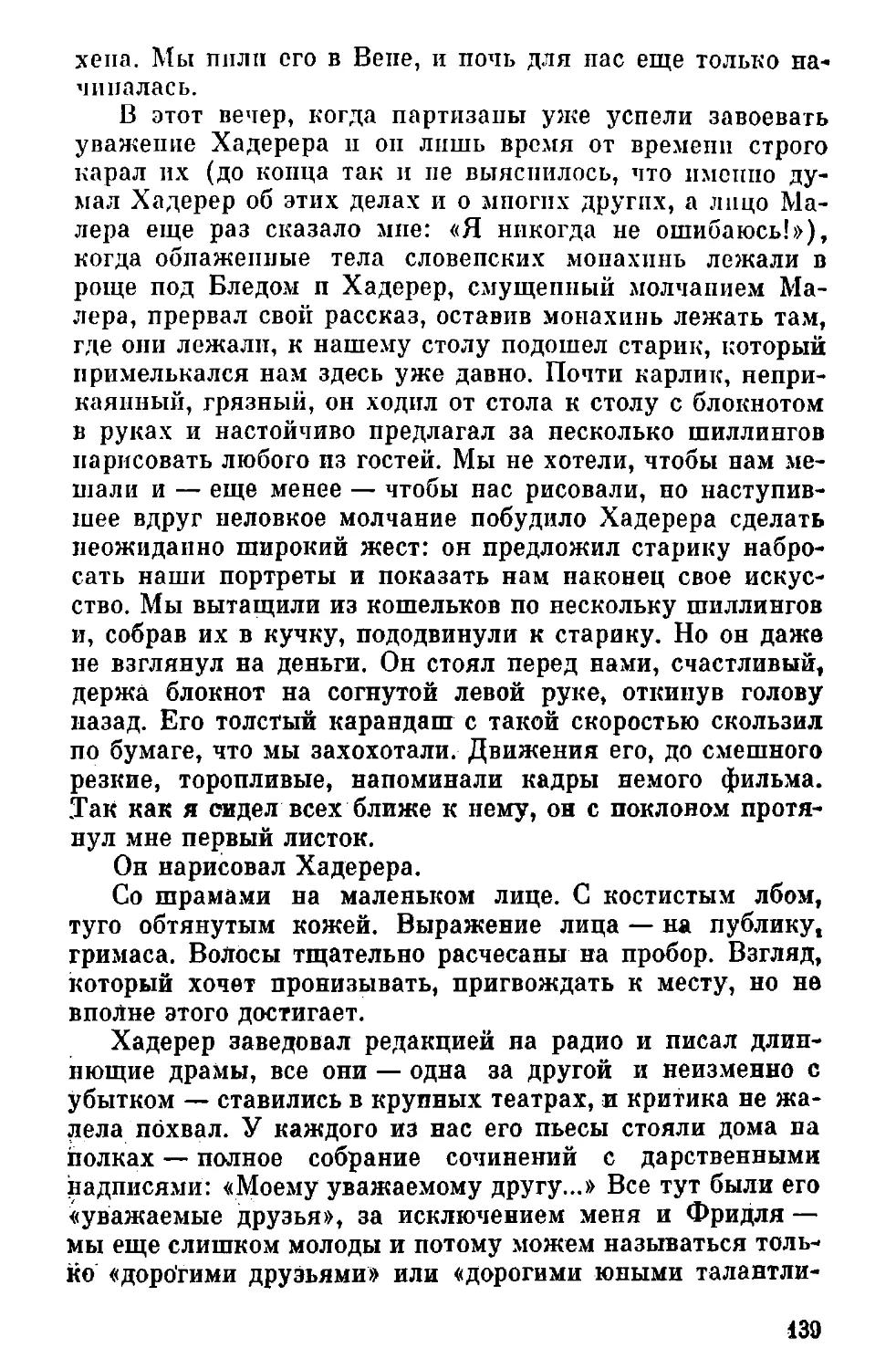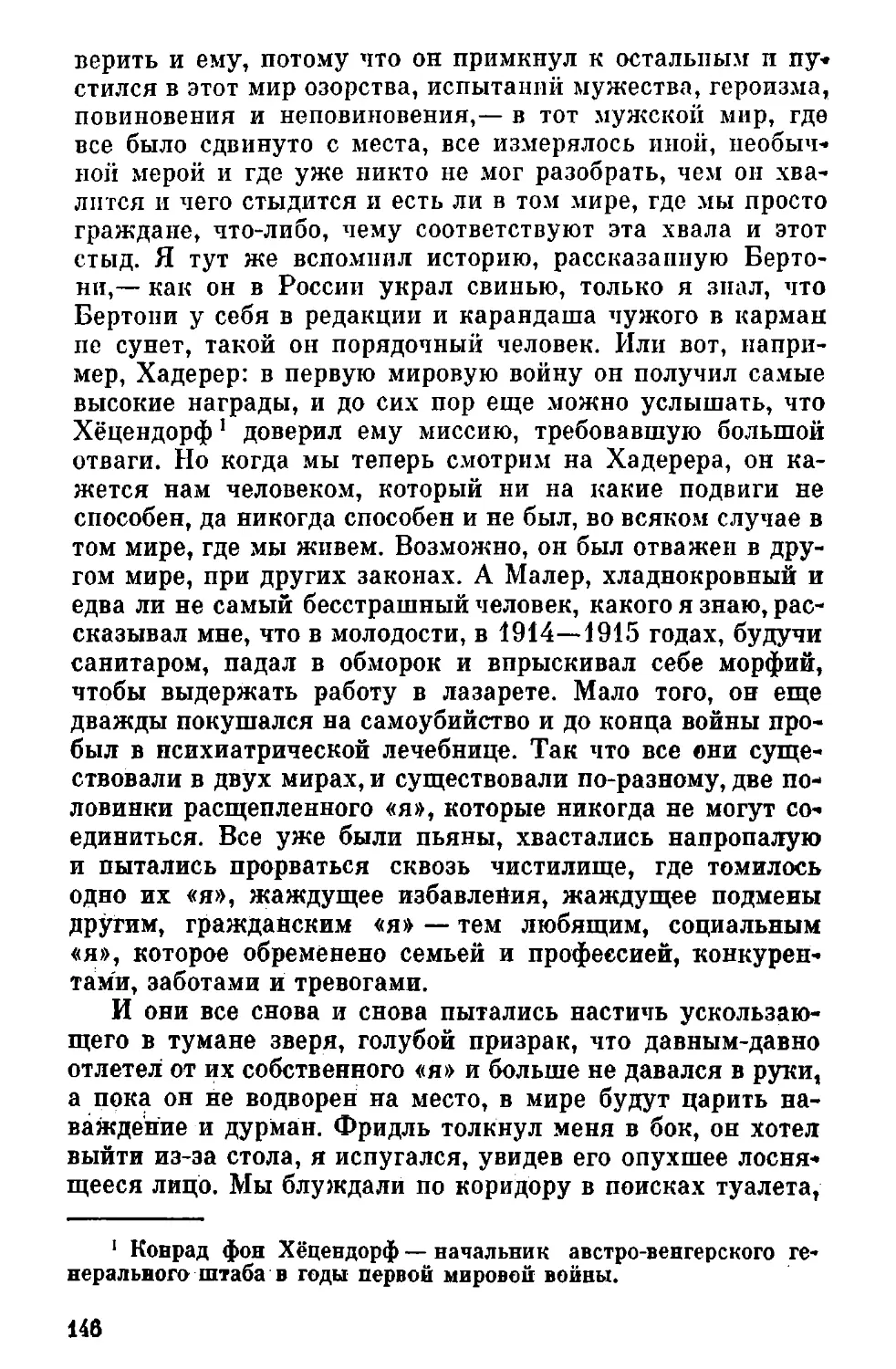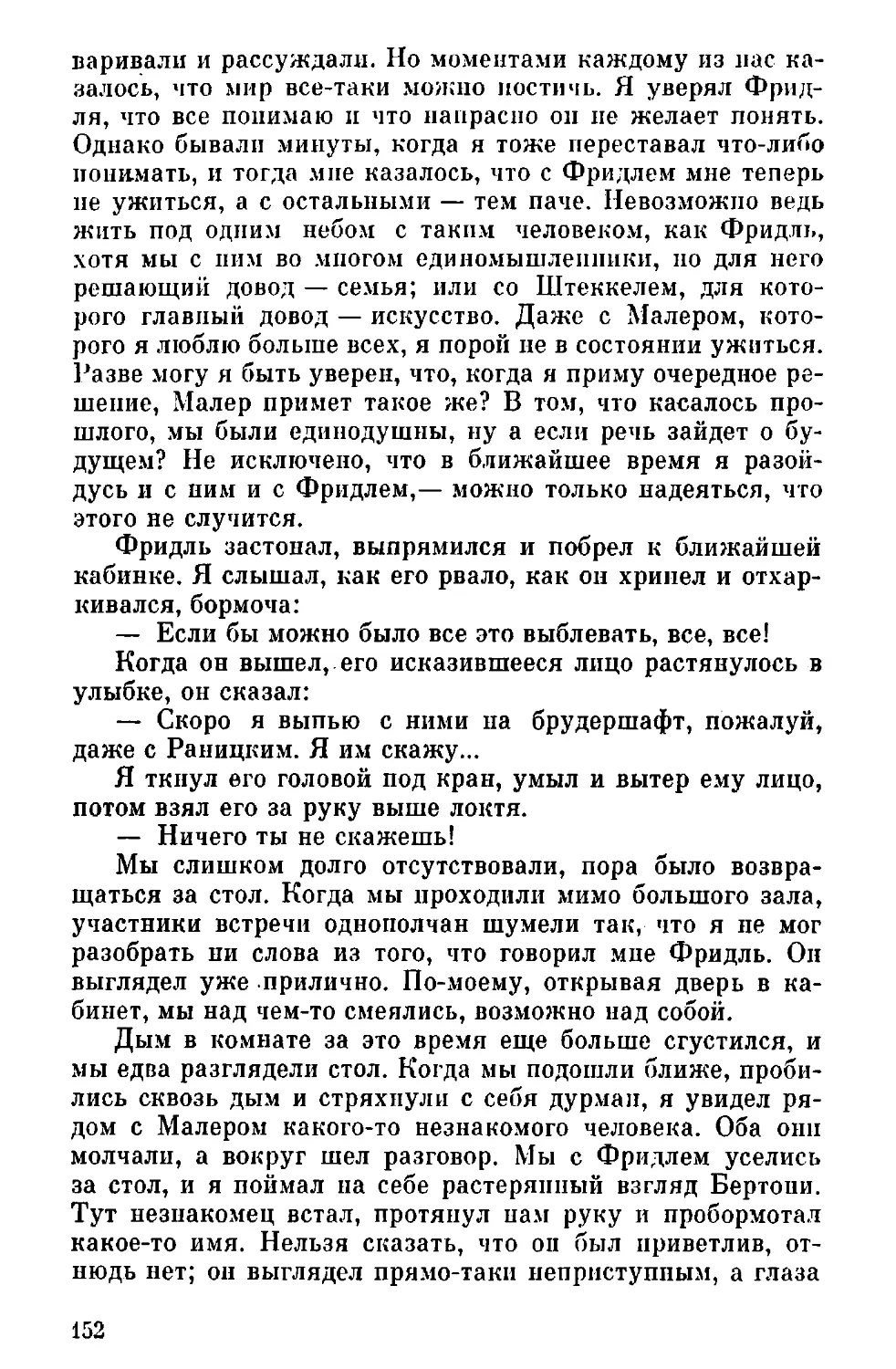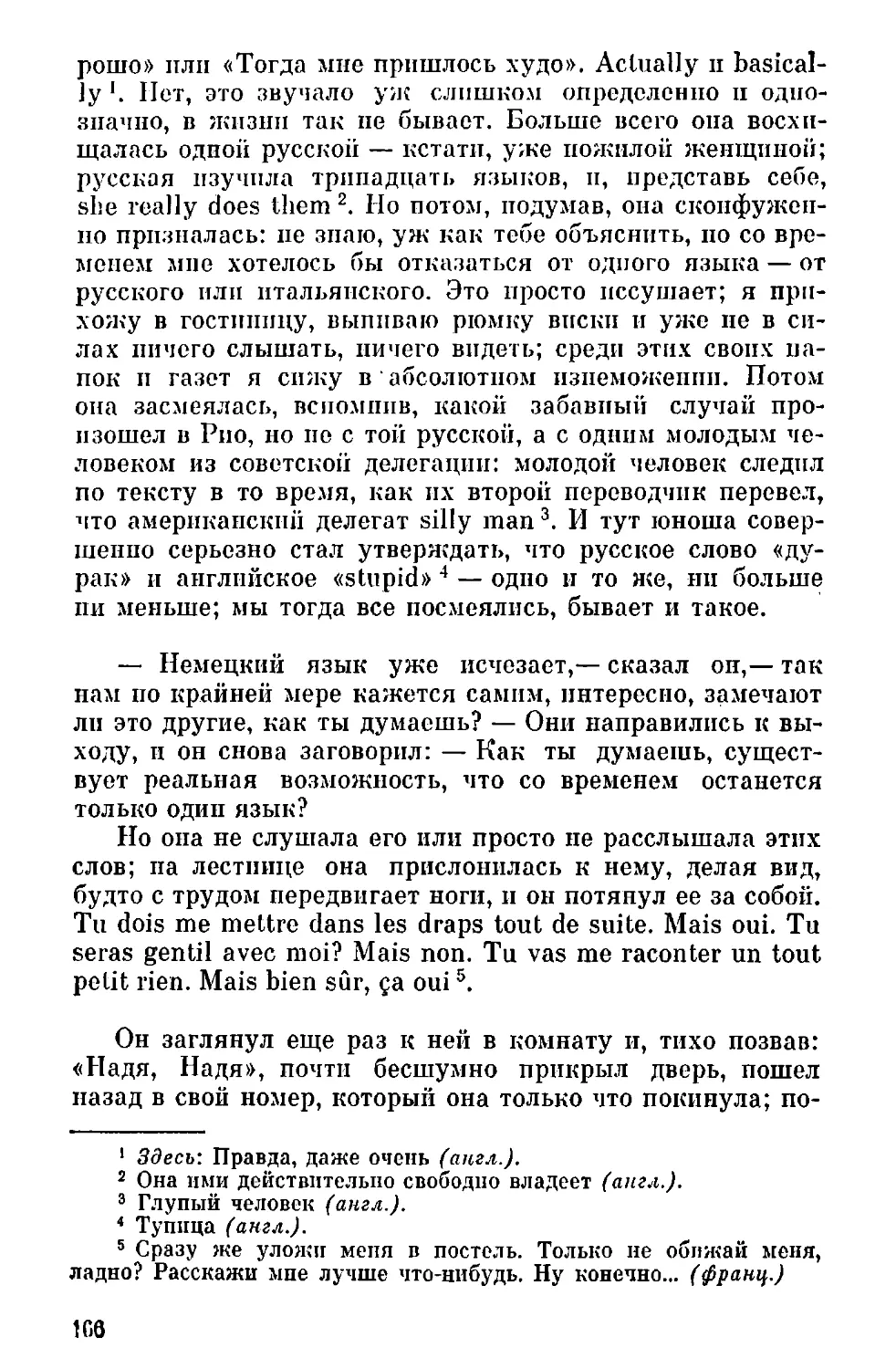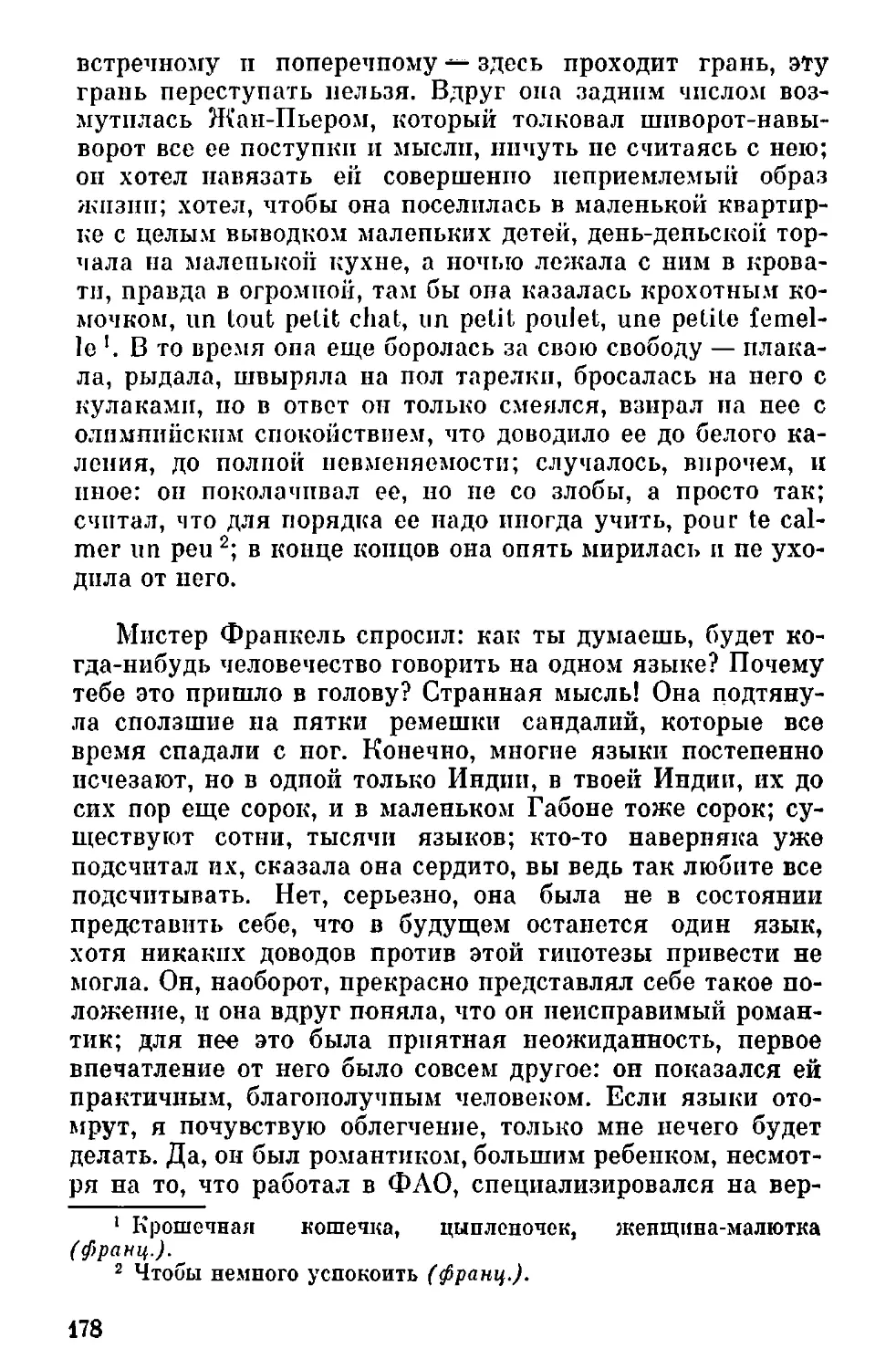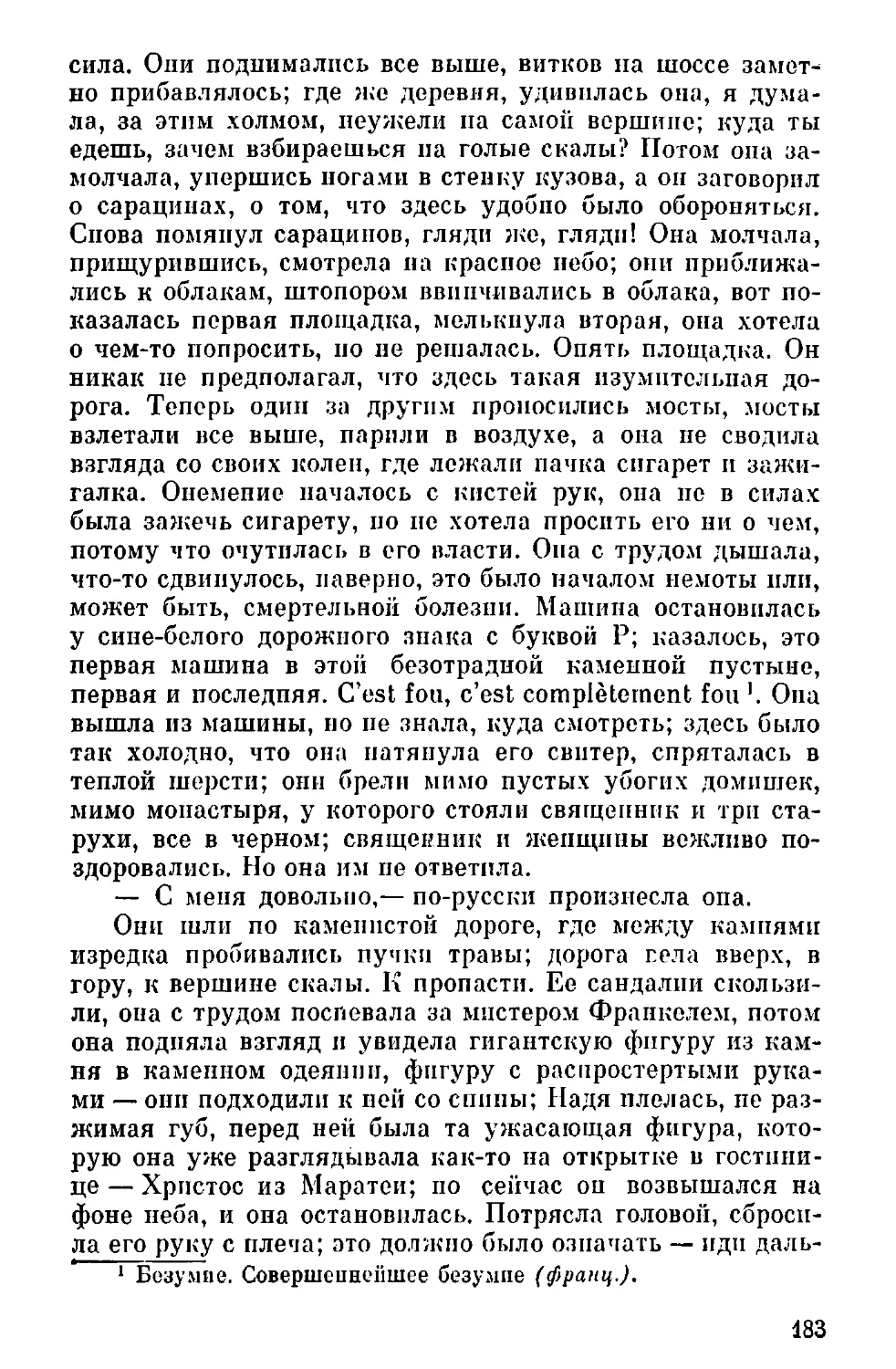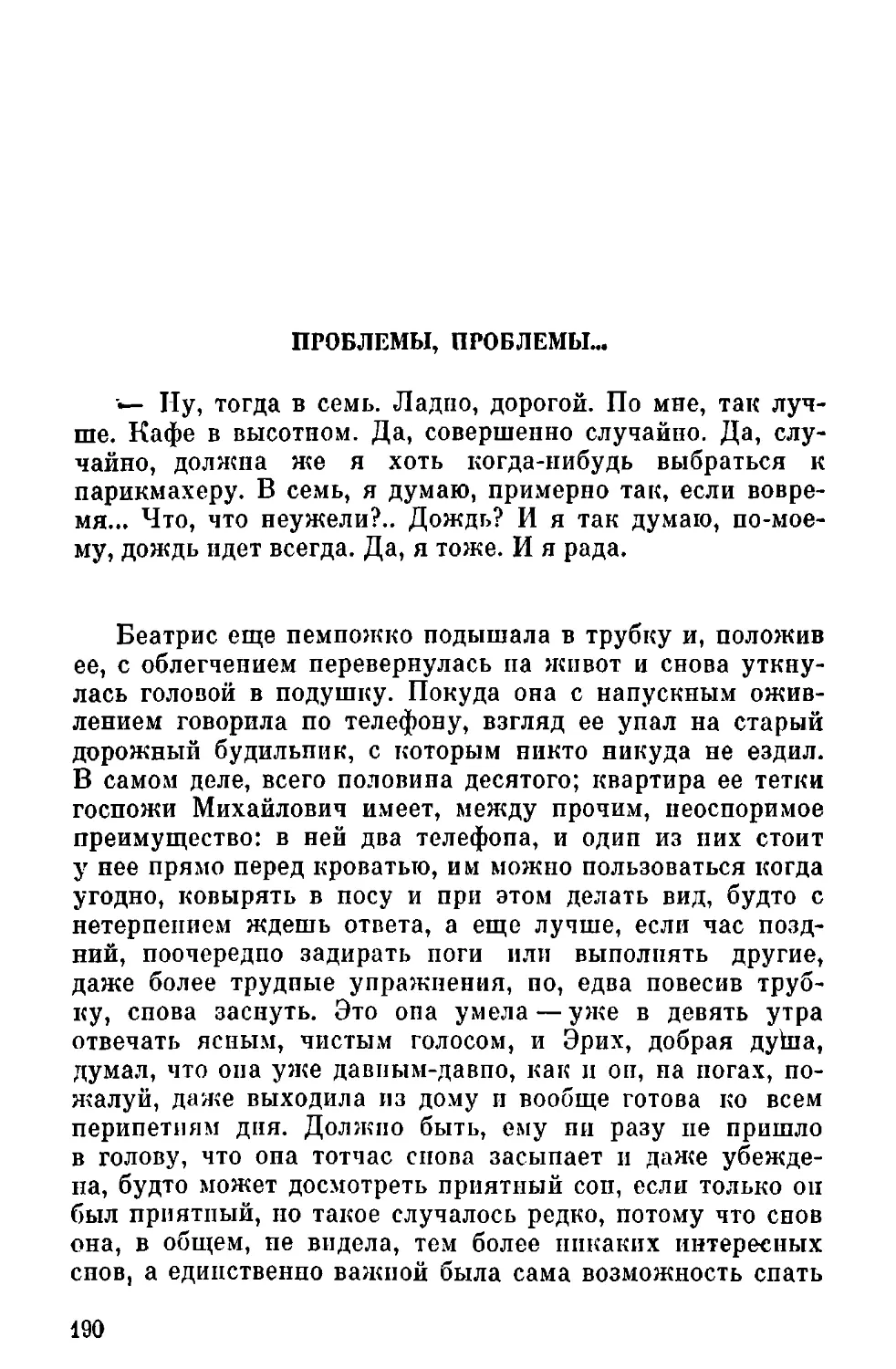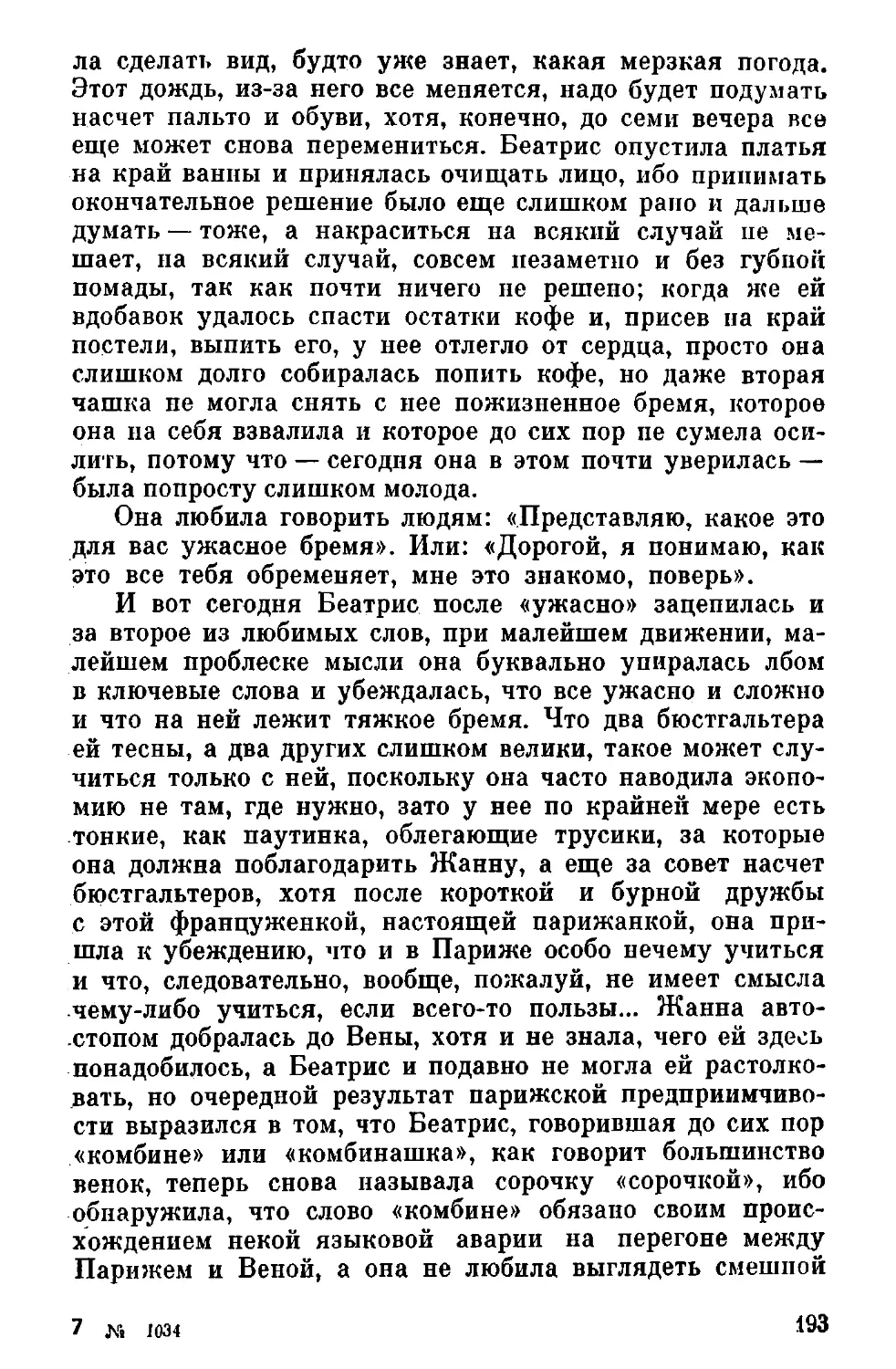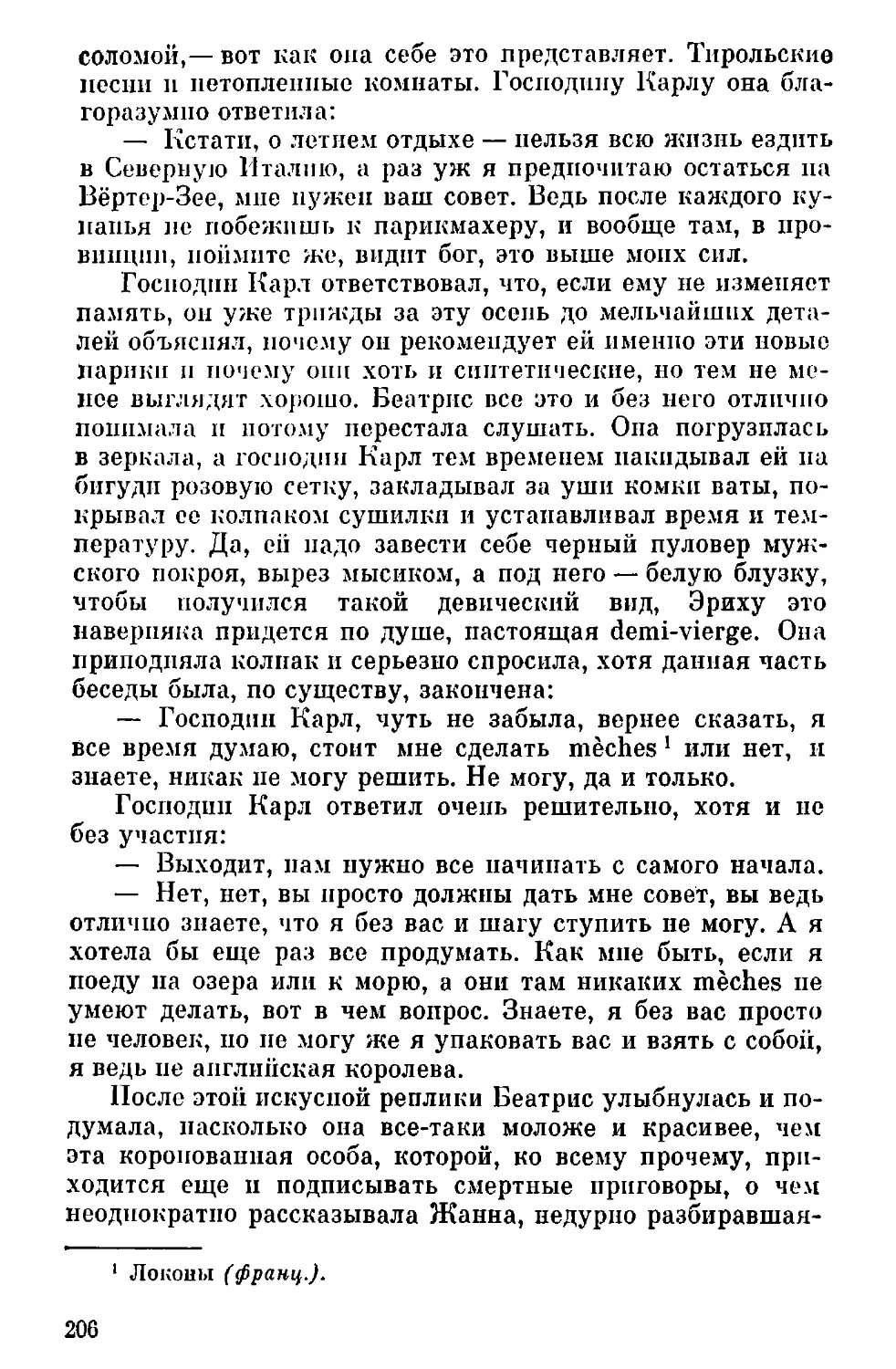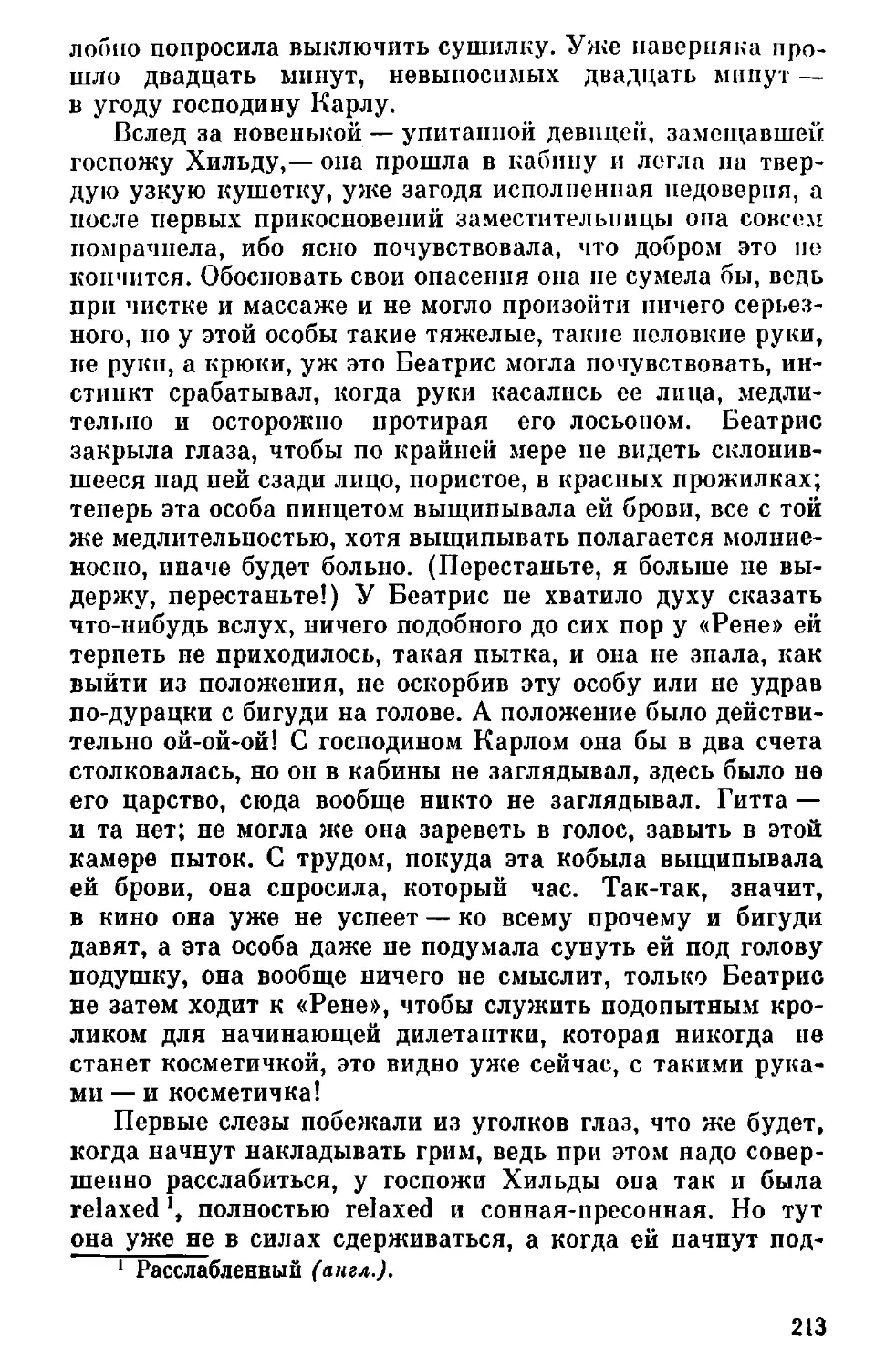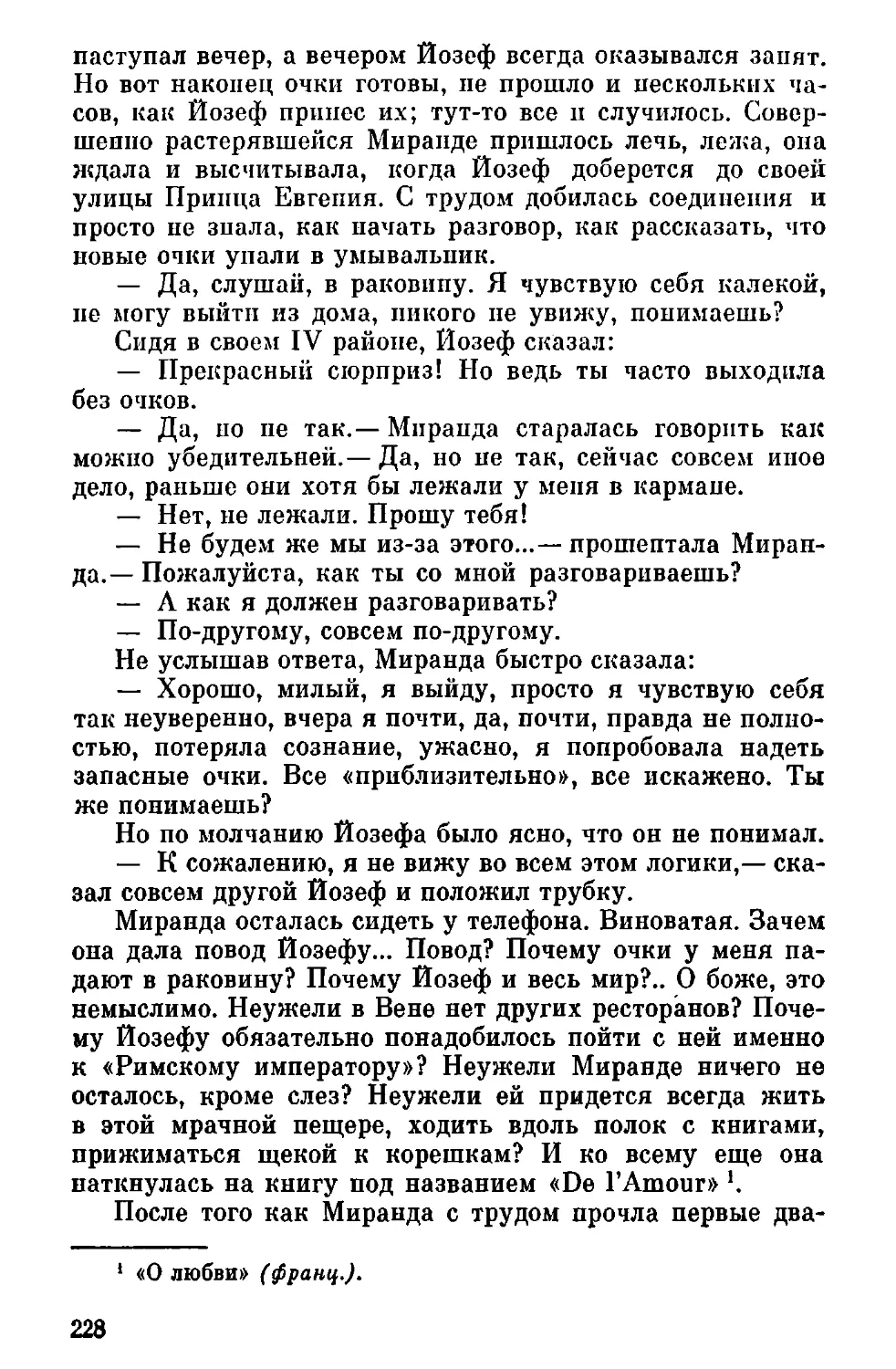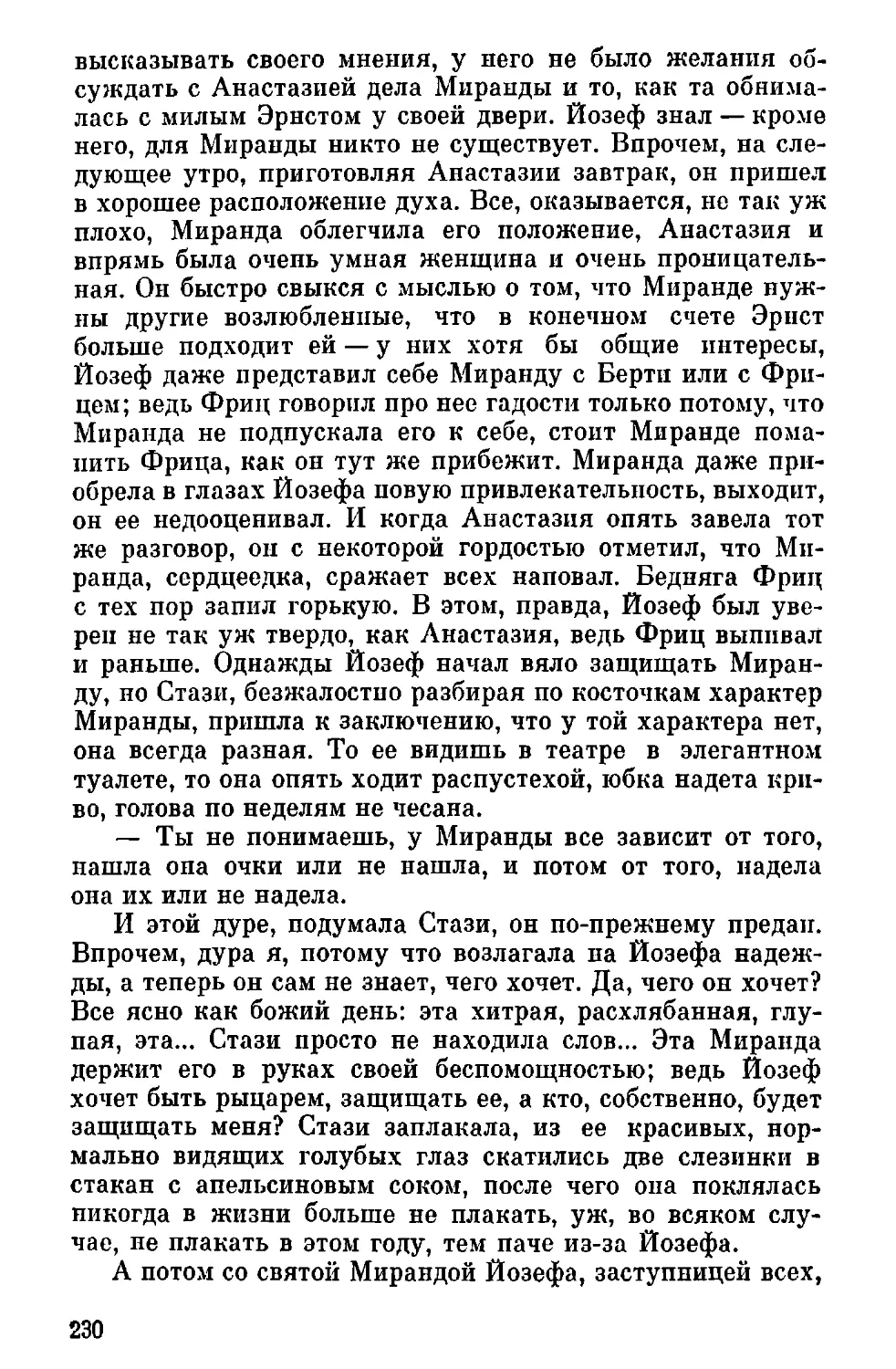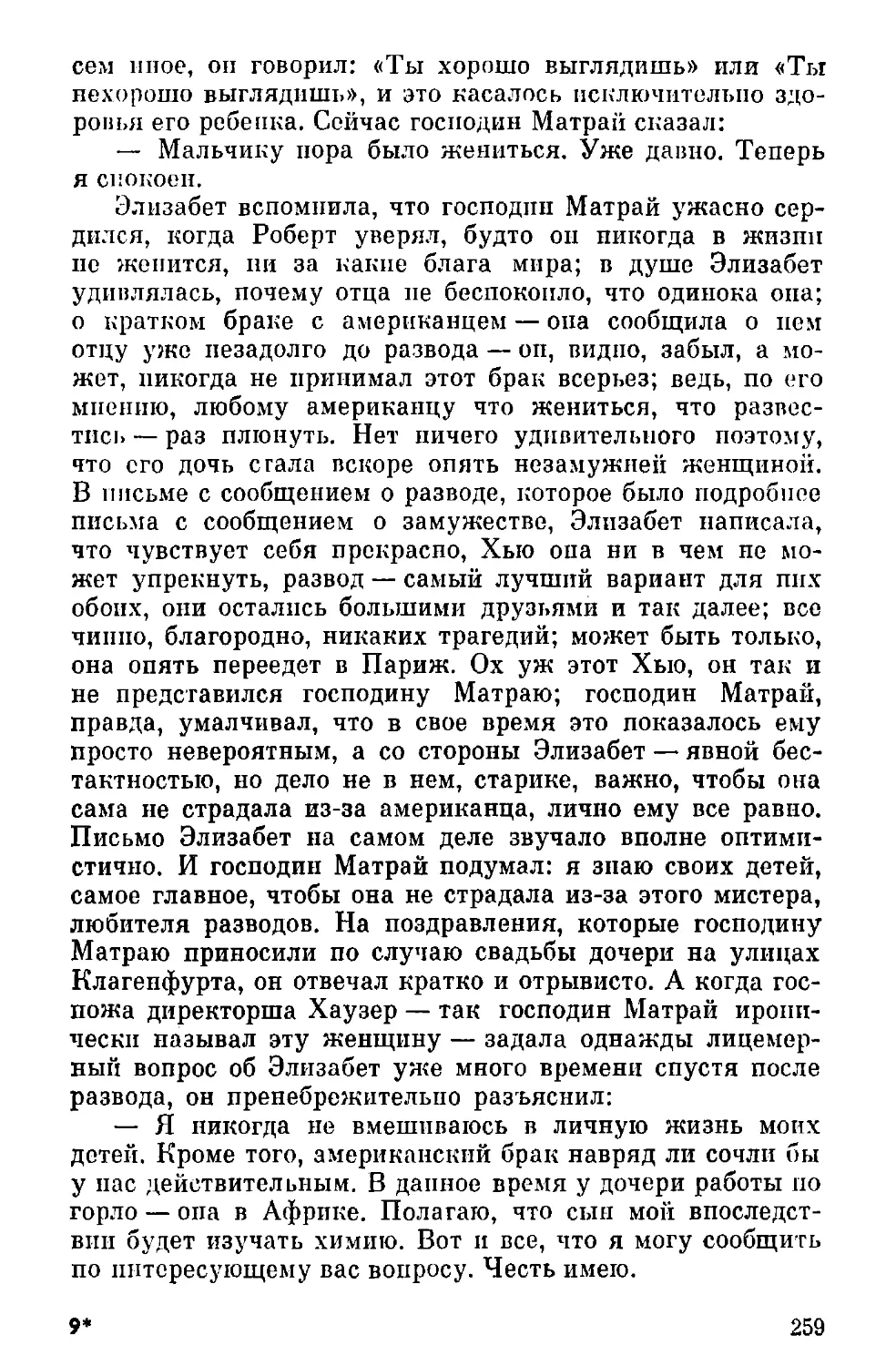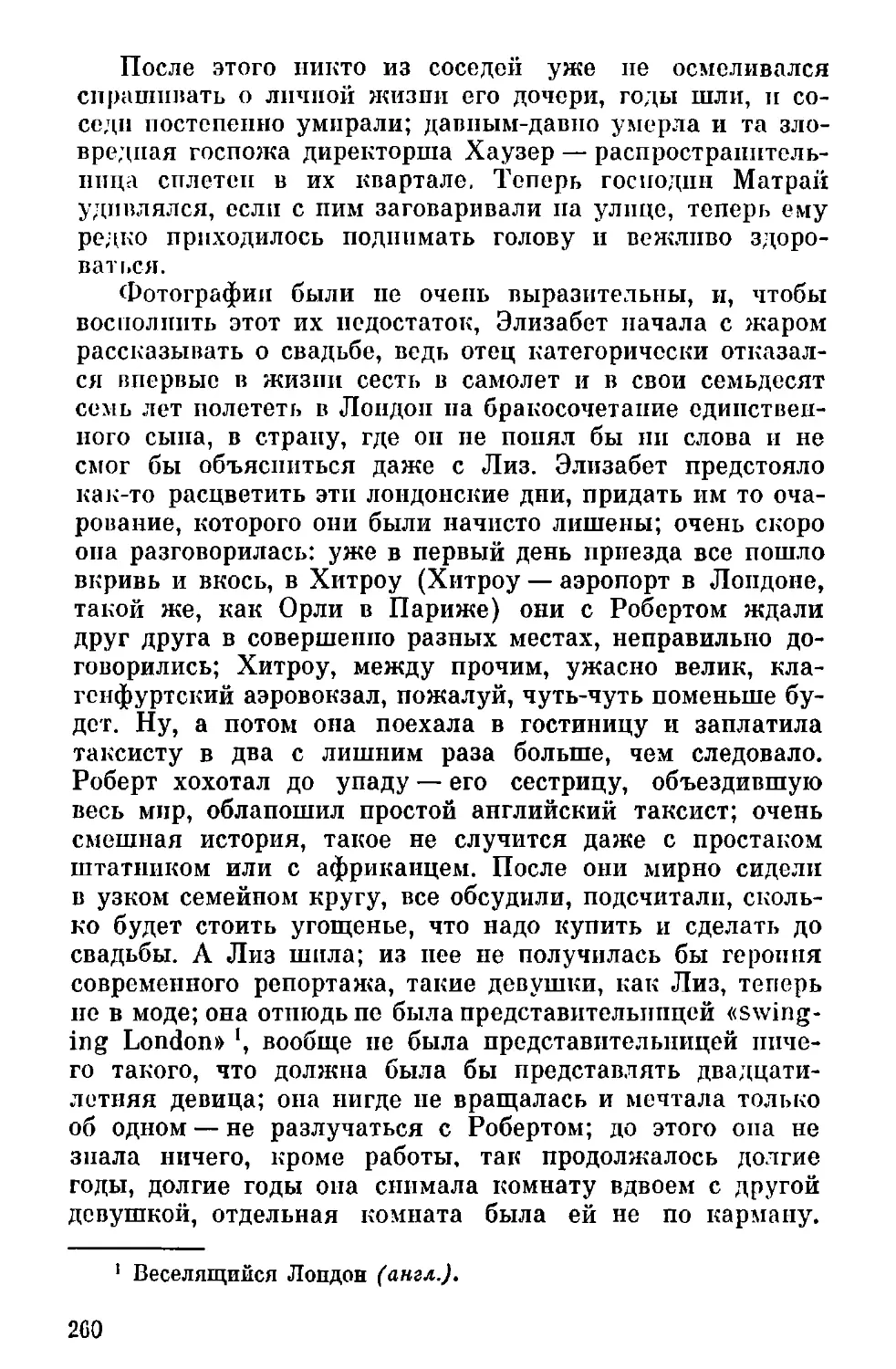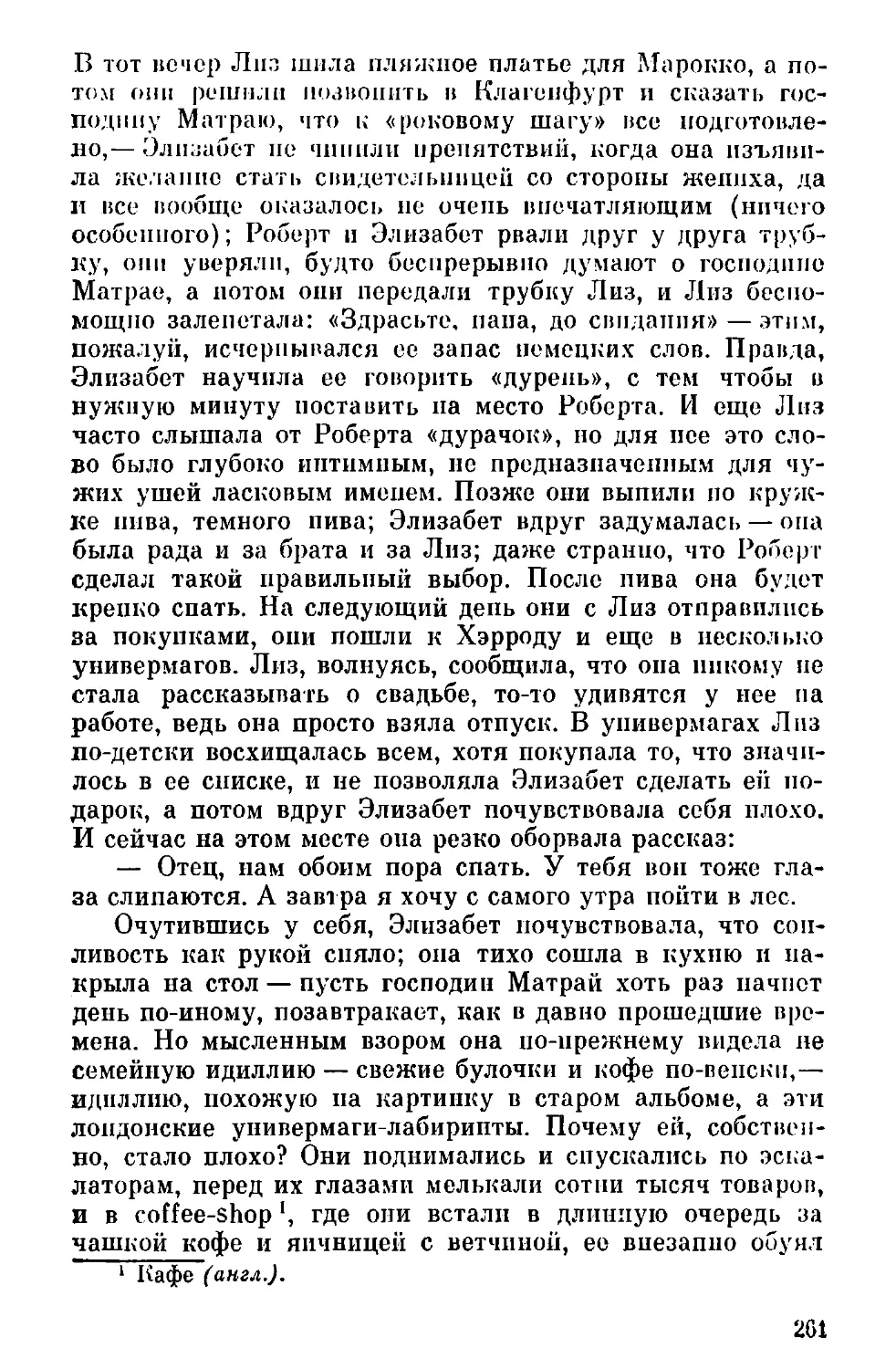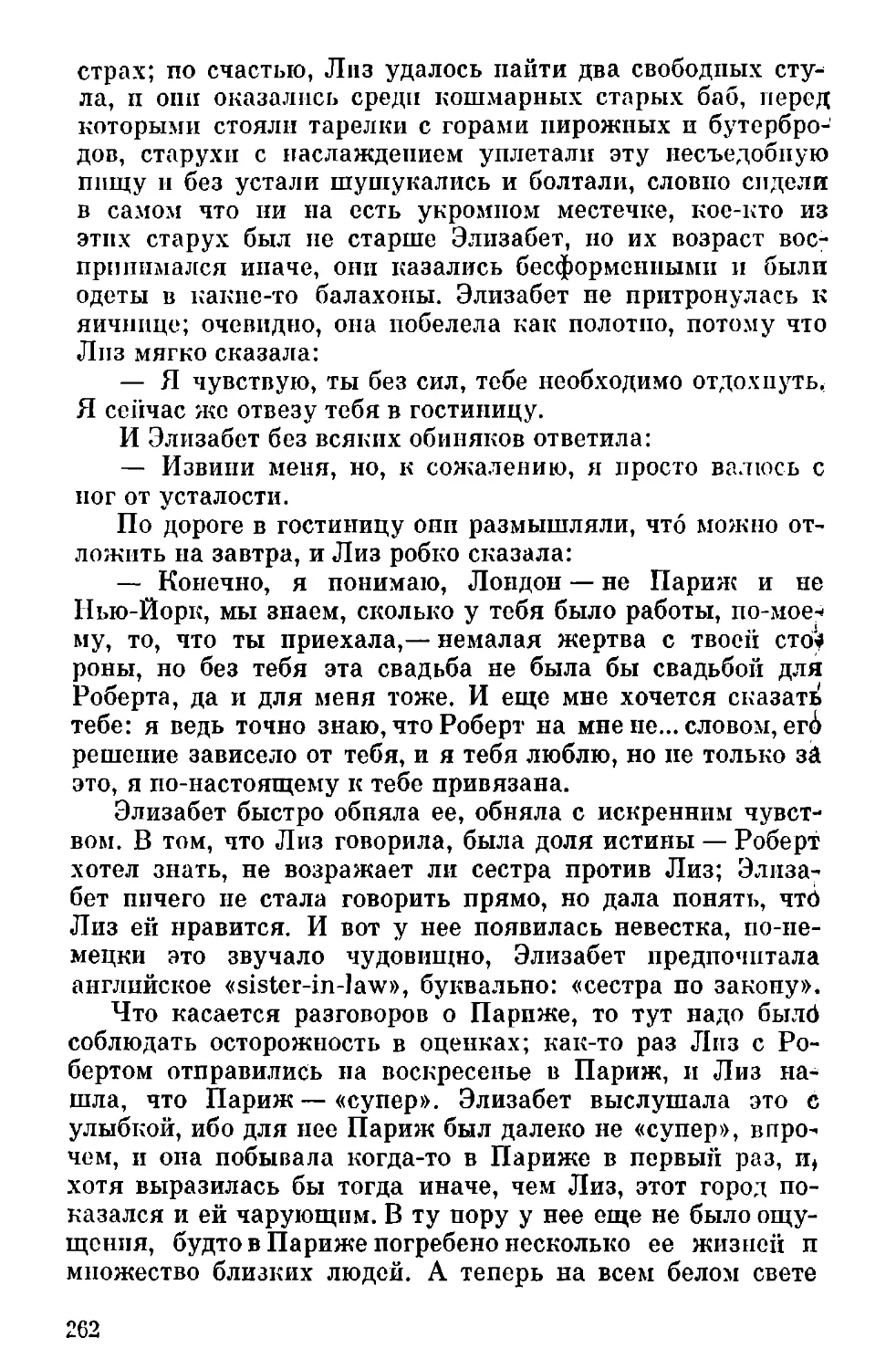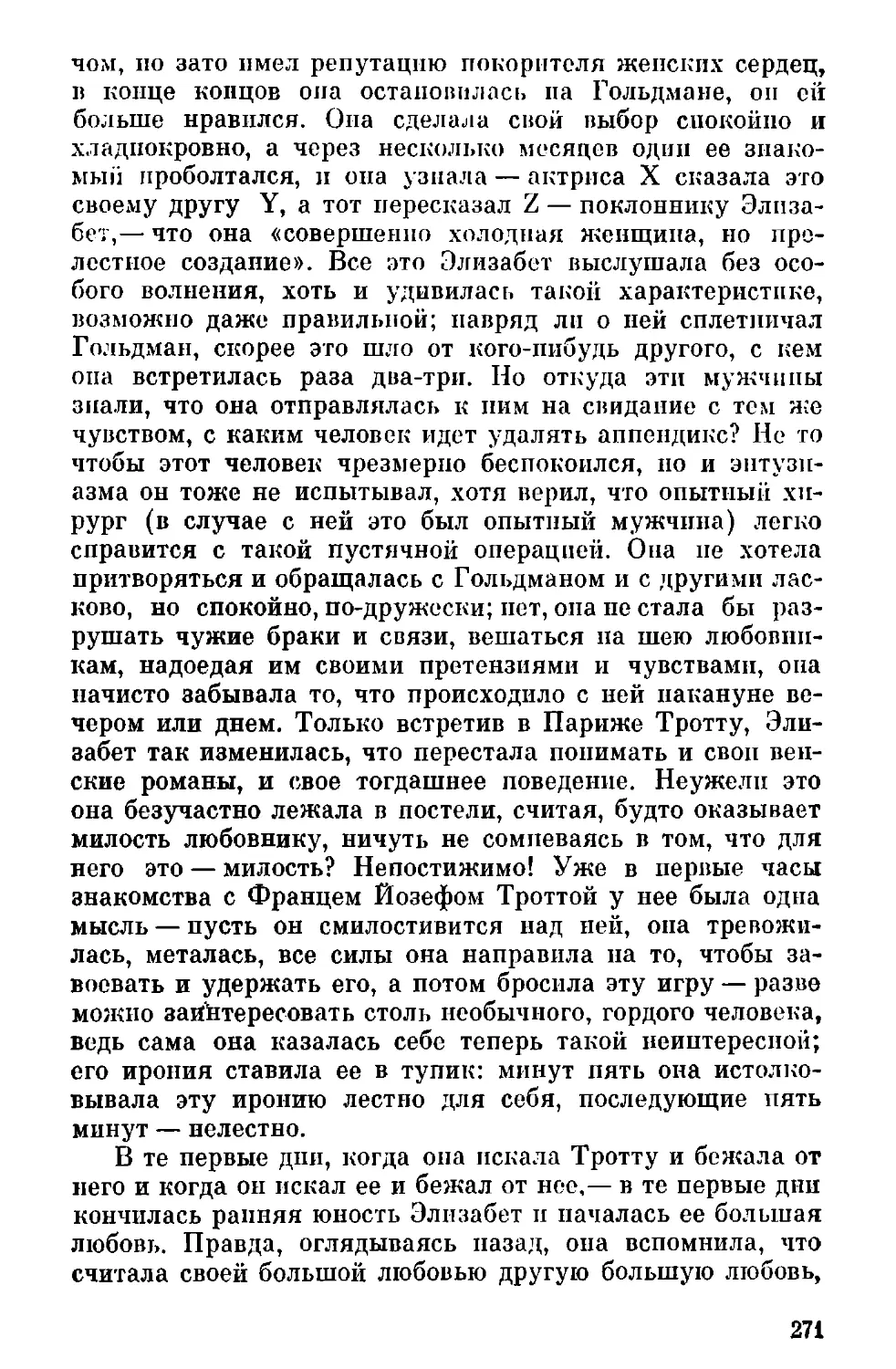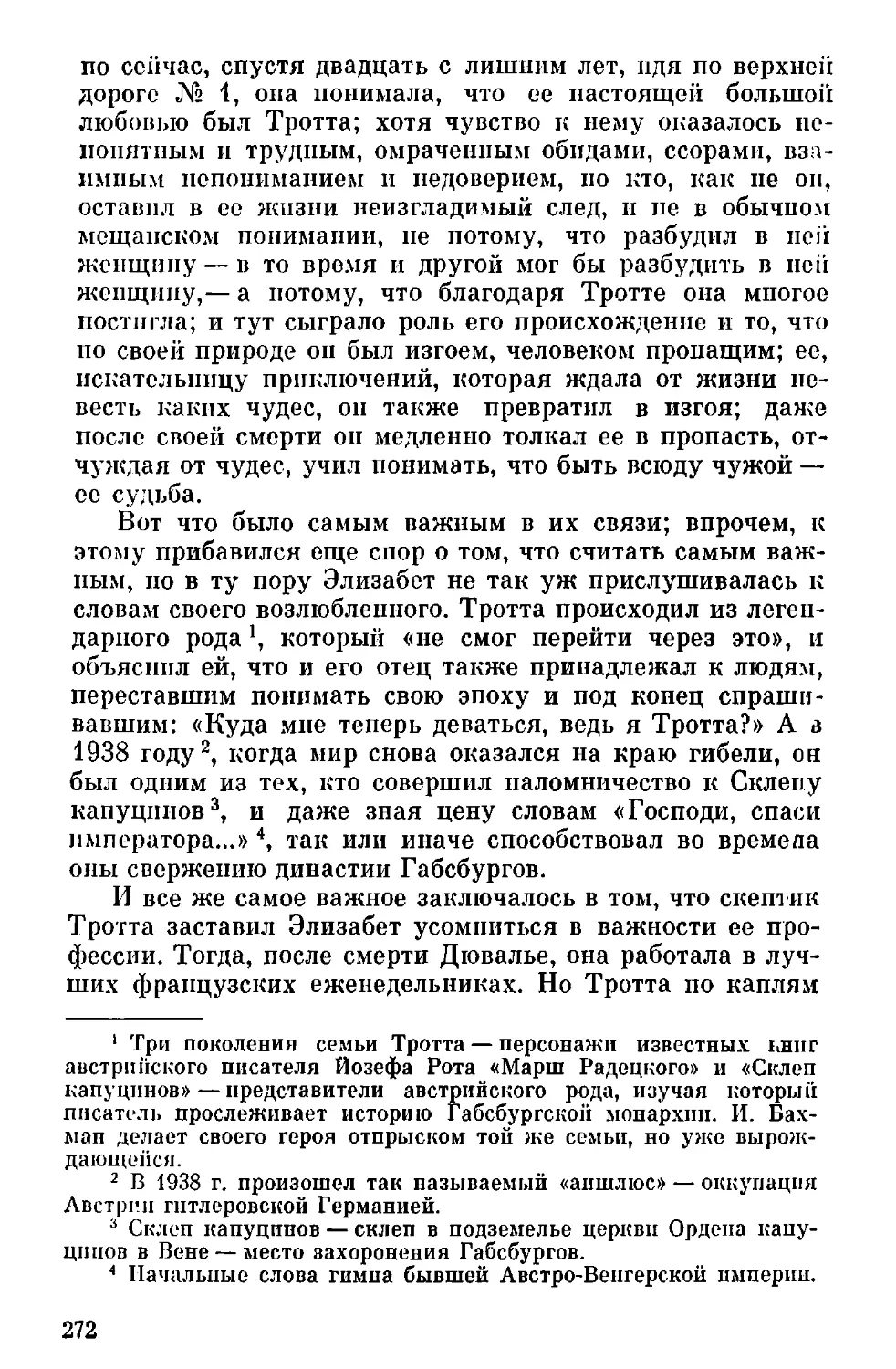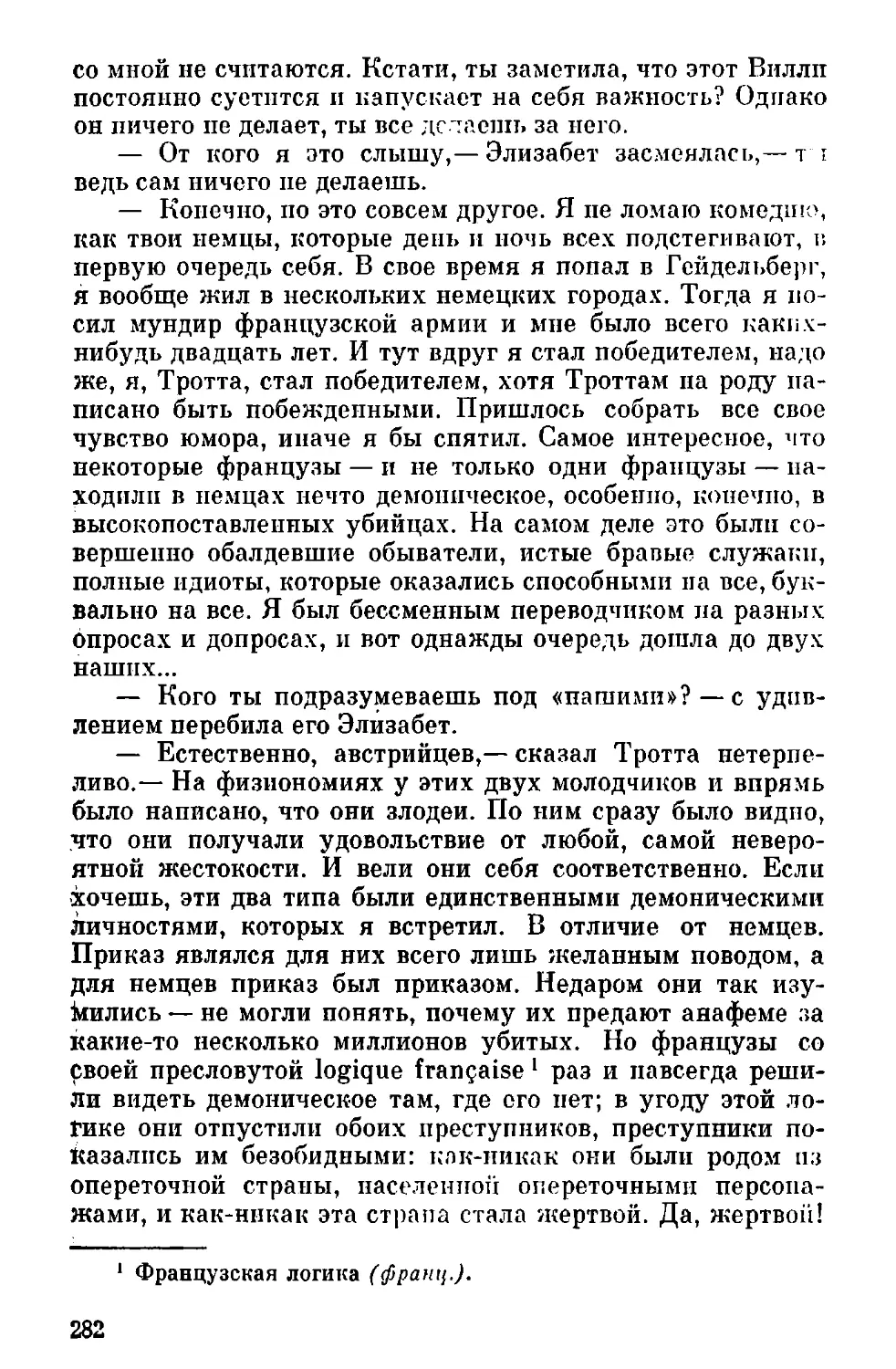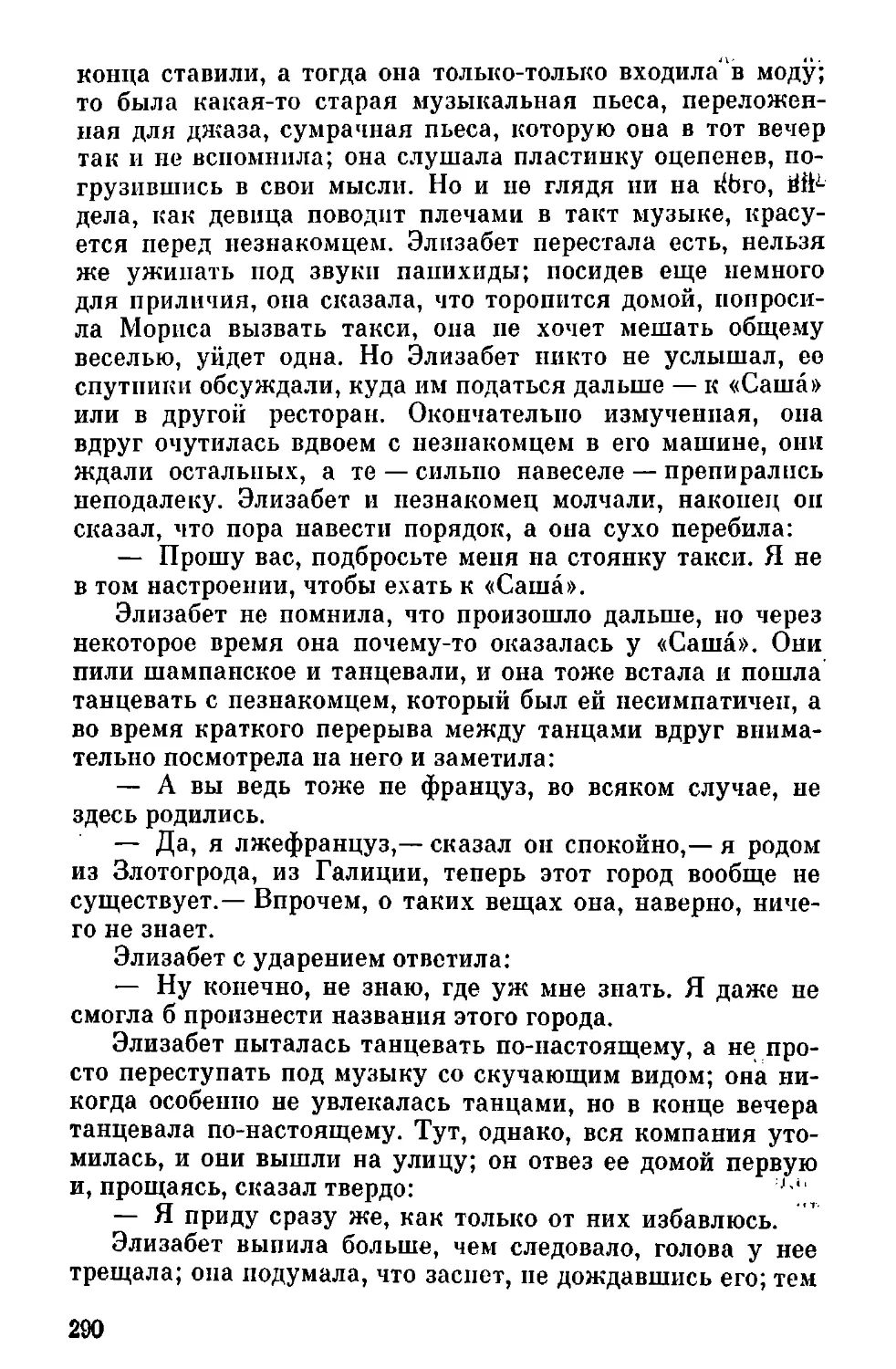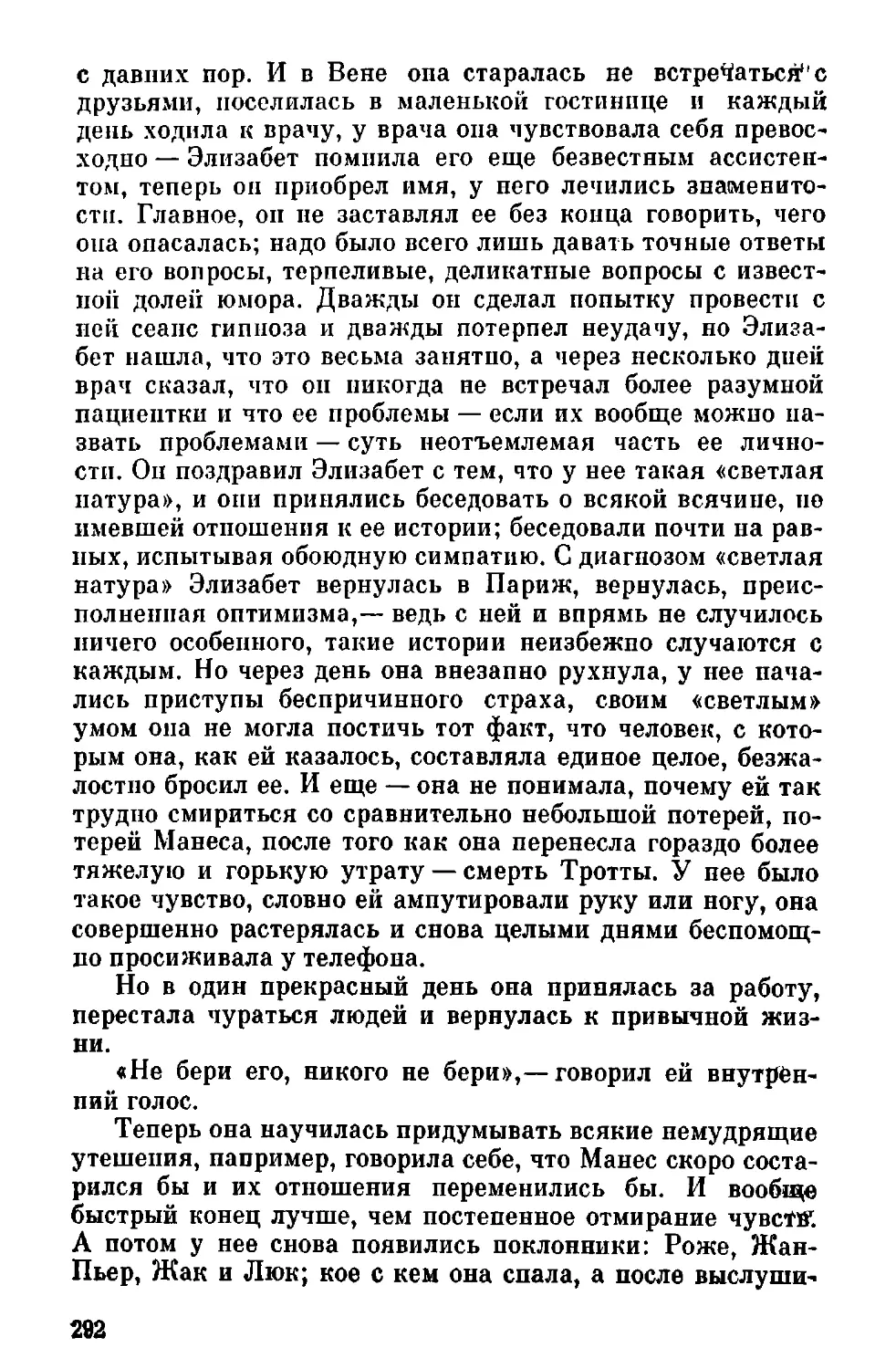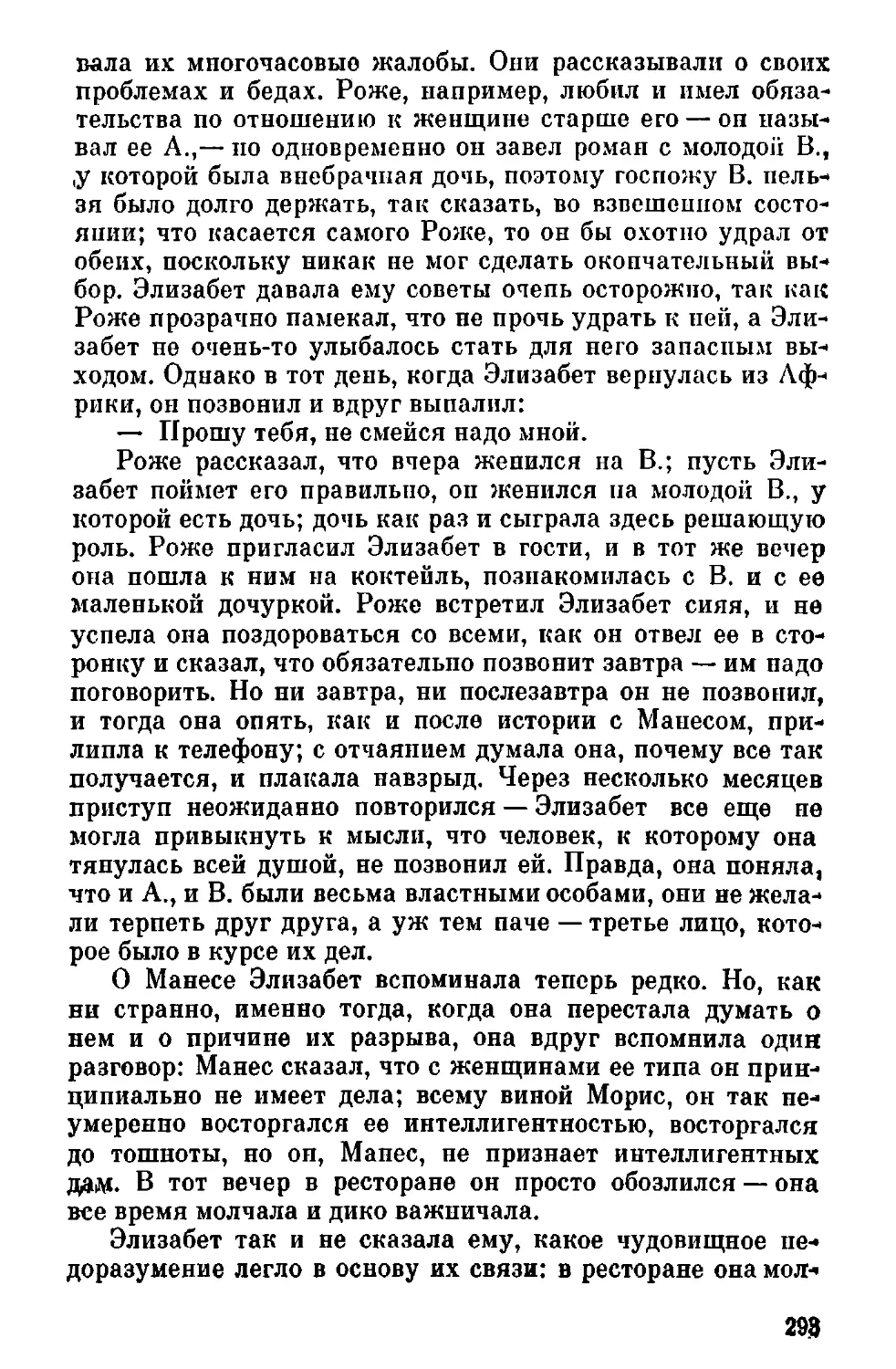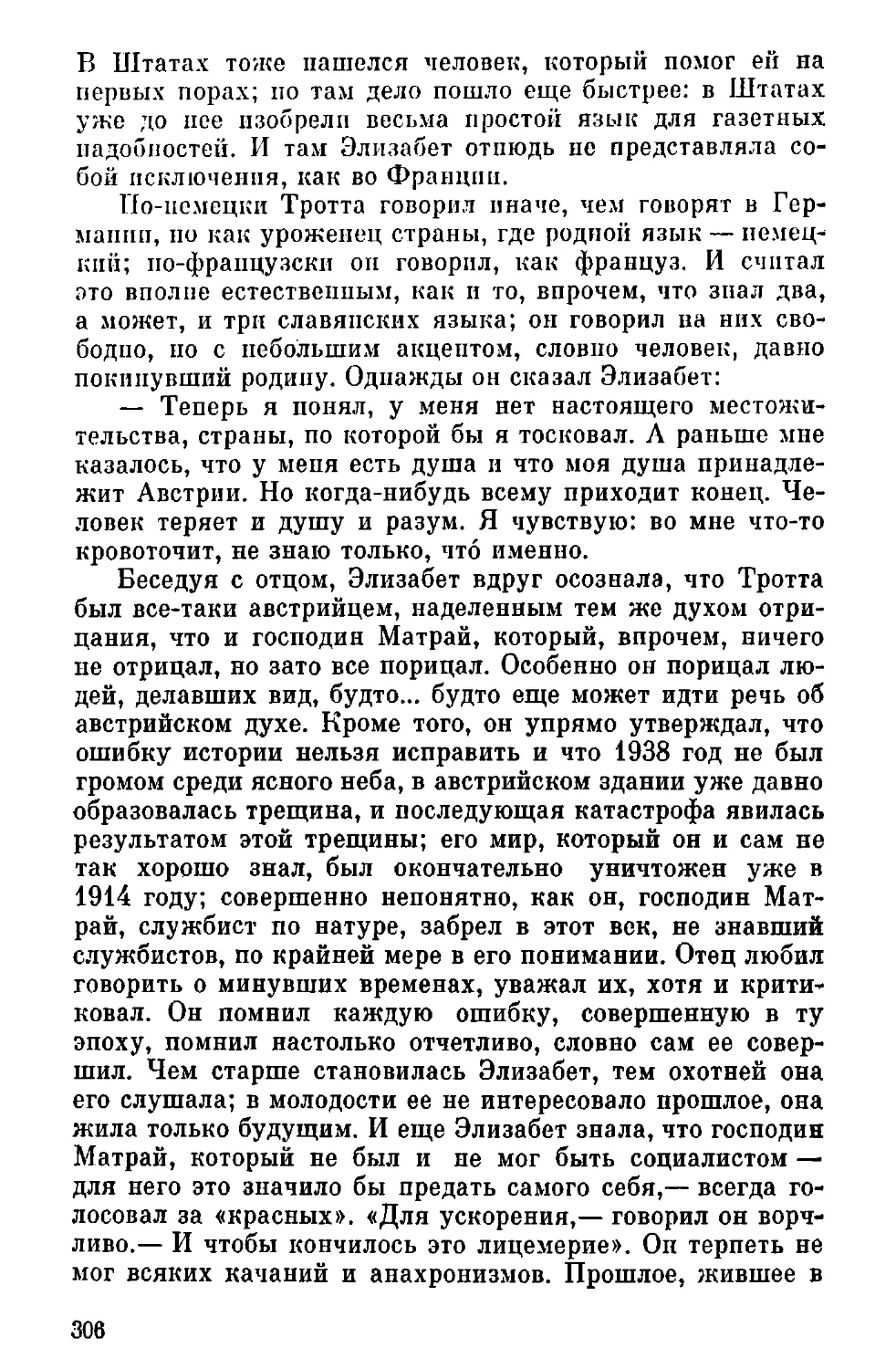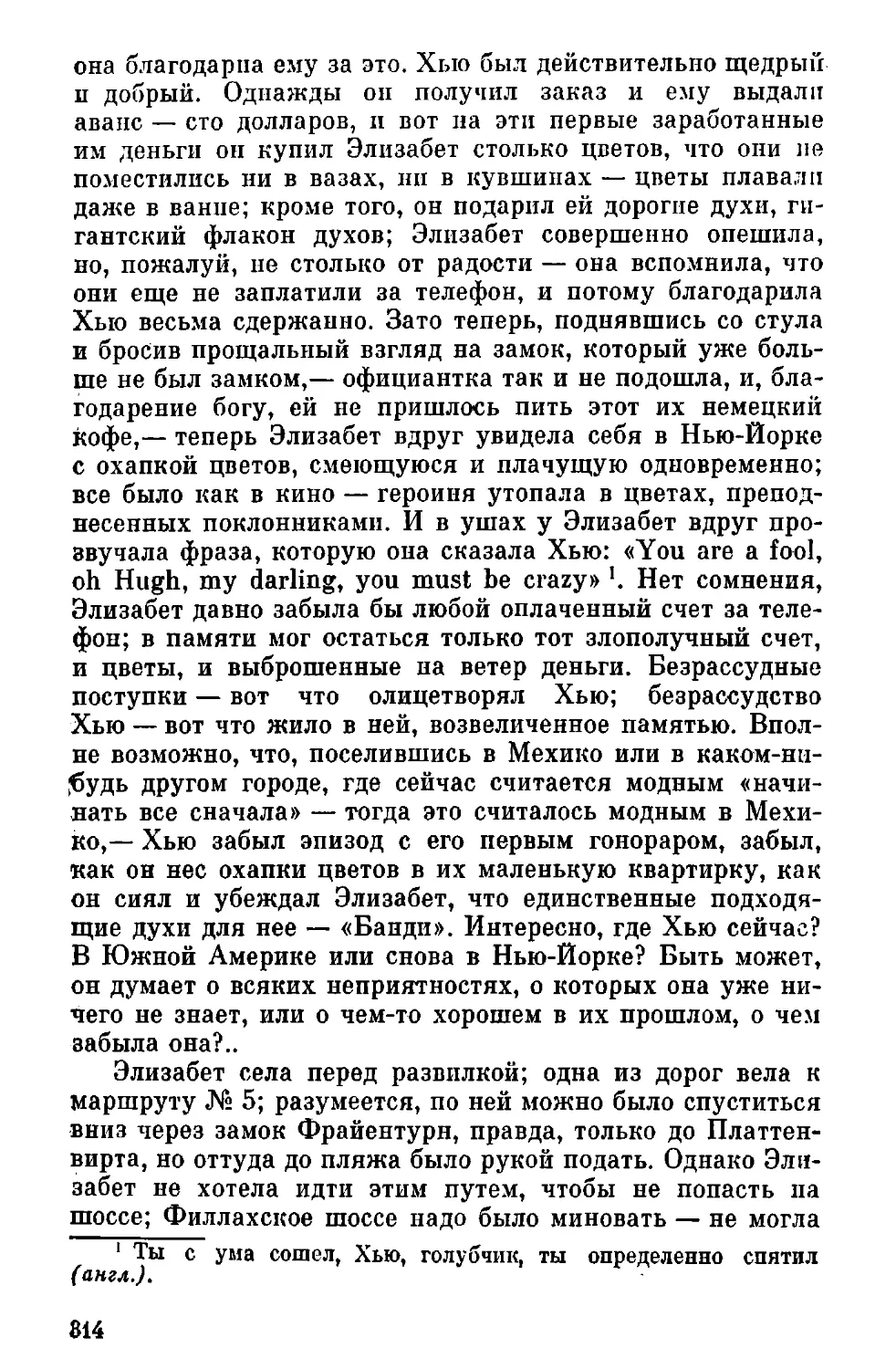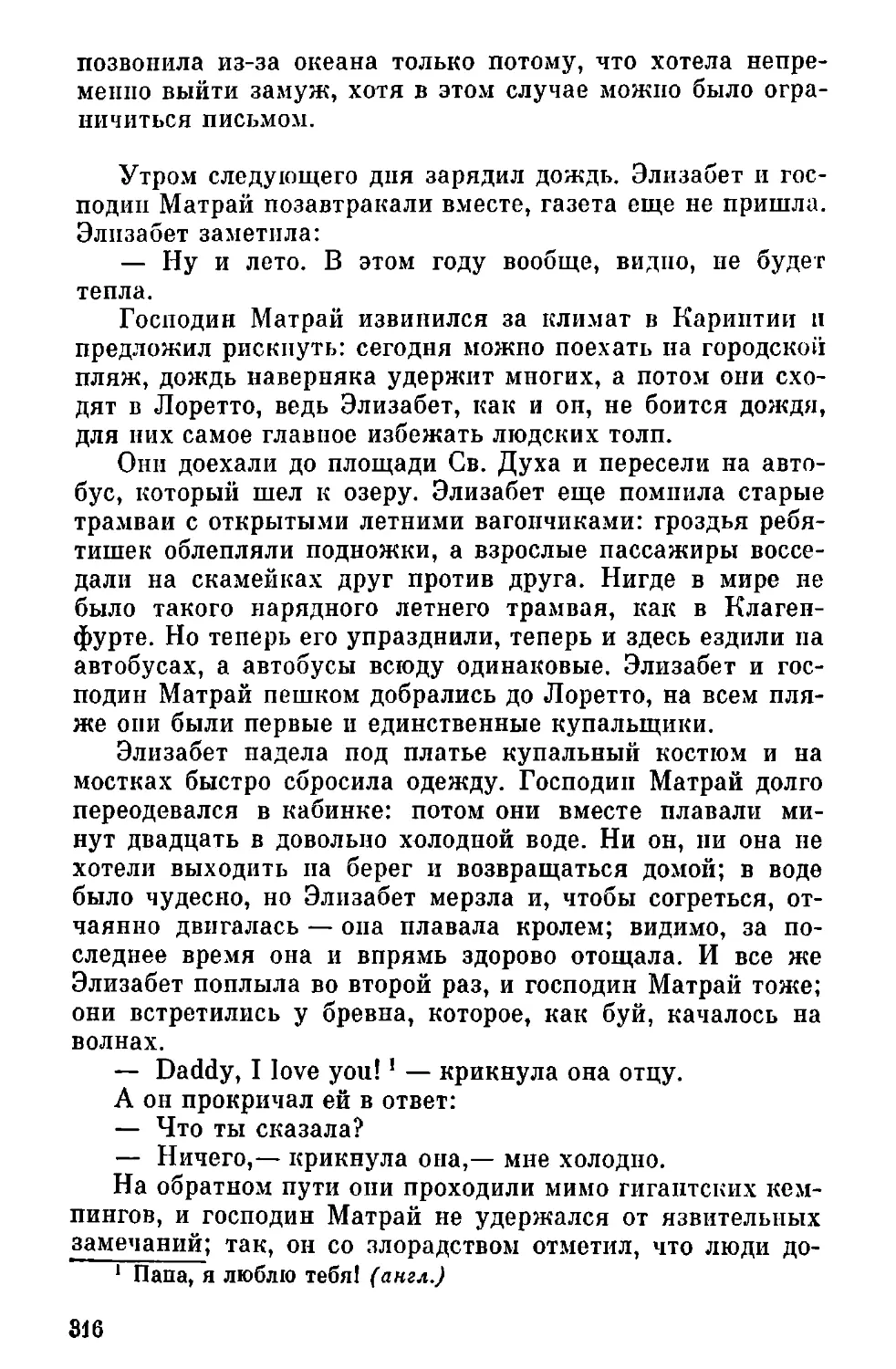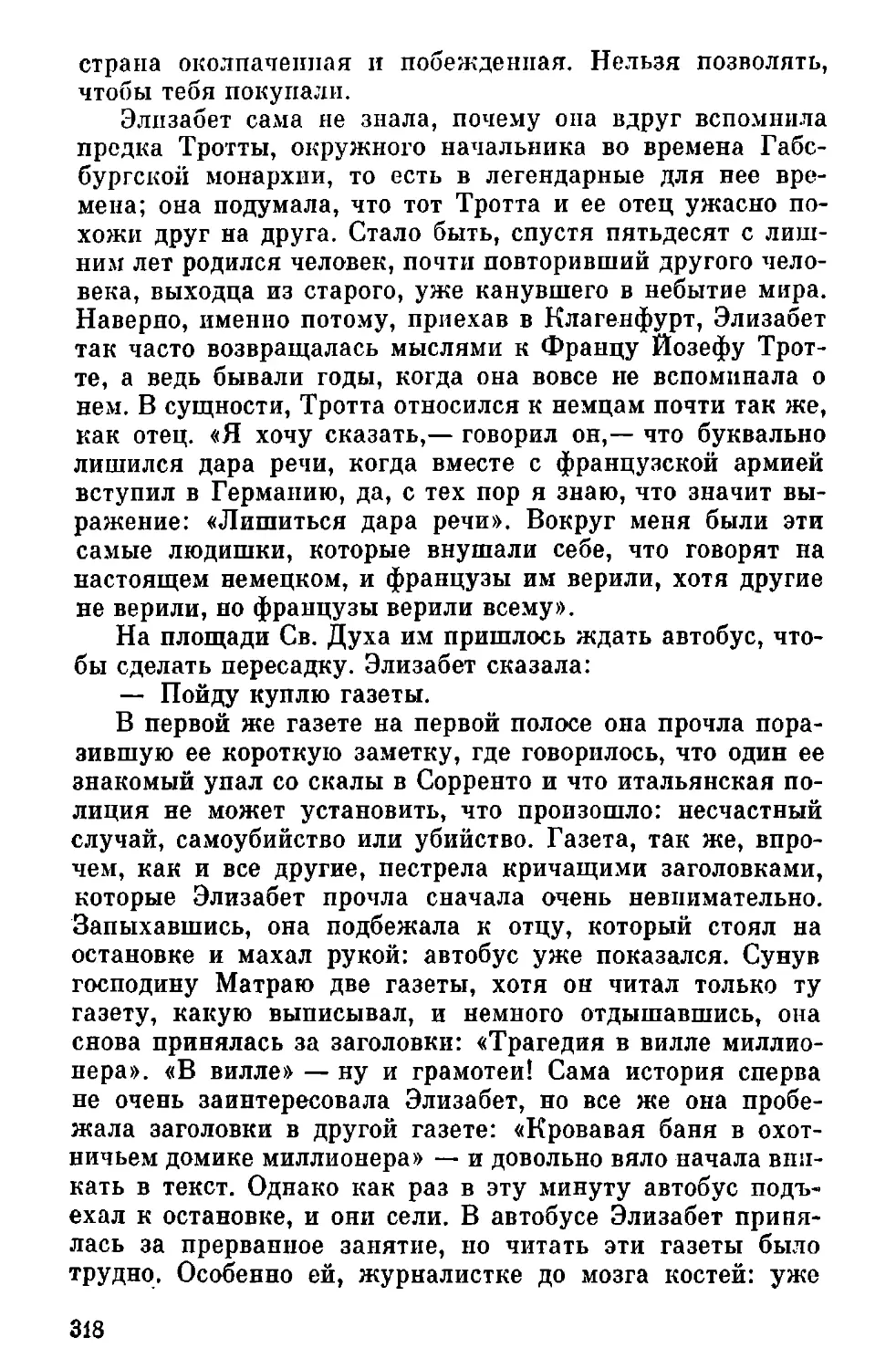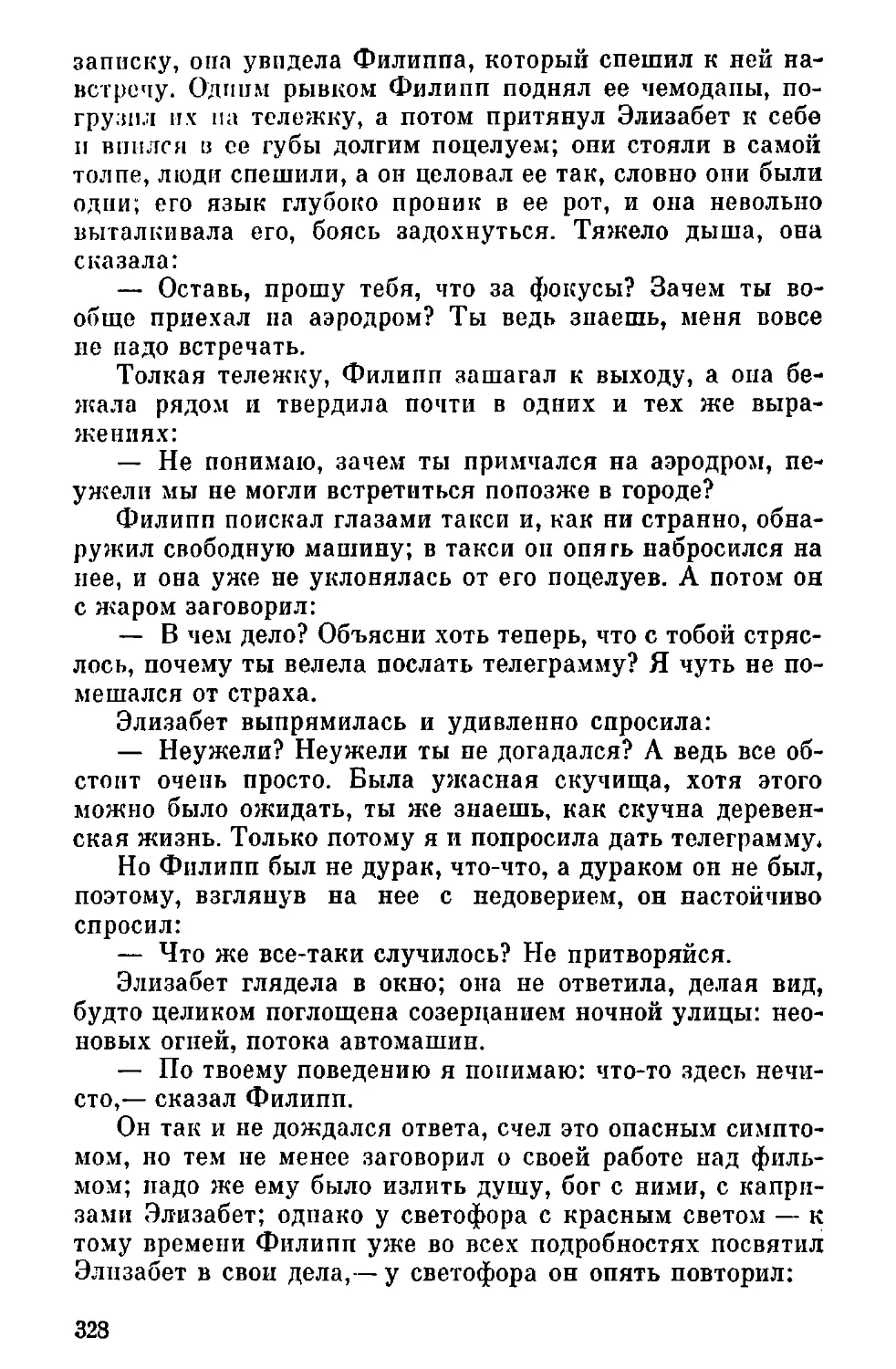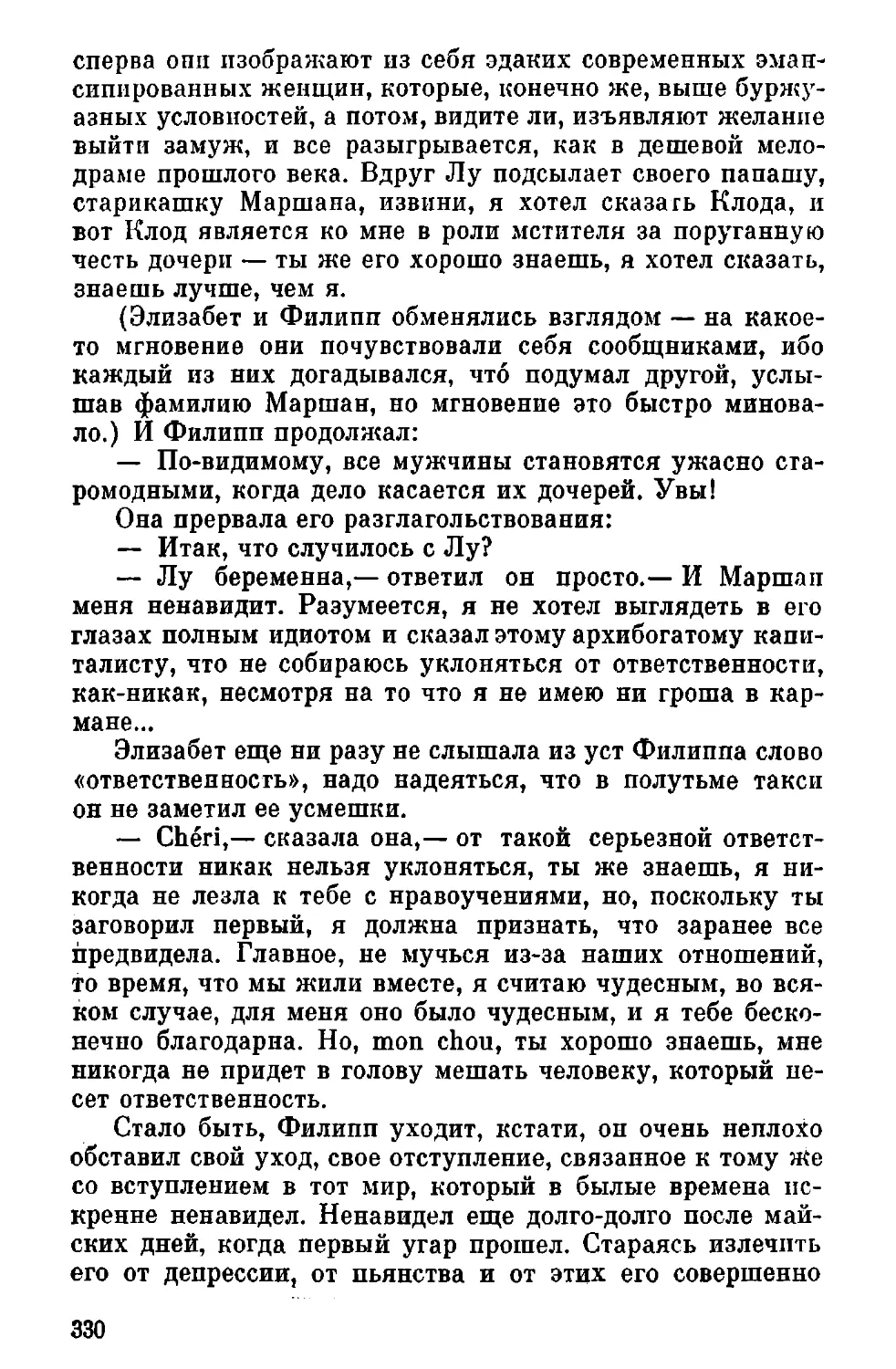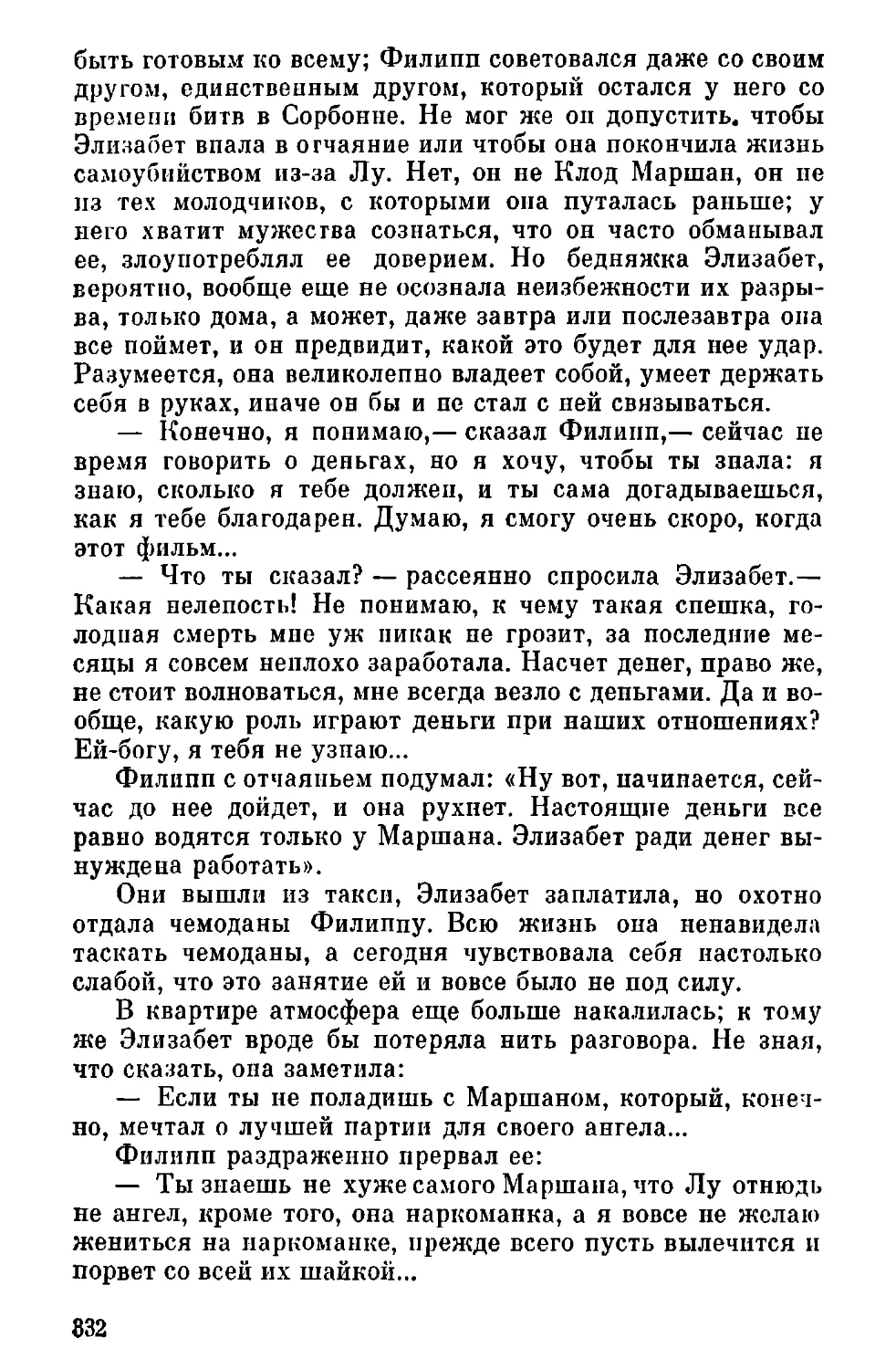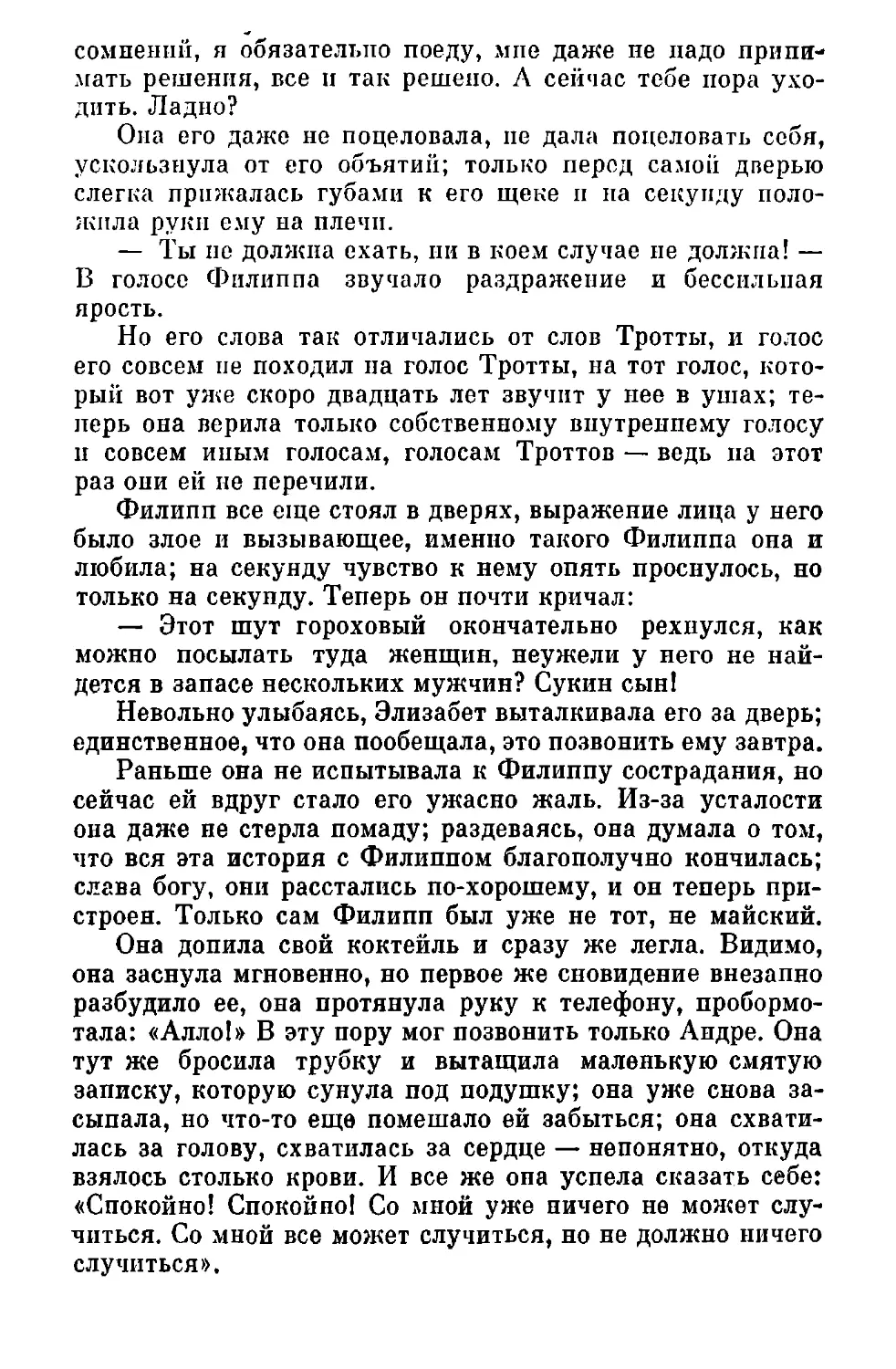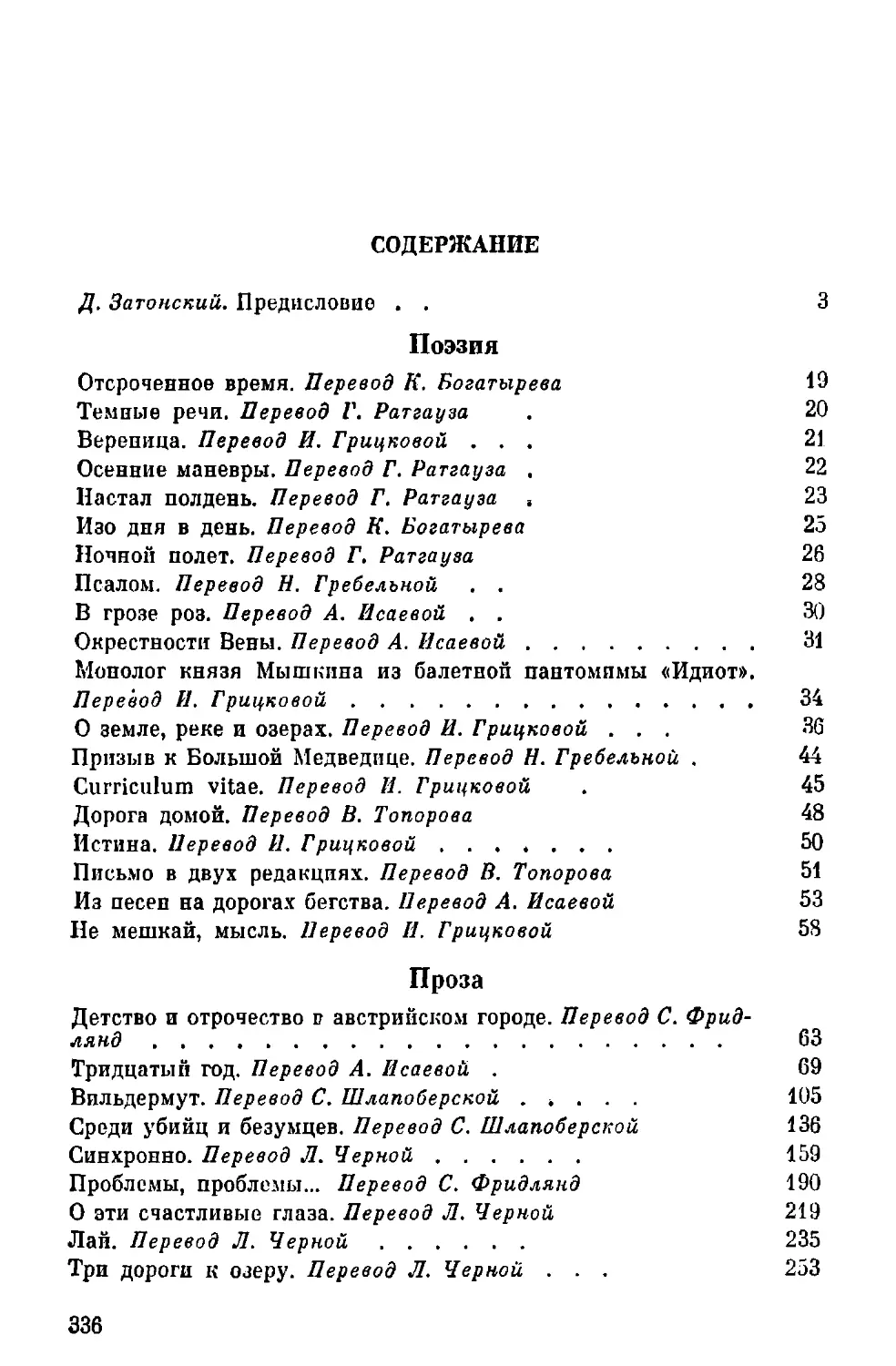Текст
/ ИЗБРАННОЕ
Москва
«Прогресс»
1981
Предисловие Д. Затонского
Редактор Е. Приказчикова
Бахман И. Избранное: Сборник. Пер. с нем. — М.: Про¬
гресс, 1981. — 336 с.
В книгу «Избранное» известной австрийской писательницы Ингеборг
Бахман (1926—1973) вошли повесть «Три дороги к озеру», рассказы
«Детство и отрочество в австрийском городе», «Тридцатый год», «Син¬
хронно» и др., а также лучшие образцы из ее поэтического наследия:
стихи из сборников «Отсроченное время», «Призыв к Большой Медведице».
Ингеборг Бахман
ИЗБРАННОЕ
ИБ К9 9890
Редактор Е. В. Приказчикова
Художник В. В. Еремина
Художественный редактор А. П. Купцов
Технический редактор И. А. Юдина
Корректор Г. П. Иванова
Сдано в набор 23.07.80. Подписано в печать 19.03.81. Формат
84 X Ю8’/ч2. Бумага типографская № 1. Гарнитура обыкновенная
новая. Печать высокая. Условн. печ. л. 17,64 Уч.-изд. л. 17,64,
Тираж 100 000 экз. Заказ № 1034. Цена 2 р. 10 к. Изд. 32460.
Издательство «Прогресс» Государственного комитета СССР по
делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва,
119021, Зубовский бульвар, 17
Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции и
ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типогра¬
фии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государствен¬
ном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли. Москва, М-54, Валовая, 28
Отпечатано в Ленинградской типографии Хе 2 головном предприя¬
тии ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объеди¬
нения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союз¬
полиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, г. Ленин¬
град, Л-52, Измайловский проспект, 29.
Произведения, включенные в эту книгу, вышли на языке ориги¬
нала до 1973 года.
© Составление, предисловие и перевод на русский язык издатель¬
ство «Прогресс», 1981
Б Б3 № 88-19-80 4703000000
ПРЕДИСЛОВИЕ
Жизнь писательницы оборвалась рано. Особенно по
представлениям нашего столетия, в котором лириков за
тридцать называют «молодыми», а эпиков за сорок чис¬
лят среди «начинающих». Той осенью 1973 года, когда
Ингеборг Бахман не стало, ей едва перевалило за сорок
семь. После нее осталось совсем немного книг, казалось
бы, значительно меньше, чем можно было ожидать от че¬
ловека талантливого, серьезного и напряженно работав¬
шего, преданного своему искусству. Несколько либретто
для балетов и опер композитора Гепце, радиопьесы «Гос¬
подский дом» (1954), «Цикады» (1954), «Добрый бог
Манхэттена» (1958), два сборника стихов: «Отсроченное
время» (1953) и «Призыв к Большой Медведице» (1956),
да еще отдельные стихотворения, разбросанные по жур¬
налам и антологиям, два сборника рассказов: «Тридцатый
год» (1961) и «Синхронно» (1972), роман «Малина»
(1971), переводы из Унгаретти и из некоторых сканди¬
навских поэтов, эссе, очерки, интервью. Вот и все.
Впрочем, след, оставленный Ингеборг Бахман в лите¬
ратуре XX века — и, надо сказать, не только немецкой
или австрийской, но и мировой,— никак не измеряется
количеством ею написанного, да и вообще несоотносим:
с этим количеством. Когда она в мае 1952 года — дейст¬
вительно начинающая, еще никому не известная поэтес¬
са—впервые читала на собрании «Группы 47» свои сти¬
хи, ни у кого не возникло сомнения, что у этой худоща¬
вой белокурой девушки с тихим запинающимся голосом
большое литературное будущее.
Западногерманская критика видела в ней — наряду
с Паулем Целаном и Гюнтером Эйхом — зачинателя по¬
вой, послевоенной немецкой лирики; австрийская — счйта-
3
ла ее вклад в отечественную поэзию равноценным тому,
что внес в отечественную эпику Хаймито фон Додерер,
«последний классик» австрийского романа. И все рецен¬
зенты — даже почти независимо от непосредственных
своих эстетических приверженностей — сходились на том,
что Бахман — звезда первой величины.
К Бахман пришло признание, на нее посыпались ли¬
тературные премии: в 1953 году премия «Группы 47», в
1957 — литературная премия города Бремена, в 1958 —
премия Общества слепых инвалидов войны, присуждае¬
мая за лучшую радиопьесу, в 1964 — премия Георга Бюх¬
нера. Стихи и прозу писательницы издают в Англии,
США, Италии, Франции, Скандинавских странах, с
1961 года — в ГДР, а в последнее время и в Советском
Союзе.
Ингеборг Бахман прежде всего лирик. Не только по¬
тому, что самостоятельное ее творчество начиналось с ли-»
рических стихов и что стихи эти — по крайней мере в пер-»
вой половине ее жизни — принесли ей стойкую интерна-»
циональную известность. Она лирик еще и по своему ми¬
роощущению, по складу характера. Окружающее, сущее
живет по-настоящему в ее произведениях, лишь соприка¬
саясь, сталкиваясь с ее индивидуальным, неповторимым
«я», ее «лирическим героем», который и оказывается не-»
редко единственным ее героем — даже в рассказах, даже
в романе. Бахмановский образ действительности — всегда
претворенный образ, не только пропущенный через автор-»
ское сознание (так ведь бывает всегда, у каждого худож-»
ника), но и напоенный ее собственным восприятием бы¬
тия, до краев наполненный ее, так сказать, «личностным
избытком». Порой это превращает его в многозначную,
многоступенчатую метафору, а в отдельных случаях даже
в иероглиф, знак на сугубо бахмановской топографической
карте Вселенной. И это смещает картину мира, затруд¬
няет ее расшифровку. Впрочем, не более, чем в поэзии
Гёльдерлина, в стихах Гейма или Тракля, Валери или
Элюара, у которых Бахман училась, с чьей традицией свя¬
зана. Так что не об этом сейчас речь, а о том, что твор¬
чество Бахман — ее поэзия и ее во многом поэтическая
проза — тесно срослось с ее естеством, а следовательно, и
с биографией, короткой, не слишком богатой чрезвычай¬
ными внешними событиями, однако примечательной и,
главное, бросающей свет на ее мятущуюся натуру, ее осо¬
бый писательский поиск. Жизнь Ингеборг Бахман — это
и ответ на вопрос, почему она написала так мало, хотя
творила столь интенсивно.
Она родилась 25 июня 1926 года в пеболыпохМ австрий¬
ском городе Клагенфурте, выросла в провинции Карин¬
тия — исконно габсбургской (эта провинция дала назва¬
ние главной улице Вены — Кернтнерштрассе), по в то же
время наполовину словенской и благодаря этому типично
австрийской. Юная Ингеборг намеревалась учиться музы¬
ке, но стала доктором философии; слушала лекции в Гра¬
це, Инсбруке, Вене п защитила диссертацию, посвящен¬
ную Мартину Хайдеггеру, его экзистенциалистской тео¬
рии. Другой объект ее научных интересов — неопозити¬
визм, и особенно «критика языка», содержащаяся в рабо¬
тах Людвига Витгенштейна. Взгляды этого философа на
язык как зеркало структуры мира, его требование изме¬
нить мир путем изменения языка оказали определенное
влияние на творчество писательницы.
Например, в ее стихотворении «Слова мои» читаем:
Ведь слово каждое
лишь повлечет
слова другие за собой,
а фраза — фразу.
Вот так наш мир,
навязываясь нам,
прикинуться стремится
завершенным
и высказанным до конца.
Но вы не поддавайтесь, вы молчите!
За мной, слова!
Ничто не завершилось.
Есть жажда слова, одержимость словом
и речь — ответом на противоречье.
(Перевод А. Голембы)
Подобные мотивы встречаются и в прозе Бахман. По¬
вествователь в рассказе «Всё» твердит: «...Вопрос теперь
заключался в том, сумею ли я уберечь ребенка от нашего
языка — до тех пор, пока он не создаст свой новый язык
и не откроет тем самым новую эру». А в романе «Мали¬
на» посреди кошмарного сна героине начинает казаться,
что она не находит «более ни одного слова ни в одном
языке».
Для многих идеи Витгенштейна были сигналом к экс¬
периментированию над словом, даже к разрушению, взры¬
ву традиционной лингвистической системы. А Бахман (ка¬
5
за лось бы, вопреки всякой логике!) пошла противополож¬
ным путем. В стихотворении «Никаких изысков» опа пи¬
сала:
Должна ли
я украшать свои метафоры
веточкой цветущего миндаля?
Должна ли скрещивать и сталкивать фразы,
ломая синтаксис,— ради зряшного фейерверка?
Я научилась понимать
простые слова,
слова, которые всегда к вашим услугам,
ГОЛОД,
ПОЗОР,
СЛЕЗЫ
и ТЬМА.
(Перевод А. Голембы)
И в самом деле, стиль ее поэзии и слог ее прозы ясен,
прост, строг. Правы критики, которые находили в ее сти¬
хах интонации брехтовской гражданственности. Не лише¬
но справедливости и мнение тех, кто видел в ней после¬
довательницу античных пиитов, скажем Сафо. По поводу
раннего стихотворения «Подскажи мне, любовь» извест¬
ный западногерманский поэт и критик Ганс Эгон Холту-
зен говорил: «Четко и строго прочерченный прямолиней¬
ный контур торжествует над кудрявым маньеризмом вре¬
мени. Какой стиль стремится утвердиться здесь? Класси-
цистским его не назовешь. Нет, это сама классика...»
Однако не противоречит ли эта характеристика пред¬
ставлению о Бахман как о писателе насквозь лирическом,
метафорически сложном?
Если это и противоречие, так внутреннее, бахманов-
ское. Один из ее интерпретаторов не без основания заме¬
тил, что она «играет на контрастах между привычными
ритмами и непривычными ассоциациями». Лишь со сло¬
вом «играет» я бы не согласился. Бахман творит всерьез.
И в своем серьезном творчестве она одновременно тради¬
ционна (даже чуть-чуть консервативна) и невиданно (по¬
рой вызывающе) нова.
«Модерных» философов она изучила, и «модерных» пи¬
сателей тоже. Но она не вполне им всем доверяла. Герои¬
ня «Малины» — вероятно, самая автобиографическая из
ее героинь, ибо она не только блондинка и родилась в
Клагенфурте, она еще и писательница,— перечисляет про-»
б
читанные ею книги. Это десятки имен и названий — от
«Критики и истого разума» до Фрейда и Юнга. Однако нет
среди них поваренной книги, чтобы приготовить для лю¬
бимого любимое кушанье. Впрочем, не доверяет она и
своей любви. Она мечется между истовой верой и неисто¬
вым сомнением. Причем волнует ее вовсе не бог. К нему
она вообще равнодушна, как и Надя из рассказа «Син¬
хронно», которой Библия говорит не больше, чем иностран¬
ный словарь. Волнует ее жизнь и люди, смысл всего этого.
И клагенфуртская школьница, подросток военного
времени, а потом грацкая, инсбрукская, венская студент¬
ка, как в омут, бросается в большой мир. В 1950 году
живет в Париже, в 1951 —- 1953 годах работает редакто¬
ром на Венском радио, затем в Италии — по преимущест¬
ву в Риме — занимается свободным литературным трудом,
почти весь 1955 год проводит в США, в 1957 — она редак¬
тор на Баварском телевидении в Мюнхене, в 1959—
1960 годах преподает поэтику во Франкфуртском универ¬
ситете; а до и после этого были еще Цюрих и Висбаден...
Так живут на современном Западе многие писатели,
художники, артисты, вообще интеллектуалы (по преиму¬
ществу левые). Гонимые, словно амоком, внутренним бес¬
покойством и смутной надеждой вдруг, по счастливой слу¬
чайности, обрести где-нибудь «дом», они бродят по свету.
Мелькают отели, города, страны. И жильцы безликих го¬
стиничных комнат лихорадочной деятельностью, точно
наркотиками, глушат свое одиночество, свою неприкаян¬
ность, зарабатывают деньги и выбрасывают деньги, при¬
спосабливаются и пылают гневом, оставаясь пришельца¬
ми, чувствуя себя чужими. Еще в 20-30-е годы такой была
ситуация Хемингуэя и героев Хемингуэя, Фицджеральда
и героев Фицджеральда. Ситуация Ингеборг Бахман и ее
героев похожа на эту. Ибо то и другое — специфическая
форма человеческого отчуждения. А все-таки есть разли¬
чия. Не только для американцев Хемингуэя и Фицдже¬
ральда, но и для европейцев Аполлинера, Модильяни,
Сандрара существовал Париж — их Мекка, их духовная
родина (причем, и особенно для американцев, может быть,
именно потому, что за спиной была и родина настоящая).
Для Бахман и ее Нади («Синхронно»), ее Элизабет («Три
дороги к озеру») нет «дома» пи в Париже, ни в Лондоне,
ни в Нью-Йорке, ни в Цюрихе, ни в Висбадене. Спору
нет, духовное неблагополучие буржуазного мира возрас¬
тает, и отчуждение становится все неизбывнее. Однако
здесь играет роль и другое — особые австрийские условия.
Может быть, это закономерно, что историю о человеке,
голимом амоком, рассказал именно австрийский писатель
Стефан Цвейг? Австро-Венгерская монархия со всей ее
ужасающей беспорядочностью, ее средневековой отста¬
лостью, помноженной на специфическое запоздалое «грюн¬
дерство», со всеми ее абсурдными противоречиями, с раз¬
рывающими ее центробежными силами породила первую
европейскую модель человеческой неприкаянности. А ко¬
гда империя рухнула, явив прочему миру лишь апокалип¬
сический пример, потому что такая революция, как в Рос¬
сии, на этих землях не состоялась, для австрийских нем¬
цев осталось лишь «опереточное государство» (это слова
Бахман) с огромной водяночной головой — Веной — и сме¬
хотворно крохотным туловищем, государство, у которого
не было настоящего, а по мнению многих, и будущего.
Реальным казалось только прошлое — для одних в качест¬
ве традиций, для других в форме полумистического «габс¬
бургского мифа», а для самых прозорливых — в виде исто¬
рического урока, перста, указующего на неизбежность
крушения старого мира со всей его обветшалой, анахро¬
ничной, элитарной культурой. Вместе взятое, это и по¬
родило австрийскую литературу между двумя мировыми
войнами — большую литературу, хотя и сложную, даже
во многом больную, отмеченную такими именами, как Рот,
Музиль, С. Цвейг, Верфель, Кафка, Брох, Додерер.
Трагедия и позор аншлюса еще обострили ее внутрен¬
ние противоречия. В частности, усугубилось типично «ав¬
стрийское» чувство утраты родины, разрыва цепи времен.
Оно питало таких «экстремистов от искусства», как Арт-
ман, как Винер; оно же подвигнуло Хандке или Йонке
на окончательный — так им по крайней мере чудилось —
переход в «западногерманскую веру». Но прорастали и
другие семена. Херберт Айзенрайх, Кристина Буста, Гер¬
харт Фрич, Ганс Леберт и, конечно же, коммунист Франц
Кайн — каждый по-своему — сохранили тесную связь с на¬
циональной культурой; связь эта все сильнее просматри¬
вается и у сегодняшнего Хандке.
Творчество Бахман — один из своеобразных ее вариан¬
тов. Австрия занимает в нем место прочное и значитель¬
ное; причем в прозе, пожалуй, еще больше, чем в поэзии
(поскольку поэзия ее — космичнее, а проза — конкрет-
8
псе). Все без исключения герои писательницы (именно
герои, а не персонажи эпизодические) происходят если не
из Клагенфурта, из Каринтии, так, во всяком случае, из
Австрии, чаще из Вены. И если не живут там, то время от
времени туда возвращаются или, блуждая по свету, город
этот вспоминают. Нет, образ мест, где они родились и вы¬
росли, никогда не вызывает у них слез умиления. Воротив¬
шись в Вену, герои рассказа «Тридцатый год» внезапно
ощутил, «что его возвращение нереально по многим причи¬
нам. С таким же успехом мог бы возвратиться назад по¬
койник. Никому не дано продолжить то, что уже оборва¬
но». И для Элизабет Вена «самое худшее место на земле».
Даже Клагенфурт не вызывает у нее ностальгии; ей и
скучно здесь, и ее раздражают черты стандартизированной
капиталистической цивилизации, проникшей в эти тихие
места вместе с западными немцами, которые «закупили
Австрию с потрохами», совершили «экономический ан¬
шлюс». Да и то, что ни по одной из трех дорог она так и не
может пройти пешком к озеру своего детства, лишь «фор¬
мально» объясняется строительством автострады. В систе¬
ме образов повести это почти кафкианский символ: ведь
также и мнимый землемер К. никак не мог достигнуть ни¬
кем не охраняемого замка. И воплощает символ этот «за-
сыпанность» прошлого, невозможность приобщиться к его
канувшим в небытие идеалам. Даже господин Матрай, ее
отец, воплощение «австрийского духа», пребывает с духом
этим в весьма сложных отношениях: живя по патриар¬
хальным заветам предков, он все, с ними связанное, отри¬
цает; более того, не будучи социалистом, неизменно голо¬
сует за «красных», чтобы поскорее покончить со всем этим
«лицемерием». И другой представитель «австрийского ду¬
ха», Франц Йозеф Тротта, который явился сюда из тра-
диционнейшей австрийской литературы — из романа
Йозефа Рота «Склеп капуцинов»,— всячески насмехается
над своей рухнувшей, утраченной родиной, над тщетными
попытками ее глорификации. В то же время господин Мат¬
рай и не помышляет об отъезде из Клагенфурта, а потомок
по боковой линии «героя Сольферино» Тротта, самый не¬
прикаянный из всех австрийцев, возвращается в Вену, что¬
бы там, в потерянном доме своем, застрелиться. И Элиза¬
бет начинает догадываться, что как раз в них, в отце и в
Тротте, заключено самое «австрийское». Да и в ней тоже,
9
и в прочих героях (или еще вернее — героинях) Ингеборг
Бахман.
Тротта был самой большой любовью Элизабет, а вто¬
рой ее большой любовью был некто Манес, уроженец
Злотогрода в Галиции. И героиня романа «Малина» ме¬
чется между двумя мужчинами — этим самым Малиной,
родившимся где-то у югославской границы, и натурали¬
зовавшимся в Вене венгром Иваном. И Надя из рассказа
«Синхронно», десять лет не говорившая на родном языке,
пятнадцать лет не бывавшая дома, совсем не понимает
француза Жаи-Пьера, давнего своего возлюбленного, ио
чувствует себя почти хорошо и спокойно в обществе слу¬
чайного любовника — венца Людвига Франкеля, как и она,
заброшенного на чужбину. Смысл этого феномена слегка
приоткрывает Элизабет, когда размышляет о своей судь¬
бе и о судьбе отца и брата: «Она... знала, что семьи, по¬
добные семье Матрай, постепенно вымирают; знала еще,
что страна эта больше не нуждается в семье Матрай, уже
их отец был своего рода анахронизмом; ну конечно, и Ро¬
берт, и она спаслись на чужбине, они стали там людьми
действия — такими же, как и все другие люди в «главных»
странах... Впрочем, из-за своей впечатлительности они по¬
всюду оставались чужими; явившись из провинции, они
сохранили определенный духовный склад, чувства и об¬
раз мыслей, связанные с особым духовньш миром огром¬
ной протяженности...»
Итак, все они напоминают членов некоего ордена,
узнающих друг друга не по тайному знаку, а благодаря
сходству мыслей, чувств, отвращений и приверженно¬
стей; они еще более чужды, чем все прочие жители Запа¬
да, этому гремящему, неоновому, рекламному бытию и от¬
того еще острее ощущают его противоестественность; и
они с чем-то связаны пусть невидимыми, но прочными,
нерасторжимыми нитями. Это «что-то» — уклад провин¬
ции, утраченный, однако не забытый дом, ставший их
«духовным миром». Впрочем, не всегда лишь духовным.
Страну как систему, синтез, единый организхм герои
Бахман не воспринимают или не принимают. Но почти
у каждого из них есть точка, клочок земли, сжавшийся
чуть ли не до размеров булавочной головки, который их
притягивает, служит им как радар. У Элизабет — это дом
отца, в который она возвращается, из которого бежит,
однако жить без которого не может. А для героини ро¬
10
мана «Малина» —это кусочек венского переулка Упгар-
гассе между домами № 6 и № 9, где живут ее мужчины
и где умещается весь ее мир, любовно и тщательно, на
многих страницах описанный. Из такого мира течет все
здоровье и вся сила, позволяющая выстоять и утвердить¬
ся. У Элизабет недаром вдруг появляется желание посе¬
литься в лесной глуши, на стыке трех границ, и основать
там крохотную и справедливую Австро-Венгрию, которая
не посылала бы свой народ — как та большая, прежняя,
несправедливая — на убой. И она потрясена в конце (когда
уже, кажется, поздно) мощью любви к ней кузена покой¬
ного Тротты, оставшегося в Сиполье и сохранившего мо¬
гучую простоту крестьянских предков.
Связь с землей, с прошлым, с естественным, с душевно
здоровым, связь, которая жила, разумеется, не только в
героях Бахман, но и в ней самой, определенным образом
повлияла на ее мироощущение. Опираясь на свою
«твердь» — пусть одной ногой, пусть только ее носком,—
писательница лучше различала лежащие окрест зыбучие
пески, мертвенные, засасывающие. И это уже была пози¬
ция — пусть неудобная, пусть ненадежная,— с которой
опа силилась протестовать, сопротивляться тому ходу ве¬
щей, который многим другим представлялся дурным, даже
ужасным, но, увы, раз и навсегда заведенным.
Еще в 1960 году Ингеборг Бахман писала, что искус¬
ство помогает нам «узнать, где мы стоим и где нам стоять
следует, каково наше положение и каким должно оно
быть». Это и есть цели ее искусства.
В первом сборнике рассказов, «Тридцатый год», писа¬
тельница направила основное внимание как раз на это
«должное». Четыре ее новеллы — «Детство и отрочество
в австрийском городе», «Тридцатый год», «Среди убийц и
безумцев», «Вильдермут», которые читатель найдет в этой
книге,— заимствованы из названного сборника. Оттуда же
взят и ранее у нас изданный рассказ «Всё». Отличие этих
новелл от таких, как «Синхронно», «Три дороги к озеру»,
«О эти счастливые глаза», «Проблемы, проблемы», заме¬
тить нетрудно. Прежде всего, герои сборника «Тридцатый
год» (как не раз уже писали рецензенты) дерзко и упря¬
мо «штурмуют небеса», не соглашаясь на меньшее, чем
полное и коренное изменение человеческого бытия, начи¬
нающее все, решительно все сначала, как в первый день
творения. Герой заглавной новеллы восклицает: «Если бы
11
знать, с какой стороны подойти к нашему миру, чтобы
он сам открыл нам тайну вращения и явил нам свою не¬
винность... Тогда еще раз поднимись и разнеси этот ста¬
рый, руганый-переруганый порядок. Тогда стань другим,
чтобы мир изменился, чтобы жизнь изменила свое русло».
Л повествователь из новеллы «Всё» мечтает, что спасите¬
лем человечества станет его новорожденный сын: «То, к
чему пришли мы, наш мир,— это наихудший из миров, и
никто из людей еще не постиг его; но для моего сына ни¬
чего еще не было решено».
По сути, перед нами классический конфликт, знако¬
мый уже по древнегреческой трагедии, конфликт между
притязаниями человека и несовершенством окружающего
его бытия; и человек бунтует — против богов, против судь¬
бы, против несправедливости социальных условий.
Впрочем, из длинного ряда богоборцев и тираноборцев
мировой литературы ранняя Бахман выделяется непомер¬
ностью требований. Это способно вызвать уважение: ведь
говорил же Горький, что ценит в человеке прежде всего
стремление вырваться из «хитросплетений истории», прыг¬
нуть выше собственной головы! Однако у Бахман сму¬
щает абстрактность позиции, схематическая заданность
всей структуры того или иного рассказа. Все они — более
или менее притчи, да еще более или менее «космического»
размаха. В стихах на сходные темы все это как-то меньше
бросалось в глаза. Там писательница оперировала словами
«горы», «вулканы», «небо», «пустыня», здесь — спусти¬
лась до современных отношений современных людей и по¬
родила противоречие между замыслом и изображаемой
средой. Ее герои подчас оказывались масками, рупорами
декламирующего авторского «я».
Это особенно заметно в рассказе «Вильдермут» — исто¬
рии несгибаемого искателя истины; он воспринимается как
в некотором роде расширенное изложение бахмановского
стихотворения «Истина», заканчивающегося строками:
Неверный свет реклам. Холодный город.
На площадях широких — ни души.
В дыму и гари задохнулся голубь.
Остановись, подумай. Не спеши!
Не сосчитать багровых кровоточин.
Они давно горят в твоей груди.
Пусть этот мир обманчив и порочен,
Постигни правду, истину найди!
(Перевод И, Грицковой)
12
И все-таки рассказ, копечпо же, усложнен в сравне¬
нии с прямой декларативностью стихотворения. Судья
Вильдермут подвержен колебаниям и сомнениям, ибо дол¬
гие годы искал не то и не там. Он переживает тяжелей¬
шее духовное потрясение, выполняющее, однако, роль
очистительного катарсиса, и выходит из него с сознанием,
что истина не проста и не однозначна. Да и герои рас¬
сказов «Всё» и «Тридцатый год» под конец отказываются
от «поисков абсолюта». Первый после трагической гибели
ребенка готов согласиться с тем, чтобы его будущие дети
росли обыкновенными; второй после автомобильной ката¬
строфы, едва не унесшей его в могилу, готов довольство¬
ваться жизнью как таковой.
Обычно это рассматривается как капитуляция. Одни¬
ми критиками — как первый шаг Бахман к той резинья¬
ции, которой якобы отмечены ее роман и сборник рас¬
сказов «Синхронно», другими как конформизм самих
героев, становящихся тем самым объектами бахмановской
критики.
На самом деле с бахмановским «бунтом» дело обстоит
сложнее. В 1959 году писательница заявила: «...Действуя,
думая и чувствуя, мы порой стремимся доходить до край¬
ностей. В нас живет желание покинуть поставленные нам
пределы... Однако и внутри границ мы направляем свой
взор па совершенное, невозможное, недостижимое, будь то
любовь, свобода или чистое величие. В борении невоз¬
можного с возможным мы расширяем наши возможности».
Сказано это было, вероятно, в связи с радиопьесой «Доб¬
рый бог Манхэттена», в которой изображена «доходящая
до крайностей» и наказанная небесами любовь американ¬
ской студентки и европейского интеллигента. Однако теме
борения «невозможного с возможным» Бахман в той или
иной форме оставалась верной всю жизнь. Только в упо¬
мянутой радиопьесе и ранних рассказах тема эта реша¬
лась порой наивно, романтически-абстрактно или, если
угодно, поэтически, а не эпически.
Ранние рассказы Бахман вообще теснее связаны с ее
стихотворениями не только по духу (что само собою ра¬
зумеется), но и в жанровом, так сказать, смысле. Это про¬
за монологическая, экстатически-приподнятая, ярко образ¬
ная и порой... разорванная. Движение, развитие сюжета
никогда не было для писательницы существенным. Но
здесь пренебрежение к этому элементу прозы особенно
13
обращает на себя внимание. «Детство и отрочество в ав-
стрийскОхМ городе»—чудесно написанпый, мягкий и в то
же время горький лирический этюд; «Среди убийц и безум¬
цев» — новелла, начатая вокруг одного центра (старик ри¬
совальщик, персонаж грильпарцеровского толка, обна¬
жающий сущность собравшихся за ресторанным столом
людей), а завершенная вокруг другого (мнимый убийца,
его история, его смерть); «Вильдермут»— назидательный
анекдот в старом стиле, однако со смещенивхМ повествова¬
тельных ракурсов. И еще более смещены они в «Тридца¬
том годе», произведении неровно пульсирующем, беспоря¬
дочно переходящем от «он» к «я», свободно играющем
пластами времени, в некотором смысле барочном. Обра¬
тите хотя бы внимание на описание Венеции: «...Поздним
вечером он пришел на площадь Святого Марка, нашел ее,
не сбиваясь с пути. Сцена была пуста. Зрителей словно
смыло. Море вздымалось до самого неба, лагуны искри¬
лись — светильники и фонари отражались в воде». Мир
дан как вселенский театр. Но одновременно он дан и экс¬
прессионистски. Причем не только благодаря экспрессив¬
ности фразы. Героя окружают персонажи-маски; всех ми¬
молетных любовниц зовут Еленами (лишь одна, настоя¬
щая любовь не имеет имени!), всех мужчин, которые на¬
шли себя или воображают, что нашли, кличут Молями.
Между первым и вторым сборниками бахмановских
рассказов лежит роман. Собственно, он даже не лежит
между, а явственно примыкает к книге «Синхронно», со¬
ставляет с нею некое единое целое. «Малина», «Три доро¬
ги к озеру», «О эти счастливые глаза», «Проблемы, проб¬
лемы», «Лай» — зрелая проза Ингеборг Бахман, и внима¬
тельный читатель это, несомненно, заметит.
В сборнике «Тридцатый год» рассказ по преимуществу
велся от имени мужчин или они стояли в центре повест¬
вования. Исключение составляли только новеллы «Шаг
к Гоморре», «Ундина уходит», в предлагаемую советскому
читателю книгу не вошедшие. Бахмановская проза по¬
следних лет вращается вокруг судеб женщин. Конечно, и
мужские образы у Бахман вполне добротны — господин
Матрай, Малина, Иван, Тротта, Франкель. Но речь ведь
идет о главных героях писательницы, тех, что призваны
в личности своей, в своем сознании отразить окружаю¬
щую их действительность. Пока этого от них, собственно,
не требовалось и пока они были лишь рупорами, личи¬
14
нами авторского «я», они могли быть и личинами муж¬
скими. Но с того момента, как в игру включилась психо¬
логия, удовлетворять новым требованиям оказались спо¬
собны только фигуры женские. Причем женские фигуры
определенного склада. Не обязательно на Бахман как две
капли воды похожие, однако в чем-то ей по характеру
близкие. Женщины самостоятельные, трудящиеся, обра¬
зованные, тонко чувствующие, нервные чуть ли не на
грани истерии, с шальной мыслью о самоубийстве и почти
мистическим предчувствием ранней смерти, близкого кон¬
ца. И одинокие, чужие всему, что творится вокруг. Но не
утратившие надежду найти себя, обрести почву под но¬
гами, может быть, самозабвенно полюбить.
Рассказы из сборника «Синхронно» и в композицион¬
ном смысле много трезвее и рациональнее рассказов ран¬
них. Заглавная его новелла, хорошо скроенная и крепко
сшитая, написана в несколько неожиданном для Бахман
хемингуэевском духе. По настроению, да и по ситуации
Нади и Франкеля она напоминает «Кошку под дождем»,
а описания рыбной ловли или купания в разбушевавшемся
море возвращают нас к умельцу Нику Адамсу. Но есть
здесь и свое, неповторимо бахмановское. Скажем, вави¬
лонское смешение языков в голове у Нади или ее жиз¬
ненная позиция — синхронной переводчицы, механической
трансмиссии, отрешенной от смысла того, в чем она участ¬
вует. Сквозь случайную связь двух усталых, постоянно за¬
нятых, много зарабатывающих и совсем потерянных лю¬
дей проглядывают реальные черты Запада 70-х годов на¬
шего века.
Проглядывают они и через удивительную пассивность
Беатрис («Проблемы, проблемы»), этого дитяти бесплод¬
ного, пустого, зашедшего в глухой тупик буржуазного
бытия.
А вот рассказ «О эти счастливые глаза» возвращает
нас к ранним бахмановским поискам абсолюта. Он траги¬
чен и все же полон надежды, ибо проникнут верой в че¬
ловека. В нашей критике уже отмечались шекспировские
реминисценции, содержащиеся в истории слабой, жен¬
ственной, но по-своему поразительно стойкой Миранды.
Однако здесь, по-моему, есть и другое: открытое противо¬
поставление жизненной линии героини приспособленче¬
ству Гантенбайна, мнимого слепца, персонажа романа
Макса Фриша.
15
Выше я говорил о единство поздней прозы Бахман.
Писательница сама стремилась его подчеркнуть. Многие
эпизодические персонажи романа встречаются затем и
в новеллах, переходят из новеллы в новеллу. Это врач-пси¬
хиатр Лео Йордан, занимающий даже одно из централь¬
ных мест в рассказе «Лай», и его жена Франциска; это
чета Альтенвилей, вместе с Йорданами репрезентирующая
сегодняшний венский «свет»; это и брат Франциски Мар¬
тин Раннер, и двоюродная сестра Беатрис Элизабет Ми¬
хайлович, и застреливший ее в «Трех дорогах к озеру»
супруг, финансист и промышленник Бертольд Рапац.
Бальзак, Золя, а позднее Фолкнер, Додерер и Вальзер,
множа связи и сцепления между героями, ставили себе
целью создание панорамической картины общества. Надо
думать, такой же была и цель Бахман.
В «Синхронно» Надя вспоминает о своей жизни с Жан-
Пьером и о том, что ушла от него, потому что они друг
друга не понимали, а в «Трех дорогах к озеру» тот же
Жан-Пьер — теперь уже любовник Элизабет — говорит
последней, что была у него подружка, синхронная пере¬
водчица, особа столь тщеславная, что предпочла ему свою
службу. Чтобы хоть как-то распутать этот клубок (потому
что до конца бахмановские клубки редко распутываются),
необходимо читать оба произведения. Не значит ли это,
что писательница рассматривала все свое позднее твор¬
чество как некий цикл? И, как знать, не было ли у нее
на будущее иного, еще более широкого эпического за¬
мысла?
Ингеборг Бахман уже ничего не напишет. Но и то
сравнительно немногое, что после нее осталось,— значи¬
тельно. В ранней своей радиопьесе она поведала о цика¬
дах, живущих на некоем мифическом средиземноморском
острове. Некогда они были людьми. Люди эти не пили,
не ели, не любили, не интересовались ничем вокруг, а лишь
упивались собственным пением. И их заколдовали и про¬
кляли — превратили в цикад, лишили человеческих голо¬
сов... Искусство самой Бахман никогда таким не было —
сладкогласым, бездумным, эстетским. Ее искусство слу¬
жило людям. Порой оно бывало трудным и горьким —
ведь она изучала болезни своего мира и на себе самой,—
однако до конца оставалось человечным.
Д. Затонский
ОТСРОЧЕННОЕ ВРЕМЯ
Наступят дни пожесточе.
До времени отмененное время
заалело на горизонте.
Скоро тебе придется
завязать шнурки на ботинках
и собак отогнать к берегу моря,
потому что рыбьи потроха
застыли на ветру.
Бледным огнем загорелись люпины.
Ты рассек туман своим взглядом:
до времени отмененное время
заалело па горизонте.
А в пучине песка на той стороне —
твоя любимая.
Ей волосы запорошил песок,
перебивает ее,
велит замолчать.
Она же приемлет смерть
и готова проститься с жизнью
после каждого объятия.
Не оборачивайся.
Зашнуруй ботинки.
Отгони собак.
Выбрось в море рыб.
Загаси люпины.
Наступят дни пожесточе.
19
ТЕМНЫЕ РЕЧИ
Как Орфей, я хвалю
Смерть, союзницу древнюю жизни,
И всей земной красоте,
И твоим глазам,
Князьям высокого неба,
Говорю мои темные речи.
Ты помнишь ли грозное утро?
Проснулся ты. На ладонь
Упала роса. Гвоздика
Дремала на сердце. Но ты
Увидел темную реку,
Бегущую мимо.
Да, кровь — моя гибкая лира,
Молчанье — моя струна.
В руке я держу твое сердце.
И знай, что прядь твоя стала
Прядью тени ночной,
И хлопья зимнего мрака
Холодят твои щеки.
Отныне я не твоя,
Мы опустили глаза.
Но я хвалю, как Орфей,
Жизнь, союзницу смерти,
И мне сквозь закрытые веки
Светит глаз твоих синева,
20
ВЕРЕНИЦА
Угасали глаза любимых.
Их уводили от нас.
И тогда мы сами смотрели
В пустыню угасших глаз.
Воспаленные наши ресницы
Остужает холодный дым.
Перехватывает дыханье
Перед этим Немым, Пустым,
Мы видели мертвые очи.
И не забудем их.
...Любимые не узнавали
Самых любимых своих.
21
ОСЕННИЕ МАНЕВРЫ
Говорят, это было вчера, в последний месяц
Моих школьных каникул. На грубой соломе насмешек
Просыпаюсь и вижу маневры эпохи моей.
Говорят, что вчера. Мы не птицы, и нам не поможет,
Если мы улетим на юг. Пусть движутся мимо
По закатному морю катера и гондолы. И пусть
Мне глаза беззащитные ранит античный обломок,
Уцелевший осколок какого-то древнего сна.
Читаю в газетах о холоде,
О простудах. Об убийцах и об убитых.
Об изгнанниках. О дрейфующих льдинах
Ледовитого моря, но радостных мало вестей.
И к чему она, радость? Когда постучится нищий,
Я его прогоню: ведь у нас теперь мирное время,
И мы можем уже не глядеть на подобные сцены.
Но нельзя не глядеть на гибель листвы под осенним
дождем.
Уедем отсюда! В апельсиновой роще,
Или в синей тени кипариса, или под пальмой
Мы с тобой еще раз увидим прекрасный закат.
По дешевой цене. Наконец-то забудем мы оба,
Что на письма из прошлого мы не хотим отвечать.
Наше время творит чудеса (как известно), но, если
Постучится судья в нашу дверь, мы ему не откроем.
Я в карцере сердца проснулась па грубой соломе,
И снова я вижу маневры эпохи моей.
22
НАСТАЛ ПОЛДЕНЬ
В начале лета зеленеет липа,
побледневший матовый месяц мерцает
над полями. Вот и полдень
колодезную воду золотит,
и сказочной птицы крыло,
все в крови, поднялось из развалин.
На ладони лежит не обломок,
а колос ржи молодой.
Где германское небо землю мрачйт,
обезглавленный ангел хочет ненависть схоронить,
на ладони он держит сердце.
Семь лет — или это снится? —
прошло, но добра не жди.
Глубока у заставы криница.
Не гляди в нее, не гляди.
Отчего глаза твои плачут?
Семь лет миновало, и снова —
сердце мое, молчи —
из кубка пьют золотого
вчерашние палачи.
Отчего ты глаз не подымешь?
Но солнце все ярче. В золе —
железный осколок, и клочья
знамен на терновнике. Снова
к утесу, как в древних сказаньях,
прикован орел.
23
Сегодня надежда ослепла на ярком свету.
Разбей ее цепи, веди
к нам в долину, ладонью прикрой
глаза ей и защити
ее от резкого света!
Где германское небо землю мрачит,
ищет облако слова и полнит кратер молчаньем,
пока пе прольется редким июньским дождем.
Несказанное тихим сказаньем идет по немецкой земле
в ясный полдень.
ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ
Войпы не объявляются нынче:
их продолжают вести. Немыслимое
вошло в обиход. Но герой
отсиживается в тылу. Трусливый
уходит па фронт воевать.
Повседневной формой стало терпение,
наградою — выцветшая звезда
надежды, болтающаяся над сердцем.
Ее выдают,
когда ничего не случается,
когда умолкает барабанный бой,
когда и врага-то не видно
и только тучи перевооружения
застилают небо.
Ее выдают:
за дезертирство,
за храбрость перед друзьями,
за выдачу мерзких тайп,
за презрение
к любому приказу.
25
НОЧНОЙ ПОЛЕТ
О черная пахота неба,
Взрыхленная волей моторов,
В железном поту, в гуле ночи,
Тяжелым лемехом снов.
Эти сны нам приснились на кладбищах и на кострах,
Под кровлею мира, чьи стены
Разрушены ветром, и вот зарядили дожди,
Дожди и дожди, и в призрачных мельничных крыльях
Незрячие мечутся мыши.
Кто жил в этом доме? Чьи руки были невинны?
Кто сиял в этой темной ночи?
Чья тень говорила с тенями?
В стальном оперенье укрыты, зовут инструменты
Эту ночь на допрос. Хронометры и альтиметры
Исследуют облачный лес. Как память любви,
Мы слышим нашего сердца забытые речи:
Точка — точка — тире... Целый час
Крупный град барабанит по крыше. Но слух наш,
Безучастный, все слышит и все забывает.
Еще не погибло солнце, еще уцелела земля,
Но стали они иными, как новые звезды.
Мы выплыли в мир из аэропорта.
Здесь, в океане воздушном, никто не считает
пропавших,
Здесь груз не хранят. Улова не ждут.
Ароматы индийских земель и шелка из Ниппона
Все равно достаются купцам,
Как рыбы — сетям.
26
Зачем же мы видим пламя
Падучей звезды в темном небе?
Зачем воздушные нити
Разорваны паденьем комет?
Нам дан закон одиноких,
Нам дозволено здесь ждать чуда.
Это все.
Мы выплыли в мир, и сегодня монастыри опустели.
Мы — орден подвижников новых; не ждите от нас
исцеленья.
Думать — не дело пилота. Летчики видят на карте
Линии трасс и знаки аэродромов,
Географию мира, где все известно раз навсегда.
Кто живет на земле? Кто там плачет?
Кто от дома ключ потерял?
Кто своей не нашел постели
И на улице спит? Кто осмелится утром
Разгадать оставшийся в небе серебряный след?
Когда снова вода закружит лопасти мельниц?
У кого хватит мужества вспомнить тогда эту ночь?
ПСАЛОМ
1
Помолчите со мной, как молчат все колокола!
В последе скинутого испуга
отыскивает сброд новую пищу*
К ландшафту подвешена рука
близ небосвода, как и в страстную пятницу;
двух пальцев не хватает ей,
не может она присягнуть, что все,
все не окончено и ничто
не кончится.
Она погружается в зарево,
выталкивает новых убийц
и движется свободно.
По ночам на этой земле
в окно выхватывают, раскидывают белье,
чтобы тайное больных стало явным:
нарыв, набитый пищей — бесконечной болью
па любой вкус.
Мясники останавливают, в перчатках,
дыхание обнаженного,
лунный свет падает на пол,
п уже валяться здесь черепкам..;
Все приготовлено для соборования.
(Таинство причастия неосуществимо.}
28
2
Как все суетно.
Поставь здесь город,
встань сам из пыли этого города,
займи должность
и притворись,
чтобы избежать разоблачения.
Сдержи свои обещания
перед единым слепым зеркалом в воздухе,
перед единой запертой дверью в ветре.
Неисповедимы пути на отвесной стене
этих небес.
3
О глаза: земля, сожженная в солнечном
аккумуляторе, —
глаза всех нагружены дождевой поклажей
и теперь запаутинены,—
земля, оплетенная трагическими пауками
современности..,
!
4
В лощину моей немоты
легло слово
и так притягивает леса к обеим сторонам,
что мой рот
оказался совсем в тени.
В ГРОЗЕ РОЗ
Куда бы мы ни ринулись в грозе роз,
ночь то и дело озаряют шипы, и гром
листвы — он так тих был в кустах —
преследует нас неотступно.
30
ОКРЕСТНОСТИ ВЕНЫ
Духи равнины, духи взыгравшей реки,
предвестники гибели нашей, прочь от ворот городских!
В путь захватите и пенный излишек вина,
что стекает с оббитых краев,— пусть в русло вольется,
раз ищет исхода,— и распахните просторы!
Там коченеет дерева сгиб обнаженный,
колесо завертелось, из буровых скважин
бьет фонтаном весна, лес статуй теснит
зелени первый набросок, не дремлет
радужный масляный глаз у истоков страны.
Что из того? Танцевальная музыка смолкла.
После паузы: диссонансы слышнее, мелодия стерта.
(И дыханье ее уже щек моих не овевает!)
Замирает вращенье. Сквозь пыль и обрывки туч
волочит за собою «чертово колесо»,
плащ, укрывший нашу любовь.
Нигде не познаешь, как здесь, в поцелуе первом —
прощальный. Отблеск храня на губах,
дальше иди и молчи. Где журавль
в камыше мелководья свой круг завершает,
там и бьет его час, заглушая шум волн.
А на том берегу дыхание Азии.
Дружные ритмы всходов. Пусть для зрелой культуры
жатва пред гибелью — вечный закон, я успею
шепнуть еще ветру: там, за откосом,
влага иная взор затуманит, у римского вала
мною вновь овладеет пьянящее чувство...
Под тополями у межевого древнего камня
веду я раскопки: арену скорби народов,
улыбку «Да» и улыбку «Нет» здесь ищу я.
3t
Жизнь отхлынула в ящик с конструктором детским,
боль смягчают теперь препараты, в аллеях
расцветают каштаны, но ароматом свечей
не напоен уже воздух, над парапетом в парке
ветер волосы треплет, и одиночеством веет,
мяч, скользнув мимо детских рук,
падает в воду, на дно, и безжизненный взгляд
встречается с тем голубым, каким он сам был
когда-то.
Чудесам безверия несть числа.
Сердце уверенно ль в том, что оно еще сердце?
Пусть снится тебе твоя чистота, подними руку
в клятве,
пусть снится, что зов природы тебя побеждает,
и все же
протест окажи ее таинственной силе.
Другой рукой удается складывать числа, а также
анализировать факты, которые нас расколдуют.
Кто тебя разлучает с тобой? Только ты. Расплывись,
в образе новом явись, все познав, чтоб проститься
навеки.
Перегнав ураган, солнце мчится на запад.
Двадцать столетий прошло, а нам ничего
не осталось.
Ветер срывает гирлянды барокко,
ангелочек падает вниз на ступени,
рушатся стены, едва лишь забрезжит рассвет,
со шкафов осыпаются маски с венками.
Только на площади — в свете полудня,— с цепью
тяжелой
у основанья колонны, остановивши мгновенье,
предавшись его созерцанию, в плену красоты,
отрекусь я от времени, дух среди духов грядущих.
«Мария-ам-Гештаде »,
храм твой пуст, камень нем,
спасенных нет, погибших не счесть.
Лампадное масло шипит, мы все
его пригубили — где же
твой вечный свет?
32
Вот и уснувшую рыбу выносит течением
к черным морям, которые нас заждались.
Но мы так давно уже влились в иные потоки,
водоворотом подхвачены бурным, там, где наш мир,
ясный и яркий, остался навек за пределом.
Башни равнины нас прославляют за то,
что не волей своей мы явились и, по уступам
отчаянья падая глубже и глубже,
пристальным слухом внимали паденью.
№ 1031
МОНОЛОГ КНЯЗЯ МЫШКИНА
ИЗ БАЛЕТНОЙ ПАНТОМИМЫ «ИДИОТ»
Мышкин рассказывает о казни
Любая секунда моего бытия срослась воедино,
переплелась с судьбою и с жизнью чужого мне
человека. Я запомнил и в любой момент
могу воскресить в памяти его лицо.
Мне дано — никогда его не забыть.
(Это не вздор, не мираж, вызревающий к вечеру.)
Лицо, покрытое зеленой изморосью
тюремной ночи, устремленное к утру,
с решетками на глазах, алчущих
видеть небо.
По ледяным закоулкам его членов
прочь убегает желанный сон.
Шаги надсмотрщика отдаются в груди.
Ключ отпирает жалобный вздох.
Сказать ему нечего,
да никто бы его и не понял.
Упражняясь в благородстве,
его поят вином и потчуют мясом.
Но он, целиком погруженный
в церемонию переодевания,
не в силах оценить
этого щедрого великодушия.
Он безразличен к кратким приказам.
Впереди еще долгая жизнь.
Дверь распахнется и будет открытой.
Улицы сольются друг с другом,
полнясь грохотом голосов,
34
и повлекут, и потащат его
к берегу кровавого моря,
что все сильнее бурлит
и становится полноводней
с каждым новым судом,
после каждого смертного приговора.
Но все же есть общпость, родство
между нами и приговором,
который гласит, что сей человек
с неправдоподобно правдивым лицом
приближается к истине...
Но вот он кладет голову на плаху
(лицо его бело и неподвижно,
то, о чем он старается думать,
лишено всякого смысла,
перед его глазами
ржавая пуговица на куртке палача).
Но есть и единство меж нами и осужденным.
Он хотел доказать, убедить нас,
что над убийством, что ему заготовили нынче,
и над смертью, что в будущем нас ожидает,
возвышается истина, правда.
Он — частица меня.
Я стою перед ним,
ближе всех подошедшим к правде,
яснее других осознавшим жизнь
перед вступлением в вечность.
Но что я, смертный,
могу поделать, чему выучиться,
что постичь? А если б и смог, то только сейчас,
в эту секунду, о которой я говорю.
Но сказать о ней мне, в сущности,
нечего.
2*
О ЗЕМЛЕ, РЕКЕ И ОЗЕРАХ
1
Тобою этот край навек покинут.
Что впереди? Забвенье или страх?
Твои следы растают и остынут,
И образ твой развеет ветер в прах.
Ты не один. Бывали и другие,
Что испытали по земле по всей
Страдания и горечь ностальгии,
Заманчивость и беды одиссей.
Волною колыбель твою качало.
Куда теперь тебя несет она?
Вокруг темно. И не видать причала.
Созвездия скрывает пелена.
И ты поймешь и осознаешь ясно,
Что слаще, чем пасхальный перезвон,
Любой из дней, потерянных напрасно,
Которыми ты ныне обделен.
Озера, взбудораженные криком.
Дороги смяты тяжестью колес.
Перед тобой предстало новым ликом
Все то, что ты познал и перенес.
Яснее стали очертанья неба.
Ты за собой оставить не забудь
Воды и семь ломтей ржаного хлеба
Тем, кто решится на такой же путь.
Так искупи ж просроченное время,
Утерянные годы оправдай!
Опомнись наконец! Стряхни былого бремя
И воротись скорей в родимый край!
30
2
Все встрепенулось и пришло в движепье.
И до зари уже рукой подать.
И обретают новое значенье
Слова «простор», «покой» и «благодать».
Ленивая река, и смотрит ива
В глубокую нетронутую синь.
Еду на стол приносят хлопотливо,
И шепчут губы: «Смилуйся... Аминь!»
Искрятся в небе золотые струи.
Пришла пора огромных летних дней.
Бряцают весело начищенные сбруи
Упругих и коричневых коней.
Смерть в этот час немыслима, нелепа.
Хоть в забытьи лежит старик больной:
Сын со служанкой яростно и слепо
Зачнут ребенка рядом за стеной.
Свет мягких сумерек. И словно стало в мире
Уютнее и чуточку теплей.
И окна в доме растворяют шире,
И поползет сквозь них дурман с полей.
Слышнее смех и говор за забором.
Все резче запахи. Притих вечерний сад.
Крадется ветер осторожным вором.
Он звезды передвинет наугад.
Устало косы упадут на плечи.
Луна осветит желтое жнивье.
Руками сильными обхватит землю вечер
И до утра не выпустит ее.
3
Среди холмов — разрушенная крепость.
Над ней в ночи клинком мерцает серп.
Ее века проверили на крепость.
В когтях сжимает коршун рваный герб.
97
5J*
Три мертвеца покоятся за рвами.
Скальп одного — у каменной стены.
Другой двумя вращает головами.
А третий вверх швыряет валуны.
Когда повелевают эти трое,
Вмиг разожжен предательский костер.
Послушными становятся герои —
Податливо ложатся под топор.
А в подземелье трупы, пепел, кости.
Блуждают духи. Смрад и духота.
В почетной книге расписались гости.
Их имена скрывает темнота.
Повсюду ночь. Не слышен птичий щебет.
Честь и добро упрятаны в тайник.
И травы сочные скрывает пыльный щебень.
Смолк океан — его сковал ледник.
Но было так: в непознанное время,
Земной не сознавая красоты,
На серых скалах выбивало племя
Неясные надежды и мечты.
Смывает землю временем, как остров.
Безлюдны дни, пустынны вечера.
И лишь во сне мы ощущаем остро
Неясный символ чести и добра.
4
Давным-давно, на этом самом свете,
Не зная, что такое боль и страх,
Мы в шкурах жили на глухом Тибете,
Затерянные в вековых снегах.
И в глубине цветущего кристалла
Застыли мы, но не могли не внять
Трубе, которая лишь к нам двоим взывала
Добро и зло осмыслить и понять.
38
И распласталось перед нами чудо
Широких пашен и прозрачных рек.
Земля, не зная, кто мы и откуда,
В густой траве нам отвела ночлег.
Порою существа, порою вещи,
Мы дальше в путь направили стопы.
И оба были, словно боги, вещи
И, словно дети малые, глупы.
Мы оба стали неподвластны тленью,
Друг в друга проникая вновь и вновь,
Мы поняли свое предназначенье,
Прозрели мы, в себе открыв любовь.
Нас, окрыленных этим щедрым даром,
Вдруг охватили радость и испуг.
С внезапным любопытством, с новым жаром
Мы постигали странный мир вокруг.
Для нас звезда горит на небосклоне
И водопад грохочет серебром.
И мы протянем теплые ладони,
Чтоб этот мир наполнил их добром.
5
С утра на скотобойне оживленье.
Шлифует ветер матовый топор.
И все селенье, как на представленье,
Пришло сюда и запрудило двор.
Петлю затянут туго, и от боли
Наружу вывалится розовый язык.
И сетует сосед: «Не хватит соли.
Совсем теленок, а большой, как бык».
Здесь шум и гам, что на веселой тризне.
С весов снимают туши не спеша.
Но как измерить прожитые жизни
И сколько весит каждая душа?
39
В кровавых пятнах фартук, ломит руки.
Бегут собаки за тобой, и вдруг
Ты ненароком вспомнишь эти звуки:
Железа скрежет, рев, мычанье, стук.
Вечерний вечер пахнет мертвечиной.
Ты лишь теперь прозреешь и поймешь,
Что спрятано под серой мешковиной,
И совестью, как кровью, изойдешь.
Ты вспомнишь кости, сваленные в угол,
Разбросанные теплые кишки.
Тебя сожжет стыда горящий уголь,
А сердце — скорбь и боль зажмут в тиски.
И от себя не спрятаться, не скрыться,
Ты сам мертвец, хотя пока живой.
...К весне на поле прорастут глазницы
Цветами и зеленою травой.
6
Зовут детей: «Скорее, надо мыться!»
И к празднику, торжественно спеша,
Хозяйки трут до блеска половицы.
У каждого оттаяла душа.
Все дышит, все искрится карнавалом.
Забавам и веселью место тут.
Покачиваясь над цветочным валом,
Соломенные чучела плывут.
Гармоника губная с флейтой спелась.
Как незаметно летний день погас!
И под хмельком калеке захотелось
Свой горб поставить людям напоказ.
Смешные маски снова корчат рожи.
И не отыщешь нынче тишины.
Горит костер и лезет вон из кожи,
Чтоб искры долетели до луны.
40
Пусть бесшабашен праздник, но не долог.
Еще вокруг ликует карнавал,
Но человек лежит в лесу меж елок,
Сраженный чьей-то пулей наповал.
Идут жандармы мрачной вереницей.
Их ноги отбивают ритм тревог.
И еле-еле пьяный волочится
Среди до срока вымерших дорог.
И те, кто пел и веселился рьяно,
Устало на ночь тушат в доме свет.
...Валяются сердца из марципана,
Разбросаны обертки от конфет.
7
Не я ль придумала поля, озера, реки,
Луга и лес, где бродит добрый гном.
Осиротел, заброшенный навеки,
Под красной черепицей старый дом.
Сюда дороги нет. Молчат созвездья.
Ты понапрасну не ищи пути.
Мы заслужили кары и возмездья,
Потерянного вновь не обрести.
Мы совершали все собственноручно
И вечно мнили из себя владык.
Гремел над нами колокол беззвучно.
Ему мы сами выдрали язык.
В чем прелесть утра, ласкового солнца?
Насквозь прогнил» и обломился ствол;
Что нам подслеповатые оконца
И мирный деревенский частокол?
Какая радость в снежной карусели?
Зачем уныло в рог трубит пастух?
Мы сломлены. Мы дышим еле-еле.
Мы утеряли зрение и слух.
41
Когда пожарищ черный дым клубился,
Повсюду все живое истребя,
Нам край родной по-новому открылся,
И мы открыли заново себя.
Я верю — хватит силы и отваги
Стереть позор, не затоптать мечты.
Мы вновь увидим талый снег в овраге
И первые весенние цветы.
8
Когда по небу полоснет зарница
И разорвет ночную темноту,
Тебе под ноги упадет синица
И снова устремится в высоту.
Твой каждый шаг и помысел ей ведом.
И неотступна, как сама судьба,
Она повсюду за тобою следом
Летит, тугим крылом касаясь лба.
И чтобы поскорее ночь угасла,
Она неслышно крыльями взметнет,
И окунется в розовое масло,
И светом розовым тебе в глаза плеснет.
И просит брат: «Не откажи, сестрица,
О днях далеких песенки пропеть.
Ты мне сплети из них ковер, синица,
Чтоб смог и я с тобою полететь.
Открой мне края дивного красоты,
Где небосвод прозрачен и высок,
Где пчелы нам с тобой покажут соты
С янтарным медом».— «Нет, еще не срок.
Настанет час, лишь наберись терпенья,
И я тебя с собою позову».
...Удар хлыста. Поблекло оперенье.
Трепещущий комок упал в траву.
42
И острая коса в него вопьется.
Растопчут птицу, бросят под откос.
И чье-то сердце ночью захлебнется
Душистым ароматом первых роз.
9
Коль ты решил покинуть землю эту, •
Страну озер, глубоких сильных рек,
Перед дорогой поклонись рассвету
И распрощайся с родиной навек.
Чтоб никогда душа не унывала,
И, если станет вдруг невмоготу,
Она тебе на память даровала
Гармонику и сердца доброту.
Поспели яблоки. Загромыхали бочки.
И терпкий сидр льется через край.
И потянулись черные цепочки
Усталых птиц в далекий теплый край.
Ведет тропа по полю золотому,
Где каждый колос звонок и высок.
Ты спустишься по берегу крутому
И мельницу закроешь на замок.
Ты думаешь, что нет сюда возврата.
Тебя на путь благословит сестра.
И на прощанье брат обнимет брата.
И ты чуть слышно скажешь им: «Пора!»
Как яблоки, упали с неба звезды.
Забарабанил дождь по скатам крыш.
И рухнули на землю с веток гнезда.
Чего ж ты ждешь? И почему стоишь?
Ты этот край решил навек покинуть,
Но, словно околдован ворожбой,
Ты не сумеешь бросить и отринуть
Все то, что кровно связано с тобой.
43
ПРИЗЫВ К БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕ
Большая Медведица, сойди, косматая ночь,
облакошкурая зверюга с древними глазами,
звездоглазами;
сквозь чащу ломятся, мерцая,
твои лапы с когтями,
звездокогтями;
бдительно сторожим мы стада,
по все же отогнали от тебя и не доверяем
твоим усталым бокам и острым,
полуощеренным зубам,
старая Медведица.
Шишка еловая — ваш мир.
Вы — ее шелуха.
Я гоню ее, кружу,
поднимаю от подножия елей
до еловых верхушек,
рычу на нее, пробую ее пастью
и захватываю лапами.
Страшитесь или не страшитесь!
Наполняйте церковную кружку
и благовестите слепцу,
что Медведица у него на цепи.
И под стать ягнятам.
А возможно, что эта Медведица
вырвалась, уже не грозит
п шелушит все шишки, что попадали
под ели, под большие, крылатые,
сверху свалились — с неба.
44
CURRICULUM VITAE1
Ночь нестерпимо долга,
невыносимо долга
тому, кто никак умереть не может.
Мечется средь фонарей
осоловелый глаз,
I прокуренный, выцветший глаз.
Мысль вопреки всему
ярится, пульсирует, бьется.
О боже!
Что-то волосы мои не седеют.
Взвизгнули тормоза.
Я выпросталась из-под шипящих колес.
Заря измарала мой лоб
метой черного дегтя.
Но с бесшабашностью заправилы
я зашагала по городу,
где ютились сотни тысяч сердец,
словно мокриц, топча их ногами
или залихватски подбрасывая их к низкому
кожаному небу, с которого нелепо свисали
' трубки мира. Холодно. Зябко.
Как давно мне мечталось поохотиться вволю,
вскрикивая от дикой радости.
Распластав крылья,
[ не по годам мудрая,
на меня навалилась юность.
Жасмин...
Навозная жижа...
Огромные ночи...
Квадратные корни таинств...
1 Жизнеописание, биография (лат.)»
45
Сага смерти часами дышит в мое окно.
Волчье молоко и смех моих предков
льются мне в горло.
Шелест фолиантов.
Постыдные сновиденья.
Дремота.
Рука теребит бахрому шали.
Наши матери тоже рисовали себе
когда-то будущее своих мужей.
Они виделись им могучими,
немногословными,
революционерами... но прежде всего —
в саду, мирно склоненными
над рыжими сорняками,
рядышком со своими детишками.
Мой грустный отец, что ж ты тогда
все больше молчал и не думал о том, что случится?
Дьявольски долга ночь,
заброшенная среди молчащих орудий,
среди огненных фонтанов.
Желтушная луна изливает
на землю желчь.
Ветер заметает следы мирозданья.
И над моей головой с грохотом проносится
драндулет приукрашенной истории.
'(Так больше я не могу.)
Может, все это сон? Нет, я не сплю.
Пробираясь сквозь ледяные скелеты,
ищу дорогу домой.
Наконец-то! Ноги и руки
обмотаю плющом, щербатые
руины по-хозяйски побелю
заходящим солнцем.
И, хлеб восхвалив, надломлю его.
Быстротечно время.
Поэтому надо уметь вовремя
переместиться из стороны в сторону,
из страны в страну.
Острие циркуля вонзается в сердце.
Как долог, как бесконечен радиус ночи.
46
Ввысь! С гор хорошо видны
озера, в которых отражены горы.
На колокольне неба
раскачиваются колокола неизвестного
мне мира. Чей этот мир —
мне никто не ответит.
Вто было в пятницу.
В пост.
(Воздух пропитан настоем лимонов.)
Подавившись рыбьей костью,
я вытащила из распластанной рыбы
кольцо. Когда я появилась на свет,
его бросили в ночь и оно потонуло во тьме.
И я снова швырнула его назад,
в темень, в ночь.
О, если б пе мытарил меня страх смерти!
Было б при мне Слово.
(И тогда ничего не страшно.)
Если б не впивались в мое сердце шипы
(я б солнце смахнула с неба).
Если б не мучила меня жажда
(не манила бы меня к себе тогда колдовская вода),
не смогла бы я поднять веки
(не маячила бы тогда предо мной веревка).
Уносятся прочь небеса.
Если б земля меня не держала,
я бы давно умолкла навеки,
смиренно
отдавшись вечности.
Л пока что ночь раздувает ноздри
и поднимает копыто,
готовясь к удару.
К жестокому, злому удару.
И только ночь вокруг.
И дня никак не дождаться.
47
ДОРОГА ДОМОЙ
Ночь ключей цветущих —
травам нет числа,—
промочи мне ноги,
чтоб я легче шла.
За спиной — вампира
жуткие круги.
Слышу, как он дышит,
как стучат виски.
Следует за мною.
В чем моя вина?
Кто бы спас... Ни звука.
Я совсем одна.
Только над обрывом,
на краю скалы,
слышу бормотанье
старых слов из мглы:
«Чтобы не погибнуть,
умереть спеши.
Звон ключей приятен.
В роще ни души.
Кто не любит плоти,
тот живым умрет.
Пусть огонь пылает...
Пусть певец поет...»
А вампир летает
низко надо мной,
расправляет крылья
и грозит бедой.
48
Он, тысячелицый
(это друг с врагом) ,
озарен Сатурна
сломанным кольцом.
Коль в меня вопьется —
ведь недаром рыщет,—
двери распахнутся
тех безмолвных рощиц.
На пороге чащи
кровь бежит во мрак.
Ночь, упрячь мне очи
в шутовской колпак!
ИСТИНА
Не три глаза! Пусть истина незрима —
Держи ответ, не бойся ничего.
Она восстанет из огня и дыма
И камень сдвинет с гроба твоего.
Так постепенно прорастает семя,
В палящий зной сухой асфальт пробив.
Она придет и оправдает время,
Собой твои утраты искупив.
Ей нипочем пустая позолота,
Венки из лести, мишура хвальбы.
Она пройдет сквозь крепкие ворота,
Переиначит ход твоей судьбы.
И словно рана, изведет, изгложет,
Иссушит, изопьет тебя до дна.
И все твои сомненья уничтожит,
Одним своим значением сильна.
Неверный свет реклам. Холодный город.
На площадях широких — ни души.
В дыму и гари задохнулся голубь.
Остановись, подумай! Не спеши!
Не сосчитать багровых кровоточин.
Они давно горят в твоей груди.
Пусть этот мир обманчив и порочен,
Постигни правду, истину найди!
60
ПИСЬМО В ДВУХ РЕДАКЦИЯХ
Ноябрь рим вечер прежнее жилье
продрогший воздух мраморные плиты
из окон свет покуда не закрыты
звон стекол разбиваемых попарно
восторги исторгают из гитары
покуда не впечатаются лбами
в арену с кипарисными столбами!
жучок древесный ужинал со мною —
смоковница с обглоданной корою?
в соседних странах осень и в лохмотья
леса ушли расхристанною плотью
бывают ли сычишки а драконы
гуляют во фланелевых кальсонах
страх смерти безутешные вороны
косматый парус в лодке похоронной
корабль премудрых мчащиеся тучи
тропинка к дому дом на самой круче
гробов и слез слепая вереница
бессилие безумье власяница
Всегда и Никогда смешав в питье
обожествляя боль желая жгучей
и в сердце опрокинуться твое...
Ночь рим ноябрь и больше не тревожь
прощанье без упреков и обиды
из темноты растут кариатиды
качаются колонны и пилястры
цветет сухое небо вянут астры
ныряет лунный диск во тьму колодца
уснуть неровно нервно как придется
у камелька нашептывают бредни
сморило на углу фонарь последний
не остается ран от поцелуя
51
рука ушла в перчатку кружевную
вино на вкус немного слаще дегтя
рассветный луч о крыши точит когти
и в клочья рвет вчерашнюю кручину
мой холм штурмуют первые машины
с крыш храмов жадно слушают антенны
архангелов Лукавому на смену
крик рыночный и сделки шито-крыто
по мостовой ослиные копыта
мысль о могилах повергает в дрожь
морской зефир приносит плач и пену
я посредине — и чего ты ждешь?
ИЗ ПЕСЕН НА ДОРОГАХ БЕГСТВА
Dura legge d'Amor! Ma, ben che obliqua,
Servar convensi; per6 ch’ella aggiunge
Di cielo in terra, universale, antiqua.
Petrarca, «I Trionfi» 1
1
Ветвь пальмы сломилась об лед,
зияет лестниц провал,
светом чужой зимы
город, застыв, засиял.
Дети, крича, бегут
к подножью Голодной горы,
молят небо о белой муке,
и небо им шлет дары.
Блестки и мишуру,
мандаринов златой загар
бешеный вихрь закрутил.
В небе кровавый шар.
2
Я тут лежу одна,
в ранах, затертая льдом.
Снег еще мне глаза
не завязал бинтом.
Трупы вокруг молчат
на всех языках планеты.
Никто не любит, никто
не ищет меня со светом!
Суров закон любви! Хоть он двуликий,
Ему покорствуй, ибо он привносит
На землю небо, вечный и великий.
Петрарка, «Триумфы»
53
8
Неистовый холод вторгся в чужие пределы.
Эскадрилья ветра море перелетела.
Залив сдался со всеми своими огнями.
Город пал.
Я безвинно в плену
в Неаполе покоренном,
где 8има
громоздит до неба Вомеро и Позиллипо,
где ее белые молнии косят
под песни
и охрипшие громы
ее права утверждают.
Я безвинна, и до Камальдоли
пинии размешивают тучи,
я безутешна, ибо не так-то скоро
дождь очистит заскорузлые пальмы,
Я без надежды, ибо мне не спастись,
даже если рыбы загородят меня,
плавники ощетинив,
даже если на заснеженном побережье
мне воздвигнут стену из пара
вечно теплые волны,
даже если валы,
отбегая, откроют путь к отступленью
для тех, кто спасается бегством.
4
Просвещенные в вопросах любви
десятками тысяч книг,
приобщенные к ней повтореньем
все тех же жестов
и бессмысленных клятв,
посвященные в тайны ее,
но лишь здесь —
когда хлынула лава
и ее дыханием нас обдало
у подножья вулкана,
54
когда изнуренный кратер
наконец разомкнул
эти замкнутые громады —
мы вступили в неведомые пределы
и озарили тьму
свечением наших пальцев.
5
Там, во мне, глаза твои — окна
в тот край, где живу я при ясном свете.
Там, во мне, грудь твоя — море,
что влечет в глубину, на самое дно.
Там, во мне, твои бедра — пристань
для моих кораблей, приплывших
из дальних рейсов.
Счастье вьет серебряный трос —
я на привязи прочной.
Там, во мне, рот твой —пухом выложенное
гнездо
для птенца-подлетка, моего языка.
Там, во мне, твоя плоть, словно плоть
светоносная дыни,
сладостна бесконечно.
Там, во мне, жилы твои — золотые,
и я золото мою слезами, однажды
оно принесет утешенье.
Ты получишь высокий титул, обнимешь
владенья,
дарованные отныне.
Там, во мне, под ступнями твоими — не камни
дорог,
а навечно мой бархатный луг.
Там, во мне, твои кости —светлые флейты,
я из них извлекаю волшебные звуки,
что и смерть околдуют.
55
6
Взгляд, мой взгляд стороживший бессонно,
Рот, у рта моего обретавший приют,
рука...
Взгляд, который меня пригвоздил,
рот, мой приговор произнесший,
рука, что меня казнила.
7
Солнце пе греет, шум моря все глуше,
могилы обернуты в снег, разве их распакуешь?
Не раскалить ли жаровню угольного бассейна?
Нет, этот жар не поможет.
Отпусти меня! Я не могу умирать так долго.
Но у святого иные заботы:
оберегает он город и хлеб добывает.
Простыня чересчур тяжела для веревки,
но, упав, она меня не накроет.
П одыми меня. Я виновна.
Не виновна я. Подыми меня.
Льдинки сними с замерзших ресниц,
вломись в глаза мои взглядом,
нащупай дно голубое,
плыви и дальше плыви, гляди и ныряй:
это не я.
Я.
8
Дождись моей смерти и услышь меня снова:
снег сгребают скребком, запевают ручьи,
их напевы впадают в Толедо. Капель...
О волшебная музыка — плавится лед,
о великое таянье!
56
Тебя ожидает немало чудес:
слоги первые в расцветании олеандров
слова в зеленой листве акаций,
каскады, бьющие из стены,
бассейн, наполненный до краев
живою и светлой
музыкой.
9
Любовь торжествует,
и смерть торжествует —
и быстротекущее время, и вечность.
Но только не мы. Нам досталось
падение звезд, их свет и молчанье.
Лишь песня над прахом взойдет
и над нами.
НЕ МЕШКАЙ, МЫСЛЬ
Не мешкай, мысль, покуда слово ясно,
пока оно еще твое крыло вздымает,
тебя уносит ввысь, зовет и кличет
туда, где пули вьются, словно осы,
туда, где злобою отравлен воздух,
туда, где пушки не хотят заглохнуть.
Не мешкай, мысль.
Спаси и сохрани!
Волна собой накрыла лес сплавной.
Тебя корежит, корчит лихорадка.
И вера отступилась от тебя.
Пусть будет все как есть, но ты не мешкай!
Впитав в себя всю нашу скорбь и горе,
во имя нас не мешкай и живи!
ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСТВО
В АВСТРИЙСКОМ ГОРОДЕ
Если в погожий октябрьский день свернуть с улицы
Радецкого, возле театра в глаза бросится купа деревьев,
Освещенных солнцем. Первое дерево, которое стоит перед
(темно-красным вишенником, никогда не приносящим
.ягод, осень разожгла до такой яркости, такое это непомер¬
ное золотое пятно, что кажется, будто видишь факел, об¬
роненный на лету ангелом. Вот он и пылает, и ни осенний
Нетер, ни мороз не могут его загасить.
! Кто, глядя на это дерево, дерзнул бы говорить о листо¬
паде и о белой смерти, кто помешал бы сохранить в памя¬
ти его образ и верить, что оно будет вечно пылать для
§меня, как пылает сейчас, и что законы мироздания над
’ним не властны?
В сиянии этого дерева заново узнаёшь весь город, блед¬
ные невыспавшиеся дома с черепичными навесами и ка-
!нал, изредка пригоняющий с озера лодку, чтобы та при¬
чалила в самом сердце города. Правда, гавань мертва с
тех пор, как поезда и машины наловчились быстрее до¬
ставлять грузы, но с высокой пристани по-прежнему сле¬
тает в стоячую воду вешний цвет, падают перезрелые пло-
кцы, ветви роняют снег, с шумом низвергается талая вода,
и озеро по старой памяти вздувается, гонит волну, а на
^волне — корабль, чьи пестрые паруса подняты к нашему
прибытию.
В этот город редко приезжали из других городов, ибо
слишком ничтожны были его соблазны, приезжали больше
из деревень, кому становился тесен собственный двор, и
селились где-нибудь на окраине, чтоб подешевле. На
окраине оставались еще поля и гравийные карьеры, боль¬
шие строительные площадки и садоводства, с которых
можно было годами собирать урожай брюквы, капусты и
бобов — бедняцкого хлеба. Переселенцы сами рыли погре-*
61
ба, стоя по колено в воде, сами настилали крышу в корот¬
кие вечера от весны до осени, и одному только богу из¬
вестно, довелось ли хоть кому-нибудь из них на своем
веку справить настоящее новоселье.
Но дети их о том не тужили, ибо вдохнули уже пере¬
менчивый аромат чужбины, когда на поле горела карто¬
фельная ботва и цыгане, непоседливые и чуждоязычные,
становились табором на ничейной земле, между кладби¬
щем и аэродромом.
В квартире, снятой на Проходной улице, дети должны
играть разувшись, в одних чулках, потому что живут они
как раз над хозяином дома. Говорить им дозволено только
шепотом, и от шепота они уже никогда в этой жизни не
отвыкнут. А в школе учителя сердятся: «Из вас иначе как
битьем слова не выжмешь». Битьем... И дети молчаливо
устраиваются между окриком: «Говори потише!» и окри¬
ком: «Говори погромче!». Проходной улицу назвали не в
честь игры «Вот разбойники идут, пусть разбойники прой¬
дут», но дети долго еще будут думать, что в честь ее.
Лишь много спустя, когда ноги унесут их подальше от
дома, они увидят его, этот проход, маленький подземный
туннель, над которым с грохотом пролетает поезд на Вену.
Этим проходом пользуются любопытные, которые хотят
пройти на аэродром наискось, полями, через узоры осени.
Кто-то додумался расположить аэродром по соседству с
кладбищем, и жители К. решили, что так будет сподруч¬
нее хоронить пилотов, занимавшихся поначалу испыта¬
тельными полетами. Но испытатели не доставили им этого
удовольствия, никто не разбился. Дети всегда орали: «Лет¬
чик! Летчик!» — и вскидывали руки к небу, словно хотели
подхватить летящего, и разглядывали облачный зоопарк,
где среди звериных голов и разных чудищ мелькали са¬
молеты.
Дети снимают с шоколада серебряную обертку и насви¬
стывают на ней песенку. Докторша в школе проверяет,
нет ли у них вшей. Дети не знают, поздно сейчас или рано,
потому что часы на городской церкви остановились. Дети
вечно задерживаются по дороге из школы домой. Дети!
(В случае надобности они могли бы сказать, как их зовут,*
но откликаются они только на обращение «Дети!».)
Задано: заглавные буквы и строчные, без наклона, за¬
62
на нахождение горизонта и утерю грез, выучить на¬
изусть, используя мнемонические приемы. В воздухе ме¬
шаются испарения крашеного пола, дыхание нескольких
ротен живых существ, запах карликовых пальтишек и
Цеженого ластика, здесь между слезами и взбучкой, стоя-
Еием в углу или па коленях и неуемной болтовней надле¬
жит усвоить: алфавит, таблицу умножения, орфографию и
десять заповедей.
i Дети отбрасывают старые слова и заводят новые. Опп
Слушают про гору Синайскую и видят перед собой гору
Ульрихсберг, где склоны засажены брюквой, где листвен¬
ницы и сосны, гору, поросшую можжевельником и тернов¬
ником; они жуют щавель и грызут початки кукурузы
раньше, чем те успеют вызреть и затвердеть, или несут их
домой, чтобы подрумянить на огне. Обгрызенные початки
рсчезают в деревянном сундуке и потом идут на растопку,
йоверх растопки кладут можжевельник и оливу, они тле-
рт, и распространяют тепло, и отбрасывают тени па стену.
Пора трофеев, рождественская пора, не заглядывая
реред, не оглядываясь назад, пора пугал из тыквы, при-
идений и страхов бесконечных. Ни в добре, ни во зле на¬
дежды для них нет.
Нет у детей будущего. Большого мира они боятся. Они
te могут себе его представить, они знают лишь одно: та
торона, эта сторона, между ними можно провести черту
<елом. Они скачут на одной ножке в «ад» и прыгают обе¬
ими в «рай».
Потом вдруг дети переезжают на улицу Гензеля. В дом,
•де нет хозяина, в поселок, который с тоскливым упорст¬
вом выбивается из-под гнета закладных. Теперь они жи-
>ут в двух кварталах от улицы Бетховена, на которой
рма просторные и с центральным отоплением, и в одном
квартале от улицы Радецкого, по которой ходит горластый
грасно-электрический трамвай. Теперь им принадлежит
£ад, где перед домом высажены розы, а за домом растут
гевысокие яблоньки и кусты смородины. Деревья не выше,
сем дети. Им расти вместе. У соседей слева есть собака
юксер, у соседей справа — дети, которые едят бананы,
гстроили в саду турник, повесили кольца и кувыркаются
1есь день напролет. Дети заводят дружбу с собакой Али и
соперничество с соседскими детьми, которые все знают и
рообще задаются.
' А еще лучше они ладят друг с другом; угнездятся где-
63
нибудь па чердаке и громко кричат из укрытия, чтобы ис¬
пытать своп искалеченные голоса. В гущу паутины они
выбрасывают негромкий клич бунтарей.
Всякая радость от подвала пропадает из-за мышей и
запаха яблок. Ежедневно: лазить в подвал, выискивать
яблоки с червоточиной, вырезать и съедать! И поскольку
день, когда все гнилые яблоки будут съедены, так и не на¬
ступит, поскольку каждый день подбавляет новую гниль,
а выбрасывать ничего нельзя, дети мечтают о чужеземных,
о запретных плодах. Они не любят яблок, не любят род¬
ственников и воскресений, когда им нужно гулять на Кре¬
стовой горе по-над домом, угадывая названия цветов, на¬
звания птиц.
Летом дети смотрят в щелочку на солнце сквозь зеле¬
ные ставни, зимой лепят снеговика, а вместо глаз втыка¬
ют кусочки угля. Они учат французский. Madeleine est une
petite fille. ЕПе est a la fenetre. Elie regarde la rue l. Они
играют на пианино. Ария из «Дон Жуана». Последняя
роза лета. Весенний шум.
Они больше не читают по складам. Они читают газеты,
и оттуда на них смотрит убийца — сексуальный маньяк.
Маньяк оборачивается тенью, которую деревья отбрасы¬
вают в сумерках, когда дети возвращаются с закона божь¬
его, он заставляет шуршать и вздрагивать кусты сирени в
палисаднике, ветки калины и флоксы раздвигаются, при¬
открывая на мгновение его фигуру. Дети чувствуют же¬
лезную хватку душителя и тайпу, скрытую в слове «сек¬
суальный», более страшном, чем слово «убийца».
Дети читают до боли в глазах. Они недосыпают, пото¬
му что вечером чересчур долго задержались в диком Кур¬
дистане или у золотоискателей Аляски. Они впиваются
ушами в каждый любовный диалог и не прочь бы завести
словарь этого непонятного языка. Они ломают голову над
тайнами своего тела и над ночным спором в родительской
спальне. Опп смеются по любому поводу, они не могут
удержаться, падают от смеха на пол, встают и продолжа¬
ют смеяться до колик.
А маньяка вскоре задерживают в деревне Розенталь па
сеновале; нечеткая фотография делает лицо его неразли¬
чимым навеки, и не только в утренней газете.
Дома нет денег. Не падают больше монетки в свинью-
1 Мадлен — маленькая девочка. Она стоит у окна. Она смот¬
рит на улицу (франц.).
64
копилку. При детях теперь говорят только намеками. Где
им угадать, что страна намерена продать себя и в придачу
свое небо, за которое все будут дергать, пока оно не лон-
и не зазияет черной прорехой.
Л За столом дети сидят тихо, кусок свой жуют долго, а
ЛКщо предсказывает погоду, и голос диктора, словно ша-
■Ьвая молния, плавает по кухне и затухает там, где крыш¬
ка от кастрюли испуганно подпрыгивает над лопнувшими
картофелинами. Отключают свет. По улицам маршируют
колонны. Знамена смыкаются над головой. «...Пусть мир
превратится в руины...» — вот как поют на улице. Звучат
сигналы точного времени, и дети начинают подавать друг
jppyry знаки привычными пальцами.
Дети влюблены, а в кого, не знают. Они говорят на ло¬
маном языке, они доводят себя мыслями до непонятной
бледности, а когда заходят в тупик, изобретают язык, от
которого гибнут последние остатки разума. Моя рыба.
■Доя удочка. Моя лиса. Мой капкан. Мой огонь. Ты моя
вода. Ты моя волна. Мое заземление. Ты мое если. А ты
рое но. Или. Или. Мое все... все мое. Они подталкивают
Х₽уг друга, замахиваются друг на друга кулаками, схва¬
тываются из-за ответного слова, которого и на свете-то
нет.
i Нет ничего. Дети, дети!
[ . У них температура, рвота, озноб, ангина, коклюш,
Скарлатина, корь, у них кризис, медицина бессильна, их
Ькизнь висит на волоске, настает день, когда они лежат
рез чувств и без сил с новыми мыслями обо всем на свете.
Им говорят, что началась война.
Еще несколько зим, пока бомбы не разгопят лед, мож¬
но бегать на коньках на пруду под Крестовой горой. Рас¬
чищенный лед в центре предоставлен девочкам в корот¬
ких расклешенных юбочках, умеющим делать восьмерку
на внешней и на внутренней дуге, дорожка вокруг центра
принадлежит бегунам. В теплой раздевалке старшие маль¬
чики помогают старшим девочкам привинчивать коньки,
задевая при этом наушниками высокие белые ботинки па
тощих ногах. Чтобы считаться полноценным конькобеж¬
цем, коньки надо привинчивать, а кто, подобно детям, при¬
вязывает их, тот удаляется на припорошенные снегом
закраины пруда или просто стоит и смотрит.
По вечерам, когда мальчики и девочки снимают конь¬
ки, перекидывают их через плечо и поднимаются для про-
3 № 1031
65
щанья па деревянную трибуну, когда все лица, свежие,
будто молодой месяц, светятся сквозь сумерки, под ко¬
зырьками фонарей вспыхивают огни. Тогда включаются
громкоговорители, и шестнадцатилетние двойняшки, из¬
вестные всему городу, сбегают вниз по деревянным сту¬
пенькам. На нем синие брюки и белый свитер, на ней —
какая-то синяя штучка поверх трико кроваво-красного
цвета. Они спокойно дожидаются очередного такта, чтобы
с предпоследней ступеньки — она — словно взмахнув
крыльями, он — в броске великолепного пловца — выле¬
теть на лед и двумя-тремя мощными уверенными рывка¬
ми достичь центра. Там она приступает к выполнению пер¬
вой фигуры, он же держит перед ней световой обруч, че¬
рез который она прыгает, будто в облаке, а патефонная
иголка начинает скрежетать, и музыка разваливается.
У стариков шире раскрываются глаза под заиндевевшими
бровями, а человек с лопатой, тот, который расчищает до¬
рожку вокруг пруда и у которого ноги обмотаны разным
тряпьем, опираясь подбородком на черенок лопаты, сле¬
дит за пробежками девушки, словно они уводят в веч¬
ность.
И еще раз детям суждено удивиться: на очередное
рождество елки падают прямо с неба. Огненные. А с ними
подарок, которого они даже и не ждали: больше свобод¬
ного времени.
При сигнале тревоги им разрешается бросать учебники
и спускаться в убежище. Позднее им будет разрешено ко¬
пить сладости для раненых или вязать чулки и плести кор¬
зины для солдат, для тех, кто на земле, в небе и на воде.
И вспоминать — на страницах сочинений — о тех, кто под
землей и на дне. А еще позднее им будет разрешено рыть
ходы сообщения между кладбищем и аэродромом, который
уже может дать кладбищу сто очков вперед. Им разреша¬
ется забыть про латынь и учиться различать по звуку мо¬
торы в небе. Их не заставляют часто мыться, а что дела¬
ется у них под ногтями, теперь никого не интересует. Дети
чинят прыгалки, потому что новых больше нет, а разгово¬
ры они ведут про взрыватели дистанционного действия и
плоские бомбы. Дети играют среди развалин в разбойни¬
ков, а иногда сидят просто так, смотрят неподвижно перед
собой и не откликаются, когда их зовут: «Де-ти!» Череп¬
ков полно, хочешь — прыгай в «ад», хочешь — в «рай», по
детям это ни к чему, потому что они промокли и замерзли.
66
Дети умирают, и дети учат даты семилетних и тридца¬
тилетних войн и совсем не горюют, когда им случается пе-
репутать все истоки вражды, причину и следствие, за точ¬
ное знание которых можно заработать хорошую отметку
по истории.
Они хоронят собаку Али и ее хозяев. Пора намеков
кончилась. Теперь при них говорят о выстрелах в затылок,
о повешении, ликвидации, взрывах, а чего они ие слышат
и не видят, то могут учуять, как чуют покойников в церк¬
ви св. Рупрехта, которых нельзя выкопать, потому что на
них рухнул кинематограф, тот самый, куда они тайком бе¬
гали, чтобы посмотреть «Романс в миноре». Несовершен¬
нолетних сперва не пускали, потом несколько дней спу¬
стя и во все последующие все-таки допускали к созерца¬
нию великих смертей и убийств.
В доме больше не бывает света. В окнах — ни одного
стекла. На петлях — ни одной двери. Никто не движется,
рикто не восстает.
| Глан не течет больше ни вверх, ни вниз. Стоит речуш-
жа. И замок Цигулльн стоит, как стоял, и не восстает.
•|< Св. Георгий стоит на Новой площади, стоит с булавой,
но не убивает дракона. А рядом стоит императрица, как
"стояла, и не восстает.
О город! Город! Город бирючины, чьи корни выдерну¬
ты из земли. В доме нет ни света, ни хлеба. А детям го¬
ворят: молчите, ваше дело молчать.
г В городских стенах, между кольцевыми улицами,
кколько их всего осталось, этих стен? А чудо-птица, жива
«и она? Долгих семь лет она не подавала голос. Семь лет
Ьодошли к концу. Ты, моя земля, ты не земля, сквозь об¬
мана, под известняком, под покровом ночи, сквозь день,
КЬрод мой и река моя, я твоя волна, ты мое заземление.
Город с кольцом Виктрингер и с кольцом Святого
Витта... Все кольцевые улицы надо назвать по имени, и
большие радиальные тоже, хотя детям они не казались
большими, и все переулки. Замковый переулок и Хлебный,
Да, да, так они назывались, и Райский переулок; не забыть
бы про площади — Сенная площадь и площадь Святого
Духа,— чтобы помянуть здесь все раз и навсегда, чтобы
поименовать все площади. Волна и заземление.
И настает день, когда детям не ставят больше отметок.
Они могут идти. Их призывают вступить в жизнь. С буй¬
ством прозрачных вод приходит весна и рождает стебель.
3*
67
Теперь незачем говорить детям, что на земле — мир. Они
уходят, засунув руки в обтрепанные карманы, уходят, на¬
свистывая, и этот свист должен служить предостережени¬
ем для них же.
Поскольку в те времена, в том краю я была среди тех
детей и мы уступили место новым, я отрекаюсь от улицы
Гензеля и от вида на Крестовую гору и беру в свидетели
все сосны, и соек, и зачарованную листву. И поскольку до
меня наконец дошло, что трактирщик не даст больше ни
гроша за пустую бутылку и не попотчует меня больше ли¬
монадом, я оставляю другим Проходную улицу и выше
поднимаю воротник плаща, когда не глядя пересекаю ее,
чтобы выйти за городскую черту, к могилам,— случайный
путник, по которому нельзя узнать, откуда он родом. Где
кончается город, где открытые карьеры, где сита полны
гравием и песок перестает петь, можно ненадолго присесть
и спрятать лицо в ладонях. Тогда понимаешь, что как все
было, так и было, как все есть, так и есть, и перестаешь
докапываться до причины. Ибо нет волшебной палочки,
которая тебя коснется, и нет превращения. Липы, бузийа
ли — ничто не тронет твоего сердца. Ни одно приключе¬
ние минувших дней, ни один возрожденный дом, ни башня
Цигулльна, ни два ручных медведя, ни пруды, ни розы, ни
сады, заросшие золотым дождем. Что должно ожить в не¬
подвижной памяти перед отъездом, перед всеми отъезда¬
ми? Довольно малости, чтобы всколыхнуть нас, но это не
относится к детству, и к городу, в котором оно протекало,
тоже не относится. Лишь когда дерево перед театром яв¬
ляет свое чудо, когда вспыхивает факел, мне дано уви¬
деть, как все мешается — будто воды в море: ранние
сумерки и полет над облаками в белом свечении; Новая
площадь с ее нелепыми памятниками и вид на Утопию;
тогдашние сирены и шум лифта в высотном доме; черст¬
вые бутерброды с повидлом и камень, который я грызла
на берегу Атлантического океана.
ТРИДЦАТЫЙ ГОД
Того, кому пошел тридцатый год, все по-прежнему счи¬
тают еще молодым. Но сам он не так уж твердо в этом
уверен, хотя и не обнаружил в себе пока никаких измене¬
ний; нет, ему уже как-то неловко выдавать себя за моло¬
дого. А в одно прекрасное утро он просыпается (когда это
было, ему все равно не упомнить), и вот он лежит, не в
Силах подняться под наведенным в упор снопом света,
Ф^езоруженный, павший духом перед наступающим днем.
Если он закроет глаза, ища защиты, то отпрянет назад и
провалится в тьму вместе с каждым мгновением прожитой
жизни. Все глубже и глубже; вскрик замирает на губах
звук не остался с ним, ничего не осталось!), он падает
В бездну, на лету теряя сознание, падает, падает, пока не
рассеется, не развеется, не исчезнет все то, что он считал
собой. А когда сознание к нему возвратится и он, вздрог¬
нув, опомнится, вновь обретая контуры той личности, ко¬
торой давно пора вставать, чтобы ринуться в день, то вдруг
откроет в себе одну удивительную новую способность.
Способность вспоминать. Он вспоминает уже не так, как
вспоминал до сих пор — нечаянно или потому, что захоте¬
лось вспомнить то или это,— нет, он с болезненным упор¬
ством перебирает в памяти все прошедшие годы, поверх¬
ностно прожитые и глубинные, все места, где успел побы¬
вать. Он раскидывает сеть воспоминаний и, запутавшись
в ней, волочит самого себя — сам себе и рыбак, и улов —
на берег времени и пространства: поглядеть, чем он был
и чем стал.
Ибо до сих пор он просто жил изо дня в день, каждый
день начиная заново, не зная забот. Перед ним открыва¬
лось как будто бы столько возможностей; он, например,
69
считал, что способен стать кем угодно: гением, светочем,
великим философом.
А может быть, деятельным, дельным, деловым челове¬
ком — строителем мостов и дорог: вот оп бродит в спецов¬
ке по местности и, отирая пот рукавом, замеряет, что-то
записывает; вот хлебает суп из котелка, пьет водку с ра^
бочими, молча, не тратя слов понапрасну...
А может быть, революционером, взрывающим прогнив¬
ший фундамент общества: вот он произносит вдохновен¬
ную речь, он полон огня, готов на любой подвиг. Его речь
поднимает толпу, и вот он в тюрьме, он в смятении, он
страдает, он одержал свою первую победу...
А может быть, мудрым созерцателем — о, сладкое без¬
делье! Во всем искать наслаждения, только лишь наслаж¬
дения — в музыке, в книгах, в древних свитках, в даль¬
них странах, где стоишь, прислонившись спиной к колон¬
не. Ведь тебе дана одна-единственная жизнь, одно-един-
ственное «я», и оно так жаждет счастья, и красоты, и
ослепительного света...
Столь ослепительные замыслы лелеял он все эти годы.
И, поскольку пока что он был всего лишь юн и здоров и
ему казалось, что впереди у него уйма времени, он охотно
брался за любое случайное дело. Репетировал отстающих
учеников за тарелку горячего супа, продавал газеты, рас¬
чищал снег на улицах за пять шиллингов в час, парал¬
лельно изучая предшественников Сократа. Привередничать
не приходилось, и он устроился практикантом при одной
фирме, а потом попросил расчет — когда его взяли в га¬
зету; пришлось писать репортажи о бормашине новейшей
конструкции, о последних исследованиях проблемы близ¬
нецов, о реставрационных работах в соборе св. Стефана.
Потом, в один прекрасный день, он отправился в путеше¬
ствие без гроша в кармане, голосовал на дорогах, пользо¬
вался адресами, полученными от одного малознакомого
парня, которому дал их кто-то третий, застревал то тут, то
там, затем отправлялся дальше. Так он колесил по Европе,
но вдруг повернул назад, приняв неожиданное решение
сдать экзамены и получить диплом по одной небесполез¬
ной специальности, хотя и не считал ее своей окончатель¬
ной; и в самом деле подготовился и выдержал. Никогда он
не пропускал возможности заключить дружеский или лю¬
бовный союз, на все предложения отвечал «да», принимал
любой вызов. И все это только так, на пробу, пока, вре-
70
доенио. Все, казалось ему, можно еще переиграть, и самого
ребя тоже.
Никогда он не боялся, что наступит день, и вдруг —
как сейчас вот — поднимется занавес над его тридцатым
годом, и объявят его выход, и ему придется и впрямь ска¬
зать, что он думает, чем намерен заняться всерьез и что
для него всего важнее. Никогда он не думал, что из тыся¬
чи и одной возможности тысяча уже, быть может, упуще¬
на или ему все равно придется их все упустить, потому
ргго для него существует одна-единствепная.
> Никогда он не думал...
Ничего он не боялся.
Теперь ему ясно, что он попал в ловушку.
г Этот год начинается дождливым июпем. Раньше он
Йбыл влюблен в этот месяц, месяц своего рождения, в па¬
дало лета, в месяц предвестия тепла и благоприятного
^влияния своей счастливой звезды.
Он больше не влюблен в свою звезду.
И наступает теплый июль.
Его охватывает беспокойство. Надо паковать чемода-
ры, отказаться от комнаты, от привычного окружения, от
Прошлого. Надо не просто уехать, надо уйти навсегда.
Быть свободным в этом году от всего, от этих четырех стен.
^Переменить круг знакомых. Уплатить по старым счетам,
’сообщить об отъезде своему покровителю, полиции, завсе¬
гдатаям кафе. Отрешиться от всех забот. Вернуться в Рим,
туда, где был когда-то свободен как ветер, где прозрел, пе¬
режил пробуждение радости, познал масштабы.
И вот уже из комнаты все вынесено, остался только
кое-какой хлам, с которым неизвестно что делать: книги,
картины, туристические проспекты, путеводители по по¬
бережью, планы городов и еще одна небольшая репродук¬
ция — он никак не может вспомнить, откуда она взялась.
■«L’esperance» 1 называется эта картина Пюви де Шаванна,
Где Надежда, невинная и угловатая, сидит на чем-то бе¬
лом, держа в руке ветвь с едва распустившимися зелеными
листочками. На заднем плане памечено несколько темных
крестов; вдали, четко и пластично, развалины; над Надеж¬
дой — темно-розовая полоса неба, потому что уже вечер,
Надежда (франц.).
71
поздно, спускается ночь. И хотя на картине нет ночи, она
наступит! Она погрузит во тьму и картину, и саму эту на¬
ивную, ребячливую Надежду, и ветвь в ее руке почернеет,
засохнет.
Но это всего лишь репродукция. Он отбрасывает ее в
сторону.
А вот еще разорванный тоненький шелковый шарф,
припудренный пылью. Несколько раковин, камни, которые
он поднял с земли, когда шел не один. Засохшая роза —
он так и не отослал ее, когда она была еще свежа. Письма
с обращением: «Любимый», «Возлюбленный мой», «Мой,
мой, мой», «Ах, как...». Ах, как быстро их пожирает огонь,
свертывает в черные трубочки, рассыпает пеплом.
Он сжигает все письма.
Освободиться от тех, кто тебя окружает, по возможно¬
сти не сближаться с другими. Он больше не может жить
бок о бок с людьми. Они сковывают его, давят, перекраи¬
вают всяк на свой лад. Когда слишком долго задержива¬
ешься на одном месте, начинаешь терять контуры лично¬
сти, образ твой распадается на множество образов, со¬
зданных мнениями, молвой, слухами. С каждым днем ты
все больше теряешь право вернуться к самому себе. Те¬
перь — отныне и навсегда — он будет являться лишь в
своем истинном образе. Здесь, где он пробыл так долго,
это ему не под силу, но там он это осуществит — там бй
будет свободен.
Он приезжает в Рим и встречается лицом к лицу с тем
образом, который оставил, уезжая. Этот образ напяливают
на него, словно смирительную рубашку. Он бешено сопро¬
тивляется, колотит кулаками по воздуху, пока наконец не
поймет, в чем дело, и не притихнет. Его лишают свободы.
И все потому, что тогда, раньше, когда он был моложе, он
вел себя здесь по-другому. Никогда и нигде ему уже не
удастся вернуть себе свободу, начать все сначала. Быть
может, как-то иначе, но только не так. Он решает вы¬
ждать.
И вот он встречает Моля. Моля, которому всегда при¬
ходилось помогать. Моля, который в противном случае
сомневался в людях. Моля, который требовал, чтобы на
нем доказали верность дружбе. Моля, которому он когда-
то дал взаймы все до последнего гроша. Моля, который
знал и Елену... Моль, ныне преуспевающий, не отдает ему
долга и потому труден в общении и очень обидчив. Моль,
72
которого он когда-то ввел ко всем своим друзьям, перед
которым распахнул все двери — ведь тот так нуждался в
роддержке,— успел за это время повсюду прижиться и со¬
здать ему весьма сомнительную репутацию при помощи
небольших, умело дозированных эпизодов из его биогра¬
фии и слегка искаженных цитат. Моль звонит ему каждый
день, и, куда бы он ни пришел, Моль уже тут как тут.
Моль проявляет заботу и вытягивает признания, которые
тут же передает первому встречному; он называет себя
его другом. А где нет самого Моля, там вырастает его тень,
громадная, еще более грозная,—в мыслях, в воображении.
Моль, Моль, Моль... От Моля нет спасения. Террор Моля.
Сам Моль, впрочем, во много раз мельче, он только с до¬
стойной удивления ловкостью мстит за неотданный долг.
Этот год начинается плохо. Так, значит, подлость ре¬
альна, она может настичь тебя, да что там, уже не раз ка¬
залось, того и гляди, настигнет, а теперь вот набрасывает¬
ся и душит. И он вдруг чувствует, что это только еще пре¬
дыстория, что все это будет иметь развитие, расти, вновь
и вновь разъедать его жизнь, когда он меньше всего того
ждет. Нет, Моля он явно упустил из виду.
Есть еще и еще Моли, которых нельзя упускать из
виду, их так много, и здесь и там; только теперь, пригля¬
девшись к этому Молю, он понимает, что Моль не одинок.
Он смятен, сбит с толку, он уже больше не знает, был ли
у него вообще когда-нибудь хоть один друг, был ли он ко¬
гда-нибудь любим. Словно вспышка молнии освещает
вдруг все встречи, прощания, сердечные связи, разрывы —
и он чувствует себя обманутым, преданным.
Он вновь встречает Елену. Она дает ему понять, что
простила его. Он пытается быть ей благодарным. То, что
она тогда шантажировала его, угрожала, в бешенстве, по¬
теряв рассудок, готова была лишить его жизни — и это все¬
го лишь несколько лет тому назад, — теперь она и сама по¬
нимает с трудом. Она готова дружить с ним, она любезна,
мила, снисходительна, меланхолична — она теперь заму¬
жем. Тогда он ненадолго разлучился с ней и, как сам себе
потом признавался, изменил ей самым глупым образом.
Дальнейшее вспоминать не хочется: ее месть, свое бег¬
ство, горечь утраты, надежду все исправить, стыд и рас¬
каяние, все новые попытки примирения. Теперь у нее ре¬
бенок, и на его простодушный вопрос о нем она отвечает
признанием, с улыбкой, в легком замешательстве, что за¬
73
беременела именно тогда, во время разрыва. На одно мгно¬
вение, не более, лицо ее затуманивается. Его удивляет ее
спокойствие, ее невозмутимость. Он думает, сохраняя хлад¬
нокровие, что, значит, тогда возмущение ее было притвор¬
ным, что у нее не было основания судить его так строго,
не было права ни на «справедливый гнев», ни на шантаж,
на который он поддался, считая, что только он один во
всем виноват. (До сих пор он думал, что лишь после его
отъезда, может быть, в надежде забыть его, она сошлась
с другим.) Все это время он чувствовал свою вину. Она так
и оставила его с этим сознанием вины. Медленно, стара¬
тельно он выдыхает вину. Он думает: «Я не знал, куда мне
деваться с моим отчаянием. Но куда мне теперь деваться
от этой наставшей вдруг ясности? Мне холодно. Лучше бы
уж вина осталась со мной.
Катастрофа надвигается. Если этот год не погубит
меня, буду считать, что мне здорово повезло. Можно было
бы посетить этрусские захоронения, осмотреть гробницы,
съездить в Кампанью, побродить по окрестностям...»
Рим велик. Рим красив. Но нет никакой возможности
жить здесь во второй раз. Как и везде, в круг твоих друзей
Стираются полудрузья, твой друг Моль не выносит твоего
друга Моля, и оба они решительно осуждают твоего треть¬
его друга Моля. Все дружно навалились на стену, за кото¬
рой ты хотел было укрыться. И хотя ты иной раз бываешь
желанным и нужным гостем, да и сам подчас чувствуешь
кое к кому расположение и нуждаешься в людях, каждый
твой жест теперь на счету, и ты уже больше не можешь,
скажем, как раньше, разгуливать с головной болью; это
будет тут же истолковано как обидная для окружающих
Манерность. Не вздумай теперь оставить без ответа хоть
одно письмо — тебя обвинят в высокомерии и равнодушии.
Не вздумай опоздать к условленному часу, теперь это не¬
пременно вызовет возмущение.
Как же это так получалось? С чего началось? Это по¬
давление личности, эта опека, это барахтанье в сетях
вражды и дружбы... Может быть, вообще с того, что он по¬
пал в путы общества и вот уже сколько лет не может из
них выбраться? И малодушно ведет двойную жизнь, да
что там двойную — многосложную, лишь бы как-нибудь
жить. И обманывает всех и каждого, а больше всех — са¬
мого себя. Приветливость и доверчивое отношение к лю¬
дям достались ему по наследству. Варварское требование
74
неравенства, равно как и высшей разумности и терпимо^
сти, осталось в области размышлений и мечтаний. Жиз¬
ненный опыт добавил только одно: окружающие насилуют
нас, как и мы их, и бывают минуты, когда бледнеешь от
обиды и боли — каждому причиняют смертельную боль
другие, каждый причиняет смертельную боль другим.
И все боятся смерти, хотя в ней одной лишь и можно най¬
ти спасение от великой обиды, которая и есть жизнь.
Август! И вот наступили дни из металла, докрасна рас¬
каленного в горне. Время гудело.
Берег был осажден, и море уже не бросало на приступ
свои армии воли, оно притворилось изможденным, глубо¬
кое, синее.
На жаровне, в песке, жарится и розовеет непрочная
человечья плоть. У моря, на дюнах — плоть.
Его пугала эта щедрость лета. Она свидетельствовала
о приближении осени. Август был в панике, торопился
жить, боялся упустить мгновение.
В дюнах все женщины разрешали себя обнимать — за
выступом скалы, в кабинах, на сиденьях автомашин,
скрывавшихся в тени пиний; даже в городе, за спущенны¬
ми жалюзи, после полудня, они отдавались в полусне; или
час спустя, увязая каблуками в размягченном асфальте пу¬
стынной улицы, протягивали руку прохожему, ища опоры.
Ни слова не было произнесено за все это лето, ни од¬
ного имени.
Он метался между морем и городом, бросался от од¬
ного минутного увлечения к другому, от светлой плоти к
смуглой, от волн в солнечном свете к ночному берегу, по¬
рабощенный летом. А солнце с каждым утром все быстрее
катилось вверх по небу и все раньше ныряло вечером в
море пред его ненасытным взором. Он боготворил землю,
и море, и солнце, которые так устрашающе крепко держа¬
ли его в настоящем. Дыни созревали. Он впивался в них
зубами. Он погибал от жажды. Он любил сто тысяч жен¬
щин одновременно, не отличая одну от другой.
Кем стану я в золотом сентябре, когда сброшу все, что
мне навязали? Кем стану?.. Летят облака!..
Дух, что нашел пристанище в моем теле, еще больший
обманщик, чем его лицемерный хозяин. Вывести его на
чистую воду страшнее всего. Ибо ничто из того, о чем я
75
думаю, тте имеет со мной ничего общего. Все мои мысли —
лишь проросшие семена, посеянные другими. Ни о чем из
того, что меня трогает, я никогда не решался думать, и
думаю лишь о том, что меня не способно тронуть.
Я мыслю политически и социально и еще в разных дру¬
гих категориях, подчас в одиночку и бесполезно, но всегда
я мыслю, не нарушая правил игры, хотя иной раз и заду¬
мываюсь о том, что неплохо бы изменить эти правила. Но
не саму игру. Об этом — пикогда.
Я — пучок рефлексов, связанный воедино хорошо вос¬
питанной волей; Я, вскормленный на отбросах истории,
стремлений и инстинктов; Я, стоящий одной ногой в чаще,
а другой на проспекте цивилизации,— Я непроницаем.
Я, свалянный из всевозможного сырья, нерасторжимый,
нерастворимый, неразрешимый,— но как легко меня поре¬
шить всего лишь одним ударом по голове. Безмолвное Я,
повергнутое в безмолвие...
Зачем я все это лето, опьяненный, искал разрушения?
Или, может быть, я искал высшей степени опьянения?
Только затем, чтобы не убедиться воочию, что я всего
лишь позабытый музыкальный инструмент, на котором
кто-то когда-то, давным-давно, взял несколько аккордов,
а я лишь беспомощно их варьирую, в неистовстве от сво¬
его бессилия создать хоть одну музыкальную фразу, в ко¬
торой сказался бы мой собственный почерк. Собственный
почерк! Словно все дело в том, чтобы он хоть на чем-ни¬
будь запечатлелся! Молния ударила в дерево, и оно раско¬
лолось. Безумие нашло на людей и разбило вдребезги их
души. Тучи саранчи напали на посев и сожрали его. При¬
ливы разрушили холмы, бурные реки — крутой склон.
Землетрясения не щадили ландшафта. И все это — непо¬
вторимый почерк!
Не окунись я в книги, в повести и легенды, в газеты,
в известия и сообщения, во мне не проросло бы все то, что
можно выразить словом, и я остался б ничем, немым со¬
бранием непостижимых событий. (И может быть, это было
бы лучше,— а вдруг мне пришло бы в голову что-нибудь
новое!) То, что я вижу, то, что я слышу,— не моя заслуга,
но мои чувства — о, вас я воистину заслужил, мои цапли
над белесыми берегами, путники в ночи, голодные бродяги
на проселочных дорогах! Я хотел бы крикнуть всем тем,
кто так твердо верит в непогрешимость своего образа мыс¬
лей, не сомневаясь в его исключительной ценности: что
76
ж, верьте, верьте! Но они уже вышли из употребления, то
монеты, которыми вы позвякиваете, только вы еще згою
не знаете. Пора изъять их из обращения вместе с изобра¬
жениями черепов и орлов. Согласитесь, что все это уже в
прошлом, вместе с древнегреческими богами и Буддой, с
эпохой Просвещения и алхимией. Согласитесь, что вы все¬
го лишь жильцы меблированного древними века, все воз¬
зрения ваши взяты напрокат, все ваши образы арендова¬
ны. Признайтесь, что хотя вы и платите дорогой ценой,
ценой вашей жизни, но расчет всегда происходит лишь по
ту сторону барьера, когда вы уже распростились со всем,
что вам было так дорого,— на пристани, на взлетной поло¬
се. Только отсюда начинается ваш собственный путь, от
одной воображаемой точки к другой,— путешественники,
которым нет дела до пункта назначения! Попытка взле¬
теть! Попытка вновь полюбить! Необъятный, непознан¬
ный мир готов раскрыться, к твоему отчаянию, перед тво¬
ими глазами,— мимо, мимо!
Смутные сны, окрыленность над пропастью. Никто
больше не охватывает твою шею руками, ступай себе, ты
свободен; человек-полип втягивает свои щупальца, не
оплетает, не поглощает ближнего... Человечность — уме¬
ние не приближаться вплотную.
Сохраняйте дистанцию, а не то я умру, а не то я убью
или покончу с собой. Ради бога, не приближайтесь вплот¬
ную!
Во мне поднимается гнев, которому нет ни конца, ни
начала. Гнев из доледникового периода, обращенный к ле¬
дяному веку... Ведь если мир наш идет к своему концу —
а так говорят все, верующие и суеверные, ученые и проро¬
ки,— почему бы ему не погибнуть еще до того, как чело¬
вечество уничтожит само себя атомным взрывом, еще до
Страшного суда? Почему бы ему не погибнуть от гнева?
Почему бы роду человеческому не поступить благоразум¬
но и нравственно и не поставить точку? Это был бы конец,
достойный святых, и всех плодоносящих без плода, и всех
истинно любящих.
Против этого, собственно, нечего было бы возразить. )
Ему все трудней было просыпаться по утрам. Он жму¬
рился, глядя на скудный свет, отворачивался к стене, за¬
рывался головой в подушку. Просил, чтобы сон снова при¬
шел. Приди, прекрасная осень. Октябрь, последние розы...
П
Кто же это ему рассказывал, что есть остров в Эгей¬
ском море, на котором нет ничего, кроме цветов и камен¬
ных львов; те же цветы, что скромно цветут у нас краткое
время, расцветают там дважды в год, огромные, сияющие.
Сухая земля, суровая скала словно выталкивают их вверх.
Бедность бросает их в объятья красоты.
Он просыпался далеко за полдень, а вечерами спасал¬
ся любовью. Безысходность словно рассеивалась во время
этого долгого сна, в нем он черпал силу. Время — ему по¬
казалось вдруг, что оно ничего не стоит, ни на что не при¬
годно. Ничего не надо было делать, чтобы возникло чув¬
ство удовлетворения; не осталось желаний, тщеславных
замыслов — можно было жить просто так.
Особенность этого уходящего года сказалась п в скупо¬
сти света. Даже солнечные дни кутались в серое.
Он все ходил теперь на маленькие площади и еще в
«Кафе кучеров» на Трастевере и выпивал там медленно,
каждый день в один и тот же час, свой стакан кампари.
У него появились привычки, и он их лелеял, даже самые
незначительные. Он благосклонно присматривался к этому
новому состоянию, к первым признакам закоснелости. Он
часто говорил по телефону: «Друзья мои, сегодня я, к со¬
жалению, не могу. Быть может, на той неделе». На той
неделе он отключил телефон. И в письмах он тоже избегал
теперь обещаний и объяснений. Сколько же бесполезных
часов провел он с другими! Правда, и теперь часы текли
бесполезно, но он вернул их себе, вдыхал их запах, пробо¬
вал их на вкус. Вкус их был чист и прекрасен; он наслаж¬
дался временем. Ему хотелось уйти в себя. Но этого никто
не замечал, никто не принимал всерьез. В представлении
окружающих он был все еще прежним, все еще расточи¬
тельным, все еще «вездесущим», и, случалось, столкнув¬
шись с этим своим призрачным образом где-нибудь в го¬
роде, он сдержанно приветствовал его, потому что был зна¬
ком с ним в прошлом. В настоящем этого образа не суще¬
ствовало. В настоящем он был другим.
Он чувствовал себя хорошо лишь наедине с самим со¬
бой; ничего он больше не ждал; он разрушил здание жела¬
ний, отказался от всех надежд, с каждым днем становил¬
ся все проще. Он начал смиренно думать о жизни; искать
себе какую-нибудь обязанность; хотел служить.
Посадить дерево, вырастить ребенка.
Достаточно ли это скромно? Достаточно ли просто?
78
Если бы он приобрел небольшой участок земли и же¬
нился — а он знал таких, кто сделал это, скромно и про¬
сто,— он мог бы тогда выходить в восемь утра из дому на
работу, в сутолоке занимать свое место, пользоваться рас¬
срочкой на мебель и государственным пособием для мно¬
годетных. Мог бы ежемесячно получать в банкнотах за все,
что усвоил в годы учения, и тем обеспечивал бы себе м
своим близким спокойный отдых в конце недели. Мог бы
включиться в круговорот и ходить по кругу.
Да, это было бы неплохо. Особенно — посадить дерево.
Глядеть на него во все времена года, наблюдать, как уве¬
личивается на нем число годовых колец, как карабкаются
вверх по стволу твои дети. Собирать урожай. Яблоки. Он
настаивает именно на яблоне, хотя яблок в рот ие берет.
И вот еще: сын. Хорошо бы иметь сына. Хотя, когда он
глядит на детей, ему, по правде сказать, все равно, какого
они пола. А у сына тоже были бы дети, сыновья.
Но этот урожай, эти яблоки, они так далеко — где-то
там, в саду, который перейдет к другим когда-нибудь в да¬
леком будущем, в котором его собственной жизни уже не
будет. Страшно подумать. А ведь земля и сейчас полна де¬
ревьев и детей, скрюченных, шелудивых деревьев и голод¬
ных детей, и, сколько ни помогай им обрести наконец до¬
стойное существование, все будет мало. Позаботься об
одичавшем дереве, усынови ребенка, сделай это, если мо¬
жешь, охрани хоть одно дерево от порубки и тогда про¬
должай разговор!
Надежда: я надеюсь, что ничто не сбудется из того, на
что я надеюсь. Я надеюсь, что если дерево и ребенок дей¬
ствительно мне суждены, то они достанутся мне уже в то
время, когда у меня пропадет и надежда и скромность.
И тогда я сам буду знать, как мне с ними обойтись, по-
доброму и решительно, и как оставить их в мой смертный
час.
Но пока я живу. Живу! И это факт непреложный.
Однажды, когда ему едва исполнилось двадцать лет, он
чуть не додумал все до конца; вот тогда-то он и понял, что
он живет. Это было в Венской национальной библиотеке.
Он погружался в книги, как утопающий, и думал, думал,
а маленькие зеленые лампочки все излучали мягкий свет,
и читатели мягко ступали по коврам, тихонько покашли¬
вали, тихонько шелестели страницами, словно боясь раз^
79
будить духов, населяющих фолианты. Он думал — кто
поймет, нто это значит! Он и сейчас хорошо помнит тот
миг, когда углубился в одну из проблем познания, и все
понятия вдруг так легко и свободно встали у него в голове
на свои места. А он думал, думал и словно взлетал на ка¬
челях все выше и выше, не испытывая при этом голово¬
кружения, и вдруг ощутил, что еще один взлет, и он ока¬
жется там, наверху, под самым потолком, и неминуемо
пробьет его насквозь. Его охватило чувство счастья, нико¬
гда ранее не испытанного, потому что в это мгновенье он
был близок к тому, чтобы постичь все до конца. Еще один
взлет — и он пробьет твердь! И тут это случилось: он по¬
чувствовал толчок где-то внутри головы, боль отозвала его
назад, он замедлил полет, запутался, спрыгнул с качелей.
Он переоценил свою способность мыслить, перешагнул
границу, какую, быть может, вообще не в силах пересту¬
пить человек. Где-то в голове у него что-то угрожающе
щелкнуло, еще и еще раз, и так продолжалось несколько
секунд. Он подумал, что, наверно, сходит с ума, и, вцепив¬
шись руками в книгу, опустил голову и закрыл глаза. Он
был словно в обмороке, хотя и при полном сознании.
Он исчерпал себя.
Исчерпал себя больше, чем когда-либо, больше, чем ко¬
гда бывал с женщиной, и когда на одно мгновение словно
вдруг отключались все провода в его мозгу, и он стремил¬
ся к растворению, к уничтожению своей личности, чувст¬
вуя, что вступает в царство рода. Потому что здесь, в этом
большом старинном зале, при свете зеленых лампочек, в
тишине торжественной трапезы, поглощения книжных
строчек, уничтожалось существо, поднявшееся слишком
высоко, крылатое существо, полетевшее мерцающими пу¬
тями навстречу источнику света, а говоря точнее, уже не
постигающий человек, а почти проникший в тайну творе¬
ния. Он был уничтожен как возможный совладелец этой
тайны и отныне уже никогда не поднимется так высоко,
не посягнет на всеобщий закон, на котором зиждется мир.
Он знал, что ему отказали, дали отставку за неспособ¬
ностью, и с этой минуты наука стала вызывать у него от¬
вращение, ибо он зашел слишком далеко и был разбит
наголову. Теперь он мог бы лишь подучить еще кое-что,
стать подручным, послушливо приспособляя свой разум,
но это его не интересовало. Ему хотелось бы оказаться вне
всего этого, за гранью, и оттуда уже поглядеть на себя, и
80
ра мир, и на язык, и на все твердо установленное. А потом
дернуться назад, овладев новой речью — языком, который
*бы в силах был выразить познанную тайну.
у Так поплатился он за мгновение взлета. Но он был
кив, он все-таки жил, и тогда он почувствовал это впер¬
вые. И отныне он знал, что живет в тюрьме, и что хочешь
не хочешь, а должен тут устраиваться, и что, хотя им вот-
ют овладеет бешенство, ему все равно придется говорить
ia общепринятом здесь воровском жаргоне, чтобы не
остаться в полном одиночестве. Придется уж расхлебы¬
вать эту кашу и в последний свой день предстать перед бо¬
гом гордым или трусливым, молчать, презирать или воз-
иущаться — ведь здесь все равно его не встретишь, а к
себе он до срока так и не допустил. Ведь если бы он имел
хоть что-нибудь общее с этим миром, с этим языком, он не
5ыл бы богом. Разве можно найти бога в этом безумии,
внутри его? Он может быть лишь причастен к тому, что
>но, это безумие, возникло, что оно существует и нет ему
конца!
Зимой того же самого года он поехал с Лени в горы,
ia Раке, чтобы провести там субботу и воскресенье. Да,
эн помнит это ясно. Теперь-то он помнит это ясно. Как
>ни тогда зябли, дрожали, испуганно прижимаясь друг к
фугу ночью во время пурги. Легкое потрепанное одеяло
эни то и дело подсовывали друг другу, а потом в полусне
>тнимали и каждый натягивал на себя. Перед отъездом
он заходил к Молю и все ему рассказал. Он бросился к
Молю, потому что не знал, что делать, ничего не понимал
во всем этом, не знал, как найти врача, как быть с собой и
с Лени, вообще никогда не имел дела с женщинами. Лени
была так молода, и он сам был так молод, и его опытность,
^которой он перед ней похвалялся, исходила от Моля, ко¬
торый знал толк в таких вещах, а может быть, просто хва¬
стал. Моль снабдил его таблетками, и в тот вечер в горной
рсижине он приказал Лени их проглотить. С Молем он все
юбсудил, и, хотя ему было так тошно, он все же заметил,
кто тот ему завидует. (Девственница! Такие мне в этом го¬
роде еще не попадались, а ну-ка, брат, выскажись, открой
иушу!) Они выпили, и вместе с винными парами он вдох-
шул всю систему взглядов Моля на этот вопрос. (Поставить
[точку. Единственный выход. Вовремя выпутаться. Надо
думать о будущем. Камень на шее.) Но в эту снежную
81
ночь его охватил ужас — ужас перед самим собой, перед
Молем, перед Лени, до которой он не мог уже больше до¬
тронуться, с тех пор как узнал, что ей предстоит, не мог
коснуться этого худого детского тела без вкуса и запаха,
и потому он встал среди ночи, спустился по лестнице в
гостиную, сел за пустой столик и исполнился жалости к
самому себе. А потом вдруг заметил, что он уже не один —
к нему подсели две лыжницы, обе блондинки, а потом,
опьяневший, он поднялся вместе с ними наверх и как раз,
словно по приговору, на тот самый этаж, где Лени лежала
без сна и плакала или спала и плакала во сне. Когда он,
сидя с блондинками в их комнате, услыхал, как смеется и
сам вместе с ними, ему вдруг показалось, что все легко и
просто. И ничего еще для него не потеряно, всего еще мож¬
но добиться, это ведь так легко; до сих пор у него был про¬
сто неверный подход к таким вещам, но теперь он найдет
верный подход, прямо сейчас, отныне и навсегда. Он чув¬
ствовал себя посвященным в тайну легкого, дешевого, не-*
кощунственного кощунства. Еще до того, как он начал це<«
ловаться с одной из них, Лени была уже предана и забы¬
та. Еще до того, как, преодолев остаток сопротивления и
стыда, он взъерошил волосы другой, от страха и следа не
осталось. Но ему пришлось расплачиваться: не мог же он
заткнуть уши и не слышать их бессвязной болтовни и
визгливых выкриков. Отступать было некуда, он не мог
закрыть глаза и не видеть, и расплатился за все, что до
этого и после этого принесли ему в дар ночи с непогашен¬
ной лампой. На другое утро Лени исчезла. Когда он вер¬
нулся в Вену, он заперся на несколько дней в своей ком¬
нате. Он не пошел к ней, никогда уже больше не пришел
к ней и ничего больше о ней не слыхал. Только несколько
лет спустя он решился войти в тот дом в третьем кварта¬
ле, где она жила; но она больше там не жила. А даже если
бы она все еще там жила, он и теперь не решился бы рас¬
спросить о ней, тут же ушел бы, удрал. Иногда, в час при¬
видений, он видел ее плывущей вниз по течению Дуная с
распухшим лицом; или же с детской коляской в городском
парке (наутро он старался держаться подальше от пар¬
ка) ; или видел ее одну, без ребенка, потому что ребенок —
как же может он быть в живых, раз она стоит тут, за при¬
лавком, и, даже не взглянув на него, спрашивает, что ему
угодно. Он видел ее и счастливой, замужем за представи¬
телем какой-то фирмы в провинции. Но наяву он никогда
82
!ie больше не видел. И он зарыл это все так глубоко, что
гартина той снежной ночи лишь редко-редко всплывала в
го памяти — пурга, занесенные снегом окошки лыжной
танции, свет, горевший всю ночь и освещавший три пе-
юплетенных тела, это хихиканье — так, наверно, хихика¬
ет ведьмы — и светлые волосы лыжниц.
Когда плюют в колодец, когда падают в яму, которую
ъуоют другому, когда исполняются предсказания пословиц
:|и примет, связанных со светом лупы и движением солн-
ща,—одним словом, когда все в мире идет как по писаному
все, что должно лететь во Вселенной, летит по своей
^орбите, тогда он покачивает головой и задумывается над
временем, в какое живет.
Как и все, он не слишком осведомлен: он знает только
ничтожную часть, да и каждый знает всего лишь ничтож¬
нейшую частицу того, что происходит в мире.
• Случайно он зпает, что существуют роботы, которые не
Дошибаются, и он знаком с одним вагоновожатым, который
Ьднажды перепутал и время отправления, и правила улич¬
ного движения. Может быть, звезды и кометы тоже оши¬
баются, по рассеянности или от усталости, когда происхо¬
дит слишком много событий, отвлекающих их от древнего
йоэтического излучения света?
■ Нет, он не хотел бы быть там, наверху, но его утешает,
что там все по-прежнему, все идет своим путем, ибо верх—
ведь это и низ, а значит, и тут, и повсюду все идет своим
путем, и движения этого не удержать. Никому его не удер¬
жать. Не удержать и полета мысли, и летающих
устройств, служащих ей продолжением. И все равно, пере¬
секают ли они в своем полете пространство справа налево
или слева направо, ибо все летит, и сама земля летит, и
если образуется новый полет внутри этого полета, то тем
лучше; пусть же все летит и крутится, для того чтобы
можно было узнать, с какой силой все без остановки кру¬
тится «в звездном небе над нами», где не за что ухва¬
титься...
’ Но здесь, «внутри нас», где с трудом поднимаешься, а
не то что летишь, где, впрочем, тоже не за что ухватиться
И нет никакой опоры, а только одна комковатая вязкая
Иаша вечных вопросов, не имеющих ничего общего ни с
полетом, ни с космодромами, где ты только рывками, толь¬
ко еле заметно можешь поворачивать руль, где можно го¬
83
ворить лишь о морали сей истории, ибо в самой-то во всей
истории морали и нет, где мы ищем ответа, какова же мо¬
раль сей морали, и ответ наш не сходится...
Где если кто роет яму другому, тот сам в нее упадет,
где вязнешь, и стараешься выбраться, и снова вязнешь, и
топчешься на одном месте...
Ибо не сходит на тебя просветление (и что пользы
знать все о скорости света?), ибо не сходит на тебя про¬
светление ни о мире, ни о тебе самом, ни о жизни, ни о
небытии, смерти...
Ибо здесь, внутри нас, только пытка — ведь тебе не
найти на этом воровском жаргоне заветного слова, что
разрешило б загадку мира...
Только уравнение можешь ты решить, ибо мир ведь и
уравнение тоже...
Да, мир — и уравнение, которое решается, и тогда по¬
лучается вот что: золото равно золоту, а дерьмо — дерьму...
Но ничто внутри нас не равно ни тому, ни другому, и
ничто в мире не равно миру внутри нас...
Если бы мог ты отрешиться от этого, вырваться из ти¬
сков привычных представлений о добре и зле, перестать
размешивать кашу вечных вопросов, если бы у тебя хва¬
тило мужества вступить на путь прогресса...
Не только в смысле движения от газовой лампочки к
электрической, от воздушного шара к ракете (прогресс
второй категории)...
Если б ты мог отрешиться от того, прежнего человека
и воплотиться в нового, тогда...
Если бы жизнь продолжалась вне привычных про¬
блем — «мужчина и женщина», «правда и ложь», как их
понимают сегодня...
Если бы все это пошло к черту...
Если бы счет того, что ты принимаешь в расчет, ты на¬
чал заново и всерьез собирался платить по счету...
Если бы ты был летчиком и не петлял, а летел все впе¬
ред по трассе, если бы ты давал информацию, а не запуты¬
вал своими россказнями себя и других, тогда...
Если бы ты был здоров, а не изнемогал от душевпых
ран и от жажды мщения и очищения...
Если бы больше не верил сказкам и не боялся тьмы..;
Если б не должен был рисковать, проигрывать и выиг¬
рывать, а вместо того...
А вместо того протянул бы руку и коснулся сфер
84
высшего порядка, мыслил и обитал в этих сферах, поднял¬
ся до озарения...
Если бы ты больше не думал, что все идет к улучше¬
нию «в рамках данных условий», и богатые скоро не будут
богатыми, а бедные — бедными, и осуждать не будут не¬
винных, а будут судить виноватых...
Если бы ты не мечтал утешать и творить добро и не
требовал сам утешенья и помощи...
Если б страдание и сострадание пошли к черту и сам
черт пошел бы к черту, тогда...
Если бы знать, с какой стороны подойти к нашему
миру, чтобы он сам открыл нам тайну вращения и явил
нам свою невинность, и мы могли бы узреть, что он ни¬
кем еще не был любим, п никем осквернен, и святые о нем
не пеклись и преступники не запятнали его еще кровыо...
Если бы принят был новый статут...
Если б потомки не обязаны были наследовать наше ду¬
ховное кредо...
Если бы наконец-то настало...
Тогда...
Тогда еще раз поднимись и разнеси этот старый, ру-
уаный-переруганый порядок. Тогда стань другим, чтобы
мир изменился, чтобы жизнь изменила свое русло.
Сделай первый шаг!
J Когда наступает зима его тридцатого года и ноябрь
с декабрем смерзаются в ледяную глыбу, пронизывая хо¬
лодом его сердце, он засыпает, чтобы избыть свою боль.
Он спасается бегством во сне и в пробуждении, спасается
бегством, оставаясь на месте и путешествуя, проходя
сквозь заброшенность маленьких городов, где уже больше
не в силах взяться за ручку двери, передать кому-то от
кого-то поклон, потому что боится, что его узнают и с ним
заговорят. Он хотел бы, как луковица, как корень, спря¬
таться в землю — где-нибудь, где она не промерзла. Пере¬
зимовать со своими мыслями и чувствами. Не разжимать
сжатых губ. Он хотел бы взять назад все свои изречения,
обидные слова, проклятья, хотел бы, чтобы все их забы¬
ли, забыли и его самого.
Но едва ему удается Закрепиться и замереть в тишине,
едва начинает казаться, что вот-вот он окуклится, как все
это рушится. Пронизывающий ветер срывает и уносит
прочь его свободу от ожиданий, сметает ее за угол, за
85
цветочный киоск, где продают бессмертники и барвинки;
И вдруг у него в руках оказывается букет подснежников,
который он вовсе не собирался покупать — ведь он хотел
прийти с пустыми руками. Подснежники начинают без-
звучно звенеть, все звонче, звонче, и он идет туда, где его
ждет погибель. Он полон ожидания, как никогда раньше,
он словно копил его все эти годы и жаждет лишь избав¬
ления.
Только теперь, после того как он почти обрел уже сча¬
стье в покое, после того как уверился, что все познал и
постиг, приходит непостижимая любовь. У нее ритуал
смерти, и культовые боли, причиняемые ею, каждый день
принимают новый облик.
Начиная с этого часа, еще раньше, чем цветы познако¬
мились с ней, он перестал быть хозяином самому себе. Он
был предан, проклят, отдан па растерзание, его неудер¬
жимо влекло в ад. Восемь дней он ходил в этот ад, а потом,
после первого разрыва и попытки спастись, еще восемь
дней. Симпатия, расположение, привязанность — нет, не
об этом шла речь, и она не была женщиной, которая так
или иначе выглядит, о которой можно сказать то или это.
Ее имени он не мог выговорить, потому что у нее не было
имени, как нет имени у самого счастья, которое, не огля¬
дываясь, волочило его за собой. Он находился в состоянии
совершенно особом, он словно вышел из берегов,— в со¬
стоянии, когда уже не чувствуешь вкуса губ, не замеча¬
ешь движений, когда любовь берет реванш за все на этой
земле, что хоть как-нибудь можно вынести. Любовь была
невыносима. Она ничего не требовала, ничего не дарила,
она не давала прорасти другим чувствам, она сокрушала
их, опа перешла все границы.
Никогда еще он не лишался чувств начисто, они все¬
гда жили в нем в сложном переплетении, и вот теперь он
впервые был совершенно опустошен, выжат и лишь чув¬
ствовал с глубоким удовлетворением, как волна то швыря¬
ла его о скалу, то затягивала обратно в море.
Он любил. Он был свободен от всего, от всех качеств,
мыслей и целей — он был ограблен, попал в катастрофу.
Не существовало больше ни «хорошо», ни «плохо», ни
«прав», ни «неправ», и он твердо знал, что нет пути даль¬
ше и нет пути отсюда — нет выхода. В то время как дру¬
гие где-то работали, что-то творили, оп был целиком по¬
глощен любовью. Это требовало больше ваутренпих cn4t
86
чем работа и чем сама жизнь. Мгновения были раскалены,
время сгорало дотла, от него оставался лишь черный пе-
дел, и сам он с каждым мгновением все живее ощущал
себя словно вылитым из одного куска, предназначенным
для единой цели.
Он собрался в дорогу, потому что инстинктивно чув¬
ствовал, что даже самый первый час любви был свыше
ето сил. Его отъезд был спасительным бегством, в нем он
искал убежища. Он написал три письма. В первом он об¬
винял в слабости самого себя, во втором — свою возлюб¬
ленную, в третьем отказался от попыток найти виновного
и сообщил свой адрес. «Пиши мне до востребования в Неа¬
поль, в Бриндизи, в Афины, в Константинополь...»
Но далеко он не уехал. Он понял, что с отъездом все
рухнуло, да у него было и слишком мало денег, потому
что последние деньги он отдал вперед за комнату, чтобы
удержать ее за собой, удержать хотя бы место, несмотря
ни на что. Он шатался в гавани Бриндизи, распродал все,
что у него было, кроме двух костюмов, и искал черной ра¬
боты. Но, как видно, он не слишком годился для такой
работы и для всех тех невзгод, с которыми вдруг спознал¬
ся. Он не знал, что теперь делать, проспал две ночи под
рткрытым небом, начал бояться полиции, грязи, нужды,
гибели. Да, он погибнет. Тогда он написал четвертое пись¬
мо: «У меня теперь осталось два костюма, но их надо бы
погладить, две трубки и зажигалка, которую ты мне пода¬
рила. В ней кончился бензин. Но если ты не хочешь меня
видеть до лета, не можешь расстаться с Н. до лета...»
До лета!
«И если ты и тогда еще не будешь знать, с кем, и по¬
чему, и зачем, о боже... Но, если бы ты это знала, может
быть, я сам бы этого не знал и мне было бы еще тяжелее.
Ни в каком выходе я теперь не вижу выхода. Зачем жизнь
оказалась дольше того, что было».
До лета!
• До тех пор он уже отбудет срок этого года, и все, что
Ьн позднее сумеет выкроить из всех своих тридцати лет,
Ьбещает быть самым обычным. О, неужели мы правда
должны стать старыми, уродливыми, морщипистыми, сла¬
боумными, ограниченными и все понимающими, чтобы со¬
стоялась наша судьба? «Не обижай старость,—сказал он
себе.—Ты и сам недалек от нее, и ты уже чувствуешь,
Как все твои годы нахлынут однажды, заставив тебя со¬
81
дрогнуться! Скоро... Правда, пока я еще сопротивляюсь,
не хочу верить, что свет твой, о юность, может погаснуть—
вечно сияющий свет». Но поскольку свет этот начал мер¬
цать и мигать, становился скудным и, казалось, вот-вот
иссякнет, а все попытки найти работу или уйти в пла¬
ванье с каким-нибудь кораблем — все эти безумные аван¬
тюры, которые куда больше пристали бы совсем молодому
человеку или сумасшедшему,-— окончательно провали¬
лись, он написал письмо домой. Он писал почти правду и
в первый раз в жизни просил отца о помощи. Ему было му¬
чительно стыдно. Ведь ему уже скоро тридцать, и раньше
он всегда находил способ выкарабкаться. Никогда еще он
не чувствовал себя таким беспомощным и бесеильным. Он
признавался в своем крахе и просил прислать денег. Как
можно скорее. И еще не успев прийти в себя от столь бы¬
стро последовавшего спасения, отправился в обратный
путь. Через Венецию.
Там поздним вечером он пришел на площадь Святого
Марка, нашел ее, не сбиваясь с пути. Сцена была пуста.
Зрителей словно смыло. Море вздымалось до самого неба,
лагуны искрились — светильники и фонари отражались в
воде.
Свет, светлое свечение вдали от света. Он бродил и бро*
дил вдоль лагун, как привидение. Ведь его всегда влекло
искать защиты у красоты, в созерцании ее, и, когда его
взгляд покоился на ней, он думал: «Как прекрасно! Это
прекрасно, прекрасно, прекрасно... И пусть всегда остает¬
ся прекрасным, и пусть я сам погибну ради этого прекрас¬
ного, ради того, каким оно мне явилось, ради этого «более
чем...», ради этого совершенства. Я не мог представить
себе рая после того, что было, рая, куда я хотел бы по¬
пасть. Но вот он, мой рай,— это прекрасное.
Я обещаю, что не задержусь здесь надолго, ведь кра¬
сота сомнительна, и вот уже она мне больше не защита.
И боль опять принимает новый облик».
Раньше он никогда не знал, как путешествуют. Он са«
дился в поезд — сердце его радостно билось, а карман был
пуст. В города он приезжал ночью, когда поток осмотри¬
тельных приезжих уже давно растекся по гостиницам, а
друзья его спали. Однажды он гулял всю ночь напролет,
потому что ему негде было переночевать. На пароходах
он плавал с еще более радостным чувством, а в самолете
88
у него от восторга перехватывало дыхание. Но на этот раз
он внимательно прочел расписание, пересчитал свой новый
багаж, нанял носильщика. У него был плацкартный билет
и журналы для чтения в дороге. Он знал, где ему надо сде¬
лать пересадку, и деньги его не кончились еще на перроне,
когда он выпил чашку кофе. Он путешествовал как чело¬
век с положением и казался таким спокойным, что никто
никогда не заподозрил бы его намерений. А он был наме¬
рен повернуть вспять. Он решил покончить с бродячей
жизнью. Он ехал в город, который любил когда-то больше
всего, где платил налоги, вносил плату за право учения и
за многое другое. Он ехал в Вену, хотя и боялся произне¬
сти, даже про себя, слово «домой».
Он прилег на полке в купе, подложив под голову свер¬
нутое пальто, и задумался. На этой полке он проедет по
всей Европе, будет зябнуть, испуганно очнувшись от сна,
когда поезд приблизится к родному горному кряжу.
И в полусне его настигнет мучительное воспоминание. Ему
хотелось вернуться к исходному пункту, назад. Он вдо¬
воль нагляделся на то, что называют светом.
I Он поселился в небольшой гостинице во Внутреннем
городе, неподалеку от почты. Никогда раньше он не жил
в Вене в гостинице. Он всегда снимал здесь комнату — с
правом и без права пользования ванной, с правом и без
права пользования телефоном. У родственников, у одино¬
кой медицинской сестры, которая плохо переносила запах
его сигарет, у вдовы генеральши, где ему пришлось забо¬
титься о кошках и кактусах, когда хозяйка уехала на ку¬
рорт.
Два дня он пребывал в такой нерешительности, что
даже не отважился позвонить кому-нибудь по телефону.
Никто здесь не ждал его; одним он слишком долго не пи¬
сал, другие сами не отвечали на его письма. Он почувст¬
вовал вдруг, что его возвращение нереально по многим
причинам. С таким же успехом мог бы возвратиться назад
покойник. Никому не дано продолжить то, что уже обо¬
рвано. «Здесь нет никого,— думал он,— никого, кто прини¬
мал бы меня в расчет». Он пошел обедать в ресторан, в
который раньше никогда не решился бы войти, сел за
стол, стал изучать меню. Названия блюд были словно вос¬
поминания. Он давно не встречал их нигде, давно скучал
по ним, но, как ни странно, это его не растрогало. Он
узнал и привычный звук старых колоколов в полдень — в
89
душе его царила мертвая тишипа. Совершенпо случайпо
он встретил знакомых на Грабене, а потом и еще знакомых
и, вдохповлеппый этими полными значения случайными
встречами, вступил в оживленный разговор. Чересчур
оживленный — от смущения. Он неуверенно начал расска¬
зывать о жизни, которую вел где-то там, и тут же прервал
свой рассказ, потому что вдруг понял, что его жизнь «где-
то там» воспринимается здесь как предательство и лучше
уж о ней помолчать.
Он купил в книжном магазине план города, где ему
были знакомы все запахи, но о котором он не знал ничего,
что обычно полагается знать. Раскрыв план, он сел на мок¬
рую от дождя скамыо в городском парке, потом, побояв¬
шись примерзнуть, пошел осматривать Арсенал и другие
достопримечательности, отмеченные в плане звездочкой:
Музей истории искусств, Глориэтту и церкви с ангелочка¬
ми в стиле барокко. Вечером, на закате, он поехал на Ка-
ленберг и посмотрел оттуда вниз, на панораму города с ре¬
комендованной в плане точки. Потом прикрыл глаза рукой
и подумал: «Не может быть, что я знал когда-то этот го¬
род. Таким я его не знал».
В другой день он встретился с друзьями. Он вообще не
понимал, о чем они говорят, хотя все имена, которые упо¬
минались, были ему знакомы, даже если не связывались
в памяти с каким-то определенным лицом. Этикетки оста¬
лись. Он одобрительно кивал в ответ на все, что ему рас¬
сказывали, но ему казалось просто невероятным, что все
это существует: новые дети его старой приятельницы, пе¬
ремены профессий, коррупция, скандалы, премьеры, лю¬
бовные связи, сделки.
(«Мое намерение: прибыть в этот город!»)
Он встречается с Молем, с этим чудо-мальчиком, с ге¬
нием Молем, который в двадцать лет поражал их всех сво¬
ей высокой духовностью, с Молем, который когда-то отдал
ни за грош одной христианской газете свой нашумевший
доклад о девальвации ценностей и кризисе культуры. Те¬
перь Моль ироничеп, получает крупные гонорары, спешит
с конгресса на конгресс. Над Молем подсмеиваются, и он
сам над собой подсмеивается. Моль принимает участие в
обсуждении за круглым столом вопроса о наследии про¬
шлого и считает современное общество недостойным и не¬
способным создать что-либо принципиально новое. Моль
приглашен на сегодняшний вечер к французскому послу,
90
а завтра в первой половине дня выступает на конферен¬
ции. Моль все еще считается одним из самых молодых;
Моль, скользкий как уж, представляет мнение определен¬
ных кругов, не имея собственного мнения. Моль, у кото¬
рого грош теперь всегда падает нужной стороной; Моль,
презирающий сомнительное существование, сам веду¬
щий более чем сомнительное... Моль дает ему совет:
«Подавайся к нам». (Воровской жаргон доведен до совер¬
шенства!) Моль рассудителен, терпим к тем, кого прези¬
рал когда-то. Рукопожатие Моля — скупое, по крепкое.
«Allora, bye-bye. Счастливо. Пока. Обдумай. Пиши, если
что понадобится».
Он прощается с Молем, отвечая скупым рукопожатием
на скупое рукопожатие, и идет в маленькое кафе, куда
всегда ходил прежде. Официант в изумлении, он узнает
его, этот любезный и грустный человечек. И на этот раз
ничего не надо говорить, пожимать руку, притворяться;
слова здесь необязательны, достаточно улыбки; они глупо¬
вато улыбаются друг другу, двое людей, у которых есть
кое-что за плечами: годы, встречи, счастье, несчастье; и
все, что этот пожилой человек хотел бы выразить — ра¬
дость, воспоминание,— он выражает тем, что кладет ему
на столик именно те газеты, которые он когда-то здесь
спрашивал.
Он роется в пачке газет, делает это ради старого офи¬
цианта; он чувствует, что в этом его долг перед стариком,
и этот долг не тяготит его. Наконец-то он кому-то что-то
здесь должен, и это не вызывает у него сопротивления, а
только радует.
Невольно он пачинает читать заголовки — городские
новости, культурная жизнь, разное, спортивные новости.
Даты не играют никакой роли, с таким же успехом он
мог бы листать номера пятилетней давности, его интере¬
сует только интонация, знакомый шрифт, порядок следо¬
вания газетных полос, их композиция. Он знает, что распо¬
ложено наверху слева, справа внизу, что в этих газетах
считается плохим, а что — хорошим. Лишь изредка робко
вкрадывается то тут, то там непривычное новое слово.
И вдруг он замечает, что перед ним стоит какой-то че¬
ловек его возраста; тот приветствует его; конечно, он зна¬
ет этого человека, только никак не может вспомпить, кто
это,— ах, да, ну конечно же, это Моль, и он поспешно и
обрадованно приглашает Моля занять место за своим сто¬
91
ликом. Того самого Моля, который был таким застенчивым
и любознательным, так жаждал образованности и пытал¬
ся постичь новый стиль; и вот теперь он его постиг. Итак,
теперь Моль твердо знает, как надо жить, писать картины
и книги, как надо думать и сочинять музыку. Его сужде¬
ния окончательны и бесповоротны. Тот самый когда-то
ищущий, нащупывающий Моль, вскормленный на откро¬
вениях и озарениях предыдущего поколения, хорошо усво¬
ил поглощенные истины. Теперь он их пережевывает. Си¬
стема Моля. Непогрешимость Моля. Моль — высший цени¬
тель искусства. Моль пеподкупный, неумолимый, odi рго-
fanum vulgus1. Моль, потерявший дар речи, но зато укра¬
сивший свою речь павлиньими перьями, надерганными из
иностранных языков. Моль не читает больше романов и
считает, что у поэзии пет будущего. Моль выступает за
кастрацию музыки и утверждает, что живопись необходи¬
мо отделить от холста. Моль с пеной у рта. Моль беспо¬
щадный. Моль непонятный. Моль, ссылающийся на вели¬
чие Гильельма Апулийского (ок. 1100 г. после р. X.)...
Моль, считающий Эрхарда Шёна наиболее достойным
удивления во всей мировой живописи. Моль, указующий
путь. Моль, возмущенно молчащий, когда речь идет, о
предметах, знакомых не только ему одному. Моль стра¬
стный собиратель трудно толкуемых текстов, прозябаю¬
щий, как мелкий служащий. Моль, ревниво озабоченней
тем, что его не признают и обходят, мстит за себя язви¬
тельной горечью; осуждающим взглядом провожает каж¬
дую красивую женщину и встречает каждый воскресный
день, каждый сочный плод, всякое проявление расположе¬
ния. Моль— великомученик. Моль, разумеется, презирает
и его, старого друга Моля, за то, что он сейчас взглянул
на часы и заметил, что пора идти. Моль живет только по
своим внутренним часам, которые заводит его непреклон¬
ный дух,— каждое «тпк-так» им диктует его справедли¬
вость...
День проходит в подобных встречах, и они тем мучи¬
тельней, что происходят в некоем мире, где все люди пре¬
вратились для него в призраки. Он плохо вооружен против
призраков. Это доказывает и следующий день.
Он снова встречает Моля, ибо мир каждого из нас на¬
полнен Молями. Но этого Моля он почти не узнает.
1 Ненавижу стадо (толцу) непосвященных (лат.).
02
Этот Моль — «А-помппшь-как-мы-с-тобой...». И не име¬
ет никакого значения, что он ничего такого уже не пом¬
нит. Зато Моль помнит все. Он напоминает ему, своему
соученику, как тот впервые напился и еле ворочал языком,
и как его рвало, и как он, Моль, с трудом дотащил его до
дому. Моль точно помнит тот день, когда он, друг Моля,
совершил чудовищную глупость. Моль свято храпит в па¬
мяти все отрицательное, что было в его жизни, все его
провалы и промахи, всю обыденщину. Моль, старый прия¬
тель, Моль, с которым их вместе призвали в армию, когда
им стукнуло восемнадцать, Моль, который и теперь на ка¬
ждом шагу вспоминает вермахт. Моль ведет беседу на язы¬
ке, от которого тошнит, тем более что то и дело дает по¬
нять: в свое время они находили общий язык. Тот самый
Моль, который когда-то отлупил его, более слабого, пото¬
му что был гораздо сильнее. Моль называет вещи своими
именами: «А как та блондиночка?», «Жениться? Дураков
мало!», «Не подмажешь —не поедешь!», «К бабам надо
подход иметь, знать, чего какая хочет!», «И к начальству
тоже» — уж он-то их знает как облупленных. Моля не
проведешь, он на этом собаку съел. Моль считает, что все
на свете политика, а на кой черт ему политика? Молю
пальца в рот не клади: «Уж мы-то знаем, что война
еще не проиграна, во всяком случае будущая». По мне¬
нию Моля, итальянцы — ворюги, французы — неженки,
русские — низшая раса, а уж кто хочет знать, кто та¬
кие англичане, пусть спросит Моля. А жизнь, в сущ¬
ности,—это бизнес, торговая сделка, анекдот, смехотвор¬
ная штука, свинство. Моль: «Да ведь я тебя раньше знал.
Передо мной не прикидывайся, уж я-то тебя насквозь
вижу!»
Как избавиться от Моля? Что толку рубить голову этой
гидре, Молю, если на месте одной головы тут же выраста¬
ет десять новых!
Моль отстаивает свое право на воспоминания, хотя он
лично никогда ему этого права не предоставлял. И теперь
ему ясно: он будет встречать Моля на каждом перекрест¬
ке. Все вновь и вновь.
Сохраняйте дистанцию, или я кого-нибудь убью! Не
подходите вплотную!
На исходе одной из таких ночей, когда его кидало от
встречи к встрече, он стоял возле киоска-закусочной с не¬
сколькими знакомыми. Среди них была молодая женщина,
93
за которой он когда-то некоторое время ухаживал без осо¬
бого успеха. Перед этим он танцевал с Геленой в баре, то
и дело касаясь губами ее плеча. Он никак не мог решиться
поцеловать ее в губы, хотя был уверен, что сегодня может
это сделать. Но все-таки он пошел ее провожать после
того, как они распрощались с остальными, и остался вы¬
пить кофе. У нее была манера говорить туманно, полуна¬
меками, и он снова мгновенно усвоил эту манеру. Очевид¬
но, он и тогда, раньше, с ней так говорил, на полутонах,
двусмысленно, и уже ничего не могло быть сказано между
ними ясно и прямо. Было очень поздно, в комнате сильно
накурено, аромат ее духов испарился. Уходя, он нереши¬
тельно обнял ее, опустошенный, изнемогая от усталости.
Он был очень вежлив; на площадке он обернулся и пома¬
хал, давая попять, как тяжело ему уходить. Это было его
последнее притворство, и при этом он глядел ей в лицо,
хотя лицо ее, увядшее, с резкими тенями, сейчас его от¬
пугивало. На улице уже начинало светать. Занимался день
или то, что выдавало себя за день,— рань, туман. Он дошел
до гостиницы разбитый — сон давно пропал,— лег в по¬
стель, словно больной, проглотил две таблетки и наконец
с трудом уснул. Он проснулся под вечер с дурным вкусом
во рту от долгого сна — о встречах в городе не хотелось
больше вспоминать. Он упаковал чемоданы, побросал в
них все как попало — рубашки, щетки, ботинки,— словно
ему в спешке было не до порядка. Только на вокзале, водя
пальцем по расписанию, он выбрал поезд.
Поезд оказался неудачным — это был скорый, но оста¬
навливался он на каждой станции и прибыл на вокзал
провинциального города в полночь, когда зал ожидания
был уже заперт. Ему пришлось ходить по перрону взад и
вперед всю эту зимнюю ночь, притоптывая и хлопая в ла¬
доши, чтобы согреться. Ему очень хотелось забраться в ба¬
гажный вагон и заснуть там навсегда. Но для этого было
все-таки недостаточно холодно и не настолько он все же
устал. И не настолько он был одинок и заброшен, чтобы
прийти к такому исходу. Когда он сел в вагон прибыв¬
шего поезда, ему пришлось выслушать от одного из сво¬
их спутников мпожество историй о том, какой процент
сумасшедших выдает себя за Наполеона, какой —за по¬
следнего кайзера, какой — за Гитлера, Линдберга и Ганди.
Это заинтересовало его, и он спросил, а можно ли без тени
сомнения считать себя самим собой и не есть ли это тоже
94
вид помешательства. Спутник его, очевидно психиатр, вы¬
бил пепел из трубки и, переменив тему разговора, стал
рассказывать о процентном соотношении в других отрас¬
лях медицины и о терапии, направленной против всех этих
процентов. Поковыряв в носу проволочкой, которой только
что прочищал трубку, он сказал: «Вы, например, страдае¬
те тем, что... Вы слишком близко все принимаете к серд¬
цу... Но этим, конечно, страдаем мы все, тут пет ничего
особенного».
Следующий поезд унес его в ночь, полную ужасов,—
колеса перескакивали па больших станциях на другие рель¬
сы и с ожесточением все катились, катились вперед, а он,
зажатый в тесном купе вместе с другими десятью пасса¬
жирами, глотал спертый воздух, отворачиваясь, когда не¬
молодая женщина рядом с ним кормила ребенка грудыо, а
ее малокровный муж, сидевший на скамейке напротив,
закашлявшись, сплевывал на пол, и его бесило, что какой-
то человек у самой двери так громко храпит. Некуда было
.поставить ноги, каждый боролся за кусочек пространства,
стараясь оттеснить других. И вдруг он поймал себя на
том, что сам слегка отстраняет локтем женщину с ребен¬
ком. Он был снова среди живых людей, людей из плоти
и крови, был одним из них, боролся, как все, за свое место
в жизни. На мгновение он уснул. Во сне он увидел, как
аго родной город ринулся на него с церковью св. Карла на
Переднем плане, со всеми своими дворцами и парками, ули¬
цами и проспектами; сон этот длился, должно быть, не
долее секунды, потому что он очнулся в смертельном стра¬
хе от удара по голове. И тут же понял, не успев еще даже
подумать об этом, что произошло столкновение поездов.
Чемодан вывалился из сетки и упал на него. Но он знал
уже и то, что столкновение не привело к крушению, ибо
еще не пришло время для катастрофы, в которую ему суж¬
дено попасть. Нет, не ранний конец, не ранний уход, не
волнующая трагедия. Через несколько часов поезд тронул¬
ся, и все вздохнули с облегчением, словно после легкого
сердечного приступа. Пострадавших не было, повреждения
оказались незначительными. Он попробовал вспомнить
свой сон про город, очевидно вызванный столкновением;
или, может быть, наоборот сон предшествовал толчку.
У него появилось вдруг чувство, что он никогда уже боль¬
ше не увидит этого города, но всегда теперь будет вспо¬
минать, каким он был и как он в нем жил.
95
Город, не дающий гарантий!
Не просите меня говорить о каком-либо городе, кроме
как об одпом-единственном, в котором запутались в сети
мои надежды и страхи за многие-многие годы. Словно
огромный неряшливый рыбак — так я себе его представ¬
ляю всегда — расположился на берегу равнодушного по¬
тока; он сидит здесь и вытягивает сети со своей серебря¬
щейся и гниющей добычей. Серебрится — страх, гниет —
надежда.
Черные воды Дуная, темное небо над плесневело-зеле¬
ными куполами храмов.
Я поведаю о твоем духе, город, и пусть он восстанет из
праха, я отвечу за попранный дух твой! И пусть налетит
тогда ветер, и подхватит, и унесет мою душу, здесь испы¬
тавшую гордость, терпевшую здесь обиды!
Город-пристань!
Ибо сюда прибивало страны и товары из разных стран:
вышитые крестом покрывала словаков; черногорцев с уса¬
ми цвета воронова крыла; плетеные корзины болгар; яр¬
кий акцент венгров...
Город, а над ним турецкий полумесяц! Город баррикад!
Здесь столько раздробленных камней, столько стен с
пустыми глазницами окон, что слышишь их дальний ше¬
пот, доносящийся из древних времен...
О, эти ночи, горькие ночи, сколько их спускалось над
Веной! И эти дни, брошенные тебе под ноги, дни, начи¬
навшиеся жужжанием из окон школьных зданий и сума¬
сшедших домов, из приютов для престарелых и плохо про¬
ветренных, давно не беленных больничных палат, дни, на¬
поенные запахом зацветающих каштанов! О, эти окна, ни¬
когда не распахивавшиеся настежь, и ворота, из которых,
казалось, некуда выйти, словно над ними не было неба!
Город-тупик, последняя остановка! Словпо не было
рельсов, чтоб из него уехать!
Дух отставных и надворных советников в канцеляриях.
Ни одного громкого слова в приемных, только обидные.
(Отложить, а не отказать.)
Вот вопрос — должны ли мы любить то, что не хотим
любить? Но город прекрасен, и некий вдохновенный поэт,
поднявшись на башню собора св. Стефана, воспел его.
Вот вопрос — все ли можно простить, со всем ли сми¬
риться? Но были такие, которым пришлось допить бокал с
ядом до самого дна.
96
* Клевета в сговоре с мягкосердечием. Но у иных серд¬
це билось сильно и дико, а речи их были под стать рим¬
ским ораторам. Они держались враждебно, их ненавидели,
и были они одиноки. Они думали четко и точно, блюли чи¬
стоту и приняли муку.
Некоторые посылали слова свои, словно светлячков, в
спускающуюся ночь, и слова их переходили границы, а у
одного был высокий лоб, и он озарился голубым трагиче¬
ским светом на рубеже эпохи, обреченной на молчание.
Город высоких костров, где бросали в огонь прекрас¬
нейшие творения музыки, где оплевывали и оскверняли
все, что исходило от честных еретиков, нетерпеливых са¬
моубийц, великих первооткрывателей,— все, что рожда¬
лось из высоты духа.
Город молчания! Безмолвный инквизитор с улыбкой па
устах,— улыбкой, которая ни к чему не обязывает.
...Но рыдания вывернутых булыжников мостовой, ког¬
да кто-то бредет по ним, шатаясь, молодой, оскверненный
молчанием, убитый улыбкой. Куда деваться от плача из
древней трагедии?
Город-комедиант! Город игривых ангелочков и демо¬
нов, которых давно пора заложить в ломбард.
Город пугливых диалогов, шепотом, с робким зачатком
грядущего дня.
Город острословов, болтунов и пустозвонов. (Ради
красного словца здесь жертвуют истиной, а кто ловко ска¬
зал, тот ловко солгал.)
Зачумленный город, наполненный запахом трупов!
Темная вода Дуная, загрязненная нефтью,— там, вда¬
ли...
Но я хочу думать про блеск того дня — и его ведь я
тоже помню,— когда город, зеленый и белый,
сиял
после отшумевшего дождя,
очищенный и омытый, когда улицы,
словно лучи звезды, расходились от его сердцевины,
от его сильного сердца, когда дети на всех этажах
начинали разучивать новый этюд,
а трамваи возвращались с Центрального кладбища
1 с венками, с букетами астр уходящего года,
ибо это был день Воскресения
из мертвых,
из всеми забытых!
4 № 1034
97
О конце этого путешествия оп умалчивал. Он хотел пе
закончить его, а исчезнуть в конце его, бесследно, не оста¬
вив вех. Он нашел наконец способ, как это сделать: втайне
от всех получил командировку в Индонезию. Но когда он
уже собирался купить билет на самолет, в Индонезии раз¬
разилась война. Командировка отпала сама собой, а хло¬
потать о другой, которая привела бы его в какую-нибудь
далекую страну, уже не хотелось: оп воспринял это как
зпак, что уезжать не надо. Он остался в Риме. Будущее
мерещилось ему таким: он уедет вместе с ней, с той, чье
имя никогда пе решался произнести. Бежит вместе с ней,
никогда больше пе возвратится в Европу, просто будет
жить с ней там, где есть солнце, плоды. Будет жить с ней
рядом, оборвав все связи, вдали от всего, что было до сих
пор. Жить в ее волосах, в уголках ее губ, в ее лоне.
Он всегда искал совершенства, рвался к нему, рвал,
уходил, и она была первым человеком, которого ему захо¬
телось взять с собой в этот путь. Каждый раз, когда перед
ним на мгновение возникало это заветное и казалось, сто¬
ит лишь протянуть руку — и до него достанешь, он чувст¬
вовал, что его бьет лихорадка, что у него пропадает дар
речи, что никогда ему не найти нужных слов. Он изводил
себя мыслями о том, что необходимо сделать первый шаг,
решиться действовать, не считаясь ни с чем!
Но всегда этому что-нибудь мешало: кто-то передавал
ему письмо с напоминанием о взятых на себя ранее обяза¬
тельствах, о болезни кого-нибудь из близких, о том, что
некто собирается остановиться у него по пути туда-то; о
том, что истекает срок, к которому он обещал выполнить
работу. Или кто-нибудь хватался за него, словно утопаю¬
щий, как раз в тот момент, когда он собирался сбросить с
себя все путы.
— Оставь меня в покое, слышишь? Оставь меня в по¬
кое! — сказал он, не отрываясь от окна, словно там, за
окном, происходило что-то необычайно интересное.
— Но мы должны еще сегодня добиться ясности. Кто
тогда начал первый? Кто тогда первый сказал...
— Не знаю, что я тогда сказал. Оставь меня в покое!
— А почему ты так поздно пришел домой, почему так
тихо прокрался в дверь? Ты хотел что-то скрыть? Или, мо¬
жет быть, сам хотел скрыться?
— Ничего я не хотел скрыть, мне нечего скрывать.
Оставь меня в покое!
98
— Да ты что, не видишь, что я волнуюсь, плачу?
— Ну хорошо, ты плачешь, ты волнуешься. А почему,
собственно?
— Ты просто ужасен, ты сам не знаешь, что говоришь.
Да, он этого не зпал. Он так часто просил о покое, сам
не зная зачем. Наверно, только затем, чтобы лечь, и по¬
тушить свет, и устремить взгляд в темноту, в ту даль, от
которой его то и дело старались отвлечь.
Оставьте меня в покое! Да оставьте же меня в покое!
Если бы хоть была возможность подумать о том, почему
же он перестал стремиться стать невидимым, исчезнуть.
Он не мог этого попять. Ладпо, посмотрим.
Как и все люди, он пе мог прийти к окончательному
решению. Ему не хотелось жить, как все, и не хотелось
быть каким-то особенным. Ему хотелось идти в ногу со
временем и оказать сопротивление своему времени. Его
привлекала и казалась достойной хвалы старинная упоря¬
доченность жизни. Ему хотелось бы защитить от разруше¬
ния и гибели старинные образцы прекрасного, портрет,
древнюю рукопись, колонну. Но его привлекало и проти¬
вопоставление старому современных достижений: аппара¬
тов, реакторов, турбин, искусственных материалов. Он
Любил и то и другое и пе любил ни то, ни другое. Он готов
был понять слабости, заблуждения, глупость и в то же
время старался побороть их в себе, заклеймить, выкорче¬
вать. Он терпел и не хотел терпеть; ненавидел и не питал
ненависти; не мог терпеть и не мог ненавидеть.
Уже из-за одного этого надо было исчезнуть.
В его дневнике за этот год встречались такие записи:
«Я люблю свободу, но она кончается во всем, что твер¬
до установлено, и я желаю для себя лишь сырой земли и
катастрофы. Но и здесь свобода бы кончилась, я знаю».
«Так как никаких естественных запретов не сущест¬
вует, равно как и никаких естественных задач, поставлен¬
ных перед нами природой, а следовательно, разрешено
не только то, что нам нравится, но и то, что не нравится
^а кто знает, что ему правится?), то становятся возмож¬
ными бесчисленные нравственные системы и своды зако¬
нов. Почему же мы ограничиваем себя всего лишь не-
Ьколькими непоследовательными системами, которые ни¬
кого еще не сделали счастливым?»
4*
99
«В моральном хозяйстве человечества, которое ведется
то экономично, то неэкономично, всегда царят одповремен-
но пиетет и анархия. Повсюду разбросаны табу как разо¬
блачения».
«Почему только некоторые, немногие системы правят
миром? Потому что мы так упорно держимся за привыч-
пое из страха перед мыслью, выходящей за рамки предпи¬
саний и запретов, из страха перед свободой. Человек не
любит свободы. Всякий раз, когда она приходила к пему,
оп от нее отделывался».
«Я люблю свободу, но и я уже тысячу раз предавал ее.
Этот недостойный мир и есть результат беспрерывного от¬
каза от свободы».
«Свобода, которую я имею в виду: разрешение — по¬
скольку бог создал мир не для чего-либо определенного и
ничего не сделал, чтобы прояснить, как надо,— обосновать
мир заново и переустроить. Разрешение стереть все фор¬
мулы, в первую очередь моральные, чтобы и все остальные
могли быть стерты вслед за ними. Уничтожение всякой
веры, веры всякого рода, чтобы уничтожить основание для
всякой борьбы. Отказ от всех восторжествовавших воззре¬
ний и установлений: от государств, религий, организаций,
от орудий власти, от денег, оружия, от воспитания».
«Великая стачка: на мгновение останавливается весь
старый мир. Прекращение работы и мышления в пользу
старого мира. Дать отставку истории не ради анархии, а
ради основания нового».
«Предрассудки — расовые, классовые, религиозные и
все остальные — остаются в языке как позорные пятна
даже после того, как сами они исчезают благодаря просве¬
щению и терпимости. Уничтожение бесправия, угнетения,
всяческое смягчение строгости и улучшение состояния об¬
щества еще не влекут за собой окончательного уничтоже¬
ния гнусностей. Поскольку ругательства, означающие их,
крепко удерживаются в языке, они могут возродиться в
любое время».
«Не может быть нового мира без нового языка».
Между тем наступила весна. Солнечная лужа расплы¬
лась в его комнате. На маленькой площади перед домом
ликуют дети, автомобильные гудки, птицы. Он с трудом
заставляет себя продолжать начатое письмо. «Мпогоува-
100
жаемые господа...» On не пишет господам всей правды:
что он из равнодушия, оттого что выдохся и потому что
не нашел ничего лучшего, решил пойти на попятный. Ах,
’что вообще это значит — «пойти на попятный»! Поменьше
^громких слов! «Что касается вашего любезного предложе¬
ния...» А что, разве это пе любезное предложение и разве
есть какие-нибудь основания считать, что он для этого
* чересчур хорош? «С первого числа будущего месяца, со¬
гласно Вашему желанию, я предоставляю себя в Ваше
’^распоряжение. Я надеюсь...»
’ Ни на что он не надеется. Ни о чем он не раздумывает.
Впереди еще достаточно времени, чтобы успеть вникнуть в
< предстоящую работу. Он согласен со всеми условиями, сам
он не ставит никаких. Он поспешно и без колебаний за¬
клеивает письмо и отсылает его заказным. Он пакует свой
скарб: несколько книжек, пепельницу, кое-что из посуды;
зовет управляющего, сдает ему мебель и ключи от квар¬
тиры, в которой так и пе почувствовал себя дома. Но у
него еще остается время до этого «первого числа будуще¬
го месяца», и он решает немного поездить по Италии, по¬
путешествовать по провинции, не спеша, наслаждаясь ви¬
дами. В Генуе он задумывает вдруг побродить пешком,
как во времена юности и как тогда, когда, возвращаясь
из плена, он прошел весь путь назад с фронта —путь,
проделанный в первый раз па скором поезде. Он отправ¬
ляет багажом свои чемоданы и шагает на север по дороге,
среди пробуждающихся рисовых полей. Но на второй день
этого путешествия, почувствовав к вечеру смертельную
усталость от пепривычного напряжения, он делает то, чего
давно уже не делал: останавливается на обочине автостра¬
ды, ведущей в Милан, и голосует. Темнеет, но никто не хо¬
чет его подобрать, пока наконец он, уже потеряв всякую
надежду, не поднимает еще раз руку задолго до приближе¬
ния машины. И эта машина останавливается, тихо, почти
бесшумно. Он обращается с просьбой к человеку, сидя¬
щему за рулем, смущенно, потому что кажется себе гряз¬
ным, как бродяга, и неловко садится с ним рядом. Он дол¬
го сидит молча, изредка украдкой поглядывая на водителя.
Это человек примерно его возраста. Ему нравится его
лицо и руки, свободно лежащие на руле. Потом, переведя
взгляд на спидометр, он замечает, что стрелка быстро дви¬
жется, переходя со 100 на 120, а потом на 140. Он не осме¬
ливается сказать, что ему хотелось бы ехать помедленней,
101
что его вдруг охватил страх перед скоростью. Не так уж
он спешит вступить па путь упорядоченной жизни.
Молодой человек вдруг говорит:
— Вообще-то я никогда никого не сажаю,— и продол¬
жает, словно извиняясь за быструю езду: — Мне нужно
еще до полуночи быть в центре.
Он снова украдкой взглядывает на человека за рулем,
который не отрываясь смотрит вперед, на дорогу, туда, где
фары выхватывают из темноты клочья леса, столбы, огра¬
ду, кусты. Теперь он чувствует себя спокойнее и как-то
удивительно хорошо, но ему хотелось бы, чтобы водитель
опять обратился к нему, поглядел на него — ведь тот толь¬
ко скользнул по его лицу взглядом,—хотелось бы увидеть
его ясные глаза.
Да, ясные, обязательно ясные, ему хочется, чтобы это
было именно так, хочется заговорить с ним, например,
спросить, был ли этот год и для него тоже таким тяжелым,
и что со всем этим делать, и как это понять. Он уже на¬
чинает про себя этот разговор с молодым человеком, в то
время как оба они, сидя на низеньком переднем сиденье,
словно ученики за одной партой, несутся сквозь ночь, ог¬
ромную ночь, в которой все предметы вдруг стали такими
громадными и чужими. Впереди на шоссе из темноты вы¬
нырнул грузовик, они быстро приближаются к нему, соби¬
раются повернуть, но, когда они уже почти поравнялись с
ним, грузовик тоже сворачивает на боковую дорогу.
Они пролетают несколько метров и врезаются в камен¬
ную ограду...
Когда он пришел в себя, он понял, что его подняли и
куда-то несут, и тут же снова потерял сознание; ощущал
только изредка легкие толчки, смутно догадывался на
мгновение, что с ним происходит. Он, как видно, в боль¬
нице, на каталке, ему делают укол, над его головой разго¬
варивают. Сознание его прояснилось только в операцион¬
ной. Двое врачей в масках возились с чем-то за столом —
как видно, готовились к операции. Женщина-врач подошла
к нему, взяла его руку, начала растирать ее, было не¬
много щекотно, но приятно. Вдруг ему пришло в голову,
что ведь все это всерьез и что он, пожалуй, больше не оч¬
нется, когда его усыпят. Он хотел что-то сказать, шевель-*
пул языком, не зная, сможет ли заговорить, и был счаст-*
лив, когда удалось произнести несколько слов. Он попро¬
сил бумагу и карандаш. Сестра принесла ему и то и дру-*
102
jroe и держала листок перед ним па подставке, пока он, на¬
чиная чувствовать действие наркоза, осторожно царапал
[сарандашом: «Дорогие родители...» Он перечеркнул эти
слова и написал: «Любимая...» Он задержал карандаш, на¬
пряженно думая. Потом, смяв листок, отдал его сестре и
покачал головой, давая понять, что все это не имеет смыс¬
ла. Если оп больше не очнется, то и письма эти ни к чему.
Иувствуя, как тяжелеют веки, он лежал и ждал в блажеп-
юм полусне, когда же погаснет сознание.
Этот год переломал ему кости. И вот он лежит в боль¬
нице — ему искусно наложили швы, но шрамы пока еще
не побледнели — и не считает дней, оставшихся до снятия
Гипса, под которым, как его уверяют, все заживает. Не¬
знакомец за рулем — теперь он уже это знает — погиб там
рке па месте. Иногда оп думает о пем, не отрывая взгляда
ют потолка. Думает как о человеке, умершем вместо него,
[и видит его перед собой — эта ясность, эта напряженность
[в лице, молодые крепкие руки па руле,— видит его посре¬
ди тьмы, рвущимся вперед и гибнущим в пламени.
Наступает май. Цветы в его палате каждый день заме¬
няют более яркими. Шторы в полдень на несколько часов
опускают, и запах цветов становится сильнее.
Если бы он мог увидеть сейчас свое лицо, оно пока¬
залось бы ему совсем молодым, и он не сомневался бы
больше в своей молодости. Ведь древним стариком он чув¬
ствовал себя, когда был гораздо моложе, и опускал голову
и сутулился под бременем тревог духа и плоти. Когда он
был совсем юным, оп мечтал о ранней смерти, не хотел
дожить даже до тридцати. Но теперь он намерен жить.
Тогда у него в голове мелькали лишь знаки препинания,
теперь сложились первые предложения, способные выра¬
зить мир. Тогда он считал, что додумал все до конца, не
замечал, что сделал лишь первый шаг и что действитель¬
ность нельзя познать сразу и до конца, ибо она таит в себе
еще многое и многое.
Долго он не знал, во что ему верить и не позорно ли
вообще верить во что-либо. Теперь он начал верить хотя
бы самому себе, когда что-нибудь говорил или делал. Оп
питал теперь доверие к вещам безусловным: к порам своей
кожи, к соленому вкусу моря, воздуху, напоенному арома¬
том цветущих деревьев,— попросту ко всему тому, что не
было общим понятием.
Незадолго до выхода из больницы он впервые увидел
103
себя в зеркале, когда захотел причесаться. Увидел свое
лицо, запрокинутое на подушки, такое знакомое, только
немного прозрачнее прежнего, и вдруг заметил, что в
слипшихся темных волосах надо лбом что-то блеснуло. Он
потрогал волосы рукой, придвинул поближе зеркало: седи¬
на. Сердце его забилось.
Он растерянно глядел в зеркало.
На следующий день он снова взял зеркало, боясь, что
седины стало больше, но нет, там по-прежнему был всего
лишь один седой волос.
Потом он подумал: «Ведь я жив и хочу жить еще дол¬
го. Седина, этот светлый знак боли и первый предвестник
старости, почему опа так меня испугала? Пусть остается,
и, если через несколько дней этот волос выпадет и не по¬
явится новый, я все равно сохраню в памяти это предчув¬
ствие и никогда больше не испытаю страха перед движе-*
нием жизпи.
Ведь я живу!»
Скоро он выздоровеет.
Скоро ему исполнится тридцать. День придет, но ни¬
кто не ударит в гонг, чтобы его возвестить. Нет, этот день
не придет — он уже здесь, он присутствовал в каждом дне
этого года, который достался ему так тяжело. Его очень
занимает, что будет дальше, он думает о работе и мечтает
выйти из ворот там, внизу,— из мира потерпевших круше¬
ние, непригодных к жизни, спознавшихся со смертью.
Я говорю тебе: «Встань и иди! Ты цел и невредим».
ВИЛЬДЕРМУТ
«Вильдермут всегда избирает истину».
Это замечательное изречепие, которое оп так часто сльр
шал от своего отца, учителя Антона Вильдермута, пришло
на ум старшему советнику земельного суда Антону Виль-
дермуту, когда оп снимал берет и мантию. С подноса, по¬
данного ему служителем Заблачаном, оп взял стакан воды,
достал из кармана жестяную коробочку с саридоном, вы¬
тряхнул две таблетки и, разжевав их, запил горечь водой.
Головная боль у него все ширилась, захватывая самые от¬
даленные уголки мозга,— казалось, на него надели терно¬
вый венец. Вильдермут неподвижно глядел в пространст¬
во, в ушах у него гулко отдавались слова того изречения.
Заблачану, собравшемуся было уйти, он знаком велел
остаться, затем осторожно, словно от резкого движения у
него могла отвалиться голова, опустился на стул и поду¬
мал, что с истиной теперь навсегда покопчено. Он вытя¬
нул шею и прислушался: ощущается ли на улице, в горо¬
де, во всем мире эта внезапно наступившая тишина.
— Заблачан, что я сказал?
Старый служитель ничего не ответил.
— Я кричал?
Старый служитель кивнул.
Вскоре в комнату, как ангелы мщения, молча вошли
мужчины в черных одеяниях: они подхватили Вильдер¬
мута, свели вниз по лестнице и отвезли на такси домой.
Он позволил уложить себя в постель и несколько недель
пролежал под присмотром своего домашнего врача и пси¬
хоневролога. Когда у него спадала температура, он читал
газеты, писавшие о деле Вильдермута, читал отчеты и
суждения и через некоторое время уже знал их наизусть.
Он пытался, как сторонний наблюдатель, сначала воссоз¬
дать, а потом снова разложить на части всю эту исто¬
рию — в том виде, в каком она была преподнесена публи¬
105
ке. Ио только оп один зпал, что из отдельпых частей пи-
какой истории составить нельзя, ибо нельзя установить
между ними видимую связь. Ему было ясно: однажды с
ним произошел несчастный случай — вспышка света оза¬
рила его разум, который оказался способен лишь па то,
чтобы произвести в мире недолгое и бесполезное смятение.
1
Сельскохозяйственный рабочий Йозеф Вильдермут
убил топором своего отца, похитил накопленные отцом
деньги, в ту же ночь пропил и раздарил их, а на следую¬
щий депь явился с повинной в полицию. Из полицейских
протоколов явствовало, что человек этот в совершепном
им преступлении сознался, и, поскольку никаких сомне¬
ний в истинности его показаний не возникало и ни на кого
другого подозрение пасть пе могло, дело было незамедли¬
тельно передапо следователю. Однако следователь Андер-
ле, школьный товарищ старшего советника земельного
суда Вильдермута, хлебпул-таки горя с обвиняемым, кото¬
рый ни с того ни с сего начал вдруг все отрицать — точнее
говоря, принялся самым нелепым образом утверждать, что
все занесенное в протокол полицией не соответствует дей¬
ствительности. Тем не менее следователю все же удалось
через какое-то время закончить дознание и переправить
дело в суд, ибо Йозеф Вильдермут наконец признал, что
отца своего он убил, хотя и непреднамеренно: просто он
старика ненавидел, ненавидел с самого детства за то, что
тот его бил, не пустил учиться, приучал воровать и обма¬
нывать. Итак, в деле содержалась повесть о тяжелой юно¬
сти, озлобленном, оскотиневшем отце и рано умершей ма¬
тери.
Когда дело попало к судье Вильдермуту, его, формы
ради, спросили, не состоит ли он в родстве с подсудимым
Вильдермутом. И оп со спокойной совестью ответил, что
нет; даже самое дальнее родство между ними исключа¬
лось: его семья была родом пз Каринтии, обвиняемый же
происходил из алеманов. Поначалу пресса едва удостоила
упоминания это убийство, слишком уж оно было ординар¬
ным и незначительным, и о предстоящем процессе загово¬
рили только потому, что некий журналист из редакции
бульварной газеты в те дни случайно встретился с шефом
106
полицейской службы информации и узнал, что дело Впль-
дермута будет вести старший советник земельного суда
Вильдермут, то есть что судья и подсудимый — однофа¬
мильцы. Это совпадение показалось журналисту забавньш
и разожгло его любопытство; он напечатал в своей газете
заметку о деле Вильдермута, хлесткую, самоуверенную и
полную недомолвок; тогда и другие газеты поспешили на¬
править в суд своих корреспондентов.
Для судьи это дело, которое, казалось, не таило в себе
никаких сложностей, было долгожданной передышкой: в
последнее время ему пришлось вести тяжелые процессы с
политической подоплекой; пришлось вскрывать махинации
членов правительства и других лиц, облеченных властью;
запросы в парламент, письма от политической мафии, где
ему грозили смертью,— все это издергало его и довело до
состояния полного изнеможения. Во время короткого от¬
пуска, который ему удалось выхлопотать, у него внезапно
умер родственник, об отдыхе нечего было и думать, и по¬
сле всего — после неоднократных поездок в другой город,
похорон и волокиты с наследством — он оказался, пожа¬
луй, в еще худшем состоянии, чем раньше. Поэтому дело
Вильдермута — дело, так сказать, вполне рядовое, напом¬
нившее судье его первые самостоятельные процессы в
Вене, а значит, и более счастливые для пего времена,—
привлекало его самой своей простотой и стройностью, и,
спроси его кто-нибудь в тот момент, чего он хочет, он бы
честно сознался, что уже не стремится вести громкий за¬
путанный процесс, в котором бы он мог блеснуть своим ис¬
кусством и неподкупностью, что у него все больше отвра¬
щения вызывает мир, где не просто убивают, насилуют и
грабят, а где преступления становятся все более безлич¬
ными, подлыми и бессмысленными. Да, он предпочитал
такой мир, в котором кто-то убивает топором отца и яв¬
ляется с повинной в полицию: здесь не надо прибегать к
помощи глубинной психологии или последних открытий
науки о подспудных побуждениях к массовым убийствам,
к преступлениям против человечности; не надо под лице¬
мерный визг прессы перемывать грязное белье целого слоя
общества, не надо — в осторожной или резкой форме — за¬
прашивать высокие инстанции или высокопоставленных
лиц; здесь не требуются головоломные трюки или сверхъ¬
естественный нюх и не угрожает опасность сорваться с вы¬
соты. Ему предстоит встретиться лицом к лицу только с
107
одним человеком — с преступником — и с его частным,
хоть и ужасным преступлением, и он, судья, опять сможет
мыслить ясно и просто, вновь обретет доверие к праву, к
раскрытию истины, к приговору и мере наказания.
Однако, изучая дело Йозефа Вильдермута, Антон Виль-
дермут начал ощущать какое-то смутное беспокойство —
беспокойство от того, что он поминутно натыкался в бу¬
магах па свою фамилию, а принадлежала она совершенно
чужому человеку. Он вспомнил, как в далекие времена
своей студенческой жизни в Граце часто ходил в гости в
един дом, где возле парадной двери, среди табличек с фа¬
милиями жильцов и звонками, была и табличка с фамили¬
ей Вильдермут. Та табличка вызывала у него точь-в-точь
такое же смутное беспокойство. Каждый раз, проходя
мимо дверей тех незнакомых Вильдермутов, он приоста¬
навливался, принюхивался к запахам из их квартиры —
один раз это был едкий запах щелока, другой раз — запах
капусты. Оба эти запаха теперь вдруг ударили ему в нос,
и ему показалось, будто он опять стоит в том парадном и
борется с подступающей тошнотой.
Снова и снова вставала перед его глазами эта фами¬
лия — в связи с окровавленным топором, с початым кара¬
ваем хлеба, с непромокаемым плащом и, главное, с ото¬
рванной от этого плаща пуговицей, которой еще предстоя¬
ло сыграть свою роль; в связи с лампой, горевшей на кух¬
не, а потом погасшей, и с обозначением времени — 22 часа
30 минут и 23 часа 10 минут,— которое никак не хотело
вписываться в живое, реальное время; об этих вещах гово¬
рили так, будто весь мир только и ждал, чтобы ему рас¬
сказали сказку — сказку про топор такого-то образца, про
плащ такой-то марки. Его фамилия выступала здесь в
скверной сказке, так же бессмысленно связанная теперь
с определенными происшествиями, как некогда была свя¬
зана с запахом капусты, с парами щелока или с внезапно
раздавшейся на лестничной площадке громкой музыкой.
Происшествия, подобные тем, что были описаны в этом
деле, никогда еще не волновали его в такой степени. Во
всяком случае, он никогда не задавался вопросом, подхо¬
дят ли к той или иной фамилии убийство, разбитая маши¬
на, растрата, супружеская измена. Для него было привыч¬
ным, что фамилии связаны с определенными делами, а
происшествия соотносятся с фамилиями тех, кто выступа¬
ет в качестве обвиняемых и свидетелей.
108
Когда пачался процесс и он посмотрел на подсудимой
го — а судья был вынужден время от времени на пего
смотреть,— у Аптопа Вильдермута возпиклоеще более ще¬
мящее чувство, чем раньше, пока он только изучал дело,
чувство, в котором странным образом смешались стыд и
возмущение. Спокойствие и холодная уравновешенность —
то, что обычно ставилось ему в заслугу,— на сей раз дава¬
лись ему с трудом. А однажды — прошел всего час с на¬
чала заседания — он вдруг перестал соображать, какие во¬
просы он задает и что ему отвечают. На второй день, когда
формальный предварительный допрос окончился и процесс
мог бы уже пойти живее, он шел по-прежнему медленно и
вяло. Свидетели говорили так, будто их показания были
заранее отрепетированы, никто не сбивался, не путался.
Подсудимый производил впечатление человека спокойно¬
го, простоватого, тупого — оп был воплощением искренно¬
сти и ни для кого не составлял загадки. Только судья все
что-то подозревал, беспрестанно рылся в бумагах и никак
не мог успокоить руки — то складывал и разнимал их, то
вскидывал кверху и снова опускал на стол, шевелил дро-
жащими пальцами или вдруг судорожно хватался за край
стола, словно искал опоры.
Случилось это па третий депь процесса, незадолго до
перерыва на обед, и руки судьи наконец обрели покой.
Подсудимый скромненько поднялся с места и тихо сказал:
— Да ведь это все неправда.— И в наступившей тиши¬
не еле слышно добавил: — Потому что по правде оно было
совсем не так. Все было совсем по-другому.
Его снова стали допрашивать, и он отвечал: да, отца
своего он убил, но коль скоро его так подробно расспра¬
шивают, то и отвечать, по его разумению, ему надо под¬
робнее, вот и приходится признать, что все было совсем,
совсем по-другому. Его прежние показания были ему вну-*
шены полицией, да и следователю он не всегда осмеливал-*
ся возражать. Например, у них с отцом никакой драки из-*
за денег не было, и пуговицу от плаща оторвал ему вовсе
не отец, пуговица на его плаще оторвана уже давно, а эта
вообще не его — она от плаща соседа, вон он сидит здесь,
в зале, среди свидетелей, у него однажды вышла стычка
с отцом.
Дальше он говорить не мог, потому что прокурор веко-»
чил с места и обрушился на него с гневной речью, в кото-*
рой несколько раз прозвучало слово «финты»; от этого
109
слова подсудимый побледнел, хотя, скорее всего, слышал
его впервые, а может быть, как раз поэтому.
После перерыва судья начал задавать все вопросы на¬
ново и требовал от Йозефа Вильдермута ответа, а тот
опять покорно, тихим голосом рассказывал о том, что про¬
изошло, по рассказывал теперь совершенно по-другому. От
всего, что заполняло многочисленные листы пухлого дела,
не осталось ничего надежного, стоящего. И поступки обви¬
няемого, как теперь казалось, были представлены в деле
неверно, и о мотиве преступления не было высказало ни
одного хоть сколько-нибудь вероятного предположения.
Коль скоро в ходе следствия было допущено так много
ошибок, слушание дела пришлось приостановить до полу¬
чения новых данных экспертизы.
Когда процесс возобновился, он уже привлекал к себе
всеобщее внимание. Призвали специалистов, в их числе од¬
ного прославленного эксперта европейского масштаба —
знатока по части пуговиц и ниток,—ибо защита подвергла
сомнению результаты экспертизы, произведенной в крими¬
налистической лаборатории уголовной полиции, и ход со¬
бытий можно было бы прояснить лишь в том случае, если
бы удалось с точностью установить, от чего оторвана пу¬
говица — от плаща обвиняемого или от плаща соседа.
Однако прошел еще день, прежде чем вызвали специа¬
листа; снова допрашивали свидетелей, проверяя новые по¬
казания обвиняемого, а тот пытался объяснить, как пони¬
мать те или иные подробности, выявившиеся только сей¬
час, и что, собственно, толкнуло его на преступление. Но
если вначале он отвечал неизменно прямо и без уверток,
то теперь нередко сбивался или оторопело молчал. Нет, он
сейчас уже не помнит, всерьез ли отец грозился вышвыр¬
нуть его из дома; пет, он не уверен, что сызмальства нена¬
видел отца, пожалуй, что нет; в детстве он не питал нена¬
висти к отцу, тот часто мастерил ему игрушки, деревян¬
ных резных зверей; с другой стороны, конечно... Вдруг
ему как будто пришло в голову что-то еще, он тупо
уставился в одну точку — заметно было, что вспоминает
он с трудом и напрягать память для него дело непри¬
вычное.
Тут с удивительной словоохотливостью выступил на¬
значенный судом защитник, и, хотя он, видимо, сам еще
толком не знал, на чем ему строить защиту, в эту минуту
ого словно осенило — он почувствовал, что процесс наби-
110
рает силу, что рамки его расширяются, почувствовал па-»
пряженное ожидание в зале.
— Мы должны терпеливо извлекать крупицы истины
из этой бедной истерзанной души,— взывал он к членам
-суда, словно приглашая их принять участие в общей игре,
а не в состязании. Это был очень хороший, но старомод¬
ный защитник, и, наскучив суду своей речью, он в то же
время смягчил суд, потому что употреблял слова, которых
ни за что бы не произнесли более молодые адвокаты; дей¬
ствительно, как смешно звучали бы в их устах такие вы¬
ражения, как «измученная душа», «несчастная, осквернен¬
ная юность», «хрупкое растеньице». Даже слово «подсозпа-
ние», когда он выговаривал его, приобретало какой-то тро¬
гательный, душераздирающий оттенок. И самая истина, за
которую он так ратовал, начинала казаться громоздким
старым комодом со множеством ящиков; они выдвигались
со скрином, но зато содержали в себе меньшие, дочерние
истины — белоснежные, чистенькие, удобные. Вот сердце
обвиняемого, нежно привязанное к рано умершей матери;
вот его смятенный ум, всецело занятый мыслью о деньгах;
вот нехитрые потребности простого рабочего парня —
рюмка водки, немного участия и тепла; а вот, с другой сто¬
роны,— добросовестность, исполнительность, хороший от¬
зыв хозяина. Содержался там, наконец, и топор с засохшей
на нем кровью, при виде которого мирные граждане
содрогнулись, а все общество возопило «караул!». В зале
воцарилось стесненное, участливое молчание, побудившее
старого адвоката к необычному многословию. И когда на¬
конец пригласили эксперта, европейскую знаменитость,
у того невольно возникло ощущение, что процесс этот
очень значительный, и его роль тоже очень значительна, и
дело отнюдь не лишено тонкостей, подвохов и спорных
моментов. И это ощущение, пожалуй, не обмануло его,
хотя в конечном счете оп все же обманулся, так как под¬
вох подстерегал его совсем не там, где он ожидал.
Эксперт обратился к почтительно внимавшему суду,
полагая, что, быть может, наступил его великий час.
— Высокий суд! — начал он, протягивая вперед папку
с документами, словно это было прошение.— Отчет, кото¬
рый я имел честь проверять, содержит немало добросо-
вестных наблюдений, достойных внимания догадок, но, к
сожалению, слишком мало четких выводов. Не зпаго, из¬
вестно ли вам, какую большую и кропотливую работу в
ill
паше время при нынешнем состоянии науки необходимо
проделать для серьезного исследования пуговицы. Для по¬
добного исследования требуется — перечислю лишь самое
главное — определить степень ее блеска, состояние ее по¬
верхности, расстояние между отверстиями. Отверстия не¬
обходимо также сфотографировать изнутри, надо измерить
расстояние от края пуговицы до каждого отверстия, опре¬
делить их диаметр. Но и это еще далеко не все. Надо опре¬
делить также вес пуговицы и толщину ее бортика.
Лица людей в черных мантиях за судейским столом и
лица присяжных застыли и стали непроницаемыми.
< Эксперт окинул взглядом зал и продолжал в приподня¬
том топе:
— Высокий суд! Для того чтобы определить вес этой
пуговицы, я пользовался как швейцарскими, так и амери¬
канскими точными весами.
В зале кто-то фыркнул.
Председательствующий перегнулся через стол и ска¬
зал, улыбаясь:
— Господин профессор, если я верно вас понял, вы
требуете от этой пуговицы настоящей исповеди и ставите
в упрек здешнему лаборанту, что он такой исповеди не
добился.
Теперь уже в зале хохотали все.
Защитник рассердился, вскочил с места и дрожащим
старческим голосом выкрикнул:
— Дело публики в этом зале — молчать!
Председательствующий успокоил его, извинился за то,
что вызвал смех, и попросил эксперта продолжать, тот же
удивленно озирался, словно никак не мог взять в толк, что
произошло и над чем здесь смеются.
Затем допросили начальника лаборатории — они вместе
с экспертом должны были решить, тождественны ли нит¬
ки, свисающие с оторванной пуговицы, ниткам на плаще
обвиняемого.
— Господа! — взволнованно воскликнул эксперт.—
Я все время слышу здесь слово «тождественный». Но ведь
никак нельзя сказать, что эти нитки тождественны! Сло¬
вом «тождественно» выражается высшая степень сходства.
Можно, пожалуй, да, пожалуй, можно сказать, что два
фотоснимка с одной и той же картины тождественны. Но
утверждать что-либо подобное об этих нитках совершенно
112
недопустимо. Неужели здесь этого пикто пе понимает?
Неужели меня пикто не понимает?
Тогда начальник лаборатории взял другое заключение,
сделанное текстильным институтом, и зачитал то место,
где говорилось о «полном соответствии ниток».
— Нет, нет,— устало повторял эксперт и в конце коп-
цов опять возмутился: — Это же еще вовсе не означает,
что те и другие нитки с одной катушки. Поймите, в Евро¬
пе всего лишь несколько фирм производят нитки для при¬
шивания пуговиц, и технология этого производства за
много лет совершенно ле изменилась. То же самое можно
сказать и о пуговицах. Я не знаю, господа, чего вы доби¬
ваетесь, но считаю своим долгом пояснить вам, что так
говорить о пуговицах, так говорить о нитках просто недо¬
пустимо. Раскрыть истину пуговицы совсем не так лег¬
ко, как вам кажется. Тридцать лет неустанного труда по¬
ложил я на то, чтобы выяснить о пуговице все, что воз¬
можно, а теперь вижу, что вам жалко посвятить этому
полчаса...
Он развел руками и склонил голову, словно давая по¬
нять, что вынужден, увы, смириться со столь вопиющей
несправедливостью.
На этот раз никто не смеялся.
Хорошее настроение в зале улетучилось, воцарилось
тяжелое, гнетущее.
Перешли к другим вопросам, но казалось, что теперь
никто из свидетелей обвинения и свидетелей защиты не
может дать вразумительных и точных показаний. С той
минуты, как суду была предъявлена пуговица и стали из¬
вестны ее каверзы, всех отравил яд сомнения. Словно
каждый почувствовал, что благодаря пуговице открылось
нечто такое, чего раньше никто не принимал в расчет.
Было, оказывается, чрезвычайно трудно сообщить точные
данные о пуговице, ученые опасались, что им о ней извест¬
но далеко не все, и готовы были посвятить целую жизнь
исследованию пуговиц и ниток.
У свидетелей возникло такое чувство, будто все их от¬
веты до этой минуты были легкомысленными, а их пока¬
зания о времени или о вещах — безответственными. Слова
падали у них изо рта, как мертвые мухи. Они теперь и
сами себе не верили.
Все начинало расплываться и разваливаться, и тогда
слово взял прокурор, который не поддался заразе и не дал
113
заглушить в себе голос истины. Сначала он с иронической
улыбкой поблагодарил эксперта за «столь же удивитель¬
ную, сколь и ненужную экспертизу пуговицы, заставив¬
шую суд лишь даром потратить время», а затем напом¬
нил — и тут его улыбка погасла — о «неопровержимых,
простых, суровых фактах».
Его резкий, хорошо поставленный голос словно хлестал
собравшихся, и несколькими меткими словами он вернул
заблудший зал к действительности. Публика и присяжные
сразу же взяли его сторону: от сплошпых разночтений в
протоколах этого, в сущности, несложного дела все вооб¬
ще перестали что-либо попимать. Прокурор взывал к исти¬
не. Обвиняемый одобрительно кивал головой. Защитник —
и тот нехотя кивнул.
Нет, неверно писали в газетах: не к концу прений сто¬
рон и не во время спора о пуговице, а именно в этот мо¬
мент советник земельного суда Антон Вильдермут медлен¬
но поднялся с кресла, оперся руками о стол и крикнул.
Этот крик потряс весь состав суда, на много дней стал
предметом городских толков и отлился броскими заголов¬
ками па первых страницах газет. Этот крик поразил всех
лишь потому, что не имел ничего общего с процессом, ни
к кому пе относился, не укладывался ни в какие рамки.
Некоторые говорят, будто судья крикнул: «Пусть только
кто-нибудь здесь посмеет еще раз произнести слово «исти¬
на»!»
Если верить другим, то он крикнул: «Я запрещаю вам
говорить об истине, запрещаю!»
Или: «Хватит об истине, хватит наконец!..»
Каковы бы ни были его слова, он повторил их много-
много раз в наступившей жуткой тишине, потом отодви¬
нул кресло и вышел из зала.
Кое-кто утверждает, будто он упал без чувств и его
пришлось вынести на носилках.
Бесспорно одно — крик.
2
Пусть кто хочет ломает голову над тем, почему я иду
этой дорогой, почему останавливаю его и кричу; но пусть
все же задумается и над тем, куда я иду и на какой дороге
снова рухну, если мне суждено оправиться после нынеш-
114
цего падения. Какого цвета у меня глаза? Сколько мне
лет? Какой размер обуви я ношу? На что трачу деньги?
Когда я родился? Я было хотел сообщить, какой у меня
размер головы, но нет — голова у мепя обыкновенная,
средняя. А мой мозг после смерти будет весить совсем
немного.
Все дело в том, что я взыскую истины, как некоторые
другие взыскуют бога или мамоны, славы или вечного бла¬
женства. Я взыскую истины — уже с давних пор, с тех пор,
как я себя помню.
У пас в провинций} гДе мой отец был учителем, а дед
крестьянствовал, во времена моего детства по всему фасаду
дома тяпулась надпись, пачертанная огромными, уже и в
те годы выцветшими буквами: «Мы лишь гости па земле».
Слова эти велел написать мой дед Вильдермут — человек,
у которого было куда больше мужества, чем у его сыно¬
вей и внуков: оп умел все подчинять этой глубокой, неос¬
поримой мудрости и подчинялся ей сам. После его смерти
надпись замазали, а стену побелили. Но оттого, что эти
слова были начертаны на моем первом жилище, а срок
нашего пребывания на земле действительно недолог, мне
можно простить, что я гонюсь за одной только истиной,
а раз этого срока не хватит, чтобы настичь и поймать ее, и
можно за ней лишь охотиться, то и нечего смеяться надо
мной, что я остался с пустыми руками,— все другие тоже
с пустыми руками и пе менее смешны, чем я.
Все, все вокруг — с пустыми руками.
Мой отец, который более тридцати лет учительствовал
в Г.— провинциальном городке, где в окружном суде я
начинал свою судейскую карьеру,— был протестантского
вероисповедания; да и вся моя семья с незапамятных вре¬
мен была протестантской, кроме матери — она была като¬
личка, хотя никогда не ходила в церковь. Сколько я пом¬
ню свои детские годы, отец, вынужденный заботиться о
воспитании целой ватаги школьников, не уделял особого
внимания мне и моей сестре, однако всегда с готовностью
отрывался от чтения газеты или от проверки тетрадей,
если кто-либо из нас что-то рассказывал или мать сооб¬
щала ему о какой-то шалости, ссоре и тому подобных ве¬
щах. В таких случаях он неизменно задавал один вопрос:
«Это правда?» Он был бесконечно изобретателен в созда¬
нии слов и словосочетаний с корнем «прав», для чего уме¬
ло использовал все присоединительные и присовокупитель-
115
пые возможности. «Правдивый», «правдивость», «правда»,
«правый», «правомерный», «правдолюбие», «правдолюби¬
вый» — эти слова он ввел в паш семейный обиход, и бла¬
годаря ему я с малолетства испытывал перед ними трепет.
Прежде чем я мог понять значение этих слов, они взяли
надо мною власть, которая меня сломила. Как другие дети
стараются построить дом из кирпичиков точь-в-точь по го¬
товому образцу, так и я лез из кожи вон, чтобы пе откло¬
ниться от образца «говори правду», и я полагал, что мой
отец требует одного: подробного и точного рассказа о том,
что произошло. Чему это должно'служить, я, естественно,
пе понимал, но вскоре приучился говорить только прав¬
ду — в той мере, в какой это позволял мне мой детский
разум,— и не столько из страха перед отцом, сколько из
безотчетной внутренней потребности.. За это меня называ¬
ли «правдивым мальчиком». Но вскоре мне стало уже не¬
достаточно того, что вполне удовлетворяло моего отца —
например, когда я говорил ему, что после школы шатался
по улицам или что опоздал к обеду пз-за драки с маль¬
чишками,— и я стал говорить еще более истинную правду.
Ибо вдруг понял — я был тогда, наверно, в первом или во
втором классе,— чего от меня хотят, понял, что я в своем
праве. Моя внутренняя потребность отвечала требованию,
которое предъявляли мне старшие,— высокому требова¬
нию, превыше всех других. Меня ожидала чудесная, лег¬
кая жизнь.
Я не только имел право — я был обязан при любых
обстоятельствах говорить правду. Следовательно, когда
отец меня спрашивал, почему я так поздно пришел из шко¬
лы, я должен был сказать, что учитель наказал нас за
то, что мы разговаривали и шумели, и заставил сидеть в
классе лишние полчаса. Я должен был сказать, что, кроме
того, встретил госпожу Симон и потому еще немного за¬
держался.
Нет, я должен был сказать: к концу урока арифметики,
минут, наверно, за пять до звонка, когда мы расшалились,
учитель пригрозил...
Нет, не так: из-за того что на последней парте раз¬
говаривали и вертелись, из-за того что на последней пар¬
те мы с Андерле делали голубей из бумаги, из-за того что
мы вырвали листы из тетради и сделали двух голубей, а
потом еще скатали два шарика из листов, которые мы
вырвали из тетрадей по арифметике из середины, где мож¬
116
но отогнуть скрепку и вынуть лист так, чтооы учитель по
заметил...
И еще я старался передать слово в слово, что говорил
учитель, и подробно, до мелочей, рассказывал, что сооб¬
щила мне госпожа Симон, и как опа при этом схватила
меня за рукав, и как неожиданно появилась передо мной
на мосту. Но, рассказав все подробно до мелочей, я прини¬
мался рассказывать снова, с самого начала, ибо в рвении
своем замечал, что рассказ мой все еще не вполне точен,
к тому же все, о чем я говорил, сплетено с какими-то
предшествующими событиями, с чем-то еще, не названным
мною. Как же это трудно — сообщить о чем бы то ни было
с исчерпывающей полнотой; но надо только по-настояще¬
му этого захотеть, а я хотел, я то и дело пытался, я прямо-
таки горел желанием решить эту задачу, куда более ипте-»
ресную, чем школьные задания.
Я искал истину, а в тогдашнем моем возрасте это оз¬
начало прежде всего «говорить правду».
В один прекрасный день, когда мы с моей сестренкой
Анни и соседскими ребятами выкинули одну штуку, воз¬
мутившую всех соседей, я впервые впал в то состояние ис¬
терической правдомании, из которого не мог потом выйти
долгие годы.
Еще до того, как мне было приказано явиться к отцу,
я тщательно продумал всю последовательность событий
и затвердил: сперва Эди сказал, надо, мол, подстеречь гос¬
пожу Симон, когда опа пойдет домой. Мы зашли за угол
и стали ждать. Мы хотели напугать ее. Эди сказал, и я
сказал, и Эди сказал, хотя Эди первый сказал: «Давайте
это сделаем», но я еще раньше думал, что хорошо бы
ее напугать, подбросить ей в хозяйственную сумку ля¬
гушку, которую я было поймал, но потом упустил. Когда
мы увидели, что госпожа Симон все не идет, Анни по¬
шла и набрала камней и мы с ней положили камни у ка¬
литки, а Эди еще положил туда палку; пять здоровых
булыжников и палка, которую Эди срезал себе в лесу; и
камни и палку мы положили, чтобы госпожа Симон об
них споткнулась; потом Герма принесла еще один бу¬
лыжник, Герма сказала, и я сказал, и Эди сказал, да, мы
так сказали, а потом Анни сказала, нет, она совсем не
хочет, чтобы госпожа Симон разбила себе нос, но я ска¬
зал, и Эди сказал...
Я знал, что избегну наказания, даже если расскажу
117
отцу эту первую, второпях составленную версию, но я по¬
просил разрешения еще немного подумать, я совершен¬
ствовал свое сообщение до тех пор, пока оно не показа¬
лось мне вполне законченным и верным в мельчайших под¬
робностях, однако единственное, что мне запомнилось,—
э>о его убийственная многословность. Отец не хотел пока¬
зывать мне, как он доволен моими достижениями, но я по¬
чувствовал его благоволение, когда он отпустил меня со
словами: «Правдой можно достичь всего. Всегда придер¬
живайся истины и пико-го не бойся».
В дальнейшем я так же подробно описывал отцу все
происшествия, случившиеся со мной, даже самые неприят¬
ные. У матери зачастую не хватало терпения выслушать
до конца мою исповедь; случалось, опа бросала на отца
взгляд, значения которого я не понимал, но отец продол¬
жал внимательно слушать — он находил удовольствие в
этих допросах, а я с каждым разом все меньше боялся за
себя и к тому же упивался той радостью, какую достав¬
лял отцу.
Если бы только это была правда — все то, что я выкла¬
дывал отцу о мелких и скучных школьных происшестви¬
ях, шалостях, дурацких выходках, о моих первых добрых
и злых побуждениях! Если бы только это была правда —
о, тогда все было бы хорошо! Нечто упоительно прекрас¬
ное было в этом моем детском стремлении к правде, в этих
подробных описаниях, в передаче чужих речей, в безоста¬
новочном рассказывании. Это стало для меня настоящей
школой — она формировала меня, давала опыт, учила раз¬
лагать на мельчайшие составные части любое происше¬
ствие, любое чувство, любую вещь.
Лишь значительно позже мне пришло в голову, что о
многом меня, естественно, не спрашивали, за многое мне
ни разу не пришлось держать ответ — не обо всем я тогда
говорил правду. Никто пи разу не спросил меня о том,
чего я не обязан был говорить в своей исповеди,— что ду¬
маю я о тех или иных вещах, о чем мечтаю, во что верую.
Между тринадцатым и восемнадцатым годами моей жиз¬
ни — пусть я и продолжал тогда истерически упражнять¬
ся в правдоговорении — я вольно разгуливал в некоем
особом мире, отгороженном от моей семьи, словно на за¬
темненной арьерсцене. Туда я прятался после каждого
моего выступления во имя правды, там отдыхал от этих
утомительных выступлений и вознаграждал себя за то па-
118
щэяжение сил, какого уже тогда стоило мне мое правдо-
говорение. А с каждым годом все стоило мне дороже —
дороже стоило дышать, мечтать, говорить. На арьерсцене
разыгрывались мои никому не ведомые воображаемые при¬
ключения, драмы, фантастические истории, которые вско¬
ре разрослись столь же буйно, сколь и мои правдивые
признания в свете рампы. Иногда я осторожно и насмеш¬
ливо называл этот свой мир «католическим», хотя такое
назвапие к нему совсем не подходило; просто этим словом
я хотел выразить, что мир этот — греховный, красочный,
пышный — джунгли, гДё Можно быть нерадивым и не ко¬
паться в своей совести. Этот мир казался мне сродни
миру моей матери, и всю ответственность за свои фан¬
тазии я перелагал на нее — на эту женщину с красивыми
и длинными рыжевато-белокурыми волосами,— она рас¬
хаживала по дому, пи во что не вникая и лишь забавно
вздергивая брови, когда мы, дети, бывало, морозным во¬
скресным утром хныкали, что вот, мол, опять надо идти в
церковь. Можно было подумать, будто ее удивляет наш
протест, а ведь сама она была избавлена от этих хождений.
Пока мы были в церкви, эта нерадивая женщина, моя мать,
купалась в деревянном чане, мыла голову и, когда мы при¬
ходили домой, стояла на кухне в одной сорочке, сияя чи¬
стотой и довольством. Сестренке Анни она разрешала по¬
мочь ей причесываться, а я, накручивая себе на палец
вычесанные рыжеватые волосы, с важным видом давал
советы, как лучше заколоть узел на затылке. Да, моя мать
с этими ее воскресными радостями была, конечно, кое от
чего отлучена — отлучена от истины. Ей было не понять,
что это такое. Отец — вот кто был одержим истиной, и не
только по воскресеньям, когда он прямо заводил о ней
речь и раскрывал нам ее значение. Какие бы цели ни стави¬
ли себе другие люди, целью Вильдермутов — это я твердо
уяснил себе — было и осталось: искать истину, отстаивать
истину, истину предпочитать всему. Истина — для нас,
детей, это слово таило в себе что-то далекое, точно за нею
надо было отправляться в Китай; а слово искать напоми¬
нало, как мы дождливым летом ходили в лес по грибы, —>
будто истину тоже надо было собирать в лесу, чтобы при¬
нести домой полную корзинку.
Дом наш гудел эхом истины — самого этого слова и
других слов, что стояли позади ее державного имени, как
пглейфоносцы. И воспитать одного из Вильдермутов значи¬
410
ло возвысить его до истины. А стать одним из Вильдер-
мутов значило утвердиться в истине.
Но пришло время, и я покинул этот дом, я расстался
с первой истиной, так же как расстался с отчим кровом,
с домашними воскресеньями, с катехизисом. Когда я по¬
ступил в университет, то познакомился с истиной другого
рода, с той, которую ищет наука, с истиной, если можно
так сказать, более высокой. Андерле приехал в Грац вме¬
сте со мной, и в университете мы близко сошлись с двумя
местными студентами — Росси и Губманом,— для которых
изучение права тоже было не тбйЬНо самым легким путем
к получению звания и места государственного чиновника.
Лекции нас не удовлетворяли; пособия, которые нам вы¬
дали и которые надо было зубрить наизусть, мы отброси¬
ли. Мы искали чего-то другого и потому убивали вечера,
стараясь проникнуть в глубь «материала», докопаться до
самых его корней. Так год или два подряд мы вечер за ве¬
чером пыхтели над основополагающими проблемами, над
конституцией и правом, и они давали нам поводы для дол¬
гих и горячих споров. Но я заметил, что у каждого из нас
свои склонности, более того, что каждому присуще нечто
особое — запах или походка, манера молчать или повора¬
чиваться во сне, и поэтому, если Губман находил истину
в одном, я видел ее в прямо противоположном, а нас обоих
бесил Росси, который убедительно опровергал наши край¬
ние взгляды, поверяя их тем, что оп называл критерием
действительности, и доказывая, что истина лежит «где-то
посередине». Но как могла истина находиться посереди¬
не? Казалось просто невероятным, что истину можно пе¬
редвигать то в середину, то на левый или на правый край,
а то и вовсе в пустоту, в рамки времени и за его пределы,
Я думаю, нет надобности говорить, какие именно вопро¬
сы будоражили нас, ибо каждый, кому довелось по доброй
воле или по обязанности прочитать десять книг об одном
и том же предмете, как читали мы по философии права,
поймет, что я имею в виду. Оригинальностью наши сужде¬
ния не отличались: мы просто выхватывали фразы или
мысли из какой-нибудь книги и либо разлагали их на ча¬
сти, либо сводили вместе; истину мы видели то здесь, то
там, то неведомо где. Мы грызлись за истину, как грызут¬
ся за кость молодые псы, со всей пылкостью, задором и
умственной энергией юности. Мы думали, что нам самим
пришли в голову те великие, замечательные мысли, кото¬
120
рые были высказаны Гегелем, Иерингом, Радбрухом, одна¬
ко наши разногласия в лучшем случае только подтвержда¬
ли разногласия уже существующие. До хрипоты спорили
мы об истине относительной и абсолютной, объективной
и субъективной. Мы выкладывали па стол наших бож¬
ков и первые усвоенные нами иностранные слова, как иг¬
ральные карты, или забивали истину в чужие ворота, за¬
писывая себе очко.
В последние годы учебы наш кружок распался. Слиш¬
ком уж много предстояло нам экзаменов, чтобы мы еще
могли спорить о проблемах, которые бесконечной верени¬
цей прошли, а вернее, лишь промелькнули перед нами.
У пас были любовные шашни, заполнявшие паши вечера,
и страхи перед экзаменами, лишавшие спа по ночам.
Истина оставалась в накладе, высшие истины отдыхали
от нас, пока мы, забыв о них, старались второпях подвести
черту под второпях нахватанными знаниями, чтобы по¬
скорее стать полезными членами общества. Мы обрели
почву под ногами, поступили референтами в суд, мы ут¬
ратили свою прежнюю заносчивость, сменив ее на высоко¬
мерие иного рода, и вскоре заметили, что в канцеляриях
и в бесконечных коридорах Дворца Правосудия ни у кого
не остается времени на поиски истины. Мы научились
составлять отчеты, подбирать документы, печатать на ма¬
шинке, приветствовать своих начальников и принимать
приветствия секретарш, практикантов и служителей; мы
научились различать входящие и исходящие бумаги и
пользоваться скоросшивателями, картотеками, шкафами.
Куда же упорхнула истина и кто вздумал бы погнаться
за пей и поймать?
Но человек из рода Вильдермутов, для которого все
сводится к вопросу об истине, никогда не упускает ее из
виду — в это я твердо верю! Пусть ему даже пришлось по¬
грязнуть в суете, пройти сквозь суету, которой не минует
никто...
Мы обзавелись семьями, обставили себе квартиры, об¬
разовали свой круг. Я женился на Герде, своей землячке.
Раньше я ее не знал, но, когда я всрпулся домой моло¬
дым судьей, я в свободные дни часто встречал Герду на
озере, куда ходил купаться.
Герда... Я живу бок о бок с нею в каком-то тупом оце¬
пенении... Я не знаю другого близкого мне человека, для
которого истина значила бы так же мало, как для моей
121
жены. Многим Герда очень правится, родные ее прямо-та¬
ки боготворят, мои друзья охотнее общаются с нею, чем
со мной. Должно быть, у нее есть особые чары. Все вос¬
хищаются ею — ведь она умеет из самого пустячного про¬
исшествия, из ничтожного события сделать заниматель¬
ную историю. Она без конца развлекает себя и других,
жертвуя истиной. Я еще ни разу не замечал, чтобы она
какой-нибудь случай описала в точности так, как он про¬
исходил на самом деле. Любое событие — какую-нибудь
поездку, посещение молочной, разговор в парикмахер¬
ской—опа сразу преображает в‘небольшое художествен¬
ное произведение. Все, что она рассказывает, остроумно,
необычно, с изюминкой. Когда она потчует вас очередной
историей, вы либо от души смеетесь, либо сидите ошелом¬
ленный, подавляя слезы. Она делает наблюдения, на ко¬
торые я не способен, и говорит, говорит без умолку, слов¬
но ее никогда не призовут к ответу. Она лжет, и я даже
не знаю, сознает ли она это, за редкими исключениями.
Если опа ходила получать паспорт, ее рассказ звучит так:
«Там сидело, наверно, тридцать, да что я — сорок чело¬
век... (а я уверен, что там было человека четыре-пять) и
мне пришлось прождать целый день (по моим подсчетам,
не более получаса)». Если опа делится с вами воспомина¬
ниями детства, оказывается, что девочкой она месяцами
жила у моря — по правде, всего одну неделю; или же она
с гордостью сообщает, что всегда играла только с маль¬
чиками и всегда ходила в штанишках, но я видел ее дет¬
ские фотографии — везде она снята в платьице. Она вам
скажет, что ее коротко стригли, «под мальчика», а мне
известно, что опа по меньшей мере два года носила косы.
Я могу рассказать только одну автобиографию, а у
Герды их, видимо, целый набор, ибо, хоть я достаточно
хорошо представляю себе ее прошлое и знаком со многими
людьми, знающими ее с детства, все же, когда она расска¬
зывает о себе, у нее каждый раз получается новое откло¬
нение, даже не отклонение, нет, поскольку нет основной
линии, а просто множество версий и интерпретаций ее
жизни.
Стоит ей вспомнить какую-нибудь подробность, и, если
только она в ударе, история ее жизни сразу получает дру¬
гой поворот. В юпости она-де обожала музыку, ее нельзя
было оттащить от рояля, она мечтала раствориться в му¬
зыке, жить ради музыки; и вдруг я узнаю: она, представь¬
122
те себе, горела желанием стать врачом, поехать в Африку
и там в какой-нибудь больнице оказывать помощь бедней¬
шим из бедных, единственным ее желанием, видите ли,
было, не щадя себя, отдаться миссионерской деятельности
в Конго или среди племени мау-мау.
Иногда, впадая в суеверие, я думаю: быть может, каж¬
дому из пас назначено судьбой переносить именно то, что
для него всего непереносимее, и сойтись как раз с тем
человеком, который способен погубить наше самое сокро¬
венное упование. О Герде, чье обаяние все так превозно¬
сят, я мог бы заранее;, указать: эта женщина окажется для
меня самой непереносимой. «Ваша очаровательная жена..л
У этого Кальтепбрупнера еще хватает наглости писать
мне в таком тоне — да, он, видимо, находит в пей особое
очарование, под стать своему собственному, с гнильцой,
которое я в моей бессильной злобе хотел бы вырвать с
корнем.
Однако как хорошо живется Герде, как хорошо ей жи¬
вется даже рядом со мной и как хорошо живется мне ря¬
дом с нею! И как великолепно можно обходиться без исти¬
ны — вот что потрясает меня больше всего! Однажды, ког¬
да я думал, что Герда умирает, и она тоже так думала —
после того как родила мертвого ребенка,— когда я думал,
что теперь-то уж чары спадут, обнажится ее истинное
лицо и для нас обоих в самой безнадежности взойдет на¬
дежда,— даже тогда она продолжала лгать, произносила
свои глубокомысленные, меланхолические или шутливые
изречения; она лжет и теперь, рассказывая об этих тяже¬
лейших часах своей жизни, которые источили ее тело до
последней крайности. Она умеет рассказывать об этом
так увлекательно, рассыпая фейерверк наблюдений, по
жертвуя всем тем, что я на ее месте считал бы важным,—
всем истинным, всем близким к истине. Я знаю, никому,
кроме меня, не придет в голову уличать ее во лжи. Просто
у нее, как говорит тот же Кальтенбруннер, свое особое ви¬
дение мира. Я ненавижу это особое видение — за него при-*
ходится платить дорогой ценой, и оно лишь затемняет мир.
Ибо мир существует вовсе не для того, чтобы Герда укра¬
шала или искажала его своими завитушками,— он и сам по
себе достаточно темен, зачем ясе еще затемпять его?
Я посвятил себя поискам истины, и не только потому,
что этого требует моя профессия,— я пе могу отдаться ни¬
чему другому. Пусть мне и не дано найти ее...
123
Вильдермут не может ипаче, не мог и пе сможет — ни¬
когда...
Тот, кто знает, что всего дальше надо идти за истиной...
Только хочу ли я идти за ней еще дальше? Нет, с той
минуты, как я крикнул,—уже не хочу, а случалось, и
раньше не хотел. Для чего идти дальше? И куда? Неведомо
куда, за грань вещей, до самого неба, или всего только за
тридевять земель?.. Я не хотел бы преодолевать такие рас¬
стояния, ибо давно утратил веру. Но я знаю одно: я хотел
бы слить воедино мой дух с моей плотью, я хотел бы бес¬
конечно долгого слияния в бесконечном сладострастии. Но
никакого слияния пет, и оттого, что я не в силах достичь
его, я кричу.
Кричу!
Я доискивался истины о самом себе, но какой прок в
том, что думаю я сам о тех или иных своих качествах, раз¬
бирая себя по косточкам, или как временами, не без гру¬
сти, оцениваю себя в целом! Что пользы в таких пошлых
откровениях, ведь на них способен каждый! Я бережлив,
но бываю и щедрым, многим людям сочувствую, но к неко¬
торым безжалостен. Подозреваю, что у меня есть порочные
паклонности, по точно пе знаю, какие из них можно с пол¬
ным правом считать порочными, и, может быть, лишь по¬
тому не предаюсь порокам, что не развил в себе этих на¬
клонностей — сначала из-за недостатка мужества, потом
из-за нехватки времени, а еще позднее из-за того, что уже
не видел в этом никакого смысла. Я честолюбив, по моему
честолюбию нужен толчок. Я дорого бы дал за то, чтобы
обойти Росси, пока мы с ним учились в университете и
позже, когда мы вместе поступили на службу, но я искрен¬
не радовался тому, что Губман так блестяще окончил уни¬
верситет — много лучше меня — и сделал карьеру в мини¬
стерстве юстиции. Обоих я считал своими друзьями, оба
были мне одинаково дороги, и я пе могу объяснить такую
странную разницу в своих чувствах. Может быть, я и пе
так уж виноват в том, что ревновал Росси к его успехам,
может быть, дело в нем самом пли в чем-то еще, что коре¬
нится не во мне и не в нем, а в самом характере нашей
дружбы, которая мне теперь уже никакой боли пе причи¬
няет. Я способен на верность и на измену, часто чувствую
себя беспомощным, но умею и действовать решительно.
Я труслив и отважен и нередко замечаю в себе и то и дру¬
гое сразу, в самых различных пропорциях. Но я всегда
124
зпал за собой одно — важнее всего для мепя доискаться
истины. Нет, я не претендую на то, чтобы истина принад¬
лежала мне всецело, она ведь не ищет меня. Л вот я —
я ее ищу.
Истина — это моя стихия, как огонь для кузнеца, веч¬
ная мерзлота для полярного исследователя, ночь для боль¬
ного.
А если я не смогу больше искать ее, я слягу, как слег
после этого крика, слягу, чтобы никогда больше не встать,
чтобы изжить себя в глубоком молчании.
Да и что это такое —истина обо мне или о ком-нибудь
другом? Сказать правду можно только о самых дробных, о
мельчайших моментах действия, движения чувств, о кро¬
шечных точках, о каплях из капель в потоке сознания.
Но разве могут сложиться из них столь массивные че¬
ловеческие свойства, как бережливость, добродушие, лег¬
комыслие, трусость? И о чем свидетельствуют те тысячи
тысячных долей секунды, когда человек испытывает удо¬
вольствие, страх, желание, отвращение, волнение, покой?
Свидетельствуют ли они о чем-нибудь? Лишь об одном,
пожалуй,— что он много пережил и много страдал...
Как же постичь истину об окружающем нас мире, если
я не могу постичь самого себя, если даже один человек спо¬
собен понимать, видеть, ощущать так многообразно! Возь¬
мем, например, один-единственный предмет — мой пись¬
менный стол. Сколько раз я садился за него или трогал его
руками, равнодушно отмечая его присутствие; сколько раз
я хватался за него, проходя мимо в темноте; я нарисовал
его в письме к одному приятелю — там он состоял из не¬
скольких штрихов карандашом; иногда, после того как я
долго за ним проработаю, я ощущаю его запах; я с удив¬
лением смотрю на него, когда все бумаги убраны и он
стоит передо мной пустой, неузнаваемый, а ведь сколько
еще свойств у этого громоздкого стола! Это и древесина для
топки, и мебель определенного стиля; как груз он имеет
вес; цена у него раньше была одна, сегодня — другая, а
после моей смерти, возможно, изменится опять. Уже один
этот стол неисчерпаем. Муха увидит его одним, а волни¬
стый попугайчик — другим, а разве Герда когда-нибудь
видела его таким, каким вижу я? По-моему, ей известно, в
каком именно месте я прожег сигаретой крышку стола.
Для нее этот стол с дыркой от сигареты — стол ее мужа;
еще она помнит, что у стола круглые резные ножки, по¬
125
тому что на них скапливается много пыли. Я только от нее
узнал про скопление пыли, зато ей неведомо, как приятно
бывает облокотиться на этот стол и, задумавшись, блуж¬
дать взглядом по узору древесины и как сладко за ним
спится — я ведь не раз засыпал за работой, уронив голову
на стол.
Но коль скоро одип-едппствеииый предмет так много¬
значен, то что же сказать о целом мире — сколько всего
придется принимать во внимание на каждом шагу? И как
же многолик должен быть человек — он ведь живет и дви¬
жется, отличаясь от безжизненны# предметов избытком
жизни.
Я хотел, чтобы истину открыла мне моя плоть. Искал
слияния своего живого тела с другим живым телом. Наде¬
ялся, что заставлю плоть исповедаться мне, поведать свою
истину, ибо все другое мне в ней отказало, мой дух без¬
молвствовал, безмолвствовал весь мир. Я чувствовал, да,
чувствовал с давних пор, что плоть таит в себе некое вож¬
деление, и оно сильнее, чем вожделение к женщине, я подо¬
зревал, что мое тело вот-вот дознается истины, и ждал от
него, что оно откроет мне нечто совсем простое и все-таки
чудесное. Отчуждая от себя свое тело, я отдал его в науку
женщине, чтобы позднее оно могло передать эту науку дру¬
гим. Я пытался быть честным со своим телом, но это-то
оказалось труднее всего — ничуть не легче, чем быть чест¬
ным со своим разумом. Теперь, когда мои воспоминания о
первых встречах с женщинами уже недостоверны и одно
в них кажется нестоящим, а другое прекрасным — хотя и
с тем, что представляется прекрасным, тоже покончено,—
мне остается только ломать голову над своими отношени¬
ями с женой, которые лишены какой бы то ни было тайны
и протекают хорошо и ровно, при полном взаимном дове¬
рии. Над чем же тут ломать голову, спросите вы. Бывают,
однако, минуты, когда наши разговоры, наши объятия
представляются мне чем-то ужасным, постыдным, незакон¬
ным, потому что в них нет одного — нет истины. Потому
что у нас есть свои привычные ласки, мы довольствуемся
ими и больше не ищем ничего, потому что между нами все
умерло, все мертво, мертво навсегда. И дело вовсе не в том,
что, когда я заключаю Герду в объятия, наперед зная и
свою и ее повадку, я больше не испытываю потрясения,
напротив: я каждый раз бываю потрясен тем, что не уда¬
рила молния, не грянул гром, что Герда не кричит, а я ее
126
пе быо, что мы оба не восстаем против этого привычного
блаженного соединения, которое притупляет, иссушает
наши тела, иссушает так, что уже ни измена, ни распален¬
ное воображение, ни избыточная фантазия не могут вы¬
вести нас из омертвения.
Мы уже неспособны настроить паши тела на иной лад,
постичь иную науку любви. Когда я перебираю в уме всех
наших друзей и знакомых, у меня возникает смутное чув¬
ство, что не мы одни так беспомощны и что все это нами
вполне заслужено. Немногие — редкие и случайные — при¬
ступы страсти мы казним насмешкой, леденим нарочитым
молчанием, язвим клеветнической болтовней. И .мне са¬
мому начинает казаться, будто подобные приступы встре¬
чаются теперь только в судебных актах, будто они навсегда
отошли в разряд «несчастных случаев и преступлений».
Но я хотел говорить об истине, которую таила в себе
моя плоть, и о том единственном случае, когда я был бли¬
зок к самозабвению и на миг встретился с тем, что искал.
Это было однажды летом — с тех пор минули годы.
В то лето я еще был судьей окружного суда в своем род¬
ном городе и раз в две недели ездил вместе с проходившим
у меня практику студентом в еще более захолустный горо¬
док К. Там мы целый день заседали в суде — из-за нехват¬
ки в послевоенные годы неопороченных судей — и разби¬
рали всякие мелкие дела, связанные с уличными авариями,
попечительством над малолетними, межевыми спорами
между крестьянами. На одном заседании допрашивали
кельнершу; помнится, по делу об установлении отцовства
ее внебрачного ребенка: она запиналась, с трудом подыски¬
вая слова, но, когда она их находила, в зале вдруг звучали
фразы, изумлявшие своей откровенностью и грубой пря¬
мотой,— изумлявшие настолько, что я, тогда еще малопри¬
вычный к судебным казусам, должен был призвать все свои
силы, чтобы выглядеть холодным, любезным и беспри¬
страстным.
Дело это вспоминается мне теперь лишь в самых общих
чертах; не вспоминалось бы и вовсе, если бы не образ
Ванды, все еще живой в моей памяти: распущенные чер¬
ные волосы, влажный, несказанно красивый рот, волосы,
перекинутые на грудь, откинутые за спину; волна волос
при каждом повороте, при каждом движении этого робкого,
порывистого, податливого тела, казалось не терпевшего
покоя. В моей памяти живы ее руки, красноречивые сами
12Z
по себе, ее пальцы — всамделишные десять пальцев,— они
способны были своим прикосновением зажечь огонь в кро¬
ви, вцепиться мертвой хваткой или подать весть от ее тела,
пе ведавшего притворства в своих исканиях, в борьбе, в
горечи поражения.
Когда в перерыве я пошел обедать, то увидел в кори¬
доре Ванду, узнал ее, вежливо кивнул в ее сторону, а по¬
том, пропустив студента вперед, еще раз на нее оглянулся.
Она стояла просто так, она не ждала никого, это было
видно по ней. Стояла в здании суда, как в храме, потому
что здесь вершилась ее судьба; стояла, прислонясь к стене
и сложив ладони, как для молитвы,— не от бессилия, не
со слезами, а просто потому, что не решалась сразу поки¬
нуть такое важное для нее место.
Накануне был храмовой праздник, и в нашей гостинице
в понедельник вечером еще продолжались танцы.
Спать все равно было бы невозможно, поэтому мы ре¬
шили принять участие в празднике. Нас усадили на самые
почетные места, ио, поскольку мы чувствовали, что с нас —
таких важных персон — не спускают глаз, веселье и раско¬
ванность не приходили. Мне пришлось чокаться с врачом
и с дантистом, с хозяином и с каким-то торговцем; я оста¬
вался здесь «господином советником» и боялся уронить
свое достоинство. Студент в конце концов пошел танце¬
вать, а я остался сидеть, исключенный из общего веселья,
молчаливый и все более угрюмый наблюдатель. Я был уже
помолвлен с Гердой; мне предстоял перевод в Вену и вслед
за тем — женитьба. Само собой разумеется, что я мог же¬
ниться только на такой женщине, как Герда. Мой выбор и
позднее не вызывал у меня никаких сомнений. Конечно, в
то время я еще не знал того, что узнал позднее, по сумел в
себе заглушить: ни Герда, пи какая-либо другая, похожая
на нее женщина никогда не заставили бы мою плоть заго¬
ворить, выявить свое естество, а вот та кельнерша могла,
и, наверно, на свете нашлись бы еще две-три Ванды из
породы бледных темноволосых женщин с огромными меч¬
тательными и близорукими глазами, женщин почти безъ¬
языких, пленниц собственной немоты,— я предан им на¬
всегда, по вынужден их предать. И не потому, что любить
таких женщин мне запрещено и я завишу от общества,
которое не простило бы мне подобной дерзости: во мне
осталось тихое, печальное изумление, оттого что я не в си¬
лах воспользоваться истиной даже там, где она сама идет
128
мне навстречу. У меня хватило бы мужества сойтись с та-
цой женщиной, как Ванда, отговорить Герду от брака со
мной, я решился бы взять па себя перед целым светом та-
#ую обузу, как эта женщина, не умеющая слова молвить,
не умеющая шагу ступить в светском обществе, женщина,
которую вряд ли признали бы мои родные. Но я сразу по¬
нял, что для меня не может быть и речи о совместной жиз¬
ни с Вандой — я не совладал бы со своим естеством, кото¬
рое вдруг оказалось сильнее меня.
Ванда сидела в окружении нескольких мужчин за сто¬
ликом напротив. Один держал ее за руку, другой обхватил
за плечи. Все были между собой знакомы, говорили напе¬
ребой и оглушительно хохотали. Она смеялась лишь из¬
редка, по тоже громко, отрывисто, неприятно — я бы ни¬
когда не ужился с таким смехом. Как очаровательно смеет¬
ся Герда. Конечно,'опа смеется не потому, что ей хочется
смеяться; опа смеется, чтобы покорить своим смехом дру¬
гих. Ванда смеялась просто так, от души.
Около полуночи, когда вокруг меня все уже были пья¬
ны и я мог незаметно выйти из душного помещения на
свежий воздух, я увидел, что она стоит у дверей, и остано¬
вился рядом с ней в тусклом свете фонаря, который рас¬
качивался на ветру, да и сам дом позади нас раскачивался
от грохота музыки, раскатов смеха, от пения и топота.
Я посмотрел ей в лицо, как еще не смотрел никому, я смо¬
трел на нее так, словно уже никогда не смогу отвести от
нее глаз, и она смотрела на меня таким же последним,
окончательным взглядом. Теперь ее неподвижный взгляд
представляется мне взглядом мрачной, суровой хищной
птицы и каким-то пугающе торжественным кажется то,
мто мы не могли оторвать глаз друг от друга, что вдруг по¬
шли вместе, избегая прикосновений, не говоря ни слова.
Мы шли очень медленно, на расстоянии, которое с первого
щага положили себе сами. Ее платье не должно было заде¬
вать меня даже при порывах ветра, она не должна была
Езираться, я — оглядываться пли спешить, догонять ее;
имел право только идти за ней следом, сначала вниз, по-
ом в гору, к темному дому и вверх по лестнице. Ничего
ре спрашивать, ничего не говорить. Когда мы подошли к ее
ромпате, я уже почти ничего не сознавал. Я не смог бы
Сделать больше пп шагу. Мое тело стало иным — в тот раз
я впервые познал его.
| Те несколько вечеров, что я провел у нее, когда паез-
5
Кв 1031
129
жал в К., мы пе смеялись, пе говорили без падобпости,
иногда улыбались — угасающей улыбкой. Все между нами
оставалось серьезным и мрачным, истово серьезным, по как
бы иначе могли эти отношения отвечать моему сокровен¬
ному желанию? Какую ценность могла бы иметь для меня
любовь, если бы она не исчерпывала себя в поисках пол¬
ного слияния? Мое слияние с матово-белым податливым
телом Ванды, осуществление любви было таким полным,
что любое слово могло бы ее разрушить, а слова, что не
разрушило бы, найти нельзя.
Разве может Герда с ее цветистым языком противо¬
стоять нашему тогдашнему молчанию! Если бы удалось
отучить ее от этого языка, уничтожить его вообще, чтобы
она не отпугивала меня своими речами! Я так счастлива.
Люби меня. Не делай больно своей любимой. Ты правда
еще любишь меня? Разве я тебе пе жена? Мой любимый
уже спит? Каждое слово — розовыми буквами, все безу¬
пречно, ни намека на вульгарность, роль выдерживается до
конца. Знает ли Герда, в какой мере ее слова соответст¬
вуют ее чувствам и соответствуют ли вообще? Что хочет
она затуманить своей речью, какой возместить ущерб и
для чего пытается заставить меня говорить, как говорит
сама? Она обставила нашу жизнь этими словами, как ме¬
белью, которую привезла из родительского дома и которая
дает ей столь же надежный покой и уют, как и фразы:
«Я люблю тебя». Или: «Неужели ты меня не поцелуешь?»
Мы почти никогда не ссоримся, не разрушаем того вре¬
менного моста, который навели в самом начале и который
оказался таким прочным. Только теперь я нет-нет да и бун¬
тую против Герды, и в тот вечер на прошлой неделе, когда
она не разрешала мне встать, я впервые вступил с ней
в перебранку. У нее опять побывал Кальтенбруннер, тот
самый, что выдает себя за поэта и собирается жениться на
одной ее приятельнице; они долго беседовали, о чем — не
знаю. Герда дала мне почитать небольшую черную книж¬
ку его стихов, где на титульном листе красуется раздра¬
жающая меня дарственная надпись: «С искренней благо¬
дарностью, всегда Ваш Эдмунд Кальтенбруннер». После
ужина Герда потребовала, чтобы я отложил свои книги
й читал эту. Хотя обычно я читаю быстро и без усилия,
на сей раз мне стоило величайшего труда продраться
сквозь его мутные фразы. Через несколько страниц я чуть
было не заснул, но тут ко Мне на кровать подсела Герда
130
и потребовала, чтобы я сообщил ей свои впечатления.
Я пытался увильнуть и забормотал, что у меня, мол, опять
подскочила температура, слабость. Что мне за дело до это¬
го ее поэта! «Ты должен признать,— горячо сказала Гер¬
да,— в его образах такая истина! Потрясающая истина».
Я рассвирепел и наговорил ей грубостей: впервые я услы¬
шал, что для Герды существует истина. Это вполне в ее
духе — вообразить, что она открыла истину в книге, да
еще в такой! Здесь мир окутан достаточно таинственной
мутью, здесь она может сколько угодно калечить истину
нагромождением фраз-чудовищ. «Просто это иная истина,
высшая истина!» — кричала она в бешенстве.
Мне сразу пришли на ум все высшие истины — выс¬
шие и высочайшие, с какими я встречался уже не раз.
А теперь и в моем собственном доме объявился человек,
который был в союзе с высшей истиной и вбил себе в го¬
лову, будто что-то в ней смыслит. Герда, конечно, кипяти¬
лась и заявила: я-де просто неспособен разобраться в этой
книге. «Не потому ли, что я имею дело лишь с заурядной,
низшей истиной, а пе с высшей?» — коварно спросил я.
Да, вот я и сказал наконец истинное слово, я, юрист-зану¬
да, догматик и циник со своей сухой и бесплодной исти¬
ной.
Какая правда! Какая правда!
Мне стало легче. Остаток вечера, до полуночи, мы спо¬
рили уже скорее но инерции, повторяя одно и то же, а под
конец, осознав, что она должна щадить меня, Герда по¬
гасила светги, как-обычвО) когда она готова к примирению,
крепко сжала мою руку, потянула и положила себе на
грудь. О эти нежности и этот шепот!
Я устал от этих речей и от этих игр.
Высоко-высоко искал я истину, на высочайших верши¬
нах, среди великих г могучих слов, о которых сказано, что
они исходят от самого бога или от тех немногих, что при-*
клонили слух к богу; но, должно быть, великих слов слиш¬
ком много, и они слишком противоречивы, ибо ют избытка
различных великих слов человек не находит того един¬
ственного, которое ищет.
Где же оно, это слово, за которое можно было бы ухва-»
титься? Я пробовал ухватиться за многие великие слова,
за все сразу и за каждое в отдельности, но все же не удер¬
жался, упал; разбитый, поднялся снова и снова юл, спал^
гулял; я снова работал, лишившись одного только слова,
5*
131
и копался, в объемистых фолиантах, где содержалась исти¬
на для моего повседневного обихода.
Но разве существует истина для обихода? Л если так,
то, может быть, истина — это правильность, точность?
В чем же тогда ее цель? Если мы говорим, что уехали
поездом в десять часов утра, и мы действительно уехали
этим поездом,— истина ли это? Конечно. Но что с того?
Это означает лишь одно: то, что мы сказали, соответствует
тому, что мы сделали. Было бы ложью сказать, что мы
уехали поездом в десять часов вечера, раз мы уехали
утром. Если есть несоответствие — есть ложь. Почему
ложь дурна? Опа может иметь последствия (а разве истина
не может их иметь?), ложью я вношу в мир сумятицу
(а разве истина не может наделать сумятицы?), и я, воз¬
можно, кого-то обманываю — допустим.
Что же меняется, если мы придерживаемся истины?
Я уехал в десять часов утра. Вот вам истина! Событие,
факт требует, чтобы я был ему верен. Но факт — это факт,
и только.
А почему мы обязаны придерживаться истины? — спра¬
шиваю я вас еще раз. Почему должны избрать эту про¬
клятую истину? Чтобы не погрязнуть во лжи, ибо ложь
создается человеком всецело, а истина лишь наполовину,
поскольку с той стороны, где находятся факты, ей должно
что-то соответствовать. Чтобы могла существовать истина,
должно быть что-то еще. Сама по себе она существовать
пе может.
Так что же такое высшая истина, дорогие мои? Где
она может обретаться, эта высшая истина, если нет ни¬
какого высшего порядка? Да ведь с истиной получается
нечто ужасное: опа восходит к ничтожно малому, к самому
заурядному и не открывает нам ничего, кроме самого что
ни на есть обыденного. За все эти годы я никакой истины
пе добился, кроме этого утверждения, этой исповеди, об¬
легчающей исповеди фактов. Большего я достичь не мог.
Л ведь мне пришлось доискиваться истины о людях, о
стольких людях, виновных перед законом, и о тех, кто
был перед ним невиновен, но что толку? Разве может исти¬
на подчиняться закону!..
Почему? Почему? — без конца спрашивали мы убий¬
цу, но оп мог лишь сказать, что и как было. Истина про¬
ступала перед нами кровавым пятном злодеяния или в
виде топора, ножа, револьвера. Опа проступала в тясяче
132
мелких подробностей. Но па вопрос «почему?» опа не от-
выдалась. Целый синклит опытных судей бился над тем,
чтобы истина вышла наружу. Но таким способом ее не вы¬
манишь.
(О, почему я сделал одно и не сделал другого? Почему
все было так ужасно и так прекрасно? Где истина, я не
знаю. Я ничего не хочу сказать, не могу ничего сказать
и говорю только для того, чтобы угодить вам: я не мог
поступить иначе, меня к этому влекло, я так чувствовал...)
Дорогие мои, я совсем не так болей, как считают вра¬
чи, и меня вовсе не надо щадить. Я в этом больше не нуж¬
даюсь. Человек тридцать лет ломал голову над пуговицей
и надо всем, что связано с пуговицей, а я думаю, что остав¬
шийся мне срок имею право еще поломать голову над
тем, что такое истина. Я призываю вас всех тоже пая
этим задуматься! Нужна ли вам истина и зачем, ибо я не
сомневаюсь, что самым лучшим, самым порядочным из
вас она дорога. Не думаю, что вы хотите ценою истины
что-то купить. Место в раю? Только за то, что не треплете
языком и пе говорите «десять часов вечера», когда следует
сказать «десять часов утра»? Продолжайте в том же духе.
Но поймут ли вас в раю?
(Однако говорить «десять часов» опасно уже хотя бы
потому, что на самом деле никаких «десяти часов» не су¬
ществует — вы сами это прекрасно знаете. Часы — это
абстракция, за этим ничего не стоит, но, если вам так
угодно, пожалуйста, тешьтесь, сверяя ваши часы с точ¬
ным временем!)
Ах, и все-таки какое глубокое удовлетворение испыты¬
ваем мы, если достигаем согласия и устанавливаем соот¬
ветствие. Если можем сказать: «Идет дождь», когда идет
дождь. Сказать: «Я люблю», когда любишь.
Но даже это опять-таки небезопасно; ведь тут вновь
возникает неясность, ибо как можете вы утверждать:
«Я люблю». Вы любите? А как вы это установили? У вас
повысилось кровяное давление? Вы чувствуете какое-то
волнение, смятение? Так что же с вами такое? Итак, вы
думаете, что любите. Думайте, думайте. Чего вы только
пе думаете. Что вам только не чудится. Ладно, если уж
вам чудится то пли это и вы считаете, что можете при¬
вести то или иное основание... Приводите, приводите эти
ваши лестные, глубоко искренние основания. Но поверят
ли вам? Доказать-то ведь ничего нельзя; по может быть,
133
кое-что и придет вам иа помощь — «внутренняя» истипа.
По мне, пожалуй, пусть будет еще и внутренняя истина.
Давайте. Одна истипа за другой.
Эту внутреннюю истину я искал. Этот пестрый мухо¬
мор в чаще леса.
Вспомните, дорогие мои, как нам с некоторых пор бы¬
вает приятно услышать сообщение: президент такой-то
встретился с президентом таким-то, и они сделали сле¬
дующее заявление (приводится текст). Конечно, мы хо¬
тели бы, чтобы это сообщение чему-то соответствовало, ибо
так уж мы устроены — нам обязательно нужно из всего
извлечь для себя пользу, а в этом случае пользу должны
извлечь прежде всего экономика, и промышленность, и
блюстители политической морали. А вдруг мы строим не¬
верные расчеты, питаем ложные надежды, вдруг бомба
не упрятана под землю и пас просто водят за нос... Даже
трудно себе представить...
Но давайте лучше перейдем на более безобидные темы
и поговорим о первом апреля. В детские годы мы, бывало,
первого апреля спозаранок вбегали в спальню к родителям
с криком: «Глядите, глядите! Вишни поспели!» Это была,
конечно, шутка, и вы сами видите — шутка не из удачных.
Более удачной шуткой было бы прямо сказать кому-
нибудь: «Я намерен дать вам пощечину» или: «Я всегда
считал вас мошенником». В истинной шутке всегда есть
доля правды. И я временами пытался так шутить ради
того, чтобы высказать правду, но при этом мне было как-то
не по Себе, и я отнюдь не приближался к истине, за кото¬
рой пустился в путь.
Я откланиваюсь. Это я кричал.
Я понял вдруг, что не могу перешагнуть через пуго¬
вицу и через человека, который тоже зовется Вильдермут
и тоже имеет право на раскрытие истины — не только той,
что служит нам для обихода. Ведь он признался: «Я это
сделал», за что идет теперь на двадцать пять лет в ка¬
торжную тюрьму. Я не могу примириться с тем, что надо
довольствоваться только одной-единственной обиходной
истиной, а другая так и не появляется, не обрушивается
на нас, не ослепляет вспышкой; с тем, что мы пользуемся
самым досягаемым кончиком обиходной истины, чтобы на¬
кинуть человеку петлю на шею за то, что он сказал: «Да,
это было в двадцать три тридцать». Или за то, что забыл
сказать: «Это было в десять утра».
134
Я иду за истиной. По чем дальше иду я по ее следу,
тем дальше опа отодвигается от меня, заманивая блуж-
дающим огоньком. Словно опа может стать осязаемой,
плотной лишь в том случае, если не трогаться с места,
не задаваться вопросами, довольствоваться самым прими¬
тивным. Ей нужно все умеренное — умеренная темпера¬
тура, умеренный взгляд, умеренное слово.
И тогда она оказывается непрерывным пошлым соот¬
ветствием предмета и слова, чувства и слова, дела и сло¬
ва. О ты, благовоспитанное слово, призванное к тому, что¬
бы милостиво позаботиться о безмолвном мире пуговиц
и сердец!
Удобное бесчувственное слово, создающее соответствия
для повседневного, обихода!
А за его пределами — предложения и суждения, хитро¬
умные выводы, суждения о суждениях и, наконец, то суж¬
дение об истине, что хуже всех суждений обо всех исти¬
нах, за которые тебя в иные времена. могут поставить к
стенке или отправить на костер, ибо и одно суждение уже
страшно, что же говорить о самой истине...
Но плохо и то высокое суждение,
что я имел об истине
и теперь утратил, ,
ибо она уже не существует для меня...
Только борозду оставила она в моем восприимчивом
мозгу, tq горячечном, то холод ном,, которому так противо¬
показаны умеренные температуры. Но кто же это вселил¬
ся в мой мозг? Кто. говорил модем языком?. Кто кричал из
моего нутра?
Прошу вас, расскажите мне. снова сказку о белоснеж¬
ной деве, что живет далеко-далеко за горами, за долами.
Я сниму берет ц мантию, я подеду(по свету, чтобы оста¬
новиться в какой-нибудь точке Аземного щара,. сесть па
траву или на асфальт и вслушаться в дыхание мира, чтобы
выстукивать, и ощупывать, и раскапывать землю, чтобы
вгрызаться в нее и, наконец, с нею слиться в бесконечном
и полном слиянии...
Пока не откроется мне истина травы, дождя и наша
истина — истина людей.
Безмолвное постижение Истины, исторгающее крик обо
всех прочих истинах...
Истина —та, о которой никто не мечтает, которой не
хочет никто.
СРЕДИ УБИЙЦ И БЕЗУМЦЕВ
Мужчины бывают ближе к самим себе, когда они схо¬
дятся вместе, выпивают, разговаривают и рассуждают. Они
близки к своей цели, когда разговаривают без всякой цели,
когда рассуждают просто так, и суждения их клубятся в
воздухе вместе с дымом их трубок, сигарет и сигар, когда
весь мир заволакивает дым и дурман — мир деревенских
трактиров и кабачков, погребков, кабинетов и лож в боль¬
ших ресторанах больших городов.
Мы находимся в Вене, с конца войны прошло уже боль¬
ше десяти лет. «С конца войны» — таково паше летосчис¬
ление.
Мы в Вене; наступил вечер, и мы толпами устремля¬
емся в кафе и рестораны. Мы только что вышли из редак¬
ций и министерств, из адвокатских контор и художествен¬
ных студий; мы сходимся вместе и уже не сходим с избран¬
ного пути, мы упорно идем по следу в поисках того луч¬
шего, что утратили, мы словно травим зверя, но мы сму¬
щены и стараемся смеяться. В минуты молчания, когда ни
у кого не находится готовой шутки или занятной истории,
которую надо непременно поведать окружающим, когда
никто не прерывает тишину и каждый погружается в себя,
до нашего слуха доносится стон ускользающего в тумане
зверя — изредка, издалека, все снова и снова. .
В тот вечер мы с Малером пришли в погребок «Коропа»
во Внутреннем городе и присоединились к пашей обычной
компании. Везде, во всем мире, где сейчас наступает вечер,
переполняются питейные заведения, и мужчины разгова¬
ривают, рассуждают и повествуют, как страпники и стра¬
дальцы, как титаны и полубоги из мифов и сказок; они
мчатся верхом сквозь ночь, рассаживаются возле костра,
возле большого огня, который сообща разожгли ночью в
136
пустыне. Работа и семья забыты. Что им за дело до того,
что их жены сейчас взбивают дома перины и готовятся
отойти ко сну, потому что ночью им делать нечего. Опп
расхаживают по дому, босиком или в шлепанцах, подобрав
волосы над усталыми лицами; они выключают газ и бояз¬
ливо заглядывают в шкафы, под кровати, рассеянно уре¬
зонивают детей или крутят в досаде радио, но потом все
же укладываются спать одни, лелея мысли о мести. Они
лежат в постели без сна, с широко раскрытыми глазами,
принесенные в жертву, полные отчаяния и злобы. Переби¬
рают в памяти все пережитые обиды, считают прожитые
годы и деньги, данные им па расходы; изворачиваются,
хитрят, занижают числа. Наконец они закрывают глаза и
погружаются в полузабытье, плененные обманчивыми
видениями, но потом все-таки засыпают с последним горь¬
ким упреком па устах. И в первом же сне они убивают
своих мужей, предают их смерти в автомобильных ката¬
строфах, в муках сердечного приступа или воспаления лег¬
ких; обрекают мгновенной или медленной, мучительной
смерти — в зависимости от тяжести обвинения, а из-под их
нежных смеженных век катятся слезы печали и скорби об
утрате мужей. Они плачут о своих уехавших и ускакав¬
ших, всегда отсутствующих мужьях, а в конце концов
оплакивают самих себя. Теперь-то они и проливают самые
искренние и правдивые свои слезы.
Но мы в это время далеко — в «Короне», в певческом
союзе, среди школьных товарищей, друзей и однокашников,
в своей мужской компании. Мы заказываем вино, выкла¬
дываем па стол кисеты с табаком — мы недоступны их ме¬
сти, их слезам. Мы не умерли, нет; мы ожили, мы говорим
и высказываем своп мнения. Только много позже, уже иод
утро, мы будем гладить в темноте влажные от слез лица
наших жен и еще раз оскорбим их своим тяжелым дыха¬
нием — смесью винного перегара и пивных паров, а может
быть, тихо уляжемся рядом в тайной надежде, что они
уже спят и не надо произносить никаких слов в этой спаль¬
не-склепе, в этой тюрьме, куда мы все-таки каждый раз
возвращаемся усталые и готовые к примирению, возвраща¬
емся снова, словно дали обет.
В тот вечер мы были далеко-далеко. Как всегда по пят¬
ницам, мы собрались все: Хадерер, Бертоли, Хуттер, Ра¬
ницкий, Фридлъ, Малер и я. Правда, не было Герца: он
уехал в Лондон, чтобы подготовить свое окончательное воз¬
137
вращение в Вену. Не было и Штеккеля — оп опять забо¬
лел. Малер сказал:
— Нас сегодня только трое евреев.— Он указал па
Фридля и на меня.
Фридль удивленно уставился па него своими круглыми
водянистыми глазами и нервно стиснул руки, он явно был
в недоумении: ведь он не еврей, да и Малер не еврей, хотя,
может быть, его отец или дед?.. Фридль толком пе знал. Но
лицо Малера приняло обычное выражение превосходства.
Оно словно говорило: «Вот увидите. Я никогда не оши¬
баюсь».
Была черная пятница. Хадерер держал большую речь.
Это значит, что скиталец и мученик в нехМ наконец умолк,
а заговорил титан: больше не надо было принижать себя и
хвалиться ударами, которые нанесли ему; теперь он по¬
хвалялся теми, которые раздавал сам. В эту пятницу раз¬
говор повернул в другое русло, может, оттого, что не было
Герца и Штеккеля, присутствие же Фридля, Малера и мое
никого не смущало, а может, просто оттого, что разговор
когда-нибудь должен был пойти в открытую — ведь дым и
дурман заставят разговориться каждого.
Теперь ночь стала полем боя, воинским эшелоном,
ближним тылом, городам под бомбежкой, и люди блуждали
в этой ночи. Хадерер и Хуттер погрузились в воспомина¬
ния о войне, они плутали во тьме воспоминаний,, не рас¬
сеивая мрак до конца, пока сами вдруг не преобразились
и не почувствовали себя, снова в офицерских мундирах,
пока снова не очутились там, где могли отдавать команды
и держать связь со штабом, откуда «Юлкерс-52» лереброт
сил их в Воронеж; но вдруг они заспорили — у них не было
единого мнения о томт правильно ли действовал фельдмар¬
шал Манштейн .зимой.4942 года,, о том, можно ли было
спасти Шестую армию и не таился ли просчет в самом
плане наступления; потом они приземлились на острове
Крит, а в Париже одна маленькая француженка сказала
Хуттеру, что австрийцы ей более симпатичны, чем нем¬
цы; и когда в Норвегии забрезжило утро, а в Сербии их
окружили партизаны, они были готовы — они заказали
второй литр вина, да и мы заказали еще один, потому что
Малер принялся рассказывать нам о каких-то интригах
в ведомстве здравоохранения.
Мы пили вино из Бургенланда и вино из Гумпольдскир-
138
хепа. Мы пили его в Вене, и почь для нас еще только на¬
чиналась.
В этот вечер, когда партизаны уже успели завоевать
уважение Хадерера и оп лишь время от времени строго
карал их (до конца так и не выяснилось, что именно ду¬
мал Хадерер об этих делах и о многих других, а лицо Ма¬
лера еще раз сказало мпе: «Я никогда не ошибаюсь!»),
когда обнаженные тела словенских монахинь лежали в
роще под Бледом п Хадерер, смущенный молчанием Ма¬
лера, прервал свой рассказ, оставив монахинь лежать там,
где они лежали, к нашему столу подошел старик, который
примелькался нам здесь уже давно. Почти карлик, непри¬
каянный, грязный, он ходил от стола к столу с блокнотом
в руках и настойчиво предлагал за несколько шиллингов
нарисовать любого из гостей. Мы не хотели, чтобы нам ме¬
шали и — еще менее — чтобы нас рисовали, но наступив¬
шее вдруг неловкое молчание побудило Хадерера сделать
неожиданно широкий жест: он предложил старику набро¬
сать наши портреты и показать нам наконец свое искус¬
ство. Мы вытащили из кошельков по нескольку шиллингов
и, собрав их в кучку, пододвинули к старику. Но он даже
не взглянул на деньги. Он стоял перед нами, счастливый,
держа блокнот на согнутой левой руке, откинув голову
назад. Его толстый карандаш с такой скоростью скользил
по бумаге, что мы захохотали. Движения его, до смешного
резкие, торопливые, напоминали кадры немого фильма.
Так как я сидел всех ближе к нему, он с поклоном протя¬
нул мне первый листок.
Он нарисовал Хадерера.
Со шрамами на маленьком лице. С костистым лбом,
туго обтянутым кожей. Выражение лица — на публику,
гримаса. Волосы тщательно расчесаны на пробор. Взгляд,
который хочет пронизывать, пригвождать к месту, но не
вполне этого достигает.
Хадерер заведовал редакцией на радио и писал длин¬
нющие драмы, все они — одна за другой и неизменно с
убытком — ставились в крупных театрах, и критика не жа¬
лела похвал. У каждого из нас его пьесы стояли дома на
полках — полное собрание сочинений с дарственными
надписями: «Моему уважаемому другу...» Все тут были его
«уважаемые друзья», за исключением меня и Фридля —
мы еще слишком молоды и потому можем называться толь¬
ко «дорогими друзьями» или «дорогими юными талантли¬
139
выми друзьями». Он ни разу не принял у нас с Фридлем пи
одного текста для передачи по радио, по охотно рекомен¬
довал нас в другие редакции; считалось, что оп покрови¬
тельствует нам и еще двум десяткам молодых людей, хотя
трудно было попять, в чем же, собственно, состоит это по¬
кровительство и каковы его результаты. Конечно же, то пе
его випа, что, восхваляя нас до небес, он без конца водит
за пос своих «юных талантливых друзей». Виноват, как
он выражался, весь этот сброд, эта «шайка бездельников»,
заполонившая всё и вся,— надворные советники и прочее
ненужное старье в министерствах и ведомствах культуры
и на радио; сам он получал наивысший оклад, и через
определенные промежутки времени его удостаивали все¬
возможных почестей — премий и даже медалей, которые
присуждала земельная и городская администрация; ему
поручали произносить речи в торжественных случаях и
смотрели па него как на человека, весьма подходящего для
представительства; в то же время оп считался одним из
наиболее независимых и свободомыслящих людей. Он все
сплошь ругал,— то есть он всегда ругал какую-нибудь одну
сторону, так что сегодня могла быть довольна другая сто¬
рона, а завтра — та, первая, потому что она теперь стано¬
вилась другой. Точнее говоря, оп просто называл вещи сво¬
ими именами, но, к счастью, редко называл людей, поэтому
никто не чувствовал задетьш лично себя.
В наброске нищего художника он был похож на ковар¬
ную смерть или на одну из тех масок, какие все еще
создают себе актеры, играя Мефистофеля или Яго.
Я нерешительно передал листок дальше. Когда он по¬
пал к Хадереру, я стал внимательно за ним наблюдать и
должен был сознаться себе в том, что он меня удивил.
Лицо его ни на секунду не отразило растерянности или
обиды, он был на высоте положения и даже захлопал в ла¬
доши, пожалуй немного суетливо, однако он хлопал, осы¬
пал художника похвалами, опять-таки немного суетливо,
и даже несколько раз крикнул «браво». Этим своим «бра¬
во» он еще хотел показать, что главный здесь он, оп одни
может раздавать похвалы, и старик, словно поняв это, по¬
чтительно склонил голову, хотя едва взглянул па Хадерера,
потому что спешил дорисовать Бертони.
А Бертони был изображен вот как.
Красивое лицо спортсмена, которое представляешь себе
загорелым. Но в глазах — рабская покорность, и потому
140
впечатление, что они лучатся здоровьем, сразу пропадает.
Рот прикрыт рукой, как будто ои боится сказать что-то
слишком громко пли у пего может невзначай вырваться
необдуманное слово.
Бертони работал в редакции «Тагблатта». Уже много
лет он страдал оттого, что профессиональный уровень га¬
зеты все снижается, и теперь, когда кто-нибудь указывал
ему на какой-либо промах, неточность пли на отсутствие
интересных статей и надежной информации, он только гру¬
стно улыбался. Казалось, его улыбка говорит: что же вы
хотите — в такое-то время! Нет, одни он не мог остановить
начавшееся падение, хотя прекрасно знал, какой должна
быть настоящая газета,— о да, он это знал, знал раньше! —
и потому охотнее всего рассуждал о газетах прежних лет,
о славном прошлом венской журналистики, о том, как оп
работал при легендарных газетных «королях» и чему у них
учился. Он знал все происшествия, все скандалы двадца¬
тилетней давности; только в прошлом оп чувствовал себя
как дома и умел воскрешать перед нами это прошлое, рас¬
сказывая о нем без конца. Он любил также говорить о на¬
ступивших потом мрачных временах, о том, как ему и еще
нескольким журналистам пришлось перебиваться после
1938 года, о том, что они втайне думали, о чем говорили
намеками, каким подвергались опасностям, пока их самих
не одели в военную форму; и здесь, среди нас, он все еще
сидел в плаще-невидимке !, улыбался, так и не преодолев
многого, не переболев. Слова он подбирал осторожно. Что
ои думает на самом деле, не знал никто, привычка гово¬
рить намеками осталась у пего навсегда, и разговаривал он
так, будто его везде и всюду подслушивает гестапо. Геста¬
по осталось для Бертони вечной, неизбывной полицейской
властью, от которой приходится таиться.
Даже Штеккель не мог вернуть ему ощущения безо¬
пасности. Бертони хорошо знал Штеккеля еще задолго до
того, как тому пришлось эмигрировать, и теперь опять был
его лучшим другом, но не только потому, что Штеккель по¬
ручился за него после 1945 года и помог ему вернуться в
редакцию «Тагблатта», а скорее по той причине, что в не¬
которых случаях они понимали друг друга с полуслова,
1 Плащ-невидимка — образ, часто встречающийся в литературе
и в искусстве немецкоязычных стран, заимствованный из «Песни
о Нибелунгах».— Здесь и далее примечания переводчиков.
ш
особенно когда речь шла о «тех временах». Они разговари¬
вали между собой на языке, который Бертони, видимо,
усвоил давным-давно, разучившись говорить по-другому, и
теперь он радовался, что может снова с кем-то объясняться
на этом языке — легком, неуловимом, остром, совсем не
вязавшемся с его внешним видом и манерами, па языке
намеков, что стал ему особенно дорог. Но в отличие от
Штеккеля, намекавшего с целью дать понять нечто вполне
определенное, Бертони намекал так, вообще, имея в виду
что-то неясное и туманное.
Второй свой рисунок художник опять положил передо
мной. Малер взглянул на него, перегнувшись ко мне, и
высокомерно засмеялся. Я с улыбкой передал листок
дальше. Бертони не кричал «браво» — это, опередив его,
сделал Хадерер и тем лишил Бертони возможности выска¬
заться. Он грустно и задумчиво рассматривал свой портрет.
Когда Хадерер утих, Малер заявил, перегнувшись через
стол к Бертони: «Вы красивый мужчина, Бертони. Вы
раньше это знали?»
А старик Раницкий выглядел так.
Лицо торопыги, лицо утешителя, который готов утвер¬
дительно кивнуть еще до того, как спросят его мнение. На
рисунке у него кивали даже уши и ресницы.
Раницкий, конечно, похвалил рисунок — в его одобре¬
нии можно было не сомневаться. Когда, ему случалось об¬
ронить слово о прошлом, все умолкали—откровенничать
с ним не имело никакого смыела. Так легче было забыть и
о прошлом и о нем самом; когда он сидел с нами ва стелам,
мы молча терпели его присутствие. Иногда он кивал -про¬
сто так, позабытый всеми. Правда, в течение двух лет по¬
сле сорок пятого он оставался не у дел и даже как будто
сидел в тюрьме, но теперь снова стал профессором универ¬
ситета. В своей «Истории Австрии» он переписал, все гла¬
вы, относящиеся к новейшей истории, и снова переиздал
ее. Когда я вздумал однажды расспросить Малера о Ра¬
ницком, он сказал, не распространяясь: «Всем известно^
что он просто приспособленец. Он неисправим, но он и
сам это понимает. Поэтому никто ему ничего и не говорит.
А все-таки надо было бы сказать». Малер-то как раз гово¬
рил — лицо его было красноречивее слов, особенно когда
он что-нибудь отвечал Раницкому или просто обращался
к нему: «Послушайте...» Этого было достаточно, чтобы Ра¬
ницкий нервно заморгал. Да, Малер приводил его в трепет
Iвсякий раз, когда с ним здоровался, когда вяло, мимоходом
пожимал ему руку. Малер бывал страшнее всего, именно
когда он ничего не говорил или легким движением поправ¬
лял галстук, когда в упор смотрел па человека, давая по¬
нять, что помнит обо всем. У него была память беспощад¬
ного ангела, и он мог в любую минуту вспомнить все, не¬
нависти у него не было — только память, какая-то сверх¬
человеческая способность все хранить в себе и уметь дать
попять человеку, что он кое-что знает.
И наконец, Хуттер; он выглядел так.
Как Варавва, если бы Варавва считал естественным,
что его отпускают на свободу. Детская беспечность и уве¬
ренность в себе на плутоватом круглом лице.
Хуттер был освобожденный разбойник, не ведающий
стыда и угрызений совести. Мы все его любили, и я в том
числе, а может быть, даже Малер. «Отпусти нам этого!» —
наверно, мы тоже кричали бы так. Время настолько изме¬
нило нас, что мы без конца повторяли: «Отпусти этого!»
Хуттеру удавалось все,— удавалось даже, чтобы ему не
ставили в упрек его удачу. Он был денежный туз и чего
только не финансировал: кинокомпании, газеты, иллюстри¬
рованные журналы, а недавно помог учредить комитет под
названием «Культура и свобода» — это Хадерер его уго¬
ворил. Каждый вечер он сидел где-нибудь за столом, каж¬
дый вечер за другим и с другими людьми, с директорами
театров, с актерами, с дельцами и чиновниками. Он изда-
вал книги, но никогда не читал их, как не смотрел филь¬
мов, которые финансировал; в театры он не ходил, но после
спектакля садился за стол вместе с труппой. Ибо он искрен¬
не любил этот мир,— мир, где все это обсуждалось и где
всегда что-то затевалось. Он любил мир затей, суждений
обо всем и вся, мир расчетов, интриг,— мир, где рискуют
и смешивают карты. Он охотно следил за игрой и давал со¬
вет, если шла плохая карта, или наблюдал, как ходят с
козыря, и опять-таки давал совет. Ему все было в ра¬
дость — друзья были ему в радость, как старые, так и но¬
вые, как слабые, так и сильные. Если Раницкий улыбался,
Хуттер смеялся (а Раницкий только улыбался, и улыбался
он обычно в тех случаях, когда изничтожали кого-нибудь
из нашего кружка — того, кто сегодня не пришел, но с кем:
он должен был встретиться завтра; однако улыбался
так тонко и двусмысленно, что мог бы сказать — нет, он
этого не одобрял, он улыбнулся, чтобы скрыть свои чувства
143
и молча думать свою думу). Зато Хуттер, когда кого-ни¬
будь поносили, громко смеялся и мог, не задумываясь, раз¬
болтать об этом всему свету. Или же приходил в ярость и
защищал отсутствующего, не давал его в обиду, оттаскивал
от пего других, спасал того, кому грозила опасность, по,
войдя во вкус, тут же засучивал рукава и кидался убивать
кого-нибудь еще. Он был человек минуты, легко возбуж¬
дался, трезвая рассудительность и холодный расчет были
ему чужды.
Восторг Хадерера по поводу рисунков поулегся, и он
хотел вернуться к прерванному разговору, так что, когда
Малер запретил художнику рисовать себя, Хадерер был
ему благодарен и подал старику знак уйти. Тот сгреб свои
деньги и отвесил прощальный поклон тому, кого признал
здесь за главного.
Я твердо рассчитывал, что речь пойдет о предстоящих
выборах или о вакантной должности директора театра —
это уже три пятницы подряд служило нам темой. Но в эту
пятницу все шло по-другому: их несло и несло говорить о
войне, они не могли бороться с течением, булькали, захле¬
бываясь в тине, кричали все громче, лишая нас всякой воз¬
можности затеять другой разговор на пашем конце стола.
Мы были вынуждены только слушать да смотреть па них и
молча кромсали хлеб; время от времени я переглядывался
с Малером, который курил сигарету и медленно выпускал
дым колечками — казалось, он всецело поглощен этой
игрой. Слегка откинув голову назад, он распустил галстук.
— Благодаря войне и тому опыту, что дала нам война,
мы ближе узнали врага,— услышал я слова Хадерера.
— Кого это? — попытался робко вмешаться Фридль.—
Боливийцев?
Хадерер осекся, он пе понял, что имеет в виду Фридль,
а я старался вспомнить — разве они тогда были в состоя¬
нии войны и с Боливией тоже? Малер беззвучно смеялся,
можно было подумать, что он хочет поймать ртом только
что выпущенное колечко дыма.
Бертоии торопливо пояснил:
— Англичан, американцев, французов.
Хадерер уже овладел собой, он живо возразил:
— Да что вы, эти-то никогда и не были для меня вра¬
гами! Просто я имею в виду приобретенный опыт, и боль¬
ше ничего. Теперь, когда он у нас есть, мы иначе говорим,
общаемся друг с другом и даже пишем иначе. Подумайте
144
•только о нейтралах, у которых пет этого горького опыта,
нет уже с давних пор.— Оп прикрыл глаза рукой.— Мне
было бы жаль, если бы пе было этих лет, этого опыта.
Фрпдль сказал голосом запинающегося школьника,
только слишком тихо:
— А мне нет. Мне было бы не жаль.
Хадерер взглянул на него как-то неопределенно; оп
ничем пе показал, что разозлился. Возможно, он собирался
разразиться проповедью, в которой всем было бы воздано
по заслугам. Но в эту минуту Хуттер навалился на стол п
спросил так громогласно, что сразу сбил Хадерера с толку:
— Да, так как же обстоит дело? Можно ли сказать, что
культура возникает только благодаря войнам, борьбе, на¬
пряженности?.. Опыт... Меня интересует культура, пу так
как же?
Хадерер немного помолчал; сначала оп предостерег Хут¬
тера, потом пожурил Фридля и неожиданно заговорил о
первой мировой войне, чтобы избежать разговора о второй.
Речь зашла о боях па Изонцо; Хадерер и Раницкий стали
делиться воспоминаниями о полковой жизни и поносили
итальянцев, по опять-таки не итальянцев-противников, а
союзников в последней войне; они говорили о «нападении
с тыла», о «ненадежном командовании», потом все же пред¬
почли вернуться к Изонцо и под конец залегли под загра¬
дительным огнем возле Малого Пала. Бертони воспользо¬
вался моментом, когда Хадерер жадно припал к своему
стакану, и принялся неумолимо пичкать пас какой-то не¬
правдоподобной и запутанной историей из времен второй
мировой войны. Речь шла о том, что он и один немец-фило¬
лог получили во Франции задание организовать бордель;
их всевозможным злоключениям при этом пе было конца,
и Бертони самым потешным образом расписывал нам, что
им пришлось пережить. Фридль и тот начал вдруг безу¬
держно хохотать; это меня удивило, но еще больше уди¬
вило то, что ему ни с того пи с сего захотелось тоже по¬
хвастать своей осведомленностью относительно боевых опе¬
раций, заданий и планов. Ведь Фридль был мой однолетка
и в армию его могли призвать разве что в ’последний год
войны, прямо со школьной скамьи. Но тут я заметил, что
Фридль пьян, а я знал, что, когда он пьян, с ним трудно
сладить и что говорит оп в таких случаях только в на¬
смешку пли с отчаяния, и я действительно расслышал в
его топе насмешку. На какую-то долю секунды я перестал
145
верить и ему, потому что он примкнул к остальным и пу-
стилен в этот мир озорства, испытаний мужества, героизма,
повиновения и неповиновения,— в тот мужской мир, где
все было сдвинуто с места, все измерялось иной, необыч¬
ной мерой и где уже никто не мог разобрать, чем он хва¬
лится и чего стыдится и есть ли в том мире, где мы просто
граждане, что-либо, чему соответствуют эта хвала и этот
стыд. Я тут же вспомнил историю, рассказанную Берто¬
ки,— как он в России украл свинью, только я знал, что
Бертоки у себя в редакции и карандаша чужого в карман
не сунет, такой он порядочный человек. Или вот, напри¬
мер, Хадерер: в первую мировую войну он получил самые
высокие награды, и до сих пор еще можно услышать, что
Хёцендорф1 доверил ему миссию, требовавшую большой
отваги. Но когда мы теперь смотрим на Хадерера, он ка¬
жется нам человеком, который ни на какие подвиги не
способен, да никогда способен и не был, во всяком случае в
том мире, где мы живем. Возможно, он был отважен в дру¬
гом мире, при других законах. А Малер, хладнокровный и
едва ли не самый бесстрашный человек, какого я знаю, рас¬
сказывал мне, что в молодости, в 1914—1915 годах, будучи
санитаром, падал в обморок и впрыскивал себе морфий,
чтобы выдержать работу в лазарете. Мало того, он еще
дважды покушался на самоубийство и до конца войны про¬
был в психиатрической лечебнице. Так что все они суще¬
ствовали в двух мирах, и существовали по-разному, две по¬
ловинки расщепленного «я», которые никогда не могут со¬
единиться. Все уже были пьяны, хвастались напропалую
и пытались прорваться сквозь чистилище, где томилось
одно их «я», жаждущее избавлейия, жаждущее подмены
другим, гражданским «я» — тем любящим, социальным
«я», которое обременено семьей и профессией, конкурен¬
тами, заботами и тревогами.
И они все снова и снова пытались настичь ускользаю¬
щего в тумане зверя, голубой призрак, что давным-давно
отлетел от их собственного «я» и больше не давался в руки,
а пока он не водворен на место, в мире будут царить на¬
важдение и дурман. Фридль толкнул меня в бок, он хотел
выйти из-за стола, я испугался, увидев его опухшее лосня¬
щееся лицо. Мы блуждали по коридору в поисках туалета,
1 Конрад фон Хёцендорф — начальник австро-венгерского ге¬
нерального штаба в годы первой мировой войны.
146
и в одном месте нам пришлось проталкиваться сквозь груп¬
пу мужчин, теснившихся у входа в большой зал. Такого
скопления народа в погребке «Корона» я никогда еще не
видел, да и лица собравшихся были мне незнакомы. Заин¬
тересовавшись, я спросил кельнера, что туг такое сегодня
затевается. Точно он не знает, ответил кельнер, но, по-ви¬
димому, это встреча однополчан, вообще-то здесь не сда¬
ются залы для таких собраний, но на этом должен присут¬
ствовать полковник Винклер, ну вы знаете — тот, знаме¬
нитый, он тоже вместе с остальными будет отмечать годов¬
щину Нарвика.
В туалете была мертвая тишина. Фридль прислонился
к умывальнику и стал вертеть ролик с бумажными поло¬
тенцами.
— Можешь ты мне объяснить, почему мы с ними си¬
дим за одним столом? — спросил он.
Я молча пожал плечами.
— Но ты понимаешь, что я имею в виду? — настойчиво
допытывался Фридль.
Да, да,— сказал я.
** Можешь ты мне объяснить, почему даже Герц и
Раницкий сидят за одним столом, почему у Герца нет к
нему такой ненависти, как к Лангеру, ведь тот, пожалуй,
не так виноват, да и вообще живой труп? А Раницкий
живехонек. Господи, ну почему мы сидим с ними вместе?
А уж кого я совсем не понимаю, так это Герца. Они убили
его жену, его мать...
Я судорожно искал ответа и наконец сказал:
— А я понимаю. Да, я понимаю.
Фридль спросил:
*— Петому что он уже забыл? Или в один прекрасный
день решил, что все это надо похоронить? л
— Нет,— ответил я.— Дело совсем не в этом. Не в заб¬
вении и не в прощении. Ни в том и ни в другом.
Фридль сказал:
1 Но ведь именно Герц помог Раницкому опять стать
на ноги, и вот уже добрых три года он сидит с ним радом,
да еще с Хуттером и Хадерером. А ведь он все про них
знает.
— Но ведь и мы знаем,— сказал я.— А разве мы по¬
ступаем иначе?
Фридль сказал вдруг.-так- живо, <будто его осенила блес¬
тящая идея;
147
— А может, Раницкий ненавидит Герца за то, что тот
ему помог? Как тебе кажется? Ведь это вполне вероятно.
— Нет,— сказал я,— этого я не думаю. Он считает, что
так и надо, а если чего и боится, то каких-то неожиданных
разоблачений, чего-то, что еще может всплыть. Ои неспо¬
коен. Другие пе мучаются, возьми вот Хуттера: для него в
порядке вещей, что годы идут и времена меняются. Тогда,
после сорок пятого, я тоже думал, что мир раз и навсегда
распался на добрых и злых, ио теперь ои уже делится со¬
всем по-иному. Сперва это было как-то незаметно, потому
что началось пе сразу, исподволь. Ну а теперь мы все опять
перемешались, чтобы могло совершиться новое, другое раз¬
деление, чтобы дела и мысли одних были отделены от дел
и мыслей других. Тебе понятно? Все обстоит именно так,
хоть мы и не хотим себе признаться. Но и это еще не объ¬
яснение такого жалкого примиренчества.
— Так в чем же тогда причина? — воскликнул
Фридль.— Нет, ты скажи! Может, мы вместе потому, что
все более или менее одинаковы?
— Нет,— возразил я,— мы не одинаковы. Малер ни¬
когда не был таким, как они, надеюсь, и мы с тобой ни¬
когда не будем.
Фридль мрачно глядел в пространство.
— Значит, ты, Малер и я. Но ведь мы тоже совсем раз¬
ные, каждый из нас мыслит и чувствует по-своему. Да и
они далеко не одинаковы, Хадерер и Раницкий тоже очень
разные. Раницкий хотел бы, чтобы воскрес его «рейх», а
Хадерер — нет, он делает ставку на демократию и уж те¬
перь не отступится, я это чувствую. Раницкого следовало
бы ненавидеть, Хадерера тоже; и я их ненавижу, несмотря
ни па что, по при всем том они пе одинаковы, и далеко не
безразлично, с кем сидеть за столом — с одним из них или
с обоими. А Бертони...
Когда Фридль выкрикнул это имя, в туалет вошел Бер¬
тони, и его загорелое лицо покраснело. Он скрылся в ка¬
бинке, и мы на время умолкли. Я вымыл руки и сполоснул
лицо.
Фридль прошептал:
— Тогда выходит, что все в сговоре со всеми, я тоже, но
я не хочу! И ты в сговоре!
— Ничего мы не в сговоре,— сказал я,— и никакого
сговора нет. Все гораздо хуже. По-моему, мы должны ужи¬
ваться друг с другом, но ужиться не можем. В каждой го¬
148
лове — свой мир и свои запросы, и они исключают какой
бы то ии было другой мир и другие запросы. Но все мы
друг другу пужны, для того чтобы когда-нибудь наступили
лад и согласие.
Фридль зло рассмеялся.
— Нужны. Конечно, все дело в этом. Возможно, Хаде¬
рер мне когда-нибудь и понадобится.
— Я совсем не то хотел сказать,— возразил я.
— А почему бы и нет? Мне оп, конечно, понадобится,
тебе-то хорошо рассуждать, у тебя ведь пет жены и троих
детей. Но если тебе не нужен Хадерер, то в одни прекрас¬
ный день понадобится кто-нибудь другой, ничуть не лучше.
Я ничего не ответил.
— У меня трое детей! — закричал оп и, опуская все
ниже руку над полом, показал, что дети у него мал мала
меньше.
— Кончай,— сказал я.— Это не довод. Так мы пи к
чему не придем.
Фридль разозлился.
— Довод, да еще какой! Тебе и не снилось, какой это
сильный довод, в пользу чего угодно! Я женился в два¬
дцать два года. Чем же я виноват? Ты себе даже не пред¬
ставляешь, что это такое, не представляешь!
Он сморщился и нагнулся над умывальником, упершись
в его край руками. Я думал, он туда опрокинется. Бергони
вышел из кабинки и, даже не помыв рук, поспешно уда¬
лился, словно боялся опять услышать свое имя, а может
быть, кое-что еще.
Пошатываясь, Фридль сказал:
.— Ты ведь не любишь Герца? Верно?
Я ответил с неохотой:
— Откуда ты взял?.. Ну ладно, не люблю. За то, что
он сидит вместе с ними. За то, что не слушает меня. За
то, что из-за него я, ты и наши друзья не можем пересесть
за другой стол. Он всячески старается, чтобы все мы сидели
вместе.
Фридль:
— Ты псих, еще почище, чем я. Сначала говоришь, что
мы друг другу пужпы, а теперь винишь во всем Герца.
А я его ие виню! Он имеет право дружить с Рагтицким.
— Нет, не имеет! — возмутился я.— Нпкго не имеет
такого права, и он тоже.
— После войны,— начал Фридль,— после войны мы ду¬
149
мали, что мир окончательно распался на добро и зло. Ну
так я тебе сейчас покажу, как это выглядит, когда мир ак¬
куратненько разделен пополам. Я это увидел, когда при¬
ехал в Лондон и встретился с братом Герца. Мне было тя¬
жело, я с трудом приходил в себя. Он ничего не знал обо
мне,ионе принял во внимание, сколько мне лет,и первым
долом спросил: «Где вы были в то время и чем занима¬
лись?» Я сказал, что учился в школе, а двух моих старших
братьев расстреляли как дезертиров. Потом я сказал, что
под конец и мне пришлось пойти в армию, как и всем
моим одноклассникам. Больше он обо мне спрашивать не
стал, по поинтересовался судьбой некоторых других лю¬
дей, которых знал, в том числе судьбой Хадерера, Бер-
тони и кое-кого еще. Я рассказал ему все, что знал — вы¬
ходило, что некоторые из этих людей сожалеют о проис¬
шедшем, некоторые стыдятся,— больше я, при всем жела¬
нии, сказать и не мог: многих уже не было в живых, а
большинство отрицало и приукрашивало свои поступки,
этого я тоже не скрыл. Ведь Хадерер будет всегда все
отрицать и обелять свое прошлое — разве не так? Но тут
я заметил, что этот человек меня больше не слушает, у
него была навязчивая идея, так что, когда я опять заго¬
ворил о различии в поведении людей и справедливости
ради заметил, что Бертони в то время вряд ли сделал что-
нибудь плохое, в худшем случае вел себя как трус, он
оборвал меня и заявил: «Нет, не ищите различий. Для меня
их не существует — раз и навсегда. В эту страну я больше
ни ногой. Не хочу жить среди убийц».
— Я его понимаю, даже лучше понимаю, чем Герца.,.—*
сказал я с расстановкой.— Хотя так ведь тоже нельзя,
какое-то время — может быть, пока не уничтожено злей¬
шее из зол. Но нельзя всю жизнь оставаться жертвой. Так
жить невозможно.
— А мне вообще кажется, что в этом мире жить не¬
возможно. Вот мы тут бьемся и не в силах распутать такой
вроде бы небольшой узел, до нас бились другие, они тоже
ничего не смогли распутать и погубили себя, стали жер¬
твами или палачами, и чем глубже проникаешь в прошлое,
тем более запутанным все это представляется. Я иногда
просто теряюсь в хаосе истории и уже не знаю, кому от¬
дать свое сердце — каким партиям, силам, группировкам,
ибо повсюду видишь один и тот же позорный закон, кото¬
рый управляет всем; И всегда хочется стать на сторону
150
жертв, но это бессмысленно — они не указывают дороги.
И это ужаснее всего! — вскричал Фридль.— Жертвы, бес¬
численные жертвы не могут указать нам дорогу! Для
убийц времена меняются. А жертвы остаются жертвами.
Вот и все. Мой отец был жертвой эпохи Дольфуса, дед —
жертвой монархии, братья — жертвами Гитлера, ио мне
это ничем не помогло, понимаешь? Они просто погибли —
их переехали, застрелили, поставили к стенка, это были
маленькие люди, и они вынашивали не бог весть какие
идеи. Впрочем, двое-трое из них носились с какими-то
мыслями — мой дед думал о грядущей республике, только
скажи мне, зачем все это? Разве непременно нужна была
его смерть, чтобы наступила республика? А мой отец ду¬
мал о социал-демократии. Скажи, ради кого он погиб, не¬
ужели ради нашей социалистической партии, сейчас до¬
бивающейся победы на выборах? Для этой победы чья-
либо смерть не нужна, для этого — нет. Евреев убивали
за то, что они евреи, они были просто жертвами, бесчислен¬
ными жертвами, а ради чего? Ведь не для того же, чтобы
сегодня многие начали наконец внушать своим детям,
что евреи тоже люди? Не поздновато ли, а? Нет, никто не
понимает, что жертвы ничего не дают. Именно этого никто
не понимает, а потому никого не оскорбляет, что эти жерт¬
вы выставляются напоказ как наглядное пособие. Зачем
нужно это пособие? Кто у нас здесь не знает, что убивать
не должно?! Это известно уже две-тысячи лет. Так стоит
ли еще тратить слова на эту тему? О, вы только послу¬
шайте Хадерера, его последнюю речькСколько.там ^сего
говорится по этому поводу, он, оказывается, впервые от¬
крыл сию истину. И вот он жует и пережевывает слово
«гуманность», сыплет цитатами из классиков, приводит
изречения отцов церкви и плоские. откровения новейших
философов. Это же просто бред. Как можно еще об этом
разглагольствовать? Это либо слабоумие, либо подлость.
Что же мы за люди, если нам еще надо сообщать подобные
прописные истины?
И он завел снова:
— Пусть кто-нибудь объяснит мне, почему мы с ними
сидим эа одним столом. Пусть кто-нибудь объяснит, а я
послушаю. То, что происходит здесь, беспримерно, и то,
что из этого выйдет, тоже будет беспримерно.
«Я этого мира больше не понимаю!» — эту фразу мы
засто повторяли друг другу по вечерам, когда пили, разго¬
151
варивали и рассуждали. Но моментами каждому из пас ка¬
залось, что мир все-таки можно постичь. Я уверял Фрид¬
ля, что все понимаю и что напрасно он пе желает понять.
Однако бывали минуты, когда я тоже переставал что-либо
понимать, и тогда мне казалось, что с Фридлем мне теперь
пе ужиться, а с остальными — тем паче. Невозможно ведь
жить под одним небом с таким человеком, как Фридль,
хотя мы с ним во многом единомышленники, но для него
решающий довод — семья; или со Штеккелем, для кото¬
рого главный довод — искусство. Даже с Малером, кото¬
рого я люблю больше всех, я порой не в состоянии ужиться.
Разве могу я быть уверен, что, когда я приму очередное ре¬
шение, Малер примет такое же? В том, что касалось про¬
шлого, мы были единодушны, ну а если речь зайдет о бу¬
дущем? Не исключено, что в ближайшее время я разой¬
дусь и с ним и с Фридлем,— можно только надеяться, что
этого не случится.
Фридль застонал, выпрямился и побрел к ближайшей
кабинке. Я слышал, как его рвало, как он хрипел и отхар¬
кивался, бормоча:
— Если бы можно было все это выблевать, все, все!
Когда он вышел, его исказившееся лицо растянулось в
улыбке, он сказал:
— Скоро я выпью с ними па брудершафт, пожалуй,
даже с Раницким. Я им скажу...
Я ткнул его головой под кран, умыл и вытер ему лицо,
потом взял его за руку выше локтя.
— Ничего ты не скажешь!
Мы слишком долго отсутствовали, пора было возвра¬
щаться за стол. Когда мы проходили мимо большого зала,
участники встречи однополчан шумели так, что я не мог
разобрать пи слова из того, что говорил мне Фридль. Он
выглядел уже прилично. По-моему, открывая дверь в ка¬
бинет, мы над чем-то смеялись, возможно над собой.
Дым в комнате за это время еще больше сгустился, и
мы едва разглядели стол. Когда мы подошли ближе, проби¬
лись сквозь дым и стряхнули с себя дурман, я увидел ря¬
дом с Малером какого-то незнакомого человека. Оба они
молчали, а вокруг шел разговор. Мы с Фридлем уселись
за стол, и я поймал на себе растерянный взгляд Бертопи.
Тут незнакомец встал, протянул нам руку и пробормотал
какое-то имя. Нельзя сказать, что он был приветлив, от¬
нюдь нет; он выглядел прямо-таки неприступным, а глаза
152
его — холодными и мертвыми; я вопросительно посмотрел
на Малера — тот наверняка его знал. Человек был очень
высокого роста, лет тридцати, хотя поначалу казался стар¬
ше. Одет он был вроде бы и неплохо, по создавалось впе¬
чатление, что на нем костюм с чужого плеча, который про¬
сто ему широк.
Прошло несколько минут, прежде чем я поймал нпгь
разговора, в котором пе принимали участия ни Малер, ни
незнакомец.
Хадерер — Хуттеру:
— Но тогда вы должны знать и генерала Цвирля!
Хуттер — Хадереру, обрадованно:
— Ну конечно! По Грацу.
Хадерер:
— Образованнейший человек! Один из лучших знато¬
ков древнегреческого. Один из моих любимейших старых
друзей.
Можно было опасаться, что теперь Хадерер начнет по¬
ругивать меня и Фридля за недостаточное знание латыни и
древнегреческого, хотя именно он и иже с ним помешали
нам своевременно приобрести эти знания. Но у меня пе
было охоты подхватывать одну из любимых тем Хадерера,
еще менее — провоцировать его на подобный разговор.
Я наклонился к Малеру, сделав вид, что ничего не слышал.
Малер что-то тихо говорил незнакомцу, тот отвечал громко,
глядя прямо перед собой. На каждый вопрос он отвечал
только одной фразой. Я предположил, что это, вероятно,
один из пациентов Малера, а может быть, друг, которого ои
лечит. Кого только не знал Малер, он водил дружбу с
людьми, нам совершенно не известными. Незнакомец в од¬
ной руке держал пачку сигарет, а в другой — сигарету,
которую курил, но я еще никогда не видел, чтобы так ку¬
рили. Он затягивался, как автомат, через равные проме¬
жутки времени,— казалось, он только и умеет, что курить.
Когда от сигареты остался совсем маленький окурок, о
который он обжегся, даже не поморщившись, он прикурил
от пего новую сигарету и продолжал курить, как будто это
было делом его жизни.
Вдруг он перестал затягиваться и, держа сигарету свои¬
ми огромными грубыми пальцами, наклонил голову. Теперь
и я услышал то, что слышал он.
Хотя двери были закрыты, из большого зала по ту сто¬
рону коридора доносились раскаты песни — можно было
153
даже разобрать слова: «На родине, па родипе — там сви¬
димся мы вновь...»
Он быстро сделал затяжку и, обращаясь к нам с Фрид-
лем, громко произнес тем же топом, каким отвечал Малеру:
— Эти все еще возвращаются па родину. Они, как вид¬
но, еще пе совсем вернулись.
Хадерер засмеялся и сказал:
— Не знаю, что вы имели в виду, по они действительно
чересчур расшумелись. Мой высокочтимый друг, полков¬
ник Винклер, мог бы призвать своих людей к порядку...
Если так пойдет дальше, нам придется поискать другой
ресторан.
Бертоии заметил, что он уже говорил с хозяином. Это
случай исключительный — встреча фронтовых друзей по
поводу славного юбилея. Подробностей он не знает...
Хадерер сказал, что и он не знает подробностей, од¬
нако его высокочтимый друг и бывший соратник...
От меня ускользнуло, что в это время сказал незнако¬
мец, ибо голос его перекрыли Хадерер и Бертони — Фридль
уверяет, что это слышал он один,— поэтому я не понял,
почему он вдруг сказал: я убийца.
— ...Мне еще не было и двадцати лет, когда я это по¬
нял,— сказал он тоном человека, который не только не
впервые рассказывает свою историю, но нигде ни о чем
другом говорить не может и не ищет себе особо благосклон¬
ного слушателя, а готов рассказывать кому угодно.— Я по-»
нял, что мне еуждено стать убийцей, как другим суждено
стать героями, святыми или заурядными людьми.- У-меня»
для этого имелись все данные, все, что требуется, если
можно так выразиться^ и все толкало меня .к одной цели —
убить. Не хватало мне только жертвы. В то время я бегал
ночью по улицам, здесь,— он ткнул рукой в задымленное,
пространство, и Фридль испуганно отшатнулся, чтобы эта.
рука не коснулась его,—здесь, в этом городе, я бегал по
улицам... Цвели каштаны, цвели и благоухали, воздух везде
и повсюду был напоен запахом цветущих каштанов, на
Ринге, в улицах и переулках... Сердце у меня готово было
выскочить из груди, легкие трепетали, словно связанные
крылья, дышал я прерывисто, как затравленный волк.
Только я еще не знал, как и кого мне убивать. Оружия у
меня не было, только руки, но хватит ли у меня силы стис¬
нуть горлю-жертвы? Я тогда был много слабее, чем теперь,
и порядком недоедал. Ненавидеть мне было некою, в го¬
154
роде я почти никого не знал — я так и не мог найти себе
жертвы и каждую ночь едва пе доходил до безумия. Это
всегда случалось со мною ночью: что-то заставляло меня
вставать, спускаться вниз и выходить на улицу. Я стоял в
непогоду па перекрестках темных пустынных улиц; тогда
по ночам па улицах было тихо, пи одного прохожего, ни¬
кого, кто пожелал бы заговорить со мной, а я все ждал,
пока не начинал зябнуть и плакать от слабости — и мое бе¬
зумие проходило. Но это длилось недолго. Потом меня за¬
брали в армию. Взяв в руки винтовку, я понял, что погиб.
Ведь однажды придется стрелять. Я отдал себя во власть
металлического ствола, заряжал его смертоносными пу¬
лями — пе иначе как я сам изобрел и пули и порох. На
учениях я стрелял мимо мишени, но не потому, что не умел
целиться: я знал, что черный кружок в центре, похожий
на глаз,— совсем не глаз, что это лишь замена, учебная
цель и мой выстрел никого не убьет. Это меня раздража¬
ло — действительность была подменена соблазнительной
бутафорией. И я стрелял, если можно так выразиться, с
прямым попаданием мимо. На этих учебных стрельбах я
ужасно потел и нередко уходил с них с каким-то синюш¬
ным цветом лица, после меня рвало, и я вынужден был
лечь. Я точно знал: я или безумец, или убийца — и, собрав
последние остатки разума, пытался пойти наперекор судь¬
бе, пытался поговорить с товарищами, чтобы они защитили
меня и оберегались сами, чтобы они знали, с кем имеют
дело. Но простые крестьянские парни, мастеровые и слу¬
жащие, мои товарищи по казарме, не приняли меня
всерьез. Одни мне сочувствовали, другие надо мной смея¬
лись, но за убийцу никто меня не считал. А может быть,
все-таки... Не знаю. Один, правда, как-то назвал меня
Джек Потрошитель, он был почтовый служащий, кое-что
читал и смотрел много фильмов, и вообще был хитрый па¬
рень, но мне кажется, по-настоящему и он не верил.
Незнакомец погасил окурок, опустил глаза, потом бы¬
стро поднял их; я почувствовал на себе его холодный дол¬
гий взгляд и не знаю почему, но мне захотелось этот взгляд
выдержать. И я его выдержал, только он был более долгим,
чем взгляд, которым обмениваются влюбленные или враги;
он не сводил с меня глаз до тех пор, пока я не потерял спо¬
собность думать и соображать и не почувствовал себя та¬
ким опустошенным, что вздрогнул, когда снова раздался
его ровный громкий голос:
155
— Мы пришли в Италию, в Монте-Кассино. Это была
самая страшная бойня, какую только можно себе вообра¬
зить. Все живое там приканчивали без зазрения совести,
казалось, вот уж где раздолье для убийц! Но для меня это
было не так, хоть я уже уверил себя в том, что я убийца,
и целых полгода открыто разгуливал с винтовкой. Когда
мы прибыли на позиции под Монте-Кассино, во мне уже и
крупицы души не осталось. Трупный запах, дым пожарищ
и атмосферу бункеров я вдыхал с такой же легкостью, как
освежающий горный воздух. Страха, испытываемого дру¬
гими, я не чувствовал. Свое первое убийство я отпраздно¬
вал бы, как свадьбу. Ибо то, что было для других полем
боя, для меня было ареной убийства. Но я хочу рассказать
вам, как все получилось. Я не стрелял. Первый раз я при¬
целился, когда перед нами очутилась группа поляков; там
ведь были части из разных стран. Тут я сказал себе: нет, не
поляков. Меня не устраивали все эти прозвища — поля¬
чишки, ами, черные, принятые в разговорном языке. Ни¬
каких американцев, никаких поляков. Я ведь обыкновен¬
ный убийца, никаких оправданий у меня нет, и язык у
меня простой, а не образный, как у других. «Выкорчевать»,
«выкурить», «стереть в порошок» — эти слова не для меня,
мне они отвратительны, и я даже не мог их произнести.
Итак, мой язык был прост, и я повторял про себя: я дол¬
жен и я хочу убить человека. Да, я этого хотел, хотел уже
давно, целый год лихорадочно ждал такой возможности.
Человека! Стрелять я не мог, это вы должны понять. Не
знаю, сумею ли я вам как следует объяснить. Другим это
давалось легко, они выполняли задание и большей частью
не знали, да и не хотели знать, в кого они попали и сколь¬
ких убили. Эти солдаты не были убийцами, верно? Они
хотели уцелеть или получить награды, думали о своих
семьях, о победе, о родине, хотя в то время уже вряд ли, в
то время вряд ли — ведь они угодили в ловушку. А я неот¬
ступно помышлял об убийстве. Я не стрелял. Неделю спу¬
стя, когда бои ненадолго поутихли, когда мы больше не
видели перед собой войск противника и только самолеты
пытались нас добить, ибо еще не все живое было истреб¬
лено, не все, чему суждено было погибнуть, меня вдруг за¬
требовали в Рим, где я предстал перед военным трибуна¬
лом. Я ИхМ все рассказал о себе, но меня, видимо, не захо¬
тели понять, п я попал в тюрьму. Я был осужден за трусость
перед лицом врага п подрыв обороноспособности, были там
156
еще какие-то пункты, которых я сейчас уже точно пе по¬
мню. Потом меня вдруг взяли из тюрьмы и отправили на
север, в психиатрическую больницу. Мне кажется, я выздо¬
ровел, и полгода спустя меня зачислили в другую часть,
потому что от моей прежней ничего не осталось. Так я по¬
пал на восточный фронт, где мы отступали с боями.
Хуттер, который пе переносил таких длинных речей и
был бы пе прочь послушать теперь какой-нибудь анекдот
или рассказ о забавном случае, нетерпеливо спросил, отла¬
мывая кусочек кренделя:
— Ну и что же? Смогли вы тогда стрелять?
Незнакомец пе взглянул па пего и, хотя в этот момент
все пили, отодвинул свой стакан на середину стола. Он по¬
смотрел на меня, потом на Малера, потом опять па меня,
но на этот раз я отвел взгляд.
— Нет,— ответил он наконец.— Я же выздоровел. По¬
этому и пе смог. Вы меня поймите, господа. Через месяц
риепя опять арестовали, и до конца войны я пробыл в ла¬
гере. Поймите, я не мог стрелять. Если уж я совсем не мог
[стрелять в Человека, то как же я мог стрелять в пазва-
?ие — «русские». Я их совершенно себе не представлял,
ведь надо же представлять себе что-то определенное.
— Ну и чудак,—тихо сказал Бертони Хуттеру, но я все-
таки расслышал и боялся, что незнакомец расслышал тоже.
? Хадерер подозвал кельнера и потребовал счет.
* Из большого зала доносился теперь нарастающий гул
^мужских голосов, так бывает в опере, когда за кулисами
|роет хор. Они пели: «Родина, родина, звезды твои...»
Незнакомец опять наклонил голову, прислушиваясь, и
сказал:
— Словно и дня не прошло.— И добавил: — Спокойной
даочи!
i Он встал, выпрямился во весь свой огромный рост и ре¬
шительно направился к двери. Малер тоже встал и взвол¬
нованно сказал: «Послушайте!» Малер через каждые три
слова говорит: «Послушайте!», но я понял, что на сей раз
он хочет, чтобы его действительно послушали. И все же я
впервые видел его таким растерянным: он переводил
взгляд с Фридля па меня, будто ждал от нас совета. Мы
молча глядели па пего, по в наших взглядах совета не
было.
Мы расплачивались, теряя время. Малер, нахмурясь,
расхаживал взад-вперед, напряженно о чем-то думал;
157
вдруг он бросился к двери, открыл ее; мы тоже поспешили
за ним в коридор, потому что пение внезапно оборвалось,
только отдельные, разрозненные голоса еще продолжали
звучать, затихая. И тут же в коридоре поднялась суматоха,
которая всегда служит признаком ссоры или несчастья.
В коридоре мы столкнулись с группой мужчин — одни
кричали что-то, другие ошеломленно молчали. Незнакомца
нигде не было видно. Какой-то человек обратился к Хаде-
реру, видимо, тот самый полковник; оп был бледен и гово¬
рил визгливым голосом. Я уловил обрывки фраз: «...непо¬
нятная провокация... я вас прошу... бывшие фронтовики...»
Я крикнул Малеру, чтобы он следовал за мной, ринулся к
выходу и взбежал по черным влажным каменным ступень¬
кам, которые, словно из шахты, выводили наверх, на волю.
Он лежал недалеко от входа в погребок. Я нагнулся к
нему. Он истек кровью из нескольких ран. Малер опустил¬
ся на колени рядом со мной и снял мою руку с его груди,
давая понять, что он мертв.
Ночь гулко отдавалась во мне, на меня онова нахлынул
дурман.
Когда под утро я пришел домой и волнение мое улег¬
лось, когда я просто так, вяло и бездумно, стоял у себя в
комнате, стоял и стоял, не в силах двинуться с места
и добрести до поотели, я вдруг увидел у себя на ладони
кровь. Я не испугался.
У меня возникло чувство, что благодаря этой крови я
обрел защиту; нет, она не делала меня неуязвимым, но не
давала просочиться наружу моему-отчаянию^ моему-гневу;
моей жажде мести. Они останутся во мне навсегда. И если
эти губительные мысли, что поднялись во мне, съедят меня
самого, они зато не поразят никого другого, так же как
этот убийца никого не убил и сам оказался только жерт¬
вой — напрасной жертвой. Напрасной ли? Кто знает? Кто
осмелится утверждать?
СИНХРОННО
Ах, боже мой! Ноги у нее стали холодные как лед; на*
верно, скоро Пестум, наконец-то, в Пестуме была та ста¬
рая гостиница, как она называлась, сейчас вспомню, назва¬
ние вертится у меня на языке. Но она так и не вспомнила,
опустила стекло и начала напряженно вглядываться; смот¬
рела то в сторону, то вперед, искала дорогу, которая дол¬
жна была идти, credimi, te lo giuro, dico a destra 1,— доро¬
гу, которая сворачивала направо. Стало быть, они приеха¬
ли в Неттуно.
На перекрестке он притормозил и включил дальний
свет, и она сразу же нашла в темноте освещенную фарами
вывеску, которая затерялась среди десятка других гости¬
ничных вывесок и множества стрелок, показывавших ме¬
стонахождение баров и пляжей; она пробормотала, что
раньше, всего каких-нибудь пять-шесть лет назад, все
здесь выглядело иначе, ничего этого не было, не было и в
помине; нет, правда, здесь все изменилось просто неве¬
роятно.
Она услышала, как захрустел гравий под колесами и
как камешки застучали о кузов, но продолжала сидеть,
съежившись, потом помассировала себе шею и, зевнув, по¬
тянулась; вернувшись, он сообщил, что у него ничего не
вышло, придется поехать в одну из этих новых гостиниц,
здесь, в старой, даже не стелили постелей; да, в старых
гостиницах около древних храмов, среди роз и бугенвил-
лей никто больше не останавливался; она была разочаро¬
вана и в то же время почувствовала облегчение, впрочем,
ей вообще все было до фонаря: она смертельно устала.
Поверь мне, клянусь, говорю тебе, направо (итал.).
159
В пути они почти не разговаривали, па шоссе не пре¬
кращался пронзительный гул — от ветра и скорости,— не
до разговоров было, только при выезде из Салерно — на
поиски этого выезда ушел целый час — они обменялись
несколькими фразами; говорили они по-французски, чаще
по-английски; по-птальяпски он изъяснялся еще не очень
свободно. Ну а она тряхнула стариной, опять вошла в
прежний ритм, в ответ на его немецкие фразы начала со¬
ставлять своп, это взволновало ее, шутка ли, после десяти
лет опа снова заговорила на родном языке, с каждой ми¬
нутой это нравилось ей все больше; подумать только, она
путешествует с уроженцем Вены! Да, они были родом из
одного города, у них была одинаковая манера говорить, и
говорить в сторону, только она не знала, что они должны
были сказать друг другу. Тогда, после третьего стакана
виски в ресторане на крыше отеля «Хилтон», она, возмож¬
но, подумала, что он вернет ей частичку прошлого, утра¬
ченный вкус к чему-то, утерянные интонации, призрачное
чувство дома, которого для нее уже давно не существовало.
Он жил в Хицинге, потом уехал, кто-то, значит, остал¬
ся в Хицинге; какое трудное слово «Хицинг», а она вырос¬
ла в Йозефштадте на Виккенбурггассе; разговор неизбеж¬
но перешел в namedropping 1, они перебрали всю Вену, но
не обнаружили общих знакомых, обсуждение которых
дало бы пищу для беседы, конечно, она слышала об Йор¬
данах, об Альтенвилях, знала, кто они такие, но в глаза
их не видела, равно как и Лёвенфельдсов, а также Дой¬
чей; я слишком рано уехала, уехала уже в девятнадцать
лет, почти никогда не говорю по-немецки, говорю, только
если немецкий требуется для дела/естественно; но это со¬
всем другое — говорить для дела. На римском конгрессе
ей сперва было трудно с итальянским, вернее, она здорово
трусила, но потом все пошло хорошо; разумеется, он не
мог постичь, как это она ухитрилась получить столько
языковых дипломов, а она упомянула о них лишь потому,
что иначе они никогда не познакомились бы; до недавнего
времени она не имела понятия о его существовании, вот
уж действительно, ни малейшего понятия. Она переуто¬
милась, п мысли ее были заняты совсем иным, а потом они
очутились па этой крыше отеля «Хилтон»; стало быть, в
1 Здесь: хвастовство знаменитыми знакомыми (англ.).
160
ФАО1 ему требуются только английский и французский?
Да? По-испански оп довольно бегло читал, впрочем, если
оп намерен остаться в Риме, было бы весьма желательно
изучить и итальянский, до сих пор он колеблется — не
знает, брать ли ему частные уроки пли посещать курсы
итальянского, открытые ФЛО.
Несколько лет он прожил в Роуркеле и два года в Аф¬
рике, в Гане, потом в Габоне, ну и разумеется, он долго
жил в Америке, в годы эмиграции даже ходил там в шко¬
лу: оба они мысленно обшарили иол земного шара и уста¬
новили под конец, где приблизительно обретались в то или
иное время — она переводила, оп что-то исследовал. Что
именно? — спросила она себя, по не стала повторять этого
вопроса вслух, а пока что они снова вернулись из Индии
в Женеву, где она училась, готовилась к первым конфе¬
ренциям по разоружению; она была высококвалифициро¬
ванной синхронной переводчицей, ей платили уйму денег,
дома ей нечего было делать, там бы она не достигла той
Независимости, к какой всегда стремилась; да, работа у
рее невероятно напряженная, и все-таки она любит ее;
выйти замуж? Никогда. Она никогда не выйдет замуж, это
^решено.
Города вихрем кружили в ночи: Бангкок, Лондон, Рио,
Канн, неизбежная Женева и еще Париж, тоже неизбеж¬
ный. Только в Сан-Франциско она пи разу не была и очень
сожалела об этом, no, never* 2, но именно о Сан-Франциско
она больше всего мечтала after all those dreadful places
jtliere3, а вместо этого всегда приходилось работать в Ва-
Ьшнгтоне; кошмар; да, он тоже, и оп считал этот город
кошмарным, он не мог бы там жить, да и она не могла бы;
|а потом они замолчали, вконец измотанные дорогой, и че¬
рез несколько минут она сказала со стоном: please, would
you mind 4, je suis terriblement fatiguee, mais quand-meme,
c’est drole, n’est-ce pas, d’etre parti ensemble, tu trouves
pas? 5 I was flabbergasted when Mr. Keen asked me, no, of
f 1 Food and Agriculture Organization (англ.).— Продовольствен¬
ная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций.
2 Нот, никогда (англ.).
3 После всех тех ужасных мест (англ.).
4 Пожалуйста, если тебе пе трудно... (англ.)
г 5 Я страшно устала, и все же это странно, не правда ли, что
мы уехали вместе, ты нс находишь? (франц.) .
6 № 1034
161
course not, I just call him Mr. Keen \ считалось, что ой вСё*
гда пытался что-то «keen» 1 2, например ее во время этого
приема в «Хилтоне», but let’s talk about something more
pleasant, I utterly disliked him3.
Все то время, что они проторчали у шлагбаума перед
Баттипалья, предметом их обсуждения был мистер Кин,
который па самом деле звался иначе и который стоял на
иерархической лестнице в ФАО чуть повыше мистера
Людвига Франкеля — впрочем, и эта тема быстро исчер¬
палась, ведь опа видела Кина один раз, да и мистер Фран¬
кель служил вместе с ним и под его началом всего ме¬
сяца три; мистер Кин был довольно развязный америка¬
нец, un casse-pied monolingue, emmerdant4, однако волей-
неволей мистеру Франкелю пришлось признать, что, не¬
смотря на это, Кин был обезоруживающе услужлив и до¬
бродушен. Все же она сочла своим долгом еще раз с осуж¬
дением сказать: I couldn’t agree more with you, I was just
disgusted the way he behaved 5. На что он, в сущности, рас¬
считывал в свои пятьдесят с хвостиком и со своей весьма
заметной лысиной, еле прикрытой жидкими волосами; го¬
воря это, она запустила пальцы в густые темные волосы
мистера Франкеля, а потом положила руку ему на плечо.
Он не развелся, нет, но был накануне развода; впро¬
чем, и госпожа Франкель в Хпцинге и он не очень торопи¬
лись с этим делом; он все еще не мог решить, надо ли им
разводиться.
Что касается ее, то она чуть было не вышла замуж, но
в последний момент все расстроилось. Почему? Над этим
она размышляла долгие годы и никак не могла найти при¬
чину, не могла попять, что же, собственно, стряслось. Опи
остановились у косы перед Пестумом, и, пока Франкель
присматривался к новым гостиницам и договаривался, а
она ждала в машине, ей вдруг пришли в голову кое-какие
соображения: между ней и тем человеком никто не стоял
1 Я была ошарашена, когда кистер Кпн сделал мне предложе¬
ние. Да нет же, конечно, просто я называю его мистер Кин (англ.).
2 Цепкий. Здесь: ухватить (англ.).
3 Но давай поговорим о чем-нибудь более приятном, я его со¬
вершенно не перевариваю (англ.).
4 Косолапый, не знающий языков, занудливый (франц.).
5 Совершенно с тобой согласна, своим поведением он был мне
отвратителен (англ.).
162
и семейных скандалов у них не было, подобные недоразу¬
мения она вообще считала немыслимыми, никогда пе до-
пустила бы их, хотя знала многих людей, с которыми слу¬
чалось черт знает что и которые любили театральные сце¬
ны, а может быть, они парочпо сами все придумывали,
чтобы создать какую-то видимость переживаний, how abo¬
minable \ ужасная безвкусица; столь дикие отношения опа
не потерпела бы ни секунды, а с тем человеком опа рас¬
сталась, потому что не могла выслушивать его разглаголь¬
ствований; в лучшем случае слушала, когда они лежали в
постели и он без конца перечислял, что ему в пей нравит¬
ся, и называл ее разными ласкательными именами, всегда
начинавшимися словами ma petite cherie1 2; она тоже да¬
вала ему всякие нежные прозвища, но не уменьшитель¬
ные, а увеличительные, и ее фразы всегда кончались сло¬
вами mon grand cheri3; да, они были привязаны друг к
ДРУГУ, страстно привязаны, наверно, эта привязанность
подспудно жила в ней до сих пор; накопец-то она нашла
нужные слова, хотя сам тот человек потерял для нее яс¬
ные очертания. Но пе могли же они вечно обмениваться
ласковыми прозвищами, они и так уже вставали иногда
около полудня, иногда далеко за полдень, и тут он заво¬
дил разговор, который ее совершенно не интересовал, он
рассказывал ей нечто такое, что могут рассказывать лишь
законченные маразматики; неужели в свои тридцать лет
он уже обзавелся склерозом? То он сообщал о трех-четы¬
рех важных событиях в его жизни, то о множестве мелких
происшествий; уже в первые дни их знакомства опа вы¬
учила наизусть все его истории. И если бы ей, положим,
пришлось посвятить в свою личную жизнь суд, как это де¬
лают многие, если бы ей пришлось защищать перед зем¬
ным судией себя или обвинять его, то она пе смогла бы
привести никаких доводов, кроме одного: мужчина не спо¬
собен терпеть женщину, которая пе выслушивает его, по
и она была не способна выслушать его; в большинстве
случаев он либо поучал, либо объяснял; объяснял, как
устроен термометр и барометр, как изготовляют железо¬
бетон, как варят пиво, что такое реактивный двигатель,
почему летают самолеты, каково положение в Алжире, что
1 Как отвратительно (англ,).
2 Моя малышка (франц.).
3 Мой великанище (франц.).
6*
163
там было раньше и что случится потом; опа делала вид,
будто слушает его, смотрела на него своими огромными,
широко распахнутыми детскими глазами, но мысли ее все¬
гда витали где-то далеко, опа думала о нем, о своих чувст¬
вах к нему, о том, что произошло несколько часов назад,
и о том, что произойдет позже; только в каждую данную
минуту она не могла проявлять к нему интерес, не могла
внимать его речам; и вот сейчас, спустя долгие годы, она
вдруг сумела ответить на вопрос, почему это случилось.
На вопрос, который уже давно перестал быть таким важ¬
ным и звучал в ее сердце все глуше и глуше, почти нераз¬
личимо. Ответ она нашла, наверно, потому, что думала не
по-французски, а на свовхМ родном языке, и потому, что
общалась с человеком, который вернул ей родную речь и
которого она считала terribly nice J,— в этом она была уве¬
рена; вот только она ни единого раза не назвала его Люд¬
виг, трудно представить себе, что друзья и близкие назы¬
вают мистера Франкеля этим именем; невольно она заду¬
малась, как ей удастся обойтись без его имени эти три-че¬
тыре дня; ничего, она будет звать его darling, или саго, или
дорогой мой; он открыл дверцу машины с ее стороны, она
поняла и сразу вышла: значит, он сумел снять два номера
на одном этаже; он вытащил ее сумку, платок, плед, и,
прежде чем пришел слуга из гостиницы, она неловко об¬
няла его сзади и с пылом сказала: Гт simply glad we’ve
met, you are terribly nice to me, and I do not even deserve
it1 2.
В ресторане уже убирали, они были последние, и суп
им достался последний, чуть теплый. Что это за рыба в
сухарях? Кабельяу — иначе говоря, мороженая треска.
Она лениво потыкала вилкой, неужели здесь, на берегу
Средиземного моря, нет хорошей рыбы? В Роуркеле он
чувствовал, что занят настоящим делом, годы, прожитые
в Индии, были самыми лучшими годами; вилкой на белой
скатерти он прочертил трассу железной дороги Калькут¬
та — Бомбей: вот где я приблизительно строил, понима¬
ешь? Практически мы начали на пустом месте с одним
бульдозером, сами ставили первые бараки, больше трех
1 Ужасно милый (англ.).
2 Я так рада, что мы встретились, ты ужасно мил ко мне, я
этого даже не заслужила (англ.).
164
'лет ппкто пе выдерживал — выдыхался. Я летал из Каль¬
кутты в Европу и обратно ровно двадцать одни раз, а по¬
том мне надоела такая жизнь. Наконец-то им все же по¬
дали вино, и она теперь начала небрежно объяснять: в ка¬
бине всегда сидят два переводчика, но пе по принципу
первого и второго пилота, нет. Конечно, это делается, что¬
бы они могли без заминки сменять друг друга; каждые
двадцать минут переводчика подменяют, так еще можно
работать, но иногда им приходится выдерживать по три¬
дцать минут и даже по сорок; безумие! Днем еще куда пи
шло, но после обеда трудоспособность падает; когда пере¬
водишь, надо с одержимостью вслушиваться, пе пропу¬
ская пи звука, буквально растворяться в чужой речи; при¬
борная доска — штука нехитрая, главное — это собствен¬
ная голова, just imagine, t’immagini1. В перерывах опа
пила из термоса горячую воду с медом, у каждого был
свой способ как-то дотянуть до вечера, но зато после рабо¬
чего дня у нее из рук валилась даже газета, а ведь для нее
очень важно регулярно прочитывать все крупные газе¬
ты — надо следить за новыми веяниями, за новыми выра¬
жениями; со специальной терминологией забот меньше
всего, им всегда давали длинные простыни, списки терми¬
нов, их приходилось заранее выучивать наизусть; химию
она не любила, сельское хозяйство любила очень, против
проблемы беженцев не возражала; вообще в ООН было не
так уж скверно, но свою работу в Unions des Postes Uni¬
verselies 2 и в International Unions of Marine Insurance3
она вспоминала как кошмарный сон; переводчикам, кото¬
рые имели дело только с двумя языками, было куда легче,
а она начинала заниматься с раннего утра, дыхательные
упражнения, гимнастика; как-то она лежала в больнице
и освоила там аутотренинг; кое-какие упражнения она
использует, не слишком пунктуально, правда. В свое вре¬
мя это ей здорово помогло. Тогда мне. пришлось очень
плохо.
Мистеру Франкелю, видимо, никогда не приходилось
плохо, но он все равно не удивлялся, что нередко она кон¬
чала своп тирады словами: «Тогда мне было пе очень хо-’
1 Представь себе (англ., итал.).
2 Всемирный почтовый союз (франц.).
3 Международный союз по морскому страхованию (англ.).
165
рошо» пли «Тогда мне пришлось худо». Actually и basical¬
ly L Нет, это звучало уж слишком определенно п одно¬
значно, в жизни так не бывает. Больше всего опа восхи¬
щалась одной русской — кстати, уже пожилой женщиной;
русская изучила тринадцать языков, и, представь себе,
she really does them1 2. Но потом, подумав, она сконфужен¬
но призналась: не знаю, уж как тебе объяснить, по со вре¬
менем мне хотелось бы отказаться от одного языка — от
русского или итальянского. Это просто иссушает; я при¬
хожу в гостиницу, выпиваю рюмку виски и уже не в си¬
лах ничего слышать, ничего видеть; среди этих своих па¬
пок и газет я сижу в абсолютном изнеможении. Потом
она засмеялась, вспомнив, какой забавный случай про¬
изошел в Рио, но не с той русской, а с одним молодым че¬
ловеком из советской делегации: молодой человек следил
по тексту в то время, как их второй переводчик перевел,
что американский делегат silly man3. И тут юноша совер¬
шенно серьезно стал утверждать, что русское слово «ду¬
рак» и английское «stupid» 4 — одно и то же, ни больше
пи меньше; мы тогда все посмеялись, бывает и такое.
— Немецкий язык уже исчезает,— сказал он,— так
нам по крайней мере кажется самим, интересно, замечают
ли это другие, как ты думаешь? — Они направились к вы¬
ходу, и он снова заговорил: — Как ты думаешь, сущест¬
вует реальная возможность, что со временем останется
только один язык?
Но опа не слушала его или просто не расслышала этих
слов; па лестнице она прислонилась к нему, делая вид,
будто с трудом передвигает ноги, и он потянул ее за собой.
Tu dois me mettre dans les draps tout de suite. Mais oui. Tu
seras gentil avec moi? Mais non. Tu vas me raconter un tout
petit rien. Mais bien sur, $a oui5.
Он заглянул еще раз к ней в комнату и, тихо позвав:
«Надя, Надя», почти бесшумно прикрыл дверь, пошел
назад в свой номер, который она только что покинула; по¬
1 Здесь: Правда, даже очень (англ.).
2 Она ими действительно свободно владеет (англ.).
3 Глупый человек (англ.).
4 Тупица (англ.).
5 Сразу же уложи меня в постель. Только не обижай меня,
ладно? Расскажи мне лучше что-нибудь. Ну конечно... (франц.)
166
стель еще пе успела остыть и пахла ею; перед отъездом
из Рима она заранее предупредила, что когда-то у нее
был шок, когда-то давно, но с тех пор она пе может спать
ни с кем в одной комнате, а тем более в одной постели, по¬
том она ему все объяснит; выслушав это, он почувствовал
облегчение; у него тоже пе было ни малейшего желания
спать с ней в одной комнате; нервы пошаливали, и вооб¬
ще он привык к одиночеству. Несмотря на каменный пол
в гостинице, со всех сторон неслись скрипы, балконная
дверь, хлопая, издавала поющий звук. II громко жужжал
москит. Он курил и прикидывал: три года с ним пе случа¬
лось ничего такого, ничего, что выходило бы за рамки
обыденности, и вот вдруг он очертя голову, пе сказав пи-
кому ни слова, укатил с совершенно незнакомой женщи¬
ной; погода внушала опасения, на душе у него было пу¬
сто; его ужалил москит, он хлопнул себя по шее, по мо¬
скита не убил; надо надеяться, завтра опа пе станет осмат¬
ривать эти храмы, ведь она уже дважды была здесь; утром
следует сразу же поехать дальше, лучше всего забраться
в глухую рыбачью деревушку, в какую-нибудь совсем ма¬
ленькую гостиницу, чтобы не видеть толп туристов, ни¬
чего не видеть; правда, у него могут кончиться наличные,
но он захватил с собой чековую книжку. Вот только неиз¬
вестно, знают ли в этих дырах, что такое чеки; правда, на
его машине был дипломатический номер, и он его еще ни
разу не подвел, но самое главное то, что они хорошо пола¬
дили, ничего не усложнилось, а через неделю она уедет в
Голландию и исчезнет навсегда; его смущало только одно:
после того как он, прожив неделю в Риме, в прошлую суб¬
боту познакомился с ней, ему вдруг начало казаться, что в
его жизни может вновь появиться нечто простое, давно за¬
бытое, радость пополам с болыо,— за несколько дней он
так изменился, что даже сотрудники ФАО, которые, кроме
well, well, o’kay, o’kay, you got that? \ пе говорили друг
другу ни слова, даже сотрудники начали кое-что заме¬
чать; он загасил сигарету, пора спать, но вдруг сонливость
как рукой сняло: в коридор ворвалась музыка — Strangers
in the night1 2,— рядом открывались двери, по ассоциации
с названием песни он вспомнил Tender is the Night3', надо
1 Ладно, ладно, хорошо, хорошо, вы поля л и? (англ.)
2 «Чужие в ночи» (англ.).
3 «Ночь нежна» (англ.) — роман Ф. Скотта Фицджеральда.
167
постараться взять от этих дней самое лучшее; внезапно в
раковине что-то забулькало, загудело, он окончательно
проснулся; за стеной громко разговаривали, немыслимая
гостиница; ночь была полна зыбкой тревоги, lo scirocco,
sto proprio male1; все началось в Калькутте или где-то
еще, вдруг наступала депрессия, в Риме припадки участи¬
лись; the board, the staff2; новый проект, tired, I’m tired,
I’m fed up3, пошарив в темноте, on нашел валиум-5 и при¬
нял таблетку, I can’t fall asleep anymore without it’s ridi¬
culous it’s a shame, but it was too much today4, они попали
в цейтнот; банк уже был закрыт, но он во что бы то ни
стало хотел уехать с ней из города; she is such a sweet,
gentle5, fanciulla 6, not very young but looking girlish, as I
like it, with these huge eyes, and I won’t have me hoping
that it’s possible to be happy, but I couldn’t help that, I was
immediately happy with her 7.
Они быстро добрались до второго храма, но, не дойдя
до третьего, обменялись взглядом и повернули назад; у
него в руке был раскрытый путеводитель, и он машиналь¬
но прочел абзац, но она не хотела никакой информации,
и он не стал ей ничего пересказывать. Не торопясь они
направились к садам Неттуно, где стояло много пустых
шезлонгов, нашли себе местечко, откуда открывался вид
на храм, сели и заказали кофе. Да, он согласен, год стран¬
ный, наверняка дело в сирокко, все как-то чудно и тягост¬
но, то слишком жарко, то слишком холодно, и, где бы ты
ни находился, повсюду тебе нечем дышать; странно, и, в
сущности, это тянется уже много лет. Tu es sur qu’il s’agit
des phenomenes meteorologiques? 8 Связано с чем-то косми¬
ческим? Moi non, je crains plutot que se soit quelque chose
1 Сирокко. Мне в самом деле плохо (итал.).
2 Администрация, персонал (англ.).
3 Устал, я устал, сыт по горло (англ.).
4 Я уже не могу заснуть без этого, даже смешно, позор, по се¬
годня было уж чересчур много всего (англ.).
5 Опа такая славная, ласковая (англ.).
6 Девочка (итал.).
7 Не очень молодая, но выглядит девочкой. Мне это очень нра¬
вится, глаза такие огромные, и если я еще верю, что счастье для
меня возможно, то я в этом пе виноват, сейчас я чувствовал себя
с ней счастливым (англ.).
8 Ты уверен, что дело в метеорологических феноменах?
(франц.)
168
dans nous-memes qui ne marche plus L Греция тоже уже по
такая, что была прежде, и даже не такая, какой была вче¬
ра, все, что ты впервые видел раньше, лет десять — пят¬
надцать назад, теперь изменилось — ничего старого про¬
сто нет; и вот он подумал, что может произойти за два
тысячелетия, если человек пе в состоянии окинуть взгля¬
дом и сохранить неизменным самый малый отрезок време¬
ни, свою собственную историю; эта мысль его потрясла,
ему показалось нереальным, что они сидят здесь, пыог
кофе и одновременно любуются древнегреческими храма¬
ми. «Come fosse niente» 1 2,—сказала она, но он таки пе по¬
нял, проникла ли она в ход его размышлении,— ведь он
ничего не сказал вслух, да и мысли его были не очень чет¬
кие. Ну конечно, его не касается, с кем она впервые любо¬
валась этим храмом, но почему она не захотела еще раз
посмотреть на него? Безусловно, не он причина этого, ее
остановило что-то другое, но она уклонялась от всяких
рассказов о себе; до сих пор он узнал лишь, что у нее был
когда-то шок, but who cares?3, и что ей довольно часто
приходилось плохо.
В Риме, когда он заехал за ней в гостиницу, ей еще
казалось, что их путешествие — обычное приключение, но
чем дальше она удалялась от своего «рабочего места»—для
нее оно было важнее, чем для других людей домашний
очаг, и потому она так трудно с ним расставалась,— тем
неуверенней себя чувствовала. В холле отеля, в баре она
уже не была больше собой — самоуверенной женщиной,
всегда соответствующе одетой, словно только что сошед¬
шей со страниц «Вога» или «Глэмора»4, в застиранных
джинсах и в слишком тесной блузке, с чемоданом и пляж¬
ной сумкой в руках, она была как все, как любая деви¬
ца, какую он мог подцепить на улице. Она боялась, что
окажется от него в зависимости, не хотела, чтобы он это
почувствовал, и потому старалась дать понять, что без ее
знания местности, без ее умения ориентироваться все по¬
шло бы вкривь и вкось. Без конца она заглядывала в кар¬
ты шоссейных дорог, хотя карты эти были уже давно из¬
1 Нет, я в это пе верю, я скорее думаю, что с нами самими
творится неладное (франц.).
2 Как будто бы ничего и пе было (итал.).
3 Впрочем, кого это волнует? (англ.)
4 Модные журналы для женщин.
169
даны и успели устареть; на заправочной станции опа ку¬
пила еще одну, но и та пе годилась; он ей не верил, вел
машину левой рукой, косясь левым глазом на карту; из-за
этого ей пе следовало кипятиться: не мог же он знать, что
она лучше всякого портье, лучше любого служащего транс¬
агентства, лучше любого справочного бюро разбиралась в
железнодорожных справочниках, путеводителях, авиарас¬
писаниях; все, что касалось внешних связей и контактов,
было ее стихией; заметив, что она раздражена и дуется,
он в шутку потянул ее за ухо, non guardare cosi brutto L
Послушай, мне еще пригодятся мои уши. Veux-tu me lais-
ser tranquille!1 2 Она хотела добавить clieri, но проглотила
это слово, ибо однажды сказала ту же фразу Жан-Пьеру.
Молча она потерла себе уши, обычно они были закрыты
наушниками, включавшимися автоматически, наушника¬
ми, которые доносили до нее расчлененную па фразы речь.
Да, она была удивительной машиной: функционировала
без едипой собственной мысли, вбирала в себя чужие сло¬
ва и в состоянии, близком к сомнамбулическому, повто¬
ряла следом за говорящим точно такие же по смыслу, по
иначе звучавшие предложения; немецкий глагол «maclien»
она могла превратить в английский «to make», француз¬
ский «faire», итальянский «fare», испанский «Ьасег» и
русский «делать»; каждое слово она прокручивала шесть
раз на одном валике; запрещалось только одно: думать о
том, что слово «делать» и впрямь означает «делать», что
«faire» означает «faire», «fare» — «fare», «делать» — «де¬
лать»; от этого можно было сойти с ума, и еще ей грозила
опасность в один прекрасный день оказаться погребенной
под зыбучим песком слов.
А после работы: залы в зданиях конгрессов, залы го¬
стиниц, бары, мужчины и набившие оскомину разговоры
с ними, множество долгих одиноких ночей и множество
коротких, но тоже одиноких ночей; опять мужчины, запя¬
тые своим ужасно важным бизнесом и в промежутках
между ужасно важным бизнесом рассказывавшие анекдо¬
ты; разные мужчины: женатые, отечные и пьяные; в виде
исключения — стройные, женатые и пьяные; довольно ми¬
лые, по жуткие неврастеники; очень милые, но гомосек-
1 Не смотри так мрачно (итал.).
2 Оставь меня в покое! (франц.)
470
суалпсты; думая об этом, опа прежде всего вспомнила Же-
певу. Снова заговорила о первых годах в Женеве, о неиз¬
бежной Женеве; да, до некоторой степени она понимала,
о нем оп размышлял утром в садах Неттупо; если рассмат¬
ривать короткий отрезок времени пли несколько больший,
па что у нее, честно говоря, не хватало духу, поскольку
речь шла о ее короткой жизни,— так вот, если рассматри¬
вать это, то невозможно постичь, что произошло в одной
лишь Женеве и чего там не произошло; непостижимо, от¬
куда у людей такая способность всепопимания; я знаю
одно —у меня опа с каждым днем слабеет; благодаря ра¬
боте я нахожусь слишком близко к событиям, а когда сни¬
маю наушники и запираюсь у себя в номере — то слишком
далеко; пет, ничего-то я не в силах постичь.
Он положил руку между ее коленями, но она смотрела
прямо перед собой, делая вид, что не замечает этого же¬
ста; однако в те минуты, когда оп убирал руку п забывал
о ее существовании, всецело поглощенный ездой, она сама
старалась привлечь его внимание; он шлепнул ее по ладо¬
ни, come on, you just behave, you don’t want me to drive us
into this abyss, I hope L
Казалось, в эти часы им обоим не было дела до того,
что происходит на белом свете, как он меняется и почему
с каждой минутой становится все безнадежнее; ему надо
было следить лишь за тем, чтобы не пропустить поворот
на Палинуро, ничего другого от пего не требовалось, и
еще он должен был оказывать внимание этой чужой жен¬
щине, с которой вместе бежал из привычного мира; как
скверно, что он не может выбросить из головы то, что со¬
бирался забыть; он хотел полностью отключиться и был
взбешен, потому что ничего не выходило, хотя эти дни
принадлежали ему, а не ФАО. Да н вообще он не знал,
что делать со своей жизнью, а главное, видел насквозь
людей, которые притворялись, будто знают, чего хотят.
Вокруг него все придумывали полуправду или полуложь,
сочиняли разные истории, достойные сочувствия, смешные
или безумные; его окружали одни сплошные неудачники,
что не мешало им, однако, карабкаться наверх, пытаться
занять местечко потеплее: от стоянки Рз они пробирались
к Р4 и жадно косились на Р5; некоторые, впрочем, застре¬
вали на полпути пли скатывались вниз; но в конечном
1 Ну-ка веди себя прилично, надеюсь, ты не хочешь, чтобы мы
угодили в эту пропасть (англ.).
171
счете возвышение и падение было как бы возмещением
той прочной позиции, которую они утратили, заменой жи¬
вой души, которую они потеряли, восполнением радости
жизни, которая от них безвозвратно ушла.
Теперь его рука все время покоилась на ее колене; ей
было очень приятно ехать с ним в такой близости; один и
тот же мужчина — разные машины; много разных муж¬
чин — одна и та же машина; ио и ей надо было сосредо¬
точиться, силой удержать себя в настоящем, уйти от дав¬
него прошлого, ясно осознать, что она не на каком-то не¬
известном шоссе, а именно здесь, пе путать эту поездку
с прежними поездками по той же стране; наконец, пе за¬
бывать, что спутник ее мистер Людвиг Франкель, человек,
изучавший международную экономику в Вене и объездив¬
ший затем полмира с дипломатическим паспортом в кар¬
мане и с дипломатическим номером на машине, который,
впрочем, не давал никаких преимуществ на этой узкой
кромке крутого берега. Да, just behave yourself L Ну, a
если она вдруг скажет себе — с меня довольно! — схватит
руль и слегка рванет его, что тогда? Машина перевернет¬
ся, они полетят в пропасть, и она, быть может, ни о чем
не пожалеет, ведь в это мгновение они станут одним це¬
лым, раз и навсегда.
Она отпила несколько глотков из своего термоса, про¬
глотила таблетку; ничего особенного, просто у нее часто
болит голова, надоело; этот берег ужасен, чудовищная
местность; как только они съезжали с шоссе, чтобы найти
себе пристанище, они тут же натыкались на площадки
для кемпингов, на площадки для гуляния, а глубоко вни¬
зу виднелись маленькие недоступные пляжи. С отчаянием
в голосе она сказала, что эту ночь, наверно, им придется
провести в машине. В Сапри тоже не было ничего подхо¬
дящего, потом она вдруг закричала, но слишком поздно —
они уже проехали мрачный плоский кусок берега, где пе
росло ни единого деревца и возвышалась бетонная короб¬
ка с неоновой надписью «Hotel», если они не найдут ниче¬
го лучшего, придется повернуть обратно. В десять вечера
и он уже готов был сдаться. Она сказала, что они, видимо,
в Маратее и что сейчас десять минут одиннадцатого; куда
бы ее ни забрасывали обстоятельства, она всегда точно
знала, сколько времени и где она находится. Я же говорю
1 Веди себя хорошо! (англ.)
172
тебе, спускайся вниз, (i supplico, dico a sinistra *; и он свер¬
нул с дороги. Она «дирижировала», внутри у пес все ки¬
пело, по опа пе подавала виду, голос у нее ни разу по со¬
рвался, чтобы пе молчать, она несколько раз спокойно по¬
вторила по-русски: «Это судьба», «Маратея — это судьба»,
а потом он затормозил.
Она не стала ждать в машине, чуть пошатываясь, вы¬
шла па свежий воздух, кислородное голодание; поднимаясь
по лестнице к входу и не глядя но сторонам, жмурясь от
яркого света, она сразу все поняла, каким-то шестым чув¬
ством распознала — на сей раз это была пе маленькая и
не большая гостиница в рыбачьей деревне, а гостиница со¬
всем иного класса; па душе у нее стало легче, она верну¬
лась в родную стихию; полузакрыв глаза, она шла за ним,
не скрывая, что смертельно устала, более того, выставляя
напоказ эту усталость; всем своим видом она демонстри¬
ровала, что, хотя на ней застиранные штаны и пыльные
сандалии, этот холл отеля категории de luxe1 2, где все было
first class3, начиная от приглушенных шагов и голосов н
кончая абсолютным отсутствием всякой назойливости, пе
может ни удивить, ни сразить ее. Небрежно сунув пляж¬
ную сумку бою, она опустилась в кресло. Но мистер
Франкель уже отошел от барьера, за которым сидел адми¬
нистратор; он взглянул на нее с сомнением, опа кивнула,
да, как раз этого она и боялась — здесь, стало быть, ока¬
зался только один свободный номер. Зевнув, она недоволь¬
но уставилась в формуляр, который ей протянул админи¬
стратор; ну и наглость, неужели нельзя было подождать
до завтра? Наверху, в номере, она тут же бросилась на
кровать у окна, раз у нее не будет своей комнаты, то уж
по крайней мере она ляжет у окна, не то ей станет дурно.
Вошел официант, покачал головой, пет, у них не было
«мумма», да и такие вина, как «поммери», «крюг», шам¬
панское «вдова клико», они тоже не держали. Итак, «моэ
шандон», а если господа желают, «дон периньон», пожа¬
луйста. Она пошла в ванную, Франкель смотрел, как она
принимала душ, живо растер ее, помассировал; когда офи¬
циант вернулся, она уже сидела за столом, завернутая в
большую белую купальную простыню. Как он догадался,
1 Я тебя умоляю, говорю тебе, налево (итал.).
2 Люкс (франц).
3 Первоклассное (англ.).
173
что сегодня ее день рождения; конечно, он видел паспорт,
но странно, что он об этом подумал; come sono cominossa,
sono, cosi tanto commossa l. Они сдвинули бокалы, стекло
не зазвенело; она выпила два бокала, остальное допил он;
этот месяц, который они закапчивали в Маратее, не был
для него счастливым.
Она долго лежала, но сон все не шел; ей казалось, что
опа заперта с чужими людьми в купе спального вагопа
или в самолете; она села и прислушалась: либо оп тоже
не спал, либо у него был феноменально тихий сон. В ван¬
ной она сложила две толстые купальные простыни, посте¬
лила их на дно ванны и улеглась; курила сигарету за си¬
гаретой и уже глубокой ночыо пошла назад в комнату. Ее
кровать стояла в полуметре от его кровати; она опустила
ноги в пропасть между кроватями, помешкала секунду и
осторожно перебралась к нему; во сне оп притянул ее к
себе, а она сказала: обними меня, пожалуйста, только об¬
ними, вот и все, иначе я не могу заснуть.
День был пасмурный, на пляже развевались маленькие
красные флажки; опи обсудили, как им поступить. Он на¬
блюдал за морем, она — за группкой миланцев, которые
все же рискнули войти в воду. Оп взял маску и ласты и,
возвратившись, объяснил, что надо делать, как входить в
море и как подплывать к берегу. Впереди волны перехле¬
стывали через скалу с железной, покрашенной белой эма¬
лью лесенкой; под лесенкой вода с непостижимой силой
тянула в открытое море, а рядом волны разбивались о ска¬
лу. Они придумали целую систему сигнализации — лучше
всего, если оп будет ждать ее на лестнице. Один сигнал
означал — «жди», второй — «давай ближе», третий — «от¬
плывай дальше» и, наконец, четвертый — «скорей, теперь
пора». И тут она, не глядя, напрягая все силы, плыла к
лестнице, где стоял он, но из-за пены она его не видела;
он подхватывал ее, или она сама без его помощи легко под¬
нималась на ступеньки. В большинстве случаев все шло
гладко. Только один раз она наглоталась воды, долго каш¬
ляла и отплевывалась, а потом ей пришлось полежать.
Он уходил плавать чаще и плавал дольше, чем она; и
пока она ждала, в ней росло раздражение; мысленно опа
1 Как я взволнована, ах, я так взволнована (итал.).
174
отчитывала его так, словно они были знакомы вечность.
Пусть только появится, она скажет ему несколько теплых
слов: я ужасно волновалась, нельзя же исчезать так надол¬
го, куда ты делся, я буквально все глаза проглядела, ду¬
мала, ты утонул, ведь я беспокоюсь, с твоей стороны это
безответственность. Неужели ты не понимаешь? Опа смот¬
рела то па море, то иа часы, но прошло уже пятьдесят ми¬
нут, а он так и не вынырнул; и тут опа стала думать, как
ей поступить, если человек, с которым она жила в гости¬
нице, и впрямь утонул. Сперва она пойдет в дирекцию, со¬
общит, что они не муж и жена. Но об этом все уже давно
догадались; потом надо кому-то позвонить; ну конечно,
опа позвонит в ФАО, мистеру Кипу. Кроме Кипа, опа не
знала ни одной живой души, которая знала бы его. Pronto,
pronto 1, наверняка будет очень плохая слышимость. Ма-
ратея — Рим, Nadja’s speaking, you remember, to make it
short, I went with Mr. Frankel to Mara tea, yes, no, pronto,
can you hear me now, a very small place in Calabria, I said
Calabria 2; в общем, все, наверно, окажется не таким уж
сложным; мистер Кии будет поражен, но покажет себя
истинным джентльменом, сохранит в тайне, с кем мистер
Франкель поехал в Калабрию; она не станет плакать, нет,
не станет, опа примет трапквиллизаторы, тройную дозу
успокаивающих лекарств, которые видела у него; в Риме
постараются все уладить, ей, во всяком случае, это не под
силу, она готова заплатить любую сумму, чтобы кто-ни¬
будь доставил ее в Рим, прямо в гостиницу; и тогда у нее
останется еще три дня до конгресса, созванного IBM3 в
Роттердаме, достаточно времени, чтобы взять себя в руки,
позаниматься, схоронить его, походить в swimming-pool4,
чтобы опять стать fit5.
Она набросила ему на плечи полотенце, стала расти¬
рать его п одновременно читать нотацию: ты ведешь себя,
как маленький ребенок, весь дрожишь, промерз до костей;
1 Алло, алло (итал.).
2 Это Надя, короче говоря, вы помните... Я была вместе с ми¬
стером Франкелем в Маратее, да, нет, алло... Теперь вы понима¬
ете, это — маленькое местечко в Калабрии, я говорю, в Калабрии
(англ.).
3 Крупнейшая американская компания, производящая элект*
ронио-вычиелптельные машины.
4 Бассейн (англ.).
5 Войти в форму (англ.).
175
по тут вдруг накатила гигантская волна, и она быстро пе¬
ренесла нож, гарпун и фонарь, которые он бросил ей, на
более высокие скалы, только потОхМ она начала снова кри¬
чать. Но поскольку теперь она не слышала собственного
голоса, пришлось объяснить знаками, что она хочет в воду;
она схватила его за руку и крепко сжала, так как по лест¬
нице уже нельзя было спускаться. Ты должна дойти до
самого края, а ноги поставить как можно дальше; пальца¬
ми ног она зацепилась за осклизлую скалу. Лучше всего
присядь на корточки и постарайся прыгнуть в гребень вол¬
ны. Ну давай! Опа прыгнула чуть позже, чем надо было, и
угодила во впадину между двумя волнами. Крикнула: ну
как? Неплохо? Да, только не надо падать плашмя, mais,
c’etait joli a voir1, ну давай... Что? Что? Я говорю: давай...
До обеда она успела еще несколько раз прыгнуть, по
каждый раз слишком долго собиралась и прыгала не в ту
секунду, когда надо; у нее заболели мышцы живота, а по¬
том заболела голова; да, болит, я же чувствую; он считал,
что это исключено, тем не менее бережно обхватил ладоня¬
ми ее голову, начал утешать; потом она захотела есть, за¬
была о головной боли, и они побежали наверх, к кабинкам.
Часы от обеда до ужина они провели в номере, она за¬
нималась, а он не знал, куда себя девать, и скучал; он бы
с удовольствием пошел опять плавать, но после обеда это
стало и впрямь опасно. Рассказал ей о рыбе, которую ви¬
дел утром, это был самый великолепный экземпляр cernia2
из всех, какие ему когда-либо попадались; в прошлом году
в Сардинии он много занимался подводной охотой, но ни
разу не встречал такой замечательной рыбы. Мы наблю¬
дали друг за другом, но мне никак не удавалось ее пере¬
хитрить; всякий раз я оказывался в менее выгодной пози¬
ции; если стрелять в такую рыбу, то только в хребет, ина¬
че это просто бесполезно, можно попасть в хвост, кроме
всего прочего, это нехорошо и неспортивно, он никогда не
позволял себе такие штуки. Она сказала: вот, стало быть,
о ком ты все время думаешь; нет, я не хочу, я не хочу,
чтобы ты ее убивал. Но он решительно возразил, что завт¬
ра опять будет искать эту рыбу. И рассказал, как надо
подкрадываться к разным породам рыб и где их искать.
Дельфинов она сама видела, читала, какие они умные, а
1 Но все же смотреть было приятно (франц.).
2 Глубоководная морская рыба (итал.).
176
он знал женщину — это была его жена, но о сем история
умалчивала,— знал женщину, за которой однажды поплыл
дельфин: не то он ее просто сопровождал, не то влюбился
в нее, по она пришла в такой ужас, словно за ней гналась
акула; на берегу она упала как подкошенная; с тех пор
она не подходит к морю, разучилась плавать.
— Люблю тебя,— сказала она по-русски, медленно
прижимаясь к нему и дотрагиваясь языком до уголков его
губ.— Какая смешная история,— опа поправилась,— ка¬
кая печальная история. О боже, что делают с рыбами па¬
роходы, а тем паче мины! И не только с теми, которые
оказываются в эпицентре, по и с теми, которые находятся
очень далеко, какие ужасные, необратимые потрясения и
опустошения вызывают люди. В наши дни даже рыбам пет
покоя. А чем виповаты рыбы? Чем виновата я? — спроси¬
ла она.— Не я же открыла все эти страсти-мордасти. Я от¬
крыла совсем другое. Что? Вот что я открыла, да и ты это
открыл.— И она с яростью и ожесточением начала бороть¬
ся за свое открытие, заговорив на том единственно точном,
единственно выразительном языке, на каком изъясняются
без слов.
Он не хотел возвращаться в Вепу — почти все нити
были порваны, да и чем оп мог там заниматься при его-то
профессии? Ностальгия? Нет, нечто другое — иногда на
пего находила беспричинная тоска. Вообще он обычно от¬
дыхал зимой, ходил на лыжах с детьми, жена отправляла
с ним ребят на месяц, но в этом году пришлось ограни¬
читься двумя неделями — они были в Кортина, а раньше
всегда ездили в Санкт-Кристоф; свой отпуск он Посвящал
детям, но все равно они уже начали догадываться: в семье
что-то неладно; и в один прекрасный день им придется все
объяснить: навряд ли это удастся скрывать долго.
Подумай только, сказала она, один тип спросил меня
ни с того пи с сего, почему у меня нет детей, в чем причи¬
на? Как тебе это нравится? Разве можно задавать такие
вопросы? Он не ответил, только молча взял ее за руку. Она
подумала, что нет ничего проще, чем быть вместе с чело¬
веком, который родился с тобой в одной стране; вы оба
знаете, о чем допустимо спрашивать и о чем недопустимо
и как спрашивать; да, у них было нечто вроде тайного сго¬
вора на этот счет. А что ей приходилось выслушивать от
других людей?! Не могла же она объяснять каждому
177
встречному и поперечному — здесь проходит грань, эту
грань переступать нельзя. Вдруг она задним числом воз¬
мутилась Жан-Пьером, который толковал шиворот-навы¬
ворот все ее поступки и мысли, ничуть не считаясь с нею;
он хотел навязать ей совершенно неприемлемый образ
жизни; хотел, чтобы она поселилась в маленькой квартир¬
ке с целым выводком малепьких детей, день-деньской тор¬
чала на маленькой кухне, а ночыо лежала с ним в крова¬
ти, правда в огромной, там бы она казалась крохотным ко¬
мочком, un tout petit chat, ип petit poulet, une petite femel¬
ie L В то время опа еще боролась за свою свободу — плака¬
ла, рыдала, швыряла на пол тарелки, бросалась на него с
кулаками, по в ответ он только смеялся, взирал па нее с
олимпийским спокойствием, что доводило ее до белого ка¬
ления, до полной невменяемости; случалось, впрочем, и
иное: он поколачивал ее, но не со злобы, а просто так;
считал, что для порядка ее надо иногда учить, pour te cal¬
mer un peu 1 2; в конце концов она опять мирилась и пе ухо¬
дила от пего.
Мистер Франкель спросил: как ты думаешь, будет ко¬
гда-нибудь человечество говорить на одном языке? Почему
тебе это пришло в голову? Странная мысль! Она подтяну¬
ла сползшие на пятки ремешки сандалий, которые все
время спадали с ног. Конечно, многие языки постепенно
исчезают, но в одпой только Индии, в твоей Индии, их до
сих пор еще сорок, и в маленьком Габоне тоже сорок; су¬
ществуют сотни, тысячи языков; кто-то наверняка уже
подсчитал их, сказала она сердито, вы ведь так любите все
подсчитывать. Нет, серьезно, она была не в состоянии
представить себе, что в будущем останется один язык,
хотя никаких доводов против этой гипотезы привести не
могла. Он, наоборот, прекрасно представлял себе такое по¬
ложение, и она вдруг поняла, что он неисправимый роман¬
тик; для нее это была приятная неожиданность, первое
впечатление от него было совсем другое: он показался ей
практичным, благополучным человеком. Если языки ото¬
мрут, я почувствую облегчение, только мне нечего будет
делать. Да, он был романтиком, большим ребенком, несмот¬
ря на то, что работал в ФАО, специализировался на вер¬
1 Крошечная кошечка, цыпленочек, женщина-малютка
(франц.).
2 Чтобы немного успокоить (франц.).
178
толетах для уничтожения саранчи и на рыболовецких бар¬
касах, которые изготовляли в Исландии для Цейлона. Ко¬
гда он нагнулся, чтобы наконец-то потуже затянуть ре¬
мешки ее сандалий, она попросила: ну скажи, пожалуйста,
как говорят венцы: «сосиски с хреновиной» и «разболтан¬
ный крокодил». Ты ведь от этого отрекся, t’arrendi *? Он
кивнул и весело посмотрел на нее: да, на самом деле оп
забыл венские словечки — забыл и хреновину, и разбол¬
танного крокодила. Оп опять подумал о той cernia, но пе
знал, как эта рыба называется па его родном языке.
ФАО была не повой организацией, идея ее создания
возникла куда раньше, чем идея создания ООН; некий Да¬
вид Лубйн — парень с Запада Америки — придумал что-то
похожее на ФАО; как показывают его имя и фамилия, Лу¬
бин был родом из Восточной Европы, откуда, если поко¬
паться, происходят и они; объезжая верхом на лошади
свою новую родину, этот Давид Лубин открыл, что уже в
нескольких милях от его поселка люди не ведали о зем¬
ледельческом опыте своих соседей; повсюду фермеры при¬
держивались разных примет и разных методов выращи¬
вания зерна, дынь, разведения скота. И вот Лубин начал
собирать информацию, чтобы в один прекрасный день кре¬
стьяне во всем мире могли обменяться ею, но никто его в
то время не понимал, и он добрался до самого короля Ита¬
лии, чтобы изложить ему свой проект; между прочим, это
не сказка, это — быль, но некоторые начинания очень по¬
хожи на сказку, ну а теперь в результате всего этого
Франкель сидит в Риме в здании бывшего министерства
по африканским делам, сидит в ФАО, служащие которой,
к примеру, занимаются мексиканской пшеницей, так как
она оказалась лучше всех других сортов пшеницы.
Но тут она перестала слушать и воскликнула: замеча¬
тельная история. Он сказал строго: никакая это пе исто¬
рия, я сообщаю тебе голые факты. То-то и оно, возразила
она, стоит человеку придумать что-нибудь из ряда вон вы¬
ходящее, начать нечто повое, как сразу являются такие
бюрократы, как ты, и засушивают все до смерти; прости,
пожалуйста, и пойми меня правильно: пе могу я иначе ду¬
мать, ведь я без конца слушаю эту тарабарщину — в Па¬
риже, в Женеве, в Риме; без конца слушаю речи и помо¬
гаю ораторам, а в итоге уровень всеобщего непонимания
1 Капитулировал (итал.).
179
растет и люди все чаще загоняют друг друга в угол; вы,
мужчины,— богом проклятая шайка-лейка — превращаете
все в сплошное занудство; этот парень — как его звали? —
этот Давид мне очень нравится, а другие мне вовсе не пра¬
вятся; он и впрямь скакал па лошади, не то, что вы; вы
ходите в мапеж и занимаетесь конным спортом, чтобы со¬
хранять форму; пет, тот парень был из другого теста, ру¬
чаюсь; нынешние мужчины — шайка-лейка, черт бы вас
всех побрал.
Он засмеялся и не стал возражать, а сам подумал: она
права, хотя зря рубит с плеча, правота в этом случае не¬
многого стоит; зато, когда опа так завелась, она показалась
ему особенно красивой, даже очень красивой, гораздо кра¬
сивей, чем тогда, в «Хилтоне», с наклеенными ресницами,
в меховой накидке и со слегка отставленной кистью руки,
к которой прикладывались мужчины; когда она завелась,
глаза у нее опасно засверкали, повлажнели и стали еще
больше; наверно, она была из тех людей, которые безмер¬
но рискуют, способны па все, лезут на рожон, иначе жизнь
для них не жизнь. Мы вернемся, и я покажу тебе, что я
делаю в ФАО; ничего я не засушиваю до смерти и даже не
ношу весь день папки; их доставляют в специальных лиф¬
тах; бумаг так много, что эту тяжесть мне было бы не под
силу поднять. Не поднять ее и мистеру Универсуму и даже
самому Атланту. Она подозрительно спросила: какому та¬
кому Атланту? После чего он так развеселился, что зака¬
зал еще бутылку вина. Атланту, который держит на пле¬
чах весь мир. Ci sono cascata, vero? 1 Она отодвинула свою
рюмку, не хочу больше, и вообще я не понимаю, почему
мы говорим о такой ерунде; я не люблю ничего, что люди
делают изо дня в день; перед сном я обычно читаю де¬
тективы, пусть то, что днем кажется мне нереальным, ста¬
нет уж и вовсе фантастическим; да, каждая конференция
для меня прямое продолжение бесконечного indagine2,
как это перевести? На конференциях всегда ищут причи¬
ну того, что произошло давным-давно, причину чего-то
ужасного; но пробиться к истокам все равно невозможно,
дорога туда обязательно затоптана множеством ног. Кто-
то нарочно стер следы; и все говорят полуправду — хотят
выйти сухими из воды; и вот на конференциях люди пы¬
1 Я попала впросак, да? (итал.)
2 Расследование (итал.).
180
таются пробиться сквозь эту разноголосицу и нагроможде¬
ние небылиц, но им это никогда пе удается; только озаре¬
ние, внезапное озарение могло бы прояснить неясное, по¬
казать, что происходит в действительности и что следует
предпринять.
Да, повторил он рассеянно, озарение. Хочешь фрукты?
Ему правилась ее манера говорить, правилось, как она вы¬
ражала свои желания — отказывалась или роняла «да» —
и как она держалась: то надменно, то скромно, то агрес¬
сивно, а то очень просто; всегда она была разная, и с пей
можно было пойти куда хочешь; в маленьком кафе она
вела себя так, словно всю жизнь пила скверный кофе, там
опа с жадностью жевала засохшие бутерброды, а в таком
ресторане, как этот, давала понять официанту, что с пой
шутки плохи; в баре ее можно было принять за одну из
тех праздных дам, которые принципиально не желали па¬
лец о палец ударить и которым никогда нельзя было
угодить; эти дамы грациозно скучали и развлекались, про¬
являли непонятные капризы и могли устроить сцену из-за
недостающей лимонной корки, из-за лишнего кубика льда
или из-за неправильно сбитого «Daiquiris» !. Одной из при¬
чин глухого раздражения, которое вызывала в нем жена,
было то, что она ходила по Вене со слишком большими
сумками и, вместо того чтобы откидывать голову назад,
горбилась; дарить ей меховые шубки было ненужным рас¬
точительством — она все равно носила бы их с лицом ве¬
ликомученицы, и она не умела, как Надя, держа сигарету
в руке, с неудовольствием оглядываться по сторонам—-это
означало, что ей следует немедленно подать пепельницу.
Нет, боже упаси, пе «Vat», я ведь уже сказала «Dimple» 1 2;
причем перестраиваться надо было молниеносно, иначе на
ее лице появлялось выражение полного недоумения; мож¬
но было подумать, что от того, нальют ли ей «Dimple» или
не нальют, зависел исход весьма значительной операции.
По дороге сюда опа его буквально истерзала — после ста
километров пути заставила чуть ли не на руках выносить
из машины и волоком тащить к «Motta» или «Pavesi» 3;
вообще вела себя так, словно не он, а она крутила баран¬
ку в августе на этом забитом шоссе, да еще в конце неде¬
ли; разумеется, только у нее мерзли ноги, и, разумеется,
1 «Дайкири» — название коктейля.
2 Сорта виски.
3 Названия кафе-закусочных.
181
ей не приходило в голову протянуть руку пазад и взять
плед; она могла лишь устало шептать: прошу тебя, пожа¬
луйста, please, grazie, саго *, о боже, я вся окоченела. Ну,
а теперь, когда наконец-то выглянуло солнце и когда оп
спокойно размышлял о слове «озарение», ей обязательно
понадобилось положить голову па его ноги, ведь его погп
были специально созданы для того, чтобы она могла по¬
удобнее улечься; оп наклонился над ней; теперь их лица
были друг против друга, в этом ракурсе черты искажались,
пугающе искажались, по он сказал те слова, которые опа
хотела услышать, и поцеловал ее, потому что она этого
хотела, она повернула голову, и засмеялась, и, когда он с
опаской оглянулся, воскликнула — по ведь пас никто не
видит! — и, развеселившись, начала кусать его за щико¬
лотки, за икры; ему не оставалось ничего другого, как
схватить ее за руки и пригвоздить к земле; теперь она не
могла пошевелиться. Belva, bestiolina1 2, по-моему, это са¬
мые подходящие слова для тебя, согласна? — спросил он.
Да, да, сказала она с восторгом, да, well, that is a mild, way
to put it3.
Деревню они так и не видели, и в последний вечер оп
сказал, что ему бы хотелось знать, как все-таки выглядит
Маратея, наверно, их гостиница не имеет ничего общего
с этой калабрийской деревушкой; она тут же радостно
вскочила, моментально собралась, d’accord4, ведь оп обе¬
щал ей дальние прогулки, но до сих пор они не прошли
ни шагу, tu m’as promis une promenade5, сказала она жа¬
лобно, хочу обещанную прогулку; они поехали на маши¬
не, потому что солнце хоть и проглянуло сквозь облака,
но уже клонилось к закату. Любуясь заходящим солнцем,
окрасившим небо над морем в густые предвечерние тона,
они невольно думали, что, когда солнце, лучезарно сияя,
появится вновь, ни его, ни ее уже здесь не будет; сверху
опи увидят весь залив; ничего мы тут не осмотрели, tu te
rends compte? 6 Нет, ее не интересовал залив: просто она
хотела пройтись пешком, ma promenade. Я ведь тебя про¬
1 Спасибо, дорогой (итал.).
2 Хищница, маленькая хищница (итал.).
3 Мягко говоря, да (англ.).
4 Согласна (франц.).
5 Ты мне обещал прогулку (франц.),
6 Ты понимаешь? (франц.).
182
сила. Они поднимались все выше, витков па шоссе замет¬
но прибавлялось; где же деревня, удивилась она, я дума¬
ла, за этим холмом, неужели па самой вершине; куда ты
едешь, зачем взбираешься па голые скалы? Потом опа за¬
молчала, упершись ногами в стенку кузова, а он заговорил
о сарацинах, о том, что здесь удобно было обороняться.
Снова помянул сараципов, гляди же, гляди! Она молчала,
прищурившись, смотрела па красное небо; они приближа¬
лись к облакам, штопором ввинчивались в облака, вот по¬
казалась первая площадка, мелькнула вторая, она хотела
о чем-то попросить, по не решалась. Опять площадка. Он
никак пе предполагал, что здесь такая изумительная до¬
рога. Теперь один за другим проносились мосты, мосты
взлетали все выше, парили в воздухе, а она пе сводила
взгляда со своих колен, где лежали пачка сигарет и зажи¬
галка. Онемение началось с кистей рук, она пе в силах
была зажечь сигарету, по пе хотела просить его ни о чем,
потому что очутилась в его власти. Опа с трудом дышала,
что-то сдвинулось, наверно, это было началом немоты пли,
может быть, смертельной болезни. Машина остановилась
у сине-белого дорожного знака с буквой Р; казалось, это
первая машина в этой безотрадной каменной пустыне,
первая и последняя. C’est fou, c’est completement fou Она
вышла из машины, но пе знала, куда смотреть; здесь было
так холодно, что она натянула его свитер, спряталась в
теплой шерсти; они брели мимо пустых убогих домишек,
мимо монастыря, у которого стояли священник и три ста¬
рухи, все в черном; священник и женщины вежливо по¬
здоровались. Но она им пе ответила.
— С меня довольно,— по-русски произнесла опа.
Они шли по каменистой дороге, где между камнями
изредка пробивались пучки травы; дорога пела вверх, в
гору, к вершине скалы. К пропасти. Ее сандалии скользи¬
ли, она с трудом поспевала за мистером Франкелем, потом
она подняла взгляд и увидела гигантскую фигуру из кам¬
ня в каменном одеянии, фигуру с распростертыми рука¬
ми — они подходили к пей со спины; Надя плелась, пе раз¬
жимая губ, перед ней была та ужасающая фигура, кото¬
рую она уже разглядывала как-то на открытке в гостини¬
це— Христос из Маратеи; по сейчас он возвышался на
фоне неба, и она остановилась. Потрясла головой, сбросп-
ла его руку с плеча; это должно было означать — иди даль-
1 Безумие. Совершеннейшее безумие (франц.).
183
пте один. Он что-то сказал, но она продолжала стоять,
опустив голову, а потом начала спускаться, ее сандалии
опять заскользили; пройдя немного, она присела па при¬
дорожный камень — он должен был понять, что дальше
опа не сделает ни шагу. Л он все еще удивлялся, почему
она вернулась, но она по-прежнему молча сидела и обры¬
вала листочки с куста, mcnthe, inenla, rnentuccia \ потом
взяла себя в руки и сказала тихо, но твердо, как умела
говорить: иди один, я не могу. Mareada 1 2. Кружится голо¬
ва. Она показала па свою голову и понюхала растертый
между пальцами листик, словно нашла средство от голо¬
вокружения. Нашла лекарство. Aide-moi, aide-moi, ou je
meurs ou je me jette en has. Je meurs, je n’en рейх plus3. Он
ушел, а она сидела и все еще чувствовала спиной ту безум¬
ную фигуру, которую какие-то безумцы втащили на самую
вершину скалы; вот уж действительно безумцы; как это
только допустили, как допустили, да еще в такой жалкой
деревушке; каждую секунду все могло рухнуть в море;
достаточно было сильно топнуть ногой, сделать неосторож¬
ное движение; вот почему она сидела пе шевелясь, боя¬
лась, что скала обвалится и увлечет за собой и ее, и фигу¬
ру, и эту предельно нищую деревню, и потомков сараци-
нов, и весь груз преданий, отягощавший и без того тягост¬
ную историю этих мест. Если я буду сидеть неподвижно,
скала не обвалится. Ей хотелось плакать, по опа пе могла
заплакать; с каких это пор я пе могу плакать; неужели
человек, который без конца меняет языки, меняет страны,
разучивается плакать? Пу, а раз нельзя ждать помощи и
от слез, надо снова встать и опять пройти по той дороге,
спуститься к машине, сесть в нее и поехать с ним; не знаю,
что со мной будет, для меня это — гибель.
Она соскользнула с камня и легла на землю, раскинув
руки, словно ее распяли па этой опасной скале; у нее пе
выходила из головы странная самонадеянность этих люди¬
шек; когда-то опи, наверно, получили заказ, община при¬
няла решение, и его начали выполнять; вот откуда, стало
быть, моя погибель. Она услышала его шаги, он вернулся;
уже почти стемнело, она встала и, держась очень прямо,
1 Мята, мятка, мяточка (франц., итал.).
2 Голова кружится (исп.).
3 Помоги мне, помоги мне, или я умру, а пе то брошусь вниз,
Я умираю, я не могу больше (франц.).
184
начала спускаться рядом с ним к стоянке машины; ни
разу она не оглянулась; они опять прошли мимо монасты¬
ря, где темные фигуры растворились в темноте. Ни с чем
не сравнимое зрелище, сказал он ублагогворенно. Весь за¬
лив был перед ним как па ладони в ту секунду, когда солн¬
це превратилось в лиловое расплывчатое пятно и когда его
стало засасывать море. Отъехал немного, и, войдя в пово¬
рот, вдруг что-то вспомнил и небрежно сказал: стран¬
ная идея, между прочим, поставить на скале такую урод¬
ливую скульптуру. Ты ее видела? По как только машина
тронулась, она сразу же закрыла глаза и снова уперлась
ногами в стенку кузова; несмотря на это, она все чувство¬
вала — чувствовала мосты, пропасти, витки шоссе, беско¬
нечность, перед которой была бессильна. Они спустились
ниже, и она начала дышать ровно. На меня здесь высота
подействовала больше, чем в горах; здесь выше и страш¬
нее. Дурочка моя, мы поднялись всего только на шесть¬
сот, максимум на семьсот метров, но она закричала: нет,
нет. Спускаться отсюда трудно, хуже даже, чем садиться
на реактивном самолете. Скоро мы приземлимся?
В баре она повела себя как больной, которому срочно
необходима инъекция. Сразу же потребовала спиртного,
не выбирала, как обычно, а попросила дать что-нибудь,
безразлично что, только покрепче, ей дали, она залпом
осушила стакан, не почувствовала вкуса, но ей тотчас ста¬
ло жарко и растерянность немного отпустила, а барьер
между ней и им и между ней и миром исчез. Дрожащими
руками она зажгла первую за этот вечер сигарету. В но¬
мере, когда он обнял ее, она опять начала дрожать, не хо¬
тела, не могла; боялась, что задохнется, умрет прямо на
месте, но потом все же согласилась, пусть лучше она за¬
дохнется, пусть лучше погибнет от его рук, тогда в ней по¬
гибнет и то неизлечимое, что сегодня возникло. Опа пере¬
стала сопротивляться, будь что будет; лежала безучаст¬
ная; не сказав ни слова, отвернулась к стене и сразу за¬
снула.
Проснувшись утром, она увидела, что он уже уложил
свои чемоданы, и, когда из ванной донеслось жужжание
электрической бритвы, тоже начала медленно укладывать¬
ся. Они не смотрели друг на друга, и она сбежала по тро¬
пинке к морю немного позже него; она его не обнаружила
185
сперва, а потом он вынырнул у самой лестницы и протя¬
нул ей большую морскую звезду. Она пи разу не видела
живой морской звезды, и, конечно, ей не дарили морских
звезд. Любуясь его подарком, она улыбнулась обрадовапно
и вместе с тем печально. Да, опа возьмет звезду па па¬
мять, но потом она вдруг швырнула ее в море, пускай жи¬
вет. Море было еще более бурным, чем во все предыдущие
дни, но теперь ее это уже пе волновало, и опа перестала
беспокоиться за него, когда оп был под водой. Показала
рукой па скалы, начала знаками объяснять, чего хочет, и
пошла по черным, зеленым и светлым с мраморными про¬
жилками глыбам, между которыми яростно кипели волны.
Несмотря па страх и па слабость — от слабости она готова
была заплакать,— она упрямо карабкалась по растрескав¬
шимся крутым обломкам. Море ревело, а опа то взбиралась
наверх, то сползала вниз.
Они взглянули на часы одновременно, у них еще оста¬
валось часа два в запасе; отяжелевшие от еды, они молча
лежали в шезлонгах на нижней террасе. Поначалу они
считали, что за дни в Маратее многое расскажут друг дру¬
гу, наговорятся вволю, но из этого ничего пе получилось,
и сейчас опа подумала: быть может, и он вспоминал о ком-
то другом и в эти его воспоминания было вовлечено мно¬
жество лиц, тел, разломапного, разбитого, убитого, сказан¬
ного и недосказанного; тут вдруг она страстно взглянула
на него и в то же мгновение вспомнила Париж и поняла,
что так проникновенно на нее должен был бы смотреть тот,
другой, а не мистер Франкель, а вместо этого они смотрели
друг на друга. Прошу тебя, скажи, о чем ты сейчас дума¬
ешь, о чем, в эту самую секунду, скажи, непременно ска¬
жи. Ни о чем особенном, он поколебался немного; он ду¬
мал о cernia, о той рыбе, которую больше пе встретил; ни¬
как не мог ее забыть. Вот, стало быть, о чем оп думал. Нет,
он не лгал, говорил чистую правду, рыба занимала его все
это время, он хотел ударить cernia в хребет, в затылок.
Внезапно у нее разболелась голова, опа пощупала себе за¬
тылок, сказала: здесь, я чувствую, что здесь.
В последний час она трижды вскакивала, один раз по¬
шла к медсестре на пляже, потом в туалет, в третий раз
в кабинку, села там, глядя в пространство; его могла уди¬
вить эта долгая отлучка, и она вернулась, встала перед
186
ним па колени, положила голову к нему па руки. Ты пе
обидишься, если я побуду одна до отъезда? — спросила
она. Так просто, без причины. Мне немножко пе по себе,
извини, пожалуйста. Отнесешь паши чемоданы? Да?
Опа снова пошла к скалам и на сей раз, карабкаясь па
них, позабыла об осторожности; опа прыгала с камня па
камень, там, где это было возможно; готова была заплакать,
по знала, что пе в состоянии; с каждой минутой она ста¬
новилась все отчаянней, все храбрей; да, сейчас она добе¬
рется до дальних черных скал, сейчас она рискнет, но
боясь сорваться; в полубреду она сказала себе: мой долг
жить, я должна жить, должна; с неохотой взглянула па
часы и повернула назад, чтобы не опоздать. И тут она по¬
правила себя; почему я говорю должна, что это вообще
значит, дело не в долге, совсем пе в этом. Я ничего никому
не должна, я имею право жить, имею право; и мне надо
наконец-то осознать свое право, осознать именно здесь н
сейчас,— и, сказав себе это, опа с новой энергией запры¬
гала по обломкам скал, помчалась, полетела вперед, окры¬
ленная; в эти несколько мгновений она ощутила неведо¬
мую доселе уверенность в собственных силах, уверенность
в каждом своем движении. Я имею право, слово найдено,
я имею право жить. В кабипе были только ее вещи —
джинсы и блузка, она быстро оделась и вприпрыжку по¬
бежала наверх, в гостиницу. На бегу она совсем пе зады¬
халась, чувствовала себя невесомой. Теперь я оглянусь:
вот море, правда, не все море, не весь берег, не весь залив;
остановившись, она нагнулась — на дорожке лежала ка¬
кая-то вещь; его свитер; наверно, он его только что уро¬
нил. Она подняла свитер п с беспредельным восторгом
прижалась к нему щекой, поцеловала его, а потом с запы¬
лавшим лицом повернулась к морю: море великолепно!
И сейчас я рискну взглянуть в другую сторону, наверх, на
эти высокие фантастические холмы и даже па скалу Ма-
ратея, на самую отвесную, нависающую над морем скалу;
па вершине она увидела маленькую, еле различимую фи¬
гурку с распростертыми руками, фигурку, которая не была
пригвождена к кресту, а как бы приготовилась к неслы¬
ханному полету, к тому, чтобы взмыть пли низвергнуться.
В холле гостиницы она, запыхавшись, остановилась —
ей все еще но хотелось подходить к нему, и опа быстро по¬
бежала в номер. Чемоданов уже не было, но кровати еще
187
пе успели застелить для повых постояльцев; она встала
у зеркала и попыталась сделать хоть какую-то прическу,
но ее длинные спутанные просоленные волосы совсем не
слушались. Потом она начала распахивать дверцы шка¬
фов, выдвигать ягцики и бросать в корзинку для бумаг пу¬
стые пачки из-под сигарет, клочки бумаги и бумажные
салфетки; заглянула под кровати и уже собралась уходить,
как вдруг обнаружила у его кровати в тумбочке, на кото¬
рой стояла лампа, книгу. Хорошо, что опа поднялась в
номер. Опа сунула книгу в пляжную сумку и тут же вы¬
нула ее опять; эта книга пе могла принадлежать ему.
Il Vangelo 1. Да, это была Библия, обычно в таких гостини¬
цах Библия считалась частью реквизита. Опа села на не-
застеленную кровать и раскрыла Библию наугад, из суеве¬
рия опа часто раскрывала словарь и выхватывала науда¬
чу какое-то слово, которое должно было определить, что ей
сулит этот день,— она вопрошала книги, как оракулов, п
вот теперь она раскрыла эту книгу, говорившую ее душе
не больше, чем словарь; раскрыла, зажмурила глаза и по¬
стучала пальцем по левой верхней части страницы, а по¬
том, подняв глаза, прочла фразу, гласившую: Il miracolo,
come sempre, ё il risultato della fede e d’uiia fede audace.
Положив книгу, она попыталась произнести эту фразу и
переделать ее на новый лад.
Чудо...
Чудо, как всегда...
Нет, чудо — результат веры и...
Нет, веры и смелого... нет, больше, чем смелого, гораз¬
до больше...
И тут она наконец заплакала.
Я себя переоценила, я умею пе все, до сих пор еще
умею не все. Фразу о чуде она пе могла перевести ни на
один язык. Хотя ей казалось, что значение каждого слова
понятно и легко переводится. Одного она не знала — что
было в действительности в этой фразе. В том-то и ^дело,
что она умеет далеко не все.
У бара она остановилась, он ждал, но не увидел, что
она приближается, не заметил ее присутствия; как и все
другие в баре — посетители и бармен,— он смотрел па
экран телевизора в углу. Велосипеды. По экрану проноси-
Евангелие (итал.).
188
лись велосипеды. Сначала их было несколько, потом остал¬
ся только один, и она увидела пригнувшегося к самой
раме велосипедиста, а немного погодя — толпу народа у
обочины шоссе. Диктор был в таком раже, что то и дело
оговаривался, поправлял себя, спотыкался на каждом сло¬
ве — осталось пройти еще три километра, и диктор гово¬
рил все быстрее и быстрее, как будто сам крутил педали
и изнемогал от напряжения, как будто у пего самого серд¬
це готово было выпрыгнуть из груди. Язык отказывал ему
совершенно. Опа подумала: интересно, сколько это еще
продлится, вероятно, осталось километра два; вежливо об¬
ратилась к бармену, который в трансе прилип к телеви¬
зору, спросила: chi vince? 1 Но юноша не ответил, стало
быть, еще километр? Диктор задыхался, хрипел, не в си¬
лах был произнести последнюю фразу; а вот и ленточка
финиша, из глотки диктора вырвался нечленораздельный
крик, и в ту же секунду телевизор оглушительно загудел—
это завопила толпа у обочины, а потом беспорядочный рев
сменился очень четко произносимым словом, толпа скан¬
дировала:
— А-дор-ни, А-дор-ни!
Она с ужасом и облегчением прислушивалась к реву
толпы и сквозь этот рев в ритме стаккато слышала крики
в ритме стаккато во всех тех городах и странах, где она
побывала. Так они выражали и свой гнев, и свое ликова¬
ние.
— А-дор-ни, А-дор-ни!
Он повернулся и смущенно посмотрел на нее, догадав¬
шись, что она уже некоторое время находится здесь.
С улыбкой она кивнула, показала на его свитер, который
перекинула через руку. Молодой бармен очнулся, тупо
взглянул па нее и пролепетал:
— Commandi, Signora, cosa desidera?2
— Niente. Grazie. Niente3.
Только на ходу, уже взяв его под руку, она повернула
гслову; внезапно она вспомнила самое главное и крикнула
юноше, который смотрел, как побеждал Адорпи:
— Auguri!4
1 Кто победил? (итал.)
2 Приказывайте, синьора, чего вы желаете (итал.)
3 Ничего. Спасибо. Ничего (итал.).
4 Всего хорошего! (итал.)
ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ.
— Ну, тогда в семь. Ладно, дорогой. По мне, так луч¬
ше. Кафе в высотном. Да, совершенно случайно. Да, слу¬
чайно, должна же я хоть когда-нибудь выбраться к
парикмахеру. В семь, я думаю, примерно так, если вовре¬
мя... Что, что неужели?.. Дождь? И я так думаю, по-мое¬
му, дождь идет всегда. Да, я тоже. И я рада.
Беатрис еще пемпожко подышала в трубку и, положив
ее, с облегчением перевернулась па живот и снова уткну¬
лась головой в подушку. Покуда она с напускным ожив¬
лением говорила по телефону, взгляд ее упал на старый
дорожный будильник, с которым никто никуда не ездил.
В самом деле, всего половина десятого; квартира ее тетки
госпожи Михайлович имеет, между прочим, неоспоримое
преимущество: в ней два телефопа, и один из них стоит
у нее прямо перед кроватью, им можно пользоваться когда
угодно, ковырять в посу и при этом делать вид, будто с
нетерпепиехм ждешь ответа, а еще лучше, если час позд¬
ний, поочередпо задирать ноги или выполнять другие,
даже более трудные упражнения, по, едва повесив труб¬
ку, спова заснуть. Это опа умела — уже в девять утра
отвечать ясным, чистым голосом, и Эрих, добрая дукпа,
думал, что опа уже давпым-давпо, как и он, па ногах, по¬
жалуй, даже выходила из дому и вообще готова ко всем
перипетиям дня. Должно быть, ему пи разу пе пришло
в голову, что она тотчас спова засыпает и даже убежде¬
на, будто может досмотреть приятный сои, если только он
был приятный, по такое случалось редко, потому что снов
она, в общем, пе видела, тем более никаких интересных
снов, а единственно важной была сама возможность спать
190
дальше. Если бы кто-нибудь когда-пибудь вздумал ее спро¬
сить — и опа, хотя это еще менее вероятно, захотела бы
ответить на вопрос,—что для нее лучше всего на свете,
какое у пее любимое занятие, какая заветпая мечта, же¬
лание, цель жизни, ей пришлось бы в сопливом восторге
воскликнуть: никакого, только спать! Но Беатрис поосте¬
режется высказывать это вслух, ибо с некоторых пор на¬
чала понимать, к чему они все клонят, например госпожа
Михайлович, и Эрих, и даже ее кузина Элизабет: к тому,
что пора бы ей решиться найти себе какое-нибудь заня¬
тие, что без работы нельзя; и надо было хоть пемпожко
уважить этих людей и при случае обронить какой-нибудь
намек по поводу интересов и планов па будущее.
Однако в это утро опа заснула не сразу, опа лежала,
блаженно расслабившись, уткнувшись носом в подушку, и
думала: уж-жаспо. Что-то смутно ее угнетало, только опа
не могла понять, что именно, а дело, скорее всего, было в
свидании, назначенном па сегодняшний вечер, хотя его
с таким же успехом можно было назначить па завтра или
даже на послезавтра. Опа уговорилась с Эрихом лишь для
того, чтобы выплатить миру небольшую дань, ибо свида¬
ние с Эрихом, конечно же, не имело смысла, как, надо
полагать, не имели бы смысла и все прочие свидания,
будь у нее на сегодняшний день возможность назначить
свидание с кем-нибудь другим, по такой возможности
у нее в данный момент не было, а это в свою очередь за¬
висело от того, что у пее вообще не было никакой охоты
что-либо предпринимать. Эрих — или кто-то другой,
Эрих — или много других, в конце концов, все это не
играет роли, и она застонала от здоровой, звериной муки:
ужасно.
Эриху опа, конечно, пе может сказать, как это ужасно
для нее, он такой милый, ему и без того не сладко при¬
ходится, и ие его вина, что Беатрис не способна быть
опорой для кого-нибудь или стимулом, в лучшем случае
оазисом, пригрезившимся ему средь жизненной пустыни.
Она осторожно вылезла из постели, вылезла и тотчас
снова упала от усталости, поскольку ей предстояло заново
продумать, чем заняться в первую очередь. Через мгнове¬
ние Беатрис, медленно обретая сознание, как после обмо¬
рока, прищурилась на будильник, Который нужен был ей
для ориентировки и ненавистен по той же причине, и уви¬
дела, что уже двенадцатый час. Непостижимая загадка,
191
опа пе помнила, как снова заснула, видно, вымоталась до
предела за первые же пятнадцать минут или не успела
прийти в себя, а скорее, пребывала в себе, где глубоко-глу¬
боко что-то беззвучно призывало отказаться от задуман¬
ного, переиграть все снова. Беатрис решила ни к чему
себя пе принуждать, ибо всякий раз, когда она хотела
к чему-то себя принудить, у нее и вовсе ничего пе выхо¬
дило, и ровно в час пополудни опа — все еще спросонок —
подошла к шкафу и начала выдвигать ящики и распахи¬
вать дверцы. Опа порылась в ящике с бельем, затем в
ящике с чулками, извлекла оттуда пару топких колготок
так, словно поднимала со дна свинцовое грузило, задум¬
чиво осмотрела свою добычу, бережно засунула в них
руки, посмотрела па свет, медлеппо поворачивая, а сама
знала, что все эти усилия ни от чего ее не избавят, по¬
скольку спущенную петлю опа никогда пе обнаружит
раньше, чем наденет колготки. О эти мучительные уси¬
лия, каждый день, всю жизнь искать целые чулки, пи-
когда не знать, каким он окажется, этот день, то ли днем
для хорошего белья, то ли днем для старого и застиран¬
ного, это само по себе было ужасно, а потом, приняв уме¬
ренно теплый душ, потому что горячей воды никогда не
хватало, она ухитрялась так все подгадать, чтобы не по¬
пасться на глаза ни госпоже Михайлович, пи этой ужас¬
ной Элизабет и чтобы никто в доме не знал толком, когда
она встает, а это было нелегкое бремя. «Ужаспо» было
любимым ее словом, оно неизменно предлагало свои услу¬
ги, когда она пе желала пи слишком забивать голову ка¬
ким-нибудь делом, ни, напротив, выкинуть его из головы.
Она достала уже два платья, но еще не сняла халат, а на
кухне тем временем грелся ее кофе. Держа в руках оба
платья, она стояла перед зеркалом в ванной и пыталась
установить связь между собой и этими платьями. Она
была почти прозрачная, с восковой бледностью, и едва
заметное свечение ее лица едва заметно отражалось
в зеркале. Она задумала изобрести что-нибудь для соб¬
ственных пужд, что-нибудь основополагающее по вопро¬
сам одевания — почему оно такое утомительное и почему
бывают дни, когда приходится дважды, а то и трижды
принимать серьезные решения типа: темно-синее или бе¬
жевое с белой отделкой; тут она выглянула в окно, из¬
вольте радоваться, идет дождь, конечно же, идет дождь,
опа чуть не проговорилась по телефону, по вовремя суме¬
192
ла сделать вид, будто уже знает, какая мерзкая погода.
Этот дождь, из-за него все меняется, надо будет подумать
насчет пальто и обуви, хотя, конечно, до семи вечера все
еще может снова перемениться. Беатрис опустила платья
на край ванны и принялась очищать лицо, ибо принимать
окончательное решение было еще слишком райо и дальше
думать — тоже, а накраситься на всякий случай не ме¬
шает, па всякий случай, совсем незаметно и без губной
помады, так как почти ничего не решено; когда ясе ей
вдобавок удалось спасти остатки кофе и, присев на край
постели, выпить его, у нее отлегло от сердца, просто она
слишком долго собиралась попить кофе, но даже вторая
чашка не могла снять с нее пожизненное бремя, которое
она на себя взвалила и которое до сих пор не сумела оси¬
лить, потому что — сегодня она в этом почти уверилась —
была попросту слишком молода.
Она любила говорить людям: «Представляю, какое это
для вас ужасное бремя». Или: «Дорогой, я понимаю, как
это все тебя обременяет, мне это знакомо, поверь».
И вот сегодня Беатрис после «ужасно» зацепилась и
за второе из любимых слов, при малейшем движении, ма¬
лейшем проблеске мысли она буквально упиралась лбом
в ключевые слова и убеждалась, что все ужасно и сложно
и что на ней лежит тяжкое бремя. Что два бюстгальтера
ей тесны, а два других слишком велики, такое может слу¬
читься только с ней, поскольку она часто наводила эконо¬
мию не там, где нужно, зато у нее по крайней мере есть
тонкие, как паутинка, облегающие трусики, за которые
она должна поблагодарить Жанну, а еще за совет насчет
бюстгальтеров, хотя после короткой и бурной дружбы
с этой француженкой, настоящей парижанкой, она при¬
шла к убеждению, что и в Париже особо нечему учиться
и что, следовательно, вообще, пожалуй, не имеет смысла
чему-либо учиться, если всего-то пользы... Жанна авто¬
стопом добралась до Вены, хотя и не знала, чего ей здесь
понадобилось, а Беатрис и подавно не могла ей растолко¬
вать, но очередной результат парижской предприимчиво¬
сти выразился в том, что Беатрис, говорившая до сих пор
«комбине» или «комбинашка», как говорит большинство
венок, теперь снова называла сорочку «сорочкой», ибо
обнаружила, что слово «комбине» обязано своим проис¬
хождением некой языковой аварии на перегоне между
Парижем и Веной, а она не любила выглядеть смешной
7 № 1034
193
в таких вопросах, как обе дамы Михайлович, по твердому
убеждению которых всегда благороднее употребить фран¬
цузское слово. В остальном ей не очень легко было ладить
с Жанной, чье любопытство и ребячливость действовали
на нервы. Они были ровесницы, Жанне даже без малого
двадцать одип, но Беатрис считала, что эта Жанна — чу¬
дище активности и хочет всего зараз: узнать, где достают
гашиш, знакомиться с молодыми людьми, ходить на тан¬
цы, бегать в оперу, еще в Пратер или пить молодое вино,
а Беатрис так и подмывало сказать Жанне, что у той
голова набита нелепыми идеями и больше ничем, по¬
скольку нельзя, в конце концов, причислять себя к хиппи
и бегать в оперу, кататься на «чертовом колесе» и потря¬
сать мир, во всяком случае, у них в Вене нельзя, да еще
вдобавок выпендриваться в кафе Захара, хотя Жанна
однажды вышла из себя и объяснила, что она просто
drop-out1, с комичным таким произношением. У Жанны
были родители: отец — прокурор и мать тоже прокурор,
вероятно, иметь таких родителей — нелегкое бремя, но
для Беатрис бремя было и того ужасней: таскаться
с Жанной по всей Вене, а она не так уж и хорошо зпала
Вену, потому что всегда здесь жила, платить у Захара
бешеные деньги за чашку кофе, потому что мадемуазель
не признавала маленькие рядовые кафе, они для нее были
недостаточно венскими. Больше всего мороки было с мо¬
лодыми людьми: Беатрис почти никого не знала, сделала
наудачу несколько звонков, но не захотела признаться
Жанне, что всего-навсего регулярно встречается с жена¬
тым мужчиной, которому уже тридцать пять, а в раз¬
говорах с Эрихом она тоже не то чтобы замалчивала само
существование Жанны, по дала понять, будто в угоду
тетке, и поскольку кузина у нее тоже работает, должна
взять на себя попечение об очаровательной студентке из
Франции, отец — прокурор, мать — прокурор, и они соби¬
раются все осмотреть, по-быстрому, очень, очень образо¬
ванная девушка, и, как всегда, когда представлялась воз¬
можность, она с невинным видом просила у Эриха совета:
дорогой, ты же знаешь, я в этом не сильна, не можешь ли
ты дать мне разумный совет. Эрих тут же выложил на
стол — Альбертипа и Музей истории искусств, и Беатрис
подарила его признательным взглядом, а про себя поду-
’ Индивидуалист. Здесь: выродок (англ.).
194
мала: уж-ж-жасно. Разумеется, в таких вопросах Беатрис
могла дать Эриху сто очков вперед, Эрих, добрая душа, и
ведать не ведает, какой откровенностью отличается эта
Жанна, как она живет па самом деле, хотя и должен бы
иметь представление из газет, но для женатого мужчины,
который служит в АиА1 и разрывается между службой
и домашними неприятностями, подобная сторона жизни,
надо полагать, совершенно непостижима, и скорее по этой
причине, а не из стыдливости. Беатрис помешала им
встретиться. Жанна, без всякого сомнения, начала бы ее
про все выспрашивать, а парижанка, да еще не такая, как
все, вообще умерла бы от удивления, узнай она, чего не
было между Эрихом и Беатрис, она, того и гляди, могла
подумать, будто венские девушки вообще пи с кем нико¬
гда не спят и тому подобный вздор, хотя, по правде, дело
в том, что для Беатрис все это чересчур хлопотно. Эрих со
своей стороны решил бы, что Жанна — неподходящая
компания для его маленькой девочки, а Жанна сочла бы
его старомодным обывателем, и обе эти точки зрения по¬
казались бы Беатрис обидными, но, по счастью, глава
«Жанна» подошла к концу, ибо Жанна «подцепила» двух
молодых англичан, с которыми и отправилась па попутных
в Рим, так как нашла Вену недостаточно rigolo2, скучный
город, но кафе Захэра как раз произвело на нее впечат¬
ление, хотя в конечном счете оно ничем не отличалось от
других, как всякая сорочка есть не более чем сорочка,
вот только ни Жанна, ни Беатрис не носили сорочек.
Это тяжкое бремя и эта утомительная ложь теперь
тоже утратили значение, потому что жена Эриха в третий
раз пыталась покончить с собой перед самым отъездом
Жанны, но, поскольку это была уже третья попытка за
время их отношений и, следовательно, ее зпакомили с
происшествием во всех деталях, опа уже наловчилась
отключаться, сохраняя вид внимательного слушателя, а
про себя со вздохом облегчения думала об отъезде Жан¬
ны. И все же сидеть с Эрихом в дальнем углу кафе Эйлеса
было утомительно, хотя она любила это кафе и с удоволь¬
ствием оставалась одна, когда Эрих торопливо бросался
к дверям, утомительно потому, что ей приходилось заново
выслушивать историю его семьи с первых дней существо-
1 Austrian Airlines (англ.)—австрийская авиакомпания.
2 Веселый (итал.).
7*
195
Ггпия и до последнего дня, зная и чувствуя, что Эрих,
слишком порядочный и совестливый, никогда в жизпи не
подаст на развод. Беатрис всегда проявляла величайшее
участие, хотя мартиролог Эриха ничуть ее не волновал.
Она каждый раз вместе с ним все продумывала, и они
каждый раз все детально обсуждали, Эрих не уставал
восхищаться ее ангельским терпением: бедняге и в голову
не приходило, что Беатрис вовсе не заинтересована в его
разводе, да и он, пожалуй, тоже нет, но когда он все тол-
ковал и толковал с этим терпеливым, нетребовательным
ребенком, в разговоре всплывал пе банальный, будничный
интерес, а его исступленное желание пожить наконец в
покое и увидеть разрешенной нерешенную и неразреши¬
мую проблему с Гугги. Словом, участие Беатрис, пожа¬
луй, казалось удивительным, а отсутствие интереса — во¬
все нет, потому что ее порой на несколько минут, а то и
на целых полчаса увлекала возможность быть статистом
в драме, а иногда, после его ухода, она решала как-нибудь
при случае рассказать ему, какая мысль пришла ей в го¬
лову: что между ним и Гугги должна существовать «пи¬
рамидальная телепатическая связь» — это выражение
очень ей нравилось. Недаром же он неизменпо успевал во¬
время прийти домой, а однажды он по чистой случайности
уехал из Граца тремя часами раньше намеченного, пото¬
му что на конференции его обидели, отклонив его предло¬
жения по организации внутренних рейсов, и своим до¬
срочным возвращением он спас Гугги, так как через три
часа ее уже не удалось бы спасти; он метался, как безум¬
ный, вызвал «скорую помощь», отправил ее в клинику, а
потом сразу же позвонил Беатрис, своему «лучу света»,
«оазису мира» в незадавшейся жизни, и заверил ее, все
еще дрожа, но проникновенно, что не может больше жить
без нее и что восхищается ее выдержкой и спокойствием,
ее силой и разумностью, которые не часто встретишь у два¬
дцатилетней девушки. В приступах восхищения он от всей
души желал ей найти другого, того, кто сумеет дать ей все,
чего она будет лишена, оставаясь с ним. Беатрис не люби¬
ла, когда Эрих ею восхищался или говорил о ее высокой
зрелости, и, едва наступал благоприятный момент и смех
был дозволителен, а веселость уместна, опа заливалась
смехом. Дорогой, ты вечно забываешь, что я родилась два¬
дцать девятого февраля, ты подсчитай, я ведь еще ребенок
и никогда не стану взрослой! Ты мне так нужен, ты моя
196
единственная опора. И она глядела на него признательным
взглядом, и Эрих, мысленно, разумеется, все еще с Гуи н,
верил, что для Беатрис он, без сомнения, очень серьезная
опора, ибо этот ребенок, если вдуматься, один-одинешенек
на белом свете, стало быть, на нем, Эрихе, лежит двойная
ответственность — за Гугги и вдобавок за Беатрис, и ни
разу оп не заподозрил, что его обманывают, ибо обманыва¬
ла она его каждым словом и жестом, так бездумно и бес¬
корыстно, что он неизбежно должен был уверовать в свою
значимость и тем самым — в ответственность. В те редкие,
мимолетные мгновения, когда Беатрис испытывала к Эри¬
ху настоящее чувство, она вздыхала про себя и думала, что
единственное, чего она от всей души желает этому бедному
замученному человеку,— хоть раз в жизни, когда Гугги
надумает совершить очередной опыт самоубийства, при¬
ехать домой слишком поздно. Ибо такую, как Гугги, да
вдобавок такую, как она сама, он и впрямь не заслужил.
Но он был все-таки глупенький и каждый раз заново
переживал свое несчастье, человек, угодивший в ловушку,
из которой нельзя выбраться. И она исправно отсиживала
свой час, твердо зная, что не может ему помочь и, пожа¬
луй, никто не может, но тем не менее она старалась пере¬
ключить его на себя, все-таки лучше, когда Эрих думает,
будто несет ответственность и за нее, тогда он по крайней
мере хоть ненадолго отключается от своей Гугги, правда,
она, Беатрис, не такой уж большой довесок к его несча¬
стьям, но надо представить этот довесок больше, чем он
есть на самом деле, чтобы Эрих не рухнул под гнетом ис¬
тинного несчастья.
Порой, очень нечасто, они ходили в кино и держались
за руки. Беатрис за этим не гналась, но порой, когда он
уставал говорить, хотя выговориться ему было всего важ¬
ней, потому что, кроме нее, пе с кем, на него находила
нежность, и он то легонько кусал ее за ухо, то прикасался
к груди или к колену, по она предпочитала разговоры и
тревожные телефонные звонки.
Прикосновения Эриха были ей неприятны, она уже вы¬
шла из этого возраста. В последних классах школы и позд¬
нее, в общежитии, бывало всякое, куда больше и вообще
предостаточно, ио с тех пор, как она стала взрослой и на¬
отрез отказалась учиться дальше либо приобретать какую-
нибудь профессию, ей пи разу пе приходило в голову
сойтись с каким-нибудь мужчиной, и отвращение к этой
197
ужасающей порме, которой подвластны все, опа открыла
в себе одновременно с извращенностью — фетишизацией
сна. Извращенность — да, по крайней мере опа представ¬
ляла собой исключение в стане нормальных психов. Самая
настоящая извращенность. Все остальное было лишь пу¬
стой тратой времени, уже само раздевапде-одев^цие так
утомительно, никакого сравнения с ее безграничной любо¬
вью к глубокому сну, в который она погружалась и будет
погружаться даже не раздевшись, падая прямо в туфлях
на кровать. После серии прежних ребячеств, совершенных
из чистого любопытства, после всего, что, на ее тепереш¬
ний взгляд, люди неслыханно переоценивают, сон стал для
нее исполнением желаний, единственным, ради чего стоит
жить.
В тех редких случаях, когда тетки не было дома, а
Элизабет приходилось помалкивать, потому что после ис¬
тории с этим Мареком она утратила всякое право делать
ей замечания, Беатрис приглашала Эриха к себе, на
Штроццигассе, в свою комнату, правда, ее ужасно обреме¬
няла необходимость, помимо прочих забот, думать еще и о
том, что он захочет чего-нибудь выпить, на худой конец —
кофе, но потом они ложились рядышком и она не мешала
ему говорить. Вот когда он, к сожалению, умолкал, она при
каждой его попытке, робкой, ибо тень Гугги всегда витала
над ним, начинала смеяться во все горло, и неодолимое
желание дурачиться охватывало ее, и исступленная непри*
ступность, а Эрих, отнюдь не разочарованный, сказал од-*
нажды, что это ему нравится, что такой она ему нравится.
Стало быть, вовсе не долготерпеливость Эриха по отноше¬
нию к ней заставляла его держаться в границах, а вот
когда он стряхивал свое похоронное настроение и тоже мог
улыбаться, он говорил, смеясь, что она просто demi-vierge Ч
Беатрис, не поняв, что это значит, заглянула в словарь,
к которому ей неоднократно приходилось обращаться в эпо¬
ху Жанны, и перевод ей понравился, раз она все-таки что-
то половинчатое, чем-то целым она бы попросту не жеЛала
быть, зато вот Гугги, наверно, была одной из таких жен¬
щин с истерическими Любовями и страстями, и можно во¬
очию убедиться, чем они кончают, эти женщины, даже
имея дело с таким человеком, как бедный Эрих.
Неприятно задевали Беатрис только попытки Эриха
говорить о ее будущем, потому что нельзя же было совер-
1 Полудева (франц.).
193
шенпо скрыть от него, что она не желает идти ни в какой
институт, не желает сдавать никакие экзамены и лишь не¬
определенно, к слову, намекает, будто ищет какую-то рабо¬
ту. Эрих с его высоким чувством ответственности становил¬
ся невыносимо нудным, когда заводил речь о том, что это
в ее же интересах, он вот и сам раскидывает умом, как
для нее будет лучше — то ли выучиться на переводчицу,
то ли устроиться в магазин, то ли в книжную лавку, то ли
в картинную галерею. Ей просто надлежало чем-то за¬
пяться, его слишком тревожило, что при сложившихся об¬
стоятельствах он не может на ней жениться. Но Беатрис
знала наверняка, что никакой работы нет, даже в самой
захудалой конторе — ибо даже для этого у нее не было ни¬
каких данных,— и что ей нигде не разрешат спать до по¬
лудня, поскольку эти бестолковые люди везде и всюду
позволяют сковывать себя почасовым расписанием, и что
поэтому она никогда не будет работать, не говоря уже об
ученье, так как она начисто лишена тщеславного стремле¬
ния заработать своими руками хоть шиллинг, стать само¬
стоятельной и отсиживать по восемь часов в день среди
дурно пахнущих людей. Особенно ужасными казались ей
женщины, которые работают, у них у всех наверняка есть
какой-нибудь изъян, или они страдают какими-нибудь
комплексами, или позволяют мужчинам эксплуатировать
себя. А вот она — она пе позволит себя эксплуатировать,
даже для собственной пользы опа никогда не сядет за пи¬
шущую машинку и не будет угодливо спрашивать в ка¬
кой-нибудь лавчонке: не прикажете ли еще чего-пибудь,
милостивая сударыпя? Может быть, вон ту зеленую ше-
мизеточку?
Нет, заявила она, но только однажды, чтобы не трав¬
мировать бедного Эриха, никаких видов на будущее у меня
нет, да и на какое будущее? А потом добавила нежно: за¬
чем нам тревожиться о будущем? Ты только погляди, ведь
и настоящее — достаточно тяжкое бремя для тебя, мне не
хотелось бы, чтойы ты вдобавок думал еще и обо мне. Да¬
вай лучше будем думать о Гугги. Что говорит профессор
Йордан? Пожалуйста, не скрывай от меня ничего, между
нами пе должно быть тайн. И тем самым она снова пере¬
ключала Эриха на Гугги, на затяжной курс лечения, па
новые надежды и старые опасения. От матери, что жила
с новым мужем в Южной Америке и приходилась сестрой
покойному господину Михайловичу, Беатрис регулярно
199
получала небольшую сумму, которую приносил запущен¬
ный доходный дом в Х-ом округе, и, хотя сумма была не¬
большая, своего рода рента, которая никогда по менялась
и в ходе бесчисленных инфляций значила все меньше и
меньше, Беатрис, к великой досаде тетки, всецело на нее
рассчитывала, потому что ей очень немного было нужно, а
жила она почти что даром. Ни разу ей не пришло в голову
подбросить что-нибудь за комнату и па прочие бытовые
расходы дамам Михайлович, беспрекословно выплачивав¬
шим ее долю. Она никуда не ходила, кроме как изредка
с Эрихом и еще реже одна в кафе, ибо она была слишком
измучена, чтобы окунаться в гущу жизни. Единственный
расход, который она считала нужным, нужнее даже, чем
на еду, был расход на парикмахера и косметику. С недав¬
них пор она начала повторять: маловато у меня косметики.
Лишь поэтому она спокойно, без всяких раздумий взяла
однажды у Эриха пятисотшиллинговую бумажку. Все рав¬
но ждать от него подарка ко дню рождения не приходи¬
лось, потому что с этим дурацким двадцать девятым февра¬
ля у нее почти не бывало дней рождения. Но существовало
то, чего Эрих не знал, чего не мог знать, так как у него
было для нее слишком мало времени, и в чем она не при¬
зналась бы никакому другому мужчине, почему, вероятно,
и не хотела никакого другого,— она слишком любила хо¬
дить к парикмахеру, салон «Рене» был единственным ме¬
стом на земле, где она хорошо себя чувствовала, ради
«Рене» она отказывалась почти от всего, даже от возмож¬
ности регулярно питаться, да еще радовалась, что она та¬
кая хрупкая — ветром может унести — и так мало весит,
неполных сорок шесть килограммов. Больше всего она лю¬
била самого господина Карла, и Гитту, и госпожу Рози,
даже маленький, неумелый Тони был ей милее, чем Эрих
и вечно озабоченная, бестолковая тетка Михайлович. Дей¬
ствительно, у «Рене» все понимали ее лучше, чем другие
люди, поэтому уже сама атмосфера во втором этаже дома
на Ротентурмштрассе доставляла ей наслаждение, здесь
никто не мог подойти к ней и потребовать, чтобы она брала
пример со своей кузины Элизабет, которая кончила уни¬
верситет, защитила диссертацию и надрывается, как вер¬
блюд, этот образцово-показательпый ребенок, а толку что,
со всей своей ученостью дожила до тридцати, по от великой
независимости, унижений и безнадежной борьбы за суще¬
ствование она так нигде толком не сумела пристроиться,
200
мало того, даже к парикмахеру пе ходит, а потому и вы¬
глядит на все тридцать. Если есть человек, которого Беа¬
трис всерьез избегает, то это Элизабет, ибо, хотя кузина
у нее и тихая и занята своими мыслями и за всю жизнь
пе сказала ей ни одного слова поперек, Беатрис вся топор¬
щится, когда ее видит, и, не дорожи опа так своим покоем
на Штроццигассе и своим сном, она бы ей выложила, какой
дурой ее считает, просто набитой дурой, сил пет выносить
столько дурости зараз, особенно в женщине, потому что
с Эрихом все по-другому, он такой трогательный, как ни
глупы ей кажутся его взгляды и заботы. Мужчина может
себе позволить быть глупым, женщина — никогда. Женщи¬
на не должна изводиться сама и отнимать покой у своей
матери только потому, что зарабатывает слишком мало де¬
нег и вообще избрала себе столь эксцентричную специаль¬
ность, как история искусств, ну что толку, если опа знает
все досконально про этого Дюрера и прочих художников
и всякую такую всячину про Флоренцию затвердила чуть
пе наизусть, если со стипендией во Флоренцию дело пе вы¬
горело, и, насколько могла попять Беатрис, обе дамы Ми¬
хайлович не знали, как им быть дальше, а кроме того, эта
дурында всерьез влюбилась в Антона Марека, чтобы взва¬
лить на себя еще большее бремя, а догадайся кто спросить
у Беатрис, она бы и в четырнадцать лет сумела попять, что
этому Мареку плевать на всё и вся, кроме себя самого, что
у него и в мыслях не было жениться па Элизабет, расторг¬
нуть хорошо обдуманный брак ради сентиментальной осо¬
бы без денег и перспектив; а вот у Эриха просто роковое
стечение обстоятельств, печальное для пего, но благопри¬
ятное для Беатрис. Ради разведенного или овдовевшего
Эриха она ни за что не потащилась бы к «Репе», чтобы ча¬
сами — между мытьем головы, гримом, маникюром и эпи¬
ляцией — предаваться веселым размышлениям и глядеть
в зеркало, отражаясь в больших зеркалах, которых на
Штроццигассе и в помине нет, только маленькое зеркало
в ванной, слишком маленькое и высоко повешенное, недо¬
статочное для ее потребностей. А у «Рене» степы сплошь
покрыты этими превосходными зеркалами, есть там и тре¬
льяжи, чтобы разглядеть себя со всех сторон, а Гитта под
конец еще приносит ручное зеркало, чтобы пе упустить ни¬
какой мелочи; у «Рене» очень серьезно относятся ко всему,
что серьезно для нее, и, когда она раз в неделю, а часто
еще до исхода педели подымалась па второй этаж, взвол-
201
новаппая, исполпеппая ожиданий, она даже дышать начи¬
нала по-другому, усталость как рукой снимало, опа в мгно¬
вение ока преображалась и, сияя от предвкушений, всту¬
пала в храм. Еще прежде чем доложиться госпоже Ивонне,
опа вертела головой, глядя во все зеркала, она снова
находила себя и находила свое истинное место. Еще пре¬
жде чем окинуть критическим взглядом свое отражение,
она радовалась, что видит в зеркале свой приход и может
отбросить мысль обо всем ее обременяющем. Вот она я
какая, говорила одна Беатрис другой, той, что в зеркале, и
самозабвенно глядела па себя, пока голоса за ее спиной
скликали господина Карла, Гитту, Рози, и госпожа Ивонна
улыбалась, почти всегда помня наперечет все желания
своих клиенток, по тем не менее спрашивала, чего они же¬
лают, и хмурила лоб, потому что Гптта еще не освободи¬
лась, а госпожа Хильда ожидает ребенка и, следователь¬
но,— какая жалость — некоторое время не будет работать.
Какая жалость, думала и Беатрис, не скрывая своего
недовольства. И как на грех именно сейчас. Она улыбалась
болезненно и смутно, это даже своего рода необязатель¬
ность, ведь все знают, как опа привыкла к госпоже Хиль¬
де... Тем временем она успевала бессознательно схватить
щетку и, гримасничая, расчесывала волосы, небрежным то¬
ном приговаривая:
— Вы только не глядите на меня, меня всю придется
делать заново, с головы до ног, я просто не решаюсь в та¬
ком виде выйти на улицу, чудовищный вид... Господин
Карл, умоляю, спасите меня, взгляните на этот страх бо¬
жий! — Она запустила пальцы в свои длинные каштановые
волосы.— Ну, что вы на это скажете? Что же будет даль¬
ше? Я ведь на прошлой неделе здесь была!
Господин Карл, орудуя гребнем в ее волосах, ответил,
что, в общем-то, все это сносно, более или менее сносно,
однако он со своей стороны настоятельно советует ей по¬
пробовать биологически активный препарат «Шев-9», раз¬
работанный лабораториями фирмы «Ореал», а того настоя¬
тельнее он посоветовал бы ей проделать весь курс — десять
ампул. Беатрис живо его перебила:
— Будь по-вашему, попробуем сегодня одну ампулу,
я согласна, но решиться на целый курс... Нет, господин
Карл, сегодня я действительно не могу решиться... у меня
впереди еще целый день... вы себе не представляете... да
еще в такую погоду!
202
Опа беспомощно повела глазами, потому что с ее зонти¬
ка капало па ковер, тут подбежала Гптта, взволнованно
поглядела на мокрые пятна и сунула зонт в подставку,
которую Беатрис даже и не заметила, ведь от нее требо¬
вали решения — согласиться па целый курс пли не согла¬
шаться, а ей это в настоящий момент было не по кар¬
ману.
Опа пересекла два зала, мурлыча себе под пос и зара¬
нее предвкушая, как исчезнет в боковой комнате с розовы¬
ми балахонами, откуда дверь ведет в розовые туалеты. Она
с достоинством раздевалась, хотя в комнату вошла другая
женщина, ибо сегодня был день «хорошего белья». Она
медленно и вдумчиво расправила на себе балахончик от
«Репе», опа повесила на плечики пальто и платье, затем
она вышла и некоторое время нерешительно слонялась по
салонам «Рене», потому что все куда-то вдруг запропасти¬
лись, и господин Карл исчез, и Гитта тоже, по Беатрис
с удовольствием слушала, как другие женщины говорят по
телефону и как здесь приветствуют входящих с улицы.
Стало быть, здесь графиня Разумовская, но которая? Бе¬
атрис иначе себе ее представляла, а остальные ее меньше
интересовали, потому что почти все подпадали под любез¬
но-безличное «милостивая сударыня». Лишь когда они
расплачивались и доставали записочки от мастеров, каждое
имя неизбежно произносили вслух и каждая клиентка
обретала свое собственное: Йордан или, к примеру, Банчу-
ра; хотя фамилия Йордан у нее вдруг с чем-то ассоцииро¬
валась, ах да, должно быть, это и есть жена знаменитого
психиатра, который пользует Гугги, но и жену Йордана
Беатрис представляла себе иначе, а эта так скромно вы¬
глядит, хотя и хорошенькая, очень даже хорошенькая, и
очень молодая, но имена других женщин ей решительно
ничего не говорили, другие укрывались за обращением
«госпожа доктор» и то ли просто были женами докторов,
то ли госпожа Ивонна по наитию, либо инстинктивно, либо
со знанием дела помогала этим женщинам найти подходя¬
щее обращение. До сих пор Беатрис ни разу пе бросилось
в глаза, что всем клиенткам «Рене» по меньшей мере три¬
дцать, что средний возраст здесь сорок, если не считать
миниатюрную госпожу Йордан, хотя и эта уже далеко не
первой молодости, во всяком случае, Беатрис здесь значи¬
тельно моложе других, потому что молодепькие девушки
в Бепе, как правило, сами моют себе голову, сами подпи¬
203
ливают ногти, зато и выглядят соответственно. Беатрис
ни за что бы па это не пошла, ибо пе смогла бы жить без
полуденных часов у «Рене», для нее это было бы страшнее,
чем какая-нибудь тяжелая болезнь, например паралич. Да
ее и разбил бы паралич, лишись она всех радостей, которые
находила у «Репе». И опа требовала удовлетворить се по¬
требность в обслуживании, во внимательном отношении
к любой мелочи, которая ей причитается, а па Штроцци-
гассе, где был ее вечный приют па время, никто даже и пе
подумал бы застелить за пей кровать, лишь иногда тетка
неизвестно зачем выговаривала ей, что кровать у нее по
целым дням стоит неубранная и развороченная, а ведь Бе¬
атрис убивала последние силы на то, чтобы шарить и рыть¬
ся в своих точно так же развороченных ящиках, и лишь
чрезвычайно редкие визиты Эриха заставляли ее наводить
на скорую руку некоторое подобие порядка, то есть и в
этом сохранять видимость, никакая другая причина не
заставила бы ее прибираться, и оставалось загадкой, как
это опа при всем при том ухитряется выглядеть на улице
или у «Рене» так, словно только что покинула одну из тех
господских, проветренных квартир, вылизанных старыми,
уже не существующими в природе горничными, где, веро¬
ятно, и обитают приходящие к «Рене» женщины; и лишь
она была способна среди такого хаоса содержать в безуп¬
речном порядке свои несколько платьев и свое бельишко,
ибо ради этой видимости, ради своего внешнего вида она
стирала и даже гладила, пусть со стонами и охами, но это
было необходимо, по крайней мере раз в неделю. Зато сей¬
час Гитта мыла ей волосы и нежно скребла, а Беатрис
молила: «Ради бога, не такую горячую!» Гитта же, хоть
и знала это, кивала понимающе и долго прополаскивала
ее волосы прохладной водой. Потом Гитта вдруг исчезла
и вместо нее прислали другую, которая начала дергать ее
волосы гребнем. Беатрис поглядела в зеркало — не знако¬
мая ли? Нет, какой ужас, эта дурища пытается расчесать
ее длинные волосы, а расчесать их может только Гитта,
иногда господин Карл расчесывает сам. Неуверенным го¬
лосом она предложила для начала немножко подсушить
волосы.
— Господибожетымой, я ж вам сказала, посадите меня
под сушилку или принесите фен.
Беатрис решительно не могла уразуметь, откуда они
взяли, что волосы надо расчесывать мокрыми. Сквозь боль
204
опа гляделась в зеркало и видела, как мокрые топкие пря¬
ди свисают по обеим сторонам лица, опа раскрыла глаза
пошире и принялась изучать эту чужую, обезображенную,
абсолютно чужую голову. Представляю себе, как ужасно
выглядит совсем голый череп, по потом ее внимание от¬
влеклось, ибо она заметила, что тени па левом веке стер¬
лись, для проверки она закрыла п открыла глаза. Тем вре¬
менем эта особа наконец управилась, и Беатрис схватила
иллюстрированный журнал, здесь всегда журналы из ФРГ,
по «Бога» здесь никогда не было, а немецкие журналы —
кому они нужны. Двойное убийство под Штутгартом. На¬
верно, жуткая местность, приспособленная для убийств.
Секс в Германии. Час от часу не легче. У Жаклин Кеннеди,
ныне госпожи Онассис, несколько десятков париков — на
каждый случай. Вот это уже интереснее, об этом стоит
поговорить, хотя сама госпожа Кеннеди... За спиной Бе¬
атрис появился наконец господин Карл, опа поспешно за¬
хлопнула журнал и спросила:
— Какие прически носят нынешней зимой? — Нет, в
принципе она этим не интересуется, и вообще ей дела нет
до того, что сооружают у себя па голове другие, будем
надеяться, что шиньоны уже отошли, и вообще есть вопро¬
сы более серьезные, например, ее куда больше интересует,
какого мнения он, господин Карл, о париках, ибо опа все
никак не может решиться. Решиться же опа не могла глав¬
ным образом из-за денег, но госпожа Кеннеди, хотя и не
первой молодости, как-то убеждает. Господин Карл, на¬
чавший ловко, не касаясь пи единым пальцем ее головы,
наматывать пряди волос па бигуди, словно па свете пет
ничего проще, чем накручивать такие длинные волосы, в
ответ воскликнул:
— Я ведь уже несколько раз говорил вам, что иметь
один парик просто необходимо, правильней — два, без
двух вам не обойтись, если вы собираетесь заниматься зим¬
ним спортом, ну и для юга!
Беатрис скривила рот: зимним спортом опа не занима¬
лась, во-первых, потому что у нее не было для этого денег,
во-вторых, потому что ради спорта, даже если ты не зани¬
маешься зимним, надо непременно вставать в определенное
время и, в-третьих, потому что на свете мало таких мест,
которые ей по душе. Л все эти хижины для горнолыжни¬
ков, и весь этот стиль, и все эти люди из горнолыжных сек¬
ций — по пей хоть бы их вовсе не было. Матрас, набитый
205
соломой,—вот как опа себе это представляет. Тирольские
песни и нетоплепиые комнаты. Господину Карлу она бла¬
горазумно ответила:
— Кстати, о летнем отдыхе — нельзя всю жизнь ездить
в Северную Италию, а раз уж я предпочитаю остаться на
Вёртер-Зее, мне нужен ваш совет. Ведь после каждого ку¬
панья не побежишь к парикмахеру, и вообще там, в про¬
винции, поймите же, видит бог, это выше моих сил.
Господин Карл ответствовал, что, если ему не изменяет
память, он уже трижды за эту осень до мельчайших дета¬
лей объяснял, почему он рекомендует ей именно эти новые
парики и почему они хоть и синтетические, ио тем не ме¬
нее выглядят хорошо. Беатрис все это и без него отлично
понимала и потому перестала слушать. Она погрузилась
в зеркала, а господин Карл тем временем накидывал ей па
бигуди розовую сетку, закладывал за уши комки ваты, по¬
крывал ее колпаком сушилки и устанавливал время и тем¬
пературу. Да, ей надо завести себе черный пуловер муж¬
ского покроя, вырез мысиком, а под него — белую блузку,
чтобы получился такой девический вид, Эриху это
наверняка придется по душе, настоящая demi-vierge. Опа
приподняла колпак и серьезно спросила, хотя данная часть
беседы была, по существу, закончена:
— Господин Карл, чуть не забыла, вернее сказать, я
все время думаю, стоит мне сделать meches 1 или нет, и
знаете, никак не могу решить. Не могу, да и только.
Господин Карл ответил очень решительно, хотя и не
без участия:
— Выходит, нам нужно все начинать с самого начала.
— Нет, нет, вы просто должны дать мне совет, вы ведь
отлично знаете, что я без вас и шагу ступить не могу. А я
хотела бы еще раз все продумать. Как мне быть, если я
поеду на озера или к морю, а они там никаких meches не
умеют делать, вот в чем вопрос. Знаете, я без вас просто
не человек, по не могу же я упаковать вас и взять с собой,
я ведь не английская королева.
После этой искусной реплики Беатрис улыбнулась и по¬
думала, насколько она все-таки моложе и красивее, чем
эта коронованная особа, которой, ко всему прочему, при¬
ходится еще и подписывать смертные приговоры, о чем
неоднократно рассказывала Жанна, недурно разбиравшая¬
1 Локоны (франц.).
206
ся в политике. Вот уж благодарю покорно — эта Елизаве¬
та, наверно, п выспаться толком не успевает, и при всех
своих диадемах и миллионах опа в этом смысле может по¬
завидовать любому бродяге. Зато парикмахера она может
таскать за собой повсюду, тут ничего не скажешь, хотя
женщину, которая уже имеет взрослых детей и носит та¬
кие шляпы, не спасет пи личный парикмахер, пи личная
косметичка, а про смертные приговоры Беатрис в эти часы
вообще не желала думать, и она отпустила с миром госпо¬
дина Карла, успевшего уже решить проблему двух париков
и снова надвинувшего ей колпак па голову.
Гитте опа шепнула:
— Скажите, пожалуйста, вон та дама, хорошенькая, до¬
вольно молодая, она, кажется, тоже ваша постоянная клп-»
ентка, это не жена Йордана?
Гитта усиленно закивала и сказала:
— Очаровательная женщина и так просто держится!
Последняя подробность Беатрис не касалась, с чего
Йорданше быть простой, может, это такая уловка — инте¬
ресничать своей простотой, только и всего. Chacun a son
gout1. Разумеется, она никому не могла сказать, почему
ее в порядке исключения занимает именно госпожа Йор¬
дан, тогда как все прочие ну пи капельки не занимают.
Явилась госпожа Рози с маленьким тазиком для пог,
пришлось Беатрис еще раз встать с места, снять в задней
комнате колготы, сунуть ноги в фирменные пантолеты, ро¬
зовые с белым; затем она вернулась под колпак, опустила
ноги в теплую мыльную воду, впервые оказавшуюся имен¬
но такой температуры, как нужпо, и благодарно кивнула
госпоже Рози, а та разложила свои инструменты, подняла
правую ногу Беатрис к себе на колени и начала обрезать
ногти. Кажется, ее зовут Эльфи, была когда-то такая ар¬
тистка, в Бургтеатре, разумеется, ее вроде бы тоже звали
Эльфи, и Ломбарди, ту тоже зовут Эльфи. Ломбарди жива
до сих пор, но вид у нее не соответствует имени. Людям
впечатлительным надо бы разрешить самим выбирать себе
имя по достижении определенного возраста, по и об этом
никто своевременно не позаботился, а от своего избиратель¬
ного права Беатрис с легкостью откажется, когда его полу¬
чит, ей пет дела до политики, да и как они все выглядят,
эти политические деятели! Увидев в зеркале, что мимо
пробегает маленький Тони, она закричала:
1 У каждого свой вкус (франц.).
203
— Слишком жарко, я больше не выдержу, поставьте,
пожалуйста, регулятор па двойку!
Она бы с удовольствием носила пепельные волосы, фло¬
рентийская блондинка с красноватым отливом — это слиш¬
ком старит, а вот пепельные, с первого взгляда невзрач¬
ные... По тогда придется, конечно, изменить весь грим, на¬
нести на лицо совсем светлый тон, чтобы вид получился
слегка болезненный, все сейчас просто помешались па здо¬
ровье, а по-настоящему здоровых мало, вот она, к примеру,
здоровая; впрочем, она очень себе нравится с лицом чуть
загорелым, когда же топ розовато-смуглый, вид получается
неестественный, ио госпожа Хильда научила ее правильно
наносить прессованную пудру, а теперь извольте радовать¬
ся — она ждет ребенка, ведь красить она умеет превосход¬
но, а Вена до того отсталый город, здесь очень немногие
ходят краситься в парикмахерскую, только те, кто имеет
какое-нибудь отношение к телевидению или кино, благо¬
дарю покорно, о кино она никогда не думала и иллюзий
никаких не питала. Катти, которая однажды, и очень не¬
долго, была ее лучшей подругой, пока Беатрис еще верила,
будто лучшие подруги существуют, верила много раньше,
когда была моложе, эта самая Катти стала такая издерган¬
ная, сплошной комок нервов. Теперь ей уже целых два¬
дцать пять лет, и, по ее рассказам, слухи насчет того, что
в кино все спят со всеми, ничуть не преувеличены, ужас
какой! Потом Катти вернулась с новой надеждой пристро¬
иться в каком-нибудь немецком фильме. То, что слышала
Беатрис от бывшей подруги про Рим — все равно, правда
это или выдумки,— тоже пе больно-то смешно, хотя ей, в
общем, наплевать, коли у них у всех нервы ни к черту, это
еще полбеды, может, и у нее тоже бывают всякие заскоки,
но опа по крайней мере никогда не грустит, и не испыты¬
вает разочарования, и не кипятится без толку. Эрих нашел
Катти взрывной личностью, к сожалению, опа их однажды
свела, только однажды. И кстати, о подругах... когда ста¬
нешь взрослой, иметь подруг не следует.
Она вела про себя беседу с Эрихом: знаешь, мне безраз¬
лично, чем занимается остальное человечество, умывается
или нет, употребляет ЛСД или нет, расточает силы попусту
пли слоняется без дела, я нахожу их всех, остальное чело¬
вечество, понимаешь, остальное, лишь забавным, и тех и
других, я не могу определить точно, я ни за тех и ни за
других, ты понимаешь? Я? Я... как бы это получше выра¬
203
зить? В общем, ты прав: я не умею выражать свои мысли.
Это недостаток, я знаю, ты совершенно прав. Но ведь
странно, не правда ли, странно, что я не умею выражать
свои мысли?
Вслух же она сегодня скажет Эриху совсем другое: вре¬
менами я просто без ума от себя самой, она выпалит это
сразу, раньше, чем он успеет завести речь о Гугги и о сво¬
их проблемах. Между прочим, на днях Эрих сказал что-то
очень смешное, что-то про отношения между мужчинами
и женщинами, и что основную проблему разрешить нельзя,
ои, во всяком случае, уже готов сдаться, и это очень разум¬
но с его стороны, но тем не менее он не отказался от своей
мании все досконально продумывать, анализировать себя
самого, свою ситуацию в целом, потом ситуацию с Гугги
в частности, потом ситуацию с ней, хотя при этом он
утверждает, что самое важное не анализировать ситуацию,
а предоставить ей развиваться. Тогда решение придет само
собой. Куча противоречий. Но ей на все это наплевать, на
каждую ситуацию в отдельности и на все, вместе взятые.
Какое ей дело до ситуаций? Впрочем, это, вероятно, очеред¬
ная логическая ошибка. Эрих ни разу не упустил случая
указать ей на ее ошибки, и Беатрис это вдохновляло, пото¬
му что сами по себе ситуации были такие нудные, и она
часто говорила ему, глядя па него огорченно и беспомощ¬
но: кажется, я опять допустила логическую ошибку, ты но
находишь? А уж когда она сама в чем-нибудь себя упрека¬
ла, он становился такой милый и любезный, что дальше
некуда, нужно было, чтобы он сам себе напридумал какой-
то грех, тогда его радовала возможность отпустить чужие
грехи, отныне Беатрис будет всегда заботиться о том, что¬
бы по меньшей мере раз в неделю признаваться в каком-
нибудь грехе.
Нет, сегодня волосы определенно слишком натянуты
в одном месте, этого с господином Карлом никогда не слу¬
чалось. Она будет просить у Эриха прощенья за всякие
самые невероятные и незначащие вещи: ради бога, Эрих,
прости меня, в прошлый раз я была такая невнимательная,
нет, нет, я сама заметила, задним числом, я понимаю, до¬
рогой, боюсь, я слишком тогда нервничала. И как на грех
в тот день, когда ты так нервничал, я с тобой не посчи¬
талась, совершенно не посчиталась, мне надо исправить¬
ся, Эрих, дорогой, я должна быть с тобой искренна до
конца, иначе все это не имеет смысла, а лишиться тво¬
209
его доверия — для меня ничего пе может быть страшней.
Беатрис оглядела свои ступни — ногти уже почти за -
кончены, оставалось только покрыть их лаком, прелесть
какая, может, в пей самой и пет ничего особенного, но
ступни у нее потрясающие, и ее даже пе особенно печалит,
что ни один мужчина их никогда пе увидит, Эрих тоже
нет; даже па Штроццигассе, когда она снимала чулки, что¬
бы поддразнить его, он никогда не смотрел на ее ноги,
с нее хватало и того, что она сама знает, какие они у нее.
Красивые ступни попадаются пе часто, уж госпожа-то Рози
знает, о чем говорит. Но сегодня госпожа Рози ни о чем
говорить не стала, она просто унесла тазик, исчезла сама
и вернулась с маникюрным набором. Беатрис крикнула че¬
рез плечо:
— Господин Карл, долго мне еще поджариваться? Как?
Еще десять минут? Это бесчеловечно, господин Карл, ведь
если вы говорите: «десять минут», понимай: целых два¬
дцать. Но подстричься вы меня все равно не заставите,
этого вы от меня не дождетесь, уж лучше я буду жариться
дальше.
Она протянула госпоже Рози мокрую левую руку, а пра-
вую опустила в воду. Потом она снова взялась за журнал.
Когда ей было пятнадцать, кто-то влюбился в ее пуловер
с высоким воротом, пуловер был зеленый, и она тогда не
знала, что для высокого ворота у нее слишком короткая
шея. Чему только не научишься за долгие годы жизни!
Больше никаких высоких воротов, это решено.
Яхта «Христина». На пути к какому-то греческому ост-
рову, на палубе кто-то, вероятно Ари, этот кто-то выгля^
дит примерно так же, только куда моложе. Еще душераз-
дирающий репортаж про Африку; лучше бы яхтой правила
она, и стояла бы на палубе, и волосы ее развевались бы
на ветру, только она стояла бы одна, без гостей и без ка*
кого-то Ари, который совсем ни к чему.
— Тони,-— вскричала она,— ради бога, опять слишком
жарко, я ж говорила — на второе деление, а это не второе,
это наверняка третье.
Эрих, он всегда такой измотанный, такой усталый, по¬
вое сокращение штатов совершенно его доконало, ему при¬
ходится делать всю работу вместо попавшего под сокраще¬
ние господина Якоба, чего и ждать от Эриха, хотя Беатрис
лишь смутно представляет себе, что означает «сокращение
штатов», дополнительное бремя и только, а то, что Эрих,
210
бесспорно имеющий все права, пе получает от своей авиа¬
компании бесплатных билетов для всяких интересных по¬
ездок, это ведь тоже типично, ибо, хотя Эрих вечно жалует¬
ся па свою дирекцию — и его нетрудно понять,— оп в
глубине души отождествляет себя с этими господами, ко¬
торые, без сомнения, летают, сколько захотят, и сегодня
она посоветует ему все-таки побеспокоиться о билетах па
самолет, посоветует небрежно, шутливым топом: тебе, на¬
верно, это ничего пе стоит, и мы могли бы пакопец-то быть
вместе, далеко отсюда, в Карачи или в Бомбее. На худой
конец опа попросит слетать с ней в Стамбул или лучше па
Канарские острова. Ты и я, одни, вдвоем, иа солнце, на
прекрасном пляже, Эрих, Эрих, неужели это неосуществи¬
мо? Надеюсь, самолеты в такие чудесные края летают по
только по утрам или в полдень, есть же, конечно, и вечер¬
ние рейсы, но можно ли в самолете хорошо спать, это еще
вопрос. Небольшой разговор о далеких солнечных странах
повредить не может, вдруг Эрих тогда расхрабрится, нач¬
нет что-то выдумывать, чтобы уехать с ней вместе. Забыть
серую Вену и вечное сверхнапряжение, ты только поду¬
май, Эрих, с ума сойти, до чего здорово! Лететь она все
равно никуда пе полетит, потому что все хваленые уголки
земли представляются ей донельзя неудобными, да и Эрих
никогда в жизни пе выбьет у своего директора два билета
на увеселительную поездку, но повернуть его мысли к уве¬
селениям — самое время.
Регулятор, может, и поставлен на двойку, но сегодня
двойка горячее тройки, и Беатрис закричала:
— Тони, ради бога, поверни на единицу, сил моих нет,
двойку я не вынесу.
Если она вовремя отсюда выберется, она еще успеет
сбегать в кино перед встречей с Эрихом. Правда, когда
под дождем пробежишь всю Керптнерштрассе, сперва вниз,
потом обратно вверх, до кафе в высотном, все труды пойдут
прахом, а такси ей не по карману. Она вздохнула. Значит,
придется полтора часа дожидаться Эриха в кафе. Разве что
драма получит неожиданное развитие, ведь не у каждого
мужчины такая жена, как Гугги, Беатрис с удовольствием
поглядела бы на эту Гугги, хоть разок и только издали,
вблизи лучше не надо. Сал/а Беатрис не способна на само¬
убийство, хотя испытывает куда больший страх перед
жизнью, языческий страх. Беатрис решила после «Рене»
оставить для Эриха в кафе короткую записочку, потом
211
немедля отправиться домой, на Штроццигассе, и там нена¬
долго прилечь со свежей прической. Волосы — это, в конце
концов, самое красивое, что у меня есть, больше хвалиться
нечем, если, конечно, не считать ноги. Дома опа приляжет,
спокойная, счастливая, распустит волосы и будет любо¬
ваться на свои ноги, а в кино, без сомнения, идет один из
этих утомительных фильмов, с убийствами и злодеяниями,
а иногда и вовсе про войну, и, если даже там все выдумано,
на нее это тем пе менее слишком сильно действует, может
быть именно потому, что в действительности все обстоит
совсем не так. В ее действительности существует лишь
Гугги, Гугги — это тоже целая проблема, хотя и она может
служить проблемой лишь на крайний случай, а Эрих, тот
просто-напросто слабый человек, который и на работе по¬
зволяет собой командовать, оп и сам это знает, будь ее
воля, она уже давно сказала бы шефу Эриха все, что о нем
думает, а этой распущенной особе опа бы давно своими
руками подложила на видном месте нужные таблетки и
бритвенные лезвия, чтобы та по крайней мере опомнилась.
Она достала из сумочки пудреницу и стала разгляды¬
вать свои зубы, недурно, недурно, хотя зубы не очень ров¬
ные, ей непременно надо сходить к зубному врачу, и как
можно скорее, да и камень снять тоже не мешало бы в
конце концов, пусть не на этой неделе, зато на следую¬
щей — непременно. Вот уж поистине тяжкое бремя. Она
была рада, что наполовину приняла решение.
Я девственная женщина. Или, скорее, женственная де¬
вушка? Она задумалась сквозь дремоту, существует ли
опасная разница между обоими определениями, но Эриху
она сегодня лучше скажет про другое, чтоб не слишком
упрощать ему жизнь. Сказать необходимо, рано или позд¬
но. Ты знаешь, скажет она, я ведь женщина, ибо суть во¬
проса была именно в этом — но именно этого он и не пони¬
мал; она, Беатрис, несмотря ни на что, остается женщи¬
ной. Demi-vierge, конечно, очень мило, но не может же она
во имя его спокойствия вечно представать перед ним в та¬
ком беспроблемном виде. Я женщина — и пусть это станет
для него новой проблемой, на худой конец пусть слегка
кольнет, но, поскольку ей казалось чересчур утомительно
в одиночку развивать эту проблему дальше, она почти бес¬
сознательно сникла под жужжанье фена. Руки теперь тоже
были в порядке, ногти покрыты лаком, опа чуть не про¬
зевала, как Рози складывает инструменты и встает, и жа¬
212
лобно попросила выключить сушилку. Уже наверняка про¬
шло двадцать минут, невыносимых двадцать минут —
в угоду господину Карлу.
Вслед за новенькой — упитанной девицей, замещавшей
госпожу Хильду,— она прошла в кабину и легла на твер¬
дую узкую кушетку, уже загодя исполненная недоверия, а
после первых прикосновений заместительницы опа совсем
помрачнела, ибо ясно почувствовала, что добром это пе
кончится. Обосновать свои опасения она пе сумела бы, ведь
при чистке и массаже и не могло произойти ничего серьез¬
ного, по у этой особы такие тяжелые, такие неловкие руки,
пе руки, а крюки, уж это Беатрис могла почувствовать, ин¬
стинкт срабатывал, когда руки касались ее лица, медли¬
тельно и осторожно протирая его лосьоном. Беатрис
закрыла глаза, чтобы по крайней мере пе видеть склонив¬
шееся над пей сзади лицо, пористое, в красных прожилках;
теперь эта особа пинцетом выщипывала ей брови, все с той
же медлительностью, хотя выщипывать полагается молние¬
носно, иначе будет больно. (Перестаньте, я больше не вы¬
держу, перестаньте!) У Беатрис пе хватило духу сказать
что-нибудь вслух, ничего подобного до сих пор у «Рене» ей
терпеть пе приходилось, такая пытка, и она не знала, как
выйти из положения, не оскорбив эту особу или не удрав
по-дурацки с бигуди на голове. А положение было действи¬
тельно ой-ой-ой! С господином Карлом она бы в два счета
столковалась, но он в кабины не заглядывал, здесь было не
его царство, сюда вообще никто не заглядывал. Гитта —
и та нет; не могла же она зареветь в голос, завыть в этой
камере пыток. С трудом, покуда эта кобыла выщипывала
ей брови, она спросила, который час. Так-так, значит,
в кино она уже не успеет — ко всему прочему и бигуди
давят, а эта особа даже пе подумала сунуть ей под голову
подушку, она вообще ничего не смыслит, только Беатрис
не затем ходит к «Рене», чтобы служить подопытным кро¬
ликом для начинающей дилетантки, которая никогда пе
станет косметичкой, это видно уже сейчас, с такими рука¬
ми — и косметичка!
Первые слезы побежали из уголков глаз, что же будет,
когда начнут накладывать грим, ведь при этом надо совер¬
шенно расслабиться, у госпожи Хильды она так и была
relaxedполностью relaxed и сонная-пресонная. Но тут
она уже не в силах сдерживаться, а когда ей начнут под-
1 Расслабленный (англ.).
213
водить глаза, вообще произойдет катастрофа. Слез доста¬
точно, неужели эта колода их не замечает, даже при одной-
единственной слезинке наносить грим нельзя; и, вконец;
отчаявшись, Беатрис сказала:
— Ради бога, стакан воды, мне нехорошо, ради бога,
воды!
Особа от удивления прекратила работу и вышла. Беат¬
рис тотчас села и, всхлипывая, потянулась за зеркалом.
Какой идиотизм именно на этот день назначить встречу
с Эрихом, который даже и не подозревает, что ей прихо¬
дится выносить. Всего бы разумней сказать ему как можно
скорей, лучше прямо сегодня, что им больше пе нужно,
нет, пожалуй, что им больше нельзя встречаться. Ну, па-
пример, что опа во всем призналась тетке, и что тетка —
у нее такие старорежимные взгляды — нашла эту связь с
женатым мужчиной попросту скандальной, и что опа, Бе¬
атрис, зависящая от тетки и до смерти напуганная этим
взрывом... Нет, так не годится. Зато Гугги вполне можно
выдвинуть как причину, да-да, Гугги и угрызения совести,
которые испытывает Беатрис и которые не дают ей покоя.
Беатрис очень любила такие слова, как «совесть», «долг»,
«ответственность» и «милосердие», потому что они па ее
слух хорошо звучали и ничего ей не говорили. В разговоре
с другими вообще следует употреблять слова, которые ни¬
чего тебе не говорят, с другими иначе не столкуешься, сло¬
во «совесть» прозвучит для Эриха вполне убедительно,
Эрих — наглядный пример того, как все хорошо срабаты¬
вает, когда мужчину потчуют бессмысленными словами,
ибо он может оперировать лишь такими. Тайные слова и
потаенные мысли Беатрис столкнули бы Эриха в пропасть
или по меньшей мере совершенно дезориентировали. А ему
нужна ориентация, вот в чем суть.
Все еще глядясь в зеркало, она сняла бигуди на затыл¬
ке, потом еще парочку на висках и была потрясена, когда
крутые локоны, упав ей на щеки, сделали ее лицо совер¬
шенно другим. Вот как ей надо выглядеть! Только так!
Узкое, кукольное личико, спереди два локона, у них такой
искусственный вид, может, надо всю голову оставить в та¬
ких вот штопорчиках, обрамляющих похожее на маску и
лишенное всякого выражения лицо — точно как сейчас. За¬
вороженная, она все раскручивала и раскручивала бигуди,
и ей было безразлично, как отреагирует на такое своеволие
господин Карл, сердце у нее сильно забилось, она облиз-
214
пула губы и что-то прошептала. Опа неслыханно выгляде-»
ла, сказочно, таинственно, опа вся была тайной, по кто
увидит ее такой, кто увидит это мимолетное раскрытие
тайны? Я влюблена, я самым серьезным образом влюблена
в себя, в меня нельзя пе влюбиться! Беатрис мечтала толь¬
ко об одном: чтобы эта особа подольше искала стакан и
воду, ведь опа влюбилась первый раз в жизни, значит, так
бывает — бывает такое сильное чувство в человеке, когда
от слез и смеха, между слезами и смехом ие найдешь слов,
это же невероятно, это же как в кино, так романтично, в
ней бушевала гроза, и, поскольку она знала пе больше слов,
чем знают другие, пришлось назвать это влюбленностью.
Опа быстро подавила в себе половодье чувств, когда
услышала шаги. Вот сейчас откроется дверь, и все опять
станет ужасно, за стенами этого дома возобновится все та
же будничная жизнь, жизнь, в которой рвутся чулки, в ко¬
торой есть затхлые, убогие комнаты, как на Штроццигассе,
жизнь, в которой пачкаются платья и идет дождь, когда в
кои-то веки выберешься к парикмахеру и заранее ра¬
дуешься этому, в которой волосы снова делаются сальны¬
ми, и недолгое время совершенства, когда ты бываешь
безупречна с розовыми ногами, розовыми руками, успокаи¬
ваясь после потрясения,— это время уходит прочь, и снова
тебя потребляют, потребляет жизнь, потребляет Эрих, по¬
тому что этот многострадальный дурачок тоже ее потреб¬
ляет, не ведая, какая она драгоценность и как она себя
расточает, расточает без толку, лишь бы он немножечко
воспрянул духом и мог подниматься на ноги после каж¬
дого падения, а сама она в его присутствии и из-за его при¬
сутствия разрушается, сходит на нет, иссякает попусту.
Эриху неведомы мгновения, подобные этому, взлетов и
озарений такого рода он никогда не испытывал, ибо со¬
здан, только чтобы испытывать заботы и распространять
их, до чего глупо — вместо того чтобы однажды раскрыть
глаза пошире и увидеть, какой самородок дарован ему
судьбой, увидеть, что в ней есть исключительного и непо¬
вторимого, и что вовсе она не «миленькая малютка» и не
«маленькая милочка», а что она вместе со всеми своими
логическими ошибками и без них — одинокое и никем пе
понятое произведение искусства, неповторимое и, по сча¬
стью, непонятное, ибо от своей всеведущей кузины она
как-то слышала, будто исключительность картины в том и
состоит, что ее не могут понять, так как и понимать нечего,
215
и что все значения не имеют никакого значения, а стало
быть, не такие уж глупости говорят порой глупые люди.
Стакан воды опа выпила, раз уж эта особа его при¬
несла, и снова нехотя улеглась, поскольку та не придумала
ничего умнее, как сказать, что бигуди вынимать не сле¬
довало, господин Карл будет недоволен. Беатрис ничего не
ответила на ее слова, охота была связываться... Она лишь
бормотнула, чем и как красила ее обычно госпожа Хильда...
и я очень вас прошу. Эта особа снова склонилась над ней
и провела черту по краю века, которую тут же стерла, чего
и следовало ожидать, потом снова начала па другом веке,
веко задергалось, Беатрис ведь не нарочно дергалась, а
из-за этой нескладехи, та начала снова, и Беатрис больше
не дергалась, чтобы у той не было потом отговорок; про¬
текла целая вечность, прежде чем обе черты были прове¬
дены и тени наложены. Беатрис только сказала один раз:
— Пожалуйста, не ярко, чуть заметно, я ведь не ак¬
триса.
Новенькая вообще ничего не ответила, по само молча¬
ние ее было подозрительно, понадобилось огромное
терпение, каким обладала только Беатрис, чтобы вынести
это подозрительное стирание и повторное наложение кра¬
ски. Наконец ее душу отпустили на покаяние, и она встала
в мрачном безмолвии, смотреться в зеркало она не хотела,
никаких зеркал, скорее к господину Карлу причесываться.
Атмосфера враждебности в кабине сгустилась невыносимо,
и Беатрис спаслась бегством. Вся ее сердечность, привычка
вести у «Рене» легкую, непринужденную болтовню в этот
миг полностью ее покинули. Она уселась в переднем зале,
поджидая господина Карла.
Лишь когда господин Карл подбежал к ней, торопливо,
потому что у «Рене» уже начали убираться перед закры¬
тием, и подозвал Тони, чтобы тот подержал ему фен, она
подняла глаза и взглянула на него с немым укором. Она
надеялась, что он сразу ее поймет, но господин Карл воз¬
мутился только по поводу отсутствующих бигуди — это
уже предел, хотя нет, еще не предел, потому что, прежде
чем ответить на его упрек, она, повинуясь неодолимому
желанию, бросила взгляд в зеркало.
Слов она не нашла, о чем и сказала господину Карлу:
— Господин Карл, я не нахожу слов. Полюбуйтесь, по¬
жалуйста, на этот макияж. Я не хочу говорить о том, как я
выгляжу, но вы и сами видите, как я выгляжу!
216
Господин Карл уже работал щеткой, он расчесывал и
подсушивал каждую прядь, словно ничего не замечая, и
тут она испытала самое горькое разочарование. Загадоч¬
ного лица как пе бывало.
— Но, милая барышня,— слава богу, он хоть ие сказал
госпожа, не то у нее пе выдержали бы нервы,— я знаю,
как вы привыкли к госпоже Хильде, однако, на мой взгляд,
ваш новый грим совсем не так плох.
Беатрис призвала па помощь все свое самообладание, но
про себя подумала: тут никакого самообладания пе хватит,
ведь мог бы по крайней мере сказать, что выглядит она
чудовищно и что это пе глаза, а катастрофа. Не слепая же
опа и видит слишком толстые неровные липин, слишком
много черноты; катастрофа, иначе не назовешь.
Господин Карл, чтобы отвлечь ее внимание, сказал
только:
— На улице, к сожалению, дождь, а вы всегда прихо¬
дите в дождь.
Беатрис все еще пе отвечала, она судорожно прикиды¬
вала, как быть, в таком виде нельзя встречаться с Эрихом,
надо постараться не прийти в кафе одновременно с ним,
можно забежать в ресторан «Линде», пройти в туалет и
смыть там все эти краски, но водой их не смоешь, и она
торопливо схватила щипчиками ватный тампон, который
лежал перед ней, увидела перед собой баночку с каким-то
кремом, а на баночке была надпись: «Leave on over
night» \ по она не понимала этот дурацкий язык, и, когда
господин Карл попросил ее не наклонять голову, опа при¬
нялась в отчаянии тереть глаза ватой и кремом, необхо¬
димо снять весь этот кошмар, она выглядит как последняя
проститутка, Эрих решит, что она сошла с ума, но крем
оказался вовсе не для смывки, и господин Карл пришел
в ужас и что-то сказал, только она его не слушала, она
терла и терла себе веки, тут силы ее иссякли, и она разра¬
зилась неудержимыми слезами, тушь побежала вниз, она
вскочила с голубыми и черными потеками на щеках и за¬
кричала:
— Оставьте меня, немедленно дайте мое пальто...
А поскольку в задней комнате висело пе только ее
пальто, но и платье, она побежала туда, сбросила на пол
балахон от «Рене», натянула платье, пальто, а сама все
всхлипывала, всхлипывала, не было у нее сейчас сил вести
1 Накладывать на ночь (англ.).
217
переговоры с госпожой Ивонной и распределять чаевые, а
господин Карл, который помчался за ней, но не смел войти
в дамскую комнату, ждал ее за дверью и взывал:
— Барышня, я вас умоляю, милая барышня, в чем
дело, не могу же я...
Беатрис и не поглядела в его сторону, опа только крик¬
нула:
— Я заплачу в другой раз, я опаздываю! — и бросилась
вниз по лестнице, по господин Карл догнал ее, потому что
она забыла зонтик, а на улице дождь лил как из ведра,
господин Карл хотел еще что-то сказать, только Беатрис,
которая перехватила зонтик, но раскрывать не стала, уже
была у ворот и лишь выкрикнула, пока дождь хлестал ее
в лицо: — Я торчу у вас целых полдня, я убила на вас це¬
лых полдня, я пе могу убивать па вас все свое время.—
Прежде чем опа успела швырнуть ему в лицо «целых пол¬
дня», голова у нее намокла, прическа погибла, но от пред¬
ложенного господином Карлом носового платка она наотрез
отказалась.
— Неужели вы не понимаете! У меня пропал весь
день!
Она пересекла улицу и в ресторане «Линде», в ком¬
нате перед туалетами, разрыдалась в голос, ей вспомнился
Эрих, который уже сидит и ждет, но сегодня он будет
ждать напрасно. Остается только надеяться, что Гугги на¬
конец-то покончила с собой, и тогда он не ждет. Ею вдруг
овладела уверенность, что Гугги покончила с собой, слезы
у нее сразу высохли, и она глянула в зеркало. Полнейшая
катастрофа!
Старушке уборщице она сказала:
— Просто катастрофа, все пропало. Люди такие бес¬
сердечные!
Старушка, обняв ее, проговорила участливо:
— Деточка, деточка!
И Беатрис с великой решимостью ответила:
— Никакая я не деточка, но люди все равно очень бес¬
сердечные! И мне срочно надо стереть с лица эту мерзость!
— Ох, уж эти мужчины,— понимающе сказала растро¬
ганная старушка.
Беатрис не сразу ее поняла, но потом, в угоду старуш¬
ке, которая до сих пор верит в сказки, громко всхлипнула,
чтобы сделать ей приятное и не разочаровать ее:
— Ох, уж эти мужчины!
О ЭТИ СЧАСТЛИВЫЕ ГЛАЗА
Миранда вспоминала: все пачалось с двух с половиной
и с трех с половиной диоптрий, но теперь у нее в обоих
глазах — и в правом и в левом — по семь с половиной ди¬
оптрий, одинаково. Словом, «ближайшая точка ясного ви¬
дения» необычайно приблизилась, да и «самая дальняя
точка» стала ближе. Как-то раз она решила выучить на¬
изусть свой рецепт на очки, чтобы в случае какой-нибудь
аварии, например в случае дорожного происшествия, сразу
заказать новые стекла. Но эту мысль пришлось оставить:
кроме близорукости, у нее оказался астигматизм, который
сильно усложнял запись врача, и этот второй дефект зре¬
ния особенно пугал ее; до конца она так и не поняла, по¬
чему у нее изменена кривизна роговицы и почему свет
в ее глазах преломляется неправильно. Выражения «астиг¬
матизм» и «отсутствие четкости изображения» не сулили
ничего хорошего; с важным видом она говорила Йозефу:
понимаешь, астигматизм, пожалуй, еще хуже, чем сильная
близорукость.
Впрочем, случалось, что Миранда воспринимала свои
глаза как божий дар. Вообще она часто употребляла выра¬
жения, уснащенные словами: бог, небеса, все святые,—да,
ее глаза были даром, хотя, наверно, не божьим, а всего
лишь унаследованным. Миранду поражало, как люди в со¬
стоянии ежедневно видеть то, что они видят, и спокойно
созерцать это; наверно, они не так уж страдали, посколь¬
ку не знали, что другие всё воспринимают иначе. Не ис¬
ключено также, что нормальное зрение, а стало быть, и от¬
сутствие астигматизма, притупляло человеческое вообра¬
жение, и Миранде не стоило упрекать себя за ту привиле¬
гию, за то отличие, которым она обладала.
Вероятно, Миранда не меньше любила бы Йозефа, если
бы каждый раз, когда он улыбался, она видела его по¬
желтевшие зубы. Да, она знала, как выглядели эти зубы
219
вблизи. Но ей неприятно было думать, что они могли бы
постоянно торчать у нее под носом. Миранда примири¬
лась бы и с тем, что в дни, когда Йозеф уставал, под гла¬
зами у него появлялись набрякшие мешки — навряд ли
это ее испугало бы. И все же куда приятней было, что опа
видела все расплывчатым и что всякие мелочи не прино¬
сили ущерба, не умаляли ее любви. Информация шла к ней
по другим каналам, все равно опа мгновенно замечала:
устал ли Йозеф, почему он устал и как он смеялся — зара¬
зительно или вымученно. Ей вовсе не требовалось, чтобы
изображение было столь уж четким, как это требовалось
всем другим, опа никого не мерила взглядом из-под очков,
не фиксировала внешность людей, опа рисовала их себе па
свой лад, пользуясь показаниями различных органов
чувств. Портрет Йозефа ей с самого начала по-пастоящему
удался. Миранда влюбилась в него с первого взгляда, хотя
любой окулист с сомнением покачал бы головой — ведь
первый взгляд Миранды катастрофически искажал дей¬
ствительность. Но Миранда настаивала на любви с пер¬
вого взгляда; с Йозефом у нее было то, чего не было ни
с кем другим,— ей нравились и беглые мысленные набро¬
ски Йозефа, п более тщательно выполненные эскизы па
свету, в темноте, в самых различных ситуациях.
Достаточно было небольшой коррекции рассеивающих
линз — достаточно было нацепить на пос очки в позолочен¬
ной оправе,— и Миранда как бы заглядывала в преиспод¬
нюю. Страх перед адом жизни никогда не покидал ее. Вот
почему она постоянно была па страже и, прежде чем на¬
деть очки, скажем, в ресторане и прочесть меню, осторожно
оглядывалась вокруг; то же происходило и на улице, когда
она хотела подозвать такси: стоило ей пренебречь необхо¬
димыми предосторожностями, как в поле ее зрения попа¬
дало то, чего потом опа уже никогда не могла забыть: ребе¬
нок-калека, карлик или женщина с ампутированной рукой.
И притом эти несчастные были всего лишь самые
яркие, самые бросающиеся в глаза фигуры среди скопища
обездоленных, злобных, богом проклятых существ, среди
физиономий, меченных унижением или преступлением. От
неведомых лучей, испускаемых миром, от этой глобальной
эманации уродства у Миранды выступали на глазах слезы,
она теряла почву под ногами. Вот почему, боясь узреть
окружающее, она торопливо просматривала меню или ста¬
ралась как можно скорее отличить такси от частной ма¬
220
шины, а потом быстро прятала очки; ей была нужна лишь
самая беглая информация. Больше она ничего по хотела
знать. (Однажды, чтобы наказать себя, Миранда весь день
проходила в очках по Вене, посетила самые разные районы.
Теперь у нее не было и и малейшего желания повторить
этот опыт. Поход в очках оказался ей не под силу, а Ми¬
ранде нужны были силы, чтобы справляться с тем мирком,
в котором опа существовала.)
Извинения Миранды из-за того, что она не поздорова¬
лась или не ответила па поклон, многие вообще не хотели
слушать, другие считали пустыми отговорками или же
проявлением высокомерия. Однажды Стази сказала почти
с ненавистью:
— Тогда надень очки!
— Нет и нет, никогда в жизни! —воскликнула Миран¬
да.— На это я никогда не решусь. Разве ты бы носила
очки?
Стази тут же отпарировала:
— Я? А зачем? У меня нормальное зрение.
«Нормальное,—подумала Миранда,—что значит нор¬
мальное?» И не очень уверенно спросила:
— А если я не ношу очки из кокетства? Тебе это по¬
пятно?
Стази не удостоила Миранду ответом и, стало быть, ре¬
шила про себя: мало того, что у этой Миранды сказочное
самомнение, она еще и тщеславна, вдобавок ей сказочно
везет с мужчинами. Конечно, если все, что говорят, прав¬
да. Из ее скрытного Йозефа ничего пе вытянешь.
Миранда сказала Йозефу:
— Стази стала гораздо менее скованной, раньше она
пе была такой милой, наверно, влюбилась, во всяком слу¬
чае, ей в чем-то повезло. А что он, собственно, от нее хо¬
чет — и развода, и ребенка? Для меня вся эта история —
загадка.
Йозеф казался рассеянным, будто пе зпал, о ком идет
речь. Но и он счел, что Стази стала приятней в общении,
почти коммуникабельной; может быть, это объяснялось
врачебными предписаниями Берти, а может, дружбой с
Мирандой и со всеми с ними, ведь Стази была совершен¬
но сломлена, несчастья превратили ее в зануду. Но сейчас
все изменилось — ребенка присудят ей.
Миранда услышала это в первый раз, и услышала от
Йозефа. У нее мелькнуло желание сразу позвонить Стази,
221
порадоваться вместе с ней, но вдруг она ощутила холод,
посмотрела, не открылось ли окно, но окно было закрыто;
Йозеф снова углубился в газету, а Миранда опять устре¬
мила глаза па крышу противоположного дома. На какой
мрачной улице она жила, все эти дома были слишком до¬
рогие п слишком мрачные, не улица, а лобное место, ме¬
сто, где в давно прошедшие времена совершались казни...
Миранда ждала в кафе, пора было уходить, она рас¬
платилась, направилась к выходу и ударилась головой о
стеклянную дверь, потерла лоб — опять вскочит шишка, а
старая еще не совсем прошла, нужен лед, во где достать
лед? Стеклянные двери были еще враждебней людей, ведь
Миранда никогда не расставалась с надеждой, что люди
будут к ней внимательны, как был внимателен Йозеф;
стоя па тротуаре, она уже снова доверчиво улыбалась.
Конечно, опа могла ошибиться: не знала, пошел ли
Йозеф сперва в банк, а потом в книжную лавку, или на¬
оборот; поэтому она встала на Грабене и попыталась раз¬
глядеть Йозефа в толпе, сновавшей по улице, а спустя
немного перешла на Вольцайле, жаль, что все расплыва¬
лось перед ее широко раскрытыми глазами. Она смотрела
то в сторону Ротентурмштрассе, то в сторону Паркринга;
иногда ей казалось, что Йозеф совсем близко, иногда — что
он далеко. Вот он появился на Ротентурмштрассе, подо¬
шел, Миранда обрадовалась, по перед ней возникло абсо¬
лютно незнакомое лицо; она поняла, что это лже-Йозеф, и
отшатнулась. Начала ждать сначала, нетерпение росло. На¬
конец в ее туманном мире, хоть и с опозданием, произошло
нечто, напоминавшее солнечный восход,— серая пелена
раздвинулась, Йозеф пришел, Миранда взяла его под руку
и, счастливая, пошла с ним рядом.
В том сумеречном мире, где Миранда жила, ее интере¬
совало лишь одно — Йозеф, с Йозефом опа вопреки всему
чувствовала себя счастливой. Миранда отвергала точное
зрение, которое могли дать ей сердобольные специалисты
из венских оптических мастерских или их заграничные
конкуренты из фирмы «Зёнгес и Гётте». Отвергала всякого
рода очки — из хрустального стекла, из обычного стекла, из
пластмассы, равно как и самые наииовейшие липзы, встав¬
ляемые прямо в глаза. Правда, она очень старалась, пере¬
пробовала массу стекол, но каждый раз в ней внезапно
что-то восставало: болела голова, слезились глаза — и ей
приходилось отлеживаться в зашторенной комнате, а од-
222
пажды — только ради Йозефа, чтобы сделать ему сюр¬
приз,—опа выписала эти дорогие линзы из Мюнхена и
прочла па счете рекламу фирмы: «Зрячий да все узрит».
Склонившись над черпым платком, повторяя наизусть ин¬
струкцию, ослепшая от обезболивающих глазных капель,
Миранда тщетно пыталась вставить крохотные л низы, но
вдруг одна линза куда-то исчезла — потерялась в ваипой,
проскочила сквозь сток в душе или разбилась па кафель¬
ном полу, а другая застряла под веком, на самом верху
глазного яблока. Несмотря па потоки слез, линза ие вы¬
лезала. Наконец-то пришел Берти, но и оп бился час, хотя
у него были золотые руки врача. Миранда не хотела вспо¬
минать, когда и как Берти обнаружил и удалил линзу.
После этого случая она часто повторяла: я со своей сторо¬
ны предприняла все возможное.
Разговаривая с Мирандой, даже Йозеф забывал иногда,
что Миранда хоть и пе слепая, по, так сказать, «па грани»,
многое из того, что было хорошо известно всем людям, она
пе знала; впрочем, ее неуверенность имела свои преиму¬
щества: Миранда казалась робкой, но на самом деле она
не была слабой, отличалась самостоятельностью, была го¬
това ко всему, ибо четко знала, что творилось в джунглях,
где она жила. Ну а поскольку Мирапда была неисправима,
на время приходилось меняться окружающей действитель¬
ности. По своей воле Миранда увеличивала или уменьшала
тени деревьев и облака, дирижировала ими, любовалась
двумя зелеными заплесневелыми бугорками, так как дога¬
дывалась — это церковь св. Карла. В Венском лесу она не
различала деревьев, а видела лес, глубоко дышала, пыта¬
лась ориентироваться.
— Посмотри-ка, Бизамберг.
На самом деле гора была другая — Леопольдсберг. Но
какая разница? Йозеф — человек терпеливый.
— Куда ты опять подевала свои очки? Ах так, забыла
в машине.
Жаль, что в виде исключения это не Бизамберг, думала
Миранда и молила Леопольдсберг превратиться хоть од¬
нажды в ту гору, которая ей нужна.
Так они прогуливались — женственная и доверчивая
Миранда и оберегавший ее худощавый Йозеф; вот Миран¬
да взяла ближайшее препятствие — вздувшиеся корни. Опа
была женственна не только в эту секунду и не только в
своем воображении. В ней и впрямь все было женствен-
223
ио — от голоса до неуверенных шажков. В этом мире ее
единственным предназначением была женственность.
Покачиваясь в переполненном венском трамвае, в «АК»
или в «БК», Миранда не замечала, что кондуктора и без¬
билетную старуху переполняла неприкрытая ненависть,
что часть пассажиров, проталкивавшихся вперед, была
объята бешенством, а другая часть, не выходившая на сле¬
дующей остановке, бросала испепеляющие взгляды. И ко¬
гда Миранда, беспрерывно бормоча «извините», добралась
до выхода, радуясь, что она вовремя узнала Шоттенринг
и без посторонней помощи нашла ступеньки, она подума¬
ла: в этом трамвае необычайно милые люди. Ну а пасса¬
жиры в «АК», отъезжавшем к университету, вдруг с удив¬
лением почувствовали, что настроение у них улучшилось
и что атмосфера в трамвае разрядилась; и тут кондуктор
вспомнил женщину, которая, как видно, не взяла сдачу —
она сошла либо у Биржи, либо у Шоттенринга. Шикарная
дамочка. Красивые ноги. Сдачу он положил себе в карман.
Миранда часто теряла то, что у других отнимали, она
невозмутимо проходила мимо человека, с которым у дру¬
гого было бы столкновение, а если она на кого налетала, то
оказывалось, что это ошибка, чистая случайность. Миранде
было впору заказывать мессы во здравие всех водителей
машин, которые чудом не переехали ее, и ежедневно ста¬
вить свечку св. Флориану за то, что ее квартира не сгоре¬
ла: ведь, положив горящую сигарету, она тут же теряла
ее, но потом, слава богу, находила, правда, уже после того,
как сигарета прожигала стол. Конечно, досадно, немного
досадно, что в квартире у Миранды была уйма пятен,
масса прожженных предметов и сгоревших противней,
гора прохудившихся кастрюль. Но тем не менее у нее
обязательно все хорошо кончалось; если, к примеру, Ми¬
ранда, заслышав звонок, открывала дверь и на пороге
стоял нежданный гость, незнакомец, ей всегда очень везло:
незнакомец оказывался дядюшкой Губертом или ее старым
другом Робертом, и Миранда бросалась на шею дядюшке
Губерту, Роберту или кому-нибудь другому, столь же
близкому человеку. А ведь это мог быть разносчик или
взломщик, бандит Новак или убийца женщин, который до
сих пор наводит страх на жителей I района; но к Миранде
на Блютгассе приходили только хорошие друзья.
Впрочем, посещая широкие сборища, приемы, театры
и концертные залы, она так-таки не узнавала большинство
224
знакомых; отнюдь не необщительная, Миранда бродила
среди них, либо волнуемая их незримым присутствием,
либо удивленная их предполагаемым отсутствием. Конеч¬
но, она не видела, поздоровался с ней доктор Бухер или по
поздоровался; судя по росту и по полноте, это мог быть и
господин Лангбайн. Ни к какому заключению она пе при¬
шла. Мир этот, где без конца следовало предъявлять алиби
и где все контролировалось, был для Миранды загадкой;
разумеется, она пыталась разгадать не тайны вселенной,
а нечто куда более мелкое: чей силуэт мелькнул вон там —
господина Лангбайна или совсем другого человека? Для
нее это было покрыто мраком неизвестности. Все люди,
кроме Миранды, стремились к ясности, одна лишь Миран¬
да избегала ее. Да, в этом смысле она не отличалась тще¬
славием. Ведь люди подозревали повсюду тайны: в каждом
событии, в каждом человеке, а для Миранды тайна была
лишь в том, что творилось у нее перед глазами. На расстоя¬
нии двух метров мир казался ей непроницаемым, люди —
непроницаемыми.
В филармонии ее лицо было самым безмятежным, вои¬
стину оазисом мира; не менее двадцати жестикулирующих
людей видели ее, но она никого не видела. Она научилась
не нервничать там, где люди разглядывали друг друга,
оценивали, замечали, отмечали, сторонились, списывали
со счета. Нет, она не уносилась мыслями вдаль, она просто
отдыхала. Все люди стремились к душевному спокойствию,
Миранда хотела лишь одного — спокойствия для глаз.
Перчатки ее вдруг тихо сползли и упали под кресло.
Что-то прикоснулось к ее ноге, она испугалась — неужели
она случайно дотронулась до ноги соседа, на всякий случай
пробормотала «извините». Оказалось, что с Мирандой за¬
игрывала ножка кресла. Йозеф поднял программку, Ми¬
ранда нерешительно улыбнулась, попыталась сдвинуть
ноги, держать их прямо. Господин доктор Бухер в действи¬
тельности не был ни господином Бухером, ни господином
Лангбайном, он был господином Копецким, сидел на три
ряда дальше Миранды и обиделся не на шутку, пытаясь
понять, в чем причина невнимательности этой женщины,
ради которой он когда-то был готов на все, почти на все...
Йозеф спросил:
— Ты взяла очки?
— Ну конечно,— сказала Миранда и начала рыться в
сумочке.
8 1034
225
Кроме того, она вспомнила, что вроде бы пришла в пер¬
чатках, по лучше не говорить об этом Йозефу; нет, гово¬
рить не стоит, а с ее очками произошла диковинная исто¬
рия, видимо, она оставила их в ванной или прямо у входа
или забыла в другом пальто; непонятно, как это случилось,
и Миранда скороговоркой сказала:
— Послушай, у меня их нет с собой. Но в концерте
очки не обязательны.
Йозеф промолчал; о Миранде он думал всегда одно и
то же: о мой бесхитростный ангел.
Миранде казалось, что все другие женщины были без-»
упречны. Она не замечала у них усиков над верхней губой,
пе видела волосатых ног; все женщины, по ее мнению,
были только что причесаны в парикмахерской, не имели
пи пор, ни родимых пятен, ни угрей, ни желтых от пико-
тина пальцев, лишь она одна одиноко перебарывала свои
несовершенства у зеркальца для бритья, некогда принадле¬
жавшего Йозефу; в этом зеркале опа видела все то, что, как
она полагала, Йозеф из милосердия не замечал. Но после
того как Миранда наводила на себя критику, она отправ¬
лялась к другому, доброму зеркалу в спальне, к зеркалу
в стиле бидермайер, и находила, что внешность у нее впол¬
не «сносная», «сойдет», не так уж плохо она выглядела;
впрочем, и тут она ошибалась, но такова была участь Ми¬
ранды: для нее существовали десятки возможностей оши¬
биться; ежедневно она балансировала между этими
возможностями, благоприятными и неблагоприятными; так
проходила вся ее жизнь.
В хорошие времена у Миранды было три пары очков —
темные, дорогие очки в золотой, инкрустированной черным
оправе, дешевые, довольно светлые очки для дома и запас¬
ные очки, в которых одно стекло плохо держалось и кото¬
рые, как все утверждали, ей не шли. Кроме того, запасные
очки были, очевидно, заказаны по старому рецепту, Ми¬
ранда видела в них «приблизительно».
Но случалось, что все три пары очков одновременно
терялись, исчезали, проваливались сквозь землю. И тогда
Миранда не знала, что делать дальше. Йозеф приходил
к ней с улицы Принца Евгения уже в восемь часов утра,
ставил квартиру вверх дном, честил Миранду и подозревал
в краже приходящую прислугу и мастеров. Но Миранда
понимала, что никто у нее ничего не крал, она была сама
во всем виновата. Поскольку Миранда отгородилась от
220
действительности и в то же время не могла существовать
без некоторых реальных отправных точек, действитель¬
ность время от времени мстила ей, предпринимала против
нее боевые вылазки. Миранда это хорошо знала и заговор¬
щически подмигивала различным предметам, окружавшим
ее; забавная морщинка, которая у нее обозначилась —
слишком рано обозначилась,— в такие дни становилась
глубже, ибо Миранда напряженно щурилась.
На сей раз Йозеф пообещал немедленно пойти к опти¬
ку, пе могла же Миранда жить без очков; она поблагода¬
рила Йозефа и вдруг боязливо обняла, хотела что-то ска¬
зать; главное ведь заключалась не в том, что он пришел
и пытался помочь ей, а в том, что он помогал ей видеть,
смотреть вдаль. Миранда не понимала, почему ей так пло¬
хо, почему ей хотелось крикнуть: «Помоги же мне!» И без
всякой связи с предыдущим она подумала: «Все дело в
том, что она красивей меня».
В ту неделю, когда Миранда ждала новых очков и сиде¬
ла взаперти, потеряв всякую возможность общения, Йозе¬
фу пришлось дважды повести Анастазию ужинать, чтобы
проконсультировать ее насчет развода. После первого раза
Стази позвонила утром, после второго не позвонила.
— Да, мы пошли к «Римскому императору». Кормят
там отвратительно. И холод ужасный.
Миранда была не в силах ответить — «Римский импера¬
тор» казался ей самым прекрасным, самым лучшим местом
в Вене, в этом ресторане она провела свой первый вечер
с Йозефом. И вдруг он стал таким ужасным.
— Миранда, ты слушаешь? Словом, сперва мы были
в «Императоре». А потом пошли в бар «Эдем». Кошмар.
Ну и публика!
Совершенно очевидно, что публика в баре была гораздо
ниже того уровня, к какому привыкла Стази. Но почему,
собственно? А у Миранды чуть-чуть отлегло от сердца.
В бар «Эдем» Йозеф ее никогда не водил. Слабое утеше¬
ние, но Миранда была рада и ему. Притворялась Стази
или она в самом деле такая? Они проболтали по телефону
еще полчаса; Анастазия сообщала всякие подробности, а
потом заверила Миранду:
— Во всяком случае, ты ничего не потеряла.
Нет, этого Миранда не стала бы утверждать... «Ничего
не потеряла»! Она как раз боялась, что потеряла все. Те
семь дней длились бесконечно, и после каждого из них
8*
227
паступал вечер, а вечером Йозеф всегда оказывался занят.
Но вот наконец очки готовы, пе прошло и пескольких ча¬
сов, как Йозеф принес их; тут-то все и случилось. Совер¬
шенно растерявшейся Миранде пришлось лечь, лежа, она
ждала и высчитывала, когда Йозеф доберется до своей
улицы Принца Евгения. С трудом добилась соединения и
просто не знала, как начать разговор, как рассказать, что
новые очки упали в умывальник.
— Да, слушай, в раковину. Я чувствую себя калекой,
пе могу выйти из дома, никого пе увижу, понимаешь?
Сидя в своем IV районе, Йозеф сказал:
— Прекрасный сюрприз! Но ведь ты часто выходила
без очков.
— Да, по пе так.— Миранда старалась говорить как
можно убедительней.— Да, но не так, сейчас совсем иное
дело, раньше они хотя бы лежали у меня в кармане.
— Нет, не лежали. Прошу тебя!
— Не будем же мы из-за этого...— прошептала Миран¬
да.— Пожалуйста, как ты со мной разговариваешь?
— А как я должен разговаривать?
— По-другому, совсем по-другому.
Не услышав ответа, Миранда быстро сказала:
— Хорошо, милый, я выйду, просто я чувствую себя
так неуверенно, вчера я почти, да, почти, правда не полно¬
стью, потеряла сознание, ужасно, я попробовала надеть
запасные очки. Все «приблизительно», все искажено. Ты
же понимаешь?
Но по молчанию Йозефа было ясно, что он пе понимал.
— К сожалению, я не вижу во всем этом логики,— ска¬
зал совсем другой Йозеф и положил трубку.
Миранда осталась сидеть у телефона. Виноватая. Зачем
она дала повод Йозефу... Повод? Почему очки у меня па¬
дают в раковину? Почему Йозеф и весь мир?.. О боже, это
немыслимо. Неужели в Вене нет других ресторанов? Поче¬
му Йозефу обязательно понадобилось пойти с ней именно
к «Римскому императору»? Неужели Миранде ничего не
осталось, кроме слез? Неужели ей придется всегда жить
в этой мрачной пещере, ходить вдоль полок с книгами,
прижиматься щекой к корешкам? И ко всему еще она
наткнулась на книгу под названием «De ГАшоиг» L
После того как Миранда с трудом прочла первые два-
1 «О любви» (франц.)»
228
дцать страниц, у нее закружилась голова, она начала спол¬
зать с кресла, книга упала ей на лицо, а потом кресло
перевернулось и весь мир погрузился в темноту.
Да, она знала, что очки упали в раковину не случайно;
она все равно потеряет Йозефа, так пусть уж лучше добро¬
вольно. Надо действовать. Нельзя сидеть сложа руки, oiici
сама сделала несколько шажков по пути, ведущему к кон¬
цу,— к тому концу, который она однажды узреет, полу-
ослепшая от ужаса. Ни Йозеф, ни Анастазия пе должны
были знать, что она толкает их друг к другу, уж, во всяком
случае, Стази не должна была знать; поэтому ей придется
придумать для всех какую-нибудь приемлемую, терпимую
версию и заменить этой версией то, что произойдет в дей¬
ствительности. Прежде всего, опа никогда особенно пе
дорожила Йозефом; Миранда уже стала разучивать эту
роль. Йозеф для нее милый добрый старый друг, она будет
рада за пего, она уже давно знала... Одного Миранда пе
знала: что делают сейчас Йозеф и Стази, что замышляют,
как далеко зашли и какой конец ей уготовили.
Миранда позвонила Эрнсту, и спустя несколько дней
тот, ободренный ею, позвонил тоже. Разговаривая со Стази,
она бросила несколько неразборчивых фраз, невнятных
признаний:
— У пас с Эрнстом... Конечно, еще ничего определен¬
ного не скажешь, пет, не скажешь, по, по правде говоря,
все это никогда не прекращалось. Ты же понимаешь, тебе
я могу признаться, для меня это не был один из тех про¬
ходных романов, на которые женщина идет...
Напоследок она пробормотала еще что-то, из чего мож¬
но было заключить, что они с Эрнстом зашли весьма дале¬
ко. Сбитая с толку Анастазия услышала, что Миранда до
сих пор пе сумела справиться со своим чувством к милому
Эрнсту и, главное, что в их городе, где, казалось бы, все
про всех знают, об этом не было известно ни единой живой
Душе.
Договорившись встретиться со Стази, Миранда все уст¬
роила как надо — Стази увидела ее с Эрнстом; нерешитель¬
ный, смущенный Эрнст топтался у парадного, а Миранда
осыпала его поцелуями и, возбужденно смеясь, спрашива¬
ла, не забыл ли он еще, как отпирается входная дверь
у нее в доме.
Стази в деталях описала Йозефу сцену у парадного.
Она видела все совершенно отчетливо; Йозеф не захотел
229
высказывать своего мнения, у него не было желания об¬
суждать с Анастазпей дела Миранды и то, как та обнима¬
лась с милым Эрнстом у своей двери. Йозеф знал — кроме
него, для Миранды никто не существует. Впрочем, на сле¬
дующее утро, приготовляя Анастазии завтрак, он пришел
в хорошее расположение духа. Все, оказывается, не так уж
плохо, Миранда облегчила его положение, Анастазия и
впрямь была очень умная женщина и очень проницатель¬
ная. Он быстро свыкся с мыслью о том, что Миранде нуж¬
ны другие возлюбленные, что в конечном счете Эрнст
больше подходит ей — у них хотя бы общие интересы,
Йозеф даже представил себе Миранду с Берти или с Фри¬
цем; ведь Фриц говорил про нее гадости только потому, что
Миранда не подпускала его к себе, стоит Миранде пома¬
нить Фрица, как он тут же прибежит. Миранда даже при¬
обрела в глазах Йозефа повую привлекательность, выходит,
он ее недооценивал. И когда Анастазия опять завела тот
же разговор, он с некоторой гордостью отметил, что Ми¬
ранда, сердцеедка, сражает всех наповал. Бедняга Фриц
с тех пор запил горькую. В этом, правда, Йозеф был уве¬
рен не так уж твердо, как Анастазия, ведь Фриц выпивал
и раньше. Однажды Йозеф начал вяло защищать Миран¬
ду, но Стази, безжалостно разбирая по косточкам характер
Миранды, пришла к заключению, что у той характера нет,
она всегда разная. То ее видишь в театре в элегантном
туалете, то она опять ходит распустехой, юбка надета кри¬
во, голова по неделям не чесана.
— Ты не понимаешь, у Миранды все зависит от того,
нашла опа очки или не нашла, и потом от того, надела
она их или не надела.
И этой дуре, подумала Стази, он по-прежнему предан.
Впрочем, дура я, потому что возлагала на Йозефа надеж¬
ды, а теперь он сам не знает, чего хочет. Да, чего он хочет?
Все ясно как божий день: эта хитрая, расхлябанная, глу¬
пая, эта... Стази просто не находила слов... Эта Миранда
держит его в руках своей беспомощностью; ведь Йозеф
хочет быть рыцарем, защищать ее, а кто, собственно, будет
защищать меня? Стази заплакала, из ее красивых, нор¬
мально видящих голубых глаз скатились две слезинки в
стакан с апельсиновым соком, после чего опа поклялась
пикогда в жизни больше не плакать, уж, во всяком слу¬
чае, не плакать в этом году, тем паче из-за Йозефа.
А потом со святой Мирандой Йозефа, заступницей всех,
230
кто живет «на грани», произошло вот что: Стази поджари¬
ла ее на медленном огне, разрезала на куски, пронзила на¬
сквозь, испепелила. Миранда физически чувствовала это,
хотя так и не узнала, что с пей сделали. Она не осмелива¬
лась выйти из дома, сидела там со второй парой новых
очков... Нет, она не хотела ходить по улицам. Эрнст при¬
шел к ней на чашку чая, они начали строить планы совме¬
стной поездки в Зальцкаммергут; однажды ее навестил
Берти — хотел узнать, как ее здоровье; Берти сказал, что
у Миранды авитаминоз. Миранда доверчиво взирала па
него, опа была согласна с этим диагнозом, со своей стороны
внесла предложение — есть побольше сырой моркови. Гу¬
сто исписывая длинный рецепт, Берти сказал:
— Кроме всего прочего, это будет полезно для твоих
глаз.
И Миранда с благодарностью ответила:
— Конечно, ты ведь знаешь, самое главное для меня
глаза.
Только на Йозефа она не в силах была смотреть. Отво¬
дила взгляд либо направо, либо налево, либо еще куда-ни¬
будь, устремляя глаза в пустоту. У нее была потребность
заслонить их рукой, ибо до сих пор ее мучило искушение —
с обожанием смотреть на Йозефа. От его притворства у нее
болели глаза; у других людей, наверно, болели бы сердце,
живот, голова, но у Миранды вся боль сосредоточивалась
в глазах — ведь для нее самым важным на свете было ви¬
деть Йозефа. Но каждый день совершалось одно и то же-
она все меньше видела Йозефа. Все меньше и меньше ви¬
дела Йозефа.
Миранда положила кубики льда в стакан Йозефа.
Йозеф, как обычно, сидел у нее, развалившись в кресле, и
все шло, как всегда, только ои говорил о Стази, словно
у них не было иных тем для разговора. Иногда он торже¬
ственно возвещал: Анастазия. Миранда, которой было
очень трудно избегать глазами Йозефа, уставилась на свои
наманикюренные ногти. Все то время, что она была вместе
с Йозефом, Миранда покрывала ногти перламутровым ла¬
ком. Но теперь, когда Йозеф всего лишь небрежно целовал
ей руку, приходя и уходя, теперь, когда он уже больше не
восхищался ее пальцами, не изучал их, следовало, вероят¬
но, отказаться от этого лака.
Миранда вскочила и закрыла окно. Она была сверхвос¬
приимчива к шуму. А с недавних пор этот город заполонил
231
шум — радио, телевизоры, тявкапье молодых псов, шум
маленьких автофургонов, доставлявших товары на дом;
каждый раз Миранда больно ушибалась о стену шума; опа
боялась, что в довершение ко всему еще оглохнет. Но и
тогда, вероятно, она слышала бы все неприятные звуки,
только перестала бы ясно слышать тот единственный голос,
который ей хотелось слышать.
Миранда задумчиво сказала:
— Я все воспринимаю на слух, мне должен поправить¬
ся голос, иначе человек для меня не существует.
Но разве опа не утверждала, будто любит только краси¬
вых людей? Никто не знал стольких красавиц и красавцев,
скольких знала Миранда. Она их к себе притягивала, ибо
для нее красота имела большую притягательную силу, не¬
жели все другое. Если Йозеф ее бросит — а оп уже собрал¬
ся ее бросить,— то Миранда скажет, что Анастазпя куда
красивее ее, что она необыкновенно красивая женщина.
Так она объясняла любые перемены в своей жизни.
(«Понимаешь, Берти? Просто она куда красивее
меня».)
О чем, собственно, Йозеф говорил все это время? Если
Миранда не ошибается, то о ней, наконец-то о ней.
— Это бывает очень, очень редко,— сказал Йозеф.
— Да? Ты так считаешь? — Миранда по-прежнему не
понимала, о чем шла речь. Она теперь все реже прислуши¬
валась к его словам.
— Да,—продолжал оп,—но с тобой это возможно.
Ах вот он о чем говорил; впервые за много недель Ми¬
ранда взглянула на Йозефа в упор. Пусть. И эту ужасную
ложь во спасение она превратит в правду. Но неужели он
сам ничего не понимал? Дружба... Дружба между ней и
Йозефом?
— Да,— сказала Миранда,— хотя дружба бывает не
так уж редко. Не так уж.
Но в душе Миранда была вовсе не столь неземная, как
казалось Йозефу, просто она не могла прийти в себя.
«О боже,— думала она,— какой же он дурак, он круглый
дурак, неужели он так ничего и не понял и не поймет до
скончания века? И почему тот единственный человек, ко¬
торый мне нужен, должен быть именно таким?!»
На концерт они, естественно, пойдут вместе, вскользь
заметил Йозеф. Миранда сочла это не столь уж естествен¬
ным. Но поскольку Стази намеревалась поехать в воскре-
232
сепье к мужу, чтобы из-за ребенка еще раз объясниться
с ним, Миранде осталось это последнее воскресенье.
— Исполняют опять четвертую симфонию Малера? —
спросила она.
— Да пет же, шестую. Я ведь ужо сказал. Неужели ты
не помнишь, что шестую?
— Да, — ответила Миранда. Опа снова обрела силу;
еще раз она услышит вместе с Йозефом Малера, и Стази
не украдет у нее ни звука, даже Йозефа опа не сможет от¬
нять у нее на лестнице филармонии; ведь в воскресепье ей
необходимо «объясняться».
После концерта Йозеф пошел к Миранде, вел себя так,
словно это было не в последний раз. Нет, оп ей ничего но
скажет, пройдет месяц-другой, она все поймет сама; к
счастью, она проявила благоразумие. Оп медленно падевал
ботинки, нашел галстук, с отсутствующим видом завязал
его, поправил; все это он проделывал, не глядя на Миран¬
ду. Потом налил себе рюмку сливовицы, встал у окна и
вперил взгляд в дощечку с названием улицы — «1-я Блют-
гассе». Мой бесхитростный ангел! На секунду он обнял
Миранду, коснулся губами ее волос; он не видел ничего,
не думал ни о чем, кр’оме как о слове «Блютгассе» — кро¬
вавая улица. Почему люди творят такое? Не жалея друг
друга? Зачем я это сделал? Он хотел поцеловать Миранду,
но не смог и сказал себе: казни все еще совершаются; то,
что сейчас происходит, — казнь; то, что я делаю, — зло¬
действо. Мои деяния — злодеяния. А ангел его смотрел,
широко распахнув глаза; взгляд у Миранды был долгий и
вопрошающий, словно она хотела разглядеть в Йозефе
еще что-то, самое сокровенное. А потом в глазах у Ми¬
ранды появилось новое выражение, и оно вовсе убило
Йозефа — Миранда миловала и прощала его. Йозеф знал:
никто не будет смотреть на него таким взглядом, Анаста-
стазия тоже не будет. Невольно он закрыл глаза.
Миранда не услышала, как захлопнулась дверь, она
услышала только, как стукнули двери гаража; где-то да¬
леко в закусочной раздался рев — пьяных выводили па
улицу; по радио зазвучало музыкальное вступление к пе¬
редаче; Мирапде не хотелось жить в этом хаосе звуков,
света и тьмы; с миром ее ничего больше не связывало, кро¬
ме головной боли, от которой все гудело и которая застав¬
ляла ее жмурить глаза; глаза у нее были слишком долго от¬
233
крыты. Что опа увидела напоследок? Она увидела Йозефа.
Они встретились снова в Зальцбурге в кафе «Базар»,
Анастазия и Йозеф вошли вместе, сразу было видно, что
это парочка; Миранда задрожала, потому что Стази пока¬
залась ей не то сердитой, не то несчастной; что это с ней
случилось и что делать Миранде... А потом Миранда, ко¬
торая всегда бросалась навстречу Йозефу, услышала его
голос — он сказал что-то насмешливо-веселое, но, выслу¬
шав его, Стази еще больше помрачнела и направилась к
Миранде. Пока Йозеф стоял со стариком гофратом Перши,
здоровался с Альтепвилями и со всей их бражкой — неу¬
жели он избегал Миранду? — та рывком вскочила и неук¬
люже побежала в своих босоножках к побледневшей Ста¬
зи, а потом быстро-быстро заговорила; лицо у нее чуть
зарделось, опа чмокнула Стази в щеку и покраснела еще
сильней от собственного притворства и от того, что ей
пришлось напрячь всю свою волю.
— Я так рада за тебя и, конечно, за Йозефа, да, от¬
крытка пришла, спасибо, я получила открытку.
Йозеф небрежно, с улыбкой протянул Миранде руку и
сказал «привет», но Стази великодушно воскликнула:
— Как можно, Йозеф, поцелуй же Миранду.
Миранда сделала вид, будто не расслышала этих слов,
отступила назад, потянула за собой Анастазию, зашепта¬
ла, забормотала ей в ухо, краснея все больше и больше:
— Понимаешь... послушай... Какая путаница в этом
Зальцбурге, нет, пет, ничего плохого, но я сразу же долж¬
на Эрнсту... оп неожиданно, сама понимаешь, сообщи
Йозефу поделикатней, ты это умеешь...
Миранда ужасно торопилась, но она заметила, что
Анастазия понимающе кивпула и сразу стала «милой»,
только на лице у нее появился тот же неестественный ру¬
мянец. Возможно, конечно, что лихорадило только Миран¬
ду и что ей просто показалось, будто весь мир покрылся
красными пятнами. Даже в гостиницу она пришла с этой
скарлатинозной сыпыо, с багровым и горячим от стыда
лицом и телом; перед ней была двустворчатая стеклянная
дверь — Мирапда ее видела, не увидела только, что створ¬
ка не поддалась и не отошла, а напротив, налетела на нее;
а потом что-то отбросило Миранду далеко назад и осыпа¬
ло градом осколков, телу стало еще горячей от ужасного
удара и от крови, хлынувшей изо рта и из носа; но напос¬
ледок она еще успела вспомнить: «Зрячий да все узрит».
234
ЛАЙ
Старая госпожа Йордап — вот уже тридцать лет, как ее
звали «старой госпожой Йордан», потому что тогда появи-»
лась молодая госпожа Йордан, а потом еще одна молодая
госпожа Йордап, — жила хоть и в Хицппге, но в ветхом
доме, в однокомнатной квартирке, крохотная кухня и сан¬
узел с сидячей ванной. Ее зпаменитый сын Лео, профес¬
сор, давал госпоже Йордан тысячу шиллингов в месяц, и
она ухитрялась жить на эту сумму, хотя за последние
двадцать лет деньги были настолько обесценены, что гос-»
поже Йордан с трудом удавалось платить пожилой прихо¬
дящей прислуге, некой Агнес, которая «заглядывала» к
пей два раза в неделю для уборки, по делала только «са¬
мую черную работу»; из этой же тысячи шиллингов ста-»
руха откладывала деньги па подарки к рождеству и к
дням рождения сына и внука от первого брака профессора;
первая молодая госпожа Йордан аккуратно каждое рож¬
дество посылала мальчика в Хицинг, чтобы тот забрал
свой подарок; что касается Лео, то его это не интересова¬
ло, он всегда был человек занятой, а с тех пор, как слава
его переросла местные масштабы и стала мировой, дел у
него еще прибавилось. Жизнь старой госпожи Йордан из-»
менилась только после того, как новая молодая госпожа
Йордан начала часто навещать ее. Эта особа была поисти¬
не очень миловидной, приятной и совсем молоденькой;
старуха к ней привыкла и без конца выговаривала: Фран¬
циска, вы совершаете глупость, не надо так часто приходить
ко мне и бросать деньги на ветер, у вас самих достаточно
расходов, и Лео прекрасный сын.
Франциска никогда не являлась с пустыми руками,
опа приносила что-нибудь вкусное и бутылку шерри, иног¬
да сдобу; конечно, она догадывалась, что старая госпожа:
235
Йордан с удовольствием выпивала глоток вина, а то и рю¬
мочку и что для пее было очень важно «иметь кое-что в
доме»: Лео мог зайти в любую минуту, и он не должен
знать, что у нее хоть шаром покати; старуха и так целы¬
ми днями ломала себе голову, как свести концы с концам
ми и как сэкономить на подарки. В квартире у старой
госпожи Йордан была безукоризненная чистота, по там
едва уловимо пахло старостью; сама она ничего не заме¬
чала, но Лео Йордана этот легкий запах быстро обращал
в бегство; кроме того, он вообще не любил терять
времени попусту и решительно не знал, о чем разговари¬
вать с восьмидесятипятилетней матерью. Правда, Фран¬
циске было известно, что время от времени старая госпо¬
жа Йордан забавляла профессора, к примеру, когда он за¬
водил интрижки с замужними дамами, в эти периоды она
не спала ночами и обиняками, но обстоятельно высказы¬
вала свои смешные опасения, она дрожала за жизнь сына
и считала, что мужья дам Лео Йордана — опасные и кро¬
вожадные ревнивцы; старая госпожа Йордан успокоилась
лишь после женитьбы сына на Франциске, у которой не
было ревнивого супруга, подстерегавшего профессора в
кустах, сама Франциска была молодая и веселая, к тому
же сирота, жаль только, что родители ее не имели универ¬
ситетских дипломов; хорошо еще, что брат у нее был с дип¬
ломом. Госпожа Йордан придавала большое значение дип¬
ломам, высшему образованию, хотя сама она среди такой
публики не вращалась, знала о ней лишь понаслышке,
но сын ее, безусловно, мог претендовать на жену из семьи
с дипломами.
Старуха и Франциска беседовали почти исключительно
о Лео, его персона была для них единственной животрепе¬
щущей темой. И Франциске постоянно приходилось пере¬
листывать семейный альбом: Лео в детской колясочке,
Лео на взморье, Лео-подросток на прогулке, Лео клеит
марки и так далее. А потом Лео на действительной
службе.
Благодаря старухе Франциска познакомилась совсем
с другим Лео, не похожим на того Лео, за которого она
вышла замуж; потягивая шерри, госпожа Йордан говори¬
ла: он был сложный ребенок, очень необычный мальчу¬
ган, собственно, уже тогда можно было предугадать, кем
он станет.
Долгое время Франциска с радостью слушала эти рас¬
236
сказы и дежурную фразу о том, что Лео — прекрасный
сын и всегда помогал матери, по потом она заметила, что
в рассказах были белые пятна, в, пораженная, поняла, в
чем дело — старуха боялась сына. Началось все с мелочи.
Госпожа Йордан, считая, что опа ловко темнит и что
Франциска, слепо обожавшая мужа, никогда по разгадает
ее тактики, поспешно и как бы вскользь предупреждала:
по, пожалуйста, пе говорите ни слова Лео, вы же знаете,
какой он беспокойный, оп будет волноваться, только пе го¬
ворите ему, что с моим коленом пе все ладно, из-за чепухи
оп разволнуется.
Однако к тому времени Франциске стало ясно, что Лео
вообще не способен волноваться, и уж, во всяком случае,
из-за матери; поэтому она слушала излияния старухи не¬
сколько рассеянно, впрочем, опа старалась отогнать эти
свои мысли. Насчет колена Франциска, к сожалению, уже
информировала Лео, но поклялась старухе, что не обмол¬
вилась ни словом; Лео сердито воспринял сообщение
жены, а потом примирительно заметил: не может же оп
из-за такого пустяка сломя голову мчаться в Хицинг.
Скажи ей, скороговоркой он произнес несколько медицин¬
ских терминов, скажи, пусть купит такие-то и такие ле¬
карства и пусть поменьше разгуливает и возится по хо¬
зяйству. Франциска безропотно купила все необходимое,
а старой госпоже Йордан сказала, что посоветовалась с
ассистентом мужа — но по секрету, не называя фамилии
больной,— и тот дал эти предписания. Не понимала она
одного: как можно без сиделки держать в постели старую
женщину. Но у нее не хватило смелости еще раз загово¬
рить с Лео, ведь сиделка стоила денег; опа оказалась меж¬
ду двух огней: с одной стороны, госпожа Йордан, кото¬
рая ничего не хотела знать, с другой — Лео Йордан, кото¬
рый не желал ничего слушать, хотя и по совершенно иной
причине.
Во время всей этой истории с воспаленным коленом
Франциска несколько раз солгала мужу: под видом похо¬
дов в парикмахерскую она ездила в Хицинг, поспешно уби¬
рала квартирку госпожи Йордан, привозила старухе вся¬
кую снедь, а однажды даже купила радиоприемник, но
тут ей стало не по себе — Лео не мог не заметить этой
траты, она быстренько переписала все в своей расходной
книге и сняла деньги с собственного счета, там лежали
какие-то гроши, и с самого начала было решено, что эго
237i
неприкосновенный запас, на черный день, который, как
она надеялась, никогда не наступит, а если и наступит, то
будет не очень уж черным. После смерти всех близких
они с братом поделили поровну небольшое наследство.
Кроме денег, у них еще был домик в Южной Каринтии,
постепенно приходивший в ветхость. Франциска вызвала
практикующего врача с соседней улицы, некоторое время
он наблюдал за старухой, врачу опять пришлось запла¬
тить из неприкосновенного запаса, и — что куда серьез¬
ней — врач ни в коем случае не должен был догадаться,
кто опа такая и кто такая старуха. Это повредило бы ре¬
путации Лео, а репутация Лео непосредственным образом
касалась Франциски; старуха была гораздо самоотвержен¬
ней — она вообще не претендовала на то, чтобы знамени¬
тый сын осматривал ее колено. Госпожа Йордан и до бо¬
лезни ходила иногда с палочкой, ну а теперь палка ей по-
настоящему необходима. Случалось, Франциска возила ее
па машине в город, впрочем, делать покупки со старухой
было сущим наказанием. Однажды ей понадобился гребе¬
шок, но таких гребешков, как раньше, не было; старуха
сохраняла вежливость и держалась с большим достоинст¬
вом. Но все равно маленькая продавщица разозлилась: ей
пе понравилось, что госпожа Йордан недоверчиво разгля¬
дывает цены и, не сдержавшись, громким шепотом гово¬
рит Франциске, что здесь просто обираловка, уж лучше
пойти в другой магазин. Не зная, насколько серьезной
была для старой женщины проблема приобретения гре¬
бешка, продавщица надерзила госпоже Йордан, сказала,
что за другую цену та нигде ничего не найдет. Францис¬
ка смущенно уговаривала старую госпожу Йордан; в кон¬
це концов она купила облюбованный старухой гребешок,
который, по мнению той, стоил целое состояние; быстро
заплатив, Франциска сказала, что это рождественский по¬
дарок от нее и Лео, просто они делают его заранее. Цены
и впрямь ужасно подскочили.
Старая госпожа Йордан не произнесла ни слова, она
молча переживала свое поражение: неслыханная обира¬
ловка; раз гребешок, которому раньше красная цена была
два шиллинга, стоил шестьдесят, то она решительно отка¬
зывалась понимать этот мир.
Когда тема «прекрасный сын» была исчерпана, Фран¬
циска начала сводить разговор на саму старуху; до этого
она знала только, что отец Лео рано умер от инфаркта
238
или от удара; смерть настигла его внезапно на лестпице,
и случилось это давным-давно; по подсчетам Франциски,
госпожа Йордан была вдовой уже лет пятьдесят; сперва
она долго работала, чтобы растить своего единственного
сына, потом состарилась. А кому нужны старухи! О сво¬
ем браке она не говорила, упоминала о нем лишь постоль¬
ку, поскольку это было связано с Лео; Лео остался без
отца, и потому у него была тяжелая молодость; занятая
исключительно Лео, госпожа Йордан не соотносила свои
высказывания с судьбой Франциски, которая рано стала
круглой сиротой,— трудная жизнь могла быть только у.
ее сына. Но потом выяснилось, что Лео, собственно, но
так уж плохо жилось; дальний родственник, «этот Иоган-
нес», платил за ученье Лео; в другой связи об Иогаинесо
почти не говорили, Франциска слышала разве что несколь¬
ко осуждающих, пренебрежительных фраз по его адресу;-
денег у этого типа куры не клюют, он совершеннейший
бездельник, сейчас уже пожилой человек со всеми выте-t
кающими отсюда смехотворными последствиями — он, ви-
дите ли, интересуется искусством, коллекционирует Китай-
скую живопись на лаке; словом, тунеядец, какие встре¬
чаются почти в каждой семье. Франциске уже сообщили,
что он был гомосексуалист; единственное, что ее очень
удивляло, это отношение Лео к сему факту, ведь такие
люди, как Лео, уже в силу своей профессии должны были
подходить к различного рода аномалиям совершенно бес-?
страстно, с научной точки зрения, а он обрушивался на
родича и поносил его буквально за все: и за собирание
произведений искусства, и за гомосексуализм, и даже за
то, что Иоганнес унаследовал большое состояние. Но в
ту пору Франциска еще настолько восхищалась мужем, что
его отношение к Иоганнесу хоть и смущало ее, но не вы¬
зывало отрицательных эмоций.
Однажды, когда речь зашла о прежних трудных вре¬
менах, Франциска с радостью услышала от старухи, что
Лео был бесконечно благодарен своему родственнику, по¬
могал «этому Иоганнесу», часто попадавшему в пренепри¬
ятные ситуации, о которых лучше не вспоминать. После
некоторых колебапий старуха приободрилась — как-никак,
она беседовала с женой психиатра — и сказала: вы долж*
ны знать, Иоганпес... сенсуалист.
Франциска взяла себя в руки и подавила смешок; на¬
верняка это было самое смелое заявление из всех, какие
239
старая госпожа Йордан сделала за много лет. С Фран¬
циской она с каждым днем говорила все откровенней; по
ее словам, Иоганнес часто получал советы от Лео, и, само
собой разумеется, безвозмездно; но Иоганнес был, что на¬
зывается, «безнадежный случай», не проявлял воли, что¬
бы измениться к лучшему; поэтому ясно, что такой чело¬
век, как Лео, чувствовал себя оскорбленным, видя полную
неисправимость родственника. Франциска осторожно по¬
пыталась представить себе, какие реальные события скры¬
вались за этим наивным рассказом, но по-прежнему не
могла уразуметь, почему Лео говорил об Иоганнесе так
сердито и недоброжелательно; ей тогда еще не приходило
в голову самое простое объяснение: Лео не хотелось вспо¬
минать о своих обязательствах по отношению к родствен¬
нику, так же как не хотелось вспоминать о матери и о
прежних женах; жены эти были его заклятыми врагами,
и отделаться от них можно было лишь одним способом —
дискредитировать в своих собственных и в чужих глазах.
В таком духе он говорил, в частности, о своей первой
жене — опа была прямо-таки исчадием ада, фурией и со¬
вершенно пе понимала его. Но в полной мере это выяви¬
лось только во время развода, тут ее благородный папаша
нанял адвоката, он пожелал, чтобы часть денег была по¬
ложена па имя ребенка, как раз те деньги, которые семей¬
ство жены дало ему в тяжелое время — во второй тяже¬
лый период его жизни,— он был тогда начинающим врачом.
Франциске сумма показалась пугающе огромной, но, по
словам Лео, от «баронессы» — так он с иронией называл
первую жену — ничего другого нельзя было ждать; вся ее
семейка смотрела па него как на выскочку, совершенно не
желая понять, что он собой представляет; а то, что «баро¬
несса» так и не вышла больше замуж и жила очень уеди¬
ненно, было закономерно. Лео с улыбкой замечал, что вто¬
рого такого дурака не сыщешь, он сам женился на этой
напыщенной гусыне только потому, что был тогда молод,
глуп и беден. С его работой она не считалась, совершенно
пе считалась. Правда, все соглашения, связанные с сыном,
«баронесса» выполняла, сын регулярно посещал Лео, «ба¬
ронесса» воспитывала его в уважении к отцу, но, конечно,
йо одной причине — хотела доказать всему миру, какая
она благородная, других причин Лео не видел.
4 В ту пору Франциска восторженно верила в легенду
о гениальном враче и о его мученическом пути, обильном
Й40
терниями,—это была ее религия, и она без конца рисо¬
вала себе, как он с несказанным трудом, наперекор пре¬
пятствиям, которые чинила эта ужасная женщина — его
жена,— неуклонно поднимался к вершинам славы. Мать
тоже была для него немалой обузой, и материальной и мо¬
ральной, но по крайней мере эту ношу Франциска могла
облегчить. Иначе, возможно, она и не стала бы проводить
все свое свободное время со старухой; однако, думая о
Лео, она воспринимала часы в Хицинге как нечто священ¬
ное, как служение мужу, как знак любви к нему —его
мысли нельзя было занимать ничем посторонним, не имев¬
шим отношения к работе.
Впрочем, Лео был ужасно добр к Франциске, он гово¬
рил, что она слишком усердствует, чересчур заботится о
матери, достаточно время от времени позвонить ей. Не¬
сколько лет назад госпоже Йордан поставили телефон, но
она его не любила и боялась; говорила по телефону с тру¬
дом, слишком громко кричала в трубку и не слышала, что
отвечал собеседник; кроме того, телефон был ей не по кар¬
ману, но этого Лео не должен был знать.
Как-то раз, возбужденная разговором с Франциской и
двумя рюмочками шерри, старуха все же начала вспоми¬
нать прошедшие времена, давно прошедшие, и тут выясни¬
лось, что она тоже происходила из семьи без дипломов, ее
отец работал в маленькой кустарной мастерской в Ниж¬
ней Австрии, вязал перчатки и носки; госпожа Йордан
была старшая из восьми детей, но тем не менее ей улыб¬
нулось счастье — она поступила на службу в одну грече¬
скую семью, к баснословным богачам, у которых был ма¬
ленький сынок, самый прелестный малыш из всех, каких
она когда-либо знала; госпожу Йордан наняли гувернант¬
кой, быть гувернанткой считалось почетным; в этом не
было ничего зазорного; у матери ребенка был свой штат
прислуги, не сомневайтесь; да, госпоже Йордан ужасно
повезло — в те годы было очень трудно устроиться на та¬
кое хорошее место. Мальчика звали Кики, во всяком слу¬
чае, тогда его все так называли.
После этого рассказа старуха все чаще сводила разго¬
вор на Кики, вспоминала о всяких мелочах — о том, что
говорил Кики, какой он был потешный и ласковый, как
они с ним гуляли; и всякий раз, когда речь заходила о
Кики, у нее блестели глаза, но, как только она вспоминала
собственного сына, глаза потухали. Кики был настоящим
241
ангелочком, он не озорничал, не знал, что такое озорник
чать, подчеркивала старуха. Разлука с Кики повлияла па
нее ужасно, от Кики скрывали, что фройляйн уходит, всю
последнюю ночь она проплакала; несколько лет спустя гос-
ножа Йордан попыталась навести справки о той семье —
однажды ей сказали, что семья путешествует, потом — что
она снова поселилась в Греции, а теперь госпожа Йордан
и вовсе потеряла ее из виду, не знает судьбу Кики, сей¬
час ему уже за шестьдесят, да, за шестьдесят, повторила
старуха, погруженная в свои мысли. Уволиться ей приш-
лось потому, что греки собирались предпринять свое пер-»
вое длительное путешествие и не могли взять ее с собой,
по на прощанье она получила от молодой хозяйки дивный
подарок.
Старая госпожа Йордан встала и начала рыться в сво¬
ей заветной шкатулке, йотом протянула Франциске брошь
матери Кики, настоящую драгоценную брошь с брильян-
тами. По сию пору госпожа Йордан спрашивает себя, не
отказали ли ей от места только потому, что молодая жен-<
щина заметила — Кики привязан больше к ней, чем к
родной матери; чувства гречанки можно понять, но для
нее это был тяжелейший удар, она так и не оправилась
ст него за всю жизнь.
Франциска задумчиво смотрела на брошь, наверно,
брошь и впрямь была очень дорогой, в драгоценностях
Франциска не разбиралась, зато она впервые разобралась
кое в чем другом, вернее, у нее шевельнулось подозрение,
что старуха любила этого Кики больше, чем Лео. О детст¬
ве Лео старая госпожа Йордан вспоминала неохотно, иног¬
да начинала рассказывать, а потом сразу со страхом за¬
молкала, быстро добавив: ну, конечно, все это были обыч¬
ные детские шалости, мальчиков непросто воспитывать,
и он делал это не со зла, во всем виноваты трудности
роста, ну да, я хлебнула горя, но зато потом, когда ребе¬
нок вырастает, добивается своего и становится по-настоя¬
щему знаменитым, тебе воздается сторицей; знаете, собст¬
венно, Лео больше походит на своего отца, чем на меня.
Франциска осторожно протянула ей брошь, но тут ста¬
руха вдруг переполошилась, пожалуйста, Франциска, не
говорите об этом Лео, не говорите ему о броши, он ничего
пе знает о ней и может рассердиться; у меня есть свой
план, если я, не дай бог, заболею, то продам брошь, что¬
бы не быть ему еще больше в тягость. Франциска поры¬
242
висто, хоть и боязливо обняла старую женщину. Госпожа
Йордан не должна продавать брошь, ни в коем случае,
пусть обещает, что никогда не сделает этого. Им с Лео
мать вовсе пе в тягость.
Домой Франциска ехала кружным путем, так опа была
взволнована. Бедная женщина думает о продаже броши,
а они с Лео тратят уйму денег, путешествуют, принимают
гостей. Франциска не знала, как преподнести это Лео, ко
внутренний голос предостерегал ее от разговора с мужем,
впервые Франциску охватила тревога, легкая тревога. Ко¬
нечно, многое можно было отнести за счет вздорности ста¬
рухи, многое она преувеличивала, но доля правды в ее
словах, наверно, была. Поэтому, вернувшись домой, опа
ничего не сказала Лео, только весело заметила, что мать
чувствует себя прекрасно.
Перед поездкой в Лондон на конгресс Франциска втай¬
не от мужа заключила соглашение с гаражом, который вы¬
давал напрокат машины и высылал такси, она внесла за¬
даток и накануне отъезда сказала старой госпоже Йордан:
знаете, нам пришла в голову одна идея... Вам не стоит хо¬
дить пешком так далеко, вызывайте такси по телефопу, в
смысле денег это сущие пустяки, один старый пациент
оказал Лео любезность, но не рассказывайте об этом нико¬
му, вы ведь знаете Лео, он не любит, когда его благода¬
рят, словом, отныне, если вам надо кое-что купить, поез¬
жайте в город на машине, вас отвезет господин Пинайдер,
молодой Пинайдер. Кстати, он тоже не знает, что его отец
был пациентом Лео; сами понимаете, профессиональная
тайна. Я только что из гаража: обещайте мне ездить на
машине. Это важно для нашего спокойствия.
Первое время старуха почти не пользовалась такси;
дернувшись из Англии, Франциска пожурила ее за это;
с ногой опять стало хуже, но госпожа Йордан ходила по
магазинам пешком и однажды даже отправилась в город
на трамвае: в Хицинге ничего нельзя было купить.
И Франциска сказала решительным тоном, словно перед
ней был заупрямившийся ребенок: больше она такого не
потерпит.
Вообще их золотая пора — пора разговоров о Кики, о
жизни молодой гувернантки в Вене перед первой миро¬
вой войной, о замужестве — миновала; теперь случалось,
что говорила одна лишь Франциска, особенно если она
приезжала из совместной поездки с Лео; она рассказывала,
243
к примеру, какой великолепный доклад прочел Лео па
конгрессе, оттиск этого доклада он просил передать ма¬
тери, вот он. Старуха с трудом, сильно напрягая зрение,
читала заголовок: «Значение эндогенных и экзогенных
факторов при возникновении параноидных и острых деп¬
рессивных психозов у бывших узников концентрационных
лагерей и беженцев». Франциска заверила госпожу Йор¬
дан, что это всего-навсего предварительная работа, Лео
готовит гораздо более фундаментальное исследование, а
она, Франциска, ему помогает; вероятно, это будет самый
серьезный и первый основополагающий труд в этой об¬
ласти; значение его в полной мере еще невозможно оце¬
пить.
Старуха как-то странно молчала, она наверняка не
могла понять важности работы Лео, скорей всего, вообще
пе понимала, чем он занимается^ Неожиданно опа замети¬
ла: пусть только не наживает себе чересчур много врагов
здесь, в Вене, а потом у него же...
Франциска забеспокоилась, но вслух сказала:
— Иметь врагов почетно, Лео не боится ни провока¬
ций, ни врагов. Для него эта книга — дело жизни, и зна¬
чение ее далеко не исчерпывается чисто научными зада¬
чами.
— Да, конечно,— поспешно согласилась госпожа Йор¬
дан,— Лео сумеет защитить себя, а враги есть у каждого
знаменитого человека. Просто я подумала об Иоганнесе,
впрочем, все это произошло так давно. А вы-то знаете,
Франциска, что перед концом войны Иоганнес просидел
полтора года в концлагере?
Франциска поразилась, она об этом не подозревала, не¬
ясно было также, в какой связи упоминает госпожа Йор¬
дан этот факт. Старуха не хотела ничего больше говорить,
но потом все же кое-что сказала:
— Для Лео было отнюдь не безопасно иметь в те вре¬
мена родственника, который... Словом, Франциска, вы все
понимаете...
— Да, конечно,— заверила ее Франциска.
Однако она понимала далеко не все; иногда старуха
подолгу мусолила какую-нибудь историю и все же чего-
то не договаривала; в тот раз Франциска так и не разоб¬
ралась в обстоятельствах дела, хотя на секунду ее преис¬
полнила гордость: что ни говори, а один из членов семьи
Лео был жертвой нацистов. Гордилась она и тем, что Лео
244
из чувства такта и из скромности не стал ей об этом рас¬
сказывать, не рассказал даже, какая опасность угрожала
ему, в ту пору еще совсем молодому медику. Старуха пе
пожелала больше говорить на эту тему; без всякой связи
с предыдущим она вдруг спросила:
— Вы их тоже слышите?
— Кого?
— Собак,— сказала старуха.— Рапыпе в Хицинге ни¬
когда пе было столько собак, а сейчас я опять слышу лай.
И по ночам они лают. Моя соседка, госпожа Шёпталь, за¬
вела пуделя. Но он редко лает, очепь милый пес. Почти
каждый день, когда я хожу за покупками, я встречаю
госпожу Шёпталь, мы не знакомы, только здороваемся, у
ее мужа нет диплома.
Франциска заторопилась домой в город, на этот раз
она решила спросить Лео — что это значит, почему его
мать вдруг заговорила о собаках, не является ли это опас¬
ным симптомом, наверно, что-нибудь стариковское? И тут
она вспомнила — не так давно госпожа Йордан разволно¬
валась из-за десяти шиллингов, которые будто бы лежали
на столе, а потом, после ухода Агнес, исчезли. И это вол¬
нение из-за десяти шиллингов — их пропажа была, несом¬
ненно, чистой фантазией — также указывало на болезнь;
не могла же прислуга взять деньги; таких, как Агнес, в
известных кругах, в высшем обществе, называли «женщи-
пами старой закалки». К старухе она приходила не столь¬
ко ради денег, сколько из жалости, в деньгах Агпес не так
уж нуждалась, обслуживание госпожи Йордан было с ее
стороны любезностью, и ничем больше. Навряд ли ее
прельщали те смешные подарки, которые старая госпожа
Йордан делала,—иногда она преподносила Агнес потре¬
панную древнюю сумочку или еще какой-нибудь столь же
бесполезный предмет; Агнес давно поняла, что ей нечего
ждать ни от самой старухи, ни от ее сына, а о пылком же¬
лании Франциски все переиначить она не знала; Фран¬
циска долго успокаивала старую госпожу Йордан, уго¬
варивала ее, как ребенка, она не могла допустить, чтобы
из-за каких-то старческих причуд и совершенно необосно¬
ванного подозрения та лишилась необходимой помощ¬
ницы.
Приезжая в Хицинг, Франциска все чаще заставала
старую женщину у окна; теперь они уже не садились
рядышком, не пили шерри и не лакомились сдобой; исто¬
245
рия с собаками продолжалась. И в то же время глухота
у старухи прогрессировала. Франциска была в полной
растерянности, следовало что-то предпринять; конечно,
она оберегала Лео от всех забот, связанных с матерью, но
рано или поздно ему придется подумать о госпоже Йор¬
дан, этого не избежишь.
Однако именно в ту пору между ней и Лео возникло
нечто сложное, и она вдруг поняла, что боится его; как-
то раз за ужином, ощутив в себе прилив прежнего му¬
жества и поборов непонятный страх, она сказала:
— А почему бы, собственно, нам не взять твою маму
к себе, ведь в доме много места, наша Рози всегда была
бы с ней, и ты перестал бы беспокоиться. Старушка та¬
кая тихая, такая непритязательная, она не будет тебе в
тягость, а мне и подавно. Я предлагаю это ради тебя, я ведь
знаю, как ты за нее беспокоишься.
В этот вечер Лео был в прекрасном настроении, он
чему-то тайно радовался. Франциска, правда, не могла до¬
гадаться чему. Все равно она решила использовать благо¬
приятный момент.
Лео ответил со смехом:
— Странная идея, разве ты не понимаешь, сокровище
мое, что старых людей нельзя пересаживать на другую
почву, матери это только повредит, ей нужна самостоя¬
тельность, она сильная женщина, жила одна десятки лет.
Я знаю ее гораздо лучше, чем ты. Здесь она буквально
умрет от страха, хотя бы из-за тех людей, которые быва¬
ют в доме, и, вероятно, будет полдня дрожать, прежде чем
зайдет в ванную, боясь, что кто-нибудь из нас собрался
туда же. Франциска, милая, не делай, пожалуйста, такое
огорченное лицо, твой порыв я считаю трогательным и
заслуживающим похвалы, но, если мы попытаемся осуще¬
ствить эту великолепную идею, мать прямехонько отпра¬
вится на тот свет. Поверь мне, я гораздо лучше разбираюсь
в таких вопросах.
— Ну, а вся история с собаками?..— Франциска даже
начала заикаться. Нет, она вовсе не намеревалась гово¬
рить об этом с Лео, теперь бы она охотно взяла свои сло¬
ва обратно. Просто она потеряла способность толково вы¬
ражать мучившие ее опасения.
— Что? — спросил муж уже совсем другим тоном.—
Она опять намерена завести какого-нибудь шелудивого
пса?
246
— Не понимаю,— сказала Франциска.— О чем ты?..
Неужели ты считаешь, что она хочет взять собаку?
— А если нет, я очень рад, что эта дурацкая комедия
кончилась. В ее годы она не справится с собакой, пусть
лучше смотрит за собой, вот чего я добиваюсь. Собака —
наказание божие, но из-за прогрессирующего одряхления
мать не в силах это понять.
— Она никогда не упоминала ни о чем таком,— робко
возразила Франциска,— не думаю, чтобы она хотела взять
собаку. Я имею в виду совсем иное. Неважно, прости.
Выпьешь рюмочку коньяку? Будешь еще работать? Не пе¬
репечатать ли мне несколько страниц на машинке?
Сидя у старухи в следующий раз, Франциска пе знала,
с какого боку подступиться к ней, чтобы выяснить, в чем
дело, а госпожа Йордан была настороже, и вытянуть из
нее нужную информаций ‘ оказалось трудно. Франциска
начала издалека, заметив вскользь:
— Да, кстати, сегодня я видела пуделя госпожи Шён¬
таль, и впрямь красивый песик. Я очень люблю пуделей,
вообще животных. Ведь я выросла в деревне, у нас всег¬
да были собаки, я хочу сказать, у моих бабушки с дедуш¬
кой и у наших соседей. Собак и кошек держали все. Мо¬
жет, вам стоило бы завести себе собаку или кошку, читать
ведь стало трудновато, конечно, в скором времепи это
пройдет; вот я бы ужасно хотела иметь собаку. Впрочем,
сами понимаете, в городе с собакой хлопот не оберешься и
для самой собаки это не годится, но в Хицинге она может
носиться по саду, ее легко вывести погулять...
Старая женщипа пришла в волнение.
— Собаку! Нет, нет! Я не хочу собаку!
Франциска поняла: она допустила оплошность, вместе
с тем она чувствовала, что старуха не обиделась, как оби¬
делась бы, если бы ей предложили взять попугая или ка¬
нарейку; волнение госпожи Йордан было вызвано чем-то
другим. Помолчав минутку, она очень спокойно сказала:
— Нури была на редкость милой собачонкой, и я с
ней прекрасно справлялась. Когда ж это было? Сейчас
вспомню, прошло, наверно, лет пять. Но потом я отдала
Нури в питомник, словом, в какое-то заведение, где их
перепродают снова. Лео не любит собак. Нет, впрочем, я
не права, все произошло иначе. Эта собака вела себя
необъяснимо, она не выносила Лео, каждый раз кидалась
на него. Стоило ему подойти к дверям, и она лаяла как
247
безумная. Однажды она его чуть не укусила. Лео ужасно
возмутился, совершенно естественно, нельзя держать та¬
кую злую собаку, по с другими опа была совсем не злая,
подпускала к себе чужих. Ну, а потом, я, само собой ра¬
зумеется, отказалась от Нури. Не могла же я допустить,
чтобы собака лаяла на Лео и кусала его. Нет, это уж
слишком. Когда Лео приходит ко мне, ему должно быть
приятно, а тут вдруг его сердит моя глупая собака.
Франциска подумала, что сейчас у старухи уже нет
собаки, которая не выносит Лео и кидается на него, но
все равно Лео приходит к матери чрезвычайно редко, а с
тех пор как Франциска сняла с него эту заботу, почти
совсем не видиг госпожу Йордан. Когда он вообще был в
Хицииге? Однажды они предприняли небольшую автомо¬
бильную прогулку втроем, проехали по Вайнштрассе в
долину Хелепепталь и пообедали вместе с матерью в гос¬
тинице; но, как правило, Франциска приходила одна.
— Только не говорите ничего Лео, эта история с Нури
его очень задела, вы ведь знаете, оп все воспринимает
болезненно. Я до сих пор не могу себе простить, что была
такой эгоисткой и настояла на своем. В том-то и дело,
что старики — ужасные эгоисты. Да, милая Франциска,
вам еще не понять этого, вы ведь такая молодая и добрая.
Но когда человеку очень много лет, у него возникают вся¬
кие эгоистические желания, только им нельзя потакать.
Что бы со мной стало, если бы Лео обо мне не заботился,
отец его умер совсем внезапно и ни о чем не успел поду¬
мать, денег у нас не было. Муж мой оказался немножко
легкомысленным. Конечно, его нельзя назвать мотом,
жизнь у него была не сахар, деньги его не любили, Лео
не в отца. Правда, тогда я еще могла работать, работать
ради мальчика, да и вообще я была молодая. Но на что я
гожусь теперь? Я всегда боялась одного — попасть в дом
для престарелых, Лео этого никогда не допустит. Но если
бы у меня не было этой квартирки, пришлось бы идти в
богадельню, собака того не стоит.
Франциска слушала госпожу Йордан, и все у нее внут¬
ри переворачивалось; про себя она повторяла: так вот в
чем дело, стало быть, она пожертвовала своей собакой из-
за него. Что мы за люди, говорила она себе, не в силах
подумать: что за человек мой муж!.. Какие мы подлецы, у
нас есть все, а старуха еще считает себя эгоисткой!
Пытаясь скрыть слезы, Франциска быстро развернула
248
маленький сверток из магазина «Майнл», она сделала вид,
будто ничего не поняла.
— Ну и бестолковая же я, совсем забыла, что принес¬
ла вам чай и кофе и еще немножко семги и русского са¬
лата. Не очепь-то это сочетается одно с другим, по сегод¬
ня я ужасно закрутилась. Лео уезжает, а рукопись пе го¬
това, все равно вечером оп вам позвонит и через неделю
ужо вернется.
— Ему надо передохнуть,— сказала старуха,— вы
должны заставить его, в этом году вы ведь еще не отды¬
хали.
Франциска оживленно ответила ей:
— Прекрасная идея, постараюсь повлиять на пего. Ко¬
нечно, без маленьких хитростей не обойдешься, по вы
дали мне правильный совет, он постоянно переутомляет¬
ся, надо его время от времени сдерживать.
Франциска не знала, что это был ее последний визит к
госпоже Йордан, да и хитрить ей с Лео уже не пришлось.
События, подобно урагану, подхватили ее, и Франциска
почти забыла о старухе и еще о многом другом.
Госпожа Йордан, пребывавшая в постоянном страхе,
пе спросила по телефону у Лео, почему к ней больше не
приходит невестка. Она беспокоилась, но голос сына зву¬
чал весело и беззаботно. Как-то раз он даже приехал в
Хицинг и просидел у матери минут двадцать. Не прикос¬
нулся к сдобе, не выпил ни глотка шерри; о Франциске
он не вспоминал, зато все время говорил о себе, госпожа
Йордан была безмерно счастлива, ибо он уже давно не
посвящал ее в свои дела. Итак, он уезжает, ему необхо¬
димо отдохнуть, уезжает в Мехико; правда, при этом гео¬
графическом названии госпожа Йордан несколько пере¬
пугалась; по ее мнению, это был город скорпионов, рево¬
люций, дикарей и землетрясений; сын высмеял старуху,
поцеловал ее и обещал писать; он и впрямь прислал не¬
сколько открыток с видами, которые мать с благоговением
прочла. В открытках не было приветов от Франциски. Но
как-то раз Франциска позвонила ей из Каринтии. Эти мо¬
лодые люди буквально бросали деньги на ветер. Весь
смысл телефонного звонка заключался в том, чтобы спра¬
виться о здоровье старухи. Потом они поговорили немнож¬
ко о Лео, но в самые неподходящие моменты старуха кри¬
чала: «Детка, скорее, ведь это стоит денег», однако Фран-»
циска продолжала: наконец ей удалось заставить его от-»
249
дохнуть; а ей пришлось поехать к брату: им надо кое-что
уладить, поэтому она не смогла сопровождать Лео. В Ка¬
ринтии она по семейным обстоятельства. Из-за домика.
А потом старуха получила странное письмо: в конверте
была записка от Франциски — всего несколько сердечных
слов и еще фраза о том, что ей хотелось бы оставить гос¬
поже Йордан эту фотографию, которую она сама сделала:
па фотографии был изображен Лео, наверно, на перевале
Земмеринг, он стоял и смеялся перед входом в большую
гостиницу, а позади был снежный пейзаж. Старуха реши¬
ла ничего пе рассказывать Лео, сам он, конечно, пе спро¬
сит. Она спрятала фотографию в шкатулку под брошь.
Книг она уже больше не могла читать, слушать радио
ей было скучно, ее интересовали только газеты, которые
приносила Агнес. В газеты она углублялась на мпого ча¬
сов, хотя прочитывала одни лишь» извещения о смерти;
когда умирал человек моложе ее, старуха испытывала не¬
которое удовлетворение. Ах вот как! Профессор Хадерер
тоже умер, а ведь ему было не больше семидесяти. Скон¬
чалась от рака и мать госпожи Шёнталь, той уж и вовсе
было лет шестьдесят пять, если пе меньше. Зайдя в мо¬
лочную, госпожа Йордан сухо принесла свои соболезнова¬
ния; па пуделя она так и не взглянула. Потом она опять
направилась домой и встала у окна.
Спала она не так уж мало, хотя говорят, что старики
мало спят; правда, она то и дело просыпалась и слышала
собачий лай. Приходила прислуга, и госпожа Йордан ис¬
пуганно вздрагивала; с тех пор как исчезла Франциска,
ее тревожило появление любого человека; теперь старухе
и самой казалось, что в ней произошла перемена. Впервые
она стала бояться, что внезапно упадет на улице. Или,
делая покупки в городе, потеряет сознание. Поэтому она
послушно вызывала такси, и господин Пинайдер возил ее.
Постепенно госпожа Йордан пристрастилась к этой ма¬
ленькой роскоши, но пользовалась ею только из сообра¬
жений безопасности. Старуха полностью потеряла чувство
времени; однажды, когда сильно загорелый Лео на минуту
заскочил к ней, она никак не могла сообразить, вернулся
ли он из Мехико или, может, он ездил туда уже давным-
давно. Но она была умная женщина, ничего не стала спра¬
шивать и из одной случайно оброненной фразы заключи¬
ла, что Лео приехал из Ишии, путешествовал по Италии*
Она рассеянно сказала:
250
— Хорошо, хорошо. Поездка пошла тебе на пользу.
Он начал ей что-то рассказывать, но тут сразу же зала¬
яли собаки, одновременно лаяло множество собак, совсем
близко. Она была так окружена этим лаем и тихпм-тихим
страхом, что перестала бояться сына. В одно мгновение
улетучился страх всей ее жизни.
Уходя, он сказал:
— В следующий раз я приведу Эльфи, тебе давно
пора с пей познакомиться.
Но старуха не поняла, что он имел в виду. Разве он
был женат не на Франциске? Когда же они расстались?
И какой по счету была его новая жена? Старуха уже не
помнила, долго ли он жил с Франциской и когда именно.
Сыну она ответила:
— Приводи. Хорошо. Надеюсь, для тебя это хорошо.
Вдруг ей почудилось, что Нури опять здесь, у нее, и
что собака вот-вот залает и кинется на Лео. Настолько
близко был лай. Пусть Лео поскорее уйдет, ей хотелось
остаться одной. Но из осторожности и по привычке
она поблагодарила сына, на сей раз он удивился и спро¬
сил:
— За что, собственно? Сегодня я позабыл принести
тебе мою новую книгу. Исключительный успех. Тебе ее
пошлют.
— Большое спасибо, мальчик. Пошли книгу. К сожа¬
лению, твоя глупая мама с трудом читает и навряд ли что-
нибудь поймет.
Лео обнял ее, и она опять осталась одна, отданная во
власть лая. Лай несся из всех садов и квартир в Хицин-
ге; звери наступали на нее, собаки приближались к ней,
а она, как всегда, стояла прямо, но в голове у нее уже не
роились мысли о Кики и его родителях-греках, не вспоми¬
нала она и о том дне, когда пропала последняя десяти-»
шиллинговая бумажка и когда Лео солгал ей; теперь она
напряженно думала, как бы получше спрятать свои дра¬
гоценности; она мечтала выбросить их, особенно брошь и
ту фотокарточку,— не хотела, чтобы Лео нашел что-ни¬
будь после ее смерти. Но она не знала ни одного падеж¬
ного тайника в доме, разве что помойное ведро; жаль, что
она с каждым днем все меньше доверяла Агнес. Помойное
ведро придется отдать прислуге, а у нее возникло подозре¬
ние, что эта особа роется в мусоре и может найти брошь*
Однажды она сказала недружелюбно:
251
— Отдайте по крайней мере кости собакам.
Прислуга с изумлепием взглянула на нее и спросила:
— Каким собакам?
— Я же говорю, собакам,— упорствовала старуха.—
Хочу, чтобы кости получили собаки,— повторила она
властным тоном.
Эта Агнес — подозрительная личность, воровка, скорей
всего, она унесет кости домой.
— Собакам,— сказала она.— Вы что, не слышите меня?
Оглохли? Впрочем, нет ничего удивительного, в вашем
возрасте...
Потом собаки начали лаять тихо, и госпожа Йордан
подумала, может, кто-нибудь отвел их подальше, а то и
вовсе отдал нескольких псов; лай теперь был уже не та¬
кой требовательный, частый и уверенный, как раньше.
.Чем тише лаяли собаки, тем непреклонней становилась
она. Ждала, когда опять начнется громкий лай. Надо уметь
ждать, а она умела ждать. Но вот наконец лай перестал
быть лаем, хотя он, несомненно, исходил от соседских
псов; это было и не тявканье и не рычанье, только время
от времени доносился протяжный, дикий, торжествующий
вой одной-единственной собаки, и все это на фоне отда¬
ляющегося лая великого множества собак.
В один прекрасный день, почти через два года после
смерти сестры, доктор Мартин Ранпер получил от фирмы
Пинайдер счет за пользование такси —каждая поездка
была помечена определенным числом,— соглашение подпи¬
сала госпожа Франциска Йордан, опа же уплатила зада¬
ток; однако очень немногие вызовы были сделаны при
жизни Франциски, большинство поездок состоялось уже
после ее смерти; Раннер позвонил в гараж, счет был для
него загадкой. Объяснение фирмы пе так уж много
разъяснило ему, но, поскольку Раннер пи под каким ви¬
дом не желал звонить своему бывшему зятю, а уж тем
паче встречаться с ним, он согласился в рассрочку опла¬
тить расходы женщины, с которой не был знаком и к ко¬
торой не имел ни малейшего касательства. Он пришел к
заключению, что старая госпожа Йордап — ведь это ее
возил на такси Пинайдер — не так давно умерла; после ее
последней поездки прошло несколько месяцев, но фирма
не заявляла претензий, быть может, из уважения к памя¬
ти старухи.
ТРИ ДОРОГИ К ОЗЕРУ
Повесть
На туристской карте окрестностей
Кройцбергля, составленной ведомст¬
вом по иностранному туризму со¬
вместно с межевой канцелярией
главного города земли Клагенфурт,
год издания 1968, нанесены 10 дорог.
Три из них ведут к озеру: верхняя
дорога № 1, дороги № 7 и № 8. Пред¬
лагаемый рассказ основан на топо¬
графии, поскольку автор относится
с полным доверием к упомянутой
выше туристской карте.
Опа всегда приезжала на вторую платформу, а уезжа¬
ла с первой. За долгие годы господин Матрай вполне мог
привыкнуть к этому; тем не менее он блуждал по второй
платформе в большом смятении и беспокойстве, опаса¬
ясь, что ему дали неверную справку и что время прибы¬
тия поезда не соответствует рремени, указанному в рас¬
писании; он так волновался, словно на этом вокзале всего
с двумя платформами можно было разминуться; ну, а потом
они оказались рядом, и какой-то попутчик уже подал ей
из вагона второй чемодан; она поблагодарила этого чу¬
жого человека с чрезмерной горячностью и в то же время
рассеянно, ведь ей предстояло проделать весь ритуал
встречи — они обнялись, и, как всегда, ей пришлось на¬
гнуться к господину Матраю, но на сей раз ее вдруг охва¬
тило смятение: он стал меньше ростом, не то чтобы усох,
просто стал еще меньше, и в глазах у него появилось что-
то детское и немного беспомощное; она подумала, что он
сильно постарел. Ну конечно, с каждым ее приездом гос¬
подин Матрай становился все старше, но Элизабет никог¬
да этого не замечала; ей казалось, что отец, встречавший
253
ее па перроне, одинаково стар; это повторялось ежегодно,
и ежегодно она испытывала досаду из-за того, что он по
взял носильщика и сам тащит ее багаж; ведь считалось,
что она измучена дорогой и ей нельзя ничего нести; но на
этот раз он был такой старый, что опа не захотела с ним
спорить, не осмеливалась, как обычно, выхватывать у него
из рук чемодан, позволила ему волочить оба своих чемо¬
дана, пусть докажет, какой он сильный и здоровый, пусть
докажет, что ничуть не изменился и что ему ничего пе
стоит поднять любую тяжесть. Только в такси к пей вер¬
нулся непринужденный тон, она начала смеяться и бол¬
тать, как обычно; положила голову к нему па плечо, вре¬
мя от времени бросала взгляд па немногочисленные новые
дома по обе стороны Вокзальной улицы, поглядела и па
дракона посреди Новой площади — он тоже стал меньше:
лишь после того как показалось здание театра и они свер¬
нули на Радецкиштрассе, она вздохнула с облегчением —®
слйву богу, они приближаются к Зеленой аллее, к тому
дому, где она чувствовала себя дома. Да пет же, о дороге
и о том, почему пришлось лететь через Вену, ей сегодня
не хотелось рассказывать, да и об ужасе последних дней
также; самое главное — она наконец здесь; приехала к
отцу, прождав много дней, отправив множество телеграмм,
которые ставили в тупик господина Матрая; если бы она
опять протелеграфировала, что не приедет, он не послушал
бы ее, отправился на аэродром и ждал бы там, а ведь
Элизабет телеграфировала так часто именно для того, что¬
бы он не ездил на аэродром и не дожидался ее.
Она заплатила за такси, и они прошли через сад —-
господин Матрай хотел сразу же продемонстрировать ей
новшества в палисаднике, но она спешила войти в дом.
— Отложим до завтра, пожалуйста,— сказала она.
В доме они направились прежде всего в столовую, ей
необходимо было выпить глоток кофе и закурить сигаре¬
ту; потом она примет ванну и переоденется. Они выпили
кофе, который стоял на медленном огне; кофе потерял
аромат и был довольно жидкий, но все равно показался
Элизабет вкусным — уж очень ей надоел этот английский
обычай с утра до вечера прихлебывать чай; сидя в столо¬
вой, они немного поругали молодых, то есть Роберта и
Лиз, а потом господин Матрай не преминул заметить —
говорил он почти серьезно,— что никак пе поймет, почему
Роберт и Лиз не приехали в Клагенфурт, а помчались в
254
Марокко, ведь что ни говори, а климат в Клагенфурте здо¬
ровей и жизнь дешевле. Разве Лиз не почувствовала себя
здесь хорошо уже в первый свой приезд, бедная сиротка
Лиз, которая не знала семьи и которая наконец поняла,
что значит оказаться под родительским кровом? Элизабет
весьма вяло вступилась за Роберта, в сущности, это не
было предметом для спора и сложных объяснений: опа
не могла представить себе брата в доме на Зеленой аллее,
ведь все эти годы он только и мечтал о путешествиях, и
особенно жаждал их сейчас; что касается Лиз, то та пря¬
мо горела желанием повидать мир, и особенно сейчас; в
этом смысле она была как ребенок; Роберт и Лиз и так
очень уединенно прожили в Лондоне целый год, и все по¬
тому, что оба приходили с работы смертельно усталые,
каждый из них в одиночестве проделывал нескончаемый
путь в метро, а по воскресеньям они сидели в холостяц¬
кой квартирке Роберта, как самая что ни на есть старая
супружеская чета, хотя в ту пору о женитьбе вообще еще
не было речи.
Элизабет вовсе не хотелось говорить на эту щекотли¬
вую тему, она вскочила — пора распаковывать вещи,— на¬
пустила на себя таинственность, никто, кроме отца, не
знал ее такой; пусть наберется терпения. Открыв чемо¬
даны, она еще только-только начала разгуливать по
дому — зашла в свою старую комнату, в ванную на втором
этаже,— но уже от одного этого дом ожил: вернулся «ре¬
бенок»; тот факт, что в доме был не ребенок, а взрослая
женщина, чувствовавшая себя одновременно и гостьей и
хозяйкой, дела не менял. Элизабет старалась управиться
поскорей, приняла душ, а не ванну, накинула халат и
разыскала в чемодане среди книг маленький подарок
отцу — самое важное для нее сейчас; как обычно, подарок
показался ей скромным, даже бедным, но ведь господин
Матрай ни в чем не нуждался, решительно ни в чем, и тем
самым создавал для своих детей большие трудности. Он
раз и навсегда заявил, что ему ничего не надо, и то были
не пустые слова, а истинная правда, отец не принял бы
в подарок ни трубки «данхилл», ни золотой зажигалки, ни
дорогих сигарет, ни галстуков, не принял бы предметов
роскоши, какие покупают в роскошных магазинах; не со¬
гласился бы взять и предметы первой необходимости: ро¬
скошь он пе признавал, а вещи необходимые уже имел и
тщательно хранил — у него было все, начиная от садовых
253
ножниц и лопат до домашней утвари, словом, все, что
еще могло понадобиться человеку его возраста. Отец не
пил, не курил, ему не нужны были новые костюмы, шелко¬
вые платки на шею, кашемировые жилеты и туалетная
вода. Хотя Элизабет приобрела за прошедшие годы прямо-
таки поразительную способность придумывать разнообраз¬
ные подарки для самых разных мужчин, здесь и она пасо¬
вала. Отсутствие потребностей не было причудой отца —
он с этим родился и с этим встретит свой смертный час.
Выражение «смертный час» покоробило Элизабет, она не¬
медленно выкинула его из головы и взяла фотографии; к
счастью, ни одна не сломалась, как хорошо, что у нее наш¬
лась твердая картонка от старой папки, которую давно
пора выбросить. Прежде чем сойти к отцу, Элизабет броси¬
ла испытующий взгляд на фотографии: в Лондоне опа толь¬
ко наспех отобрала их; с ее точки зрения, точки зрения
профессионалки, фотографии были любительские, но изоб¬
ражали они то, что интересовало отца куда больше, неже¬
ли все ее фотоальбомы и фоторепортажи. Она привезла
отцу свадебные фото Роберта, сделанные перед непрезента¬
бельным registry office 1 и перед гостиницей, где молодые
заказали скромное угощение; да, это были традиционные
свадебные карточки с раз и навсегда установленной компо¬
зицией; очень скоро они покажутся такими же старомод¬
ными, как свадебные фотокарточки их отцов и матерей, ба¬
бушек и дедушек. В центре каждого снимка красовались
Роберт и Лиз, Роберт с улыбкой склоняется к Лиз, Лиз с
улыбкой смотрит на Роберта; Элизабет стоит рядом с Лиз,
она почти такого же роста, как брат, тонкая, пожалуй, даже
тоньше, чем молоденькая, хрупкая Лиз. У Элизабет вдруг
опять мелькнула мысль, что, если персонажи на снимках
поменять местами, ее с Робертом вполне можно было бы
счесть за брачующихся, хотя, улыбаясь, она смотрела пря¬
мо перед собой, как и моложавый долговязый парень, друг
Роберта, стоявший рядом с ним. На одну фотографию по
ошибке попал портье гостиницы, на другой были сняты
еще два человека — неродная тетка Лиз и девушка друга
Роберта. Элизабет перетасовала фотографии, ей хотелось,
чтобы сверху лежал тот снимок, где Роберт и Лиз были
одни. Тасуя, она вдруг начала подсчитывать: этот год ско¬
ро пройдет, а в начале следующего ей стукнет пятьдесят,
1 Бюро регистрации актов гражданского состояния (англ.).
256
Роберт моложе ее па шестнадцать лет, Лиз — па тридцать;
от этих цифр никуда по денешься, правда, глядя па фото¬
графии, пе скажешь, что опа годилась бы в матери Лиз: улы¬
бающаяся, опа выглядела как женщина без возраста пли,
скорее, как женщина под сорок. И Филипп — конечно, они
никогда не обсуждали этого — и Филипп, хотя он моложе
Роберта, наверно, думал пли мог думать, что он любит жен¬
щину лишь па несколько лет старше себя. Но сегодня ей
захотелось подсчитать все точно. Пятьдесят минус двадцать
восемь равняется двадцати двум. Между ними была раз¬
ница в двадцать два года. Стало быть, Элизабет годилась в
матери и Филиппу, хотя эта мысль никогда не приходила
ей в голову, да и сейчас показалась дикой. Для Элизабет
все это пе имело значения; важно было только одно — счет
правилен.
Спускаясь по лестнице к отцу, который уже успел вклю¬
чить отопление — несмотря на июль, в этом уединенном
доме было холодно, да и нынешнее лето так и не стало ле¬
том, настоящим жарким летом ее детства,— спускаясь по
лестнице, она старалась прочесть на улыбающихся лицах,
запечатленных фотографом, то неуловимое, что, видимо, ус¬
кользнуло от нее в Лондоне. В Лондоне в воздухе носилось
нечто неопределенное; дело было не в гнетущей сырости и
холоде, пе в моросящем дождике и даже не в том, что все
мерзли в комнатах,— дело было в другом. Но фотографии
молчали; напрасно она вглядывалась в них, как детектив,
который хочет обнаружить важную улику. Куда подева¬
лось ее чутье, ее способность молниеносно выяснять суть,
будь то личный вопрос или вопрос, касавшийся других
людей? Неопределенное было связано либо с Робертом и с
ней, либо с Робертом и Лиз. В Лондоне все смеялись и
шутя говорили, что появилась еще одна госпожа Матрай.
Стало быть, их род не угаснет, поскольку Лиз наверняка
захочет иметь детей, хотя Роберт навряд ли захочет детей,
очень сомнительно, для этого он слишком похож па Эли¬
забет. Нет, он не захочет иметь детей. С недавних пор Эли¬
забет часто размышляла на эту тему, зато Роберт, вероят¬
но, ни разу пе задумывался об этом, правда, с самого детст¬
ва он обладал более безошибочным инстинктом самосохра¬
нения и более ярко выраженным, чем у нее. Она же знала
только, точно знала, что семьи, подобные семье Матрай,
постепенно вымирают; знала еще, что страна эта больше пе
нуждается в семье Матрай, уже их отец был своего рода
9 К2
257
анахронизмом; ну, конечно, и Роберт, и она спаслись на
чужбине, они стали там людьми действия — такими же,
как другие люди в «главных» странах. А теперь благодаря
Лиз Роберт еще больше укрепит свои позиции. Впрочем,
из-за своей впечатлительности они повсюду оставались чу¬
жими; явившись из провинции, они сохранили определен¬
ный духовный склад, чувства и образ мыслей, связанные с
особым духовным миром огромной протяженности. Только
вот настоящих паспортов у них не было, ведь в том мире
пе выдавали паспортов. По чистой случайности и опа, и
Роберт сохранили свое старое гражданство; поселившись в
Штатах, Элизабет сочла, что игра не стоит свеч: чтобы
стать американкой благодаря мужу-американцу, надо было
решиться на утомительные хлопоты, писать прошения.
А после развода ее и вовсе перестало интересовать, кем она
числится на бумаге,— разрешение работать у нее было.
Вообще ни в одной стране с ней не могло случиться ничего
дурного: всегда она находилась под защитой нескольких
друзей, близких или далеких; в Вашингтоне, например,
жил Джек, важная птица, и влиятельный Рихард. Разуме¬
ется, Элизабет только в самых крайних случаях прибегала
к помощи знакомых, да и то пользу из этого извлекали
другие — обычно ее возлюбленные, которые, как правило,
были неудачниками; она являлась для них опорой, и они
нуждались в рекомендациях; разумеется, и Филипп при¬
надлежал к той же категории.
Элизабет разложила перед отцом свадебные фотогра¬
фии, он сообщил, что кто-то звонил из Парижа, звонил
дважды. Это мог быть только Филипп; ну что ж, позвонит
еще раз: наверно, ему что-нибудь надо или он вдруг ре¬
шил сказать ей ласковое слово. Наморщив лоб, отец побла¬
годарил за подарок, за книгу «Дорога в Сараево», на кото¬
рую она случайно наткнулась у букиниста в Лондоне; в
книге были старинные иллюстрации, отец тихо шуршал
страницами, это была книга, прямо-таки созданная для
него. Фотографии он почти пе стал комментировать, толь¬
ко несколько раз подчеркнул, что Роберт выглядит хорошо
и что Лиз в жизни красивее, чем на карточках; он даже
не обратил внимания на то, как молодо выглядит его дочь,
это казалось отцу само собой разумеющимся, и ему ни¬
когда не пришло бы в голову подсчитывать ее годы, как
их подсчитывала сегодня Элизабет. Она была его ребен¬
ком, а дети вечно молоды. Господин Матрай замечал сов¬
258
сем иное, он говорил: «Ты хорошо выглядишь» или «Ты
нехорошо выглядишь», и это касалось исключительно здо¬
ровья его ребенка. Сейчас господин Матрай сказал:
— Мальчику пора было жениться. Уже давно. Теперь
я спокоен.
Элизабет вспомнила, что господин Матрай ужасно сер¬
дился, когда Роберт уверял, будто он никогда в жизни
не женится, ни за какие блага мира; в душе Элизабет
удивлялась, почему отца не беспокоило, что одинока она;
о кратком браке с американцем — она сообщила о нем
отцу уже незадолго до развода — он, видно, забыл, а мо¬
жет, никогда не принимал этот брак всерьез; ведь, по его
мнению, любому американцу что жениться, что развес¬
тись —- раз плюнуть. Нет ничего удивительного поэтому,
что его дочь стала вскоре опять незамужней женщиной.
В письме с сообщением о разводе, которое было подробнее
письма с сообщением о замужестве, Элизабет написала,
что чувствует себя прекрасно, Хыо опа ни в чем не мо¬
жет упрекнуть, развод — самый лучший вариант для пих
обоих, они остались большими друзьями и так далее; все
чинно, благородно, никаких трагедий; может быть только,
она опять переедет в Париж. Ох уж этот Хыо, он так и
не представился господину Матраю; господин Матрай,
правда, умалчивал, что в свое время это показалось ему
просто невероятным, а со стороны Элизабет — явной бес¬
тактностью, но дело не в нем, старике, важно, чтобы она
сама не страдала из-за американца, лично ему все равно.
Письмо Элизабет на самом деле звучало вполне оптими¬
стично. И господин Матрай подумал: я знаю своих детей,
самое главное, чтобы она не страдала из-за этого мистера,
любителя разводов. На поздравления, которые господину
Матраю приносили по случаю свадьбы дочери на улицах
Клагенфурта, он отвечал кратко и отрывисто. А когда гос¬
пожа директорша Хаузер — так господин Матрай ирони¬
чески пазывал эту женщину — задала однажды лицемер¬
ный вопрос об Элизабет уже много времени спустя после
развода, он пренебрежительно разъяснил:
— Я никогда не вмешиваюсь в личную жизнь моих
детей. Кроме того, американский брак навряд ли сочли бы
у нас действительным. В данное время у дочери работы по
горло — опа в Африке. Полагаю, что сын мой впоследст¬
вии будет изучать химию. Вот и все, что я могу сообщить
по интересующему вас вопросу. Честь имею.
9*
259
После этого никто из соседей уже пе осмеливался
спрашивать о личной жизни его дочери, годы шли, и со¬
седи постепенно умирали; давным-давно умерла и та зло¬
вредная госпожа директорша Хаузер — распространитель¬
ница сплетен в их квартале. Теперь господин Матрай
удивлялся, если с ним заговаривали па улице, теперь ему
редко приходилось поднимать голову и вежливо здоро¬
ваться.
Фотографии были пе очень выразительны, и, чтобы
восполнить этот их недостаток, Элизабет начала с жаром:
рассказывать о свадьбе, ведь отец категорически отказал¬
ся впервые в жизни сесть в самолет и в свои семьдесят
семь лет полететь в Лондон па бракосочетание единствен¬
ного сына, в страну, где он не понял бы пи слова и не
смог бы объясниться даже с Лиз. Элизабет предстояло
как-то расцветить эти лондонские дни, придать им то оча¬
рование, которого они были начисто лишены; очень скоро
она разговорилась: уже в первый день приезда все пошло
вкривь и вкось, в Хитроу (Хитроу — аэропорт в Лондоне,
такой же, как Орли в Париже) они с Робертом ждали
ДРУГ друга в совершенно разных местах, неправильно до¬
говорились; Хитроу, между прочим, ужасно велик, кла-
генфуртский аэровокзал, пожалуй, чуть-чуть поменьше бу¬
дет. Ну, а потом она поехала в гостиницу и заплатила
таксисту в два с лишним раза больше, чем следовало.
Роберт хохотал до упаду — его сестрицу, объездившую
весь мир, облапошил простой английский таксист; очень
смешная история, такое не случится даже с простаком
штатником или с африканцем. После они мирно сидели
в узком семейном кругу, все обсудили, подсчитали, сколь¬
ко будет стоить угощенье, что надо купить и сделать до
свадьбы. А Лиз шила; из нее не получилась бы героиня
современного репортажа, такие девушки, как Лиз, теперь
пе в моде; она отшодьпе была представительницей «swing¬
ing London» !, вообще не была представительницей ниче¬
го такого, что должна была бы представлять двадцати¬
летняя девица; опа нигде не вращалась и мечтала только
об одном — не разлучаться с Робертом; до этого опа не
знала ничего, кроме работы, так продолжалось долгие
годы, долгие годы она снимала комнату вдвоем с другой
девушкой, отдельная комната была ей не по карману.
1 Веселящийся Лондон (англ.).
200
В тот вечер Лиз шила пляжное платье для Марокко, а по¬
том они решили позвонить в Клагенфурт и сказать гос¬
подину Матраю, что к «роковому шагу» все подготовле¬
но,— Элизабет пе чинили препятствий, когда она изъяви¬
ла желание стать свидетельницей со стороны жениха, да
и все вообще оказалось не очень впечатляющим (ничего
особенного); Роберт и Элизабет рвали друг у друга труб¬
ку, они уверяли, будто беспрерывно думают о господине
Матрае, а потом они передали трубку Лиз, и Лиз беспо¬
мощно залепетала: «Здрасьте, папа, до свидания»—этим,
пожалуй, исчерпывался ее запас немецких слов. Правда,
Элизабет научила ее говорить «дурень», с тем чтобы в
нужную минуту поставить па место Роберта. И еще Лиз
часто слышала от Роберта «дурачок», но для все это сло¬
во было глубоко интимным, не предназначенным для чу¬
жих ушей ласковым именем. Позже они выпили по круж¬
ке пива, темного пива; Элизабет вдруг задумалась — она
была рада и за брата и за Лиз; даже странно, что Роберт
сделал такой правильный выбор. После пива она будет
крепко спать. На следующий день они с Лиз отправились
за покупками, они пошли к Хэрроду и еще в несколько
универмагов. Лиз, волнуясь, сообщила, что опа никому не
стала рассказывать о свадьбе, то-то удивятся у нее па
работе, ведь она просто взяла отпуск. В универмагах Лиз
по-детски восхищалась всем, хотя покупала то, что значи¬
лось в ее списке, и не позволяла Элизабет сделать ей по¬
дарок, а потом вдруг Элизабет почувствовала себя плохо.
И сейчас на этом месте она резко оборвала рассказ:
— Отец, нам обоим пора спать. У тебя вон тоже гла¬
за слипаются. А завтра я хочу с самого утра пойти в лес.
Очутившись у себя, Элизабет почувствовала, что соп¬
ливость как рукой сняло; опа тихо сошла в кухню и на¬
крыла на стол — пусть господин Матрай хоть раз начнет
день по-иному, позавтракает, как в давно прошедшие вре¬
мена. Но мысленным взором она по-прежнему видела не
семейную идиллию — свежие булочки и кофе по-венски,—
идиллию, похожую па картинку в старом альбоме, а эти
лондонские универмаги-лабиринты. Почему ей, собствен¬
но, стало плохо? Они поднимались и спускались по эска¬
латорам, перед их глазами мелькали сотни тысяч товаров,
и в coffee-shop !, где они встали в длинную очередь за
чашкой кофе и яичницей с ветчиной, ее внезапно обуял
1 Кафе (англ.).
2G1
страх; по счастью, Лиз удалось найти два свободных сту-
ла, и они оказались среди кошмарных старых баб, перед
которыми стояли тарелки с горами пирожных и бутербро¬
дов, старухи с наслаждением уплетали эту несъедобную
пищу и без устали шушукались и болтали, словно сидели
в самом что ни на есть укромном местечке, кое-кто из
этих старух был пе старше Элизабет, но их возраст вос¬
принимался иначе, они казались бесформенными и были
одеты в какие-то балахоны. Элизабет не притронулась к
яичнице; очевидно, она побелела как полотно, потому что
Лиз мягко сказала:
— Я чувствую, ты без сил, тебе необходимо отдохнуть,
Я сейчас же отвезу тебя в гостиницу.
И Элизабет без всяких обиняков ответила:
— Извини меня, но, к сожалению, я просто валюсь с
пог от усталости.
По дороге в гостиницу они размышляли, что можно от¬
ложить на завтра, и Лиз робко сказала:
— Конечно, я понимаю, Лондон — не Париж и не
Ныо-Йорк, мы знаем, сколько у тебя было работы, по-мое^
му, то, что ты приехала,— немалая жертва с твоей сто!?
роны, но без тебя эта свадьба не была бы свадьбой для
Роберта, да и для меня тоже. И еще мне хочется сказать
тебе: я ведь точно знаю, что Роберт на мне не... словом, егб
решение зависело от тебя, и я тебя люблю, но пе только за
это, я по-настоящему к тебе привязана.
Элизабет быстро обняла ее, обняла с искренним чувст¬
вом. В том, что Лиз говорила, была доля истины — Роберт
хотел знать, не возражает ли сестра против Лиз; Элиза¬
бет ничего не стала говорить прямо, но дала понять, чтб
Лиз ей нравится. И вот у нее появилась невестка, по-не¬
мецки это звучало чудовищно, Элизабет предпочитала
английское «sister-in-law», буквально: «сестра по закону».
Что касается разговоров о Париже, то тут надо былд
соблюдать осторожность в оценках; как-то раз Лиз с Ро¬
бертом отправились на воскресенье в Париж, и Лиз на¬
шла, что Париж—«супер». Элизабет выслушала это с
улыбкой, ибо для нее Париж был далеко не «супер», впро¬
чем, и она побывала когда-то в Париже в первый раз, щ
хотя выразилась бы тогда иначе, чем Лиз, этот город по¬
казался и ей чарующим. В ту пору у нее еще не было ощу¬
щения, будто в Париже погребено несколько ее жизней п
множество близких людей. А теперь на всем белом свете
162
не существовало города, с которым у Элизабет не были бы
связа ы тяжелые воспоминания, зато этой милой девчуш¬
ке еще предстоит любоваться десятками городов, она с
восхищением будет их осматривать, и они покажутся ей
«супер».
Завтра утром ей вовсе не обязательно идти по верхней
дороге к озеру, для первого раза это, пожалуй, слишком
утомительно, она может добраться до «Лесной сторожки»
или по крайней мере дойти до часовни. Вот уже много
месяцев Элизабет не дышала свежим воздухом и не гуля¬
ла; господин Матрай знал: стоит Элизабет приехать до¬
мой, как опа начнет «выбегиваться», в город она и носа
не покажет, зато тут же нырнет в лес, который начинается
прямо у их дома. Раньше они часто гуляли вместе, и
даже в последние годы Элизабет отправлялась па вторую
прогулку с отцом, но утренние часы принадлежали ей
одной; господин Матрай говорил, что она носится как
угорелая, этот темп ему уже не под силу.
Почыо Элизабет внезапно вскочила; на секунду ей по¬
казалось, будто она еще в Лондоне, пот, ни отцу, ни Ро¬
берту она никогда не расскажет, как плохо ей пришлось
там, особенно после отъезда молодых; через несколько ча¬
сов после их отлета (она и сама собиралась лететь) ей
Сказали, что с их самолетом что-то случилось; запанико¬
вав, она вдруг решила, что потеряла Роберта. А потом в
конторе авиакомпании при гостинице нельзя было достать
билета, Элизабет не знала, что делать; билеты на все рей-
0ы были давным-давно распроданы; июль, разгар сезона,
В конторе ссылались на наплыв туристов, объясняли, что
каждого самолета дожидаются толпы народа. Словом, ей
пришлось прожить десять дней в этой гостинице; почти
все время она лежала на кровати и читала; иногда запа¬
рывала в номер стакан чаю и бутерброд; откуда-то рядом
без конца доносился шепот — мужские голоса. Однажды
бна увидела, как из соседнего номера вышел пакистанец,
Потом ночью ей показалось, будто в дверь кто-то стучит;
она осторожно попыталась узнать, в чем дело; выяснилось,
что к соседу пришли еще два пакистанца, и опять за сте¬
ной послышался шепот. В коридоре слонялись испанки,
скучные, вялые; еду в номер приносили официанты —
индийцы и филиппинцы, среди них затесался только один
старик англичанин, постояльцы тоже были из Азии и Аф¬
263
рики; в больших лифтах она всегда оказывалась в толпе
молчаливых людей — единственная белая. Да, здесь, рядом
с Мраморной Аркой и Гайд-парком, царили странные
правы. В Азии или в Африке Элизабет никогда не испы¬
тывала тягостного чувства, там она охотно жила одна, а
если и ездила в компании, то старалась отделиться от
всех, ибо ощущала себя женщиной вполне независимой,
ио здесь было иначе, форменная неразбериха, да, неразбе¬
риха: и постояльцы и служащие говорили по-английски,
но в их английском было предельно мало слов, и, когда
кто-нибудь употреблял новое слово, его переставали пони¬
мать; здесь говорили не на живом языке, а на своего рода
«эсперанто»; изобретатель этого международного языка,
наверно, здорово удивился бы, узнав, что его затея увен¬
чалась успехом, правда на другой языковой основе, но все
же увенчалась успехом; Элизабет тоже скоро разучилась
говорить по-английски и каждый раз, когда ей хотелось
купить газету, сигареты или спросить насчет самолета, пе¬
реходила на этот проклятый «эсперанто». Как-то она по¬
шла в бар, решила посмотреть, какие здесь мужчины,
нет ли кого стоящего, но бар немедленно объявили за¬
крытым; здесь вообще все сразу объявляли закрытым, сла¬
ва богу, им разрешили перейти в соседнюю, почему-то
ярко освещенную комнату, которая походила на неудачно
спроектированный конференц-зал; там можно было полу¬
чить глоток виски или стакан пива, по и тут были свои
трудности. Элизабет не знала, как расплачиваться, у нее
не было ни малейшего желания разбираться в английских
денежных знаках; вынув из кошелька несколько монет,
она сказала: «Возьмите, пожалуйста, сколько вы хотите».
Она не понимала, куда исчез тот Лондон, который
хранился у нее в памяти, куда исчезло все, что ей когда-
то так правилось. Ее смущало, что этот огромный город
казался карикатурой па огромный город; с трудом проди¬
раясь сквозь людские толпы па Оксфорд-стрит, она раз¬
драженно рассматривала кучки поющих сектантов. Однаж¬
ды она схватила такси, поехала к Вестминстерскому аб¬
батству и некоторое время спокойно стояла на мосту, а
потом двинулась дальше, прогулялась по другому берегу
Темзы; здесь все было, как много лет назад, и все же ина¬
че. Она пе стала осматривать город, город как таковой
был ей безразличен; она замучилась, ей хотелось уехать,
хотелось домой, в лес, к озеру, и она все время посылала
264
телеграммы отцу, неужели оп пе поймет, что опа по-ду¬
рацки застряла, неужели будет волноваться? Выслушав
множество раз «I am sorry»1 и «I don’t know» 2 — самые
\-потребительные слова в этом их «эсперанто»,— она нако¬
нец-то получила билет па самолет, правда во Франкфурт.
Все равно. Элизабет до того обрадовалась, что прибыла в
Хитроу па час раньше, чем следует, и прождала вечность:
самолет во Франкфурт вылетел с опозданием; во Франк¬
фурте она не сидела сложа руки, а развила бешеную дея¬
тельность и достала билет па Вену, а в Вене сразу поеха¬
ла па Южный вокзал, прибыла туда также чересчур рано
и пошла в комнату при вокзальной миссии, где попросила
у монахини разрешения прилечь: опа боялась, что на плат¬
форме упадет в обморок; в миссии Элизабет без сил плюх¬
нулась на койку, выпила стакан воды; нет, плацкарты у
псе нет, опа прилетела из Лондона, ей ужасно не повезло,
вот к какой чертовщине ведет весь этот прогресс.
Элизабет дала монахипе сто шиллингов, пожертвовала
их миссии, и сестра обещала попросить проводника, чтобы
тот обеспечил Элизабет лежачее место; если Элизабет пе
пожалеет денег на скромные чаевые, все будет в порядке.
У Элизабет отлегло от сердца, наконец-то она услышала
разумные речи; ну конечно, она охотно даст проводнику
на чай, за ней дело не станет. Когда поезд отходил от
Южного вокзала, она только делала вид, будто ей дурно и
она в полузабытьи, зачем разочаровывать проводника?
Чувствовала она себя вполне здоровой, кошмар кончился;
через несколько часов опа будет на знакомом вокзале, а
потом и вовсе дома.
Утром Элизабет проспала — господин Матрай уже ра¬
ботал в саду; она быстро выпила чашечку кофе и весело
окликнула отца:
— Я скоро вернусь, очень увлекаться в первый день не
буду.
Вначале она пошла по дороге № 2, но «наблюдатель¬
ная вышка» ей не понравилась; тогда она выбралась па
дорогу № 1, этот маршрут вел к прудам. Дорога проходи¬
ла, однако, у самого города и была людной: попадалось
много пешеходов и много шумных детишек — неприят¬
ный сюрприз! Зато завтра она предпримет дальнее путе¬
1 Извините (англ.).
2 Я не знаю (англ.).
265
шествие к озеру, можно будет захватить купальник и по¬
плавать.
Вместо обеда они закусили чем бог послал, и отец, как
всегда, удивился тому, что Элизабет с радостью закусыва¬
ет чем бог послал, ведь вне дома опа, по его представле¬
ниям, поглощала изысканные обеды и ужины с шампан¬
ским и икрой; так выходило из ее рассказов, и он ей
верил; рассказы ее прямо-таки пестрели названиями сног¬
сшибательных ресторанов и именами знаменитых, интерес¬
ных людей; все, о чем она сообщала, было правдой, по
зато многое другое опа просто пропускала, очень часто ни
о каком шампанском не было п речи, и дело она имела по
только со знаменитостями, но и со своими коллегами —
простыми смертными; Элизабет не рассказывала отцу ни
о сумасшедшей, напряженной работе, ни о вечной спешке,
о буднях, когда она без конца пила кофе и, давясь, про¬
глатывала бутерброд; не рассказывала о совещаниях, о
чемоданах, которые, едва распаковав, надо было уже сно¬
ва упаковывать; не рассказывала о всяких неприятностях,
отец все равно не понял бы, ведь жизнь господина Матрая
в Зеленой аллее текла ровно, и ход ее только изредка на¬
рушался такими событиями, как телеграммы и письма де¬
тей или как поздравительные открытки из дальних стран;
иногда, правда, раздавались телефонные звонки, звонили
даже в те часы, когда он слушал последние известия...
Одним словом, Элизабет утверждала, что она предпочита¬
ет съесть вместе с отцом несколько сосисок и кусочек
сыра, нежели обедать в Париже в китайском ресторане.
И поскольку господин Матрай не знал китайской кухни,
А слово «Китай» повергало его в ужас, он понимающе
кивал: да, ему все понятно. Сейчас они ходили по саду, и
он рвал для нее первые вишни и черную смородину; шут¬
ка ли, ребенок весь год не ел здоровой пищи, да и ягоды
из'собственного сада не сравнишь с той привозной ерун¬
дой, какую продают па рынке; ничего, господин Матрай
позаботится, чтобы уже через два-три дня у Элизабет был
совсем другой вид. На этот раз она выглядела нехорошо.
Впрочем, ничего удивительного, если вспомнить беспре¬
рывные чаи в Англии; чай — это яд, чай полезен только
во время болезни, когда человек простужен. Но разве мож¬
но пить чай целый божий день? Роберт наверняка разум¬
нее Элизабет, а женитьба и вовсе упорядочит его жизнь.
Жаль, что Элизабет так легкомысленно относится к свое¬
266
му здоровью; конечно, отец гордился успехами дочери,
по к этой гордости примешивалось беспокойство из-за ео
неразумного образа жизни.
После обеда они прошли немного по верхнему шоссе
№ 1, господин Матрай знал лес лучше, чем Элизабет, поэ¬
тому они свернули с пронумерованной дороги и вернулись
домой по проселку, о существовании которого Элизабет
не подозревала; кстати, опа здорово устала — пе привыкла
ходить так медленно, к тому же они опять говорили о бу¬
дущем. А говорить о будущем значило для господина
Матрая делиться своими размышлениями о том, как уст¬
роить дела детей, и допытываться — в который раз,— не
изменила ли Элизабет своего решения насчет дома; Элиза¬
бет пе изменила своего решения, стало быть, дом унасле¬
дует Роберт. Когда господин Матрай останавливался, он
обычно спрашивал: «Докажи, что ты еще пе все забыла:
какой породы эго дерево? И как можно узнать, сколько
ему лет?»
Элизабет привыкла к таким вопросам, но каждый раз
ей было все труднее отвечать па них: природа наводила
на нее скуку, и она никак не могла отличить какой-ни¬
будь там ясень от другого дерева. Даже в заповеднике, в
специальной аллее для школьников, где почти около каж¬
дого дерева красовалась дощечка с немецким и латинским:
названием дерева и было написано, где его родина и ка¬
ковы его отличительные особенности,— даже там она бро¬
сала на дощечки лишь беглый взгляд: ей нравилось хо¬
дить быстро и думать о всякой всячине. В лесу Элизабет
больше всего занимали дороги, перекрестки, развилки и
время, то есть, к примеру, сколько времени следует потра¬
тить, чтобы от развилки 1/4 дойти до вершины Цилль, она
всегда шла быстрее, чем это было предусмотрено в ука¬
зателях, поэтому ее и интересовало время, ей хотелось
знать, сколько у нее уйдет в действительности на тот или
иной отрезок дороги. Без часов она пи за что не углуби¬
лась бы в лес; каждые десять минут она смотрела на
часы и мысленно подсчитывала, сколько времени опа про¬
вела в пути, далеко ли зашла и куда ей двинуться дальше.
В этот вечер она рано заперлась у себя в комнате и
тут же заснула. Наступила разрядка, впервые за долгие
месяцы исчезло то напряжение, благодаря которому она
вообще держалась. Утром она вскочпла первая, пригото¬
вила завтрак, написала несколько строк отцу и пошла по
267
Келлерштрассе, ко второму, более отдаленному ответвле¬
нию дороги № 1. Здесь она никого пе встретила, люди дер¬
жались в черте города, там они прогуливали своих детей
и собак; сейчас в Клагенфурте никто не совершал дальних
походов к озеру, все ездили па машинах, как и повсюду,
впрочем. В детстве опа и Роберт постоянно ходили по
этой дороге с родителями; пи отцу, пи матери не пришло
бы в голову сесть па трамвай, чтобы сократить путь, па
трамвай садились только па обратном пути домой или
спасаясь от дождя; до озера добирались пешком, семья
Матрай избегала большого курортного пляжа, они шли
дальше к маленькому курортному городку Бад-Мария-
Лоретто. В сознании Элизабет озеро и Лоретто были не¬
разрывно связаны, хотя позже, молоденькой девушкой,
она увиливала от семейных походов, они казались ей чем-
то обременительным, ненужным, тягостным; охота к пе¬
шим прогулкам проснулась в ней только после того, как
те самые города, которые она считала до поры до времени
«супер», заставили ее иными глазами взглянуть на кла-
генфуртский лес — она поняла, что это единственный кло¬
чок земли, где царит тишина, где ее никто не понукает,
не старается использовать в собственных интересах и где
за Heii не гонятся, пытаясь вручить телеграмму или
предъявить претензию.
День был пасмурный; через руку она перекинула ста¬
рый плащ, на ноги надела старые ботинки — уезжая, Эли¬
забет всегда оставляла их в Клагенфурте, но сегодня она
забыла надеть па тонкие чулки носки брата или отца, и
ботинки терли ей ноги, она шла медленно, спотыкаясь.
Нельзя сказать, что она знала этот лес как свои пять
пальцев, каждый раз ей приходилось заново изучать кар¬
ту, и все потому, что Элизабет пе ведала ностальгии, не
ностальгия заставляла ее приезжать домой, здесь по-преж¬
нему ее ничто особенно не привлекало, опа являлась до¬
мой только ради отца, Элизабет, так же как и Роберту,
это казалось совершенно естественным.
Но вот когда опа впервые собралась в Вену и поступила
работать, ее буквально лихорадило — тревожно, нетерпе¬
ливо мечтала она о дальних странах; она работала так
много и хорошо только потому, что надеялась заработать
чудо, а чудом для нее были путешествия. Вначале никто
вообще не знал, выйдет ли из нее что-нибудь путное, а
268
потом благодаря недюжинной энергии Элизабет поступила
в один из тех иллюстрированных журналов, которые вы¬
растали после войны как грибы после дождя и вскоре за¬
крывались; в редакции журнала опа названивала по теле¬
фопу и стучала па машинке; прошло немного времени, и
ей стали поручать короткие репортажи; конечно, она пе
догадывалась, что у нее пет особого журналистского дара,
впрочем, этого никто пе замечал, ведь и другие писали
не лучше. Л Элизабет так сияла и так старалась, что у
нее появилась репутация способной; всех она знала, бе¬
гала как одержимая с фоторепортерами, трудилась над
очередным «story» 1 или сочиняла тексты к фотографиям;
число людей, которых опа знала, росло, росла и ее попу¬
лярность. Правда, она ничего толком не выучила и време¬
нами с отчаянием думала, что ей все же надо поступить
в университет, по для университета было уже поздно, и
потом она, наверно, и впрямь родилась под счастливой
звездой: она так молниеносно все схватывала, что ее счи¬
тали образованной, хотя на самом деле знания у нее были
в высшей степени поверхностные, она знала обо всем по¬
немногу, ловила па лету то, что в данное время считалось
важным и что некоторые из ее друзей изучили доскональ¬
но. А позже она случайно отправилась в поездку с фото¬
графом, который по дороге заболел; беспокоясь за судьбу
очередного страшно нужного «story», она сама начала
фотографировать и опять же неправдоподобно быстро все
усвоила. Именно тогда по воле случая Элизабет нашла
свое призвание — оказалось, что опа гораздо лучше фото¬
графировала, нежели сочиняла; но в ту пору опа еще не
догадывалась, что с помощью фотоаппарата достигнет мно¬
гого и пойдет очень далеко. Окончательно все это выясни¬
лось, когда западногерманский фоторепортер Билли Флек-
кер, который в то время приобрел громкое имя, а потом
так же быстро потерял его, приехал в Вену и, поработав
немного с Элизабет, забрал ее в Париж, где и довершил ее
обучение. В Париже Флеккер познакомил Элизабет с Дю¬
валье — единственным выдающимся фотожурналистом,
сумевшим сохранить мировую славу па протяжении дол¬
гих лет.
Дювалье проникся симпатией к маленькой tyrolienne 2,
как он в шутку ее прозвал. Элизабет, которая начала бук-
1 Здесь: репортаж (англ.).
2 Тиролька (франц.).
269
гально с пул л, с захудалой венской редакции, очень скоро
стала сопровождать старика в путешествиях; сперва она
совмещала в одшхм лице ассистентку, ученицу и секре¬
таршу Дювалье, потом превратилась в его непременную
сотрудницу. И bgt детские грезы, посещавшие Элизабет
в Вене, перестали быть грезами, сбылись, обернулись ре¬
альностью, потрясшей ее самое. Вместе с Дювалье Эли¬
забет объездила Иран, Индию, Китай, а когда они возвра¬
щались во Францию и заканчивали очередную книгу, он
устраивал себе и ей отдых — хотя был самым одержимым
тружеником, какого она знала, и умел с одержимостью
выжимать из нее последние соки — и знакомил с людьми,
которые, по мнению господина Матрая, составляли «выс¬
ший свет». Пикассо, Шагал, Стравинский, Хаксли и Хе¬
мингуэй, равно как и Черчилль, перестали быть для нее
просто громкими именами, она узнала этих людей, и не
только фотографировала, но и ходила кое с кем из них в
рестораны, иные даже звонили ей домой. После того как
осторожный, а возможно, втайне не столь уж доброжела¬
тельный Дювалье позволил ей сделать несколько важных
знакомств, Элизабет поняла, что лучше иметь три туалета
от Баленсиаги или от какого-нибудь другого знаменитого
портного, которого она короткое время занимала и кото¬
рый изучал и подчеркивал ее индивидуальность, нежели
купить себе двадцать дешевых платьев; правда, в ту пору
Элизабет была всецело поглощена работой и думала толь¬
ко о том, чтобы совершенствоваться, но все же у нее по¬
явился свой стиль,— она стала «классной женщиной», как
сказал ей один немецкий друг, ибо теперь она носила
только то, что было как бы создано для нее, и работала
только над тем, что было создано для нее.
Из тощей дылды — молодой Матрай,— которая в Вене
не пользовалась успехом, она превратилась в определен¬
ный «тип» женщины — много позже этот тип начали счи¬
тать интересным и привлекательным. Но в Вене Элизабет
не повезло, все ее знали, однако мужчины смотрели на
нее как на пустое место. Элизабет уже стукнуло двадцать
три, а опа все еще была близкой приятельницей извест¬
ных людей, не вызывавшей ни капли ревности у их жен
и возлюбленных; и тут она решила прекратить эту неле¬
пость. Некоторое время она колебалась, не зная, кого вы¬
брать: Лео Йордана, который был молодым многообещаю¬
щим врачом, или Гарри Гольдмана, который не был вра¬
270
чом, но зато имел репутацию покорителя женских сердец,
в конце концов опа остановилась па Гольдмане, он ей
больше нравился. Она сделала свой выбор спокойно и
хладнокровно, а через несколько месяцев один ее знако¬
мки! проболтался, п она узнала — актриса X сказала это
своему другу Y, а тот пересказал Z — поклоннику Элиза¬
бет,— что она «совершенно холодная женщина, но пре¬
лестное создание». Все это Элизабет выслушала без осо¬
бого волнения, хоть и удивилась такой характеристике,
возможно даже правильной; навряд ли о ней сплетничал
Гольдман, скорее эго шло от кого-нибудь другого, с кем
опа встретилась раза два-три. Но откуда эти мужчины
знали, что она отправлялась к ним на свидание с тем же
чувством, с каким человек идет удалять аппендикс? Не то
чтобы этот человек чрезмерно беспокоился, но и энтузи¬
азма он тоже не испытывал, хотя верил, что опытный хи¬
рург (в случае с ней это был опытный мужчина) легко
справится с такой пустячной операцией. Она пе хотела
притворяться и обращалась с Гольдманом и с другими лас¬
ково, но спокойно, по-дружески; пет, она пе стала бы раз¬
рушать чужие браки и связи, вешаться па шею любовни¬
кам, надоедая им своими претензиями и чувствами, она
начисто забывала то, что происходило с ней накануне ве¬
чером или днем. Только встретив в Париже Тротту, Эли¬
забет так изменилась, что перестала понимать и свои вен¬
ские романы, и свое тогдашнее поведение. Неужели это
она безучастно лежала в постели, считая, будто оказывает
милость любовнику, ничуть не сомневаясь в том, что для
него это — милость? Непостижимо! Уже в первые часы
знакомства с Францем Йозефом Троттой у нее была одна
мысль — пусть он смилостивится над ней, опа тревожи¬
лась, металась, все силы она направила па то, чтобы за¬
воевать и удержать его, а потом бросила эту игру — разве
можно заинтересовать столь необычного, гордого человека,
ведь сама она казалась себе теперь такой неинтересной;
его ирония ставила ее в тупик: минут пять она истолко¬
вывала эту иронию лестно для себя, последующие пять
минут — нелестно.
В те первые дни, когда она искала Тротту и бежала от
него и когда он искал ее и бежал от нее,— в те первые дни
кончилась ранняя юность Элизабет и началась ее большая
любовь. Правда, оглядываясь назад, опа вспомнила, что
считала своей большой любовью другую большую любовь,
271
по сейчас, спустя двадцать с лишним лет, идя по верхней
дороге № 1, опа понимала, что ее настоящей большой
любовью был Тротта; хотя чувство к нему оказалось не¬
понятным п трудным, омраченным обидами, ссорами, вза¬
имным непониманием и недоверием, по кто, как пе оп,
оставил в ее жизни неизгладимый след, и пе в обычном
мещанском понимании, не потому, что разбудил в neii
женщину — в то время и другой мог бы разбудить в нен
женщину,— а потому, что благодаря Тротте она многое
постигла; и тут сыграло роль его происхождение и то, что
по своей природе оп был изгоем, человеком пропащим; ее,
искательницу приключений, которая ждала от жизни не¬
весть каких чудес, оп также превратил в изгоя; даже
после своей смерти оп медленно толкал ее в пропасть, от¬
чуждая от чудес, учил понимать, что быть всюду чужой —
ее судьба.
Вот что было самым важным в их связи; впрочем, к
этому прибавился еще спор о том, что считать самым важ¬
ным, по в ту пору Элизабет не так уж прислушивалась к
словам своего возлюбленного. Тротта происходил из леген¬
дарного рода \ который «не смог перейти через это», и
объяснил ей, что и его отец также принадлежал к людям,
переставшим понимать свою эпоху и под конец спраши¬
вавшим: «Куда мне теперь деваться, ведь я Тротта?» А в
1938 году1 2, когда мир снова оказался на краю гибели, он
был одним из тех, кто совершил паломничество к Склепу
капуцинов3, и даже зная цену словам «Господи, спаси
императора...»4, так или иначе способствовал во времепа
оны свержению династии Габсбургов.
И все же самое важное заключалось в том, что скептик
Тротта заставил Элизабет усомниться в важности ее про¬
фессии. Тогда, после смерти Дювалье, она работала в луч¬
ших французских еженедельниках. Но Тротта по каплям
1 Три поколения семьи Тротта — персонажи известных книг
австрийского писателя Йозефа Рота «Марш Радецкого» и «Склеп
капуцинов» — представители австрийского рода, изучая который
писатель прослеживает историю Габсбургской монархии. И. Бах-
мап делает своего героя отпрыском той же семьи, но ужо вырож¬
дающейся.
2 В 1938 г. произошел так называемый «аншлюс» — оккупация
Австрии гитлеровской Германией.
3 Склеп капуцинов — склеп в подземелье церкви Ордена капу¬
цинов в Вене — место захоронения Габсбургов.
4 Начальные слова гимна бывшей Австро-Венгерской империи.
272
вливал в нее яд, заронил в ней первые сомнения в пра¬
вильности избранного пути. Как-то раз она пришла к нему
расстроенная, обливаясь слезами: один из ее друзей, ко¬
торого опа, однако, пе так уж хорошо знала — у нее всег¬
да была масса друзей,— один из ее друзей погиб в Буда¬
пеште во время контрреволюционного мятежа, упал под
пулями с фотоаппаратом в руках. Опа плакала, а Тротта
упрямо молчал. Позже Элизабет, ее редакция и лучшая,
честнейшая часть Франции потеряли в Алжире трех фо¬
торепортеров п одного журналиста, а в Суэце — двух жур¬
налистов. И тогда Тротта сказал:
— Выходит, война, которую вы фотографируете, чтобы
развлечь людей за завтраком, не щадит и вас. Уж пе знаю
почему, но я не в силах оплакивать твоих друзей, не про¬
лью по ним ни слезинки. Человек бросается в самое пекло,
чтобы привезти домой два-три удачных фото, па которых
видно, как умирают другие... При эдаком спортивном
азарте не мудрено погибнуть самому, не нахожу здесь ни¬
чего особенного. Профессиональный риск, и только.
Элизабет оторопела, ведь она и ее друзья делали самое
важное дело на земле — благодаря им люди узнавали, что
происходит в мире. Людям необходимо было показывать
такие фотографии, чтобы «вывести их из спячки». Тротта
удивился:
— Ты уверена, что необходимо? Они нуждаются в
этом? Многие и без вас представляют себе, что такое не¬
счастье, а другие снова впадут в спячку. Неужели ты ду¬
маешь, что, не увидев на снимках разрушенные деревни и
трупы, я не пойму, что такое война, или, не увидев этих
индийских детей, не пойму, что такое голод? Какая само¬
надеянность с вашей стороны! Все равно человек равно¬
душный перелистывает эти ваши прекрасные репортажи
либо как эстет, либо с отвращением, все зависит от каче¬
ства снимков, ведь ты сама говоришь, как важно качество,
да и посылают тебя повсюду только потому, что твои фо¬
тографии хорошего качества. Разве нет? — спросил он с
чуть заметной издевкой.
Несмотря на растерянность, Элизабет спорила с жа¬
ром, умно, и все же у нее было такое чувство, будто она
теряет почву под ногами. Однажды она упрямо сказала:
— Ты должен наконец попять: для меня это вопрос
жизни, и, чтобы доказать тебе, я сама туда поеду, поеду во
имя своих убеждений, попрошу Андре — пусть пошлет
273
меня в Алжир, хотя оп всегда возражал против моей по¬
ездки. Но почему мужчины могут работать там, а я не
могу? Во всех других профессиях уже пе делают различия
между мужчинами и женщинами. Давно не делают.
В ту пору Тротта относился к пей особенно — любил ее
с каким-то отчаяньем, боязливо, словно предчувствуя, что
потеряет. Раньше страх примешивался к ее любви, теперь
они поменялись ролями. Тротта просил ее пе уезжать:
— Не надо, Элизабет, пе уезжай, ты совершишь ошиб*
ку, мне ясно, что ты хочешь сказать, все равно твой по¬
ступок — чистая бессмыслица, когда-нибудь ты сама пой¬
мешь. Ни ты, пи твои друзья не могут прекратить войну,
все равно вы никогда ничего не добьетесь, я вообще не
могу постичь, как люди смотрят на эти оттиски, да нет
же, не на сами оттиски, а на реальную жизнь, превращен¬
ную фотографией в самую что ни на есть ирреальную;
нельзя разглядывать мертвецов ради того, чтобы подстег¬
нуть свое воображение. Как-то раз в Судане я заметил, что
повсюду висят надписи — конечно, надписи для белых,
ведь белые лишены стыда,— под угрозой большого штрафа
в Судане запрещалось фотографировать «human beings» L
Я все забыл — и Нил, и прочую экзотику,— не мог забыть
только эти надписи.
Но Элизабет по-прежнему настаивала на важности сво¬
ей работы и работы своих друзей, на важности их споров,
их деятельности — ведь они заступались за всех, кому
угрожала опасность, и перебрасывали алжирцев через гра¬
ницу, перебрасывали их в какую-нибудь безопасную стра¬
ну, главным образом в Италию. И все же под влиянием
Тротты ее отношение к работе несколько изменилось; до
тех пор голова у нее была забита текучкой и в отличие от
Тротты она никогда не задумывалась над разными пони-*
маниями справедливости и несправедливости, весьма зыб*
кими, кстати. Но теперь Элизабет стало казаться, что в ее
работе заложено нечто порочное и что Тротта, который
кругом не прав, в одном вопросе был прав: между фотогра¬
фиями, где запечатлены люди, выпавшие из окна, круше-*
ния поездов, плачущие матери и жуткие slums1 2, и между
фотографиями, которые они делали па полях сражений, не
ощущалось такой уж огромной разницы; конечно, войну
1 Человеческие существа (англ.),
2 Трущобы (англ.).
274
обслуживали сотни репортеров, но, не будь этого, снимки
при желании удалось бы легко подделать: ловкие жулики
фабриковали бы их так же, как поддельные картины,— не
боясь неудач, веря в свое мастерство. За редкими исключе¬
ниями, фотосерии в журналах пе были фальшивками, и
все же Элизабет смотрела на них иначе, чем раньше. Осо¬
бенно ее смущали последние фотографии молодого Пед¬
риччи; вскоре после их опубликования Педриччи вместе с
несколькими алжирцами и одним французом погиб от взры¬
ва; и алжирцы и француз остались в тени, пресса знала
только Педриччи; после смерти о нем много писали.
Тротта без устали высмеивал и Элизабет, и ее юную
упрямую веру:
— Пусть люди читают, па здоровье, но ведь им извест¬
но все наперед, для этого не надо заглядывать в газеты.
Ты же сама читаешь сообщения о пытках, хотя давно зна¬
ешь об их существовании, заметки похожи одна на другую,
и тебе заранее известно, что они правдивы, что пытки бес¬
человечны, что им надо положить конец. И все же, уве¬
рен, тебе хочется сфотографировать пытки, пусть еще сот¬
ни тысяч посмотрят на то, как мучают людей. Но инфор¬
мация как таковая еще не меняет дела.
Элизабет бросила ему в голову книгу, которую держа¬
ла в руках, но промахнулась, книга лишь задела плечо
Тротты.
— Ты все понимаешь превратно,— Тротта обнял ее,
потряс,— эдак не годится, не годится. Я хочу сказать, про¬
сто так показывать людям страдания других людей — не¬
простительно, безнравственно, подло. Да и зачем показы¬
вать? Чтобы некий господин отставил на секунду свою
;чашку кофе и пробормотал: «Ах, какой ужас!»? Или чтобы
другие господа на выборах отдали свои голоса другой пар¬
тии? Но они и без того проголосовали бы за другую пар¬
тию. Нет, дорогая, не я считаю всех людей в корне испор¬
ченными, не желающими ничего понять, пропащими. Это
Ты видишь их такими. Иначе ты бы поняла, что людям
нужны заповеди, а не фоторепортажи и не «материал, ко¬
торый забирает за живое», так, кажется, выражается твой
Вилли.
— Повторяю тебе еще раз, в последний раз, Вилли не
Мой и люди должны образумиться. Для этого я сделаю все,
fcrro в моих силах, в моих слабых силах.
— Образумиться! Ты шутишь! Людей не образумила
275
даже их многовековая история. Им мало и этого. Л что об¬
разумит тебя? Тебе тоже всего мало.
— Я преклоняюсь перед французами — перед францу¬
зами, которые вместе с алжирцами борются за свободу и
независимость... Я хочу сказать, для Алжира нет ничего
важней свободы.
Тротта усмехнулся; от бессильной ярости она вдруг по¬
теряла мысль, и тут опять заговорил он:
— Не забывай, что и я француз, тем не менее я не
вижу во французах пичего достойного преклонения. По¬
слушай, ребенок, я бы с радостью поехал туда с этими
французами, черт подери, хотя они существуют только в
твоем разгоряченном воображении, поехал туда и отмыл
бы руки, покрытые грязью по их милости. Но я не желаю,
чтобы передо мной преклонялись. А что касается свободы,
то она приходит всего на день и на поверку оказывается
недоразумением.
— Ты вовсе не француз,— сказала Элизабет, обесси¬
ленная этим спором.— И ты не понимаешь трагедию фран¬
цузов, пе понимаешь.
— Не понимаю, потому что не хочу понять. Кто мо¬
жет заставить меня все попять? Только этого не хватало!
Хватит и того, что я стал французом и что мне доста¬
лось наследство, которого я не просил.
— Ты живешь в далеком прошлом,— сказала она с го¬
речью.— Нельзя любить человека, разговаривать с челове¬
ком, который всего-навсего заблудился в нашем времени,
вместо того чтобы жить в нем.
— Ты права, да, я не живу, никогда пе знал, что такое
жизнь. Но я считал, что ты — сама жизнь и что ты вдох¬
нешь жизнь и в меня. А теперь знаю: это только кажется,
что ты живешь, в действительности ты мечешься без толку
и изматываешься ради дела, о котором через несколько лет
никто и не вспомнит.
Еще до окончания войны в Алжире Элизабет и Тротта
расстались. Ее друзья уже давным-давно перешли к «теку¬
щим делам», а опа с тоской следила за тем, как сгущаются
новые тучи; из освобожденного Алжира Элизабет верну¬
лась удрученная, по демонстративно заявила, что поездка
была в высшей степени интересной; сделав несколько осто¬
рожных оговорок, она хвалила все подряд; однако, прежде
чем сдать репортаж, долго-долго перечитывала написанное;
так она сделала первый шаг по дороге неискренности, со-
276
зпательиой неискренности. Но с Троттоп уже нельзя было
посоветоваться — в один прекрасный день он уехал из сво¬
ей гостиницы, пе оставив адреса. Много позже опа случай¬
но наткнулась па эссе под названием «О пытках», его на¬
писал человек с французской фамилией, живший в Авст¬
рии, а потом переселившийся в Бельгию. Прочтя эссе, она
поняла, что хотел растолковать ей Тротта: в эссе было
сказано то, чего не сумели выразить пи опа, пи все другие
журналисты; даже в высказываниях жертв, которым уда¬
лось выжить — их печатали в наспех составленных доку¬
ментальных сборниках,— это не было выражено. Опа ре¬
шила написать автору, но не знала, что ему сказать, пе
знала, что толкает ее па этот разговор. Наверно, ему пона¬
добилось много лет, чтобы проникнуть в суть явлений, из¬
влечь выводы из ужасающих фактов. Попять эти страницы,
предназначенные для немногих, можно было, лишь отвлек¬
шись от «охов» и «ахов». Автор пытался объяснить, что
самое ужасное (он сам испытал ужасы пыток) — в разру¬
шении духовности, и прослеживал изменения в психике
человека, который продолжал жить, морально погибнув.
Элизабет так и пе написала письма автору, но она от¬
казалась от нескольких заданий редакции. Однажды Андре,
весело усмехаясь, спросил ее:
— Ты что, трусишь, Элизабет?
— Нет, просто не могу. И пе могу объяснить, в чем
дело. Надеюсь, это скоро пройдет. У меня появились со¬
мнения, а в наши дни сомнения — позор.
Андре, который уже опять повис па телефоне и не рас¬
слышал ее последнюю фразу, положив трубку, невпопад
сказал:
— Хочешь знать мое мнение? Тебе пора отдохнуть. Вот
что я тебе скажу, только сразу забудь это, иначе заде¬
решь нос,— ты куда храбрей всех паших мужчин. Прав¬
да, и они иногда показывают чудеса храбрости, но толь¬
ко из-за честолюбия, а некоторые просто прикидывают¬
ся, что сам черт им не брат. Уверен, скоро ты придешь
в норму, я тебя чересчур загрузил. Ты ведь знаешь, я, су-
кип сын, эксплуатирую вас, как могу, хотя сам сознаю это.
Но без меня нашему прекрасному журнальчику была бы
крышка.
— Спасибо, сукин сын,— сказала Элизабет, улыбаясь.—
Я и так давно догадываюсь, кто ты есть. Все равно с та¬
ким, как ты, работать можно. А вот насчет отдыха... и
277
именно сейчас... Не знаю. Утро вечера мудреней. Завтра я
дам тебе окончательный ответ.
С верхней дороги Элизабет свернула на тропинку и под¬
нялась к вершине Цилль; там стояли скамейки для жаж¬
дущих отдыха путников, впрочем, путники уже давным-
давно перевелись. Элизабет взглянула на свинцовое озеро,
простиравшееся у ее ног, взглянула на горы Каравапке;
мысленно она провела поверх гор прямую черту и поду¬
мала, что там, в долине, видимо, и было когда-то Сиполье —
родина семьи Тротты; в тех краях до сих пор живут, на¬
верно, его родичи; как-то раз она сама встретила у Тротты
жизнерадостного словенца, эдакого богатыря. Франц Йо¬
зеф сказал, что богатырь — его двоюродный брат и что отец
богатыря был чуть ли пе простым крестьянином. И еще
опа вспомцила, что друг ее обращался со своим братом
необычайно нежно; конечно, он не хотел показаться сен¬
тиментальным и напускал на себя иронию, по Элизабет
все видела. Однажды она рассеянно заметила:
— По-моему, я уже встречала этого Тротту в Вене, он
был тогда совсем молокосос, ей-богу, он смотрит на меня
так, что я теряюсь. Он немного глуповат, да?
— Нет,— сказал Тротта,— вовсе нет, но он, черт возь¬
ми, ужасно здоровый, прямо не понимаю, как моим роди¬
чам удалось там, внизу, у себя дома, не наделать ошибок и
сохранить здоровье. Я человек нервный и не могу смотреть
на тебя, как оп. Я и на себя не могу смотреть, потому тай
редко бреюсь. Когда я гляжу в зеркало, то готов застре¬
литься.
По дороге домой Элизабет уже не вспоминала Тротту;
день был пасмурный и для купанья неподходящий; впро-»*
чем, завтра может проясниться; сегодняшняя прогулка ее
несколько разочаровала, утром она намеревалась пойти
куда дальше. Перед ужином — господин Матрай всегда
ужипал очень рано — Элизабет сказала, что ей хочется за¬
скочить в «Отшельник» и купить бутылку пива; в виде
исключения он должен позволить ей выпить бутылку пива;
убедительно прошу, добавила она шутливо. Господин Мат-*
рай никогда ничего не запрещал, но любил, чтобы дети
делали вид, будто он и впрямь что-то разрешает и что-то
запрещает.
Элизабет быстро шла по Прудовой улице, как вдруг не-*
вольно замедлила шаг: у последнего дома — а может быт^
278
он был первый по Прудовой улице — стояла древняя колы¬
мага, «фольксваген», а перед машиной молодая женщина»
растерянно смотревшая па Элизабет; женщина поздорова¬
лась, Элизабет остановилась и тоже поздоровалась, они
пожали друг другу руки; конечно, Элизабет знала эту жен¬
щину, только не могла вспомнить, кто опа такая. Женщи¬
на смущенно забормотала:
— Я как раз приехала, то есть я как раз живу у моего
дяди Хуссы. Спасибо. У тети с дядей все в порядке, к со¬
жалению, я должна сейчас...
Элизабет вдруг сообразила, что перед ней Элизабет Ми¬
хайлович, племянница старика Хуссы. Разумеется, это
была опа. В Вене они несколько раз встречались в одной
компании. Стало быть, и Михайлович здесь отдыхает.
Только бы пронесло. Элизабет вовсе пе улыбалось прово¬
дить с пей время и перемывать косточки общим венским
знакомым. В последующие минуты женщины заверили
друг друга в том, что для них эта встреча — приятная нео¬
жиданность, и согласились, что погода этим летом, увы, ос¬
тавляет желать лучшего. И тут Элизабет заметила, что око¬
ло «фольксвагена» крутится молодой человек в форме лес¬
ничего: сперва он укладывал что-то в багажник, потом за¬
хлопнул его и, отойдя в сторону, принял выжидательную
позу; Михайлович не сделала никаких попыток предста¬
вить парня, который выглядел весьма простоватым. Эли¬
забет с преувеличенной сердечностью сказала:
— Буду очень рада, если вы позвоните. Передайте са¬
мые лучшие пожелания тете и дяде. Наверно, они меня
уже давно забыли... Но мой отец... да, спасибо... он чувст¬
вует себя хорошо.
С каждой минутой Михайлович почему-то все больше
рмугцалась; воспользовавшись этим, Элизабет начала по¬
спешно прощаться:
— Извините, но я тороплюсь, мне надо кое-что купить.
Желаю вам хорошо провести время.
Разозлившись, она пошла своей дорогой; надо надеять¬
ся, Михайлович ей не позвонит. У самой гостиницы она
осторожно обернулась: молодая женщина и ее спутник са¬
дились в машину, которую пора было отправить па свалку.
А потом, когда Элизабет вышла с бутылкой пнва, «фолькс¬
ваген» проехал мимо нее; она улыбнулась и приготови¬
лась было помахать рукой, по вовремя остановилась — еэ
тезка Элизабет демонстративно смотрела прямо перед со-
27Э
бои, делая вид, будто не замечает ее. За ужином Элизабет
спросила отца, как поживают Хуссы, господин Матрай хо¬
лодно ответил: «Не имею понятия»—и добавил: «Впро¬
чем, они весьма порядочные люди». Тогда Элизабет корот¬
ко рассказала, что встретила их венскую племянницу Ми¬
хайлович, довольно милую особу, правда, несколько бес¬
цветную. Неясно, почему эта милая женщина разъезжает
с каким-то простым парнем, совсем простым. В Вене Ми¬
хайлович показалась ей скорее интеллектуалкой; в общем,
довольно странно, ну, конечно, здесь, гуляя по лесу, люди
одеваются не так, как в городе, она сама тому пример, по
эта Элизабет нацепила на себя что-то чересчур уж убогое
и безрадостное; разумеется, ее семья обеднела, но ведь они
еще имеют какие-то связи в обществе. На этом месте Эли¬
забет начала закругляться, поскольку господин Матрай
явно пропускал ее разглагольствования мимо ушей. Под
конец она сказала:
— В общем, неинтересная материя, только бы она не
позвонила. Л позвонит, скажи, что меня нет дома.
Уже лежа в постели, она подумала: надо же встретить
еще одну Элизабет. Слишком много их развелось. Она и
так оторопела, когда в registry office Лиз назвали ее пол¬
ным именем: Элизабет Анна Катарина, а потом прочли
ее фамилию, которую Элизабет тут же забыла; раньше
она эту фамилию не слышала, а теперь девичья фамилия
Лиз и вовсе потеряла значение, ведь Лиз стала госпожой
Матрай.
Задремав, Элизабет вдруг очнулась; сон отбросил ее на
много лет назад; она лежала с открытыми глазами и опять
слышала умолкнувшие голоса; она была дома и одновре¬
менно в Париже.
— Возьмем, к примеру, твоего Вилли...
— Он не мой Вилли,— сказала Элизабет сердито,— пе¬
рестань наконец.
Но Тротта не спеша продолжал:
— Когда этот Вилли говорит по-английски, я не имею
ничего против, он говорит «о’кэй», и это звучит вполне
приемлемо, по по-немецки я бы вообще запретил немцам
разговаривать, именно их язык меня бесит. Не знаю уж
когда, но они потеряли способность говорить по-человече¬
ски. Даже молодые, которые, как считается, не несут от¬
ветственности,— даже молодые не составляют исключе¬
ния. Не думай, однако, что я их ненавижу, все обстоит
280
сложнее. Только вот дотронуться до немца я бы не решил¬
ся из страха, что он заговорит.
— Ты нарочно несешь чепуху и все усложняешь.
(Тротта знал, она будет с ним спорить: ни себе, ни дру¬
гим опа не разрешала ничего такого, что бы походило на
дискриминацию.)
—- Вовсе я не усложняю, просто я видел в жизни слиш¬
ком много сложного. Думаешь, я их ненавижу? Ведь и
других я тоже пе признаю. Разве я признаю французов?
Ничего подобного. Но с немцами поступили шиворот-на¬
выворот: сперва у них все демонтировали, сперва их как-
то наказали, а потом Германию разделили и сунули фри¬
цам винтовку, превратили их в молодцов-союзничков.
— А как бы ты поступил? — вызывающе спросила Эли¬
забет.— Не сомневаюсь, ты бы принял гениальное реше¬
ние.
— Конечно,— заносчиво ответил Тротта,— в Ялте или
уж не знаю где я бы постановил: запретить немцам разго¬
варивать по-немецки. Вот и все. Проблема была бы решена.
Я заставил бы их выучить английский или русский, на этих
языках мы бы с ними и объяснялись.
— Дурень ты и фантазер,— сказала Элизабет.
Но Тротта продолжал с невозмутимым спокойствием:
— Как хорошо, если бы мою дурацкую фантастическую
идею провели в жизнь. Твой Вилли, извини, этот Вилли —
симпатичный малый, во всяком случае, не очень вредный,
и когда он говорит: have a nice time, darling \ это звучит
вполне нормально. Но вместо этого он орет: «Поворачивай¬
ся, дорогуша, а то тебя обштопают», или «Здорово они его
объехали на козе», или «Восемь часов, плюс — минус». Ко¬
гда я слышу эту жуткую абракадабру, у мепя уши вянут,
они вообще разучились говорить нормально. Поэтому все
у них ненастоящее. «Подойди-ка сюда». Скажи, почему
они все время прибавляют это «ка»? Удивительная исто¬
рия! Впрочем, все это ты знаешь не хуже мепя. Но, по-тво¬
ему, они не могут избавиться от жаргона, на котором шпа¬
рили в своем «тысячелетнем рейхе». А я уверен, что это
заложено в них самих.
— Франц Йозеф Евгений Тротта, в твоем лице мир те¬
ряет великого политика,— сказала Элизабет мрачно.
— Может быть,— согласился Тротта,— к сожалению,
1 Желаю тебе приятно провести время, дорогая (англ.).
281
со мной не считаются. Кстати, ты заметила, что этот Вилли
постоянно суетится и напускает на себя важность? Однако
он ничего пе делает, ты все делаешь за него.
— От кого я это слышу,— Элизабет засмеялась,— т i
ведь сам ничего пе делаешь.
— Конечно, по это совсем другое. Я пе ломаю комедию,
как твои немцы, которые день и ночь всех подстегивают, в
первую очередь себя. В свое время я попал в Гейдельберг,
я вообще жил в нескольких немецких городах. Тогда я но¬
сил мундир французской армии и мне было всего каких-
нибудь двадцать лет. И тут вдруг я стал победителем, надо
же, я, Тротта, стал победителем, хотя Троттам па роду на¬
писано быть побежденными. Пришлось собрать все свое
чувство юмора, иначе я бы спятил. Самое интересное, что
некоторые французы — и не только одни французы — на¬
ходили в немцах нечто демоническое, особенно, конечно, в
высокопоставленных убийцах. На самом деле это были со¬
вершенно обалдевшие обыватели, истые бравые служаки,
полные идиоты, которые оказались способными па все, бук¬
вально на все. Я был бессменным переводчиком па разных
опросах и допросах, и вот однажды очередь дошла до двух
наших...
— Кого ты подразумеваешь под «нашими»? —с удив¬
лением перебила его Элизабет.
— Естественно, австрийцев,— сказал Тротта нетерпе¬
ливо.— На физиономиях у этих двух молодчиков и впрямь
было написано, что они злодеи. По ним сразу было видно,
что они получали удовольствие от любой, самой неверо¬
ятной жестокости. И вели они себя соответственно. Если
хочешь, эти два типа были единственными демоническими
личностями, которых я встретил. В отличие от немцев.
Приказ являлся для них всего лишь желанным поводом, а
для немцев приказ был приказом. Недаром они так изу¬
мились — не могли понять, почему их предают анафеме за
какие-то несколько миллионов убитых. Но французы со
своей пресловутой logique fran$aise 1 раз и навсегда реши¬
ли видеть демоническое там, где ого пет; в угоду этой ло¬
гике они отпустили обоих преступников, преступники по¬
казались им безобидными: как-никак они были родом из
опереточной страны, населенной опереточными персона¬
жами, и как-никак эта страна стала жертвой. Да, жертвой!
1 Французская логика (франц.).
282
Мне пе хотелось объяснять им, почему и отчего, было слиш¬
ком сложно растолковывать французам, каким образом и
благодаря каким историческим обстоятельствам это ма¬
ленькое государство стало жертвой. Итак, сложное я обна¬
ружил, ио у самого у меня не хватило сложности, чтобы
справиться со столь запутанным явлением.
Утром, еще до последних известий по радио, Элизабет
и господин Матрай взялись за газету, каждый читал свою
часть; Элизабет было любопытно узнать, как здесь инфор¬
мируют простых людей; без тени высокомерия, скорее даже
растроганно читала она дилетантские сообщения и плохо
написанную передовую. Намного приемлемей были город¬
ские новости — об освящении храма в Розентале и о при¬
сутствовавших па нем важных особах местного значения
газета рассказывала куда занятней, хотя и эти материалы
вызывали невольную усмешку. А вот сообщение об откры¬
тии «Международной ярмарки лесоматериалов» — в Кла¬
генфурте эту ярмарку считали международной — представ¬
ляло известный интерес; в этом сообщении проскальзыва¬
ли, между прочим, эдакие миссионерские нотки, стало быть,
и клагенфуртцы считали себя миссионерами. Только с ино¬
странной информацией газета была явно не в ладу. С лег¬
кой иронией, которая была неотъемлемой чертой Тротты п
которую она восприняла много позже, Элизабет подумала:
играет ли какую-нибудь роль тот факт, что жители этой
дыры получают перевранную информацию? И изменилось
ли что-нибудь, если бы они имели более правильное пред¬
ставление о событиях за пределами их околицы? Нет, на¬
верно. Этим людям даже Вена казалась чрезвычайно подо¬
зрительным местом, чем-то вроде темного омута; к слухам,
просачивающимся из парламента, к объяснениям, давае¬
мым министрами, они относились с неизменным недовери¬
ем. Так стоило ли увеличивать это их недоверие к необъ¬
ятному и запутанному миру, который именуется «совре¬
менным миром»? Взахлеб писала газета лишь о стихийных
бедствиях и авариях самолетов: в Италии — небывалая
жара, зарегистрированы смертные случаи... Разумеется,
местные жители были далеки и от непогоды, и от жары, а
па самолетах почти не летали. Это напомнило Элизабет
некоторые газеты в Париже — хотя сравнение совпадало не
во всем,— газеты, которые усердно занимались «третьим
миром» и сообщали о Боливии куда больше, нежели о жиз¬
283
ни Парижа. Конечно, в жизни парижан не было ничего
экстраординарного — они мотались взад и вперед между
городами-спутниками и Парижем или между своими дач¬
ками и городом и выдыхались не от катаклизмов, которые
потрясали южноамериканские и азиатские страны, а от
изнурительных мелочей — дороговизны, переутомления,
депрессии; по сравнению с большими несчастьями их беды
казались незначительными. Однако па любую просьбу,
даже на обычный вопрос парижане в последнее время от¬
вечали с какой-то особой неприязнью и холодностью, зара¬
жая этим окружающих, которые также начинали излучать
неприязнь и холодность. Впрочем, сами парижане этого
уже пе замечали. У многих людей, даже у Филиппа, ду¬
шевные порывы давно заглохли или стали чистой профор¬
мой; но даже те юноши, которые еще не потеряли способ¬
ности «болеть» за весь мир, спокойно взирали на соседа
или на попутчика, не желая видеть, что тот плачет, что
тот в отчаянии.
Зазвонил телефон, Элизабет побежала, но взяла трубку
слишком поздно. Это был Филипп, больше некому. Словно
он почувствовал там, в Париже, что она тревожится за
него. Все те качества, которыми Филипп обладал — жар
души, молодость, дерзость, привлекательность,—он рас¬
тратил в майские дни 1968 года1; теперь он был на пре¬
деле, полон горечи, болен от жалости к самому себе; впро¬
чем, с тех пор как она была с ним, Филиппу стало немного
легче.
По верхней дороге № 1 Элизабет снова добралась до
скамеек па вершине Цилль и на минутку присела; сперва
она бросила беглый взгляд на озеро внизу, потом перевела
глаза на горы Караванке, и вдруг ей почудилось, что она
видит старую Крайну, Словению, Хорватию, Боснию —
уже не существующий мир, мир Тротты. От самого Трот¬
ты ей осталось только имя, несколько фраз, мыслей и еще
интонации. Он не дарил подарков, она не хранила засу¬
шенных цветов; даже лицо его она теперь представляла
себе с трудом; странное дело, чем понятнее он становился,
тем больше ускользал его облик; временами Элизабет ка¬
залось, что его бесплотные мысли летят из-за гор, с юга:
«Пе бери того, что тебе не принадлежит, сохрани имя свое,
1 Имеются в виду студенческие волнения во Франции и в ряде
других капиталистических стран.
284
самое себя, пе бери меня, никого пе бери, игра пе стоит
свеч».
— О боже, опять ты завела свою старую песню о бла¬
годарности, ты благодарна решительно всем: Вилли, кото¬
рый вытащил тебя в Париж, Дювалье, который согласился
работать с тобой, двум каким-то субъектам в Вене, кото¬
рые давали тебе заказы, Андре, который тобой доволен.
Этому пе будет конца. Каждый день появляется какой-то
новый человек, открывший тебя. От бесконечных благодар¬
ностей ты скоро совсем поглупеешь. Но всякой благодар¬
ности есть предел, ведь любому человеку в свое время кто-
то протянул руку. Пора позабыть о прошлом, ты уже дав¬
но стоишь па собственных ногах, нельзя всю жизнь пом¬
нить о долгах, если они оплачены сполна.
Насчет Вилли Флеккера Тротта оказался прав, по он
этого так и не узнал. Через много месяцев после разрыва
с Троттой Элизабет в очередной раз попыталась помочь
Вилли — тогда это было крайне трудно, хотя временами ему
еще кое-что подбрасывали через нее,— в ту пору Вилли
был вечно пьян и из «восходящей звезды» западногерман¬
ского фоторепортажа превратился в развалину; итак, опа
хотела ему помочь, но пьяный Вилли начал осыпать ее
оскорблениями в присутствии общих друзей; друзья были
поражены не меньше Элизабет, потом стали возмущаться;
Вилли обрушил на нее поток ругательств, и напрасно не¬
которые думали, будто это вызвано его безмерной ревно¬
стью, приступом белой горячки и еще тем, что Элизабет
идет в гору, а он опускается на дно. Сама Элизабет пони¬
мала, что Вилли наконец-то выказал свое истинное отно¬
шение к ней. Но она никак не могла постичь, чем вызвана
его ненависть; с тоской думала она о Тротте. В течение
нескольких часов Элизабет молча выслушивала Билли, у
нее еще хватило сил вежливо попрощаться и спокойно
уйти; в первый раз опа приняла снотворное, двойную до¬
зу,— в этом потоке ненависти было впору захлебнуться.
Позже Вилли прислал ей коротенькое письмецо — послед¬
нее письмо к ней. Не сказав ни слова в свое оправдание, не
извинившись, он просил срочно переправить ему какие-то
работы; документация у нее была, она провела весь день
в лаборатории, разыскала нужные негативы и послала ему,
не написав ни строки. Примерно в то же время и почти
столь же странно закончились некоторые другие ее друж¬
бы. Правда, это произошло не так скандально и громо¬
285
гласно, с ней рвали как бы мимоходом, молча, но с зата¬
енной недоброжелательностью. И она, хоть убей, не пони¬
мала, в чем дело, и пе было Франца Йозефа, который мог
бы ей все объяснить. Как-то раз он сказал: «Слава богу,
наши отношения не омрачены ненужной благодарностью,
никто из нас ничем не обязан другому. Но в один прекрас¬
ный день ты меня все же вспомнишь». Вначале она, однако,
о нем пе вспоминала — ей предложили работать в Нью-
Йорке; подумав, Элизабет согласилась и ушла от Андре,
который пожелал ей счастья п заверил, что при первой
же, пусть телеграфной, просьбе будет рад взять ее обрат¬
но. В Ныо-Йорке Элизабет вздохнула с облегчением — опа
избавилась от Парижа, от своего первого Парижа, который
распался на множество очагов враждебности.
В Ныо-Йорке у нее появилось много новых знакомых,
а потом она встретила законченного неудачника Хью — он
судорожно хватался за любое дело, а когда терпел фиаско,
опускал руки и впадал в меланхолию. После архитектур¬
ного факультета Хыо так и не получил заказов — но тут,
слава богу, ему захотелось стать художником-дизайнером;
Элизабет не только разделяла его надежды, она свела Хью
с нужными людьми. В тот день, когда Хью получил свой
первый заказ, он предложил Элизабет стать его женой; не
задумываясь, она сказала «да», хотя еще за секунду до
этого ей не приходило в голову выйти замуж за гомосексуа¬
листа — просто он временно поселился у нее, но теперь и
она и Хью, взволнованные и счастливые, решили, что их
брак будет само совершенство: каждый волен жить по-сво¬
ему, никто не станет мешать другому; вполне возможно,
что семейные отношения легче строить на дружбе, чем па
влюбленности. У Хью в тот период был друг, о котором он
говорил, что это его единственная привязанность, Элиза¬
бет этого парня знала; правда, ровно через три недели все
переменилось, но со временем она привыкла к вечному ка¬
лейдоскопу лиц. К сожалению, из-за непостоянства Хью
иногда возникали пеприятности, которые ей приходилось
улаживать; Хыо не мог справиться ни с переполнявшими
его чувствами, ни со своими обязательствами. С деньгами
тоже было туговато — Элизабет зарабатывала много, хотя
и нерегулярно, но Хью всегда сидел па мели, к тому же его
привязанности дорого стоили, особенно молодой человек
из Бруклина и другой из Рио. И все же у них появился
свой скромный приятный дом, который доставлял радость
286
Элизабет; они с Хью понимали друг друга с полуслова, и
когда они были втроем — а они часто бывали втроем, по
пи разу вчетвером,— семейная идиллия пе нарушалась,
так как все дружки Хыо относились к Элизабет подчерк¬
нуто мило. Быть может, они и впрямь были славными, так¬
тичными ребятами, но иногда Элизабет казалось, что это
заслуга Хью: наверно, каждому очередному приятелю Хыо
ставил категорическое условие — тот должен был не толь¬
ко уважать Элизабет, его жену, но и безмерно восхищаться
ею; Хыо восхищался Элизабет и хотел, чтобы она пользо¬
валась у его друзей уважением, какого сам он был, увы,
лишен; некоторые из его привязанностей оказались коры¬
стными, другие унижали его или заставляли страдать;
Хью был совершенно откровенен с Элизабет, он не хотел,
чтобы и па ее имя пала тень; уважение, которое оказыва¬
лось Элизабет, было для его уязвленного, попранного само¬
любия своего рода компенсацией.
Да, тот вечер в Париже можно было не вспоминать, он
прочно засел у нее в мозгу, она всегда помнила этот ве¬
чер, не забыла и теперь, хотя со времени возвращения из
Нью-Йорка утекло много воды. Все началось с венского
журналиста, который был в Париже проездом, он позвонил
ей, а потом заявился сам — не то передать приветы, нс то
какое-то известие, а может, у него была просьба к пей.
Непонятно, почему она вообще встретилась с этим жур¬
налистом, наверно, случайно сказала по телефону «да».
Они пошли в маленькое кафе на бульваре Сен-Жермеп;
встреча как встреча, ничего интересного; опа сидела в кафе
с этим молодым венцем только потому, что в Вене у них
были общие знакомые, и потому, что он тоже оказался
журналистом; его фамилию она уже успела забыть — ка¬
жется, Мюльхофер или Мюльбауэр. И вдруг он спросил:
— Вы ведь были знакомы с графом Троттой?
Элизабет сердито ответила, что никакого графа Тротты
не существовало и пе существует, а ежели оп имеет в виду
того легендарного Тротту, которому по недоразумению по¬
жаловали дворянство, то его род давпо вымер, уже в че¬
тырнадцатом году, остались только боковые линии, по их
представители — не дворяне; кажется, несколько предста¬
вителей семьи Тротта живут в Югославии, а один — в Па¬
риже. Секунду молодой венец смотрел на нее испытующе,
потом сказал:
287
— Стало быть, я не ошибся — в Париже... Да, это он
п есть!
С каждой минутой раздражение Элизабет росло; опа
вовсе пе желала разговаривать с первым встречным о
Франце Йозефе, да и болтовня о графе Тротте действовала
ей па нервы, поэтому она быстро подозвала официанта.
Оба хотели заплатить и неловко заспорили; по, прежде чем
Элизабет удалось от него избавиться, венец опять вспомнил
Тротту и сказал, что имел в виду именно парижского Трот¬
ту. Неужели она не знает, что парижский Тротта застре¬
лился несколько месяцев назад в Вене? Его самоубийство
наделало шуму, у Тротты не оказалось родственников, он
жил в маленьком пансионе один как перст, и после его
смерти у него ничего не нашли, кроме паспорта; венцы
предположили, что Тротта — прямой потомок героя Соль-
ферипо, он, Мюльбауэр, тоже занимался этим вопросом,
работая в архивах, но никакой новой информации не со¬
брал. Элизабет — она еще была относительно спокойна,
дрожь напала на нее позже — резко перебила журналиста:
— Какая чушь, дед Тротты был бунтовщиком, а но
верным слугой своего господина, не то что отпрыски героя
Сольферино.— И тут же подумала, что ей вообще не стоит
пускаться в откровенность с этим назойливым типом, бы¬
стро вышла и истерично замахала руками, подзывая так¬
си; вся дрожа, опа крикнула: — О боже, помогите же мне
поймать такси, иначе я опоздаю на важную встречу!
Вечером она была приглашена в ресторан «Бато ивр»,
но, придя домой, легла и стала вспоминать свою единст¬
венную большую любовь, а потом мысленно воспроизвела
разговор с венцем, который так и не понял, какой удар ей
нанес. Она не плакала, по у нее не было сил встать, она
не могла даже палить стакан воды, хотя ее мучила жажда.
Мысленно опа пыталась говорить с Троттой, перечисляла
все его имена — Франц, Йозеф, Евгений1,—в которые его
отец вложил так много и которые так мало значили. А по¬
том позвонили друзья — Морис и Жан-Мари; она попыта¬
лась объяснить им, что смертельно устала, но в ответ они
только смеялись и, предвкушая веселый вечер, попере¬
менно кричали, что скоро заедут за ней; Элизаб»ет так и
пе сумела отказаться: они бросили трубку, не дослушав.
1 Имеются в виду Франц Йозеф I — император Австро-Венг¬
рии — и принц Евгений Савойский.
288
Впервые в жизни она переодевалась пе с намерением
кому-нибудь поправиться, а с желанием вспомнить былое;
она натянула па себя поношенное, измятое шерстяное пла¬
тье, которое долго провисело в шкафу, и усталым жестом
разгладила его. Один-единственный раз Тротта согласился
пойти с ней за покупками, но остался на улице и в ярости
бегал взад и вперед у входа в магазин, ему казалось, что
она слишком долго выбирает, а она схватила первое попав¬
шееся платье, посмотрела только на размер; и вот теперь
это самое платье стало ее траурным нарядом, поминаль¬
ным нарядом, посвященным памяти Тротты; в нем она и
спустилась к машине, где уже сидели четверо. Никто не
познакомил ее с девушкой, расположившейся впереди; че¬
ловек за рулем — Элизабет его также не представили —
на секунду повернулся, посмотрел на нее долгим, пожа¬
луй, чересчур долгим взглядом и сказал с легкой иронией:
— Вот вы, значит, какая!
Они трое теснились па заднем сиденье, спутники Элиза-
S бет болтали, не закрывая рта.
— Будь осторожна, Элизабет, он опасный мужчина,—
£ сказал Морис.
; — Берегись, Элизабет, мой долг тебя предупредить, пи
1одна женщина не может перед ним устоять,— вторил ему
Жан-Мари.
Элизабет сидела молча, молчала она и за ужином, толь-
jKO вино слегка развязало ей язык, и она заговорила с Мо¬
ррисом о каких-то пустяках, но тут незнакомец встал — его
послала в гардероб эта кривляка — и, перед тем как отой¬
ти, склонился перед Элизабет, вежливо спросил, пе надо
ли ей что-нибудь принести. Элизабет вынула из кошелька
монетку, протянула незнакомцу и сухо сказала:
— Бросьте это за меня в музыкальный автомат.
Нет, у нее не было никакого определенного пожелания,
не все ли равно, пусть нажмет на любую кнопку.
Когда он опять подошел к столику и снова склонился
перед ней в преувеличенно вежливом поклоне, пластинка
как раз легла па диск проигрывателя; зазвучала музыка,
это не была chanson 1, не был hit2, никто не пел с приды¬
ханием, никто не орал под музыку, да и музыка показалась
€}й незнакомой; зато в последующий год эту пластинку без
1 Песня (франц.).
2 Шлягер, боевик (англ.).
10 Ко 1П14
289
конца ставили, а тогда она только-только входила'в моду;
то была какая-то старая музыкальная пьеса, переложен¬
ная для джаза, сумрачная пьеса, которую она в тот вечер
так и не вспомнила; она слушала пластинку оцепенев, по¬
грузившись в свои мысли. Но и не глядя ни на йЬго, йй2-
дела, как девица поводит плечами в такт музыке, красу¬
ется перед незнакомцем. Элизабет перестала есть, нельзя
же ужинать под звуки панихиды; посидев еще немного
для приличия, она сказала, что торопится домой, попроси¬
ла Мориса вызвать такси, опа пе хочет мешать общему
веселью, уйдет одна. Но Элизабет никто не услышал, ее
спутники обсуждали, куда им податься дальше — к «Саша»
или в другой ресторан. Окончательно измученная, она
вдруг очутилась вдвоем с незнакомцем в его машине, они
ждали остальных, а те — сильно навеселе — препирались
неподалеку. Элизабет и незнакомец молчали, наконец он
сказал, что пора навести порядок, а она сухо перебила:
— Прошу вас, подбросьте меня на стоянку такси. Я не
в том настроении, чтобы ехать к «Саша».
Элизабет не помнила, что произошло дальше, но через
некоторое время она почему-то оказалась у «Саша». Они
пили шампанское и танцевали, и она тоже встала и пошла
танцевать с незнакомцем, который был ей несимпатичен, а
во время краткого перерыва между танцами вдруг внима¬
тельно посмотрела на него и заметила:
— А вы ведь тоже не француз, во всяком случае, не
здесь родились.
— Да, я лжефранцуз,— сказал он спокойно,— я родом
из Злотогрода, из Галиции, теперь этот город вообще не
существует.— Впрочем, о таких вещах она, наверно, ниче¬
го не знает.
Элизабет с ударением ответила:
— Ну конечно, не знаю, где уж мне знать. Я даже не
смогла б произнести названия этого города.
Элизабет пыталась танцевать по-настоящему, а не про¬
сто переступать под музыку со скучающим видом; она ни¬
когда особенно не увлекалась танцами, но в конце вечера
танцевала по-настоящему. Тут, однако, вся компания уто¬
милась, и они вышли на улицу; он отвез ее домой первую
и, прощаясь, сказал твердо: J i
— Я приду сразу же, как только от них избавлюсь.
Элизабет выпила больше, чем следовало, голова у нее
трещала; она подумала, что заснет, пе дождавшись его; тем
290
не менее покорно поплелась в ванную, почистила зубы и
постаралась привести себя в порядок. Внезапно раздался
звонок — опа не предполагала, что он так скоро вернется,
по в эту пору, в три часа ночи, на улицах почти пе было
д^ижещш. Она отперла дверь, он тихонько прикрыл ее, а
потом... потом она сама не знает, что произошло: то ли оп
так быстро схватил ее в объятия, то ли она так быстро
кинулась к нему. Ничего опа не помнила, помнила только,
что до самого утра отчаянно, с неведомой доселе страстью,
цеплялась за него; даже отталкивая этого человека, опа
стремилась поскорее притянуть его снова. Да, опа плака¬
ла, но не ведала почему. Оплакивала ли она Тротту, хотела
ли воскресить его? Звала ли Тротту или призывала этого
нового? Какие чувства ее обуревали — любовь к мертвому
или любовь к живому? Она заснула; это был конец и в то
же время — начало. Ибо, что бы опа ни говорила себе по¬
том, вспоминая ту ночь, какие бы версии ни придумывала,
одно было ясно: той ночью началась ее очень большая
любовь. Иногда ей казалось, что любовь эта была ее первой
настоящей любовью или второй настоящей любовью. Но
поскольку она не забывала и Хыо, то считала по временам,
что это ее третья большая любовь. Элизабет никогда пе го¬
ворила с Манесом о том, что толкнуло ее к нему, пе гово¬
рила и о внезапно вспыхнувшей страсти — такого, как в
ту ночь, с ними уже не случалось. Через несколько дней он
превратился из незнакомца в возлюбленного, обрел и имя,
и лицо, стал близким человеком, который меняется и име¬
ет свою историю; за два года связи у них появилась их
общая история, приобретавшая все более четкие контуры;
постепенно она начала думать, что им с Манесом предсто¬
ит долгая жизнь вместе, что у них есть будущее. Бросил
он ее неожиданно — до этого их отношения не омрачило
ни единое облачко,— неожиданность поразила Элизабет
сильней, чем его жестокость и то, что она снова осталась
в одиночестве. Да, разлука с ним принесла ей больше
страданий, чем смерть Тротты. Целыми днями просиживала
она у телефона, ждала его звонка, но не пыталась разыс¬
кивать Манеса или понять мотивы его поступка, таких мо¬
тивов не могло существовать. И еще — она избегала людей,
видевших их вместе, боялась узнать о нем через третьих
лиц. Прошли месяцы бесплодного ожидания, и она почув¬
ствовала, что ей необходима какая-то разрядка. Быстро
собралась и поехала в Вену к психиатру, которого знала
10*
291
с давних пор. И в Вене опа старалась не встречаться*^
друзьями, поселилась в маленькой гостинице и каждый
день ходила к врачу, у врача она чувствовала себя превос¬
ходно — Элизабет помнила его еще безвестным ассистен¬
том, теперь оп приобрел имя, у него лечились знаменито¬
сти. Главное, он не заставлял ее без конца говорить, чего
опа опасалась; надо было всего лишь давать точные ответы
на его вопросы, терпеливые, деликатные вопросы с извест¬
ной долей юмора. Дважды он сделал попытку провести с
ней сеанс гипноза и дважды потерпел неудачу, но Элиза¬
бет нашла, что это весьма занятно, а через несколько дней
врач сказал, что оп никогда не встречал более разумной
пациентки и что ее проблемы — если их вообще можно на¬
звать проблемами — суть неотъемлемая часть ее лично¬
сти. Оп поздравил Элизабет с тем, что у нее такая «светлая
натура», и они принялись беседовать о всякой всячине, не
имевшей отношения к ее истории; беседовали почти на рав¬
ных, испытывая обоюдную симпатию. С диагнозом «светлая
натура» Элизабет вернулась в Париж, вернулась, преис¬
полненная оптимизма,— ведь с ней и впрямь не случилось
ничего особенного, такие истории неизбежно случаются с
каждым. Но через день она внезапно рухнула, у нее нача¬
лись приступы беспричинного страха, своим «светлым»
умом она не могла постичь тот факт, что человек, с кото¬
рым она, как ей казалось, составляла единое целое, безжа¬
лостно бросил ее. И еще — она не понимала, почему ей так
трудно смириться со сравнительно небольшой потерей, по¬
терей Манеса, после того как она перенесла гораздо более
тяжелую и горькую утрату — смерть Тротты. У нее было
такое чувство, словно ей ампутировали руку или ногу, она
совершенно растерялась и снова целыми днями беспомощ¬
но просиживала у телефона.
Но в один прекрасный день она принялась за работу,
перестала чураться людей и вернулась к привычной жиз¬
ни.
«Не бери его, никого не бери»,—говорил ей внутрён-
пий голос.
Теперь она научилась придумывать всякие немудрящие
утешения, например, говорила себе, что Манес скоро соста¬
рился бы и их отношения переменились бы. И вообще
быстрый конец лучше, чем постепенное отмирание чувств1.
А потом у нее снова появились поклонники: Роже, Жан-
Пьер, Жак и Люк; кое с кем она спала, а после выслуши¬
292
вала их многочасовые жалобы. Они рассказывали о своих
проблемах и бедах. Роже, например, любил и имел обяза¬
тельства по отношению к женщине старше его — он назы¬
вал ее А.,— по одновременно он завел роман с молодой В.,
у которой была внебрачная дочь, поэтому госпожу В. нель¬
зя было долго держать, так сказать, во взвешенном состо¬
янии; что касается самого Роже, то он бы охотно удрал от
обеих, поскольку никак не мог сделать окончательный вы¬
бор. Элизабет давала ему советы очепь осторожно, так как
Роже прозрачно памекал, что не прочь удрать к пей, а Эли¬
забет не очень-то улыбалось стать для него запасным вы¬
ходом. Однако в тот день, когда Элизабет вернулась из Аф¬
рики, он позвонил и вдруг выпалил:
— Прошу тебя, не смейся надо мной.
Роже рассказал, что вчера женился на В.; пусть Эли¬
забет поймет его правильно, оп женился па молодой В., у
которой есть дочь; дочь как раз и сыграла здесь решающую
роль. Роже пригласил Элизабет в гости, и в тот же вечер
она пошла к ним на коктейль, познакомилась с В. и с ее
маленькой дочуркой. Роже встретил Элизабет сияя, и не
успела она поздороваться со всеми, как он отвел ее в сто¬
ронку и сказал, что обязательно позвонит завтра — им падо
поговорить. Но ни завтра, ни послезавтра он не позвонил,
и тогда она опять, как и после истории с Манесом, при¬
липла к телефону; с отчаянием думала она, почему все так
получается, и плакала навзрыд. Через несколько месяцев
приступ неожиданно повторился — Элизабет все еще не
могла привыкнуть к мысли, что человек, к которому она
тянулась всей душой, не позвонил ей. Правда, она поняла,
что и А., и В. были весьма властными особами, они не жела¬
ли терпеть друг друга, а уж тем паче — третье лицо, кото¬
рое было в курсе их дел.
О Манесе Элизабет вспоминала теперь редко. Но, как
ни странно, именно тогда, когда она перестала думать о
нем и о причине их разрыва, она вдруг вспомнила один
разговор: Манес сказал, что с женщинами ее типа он прин¬
ципиально не имеет дела; всему виной Морис, он так не¬
умеренно восторгался ее интеллигентностью, восторгался
до тошноты, но он, Манес, не признает интеллигентных
дам. В тот вечер в ресторане он просто обозлился — она
все время молчала и дико важничала.
Элизабет так и не сказала ему, какое чудовищное не¬
доразумение легло в основу их связи: в ресторане она мол¬
293
чала, по уж отнюдь пе важничала. И Мапес пе узнал, как
странно все переплелось в ее жизни — прощание с Троттой
и возрождение благодаря встрече с ним, Манесом, и этому
диковинному слову «Злотогрод».
На сей раз, идя по верхней дороге, Элизабет перевали¬
ла через вершину Цилль и, несмотря па то что время от
времени начинал накрапывать дождик, стала спускаться
к озеру; она вышла из леса, но тут дорога неожиданно
оборвалась; перед ней была лужайка —• пи одного указа¬
теля, пи единой тропки; Элизабет метнулась налево, потом
направо, наконец она решительно пошла вперед, пытаясь
разыскать какой-нибудь проселок. Хорошо, что в самый по¬
следний момент она успела остановиться — еще шаг, и она
полетела бы в пропасть, сейчас она осторожно огляделась:
сразу же за лужайкой шел крутой обрыв, ничего подоб¬
ного здесь не было. Разумеется, пропасть образовалась пе
в результате горного обвала — кусок горы срыли экскава¬
торы. Земля на круче была еще свежей и влажной, а внизу
раскинулась гигантская стройплощадка — здесь проклады¬
вали новую автостраду; как-то раз господин Матрай, ко¬
торый уже не отходил от дома на такое далекое расстоя¬
ние, вскользь упомянул об автостраде, упомянул с неодо¬
брением — ведь из-за характерной для их земляков мед¬
лительности пройдут годы, прежде чем дорога будет за¬
кончена. Элизабет ходила взад и вперед у края пропасти,
искала спуск, но спуска нигде не было, не стоило даже
пробовать сползти вниз; па обрыве ничего не росло — пи
кустика, ни деревца, не за что было ухватиться, земля по¬
всюду была рыхлая и голая; Элизабет наверняка бы со¬
рвалась со стометровой высоты. Потом она оглядела строй¬
площадку, на которой никто пе работал, только где-то у
самого горизонта два землекопа утрамбовывали трассу, но
они были так далеко, что не услышали бы ее воплей; бес¬
полезно было кричать и спрашивать, как сойти вниз и где
дорога к озеру. Элизабет села у обрыва, подумала немШЙ'О
и, обескураженная, потащилась обратно к верхней дороге;
конец дороги был почти нехоженый, и она с трудом на¬
шла его. Итак, по маршруту № 1 нельзя было добраться до
озера, завтра придется пойти по маршруту № 7 или № 8*
пе могли же они уничтожить все дороги через лес к озер!у.
Когда она шла домой, показалось солнце, оно просве¬
чивало сквозь деревья; солнце было тусклое, по горячее.
294
Йернулась Элизабет поздно, господин Матрай как раз про¬
будился от короткого послеобеденного сна и с тревогой
спросил, где опа пропадала; Элизабет пожаловалась, что
с верхней дороги невозможно спуститься, там проклады¬
вают шоссе, но никто не догадался поставить тцит с пре¬
дупредительной надписью. Эта дорога — опасная штука!
Путник, ничего не подозревая, может сделать лишний шаг
и свалиться в пропасть. Господин Матрай заявил, что это,
мол, типичная история для здешних мест. Позор! Он рад-
радехопек, что опа уже дома. Конечно, Элизабет несколько
преувеличила опасность, да и господин Матрай беспокоил¬
ся по другой причине: он считал, что для первых дней она
гуляет чересчур много, хотя, разумеется, ей надо попы¬
таться пройти к озеру иным путем.
Немного позже они пили в саду кофе и вспоминали
прошлое; больше всего они говорили о тех временах, кото¬
рые по сию пору вызывали у отца живой интерес. Л потом
господин Матрай мимоходом с усмешкой прошелся насчет
свадебного путешествия Роберта в Марокко; они с госпо¬
жой Матрай ограничились тем, что побродили по Розен¬
талю и через перевал Лойбль спустились в Блед — отлич¬
ная прогулка, хоть и не путешествие в буквальном смысле
этого слова. Но тут Элизабет уже опять углубилась в пла¬
ны Роберта, в будущее Роберта и в связи с этим устало по¬
думала о собственных планах. А потом у нее родилось
смутное подозрение, что у Роберта и Лиз нет будущего,
единственное их достояние — молодость, будущего им не
дано. Будущее Элизабет так и не наступило, равно как и
будущее ее родителей. Испокон веку всем молодым людям
внушали, что у них есть будущее, по с этим будущим ни у
кого ничего не получалось... Она не стала приглашать отца
пообедать в ресторане, не стала приглашать его к «Занд-
вирту» или в Париж; ей уже давно расхотелось показы¬
вать отцу Париж; когда господин Матрай сообщил, что не
прцрдет на свадьбу Роберта, Элизабет стало ясно, что отец
уже не способен к дальним походам и поездкам. Свою по¬
следнюю поездку в Сараево он совершил один в возрасте
семидесяти лет.
Господин Матрай сказал, что не понимает, почему до
Сих пор нет открытки от Роберта и Лиз; Элизабет начала
успокаивать его — пе станут же молодые писать в первый
день; кроме того, письма идут все дольше и дольше. Даже
во времена почтовых карет почта шла не так мучительно
долго, как сейчас, в век сверхскоростных самолетов п сверх¬
быстрых поездов; никаких причин для беспокойства пет,
открытку принесут не раньше, чем к рождеству. Опп с от¬
цом беседовали о будущем Роберта, но Элизабет не знала,
что сказать, и вдруг у нее в памяти всплыл один эпизоду
связанный с Манесом; как-то опа, смеясь, сказала Манесу,
что у нее в жизни все получилось шиворот-навыворот:
сперва она полюбила ребенка и только много лет спустя
мужчину. А когда судьба женщины складывается так
странно, она и сама становится странной. Чтобы рассеять
свои сомнения, Элизабет решила поговорить на эту тему с
отцом; она спросила его, помнит ли он, как много-много
лет назад она вела себя до крайности нелепо, совершенно
непозволительно относилась к матери. Конечно, из-за Ро¬
берта.
Господин Матрай, с наслаждением потягивавший ко¬
фе — послеобеденные часы были его любимыми часами,
особенно если удавалось немного вздремнуть,— рассеянно
возразил:
— Да нет же, ничего подобного я не замечал. Не пони¬
маю, какие недоразумения могли возникнуть между ма¬
терью и тобой.
— Стало быть, ты не знаешь, что мы с мамой времена¬
ми ненавидели друг друга,— сказала Элизабет,— разумеет¬
ся, ненавидели из-за Роберта. У мамы пе укладывалось в
голове, как это шестнадцатилетпяя дуреха, которой опа
трижды объяснила все, что положено объяснять девушкам,
вдруг разоралась и заявила: неизвестно еще, чей ребенок
Роберт, с той же вероятностью он может быть ребенком
ее, Элизабет. Тогда мама вышла из себя и залепила мне
пощечину, первый и последний раз в жизни. Конечно, я
разозлилась еще больше и сказала: запомни одно, у меня
никогда не будет своего ребенка, потому что ни один ре¬
бенок не может стать таким замечательным и необыкно¬
венным, как Роберт, наверно, мама была тогда в кошмар¬
ном состоянии, ведь фактически мы боролись за душу Ро¬
берта. Да и сам Роберт, который, конечно, пе понимал, по¬
чему у него оказалось сразу две матери, также доводил
маму до отчаяния — не хотел засыпать без меня. Помнишь?
Помнишь Роберта после его первой болезни? ifr,
Господин Матрай не рассердился, по все же решил от¬
читать дочь и сказал:
— Опять эта твоя ужасная манера — все преувеличи-
296
вать! Мама была очень справедливым человеком и любила
вас одинаково.
Элизабет начала горячиться:
— Но ведь я вовсе не отрицаю этого. Я говорю только:
мама точно знала, что я завидую ей из-за Роберта. II разве
не чудно, что, несмотря на всяческие самые сложные пе¬
рипетии, я сдержала слово, сдержала свое детское обеща¬
ние пе заводить собственного ребенка, потому что сущест¬
вует Роберт. Да, кстати, я вспомпила еще один удивитель¬
ный случай, до сих пор непонятно, почему мама мне о нем
рассказала. Однажды я неожиданно отправилась из Вены
домой, вы с матерью этого не знали. Но вот ночью мама об¬
наружила па лестнице в темноте зареванного Роберта, а
когда он перестал реветь и она опять уложила его в пос¬
тель, Роберт сказал маме: ведь я знаю, знаю, она приедет,
мне снилось, что она едет. «Она» была, конечно, я. Даже
сейчас я иногда думаю, что Роберт — единственный в мире
человек, который когда-то вскочил ночью, плакал и радо¬
вался, предчувствуя мой приезд.
Покачивая головой, господин Матрай сказал:
— К сожалению, это чересчур сложно для моего пони¬
мания. Как мог Роберт знать то, чего не знали мы? Но вы
оба — я имею в виду тебя и Роберта,— вы оба отличаетесь
богатой фантазией, ума не приложу, от кого вы ее унасле¬
довали, только не от меня и не от матери. Помню, что Ро¬
берт — оп тогда был сопливым мальчишкой — заявил: он,
мол, нё желает видеть тебя замужем, брат, видите ли, на¬
ложил вето на твое замужество. Ну, конечно, я сказал ему
все, что думал по этому поводу. Извини, я, право, не хотел:
вспоминать о твоем замужестве, не хотел делать тебе боль¬
но.
Элизабет, которая думала совсем о другом, почувство¬
вала облегчение и, смеясь, успокоила господина Матрая:
— Мне ни капельки не больно, мой брак был очень
смешным, пожалуй, единственным смешным эпизодом в
моей жизни. Впрочем, знаю, ты органически не перевари¬
вал беднягу Хыо.
Элизабет прилегла у крутого откоса. Маршрут № 7 вне¬
запно обрывался — глубоко внизу тянулась автострада;
солнце было настолько горячим, что она со вздохом сняла
с себя теплую кофту и разулась. Ее, как никогда, мучила
жажда, особенно при виде озера, к которому невозможно
29Z
было подступиться. Волей-неволей опа смирилась с этим
фактом; об озере надо было забыть, так же как и о многом
другом в жизни. Элизабет начала думать о том уголке за
горизонтом, где сходились границы трех государств, она
бы с удовольствием поселилась в этой пограничной^луп!^
где до сих пор еще жили крестьяне и охотники; невольно
она подумала, что и она обратилась бы к ним со словами:
«Мои народы...» Только опа не послала бы их на смерть и
не устроила бы так, чтобы они расстались навек, хотя
раньше совсем неплохо ладили друг с другом; конечно, и
у них случались недоразумения, иногда вспыхивали рас¬
при и мятежи; по ведь нельзя же требовать, чтобы люди
жили по законам здравого смысла. С усмешкой она вспом¬
нила отца, который совершенно серьезно объяснял, что в
ту пору жизнь была абсолютно бессмысленной и дикой, но
многим опа в глубине души нравилась, потому что сами
они были дикарями, даже тогдашние бунтари переполоши¬
лись, когда гигантская, ненавистная и в то же время обо¬
жаемая империя, бессмысленная империя, вдруг рухнула,
исчезла как дым. Болезнью лжепатриотизма, которая ста¬
ла, впрочем, теперь ужасно редкой, Элизабет не заболеет;
невозможно отрицать лишь одно — лично ее мораль, да, ее
мораль осталась здешней; Париж не наложил на нее ника¬
кого отпечатка, и ее мораль не имеет отношения к Нью-
Йорку и даже к Вене. Хотя Элизабет любила в былые вре¬
мена приезжать раз в два-три года в Вену, примерно на
неделю, приезжать сияя, каждый раз с новым спутником,
иногда даже с двумя; что это были за спутники, не пони¬
мали толком ни она сама, ни ее венские друзья, которые с
жадным любопытством следили за ее эскападами. Единст¬
венную брешь в стройном здании венских сплетен пробил,
как ни странно, весьма сдержанный Атти Альтенвиль; од¬
нажды он сказал, что окружающие относятся к Матрай чу¬
довищно несправедливо, на самом деле опа прямо создана,
чтобы прожить всю жизнь с одним мужчиной, но тут он
вдруг поразился собственным словам, тем более что все с
удивлением посмотрели на него; нет, он не мог этого обос¬
новать, а у его жены возникла самая простая версия: ког¬
да-то давно, разумеется до брака с ней, Атти, наверно, ув¬
лекался Матрай, которая была немного старше его. И Ац-;
туанетта с большой нежностью взглянула на своего мужа,
поскольку это его увлечение, в сущности, льстило ее само¬
любию. Визиты Элизабет к ним она обсуждала с добрым
298
десятком людей, правда, просила хранить ее сообщения в
строжайшем секрете. Однако именно поэтому они распро¬
странялись верней, чем если бы их напечатали в мест¬
ной газете, ведь в газете кое-кто ненароком мог и пропус¬
тить цх. Знакомство с Матрай было для Антуанетты круп¬
ным козырем: даже такие люди, как Альтепвили, пе могли
похвастаться большим количеством друзей, которые были
бы па короткой ноге со знаменитостями, и не только по
долгу службы. А ведь Матрай запросто встречалась с не¬
доступными для простых смертных лицами — с художни¬
ками и кинозвездами, политиками и членами семьи Рот¬
шильдов, ездила с ними на пикники и ходила ужинать.
Антуанетта, которая, как и большинство венцев, была са¬
мой горячей поклонницей актеров и актрис и с энтузиаз¬
мом принимала у себя даже Фанни Гольдман, разумеется,
не была зпакома ни с одной по-настоящему известной ки-
подивой и всегда говорила о кинодивах с величайшим пре¬
зрением. Это не мешало ей, однако, прямо-таки с детским
любопытством выспрашивать о том, как проходят вечерин¬
ки в Голливуде, как выглядит Лиз Тэйлор и что она собой
представляет. Элизабет очень удивлялась Антуанетте, зная,
что люди, подобные Альтенвилям, ни под каким видом не
стали бы знаться с полусветом или поддерживать дружбу
с людьми, чья личная жизнь широко обсуждается в иллю¬
стрированных журналах; правда, во всем мире киноакт¬
рисы и фотомодели все чаще выходили замуж за аристо¬
кратов и проникали в высшее общество; им было невдо¬
мек, что венские аристократы Альтенвили предпочли бы
мести улицу, нежели появиться па людях с какой-нибудь
там фотомоделью; да и сама Антуанетта говорила при слу¬
чае о принцессе Монакской:
— Я вовсе не утверждаю, что она плохо играет свою
роль. Но актриса всегда остается актрисой.
Впрочем, по отношению к Фанни Гольдман опа зани¬
мала совсем иную позицию.
’ — Фанни в роли Ифигении — истинная королева,— го¬
ворила она.
Элизабет очень вскользь сообщала о своей парижской
или ныо-йоркской жизни, чаще всего о тех встречах, сви¬
детельницей которых была; о себе самой она не любила
распространяться. Но, слушая ее, венские друзья и слу¬
чайные знакомые невольно чувствовали себя приобщен¬
ными к миру, который представлялся им совершенно иным,
299
Ванное' настоящее слово, чтобы поведать о собственной
судьбе. Она с трудом удержалась, чтобы не бросить в лицо
врачу: «Л кого интересую я, кого интересует человек, ко¬
торый имеет смелость задумываться и жить по-своему? Что
вы сделали со мпой и еще с тысячами других женщин, на¬
делив их этим идиотским «всепониманием»? И неужели,
наконец, никому не пришло в голову, что, приучив гово¬
рить человека штампами, его убивают, ибо лишают воз¬
можности переживать и мыслить?»
Разумеется, она пе стала кричать на врача, вежливо
поблагодарила и сделала яркий репортаж, от которого ее
самое тошнило, а потом, когда репортаж все давно забыли
и бросили в мусорный ящик, она получила за него премию.
После сорока лет Элизабет заметно поскучнела; Жан-
Пьер, ее второй Жан-Пьер, сказал однажды, что у него
был роман с австриячкой, синхронной переводчицей, фан¬
тастически честолюбивой особой; какое счастье, что па
свете еще существуют такие женщины, как Элизабет, ведь
она никогда бы не пожертвовала возлюбленным ради ра¬
боты. Жан-Пьер считал, что у них с Элизабет похожая
судьба, видимо, ее тоже бросали круглые дураки; жаль,
что после этой его последней связи в нем произошел некий
«сдвиг» и он не может без отвращения думать о женитьбе,
даже если женой его станет Элизабет.
Лучше всего она чувствовала себя с Клодом Маршаном,
человеком примитивным, опасным и откровенно циничным;
в начале карьеры он был связан чуть ли не с уголовным
миром, однако выбился в люди, занялся кинематографиче¬
ским бизнесом; вел себя беспардонно, не гнушался темных
махинаций, зато обладал неуемной энергией, которой зара¬
жал даже ее; кроме того, ей импонировала его прямота,
этим он выгодно отличался от столь же беспардонпых, но
женоподобных мужчин, считавших себя порядочными. С
некоторых пор эти мужчины нагоняли на нее тоску. Дру¬
зья Элизабет пожимали плечами — никто не понимал, по¬
чему она связалась с мелким гангстером, но на пересуды
она не обращала внимания. А потом, когда они с Марша¬
ном почти перестали встречаться, люди, прежде пожимав¬
шие плечами, начали лебезить перед ним. Для них он уже
не был мелким гангстером, ибо купил две фирмы по дуб¬
ляжу и пожирал одного кипопродюсера за другим. Изредка
Клод приглашал Элизабет в ресторан, вспоминал старые
ЗОА
добрые времена, когда он еще мог «отмочить хорошень¬
кую штучку».
Успехи Элизабет у мужчин росли, по одновременно рос¬
ло и ее равнодушие ко всему на свете; теперь она с иро¬
нией вспоминала, как когда-то давно вдруг оказывалась
в «пустыне» и «страдала от жажды», как плакала после
каждого разрыва и в то же время упрямо цеплялась за
свою свободу, работала, гордясь этим,— ее спасение было
в работе. Теперь она вообще не могла понять прежних тра¬
гедий, стала спокойной и уравновешенной. Ну а что ка¬
сается ее явио затянувшегося романа с Филиппом, то это, в
сущности, пустяк, при первом удобном случае она с ним
порвет, хотя это и не так легко; не может же она явиться
в Париж и с бухты-барахты сказать Филиппу: «Забирай
свою пижаму и электробритву, забирай свои книги и ка¬
тись па все четыре стороны». Нет, он еще нуждается в ее
помощи. Только мысленно легко произнести смелую фра¬
зу: «Мне никто не нужен — ни ты, пи другой мужчина,
дело вовсе пе в тебе, а исключительно во мне, но объяснять
я ничего не желаю». В действительности, однако, в Па¬
риже эту фразу она навряд ли сможет выговорить, точно
так же не решится опа произнести и такую фразу: «Мой
брат женился, между нами все кончено, постарайся понять
меня».
Но вот с одпой надеждой Элизабет пора распроститься.
За тридцать без малого лет она ни разу, ни разу не встре¬
тила человека, который стал бы для нее всем, без которого
она не представляла бы своего существования; человека,
достаточно смелого и способного приобщить ее к тайпе
чувств, необходимых каждой женщине. Да, она ни разу не
встретила настоящего мужчину, все ее возлюбленные были
чудаками, неудачниками, нюнями, эдакими беспомощными
существами. Кстати, существа эти буквально наводнили
сейчас мир... Ну а если она до сих пор не встретила на¬
стоящего мужчину, стало быть, не встретит его никогда;
героя уже не будет, и, значит, со всеми другими следует
вести себя вежливо, дружелюбно, но не больше. И не тя¬
нуть. Это главное, а еще лучше, если мужчины и женщины
будут держаться друг от друга на расстоянии, сохранять
дистанцию, пока не пройдет сумятица, душевная неразбе¬
риха и обольщение, без которых не бывает пи одной любов-“
пой связи. И тогда, быть может, придет настоящее чувство,
только тогда. Настоящее, всеобъемлющее чувство, чув-
302
сйо-таина, рабом которого каждый бы стал с наслажде¬
нием.
Вечером, уже после последних известий, раздался зво-
нЬк, и "Элизабет, пе дав себе труда дослушать отца, сбе¬
жала по лестнице к телефону; качая головой, господин
Матрай говорил, что эти вечные телефонные звонки, видно,
самая распространенная болезнь среди нынешней моло¬
дежи.
Филипп сообщил, что он буквально не отходит от теле¬
фона, никак не может ей дозвониться и уже начал беспо¬
коиться; они заговорили разом, а потом Филипп сказал, что
сегодня ему особенно пе хватает Элизабет — сегодня утром
он дал согласие Люку стать у него ассистентом, Люк начал
работу пад новым фильмом. Одобряет ли она его решение?
Элизабет ответила, что это замечательно, и много, много
раз повторяла, что это самая лучшая весть из всех, какие
она слышала за последнее время; когда она вернется в
Париж, надо обязательно отпраздновать это событие.
И пока она говорила, ей пришло на ум, что Филиппу во¬
преки ее ожиданиям все же удалось пристроиться и что у
него счастливый характер — он уже забыл, что всем обя¬
зан ей. Элизабет очень старалась, чтобы он не угадал ее мы¬
слей. И еще она подумала: жаль, что Филипп не мог найти
для нее никаких других ласковых слов, кроме mon chou 1
или mon poulet2, эти прозвища раздражали ее уже давно,
с тех пор как она слышала их из усг Клода, Жан-Пьера,
Жан-Мари, Мориса и ее второго Жан-Пьера; вечно они
называли ее cherie3 и mon chou.
— Oui, mon chou,— ответила она, и в голосе ее послы¬
шались сердитые потки. Но потом опа очень весело заго¬
ворила о своем житье-бытье в Клагенфурте, о том, как
здесь замечательно и как завтра она пойдет на озеро пла¬
вать. А Филипп, который уже поделился с ней главной но¬
востью, счел своим долгом сказать, что ей надо наконец
прибавить в весе, он считает, что в последнее время она
прямо катастрофически исхудала. Но там, в деревне, ее
откормят. После чего они опять заговорили разом: «До
скорого, привет, привет, до скорого».
1 Милочка (франц.).
2 Цыпочка моя (франц.).
3 Дорогая (франц.).
303
В «деревне», как выражался Филипп, они с отцом ели
крайне мало — пе считая фруктов, съедали два-три лом¬
тика мяса и горстку салата и запивали все молоком или
простоквашей; молоко, конечно, брали пе из-под коровы,
а в молочной. Да и вообще ничего деревенского здесь не
было, они жили на окраине провинциального города, кото¬
рый, между прочим, считался главным городом провинции и
был включен в общеевропейскую железнодорожную и авиа¬
ционную сеть; каждый день из Клагенфурта и в Клаген¬
фурт шел поезд дальнего следования и летел самолет; по
непонятным причинам, однако, самолет следовал через
Франкфурт в Лондон. Между Каринтией и Англией не су¬
ществовало торговых связей, скорей уж Лондон был свя¬
зан с южными и восточными землями Австрии, но, как пи
странно, билеты па рейсы Лондон — Клагенфурт пользо¬
вались большим спросом, видимо, англичане выходили во
Франкфурте и там же садились немцы — в Каринтию при¬
бывали почти исключительно немцы, и еще Роберт; Роберт
был, наверно, единственным пассажиром, который проде¬
лывал весь путь с начала до конца. Прямого сообщения с
Парижем отсюда вообще не было. Элизабет приходилось
лететь через Вену и Милан или даже через Венецию. И в
довершение всего, чтобы добраться домой, надо было не¬
сколько часов трястись в поезде. Поэтому она часто гово¬
рила господину Матраю:
— Пойми меня, бессердечие здесь ни при чем, это про¬
сто очень утомительное путешествие, а я ненавижу дорогу,
ведь мне приходится почти все время быть в дороге. Ве¬
неция для меня совсем не то, что для других людей, для
меня это мука мученическая и бесконечная тряска в по¬
ездах, а Милан просто катастрофа. Что касается Вены, то
это самое худшее место на земле. В австрийском скором
поезде я, хочешь не хочешь, часами слушаю чужие раз¬
говоры на языке, который знаю в совершенстве, и разго¬
воры эти ведут чужие люди, которых я опять-таки знаю в
совершенстве. Куда приятнее курсировать между Дакаром
и Парижем, там слышишь чужую речь, которую понима¬
ешь через пятое на десятое. В Австрии я чувствую бук¬
вально каждый оттенок, каждую фальшивую ноту, каж¬
дый сбой, каждую пошлость, ведь в этой стране люди гово¬
рят, как ты и как Роберт. В следующий раз залеплю себе
уши воском, иначе те несколько часов, чго я провожу в
поезде, превращаются в сплошную муку.
304
Господин Матрай не совсем понял Элизабет, по одобри¬
тельно кивнул.
— Именно потому я и не езжу,— сказал он,— и стара¬
юсь пи с кем больше не разговаривать.
Точно так же, как Элизабет, он любил местный диалект
и умел вовремя ввернуть меткое словечко. Но вообще оп
говорил па подчеркнуто правильном немецком, па каком
говорят в Австрии, па немецком языке, который как нельзя
лучше соответствовал его облику, манерам, умонастроению.
Иногда он пе прочь был прочесть вслух несколько газет¬
ных строк, иронически восклицая:
— Интересно, где они откопали этот перл — «необес¬
печенно»? Ну н ну! Ты слышишь?
Господин Матрай гордился тем, что Элизабет и Роберт
знали так много иностранных языков, и не мог понять, от
кого они унаследовали лингвистические способности,—
только не от матери, говорившей на том жестком немецком,
на каком говорят славяне, и не от самого господина Маг-
рая — ведь он так и не овладел ни одним чужим языком,
даже словенским. Элизабет не хотелось объяснять отцу,
что Роберт обладает весьма средними способностями к язы¬
кам; правда, оп говорит на двух языках, но этого требует
его профессия, а его английский звучит сносно только бла¬
годаря Лиз. Лингвистический дар есть скорее у нее, хотя
в Вене, когда опа писала по-немецки, этот дар так и пе
проявился; зато потом опа, к своему удивлению, научилась
писать и по-французски, и по-английски. Правда, дву¬
язычной, как Тротта, она не стала и особого совершенства
в языках пе достигла. Просто в отличие от Роберта она бы¬
стро схватывала, обладала языковой мимикрией и была
осторожной: никогда не пыталась подражать своим друзь¬
ям — англичанам или американцам; ее английский был ли¬
шен всякого колорита, она говорила на некоем нейтральном
языке. Как-то раз опа пожаловалась Тротте, что не в си¬
лах выучить французский так же хорошо, как он; в ответ
Тротта сказал, что это ее счастье; он никому не желает та¬
кого полного «растворения» в чуждой стихии — «растворе¬
ния», одним из элементов которого является абсолютное
знание чужого языка.
В начале их связи оп несколько раз помогал ей дер¬
жать корректуру, видя, что опа не вполне уверена в себе.
А потом сказал, что для ее «ремесла» — так он и выра¬
зился,— для ее «ремесла» она знает язык достаточно.
11 № 1034
305
В Штатах тоже нашелся человек, который помог ей на
первых порах; но там дело пошло еще быстрее: в Штатах
уже до нее изобрели весьма простой язык для газетных
надобностей. И там Элизабет отнюдь не представляла со¬
бой исключения, как во Франции.
По-немецки Тротта говорил иначе, чем говорят в Гер¬
мании, но как уроженец страны, где родной язык —- немец¬
кий; по-французски оп говорил, как француз. И считал
это вполне естественным, как и то, впрочем, что знал два,
а может, и три славянских языка; он говорил на них сво¬
бодно, по с небольшим акцептом, словно человек, давно
покинувший родину. Однажды он сказал Элизабет:
— Теперь я понял, у меня нет настоящего местожи¬
тельства, страны, по которой бы я тосковал. А раньше мне
казалось, что у меня есть душа и что моя душа принадле¬
жит Австрии. Но когда-нибудь всему приходит конец. Че¬
ловек теряет и душу и разум. Я чувствую: во мне что-то
кровоточит, не знаю только, что именно.
Беседуя с отцом, Элизабет вдруг осознала, что Тротта
был все-таки австрийцем, наделенным тем же духом отри¬
цания, что и господин Матрай, который, впрочем, ничего
не отрицал, но зато все порицал. Особенно он порицал лю¬
дей, делавших вид, будто... будто еще может идти речь об
австрийском духе. Кроме того, он упрямо утверждал, что
ошибку истории нельзя исправить и что 1938 год не был
громом среди ясного неба, в австрийском здании уже давно
образовалась трещина, и последующая катастрофа явилась
результатом этой трещины; его мир, который он и сам не
так хорошо знал, был окончательно уничтожен уже в
1914 году; совершенно непонятно, как он, господин Мат¬
рай, службист по натуре, забрел в этот век, не знавший
службистов, по крайней мере в его понимании. Отец любил
говорить о минувших временах, уважал их, хотя и крити¬
ковал. Он помнил каждую ошибку, совершенную в ту
эпоху, помнил настолько отчетливо, словно сам ее совер¬
шил. Чем старше становилась Элизабет, тем охотней она
его слушала; в молодости ее не интересовало прошлое, она
жила только будущим. И еще Элизабет знала, что господин
Матрай, который не был и не мог быть социалистом —
для него это значило бы предать самого себя,— всегда го¬
лосовал за «красных». «Для ускорения,— говорил он ворч¬
ливо.— И чтобы кончилось это лицемерие». Оп терпеть не
мог всяких качаний и анахронизмов. Прошлое, жившее в
306
памяти отца, было совсем, совсем иным. Но какое дело со¬
временникам до воспоминаний господина Матрая? Когда
Роберт, закончив второй семестр, приехал домой и с торже¬
ством сообщил, что он проголосовал за коммунистов, госпо¬
дин Матрай улыбнулся и сказал:
— Такой сопляк и туда же, голосует за коммунистов,
конечно, во всем виновата Элизабет с ее агитацией и ин¬
тернационализмом. Правда? Человечество уже однажды
почти достигло величия и пошло по пути прогресса, но вам
этого не понять. Продолжайте в том же духе, я не воз¬
ражаю.
Элизабет немного смутилась и обиженно воскликнула:
— Да, я всегда делилась с Робертом и говорила ему
правду, но я никому не даю советов. Вовсе я не оказывала
влияния на этого сопляка. Он сам знает, что ему делать.
Разве ты не повторял тысячу раз, что надо жить собствен¬
ным умом, без скидок на молодость? Разве не говорил, что
ребячество не аргумент, что каждый должен отвечать за
себя и что, если подросток в двенадцать-тринадцать лет ни¬
чего не понял, он ничего не поймет и впредь. Воспитание
Роберта — твоих рук дело, я тут ни при чем.
Удивительная история! И дочь и сын одинаково любили
господина Матрая; наверно, это объяснялось тем, что сам
он никогда не сделал ни малейшей попытки завоевать чью-
либо любовь, даже любовь собственных детей. И он никогда
не козырял теми жертвами, какие принес детям, хотя эти
жертвы были велики; он не рассказывал им, например,
скольких трудов ему стоило купить в рассрочку дом на Зе¬
леной аллее, а потом десятки лет выплачивать его стои¬
мость. Он не ждал благодарности ни за дом, ни даже за то,
что не женился во второй раз; по его глубокому убеждению,
Элизабет и Роберт никогда не примирились бы с мачехой;
и тут он был безусловно прав: стоило какой-нибудь жен¬
щине после смерти госпожи Матрай приблизиться к нему,
как Элизабет и Роберт становились совершенно невыноси¬
мыми, сами не сознавая своей жестокости.
Элизабет поняла это много лет спустя и сказала Робер¬
ту, который, еще будучи гимназистом, приехал к ней од¬
нажды в Париж:
— Послушай, тебе когда-нибудь приходило в голову,
что мы обязаны отцу буквально всем? Он человек редкий,
а мы с тобой — неблагодарные свппьи. Вообрази, он бы
женился, сам понимаешь, это его право. И вот подумай,
11 •
307
какую жизнь мы бы ему уготовили, как ужасно вели бы
себя с ним и с его новой женой. Конечно, сейчас нам все
понятно. Но ты уверен, что даже сейчас мы бы искрение
захотели простить его? Я пе уверена. Помнишь госпожу
Нонке, твою красивую учительницу? Теперь я вдруг по¬
няла, что отец к ней благоволил, а она наверняка была к
нему неравнодушна. Бедняжка всячески меня обхаживала,
как будто все зависело не от него, а от меня. Нонке была
хорошая женщина, вероятно, они были бы счастливы. Но
разве можно представить себе госпожу Нонке в доме на
Зеленой аллее? Лично я пе могу. И вот теперь мы все чаще
бросаем отца одного: скоро и ты будешь наведываться под
отчий кров всего па депек-другой. Ну, а как ты поступишь
с домом, дорогой мой Роберт? Рано или поздно ты его про¬
дашь. В последний мой приезд отец долго рассуждал на
эту тему, и мы решили, что дом унаследуешь ты, но как
старшая, словом, на старости лет, я получу право на ком¬
нату. Надеюсь, я не доживу до старости. Такой пакости я
тебе не сделаю. Кроме того, я скоро собираюсь купить квар¬
тиру. И как только у меня появится свободная минутка, я,
наверно, все же выйду замуж. Правда, если женишься ты,
положение усложнится. Я могу прийтись не по нраву твоей
жене, или она придется не по нраву мне. Стало быть, все
усилия отца пойдут прахом.
Заключая разговор, Элизабет легкомысленно бросила
отвратительную фразу:
— Я сказала отцу, пусть подумает хорошенько, теперь
ему по крайней мере будет о чем думать, кроме твоих пло¬
хих отметок по латыни и моих кратких визитов.
А потом, сидя с Робертом на Плас-дю-Тертр, она вводи¬
ла брата в еще не изведанные для него сферы и выслуши¬
вала его тягостные признания, он пересказывал разговоры
гимназистов о женщинах и каялся, что делает вид, будто
он знает женщин, пе дай бог, ребята заподозрят, что в этом
у него нет опыта; Элизабет, как могла, успокаивала его:
ну конечно же, товарищи хвастаются только потому, что у
них еще не было ничего серьезного с женщинами, иначе
они вообще молчали бы. В тот день Элизабет чувствовала,
что необходима брату не меньше, чем давным-давно, когда
она стирала его пеленки и с радостью недосыпала — Ро¬
берт очень часто вскакивал почью с криком, но звал оп пе
госпожу Матрай, а Элизабет... И вот посреди разговора с
Робертом она вдруг поняла, что совершила ужасающее
308
предательство, сказав об отце: «Ему по крайней мере будет
о чем думать...» С этой минуты она крайне невнимательно
слушала Роберта; как жаль, что ее слова нельзя вернуть
обратно; она надеялась только, что брат пропустил их мимо
ушей — ведь все его мысли были заняты трудностями, свя¬
занными с переходным возрастом и гимназией.
— Ну, разумеется, коль скоро ты первый ученик по
химии и не любишь латынь...
Нельзя сказать, что Элизабет прочла вразумительную
лекцию, но потом все пошло своим чередом. Роберт выпил
первый в своей жизни аперитив, на площадь опустилась
тихая ночь, Элизабет вполголоса произносила успокаиваю¬
щие слова: пусть не считает, что мальчик шестнадцати лет,
который ни разу не спал с женщиной, опозорен навек; бол¬
тать в эти годы о женщинах — глупое бахвальство; сама
Элизабет, называющая вещи своими именами, имеющая
известный опыт — если в этих делах вообще существует
опыт — и знающая куда больше товарищей Роберта, сама
Элизабет отнюдь пе стала «женщиной» того типа, о кото¬
ром в гимназии только и было разговору. Да, все шло
своим чередом, но Элизабет время от времени нежно и лю¬
бовно вспоминала отца и мысленно клялась никогда не
говорить ничего такого, что было бы больнее слушать ей,
чем тому человеку, о котором опа говорила.
В тот вечер Элизабет выставила за дверь Роберта; слег¬
ка охмелев от первой в своей жизни рюмки перпо, он на¬
чал гладить ее волосы и лицо. Пора было прекратить это
или, скорее, вообще не следовало начинать.
Во время короткой послеобеденной прогулки к прудам
Элизабет сообщила отцу, что дорога № 8 упирается в строи¬
тельную площадку; господин Матрай заметил, что не на¬
ходит в этом ничего удивительного; его пессимистические
прогнозы относительно всех строек полностью подтверди¬
лись. Он советует Элизабет пройти верхом над дорогой № 1
через гостиницу Йеролича; там, кажется, есть тропка, по
которой можно спуститься к озеру. А если из этого ничего
не выйдет, он готов, в виде исключения, поехать с пей ра¬
зок к озеру, конечно, рано утром — утром там еще пе встре¬
тишь толпы туристов и переполненные автобусы. Он и сам
ходит иногда купаться, правда, редко, обычно в середине
сентября, когда можно быть уверенным, что пе столкнешь¬
ся с оккупантами, с их моторизованными колоннами, и
209
когда па озере нет этого адского шума. Кстати, ему вообще
непонятно, почему Элизабет считает, будто в Зеленой аллее
тихо, здесь бывает еще более шумно, чем в ее парижской
квартире; разумеется, шум у них совсем другой — то за¬
лает собака, то завернет за угол машина, а минут через
десять другая. И эти редкие шумы нервируют, пожалуй,
больше, чем равномерный, постоянный шум большого го¬
рода. Господин Матрай выходит из себя каждый раз, когда
машина пролетает мимо дома па недозволенной скорости,
а однажды он даже одернул водителя, осмелившегося по¬
ставить свой автомобиль на весь день у его ворот; как-то
ночыо вблизи остановились сразу две машины: дверцы то
и дело хлопали, люди громко разговаривали, и это было
почти в полночь; у господина Матрая лопнуло терпение,
высунувшись из окна, он сказал им пару слов и с удовле¬
творением отметил, что вся компания сразу стихла. Скан¬
дальный случай! Но с тех пор безобразие больше не повто¬
рялось. Кроме того, здорово шумят и соседские ребятишки,
их теперь здесь очень мало, поэтому детский крик воспри¬
нимается особенно остро, еще острее воспринимается визг
одной молодой мамаши, которая истошным голосом вопит^
высунувшись из окна: «Ма-а-алыш, де-етка, ма-а-алыш!>>
И все же здесь тихо, но причина тишины — безлюдье;
в их квартале, который когда-то, в годы молодости Элиза-
бет, жил полнокровной жизнью — все дома были заселены
купившими их в рассрочку молодыми парами с детьми,-^*
в их квартале теперь остались считанные жители, сплошь
старики. С невозмутимым видом господин Матрай сообщал?
— Помнишь госпожу Йонас? Она приехала из Штирии,
и у нее был племянник, который теперь, кажется, стал зна¬
менитым, о нем даже передают по радио, он поэт, пишет
что-то совершенно непонятное, впрочем, я в этом вопросе
не разбираюсь... Так вот, эта госпожа Йонас зимой умерла*
Дети госпожи Вук эмигрировали в Канаду. А Эдмунд..*
дай-ка я соображу, да, Эдмунд был немного старше Робер¬
та... Эдмунд уехал в Америку. Господин Арриги умер ме¬
сяц назад. Неужели ты его не помнишь? Он жил когда-то
у Келагов.
Элизабет уже свыклась с сообщениями о смерти, она
выслушивала их каждый год и, стараясь перевести разго¬
вор на другое, спрашивала отца о «соседских детях». Хель¬
га вышла замуж за шотландца и уехала, да, за шотландца;
Лиз переселилась в Грац, успела уже два раза развестись,
310
сейчас опа дает уроки музыки в Граце; Иоланда иногда
приезжает сюда из Вены па лето, но опа не здоровается
с господином Матраем, и он тоже, конечно, не здоровается
С этой дурехой. Пусть делает вид, что она с ним не зна¬
кома. Продовольственный магазинчик напротив сиротского
приюта сохранил ту же вывеску, но владельцы перемени¬
лись; они приезжие и пытаются превратить свое заведение
в супермаркет. Господин Матрай с явной иронией произ¬
нес это слово, нарочно запинаясь па каждом слоге, и объяс¬
нил Элизабет, как выглядит сейчас их «суперлавка»: поку¬
патель берет проволочную корзинку и ходит с ней по кро¬
хотному помещению, а потом расплачивается в кассе, па
него глазеют пять человек, они стоят сложа руки и ра¬
дуются, что в лавку хоть кто-то забрел.
На следующий день Элизабет решила сама пойти за по¬
купками, чтобы убедиться в происшедших переменах; но¬
вые владельцы продовольственного магазина тут же узнали
ее, хотя она их не знала; некоторое время Элизабет сму¬
щенно топталась на одном месте.
— Сударыня, опять приехали к нам, в родные места,
Минни, помоги сударыне. С непривычки ей трудно найти
товар, какой сюрприз! Воображаю, как радуется господин
Матрай, господин Матрай держится молодцом, ему можно
позавидовать, молодые еще спят, а он уже на ногах.
Элизабет кивала, благодарила, хозяева помогли ей най¬
ти бутылки с молоком, их и впрямь трудно было углядеть
в темном углу; все шло, как прежде; хотя она могла и не
брать корзинку; продукты, которые Элизабет купила, ей
сунули в руки. Новый хозяин, господин Бихлер, с важным
видом восседал за кассой. Он явно тянул время, чтобы пу¬
тем ловко поставленных вопросов выяснить, где она живет.
— Да, Париж,— он вздохнул,— только в будущем году
нам с женой удастся поехать в Париж. Нынче мы побы¬
вали на Канарских островах, па Тенерифе, правда, был но
сезон.
В писчебумажном магазине, где Элизабет хотела ку¬
пить блокнот и открытки с видами, за прилавком стояла
расплывшаяся матрона с пористым лицом; сперва Элиза¬
бет ее вообще не узнала, потом они пожали друг другу
руки; они учились в одном классе; значит, эта женщина
и есть та самая девчонка, которая вместе с несколькими
другими оказалась замешанной в одной некрасивой исто¬
рии, помнится, все вертелось вокруг этого писчебумажного
311
магазина — хозяин тайком заманивал к себе пятнадцати¬
летиях девочек, он содержал нечто вроде гарема из несо¬
вершеннолетних. А на этой девице — Элизабет забыла ее
имя, не то Линда, не то Герлиида,— на этой девице его за¬
ставили жениться. Из-за своей непомерной толщины хо¬
зяйка дышала с трудом. Три года назад у нее умер муж;
да, ее жизнь была несладкой, муж годился ей в отцы; при¬
шлось расплачиваться за то, что на ней женился самый
красивый мужчина во всей округе, когда-то ей многие за¬
видовали; со стоном она продолжала:
— Ну и судьба, ты не поверишь, настоящий роман, но
горя я хлебнула достаточно! А ты? Надеюсь, тебе больше
повезло. И знаешь, ты совсем пе изменилась. Помнишь,
как мы тебя дразнили? Пожарная каланча.
Для приличия Элизабет засмеялась, пообещала захо¬
дить, но про себя решила, что никогда не переступит по¬
рога этого магазина; домой она явилась в довольно подав¬
ленном настроении. За обедом опа, правда, пыталась юмо¬
ристически описать свои утренние встречи, но потом вдруг
примолкла и выпустила эпизод с хозяйкой писчебумаж¬
ного магазина. Отец захотел прилечь, и Элизабет сказала:
— А я погуляю, хотя уже довольно поздно. Не жди
меня, пожалуйста, к кофе.
Она опять пошла верхом, размышляя, стоит ли избрать
один из трех привычных маршрутов, но потом свернула к
северу на дорогу № 10, ведущую к замку Фалькенберг.
Дорога сужалась и становилась все темней. Здесь было
сыро. Этот маршрут хотя бы не вел к озеру; перед замком
Фалькенберг, который, видимо, превратили в гостиницу
или в пансионат, стояло множество западногерманских ма¬
шин, зато в саду за пестрыми столиками, явно не гармони¬
ровавшими с замком, не было ни души: гости либо спали
после обеда, либо отправились на озеро. Элизабет села за
столик и закурила, предварительно убедившись, что у нее
есть двадцать шиллингов, чтобы заказать кофе или чай,
если к пей подойдет официантка, и тем самым остаться в
саду на законном основании.
Самую большую ошибку она совершила, наверно, в
Нью-Йорке — слишком поторопилась с разводом; ведь ког¬
да она выходила замуж за Хыо, она уже не верила, что
любит Тротту и что Тротта — ее судьба. И сегодня, глядя
на лес, она еще раз подумала, что тогда, в Нью-Йорке, по¬
312
ступила крайне опрометчиво. Увы! Ей ни в коем случае по
следовало соглашаться на развод из-за того письма; надо
было немедленно ехать вдогонку за Хыо; его письмо —
сбивчивые упреки в собственный адрес — вообще нельзя
было принимать всерьез; Хью писал, что не имеет права
затягивать Элизабет в эту трясину. И еще в письме была
такая фраза: «Мои силы иссякли, не могу объяснить тебе
все, ты заслужила лучшую участь, желаю тебе встретить
сказочного принца и забыть о моем существовании». К со¬
жалению, она не очень хорошо помпила его покаянное
послание с просьбой подать на развод. И до сих пор не
могла уразуметь, почему у него вдруг «иссякли силы», ведь
они отлично ладили друг с другом. Зато она хорошо по¬
мнила начало его первого письма к ней — эту фразу она
без конца повторяла и в Ныо-Йорке, п много позже; его
первое письмо начиналось так: Uncrowned Queen of my
heart1. Элизабет любила это письмо дольше, чем самого
Хыо, который, расставаясь с нею, наверно, что-то спутал
или дошел до невменяемого состояния — он тогда сбежал
в Мехико с каким-то итальянцем, а она три недели уми¬
рала от страха, не зная, где он. Элизабет ответила Хью
весьма патетическим письмом, где говорилось примерно
следующее: естественно, его желание для нее закон, но она
не согласна с тем, что он берет всю вину на себя. Здесь
вообще нельзя искать виновных; он всегда может рассчи¬
тывать на нее, она будет его ждать. Наверно, ее послание
было таким же сумбурным, как и его, потому что она вдруг
получила от Хью короткую записку с просьбой пе ждать
его; он сам должен пройти через это испытание; у него
есть только одна большая просьба: пусть простит его, и
еще одна большая просьба: пусть оформит развод. Джино
очепь сильно страдает из-за того, что Хыо мысленно не с
ним, а с ней, и еще из-за того, что он, Джино, причина их
разрыва. Для Элизабет так и осталось загадкой, почему
этот Джино, которого она видела всего раз, может очень
сильно страдать из-за их с Хыо отношений. Хью опять
наделил первого встречного некими скрытыми, топкими
эмоциями: Элизабет их нипочем не разглядела бы; впро¬
чем, по-настоящему топким был только сам Хью, а уж ни¬
как не Джино.
Да, с Хью они могли бы и пе разводиться,— ведь толь¬
ко он один умел превращать жизнь в праздник, до сих пор
1 Некоронованная королева моего сердца (англ.).
43
она благодарна ему за это. Хыо был действительно щедрый
п добрый. Однажды он получил заказ и ему выдали
аванс — сто долларов, и вот на эти первые заработанные
им деньги он купил Элизабет столько цветов, что они пе
поместились ни в вазах, ни в кувшинах — цветы плавали
даже в ванне; кроме того, он подарил ей дорогие духи, ги¬
гантский флакон духов; Элизабет совершенно опешила,
но, пожалуй, не столько от радости — она вспомнила, что
они еще не заплатили за телефон, и потому благодарила
Хыо весьма сдержанно. Зато теперь, поднявшись со стула
и бросив прощальный взгляд на замок, который уже боль¬
ше не был замком,— официантка так и не подошла, и, бла¬
годарение богу, ей не пришлось пить этот их немецкий
кофе,— теперь Элизабет вдруг увидела себя в Нью-Йорке
с охапкой цветов, смеющуюся и плачущую одновременно;
все было как в кино — героиня утопала в цветах, препод¬
несенных поклонниками. И в ушах у Элизабет вдруг про¬
звучала фраза, которую она сказала Хью: «You аге a fool,
oh Hugh, my darling, you must be crazy» !. Нет сомнения,
Элизабет давно забыла бы любой оплаченный счет за теле¬
фон; в памяти мог остаться только тот злополучный счет,
и цветы, и выброшенные па ветер деньги. Безрассудные
поступки — вот что олицетворял Хью; безрассудство
Хью — вот что жило в ней, возвеличенное памятью. Впол¬
не возможно, что, поселившись в Мехико или в каком-ни¬
будь другом городе, где сейчас считается модным «начи¬
нать все сначала» — тогда это считалось модным в Мехи¬
ко,— Хью забыл эпизод с его первым гонораром, забыл,
как он нес охапки цветов в их маленькую квартирку, как
он сиял и убеждал Элизабет, что единственные подходя¬
щие духи для нее — «Банди». Интересно, где Хью сейчас?
В Южной Америке или снова в Нью-Йорке? Быть может,
он думает о всяких неприятностях, о которых она уже ни¬
чего не знает, или о чем-то хорошем в их прошлом, о чем
забыла она?..
Элизабет села перед развилкой; одна из дорог вела к
маршруту № 5; разумеется, по ней можно было спуститься
вниз через замок Фрайентурн, правда, только до Платтен-
вирта, но оттуда до пляжа было рукой подать. Однако Эли¬
забет не хотела идти этим путем, чтобы не попасть па
шоссе; Филлахское шоссе надо было миновать — не могла
1 Ты с ума сошел, Хью, голубчик, ты определенно спятил
(англ.).
814
же она показаться людям в таком наряде, то есть, конечно,
могла; в сущности, ей было безразлично, что о ней поду¬
мают. Просто ей не нравилось, что маршруты № 5 и № 6
слишком быстро обрывались. Она начала спускаться, но
не по шоссе, а прямиком и вышла па поле — может, там
отыщется какая-нибудь дорога; но с поля даже озера и то
не было видно — перед Элизабет расстилалась сплошная
равнина, озеро находилось где-то в стороне, однако ходить
по полям запрещалось. Элизабет побродила немного в по¬
исках тропки, а потом повернула назад и пошла домой по
верхней дороге.
Господин Матрай долго возражал против того, чтобы
ему поставили телефон, говорил, что не потерпит этого нов¬
шества в Зеленой аллее, до сих пор он постоянно ирони¬
зировал над страстью детей к телефонным разговорам, над
мужчинами, которые, ни слова не зная по-немецки, требо¬
вали Элизабет; в каждый приезд дочери он предупреждал:
запиши, сколько денег ты растранжирила на междугород¬
ные переговоры, ведь оплачивать счета придется Роберту.
Первую попытку убедить отца в необходимости поставить
телефон сделала Элизабет; она считала, что запросто уго¬
ворит господина Матрая. И все же не ей, а Роберту удалось
перехитрить отца. Именно поэтому Роберту и вменялось в
обязанность платить за телефон — Элизабет должна была
платить только за свои разговоры с Робертом. Господин
Матрай с усмешкой требовал неукоснительного выполне¬
ния этого условия — ведь не он поставил телефон; конеч¬
но, он бы с удовольствием всю жизнь платил за детей, но
их надо учить уму-разуму, пусть несут хотя бы символи¬
ческую ответственность. Вначале господин Матрай и
впрямь не любил телефон, тот мешал ему: звонил, когда он
ложился вздремнуть после обеда, когда работал в саду или
слушал последние известия.
Но, в сущности, он был рад, что Роберт настоял на
своем; когда дети звонили, господин Матрай оживал. Толь¬
ко один раз он возмутился — Элизабет позвонила из Нью-
Йорка, и он решил, что она тяжело больна, а она всего-
навсего спросила, пе может ли он достать выписку из го¬
родского архива, она, мол, потеряла некоторые документы
и не знает, куда делась ее метрика. В процессе разговора
господину Матраю пришлось убедиться: для его легкомыс¬
ленной дочери не существует понятия «расстояние»,— она
315
позвонила из-за океана только потому, что хотела непре¬
менно выйти замуж, хотя в этом случае можно было огра¬
ничиться письмом.
Утром следующего дня зарядил дождь. Элизабет и гос¬
подин Матрай позавтракали вместе, газета еще не пришла.
Элизабет заметила:
— Ну и лето. В этом году вообще, видно, не будет
тепла.
Господин Матрай извинился за климат в Каринтии и
предложил рискнуть: сегодня можно поехать па городской
пляж, дождь наверняка удержит многих, а потом они схо¬
дят в Лоретто, ведь Элизабет, как и он, не боится дождя,
для них самое главное избежать людских толп.
Они доехали до площади Св. Духа и пересели на авто¬
бус, который шел к озеру. Элизабет еще помнила старые
трамваи с открытыми летними вагончиками: гроздья ребя¬
тишек облепляли подножки, а взрослые пассажиры воссе¬
дали на скамейках друг против друга. Нигде в мире не
было такого нарядного летнего трамвая, как в Клаген¬
фурте. Но теперь его упразднили, теперь и здесь ездили па
автобусах, а автобусы всюду одинаковые. Элизабет и гос¬
подин Матрай пешком добрались до Лоретто, на всем пля¬
же они были первые и единственные купальщики.
Элизабет надела под платье купальный костюм и на
мостках быстро сбросила одежду. Господин Матрай долго
переодевался в кабинке: потом они вместе плавали ми¬
нут двадцать в довольно холодной воде. Ни он, ни она не
хотели выходить па берег и возвращаться домой; в воде
было чудесно, но Элизабет мерзла и, чтобы согреться, от¬
чаянно двигалась — опа плавала кролем; видимо, за по¬
следнее время она и впрямь здорово отощала. И все же
Элизабет поплыла во второй раз, и господин Матрай тоже;
они встретились у бревна, которое, как буй, качалось на
волнах.
— Daddy, I love you!1 — крикнула она отцу.
А он прокричал ей в ответ:
— Что ты сказала?
— Ничего,— крикнула она,— мне холодно.
На обратном пути они проходили мимо гигантских кем¬
пингов, и господин Матрай не удержался от язвительных
замечаний; так, он со злорадством отметил, что люди до-
1 Папа, я люблю тебя! (англ.)
316
бровольно забиваются в тесные загоны, из-за этого оп не
пошел бы сюда один до осени, летом на озеро не стоит со¬
ваться, там сплошь западные немцы. Вообще здесь сплош¬
ные западные немцы, наконец они добились своего, ио
мытьем так катаньем, закупили Австрию с потрохами, а
эти простофили из правительства устроили им «зеленую
улицу», хотя должны были бы знать, к чему это все приве¬
дет. И вот на старости лет изволь любоваться тем, как нем¬
цы обосновались в Каринтии. Крестьяне фактически про¬
дали им почти всю землю, и новые владельцы ведут себя
здесь уже не как гости, а как хозяева. В летние месяцы на
австрийцев никто не обращает внимания, в меню значатся
совершенно идиотские блюда, местные жители даже не
понимают, что это такое; господин Матрай своими глазами
видел у Ронагера в меню такое название: «пирожное с тво¬
рожной начинкой», а означало это блинчики с творогом; в
знак протеста оп встал и навсегда покинул заведение Ро¬
нагера. С возмущением господин Матрай продолжал:
— А наш народ хоть бы пикнул, он, видите ли, думает,
что все это пойдет па пользу денежному курсу и иностран¬
ному туризму. Но тут уж пахнет не иностранным туриз¬
мом, а иностранной оккупацией.
Разумеется, Элизабет знала, что в течение многих лет
в Каринтию выезжает половина Рейнско-Рурского бас¬
сейна, исключая, конечно, настоящих богачей, которые не
желают отдыхать в столь бедной стране. А сейчас и отец,
голосовавший за «красных», подтвердил, что их страну
душат западногерманские нувориши, разъезжающие в
своих огромных вонючих автомобилях,— господин Матрай
не в силах это вынести; немцы заполонили всю округу, с
девяти утра они дерут горло и лакают пиво и без конца
моют свои лимузины, а потом мчатся в «Фенецию». Элиза¬
бет не хотела огорчать отца, но про себя подумала: «И озе¬
ро тоже изменилось, раньше оно принадлежало нам и было
другим; вода стала иной, и плавается в ней иначе. Мы вер¬
нули его себе лишь па полчаса под дождем!»
На обратном пути, когда господин Матрай и Элизабет
ехали в город, отец никак пе мог переменить тему: все
здесь принадлежит немцам, жизнь стала невыносимой,
немцы проиграли войну, но это видимость; на самом деле
они окончательно завоевали Австрию, теперь у них появи¬
лась возможность купить ее с потрохами, а это еще хуже;
господин Матрай считал, что продажная страна хуже, чем
317]
страна околпаченная и побежденная. Нельзя позволять,
чтобы тебя покупали.
Элизабет сама не знала, почему она вдруг вспомнила
предка Тротты, окружного начальника во времена Габс¬
бургской монархии, то есть в легендарные для нее вре¬
мена; она подумала, что тот Тротта и ее отец ужасно по¬
хожи друг на друга. Стало быть, спустя пятьдесят с лиш¬
ним лет родился человек, почти повторивший другого чело¬
века, выходца из старого, уже канувшего в небытие мира.
Наверно, именно потому, приехав в Клагенфурт, Элизабет
так часто возвращалась мыслями к Францу Йозефу Трот¬
те, а ведь бывали годы, когда она вовсе не вспоминала о
нем. В сущности, Тротта относился к немцам почти так же,
как отец. «Я хочу сказать,— говорил он,— что буквально
лишился дара речи, когда вместе с французской армией
вступил в Германию, да, с тех пор я знаю, что значит вы¬
ражение: «Лишиться дара речи». Вокруг меня были эти
самые людишки, которые внушали себе, что говорят на
настоящем немецком, и французы им верили, хотя другие
не верили, но французы верили всему».
На площади Св. Духа им пришлось ждать автобус, что¬
бы сделать пересадку. Элизабет сказала:
— Пойду куплю газеты.
В первой же газете на первой полосе она прочла пора¬
зившую ее короткую заметку, где говорилось, что один ее
знакомый упал со скалы в Сорренто и что итальянская по¬
лиция не может установить, что произошло: несчастный
случай, самоубийство или убийство. Газета, так же, впро¬
чем, как и все другие, пестрела кричащими заголовками,
которые Элизабет прочла сначала очень невнимательно.
Запыхавшись, она подбежала к отцу, который стоял на
остановке и махал рукой: автобус уже показался. Сунув
господину Матраю две газеты, хотя он читал только ту
газету, какую выписывал, и немного отдышавшись, она
снова принялась за заголовки: «Трагедия в вилле миллио¬
нера». «В вилле» — ну и грамотеи! Сама история сперва
не очень заинтересовала Элизабет, но все же она пробе¬
жала заголовки в другой газете: «Кровавая баня в охот¬
ничьем домике миллионера» — и довольно вяло начала вни¬
кать в текст. Однако как раз в эту минуту автобус подъ¬
ехал к остановке, и они сели. В автобусе Элизабет приня¬
лась за прерванное занятие, но читать эти газеты было
трудно. Особенно ей, журналистке до мозга костей: уже
318
первые абзацы на редкость обстоятельного репортажа
оставляли чувство недоумения. Впрочем, каждый, кто зна¬
ком с провинциальной прессой, знает ее трогательную
неспособность писать о чем-то необычном, например о не¬
знакомой среде. Чтобы выловить крупицы фактов из на¬
громождения слов в статье провинциального автора, надо
обладать изрядной долей фантазии и профессиональными
навыками. Лишь после того, как автобус поравнялся с го¬
родским театром, Элизабет подняла голову и воскликнула:
— Бертольд Рапац застрелил жену и какого-то словен¬
ца, помощника лесничего, а потом застрелился сам. Дикая
история! Убийство из ревности.
Господин Матрай не ответил, поскольку углубился в
свою любимую газету, но немного погодя оп все же про¬
бормотал:
— Рапац? Никогда не слышал этой фамилии.
Элизабет с удивлением подняла голову.
— Не может быть, папа. Как-никак Рапац — один из
трех самых богатых людей в Австрии. Если не самый бога¬
тый. И в Каринтии у него несколько охотничьих угодий.
Положительно, сквозь этот репортаж невозможно было
продраться — Элизабет поняла только, что шестидесяти¬
двухлетний дипломированный инженер Бертольд Рапац
застрелил свою тридцатитрехлетнюю жену, окончившую
университет, Элизабет Рапац; предполагаемая причина
убийства — ревность; сперва Рапац застрелил любовника
жены, некоего Ласло имярек, которого госпожа Рапац пы¬
талась загородить собственным телом; жандармы из Эйзен-
каппеля были вызваны на место происшествия некоей Рад¬
милой имярек, которая работала экономкой на вилле мил¬
лионера. Элизабет попыталась отобрать газету у отца —
может быть, хоть в ней не такие путаные и пространные
объяснения. В Париже или в Нью-Йорке захудалый ре-
портеришка из любой бульварной газеты сумел бы толково
рассказать о столь сенсационном событии. «Убийство из
ревности!!! Пуля в сердце!!!» — неправдоподобный ана¬
хронизм для этого круга, ведь речь шла не о ком-нибудь, а
о Рапаце. Одна газета хотела, видимо, копнуть глубже, вот
что она написала: «Дипл. инж. Бертольд Рапац, чей отец
происходил из аристократической семьи, семьи дворянина
фон Рапаца, которому дворянство было пожаловано за его
заслуги в деле создания Гайльтальской железной дороги,
имевшей важное стратегическое значение...» Читая эти
319
строки, Элизабет подумала, что несчастные провинциаль¬
ные журналисты, так увлекательно писавшие о ярмарках
лесоматериалов, к сожалению, даже не подозревали, какая
крупная дичь попала в руки жандармов; не попимали они
также, что дворянство Бертольда Рапаца гроша ломаного
не стоило, поскольку перед концом войны император Карл
раздавал дворянские звания направо и налево, и что ни¬
кого не интересует, был ли Бертольд Рапац дипломирован¬
ным инженером, как его папаша, дворянин фон Рапац, или
не был; зато другие факты вызывали немалый интерес —
например, следовало сообщить, что Рапац не являлся, так
сказать, рядовым миллионером, какие, возможно, и прожи¬
вают в Каринтии; Рапац обладал неслыханной властью и
деньгами. И еще здешние журналисты не знали, что охот¬
ничий домик — это не вилла и что Рапац, кроме всего про¬
чего, владел третьей частью всей деревообрабатывающей
промышленности Каринтии и третьей частью ее охотни¬
чьих угодий... Элизабет удалось наконец выманить у отца
его газету, но и в этом, четвертом по счету листке она опять
наткнулась на напыщенные фразы о «кровавой бане» и
«трагедии на почве ревности». Однако, просматривая ре¬
портаж, она вдруг от неожиданности выронила газету.
В репортаже говорилось: «Третья супруга Рапаца, госпожа
Элизабет Рапац, урожденная Михайлович». В памяти Эли¬
забет мгновенно всплыла короткая странная встреча на
Прудовой улице. Она подумала: нет, это невозможно. И все
же это так. Маленькая, плохо одетая, застенчивая Михай¬
лович была третьей женой Рапаца. Как же это получилось?
Михайлович не из тех женщин, которые ловят миллионе¬
ров. И тут же Элизабет вспомнила молодого словенца, ко¬
торый, наверно, и фигурировал под именем «помощника
лесничего». Но ведь между Михайлович и этим парнем ни¬
чего не было. Тогда Элизабет это сразу поняла, смущение
Михайлович объяснялось совсем другими причинами. Не¬
вольно волнуясь, Элизабет сказала:
— Можешь себе представить, женой Рапаца была Эли¬
забет Михайлович. Нет, паши молодцы жандармы пи в
жизнь пе догадаются, что там стряслось на самом дело.
И вся та схема, какую построили эти дурни, не соответ¬
ствует действительности. У них концы с концами пе схо¬
дятся. Можешь мне поверить. Ничего не сходится.
Господин Матрай, который никак пе мог понять волне¬
ния Элизабет, заметил:
320
— Несчастная Михайлович! Когда пожилые мужчины
берут себе в жены молоденьких девушек — а сейчас это
частый случай,— ничего хорошего пе получается.
— При чем тут это,—ответила Элпбазет нетерпеливо,—
на свете бывают куда более сложные коллизии, чем траге¬
дия на почве ревности. Я бы многое дала, чтобы узнать, во
что впуталась эта бедняжка и что за человек был Рапац.
Здесь оп навряд ли показывался, да и в Вене тоже. Такие
люди, как Рапац, держатся в тени.
Настала очередь удивиться господину Матраю: всю
жизнь он считал важными особами людей совсем иного
толка, чем Рапац. Так же как и большинство провинциа¬
лов, господин Матрай был уверен, что «те наверху» — это
депутаты, бургомистры и прежде всего главы правительств
различных земель Австрии. Тот факт, что в мире сущест¬
вуют люди, подобные Рапацу, которые и на порог не пу¬
стили бы к себе вышеперечисленных должностных лиц, со¬
вершенно не вязался с его представлениями об иерархии,
он не мог этого постичь, пе мог постичь он и того, что Ра¬
пац — если он и впрямь был такой важной птицей, как изо¬
бражала Элизабет,— ни за что не согласился бы сниматься
для журналов и выступать по радио. Это и вовсе было выше
его понимания.
— Мне кажется, ты сильно преувеличиваешь значение
Рапаца,— сказал господин Матрай веско.— Никто о нем
никогда не слыхивал.
— Охотно верю,— с улыбкой ответила Элизабет.—
Если бы Рапац не застрелил двух человек и себя в придачу,
ни одна живая душа не знала бы, что он где-то здесь, по¬
близости. Во всяком случае, этого пе знали бы в Клаген¬
фурте.
Уже первые показания экономки и слуг поражали своей
уклончивостью, они воспринимались не как попытки разъ¬
яснить происшедшее, а скорее как попытки затемнить и
скрыть его; показания эти навели Элизабет на мысль о том,
что Рапац окружил свою жизнь непроницаемой стеной и
что в дальнейшем ни у кого из свидетелей не развяжется
язык. Рапац и ему подобные умели подбирать обслужи¬
вающий персонал. Элизабет смекнула также, что миллио¬
нер нарочно нанимал либо словенцев — их было большин¬
ство,— либо хорватов. Таким образом, оп воздвиг еще одну
степу, за которую любопытные не проникнут и после его
смерти.
321
Элизабет намеревалась прожить в Клагенфурте недели
две, но уже после первой недели ее охватила смутная тре¬
вога, которая еще усугублялась тем, что она не хотела по¬
казывать ее отцу; с каждой минутой Элизабет нервничала
все сильнее, что не помешало господину Матраю отметить:
— Ну вот, ты уже выглядишь гораздо лучше.
Тревога пробудилась в ней из-за долгих и бесплодных
блужданий по лесу, хотя теперь опа и сама не хотела спу¬
скаться к озеру. Но в этот день она все же сделала послед¬
нюю попытку дойти до озера мимо гостиницы Йеролича,
понимая, впрочем, заранее, что потерпит неудачу. Домой
Элизабет пришла еще более загорелая, но измученная,
И притворилась, будто от усталости не может ужинать;
отец сел за стол один, а Элизабет сразу ушла к себе, по до
полуночи читала растрепанный приключенческий роман —»•
собственность Роберта; в полночь, убедившись, что отец
уже спит, она тихо вызвала междугородную и заказала Па¬
риж. Разговор дали через несколько минут. Со вздохом
облегчения Элизабет услышала голос Филиппа и шепотом
попросила, чтобы он послал ей телеграмму, в которой гово¬
рилось бы о «необходимости срочного возвращения из-за
служебных дел». На следующее утро из Парижа пришла те¬
леграмма, и Элизабет, сделав вид, что сердится, пробурчала.
— Надо же, как раз сейчас, когда я наконец-то начала
отдыхать по-настоящему.
На секунду она опустила глаза, боясь прочесть на от¬
цовском лице разочарование. К счастью, господин Матрай
не показался ей ни опечаленным, ни подавленным, он спо-<
койно отнесся к решению Элизабет — как он считал, вы¬
нужденному — уехать раньше времени. Не мешкая, они
отправились в город в билетную кассу. Нет, нет, билет ку¬
пит он сам, господин Матрай не допустит, чтобы Элизабет
платила за проезд до Вены; делая эти подарки, чересчур
щедрые подарки, он хотел компенсировать те деньги, ко¬
торые дочь выкладывала за телефонные разговоры. А- на
обратном пути господин Матрай снова ругательски ругал
сумасшедшее уличное движение; Элизабет, впрочем, его
так и не заметила.
Вечер накануне отъезда они тихо, мирно провели вдво¬
ем, прослушали последние известия и, передавая друг
другу страницы, от корки до корки прочли газету, которую
выписывал господин Матрай; в ней все еще обсуждалась
«кровавая баня» «в», «около» и «вокруг» «охотничьего до¬
322
мика» миллионера; причем журналисты ухитрились не
сообщить пи одной повой подробности. Открытка из Ма¬
рокко все еще не пришла; Элизабет и господин Матрай то
перебрасывались отдельными словами, то, задумавшись,
молчали. На сей раз сам господин Матрай настоял на том,
чтобы Элизабет легла спать пораньше. Но, очутившись у
себя в комнате, она поняла, что не заснет, и, ослушавшись
отца, начала перебирать вещи и укладывать чемоданы.
Отец вдруг тихо постучал и вошел, и она даже слегка испу¬
галась. Но господин Матрай не стал выговаривать ей за то,
*гто она еще не ложилась, он робко протянул дочери кон¬
верт, поцеловал ее в щеку и сказал:
— Возьми, а то завтра я могу забыть. Это так, пустяки,
тебе на дорогу и на мелкие расходы в Вене.
Сперва Элизабет не могла произнести ни слова, она
только подумала, что в конверте, наверно, опять тысяча
шиллингов — на мелкие расходы ей, его ребенку. А потом
она сказала:
— Очень мило с твоей стороны.
Пусть он улыбнется, пусть еще раз почувствует, что
дочь нуждается в нем. На следующее утро, когда они с
отцом отправились на вокзал, она уже не ощущала себя
виноватой; как обычно, господин Матрай тщательно про¬
верил, отходит ли поезд от первой платформы в указанное
расписанием время. Элизабет пропустила отца вперед, а
сама подошла к киоску, купила газеты, журналы, пачку
сигарет и медленно побрела на перрон. Господин Матрай
уже поджидал ее там и обошелся с ней сурово: из прин¬
ципиальных соображений он настаивал на раннем при¬
ходе; к сожалению, до поезда оставалось еще добрых пол¬
часа; они топтались у чемоданов Элизабет и беседовали
на разные темы; Элизабет пообещала написать сразу же
по приезде и заметила, что в Вене на аэродроме она, воз¬
можно, позвонит своим друзьям, в Вене у нее уйма друзей,
с которыми господин Матрай не знаком. Потом она заве¬
рила отца, что предпочитает лететь в Париж вечерним
рейсом, а не дневным, ведь ее уже давно не интересуют
пейзажи под крылом самолета.
В конце концов состав все же подали; обняв отца, Эли¬
забет вошла в вагон и встала у окна. Теперь, когда отец
был не у себя дома и не на лесной дороге вдвоем с дочерью,
он снова стал меньше ростом и у него опять появился этот
ёго детски-беспомощный взгляд старого человека — да, он
323
был стариком, а она его покидала, оставляла совсем одного;
до отхода поезда были считанные минуты, Элизабет с тру¬
дом удержалась от того, чтобы не выскочить на перрон —
так ей хотелось сказать отцу какие-то слова. Но какие? Не
могла же опа сказать, что в то мгновение, в ту секунду,
когда поезд тронулся, у нее сжалось сердце при мысли, что
опа его уже больше никогда не увидит. Элизабет закри¬
чала, но он, возможно, пе расслышал ее слов. Она кричала:
— Я сразу напишу, спасибо за все, я напишу.
Опа улыбалась, махала рукой и страстно желала, чтобы
поезд в этот раз поскорей отошел от платформы, но он шел
медленно, и она опять махала рукой, и никто не заметил,
что она несчастна: у окна стояла сияющая женщина, дочь
господина Матрая, его ребенок, сестра Роберта; она куда-
то ехала, опа была в пути, всегда в пути.
В венском аэропорту, машинально выполнив все фор¬
мальности и сдав чемоданы, Элизабет сразу же прошла че¬
рез контроль, где проверяли паспорта, благо там в эту
минуту никого пе было. Теперь опа раздумывала: под¬
няться ли ей в ресторан или пойти в кафе. Она предпочла
кафе, которое казалось особенно пустынным — в огромном
зале за пластиковыми столиками сидели усталые люди,
ожидавшие самолетов. Она выпила чашку кофе — к сожа¬
лению, это не был кофе по-венски — и полистала свою
записную книжку. Не позвонить ли ей Альтенвилям или
Гольдманам; нет, не стоит, в их отношениях появилась
трещина, непонятная трещина; она опять начала листать
записную книжку; может, позвонить Йорданам, может,
Мартину или Алексу... Нет, звонить вообще не имеет смыс¬
ла. Да и кто сейчас, в конце июля, торчит в городе?
Незнакомый мужчина во второй или в третий раз про¬
шел мимо нее; она невольно оглянулась, посмотрела на
пего; он повернул назад и, подойдя к ней, вежливо, чуть
неловко спросил:
— Извините, вы — Элизабет Матрай?
Элизабет не сводила с него взгляда, но молчала, и он
начал снова:
— Извините. Вы меня, наверно, пе узнали.
Незнакомец был ее возраста, по выглядел моложе своих
лет, хотя все другие мужчины этого поколения казались ей
старше своих лет. И говорил оп на том жестком немецком,
который был ей до боли знаком, только опа не понимала
324
почему. И еще — было неясно, откуда этот человек ее
знает и знает ли опа его. Элизабет сделала осторожный
жест, незнакомец сел, и в ту минуту, когда оп садился, она
вдруг узнала его. Видимо, это был тот самый Бранко, двою¬
родный брат Тротты, который остался в Югославии, сын
или внук простых крестьян, а может, коробейников или
продавцов жареных каштанов. Все они родились в Сиполье,
в городишке, который уже не существовал, стало быть,
Бранко не мог там жить. Поколебавшись секунду, опа
спросила, где он сейчас обретается. Лх так, в Любляне!
Бранко тоже заказал кофе, и Элизабет подумала, что,
в сущности, им пе о чем говорить: подробности смерти
своего двоюродного брата он уже наверняка узнал, ведь это
произошло так давно. Она рассеянно слушала; он сказал
что-то невнятное про Любляну и про то, что получил визу
и летит в Москву. А потом вдруг заговорил очень внятно
и быстро, и она с изумлением подняла на него глаза; он
сказал:
— Я ждал долго. Очень долго. Ио вокруг вас всегда
толпилось слишком много людей. Я хочу сказать, что вы
всегда были заняты и вас окружало слишком много людей.
— Да? Много людей? — весело переспросила она.
Без всякой видимой связи он продолжал:
— Я женился всего год назад. Там у нас, внизу, и у
меня теперь сын, ему два месяца.
Элизабет положила дымящуюся сигарету на блюдечко
и сказала по возможности сердечно:
— Я ужасно рада за вас.
Но разговор этот показался ей почему-то странным, и
она внимательно поглядела на своего собеседника — виски
у него уже серебрились.
— Так поздно? То есть я хочу сказать, вы женились
так поздно? — Она не вложила в свой вопрос никакого
тайного смысла, и оп прозвучал вполне невинно.
— Да, поздно,— сказал он и твердо взглянул ей в гла¬
за.— Вокруг вас всегда толпилось слишком много людей.
Однажды я видел вас в Вене, а потом встретил в Париже
со своим двоюродным братом, вы, конечно, все понимаете.
Но вскоре я вообще потерял вас из виду. Мне неизвестно
даже, знаете ли вы, что я и Франц Йозеф были не просто
родственниками, нас связывало нечто большее. Но я-то
что мог сделать, мы ведь остались дома.
Элизабет тихо сказала:
325
— Да, это лучше. Но вы говорите «дома», стало быть,
это понятие еще существует?
— Для Франца Йозефа Париж не был домом,— отве¬
тил он,— а под конец жизни и Вена пе была домом, навер¬
няка пе была. Вы знаете, он любил парадоксы, и его люби¬
мым парадоксом было то, что он экстерриториален. Не гру¬
стите о нем, ему нельзя было помочь.
Он встал; по радио объявляли посадку на его репс; не¬
сколько секунд он еще прислушивался к голосу диктора,
доносившемуся из репродуктора, сомнений не было — пас¬
сажиров самолета, следующего в Москву, просили пройти
на посадку; Элизабет не успела даже протянуть ему руку,
ои сразу пошел, бросив на ходу, быстро, вполголоса:
— Да хранит вас бог.
Она растерянно посмотрела ему вслед; после этих его
слов нельзя было просто сказать: «До свидания», она так
и осталась сидеть, пе заметила даже, что сигарета почти
догорела и упала с блюдечка на пластиковый стол. Элиза¬
бет обожгла себе пальцы, потому что не знала, как иначе
погасить окурок на голой столешнице. В голове у нее был
полный сумбур, при всем желании она не могла понять,
что имел он в виду, когда говорил о людях, окружавших
ее. И почему он так часто повторял эту фразу? Объявили
посадку на новый рейс, опять на трех языках, а потом
Элизабет с испугом услышала в репродукторе еще чей-то
голос, это был уже не призыв к пассажирам, а сообщение,
произнесенное монотонно, умасливающе:
— Вылет авиалайнера, следующего в Москву, отклады¬
вается по техническим причинам предположительно часа
на два, пассажиров просят...
Элизабет поднялась еще до того, как он подошел к ней;
спиной она почувствовала его приближение, хотя шагов
не услышала. Она повернулась к нему; они стояли, не сво¬
дя глаз друг с друга. Он бережно взял ее тонкие, слишком
худые руки в свои тяжелые ладони; теперь он сжимал их
все крепче и крепче. Иногда они улыбались, но не произ¬
носили ни слова. Элизабет не стала спрашивать, зачем он
едет в Москву и что ему там нужно, и он не спросил, живет
ли она по-прежнему в Париже и чего она там не видела.
Они стояли и смотрели друг другу в глаза; на дне их
глаз плавало что-то светло-голубое, а когда они перестава¬
ли улыбаться, глаза темнели. Слава богу, он больше не по¬
вторял этой своей фразы о том, что ее всегда окружало
326
слишком много людей. Да и она вдруг забыла всех тех лю¬
дей, которые играли какую-то роль в ее судьбе; забыла не¬
знакомых людей па аэровокзале и в этом огромном унылом
кафе. Время летело, никогда в жизни оно пе летело так
быстро; на секунду Элизабет показалось, что она теряет
сознание, и в то же мгновение она увидела, что и он, такой
сильный по сравнению с ней, побелел, очевидно, ему тоже
стало дурно; оба они не могли вынести этого немыслимого
напряжения, той силы, с какой их тянуло друг к другу.
Но в эту минуту объявили посадку па парижский само¬
лет, и она мягко освободила свои руки из его рук; сразу ей
бтало легче, невыносимая мука кончилась. Она двинулась
!^рочь, настойчиво внушая себе, что ей надо, надо дойти до
стеклянной двери, все время твердя только одно: вот мой
gate number \ как будто самое главное заключалось именно
в этом. А он медленно шагал сзади. И так они дошли до
стеклянной двери, которая должна была разделить их на¬
веки; Элизабет испугалась — вдруг он заговорит, но он
Остановился, вынул из кармана маленький блокнот, вырвал
йисток, стоя написал несколько слов и сложил записку.
Она все еще боялась, что он сделает какое-то неверное дви¬
жение, и старалась взглядом удержать его от этого. Не мог
Же он написать ей свой адрес в Любляне или в Москве.
Нет, конечно; сейчас он спокойно смотрел на нее, с лица у
него сошла бледность и это выражение боли, просто он су-
^ул в карман ее пальто сложенный листок. И она поверну¬
лась и прошла сквозь автоматически открывающиеся
двери.
В самолете Элизабет так и не прочла его записку, но на
аэродроме в Орли, стоя перед транспортером и ожидая свои
^емоданы, она вытащила носовой платок и вместе с плат¬
ком тот клочок бумаги, раскрыла его и остолбенела — в
Ьервую секунду до нее не дошел смысл прочитанного.
«Я люблю Вас.
Я всегда Вас любил».
Она держала в руках записку и носовой платок и вдруг
Забыла, зачем ей понадобился платок; ах вот оно что — ее
йросквозило, и она собиралась чихнуть. Но тут она до
Смерти испугалась и быстро сунула в карман платок и
ь
J Выход (англ.).
327
записку, опа увидела Филиппа, который спешил к ней на¬
встречу. Одним рывком Филипп поднял ее чемоданы, по¬
грузил их па тележку, а потом притянул Элизабет к себе
п впился в се губы долгим поцелуем; они стояли в самой
толпе, люди спешили, а он целовал ее так, словно они были
одни; его язык глубоко проник в ее рот, и она невольно
выталкивала его, боясь задохнуться. Тяжело дыша, она
сказала:
— Оставь, прошу тебя, что за фокусы? Зачем ты во¬
обще приехал на аэродром? Ты ведь знаешь, меня вовсе
не надо встречать.
Толкая тележку, Филипп зашагал к выходу, а опа бе¬
жала рядом и твердила почти в одних и тех же выра¬
жениях:
— Не понимаю, зачем ты примчался на аэродром, не¬
ужели мы не могли встретиться попозже в городе?
Филипп поискал глазами такси и, как ни странно, обна¬
ружил свободную машину; в такси он опять набросился на
нее, и она уже не уклонялась от его поцелуев. А потом он
с жаром заговорил:
— В чем дело? Объясни хоть теперь, что с тобой стряс¬
лось, почему ты велела послать телеграмму? Я чуть не по¬
мешался от страха.
Элизабет выпрямилась и удивленно спросила:
— Неужели? Неужели ты не догадался? А ведь все об¬
стоит очень просто. Была ужасная скучища, хотя этого
можно было ожидать, ты же знаешь, как скучна деревен¬
ская жизнь. Только потому я и попросила дать телеграмму*
Но Филипп был не дурак, что-что, а дураком он не был,
поэтому, взглянув на нее с недоверием, он настойчиво
спросил:
— Что же все-таки случилось? Не притворяйся.
Элизабет глядела в окно; она не ответила, делая вид,
будто целиком поглощена созерцанием ночной улицы: нео¬
новых огней, потока автомашин.
— По твоему поведению я понимаю: что-то здесь нечи¬
сто,— сказал Филипп.
Он так и не дождался ответа, счел это опасным симпто¬
мом, но тем не менее заговорил о своей работе над филь¬
мом; надо же ему было излить душу, бог с ними, с капри¬
зами Элизабет; однако у светофора с красным светом — к
тому времени Филипп уже во всех подробностях посвятил
Элизабет в свои дела,—у светофора он опять повторил:
328
— Что же все-таки случилось?
Элизабет ответила парочито громко и холодно:
— О господи! Во-первых, в жизни почти ничего не слу¬
чается. И потом случилось не со мной, а с тобой, у тебя
уйма разных новостей, и этому обстоятельству я очень,
очень рада. По только,—секунду она помолчала,—но толь¬
ко ничего существенного все равно не случается, а если и
случается, то чересчур поздно.
— Может быть, ты влюбилась в тирольца? — спросил
Филипп, довольный уже тем, что она заговорила.
И тут Элизабет с отвращением вспомнила Жан-Пьера;
причитая, он рассказывал ей о какой-то тирольке, которая
оказалась вовсе не тиролькой. А потом опа с грустью поду¬
мала о Дювалье, о том, как он гордо и весело говорил: «Зна¬
комьтесь, это моя маленькая талантливая тиролька!»
— Нет, не влюбилась,— сказала Элизабет,— к сожале¬
нию, mon cheri, не влюбилась даже в тирольца.— И не¬
брежно добавила, чтобы перевести разговор на деловые
рельсы: — Не знаю уж, как тебе объяснить, и притом в час
приезда, но, похоже, в ближайшее время у меня будет до
черта работы, сам понимаешь, тут я бессильна. Только не
делай такой кислой физиономии. Пожалуйста, не делай!
— Не буду, ma cherie,— ответил Филипп ласково,—
я и впрямь очень беспокоился и потому без конца звонил,
а вечерами прямо-таки пропадал без тебя, без твоих сове¬
тов. Никогда в жизни я так не нуждался в тебе, как в эти
последние дни.
(Элизабет беззлобно подумала, что уже пе в первый раз
слышит от Филиппа: никогда я так не нуждался в тебе,
как в эти последние дни.) А он продолжал:
— Обманывать тебя я бы не смог: самая мысль об этом
кажется мне подлой. Так вот, по-моему, я совершил чудо¬
вищную глупость и хочу рассказать тебе все начистоту,
естественно, по телефону я бы никогда пе решился, осо¬
бенно потому, что понимал: ты так счастлива и довольна
в этой своей очаровательной деревенской глуши. Речь идет
о Лу.
Элизабет, которая наконец-то почувствовала себя в Па¬
риже, увидела знакомые улицы и поняла, что скоро очу¬
тится дома, спросила рассеянно, но сочувственно:
— Что с Лу? Она больна? Или у нее неприятности?
— Ни то, ни другое,— сказал он,— просто я ужасно
влип. С теперешними девицами надо держать ухо востро,
329
сперва они изображают из себя эдаких современных эман¬
сипированных женщин, которые, конечно же, выше буржу¬
азных условностей, а потом, видите ли, изъявляют желание
выйти замуж, и все разыгрывается, как в дешевой мело¬
драме прошлого века. Вдруг Лу подсылает своего папашу,
старикашку Маршана, извини, я хотел сказать Клода, и
вот Клод является ко мне в роли мстителя за поруганную
честь дочери — ты же его хорошо знаешь, я хотел сказать,
знаешь лучше, чем я.
(Элизабет и Филипп обменялись взглядом — на какое-
то мгновение они почувствовали себя сообщниками, ибо
каждый из них догадывался, что подумал другой, услы¬
шав фамилию Маршан, но мгновение это быстро минова¬
ло.) И Филипп продолжал:
— По-видимому, все мужчины становятся ужасно ста¬
ромодными, когда дело касается их дочерей. Увы!
Она прервала его разглагольствования:
— Итак, что случилось с Лу?
— Лу беременна,— ответил он просто.— И Маршан
меня ненавидит. Разумеется, я не хотел выглядеть в его
глазах полным идиотом и сказал этому архибогатому капи¬
талисту, что не собираюсь уклоняться от ответственности,
как-никак, несмотря на то что я не имею ни гроша в кар¬
мане...
Элизабет еще ни разу не слышала из уст Филиппа слово
«ответственность», надо надеяться, что в полутьме такси
он не заметил ее усмешки.
— Cheri,— сказала она,— от такой серьезной ответст¬
венности никак нельзя уклоняться, ты же знаешь, я ни¬
когда не лезла к тебе с нравоучениями, но, поскольку ты
заговорил первый, я должна признать, что заранее все
предвидела. Главное, не мучься из-за наших отношений,
то время, что мы жили вместе, я считаю чудесным, во вся¬
ком случае, для меня оно было чудесным, и я тебе беско¬
нечно благодарна. Но, mon chou, ты хорошо знаешь, мне
никогда не придет в голову мешать человеку, который не¬
сет ответственность.
Стало быть, Филипп уходит, кстати, он очень неплохо
обставил свой уход, свое отступление, связанное к тому же
со вступлением в тот мир, который в былые времена ис¬
кренне ненавидел. Ненавидел еще долго-долго после май¬
ских дней, когда первый угар прошел. Стараясь излечить
его от депрессии, от пьянства и от этих его совершенно
330
бесплодных споров с друзьями п припадков бешепства, ко¬
торые были направлены уже пе против социального строя,
пе против капитализма и империализма, а против своих же
товарищей, расколовшихся па карликовые группки, враж¬
довавшие друг с другом, Элизабет все время наталкивалась
па глухую степу ненависти. Да, несмотря па все сумасброд¬
ства, у Элизабет была счастливая рука — она умела под¬
бирать наиболее жизнеспособные заблудшие души. Фи¬
липп забрел к ней в шестьдесят восьмом после майских
событии, потребовал какой-то услуги; вел оп себя довольно
нахально — для Филиппа она была негодяйкой, купав¬
шейся в роскоши; не капиталисткой, правда, но зато про¬
дажной женщиной, обслуживавшей капиталистов. Время
шло, и его отношение к Элизабет менялось, он стал бывать
у пее все чаще, они часами разговаривали, он приводил к
ней толпы юнцов, которые поглощали еду и питье в неимо¬
верных количествах и совершенно не давали ей работать*
Л в один прекрасный день оп пачал задумываться; пере¬
стал понимать, кто она такая. Спать с пим опа не хочет,
быть может, она спит с Маршалом и он покупает ей за это
дорогие туалеты. Но скоро Филипп сообразил, что муж¬
чины не покупают ей туалетов, наверно, за всю свою жизнь
она ни разу не получила дорогого подарка. Конечно, у пее
были деньги, но она зарабатывала их собственным трудом.
Однажды ему померещилось, что он влюблен в Элизабет и,
уж во всяком случае, не может без нее жить; он объяс¬
нился ей в любви, но она засмеялась и сказала «нет». Она
без конца повторяла «нет», но как-то раз уступила, и с тех
пор началась их связь.
Сейчас в этом такси, тащившемся с изматывающей
душу медлительностью, он в страхе не сводил с нее глаз;
нет, она не покрылась смертельной бледностью — впрочем,
опа почти всегда была загорелая, ведь даже зимой она ез¬
дила в жаркие страны; и она не зарыдала, не кинулась к
нему на шею, не стала осыпать упреками. И именно потому
Филипп совершенно растерялся. Мог ли он предполагать,
что она окажется такой черствой и бессердечной, ведь он и
впрямь испытывал потребность рассказать ей все о Лу и о
событиях, которые приняли в последние дни такой дурац¬
кий оборот. Ему будет совсем нелегко жениться на Лу; без
советов Элизабет он просто не знает, что и делать. А она
улыбается. И только. Он ждал драматической сцены; изве¬
стное дело, когда рвешь с женщиной старше тебя, надо
331
быть готовым ко всему; Филипп советовался даже со своим
другом, единственным другом, который остался у него со
времени битв в Сорбонне. Не мог же он допустить, чтобы
Элизабет впала в отчаяние или чтобы она покончила жизнь
самоубийством из-за Лу. Нет, он не Клод Маршан, он не
из тех молодчиков, с которыми она путалась раньше; у
него хватит мужества сознаться, что он часто обманывал
ее, злоупотреблял ее доверием. Но бедняжка Элизабет,
вероятно, вообще еще не осознала неизбежности их разры¬
ва, только дома, а может, даже завтра или послезавтра она
все поймет, и он предвидит, какой это будет для нее удар.
Разумеется, она великолепно владеет собой, умеет держать
себя в руках, иначе он бы и не стал с ней связываться.
— Конечно, я понимаю,— сказал Филипп,— сейчас не
время говорить о деньгах, но я хочу, чтобы ты знала: я
знаю, сколько я тебе должен, и ты сама догадываешься,
как я тебе благодарен. Думаю, я смогу очень скоро, когда
этот фильм...
— Что ты сказал? — рассеянно спросила Элизабет.—
Какая нелепость! Не понимаю, к чему такая спешка, го¬
лодная смерть мне уж никак не грозит, за последние ме¬
сяцы я совсем неплохо заработала. Насчет денег, право же,
не стоит волноваться, мне всегда везло с деньгами. Да и во¬
обще, какую роль играют деньги при наших отношениях?
Ей-богу, я тебя не узнаю...
Филипп с отчаяньвхМ подумал: «Ну вот, пачипается, сей¬
час до нее дойдет, и она рухнет. Настоящие деньги все
равно водятся только у Маршана. Элизабет ради денег вы¬
нуждена работать».
Они вышли из такси, Элизабет заплатила, но охотно
отдала чемоданы Филиппу. Всю жизнь она ненавидела
таскать чемоданы, а сегодня чувствовала себя настолько
слабой, что это занятие ей и вовсе было не под силу.
В квартире атмосфера еще больше накалилась; к тому
же Элизабет вроде бы потеряла нить разговора. Не зная,
что сказать, она заметила:
— Если ты пе поладишь с Маршаном, который, конеч¬
но, мечтал о лучшей партии для своего ангела...
Филипп раздраженно прервал ее:
— Ты знаешь не хуже самого Маршана, что Лу отнюдь
не ангел, кроме того, она наркоманка, а я вовсе не желаю
жениться на наркоманке, прежде всего пусть вылечится и
порвет со всей их шайкой...
832
— Но ведь насчет женитьбы уже договорено,— сказала
Элизабет хладнокровно,—это вовсе не моя идея.
Филипп с несчастным видом стоял у нее в комнате, в
этой комнате, где он так часто сидел или ходил взад и
вперед.
— Извини, но мне хотелось бы взглянуть па почту,—
сказала Элизабет и быстро вскрыла несколько конвертов.
Довольно долго Филипп смотрел на нее в полном заме¬
шательстве, потом сел рядом, поцеловал ей руку и спросил:
— Ты сердишься? Ты грустишь?
Элизабет взглянула на него с изумлением.
— Разве похоже, что я сержусь, разве похоже, что мне
грустно? Я смертельно устала, что верно — то верно. Од¬
нако после свадьбы в Лондоне, скучного житья в Австрии
и прочих удовольствий в том же роде ничего другого нель¬
зя было ожидать.
Разговаривая с Филиппом, она быстро откладывала в
сторону нераспечатанные письма и бандероли; теперь она
просматривала только телеграммы. Первая же телеграмма
показалась ей совершенно непонятной. Начиналась опа
словом merde *, а кончалась уверениями в любви и была
подписана Андре. Но телеграммы, посланные Андре, всег¬
да преследовали совершенно определенную цель. Вторая
телеграмма была вовсе не интересная, третья занимала три
с лишним страницы. И опять была от Андре; вероятно, эту
телеграмму он послал раньше предыдущей, ибо между бес¬
конечными «тчк» в ней говорилось о Кемпе и об ulcer1 2, на
самом деле об опухоли в желудке. Ну, конечно, все давно
знали, что Кемп страдал каким-то сложным желудочным
заболеванием; сообщать это по телеграфу явно не имело
смысла. Однако, прочтя еще одну фразу после «тчк», Эли¬
забет вдруг поняла, что Кемпу надо ложиться на операцию
и, стало быть, он не может ехать. И тут она еще раз пере¬
читала вторую половину телеграммы; все ясно: Андре про¬
сил ее лететь в Сайгон вместо Кемпа. Это была самая длин¬
ная телеграмма из всех, какие она когда-либо получала.
Но редакция не останавливалась перед затратами, когда
дело касалось репортажей на животрепещущие темы.
Поскольку Элизабет неестественно долго изучала по¬
слание Андре, а потом, положив телеграмму на стол, уста¬
1 Здесь-, чертовщина (франц.).
2 Язва (англ.).
333
вилась иа нее пристальным взглядом, Филипп — пребыва¬
ние в этой квартире становилось для него с каждой мину¬
той все тягостней — спросил, что за известие она получила.
Наверно, важное. Элизабет с облегчением вздохнула и ска¬
зала почти весело:
— Да, по-моему, важное. Будь добр, сходи на кухню,
принеси немного льда и приготовь, пожалуйста, два кок¬
тейля, сегодня нам необходимо выпить. Выпить за множе¬
ство разных перемен.
Никогда Филипп не вел себя так предупредительно и
не казался ей таким запуганным и в то же время таким
юным; Элизабет даже немного взгрустнула: куда девался
прежний Филипп? Ведь всего два года назад это был не¬
сносный, самоуверенный бродяга, гордый бунтарь, а сейчас
он ничем не отличался от любого молодого человека, от
любого провинившегося любовника; да, сегодня он ни за
что на свете не решился бы рассердить ее. Филипп поста¬
вил на стол стаканы, приготовил коктейли; улыбнувшись
друг другу, они выпили.
— Телеграмма радостная или хотя бы не неприят¬
ная? — опять спросил Филипп.
— Радостная — нерадостная, в данном случае это, по¬
жалуй, не те слова. Но мне хочется выпить с тобой еще.
Видимо, Филипп по-прежнему считал, что она на грани
отчаяния; он приготовился провести с ней всю ночь и не¬
вольно подумал, что сегодня вечером ему уж никак не
удастся позвонить Лу. Но ради Элизабет он был готов па
все, он чувствовал себя ответственным и за нее тоже. Не¬
брежным жестом Элизабет подвинула к нему телеграмму.
— Прочти, я хочу, чтобы ты знал, о чем речь.
Филипп, как и она, дважды прочел телеграмму Андре,
время от времени отпивая глоток; секунду он сидел молча
и вдруг поставил стакан на стол.
— Андре просто спятил, это возмутительно, ты никуда
не поедешь, я тебе запрещаю.
Элизабет взглянула на него с безграничным удивле¬
нием: какое ему дело, особенно теперь, когда он несет та¬
кую огромную ответственность, но не за нее, а за Лу? Впро¬
чем, объясняться на эту тему ей вовсе не улыбалось, слиш¬
ком она устала.
— Обещаю тебе,— миролюбиво заметила она,— что не
стану звонить Андре сегодня, пусть помучается до зав¬
трашнего утра. И все же я поеду. На этот счет у меня нет
334
сомнений, я обязательно поеду, мне даже пе надо прини¬
мать решения, все и так решено. А сейчас тебе пора ухо¬
дить. Ладно?
Она его даже не поцеловала, пе дала поцеловать себя,
ускользнула от его объятий; только перед самой дверыо
слегка прижалась губами к его щеке и па секунду поло¬
жила руки ему на плечи.
— Ты пе должна ехать, ни в коем случае пе должна! —
В голосе Филиппа звучало раздражение и бессильная
ярость.
Но его слова так отличались от слов Тротты, и голос
его совсем пе походил па голос Тротты, на тот голос, кото¬
рый вот уже скоро двадцать лет звучит у нее в ушах; те¬
перь она верила только собственному внутреннему голосу
и совсем иным голосам, голосам Троттов — ведь па этот
раз они ей не перечили.
Филипп все еще стоял в дверях, выражение лица у него
было злое и вызывающее, именно такого Филиппа она и
любила; на секунду чувство к нему опять проснулось, но
только на секупду. Теперь он почти кричал:
— Этот шут гороховый окончательно рехнулся, как
можно посылать туда женщин, неужели у него не най¬
дется в запасе нескольких мужчин? Сукин сын!
Невольно улыбаясь, Элизабет выталкивала его за дверь;
единственное, что она пообещала, это позвонить ему завтра.
Раньше она не испытывала к Филиппу сострадания, но
сейчас ей вдруг стало его ужасно жаль. Из-за усталости
она даже не стерла помаду; раздеваясь, она думала о том,
что вся эта история с Филиппом благополучно кончилась;
слава богу, они расстались по-хорошему, и он теперь при¬
строен. Только сам Филипп был уже не тот, не майский.
Она допила свой коктейль и сразу же легла. Видимо,
она заснула мгновенно, но первое же сновидение внезапно
разбудило ее, она протянула руку к телефону, пробормо¬
тала: «Алло!» В эту пору мог позвонить только Андре. Она
тут же бросила трубку и вытащила маленькую смятую
записку, которую сунула под подушку; она уже снова за¬
сыпала, но что-то еще помешало ей забыться; она схвати¬
лась за голову, схватилась за сердце — непонятно, откуда
взялось столько крови. И все же опа успела сказать себе:
«Спокойно! Спокойпо! Со мной уже ничего не может слу¬
читься. Со мной все может случиться, но не должно ничего
случиться».
СОДЕРЖАНИЕ
Д. Затонский. Предисловие . . 3
Поэзия
Отсроченное время. Перевод К. Богатырева 19
Темные речи. Перевод Г. Ратгауза . 20
Вереница. Перевод И. Грицковой ... 21
Осенние маневры. Перевод Г. Ратгауза . 22
Настал полдень. Перевод Г. Ратгауза 8 23
Изо дня в день. Перевод К. Богатырева 25
Ночной полет. Перевод Г. Ратгауза 26
Псалом. Перевод Н. Гребельной . . 28
В грозе роз. Перевод А, Исаевой . . 30
Окрестности Вены. Перевод А. Исаевой 31
Монолог князя Мышкина из балетной пантомимы «Идиот».
Перевод И. Грицковой 34
О земле, реке и озерах. Перевод И. Грицковой ... 36
Призыв к Большой Медведице. Перевод Н. Гребельной . 44
Curriculum vitae. Перевод И. Грицковой . 45
Дорога домой. Перевод В. Топорова 48
Истина. Перевод И. Грицковой . 50
Письмо в двух редакциях. Перевод В. Топорова 51
Из песен на дорогах бегства. Перевод А. Исаевой 53
Не мешкай, мысль. Перевод И. Грицковой 58
Проза
Детство и отрочество d австрийском городе. Перевод С. Фрид-
лянд 63
Тридцатый год. Перевод А. Исаевой . 69
Вильдермут. Перевод С, Шлапоберской . » . . . 105
Среди убийц и безумцев. Перевод С. Шлапоберской 136
Синхронно. Перевод Л. Черной 159
Проблемы, проблемы... Перевод С. Фридлянд 190
О эти счастливые глаза. Перевод Л. Черной 219
Лай. Перевод Л. Черной 235
Три дороги к озеру. Перевод Л. Черной . . . 253
336