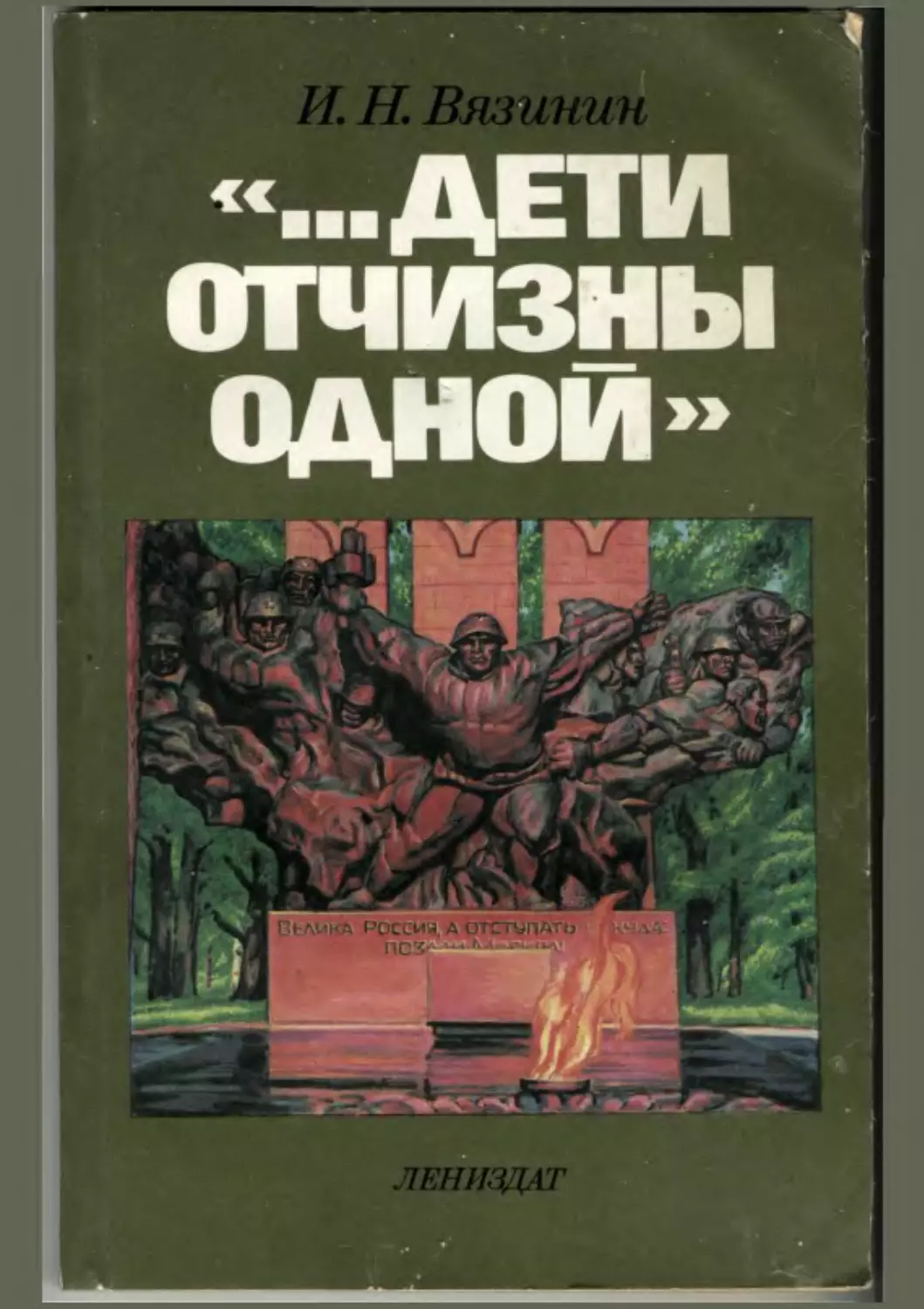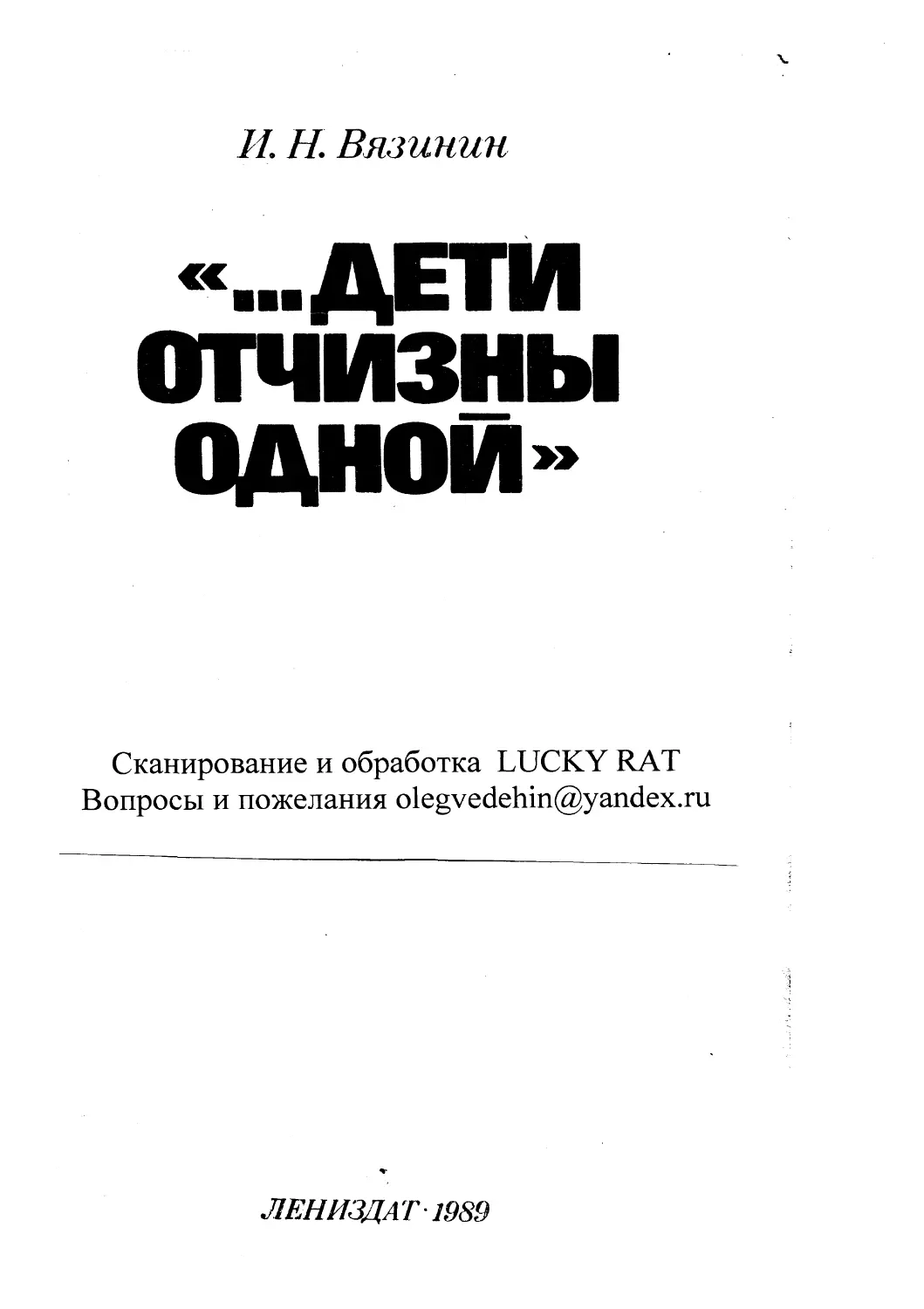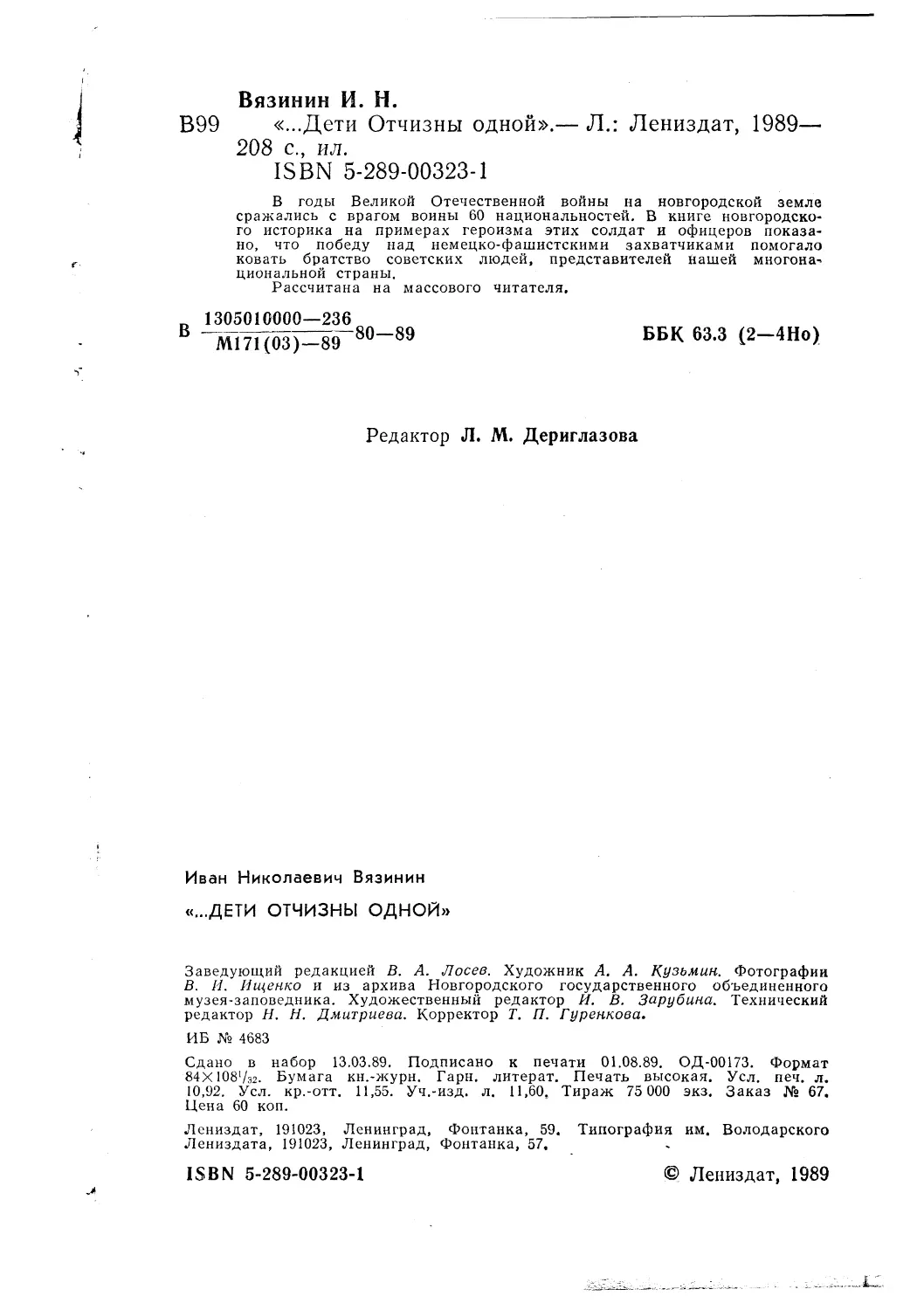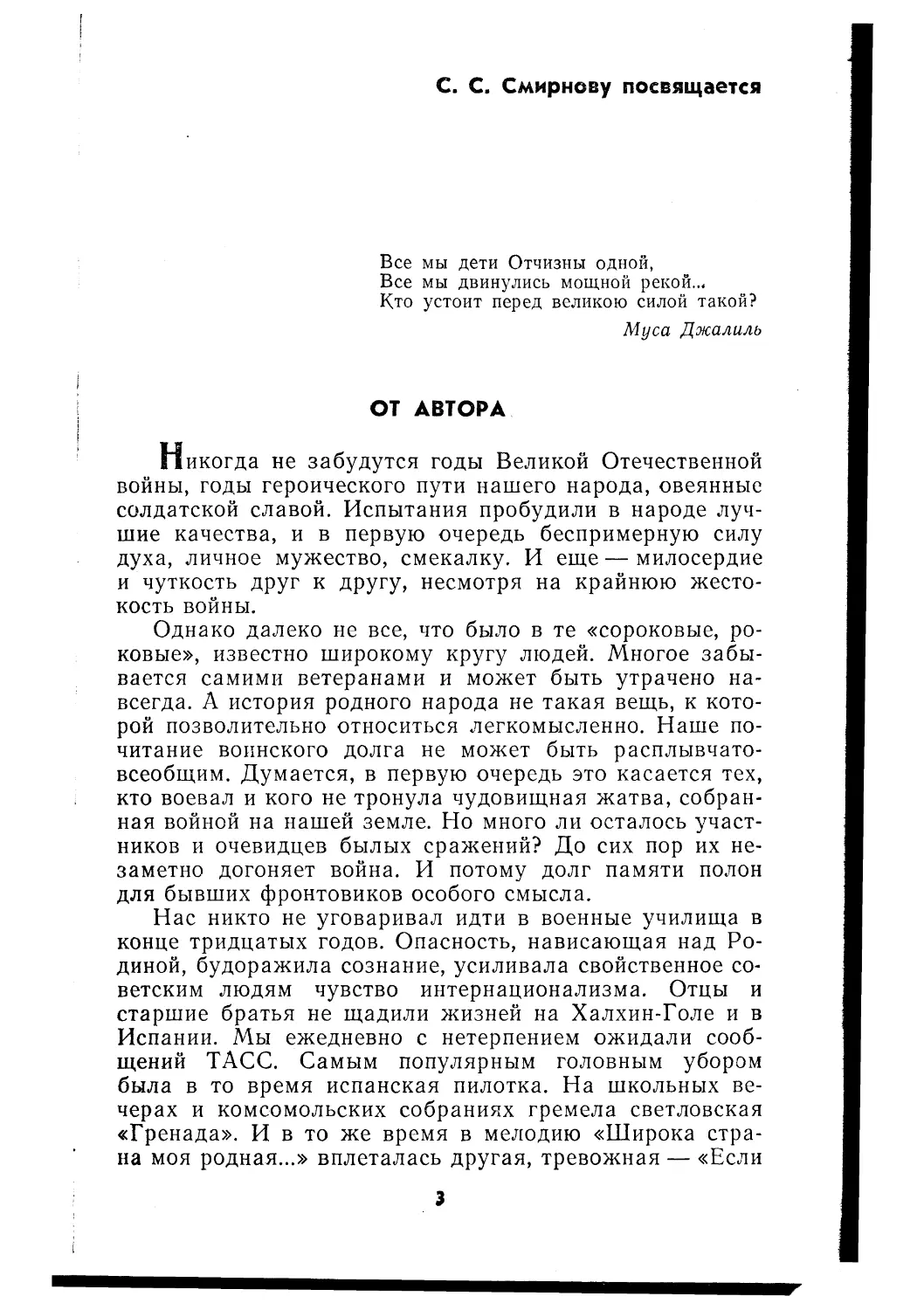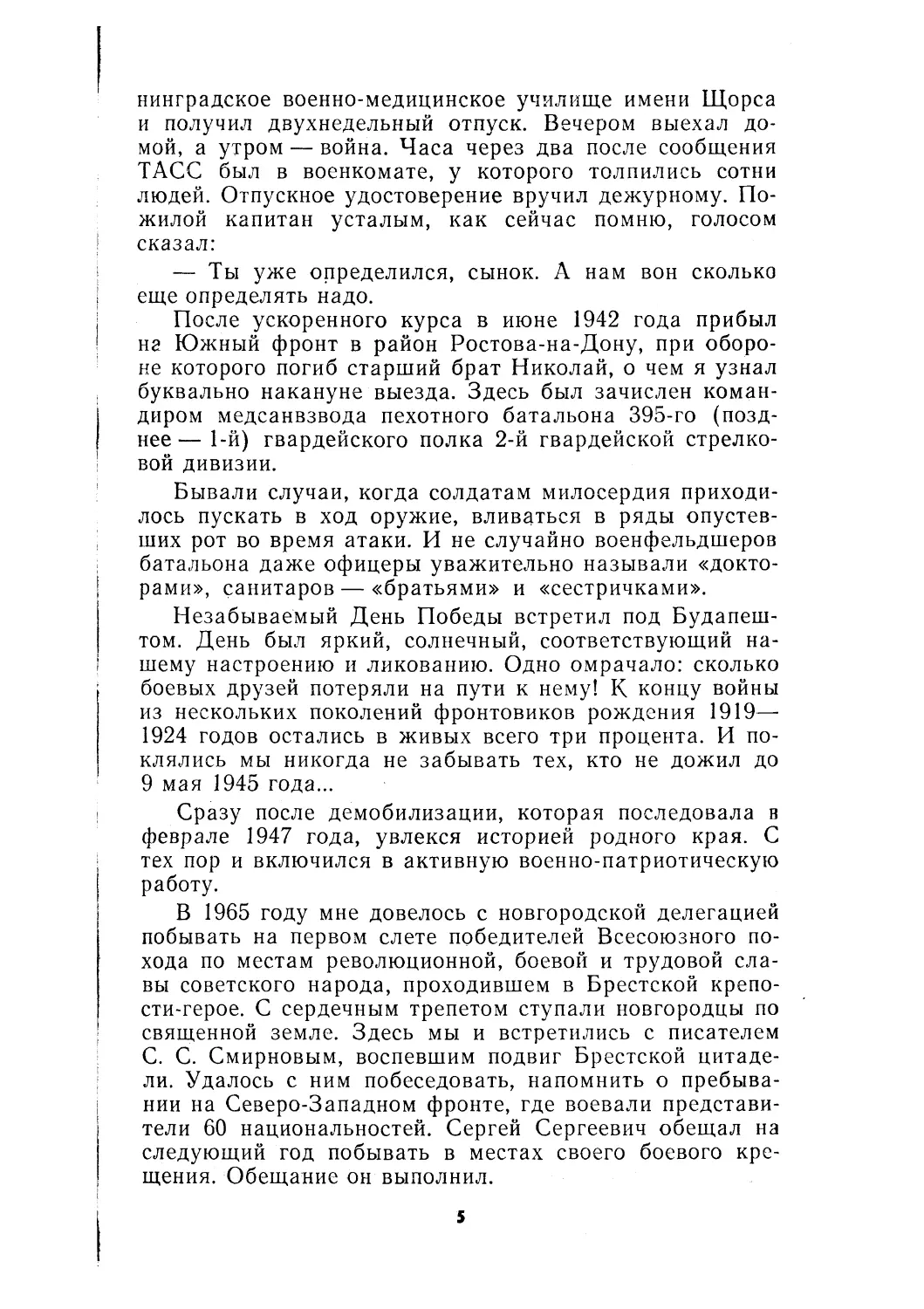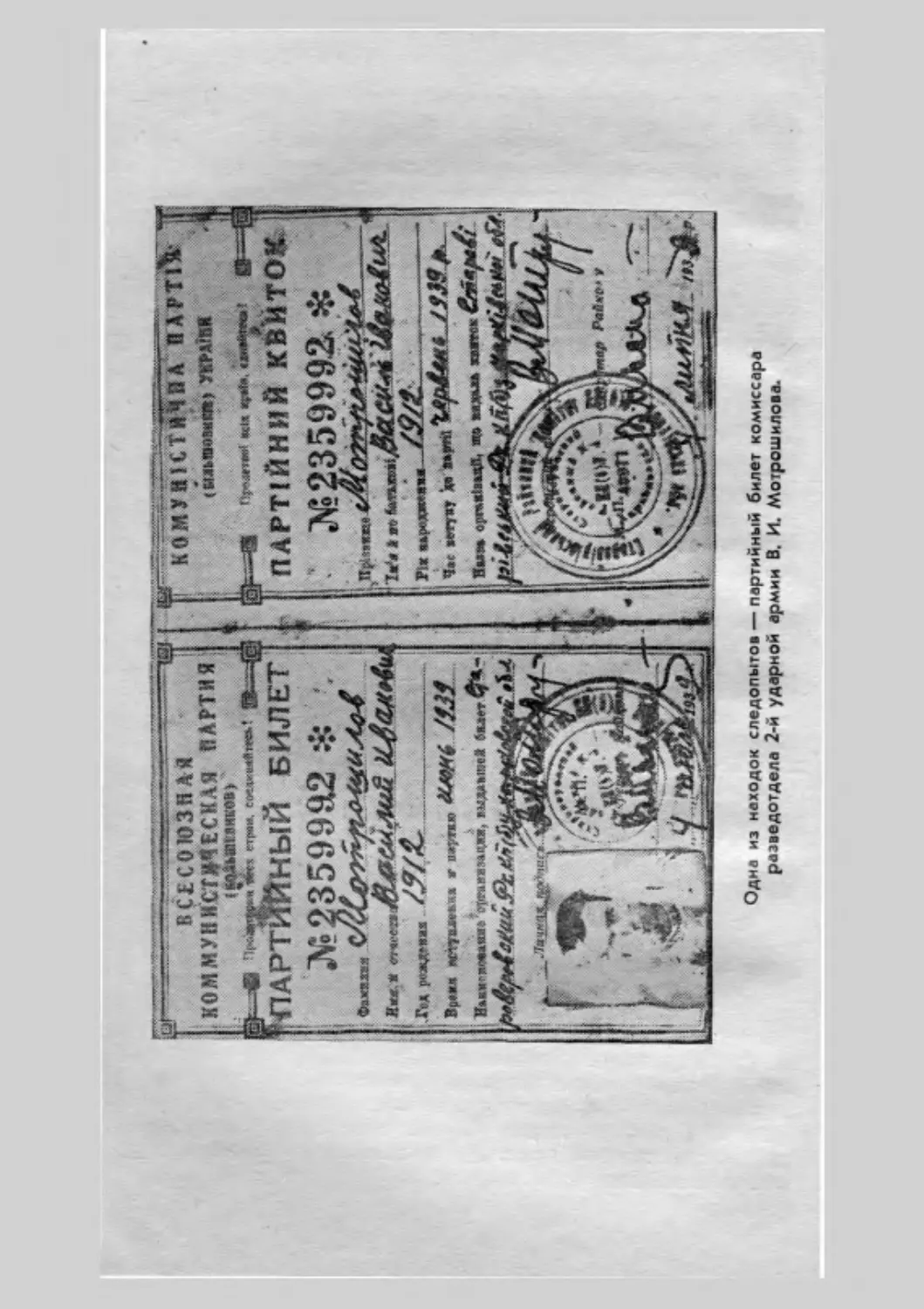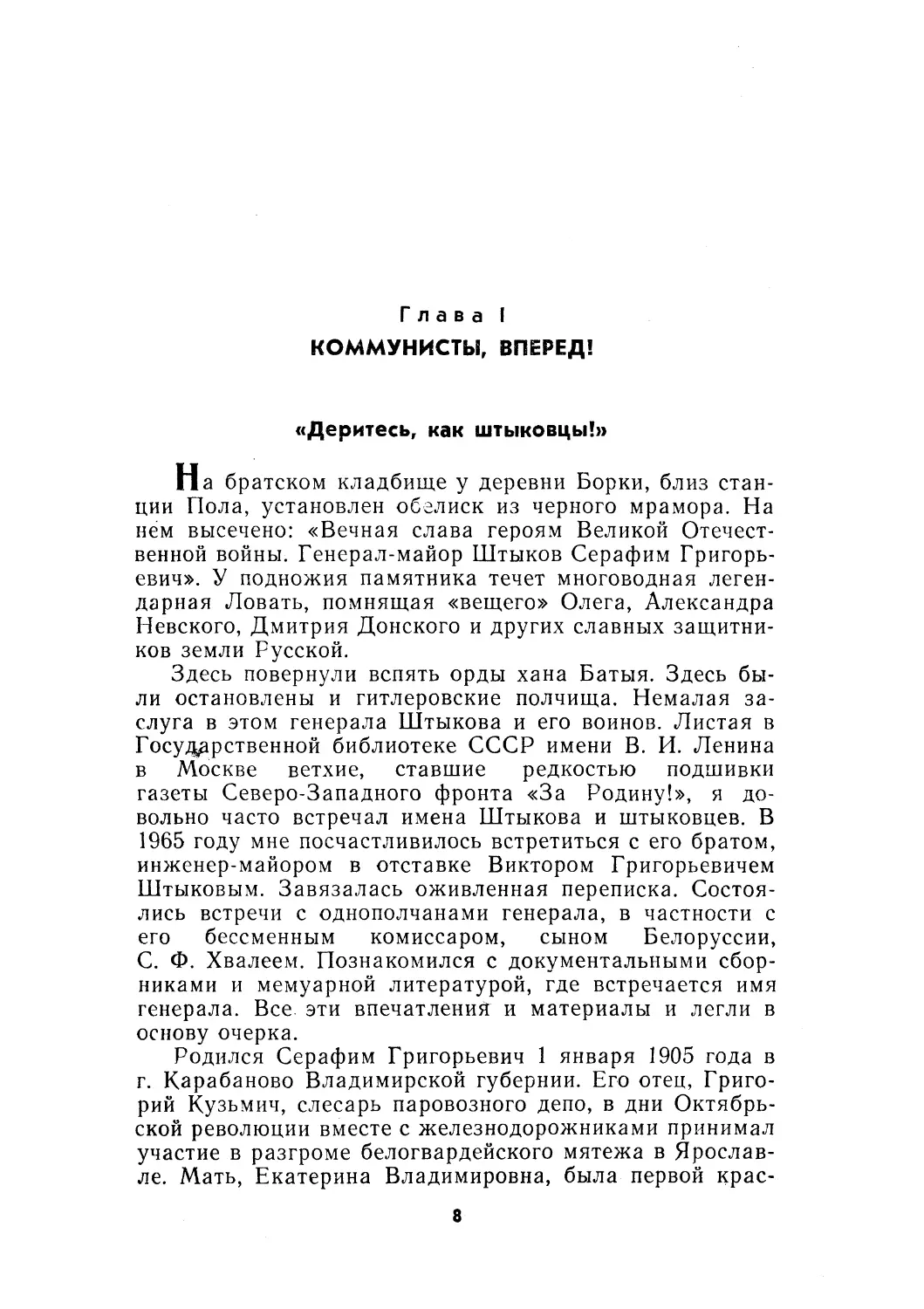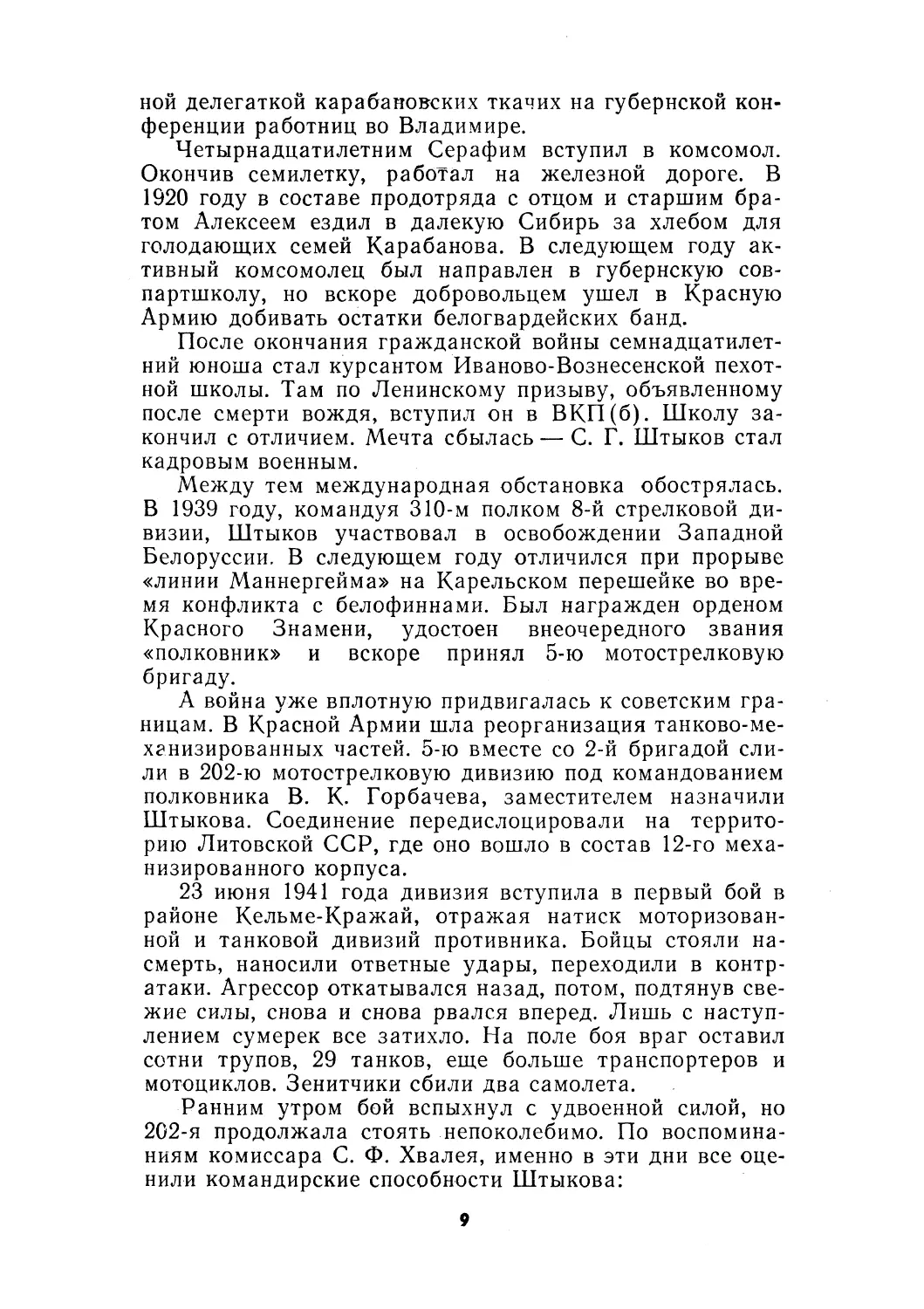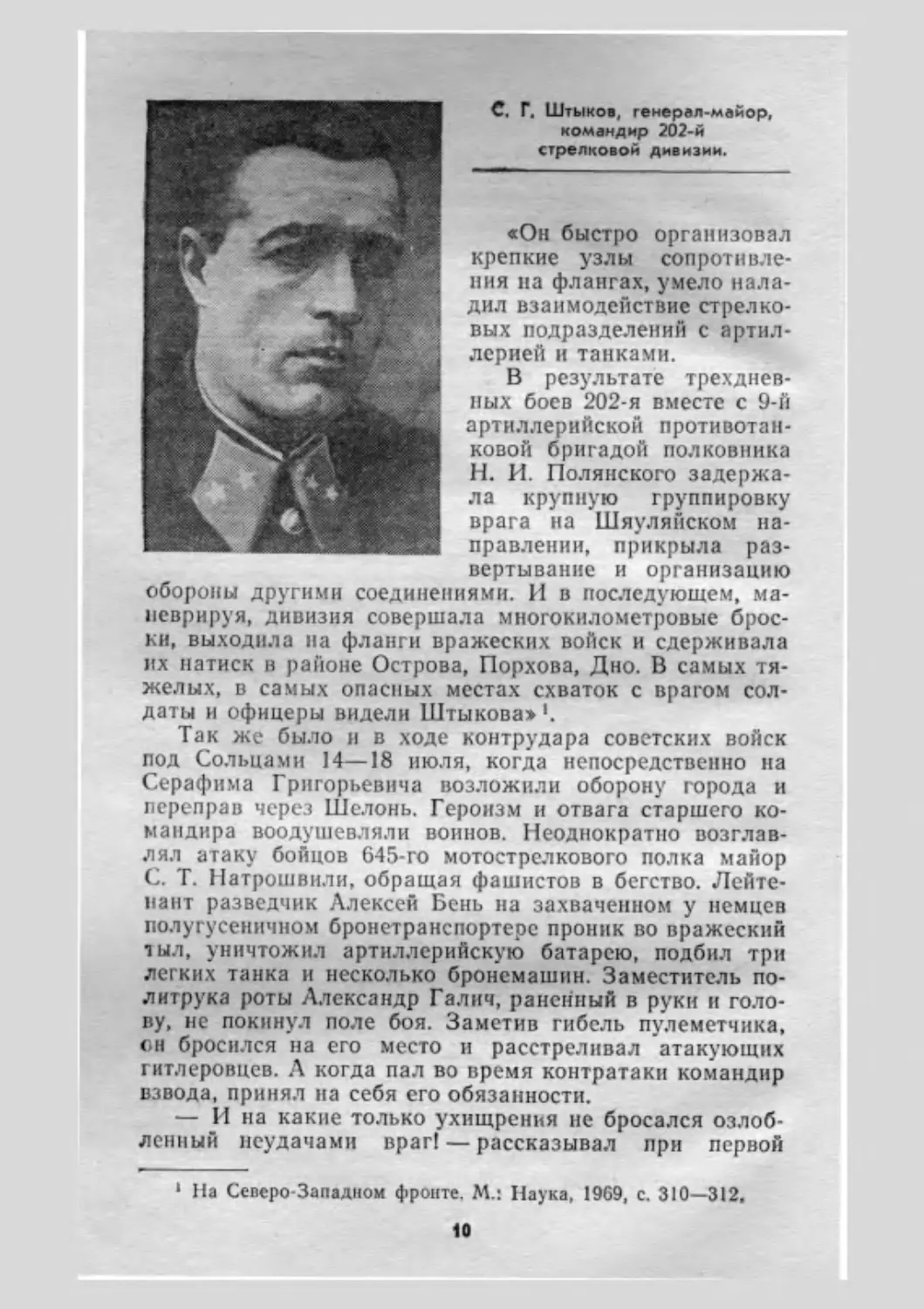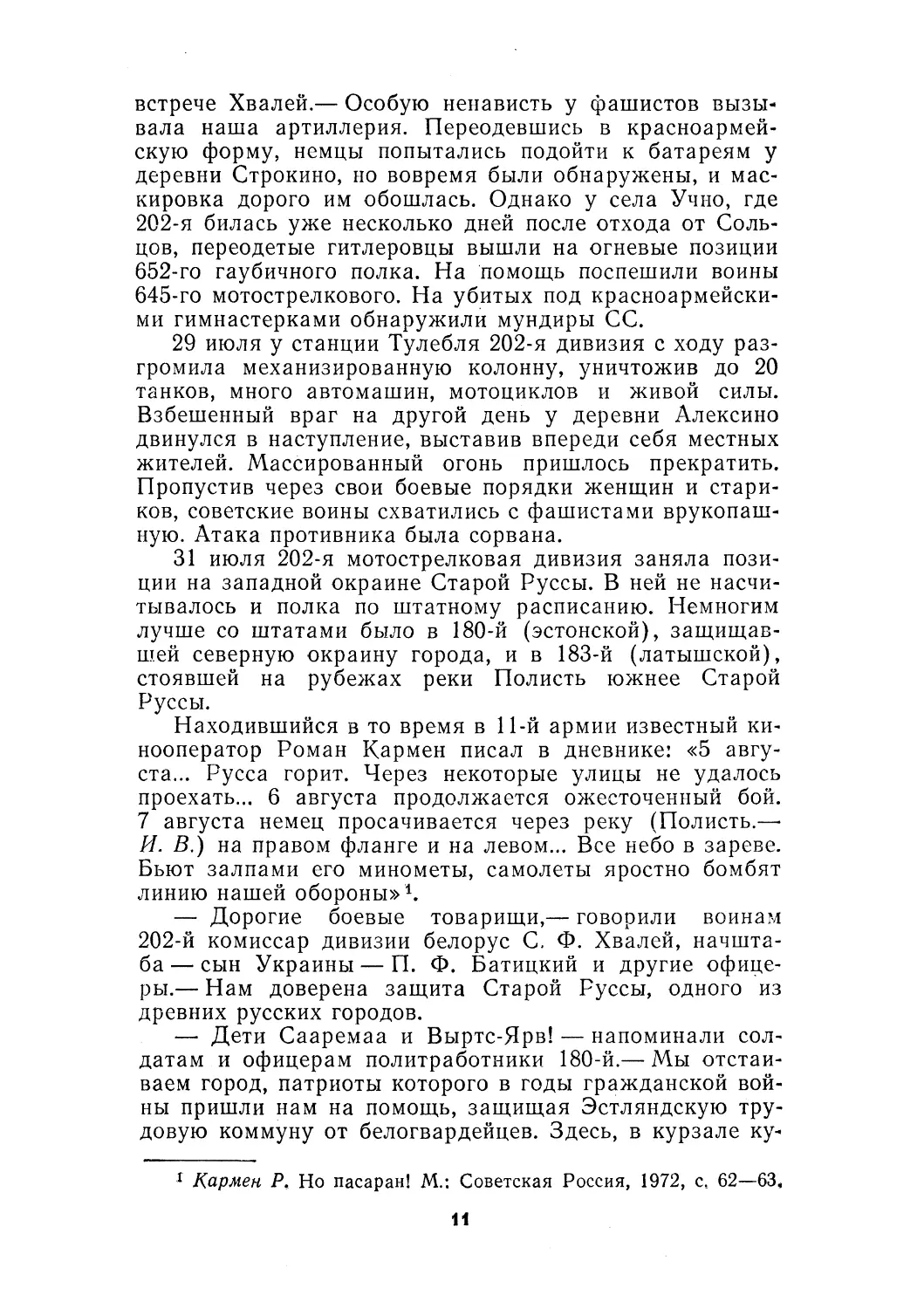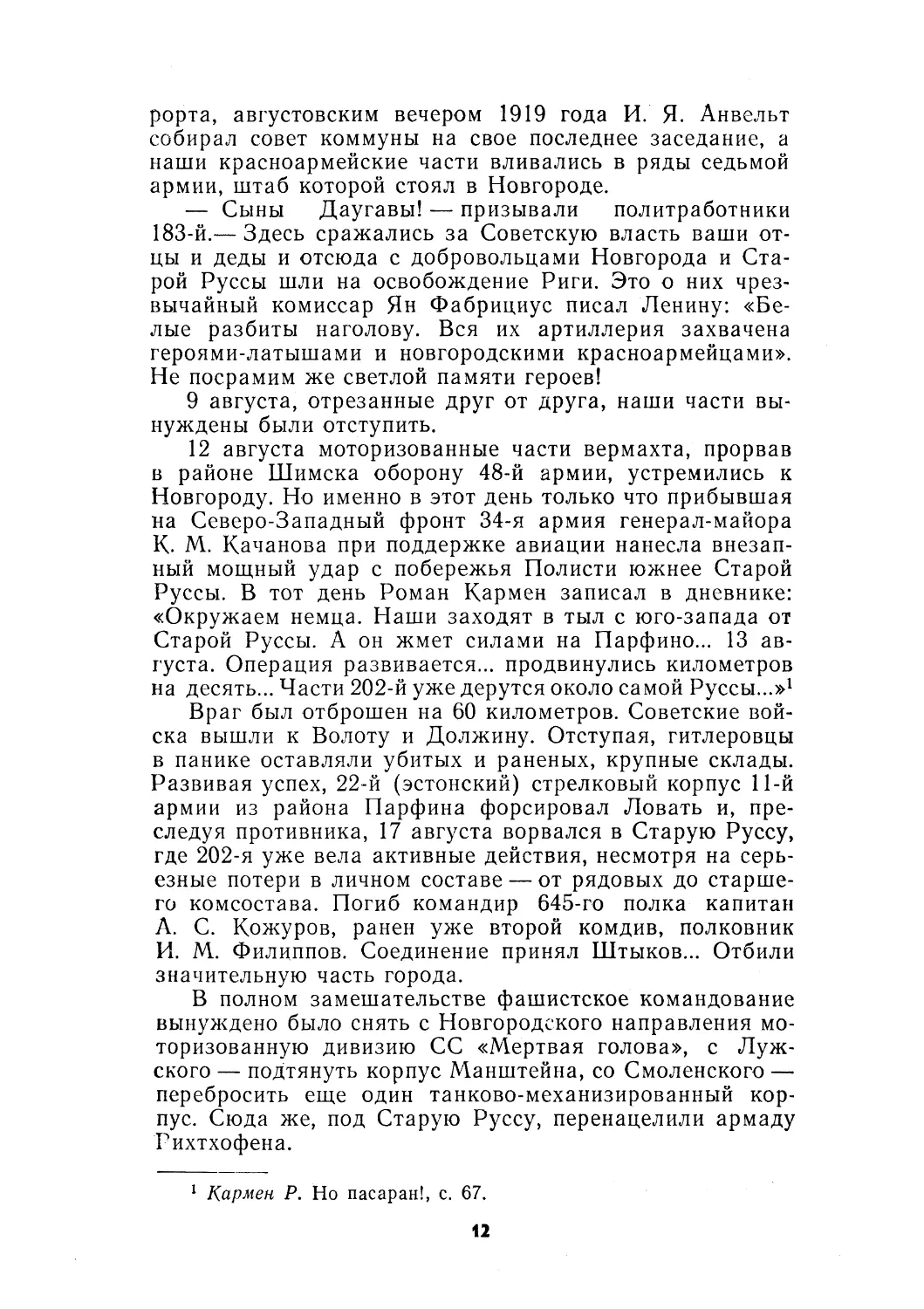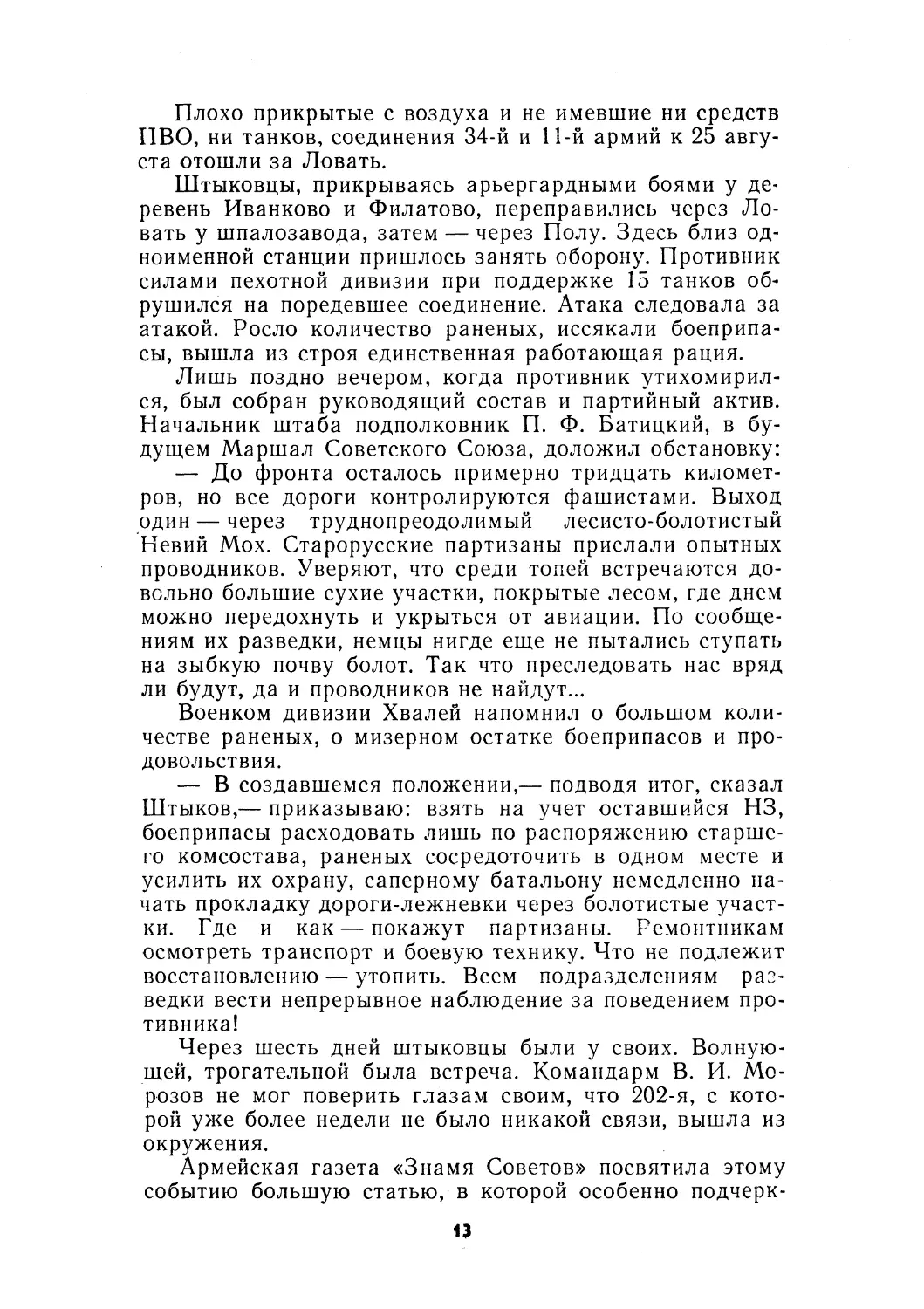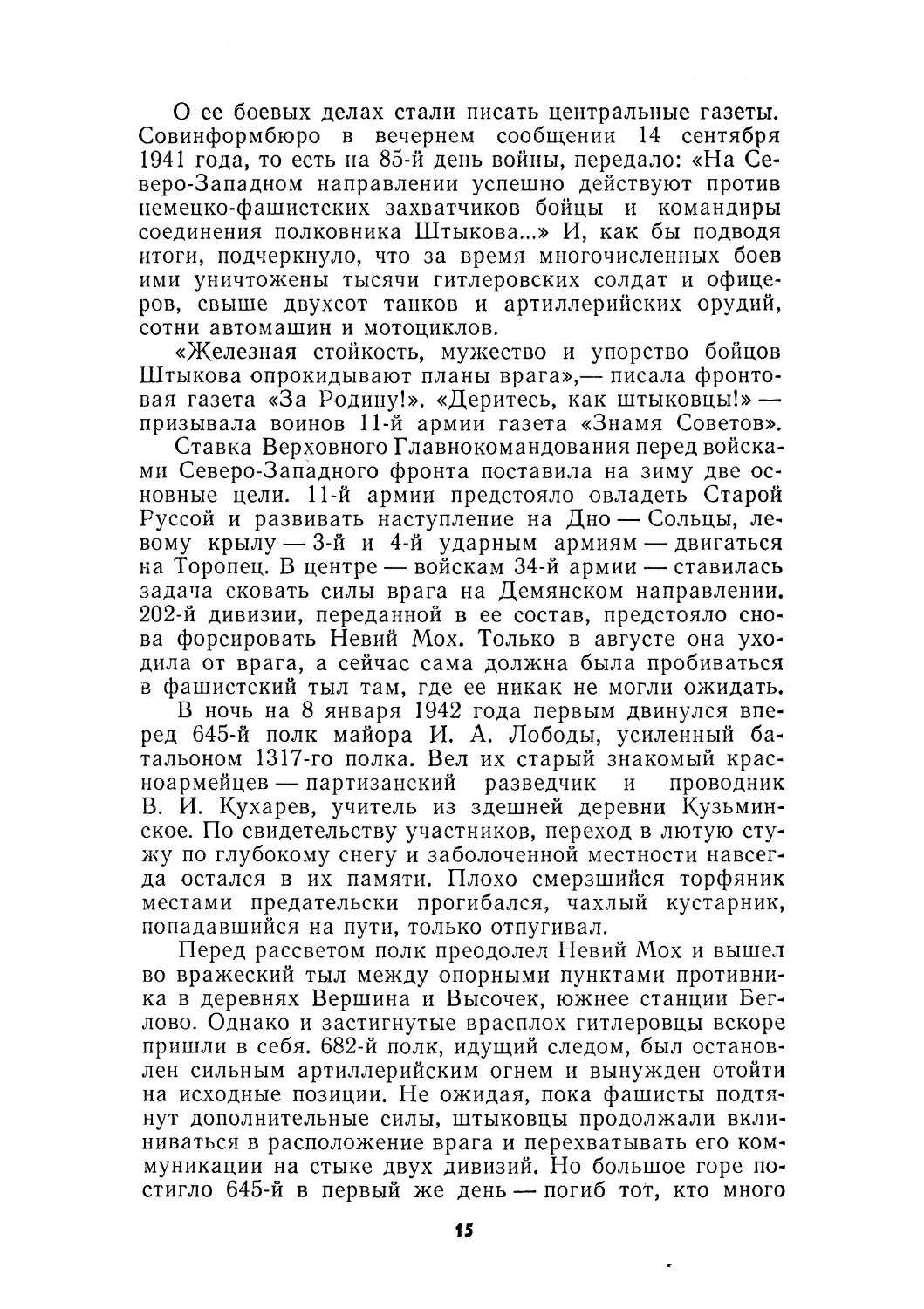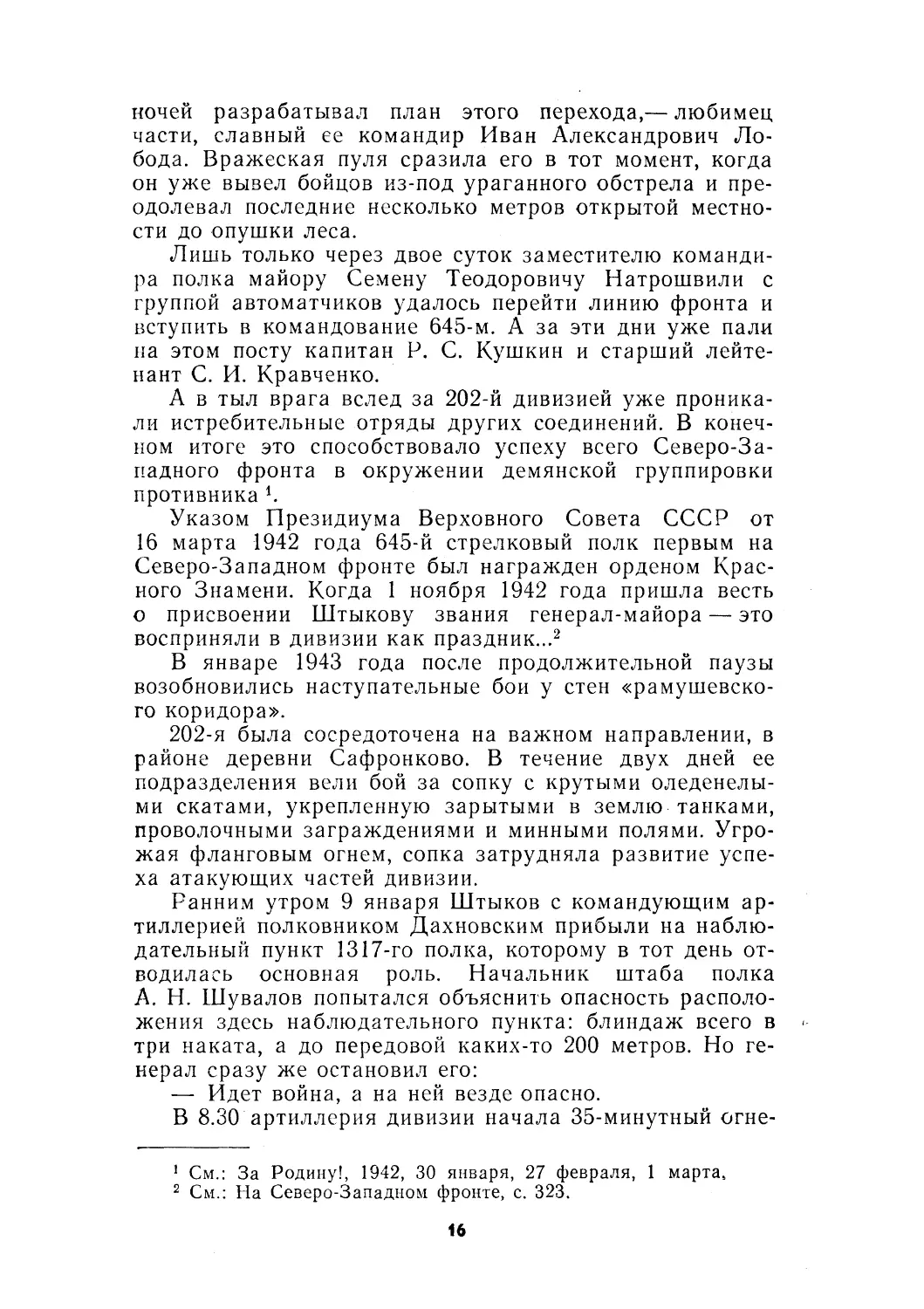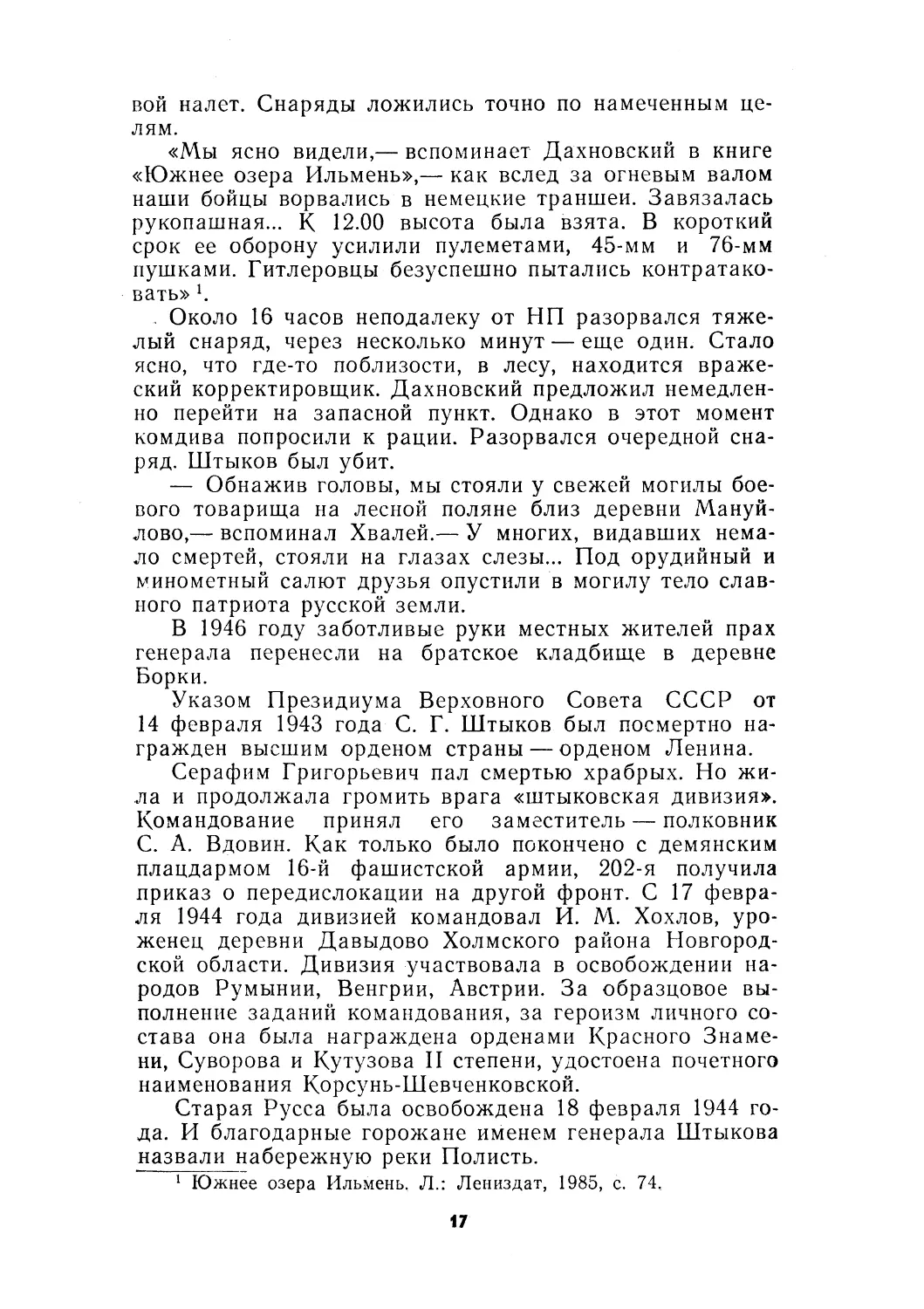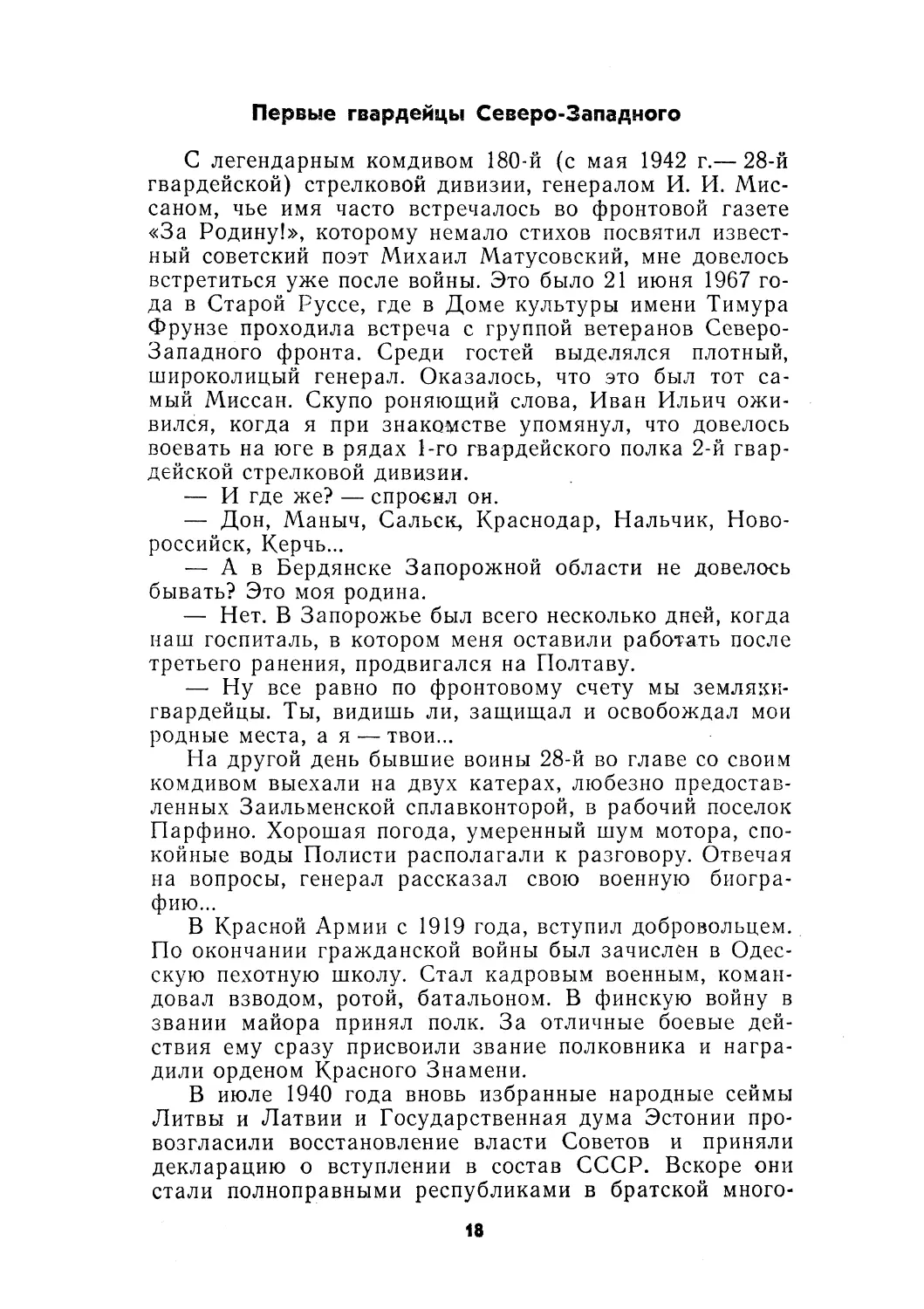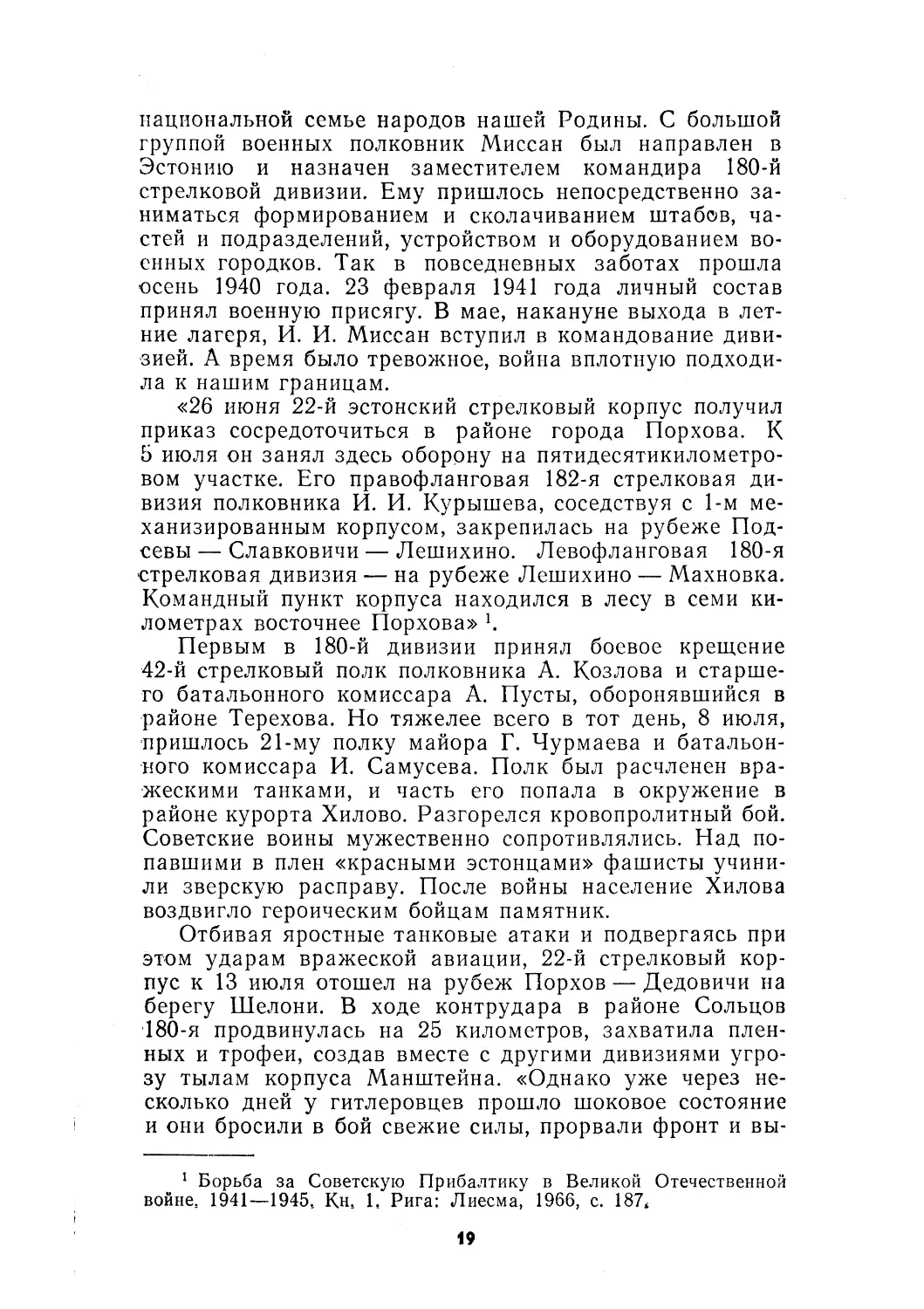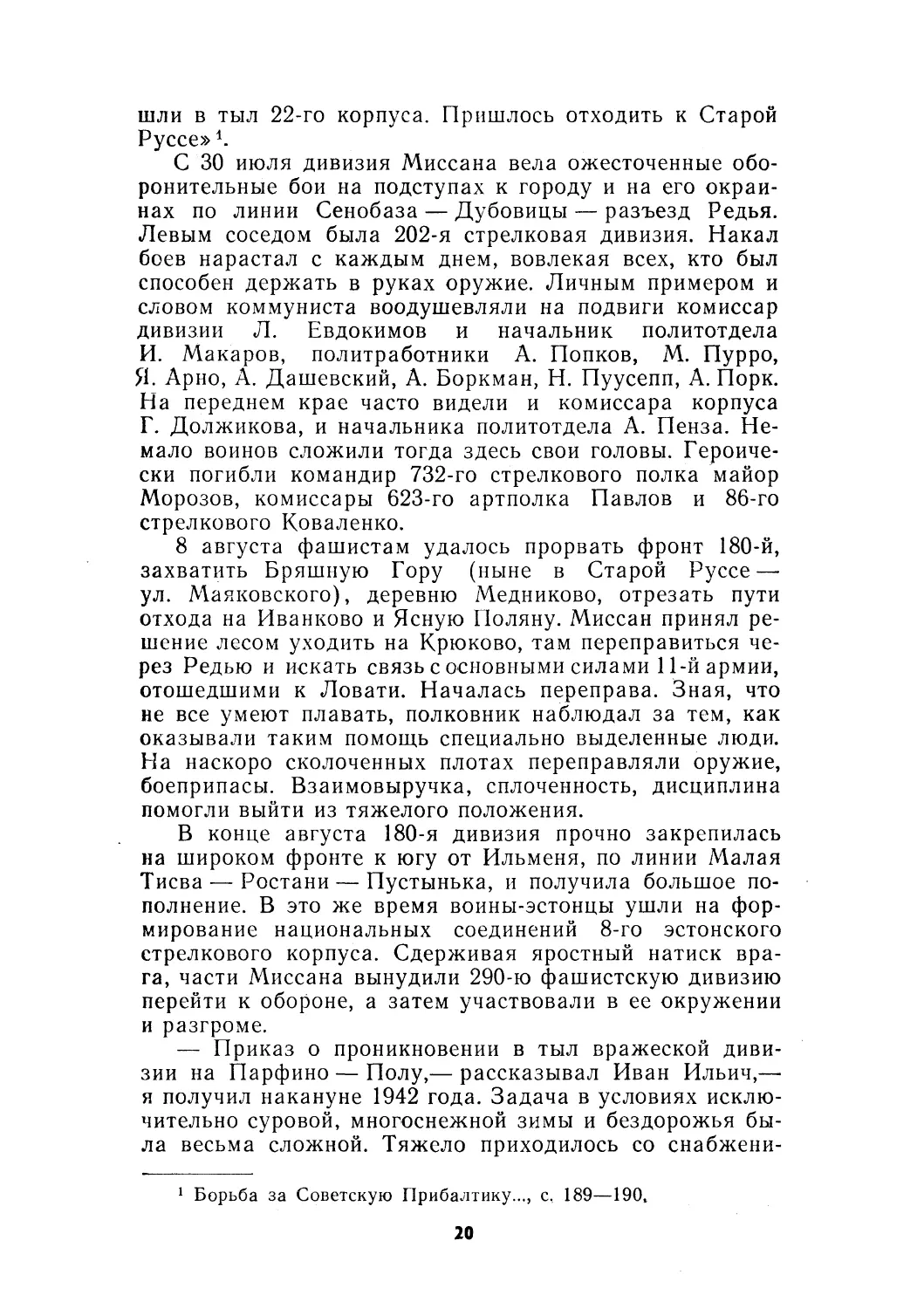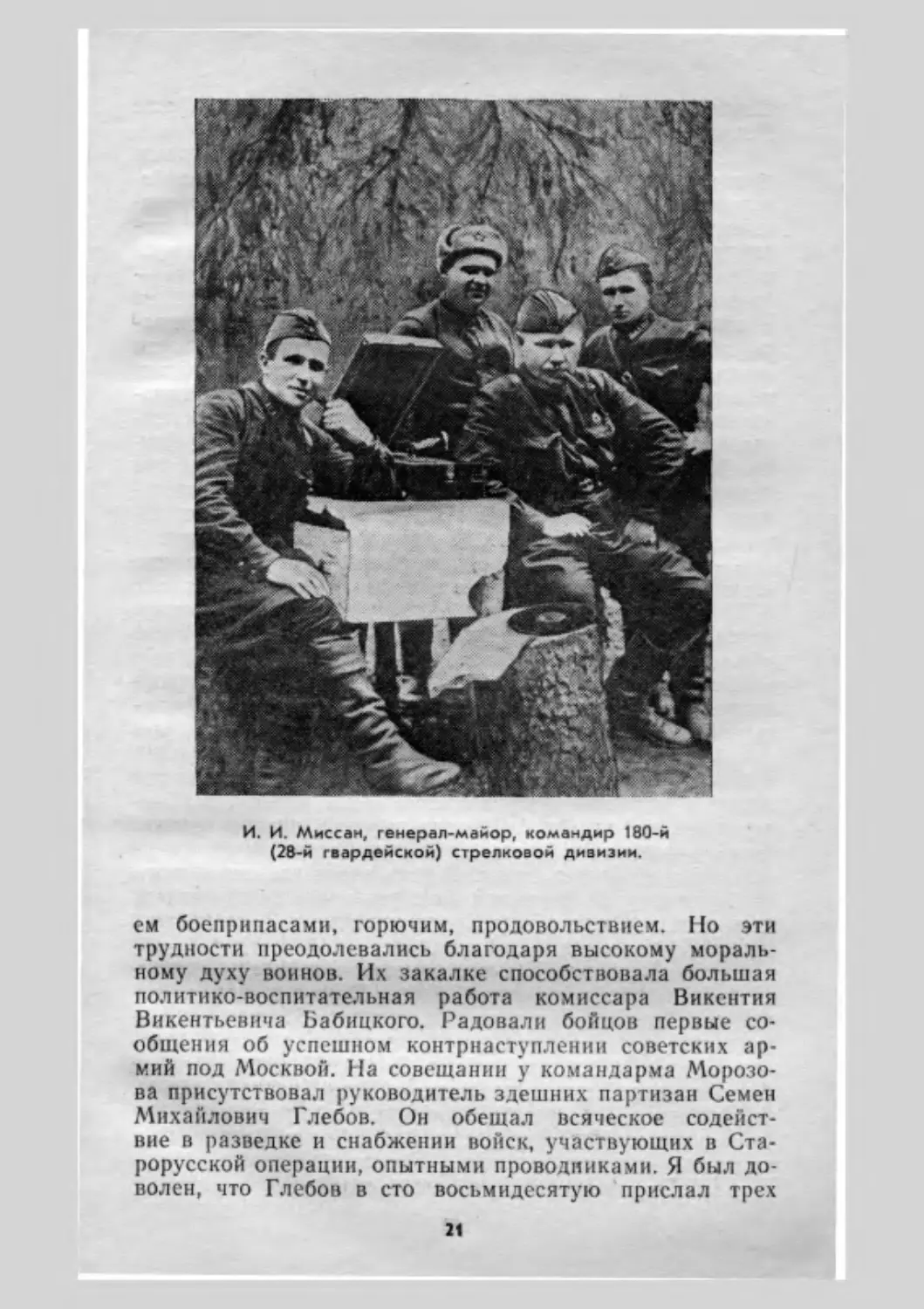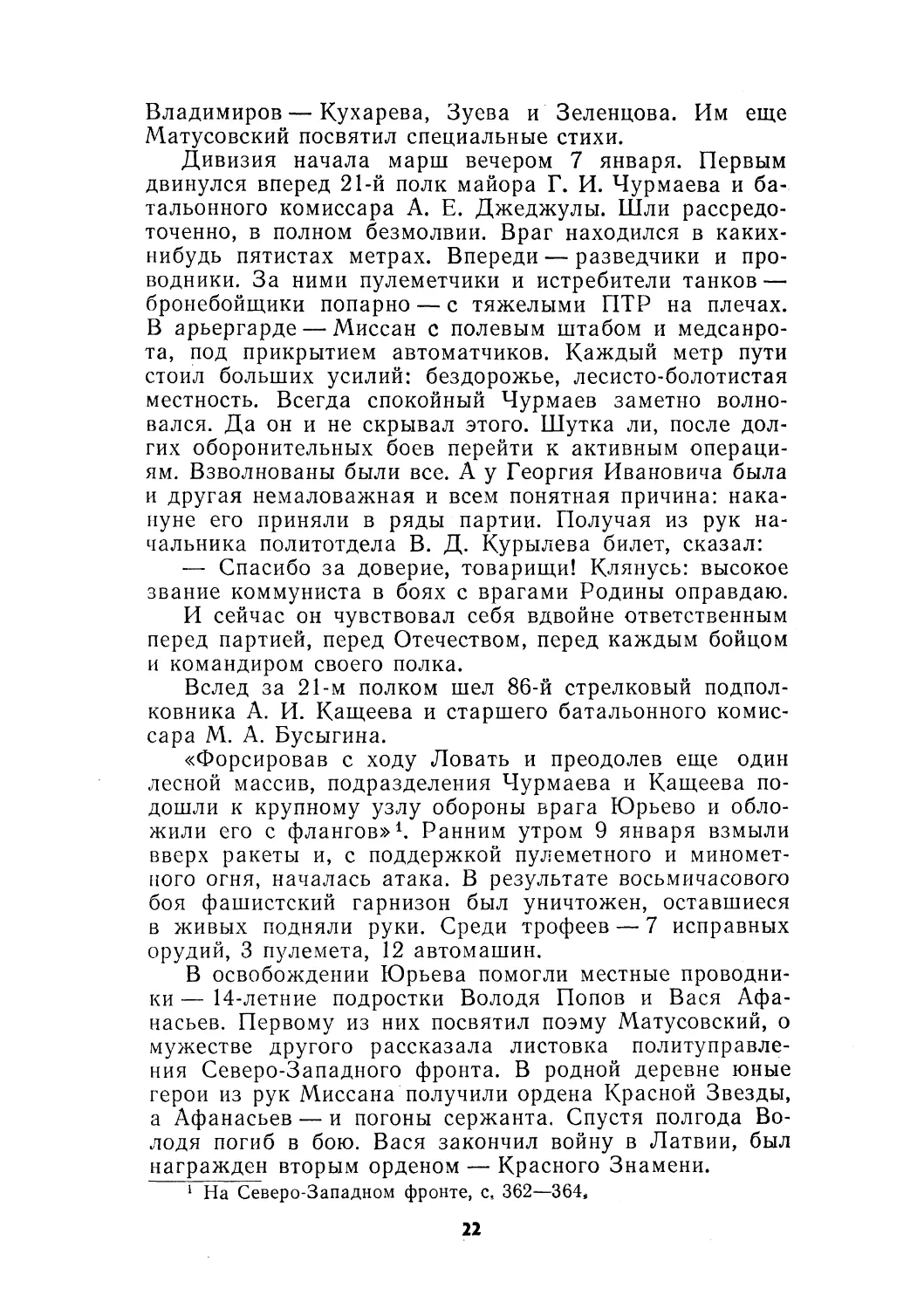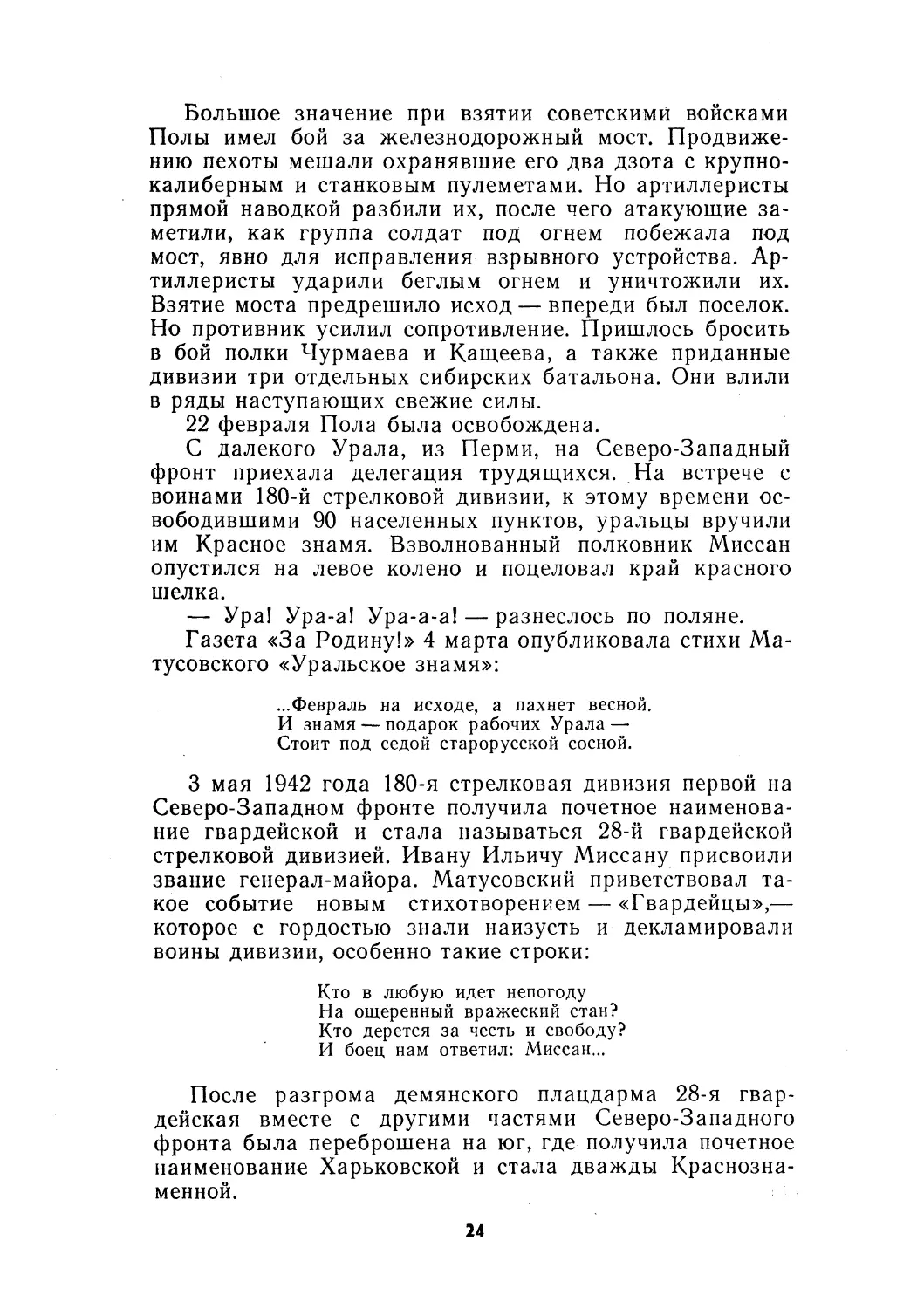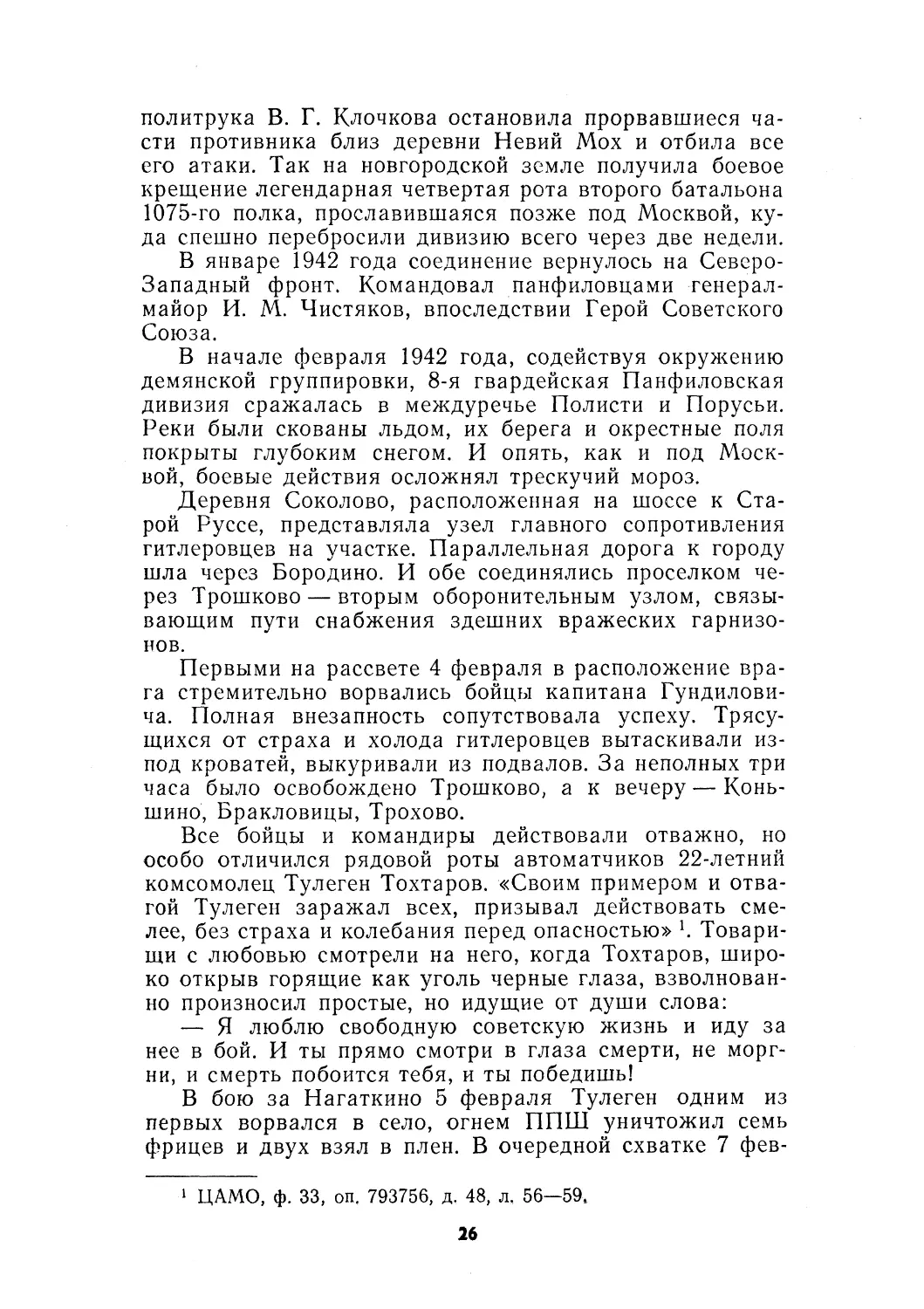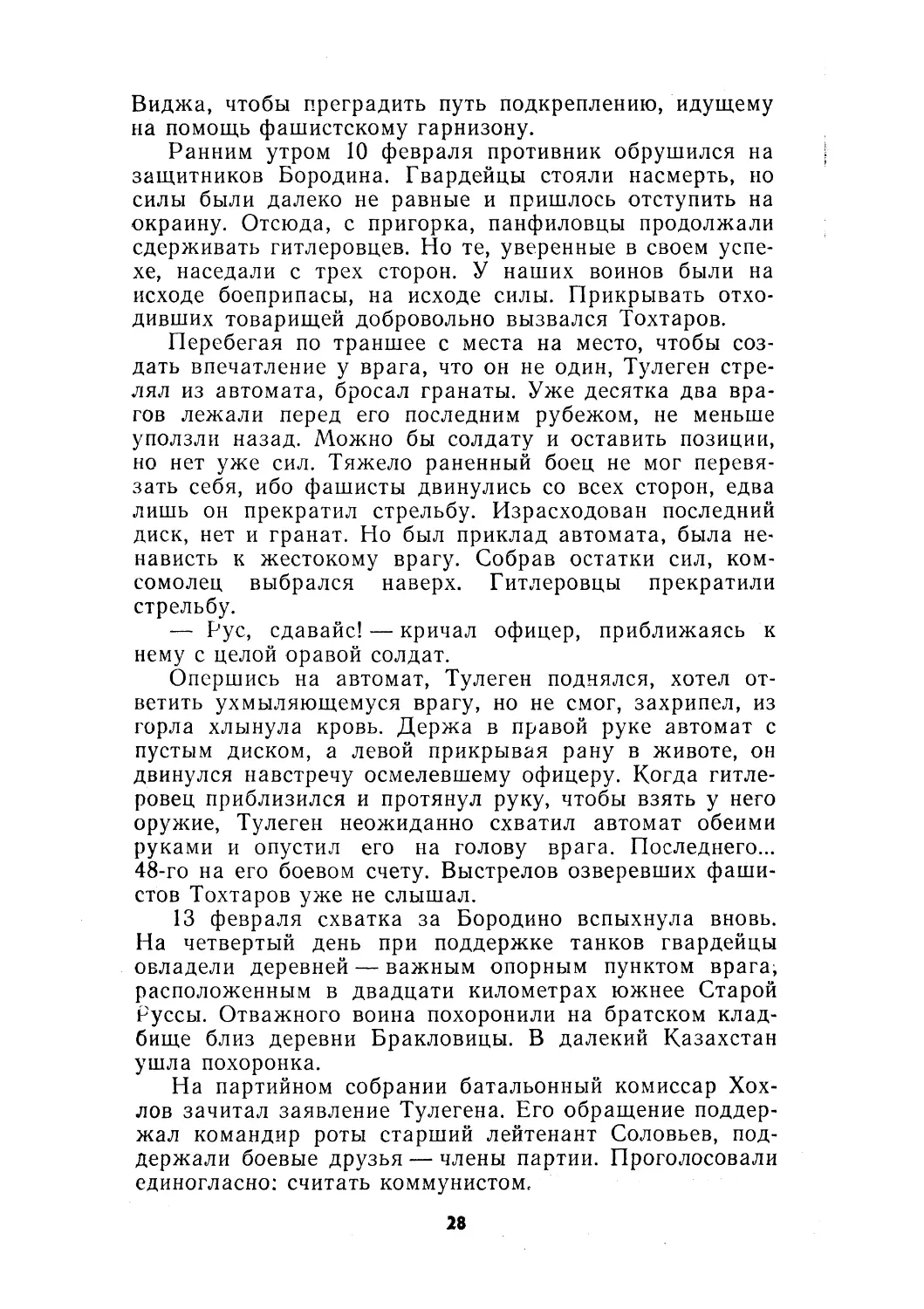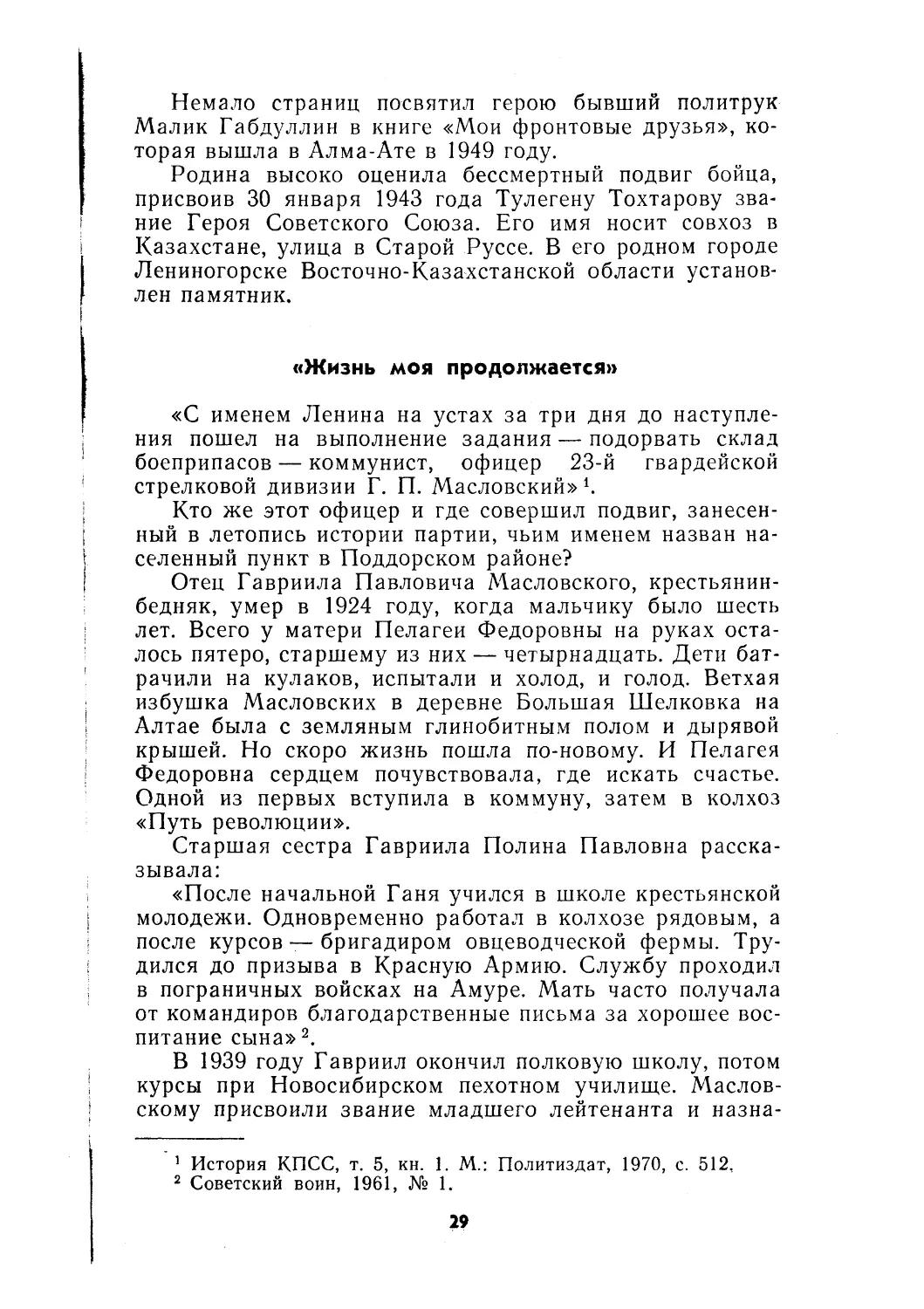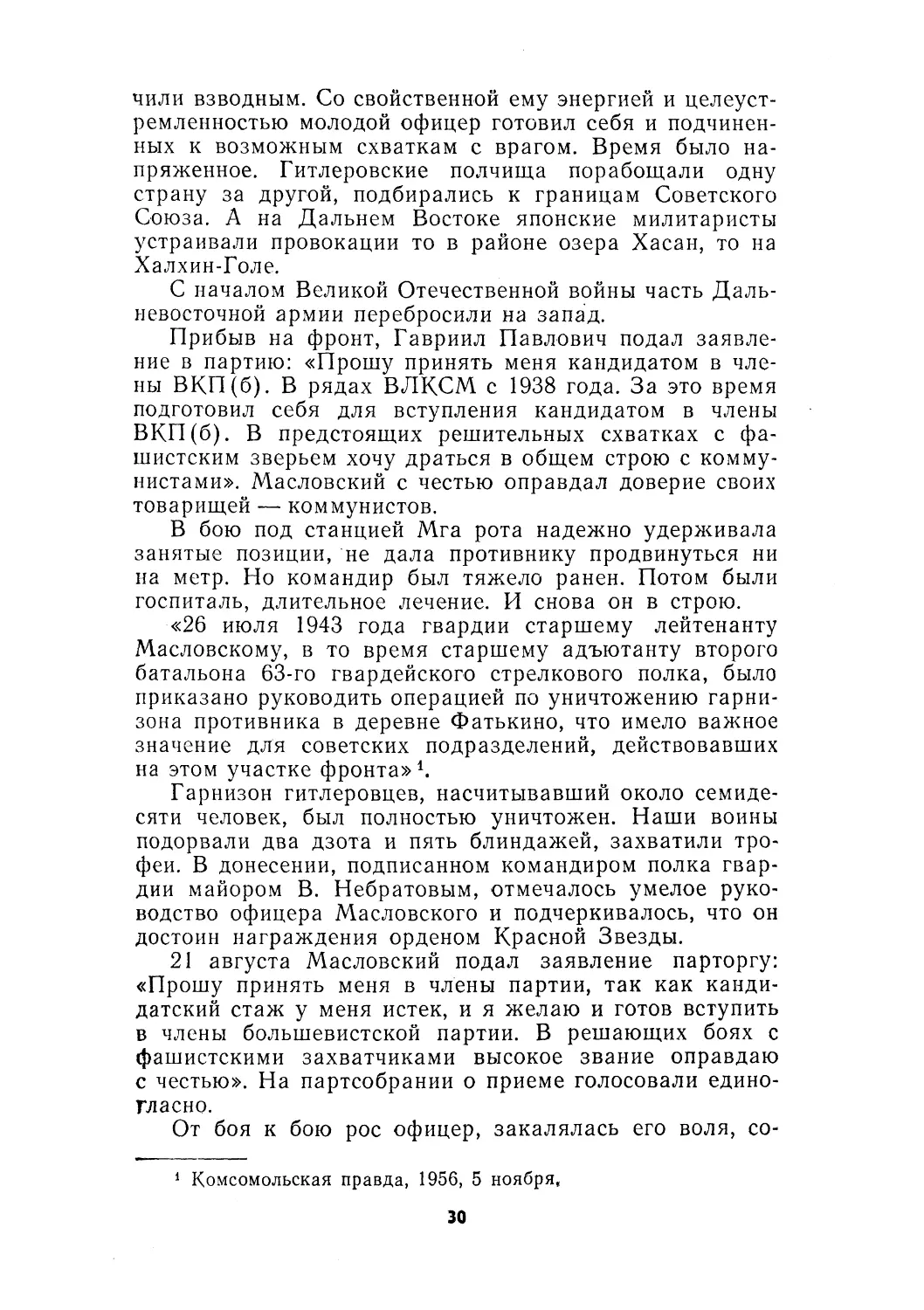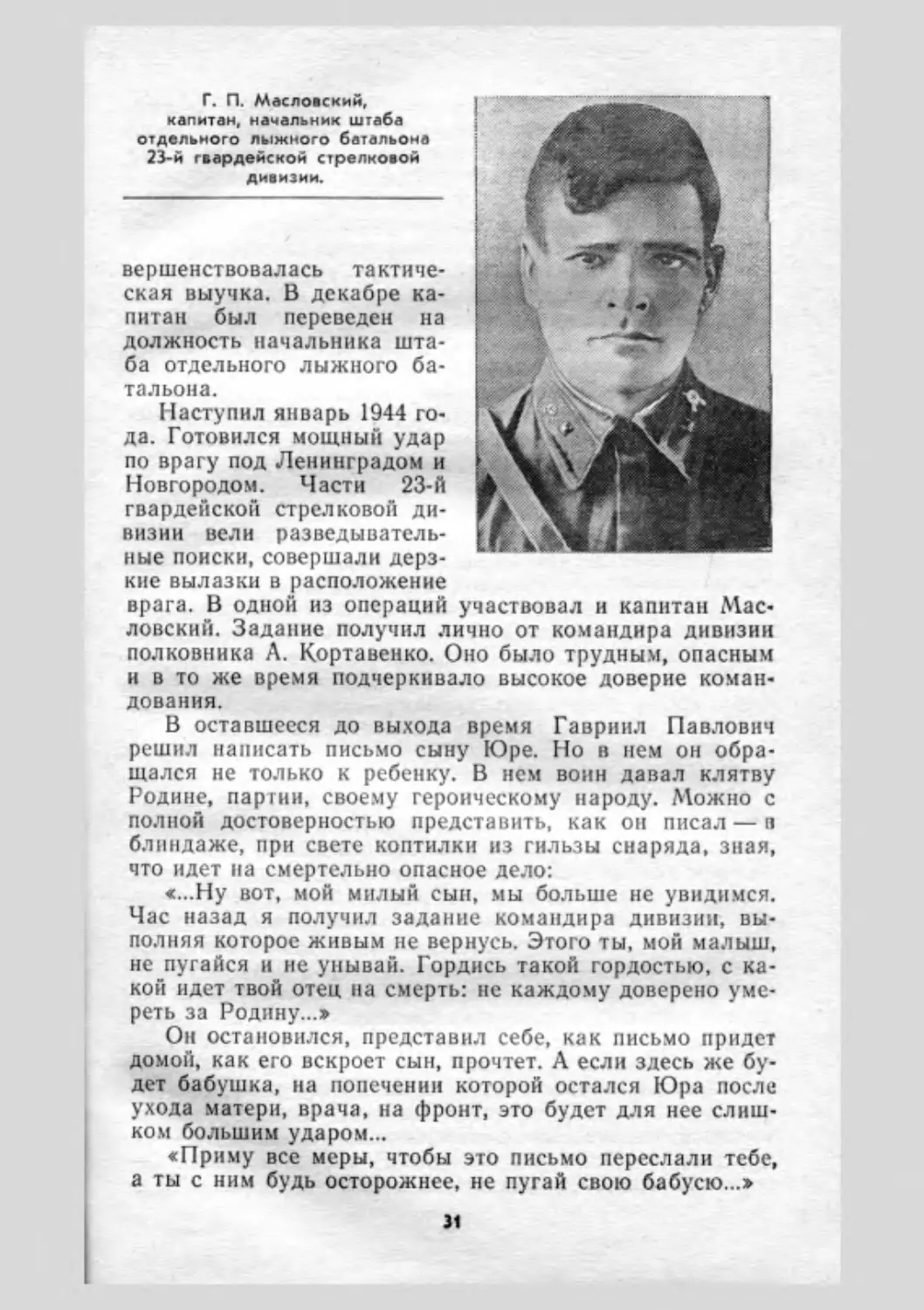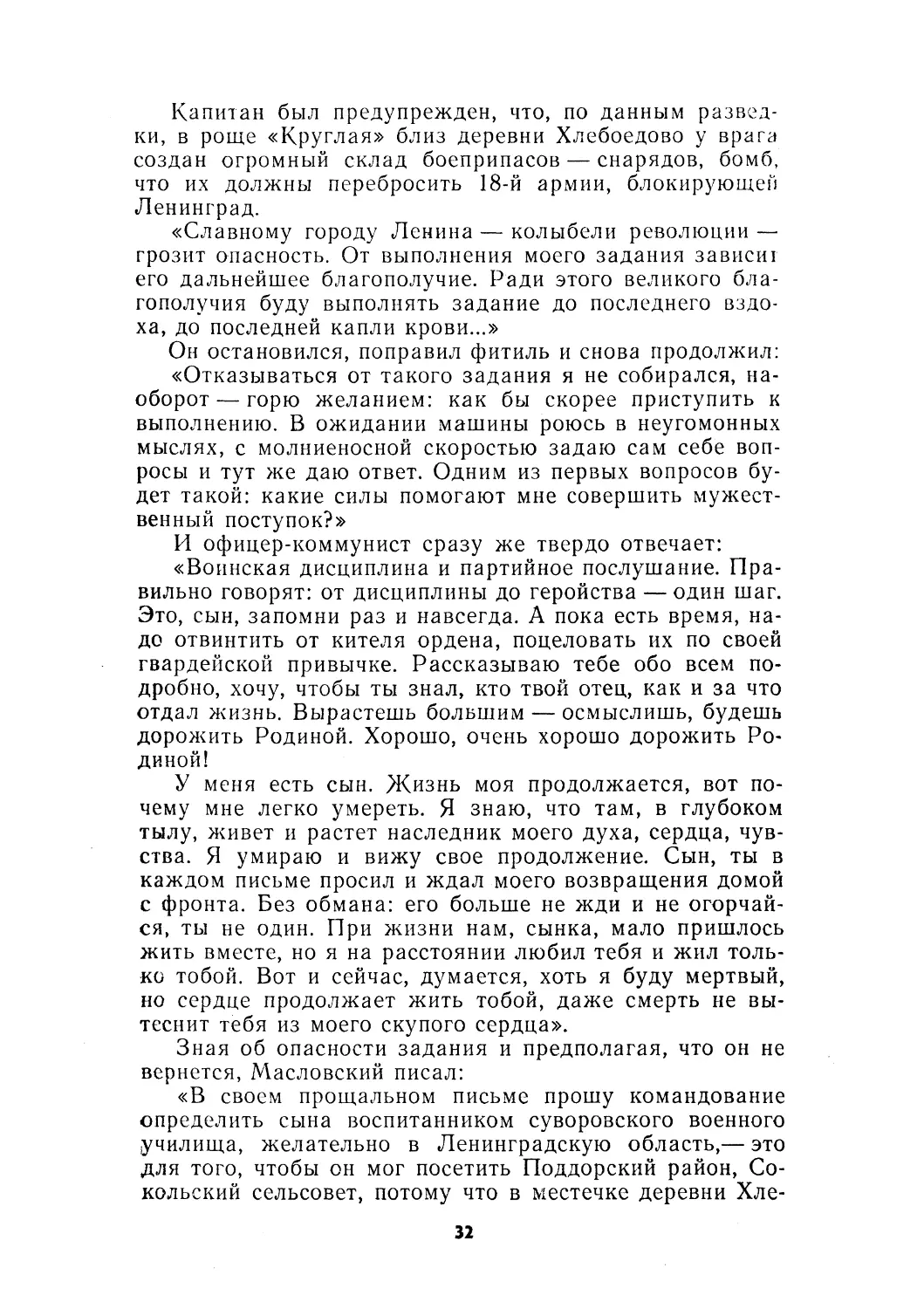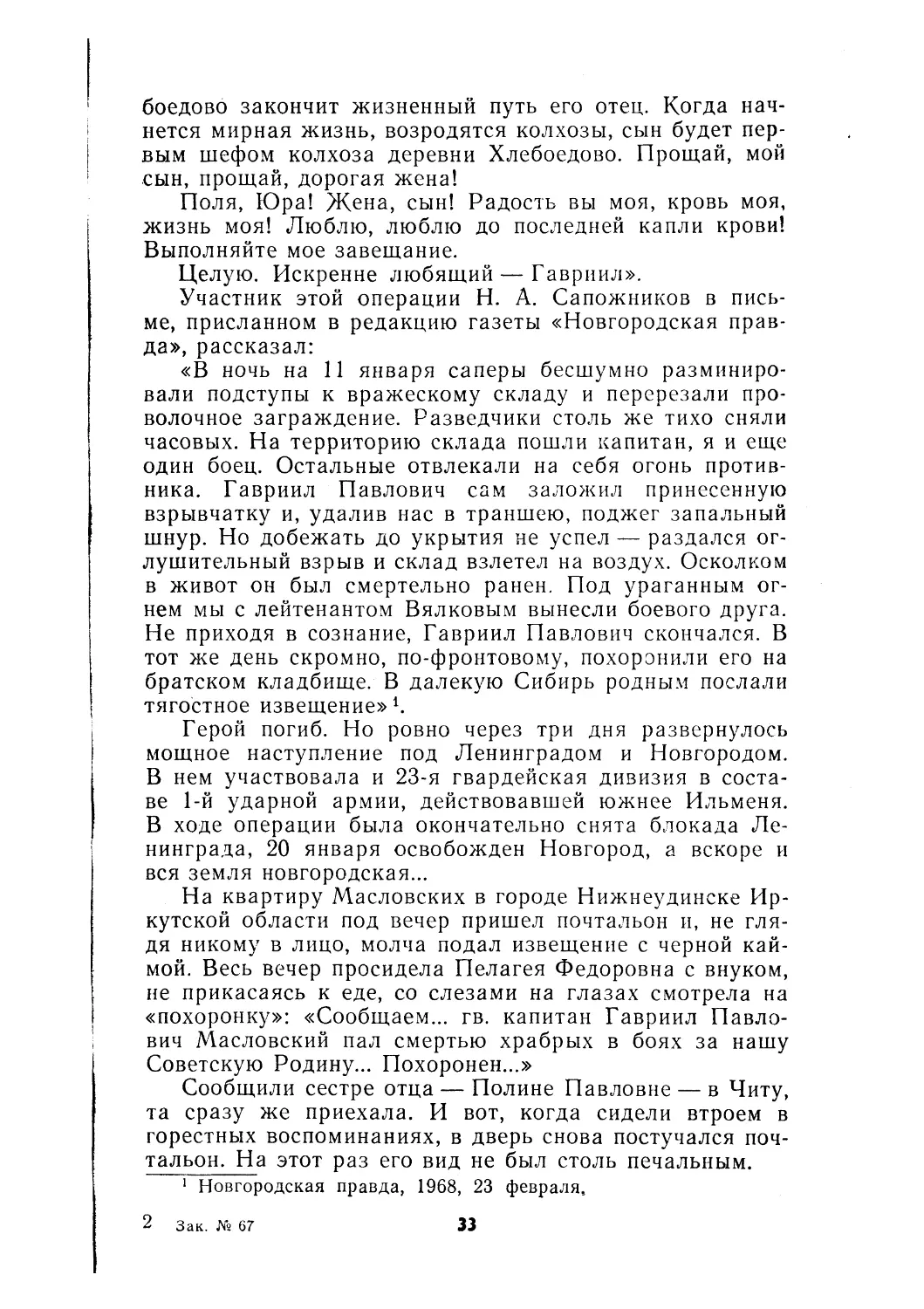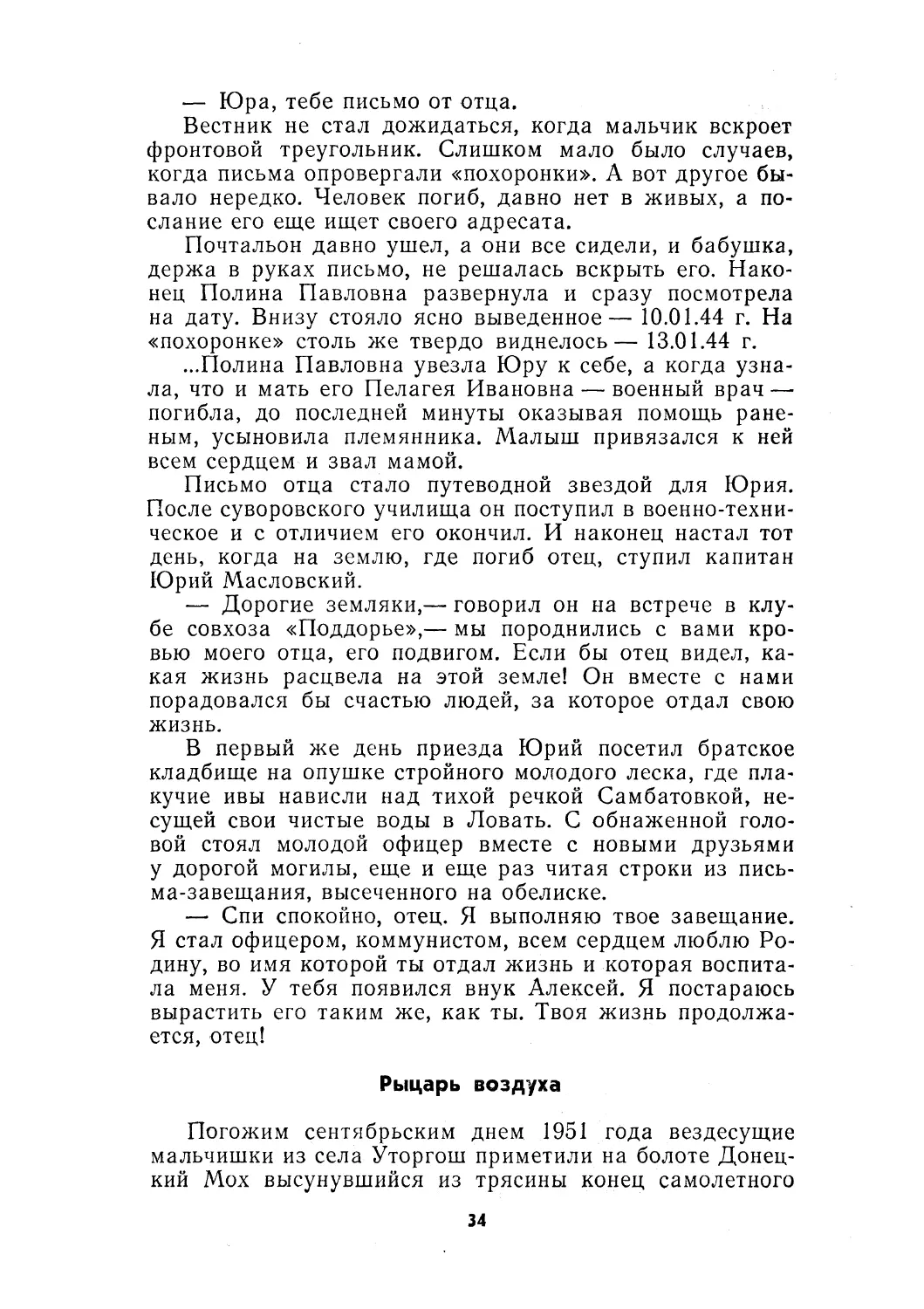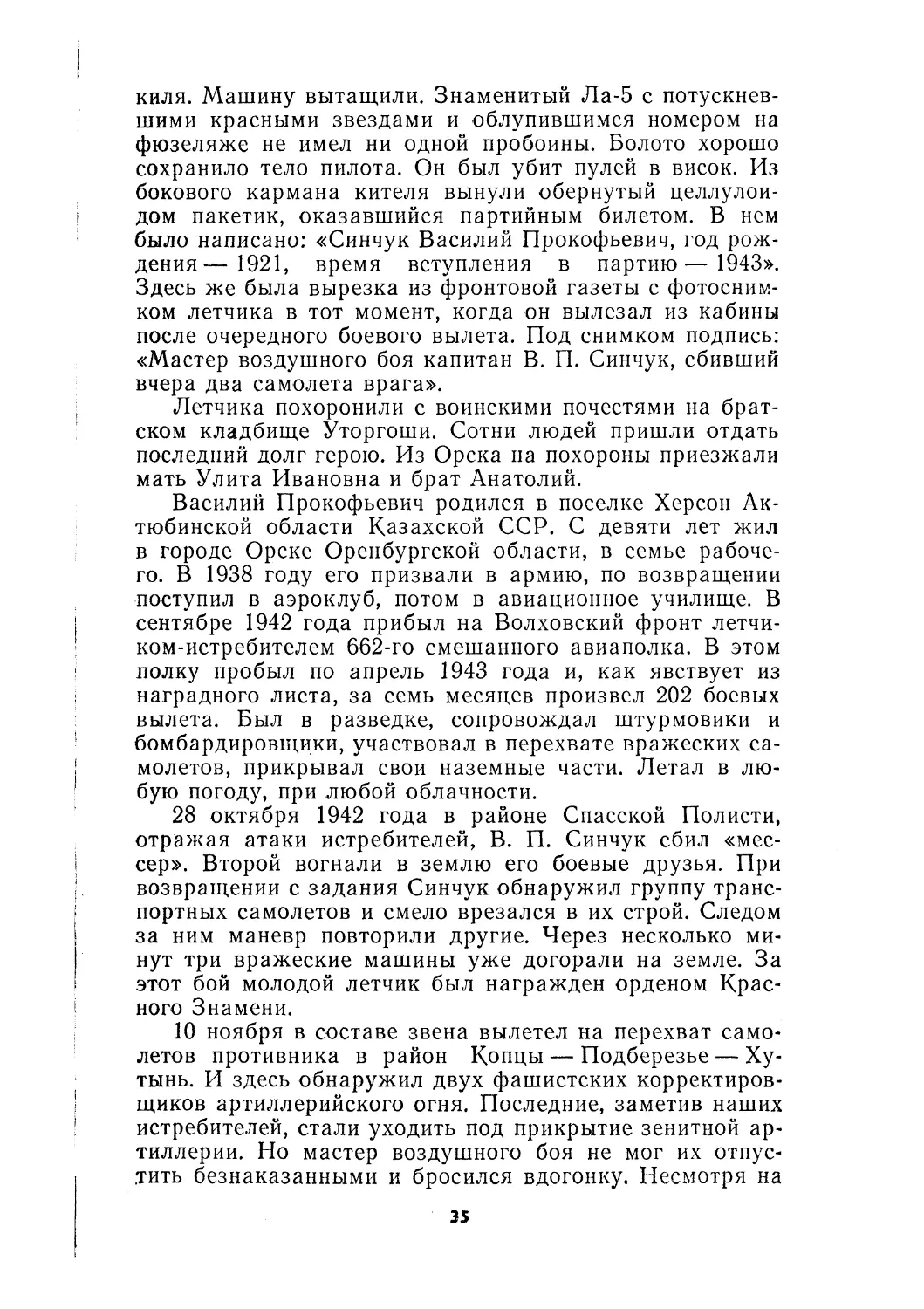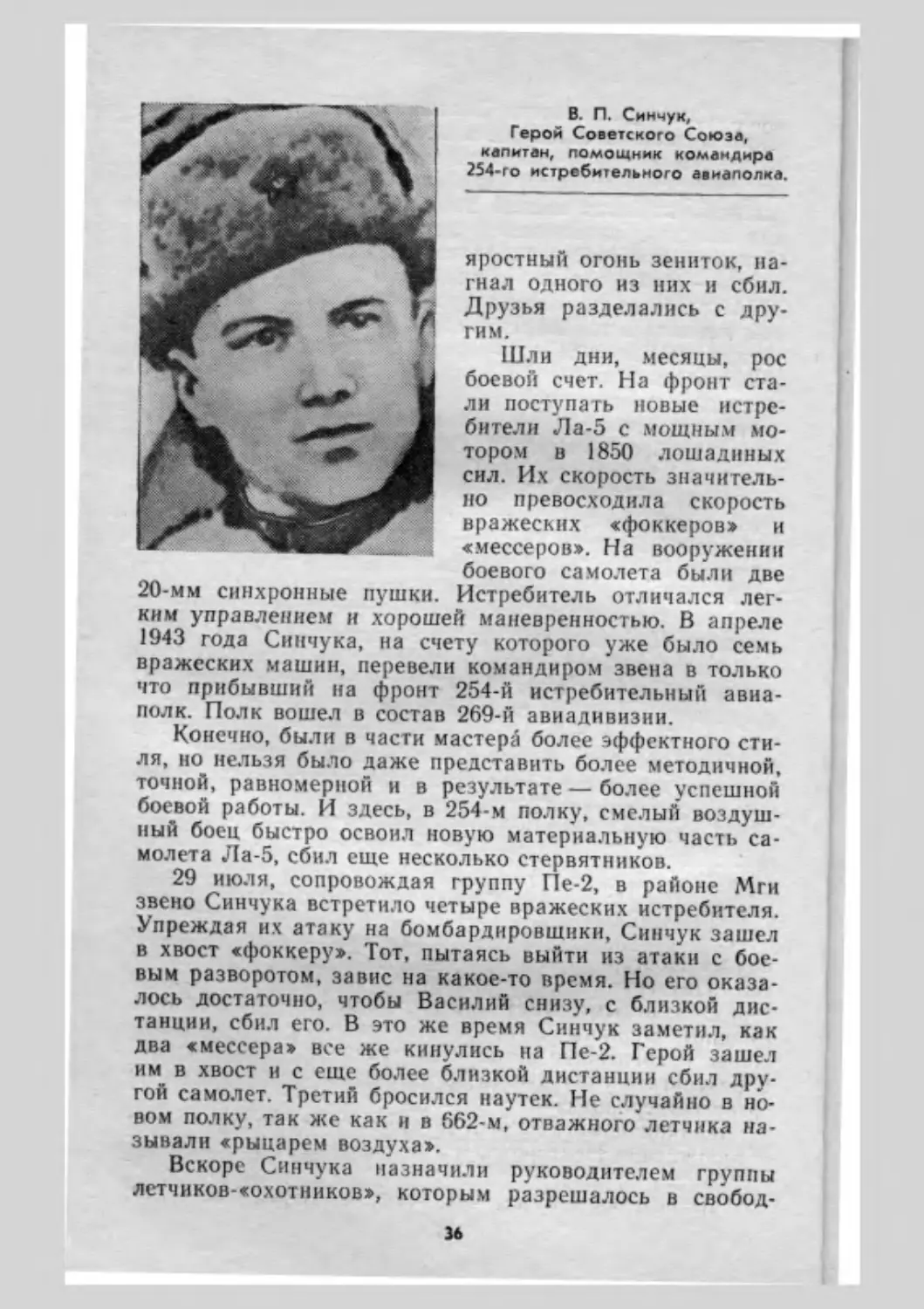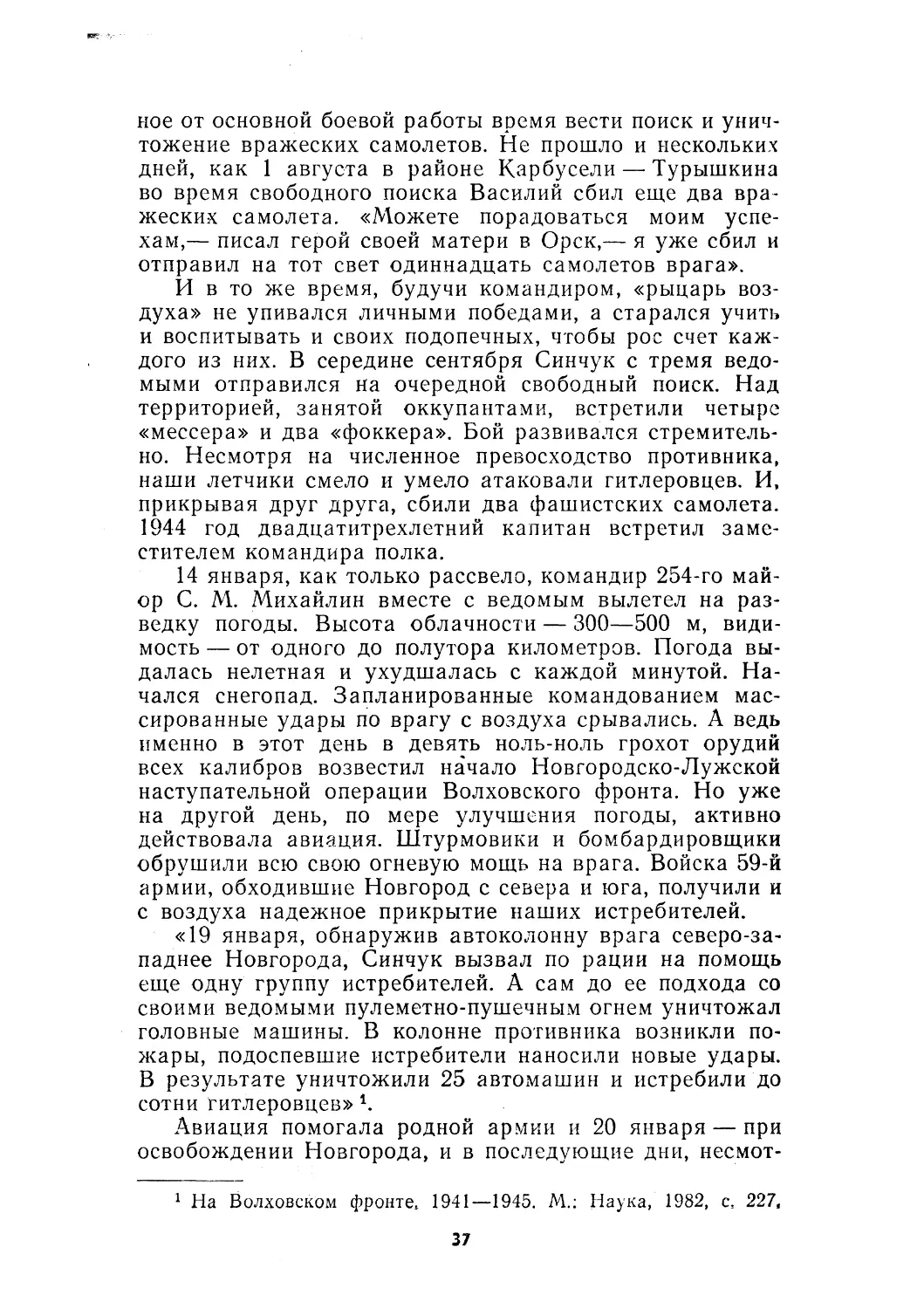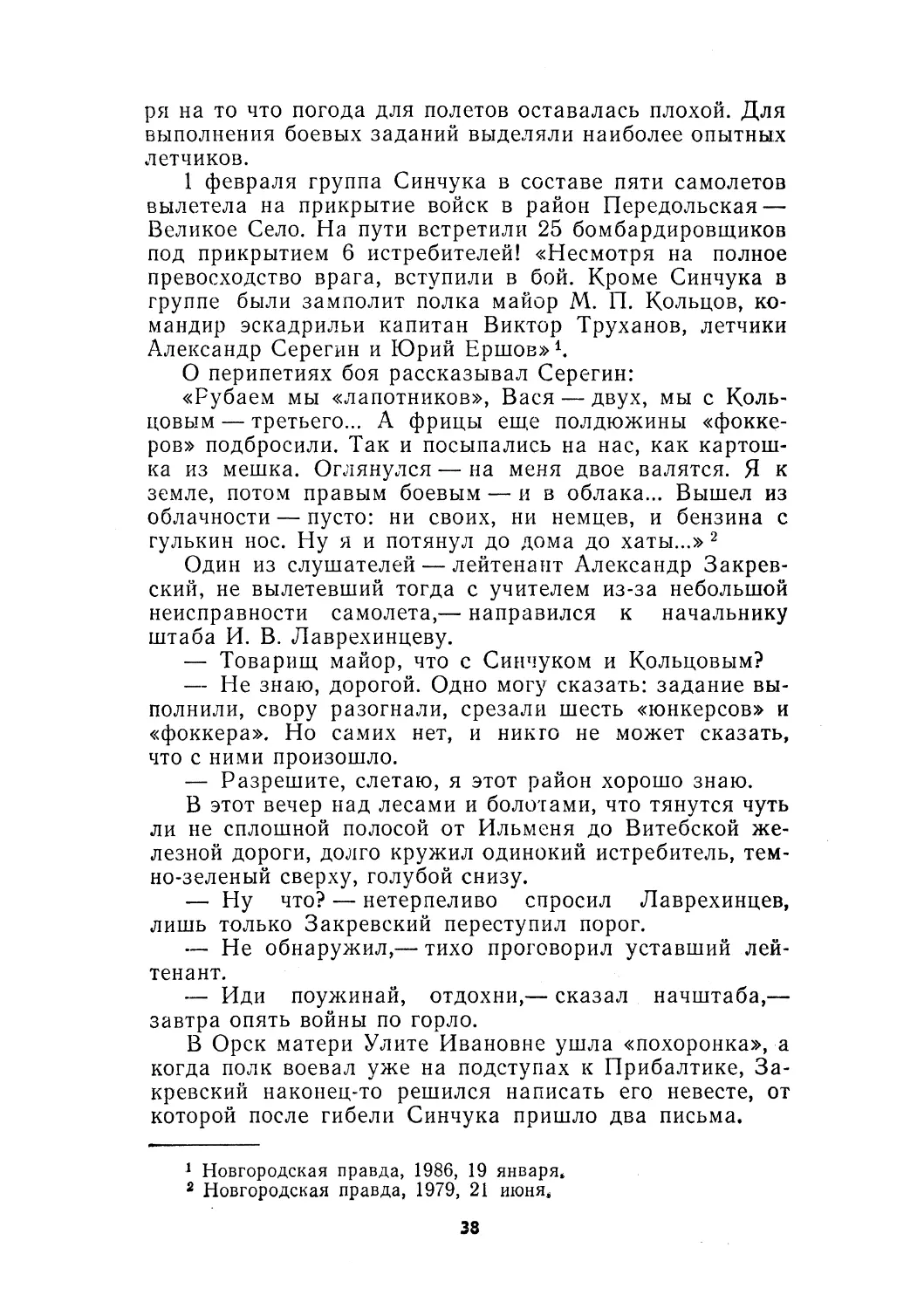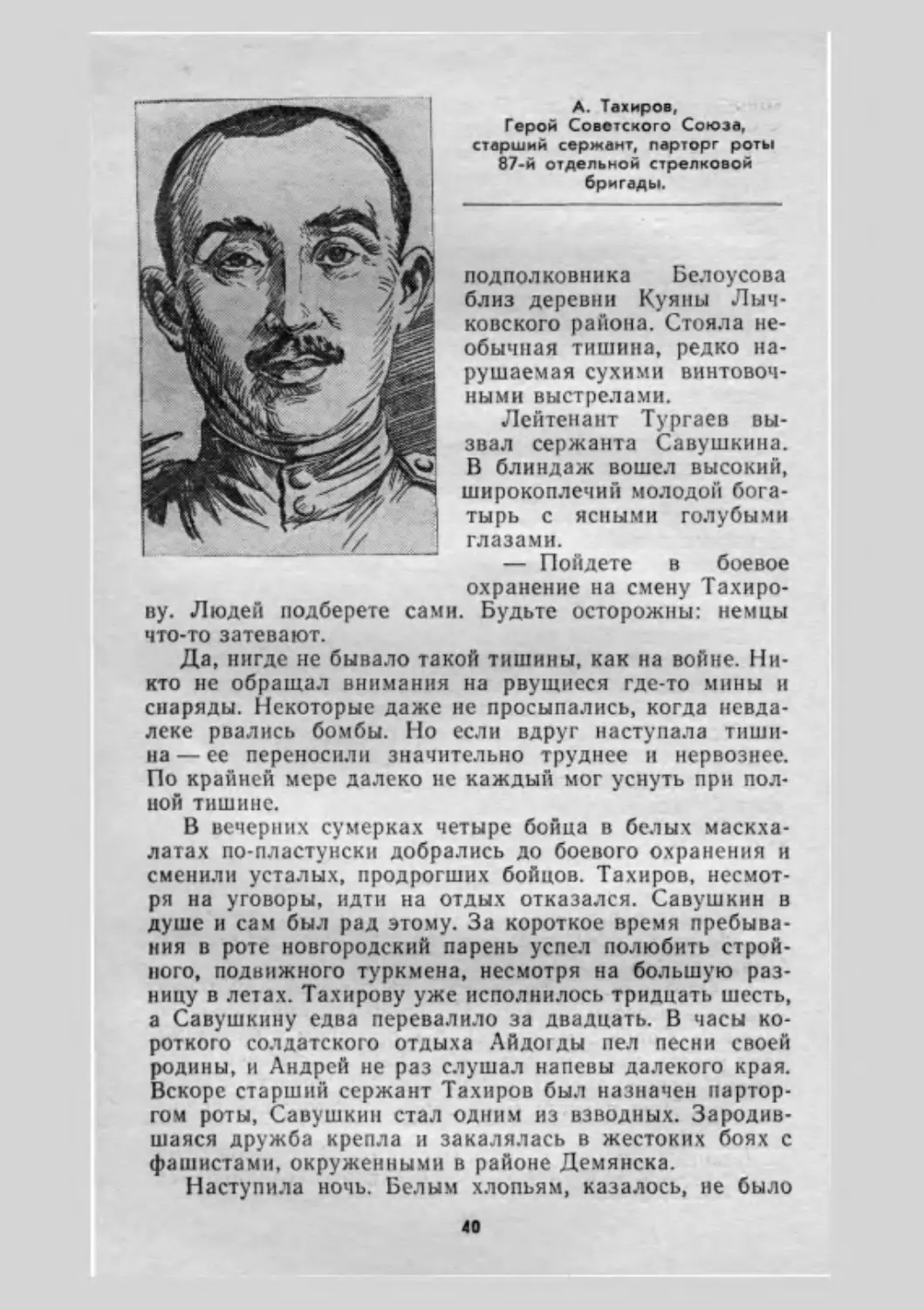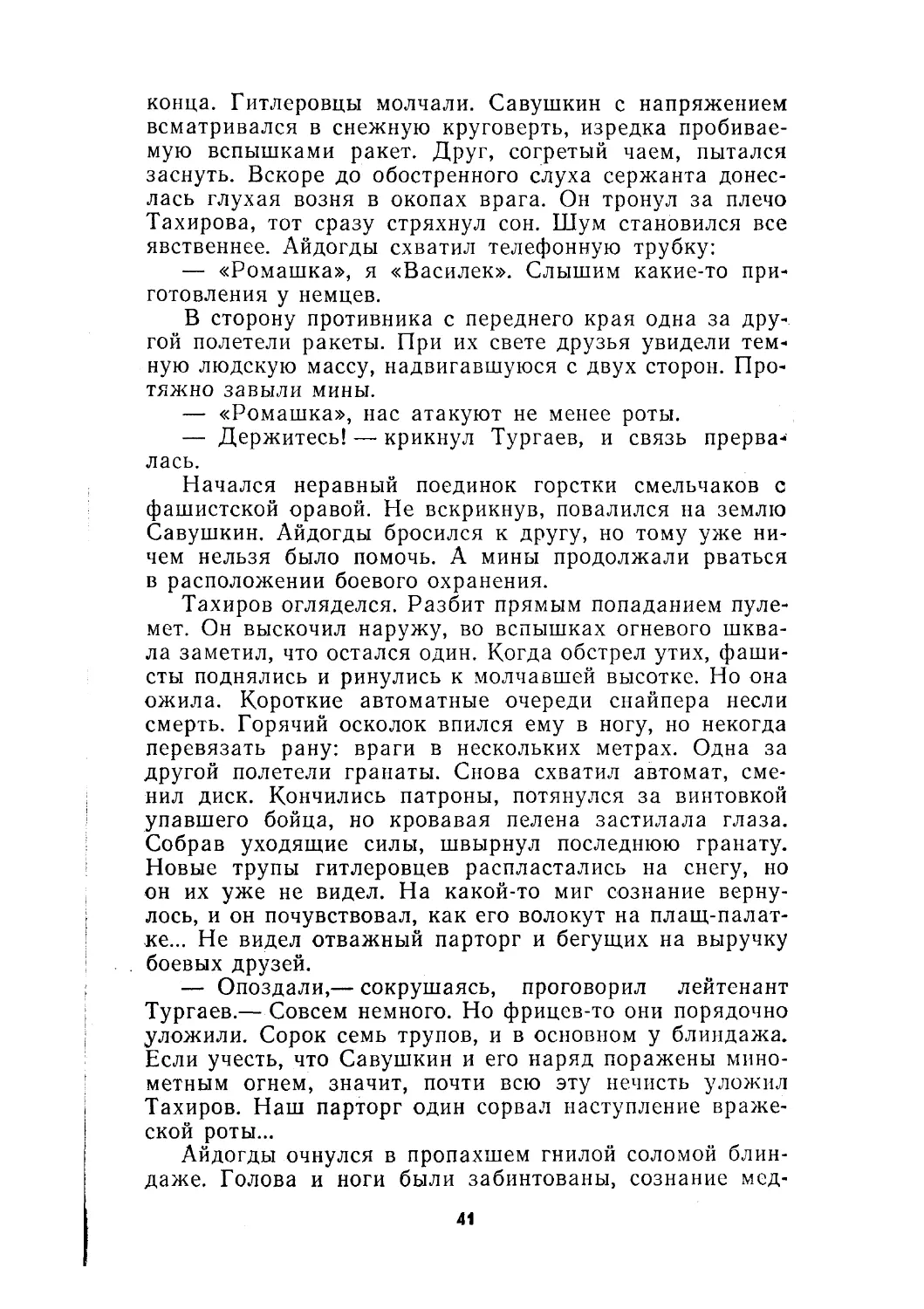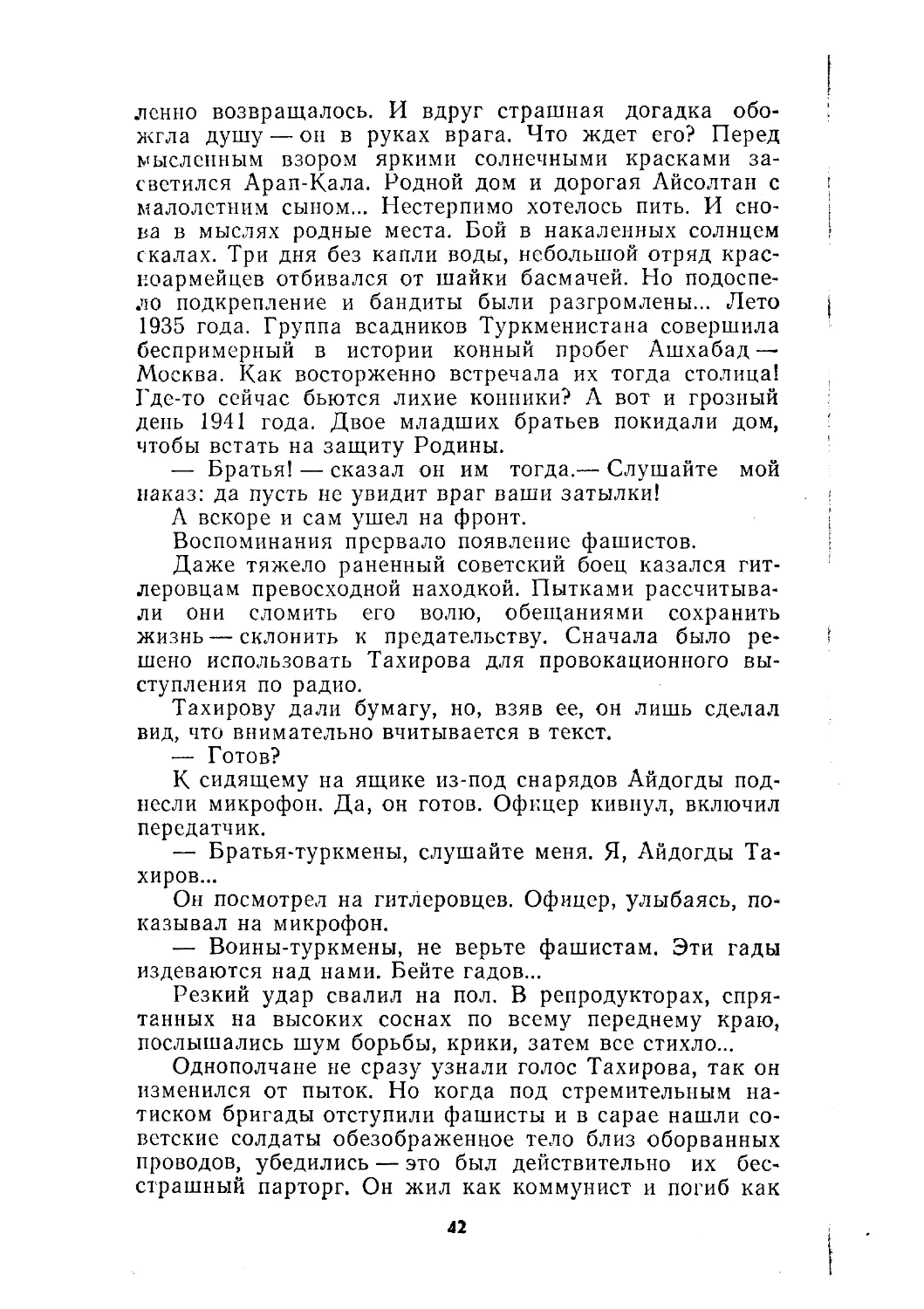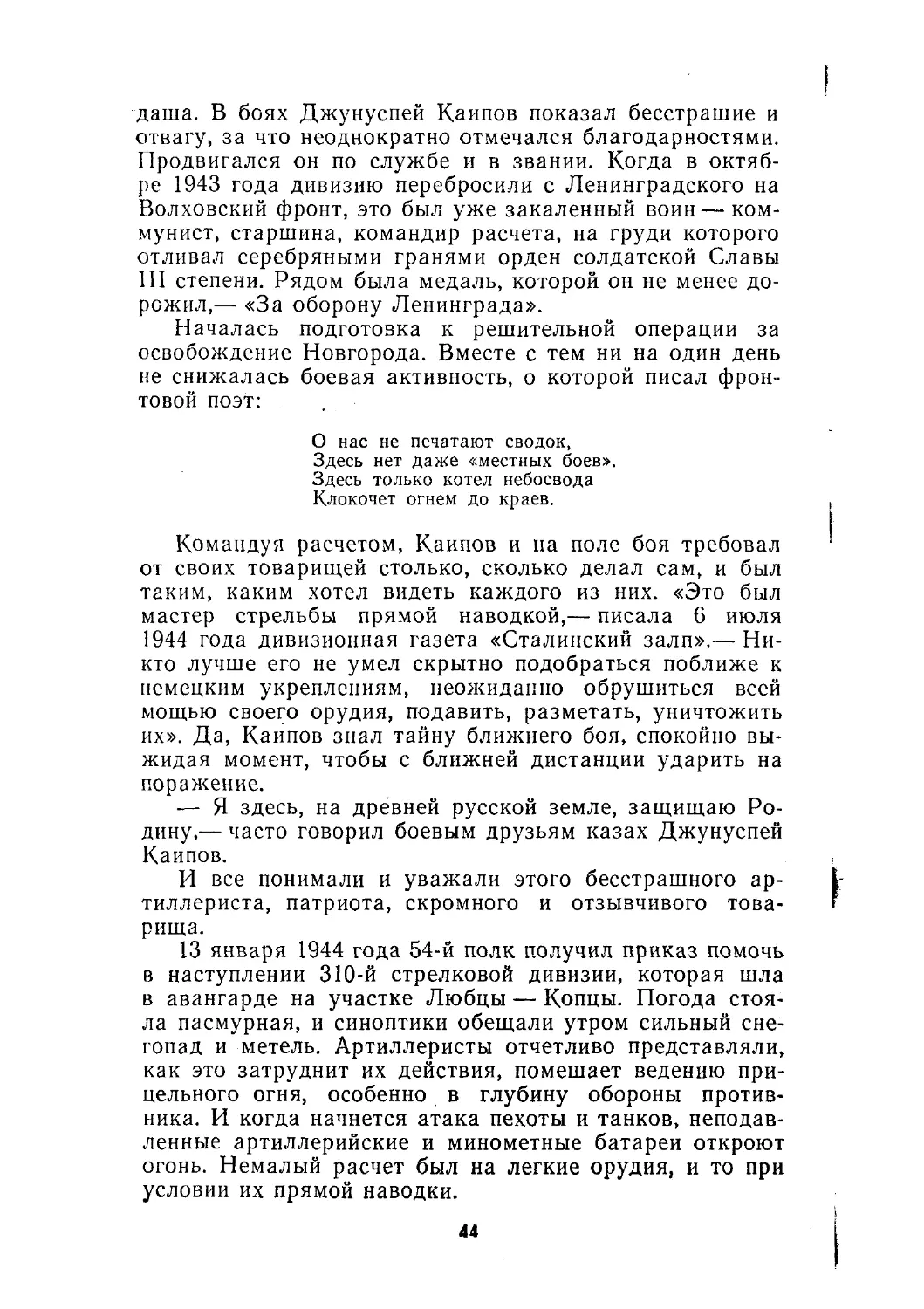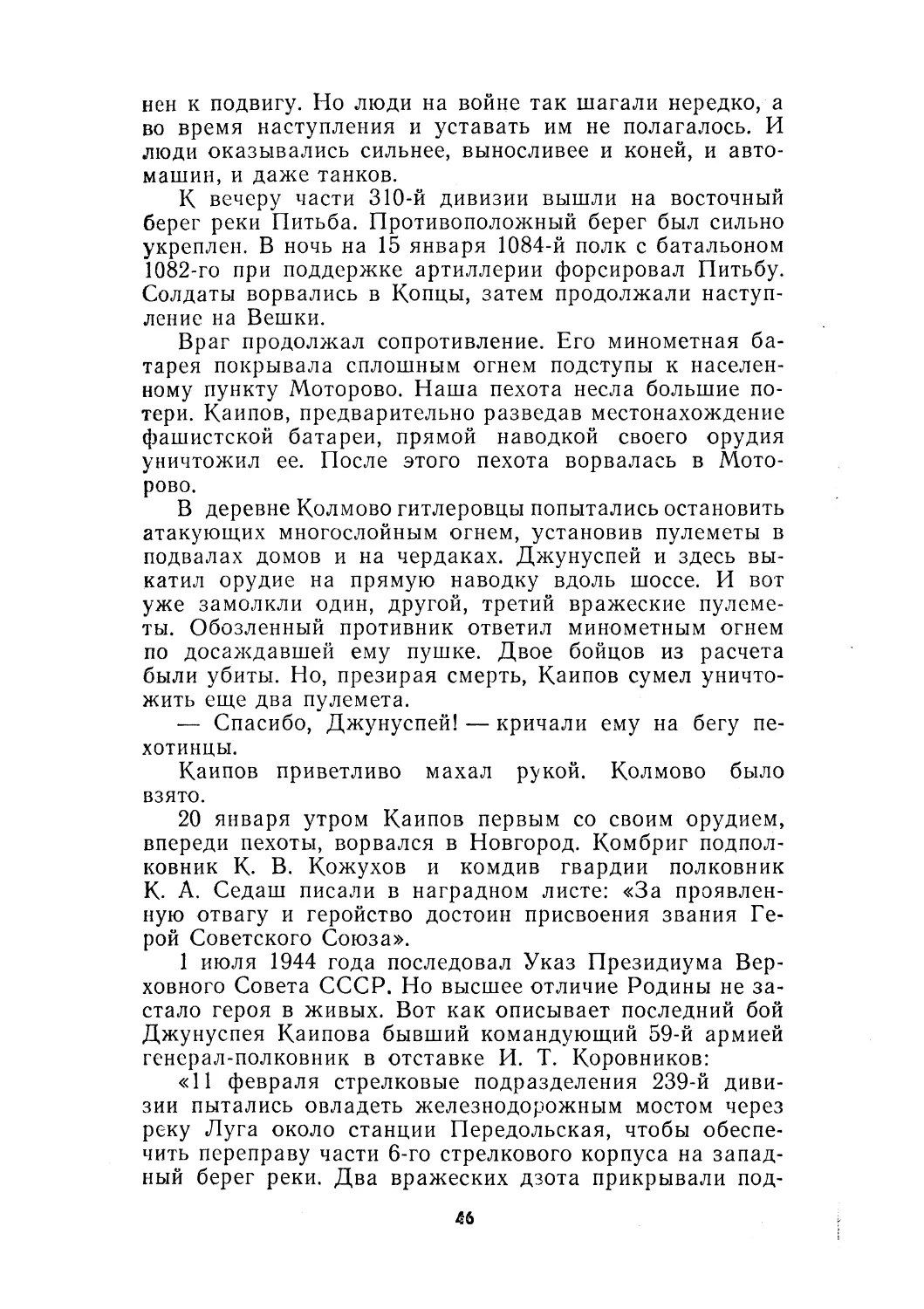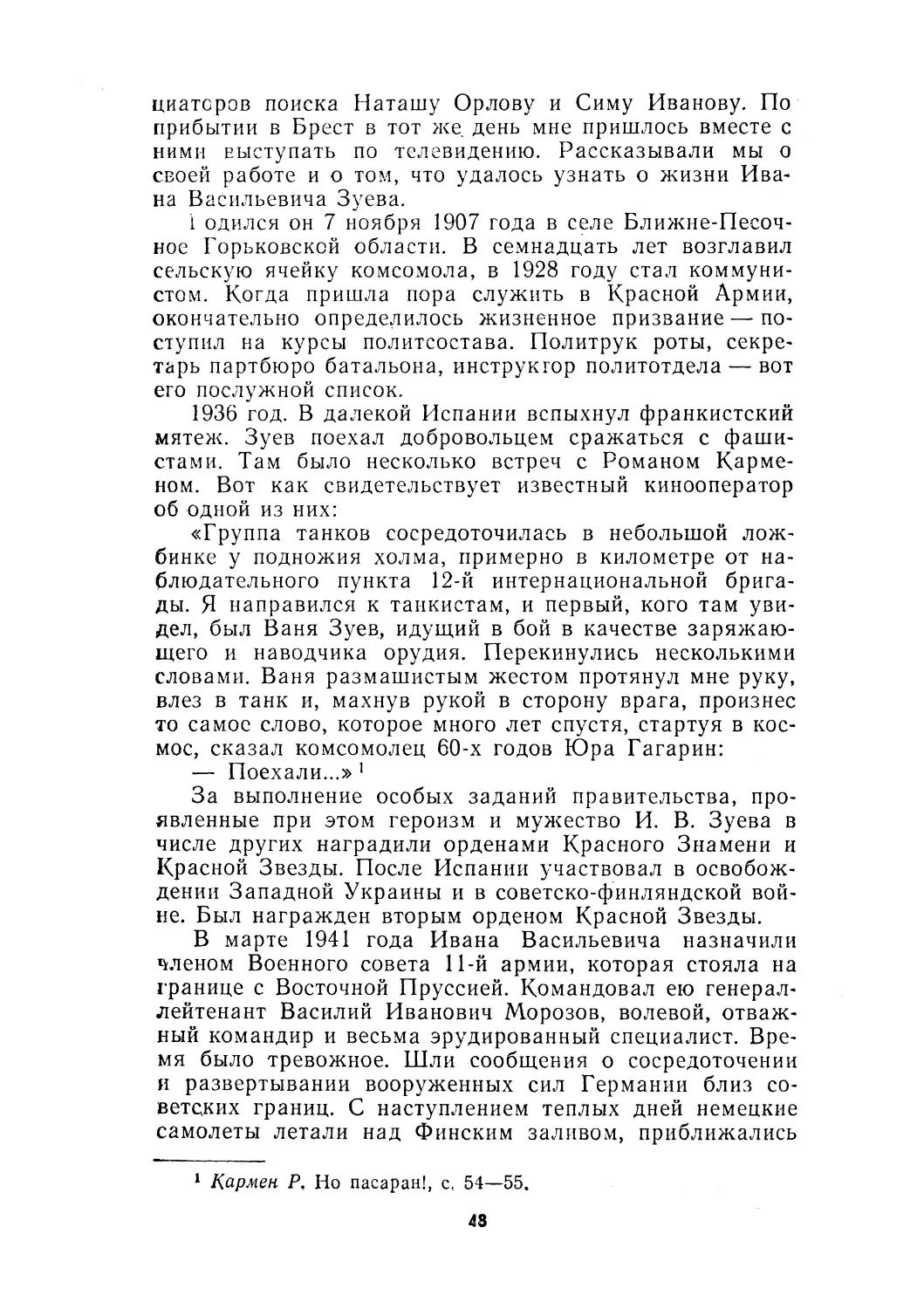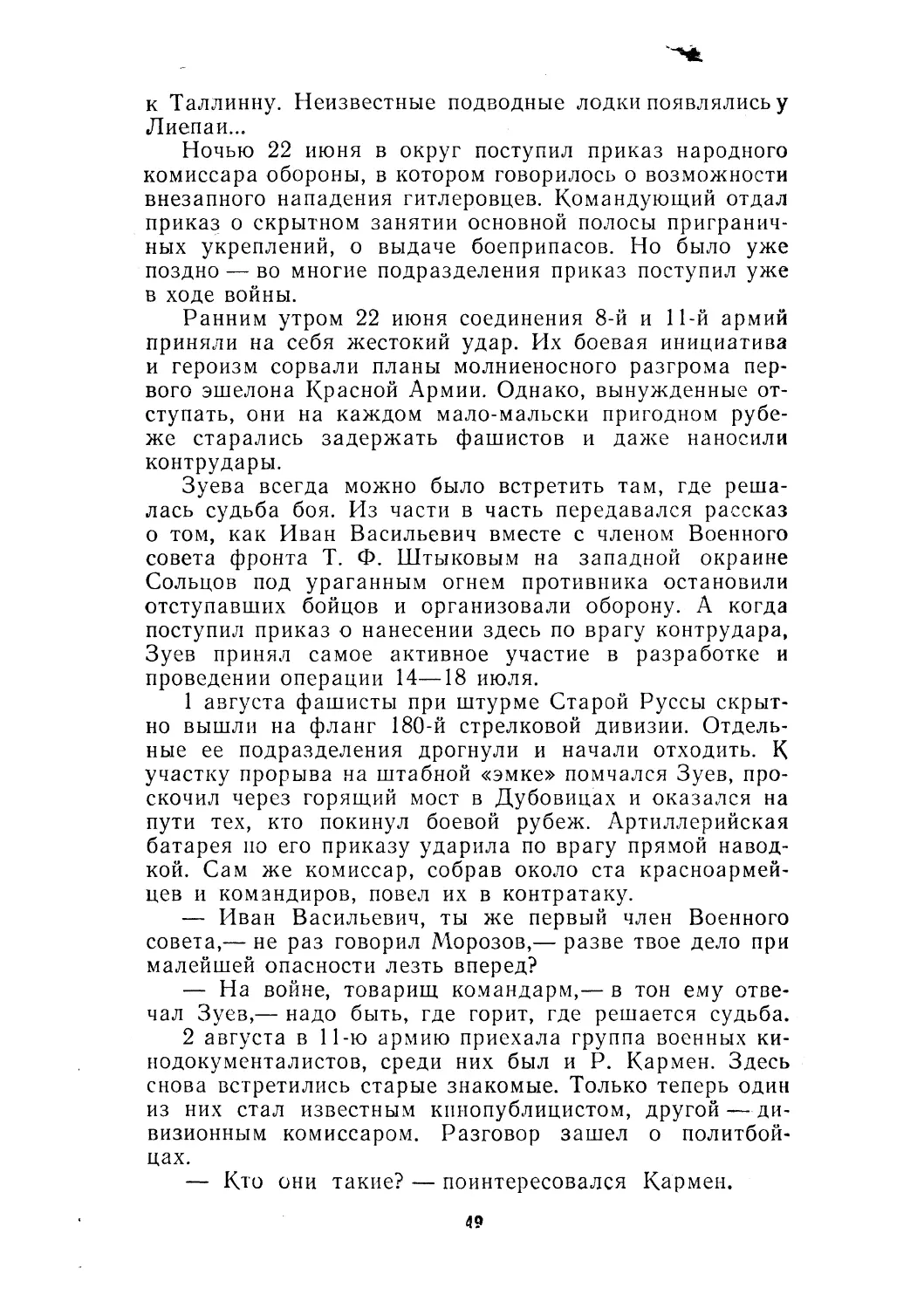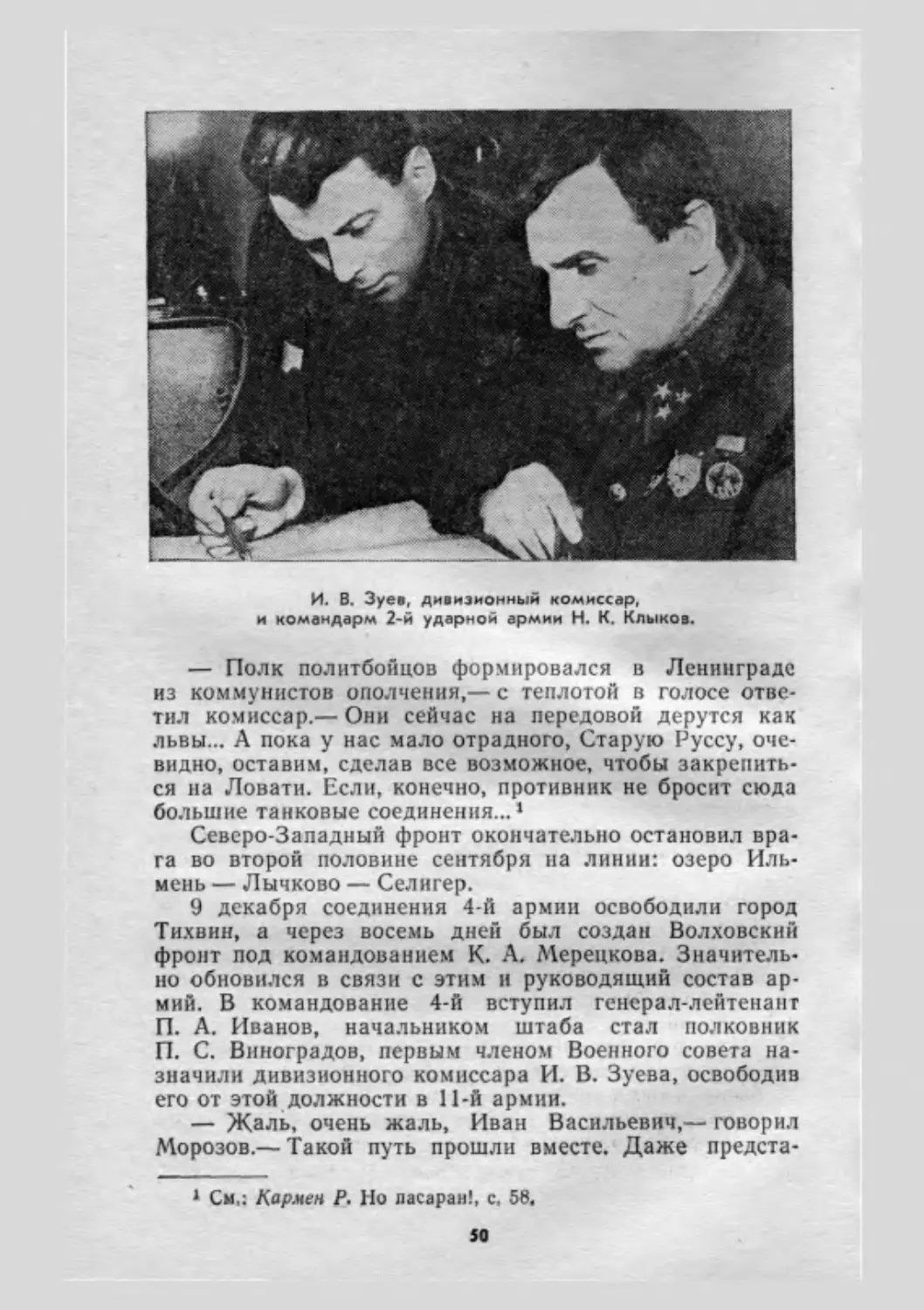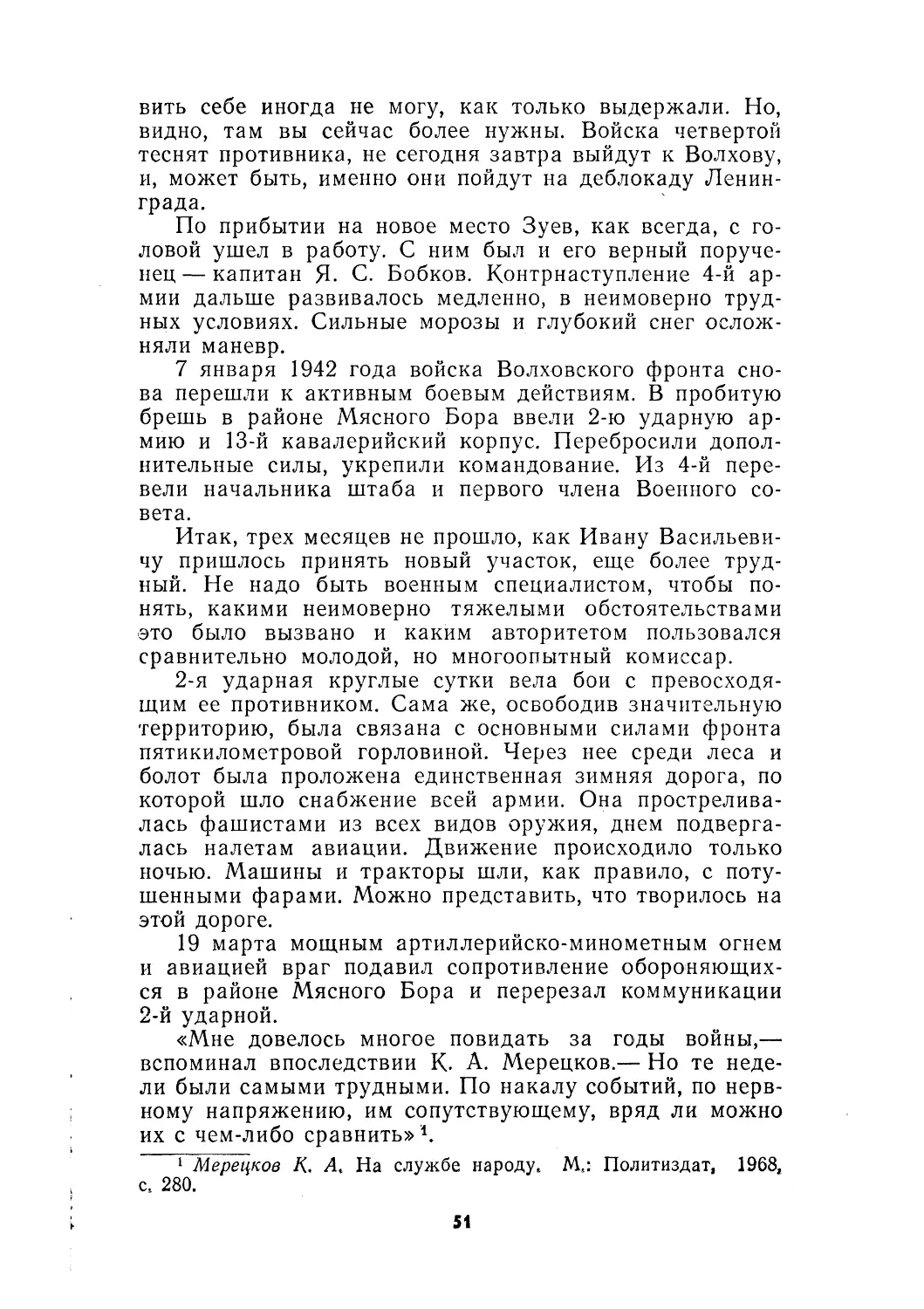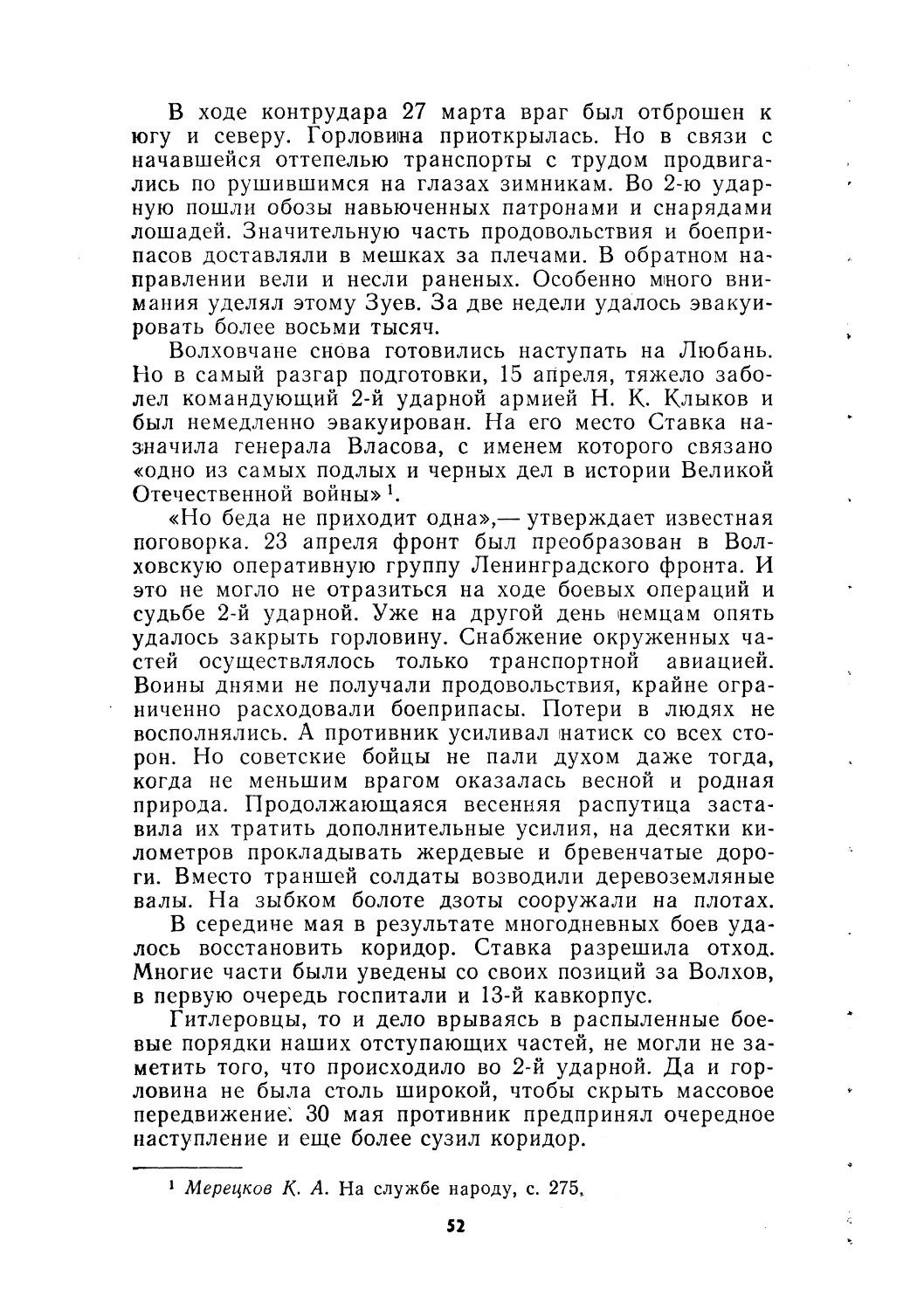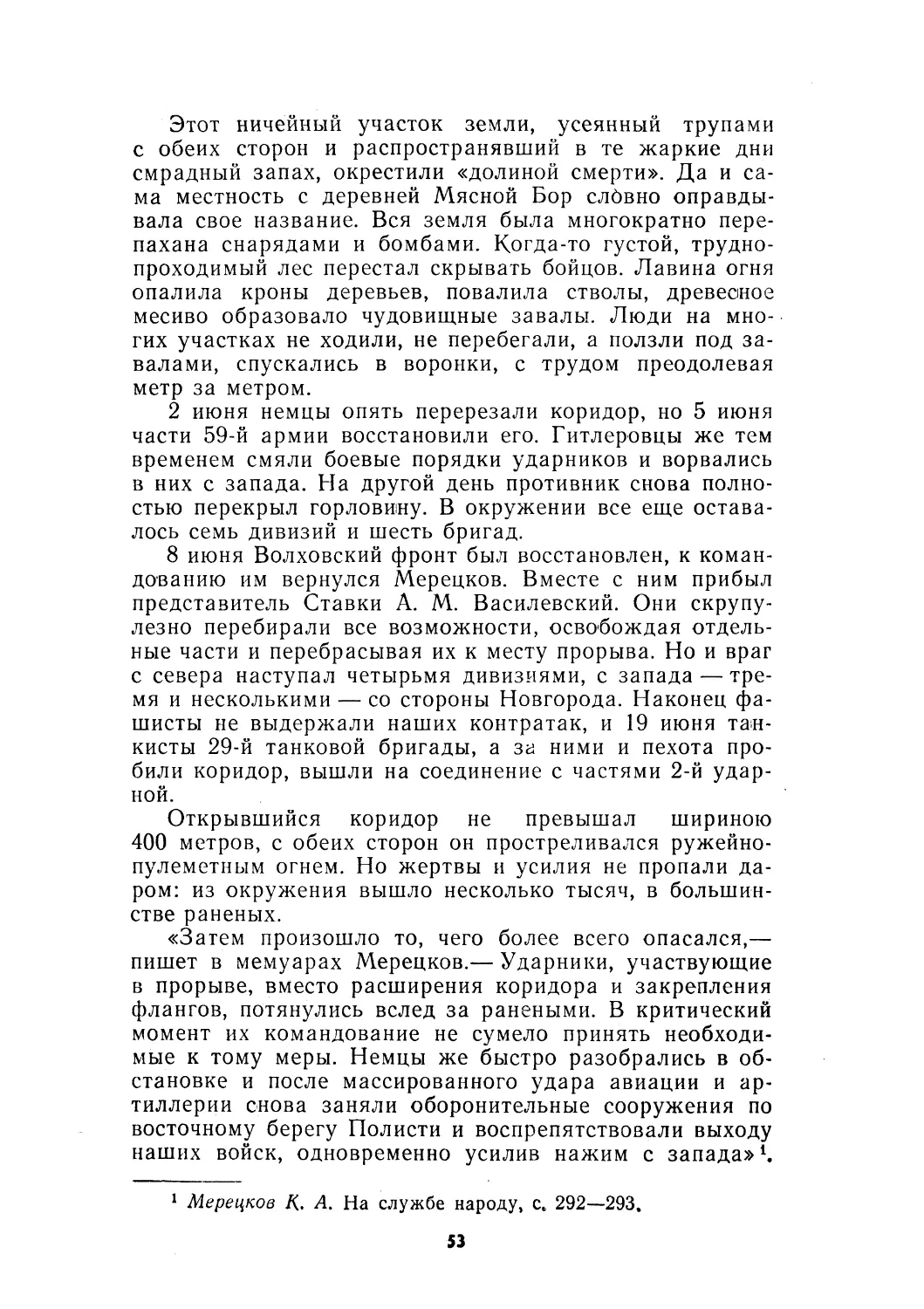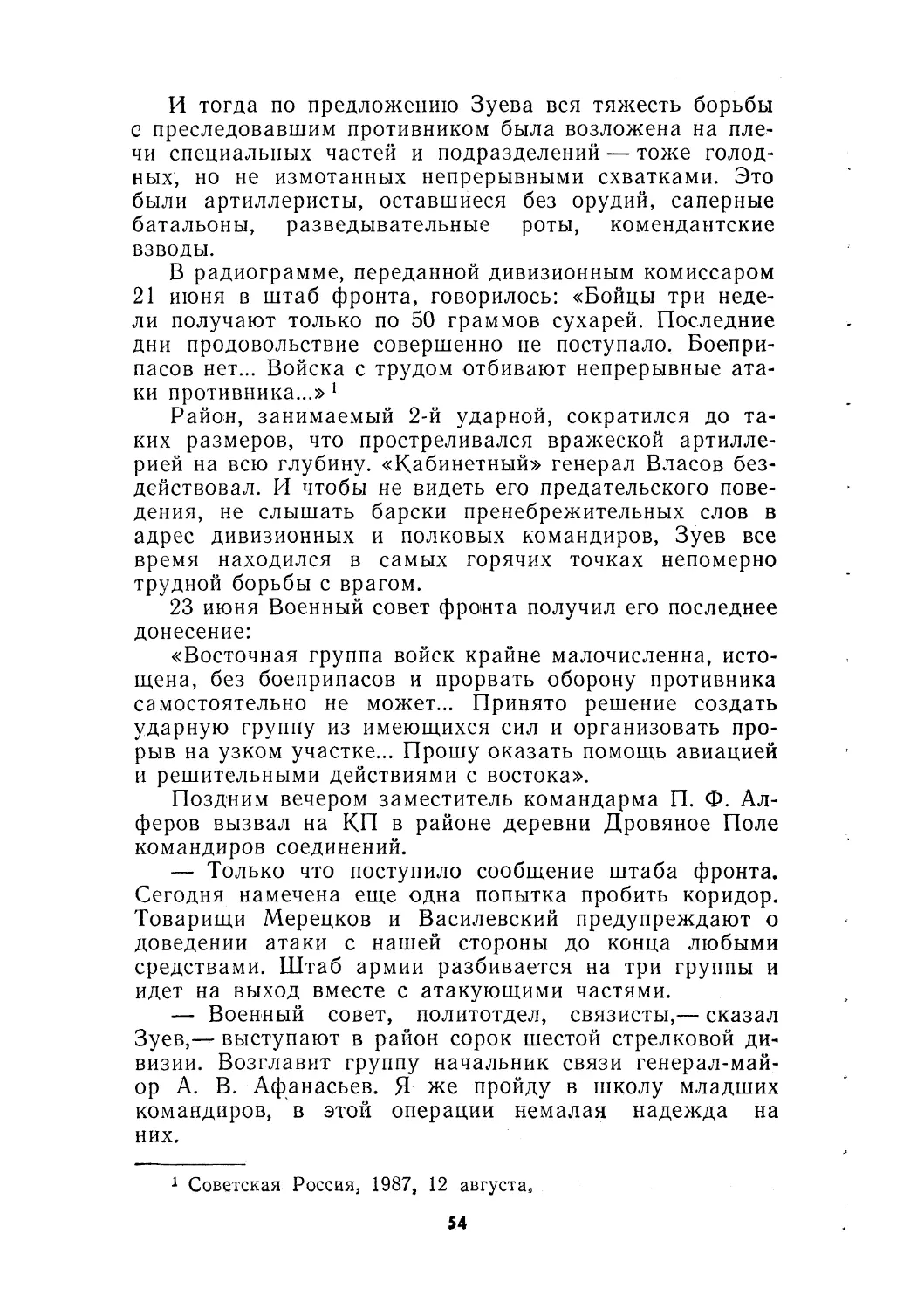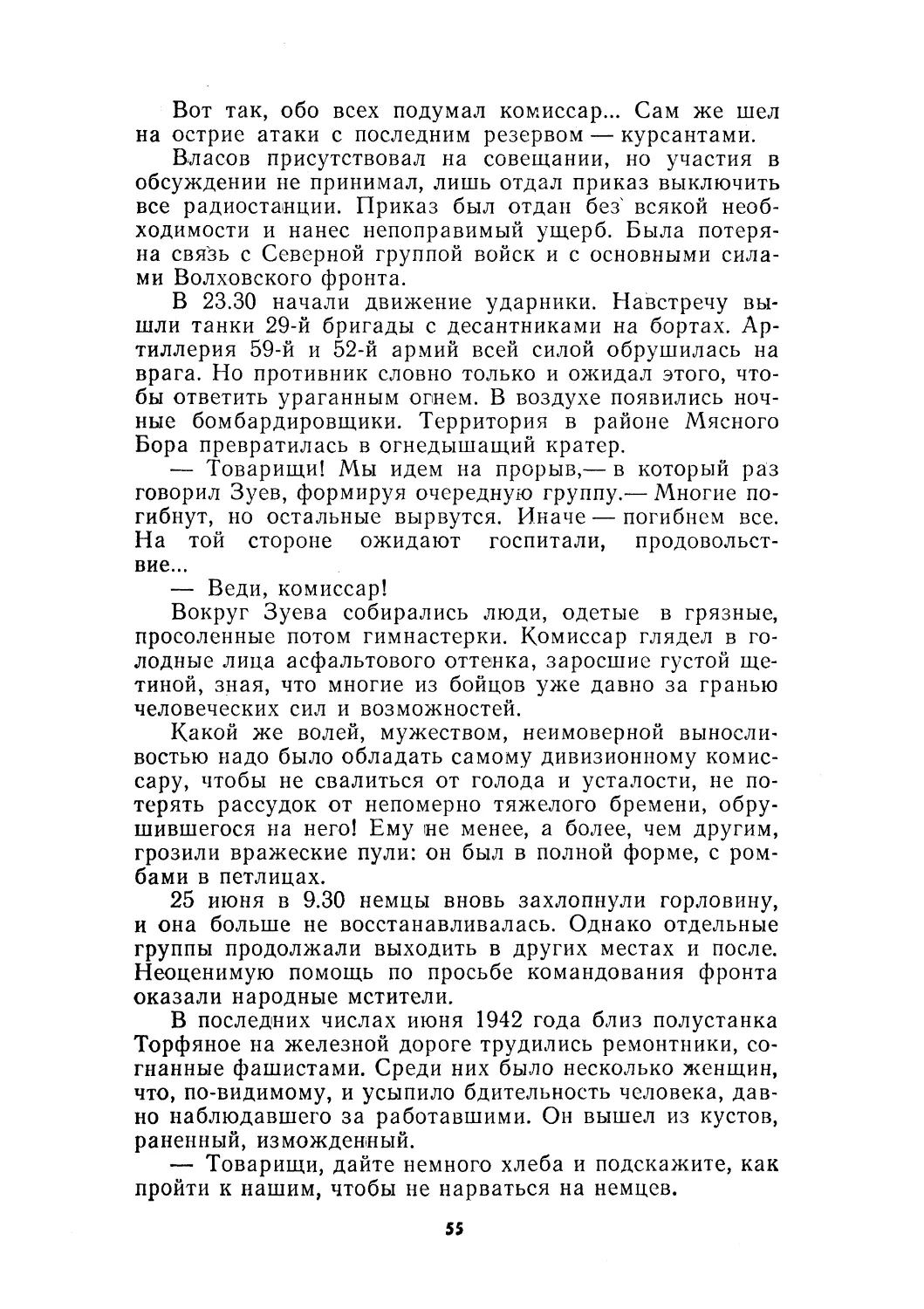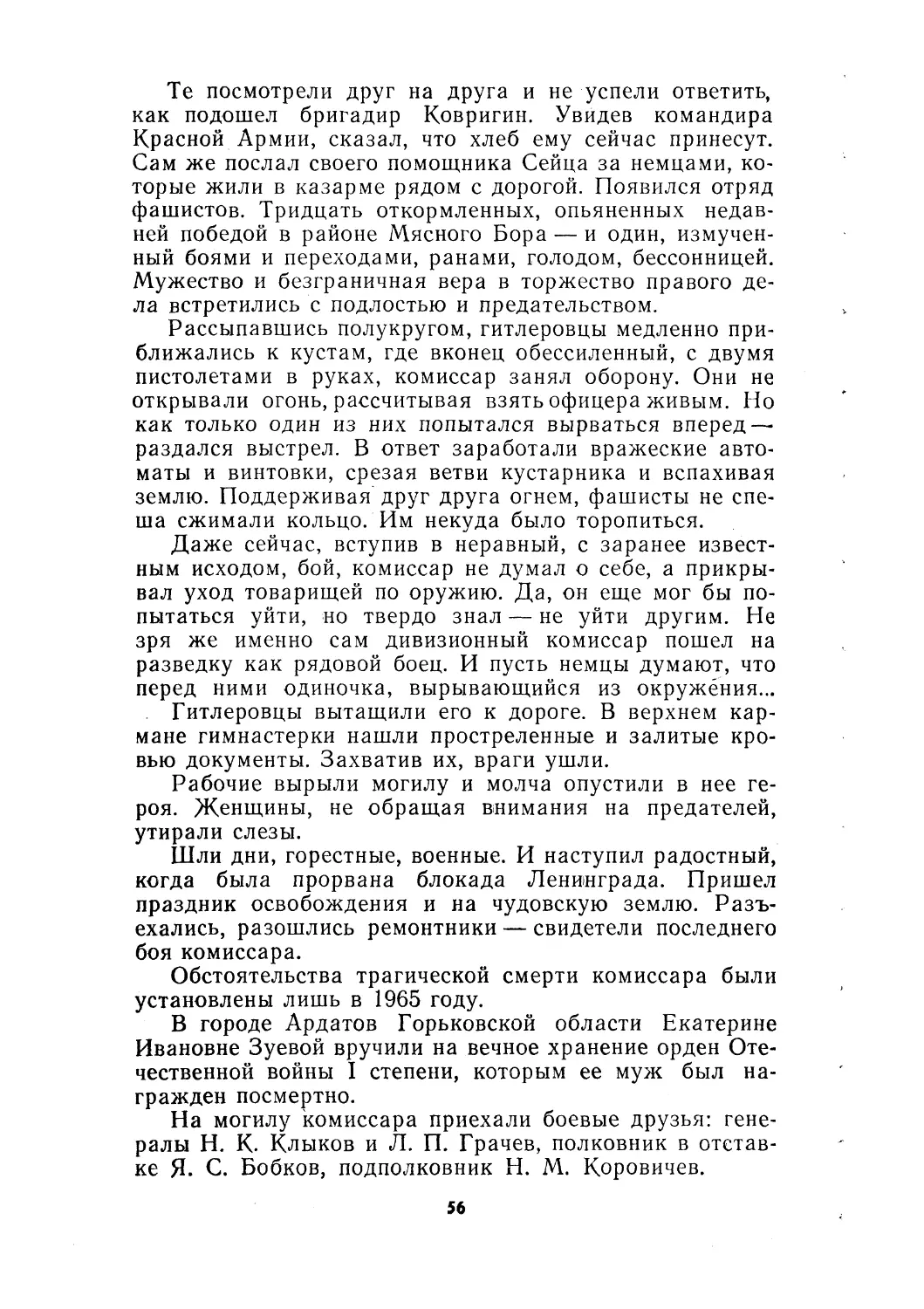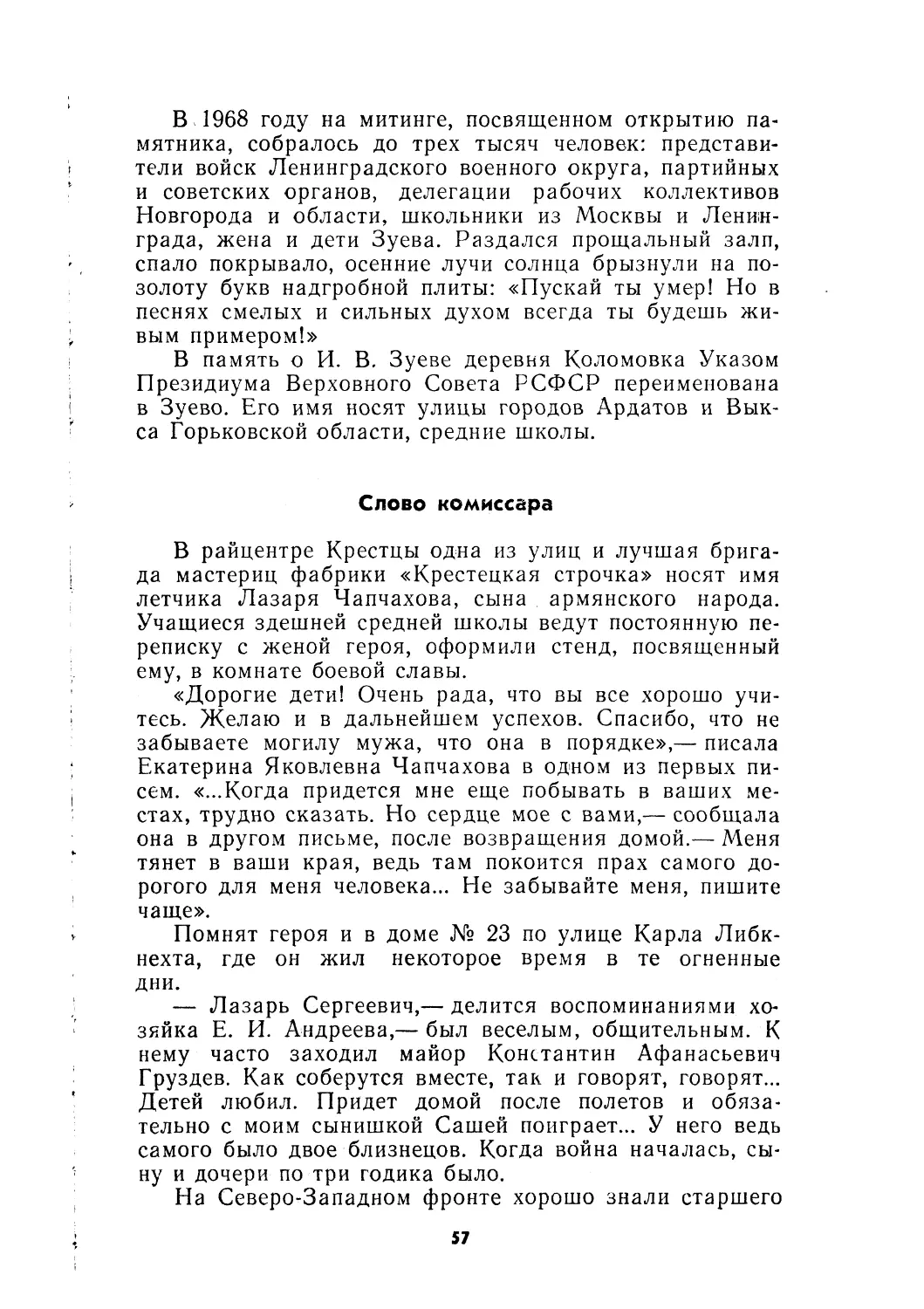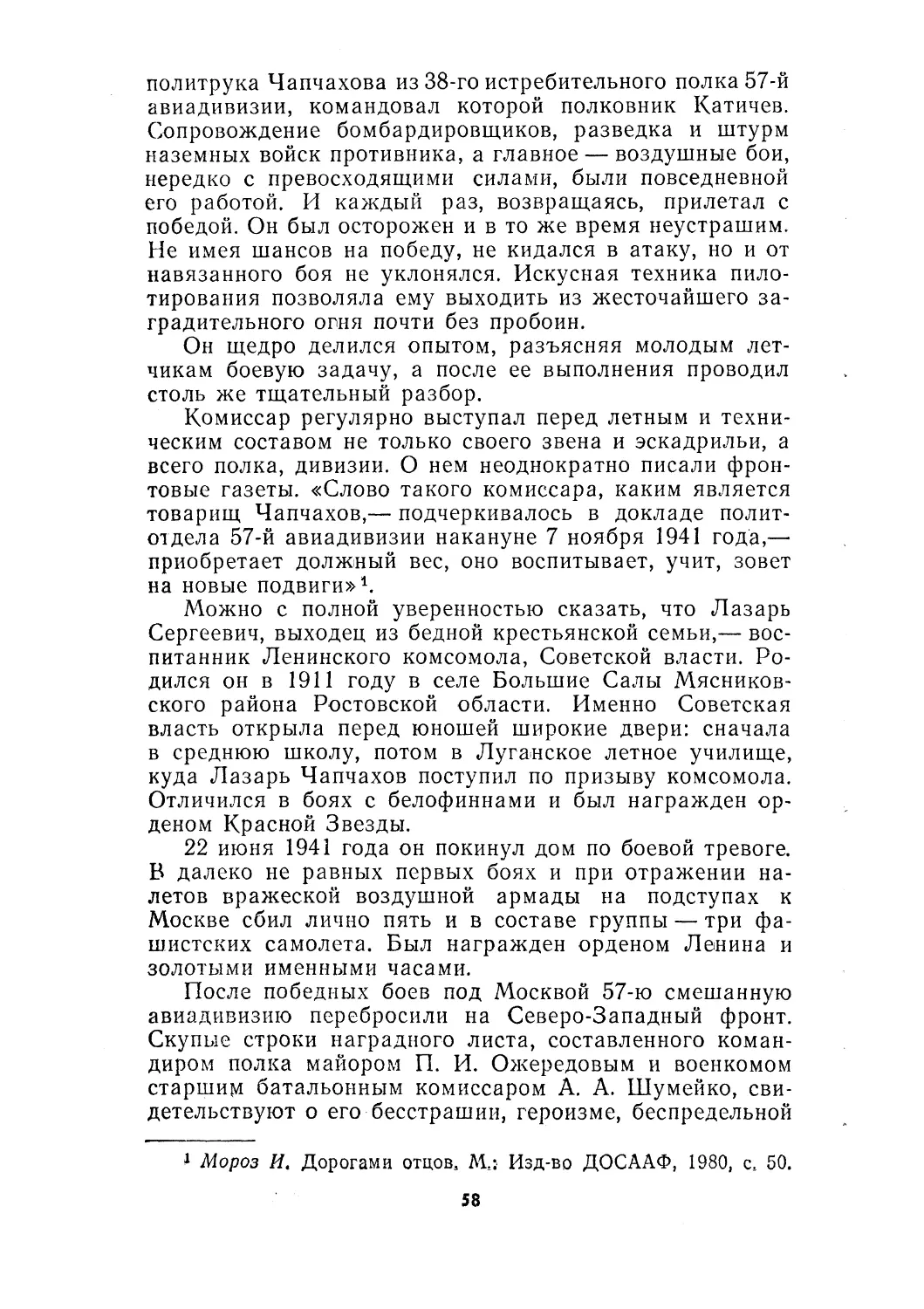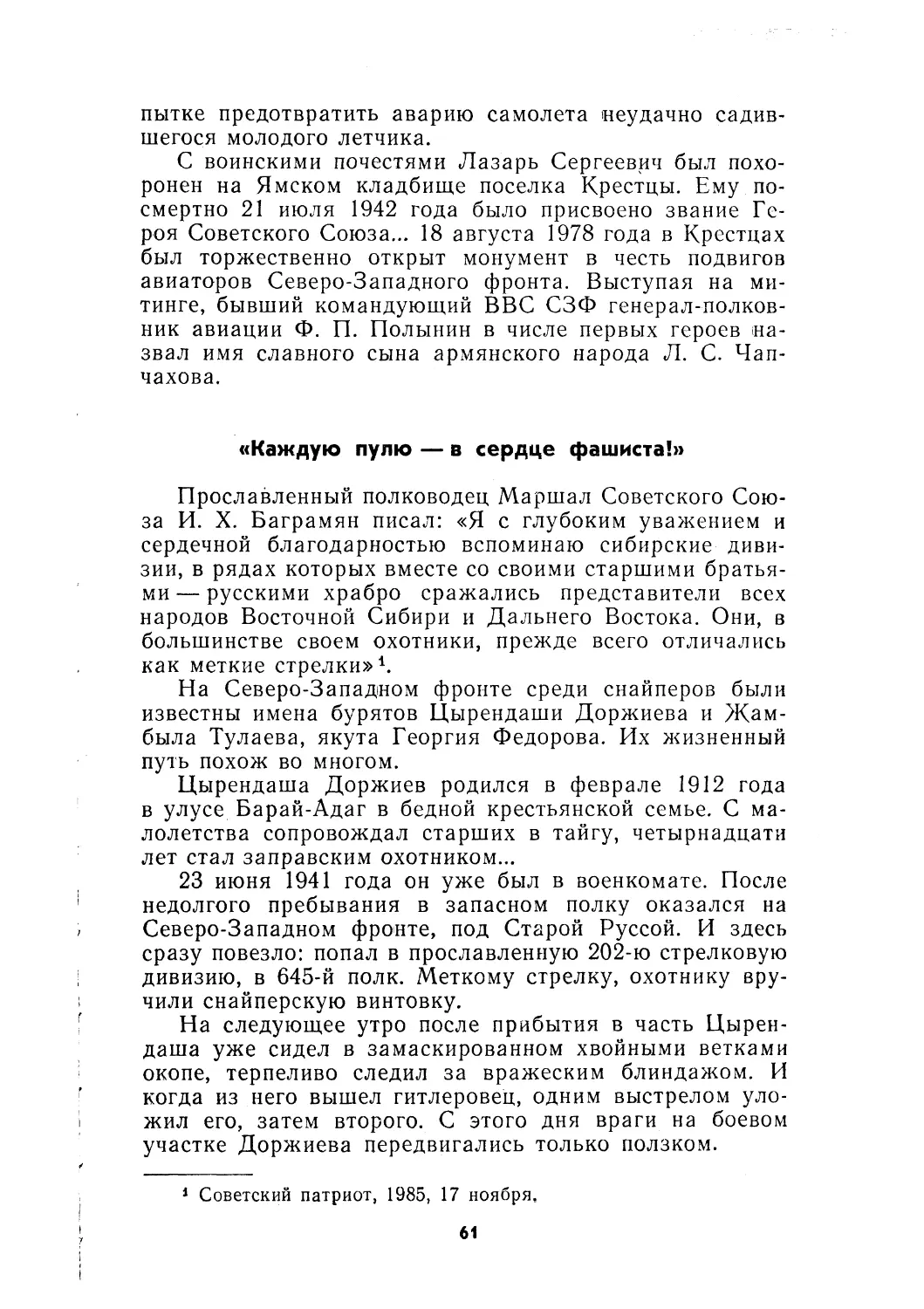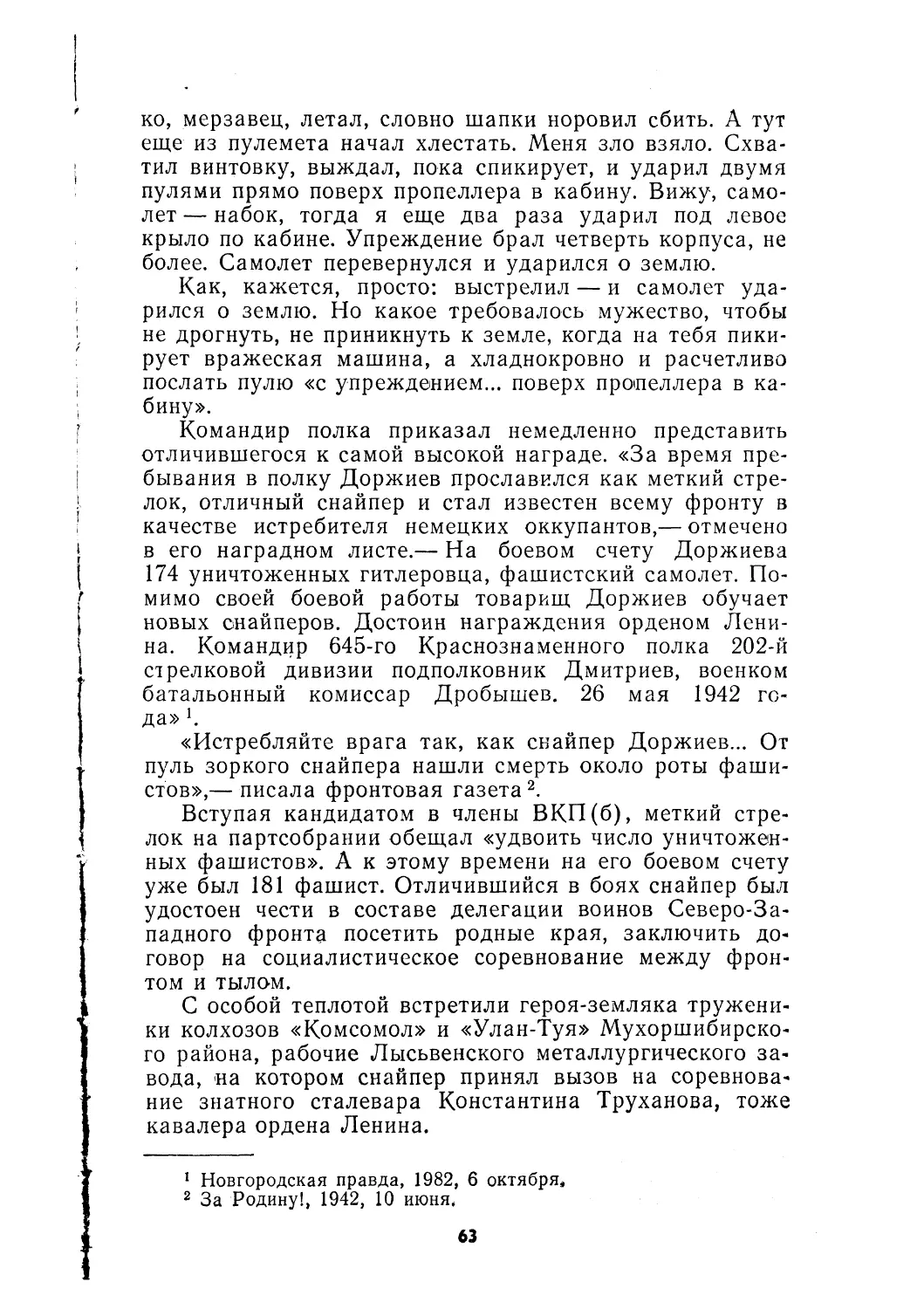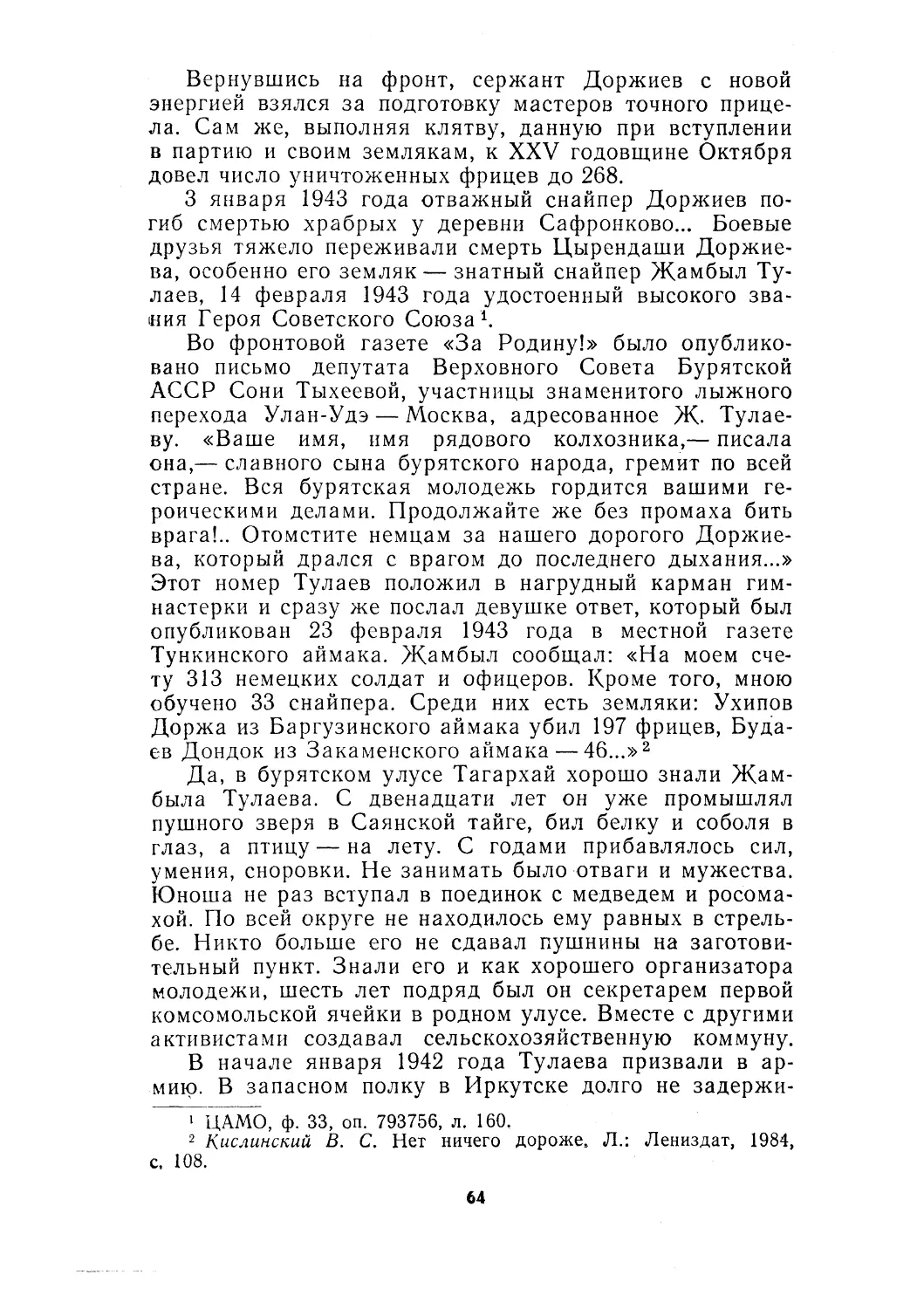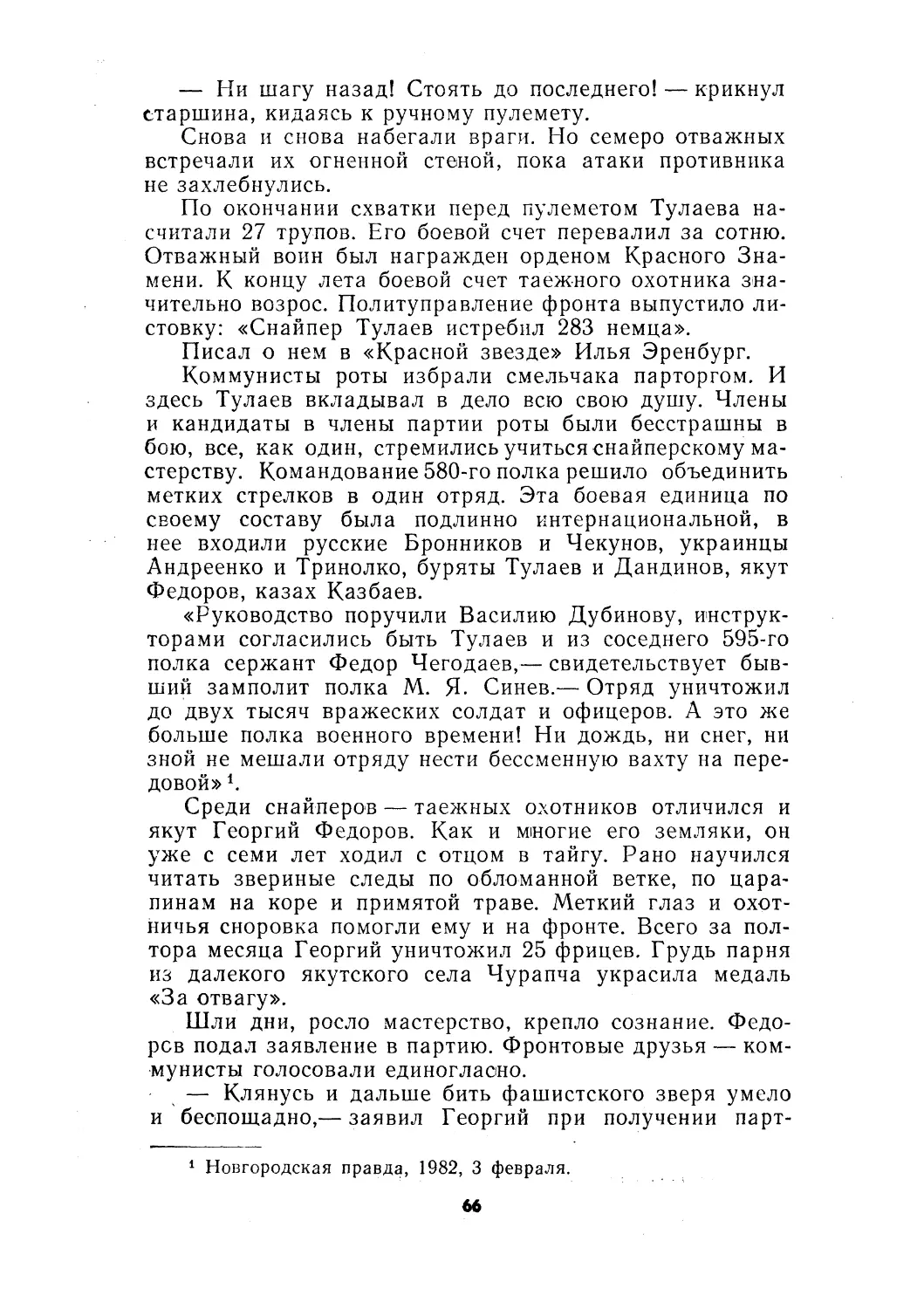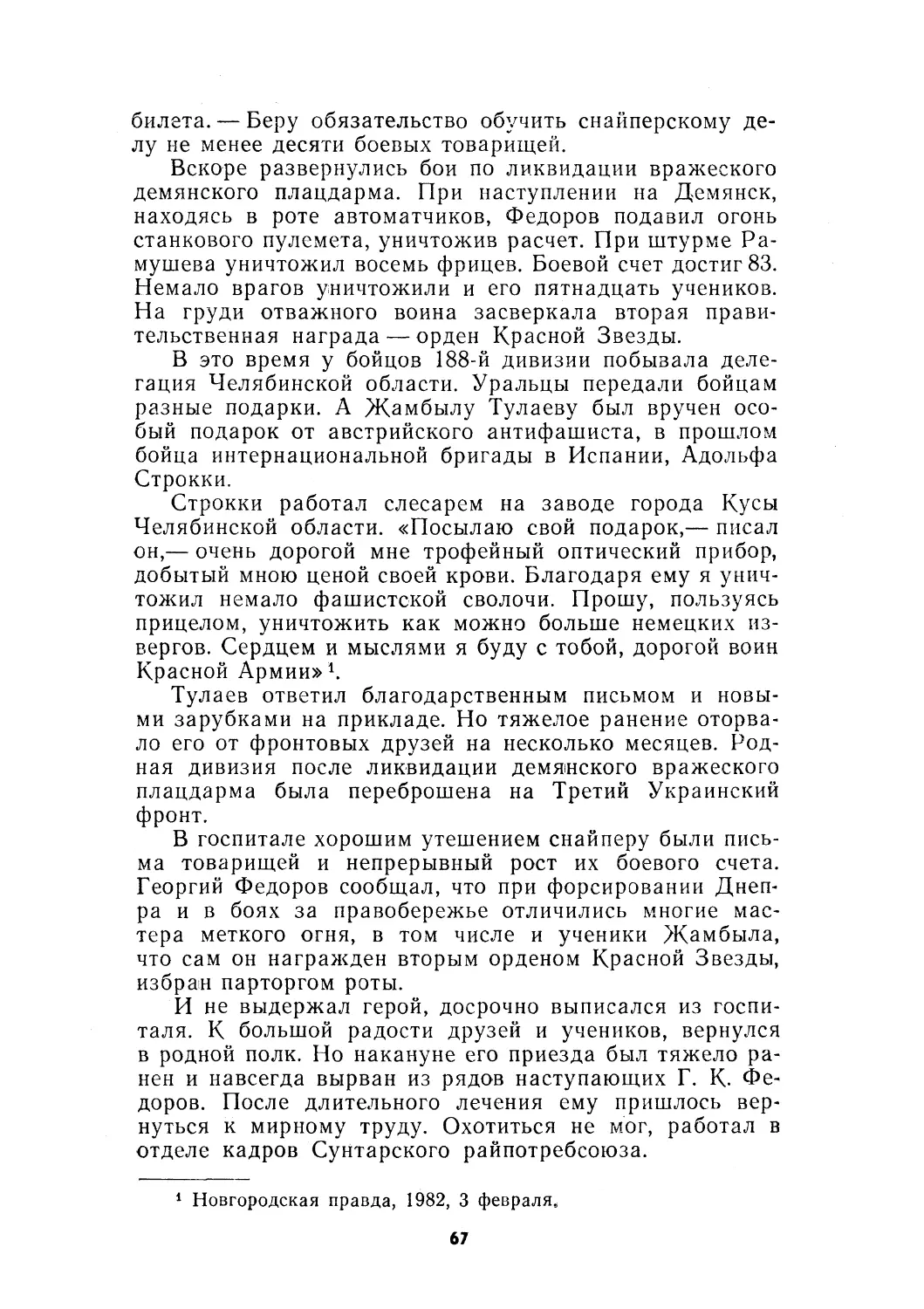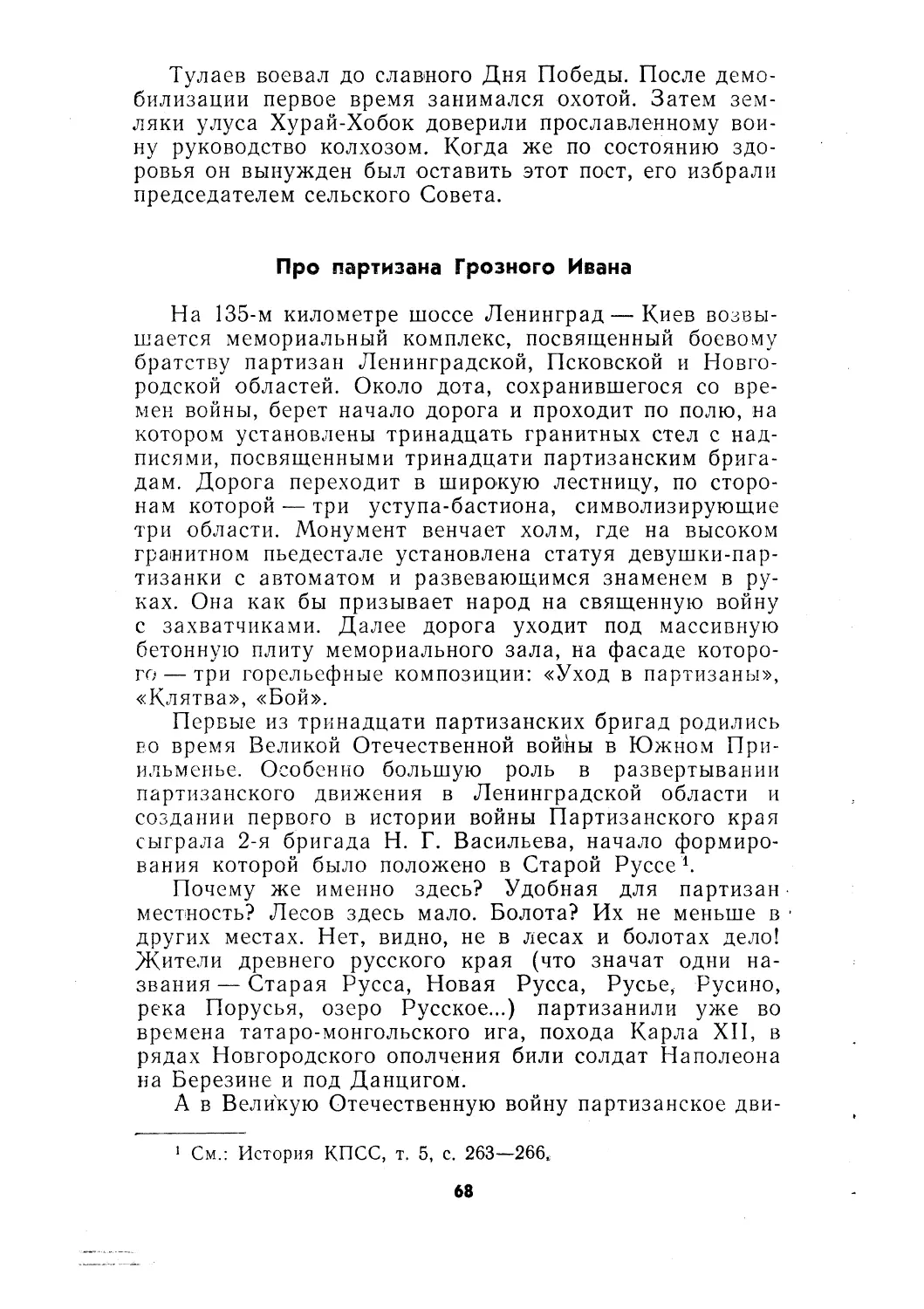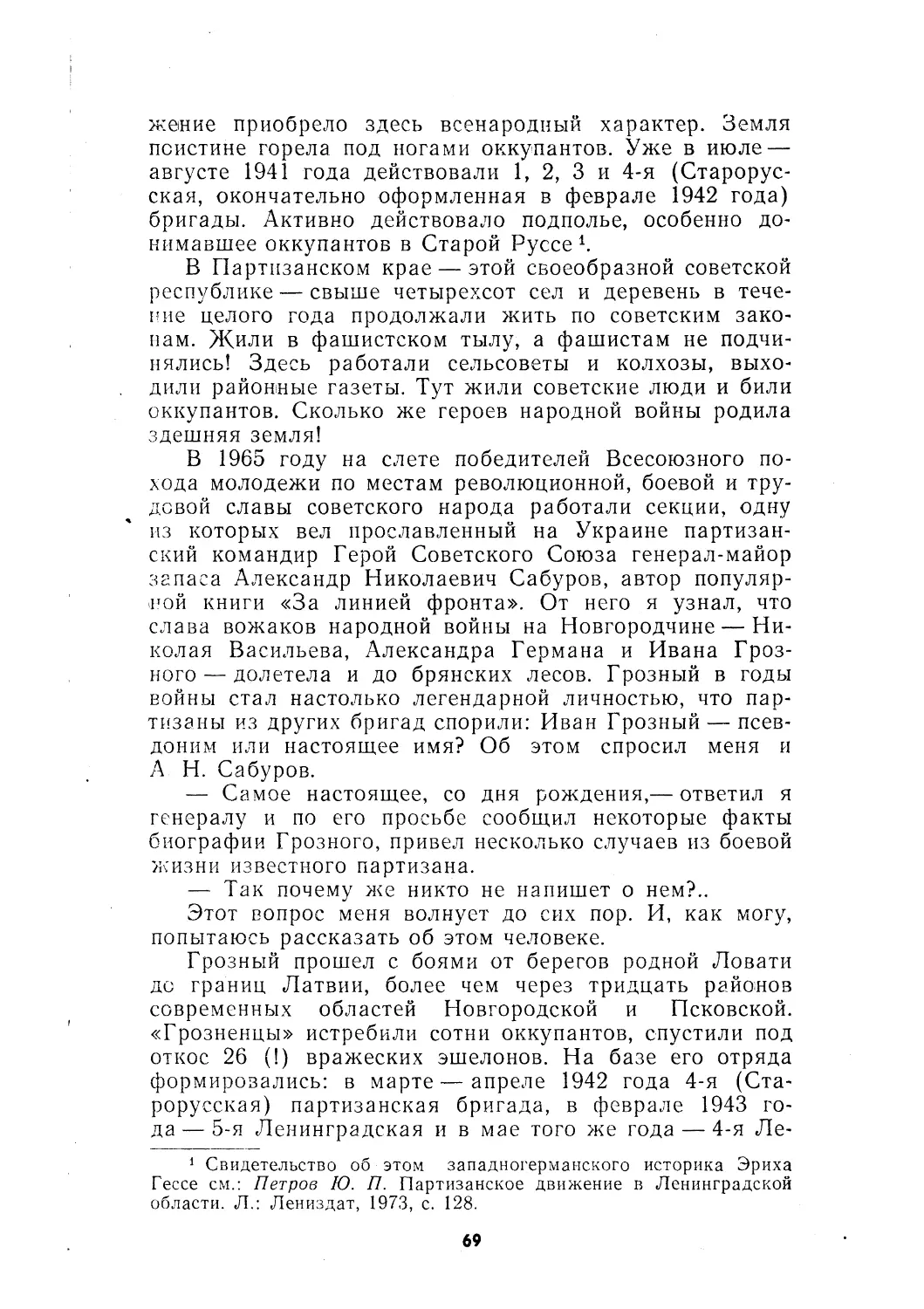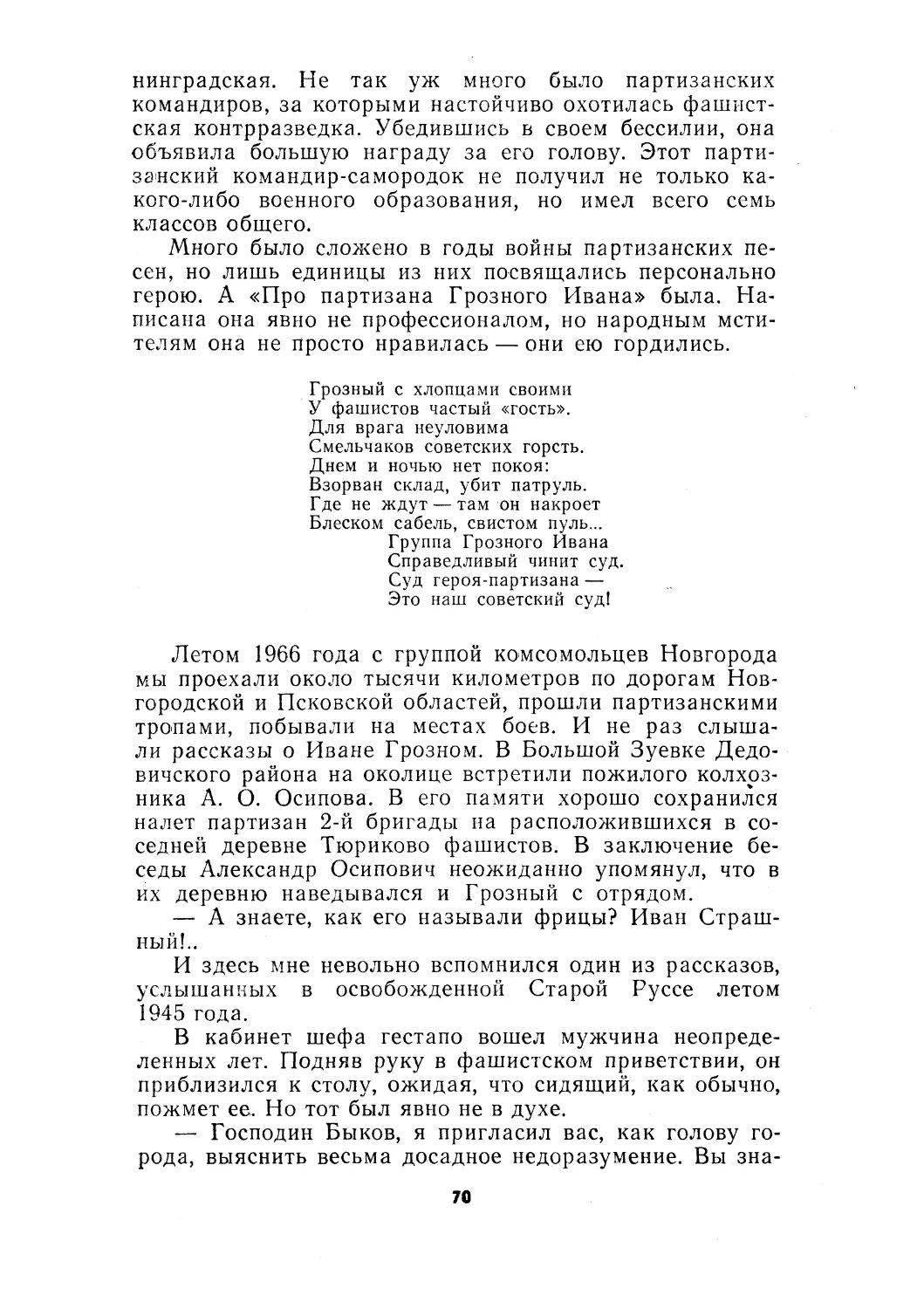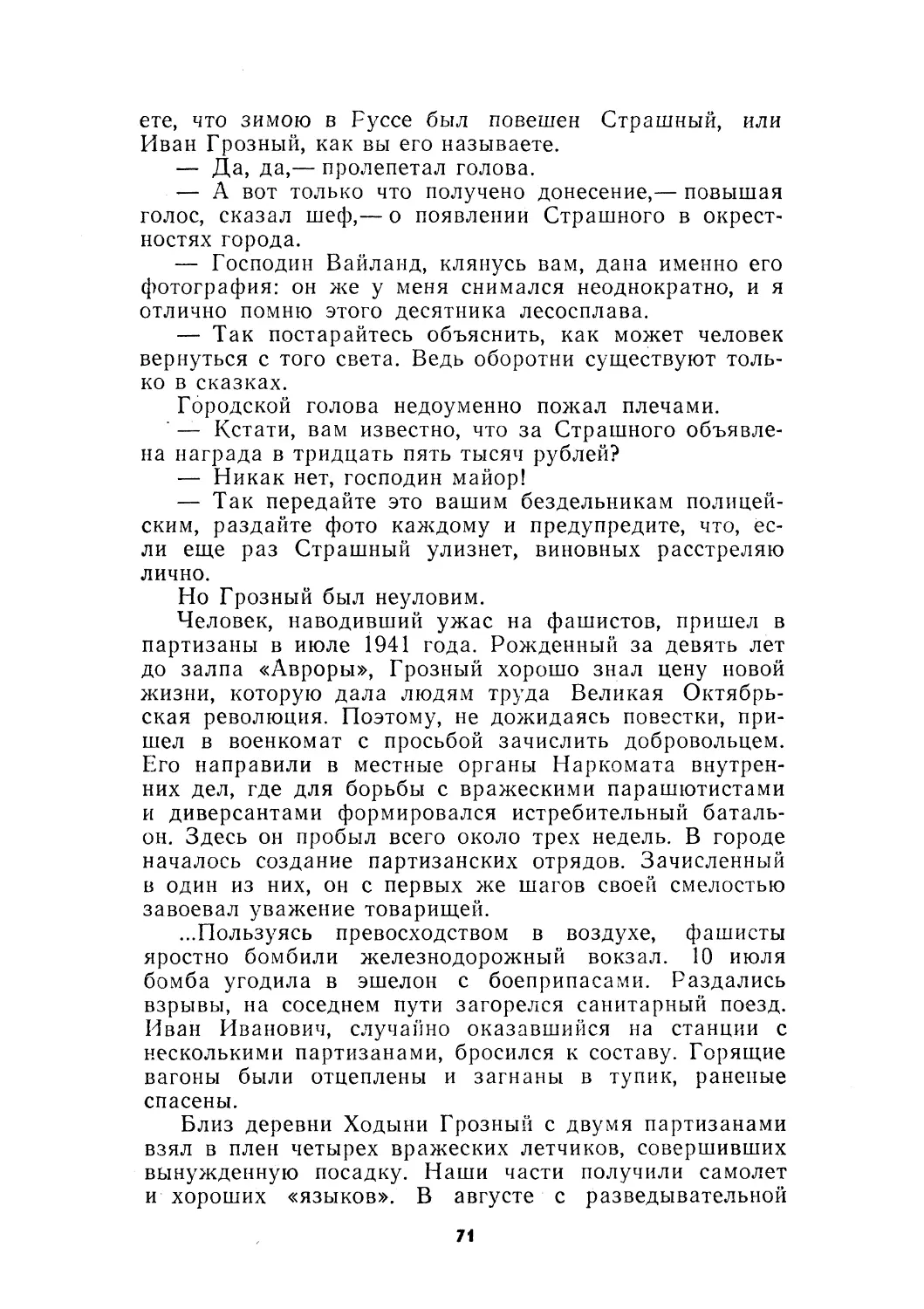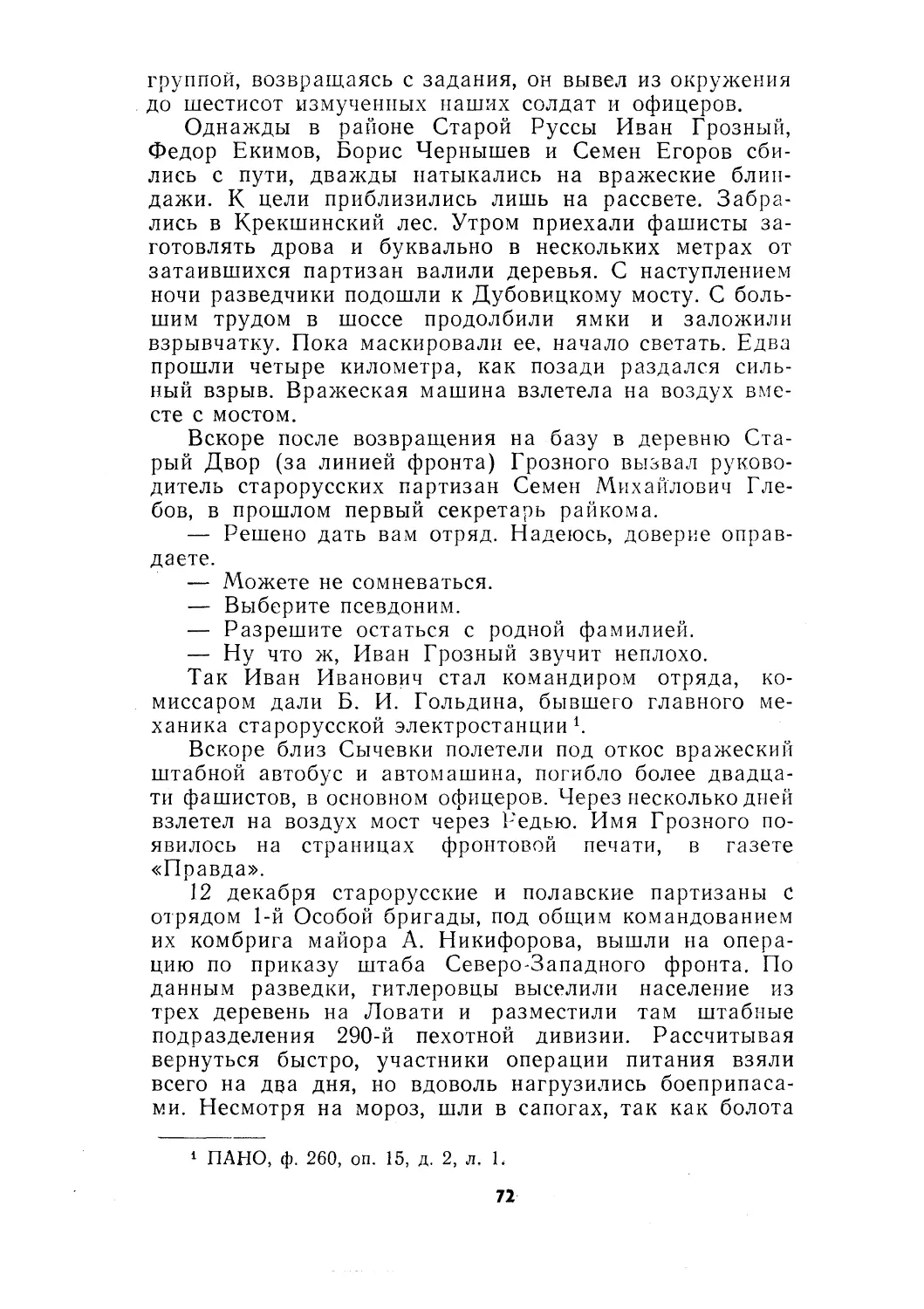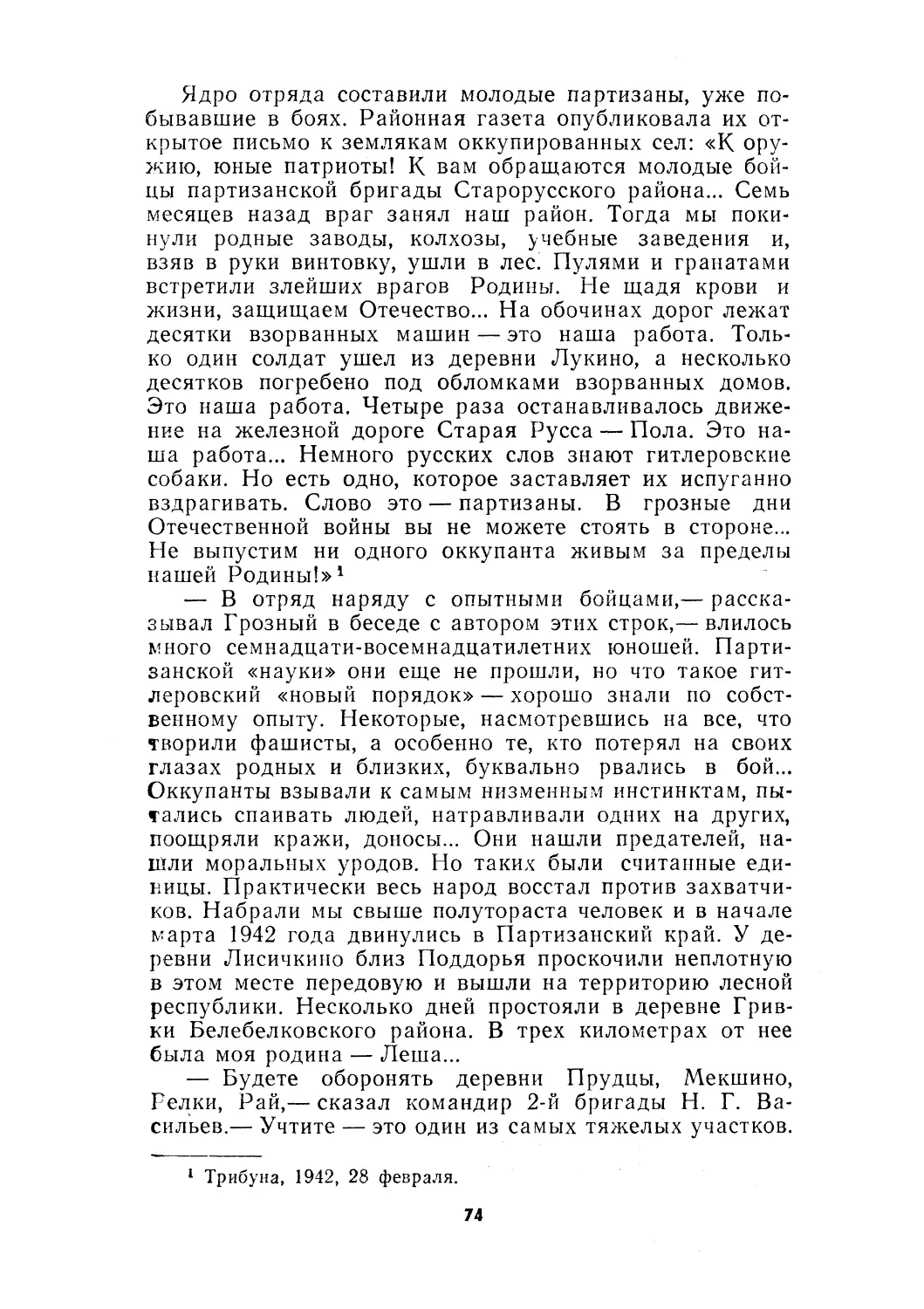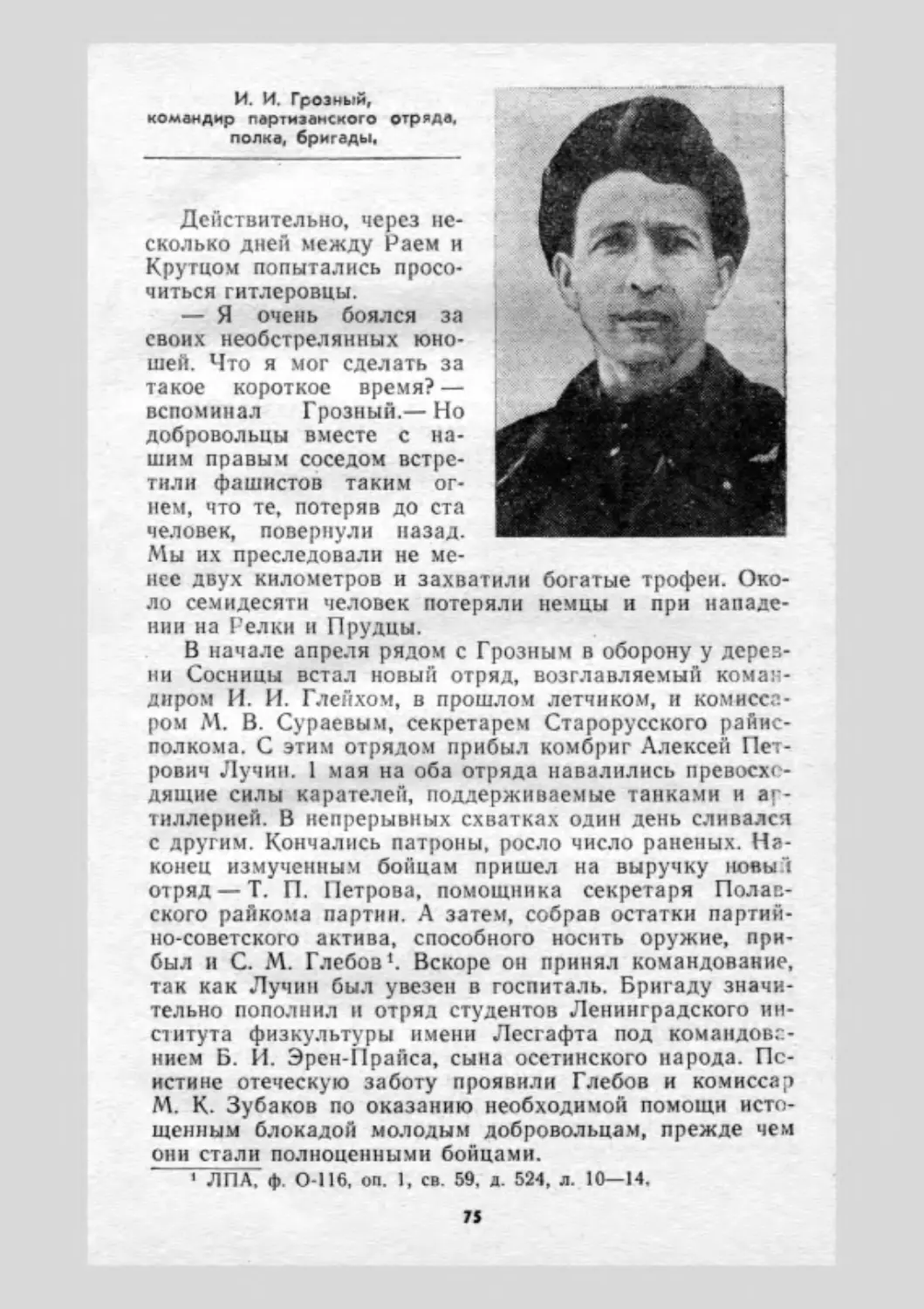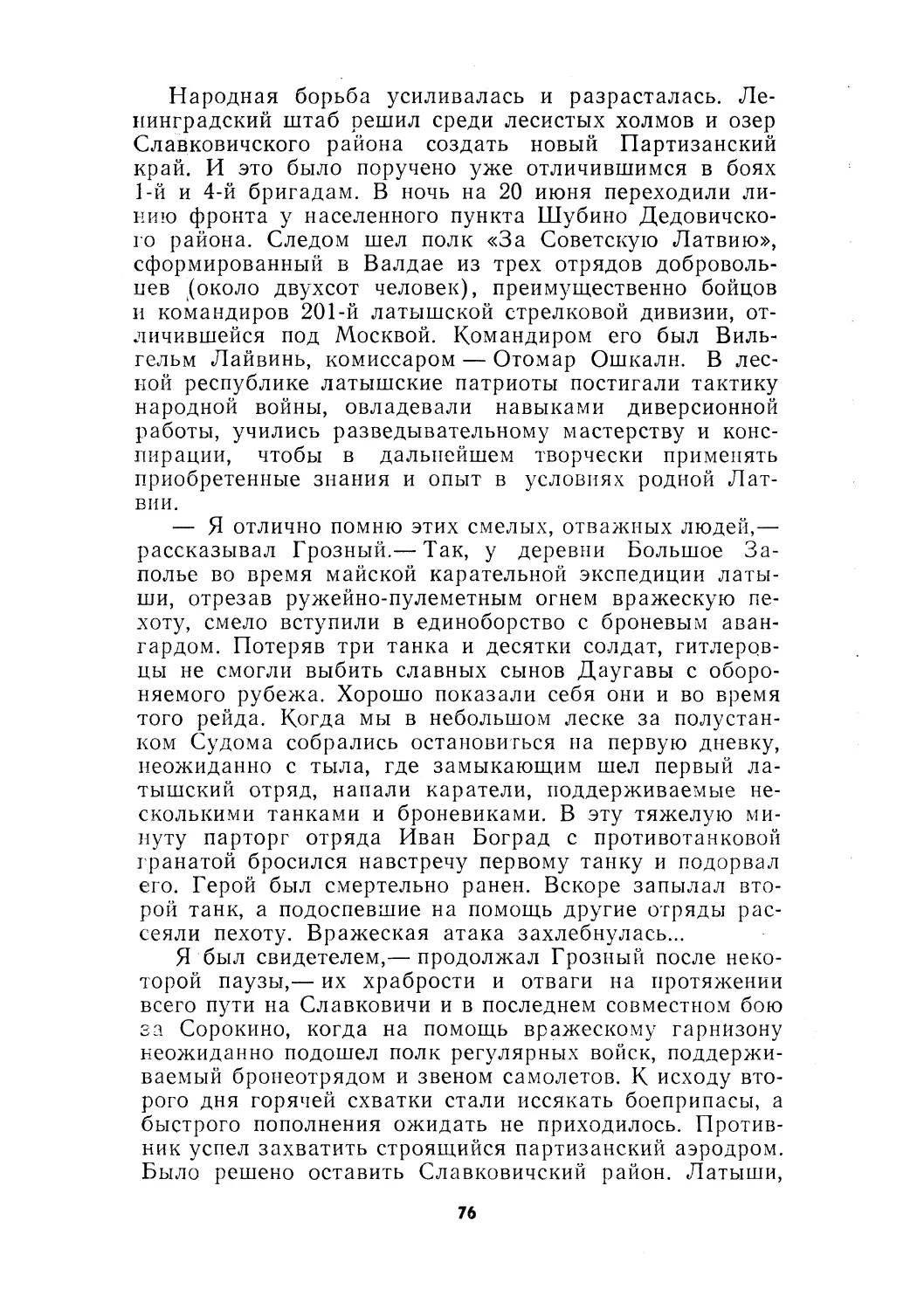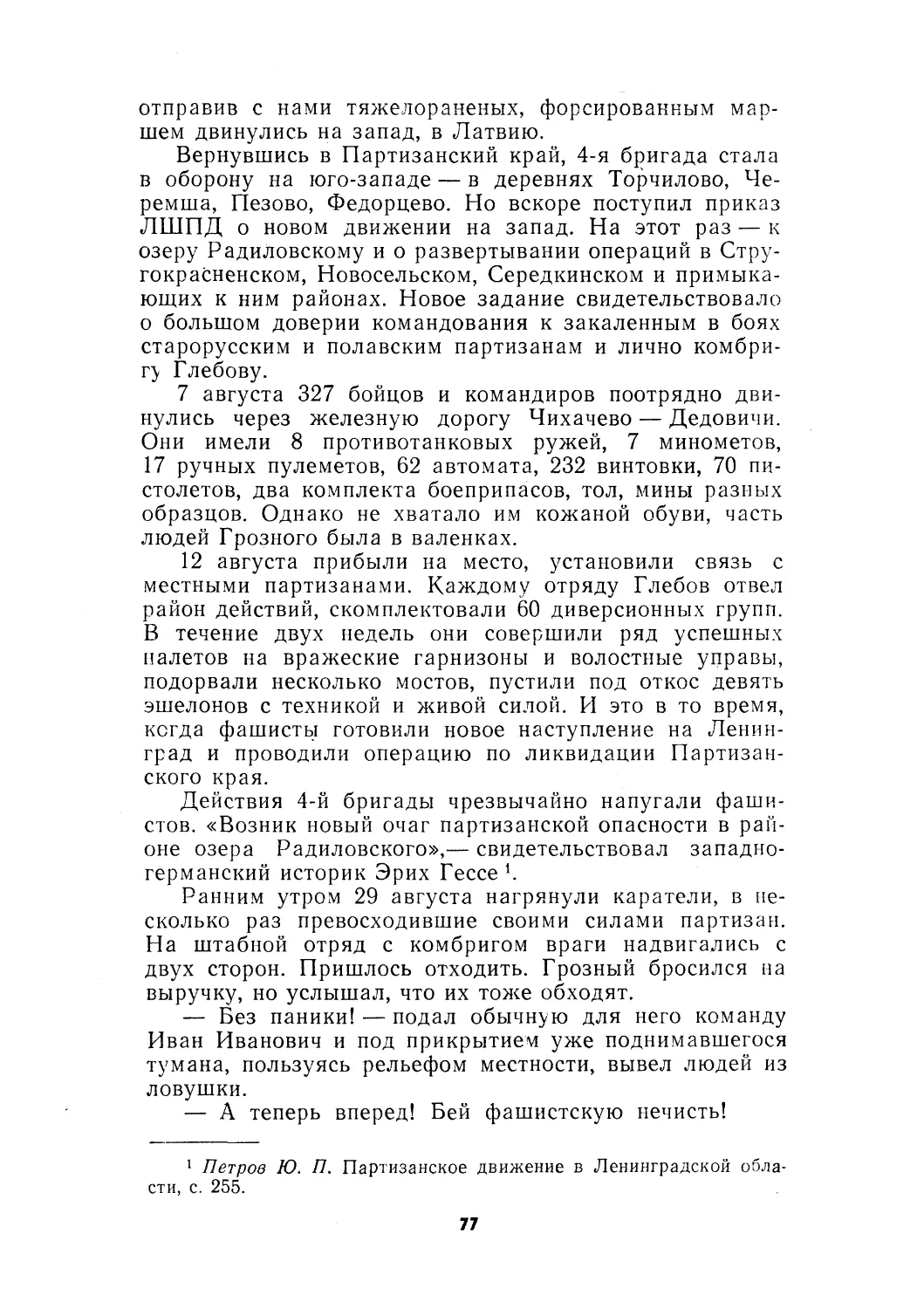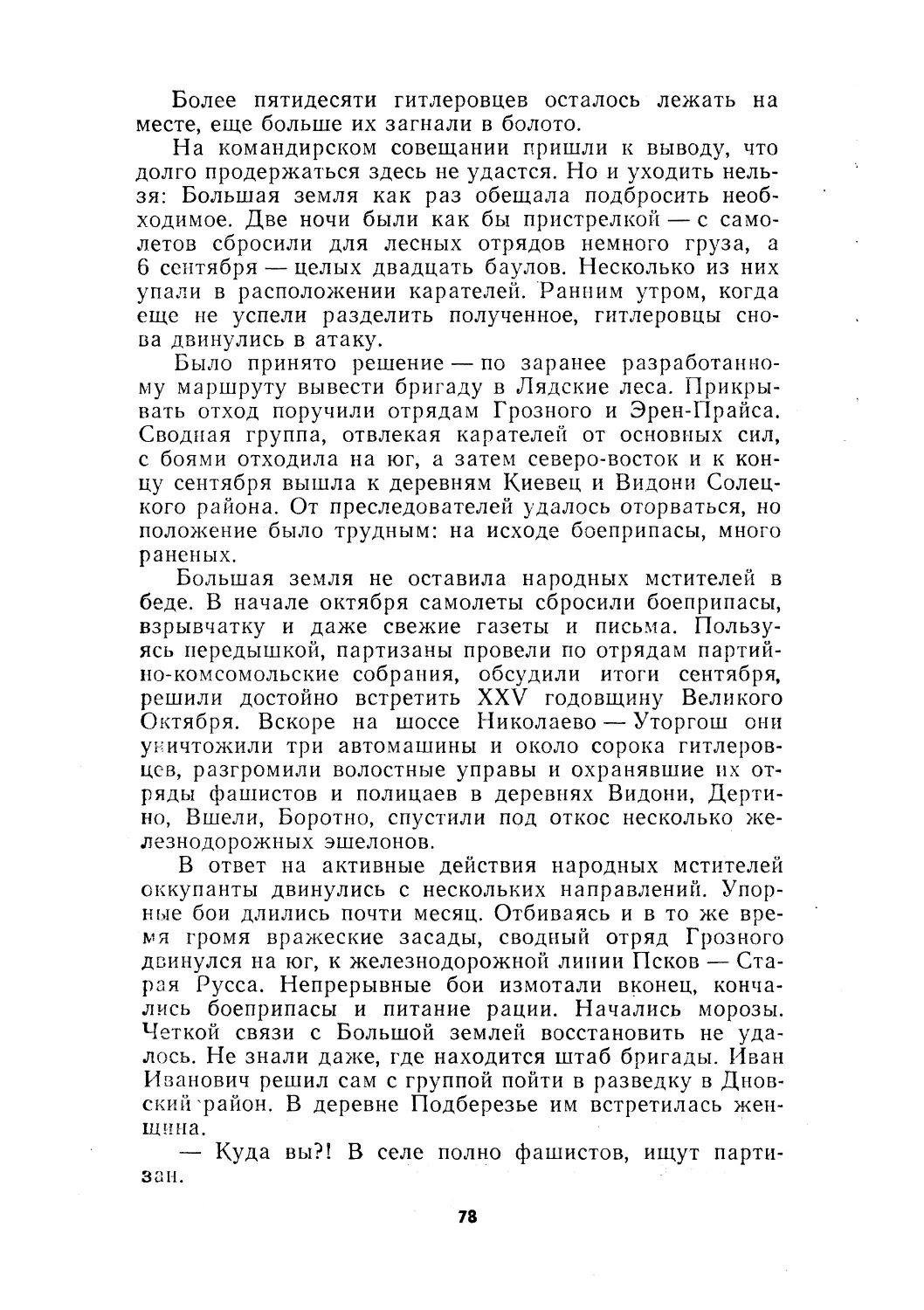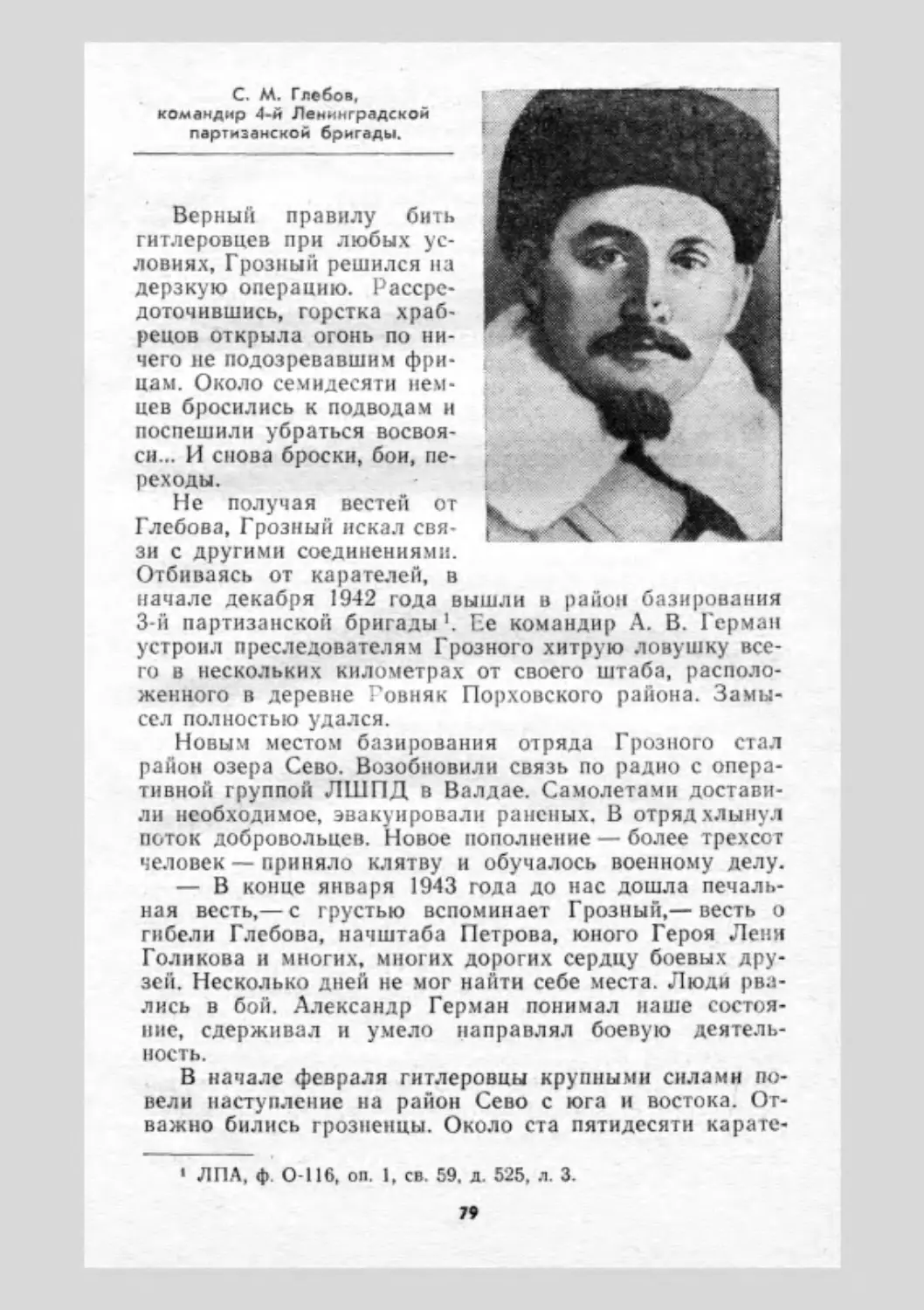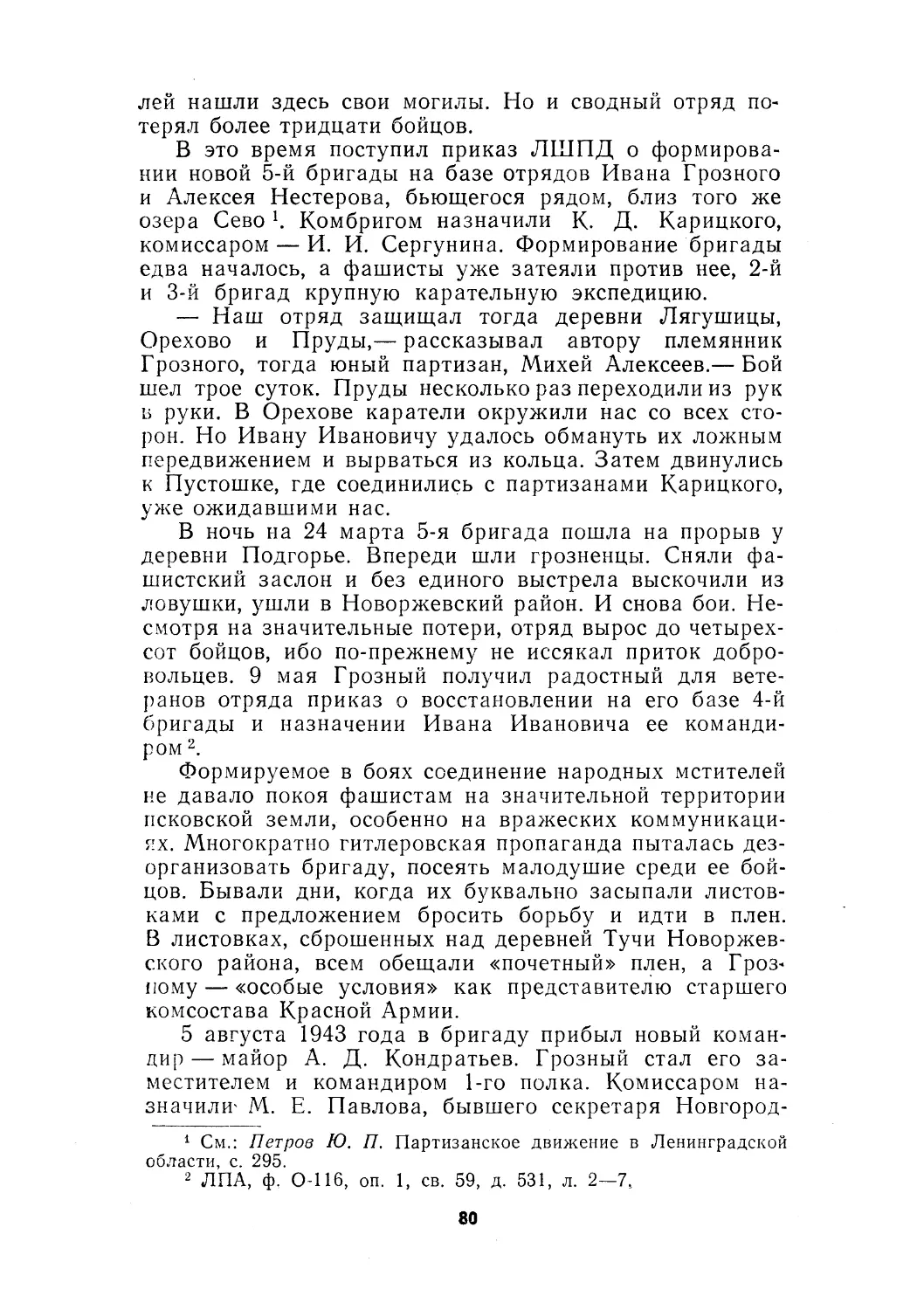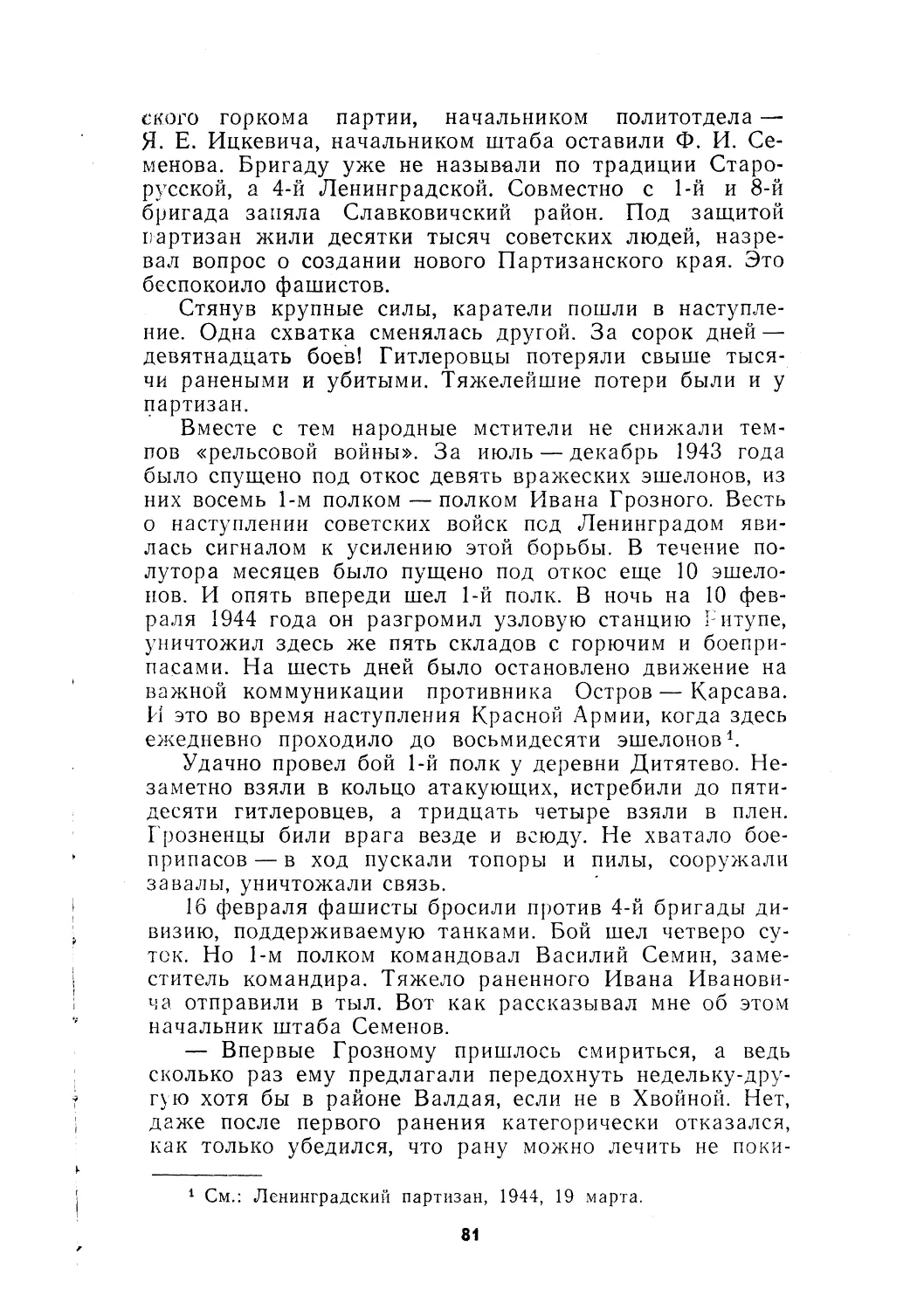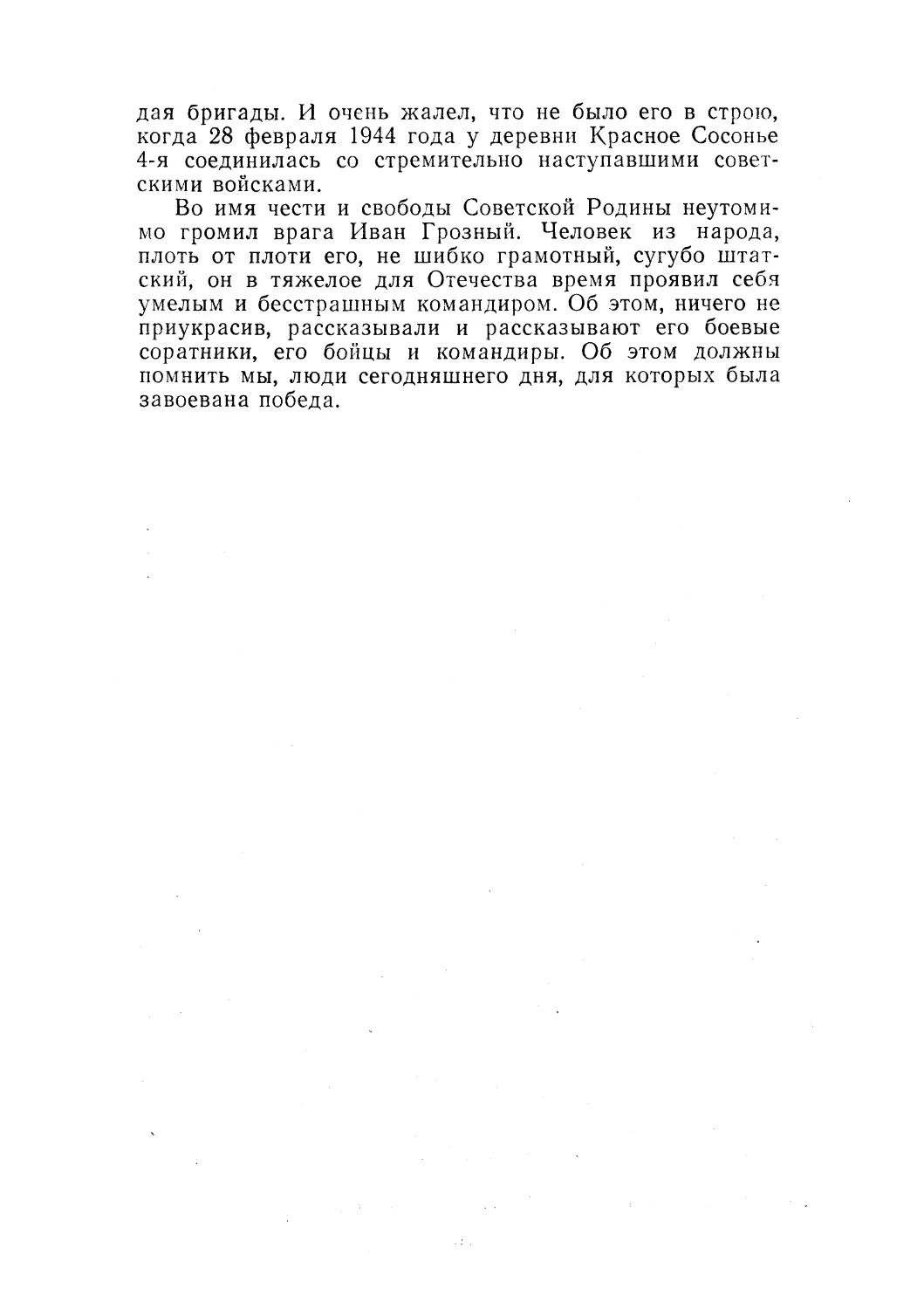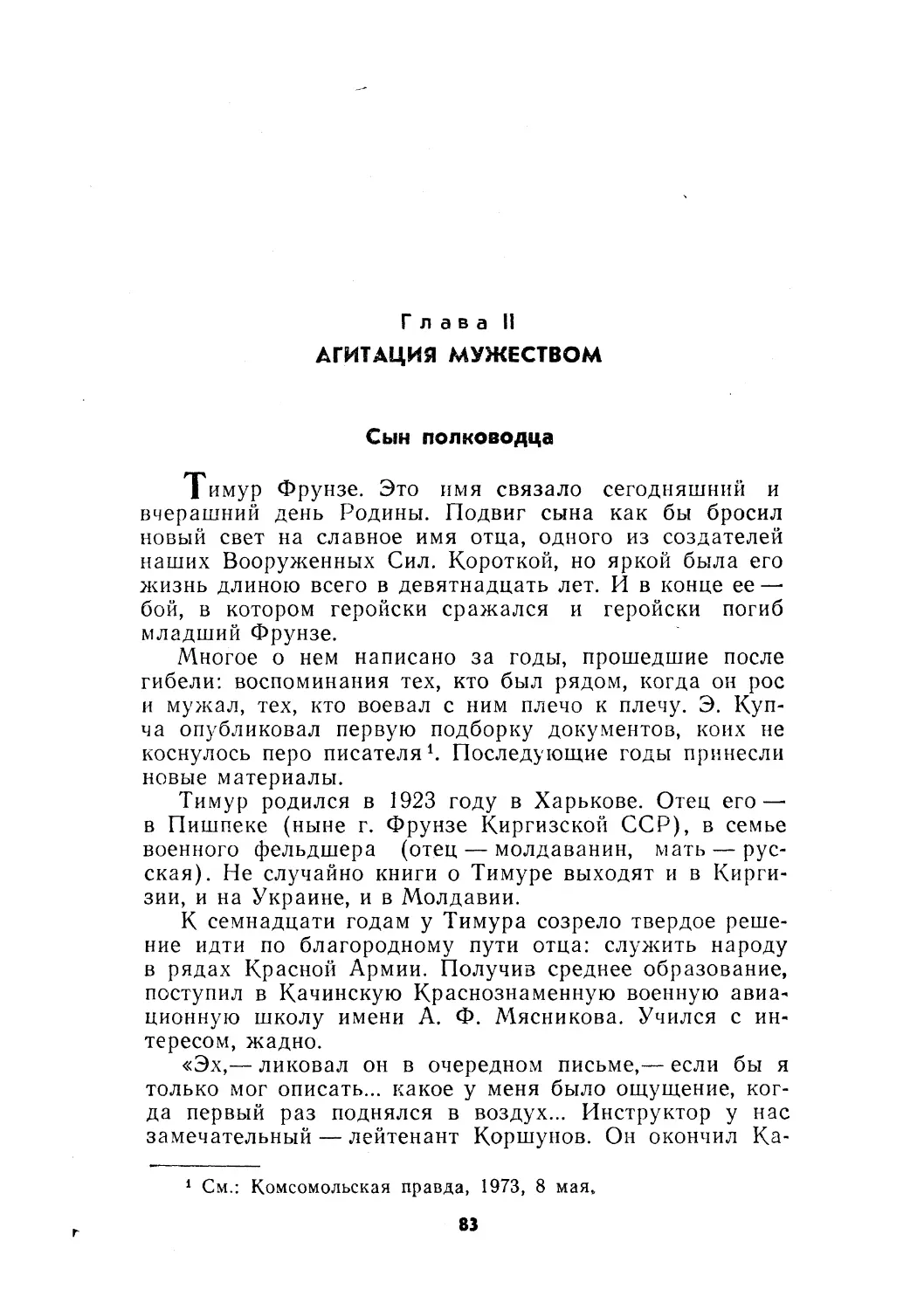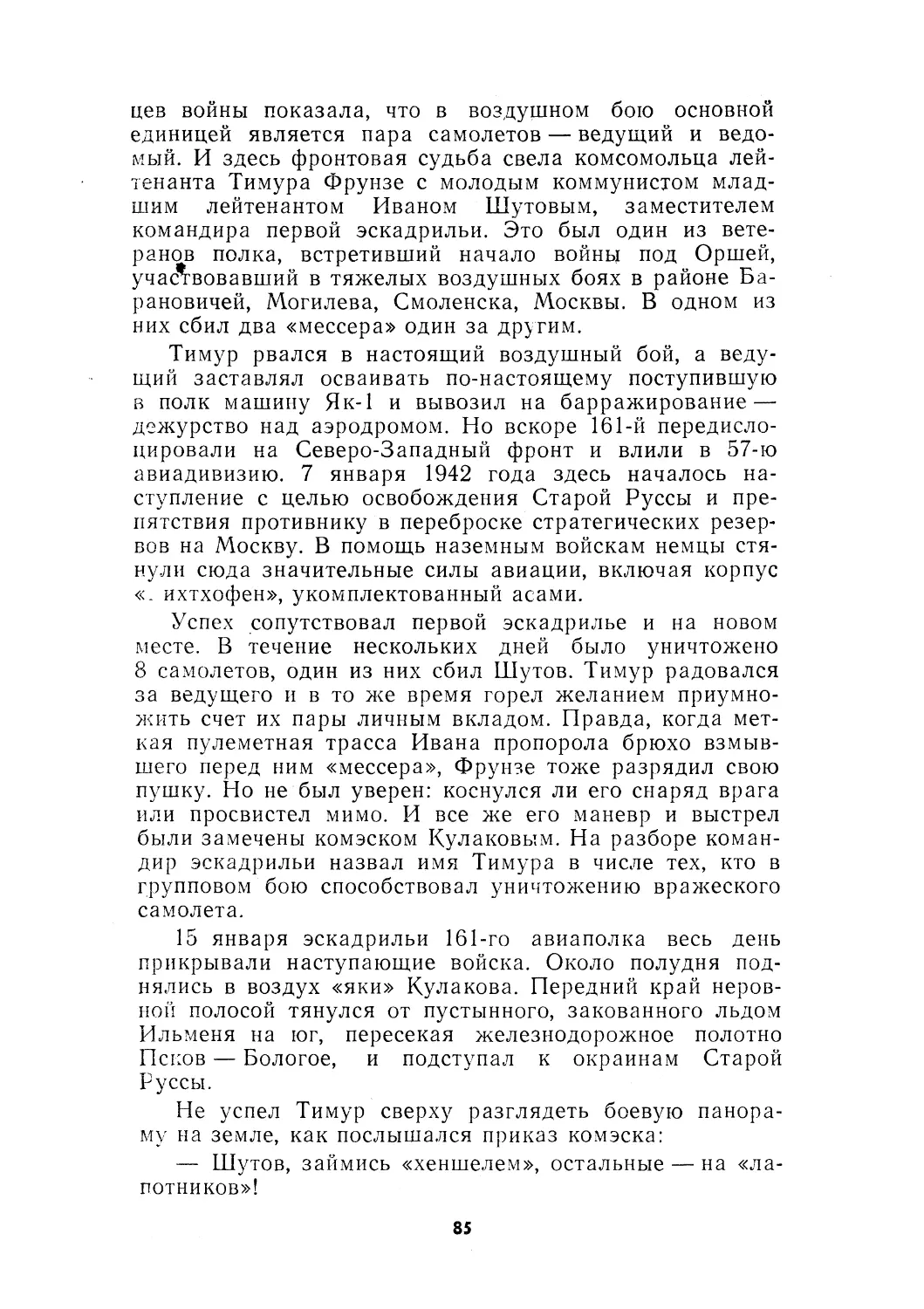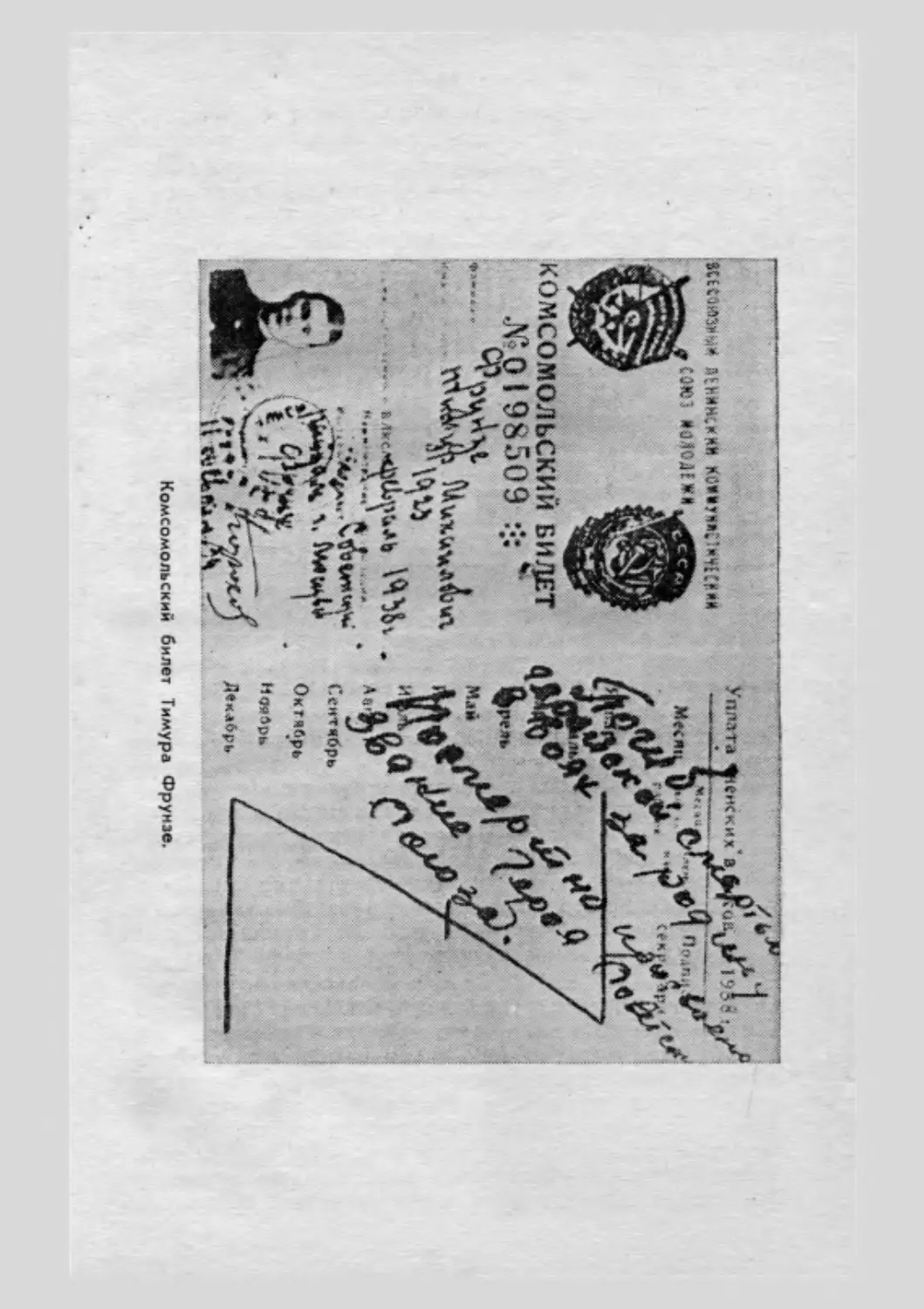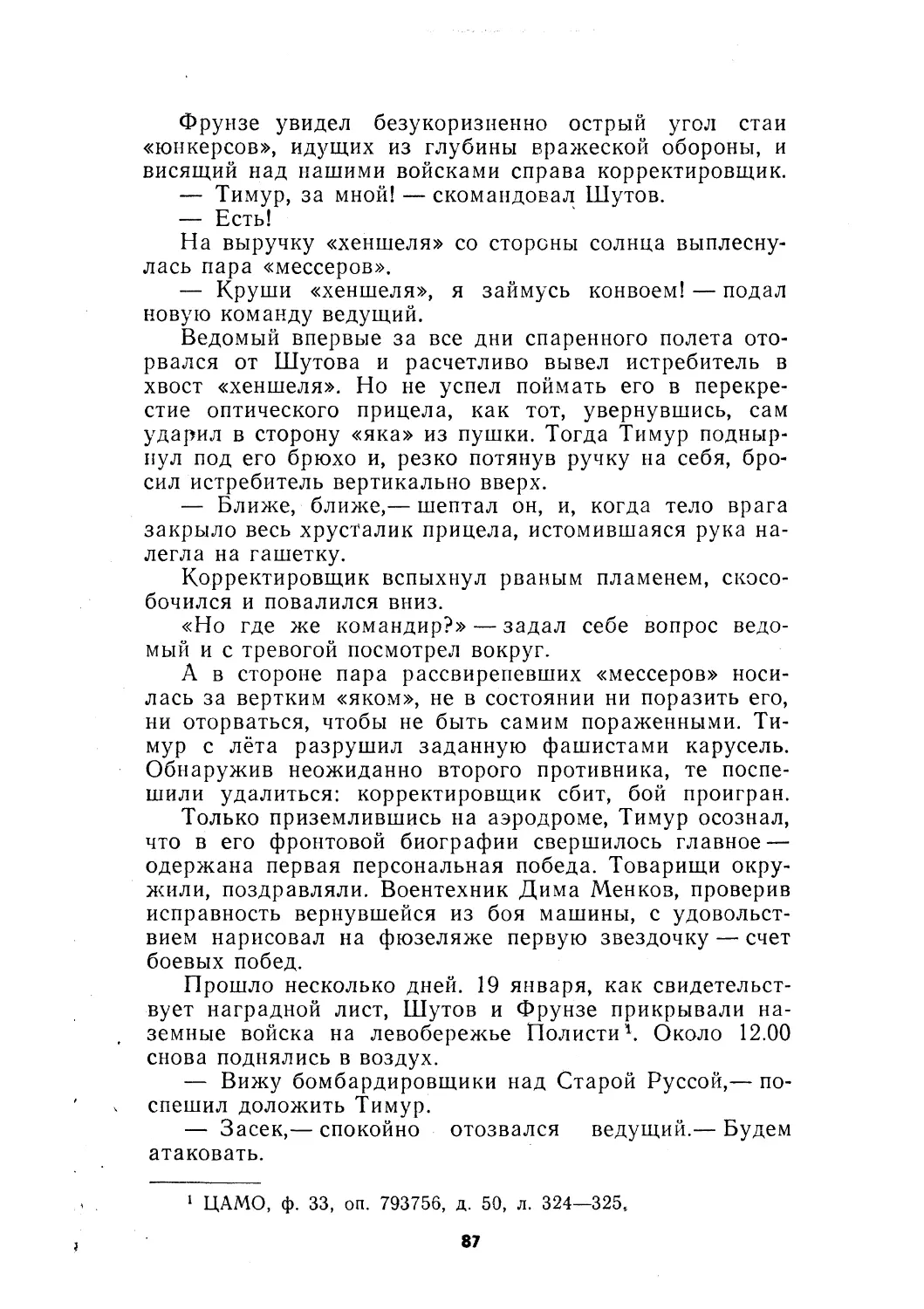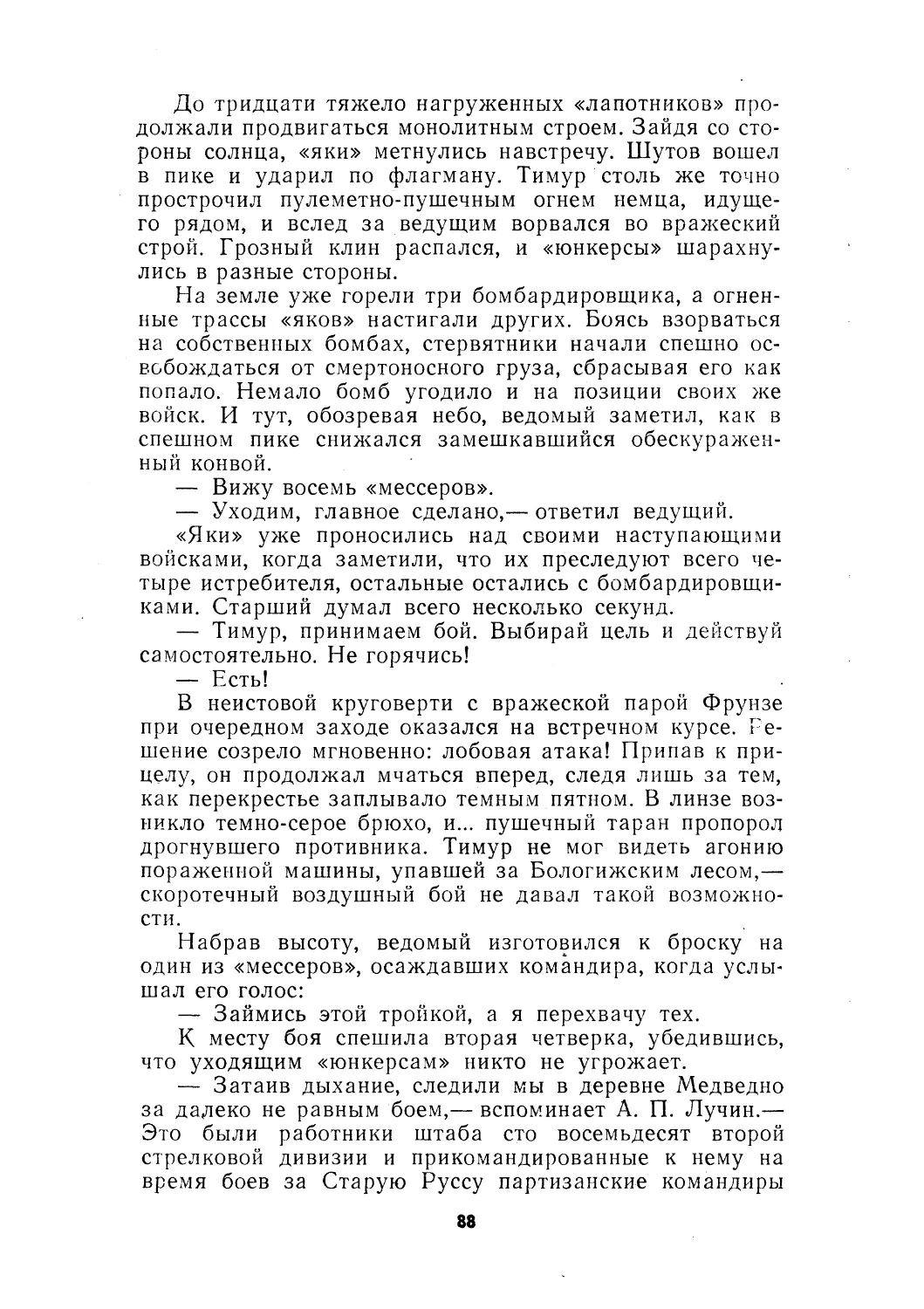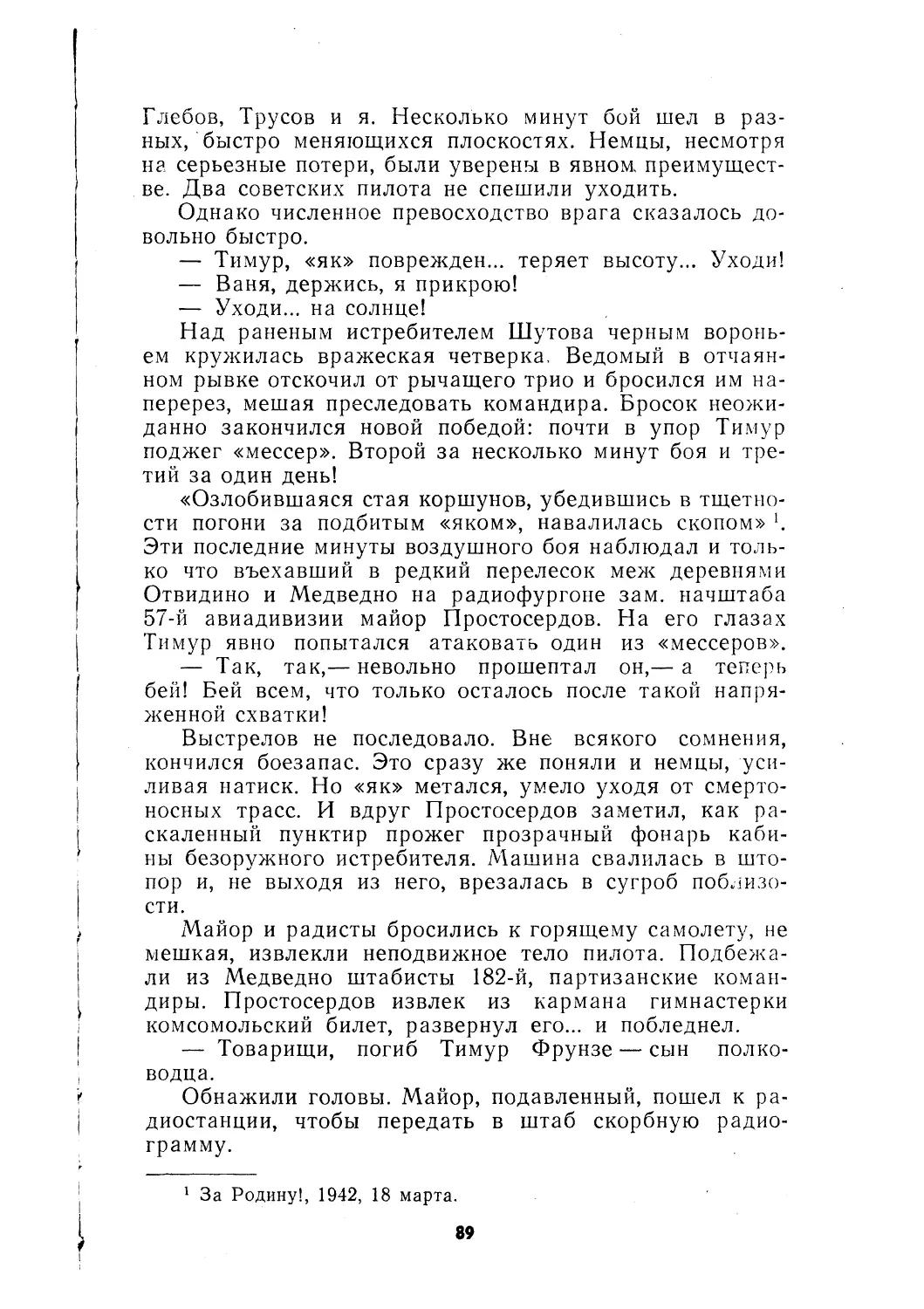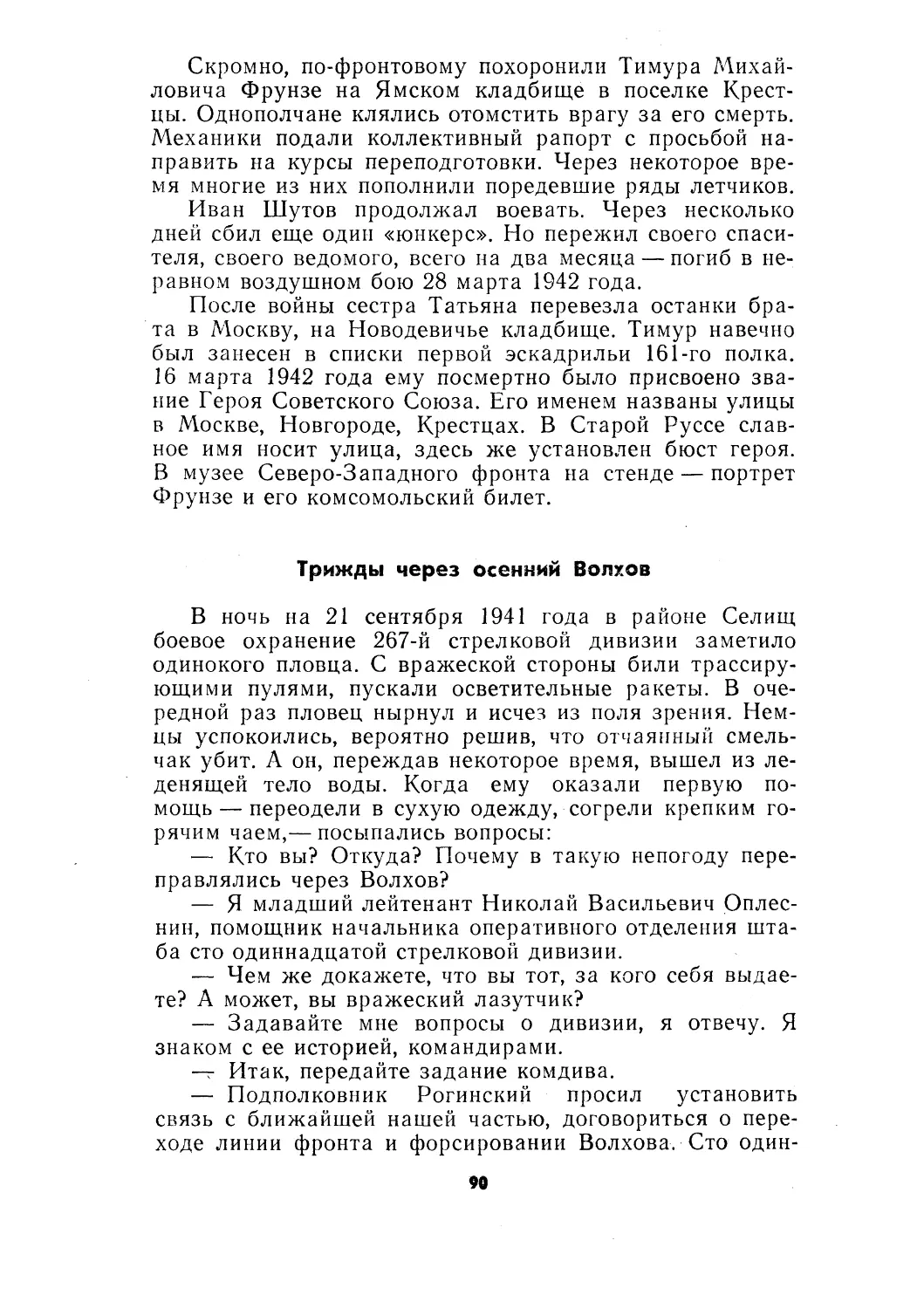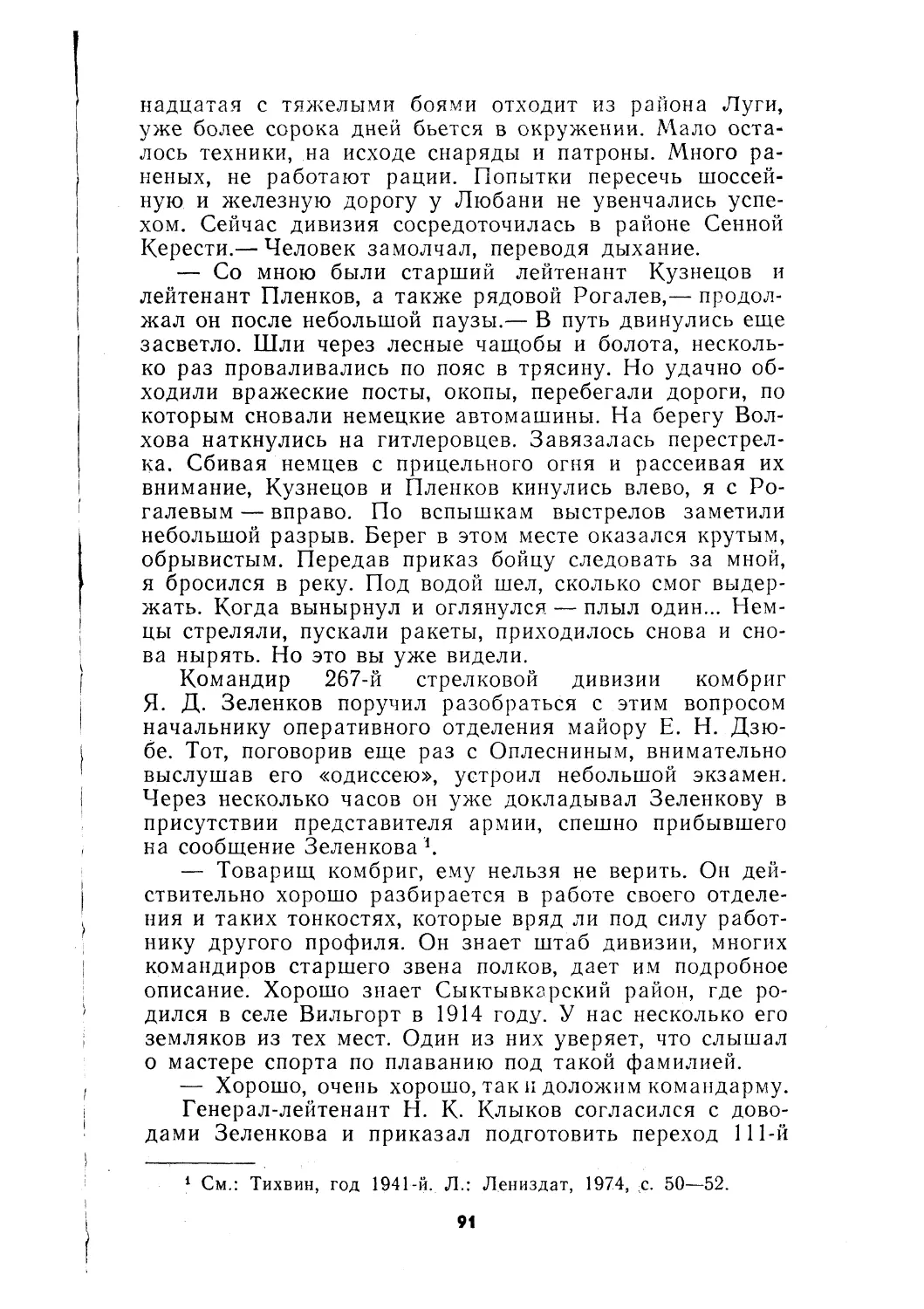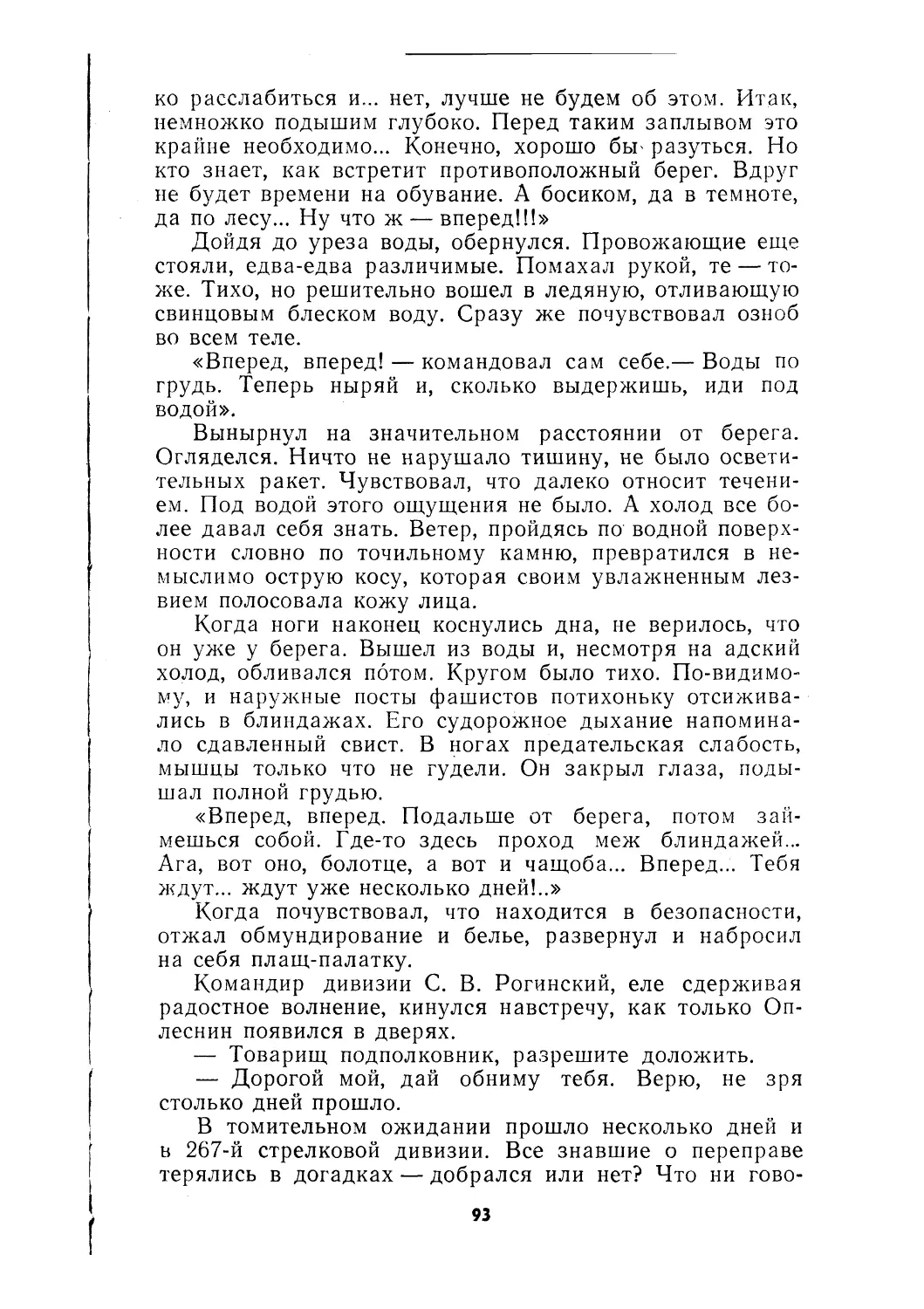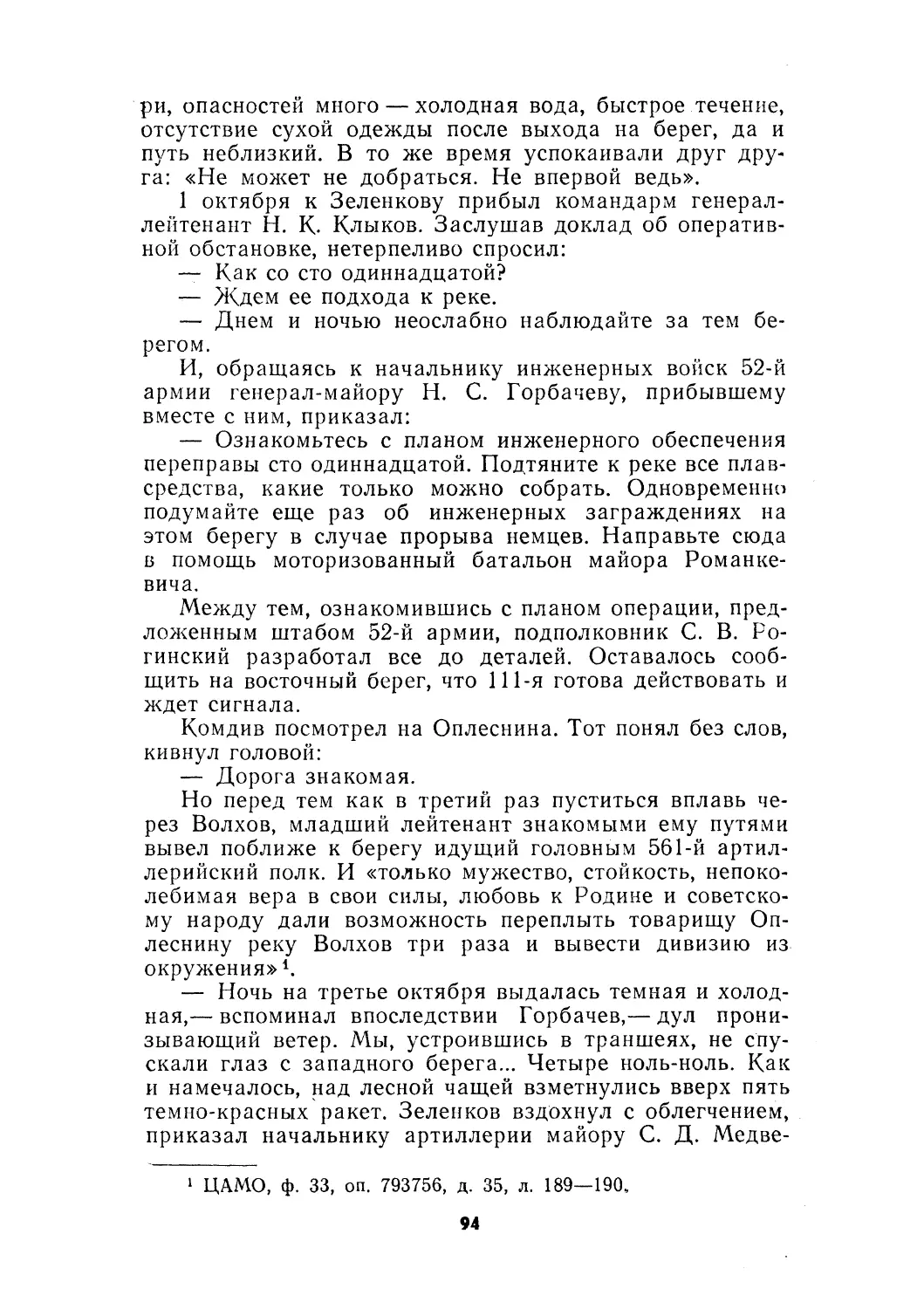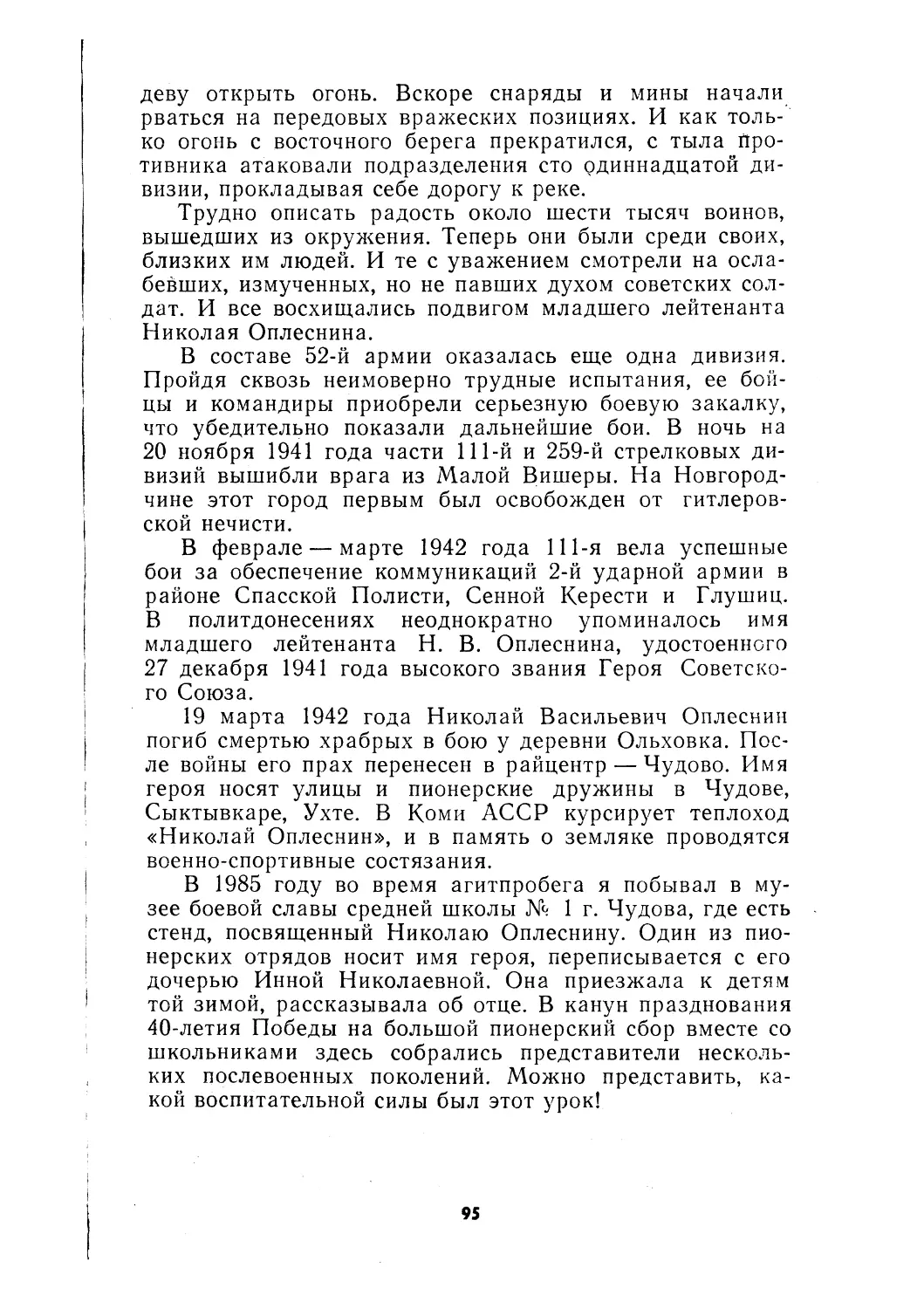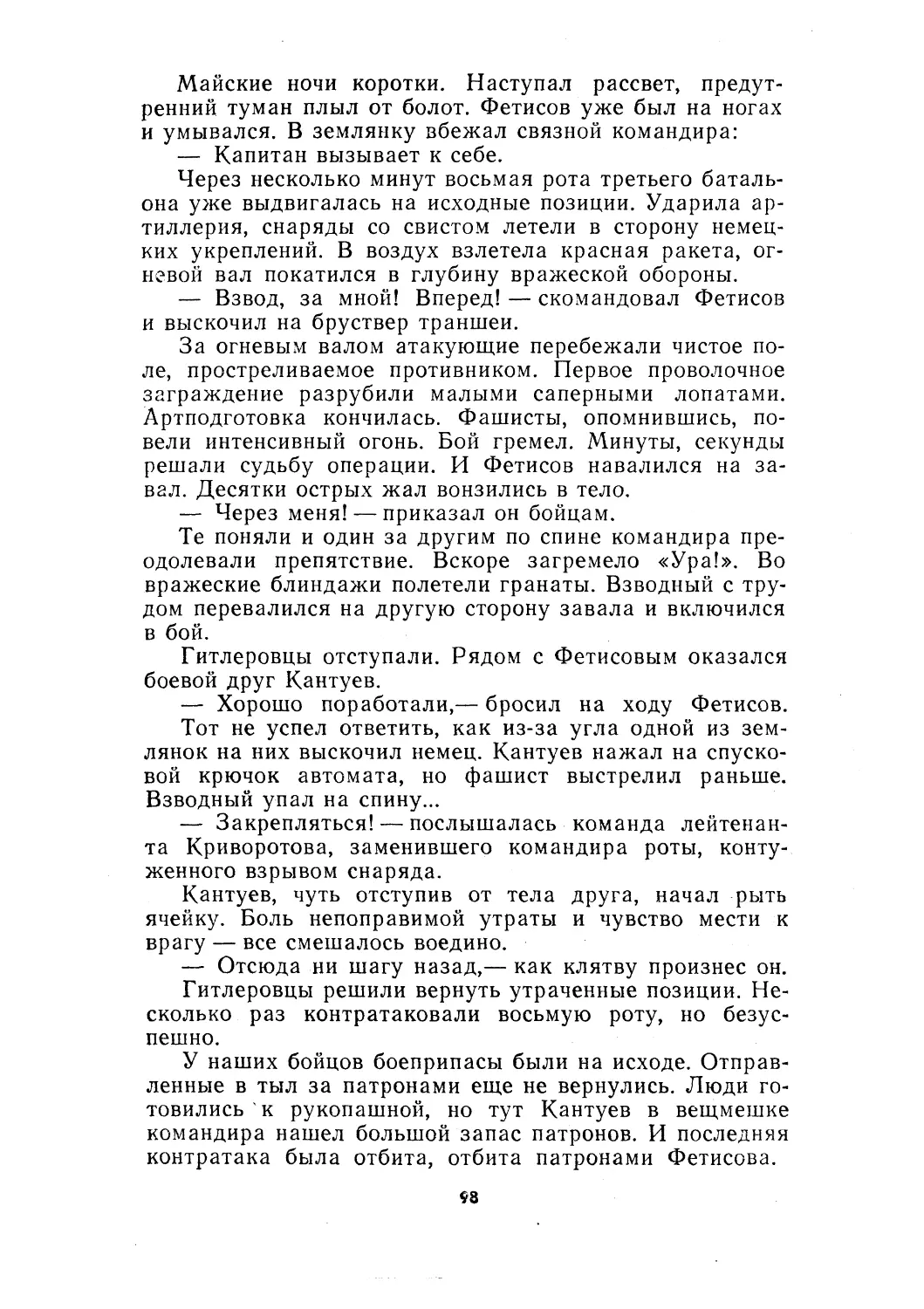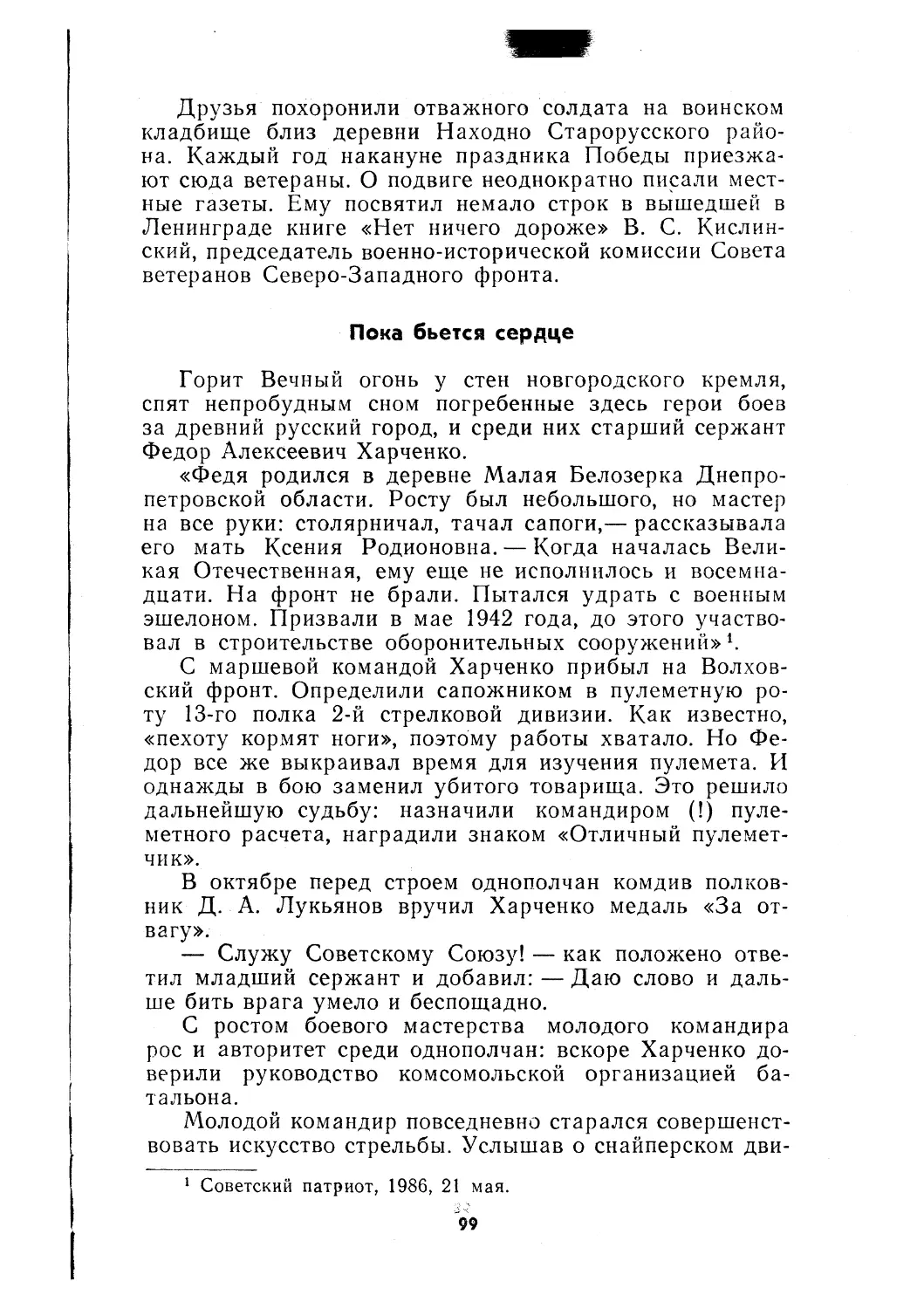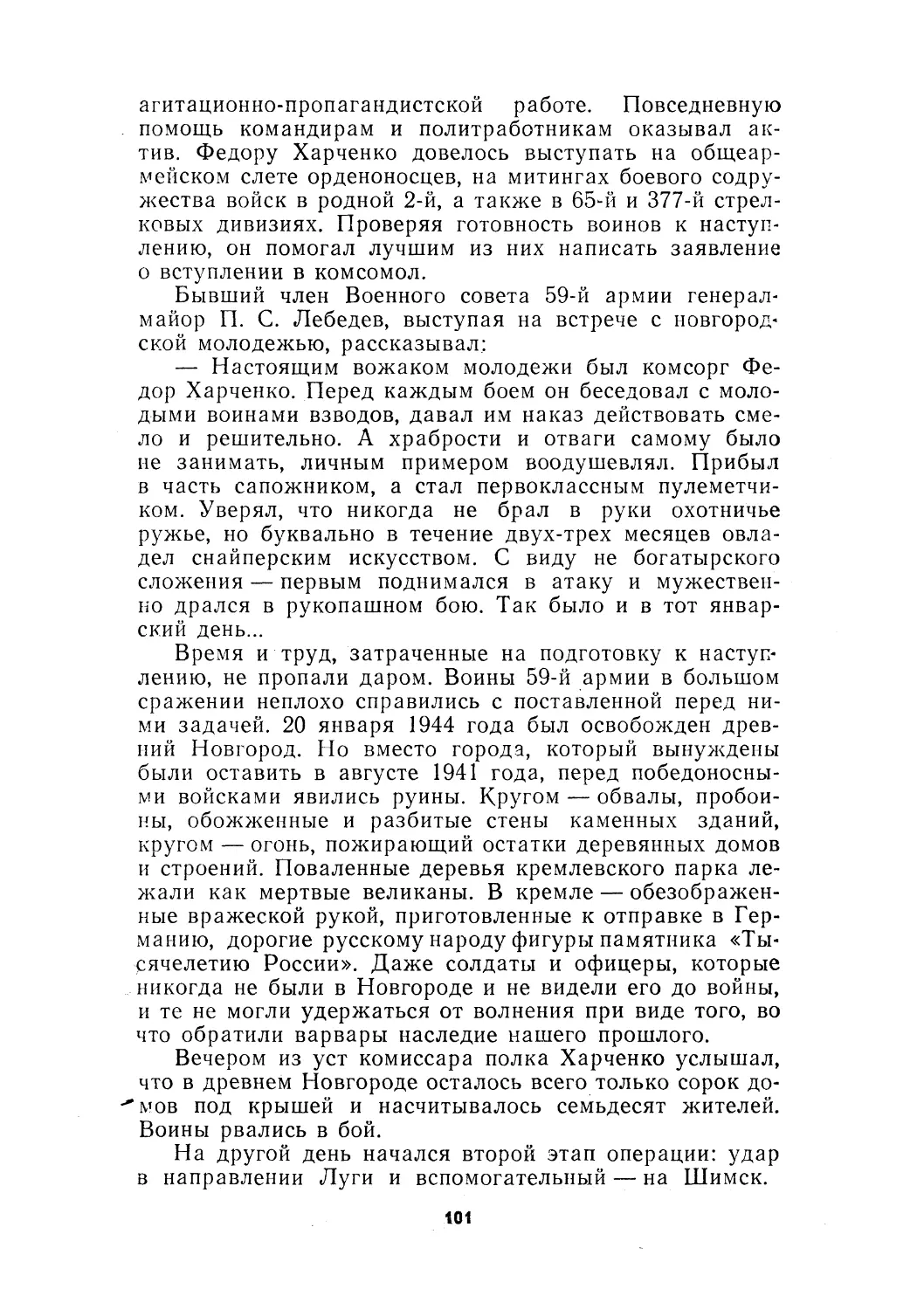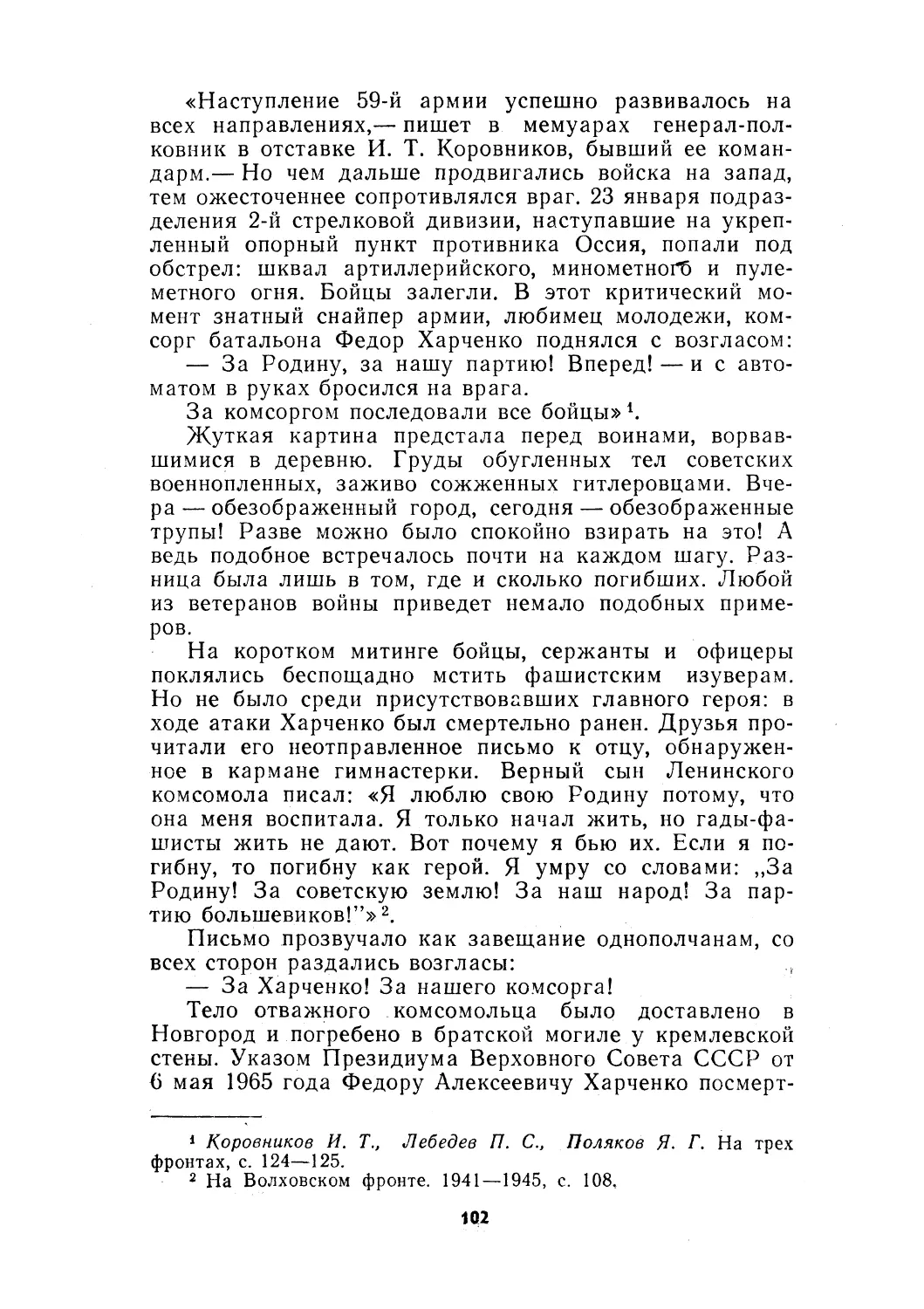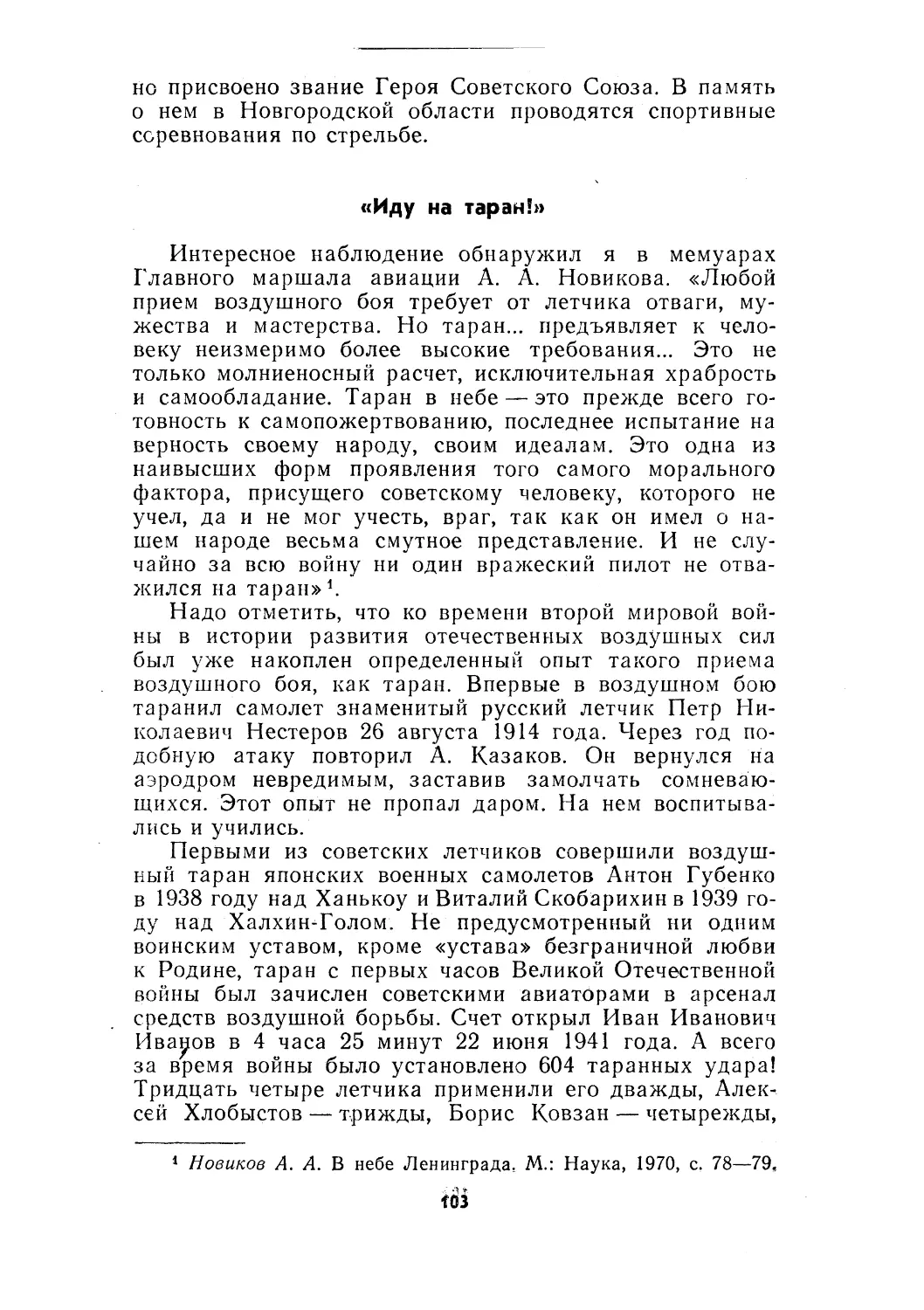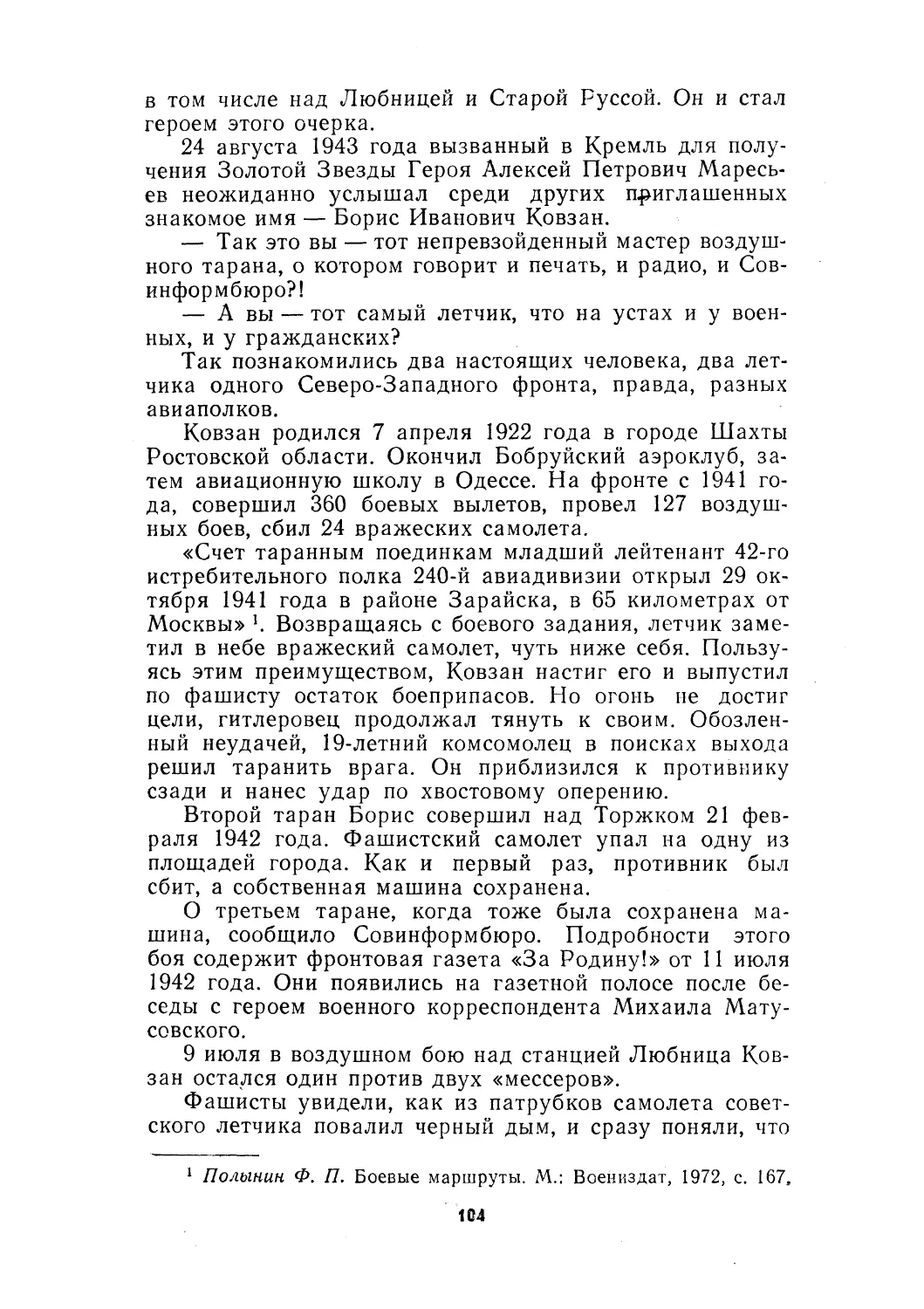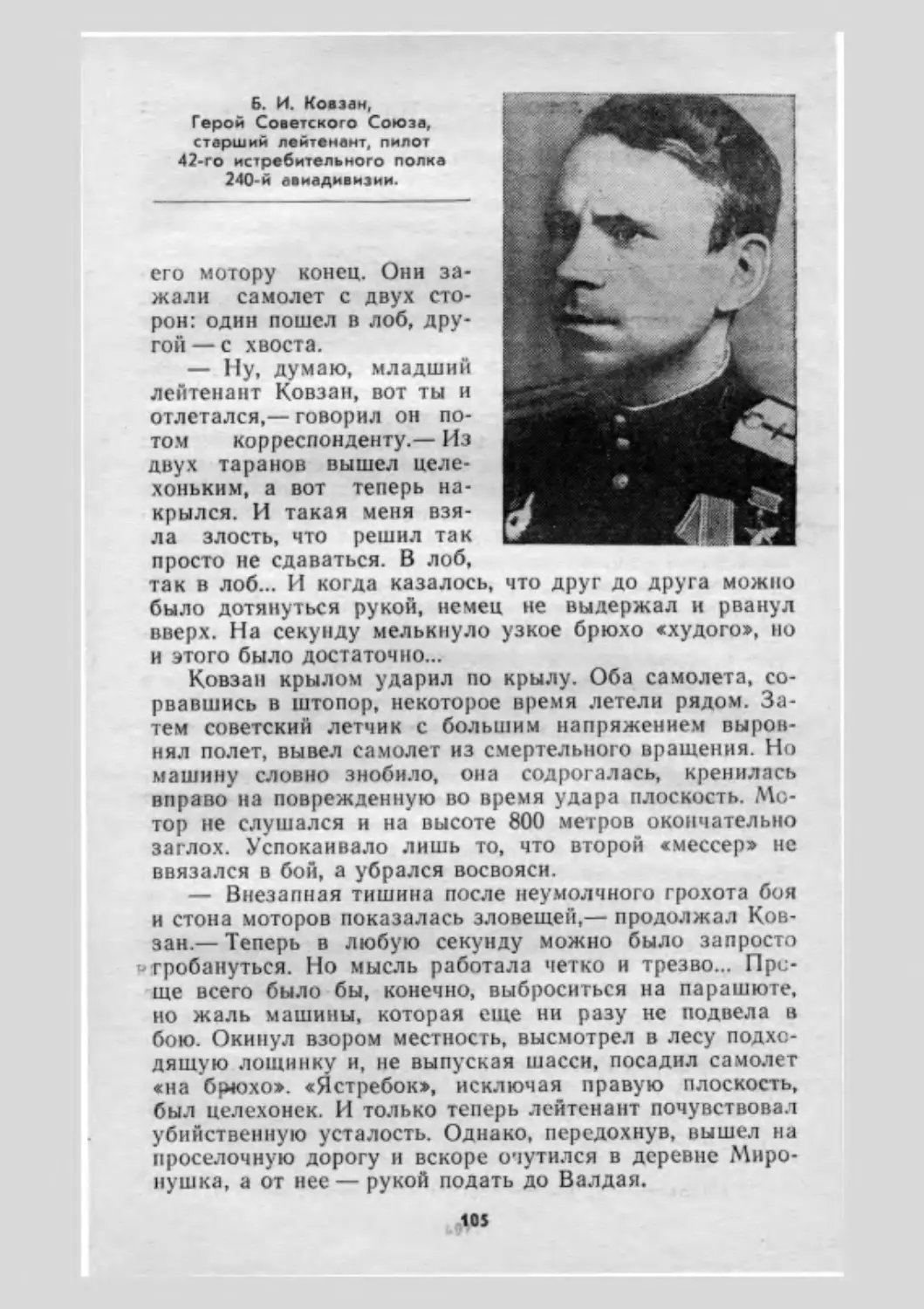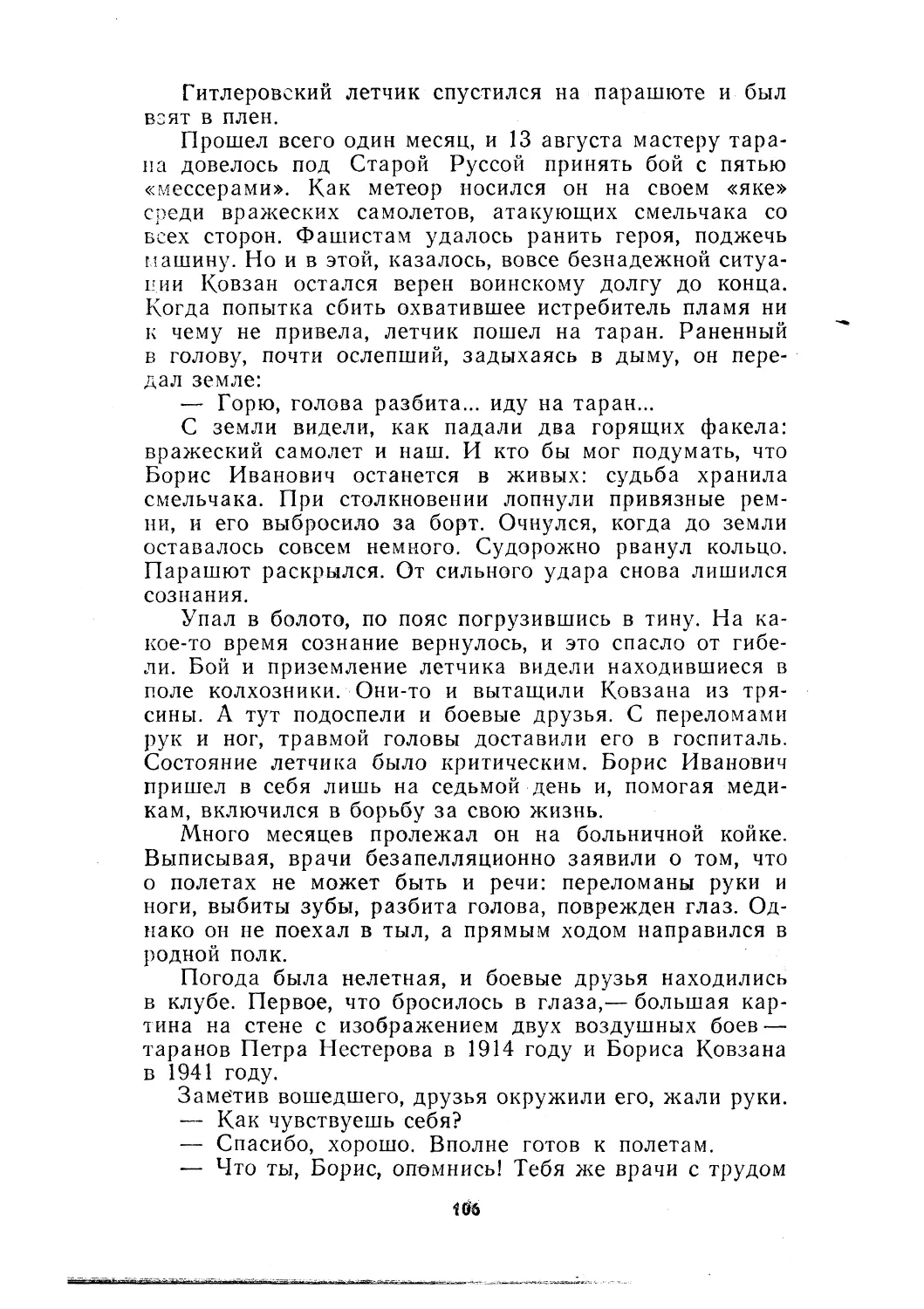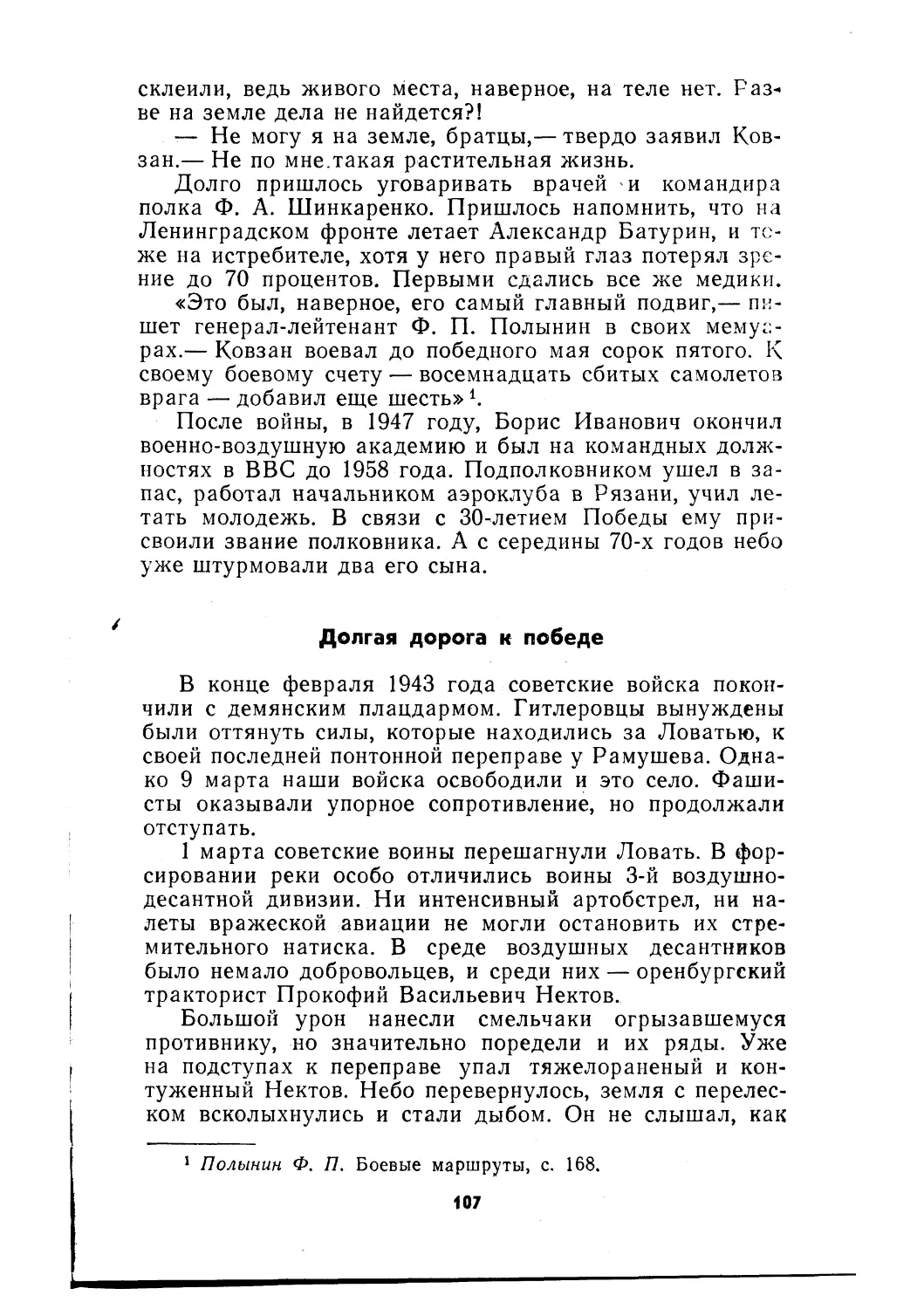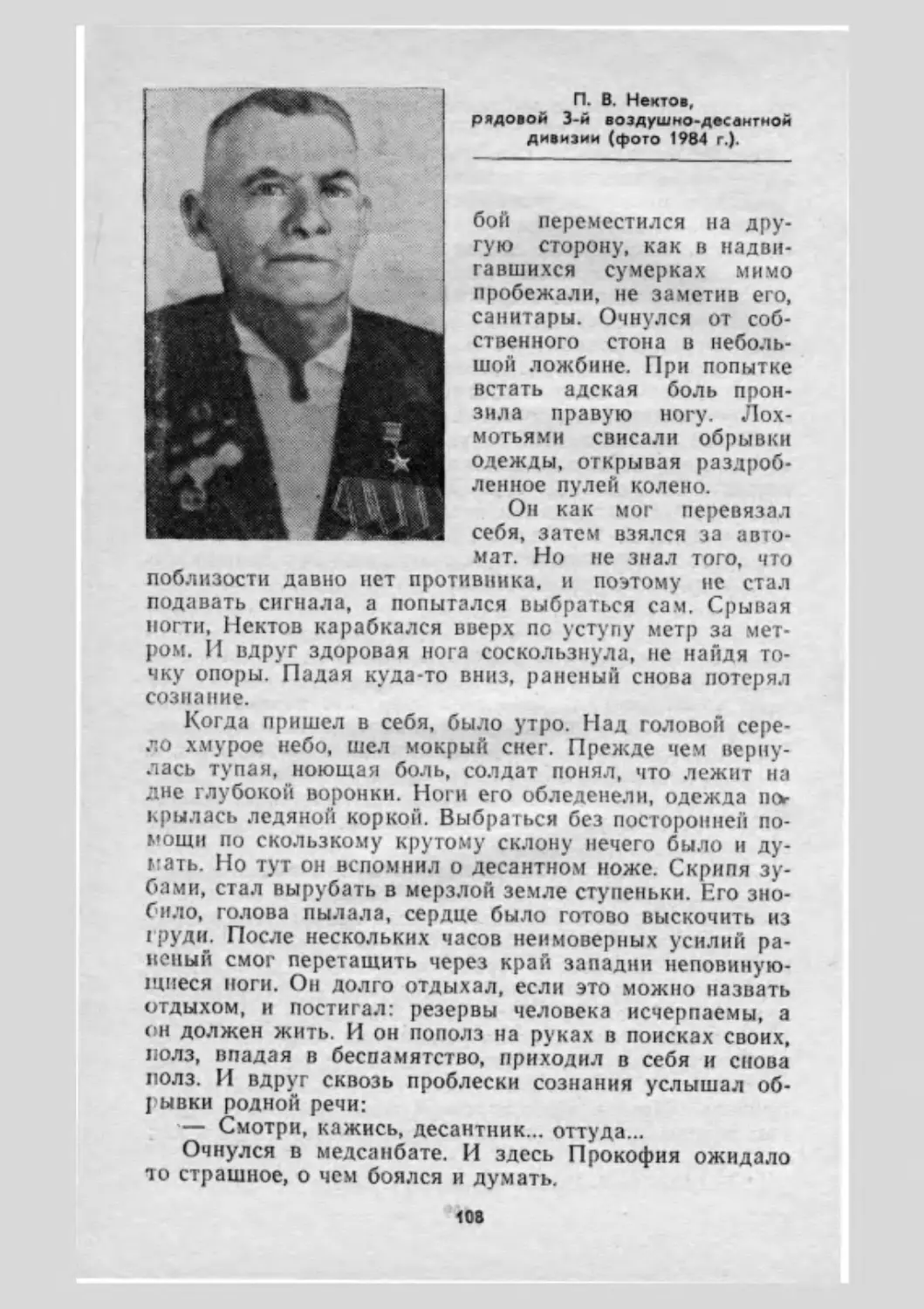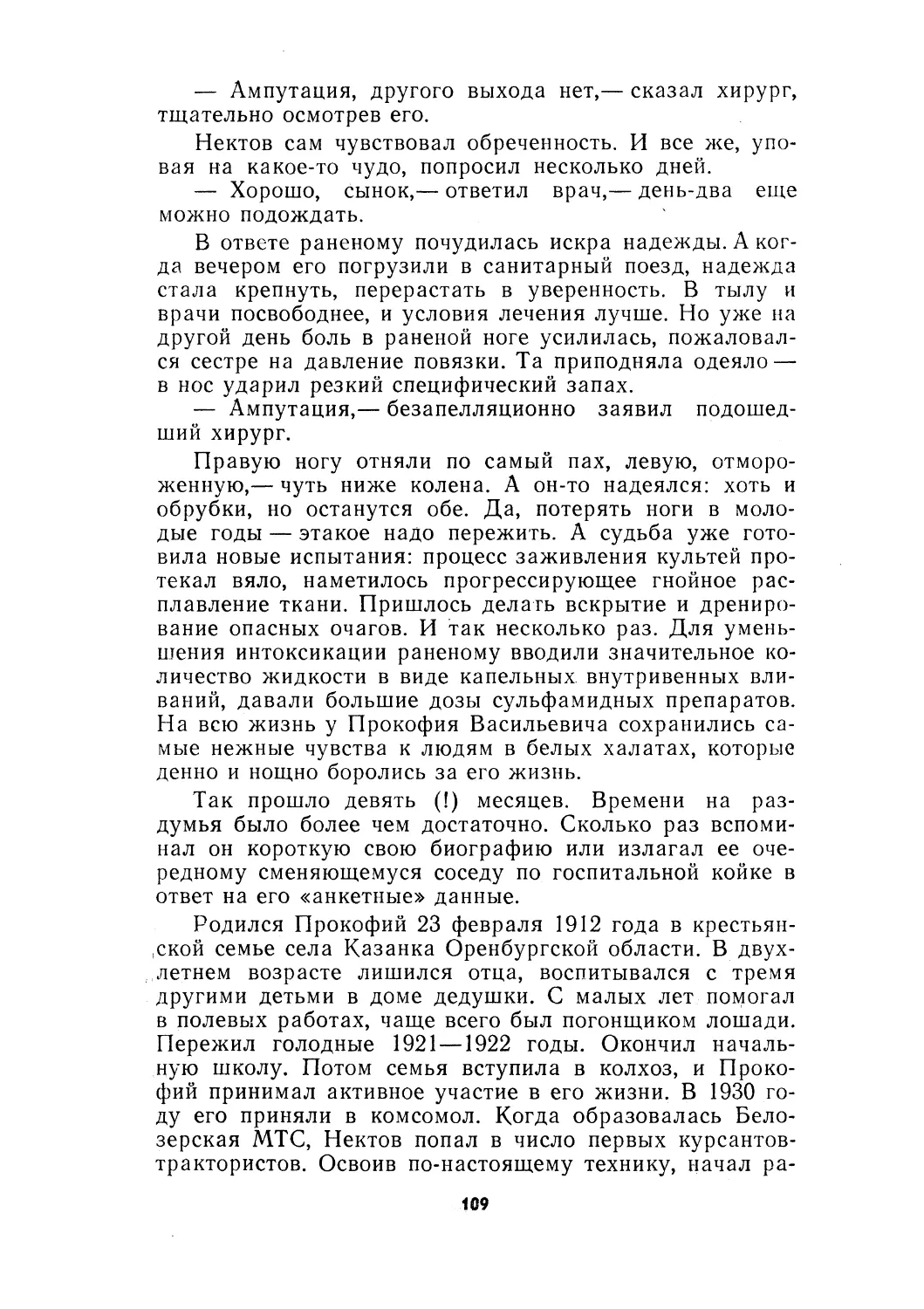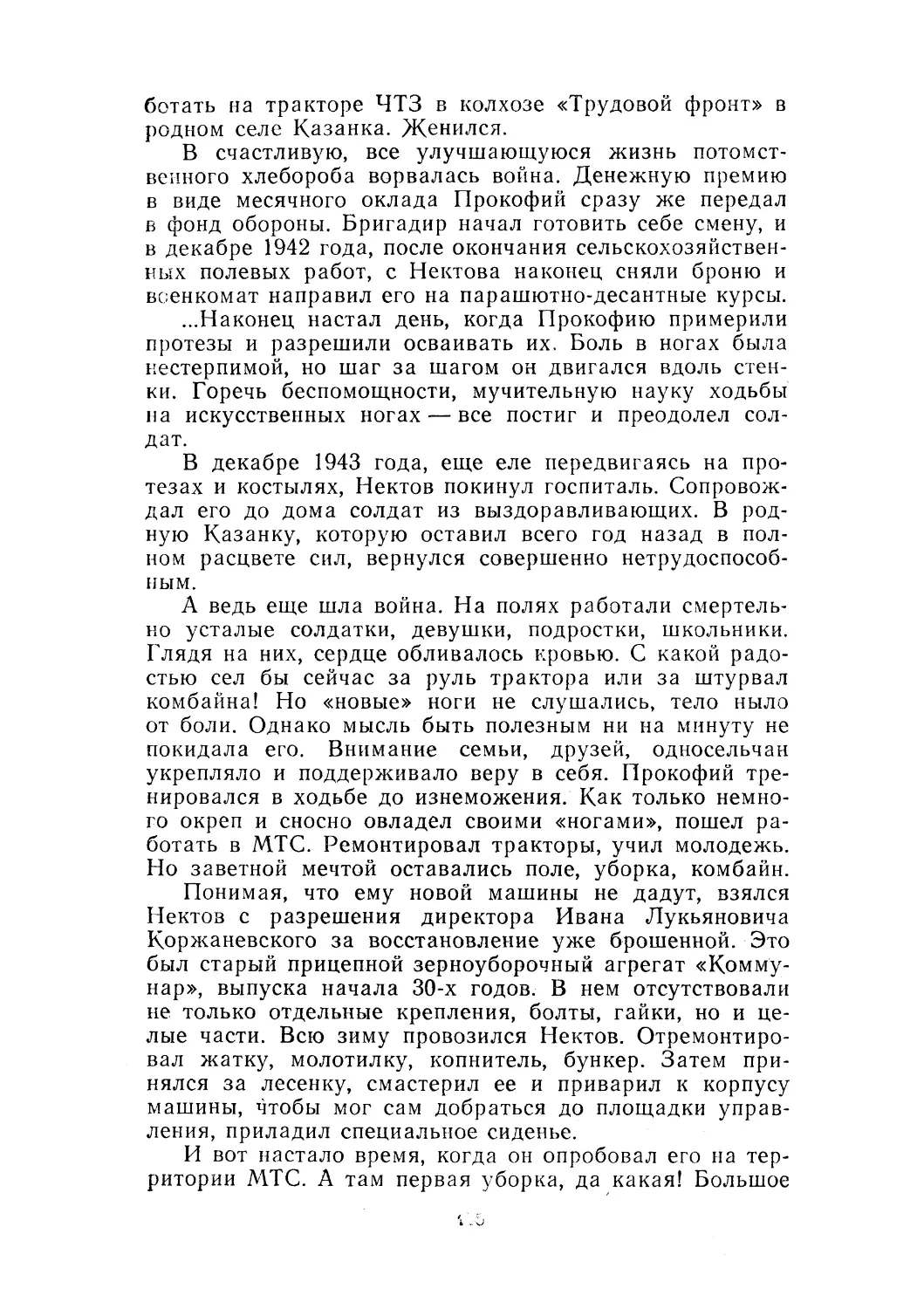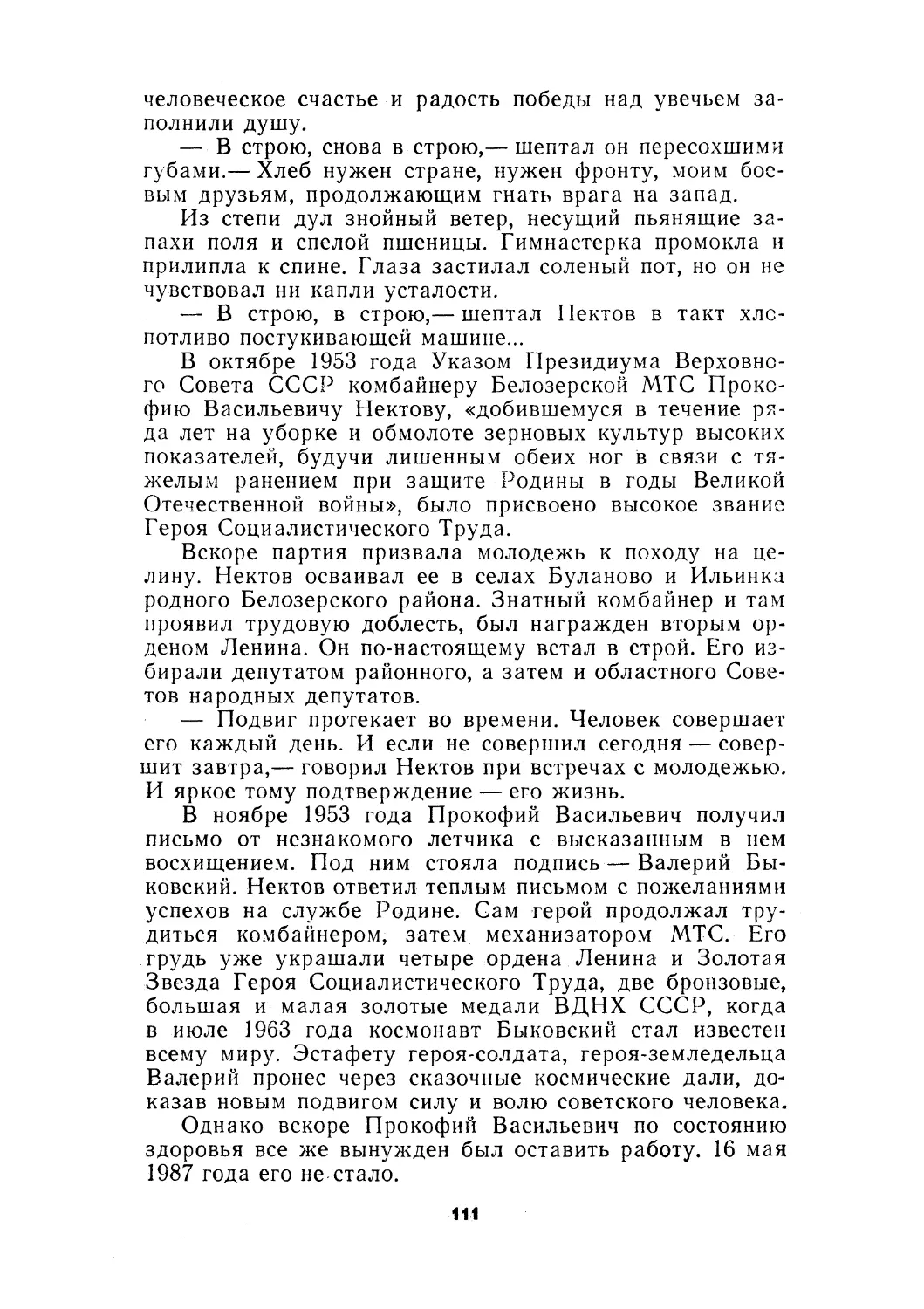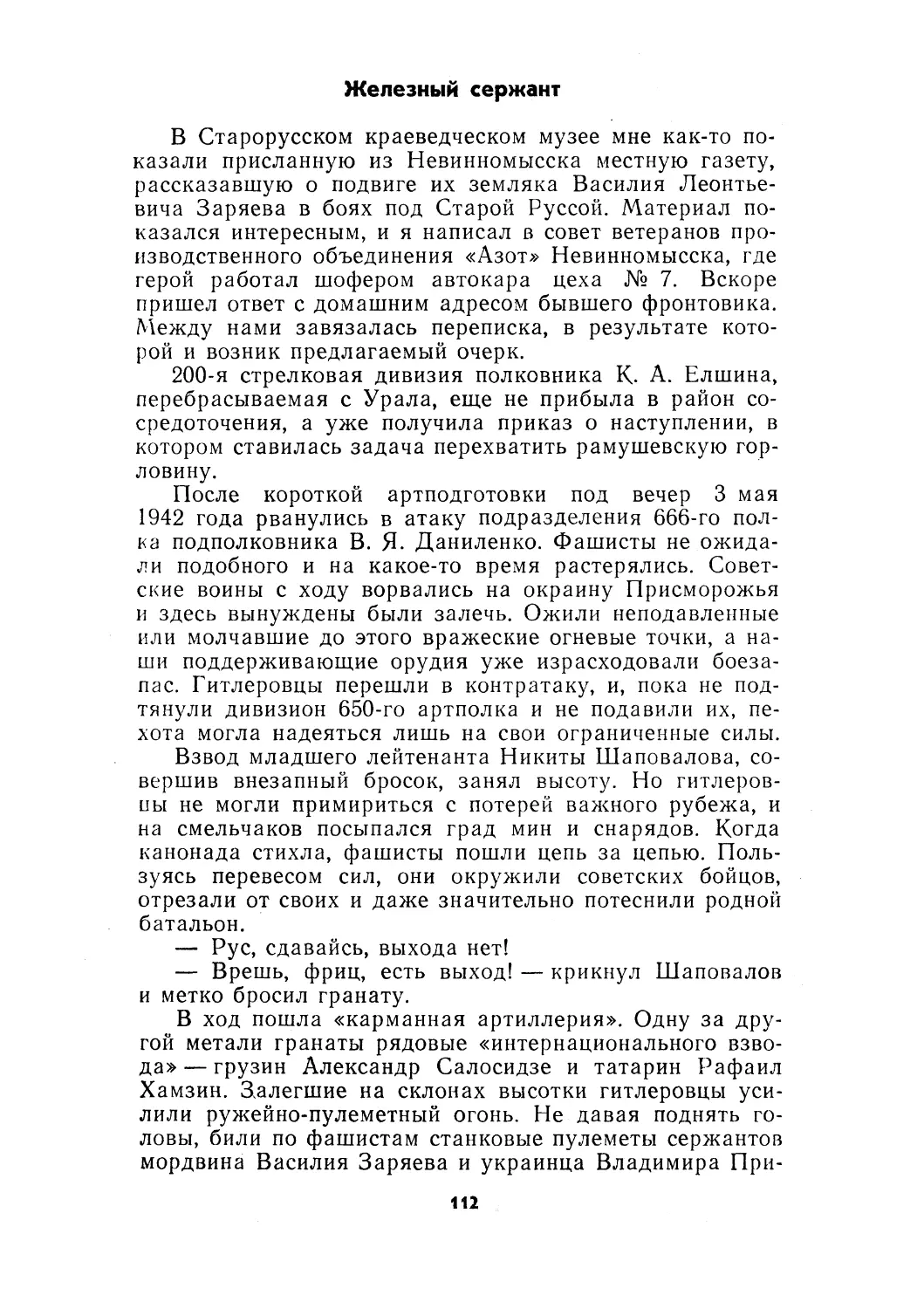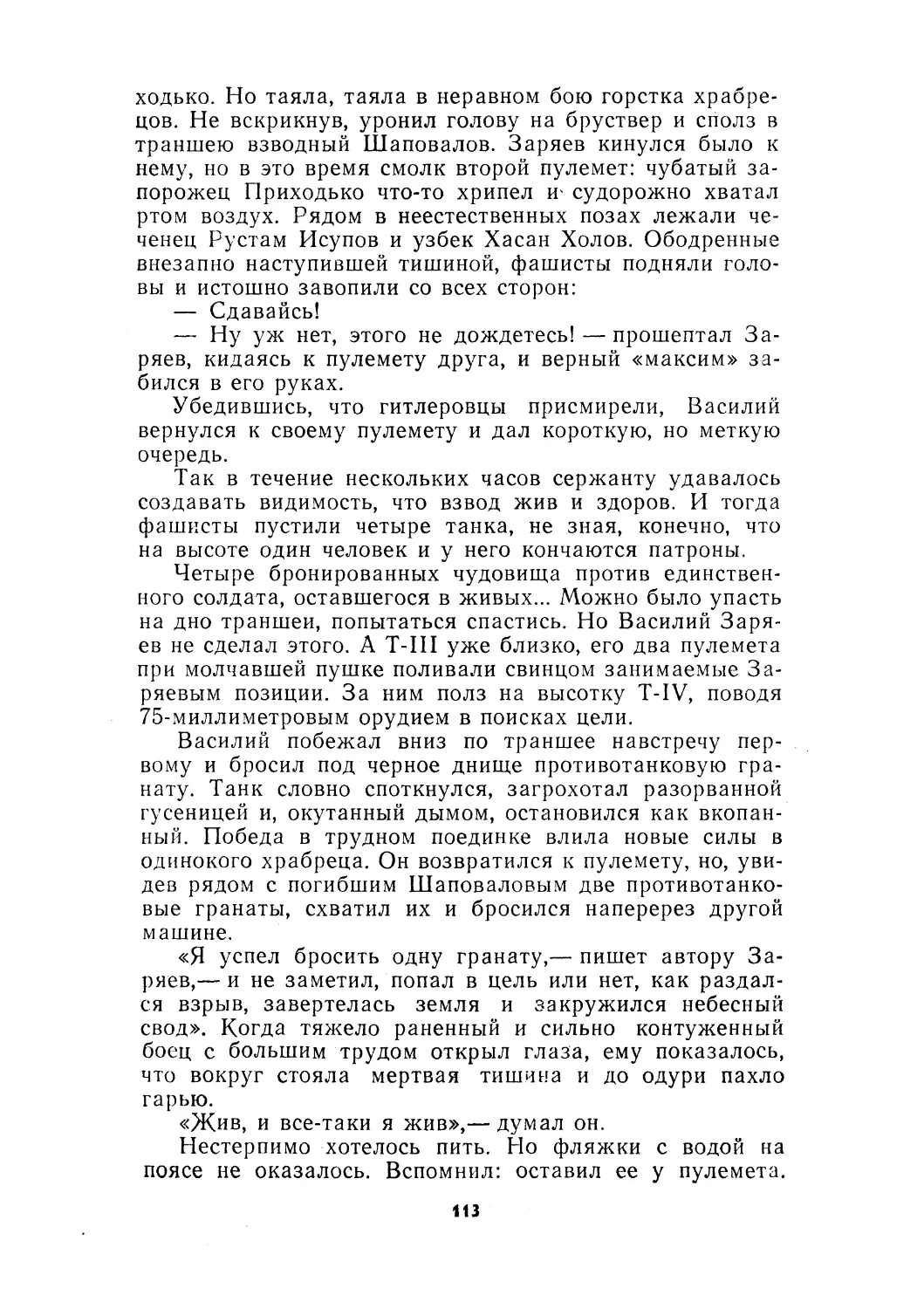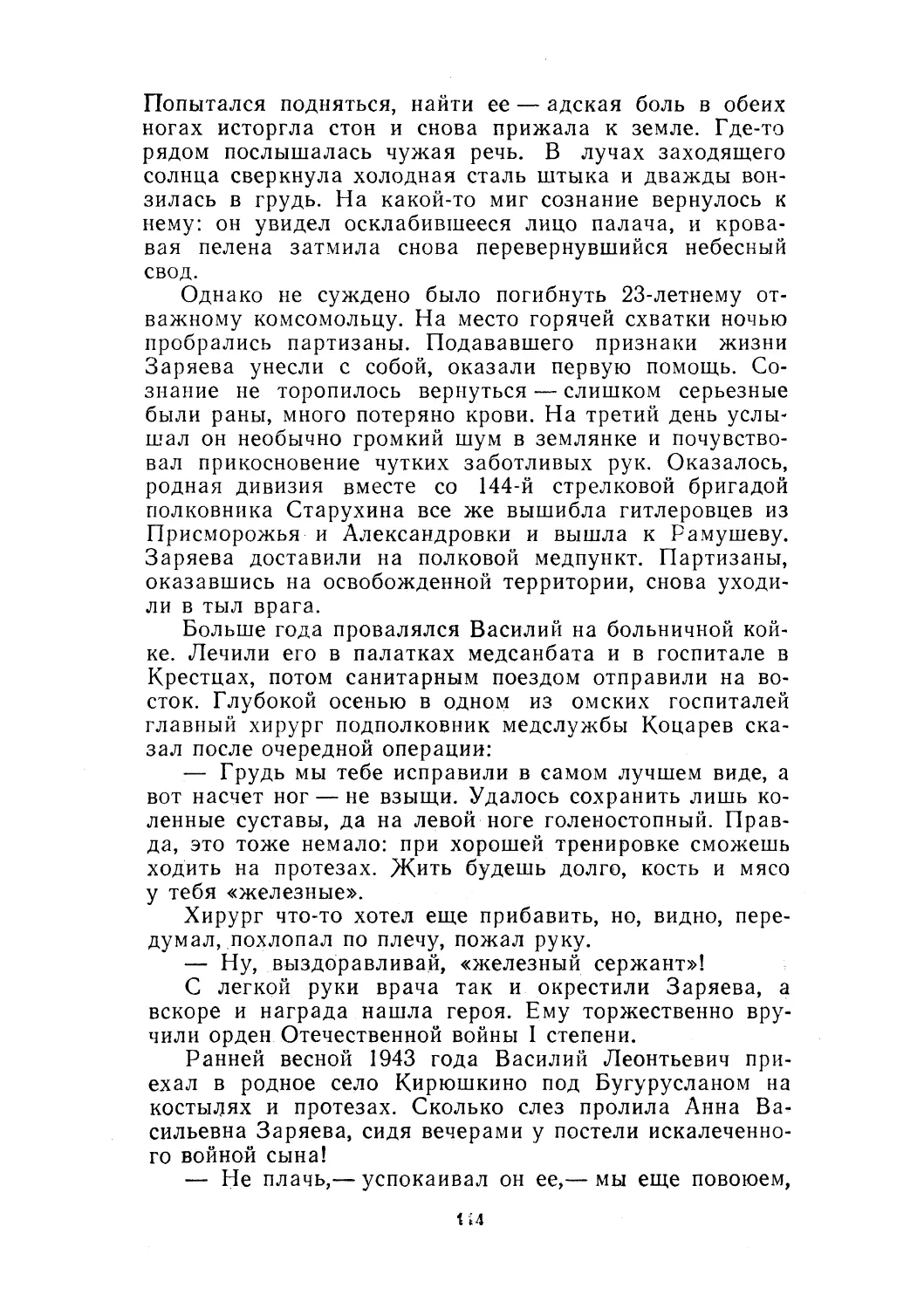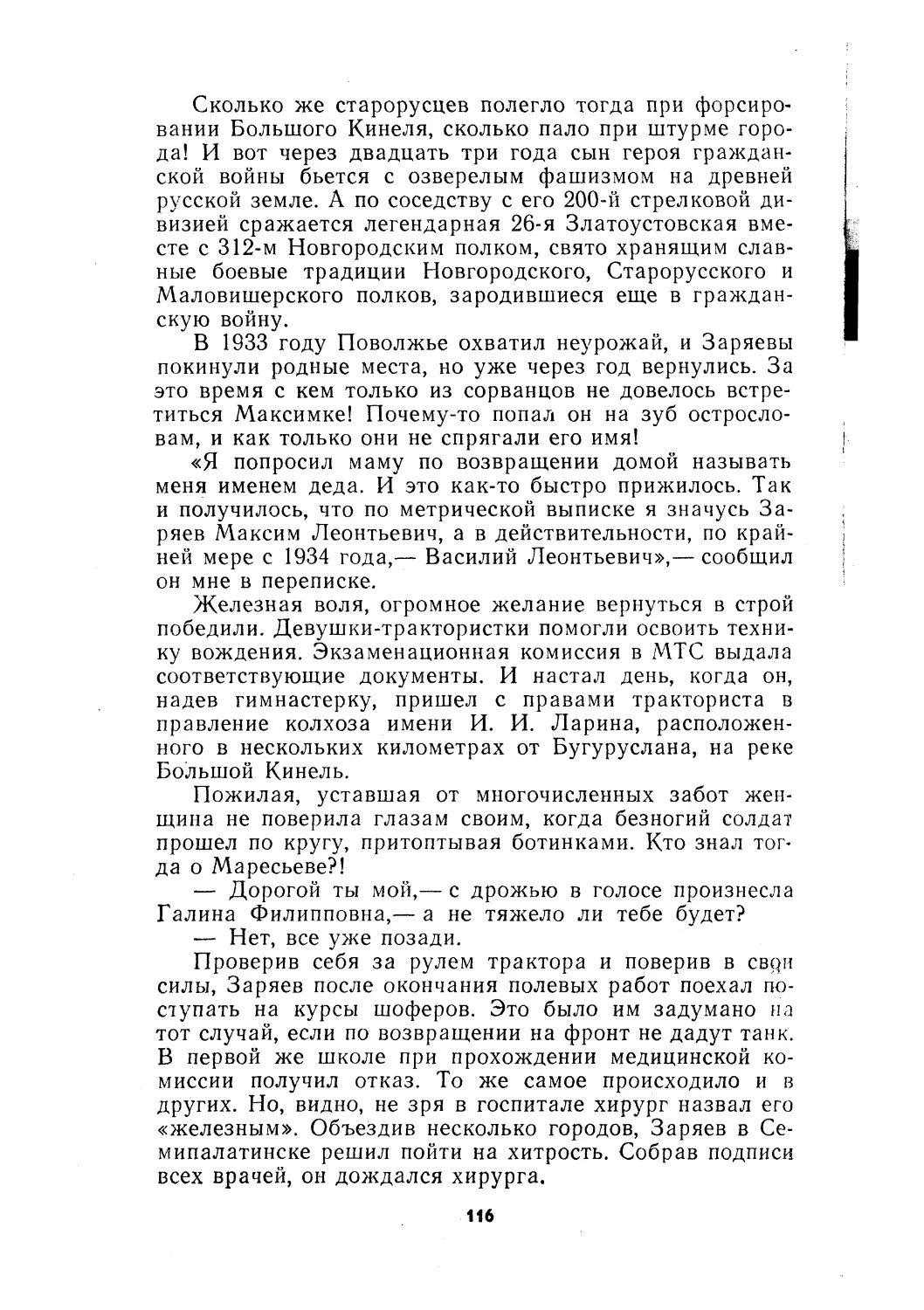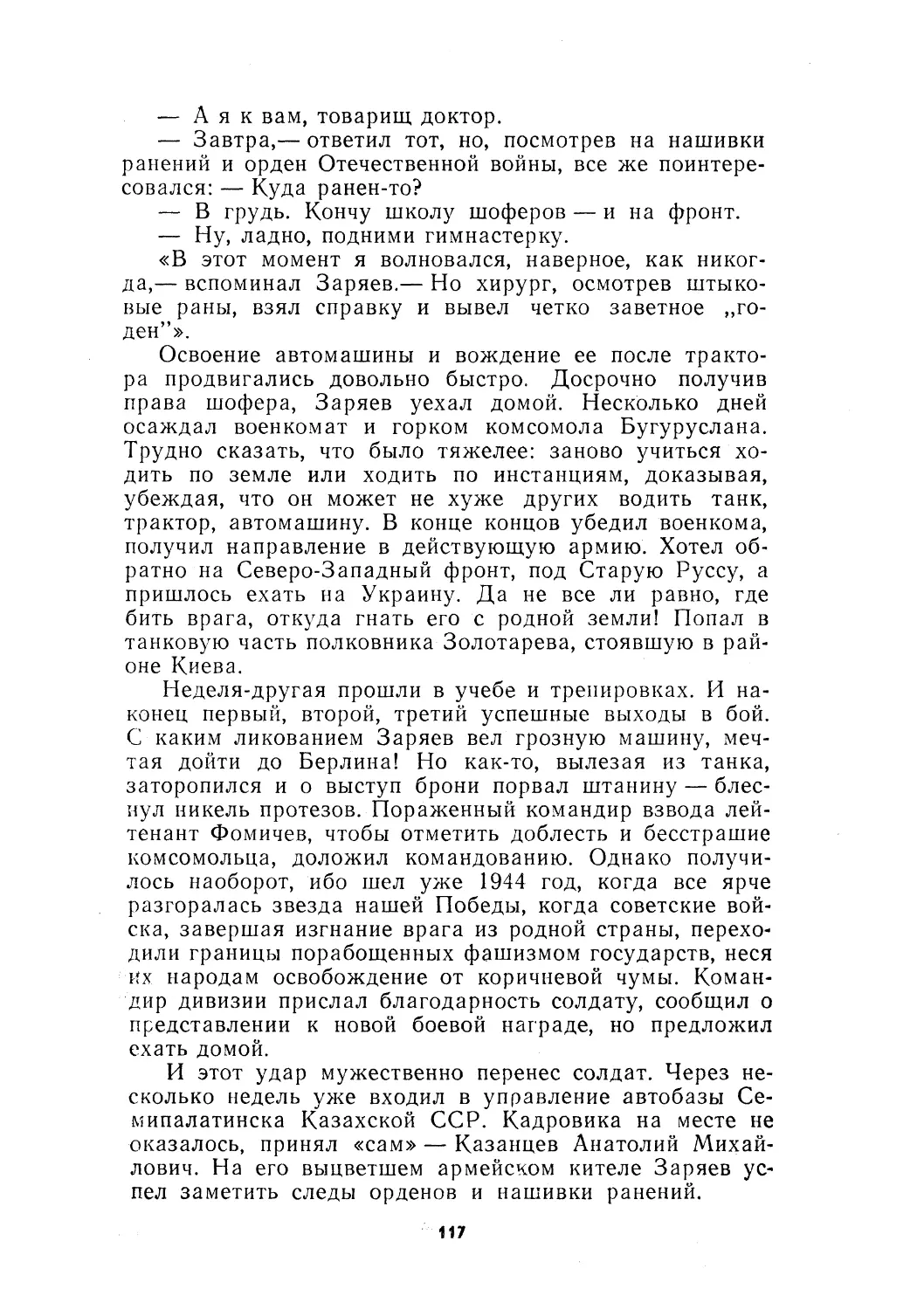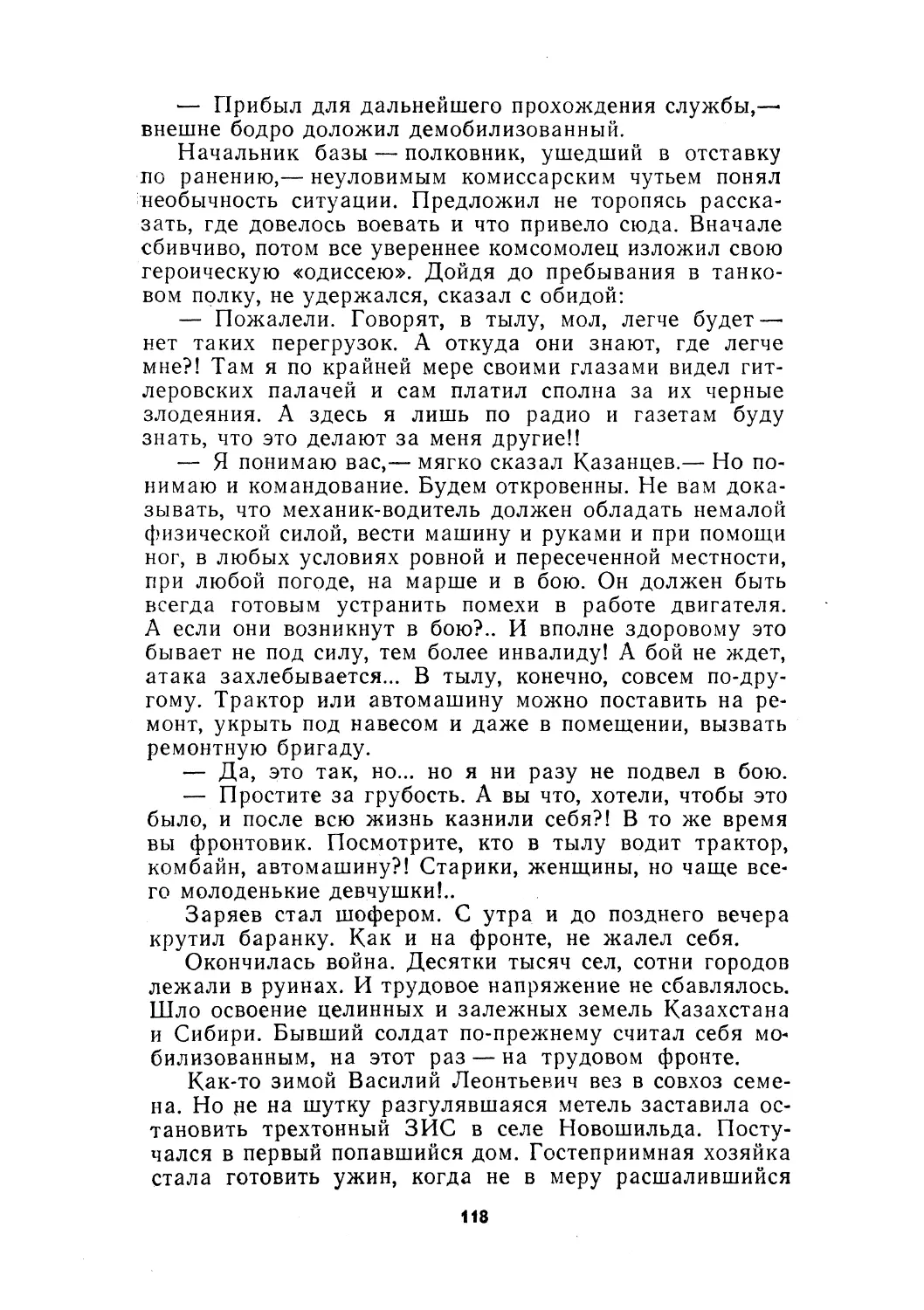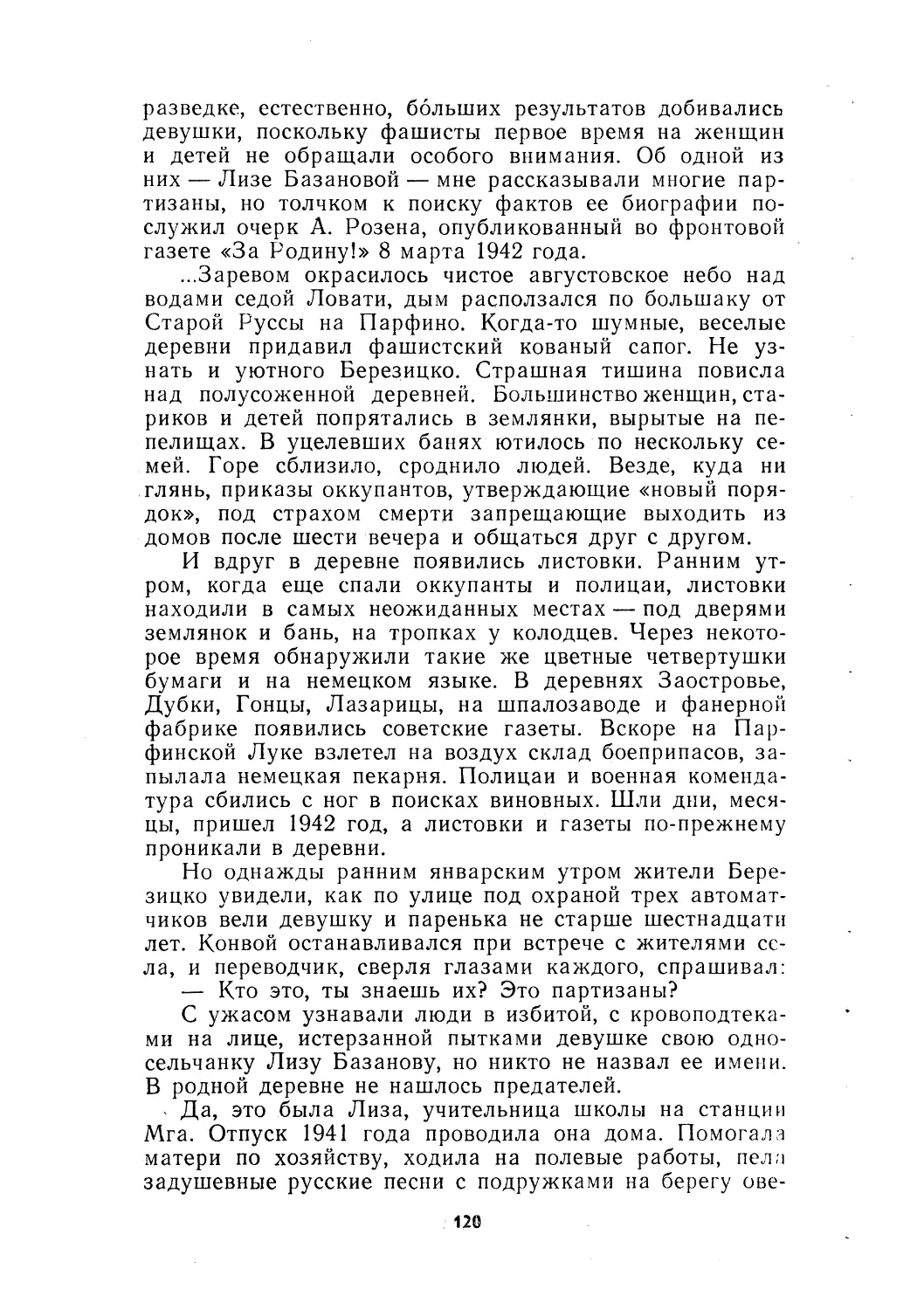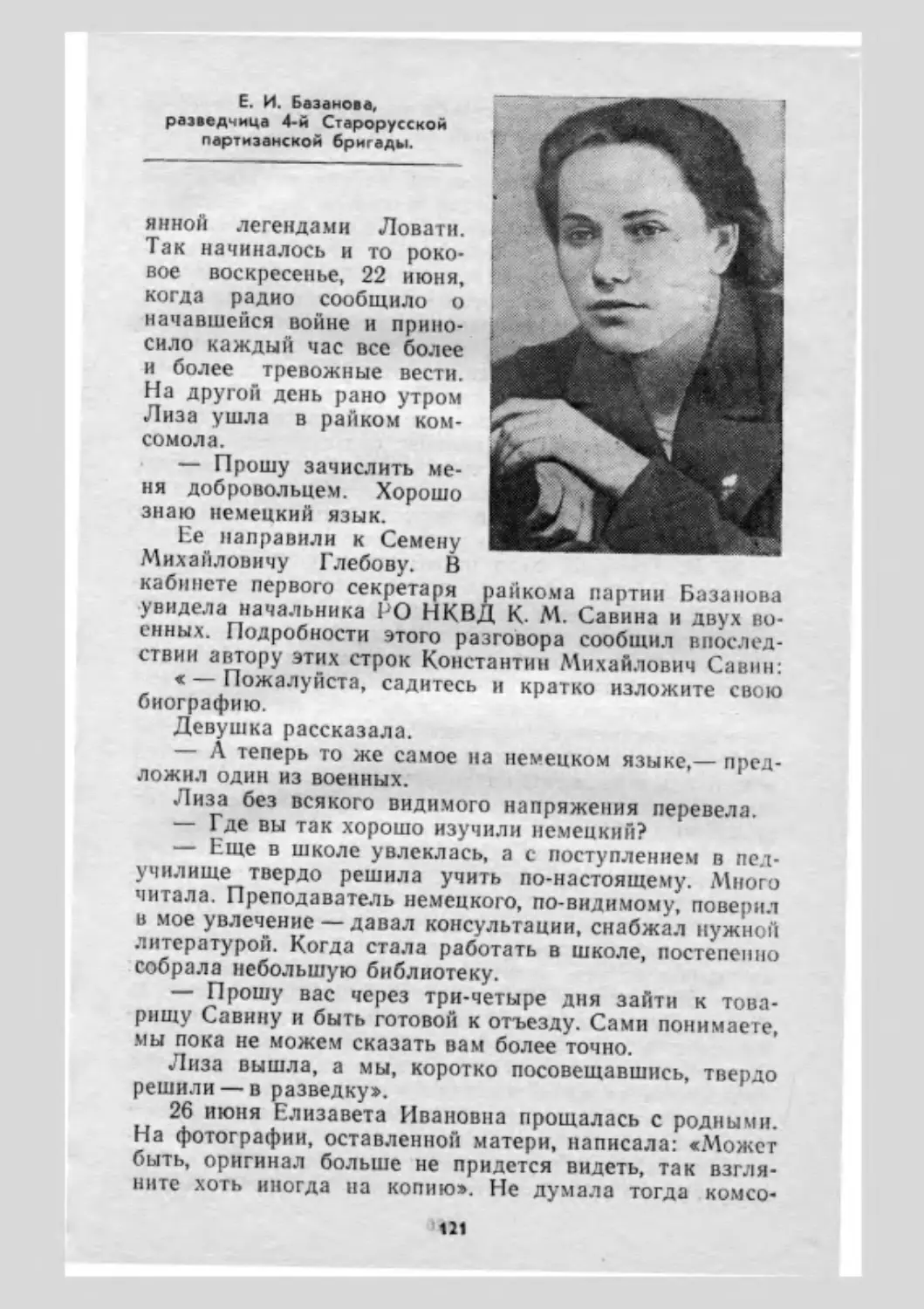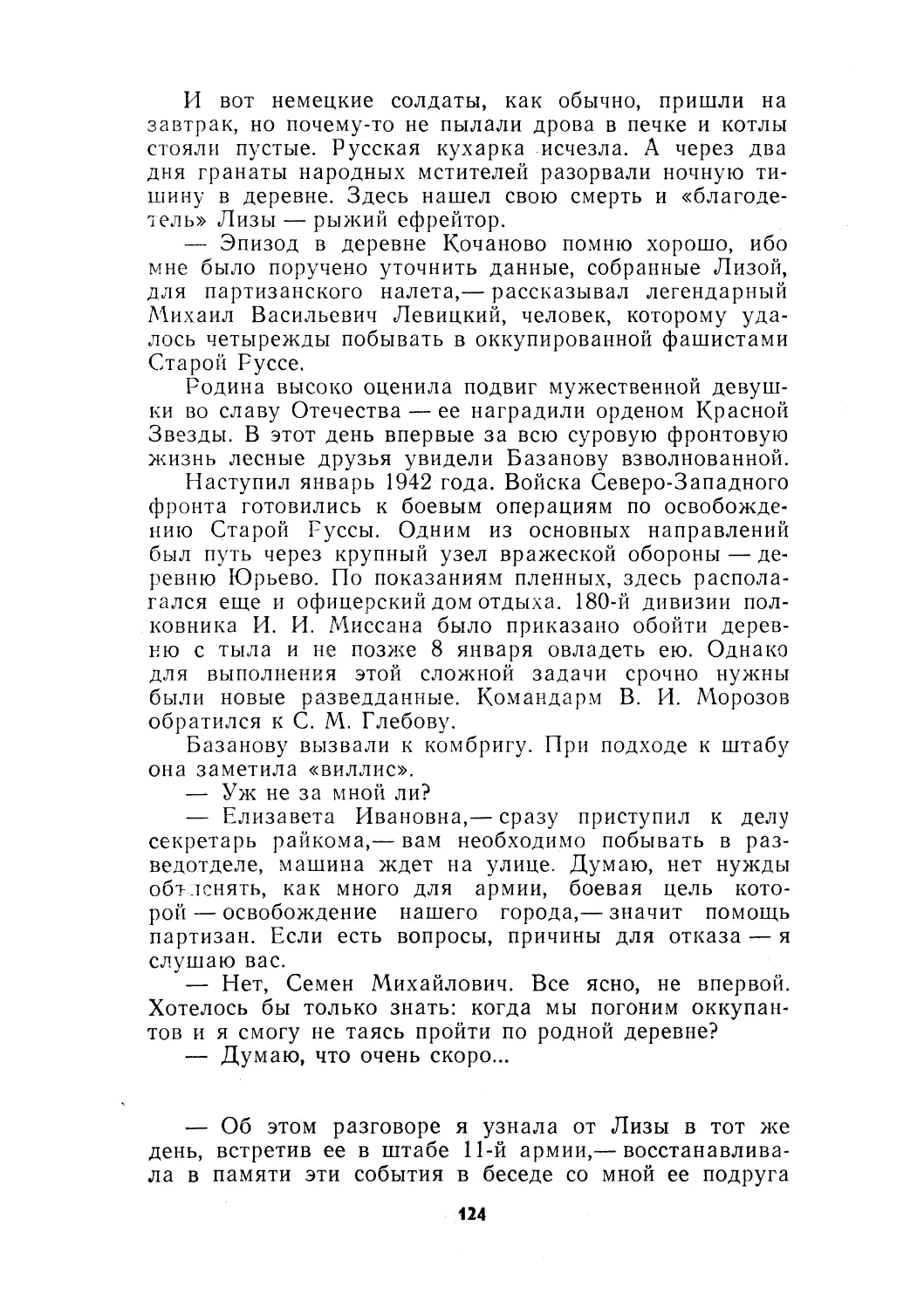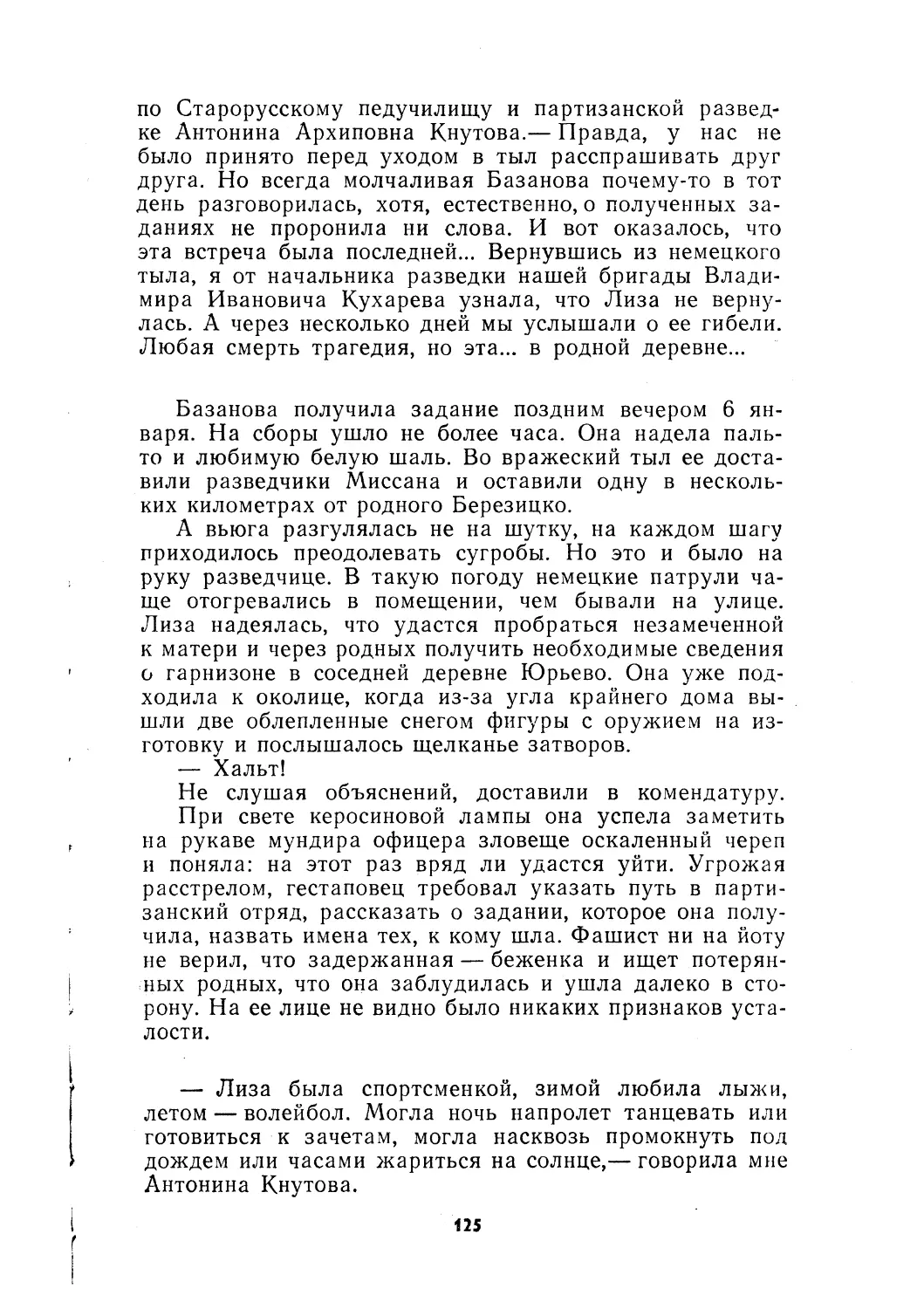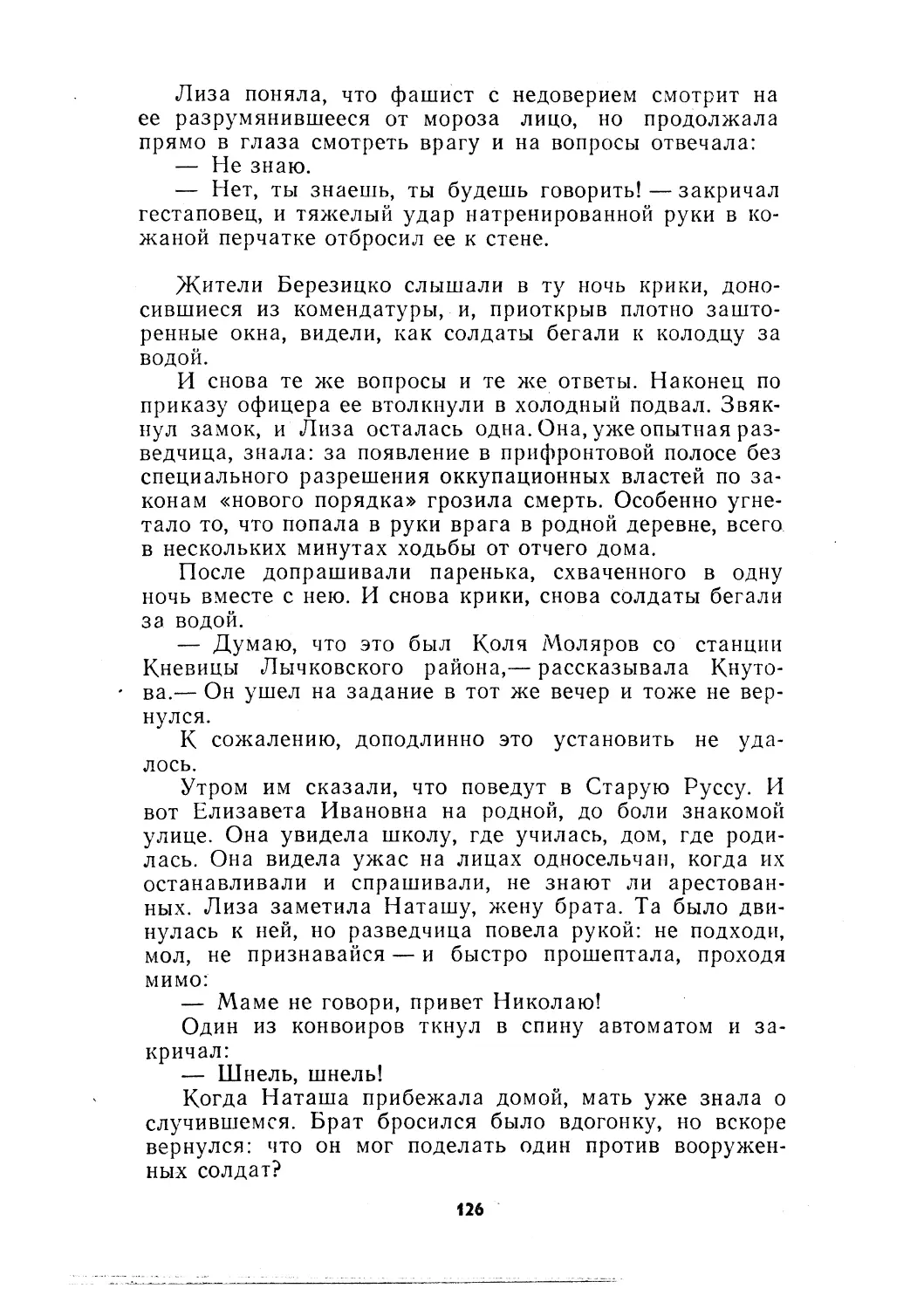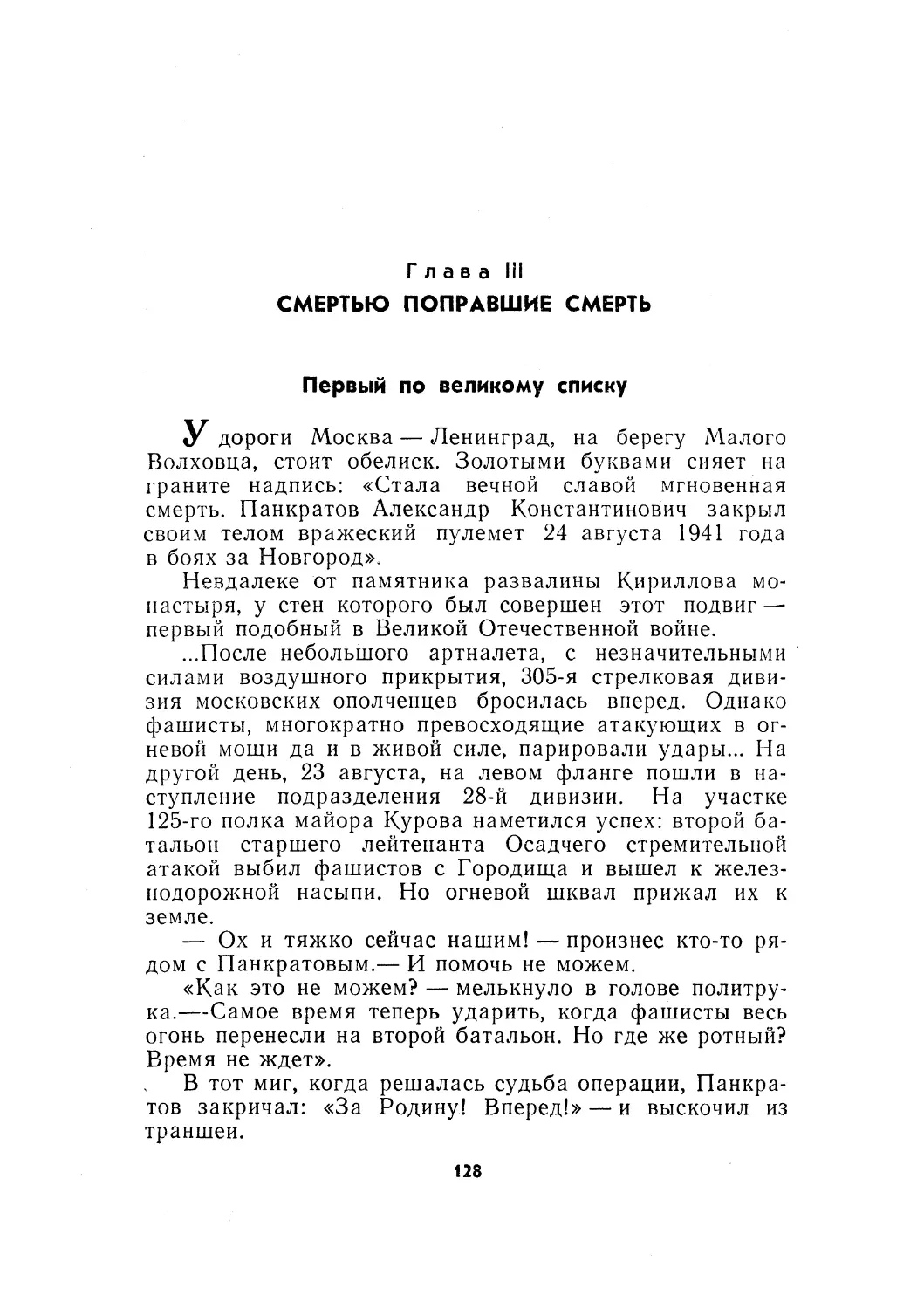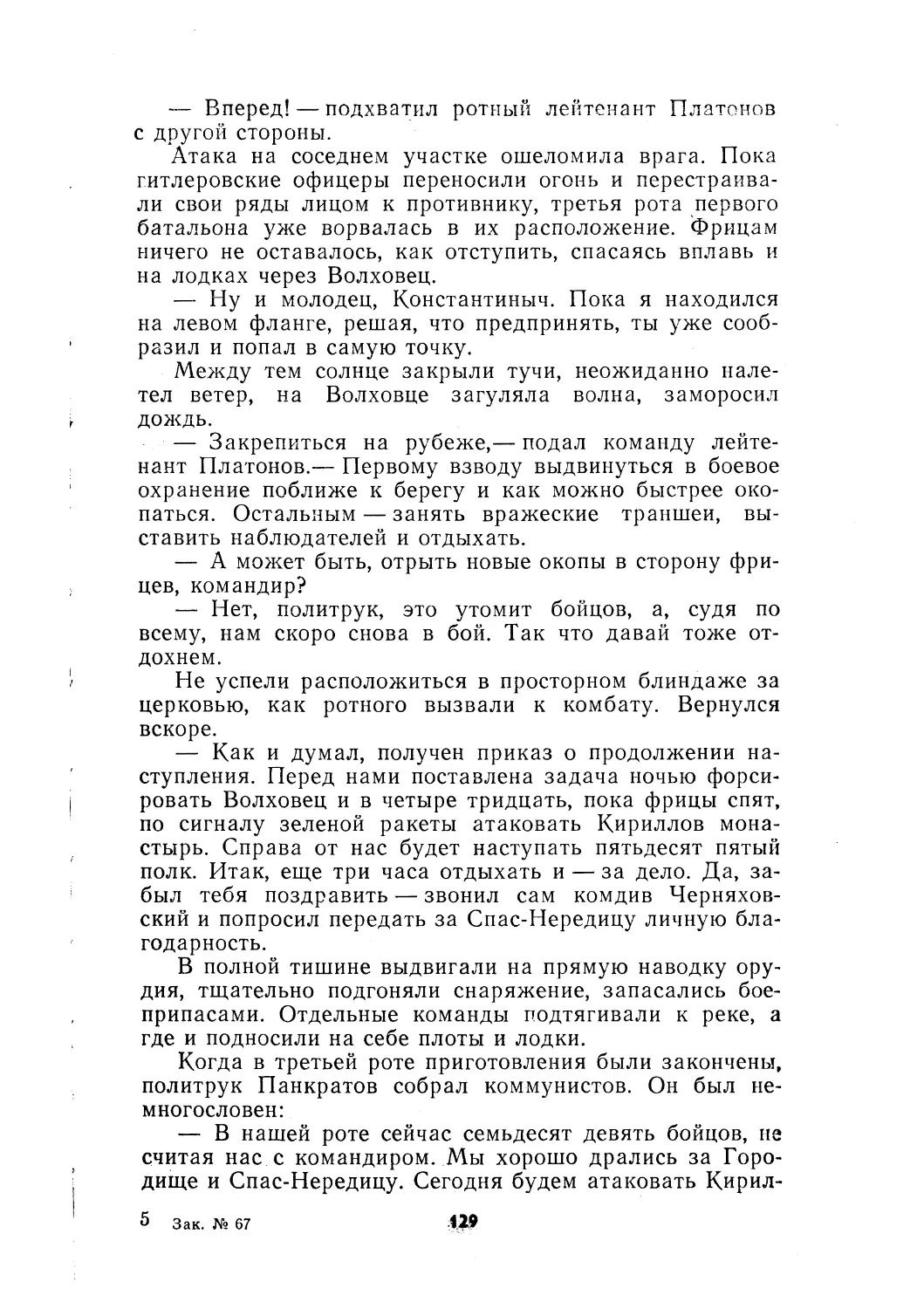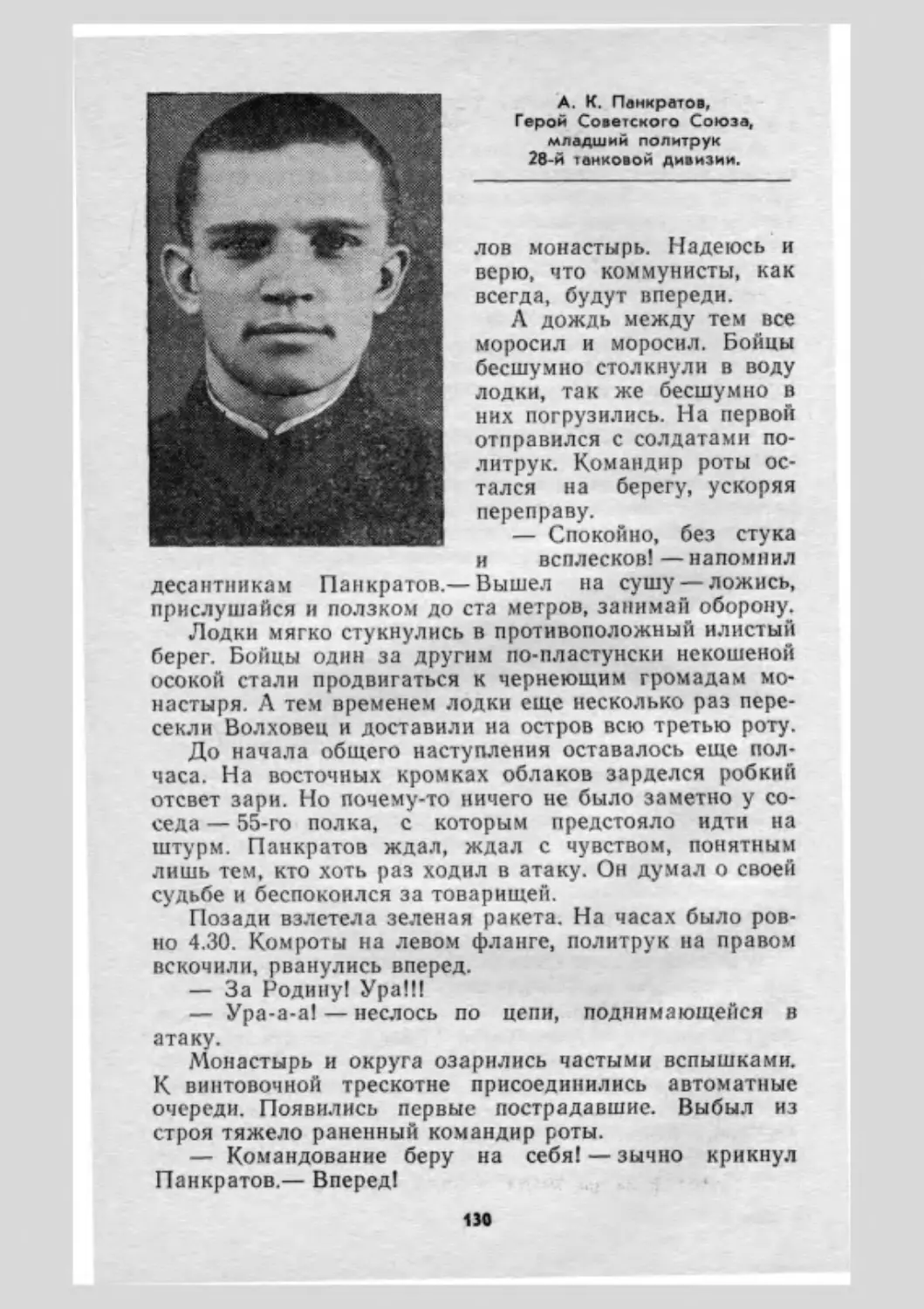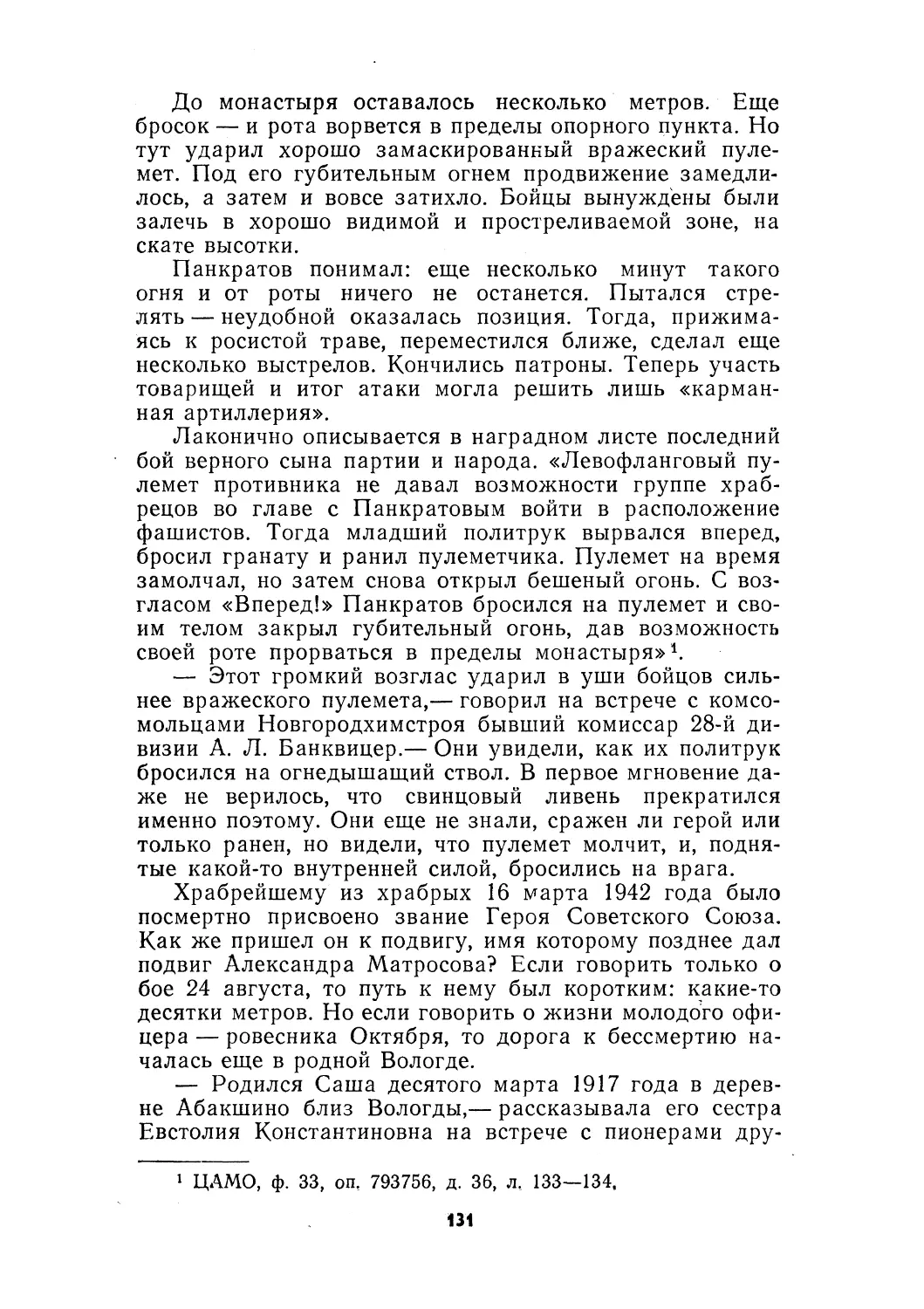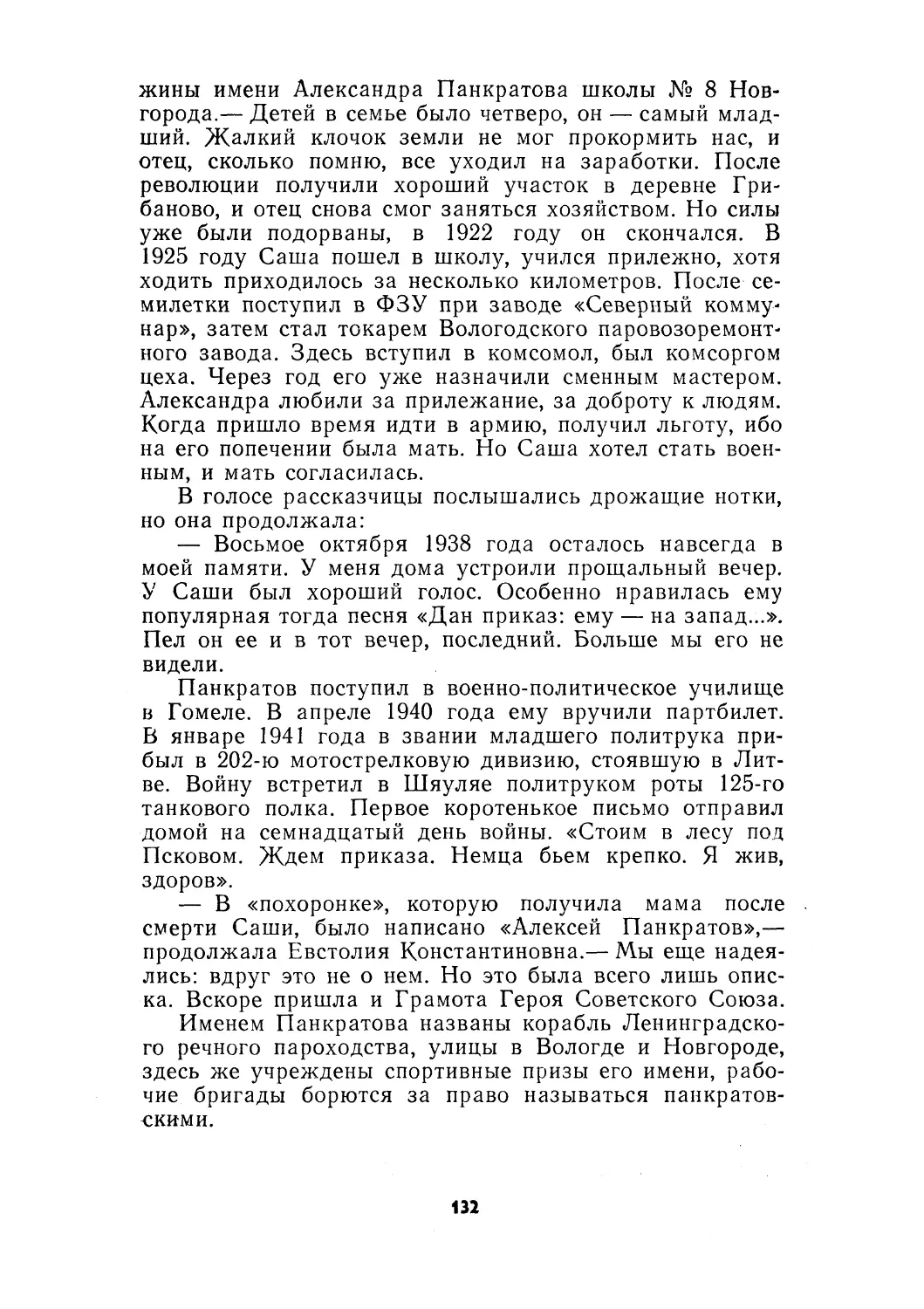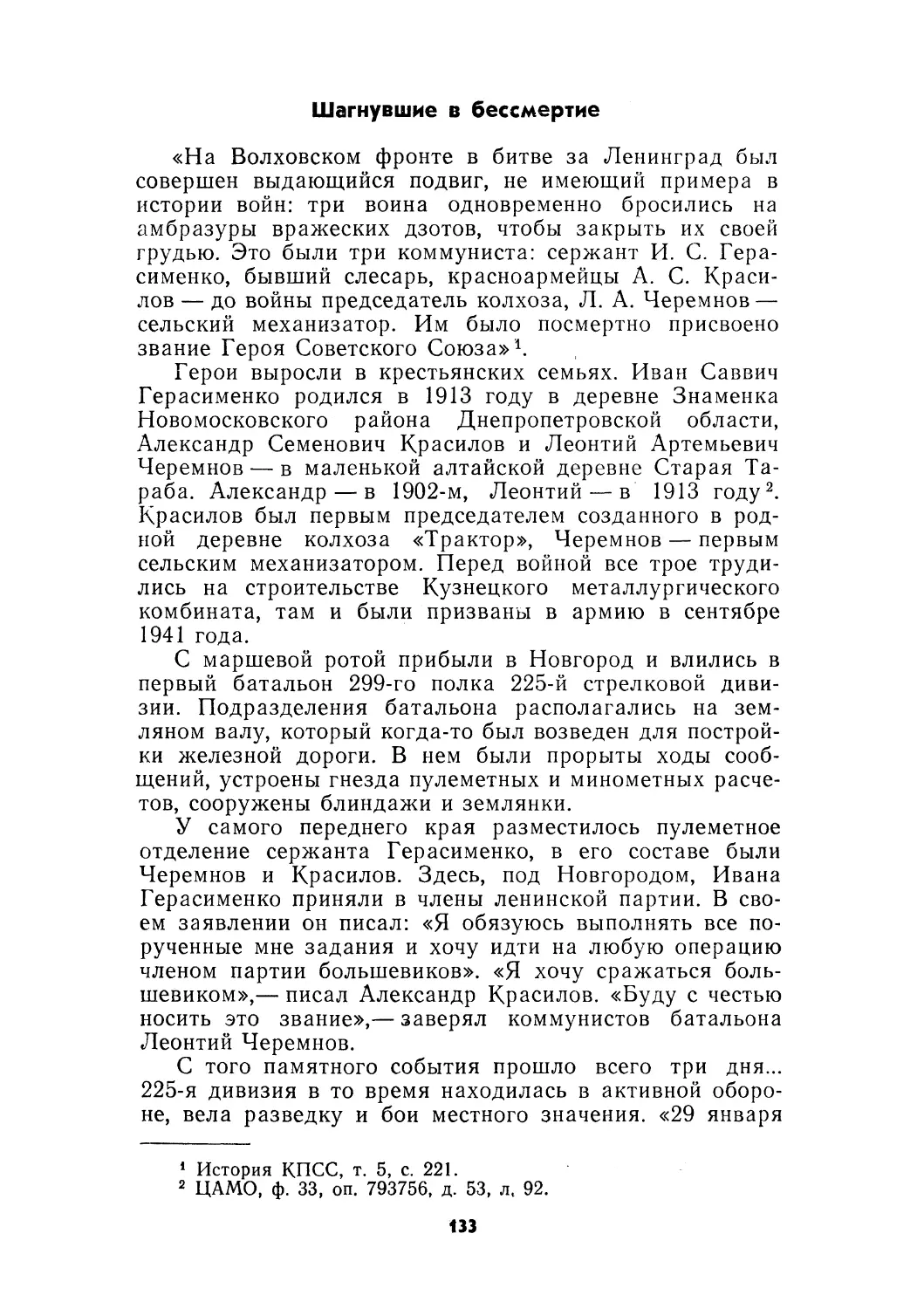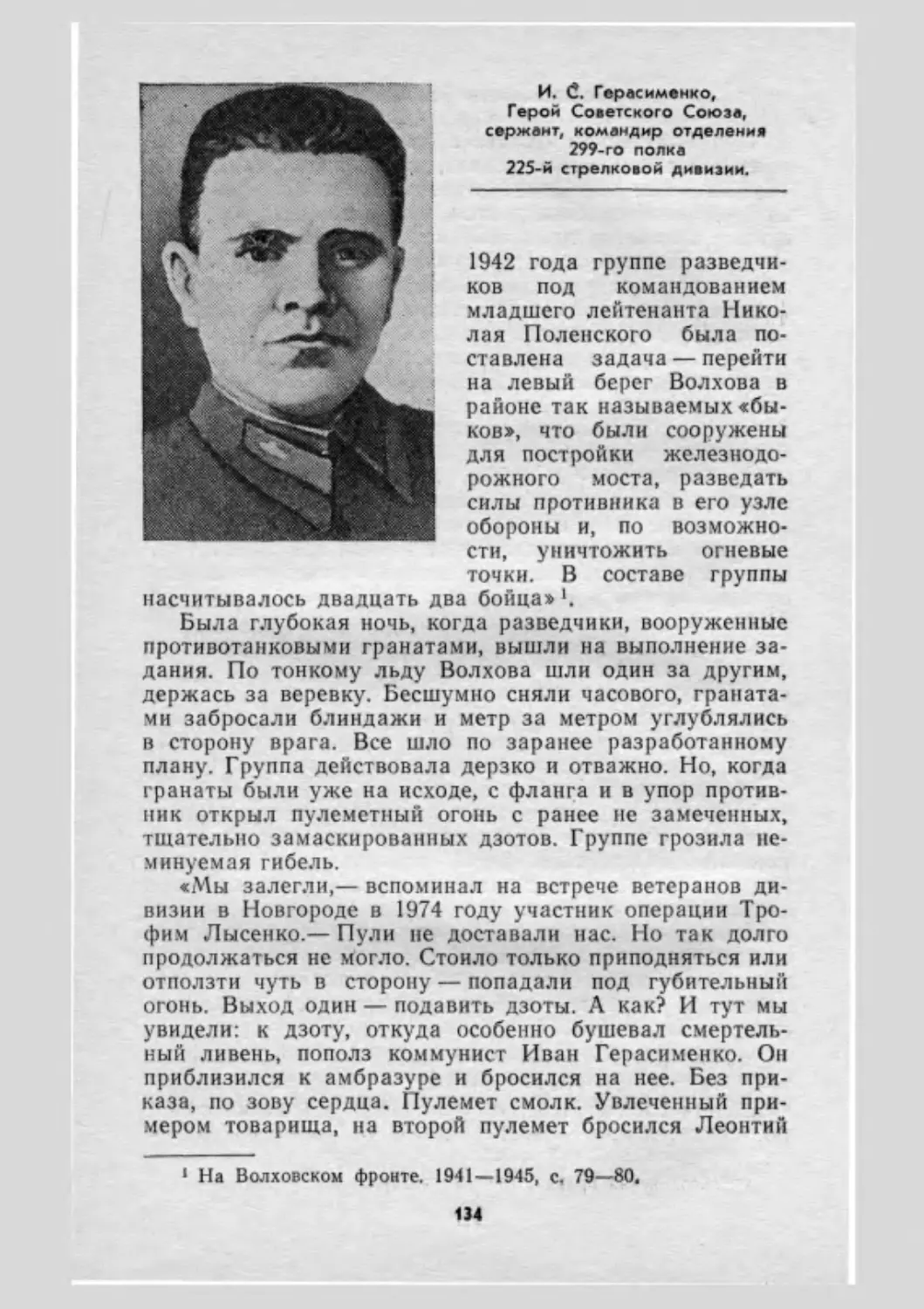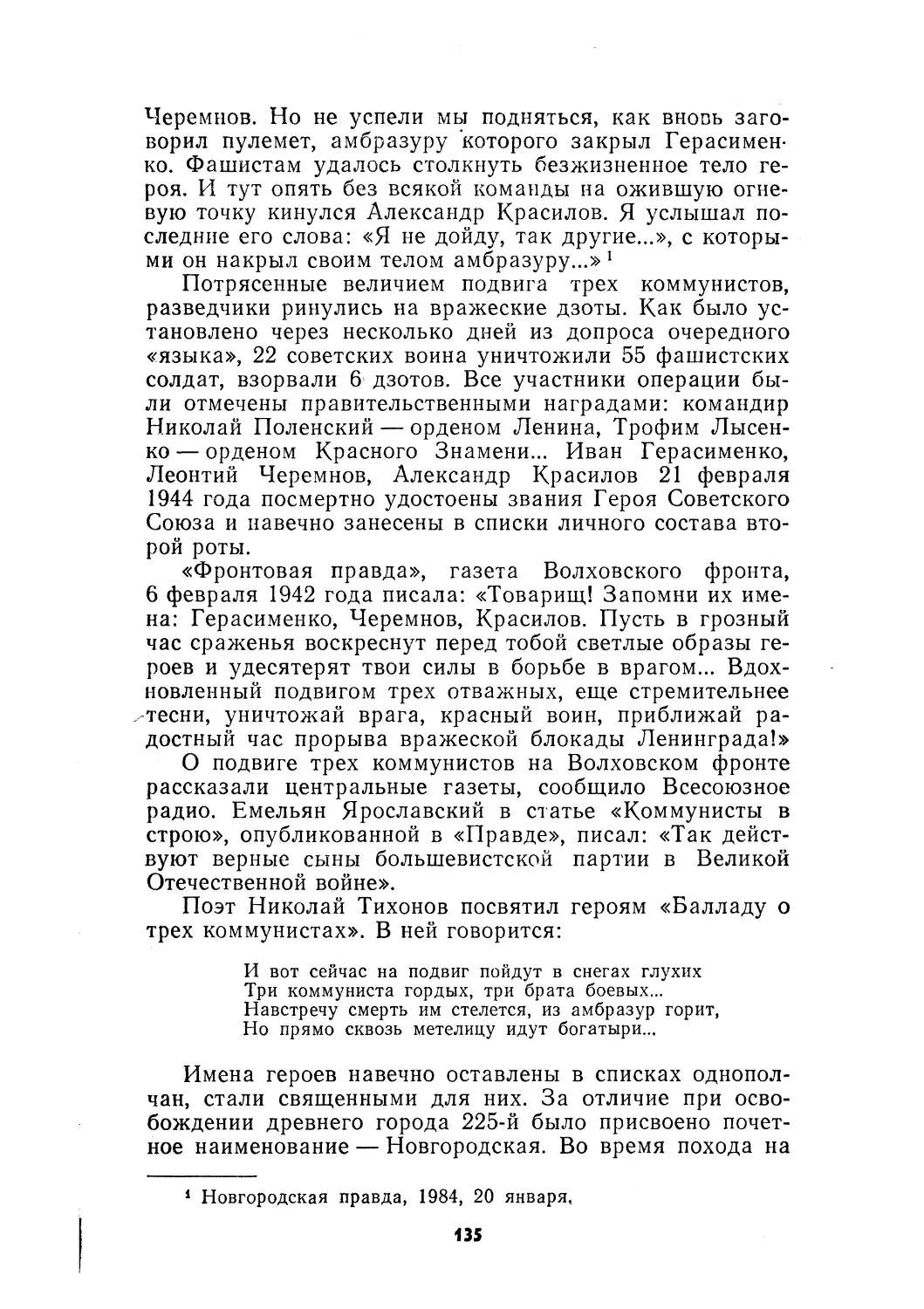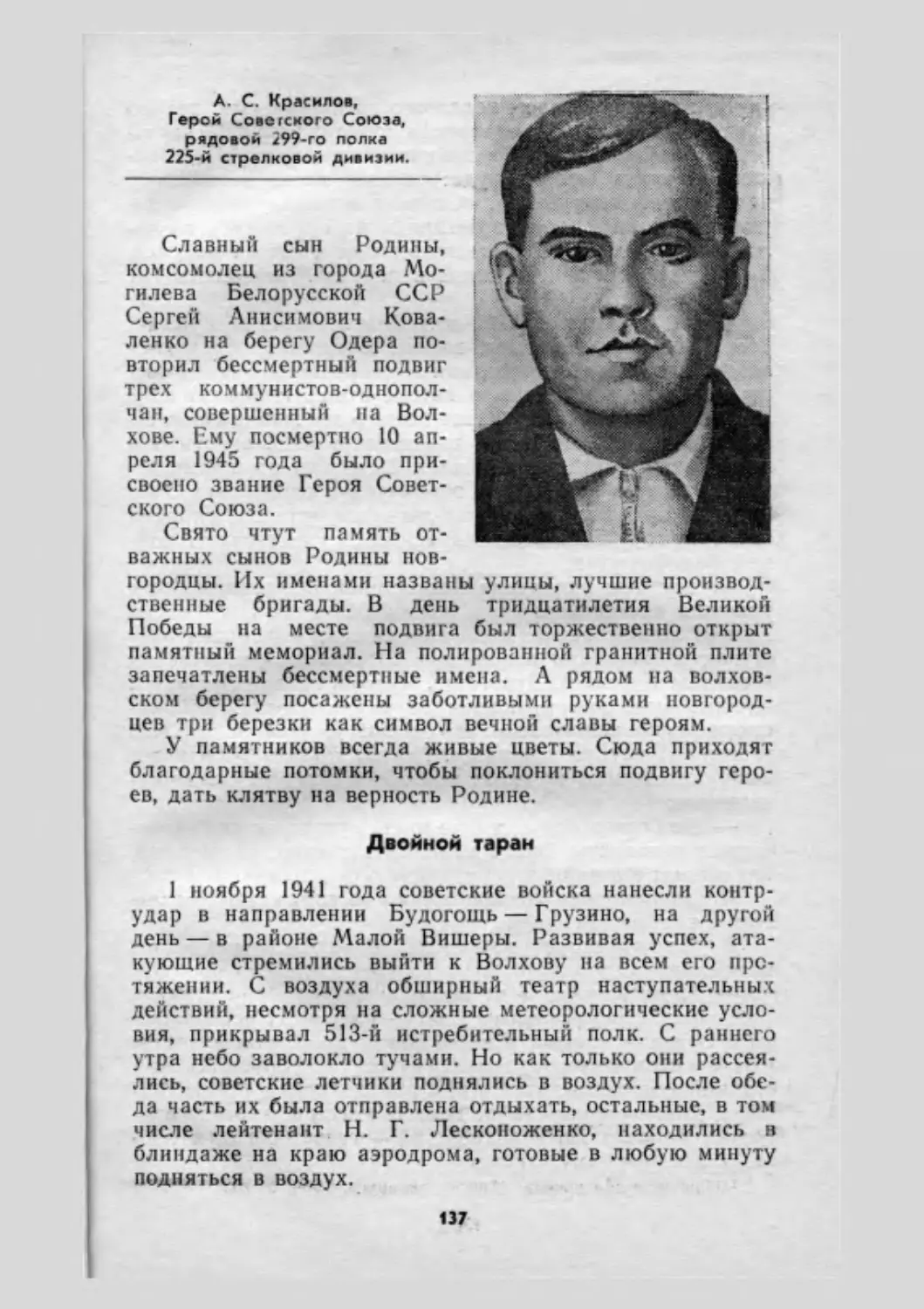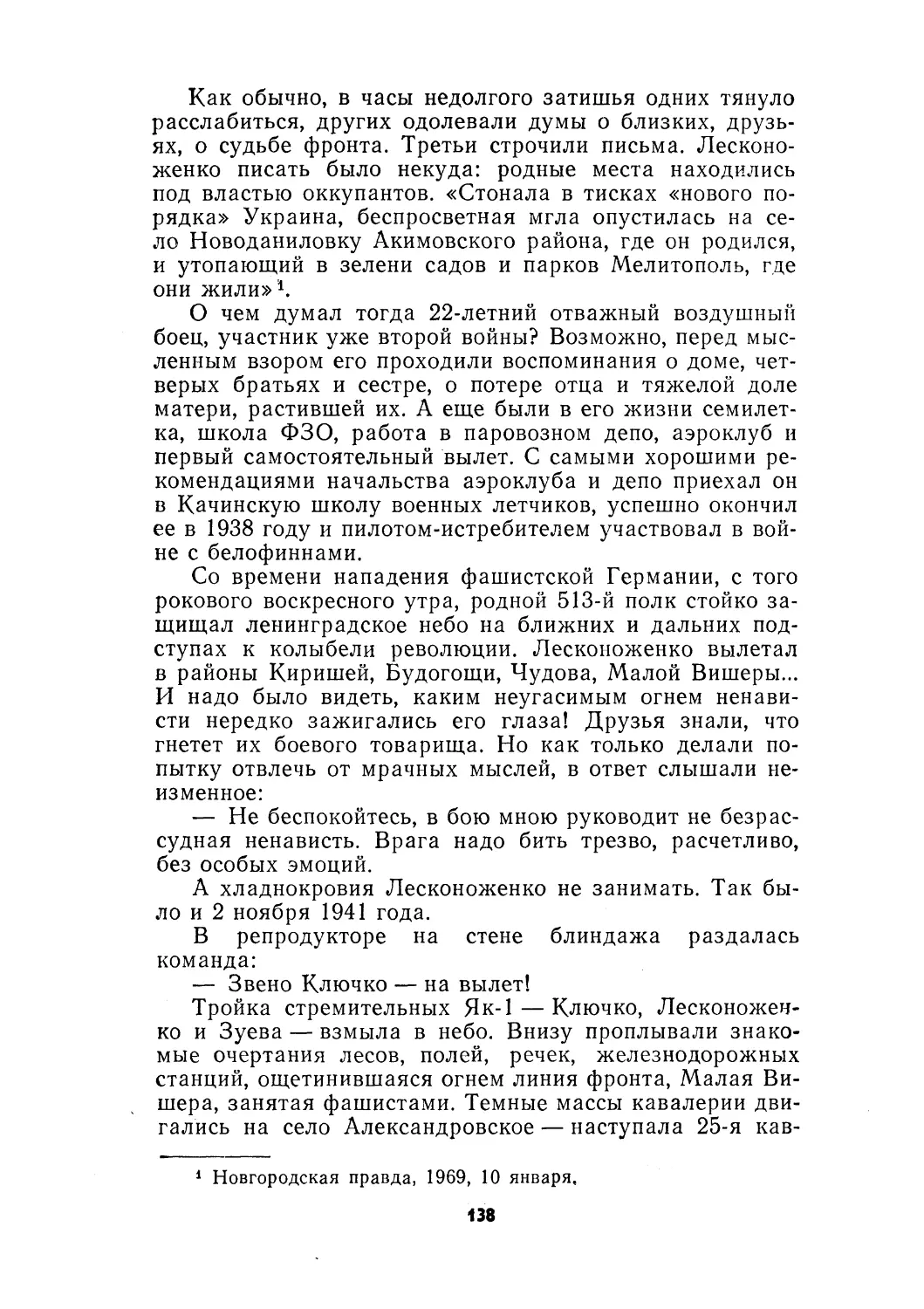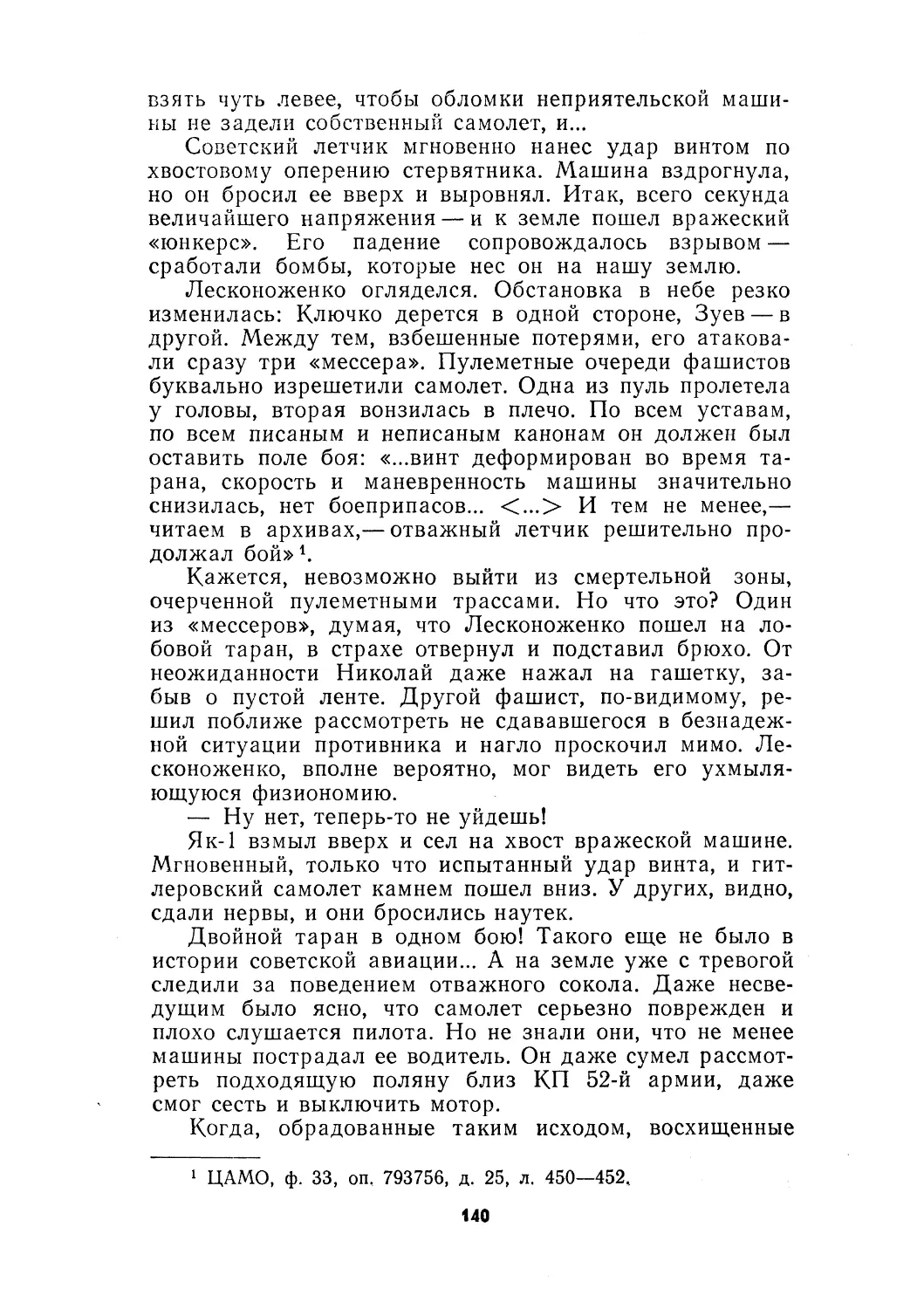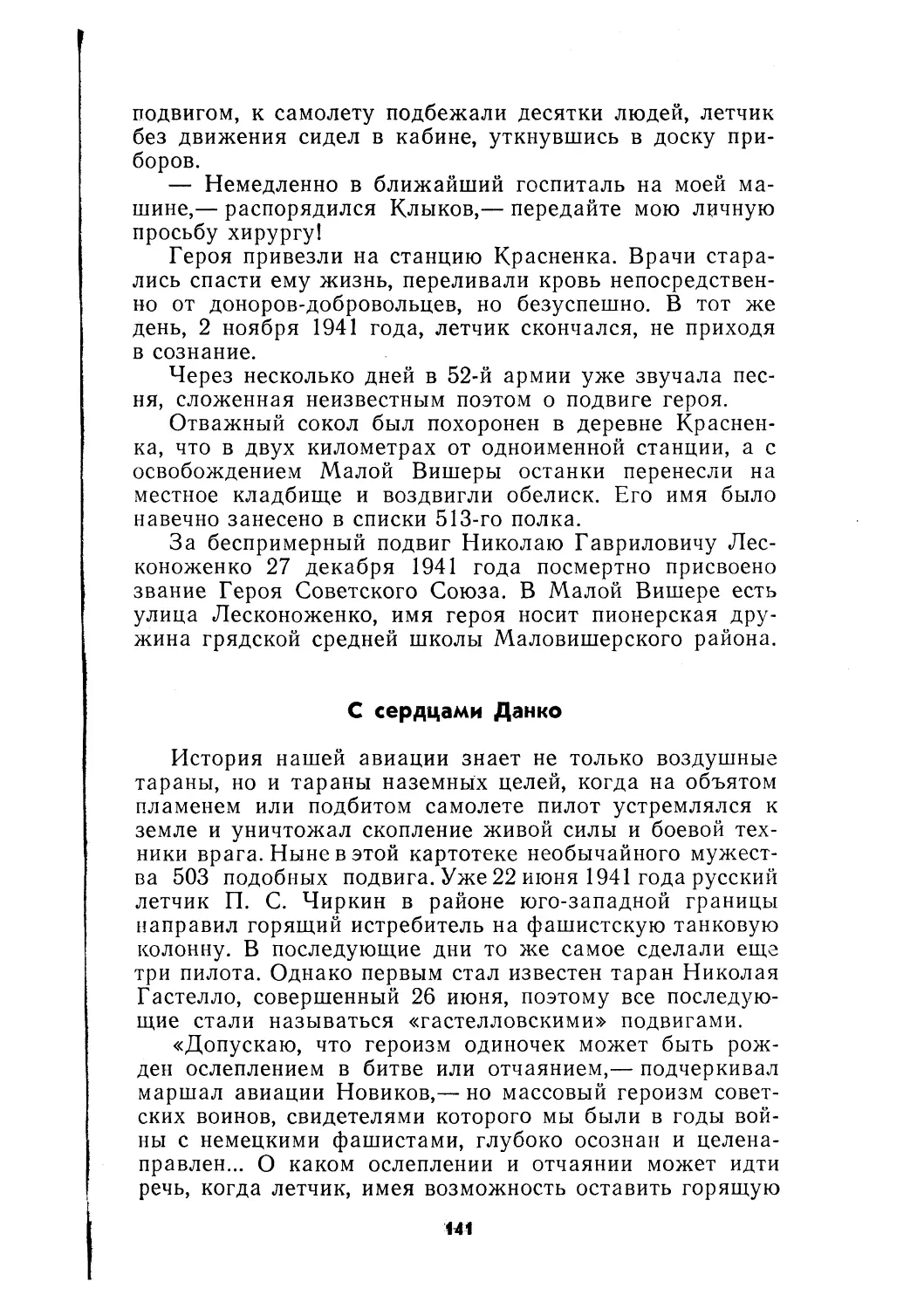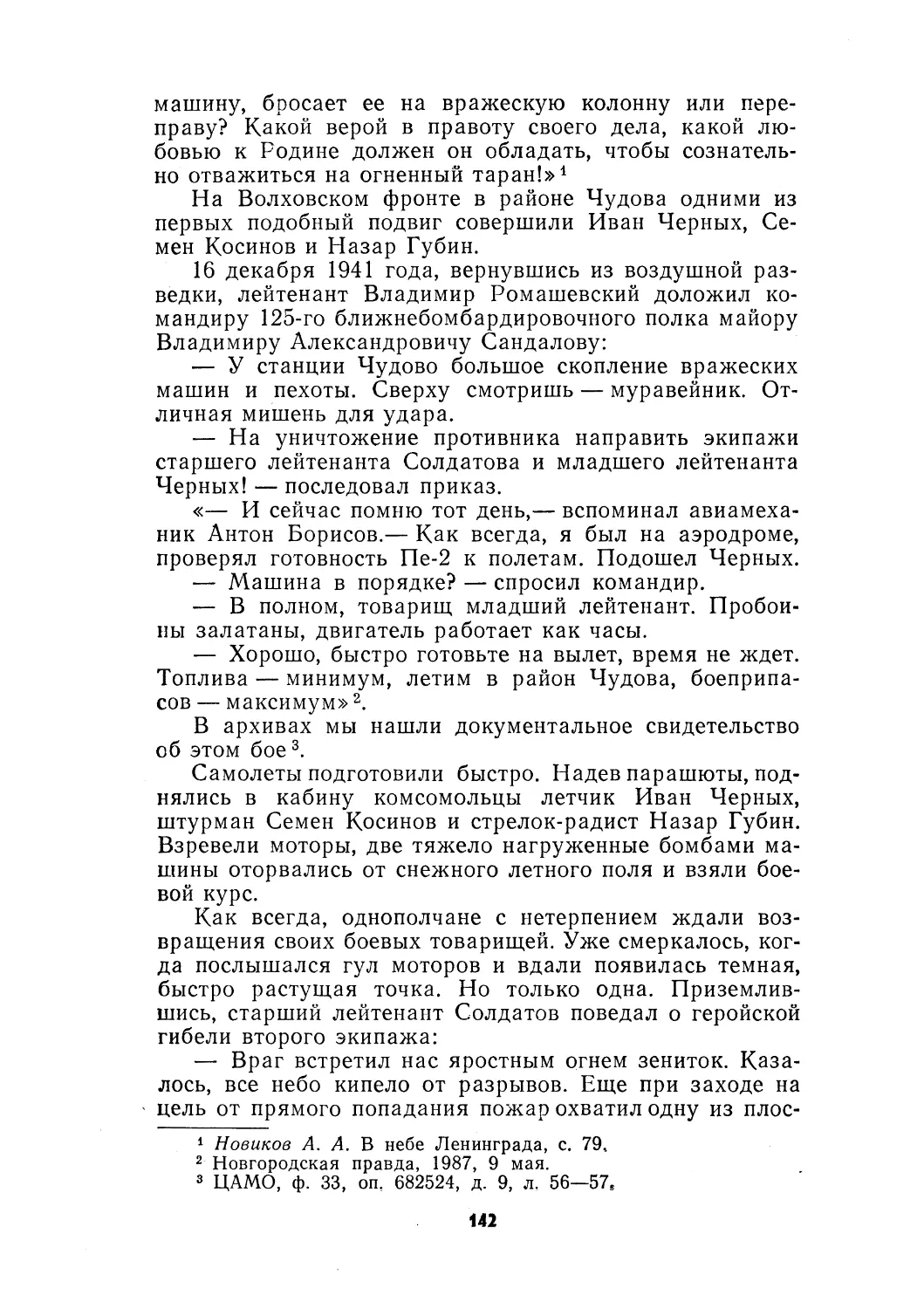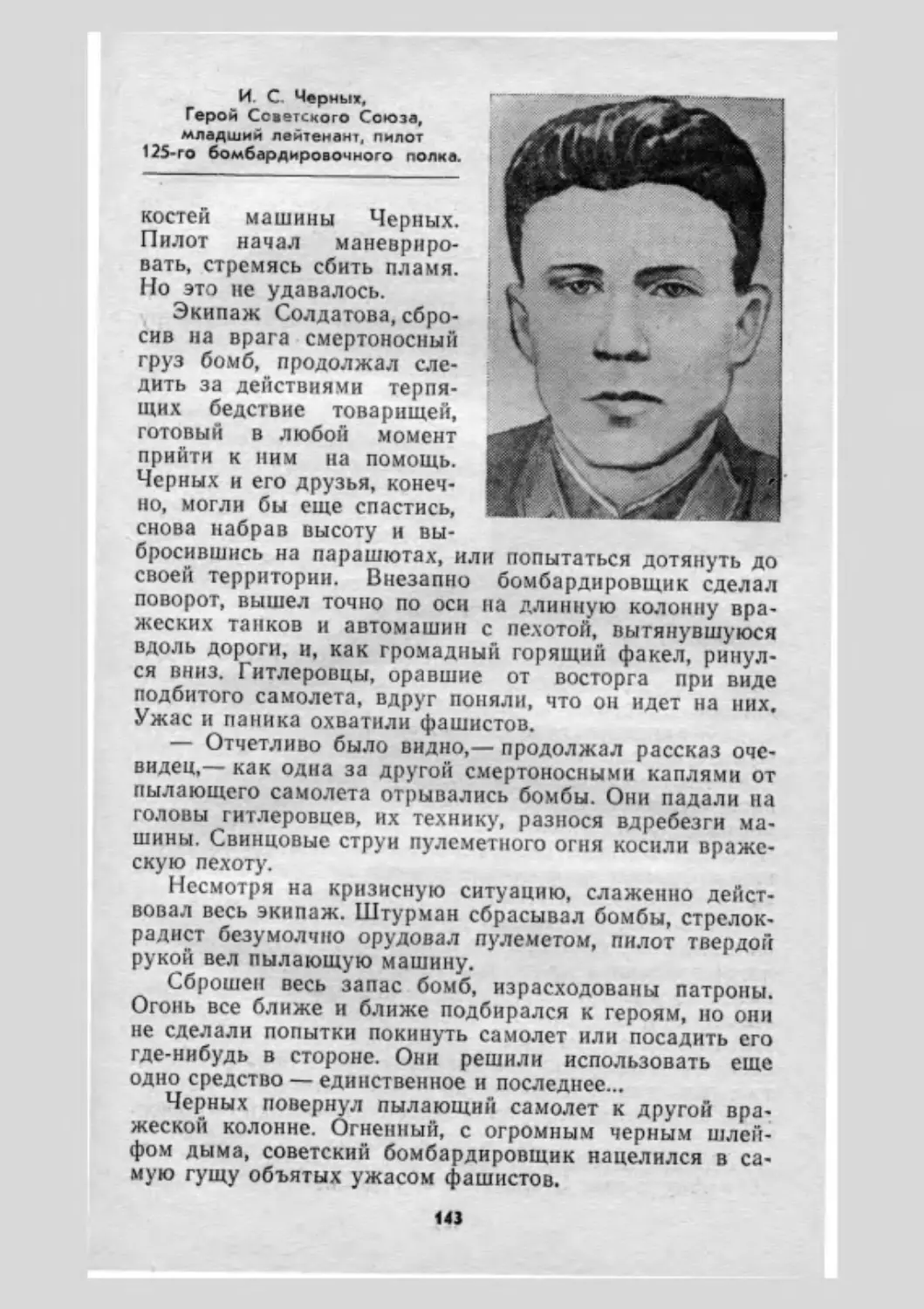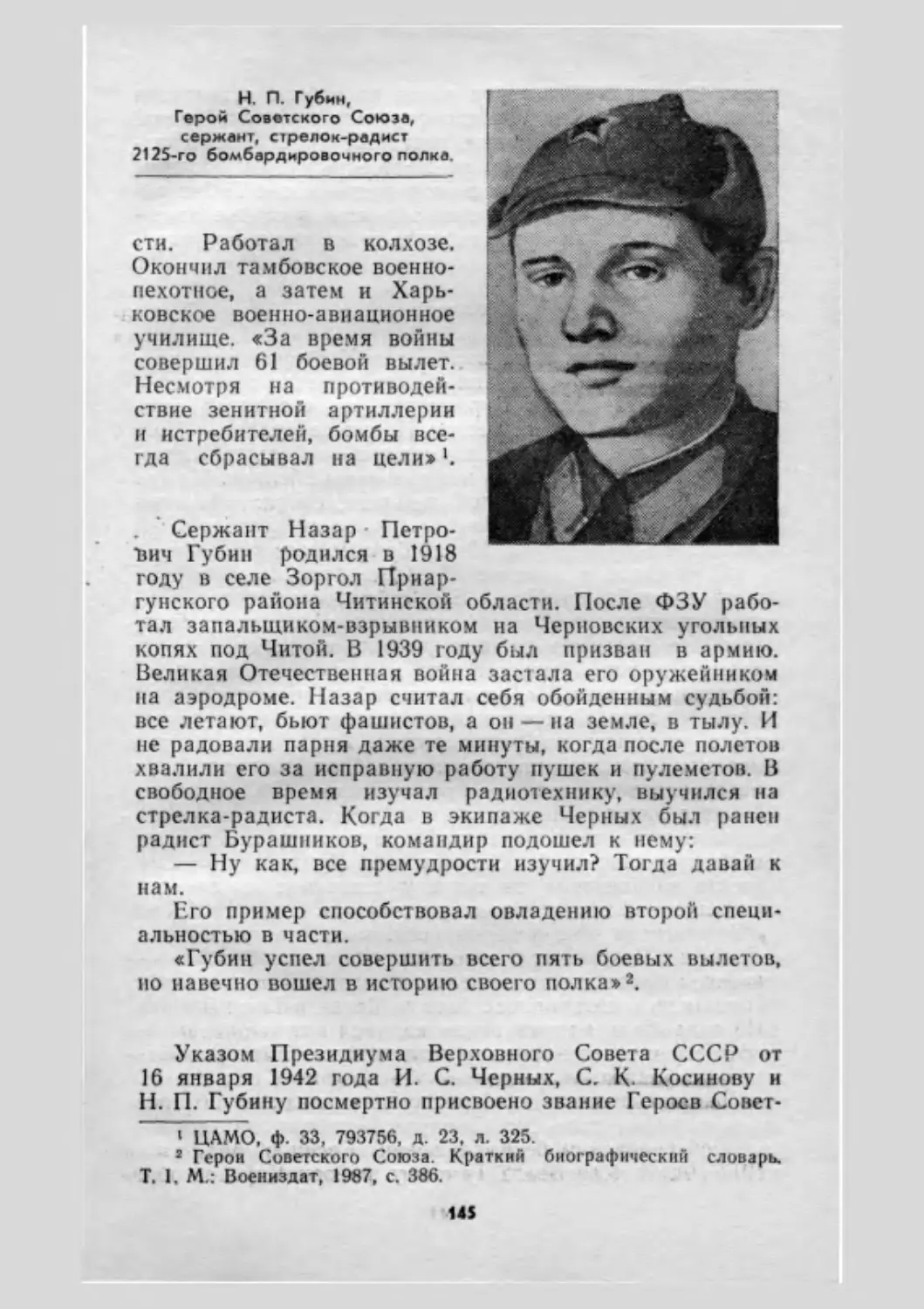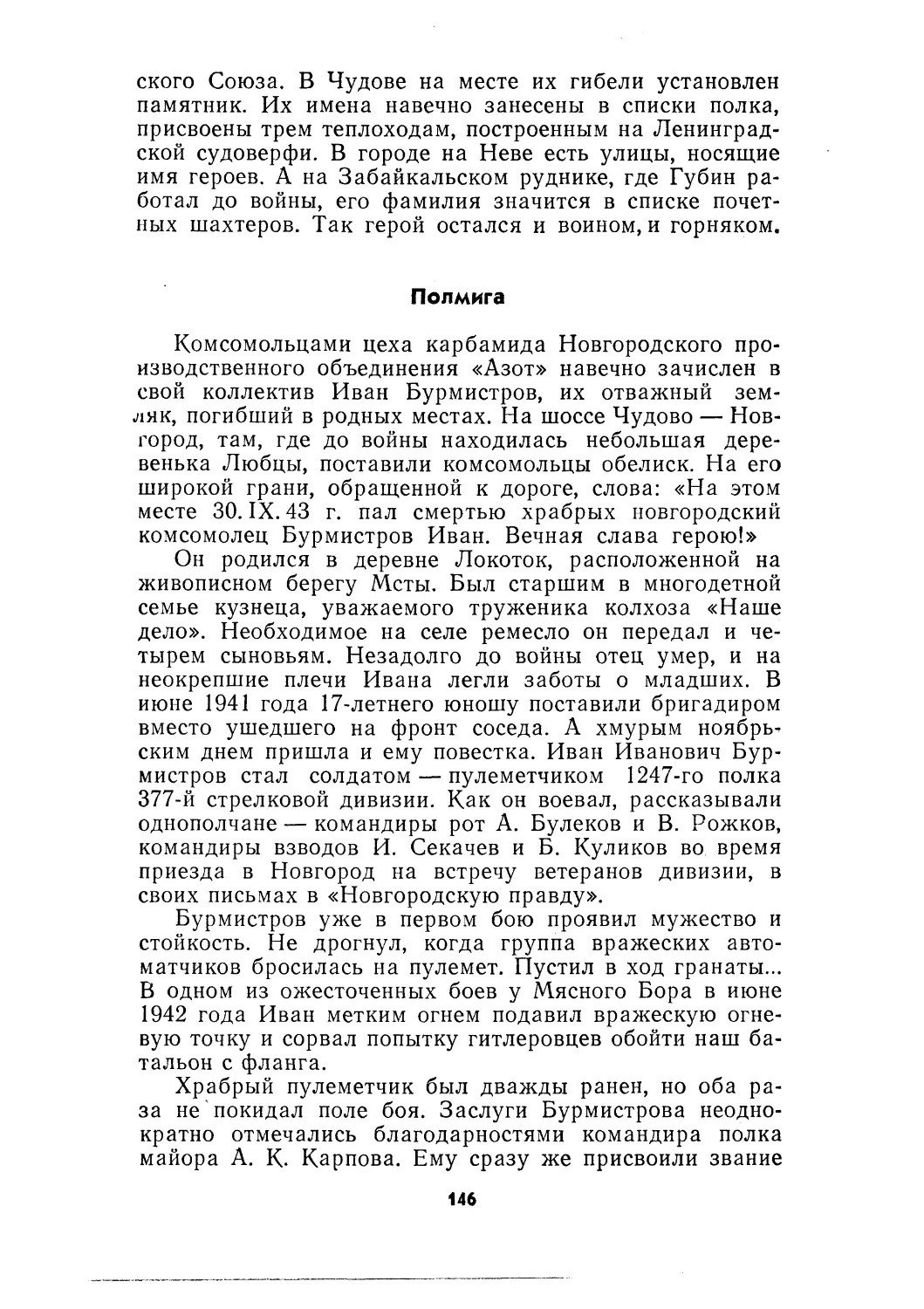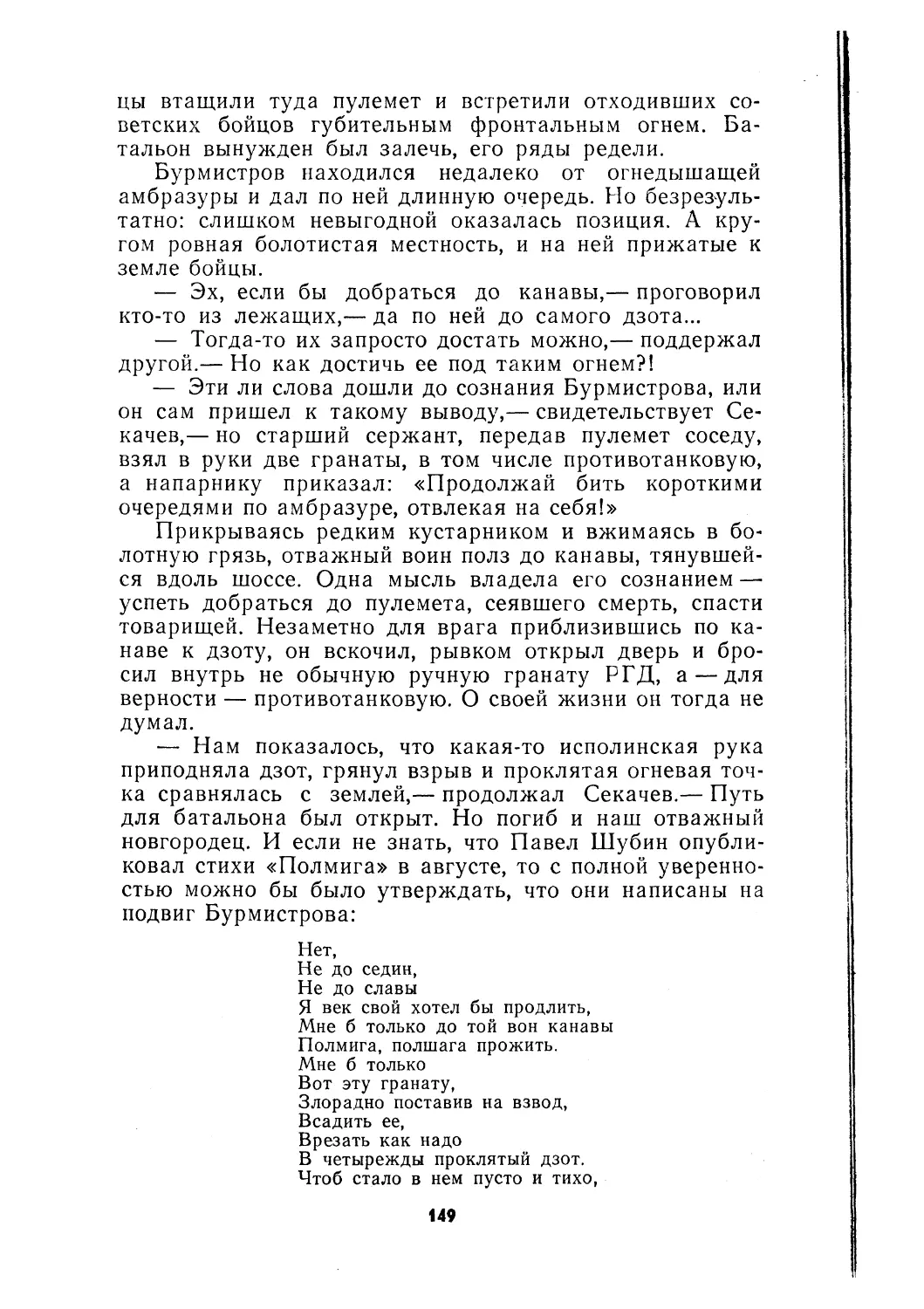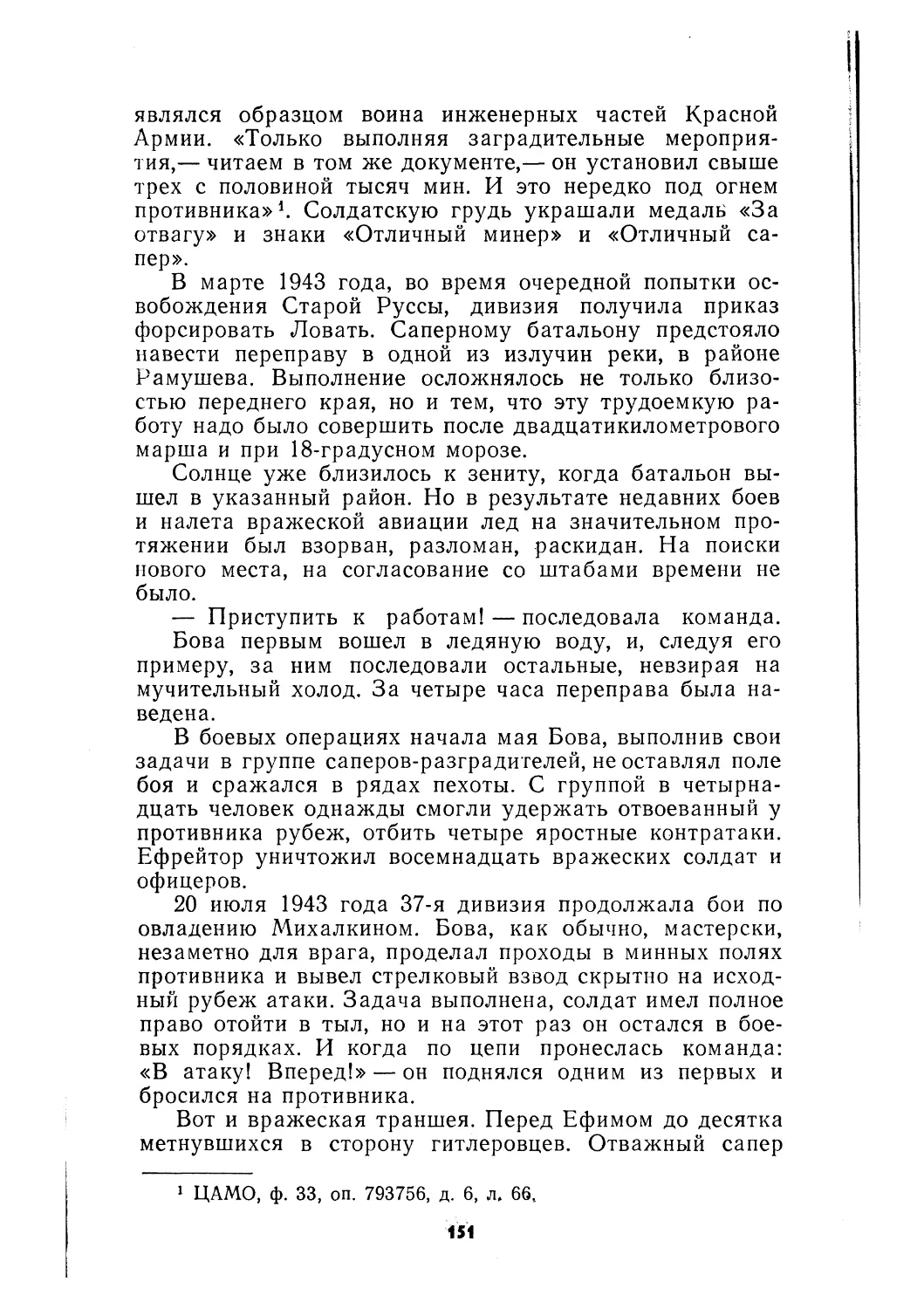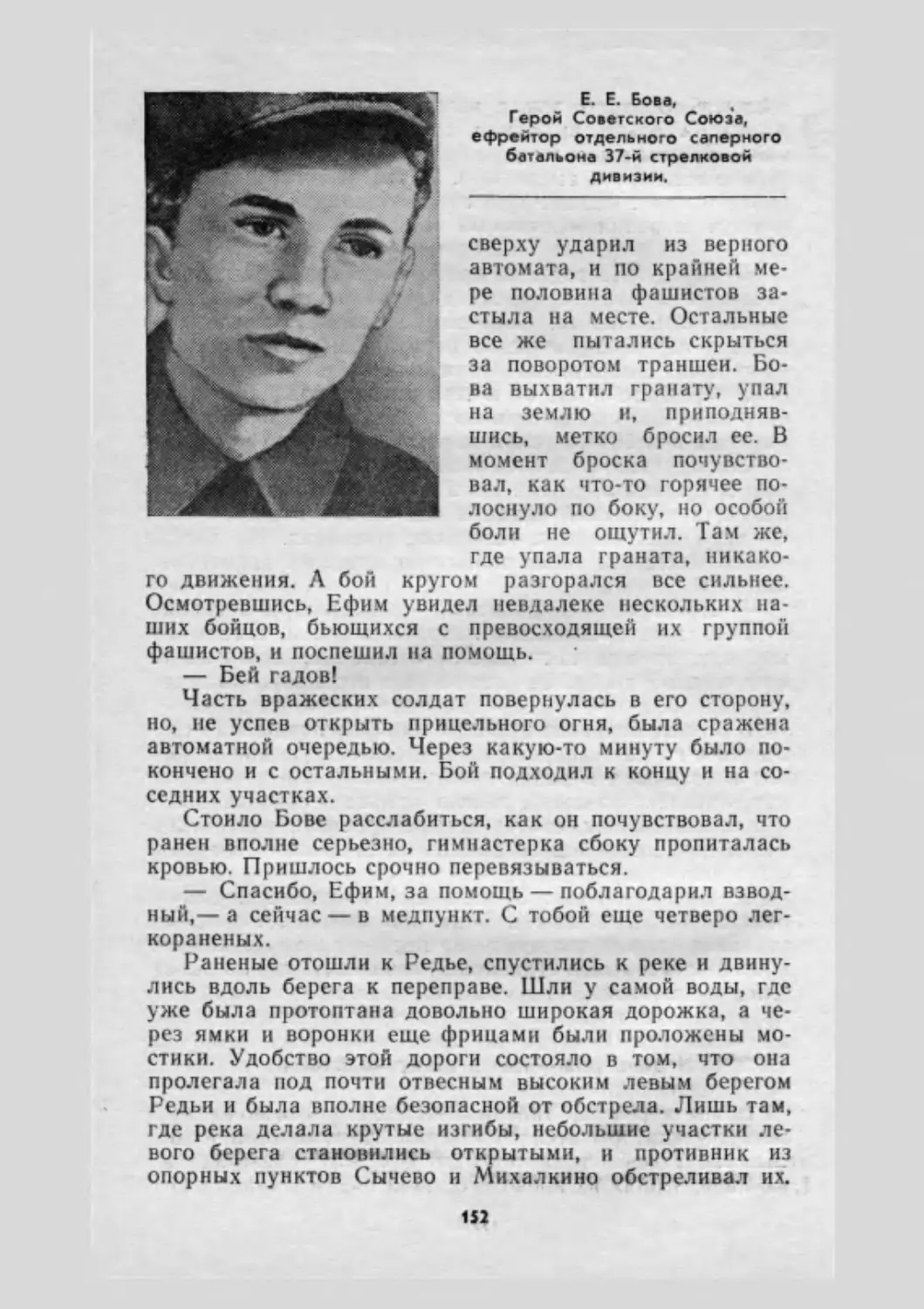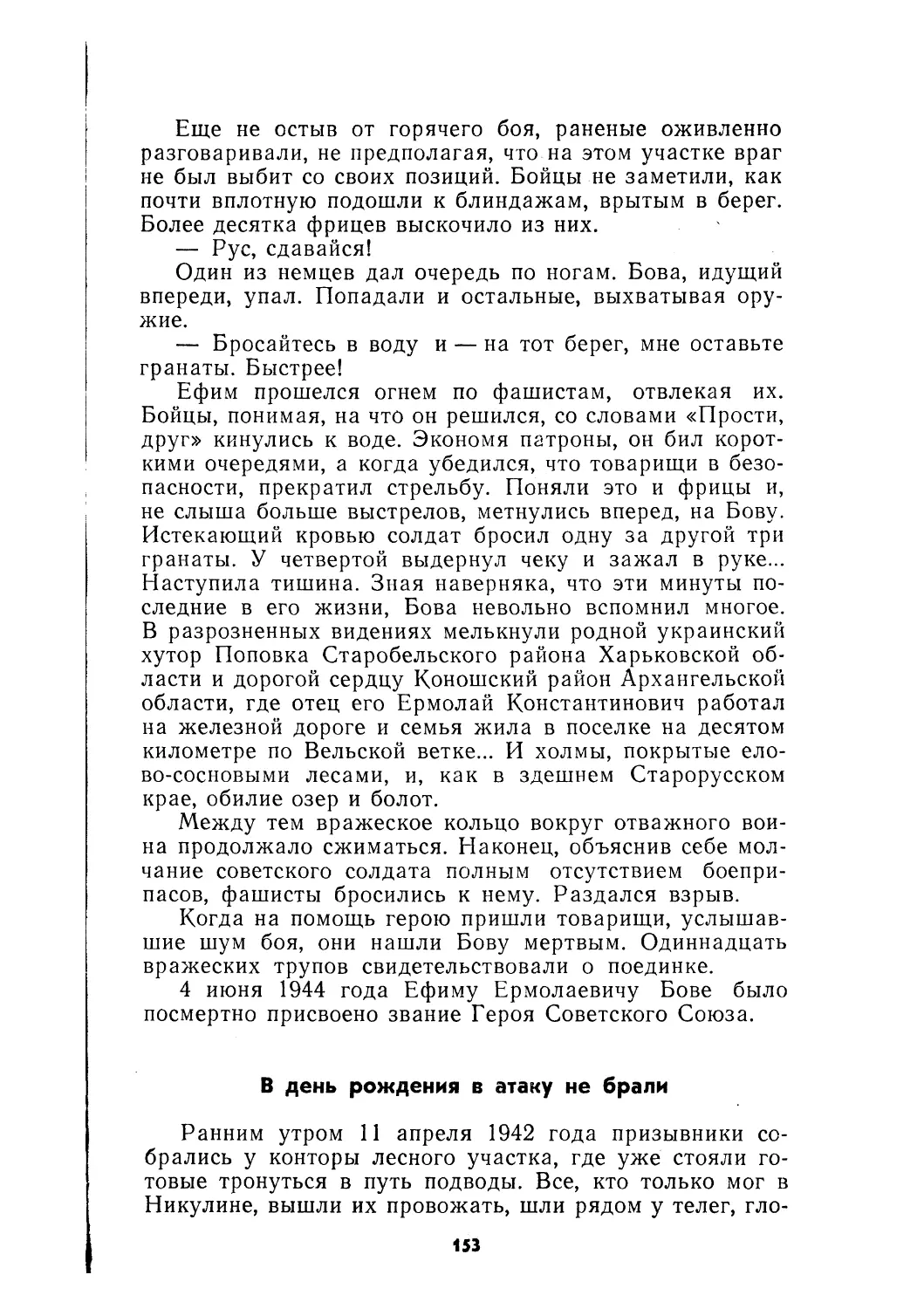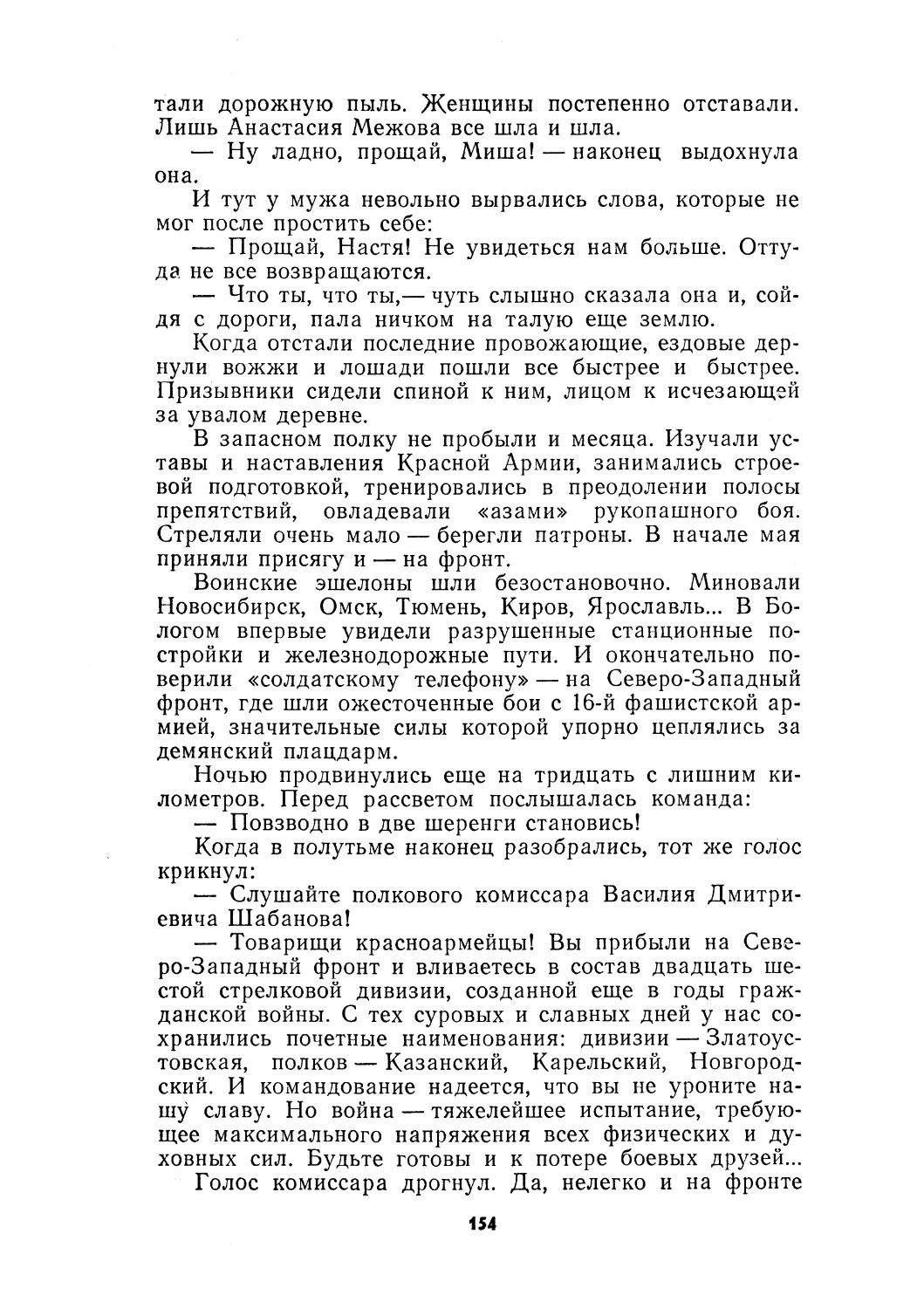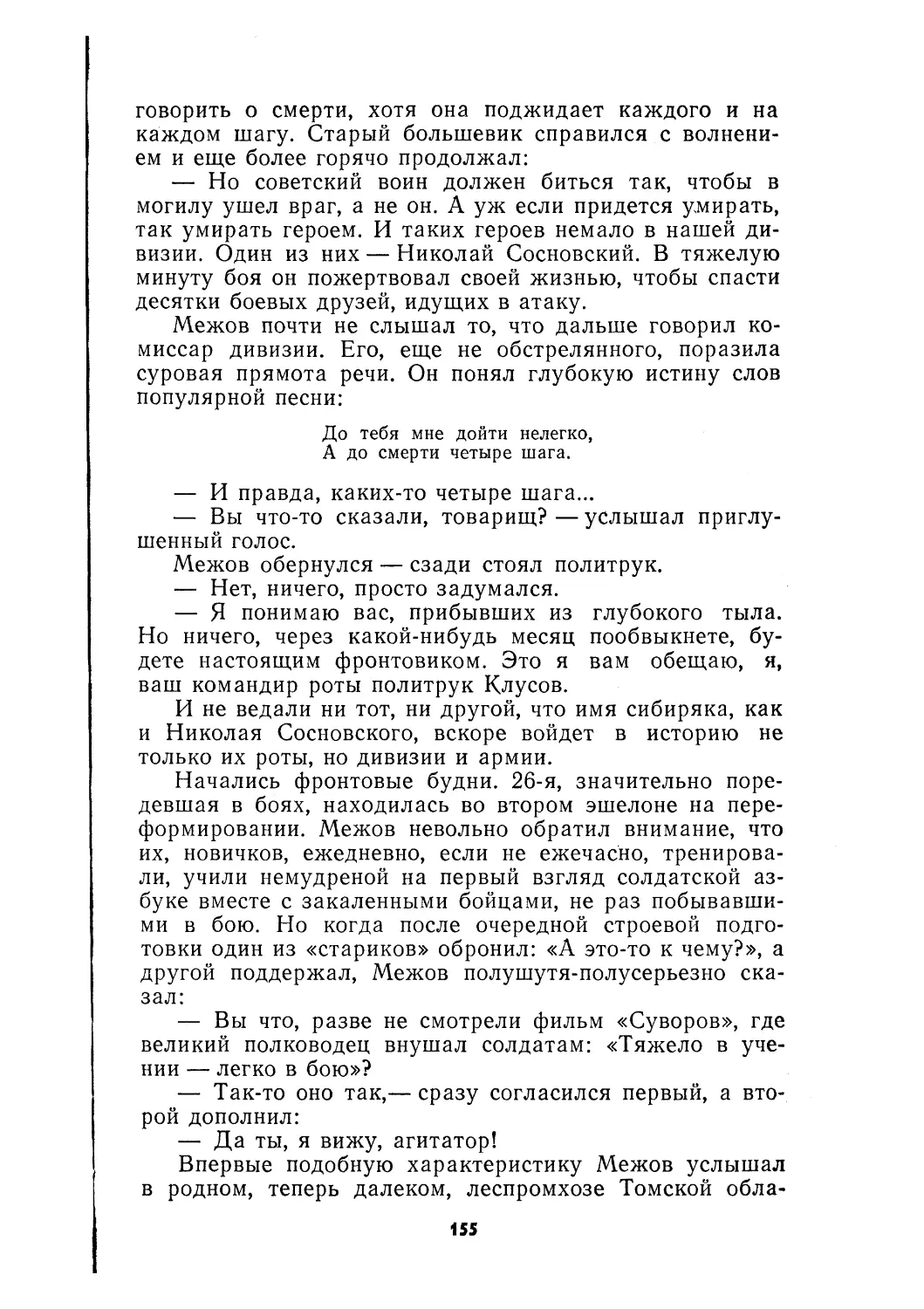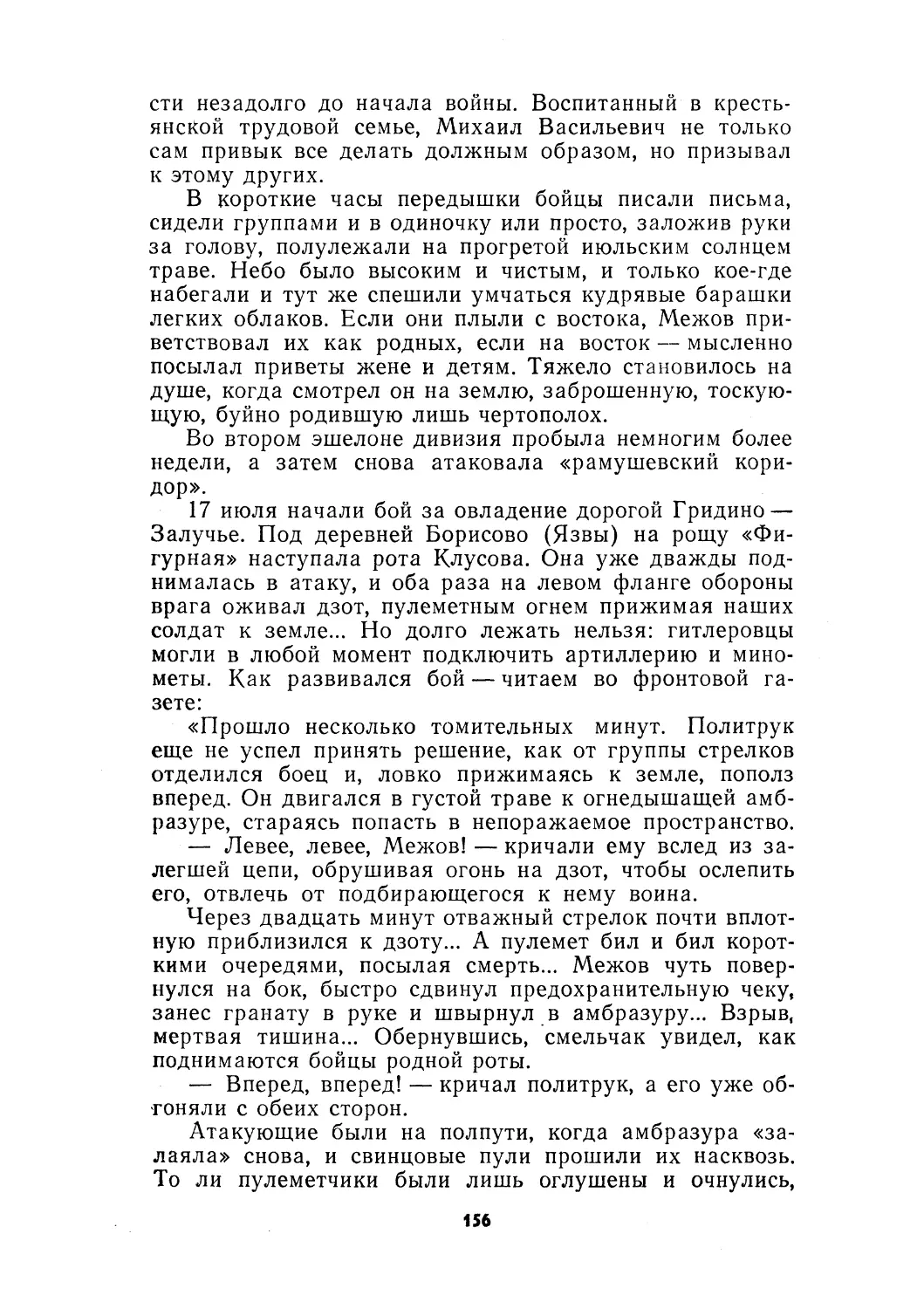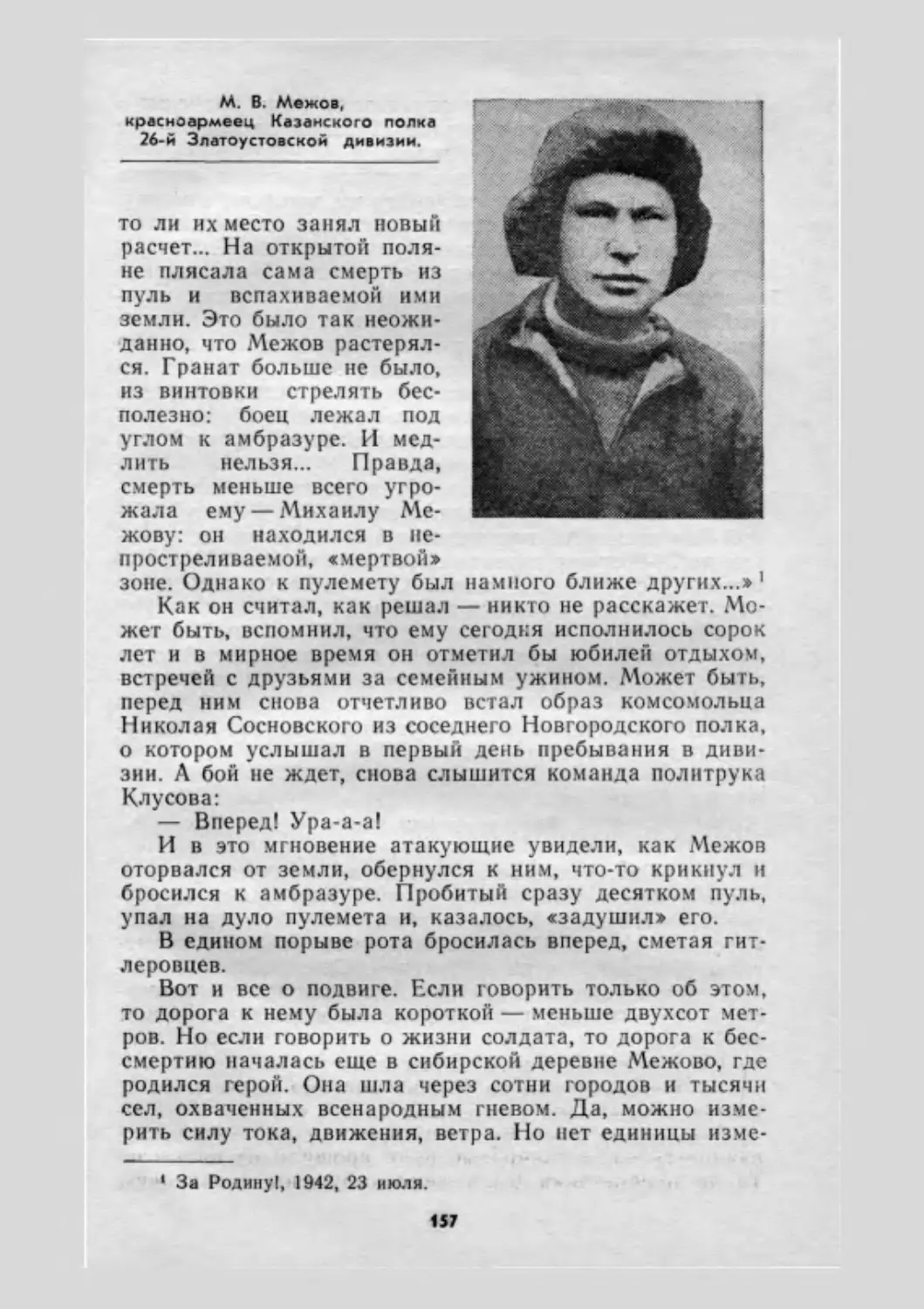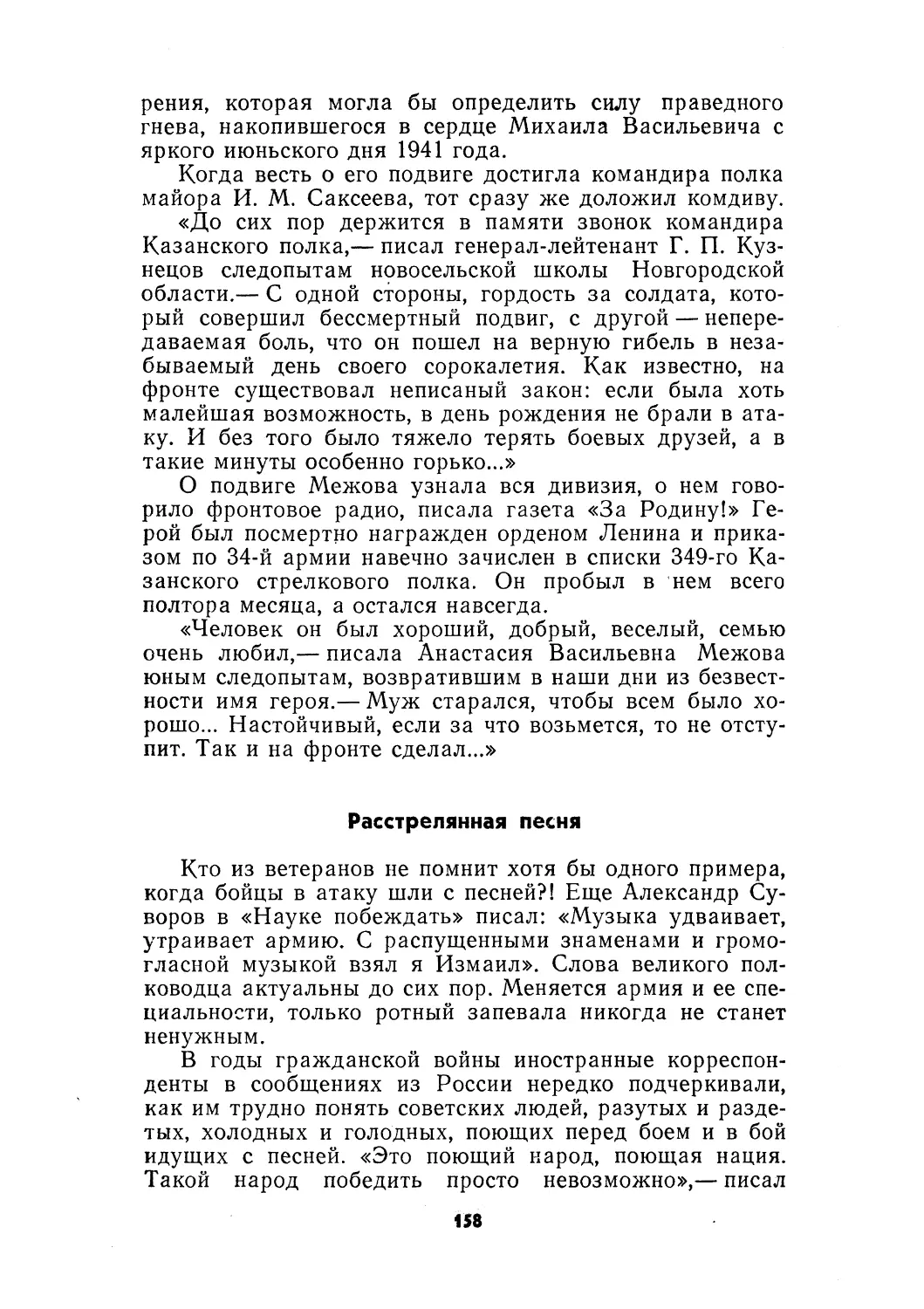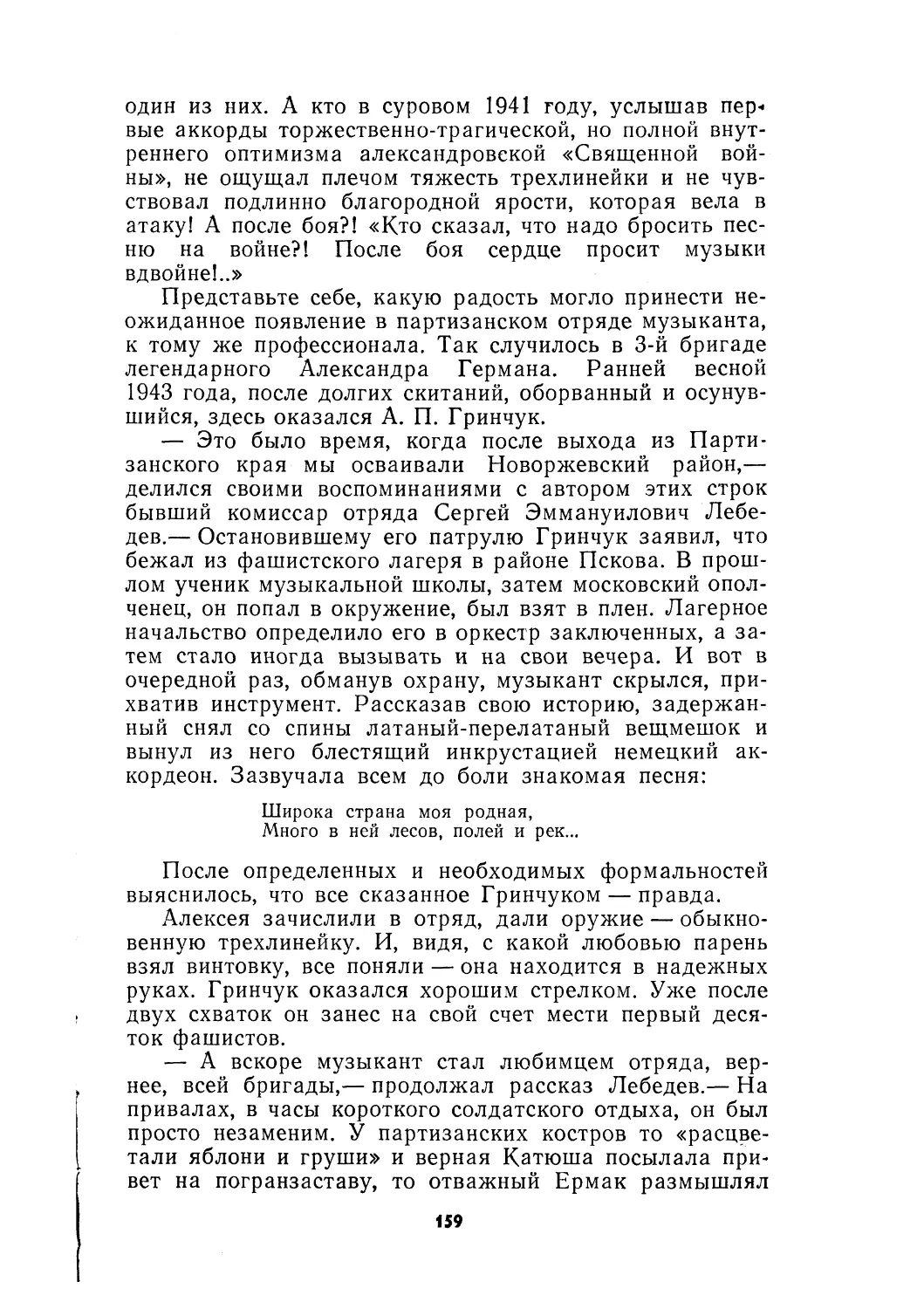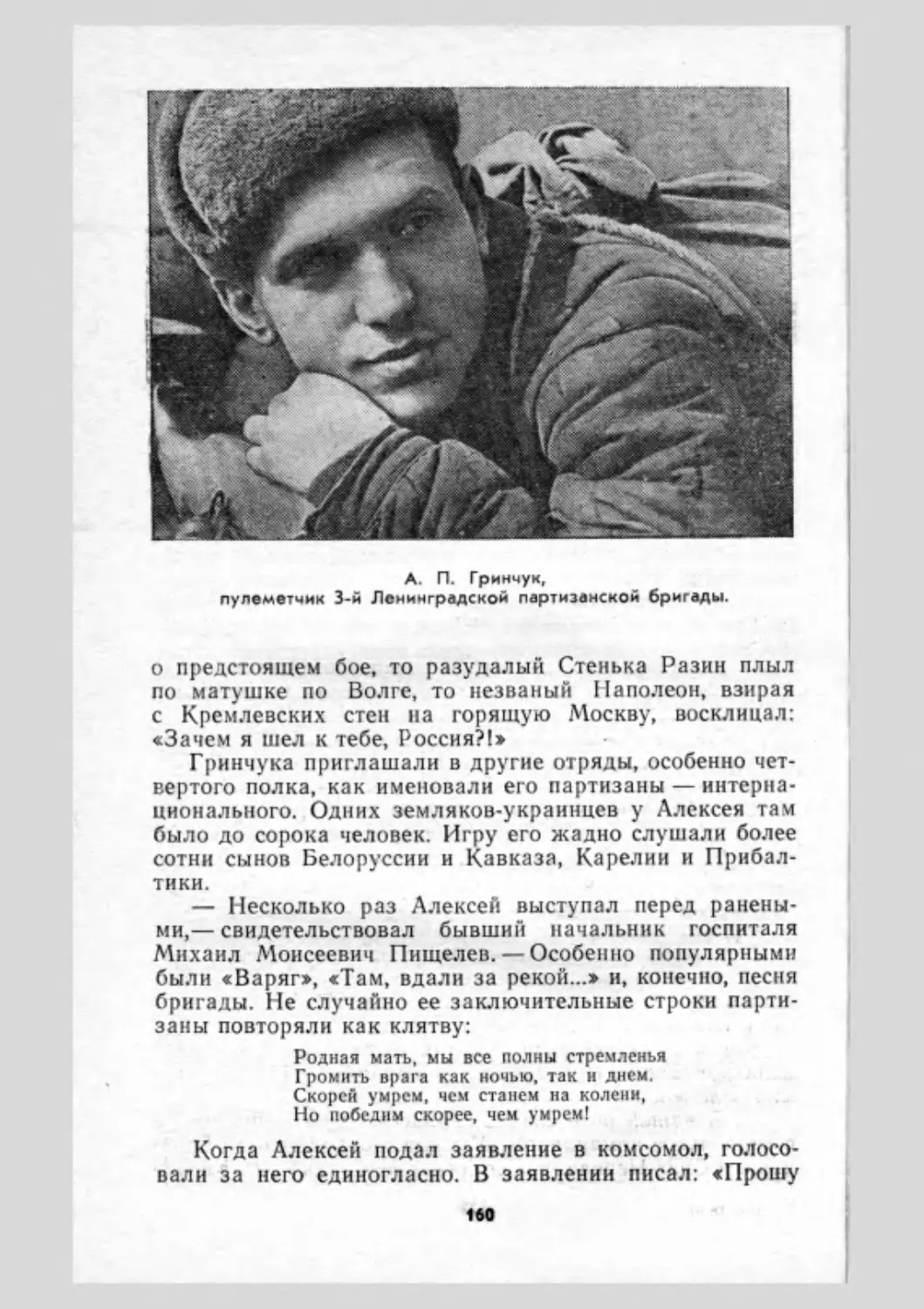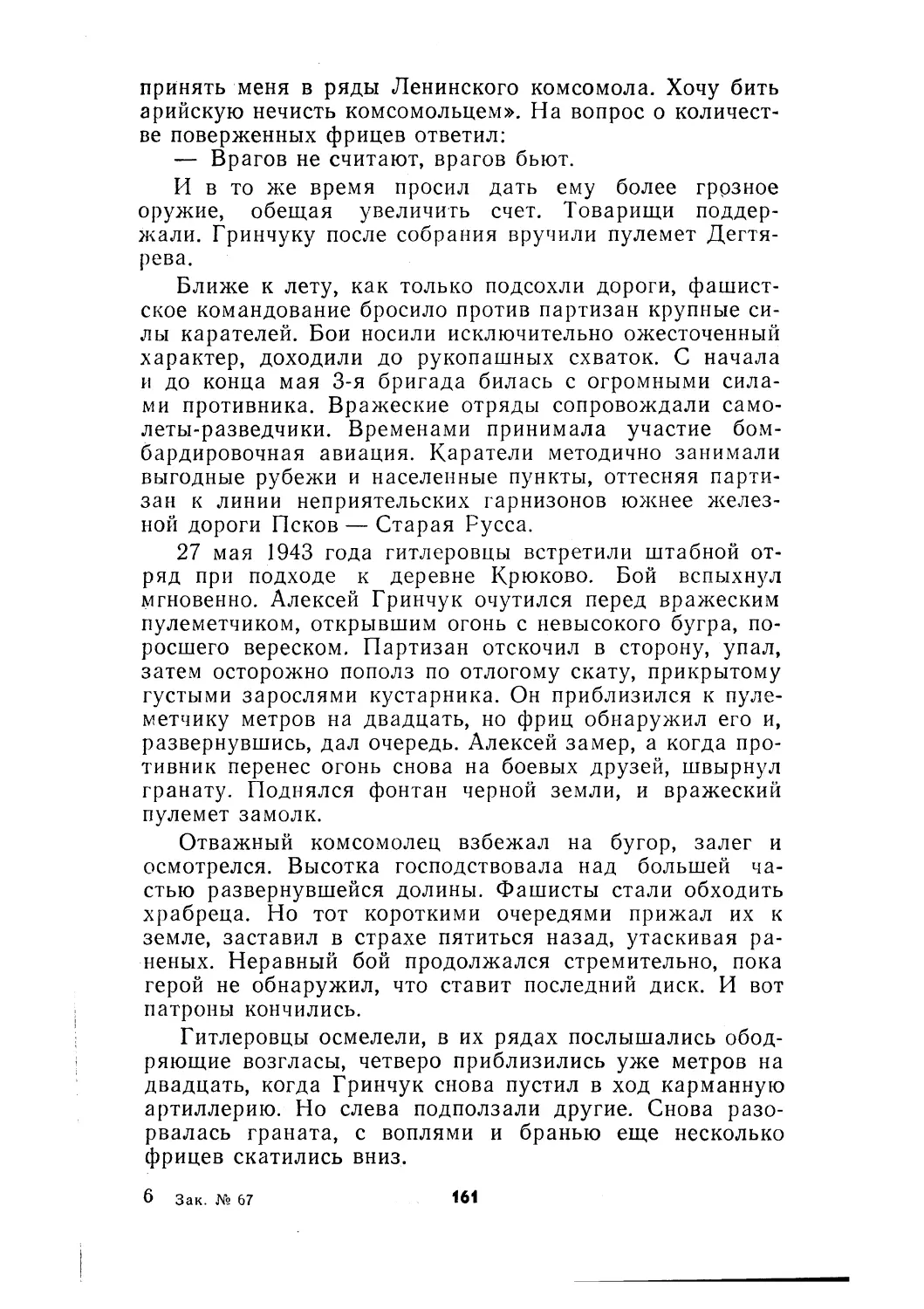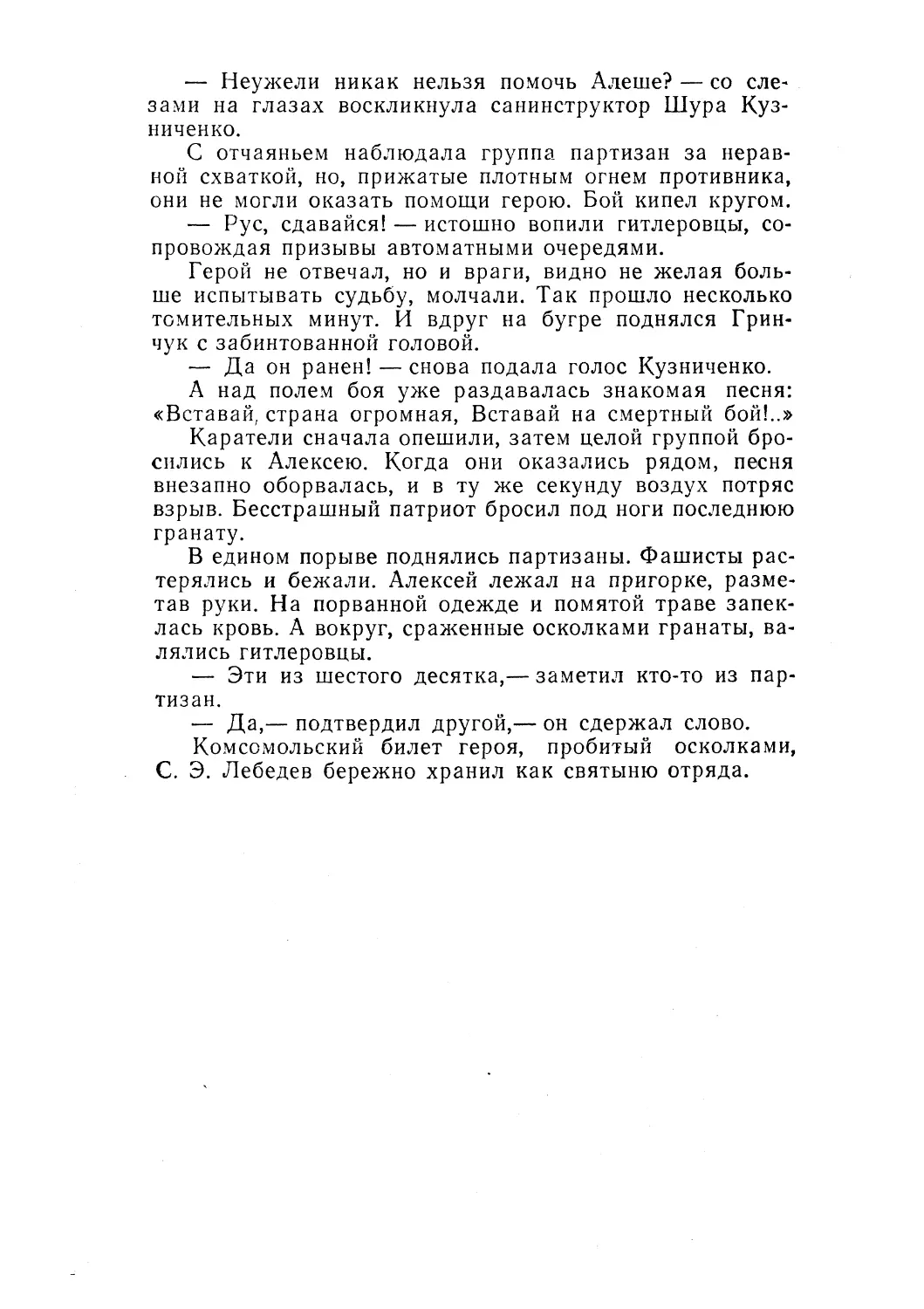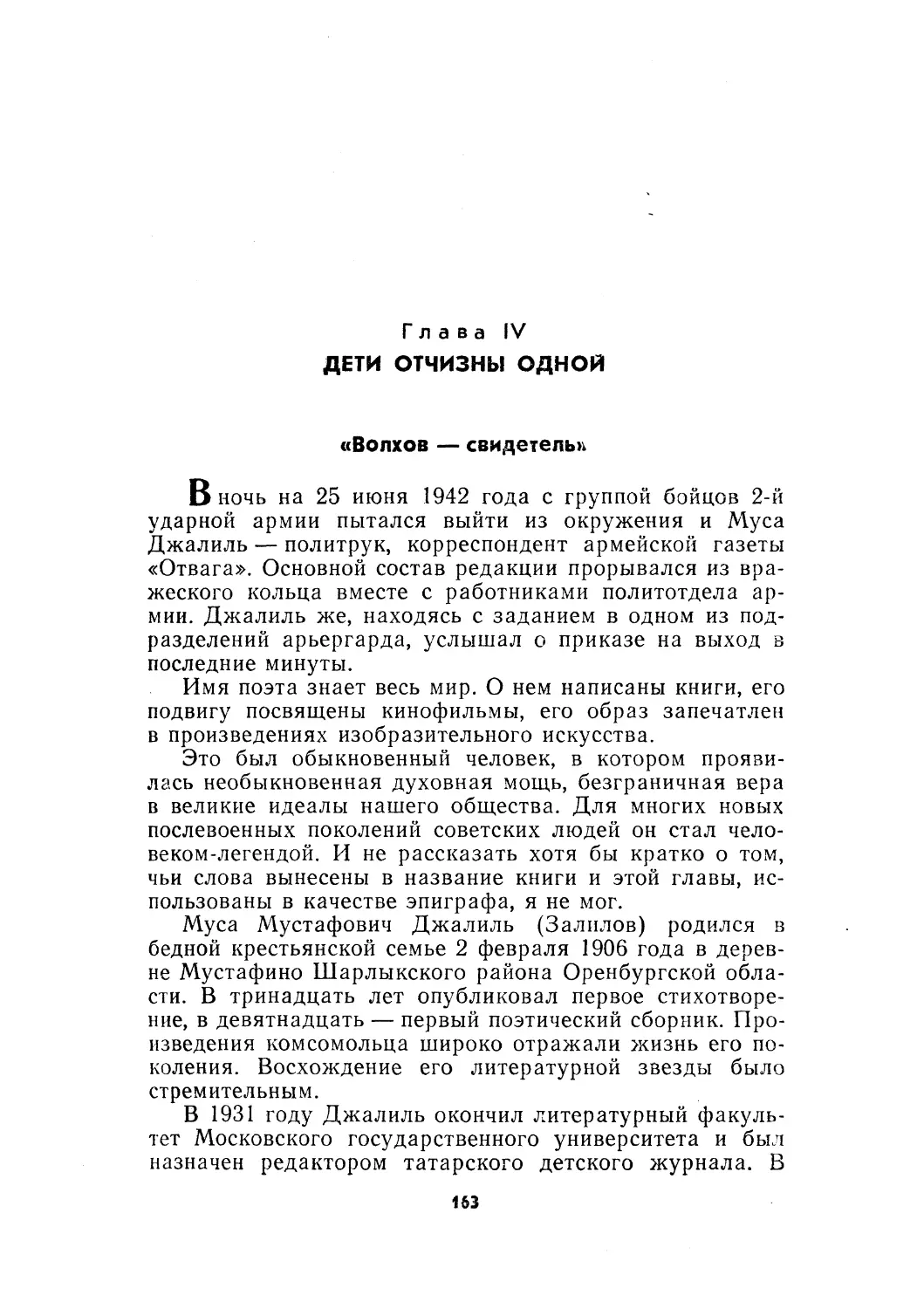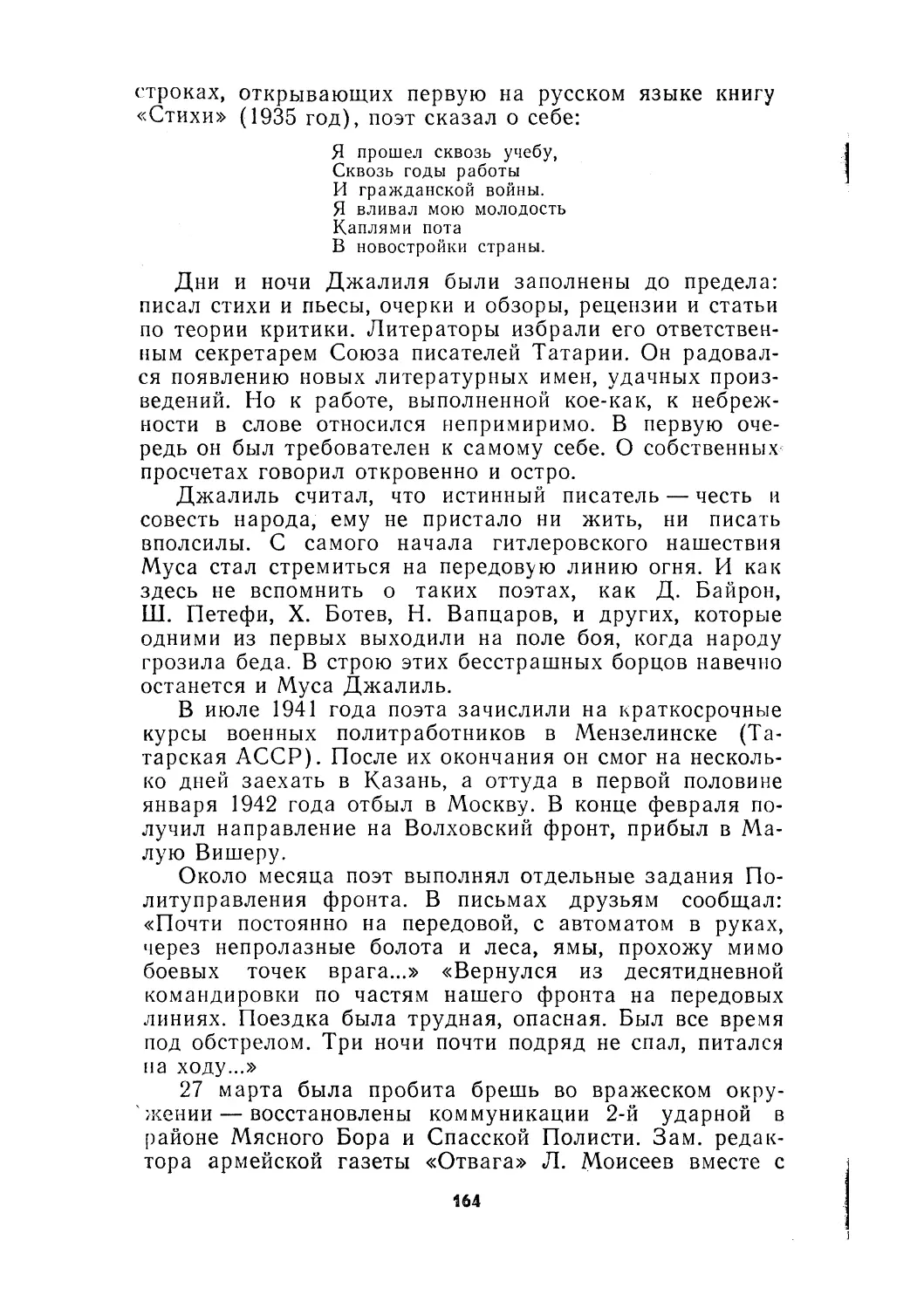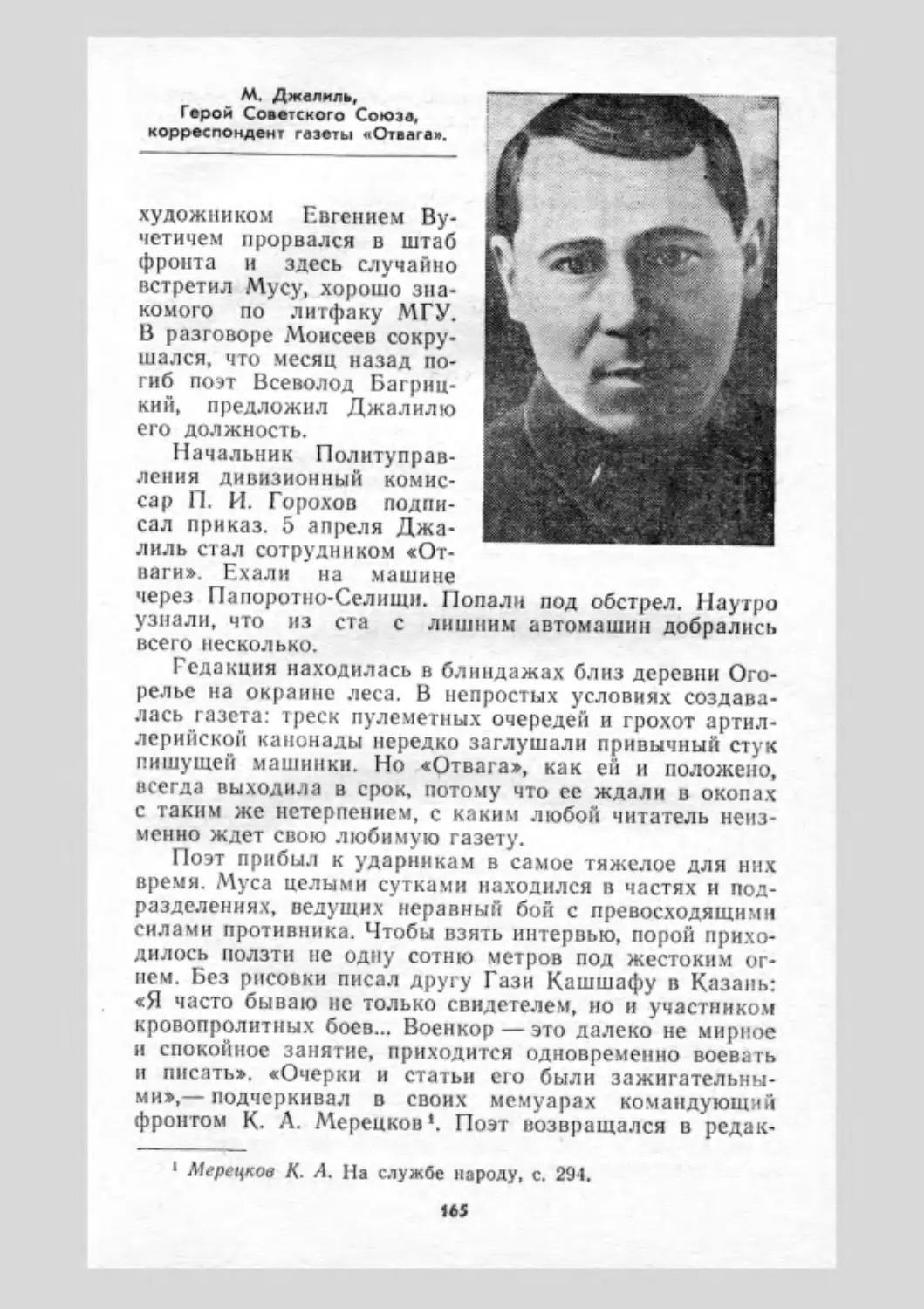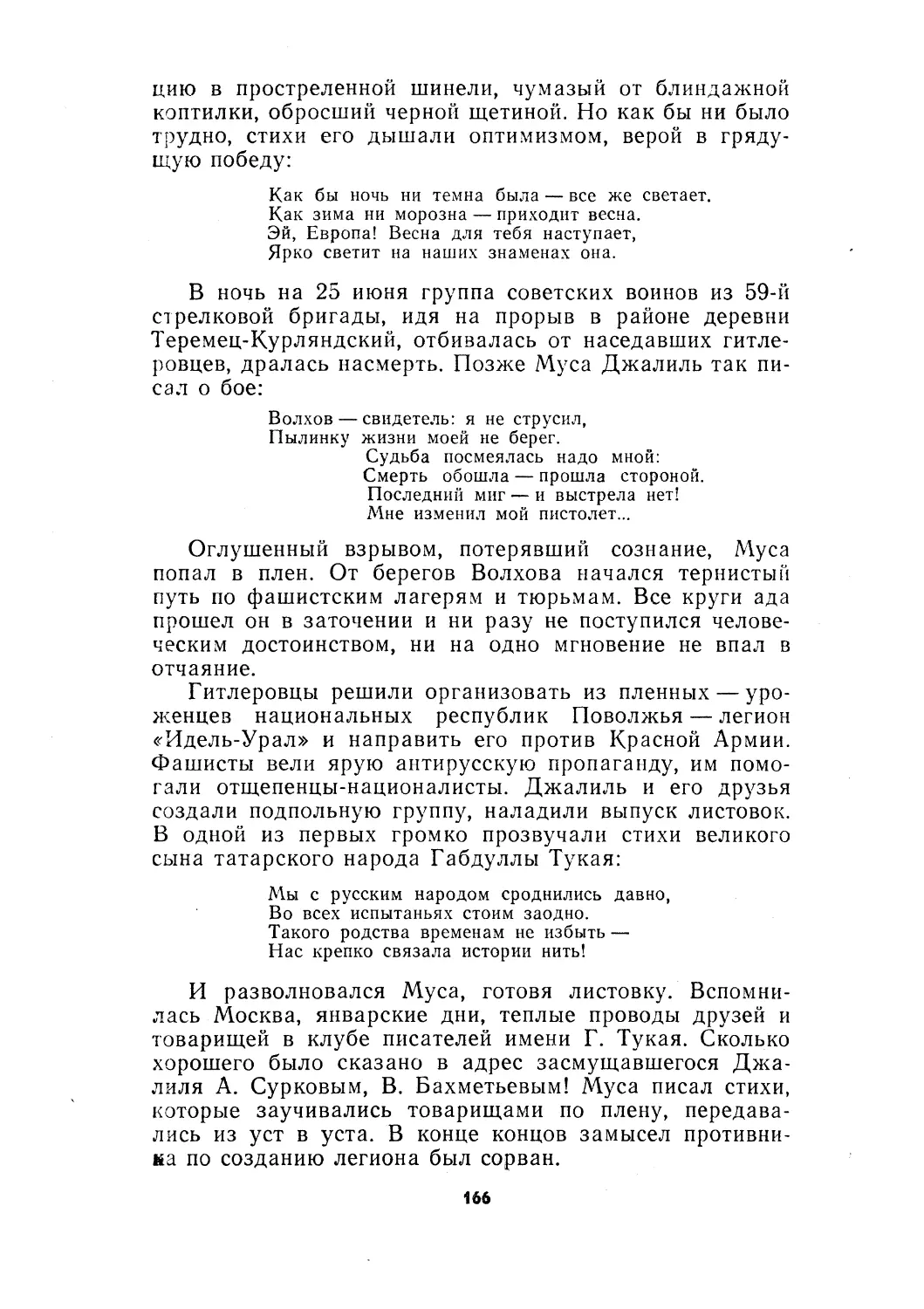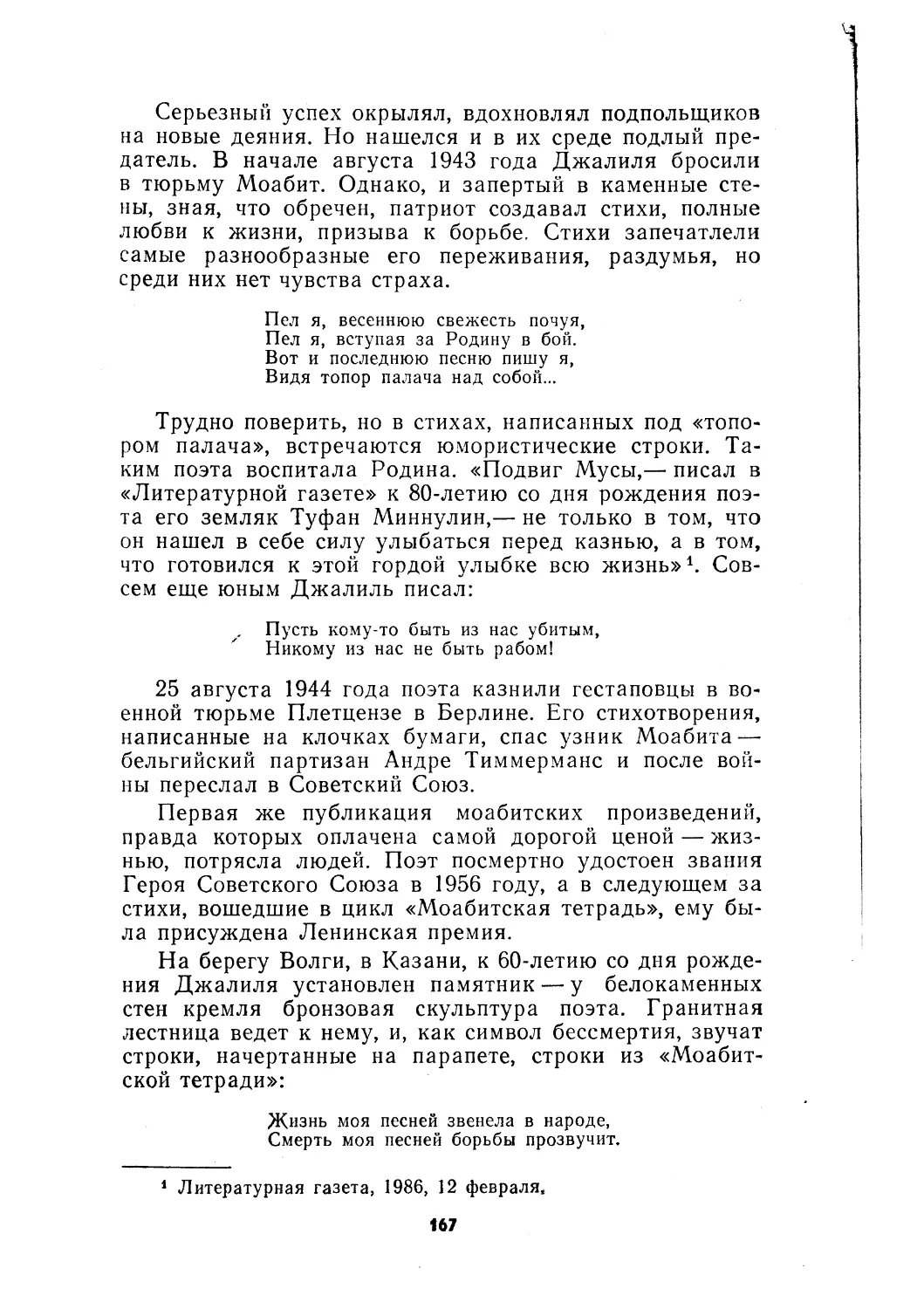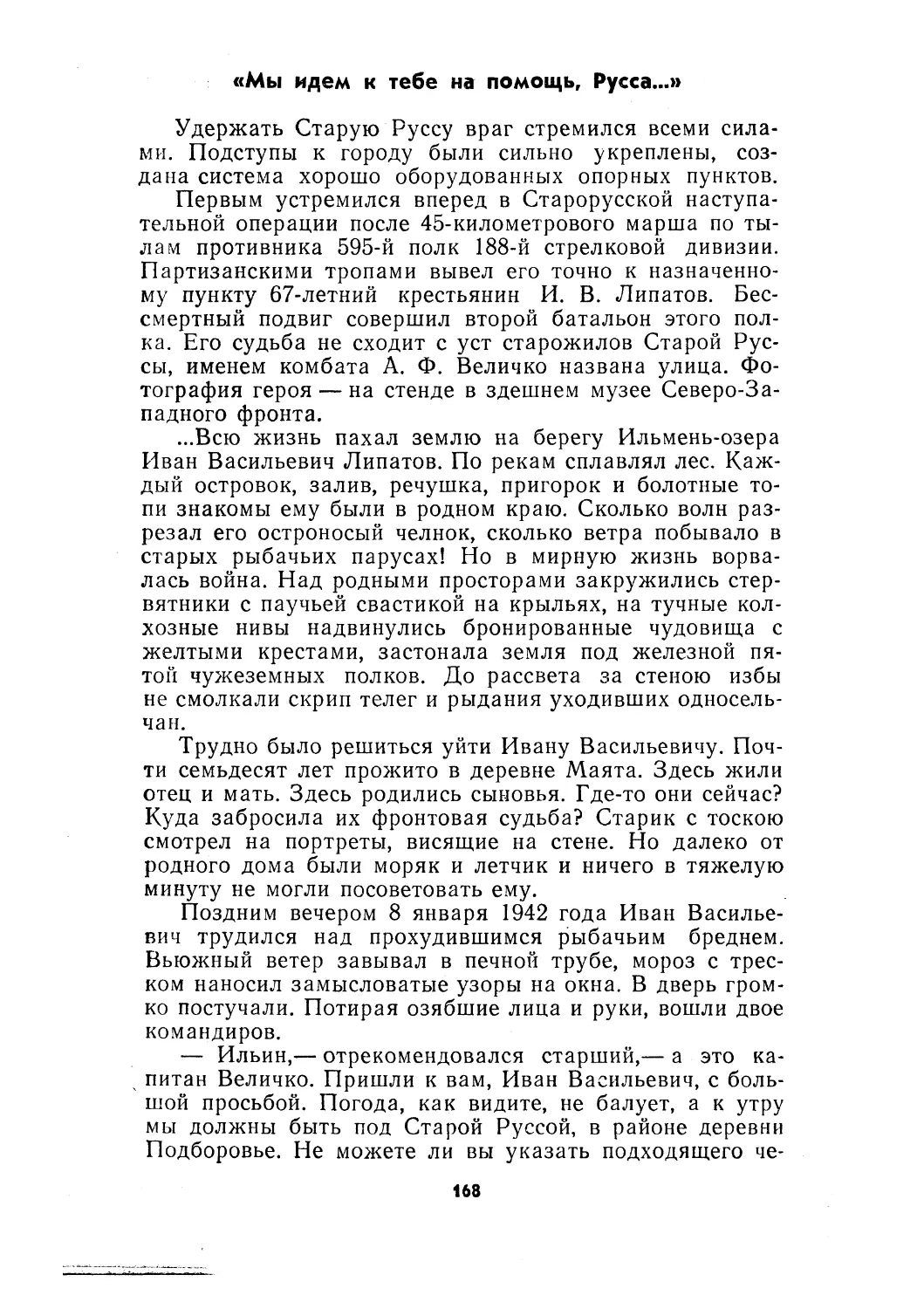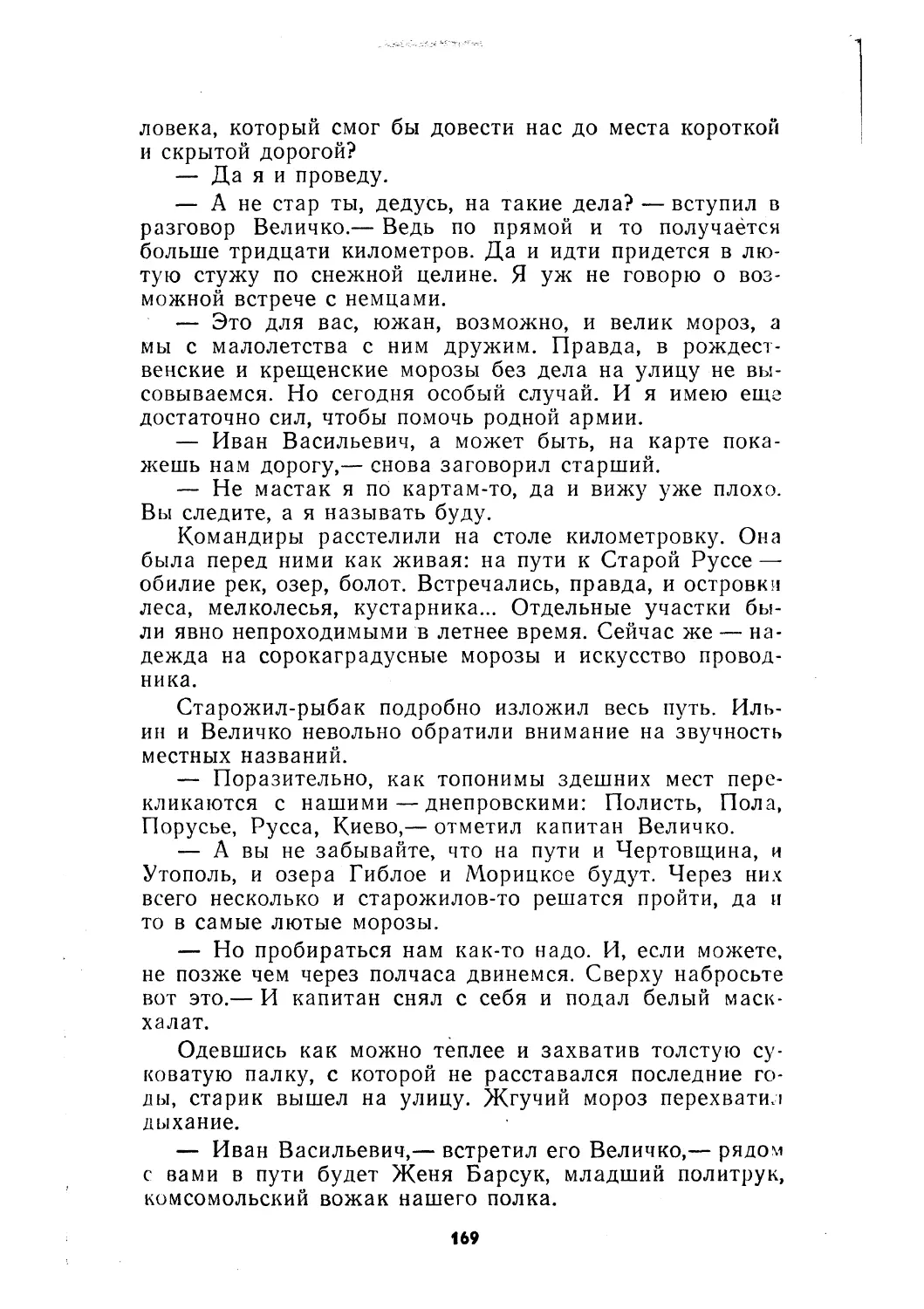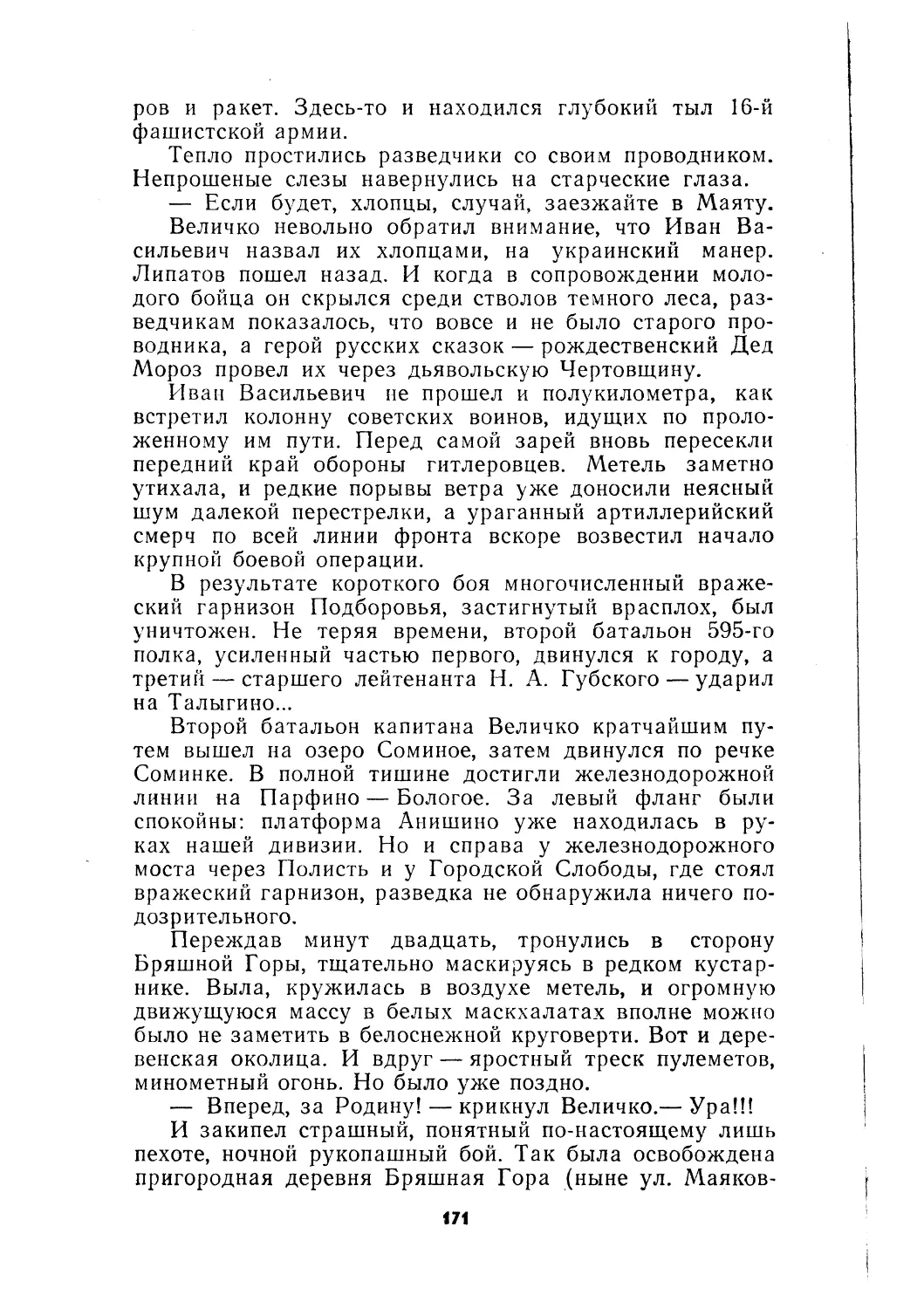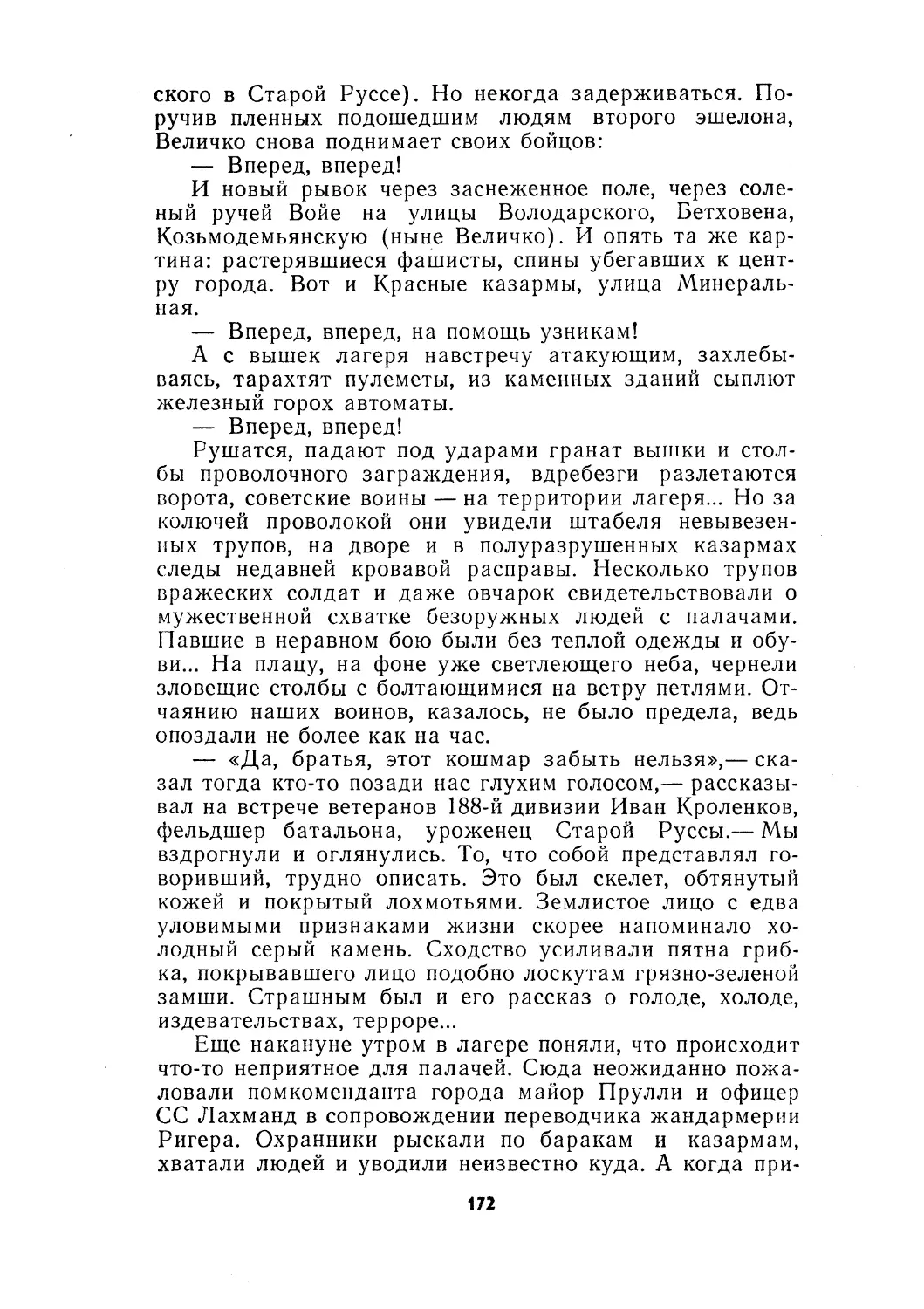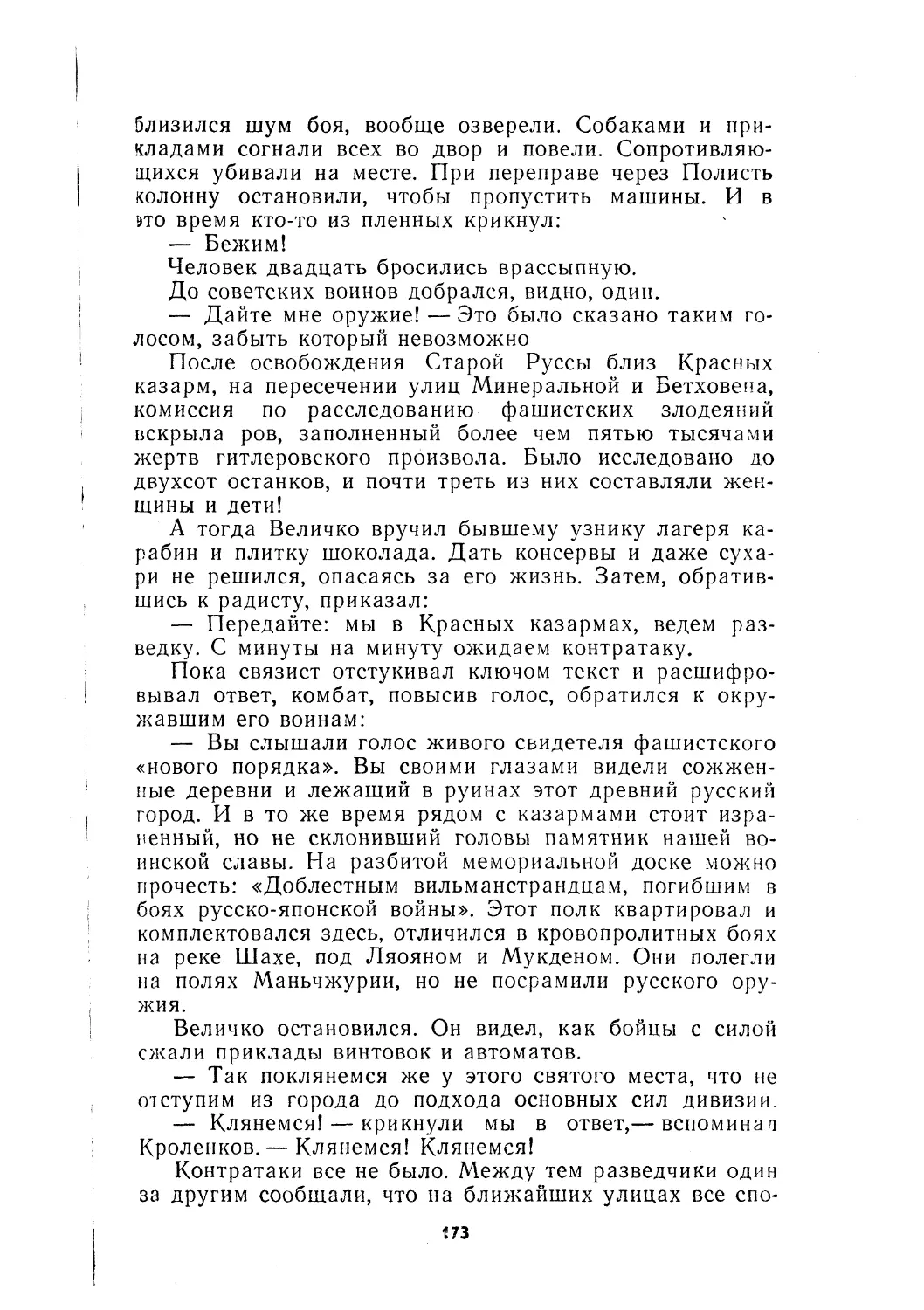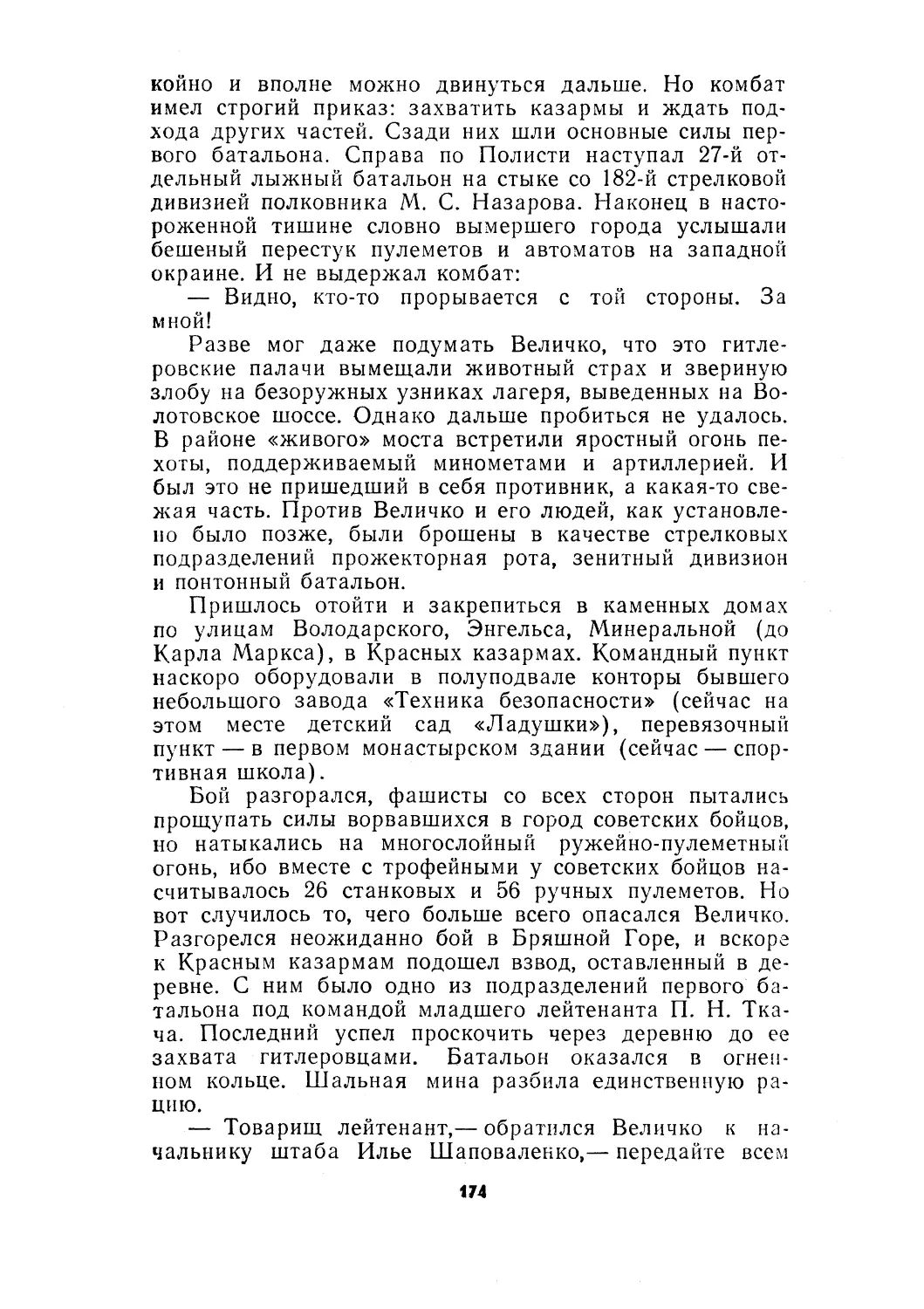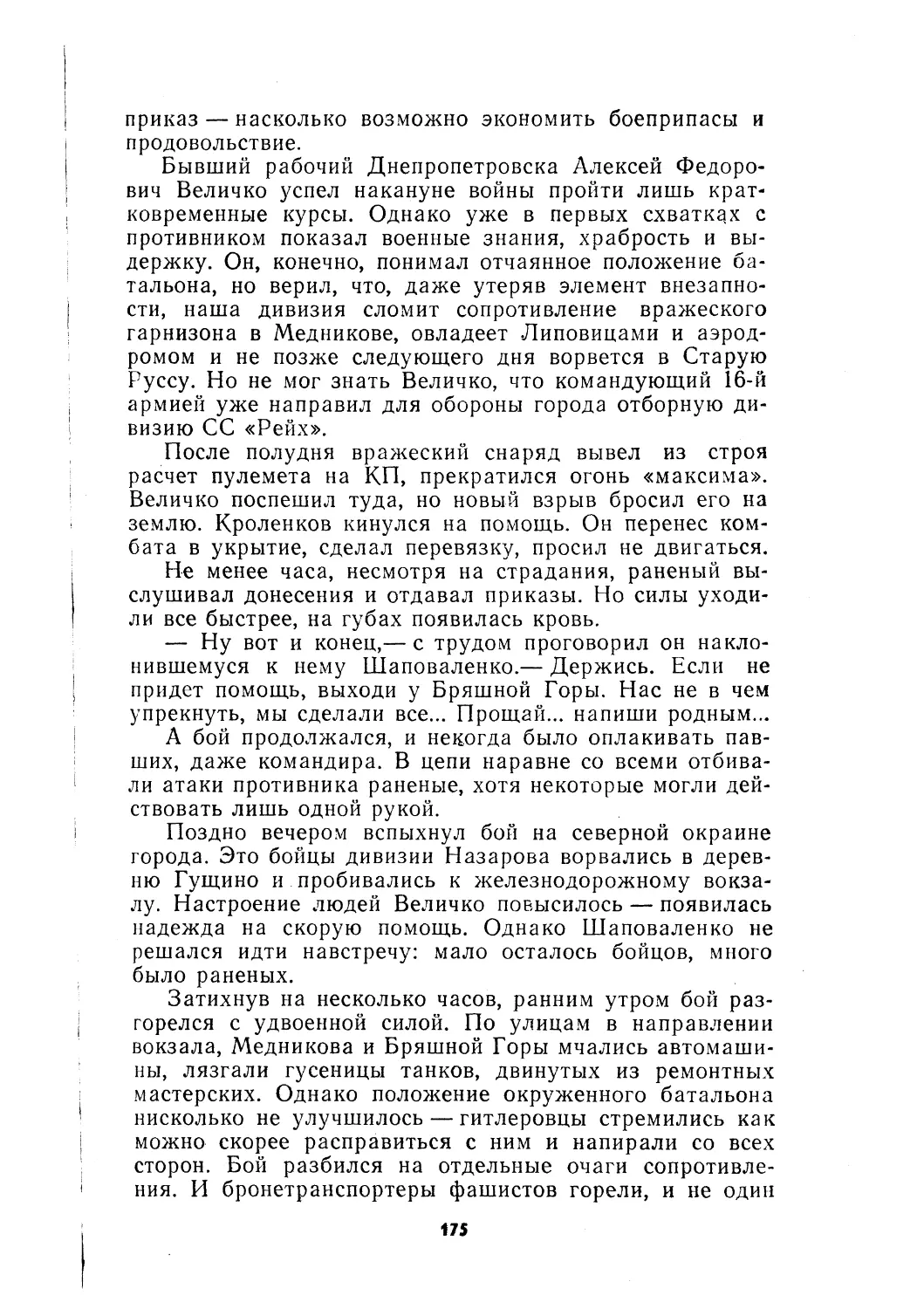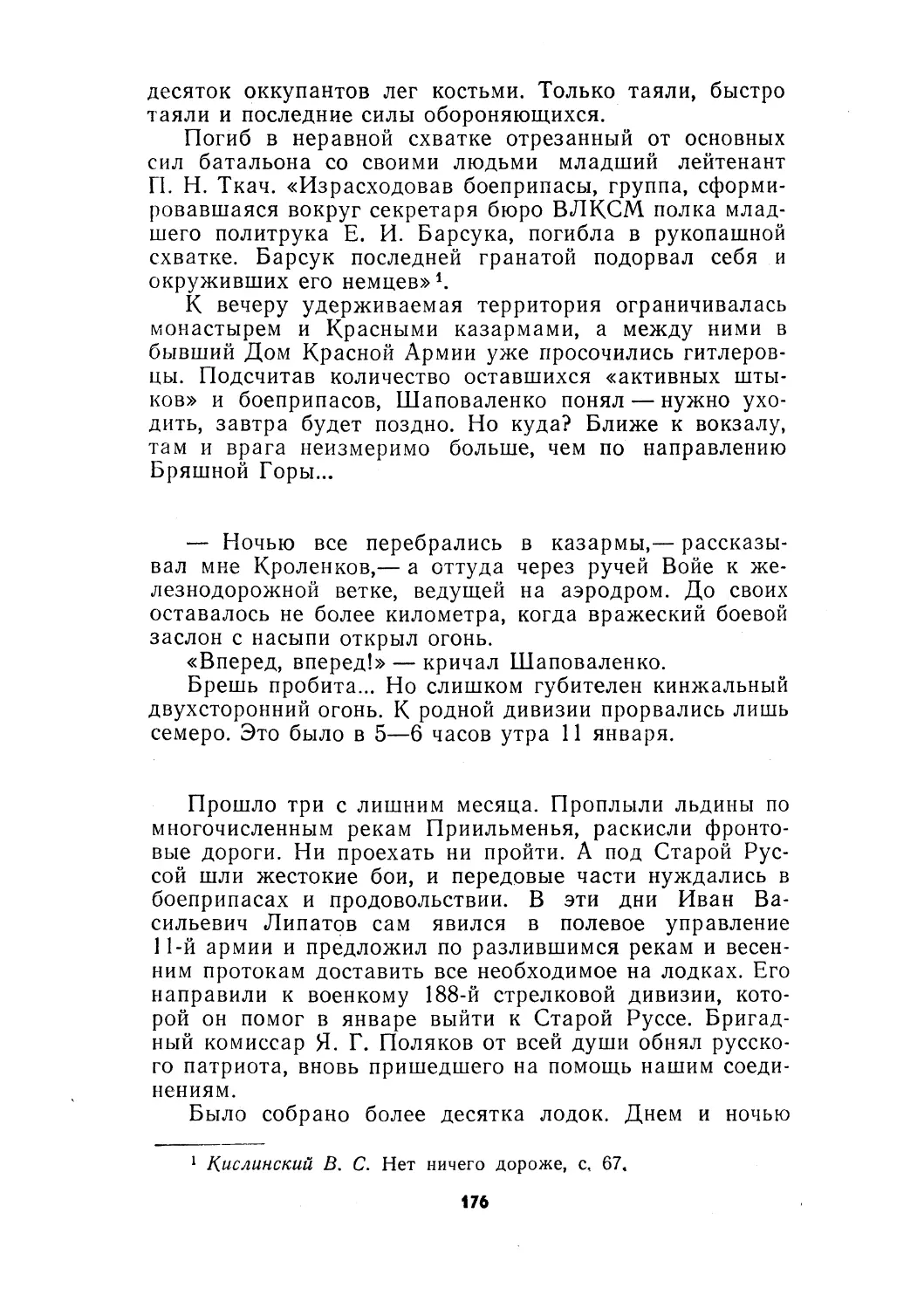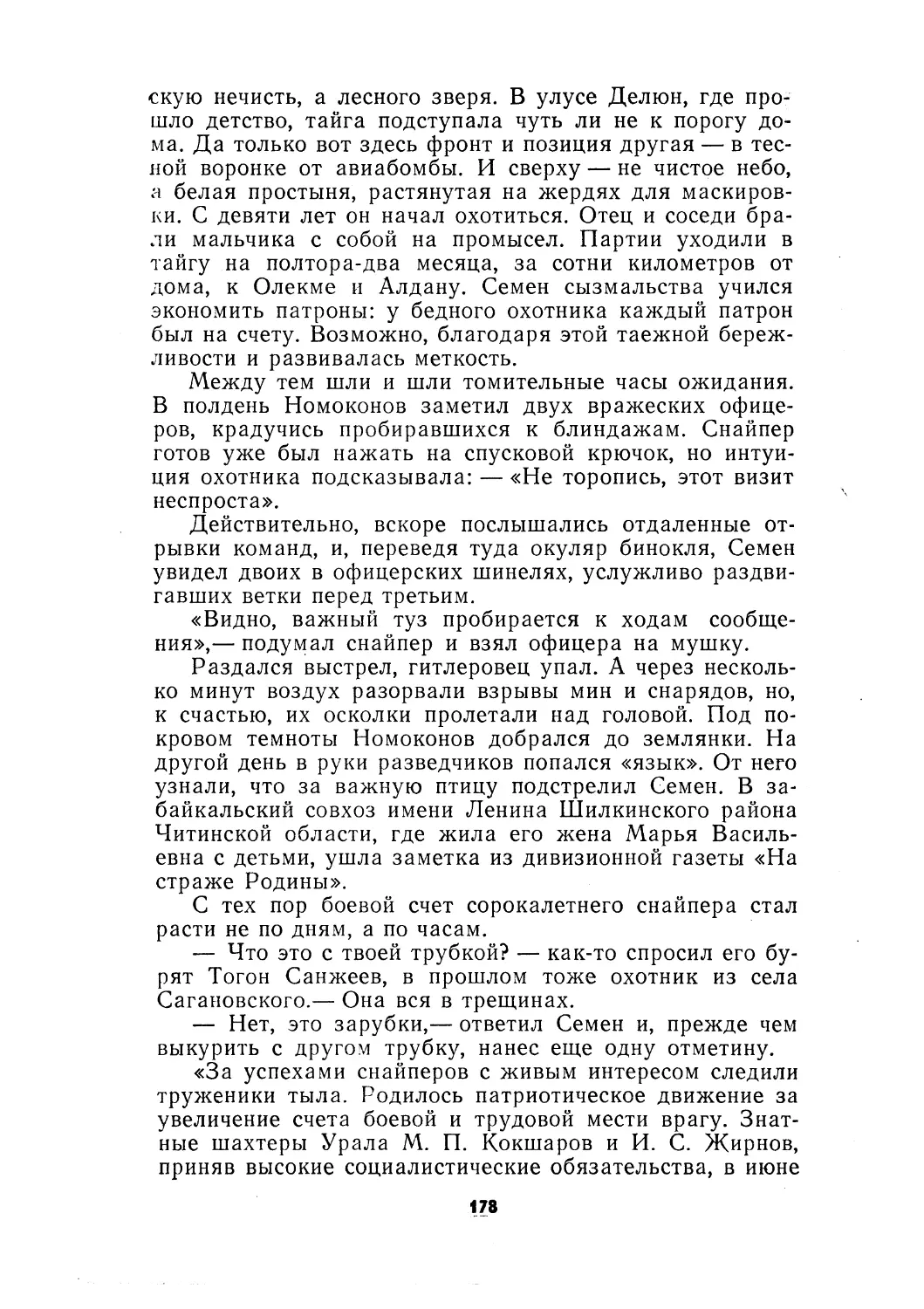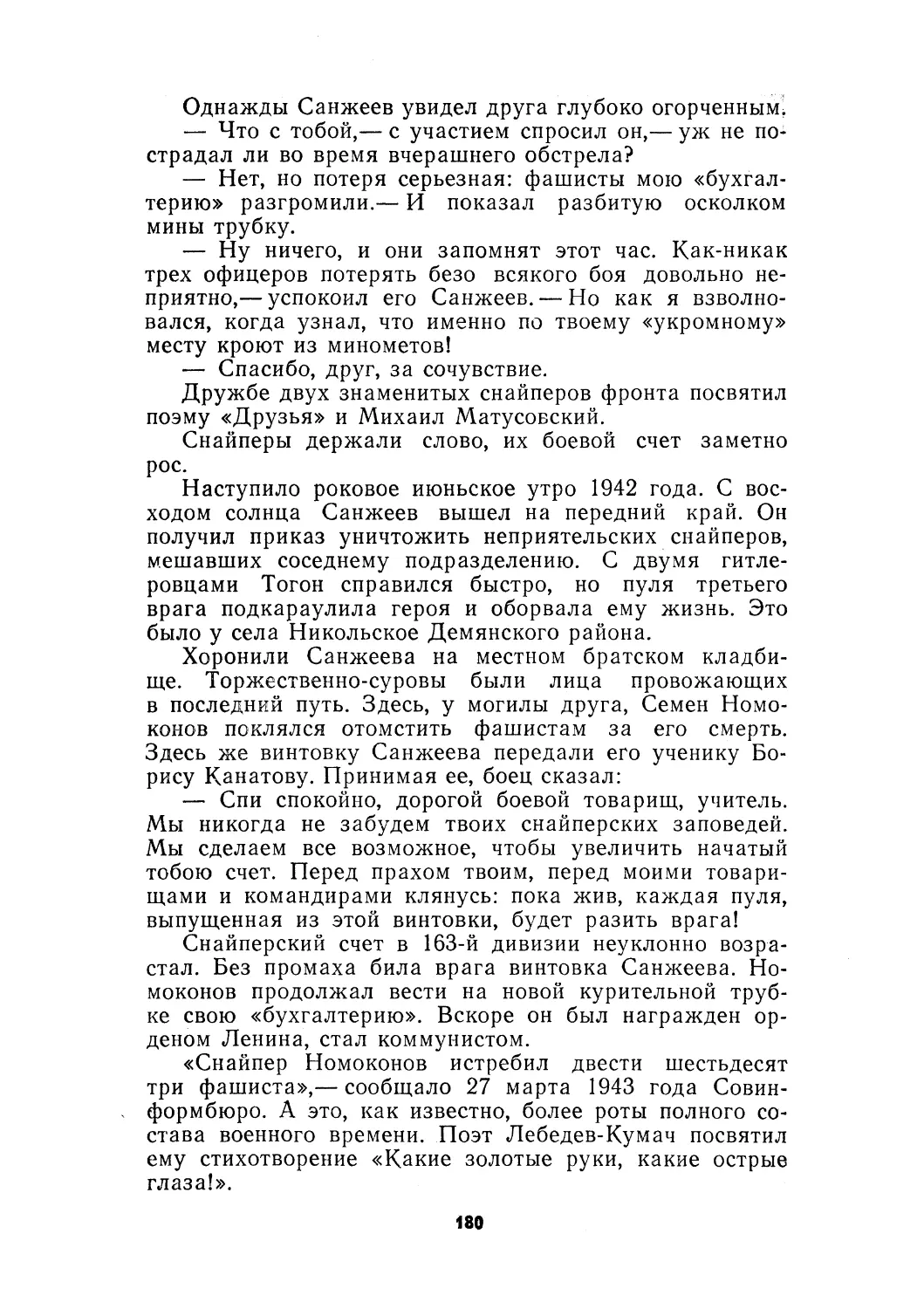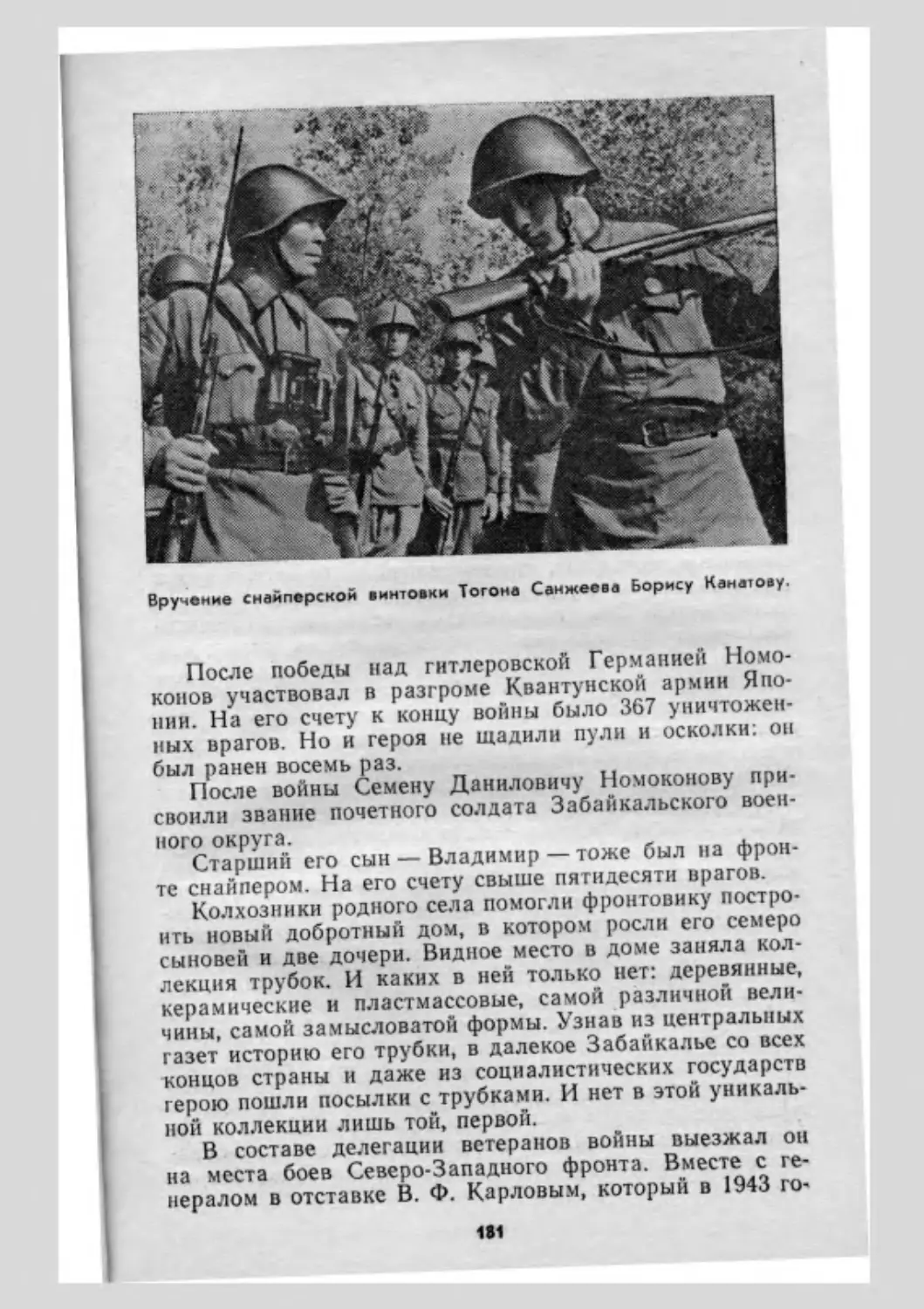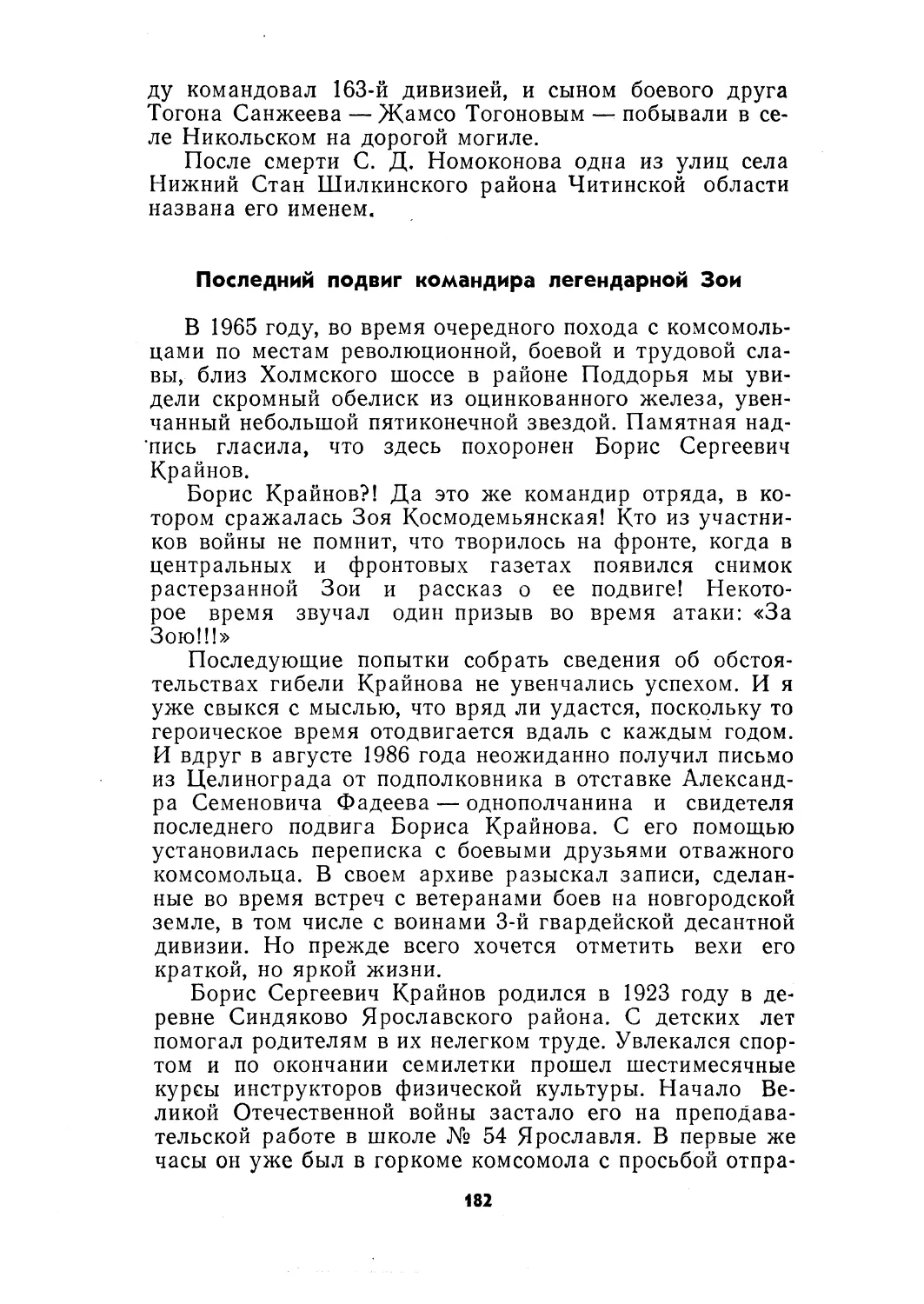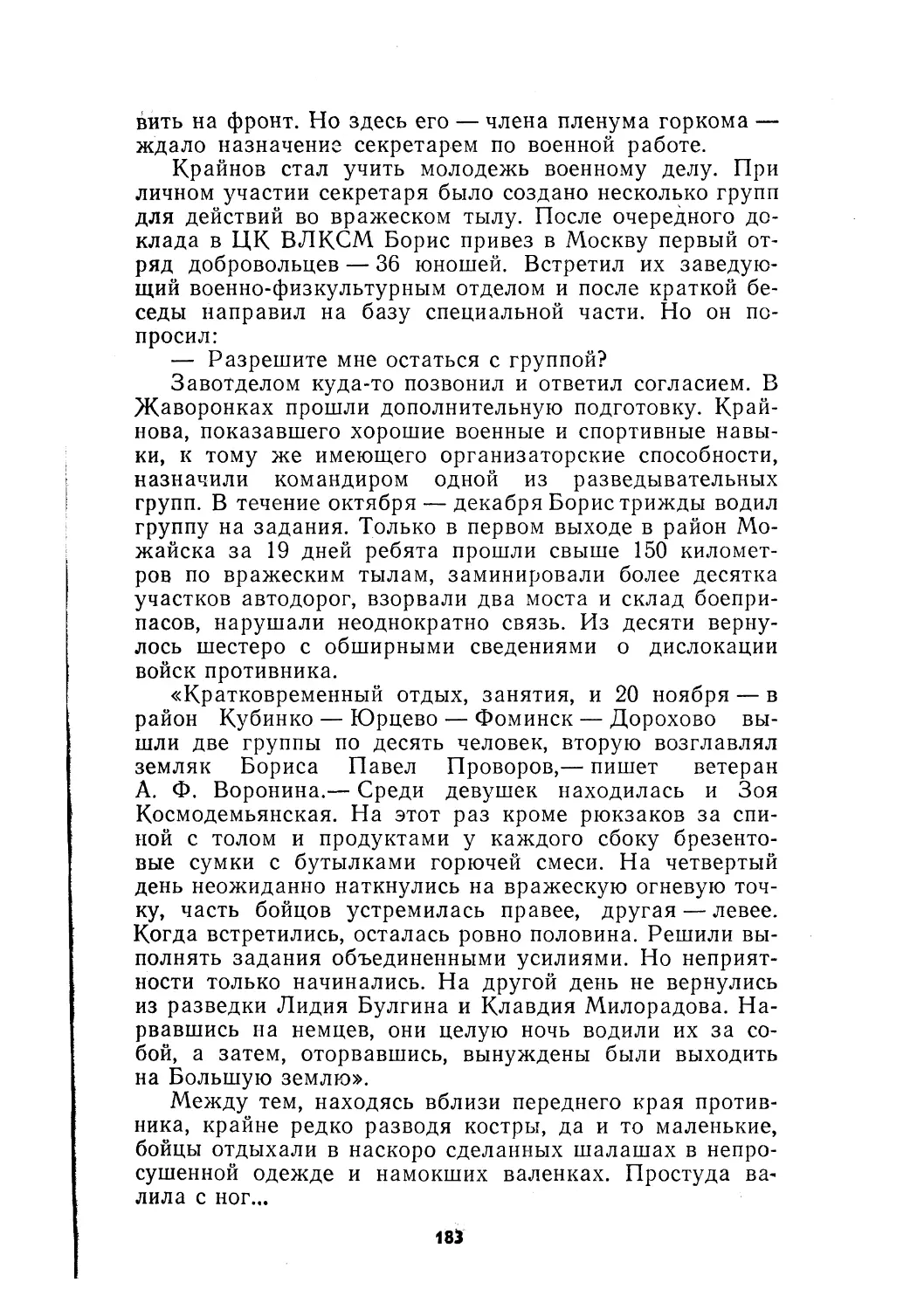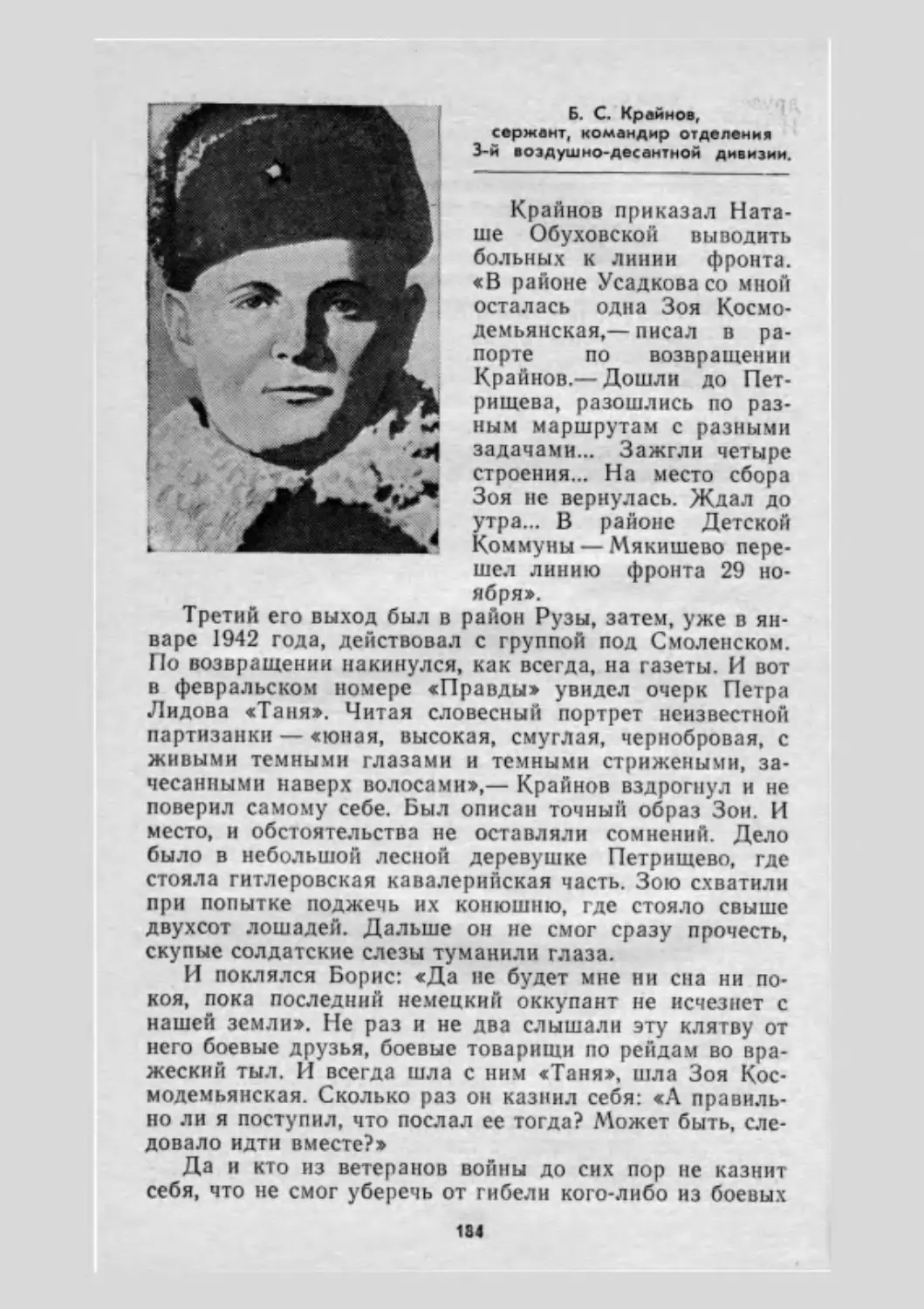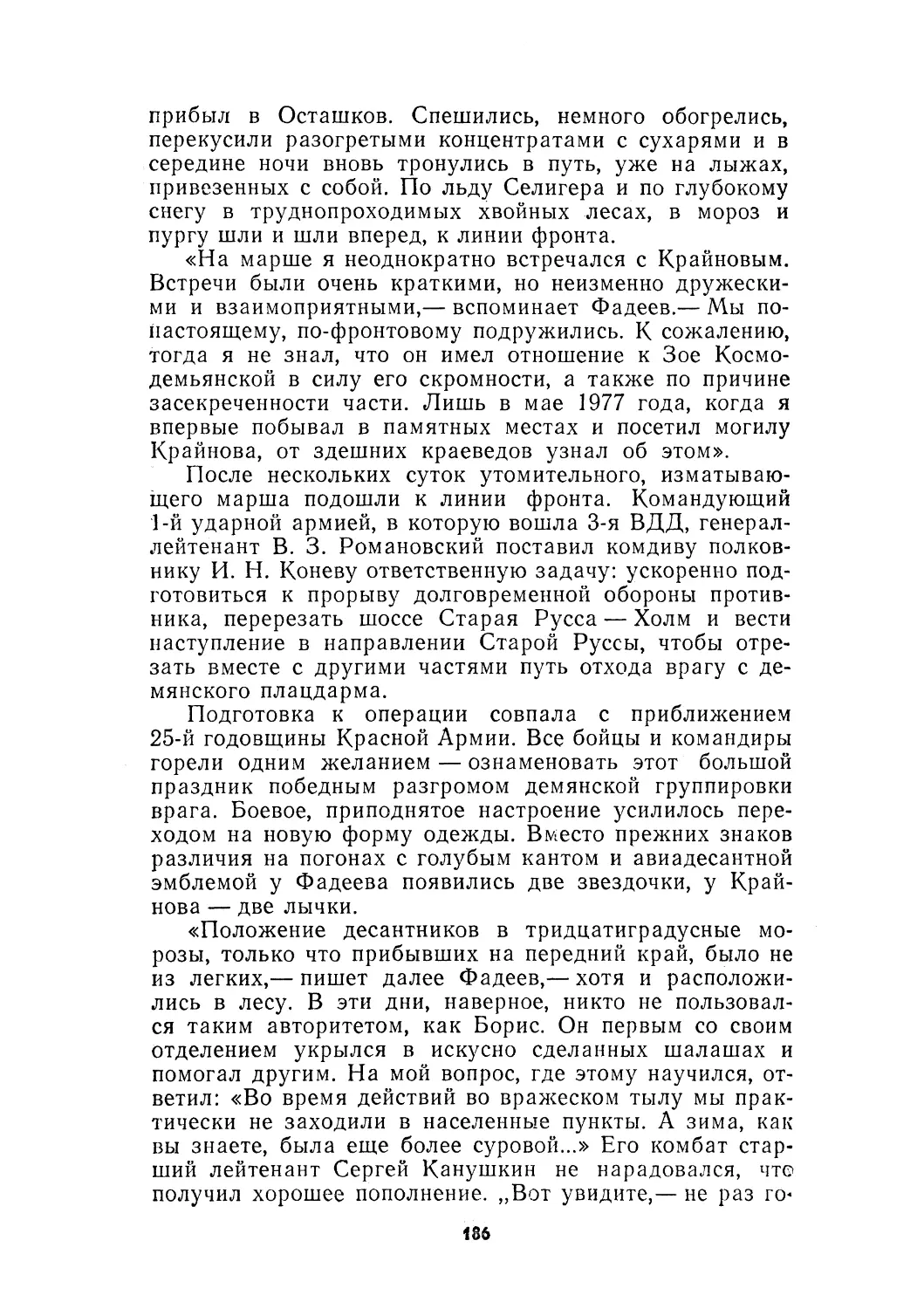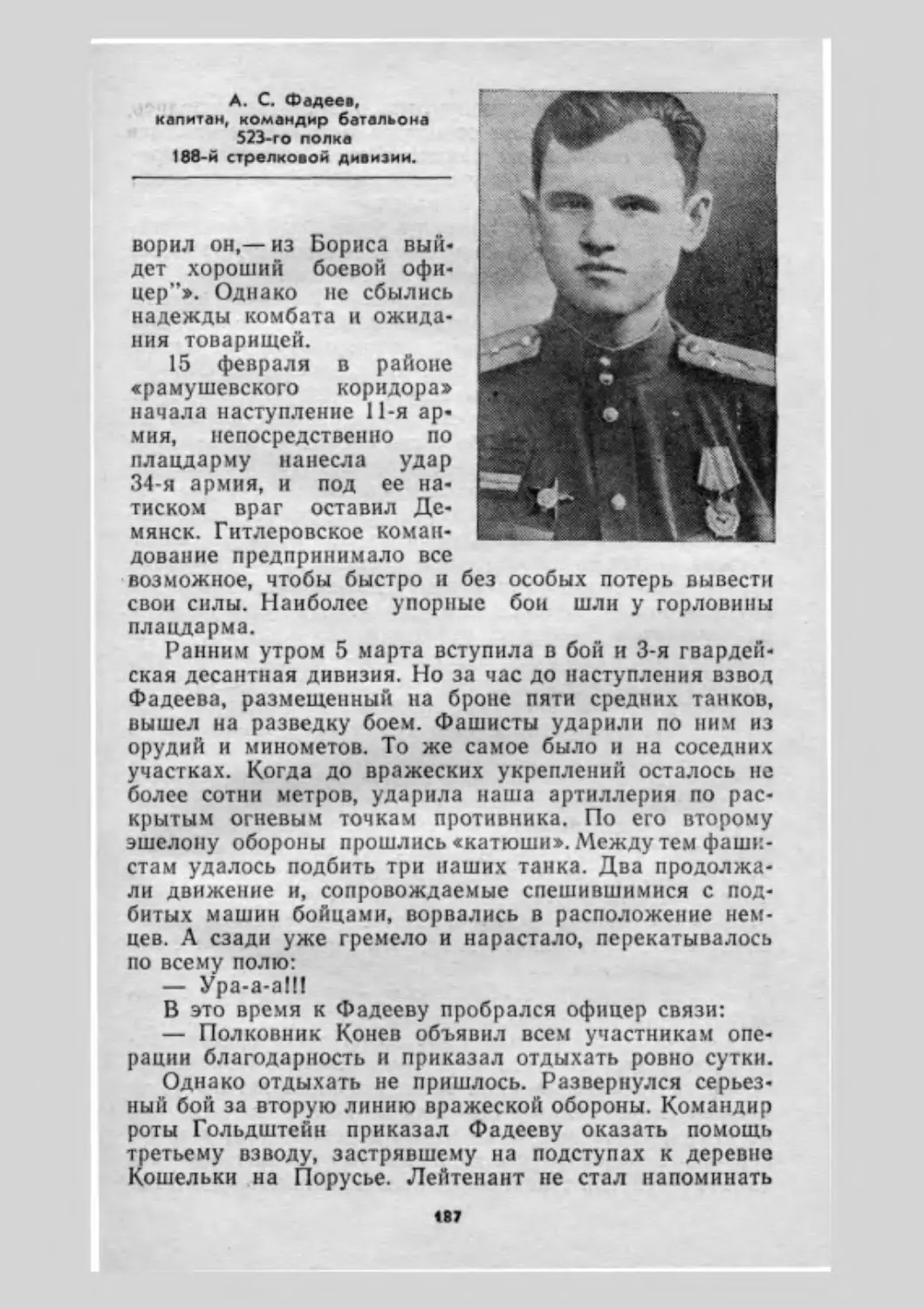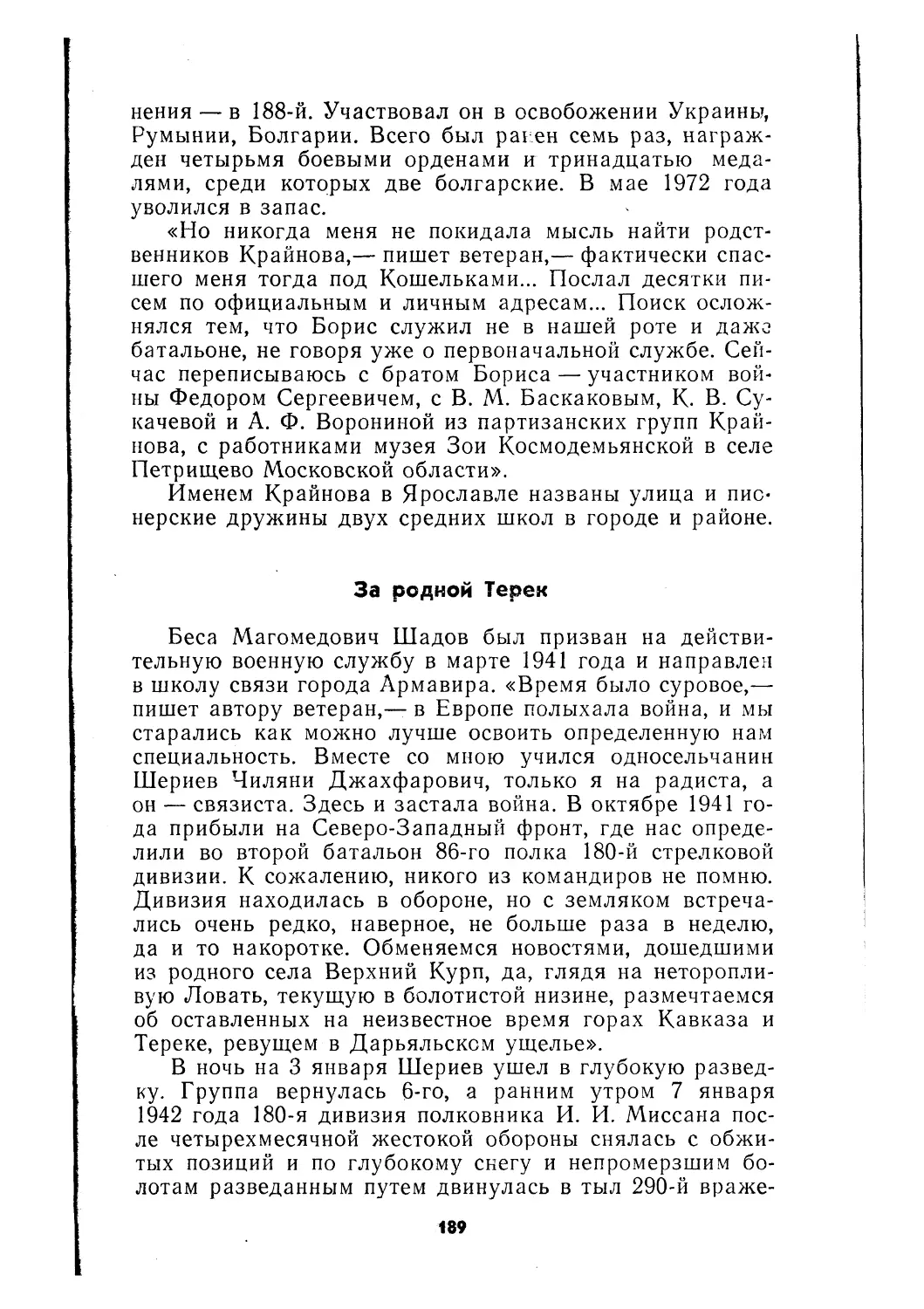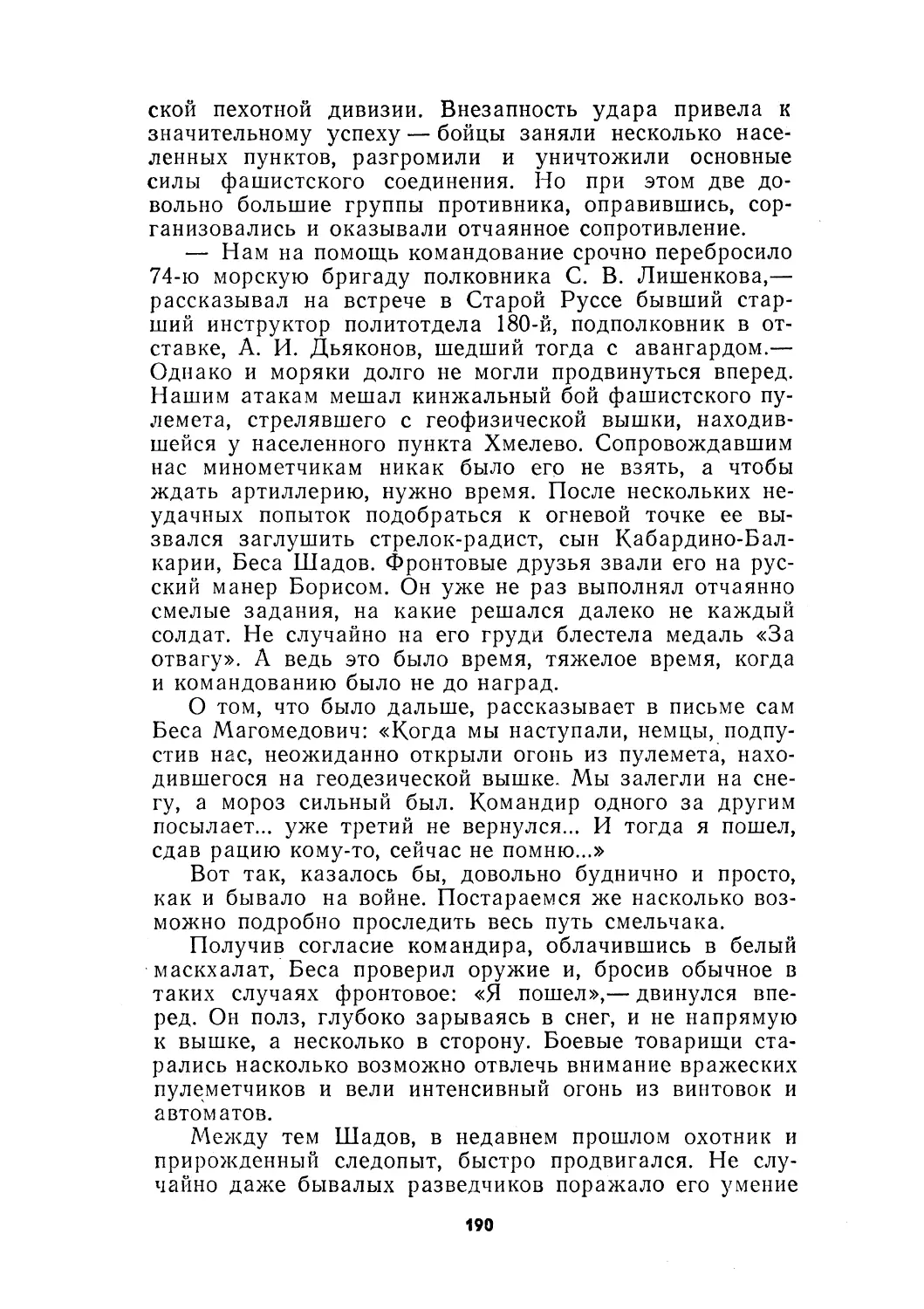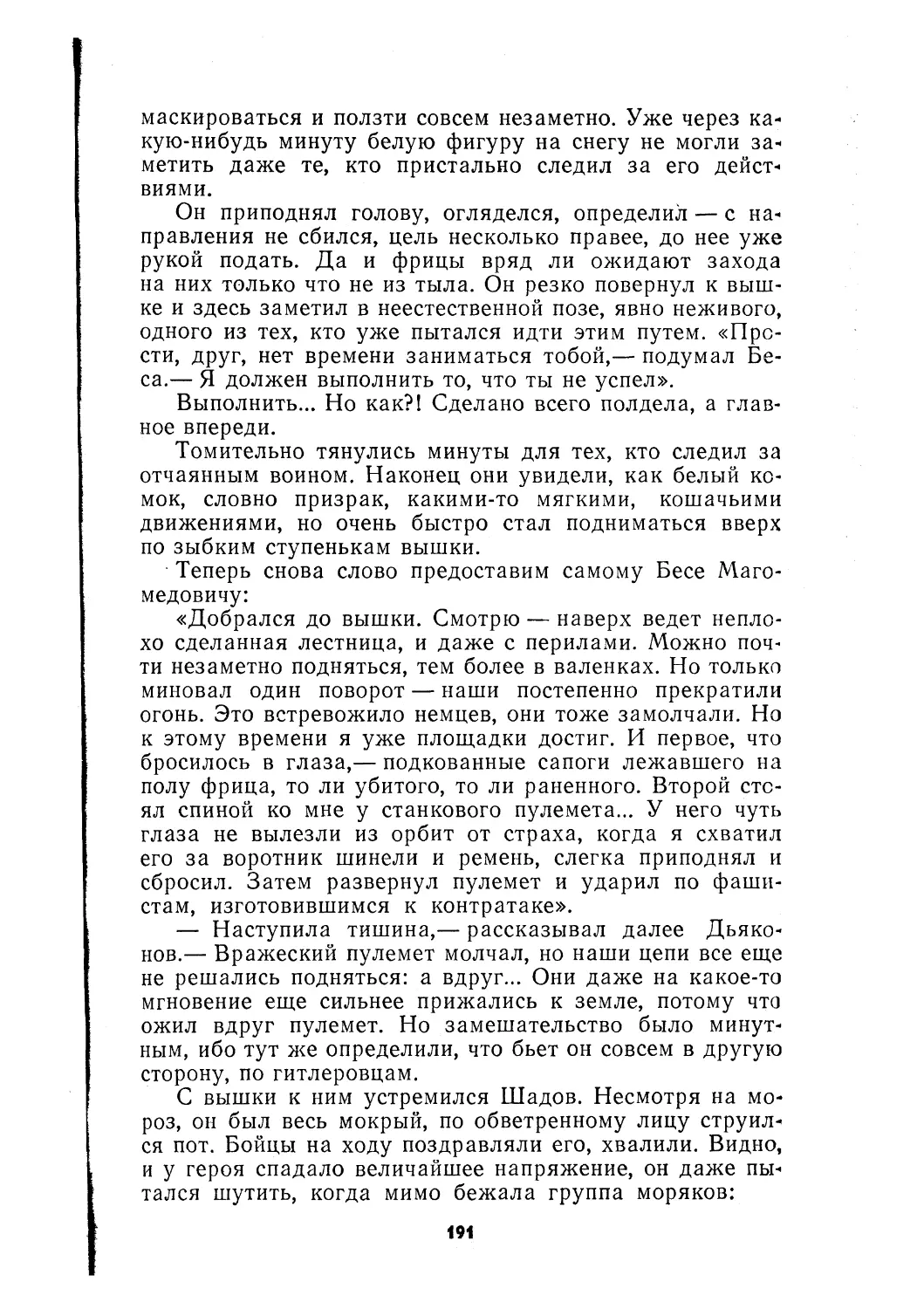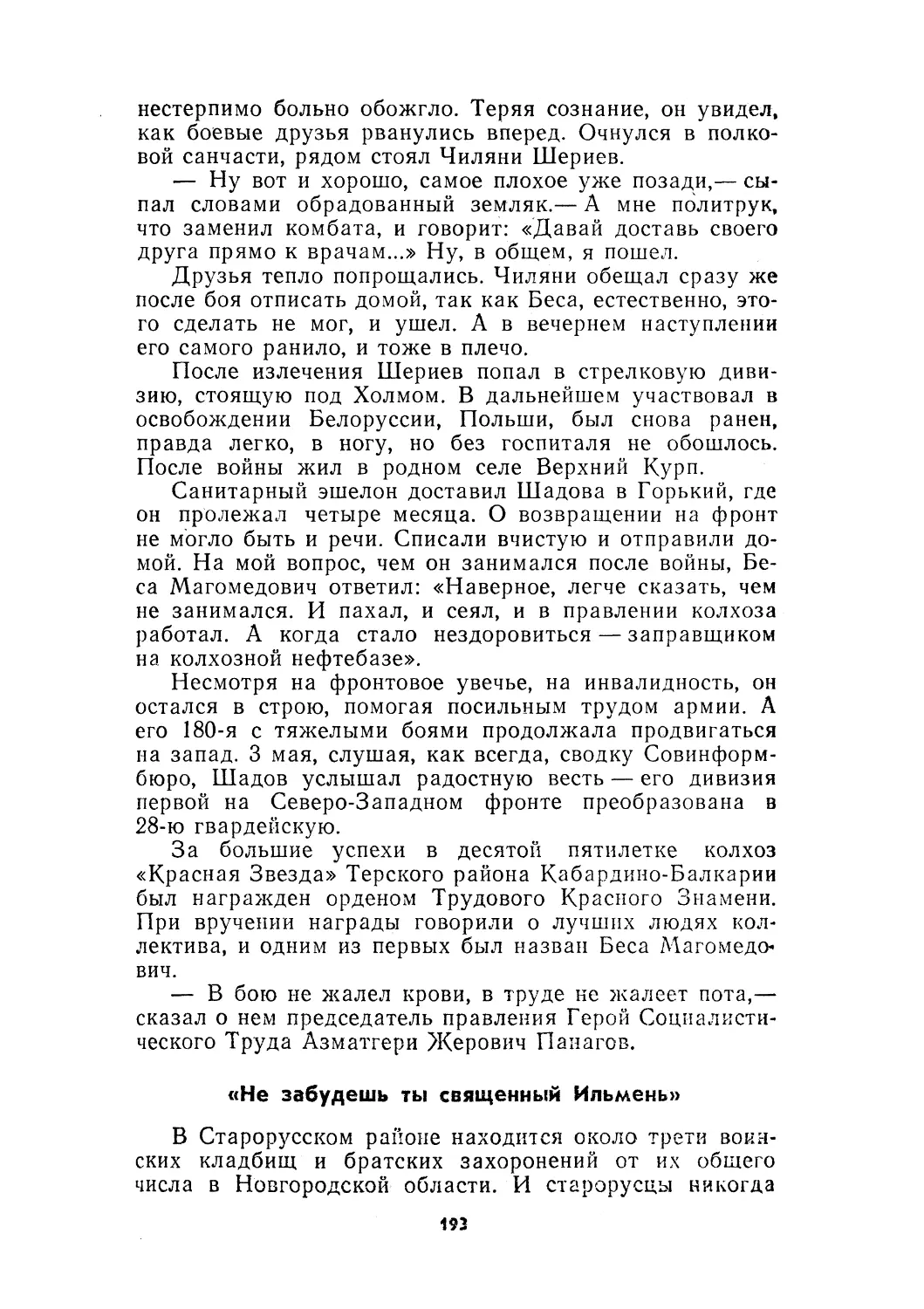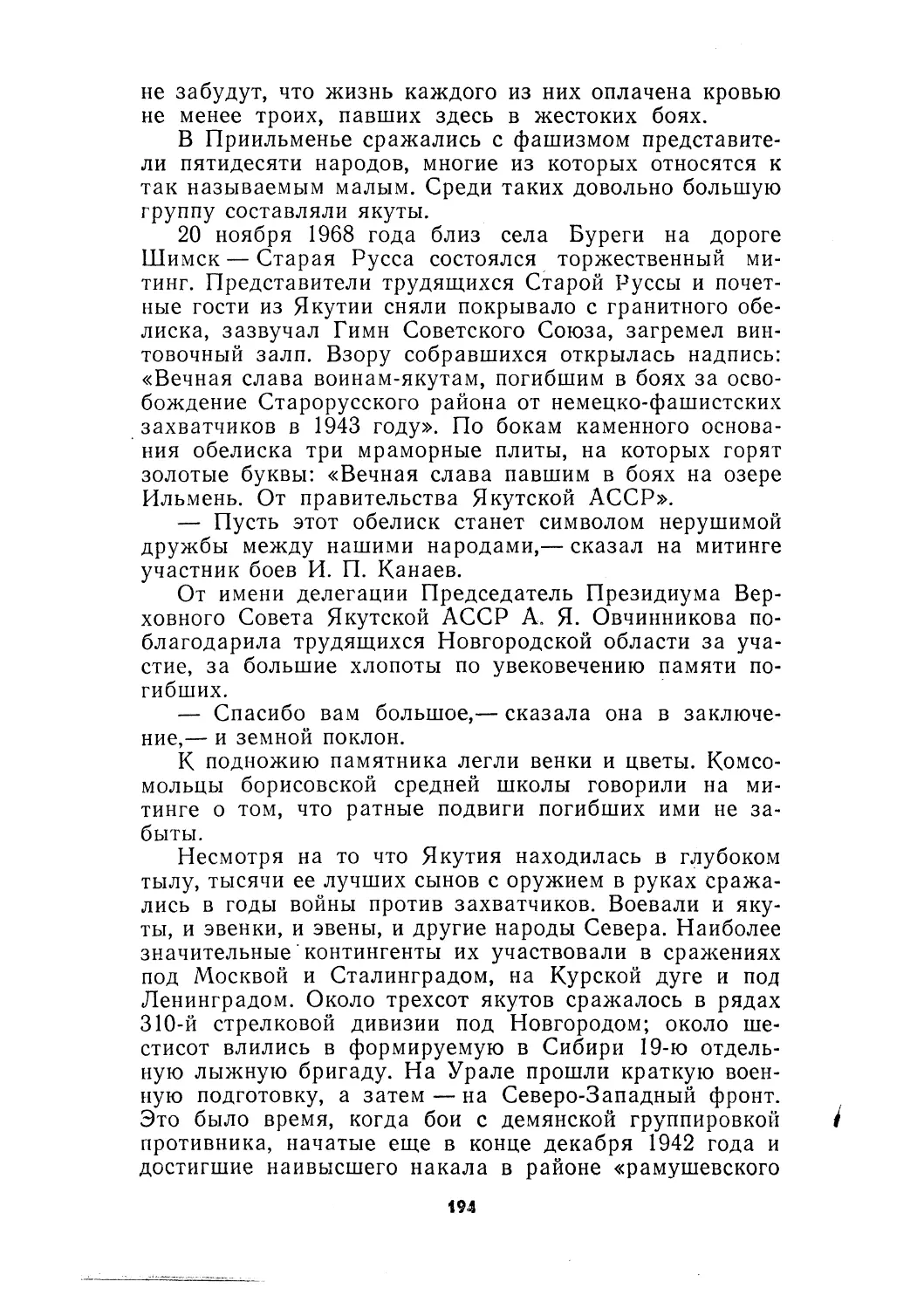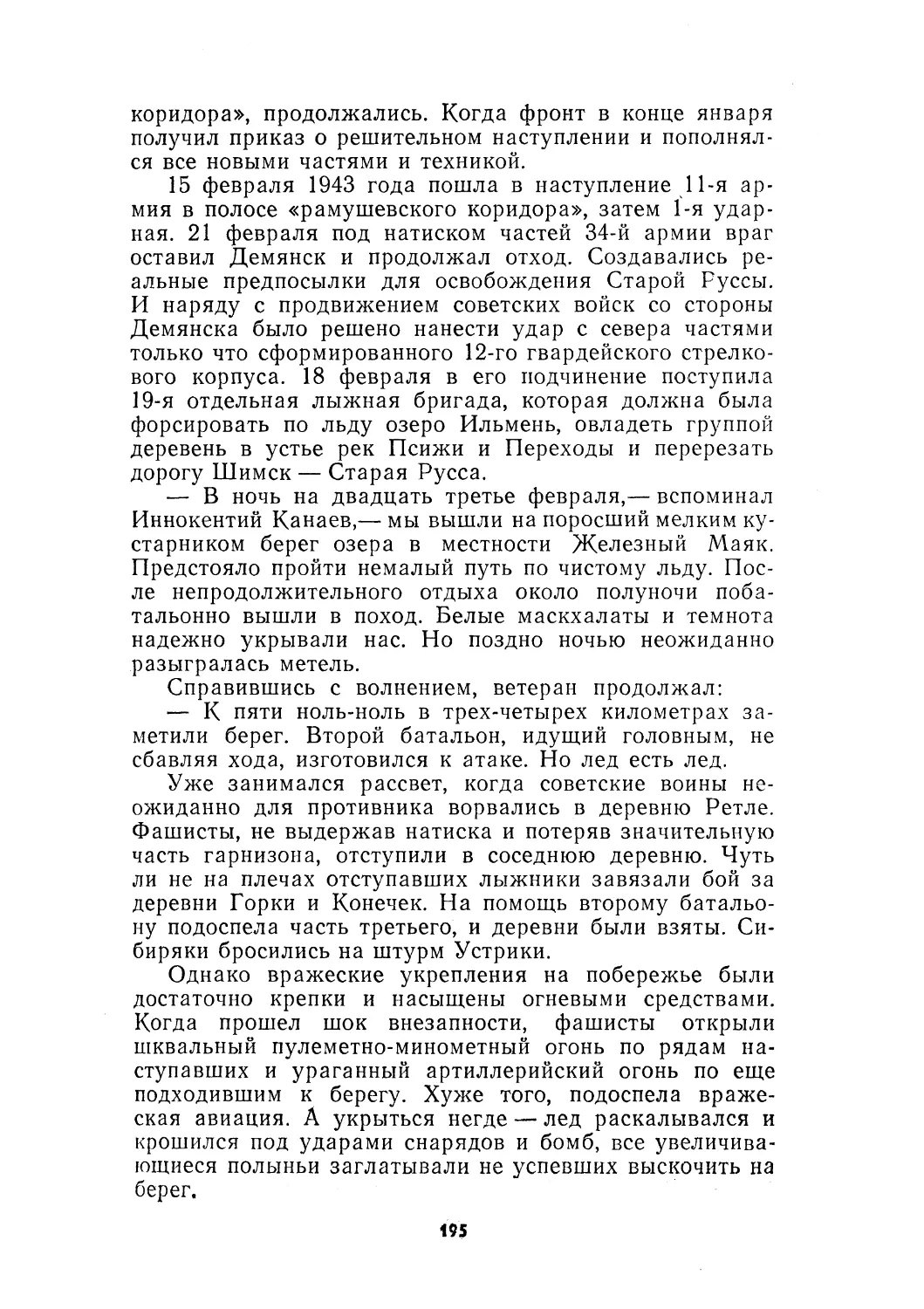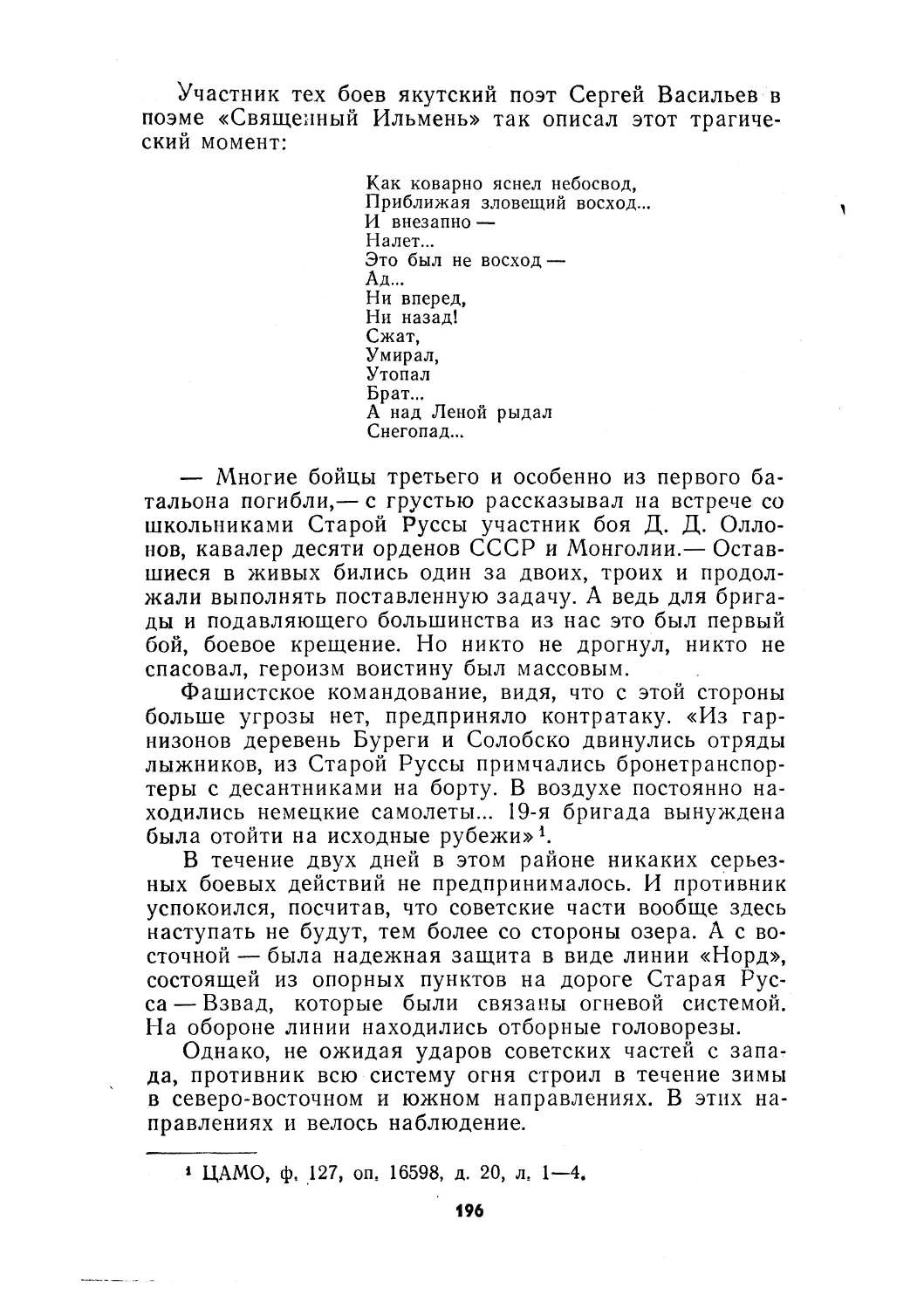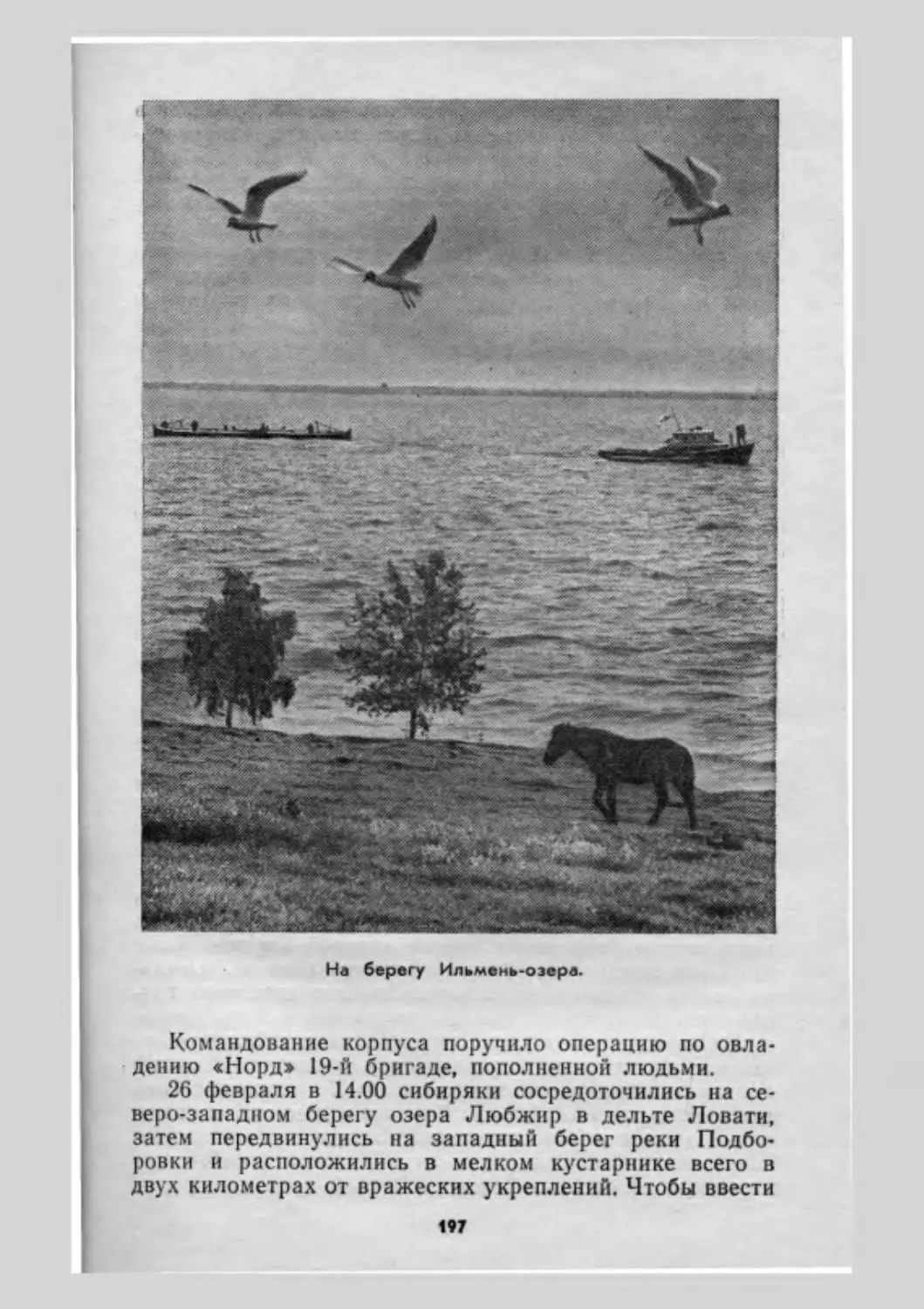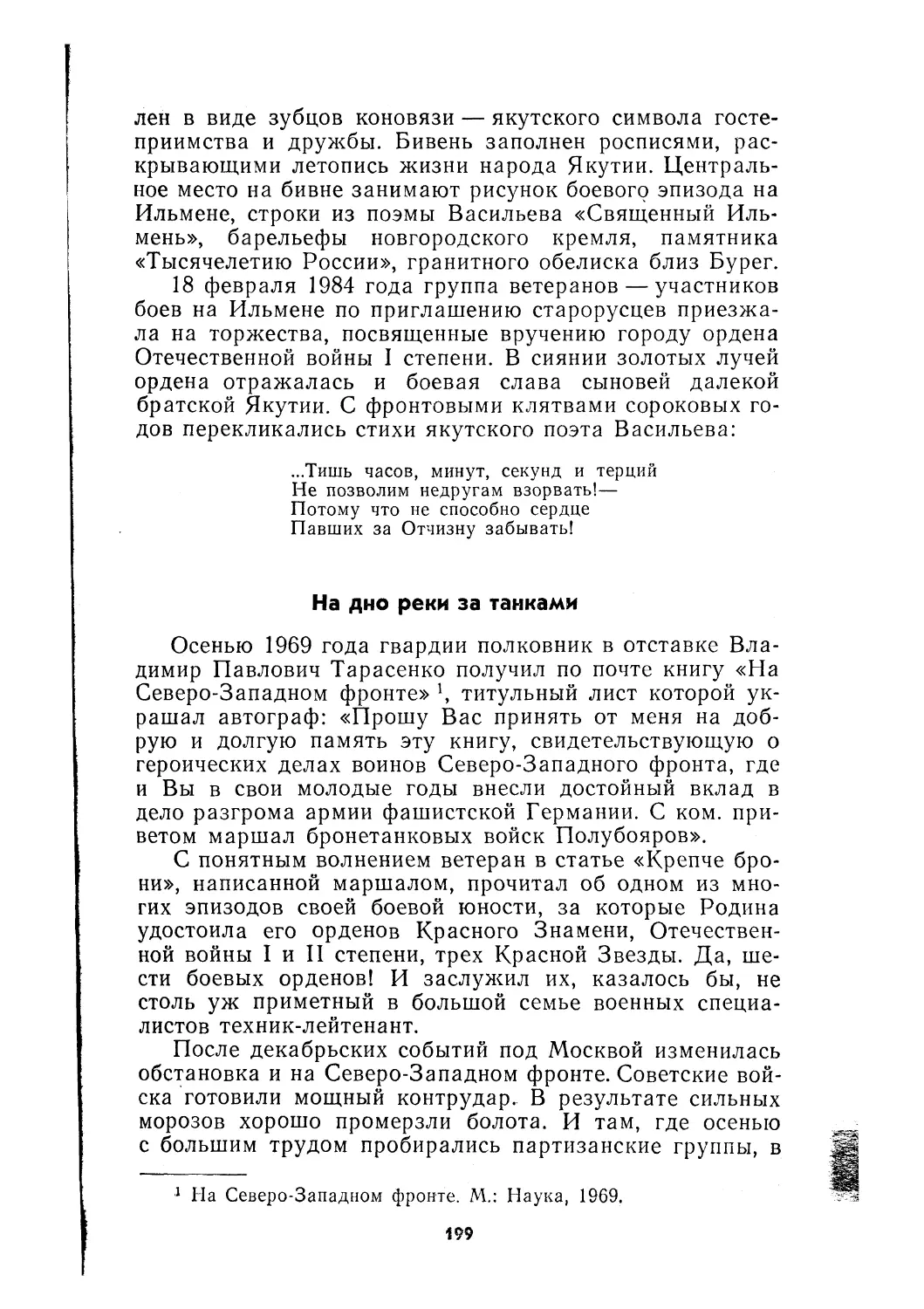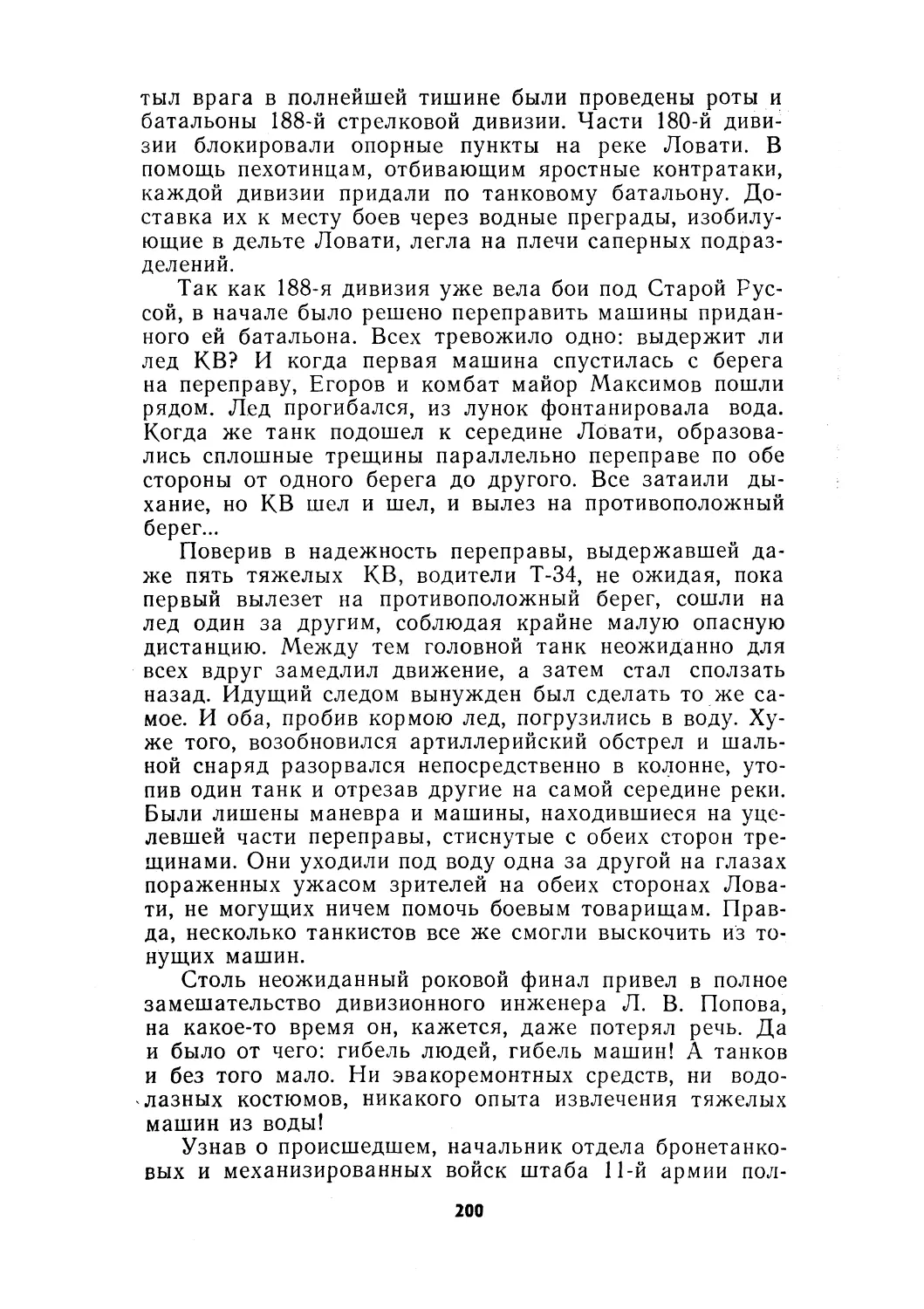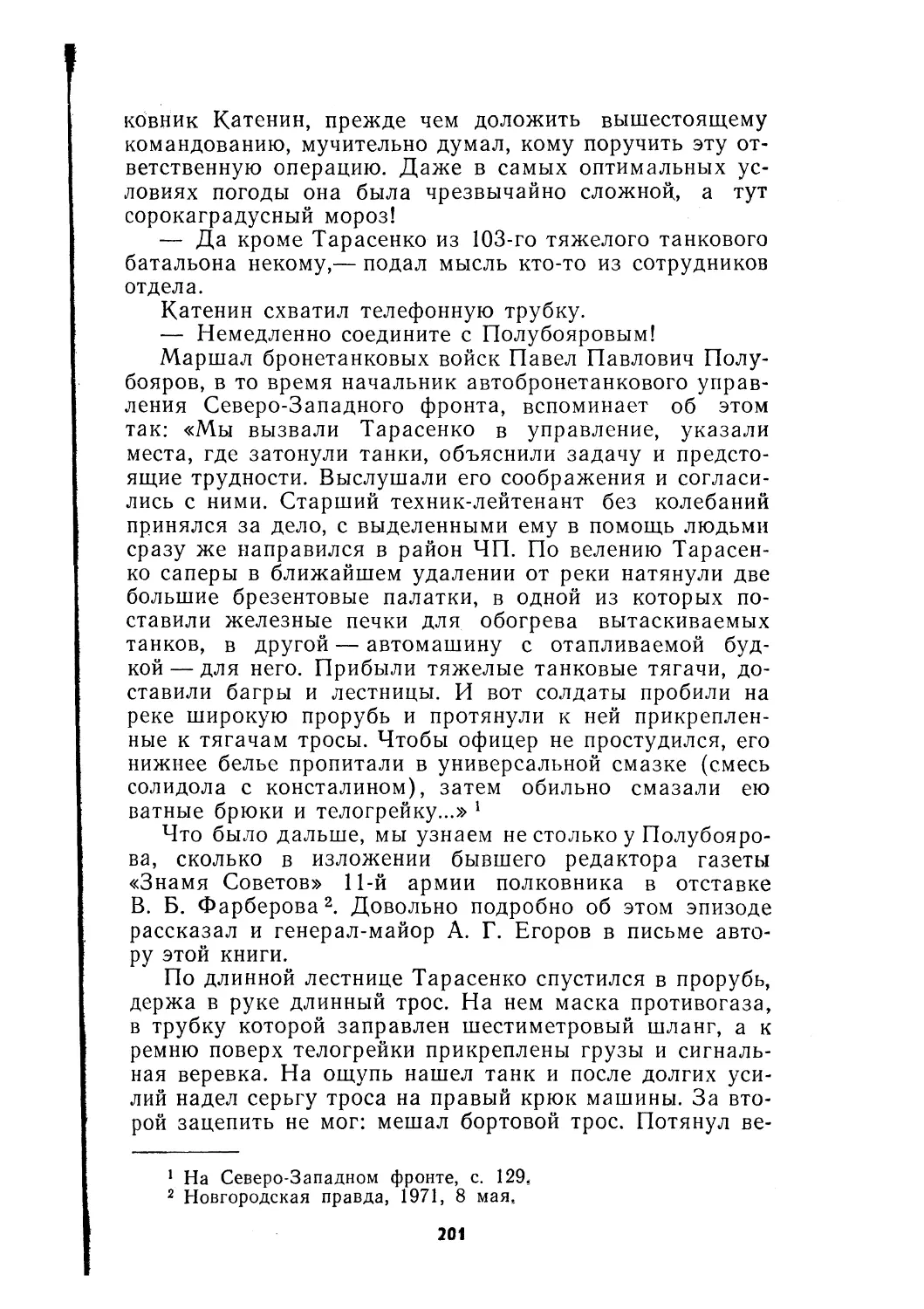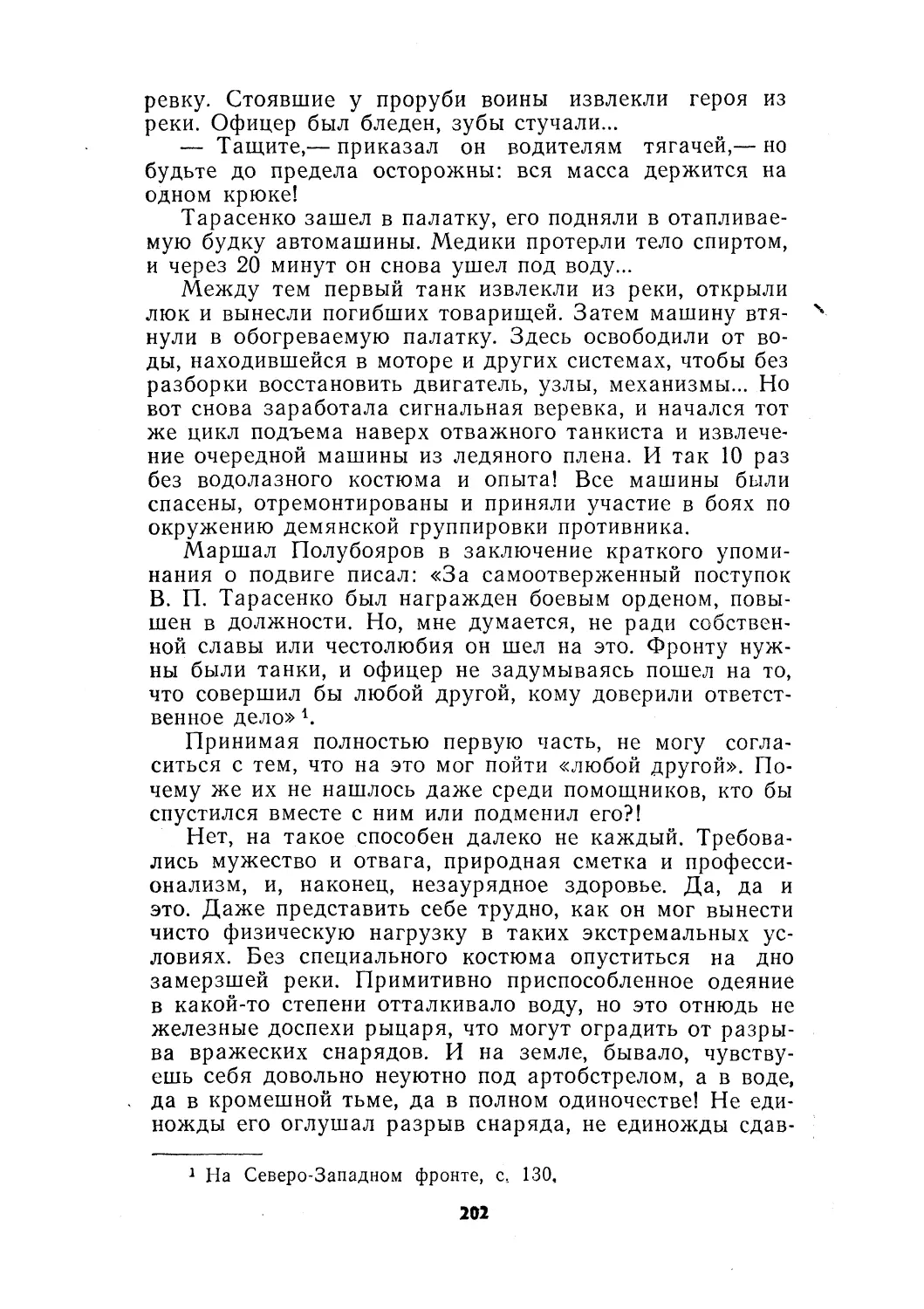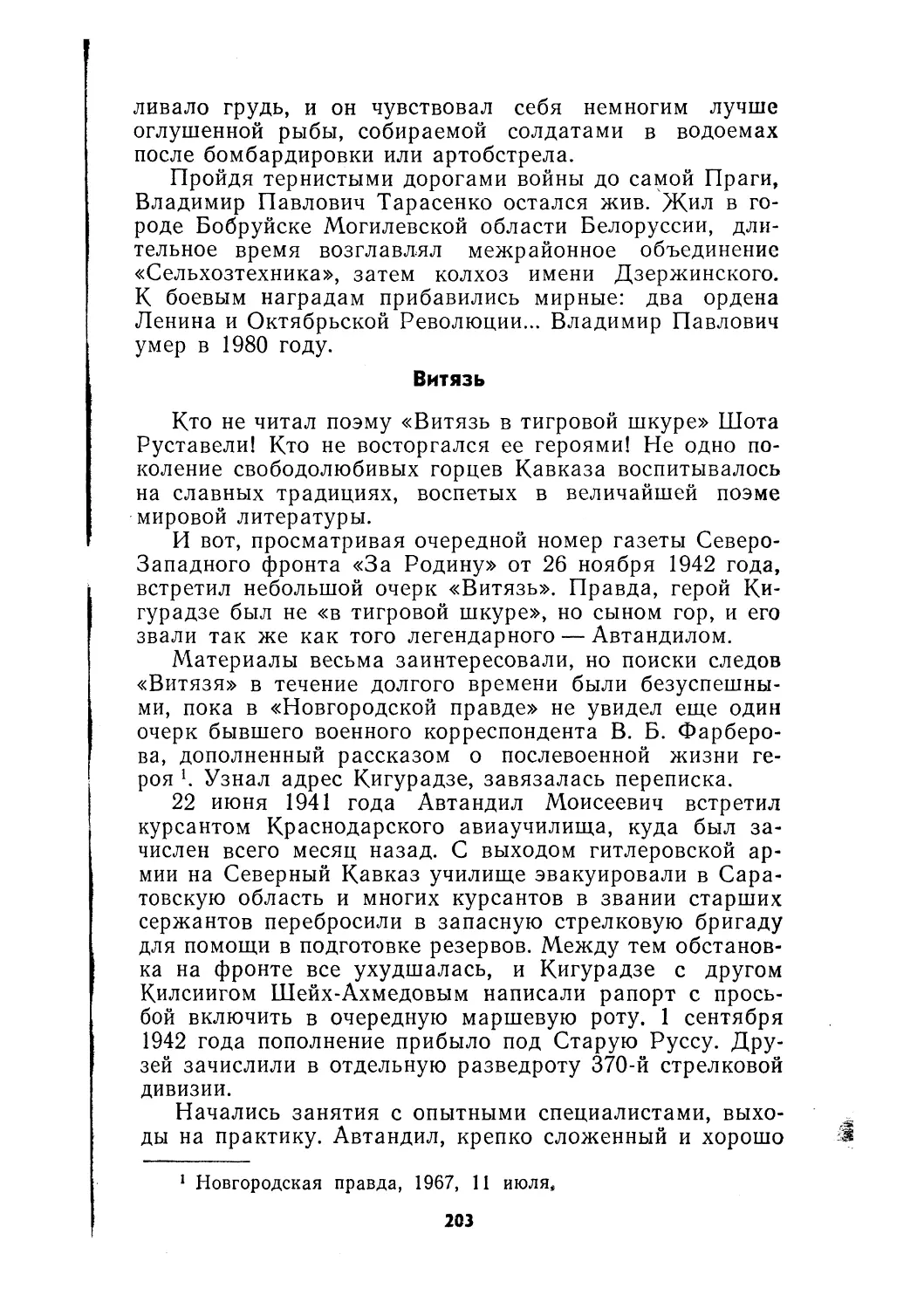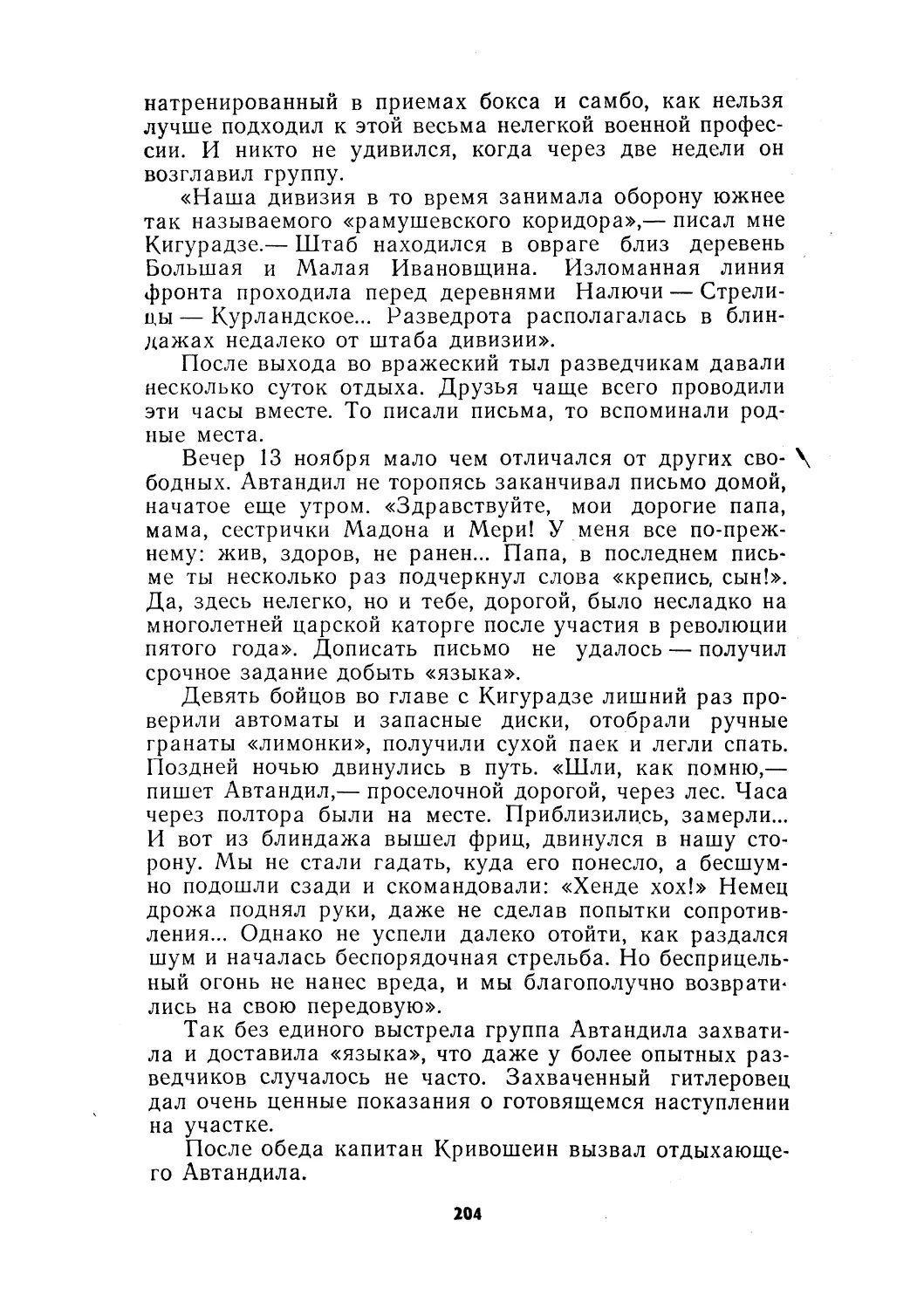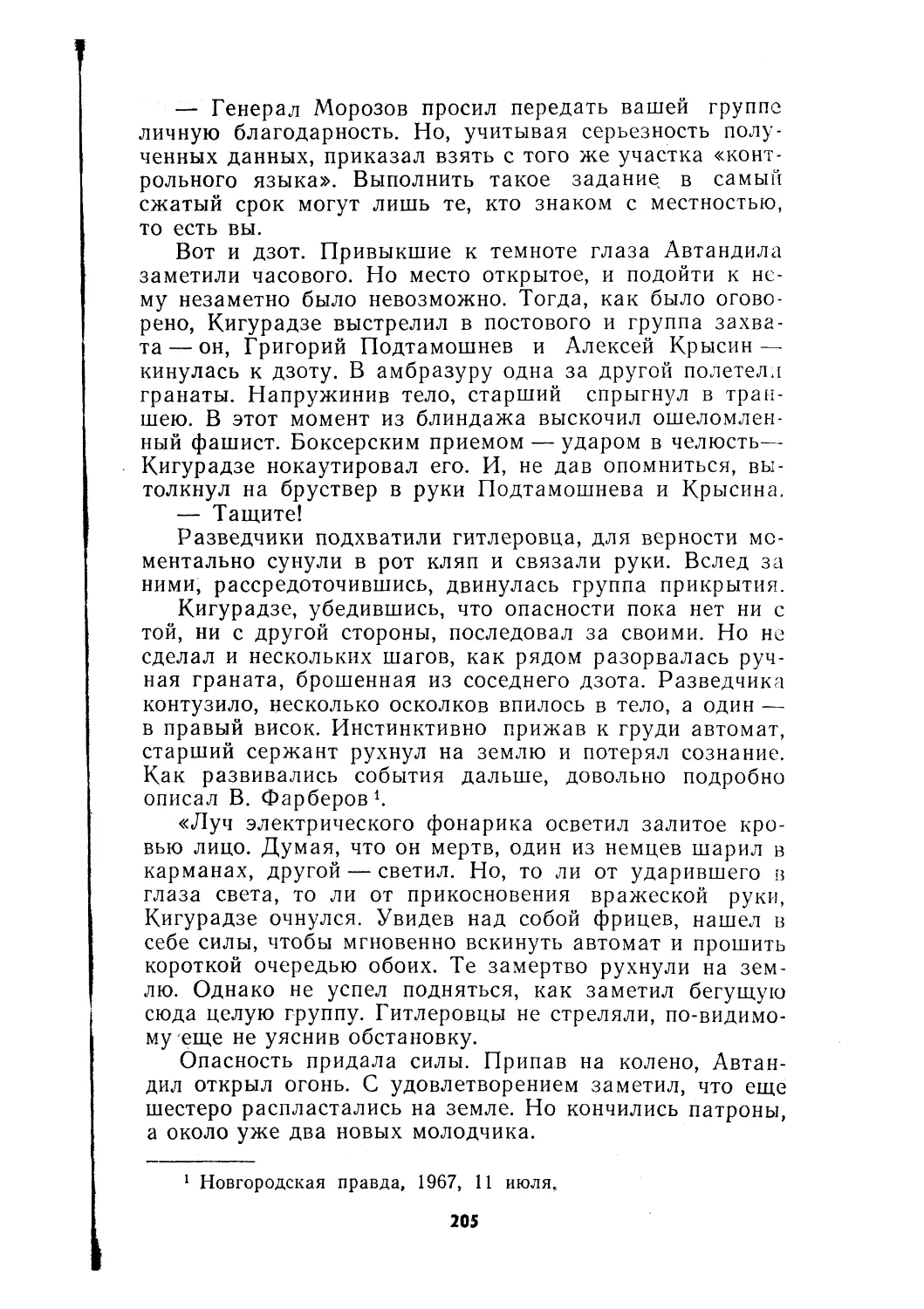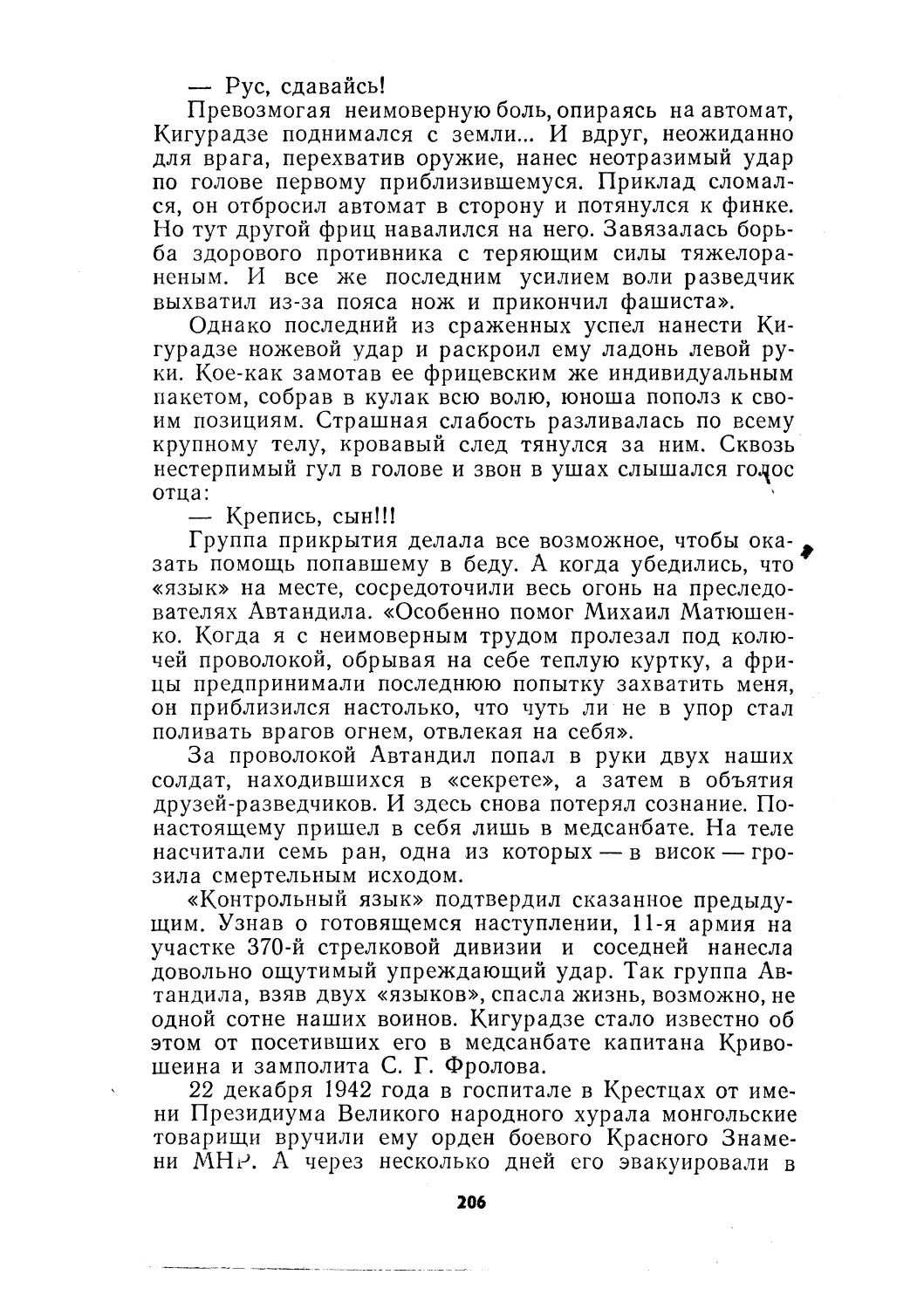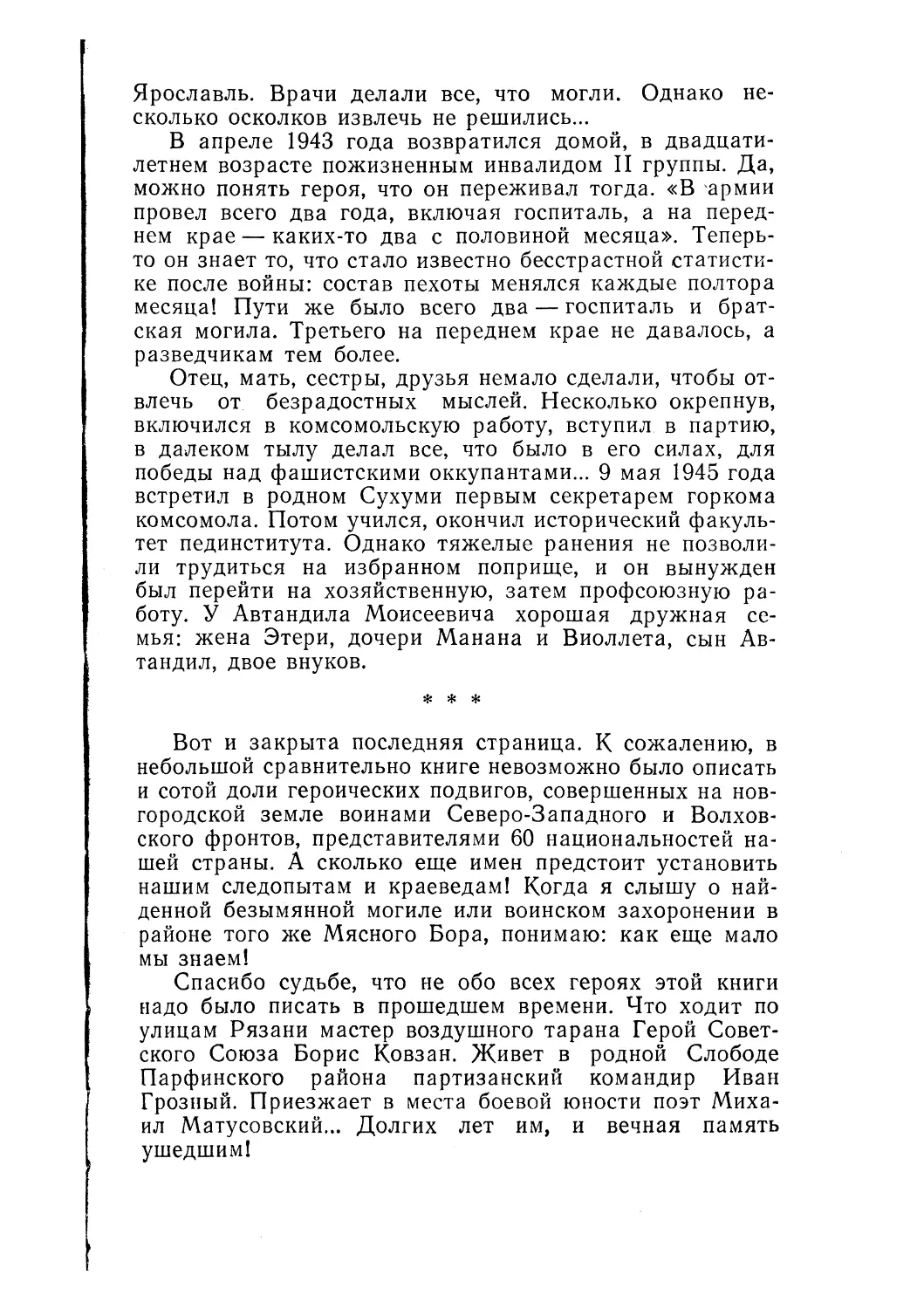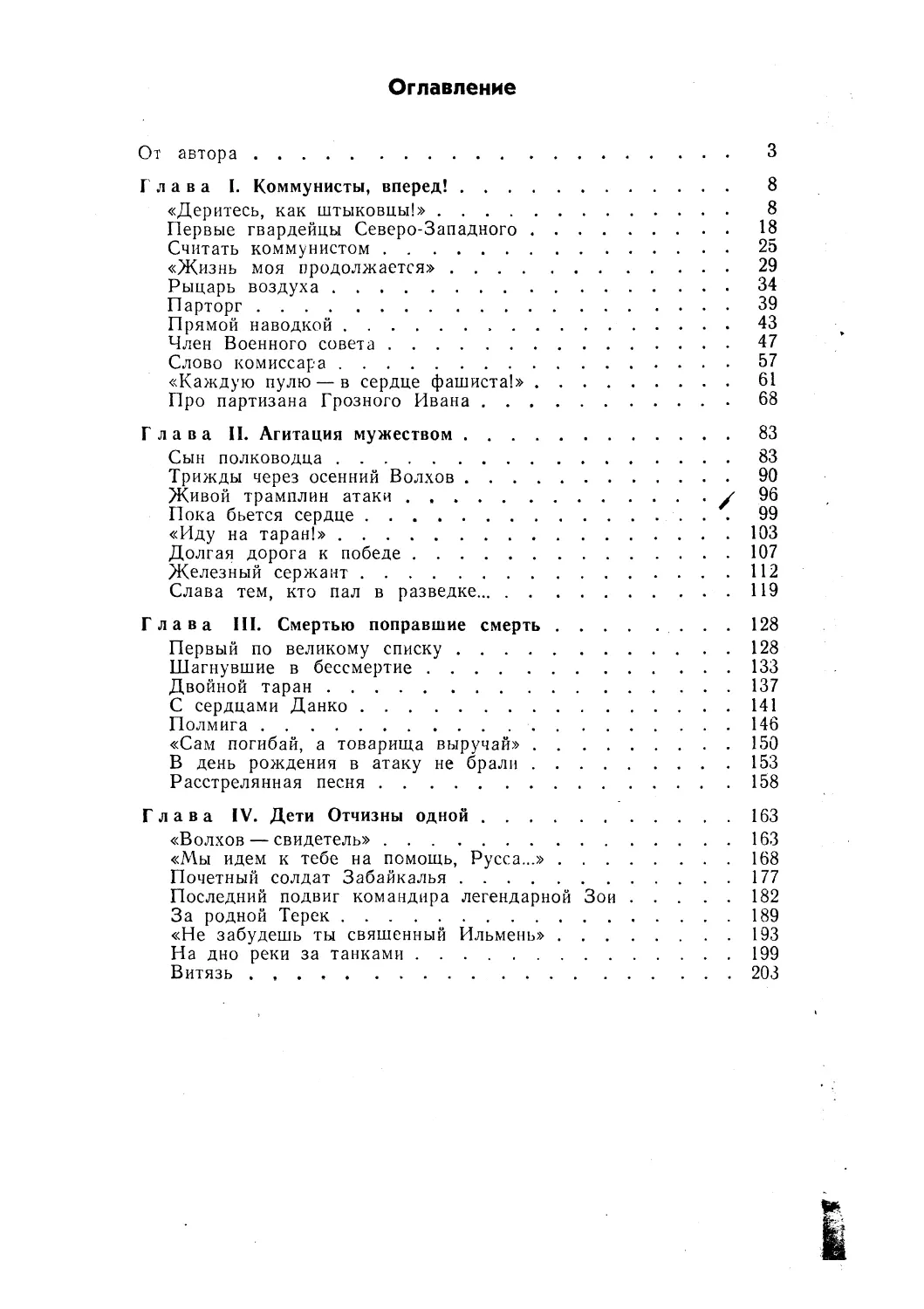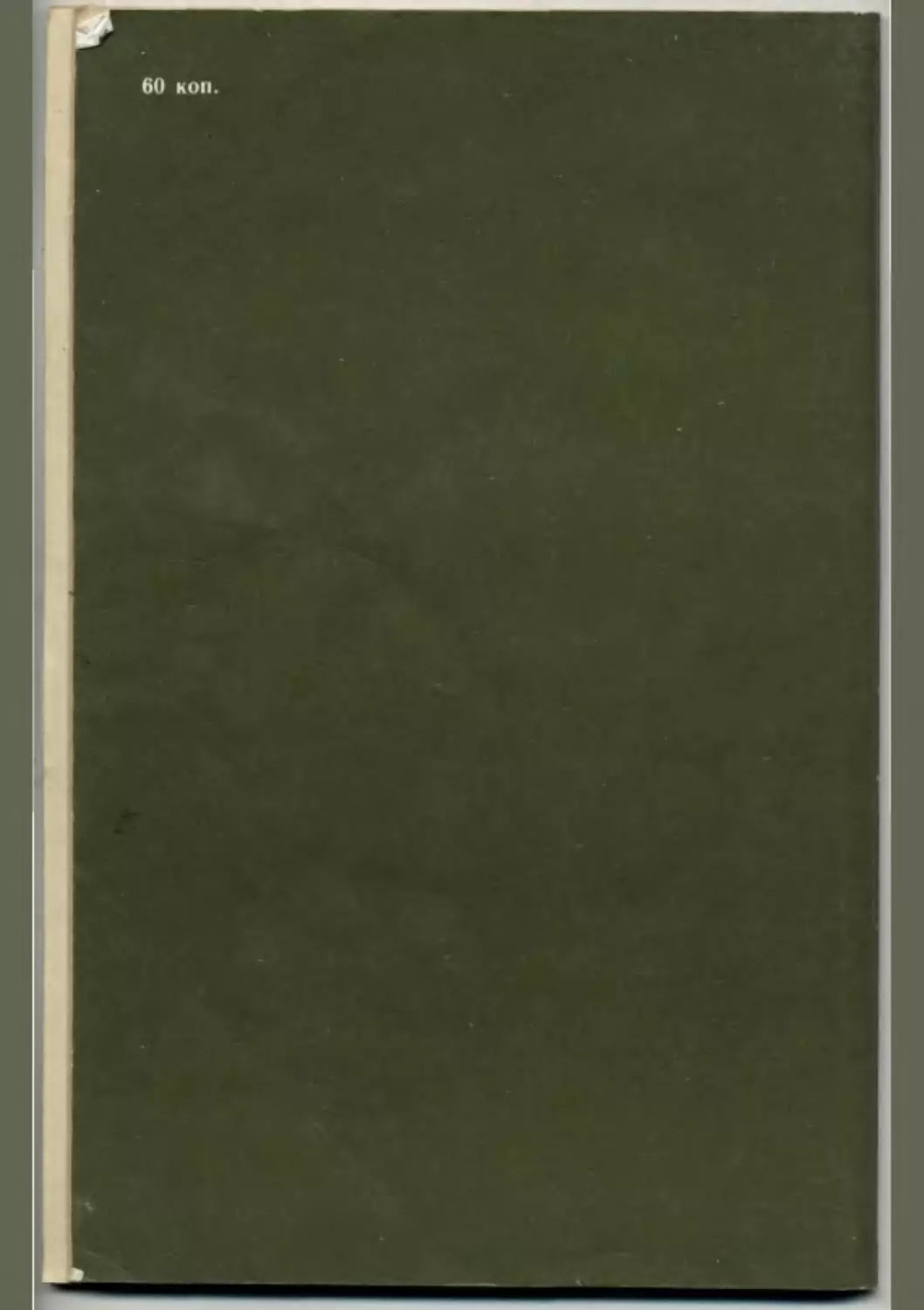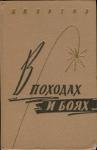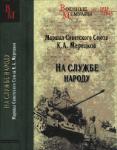Автор: Вязинин И.Н.
Теги: история история ссср история военного искусства история второй мировой войны издательство лениздат
ISBN: 5-289-00323-1
Год: 1989
Текст
\МКА РОССИЯ, А ОТСТУПАТЬ
ЧЕН1КЩАТ
И. Н Вязинин
«...ДЕТИ
ОТЧИЗНЫ
одной»
Сканирование и обработка LUCKY RAT
Вопросы и пожелания olegvedehin@yandex.ru
ЛЕНИЗДАТ 1989
Вязинин И. Н.
В99 «...Дети Отчизны одной».— Л.: Лениздат, 1989—
208 с., ил.
ISBN 5-289-00323-1
В годы Великой Отечественной войны на новгородской земле
сражались с врагом воины 60 национальностей. В книге новгородско-
го историка на примерах героизма этих солдат и офицеров показа-
но, что победу над немецко-фашистскими захватчиками помогало
ковать братство советских людей, представителей нашей многона-*
циональной страны.
Рассчитана на массового читателя.
п 1305010000—236
В М171(03)___89 89 ББК 63.3 (2 4Но)
Редактор Л. М. Дериглазова
Иван Николаевич Вязинин
«...ДЕТИ ОТЧИЗНЫ ОДНОЙ»
Заведующий редакцией В. А. Лосев. Художник А. А. Кузьмин. Фотографии
В. И. Ищенко и из архива Новгородского государственного объединенного
музея-заповедника. Художественный редактор И. В. Зарубина. Технический
редактор И. И. Дмитриева. Корректор Т. П. Гуренкова.
И Б № 4683
Сдано в набор 13.03.89. Подписано к печати 01.08.89. ОД-00173. Формат
84Х 1О8’/з2. Бумага кн.-журн. Гарн. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л.
10,92. Усл. кр.-отт. 11,55. Уч.-изд. л. 11,60, Тираж 75 000 экз. Заказ № 67.
Цена 60 коп.
Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Типография им. Володарского
Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.
ISBN 5-289-00323-1 © Лениздат, 1989
С. С. Смирнову посвящается
Все мы дети Отчизны одной,
Все мы двинулись мощной рекой...
Кто устоит перед великою силой такой?
Муса Джалиль
ОТ АВТОРА
Никогда не забудутся годы Великой Отечественной
войны, годы героического пути нашего народа, овеянные
солдатской славой. Испытания пробудили в народе луч-
шие качества, и в первую очередь беспримерную силу
духа, личное мужество, смекалку. И еще — милосердие
и чуткость друг к другу, несмотря на крайнюю жесто-
кость войны.
Однако далеко не все, что было в те «сороковые, ро-
ковые», известно широкому кругу людей. Многое забы-
вается самими ветеранами и может быть утрачено на-
всегда. А история родного народа не такая вещь, к кото-
рой позволительно относиться легкомысленно. Наше по-
читание воинского долга не может быть расплывчато-
всеобщим. Думается, в первую очередь это касается тех,
кто воевал и кого не тронула чудовищная жатва, собран-
ная войной на нашей земле. Но много ли осталось участ-
ников и очевидцев былых сражений? До сих пор их не-
заметно догоняет война. И потому долг памяти полон
для бывших фронтовиков особого смысла.
Нас никто не уговаривал идти в военные училища в
конце тридцатых годов. Опасность, нависающая над Ро-
диной, будоражила сознание, усиливала свойственное со-
ветским людям чувство интернационализма. Отцы и
старшие братья не щадили жизней на Халхин-Голе и в
Испании. Мы ежедневно с нетерпением ожидали сооб-
щений ТАСС. Самым популярным головным убором
была в то время испанская пилотка. На школьных ве-
черах и комсомольских собраниях гремела светловская
«Гренада». И в то же время в мелодию «Широка стра-
на моя родная...» вплеталась другая, тревожная — «Если
3
Участники военно-патриотической
экспедиции «Долина»
идут в Мясной Бор.
Следопыт Сергей Пестряцов
из Набережным Челнов.
завтра война...>. Все больше и больше сгущались тучи
над горизонтом — вторая мировая вплотную подходила
к нашим границам.
Достигнув призывного возраста, пришел я за на-
правлением в военкомат. Успешно сдал экзамены в Ле-
4
нинградское военно-медицинское училище имени Щорса
и получил двухнедельный отпуск. Вечером выехал до-
мой, а утром — война. Часа через два после сообщения
ТАСС был в военкомате, у которого толпились сотни
людей. Отпускное удостоверение вручил дежурному. По-
жилой капитан усталым, как сейчас помню, голосом
сказал:
— Ты уже определился, сынок. А нам вон сколько
еще определять надо.
После ускоренного курса в июне 1942 года прибыл
на Южный фронт в район Ростова-на-Дону, при оборо-
не которого погиб старший брат Николай, о чем я узнал
буквально накануне выезда. Здесь был зачислен коман-
диром медсанвзвода пехотного батальона 395-го (позд-
нее— 1-й) гвардейского полка 2-й гвардейской стрелко-
вой дивизии.
Бывали случаи, когда солдатам милосердия приходи-
лось пускать в ход оружие, вливаться в ряды опустев-
ших рот во время атаки. И не случайно военфельдшеров
батальона даже офицеры уважительно называли «докто-
рами», санитаров — «братьями» и «сестричками».
Незабываемый День Победы встретил под Будапеш-
том. День был яркий, солнечный, соответствующий на-
шему настроению и ликованию. Одно омрачало: сколько
боевых друзей потеряли на пути к нему! К концу войны
из нескольких поколений фронтовиков рождения 1919—
1924 годов остались в живых всего три процента. И по-
клялись мы никогда не забывать тех, кто не дожил до
9 мая 1945 года...
Сразу после демобилизации, которая последовала в
феврале 1947 года, увлекся историей родного края. С
тех пор и включился в активную военно-патриотическую
работу.
В 1965 году мне довелось с новгородской делегацией
побывать на первом слете победителей Всесоюзного по-
хода по местам революционной, боевой и трудовой сла-
вы советского народа, проходившем в Брестской крепо-
сти-герое. С сердечным трепетом ступали новгородцы по
священной земле. Здесь мы и встретились с писателем
С. С. Смирновым, воспевшим подвиг Брестской цитаде-
ли. Удалось с ним побеседовать, напомнить о пребыва-
нии на Северо-Западном фронте, где воевали представи-
тели 60 национальностей. Сергей Сергеевич обещал на
следующий год побывать в местах своего боевого кре-
щения. Обещание он выполнил.
5
Одна из находок следопыте*— партийный билет комиссара
разведотдела 2-й ударной армии В. И. Мотрошилоаа.
Автор книги «Брестская крепость» давно уже интере-
совался судьбой 2-й ударной армии и Любанской опера-
цией, в которой, по свидетельству генерал-полковника
Ф. А. Самсонова, ударная потеряла до 10 тысяч убиты-
ми и около 10 тысяч пропавшими без вести. Смирнов
познакомился с краеведом Николаем Ивановичем Орло-
вым, выезжал с ним в Мясной Бор, написал сценарий
документального фильма «Комендант „Долины смер-
ти”», пригласил на Центральное телевидение.
К большому сожалению, из-за тяжелой болезни и
преждевременной кончины в 1976 году Сергей Сергеевич
не успел осуществить все начатые дела. Через несколь-
ко лет ушел из жизни и неутомимый следопыт Н. И. Ор-
лов. Но самоотверженный поиск, начатый Николаем Ива-
новичем, продолжается и в наши дни.
Его ведет военно-патриотическая экспедиция «До-
лина», в составе которой отряды из Новгорода, Казани,
Набережных Челнов, Москвы, Архангельска и других
городов страны. Участниками экспедиции в Мясном Бо-
ру обнаружены и захоронены останки свыше 3 тысяч сол-
дат 2-й ударной армии. Найдено множество солдатских
медальонов, позволивших вернуть из небытия имена вои-
нов. В местах поиска сражались и герои моей книги:
Муса Джалиль, И. В. Зуев, Н. В. Оплеснин, воины из
самых разных мест нашей многонациональной страны.
Да, у погибших есть горькая привилегия перед нами,
живыми: они не стареют. Так пусть же не стареет и на-
ша память о них.
Глава I
КОММУНИСТЫ, ВПЕРЕД!
«Деритесь, как штыковцы!»
На братском кладбище у деревни Борки, близ стан-
ции Пола, установлен обелиск из черного мрамора. На
нем высечено: «Вечная слава героям Великой Отечест-
венной войны. Генерал-майор Штыков Серафим Григорь-
евич». У подножия памятника течет многоводная леген-
дарная Ловать, помнящая «вещего» Олега, Александра
Невского, Дмитрия Донского и других славных защитни-
ков земли Русской.
Здесь повернули вспять орды хана Батыя. Здесь бы-
ли остановлены и гитлеровские полчища. Немалая за-
слуга в этом генерала Штыкова и его воинов. Листая в
Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина
в Москве ветхие, ставшие редкостью подшивки
газеты Северо-Западного фронта «За Родину!», я до-
вольно часто встречал имена Штыкова и штыковцев. В
1965 году мне посчастливилось встретиться с его братом,
инженер-майором в отставке Виктором Григорьевичем
Штыковым. Завязалась оживленная переписка. Состоя-
лись встречи с однополчанами генерала, в частности с
его бессменным комиссаром, сыном Белоруссии,
С. Ф. Хвалеем. Познакомился с документальными сбор-
никами и мемуарной литературой, где встречается имя
генерала. Все эти впечатления и материалы и легли в
основу очерка.
Родился Серафим Григорьевич 1 января 1905 года в
г. Карабаново Владимирской губернии. Его отец, Григо-
рий Кузьмич, слесарь паровозного депо, в дни Октябрь-
ской революции вместе с железнодорожниками принимал
участие в разгроме белогвардейского мятежа в Ярослав-
ле. Мать, Екатерина Владимировна, была первой крас-
8
ной делегаткой карабановских ткачих на губернской кон-
ференции работниц во Владимире.
Четырнадцатилетним Серафим вступил в комсомол.
Окончив семилетку, работал на железной дороге. В
1920 году в составе продотряда с отцом и старшим бра-
том Алексеем ездил в далекую Сибирь за хлебом для
голодающих семей Карабанова. В следующем году ак-
тивный комсомолец был направлен в губернскую сов-
партшколу, но вскоре добровольцем ушел в Красную
Армию добивать остатки белогвардейских банд.
После окончания гражданской войны семнадцатилет-
ний юноша стал курсантом Иваново-Вознесенской пехот-
ной школы. Там по Ленинскому призыву, объявленному
после смерти вождя, вступил он в ВКП(б). Школу за-
кончил с отличием. Мечта сбылась — С. Г. Штыков стал
кадровым военным.
Между тем международная обстановка обострялась.
В 1939 году, командуя 310-м полком 8-й стрелковой ди-
визии, Штыков участвовал в освобождении Западной
Белоруссии. В следующем году отличился при прорыве
«линии Маннергейма» на Карельском перешейке во вре-
мя конфликта с белофиннами. Был награжден орденом
Красного Знамени, удостоен внеочередного звания
«полковник» и вскоре принял 5-ю мотострелковую
бригаду.
А война уже вплотную придвигалась к советским гра-
ницам. В Красной Армии шла реорганизация танково-ме-
ханизированных частей. 5-ю вместе со 2-й бригадой сли-
ли в 202-ю мотострелковую дивизию под командованием
полковника В. К. Горбачева, заместителем назначили
Штыкова. Соединение передислоцировали на террито-
рию Литовской ССР, где оно вошло в состав 12-го меха-
низированного корпуса.
23 июня 1941 года дивизия вступила в первый бой в
районе Кельме-Кражай, отражая натиск моторизован-
ной и танковой дивизий противника. Бойцы стояли на-
смерть, наносили ответные удары, переходили в контр-
атаки. Агрессор откатывался назад, потом, подтянув све-
жие силы, снова и снова рвался вперед. Лишь с наступ-
лением сумерек все затихло. На поле боя враг оставил
сотни трупов, 29 танков, еще больше транспортеров и
мотоциклов. Зенитчики сбили два самолета.
Ранним утром бой вспыхнул с удвоенной силой, но
202-я продолжала стоять непоколебимо. По воспомина-
ниям комиссара С. Ф. Хвалея, именно в эти дни все оце-
нили командирские способности Штыкова:
9
С, Г. Штыкоа, генерал-майор,
командир 202-й
стрелковой дивизии.
«Он быстро организовал
крепкие узлы сопротивле-
ния на флангах, умело нала-
дил взаимодействие стрелко-
вых подразделений с артил-
лерией н танками.
В результате трехднев-
ных боев 202-я вместе с 9-й
артиллерийской противотан-
ковой бригадой полковника
Н. И. Полянского задержа-
ла крупную группировку
врага на Шяуляйском на-
правлении, прикрыла раз-
вертывание и организацию
обороны другими соединениями. И в последующем, ма-
неврируя, дивизия совершала многокилометровые брос-
ки, выходила на фланги вражеских войск и сдерживала
их натиск в районе Острова, Порхова, Дно. В самых тя-
желых, в самых опасных местах схваток с врагом сол-
даты и офицеры видели Штыкова* ’.
Так же было и в ходе контрудара советских войск
под Сольца ми 14—18 июля, когда непосредственно на
Серафима Григорьевича возложили оборону города и
переправ через Шслонь. Героизм и отвага старшего ко-
мандира воодушевляли воинов. Неоднократно возглав-
лял атаку бойцов 645-го мотострелкового полка майор
С. Т. Натрошвили, обращая фашистов в бегство. Лейте-
нант разведчик Алексей Бснь на захваченном у немцев
полугусеничном бронетранспортере проник во вражеский
тыл, уничтожил артиллерийскую батарею, подбил три
легких танка и несколько бронемашин. Заместитель по-
литрука роты Александр Галич, раненный в руки и голо-
ву, нс покинул поле боя. Заметив гибель пулеметчика,
он бросился на его место и расстреливал атакующих
гитлеровцев. А когда пал во время контратаки командир
взвода, принял на себя его обязанности.
— И на какие только ухищрения не бросался озлоб-
ленный неудачами враг! — рассказывал при первой
• На Севере Западном фронте. М.: Наука, 1969, с. 310—312,
10
встрече Хвалей.— Особую ненависть у фашистов вызы-
вала наша артиллерия. Переодевшись в красноармей-
скую форму, немцы попытались подойти к батареям у
деревни Строкино, но вовремя были обнаружены, и мас-
кировка дорого им обошлась. Однако у села Учно, где
202-я билась уже несколько дней после отхода от Соль-
цов, переодетые гитлеровцы вышли на огневые позиции
652-го гаубичного полка. На помощь поспешили воины
645-го мотострелкового. На убитых под красноармейски-
ми гимнастерками обнаружили мундиры СС.
29 июля у станции Тулебля 202-я дивизия с ходу раз-
громила механизированную колонну, уничтожив до 20
танков, много автомашин, мотоциклов и живой силы.
Взбешенный враг на другой день у деревни Алексино
двинулся в наступление, выставив впереди себя местных
жителей. Массированный огонь пришлось прекратить.
Пропустив через свои боевые порядки женщин и стари-
ков, советские воины схватились с фашистами врукопаш-
ную. Атака противника была сорвана.
31 июля 202-я мотострелковая дивизия заняла пози-
ции на западной окраине Старой Руссы. В ней не насчи-
тывалось и полка по штатному расписанию. Немногим
лучше со штатами было в 180-й (эстонской), защищав-
шей северную окраину города, и в 183-й (латышской),
стоявшей на рубежах реки Полнеть южнее Старой
Руссы.
Находившийся в то время в 11-й армии известный ки-
нооператор Роман Кармен писал в дневнике: «5 авгу-
ста... Русса горит. Через некоторые улицы не удалось
проехать... 6 августа продолжается ожесточенный бой.
7 августа немец просачивается через реку (Полнеть.—
И. В.) на правом фланге и на левом... Все небо в зареве.
Бьют залпами его минометы, самолеты яростно бомбят
линию нашей обороны»1.
— Дорогие боевые товарищи,— говорили воинам
202-й комиссар дивизии белорус С. Ф. Хвалей, начшта-
ба — сын Украины — П. Ф. Батицкий и другие офице-
ры.— Нам доверена защита Старой Руссы, одного из
древних русских городов.
— Дети Сааремаа и Выртс-Ярв! — напоминали сол-
датам и офицерам политработники 180-й.— Мы отстаи-
ваем город, патриоты которого в годы гражданской вой-
ны пришли нам на помощь, защищая Эстляндскую тру-
довую коммуну от белогвардейцев. Здесь, в курзале ку-
1 Кармен Р, Но пасаран! М.: Советская Россия, 1972, с, 62—63,
11
рорта, августовским вечером 1919 года И. Я. Анвельт
собирал совет коммуны на свое последнее заседание, а
наши красноармейские части вливались в ряды седьмой
армии, штаб которой стоял в Новгороде.
— Сыны Даугавы! — призывали политработники
183-й.— Здесь сражались за Советскую власть ваши от-
цы и деды и отсюда с добровольцами Новгорода и Ста-
рой Руссы шли на освобождение Риги. Это о них чрез-
вычайный комиссар Ян Фабрициус писал Ленину: «Бе-
лые разбиты наголову. Вся их артиллерия захвачена
героями-латышами и новгородскими красноармейцами».
Не посрамим же светлой памяти героев!
9 августа, отрезанные друг от друга, наши части вы-
нуждены были отступить.
12 августа моторизованные части вермахта, прорвав
в районе Шимска оборону 48-й армии, устремились к
Новгороду. Но именно в этот день только что прибывшая
на Северо-Западный фронт 34-я армия генерал-майора
К. М. Качанова при поддержке авиации нанесла внезап-
ный мощный удар с побережья Полисти южнее Старой
Руссы. В тот день Роман Кармен записал в дневнике:
«Окружаем немца. Наши заходят в тыл с юго-запада от
Старой Руссы. А он жмет силами на Парфино... 13 ав-
густа. Операция развивается... продвинулись километров
на десять... Части 202-й уже дерутся около самой Руссы...»1
Враг был отброшен на 60 километров. Советские вой-
ска вышли к Болоту и Должину. Отступая, гитлеровцы
в панике оставляли убитых и раненых, крупные склады.
Развивая успех, 22-й (эстонский) стрелковый корпус 11-й
армии из района Парфина форсировал Ловать и, пре-
следуя противника, 17 августа ворвался в Старую Руссу,
где 202-я уже вела активные действия, несмотря на серь-
езные потери в личном составе — от рядовых до старше-
го комсостава. Погиб командир 645-го полка капитан
А. С. Кожуров, ранен уже второй комдив, полковник
И. М. Филиппов. Соединение принял Штыков... Отбили
значительную часть города.
В полном замешательстве фашистское командование
вынуждено было снять с Новгородского направления мо-
торизованную дивизию СС «Мертвая голова», с Луж-
ского — подтянуть корпус Манштейна, со Смоленского —
перебросить еще один танково-механизированный кор-
пус. Сюда же, под Старую Руссу, перенацелили армаду
Рихтхофена.
1 Кармен Р. Но пасаран!, с. 67.
12
Плохо прикрытые с воздуха и не имевшие ни средств
ПВО, ни танков, соединения 34-й и 11-й армий к 25 авгу-
ста отошли за Ловать.
Штыковцы, прикрываясь арьергардными боями у де-
ревень Иванково и Филатове, переправились через Ло-
вать у шпалозавода, затем — через Полу. Здесь близ од-
ноименной станции пришлось занять оборону. Противник
силами пехотной дивизии при поддержке 15 танков об-
рушился на поредевшее соединение. Атака следовала за
атакой. Росло количество раненых, иссякали боеприпа-
сы, вышла из строя единственная работающая рация.
Лишь поздно вечером, когда противник утихомирил-
ся, был собран руководящий состав и партийный актив.
Начальник штаба подполковник П. Ф. Батицкий, в бу-
дущем Маршал Советского Союза, доложил обстановку:
— До фронта осталось примерно тридцать километ-
ров, но все дороги контролируются фашистами. Выход
один — через труднопреодолимый лесисто-болотистый
Невий Мох. Старорусские партизаны прислали опытных
проводников. Уверяют, что среди топей встречаются до-
вольно большие сухие участки, покрытые лесом, где днем
можно передохнуть и укрыться от авиации. По сообще-
ниям их разведки, немцы нигде еще не пытались ступать
на зыбкую почву болот. Так что преследовать нас вряд
ли будут, да и проводников не найдут...
Военком дивизии Хвалей напомнил о большом коли-
честве раненых, о мизерном остатке боеприпасов и про-
довольствия.
— В создавшемся положении,— подводя итог, сказал
Штыков,— приказываю: взять на учет оставшийся НЗ,
боеприпасы расходовать лишь по распоряжению старше-
го комсостава, раненых сосредоточить в одном месте и
усилить их охрану, саперному батальону немедленно на-
чать прокладку дороги-лежневки через болотистые участ-
ки. Где и как—-покажут партизаны. Ремонтникам
осмотреть транспорт и боевую технику. Что не подлежит
восстановлению — утопить. Всем подразделениям раз-
ведки вести непрерывное наблюдение за поведением про-
тивника!
Через шесть дней штыковцы были у своих. Волную-
щей, трогательной была встреча. Командарм В. И. Мо-
розов не мог поверить глазам своим, что 202-я, с кото-
рой уже более недели не было никакой связи, вышла из
окружения.
Армейская газета «Знамя Советов» посвятила этому
событию большую статью, в которой особенно подчерк-
13
пула «блестяще проведенный 30-километровый марш че-
рез леса и болота».
И трех суток не продлился отдых. Фашистская танко-
вая колонна прорвалась из района Демянска на Лычко-
во и поставила части 11-й армии в крайне тяжелое поло-
жение. Немалая угроза нависла в направлении Вал-
дай — Бологое. Командующий войсками фронта
П. А. Курочкин спросил Морозова:
— Кто сейчас способен остановить врага?
— Если бы не большие потери и крайняя усталость,
то двести вторая,— ответил, не раздумывая, командарм.
Затем дополнил: — Дивизия Штыкова...
Как по заказу, 1 сентября зарядил сильный дождь,
и гитлеровская авиация бездействовала. Вражеские мо-
тострелки тоже не вылезали из укрытий. Штыков, Хва-
лей и прибывший член Военного совета 11-й армии Зуев
с раннего утра находились в батальонах. Однако шты-
ковцев не пришлось ни убеждать, ни уговаривать. Им
не впервой было схватываться с танково-моторизован-
ными частями — немцы с 23 июня испытали их непоко-
лебимую стойкость. Правда, тогда дивизия была мото-
стрелковой, имела даже свой танковый полк, хотя и дей-
ствующий чаще всего с другими частями. А сейчас, пере-
веденная в разряд пехотной, дивизия все еще не была в
комплекте, вместо трех стрелковых полков имела два.
Выдвижение на новый участок началось вечером и
утром закончилось. Фашисты, загнанные проливным
дождем в укрытия, не заметили смены у советских ча-
стей. А как только распогодилось, предприняли очеред-
ную танковую атаку при поддержке авиации. Однако
она была рассеяна советскими истребителями, а брони-
рованный кулак врага сразу же ослабел от снайперско-
го огня артиллеристов. Некоторые вражеские танки до-
стигли передовой, но там и застыли от дружного огня
бронебойщиков. Немалые потери понесли и гитлеров-
ские мотострелки. И так в течение нескольких дней.
10 сентября на пополнение к Штыкову прибыл 1317-й
полк из 241-й дивизии, бывшей 28-й танковой. И уже на
другой день, изрядно измотав силы атакующих, штыков-
цы неожиданно для агрессора сами перешли в наступ-
ление, выбили врага с северной и восточной окраин Лыч-
кова и отбросили за реку Полометь. Несмотря на после-
дующие бешеные контратаки, 202-я вместе с другими со-
единениями 11-й и 27-й армий окончательно остановила
гитлеровцев и предотвратила прорыв на Валдай — Бо-
логое.
14
О ее боевых делах стали писать центральные газеты.
Совинформбюро в вечернем сообщении 14 сентября
1941 года, то есть на 85-й день войны, передало: «На Се-
веро-Западном направлении успешно действуют против
немецко-фашистских захватчиков бойцы и командиры
соединения полковника Штыкова...» И, как бы подводя
итоги, подчеркнуло, что за время многочисленных боев
ими уничтожены тысячи гитлеровских солдат и офице-
ров, свыше двухсот танков и артиллерийских орудий,
сотни автомашин и мотоциклов.
«Железная стойкость, мужество и упорство бойцов
Штыкова опрокидывают планы врага»,— писала фронто-
вая газета «За Родину!». «Деритесь, как штыковцы!» —
призывала воинов 11-й армии газета «Знамя Советов».
Ставка Верховного Главнокомандования перед войска-
ми Северо-Западного фронта поставила на зиму две ос-
новные цели. 11-й армии предстояло овладеть Старой
Руссой и развивать наступление на Дно — Сольцы, ле-
вому крылу — 3-й и 4-й ударным армиям — двигаться
на Торопец. В центре — войскам 34-й армии — ставилась
задача сковать силы врага на Демянском направлении.
202-й дивизии, переданной в ее состав, предстояло сно-
ва форсировать Невий Мох. Только в августе она ухо-
дила от врага, а сейчас сама должна была пробиваться
в фашистский тыл там, где ее никак не могли ожидать.
В ночь на 8 января 1942 года первым двинулся впе-
ред 645-й полк майора И. А. Лободы, усиленный ба-
тальоном 1317-го полка. Вел их старый знакомый крас-
ноармейцев — партизанский разведчик и проводник
В. И. Кухарев, учитель из здешней деревни Кузьмин-
ское. По свидетельству участников, переход в лютую сту-
жу по глубокому снегу и заболоченной местности навсег-
да остался в их памяти. Плохо смерзшийся торфяник
местами предательски прогибался, чахлый кустарник,
попадавшийся на пути, только отпугивал.
Перед рассветом полк преодолел Невий Мох и вышел
во вражеский тыл между опорными пунктами противни-
ка в деревнях Вершина и Высочек, южнее станции Бег-
лово. Однако и застигнутые врасплох гитлеровцы вскоре
пришли в себя. 682-й полк, идущий следом, был останов-
лен сильным артиллерийским огнем и вынужден отойти
на исходные позиции. Не ожидая, пока фашисты подтя-
нут дополнительные силы, штыковцы продолжали вкли-
ниваться в расположение врага и перехватывать его ком-
муникации на стыке двух дивизий. Но большое горе по-
стигло 645-й в первый же день — погиб тот, кто много
15
ночей разрабатывал план этого перехода,— любимец
части, славный ее командир Иван Александрович Ло-
бода. Вражеская пуля сразила его в тот момент, когда
он уже вывел бойцов из-под ураганного обстрела и пре-
одолевал последние несколько метров открытой местно-
сти до опушки леса.
Лишь только через двое суток заместителю команди-
ра полка майору Семену Теодоровичу Натрошвили с
группой автоматчиков удалось перейти линию фронта и
вступить в командование 645-м. А за эти дни уже пали
па этом посту капитан Р. С. Кушкин и старший лейте-
нант С. И. Кравченко.
А в тыл врага вслед за 202-й дивизией уже проника-
ли истребительные отряды других соединений. В конеч-
ном итоге это способствовало успеху всего Северо-За-
падного фронта в окружении демянской группировки
противника 1.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
16 марта 1942 года 645-й стрелковый полк первым на
Северо-Западном фронте был награжден орденом Крас-
ного Знамени. Когда 1 ноября 1942 года пришла весть
о присвоении Штыкову звания генерал-майора — это
восприняли в дивизии как праздник...1 2
В январе 1943 года после продолжительной паузы
возобновились наступательные бои у стен «рамушевско-
го коридора».
202-я была сосредоточена на важном направлении, в
районе деревни Сафронково. В течение двух дней ее
подразделения вели бой за сопку с крутыми оледенелы-
ми скатами, укрепленную зарытыми в землю танками,
проволочными заграждениями и минными полями. Угро-
жая фланговым огнем, сопка затрудняла развитие успе-
ха атакующих частей дивизии.
Ранним утром 9 января Штыков с командующим ар-
тиллерией полковником Дахновским прибыли на наблю-
дательный пункт 1317-го полка, которому в тот день от-
водилась основная роль. Начальник штаба полка
А. Н. Шувалов попытался объяснить опасность располо-
жения здесь наблюдательного пункта: блиндаж всего в
три наката, а до передовой каких-то 200 метров. Но ге-
нерал сразу же остановил его:
— Идет война, а на ней везде опасно.
В 8.30 артиллерия дивизии начала 35-минутный огне-
1 См.: За Родину!, 1942, 30 января, 27 февраля, 1 марта,
2 См.: На Северо-Западном фронте, с. 323.
16
вой налет. Снаряды ложились точно по намеченным це-
лям.
«Мы ясно видели,— вспоминает Дахновский в книге
«Южнее озера Ильмень»,— как вслед за огневым валом
наши бойцы ворвались в немецкие траншеи. Завязалась
рукопашная... К 12.00 высота была взята. В короткий
срок ее оборону усилили пулеметами, 45-мм и 76-мм
пушками. Гитлеровцы безуспешно пытались контратако-
вать» *.
. Около 16 часов неподалеку от НП разорвался тяже-
лый снаряд, через несколько минут — еще один. Стало
ясно, что где-то поблизости, в лесу, находится враже-
ский корректировщик. Дахновский предложил немедлен-
но перейти на запасной пункт. Однако в этот момент
комдива попросили к рации. Разорвался очередной сна-
ряд. Штыков был убит.
— Обнажив головы, мы стояли у свежей могилы бое-
вого товарища на лесной поляне близ деревни Мануй-
лово,— вспоминал Хвалей.— У многих, видавших нема-
ло смертей, стояли на глазах слезы... Под орудийный и
минометный салют друзья опустили в могилу тело слав-
ного патриота русской земли.
В 1946 году заботливые руки местных жителей прах
генерала перенесли на братское кладбище в деревне
Борки.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
14 февраля 1943 года С. Г. Штыков был посмертно на-
гражден высшим орденом страны — орденом Ленина.
Серафим Григорьевич пал смертью храбрых. Но жи-
ла и продолжала громить врага «штыковская дивизия».
Командование принял его заместитель — полковник
С. А. Вдовин. Как только было покончено с демянским
плацдармом 16-й фашистской армии, 202-я получила
приказ о передислокации на другой фронт. С 17 февра-
ля 1944 года дивизией командовал И. М. Хохлов, уро-
женец деревни Давыдово Холмского района Новгород-
ской области. Дивизия участвовала в освобождении на-
родов Румынии, Венгрии, Австрии. За образцовое вы-
полнение заданий! командования, за героизм личного со-
става она была награждена орденами Красного Знаме-
ни, Суворова и Кутузова II степени, удостоена почетного
наименования Корсунь-Шевченковской.
Старая Русса была освобождена 18 февраля 1944 го-
да. И благодарные горожане именем генерала Штыкова
назвали набережную реки Полнеть.
1 Южнее озера Ильмень. Л.: Лениздат, 1985, с. 74,
17
Первые гвардейцы Северо-Западного
С легендарным комдивом 180-й (с мая 1942 г.— 28-й
гвардейской) стрелковой дивизии, генералом И. И. Мис-
саном, чье имя часто встречалось во фронтовой газете
«За Родину!», которому немало стихов посвятил извест-
ный советский поэт Михаил Матусовский, мне довелось
встретиться уже после войны. Это было 21 июня 1967 го-
да в Старой Руссе, где в Доме культуры имени Тимура
Фрунзе проходила встреча с группой ветеранов Северо-
Западного фронта. Среди гостей выделялся плотный,
широколицый генерал. Оказалось, что это был тот са-
мый Миссан. Скупо роняющий слова, Иван Ильич ожи-
вился, когда я при знакомстве упомянул, что довелось
воевать на юге в рядах 1-го гвардейского полка 2-й гвар-
дейской стрелковой дивизии.
— И где же? — спросил он.
— Дон, Маныч, Сальск, Краснодар, Нальчик, Ново-
российск, Керчь...
— Ав Бердянске Запорожной области не довелось
бывать? Это моя родина.
— Нет. В Запорожье был всего несколько дней, когда
наш госпиталь, в котором меня оставили работать после
третьего ранения, продвигался на Полтаву.
— Ну все равно по фронтовому счету мы земляки-
гвардейцы. Ты, видишь ли, защищал и освобождал мои
родные места, а я — твои...
На другой день бывшие воины 28-й во главе со своим
комдивом выехали на двух катерах, любезно предостав-
ленных Заильменской сплавконторой, в рабочий поселок
Парфино. Хорошая погода, умеренный шум мотора, спо-
койные воды Полисти располагали к разговору. Отвечая
на вопросы, генерал рассказал свою военную биогра-
фию...
В Красной Армии с 1919 года, вступил добровольцем.
По окончании гражданской войны был зачислен в Одес-
скую пехотную школу. Стал кадровым военным, коман-
довал взводом, ротой, батальоном. В финскую войну в
звании майора принял полк. За отличные боевые дей-
ствия ему сразу присвоили звание полковника и награ-
дили орденом Красного Знамени.
В июле 1940 года вновь избранные народные сеймы
Литвы и Латвии и Государственная дума Эстонии про-
возгласили восстановление власти Советов и приняли
декларацию о вступлении в состав СССР. Вскоре они
стали полноправными республиками в братской много-
18
национальной семье народов нашей Родины. С большой
группой военных полковник Миссан был направлен в
Эстонию и назначен заместителем командира 180-й
стрелковой дивизии. Ему пришлось непосредственно за-
ниматься формированием и сколачиванием штабов, ча-
стей и подразделений, устройством и оборудованием во-
енных городков. Так в повседневных заботах прошла
осень 1940 года. 23 февраля 1941 года личный состав
принял военную присягу. В мае, накануне выхода в лет-
ние лагеря, И. И. Миссан вступил в командование диви-
зией. А время было тревожное, война вплотную подходи-
ла к нашим границам.
«26 июня 22-й эстонский стрелковый корпус получил
приказ сосредоточиться в районе города Порхова. К
5 июля он занял здесь оборону на пятидесятикилометро-
вом участке. Его правофланговая 182-я стрелковая ди-
визия полковника И. И. Курышева, соседствуя с 1-м ме-
ханизированным корпусом, закрепилась на рубеже Под-
севы— Славковичи — Лешнхино. Левофланговая 180-я
стрелковая дивизия — на рубеже Лешихино — Махновка.
Командный пункт корпуса находился в лесу в семи ки-
лометрах восточнее Порхова»
Первым в 180-й дивизии принял боевое крещение
42-й стрелковый полк полковника А. Козлова и старше-
го батальонного комиссара А. Пусты, оборонявшийся в
районе Терехова. Но тяжелее всего в тот день, 8 июля,
пришлось 21-му полку майора Г. Чурмаева и батальон-
ного комиссара И. Самусева. Полк был расчленен вра-
жескими танками, и часть его попала в окружение в
районе курорта Хилово. Разгорелся кровопролитный бой.
Советские воины мужественно сопротивлялись. Над по-
павшими в плен «красными эстонцами» фашисты учини-
ли зверскую расправу. После войны население Хилова
воздвигло героическим бойцам памятник.
Отбивая яростные танковые атаки и подвергаясь при
этом ударам вражеской авиации, 22-й стрелковый кор-
пус к 13 июля отошел на рубеж Порхов — Дедовичи на
берегу Шелони. В ходе контрудара в районе Сольцов
180-я продвинулась на 25 километров, захватила плен-
ных и трофеи, создав вместе с другими дивизиями угро-
зу тылам корпуса Манштейна. «Однако уже через не-
сколько дней у гитлеровцев прошло шоковое состояние
и они бросили в бой свежие силы, прорвали фронт и вы-
1 Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной
войне, 1941—1945, Кн, 1, Рига: Лиесма, 1966, с. 187,
19
шли в тыл 22-го корпуса. Пришлось отходить к Старой
Руссе» *.
С 30 июля дивизия Миссана вела ожесточенные обо-
ронительные бои на подступах к городу и на его окраи-
нах по линии Сенобаза — Дубовицы — разъезд Редья.
Левым соседом была 202-я стрелковая дивизия. Накал
боев нарастал с каждым днем, вовлекая всех, кто был
способен держать в руках оружие. Личным примером и
словом коммуниста воодушевляли на подвиги комиссар
дивизии Л. Евдокимов и начальник политотдела
И. Макаров, политработники А. Попков, М. Пурро,
Я. Арно, А. Дашевский, А. Воркман, Н. Пуусепп, А. Порк.
На переднем крае часто видели и комиссара корпуса
Г. Должикова, и начальника политотдела А. Пенза. Не-
мало воинов сложили тогда здесь свои головы. Героиче-
ски погибли командир 732-го стрелкового полка майор
Морозов, комиссары 623-го артполка Павлов и 86-го
стрелкового Коваленко.
8 августа фашистам удалось прорвать фронт 180-й,
захватить Бряшную Гору (ныне в Старой Руссе —
ул. Маяковского), деревню Медниково, отрезать пути
отхода на Иванково и Ясную Поляну. Миссан принял ре-
шение лесом уходить на Крюково, там переправиться че-
рез Редью и искать связь с основными силами 11-й армии,
отошедшими к Ловати. Началась переправа. Зная, что
не все умеют плавать, полковник наблюдал за тем, как
оказывали таким помощь специально выделенные люди.
На наскоро сколоченных плотах переправляли оружие,
боеприпасы. Взаимовыручка, сплоченность, дисциплина
помогли выйти из тяжелого положения.
В конце августа 180-я дивизия прочно закрепилась
на широком фронте к югу от Ильменя, по линии Малая
Тисва — Ростани — Пустынька, и получила большое по-
полнение. В это же время воины-эстонцы ушли на фор-
мирование национальных соединений 8-го эстонского
стрелкового корпуса. Сдерживая яростный натиск вра-
га, части Миссана вынудили 290-ю фашистскую дивизию
перейти к обороне, а затем участвовали в ее окружении
и разгроме.
— Приказ о проникновении в тыл вражеской диви-
зии на Парфино — Полу,— рассказывал Иван Ильич,—
я получил накануне 1942 года. Задача в условиях исклю-
чительно суровой, многоснежной зимы и бездорожья бы-
ла весьма сложной. Тяжело приходилось со снабжени-
1 Борьба за Советскую Прибалтику..., с, 189—190,
20
И. И. Миссаи, генерал-майор, командир 180-й
(28-й гвардейской) стрелковой дивизии.
см боеприпасами, горючим, продовольствием. Но эти
трудности преодолевались благодаря высокому мораль-
ному духу воинов. Их закалке способствовала большая
политико-воспитательная работа комиссара Викентия
Викентьевича Бабицкого. Радовали бойцов первые со-
общения об успешном контрнаступлении советских ар-
мий под Москвой. На совещании у командарма Морозо-
ва присутствовал руководитель здешних партизан Семен
Михайлович Глебов. Он обещал всяческое содейст-
вие в разведке и снабжении войск, участвующих в Ста-
рорусской операции, опытными проводниками. Я был до-
волен, что Глебов в сто восьмидесятую прислал трех
21
Владимиров — Кухарева, Зуева и Зеленцова. Им еще
Матусовский посвятил специальные стихи.
Дивизия начала марш вечером 7 января. Первым
двинулся вперед 21-й полк майора Г. И. Чурмаева и ба-
тальонного комиссара А. Е. Джеджулы. Шли рассредо-
точение, в полном безмолвии. Враг находился в каких-
нибудь пятистах метрах. Впереди — разведчики и про-
водники. За ними пулеметчики и истребители танков —
бронебойщики попарно — с тяжелыми ПТР на плечах.
В арьергарде — Миссан с полевым штабом и медсанро-
та, под прикрытием автоматчиков. Каждый метр пути
стоил больших усилий: бездорожье, лесисто-болотистая
местность. Всегда спокойный Чурмаев заметно волно-
вался. Да он и не скрывал этого. Шутка ли, после дол-
гих оборонительных боев перейти к активным операци-
ям. Взволнованы были все. А у Георгия Ивановича была
и другая немаловажная и всем понятная причина: нака-
нуне его приняли в ряды партии. Получая из рук на-
чальника политотдела В. Д. Курылева билет, сказал:
— Спасибо за доверие, товарищи! Клянусь: высокое
звание коммуниста в боях с врагами Родины оправдаю.
И сейчас он чувствовал себя вдвойне ответственным
перед партией, перед Отечеством, перед каждым бойцом
и командиром своего полка.
Вслед за 21-м полком шел 86-й стрелковый подпол-
ковника А. И. Кащеева и старшего батальонного комис-
сара М. А. Бусыгина.
«Форсировав с ходу Ловать и преодолев еще один
лесной массив, подразделения Чурмаева и Кащеева по-
дошли к крупному узлу обороны врага Юрьево и обло-
жили его с флангов»1. Ранним утром 9 января взмыли
вверх ракеты и, с поддержкой пулеметного и миномет-
ного огня, началась атака. В результате восьмичасового
боя фашистский гарнизон был уничтожен, оставшиеся
в живых подняли руки. Среди трофеев — 7 исправных
орудий, 3 пулемета, 12 автомашин.
В освобождении Юрьева помогли местные проводни-
ки — 14-летние подростки Володя Попов и Вася Афа-
насьев. Первому из них посвятил поэму Матусовский, о
мужестве другого рассказала листовка политуправле-
ния Северо-Западного фронта. В родной деревне юные
герои из рук Миссана получили ордена Красной Звезды,
а Афанасьев — и погоны сержанта. Спустя полгода Во-
лодя погиб в бою. Вася закончил войну в Латвии, был
награжден вторым орденом — Красного Знамени.
1 На Северо-Западном фронте, с, 362—364,
22
Для обороны освобожденного Юрьева был оставлен
стрелковый батальон майора Белоусова из 86-го полка.
Остальные подразделения полка двинулись на Хмелеве.
21-й полк майора Чурмаева направился в Щечково. Гит-
леровцы, узнав об уходе из Юрьева основных сил, попы-
тались вернуть этот населенный пункт, но уже к трем
часам дня вынуждены были отступить с большими поте-
рями. Успех натолкнул Белоусова на мысль освободить
находившуюся в полутора километрах от Юрьева дерев-
ню Березицко, о чем сообщил комдиву.
Миссан не только дал «добро», но и прислал на под-
могу пять легких танков. Спустя час после атаки сопро-
тивление врага было полностью сломлено. В отвоеван-
ной деревне закрепилась рота химзащиты. Фашисты не-
сколькими контратаками попытались вернуть Березицко.
В тяжелых схватках у наших бойцов иссякли патроны.
И тогда старый колхозник Андрей Курочкин притащил
их целых три ящика, тайно хранимых с лета 1941 года.
Рассказывая о взятии деревни Щечково, старший по-
литрук Е. Сильченко писал в газете «За Родину!»
12 марта 1942 года: «Это был один из самых ожесточен-
ных боев за время действия нашего батальона в тылу
врага. Немецкий гарнизон численностью до пятисот сол-
дат и офицеров создал в Щечково крепкую оборону...
Под прикрытием артиллерийского и минометного огня
бойцы капитана Панина ворвались в селение... В тече-
ние пяти часов гарнизон был уничтожен. На месте боя
осталось лежать до 250 вражеских трупов. Трофеи:
4 орудия, 50 автомашин, 12 мотоциклов, 150 велосипе-
дов, склады...»
Без больших потерь в установленный срок 180-я ди-
визия прошла со своей техникой, включая пушки и тан-
ки, по таким лесам и болотам, которые фашистское
командование обозначило на своих картах как непрохо-
димые. Прошла и выполнила свою задачу на первом
этапе Старорусской операции.
29 января, с прибытием на Северо-Западный фронт
1-го и 2-го гвардейских стрелковых корпусов, начался
второй этап наступательной операции, ставивший целью
окружить значительные вражеские силы в районе Де-
мянска. 180-я между тем продолжала двигаться вдоль
Ловати. Вместе с приданными дивизии танковым под-
разделением, артиллерией и отдельным лыжным баталь-
оном 9 февраля освободили Парфино. Вражеские части
отходили на Полу — последний наиболее важный опор-
ный пункт 290-й гитлеровской дивизии.
23
Большое значение при взятии советскими войсками
Полы имел бой за железнодорожный мост. Продвиже-
нию пехоты мешали охранявшие его два дзота с крупно-
калиберным и станковым пулеметами. Но артиллеристы
прямой наводкой разбили их, после чего атакующие за-
метили, как группа солдат под огнем побежала под
мост, явно для исправления взрывного устройства. Ар-
тиллеристы ударили беглым огнем и уничтожили их.
Взятие моста предрешило исход — впереди был поселок.
Но противник усилил сопротивление. Пришлось бросить
в бой полки Чурмаева и Кащеева, а также приданные
дивизии три отдельных сибирских батальона. Они влили
в ряды наступающих свежие силы.
22 февраля Пола была освобождена.
С далекого Урала, из Перми, на Северо-Западный
фронт приехала делегация трудящихся. На встрече с
воинами 180-й стрелковой дивизии, к этому времени ос-
вободившими 90 населенных пунктов, уральцы вручили
им Красное знамя. Взволнованный полковник Миссан
опустился на левое колено и поцеловал край красного
шелка.
— Ура! Ура-а! Ура-а-а! — разнеслось по поляне.
Газета «За Родину!» 4 марта опубликовала стихи Ма-
тусовского «Уральское знамя»:
...Февраль на исходе, а пахнет весной.
И знамя — подарок рабочих Урала —
Стоит под седой старорусской сосной.
3 мая 1942 года 180-я стрелковая дивизия первой на
Северо-Западном фронте получила почетное наименова-
ние гвардейской и стала называться 28-й гвардейской
стрелковой дивизией. Ивану Ильичу Миссану присвоили
звание генерал-майора. Матусовский приветствовал та-
кое событие новым стихотворением — «Гвардейцы»,—
которое с гордостью знали наизусть и декламировали
воины дивизии, особенно такие строки:
Кто в любую идет непогоду
На ощеренный вражеский стан?
Кто дерется за честь и свободу?
И боец нам ответил: Миссан...
После разгрома демянского плацдарма 28-я гвар-
дейская вместе с другими частями Северо-Западного
фронта была переброшена на юг, где получила почетное
наименование Харьковской и стала дважды Краснозна-
менной.
24
Дом культуры домостроительного комбината в Пар-
фине не мог вместить всех прибывших на встречу. Ре-
шили проводить ее на улице, возле клуба. День был
солнечный, как и тот — 22 июня 1941 года.
Почетный гражданин Старой Руссы генерал Миссан
говорил о первых тяжелых днях войны, о героизме сол-
дат и офицеров, о помощи партизан, вспоминал това-
рищей, погибших здесь, на древней русской земле. Гене-
рал заметно волновался, подбирая слова, умолкал. Жен-
щина, стоявшая у самой трибуны, подняла на руки куд-
рявую девочку, и та протянула военному полевые цветы.
Генерал взял у матери девочку, поднял ее над три-
буной и закончил свою речь:
— Вот за их счастье, за то, чтобы над ними всегда
было мирное солнце и небо нашей Родины, мы и вели
бой с черными силами фашизма. За счастье детей сло-
жили свои головы наши товарищи. Так пусть же наши
дети, наши внуки никогда не узнают ужасов новой
войны.
Генерал поцеловал ребенка и отдал матери. Взвол-
нованность, с какой он говорил, передалась всем при-
сутствующим. Люди ответили овацией, многие утирали
слезы.
Считать коммунистом
Прославленная 316-я, затем 8-я гвардейская Панфи-
ловская стрелковая дивизия формировалась в Алма-Ате
из трудящихся Казахской и Киргизской союзных рес-
публик. Всего же в дивизии были представители три-
дцати национальностей, в том числе русские, украинцы,
белорусы, татары, таджики, узбеки, уйгуры, дунгане...
Комдив генерал-майор И. В. Панфилов, член ЦК
Компартии Киргизии, военком республики, был опыт-
ным военачальником — участник первой мировой и
гражданской войн, дважды награжденный орденом Крас-
ного Знамени.
18 августа 1941 года первые эшелоны выехали на
фронт... Выгрузились в городе Боровичи. Без отдыха, со-
вершив стокилометровый марш, прибыли в поселок
Крестцы, заняли подготовленный местным населением
запасной рубеж обороны. Но вскоре враг был останов-
лен и дивизию передвинули на передний край.
Боевой счет открыл взвод разведки 21 сентября в
деревне Пустынька. Через три дня рота Гундиловича и
25
политрука В. Г. Клочкова остановила прорвавшиеся ча-
сти противника близ деревни Невий Мох и отбила все
его атаки. Так на новгородской земле получила боевое
крещение легендарная четвертая рота второго батальона
1075-го полка, прославившаяся позже под Москвой, ку-
да спешно перебросили дивизию всего через две недели.
В январе 1942 года соединение вернулось на Северо-
Западный фронт. Командовал панфиловцами генерал-
майор И. М. Чистяков, впоследствии Герой Советского
Союза.
В начале февраля 1942 года, содействуя окружению
демянской группировки, 8-я гвардейская Панфиловская
дивизия сражалась в междуречье Полисти и Порусьи.
Реки были скованы льдом, их берега и окрестные поля
покрыты глубоким снегом. И опять, как и под Моск-
вой, боевые действия осложнял трескучий мороз.
Деревня Соколово, расположенная на шоссе к Ста-
рой Руссе, представляла узел главного сопротивления
гитлеровцев на участке. Параллельная дорога к городу
шла через Бородино. И обе соединялись проселком че-
рез Трошково — вторым оборонительным узлом, связы-
вающим пути снабжения здешних вражеских гарнизо-
нов.
Первыми на рассвете 4 февраля в расположение вра-
га стремительно ворвались бойцы капитана Гундилови-
ча. Полная внезапность сопутствовала успеху. Трясу-
щихся от страха и холода гитлеровцев вытаскивали из-
под кроватей, выкуривали из подвалов. За неполных три
часа было освобождено Трошково, а к вечеру — Конь-
шино, Бракловицы, Трохово.
Все бойцы и командиры действовали отважно, но
особо отличился рядовой роты автоматчиков 22-летний
комсомолец Тулеген Тохтаров. «Своим примером и отва-
гой Тулеген заражал всех, призывал действовать сме-
лее, без страха и колебания перед опасностью» '. Товари-
щи с любовью смотрели на него, когда Тохтаров, широ-
ко открыв горящие как уголь черные глаза, взволнован-
но произносил простые, но идущие от души слова:
— Я люблю свободную советскую жизнь и иду за
нее в бой. И ты прямо смотри в глаза смерти, не морг-
ни, и смерть побоится тебя, и ты победишь!
В бою за Нагаткино 5 февраля Тулеген одним из
первых ворвался в село, огнем ППШ уничтожил семь
фрицев и двух взял в плен. В очередной схватке 7 фев-
1 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 48, л. 56—59.
26
Т. Тохтаров,
Герой Советского Союза,
рядовой 1075-го полка
8-й гвардейской стрелковой
дивизии.
раля он вскочил в один из
домов и уничтожил пять ок-
купантов. Утром следующе-
го дня стало известно, что
предстоит серьезный ночной
бой. Гвардейцы тщательно
к нему готовились, чистили
оружие. Писали письма род-
ным и близким, просто от-
дыхали, сберегая силы. Ту-
леген попросил у старшины
роты лист хорошей бумаги
и, примостившись у окна,
вывел как мог аккуратнее
давно вынашиваемый в голове заголовок: «В партийную
организацию 1075-го гвардейского стрелкового полка...
от гвардии рядового Тохтарова Тулегена... Заявле-
ние...»
Он остановился. Казалось бы, и нетрудное дело напи-
сать, но как выразить то, что сейчас чувствовал?
«Прошу принять меня кандидатом в члены родной
партии большевиков. С Уставом знаком... обязуюсь вы-
полнять...» Зная, что предстоит жестокий бой за дерев-
ню Бородино, которая уже несколько раз переходила из
рук в руки, отважный гвардеец в заключение приписал:
«Если при несчастье погибну, то считайте меня честным
большевиком, я сын крестьянина и сам честный совет-
ский рабочий». Заявление передал политруку роты Ма-
лику Габдуллину.
Темной ночью рота автоматчиков старшего лейтенан-
та Соловьева, зайдя немцам в тыл, внезапно обруши-
лась на вражеский гарнизон в Бородине. С фронта ата-
ковал один из батальонов 1075-го полка. Гитлеровцы
выскакивали из домов в одном белье, беспорядочно па-
ля из автоматов и лихорадочно пуская ракеты. Но, вы-
зывая подкрепление, они невольно помогали атакующим,
освещая поле схватки. Бой был скоротечным и успешно
завершился.
Оставив в занятой деревне небольшую группу авто-
матчиков, батальон двинулся к шоссе Старая Русса —
27
Виджа, чтобы преградить путь подкреплению, идущему
на помощь фашистскому гарнизону.
Ранним утром 10 февраля противник обрушился на
защитников Бородина. Гвардейцы стояли насмерть, но
силы были далеко не равные и пришлось отступить на
окраину. Отсюда, с пригорка, панфиловцы продолжали
сдерживать гитлеровцев. Но те, уверенные в своем успе-
хе, наседали с трех сторон. У наших воинов были на
исходе боеприпасы, на исходе силы. Прикрывать отхо-
дивших товарищей добровольно вызвался Тохтаров.
Перебегая по траншее с места на место, чтобы соз-
дать впечатление у врага, что он не один, Тулеген стре-
лял из автомата, бросал гранаты. Уже десятка два вра-
гов лежали перед его последним рубежом, не меньше
уползли назад. Можно бы солдату и оставить позиции,
но нет уже сил. Тяжело раненный боец не мог перевя-
зать себя, ибо фашисты двинулись со всех сторон, едва
лишь он прекратил стрельбу. Израсходован последний
диск, нет и гранат. Но был приклад автомата, была не-
нависть к жестокому врагу. Собрав остатки сил, ком-
сомолец выбрался наверх. Гитлеровцы прекратили
стрельбу.
— Рус, сдавайс! — кричал офицер, приближаясь к
нему с целой оравой солдат.
Опершись на автомат, Тулеген поднялся, хотел от-
ветить ухмыляющемуся врагу, но не смог, захрипел, из
горла хлынула кровь. Держа в правой руке автомат с
пустым диском, а левой прикрывая рану в животе, он
двинулся навстречу осмелевшему офицеру. Когда гитле-
ровец приблизился и протянул руку, чтобы взять у него
оружие, Тулеген неожиданно схватил автомат обеими
руками и опустил его на голову врага. Последнего...
48-го на его боевом счету. Выстрелов озверевших фаши-
стов Тохтаров уже не слышал.
13 февраля схватка за Бородино вспыхнула вновь.
На четвертый день при поддержке танков гвардейцы
овладели деревней — важным опорным пунктом врага,
расположенным в двадцати километрах южнее Старой
Руссы. Отважного воина похоронили на братском клад-
бище близ деревни Бракловицы. В далекий Казахстан
ушла похоронка.
На партийном собрании батальонный комиссар Хох-
лов зачитал заявление Тулегена. Его обращение поддер-
жал командир роты старший лейтенант Соловьев, под-
держали боевые друзья — члены партии. Проголосовали
единогласно: считать коммунистом.
28
Немало страниц посвятил герою бывший политрук
Малик Габдуллин в книге «Мои фронтовые друзья», ко-
торая вышла в Алма-Ате в 1949 году.
Родина высоко оценила бессмертный подвиг бойца,
присвоив 30 января 1943 года Тулегену Тохтарову зва-
ние Героя Советского Союза. Его имя носит совхоз в
Казахстане, улица в Старой Руссе. В его родном городе
Лениногорске Восточно-Казахстанской области установ-
лен памятник.
«Жизнь моя продолжается»
«С именем Ленина на устах за три дня до наступле-
ния пошел на выполнение задания — подорвать склад
боеприпасов — коммунист, офицер 23-й гвардейской
стрелковой дивизии Г. П. Масловский» *.
Кто же этот офицер и где совершил подвиг, занесен-
ный в летопись истории партии, чьим именем назван на-
селенный пункт в Поддорском районе?
Отец Гавриила Павловича Масловского, крестьянин-
бедняк, умер в 1924 году, когда мальчику было шесть
лет. Всего у матери Пелагеи Федоровны на руках оста-
лось пятеро, старшему из них — четырнадцать. Дети бат-
рачили на кулаков, испытали и холод, и голод. Ветхая
избушка Масловских в деревне Большая Шелковка на
Алтае была с земляным глинобитным полом и дырявой
крышей. Но скоро жизнь пошла по-новому. И Пелагея
Федоровна сердцем почувствовала, где искать счастье.
Одной из первых вступила в коммуну, затем в колхоз
«Путь революции».
Старшая сестра Гавриила Полина Павловна расска-
зывала:
«После начальной Ганя учился в школе крестьянской
молодежи. Одновременно работал в колхозе рядовым, а
после курсов — бригадиром овцеводческой фермы. Тру-
дился до призыва в Красную Армию. Службу проходил
в пограничных войсках на Амуре. Мать часто получала
от командиров благодарственные письма за хорошее вос-
питание сына»1 2.
В 1939 году Гавриил окончил полковую школу, потом
курсы при Новосибирском пехотном училище. Маслов-
скому присвоили звание младшего лейтенанта и назна-
1 История КПСС, т. 5, кн. 1. М.: Политиздат, 1970, с. 512,
2 Советский воин, 1961, № 1.
29
чили взводным. Со свойственной ему энергией и целеуст-
ремленностью молодой офицер готовил себя и подчинен-
ных к возможным схваткам с врагом. Время было на-
пряженное. Гитлеровские полчища порабощали одну
страну за другой, подбирались к границам Советского
Союза. А на Дальнем Востоке японские милитаристы
устраивали провокации то в районе озера Хасан, то на
Халхин-Голе.
С началом Великой Отечественной войны часть Даль-
невосточной армии перебросили на запад.
Прибыв на фронт, Гавриил Павлович подал заявле-
ние в партию: «Прошу принять меня кандидатом в чле-
ны ВКП(б). В рядах ВЛКСМ с 1938 года. За это время
подготовил себя для вступления кандидатом в члены
ВКП(б). В предстоящих решительных схватках с фа-
шистским зверьем хочу драться в общем строю с комму-
нистами». Масловский с честью оправдал доверие своих
товарищей — коммунистов.
В бою под станцией Мга рота надежно удерживала
занятые позиции, не дала противнику продвинуться ни
на метр. Но командир был тяжело ранен. Потом были
госпиталь, длительное лечение. И снова он в строю.
«26 июля 1943 года гвардии старшему лейтенанту
Масловскому, в то время старшему адъютанту второго
батальона 63-го гвардейского стрелкового полка, было
приказано руководить операцией по уничтожению гарни-
зона противника в деревне Фатькино, что имело важное
значение для советских подразделений, действовавших
на этом участке фронта» *.
Гарнизон гитлеровцев, насчитывавший около семиде-
сяти человек, был полностью уничтожен. Наши воины
подорвали два дзота и пять блиндажей, захватили тро-
феи. В донесении, подписанном командиром полка гвар-
дии майором В. Небратовым, отмечалось умелое руко-
водство офицера Масловского и подчеркивалось, что он
достоин награждения орденом Красной Звезды.
21 августа Масловский подал заявление парторгу:
«Прошу принять меня в члены партии, так как канди-
датский стаж у меня истек, и я желаю и готов вступить
в члены большевистской партии. В решающих боях с
фашистскими захватчиками высокое звание оправдаю
с честью». На партсобрании о приеме голосовали едино-
гласно.
От боя к бою рос офицер, закалялась его воля, со-
1 Комсомольская правда, 1956, 5 ноября.
30
Г. П. Масловский,
капитан, начальник штаба
отдельного лыжного батальона
23-й гвардейской стрелковой
дивизии.
вершенствовалась тактиче-
ская выучка. В декабре ка-
питан был переведен на
должность начальника шта-
ба отдельного лыжного ба-
тальона.
Наступил январь 1944 го-
да. Готовился мощный удар
по врагу под Ленинградом и
Новгородом. Части 23-й
гвардейской стрелковой ди-
визии вели разведыватель-
ные поиски, совершали дерз-
кие вылазки в расположение
врага. В одной из операций участвовал и капитан Мас-
ловский. Задание получил лично от командира дивизии
полковника А. Кортавенко. Оно было трудным, опасным
и в то же время подчеркивало высокое доверие коман-
дования.
В оставшееся до выхода время Гавриил Павлович
решил написать письмо сыну Юре. Но в нем он обра-
щался не только к ребенку. В нем воин давал клятву
Родине, партии, своему героическому народу. Можно с
полной достоверностью представить, как он писал — в
блиндаже, при свете коптилки из гильзы снаряда, зная,
что идет на смертельно опасное дело:
«...Ну вот, мой милый сын, мы больше не увидимся.
Час назад я получил задание командира дивизии, вы-
полняя которое живым не вернусь. Этого ты, мой малыш,
не пугайся и не унывай. Гордись такой гордостью, с ка-
кой идет твой отец на смерть: не каждому доверено уме-
реть за Родину...»
Он остановился, представил себе, как письмо придет
домой, как его вскроет сын, прочтет. А если здесь же бу-
дет бабушка, на попечении которой остался Юра после
ухода матери, врача, на фронт, это будет для нее слиш-
ком большим ударом...
«Приму все меры, чтобы это письмо переслали тебе,
а ты с ним будь осторожнее, не пугай свою бабусю...»
31
Капитан был предупрежден, что, по данным развед-
ки, в роще «Круглая» близ деревни Хлебоедово у врага
создан огромный склад боеприпасов — снарядов, бомб,
что их должны перебросить 18-й армии, блокирующей
Ленинград.
«Славному городу Ленина — колыбели революции —
грозит опасность. От выполнения моего задания зависит
его дальнейшее благополучие. Ради этого великого бла-
гополучия буду выполнять задание до последнего вздо-
ха, до последней капли крови...»
Он остановился, поправил фитиль и снова продолжил:
«Отказываться от такого задания я не собирался, на-
оборот— горю желанием: как бы скорее приступить к
выполнению. В ожидании машины роюсь в неугомонных
мыслях, с молниеносной скоростью задаю сам себе воп-
росы и тут же даю ответ. Одним из первых вопросов бу-
дет такой: какие силы помогают мне совершить мужест-
венный поступок?»
И офицер-коммунист сразу же твердо отвечает:
«Воинская дисциплина и партийное послушание. Пра-
вильно говорят: от дисциплины до геройства — один шаг.
Это, сын, запомни раз и навсегда. А пока есть время, на-
до отвинтить от кителя ордена, поцеловать их по своей
гвардейской привычке. Рассказываю тебе обо всем по-
дробно, хочу, чтобы ты знал, кто твой отец, как и за что
отдал жизнь. Вырастешь большим — осмыслишь, будешь
дорожить Родиной. Хорошо, очень хорошо дорожить Ро-
диной!
У меня есть сын. Жизнь моя продолжается, вот по-
чему мне легко умереть. Я знаю, что там, в глубоком
тылу, живет и растет наследник моего духа, сердца, чув-
ства. Я умираю и вижу свое продолжение. Сын, ты в
каждом письме просил и ждал моего возвращения домой
с фронта. Без обмана: его больше не жди и не огорчай-
ся, ты не один. При жизни нам, сынка, мало пришлось
жить вместе, но я на расстоянии любил тебя и жил толь-
ко тобой. Вот и сейчас, думается, хоть я буду мертвый,
но сердце продолжает жить тобой, даже смерть не вы-
теснит тебя из моего скупого сердца».
Зная об опасности задания и предполагая, что он не
вернется, Масловский писал:
«В своем прощальном письме прошу командование
определить сына воспитанником суворовского военного
училища, желательно в Ленинградскую область,— это
для того, чтобы он мог посетить Поддорский район, Со-
кольский сельсовет, потому что в местечке деревни Хле-
32
боедово закончит жизненный путь его отец. Когда нач-
нется мирная жизнь, возродятся колхозы, сын будет пер-
вым шефом колхоза деревни Хлебоедово. Прощай, мой
сын, прощай, дорогая жена!
Поля, Юра! Жена, сын! Радость вы моя, кровь моя,
жизнь моя! Люблю, люблю до последней капли крови!
Выполняйте мое завещание.
Целую. Искренне любящий—Гавриил».
Участник этой операции Н. А. Сапожников в пись-
ме, присланном в редакцию газеты «Новгородская прав-
да», рассказал:
«В ночь на 11 января саперы бесшумно разминиро-
вали подступы к вражескому складу и перерезали про-
волочное заграждение. Разведчики столь же тихо сняли
часовых. На территорию склада пошли капитан, я и еще
один боец. Остальные отвлекали на себя огонь против-
ника. Гавриил Павлович сам заложил принесенную
взрывчатку и, удалив нас в траншею, поджег запальный
шнур. Но добежать до укрытия не успел — раздался ог-
лушительный взрыв и склад взлетел на воздух. Осколком
в живот он был смертельно ранен. Под ураганным ог-
нем мы с лейтенантом Вялковым вынесли боевого друга.
Не приходя в сознание, Гавриил Павлович скончался. В
тот же день скромно, по-фронтовому, похоронили его на
братском кладбище. В далекую Сибирь родным послали
тягостное извещение» *.
Герой погиб. Но ровно через три дня развернулось
мощное наступление под Ленинградом и Новгородом.
В нем участвовала и 23-я гвардейская дивизия в соста-
ве 1-й ударной армии, действовавшей южнее Ильменя.
В ходе операции была окончательно снята блокада Ле-
нинграда, 20 января освобожден Новгород, а вскоре и
вся земля новгородская...
На квартиру Масловских в городе Нижнеудинске Ир-
кутской области под вечер пришел почтальон и, не гля-
дя никому в лицо, молча подал извещение с черной кай-
мой. Весь вечер просидела Пелагея Федоровна с внуком,
не прикасаясь к еде, со слезами на глазах смотрела на
«похоронку»: «Сообщаем... гв. капитан Гавриил Павло-
вич Масловский пал смертью храбрых в боях за нашу
Советскую Родину... Похоронен...»
Сообщили сестре отца — Полине Павловне — в Читу,
та сразу же приехала. И вот, когда сидели втроем в
горестных воспоминаниях, в дверь снова постучался поч-
тальон. На этот раз его вид не был столь печальным.
1 Новгородская правда, 1968, 23 февраля.
2
Зак. № 67
33
— Юра, тебе письмо от отца.
Вестник не стал дожидаться, когда мальчик вскроет
фронтовой треугольник. Слишком мало было случаев,
когда письма опровергали «похоронки». А вот другое бы-
вало нередко. Человек погиб, давно нет в живых, а по-
слание его еще ищет своего адресата.
Почтальон давно ушел, а они все сидели, и бабушка,
держа в руках письмо, не решалась вскрыть его. Нако-
нец Полина Павловна развернула и сразу посмотрела
на дату. Внизу стояло ясно выведенное— 10.01.44 г. На
«похоронке» столь же твердо виднелось— 13.01.44 г.
...Полина Павловна увезла Юру к себе, а когда узна-
ла, что и мать его Пелагея Ивановна — военный врач —
погибла, до последней минуты оказывая помощь ране-
ным, усыновила племянника. Малыш привязался к ней
всем сердцем и звал мамой.
Письмо отца стало путеводной звездой для Юрия.
После суворовского училища он поступил в военно-техни-
ческое и с отличием его окончил. И наконец настал тот
день, когда на землю, где погиб отец, ступил капитан
Юрий Масловский.
— Дорогие земляки,— говорил он на встрече в клу-
бе совхоза «Поддорье»,— мы породнились с вами кро-
вью моего отца, его подвигом. Если бы отец видел, ка-
кая жизнь расцвела на этой земле! Он вместе с нами
порадовался бы счастью людей, за которое отдал свою
жизнь.
В первый же день приезда Юрий посетил братское
кладбище на опушке стройного молодого леска, где пла-
кучие ивы нависли над тихой речкой Самбатовкой, не-
сущей свои чистые воды в Ловать. С обнаженной голо-
вой стоял молодой офицер вместе с новыми друзьями
у дорогой могилы, еще и еще раз читая строки из пись-
ма-завещания, высеченного на обелиске.
— Спи спокойно, отец. Я выполняю твое завещание.
Я стал офицером, коммунистом, всем сердцем люблю Ро-
дину, во имя которой ты отдал жизнь и которая воспита-
ла меня. У тебя появился внук Алексей. Я постараюсь
вырастить его таким же, как ты. Твоя жизнь продолжа-
ется, отец!
Рыцарь воздуха
Погожим сентябрьским днем 1951 года вездесущие
мальчишки из села Уторгош приметили на болоте Донец-
кий Мох высунувшийся из трясины конец самолетного
34
киля. Машину вытащили. Знаменитый Ла-5 с потускнев-
шими красными звездами и облупившимся номером на
фюзеляже не имел ни одной пробоины. Болото хорошо
сохранило тело пилота. Он был убит пулей в висок. Из
бокового кармана кителя вынули обернутый целлулои-
дом пакетик, оказавшийся партийным билетом. В нем
было написано: «Синчук Василий Прокофьевич, год рож-
дения— 1921, время вступления в партию— 1943».
Здесь же была вырезка из фронтовой газеты с фотосним-
ком летчика в тот момент, когда он вылезал из кабины
после очередного боевого вылета. Под снимком подпись:
«Мастер воздушного боя капитан В. П. Синчук, сбивший
вчера два самолета врага».
Летчика похоронили с воинскими почестями на брат-
ском кладбище Уторгоши. Сотни людей пришли отдать
последний долг герою. Из Орска на похороны приезжали
мать Улита Ивановна и брат Анатолий.
Василий Прокофьевич родился в поселке Херсон Ак-
тюбинской области Казахской ССР. С девяти лет жил
в городе Орске Оренбургской области, в семье рабоче-
го. В 1938 году его призвали в армию, по возвращении
поступил в аэроклуб, потом в авиационное училище. В
сентябре 1942 года прибыл на Волховский фронт летчи-
ком-истребителем 662-го смешанного авиаполка. В этом
полку пробыл по апрель 1943 года и, как явствует из
наградного листа, за семь месяцев произвел 202 боевых
вылета. Был в разведке, сопровождал штурмовики и
бомбардировщики, участвовал в перехвате вражеских са-
молетов, прикрывал свои наземные части. Летал в лю-
бую погоду, при любой облачности.
28 октября 1942 года в районе Спасской Полисти,
отражая атаки истребителей, В. П. Синчук сбил «мес-
сер». Второй вогнали в землю его боевые друзья. При
возвращении с задания Синчук обнаружил группу транс-
портных самолетов и смело врезался в их строй. Следом
за ним маневр повторили другие. Через несколько ми-
нут три вражеские машины уже догорали на земле. За
этот бой молодой летчик был награжден орденом Крас-
ного Знамени.
10 ноября в составе звена вылетел на перехват само-
летов противника в район Копцы — Подберезье — Ху-
тынь. И здесь обнаружил двух фашистских корректиров-
щиков артиллерийского огня. Последние, заметив наших
истребителей, стали уходить под прикрытие зенитной ар-
тиллерии. Но мастер воздушного боя не мог их отпус-
тить безнаказанными и бросился вдогонку. Несмотря на
35
В. П. Синчук,
Герой Советского Союза,
капитан, помощник командира
254-го истребительного авиаполка.
яростный огонь зениток, на-
гнал одного из них и сбил.
Друзья разделались с дру-
гим.
Шли дни, месяцы, рос
боевой счет. На фронт ста-
ли поступать новые истре-
бители Ла-5 с мощным мо-
тором в 1850 лошадиных
сил. Их скорость значитель-
но превосходила скорость
вражеских «фоккеров» и
«мессеров». На вооружении
боевого самолета были две
20-мм синхронные пушки. Истребитель отличался лег-
ким управлением и хорошей маневренностью. В апреле
1943 года Синчука, на счету которого уже было семь
вражеских машин, перевели командиром звена в только
что прибывший на фронт 254-й истребительный авиа-
полк. Полк вошел в состав 269-й авиадивизии.
Конечно, были в части мастера более эффектного сти-
ля, но нельзя было даже представить более методичной,
точной, равномерной и в результате — более успешной
боевой работы. И здесь, в 254-м полку, смелый воздуш-
ный боец быстро освоил новую материальную часть са-
молета Ла-5, сбил еще несколько стервятников.
29 июля, сопровождая группу Пе-2, в районе Мги
звено Синчука встретило четыре вражеских истребителя.
Упреждая их атаку на бомбардировщики, Синчук зашел
в хвост «фоккеру». Тот, пытаясь выйти из атаки с бое-
вым разворотом, завис на какое-то время. Но его оказа-
лось достаточно, чтобы Василий снизу, с близкой дис-
танции, сбил его. В это же время Синчук заметил, как
два «мессера» все же кинулись на Пе-2. Герой зашел
им в хвост и с еще более близкой дистанции сбил дру-
гой самолет. Третий бросился наутек. Не случайно в но-
вом полку, так же как и в 562-м, отважного летчика на-
зывали «рыцарем воздуха».
Вскоре Синчука назначили руководителем группы
летчиков-«охотников», которым разрешалось в свобод-
36
ное от основной боевой работы время вести поиск и унич-
тожение вражеских самолетов. Не прошло и нескольких
дней, как 1 августа в районе Карбусели — Турышкина
во время свободного поиска Василий сбил еще два вра-
жеских самолета. «Можете порадоваться моим успе-
хам,— писал герой своей матери в Орск,— я уже сбил и
отправил на тот свет одиннадцать самолетов врага».
И в то же время, будучи командиром, «рыцарь воз-
духа» не упивался личными победами, а старался учить
и воспитывать и своих подопечных, чтобы рос счет каж-
дого из них. В середине сентября Синчук с тремя ведо-
мыми отправился на очередной свободный поиск. Над
территорией, занятой оккупантами, встретили четыре
«мессера» и два «фоккера». Бой развивался стремитель-
но. Несмотря на численное превосходство противника,
наши летчики смело и умело атаковали гитлеровцев. И,
прикрывая друг друга, сбили два фашистских самолета.
1944 год двадцатитрехлетний капитан встретил заме-
стителем командира полка.
14 января, как только рассвело, командир 254-го май-
ор С. М. Михайлин вместе с ведомым вылетел на раз-
ведку погоды. Высота облачности — 300—500 м, види-
мость — от одного до полутора километров. Погода вы-
далась нелетная и ухудшалась с каждой минутой. На-
чался снегопад. Запланированные командованием мас-
сированные удары по врагу с воздуха срывались. А ведь
именно в этот день в девять ноль-ноль грохот орудий
всех калибров возвестил начало Новгородско-Лужской
наступательной операции Волховского фронта. Но уже
на другой день, по мере улучшения погоды, активно
действовала авиация. Штурмовики и бомбардировщики
обрушили всю свою огневую мощь на врага. Войска 59-й
армии, обходившие Новгород с севера и юга, получили и
с воздуха надежное прикрытие наших истребителей.
«19 января, обнаружив автоколонну врага северо-за-
паднее Новгорода, Синчук вызвал по рации на помощь
еще одну группу истребителей. А сам до ее подхода со
своими ведомыми пулеметно-пушечным огнем уничтожал
головные машины. В колонне противника возникли по-
жары, подоспевшие истребители наносили новые удары.
В результате уничтожили 25 автомашин и истребили до
сотни Гитлеровцев» *.
Авиация помогала родной армии и 20 января — при
освобождении Новгорода, и в последующие дни, несмот-
1 На Волховском фронте. 1941—1945. М.: Наука, 1982, с, 227,
37
ря на то что погода для полетов оставалась плохой. Для
выполнения боевых заданий выделяли наиболее опытных
летчиков.
1 февраля группа Синчука в составе пяти самолетов
вылетела на прикрытие войск в район Передольская —
Великое Село. На пути встретили 25 бомбардировщиков
под прикрытием 6 истребителей! «Несмотря на полное
превосходство врага, вступили в бой. Кроме Синчука в
группе были замполит полка майор М. П. Кольцов, ко-
мандир эскадрильи капитан Виктор Труханов, летчики
Александр Серегин и Юрий Ершов»* 1.
О перипетиях боя рассказывал Серегин:
«Рубаем мы «лапотников», Вася — двух, мы с Коль-
цовым — третьего... А фрицы еще полдюжины «фокке-
ров» подбросили. Так и посыпались на нас, как картош-
ка из мешка. Оглянулся — на меня двое валятся. Я к
земле, потом правым боевым — и в облака... Вышел из
облачности — пусто: ни своих, ни немцев, и бензина с
гулькин нос. Ну я и потянул до дома до хаты...» 2
Один из слушателей — лейтенант Александр Закрев-
ский, не вылетевший тогда с учителем из-за небольшой
неисправности самолета,— направился к начальнику
штаба И. В. Лаврехинцеву.
— Товарищ майор, что с Синчуком и Кольцовым?
— Не знаю, дорогой. Одно могу сказать: задание вы-
полнили, свору разогнали, срезали шесть «юнкерсов» и
«фоккера». Но самих нет, и никго не может сказать,
что с ними произошло.
— Разрешите, слетаю, я этот район хорошо знаю.
В этот вечер над лесами и болотами, что тянутся чуть
ли не сплошной полосой от Ильменя до Витебской же-
лезной дороги, долго кружил одинокий истребитель, тем-
но-зеленый сверху, голубой снизу.
— Ну что? — нетерпеливо спросил Лаврехинцев,
лишь только Закревский переступил порог.
— Не обнаружил,— тихо проговорил уставший лей-
тенант.
— Иди поужинай, отдохни,— сказал начштаба,—
завтра опять войны по горло.
В Орск матери Улите Ивановне ушла «похоронка», а
когда полк воевал уже на подступах к Прибалтике, За-
кревский наконец-то решился написать его невесте, от
которой после гибели Синчука пришло два письма.
1 Новгородская правда, 1986, 19 января.
1 Новгородская правда, 1979, 21 июня.
38
«Здравствуй, Таня! Я должен сообщить тебе печаль-
ную весть. Первого февраля Вася не вернулся с боевого
задания. Прости, что так поздно пишу.
Это случилось за Новгородом. Вася и еще четверо
летчиков встретились с целым полчищем вражеских са-
молетов. С земли их насчитали 37 штук. Но ты знаешь
Васю. Он презирал фашистов, и сколько бы их ни было
в воздухе, у него была одна команда: «За мной, в ата-
ку!» Они разогнали эту свору и спасли наши наземные
войска от бомбежки. От Васиной руки нашли свою
смерть экипажи двух бомбардировщиков и «фоккера».
А всего сбили семь стервятников. В нашей армейской
газете написано, что исход боя решили мужество и же-
лезная воля капитана Синчука.
Никто в полку не мог поверить, что Вася сбит. Та-
кой виртуоз, ас из асов! Все думали, что сел на вынуж-
денную и находится у партизан,— были такие случаи у
нас. Но вот прошло три недели, а Вася не вернулся. Не
вернулся и майор Кольцов, наш комиссар... Дорогой це-
ной досталась нам эта победа... Вася часто перечиты-
вал твои письма, Таня. Он любил тебя и был счастлив
твоею любовью. Два твоих письма опоздали...»
13 апреля 1944 года В. П. Синчуку посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза. Он совершил
305 боевых вылетов, сбил 15 фашистских самолетов, из
них 7 истребителей *. Имя героя носят улицы в Уторго-
ши Новгородской области, в совхозе «Восточный» Орен-
бургской области, средняя школа в Актюбинской обла-
сти. Улита Ивановна живет на улице, носящей имя сы-
на в Орске.
Парторг
Просматривая очередной номер фронтовой газеты
«За Родину!» от 6 июня 1943 года, я с глубочайшим вни-
манием прочел поэму Михаила Матусовского «Песнь об
Айдогды Тахирове и его друге Андрее Савушкине». Под-
виг парторга роты захватил, увлек в новый поиск. Мно-
гое поведал наградной лист на звание Героя1 2.
...Густой снег, не переставая, с утра 29 января
1943 года засыпал расположение второй роты первого
батальона 87-й отдельной стрелковой бригады гвардии
1 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 44, л. 37—38.
2 ЦАМО, ф. 33, оп, 793756, д. 47, л. 100.
39
А. Тахиров,
Герой Советского Союза,
старший сержант, парторг роты
87-й отдельной стрелковой
бригады.
подполковника Белоусова
близ деревни Куяны Лыч-
ковского района. Стояла не-
обычная тишина, редко на-
рушаемая сухими винтовоч-
ными выстрелами.
Лейтенант Тургаев вы-
звал сержанта Савушкина.
В блиндаж вошел высокий,
широкоплечий молодой бога-
тырь с ясными голубыми
глазами.
— Пойдете в боевое
охранение на смену Тахиро-
ву. Людей подберете сами. Будьте осторожны: немцы
что-то затевают.
Да, нигде не бывало такой тишины, как на войне. Ни-
кто не обращал внимания на рвущиеся где-то мины и
снаряды. Некоторые даже не просыпались, когда невда-
леке рвались бомбы. Но если вдруг наступала тиши-
на — ее переносили значительно труднее и нервознее.
По крайней мерс далеко не каждый мог уснуть при пол-
ной тишине.
В вечерних сумерках четыре бойца в белых маскха-
латах по-пластунски добрались до боевого охранения и
сменили усталых, продрогших бойцов. Тахиров, несмот-
ря на уговоры, идти на отдых отказался. Савушкин в
душе и сам был рад этому. За короткое время пребыва-
ния в роте новгородский парень успел полюбить строй-
ного, подвижного туркмена, несмотря на большую раз-
ницу в летах. Тахирову уже исполнилось тридцать шесть,
а Савушкину едва перевалило за двадцать. В часы ко-
роткого солдатского отдыха Айдо>ды пел песни своей
родины, и Андрей не раз слушал напевы далекого края.
Вскоре старший сержант Тахиров был назначен партор-
гом роты, Савушкин стал одним из взводных. Зародив-
шаяся дружба крепла и закалялась в жестоких боях с
фашистами, окруженными в районе Демянска.
Наступила ночь. Белым хлопьям, казалось, не было
40
конца. Гитлеровцы молчали. Савушкин с напряжением
всматривался в снежную круговерть, изредка пробивае-
мую вспышками ракет. Друг, согретый чаем, пытался
заснуть. Вскоре до обостренного слуха сержанта донес-
лась глухая возня в окопах врага. Он тронул за плечо
Тахирова, тот сразу стряхнул сон. Шум становился все
явственнее. Айдогды схватил телефонную трубку:
— «Ромашка», я «Василек». Слышим какие-то при-
готовления у немцев.
В сторону противника с переднего края одна за дру-
гой полетели ракеты. При их свете друзья увидели тем-
ную людскую массу, надвигавшуюся с двух сторон. Про-
тяжно завыли мины.
— «Ромашка», нас атакуют не менее роты.
— Держитесь! — крикнул Тургаев, и связь прервав
лась.
Начался неравный поединок горстки смельчаков с
фашистской оравой. Не вскрикнув, повалился на землю
Савушкин. Айдогды бросился к другу, но тому уже ни-
чем нельзя было помочь. А мины продолжали рваться
в расположении боевого охранения.
Тахиров огляделся. Разбит прямым попаданием пуле-
мет. Он выскочил наружу, во вспышках огневого шква-
ла заметил, что остался один. Когда обстрел утих, фаши-
сты поднялись и ринулись к молчавшей высотке. Но она
ожила. Короткие автоматные очереди снайпера несли
смерть. Горячий осколок впился ему в ногу, но некогда
перевязать рану: враги в нескольких метрах. Одна за
другой полетели гранаты. Снова схватил автомат, сме-
нил диск. Кончились патроны, потянулся за винтовкой
упавшего бойца, но кровавая пелена застилала глаза.
Собрав уходящие силы, швырнул последнюю гранату.
Новые трупы гитлеровцев распластались на снегу, но
он их уже не видел. На какой-то миг сознание верну-
лось, и он почувствовал, как его волокут на плащ-палат-
ке... Не видел отважный парторг и бегущих на выручку
боевых друзей.
— Опоздали,— сокрушаясь, проговорил лейтенант
Тургаев.— Совсем немного. Но фрицев-то они порядочно
уложили. Сорок семь трупов, и в основном у блиндажа.
Если учесть, что Савушкин и его наряд поражены мино-
метным огнем, значит, почти всю эту нечисть уложил
Тахиров. Наш парторг один сорвал наступление враже-
ской роты...
Айдогды очнулся в пропахшем гнилой соломой блин-
даже. Голова и ноги были забинтованы, сознание мед-
41
ленно возвращалось. И вдруг страшная догадка обо-
жгла душу — он в руках врага. Что ждет его? Перед
мысленным взором яркими солнечными красками за-
светился Арап-Кала. Родной дом и дорогая Айсолтан с
малолетним сыном... Нестерпимо хотелось пить. И сно-
ва в мыслях родные места. Бой в накаленных солнцем
скалах. Три дня без капли воды, небольшой отряд крас-
ноармейцев отбивался от шайки басмачей. Но подоспе-
ло подкрепление и бандиты были разгромлены... Лето
1935 года. Группа всадников Туркменистана совершила
беспримерный в истории конный пробег Ашхабад —
Москва. Как восторженно встречала их тогда столица!
Где-то сейчас бьются лихие конники? А вот и грозный
день 1941 года. Двое младших братьев покидали дом,
чтобы встать на защиту Родины.
— Братья! — сказал он им тогда.— Слушайте мой
наказ: да пусть не увидит враг ваши затылки!
А вскоре и сам ушел на фронт.
Воспоминания прервало появление фашистов.
Даже тяжело раненный советский боец казался гит-
леровцам превосходной находкой. Пытками рассчитыва-
ли они сломить его волю, обещаниями сохранить
жизнь — склонить к предательству. Сначала было ре-
шено использовать Тахирова для провокационного вы-
ступления по радио.
Тахирову дали бумагу, но, взяв ее, он лишь сделал
вид, что внимательно вчитывается в текст.
— Готов?
К сидящему на ящике из-под снарядов Айдогды под-
несли микрофон. Да, он готов. Офицер кивнул, включил
передатчик.
— Братья-туркмены, слушайте меня. Я, Айдогды Та-
хиров...
Он посмотрел на гитлеровцев. Офицер, улыбаясь, по-
казывал на микрофон.
— Воины-туркмены, не верьте фашистам. Эти гады
издеваются над нами. Бейте гадов...
Резкий удар свалил на пол. В репродукторах, спря-
танных на высоких соснах по всему переднему краю,
послышались шум борьбы, крики, затем все стихло...
Однополчане не сразу узнали голос Тахирова, так он
изменился от пыток. Но когда под стремительным на-
тиском бригады отступили фашисты и в сарае нашли со-
ветские солдаты обезображенное тело близ оборванных
проводов, убедились — это был действительно их бес-
страшный парторг. Он жил как коммунист и погиб как
42
герой. Не сумев склонить советского бойца к измене во-
инскому долгу, гитлеровцы зверски замучили его.
В медицинском заключении о смерти Тахирова за-
писано: «Ноги его были связаны веревкой, вся спина в
кровавых рубцах от ударов шомполом, огнестрельная
рана в боку разворочена каким-то тупым предметом, ко-
жа порвана, на лице видны кровоподтеки и синяки от
ударов, на шее следы пальцев от удушения»1.
По-фронтовому, молчаливо прощались однополчане
с Тахировым. Клялись мстить за мученическую смерть
боевого товарища. Небольшой холмик мерзлой земли
убрали еловыми ветвями. Земляки из родного аула бе-
режно завернули в солдатскую тряпицу горсть северной
земли с могилы героя.
Родина не забывает своих сыновей. Айдогды Тахиро-
ву Указом Президиума Верховного Совета СССР от
19 июня 1943 года посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза. Труженики Каахкинского района
Марыйской области свято хранят память о земляке-ге-
рое. Его именем названы колхоз, школа, где он учился,
улица райцентра, местный кинотеатр. Коммунист Тахи-
ров навечно зачислен в списки членов родного колхоза,
имя героя присвоено лучшей бригаде.
Имя солдата партии, сына туркменского народа уве-
ковечено в названии улицы Старой Руссы. И никогда
не зарастает тропа к обелиску, установленному над его
могилой в селе Налючи.
Прямой наводкой
Это был верный сын советского народа в самом глу-
боком понимании этого слова. Родился Джунуспей в
селе Курам Чиликского района Алма-Атинской области
в 1907 году. До войны работал в колхозе трактористом,
распахивал бескрайние степи родной земли, растил хлеб.
В 1938 году у него родилась дочь.
Когда в радостную жизнь ворвалась война, Джунус-
пей Каипов пришел в военкомат. Поскольку он был зна-
ком с техникой, его направили в артиллерию. Прошел
краткосрочные курсы, затем получил назначение в 54-й
полк 20-й легкоартиллерийской бригады 2-й Красно-
знаменной артдивизии гвардии подполковника К. А. Се-
1 Доблестные сыны, Изд. Политуправления Северо-Западного
фронта, 1944,
43
дата. В боях Джунуспей Каппов показал бесстрашие и
отвагу, за что неоднократно отмечался благодарностями.
Продвигался он по службе и в звании. Когда в октяб-
ре 1943 года дивизию перебросили с Ленинградского на
Волховский фронт, это был уже закаленный воин — ком-
мунист, старшина, командир расчета, на груди которого
отливал серебряными гранями орден солдатской Славы
III степени. Рядом была медаль, которой он не менее до-
рожил,— «За оборону Ленинграда».
Началась подготовка к решительной операции за
освобождение Новгорода. Вместе с тем ни на один день
не снижалась боевая активность, о которой писал фрон-
товой поэт:
О нас не печатают сводок,
Здесь нет даже «местных боев».
Здесь только котел небосвода
Клокочет огнем до краев.
Командуя расчетом, Каипов и на поле боя требовал
от своих товарищей столько, сколько делал сам, и был
таким, каким хотел видеть каждого из них. «Это был
мастер стрельбы прямой наводкой,— писала 6 июля
1944 года дивизионная газета «Сталинский залп».— Ни-
кто лучше его не умел скрытно подобраться поближе к
немецким укреплениям, неожиданно обрушиться всей
мощью своего орудия, подавить, разметать, уничтожить
их». Да, Каипов знал тайну ближнего боя, спокойно вы-
жидая момент, чтобы с ближней дистанции ударить на
поражение.
— Я здесь, на древней русской земле, защищаю Ро-
дину,— часто говорил боевым друзьям казах Джунуспей
Каипов.
И все понимали и уважали этого бесстрашного ар-
тиллериста, патриота, скромного и отзывчивого това-
рища.
13 января 1944 года 54-й полк получил приказ помочь
в наступлении 310-й стрелковой дивизии, которая шла
в авангарде на участке Любцы — Копцы. Погода стоя-
ла пасмурная, и синоптики обещали утром сильный сне-
гопад и метель. Артиллеристы отчетливо представляли,
как это затруднит их действия, помешает ведению при-
цельного огня, особенно в глубину обороны против-
ника. И когда начнется атака пехоты и танков, неподав-
ленные артиллерийские и минометные батареи откроют
огонь. Немалый расчет был на легкие орудия, и то при
условии их прямой наводки.
44
Д. Каипов,
Герой Советского Союза,
старшина, командир орудия
54-го полка 20-й артбригады.
Орудие тащили ночью,
разговаривали шепотом, ибо
враг был близко. Нашли ку-
сты, где можно было хорошо
замаскировать орудия и от-
куда отчетливо был виден
вражеский дзот, давно уже
досаждавший пехоте 1084-го
стрелкового полка.
Ранним утром ливень
смертоносного огня обру-
шился на головы гитлеров-
цев. Стрелял и Каипов. Он
видел только свою цель. Вот
снарядом продырявлен угол дзота, вот еще несколькими
попаданиями разрушено все гнездо. Противник ответил
ураганным огнем по орудиям прямой наводки, находя-
щимся всего в трехстах с лишним метрах от своего пе-
реднего края. Но это нс остановило Каипова. Обнару-
живая новые цели, его орудие продолжало стрелять и
тогда, когда от прямых попаданий вражеских снарядов
у двух соседних орудий полностью выбыли расчеты.
<Покончив с четырьмя дзотами, Каипов по-прежнему, не
обращая внимания на шквал огня, вступил в единобор-
ство с противотанковым орудием и пятым выстрелом за-
ставил его замолчать навсегда... Пехота 1084-го полка
рванулась вперед»
Джунуспей немедля двинулся вслед за атакующими.
<Восемьсот метров на руках, по качено в ледяной во-
де,— подчеркивается в наградном листе,— в топком бо-
лоте и снегу, под сильным артиллерийско-минометным
огнем со своим расчетом и пехотинцами продвигал он
орудие и стрельбой прямой наводки с нового рубежа
обеспечил нашей пехоте захват передовых укреплений
противника»3.
Восемьсот метров на руках нести орудие по колено
в ледяной воде?! Да тут каждый шаг мог быть прирав-
1 ЦАМО, ф. 33. оп. 793756, д. 20, л. 92.
2 Там же.
нен к подвигу. Но люди на войне так шагали нередко, а
во время наступления и уставать им не полагалось. И
люди оказывались сильнее, выносливее и коней, и авто-
машин, и даже танков.
К вечеру части 310-й дивизии вышли на восточный
берег реки Питьба. Противоположный берег был сильно
укреплен. В ночь на 15 января 1084-й полк с батальоном
1082-го при поддержке артиллерии форсировал Питьбу.
Солдаты ворвались в Копцы, затем продолжали наступ-
ление на Вешки.
Враг продолжал сопротивление. Его минометная ба-
тарея покрывала сплошным огнем подступы к населен-
ному пункту Моторово. Наша пехота несла большие по-
тери. Каипов, предварительно разведав местонахождение
фашистской батареи, прямой наводкой своего орудия
уничтожил ее. После этого пехота ворвалась в Мото-
рово.
В деревне Колмово гитлеровцы попытались остановить
атакующих многослойным огнем, установив пулеметы в
подвалах домов и на чердаках. Джунуспей и здесь вы-
катил орудие на прямую наводку вдоль шоссе. И вот
уже замолкли один, другой, третий вражеские пулеме-
ты. Обозленный противник ответил минометным огнем
по досаждавшей ему пушке. Двое бойцов из расчета
были убиты. Но, презирая смерть, Каипов сумел уничто-
жить еще два пулемета.
— Спасибо, Джунуспей! — кричали ему на бегу пе-
хотинцы.
Каипов приветливо махал рукой. Колмово было
взято.
20 января утром Каипов первым со своим орудием,
впереди пехоты, ворвался в Новгород. Комбриг подпол-
ковник К. В. Кожухов и комдив гвардии полковник
К. А. Седаш писали в наградном листе: «За проявлен-
ную отвагу и геройство достоин присвоения звания Ге-
рой Советского Союза».
1 июля 1944 года последовал Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР. Но высшее отличие Родины не за-
стало героя в живых. Вот как описывает последний бой
Джунуспея Каипова бывший командующий 59-й армией
генерал-полковник в отставке И. Т. Коровников:
«11 февраля стрелковые подразделения 239-й диви-
зии пытались овладеть железнодорожным мостом через
реку Луга около станции Передольская, чтобы обеспе-
чить переправу части 6-го стрелкового корпуса на запад-
ный берег реки. Два вражеских дзота прикрывали под-
46
ступы к мосту... Требовалась помощь артиллеристов. Ге-
рой многих боев старшина Джунуспей Каипов из 54-го
артполка 20-й легкоартиллерийской бригады выкатил
свое орудие на прямую наводку и открыл огонь по одно-
му из дзотов. После третьего выстрела дзот замолчал.
Каипов перенес огонь на второй дзот, заставив замол-
чать и его. Подступы к мосту были открыты. Разъярен-
ные фашисты сконцентрировали огонь всех минометов
на позиции артиллеристов...»1
Джунуспей Каипова похоронили в саду в центре по-
селка Батецкий. Его именем здесь названы улица и пио-
нерская дружина средней школы. Учрежден спортив-
ный приз его имени. Пионеры дружины разыскали его
родных и близких, ведут переписку с дочерью героя Ли-
зой Джунуспеевной и с пионерами дружины имени Каи-
пова в Казахстане.
Член Военного совета
В музее Брестской крепости есть шкатулка с землей,
доставленной с могилы Ивана Васильевича Зуева. Два-
дцать с лишним лет была безымянной «Комиссарова мо-
гила», пока юные следопыты — чудовские школьники —
не заинтересовались и не начали поиск. Вскоре в газете
«Известия» появилась статья журналиста Бориса Гусева
«Смерть комиссара» — об обстоятельствах гибели Зуе-
ва 1 2. Он спас, вывел из окружения тысячи солдат, но,
возвращаясь за очередной группой, был вновь отрезан
последним вражеским прорывом в районе Мясного Бора,
когда фашистам удалось окончательно перекрыть ко-
ридор, связывавший 2-ю ударную с основными силами
Волховского фронта. Пытался пробиться к своим, но по-
гиб по вине предателей.
Судьба комиссара взволновала многих, в редакцию
«Известий» хлынул поток писем. Известный кинодоку-
менталист Роман Кармен начал в 1965 году съемки
фильма о «пропавшем без вести» друге, с которым сра-
жался бок о бок в интернациональной бригаде в Испа-
нии. Центральный штаб Всесоюзного похода по местам
революционной, боевой и трудовой славы советского на-
рода в том же году пригласил в Брест на первый свой
Всесоюзный слет в числе новгородской делегации ини-
1 Коровников И. Т„ Лебедев П. С., Поляков Я. Г, На трех
фронтах. М.: Воениздат, 1974, с. 137,
2 См,: Известия, 1965, 17 июля.
47
циатсров поиска Наташу Орлову и Симу Иванову. По
прибытии в Брест в тот же. день мне пришлось вместе с
ними выступать по телевидению. Рассказывали мы о
своей работе и о том, что удалось узнать о жизни Ива-
на Васильевича Зуева.
1 одился он 7 ноября 1907 года в селе Ближне-Песоч-
ное Горьковской области. В семнадцать лет возглавил
сельскую ячейку комсомола, в 1928 году стал коммуни-
стом. Когда пришла пора служить в Красной Армии,
окончательно определилось жизненное призвание — по-
ступил на курсы политсостава. Политрук роты, секре-
тарь партбюро батальона, инструктор политотдела — вот
его послужной список.
1936 год. В далекой Испании вспыхнул франкистский
мятеж. Зуев поехал добровольцем сражаться с фаши-
стами. Там было несколько встреч с Романом Карме-
ном. Вот как свидетельствует известный кинооператор
об одной из них:
«Группа танков сосредоточилась в небольшой лож-
бинке у подножия холма, примерно в километре от на-
блюдательного пункта 12-й интернациональной брига-
ды. Я направился к танкистам, и первый, кого там уви-
дел, был Ваня Зуев, идущий в бой в качестве заряжаю-
щего и наводчика орудия. Перекинулись несколькими
словами. Ваня размашистым жестом протянул мне руку,
влез в танк и, махнув рукой в сторону врага, произнес
то самое слово, которое много лет спустя, стартуя в кос-
мос, сказал комсомолец 60-х годов Юра Гагарин:
— Поехали...» 1
За выполнение особых заданий правительства, про-
явленные при этом героизм и мужество И. В. Зуева в
числе других наградили орденами Красного Знамени и
Красной Звезды. После Испании участвовал в освобож-
дении Западной Украины и в советско-финляндской вой-
не. Был награжден вторым орденом Красной Звезды.
В марте 1941 года Ивана Васильевича назначили
членом Военного совета 11-й армии, которая стояла на
границе с Восточной Пруссией. Командовал ею генерал-
лейтенант Василий Иванович Морозов, волевой, отваж-
ный командир и весьма эрудированный специалист. Вре-
мя было тревожное. Шли сообщения о сосредоточении
и развертывании вооруженных сил Германии близ со-
ветских границ. С наступлением теплых дней немецкие
самолеты летали над Финским заливом, приближались
1 Кармен Р, Но пасаран!, с, 54—55.
48
циатсров поиска Наташу Орлову и Симу Иванову. По
прибытии в Брест в тот же. день мне пришлось вместе с
ними выступать по телевидению. Рассказывали мы о
своей работе и о том, что удалось узнать о жизни Ива-
на Васильевича Зуева.
1 одился он 7 ноября 1907 года в селе Ближне-Песоч-
ное Горьковской области. В семнадцать лет возглавил
сельскую ячейку комсомола, в 1928 году стал коммуни-
стом. Когда пришла пора служить в Красной Армии,
окончательно определилось жизненное призвание — по-
ступил на курсы политсостава. Политрук роты, секре-
тарь партбюро батальона, инструктор политотдела — вот
его послужной список.
1936 год. В далекой Испании вспыхнул франкистский
мятеж. Зуев поехал добровольцем сражаться с фаши-
стами. Там было несколько встреч с Романом Карме-
ном. Вот как свидетельствует известный кинооператор
об одной из них:
«Группа танков сосредоточилась в небольшой лож-
бинке у подножия холма, примерно в километре от на-
блюдательного пункта 12-й интернациональной брига-
ды. Я направился к танкистам, и первый, кого там уви-
дел, был Ваня Зуев, идущий в бой в качестве заряжаю-
щего и наводчика орудия. Перекинулись несколькими
словами. Ваня размашистым жестом протянул мне руку,
влез в танк и, махнув рукой в сторону врага, произнес
то самое слово, которое много лет спустя, стартуя в кос-
мос, сказал комсомолец 60-х годов Юра Гагарин:
— Поехали...» ’
За выполнение особых заданий правительства, про-
явленные при этом героизм и мужество И. В. Зуева в
числе других наградили орденами Красного Знамени и
Красной Звезды. После Испании участвовал в освобож-
дении Западной Украины и в советско-финляндской вой-
не. Был награжден вторым орденом Красной Звезды.
В марте 1941 года Ивана Васильевича назначили
членом Военного совета 11-й армии, которая стояла на
границе с Восточной Пруссией. Командовал ею генерал-
лейтенант Василий Иванович Морозов, волевой, отваж-
ный командир и весьма эрудированный специалист. Вре-
мя было тревожное. Шли сообщения о сосредоточении
и развертывании вооруженных сил Германии близ со-
ветских границ. С наступлением теплых дней немецкие
самолеты летали над Финским заливом, приближались
1 Кармен Р, Но пасаран!, с, 54—55.
43
к Таллинну. Неизвестные подводные лодки появлялись у
Лиепаи...
Ночью 22 июня в округ поступил приказ народного
комиссара обороны, в котором говорилось о возможности
внезапного нападения гитлеровцев. Командующий отдал
приказ о скрытном занятии основной полосы пригранич-
ных укреплений, о выдаче боеприпасов. Но было уже
поздно —• во многие подразделения приказ поступил уже
в ходе войны.
Ранним утром 22 июня соединения 8-й и 11-й армий
приняли на себя жестокий удар. Их боевая инициатива
и героизм сорвали планы молниеносного разгрома пер-
вого эшелона Красной Армии. Однако, вынужденные от-
ступать, они на каждом мало-мальски пригодном рубе-
же старались задержать фашистов и даже наносили
контрудары.
Зуева всегда можно было встретить там, где реша-
лась судьба боя. Из части в часть передавался рассказ
о том, как Иван Васильевич вместе с членом Военного
совета фронта Т. Ф. Штыковым на западной окраине
Сольцов под ураганным огнем противника остановили
отступавших бойцов и организовали оборону. А когда
поступил приказ о нанесении здесь по врагу контрудара,
Зуев принял самое активное участие в разработке и
проведении операции 14—18 июля.
1 августа фашисты при штурме Старой Руссы скрыт-
но вышли на фланг 180-й стрелковой дивизии. Отдель-
ные ее подразделения дрогнули и начали отходить. К
участку прорыва на штабной «эмке» помчался Зуев, про-
скочил через горящий мост в Дубовнцах и оказался на
пути тех, кто покинул боевой рубеж. Артиллерийская
батарея по его приказу ударила по врагу прямой навод-
кой. Сам же комиссар, собрав около ста красноармей-
цев и командиров, повел их в контратаку.
— Иван Васильевич, ты же первый член Военного
совета,— не раз говорил Морозов,— разве твое дело при
малейшей опасности лезть вперед?
— На войне, товарищ командарм,— в тон ему отве-
чал Зуев,— надо быть, где горит, где решается судьба.
2 августа в 11-ю армию приехала группа военных ки-
нодокументалистов, среди них был и Р. Кармен. Здесь
снова встретились старые знакомые. Только теперь один
из них стал известным кпнопублицистом, другой—ди-
визионным комиссаром. Разговор зашел о политбой-
цах.
— Кто они такие? — поинтересовался Кармен.
49
И. В. Зуев, дивизионный комиссар,
и командарм 2-й ударной армии Н. К. Клыков.
— Полк политбойцов формировался в Ленинграде
из коммунистов ополчения,— с теплотой в голосе отве-
тил комиссар.— Они сейчас на передовой дерутся как
львы... А пока у нас мало отрадного, Старую Руссу, оче-
видно, оставим, сделав все возможное, чтобы закрепить-
ся на Ловати. Если, конечно, противник не бросит сюда
большие танковые соединения...1
Северо-Западный фронт окончательно остановил вра-
га во второй половине сентября на линии: озеро Иль-
мень — Лычково — Селигер.
9 декабря соединения 4-й армии освободили город
Тихвин, а через восемь дней был создан Волховский
фронт под командованием К. А. Мерецкова. Значитель-
но обновился в связи с этим и руководящий состав ар-
мий. В командование 4-й вступил генерал-лейтенант
П. А. Иванов, начальником штаба стал полковник
П. С. Виноградов, первым членом Военного совета на-
значили дивизионного комиссара И. В. Зуева, освободив
его от этой должности в 11-й армии.
— Жаль, очень жаль, Иван Васильевич,— говорил
Морозов.— Такой путь прошли вместе. Даже предста-
1 См,: Кармен Р. Но ласаран!, с, 58.
50
вить себе иногда не могу, как только выдержали. Но,
видно, там вы сейчас более нужны. Войска четвертой
теснят противника, не сегодня завтра выйдут к Волхову,
и, может быть, именно они пойдут на деблокаду Ленин-
града.
По прибытии на новое место Зуев, как всегда, с го-
ловой ушел в работу. С ним был и его верный поруче-
нец— капитан Я. С. Бобков. Контрнаступление 4-й ар-
мии дальше развивалось медленно, в неимоверно труд-
ных условиях. Сильные морозы и глубокий снег ослож-
няли маневр.
7 января 1942 года войска Волховского фронта сно-
ва перешли к активным боевым действиям. В пробитую
брешь в районе Мясного Бора ввели 2-ю ударную ар-
мию и 13-й кавалерийский корпус. Перебросили допол-
нительные силы, укрепили командование. Из 4-й пере-
вели начальника штаба и первого члена Военного со-
вета.
Итак, трех месяцев не прошло, как Ивану Васильеви-
чу пришлось принять новый участок, еще более труд-
ный. Не надо быть военным специалистом, чтобы по-
нять, какими неимоверно тяжелыми обстоятельствами
это было вызвано и каким авторитетом пользовался
сравнительно молодой, но многоопытный комиссар.
2-я ударная круглые сутки вела бои с превосходя-
щим ее противником. Сама же, освободив значительную
территорию, была связана с основными силами фронта
пятикилометровой горловиной. Через нее среди леса и
болот была проложена единственная зимняя дорога, по
которой шло снабжение всей армии. Она прострелива-
лась фашистами из всех видов оружия, днем подверга-
лась налетам авиации. Движение происходило только
ночью. Машины и тракторы шли, как правило, с поту-
шенными фарами. Можно представить, что творилось на
этой дороге.
19 марта мощным артиллерийско-минометным огнем
и авиацией враг подавил сопротивление обороняющих-
ся в районе Мясного Бора и перерезал коммуникации
2-й ударной.
«Мне довелось многое повидать за годы войны,—
вспоминал впоследствии К. А. Мерецков.— Но те неде-
ли были самыми трудными. По накалу событий, по нерв-
ному напряжению, им сопутствующему, вряд ли можно
их с чем-либо сравнить»
1 Мерецков К., А, На службе народу, М,: Политиздат, 1968,
с, 280.
51
В ходе контрудара 27 марта враг был отброшен к
югу и северу. Горловина приоткрылась. Но в связи с
начавшейся оттепелью транспорты с трудом продвига-
лись по рушившимся на глазах зимникам. Во 2-ю удар-
ную пошли обозы навьюченных патронами и снарядами
лошадей. Значительную часть продовольствия и боепри-
пасов доставляли в мешках за плечами. В обратном на-
правлении вели и несли раненых. Особенно много вни-
мания уделял этому Зуев. За две недели удалось эвакуи-
ровать более восьми тысяч.
Волховчане снова готовились наступать на Любань.
Но в самый разгар подготовки, 15 апреля, тяжело забо-
лел командующий 2-й ударной армией Н. К. Клыков и
был немедленно эвакуирован. На его место Ставка на-
значила генерала Власова, с именем которого связано
«одно из самых подлых и черных дел в истории Великой
Отечественной войны»'.
«Но беда не приходит одна»,— утверждает известная
поговорка. 23 апреля фронт был преобразован в Вол-
ховскую оперативную группу Ленинградского фронта. И
это не могло не отразиться на ходе боевых операций и
судьбе 2-й ударной. Уже на другой день немцам опять
удалось закрыть горловину. Снабжение окруженных ча-
стей осуществлялось только транспортной авиацией.
Воины днями не получали продовольствия, крайне огра-
ниченно расходовали боеприпасы. Потери в людях не
восполнялись. А противник усиливал натиск со всех сто-
рон. Но советские бойцы не пали духом даже тогда,
когда не меньшим врагом оказалась весной и родная
природа. Продолжающаяся весенняя распутица заста-
вила их тратить дополнительные усилия, на десятки ки-
лометров прокладывать жердевые и бревенчатые доро-
ги. Вместо траншей солдаты возводили деревоземляные
валы. На зыбком болоте дзоты сооружали на плотах.
В середине мая в результате многодневных боев уда-
лось восстановить коридор. Ставка разрешила отход.
Многие части были уведены со своих позиций за Волхов,
в первую очередь госпитали и 13-й кавкорпус.
Гитлеровцы, то и дело врываясь в распыленные бое-
вые порядки наших отступающих частей, не могли не за-
метить того, что происходило во 2-й ударной. Да и гор-
ловина не была столь широкой, чтобы скрыть массовое
передвижение. 30 мая противник предпринял очередное
наступление и еще более сузил коридор.
1 Мерецков К. А. На службе народу, с. 275,
52
Этот ничейный участок земли, усеянный трупами
с обеих сторон и распространявший в те жаркие дни
смрадный запах, окрестили «долиной смерти». Да и са-
ма местность с деревней Мясной Бор слбвно оправды-
вала свое название. Вся земля была многократно пере-
пахана снарядами и бомбами. Когда-то густой, трудно-
проходимый лес перестал скрывать бойцов. Лавина огня
опалила кроны деревьев, повалила стволы, древесное
месиво образовало чудовищные завалы. Люди на мно-
гих участках не ходили, не перебегали, а ползли под за-
валами, спускались в воронки, с трудом преодолевая
метр за метром.
2 июня немцы опять перерезали коридор, но 5 июня
части 59-й армии восстановили его. Гитлеровцы же тем
временем смяли боевые порядки ударников и ворвались
в них с запада. На другой день противник снова полно-
стью перекрыл горловину. В окружении все еще остава-
лось семь дивизий и шесть бригад.
8 июня Волховский фронт был восстановлен, к коман-
дованию им вернулся Мерецков. Вместе с ним прибыл
представитель Ставки А. М. Василевский. Они скрупу-
лезно перебирали все возможности, освобождая отдель-
ные части и перебрасывая их к месту прорыва. Но и враг
с севера наступал четырьмя дивизиями, с запада — тре-
мя и несколькими — со стороны Новгорода. Наконец фа-
шисты не выдержали наших контратак, и 19 июня тан-
кисты 29-й танковой бригады, а за ними и пехота про-
били коридор, вышли на соединение с частями 2-й удар-
ной.
Открывшийся коридор не превышал шириною
400 метров, с обеих сторон он простреливался ружейно-
пулеметным огнем. Но жертвы и усилия не пропали да-
ром: из окружения вышло несколько тысяч, в большин-
стве раненых.
«Затем произошло то, чего более всего опасался,—
пишет в мемуарах Мерецков.— Ударники, участвующие
в прорыве, вместо расширения коридора и закрепления
флангов, потянулись вслед за ранеными. В критический
момент их командование не сумело принять необходи-
мые к тому меры. Немцы же быстро разобрались в об-
становке и после массированного удара авиации и ар-
тиллерии снова заняли оборонительные сооружения по
восточному берегу Полисти и воспрепятствовали выходу
наших войск, одновременно усилив нажим с запада»1.
1 Мерецков К.. А. На службе народу, с. 292—293.
$3
И тогда по предложению Зуева вся тяжесть борьбы
с преследовавшим противником была возложена на пле-
чи специальных частей и подразделений — тоже голод-
ных, но не измотанных непрерывными схватками. Это
были артиллеристы, оставшиеся без орудий, саперные
батальоны, разведывательные роты, комендантские
взводы.
В радиограмме, переданной дивизионным комиссаром
21 июня в штаб фронта, говорилось: «Бойцы три неде-
ли получают только по 50 граммов сухарей. Последние
дни продовольствие совершенно не поступало. Боепри-
пасов нет... Войска с трудом отбивают непрерывные ата-
ки противника...» 1
Район, занимаемый 2-й ударной, сократился до та-
ких размеров, что простреливался вражеской артилле-
рией на всю глубину. «Кабинетный» генерал Власов без-
действовал. И чтобы не видеть его предательского пове-
дения, не слышать барски пренебрежительных слов в
адрес дивизионных и полковых командиров, Зуев все
время находился в самых горячих точках непомерно
трудной борьбы с врагом.
23 июня Военный совет фронта получил его последнее
донесение:
«Восточная группа войск крайне малочисленна, исто-
щена, без боеприпасов и прорвать оборону противника
самостоятельно не может... Принято решение создать
ударную группу из имеющихся сил и организовать про-
рыв на узком участке... Прошу оказать помощь авиацией
и решительными действиями с востока».
Поздним вечером заместитель командарма П. Ф. Ал-
феров вызвал на КП в районе деревни Дровяное Поле
командиров соединений.
— Только что поступило сообщение штаба фронта.
Сегодня намечена еще одна попытка пробить коридор.
Товарищи Мерецков и Василевский предупреждают о
доведении атаки с нашей стороны до конца любыми
средствами. Штаб армии разбивается на три группы и
идет на выход вместе с атакующими частями.
— Военный совет, политотдел, связисты,— сказал
Зуев,— выступают в район сорок шестой стрелковой ди-
визии. Возглавит группу начальник связи генерал-май-
ор А. В. Афанасьев. Я же пройду в школу младших
командиров, в этой операции немалая надежда на
них.
1 Советская Россия, 1987, 12 августа.
54
Вот так, обо всех подумал комиссар... Сам же шел
на острие атаки с последним резервом — курсантами.
Власов присутствовал на совещании, но участия в
обсуждении не принимал, лишь отдал приказ выключить
все радиостанции. Приказ был отдан без' всякой необ-
ходимости и нанес непоправимый ущерб. Была потеря-
на связь с Северной группой войск и с основными сила-
ми Волховского фронта.
В 23.30 начали движение ударники. Навстречу вы-
шли танки 29-й бригады с десантниками на бортах. Ар-
тиллерия 59-й и 52-й армий всей силой обрушилась на
врага. Но противник словно только и ожидал этого, что-
бы ответить ураганным огнем. В воздухе появились ноч-
ные бомбардировщики. Территория в районе Мясного
Бора превратилась в огнедышащий кратер.
— Товарищи! Мы идем на прорыв,— в который раз
говорил Зуев, формируя очередную группу.— Многие по-
гибнут, но остальные вырвутся. Иначе — погибнем все.
На той стороне ожидают госпитали, продовольст-
вие...
— Веди, комиссар!
Вокруг Зуева собирались люди, одетые в грязные,
просоленные потом гимнастерки. Комиссар глядел в го-
лодные лица асфальтового оттенка, заросшие густой ще-
тиной, зная, что многие из бойцов уже давно за гранью
человеческих сил и возможностей.
Какой же волей, мужеством, неимоверной выносли-
востью надо было обладать самому дивизионному комис-
сару, чтобы не свалиться от голода и усталости, не по-
терять рассудок от непомерно тяжелого бремени, обру-
шившегося на него! Ему не менее, а более, чем другим,
грозили вражеские пули: он был в полной форме, с ром-
бами в петлицах.
25 июня в 9.30 немцы вновь захлопнули горловину,
и она больше не восстанавливалась. Однако отдельные
группы продолжали выходить в других местах и после.
Неоценимую помощь по просьбе командования фронта
оказали народные мстители.
В последних числах июня 1942 года близ полустанка
Торфяное на железной дороге трудились ремонтники, со-
гнанные фашистами. Среди них было несколько женщин,
что, по-видимому, и усыпило бдительность человека, дав-
но наблюдавшего за работавшими. Он вышел из кустов,
раненный, изможденный.
— Товарищи, дайте немного хлеба и подскажите, как
пройти к нашим, чтобы не нарваться на немцев.
55
Те посмотрели друг на друга и не успели ответить,
как подошел бригадир Ковригин. Увидев командира
Красной Армии, сказал, что хлеб ему сейчас принесут.
Сам же послал своего помощника Сейца за немцами, ко-
торые жили в казарме рядом с дорогой. Появился отряд
фашистов. Тридцать откормленных, опьяненных недав-
ней победой в районе Мясного Бора — и один, измучен-
ный боями и переходами, ранами, голодом, бессонницей.
Мужество и безграничная вера в торжество правого де-
ла встретились с подлостью и предательством.
Рассыпавшись полукругом, гитлеровцы медленно при-
ближались к кустам, где вконец обессиленный, с двумя
пистолетами в руках, комиссар занял оборону. Они не
открывали огонь, рассчитывая взять офицера живым. Но
как только один из них попытался вырваться вперед —
раздался выстрел. В ответ заработали вражеские авто-
маты и винтовки, срезая ветви кустарника и вспахивая
землю. Поддерживая друг друга огнем, фашисты не спе-
ша сжимали кольцо. Им некуда было торопиться.
Даже сейчас, вступив в неравный, с заранее извест-
ным исходом, бой, комиссар не думал о себе, а прикры-
вал уход товарищей по оружию. Да, он еще мог бы по-
пытаться уйти, но твердо знал — не уйти другим. Не
зря же именно сам дивизионный комиссар пошел на
разведку как рядовой боец. И пусть немцы думают, что
перед ними одиночка, вырывающийся из окружения...
Гитлеровцы вытащили его к дороге. В верхнем кар-
мане гимнастерки нашли простреленные и залитые кро-
вью документы. Захватив их, враги ушли.
Рабочие вырыли могилу и молча опустили в нее ге-
роя. Женщины, не обращая внимания на предателей,
утирали слезы.
Шли дни, горестные, военные. И наступил радостный,
когда была прорвана блокада Ленинграда. Пришел
праздник освобождения и на чудовскую землю. Разъ-
ехались, разошлись ремонтники — свидетели последнего
боя комиссара.
Обстоятельства трагической смерти комиссара были
установлены лишь в 1965 году.
В городе Ардатов Горьковской области Екатерине
Ивановне Зуевой вручили на вечное хранение орден Оте-
чественной войны I степени, которым ее муж был на-
гражден посмертно.
На могилу комиссара приехали боевые друзья: гене-
ралы Н. К. Клыков и Л. П. Грачев, полковник в отстав-
ке Я. С. Бобков, подполковник Н. М. Коровичев.
56
В 1968 году на митинге, посвященном открытию па-
мятника, собралось до трех тысяч человек: представи-
тели войск Ленинградского военного округа, партийных
и советских органов, делегации рабочих коллективов
Новгорода и области, школьники из Москвы и Ленин-
града, жена и дети Зуева. Раздался прощальный залп,
спало покрывало, осенние лучи солнца брызнули на по-
золоту букв надгробной плиты: «Пускай ты умер! Но в
песнях смелых и сильных духом всегда ты будешь жи-
вым примером!»
В память о И. В. Зуеве деревня Коломовка Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР переименована
в Зуево. Его имя носят улицы городов Ардатов и Вык-
са Горьковской области, средние школы.
Слово комиссара
В райцентре Крестцы одна из улиц и лучшая брига-
да мастериц фабрики «Крестецкая строчка» носят имя
летчика Лазаря Чапчахова, сына армянского народа.
Учащиеся здешней средней школы ведут постоянную пе-
реписку с женой героя, оформили стенд, посвященный
ему, в комнате боевой славы.
«Дорогие дети! Очень рада, что вы все хорошо учи-
тесь. Желаю и в дальнейшем успехов. Спасибо, что не
забываете могилу мужа, что она в порядке»,— писала
Екатерина Яковлевна Чапчахова в одном из первых пи-
сем. «...Когда придется мне еще побывать в ваших ме-
стах, трудно сказать. Но сердце мое с вами,— сообщала
она в другом письме, после возвращения домой.— Меня
тянет в ваши края, ведь там покоится прах самого до-
рогого для меня человека... Не забывайте меня, пишите
чаще».
Помнят героя и в доме № 23 по улице Карла Либк-
нехта, где он жил некоторое время в те огненные
дни.
— Лазарь Сергеевич,— делится воспоминаниями хо-
зяйка Е. И. Андреева,— был веселым, общительным. К
нему часто заходил майор Константин Афанасьевич
Груздев. Как соберутся вместе, так и говорят, говорят...
Детей любил. Придет домой после полетов и обяза-
тельно с моим сынишкой Сашей поиграет... У него ведь
самого было двое близнецов. Когда война началась, сы-
ну и дочери по три годика было.
На Северо-Западном фронте хорошо знали старшего
57
политрука Чапчахова из 38-го истребительного полка 57-й
авиадивизии, командовал которой полковник Катичев.
Сопровождение бомбардировщиков, разведка и штурм
наземных войск противника, а главное — воздушные бои,
нередко с превосходящими силами, были повседневной
его работой. И каждый раз, возвращаясь, прилетал с
победой. Он был осторожен и в то же время неустрашим.
Не имея шансов на победу, не кидался в атаку, но и от
навязанного боя не уклонялся. Искусная техника пило-
тирования позволяла ему выходить из жесточайшего за-
градительного огня почти без пробоин.
Он щедро делился опытом, разъясняя молодым лет-
чикам боевую задачу, а после ее выполнения проводил
столь же тщательный разбор.
Комиссар регулярно выступал перед летным и техни-
ческим составом не только своего звена и эскадрильи, а
всего полка, дивизии. О нем неоднократно писали фрон-
товые газеты. «Слово такого комиссара, каким является
товарищ Чапчахов,— подчеркивалось в докладе полит-
отдела 57-й авиадивизии накануне 7 ноября 1941 года,—
приобретает должный вес, оно воспитывает, учит, зовет
на новые подвиги»1.
Можно с полной уверенностью сказать, что Лазарь
Сергеевич, выходец из бедной крестьянской семьи,— вос-
питанник Ленинского комсомола, Советской власти. Ро-
дился он в 1911 году в селе Большие Салы Мясников-
ского района Ростовской области. Именно Советская
власть открыла перед юношей широкие двери: сначала
в среднюю школу, потом в Луганское летное училище,
куда Лазарь Чапчахов поступил по призыву комсомола.
Отличился в боях с белофиннами и был награжден ор-
деном Красной Звезды.
22 июня 1941 года он покинул дом по боевой тревоге.
В далеко не равных первых боях и при отражении на-
летов вражеской воздушной армады на подступах к
Москве сбил лично пять и в составе группы — три фа-
шистских самолета. Был награжден орденом Ленина и
золотыми именными часами.
После победных боев под Москвой 57-ю смешанную
авиадивизию перебросили на Северо-Западный фронт.
Скупые строки наградного листа, составленного коман-
диром полка майором П. И. Ожередовым и военкомом
старшие батальонным комиссаром А. А. Шумейко, сви-
детельствуют о его бесстрашии, героизме, беспредельной
1 Мороз И. Дорогами отцов. М.: Изд-во ДОСААФ, 1980, с, 50.
58
Л. С. Чапчахоа,
Герой Советского Союза,
командир 416-го
истребительного авиаполка
преданности родной Комму-
нистической партии и своему
народу
Вскоре после прибытия
на фронт, 15 января 1942 го-
да, патрулируя в паре со
старшим лейтенантом Умо-
вым над своими войсками
под Старой Руссой, Чапча-
хов заметил 10-88, заходив-
ший на бомбометание. От-
важный сокол бросился на-
перерез. Прошитый пулемет-
ной очередью вражеский са-
молет загорелся и рухнул на
землю близ деревни Подборовье. Через два дня во время
патрулирования в этом же районе Чапчахов и его ведо-
мые Бакал и Наумов были атакованы на встречных кур-
сах двумя «мессерами». Над деревней Медведно разго-
релся воздушный бой. Советским летчикам удалось
быстро сбить спесь с зарвавшихся фашистов и заста-
вить их перейти к обороне. Уже через несколько минут
бешеной карусели оба стервятника чадящими факела-
ми врезались в ближайшее болото.
Бесстрашный летчик вступал в бой, не обращая вни-
мания на число врагов. В ту пору гитлеровцы господ-
ствовали в воздухе. И чтобы побеждать, мало было лишь
отваги и смелости, нужно было высокое мастерство, дар
воздушного бойца. И все это было у Чапчахова.
13 февраля звено из трех боевых машин старшего по-
литрука, прикрывая войска в районе деревни Пенно, в
10.40 встретилось с четырьмя «юнкерсами» и десятью
«мессерами» (!). Несмотря на явное численное превос-
ходство противника, с ходу ринулись на бомбардиров-
щики и заставили их, беспорядочно сбросив бомбы, по-
вернуть назад. Вражеские истребители позорно улетели
следом за ними. В тот же день в 12.20 отважное звено
встретило над деревней Сычево пятнадцать «юнкерсов»,
» ЦАМО. ф. 33, on, 662524, д. 4, л. 242—244.
S9
пытавшихся бомбить передний край наших войск. В ре-
зультате смелой атаки сразу задымило два из них, ос-
тальные, сбросив бомбы как попало, обратились в бег-
ство.
Командование высоко оценило подвиги отважного
летчика и политработника. Ему было присвоено звание
батальонного комиссара и доверена эскадрилья.
16 февраля шестерка, возглавляемая Чапчаховым, в
районе Сычево — Дедова Гора встретила пятнадцать
бомбардировщиков и восемь истребителей. Бесстрашные
летчики вступили в бой и сбили три «юнкерса».
Утром 1 апреля четыре боевые машины, ведомые ба-
тальонным комиссаром, поднялись в воздух и взяли курс
на Рамушево. На небе ни облачка, ярко светило солнце.
Ровно гудели моторы. Истребители приближались к Сы-
чеву.
«В такую погоду того и жди стервятников»,— поду-
мал Чапчахов и передал своим: — Внимание! Внима-
ние!
Предупреждение прозвучало своевременно — над го-
ризонтом со стороны Старой Руссы показалась целая
вражеская стая. Комэск насчитал до сорока бомбарди-
ровщиков и восемнадцать истребителей. Четверо против
58! Но не дрогнули советские летчики, не убоялись.
Краснозвездные птицы, не обращая внимания на
«мессеры», как молнии пронзили строй «юнкерсов». Чап-
чахов с ходу сбил флагман, ведомые нанесли поврежде-
ния двум другим. Спасая бомбардировщики, в бой всту-
пили вражеские истребители. Но голубые краснозвезд-
ные молнии, казалось, вообще игнорировали их усилия,
продолжая разгонять «лапотников». И те, сбрасывая
бомбы как попало, не выполнив задачи, кинулись обрат-
но. Сдали, видно, нервы и у истребителей, повернувших
вслед за ними.
Далеко не равный бой закончился полной победой.
Советские летчики без потерь вернулись на аэродром.
Через несколько дней Л. С. Чапчахов принял 416-й
истребительный авиаполк. Но командовать им ему до-
велось всего семь дней. Нелепый случай вырвал его из
рядов. Беда случилась не в бою, а на своем аэродроме
13 апреля 1942 года. Отважный летчик с первого дня
войны поднимался в воздух 268 раз, участвовал в 59 по-
единках, лично сбил восемь фашистских самолетов и в
группе — девятнадцать. Ни разу ни в этой войне, ни в
финской кампании не был подбит, не имел ни одной ава-
рии, ни одной вынужденной посадки. Погиб он при по-
60
пытке предотвратить аварию самолета неудачно садив-
шегося молодого летчика.
С воинскими почестями Лазарь Сергеевич был похо-
ронен на Ямском кладбище поселка Крестцы. Ему по-
смертно 21 июля 1942 года было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза... 18 августа 1978 года в Крестцах
был торжественно открыт монумент в честь подвигов
авиаторов Северо-Западного фронта. Выступая на ми-
тинге, бывший командующий ВВС СЗФ генерал-полков-
ник авиации Ф. П. Полынин в числе первых героев на-
звал имя славного сына армянского народа Л. С. Чап-
чахова.
«Каждую пулю — в сердце фашиста!»
Прославленный полководец Маршал Советского Сою-
за И. X. Баграмян писал: «Я с глубоким уважением и
сердечной благодарностью вспоминаю сибирские диви-
зии, в рядах которых вместе со своими старшими братья-
ми— русскими храбро сражались представители всех
народов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Они, в
большинстве своем охотники, прежде всего отличались
как меткие стрелки»1.
На Северо-Западном фронте среди снайперов были
известны имена бурятов Цырендаши Доржиева и Жам-
была Тулаева, якута Георгия Федорова. Их жизненный
путь похож во многом.
Цырендаша Доржиев родился в феврале 1912 года
в улусе Барай-Адаг в бедной крестьянской семье. С ма-
лолетства сопровождал старших в тайгу, четырнадцати
лет стал заправским охотником...
23 июня 1941 года он уже был в военкомате. После
недолгого пребывания в запасном полку оказался на
Северо-Западном фронте, под Старой Руссой. И здесь
сразу повезло: попал в прославленную 202-ю стрелковую
дивизию, в 645-й полк. Меткому стрелку, охотнику вру-
чили снайперскую винтовку.
На следующее утро после прибытия в часть Цырен-
даша уже сидел в замаскированном хвойными ветками
окопе, терпеливо следил за вражеским блиндажом. И
когда из него вышел гитлеровец, одним выстрелом уло-
жил его, затем второго. С этого дня враги на боевом
участке Доржиева передвигались только ползком.
1 Советский патриот, 1985, 17 ноября,
61
По своей инициативе Цырендаша взялся обучать од-
нополчан меткому огню, причем непосредственно в бое-
вой обстановке.
— Залог успеха,— рассказывал он на первом заня-
тии,— наблюдательность.
На другой день с подопечным Петром Харлинским
вышли на практику. Продвигаясь вдоль опушки, Цырен-
даша вдруг нырнул за толстый ствол и повлек за собой
товарища. Затем мгновенно вскинул винтовку. Раздался
выстрел, и Петр увидел, как с дерева свалилось тело.
— Видишь ли, я заметил, что ворона хотела опу-
ститься на ель. Потом шарахнулась в сторону, значит,
кого-то испугалась. Скорее всего, снайпера.
— Вторая заповедь,— подчеркивал он на очередном
занятии,— тщательная маскировка и умение ждать.
Третья заповедь — хладнокровие и еще раз хладнокро-
вие. Ну и, само собой разумеется, точность прицела.
Царендаша не закончил, открылась дверь блиндажа
и послышался приказ:
— Доржиев, к командиру полка!
Вернулся вскоре, на лице знакомая обаятельная
улыбка.
— Ну вот, как раз есть возможность проверить тре-
тью заповедь на практике.
Ранним утром трое советских бойцов, предводитель-
ствуемых разведчиком, пробрались на нейтральную по-
лосу и тщательно замаскировались в густой темно-зеле-
ной осоке. Доржиев и Харлинский по краям, Георгий
Августонович — в середине. По другую сторону виднел-
ся отрезок дороги, используемой фашистами. Цыренда-
ша еще раз напомнил о действиях каждого.
Вскоре из-за поворота показались шесть трехосных
грузовиков, полных гитлеровцев. Меткая пуля Доржиева
поразила шофера головной машины, и та, сделав кру-
той зигзаг, с треском врезалась в дерево. Вторая удари-
лась о ее борт. Гитлеровцы от неожиданности растеря-
лись, а снайперские винтовки били по ним безошибочно.
Когда же фашисты справились с паникой и организова-
ли круговую оборону, снайперов и след простыл. Наблю-
дение с соседнего участка показало — на машины погру-
зили пятьдесят четыре вражеских солдата без признаков
жизни.
Через несколько дней Доржиев сбил вражеский са-
молет. На вопрос, как это получилось, ответил:
— Над нашими позициями уже несколько дней ле-
тал «хейнкель», или «костыль», как прозвали его. Низ-
62
ко, мерзавец, летал, словно шапки норовил сбить. А тут
еще из пулемета начал хлестать. Меня зло взяло. Схва-
тил винтовку, выждал, пока спикирует, и ударил двумя
пулями прямо поверх пропеллера в кабину. Вижу, само-
лет— набок, тогда я еще два раза ударил под левое
крыло по кабине. Упреждение брал четверть корпуса, не
более. Самолет перевернулся и ударился о землю.
Как, кажется, просто: выстрелил — и самолет уда-
рился о землю. Но какое требовалось мужество, чтобы
не дрогнуть, не приникнуть к земле, когда на тебя пики-
рует вражеская машина, а хладнокровно и расчетливо
послать пулю «с упреждением... поверх пропеллера в ка-
бину».
Командир полка приказал немедленно представить
отличившегося к самой высокой награде. «За время пре-
бывания в полку Доржиев прославился как меткий стре-
лок, отличный снайпер и стал известен всему фронту в
качестве истребителя немецких оккупантов,— отмечено
в его наградном листе.— На боевом счету Доржиева
174 уничтоженных гитлеровца, фашистский самолет. По-
мимо своей боевой работы товарищ Доржиев обучает
новых снайперов. Достоин награждения орденом Лени-
на. Командир 645-го Краснознаменного полка 202-й
стрелковой дивизии подполковник Дмитриев, военком
батальонный комиссар Дробышев. 26 мая 1942 го-
да» '.
«Истребляйте врага так, как снайпер Доржиев... От
пуль зоркого снайпера нашли смерть около роты фаши-
стов»,— писала фронтовая газета1 2.
Вступая кандидатом в члены ВКП(б), меткий стре-
лок на партсобрании обещал «удвоить число уничтожен-
ных фашистов». А к этому времени на его боевом счету
уже был 181 фашист. Отличившийся в боях снайпер был
удостоен чести в составе делегации воинов Северо-За-
падного фронта посетить родные края, заключить до-
говор на социалистическое соревнование между фрон-
том и тылом.
С особой теплотой встретили героя-земляка тружени-
ки колхозов «Комсомол» и «Улан-Туя» Мухоршибирско-
го района, рабочие Лысьвенского металлургического за-
вода, на котором снайпер принял вызов на соревнова-
ние знатного сталевара Константина Труханова, тоже
кавалера ордена Ленина.
1 Новгородская правда, 1982, 6 октября,
2 За Родину!, 1942, 10 июня.
63
Вернувшись на фронт, сержант Доржиев с новой
энергией взялся за подготовку мастеров точного прице-
ла. Сам же, выполняя клятву, данную при вступлении
в партию и своим землякам, к XXV годовщине Октября
довел число уничтоженных фрицев до 268.
3 января 1943 года отважный снайпер Доржиев по-
гиб смертью храбрых у деревни Сафронково... Боевые
друзья тяжело переживали смерть Цырендаши Доржие-
ва, особенно его земляк — знатный снайпер Жамбыл Ту-
лаев, 14 февраля 1943 года удостоенный высокого зва-
ния Героя Советского Союза1.
Во фронтовой газете «За Родину!» было опублико-
вано письмо депутата Верховного Совета Бурятской
АССР Сони Тыхеевой, участницы знаменитого лыжного
перехода Улан-Удэ — Москва, адресованное Ж. Тулае-
ву. «Ваше имя, имя рядового колхозника,— писала
она,— славного сына бурятского народа, гремит по всей
стране. Вся бурятская молодежь гордится вашими ге-
роическими делами. Продолжайте же без промаха бить
врага!.. Отомстите немцам за нашего дорогого Доржие-
ва, который дрался с врагом до последнего дыхания...»
Этот номер Тулаев положил в нагрудный карман гим-
настерки и сразу же послал девушке ответ, который был
опубликован 23 февраля 1943 года в местной газете
Тункинского аймака. Жамбыл сообщал: «На моем сче-
ту 313 немецких солдат и офицеров. Кроме того, мною
обучено 33 снайпера. Среди них есть земляки: Ухипов
Доржа из Баргузинского аймака убил 197 фрицев, Буда-
ев Дондок из Закаменского аймака — 46...»1 2
Да, в бурятском улусе Тагархай хорошо знали Жам-
была Тулаева. С двенадцати лет он уже промышлял
пушного зверя в Саянской тайге, бил белку и соболя в
глаз, а птицу — на лету. С годами прибавлялось сил,
умения, сноровки. Не занимать было отваги и мужества.
Юноша не раз вступал в поединок с медведем и росома-
хой. По всей округе не находилось ему равных в стрель-
бе. Никто больше его не сдавал пушнины на заготови-
тельный пункт. Знали его и как хорошего организатора
молодежи, шесть лет подряд был он секретарем первой
комсомольской ячейки в родном улусе. Вместе с другими
активистами создавал сельскохозяйственную коммуну.
В начале января 1942 года Тулаева призвали в ар-
мию. В запасном полку в Иркутске долго не задержи-
1 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, л. 160.
2 Кислинский В. С. Нет ничего дороже. Л.: Лениздат, 1984,
с, 108.
64
Ж. Тулаев,
Герой Советского Союза,
снайпер 188-й стрелковой
дивизии.
вали, воинским эшелоном
прибыл он на Северо-Запад-
ный фронт. Пополнение си-
биряков приняли особенно
радушно. Жамбыл оказался
в 188-й стрелковой дивизии,
ведущей вместе с другими
соединениями 11-й армии
бон за Старую Руссу.
Прошло всего несколько
дней, и фашисты поняли, что
у противника на участке
580-го полка появился еще
один снайпер, выстрелы ко-
торого несли только смерть.
Таежный охотник бил врага без промаха у дзотов и в
траншеях, на ходу и на бегу. Его пуля ловила и зазе-
вавшегося и хитро спрятавшегося фрица. Немало «ку-
кушек» разыскал острый глаз Жамбыла и снял с дере-
ва его меткий выстрел. На прикладе винтовки ежеднев-
но появлялись зарубки.
«Каждую пулю — в сердце фашиста!» — слова, став-
шие его девизом.
Жамбыл был награжден медалью «За боевые заслу-
гк», ему доверили отделение.
29 апреля во время наступления на участке близ де-
ревин Сычево пришлось залечь под ливнем вражеского
пулемета. Приказав боевым друзьям усилить отвлекаю-
щий огонь. Жамбыл подкрался к дзоту и тремя грана-
тами уничтожил немецкий расчет. В начале июня ему
присвоили внеочередное звание старшины. Вскоре его
приняли в партию.
— Буду преданным коммунистом до конца своей
жизни,—заверил Жамбыл товарищей.
Наутро снова бой... Фашисты контратаковали во мно-
го раз превосходящими силами. На участке, защищае-
мом отделением Тулаева, немцы попытались обойти с
фланга соседний батальон. Одних снайперских пуль тут
было мало.
3 Зак. № 67
65
— Ни шагу назад! Стоять до последнего! — крикнул
старшина, кидаясь к ручному пулемету.
Снова и снова набегали враги. Но семеро отважных
встречали их огненной стеной, пока атаки противника
не захлебнулись.
По окончании схватки перед пулеметом Тулаева на-
считали 27 трупов. Его боевой счет перевалил за сотню.
Отважный воин был награжден орденом Красного Зна-
мени. К концу лета боевой счет таежного охотника зна-
чительно возрос. Политуправление фронта выпустило ли-
стовку: «Снайпер Тулаев истребил 283 немца».
Писал о нем в «Красной звезде» Илья Эренбург.
Коммунисты роты избрали смельчака парторгом. И
здесь Тулаев вкладывал в дело всю свою душу. Члены
и кандидаты в члены партии роты были бесстрашны в
бою, все, как один, стремились учиться снайперскому ма-
стерству. Командование 580-го полка решило объединить
метких стрелков в один отряд. Эта боевая единица по
своему составу была подлинно интернациональной, в
нее входили русские Бронников и Чекунов, украинцы
Андреенко и Тринолко, буряты Тулаев и Дандинов, якут
Федоров, казах Казбаев.
«Руководство поручили Василию Дубинову, инструк-
торами согласились быть Тулаев и из соседнего 595-го
полка сержант Федор Чегодаев,— свидетельствует быв-
ший замполит полка М. Я. Синев.— Отряд уничтожил
до двух тысяч вражеских солдат и офицеров. А это же
больше полка военного времени! Ни дождь, ни снег, ни
зной не мешали отряду нести бессменную вахту на пере-
довой» *.
Среди снайперов — таежных охотников отличился и
якут Георгий Федоров. Как и многие его земляки, он
уже с семи лет ходил с отцом в тайгу. Рано научился
читать звериные следы по обломанной ветке, по цара-
пинам на коре и примятой траве. Меткий глаз и охот-
ничья сноровка помогли ему и на фронте. Всего за пол-
тора месяца Георгий уничтожил 25 фрицев. Грудь парня
из далекого якутского села Чурапча украсила медаль
«За отвагу».
Шли дни, росло мастерство, крепло сознание. Федо-
ров подал заявление в партию. Фронтовые друзья — ком-
мунисты голосовали единогласно.
— Клянусь и дальше бить фашистского зверя умело
и беспощадно,— заявил Георгий при получении парт-
Новгородская правда, 1982, 3 февраля.
«6
билета. — Беру обязательство обучить снайперскому де-
лу не менее десяти боевых товарищей.
Вскоре развернулись бои по ликвидации вражеского
демянского плацдарма. При наступлении на Демянск,
находясь в роте автоматчиков, Федоров подавил огонь
станкового пулемета, уничтожив расчет. При штурме Ра-
мушева уничтожил восемь фрицев. Боевой счет достиг 83.
Немало врагов уничтожили и его пятнадцать учеников.
На груди отважного воина засверкала вторая прави-
тельственная награда — орден Красной Звезды.
В это время у бойцов 188-й дивизии побывала деле-
гация Челябинской области. Уральцы передали бойцам
разные подарки. А Жамбылу Тулаеву был вручен осо-
бый подарок от австрийского антифашиста, в прошлом
бойца интернациональной бригады в Испании, Адольфа
Строкки.
Строкки работал слесарем на заводе города Кусы
Челябинской области. «Посылаю свой подарок,— писал
он,— очень дорогой мне трофейный оптический прибор,
добытый мною ценой своей крови. Благодаря ему я унич-
тожил немало фашистской сволочи. Прошу, пользуясь
прицелом, уничтожить как можно больше немецких из-
вергов. Сердцем и мыслями я буду с тобой, дорогой воин
Красной Армии»1.
Тулаев ответил благодарственным письмом и новы-
ми зарубками на прикладе. Но тяжелое ранение оторва-
ло его от фронтовых друзей на несколько месяцев. Род-
ная дивизия после ликвидации демянского вражеского
плацдарма была переброшена на Третий Украинский
фронт.
В госпитале хорошим утешением снайперу были пись-
ма товарищей и непрерывный рост их боевого счета.
Георгий Федоров сообщал, что при форсировании Днеп-
ра и в боях за правобережье отличились многие мас-
тера меткого огня, в том числе и ученики Жамбыла,
что сам он награжден вторым орденом Красной Звезды,
избран парторгом роты.
И не выдержал герой, досрочно выписался из госпи-
таля. К большой радости друзей и учеников, вернулся
в родной полк. Но накануне его приезда был тяжело ра-
нен и навсегда вырван из рядов наступающих Г. К. Фе-
доров. После длительного лечения ему пришлось вер-
нуться к мирному труду. Охотиться не мог, работал в
отделе кадров Сунтарского райпотребсоюза.
1 Новгородская правда, 1982, 3 февраля,
67
Тулаев воевал до славного Дня Победы. После демо-
билизации первое время занимался охотой. Затем зем-
ляки улуса Хурай-Хобок доверили прославленному вои-
ну руководство колхозом. Когда же по состоянию здо-
ровья он вынужден был оставить этот пост, его избрали
председателем сельского Совета.
Про партизана Грозного Ивана
На 135-м километре шоссе Ленинград — Киев возвы-
шается мемориальный комплекс, посвященный боевому
братству партизан Ленинградской, Псковской и Новго-
родской областей. Около дота, сохранившегося со вре-
мен войны, берет начало дорога и проходит по полю, на
котором установлены тринадцать гранитных стел с над-
писями, посвященными тринадцати партизанским брига-
дам. Дорога переходит в широкую лестницу, по сторо-
нам которой — три уступа-бастиона, символизирующие
три области. Монумент венчает холм, где на высоком
гранитном пьедестале установлена статуя девушки-пар-
тизанки с автоматом и развевающимся знаменем в ру-
ках. Она как бы призывает народ на священную войну
с захватчиками. Далее дорога уходит под массивную
бетонную плиту мемориального зала, на фасаде которо-
го— три горельефные композиции: «Уход в партизаны»,
«Клятва», «Бой».
Первые из тринадцати партизанских бригад родились
во время Великой Отечественной войны в Южном При-
ильменье. Особенно большую роль в развертывании
партизанского движения в Ленинградской области и
создании первого в истории войны Партизанского края
сыграла 2-я бригада Н. Г. Васильева, начало формиро-
вания которой было положено в Старой Руссе Ч
Почему же именно здесь? Удобная для партизан
местность? Лесов здесь мало. Болота? Их не меньше в
других местах. Нет, видно, не в лесах и болотах дело!
Жители древнего русского края (что значат одни на-
звания — Старая Русса, Новая Русса, Русье, Русино,
река Порусья, озеро Русское...) партизанили уже во
времена татаро-монгольского ига, похода Карла XII, в
рядах Новгородского ополчения били солдат Наполеона
на Березине и под Данцигом.
А в Великую Отечественную войну партизанское дви-
1 См.: История КПСС, т. 5, с. 263—266.
68
жение приобрело здесь всенародный характер. Земля
поистине горела под ногами оккупантов. Уже в июле —
августе 1941 года действовали 1, 2, 3 и 4-я (Старорус-
ская, окончательно оформленная в феврале 1942 года)
бригады. Активно действовало подполье, особенно до-
нимавшее оккупантов в Старой Руссе1.
В Партизанском крае — этой своеобразной советской
республике — свыше четырехсот сел и деревень в тече-
ние целого года продолжали жить по советским зако-
нам. Жили в фашистском тылу, а фашистам не подчи-
нялись! Здесь работали сельсоветы и колхозы, выхо-
дили районные газеты. Тут жили советские люди и били
оккупантов. Сколько же героев народной войны родила
здешняя земля!
В 1965 году на слете победителей Всесоюзного по-
хода молодежи по местам революционной, боевой и тру-
довой славы советского народа работали секции, одну
из которых вел прославленный на Украине партизан-
ский командир Герой Советского Союза генерал-майор
запаса Александр Николаевич Сабуров, автор популяр-
ной книги «За линией фронта». От него я узнал, что
слава вожаков народной войны на Новгородчине — Ни-
колая Васильева, Александра Германа и Ивана Гроз-
ного— долетела и до брянских лесов. Грозный в годы
войны стал настолько легендарной личностью, что пар-
тизаны из других бригад спорили: Иван Грозный — псев-
доним или настоящее имя? Об этом спросил меня и
А Н. Сабуров.
— Самое настоящее, со дня рождения,— ответил я
генералу и по его просьбе сообщил некоторые факты
биографии Грозного, привел несколько случаев из боевой
жизни известного партизана.
— Так почему же никто не напишет о нем?..
Этот вопрос меня волнует до сих пор. И, как могу,
попытаюсь рассказать об этом человеке.
Грозный прошел с боями от берегов родной Ловати
до границ Латвии, более чем через тридцать районов
современных областей Новгородской и Псковской.
«Грозненцы» истребили сотни оккупантов, спустили под
откос 26 (!) вражеских эшелонов. На базе его отряда
формировались: в марте — апреле 1942 года 4-я (Ста-
рорусская) партизанская бригада, в феврале 1943 го-
да— 5-я Ленинградская и в мае того же года — 4-я Ле-
1 Свидетельство об этом западногерманского историка Эриха
Гессе см.: Петров Ю. П. Партизанское движение в Ленинградской
области. Л.: Лениздат, 1973, с. 128.
69
нинградская. Не так уж много было партизанских
командиров, за которыми настойчиво охотилась фашист-
ская контрразведка. Убедившись в своем бессилии, она
объявила большую награду за его голову. Этот парти-
занский командир-самородок не получил не только ка-
кого-либо военного образования, но имел всего семь
классов общего.
Много было сложено в годы войны партизанских пе-
сен, но лишь единицы из них посвящались персонально
герою. А «Про партизана Грозного Ивана» была. На-
писана она явно не профессионалом, но народным мсти-
телям она не просто нравилась — они ею гордились.
Грозный с хлопцами своими
У фашистов частый «гость».
Для врага неуловима
Смельчаков советских горсть.
Днем и ночью нет покоя:
Взорван склад, убит патруль.
Где не ждут — там он накроет
Блеском сабель, свистом пуль...
Группа Грозного Ивана
Справедливый чинит суд.
Суд героя-партизана —
Это наш советский суд!
Летом 1966 года с группой комсомольцев Новгорода
мы проехали около тысячи километров по дорогам Нов-
городской и Псковской областей, прошли партизанскими
тропами, побывали на местах боев. И не раз слыша-
ли рассказы о Иване Грозном. В Большой Зуевке Дедо-
вичского района на околице встретили пожилого колхоз-
ника А. О. Осипова. В его памяти хорошо сохранился
налет партизан 2-й бригады на расположившихся в со-
седней деревне Тюриково фашистов. В заключение бе-
седы Александр Осипович неожиданно упомянул, что в
их деревню наведывался и Грозный с отрядом.
— А знаете, как его называли фрицы? Иван Страш-
ный!..
И здесь мне невольно вспомнился один из рассказов,
услышанных в освобожденной Старой Руссе летом
1945 года.
В кабинет шефа гестапо вошел мужчина неопреде-
ленных лет. Подняв руку в фашистском приветствии, он
приблизился к столу, ожидая, что сидящий, как обычно,
пожмет ее. Но тот был явно не в духе.
— Господин Быков, я пригласил вас, как голову го-
рода, выяснить весьма досадное недоразумение. Вы зна-
70
ете, что зимою в Руссе был повешен Страшный, или
Иван Грозный, как вы его называете.
— Да, да,— пролепетал голова.
— А вот только что получено донесение,— повышая
голос, сказал шеф,— о появлении Страшного в окрест-
ностях города.
— Господин Вайланд, клянусь вам, дана именно его
фотография: он же у меня снимался неоднократно, и я
отлично помню этого десятника лесосплава.
— Так постарайтесь объяснить, как может человек
вернуться с того света. Ведь оборотни существуют толь-
ко в сказках.
Городской голова недоуменно пожал плечами.
— Кстати, вам известно, что за Страшного объявле-
на награда в тридцать пять тысяч рублей?
— Никак нет, господин майор!
— Так передайте это вашим бездельникам полицей-
ским, раздайте фото каждому и предупредите, что, ес-
ли еще раз Страшный улизнет, виновных расстреляю
лично.
Но Грозный был неуловим.
Человек, наводивший ужас на фашистов, пришел в
партизаны в июле 1941 года. Рожденный за девять лет
до залпа «Авроры», Грозный хорошо знал цену новой
жизни, которую дала людям труда Великая Октябрь-
ская революция. Поэтому, не дожидаясь повестки, при-
шел в военкомат с просьбой зачислить добровольцем.
Его направили в местные органы Наркомата внутрен-
них дел, где для борьбы с вражескими парашютистами
и диверсантами формировался истребительный баталь-
он. Здесь он пробыл всего около трех недель. В городе
началось создание партизанских отрядов. Зачисленный
в один из них, он с первых же шагов своей смелостью
завоевал уважение товарищей.
...Пользуясь превосходством в воздухе, фашисты
яростно бомбили железнодорожный вокзал. 10 июля
бомба угодила в эшелон с боеприпасами. Раздались
взрывы, на соседнем пути загорелся санитарный поезд.
Иван Иванович, случайно оказавшийся на станции с
несколькими партизанами, бросился к составу. Горящие
вагоны были отцеплены и загнаны в тупик, раненые
спасены.
Близ деревни Ходыни Грозный с двумя партизанами
взял в плен четырех вражеских летчиков, совершивших
вынужденную посадку. Наши части получили самолет
и хороших «языков». В августе с разведывательной
71
группой, возвращаясь с задания, он вывел из окружения
до шестисот измученных наших солдат и офицеров.
Однажды в районе Старой Руссы Иван Грозный,
Федор Екимов, Борис Чернышев и Семен Егоров сби-
лись с пути, дважды натыкались на вражеские блин-
дажи. К цели приблизились лишь на рассвете. Забра-
лись в Крекшинский лес. Утром приехали фашисты за-
готовлять дрова и буквально в нескольких метрах от
затаившихся партизан валили деревья. С наступлением
ночи разведчики подошли к Дубовицкому мосту. С боль-
шим трудом в шоссе продолбили ямки и заложили
взрывчатку. Пока маскировали ее, начало светать. Едва
прошли четыре километра, как позади раздался силь-
ный взрыв. Вражеская машина взлетела на воздух вме-
сте с мостом.
Вскоре после возвращения на базу в деревню Ста-
рый Двор (за линией фронта) Грозного вызвал руково-
дитель старорусских партизан Семен Михайлович Гле-
бов, в прошлом первый секретарь райкома.
— Решено дать вам отряд. Надеюсь, доверие оправ-
даете.
— Можете не сомневаться.
— Выберите псевдоним.
— Разрешите остаться с родной фамилией.
— Ну что ж, Иван Грозный звучит неплохо.
Так Иван Иванович стал командиром отряда, ко-
миссаром дали Б. И. Гольдина, бывшего главного ме-
ханика старорусской электростанции *.
Вскоре близ Сычевки полетели под откос вражеский
штабной автобус и автомашина, погибло более двадца-
ти фашистов, в основном офицеров. Через несколько дней
взлетел на воздух мост через Редью. Имя Грозного по-
явилось на страницах фронтовой печати, в газете
«Правда».
12 декабря старорусские и полавские партизаны с
отрядом 1-й Особой бригады, под общим командованием
их комбрига майора А. Никифорова, вышли на опера-
цию по приказу штаба Северо-Западного фронта. По
данным разведки, гитлеровцы выселили население из
трех деревень на Ловати и разместили там штабные
подразделения 290-й пехотной дивизии. Рассчитывая
вернуться быстро, участники операции питания взяли
всего на два дня, но вдоволь нагрузились боеприпаса-
ми. Несмотря на мороз, шли в сапогах, так как болота
1 ПАНО, ф. 260, оп. 15, д. 2, л. 1.
72
еще не промерзли. До цели не дошли восьми километ-
ров, как наступил рассвет. День провели в лесу без кост-
ров, согревались как могли. Поздним вечером двину-
лись: отряд Никифорова — на Мануйлово, другие отря-
ды— на Воронцово, Глебова с Грозным — на Лукино.
— Часовых сняли без шума,— рассказывал Иван
Иванович,— к домам подобрались незаметно. По сигна-
лу красной ракеты в окна дружно полетели гранаты, вы-
бегавших гитлеровцев били из винтовок и автоматов.
Потеряли трех бойцов, а из фашистского гарнизона, как
узнали после, спасся всего один.
Возвращались другим маршрутом, зная, что немцы
наверняка уже установили место перехода и поджидают
там. Но и здесь гитлеровцы успели подтянуть силы со-
седних гарнизонов и организовать преследование.
— Примерно в десятом часу утра вошли в болото
Невий Мох и, проваливаясь по колено в снегу, двину-
лись по нему,— вспоминал бывший партизан Леонид Фе-
дяшин.— Глебов шел с нами разведчиками вслед за бое-
вым охранением и проводниками. Грозный с группой
прикрытия находился в хвосте колонны. Остановились
в смешанном леске. Не успели расположиться — приш-
лось занимать круговую оборону. Отстреливались до ве-
чера, затем снова бросок по болоту. И так в течение
шести дней. Многие обморозились, ели снег, так как не
было ни воды, ни пищи. То у одного, то у другого на-
чинались галлюцинации. Но благодаря крепкой фрон-
товой спайке, поддерживая друг друга, не потеряв ни
одного человека, на седьмые сутки поздно вечером с по-
мощью воинов Красной Армии перешли линию фронта.
С освобождением Парфина и других населенных
пунктов началось восстановление Старорусского райо-
на. Многие партизаны вернулись на партийную, совет-
скую и хозяйственную работу. Остальных же было ре-
шено сохранить как боевую единицу. Прибывший из
Валдая уполномоченный ЛШПД В. П. Гордин и
С. М. Глебов вызвали Грозного.
— Какие планы у вас, Иван Иванович? — спросил
уполномоченный.
— Хочу в армию идти. Добровольцем-то, наверно, не
откажут?
— Добровольцем, конечно, возьмут. Но сейчас вы
нам здесь нужнее. Из оставшихся бойцов решено сфор-
мировать четвертую Старорусскую бригаду. Вам пред-
стоит укомплектовать ее первый отряд. Комиссаром на-
значен Зубаков, начальником штаба — Чебыкин.
73
Ядро отряда составили молодые партизаны, уже по-
бывавшие в боях. Районная газета опубликовала их от-
крытое письмо к землякам оккупированных сел: «К ору-
жию, юные патриоты! К вам обращаются молодые бой-
цы партизанской бригады Старорусского района... Семь
месяцев назад враг занял наш район. Тогда мы поки-
нули родные заводы, колхозы, учебные заведения и,
взяв в руки винтовку, ушли в лес. Пулями и гранатами
встретили злейших врагов Родины. Не щадя крови и
жизни, защищаем Отечество... На обочинах дорог лежат
десятки взорванных машин — это наша работа. Толь-
ко один солдат ушел из деревни Лукино, а несколько
десятков погребено под обломками взорванных домов.
Это наша работа. Четыре раза останавливалось движе-
ние на железной дороге Старая Русса — Пола. Это на-
ша работа... Немного русских слов знают гитлеровские
собаки. Но есть одно, которое заставляет их испуганно
вздрагивать. Слово это — партизаны. В грозные дни
Отечественной войны вы не можете стоять в стороне...
Не выпустим ни одного оккупанта живым за пределы
нашей Родины!»1
— В отряд наряду с опытными бойцами,— расска-
зывал Грозный в беседе с автором этих строк,— влилось
много семнадцати-восемнадцатилетних юношей. Парти-
занской «науки» они еще не прошли, но что такое гит-
леровский «новый порядок» — хорошо знали по собст-
венному опыту. Некоторые, насмотревшись на все, что
творили фашисты, а особенно те, кто потерял на своих
глазах родных и близких, буквально рвались в бой...
Оккупанты взывали к самым низменным инстинктам, пы-
тались спаивать людей, натравливали одних на других,
поощряли кражи, доносы... Они нашли предателей, на-
шли моральных уродов. Но таких были считанные еди-
ницы. Практически весь народ восстал против захватчи-
ков. Набрали мы свыше полутораста человек и в начале
марта 1942 года двинулись в Партизанский край. У де-
ревни Лисичкине близ Поддорья проскочили неплотную
в этом месте передовую и вышли на территорию лесной
республики. Несколько дней простояли в деревне Грив-
ки Белебелковского района. В трех километрах от нее
была моя родина — Леша...
— Будете оборонять деревни Прудцы, Мекшино,
Релки, Рай,— сказал командир 2-й бригады Н. Г. Ва-
сильев.— Учтите — это один из самых тяжелых участков.
1 Трибуна, 1942, 28 февраля.
74
И. И. Грозный,
командир партизанского отряда,
полка, бригады.
Действительно, через не-
сколько дней между Раем и
Крутцом попытались просо-
читься гитлеровцы.
— Я очень боялся за
своих необстрелянных юно-
шей. Что я мог сделать за
такое короткое время?—
вспоминал Грозный.— Но
добровольцы вместе с на-
шим правым соседом встре-
тили фашистов таким ог-
нем, что те, потеряв до ста
человек, повернули назад.
Мы их преследовали не ме-
нее двух километров и захватили богатые трофеи. Око-
ло семидесяти человек потеряли немцы и при нападе-
нии на Редки и Прудцы.
В начале апреля рядом с Грозным в оборону у дерев-
ни Сосницы встал новый отряд, возглавляемый коман-
диром И. И. Глейхом, в прошлом летчиком, и комисса-
ром М. В. Сураевым, секретарем Старорусского райис-
полкома. С этим отрядом прибыл комбриг Алексей Пет-
рович Лучин. 1 мая на оба отряда навалились превосхо-
дящие силы карателей, поддерживаемые танками и ар-
тиллерией. В непрерывных схватках один день сливался
с другим. Кончались патроны, росло число раненых. На-
конец измученным бойцам пришел на выручку новый
отряд — Т. П. Петрова, помощника секретаря Полас-
ского райкома партии. А затем, собрав остатки партий-
но-советского актива, способного носить оружие, при-
был и С. М. Глебов1. Вскоре он принял командование,
так как Лучин был увезен в госпиталь. Бригаду значи-
тельно пополнил и отряд студентов Ленинградского ин-
ститута физкультуры имени Лесгафта под командова-
нием Б. И. Эрен-Прайса, сына осетинского народа. Пс-
истине отеческую заботу проявили Глебов и комиссар
ЛА К. Зубаков по оказанию необходимой помощи исто-
щенным блокадой молодым добровольцам, прежде чем
они стали полноценными бойцами.
’ Л ПА, ф. 0-116, on. 1, св. 59, д. 524, л. 10—14.
7$
Народная борьба усиливалась и разрасталась. Ле-
нинградский штаб решил среди лесистых холмов и озер
Славковичского района создать новый Партизанский
край. И это было поручено уже отличившимся в боях
1-й и 4-й бригадам. В ночь на 20 июня переходили ли-
нию фронта у населенного пункта Шубине Дедовичско-
го района. Следом шел полк «За Советскую Латвию»,
сформированный в Валдае из трех отрядов доброволь-
цев (около двухсот человек), преимущественно бойцов
и командиров 201-й латышской стрелковой дивизии, от-
личившейся под Москвой. Командиром его был Виль-
гельм Лайвинь, комиссаром — Отомар Ошкалн. В лес-
ной республике латышские патриоты постигали тактику
народной войны, овладевали навыками диверсионной
работы, учились разведывательному мастерству и конс-
пирации, чтобы в дальнейшем творчески применять
приобретенные знания и опыт в условиях родной Лат-
вии.
— Я отлично помню этих смелых, отважных людей,—
рассказывал Грозный.— Так, у деревни Большое За-
полье во время майской карательной экспедиции латы-
ши, отрезав ружейно-пулеметным огнем вражескую пе-
хоту, смело вступили в единоборство с броневым аван-
гардом. Потеряв три танка и десятки солдат, гитлеров-
цы не смогли выбить славных сынов Даугавы с оборо-
няемого рубежа. Хорошо показали себя они и во время
того рейда. Когда мы в небольшом леске за полустан-
ком Судома собрались остановиться на первую дневку,
неожиданно с тыла, где замыкающим шел первый ла-
тышский отряд, напали каратели, поддерживаемые не-
сколькими танками и броневиками. В эту тяжелую ми-
нуту парторг отряда Иван Боград с противотанковой
гранатой бросился навстречу первому танку и подорвал
его. Герой был смертельно ранен. Вскоре запылал вто-
рой танк, а подоспевшие на помощь другие отряды рас-
сеяли пехоту. Вражеская атака захлебнулась...
Я был свидетелем,— продолжал Грозный после неко-
торой паузы,— их храбрости и отваги на протяжении
всего пути на Славковичи и в последнем совместном бою
за Сорокине, когда на помощь вражескому гарнизону
неожиданно подошел полк регулярных войск, поддержи-
ваемый бронеотрядом и звеном самолетов. К исходу вто-
рого дня горячей схватки стали иссякать боеприпасы, а
быстрого пополнения ожидать не приходилось. Против-
ник успел захватить строящийся партизанский аэродром.
Было решено оставить Славковичский район. Латыши,
76
отправив с нами тяжелораненых, форсированным мар-
шем двинулись на запад, в Латвию.
Вернувшись в Партизанский край, 4-я бригада стала
в оборону на юго-западе — в деревнях Торчилово, Че-
ремша, Пезово, Федорцево. Но вскоре поступил приказ
ЛШПД о новом движении на запад. На этот раз — к
озеру Радиловскому и о развертывании операций в Стру-
гокрасненском, Новосельском, Середкинском и примыка-
ющих к ним районах. Новое задание свидетельствовало
о большом доверии командования к закаленным в боях
старорусским и полавским партизанам и лично комбри-
гу Глебову.
7 августа 327 бойцов и командиров поотрядно дви-
нулись через железную дорогу Чихачево — Дедовичи.
Они имели 8 противотанковых ружей, 7 минометов,
17 ручных пулеметов, 62 автомата, 232 винтовки, 70 пи-
столетов, два комплекта боеприпасов, тол, мины разных
образцов. Однако не хватало им кожаной обуви, часть
людей Грозного была в валенках.
12 августа прибыли на место, установили связь с
местными партизанами. Каждому отряду Глебов отвел
район действий, скомплектовали 60 диверсионных групп.
В течение двух недель они совершили ряд успешных
налетов на вражеские гарнизоны и волостные управы,
подорвали несколько мостов, пустили под откос девять
эшелонов с техникой и живой силой. И это в то время,
когда фашисты готовили новое наступление на Ленин-
град и проводили операцию по ликвидации Партизан-
ского края.
Действия 4-й бригады чрезвычайно напугали фаши-
стов. «Возник новый очаг партизанской опасности в рай-
оне озера Радиловского»,— свидетельствовал западно-
германский историк Эрих Гессе !.
Ранним утром 29 августа нагрянули каратели, в не-
сколько раз превосходившие своими силами партизан.
На штабной отряд с комбригом враги надвигались с
двух сторон. Пришлось отходить. Грозный бросился на
выручку, но услышал, что их тоже обходят.
— Без паники! — подал обычную для него команду
Иван Иванович и под прикрытием уже поднимавшегося
тумана, пользуясь рельефом местности, вывел людей из
ловушки.
— А теперь вперед! Бей фашистскую нечисть!
1 Петров Ю. П. Партизанское движение в Ленинградской обла-
сти, с. 255.
77
Более пятидесяти гитлеровцев осталось лежать на
месте, еще больше их загнали в болото.
На командирском совещании пришли к выводу, что
долго продержаться здесь не удастся. Но и уходить нель-
зя: Большая земля как раз обещала подбросить необ-
ходимое. Две ночи были как бы пристрелкой — с само-
летов сбросили для лесных отрядов немного груза, а
6 сентября — целых двадцать баулов. Несколько из них
упали в расположении карателей. Ранним утром, когда
еще не успели разделить полученное, гитлеровцы сно-
ва двинулись в атаку.
Было принято решение — по заранее разработанно-
му маршруту вывести бригаду в Лядские леса. Прикры-
вать отход поручили отрядам Грозного и Эрен-Прайса.
Сводная группа, отвлекая карателей от основных сил,
с боями отходила на юг, а затем северо-восток и к кон-
цу сентября вышла к деревням Киевец и Видони Солец-
кого района. От преследователей удалось оторваться, но
положение было трудным: на исходе боеприпасы, много
раненых.
Большая земля не оставила народных мстителей в
беде. В начале октября самолеты сбросили боеприпасы,
взрывчатку и даже свежие газеты и письма. Пользу-
ясь передышкой, партизаны провели по отрядам партий-
но-комсомольские собрания, обсудили итоги сентября,
решили достойно встретить XXV годовщину Великого
Октября. Вскоре на шоссе Николаево — Уторгош они
уничтожили три автомашины и около сорока гитлеров-
цев, разгромили волостные управы и охранявшие их от-
ряды фашистов и полицаев в деревнях Видони, Дерти-
но, Вшели, Боротно, спустили под откос несколько же-
лезнодорожных эшелонов.
В ответ на активные действия народных мстителей
оккупанты двинулись с нескольких направлений. Упор-
ные бои длились почти месяц. Отбиваясь и в то же вре-
мя громя вражеские засады, сводный отряд Грозного
двинулся на юг, к железнодорожной линии Псков — Ста-
рая Русса. Непрерывные бои измотали вконец, конча-
лись боеприпасы и питание рации. Начались морозы.
Четкой связи с Большой землей восстановить не уда-
лось. Не знали даже, где находится штаб бригады. Иван
Иванович решил сам с группой пойти в разведку в Днов-
ский район. В деревне Подберезье им встретилась жен-
щина.
— Куда вы?! В селе полно фашистов, ищут парти-
зан.
78
С. М. Глебов,
командир 4-й Ленинградской
партизанской бригады.
Верный правилу бить
гитлеровцев при любых ус-
ловиях, Грозный решился на
дерзкую операцию. Рассре-
доточившись, горстка храб-
рецов открыла огонь по ни-
чего не подозревавшим фри-
цам. Около семидесяти нем-
цев бросились к подводам и
поспешили убраться восвоя-
си... И снова броски, бои, пе-
реходы.
Не получая вестей от
Глебова, Грозный искал свя-
зи с другими соединениями.
Отбиваясь от карателей, в
начале декабря 1942 года вышли в район базирования
3-й партизанской бригады’. Ее командир А. В. Герман
устроил преследователям Грозного хитрую ловушку все-
го в нескольких километрах от своего штаба, располо-
женного в деревне Говняк Порховского района. Замы-
сел полностью удался.
Новым местом базирования отряда Грозного стал
район озера Сево. Возобновили связь по радио с опера-
тивной группой ЛШПД в Валдае. Самолетами достави-
ли необходимое, эвакуировали раненых. В отряд хлынул
поток добровольцев. Новое пополнение — более трехсот
человек — приняло клятву и обучалось военному делу.
— В конце января 1943 года до нас дошла печаль-
ная весть,— с грустью вспоминает Грозный,— весть о
гибели Глебова, начштаба Петрова, юного Героя Лени
Голикова и многих, многих дорогих сердцу боевых дру-
зей. Несколько дней не мог найти себе места. Люди рва-
лись в бон. Александр Герман понимал наше состоя-
ние, сдерживал и умело направлял боевую деятель-
ность.
В начале февраля гитлеровцы крупными силами по-
вели наступление на район Сево с юга и востока. От-
важно бились грозненцы. Около ста пятидесяти карате-
1 ЛПА, ф. 0-116, on. 1, св. 59. д. 525, л. 3.
79
лей нашли здесь свои могилы. Но и сводный отряд по-
терял более тридцати бойцов.
В это время поступил приказ ЛШПД о формирова-
нии новой 5-й бригады на базе отрядов Ивана Грозного
и Алексея Нестерова, бьющегося рядом, близ того же
озера Сево *. Комбригом назначили К. Д. Карицкого,
комиссаром — И. И. Сергунина. Формирование бригады
едва началось, а фашисты уже затеяли против нее, 2-й
и 3-й бригад крупную карательную экспедицию.
— Наш отряд защищал тогда деревни Лягушицы,
Орехово и Пруды,— рассказывал автору племянник
Грозного, тогда юный партизан, Михей Алексеев.— Бой
шел трое суток. Пруды несколько раз переходили из рук
в руки. В Орехове каратели окружили нас со всех сто-
рон. Но Ивану Ивановичу удалось обмануть их ложным
передвижением и вырваться из кольца. Затем двинулись
к Пустошке, где соединились с партизанами Карицкого,
уже ожидавшими нас.
В ночь на 24 марта 5-я бригада пошла на прорыв у
деревни Подгорье. Впереди шли грозненцы. Сняли фа-
шистский заслон и без единого выстрела выскочили из
ловушки, ушли в Новоржевский район. И снова бои. Не-
смотря на значительные потери, отряд вырос до четырех-
сот бойцов, ибо по-прежнему не иссякал приток добро-
вольцев. 9 мая Грозный получил радостный для вете-
ранов отряда приказ о восстановлении на его базе 4-й
бригады и назначении Ивана Ивановича ее команди-
ром 1 2.
Формируемое в боях соединение народных мстителей
не давало покоя фашистам на значительной территории
псковской земли, особенно на вражеских коммуникаци-
ях. Многократно гитлеровская пропаганда пыталась дез-
организовать бригаду, посеять малодушие среди ее бой-
цов. Бывали дни, когда их буквально засыпали листов-
ками с предложением бросить борьбу и идти в плен.
В листовках, сброшенных над деревней Тучи Новоржев-
ского района, всем обещали «почетный» плен, а Гроз-
ному — «особые условия» как представителю старшего
комсостава Красной Армии.
5 августа 1943 года в бригаду прибыл новый коман-
дир— майор А. Д. Кондратьев. Грозный! стал его за-
местителем и командиром 1-го полка. Комиссаром на-
значили- М. Е. Павлова, бывшего секретаря Новгород-
1 См.: Петров Ю. П. Партизанское движение в Ленинградской
области, с. 295.
2 ЛПА, ф. 0-116, on. 1, св. 59, д. 531, л. 2—7,
80
ского горкома партии, начальником политотдела —
Я. Е. Ицкевича, начальником штаба оставили Ф. И. Се-
менова. Бригаду уже не называли по традиции Старо-
русской, а 4-й Ленинградской. Совместно с 1-й и 8-й
бригада заняла Славковичский район. Под защитой
партизан жили десятки тысяч советских людей, назре-
вал вопрос о создании нового Партизанского края. Это
беспокоило фашистов.
Стянув крупные силы, каратели пошли в наступле-
ние. Одна схватка сменялась другой. За сорок дней —
девятнадцать боев! Гитлеровцы потеряли свыше тыся-
чи ранеными и убитыми. Тяжелейшие потери были и у
партизан.
Вместе с тем народные мстители не снижали тем-
пов «рельсовой войны». За июль — декабрь 1943 года
было спущено под откос девять вражеских эшелонов, из
них восемь 1-м полком — полком Ивана Грозного. Весть
о наступлении советских войск под Ленинградом яви-
лась сигналом к усилению этой борьбы. В течение по-
лутора месяцев было пущено под откос еще 10 эшело-
нов. И опять впереди шел 1-й полк. В ночь на 10 фев-
раля 1944 года он разгромил узловую станцию Титуле,
уничтожил здесь же пять складов с горючим и боепри-
пасами. На шесть дней было остановлено движение на
важной коммуникации противника Остров — Карсава.
И это во время наступления Красной Армии, когда здесь
ежедневно проходило до восьмидесяти эшелонов1.
Удачно провел бой 1-й полк у деревни Дитятево. Не-
заметно взяли в кольцо атакующих, истребили до пяти-
десяти гитлеровцев, а тридцать четыре взяли в плен.
Грозненцы били врага везде и всюду. Не хватало бое-
припасов — в ход пускали топоры и пилы, сооружали
завалы, уничтожали связь.
16 февраля фашисты бросили против 4-й бригады ди-
визию, поддерживаемую танками. Бой шел четверо су-
ток. Но 1-м полком командовал Василий Семин, заме-
ститель командира. Тяжело раненного Ивана Иванови-
ча отправили в тыл. Вот как рассказывал мне об этом
начальник штаба Семенов.
— Впервые Грозному пришлось смириться, а ведь
сколько раз ему предлагали передохнуть недельку-дру-
гую хотя бы в районе Валдая, если не в Хвойной. Нет,
даже после первого ранения категорически отказался,
как только убедился, что рану можно лечить не поки-
1 См.: Ленинградский партизан, 1944, 19 марта.
81
дая бригады. И очень жалел, что не было его в строю,
когда 28 февраля 1944 года у деревни Красное Сосонье
4-я соединилась со стремительно наступавшими совет-
скими войсками.
Во имя чести и свободы Советской Родины неутоми-
мо громил врага Иван Грозный. Человек из народа,
плоть от плоти его, не шибко грамотный, сугубо штат-
ский, он в тяжелое для Отечества время проявил себя
умелым и бесстрашным командиром. Об этом, ничего не
приукрасив, рассказывали и рассказывают его боевые
соратники, его бойцы и командиры. Об этом должны
помнить мы, люди сегодняшнего дня, для которых была
завоевана победа.
Глава II
АГИТАЦИЯ МУЖЕСТВОМ
Сын полководца
Тимур Фрунзе. Это имя связало сегодняшний и
вчерашний день Родины. Подвиг сына как бы бросил
новый свет на славное имя отца, одного из создателей
наших Вооруженных Сил. Короткой, но яркой была его
жизнь длиною всего в девятнадцать лет. И в конце ее —
бой, в котором геройски сражался и геройски погиб
младший Фрунзе.
Многое о нем написано за годы, прошедшие после
гибели: воспоминания тех, кто был рядом, когда он рос
и мужал, тех, кто воевал с ним плечо к плечу. Э. Куп-
ча опубликовал первую подборку документов, коих не
коснулось перо писателя1. Последующие годы принесли
новые материалы.
Тимур родился в 1923 году в Харькове. Отец его—
в Пишпеке (ныне г. Фрунзе Киргизской ССР), в семье
военного фельдшера (отец — молдаванин, мать — рус-
ская). Не случайно книги о Тимуре выходят и в Кирги-
зии, и на Украине, и в Молдавии.
К семнадцати годам у Тимура созрело твердое реше-
ние идти по благородному пути отца: служить народу
в рядах Красной Армии. Получив среднее образование,
поступил в Качинскую Краснознаменную военную авиа-
ционную школу имени А. Ф. Мясникова. Учился с ин-
тересом, жадно.
«Эх,— ликовал он в очередном письме,— если бы я
только мог описать... какое у меня было ощущение, ког-
да первый раз поднялся в воздух... Инструктор у нас
замечательный — лейтенант Коршунов. Он окончил Ка-
1 См.: Комсомольская правда, 1973, 8 мая.
83
Т. М. Фрунзе,
Герой Советского Союзе,
лейтенант, пилот
161-го истребительного полка.
чу отличником и имеет уже
три выпуска... Вообще я
страшно доволен. Учеба, да-
же теоретическая, очень ин-
тересная».
«Теперь имею восемь са-
мостоятельных полетов,—
писал он в другом письме.—
Программа хоть и сжатая,
но по объему не уступит про-
грамме любого авиационно-
го училища... Признаться,
думал я, что намного легче
будет. Дело не в том, что
в нехватке времени. Букваль-
предметы трудно даются, а
но каждую минуту приходится использовать... и как
можно рациональнее. Однако теперь я уже настолько
втянулся, что успеваю выделять ежедневно по 15—20 ми-
нут: решил заняться французским языком, чтобы не за-
быть».
Только начавший самостоятельно летать, он тонко
чувствовал машину, любил свое дело. «К великой радо-
сти, наша школа отныне не выпускает больше летчиков
ни на И-15, ни на «чайках». Обучение будет произво-
диться исключительно на И-16... очень строгая маши-
на, как говорит наш генерал-майор Туржанский, требует
обращения только на Вы... Вы спрашиваете о настрое-
нии? Могу ответить твердо: превосходное... уверен, что
с моей профессией не сравнится ни одна другая воен-
ная...»
Вероломное нападение фашистской Германии вско-
лыхнуло и Тимура: «Летный курс расширен, введены
полеты строем, воздушная стрельба, воздушный бон. На-
деемся, что теперь нас сразу же отправят на фронт, а
не куда-нибудь тренироваться».
В конце сентября 1941 года Фрунзе окончил школу
и получил назначение в 161-н истребительный авиаполк,
стоявший на защите столицы*. Практика первых меся-
1 См.: Герой Советского Союза Т. М. Фрунзе. Изд. Центрально-
го музея Советской Армии. М., 1957,
84
цев войны показала, что в воздушном бою основной
единицей является пара самолетов — ведущий и ведо-
мый. И здесь фронтовая судьба свела комсомольца лей-
тенанта Тимура Фрунзе с молодым коммунистом млад-
шим лейтенантом Иваном Шутовым, заместителем
командира первой эскадрильи. Это был один из вете-
ранов полка, встретивший начало войны под Оршей,
участвовавший в тяжелых воздушных боях в районе Ба-
рановичей, Могилева, Смоленска, Москвы. В одном из
них сбил два «мессера» один за другим.
Тимур рвался в настоящий воздушный бой, а веду-
щий заставлял осваивать по-настоящему поступившую
в полк машину Як-1 и вывозил на барражирование —
дежурство над аэродромом. Но вскоре 161-й передисло-
цировали на Северо-Западный фронт и влили в 57-ю
авиадивизию. 7 января 1942 года здесь началось на-
ступление с целью освобождения Старой Руссы и пре-
пятствия противнику в переброске стратегических резер-
вов на Москву. В помощь наземным войскам немцы стя-
нули сюда значительные силы авиации, включая корпус
«. ихтхофен», укомплектованный асами.
Успех сопутствовал первой эскадрилье и на новом
месте. В течение нескольких дней было уничтожено
8 самолетов, один из них сбил Шутов. Тимур радовался
за ведущего и в то же время горел желанием приумно-
жить счет их пары личным вкладом. Правда, когда мет-
кая пулеметная трасса Ивана пропорола брюхо взмыв-
шего перед ним «мессера», Фрунзе тоже разрядил свою
пушку. Но не был уверен: коснулся ли его снаряд врага
или просвистел мимо. И все же его маневр и выстрел
были замечены комэском Кулаковым. На разборе коман-
дир эскадрильи назвал имя Тимура в числе тех, кто в
групповом бою способствовал уничтожению вражеского
самолета.
15 января эскадрильи 161-го авиаполка весь день
прикрывали наступающие войска. Около полудня под-
нялись в воздух «яки» Кулакова. Передний край неров-
ной полосой тянулся от пустынного, закованного льдом
Ильменя на юг, пересекая железнодорожное полотно
Псков — Бологое, и подступал к окраинам Старой
Руссы.
Не успел Тимур сверху разглядеть боевую панора-
му на земле, как послышался приказ комэска:
— Шутов, займись «хеншелем», остальные — на «ла-
потников»!
85
Комсомольский билет Тимура Фрунзе.
Фрунзе увидел безукоризненно острый угол стаи
«юнкерсов», идущих из глубины вражеской обороны, и
висящий над нашими войсками справа корректировщик.
— Тимур, за мной! — скомандовал Шутов.
— Есть!
На выручку «хеншеля» со стороны солнца выплесну-
лась пара «мессеров».
— Круши «хеншеля», я займусь конвоем! — подал
новую команду ведущий.
Ведомый впервые за все дни спаренного полета ото-
рвался от Шутова и расчетливо вывел истребитель в
хвост «хеншеля». Но не успел поймать его в перекре-
стие оптического прицела, как тот, увернувшись, сам
ударил в сторону «яка» из пушки. Тогда Тимур подныр-
нул под его брюхо и, резко потянув ручку на себя, бро-
сил истребитель вертикально вверх.
— Ближе, ближе,— шептал он, и, когда тело врага
закрыло весь хрусталик прицела, истомившаяся рука на-
легла на гашетку.
Корректировщик вспыхнул рваным пламенем, скосо-
бочился и повалился вниз.
«Но где же командир?» — задал себе вопрос ведо-
мый и с тревогой посмотрел вокруг.
А в стороне пара рассвирепевших «мессеров» носи-
лась за вертким «яком», не в состоянии ни поразить его,
ни оторваться, чтобы не быть самим пораженными. Ти-
мур с лёта разрушил заданную фашистами карусель.
Обнаружив неожиданно второго противника, те поспе-
шили удалиться: корректировщик сбит, бой проигран.
Только приземлившись на аэродроме, Тимур осознал,
что в его фронтовой биографии свершилось главное —
одержана первая персональная победа. Товарищи окру-
жили, поздравляли. Воентехник Дима Менков, проверив
исправность вернувшейся из боя машины, с удовольст-
вием нарисовал на фюзеляже первую звездочку — счет
боевых побед.
Прошло несколько дней. 19 января, как свидетельст-
вует наградной лист, Шутов и Фрунзе прикрывали на-
земные войска на левобережье Полисти1. Около 12.00
снова поднялись в воздух.
— Вижу бомбардировщики над Старой Руссой,— по-
спешил доложить Тимур.
— Засек,— спокойно отозвался ведущий.— Будем
атаковать.
1 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 50, л. 324—325,
87
До тридцати тяжело нагруженных «лапотников» про-
должали продвигаться монолитным строем. Зайдя со сто-
роны солнца, «яки» метнулись навстречу. Шутов вошел
в пике и ударил по флагману. Тимур столь же точно
прострочил пулеметно-пушечным огнем немца, идуще-
го рядом, и вслед за ведущим ворвался во вражеский
строй. Грозный клин распался, и «юнкерсы» шарахну-
лись в разные стороны.
На земле уже горели три бомбардировщика, а огнен-
ные трассы «яков» настигали других. Боясь взорваться
на собственных бомбах, стервятники начали спешно ос-
вобождаться от смертоносного груза, сбрасывая его как
попало. Немало бомб угодило и на позиции своих же
войск. И тут, обозревая небо, ведомый заметил, как в
спешном пике снижался замешкавшийся обескуражен-
ный конвой.
— Вижу восемь «мессеров».
— Уходим, главное сделано,— ответил ведущий.
«Яки» уже проносились над своими наступающими
войсками, когда заметили, что их преследуют всего че-
тыре истребителя, остальные остались с бомбардировщи-
ками. Старший думал всего несколько секунд.
— Тимур, принимаем бой. Выбирай цель и действуй
самостоятельно. Не горячись!
— Есть!
В неистовой круговерти с вражеской парой Фрунзе
прн очередном заходе оказался на встречном курсе. Ре-
шение созрело мгновенно: лобовая атака! Припав к при-
целу, он продолжал мчаться вперед, следя лишь за тем,
как перекрестье заплывало темным пятном. В линзе воз-
никло темно-серое брюхо, и... пушечный таран пропорол
дрогнувшего противника. Тимур не мог видеть агонию
пораженной машины, упавшей за Бологижским лесом,—
скоротечный воздушный бой не давал такой возможно-
сти.
Набрав высоту, ведомый изготовился к броску на
один из «мессеров», осаждавших командира, когда услы-
шал его голос:
— Займись этой тройкой, а я перехвачу тех.
К месту боя спешила вторая четверка, убедившись,
что уходящим «юнкерсам» никто не угрожает.
— Затаив дыхание, следили мы в деревне Медведно
за далеко не равным боем,— вспоминает А. П. Лучин.—
Это были работники штаба сто восемьдесят второй
стрелковой дивизии и прикомандированные к нему на
время боев за Старую Руссу партизанские командиры
88
Глебов, Трусов и я. Несколько минут бой шел в раз-
ных, быстро меняющихся плоскостях. Немцы, несмотря
на серьезные потери, были уверены в явном, преимущест-
ве. Два советских пилота не спешили уходить.
Однако численное превосходство врага сказалось до-
вольно быстро.
— Тимур, «як» поврежден... теряет высоту... Уходи!
— Ваня, держись, я прикрою!
— Уходи... на солнце!
Над раненым истребителем Шутова черным воронь-
ем кружилась вражеская четверка. Ведомый в отчаян-
ном рывке отскочил от рычащего трио и бросился им на-
перерез, мешая преследовать командира. Бросок неожи-
данно закончился новой победой: почти в упор Тимур
поджег «мессер». Второй за несколько минут боя и тре-
тий за один день!
«Озлобившаяся стая коршунов, убедившись в тщетно-
сти погони за подбитым «яком», навалилась скопом»
Эти последние минуты воздушного боя наблюдал и толь-
ко что въехавший в редкий перелесок меж деревнями
Отвидино и Медведно на радиофургоне зам. начштаба
57-й авиадивизии майор Простосердов. На его глазах
Тимур явно попытался атаковать один из «мессеров».
— Так, так,— невольно прошептал он,— а теперь
бей! Бей всем, что только осталось после такой напря-
женной схватки!
Выстрелов не последовало. Вне всякого сомнения,
кончился боезапас. Это сразу же поняли и немцы, уси-
ливая натиск. Но «як» метался, умело уходя от смерто-
носных трасс. И вдруг Простосердов заметил, как ра-
скаленный пунктир прожег прозрачный фонарь каби-
ны безоружного истребителя. Машина свалилась в што-
пор и, не выходя из него, врезалась в сугроб поблизо-
сти.
Майор и радисты бросились к горящему самолету, не
мешкая, извлекли неподвижное тело пилота. Подбежа-
ли из Медведно штабисты 182-й, партизанские коман-
диры. Простосердов извлек из кармана гимнастерки
комсомольский билет, развернул его... и побледнел.
— Товарищи, погиб Тимур Фрунзе — сын полко-
водца.
Обнажили головы. Майор, подавленный, пошел к ра-
диостанции, чтобы передать в штаб скорбную радио-
грамму.
1 За Родину!, 1942, 18 марта.
89
Скромно, по-фронтовому похоронили Тимура Михай-
ловича Фрунзе на Ямском кладбище в поселке Крест-
цы. Однополчане клялись отомстить врагу за его смерть.
Механики подали коллективный рапорт с просьбой на-
править на курсы переподготовки. Через некоторое вре-
мя многие из них пополнили поредевшие ряды летчиков.
Иван Шутов продолжал воевать. Через несколько
дней сбил еще один «юнкере». Но пережил своего спаси-
теля, своего ведомого, всего на два месяца — погиб в не-
равном воздушном бою 28 марта 1942 года.
После войны сестра Татьяна перевезла останки бра-
та в Москву, на Новодевичье кладбище. Тимур навечно
был занесен в списки первой эскадрильи 161-го полка.
16 марта 1942 года ему посмертно было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Его именем названы улицы
в Москве, Новгороде, Крестцах. В Старой Руссе слав-
ное имя носит улица, здесь же установлен бюст героя.
В музее Северо-Западного фронта на стенде — портрет
Фрунзе и его комсомольский билет.
Трижды через осенний Волхов
В ночь на 21 сентября 1941 года в районе Селищ
боевое охранение 267-й стрелковой дивизии заметило
одинокого пловца. С вражеской стороны били трассиру-
ющими пулями, пускали осветительные ракеты. В оче-
редной раз пловец нырнул и исчез из поля зрения. Нем-
цы успокоились, вероятно решив, что отчаянный смель-
чак убит. А он, переждав некоторое время, вышел из ле-
денящей тело воды. Когда ему оказали первую по-
мощь — переодели в сухую одежду, согрели крепким го-
рячим чаем,— посыпались вопросы:
— Кто вы? Откуда? Почему в такую непогоду пере-
правлялись через Волхов?
— Я младший лейтенант Николай Васильевич Оплес-
нин, помощник начальника оперативного отделения шта-
ба сто одиннадцатой стрелковой дивизии.
— Чем же докажете, что вы тот, за кого себя выдае-
те? А может, вы вражеский лазутчик?
— Задавайте мне вопросы о дивизии, я отвечу. Я
знаком с ее историей, командирами.
— Итак, передайте задание комдива.
— Подполковник Рогинский просил установить
связь с ближайшей нашей частью, договориться о пере-
ходе линии фронта и форсировании Волхова. Сто один-
90
надцатая с тяжелыми боями отходит из района Луги,
уже более сорока дней бьется в окружении. Мало оста-
лось техники, на исходе снаряды и патроны. Много ра-
неных, не работают рации. Попытки пересечь шоссей-
ную и железную дорогу у Любани не увенчались успе-
хом. Сейчас дивизия сосредоточилась в районе Сенной
Керести.— Человек замолчал, переводя дыхание.
— Со мною были старший лейтенант Кузнецов и
лейтенант Пленков, а также рядовой Рогалев,— продол-
жал он после небольшой паузы.— В путь двинулись еще
засветло. Шли через лесные чащобы и болота, несколь-
ко раз проваливались по пояс в трясину. Но удачно об-
ходили вражеские посты, окопы, перебегали дороги, по
которым сновали немецкие автомашины. На берегу Вол-
хова наткнулись на гитлеровцев. Завязалась перестрел-
ка. Сбивая немцев с прицельного огня и рассеивая их
внимание, Кузнецов и Пленков кинулись влево, я с Ро-
галевым — вправо. По вспышкам выстрелов заметили
небольшой разрыв. Берег в этом месте оказался крутым,
обрывистым. Передав приказ бойцу следовать за мной,
я бросился в реку. Под водой шел, сколько смог выдер-
жать. Когда вынырнул и оглянулся — плыл один... Нем-
цы стреляли, пускали ракеты, приходилось снова и сно-
ва нырять. Но это вы уже видели.
Командир 267-й стрелковой дивизии комбриг
Я. Д. Зеленков поручил разобраться с этим вопросом
начальнику оперативного отделения майору Е. Н. Дзю-
бе. Тот, поговорив еще раз с Оплесниным, внимательно
выслушав его «одиссею», устроил небольшой экзамен.
Через несколько часов он уже докладывал Зеленкову в
присутствии представителя армии, спешно прибывшего
на сообщение Зеленкова
— Товарищ комбриг, ему нельзя не верить. Он дей-
ствительно хорошо разбирается в работе своего отделе-
ния и таких тонкостях, которые вряд ли под силу работ-
нику другого профиля. Он знает штаб дивизии, многих
командиров старшего звена полков, дает им подробное
описание. Хорошо знает Сыктывкарский район, где ро-
дился в селе Вильгорт в 1914 году. У нас несколько его
земляков из тех мест. Один из них уверяет, что слышал
о мастере спорта по плаванию под такой фамилией.
— Хорошо, очень хорошо, так и доложим командарму.
Генерал-лейтенант Н. К. Клыков согласился с дово-
дами Зеленкова и приказал подготовить переход 111-й
1 См.: Тихвин, год 1941-й. Л.: Л.ениздат, 1974, с. 50—52.
91
Н. В. Опласимн,
Герой Советского Союза,
стерший лейтенант,
начальник оперативного отделения
штаба It 1-й стрелковой дивизии.
дивизии. Учитывая особые
обстоятельства: ночные за-
морозки, северный ветер, ле-
дяную воду, составили под-
робный план. Оплеснин вы-
учил его наизусть и стал го-
товиться в обратный путь.
Первая попытка 25 сентября
переправиться на лодке со-
рвалась — гитлеровцы, обна-
ружив ее при свете ракет,
открыли бешеный огонь. Оп-
лсснину и сопровождавшим
его бойцам уже с середины
реки пришлось возвращаться вплавь. Сорвалась пере-
броска и следующей ночью. Тогда связной решил, что
отправится один.
— Меня там ждут тысячи людей. И сегодня я дол-
жен быть у них.
С его доводами пришлось согласиться. Целый день
велось наблюдение, выбрано место переправы. Оплеснин
быстро собрался в знакомый, но по-прежнему далеко не
безопасный путь. Вокруг пояса закрепил обернутую в
клеенку плащ-палатку, чтобы укрыться после выхода из
воды и хоть немного сохранить тепло тела. В глубокой
тишине, абсолютной темноте дошел до реки с провожа-
тыми, тепло попрощался.
Да, трудно, ох как трудно пускаться в обратный путь,
т. м более одному! Как-никак тогда их было четверо.
Что же произошло с ними, какова судьба? Рогалсв, вер-
нее всего, погиб, иначе последовал бы за ним. Правда,
трудно сказать, удалось бы ему или нет переплыть се-
дой осенний Волхов. Оплеснину и то слишком тяжело
досталось. Хорошо, что он не новичок в этом деле. Ско-
лько раз переплывал реки Сысолу и Вычегду в родном
Сыктывкаре! Да и плавательный сезон начинал одним
из первых...
<Что это, товарищ младший лейтенант? Вы ли это?
Как это понимать? Нервишки шалят... а стоит им толь-
92
ко расслабиться и... нет, лучше не будем об этом. Итак,
немножко подышим глубоко. Перед таким заплывом это
крайне необходимо... Конечно, хорошо бы- разуться. Но
кто знает, как встретит противоположный берег. Вдруг
не будет времени на обувание. А босиком, да в темноте,
да по лесу... Ну что ж — вперед!!!»
Дойдя до уреза воды, обернулся. Провожающие еще
стояли, едва-едва различимые. Помахал рукой, те — то-
же. Тихо, но решительно вошел в ледяную, отливающую
свинцовым блеском воду. Сразу же почувствовал озноб
во всем теле.
«Вперед, вперед! — командовал сам себе.— Воды по
грудь. Теперь ныряй и, сколько выдержишь, иди под
водой».
Вынырнул на значительном расстоянии от берега.
Огляделся. Ничто не нарушало тишину, не было освети-
тельных ракет. Чувствовал, что далеко относит течени-
ем. Под водой этого ощущения не было. А холод все бо-
лее давал себя знать. Ветер, пройдясь по водной поверх-
ности словно по точильному камню, превратился в не-
мыслимо острую косу, которая своим увлажненным лез-
вием полосовала кожу лица.
Когда ноги наконец коснулись дна, не верилось, что
он уже у берега. Вышел из воды и, несмотря на адский
холод, обливался потом. Кругом было тихо. По-видимо-
му, и наружные посты фашистов потихоньку отсижива-
лись в блиндажах. Его судорожное дыхание напомина-
ло сдавленный свист. В ногах предательская слабость,
мышцы только что не гудели. Он закрыл глаза, поды-
шал полной грудью.
«Вперед, вперед. Подальше от берега, потом зай-
мешься собой. Где-то здесь проход меж блиндажей...
Ага, вот оно, болотце, а вот и чащоба... Вперед... Тебя
ждут... ждут уже несколько дней!..»
Когда почувствовал, что находится в безопасности,
отжал обмундирование и белье, развернул и набросил
на себя плащ-палатку.
Командир дивизии С. В. Рогинский, еле сдерживая
радостное волнение, кинулся навстречу, как только Оп-
леснин появился в дверях.
— Товарищ подполковник, разрешите доложить.
— Дорогой мой, дай обниму тебя. Верю, не зря
столько дней прошло.
В томительном ожидании прошло несколько дней и
в 267-й стрелковой дивизии. Все знавшие о переправе
терялись в догадках — добрался или нет? Что ни гово-
93
ри, опасностей много — холодная вода, быстрое течение,
отсутствие сухой одежды после выхода на берег, да и
путь неблизкий. В то же время успокаивали друг дру-
га: «Не может не добраться. Не впервой ведь».
1 октября к Зеленкову прибыл командарм генерал-
лейтенант Н. К. Клыков. Заслушав доклад об оператив-
ной обстановке, нетерпеливо спросил:
— Как со сто одиннадцатой?
— Ждем ее подхода к реке.
— Днем и ночью неослабно наблюдайте за тем бе-
регом.
И, обращаясь к начальнику инженерных войск 52-й
армии генерал-майору Н. С. Горбачеву, прибывшему
вместе с ним, приказал:
— Ознакомьтесь с планом инженерного обеспечения
переправы сто одиннадцатой. Подтяните к реке все плав-
средства, какие только можно собрать. Одновременно
подумайте еще раз об инженерных заграждениях на
этом берегу в случае прорыва немцев. Направьте сюда
в помощь моторизованный батальон майора Романке-
вича.
Между тем, ознакомившись с планом операции, пред-
ложенным штабом 52-й армии, подполковник С. В. Ро-
гинский разработал все до деталей. Оставалось сооб-
щить на восточный берег, что 111-я готова действовать и
ждет сигнала.
Комдив посмотрел на Оплеснина. Тот понял без слов,
кивнул головой:
— Дорога знакомая.
Но перед тем как в третий раз пуститься вплавь че-
рез Волхов, младший лейтенант знакомыми ему путями
вывел поближе к берегу идущий головным 561-й артил-
лерийский полк. И «только мужество, стойкость, непоко-
лебимая вера в свои силы, любовь к Родине и советско-
му народу дали возможность переплыть товарищу Оп-
леснину реку Волхов три раза и вывести дивизию из
окружения»1.
— Ночь на третье октября выдалась темная и холод-
ная,— вспоминал впоследствии Горбачев,— дул прони-
зывающий ветер. Мы, устроившись в траншеях, не спу-
скали глаз с западного берега... Четыре ноль-ноль. Как
и намечалось, над лесной чащей взметнулись вверх пять
темно-красных ракет. Зеленков вздохнул с облегчением,
приказал начальнику артиллерии майору С. Д. Медве-
1 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 35, л. 189—190,
94
деву открыть огонь. Вскоре снаряды и мины начали
рваться на передовых вражеских позициях. И как толь-
ко огонь с восточного берега прекратился, с тыла Про-
тивника атаковали подразделения сто одиннадцатой ди-
визии, прокладывая себе дорогу к реке.
Трудно описать радость около шести тысяч воинов,
вышедших из окружения. Теперь они были среди своих,
близких им людей. И те с уважением смотрели на осла-
бевших, измученных, но не павших духом советских сол-
дат. И все восхищались подвигом младшего лейтенанта
Николая Оплеснина.
В составе 52-й армии оказалась еще одна дивизия.
Пройдя сквозь неимоверно трудные испытания, ее бой-
цы и командиры приобрели серьезную боевую закалку,
что убедительно показали дальнейшие бои. В ночь на
20 ноября 1941 года части 111-й и 259-й стрелковых ди-
визий вышибли врага из Малой Вишеры. На Новгород-
чине этот город первым был освобожден от гитлеров-
ской нечисти.
В феврале — марте 1942 года 111-я вела успешные
бои за обеспечение коммуникаций 2-й ударной армии в
районе Спасской Полисти, Сенной Керести и Глушиц.
В политдонесениях неоднократно упоминалось имя
младшего лейтенанта Н. В. Оплеснина, удостоенного
27 декабря 1941 года высокого звания Героя Советско-
го Союза.
19 марта 1942 года Николай Васильевич Оплеснин
погиб смертью храбрых в бою у деревни Ольховка. Пос-
ле войны его прах перенесен в райцентр — Чудово. Имя
героя носят улицы и пионерские дружины в Чудове,
Сыктывкаре, Ухте. В Коми АССР курсирует теплоход
«Николай Оплеснин», и в память о земляке проводятся
военно-спортивные состязания.
В 1985 году во время агитпробега я побывал в му-
зее боевой славы средней школы № 1 г. Чудова, где есть
стенд, посвященный Николаю Оплеснину. Один из пио-
нерских отрядов носит имя героя, переписывается с его
дочерью Инной Николаевной. Она приезжала к детям
той зимой, рассказывала об отце. В канун празднования
40-летия Победы на большой пионерский сбор вместе со
школьниками здесь собрались представители несколь-
ких послевоенных поколений. Можно представить, ка-
кой воспитательной силы был этот урок!
95
Живой трамплин атаки
Надо сказать, мы, фронтовики, редко удивлялись
смелости боевых товарищей, наблюдая проявления ее
повседневно. Но никогда не переставала нас поражать
смекалка, которой отличались многие наши воины.
Иногда бывали случаи просто уникальные. Один из них
произошел с Иваном Фетисовым, в недавнем прошлом
земледельцем.
...22 мая 1943 года начальник штаба Северо-Запад-
ного фронта генерал-лейтенант А. Н. Боголюбов поло-
жил на стол командующего для подписи очередной при-
каз:
— Случай необычный, товарищ генерал-полковник.
— Нечто подобное было в Отечественную войну
1812 года, когда солдат-богатырь принял на свои плечи
треснувшую лагу моста, готового рухнуть при перепра-
ве пушек,— подал голос член Военного совета генерал-
лейтенант Ф. Е. Боков, уже поставивший свою подпись.
Иван Степанович Конев быстро пробежал глазами
содержание приказа, затем еще раз остановился на фра-
зах: «...первый взвод восьмой роты третьего батальона
247-го полка 37-й стрелковой дивизии прорвал оборону
противника... личным примером воодушевлял бойцов...
Сучья завала были оплетены проволокой. Младший сер-
жант Фетисов своим телом навалился на завал. «Через
меня!» — приказал он. Бойцы один за другим преодоле-
ли препятствие. Немцы начали отходить... лично унич-
тожил десять гитлеровцев... был убит вражеским авто-
матчиком, когда бой уже подходил к концу... Бесстраш-
ным выполнением воинского долга перед Родиной...
обеспечил успех подразделения».
Конев подписал приказ: зачислить навечно Ивана
Ивановича Фетисова, 1914 года, уроженца деревни Сос-
новка Кировской области, в списки восьмой роты, а так-
же утвердить представление к награждению орденом
Отечественной войны I степени. Текст приказа был опуб-
ликован 27 мая 1943 года фронтовой газетой «За Роди-
ну!» и в газете 1-й ударной армии «На разгром врага!».
Гибель славного сына Родины тяжело переживали
друзья-однополчане, каждому было что вспомнить. Фе-
тисов с самого начала нахождения в строю показал себя
смелым и отважным бойцом. Наверное, не было схват-
ки, в которой не видели бы его впереди. Однажды Иван
с группой воинов захватил вражеский окоп и умело ор-
ганизовал оборону. До прихода подкрепления отбили не-
96
И. И. Фетисоа,
младший сержант,
командир взвода 247-го полка
37-й стрелковой дивизии.
сколько контратак против-
ника. Через несколько дней
зачитали приказ о присвое-
нии ему звания младшего
сержанта и назначили пом-
комвзвода. Недели не про-
шло, взводный выбыл по
ранению, и, к удовлетворе-
нию всех бойцов, команди-
ром утвердили Ивана.
В грохоте артиллерии и
под свист пуль прошел
Первомай. После некоторо-
го затишья бои за освобож-
дение Старой Руссы вспыхнули с новой силой. 247-му
полку было приказано наступать в районе Чирико-
во — Находно, чтобы сбить фашистов с прибрежных ру-
бежей на Редье.
Вернувшись с оперативного совещания у комбата
майора Селихова, капитан Кацаруба собрал командиров
взводов и отделений.
— Нашей роте выпала почетная задача: проложить
путь батальону, идущему завтра в авангарде. Серьезным
препятствием, по данным разведки, будут густые про-
волочные заграждения. Но преодолеть их можно, если,
не медля ни одной секунды, рвануться вперед за огне-
вым валом артподготовки. Сигналом и для нас, и для
корректировщиков огня послужит красная ракета.
— Яспо, не впервой,— поддержал ротного Фети-
сов.
— На ваш взвод, товарищ младший сержант, осо-
бая надежда.
— Не подведем.
Возвратившись в блиндаж, Фетисов подробно разъ-
яснил бойцам поставленную перед взводом задачу, вы-
слушал мнение бывалых воинов, четко распределил си-
лы, лично проверил боеготовность прибывшего пополне-
ния.
— Кроме караула, всем не позже как через час
спать!
4 Зак. № 67
97
Майские ночи коротки. Наступал рассвет, предут-
ренний туман плыл от болот. Фетисов уже был на ногах
и умывался. В землянку вбежал связной командира:
— Капитан вызывает к себе.
Через несколько минут восьмая рота третьего баталь-
она уже выдвигалась на исходные позиции. Ударила ар-
тиллерия, снаряды со свистом летели в сторону немец-
ких укреплений. В воздух взлетела красная ракета, ог-
невой вал покатился в глубину вражеской обороны.
— Взвод, за мной! Вперед! — скомандовал Фетисов
и выскочил на бруствер траншеи.
За огневым валом атакующие перебежали чистое по-
ле, простреливаемое противником. Первое проволочное
заграждение разрубили малыми саперными лопатами.
Артподготовка кончилась. Фашисты, опомнившись, по-
вели интенсивный огонь. Бой гремел. Минуты, секунды
решали судьбу операции. И Фетисов навалился на за-
вал. Десятки острых жал вонзились в тело.
— Через меня! — приказал он бойцам.
Те поняли и один за другим по спине командира пре-
одолевали препятствие. Вскоре загремело «Ура!». Во
вражеские блиндажи полетели гранаты. Взводный с тру-
дом перевалился на другую сторону завала и включился
в бой.
Гитлеровцы отступали. Рядом с Фетисовым оказался
боевой друг Кантуев.
— Хорошо поработали,— бросил на ходу Фетисов.
Тот не успел ответить, как из-за угла одной из зем-
лянок на них выскочил немец. Кантуев нажал на спуско-
вой крючок автомата, но фашист выстрелил раньше.
Взводный упал на спину...
— Закрепляться! — послышалась команда лейтенан-
та Криворотова, заменившего командира роты, конту-
женного взрывом снаряда.
Кантуев, чуть отступив от тела друга, начал рыть
ячейку. Боль непоправимой утраты и чувство мести к
врагу — все смешалось воедино.
— Отсюда ни шагу назад,— как клятву произнес он.
Гитлеровцы решили вернуть утраченные позиции. Не-
сколько раз контратаковали восьмую роту, но безус-
пешно.
У наших бойцов боеприпасы были на исходе. Отправ-
ленные в тыл за патронами еще не вернулись. Люди го-
товились к рукопашной, но тут Кантуев в вещмешке
командира нашел большой запас патронов. И последняя
контратака была отбита, отбита патронами Фетисова.
«8
Друзья похоронили отважного солдата на воинском
кладбище близ деревни Находно Старорусского райо-
на. Каждый год накануне праздника Победы приезжа-
ют сюда ветераны. О подвиге неоднократно писали мест-
ные газеты. Ему посвятил немало строк в вышедшей в
Ленинграде книге «Нет ничего дороже» В. С. Кислин-
ский, председатель военно-исторической комиссии Совета
ветеранов Северо-Западного фронта.
Пока бьется сердце
Горит Вечный огонь у стен новгородского кремля,
спят непробудным сном погребенные здесь герои боев
за древний русский город, и среди них старший сержант
Федор Алексеевич Харченко.
«Федя родился в деревне Малая Белозерка Днепро-
петровской области. Росту был небольшого, но мастер
на все руки: столярничал, тачал сапоги,— рассказывала
его мать Ксения Родионовна. — Когда началась Вели-
кая Отечественная, ему еще не исполнилось и восемна-
дцати. На фронт не брали. Пытался удрать с военным
эшелоном. Призвали в мае 1942 года, до этого участво-
вал в строительстве оборонительных сооружений» Ч
С маршевой командой Харченко прибыл на Волхов-
ский фронт. Определили сапожником в пулеметную ро-
ту 13-го полка 2-й стрелковой дивизии. Как известно,
«пехоту кормят ноги», поэтому работы хватало. Но Фе-
дор все же выкраивал время для изучения пулемета. И
однажды в бою заменил убитого товарища. Это решило
дальнейшую судьбу: назначили командиром (!) пуле-
метного расчета, наградили знаком «Отличный пулемет-
чик».
В октябре перед строем однополчан комдив полков-
ник Д. А. Лукьянов вручил Харченко медаль «За от-
вагу».
— Служу Советскому Союзу! — как положено отве-
тил младший сержант и добавил: — Даю слово и даль-
ше бить врага умело и беспощадно.
С ростом боевого мастерства молодого командира
рос и авторитет среди однополчан: вскоре Харченко до-
верили руководство комсомольской организацией ба-
тальона.
Молодой командир повседневно старался совершенст-
вовать искусство стрельбы. Услышав о снайперском дви-
1 Советский патриот, 1986, 21 мая.
99
Ф. А. Харченко,
Герой Советского Союза,
старший сержант, комсорг
батальона 2-й стрелковой дивизии.
жении, встретился с масте-
рами меткого огня, в про-
межутках между боями
брал в руки обыкновенную
трехлинейку и выходил на
«охоту». Когда получил
оружие с оптическим при-
целом, наверное, и сам бы
не смог ответить на вопрос,
что ему дороже — пулемет
или снайперская винтовка.
Отважный комсомолец
был отмечен знаком «Снай-
пер», награжден второй
медалью «За отвагу». Л
вскоре вручили ему и орден Красной Звезды. Анатолий
Чивилихин посвятил ему стихи, подчеркивая снайпер-
ское искусство.
На фронтовом слете снайперов Харченко сказал:
— Надо научиться пользоваться своим оружием так,
чтобы ни один выстрел не пропал даром, чтобы каждая
пуля разила фашиста.
— Хороню, если бы каждый из вас,— подхватил его
слова генерал армии К. А. Мерецков,— научил еще од-
ного, двух, трех своих товарищей снайперскому искусст-
ву. Мы стали бы в десять раз сильнее.
— Даю слово,— ответил выступающий.
Призыв командующего фронтом Федор принял как
приказ: сам метко разил гитлеровцев и готовил боевых
друзей своего батальона. Его воспитанники Корнев, Ми-
ронов, Красуля и многие другие стали настоящими мас-
терами. 20 февраля и 23 сентября 1943 года армейская
газета «На разгром врага!» публиковала материалы о
знатном снайпере. «Слава лучшему снайперу фронта
Федору Харченко — бесстрашному, ловкому, смелому
воину!» — писала «Фронтовая правда» 21 октября. Бое-
вой опыт Харченко учил других бить врага.
Короткими и холодными декабрьскими днями шла
активная подготовка к наступлению. Много внимания
Военный совет армии наряду с боевой учебой уделял
100
агитационно-пропагандистской работе. Повседневную
помощь командирам и политработникам оказывал ак-
тив. Федору Харченко довелось выступать на общеар-
мейском слете орденоносцев, на митингах боевого содру-
жества войск в родной 2-й, а также в 65-й и 377-й стрел-
ковых дивизиях. Проверяя готовность воинов к наступ-
лению, он помогал лучшим из них написать заявление
о вступлении в комсомол.
Бывший член Военного совета 59-й армии генерал-
майор П. С. Лебедев, выступая на встрече с новгород-
ской молодежью, рассказывал:
— Настоящим вожаком молодежи был комсорг Фе-
дор Харченко. Перед каждым боем он беседовал с моло-
дыми воинами взводов, давал им наказ действовать сме-
ло и решительно. А храбрости и отваги самому было
не занимать, личным примером воодушевлял. Прибыл
в часть сапожником, а стал первоклассным пулеметчи-
ком. Уверял, что никогда не брал в руки охотничье
ружье, но буквально в течение двух-трех месяцев овла-
дел снайперским искусством. С виду не богатырского
сложения — первым поднимался в атаку и мужествен-
но дрался в рукопашном бою. Так было и в тот январ-
ский день...
Время и труд, затраченные на подготовку к наступ-
лению, не пропали даром. Воины 59-й армии в большом
сражении неплохо справились с поставленной перед ни-
ми задачей. 20 января 1944 года был освобожден древ-
ний Новгород. Но вместо города, который вынуждены
были оставить в августе 1941 года, перед победоносны-
ми войсками явились руины. Кругом — обвалы, пробои-
ны, обожженные и разбитые стены каменных зданий,
кругом — огонь, пожирающий остатки деревянных домов
и строений. Поваленные деревья кремлевского парка ле-
жали как мертвые великаны. В кремле — обезображен-
ные вражеской рукой, приготовленные к отправке в Гер-
манию, дорогие русскому народу фигуры памятника «Ты-
сячелетию России». Даже солдаты и офицеры, которые
никогда не были в Новгороде и не видели его до войны,
и те не могли удержаться от волнения при виде того, во
что обратили варвары наследие нашего прошлого.
Вечером из уст комиссара полка Харченко услышал,
что в древнем Новгороде осталось всего только сорок до-
' мов под крышей и насчитывалось семьдесят жителей.
Воины рвались в бой.
На другой день начался второй этап операции: удар
в направлении Луги и вспомогательный — на Шимск.
101
«Наступление 59-й армии успешно развивалось на
всех направлениях,— пишет в мемуарах генерал-пол-
ковник в отставке И. Т. Коровников, бывший ее коман-
дарм.— Но чем дальше продвигались войска на запад,
тем ожесточеннее сопротивлялся враг. 23 января подраз-
деления 2-й стрелковой дивизии, наступавшие на укреп-
ленный опорный пункт противника Оссия, попали под
обстрел: шквал артиллерийского, минометногб и пуле-
метного огня. Бойцы залегли. В этот критический мо-
мент знатный снайпер армии, любимец молодежи, ком-
сорг батальона Федор Харченко поднялся с возгласом:
— За Родину, за нашу партию! Вперед! — и с авто-
матом в руках бросился на врага.
За комсоргом последовали все бойцы» Р
Жуткая картина предстала перед воинами, ворвав-
шимися в деревню. Груды обугленных тел советских
военнопленных, заживо сожженных гитлеровцами. Вче-
ра— обезображенный город, сегодня — обезображенные
трупы! Разве можно было спокойно взирать на это! А
ведь подобное встречалось почти на каждом шагу. Раз-
ница была лишь в том, где и сколько погибших. Любой
из ветеранов войны приведет немало подобных приме-
ров.
На коротком митинге бойцы, сержанты и офицеры
поклялись беспощадно мстить фашистским изуверам.
Но не было среди присутствовавших главного героя: в
ходе атаки Харченко был смертельно ранен. Друзья про-
читали его неотправленное письмо к отцу, обнаружен-
ное в кармане гимнастерки. Верный сын Ленинского
комсомола писал: «Я люблю свою Родину потому, что
она меня воспитала. Я только начал жить, но гады-фа-
шисты жить не дают. Вот почему я бью их. Если я по-
гибну, то погибну как герой. Я умру со словами: „За
Родину! За советскую землю! За наш народ! За пар-
тию большевиков!”»1 2.
Письмо прозвучало как завещание однополчанам, со
всех сторон раздались возгласы:
— За Харченко! За нашего комсорга!
Тело отважного комсомольца было доставлено в
Новгород и погребено в братской могиле у кремлевской
стены. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
б мая 1965 года Федору Алексеевичу Харченко посмерт-
1 Коровников И. Т., Лебедев П. С., Поляков Я. Г. На трех
фронтах, с. 124—125.
2 На Волховском фронте. 1941—1945, с. 108,
102
но присвоено звание Героя Советского Союза. В память
о нем в Новгородской области проводятся спортивные
соревнования по стрельбе.
«Иду на таран!»
Интересное наблюдение обнаружил я в мемуарах
Главного маршала авиации А. А. Новикова. «Любой
прием воздушного боя требует от летчика отваги, му-
жества и мастерства. Но таран... предъявляет к чело-
веку неизмеримо более высокие требования... Это не
только молниеносный расчет, исключительная храбрость
и самообладание. Таран в небе — это прежде всего го-
товность к самопожертвованию, последнее испытание на
верность своему народу, своим идеалам. Это одна из
наивысших форм проявления того самого морального
фактора, присущего советскому человеку, которого не
учел, да и не мог учесть, враг, так как он имел о на-
шем народе весьма смутное представление. И не слу-
чайно за всю войну ни один вражеский пилот не отва-
жился на таран»1.
Надо отметить, что ко времени второй мировой вой-
ны в истории развития отечественных воздушных сил
был уже накоплен определенный опыт такого приема
воздушного боя, как таран. Впервые в воздушном бою
таранил самолет знаменитый русский летчик Петр Ни-
колаевич Нестеров 26 августа 1914 года. Через год по-
добную атаку повторил А. Казаков. Он вернулся на
аэродром невредимым, заставив замолчать сомневаю-
щихся. Этот опыт не пропал даром. На нем воспитыва-
лись и учились.
Первыми из советских летчиков совершили воздуш-
ный таран японских военных самолетов Антон Губенко
в 1938 году над Ханькоу и Виталий Скобарихинв 1939 го-
ду над Халхйн-Голом. Не предусмотренный ни одним
воинским уставом, кроме «устава» безграничной любви
к Родине, таран с первых часов Великой Отечественной
войны был зачислен советскими авиаторами в арсенал
средств воздушной борьбы. Счет открыл Иван Иванович
Иванов в 4 часа 25 минут 22 июня 1941 года. А всего
за время войны было установлено 604 таранных удара!
Тридцать четыре летчика применили его дважды, Алек-
сей Хлобыстов — трижды, Борис Ковзан — четырежды,
1 Новиков А. А. В небе Ленинграда, М.: Наука, 1970, с, 78—79,
103
в том числе над Любницей и Старой Руссой. Он и стал
героем этого очерка.
24 августа 1943 года вызванный в Кремль для полу-
чения Золотой Звезды Героя Алексей Петрович Маресь-
ев неожиданно услышал среди других приглашенных
знакомое имя — Борис Иванович Ковзан.
— Так это вы — тот непревзойденный мастер воздуш-
ного тарана, о котором говорит и печать, и радио, и Сов-
информбюро?!
— А вы — тот самый летчик, что на устах и у воен-
ных, и у гражданских?
Так познакомились два настоящих человека, два лет-
чика одного Северо-Западного фронта, правда, разных
авиаполков.
Ковзан родился 7 апреля 1922 года в городе Шахты
Ростовской области. Окончил Бобруйский аэроклуб, за-
тем авиационную школу в Одессе. На фронте с 1941 го-
да, совершил 360 боевых вылетов, провел 127 воздуш-
ных боев, сбил 24 вражеских самолета.
«Счет таранным поединкам младший лейтенант 42-го
истребительного полка 240-й авиадивизии открыл 29 ок-
тября 1941 года в районе Зарайска, в 65 километрах от
Москвы» ’. Возвращаясь с боевого задания, летчик заме-
тил в небе вражеский самолет, чуть ниже себя. Пользу-
ясь этим преимуществом, Ковзан настиг его и выпустил
по фашисту остаток боеприпасов. Но огонь не достиг
цели, гитлеровец продолжал тянуть к своим. Обозлен-
ный неудачей, 19-летний комсомолец в поисках выхода
решил таранить врага. Он приблизился к противнику
сзади и нанес удар по хвостовому оперению.
Второй таран Борис совершил над Торжком 21 фев-
раля 1942 года. Фашистский самолет упал на одну из
площадей города. Как и первый раз, противник был
сбит, а собственная машина сохранена.
О третьем таране, когда тоже была сохранена ма-
шина, сообщило Совинформбюро. Подробности этого
боя содержит фронтовая газета «За Родину!» от И июля
1942 года. Они появились на газетной полосе после бе-
седы с героем военного корреспондента Михаила Мату-
совского.
9 июля в воздушном бою над станцией Любница Ков-
зан остался один против двух «мессеров».
Фашисты увидели, как из патрубков самолета совет-
ского летчика повалил черный дым, и сразу поняли, что
1 Полынин Ф. П. Боевые маршруты. М.: Воениздат, 1972, с. 167,
104
Б. И. Ковзан,
Герой Советского Союза,
старший лейтенант, пилот
42-го истребительного полка
240-й авиадивизии.
его мотору конец. Они за-
жали самолет с двух сто-
рон: один пошел в лоб, дру-
гой — с хвоста.
— Ну, думаю, младший
лейтенант Ковзан, вот ты и
отлетался,— говорил он по-
том корреспонденту.— Из
двух таранов вышел целе-
хоньким, а вот теперь на-
крылся. И такая меня взя-
ла злость, что решил так
просто не сдаваться. В лоб,
так в лоб... И когда казалось, что друг до друга можно
было дотянуться рукой, немец не выдержал и рванул
вверх. На секунду мелькнуло узкое брюхо «худого», но
и этого было достаточно...
Ковзан крылом ударил по крылу. Оба самолета, со-
рвавшись в штопор, некоторое время летели рядом. За-
тем советский летчик с большим напряжением выров-
нял полет, вывел самолет из смертельного вращения. Но
машину словно знобило, она содрогалась, кренилась
вправо на поврежденную во время удара плоскость. Мо-
тор не слушался и на высоте 800 метров окончательно
заглох. Успокаивало лишь то, что второй «мессер» не
ввязался в бой, а убрался восвояси.
— Внезапная тишина после неумолчного грохота боя
и стона моторов показалась зловещей,— продолжал Ков-
зан.— Теперь в любую секунду можно было запросто
^гробануться. Но мысль работала четко и трезво... Про-
ще всего было бы, конечно, выброситься на парашюте,
но жаль машины, которая еще ни разу не подвела в
бою. Окинул взором местность, высмотрел в лесу подхо-
дящую лощинку и, не выпуская шасси, посадил самолет
«на брюхо». «Ястребок», исключая правую плоскость,
был целехонек. И только теперь лейтенант почувствовал
убийственную усталость. Однако, передохнув, вышел на
проселочную дорогу и вскоре очутился в деревне Миро-
нушка, а от нее — рукой подать до Валдая.
105
Гитлеровский летчик спустился на парашюте и был
взят в плен.
Прошел всего один месяц, и 13 августа мастеру тара-
на довелось под Старой Руссой принять бой с пятью
«мессерами». Как метеор носился он на своем «яке»
среди вражеских самолетов, атакующих смельчака со
всех сторон. Фашистам удалось ранить героя, поджечь
машину. Но и в этой, казалось, вовсе безнадежной ситуа-
ции Ковзан остался верен воинскому долгу до конца.
Когда попытка сбить охватившее истребитель пламя ни
к чему не привела, летчик пошел на таран. Раненный
в голову, почти ослепший, задыхаясь в дыму, он пере-
дал земле:
— Горю, голова разбита... иду на таран...
С земли видели, как падали два горящих факела:
вражеский самолет и наш. И кто бы мог подумать, что
Борис Иванович останется в живых: судьба хранила
смельчака. При столкновении лопнули привязные рем-
ни, и его выбросило за борт. Очнулся, когда до земли
оставалось совсем немного. Судорожно рванул кольцо.
Парашют раскрылся. От сильного удара снова лишился
сознания.
Упал в болото, по пояс погрузившись в тину. На ка-
кое-то время сознание вернулось, и это спасло от гибе-
ли. Бой и приземление летчика видели находившиеся в
поле колхозники. Они-то и вытащили Ковзана из тря-
сины. А тут подоспели и боевые друзья. С переломами
рук и ног, травмой головы доставили его в госпиталь.
Состояние летчика было критическим. Борис Иванович
пришел в себя лишь на седьмой день и, помогая меди-
кам, включился в борьбу за свою жизнь.
Много месяцев пролежал он на больничной койке.
Выписывая, врачи безапелляционно заявили о том, что
о полетах не может быть и речи: переломаны руки и
ноги, выбиты зубы, разбита голова, поврежден глаз. Од-
нако он не поехал в тыл, а прямым ходом направился в
родной полк.
Погода была нелетная, и боевые друзья находились
в клубе. Первое, что бросилось в глаза,— большая кар-
тина на стене с изображением двух воздушных боев —
таранов Петра Нестерова в 1914 году и Бориса Ковзана
в 1941 году.
Заметив вошедшего, друзья окружили его, жали руки.
— Как чувствуешь себя?
— Спасибо, хорошо. Вполне готов к полетам.
— Что ты, Борис, опомнись! Тебя же врачи с трудом
106
склеили, ведь живого места, наверное, на теле нет. Раз-
ве на земле дела не найдется?!
— Не могу я на земле, братцы,— твердо заявил Ков-
зан.— Не по мне.такая растительная жизнь.
Долго пришлось уговаривать врачей и командира
полка Ф. А. Шинкаренко. Пришлось напомнить, что на
Ленинградском фронте летает Александр Батурин, и то-
же на истребителе, хотя у него правый глаз потерял зре-
ние до 70 процентов. Первыми сдались все же медики.
«Это был, наверное, его самый главный подвиг,— пи-
шет генерал-лейтенант Ф. П. Полынин в своих мемуа-
рах.— Ковзан воевал до победного мая сорок пятого. К
своему боевому счету — восемнадцать сбитых самолетов
врага — добавил еще шесть»1.
После войны, в 1947 году, Борис Иванович окончил
военно-воздушную академию и был на командных долж-
ностях в ВВС до 1958 года. Подполковником ушел в за-
пас, работал начальником аэроклуба в Рязани, учил ле-
тать молодежь. В связи с 30-летием Победы ему при-
своили звание полковника. А с середины 70-х годов небо
уже штурмовали два его сына.
Долгая дорога к победе
В конце февраля 1943 года советские войска покон-
чили с демянским плацдармом. Гитлеровцы вынуждены
были оттянуть силы, которые находились за Ловатью, к
своей последней понтонной переправе у Рамушева. Одна-
ко 9 марта наши войска освободили и это село. Фаши-
сты оказывали упорное сопротивление, но продолжали
отступать.
1 марта советские воины перешагнули Ловать. В фор-
сировании реки особо отличились воины 3-й воздушно-
десантной дивизии. Ни интенсивный артобстрел, ни на-
леты вражеской авиации не могли остановить их стре-
мительного натиска. В среде воздушных десантников
было немало добровольцев, и среди них — оренбургский
тракторист Прокофий Васильевич Нектов.
Большой урон нанесли смельчаки огрызавшемуся
противнику, но значительно поредели и их ряды. Уже
на подступах к переправе упал тяжелораненый и кон-
туженный Нектов. Небо перевернулось, земля с перелес-
ком всколыхнулись и стали дыбом. Он не слышал, как
1 Полынин Ф. П. Боевые маршруты, с. 168.
107
П. В. Некто»,
рядо»ой 3-й воздушно-десантной
дивизии (фото 1984 г.).
бой переместился на дру-
гую сторону, как в надви-
гавшихся сумерках мимо
пробежали, не заметив его,
санитары. Очнулся от соб-
ственного стона в неболь-
шой ложбине. При попытке
встать адская боль прон-
зила правую ногу. Лох-
мотьями свисали обрывки
одежды, открывая раздроб-
ленное пулей колено.
Он как мог перевязал
себя, затем взялся за авто-
мат. Но не знал того, что
поблизости давно нет противника, и поэтому не стал
подавать сигнала, а попытался выбраться сам. Срывая
ногти, Нектов карабкался вверх по уступу метр за мет-
ром. И вдруг здоровая нога соскользнула, не найдя то-
чку опоры. Падая куда-то вниз, раненый снова потерял
сознание.
Когда пришел в себя, было утро. Над головой сере-
ло хмурое небо, шел мокрый снег. Прежде чем верну-
лась тупая, ноющая боль, солдат понял, что лежит на
дне глубокой воронки. Ноги его обледенели, одежда по»-
крылась ледяной коркой. Выбраться без посторонней по-
мощи по скользкому крутому склону нечего было и ду-
мать. Но тут он вспомнил о десантном ноже. Скрипя зу-
бами, стал вырубать в мерзлой земле ступеньки. Его зно-
било, голова пылала, сердце было готово выскочить из
I руди. После нескольких часов неимоверных усилий ра-
неный смог перетащить через край западин неповииую-
щиеся ноги. Он долго отдыхал, если это можно назвать
отдыхом, и постигал: резервы человека исчерпаемы, а
он должен жить. И он пополз на руках в поисках своих,
полз, впадая в беспамятство, приходил в себя и снова
полз. И вдруг сквозь проблески сознания услышал об-
рывки родной речи:
— Смотри, кажись, десантник... оттуда...
Очнулся в медсанбате. И здесь Прокофия ожидало
то страшное, о чем боялся и думать.
108
— Ампутация, другого выхода нет,— сказал хирург,
тщательно осмотрев его.
Нектов сам чувствовал обреченность. И все же, упо-
вая на какое-то чудо, попросил несколько дней.
— Хорошо, сынок,— ответил врач,— день-два еще
можно подождать.
В ответе раненому почудилась искра надежды. А ког-
да вечером его погрузили в санитарный поезд, надежда
стала крепнуть, перерастать в уверенность. В тылу и
врачи посвободнее, и условия лечения лучше. Но уже на
другой день боль в раненой ноге усилилась, пожаловал-
ся сестре на давление повязки. Та приподняла одеяло —
в нос ударил резкий специфический запах.
— Ампутация,— безапелляционно заявил подошед-
ший хирург.
Правую ногу отняли по самый пах, левую, отморо-
женную,— чуть ниже колена. А он-то надеялся: хоть и
обрубки, но останутся обе. Да, потерять ноги в моло-
дые годы — этакое надо пережить. А судьба уже гото-
вила новые испытания: процесс заживления культей про-
текал вяло, наметилось прогрессирующее гнойное рас-
плавление ткани. Пришлось делать вскрытие и дрениро-
вание опасных очагов. И так несколько раз. Для умень-
шения интоксикации раненому вводили значительное ко-
личество жидкости в виде капельных внутривенных вли-
ваний, давали большие дозы сульфамидных препаратов.
На всю жизнь у Прокофия Васильевича сохранились са-
мые нежные чувства к людям в белых халатах, которые
денно и нощно боролись за его жизнь.
Так прошло девять (!) месяцев. Времени на раз-
думья было более чем достаточно. Сколько раз вспоми-
нал он короткую свою биографию или излагал ее оче-
редному сменяющемуся соседу по госпитальной койке в
ответ на его «анкетные» данные.
Родился Прокофий 23 февраля 1912 года в крестьян-
ской семье села Казанка Оренбургской области. В двух-
летнем возрасте лишился отца, воспитывался с тремя
другими детьми в доме дедушки. С малых лет помогал
в полевых работах, чаще всего был погонщиком лошади.
Пережил голодные 1921 —1922 годы. Окончил началь-
ную школу. Потом семья вступила в колхоз, и Проко-
фий принимал активное участие в его жизни. В 1930 го-
ду его приняли в комсомол. Когда образовалась Бело-
зерская МТС, Нектов попал в число первых курсантов-
трактористов. Освоив по-настоящему технику, начал ра-
109
ботать на тракторе ЧТЗ в колхозе «Трудовой фронт» в
родном селе Казанка. Женился.
В счастливую, все улучшающуюся жизнь потомст-
венного хлебороба ворвалась война. Денежную премию
в виде месячного оклада Прокофий сразу же передал
в фонд обороны. Бригадир начал готовить себе смену, и
в декабре 1942 года, после окончания сельскохозяйствен-
ных полевых работ, с Нектова наконец сняли броню и
военкомат направил его на парашютно-десантные курсы.
...Наконец настал день, когда Прокофию примерили
протезы и разрешили осваивать их. Боль в ногах была
нестерпимой, но шаг за шагом он двигался вдоль стен-
ки. Горечь беспомощности, мучительную науку ходьбы
на искусственных ногах — все постиг и преодолел сол-
дат.
В декабре 1943 года, еще еле передвигаясь на про-
тезах и костылях, Нектов покинул госпиталь. Сопровож-
дал его до дома солдат из выздоравливающих. В род-
ную Казанку, которую оставил всего год назад в пол-
ном расцвете сил, вернулся совершенно нетрудоспособ-
ным.
А ведь еще шла война. На полях работали смертель-
но усталые солдатки, девушки, подростки, школьники.
Глядя на них, сердце обливалось кровью. С какой радо-
стью сел бы сейчас за руль трактора или за штурвал
комбайна! Но «новые» ноги не слушались, тело ныло
от боли. Однако мысль быть полезным ни на минуту не
покидала его. Внимание семьи, друзей, односельчан
укрепляло и поддерживало веру в себя. Прокофий тре-
нировался в ходьбе до изнеможения. Как только немно-
го окреп и сносно овладел своими «ногами», пошел ра-
ботать в МТС. Ремонтировал тракторы, учил молодежь.
Но заветной мечтой оставались поле, уборка, комбайн.
Понимая, что ему новой машины не дадут, взялся
Нектов с разрешения директора Ивана Лукьяновича
Коржаневского за восстановление уже брошенной. Это
был старый прицепной зерноуборочный агрегат «Комму-
нар», выпуска начала 30-х годов. В нем отсутствовали
не только отдельные крепления, болты, гайки, но и це-
лые части. Всю зиму провозился Нектов. Отремонтиро-
вал жатку, молотилку, копнитель, бункер. Затем при-
нялся за лесенку, смастерил ее и приварил к корпусу
машины, чтобы мог сам добраться до площадки управ-
ления, приладил специальное сиденье.
И вот настало время, когда он опробовал его на тер-
ритории МТС. А там первая уборка, да какая! Большое
человеческое счастье и радость победы над увечьем за-
полнили душу.
— В строю, снова в строю,— шептал он пересохшими
губами.— Хлеб нужен стране, нужен фронту, моим бое-
вым друзьям, продолжающим гнать врага на запад.
Из степи дул знойный ветер, несущий пьянящие за-
пахи поля и спелой пшеницы. Гимнастерка промокла и
прилипла к спине. Глаза застилал соленый пот, но он не
чувствовал ни капли усталости.
— В строю, в строю,— шептал Нектов в такт хло-
потливо постукивающей машине...
В октябре 1953 года Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР комбайнеру Белозерской МТС Проко-
фию Васильевичу Нектову, «добившемуся в течение ря-
да лет на уборке и обмолоте зерновых культур высоких
показателей, будучи лишенным обеих ног в связи с тя-
желым ранением при защите Родины в годы Великой
Отечественной войны», было присвоено высокое звание
Героя Социалистического Труда.
Вскоре партия призвала молодежь к походу на це-
лину. Нектов осваивал ее в селах Буланово и Ильинка
родного Белозерского района. Знатный комбайнер и там
проявил трудовую доблесть, был награжден вторым ор-
деном Ленина. Он по-настоящему встал в строй. Его из-
бирали депутатом районного, а затем и областного Сове-
тов народных депутатов.
— Подвиг протекает во времени. Человек совершает
его каждый день. И если не совершил сегодня — совер-
шит завтра,— говорил Нектов при встречах с молодежью.
И яркое тому подтверждение — его жизнь.
В ноябре 1953 года Прокофий Васильевич получил
письмо от незнакомого летчика с высказанным в нем
восхищением. Под ним стояла подпись — Валерий Бы-
ковский. Нектов ответил теплым письмом с пожеланиями
успехов на службе Родине. Сам герой продолжал тру-
диться комбайнером, затем механизатором МТС. Его
грудь уже украшали четыре ордена Ленина и Золотая
Звезда Героя Социалистического Труда, две бронзовые,
большая и малая золотые медали ВДНХ СССР, когда
в июле 1963 года космонавт Быковский стал известен
всему миру. Эстафету героя-солдата, героя-земледельца
Валерий пронес через сказочные космические дали, до-
казав новым подвигом силу и волю советского человека.
Однако вскоре Прокофий Васильевич по состоянию
здоровья все же вынужден был оставить работу. 16 мая
1987 года его не стало.
111
Железный сержант
В Старорусском краеведческом музее мне как-то по-
казали присланную из Невинномысска местную газету,
рассказавшую о подвиге их земляка Василия Леонтье-
вича Заряева в боях под Старой Руссой. Материал по-
казался интересным, и я написал в совет ветеранов про-
изводственного объединения «Азот» Невинномысска, где
герой работал шофером автокара цеха № 7. Вскоре
пришел ответ с домашним адресом бывшего фронтовика.
Между нами завязалась переписка, в результате кото-
рой и возник предлагаемый очерк.
200-я стрелковая дивизия полковника К. А. Елшина,
перебрасываемая с Урала, еще не прибыла в район со-
средоточения, а уже получила приказ о наступлении, в
котором ставилась задача перехватить рамушевскую гор-
ловину.
После короткой артподготовки под вечер 3 мая
1942 года рванулись в атаку подразделения 666-го пол-
ка подполковника В. Я. Даниленко. Фашисты не ожида-
ли подобного и на какое-то время растерялись. Совет-
ские воины с ходу ворвались на окраину Присморожья
и здесь вынуждены были залечь. Ожили неподавленные
или молчавшие до этого вражеские огневые точки, а на-
ши поддерживающие орудия уже израсходовали боеза-
пас. Гитлеровцы перешли в контратаку, и, пока не под-
тянули дивизион 650-го артполка и не подавили их, пе-
хота могла надеяться лишь на свои ограниченные силы.
Взвод младшего лейтенанта Никиты Шаповалова, со-
вершив внезапный бросок, занял высоту. Но гитлеров-
цы не могли примириться с потерей важного рубежа, и
на смельчаков посыпался град мин и снарядов. Когда
канонада стихла, фашисты пошли цепь за цепью. Поль-
зуясь перевесом сил, они окружили советских бойцов,
отрезали от своих и даже значительно потеснили родной
батальон.
— Рус, сдавайсь, выхода нет!
— Врешь, фриц, есть выход! — крикнул Шаповалов
и метко бросил гранату.
В ход пошла «карманная артиллерия». Одну за дру-
гой метали гранаты рядовые «интернационального взво-
да» — грузин Александр Салосидзе и татарин Рафаил
Хамзин. Валегшие на склонах высотки гитлеровцы уси-
лили ружейно-пулеметный огонь. Не давая поднять го-
ловы, били по фашистам станковые пулеметы сержантов
мордвина Василия Заряева и украинца Владимира При-
112
ходько. Но таяла, таяла в неравном бою горстка храбре-
цов. Не вскрикнув, уронил голову на бруствер и сполз в
траншею взводный Шаповалов. Заряев кинулся было к
нему, но в это время смолк второй пулемет: чубатый за-
порожец Приходько что-то хрипел и- судорожно хватал
ртом воздух. Рядом в неестественных позах лежали че-
ченец Рустам Исупов и узбек Хасан Холов. Ободренные
внезапно наступившей тишиной, фашисты подняли голо-
вы и истошно завопили со всех сторон:
— Сдавайсь!
— Ну уж нет, этого не дождетесь! — прошептал За-
ряев, кидаясь к пулемету друга, и верный «максим» за-
бился в его руках.
Убедившись, что гитлеровцы присмирели, Василий
вернулся к своему пулемету и дал короткую, но меткую
очередь.
Так в течение нескольких часов сержанту удавалось
создавать видимость, что взвод жив и здоров. И тогда
фашисты пустили четыре танка, не зная, конечно, что
на высоте один человек и у него кончаются патроны.
Четыре бронированных чудовища против единствен-
ного солдата, оставшегося в живых... Можно было упасть
на дно траншеи, попытаться спастись. Но Василий Заря-
ев не сделал этого. А Т-Ш уже близко, его два пулемета
при молчавшей пушке поливали свинцом занимаемые За-
ряевым позиции. За ним полз на высотку T-IV, поводя
75-миллиметровым орудием в поисках цели.
Василий побежал вниз по траншее навстречу пер-
вому и бросил под черное днище противотанковую гра-
нату. Танк словно споткнулся, загрохотал разорванной
гусеницей и, окутанный дымом, остановился как вкопан-
ный. Победа в трудном поединке влила новые силы в
одинокого храбреца. Он возвратился к пулемету, но, уви-
дев рядом с погибшим Шаповаловым две противотанко-
вые гранаты, схватил их и бросился наперерез другой
машине.
«Я успел бросить одну гранату,— пишет автору За-
ряев,—и не заметил, попал в цель или нет, как раздал-
ся взрыв, завертелась земля и закружился небесный
свод». Когда тяжело раненный и сильно контуженный
боец с большим трудом открыл глаза, ему показалось,
что вокруг стояла мертвая тишина и до одури пахло
гарью.
«Жив, и все-таки я жив»,— думал он.
Нестерпимо хотелось пить. Но фляжки с водой на
поясе не оказалось. Вспомнил: оставил ее у пулемета.
113
Попытался подняться, найти ее — адская боль в обеих
ногах исторгла стон и снова прижала к земле. Где-то
рядом послышалась чужая речь. В лучах заходящего
солнца сверкнула холодная сталь штыка и дважды вон-
зилась в грудь. На какой-то миг сознание вернулось к
нему: он увидел осклабившееся лицо палача, и крова-
вая пелена затмила снова перевернувшийся небесный
свод.
Однако не суждено было погибнуть 23-летнему от-
важному комсомольцу. На место горячей схватки ночью
пробрались партизаны. Подававшего признаки жизни
Заряева унесли с собой, оказали первую помощь. Со-
знание не торопилось вернуться — слишком серьезные
были раны, много потеряно крови. На третий день услы-
шал он необычно громкий шум в землянке и почувство-
вал прикосновение чутких заботливых рук. Оказалось,
родная дивизия вместе со 144-й стрелковой бригадой
полковника Старухина все же вышибла гитлеровцев из
Присморожья и Александровки и вышла к Рамушеву.
Заряева доставили на полковой медпункт. Партизаны,
оказавшись на освобожденной территории, снова уходи-
ли в тыл врага.
Больше года провалялся Василий на больничной кой-
ке. Лечили его в палатках медсанбата и в госпитале в
Крестцах, потом санитарным поездом отправили на во-
сток. Глубокой осенью в одном из омских госпиталей
главный хирург подполковник медслужбы Коцарев ска-
зал после очередной операции:
— Грудь мы тебе исправили в самом лучшем виде, а
вот насчет ног — не взыщи. Удалось сохранить лишь ко-
ленные суставы, да на левой ноге голеностопный. Прав-
да, это тоже немало: при хорошей тренировке сможешь
ходить на протезах. Жить будешь долго, кость и мясо
у тебя «железные».
Хирург что-то хотел еще прибавить, но, видно, пере-
думал, похлопал по плечу, пожал руку.
— Ну, выздоравливай, «железный сержант»!
С легкой руки врача так и окрестили Заряева, а
вскоре и награда нашла героя. Ему торжественно вру-
чили орден Отечественной войны I степени.
Ранней весной 1943 года Василий Леонтьевич при-
ехал в родное село Кирюшкино под Бугурусланом на
костыдях и протезах. Сколько слез пролила Анна Ва-
сильевна Заряева, сидя вечерами у постели искалеченно-
го войной сына!
— Не плачь,— успокаивал он ее,— мы еще повоюем,
ш
В. Л. Зар«еа,
сержант, пулеметчик 666-го полка
200-й стрелковой диаитим
(фото 1987 г.).
еще встретимся с палача-
ми, что добивали раненых!
А пока ближней целью
ставил он получение прав
тракториста. Ночи напро-
лет просиживал над учеб-
никами, а днем уходил в
сад и, лежа на скамейке,
терпеливо бил обрубками
ног по дереву, набивая мо-
золи. Бросив костыли, пере-
бегал от дерева к дереву до
тех пор, пока не падал в
изнеможении. И в эти мину-
ты перед утомленным взо-
ром его, как наяву, вставали боевые друзья, ведущие
там, под Старой Руссой, борьбу с врагом.
Как-то вечером Анну Васильевну вдруг словно осе-
нило — ведь 232-й полк 26-й Златоустовской дивизии, в
котором служил в гражданскую ее муж Леонтий Василь-
евич, отец Василия, называли Старорусским! Она пока-
зала сыну старые письма.
Станковый пулеметчик 232-го полка Леонтий Василь-
евич Заряев писал в одном из них, что подал заявление
в большевистскую партию и командир роты вместе с
комиссаром обещали удовлетворить его просьбу после
освобождения Бугуруслана. В конце письма отец про-
сил: «Если родится дочь — назови своим именем, если
сын — Максимом, в честь моего боевого друга, недоступ-
ного для врага, пока есть патроны».
Сын родился 15 мая. Мать выполнила просьбу отца.
Но вскоре пришла «похоронка». Старший Заряев погиб
при форсировании полком весеннего Большого Кинеля,
не дожив до рождения сына всего одиннадцать дней.
И все же какое странное переплетение судеб бывает!
Если бы мне довелось писать роман или повесть, то чи-
татель невольно бы подумал: автор специально заста-
вил своего героя воевать под Старой Руссой, так как отец
его воевал в ту, гражданскую, в 232-м Старорусском
полку, в составе легендарной Златоустовской дивизии, и
освобождал от колчаковцев их родной Бугуруслан.
Сколько же старорусцев полегло тогда при форсиро-
вании Большого Кинеля, сколько пало при штурме горо-
да! И вот через двадцать три года сын героя граждан-
ской войны бьется с озверелым фашизмом на древней
русской земле. А по соседству с его 200-й стрелковой ди-
визией сражается легендарная 26-я Златоустовская вме-
сте с 312-м Новгородским полком, свято хранящим слав-
ные боевые традиции Новгородского, Старорусского и
Маловишерского полков, зародившиеся еще в граждан-
скую войну.
В 1933 году Поволжье охватил неурожай, и Заряевы
покинули родные места, но уже через год вернулись. За
это время с кем только из сорванцов не довелось встре-
титься Максимке! Почему-то попал он на зуб остросло-
вам, и как только они не спрягали его имя!
«Я попросил маму по возвращении домой называть
меня именем деда. И это как-то быстро прижилось. Так
и получилось, что по метрической выписке я значусь За-
ряев Максим Леонтьевич, а в действительности, по край-
ней мере с 1934 года,— Василий Леонтьевич»,— сообщил
он мне в переписке.
Железная воля, огромное желание вернуться в строй
победили. Девушки-трактористки помогли освоить техни-
ку вождения. Экзаменационная комиссия в МТС выдала
соответствующие документы. И настал день, когда он,
надев гимнастерку, пришел с правами тракториста в
правление колхоза имени И. И. Ларина, расположен-
ного в нескольких километрах от Бугуруслана, на реке
Большой Кинель.
Пожилая, уставшая от многочисленных забот жен-
щина не поверила глазам своим, когда безногий солдат
прошел по кругу, притоптывая ботинками. Кто знал тог-
да о Маресьеве?!
— Дорогой ты мой,— с дрожью в голосе произнесла
Галина Филипповна,— а не тяжело ли тебе будет?
— Нет, все уже позади.
Проверив себя за рулем трактора и поверив в сври
силы, Заряев после окончания полевых работ поехал по-
ступать на курсы шоферов. Это было им задумано на
тот случай, если по возвращении на фронт не дадут танк.
В первой же школе при прохождении медицинской ко-
миссии получил отказ. То же самое происходило и в
других. Но, видно, не зря в госпитале хирург назвал его
«железным». Объездив несколько городов, Заряев в Се-
мипалатинске решил пойти на хитрость. Собрав подписи
всех врачей, он дождался хирурга.
116
— А я к вам, товарищ доктор.
— Завтра,— ответил тот, но, посмотрев на нашивки
ранений и орден Отечественной войны, все же поинтере-
совался: — Куда ранен-то?
— В грудь. Кончу школу шоферов — и на фронт.
— Ну, ладно, подними гимнастерку.
«В этот момент я волновался, наверное, как никог-
да,— вспоминал Заряев.— Но хирург, осмотрев штыко-
вые раны, взял справку и вывел четко заветное „го-
ден”».
Освоение автомашины и вождение ее после тракто-
ра продвигались довольно быстро. Досрочно получив
права шофера, Заряев уехал домой. Несколько дней
осаждал военкомат и горком комсомола Бугуруслана.
Трудно сказать, что было тяжелее: заново учиться хо-
дить по земле или ходить по инстанциям, доказывая,
убеждая, что он может не хуже других водить танк,
трактор, автомашину. В конце концов убедил военкома,
получил направление в действующую армию. Хотел об-
ратно на Северо-Западный фронт, под Старую Руссу, а
пришлось ехать на Украину. Да не все ли равно, где
бить врага, откуда гнать его с родной земли! Попал в
танковую часть полковника Золотарева, стоявшую в рай-
оне Киева.
Неделя-другая прошли в учебе и тренировках. И на-
конец первый, второй, третий успешные выходы в бой.
С каким ликованием Заряев вел грозную машину, меч-
тая дойти до Берлина! Но как-то, вылезая из танка,
заторопился и о выступ брони порвал штанину — блес-
нул никель протезов. Пораженный командир взвода лей-
тенант Фомичев, чтобы отметить доблесть и бесстрашие
комсомольца, доложил командованию. Однако получи-
лось наоборот, ибо шел уже 1944 год, когда все ярче
разгоралась звезда нашей Победы, когда советские вой-
ска, завершая изгнание врага из родной страны, перехо-
дили границы порабощенных фашизмом государств, неся
их народам освобождение от коричневой чумы. Коман-
дир дивизии прислал благодарность солдату, сообщил о
представлении к новой боевой награде, но предложил
ехать домой.
И этот удар мужественно перенес солдат. Через не-
сколько недель уже входил в управление автобазы Се-
мипалатинска Казахской ССР. Кадровика на месте не
оказалось, принял «сам» — Казанцев Анатолий Михай-
лович. На его выцветшем армейском кителе Заряев ус-
пел заметить следы орденов и нашивки ранений.
117
— Прибыл для дальнейшего прохождения службы,—
внешне бодро доложил демобилизованный.
Начальник базы — полковник, ушедший в отставку
но ранению,— неуловимым комиссарским чутьем понял
необычность ситуации. Предложил не торопясь расска-
зать, где довелось воевать и что привело сюда. Вначале
сбивчиво, потом все увереннее комсомолец изложил свою
героическую «одиссею». Дойдя до пребывания в танко-
вом полку, не удержался, сказал с обидой:
— Пожалели. Говорят, в тылу, мол, легче будет—
нет таких перегрузок. А откуда они знают, где легче
мне?! Там я по крайней мере своими глазами видел гит-
леровских палачей и сам платил сполна за их черные
злодеяния. А здесь я лишь по радио и газетам буду
знать, что это делают за меня другие!!
— Я понимаю вас,— мягко сказал Казанцев.— Но по-
нимаю и командование. Будем откровенны. Не вам дока-
зывать, что механик-водитель должен обладать немалой
физической силой, вести машину и руками и при помощи
ног, в любых условиях ровной и пересеченной местности,
при любой погоде, на марше и в бою. Он должен быть
всегда готовым устранить помехи в работе двигателя.
А если они возникнут в бою?.. И вполне здоровому это
бывает не под силу, тем более инвалиду! А бой не ждет,
атака захлебывается... В тылу, конечно, совсем по-дру-
гому. Трактор или автомашину можно поставить на ре-
монт, укрыть под навесом и даже в помещении, вызвать
ремонтную бригаду.
— Да, это так, но... но я ни разу не подвел в бою.
— Простите за грубость. А вы что, хотели, чтобы это
было, и после всю жизнь казнили себя?! В то же время
вы фронтовик. Посмотрите, кто в тылу водит трактор,
комбайн, автомашину?! Старики, женщины, но чаще все-
го молоденькие девчушки!..
Заряев стал шофером. С утра и до позднего вечера
крутил баранку. Как и на фронте, не жалел себя.
Окончилась война. Десятки тысяч сел, сотни городов
лежали в руинах. И трудовое напряжение не сбавлялось.
Шло освоение целинных и залежных земель Казахстана
и Сибири. Бывший солдат по-прежнему считал себя мо-
билизованным, на этот раз — на трудовом фронте.
Как-то зимой Василий Леонтьевич вез в совхоз семе-
на. Но це на шутку разгулявшаяся метель заставила ос-
тановить трехтонный ЗИС в селе Новошильда. Посту-
чался в первый попавшийся дом. Гостеприимная хозяйка
стала готовить ужин, когда не в меру расшалившийся
118
при постороннем пятилетний Вовка опрокинул самовар
и ошпарился. Нужна была срочная помощь, а до боль-
ницы два километра. Машина не пройдет, одна надеж-
да — пробиться пешком.
— Перестаньте убиваться, Вера Александровна, сле-
зами тут не поможешь. Заверните сына в теплое одея-
ло — и немедленно в путь.
Заряев подхватил мальчонку и шагнул за дверь. Уто-
пая по колено в снегу, боролись они с метелью и моро-
зом. И всего-то два километра, а преодолевали более
часа. Женщина, видя, что постоялец, несмотря на неимо-
верную стужу, обливается потом и тот сразу же замер-
зает на его лице, предлагала несколько раз:
— Василий Леонтьевич, давайте я понесу.
Но Заряев отрицательно мотал головой и шел, заку-
сив нижнюю губу. Временами он останавливался, чтобы
перевести дыхание, и широко раскрытым ртом хватал
морозный воздух.
— Я боялся,— признался потом «железный сер-
жант»,— что, отдав ношу, сам не смогу продолжать из-
нурительный путь в снежной круговерти.
Лишь вернувшись домой, успокоенная спасением сы-
на, хозяйка обратила внимание на то, что постоялец в
ботинках и не проявляет заботы о согревании ног.
— А у меня их нет,— в смущении проговорил он.
— Как — нет?—ужаснулась она.
— Да вот, потерял на фронте, хожу на протезах.
И пришлось Заряеву за злополучным самоваром уже
в который раз рассказывать свою «одиссею»...
По зову сердца Заряев работал и после на различ-
ных ударных стройках. И везде благодарности, премии,
награды. К двум орденам Отечественной войны I и II
степени прибавился орден «Знак Почета». Но из всех
наград, считает сам герой, самая дорогая — медаль «За
победу над Германией».
Слава тем, кто пал в разведке....
Немалую роль в годы Великой Отечественной войны
сыграла разведка — глубокая и близкая, армейская и
партизанская. Среди народных мстителей значительную
часть разведки составляли работники средней и высшей
школы. Так, в Старорусской партизанской бригаде про-
явили себя учителя: два Владимира — Кухарев и Зелен-
цов, Елизавета Базанова, Антонина Кнутова. В глубокой
119
разведке, естественно, больших результатов добивались
девушки, поскольку фашисты первое время на женщин
и детей не обращали особого внимания. Об одной из
них — Лизе Базановой — мне рассказывали многие пар-
тизаны, но толчком к поиску фактов ее биографии по-
служил очерк А. Розена, опубликованный во фронтовой
газете «За Родину!» 8 марта 1942 года.
...Заревом окрасилось чистое августовское небо над
водами седой Ловати, дым расползался по большаку от
Старой Руссы на Парфино. Когда-то шумные, веселые
деревни придавил фашистский кованый сапог. Не уз-
нать и уютного Березицко. Страшная тишина повисла
над полусоженной деревней. Большинство женщин, ста-
риков и детей попрятались в землянки, вырытые на пе-
пелищах. В уцелевших банях ютилось по нескольку се-
мей. Горе сблизило, сроднило людей. Везде, куда ни
глянь, приказы оккупантов, утверждающие «новый поря-
док», под страхом смерти запрещающие выходить из
домов после шести вечера и общаться друг с другом.
И вдруг в деревне появились листовки. Ранним ут-
ром, когда еще спали оккупанты и полицаи, листовки
находили в самых неожиданных местах — под дверями
землянок и бань, на тропках у колодцев. Через некото-
рое время обнаружили такие же цветные четвертушки
бумаги и на немецком языке. В деревнях Заостровье,
Дубки, Гонцы, Лазарицы, на шпалозаводе и фанерной
фабрике появились советские газеты. Вскоре на Пар-
финской Луке взлетел на воздух склад боеприпасов, за-
пылала немецкая пекарня. Полицаи и военная коменда-
тура сбились с ног в поисках виновных. Шли дни, меся-
цы, пришел 1942 год, а листовки и газеты по-прежнему
проникали в деревни.
Но однажды ранним январским утром жители Бере-
зицко увидели, как по улице под охраной трех автомат-
чиков вели девушку и паренька не старше шестнадцати
лет. Конвой останавливался при встрече с жителями се-
ла, и переводчик, сверля глазами каждого, спрашивал:
— Кто это, ты знаешь их? Это партизаны?
С ужасом узнавали люди в избитой, с кровоподтека-
ми на лице, истерзанной пытками девушке свою одно-
сельчанку Лизу Базанову, но никто не назвал ее имени.
В родной деревне не нашлось предателей.
Да, это была Лиза, учительница школы на станции
Мга. Отпуск 1941 года проводила она дома. Помогала
матери по хозяйству, ходила на полевые работы, пела
задушевные русские песни с подружками на берегу ове-
120
Е. И. Базанова,
разведчица 4-й Старорусской
партизанской бригады.
янной легендами Ловати.
Так начиналось и то роко-
вое воскресенье, 22 июня,
когда радио сообщило о
начавшейся войне и прино-
сило каждый час все более
и более тревожные вести.
На другой день рано утром
Лиза ушла в райком ком-
сомола.
— Прошу зачислить ме-
ня добровольцем. Хорошо
знаю немецкий язык.
Ее направили к Семену
Михайловичу Глебову. В
кабинете первого секретаря райкома партии Базанова
увидела начальника РО НКВД К. М. Савина в двух во-
енных. Подробности этого разговора сообщил впослед-
ствии автору этих строк Константин Михайлович Савин:
< — Пожалуйста, садитесь и кратко изложите свою
биографию.
Девушка рассказала.
— А теперь то же самое на немецком языке,— пред-
ложил один из военных.
Лиза без всякого видимого напряжения перевела.
— Где вы так хорошо изучили немецкий?
— Еще в школе увлеклась, а с поступлением в пед-
училище твердо решила учить по-настоящему. Много
читала. Преподаватель немецкого, по-видимому, поверил
в мое увлечение — давал консультации, снабжал нужной
литературой. Когда стала работать в школе, постепенно
собрала небольшую библиотеку.
— Прошу вас через три-четыре дня зайти к това-
рищу Савину и быть готовой к отъезду. Сами понимаете,
мы пока не можем сказать вам более точно.
Лиза вышла, а мы, коротко посовещавшись, твердо
решили — в разведку:».
26 июня Елизавета Ивановна прощалась с родными.
На фотографии, оставленной матери, написала: «Может
быть, оригинал больше не придется видеть, так взгля-
ните хоть иногда на копню». Не думала тогда комсо-
121
молка, что ее фронтовая судьба не раз еще приведет ее
в отчий дом и свой последний час она встретит в родной
деревне.
Прошел месяц. Гитлеровские войска за это время
вышли к побережью Ильменя и повели наступление с
запада и севера на Старую Руссу. Кровопролитные бои
за древний город шли с переменным успехом до 22 авгу-
ста, когда части 180-й, а затем и 202-й стрелковых ди-
визий вынуждены были отойти за Ловать. Командова-
нию нашей 11-й армии крайне нужны были сведения о
противнике. По-видимому, тогда Лиза получила первое
задание и по-детски радовалась этому. Она долго гото-
вилась в опасный путь, изучала маршруты. Глубокой
ночью девушка ушла из леса, где собирались партизаны.
Боевой экзамен был выполнен: она принесла ценней-
шие данные. С тех пор лучше, чем она, никто не выпол-
нял специальных поручений.
Вот как вспоминают о партизанской деятельности
Лизы Базановой люди, близко ее знавшие.
И. И. Грозный, один из основателей Старорусской
партизанской бригады:
— Лиза Базанова неоднократно приходила в дерев-
ню Старый Двор, где стоял наш штаб, и собранные ею
сведения Глебов немедленно передавал в разведотдел
одиннадцатой армии.
— До прихода фашистов я работал на шпалозаво-
де,— свидетельствует житель деревни Заостровье
И. И. Мешков,— был на броне. Когда же не выдержал
и пошел в военкомат, на дороге увидел немцев. Приш-
лось возвращаться в родную деревню. Вскоре ко мне
зашла Лиза. На ее предложение бороться с оккупанта-
ми ответил согласием. Она часто приносила листовки
для населения и фашистских солдат, и я их разбрасы-
вал где только мог.
— Мне не раз доводилось беседовать с Лизой,— го-
ворил в другой нашей беседе Иван Грозный.— В одну
из первых встреч возмущенная девушка спрашивала:
«Что же это такое? Они нас и за людей не считают. В
Старой Руссе на второй день появились виселицы. На
столовых и парикмахерских объявления развесили —
«Только для немцев». При женщинах и детях ругаются
последними словами, тщательно стараясь их по-русски
выговаривать. Под угрозой смерти, как скот, сгоняют
на полевые и оборонительные работы. Запрещают рус-
ские песни, советскую литературу, вплоть до учебни-
ков». Но что я мог ответить тогда? Я и сам немецких
1»
рабочих и крестьян увидел только после Сталинграда и
особенно Курска. А до этого были просто немцы, при-
шедшие к нам за хлебом, салом и рабами. Вы же, на-
верное, слышали,— мрачнел он,— когда наши партиза-
ны в районе Залучья убили обера, в его кармане нашли
неотправленное письмо. «Мы становимся помещиками,—
писал он своей фрау,— приобретаем рабов и делаем с
ними все, что хотим. Смотри снимок». А на нем — порка
крестьян поддорской деревни Борок за невыход на ра-
боту.
Выполняя серьезные задания, Базанова не менее уме-
ло занималась распространением газет и листовок, до-
носила до сердца страждущих под иноземным игом жи-
вое слово большевистского агитатора. Это также грози-
ло смертью, но отважная комсомолка не страшилась.
Ее знали многие, любили, уважали и делали все воз-
можное, чтобы оградить от беды.
В августе патриотке довелось побывать дома.
— Где-то после полуночи послышался осторожный
стук в боковое окно,— вспоминает ее брат Николай Ива-
нович.— Когда открыли дверь, увидели Лизу и с ней не-
сколько наших солдат в плащ-палатках. Оказалось, их
сбросили на парашютах, и сестра при приземлении слег-
ка повредила ногу. Пробыли они недолго, разговаривали
только с мамой в чулане.
Две недели продолжался тогда рейд по вражеским
тылам. Народные мстители прошли свыше двухсот ки-
лометров и взорвали вагоны с фашистскими снарядами.
При личном участии Лизы был уничтожен склад бое-
припасов и сожжена пекарня на Парфинской Луке.
И все же главным в деятельности патриотки была раз-
ведка. Как-то по боевому заданию Базанова пришла в
деревню Кочаново, где располагался крупный гарнизон
гитлеровцев, о котором нужны были подробные сведе-
ния. Она появилась на улице днем и напоролась на ры-
жего ефрейтора.
— Рус, куда? Шнель за мной,— приказал он.
В исключительных случаях девушка не отрицала то-
го, что «мало-мало» понимает язык оккупантов, то есть
не больше того, что изучали в школе. В комендатуре,
узнав об этом, предложили работать в солдатской сто-
ловой. Поняв, что это поможет выполнить задание, она
согласилась. А довольный ефрейтор похлопал ее по пле-
чу и погнал на кухню. Разведчица разделывала овощи,
варила обед, разливала похлебку в котелки и запоми-
нала номера на погонах солдатских мундиров.
123
И вот немецкие солдаты, как обычно, пришли на
завтрак, но почему-то не пылали дрова в печке и котлы
стояли пустые. Русская кухарка исчезла. А через два
дня гранаты народных мстителей разорвали ночную ти-
шину в деревне. Здесь нашел свою смерть и «благоде-
тель» Лизы — рыжий ефрейтор.
— Эпизод в деревне Кочанов© помню хорошо, ибо
мне было поручено уточнить данные, собранные Лизой,
для партизанского налета,— рассказывал легендарный
Михаил Васильевич Левицкий, человек, которому уда-
лось четырежды побывать в оккупированной фашистами
Старой Руссе.
Родина высоко оценила подвиг мужественной девуш-
ки во славу Отечества — ее наградили орденом Красной
Звезды. В этот день впервые за всю суровую фронтовую
жизнь лесные друзья увидели Базанову взволнованной.
Наступил январь 1942 года. Войска Северо-Западного
фронта готовились к боевым операциям по освобожде-
нию Старой Руссы. Одним из основных направлений
был путь через крупный узел вражеской обороны — де-
ревню Юрьево. По показаниям пленных, здесь распола-
гался еще и офицерский дом отдыха. 180-й дивизии пол-
ковника И. И. Миссана было приказано обойти дерев-
ню с тыла и не позже 8 января овладеть ею. Однако
для выполнения этой сложной задачи срочно нужны
были новые разведданные. Командарм В. И. Морозов
обратился к С. М. Глебову.
Базанову вызвали к комбригу. При подходе к штабу
она заметила «виллис».
— Уж не за мной ли?
— Елизавета Ивановна,— сразу приступил к делу
секретарь райкома,— вам необходимо побывать в раз-
ведотделе, машина ждет на улице. Думаю, нет нужды
объяснять, как много для армии, боевая цель кото-
рой — освобождение нашего города,— значит помощь
партизан. Если есть вопросы, причины для отказа — я
слушаю вас.
— Нет, Семен Михайлович. Все ясно, не впервой.
Хотелось бы только знать: когда мы погоним оккупан-
тов и я смогу не таясь пройти по родной деревне?
— Думаю, что очень скоро...
— Об этом разговоре я узнала от Лизы в тот же
день, встретив ее в штабе 11-й армии,— восстанавлива-
ла в памяти эти события в беседе со мной ее подруга
124
по Старорусскому педучилищу и партизанской развед-
ке Антонина Архиповна Кнутова.— Правда, у нас не
было принято перед уходом в тыл расспрашивать друг
друга. Но всегда молчаливая Базанова почему-то в тот
день разговорилась, хотя, естественно, о полученных за-
даниях не проронила ни слова. И вот оказалось, что
эта встреча была последней... Вернувшись из немецкого
тыла, я от начальника разведки нашей бригады Влади-
мира Ивановича Кухарева узнала, что Лиза не верну-
лась. А через несколько дней мы услышали о ее гибели.
Любая смерть трагедия, но эта... в родной деревне...
Базанова получила задание поздним вечером 6 ян-
варя. На сборы ушло не более часа. Она надела паль-
то и любимую белую шаль. Во вражеский тыл ее доста-
вили разведчики Миссана и оставили одну в несколь-
ких километрах от родного Березицко.
А вьюга разгулялась не на шутку, на каждом шагу
приходилось преодолевать сугробы. Но это и было на
руку разведчице. В такую погоду немецкие патрули ча-
ще отогревались в помещении, чем бывали на улице.
Лиза надеялась, что удастся пробраться незамеченной
к матери и через родных получить необходимые сведения
о гарнизоне в соседней деревне Юрьево. Она уже под-
ходила к околице, когда из-за угла крайнего дома вы-
шли две облепленные снегом фигуры с оружием на из-
готовку и послышалось щелканье затворов.
— Хальт!
Не слушая объяснений, доставили в комендатуру.
При свете керосиновой лампы она успела заметить
на рукаве мундира офицера зловеще оскаленный череп
и поняла: на этот раз вряд ли удастся уйти. Угрожая
расстрелом, гестаповец требовал указать путь в парти-
занский отряд, рассказать о задании, которое она полу-
чила, назвать имена тех, к кому шла. Фашист ни на йоту
не верил, что задержанная — беженка и ищет потерян-
ных родных, что она заблудилась и ушла далеко в сто-
рону. На ее лице не видно было никаких признаков уста-
лости.
— Лиза была спортсменкой, зимой любила лыжи,
летом — волейбол. Могла ночь напролет танцевать или
готовиться к зачетам, могла насквозь промокнуть под
дождем или часами жариться на солнце,— говорила мне
Антонина Кнутова.
125
Лиза поняла, что фашист с недоверием смотрит на
ее разрумянившееся от мороза лицо, но продолжала
прямо в глаза смотреть врагу и на вопросы отвечала:
— Не знаю.
— Нет, ты знаешь, ты будешь говорить! — закричал
гестаповец, и тяжелый удар натренированной руки в ко-
жаной перчатке отбросил ее к стене.
Жители Березицко слышали в ту ночь крики, доно-
сившиеся из комендатуры, и, приоткрыв плотно зашто-
ренные окна, видели, как солдаты бегали к колодцу за
водой.
И снова те же вопросы и те же ответы. Наконец по
приказу офицера ее втолкнули в холодный подвал. Звяк-
нул замок, и Лиза осталась одна. Она, уже опытная раз-
ведчица, знала: за появление в прифронтовой полосе без
специального разрешения оккупационных властей по за-
конам «нового порядка» грозила смерть. Особенно угне-
тало то, что попала в руки врага в родной деревне, всего
в нескольких минутах ходьбы от отчего дома.
После допрашивали паренька, схваченного в одну
ночь вместе с нею. И снова крики, снова солдаты бегали
за водой.
— Думаю, что это был Коля Моляров со станции
Кневицы Лычковского района,— рассказывала Кнуто-
ва.— Он ушел на задание в тот же вечер и тоже не вер-
нулся.
К сожалению, доподлинно это установить не уда-
лось.
Утром им сказали, что поведут в Старую Руссу. И
вот Елизавета Ивановна на родной, до боли знакомой
улице. Она увидела школу, где училась, дом, где роди-
лась. Она видела ужас на лицах односельчан, когда их
останавливали и спрашивали, не знают ли арестован-
ных. Лиза заметила Наташу, жену брата. Та было дви-
нулась к ней, но разведчица повела рукой: не подходи,
мол, не признавайся — и быстро прошептала, проходя
мимо:
— Маме не говори, привет Николаю!
Один из конвоиров ткнул в спину автоматом и за-
кричал:
— Шнель, шнель!
Когда Наташа прибежала домой, мать уже знала о
случившемся. Брат бросился было вдогонку, но вскоре
вернулся: что он мог поделать один против вооружен-
ных солдат?
126
«Немцы вывели их за околицу,— писала фронтовая
газета «За Родину!» 8 марта 1942 года.— Ветер по-
прежнему пел свою заунывную песню в телеграфных
проводах, но он не заглушил ни сухого треска выстре-
лов, ни голоса мужественной девушки, которая в послед-
нюю минуту своей жизни крикнула в лицо палачам:
— Все равно вам конец! Через два дня здесь будет
Красная Армия!»
Лиза не ошиблась. Под самые стены Юрьева извест-
ными лишь народным мстителям тропами провели ночью
части 180-й дивизии разведчики Кухарев и Зеленцов —
ее боевые друзья из Старорусской партизанской
бригады.
Ранним утром советские воины штурмом овладели де-
ревней. На другой день фашисты пошли в контратаку,
но, понеся большие потери, отступили. 10 января встре-
чали долгожданных освободителей и родные Лизы.
Много воды с тех пор утекло из Ловати. Но не изгла-
дилось в памяти жителей Березицко имя отважной одно-
сельчанки. Часто звучит оно на пионерских сборах, а в
альбоме юных следопытов бережно хранятся фотогра-
фия и вырезка из газеты Северо-Западного фронта, по-
вествующая о подвигах и гибели славной патриотки —
учительницы Елизаветы Ивановны Базановой.
Глава III
СМЕРТЬЮ ПОПРАВШИЕ СМЕРТЬ
Первый по великому списку
У дороги Москва — Ленинград, на берегу Малого
Волховца, стоит обелиск. Золотыми буквами сияет на
граните надпись: «Стала вечной славой мгновенная
смерть. Панкратов Александр Константинович закрыл
своим телом вражеский пулемет 24 августа 1941 года
в боях за Новгород».
Невдалеке от памятника развалины Кириллова мо-
настыря, у стен которого был совершен этот подвиг —
первый подобный в Великой Отечественной войне.
...После небольшого артналета, с незначительными
силами воздушного прикрытия, 305-я стрелковая диви-
зия московских ополченцев бросилась вперед. Однако
фашисты, многократно превосходящие атакующих в ог-
невой мощи да и в живой силе, парировали удары... На
другой день, 23 августа, на левом фланге пошли в на-
ступление подразделения 28-й дивизии. На участке
125-го полка майора Курова наметился успех: второй ба-
тальон старшего лейтенанта Осадчего стремительной
атакой выбил фашистов с Городища и вышел к желез-
нодорожной насыпи. Но огневой шквал прижал их к
земле.
— Ох и тяжко сейчас нашим! — произнес кто-то ря-
дом с Панкратовым.— И помочь не можем.
«Как это не можем? — мелькнуло в голове политру-
ка.—Самое время теперь ударить, когда фашисты весь
огонь перенесли на второй батальон. Но где же ротный?
Время не ждет».
В тот миг, когда решалась судьба операции, Панкра-
тов закричал: «За Родину! Вперед!» — и выскочил из
траншеи.
128
— Вперед! — подхватил ротный лейтенант Платонов
с другой стороны.
Атака на соседнем участке ошеломила врага. Пока
гитлеровские офицеры переносили огонь и перестраива-
ли свои ряды лицом к противнику, третья рота первого
батальона уже ворвалась в их расположение. Фрицам
ничего не оставалось, как отступить, спасаясь вплавь и
на лодках через Волховец.
— Ну и молодец, Константиныч. Пока я находился
на левом фланге, решая, что предпринять, ты уже сооб-
разил и попал в самую точку.
Между тем солнце закрыли тучи, неожиданно нале-
тел ветер, на Волховце загуляла волна, заморосил
дождь.
— Закрепиться на рубеже,— подал команду лейте-
нант Платонов.— Первому взводу выдвинуться в боевое
охранение поближе к берегу и как можно быстрее око-
паться. Остальным — занять вражеские траншеи, вы-
ставить наблюдателей и отдыхать.
— А может быть, отрыть новые окопы в сторону фри-
цев, командир?
— Нет, политрук, это утомит бойцов, а, судя по
всему, нам скоро снова в бой. Так что давай тоже от-
дохнем.
Не успели расположиться в просторном блиндаже за
церковью, как ротного вызвали к комбату. Вернулся
вскоре.
— Как и думал, получен приказ о продолжении на-
ступления. Перед нами поставлена задача ночью форси-
ровать Волховец и в четыре тридцать, пока фрицы спят,
по сигналу зеленой ракеты атаковать Кириллов мона-
стырь. Справа от нас будет наступать пятьдесят пятый
полк. Итак, еще три часа отдыхать и — за дело. Да, за-
был тебя поздравить — звонил сам комдив Черняхов-
ский и попросил передать за Спас-Нередицу личную бла-
годарность.
В полной тишине выдвигали на прямую наводку ору-
дия, тщательно подгоняли снаряжение, запасались бое-
припасами. Отдельные команды подтягивали к реке, а
где и подносили на себе плоты и лодки.
Когда в третьей роте приготовления были закончены,
политрук Панкратов собрал коммунистов. Он был не-
многословен:
— В нашей роте сейчас семьдесят девять бойцов, не
считая нас с командиром. Мы хорошо дрались за Горо-
дище и Спас-Нередицу. Сегодня будем атаковать Кирил-
5 Зак. № 67 129
А. К. Панкратов,
Герой Советского Союза,
младший политрук
28-й танковой дивизии.
лов монастырь. Надеюсь и
верю, что коммунисты, как
всегда, будут впереди.
А дождь между тем все
моросил и моросил. Бойцы
бесшумно столкнули в воду
лодки, так же бесшумно в
них погрузились. На первой
отправился с солдатами по-
литрук. Командир роты ос-
тался на берегу, ускоряя
переправу.
— Спокойно, без стука
и всплесков!—напомнил
десантникам Панкратов.— Вышел на сушу — ложись,
прислушайся и ползком до ста метров, занимай оборону.
Лодки мягко стукнулись в противоположный илистый
берег. Бойцы один за другим по-пластунски некошеной
осокой стали продвигаться к чернеющим громадам мо-
настыря. А тем временем лодки еще несколько раз пере-
секли Волховец и доставили на остров всю третью роту.
До начала общего наступления оставалось еще пол-
часа. На восточных кромках облаков зарделся робкий
отсвет зари. Но почему-то ничего не было заметно у со-
седа — 55-го полка, с которым предстояло идти на
штурм. Панкратов ждал, ждал с чувством, понятным
лишь тем, кто хоть раз ходил в атаку. Он думал о своей
судьбе и беспокоился за товарищей.
Позади взлетела зеленая ракета. На часах было ров-
но 4.30. Комроты на левом фланге, политрук на правом
вскочили, рванулись вперед.
— За Родину! Ура!!!
— Ура-а-а! — неслось по цепи, поднимающейся в
атаку.
Монастырь и округа озарились частыми вспышками.
К винтовочной трескотне присоединились автоматные
очереди. Появились первые пострадавшие. Выбыл из
строя тяжело раненный командир роты.
— Командование беру на себя! — зычно крикнул
Панкратов.— Вперед!
но
До монастыря оставалось несколько метров. Еще
бросок — и рота ворвется в пределы опорного пункта. Но
тут ударил хорошо замаскированный вражеский пуле-
мет. Под его губительным огнем продвижение замедли-
лось, а затем и вовсе затихло. Бойцы вынуждены были
залечь в хорошо видимой и простреливаемой зоне, на
скате высотки.
Панкратов понимал: еще несколько минут такого
огня и от роты ничего не останется. Пытался стре-
лять — неудобной оказалась позиция. Тогда, прижима-
ясь к росистой траве, переместился ближе, сделал еще
несколько выстрелов. Кончились патроны. Теперь участь
товарищей и итог атаки могла решить лишь «карман-
ная артиллерия».
Лаконично описывается в наградном листе последний
бой верного сына партии и народа. «Левофланговый пу-
лемет противника не давал возможности группе храб-
рецов во главе с Панкратовым войти в расположение
фашистов. Тогда младший политрук вырвался вперед,
бросил гранату и ранил пулеметчика. Пулемет на время
замолчал, но затем снова открыл бешеный огонь. С воз-
гласом «Вперед!» Панкратов бросился на пулемет и сво-
им телом закрыл губительный огонь, дав возможность
своей роте прорваться в пределы монастыря»1.
— Этот громкий возглас ударил в уши бойцов силь-
нее вражеского пулемета,— говорил на встрече с комсо-
мольцами Новгородхимстроя бывший комиссар 28-й ди-
визии А. Л. Банквицер.— Они увидели, как их политрук
бросился на огнедышащий ствол. В первое мгновение да-
же не верилось, что свинцовый ливень прекратился
именно поэтому. Они еще не знали, сражен ли герой или
только ранен, но видели, что пулемет молчит, и, подня-
тые какой-то внутренней силой, бросились на врага.
Храбрейшему из храбрых 16 марта 1942 года было
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Как же пришел он к подвигу, имя которому позднее дал
подвиг Александра Матросова? Если говорить только о
бое 24 августа, то путь к нему был коротким: какие-то
десятки метров. Но если говорить о жизни молодого офи-
цера — ровесника Октября, то дорога к бессмертию на-
чалась еще в родной Вологде.
— Родился Саша десятого марта 1917 года в дерев-
не Абакшино близ Вологды,— рассказывала его сестра
Евстолия Константиновна на встрече с пионерами дру-
‘ ЦАМО, ф. 33, оп, 793756, д. 36, л, 133—134,
131
жины имени Александра Панкратова школы № 8 Нов-
города.— Детей в семье было четверо, он — самый млад-
ший. Жалкий клочок земли не мог прокормить нас, и
отец, сколько помню, все уходил на заработки. После
революции получили хороший участок в деревне Гри-
банове, и отец снова смог заняться хозяйством. Но силы
уже были подорваны, в 1922 году он скончался. В
1925 году Саша пошел в школу, учился прилежно, хотя
ходить приходилось за несколько километров. После се-
милетки поступил в ФЗУ при заводе «Северный комму-
нар», затем стал токарем Вологодского паровозоремонт-
ного завода. Здесь вступил в комсомол, был комсоргом
цеха. Через год его уже назначили сменным мастером.
Александра любили за прилежание, за доброту к людям.
Когда пришло время идти в армию, получил льготу, ибо
на его попечении была мать. Но Саша хотел стать воен-
ным, и мать согласилась.
В голосе рассказчицы послышались дрожащие нотки,
но она продолжала:
— Восьмое октября 1938 года осталось навсегда в
моей памяти. У меня дома устроили прощальный вечер.
У Саши был хороший голос. Особенно нравилась ему
популярная тогда песня «Дан приказ: ему — на запад...».
Пел он ее и в тот вечер, последний. Больше мы его не
видели.
Панкратов поступил в военно-политическое училище
в Гомеле. В апреле 1940 года ему вручили партбилет.
В январе 1941 года в звании младшего политрука при-
был в 202-ю мотострелковую дивизию, стоявшую в Лит-
ве. Войну встретил в Шяуляе политруком роты 125-го
танкового полка. Первое коротенькое письмо отправил
домой на семнадцатый день войны. «Стоим в лесу под
Псковом. Ждем приказа. Немца бьем крепко. Я жив,
здоров».
— В «похоронке», которую получила мама после
смерти Саши, было написано «Алексей Панкратов»,—
продолжала Евстолия Константиновна.— Мы еще надея-
лись: вдруг это не о нем. Но это была всего лишь опис-
ка. Вскоре пришла и Грамота Героя Советского Союза.
Именем Панкратова названы корабль Ленинградско-
го речного пароходства, улицы в Вологде и Новгороде,
здесь же учреждены спортивные призы его имени, рабо-
чие бригады борются за право называться панкратов-
скими.
132
Шагнувшие в бессмертие
«На Волховском фронте в битве за Ленинград был
совершен выдающийся подвиг, не имеющий примера в
истории войн: три воина одновременно бросились на
амбразуры вражеских дзотов, чтобы закрыть их своей
грудью. Это были три коммуниста: сержант И. С. Гера-
сименко, бывший слесарь, красноармейцы А. С. Краси-
лов — до войны председатель колхоза, Л. А. Черемнов —
сельский механизатор. Им было посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза»1.
Герои выросли в крестьянских семьях. Иван Саввич
Герасименко родился в 1913 году в деревне Знаменка
Новомосковского района Днепропетровской области,
Александр Семенович Красилов и Леонтий Артемьевич
Черемнов — в маленькой алтайской деревне Старая Та-
раба. Александр — в 1902-м, Леонтий — в 1913 году1 2.
Красилов был первым председателем созданного в род-
ной деревне колхоза «Трактор», Черемнов — первым
сельским механизатором. Перед войной все трое труди-
лись на строительстве Кузнецкого металлургического
комбината, там и были призваны в армию в сентябре
1941 года.
С маршевой ротой прибыли в Новгород и влились в
первый батальон 299-го полка 225-й стрелковой диви-
зии. Подразделения батальона располагались на зем-
ляном валу, который когда-то был возведен для построй-
ки железной дороги. В нем были прорыты ходы сооб-
щений, устроены гнезда пулеметных и минометных расче-
тов, сооружены блиндажи и землянки.
У самого переднего края разместилось пулеметное
отделение сержанта Герасименко, в его составе были
Черемнов и Красилов. Здесь, под Новгородом, Ивана
Герасименко приняли в члены ленинской партии. В сво-
ем заявлении он писал: «Я обязуюсь выполнять все по-
рученные мне задания и хочу идти на любую операцию
членом партии большевиков». «Я хочу сражаться боль-
шевиком»,— писал Александр Красилов. «Буду с честью
носить это звание»,— заверял коммунистов батальона
Леонтий Черемнов.
С того памятного события прошло всего три дня...
225-я дивизия в то время находилась в активной оборо-
не, вела разведку и бои местного значения. «29 января
1 История КПСС, т. 5, с. 221.
2 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 53, л, 92.
133
И. С. Герасименко,
Герой Советского Союза,
сержант, командир отделения
299-го полка
225-й стрелковой дивизии.
1942 года группе разведчи-
ков под командованием
младшего лейтенанта Нико-
лая Поленского была по-
ставлена задача — перейти
на левый берег Волхова в
районе так называемых «бы-
ков», что были сооружены
для постройки железнодо-
рожного моста, разведать
силы противника в его узле
обороны и, по возможно-
сти, уничтожить огневые
точки. В составе группы
насчитывалось двадцать два бойца» *.
Была глубокая ночь, когда разведчики, вооруженные
противотанковыми гранатами, вышли на выполнение за-
дания. По тонкому льду Волхова шли один за другим,
держась за веревку. Бесшумно сняли часового, граната-
ми забросали блиндажи и метр за метром углублялись
в сторону врага. Все шло по заранее разработанному
плану. Группа действовала дерзко и отважно. Но, когда
гранаты были уже на исходе, с фланга и в упор против-
ник открыл пулеметный огонь с ранее не замеченных,
тщательно замаскированных дзотов. Группе грозила не-
минуемая гибель.
«Мы залегли,— вспоминал на встрече ветеранов ди-
визии в Новгороде в 1974 году участник операции Тро-
фим Лысенко.— Пули не доставали нас. Но так долго
продолжаться не могло. Стоило только приподняться или
отползти чуть в сторону — попадали под губительный
огонь. Выход один — подавить дзоты. А как? И тут мы
увидели: к дзоту, откуда особенно бушевал смертель-
ный ливень, пополз коммунист Иван Герасименко. Он
приблизился к амбразуре и бросился на нее. Без при-
каза, по зову сердца. Пулемет смолк. Увлеченный при-
мером товарища, на второй пулемет бросился Леонтий
1 На Волховском фронте. 1941—1945, с. 79—80,
134
Черемнов. Но не успели мы подняться, как вновь заго-
ворил пулемет, амбразуру которого закрыл Герасимен-
ко. Фашистам удалось столкнуть безжизненное тело ге-
роя. И тут опять без всякой команды на ожившую огне-
вую точку кинулся Александр Красилов. Я услышал по-
следние его слова: «Я не дойду, так другие...», с которы-
ми он накрыл своим телом амбразуру...»1
Потрясенные величием подвига трех коммунистов,
разведчики ринулись на вражеские дзоты. Как было ус-
тановлено через несколько дней из допроса очередного
«языка», 22 советских воина уничтожили 55 фашистских
солдат, взорвали 6 дзотов. Все участники операции бы-
ли отмечены правительственными наградами: командир
Николай Поленский — орденом Ленина, Трофим Лысен-
ко— орденом Красного Знамени... Иван Герасименко,
Леонтий Черемнов, Александр Красилов 21 февраля
1944 года посмертно удостоены звания Героя Советского
Союза и навечно занесены в списки личного состава вто-
рой роты.
«Фронтовая правда», газета Волховского фронта,
6 февраля 1942 года писала: «Товарищ! Запомни их име-
на: Герасименко, Черемнов, Красилов. Пусть в грозный
час сраженья воскреснут перед тобой светлые образы ге-
роев и удесятерят твои силы в борьбе в врагом... Вдох-
новленный подвигом трех отважных, еще стремительнее
-тесни, уничтожай врага, красный воин, приближай ра-
достный час прорыва вражеской блокады Ленинграда!»
О подвиге трех коммунистов на Волховском фронте
рассказали центральные газеты, сообщило Всесоюзное
радио. Емельян Ярославский в статье «Коммунисты в
строю», опубликованной в «Правде», писал: «Так дейст-
вуют верные сыны большевистской партии в Великой
Отечественной войне».
Поэт Николай Тихонов посвятил героям «Балладу о
трех коммунистах». В ней говорится:
И вот сейчас на подвиг пойдут в снегах глухих
Три коммуниста гордых, три брата боевых...
Навстречу смерть им стелется, из амбразур горит,
Но прямо сквозь метелицу идут богатыри...
Имена героев навечно оставлены в списках однопол-
чан, стали священными для них. За отличие при осво-
бождении древнего города 225-й было присвоено почет-
ное наименование — Новгородская. Во время похода на
1 Новгородская правда, 1984, 20 января,
135
Л. А. Черемнов,
Герой Советского Союза,
рядовой 299-го полка
225-й стрелковой дивизии.
Запад на ес знамени за-
сиял орден Кутузова. Диви-
зия участвовала в боях за
освобождение Польши. На-
кануне штурма города Шур-
гаста состоялся короткий
митинг 229-го полка, на ко-
тором после командира пя-
той роты лейтенанта Само-
делкина выступил агитатор
стрелок Сергей Коваленко:
— По примеру героев-
коммунистов Герасименко,
Черемнова, Красилова и
всех мужественных воинов нашего полка я готов вы-
полнить любой приказ.
«1 февраля 1945 года в 14.00 началась артиллерий-
ская подготовка, а через полчаса пятая рота второго ба-
тальона майора Д. И. Поликанова вместе с другими под-
разделениями дивизии пошла в атаку»1. Завязался бой,
заговорил вражеский дзот. Его подавили лейтенант Са-
моделкин с группой бойцов. Однако, когда рота снова
поднялась, заговорил другой, до той поры молчавший.
Ротный приказал пяти воинам во главе с Сергеем Кова-
ленко блокировать его. В неравной схватке четверо бы-
ли ранены, в строю остался один Коваленко. А бой не
ждет. Воин, находившийся ближе всех к огнедышащей
пасти, услышал, как командир роты крикнул: «Пригото-
виться!»
Быстро оценив обстановку, Коваленко понял, что
фронтальный свинцовый ливень срежет еще немало его
боевых друзей, как только они поднимутся. И не дожи-
даясь команды «Вперед!», комсомолец в несколько
прыжков достиг проклятой огневой точки и закрыл сво-
им телом амбразуру. Пулемет замолк, захлебнувшись го-
рячей кровью героя.
— За Коваленко, за нашего агитатора! — раздался
чей-то пронзительный голос, и могучее раскатистое
«Ура-а-а!» было ему ответом.
1 Побратимы Матросова. Минск: Беларусь, 1984, с. 255.
136
Л. С. Красилов,
Герой Совегсиого Союза,
рядовой 299-го полка
225-й стрелковой дивизии.
Славный сын Родины,
комсомолец из города Мо-
гилева Белорусской ССР
Сергей Анисимович Кова-
ленко на берегу Одера по-
вторил бессмертный подвиг
трех коммунистов-однопол-
чан, совершенный на Вол-
хове. Ему посмертно 10 ап-
реля 1945 года было при-
своено звание Героя Совет-
ского Союза.
Свято чтут память от-
важных сынов Родины нов-
городцы. Их именами названы улицы, лучшие производ-
ственные бригады. В день тридцатилетия Великой
Победы на месте подвига был торжественно открыт
памятный мемориал. На полированной гранитной плите
запечатлены бессмертные имена. А рядом на волхов-
ском берегу посажены заботливыми руками новгород-
цев три березки как символ вечной славы героям.
У памятников всегда живые цветы. Сюда приходят
благодарные потомки, чтобы поклониться подвигу геро-
ев, дать клятву на верность Родине.
Двойной таран
1 ноября 1941 года советские войска нанесли контр-
удар в направлении Будогощь — Грузино, на другой
день — в районе Малой Вишеры. Развивая успех, ата-
кующие стремились выйти к Волхову на всем его про-
тяжении. С воздуха обширный театр наступательных
действий, несмотря на сложные метеорологические усло-
вия, прикрывал 513-й истребительный полк. С раннего
утра небо заволокло тучами. Но как только они рассея-
лись, советские летчики поднялись в воздух. После обе-
да часть их была отправлена отдыхать, остальные, в том
числе лейтенант Н. Г. Лескоиоженко, находились н
блиндаже на краю аэродрома, готовые в любую минуту
подняться в воздух.
137
Как обычно, в часы недолгого затишья одних тянуло
расслабиться, других одолевали думы о близких, друзь-
ях, о судьбе фронта. Третьи строчили письма. Лесконо-
женко писать было некуда: родные места находились
под властью оккупантов. «Стонала в тисках «нового по-
рядка» Украина, беспросветная мгла опустилась на се-
ло Новоданиловку Акимовского района, где он родился,
и утопающий в зелени садов и парков Мелитополь, где
они жили» '1.
О чем думал тогда 22-летний отважный воздушный
боец, участник уже второй войны? Возможно, перед мыс-
ленным взором его проходили воспоминания о доме, чет-
верых братьях и сестре, о потере отца и тяжелой доле
матери, растившей их. А еще были в его жизни семилет-
ка, школа ФЗО, работа в паровозном депо, аэроклуб и
первый самостоятельный вылет. С самыми хорошими ре-
комендациями начальства аэроклуба и депо приехал он
в Качинскую школу военных летчиков, успешно окончил
ее в 1938 году и пилотом-истребителем участвовал в вой-
не с белофиннами.
Со времени нападения фашистской Германии, с того
рокового воскресного утра, родной 513-й полк стойко за-
щищал ленинградское небо на ближних и дальних под-
ступах к колыбели революции. Лесконоженко вылетал
в районы Киришей, Будогощи, Чудова, Малой Вишеры...
И надо было видеть, каким неугасимым огнем ненави-
сти нередко зажигались его глаза! Друзья знали, что
гнетет их боевого товарища. Но как только делали по-
пытку отвлечь от мрачных мыслей, в ответ слышали не-
изменное:
— Не беспокойтесь, в бою мною руководит не безрас-
судная ненависть. Врага надо бить трезво, расчетливо,
без особых эмоций.
А хладнокровия Лесконоженко не занимать. Так бы-
ло и 2 ноября 1941 года.
В репродукторе на стене блиндажа раздалась
команда:
— Звено Ключко — на вылет!
Тройка стремительных Як-1 — Ключко, Лесконожен-
ко и Зуева — взмыла в небо. Внизу проплывали знако-
мые очертания лесов, полей, речек, железнодорожных
станций, ощетинившаяся огнем линия фронта, Малая Ви-
шера, занятая фашистами. Темные массы кавалерии дви-
гались на село Александровское — наступала 25-я кав-
1 Новгородская правда, 1969, 10 января,
138
Н. Г. Лесконож«нко,
Герой Советского Союза,
лейтенант, пилот
S13-ro истребительного авиаполка.
дивизия комбрига Н. И.
Гусева, а к деревне Крас-
ная Вишерка подтягивалась
267-я стрелковая дивизия
комбрига Я. Д. Зеленцова.
Вверху — голубое небо
Родины, которое поручено
стеречь. Соколы набирали
высоту. И вдруг сбоку не-
ожиданно появилась боль-
шая группа гитлеровских
самолетов — шесть «юнкер-
сов» в сопровождении ше-
сти «мессеров». Натужно
гудя, бомбардировщики прошли над деревней Папорот-
но и держали курс на маловишерские Селищи, а там
командный пункт 52-й армии генерала Н. К. Клыкова
и место сосредоточения войск. Но двенадцать против
трех! Однако численное преимущество противника не
смутило советских летчиков.
— Атакуем! — подал команду ведущий.
Звено маленьких юрких «яков» стремительно броси-
лось на врагов, нарушило их строй. В разных направ-
лениях чертили воздух пулеметные трассы. Объятые
пламенем, один за другим рухнули вниз два стервятни-
ка. С земли сотни внимательных глаз следили за ходом
воздушного боя. Из блиндажа КП вышел командарм
Клыков.
Воздушный бой скоротечен. Прошли минуты, а у
Лесконоженко кончились боеприпасы. «Мессеры» поли-
вают самолет свинцом. По он жив, верный Як-1, послу-
шен каждому движению руки. Машина Николая выхс-
дит из зоны обстрела, набирает высоту и камнем падает
вниз на бомбардировщики, подлетающие к селу Алек-
сандровскому. Перед глазами хвост одного из «юнкер-
сов». «Як» с каждой секундой приближается к нему.
У советского летчика нет боеприпасов, но можно при-
менить таран. Он молниеносно выбирает единственно
возможную в этих условиях тактику: надо уравнять
скорость своего самолета со скоростью вражеского,
139
взять чуть левее, чтобы обломки неприятельской маши-
ны не задели собственный самолет, и...
Советский летчик мгновенно нанес удар винтом по
хвостовому оперению стервятника. Машина вздрогнула,
но он бросил ее вверх и выровнял. Итак, всего секунда
величайшего напряжения — и к земле пошел вражеский
«юнкере». Его падение сопровождалось взрывом —
сработали бомбы, которые нес он на нашу землю.
Лесконоженко огляделся. Обстановка в небе резко
изменилась: Ключко дерется в одной стороне, Зуев — в
другой. Между тем, взбешенные потерями, его атакова-
ли сразу три «мессера». Пулеметные очереди фашистов
буквально изрешетили самолет. Одна из пуль пролетела
у головы, вторая вонзилась в плечо. По всем уставам,
по всем писаным и неписаным канонам он должен был
оставить поле боя: «...винт деформирован во время та-
рана, скорость и маневренность машины значительно
снизилась, нет боеприпасов... <...> И тем не менее,—
читаем в архивах,— отважный летчик решительно про-
должал бой» Ч
Кажется, невозможно выйти из смертельной зоны,
очерченной пулеметными трассами. Но что это? Один
из «мессеров», думая, что Лесконоженко пошел на ло-
бовой таран, в страхе отвернул и подставил брюхо. От
неожиданности Николай даже нажал на гашетку, за-
быв о пустой ленте. Другой фашист, по-видимому, ре-
шил поближе рассмотреть не сдававшегося в безнадеж-
ной ситуации противника и нагло проскочил мимо. Ле-
сконоженко, вполне вероятно, мог видеть его ухмыля-
ющуюся физиономию.
— Ну нет, теперь-то не уйдешь!
Як-1 взмыл вверх и сел на хвост вражеской машине.
Мгновенный, только что испытанный удар винта, и гит-
леровский самолет камнем пошел вниз. У других, видно,
сдали нервы, и они бросились наутек.
Двойной таран в одном бою! Такого еще не было в
истории советской авиации... А на земле уже с тревогой
следили за поведением отважного сокола. Даже несве-
дущим было ясно, что самолет серьезно поврежден и
плохо слушается пилота. Но не знали они, что не менее
машины пострадал ее водитель. Он даже сумел рассмот-
реть подходящую поляну близ КП 52-й армии, даже
смог сесть и выключить мотор.
Когда, обрадованные таким исходом, восхищенные
1 ЦАМО, ф. 33, оп, 793756, д. 25, л. 450—452.
140
подвигом, к самолету подбежали десятки людей, летчик
без движения сидел в кабине, уткнувшись в доску при-
боров.
— Немедленно в ближайший госпиталь на моей ма-
шине,— распорядился Клыков,— передайте мою личную
просьбу хирургу!
Героя привезли на станцию Красненка. Врачи стара-
лись спасти ему жизнь, переливали кровь непосредствен-
но от доноров-добровольцев, но безуспешно. В тот же
день, 2 ноября 1941 года, летчик скончался, не приходя
в сознание.
Через несколько дней в 52-й армии уже звучала пес-
ня, сложенная неизвестным поэтом о подвиге героя.
Отважный сокол был похоронен в деревне Краснен-
ка, что в двух километрах от одноименной станции, а с
освобождением Малой Вишеры останки перенесли на
местное кладбище и воздвигли обелиск. Его имя было
навечно занесено в списки 513-го полка.
За беспримерный подвиг Николаю Гавриловичу Лес-
коноженко 27 декабря 1941 года посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза. В Малой Вишере есть
улица Лесконоженко, имя героя носит пионерская дру-
жина грядской средней школы Маловишерского района.
С сердцами Данко
История нашей авиации знает не только воздушные
тараны, но и тараны наземных целей, когда на объятом
пламенем или подбитом самолете пилот устремлялся к
земле и уничтожал скопление живой силы и боевой тех-
ники врага. Ныне в этой картотеке необычайного мужест-
ва 503 подобных подвига. Уже 22 июня 1941 года русский
летчик П. С. Чиркин в районе юго-западной границы
направил горящий истребитель на фашистскую танковую
колонну. В последующие дни то же самое сделали еще
три пилота. Однако первым стал известен таран Николая
Гастелло, совершенный 26 июня, поэтому все последую-
щие стали называться «гастелловскими» подвигами.
«Допускаю, что героизм одиночек может быть рож-
ден ослеплением в битве или отчаянием,— подчеркивал
маршал авиации Новиков,— но массовый героизм совет-
ских воинов, свидетелями которого мы были в годы вой-
ны с немецкими фашистами, глубоко осознан и целена-
правлен... О каком ослеплении и отчаянии может идти
речь, когда летчик, имея возможность оставить горящую
141
машину, бросает ее на вражескую колонну или пере-
праву? Какой верой в правоту своего дела, какой лю-
бовью к Родине должен он обладать, чтобы сознатель-
но отважиться на огненный таран!»1
На Волховском фронте в районе Чудова одними из
первых подобный подвиг совершили Иван Черных, Се-
мен Косинов и Назар Губин.
16 декабря 1941 года, вернувшись из воздушной раз-
ведки, лейтенант Владимир Ромашевский доложил ко-
мандиру 125-го ближнебомбардировочного полка майору
Владимиру Александровичу Сандалову:
— У станции Чудово большое скопление вражеских
машин и пехоты. Сверху смотришь — муравейник. От-
личная мишень для удара.
— На уничтожение противника направить экипажи
старшего лейтенанта Солдатова и младшего лейтенанта
Черных! — последовал приказ.
«— И сейчас помню тот день,— вспоминал авиамеха-
ник Антон Борисов.— Как всегда, я был на аэродроме,
проверял готовность Пе-2 к полетам. Подошел Черных.
— Машина в порядке? — спросил командир.
— В полном, товарищ младший лейтенант. Пробои-
ны залатаны, двигатель работает как часы.
— Хорошо, быстро готовьте на вылет, время не ждет.
Топлива — минимум, летим в район Чудова, боеприпа-
сов — максимум»1 2.
В архивах мы нашли документальное свидетельство
об этом бое3.
Самолеты подготовили быстро. Надев парашюты, под-
нялись в кабину комсомольцы летчик Иван Черных,
штурман Семен Косинов и стрелок-радист Назар Губин.
Взревели моторы, две тяжело нагруженные бомбами ма-
шины оторвались от снежного летного поля и взяли бое-
вой курс.
Как всегда, однополчане с нетерпением ждали воз-
вращения своих боевых товарищей. Уже смеркалось, ког-
да послышался гул моторов и вдали появилась темная,
быстро растущая точка. Но только одна. Приземлив-
шись, старший лейтенант Солдатов поведал о геройской
гибели второго экипажа:
— Враг встретил нас яростным огнем зениток. Каза-
лось, все небо кипело от разрывов. Еще при заходе на
цель от прямого попадания пожар охватил одну из плос-
1 Новиков А. А. В небе Ленинграда, с. 79,
2 Новгородская правда, 1987, 9 мая.
3 ЦАМО, ф. 33, оп, 682524, д. 9, л, 56—57,
142
И С- Черны»,
Герой Советского Союза,
младший лейтенант, пилот
125-го бомбардировочного полка.
костей машины Черных.
Пилот начал маневриро-
вать, стремясь сбить пламя.
Но это не удавалось.
Экипаж Солдатова, сбро-
сив на врага смертоносный
груз бомб, продолжал сле-
дить за действиями терпя-
щих бедствие товарищей,
готовый в любой момент
прийти к ним на помощь.
Черных и его друзья, конеч-
но, могли бы еще спастись,
снова набрав высоту и вы-
бросившись на парашютах, или попытаться дотянуть до
своей территории. Внезапно бомбардировщик сделал
поворот, вышел точно по осн на длинную колонну вра-
жеских танков и автомашин с пехотой, вытянувшуюся
вдоль дороги, и, как громадный горящий факел, ринул-
ся вниз. Гитлеровцы, оравшие от восторга при виде
подбитого самолета, вдруг поняли, что он идет на них.
Ужас и паника охватили фашистов.
— Отчетливо было видно,— продолжал рассказ оче-
видец,— как одна за другой смертоносными каплями от
пылающего самолета отрывались бомбы. Они падали на
головы гитлеровцев, их технику, разнося вдребезги ма-
шины. Свинцовые струи пулеметного огня косили враже-
скую пехоту.
Несмотря на кризисную ситуацию, слаженно дейст-
вовал весь экипаж. Штурман сбрасывал бомбы, стрелок-
радист безумолчно орудовал пулеметом, пилот твердой
рукой вел пылающую машину.
Сброшен весь запас бомб, израсходованы патроны.
Огонь все ближе и ближе подбирался к героям, но они
не сделали попытки покинуть самолет или посадить его
где-нибудь в стороне. Они решили использовать еще
одно средство — единственное и последнее...
Черных повернул пылающий самолет к другой вра-
жеской колонне. Огненный, с огромным черным шлей-
фом дыма, советский бомбардировщик нацелился в са-
мую гущу объятых ужасом фашистов.
143
К этому стремились
С. К. Косинов,
Герой Советского Союза,
лейтенант, штурман
125-го бомбардировочного полка.
Выслушав горестное из-
вестие, боевые друзья
вспомнили, как всего не-
сколько дней назад на ком-
сомольском собрании коман-
дир героического экипажа
звонким молодым голосом
сказал:
— Моя Родина — роди-
на мужества, смелости и
революционной отваги.
Быть ее сыном — значит об-
ладать лучшими качества-
ми, которыми наделен чело-
век. И я неустанно к этому
стремлюсь.
и его боевые друзья-комсо-
мольцы.
Иван Сергеевич Черных родился в 1918 году в де-
ревне Петухи Советского района Кировской области. В
детском возрасте с родителями переехал в Томск.
Отец — партизан гражданской войны — погиб смертью
героя в борьбе с белогвардейцами. После окончания
ФЗУ Черных работал слесарем на Киселевском маши-
ностроительном заводе. Затем по путевке комсомола
уехал в Новосибирскую военно-авиационную школу.
С первых дней Великой Отечественной войны млад-
ший лейтенант на фронтах: вначале на Западном, затем
на Ленинградском. Накануне 24-й годовщины Великого
Октября вместе с шестью другими экипажами отличил-
ся в разгроме фашистского аэродрома. К медали «За от-
вагу» добавился орден Красного Знамени. Героический
вылет 16 декабря был последним. У его матери, Марин
Никитичны, сохранилось письмо от 19 июля 1941 года.
Иван писал в нем: «Знай, мама, твой сын оправдает до-
верие советского народа. Он бил и будет бить фашистов
так, как сможет и насколько у него хватит сил в возду-
хе, а если придется, и на земле, до последнего патрона».
Лейтенант Семен Кириллович Косинов родился в
1917 году в селе Белое Тимского района Курской обла-
«44
Н. П. Губин,
Герой Советского Союза,
сержант, стрелок-радист
2125-го бомбардировочного полка.
сти. Работал в колхозе.
Окончил тамбовское военно-
пехотное, а затем и Харь-
ковское военно-авиационное
училище. «За время войны
совершил 61 боевой вылет.
Несмотря на противодей-
ствие зенитной артиллерии
и истребителей, бомбы все-
гда сбрасывал на цели» *.
Сержант Назар Петро-
вич Губин родился в 1918
году в селе Зоргол Приар-
гунского района Читинской области. После ФЗУ рабо-
тал запальщиком-взрывником на Черновских угольных
копях под Читой. В 1939 году был призван в армию.
Великая Отечественная война заслала его оружейником
па аэродроме. Назар считал себя обойденным судьбой:
все летают, бьют фашистов, а он — на земле, в тылу. И
не радовали парня даже те минуты, когда после полетов
хвалили его за исправную работу пушек и пулеметов. В
свободное время изучал радиотехнику, выучился на
стрелка-радиста. Когда в экипаже Черных был ранен
радист Бурашников, командир подошел к нему:
— Ну как, все премудрости изучил? Тогда давай к
нам.
Его пример способствовал овладению второй специ-
альностью в части.
«Губин успел совершить всего пять боевых вылетов,
ио навечно вошел в историю своего полка»2.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
16 января 1942 года И. С. Черных, С. К. Косинову и
Н. П. Губину посмертно присвоено звание Героев Совет-
~МДАМО. ф. 33, 793756, д. 23. л. 325.
! Герои Советского Союза Краткий биографический словарь.
Т. 1. М.: Воениздат, 1987, с. 386.
145
ского Союза. В Чудове на месте их гибели установлен
памятник. Их имена навечно занесены в списки полка,
присвоены трем теплоходам, построенным на Ленинград-
ской судоверфи. В городе на Неве есть улицы, носящие
имя героев. А на Забайкальском руднике, где Губин ра-
ботал до войны, его фамилия значится в списке почет-
ных шахтеров. Так герой остался и воином, и горняком.
Полмига
Комсомольцами цеха карбамида Новгородского про-
изводственного объединения «Азот» навечно зачислен в
свой коллектив Иван Бурмистров, их отважный зем-
ляк, погибший в родных местах. На шоссе Чудово — Нов-
город, там, где до войны находилась небольшая дере-
венька Любцы, поставили комсомольцы обелиск. На его
широкой грани, обращенной к дороге, слова: «На этом
месте 30. IX. 43 г. пал смертью храбрых новгородский
комсомолец Бурмистров Иван. Вечная слава герою!»
Он родился в деревне Локоток, расположенной на
живописном берегу Меты. Был старшим в многодетной
семье кузнеца, уважаемого труженика колхоза «Наше
дело». Необходимое на селе ремесло он передал и че-
тырем сыновьям. Незадолго до войны отец умер, и на
неокрепшие плечи Ивана легли заботы о младших. В
июне 1941 года 17-летнего юношу поставили бригадиром
вместо ушедшего на фронт соседа. А хмурым ноябрь-
ским днем пришла и ему повестка. Иван Иванович Бур-
мистров стал солдатом — пулеметчиком 1247-го полка
377-й стрелковой дивизии. Как он воевал, рассказывали
однополчане — командиры рот А. Булеков и В. Рожков,
командиры взводов И. Секачев и Б. Куликов во время
приезда в Новгород на встречу ветеранов дивизии, в
своих письмах в «Новгородскую правду».
Бурмистров уже в первом бою проявил мужество и
стойкость. Не дрогнул, когда группа вражеских авто-
матчиков бросилась на пулемет. Пустил в ход гранаты...
В одном из ожесточенных боев у Мясного Бора в июне
1942 года Иван метким огнем подавил вражескую огне-
вую точку и сорвал попытку гитлеровцев обойти наш ба-
тальон с фланга.
Храбрый пулеметчик был дважды ранен, но оба ра-
за не покидал поле боя. Заслуги Бурмистрова неодно-
кратно отмечались благодарностями командира полка
майора А. К. Карпова. Ему сразу же присвоили звание
146
И. И. Бурмистров,
старший сержант 1247-го полка
377-й стрелковой дивизии.
сержанта, а затем старше-
го сержанта, наградили ме-
далью «За отвагу». Весной
1943 года Ивана приняли
кандидатом в члены партии.
Вскоре он был снова ранен,
на этот раз серьезно.
Бурмистров покинул гос-
питаль 29 сентября. Неза-
долго до выписки получил
горестное сообщение из род-
ной деревни о смерти мате-
ри. Младших братьев отда-
ли в детский дом, а сестру
взяла на воспитание даль-
няя родственница. В карма-
не старшего сержанта лежал отпускной билет на десять
дней. Что было дальше — узнаем из воспоминаний
И. Л. Секачева, в то время старшины, командира взвода,
побывавшего в Новгороде на встрече ветеранов дивизии
в январе 1968 года.
Сходя со ступенек и щурясь на еще яркое солнце,
Иван неожиданно услышал:
— Что, тезка, уже в строй, не дают залеживаться
или сам напросился?
— Да вот,— как бы извиняясь, ответил Бурмистров,—
не выписывали, пока совсем не затянется.
— Так что же в справке написали?
— Можешь посмотреть.
Секачев быстро пробежал свидетельство о ранении и
задержался на последней фразе: «Для окончательной
поправки здоровья отпущен домой на десять суток, не
считая дороги*.
— А где у тебя родные?
Бурмистров рассказал.
— Ну вот, и никаких больше расспросов. Поезжай
немедленно, попутную машину найдешь запросто. Я, к
сожалению, не могу тебя подбросить — приехал со стар-
шиной боепитания и должен вернуться в назначенное
время.
147
— Да можешь ты, в конце концов, объяснить по ста-
рой дружбе, что там у нас затевается?
И так умоляюще солдат посмотрел на боевого дру-
га, что тот не выдержал и рассказал о предстоящей опе-
рации. Бурмистров решительно подхватил опущенный
во время разговора на землю вещмешок, забросил за
спину.
— Где наша машина?
Секачев попытался отговорить, взывал к родствен-
ным чувствам и даже пригрозил пойти пожаловаться на-
чальнику госпиталя,
— С сегодняшнего утра врачи уже не командуют
мною. А с братьями я повидаюсь сразу же после опе-
рации. Они не где-нибудь, а в надежном месте.
Поздней ночью саперы бесшумно проделали проход
в проволочном заграждении противника на стыке двух
вражеских батальонов. Так же бесшумно сюда через бо-
лотистую пойму реки Питьбы скрытно подтянулись под-
разделения второго батальона 1247-го полка. Предстоя-
ло провести разведку боем в направлении деревни Люб-
цы близ Мясного Бора, вскрыть систему обороны и огня
гитлеровцев.
По сигналу двух красных ракет бойцы бросились в
атаку. Как всегда, впереди оказался Иван Бурмистров.
Старший сержант первым достиг неприятельской тран-
шеи и, стреляя из ручного пулемета на ходу, быстро про-
двигался, увлекая за собой других.
Преодолев шоссе и железную дорогу, советские вои-
ны углубились в расположение вражеской обороны. По
пути разгромили фашистский штаб батальона, взяли
ценные документы, выявили нужные сведения о против-
нике. Наблюдатели с переднего края засекли огонь ар-
тиллерийских и минометных батарей неприятеля. Зада-
ние было выполнено. Поступило распоряжение о возвра-
щении.
— Нашему взводу было приказано прикрыть отход
батальона,— вспоминал старшина И. А. Секачев.— Ос-
тался с нами и Бурмистров со своим отделением. Когда
гитлеровцы после минометного налета двинулись густы-
ми цепями в контратаку, Иван хладнокровно, не торо-
пясь, длинной очередью снайперски ударил по врагу.
Фашисты залегли. Батальон быстро преодолел насыпь
железной дороги, вышел на открытую поляну, и здесь,
у самого шоссе, неожиданно ожил вражеский дзот. Ока-
зывается, немецкому подкреплению из Подберезья уда-
лось смять боевое охранение и захватить его. Гитлеров-
148
цы втащили туда пулемет и встретили отходивших со-
ветских бойцов губительным фронтальным огнем. Ба-
тальон вынужден был залечь, его ряды редели.
Бурмистров находился недалеко от огнедышащей
амбразуры и дал по ней длинную очередь. Но безрезуль-
татно: слишком невыгодной оказалась позиция. А кру-
гом ровная болотистая местность, и на ней прижатые к
земле бойцы.
— Эх, если бы добраться до канавы,— проговорил
кто-то из лежащих,— да по ней до самого дзота...
— Тогда-то их запросто достать можно,— поддержал
другой.— Но как достичь ее под таким огнем?!
— Эти ли слова дошли до сознания Бурмистрова, или
он сам пришел к такому выводу,— свидетельствует Се-
качев,— но старший сержант, передав пулемет соседу,
взял в руки две гранаты, в том числе противотанковую,
а напарнику приказал: «Продолжай бить короткими
очередями по амбразуре, отвлекая на себя!»
Прикрываясь редким кустарником и вжимаясь в бо-
лотную грязь, отважный воин полз до канавы, тянувшей-
ся вдоль шоссе. Одна мысль владела его сознанием —•
успеть добраться до пулемета, сеявшего смерть, спасти
товарищей. Незаметно для врага приблизившись по ка-
наве к дзоту, он вскочил, рывком открыл дверь и бро-
сил внутрь не обычную ручную гранату РГД, а — для
верности — противотанковую. О своей жизни он тогда не
думал.
— Нам показалось, что какая-то исполинская рука
приподняла дзот, грянул взрыв и проклятая огневая точ-
ка сравнялась с землей,— продолжал Секачев.— Путь
для батальона был открыт. Но погиб и наш отважный
новгородец. И если не знать, что Павел Шубин опубли-
ковал стихи «Полмига» в августе, то с полной уверенно-
стью можно бы было утверждать, что они написаны на
подвиг Бурмистрова:
Нет,
Не до седин,
Не до славы
Я век свой хотел бы продлить,
Мне б только до той вон канавы
Полмига, полшага прожить.
Мне б только
Вот эту гранату,
Злорадно поставив на взвод,
Всадить ее,
Врезать как надо
В четырежды проклятый дзот.
Чтоб стало в нем пусто и тихо,
149
Чтоб пылью осел он в траву!
...Прожить бы мне эти полмига,
А там я сто лет проживу!
Узнав о героической смерти брата, Леонид явился в
военкомат и добился досрочной отправки на фронт. От
стен родного Новгорода дошел до Пруссии. Доброволь-
цем вступила в армию и сестра Зоя, закончила боевой
путь старшиной медицинской службы.
«Сам погибай, а товарища выручай»
Кто из ветеранов войны не знает этого неписаного
закона! Он выполнялся неукоснительно в любом подраз-
делении нашей армии. Выполнялся и по приказу непо-
средственного командира, и по долгу патриота, и по со-
вести коммуниста или комсомольца, и просто по соб-
ственному решению, которое принимал воин сам, без
всякого внешнего воздействия, в сложившейся чрезвы-
чайной ситуации. В таких условиях «20 июля 1943 го-
да,— находим в архивных документах,— во время вы-
полнения боевой операции по захвату сильно укреплен-
ного опорного пункта противника — деревни Михалкино
Старорусского района ефрейтор 58-го отдельного сапер-
ного батальона 37-й стрелковой дивизии Бова Ефим Ер-
молаевич совершил героический подвиг, пожертвовав
своей жизнью во имя выполнения боевой задачи и спа-
сения жизни раненых товарищей»1.
В армии важны все профессии, все специальности,
но, как бывший фронтовик, помню — особое восхищение
вызывала работа саперов: возведение переправ, расчи-
щение путей перед танками, обеспечение ночного выхо-
да разведчиков, обезвреживание поля предстоящей ата-
ки. Обезвреживание! А когда заминирован каждый метр
и пристрелян каждый клочок многострадальной земли,
работа саперов не просто подвиг, а всегда — игра со
смертью. Мины же были противотанковые и противопе-
хотные, осколочные и фугасные, нажимного и натяжного
действия, неизвлекаемые и необезвреживаемые. Были и
особые — с сюрпризами, специально устанавливаемые
для наших саперов. И со всеми справлялись они. Не зря
утверждала поговорка армейская: «Сапер ошибается
один раз!»
Находясь на фронте с декабря 1941 года, Ефим Бова
1 ЦАМО, ф. 33, оп, 793756, д. 6, л. 66.
150
являлся образцом воина инженерных частей Красной
Армии. «Только выполняя заградительные мероприя-
тия,— читаем в том же документе,— он установил свыше
трех с половиной тысяч мин. И это нередко под огнем
противника»1. Солдатскую грудь украшали медаль «За
отвагу» и знаки «Отличный минер» и «Отличный са-
пер».
В марте 1943 года, во время очередной попытки ос-
вобождения Старой Руссы, дивизия получила приказ
форсировать Ловать. Саперному батальону предстояло
навести переправу в одной из излучин реки, в районе
Рамушева. Выполнение осложнялось не только близо-
стью переднего края, но и тем, что эту трудоемкую ра-
боту надо было совершить после двадцатикилометрового
марша и при 18-градусном морозе.
Солнце уже близилось к зениту, когда батальон вы-
шел в указанный район. Но в результате недавних боев
и налета вражеской авиации лед на значительном про-
тяжении был взорван, разломан, раскидан. На поиски
нового места, на согласование со штабами времени не
было.
— Приступить к работам! — последовала команда.
Бова первым вошел в ледяную воду, и, следуя его
примеру, за ним последовали остальные, невзирая на
мучительный холод. За четыре часа переправа была на-
ведена.
В боевых операциях начала мая Бова, выполнив свои
задачи в группе саперов-разградителей, не оставлял поле
боя и сражался в рядах пехоты. С группой в четырна-
дцать человек однажды смогли удержать отвоеванный у
противника рубеж, отбить четыре яростные контратаки.
Ефрейтор уничтожил восемнадцать вражеских солдат и
офицеров.
20 июля 1943 года 37-я дивизия продолжала бои по
овладению Михалкином. Бова, как обычно, мастерски,
незаметно для врага, проделал проходы в минных полях
противника и вывел стрелковый взвод скрытно на исход-
ный рубеж атаки. Задача выполнена, солдат имел полное
право отойти в тыл, но и на этот раз он остался в бое-
вых порядках. И когда по цепи пронеслась команда:
«В атаку! Вперед!» — он поднялся одним из первых и
бросился на противника.
Вот и вражеская траншея. Перед Ефимом до десятка
метнувшихся в сторону гитлеровцев. Отважный сапер
1 ЦАМО, ф. 33, оп. 793756, д. 6, л. 66,
1S1
Е. Е. Бова,
Герой Советского Союза,
ефрейтор отдельного саперного
батальона 37-й стрелковой
дивизии.
сверху ударил из верного
автомата, и по крайней ме-
ре половина фашистов за-
стыла на месте. Остальные
все же пытались скрыться
за поворотом траншеи. Бо-
ва выхватил гранату, упал
на землю и, приподняв-
шись, метко бросил ее. В
момент броска почувство-
вал, как что-то горячее по-
лоснуло по боку, но особой
боли не ощутил. Там же,
где упала граната, никако-
го движения. Л бой кругом разгорался все сильнее.
Осмотревшись, Ефим увидел невдалеке нескольких на-
ших бойцов, бьющихся с превосходящей их группой
фашистов, и поспешил на помощь.
— Бей гадов!
Часть вражеских солдат повернулась в его сторону,
но, не успев открыть прицельного огня, была сражена
автоматной очередью. Через какую-то минуту было по-
кончено и с остальными. Бой подходил к концу и на со-
седних участках.
Стоило Бове расслабиться, как он почувствовал, что
ранен вполне серьезно, гимнастерка сбоку пропиталась
кровью. Пришлось срочно перевязываться.
— Спасибо, Ефим, за помощь — поблагодарил взвод-
ный,— а сейчас — в медпункт. С тобой еще четверо лег-
кораненых.
Раненые отошли к Редье, спустились к реке и двину-
лись вдоль берега к переправе. Шли у самой воды, где
уже была протоптана довольно широкая дорожка, а че-
рез ямки и воронки еще фрицами были проложены мо-
стики. Удобство этой дороги состояло в том, что она
пролегала под почти отвесным высоким левым берегом
Редьи и была вполне безопасной от обстрела. Лишь там,
где река делала крутые изгибы, небольшие участки ле-
вого берега становились открытыми, и противник из
опорных пунктов Сычево и Михалкине обстреливал их.
152
Еще не остыв от горячего боя, раненые оживленно
разговаривали, не предполагая, что на этом участке враг
не был выбит со своих позиций. Бойцы не заметили, как
почти вплотную подошли к блиндажам, врытым в берег.
Более десятка фрицев выскочило из них.
— Рус, сдавайся!
Один из немцев дал очередь по ногам. Бова, идущий
впереди, упал. Попадали и остальные, выхватывая ору-
жие.
— Бросайтесь в воду и — на тот берег, мне оставьте
гранаты. Быстрее!
Ефим прошелся огнем по фашистам, отвлекая их.
Бойцы, понимая, на что он решился, со словами «Прости,
друг» кинулись к воде. Экономя патроны, он бил корот-
кими очередями, а когда убедился, что товарищи в безо-
пасности, прекратил стрельбу. Поняли это и фрицы и,
не слыша больше выстрелов, метнулись вперед, на Бову.
Истекающий кровью солдат бросил одну за другой три
гранаты. У четвертой выдернул чеку и зажал в руке...
Наступила тишина. Зная наверняка, что эти минуты по-
следние в его жизни, Бова невольно вспомнил многое.
В разрозненных видениях мелькнули родной украинский
хутор Поповка Старобельского района Харьковской об-
ласти и дорогой сердцу Коношский район Архангельской
области, где отец его Ермолай Константинович работал
на железной дороге и семья жила в поселке на десятом
километре по Вельской ветке... И холмы, покрытые ело-
во-сосновыми лесами, и, как в здешнем Старорусском
крае, обилие озер и болот.
Между тем вражеское кольцо вокруг отважного вои-
на продолжало сжиматься. Наконец, объяснив себе мол-
чание советского солдата полным отсутствием боепри-
пасов, фашисты бросились к нему. Раздался взрыв.
Когда на помощь герою пришли товарищи, услышав-
шие шум боя, они нашли Бову мертвым. Одиннадцать
вражеских трупов свидетельствовали о поединке.
4 июня 1944 года Ефиму Ермолаевичу Бове было
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
В день рождения в атаку не брали
Ранним утром 11 апреля 1942 года призывники со-
брались у конторы лесного участка, где уже стояли го-
товые тронуться в путь подводы. Все, кто только мог в
Никулине, вышли их провожать, шли рядом у телег, гло-
153
тали дорожную пыль. Женщины постепенно отставали.
Лишь Анастасия Межова все шла и шла.
— Ну ладно, прощай, Миша! — наконец выдохнула
она.
И тут у мужа невольно вырвались слова, которые не
мог после простить себе:
— Прощай, Настя! Не увидеться нам больше. Отту-
да не все возвращаются.
— Что ты, что ты,— чуть слышно сказала она и, сой-
дя с дороги, пала ничком на талую еще землю.
Когда отстали последние провожающие, ездовые дер-
нули вожжи и лошади пошли все быстрее и быстрее.
Призывники сидели спиной к ним, лицом к исчезающей
за увалом деревне.
В запасном полку не пробыли и месяца. Изучали ус-
тавы и наставления Красной Армии, занимались строе-
вой подготовкой, тренировались в преодолении полосы
препятствий, овладевали «азами» рукопашного боя.
Стреляли очень мало — берегли патроны. В начале мая
приняли присягу и — на фронт.
Воинские эшелоны шли безостановочно. Миновали
Новосибирск, Омск, Тюмень, Киров, Ярославль... В Бо-
логом впервые увидели разрушенные станционные по-
стройки и железнодорожные пути. И окончательно по-
верили «солдатскому телефону» — на Северо-Западный
фронт, где шли ожесточенные бои с 16-й фашистской ар-
мией, значительные силы которой упорно цеплялись за
демянский плацдарм.
Ночью продвинулись еще на тридцать с лишним ки-
лометров. Перед рассветом послышалась команда:
— Повзводно в две шеренги становись!
Когда в полутьме наконец разобрались, тот же голос
крикнул:
— Слушайте полкового комиссара Василия Дмитри-
евича Шабанова!
— Товарищи красноармейцы! Вы прибыли на Севе-
ро-Западный фронт и вливаетесь в состав двадцать ше-
стой стрелковой дивизии, созданной еще в годы граж-
данской войны. С тех суровых и славных дней у нас со-
хранились почетные наименования: дивизии — Златоус-
товская, полков — Казанский, Карельский, Новгород-
ский. И командование надеется, что вы не уроните на-
шу славу. Но война — тяжелейшее испытание, требую-
щее максимального напряжения всех физических и ду-
ховных сил. Будьте готовы и к потере боевых друзей...
Голос комиссара дрогнул. Да, нелегко и на фронте
154
говорить о смерти, хотя она поджидает каждого и на
каждом шагу. Старый большевик справился с волнени-
ем и еще более горячо продолжал:
— Но советский воин должен биться так, чтобы в
могилу ушел враг, а не он. А уж если придется умирать,
так умирать героем. И таких героев немало в нашей ди-
визии. Один из них — Николай Сосновский. В тяжелую
минуту боя он пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти
десятки боевых друзей, идущих в атаку.
Межов почти не слышал то, что дальше говорил ко-
миссар дивизии. Его, еще не обстрелянного, поразила
суровая прямота речи. Он понял глубокую истину слов
популярной песни:
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти четыре шага.
— И правда, каких-то четыре шага...
— Вы что-то сказали, товарищ? — услышал приглу-
шенный голос.
Межов обернулся — сзади стоял политрук.
— Нет, ничего, просто задумался.
— Я понимаю вас, прибывших из глубокого тыла.
Но ничего, через какой-нибудь месяц пообвыкнете, бу-
дете настоящим фронтовиком. Это я вам обещаю, я,
ваш командир роты политрук Клусов.
И не ведали ни тот, ни другой, что имя сибиряка, как
и Николая Сосновского, вскоре войдет в историю не
только их роты, но дивизии и армии.
Начались фронтовые будни. 26-я, значительно поре-
девшая в боях, находилась во втором эшелоне на пере-
формировании. Межов невольно обратил внимание, что
их, новичков, ежедневно, если не ежечасно, тренирова-
ли, учили немудреной на первый взгляд солдатской аз-
буке вместе с закаленными бойцами, не раз побывавши-
ми в бою. Но когда после очередной строевой подго-
товки один из «стариков» обронил: «А это-то к чему?», а
другой поддержал, Межов полушутя-полусерьезно ска-
зал:
— Вы что, разве не смотрели фильм «Суворов», где
великий полководец внушал солдатам: «Тяжело в уче-
нии — легко в бою»?
— Так-то оно так,— сразу согласился первый, а вто-
рой дополнил:
— Да ты, я вижу, агитатор!
Впервые подобную характеристику Межов услышал
в родном, теперь далеком, леспромхозе Томской обла-
155
сти незадолго до начала войны. Воспитанный в кресть-
янской трудовой семье, Михаил Васильевич не только
сам привык все делать должным образом, но призывал
к этому других.
В короткие часы передышки бойцы писали письма,
сидели группами и в одиночку или просто, заложив руки
за голову, полулежали на прогретой июльским солнцем
траве. Небо было высоким и чистым, и только кое-где
набегали и тут же спешили умчаться кудрявые барашки
легких облаков. Если они плыли с востока, Межов при-
ветствовал их как родных, если на восток — мысленно
посылал приветы жене и детям. Тяжело становилось на
душе, когда смотрел он на землю, заброшенную, тоскую-
щую, буйно родившую лишь чертополох.
Во втором эшелоне дивизия пробыла немногим более
недели, а затем снова атаковала «рамушевский кори-
дор».
17 июля начали бой за овладение дорогой Гридино —
Залучье. Под деревней Борисово (Язвы) на рощу «Фи-
гурная» наступала рота Клусова. Она уже дважды под-
нималась в атаку, и оба раза на левом фланге обороны
врага оживал дзот, пулеметным огнем прижимая наших
солдат к земле... Но долго лежать нельзя: гитлеровцы
могли в любой момент подключить артиллерию и мино-
меты. Как развивался бой — читаем во фронтовой га-
зете:
«Прошло несколько томительных минут. Политрук
еще не успел принять решение, как от группы стрелков
отделился боец и, ловко прижимаясь к земле, пополз
вперед. Он двигался в густой траве к огнедышащей амб-
разуре, стараясь попасть в непоражаемое пространство.
— Левее, левее, Межов! — кричали ему вслед из за-
легшей цепи, обрушивая огонь на дзот, чтобы ослепить
его, отвлечь от подбирающегося к нему воина.
Через двадцать минут отважный стрелок почти вплот-
ную приблизился к дзоту... А пулемет бил и бил корот-
кими очередями, посылая смерть... Межов чуть повер-
нулся на бок, быстро сдвинул предохранительную чеку,
занес гранату в руке и швырнул в амбразуру... Взрыв,
мертвая тишина... Обернувшись, смельчак увидел, как
поднимаются бойцы родной роты.
— Вперед, вперед! — кричал политрук, а его уже об-
гоняли с обеих сторон.
Атакующие были на полпути, когда амбразура «за-
лаяла» снова, и свинцовые пули прошили их насквозь.
То ли пулеметчики были лишь оглушены и очнулись,
156
М. В. Межов,
красноармеец Казанского полка
26-й Златоустовской дивизии.
то ли их место занял новый
расчет... На открытой поля-
не плясала сама смерть из
пуль и вспахиваемой ими
земли. Это было так неожи-
данно, что Межов растерял-
ся. Гранат больше не было,
из винтовки стрелять бес-
полезно: боец лежал под
углом к амбразуре. И мед-
лить нельзя... Правда,
смерть меньше всего угро-
жала ему — Михаилу Ме-
жову: он находился в не-
простреливаемой, «мертвой»
зоне. Однако к пулемету был намного ближе других...»1
Как он считал, как решал — никто не расскажет. .Мо-
жет быть, вспомнил, что ему сегодня исполнилось сорок
лет и в мирное время он отметил бы юбилей отдыхом,
встречей с друзьями за семейным ужином. Может быть,
перед ним снова отчетливо встал образ комсомольца
Николая Сосновского из соседнего Новгородского полка,
о котором услышал в первый день пребывания в диви-
зии. А бой не ждет, снова слышится команда политрука
Клусова:
— Вперед! Ура-а-а!
И в это мгновение атакующие увидели, как Межов
оторвался от земли, обернулся к ним, что-то крикнул н
бросился к амбразуре. Пробитый сразу десятком пуль,
упал на дуло пулемета и, казалось, «задушил» его.
В едином порыве рота бросилась вперед, сметая гит-
леровцев.
Вот и все о подвиге. Если говорить только об этом,
то дорога к нему была короткой — меньше двухсот мет-
ров. Но если говорить о жизни солдата, то дорога к бес-
смертию началась еще в сибирской деревне Межово, где
родился герой. Она шла через сотни городов и тысячи
сел, охваченных всенародным гневом. Да, можно изме-
рить силу тока, движения, ветра. Но нет единицы изме-
1 За Родину!, 1942, 23 июля.
157
рения, которая могла бы определить силу праведного
гнева, накопившегося в сердце Михаила Васильевича с
яркого июньского дня 1941 года.
Когда весть о его подвиге достигла командира полка
майора И. М. Саксеева, тот сразу же доложил комдиву.
«До сих пор держится в памяти звонок командира
Казанского полка,— писал генерал-лейтенант Г. П. Куз-
нецов следопытам новосельской школы Новгородской
области.— С одной стороны, гордость за солдата, кото-
рый совершил бессмертный подвиг, с другой — непере-
даваемая боль, что он пошел на верную гибель в неза-
бываемый день своего сорокалетия. Как известно, на
фронте существовал неписаный закон: если была хоть
малейшая возможность, в день рождения не брали в ата-
ку. И без того было тяжело терять боевых друзей, а в
такие минуты особенно горько...»
О подвиге Межова узнала вся дивизия, о нем гово-
рило фронтовое радио, писала газета «За Родину!» Ге-
рой был посмертно награжден орденом Ленина и прика-
зом по 34-й армии навечно зачислен в списки 349-го Ка-
занского стрелкового полка. Он пробыл в нем всего
полтора месяца, а остался навсегда.
«Человек он был хороший, добрый, веселый, семью
очень любил,— писала Анастасия Васильевна Межова
юным следопытам, возвратившим в наши дни из безвест-
ности имя героя.— Муж старался, чтобы всем было хо-
рошо... Настойчивый, если за что возьмется, то не отсту-
пит. Так и на фронте сделал...»
Расстрелянная песня
Кто из ветеранов не помнит хотя бы одного примера,
когда бойцы в атаку шли с песней?! Еще Александр Су-
воров в «Науке побеждать» писал: «Музыка удваивает,
утраивает армию. С распущенными знаменами и громо-
гласной музыкой взял я Измаил». Слова великого пол-
ководца актуальны до сих пор. Меняется армия и ее спе-
циальности, только ротный запевала никогда не станет
ненужным.
В годы гражданской войны иностранные корреспон-
денты в сообщениях из России нередко подчеркивали,
как им трудно понять советских людей, разутых и разде-
тых, холодных и голодных, поющих перед боем и в бой
идущих с песней. «Это поющий народ, поющая нация.
Такой народ победить просто невозможно»,— писал
158
один из них. А кто в суровом 1941 году, услышав пер«
вые аккорды торжественно-трагической, но полной внут-
реннего оптимизма александровской «Священной вой-
ны», не ощущал плечом тяжесть трехлинейки и не чув-
ствовал подлинно благородной ярости, которая вела в
атаку! А после боя?! «Кто сказал, что надо бросить пес-
ню на войне?! После боя сердце просит музыки
вдвойне!..»
Представьте себе, какую радость могло принести не-
ожиданное появление в партизанском отряде музыканта,
к тому же профессионала. Так случилось в 3-й бригаде
легендарного Александра Германа. Ранней весной
1943 года, после долгих скитаний, оборванный и осунув-
шийся, здесь оказался А. П. Гринчук.
— Это было время, когда после выхода из Парти-
занского края мы осваивали Новоржевский район,—
делился своими воспоминаниями с автором этих строк
бывший комиссар отряда Сергей Эммануилович Лебе-
дев.— Остановившему его патрулю Гринчук заявил, что
бежал из фашистского лагеря в районе Пскова. В прош-
лом ученик музыкальной школы, затем московский опол-
ченец, он попал в окружение, был взят в плен. Лагерное
начальство определило его в оркестр заключенных, а за-
тем стало иногда вызывать и на свои вечера. И вот в
очередной раз, обманув охрану, музыкант скрылся, при-
хватив инструмент. Рассказав свою историю, задержан-
ный снял со спины латаный-перелатаный вещмешок и
вынул из него блестящий инкрустацией немецкий ак-
кордеон. Зазвучала всем до боли знакомая песня:
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек...
После определенных и необходимых формальностей
выяснилось, что все сказанное Гринчуком — правда.
Алексея зачислили в отряд, дали оружие — обыкно-
венную трехлинейку. И, видя, с какой любовью парень
взял винтовку, все поняли — она находится в надежных
руках. Гринчук оказался хорошим стрелком. Уже после
двух схваток он занес на свой счет мести первый деся-
ток фашистов.
— А вскоре музыкант стал любимцем отряда, вер-
нее, всей бригады,— продолжал рассказ Лебедев.— На
привалах, в часы короткого солдатского отдыха, он был
просто незаменим. У партизанских костров то «расцве-
тали яблони и груши» и верная Катюша посылала при-
вет на погранзаставу, то отважный Ермак размышлял
159
А. П. Гринчук,
пулеметчик 3-й Ленинградской партизанской бригады.
о предстоящем бое, то разудалый Стенька Разин плыл
по матушке по Волге, то незваный Наполеон, взирая
с Кремлевских стен на горящую Москву, восклицал:
«Зачем я шел к тебе, Россия?!»
Гринчука приглашали в другие отряды, особенно чет-
вертого полка, как именовали его партизаны — интерна-
ционального. Одних земляков-украинцев у Алексея там
было до сорока человек. Игру его жадно слушали более
сотни сынов Белоруссии и Кавказа, Карелии и Прибал-
тики.
— Несколько раз Алексей выступал перед ранены-
ми,— свидетельствовал бывший начальник госпиталя
Михаил Моисеевич Пищелев. — Особенно популярными
были «Варяг», «Там, вдали за рекой...» и, конечно, песня
бригады. Не случайно ее заключительные строки парти-
заны повторяли как клятву:
Родная мать, мы все полны стремленья
Громить врага как ночью, так и днем.
Скорей умрем, чем станем на колени,
Но победим скорее, чем умрем!
Когда Алексей подал заявление в комсомол, голосо-
вали за него единогласно. В заявлении писал: «Прошу
160
принять меня в ряды Ленинского комсомола. Хочу бить
арийскую нечисть комсомольцем». На вопрос о количест-
ве поверженных фрицев ответил:
— Врагов не считают, врагов бьют.
И в то же время просил дать ему более грозное
оружие, обещая увеличить счет. Товарищи поддер-
жали. Гринчуку после собрания вручили пулемет Дегтя-
рева.
Ближе к лету, как только подсохли дороги, фашист-
ское командование бросило против партизан крупные си-
лы карателей. Бои носили исключительно ожесточенный
характер, доходили до рукопашных схваток. С начала
и до конца мая 3-я бригада билась с огромными сила-
ми противника. Вражеские отряды сопровождали само-
леты-разведчики. Временами принимала участие бом-
бардировочная авиация. Каратели методично занимали
выгодные рубежи и населенные пункты, оттесняя парти-
зан к линии неприятельских гарнизонов южнее желез-
ной дороги Псков — Старая Русса.
27 мая 1943 года гитлеровцы встретили штабной от-
ряд при подходе к деревне Крюково. Бой вспыхнул
мгновенно. Алексей Гринчук очутился перед вражеским
пулеметчиком, открывшим огонь с невысокого бугра, по-
росшего вереском. Партизан отскочил в сторону, упал,
затем осторожно пополз по отлогому скату, прикрытому
густыми зарослями кустарника. Он приблизился к пуле-
метчику метров на двадцать, но фриц обнаружил его и,
развернувшись, дал очередь. Алексей замер, а когда про-
тивник перенес огонь снова на боевых друзей, швырнул
гранату. Поднялся фонтан черной земли, и вражеский
пулемет замолк.
Отважный комсомолец взбежал на бугор, залег и
осмотрелся. Высотка господствовала над большей ча-
стью развернувшейся долины. Фашисты стали обходить
храбреца. Но тот короткими очередями прижал их к
земле, заставил в страхе пятиться назад, утаскивая ра-
неных. Неравный бой продолжался стремительно, пока
герой не обнаружил, что ставит последний диск. И вот
патроны кончились.
Гитлеровцы осмелели, в их рядах послышались обод-
ряющие возгласы, четверо приблизились уже метров на
двадцать, когда Гринчук снова пустил в ход карманную
артиллерию. Но слева подползали другие. Снова разо-
рвалась граната, с воплями и бранью еще несколько
фрицев скатились вниз.
6 Зак. № 67
161
— Неужели никак нельзя помочь Алеше? — со сле-
зами на глазах воскликнула санинструктор Шура Куз-
ниченко.
С отчаяньем наблюдала группа партизан за нерав-
ной схваткой, но, прижатые плотным огнем противника,
они не могли оказать помощи герою. Бой кипел кругом.
— Рус, сдавайся! — истошно вопили гитлеровцы, со-
провождая призывы автоматными очередями.
Герой не отвечал, но и враги, видно не желая боль-
ше испытывать судьбу, молчали. Так прошло несколько
томительных минут. И вдруг на бугре поднялся Грин-
чук с забинтованной головой.
— Да он ранен! — снова подала голос Кузниченко.
А над полем боя уже раздавалась знакомая песня:
«Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой!..»
Каратели сначала опешили, затем целой группой бро-
сились к Алексею. Когда они оказались рядом, песня
внезапно оборвалась, и в ту же секунду воздух потряс
взрыв. Бесстрашный патриот бросил под ноги последнюю
гранату.
В едином порыве поднялись партизаны. Фашисты рас-
терялись и бежали. Алексей лежал на пригорке, разме-
тав руки. На порванной одежде и помятой траве запек-
лась кровь. А вокруг, сраженные осколками гранаты, ва-
лялись гитлеровцы.
— Эти из шестого десятка,— заметил кто-то из пар-
тизан.
— Да,— подтвердил другой,— он сдержал слово.
Комсомольский билет героя, пробитый осколками,
С. Э. Лебедев бережно хранил как святыню отряда.
Глава IV
ДЕТИ отчизны одной
«Волхов — свидетель^
В ночь на 25 июня 1942 года с группой бойцов 2-й
ударной армии пытался выйти из окружения и Муса
Джалиль — политрук, корреспондент армейской газеты
«Отвага». Основной состав редакции прорывался из вра-
жеского кольца вместе с работниками политотдела ар-
мии. Джалиль же, находясь с заданием в одном из под-
разделений арьергарда, услышал о приказе на выход в
последние минуты.
Имя поэта знает весь мир. О нем написаны книги, его
подвигу посвящены кинофильмы, его образ запечатлен
в произведениях изобразительного искусства.
Это был обыкновенный человек, в котором прояви-
лась необыкновенная духовная мощь, безграничная вера
в великие идеалы нашего общества. Для многих новых
послевоенных поколений советских людей он стал чело-
веком-легендой. И не рассказать хотя бы кратко о том,
чьи слова вынесены в название книги и этой главы, ис-
пользованы в качестве эпиграфа, я не мог.
Муса Мустафович Джалиль (Залилов) родился в
бедной крестьянской семье 2 февраля 1906 года в дерев-
не Мустафино Шарлыкского района Оренбургской обла-
сти. В тринадцать лет опубликовал первое стихотворе-
ние, в девятнадцать — первый поэтический сборник. Про-
изведения комсомольца широко отражали жизнь его по-
коления. Восхождение его литературной звезды было
стремительным.
В 1931 году Джалиль окончил литературный факуль-
тет Московского государственного университета и был
назначен редактором татарского детского журнала. В
163
строках, открывающих первую на русском языке книгу
«Стихи» (1935 год), поэт сказал о себе:
Я прошел сквозь учебу,
Сквозь годы работы
И гражданской войны.
Я вливал мою молодость
Каплями пота
В новостройки страны.
Дни и ночи Джалиля были заполнены до предела:
писал стихи и пьесы, очерки и обзоры, рецензии и статьи
по теории критики. Литераторы избрали его ответствен-
ным секретарем Союза писателей Татарии. Он радовал-
ся появлению новых литературных имен, удачных произ-
ведений. Но к работе, выполненной кое-как, к небреж-
ности в слове относился непримиримо. В первую оче-
редь он был требователен к самому себе. О собственных
просчетах говорил откровенно и остро.
Джалиль считал, что истинный писатель — честь и
совесть народа, ему не пристало ни жить, ни писать
вполсилы. С самого начала гитлеровского нашествия
Муса стал стремиться на передовую линию огня. И как
здесь не вспомнить о таких поэтах, как Д. Байрон,
Ш. Петефи, X. Ботев, Н. Вапцаров, и других, которые
одними из первых выходили на поле боя, когда народу
грозила беда. В строю этих бесстрашных борцов навечно
останется и Муса Джалиль.
В июле 1941 года поэта зачислили на краткосрочные
курсы военных политработников в Мензелинске (Та-
тарская АССР). После их окончания он смог на несколь-
ко дней заехать в Казань, а оттуда в первой половине
января 1942 года отбыл в Москву. В конце февраля по-
лучил направление на Волховский фронт, прибыл в Ма-
лую Вишеру.
Около месяца поэт выполнял отдельные задания По-
литуправления фронта. В письмах друзьям сообщал:
«Почти постоянно на передовой, с автоматом в руках,
через непролазные болота и леса, ямы, прохожу мимо
боевых точек врага...» «Вернулся из десятидневной
командировки по частям нашего фронта на передовых
линиях. Поездка была трудная, опасная. Был все время
под обстрелом. Три ночи почти подряд не спал, питался
на ходу...»
27 марта была пробита брешь во вражеском окру-
жении— восстановлены коммуникации 2-й ударной в
районе Мясного Бора и Спасской Полисти. Зам. редак-
тора армейской газеты «Отвага» Л. Моисеев вместе с
164
М. Джалиль,
Герой Советского Союза,
корреспондент газеты «Отвага».
художником Евгением Ву-
четичем прорвался в штаб
фронта и здесь случайно
встретил Мусу, хорошо зна-
комого по литфаку МГУ.
В разговоре Моисеев сокру-
шался, что месяц назад по-
гиб поэт Всеволод Багриц-
кий, предложил Джалилю
его должность.
Начальник Политуправ-
ления дивизионный комис-
сар П. И. Горохов подпи-
сал приказ. 5 апреля Джа-
лиль стал сотрудником «От-
ваги». Ехали на машине
через Папоротно-Селищи. Попали под обстрел. Наутро
узнали, что нз ста с лишним автомашин добрались
всего несколько.
Гедакция находилась в блиндажах близ деревни Ого-
релье на окраине леса. В непростых условиях создава-
лась газета: треск пулеметных очередей и грохот артил-
лерийской канонады нередко заглушали привычный стук
пишущей машинки. Но «Отвага», как ей и положено,
всегда выходила в срок, потому что ее ждали в окопах
с таким же нетерпением, с каким любой читатель неиз-
менно ждет свою любимую газету.
Поэт прибыл к ударникам в самое тяжелое для них
время. Муса целыми сутками находился в частях и под-
разделениях, ведущих неравный бой с превосходящими
силами противника. Чтобы взять интервью, порой прихо-
дилось ползти не одну сотню метров под жестоким ог-
нем. Без рисовки писал другу Гази Кашшафу в Казань:
«Я часто бываю нс только свидетелем, ио и участником
кровопролитных боев... Военкор — это далеко не мирное
и спокойное занятие, приходится одновременно воевать
и писать». «Очерки и статьи его были зажигательны-
ми»,— подчеркивал в своих мемуарах командующий
фронтом К. А. Мерецков*. Поэт возвращался в рсдак-
1 Мерецков К. Д. На службе народу, с. 294,
165
цию в простреленной шинели, чумазый от блиндажной
коптилки, обросший черной щетиной. Но как бы ни было
трудно, стихи его дышали оптимизмом, верой в гряду-
щую победу:
Как бы ночь нн темна была — все же светает.
Как зима ни морозна — приходит весна.
Эй, Европа! Весна для тебя наступает,
Ярко светит на наших знаменах она.
В ночь на 25 июня группа советских воинов из 59-й
стрелковой бригады, идя на прорыв в районе деревни
Теремец-Курляндский, отбивалась от наседавших гитле-
ровцев, дралась насмерть. Позже Муса Джалиль так пи-
сал о бое:
Волхов — свидетель: я не струсил.
Пылинку жизни моей не берег.
Судьба посмеялась надо мной:
Смерть обошла — прошла стороной.
Последний миг — и выстрела нет!
Мне изменил мой пистолет...
Оглушенный взрывом, потерявший сознание, Муса
попал в плен. От берегов Волхова начался тернистый
путь по фашистским лагерям и тюрьмам. Все круги ада
прошел он в заточении и ни разу не поступился челове-
ческим достоинством, ни на одно мгновение не впал в
отчаяние.
Гитлеровцы решили организовать из пленных — уро-
женцев национальных республик Поволжья — легион
«Идель-Урал» и направить его против Красной Армии.
Фашисты вели ярую антирусскую пропаганду, им помо-
гали отщепенцы-националисты. Джалиль и его друзья
создали подпольную группу, наладили выпуск листовок.
В одной из первых громко прозвучали стихи великого
сына татарского народа Габдуллы Тукая:
Мы с русским народом сроднились давно,
Во всех испытаньях стоим заодно.
Такого родства временам не избыть —
Нас крепко связала истории нить!
И разволновался Муса, готовя листовку. Вспомни-
лась Москва, январские дни, теплые проводы друзей и
товарищей в клубе писателей имени Г. Тукая. Сколько
хорошего было сказано в адрес засмущавшегося Джа-
лиля А. Сурковым, В. Бахметьевым! Муса писал стихи,
которые заучивались товарищами по плену, передава-
лись из уст в уста. В конце концов замысел противни-
ка по созданию легиона был сорван.
166
Серьезный успех окрылял, вдохновлял подпольщиков
на новые деяния. Но нашелся и в их среде подлый пре-
датель. В начале августа 1943 года Джалиля бросили
в тюрьму Моабит. Однако, и запертый в каменные сте-
ны, зная, что обречен, патриот создавал стихи, полные
любви к жизни, призыва к борьбе. Стихи запечатлели
самые разнообразные его переживания, раздумья, но
среди них нет чувства страха.
Пел я, весеннюю свежесть ночуя,
Пел я, вступая за Родину в бой.
Вот и последнюю песню пишу я,
Видя топор палача над собой...
Трудно поверить, но в стихах, написанных под «топо-
ром палача», встречаются юмористические строки. Та-
ким поэта воспитала Родина. «Подвиг Мусы,— писал в
«Литературной газете» к 80-летию со дня рождения поэ-
та его земляк Туфан Миннулин,— не только в том, что
он нашел в себе силу улыбаться перед казнью, а в том,
что готовился к этой гордой улыбке всю жизнь»1. Сов-
сем еще юным Джалиль писал:
Пусть кому-то быть из нас убитым,
Никому из нас не быть рабом!
25 августа 1944 года поэта казнили гестаповцы в во-
енной тюрьме Плетцензе в Берлине. Его стихотворения,
написанные на клочках бумаги, спас узник Моабита —
бельгийский партизан Андре Тиммерманс и после вой-
ны переслал в Советский Союз.
Первая же публикация моабитских произведений,
правда которых оплачена самой дорогой ценой — жиз-
нью, потрясла людей. Поэт посмертно удостоен звания
Героя Советского Союза в 1956 году, а в следующем за
стихи, вошедшие в цикл «Моабитская тетрадь», ему бы-
ла присуждена Ленинская премия.
На берегу Волги, в Казани, к 60-летию со дня рожде-
ния Джалиля установлен памятник — у белокаменных
стен кремля бронзовая скульптура поэта. Гранитная
лестница ведет к нему, и, как символ бессмертия, звучат
строки, начертанные на парапете, строки из «Моабит-
ской тетради»:
Жизнь моя песней звенела в народе,
Смерть моя песней борьбы прозвучит.
1 Литературная газета, 1986, 12 февраля.
167
«Мы идем к тебе на помощь. Русса...»
Удержать Старую Руссу враг стремился всеми сила-
ми. Подступы к городу были сильно укреплены, соз-
дана система хорошо оборудованных опорных пунктов.
Первым устремился вперед в Старорусской наступа-
тельной операции после 45-километрового марша по ты-
лам противника 595-й полк 188-й стрелковой дивизии.
Партизанскими тропами вывел его точно к назначенно-
му пункту 67-летний крестьянин И. В. Липатов. Бес-
смертный подвиг совершил второй батальон этого пол-
ка. Его судьба не сходит с уст старожилов Старой Рус-
сы, именем комбата А. Ф. Величко названа улица. Фо-
тография героя — на стенде в здешнем музее Северо-За-
падного фронта.
...Всю жизнь пахал землю на берегу Ильмень-озера
Иван Васильевич Липатов. По рекам сплавлял лес. Каж-
дый островок, залив, речушка, пригорок и болотные то-
пи знакомы ему были в родном краю. Сколько волн раз-
резал его остроносый челнок, сколько ветра побывало в
старых рыбачьих парусах! Но в мирную жизнь ворва-
лась война. Над родными просторами закружились стер-
вятники с паучьей свастикой на крыльях, на тучные кол-
хозные нивы надвинулись бронированные чудовища с
желтыми крестами, застонала земля под железной пя-
той чужеземных полков. До рассвета за стеною избы
не смолкали скрип телег и рыдания уходивших односель-
чан.
Трудно было решиться уйти Ивану Васильевичу. Поч-
ти семьдесят лет прожито в деревне Маята. Здесь жили
отец и мать. Здесь родились сыновья. Где-то они сейчас?
Куда забросила их фронтовая судьба? Старик с тоскою
смотрел на портреты, висящие на стене. Но далеко от
родного дома были моряк и летчик и ничего в тяжелую
минуту не могли посоветовать ему.
Поздним вечером 8 января 1942 года Иван Василье-
вич трудился над прохудившимся рыбачьим бреднем.
Вьюжный ветер завывал в печной трубе, мороз с трес-
ком наносил замысловатые узоры на окна. В дверь гром-
ко постучали. Потирая озябшие лица и руки, вошли двое
командиров.
— Ильин,— отрекомендовался старший,— а это ка-
питан Величко. Пришли к вам, Иван Васильевич, с боль-
шой просьбой. Погода, как видите, не балует, а к утру
мы должны быть под Старой Руссой, в районе деревни
Подборовье. Не можете ли вы указать подходящего че-
168
ловека, который смог бы довести нас до места короткой
и скрытой дорогой?
— Да я и проведу.
— А не стар ты, дедусь, на такие дела? — вступил в
разговор Величко.— Ведь по прямой и то получается
больше тридцати километров. Да и идти придется в лю-
тую стужу по снежной целине. Я уж не говорю о воз-
можной встрече с немцами.
— Это для вас, южан, возможно, и велик мороз, а
мы с малолетства с ним дружим. Правда, в рождест-
венские и крещенские морозы без дела на улицу не вы-
совываемся. Но сегодня особый случай. И я имею еще
достаточно сил, чтобы помочь родной армии.
— Иван Васильевич, а может быть, на карте пока-
жешь нам дорогу,— снова заговорил старший.
— Не мастак я по картам-то, да и вижу уже плохо.
Вы следите, а я называть буду.
Командиры расстелили на столе километровку. Она
была перед ними как живая: на пути к Старой Руссе —
обилие рек, озер, болот. Встречались, правда, и островки
леса, мелколесья, кустарника... Отдельные участки бы-
ли явно непроходимыми в летнее время. Сейчас же — на-
дежда на сорокаградусные морозы и искусство провод-
ника.
Старожил-рыбак подробно изложил весь путь. Иль-
ин и Величко невольно обратили внимание на звучность
местных названий.
— Поразительно, как топонимы здешних мест пере-
кликаются с нашими — днепровскими: Полнеть, Пола,
Порусье, Русса, Киево,— отметил капитан Величко.
— А вы не забывайте, что на пути и Чертовщина, и
Утополь, и озера Гиблое и Морицкое будут. Через них
всего несколько и старожилов-то решатся пройти, да н
то в самые лютые морозы.
— Но пробираться нам как-то надо. И, если можете,
не позже чем через полчаса двинемся. Сверху набросьте
вот это.— И капитан снял с себя и подал белый маск-
халат.
Одевшись как можно теплее и захватив толстую су-
коватую палку, с которой не расставался последние го-
ды, старик вышел на улицу. Жгучий мороз перехватил
дыхание.
— Иван Васильевич,— встретил его Величко,— рядом
с вами в пути будет Женя Барсук, младший политрук,
комсомольский вожак нашего полка.
169
И. В. Липатов,
колхозник, партизанский
проводник.
Проводник заметил ко-
ренастого, широкоплечего
парня, с чувством пожал
протянутую руку и реши-
тельно шагнул в непрогляд-
ную темень, в таинствен-
ную, грозную неизвестность.
Следом двинулся Величко,
затем — разведчики, держа
наготове автоматы...
Прошли сто, двести,
пятьсот метров, километр.
Загнанные жестокою сту-
жею в блиндажи, враже-
ские сторожевые посты
близ Лажин молчали. Под
завывание ветра пересекли передний край.
Вот и Синецкий залив, за ним начиналась сплошная
цепь болот, окрещенная в народе Чертовщиной. Только
такие опытные проводники, как Липатов, могли отва-
житься темной ночью в метель, в пургу идти через это
опасное место, где на каждом шагу подстерегали волчьи
ямы и никогда не замерзающие трясины. Среди Чертов-
щины находились озерко и речка с одним названием—
Утополь,— эхо древней легенды. Когда-то здесь нашли
погибель вражеские воины, которые с глубокого тыла
попытались пробраться к богатейшему русскому горо-
ду, но так и не смогли преодолеть это место.
Передохнув в небольшом овраге, поросшем чахлым
ельником, разведчики двинулись за своим отважным про-
водником. И казалось ему, что не солдаты незнакомые
идут следом, а его родные сыновья. Он часто падал, вер-
ная палка в глубоком снегу плохо помогала, но с по-
мощью Жени Барсука сразу же поднимался. Колючий
кустарник хлестал по заиндевевшему лицу, от жгучего
мороза было трудно дышать, но славный русский пат-
риот шел и шел вперед, прокладывая путь.
.Иван Васильевич довел воинов до деревни Подбо-
ровье. В нескольких километрах за обрывающейся кром-
кой леса находилась Старая Русса, освещаемая на ближ-
них подступах лихорадочным зеленым светом прожекто-
170
ров и ракет. Здесь-то и находился глубокий тыл 16-й
фашистской армии.
Тепло простились разведчики со своим проводником.
Непрошеные слезы навернулись на старческие глаза.
— Если будет, хлопцы, случай, заезжайте в Маяту.
Величко невольно обратил внимание, что Иван Ва-
сильевич назвал их хлопцами, на украинский манер.
Липатов пошел назад. И когда в сопровождении моло-
дого бойца он скрылся среди стволов темного леса, раз-
ведчикам показалось, что вовсе и не было старого про-
водника, а герой русских сказок — рождественский Дед
Мороз провел их через дьявольскую Чертовщину.
Иван Васильевич не прошел и полукилометра, как
встретил колонну советских воинов, идущих по проло-
женному им пути. Перед самой зарей вновь пересекли
передний край обороны гитлеровцев. Метель заметно
утихала, и редкие порывы ветра уже доносили неясный
шум далекой перестрелки, а ураганный артиллерийский
смерч по всей линии фронта вскоре возвестил начало
крупной боевой операции.
В результате короткого боя многочисленный враже-
ский гарнизон Подборовья, застигнутый врасплох, был
уничтожен. Не теряя времени, второй батальон 595-го
полка, усиленный частью первого, двинулся к городу, а
третий — старшего лейтенанта Н. А. Губского — ударил
на Талыгино...
Второй батальон капитана Величко кратчайшим пу-
тем вышел на озеро Соминое, затем двинулся по речке
Соминке. В полной тишине достигли железнодорожной
линии на Парфино — Бологое. За левый фланг были
спокойны: платформа Анишино уже находилась в ру-
ках нашей дивизии. Но и справа у железнодорожного
моста через Полнеть и у Городской Слободы, где стоял
вражеский гарнизон, разведка не обнаружила ничего по-
дозрительного.
Переждав минут двадцать, тронулись в сторону
Бряшной Горы, тщательно маскируясь в редком кустар-
нике. Выла, кружилась в воздухе метель, и огромную
движущуюся массу в белых маскхалатах вполне можно
было не заметить в белоснежной круговерти. Вот и дере-
венская околица. И вдруг — яростный треск пулеметов,
минометный огонь. Но было уже поздно.
— Вперед, за Родину! — крикнул Величко.— Ура!!!
И закипел страшный, понятный по-настоящему лишь
пехоте, ночной рукопашный бой. Так была освобождена
пригородная деревня Бряшная Гора (ныне ул. Маяков-
171
ского в Старой Руссе). Но некогда задерживаться. По-
ручив пленных подошедшим людям второго эшелона,
Величко снова поднимает своих бойцов:
— Вперед, вперед!
И новый рывок через заснеженное поле, через соле-
ный ручей Войе на улицы Володарского, Бетховена,
Козьмодемьянскую (ныне Величко). И опять та же кар-
тина: растерявшиеся фашисты, спины убегавших к цент-
ру города. Вот и Красные казармы, улица Минераль-
ная.
— Вперед, вперед, на помощь узникам!
А с вышек лагеря навстречу атакующим, захлебы-
ваясь, тарахтят пулеметы, из каменных зданий сыплют
железный горох автоматы.
— Вперед, вперед!
Рушатся, падают под ударами гранат вышки и стол-
бы проволочного заграждения, вдребезги разлетаются
ворота, советские воины — на территории лагеря... Но за
колючей проволокой они увидели штабеля невывезен-
пых трупов, на дворе и в полуразрушенных казармах
следы недавней кровавой расправы. Несколько трупов
вражеских солдат и даже овчарок свидетельствовали о
мужественной схватке безоружных людей с палачами.
Павшие в неравном бою были без теплой одежды и обу-
ви... На плацу, на фоне уже светлеющего неба, чернели
зловещие столбы с болтающимися на ветру петлями. От-
чаянию наших воинов, казалось, не было предела, ведь
опоздали не более как на час.
— «Да, братья, этот кошмар забыть нельзя»,— ска-
зал тогда кто-то позади нас глухим голосом,— рассказы-
вал на встрече ветеранов 188-й дивизии Иван Кроленков,
фельдшер батальона, уроженец Старой Руссы.— Мы
вздрогнули и оглянулись. То, что собой представлял го-
воривший, трудно описать. Это был скелет, обтянутый
кожей и покрытый лохмотьями. Землистое лицо с едва
уловимыми признаками жизни скорее напоминало хо-
лодный серый камень. Сходство усиливали пятна гриб-
ка, покрывавшего лицо подобно лоскутам грязно-зеленой
замши. Страшным был и его рассказ о голоде, холоде,
издевательствах, терроре...
Еще накануне утром в лагере поняли, что происходит
что-то неприятное для палачей. Сюда неожиданно пожа-
ловали помкоменданта города майор Прулли и офицер
СС Лахманд в сопровождении переводчика жандармерии
Ригера. Охранники рыскали по баракам и казармам,
хватали людей и уводили неизвестно куда. А когда при-
172
близился шум боя, вообще озверели. Собаками и при-
кладами согнали всех во двор и повели. Сопротивляю-
щихся убивали на месте. При переправе через Полнеть
колонну остановили, чтобы пропустить машины. И в
по время кто-то из пленных крикнул:
— Бежим!
Человек двадцать бросились врассыпную.
До советских воинов добрался, видно, один.
— Дайте мне оружие! — Это было сказано таким го-
лосом, забыть который невозможно
После освобождения Старой Руссы близ Красных
казарм, на пересечении улиц Минеральной и Бетховена,
комиссия по расследованию фашистских злодеяний
вскрыла ров, заполненный более чем пятью тысячами
жертв гитлеровского произвола. Было исследовано до
двухсот останков, и почти треть из них составляли жен-
щины и дети!
А тогда Величко вручил бывшему узнику лагеря ка-
рабин и плитку шоколада. Дать консервы и даже суха-
ри не решился, опасаясь за его жизнь. Затем, обратив-
шись к радисту, приказал:
— Передайте: мы в Красных казармах, ведем раз-
ведку. С минуты на минуту ожидаем контратаку.
Пока связист отстукивал ключом текст и расшифро-
вывал ответ, комбат, повысив голос, обратился к окру-
жавшим его воинам:
— Вы слышали голос живого свидетеля фашистского
«нового порядка». Вы своими глазами видели сожжен-
ные деревни и лежащий в руинах этот древний русский
город. И в то же время рядом с казармами стоит изра-
ненный, но не склонивший головы памятник нашей во-
инской славы. На разбитой мемориальной доске можно
прочесть: «Доблестным вильманстрандцам, погибшим в
боях русско-японской войны». Этот полк квартировал и
комплектовался здесь, отличился в кровопролитных боях
на реке Шахе, под Ляояном и Мукденом. Они полегли
на полях Маньчжурии, но не посрамили русского ору-
жия.
Величко остановился. Он видел, как бойцы с силой
сжали приклады винтовок и автоматов.
— Так поклянемся же у этого святого места, что не
отступим из города до подхода основных сил дивизии.
— Клянемся! — крикнули мы в ответ,— вспоминал
Кроленков. — Клянемся! Клянемся!
Контратаки все не было. Между тем разведчики один
за другим сообщали, что на ближайших улицах все спо-
<73
койно и вполне можно двинуться дальше. Но комбат
имел строгий приказ: захватить казармы и ждать под-
хода других частей. Сзади них шли основные силы пер-
вого батальона. Справа по Полисти наступал 27-й от-
дельный лыжный батальон на стыке со 182-й стрелковой
дивизией полковника М. С. Назарова. Наконец в насто-
роженной тишине словно вымершего города услышали
бешеный перестук пулеметов и автоматов на западной
окраине. И не выдержал комбат:
— Видно, кто-то прорывается с той стороны. За
мной!
Разве мог даже подумать Величко, что это гитле-
ровские палачи вымещали животный страх и звериную
злобу на безоружных узниках лагеря, выведенных на Во-
лотовское шоссе. Однако дальше пробиться не удалось.
В районе «живого» моста встретили яростный огонь пе-
хоты, поддерживаемый минометами и артиллерией. И
был это не пришедший в себя противник, а какая-то све-
жая часть. Против Величко и его людей, как установле-
но было позже, были брошены в качестве стрелковых
подразделений прожекторная рота, зенитный дивизион
и понтонный батальон.
Пришлось отойти и закрепиться в каменных домах
по улицам Володарского, Энгельса, Минеральной (до
Карла Маркса), в Красных казармах. Командный пункт
наскоро оборудовали в полуподвале конторы бывшего
небольшого завода «Техника безопасности» (сейчас на
этом месте детский сад «Ладушки»), перевязочный
пункт — в первом монастырском здании (сейчас — спор-
тивная школа).
Бой разгорался, фашисты со всех сторон пытались
прощупать силы ворвавшихся в город советских бойцов,
но натыкались на многослойный ружейно-пулеметный
огонь, ибо вместе с трофейными у советских бойцов на-
считывалось 26 станковых и 56 ручных пулеметов. Но
вот случилось то, чего больше всего опасался Величко.
Разгорелся неожиданно бой в Бряшной Горе, и вскоре
к Красным казармам подошел взвод, оставленный в де-
ревне. С ним было одно из подразделений первого ба-
тальона под командой младшего лейтенанта П. Н. Тка-
ча. Последний успел проскочить через деревню до ее
захвата гитлеровцами. Батальон оказался в огнен-
ном кольце. Шальная мина разбила единственную ра-
цию.
— Товарищ лейтенант,— обратился Величко к на-
чальнику штаба Илье Шаповаленко,— передайте всем
174
приказ — насколько возможно экономить боеприпасы и
продовольствие.
Бывший рабочий Днепропетровска Алексей Федоро-
вич Величко успел накануне войны пройти лишь крат-
ковременные курсы. Однако уже в первых схватках с
противником показал военные знания, храбрость и вы-
держку. Он, конечно, понимал отчаянное положение ба-
тальона, но верил, что, даже утеряв элемент внезапно-
сти, наша дивизия сломит сопротивление вражеского
гарнизона в Медникове, овладеет Липовицами и аэрод-
ромом и не позже следующего дня ворвется в Старую
Руссу. Но не мог знать Величко, что командующий 16-й
армией уже направил для обороны города отборную ди-
визию СС «Рейх».
После полудня вражеский снаряд вывел из строя
расчет пулемета на КП, прекратился огонь «максима».
Величко поспешил туда, но новый взрыв бросил его на
землю. Кроленков кинулся на помощь. Он перенес ком-
бата в укрытие, сделал перевязку, просил не двигаться.
Не менее часа, несмотря на страдания, раненый вы-
слушивал донесения и отдавал приказы. Но силы уходи-
ли все быстрее, на губах появилась кровь.
— Ну вот и конец,— с трудом проговорил он накло-
нившемуся к нему Шаповаленко.— Держись. Если не
придет помощь, выходи у Бряшной Горы. Нас не в чем
упрекнуть, мы сделали все... Прощай... напиши родным...
А бой продолжался, и некогда было оплакивать пав-
ших, даже командира. В цепи наравне со всеми отбива-
ли атаки противника раненые, хотя некоторые могли дей-
ствовать лишь одной рукой.
Поздно вечером вспыхнул бой на северной окраине
города. Это бойцы дивизии Назарова ворвались в дерев-
ню Гущино и пробивались к железнодорожному вокза-
лу. Настроение людей Величко повысилось — появилась
надежда на скорую помощь. Однако Шаповаленко не
решался идти навстречу: мало осталось бойцов, много
было раненых.
Затихнув на несколько часов, ранним утром бой раз-
горелся с удвоенной силой. По улицам в направлении
вокзала, Медникова и Бряшной Горы мчались автомаши-
ны, лязгали гусеницы танков, двинутых из ремонтных
мастерских. Однако положение окруженного батальона
нисколько не улучшилось — гитлеровцы стремились как
можно скорее расправиться с ним и напирали со всех
сторон. Бой разбился на отдельные очаги сопротивле-
ния. И бронетранспортеры фашистов горели, и не один
175
десяток оккупантов лег костьми. Только таяли, быстро
таяли и последние силы обороняющихся.
Погиб в неравной схватке отрезанный от основных
сил батальона со своими людьми младший лейтенант
П. Н. Ткач. «Израсходовав боеприпасы, группа, сформи-
ровавшаяся вокруг секретаря бюро ВЛКСМ полка млад-
шего политрука Е. И. Барсука, погибла в рукопашной
схватке. Барсук последней гранатой подорвал себя и
окруживших его немцев»1.
К вечеру удерживаемая территория ограничивалась
монастырем и Красными казармами, а между ними в
бывший Дом Красной Армии уже просочились гитлеров-
цы. Подсчитав количество оставшихся «активных шты-
ков» и боеприпасов, Шаповаленко понял — нужно ухо-
дить, завтра будет поздно. Но куда? Ближе к вокзалу,
там и врага неизмеримо больше, чем по направлению
Бряшной Горы...
— Ночью все перебрались в казармы,— рассказы-
вал мне Кроленков,— а оттуда через ручей Войе к же-
лезнодорожной ветке, ведущей на аэродром. До своих
оставалось не более километра, когда вражеский боевой
заслон с насыпи открыл огонь.
«Вперед, вперед!» — кричал Шаповаленко.
Брешь пробита... Но слишком губителен кинжальный
двухсторонний огонь. К родной дивизии прорвались лишь
семеро. Это было в 5—6 часов утра 11 января.
Прошло три с лишним месяца. Проплыли льдины по
многочисленным рекам Приильменья, раскисли фронто-
вые дороги. Ни проехать ни пройти. А под Старой Рус-
сой шли жестокие бои, и передовые части нуждались в
боеприпасах и продовольствии. В эти дни Иван Ва-
сильевич Липатов сам явился в полевое управление
11-й армии и предложил по разлившимся рекам и весен-
ним протокам доставить все необходимое на лодках. Его
направили к военкому 188-й стрелковой дивизии, кото-
рой он помог в январе выйти к Старой Руссе. Бригад-
ный комиссар Я. Г. Поляков от всей души обнял русско-
го патриота, вновь пришедшего на помощь нашим соеди-
нениям.
Было собрано более десятка лодок. Днем и ночью
1 Каслинский В. С. Нет ничего дороже, с, 67.
176
бойцы ремонтировали их, и вскоре первый караван с
боеприпасами двинулся к линии фронта. Командование
188-й дивизии представило Липатова к правительствен-
ной награде. Иван Васильевич ответил душевным пись-
мом:
«Мне говорят: спасибо, дед, выручил. А за что спа-
сибо? У меня у самого два сына с немцем бьются. И все
воины для меня сыновья родные. И вам, бойцы, которых
я зимой в тыл врага вел, а весной припасами снабжал,
вам я говорю сегодня:
— Сыны мои, бейте врага люто, бейте на каждом
шагу, не давайте никакой пощады. Фашисты — это не
люди вовсе. Вот и сейчас в наших деревнях одни дети,
женщины и старики остались. А они все равно налетают,
бомбят, жгут, убивают. Разве можно это простить? И я,
старик, от всего народа вам говорю: бейте их со всех сил,
и спасибо вам великое за каждого убитого фашиста».
Письмо, помещенное 14 сентября 1942 года во фрон-
товой газете «За Родину!», звало на новые подвиги во
славу Отечества. А вскоре в той же газете была опуб-
ликована поэма Михаила Матусовского «Дед» и порт-
рет героя с медалью «За отвагу» на груди.
18 февраля 1944 года Старая Русса была освобожде-
на. Среди воинов-освободителей по праву был отмечен
и старый колхозник из деревни Маята Парфннского рай-
она Иван Васильевич Липатов. Его имя увековечено в
названии улицы райцентра Парфино.
Почетный солдат Забайкалья
В музее Забайкальского военного округа есть стенд,
посвященный Семену Номоконову — почетному солдату
округа. Здесь же его снайперская винтовка. «Известность
эвенку Номоконову на Северо-Западном фронте,— пи-
шет в воспоминаниях Герой Советского Союза В. Пче-
линцев,— принес меткий выстрел, сразивший наповал
генерал-майора из гитлеровской ставки, инспектировав-
шего войска переднего края под Лычковом 28 октября
1941 года»1.
Стояла глубокая осень. Первые заморозки схватили
землю. Временами падал снег, и лес на глазах прини-
мал сказочные очертания. И казалось тогда, что ника-
кой войны нет и он, Номоконов, выслеживает не фашист-
1 Советский патриот, 1986, 4 августа.
1
Зак. № 67
177
скую нечисть, а лесного зверя. В улусе Делюн, где про-
шло детство, тайга подступала чуть ли не к порогу до-
ма. Да только вот здесь фронт и позиция другая — в тес-
ной воронке от авиабомбы. И сверху — не чистое небо,
а белая простыня, растянутая на жердях для маскиров-
ки. С девяти лет он начал охотиться. Отец и соседи бра-
ли мальчика с собой на промысел. Партии уходили в
тайгу на полтора-два месяца, за сотни километров от
дома, к Олекме и Алдану. Семен сызмальства учился
экономить патроны: у бедного охотника каждый патрон
был на счету. Возможно, благодаря этой таежной береж-
ливости и развивалась меткость.
Между тем шли и шли томительные часы ожидания.
В полдень Номоконов заметил двух вражеских офице-
ров, крадучись пробиравшихся к блиндажам. Снайпер
готов уже был нажать на спусковой крючок, но интуи-
ция охотника подсказывала: — «Не торопись, этот визит
неспроста».
Действительно, вскоре послышались отдаленные от-
рывки команд, и, переведя туда окуляр бинокля, Семен
увидел двоих в офицерских шинелях, услужливо раздви-
гавших ветки перед третьим.
«Видно, важный туз пробирается к ходам сообще-
ния»,— подумал снайпер и взял офицера на мушку.
Раздался выстрел, гитлеровец упал. А через несколь-
ко минут воздух разорвали взрывы мин и снарядов, но,
к счастью, их осколки пролетали над головой. Под по-
кровом темноты Номоконов добрался до землянки. На
другой день в руки разведчиков попался «язык». От него
узнали, что за важную птицу подстрелил Семен. В за-
байкальский совхоз имени Ленина Шилкинского района
Читинской области, где жила его жена Марья Василь-
евна с детьми, ушла заметка из дивизионной газеты «На
страже Родины».
С тех пор боевой счет сорокалетнего снайпера стал
расти не по дням, а по часам.
— Что это с твоей трубкой? — как-то спросил его бу-
рят Тогон Санжеев, в прошлом тоже охотник из села
Сагаповского.— Она вся в трещинах.
— Нет, это зарубки,— ответил Семен и, прежде чем
выкурить с другом трубку, нанес еще одну отметину.
«За успехами снайперов с живым интересом следили
труженики тыла. Родилось патриотическое движение за
увеличение счета боевой и трудовой мести врагу. Знат-
ные шахтеры Урала М. П. Кокшаров и И. С. Жирнов,
приняв высокие социалистические обязательства, в июне
178
С. Д. Номоконов, снайпер 163-й стрелковой дивизии.
1942 года обратились от имени угольщиков Кизела Перм-
ской области к снайперам Северо-Западного фронта с
предложением вступить в соревнование. Первыми ото-
звались Номоконов и Санжесв. Они дали слово к 22 ню-
ня, до чего оставалось всего десять дней, значительно
увеличить боевой счет> *.
Соревнованию прославленных снайперов и знатных
шахтеров Демьян Бедный посвятил поэму «Победы за-
лог».
— Нет у нас таких законов:
Избегать крутых высот!—
Молвил снайпер Номоконов,
Покосись па вражий дзот.—
Фрицам пулек мы подбросим!
Чтобы снайперский мой счет
Довести мне до двухсот,
Сбить мне надо двадцать восемь.
Цифра все ж! Но сладить с ней
Обязуюсь в десять дней!
— А вот мне,—сказал Санжеев,—
Сбить четырнадцать злодеев,
Будет сто — зарок даю:
В десять дней я их набью.
1 Кислинский В. С, Нет ничего дороже, с. 106.
179
Однажды Санжеев увидел друга глубоко огорченным^
— Что с тобой,— с участием спросил он,— уж не по-
страдал ли во время вчерашнего обстрела?
— Нет, но потеря серьезная: фашисты мою «бухгал-
терию» разгромили.— И показал разбитую осколком
мины трубку.
— Ну ничего, и они запомнят этот час. Как-никак
трех офицеров потерять безо всякого боя довольно не-
приятно,— успокоил его Санжеев. — Но как я взволно-
вался, когда узнал, что именно по твоему «укромному»
месту кроют из минометов!
— Спасибо, друг, за сочувствие.
Дружбе двух знаменитых снайперов фронта посвятил
поэму «Друзья» и Михаил Матусовский.
Снайперы держали слово, их боевой счет заметно
рос.
Наступило роковое июньское утро 1942 года. С вос-
ходом солнца Санжеев вышел на передний край. Он
получил приказ уничтожить неприятельских снайперов,
мешавших соседнему подразделению. С двумя гитле-
ровцами Тогон справился быстро, но пуля третьего
врага подкараулила героя и оборвала ему жизнь. Это
было у села Никольское Демянского района.
Хоронили Санжеева на местном братском кладби-
ще. Торжественно-суровы были лица провожающих
в последний путь. Здесь, у могилы друга, Семен Номо-
конов поклялся отомстить фашистам за его смерть.
Здесь же винтовку Санжеева передали его ученику Бо-
рису Канатову. Принимая ее, боец сказал:
— Спи спокойно, дорогой боевой товарищ, учитель.
Мы никогда не забудем твоих снайперских заповедей.
Мы сделаем все возможное, чтобы увеличить начатый
тобою счет. Перед прахом твоим, перед моими товари-
щами и командирами клянусь: пока жив, каждая пуля,
выпущенная из этой винтовки, будет разить врага!
Снайперский счет в 163-й дивизии неуклонно возра-
стал. Без промаха била врага винтовка Санжеева. Но-
моконов продолжал вести на новой курительной труб-
ке свою «бухгалтерию». Вскоре он был награжден ор-
деном Ленина, стал коммунистом.
«Снайпер Номоконов истребил двести шестьдесят
три фашиста»,— сообщало 27 марта 1943 года Совин-
формбюро. А это, как известно, более роты полного со-
става военного времени. Поэт Лебедев-Кумач посвятил
ему стихотворение «Какие золотые руки, какие острые
глаза!».
180
Вручение снайперской винтовки Тогона Санжееаа Борису Канатоау.
После победы над гитлеровской Германией Номо-
конов участвовал в разгроме Квантунской армии Япо-
нии. На его счету к концу войны было 367 уничтожен-
ных врагов. Но и героя не щадили пули и осколки: он
был ранен восемь раз.
После войны Семену Даниловичу Номоконову при-
своили звание почетного солдата Забайкальского воен-
ного округа.
Старший его сын — Владимир — тоже был на фрон-
те снайпером. На его счету свыше пятидесяти врагов.
Колхозники родного села помогли фронтовику постро-
ить новый добротный дом, в котором росли его семеро
сыновей и две дочери. Видное место в доме заняла кол-
лекция трубок. И каких в ней только нет: деревянные,
керамические и пластмассовые, самой различной вели-
чины, самой замысловатой формы. Узнав из центральных
газет историю его трубки, в далекое Забайкалье со всех
концов страны и даже из социалистических государств
герою пошли посылки с трубками. И нет в этой уникаль-
ной коллекции лишь той, первой.
В составе делегации ветеранов войны выезжал он
на места боев Северо-Западного фронта. Вместе с ге-
нералом в отставке В. Ф. Карловым, который в 1943 го-
1*1
ду командовал 163-й дивизией, и сыном боевого друга
Тогона Санжеева — Жамсо Тогоновым — побывали в се-
ле Никольском на дорогой могиле.
После смерти С. Д. Номоконова одна из улиц села
Нижний Стан Шилкинского района Читинской области
названа его именем.
Последний подвиг командира легендарной Зои
В 1965 году, во время очередного похода с комсомоль-
цами по местам революционной, боевой и трудовой сла-
вы, близ Холмского шоссе в районе Поддорья мы уви-
дели скромный обелиск из оцинкованного железа, увен-
чанный небольшой пятиконечной звездой. Памятная над-
пись гласила, что здесь похоронен Борис Сергеевич
Крайнов.
Борис Крайнов?! Да это же командир отряда, в ко-
тором сражалась Зоя Космодемьянская! Кто из участни-
ков войны не помнит, что творилось на фронте, когда в
центральных и фронтовых газетах появился снимок
растерзанной Зои и рассказ о ее подвиге! Некото-
рое время звучал один призыв во время атаки: «За
Зою!!!»
Последующие попытки собрать сведения об обстоя-
тельствах гибели Крайнова не увенчались успехом. И я
уже свыкся с мыслью, что вряд ли удастся, поскольку то
героическое время отодвигается вдаль с каждым годом.
И вдруг в августе 1986 года неожиданно получил письмо
из Целинограда от подполковника в отставке Александ-
ра Семеновича Фадеева — однополчанина и свидетеля
последнего подвига Бориса Крайнова. С его помощью
установилась переписка с боевыми друзьями отважного
комсомольца. В своем архиве разыскал записи, сделан-
ные во время встреч с ветеранами боев на новгородской
земле, в том числе с воинами 3-й гвардейской десантной
дивизии. Но прежде всего хочется отметить вехи его
краткой, но яркой жизни.
Борис Сергеевич Крайнов родился в 1923 году в де-
ревне Синдяково Ярославского района. С детских лет
помогал родителям в их нелегком труде. Увлекался спор-
том и по окончании семилетки прошел шестимесячные
курсы инструкторов физической культуры. Начало Ве-
ликой Отечественной войны застало его на преподава-
тельской работе в школе № 54 Ярославля. В первые же
часы он уже был в горкоме комсомола с просьбой отпра-
182
вить на фронт. Но здесь его — члена пленума горкома —
ждало назначение секретарем по военной работе.
Крайнов стал учить молодежь военному делу. При
личном участии секретаря было создано несколько групп
для действий во вражеском тылу. После очередного до-
клада в ЦК ВЛКСМ Борис привез в Москву первый от-
ряд добровольцев — 36 юношей. Встретил их заведую-
щий военно-физкультурным отделом и после краткой бе-
седы направил на базу специальной части. Но он по-
просил:
— Разрешите мне остаться с группой?
Завотделом куда-то позвонил и ответил согласием. В
Жаворонках прошли дополнительную подготовку. Край-
нова, показавшего хорошие военные и спортивные навы-
ки, к тому же имеющего организаторские способности,
назначили командиром одной из разведывательных
групп. В течение октября — декабря Борис трижды водил
группу на задания. Только в первом выходе в район Мо-
жайска за 19 дней ребята прошли свыше 150 километ-
ров по вражеским тылам, заминировали более десятка
участков автодорог, взорвали два моста и склад боепри-
пасов, нарушали неоднократно связь. Из десяти верну-
лось шестеро с обширными сведениями о дислокации
войск противника.
«Кратковременный отдых, занятия, и 20 ноября — в
район Кубинко — Юрцево — Фоминск — Дорохове вы-
шли две группы по десять человек, вторую возглавлял
земляк Бориса Павел Проворов,— пишет ветеран
А. Ф. Воронина.— Среди девушек находилась и Зоя
Космодемьянская. На этот раз кроме рюкзаков за спи-
ной с толом и продуктами у каждого сбоку брезенто-
вые сумки с бутылками горючей смеси. На четвертый
день неожиданно наткнулись на вражескую огневую точ-
ку, часть бойцов устремилась правее, другая — левее.
Когда встретились, осталась ровно половина. Решили вы-
полнять задания объединенными усилиями. Но неприят-
ности только начинались. На другой день не вернулись
из разведки Лидия Булгина и Клавдия Милорадова. На-
рвавшись на немцев, они целую ночь водили их за со-
бой, а затем, оторвавшись, вынуждены были выходить
на Большую землю».
Между тем, находясь вблизи переднего края против-
ника, крайне редко разводя костры, да и то маленькие,
бойцы отдыхали в наскоро сделанных шалашах в непро-
сушенной одежде и намокших валенках. Простуда ва-
лила с ног...
183
Б. С. Крайнов,
сержант, командир отделения
3-й воздушно-десантной дивизии.
Крайнов приказал Ната-
ше Обуховской выводить
больных к линии фронта.
«В районе Усадковасо мной
осталась одна Зоя Космо-
демьянская,— писал в ра-
порте по возвращении
Крайнов.— Дошли до Пет-
рищева, разошлись по раз-
ным маршрутам с разными
задачами... Зажгли четыре
строения... На место сбора
Зоя не вернулась. Ждал до
утра... В районе Детской
Коммуны — Мякишево пере-
шел линию фронта 29 но-
ября».
Третий его выход был в район Рузы, затем, уже в ян-
варе 1942 года, действовал с группой под Смоленском.
По возвращении накинулся, как всегда, на газеты. И вот
в февральском номере «Правды» увидел очерк Петра
Лидова «Таня». Читая словесный портрет неизвестной
партизанки — «юная, высокая, смуглая, чернобровая, с
живыми темными глазами и темными стрижеными, за-
чесанными наверх волосами»,— Крайнов вздрогнул и не
поверил самому себе. Был описан точный образ Зои. И
место, и обстоятельства не оставляли сомнений. Дело
было в небольшой лесной деревушке Петрищево, где
стояла гитлеровская кавалерийская часть. Зою схватили
при попытке поджечь их конюшню, где стояло свыше
двухсот лошадей. Дальше он не смог сразу прочесть,
скупые солдатские слезы туманили глаза.
И поклялся Борис: «Да не будет мне ни сна ни по-
коя, пока последний немецкий оккупант не исчезнет с
нашей земли». Не раз и не два слышали эту клятву от
него боевые друзья, боевые товарищи по рейдам во вра-
жеский тыл. И всегда шла с ним «Таня», шла Зоя Кос-
модемьянская. Сколько раз он казнил себя: «А правиль-
но ли я поступил, что послал ее тогда? Может быть, сле-
довало идти вместе?»
Да и кто из ветеранов войны до сих пор не казнит
себя, что не смог уберечь от гибели кого-либо из боевых
184
друзей! В конечном итоге приходит к выводу — не мог.
И все же... Как пронзительно выразил это стихами Алек-
сандр Твардовский:
Я знаю: никакой моей вины,
В том, что другие не пришли с войны. •
В том, что они, кто старше, кто моложе,
Остались там. Да не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь.
Речь не о том, но все же, все же, все же...
Осенью 1942 года немало бойцов и командиров воен-
ной части, в которой находился Крайнов, имевших боль-
шой боевой и специальный опыт, направили в действую-
щую армию. В декабре Борис уже был в 3-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии.
«Наша дивизия в то время дислоцировалась на тер-
ритории Щелковского района Московской области,— пи-
шет автору Фадеев, тогда командир взвода роты авто-
матчиков,— готовились к парашютному десантированию.
Было приказано усилить лыжные тренировки. Но среди
личного состава было немало посланцев Средней Азии —
узбеков, которые и лыжи-то видали лишь в кино. И вот
как-то утром при затяжке процедуры надевания лыж
подошел незнакомый спортивного вида десантник.
— Разрешите вам дать совет, товарищ лейтенант,—•
не тратьте зря время и ведите к месту занятий пешком.
При подходе к лесу дайте ориентир атаки. Увидите, как
они быстро встанут на лыжи, так как иначе там вряд
ли пройдешь. И хотя это непедагогично — затягивайте
занятия перед обедом, чтобы эти десять — двенадцать
километров от полигона оставалось только пробежать
на лыжах.
— Спасибо за совет. И кому я обязан?
— Сержант Крайнов, гражданская специальность—«
преподаватель физкультуры.
Так состоялось наше первое знакомство,— продолжа-
ет письмо Фадеев.— Не прошло и двух недель — мои уз-
беки шагали на лыжах, как будто они родом не с юга, а
из Якутии. Командир роты Илья Моисеевич Гольдштейн
был доволен. Остались довольны и командир полка Ки-
рилл Петрович Карабут, и комиссар Игнат Григорьевич
Мазуркевич».
Морозной январской ночью 1943 года с соблюдением
светомаскировки двинулась в путь большая автоколон-
на. Проезжали через разоренные врагом при отходе
Крюково, Солнечногорск, Клин, Калинин... К исходу вто-
рых суток головной 2-й гвардейский полк 3-й дивизии
185
прибыл в Осташков. Спешились, немного обогрелись,
перекусили разогретыми концентратами с сухарями и в
середине ночи вновь тронулись в путь, уже на лыжах,
привезенных с собой. По льду Селигера и по глубокому
снегу в труднопроходимых хвойных лесах, в мороз и
пургу шли и шли вперед, к линии фронта.
«На марше я неоднократно встречался с Крайновым.
Встречи были очень краткими, но неизменно дружески-
ми и взаимоприятными,— вспоминает Фадеев.— Мы по-
настоящему, по-фронтовому подружились. К сожалению,
тогда я не знал, что он имел отношение к Зое Космо-
демьянской в силу его скромности, а также по причине
засекреченности части. Лишь в мае 1977 года, когда я
впервые побывал в памятных местах и посетил могилу
Крайнова, от здешних краеведов узнал об этом».
После нескольких суток утомительного, изматываю-
щего марша подошли к линии фронта. Командующий
1-й ударной армией, в которую вошла 3-я ВДД, генерал-
лейтенант В. 3. Романовский поставил комдиву полков-
нику И. Н. Коневу ответственную задачу: ускоренно под-
готовиться к прорыву долговременной обороны против-
ника, перерезать шоссе Старая Русса — Холм и вести
наступление в направлении Старой Руссы, чтобы отре-
зать вместе с другими частями путь отхода врагу с де-
мянского плацдарма.
Подготовка к операции совпала с приближением
25-й годовщины Красной Армии. Все бойцы и командиры
горели одним желанием — ознаменовать этот большой
праздник победным разгромом демянской группировки
врага. Боевое, приподнятое настроение усилилось пере-
ходом на новую форму одежды. Вместо прежних знаков
различия на погонах с голубым кантом и авиадесантной
эмблемой у Фадеева появились две звездочки, у Край-
нова — две лычки.
«Положение десантников в тридцатиградусные мо-
розы, только что прибывших на передний край, было не
из легких,— пишет далее Фадеев,— хотя и расположи-
лись в лесу. В эти дни, наверное, никто не пользовал-
ся таким авторитетом, как Борис. Он первым со своим
отделением укрылся в искусно сделанных шалашах и
помогал другим. На мой вопрос, где этому научился, от-
ветил: «Во время действий во вражеском тылу мы прак-
тически не заходили в населенные пункты. А зима, как
вы знаете, была еще более суровой...» Его комбат стар-
ший лейтенант Сергей Канушкин не нарадовался, что
получил хорошее пополнение. „Вот увидите,— не раз го-
186
А. С. Фадеев,
капитан, командир батальона
523-го полка
188-й стрелкоаой дивизии.
ворнл он,— из Бориса вый-
дет хороший боевой офи-
цер”:». Однако не сбылись
надежды комбата и ожида-
ния товарищей.
15 февраля в районе
«рамушевского коридора:»
начала наступление 11-я ар-
мия, непосредственно по
плацдарму нанесла удар
34-я армия, и под ее на-
тиском враг оставил Де-
мянск. Гитлеровское коман-
дование предпринимало все
возможное, чтобы быстро и без особых потерь вывести
свои силы. Наиболее упорные бои шли у горловины
плацдарма.
Ранним утром 5 марта вступила в бой и 3-я гвардей-
ская десантная дивизия. Но за час до наступления взвод
Фадеева, размещенный на броне пяти средних танков,
вышел на разведку боем. Фашисты ударили по ним из
орудий и минометов. То же самое было и на соседних
участках. Когда до вражеских укреплений осталось не
более сотни метров, ударила наша артиллерия по рас-
крытым огневым точкам противника. По его второму
эшелону обороны прошлись «катюши». Между тем фаши-
стам удалось подбить три наших танка. Два продолжа-
ли движение и, сопровождаемые спешившимися с под-
битых машин бойцами, ворвались в расположение нем-
цев. А сзади уже гремело и нарастало, перекатывалось
по всему полю:
— Ура-а-а!!!
В это время к Фадееву пробрался офицер связи:
— Полковник Конев объявнл всем участникам опе-
рации благодарность и приказал отдыхать ровно сутки.
Однако отдыхать не пришлось. Развернулся серьез-
ный бой за вторую линию вражеской обороны. Командир
роты Гольдштейн приказал Фадееву оказать помощь
третьему взводу, застрявшему на подступах к деревне
Кошельки на Порусье. Лейтенант не стал напоминать
«87
непосредственному командиру, что имеет разрешение со
своими людьми на отдых от самого комдива, не стал го-
ворить и о полученных ранениях и не мешкая отпра-
вился на помощь третьему взводу, командовал которым
его близкий друг Василий Баранов.
Не успел Фадеев спуститься в указанный Гольдштей-
ном овраг, как его остановил знакомый голос Крайнова:
— Ну и здорово вы сегодня поработали!
Здесь, оказывается, был не только Баранов, но еще
и двое офицеров второго батальона, а всего до шестиде-
сяти десантников, пришедших вместе с Борисом. И как-
то автоматически Фадеев был признан старшим.
«Кошельки находились где-то в полукилометре от
нас,— продолжает автор письма,— за ровным чистым по-
лем. Посовещавшись, выбрались наверх и по-пластун-
ски двинулись на сближение с врагом. Глубокий снег на-
дежно прикрывал нас, одетых в маскхалаты. Я уже ра-
довался, что операция началась успешно, когда немец-
кий снайпер, по-видимому, заметил мои команды, пода-
ваемые не только голосом, но и жестами. Я почувствовал
неожиданно тупой удар в правую лопатку, и здесь же
сильная боль пронзила плечо. Следующей пулей он меня
бы прикончил. Наверное, это и заметил Крайнов, когда
с возгласом: «Берегись, лейтенант!» — бросился ко мне,
чтобы оттащить в безопасное место. Возглас и падение
рядом произошли в течение каких-то доль секунд. Раз-
рывная пуля, предназначавшаяся мне, ударила ему в
голову».
В наступивших сумерках сводная рота атак больше
не предпринимала. С помощью ординарца Фадеев вы-
брался из опасной зоны, его наскоро перевязали, с тру-
дом довели до санроты. При свете керосиновой лампы ра-
ну тщательно обработали. На санях его доставили в
медсанбат. На другой день, когда раненых уже приго-
товили к отправке в эвакогоспиталь, примчался Бара-
нов. От него лейтенант узнал, как ранним утром осво-
бодили Кошельки.
— Где похоронили Крайнова? — глухо спросил Фа-
деев.
— В братской могиле у дороги. (После войны остан-
ки перенесены на кладбище близ деревни Ефремово.)
Через три с половиной месяца Фадеев вернулся, но
дивизия, потерявшая в тех боях до 70 процентов своего
состава, была отведена на отдых и пополнение, а затем
переброшена под Курск. Довелось ему потом служить в
28-й гвардейской стрелковой дивизии, а после нового ра-
188
нения — в 188-й. Участвовал он в освобожении Украины,
Румынии, Болгарии. Всего был ранен семь раз, награж-
ден четырьмя боевыми орденами и тринадцатью меда-
лями, среди которых две болгарские. В мае 1972 года
уволился в запас.
«Но никогда меня не покидала мысль найти родст-
венников Крайнова,— пишет ветеран,— фактически спас-
шего меня тогда под Кошельками... Послал десятки пи-
сем по официальным и личным адресам... Поиск ослож-
нялся тем, что Борис служил не в нашей роте и даже
батальоне, не говоря уже о первоначальной службе. Сей-
час переписываюсь с братом Бориса — участником вой-
ны Федором Сергеевичем, с В. М. Баскаковым, К. В. Су-
качевой и А. Ф. Ворониной из партизанских групп Край-
нова, с работниками музея Зои Космодемьянской в селе
Петрищево Московской области».
Именем Крайнова в Ярославле названы улица и пио-
нерские дружины двух средних школ в городе и районе.
За родной Терек
Беса Магомедович Шадов был призван на действи-
тельную военную службу в марте 1941 года и направлен
в школу связи города Армавира. «Время было суровое,—
пишет автору ветеран,— в Европе полыхала война, и мы
старались как можно лучше освоить определенную нам
специальность. Вместе со мною учился односельчанин
Шериев Чиляни Джахфарович, только я на радиста, а
он — связиста. Здесь и застала война. В октябре 1941 го-
да прибыли на Северо-Западный фронт, где нас опреде-
лили во второй батальон 86-го полка 180-п стрелковой
дивизии. К сожалению, никого из командиров не помню.
Дивизия находилась в обороне, но с земляком встреча-
лись очень редко, наверное, не больше раза в неделю,
да и то накоротке. Обменяемся новостями, дошедшими
из родного села Верхний Курп, да, глядя на неторопли-
вую Ловать, текущую в болотистой низине, размечтаемся
об оставленных на неизвестное время горах Кавказа и
Тереке, ревущем в Дарьяльском ущелье».
В ночь на 3 января Шериев ушел в глубокую развед-
ку. Группа вернулась 6-го, а ранним утром 7 января
1942 года 180-я дивизия полковника И. И. Миссана пос-
ле четырехмесячной жестокой обороны снялась с обжи-
тых позиций и по глубокому снегу и непромерзшим бо-
лотам разведанным путем двинулась в тыл 290-й враже-
189
ской пехотной дивизии. Внезапность удара привела к
значительному успеху — бойцы заняли несколько насе-
ленных пунктов, разгромили и уничтожили основные
силы фашистского соединения. Но при этом две до-
вольно большие группы противника, оправившись, сор-
ганизовались и оказывали отчаянное сопротивление.
— Нам на помощь командование срочно перебросило
74-ю морскую бригаду полковника С. В. Лишенкова,—
рассказывал на встрече в Старой Руссе бывший стар-
ший инструктор политотдела 180-й, подполковник в от-
ставке, А. И. Дьяконов, шедший тогда с авангардом.—
Однако и моряки долго не могли продвинуться вперед.
Нашим атакам мешал кинжальный бой фашистского пу-
лемета, стрелявшего с геофизической вышки, находив-
шейся у населенного пункта Хмелеве. Сопровождавшим
нас минометчикам никак было его не взять, а чтобы
ждать артиллерию, нужно время. После нескольких не-
удачных попыток подобраться к огневой точке ее вы-
звался заглушить стрелок-радист, сын Кабардино-Бал-
карии, Беса Шадов. Фронтовые друзья звали его на рус-
ский манер Борисом. Он уже не раз выполнял отчаянно
смелые задания, на какие решался далеко не каждый
солдат. Не случайно на его груди блестела медаль «За
отвагу». А ведь это было время, тяжелое время, когда
и командованию было не до наград.
О том, что было дальше, рассказывает в письме сам
Беса Магомедович: «Когда мы наступали, немцы, подпу-
стив нас, неожиданно открыли огонь из пулемета, нахо-
дившегося на геодезической вышке. Мы залегли на сне-
гу, а мороз сильный был. Командир одного за другим
посылает... уже третий не вернулся... И тогда я пошел,
сдав рацию кому-то, сейчас не помню...»
Вот так, казалось бы, довольно буднично и просто,
как и бывало на войне. Постараемся же насколько воз-
можно подробно проследить весь путь смельчака.
Получив согласие командира, облачившись в белый
маскхалат, Беса проверил оружие и, бросив обычное в
таких случаях фронтовое: «Я пошел»,— двинулся впе-
ред. Он полз, глубоко зарываясь в снег, и не напрямую
к вышке, а несколько в сторону. Боевые товарищи ста-
рались насколько возможно отвлечь внимание вражеских
пулеметчиков и вели интенсивный огонь из винтовок и
автоматов.
Между тем Шадов, в недавнем прошлом охотник и
прирожденный следопыт, быстро продвигался. Не слу-
чайно даже бывалых разведчиков поражало его умение
190
маскироваться и ползти совсем незаметно. Уже через ка-
кую-нибудь минуту белую фигуру на снегу не могли за-
метить даже те, кто пристально следил за его дейст-
виями.
Он приподнял голову, огляделся, определил — с на-
правления не сбился, цель несколько правее, до нее уже
рукой подать. Да и фрицы вряд ли ожидают захода
на них только что не из тыла. Он резко повернул к выш-
ке и здесь заметил в неестественной позе, явно неживого,
одного из тех, кто уже пытался идти этим путем. «Про-
сти, друг, нет времени заниматься тобой,— подумал Бе-
са.— Я должен выполнить то, что ты не успел».
Выполнить... Но как?! Сделано всего полдела, а глав-
ное впереди.
Томительно тянулись минуты для тех, кто следил за
отчаянным воином. Наконец они увидели, как белый ко-
мок, словно призрак, какими-то мягкими, кошачьими
движениями, но очень быстро стал подниматься вверх
по зыбким ступенькам вышки.
Теперь снова слово предоставим самому Бесе Маго-
медовичу:
«Добрался до вышки. Смотрю — наверх ведет непло-
хо сделанная лестница, и даже с перилами. Можно поч-
ти незаметно подняться, тем более в валенках. Но только
миновал один поворот — наши постепенно прекратили
огонь. Это встревожило немцев, они тоже замолчали. Но
к этому времени я уже площадки достиг. И первое, что
бросилось в глаза,— подкованные сапоги лежавшего на
полу фрица, то ли убитого, то ли раненного. Второй сто-
ял спиной ко мне у станкового пулемета... У него чуть
глаза не вылезли из орбит от страха, когда я схватил
его за воротник шинели и ремень, слегка приподнял и
сбросил. Затем развернул пулемет и ударил по фаши-
стам, изготовившимся к контратаке».
— Наступила тишина,— рассказывал далее Дьяко-
нов.— Вражеский пулемет молчал, но наши цепи все еще
не решались подняться: а вдруг... Они даже на какое-то
мгновение еще сильнее прижались к земле, потому что
ожил вдруг пулемет. Но замешательство было минут-
ным, ибо тут же определили, что бьет он совсем в другую
сторону, по гитлеровцам.
С вышки к ним устремился Шадов. Несмотря на мо-
роз, он был весь мокрый, по обветренному лицу струил-
ся пот. Бойцы на ходу поздравляли его, хвалили. Видно,
и у героя спадало величайшее напряжение, он даже пы-
тался шутить, когда мимо бежала группа моряков:
191
Б. ЛЛ. Шадов,
рядовой 86-го полка
180-й стрелковой дивизии.
«Братишки, кончайте
это дело, а то я еще боль-
ше вспотею и могу просту-
диться».
Несмотря на серьез-
ность ситуации, те неволь-
но засмеялись.
«Молодец! А сейчас —
сушиться в первую же из-
бу!»— услышал Беса при-
казание подоспевшего ком-
бата.
«Так ее еще освободить
надо от фрицев»,— бросил
в ответ Шадов и пристро-
ился рядом.
Красноармейцы и моряки ворвались в Хмелево, схва-
тились врукопашную, а кто в ней устоит против совет-
ского солдата?! Когда бой окончательно стих и герой
снова орудовал около возвращенной радиостанции, Дья-
конов поинтересовался:
— Товарищ Шадов, мы видели, как вы сбросили фа-
шиста и он, перевернувшись в воздухе, плюхнулся в
снег. Но почему не сразу огонь открыли?
— Да, видите ли, я первый раз держал в руках та-
кую «машинку». Нас же в школе связи не учили ими
пользоваться. И из своего-то пулемета дали выпустить
всего несколько патронов, ибо пуще глаза в тылу бере-
гут их. И нужно было какое-то время, чтобы сообразить,
что к чему.
Утром 10 января части Миссана продолжали наступ-
ление. Впереди было Парфнно. На подступах к фанер-
ному заводу сразу же завязался жаркий бой. Шадов с
рацией, как обычно, находился около командира баталь-
она. Вдруг заметил, как медленно стал оседать комбат.
Беса подхватил его, осторожно положил на плащ-палат-
ку, оттащил в более безопасное место и передал «док-
тору», как уважительно называли на фронте военфельд-
шеров переднего края. А сам, где пригнувшись, где полз-
ком, вернулся в цепь.
Вот-вот должна была последовать команда «вперед».
И в этот момент что-то ударило Шадова в правое плечо,
191
нестерпимо больно обожгло. Теряя сознание, он увидел,
как боевые друзья рванулись вперед. Очнулся в полко-
вой санчасти, рядом стоял Чиляни Шериев.
— Ну вот и хорошо, самое плохое уже позади,— сы-
пал словами обрадованный земляк.— А мне политрук,
что заменил комбата, и говорит: «Давай доставь своего
друга прямо к врачам...» Ну, в общем, я пошел.
Друзья тепло попрощались. Чиляни обещал сразу же
после боя отписать домой, так как Беса, естественно, это-
го сделать не мог, и ушел. А в вечернем наступлении
его самого ранило, и тоже в плечо.
После излечения Шериев попал в стрелковую диви-
зию, стоящую под Холмом. В дальнейшем участвовал в
освобождении Белоруссии, Польши, был снова ранен,
правда легко, в ногу, но без госпиталя не обошлось.
После войны жил в родном селе Верхний Курп.
Санитарный эшелон доставил Шадова в Горький, где
он пролежал четыре месяца. О возвращении на фронт
не могло быть и речи. Списали вчистую и отправили до-
мой. На мой вопрос, чем он занимался после войны, Бе-
са Магомедович ответил: «Наверное, легче сказать, чем
не занимался. И пахал, и сеял, и в правлении колхоза
работал. А когда стало нездоровиться — заправщиком
на колхозной нефтебазе».
Несмотря на фронтовое увечье, на инвалидность, он
остался в строю, помогая посильным трудом армии. А
его 180-я с тяжелыми боями продолжала продвигаться
на запад. 3 мая, слушая, как всегда, сводку Совинформ-
бюро, Шадов услышал радостную весть — его дивизия
первой на Северо-Западном фронте преобразована в
28-ю гвардейскую.
За большие успехи в десятой пятилетке колхоз
«Красная Звезда» Терского района Кабардино-Балкарии
был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
При вручении награды говорили о лучших людях кол-
лектива, и одним из первых был назван Беса Магомедо-
вич.
— В бою не жалел крови, в труде не жалеет пота,—
сказал о нем председатель правления Герой Социалисти-
ческого Труда Азматгери Жерович Панагов.
«Не забудешь ты священный Ильмень»
В Старорусском районе находится около трети воин-
ских кладбищ и братских захоронений от их общего
числа в Новгородской области. И старорусцы никогда
192
не забудут, что жизнь каждого из них оплачена кровью
не менее троих, павших здесь в жестоких боях.
В Приильменье сражались с фашизмом представите-
ли пятидесяти народов, многие из которых относятся к
так называемым малым. Среди таких довольно большую
группу составляли якуты.
20 ноября 1968 года близ села Буреги на дороге
Шимск — Старая Русса состоялся торжественный ми-
тинг. Представители трудящихся Старой Руссы и почет-
ные гости из Якутии сняли покрывало с гранитного обе-
лиска, зазвучал Гимн Советского Союза, загремел вин-
товочный залп. Взору собравшихся открылась надпись:
«Вечная слава воинам-якутам, погибшим в боях за осво-
бождение Старорусского района от немецко-фашистских
захватчиков в 1943 году». По бокам каменного основа-
ния обелиска три мраморные плиты, на которых горят
золотые буквы: «Вечная слава павшим в боях на озере
Ильмень. От правительства Якутской АССР».
— Пусть этот обелиск станет символом нерушимой
дружбы между нашими народами,— сказал на митинге
участник боев И. П. Канаев.
От имени делегации Председатель Президиума Вер-
ховного Совета Якутской АССР А. Я. Овчинникова по-
благодарила трудящихся Новгородской области за уча-
стие, за большие хлопоты по увековечению памяти по-
гибших.
— Спасибо вам большое,— сказала она в заключе-
ние,— и земной поклон.
К подножию памятника легли венки и цветы. Комсо-
мольцы борисовской средней школы говорили на ми-
тинге о том, что ратные подвиги погибших ими не за-
быты.
Несмотря на то что Якутия находилась в глубоком
тылу, тысячи ее лучших сынов с оружием в руках сража-
лись в годы войны против захватчиков. Воевали и яку-
ты, и эвенки, и эвены, и другие народы Севера. Наиболее
значительные контингенты их участвовали в сражениях
под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и под
Ленинградом. Около трехсот якутов сражалось в рядах
310-й стрелковой дивизии под Новгородом; около ше-
стисот влились в формируемую в Сибири 19-ю отдель-
ную лыжную бригаду. На Урале прошли краткую воен-
ную подготовку, а затем — на Северо-Западный фронт.
Это было время, когда бои с демянской группировкой
противника, начатые еще в конце декабря 1942 года и
достигшие наивысшего накала в районе «рамушевского
194
коридора», продолжались. Когда фронт в конце января
получил приказ о решительном наступлении и пополнял-
ся все новыми частями и техникой.
15 февраля 1943 года пошла в наступление 11-я ар-
мия в полосе «рамушевского коридора», затем 1-я удар-
ная. 21 февраля под натиском частей 34-й армии враг
оставил Демянск и продолжал отход. Создавались ре-
альные предпосылки для освобождения Старой Руссы.
И наряду с продвижением советских войск со стороны
Демянска было решено нанести удар с севера частями
только что сформированного 12-го гвардейского стрелко-
вого корпуса. 18 февраля в его подчинение поступила
19-я отдельная лыжная бригада, которая должна была
форсировать по льду озеро Ильмень, овладеть группой
деревень в устье рек Псижи и Переходы и перерезать
дорогу Шимск — Старая Русса.
— В ночь на двадцать третье февраля,— вспоминал
Иннокентий Канаев,— мы вышли на поросший мелким ку-
старником берег озера в местности Железный Маяк.
Предстояло пройти немалый путь по чистому льду. Пос-
ле непродолжительного отдыха около полуночи поба-
тальонно вышли в поход. Белые маскхалаты и темнота
надежно укрывали нас. Но поздно ночью неожиданно
разыгралась метель.
Справившись с волнением, ветеран продолжал:
— К пяти ноль-ноль в трех-четырех километрах за-
метили берег. Второй батальон, идущий головным, не
сбавляя хода, изготовился к атаке. Но лед есть лед.
Уже занимался рассвет, когда советские воины не-
ожиданно для противника ворвались в деревню Ретле.
Фашисты, не выдержав натиска и потеряв значительную
часть гарнизона, отступили в соседнюю деревню. Чуть
ли не на плечах отступавших лыжники завязали бой за
деревни Горки и Конечек. На помощь второму батальо-
ну подоспела часть третьего, и деревни были взяты. Си-
биряки бросились на штурм Устрики.
Однако вражеские укрепления на побережье были
достаточно крепки и насыщены огневыми средствами.
Когда прошел шок внезапности, фашисты открыли
шквальный пулеметно-минометный огонь по рядам на-
ступавших и ураганный артиллерийский огонь по еще
подходившим к берегу. Хуже того, подоспела враже-
ская авиация. А укрыться негде — лед раскалывался и
крошился под ударами снарядов и бомб, все увеличива-
ющиеся полыньи заглатывали не успевших выскочить на
берег.
195
Участник тех боев якутский поэт Сергей Васильев в
поэме «Священный Ильмень» так описал этот трагиче-
ский момент:
Как коварно яснел небосвод,
Приближая зловещий восход...
И внезапно —
Налет...
Это был не восход —
Ад...
Ни вперед,
Ни назад!
Сжат,
Умирал,
Утопал
Брат...
А над Леной рыдал
Снегопад...
— Многие бойцы третьего и особенно из первого ба-
тальона погибли,— с грустью рассказывал на встрече со
школьниками Старой Руссы участник боя Д. Д. Олло-
нов, кавалер десяти орденов СССР и Монголии.— Остав-
шиеся в живых бились один за двоих, троих и продол-
жали выполнять поставленную задачу. А ведь для брига-
ды и подавляющего большинства из нас это был первый
бой, боевое крещение. Но никто не дрогнул, никто не
спасовал, героизм воистину был массовым.
Фашистское командование, видя, что с этой стороны
больше угрозы нет, предприняло контратаку. «Из гар-
низонов деревень Буреги и Солобско двинулись отряды
лыжников, из Старой Руссы примчались бронетранспор-
теры с десантниками на борту. В воздухе постоянно на-
ходились немецкие самолеты... 19-я бригада вынуждена
была отойти на исходные рубежи»1.
В течение двух дней в этом районе никаких серьез-
ных боевых действий не предпринималось. И противник
успокоился, посчитав, что советские части вообще здесь
наступать не будут, тем более со стороны озера. А с во-
сточной — была надежная защита в виде линии «Норд»,
состоящей из опорных пунктов на дороге Старая Рус-
са— Взвад, которые были связаны огневой системой.
На обороне линии находились отборные головорезы.
Однако, не ожидая ударов советских частей с запа-
да, противник всю систему огня строил в течение зимы
в северо-восточном и южном направлениях. В этих на-
правлениях и велось наблюдение.
‘ ЦАМО, ф, 127, оп, 16598, д. 20, л, 1—4.
196
На берегу Ильмань-озера.
Командование корпуса поручило операцию по овла-
дению «Норд* 19-й бригаде, пополненной людьми.
26 февраля в 14.00 сибиряки сосредоточились на се-
веро-западном берегу озера Любжнр в дельте Ловати,
затем передвинулись на западный берег реки Подбо-
ровки и расположились в мелком кустарнике всего в
двух километрах от вражеских укреплений. Чтобы ввести
197
противника в заблуждение, комкор приказал предпри-
нять ложное наступление на Взвад с северо-востока си-
лами до 150 бойцов.
В 18.00 в воздух взлетели красные ракеты и под при-
крытием минометного и пулеметного огня, так как ору-
дий не было, сибиряки двинулись вперед. Захваченные
врасплох гитлеровцы не смогли дать организованного
отпора. Через два часа советские воины овладели дерев-
нями Некрасове, Подборовка и Корпово. Поздно ночью
с помощью сводного батальона из других подразделений
корпуса покончили и с гарнизоном Взвада. Только здесь
фашисты потеряли до ста солдат и офицеров убитыми,
39 было взято в плен.
Ранней весною 1943 года 19-я бригада, значительно
поредевшая в боях, была влита в 127-ю стрелковую
бригаду, а та вскоре вошла в формируемую 150-ю стрел-
ковую дивизию, которая прошла путь от Ловати до
Шпрее — от Старой Руссы до Берлина — и водрузила
знамя Победы над рейхстагом.
Да, были у ветеранов 19-й бригады и другие бои, но
навсегда врезался в память тот, 23 февраля. И когда
под Старой Руссой открыли памятник якутам, Сергей
Васильев ответил новыми стихами «Сердце не способно
забывать», где есть такие строки:
Пусть солдат оплакивают ливни,
Бьются волны в грудь земли сырой —
Братски пригорюнившийся Ильмень
С Леной — опечаленной сестрой...
Скрепленное совместно пролитой кровью братство
навсегда сроднило древнюю новгородскую землю и бога-
тырский край алмазов и пушнины. На братской могиле
в деревне Буреги, куда перенесли останки героев из дру-
гих захоронений, круглый год венки и цветы. Всегда они
и у памятного обелиска. Ежегодно в феврале или мае
здесь можно увидеть посланцев далекой Якутии. Чаще
всего это ветераны войны — участники боев в Прииль-
менье или родные павших героев, иногда делегации тру-
дящихся.
В Старорусском музее Северо-Западного фронта вид-
ное место занимает бивень мамонта, привезенный одной
из делегаций во главе с заместителем Председателя Сов-
мина Якутской АССР Т. Д. Сивцовым. Его длина около
трех метров, вес 60 килограммов. Бивень нашел охотник
Спиридон Лебедев, а расписал и украсил резьбой мо-
лодой художник Аким Бурцев. Нижний край его оформ-
198
лен в виде зубцов коновязи — якутского символа госте-
приимства и дружбы. Бивень заполнен росписями, рас-
крывающими летопись жизни народа Якутии. Централь-
ное место на бивне занимают рисунок боевого эпизода на
Ильмене, строки из поэмы Васильева «Священный Иль-
мень», барельефы новгородского кремля, памятника
«Тысячелетию России», гранитного обелиска близ Бурег.
18 февраля 1984 года группа ветеранов — участников
боев на Ильмене по приглашению старорусцев приезжа-
ла на торжества, посвященные вручению городу ордена
Отечественной войны I степени. В сиянии золотых лучей
ордена отражалась и боевая слава сыновей далекой
братской Якутии. С фронтовыми клятвами сороковых го-
дов перекликались стихи якутского поэта Васильева:
...Тишь часов, минут, секунд и терций
Не позволим недругам взорвать!—
Потому что не способно сердце
Павших за Отчизну забывать!
На дно реки за танками
Осенью 1969 года гвардии полковник в отставке Вла-
димир Павлович Тарасенко получил по почте книгу «На
Северо-Западном фронте» \ титульный лист которой ук-
рашал автограф: «Прошу Вас принять от меня на доб-
рую и долгую память эту книгу, свидетельствующую о
героических делах воинов Северо-Западного фронта, где
и Вы в свои молодые годы внесли достойный вклад в
дело разгрома армии фашистской Германии. С ком. при-
ветом маршал бронетанковых войск Полубояров».
С понятным волнением ветеран в статье «Крепче бро-
ни», написанной маршалом, прочитал об одном из мно-
гих эпизодов своей боевой юности, за которые Родина
удостоила его орденов Красного Знамени, Отечествен-
ной войны I и II степени, трех Красной Звезды. Да, ше-
сти боевых орденов! И заслужил их, казалось бы, не
столь уж приметный в большой семье военных специа-
листов техник-лейтенант.
После декабрьских событий под Москвой изменилась
обстановка и на Северо-Западном фронте. Советские вой-
ска готовили мощный контрудар. В результате сильных
морозов хорошо промерзли болота. И там, где осенью
с большим трудом пробирались партизанские группы, в
1 На Северо-Западном фронте. М.: Наука, 1969.
199
тыл врага в полнейшей тишине были проведены роты и
батальоны 188-й стрелковой дивизии. Части 180-й диви-
зии блокировали опорные пункты на реке Ловати. В
помощь пехотинцам, отбивающим яростные контратаки,
каждой дивизии придали по танковому батальону. До-
ставка их к месту боев через водные преграды, изобилу-
ющие в дельте Ловати, легла на плечи саперных подраз-
делений.
Так как 188-я дивизия уже вела бои под Старой Рус-
сой, в начале было решено переправить машины придан-
ного ей батальона. Всех тревожило одно: выдержит ли
лед КВ? И когда первая машина спустилась с берега
на переправу, Егоров и комбат майор Максимов пошли
рядом. Лед прогибался, из лунок фонтанировала вода.
Когда же танк подошел к середине Ловати, образова-
лись сплошные трещины параллельно переправе по обе
стороны от одного берега до другого. Все затаили ды-
хание, но КВ шел и шел, и вылез на противоположный
берег...
Поверив в надежность переправы, выдержавшей да-
же пять тяжелых КВ, водители Т-34, не ожидая, пока
первый вылезет на противоположный берег, сошли на
лед один за другим, соблюдая крайне малую опасную
дистанцию. Между тем головной танк неожиданно для
всех вдруг замедлил движение, а затем стал сползать
назад. Идущий следом вынужден был сделать то же са-
мое. И оба, пробив кормою лед, погрузились в воду. Ху-
же того, возобновился артиллерийский обстрел и шаль-
ной снаряд разорвался непосредственно в колонне, уто-
пив один танк и отрезав другие на самой середине реки.
Были лишены маневра и машины, находившиеся на уце-
левшей части переправы, стиснутые с обеих сторон тре-
щинами. Они уходили под воду одна за другой на глазах
пораженных ужасом зрителей на обеих сторонах Лова-
ти, не могущих ничем помочь боевым товарищам. Прав-
да, несколько танкистов все же смогли выскочить из то-
нущих машин.
Столь неожиданный роковой финал привел в полное
замешательство дивизионного инженера Л. В. Попова,
на какое-то время он, кажется, даже потерял речь. Да
и было от чего: гибель людей, гибель машин! А танков
и без того мало. Ни эвакоремонтных средств, ни водо-
лазных костюмов, никакого опыта извлечения тяжелых
машин из воды!
Узнав о происшедшем, начальник отдела бронетанко-
вых и механизированных войск штаба 11-й армии пол-
200
ковник Катенин, прежде чем доложить вышестоящему
командованию, мучительно думал, кому поручить эту от-
ветственную операцию. Даже в самых оптимальных ус-
ловиях погоды она была чрезвычайно сложной, а тут
сорокаградусный мороз!
— Да кроме Тарасенко из 103-го тяжелого танкового
батальона некому,— подал мысль кто-то из сотрудников
отдела.
Катенин схватил телефонную трубку.
— Немедленно соедините с Полубояровым!
Маршал бронетанковых войск Павел Павлович Полу-
бояров, в то время начальник автобронетанкового управ-
ления Северо-Западного фронта, вспоминает об этом
так: «Мы вызвали Тарасенко в управление, указали
места, где затонули танки, объяснили задачу и предсто-
ящие трудности. Выслушали его соображения и согласи-
лись с ними. Старший техник-лейтенант без колебаний
принялся за дело, с выделенными ему в помощь людьми
сразу же направился в район ЧП. По велению Тарасен-
ко саперы в ближайшем удалении от реки натянули две
большие брезентовые палатки, в одной из которых по-
ставили железные печки для обогрева вытаскиваемых
танков, в другой — автомашину с отапливаемой буд-
кой — для него. Прибыли тяжелые танковые тягачи, до-
ставили багры и лестницы. И вот солдаты пробили на
реке широкую прорубь и протянули к ней прикреплен-
ные к тягачам тросы. Чтобы офицер не простудился, его
нижнее белье пропитали в универсальной смазке (смесь
солидола с консталином), затем обильно смазали ею
ватные брюки и телогрейку...» 1
Что было дальше, мы узнаем не столько у Полубояро-
ва, сколько в изложении бывшего редактора газеты
«Знамя Советов» 11-й армии полковника в отставке
В. Б. Фарберова1 2. Довольно подробно об этом эпизоде
рассказал и генерал-майор А. Г. Егоров в письме авто-
ру этой книги.
По длинной лестнице Тарасенко спустился в прорубь,
держа в руке длинный трос. На нем маска противогаза,
в трубку которой заправлен шестиметровый шланг, а к
ремню поверх телогрейки прикреплены грузы и сигналь-
ная веревка. На ощупь нашел танк и после долгих уси-
лий надел серьгу троса на правый крюк машины. За вто-
рой зацепить не мог: мешал бортовой трос. Потянул ве-
1 На Северо-Западном фронте, с. 129,
2 Новгородская правда, 1971, 8 мая.
201
ревку. Стоявшие у проруби воины извлекли героя из
реки. Офицер был бледен, зубы стучали...
— Тащите,— приказал он водителям тягачей,— но
будьте до предела осторожны: вся масса держится на
одном крюке!
Тарасенко зашел в палатку, его подняли в отапливае-
мую будку автомашины. Медики протерли тело спиртом,
и через 20 минут он снова ушел под воду...
Между тем первый танк извлекли из реки, открыли
люк и вынесли погибших товарищей. Затем машину втя-
нули в обогреваемую палатку. Здесь освободили от во-
ды, находившейся в моторе и других системах, чтобы без
разборки восстановить двигатель, узлы, механизмы... Но
вот снова заработала сигнальная веревка, и начался тот
же цикл подъема наверх отважного танкиста и извлече-
ние очередной машины из ледяного плена. И так 10 раз
без водолазного костюма и опыта! Все машины были
спасены, отремонтированы и приняли участие в боях по
окружению демянской группировки противника.
Маршал Полубояров в заключение краткого упоми-
нания о подвиге писал: «За самоотверженный поступок
В. П. Тарасенко был награжден боевым орденом, повы-
шен в должности. Но, мне думается, не ради собствен-
ной славы или честолюбия он шел на это. Фронту нуж-
ны были танки, и офицер не задумываясь пошел на то,
что совершил бы любой другой, кому доверили ответст-
венное дело» Ч
Принимая полностью первую часть, не могу согла-
ситься с тем, что на это мог пойти «любой другой». По-
чему же их не нашлось даже среди помощников, кто бы
спустился вместе с ним или подменил его?!
Нет, на такое способен далеко не каждый. Требова-
лись мужество и отвага, природная сметка и професси-
онализм, и, наконец, незаурядное здоровье. Да, да и
это. Даже представить себе трудно, как он мог вынести
чисто физическую нагрузку в таких экстремальных ус-
ловиях. Без специального костюма опуститься на дно
замерзшей реки. Примитивно приспособленное одеяние
в какой-то степени отталкивало воду, но это отнюдь не
железные доспехи рыцаря, что могут оградить от разры-
ва вражеских снарядов. И на земле, бывало, чувству-
ешь себя довольно неуютно под артобстрелом, а в воде,
да в кромешной тьме, да в полном одиночестве! Не еди-
ножды его оглушал разрыв снаряда, не единожды сдав-
J На Северо-Западном фронте, с, 130,
202
ливало грудь, и он чувствовал себя немногим лучше
оглушенной рыбы, собираемой солдатами в водоемах
после бомбардировки или артобстрела.
Пройдя тернистыми дорогами войны до самой Праги,
Владимир Павлович Тарасенко остался жив. Жил в го-
роде Бобруйске Могилевской области Белоруссии, дли-
тельное время возглавлял межрайонное объединение
«Сельхозтехника», затем колхоз имени Дзержинского.
К боевым наградам прибавились мирные: два ордена
Ленина и Октябрьской Революции... Владимир Павлович
умер в 1980 году.
Витязь
Кто не читал поэму «Витязь в тигровой шкуре» Шота
Руставели! Кто не восторгался ее героями! Не одно по-
коление свободолюбивых горцев Кавказа воспитывалось
на славных традициях, воспетых в величайшей поэме
мировой литературы.
И вот, просматривая очередной номер газеты Северо-
Западного фронта «За Родину» от 26 ноября 1942 года,
встретил небольшой очерк «Витязь». Правда, герой Ки-
гурадзе был не «в тигровой шкуре», но сыном гор, и его
звали так же как того легендарного — Автандилом.
Материалы весьма заинтересовали, но поиски следов
«Витязя» в течение долгого времени были безуспешны-
ми, пока в «Новгородской правде» не увидел еще один
очерк бывшего военного корреспондента В. Б. Фарберо-
ва, дополненный рассказом о послевоенной жизни ге-
роя '. Узнал адрес Кигурадзе, завязалась переписка.
22 июня 1941 года Автандил Моисеевич встретил
курсантом Краснодарского авиаучилища, куда был за-
числен всего месяц назад. С выходом гитлеровской ар-
мии на Северный Кавказ училище эвакуировали в Сара-
товскую область и многих курсантов в звании старших
сержантов перебросили в запасную стрелковую бригаду
для помощи в подготовке резервов. Между тем обстанов-
ка на фронте все ухудшалась, и Кигурадзе с другом
Килсиигом Шейх-Ахмедовым написали рапорт с прось-
бой включить в очередную маршевую роту. 1 сентября
1942 года пополнение прибыло под Старую Руссу. Дру-
зей зачислили в отдельную разведроту 370-й стрелковой
дивизии.
Начались занятия с опытными специалистами, выхо- .
ды на практику. Автандил, крепко сложенный и хорошо Я
1 Новгородская правда, 1967, И июля,
203
натренированный в приемах бокса и самбо, как нельзя
лучше подходил к этой весьма нелегкой военной профес-
сии. И никто не удивился, когда через две недели он
возглавил группу.
«Наша дивизия в то время занимала оборону южнее
так называемого «рамушевского коридора»,— писал мне
Кигурадзе.— Штаб находился в овраге близ деревень
Большая и Малая Ивановщина. Изломанная линия
фронта проходила перед деревнями Налючи — Стрели-
ны — Курландское... Разведрота располагалась в блин-
дажах недалеко от штаба дивизии».
После выхода во вражеский тыл разведчикам давали
несколько суток отдыха. Друзья чаще всего проводили
эти часы вместе. То писали письма, то вспоминали род-
ные места.
Вечер 13 ноября мало чем отличался от других сво- \
бодных. Автандил не торопясь заканчивал письмо домой,
начатое еще утром. «Здравствуйте, мои дорогие папа,
мама, сестрички Мадона и Мери! У меня все по-преж-
нему: жив, здоров, не ранен... Папа, в последнем пись-
ме ты несколько раз подчеркнул слова «крепись, сын!».
Да, здесь нелегко, но и тебе, дорогой, было несладко на
многолетней царской каторге после участия в революции
пятого года». Дописать письмо не удалось — получил
срочное задание добыть «языка».
Девять бойцов во главе с Кигурадзе лишний раз про-
верили автоматы и запасные диски, отобрали ручные
гранаты «лимонки», получили сухой паек и легли спать.
Поздней ночью двинулись в путь. «Шли, как помню,—
пишет Автандил,— проселочной дорогой, через лес. Часа
через полтора были на месте. Приблизились, замерли...
И вот из блиндажа вышел фриц, двинулся в нашу сто-
рону. Мы не стали гадать, куда его понесло, а бесшум-
но подошли сзади и скомандовали: «Хенде хох!» Немец
дрожа поднял руки, даже не сделав попытки сопротив-
ления... Однако не успели далеко отойти, как раздался
шум и началась беспорядочная стрельба. Но бесприцель-
ный огонь не нанес вреда, и мы благополучно возврати-
лись на свою передовую».
Так без единого выстрела группа Автандила захвати-
ла и доставила «языка», что даже у более опытных раз-
ведчиков случалось не часто. Захваченный гитлеровец
дал очень ценные показания о готовящемся наступлении
на участке.
После обеда капитан Кривошеин вызвал отдыхающе-
го Автандила.
204
— Генерал Морозов просил передать вашей группе
личную благодарность. Но, учитывая серьезность полу-
ченных данных, приказал взять с того же участка «конт-
рольного языка». Выполнить такое задание в самый
сжатый срок могут лишь те, кто знаком с местностью,
то есть вы.
Вот и дзот. Привыкшие к темноте глаза Автандила
заметили часового. Но место открытое, и подойти к не-
му незаметно было невозможно. Тогда, как было огово-
рено, Кигурадзе выстрелил в постового и группа захва-
та— он, Григорий Подтамошнев и Алексей Крысин —
кинулась к дзоту. В амбразуру одна за другой полетели
гранаты. Напружинив тело, старший спрыгнул в тран-
шею. В этот момент из блиндажа выскочил ошеломлен-
ный фашист. Боксерским приемом — ударом в челюсть—
Кигурадзе нокаутировал его. И, не дав опомниться, вы-
толкнул на бруствер в руки Подтамошнева и Крысина.
— Тащите!
Разведчики подхватили гитлеровца, для верности мо-
ментально сунули в рот кляп и связали руки. Вслед за
ними, рассредоточившись, двинулась группа прикрытия.
Кигурадзе, убедившись, что опасности пока нет ни с
той, ни с другой стороны, последовал за своими. Но не
сделал и нескольких шагов, как рядом разорвалась руч-
ная граната, брошенная из соседнего дзота. Разведчика
контузило, несколько осколков впилось в тело, а один —
в правый висок. Инстинктивно прижав к груди автомат,
старший сержант рухнул на землю и потерял сознание.
Как развивались события дальше, довольно подробно
описал В. Фарберов *.
«Луч электрического фонарика осветил залитое кро-
вью лицо. Думая, что он мертв, один из немцев шарил в
карманах, другой — светил. Но, то ли от ударившего в
глаза света, то ли от прикосновения вражеской руки,
Кигурадзе очнулся. Увидев над собой фрицев, нашел в
себе силы, чтобы мгновенно вскинуть автомат и прошить
короткой очередью обоих. Те замертво рухнули на зем-
лю. Однако не успел подняться, как заметил бегущую
сюда целую группу. Гитлеровцы не стреляли, по-видимо-
му еще не уяснив обстановку.
Опасность придала силы. Припав на колено, Автан-
дил открыл огонь. С удовлетворением заметил, что еще
шестеро распластались на земле. Но кончились патроны,
а около уже два новых молодчика.
1 Новгородская правда, 1967, 11 июля,
205
— Рус, сдавайсь!
Превозмогая неимоверную боль, опираясь на автомат,
Кигурадзе поднимался с земли... И вдруг, неожиданно
для врага, перехватив оружие, нанес неотразимый удар
по голове первому приблизившемуся. Приклад сломал-
ся, он отбросил автомат в сторону и потянулся к финке.
Но тут другой фриц навалился на него. Завязалась борь-
ба здорового противника с теряющим силы тяжелора-
неным. И все же последним усилием воли разведчик
выхватил из-за пояса нож и прикончил фашиста».
Однако последний из сраженных успел нанести Ки-
гурадзе ножевой удар и раскроил ему ладонь левой ру-
ки. Кое-как замотав ее фрицевским же индивидуальным
пакетом, собрав в кулак всю волю, юноша пополз к сво-
им позициям. Страшная слабость разливалась по всему
крупному телу, кровавый след тянулся за ним. Сквозь
нестерпимый гул в голове и звон в ушах слышался го^ос
отца:
— Крепись, сын!!!
Группа прикрытия делала все возможное, чтобы ока- *
зать помощь попавшему в беду. А когда убедились, что г
«язык» на месте, сосредоточили весь огонь на преследо-
вателях Автандила. «Особенно помог Михаил Матюшен-
ко. Когда я с неимоверным трудом пролезал под колю-
чей проволокой, обрывая на себе теплую куртку, а фри-
цы предпринимали последнюю попытку захватить меня,
он приблизился настолько, что чуть ли не в упор стал
поливать врагов огнем, отвлекая на себя».
За проволокой Автандил попал в руки двух наших
солдат, находившихся в «секрете», а затем в объятия
друзей-разведчиков. И здесь снова потерял сознание. По-
настоящему пришел в себя лишь в медсанбате. На теле
насчитали семь ран, одна из которых — в висок — гро-
зила смертельным исходом.
«Контрольный язык» подтвердил сказанное предыду-
щим. Узнав о готовящемся наступлении, 11-я армия на
участке 370-й стрелковой дивизии и соседней нанесла
довольно ощутимый упреждающий удар. Так группа Ав-
тандила, взяв двух «языков», спасла жизнь, возможно, не
одной сотне наших воинов. Кигурадзе стало известно об
этом от посетивших его в медсанбате капитана Криво-
шеина и замполита С. Г. Фролова.
22 декабря 1942 года в госпитале в Крестцах от име-
ни Президиума Великого народного хурала монгольские
товарищи вручили ему орден боевого Красного Знаме-
ни МНР. А через несколько дней его эвакуировали в
206
Ярославль. Врачи делали все, что могли. Однако не-
сколько осколков извлечь не решились...
В апреле 1943 года возвратился домой, в двадцати-
летием возрасте пожизненным инвалидом II группы. Да,
можно понять героя, что он переживал тогда. «В армии
провел всего два года, включая госпиталь, а на перед-
нем крае—каких-то два с половиной месяца». Теперь-
то он знает то, что стало известно бесстрастной статисти-
ке после войны: состав пехоты менялся каждые полтора
месяца! Пути же было всего два — госпиталь и брат-
ская могила. Третьего на переднем крае не давалось, а
разведчикам тем более.
Отец, мать, сестры, друзья немало сделали, чтобы от-
влечь от безрадостных мыслей. Несколько окрепнув,
включился в комсомольскую работу, вступил в партию,
в далеком тылу делал все, что было в его силах, для
победы над фашистскими оккупантами... 9 мая 1945 года
встретил в родном Сухуми первым секретарем горкома
комсомола. Потом учился, окончил исторический факуль-
тет пединститута. Однако тяжелые ранения не позволи-
ли трудиться на избранном поприще, и он вынужден
был перейти на хозяйственную, затем профсоюзную ра-
боту. У Автандила Моисеевича хорошая дружная се-
мья: жена Этери, дочери Манана и Виоллета, сын Ав-
тандил, двое внуков.
* * *
Вот и закрыта последняя страница. К сожалению, в
небольшой сравнительно книге невозможно было описать
и сотой доли героических подвигов, совершенных на нов-
городской земле воинами Северо-Западного и Волхов-
ского фронтов, представителями 60 национальностей на-
шей страны. А сколько еще имен предстоит установить
нашим следопытам и краеведам! Когда я слышу о най-
денной безымянной могиле или воинском захоронении в
районе того же Мясного Бора, понимаю: как еще мало
мы знаем!
Спасибо судьбе, что не обо всех героях этой книги
надо было писать в прошедшем времени. Что ходит по
улицам Рязани мастер воздушного тарана Герой Совет-
ского Союза Борис Ковзан. Живет в родной Слободе
Парфинского района партизанский командир Иван
Грозный. Приезжает в места боевой юности поэт Миха-
ил Матусовский... Долгих лет им, и вечная память
ушедшим!
Оглавление
От автора................................................... 3
Глава I. Коммунисты, вперед!................................ 8
«Деритесь, как штыковцы!»................................ 8
Первые гвардейцы Северо-Западного......................18
Считать коммунистом.....................................25
«Жизнь моя продолжается»...............................29
Рыцарь воздуха.........................................34
Парторг..................................................39
Прямой наводкой..........................................43
Член Военного совета.....................................47
Слово комиссара..........................................57
«Каждую пулю — в сердце фашиста!».........................61
Про партизана Грозного Ивана.............................68
Глава II. Агитация мужеством................................83
Сын полководца...........................................83
Трижды через осенний Волхов..............................90
Живой трамплин атаки...................................у 96
Пока бьется сердце.......................................99
«Иду на таран!»..........................................103
Долгая дорога к победе...................................107
Железный сержант.........................................112
Слава тем, кто пал в разведке............................119
Глава III. Смертью поправшие смерть........................ 128
Первый по великому списку................................128
Шагнувшие в бессмертие...................................133
Двойной таран............................................137
С сердцами Данко.........................................141
Полмига.................................................. 146
«Сам погибай, а товарища выручай»........................150
В день рождения в атаку не брали.........................153
Расстрелянная песня.....................................158
Глава IV. Дети Отчизны одной................................163
«Волхов — свидетель».....................................163
«Мы идем к тебе на помощь, Русса...»....................168
Почетный солдат Забайкалья..............................177
Последний подвиг командира легендарной Зои..............182
За родной Терек.........................................189
«Не забудешь ты священный Ильмень»......................193
На дно реки за танками..................................199
Витязь...................................................203
ном 09