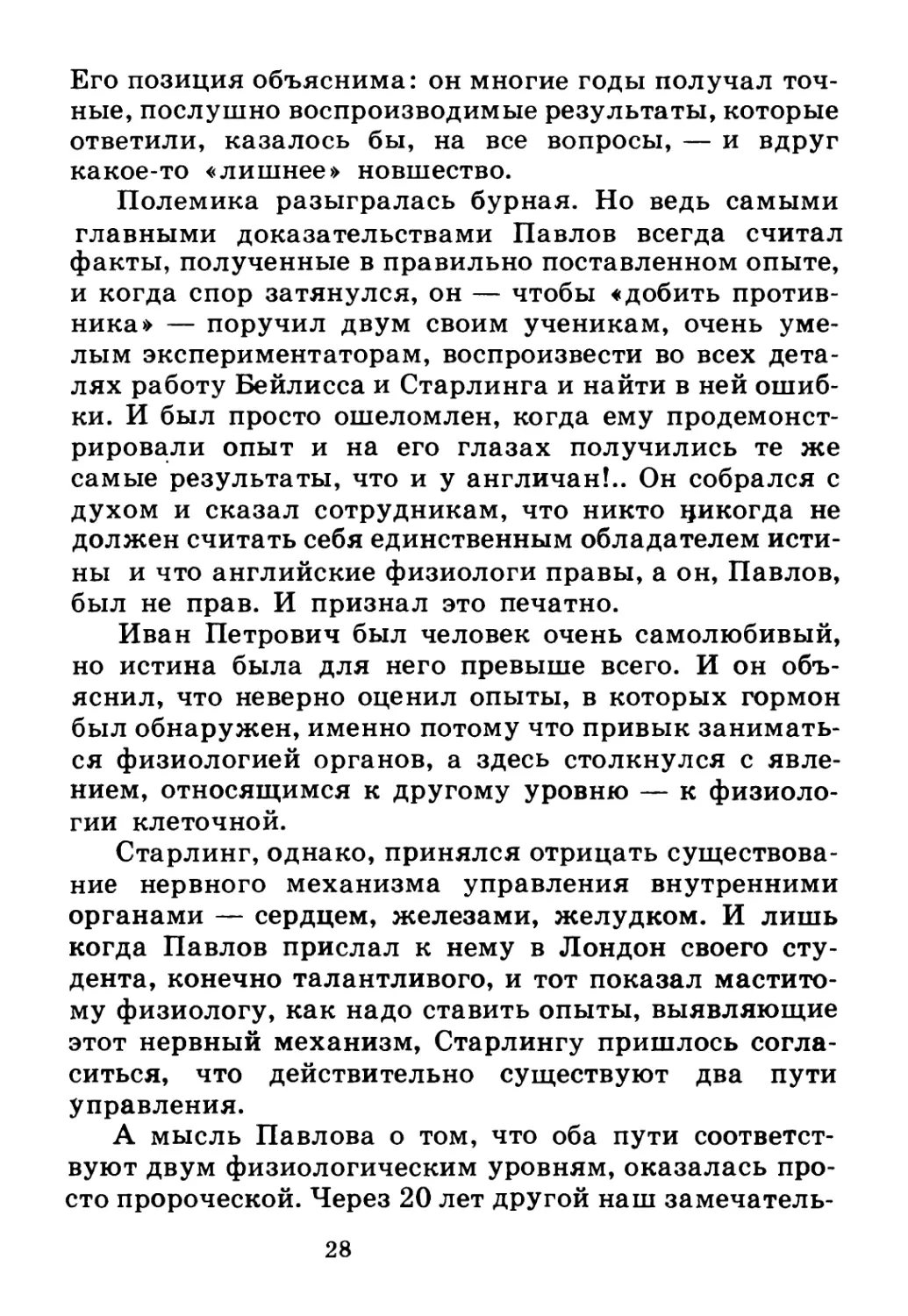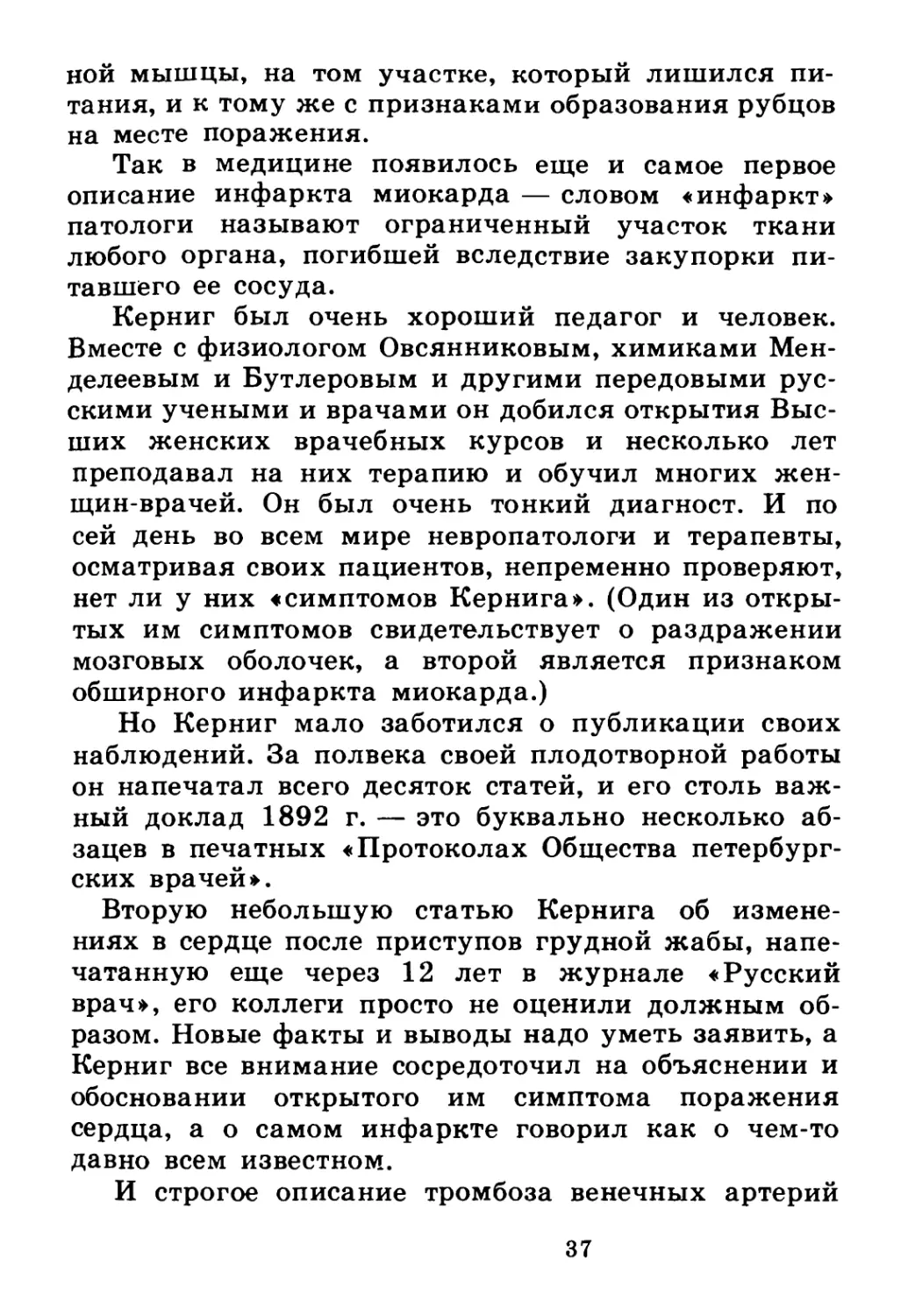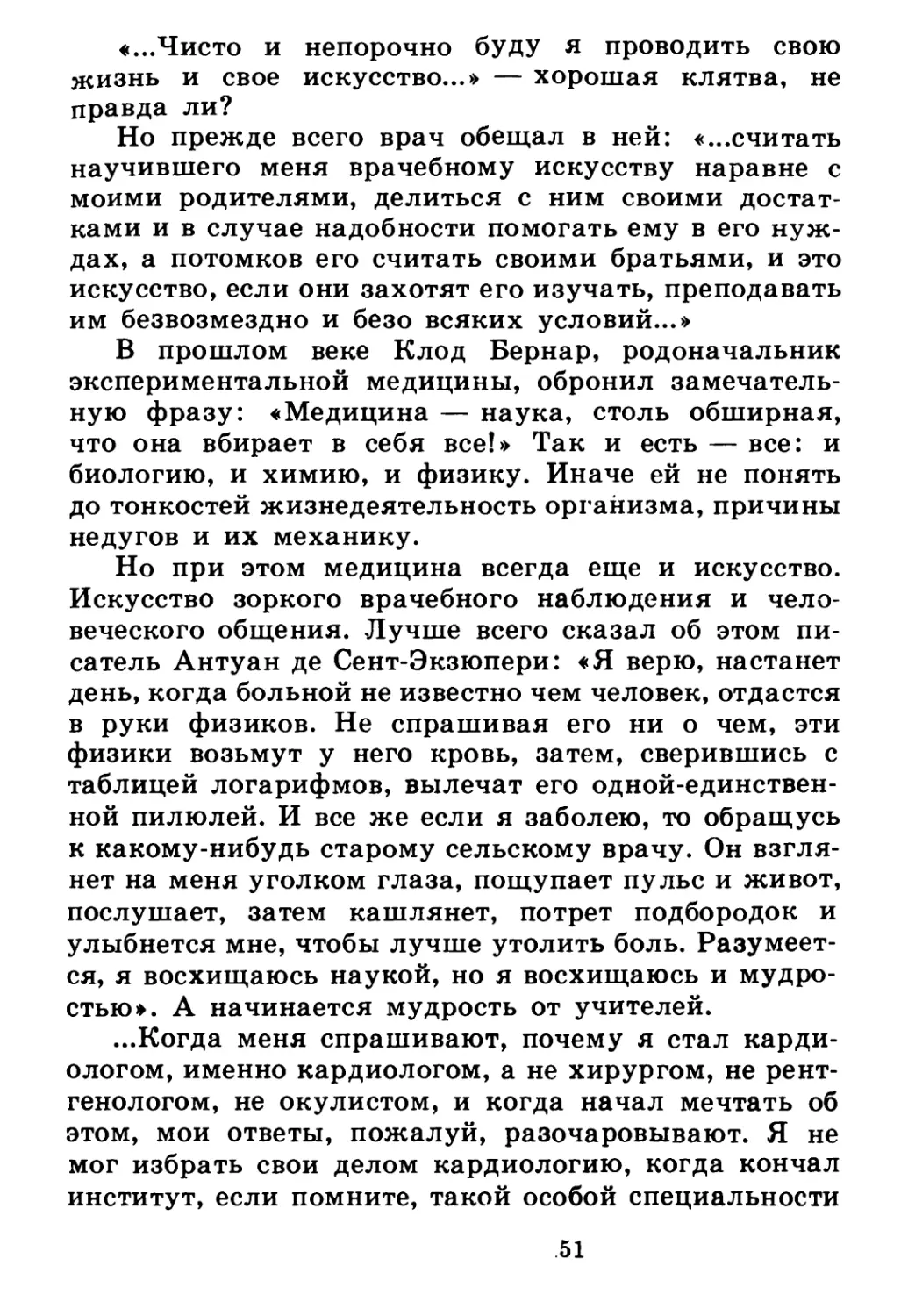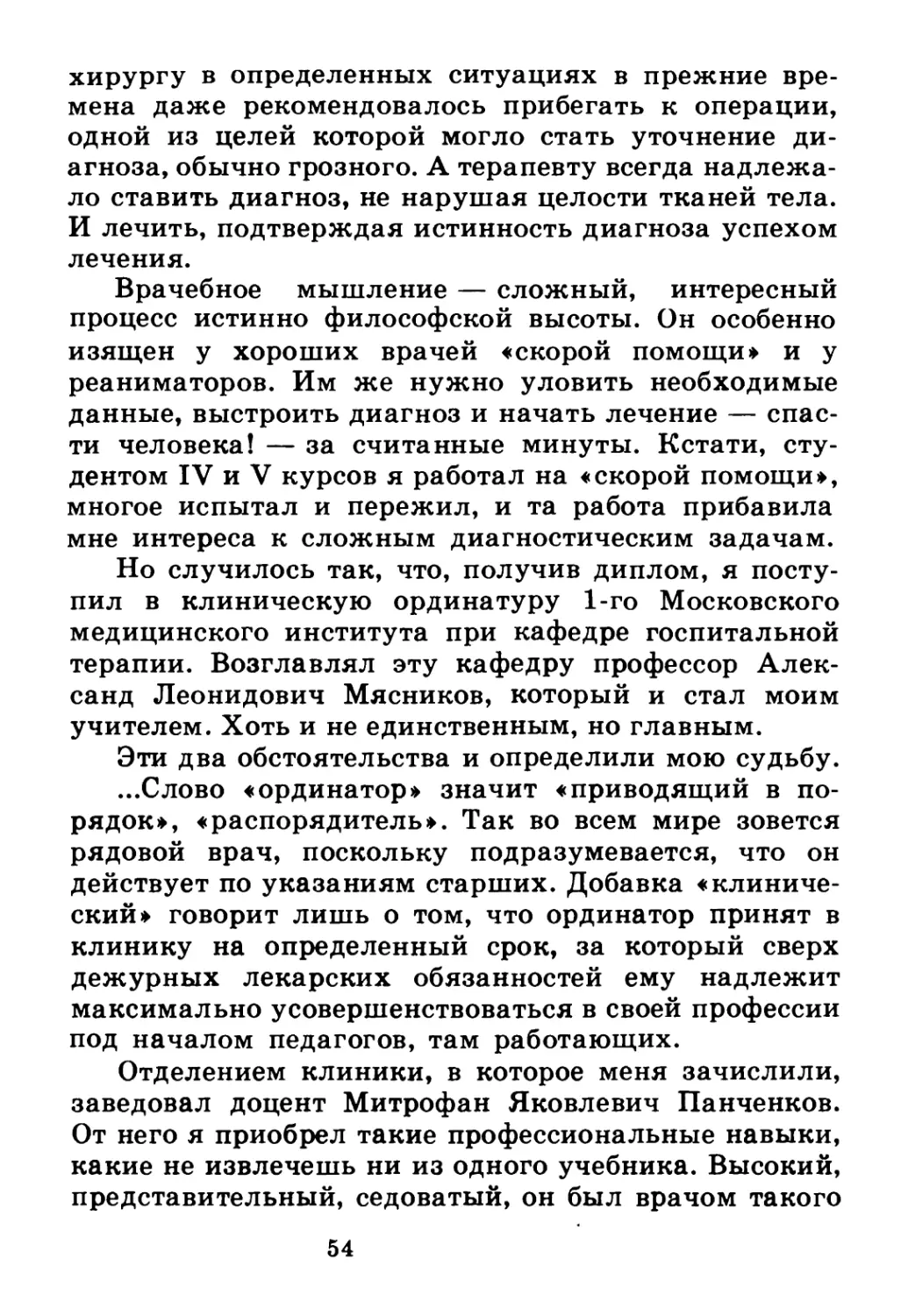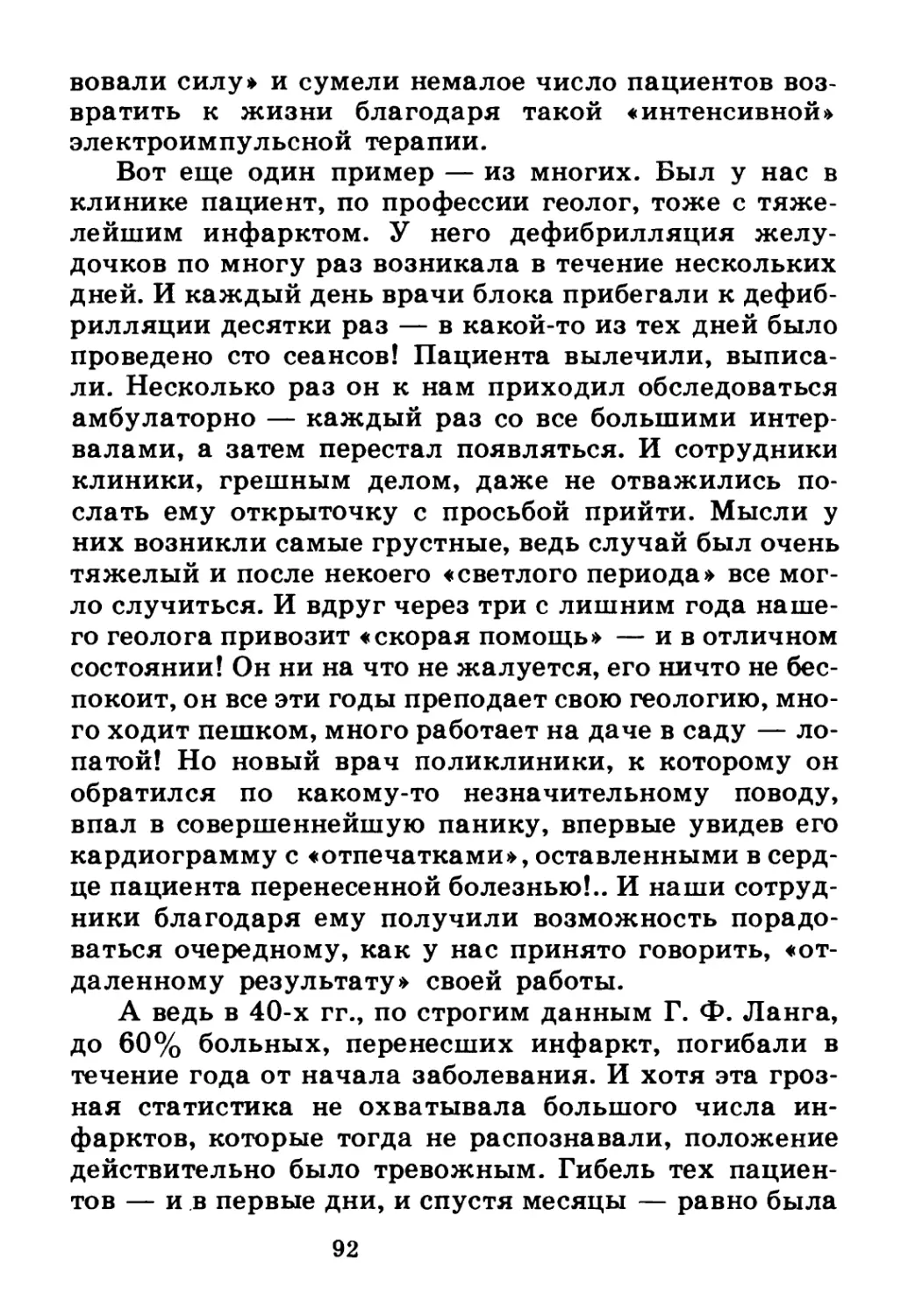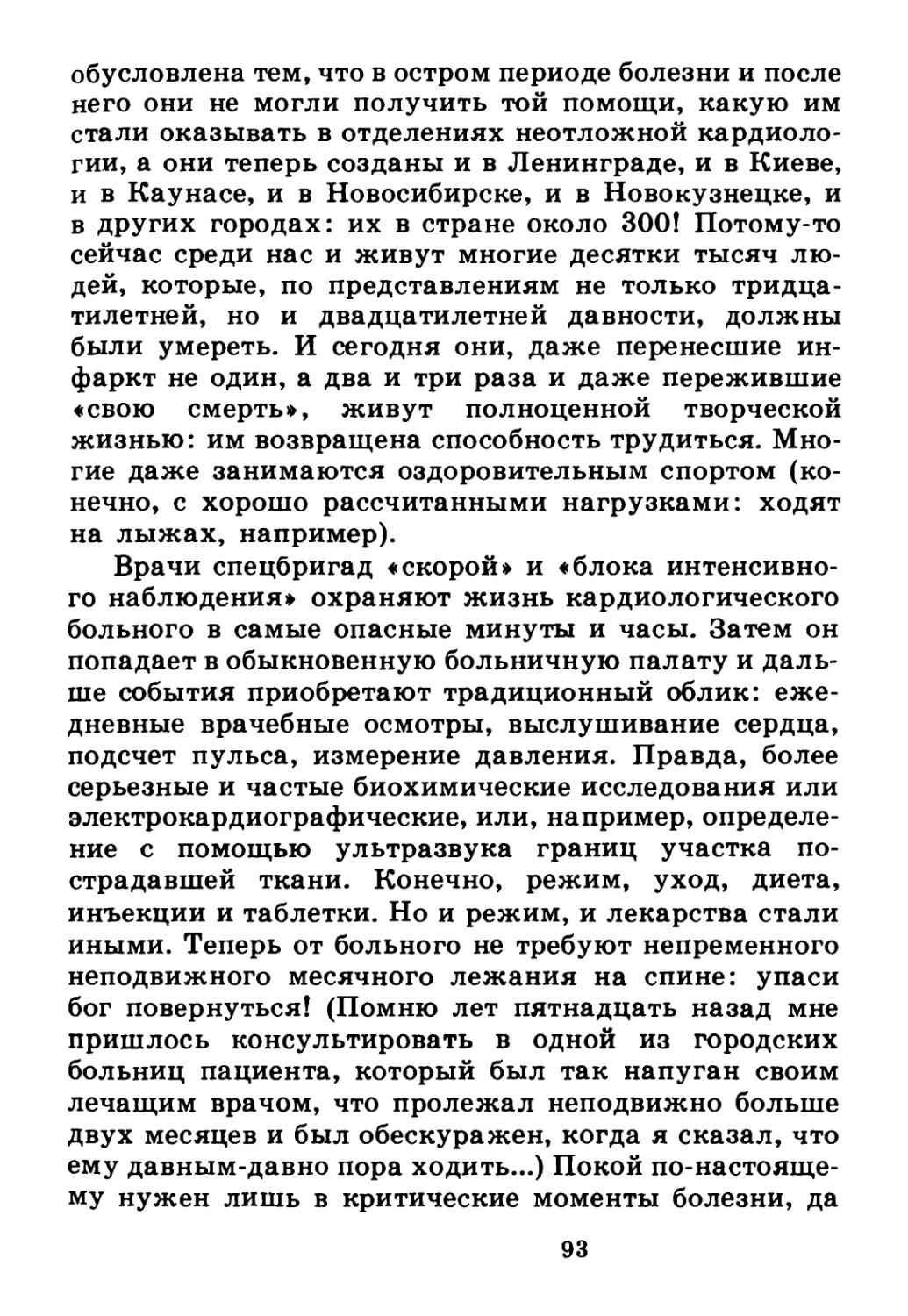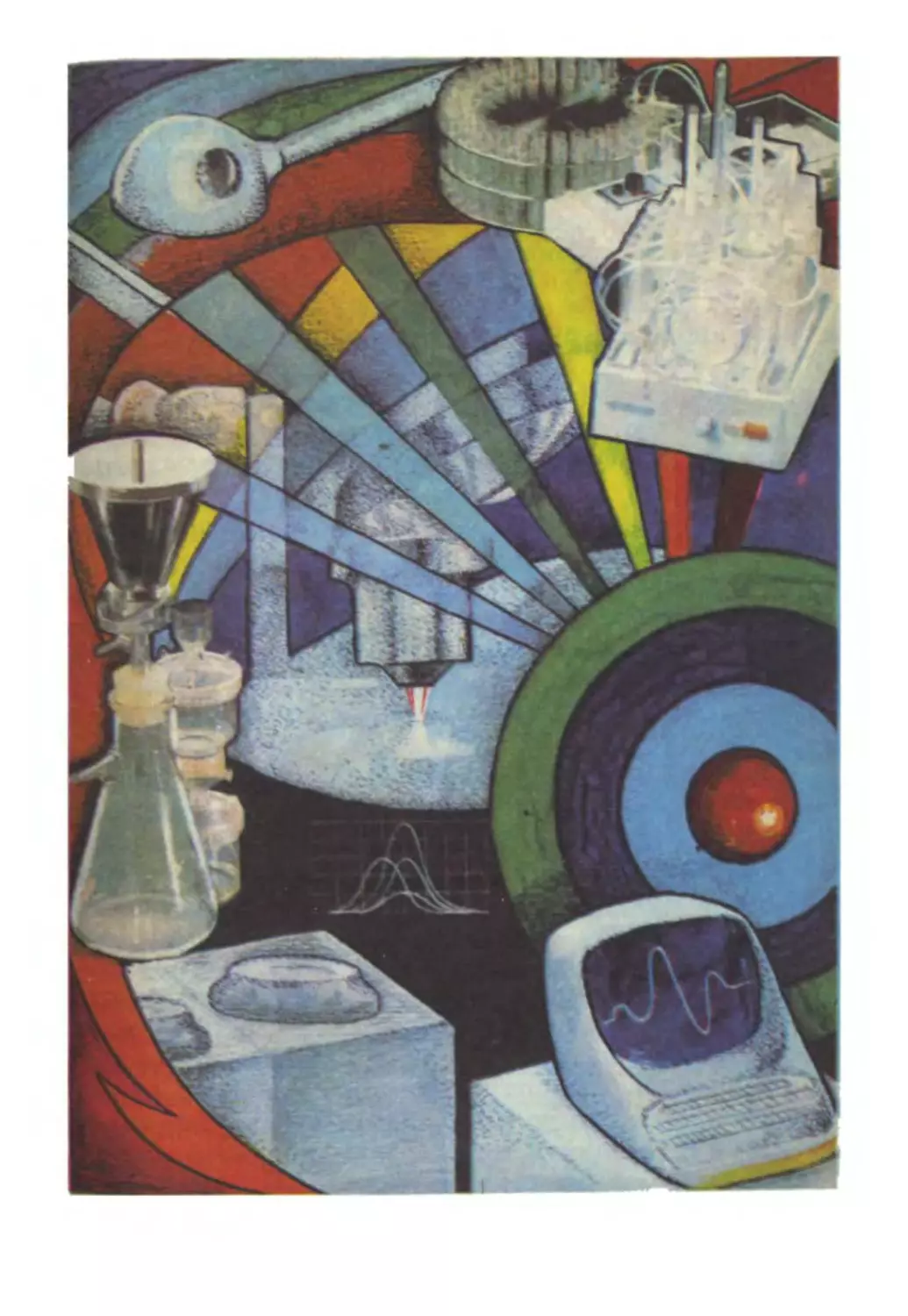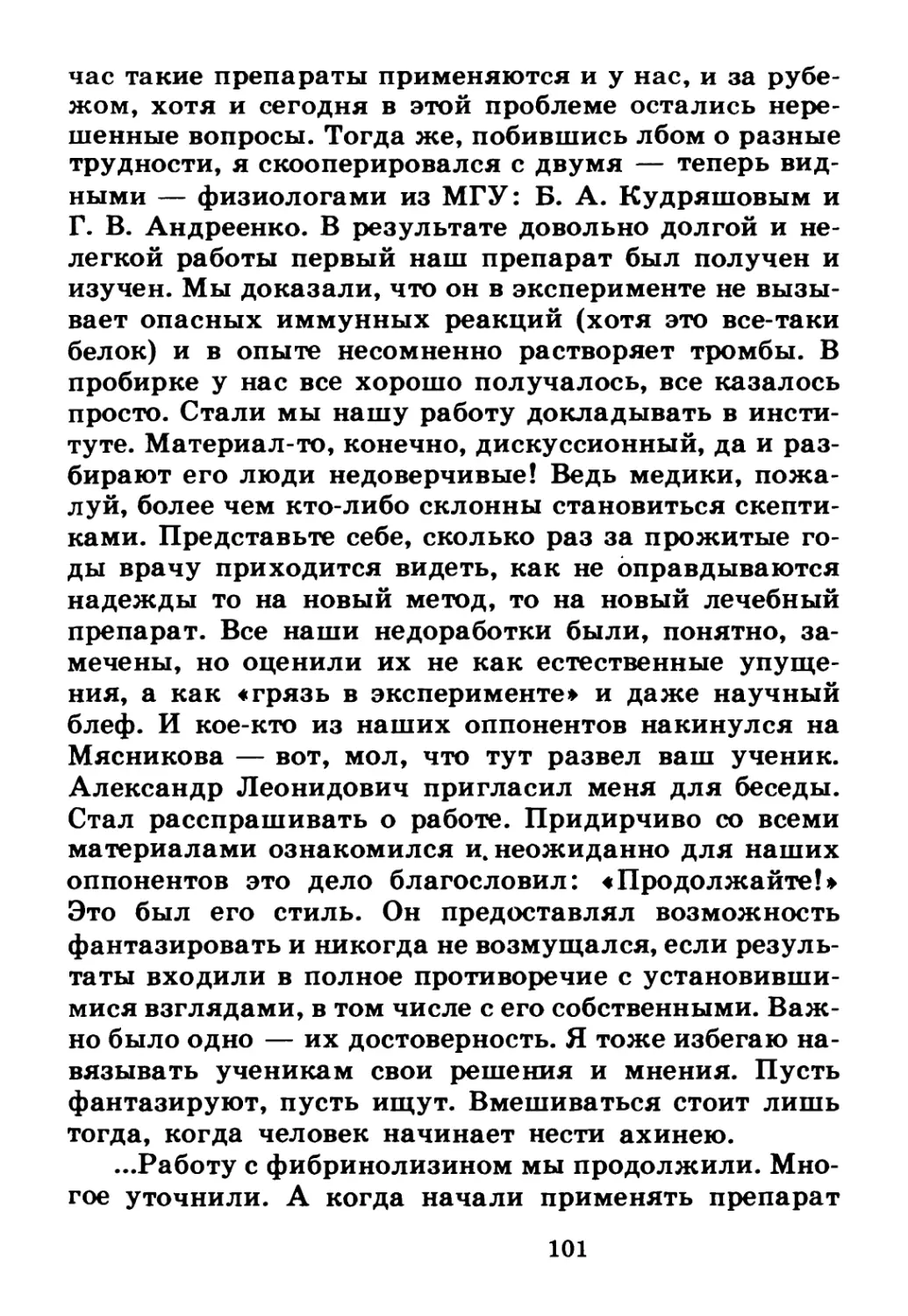Текст
Е. И. Чазов
ЕВГЕНИИ ИВАНОВИЧ ЧА-
ЗОВ — видный советский уче-
ный-терапевт, академик АН
СССР и академик АМН СССР,
родился в 1929 г.
Его труды, посвященные раз-
ным вопросам теоретической и
практической кардиологии, —
«Инфаркт миокарда*, «Очер-
ки неотложной кардиологии*,
«Нарушения ритма сердца*,
«Тромбозы и эмболии* и дру-
гие изданы во многих странах
мира.
За выдающиеся заслуги в
развитии отечественной меди-
цинской науки и в организации
кардиологической помощи в на-
шей стране ученый удостоен
звания Героя Социалистическо-
го Труда. Его работы дважды
были отмечены Государствен-
ной премией СССР.
Е. И. Чазов — депутат Вер-
ховного Совета СССР, замести-
тель министра здравоохране-
ния СССР, генеральный дирек-
тор Всесоюзного кардиологи-
ческого научного центра. Он —
известный общественный де-
ятель, один из организаторов
Международного движения
«Врачи мира — за предотвра-
щение ядерной войны*.
Е. И. Чазов
Библиотечка
Детской
энциклопедии
Сердце
и хх век
Редакционная
коллегия:
И. В. Петрянов
(главный редактор),
И. Л. Кнунянц,
А. Л. Нарочницкий
Москва,
«Педагогика», 1982
ББК 5
4.12
Рецензенты: доктор медицинских наук, профессор А. П. Голиков;
член Союза советских писателей Л. Э. Разгон
Литературная запись Б. Г. Володина
Чазов Е. И.
4.12 Сердце и XX век. — М.: Педагогика, 1982.—
128 с. — (Ученые — школьнику).
25 коп.
В книге генерального директора Всесоюзного кардиологического научного
центра АМН СССР академика Е. И. Чазова рассказывается о современных средст-
вах, инструментах и методах диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболе-
ваний, о специальной кардиологической службе, созданной в СССР, о замечатель-
ных советских ученых-медиках, благородной профессии врача.
Для старшеклассников.
4306000000—004 ББК 5
Ч--------------52—82. 61
005(01)—82
© Издательство «Педагогика», 1982 г.
Эту книгу можно было бы назвать и по-другому. На-
пример, так: «Моя профессия — врач». Ведь то де-
ло, о котором я хочу рассказать, та наука, которой
я принадлежу, вошли в мою жизнь потому, что у меня
именно такая профессия.
По старинной врачебной традиции, область меди-
цины, в которой я работаю, получила имя древнегре-
ческое: «кардиология», дословно — «сердцеведение»,
учение о сердце. Но родилась она совсем недавно.
Тридцать лет назад, когда я учился в медицинском
институте, такой особой дисциплины просто не суще-
ствовало. Она — детище наших дней. Потому что
и сама проблема, над которой работает кардиоло-
гия, — проблема сердечно-сосудистых заболеваний
выдвинулась на первый план в медицине высокораз-
витых стран именно в годы научно-технической ре-
волюции. И возможность по-настоящему ее решать
тоже возникла лишь благодаря достижениям совре-
менного естествознания — науки, которая научилась
ощущать всю сложность взаимосвязей человека с
окружающей средой: и тех изменений, которые че-
ловек производит в мире, и тех воздействий, какие
этот непрерывно изменяющийся мир оказывает на
самого человека.
Мне хочется рассказать о том пути, которым шла
медицина, познавая сердце — обыкновенное и не-
обыкновенное, неутомимое сердце. Ведь его можно
даже сравнить со сказочным, фантастическим пер-
петуум мобиле. Вот вы знаете из курса физики, что
невозможно создать такой аппарат, который бы и
выполнял одновременно функцию мотора, и сам со-
здавал энергию, необходимую для его работы, и имел
3
бы систему, которая обеспечивала бы подачу энергии
в определенную часть этого аппарата, да к тому же
еще синхронно с изменениями нагрузки на мотор.
А нагрузки колоссальные! Ведь сердцу необходимо
обеспечить циркуляцию крови в системе сосудов,
которые, если их вытянуть в одну линию, по протя-
женности составляют 40 000 км!..
Конечно же, сравнение сердца с вечным двига-
телем — лишь метафора: мы далеко не вечны, да
и сырье для энергии получаем извне, но преобразуют
его мышечные клетки сами и сами расходуют. Нет,
все-таки сердце — поистине удивительный орган,
сформированный эволюцией с изяществом, которым
восхищаешься тем больше, чем больше о нем узна-
ешь. А медицина сегодня узнаёт о нем действительно
очень много — и тоже именно благодаря научно-
технической революции, — особенно в результате
развития молекулярной биологии. Благодаря то-
му что ученые сумели расшифровать самые тонкие
физиологические и биохимические процессы, в ко-
торых внутри клеток человеческого организма пере-
носятся вещества, энергия и химические сигналы.
Как почти любой раздел современной медицины,
кардиология «едина в двух лицах». Она — и экспе-
риментальная наука, стремящаяся с предельной
точностью познать строение и функции сердечно-со-
судистой системы, причины и механизмы ее заболе-
ваний. И она же — сфера практического врачебного
дела. Она совершенствует методы распознавания,
лечения и предупреждения болезней. А главное —
люди, которые в ней работают, изо дня в день лечат
больных. И потому моя профессия не только наука,
но одновременно еще и врачебное искусство, по кру-
пицам созданное многими десятками поколений ле-
карей, бережно передававшееся ученикам, а от них,
когда они становились учителями, — новым учени-
кам. Обо всем этом и пойдет рассказ.
Глава для будущих коллег
Начну с того, что вам известно: ни учителями, ни
инженерами, ни учеными, ни врачами не рождают-
ся — ими становятся.
Становятся благодаря воспитанию и благодаря
собственному напряженному труду. Становятся, по-
знавая науку и вживаясь в будущую профессию.
Ведь любая профессия — это не просто умение делать
некую работу с девяти часов до трех или пяти. Это
судьба.
Если она избрана по-настоящему серьезно, то на
всю жизнь предопределит и круг главных интересов
человека, ее избравшего, и попросту образ его мысли,
и даже образ жизни, который у врача, у инженера,
у художника, право же, не одинаков. Нужно быть
истинно увлеченным будущей профессией, чтобы
нашлись силы пройти и через трудности обучения
медицине — я буду говорить именно о ней, — а по-
том и через трудности нашей врачебной работы и
жизни. Вы знаете, что врач принимает присягу — как
солдат. Он дает клятву при любых обстоятельствах
оказывать помощь каждому, кто в ней нуждается,
и ради этого поступаться всем. Люди болеют не по
расписанию, помощь может понадобиться в любой
час. Дежурить в больнице сутками трудно, а нужно.
То и дело бывает, что дежурство или рабочий день
окончились, тебя ждут дома или в кармане лежат
билеты в театр, а от больного отойти нельзя, иногда
даже, чтобы позвонить по телефону. И где бы и когда
бы ты ни столкнулся с несчастьем: на улице, в доме,
в лесу, в ненастье, днем, ночью, если ты врач, ты
обязан исполнить свой долг, сделать все возможное,
чтобы помочь заболевшему, чтобы спасти пострадав-
5
шего. Даже если ты сам болен, но способен стоять
на ногах, исполни свой долг, помоги! Это закон —
закон профессиональной морали, закон совести и
закон государственный. К такой жизни надо быть
нравственно готовым. Недаром же еще лет триста
назад, когда замечательного английского врача Тома-
са Сиденхема его ученик спросил, в какой книге луч-
ше всего узнать главный секрет врачебной профессии,
Сиденхем ответил: «Читайте, мой друг, Дон Ки-
хота!..»
Мне не раз приходилось видеть молодых людей,
которые стараниями любвеобильных родителей все-
ми правдами и неправдами попадали в институт,
неважно в какой: в медицинский или в технический,
важно, что не по своему выбору, не по своей воле.
А исход-то чаще всего был печальный! Либо они
бросали учение на полдороге, либо, окончив инсти-
тут, выходили из него людьми равнодушными к делу,
которое должно было стать делом их жизни, и меч-
тали, лишь бы устроиться на место, где можно полу-
чать побольше, а думать поменьше. Вам бы хотелось,
чтобы вас лечил такой врач? Мне бы не хотелось.
Конечно, интерес к медицине у каждого человека,
к ней устремившегося, рождается по-разному. Есть
рассказы хрестоматийные. Например, про то, как
Коленька Пирогов — будущий великий хирург Ни-
колай Иванович Пирогов — лет с семи только и де-
лал, что играл в «доктора Мухина», в знаменитого
московского хирурга начала прошлого века, который
лечил и вылечил его брата, когда жизнь брата, как
говорится, висела на волоске. И кстати, немалое чи-
сло моих коллег, самых что ни на есть современных
врачей, тоже подтвердят, что и у них все началось
с увлечения личностью какого-то хорошего врача —
знаменитого, а может, и совсем не знаменитого.
А у других стимулом становились книги. По сло-
вам Ивана Петровича Павлова, его так потрясла
6
прочитанная лет в четырнадцать-пятнадцать научно-
популярная книга «Физиология обыденной жизни»
Джорджа Генри Льюиса, действительно блестяще
написанная, что он после нее не мыслил заниматься
чем-то другим, кроме раскрытия, как он говорил,
«тайн человеческого тела». И с томиком Льюиса он
не расставался всю жизнь.
И все же, когда я слышу, что вот у такого-то или
такого-то знаменитого человека еще в детстве заро-
дилась мечта, что он непременно станет конструкто-
ром, артистом или исследователем и тем его будущее
было предопределено, это для меня всегда звучит по-
луправдой или правдой «задним числом», приобре-
тающей достоверный облик лишь потому, что нали-
цо яркий результат. Между детской мечтой и действи-
тельным становлением человека всегда цепочка мно-
гих жизненных ситуаций, событий, людей, впечатле-
ний, которые, на мой взгляд, играют куда более серь-
езную роль. Ведь и детство Пирогова состояло не из
одной игры «в доктора Мухина». Он рассказывал в
своих воспоминаниях, как много и серьезно с ним
занимались два друга его родителей — два врача,
искренне его любившие. Один из них «играючи»
научил мальчика латыни, языку медицины, а потом
подарил ему «травник», книгу о лекарственных рас-
тениях, рассчитанную на врачей. И этот учебник
фармакологии стал любимейшей книгой юного Пиро-
гова: он знал его наизусть еще до поступления в
университет — он поступил туда четырнадцатилет-
ним. А Павлов рос в кругу юношей, мечтавших слу-
жить народу. И по его собственным словам, власти-
телем его дум и дум его друзей был Дмитрий Ивано-
вич Писарев, призывавший русскую молодежь посвя-
тить себя «положительному естествознанию» —
науке, которую этот пламенный публицист считал
важнейшей силой грядущего прогресса. Кстати, осо-
бенно страстно Писарев пропагандировал физиоло-
8
гию, и в своих статьях он перечислял книги, которые
должен прочесть каждый настоящий «реалист», го-
товя себя к науке. И эту «программу» подготовки
к будущей профессии юный Павлов выполнял с увле-
чением в течение нескольких лет.
Решение о выборе пути созревает и укрепляется
постепенно, под влиянием окружения и в итоге рабо-
ты над собою. Не случайно дети врачей — обычных
рядовых врачей, на чьем труде, далеко не всегда
благодарном, держится дело здравоохранения, —
нередко оказываются лучше своих сверстников мо-
рально подготовленными к трудностям освоения
медицинской науки и трудностям самой работы.
Объяснить это можно просто: они сызмала невольно
вживаются во врачебный быт, в «донкихотские» нор-
мы профессионального поведения и даже восприни-
мают какие-то начатки специальных знаний и навы-
ков — просто из разговоров родителей, братьев, се-
стер. Так и рождается та семейная преемственность
в профессии, о которой теперь часто говорят. Впро-
чем, отличные медики получаются и из детей рабо-
чих, колхозников, учителей, людей любых профес-
сий. Главное — целеустремленность, упорство, пре-
данность делу.
Но в том, что я сделался врачом, в становлении
моих жизненных принципов и идеалов главную роль
сыграла моя мать Александра Ильинична. Она была
врачом-терапевтом, как стал потом и я. А главное —
человеком, прошедшим большую жизненную школу.
Мама была из первых комсомольцев Урала. Совсем
юной участвовала в гражданской войне. Ее схватили
белогвардейцы. Колчаковский суд приговорил к рас-
стрелу, и только чудом она избежала смерти. Уже
взрослым человеком стала студенткой. Окончила
медицинский институт. Работала и в маленьких боль-
ницах, и в больших клиниках, а став со временем
ассистентом кафедры терапии, преподавала студен-
9
там азы врачебного ремесла. Скромный, честный,
принципиальный человек, она была совершенно чуж-
да какой-либо корысти или карьеризма. Больные, их
беды для нее были святы. Свята была сама профес-
сия — ей она служила самоотверженно и безоглядно.
И для меня мама всегда была и сейчас остается оли-
цетворением того славного поколения, которое вер-
шило революцию и строило Советскую власть. А я
же рос рядом с ней и с детства видел, каков он — труд
врача.
...Особенно яркие воспоминания, хотя и прошло
уже почти 45 лет, оставила наша жизнь в поселке
Тоншаево — на реке Пижме, притоке Вятки, на самом
севере Горьковской области. Мать работала там в
районной больнице и была в ней единственным вра-
чом. Ей приходилось заменять добрый десяток раз-
ных специалистов — быть и терапевтом, и хирур-
гом, и детским врачом, и окулистом, и невропатоло-
гом, и акушером, и отоларингологом, и эпидемиоло-
гом — всем, кем только надо и когда только надо,
не зная ни дня, ни ночи. Это был труд просто физи-
чески тяжелый. А сколько волнений пришлось ей
пережить, принимая решения, от которых зависели
жизни пациентов, и не имея возможности посовето-
ваться с кем-то более опытным!... Но каким уважени-
ем она была окружена, с какой надеждой шли к ней
люди — как к самому близкому человеку!..
Не чувствую себя вправе сказать, что вот тогда,
в детстве, у меня родились настоящая любовь к меди-
цине и серьезная мечта о ней. Но ощущение ее важ-
ности, ее необходимости людям и первый интерес
к этой профессии возникли. Много лет спустя я прочи-
тал речь, произнесенную в 1967 г. известным фран-
цузским писателем Андре Моруа на съезде фран-
цузских врачей: «И кому, как не романисту, дано
понять чувства людей, растерянно окруживших стра-
дальца, не знающих, что делать, когда в дверях
10
внезапно появляется врач, одним своим видом неся
исцеление! Сколько раз в деревенской глуши, темной
ночью, когда за окнами не видно ни зги, я видел, как
надежда зажигалась на лицах при отдаленном, еле
слышном, как жужжание насекомого, звуке автомо-
биля. Доктор едет! Сам больной переставал стонать,
прислушиваясь к этому рокоту, и даже столбик гра-
дусника, неудержимо ползущий вверх, как бы засты-
вал в ожидании».
Быть может, эти слова и слишком красивы, но
мне показалось, что они созвучны тем моим давним
первым впечатлениям о медицине, тем первым чув-
ствам, с ними связанным.
Когда я учился в последних классах школы, у
меня возникали разные планы: то я хотел пойти в
геологоразведочный, то на радиолокационный фа-
культет. А мать работала ассистентом терапевти-
ческой клиники Киевского медицинского института
и дома много рассказывала о замечательных врачах,
с которыми трудилась бок о бок. Среди них были
подлинные корифеи отечественной медицины — та-
кие, как один из первых русских кардиологов акаде-
мик Николай Дмитриевич Стражеско и один из пер-
вых наших гастроэнтерологов академик медицины
Макс Моисеевич Губергриц. Рассказывала о прекрас-
ных диагностах, умело и изящно разбирающихся в
самых сложных и запутанных случаях. И я видел,
что она не только любит свое дело и считает его самым
достойным и нужным, но еще и гордится людьми,
работающими в медицине.
И мало-помалу ее профессия стала самой желан-
ной и важной и для меня. И мои мысли стали рабо-
тать в определенном русле.
...Помните, у Толстого в «Войне и мире» главы,
где он рассказывает о болезни Наташи, о докторах,
которые, «ездили... отдельно и консилиумами, гово-
рили по-французски, по-немецки и по-латыни». И его
11
иронические и мудрые суждения, что доктора были
для Наташи полезны не потому, что заставляли боль-
ную проглатывать «большею частью вредные ве-
щества», а потому, что удовлетворяли вечную чело-
веческую потребность сочувствия, деятельности, на-
дежды на облегчение, которые испытывает страдаю-
щий человек. Дальше Толстой уже довольно ядовито
добавил, что неведомо, как бы перенес болезнь своей
любимой дочери граф Ростов, если бы не знал, сколь-
ко потратил денег на лечение, и что готов потратить
еще сколько угодно тысяч, а главное — если бы не
имел возможность всем рассказывать, какие знаме-
нитости ее лечили: «как Метивье и Феллер
не поняли, а Фриз понял, и Мудров
еще лучше определил болезнь». Тол-
стой предельно точен в исторических деталях и, ко-
нечно же, назвал имена реальных московских врачей
описываемого времени. И вот когда я читал роман,
то не меньше, чем толстовские сарказмы о суетности
графа, меня заинтересовало, каким же он был, этот
доктор Мудров, который лучше всех определил бо-
лезнь. И хотя о выдающихся русских медиках тогда
писалось еще мало, мне посчастливилось разыскать
научно-популярную книжку о Матвее Яковлевиче
Мудрове, основоположнике московской терапевти-
ческой школы. Ее написал профессор В. Н. Смотров,
не писатель, а врач, и он основное внимание уделил
чисто профессиональным аспектам — вкладу, кото-
рый внес Мудров во врачебное мастерство, а сделал
он, поверьте, немало. Но меня больше всего поразила
личность Мудрова, его преданность науке, медици-
не, больным и его доброта — поистине беззаветная.
...Когда Мудров был студентом, он однажды взял
на себя уход за девушкой, заболевшей оспой. Среди
нас сейчас уже, пожалуй, нет людей, перенесших
эту болезнь, — она давно ликвидирована. Но я в
своей юности их еще видел. При оспе на коже обра-
12
зовывались пустулы — своего рода нарывы, напол-
ненные жидкостью, вызывавшие нестерпимый зуд,
из-за которого больные их просто сдирали. И у па-
циентов, которые выжили после оспы, на лицах и на
теле оставались очень глубокие рытвины — оспины,
они становились * рябыми». И вот Мудров, чтоб облег-
чить страдания своей подопечной и чтобы у нее не
осталось уродующих следов болезни, вскрывал лан-
цетом каждую пустулу по отдельности и удалял со-
державшуюся в ней жидкость специальной губкой.
А ведь он знал, что рискует жизнью, что заразное
«начало» именно в той жидкости и содержится!
А в войну 1812 г., когда наполеоновское войско
вот-вот должно было войти в Москву, Мудров с семьей
уехал из города, как бы сейчас сказали — «эвакуиро-
вался». Увезти с собой все свое имущество в такой
ситуации было невозможно. Каждый увозил то, что
считал самым дорогим: картины, редкую посуду,
богатое платье. Мудров тоже увез самое для него цен-
ное — тысячи кратких историй болезни людей, кото-
рых он лечил. Свой врачебный опыт, опыт диагности-
ки и лечения... Да и погиб он, как подобает врачу, —
на боевом посту: от холеры, эпидемия которой в
1831 г. охватила Петербург и борьбу с которой он воз-
главлял.
...И все же, сколько бы ни было мной слышано и
читано, а к поступлению в Киевский медицинский ин-
ститут я еще смутно представлял себе сложность на-
ук, которые предстояло освоить, и трудности овладе-
ния специальностью, которые ждут и студента, и
дипломированного врача, если только он хочет сде-
латься не холодным ремесленником, а врачом истин-
ным.
Поскольку кое-кто из вас тоже может решиться
стать врачом, расскажу немного хотя бы о том, с чем
приходится столкнуться, переступив порог медицин-
ского института.
13
Первым камнем преткновения, первым испытани-
ем работоспособности, памятливости и, пожалуй, да-
же стойкости студента-медика оказывается курс
анатомии человека. Не уверен, что в программе тех-
нических вузов есть предметы, которые могли бы с
ней сравниться по трудоемкости и попросту — по нуд-
ности. Будущему врачу надо прочно и навек запом-
нить тысячи латинских названий отростков, бугорков,
бороздок на позвонках, на ребрах, на костях конеч-
ностей, на костях черепа и названий мышц, сосудов,
нервов. Запомнить, от какого костного бугорка какая
мышца начинается, к какому выступу прикрепляет-
ся; где лежит и как ветвится каждый сосуд и каждый
нерв; какие веточки артерий питают ту или иную
мышцу или другой орган и по каким нервным веточ-
кам приходят импульсы, запускающие их в работу.
Предстоит искать и препарировать на трупе все эти
мышцы, сосудики, нервные веточки — дело нелегкое,
да к тому же и неприятное. И все усложняется еще
тем, что язык медицины — латынь! И преподавать
ее начинают одновременно с курсом анатомии. И пока
студент мало-мальски овладеет латинским языком,
ему приходится заучивать множество непонятных
поначалу слов. Это потом все станет проще. Окажет-
ся, что пышно звучащие имена мышц чаще всего обо-
значают лишь то, какую работу выполняет мускул:
* мускул и флексорес поллицис, лонгус эт бревис»—
это всего-навсего ♦мышцы, сгибающие большой па-
лец, длинная и короткая». И теперь в механическое
заучивание начнет вторгаться логика. Ее-то и необ-
ходимо искать во всем, всегда, в любом предмете.
Учиться медицине можно по-разному. Можно при-
лежно зубрить учебники, аккуратно конспектиро-
вать лекции, даже быть отличником, но стать плохим
врачом. Без самостоятельного мышления, без страсти
к анализу, к поиску истинный врач немыслим.
А в курсе обучения медицине тяжелых трудоем-
14
Андреас Везалий
ких дисциплин много. Они будут требовать непремен-
ного запоминания массы конкретных фактических
сведений — о нормальном строении тканей и клеток
организма, об их микроскопических различиях, о
происходящих в них биохимических процессах
(длинные цепи многоступенчатых превращений!),
о механизмах развития всех изучаемых болезней и
тех — снова же микроскопических — изменениях,
которые наступают в тканях и клетках...
Мне учение давалось легко, и меньше всего я ду-
мал о зубрежке. Хотелось знать, понимать и в любом
предмете увидеть какое-то развитие, какой-то драма-
тизм. Кстати, преподаватели, как правило, стремят-
ся к тому, чтобы познание скучных фактов проходило
через призму каких-то интересных событий, борьбу
мнений, сквозь судьбы людей, создававших науку.
...Анатомии человека как науке всего 400 лет. Ее
творцом был знаменитый фламандский хирург Анд-
реас Везалий. Это он — с опасностью для собственной
жизни — первым стал изучать ее на человеческом
15
теле, как одержимый, тайно препарируя трупы.
Вскрытие человеческого тела было запретно еще в
древнем Риме, а средневековая церковь карала это
костром. Анатомию изучали только на животных.
И вот, наконец, после многих лет изысканий Везалий
издал замечательный семитомный труд «De corporis
humani fabrica» — «Тела человеческого устройство»,
открывший миру совершенство нашего организма.
Он был схвачен инквизицией и приговорен к
смертной казни. Только вмешательство короля, лич-
ным врачом которого он был, спасло Везалия, но не-
надолго. Казнь заменили паломничеством к «святым
местам», а корабль, на котором он плыл, попал в бу-
рю, был выброшен на маленький остров — там вели-
кий анатом, великий искатель и умер.
А сколько было замечательных его последовате-
лей — голландцев, итальянцев, англичан, немцев,
французов, русских! Они изобретали все новые хит-
роумные способы: например, вводили краску в крове-
носные сосуды, чтобы установить, как они ветвятся,
и делали множество истинных открытий в анатомии.
И все же потомкам всегда оставалось что открывать.
Вот в прошлом веке Николай Иванович Пирогов про-
сто создал новую анатомию — хирургическую (ее те-
перь называют топографической). Она описывает
взаимное расположение органов — мышц, сосудов,
нервных стволов — именно так, как они предстанут
перед глазами врача, когда он будет оперировать.
Хирург обязан точно знать, что и где лежит под ко-
жей, которую он сейчас рассечет своим скальпелем —
на руке, на ноге, на груди, на шее. Предвидеть, в ка-
ком месте он всякий раз должен высмотреть и обойти
артерию или нерв, которые опасно повредить. Да это
и любому врачу необходимо. Ведь сейчас мы, тера-
певты-кардиологи, занимающиеся лечением сердеч-
но-сосудистых заболеваний, используем методы, ко-
торые очень близки к хирургическим операциям: вво-
16
дим зонды в крупные артерии и, продвигая по сосу-
дам эти тонкие трубочки, достигаем сердца, чтобы
подать сквозь них лекарства прямо к месту пораже-
ния. Или подать вещество, которое позволит увидеть
на экране рентгеновского аппарата, какие там, в
сердечных сосудах, произошли изменения.
И представьте себе, всего лет 40 назад выясни-
лось, что анатомы все четыре века существования
своей науки неправильно представляли себе анато-
мию... легких, так хорошо доступных их глазам и
рукам! Недаром Козьма Прутков говорил: «Не верь
глазам своим!» Ведь если смотреть снаружи, то «на
глазок» правое легкое разделяется четкими борозда-
ми на три крупные доли, а левое — на две. В конце
30-х гг., перед войной, хирурги стали пытаться опе-
рировать на легких — удалять доли, пораженные
опухолью, или туберкулезом, или другими болезне-
творными процессами, а у них пошли разные непред-
виденные осложнения. И вот московский хирург Бо-
рис Эдмундович Линберг засомневался в том, что все-
ми считалось очевидньпм и общеизвестным. Он пред-
положил, что неудачи операций вызваны незнанием
истинного строения органа. Запомните, важнейшая
особенность, которая отличает настоящего ученого, —
это умение усомниться в правильности того, что все-
ми считается очевидным и общеизвестным!
Линберг прибег к довольно остроумному спосо-
бу, позволившему исследовать строение легкого «из-
нутри». Он накачивал жидкую пластмассу в крове-
носные сосуды и в «бронхиальное древо» легких,
вынутых из трупа. Это «древо» — основа органа:
система воздухоносных хрящевых трубок-бронхов,
которые делятся на более мелкие трубочки, те — на
еще более тоненькие, которые снова ветвятся на сов-
сем тонюсенькие — до миллионов микроскопических
трубочек, окруженных альвеолами — пузырьками
тончайшей ткани, пронизанной капиллярными сосу-
17
дами. Когда анатомы, как они делали обычно, пре-
парировали легкое скальпелем, им удавалось выде-
лять лишь относительно крупные бронхи. Полной
картины не получалось. Все представления, как и что
расположено в пространстве, строились лишь на до-
гадках. А Линбергу удалось получить точные факты.
После того как пластмасса затвердевала, он опускал
легкое в крепкую кислоту, которая разъедала все
ткани, и в руках ученого оказывался слепок «брон-
хиального древа», со всеми веточками и идущими по
ним кровеносными сосудами, расположенными точ-
но так, как в нетронутом легком. И десятки получен-
ных им слепков строго свидетельствовали, что легкие
разделяются не на две и на три, а оба одинаково —
на четыре главные доли. Каждая доля со строгой за-
кономерностью подразделяется на сегменты, а те —
на еще более мелкие сегменты, и хирургам стало яс-
но, в каком месте лучше перевязывать сосуды, пере-
резать и прошивать ветвь бронха, чтобы после удале-
ния доли или сегмента, пораженных болезнью, легкое
могло бы хорошо зажить и затем полностью функцио-
нировать, работать. И конечно же, сам Линберг пер-
вым воспользовался этими новыми знаниями, чтобы
успешно оперировать больных людей. Спустя годы за
эту выдающуюся работу, положившую начало хирур-
гии легких в нашей стране, ему была присуждена
Ленинская премия. Методику, к которой он прибег,
многие советские анатомы с неизменным успехом
применяли для исследований расположения сосудов
в разных органах — ив печени, и в почках, и в толще
мышцы сердца. Эти их данные впоследствии сослужи-
ли свою службу и кардиологии.
Наука, как известно, не стоит на месте. Сейчас ме-
дики располагают возможностями судить о располо-
жении и о состоянии сосудов даже у живого челове-
ка — у любого конкретного пациента, если это нам
нужно, да притом не причиняя ему вреда. Но работы,
18
о которых было упомянуто, прочно вошли в историю
медицины. В годы студенчества, когда приходилось
учить сухую дисциплину анатомию, мне она станови-
лась ближе и доступнее оттого, что я ощущал, как она
развивалась, как шел ее поиск и ради чего он шел.
А главное — что он и теперь продолжается, раскры-
вая все новые и новые детали «устройства человече-
ского тела».
...И право, чем больше о нем узнаешь, тем силь-
нее становится восхищение совершенством его кон-
струкции, изяществом биохимических и физиологи-
ческих процессов, в нем происходящих, всем тем,
из чего складывается многообразие его жизнедея-
тельности. Удивительной согласованностью работы.
Строгой взаимосвязью разных отделов любой его си-
стемы и всех его систем и органов между собой. И осо-
бенно четкостью процессов управления, поддержи-
вающих его внутреннюю гармоничность.
Не случайно со второй половины прошлого столе-
тия, когда физиологическая наука достаточно возму-
жала, чтобы находить реальные подходы к познанию
жизнедеятельности высших животных, и благодаря
этому выросла в экспериментальную медицину, сразу
же лучшие ученые мира сосредоточили свои поиски
именно на расшифровке процессов управления в орга-
низме, на механизмах нарушений этих процессов и
на последствиях, к каким они приводят. Что ж, мы
можем гордиться тем, что крупнейшие открытия
именно в этом русле физиологии были сделаны вели-
кими нашими отечественными естествоиспытателями.
Для нас с вами здесь особенно важно то, что было
открыто И. П. Павловым и А. Ф. Самойловым.
Знания, ими добытые, стали фундаментом всей
современной медицины, в том числе кардиологии.
19
Этажи, построенные эволюцией
Вы знаете по школьным урокам физиологии, что мно-
голетние поиски Ивана Петровича Павлова и его уче-
ников и сотрудников были сосредоточены на иссле-
довании именно роли нервной системы как регуля-
тора жизнедеятельности буквально всех органов те-
ла — на расшифровке тех нервных механизмов, каки-
ми регулирование осуществляется. Иван Петрович
был многие годы глубоко убежден, что иного пути
для управления процессами, происходящими в орга-
низме, вообще нет. Эта физиологическая теория так
и называлась: «нервизм», и возникла она еще до Пав-
лова на основе экспериментальных фактов. В России
ее утверждал Иван Михайлович Сеченов, отец нашей
отечественной физиологии, и другие медики, в особен-
ности прямые учителя Павлова: физиолог Илья Фа-
деевич Цион, гистолог Филипп Васильевич Овсян-
ников и замечательный врач Сергей Петрович Бот-
кин.
...И. Ф. Циону удалось достичь открытий, которые
тогда потрясли европейскую науку. Он, например,
обнаружил нерв, ускоряющий работу сердца. А самое
важное — он доказал, что нервная система не только
защищает организм от внешних опасностей, но авто-
матически устраняет внутренние нарушения его нор-
мальной деятельности. Показано это было на реф-
лексе, каким регулируется давление крови. Цион
открыл еще один нерв, который идет от начала аорты
в мозг, и выяснил его назначение. Если давление кро-
ви в аорте становится излишне высоким, то от зало-
женных в ее стенке чувствительных окончаний по
этому нерву в мозг поступают тревожные сигналы. А
сосудодвигательный центр мозга — его расположе-
ние как раз в годы павловского студенчества было
установлено Ф. В. Овсянниковым — посылает по дру-
20
Иван Петрович Павлов
гим нервам импульсы, которые заставляют все арте-
риальные сосуды расширяться, отчего давление тот-
час же и понижается. Именно благодаря этому реф-
лексу в здоровом организме кровяное давление и под-
держивается постоянно на определенном уровне.
И первые крупные исследования самого Павлова
были прямым развитием работ его учителя. Он изу-
чил заключительное звено рефлекса, описанного
Ционом, — путь нервных команд, которые вызы-
вают расширение артерий (Цион установил лишь сам
факт, что сосуды расслабляются). Затем Павлов от-
крыл нерв, усиливающий сердечные сокращения, и
описал целостную картину управления деятель-
ностью сердца по «центробежным нервам». Эти ис-
следования он совершил в маленькой лаборатории
при терапевтической клинике Петербургской военно-
медицинской академии. Клинику возглавлял Сер-
гей Петрович Боткин.
21
Боткин сыграл замечательную роль и в личной
судьбе Павлова, и в судьбе всей русской медицины.
Рассказать о нем в нескольких строках просто невоз-
можно — врач он был великий. А вот что нам важно:
Боткин обладал огромной биологической эрудици-
ей — достаточно сказать, что школу исследователь-
ской работы как патолог он прошел у Рудольфа Вир-
хова, ученого, завершившего здание клеточной тео-
рии и приложившего ее к медицине. Целью Боткина-
ученого было поднять русскую медицинскую науку
на уровень передового европейского естествознания.
Над этим он бился и в академии, где преподавал, и в
клинике, которую возглавлял. Павлова он отличил
среди нескольких сотен студентов, хотя тот не проя-
влял никакого интереса к врачебному делу, отличил
именно как сложившегося физиолога с интересными
замыслами (у Павлова уже вышло несколько печат-
ных работ). И он создал для него маленькую лабора-
торию при своей клинике. Этим Сергей Петрович
«убил» не двух, а сразу трех «зайцев». Он оставил в
академии молодого гениального ученого, которому
грозила долгая служба в провинциальном Кремен-
чугском гарнизоне. Он дал ему возможность иссле-
довать, если говорить языком сегодняшним, важные
физиологические проблемы кардиологии. Он пору-
чил ему руководить работами врачей клиники по
изучению действия лекарственных препаратов, в
первую очередь на сердечно-сосудистую систему, и
особенно на процессы нервной регуляции ее дея-
тельности. Такое сочетание дел дало плоды фанта-
стические. Некоторые препараты, изученные при
участии Павлова, удержались в практике медицины
50—70 лет: их смогли вытеснить лишь новейшие,
во много раз более эффективные. А решающие факты,
выявившие и доказавшие существование усиливаю-
щего нерва сердца, удалось получить при испытани-
ях настойки майского ландыша.
22
Сергей Петрович Боткин
И Боткин и Павлов равно были истинными «нер-
вистами». Сергей Петрович считал, что нарушения
функций нервной системы играют важную роль в
происхождении целого ряда болезней, и он тоже ока-
зал немалое влияние и на взгляды Павлова, и на ход
его поисков.
...Несколько лет спустя, буквально накануне своей
неожиданной смерти, Боткин рекомендовал Павлова
в заведующие физиологической лабораторией Инсти-
тута экспериментальной медицины, которого еще не
существовало, но который после многолетних хлопот
Боткина и многих других замечательных медиков
наконец было царем Александром III ♦дозволено»
создать на частные средства. А там Павлов многие
годы исследовал физиологию пищеварения. Изучал
ее, как помните, на собаках. Сделал со своими учени-
ками — а их у него было очень много! — замечатель-
нейшие открытия и постоянно находил подтвержде-
ния главенства нервной системы во всех процессах,
23
которые исследовались. При этом были открыты
«условные рефлексы», а с ними — подход к новой
области исканий: к изучению высшей нервной дея-
тельности животных и самого человека.
И вдруг — в пору полного успеха исканий Павло-
ва и его школы и торжества его теории — физиологи
начинают получать экспериментальные факты, что
то один, то другой процесс в организме возбуждается
не импульсами, приходящими из мозга по «прово-
дам» нервов (Павлов любил сравнивать нервную си-
стему с телефонной станцией). Их вызывают некие
вещества. Как скажет позднее английский физиолог
Эрнест Старлинг, управление идет по пути «химиче-
ского рефлекса».
Первые факты восприняты спокойно, ибо они не
только легко воспроизводимы, но и не допускают
двух мнений — они однозначны. Если у животного
удалить оба надпочечника — у него катастрофически
падает деятельность сердца и тонус артериальных
сосудов. А если ему ввести экстракт ткани надпо-
чечника, то сердце начинает учащенно биться, арте-
рии сужаются и кровяное давление повышается. Хи-
микам вскоре удается выделить из ткани надпочеч-
ников не слишком сложное вещество, получившее
название адреналина, это оно и работает как стиму-
лятор. А другими исследователями установлено, что
удаление поджелудочной железы совершенно лишает
организм способности усваивать сахар — у опериро-
ванного животного развивается катастрофический
диабет. И в лаборатории самого Павлова, в опытах,
которые Иван Петрович своими руками помогает
ставить, молодой патолог Леонид Васильевич Соболев
доказывает, какие именно группы клеток, «инсулы»,
т. е. «островки» ткани этой железы, вырабатывают
фактор, от которого зависит усвоение сахара. Правда,
выделить этот фактор удалось лишь через 20 лет
канадским ученым, которые и назвали его инсули-
ном.
24
Во всем этом Павлов не видел ничего такого, чтс
категорически бы противоречило его представлениям.
Ну, пусть в конце дуги какого-то рефлекса и оказа-
лось химическое звено — основного принципа реф-
лекторного механизма управления всеми процессами
в организме это не подрывает. Просто вносится уточ-
нение. Драматический оборот события приняли, когда
английские физиологи Эрнест Старлинг и Уильям
Бейлисс обнаружили факты, говорившие, что путем
чистого «химического рефлекса» — без участия нерв-
ной системы! — в организме управляется главная
функция поджелудочной железы — выработка ею
пищеварительного сока, содержащего ферменты, бла-
годаря которым белки, жиры и углеводы пищи раз-
рушаются на такие вещества, какие могут проникнуть
сквозь мембраны клетки кишечника, а из этих кле-
ток — в кровь.
Для Павлова это было полнейшим абсурдом. Не
было в мире ученого, который так бы знал физиоло-
гию поджелудочной железы, как он. Первые ее ис-
следования он выполнил еще студентом и затем мно-
го раз к ним возвращался на протяжении четверти
века, чтобы в еще более совершенном эксперименте
проверить и уточнить свои прежние, всем научным
миром признанные, выводы. И всякий раз он и егс
сотрудники получали неопровержимые свидетельст-
ва, что поджелудочная железа включается имение
по «нервному приказу», за исключением одного слу
чая, одной недавней работы, которая просто подтолк
нула Бейлисса и Старлинга к их результату!.. Эту ра
боту выполнил один из лучших учеников Павлова
Задолго перед тем было установлено, что соляная
кислота желудочного сока, попав в кишечник собаки
может побудить железу к работе. Объяснение напро
сил ось само собой: кислота раздражает нервные окон
чания в стенке кишечника, нервные центры получаю!
сигнал о том, что сок вместе с пищей из желудка по-
26
ступил в следующий отдел, и тотчас к железе посыла-
ется команда на включение. Но некоторое время спу-
стя Павлов поручил заново исследовать это явление
настоящему мастеру эксперимента.
Проверка была изощренной и точной: в решаю-
щих опытах от железы отсекались все до единой нерв-
ные веточки и для надежности разрушался опреде-
ленный отдел мозга. Но стоило ввести в кишечник
подопытной собаки соляную кислоту, как железа и
при этом начинала работать! И вот тут блестящий
экспериментатор, получивший такие результаты,
оказался рабом теории, в которой был взращен. Он
стоял на пороге значительного открытия — ему надо
было сделать всего один шаг, один опыт. А он его не
сделал и стал искать объяснения своим результатам
только с позиций нервизма. И Павлов, услышав при-
вычные слова, конечно, не насторожился.
Но как только работа появилась в солидном жур-
нале, который читали все физиологи мира, Бейлисс
и Старлинг повторили эти эксперименты. И додума-
лись поставить именно тот единственный опыт, мысль
о котором не пришла сотруднику Павлова. И обнару-
жили в клетках кишечника вещество, которое под
воздействием соляной кислоты поступает в кровь, по-
падает с ней в железу и побуждает ее к работе. А по-
этому всем веществам химических рефлексов — и
этому названному ими «секретином», и адреналину,
стимулирующему тонус сосудов, и тому еще не вы-
деленному фактору, от которого зависит усвоение са-
хара и который по доказательствам Соболева выра-
батывается «инсулами» поджелудочной железы,
и всем, какие когда-либо будут открыты, — Старлинг
дал имя «гормоны», т. е. «побудители» (от древне-
греческого слова «гормео» — «побуждаю»).
Совершенно неожиданно Павлов заявил, что опы-
ты Бейлисса и Старлинга не верны, ибо никакого гор-
мона тут и быть не может, так как работа поджелу-
дочной железы управляется только нервным путем.
27
Его позиция объяснима: он многие годы получал точ-
ные, послушно воспроизводимые результаты, которые
ответили, казалось бы, на все вопросы, — и вдруг
какое-то «лишнее» новшество.
Полемика разыгралась бурная. Но ведь самыми
главными доказательствами Павлов всегда считал
факты, полученные в правильно поставленном опыте,
и когда спор затянулся, он — чтобы «добить против-
ника» — поручил двум своим ученикам, очень уме-
лым экспериментаторам, воспроизвести во всех дета-
лях работу Бейлисса и Старлинга и найти в ней ошиб-
ки. И был просто ошеломлен, когда ему продемонст-
рировали опыт и на его глазах получились те же
самые результаты, что и у англичан!.. Он собрался с
духом и сказал сотрудникам, что никто цикогда не
должен считать себя единственным обладателем исти-
ны и что английские физиологи правы, а он, Павлов,
был не прав. И признал это печатно.
Иван Петрович был человек очень самолюбивый,
но истина была для него превыше всего. И он объ-
яснил, что неверно оценил опыты, в которых гормон
был обнаружен, именно потому что привык занимать-
ся физиологией органов, а здесь столкнулся с явле-
нием, относящимся к другому уровню — к физиоло-
гии клеточной.
Старлинг, однако, принялся отрицать существова-
ние нервного механизма управления внутренними
органами — сердцем, железами, желудком. И лишь
когда Павлов прислал к нему в Лондон своего сту-
дента, конечно талантливого, и тот показал мастито-
му физиологу, как надо ставить опыты, выявляющие
этот нервный механизм, Старлингу пришлось согла-
ситься, что действительно существуют два пути
управления.
А мысль Павлова о том, что оба пути соответст-
вуют двум физиологическим уровням, оказалась про-
сто пророческой. Через 20 лет другой наш замечатель-
28
ный физиолог — Александр Филиппович Самойлов
(он был учеником и Павлова, и Сеченова) показал,
как тесно переплетены меж собою оба эти вида управ-
ления, или, иначе говоря, передачи информации, в
организме. Он открыл, что даже в самой цепи нервно-
го импульса тоже есть «химические звенья». Импульс
с нервного волокна одной клетки передается на дру-
гую нервную, мышечную или железистую клетку не
как электрический сигнал с провода на провод, а с
помощью химического «медиатора», вещества-по-
средника, которое под влиянием импульса образуется
в зоне контакта. А. Ф. Самойлов объяснил такое
сосуществование с позиций эволюционной теории.
Химическая сигнализация — самая древняя. Ведь
у одноклеточных и у примитивных многоклеточных
животных, и внутри любой отдельной клетки, иной
регуляции и сейчас не существует. Да ее и не нужно.
Все процессы внутри клетки — биохимические и
физико-химические. И любое вещество способно сыг-
рать роль сигнала, возбудить какую-то реакцию или
повернуть ее в обратном направлении. И для связи
между клетками примитивного многоклеточного ор-
ганизма или в ткани какого-то органа у существа вы-
сокоорганизованного тоже вполне достаточно «хими-
ческого посредничества». Зачатки нервной системы,
которая способна много быстрее переносить сигналы
на большие расстояния от органа к органу, возникли
на более поздних этапах эволюции. Чем сложнее
и совершеннее становился этот специализированный
кибернетический живой аппарат, тем больше преиму-
ществ выявлялось у его обладателей и тем больше
шансов было у них выжить в суровом естественном
отборе. Но внутри этого аппарата неизбежно сохра-
нялись «изначальные» элементы, ибо там, в зонах
межклеточных контактов, на поверхностях клеточ-
ных мембран, они незаменимы. Ведь сигнал химиче-
ского посредника точен, он несет всякий раз строго
определенный смысл, как слово.
29
Эти фундаментальные представления объяснили
важные стороны нормальной деятельности не только
пищеварительной, но и сердечно-сосудистой системы.
Они создали медикам подходы к раскрытию тех на-
рушений, которые лежат в основе многих болезне-
творных процессов, и среди них, как оказалось сразу,
сердечно-сосудистых заболеваний — главной пробле-
мы медицины конца XX в. К сожалению, ученые не
всегда хорошо знают историю науки — им некогда,
их полностью поглощает собственный поиск. И пото-
му многие из них повторяли старые ошибки. Одни —
в основном зарубежные ученые — вновь принима-
лись уверять, что все предопределяется лишь одними
гормонами. Другие признавали единственным управ-
ляющим центром организма мозг, да к тому же толь-
ко высший его отдел — кору больших полушарий.
Пылкие дискуссии шли в этом русле, в частности,
в связи с изучением механизма возникновения гипер-
тонической болезни. В годы, когда я был студентом,
да и позднее, когда я уже начал работать врачом,
проблема этого заболевания сделалась чрезвычайно
остра. Я помню молодых, 25 — 30-летних пациентов,
которые буквально на глазах сгорали у нас в клинике
от злокачественной гипертонии. Тогда еще не было
средств, которые позволяли бы управлять артериаль-
ным давлением, держать его на нужном уровне, та-
ких, какими мы располагаем сегодня. Болезнь про-
грессировала неудержимо. У молодых людей разви-
валась тяжелая почечная недостаточность, возникали
нарушения мозгового кровообращения, и они гибли...
Болезнь, которую
не считали болезнью
Начну издалека: с Гиппократа, замечательного древ-
негреческого врача и прямого потомка легендарного
лекаря Асклепия (Эскулапа), которого эллины объ-
30
явили богом-целителем и даже родным сыном Апол-
лона, покровителя искусств и врача богов.
Сохранилась генеалогия рода Асклепиадов: Гип-
пократ числится в семнадцатом его поколении. Все
мужчины рода служили врачами при храмах, посвя-
щенных их обожествленному предку, которые и были
древними лечебницами. Но Гиппократ был уже не
храмовым, а «общественным» врачом. Такой пост он
занимал в разных городах Эллады. За спасение жите-
лей Афин от чумной эпидемии он был избран почет-
ным гражданином города и увенчан золотым венком.
Великий философ Платон писал о нем как о выдаю-
щемся лекаре и мыслителе. Потомки назвали отцом
медицины. Сборник трудов Гиппократа и его учени-
ков — самое раннее письменное руководство по вра-
чебному делу, до нас дошедшее.
Наставления «Гиппократова сборника» обстоя-
тельны, а часто и по нынешним меркам разумны.
В них зорко обрисованы признаки многих болезней,
и происхождение их объяснено не «гневом богов» или
«дурным глазом», а неправильным питанием, разны-
ми излишествами, влиянием скверной погоды и даже
«миазмами», которые передаются через воздух или
нечистую воду. Из-за таких причин в теле будто
бы происходит «смешение соков» — крови, мокроты
и желчи — либо какой-то из «соков» попадает в нена-
длежащее для него место. Оттого-то, по суждению
«отца медицины», и разыгрываются разные болезни.
Как ни странно, а эти наивные догадки все-таки пред-
восхищали мысль о том, что основа болезней, условно
говоря, в каких-то биохимических изменениях.
Среди многих недугов Гиппократ описал внезап-
ное заболевание, которое он называл апоплексией,
т. е. ударом. Развивается апоплексия молниеносно —
больной теряет сознание, а когда приходит в себя,
оказывается, что у него парализована половина тела.
Сверх того, иногда еще может быть надолго нарушена
речь, и это значит, что апоплексия поразила мозг.
31
И вот в течение 21 столетия, из 24 прошедших со
времен Гиппократа, суть «мозгового удара» медики
объясняли тем, что пациенту «кровь бросилась в го-
лову». А причину болезни — наклонностью, прису-
щей людям особого «апоплексического склада»: по-
жилым, тучным, «полнокровным», нередко привер-
женным к обжорству и к тому же бурно реагирующим
на разного рода конфликтные ситуации. «Удар» даже
считался просто следствием чрезвычайных волнений:
ну, как не воздать должное наблюдательности старин-
ных врачей!.. Пульс у таких больных, писали они в
своих трудах, бывает «напряженным», «твердым»
и склонен учащаться. И дабы умерить полнокровие,
таким пациентам при ухудшении самочувствия
стоит делать кровопускание, даже повторять это не
раз и еще ставить пиявки на грудь и затылок. До кон-
ца прошлого столетия кровопускание чрезвычайно
широко применяли к месту и не к месту. Французский
врач Бруссе — а он был очень знаменит в первую
половину XIX в. — рекомендовал лечить им и лихо-
радку, и ревматизм, и даже просто головные боли.
А поскольку его авторитет многими врачами почи-
тался непререкаемым, только за один 1829 г. во
Франции было ввезено и использовано более 33 млн.
пиявок. Недаром современники шутили: «Если На-
полеон разорил Францию, то Бруссе ее обескро-
вил*. Ни один метод лечения нельзя применять
без разбора, и такое бездумное увлечение Брус-
се и его последователей во множестве случаев при-
несло не пользу, а вред. Кровопускание и пиявки,
впрочем, применяют иногда и в наши дни, если это
действительно необходимо.
...Спустя два тысячелетия, когда естествознание
начало становиться на почву эксперимента и Уильям
Гарвей уже описал систему кровообращения, серьез-
ные, мыслящие врачи пришли к убеждению, что ме-
ханику любой болезни следует расшифровывать по
32
Гиппократ
изменениям, какие она натворила в организме, —
так зародилась патологическая анатомия. И при пер-
вых же вскрытиях тел пациентов, погибших от апо-
плексии, — а это было еще в начале XVIII в. — пер-
вые патологоанатомы обнаружили разорвавшиеся ар-
терии и сгустки крови, которые сдавили участок моз-
га и повредили его нежное вещество. Сразу было по-
нято, что инсульт — так слово «удар» звучит на ла-
тыни — лишь финал, лишь следствие болезни, кото-
рая ему предшествовала и изуродовала стенки арте-
рий не только мозга, но и других сосудов тела.
Некоторые участки ткани сосудов оказывались уп-
лотнены настолько, что при ударе пинцетом даже
слышался стук, и патологи тех лет полагали, что там
образовались «костные островки».
Еще через два века это основное заболевание —
оно получило имя атеросклероз (от греческих слов
33
sclerosis—«уплотнение» и athera—«кашица»)—бы-
ло изучено уже с помощью микроскопа и химических
методов. Оказалось, что под тонкой нежной оболоч-
кой, выстилающей артерии изнутри, образуются во
множестве «бляшки» — скопления холестерина,
жироподобного вещества. В этих «бляшках» при
дальнейшем развитии процесса откладываются еще
и соли извести, отчего стенки сосуда действительно
отвердевают.
Ну а затем легко было прийти к мысли, вполне
закономерной, что артерии по мере развития таких
изменений теряют способность расширяться во испол-
нение «приказов», которые сосудодвигательный
центр посылает, когда давление крови оказывается
избыточным. Далее ткань их стенок перестает полу-
чать надлежащее питание — ведь у каждого сосуда
есть свои сосуды, и «бляшки», да еще обызвествлен-
ные, сдавливают эти «сосуды сосудов». В стенках
«голодающих» артерий возникают изъязвления, и в
этих-то местах могут произойти разрывы стенки или
образоваться тромбы — пробки из свернувшейся
крови, перекрывающие просвет сосуда. А если тромб
закупорил артерию, то последствия оказываются те-
ми же, что и при кровоизлиянии в мозг, потому что
участок мозга, которому выключенный сосуд постав-
лял кровь, быстро погибает от кислородного голода-
ния. Поэтому тромбозы сосудов мозга тоже назы-
вают инсультами — ударами. Вот примерно так ме-
дики и представляли себе это заболевание к концу
прошлого века. А в 1892 г. замечательный русский
врач Владимир Михайлович Керниг в докладе Об-
ществу петербургских врачей заявил, что атероскле-
роз — причина еще одного недуга: тяжелой болезни
сердца, которую тогда называли грудной жабой или
сердечной астмой. У этой болезни есть еще одно наз-
вание — стенокардия ( в переводе с греческого —
«стеснение сердца»), которое точно соответствует ее
34
главному проявлению: тем болям, какие ощущает
страдающий ею человек во время приступа, — сжи-
мающим, давящим. Боли эти возникают особенно
при физическом напряжении или сильном волнении.
Но до конца прошлого столетия грудная жаба,
она же стенокардия, считалась заболеванием ред-
ким. А доктор Керниг работал главным врачом в
Обуховской больнице — одной из самых больших
больниц Петербурга — в ней уже в те дни было боль-
ше тысячи коек. Она принадлежала городу, плата за
лечение в ней была по тем временам маленькой и
пациентов поэтому множество, и Владимир Михайло-
вич, хотя точной статистики еще не существовало,
по пациентам своей больницы мог с немалой досто-
верностью судить о частоте разных болезней. Его док-
лад — первое научное свидетельство, что частота за-
болевания стенокардией серьезно изменилась: на ру-
беже XIX — XX вв. она стала встречаться гораздо
чаще. А это связано, говорил в докладе Владимир
Михайлович Керниг, «...с большой распространен-
ностью атеросклероза, так как типичная грудная
жаба... зависит, без сомнения, от склероза венечных
артерий сердца».
Это было не домыслом, не догадкой, а строгим
выводом, сделанным из наблюдений за большим чис-
лом пациентов, которых Керниг лечил, и нередко с
успехом. А главное — на основе патологоанатомиче-
ских исследований, при которых в сердце тех пациен-
тов, каких спасти не удалось, были увидены четкие
атеросклеротические изменения венечных артерий.
(Старинные анатомы любили красивые сравнения, и
артерии сердца получили от них титул его «короны»,
«венца», отсюда их название — коронарные, или ве-
нечные.)
А в двух случаях Кернигом была обнаружена
закупорка венечной артерии тромбами и четко огра-
ниченные очаги размягчения миокарда, т. е.* сердеч-
36
ной мышцы, на том участке, который лишился пи-
тания, и к тому же с признаками образования рубцов
на месте поражения.
Так в медицине появилось еще и самое первое
описание инфаркта миокарда — словом «инфаркт»
патологи называют ограниченный участок ткани
любого органа, погибшей вследствие закупорки пи-
тавшего ее сосуда.
Керниг был очень хороший педагог и человек.
Вместе с физиологом Овсянниковым, химиками Мен-
делеевым и Бутлеровым и другими передовыми рус-
скими учеными и врачами он добился открытия Выс-
ших женских врачебных курсов и несколько лет
преподавал на них терапию и обучил многих жен-
щин-врачей. Он был очень тонкий диагност. И по
сей день во всем мире невропатологи и терапевты,
осматривая своих пациентов, непременно проверяют,
нет ли у них «симптомов Кернига». (Один из откры-
тых им симптомов свидетельствует о раздражении
мозговых оболочек, а второй является признаком
обширного инфаркта миокарда.)
Но Керниг мало заботился о публикации своих
наблюдений. За полвека своей плодотворной работы
он напечатал всего десяток статей, и его столь важ-
ный доклад 1892 г. — это буквально несколько аб-
зацев в печатных «Протоколах Общества петербург-
ских врачей».
Вторую небольшую статью Кернига об измене-
ниях в сердце после приступов грудной жабы, напе-
чатанную еще через 12 лет в журнале «Русский
врач», его коллеги просто не оценили должным об-
разом. Новые факты и выводы надо уметь заявить, а
Керниг все внимание сосредоточил на объяснении и
обосновании открытого им симптома поражения
сердца, а о самом инфаркте говорил как о чем-то
давно всем известном.
И строгое описание тромбоза венечных артерий
37
Василий Парменович
Образцов
Николай Дмитриевич
Стражеско
и инфаркта сердца как самостоятельного заболева-
ния было сделано лишь через несколько лет, в 1909 г.,
киевскими терапевтами В. П. Образцовым и
Н. Д. Стражеско. Они тщательно обрисовали пато-
логическую основу процесса и клинику болезни, т. е.
ее течение, и те ее симптомы, какие отмечались в
ранней стадии заболевания, и те, что в его «расцвете».
И те, наконец, какие могут ввести врача в заблуж-
дение — обмануть, навязать неверный диагноз. Ведь
бывает, что больной при инфаркте ощущает, напри-
мер, боли не в груди, а в области желудка или пе-
чени. И могут при этом проявляться еще другие
признаки, типичные для язвы желудка или воспа-
ления желчного пузыря либо для иных недугов.
38
А если врачу не удается оценить все имеющиеся
симптомы в их совокупности и докопаться до истины,
то ошибка обойдется больному слишком дорого.
Заслуга Образцова и Стражеско именно в том,
что они описали такие формы проявления болезни,
при которых диагноз затруднен и врач может оши-
биться. А для этого они в своей работе беспристра-
стно проанализировали собственные врачебные не-
удачи, последовав обычаю, который ввел в медицину
великий русский хирург Николай Иванович Пиро-
гов. Открытый и откровенный анализ своих врачеб-
ных ошибок Пирогов сделал сильнейшим стимулом
совершенствования врачебного мастерства...
И вот что важно: именно к этому же времени,
когда внимание врачей обращено на инфаркт сердца
как на самостоятельное заболевание, в медицине
появляются два новых метода, сыгравшие особенную
роль в становлении кардиологии.
Первый метод — электрокардиография: реги-
страция так называемых «токов действия», которые
образуются в сердечной мышце при ее возбуждении,
кстати как и в любой другой.
Каждое возбуждение, «запускающее» сокращение
сердца, рождается в зоне предсердий и волной про-
ходит к его верхушке. В точке, где оно начинается,
в это мгновение возникает отрицательный заряд, а в
области сердечной верхушки — сильный положи-
тельный заряд, и сердце оказывается в роли элек-
тромагнита, а его токи действия распространяются
на все ткани тела — строго по законам физики —
соответственно силовым линиям магнитного поля.
Медики-теоретики и практики уже не один де-
сяток лет пытались найти такие физические ме-
тодики, которые позволили бы судить о состоянии
сердечной мышцы. Например, И. Ф. Цион полушу-
тя мечтал распознавать даже человеческие чувства
39
еще по простой кардиограмме — по механической
записи сердечных сокращений.
Возможность «понимать сердце» по его биото-
кам возникла в результате трудной и кропотливой
работы многих исследователей, и в первую очередь
Николая Евгеньевича Введенского, Василия Юрье-
вича Чаговца и Александра Филипповича Самойло-
ва. В начале века ими были описаны очень важные
принципы электрических явлений в нервах и мыш-
цах. И вот в 1903 г. голландский физиолог Виллем
Эйнтховен, работавший в Лейденском университете,
сумел зарегистрировать токи действия сердца спе-
циально для этого сконструированным очень чув-
ствительным прибором — струнным гальваномет-
ром. Колебания тончайшей кварцевой нити его галь-
ванометра — сначала ее диаметр был 1 мк, затем
даже 0,01 мк — воспроизводили волну распростра-
нения токов в сердечной мышце, а световой луч
фиксировал эти колебания на фотобумаге. Самойлов
еще прежде пытался добиться того же результата
с помощью другого прибора — капиллярного элект-
трометра, в котором мышечные токи действия вызы-
вали колебания мениска ртути. Но как только Алек-
сандр Филиппович увидел статью Эйнтховена, он
пришел в полнейший восторг от красоты его резуль-
татов и поехал к нему в Лейден, чтобы познакомиться
с чутким прибором и с его создателем. С тех дней
начались поистине прекрасные дружба и сотрудни-
чество двух замечательных физиологов и, как шутил
Самойлов, еще и струнного гальванометра. И тем,
что электрокардиография утвердилась как метод
и в экспериментальной, и в клинической медицине,
мы во многом обязаны их дружбе.
И открытие химического звена в цепи передачи
нервного импульса, столь принципиальное для на-
ших физиологических представлений, Самойлов
сумел сделать именно с помощью струнного галь-
40
ванометра. Этот прибор позволил ему с точностью
до стотысячных долей секунды измерить, как им-
пульс от понижения температуры замедляется в пяти-
сантиметровом нервном волоконце и особо — как за-
медляется его передача с нервного окончания на
мышечную клетку. (Опыты ставились на нерве и
мышце, взятых у лягушки.) Оказалось, что в месте
контакта с клеткой скорость импульса снижается
много резче — так, словно бы перепад температуры
изменил не физический процесс, а ход химической
реакции. Это тонкое наблюдение и привело искус-
ного экспериментатора к столь дерзкому выводу.
А 8 лет спустя его ученик А. В. Кибяков сумел
добыть из нервного узла вещество, введение которого
в мышечную ткань давало точно такой же эффект,
как и нервный импульс. И наконец, было определе-
но, какие же вещества служат медиаторами, посред-
никами. Ими оказались ацетилхолин, адреналин,
норадреналин, серотонин и еще несколько других
веществ.
Принципы понимания процессов, отражаемых
электрокардиограммой, тоже не сразу были распо-
знаны. Это сейчас ЭКГ, так ее называют, обычное
дело. Уже 70 лет ЭКГ записывают в лечебных заве-
дениях. Конструкция аппаратов давно стала иной,
и чертятся кардиограммы тоже давно уже не све-
товым лучом на фотобумаге, а чернилами на лентах
бумаги-миллиметровки. Длина всех исписанных
лент теперь исчисляется, наверное, многими мил-
лионами километров. И сотни тысяч врачей во всем
мире каждый день сызнова всматриваются в форму
зубцов, вычерченных на бумаге. Измеряют их высоту
и интервалы меж ними. И по их изменениям, по
отклонениям от электрической оси и множеству дру-
гих признаков делают вывод: «нарушение питания
передней и боковой стенок миокарда» или «блокада
левой ножки пучка Гиса» — так называется пучок
41
особых волокон в перегородке сердца, по которым
возбуждение в нем распространяется. И разные дру-
гие заключения.
Но понимать, что в этих зубчиках чему соответ-
ствует, физиологи и врачи начали именно благодаря
дальнейшим трудам Эйнтховена и Самойлова, в
которых была создана азбука электрокардиографии.
Впрочем, у них было множество последователей,
благодаря которым эта, казалось бы, очередная ча-
стная методика выросла в сложную и почти само-
стоятельную отрасль медицины.
А вторым методом было измерение артериального
давления. В 1909 г. итальянским врачом Счипионе
Рива-Роччи был изобретен очень удобный аппарат,
называемый у нас тонометром.
Не знаю, надо ли подробно объяснять, что опре-
деленный уровень давления крови в сосудах — вы-
сокий в артериях, низкий в венах — необходим. Без
него кровообращение было бы чисто физически не-
возможно. Физиологи это поняли давно и, исследуя
сердечно-сосудистую систему животных, неизменно
регистрировали параметры кровяного давления в
разных условиях, при различных воздействиях.
Врачи-клиницисты тоже очень давно осознали, что
разные патологические процессы сопровождаются
изменениями артериального давления. И внешние
признаки «полнокровия» у больных с «апоплекси-
ческим складом» свидетельствуют, что давление
скорее всего повышено. Да если и у любого пациента,
даже совсем не «полнокровного», а, напротив, блед-
ного, ослабленного, отечного, прощупывается на за-
пястье «напряженный», «твердый» пульс, это гово-
рит о том же самом. И все-таки одно дело догады-
ваться и другое — располагать точными фактами.
Врачи еще и сегодня нередко вынуждены опираться
на свою память, опыт, на предположения, но наука
в медицине, как и в любом деле, начинается только
с «числа и меры».
42
Физиологи были куда в более легком положении,
чем врачи. Они брали подопытное животное и в
любой сосуд, даже в аорту и в полости сердца, вты-
кали трубку, соединенную с манометром: вот вам и
точные данные. Но у человека измерять таким обра-
зом кровяное давление справедливо считали невоз-
можным. Однако в начале века все же появились
один за другим приборы для измерения давления
через наружные покровы тела, а тонометр Рива-
Роччи оказался настолько удачен, что используется
во врачебной практике до наших дней. И хотя появи-
лись более совершенные модели, принцип конструк-
ции не претерпел изменений. Этот принцип чрезвы-
чайно прост, и как давление измеряется, вы навер-
няка знаете.
Как только аппарат Рива-Роччи и методика изме-
рения, усовершенствованная доктором Н. А. Корот-
ковым, начали закрепляться в повседневной практи-
ке, врачи стали обнаруживать у все большего числа
пациентов артериальную гипертонию — давление,
много превышающее физиологическую норму.
...Ну вот мы и подошли к проблеме, интерес к кото-
рой в итоге и привел меня в молодости в кардиоло-
гию,— тогда, в 50-е гг., еще не выделившуюся окон-
чательно в автономную область «внутренней меди-
цины». Среди терапевтов и среди патофизиологов
давно шли дискуссии о том, что же она такое —
артериальная гипертония. Один ли это из симпто-
мов или вредных последствий какого-то заболева-
ния (а может, и не одного!) или же самостоя-
тельное заболевание, при котором высокое кровяное
давление — главное звено и причина всех осложне-
ний?
Было точно установлено, что гипертония очень
часто обнаруживается при атеросклерозе и, почти как
правило, кровоизлиянию в мозг или тромбозу его
43
артерий предшествуют катастрофические скачки
давления — «гипертонические кризы». И что тяже-
лые поражения почек, вызванные токсическими ве-
ществами или острым воспалением — нефритом,
всегда сопровождаются очень высоким подъемом
кровяного давления, и особенно высокие его скачки
осложняются теми же бедами. И что гипертония
еще встречается у людей, страдающих самыми раз-
ными болезнями.
И все же чаще всего никаких иных недугов не
обнаруживается.
Некоторые медики в те годы, особенно если в их
личной практике попадались случаи сочетания ги-
пертонии с каким-то определенным заболеванием,
причины которого хорошо поняты, делали весьма
скороспелые заключения, которые провозглашали
как непреложные истины.
Но еще в 1922 г. замечательный врач и ученый,
глава ленинградской терапевтической школы
Г. Ф. Ланг в одной из своих работ писал, что следу-
ет четко различать гипертоническую болезнь как
самостоятельный недуг и ту гипертонию, которая
возникает как симптом каких-то других заболева-
ний — тех же поражений почек. Он в последующих
своих работах обрисовал различные стадии гипер-
тонической болезни и те изменения, которые возни-
кают в сосудах на каждой из них. И при этом особо
отметил, что болезнь длительно течет, не давая ни
ярких симптомов — больной лишь временами ощу-
щает недомогание, ни явно анатомических послед-
ствий. Потому что прежде, чем пострадают клетки
и ткани, нарушения в организме долго сосредоточи-
ваются лишь на уровне биохимических и физико-хи-
мических сдвигов, и эти сдвиги обратимы. Ведь часто
даже и разрушительные последствия тоже до опреде-
44
Георгий Федорович Ланг
ленного момента еще обратимы, только благодаря
этому медицина и способна исцелять людей.
Такие мысли Ланга о патологии как процессе
динамичном, подвижном, обратимом звучали, пра-
во же, замечательно, новаторски. Но как ни разумны
были его доводы, а тогдашние исследования экспе-
риментаторов как раз приносили новые факты в поль-
зу гипотезы противоположной — о «симптоматиче-
ской гипертонии».
В 1933 г. американские патофизиологи — про-
фессор X. Голдблатт и его сотрудники — сумели в
эксперименте вызвать у подопытных собак почечную
гипертонию. Они исходили из точной предпосылки,
что почки при любом их поражении должны стра-
дать в первую очередь от «ишемии», т. е. малокровия,
и потому искусственно создали у животных недоста-
точность снабжения почек кровью. Сделать это было
45
просто: на операциях экспериментаторы накладыва-
ли на почечные артерии мягкие зажимы, которыми
сужали просветы сосудов, и все так и оставляли в
теле животного. А через малое время гипертония
у оперированной собаки разыгрывалась вовсю!..
Но это было только начало. Исследователи стали
брать у собак-гипертоников кровь и вводить ее здо-
ровым неоперированным животным, и у них это не-
пременно вызывало тоже резкий подъем давления!...
И тут был сделан совершенно справедливый вы-
вод, что при ишемии в почках вырабатывается некое
вещество — его назвали ренином («почечным»), ко-
торое вызывает и поддерживает подъем давления.
(Ренин поначалу даже причислили к гормонам.)
А поскольку у людей, погибших от запущенных
форм гипертонической болезни, почечные сосуды ока-
зываются склеротически измененными, то был сде-
лан и второй вывод, но уже поспешный: иного пути
для развития гипертонии нет. И потому она всегда
лишь симптом некоего, быть может, еще не уловимо-
го поражения почек.
Немного позднее оказалось, что обнаруженный
патофизиологами процесс выглядит посложнее. Ре-
нин вовсе не гормон, а фермент со строгой «спе-
циальностью». Он отщепляет от молекулы опреде-
ленного белка, содержащегося в крови, участок, кото-
рый для нее служит как бы замком. А после того как
«замки» с тех молекул сняты, белок, который теперь
назван ангиотензином («напрягателем сосудов»), и
вызывает окончательный эффект. (Такая ступенча-
тая схема позднее была обнаружена во многих био-
химических процессах.)
Однако суть дела не изменилась, и «ренин-ангио-
тензинная гипотеза» на некоторое время укоренилась
как единственное, обоснованное экспериментально,
объяснение механизма развития недуга.
В годы моего студенчества в свет вышла яркая и,
46
увы, последняя книга Ланга «Гипертоническая бо-
лезнь», которая подводила итог многолетним его
изысканиям в этой области. Подготовили книгу к пе-
чати его ученики, среди которых был Александр
Леонидович Мясников. Затем вышли крупные рабо-
ты и самого Мясникова, в которых он развивал идеи
своего учителя об этом заболевании как результате
серьезных нарушений нервной регуляции сосудистой
системы.
Ланг еще студентом был воспитан на идеях клас-
сического нервизма — самим Павловым! И гипер-
тоническую болезнь расценивал как «сосудистый
невроз». Причину болезни он видел в очевидном
воздействии чрезвычайных внешних раздражите-
лей — конфликтных ситуаций, эмоциональных пере-
грузок.
Чисто физиологических экспериментов — пря-
мых, как у американских ученых, у Ланга и Мясни-
кова, повторяю, не было. Но зато у них был огромный
клинический материал, в том числе наблюдения в
трагические дни блокады Ленинграда. Лангу и его
ученикам тогда пришлось столкнуться с особой «мол-
ниеносной», быстро развивающейся формой гиперто-
нической болезни, которая так и была названа «ле-
нинградской», или блокадной гипертонией. Страш-
ный голод, холод, рвущиеся на улицах и в квартирах
снаряды, гибель близких, которых обессилевшие от
истощения люди не могли даже похоронить, — роль
таких чрезмерных эмоциональных потрясений, пере-
житых ленинградцами, была несомненна. А ведь
психические травмы и различные нервные перегруз-
ки, предшествующие заболеванию (хотя бы долгие
перенапряжения в работе), были в жизни почти каж-
дого из больных и обычными формами гипертони-
ческой болезни, которая в послевоенные годы дала
четкий «всплеск» — это сказались перенесенные
47
людьми испытания и горести. Стоило только тща-
тельно расспросить пациента о его жизни, чтобы
убедиться в этом.
И для Ланга естественным было попытаться са-
мый ход развития заболевания объяснить теми же
явлениями в коре мозга, какие Павлов и его ученики
расшифровали как основу экспериментальных нев-
розов, которые в свое время развились у их подопыт-
ных животных сперва случайно — во время ката-
строфического ленинградского наводнения 1924 г.,
а затем много раз послушно воспроизводились в
опыте.
Используя их теорию, Ланг, а затем и Мяс-
ников утверждали, что и гипертоническая болезнь
тоже результат перенапряжения нервных процессов
в коре головного мозга. Но с особыми последствиями,
ибо в таком случае нарушения не остаются в пределах
коры больших полушарий, как при обычном неврозе,
а распространяются на подкорковые отделы мозга.
Там развивается стойкое возбуждение нервных
центров, которые регулируют тонус сосудов, и эти
центры посылают уже не отдельные «команды», как
подобает для упорядочения давления, а постоянный
поток «патологических импульсов». И повышение
артериального давления приобретает стойкий генера-
лизованный характер.
Кроме этого оказываются патологически возбуж-
дены и центры, ведающие железами внутренней сек-
реции, отчего надпочечники, например, выбрасывают
в кровь избыточные количества норадреналина.
А другие железы — другие гормоны. И если про-
цесс вовремя не удается прервать, он приводит к
резким нарушениям обмена веществ в организме.
Из-за них возникает склероз артерий. Почки начи-
нают страдать от ишемии, затем в дело включается
уже и «ренин-ангиотензинная система»... А резуль-
тат — тяжелые формы склероза венечных артерий
48
сердца и атеросклероза сосудов мозга со всеми беда-
ми, к которым они способны привести.
Тридцать лет назад такие представления счита-
лись исчерпывающими. И в самом деле, идеи Ланга
и Мясникова во многих моментах были воистину
прозорливыми. Правда, теперь, когда мы знаем био-
химические тонкости процессов, вся система явле-
ний предстает иной, но это естественно.
Оценивались их работы у нас очень высоко: Лангу
за его книгу, увы, посмертно, была присуждена Госу-
дарственная премия. Я эту книгу и работы Мяснико-
ва читал еще студентом. Написаны они превосходно:
прекрасный язык, стройная мысль — все в них каза-
лось ясным до конца.
Заканчивая рассказ о гипертонической болезни,
прибавлю вот что. В те годы за границей работы
советских ученых почти не переводилй, а поэтому там
их не знали. И еще в 1958 г. в США была проведена
специальная конференция, посвященная 25-летию
первого воспроизведения экспериментальной почеч-
ной гипертонии. Все зачитанные на ней доклады были
нацелены на то, чтобы сохранить старую теорию не-
изменной. Именно неизменной — вопреки тому, что
в клинике и в эксперименте стало накапливаться
множество фактов, противоречащих этой теории.
Зато позднее крупные зарубежные физиологи —
Б. Фолков (Швеция), Дж. Генри (США) и другие —
на экспериментальном материале пришли к... ней-
рогенной теории!.. И, например, Генри был весьма
удивлен, когда узнал, что такая концепция сло-
жилась у нас еще более 30 лет назад.
Однако получить достоверные подтверждения
нейрогенной теории в эксперименте не удавалось
очень долгое время. Впервые эти подтверждения бы-
ли получены лишь в 1959—1960 гг. сотрудниками
Института экспериментальной патологии и терапии
АМН, который находится в Сухуми. Им удалось
49
сильными нервными перегрузками вызвать у обезьян
повышение артериального давления и даже пораже-
ния миокарда.
Но справедливости ради замечу, что эта теория
не давала все же ответа на закономерный вопрос:
почему при равных условиях у одних людей разви-
вается «сосудистый невроз», у других обычный нев-
роз, у третьих, допустим, язвенная болезнь, а четвер-
тые остаются здоровыми? (Четкого объяснения,
кстати, не получено до сих пор.) К тому же посте-
пенно стало еще выясняться, что изменения, кото-
рые происходят в организме и приводят к развитию
гипертонической болезни, а затем к атеросклерозу,
поражению сосудов сердца и инфаркту, не уклады-
ваются в «чисто нервную» цепочку. Нужна новая
теория, которая сумела бы синтезировать все знания,
накопленные теоретической и клинической медици-
ной.
Мой учитель
Слышали про «Гиппократову клятву», которую древ-
ний лекарь давал, вступая во врачебное сословие?
♦ Клянусь Аполлоном-врачом, Асклепием, Гигией
и Панакеей... (это дочки Асклепия: богиня, храни-
тельница чистоты и здоровья, и богиня исцеления)...
и всеми богами и богинями, беря их в свидетели...»
Он присягал отдавать свои силы и свое разумение
для того, чтобы помочь больным. Обязался не при-
чинять им какого бы то ни было вреда и несправедли-
вости. Клялся ни под каким видом никому не давать
просимого у него смертельного снадобья. И не раз-
глашать ничего, что он увидел бы или услышал о
личной жизни людей, с которыми сталкивался —
неважно, при исполнении долга иль просто, в обыч-
ном общении, — непременно «считая подобные вещи
тайной».
50
«...Чисто и непорочно буду я проводить свою
жизнь и свое искусство...» — хорошая клятва, не
правда ли?
Но прежде всего врач обещал в ней: «...считать
научившего меня врачебному искусству наравне с
моими родителями, делиться с ним своими достат-
ками и в случае надобности помогать ему в его нуж-
дах, а потомков его считать своими братьями, и это
искусство, если они захотят его изучать, преподавать
им безвозмездно и безо всяких условий...»
В прошлом веке Клод Бернар, родоначальник
экспериментальной медицины, обронил замечатель-
ную фразу: «Медицина — наука, столь обширная,
что она вбирает в себя все!» Так и есть — все: и
биологию, и химию, и физику. Иначе ей не понять
до тонкостей жизнедеятельность организма, причины
недугов и их механику.
Но при этом медицина всегда еще и искусство.
Искусство зоркого врачебного наблюдения и чело-
веческого общения. Лучше всего сказал об этом пи-
сатель Антуан де Сент-Экзюпери: «Я верю, настанет
день, когда больной не известно чем человек, отдастся
в руки физиков. Не спрашивая его ни о чем, эти
физики возьмут у него кровь, затем, сверившись с
таблицей логарифмов, вылечат его одной-единствен-
ной пилюлей. И все же если я заболею, то обращусь
к какому-нибудь старому сельскому врачу. Он взгля-
нет на меня уголком глаза, пощупает пульс и живот,
послушает, затем кашлянет, потрет подбородок и
улыбнется мне, чтобы лучше утолить боль. Разумеет-
ся, я восхищаюсь наукой, но я восхищаюсь и мудро-
стью». А начинается мудрость от учителей.
...Когда меня спрашивают, почему я стал карди-
ологом, именно кардиологом, а не хирургом, не рент-
генологом, не окулистом, и когда начал мечтать об
этом, мои ответы, пожалуй, разочаровывают. Я не
мог избрать свои делом кардиологию, когда кончал
институт, если помните, такой особой специальности
51
« Клятва
Гиппократа»
тогда еще не существовало. И я вовсе не мечтал стать
ученым. Хорошо учился, считался способным студен-
том, но мне хотелось быть просто лечащим врачом.
Терапевтом. Умелым диагностом. Именно терапев-
том, потому что лечение внутренних болезней требу-
ет постоянного решения задач со многими неизвест-
ными, требует напряженного анализа симптомов,
иногда еле уловимых. Их сопоставления, синтеза.
Построения гипотезы. Умения ее доказать или от-
вергнуть и найти новую, верную. Нет в медицине
профессий, не связанных с терапией: любой насто-
ящий врач — в первую голову терапевт. Однако
52
хирургу в определенных ситуациях в прежние вре-
мена даже рекомендовалось прибегать к операции,
одной из целей которой могло стать уточнение ди-
агноза, обычно грозного. А терапевту всегда надлежа-
ло ставить диагноз, не нарушая целости тканей тела.
И лечить, подтверждая истинность диагноза успехом
лечения.
Врачебное мышление — сложный, интересный
процесс истинно философской высоты. Он особенно
изящен у хороших врачей «скорой помощи» и у
реаниматоров. Им же нужно уловить необходимые
данные, выстроить диагноз и начать лечение — спас-
ти человека! — за считанные минуты. Кстати, сту-
дентом IV и V курсов я работал на «скорой помощи»,
многое испытал и пережил, и та работа прибавила
мне интереса к сложным диагностическим задачам.
Но случилось так, что, получив диплом, я посту-
пил в клиническую ординатуру 1-го Московского
медицинского института при кафедре госпитальной
терапии. Возглавлял эту кафедру профессор Алек-
санд Леонидович Мясников, который и стал моим
учителем. Хоть и не единственным, но главным.
Эти два обстоятельства и определили мою судьбу.
...Слово «ординатор» значит «приводящий в по-
рядок», «распорядитель». Так во всем мире зовется
рядовой врач, поскольку подразумевается, что он
действует по указаниям старших. Добавка «клиниче-
ский» говорит лишь о том, что ординатор принят в
клинику на определенный срок, за который сверх
дежурных лекарских обязанностей ему надлежит
максимально усовершенствоваться в своей профессии
под началом педагогов, там работающих.
Отделением клиники, в которое меня зачислили,
заведовал доцент Митрофан Яковлевич Панченков.
От него я приобрел такие профессиональные навыки,
какие не извлечешь ни из одного учебника. Высокий,
представительный, седоватый, он был врачом такого
54
склада, о каком писал Экзюпери. Митрофан Яков-
левич обучал меня разному, но главное, умению
понимать больного человека. Конечно же, этому меня
и в студенчестве учили, но когда ты занимаешься
вместе с целой группой, все воспринимается с какой-
то долей отвлеченности. И совсем другое — когда ты
подходишь к постели больного вдвоем с опытным
врачом. И все, что он делает, он делает для пациента
и для тебя: показывает тебе, как надо работать с
больным, вникать в его рассказ, в его психологию.
Ведь в любой болезни не меньше чем на четверть и
страдания, и исцеление зависят от психологии боль-
ного!.. И надо ощутить цену нужного слова — ласко-
вого или сердитого. И точно оценить, подействует
ли просто лишний укол, или больному, быть может,
лучше недодать лекарства, даже очень необходимого.
Всех тонкостей не перечтешь. Поверьте мне, что их
много. Ну, и конечно же, это лишь одна сторона дела.
А другая — важнейшая — в том, что пациент, как
говорил С. П. Боткин, «есть предмет вашего научного
исследования, обогащенного всеми современными
методами».
Тогда, 30 лет назад, специальных научно-иссле-
довательских институтов, в которых разрабатывались
бы различные проблемы медицины, было раза в два
меньше. И роль учебных медицинских институтов
как научных центров была значительнее, чем сегодня.
А в 1-м Московском медицинском институте в те
годы работали выдающиеся ученые — анатом
Д. А. Жданов, биохимик С. Р. Мардашев, невропато-
лог Е. К. Сепп, хирурги Э. Э. Салищев и Н. Е. Елан-
ский, акушер М. С. Малиновский и замечательные
терапевты В. Н. Василенко, В. В. Виноградов,
А. Л. Мясников. Мастера, знатоки дела, дерзкие в
поиске, они задавали тон, предопределяли общий
уровень научного мышления. И молодежь, которая
в то время училась и работала в институте, в азарте
55
научного соревнования рвалась непременно в чем-то
опередить коллег. Коллег из другого института.
С соседней кафедры или клиники. Из соседнего отде-
ления своей клиники. Из своего отделения. Сделать
первым что-то новое. Не ради денег, не во имя карье-
ры, ради науки. И еще — из прекрасного человече-
ского честолюбия быть в своем деле первым. Прекрас-
ного потому, что удовлетворить его можно лишь
одним способом — трудом.
В клинике Мясникова этот азарт творчества, по-
моему, был силен особенно. Методики исследования
больных — лабораторные, инструментальные — при-
менялись новейшие: их осваивали немедленно. Мне
поначалу пришлось попросту трудно, потому что в
институте, который я окончил, жизнь текла гораздо
спокойнее, и хотя там были очень хорошие педагоги,
и среди них были даже знаменитые терапевты, а все
же, например, электрокардиографию нам преподали,
как говорится, только в общих чертах. Считалось,
что большинству будущих врачей дела с ней иметь
не придется — она тогда не использовалась так ши-
роко и повсеместно, как теперь. Но в клинике в первой
же истории болезни я обнаруживаю пачку лент, ис-
пещренных зубчиками, а расшифровать, что они
значат, не умею. И через день-другой после про-
фессорского обхода начинается разбор больных, и
я временами просто не понимаю, о чем коллеги гово-
рят. А я же был отличником, и вот оказывается,
что ничегошеньки не знаю.
Но это было прекрасно, что я ощутил, как мало
знаю, потому что сразу начал заниматься, чтобы
заполнить пробелы своего высшего образования.
Да еще приобрел привычку искать в своих знаниях
пробелы. А поскольку не стеснялся спрашивать про
то, чего не знаю, старшие коллеги мне охотно помо-
гали. К тогдашним новшествам «научного исследо-
вания больного», особенно к новым лабораторным
56
методикам, мне помог приобщиться страстный их
приверженец Алексей Викторович Виноградов, один
из самых ярких учеников Мясникова — в полном
смысле слова «человек современной медицины».
Панченков учил работать с больными, а Виноградов
подсказывал, что надо срочно читать о каких-нибудь
биохимических тонкостях, о чем думать. Мне по-
везло, что пришлось работать вместе с врачами со-
вершенно разных школ.
Но прошло не так уж много времени, и меня еще
в первый год ординатуры направили на несколько
месяцев в сельскую участковую больницу — в Туль-
скую область. Тогда каждому клиническому ордина-
тору полагалось поработать на селе — жаль, что это
перестало быть традицией. После клиники ты оказы-
ваешься в условиях, когда за спиной нет никого,
кто может «подстраховать». По-настоящему начина-
ешь ощущать, что ты — врач. Какой это груз — от-
ветственность за жизни твоих больных! Все зависит
от одного тебя, от твоих знаний и твоей смекалки,
и нет той аппаратуры, которую ты только что освоил
в клинике, и лекарства у тебя стандартные, да и
они не в избытке, а долг свой ты обязан исполнить.
Годы были еще нелегкие. Больница в довольно
глухом месте: до железной дороги, до ближайшего
шоссе и до дальних сел участка — по двадцать ки-
лометров. Машин нет. Проселки скверные, да еще
занесенные снегом — зима. И потому часто больному
до тебя не добраться — добирайся сам. Запрягали
мне с утра больничную лошадку, и сразу, чтобы
вернуться засветло, ехал я к своим пациентам по
окрестным селам. Лечил. Вылечивал. И вдруг —
впервые в моей врачебной жизни — не могу помочь!..
Этот случай, кстати, быть может, сыграл какую-то
роль в том, что позднее я обратился к кардиологии.
...Приезжаю по вызову. Больной — мужчина лет
пятидесяти. Боли за грудиной, холодный пот, ред-
57
кии слабый пульс, артериальное давление упало:
судя по всему, инфаркт. Пытаюсь вывести его из
сердечно-сосудистой недостаточности — делаю внут-
ривенные вливания. А ему хуже. Еще что-то ввожу.
А больной теряет сознание, и я обнаруживаю, что
у него вдруг оказывается парализованной рука. Что
это? Результат расстройства сердечно-сосудистой
деятельности? Или настойщий инсульт?.. Снять бы
электрокардиограмму! Но у меня не то что с собой,
айв больнице нет аппарата. Несколько часов бился.
Вспомнил все методы, каким учили в институте. Все,
какие применяли в клинике. Все пустил в ход, все
сердечные препараты, что у меня были. А он умер...
Знаете, как это страшно, когда погибает человек, а
у тебя в голове: «Вот был бы под рукой кардиограф
или еще что-то, и, может, ты бы диагноз поставил
более точный. Или было бы какое-то современное ле-
карство, которое ты испытывал в клинике, и, может,
пациент жил бы!» Родственники умершего рядом
стоят. Я глаза поднять не могу. И вдруг слышу:
«Доктор, не убивайтесь так! Ведь мы видели, что вы
все сделали, чтоб его спасти». Удивительные, умные,
по-настоящему, по-русски милосердные люди!..
Мне за тридцать без малого лет работы удалось
вылечить не одну тысячу людей. И удалось внедрить
в нашу практику новые методики, которыми и мои
ученики, и совсем неведомые мне врачи спасли ты-
сячи и тысячи пациентов. И все-таки случаи, когда
тебе все удалось, вспоминаешь куда реже, чем те,
когда ты был бессилен.
Вот вызвали меня по телефону в одну деревню.
Еле добрался — была пурга. А у больного, двадцати-
пятилетнего тракториста, прободение язвы желудка.
Спасение одно — экстренная операция. Звоню в рай-
онную больницу, прошу прислать машину. А машине
по тамошним дорогам в метель к нам не пройти.
Кому только не звонил! Наконец, уже не помню
58
откуда, прислали трактор с санями. Повезли на
тракторе по бездорожью. Везли часа четыре. Добра-
лись до районной больницы, а оперировать больного
уже поздно — перитонит, разлитое воспаление брю-
шины... Что я мог сделать? Я не хирург. Да и в мою
больницу мы бы этого парня быстрее не привезли.
И такой перитонит лечить тогда не умели. Обсто-
ятельства виноваты! А человека-то нет. Твердишь
про себя: «Обстоятельства, обстоятельства!», а за-
быть не можешь.
Она очень сурова — ответственность за чью-то
жизнь.
...Много лет спустя у меня на руках погибла жен-
щина лет сорока — от инфаркта, обширного, тяже-
лого, повторного. Пришлось мне идти в приемное
отделение клиники — сообщать родственникам о ее
смерти.
Спрашиваю: «Кто Ивановы?» Слышу: «Мы Ива-
новы...» И подходят ко мне мальчик и девочка. Ему
лет двенадцать, ей лет одиннадцать. Я спрашиваю:
«Но неужели нет кого-то еще?» А девочка говорит:
«Нет никого. Только мама и мы».
Один из самых жутких эпизодов моей врачебной
жизни. Его не забудешь. И не перестаешь о нем ду-
мать.
...Вот ты лечишь, думаешь о болезни, диагнозе,
препаратах. А у человека, которого ты лечишь, —
семья, дети, родители. И он для них единственный
и неповторимый. И все на нем держится. И значит,
что за его жизнь ты должен бороться как за соб-
ственную, не утешая себя тем, что наука не все
умеет или что обстоятельства против. И уж если
ты не делал до последней секунды всего, что мог
делать, — перед своей совестью не оправдаться. Есть
такая пословица: «Врач умирает с каждым из своих
пациентов» — старинная и точная...
Вот мы и поговорили о тех сторонах нашей вра-
59
чебной жизни, которые принято называть теневыми.
Мимо них не пройти. Тому, кто идет в нашу профес-
сию, надо знать, что дорога ему предстоит совсем не
гладкая.
В клинику я возвратился уже другим. Всё — и
моя собственная работа палатного врача, и непремен-
ные обходы профессора и заведующего отделением,
и обсуждения научных разработок, которые вели со-
трудники кафедры, — приобрело для меня особую
остроту, утратило свою «академичность», сделалось
жизненно необходимым. До работы в деревне во мне
оставалось нечто студенческое. Больные, которых
мне поручали вести, вначале были как бы «не совсем
мои». Я то и дело оглядывался на старших, какова
их реакция: правильно ли я делаю, так ли думаю.
Теперь любой пациент, к которому я подходил, был
мой, и только мой, словно никого из врачей более
не существовало, и все решения были моими личны-
ми. Я их отстаивал (правда, не раз приходилось при-
знавать, что не прав). И уже вслух судил то об одном,
то о другом теоретическом вопросе, если накопил,
конечно, о нем нужную информацию. Просто я по-
взрослел как врач. Да к тому же в нашей клинике
нельзя было жить иначе — таков был ее дух, ее образ
жизни, заведенный Александром Леонидовичем Мя-
сниковым.
...Он был красивый мужчина. Живой, остроум-
ный, добрый. Любил жизнь со всеми ее радостями.
Ценил искусство — у него была великолепная кол-
лекция картин. Любил музыку — не пропускал в
консерватории ни одного значительного концерта.
Были у него и причуды, и слабости, но ведь они —
спутники таланта. Прекрасный врач, он был круп-
ным ученым, и по моему глубокому убеждению, в
60
Александр Леонидович
Мясников
полной мере пока еще не оцененным. А как он читал
лекции? В аудитории, на кафедре он был артистичен.
У него и голос был поставленный, актерский. И инто-
нации. И жесты. Даже своей работе терапевта, ди-
агноста он умел придавать некоторую театральность.
Работа любой клиники подчинена программе обу-
чения студентов или молодых врачей и тематике
научных изысканий, поэтому клиника, в отличие
от обычной больницы, не просто принимает боль-
ных — она отбирает таких, какие нужны для вы-
полнения ее задачи. «Госпитальная терапия» — уже
третий, заключительный цикл в обучении студентов
по разделу внутренних болезней. Это курс терапии
изощренной — курс диагностических сложностей.
Оттого в нашу клинику старались госпитализиро-
вать пациентов с редкими заболеваниями или с
нередкими, но протекавшими в «стертых», «атипич-
61
них» формах, не поддававшихся подчас общепри-
нятым методам лечения.
Как и в любой клинике, по определенным дням
недели у нас был профессорский обход. Александр
Леонидович осматривал новых, наиболее трудных
пациентов вместе с сотрудниками кафедры, аспиран-
тами и ординаторами, после чего следовал «разбор
случаев» — общий консилиум, проходивший с под-
черкнутой торжественностью, какую, по-моему, и
заслуживал. То было публичное терапевтическое
творчество, в которое Мясников и его ближайшие
сотрудники старались вовлечь всех — самому юному
ординатору давалась возможность показать себя.
Поскольку заранее было известно, кого из пациен-
тов покажут профессору завтра или послезавтра и
какие диагнозы предполагались, мы накануне оче-
редного разбора прочитывали сотни страниц специ-
альных книг и статей. Старались огорошить коллег
новыми гипотезами из последнего, еще никем не
виданного номера какого-нибудь американского или
английского журнала или сконструированными
самолично. А Мясников любил сосредоточивать спор
на самых сложных, на совершенно запутанных слу-
чаях. Наслаждался, если ему удавалось разгадать
то, в чем прежде запутались маститые коллеги из
других клиник, в которых пациенту уже пришлось
полечиться. Любил прийти к нетривиальным диагно-
зам, ошеломляя нас неожиданностью мысли в мо-
мент, когда казалось, что болезнь и вовсе не поддается
разгадке.
Он щедро «сорил» идеями и замыслами научных
разработок, то и дело забывая, что такая-то идея
была высказана им. С ним хорошо работалось и
старым врачам, и молодым. Недаром из тогдашней
«третьей терапии», как называли в институте нашу
клинику на Большой Пироговке, вышли сильнейшие
ученые-клиницисты, такие, как профессора А. В. Ви-
62
ноградов, Н. Р. Палеев, В. С. Смоленский, X. X. Ман-
суров, члены-корреспонденты АМН СССР Н. Н. Кип-
шидзе и А. С. Логинов, академик АМН СССР
3. И. Янушкевичус и многие другие — и кардиологи,
и гастроэнтерологи, и пульмонологи (у Мясникова
были еще очень хорошие ученики по Институту те-
рапии). И для всех нас великим благом было, что
тогда в клиниках, какими бы ни были наши научные
интересы, как врачи мы занимались всем: болезнями
сердца и почек, печени и желудка, заболеваниями
крови и легких, за исключением туберкулеза, кото-
рым ведала особая служба. Хороший «узкий» спе-
циалист получается только из врача широкого про-
филя — это мое глубокое убеждение. Как говорили
замечательные старые русские врачи, болеет не серд-
це — болеет человек и лечить надо не болезнь, а боль-
ного. Чем больше разных больных с разными неду-
гами врач лечил, тем больше разных реакций орга-
низма он видел, тем точнее он способен разобраться в
каждой последующей сложной ситуации — понять
болезнь и понять человека. Ведь первые наши кардио-
логи — Г. Ф. Ланг, Н. Д. Стражеско, В. Н. Виноградов,
П. Е. Лукомский, А. А. Мясников — были отлич-
ными общими терапевтами. Да и зачинатели хирур-
гии сердца — А. Н. Бакулев, П. А. Куприянов,
А. А. Вишневский, Б. В. Петровский, Е. Н. Мешалкин,
Н. М. Амосов — тоже были сначала хирургами ши-
рокого профиля. И я благодарен судьбе, клинике,
в которой вырос, учителям, товарищам, которые
помогли мне стать умелым терапевтом.
Мы очень интересно жили. Разузнавали у фарма-
кологов об их новых разработках, спешили раздо-
быть у них новые препараты, первыми применить,
испытать, оценить, накопить опыт применения.
Помню, как в дни моей ординатуры привезли
из Ленинграда дибазол — теперь столь привычное
традиционное, даже «рутинное» лекарство. Его син-
63
тезировали химики во главе с профессором Б. А. По-
рай-Кошицем, и сразу после исследований в двух
фармакологических лабораториях мы его заполучи-
ли для клинических испытаний.
У нас лежали больные, у которых мы не то что
многими часами, а сутками не могли добиться сни-
жения артериального давления. И вот появляется
дибазол. Вводишь в вену 3—4 кубика, и ничему
не поддающийся гипертонический криз прерывает-
ся, как у нас говорят, «на кончике иглы»!..
А спустя 2 года точно так же А. В. Виноградов
принес из другой лаборатории первые ампулы ме-
затона. И у пациента, находившегося в состоянии
коллапса — тяжелейшей сосудистой недостаточ-
ности: бледно-серое лицо, холодный пот, пульс поч-
ти не прощупывается, давление не определяется, —
стоило только ввести препарат, и на лице стали
проступать нормальные краски, а тонометр стал по-
казывать приличные цифры артериального давле-
ния. Минуту назад ты, врач, был беспомощен, и
вдруг в твоих руках оказался не просто шприц,
а склянка с «живой водой»!.. Правда, «живой воды»,
увы, не существует. А многие препараты, считав-
шиеся поначалу чудодейственными, потом по разным
причинам разочаровывали врачей. Но у дибазола
как лекарства от гипертонии и у мезатона как сред-
ства борьбы с коллапсом хорошая судьба: они нам
честно служат до сих пор.
И поскольку все кругом напряженно занимались
научной работой, хоть мое положение ординатора
к этому и не обязывало, естественно, и у меня возник-
ло желание начать делать что-то серьезное. Я на-
брался духу, пришел к Мясникову и попросил:
«Александр Леонидович, не могли бы вы порекомен-
довать мне тему для научной разработки?» А он
меня тогда знал, пожалуй, меньше других аспиран-
тов и ординаторов, пришедших в клинику вместе
64
со мной, тем более что меня же несколько месяцев
не было видно, пока я работал в сельской больнице.
Не думаю, что я произвел на него какое-то серьезное
впечатление, вряд ли он даже был уверен, что я
доведу работу до конца.
Александр Леонидович расспросил, какой уклон
мне интереснее, и ему понравилось, что биохими-
ческий. И вот, спокойно так улыбаясь, он сказал:
«Вы же знаете, сейчас проблема ревматизма очень
важна для нас. И никто все-таки не знает, что про-
исходит при ревматизме. Попытайтесь, может быть,
вы проникните в суть. Займитесь изучением состоя-
ния мукополисахаридов при ревматизме».
Мукополисахариды — это важнейшие вещества
соединительной ткани, а именно ее изменения, как
уже предполагали и как было потом доказано, явля-
ются основой ревматического процесса. В послевоен-
ные годы ревматизм был для терапевтов такой же
острой проблемой, как сейчас ишемическая болезнь
сердца. Пациенты с острыми формами ревматизма,
с хроническими формами, с грубыми поражениями
клапанов сердца (старые врачи любили повторять
изречение «ревматизм лижет суставы и гложет серд-
це»), с тяжелыми формами сердечно-сосудистой
недостаточности проводили на больничных койках
месяцы, по многу раз возвращались в больницы и
клиники. Они заболевали в детстве или юности, и,
если им удавалось помочь, они все же навсегда оста-
вались людьми нездоровыми. Хирурги еще лишь
искали подходы к оперативному лечению ревмати-
ческих пороков сердца. А терапевты боролись со
сложным инфекционно-аллергическим процессом
почти вслепую, потому что его механизм был не
ясен.
Вопрос, который Александр Леонидович предло-
жил исследовать, был очень конкретен и точен. Я за
него ухватился обеими руками, начал работать, об-
65
ложился книгами, изучил биохимические методики.
Собрал нужную аппаратуру — ходил к стеклодувам,
научился гнуть и раздувать стеклянные трубки и
не обращался к Мясникову ни с вопросами, ни с
просьбами. Потом у самого меня было много учени-
ков — аспиранты, докторанты, сейчас это самостоя-
тельные ученые, у которых уже свои ученики. Уди-
вительно, как я над ними «дрожал», как их пестовал.
И сейчас нынешних учеников вызываю по десять
раз, настаиваю, чтобы непременно сделали одно, дру-
гое, третье. А они говорят, что вот не могут обойтись
без такого-то реактива или такого-то прибора. Пи-
шутся бумаги. Набираются номера телефонов: «Ну-
жен прибор» или «Нужна валюта для срочной за-
купки за границей». Но прав ли я?.. Александр Лео-
нидович твердо держался принципа никого из нас не
водить за ручку. Если возник вопрос, на который
никто, кроме Мясникова, не может ответить, то, по-
жалуйста, приходи, спрашивай, спорь. А делай все
сам и думай сам. Если ты не самостоятелен, какой
же ты ученый!..
Через два с лишним года по результатам своих
исследований я написал кандидатскую диссертацию
и принес ее Александру Леонидовичу. Моего появле-
ния он не ждал. Поскольку я к нему даже с вопро-
сами не обращался, он решил, видимо, что у меня
ничего не получилось. А когда увидел рукопись, то
подумал, что это черновой материал — отчет о ра-
боте, и сказал: «Ну, ладно. Положите, я посмотрю».
А через два дня вызвал и сказал: «Слушайте, так
это же готовая диссертация! Чего же вы молчали?
Ее же защищать надо! И немедленно готовьтесь до-
ложить это на конференции по ревматизму, пока
вас не обставили!»
Было у него такое благородное честолюбие —
стараться успеть первым. И не обязательно, чтобы
только он сам стал им: если первыми в чем-то ока-
66
вывались ученики, он был счастлив. Конечно, наука
не конькобежная дорожка. И все-таки разве не пре-
красно это, если ты что-то сделал, познал, и притом
первым? Или сделали и познали первыми твои уче-
ники? Не будь этого честолюбия — и не станет азарта
в поиске. Ведь надо различать истинное честолюбие
и ложное. Истинное не ради славы — ради дела.
Вот Александр Леонидович очень гордился тем, что
Международная ассоциация кардиологов наградила
его золотым фонендоскопом. Из всех терапевтов ми-
ра отметили этим отличием всего четырех ученых:
американца Уайта, француза Леана, англичанина
Пикеринга и советского русского кардиолога Мяс-
никова. Но ведь этот фонендоскоп не просто краси-
вая дорогая вещица — он же символ того, что его
обладатель своим поистине золотым, ухом слышит
в человеческом сердце больше, чем кто-либо на зем-
ле!.. И он же действительно слышал больше!..
Ко дню окончания трехлетнего срока моей орди-
натуры я защитил диссертацию и стал работать в
той же клинике, на той же кафедре ассистентом,
учить пятикурсников сложностям терапии, как не-
давно учили меня самого. Но через 2 года Мясников
предложил мне перейти в Институт терапии — он
был его директором. Мне это было не по душе: я
любил свой 1-й мединститут, мне нравилась пе-
дагогическая работа, честно говоря, я и до сих пор
жалею, что мне не пришлось ею заниматься даль-
ше. А Мясников стал говорить, что в научно-иссле-
довательском институте больше простора, больше
возможностей для поиска. Что у него такие-то и
такие-то планы работы, ему нужны люди энергич-
ные, собранные, ищущие. Я говорю: «Александр
Леонидович, я же молодой (мне было 29 лет). Не-
известно же, что еще из меня получится и получится
ли». А он вдруг так категорически говорит: «Нет,
вы должны работать там!»
67
Земля — космос — Земля
И вот в 1958 г. я стал сотрудником Института тера-
пии Академии медицинских наук. То было время
серьезных изменений в медицинской науке. В каж-
дом разделе было накоплено большое количество ин-
формации, возникло множество очень специфиче-
ских своих проблем — ведь чем больше знаний, тем
больше и новых вопросов. Научно-техническая ре-
волюция одарила медицину новой исследователь-
ской техникой, например методами, в которых при-
меняются радиоактивные изотопы, или аппарату-
рой для эндоскопии — непосредственного наблюде-
ния органов и тканей. В те годы стал входить в
практику, например, такой инструмент — гастро-
скоп: его можно ввести в желудок и даже в две-
надцатиперстную кишку и благодаря оптической
системе из стеклянных волокон увидеть, в каком
состоянии их слизистая. Нет ли опухоли или язвы.
Как язва выглядит — какие у нее размеры, какие
края. При рентгеновском исследовании все это уга-
дывается, расшифровывается по тени желудочной
стенки, обозначенной контрастным веществом, ко-
торое больному дали выпить. Но там другая точность
наблюдения, а здесь все видно глазом и может быть
сфотографировано.
А чтобы всем этим заниматься, нужны и ком-
наты, и оборудование и надо, чтобы, допустим, в
институтской биохимической лаборатории, в которой
не только делают диагностические анализы, но и
разрабатывают новые методики и решают серьез-
ные проблемы, не занимались одновременно множе-
ством непохожих одна на другую задач.
Словом, чтобы успешно разрабатывать проблемы
какой-то области, надо на ней сосредоточить и сред-
ства, и силы, и мысли людей. Вот в те дни и возникло
такое понятие, как эпидемиология сердечно-сосу-
68
дистых заболеваний, а за ним — эпидемиология
язвенной болезни желудка или опухолей. Слово «эпи-
демия» — древнегреческое, значит «распростране-
ние в народе». Испокон века оно применялось только
к заразным заболеваниям: холере, тифу, малярии,
к гриппу, на худой конец.
Сердечно-сосудистые заболевания существовали
и прежде. Но они вышли сейчас на первый план
потому, что вчерашние первоочередные проблемы
перестали быть проблемами. А еще потому, что эти
болезни приобрели иной удельный вес среди других
недугов человека.
...Старейший кардиолог мира — американец Пол
Уайт решил изучить, как во всем мире в течение
столетия, с 1866 по 1966 г., изменялось распростра-
нение сердечно-сосудистых заболеваний. И какие
поправки Уайт не вносил на то, что давняя медицин-
ская статистика охватывала только часть случаев
заболеваний и многие люди и болели и помирали
без всякой медицинской помощи, не оставляя для
статистики нужных данных, и еще на разные фак-
торы, у него строго получилось, что сто лет назад
в Европе и Америке ишемическая болезнь сердца —
«грудная жаба» встречалась редко, хотя в XVIII сто-
летии ей посвятил одну свою работу сам Эдуард
Дженнер, отец противооспенной вакцины. К началу
XX века она стала уже меньшей редкостью, но в
1909 г. В. И. Образцов и Н. Д. Стражеско пишут об ин-
фаркте миокарда все же как о новом и нечастом забо-
левании пожилых людей, и 3 года спустя точно так
же пишет о нем американец Дж. Херрик. По словам
Уайта, ни в дни студенчества, ни в первые несколько
лет работы — он стал врачом в 1911 г. — ему даже
не приходилось слышать о коронарной болезни.
И вот — с постепенным нарастанием — она встреча-
ется все чаще, а к концу 50-х гг. и в 60-е гипертони-
ческая болезнь, атеросклероз, ишемия сердца пора-
70
жают уже многие миллионы людей. И что харак-
терно — в экономически развитых странах!
Пять лет назад, по данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, в экономически развитых
странах сердечно-сосудистые заболевания были при-
чиной 46% всех случаев смерти, а сейчас уже 51%
(рак, занимающий второе место, выглядит куда
♦ скромнее» — 17,7%). Только в Европе они каждый
год уносят 3 млн. жизней. И наша страна не составля-
ет, увы, исключения. Оттого-то для всего советского
здравоохранения эти болезни и стали проблемой
номер один.
В последние 10—15 лет сердечно-сосудистые за-
болевания изрядно помолодели, и для современного
врача, увы, не удивителен тридцатилетний пациент,
перенесший инфаркт, и даже двадцатипятилетний.
И сколько мы, кардиологи, ни изучаем причины
сердечно-сосудистых заболеваний — отдельные
«факторы риска», а их исследование далеко еще не
исчерпано, — неумолимо ясно одно: увеличение ча-
стоты этих заболеваний связано с изменением усло-
вий жизни. С развитием цивилизации, с урбанизаци-
ей, индустриализацией. Поэты давно говорили, что
у каждого времени свои песни. Врачам пришлось
прийти к выводу, что у каждого времени еще и свои
болезни.
Что же случилось? Почему сердце и XX век све-
лись в единую проблему? Все просто: мы живем в
дни НТР, и на наших глазах прогресс техники,
автоматизация, механизация совершенно изменили
не только характер и темп труда, но и образ и ритм
повседневного быта. Резко сократились физические
нагрузки в работе и в быту. Люди стали намного
лучше питаться и намного меньше двигаться. Мы
не ходим, как ходили прежде, а ездим даже на корот-
кие расстояния в машинах, в троллейбусах, в метро.
Мы все чаще поднимаемся не по лестницам, не по
71
склонам холмов и гор, а в лифтах, на эскалаторах
и фуникулерах. Изменились стереотипы поведения
жизни людей. Изменились соотношения между пи-
танием и энергетическими затратами. Человек из-
менил условия своей жизни и сам же создал для
своего организма проблему приспособления к изме-
ненным условиям, а с нею и проявление осложнений
этого приспособления.
...Помню, как мы с Александром Леонидовичем
были в Бостоне у Пола Уайта. Кстати, тогда Уайт
рассказывал, как работал вместе с Александром
Филипповичем Самойловым, как учился у него.
В 1929 г. по просьбе американских медиков Нарком-
прос командировал Александра Филипповича в Бо-
стон прочесть им цикл лекций по электрофизиологии
и электрокардиографии. И все дни, там проведенные,
Самойлов непременно работал в лаборатории, а Уайт,
еще молодой, работал с ним, и они стали большими
друзьями. Он называл Самойлова одним из самых
гениальных естествоиспытателей нашего века.
А когда мы обсуждали наши проблемы — кар-
диологические, Уайт все время возвращался к одной
и той же мысли: цивилизация принесла человеку
очень много благ — было бы смешно, просто наивно
отрицать эти блага, но люди не сумели вовремя
распознать в ней то, что оказалось опасным для
человеческого организма. Ему надо выдержать шум
города, вечную спешку, нехватку времени, потоки
информации — нужной и избыточной.
Мы не всегда отдаем себе отчет, насколько совер-
шенны и многогранны физиология и биохимия орга-
низма, сложившиеся за 1,5—2 млн. лет эволюции
человека, и в то же время в какой степени они были
пригнаны, отточены, отобраны именно для тех усло-
вий, в которых некогда должен был выжить вид homo
sapiens — ♦человек разумный». Ведь отбор-то шел
с расчетом на условия, грубо говоря, охоты на мамон-
72
тов. На постоянные длинные переходы в поисках
пищи. На тяжкий труд земледельца. Но прошли века,
человечество изменило орудия труда, стало избав-
лять себя от нагрузок, сперва от чрезмерных, изнури-
тельных. Машины возникли около 300 лет назад —
для эволюции это как минута. А на наших глазах,
на протяжении жизни одного поколения, условия,
в которых обитает человек, вследствие его же соб-
ственной деятельности изменяются резче, чем прежде
менялись за века.
Все это ощущается острее в городе, и тем острее,
чем больше город. Снова статистика: хотя техни-
ческий прогресс все больше и больше захватывает и
село, все же частота сердечно-сосудистых заболева-
ний у нас в сельской местности в 10—12 раз меньше,
чем в городах. Жители огромной, шумной и бурной
Москвы заболевают чаще, чем, например, жители
Уфы, а среди обитателей курортной Ялты эти забо-
левания сравнительно редки. Но если среди горожан
Уфы у рабочих заболевания сосудов сердца встреча-
ются в 2,5 раза реже, чем у инженеров и научных
работников, то ялтинские шоферы подвержены им так
же часто, как и ялтинцы, занимающиеся умственным
трудом. Причина проста: дальние поездки, нарушен-
ный режим питания и отдыха, горные дороги, по-
стоянное нервно-эмоциональное напряжение и при
этом нехватка напряжений физических. Просто мус-
кульной работы.
Но такова диалектика событий: научно-техниче-
ская революция, создавая для человека огромное
количество материальных благ, породила и трудности
приспособления к измененным условиям жизни —
болезни, которые мы обязаны лечить и предупреж-
дать. И она же создала новые методы и орудия нау-
ки — подняла на высший уровень физиологические,
биохимические, общебиологические знания и само
естественнонаучное мышление. А все это послужило
73
предпосылкой для становления новых, истинно сов-
ременных направлений науки, которые и решают
проблемы, диктуемые НТР.
...Мой приход в кардиологию совпал с многими
серьезными изменениями в медицинской науке. Ког-
да Ланг и Мясников формулировали свою теорию
гипертонической болезни, медицина располагала
более чем скромными, по нынешним меркам, иссле-
довательскими возможностями (впрочем, нам они
тогда казались немалыми).
Физиология тогда оставалась все-таки физиоло-
гией не человека, а животных. Простые процессы
она раскрывала строго, красиво, последовательно,
а вот совокупность жизнедеятельности человеческого
организма не совсем достоверно. Лабораторные
возможности были малы. Из множества биохими-
ческих сдвигов, важных для оценки состояния сер-
дечно-сосудистой системы, как правило, измеряли
лишь колебания уровня холестерина в крови. К элект-
рокардиографии прибегали лишь эпизодически.
Кардиограмму, сделанную в 12 стандартных отведе-
ниях, психологически воспринимали как фотогра-
фию, как портрет сердца. В голову еще не приходило
искать не одни только «раны» или «шрамы», а дина-
мику изменений электрических потенциалов сер-
дечной мышцы. Тогда еще не знали, как, сколько и
какую информацию можно получить от биохимии
и от электрокардиографии.
И вот электрокардиографический метод, казалось
бы уже устоявшийся, пережил в середине 50-х гг.
свое второе рождение в клинике. Произошло это бла-
годаря большому скачку в электрофизиологии серд-
ца: появилась более совершенная аппаратура, и, по-
скольку, как говорил Павлов, «для натуралиста все
дело в методе», возникло новое понимание биофизи-
ческого механизма образования электрокардиограм-
мы. Переняв новые приборы и новые знания, кли-
74
ницисты научились читать в электрокардиограмме
именно динамику событий, происходящих в сердеч-
ной мышце. Для этого запись «токов действия» мио-
карда стали делать во время различных функцио-
нальных проб — физических нагрузок, например на
велоэргометре, закрепленном на месте велосипеде.
А иногда — при совсем маленьких нагрузках, либо
при введении медикаментов, способных изменять
обмен миокарда или ограждать его от потока молекул
гормонов, которые выбрасывают надпочечники.
В эти годы клиническая физиология и кардиоло-
гия получили мощный толчок извне — от двух, каза-
лось бы, далеких друг от друга направлений науки.
От хирургии сердца и от космической медицины.
При операции на легких или на сердце надо было
получить возможность непрерывно и. очень точно
наблюдать за состоянием сердца, мозга, за фермен-
тами и электролитами крови и многими другими
факторами, изменения которых оказываются грозны-
ми сигналами катастрофы и требуют экстренных мер.
И точно так же с первых шагов — еще не в космос,
а только к космодрому, даже к тренировочной аппа-
ратуре, — возникла аналогичная задача непрерывно-
го контроля за состоянием человека, совершенно
здорового, но зато оказывающегося в чрезвычайных,
в экстремальных условиях космического полета.
Словом, оба ничем, казалось бы, не схожих направ-
ления потребовали от физиологов, инженеров и кли-
ницистов одного и того же — новых точных методов
диагностики и приборов для них.
Я помню, как хирурги с кафедры Б. В. Петровско-
го приходили еще к врачам нашей «третьей терапии»
учиться выслушивать сердце: новые методики — са-
мо собой, а старое врачебное искусство никто не со-
бирался отбрасывать, и терапевты умели слушать
лучше, чем хирурги. Зато и все новые диагности-
ческие методы и аппаратуру, которые создавались
75
для хирургов, мы осваивали тотчас вслед за ними.
Терапевты были привлечены к делам анестезиоло-
гии и реанимационного лечения, которое ведется в
острых хирургических, ситуациях — при крайних
состояниях, при клинической смерти. Происходило
постоянное усвоение новых знаний и методик, и в
итоге они утверждались в обеих смежных областях —
и в хирургической кардиологии и в, терапевтической.
Лаборатории по космической медицине были еще
либо молоды, либо в замыслах. Да и сам полет чело-
века в космос был мечтой, хотя и мечтой реальной.
И поэтому к разработкам и для грудной хирургии,
и для нужд космической медицины привлекались
сотрудники нехирургических и «некосмических»
клиник и лабораторий, таких, как наши.
Большую роль в организации тех и других иссле-
дований сыграл академик Василий Васильевич Па-
рии, один из ближайших учеников А. Ф. Самойлова,
человек очень широкого кругозора, большого органи-
заторского таланта, наделенный тонким чувством
юмора и острым ощущением всего нового. Василий
Васильевич несколько лет заведовал физиологиче-
ской лабораторией в Институте терапии. Парин безо-
шибочно ощущал, что прогресс и космической меди-
цины, и клинической физиологии, и кардиохирургии,
и терапевтической кардиологии равно зависит от ре-
шения одних и тех же конкретных проблем. Успех
в любой из этих областей будет успехом для всей
медицины. Он добился внедрения новых электрофи-
зиологических методик функциональной диагности-
ки и много сделал для развития медицинской кибер-
нетики. Для нас же, «земных врачей», интересными
оказались не столько сами автоматические и элект-
ронно-вычислительные системы, сколько внедряв-
шиеся вместе с кибернетикой принципы современ-
ного естественнонаучного мышления.
76
В той экспериментальной работе «на космос»,
в которой участвовал я, моделировались возможные
последствия гиподинамии — отсутствия физических
нагрузок при длительном пребывании в невесомости,
тогда еще совсем таинственной. Выглядел экспери-
мент просто: мы укладывали испытуемых, совершен-
но здоровых людей, в постель на двадцать суток —
и все это время им полагалось лежать по возмож-
ности без движения. И после такого режима их кру-
тили на центрифуге, воспроизводя примерно такие
перегрузки, какие по тогдашним представлениям,
должны были возникать при торможении корабля,
возвращающегося с орбиты на Землю. На всех этапах
этого растянутого во времени опыта изучалась реак-
ция сердечно-сосудистой системы и биохимические
сдвиги в крови. (Я понимаю, что нынешнему косми-
ческому медику, располагающему данными непре-
рывных телеметрических наблюдений за состоянием
космонавтов на протяжении многомесячного полета,
эти методики и материалы покажутся несколько
наивными, но все всегда начинается с наивного.)
Не берусь судить, как современная космическая фи-
зиология относится теперь к тем нашим поискам,
но для меня эта работа была очень полезной.
А главным для меня всегда оставалось врачева-
ние. Лечение тяжелых поражений сердечно-сосуди-
стой системы, в первую очередь инфаркта миокарда.
Это очень распространенная форма патологии, но она
важна еще и другим — во врачебной тактике и в
развитии наших теоретических представлений о ме-
ханизме сердечно-сосудистых поражений именно
на инфаркте «в одной точке» сошлись, пожалуй,
все проблемы нашей «единой в двух лицах» меди-
цинской дисциплины, в которой сложная наука и
врачебное искусство живут друг для друга.
«Инфарктная — на выезд!»
В годы, когда из меня «делали терапевта», грозный
диагноз «инфаркт» попросту парализовал врача.
Он был категоричнейшим приказом не трогать,
даже не шевелить пациента, не дозволять ему хотя
бы поворачиваться на бок! И уж нипочем не перево-
зить оттуда, где его настигла беда. Бывало, что паци-
ента оставляли, если приступ разыгрывался на рабо-
те, дней на десять прямо в служебном кабинете.
Случалось, оставляли даже за ширмой в поликлинике
или медицинском пункте предприятия, куда его при-
несли в первые минуты. Из-за этого врачу приходи-
лось бороться со спазмом венечных сосудов, с болевым
шоком, нарушениями ритма, с острой сердечно-со-
судистой недостаточностью в амбулаторных усло-
виях, где практически почти ничего серьезного сде-
лать нельзя. В лучшем случае больного отправляли
в ближайшую, подчас не самую подходящую боль-
ницу, боясь погубить несколькими лишними километ-
рами пути, и получалось, что медики сами себе свя-
зывали руки, которыми должны действовать!..
Ну, конечно, сейчас с высоты современного опыта
легко судить своих предшественников свысока. У них
и знания были другими, чем нынче, и арсенал средств
лечения был беден. Им не осталось ничего другого,
кроме как возвести в абсолют святой принцип меди-
цины «primum ne noceas» — «прежде всего не повре-
ди». Увы, «не повреди» превратилось в «бездействуй
и оставь все природе — пусть она справится, если су-
меет». Справедливости ради скажу, что природа час-
то справлялась и сейчас сама справляется, но ведь с
издержками! А к 1958—1959 гг. у нас изменились
представления о механизме заболевания. Мы пере-
стали относиться к инфаркту как, условно говоря,
к ранению, к мгновенному повреждению сердечной
мышцы, масштабы которого раз и навсегда пред-
78
определены судьбой, и научились ощущать протя-
женность патологического процесса во времени. По-
нимать этапы развития событий. Различать, какие
из этих событий лишь реакции на «аварию», произо-
шедшую с сердечной мышцей, пусть часто предельно
опасные, но устранимые! И какие из них уже прояв-
ления определенных анатомических изменений, ко-
торые останутся навсегда. Потому-то кардиологи
и получили возможность вмешиваться в процесс,
устранять или приостанавливать временные нару-
шения и уменьшать даже весьма суровые послед-
ствия!..
Для практической медицины это была своего рода
революция. И свершилась она потому, что назрела.
Встал вопрос: что делать с инфарктными больными?
Они же погибают от осложнений, от сердечной недо-
статочности, от нарушений ритма, от отека легких,
с которыми, пусть с трудом, пусть не всегда, но мы
можем справляться!
Значит, во-первых, больных нельзя оставлять на
месте, их надо вывозить в клиники. И для этого со-
здать специализированную «скорую помощь» — та-
кую, чтобы она была способна оказывать на самом
высоком уровне ту помощь, какая необходима на пер-
вом этапе. И вот в те дни одну из подстанций «скорой»
сделали «специальной», а точнее — специализиро-
ванной в полном смысле слова на спасении людей,
очутившихся на грани жизни и смерти. Там были
созданы и «шоковые» бригады — для помощи паци-
ентам с тяжелейшими травмами, и токсикологиче-
ские — для помощи при отравлениях, и — что глав-
ное для нас — инфарктные. (Как видите, крупные
изменения происходили одновременно в разных раз-
делах медицины.)
В большом автобусе первой инфарктной бригады
стояли электрокардиограф, большой наркозный
аппарат для управляемого дыхания, большой синий
79
баллон с кислородом, аппарат для электрической
стимуляции сердца и, помнится, даже походный умы-
вальник и операционный стол!
Первыми врачами инфарктных бригад сделались
сотрудники клиник и лабораторий Академии меди-
цинских наук, в которых разрабатывались и совер-
шенствовались методы обезболивания и реанимации,
т. е. оживления, выведения наших больных из состоя-
ния «кардиогенного шока», способного развиться при
тяжелом поражении сердца, из агонии и клиниче-
ской смерти, т. е. уже при остановке сердца, которая
может наступить как реакция иногда даже на отно-
сительно небольшое поражение его мышцы. В их
бригадных журналах стали появляться такие записи:
*2.30. Состояние крайне тяжелое. Наступила остановка сердеч-
ной деятельности и дыхания. Начаты непрямой массаж сердца и
искусственное дыхание рот-в-рот. Под кожу введены кордиамин и
лобелии, внутривенно — строфантин на глюкозе. Адреналин — в
сердце. Дыхание и сердечная деятельность восстановились. Дан
кислород. Артериальное давление 90/40. Пульс 60 ударов в мину-
ту.
4.30. Состояние тяжелое, но больной может быть транспортиро-
ван. Дан наркоз закисью азота. Больной уложен на носилки и в
4.55 под наркозом доставлен в стационар».
Ну, а затем и штатных врачей «скорой» обучили
методам реанимации и всему необходимому, дабы
во что бы то ни стало справиться с любыми острыми
нарушениями, если они возникли, и благополучно
привезти пациента в больницу. Несколько лет назад
известный кардиолог доктор Бернард Лаун из Босто-
на прислал мне свою статью, опубликованную в газете
«Нью-Йорк Таймс», о том, как он и его коллеги пере-
няли у нас опыт применения наркоза закисью азота
для предупреждения кардиогенного шока при транс-
портировке инфарктных больных и при лечении в
клинике. Сейчас в столице круглые сутки дежурят
несколько инфарктных бригад, и они есть во многих
80
городах — в стране их тысячи! И не только голоси-
стые реанимационные автомобили — «реанимоби-
ли», а почти все современные компактные микроав-
тобусы-рафики с крупными красными цифрами 03 на
дверцах оснащены нужной аппаратурой (к тому же и
не такой громоздкой, как в давние дни, а удобной и
портативной).
...Кстати, в свое время у нас в Институте кардиоло-
гии лечился пациент, у которого дома неожиданно
наступила клиническая смерть, и его из этого состоя-
ния вывела... собственная жена! На его счастье она
работала санитаркой в отделении неотложной кар-
диологии нашей клиники и не раз видела, как мы про-
водили реанимацию. Когда во время приступа стено-
кардии ее муж потерял сознание, посинел и стал хри-
петь, она схватила его за руку, обнаружила, что пульс
не прощупывается, и, не растерявшись, тотчас перета-
щила мужа с постели на пол: на твердую, ровную по-
верхность и, как это и нужно непременно, стала де-
лать наружный массаж сердца и искусственное дыха-
ние рот-в-рот.
Когда минут через 15 или 20 приехала вызванная
ее дочерью «скорая помощь», то врач увидел пациен-
та, распростертого на полу, и женщину, отчаянно,
но по всем правилам массирующую ему сердце. На
его глазах у больного стал восстанавливаться пульс,
а затем пациент начал приходить в сознание. Врач
занялся дальнейшим лечением, вывел его из состоя-
ния сердечно-сосудистой недостаточности и повез к
нам в клинику. (Больной прожил после этого
еще почти десять лет.)
Я просто обязан сказать здесь, что приемы реани-
мации очень просты и весьма эффективны. И они до-
ступны людям, не имеющим никакого медицинского
образования. Надо только разъяснить им самые су-
щественные моменты, начиная с того, что больной
должен лежать на жесткой поверхности, что «непря-
82
мой массаж сердца» — это не поглаживание, не рас-
тирание кожи на груди, а сдавливание грудной клет-
ки, достаточно сильное, ритмичное, регулярное, ведь
каждое движение должно заставить сократиться и
расслабиться сердце, которое в это время не работает
самостоятельно. И очень хорошо, что сейчас и строи-
тельных рабочих, и электриков, и даже школьников
обучают делать массаж сердца и искусственное дыха-
ние. И демонстрируют в телевизионных передачах
программы «Здоровье», как надо проводить реанима-
цию. Никаких сверхъестественных секретов нет: нуж-
но только точно и методично выполнять определен-
ные приемы. И любой, кто не прошел равнодушно
мимо упавшего без сознания человека, и, не расте-
рявшись, оценил, что с ним произошло, а если сердце
остановилось, вовремя эти приемы применил, быть мо-
жет, сумеет спасти жизнь!..
Стоит заметить, что куда сложнее, чем создать
специализированные бригады «скорой», было сло-
мать, изменить стереотип привычного мышления тог-
дашних врачей, работавших в поликлиниках и в
службе «неотложной помощи». Им надо было помочь
избавляться и от былого страха шевелить, а тем более
перевозить инфарктного больного. А кроме того, и
внушить, что «классическому» тяжелому состоянию,
как правило, предшествует период, когда проявления
болезни еще не выглядят грозно. И потому врач дол-
жен проявлять к ним настороженность и при каждом
подозрении на инфаркт и даже просто при приступе
стенокардии, который не удается прервать в течение
1,5—2 часов от его начала, постараться непременно
госпитализировать больного.
...Первый вопрос решился: больных надо быстро
доставлять в стационар, специализированная «ско-
рая» создана. Но второй вопрос — куда доставлять.
Раньше пациент, у которого обнаруживали ин-
фаркт миокарда, попадал в обыкновенное терапевти-
83
ческое отделение. Если он был в тяжелом состоянии,
его помещали по возможности в отдельную палату,
сажали около него медицинскую сестру, чтобы по-
стоянно за ним наблюдала. Но ведь у нас появилось
немало пациентов, в том числе и молодых мужчин,
которые никогда прежде стенокардии не ощущали.
Такой больной приходил в поликлинику с довольно
заурядными жалобами и, когда врач предлагал сде-
лать электрокардиограмму, а затем говорил, что по
ее данным есть подозрение на инфаркт и надо не-
медленно отправляться в больницу, нередко возра-
жал: «Какой инфаркт! Какая больница!..» Пациент
с трудом соглашался поехать, и то лишь ради того,
чтобы специалисты «быстро во всем разобрались и
отпустили домой». Не хотел ложиться на носилки.
И в больнице, конечно же, попадал в обычную палату
и через часок-другой вопреки всем запретам тайком
вставал с постели, прокрадывался в туалетную ком-
нату покурить. И вдруг катастрофа! А самое неле-
пое было в том, что помощь вовремя поспевала редко.
Пока спохватятся да отыщут дежурного врача, быть
может, на другом этаже или в приемном покое, да пока
он добежит, да пока сориентируется, что надо сделать,
время упущено.
Вывод был прост: пациента следует доставить
именно в специализированное отделение клиники
или больницы. И в критические периоды заболевания
он должен находиться под непрерывным наблюде-
нием для того, чтобы любая доступная медицине по-
мощь могла быть ему оказана в течение 2—3 минут.
...Любая доступная медицине — и на самом высо-
ком уровне! Не знаю, у кого возникла такая идея,
скорее всего у многих сразу — она назрела. В Москве
кардиологию возглавляли три клиники — клиника
Института терапии, клиника 1-го мединститута, ко-
торой руководил старейший из тогдашних терапевтов
Владимир Никитич Виноградов и клиника 2-го медин-
84
статута, которую возглавлял Павел Евгеньевич Лу-
комский. Я после перехода в Институт терапии стал
заниматься проблемой тромбозов: загадочно все-
таки, почему вдруг жидкая кровь в каком-то участке
сосуда свертывается, образуется тромб, сгусток, кото-
рый закупоривает сосуд, и с этого начинаются все
беды, ведь в 90% случаев инфаркт миокарда — это
тромбоз венечной артерии... Биохимия образования
тромбов была в принципе известна, но появились ме-
тодики, которые позволяли все рассмотреть «свежим
глазом» — подетальнее. А детали важны все. И Мяс-
ников меня торопил — ведь разработки по проблеме
инфаркта шли и в других клиниках, а он не мог до-
пустить, чтобы его кто-то обогнал: «Занимайтесь
этой проблемой! Интенсивнее! Почему мы должны
отставать от клиники Виноградова!..» И раз я зани-
мался механизмом патологического процесса при
инфаркте, то и практическая сторона «реформы» в
нашей клинике тоже досталась мне.
Моя жизнь «чистого» кардиолога началась с ра-
боты по организации в институте отделения неотлож-
ной кардиологии, в котором была создана первая в
стране «палата интенсивного наблюдения». В клини-
ке В. Н. Виноградова эта работа досталась Виталию
Григорьевичу Попову, ныне профессору, а немного
позднее такие же отделения были организованы в
клинике П. Е. Лукомского, в Институте им. Н. В. Скли-
фосовского и в больнице им. С. П. Боткина.
Блок интенсивного наблюдения — это «святая
святых» кардиологической службы. В нем равны и
тот больной, которого специальной инфарктной бри-
гаде уже разок пришлось оживлять, и тот пациент,
что сам пришел в поликлинику, а теперь привезен
обычной санитарной машиной. Того и другого, даже
не перекладывая с носилок — их просто водрузят на
каталку — и не раздевая, в чем были, немедленно до-
ставят в блок интенсивного наблюдения и уложат на
85
Палата неотложной
кардиологии
жесткий щит специальной кровати. Здесь его и пере-
оденут, и прилепят к его телу датчики кардиоскопа.
И будь это «неблагополучный» или «благополучный»
пациент, все равно он не меньше чем сутки, проведет
под интенсивным наблюдением.
Блок разделен перегородками на отсеки, в каж-
дом — кровать и мониторная видеосистема. Экраны
кардиоскопов, один — возле каждого больного, дру-
гой — на пульте наблюдения в центре палаты, непре-
рывно воспроизводят самые важные детали кардио-
граммы пациентов, находящихся в блоке. Кроме то-
го, датчики регистрируют еще и частоту дыхания, и
уровень артериального давления.
Первые сутки — время, наиболее опасное ослож-
нениями. (Впрочем, если угроза их возникает позд-
нее, больного тотчас же возвращают в блок.)
86
И как только возникает малейшее нарушение сер-
дечного ритма или изменения зубцов кардиограммы
либо падение или повышение давления, электронная
система автоматически зафиксирует их в своей маг-
нитной памяти, моментально запишет на бумажной
ленте и в тот же миг включит сигнал тревоги — элект-
роколокольчик с негромким мелодичным звуком. И
не беда, что нередко сигнал раздается лишь оттого,
что больной неловко повернулся и у него просто от-
клеился датчик — к нему лишний раз подойдет сест-
ра или врач кардиолог-реаниматолог, неотлучно де-
журящие в блоке. К счастью, подавляющее большин-
ство пациентов ровно через сутки, ничего на себе не
испытав, переселяются с жестких кроватей блока,
сконструированных с расчетом на реанимационные
меры, на обычные кровати в обычных палатах.
Прибавлю, что мониторные следящие системы те-
перь будут подключать к электронно-вычислитель-
ным машинам, для которых разрабатываются особые
программы.
В их памяти станут накапливаться данные о
множестве малозаметных сдвигов в состоянии
больных, которые предшествуют осложнениям и кото-
рые при их повторении машина быстрее, чем человек,
сможет оценить как тревожные. Кроме того, ЭВМ в
других разделах своей памяти будут фиксировать не
только сами «происшествия», но и реакцию персона-
ла и обрабатывать этот материал статистически,
дабы он стал основой для совершенствования наших
знаний о наиболее тяжелых вариантах течения болез-
ни и для совершенствования врачебной практики и
организации нашего дела.
Чтобы быстро оказать необходимую помощь всем
пациентам, у которых замечены малейшие наруше-
ния сердечного ритма или явления сердечно-сосу-
дистой недостаточности, и даже тем, у которых
такие нарушения можно ожидать, мы вводим в под-
87
ключичную вену — одну из самых крупных —
пластиковую трубочку и оставляем ее там на 2—
3 дня. Сквозь этот катетер очень удобно вводить
нужные лекарства прямо в кровь — мгновенно, как
только понадобится, не отыскивая каждый раз вену
заново. Если надо, то катетер можно провести и даль-
ше — прямо в полость сердца и, вставив в него элект-
род, снять внутрисердечную кардиограмму. А если
выявляются поражения проводящей системы сердца,
то в предсердие через ту же подключичную вену вво-
дят зонд электрического стимулятора и навязывают
сердцу нужный ритм. К слову говоря, электрическую
стимуляцию ритма теперь применяют даже бригады
кардиологической «скорой помощи»: при необходи-
мости врач прямо через кожу груди вкалывает в серд-
це больного иглу-электрод, соединенный с миниатюр-
ным, размером с пачку сигарет, прибором-стимуля-
тором. И некоторые, уже поставленные на ноги боль-
ные, если у них — а это бывает — остались серьез-
ные нарушения ритма, годами живут с электродом
в сердце и стимулятором в нагрудном кармашке.
(Его просто надо перезаряжать раз в 3 года.)
Но вернемся в блок интенсивного наблюдения.
Здесь работа кардиолога то и дело совпадает с той,
какая ведется в операционной хирургической клини-
ки и в реанимационном отделении после операций.
Мы применяем наркоз и искусственное управляемое
дыхание с помощью специальных аппаратов. Вводим
лекарства через катетер даже непосредственно в ве-
нечные сосуды сердца и восстанавливаем нормаль-
ную деятельность сердца разрядами постоянного тока
высокого напряжения — до 5—7 кВт. Этот метод —
дефибрилляция сердца постоянным током — гор-
дость советской медицины. Его теоретические основы
были разработаны Н. Л. Гурвичем и Г. С. Юньевым
еще до войны, а в послевоенные годы профессор
Н. Л. Гурвич с сотрудниками сконструировали очень
88
надежный аппарат для дефибрилляции. Первым его
применил при операции на сердце академик А. А.
Вишневский, а затем дефибрилляция прочно вошла в
сердечно-сосудистую хирургию, в реаниматологию
и в нашу, все-таки терапевтическую, область меди-
цины.
Зарубежные медики в 50-х гг. не очень-то интере-
совались публикациями советских ученых и сами
разрабатывали и применяли дефибрилляцию, но пе-
ременным током. Из-за этого результаты у них полу-
чались неважные, ибо, в отличие от постоянного тока,
переменный дает ряд опасных побочных явлений,
часто сводящих эффект на нет. Теперь же методика,
созданная в Советском Союзе, получила признание
всего медицинского мира, а у нас ею владеют врачи
даже сельских больниц.
...Мне часто вспоминается фильм о хирургах, опе-
рирующих на сердце, который я видел в начале
60-х гг. Главный герой — врач — долго переживал,
раздумывая, стоит ли ему отважиться на дефибрил-
ляцию, чтобы спасти больного. У меня, например,
первый раз все выглядело не как в кино. Оборудовали
мы палату интенсивного наблюдения. Поставили в
ней дефибриллятор, одолженный у хирургов. У пер-
вого же больного, которого доставила «скорая», на-
чалась фибрилляция. И быстренько, ничего не об-
суждая, мы установили старенький аппаратик и дали
разряд в 5 тыс. вольт. Если чего-то опасались, так
того, что вдруг аппарат перегорит и повторную де-
фибрилляцию, если будет нужна, уже сделать не
удастся.
Время другое. Темпы другие. Когда решаешь со-
временную медицинскую задачу, то автоматически
отбираешь из освоенных, «наигранных» методик
нужную сию минуту, чтобы вывести больного из ка-
тастрофического состояния: из кардиологического
шока, из коллапса. Времени на театральные краси-
89
вости нет. Есть только трудная работа, цель которой
предельно конкретна — еще одна человеческая жизнь.
Повторю снова: это только в статистике пациент
и исход болезни перевоплощаются в абстрактную
единицу с нулями впереди — крохотную долю про-
цента. Но для врача это всякий раз живой человек.
Чья-то мать, чья-то дочь, чей-то сын, отец, муж,
любимый. Пусть, наконец, одинокий человек, но че-
ловек, который мог бы творить или хотя бы просто
еще какое-то время видеть небо, деревья, людей, чи-
тать книги. И нужно делать все возможное и невоз-
можное, чтобы сохранить каждую жизнь. Истинный
врач должен бороться за больного до конца. Этому
учили меня мои учителя. Теперь у меня свои ученики,
и я учу их тому же — бороться даже тогда, когда,
казалось, бы, все резервы исчерпаны. В этом смысл
нашего дела, нашей жизни.
...А ситуации иногда складывались такие, что ру-
ки опускались. Одна из таких историй началась для
меня с приятного было «происшествия»: меня при-
гласили на просмотр кинофильма и, как обещали,
интересного. Я был рад, что смог на него пойти — вы-
кроил время. Но, как водится у кардиологов и у хи-
рургов, предупредил дежурных врачей клиники, где
буду находиться.
Досмотреть фильм не удалось, меня вызвали из
зала: «Вас просят срочно приехать в институт, маши-
на у подъезда». Приехал. Прибежал в блок. И увидел
на кровати хорошо знакомого мне коллегу — заме-
чательного нейрохирурга Александра Ивановича
Арутюнова.
Инфаркт у него был тяжелейший, и мало-мальски
приемлемый ритм сердца не устанавливался никак.
Проводим дефибрилляцию, а эффект получается на
1-2 минуты. Спустя эти минуты восстанавливаемый
ритм сердца вновь сменяется фибрилляцией, трепе-
танием желудочков — беспорядочным сокращением
90
волокон сердечной мышцы, предвестниками полного
отключения органа (сердце в это время своей функции
уже не выполняет).
Были использованы все имеющиеся тогда средст-
ва, и за 3 часа 40 минут мы провели 70 сеансов
одной только этой электроимпульсной терапии. Но
все повторялось сызнова, и вдруг меня охватило та-
кое чувство беспомощности, что я в изнеможении
опустился на пустую кровать, стоявшую в блоке. Си-
дел и думал, что продолжать все это дальше нет
смысла, ведь за три с лишним часа больной в общей
сложности десять минут находился в состоянии кли-
нической смерти, и в мозгу уже могли наступить не-
обратимые изменения...
Для врача нет ничего страшнее минут, когда его
охватывает апатия или когда он начинает работать
механически, только по инструкции. Как ни высоко-
парно это звучит, а без вдохновения бороться за
жизнь человека действительно нельзя. И хотя от ми-
нутной слабости никто не застрахован, я никому не
пожелаю испытать то ощущение бессилия. На счастье
рядом со мной были настоящие товарищи, и, вспо-
миная об этом случае, я всякий раз испытываю благо-
дарность к моим сотрудникам и ученикам, ибо тогда
они и вида не подали, что заметили мое состояние, и
продолжали реанимацию. Победить удалось только
благодаря упорству, упрямству в борьбе до конца,
которая мне в какую-то минуту уже показалась бес-
смысленной.
...После восьмидесятого электрического импульса
нормальный сердечный ритм все-таки восстановился.
Спустя еще некоторое время больной пришел в созна-
ние. А через несколько месяцев хирург Арутюнов
вновь вошел в операционную своей клиники и за те
5 лет, Которые он прожил и проработал после этого,
спас многие десятки людей от тяжелейших недугов.
После этого случая мы, как говорится, «почувст-
91
вовали силу» и сумели немалое число пациентов воз-
вратить к жизни благодаря такой «интенсивной»
электроимпульсной терапии.
Вот еще один пример — из многих. Был у нас в
клинике пациент, по профессии геолог, тоже с тяже-
лейшим инфарктом. У него дефибрилляция желу-
дочков по многу раз возникала в течение нескольких
дней. И каждый день врачи блока прибегали к дефиб-
рилляции десятки раз — в какой-то из тех дней было
проведено сто сеансов! Пациента вылечили, выписа-
ли. Несколько раз он к нам приходил обследоваться
амбулаторно — каждый раз со все большими интер-
валами, а затем перестал появляться. И сотрудники
клиники, грешным делом, даже не отважились по-
слать ему открыточку с просьбой прийти. Мысли у
них возникли самые грустные, ведь случай был очень
тяжелый и после некоего «светлого периода» все мог-
ло случиться. И вдруг через три с лишним года наше-
го геолога привозит «скорая помощь» — ив отличном
состоянии! Он ни на что не жалуется, его ничто не бес-
покоит, он все эти годы преподает свою геологию, мно-
го ходит пешком, много работает на даче в саду — ло-
патой! Но новый врач поликлиники, к которому он
обратился по какому-то незначительному поводу,
впал в совершеннейшую панику, впервые увидев его
кардиограмму с «отпечатками», оставленными в серд-
це пациента перенесенной болезнью!.. И наши сотруд-
ники благодаря ему получили возможность порадо-
ваться очередному, как у нас принято говорить, «от-
даленному результату» своей работы.
А ведь в 40-х гг., по строгим данным Г. Ф. Ланга,
до 60% больных, перенесших инфаркт, погибали в
течение года от начала заболевания. И хотя эта гроз-
ная статистика не охватывала большого числа ин-
фарктов, которые тогда не распознавали, положение
действительно было тревожным. Гибель тех пациен-
тов — и в первые дни, и спустя месяцы — равно была
92
обусловлена тем, что в остром периоде болезни и после
него они не могли получить той помощи, какую им
стали оказывать в отделениях неотложной кардиоло-
гии, а они теперь созданы и в Ленинграде, и в Киеве,
и в Каунасе, и в Новосибирске, и в Новокузнецке, и
в других городах: их в стране около 300! Потому-то
сейчас среди нас и живут многие десятки тысяч лю-
дей, которые, по представлениям не только тридца-
тилетней, но и двадцатилетней давности, должны
были умереть. И сегодня они, даже перенесшие ин-
фаркт не один, а два и три раза и даже пережившие
«свою смерть», живут полноценной творческой
жизнью: им возвращена способность трудиться. Мно-
гие даже занимаются оздоровительным спортом (ко-
нечно, с хорошо рассчитанными нагрузками: ходят
на лыжах, например).
Врачи спецбригад «скорой» и «блока интенсивно-
го наблюдения» охраняют жизнь кардиологического
больного в самые опасные минуты и часы. Затем он
попадает в обыкновенную больничную палату и даль-
ше события приобретают традиционный облик: еже-
дневные врачебные осмотры, выслушивание сердца,
подсчет пульса, измерение давления. Правда, более
серьезные и частые биохимические исследования или
электрокардиографические, или, например, определе-
ние с помощью ультразвука границ участка по-
страдавшей ткани. Конечно, режим, уход, диета,
инъекции и таблетки. Но и режим, и лекарства стали
иными. Теперь от больного не требуют непременного
неподвижного месячного лежания на спине: упаси
бог повернуться! (Помню лет пятнадцать назад мне
пришлось консультировать в одной из городских
больниц пациента, который был так напуган своим
лечащим врачом, что пролежал неподвижно больше
двух месяцев и был обескуражен, когда я сказал, что
ему давным-давно пора ходить...) Покой по-настояще-
му нужен лишь в критические моменты болезни, да
93
и то не абсолютный. А затем малоподвижность, гипо-
динамия становятся из блага злом, и чем дальше, тем
большим. Даже самым тяжелым больным, находя-
щимся в «блоке интенсивного наблюдения», мы со-
ветуем ворочаться, как только они это сами могут себе
позволить. И как правило, уже на третий-четвертый
день позволяем садиться, а спустя две недели наши
пациенты ходят. Некоторые зарубежные коллеги —
американские, австрийские — в лечении актив-
ностью экспериментируют острее, чем мы: поднима-
ют пациентов на следующие сутки, а на девятые
выписывают домой, тем более что к тому же каждый
день пребывания в клинике обходится дорого, а ме-
дицинская помощь в США — платная. Это в стране
социализма все расходы несет государство. И еще зна-
чительная часть наших пациентов прямо из клиник
попадает в кардиологические санатории для продол-
жительного восстановительного лечения, которое и
закрепляет достигнутые в клинике или больнице ре-
зультаты.
Но, конечно же, к такому активному режиму мы
пришли еще и потому, что теперь мы располагаем
великолепными лекарствами, которыми можем регу-
лировать тонкие биохимические процессы и в сердце,
и во всем организме. Весь мир работает над новыми
медикаментами. Мы тоже. И — с успехом. Именно
оттого, что по-новому представляем себе механизм
взаимодействия нервной, сердечно-сосудистой и
других систем организма в развитии патологического
процесса.
Фундамент
В дни моей молодости шли острые дискуссии между
сторонниками концепций, по-разному объяснявших
механизм гипертонической болезни и других сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Почти все участники
94
тех споров проявляли тогда предельный максима-
лизм, не допуская и мысли, что чужая позиция тоже
серьезна, что она освещает определенную группу
явлений и на самом деле все поиски всегда дополня-
ют друг друга. Сторонники теории почечной гипер-
тонии отказывались принимать доводы исследовате-
лей, стоявших на позициях нервизма. А ортодоксаль-
ные нервисты отвергали все, что объясняло события
чем-то иным, кроме событий в коре больших полуша-
рий, и среди этого — весьма важные труды канад-
ского патофизиолога Ганса Селье и его учеников о
стрессе.
Словом «стресс» теперь пользуются все — к месту
и не к месту. А поскольку оно по-английски означает
«напряжение», то его отождествляют только с каки-
ми-то чрезвычайными событиями, которые приносят
людям психические травмы, — с бедами, с горе-
стями.
Но сам Селье обозначил этим термином сумму
всех явлений, которые вызывает в организме любой
неспецифический фактор. Вначале, еще в 30-х гг., он
обнаружил, что у подопытных животных разные
инородные химические вещества вызывают в орга-
низме целую систему почти одинаковых изменений
в деятельности желез внутренней секреции. Они не
полностью тождественны, но всегда сходны. И Селье
пришел к выводу, что разные необычные агенты по-
рождают некую более или менее стандартную приспо-
собительную реакцию организма — «общий синд-
ром адаптации» (т. е. приспособления).
В последующих многолетних работах патофизио-
логи и эндокринологи, и сам Селье, и его последова-
тели детально изучили роль многих гормонов в раз-
ных реакциях организма, установили значение эндо-
кринной системы «гипофиз — надпочечники» во
всех процессах приспособления и в развитии ряда
заболеваний, выяснили, что вырабатываемые надпо-
95
чечниками гормоны-катехоламины (адреналин, нор-
адреналин) и кортикостероиды (кортизон и др.)
предопределяют и сосудистые реакции на изменения
обмена, в частности обмена электролитов. И точно
определили роль, какую в этих событиях играет вы-
рабатываемый почками ренин. А, например, амери-
канский патофизиолог Рааб показал в своих иссле-
дованиях значение состояния симпатической нервной
системы и связанных с нею гормонов-катехоламинов
в регуляции деятельности сердечно-сосудистого ап-
парата.
Кстати, в 30—40-е гг. — задолго до Рааба — важ-
ные результаты в этой области были получены у нас
академиком Л. А. Орбели и его сотрудниками. И в
знаменитых монографиях Г. Ф. Ланга и А. Л. Мяс-
никова о гипертонической болезни гормональной ре-
гуляции тоже отводилась известная роль. Но сто-
ронники ортодоксального нервизма данные Орбели
бездоказательно отвергали, а, говоря о теории Ланга
и Мясникова, эту ее сторону как бы не замечали.
Однако к началу 60-х гг. наметилось, наконец,
четкое стремление к синтезу всех накопленных зна-
ний. Теория стресса и нейрогенная теория в наших
представлениях стала не исключать, а дополнять
одна другую. Современные экспериментаторы и кли-
ницисты рассматривают стресс как состояние мобили-
зации, естественного напряжения всех регуляторных
механизмов. Но в определенных случаях под влия-
нием любых факторов чрезвычайной силы или слиш-
ком большого числа факторов обычной силы, к кото-
рым организм должен приспособиться, может проис-
ходить их срыв. Когда приспособительная задача
чересчур тяжела, организм отвечает извращенными
нервными и гормональными, а следовательно, и со-
судистыми реакциями, изменением электролитного
обмена и другими биохимическими сдвигами. Так и
возникают «заболевания адаптации», в том числе
96
те, какими занимаемся мы, кардиологи. Например,
А. Л. Мясников с сотрудниками в 1963 г. показал,
что существует два типа изменений в сердечной мыш-
це: «коронарогенные» и «не коронарогенные», т. е.
вызванные нарушениями нервной регуляции тонуса
венечных сосудов и не зависящее от нее. В последние
годы представления о механизмах стресса и «заболе-
ваний адаптации» еще более уточнились. Но вряд
ли стоит углубляться в детали — достаточно, чтобы
читатель ощутил, как эволюционировали наши пред-
ставления и что от этой эволюции получила прак-
тика.
А получила она вот что. Мы по-новому представи-
ли себе механизм развития гипертонической болезни,
инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых
заболеваний. И принялись в одних случаях приме-
нять препараты, воздействующие на симпатические
нервные узлы. В других — средства, препятствующие
действию того или иного гормона. А в иных, наконец,
вещества, компенсирующие нарушения баланса
электролитов, например кальция, калия или магния.
Но и это лишь приближенное, грубое объяснение
действия современных лекарств — механизм их ра-
боты очень тонок и сложен, и здесь о нем сказано,
как говорится, лишь в двух словах. На самом деле
почти всегда кардиологи прибегают теперь к ком-
плексу средств. И регулируя медикаментами тонкие
биохимические процессы, могут избегать угрожаю-
щих последствий заболевания. Если лечение начато
своевременно — предупредить развитие инфаркта.
В другом случае — приостановить процессы начавше-
гося поражения сердечной ткани и уменьшить мас-
штаб беды.
...Работая над проблемой тромбозов, я увлекся
очень заманчивой идеей. Все поначалу казалось яс-
нее ясного, и не мне одному. Раз причина инфаркта,
как правило, закупорка одной из венечных артерий
98
тромбом, сгустком крови, ничего нет проще — убери
сгусток, и чем скорее, тем лучше: голодающий уча-
сток сердечной мышцы может ожить, и — нет ин-
фаркта! Не случайно хирурги еще до войны стали
искать пути восстановления кровообращения в по-
страдавшей сердечной мышце и в 60-х гг. родились
очень серьезные методики операций на венечных со-
судах сердца, например замена выключенного участ-
ка сосуда протезом из кусочка вены, но для лечения
острого инфаркта они оказались неприменимы. А те-
рапевты мечтали восстанавливать проходимость со-
судов лекарствами. Давно было известно, например,
что в тканях организма вырабатывается антикоагу-
лянт, т. е. вещество, препятствующее свертыванию
крови, — гепарин. Гепарин, выделенный из печени
животных, многие годы применяли и сейчас приме-
няют при лечении ишемической болезни сердца и
других недугов, чтобы предотвратить образование
тромбов или приостановить его. И также было из-
вестно, что организм вырабатывает фермент, который
лизирует, т. е. растворяет фибрин — белок кровяного
сгустка. (А в биохимии названия образуются про-
сто — они обозначают, что делает вещество.)
Проблема поиска антикоагулирующих и фибри-
нолитических препаратов довольно бурно обсужда-
лась в научной литературе. Американские исследова-
тели, например, Искали способы активировать фибри-
нолизин, который в плазме крови содержится в не-
деятельной форме «профермента». Позднее они со-
здали такой препарат — стрептокиназу; его получа-
ют из культуры определенной разновидности бакте-
рий-стрептококков. А мне тогда более действенным
виделся другой путь — вводить в кровяное русло па-
циента активный фибринолизин, извлеченный из до-
норской крови. Это только сказать легко «извлечь»,
«ввести», «растворить тромб», а на получение удоб-
ных и надежных препаратов ушло более 20 лет: сей-
100
час такие препараты применяются и у нас, и за рубе-
жом, хотя и сегодня в этой проблеме остались нере-
шенные вопросы. Тогда же, побившись лбом о разные
трудности, я скооперировался с двумя — теперь вид-
ными — физиологами из МГУ: Б. А. Кудряшовым и
Г. В. Андреенко. В результате довольно долгой и не-
легкой работы первый наш препарат был получен и
изучен. Мы доказали, что он в эксперименте не вызы-
вает опасных иммунных реакций (хотя это все-таки
белок) и в опыте несомненно растворяет тромбы. В
пробирке у нас все хорошо получалось, все казалось
просто. Стали мы нашу работу докладывать в инсти-
туте. Материал-то, конечно, дискуссионный, да и раз-
бирают его люди недоверчивые! Ведь медики, пожа-
луй, более чем кто-либо склонны становиться скепти-
ками. Представьте себе, сколько раз за прожитые го-
ды врачу приходится видеть, как не оправдываются
надежды то на новый метод, то на новый лечебный
препарат. Все наши недоработки были, понятно, за-
мечены, но оценили их не как естественные упуще-
ния, а как «грязь в эксперименте» и даже научный
блеф. И кое-кто из наших оппонентов накинулся на
Мясникова — вот, мол, что тут развел ваш ученик.
Александр Леонидович пригласил меня для беседы.
Стал расспрашивать о работе. Придирчиво со всеми
материалами ознакомился и. неожиданно для наших
оппонентов это дело благословил: «Продолжайте!»
Это был его стиль. Он предоставлял возможность
фантазировать и никогда не возмущался, если резуль-
таты входили в полное противоречие с установивши-
мися взглядами, в том числе с его собственными. Важ-
но было одно — их достоверность. Я тоже избегаю на-
вязывать ученикам свои решения и мнения. Пусть
фантазируют, пусть ищут. Вмешиваться стоит лишь
тогда, когда человек начинает нести ахинею.
...Работу с фибринолизином мы продолжили. Мно-
гое уточнили. А когда начали применять препарат
101
в клинике, то сразу столкнулись с множеством слож-
ностей.
Мы вводили капельно в кровь раствор фибрино-
лизина. Но чтобы растворить тромб, нужно создать
в крови достаточно высокую концентрацию фермента
на продолжительное время. А фибринолизин — бе-
лок, которому в этой форме полагается существовать
недолго, и организм на него тотчас реагирует и раст-
воряет его протеолитическими ферментами. Когда мы
вводили повторно большие дозы препарата, не раз
все-таки возникала иммуннологическая реакция не-
совместимости, ведь белок, который мы вводим, полу-
чен из чужой крови. Приходилось бороться с ее по-
следствиями. В одних случаях нам удавалось до-
биться нужного эффекта, а в других не удавалось, и
признанию нашей методики это, естественно, не спо-
собствовало.
В 1964 г. я поехал в Америку, в Бетесда — науч-
ный городок неподалеку от Вашингтона. Там, в Ин-
ституте сердца, сделал доклад о нашем опыте при-
менения фибринолизина. И зарубежные коллеги, к
моей радости, сочли наши данные серьезными и важ-
ными. Оказалось, что мы работаем на таком же уров-
не, как и они, и, хотя идем разными путями, сталки-
ваемся с одинаковыми сложностями.
Продвинуться вперед удалось, когда была хорошо
освоена методика зондирования венечных артерий
и коронарографии. Сначала хирурги, а затем и мы,
кардиологи, научились подводить зонд к устью ве-
нечных артерий, впрыскивать в коронарные сосуды
контрастное вещество — это дало возможность при
рентгеновском исследовании устанавливать, какая
именно артериальная веточка и на каком участке
затромбирована. А затем и подавать лекарственные
препараты через зонд прямо в артерию — к тромбу,
чтобы там, на месте поражения, создать высокую
концентрацию нужного вещества. (Если бы мне в мо-
102
лодости сказали, что мы сумеем влезать инструмен-
том в венечные сосуды живого человека — нипочем
бы не поверил!..)
Результаты стали получаться много лучше преж-
них, но, увы, еще не такие, какие нужны в каждом
случае. Протеолитические ферменты все же слишком
быстро разрушали и фибринолизин и стрептокиназу.
Надо было защитить препарат от защитной реакции
организма, и нам пришлось искать помощи у совре-
менной химии и биохимии.
...Все революционные события в медицине всегда
были итогом не ее собственных, узкопрактических
изысканий, а крупнейших свершений фундаменталь-
ного естествознания, таких, как становление клеточ-
ной теории, или рождение микробиологии, или пере-
ворот в общей физиологии животного организма,
свершившийся на рубеже прошлого и нашего века. То
же произошло и сейчас, в течение последних двадцати
с небольшим лет — в дни становления молекулярной
биологии и молекулярной генетики, о которых мои
читатели, надеюсь, имеют определенное представле-
ние. Все мы очень интересовались событиями, проис-
ходившими в этих новых областях исследований, —
расшифровкой* кода наследственности, основ биоло-
гической энергетики и ждали от фундаментальной
науки подарков.
Но одно дело — интересоваться тем, что происхо-
дит в теоретическом естествознании, и совсем дру-
гое — поставить свои собственные исследования так,
чтобы фундаментальная наука по-настоящему стала
служить непосредственно твоей прикладной обла-
сти. К тому же взаимоотношения между людьми, ра-
ботающими в разных областях, были не просты. У ме-
диков издавна существует недоверие к биохимикам с
биологическим и химическим образованием: мол, они
не могут понять специфику медицины. А биохимики
103
и биофизики свысока поглядывали на медиков, в том
числе и на медиков-биохимиков: мол, они слишком
узко смотрят на вещи (кстати, нечего греха таить,
не без некоторых оснований).
Десять лет назад, как и другие мои коллеги, я при-
шел к убеждению, что без работ на молекулярном
уровне наша кардиология больше обходиться не мо-
жет, иначе ей не быть современной областью теорети-
ческой и практической медицины. И я предложил ор-
ганизовать в Институте кардиологии им. А. Л. Мясни-
кова — так после смерти моего учителя стал имено-
ваться Институт терапии — новую лабораторию. В те
дни уже обсуждались планы создания Всесоюзного
кардиологического научного центра, и этой лабора-
тории предстояло составить ядро будущего Института
экспериментальной кардиологии.
Со мной тогда уже работал профессор В. Н. Смир-
нов, ныне член-корреспондент АМН и директор этого
института, специалист по биохимии ферментов,
истинный молекулярный биолог и генетик. И он стал
меня уговаривать: «Давайте возьмем к себе в эту ла-
бораторию не медиков, а химиков и биохимиков!..»
Кстати, мне тогда вспомнился рассказ о том, что
И. П. Павлов любил, чтобы его опыты наблюдали
люди, далекие от физиологии, — дескать, у них «све-
жий глаз», которым они могут заметить такие вещи,
какие специалист пропустит как привычные. Я согла-
сился, и мы пригласили работать в ту лабораторию
молодых ребят, учеников академика А. Н. Белозер-
ского, сотрудников знаменитого университетского
«молекулярного корпуса» (т. е. межфакультетской
лаборатории биоорганической химии МГУ). И есте-
ственно, поскольку меня самого особо волновали
трудности применения фибринолизина, то в новой
нашей лаборатории, конечно, была создана группа —
ее возглавлял химик В. П. Торчилин — и она стала
заниматься проблемой связывания фибринолизина
104
или стептокиназы с поверхностью частиц специаль-
ного вещества-носителя, которое может защитить пре-
парат от разрушения протеолитическими фермен-
тами.
Это был совершенно «немедицинский» подход к
задаче. Мы-то медики прежде все время стремились
создать максимально возможные концентрации це-
лебного препарата — сначала в организме, а затем в
одиночном сосуде — именно потому, что он быстро
разрушается. Но для того чтобы наш фермент выпол-
нил свою задачу, такие концентрации на самом-то де-
ле не нужны. Ведь каждая ферментная молекула, по-
ка она цела, способна вступать в биохимическую реак-
цию, ей предназначенную, снова и снова — бесконеч-
ное число раз.
К тем дням лечение ферментами уже было призна-
но одной из перспективнейших методик, и проблема,
с которой мы столкнулись, мучала всех, кто им зани-
мался. Фиксацию ферментов на носителе разрабаты-
вали во многих странах. Американский химик Чанг
добился очень хороших результатов: он создал мик-
росферические полиамидные капсулы. Но его носи-
тель был неприродный, и это вызывало новые слож-
ности.
И вот, решив целый ряд очень тонких и очень спе-
циальных вопросов, В. П. Торчилин со своими сотруд-
никами создали очень удачный полимер-носитель.
Он близок к природным полисахаридам — типа крах-
мала — и потому не вызывает побочных реакций, а
главное, все-таки рассасывается в организме спустя
нужное время. И когда в эксперименте на животном
мы ввели в артерию в сто раз меньше фибринолизи-
на, связанного с этим носителем, чем мы вводили
обычно, то в зоне тромба его концентрация оказалась
в десять тысяч раз большей, чем та, которую нам уда-
валось создать прежде. И полное растворение тромба
в крупном сосуде произошло через полтора часа...
105
Сейчас, созданный в Кардиологическом центре,
препарат уже выпускается промышленностью и при-
меняется для лечения не только в нашей клинике. И
сама работа по его созданию дала выход в целый ряд
совершенно неожиданных проблем, очень важных и
для кардиологии, и для патофизиологии. А причина
успеха была в том, что молодые исследователи реша-
ли свою задачу, будучи оснащены новейшими метода-
ми современной физической химии. Кстати говоря,
лаборатория В. П. Торчилина — его группа теперь
стала лабораторией Института экспериментальной
кардиологии — работает в постоянном контакте с ве-
дущими исследователями МГУ и Института химиче-
ской физики АН СССР.
Мне эта работа дорога потому, что она связана с
проблемой, которой я сам отдал больше 20 лет. Одна-
ко все-таки нельзя сказать, что она — самое типич-
ное из нынешних исследований химиков и биохими-
ков Всесоюзного кардиологического научного центра.
Для сегодняшней теоретической кардиологии, ищу-
щей решения своих задач в фундаментальных поис-
ках, пожалуй, характернее исследования такого важ-
ного процесса, как транспорт энергии внутри мышеч-
ной клетки. Эти работы еще 4 года назад принесли
результаты, оцененные как настоящее открытие.
Проблему можно свести к очень простой форму-
ле: «есть энергия — есть жизнь, нет энергии — нет
жизни». Чтобы сердце вытолкнуло в кровеносное
русло очередную порцию крови — а ему это прихо-
дится делать в среднем 70 раз в минуту, — каждое из
множества миллионов его мышечных волокон каж-
дый раз должно получить приказ. И чтобы возник
нервный импульс, нужна энергия. Чтобы возникла
молекула гормона-медиатора, тоже нужна энергия.
Наши знания о клетке теперь переменились в
корне: когда-то она представлялась чем-то вроде,
грубо говоря, мешочка с жидкостью, в которой сами
106
по себе плавают разные вещества. Но вы-то уже зна-
ете, что клеточная цитоплазма устроена очень слож-
но. В ней много разных клеточных органов —
органелл: ядро, ядрышко, митохондрии, рибосомы,
аппарат Гольджи, многочисленные внутриклеточные
мембраны, а в мышечной клетке — еще и тьма нитей
сократительных белков: актина и миозина. Никаких
свободных пространств «для плавания» практически
нет. Все вещества привязаны к определенным мес-
там — к органеллам, к мембранам. И чтобы в ней
перераспределились хотя бы ионы кальция и, дойдя
до актиновых и миозиновых нитей, сообщили им
приказ, эти ионы надо перекачать через мембраны,
вновь затратив энергию. И чтобы сократительные
белки выполнили свою работу, опять же нужна энер-
гия. И наконец, чтобы доставить к «ионным насосам»
и к белкам энергию, тоже нужно затратить ее —
энергию конечно же!
Законы едины для любой клетки, в чем бы ни за-
ключалась ее работа, ее функция: и для мышечной,
и для нервной, и для клетки, вырабатывающей мо-
лекулы гормона или фермента, и для красного кру-
жочка — эритроцита, чье дело присоединять или от-
давать кислород.
Придется вновь обратиться к истории биологии.
...К началу нашего века стало ясно, что в организ-
ме животного источником энергии служат углево-
ды — глюкоза, которая запасается в мышцах в виде
полисахарида гликогена. И в 20-е гг. биохимики
описали очень стройную схему процессов гликоли-
за — его превращений в организме, — совершенно
реальную, и даже довели ее до логического конца —
до выделения энергии в клетке за счет распада глю-
козы.
Затем в мышечной ткани биохимики обнаружили
фосфорные соединения — креатинфосфат, аденозин-
трифосфорную кислоту (АТФ) и двух ее «родствен-
107
ниц», содержащих не три атома фосфора, а два и
один — аденозиндифосфат (АДФ) и аденозинмоно-
фосфат (АМФ), и установили, что между ними и
креатинфосфатом в организме возможна некая по-
стоянная реакция взаимного обмена фосфорной
группой.
Есть фермент, который способен отщеплять эту
группу от креатинфосфата и присоединять ее в АДФ,
благодаря чему та превратится в АТФ, а от креатин-
фосфата останется азотистое вещество креатин. Но
этот же фермент может делать и все наоборот —
отщеплять фосфат от АТФ и присоединять его к
креатину, тогда вновь образуются креатинфосфат
и АДФ. Зачем это нужно, сперва никто не понимал.
А в 1930 г. в одном номере одного и того же между-
народного научного журнала были опубликованы
две статьи об открытиях, которые произвели в науке
переворот. Но примечательно, что тогда эти открытия,
казалось, совершенно противоречили друг другу.
В первой из этих работ датский ученый Э. Лундс-
гаард сообщал о своих опытах, в которых было до-
казано, что мышцы способны сокращаться только
до тех пор, пока они не израсходовали содержащий-
ся в них креатинфосфат, а значит, он источник
энергии для мышечной работы. Во второй молодой
профессор из Казани Владимир Александрович Эн-
гельгардт, ныне академик, классик и старейшина
молекулярной биологии, описал реакцию «дыхатель-
ного фосфорилирования» — теперь ее называют
окислительным фосфорилированием. В его опытах
было показано, что в клетках, интенсивно усваива-
ющих кислород, идет бурный синтез АТФ. И за его
открытием последовало множество работ разных
ученых. По всем данным получалось, что в клетках
в результате разнообразных реакций постоянно син-
тезируется АТФ и именно она служит единственным
источником энергии для разных процессов, а эта
108
энергия выделяется за счет отщепления от нее фос-
форной группы. А в 1940 г. В. А. Энгельгардт и
М. Н. Любимова сделали еще одно замечательное от-
крытие: они установили, что сам мышечный белок
миозин работает как фермент, который отщепляет
фосфат от АТФ. Это он освобождает энергию, необхо-
димую ему самому для работы.
Спустя некоторое время было установлено, что и
в растениях в результате фотосинтеза тоже образует-
ся АТФ и тоже служит источником энергии для
любых процессов в их клетках. Это стало последним
решительным доказательством того, что АТФ —
единственная, как стали говорить, универсальная
«энергетическая валюта» жизни.
Было установлено также, что все важнейшие
реакции, в каких только АТФ накапливается, про-
исходят в определенных клеточных органеллах —
в митохондриях. И для событий в мышечных клет-
ках, которые нас, кардиологов, занимают в первую
очередь, сложилась такая схема.
...АТФ синтезируется в митохондриях. Оттуда она
диффундирует — сама переплывает к сократитель-
ным белкам клетки. Миозин, срабатывая как фер-
мент, отщепляет от нее фосфатную группу. И осво-
божденная энергия расходуется на механическое
сокращение белковых нитей. А зачем нужен креатин-
фосфат — непонятно: наверное, он что-то вроде
сырья, потому что реакция между ним и АТФ, как
получалось, может идти только в одну сторону —
к образованию АТФ из АДФ.
Процесс казался расшифрованным окончательно.
И вот тут природа опять решила напомнить естество-
испытателям, точно нерадивым школярам, о законо-
мерности, которая уже единожды была открыта и
потом забыта ими. Произошло это в конце 60-х гг.,
когда теоретическая медицина начала переносить
свои изыскания на молекулярный уровень.
109
Ученые из ФРГ и — независимо от них — исланд-
цы стали исследовать на этом новом уровне измене-
ния в тканях сердечной мышцы при ишемии и ин-
фаркте. И все они столкнулись с фактами, которые
поначалу оценили как новые и парадоксальные.
В миокарде — в зоне инфаркта, где сократимость
миофибрилл уже упала до нуля, содержание АТФ,
этой «энергетической валюты», никогда не оказыва-
лось меньше 80% обычного количества. А зато
креатинфосфата не обнаруживалось ни молекулы...
Это было не чем иным, как повторением открытия,
сделанного в 1930 г.: навязывался тот же вывод —
сократительная способность мышечных белков зави-
сит от присутствия в клетках не АТФ, а креатинфос-
фата!
Однако теперь уже никому и в голову не при-
шло ставить вопрос «или — или» и снова сомневать-
ся, где синтезируется АТФ, и она или не она отдает
миофибриллам нужную энергию. (Да, в митохондри-
ях! Да, она!) А вот то, что различие количества АТФ
в здоровой ткани миокарда и в клетках, утративших
способность к сокращению, всегда одинаково — при-
мерно 20%, привело ученых к мысли, что в нормаль-
ных клетках «энергетическая валюта» как бы рас-
пределена в двух фондах: 80% — в митохондриях,
в месте накопления, а 20% — в месте расходования.
Потому что к мышечным нитям клетки, к ее сокра-
тительным белкам должна поступать лишь энергия,
которая подлежит немедленному использованию, —
ведь ее количество и предопределяет объем их рабо-
ты. А в неработающих, в погибших клетках «фонд
расходования» весь исчерпан, оттого и АТФ меньше
на 20%. И потому возникла гипотеза о транспорте —
о способе передачи энергии из фонда в фонд.
Как только в митохондрии поступает некий сиг-
нал о необходимости подать энергию, фермент кре-
атинфосфокиназа переносит фосфатную группу с
110
АТФ на креатин. Образовавшийся креатинфосфат
идет в цитоплазму, а затем вблизи миофибрилл, дру-
гие молекулы такого же фермента переносят фос-
фатную группу от него на «обломок» былой молеку-
лы АТФ — на аденозиндифосфат, оставшийся после
предыдущей реакции высвобождения энергии.
И «реставрированная» АТФ снова используется мы-
шечным белком.
В каждом фонде происходит свой цикл этого дву-
ликого процесса, и это точно соответствует теории,
ибо реакция должна быть обратима: там, где больше
АТФ, синтезируется креатинфосфат, а где больше
креатинфосфата, производится АТФ. Получалась
картина процесса крайне экономичного, крайне ра-
зумного. В самом деле, к чему тащить из митохондрии
в цитоплазму целиком крупную молекулу, когда
можно переносить одну фосфатную группу и затем
«реставрировать» необходимую молекулу там, где
она пойдет в дело? В этой картине начинали угады-
ваться химические обратные связи, которые позволя-
ли бы системам клетки оперативно отвечать на
нервные и гормональные команды, завершаемые
перераспределением ионов кальция в каждой мы-
шечной клетке, ведь частота и сила сокращений
сердца строго подчинены реальным потребностям
организма.
Дело бы за малым: теорию оставалось подтвер-
дить на опыте. Замысел экспериментов, которым
предстояло принести решающие результаты, разра-
батывался крупнейшими биохимиками мира, и не-
удача их была неожиданной. В опыте ничего не
получалось: процесс неминуемо шел лишь в другую
сторону. Фермент, выделенный из митохондрий,
«отказывался» синтезировать креатинфосфат за счет
АТФ. Он делал только АТФ. И это было нелепо.
Вот на таком этапе в дело включились химики,
биохимики и физиологи новой лаборатории нашего
111
Кардиологического центра. Работы по этой проблеме
возглавили В. Н. Смирнов и химик В. А. Сакс. Начи-
нать, конечно, пришлось с повторения, с воспроизве-
дения того, на чем запнулись коллеги в других ла-
бораториях, и при этом искать в уже «обкатанном»
материале такие звенья, за которые можно было бы
ухватиться. Результаты были получены те же самые,
но некоторое время спустя В. А. Сакс стал искать
объяснение, почему же реакция в опыте — в колбе
и в клеточной системе, т. е. в митохондриях, идет
по-разному. Это видели все. Крупнейшие биохимики
объясняли причину различиями кислотности среды.
А молодой ученый пришел к мысли, что у реакции,
идущей в митохондриях, особая кинетика. Грубо
говоря, все потому, что живая клетка не колба. В колбе
ход реакции зависит просто от того, сколько тех и
других веществ влил в нее экспериментатор. И в лю-
бой ее точке будет происходить одно и то же. Но в
клетке вещества распределены не равномерно. Не
диффузно. Они образуют определенные структуры
и фонды. И молекула фермента «опознает» не кон-
центрацию веществ во всей клетке, а их соотношение
у своего собственного активного центра.
Затем наши сотрудники получили данные, что
на мембранах митохондрий фермент, который дол-
жен в данном случае синтезировать креатинфосфат,
работает в комплексе с другим ферментом, чье дело
переносить синтезированную АТФ из «кухни», где
она приготовляется, в межмембранное пространство.
А после отщепления фосфатной группы возвращать
образовавшуюся АДФ в ту же «кухню» — для нового
фосфорилирования. И этот фермент-переносчик по-
дает АТФ прямо на активный центр молекул кре-
атинфосфокиназы, ведущих синтез. А поскольку
их активные центры оказываются постоянно насы-
щенными АТФ, то этот фермент и вынужден делать
креатинфосфат. В свое время писатель Пол де Крайф
112
в замечательной книге «Охотники за микробами»
сказал об одном исследователе, что у того была при-
вычка всегда ставить на один опыт больше, чем это
сделали бы на его месте другие. Можно сказать, что
наши биохимики тоже поставили на «один опыт
больше». Но этот опыт был не только с «пробиркой».
Главными в нем стали эксперименты мысленные —
анализ математической модели комплекса двух таких
ферментов, который и подтвердил гипотезу. (Кстати,
в этом этапе работы принял участие математик Ри-
чард Виале из Пенсильванского университета.)
А вскоре в другом «фонде» — в митохондриях —
тоже был обнаружен похожий комплекс двух фер-
ментов. Того, что способен переносить фосфат и «из-
готовлять» там АТФ за счет креатинфосфата, и само-
го белка миозина, высвобождающего энергию АТФ.
Только здесь роли распределены иначе: фермент,
который восстанавливает за счет креатинфосфата
АТФ, тотчас подает ее на активный центр миозина,
чтобы «энергетическая валюта» была немедленно
истрачена на нужды сокращения.
И вот тут у наших биохимиков возникло предпо-
ложение, что сама подача энергии от митохондрий
к миофибриллам должна регулироваться каким-то
химическим сигналом. И еще: что эту роль играет
креатин — то самое незатейливое азотистое вещество,
которое образуется, когда от креатинфосфата от-
щепляется фосфорная группа. Его знали уже лет
полтораста и считали «отбросом». Но в организме
всегда содержится немало креатина, а потому роль
у него должна, видимо, быть серьезная.
...Сейчас ни один из исследователей не работает
в изоляции, в одиночестве, если дело свое он делает
«на уровне». И вскоре и в зарубежных лабораториях,
занимающихся той же проблемой, и другими сотруд-
никами Кардиологического центра были получены
данные о том, что креатинфосфат переносит энергию
из
от митохондрий в мышечной клетке не только к ее
сократительным системам, но и к «ионным насосам»,
перекачивающим через мембраны калий или натрий,
кальций или магний, столь важные для жизни клет-
ки. И на мембранах волокон миокарда — и внешних
и внутренних — были обнаружены такие же ком-
плексы ферментов, благодаря которым реакция,
невоспроизводимая в колбе, в клетке идет, как надо,
и у каждого «ионного насоса» из доставшегося ему
креатинфосфата быстро создается свой маленький
фонд АТФ. Но она, конечно, тотчас же расходуется
для текущих нужд.
А понять все это самим и доказать другим уда-
лось, в частности, потому, что наш биохимик Д. О. Ле-
вицкий со своими сотрудниками выделил фермент
«кальций—магний—зависимую АТФ-азу» в столь
чистом виде и в столь высокоактивной форме, в каких
тогда еще никому не удавалось. Для этого пришлось
выработать особую методику, но как достается такая
методика — про это рассказывать долго. Трудно она
достается.
А в заграничных лабораториях было показано,
что в клетках мозга энергия может передаваться
точно таким же путем — через креатинфосфат.
И тогда скромный креатин предстал как очень важ-
ная персона, от которой зависит синтез главного
«транспортера» энергии, а значит и ее количество.
Однако надо было превратить догадки в факты. И над
этим стали биться не только мы, но и американские
ученые. Правда, они попытались получить точные
ответы в опытах на совершенно ином объекте — на
культуре мышечных клеток, и этот выбор оказался
неудачным, потому что доказательство должно было
быть физиологически демонстративным.
Надо было получить количественно точные дан-
ные, каков эффект, вызываемый креатином, который
поступает в ткань извне. И эффект этот должен быть
114
«чистым», заведомо изолированным от любых дру-
гих влияний — и нервных, и гормональных. И объек-
том опыта должна быть мышечная ткань, способная
сокращаться.
Такую модель наши биохимики обнаружили
просто в соседней комнате — в физиологической ла-
боратории Кардиологического центра, которой заве-
дует Л. В. Розенштраух. Там вели электрофизиологи-
ческие опыты на маленьких полосках ткани сердца
лягушки. (Кстати, этой старейшей мученице науки,
как в Ленинграде павловской собаке, тоже воздвигну-
ты памятники: в Париже и Токио.) Что крайне важ-
но, электрофизиологические особенности лягушиной
сердечной мышцы более, чем у всех других живот-
ных, близки к особенностям миокарда человека, а
мембраны клеток более проницаемы, для разных хи-
мических веществ, чем мембраны клеток млекопита-
ющих. И на этом объекте были поставлены опыты
с креатином — изящнейшие!
...Маленькие — не более 14 миллиграммов ве-
сом — полоски мышцы помещали в камеру объемом
в ...1 миллилитр! Затем полоски мышцы соединяли
с электродами стимулятора и датчиками, регистри-
рующими силу сокращений. Ткань то выдерживали
в физиологическом растворе, чтобы вымыть из нее
естественный креатин, то утомляли, подолгу застав-
ляя работать. То омывали растворами, содержащими
креатин в разных концентрациях — его содержание
повышалось в ткани и в два, и в пять, и в десять раз,
а затем избыток креатина снова вымывали. И на
разных этапах эксперимента определяли силу сокра-
щений и содержание в ткани АТФ, креатина и креа-
тинфосфата.
Эти опыты, во-первых, подтвердили реальность
существования в клетках лишь одного пути транс-
порта энергии — креатинфосфатного. И, во-вторых,
подтвердили гипотезу о том, что креатин — это фак-
115
тор, способный регулировать работу сердечной мыш-
цы. Причем не только стимулировать, но в определен-
ных условиях и угнетать ее сокращения.
Такие результаты были признаны открытием
неизвестной прежде закономерности. Главные участ-
ники работы — химики, биохимики, физиологи —
были удостоены Государственной премии СССР, и
мне очень приятно рассказывать, что в нашем еще
молодом Кардиоцентре проделаны исследования,
которые дали такие серьезные итоги и были так
высоко оценены. И кроме того, распознание таких
закономерностей открывает путь для воздействия на
патологические процессы, которые зависят именно
от нарушения транспорта энергии в клетках мио-
карда. Для людей, у которых побаливает сердце,
это будет, пожалуй, самым важным.
А новые представления о клетке не как о мешке
с жидкостью, а как о сложном «заводе», где движе-
ние каждой молекулы строго упорядочено, связано
с клеточными структурами, обусловлено логикой
идущих в ней процессов, позволило нынешней теоре-
тической кардиологии по-новому представить себе
ход событий, итогом которых оказывается заболева-
ние атеросклерозом. А эта болезнь — одна из самых
тяжких проблем нашей профессии. Ведь все сердечно-
сосудистые заболевания тесно меж собой перепле-
тены, одно провоцирует другое, причины и следствия
переставляются и явления атеросклероза то и дело
предопределяют дальнейшее развитие событий и при
гипертонической болезни, и при ишемической болез-
ни сердца, начавшихся «самостоятельно».
...Клиницисты давно знали, что пациенты, нажив-
шие атеросклероз, обычно питались хорошо, а вкус-
ные питательные продукты, как правило, богаты
холестерином. И видимые глазом, и микроскопиче-
ские изменения в стенках артерий, наступающие при
заболевании, были к началу нашего века изучены
116
довольно полно. А в 1910—1912 гг. замечательные,
русские патологи Николай Николаевич Аничков и
Сергей Сергеевич Халатов сумели вызвать у кроли-
ков поражения сосудов, напоминающие атероскле-
ротические, простым путем: они подолгу кормили
их яйцами (это почти сплошь жиры и холестерин).
Биохимические исследования показали, что и у боль-
ных людей, и у подопытных животных содержание
холестерина в крови значительно повышено — ме-
тоды его определения существовали уже давно, он —
одно из самых первых органических веществ, про-
анализированных химиками еще в начале XIX в.
Невыясненной оставалась только его функция в орга-
низме. Знали, что он входит в состав желчных камней
и желчи, отчего он и получил такое название* «холе-
стерин» (в переводе с греческого — «твердая желчь»).
Н. Н. Аничков сформулировал стройную схему ме-
ханизма развития атеросклероза: постоянный избы-
ток холестерина в пище — постоянный избыток
холестерина в крови — нарушение холестеринного
обмена — отложение избытка холестерина под внут-
ренней оболочкой сосудов в результате чисто физико-
химических процессов. Он учитывал и влияние вред-
ностей, и нервных и гормональных нарушений. Но
как случалось не раз в науке, прозорливые предпо-
ложения держались на аргументах, которые со вре-
менем оказались весьма шаткими, а некоторые по-
ложения — хотя бы о том, как холестерин «пропо-
тевает» через внутреннюю оболочку сосуда, — были
отражением представлений науки определенного
времени, сменившихся спустя несколько десятилетий
новыми и совершенно несходными.
Оказалось, например, что в сосудах никогда не
откладываются частицы того холестерина, который
мы поедаем. Его молекулы, как все вещества пищи,
разрушаются на «кирпичики» — из них может быть
синтезировано все, что угодно. Тот холестерин, кото-
117
рый выделяют из крови, — тот, что содержится
в клетках и атеросклеротических «бляшках», син-
тезирован в нашем организме. А холестерин об-
разуется в организме постоянно: он — чрезвычай-
но важное для жизни вещество. В желчи он лишь
выводится из организма. Даже второстепенная его
роль — в том, что он вещество — предшественник
стероидных гормонов, которые вырабатываются
клетками надпочечников и половых желез. А глав-
ное — он материал клеточных мембран! Именно
потому его так много и в нашем организме, и в яйцах,
и в рыбьих икринках, из которых должны развивать-
ся новые существа. Все строительные процессы кле-
ток идут на мембранах, которые «монтируются»,
как только должен начаться синтез очередной пор-
ции молекул какого-то белка и которые разбираются
тотчас по его завершении. «Использованный матери-
ал» должен быть из клетки выброшен, а новые мем-
браны построены из новых «блоков». Именно поэтому
обмен холестерина так активен.
И конечно, ни о какой его диффузии сквозь
стенку речи быть не может — он не соль, проника-
ющая в школьном опыте через коллоидную пленку.
До 60-х гг. это вещество запутывало биохимиков
тем, что его легко было выделить и легко было опре-
делить его удельное содержание в любом материале.
Однако, как только были созданы современные
ультрацентрифуги и методы разделения клеточных
элементов, исследователи смогли убедиться, что
почти все вещества, участвующие в важных биохи-
мических процессах, не обретаются в клетках сами
по себе — они встроены в надмолекулярные ком-
плексы, которые непременно «вмонтированы» в те
или иные элементы клеточной структуры. И холе-
стерин существует тоже в комплексе с белками, ко-
торые встраиваются в клеточные мембраны. А затем
образуют комплексы с другими белками и с ними
118
из клеток выносятся. И сама возможность накопле-
ния холестерина обусловливается даже не столько
его количеством в крови, сколько соотношением
между этими белками-*накопителями» и белками-
♦ уборщиками» (назовем их так — их настоящие име-
на очень громоздки: «липопротеиды очень низкой
плотности» и «липопротеиды высокой плотности»).
А способность клеток организма синтезировать бел-
ки-«уборщики» холестерина зависит от многих фак-
торов. И важнейший среди них — биохимические
процессы, связанные с мышечной активностью че-
ловека! Детали опустим, только итог: при малой
мышечной активности синтез белков, выводящих
холестерин из клеток, падает. Чем выше мышечная
активность, тем их больше. Вот и приходится под-
твердить, что люди, «бегающие трусцой», действи-
тельно убегают от грозящего им атеросклероза.
Кстати, Пол Уайт почти в 80 лет, хотя он и велико-
лепно водил автомобиль, даже на аэродром за 15 ки-
лометров приехал на велосипеде и на пятый этаж
поднимался только пешком!
Но как ни практичны такие наблюдения, они не
исчерпывают сути современных изысканий. Наши
лаборатории исследуют, например, биохимию обме-
на холестеринно-липопротеидных комплексов у лю-
дей, живущих в разных климатических условиях,
изучают зависимость этих процессов от наследствен-
ных факторов. Есть очень интересные результаты,
но в науке невыясненных вопросов всегда во много
раз больше, чем добытых ответов. У нее всегда все
впереди.
Только сердцем
Хоть я и рассказал далеко не все, что мог, надеюсь,
читатель все-таки ощутил, какова она, сегодняшняя
кардиология, и понял, какой путь она проделала
119
благодаря замечательным возможностям, которые
созданы для науки нашим Советским государством,
нашим образом жизни.
Мы многое познали сами. Многое переняли из
науки других стран, — ведь мы живем в постоянном
контакте с учеными всех континентов.
Мы хорошо умеем лечить недуги, перед которыми
медицина пасовала считанные годы назад. Но наша
задача не только «ремонтировать» то, что уже по-
вреждено, но и предупреждать болезни — отодвигать
их как можно дальше.
Более 30 лет мы не ощущали на себе тяжелейших
стрессовых факторов войны. Политика нашей Ком-
мунистической партии и правительства направлена
на то, чтобы угроза войны была устранена навсегда
из жизни людей.
Наши люди не знают нужды и неуверенности в
завтрашнем дне. Каждый год новые миллионы лю-
дей вселяются в новые благоустроенные дома, в от-
дельные квартиры, и исчезают конфликтные ситу-
ации, которые порождались скученностью и нравами
коммунальных кухонь. Курорты, санатории, турист-
ские базы, спорт, театр, музеи, причастность к искус-
ству, да и к любому виду творчества, эти обычные
элементы нашего советского быта служат духовному
и физическому здоровью людей.
Однако профилактика болезней — это дело не
только правительства и не только медиков. Мы не
случайно все настойчивее и настойчивее разъясняем
людям, используя кино, радио, телевидение, научно-
популярную печать и газеты, насколько сохранение
собственного здоровья и здоровья окружающих лю-
дей зависит еще и от каждого человека.
Человек всегда должен жить полнокровной
жизнью, общественными интересами, творчеством.
Переключение от активности к бездеятельности тоже
стрессовый фактор, почва для нарушения регуля-
120
торных процессов и для обменных сдвигов в организ-
ме, которые способствуют развитию раннего атеро-
склероза. Несоответствие между ритмом и стилем
современной жизни и условиями такого пассивного
отдыха — опасность!
Человек сам создал современную цивилизацию.
Радость творчества и радость познания были и оста-
лись смыслом и счастьем его жизни. Он должен
разумно жить. Напряженно работая, он должен и
на отдыхе оставаться деятельным: каждый выбирает
свое — спорт, рыбную ловлю, живопись, музыку,
радиолюбительство или что-то еще. Важно, чтобы
увлечения были, чтобы они духовно обогащали, тогда
они создают нужную разрядку — «дистресс», как
называл ее Ганс Селье, создатель теории стресса.
Но сколько бы мы ни рекомендовали занятия
спортом, искусством, разумный отдых, отказ от ку-
рения и вина, как бы хорошо ни лечили, все усилия
вмиг могут быть перечеркнуты чьей-то грубостью,
которая станет причиной чрезмерного психоэмоци-
онального напряжения. Слово — сильнейший нерв-
ный раздражитель, который может быть не менее
опасен, чем любой физический и химический фактор
внешней среды. Недаром говорят, что «словом можно
убить человека». Потому все мы обязаны трениро-
вать свою волю, никогда не забывать об окружающих
и призывать к порядку всех любителей «распускать-
ся». Дух товарищества, чуткость, сдержанность, са-
мообладание, уважение к окружающим — это не
только требования нашей этики. Это залог преду-
преждения болезней сердца, это залог нравственного
и физического здоровья будущих поколений.
Нам же, кардиологам, предстоит огромный ком-
плекс исследований, необходимых для выработки
специальных методик предупреждения сердечно-
сосудистых заболеваний. И предстоит передать эти
методики всем практикующим врачам.
122
Сейчас я работаю во Всесоюзном научно-карди-
ологическом центре. Комплекс его зданий построен
на средства, заработанные всеми трудящимися на-
шей страны в день Всесоюзного ленинского комму-
нистического субботника в 1971 г. Но еще когда на
опушке великолепного леса, неподалеку от столич-
ной кольцевой автодороги, строители только начали
размечать контуры фундаментов зданий будущих
клиник и лабораторий, коллектив сотрудников центра
уже приступил к намеченной для него научной про-
грамме и, как видите, увлеченно над ней работает.
Как и всегда бывает в науке, чем больше вопросов
решается, тем больше обнаруживается других, не-
решенных. Вот я рассказывал о делах кардиологов-
экспериментаторов, о детальном изучении биохими-
ческого механизма сокращения мышечной клетки
сердца — переноса в ней энергии, работы «ионных
насосов». А ведь факты, которые были установлены,
в том числе и нашими сотрудниками, заставили не
только по-новому увидеть мышечное сокращение,
но и осознать, что мышечное расслабление тоже про-
цесс активный! Что переход мышечных нитей клетки
в прежнее состояние — это не простой возврат «пру-
жинки» к ее прежней длине, а цепочка других био-
химических реакций, ведущих к новому перераспре-
делению ионов кальция. Надо понять, как все это
происходит, как регулируется «обратный поток»
ионов, как на него можно воздействовать. (Кстати,
вместе с американскими коллегами мы в последние
годы изучили интересный лекарственный препарат,
способный влиять на мышечное расслабление, —
дело очень важное для разработки новых методик
лечения сердечной недостаточности.) А другая об-
ласть нераскрытого выявилась в ходе исследования
физиологами и биохимиками механизма нарушений
сердечного ритма. Можно назвать еще множество за-
дач, которые предстоит решать экспериментаторам,
123
но какие возникнут завтра, послезавтра?.. Одно бес-
спорно: чем полнее будут наши биохимические и
физиологические знания, тем осознаннее станет
поиск фармакологов, которые трудятся над создани-
ем новых лекарств, да и вся наша работа.
Но неведомое кроется не только внутри организма.
Во всем, что в нем происходит, непременно звучит
эхо внешнего мира, среды, образа жизни человека
в самом широком значении, какое только можно в
это слово вложить. И потому так важно продолжать
исследовать «повреждающие факторы», «факторы
риска», которые способствуют развитию сердечно-
сосудистых заболеваний — их эпидемиологию, тоже
в широком смысле слова.
Одни из них было легко установить — нервные
потрясения, курение, алкоголь. Их роль была очевид-
на при анализе историй болезни: 82% больных, пере-
несших инфаркт, были заядлыми курильщиками,
у 30% мужчин, скоропостижно умерших от острой
сердечной недостаточности, патологоанатомы не
обнаруживают в сердечной мышце ничего, кроме
признаков перерождения ткани от постоянного отрав-
ления алкоголем. Думаю, что прибавлять к этому
какие-либо нравоучения излишне. Разумные люди
сделают нужные выводы сами. Чтобы достоверно
исследовать действие других повреждающих факто-
ров, например ритма работы у людей разных про-
фессий, потребовалось немало трудов.
Сейчас наши эпидемиологи столкнулись с неожи-
данными данными. Оказалось, что существуют гео-
графические различия в распространении атероскле-
роза, и коренные жители ряда районов Крайнего
Севера заболевают им гораздо реже, чем жители
центральных областей страны. Но здесь еще пред-
стоит уточнить и роль наследственных факторов,
и особенности традиционного питания, и ритмы тру-
да, и многое-многое другое.
124
И как в любом разделе исследований, здесь не
угадать всех вопросов, какие предстоит решать эпи-
демиологам в будущем. Но решать им придется
много, потому что без этого мы не сумеем по-настоя-
щему наладить службу кардиологической профи-
лактики.
Среди учреждений нашего научного центра создан
специальный институт, который будет заниматься
только ею. Он будет руководить работой отделений
профилактической кардиологии, которые созданы
при многих поликлиниках столицы и других горо-
дов РСФСР. Уже несколько лет в этих отделениях
проводят предупредительные обследования людей,
независимо от того, есть ли у них какие-то симптомы
болезни или нет. В первую очередь обследуются ра-
бочие крупных предприятий, те, кто. работает в ин-
тенсивном ритме. Среди них было выявлено немало
людей с начальными стадиями, например, гиперто-
нической болезни, даже не подозревавших об этом.
Их лечат, вылечивают, но после этого оставляют
на диспансерном наблюдении. А в клинике Институ-
та профилактической кардиологии нашего центра
будут разрабатываться и апробироваться новые ме-
тодики лечения ранних стадий заболеваний, которые
позволят надежно на многие годы возвращать па-
циентам здоровье.
Кстати, теперь в каждой из наших союзных рес-
публик созданы кардиологические диспансеры. На
них помимо лечебной и исследовательской ляжет
организационно-методическая работа по предупреж-
дению болезней.
Если бы я стал не кардиологом, а гастроэнтероло-
гом, или анестезиологом, или хирургом, работающим
в одном из новых направлений, я рассказал бы о
делах и заботах другой области современной меди-
цины. Привел бы другие житейские факты, другой
научный материал, но и тот воображаемый рассказ
125
Всесоюзный
научно-кардиологический
центр
некоторыми чертами непременно напоминал бы
этот, реальный. Ведь он тоже был бы о науке, а в
нашей медицинской науке происходят общие про-
цессы.
Впрочем, я не представляю себе, как это смог бы
я стать не кардиологом, а кем-то еще. Я люблю свое
дело. И моя кардиология — «горячий цех» современ-
ной медицины. А это очень важно — ощущать, что
ты занимаешься важнейшим делом.
У современной медицины огромный опыт борьбы
с болезнями. Многие болезни нам удалось ликвиди-
ровать полностью, и обычно ведущую роль в их лик-
видации играли созданные для этого специальные
медицинские службы. Эпидемиологическая искоре-
нила особо опасные инфекции и ряд инфекционных
заболеваний, не имевших, как малярия, титула «осо-
бо опасных». Специальная фтизиатрическая служба
позволила предельно снизить заболеваемость тубер-
кулезом, которым до войны у нас болели миллионы
людей. Теперь родилась служба кардиологическая:
специализированные клиники, специализирован-
ные отделения больниц, кардиологические диспан-
серы, специальные бригады «скорой помощи», кон-
сультационные центры в крупных городах, куда при
необходимости из других городов, поселков и сель-
ских больниц передают по телефонному кабелю эле-
ктрокардиограммы. (Ведь если можно передавать
126
кардиограмму с орбиты космического корабля, то
естественно, ее можно передать из Балашова в Сара-
тов или из Гаваны в Москву!) И точно так же, как в
свое время благодаря флюорографии удалось вы-
явить множество больных с ранними поражениями
легких и вылечить их, наша служба придет и к тому,
чтобы захватывать все или почти все случаи сердеч-
но-сосудистых заболеваний на самых ранних стадиях
и надолго продлить жизнь миллионам людей, изле-
чивая их не в особых палатах для самых тяжелых
больных, а в простых поликлиниках. Только это
потребует от нас, медиков, очень напряженной рабо-
ты с полной самоотдачей.
Ничего не поделаешь — недаром, говоря о самом
главном, что должно быть в характере врача, вели-
кий русский художник Левитан сказал в од-
ном из своих писем: «Сердце можно
лечить только сердцем».
Сердце И XX век Евгений Иванович
Чазов
ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Содержание
Глава для
будущих коллег
5
Этажи,
построенные
эволюцией
20
Болезнь, которую
не считали
болезнью
30
Мой учитель
50
Земля —
космос — Земля
69
«Инфарктная —
на выезд!»
79
Фундамент
95
Только сердцем
Художники:
Валит Б. А.
Курилко А. Ф.
Фотограф
Смзухвв А. П.
Фото ТАСС
Макет художника
Варгвва В. П.
Заведующий редакцией
В. Ю. Кирьянов
Редактор
Н. Н. Габвсовия
Художественный редактор
В. П. Лобачев
Технический редактор
Т. Е. Морозова
Корректор
А. Н. Кубвчева
ИБ № 524
Сдано в набор 31.07.81.
Подписанов печать 10.12.81.
А05890. Формат70 X100/32.
Бумага офсетная. Усл. печ.
л. 5,16. Уч.-изд. л. 5,61.
Усл. кр.-отт. 21,12. Тираж
200 000 экз. Заказ № 387.
Цена 25 коп.
Издательство «Педагогика»
Академии педагогических
наук СССР и Государствен-
ного комитета СССР по де-
лам издательств, полигра-
фии и книжной торговли.
Москва, 107847, Лефортов-
ский пер., 8.
Ордена Трудового Красного
Знамени Калининский по-
лиграфический комбинат
Союзполиграфпрома при Го-
сударственном комитете
СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной тор-
говли. г. Калинин, пр. Ле-
нина, 5.
25 коп.
Читайте
следующую
книгу
библиотечки
«Ученые — школьнику»!
Что такое эстетическая функция
слова?
Откуда произошло поэтическое
слово?
Что такое образные средства речи?
Как анализировать текст литера
турного произведения?
На эти и другие вопросы вы найде-
те ответ в книге доктора филоло-
гических наук Л. А. Новикова
«Искусство слова».
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПЕДАГОГИКА»