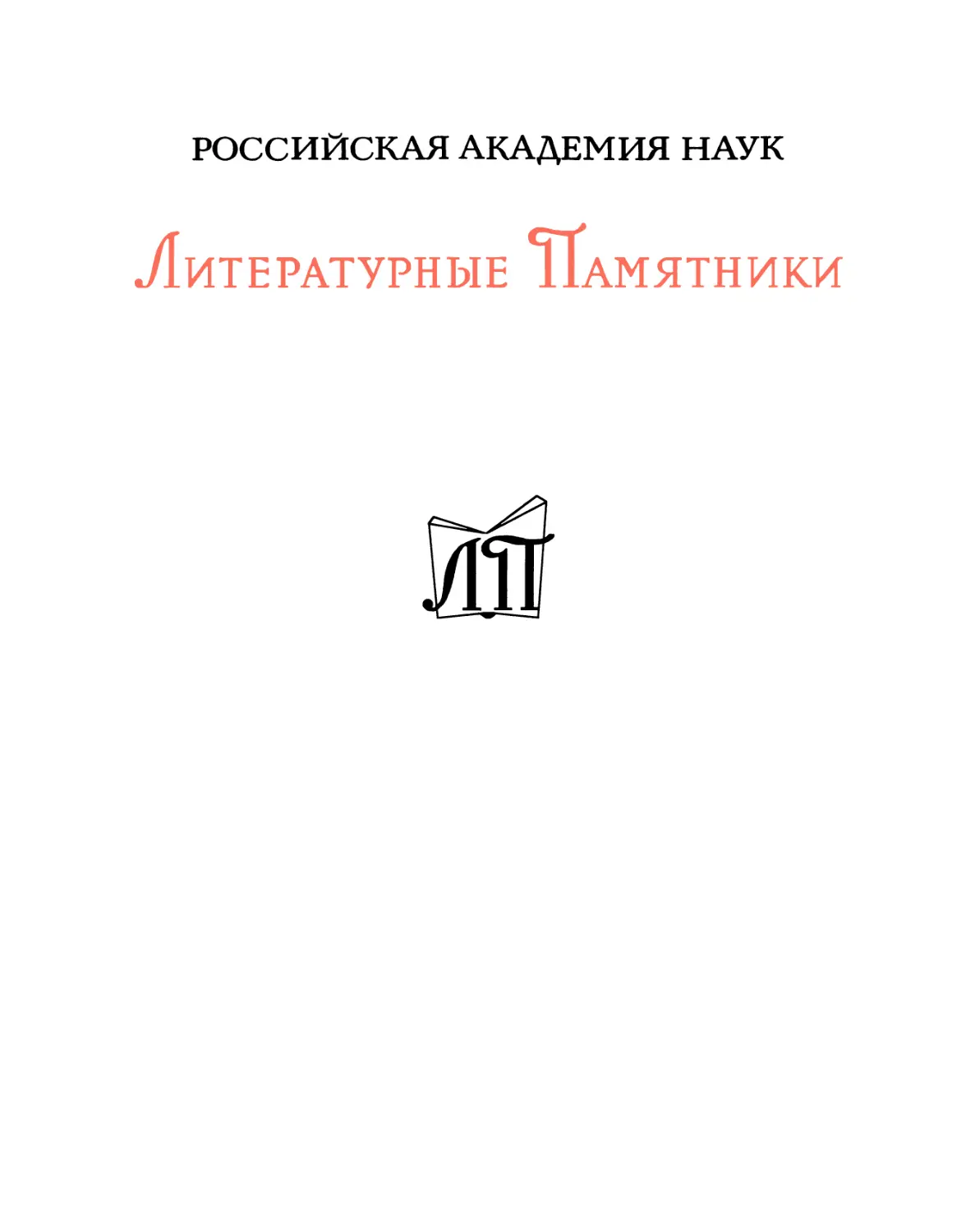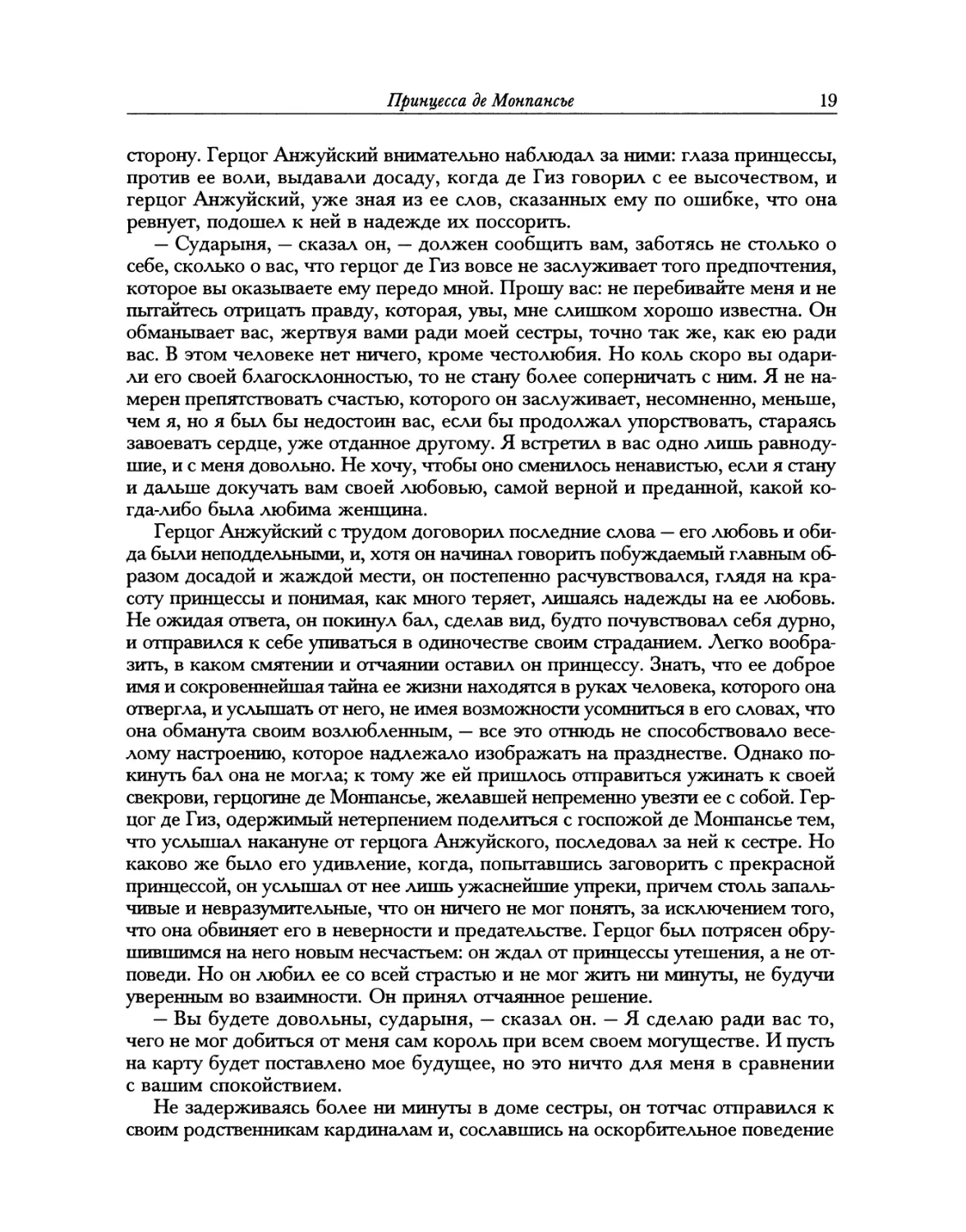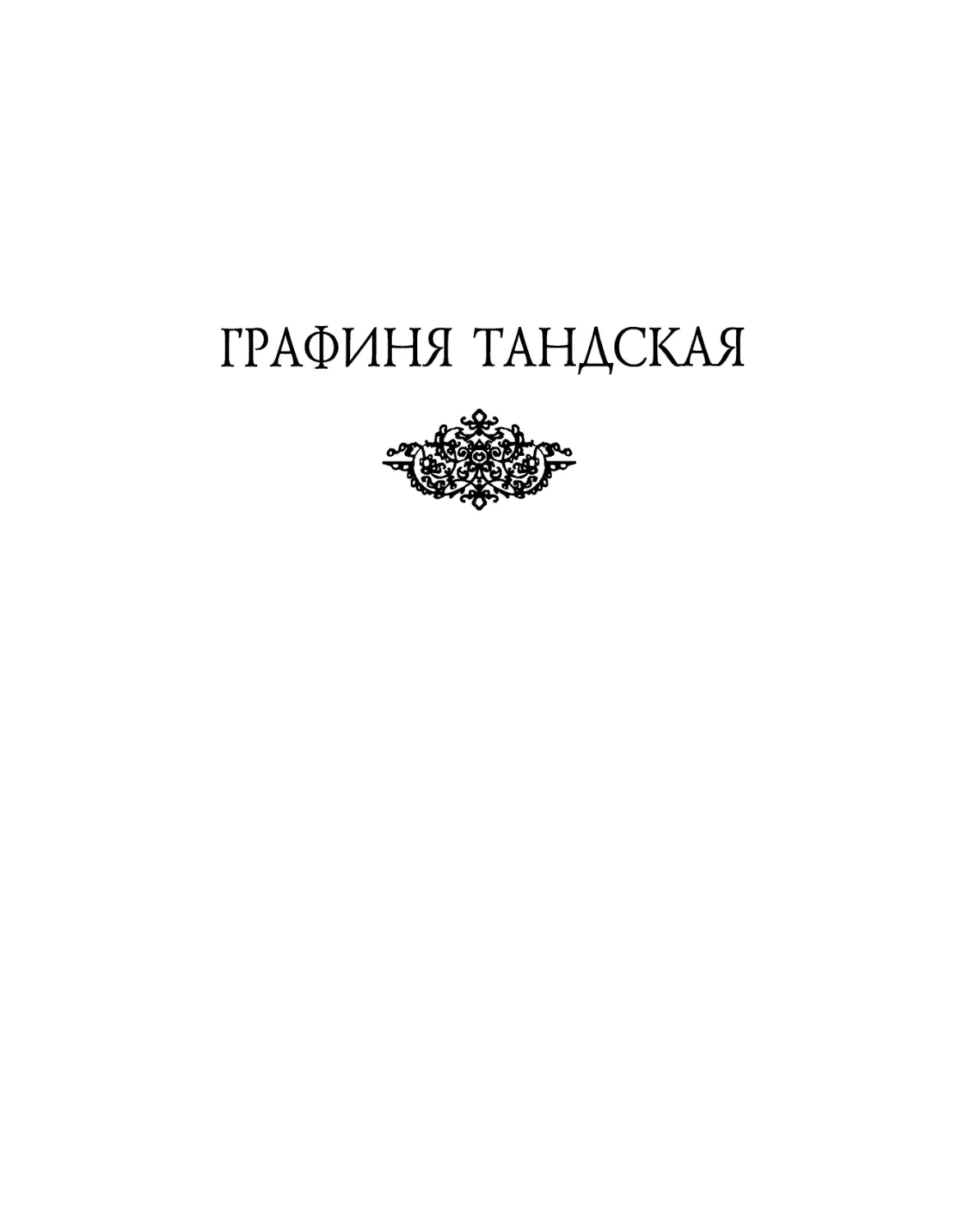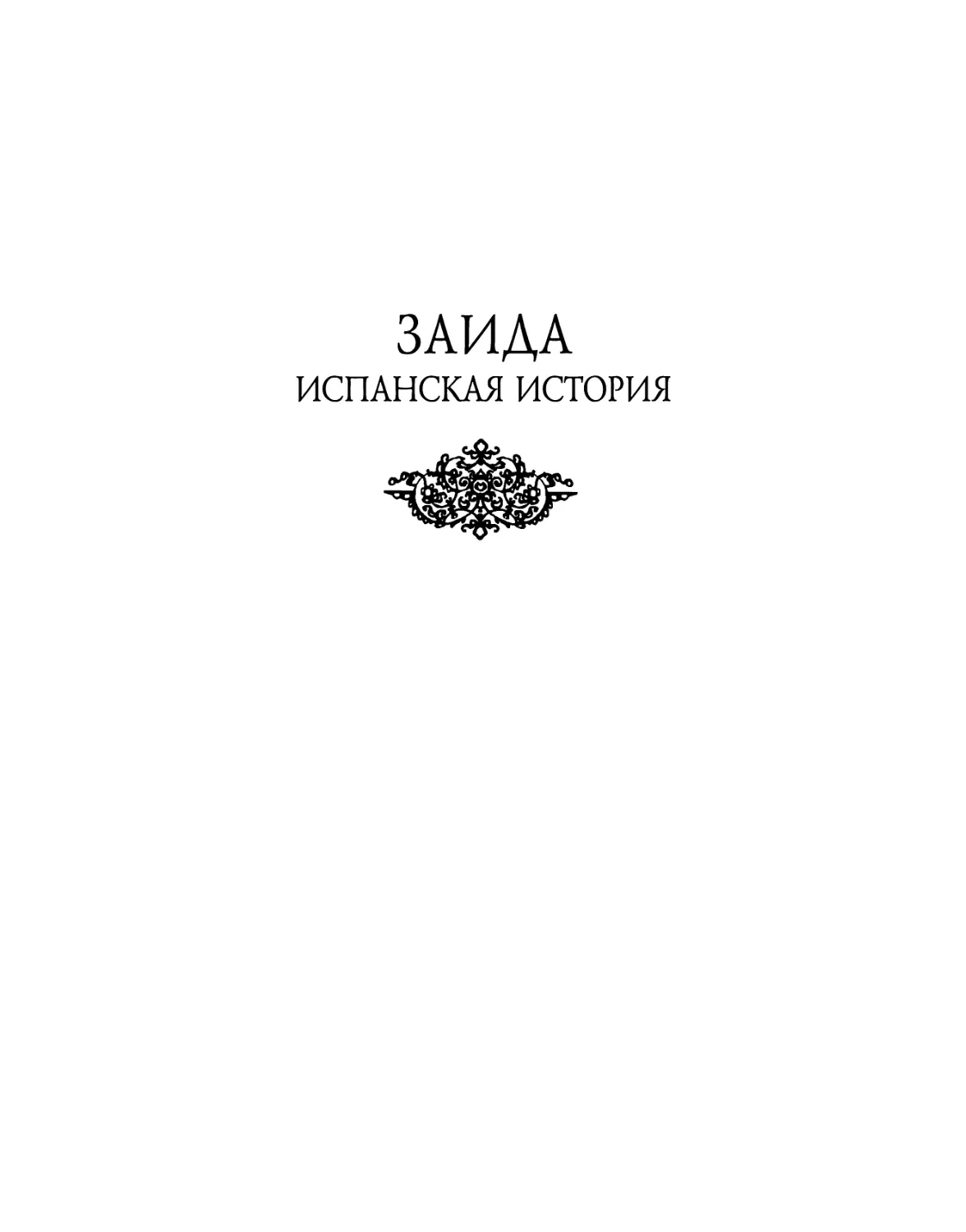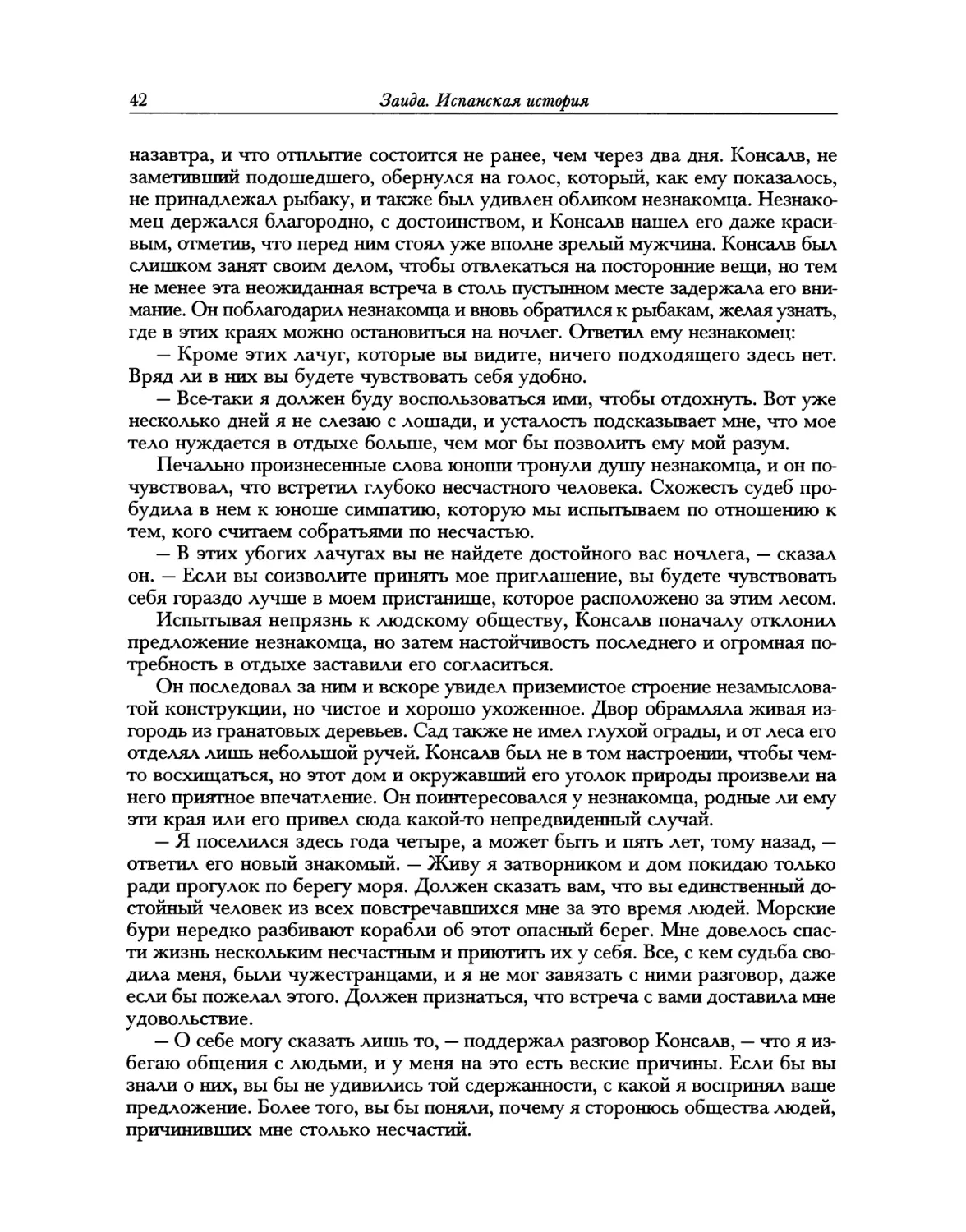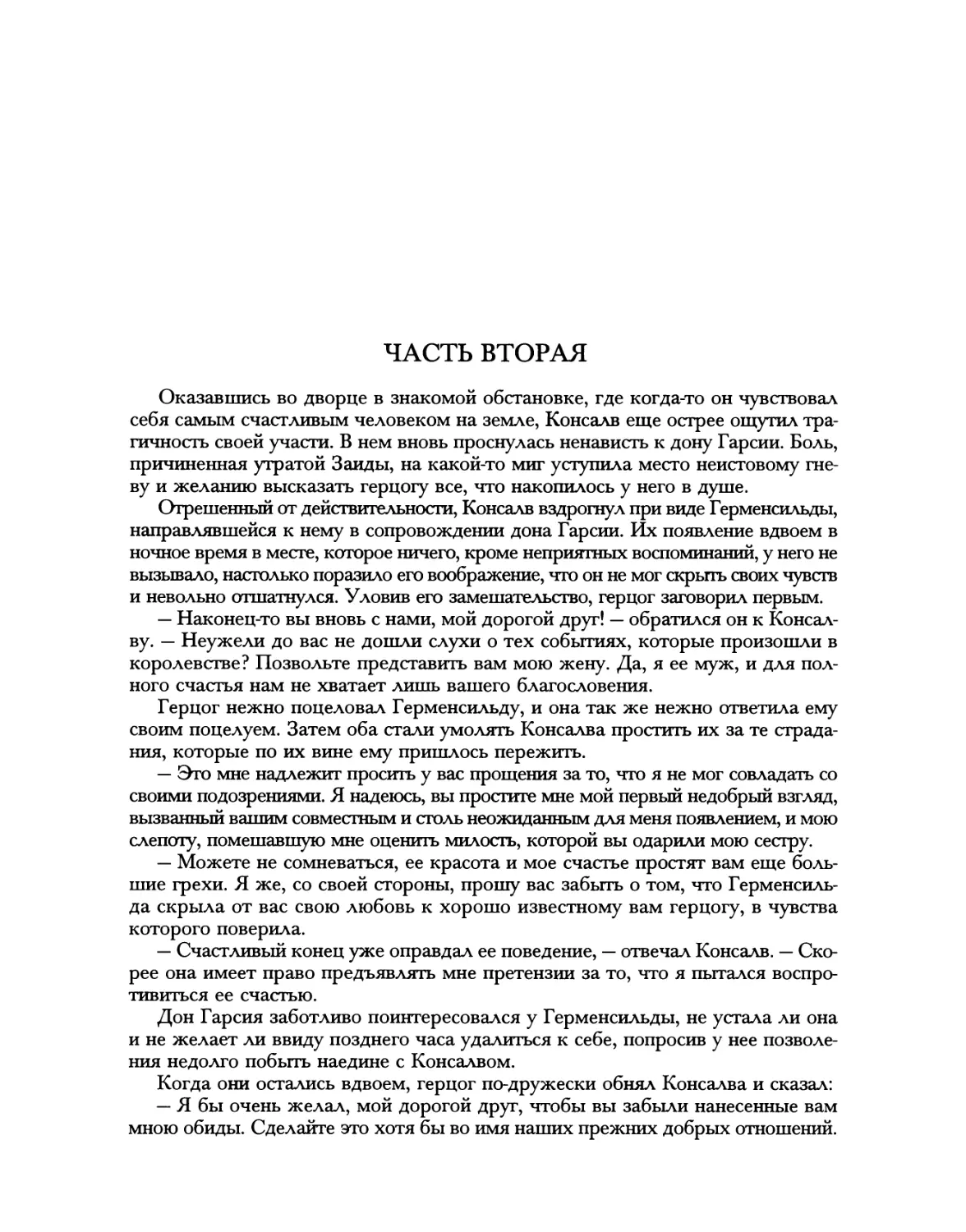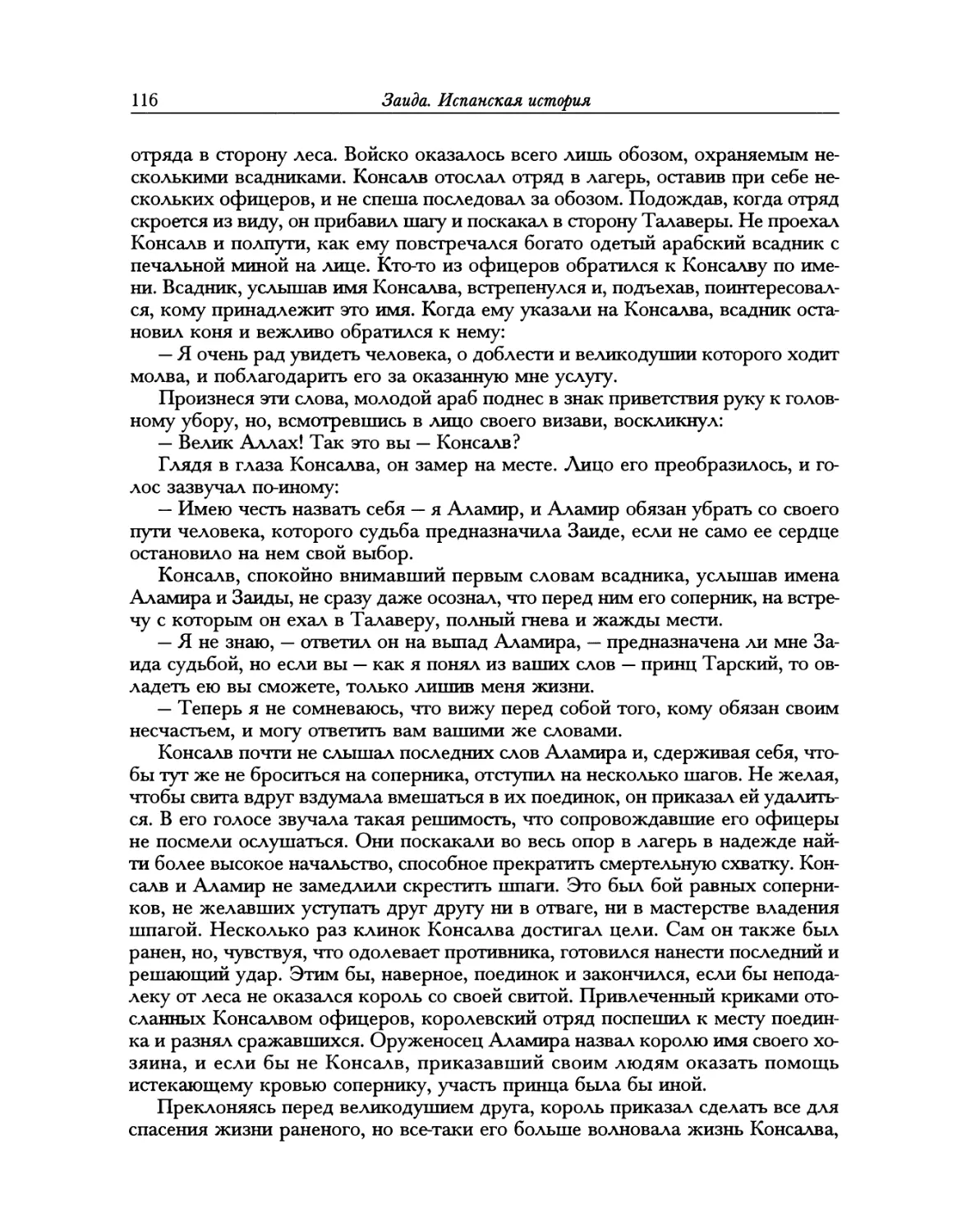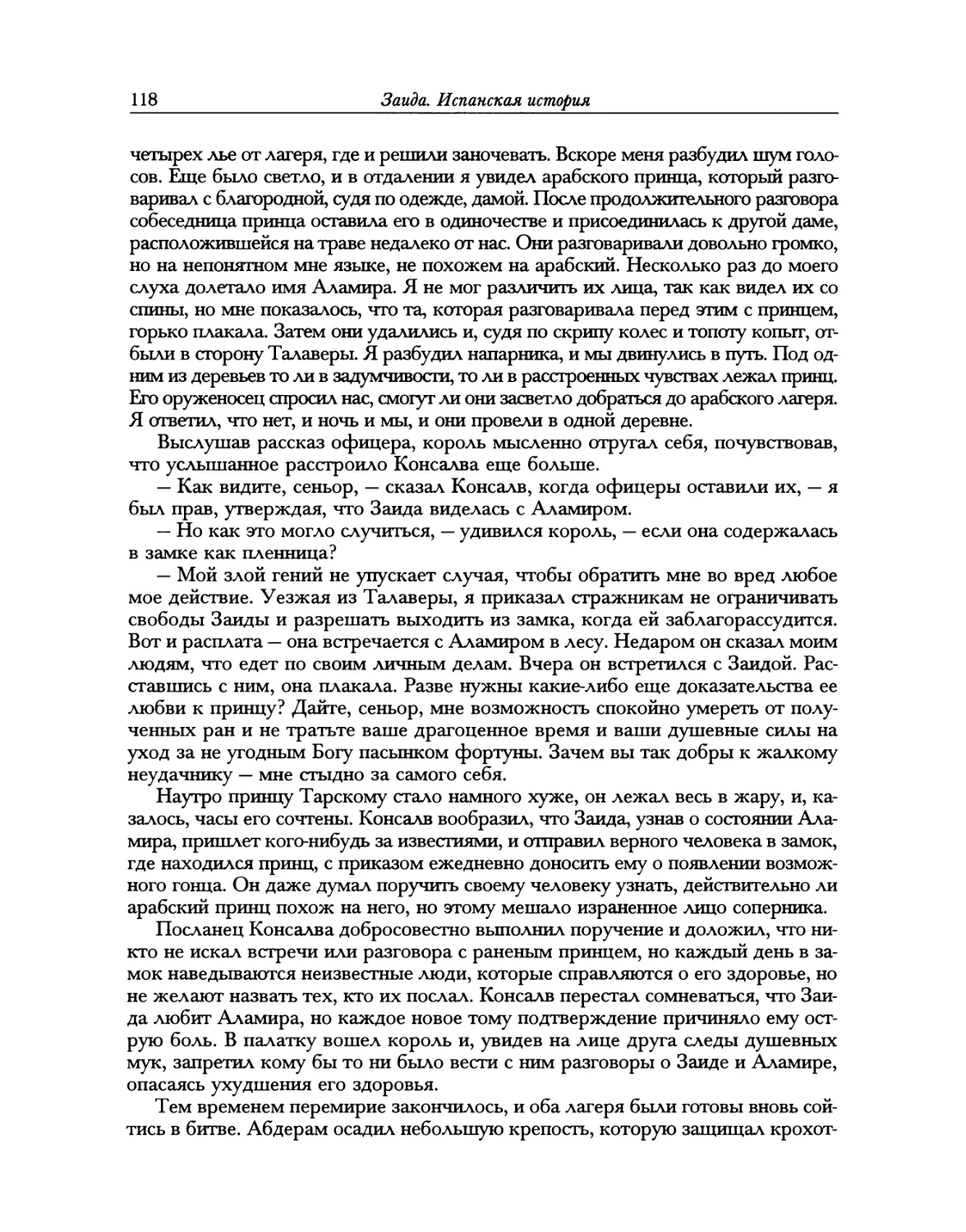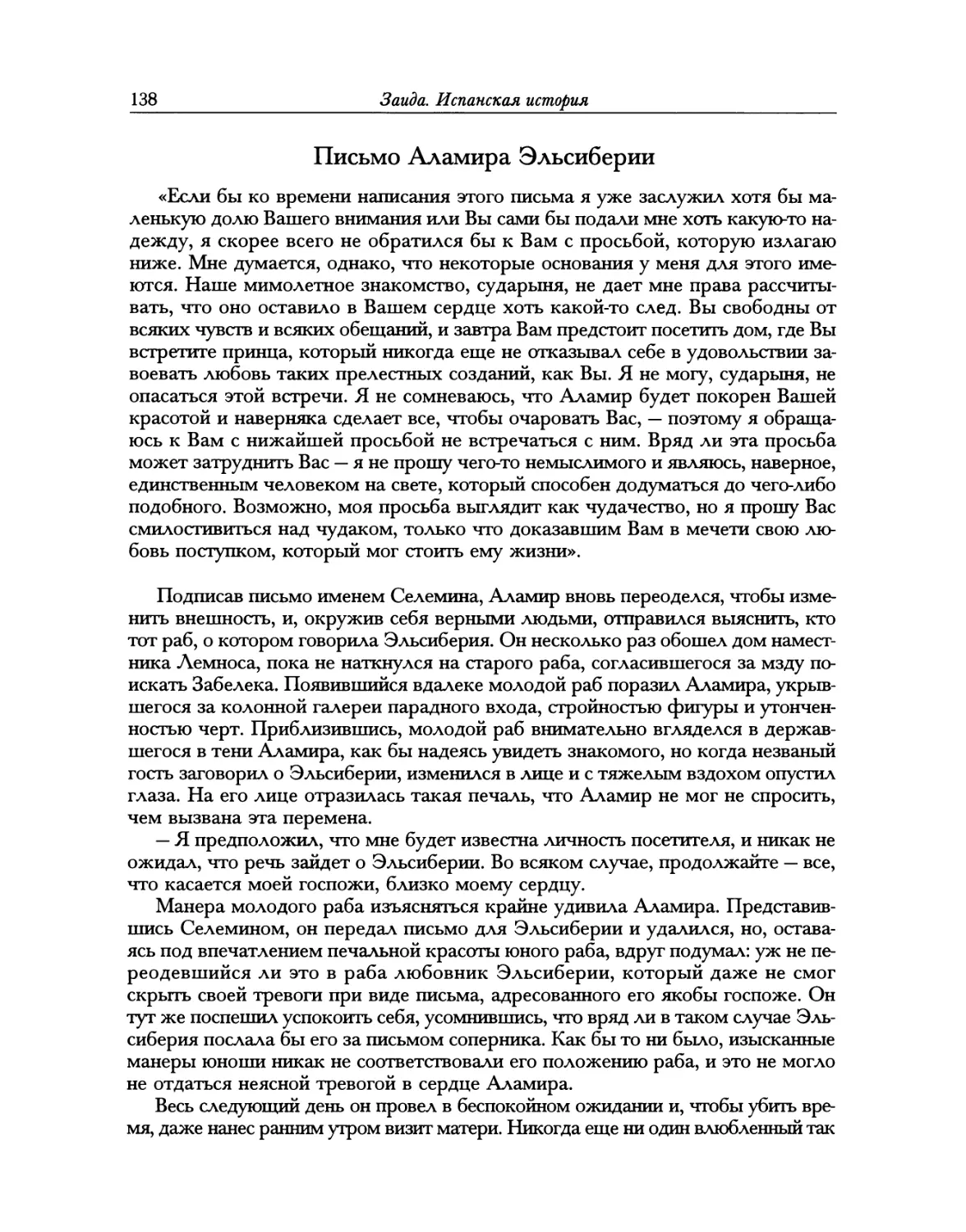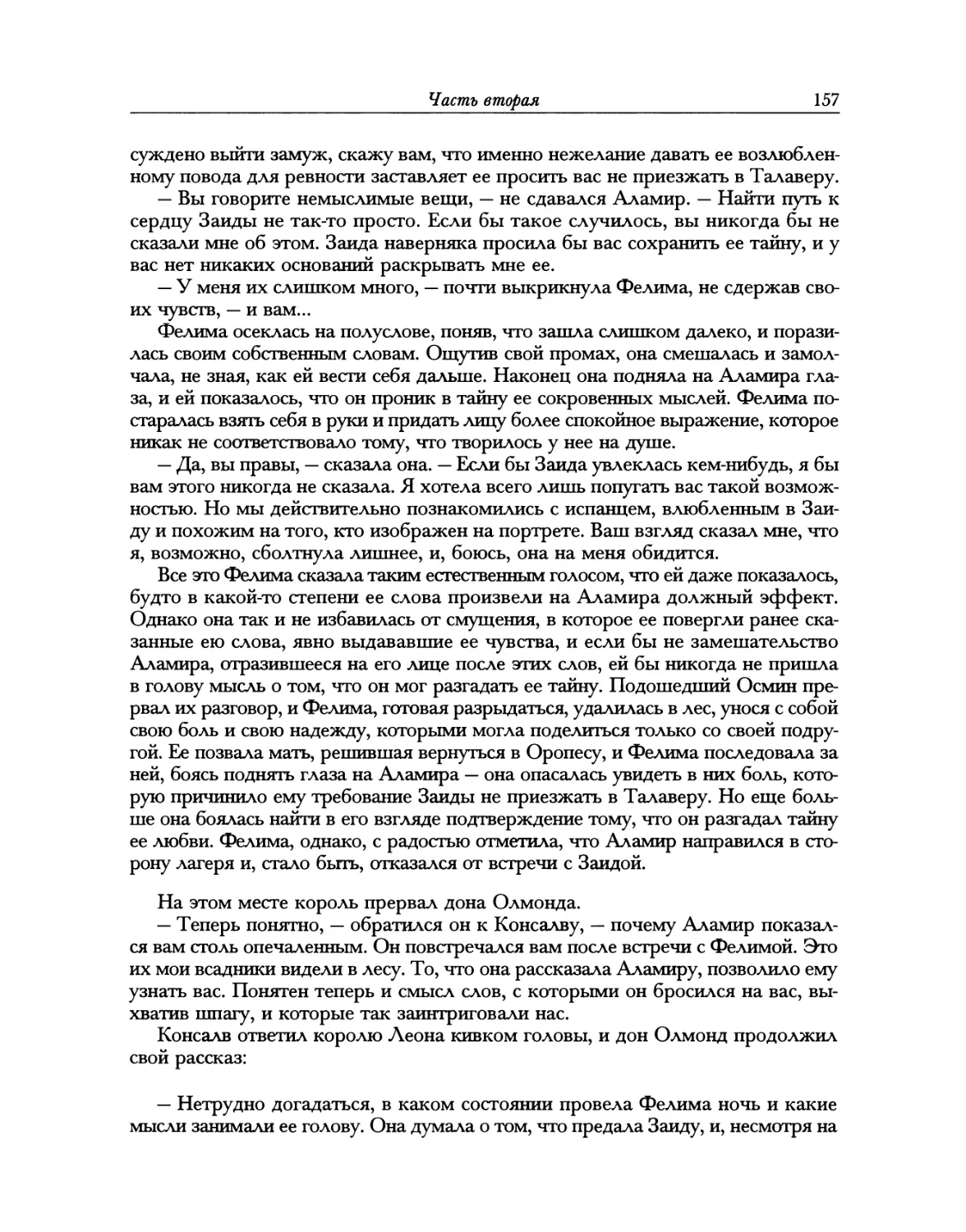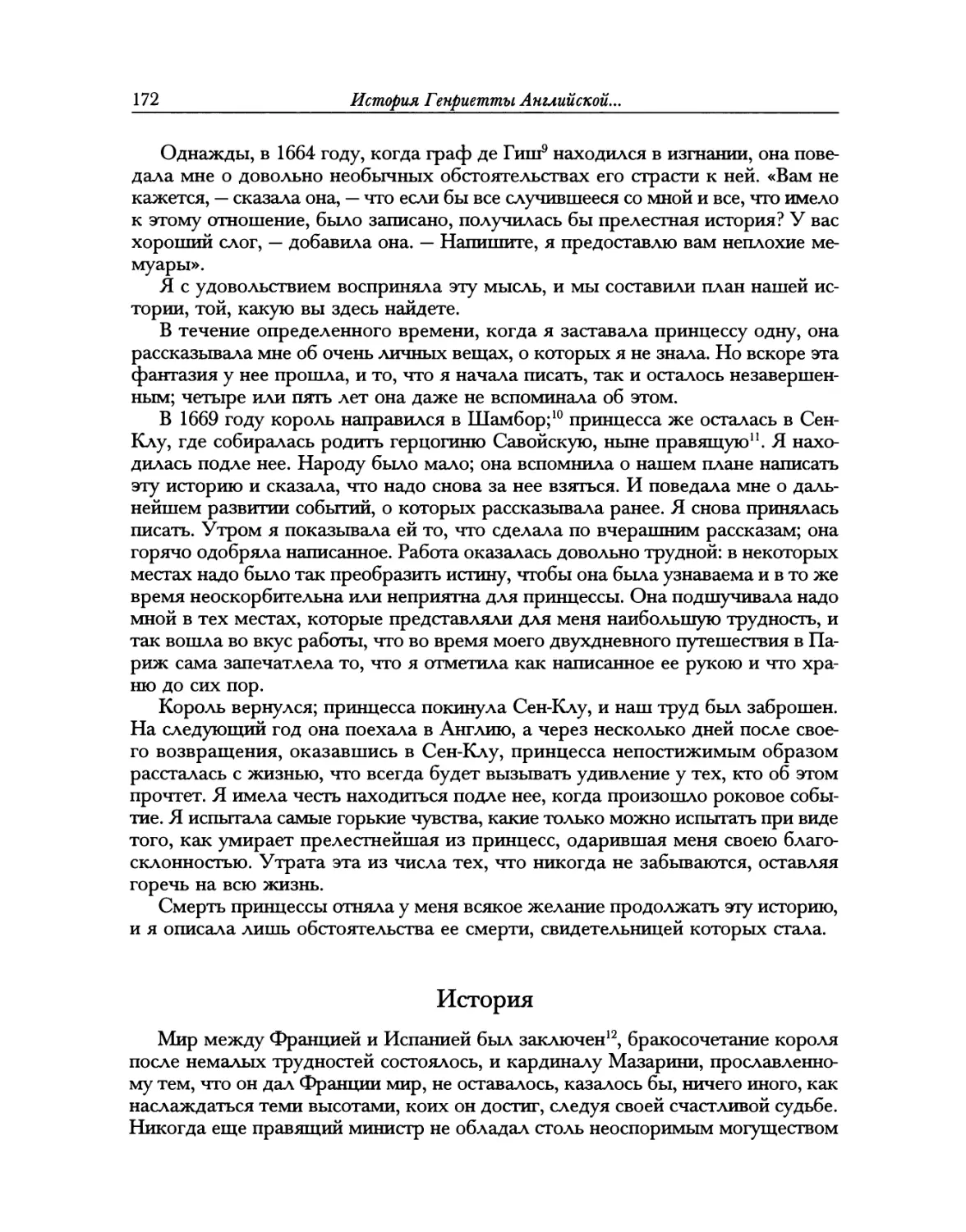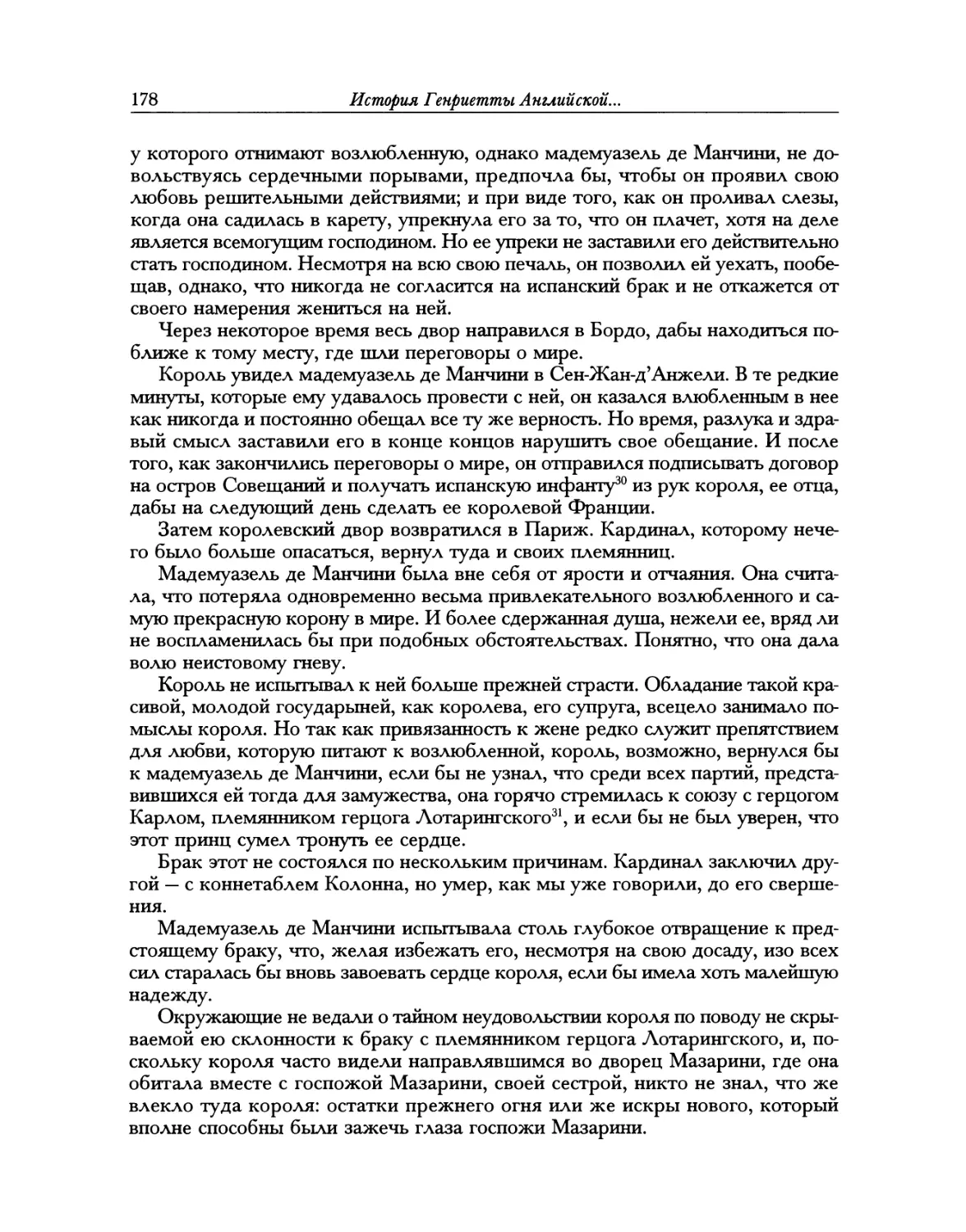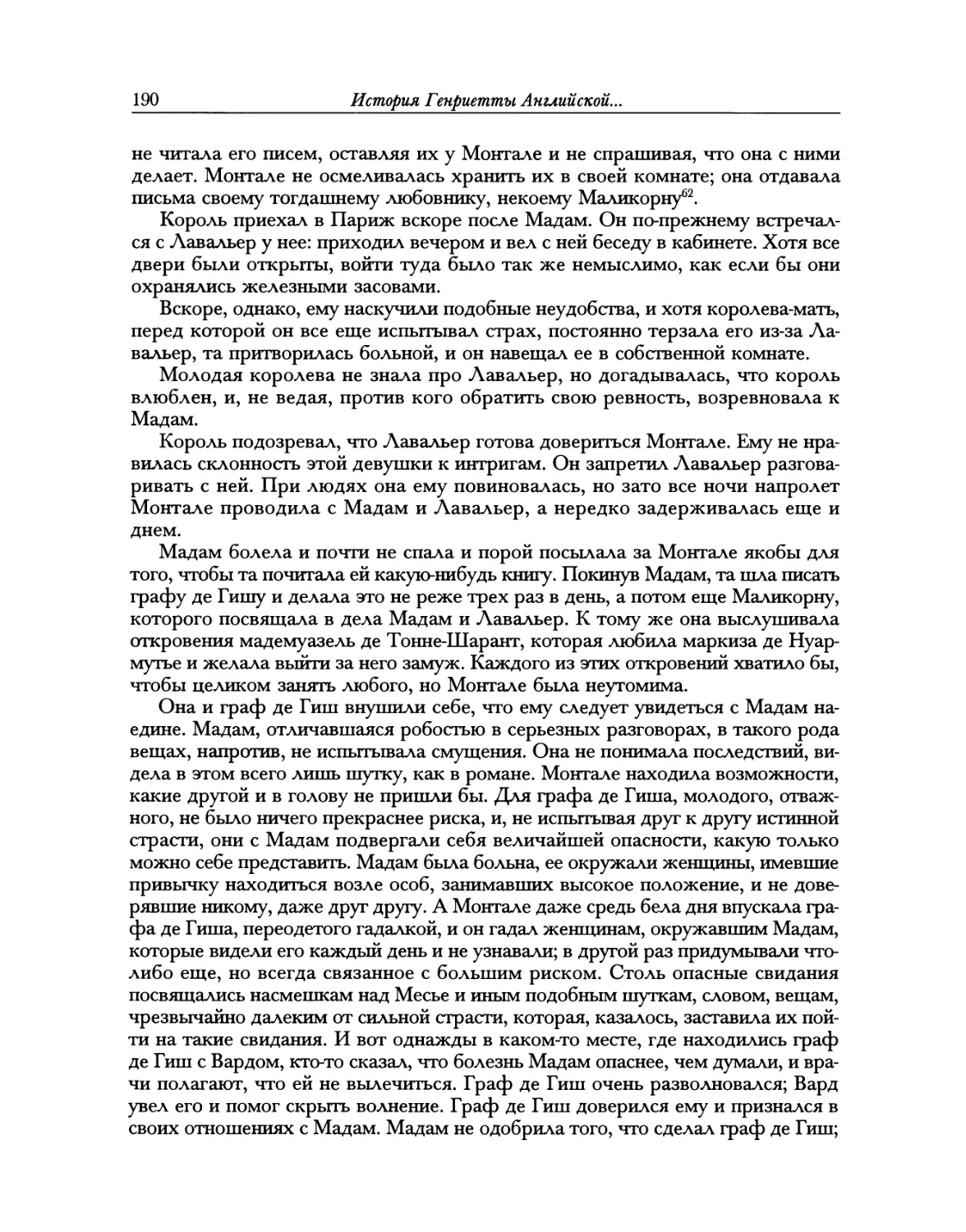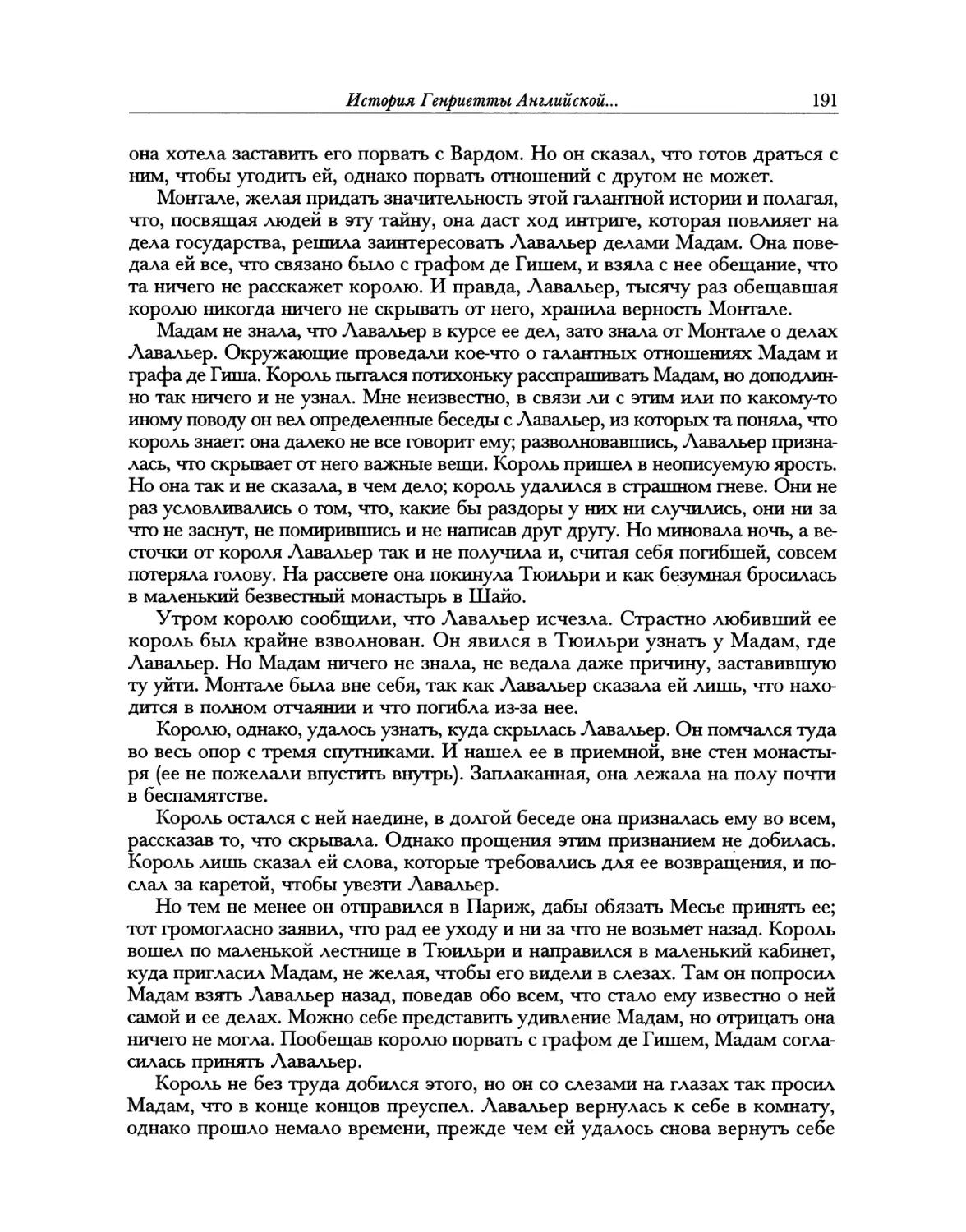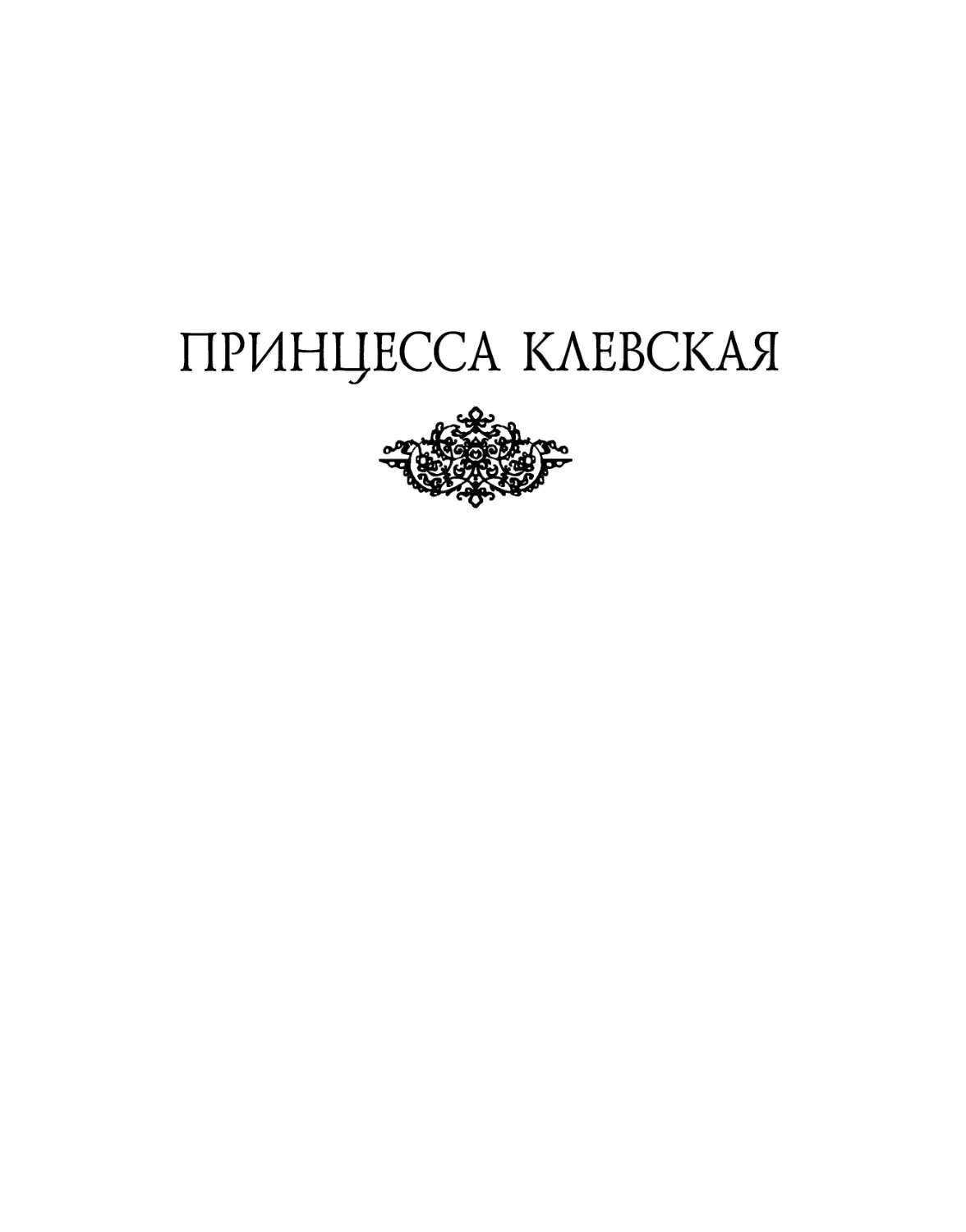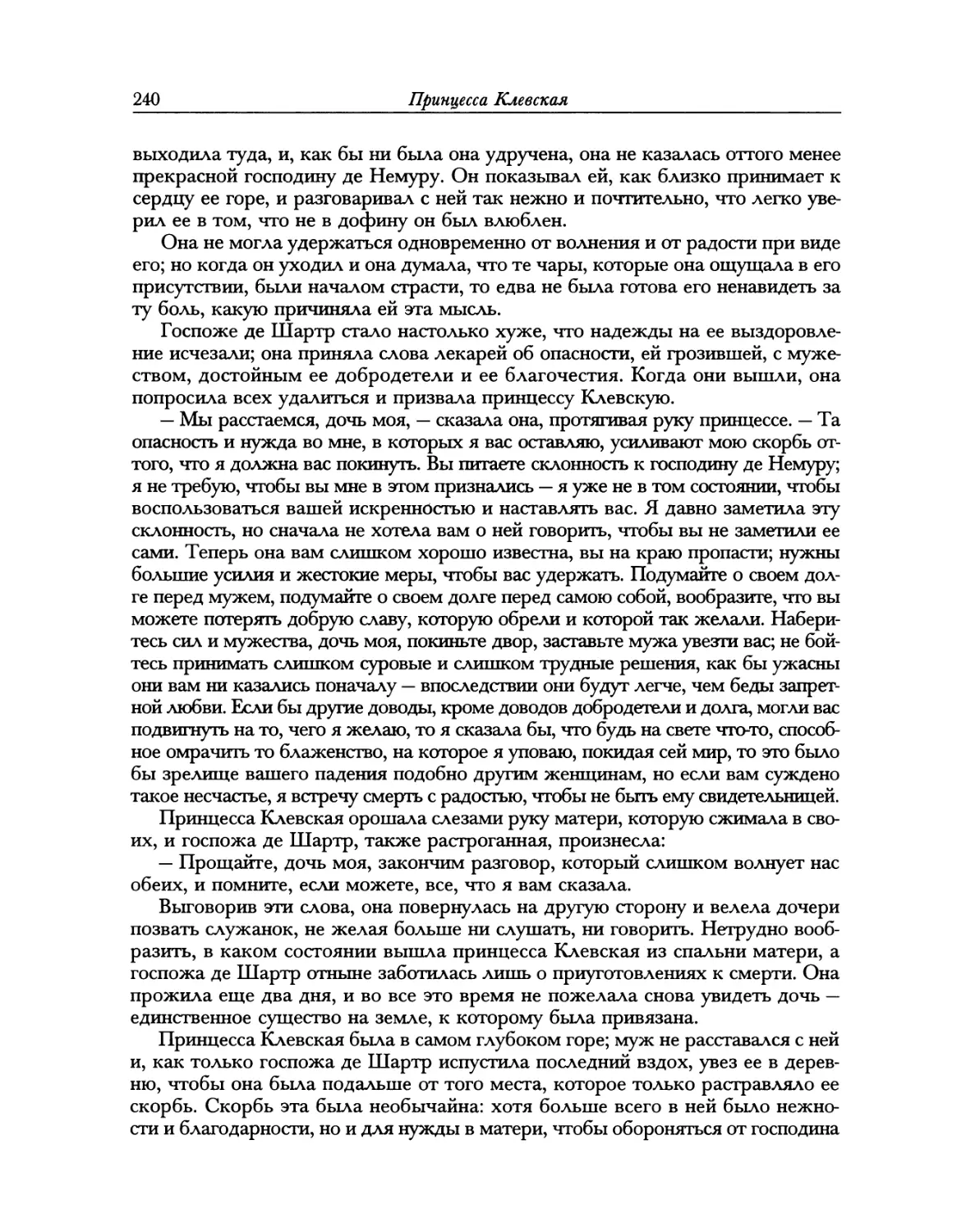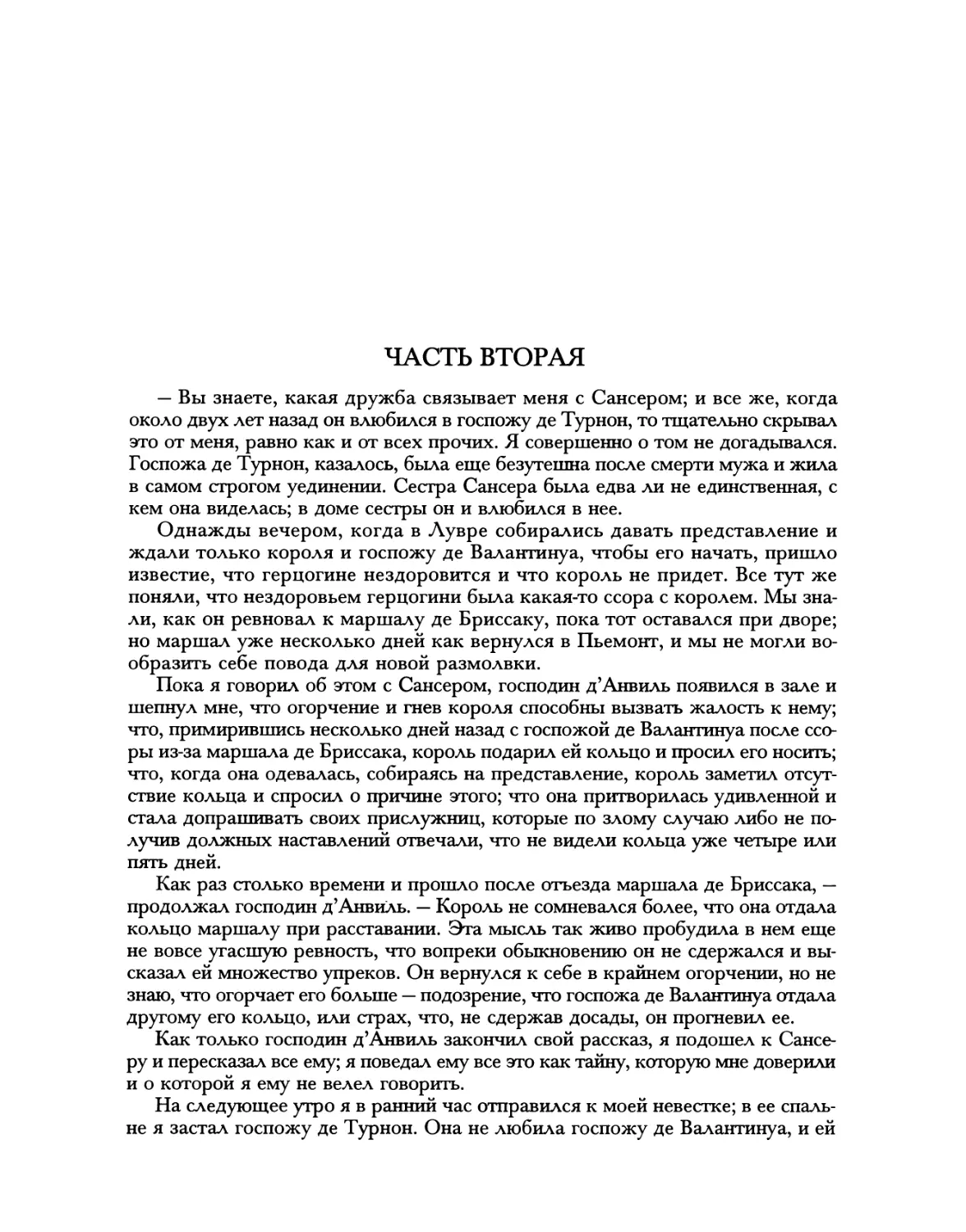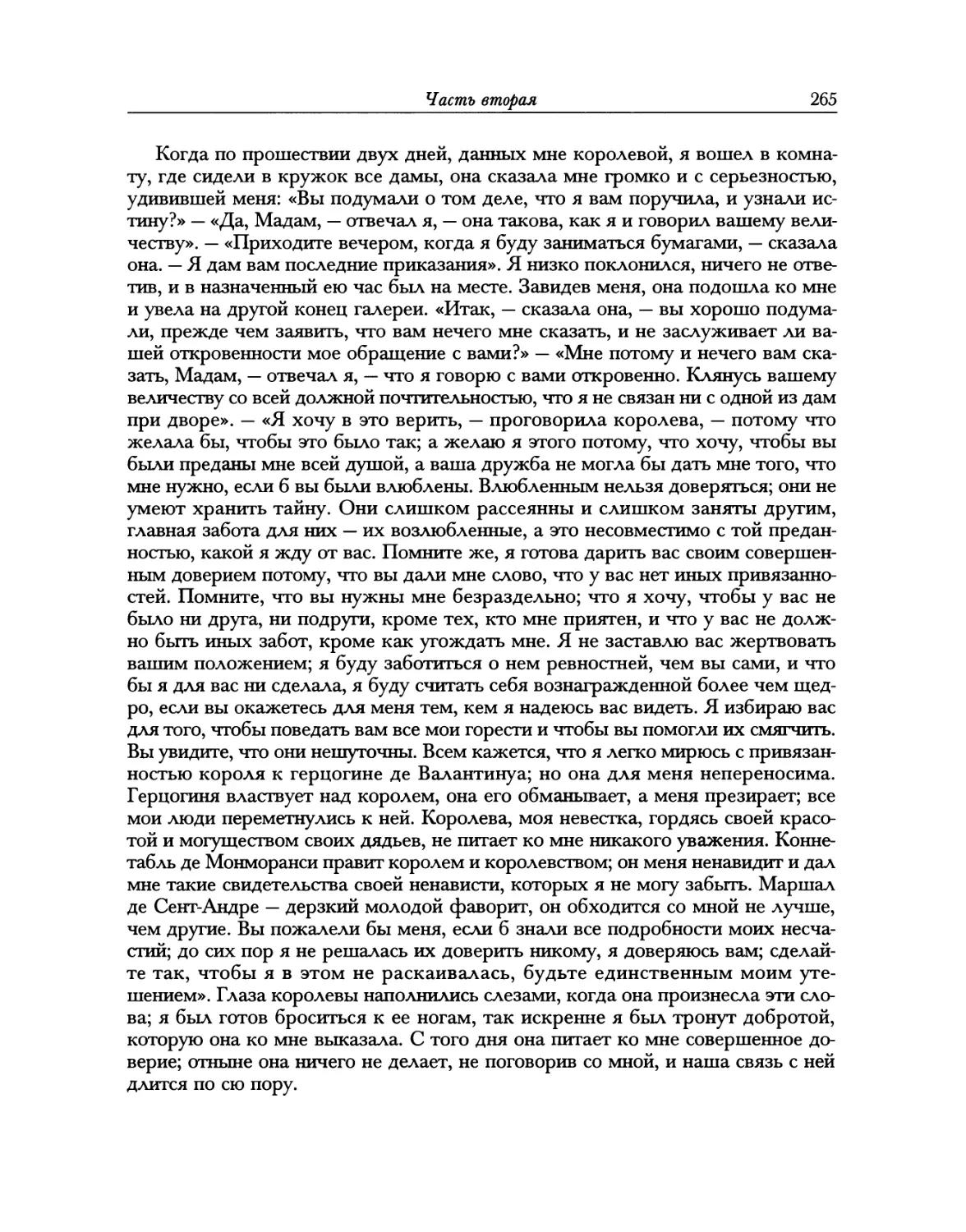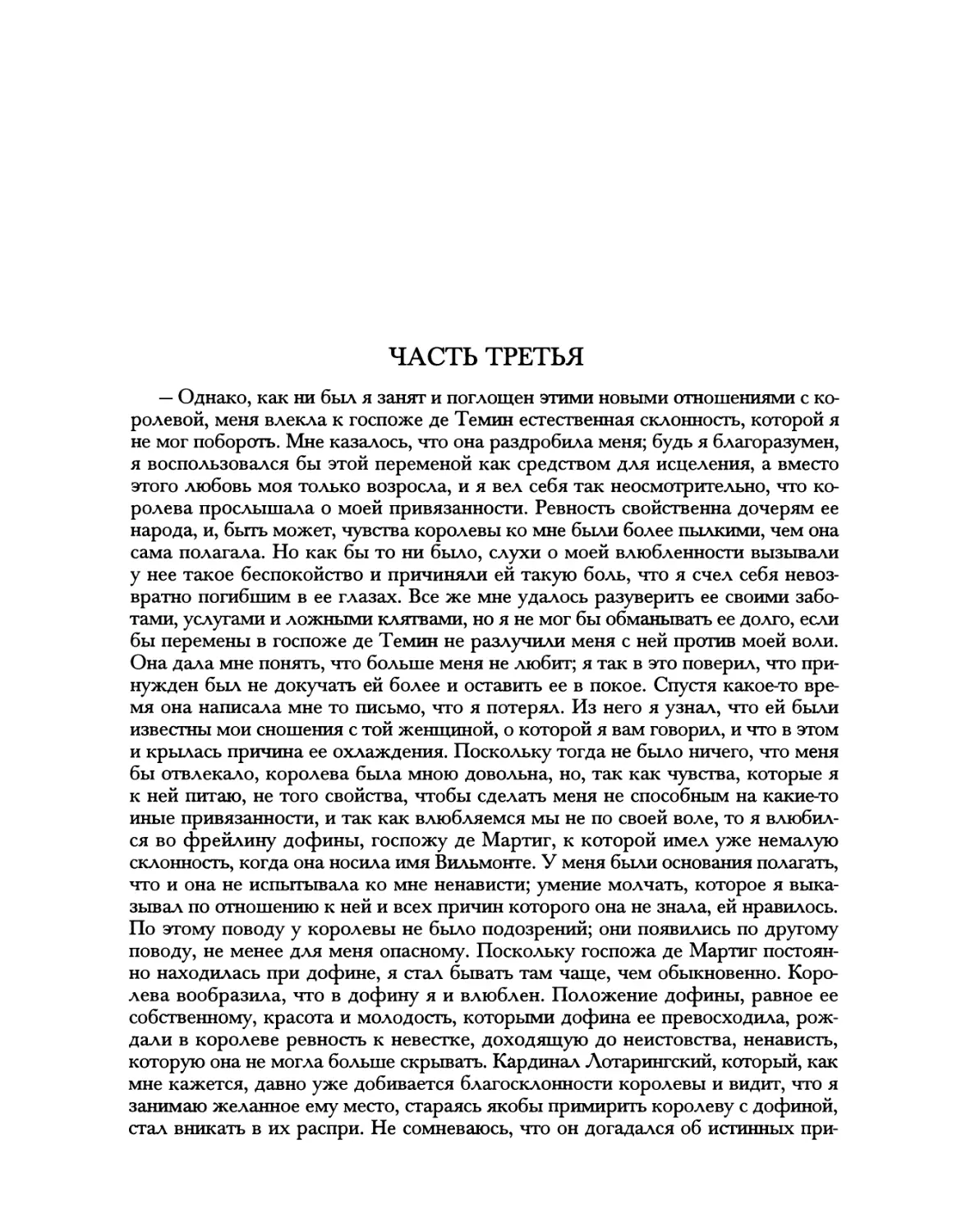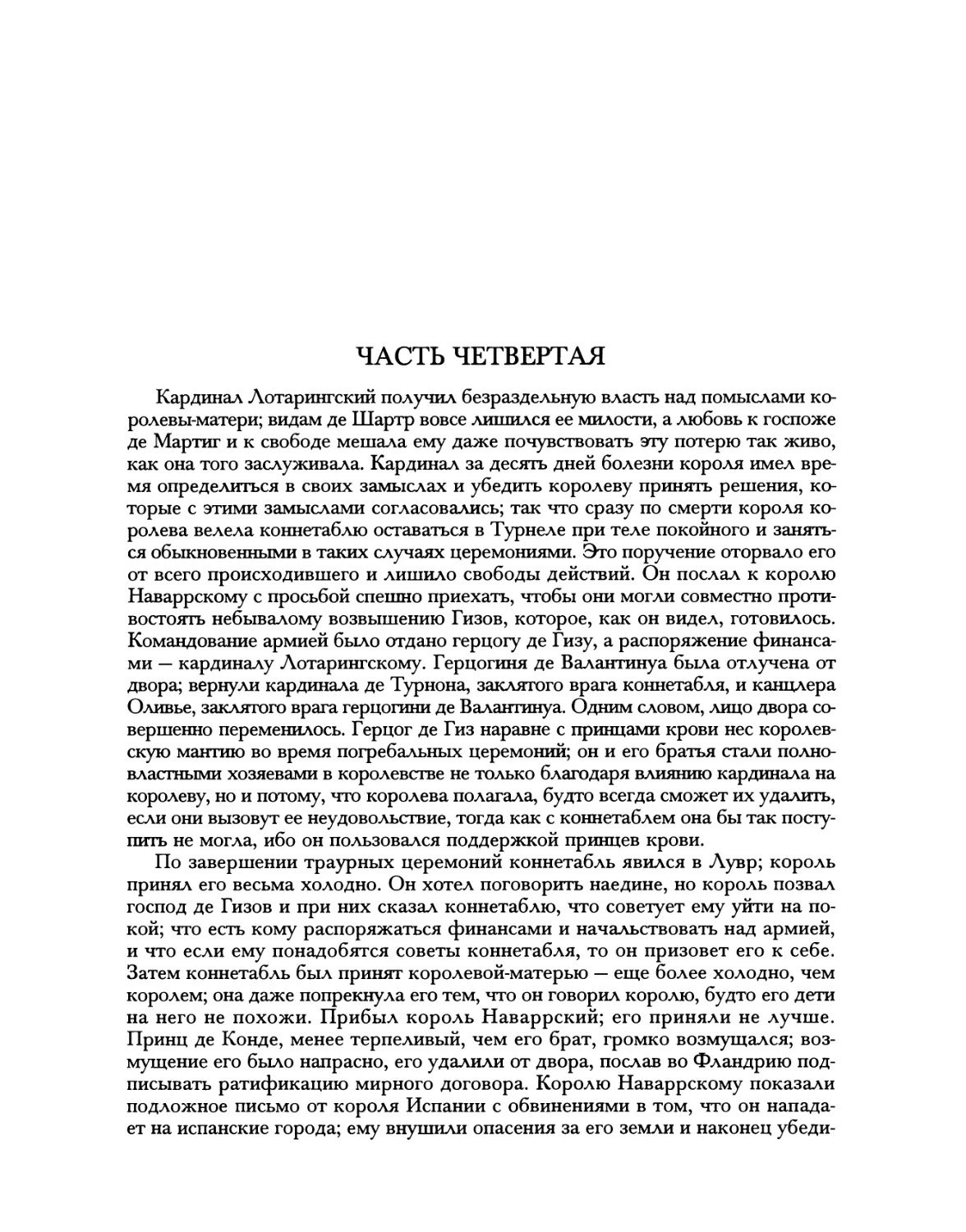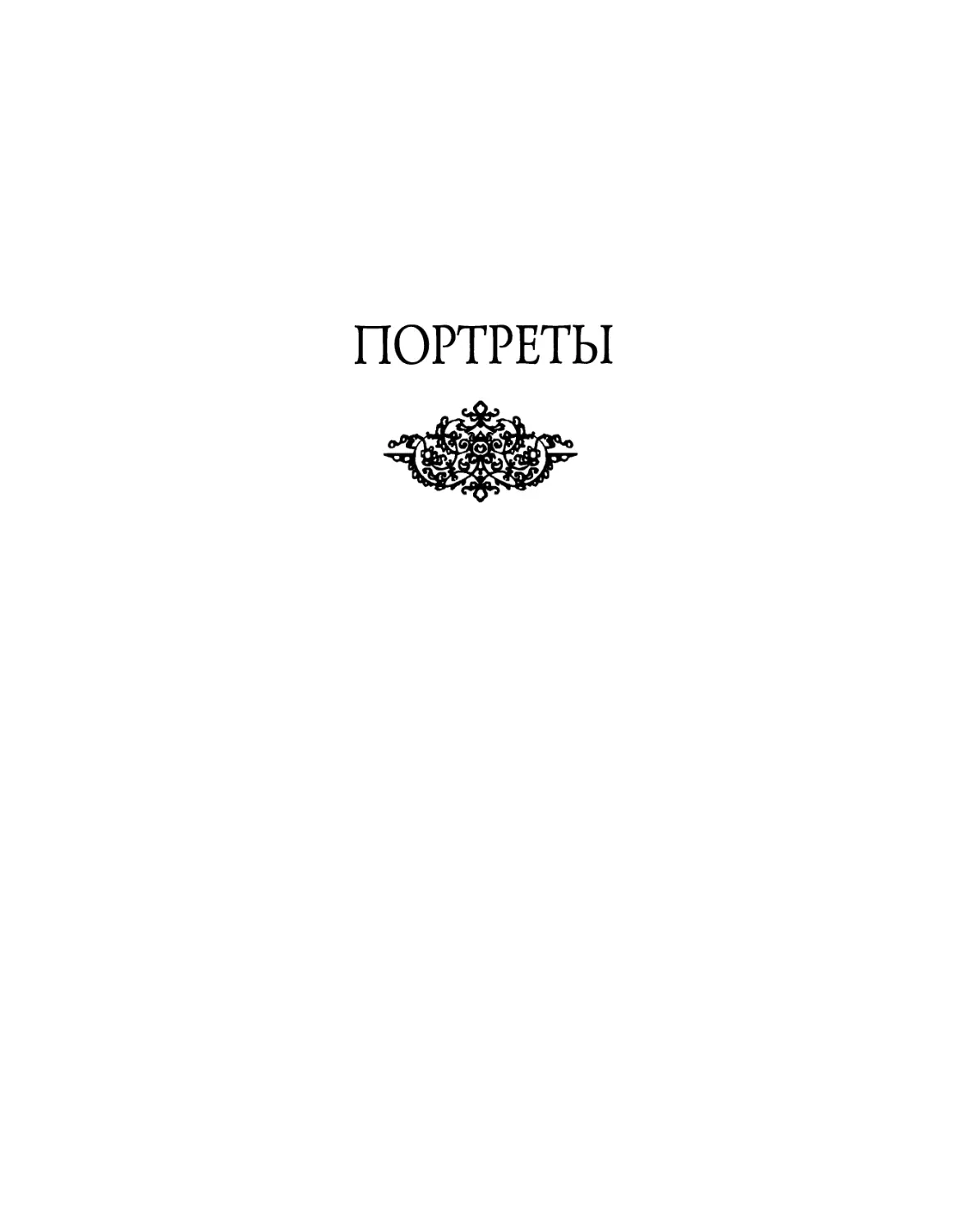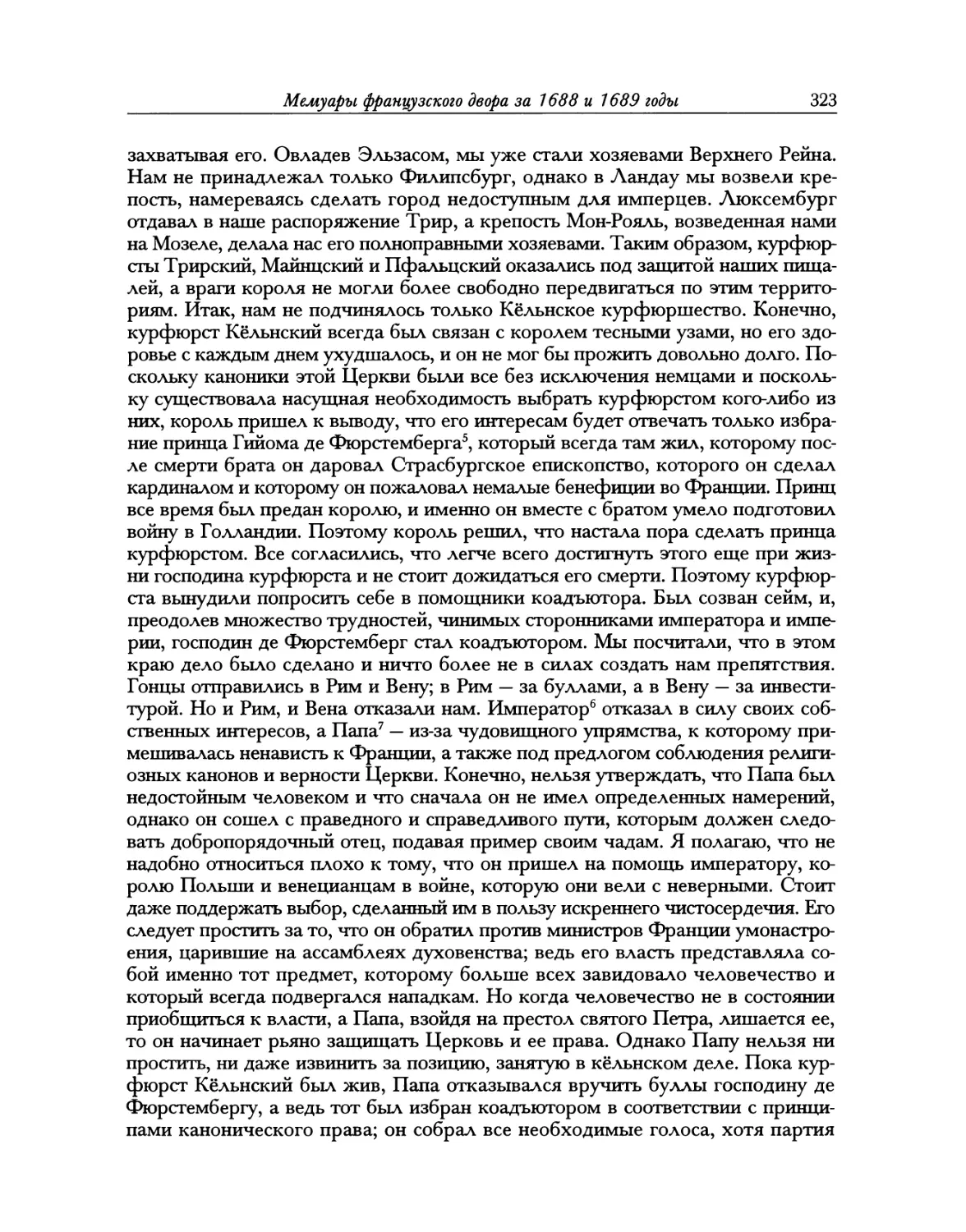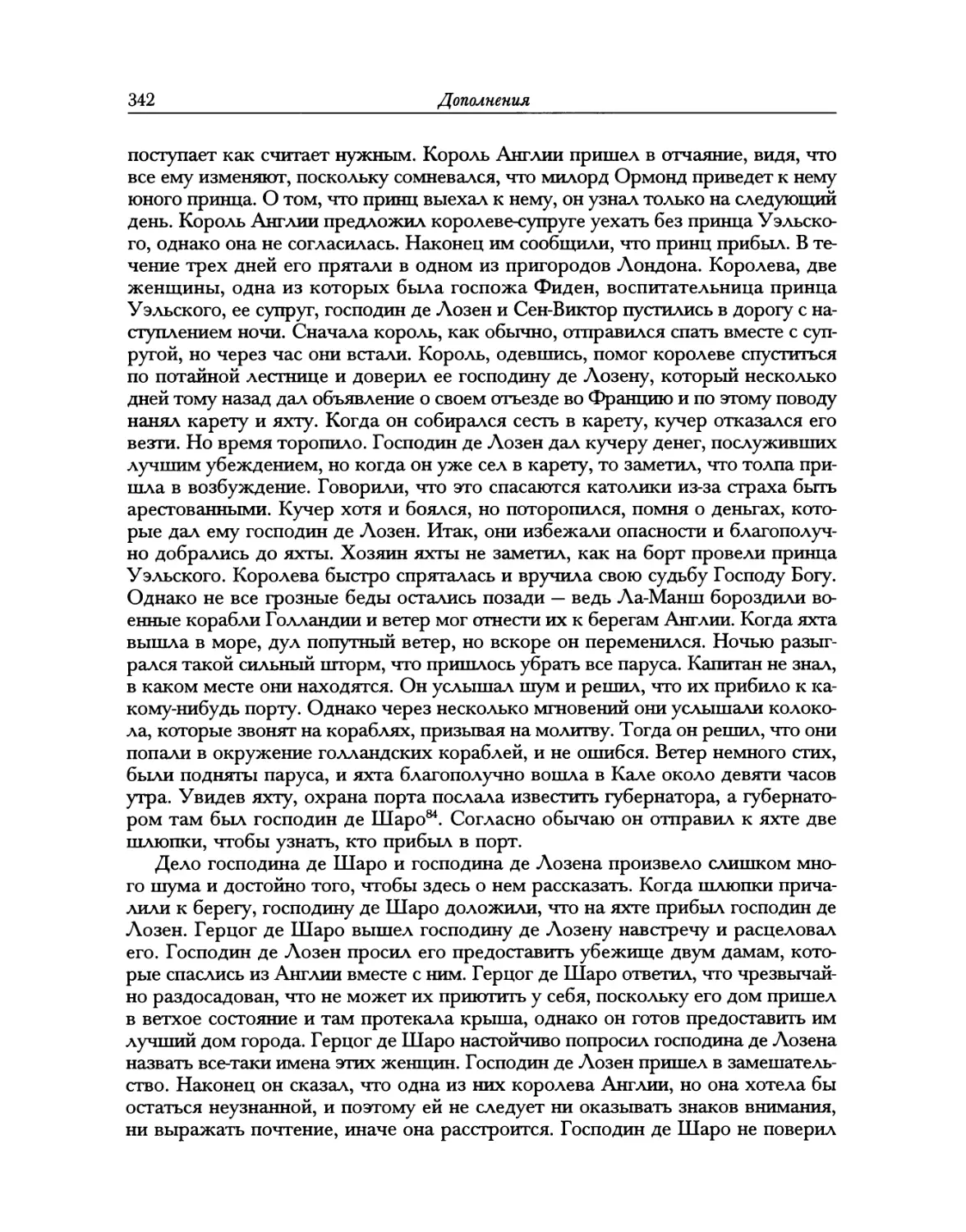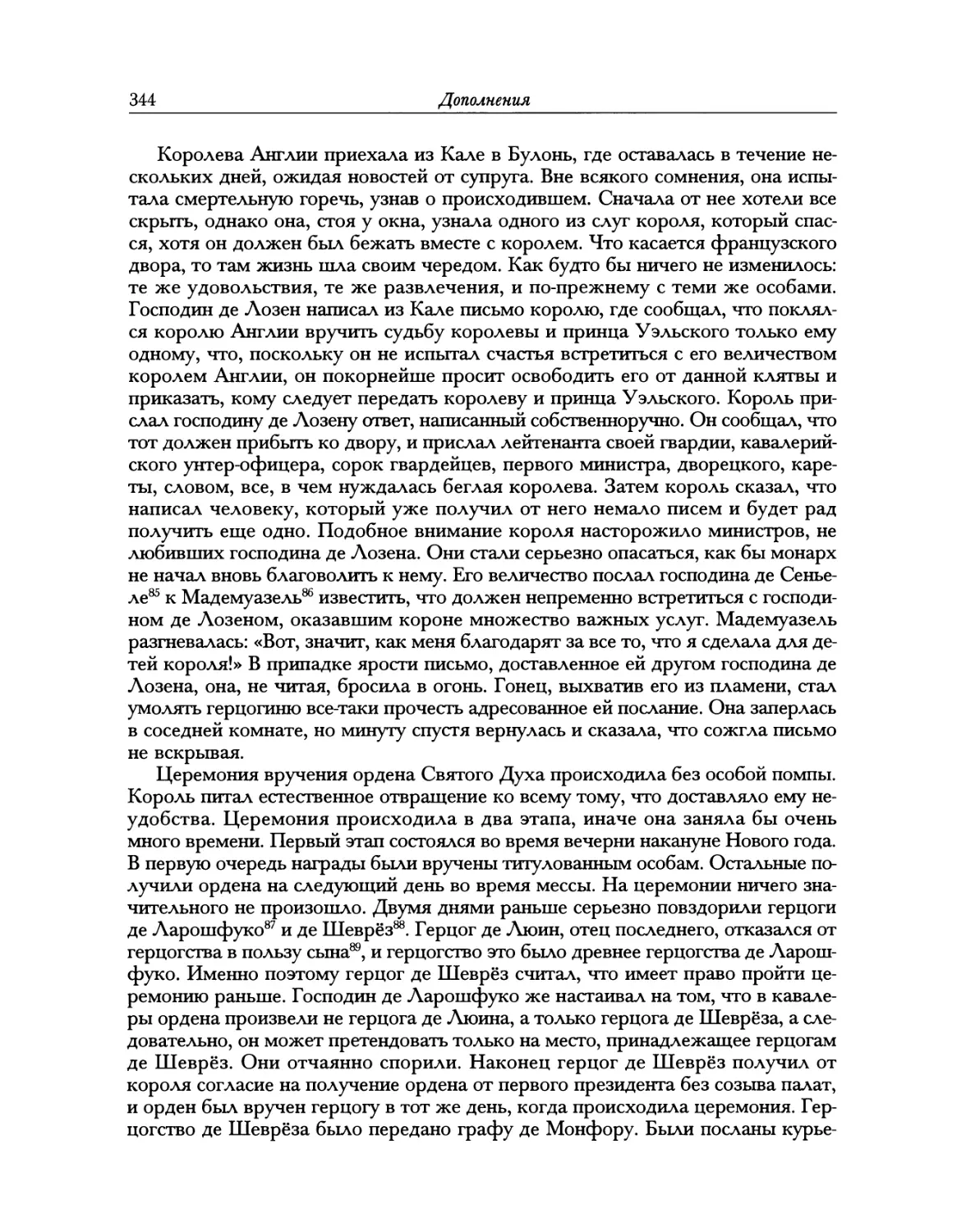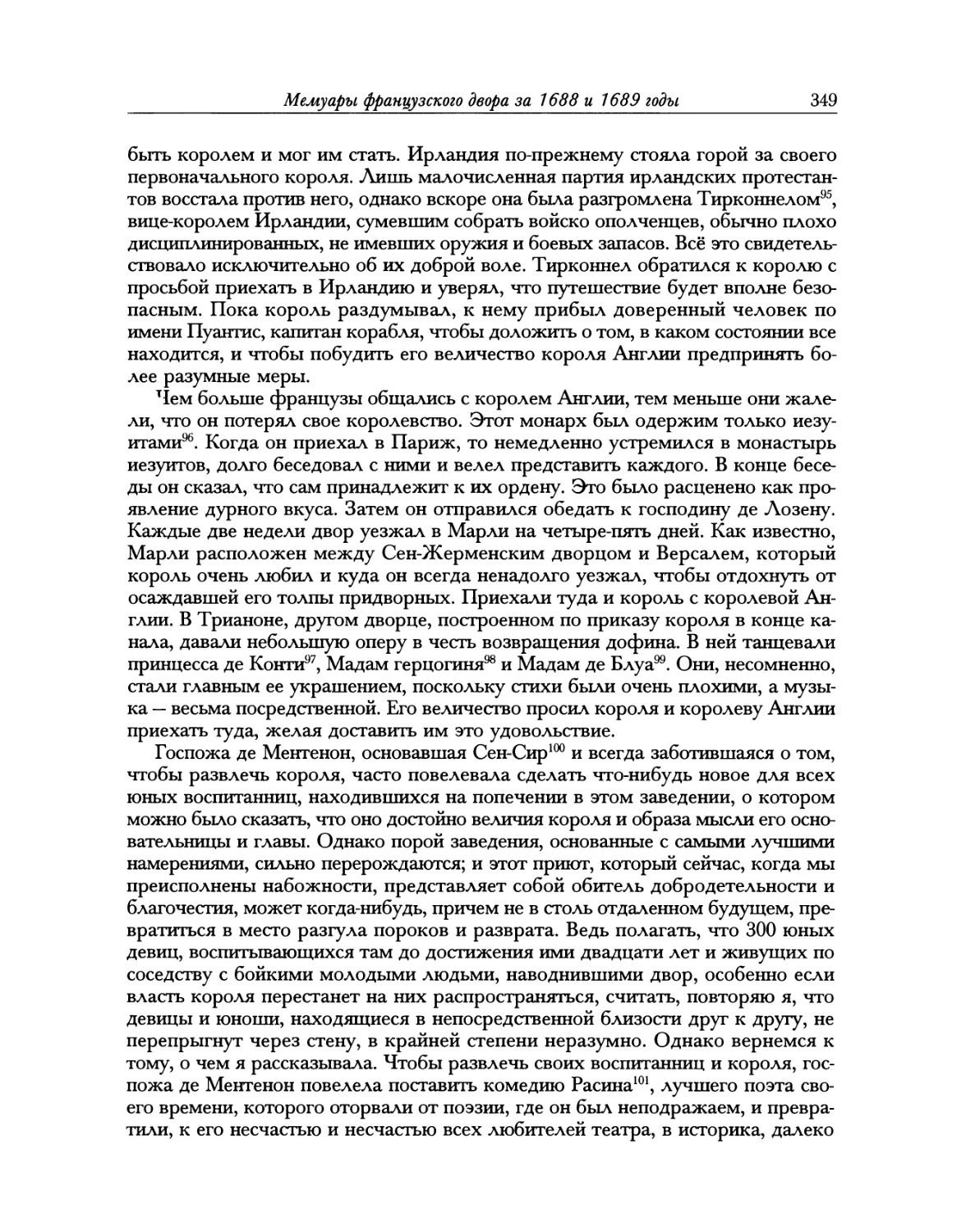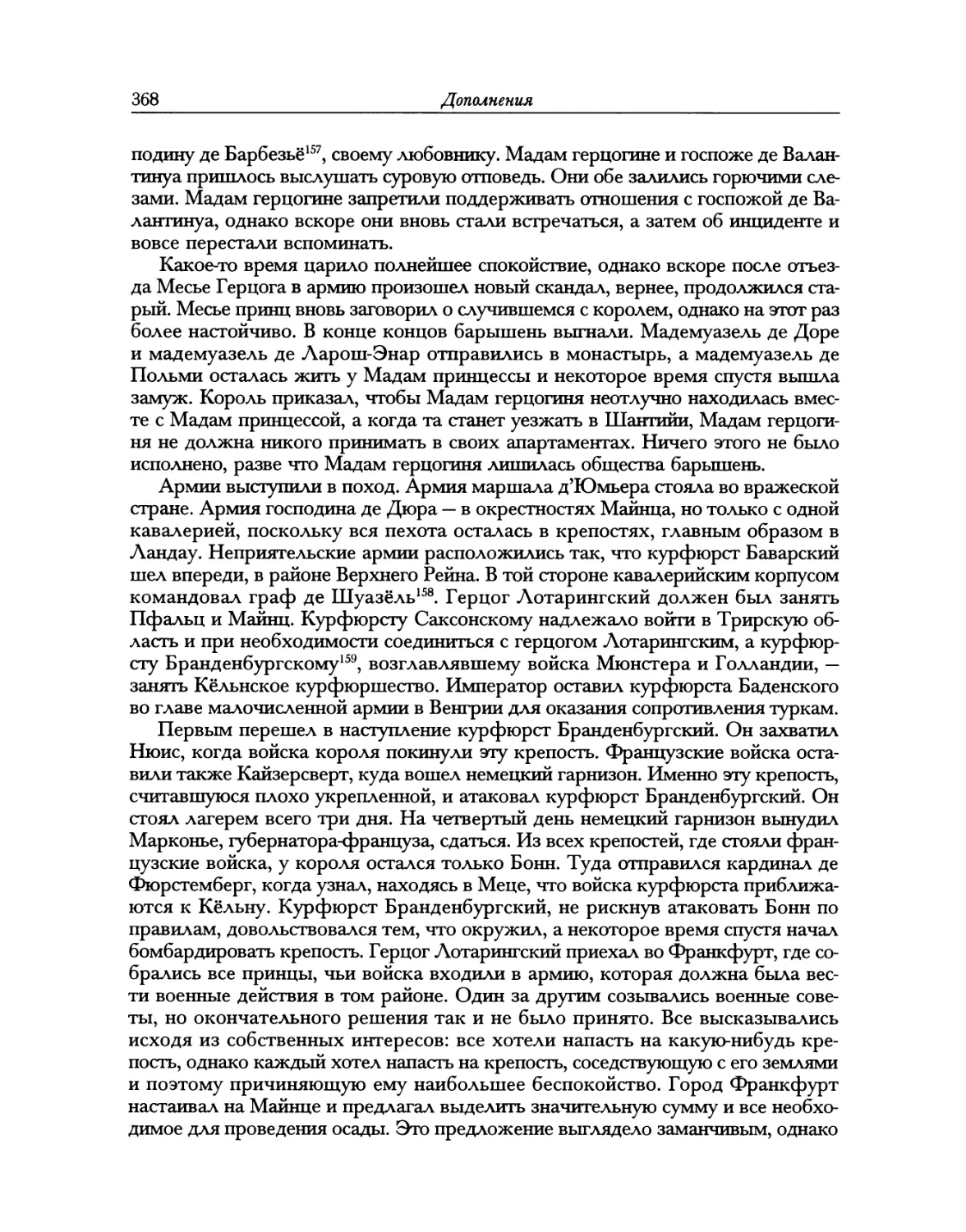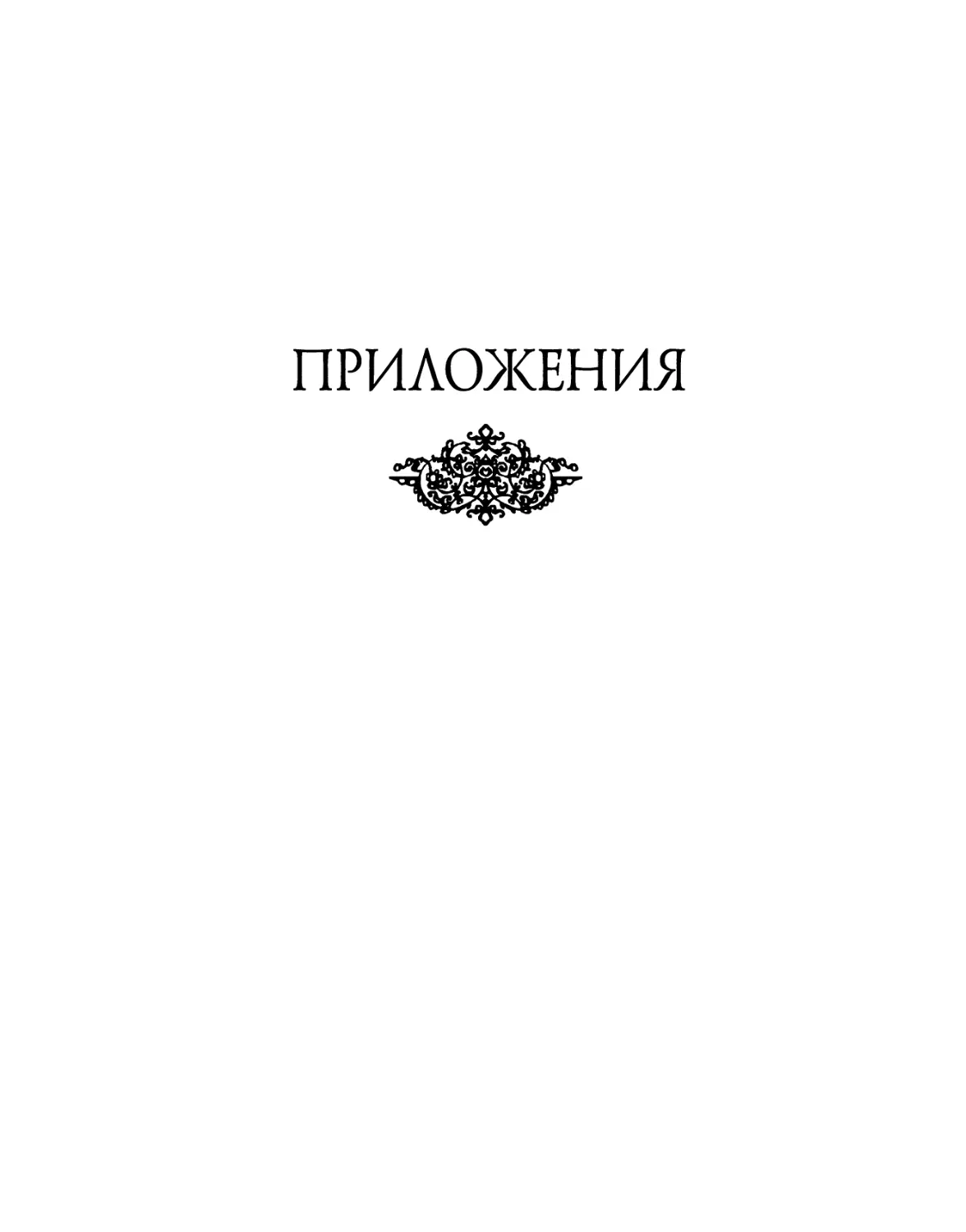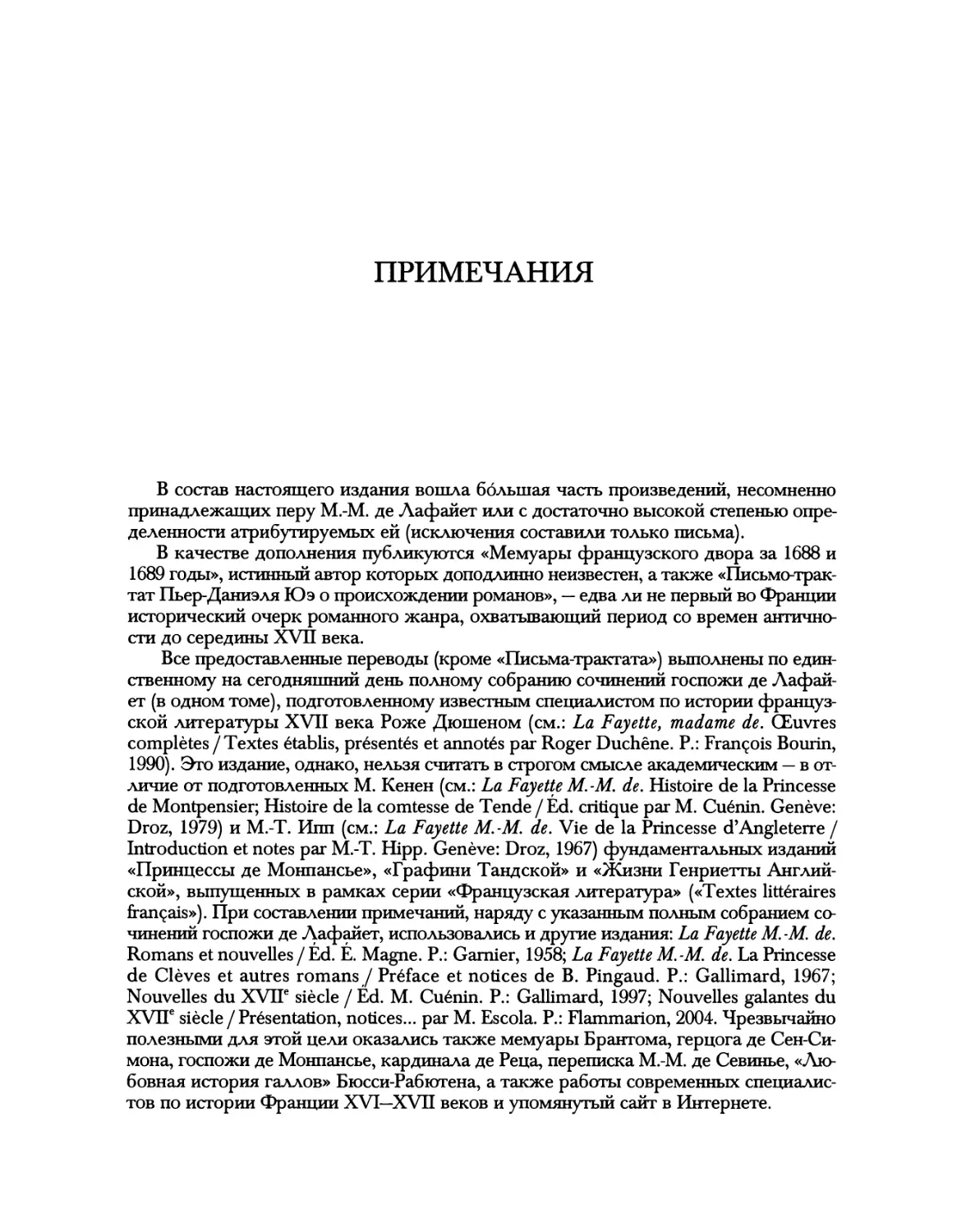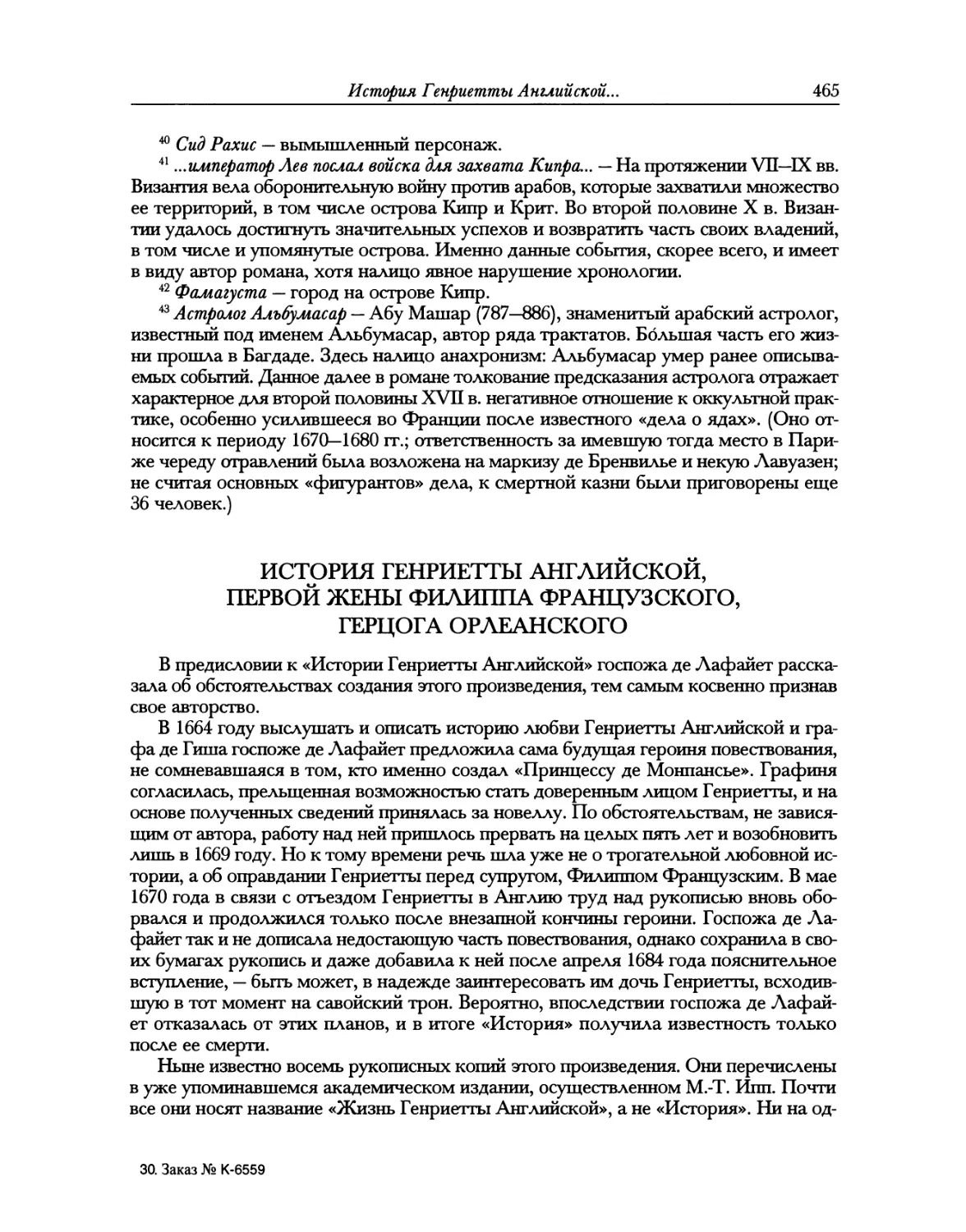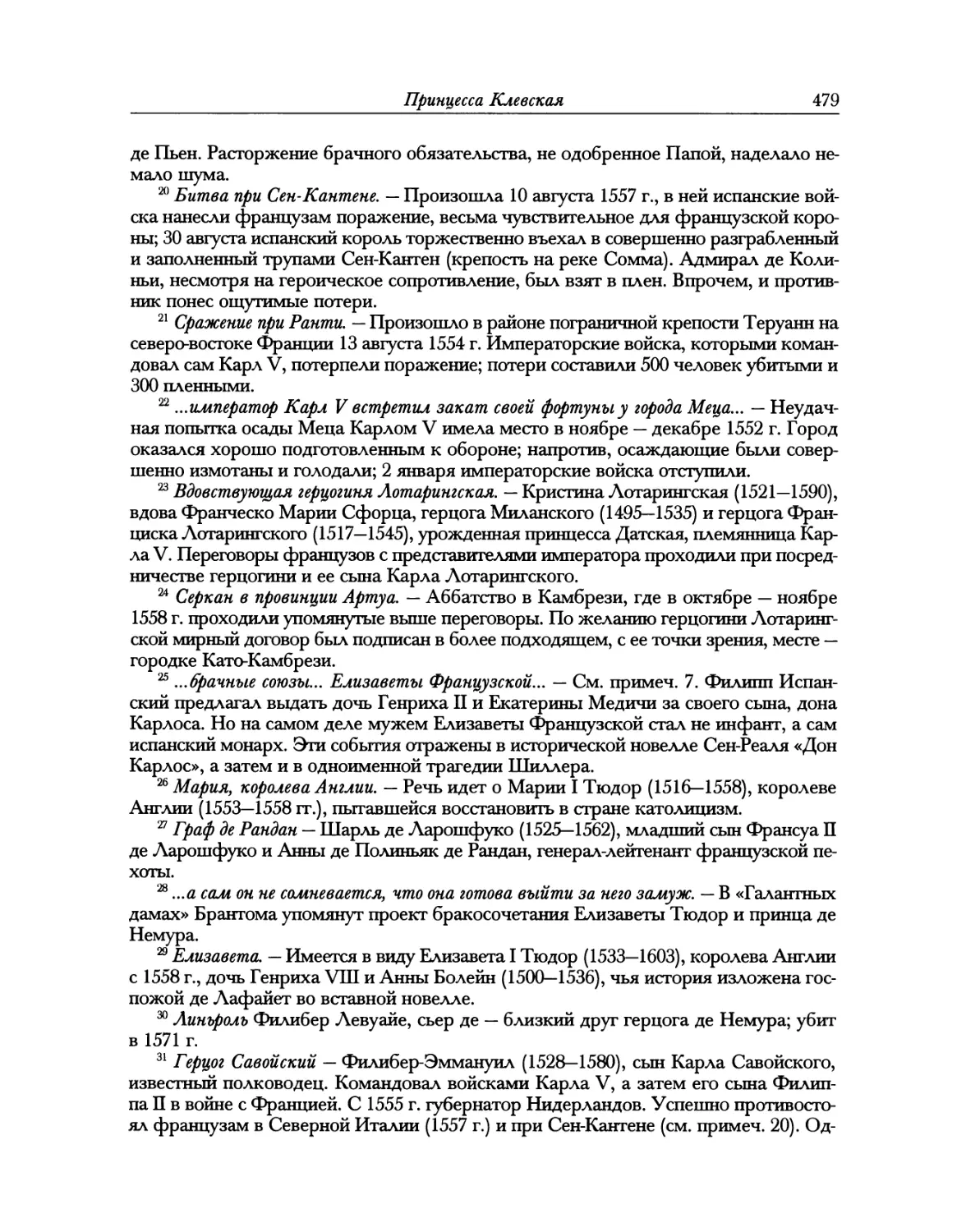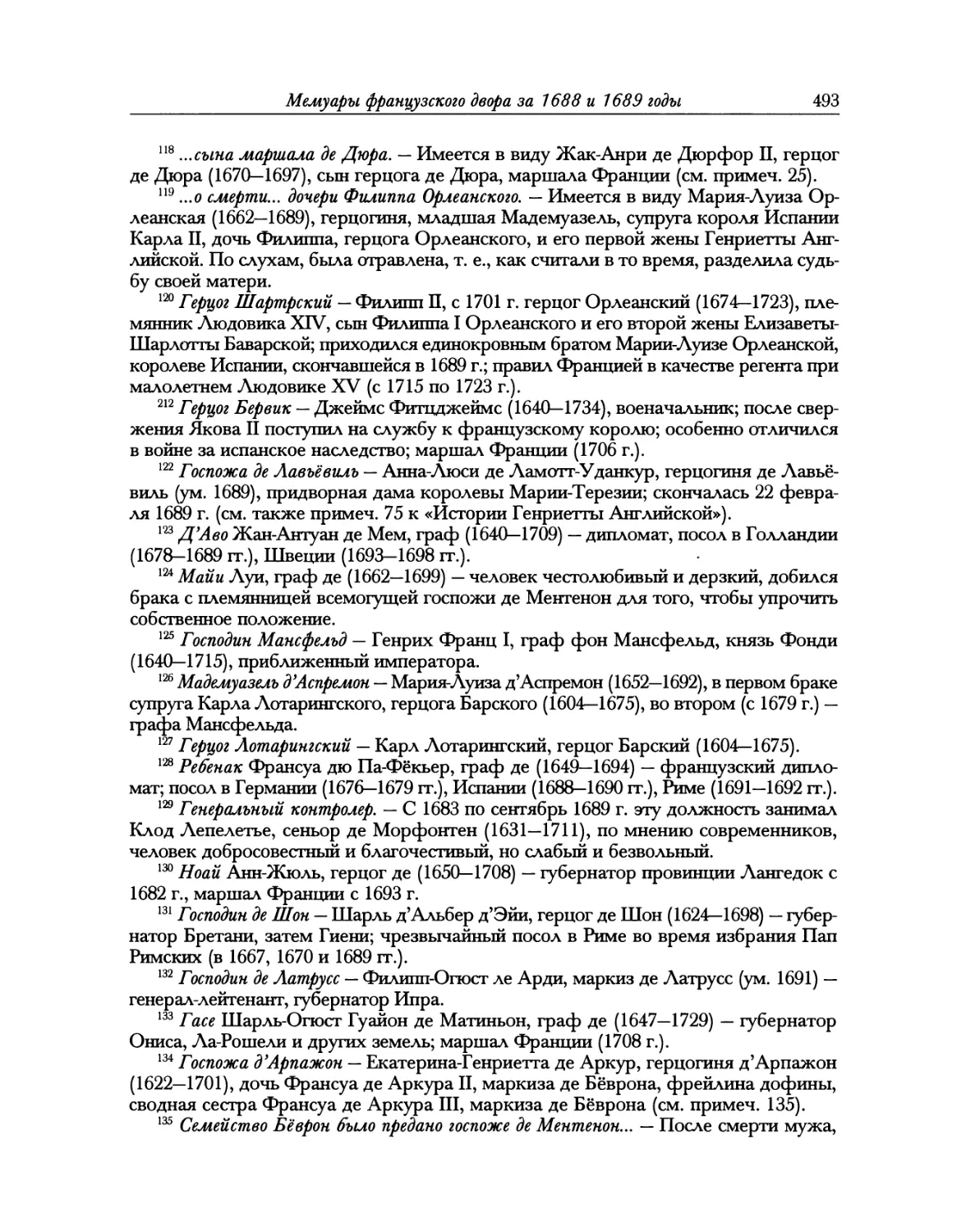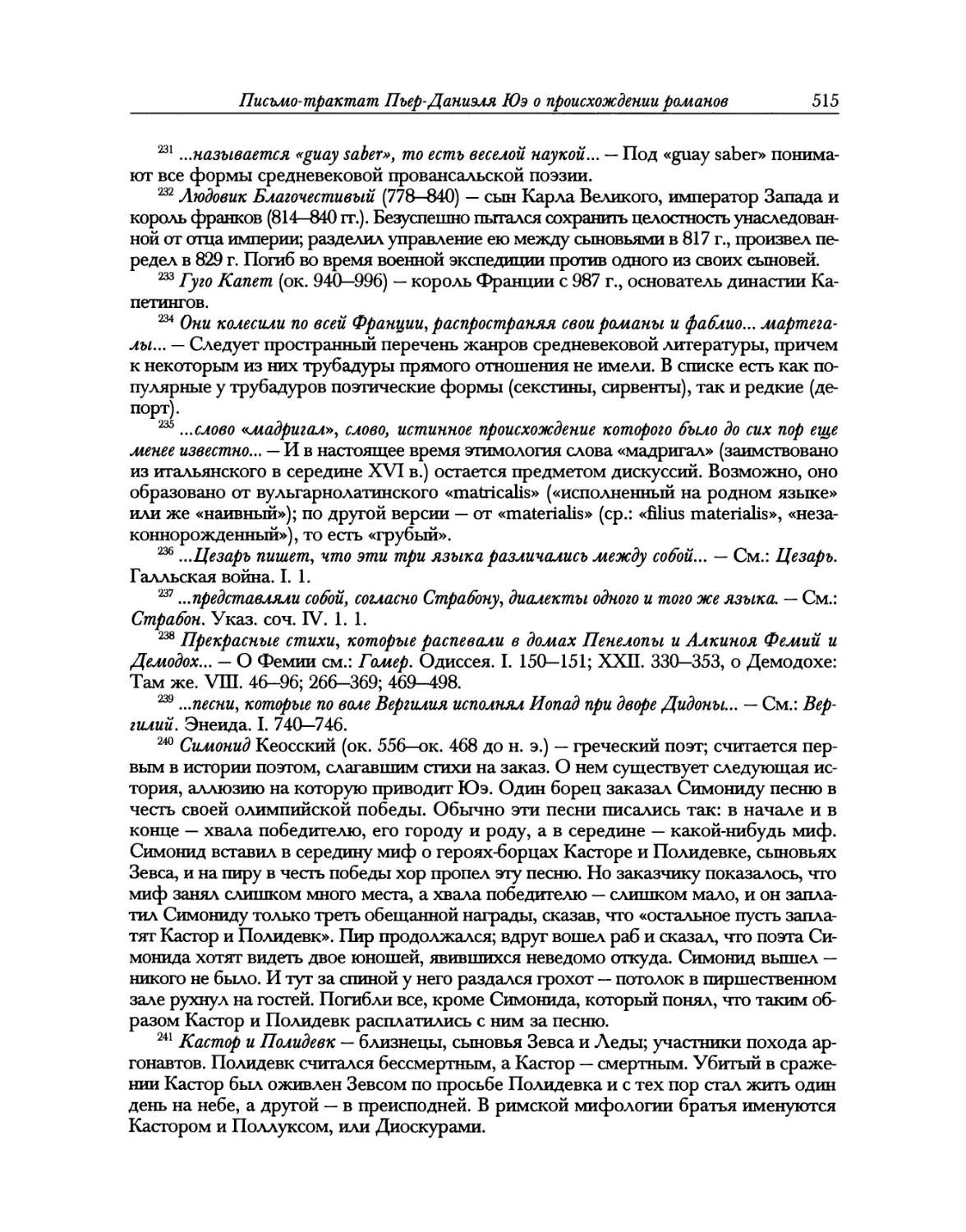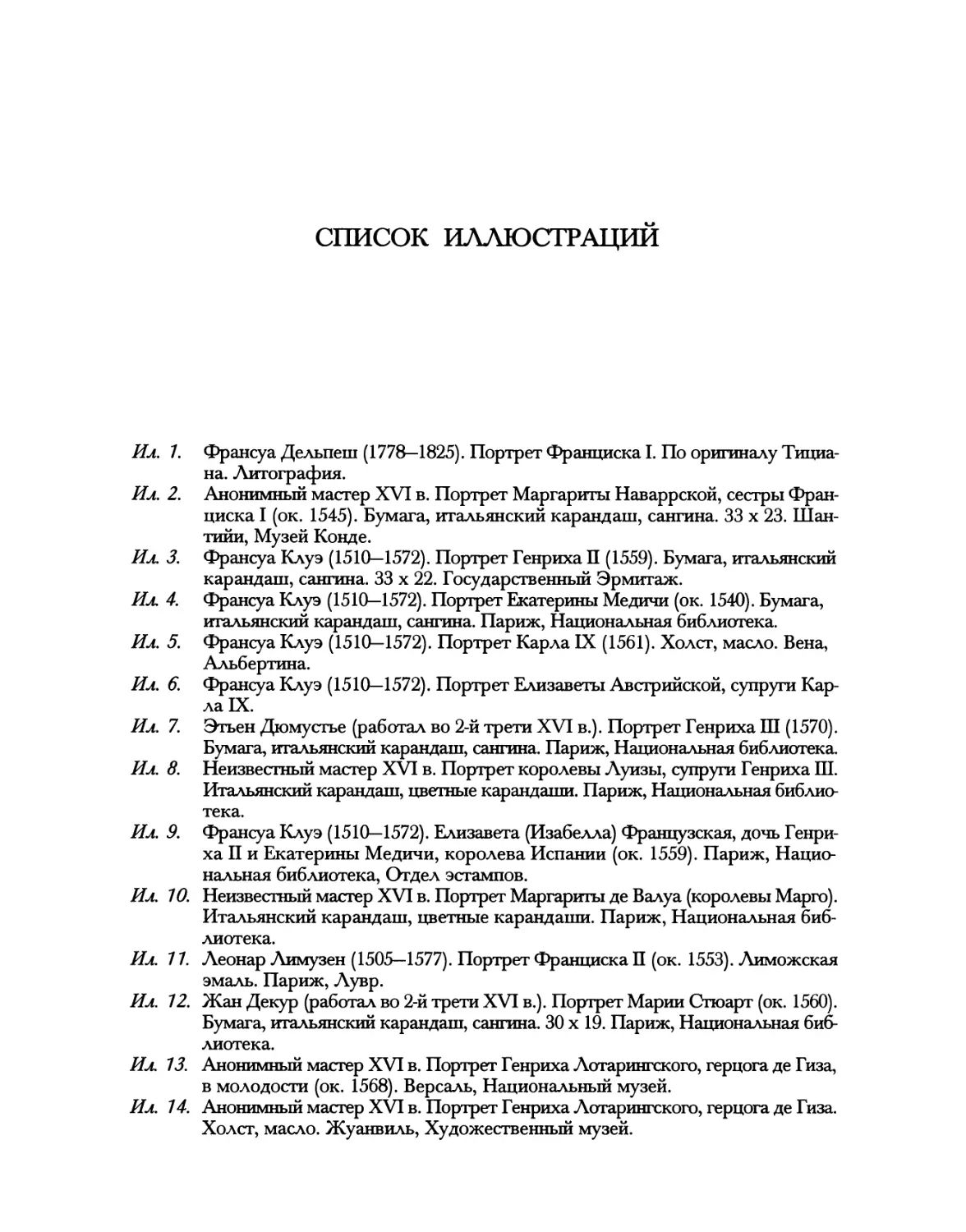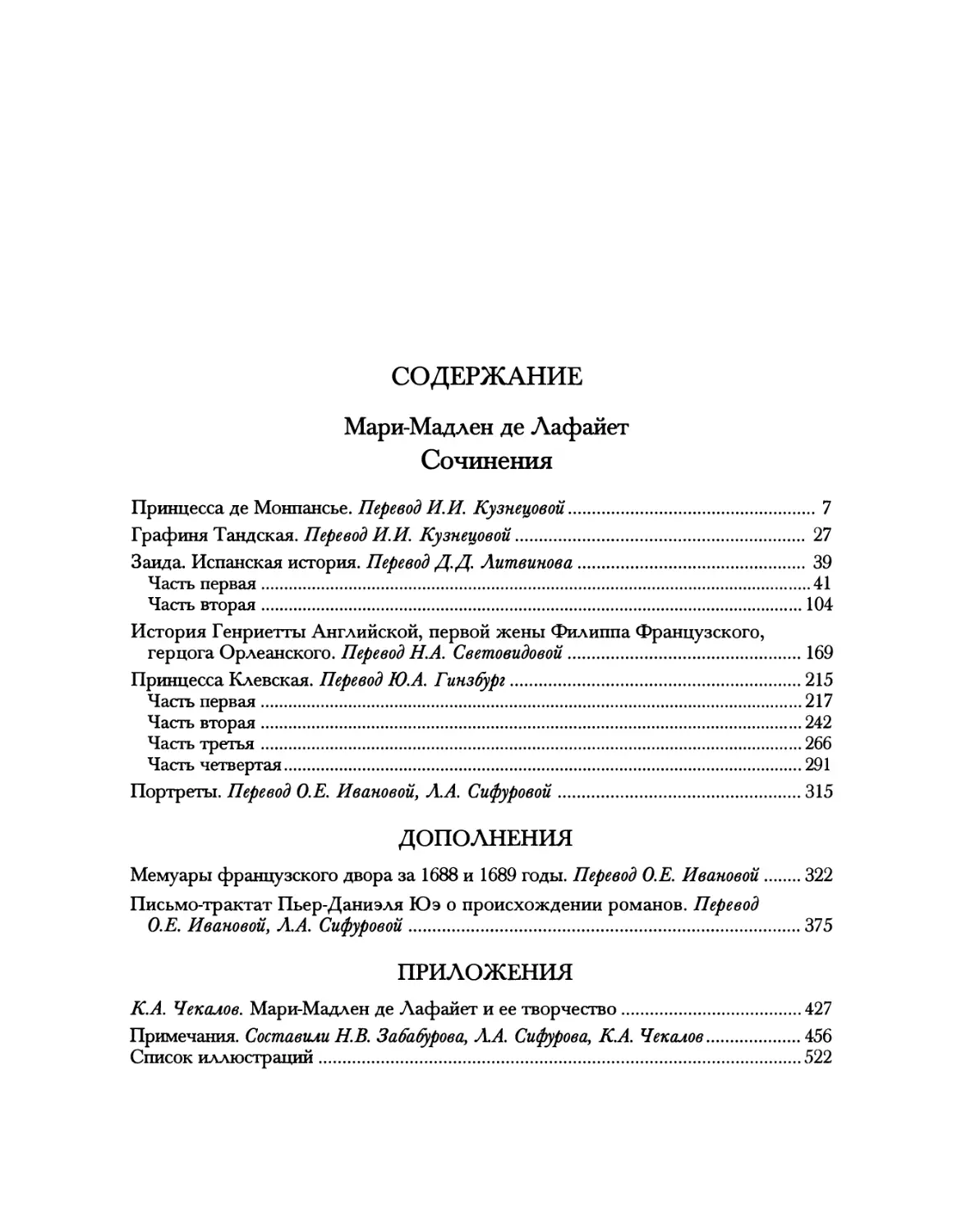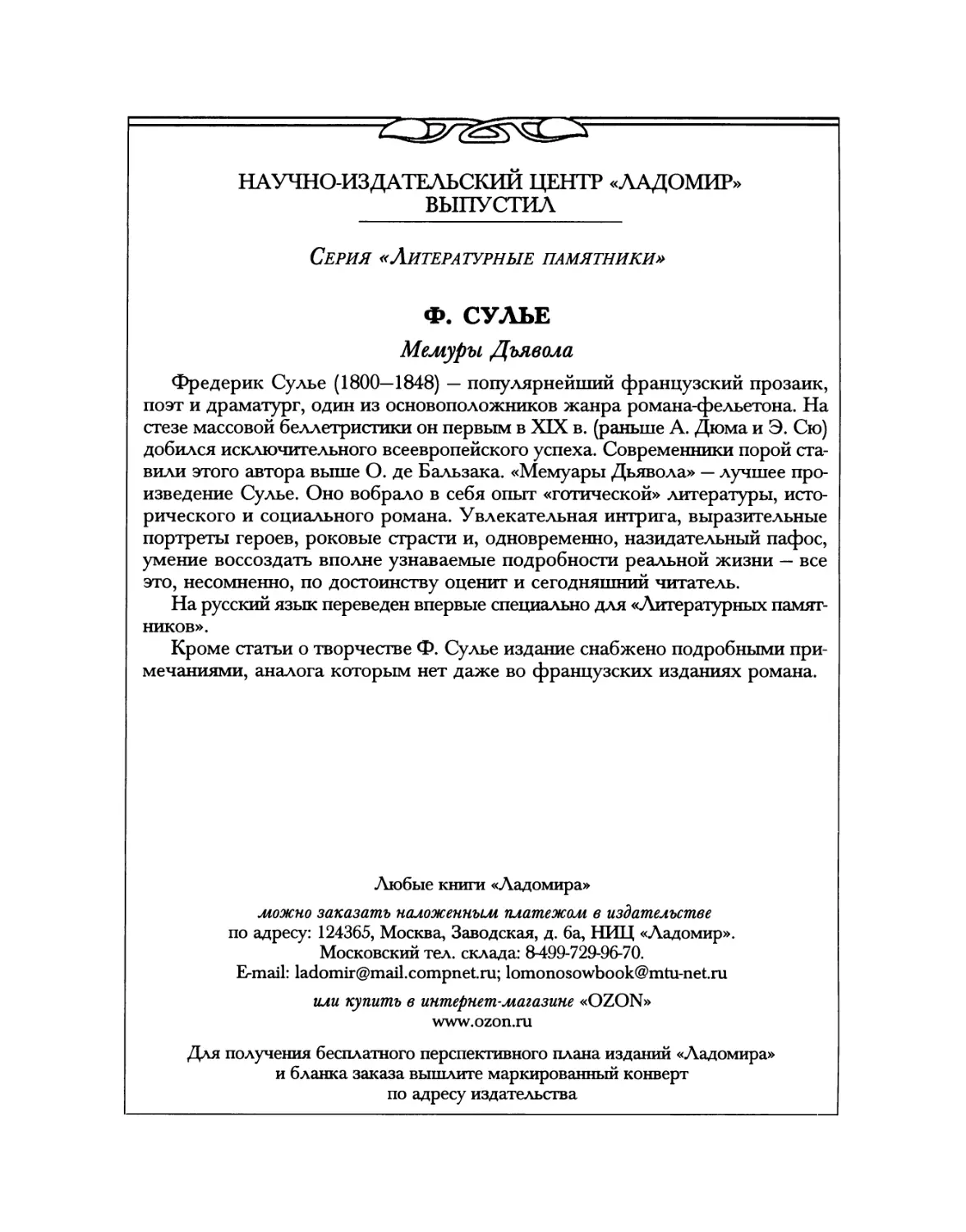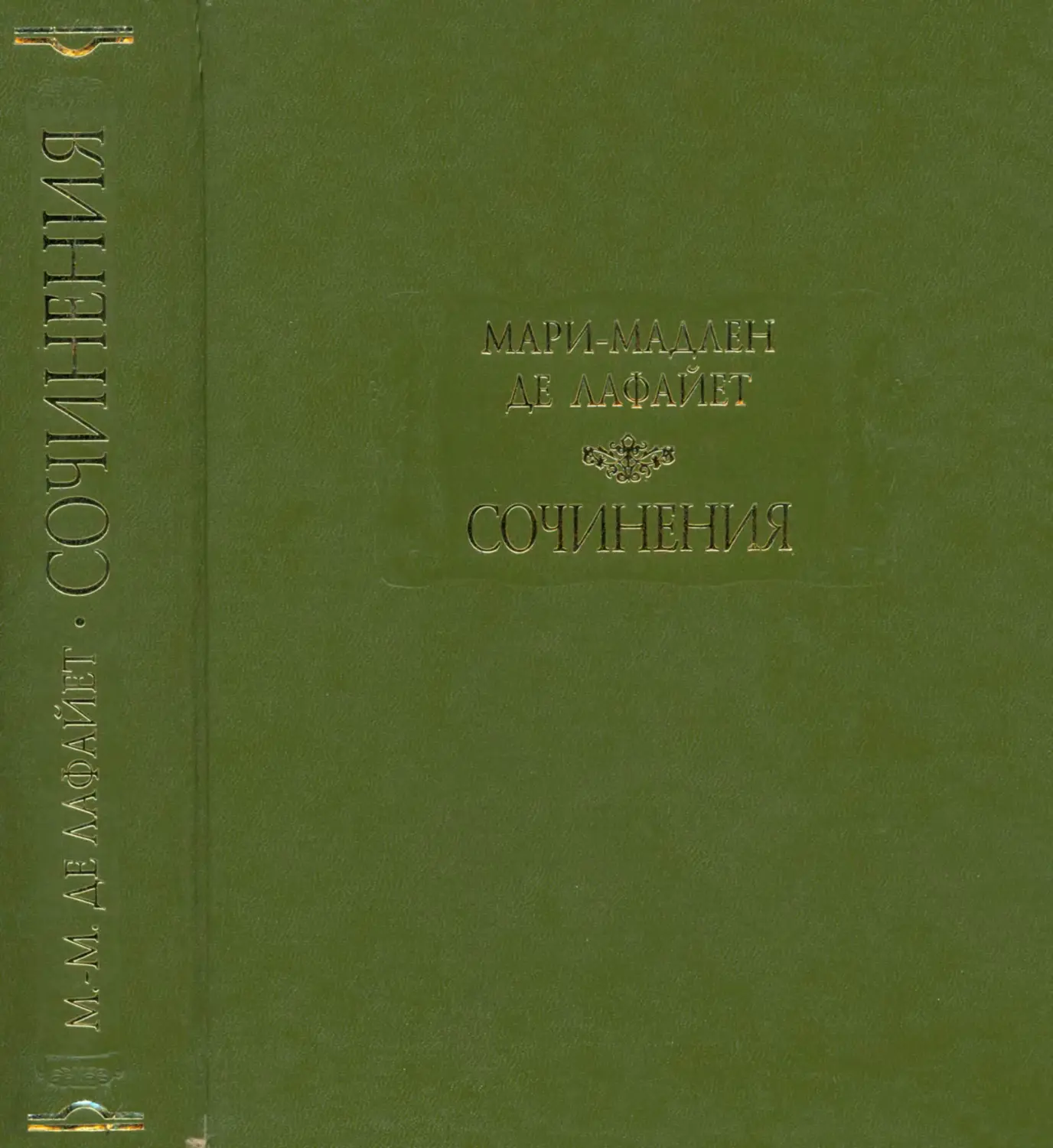Автор: де Лафайет М.М.
Теги: художественная литература собрание сочинений литературные памятники приключения французкая литература
ISBN: 5-86218-436-8
Год: 2007
Текст
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Литературные ТЕ
ИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ
MARIE-MADELEINE
DE LA FAYETTE
ŒUVRES
МАРИ-МАДЛЕН
ДЕ ЛАФАЙЕТ
СОЧИНЕНИЯ
Издание подготовили
Н.В. ЗАБАБУРОВА, Л.А. СИФУРОВА, К.А. ЧЕКАЛОВ
Научно-издательский центр
«Ладомир»
«Наука»
Москва
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»
В.Е. Багно, Н.И. Балашов (председатель), МЛ. Гаспаров,
А.Н. Горбунов, А. А. Гришунин, Р.Ю. Данилевский, Н.Я. Дьяконова,
Б.Ф. Егоров (заместитель председателя), Н.В. Корниенко, Г.К. Косиков,
А.Б. Куделин, А.В. Лавров, А. Д. Михайлов (заместитель председателя),
Ю.С. Осипов, М.А. Островский, И.Г. Птушкина (ученый секретарь),
Ю.А. Рыжов, ИМ. Стеблин-Каменский, СО. Шмидт
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
А.Д. МИХАЙЛОВ
ИЗДАНО ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА РОССИИ»
Progr
Издание осуществлено в рамках
программы «Пушкин» при
поддержке Министерства
иностранных дел Франции
и Посольства Франции в России
Ouvrage réalisé dans le cadre du
programme d'aide à la publication
«Pouchkine» avec le soutien du ministère
des Affaires Etrangères français et de
VAmbassade de France en Russie
© Ю.А. Гинзбург. Перевод, 2007.
© Н.В. Забабурова. Примечания, 2007.
© О.Е. Иванова. Перевод, 2007.
© И.И. Кузнецова. Перевод, 2007.
© Д.Д. Литвинов. Перевод, 2007.
© Н.А. Световидова. Перевод, 2007.
© Л.А. Сифурова. Перевод, примечания, 2007.
© К.А. Чекалов. Статья, примечания, 2007.
© Научно-издательский центр «Ладомир»,
ISBN 5-86218-436-8 2007.
Репродуцирование (воспроизведение) данного издания
любым способом без договора с издательством запрещается
Мари-Мадлен de Лафайет
ПРИНЦЕССА
ДЕ МОНПАНСЬЕ
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ ИЗДАТЕЛЯ
Почтение, которое мы питаем к славному имени, приведенному в заглавии
настоящей книги, и уважение к выдающимся людям, носившим его позднее,
обязывают меня, представляя эту историю на суд читателей, сказать, что она
не основана ни на одной из рукописей, дошедших до нас с тех времен, когда
жили личности, которые здесь упоминаются.
Автор ради собственного развлечения описал приключения, от начала до
конца выдуманные, и счел уместным выбрать известные в нашей истории
имена, а не воспользоваться вымышленными, пребывая в уверенности, что
репутации мадемуазель де Монпансье не нанесет ущерба столь очевидно
неправдоподобный рассказ. Если автора и не занимали подобные соображения, то я
надеюсь восполнить сей недостаток своим предуведомлением, которое лишь
добавит сочинителю славы и будет данью почтения к почившим, упомянутым
в этой книге, а также к живым, которым дорога память предков.
Несмотря на гражданскую войну, раздиравшую Францию при Карле IX1,
любовь среди всеобщего смятения не позволяла о себе забыть и сеяла не меньшее
смятение на своем фронте. Единственная дочь маркиза де Мезьера2, связанная
родством с одной из ветвей прославленного Анжуйского рода, наследница
крупного состояния и благородного имени, была обещана в жены герцогу Майен-
скому3, младшему брату герцога де Гиза4, прозванного впоследствии Меченым.
Они были еще почти детьми, когда герцог де Гиз, часто встречаясь со своей
будущей невесткой, обещавшей стать редкой красавицей, влюбился в нее, и она
полюбила его в ответ. Они тщательно скрывали свою любовь, и герцог де Гиз,
который в те годы еще не был так честолюбив, как в зрелости, страстно
мечтал жениться на ней, но не решался объявить об этом из страха перед
кардиналом Лотарингским5, заменившим ему отца. Так обстояли дела, когда
Бурбоны, завидуя возвышению дома Гизов и видя, какие преимущества сулит этот
брак, сами решили заполучить столь выгодную невесту, сосватав ее для
молодого принца де Монпансье6, которого иногда называли дофином. Их
настойчивость была так велика, что родственники девушки, вопреки слову, данному
кардиналу де Гизу, согласились выдать племянницу за принца де Монпансье. Эта
перемена крайне удивила родственников герцога де Гиза, а его самого
повергла в глубокое горе — влюбленный, он воспринял ее как величайшее
оскорбление. Несмотря на все уговоры дядюшек — кардинала де Гиза и герцога Омаль-
ского7, не желавших идти против обстоятельств, которые невозможно
изменить, герцог не считал нужным скрывать свой гнев даже в присутствии принца
де Монпансье; ненависть, вспыхнувшая тогда между ними, угасла лишь
вместе с их жизнью. Измученная опекунами, мадемуазель де Мезьер, потеряв
всякую надежду выйти замуж за де Гиза и сознавая, сколь опасно для женской
добродетели иметь деверем человека, которого желаешь в мужья, решилась в
конце концов подчиниться воле родни и умолила герцога де Гиза не
препятствовать более ее замужеству. Она вышла за молодого принца де Монпансье, и тот
вскоре увез ее в Шампиньи, в свой родовой замок, ибо Париж со дня на день
должен был стать центром военных действий8. Столице угрожала осада армии
гугенотов под командованием принца де Конде, во второй раз поднявшего
оружие против своего короля.
Принцесса de Монпансье
11
С ранней юности принца де Монпансье связывала прочная дружба с графом
де Шабаном9, и граф, хотя и был намного старше годами, так ценил уважение
и доверие принца, что вопреки собственным интересам покинул партию
гугенотов, не желая ни в чем быть противником столь влиятельного лица и столь
дорогого для него человека. Поскольку переход в другую партию не имел
никаких иных причин, кроме преданности и верности, многие сочли это ловким
притворством, а когда гугеноты объявили войну, подозрения на счет графа
зашли столь далеко, что королева-мать Екатерина Медичи даже вознамерилась
арестовать его. Однако принц де Монпансье не допустил этого: он сказал, что
ручается за де Шабана, и, отправляясь с молодой женой в Шампиньи, увез с
собой и его. Граф, человек очень умный и мягкий, быстро завоевал уважение
принцессы де Монпансье, и вскоре она уже питала к нему те же дружеские
чувства, что и ее муж. Де Шабан, со своей стороны, восхищенный красотой, умом
и благонравием принцессы, воспользовался ее расположением и исподволь
развил и укрепил в ней пристрастие к высочайшей добродетели, достойной ее
благородного происхождения. За короткое время он превратил молодую особу в
само совершенство.
Принц вернулся ко двору, куда призывал его воинский долг, и граф
остался один с принцессой, продолжая питать к ней почтение и дружбу, коих
заслуживали ее достоинства и положение. Их взаимное доверие выросло до такой
степени, что принцесса поведала ему о своей детской привязанности к
герцогу де Гизу. Любовь эта в ней почти угасла, объяснила она, и теплится в
сердце ровно настолько, чтобы сделать его недоступным ни для кого другого;
поэтому теперь, когда она к тому же имеет столь твердые понятия о долге,
любого, кто осмелится заговорить с ней о нежных чувствах, ожидает с ее стороны
лишь презрение. Зная искренность принцессы и понимая, сколь чуждо ей
легкомыслие в сердечных делах, граф не усомнился в истинности ее слов,
однако это не помогло ему устоять перед ее очарованием, действие которого он
испытывал изо дня в день. Потеряв голову, он, как ни мучил его стыд, не смог
совладать с собой и поневоле полюбил ее самой искренней и пылкой любовью.
Он перестал быть хозяином своему сердцу, но продолжал оставаться хозяином
своим поступкам. Перемена в его душе не привела к перемене в поведении, и
очень долго никто не подозревал о его любви. Целый год он старательно таил
ее от принцессы, свято веря, что никогда и не захочет открыться. Однако
любовь сделала с ним то же, что и со всеми, — внушила ему желание говорить, и
после долгой борьбы, которая обычно происходит в таких случаях, он
осмелился сказать госпоже де Монпансье, что любит ее, приготовившись выдержать
бурю, неизбежную, как ему казалось, со стороны его гордой возлюбленной. Но
признание было встречено со спокойствием и холодностью, в тысячу раз
худшими, чем любые взрывы негодования, коих он ожидал. Она не удостоила его
гневом, лишь кратко указала на разницу в их положении и возрасте, напомнила
о своих моральных правилах, известных ему лучше, чем кому бы то ни было,
о своей былой склонности к герцогу де Гизу и, главное, обо всем, к чему
обязывала его дружба и доверие принца. Граф думал, что умрет у ее ног от
стыда и горя. Она попыталась его утешить, пообещав навеки забыть о том, что
12
Принцесса de Монпансье
услышала, не думать о нем дурно и по-прежнему видеть в нем лишь лучшего
друга. Можно себе представить, как эти заверения утешили графа. Он в
полной мере ощутил таившееся в словах принцессы презрение, и назавтра, увидев
ее такой же приветливой, как обычно, поняв, что его присутствие нисколько не
смущает ее и не заставляет краснеть, опечалился сильнее прежнего. Поведение
принцессы в последующие дни нисколько не умалило его печалей. Она была
к нему все так же добра и благосклонна. Однажды, когда возник повод,
принцесса снова заговорила с ним о своих чувствах к герцогу де Гизу: уже пошла
молва о высоких достоинствах герцога, и она призналась графу, что это ее
радует и ей приятно убедиться, что он заслуживает той любви, которую она
некогда к нему испытывала. Все эти знаки доверия, еще недавно столь графу
дорогие, стали теперь невыносимы. Однако он не решался это показать, хотя и
осмеливался изредка напомнить принцессе о том, что однажды имел дерзость
ей открыть. Наконец был заключен мир, и после двухлетнего отсутствия
вернулся принц де Монпансье, покрыв себя славой во время осады Парижа и в
битве при Сен-Дени10. Он был поражен безупречной красотой принцессы,
достигшей своего расцвета, и, движимый свойственным ему чувством ревности,
слегка огорчился, предвидя, что не он один сочтет ее красавицей. Он был очень
рад снова встретиться с графом де Шабаном, к которому питал все те же
дружеские чувства, и не преминул потихоньку расспросить его о характере и
умонастроении жены, остававшейся для него почти незнакомкой, ибо они успели
прожить вместе совсем недолго. Граф совершенно чистосердечно, как если бы
и не был влюблен, описал все ее достоинства, способные вызвать любовь
принца, а также объяснил госпоже де Монпансье, как ей надлежит себя вести, дабы
окончательно завоевать сердце и уважение мужа. Любовь непроизвольно
заставляла графа заботиться лишь о счастье и доброй славе принцессы, он и не
помышлял о том, сколь невыгоден для влюбленного чересчур счастливый брак
его избранницы. Мир оказался призрачным11. Война вскоре возобновилась из-
за намерения короля арестовать укрывшихся в Нуайе принца де Конде и
адмирала Шатильона12. Когда об этом плане стало известно, опять начались
приготовления к войне, и принц де Монпансье принужден был вновь покинуть жену
и отправиться туда, куда призывал его долг. Граф де Шабан последовал за ним
ко двору, полностью оправдавшись перед королевой-матерью, у которой
больше не осталось никаких сомнений в его преданности. Ему было крайне
тяжело расставаться с принцессой, ее же более всего тревожили опасности,
подстерегавшие на войне мужа. Вожди гугенотов засели в Ла-Рошели13, на их стороне
были Пуату и Сентонж, война вспыхнула там с новой силой, и король стянул туда
все свои войска. Его брат, герцог Анжуйский, будущий король Генрих Ш,
прославился там множеством подвигов, особенно в битве при Жарнаке14, где был
убит принц де Конде. В этой войне герцог де Гиз выдвинулся на весьма высокие
посты, и постепенно стало ясно, что он превзошел все надежды, дотоле
возлагавшиеся на него. Принц де Монпансье, ненавидя его и как личного врага, и как
врага своего рода, не мог без досады видеть славу де Гиза и то дружеское
расположение, которое проявлял к нему герцог Анжуйский. Когда обе армии
истощили свои силы в бесконечных стычках, войска по обоюдному согласию были
Принцесса de Монпансье
13
на время распущены, а герцог Анжуйский задержался в Лоше, чтобы сделать
распоряжения во всех близлежащих пунктах, которым могло грозить
нападение. Герцог де Гиз остался вместе с ним, а принц де Монпансье с графом де
Шабаном отправились в замок Шампиньи, находившийся неподалеку. Герцог
Анжуйский часто объезжал города, где по его приказу возводились
оборонительные сооружения. Однажды, когда он со своей свитой возвращался в Лош
по плохо известной ему местности, герцог де Гиз, похвалившись, будто знает
дорогу, взялся вести отряд, но через некоторое время сбился с пути, и они
очутились на берегу незнакомой реки. Все, разумеется, обрушились на герцога,
оказавшегося таким плохим проводником, но тут герцог Анжуйский и герцог де
Гиз, всегда готовые повеселиться, как все молодые принцы, заметили посреди
реки небольшую лодку, и, поскольку речка была неширокой, они без труда
разглядели в лодке трех или четырех женщин, одна из которых, великолепно
одетая, предстала перед их взорами во всем блеске своей красоты: она
внимательно смотрела, как двое мужчин подле нее ловят рыбу. Эта картина
привела обоих герцогов и их свиту в игривое настроение. Все сошлись на том, что это
настоящее приключение из романа. Одни говорили герцогу де Гизу, что он
нарочно завел их сюда ради этой красотки, другие — что встреча с ней послана
ему свыше и он теперь должен полюбить ее; герцог же Анжуйский утверждал,
будто влюбиться суждено ему. Наконец, решив насладиться приключением
сполна, герцоги велели своим всадникам войти как можно глубже в реку и
крикнуть даме, что его высочество герцог Анжуйский желает переправиться
на другой берег и просит перевезти его на лодке. Дама, которая была не кто
иная, как госпожа де Монпансье, услышав имя герцога Анжуйского и поняв по
обилию людей, столпившихся на берегу, что это и в самом деле он, велела
направить лодку к нему. По облику она быстро отличила его от остальных, хотя
прежде никогда не видела вблизи, но еще раньше заметила герцога де Гиза.
При виде его она покраснела от волнения и предстала перед герцогами столь
прекрасной, что красота ее показалась им почти неземной. Герцог де Гиз тоже
узнал ее издали, несмотря на все перемены к лучшему, произошедшие в ней за
те три года, что они не виделись. Он сообщил герцогу Анжуйскому, кто она,
и тот поначалу смутился за свою вольность, но, увидев, как принцесса хороша
собою, и упиваясь приключением все больше и больше, решил довести дело до
конца. После тысячи извинений и комплиментов он сказал, что непременно
должен попасть на другой берег, и тут же получил от нее предложение
воспользоваться лодкой. С собой он взял только герцога де Гиза, а остальным
приказал перебраться через реку в другом месте и ждать их в Шампиньи,
находившемся, как сказала принцесса, всего в двух лье от переправы.
Едва войдя в лодку, герцог Анжуйский спросил принцессу, чему они
обязаны столь приятной встречей и что она делает на реке. Принцесса отвечала,
что выехала вместе с мужем на охоту, но почувствовала себя утомленной,
вышла на берег отдохнуть и, увидев рыбаков, которым попался в сети лосось,
попросила взять ее в лодку, чтобы посмотреть, как его будут вытаскивать.
Герцог де Гиз не вмешивался в разговор; он стоял, охваченный вновь
вспыхнувшими чувствами к принцессе, и думал, что и сам может оказаться в ее сетях,
14
Принцесса de Монпансье
словно лосось в неводе рыбаков. Вскоре они добрались до берега, где их
ждали лошади и стремянные госпожи де Монпансье. Герцог Анжуйский помог ей
сесть в седло, где она держалась с восхитительной грацией, и, взяв запасных
лошадей, которых подвели пажи принцессы, герцоги поскакали вслед за ней
в Шампиньи. Не меньше, чем красота, поразила их тонкость ее ума, и они не
могли удержаться, чтобы не высказать ей свое восхищение. На похвалы она
отвечала со всей мыслимой скромностью, но герцогу де Гизу чуть холоднее,
чем герцогу Анжуйскому, желая сохранить неприступность, дабы он не
связывал ни малейших надежд с ее былой слабостью к нему. Подъехав к первому
двору Шампиньи, они обнаружили там принца де Монпансье, только что
вернувшегося с охоты. При виде своей супруги в окружении двух мужчин он был
весьма удивлен, но удивление его возросло до крайности, когда, подойдя
ближе, он узнал герцога Анжуйского и герцога де Гиза. Будучи ревнив от
природы и издавна питая ненависть к де Гизу, он не смог скрыть досады при виде
герцогов, неизвестно как и зачем оказавшихся у него в замке. Он объяснил
свое огорчение тем, что не может принять их так, как ему хотелось бы и как
того заслуживает высокое положение герцога Анжуйского. Граф де Шабан
был опечален еще больше, чем принц, увидев де Гиза рядом с принцессой. В
их случайной встрече он усмотрел дурное предзнаменование, понимая, что
столь романтическое начало вряд ли останется без продолжения. Принцесса де
Монпансье оказала герцогам радушный прием, исполняя роль хозяйки дома так
же изящно, как и все, что она делала. В конце концов она окончательно пленила
своих гостей. Герцог Анжуйский, красавец и большой любитель женщин, не мог
не загореться, встретив столь достойный объект для ухаживания. Его сразил
тот же недуг, что и герцога де Гиза, и под предлогом важных дел он прожил
в Шампиньи два дня, хотя не имел никаких причин там задерживаться,
кроме чар госпожи де Монпансье, да и принц отнюдь не настаивал на том,
чтобы он погостил подольше. Прощаясь, герцог де Гиз не преминул дать понять
принцессе, что его чувства к ней остались прежними: поскольку о его любви
к ней не знал ни один человек, он несколько раз сказал ей при всех, не
опасаясь быть понятым другими, что в душе его ничто не изменилось, и отбыл
вместе с герцогом Анжуйским. Они покинули Шампиньи с большим
сожалением и по дороге долго молчали. Наконец герцог Анжуйский, заподозрив, что
у де Гиза могла быть та же причина д,ля задумчивости, вдруг спросил его
напрямик, уж не грезит ли он о красоте госпожи де Монпансье. Де Гиз уже
успел заметить увлечение герцога Анжуйского и, услышав его неожиданный
вопрос, понял, что они неминуемо станут соперниками и ему необходимо
утаить свою любовь. Желая развеять подозрения своего спутника, он со смехом
отвечал, что если кто и размечтался о принцессе, так это, несомненно, сам
герцог Анжуйский, а он лишь считал неуместным отвлекать его от столь
приятных грез; что же до красоты принцессы де Монпансье, то она-де ему не в
новинку, он привык стойко выдерживать ее блеск еще в те времена, когда
мадемуазель де Мезьер считалась невестой его брата, но теперь замечает, что
далеко не всем это удается так же успешно, как ему. Герцог Анжуйский
признался, что никогда прежде не встречал женщины, которую можно было бы
Принцесса de Монпансье
15
хоть отдаленно сравнить с принцессой де Монпансье, и чувствует, что ему
опасно было бы часто видеть ее. Он попытался заставить герцога де Гиза
признать, что и тот чувствует то же самое, но де Гиз, уже проникшийся
серьезным отношением к своей любви, упорно отрицал это.
Герцоги вернулись в Лош и часто с удовольствием вспоминали о лесном
приключении и о встрече с принцессой де Монпансье. В Шампиньи же
обстояло по-другому. У принца де Монпансье случай этот вызывал раздражение,
хотя он и не мог объяснить почему. Ему не нравилось, что принцесса оказалась
в лодке, что она чересчур любезно обошлась с гостями, но особенно не
понравилось то, как смотрел на нее герцог де Гиз. Вспыхнувшая жгучая ревность
заставила вспомнить то, как бушевал герцог по поводу их женитьбы, и он
заподозрил, что де Гиз еще тогда был влюблен в его жену. Горечь, вызванная в
его душе этими подозрениями, доставила принцессе де Монпансье немало
неприятных минут. Граф де Шабан, по своему обыкновению, постарался не
допустить ссоры между супругами, желая тем самым показать принцессе, сколь
искрения и бескорыстна его любовь. Однако он не смог удержаться, чтобы не
спросить, какое впечатление произвела на нее встреча с герцогом де Гизом. Она
сказала, что испытывала неловкость при мысли о чувствах, которые некогда
проявляла к нему. Он стал, по ее мнению, намного красивее по сравнению с
прежними временами, и ей показалось, что он хотел убедить ее в неизменности
своей любви, однако ничто не может, заверила она графа, поколебать ее решения
никогда не продолжать этих отношений. Граф был очень рад это слышать,
хотя его по-прежнему беспокоили намерения самого де Гиза. Он не скрыл от
принцессы, что опасается, как бы прежние чувства в один прекрасный день не
возродились, и дал понять, что, если это произойдет, он испытает смертельные
муки и как ее друг, и как влюбленный. Принцесса по обыкновению почти не
отвечала, делая вид, будто не слышит, когда он говорит о своей любви, и
обращалась с ним как с лучшим другом, не снисходя до того, чтобы воспринимать
его как поклонника.
Войска снова были приведены в боевую готовность, всем принцам и
герцогам надлежало вернуться на свои посты, и принц де Монпансье счел за лучшее
отправить жену в Париж, дабы не оставлять ее вблизи театра военных действий.
Гугеноты осадили Пуатье. Герцог де Гиз устремился на защиту города и
совершил там столько подвигов, что любому другому человеку их хватило бы
сполна, чтобы прославить свою жизнь. Затем последовала битва при Монконтуре15.
Герцог Анжуйский, взяв Сен-Жан-д'Анжели, внезапно занемог и покинул
передовые позиции — то ли из-за болезни, то ли из желания насладиться покоем и
радостями Парижа, куда не в последнюю очередь влекло его присутствие
принцессы де Монпансье. Командование перешло к принцу де Монпансье, но
вскоре был заключен мир16 и весь двор снова оказался в Париже. Принцесса де
Монпансье затмила всех записных красавиц. Не было человека, который не
восхищался бы ее умом и красотой. Чувства герцога Анжуйского, вспыхнувшие в
Шампиньи, не угасли, и он не упускал случая их продемонстрировать,
всячески ухаживая за принцессой и оказывая ей знаки внимания, но стараясь,
однако, не переусердствовать, дабы не вызвать ревности принца. Герцог де Гиз влю-
16
Принцесса de Монпансье
бился окончательно и, желая по многим причинам сохранить свою страсть в
тайне от людей, решил открыться сразу самой принцессе, дабы избежать
первых ухаживаний, обычно порождающих сплетни и огласку. Однажды, находясь
в покоях королевы-матери в час, когда там было мало народу, а сама
королева беседовала у себя в кабинете с кардиналом, де Гиз увидел, что приехала
принцесса. Он воспользовался удобным случаем и подошел к ней.
— Возможно, я неприятно удивлю вас, сударыня, — сказал он, — но не хочу
таить от вас, что моя былая любовь, о которой вам и раньше было известно, не
угасла во мне за все эти годы и, когда я увидел вас вновь, она так разгорелась,
что ни ваша суровость, ни ненависть господина де Монпансье, ни соперничество
первого принца королевства не в силах ни на миг унять ее. Разумеется, любовь
более пристало выказывать в поступках, нежели в словах, но поступки
сделали бы ее явной для всех, а я не хочу, чтобы кто-то, кроме вас одной, узнал, что
я имею дерзость вас обожать.
В первый момент принцесса была так ошеломлена и взволнована, что ей и
в голову не пришло остановить герцога, а когда через несколько минут она
пришла в себя и собиралась ответить, вошел принц де Монпансье. Смущение и
замешательство выразились на лице принцессы. При виде мужа она совсем
растерялась, и это открыло ему больше, нежели все, что она в действительности
услышала от де Гиза. Королева вышла из кабинета, и герцог уехал, чтобы не
распалять ревность принца. Вечером, как и ожидала принцесса, муж был в
бешенстве. Он устроил ей бурную сцену и запретил вообще когда-либо разговаривать
с герцогом де Гизом. Она удалилась с тяжелым сердцем в свои апартаменты,
поглощенная мыслями о случившемся. Назавтра она снова встретила де Гиза у
королевы: он не заговорил с ней, но уехал сразу же вслед за ней, желая
показать, что без нее ему там нечего делать. С тех пор не проходило дня, чтобы она
не получала от него тысячу лишь ей одной понятных знаков любви и он не
делал бы попыток заговорить с ней, когда их никто не мог видеть. Несмотря на
все благие решения, принятые в Шампиньи, принцесса постепенно поверила в
его любовь, и в глубине ее сердца вновь шевельнулись старые чувства.
Между тем герцог Анжуйский не давал ей покоя выражениями
преданности; он неотступно следовал за ней повсюду — и к королеве-матери, и к ее
высочеству сестре короля, но встречал со стороны принцессы необычайную
холодность, способную излечить от страсти кого угодно, но только не его17. В ту пору
стало известно, что ее высочество, будущая королева Наварры18,
неравнодушна к герцогу де Гизу, и чувство это только усилилось, когда герцог Анжуйский
стал выказывать свое нерасположение к нему. Когда принцесса де Монпансье
узнала эту далеко не безразличную ей новость, она поняла, что герцог де Гиз
значит для нее куда больше, чем казалось. Как раз в это время ее свекор,
господин де Монпансье19, женился на мадемуазель де Гиз, сестре герцога, и им
приходилось часто видеться на всех устраиваемых по этому поводу приемах и
торжествах. Принцесса де Монпансье не могла стерпеть, чтобы человек,
которого вся Франция считала влюбленным в ее высочество, осмеливался и дальше
делать ей признания. Глубоко задетая в своей гордости, она страдала оттого,
что так обманулась, и вот однажды, когда герцог де Гиз, увидев ее стоящей чуть
Принцесса de Монпансье
17
в стороне от остальных гостей в доме своей сестры, попытался снова заговорить
с ней о любви, она резко оборвала его и гневно сказала:
— Не понимаю, как вы смеете, используя детское увлечение,
позволительное в тринадцать лет, разыгрывать из себя поклонника женщины моего
положения, да еще при том, что вы любите другую и об этом знает весь двор.
Герцогу де Гизу, человеку в высшей степени умному и страстно
влюбленному, не нужно было растолковывать, что означают слова принцессы.
— Вы правы, сударыня, — почтительно отвечал он. — Лучше было бы мне
пренебречь честью стать зятем короля, нежели хоть на миг заронить в вашу
душу подозрение, будто я могу добиваться иного сердца, кроме вашего. Но если
вы позволите мне объясниться, то, уверен, я сумею оправдаться перед вами.
Принцесса не ответила, но и не отошла, и де Гиз, видя, что она соглашается
его выслушать, рассказал, что, хотя он и не думал домогаться милости ее
высочества, она одарила его своей благосклонностью, сам же он, не испытывая к ней
никаких чувств, весьма холодно принимал эту честь, пока она не подала ему
надежду на свою руку. Понимая, на какую высоту может вознести его этот брак,
он заставил себя оказывать ей больше внимания, что и дало пищу для
подозрений королю и герцогу Анжуйскому. Их неудовольствие, сказал он, не могло
заставить его отступить от своего намерения, но если ей, госпоже де Монпансье,
это неприятно, то он тотчас же покинет ее высочество и никогда в жизни больше
не вспомнит о ней. Мысль о жертве, которую герцог готов был принести ради
нее, заставила принцессу забыть всю свою суровость, и гнев, владевший ею в
начале разговора, мгновенно угас. Она пустилась с ним в рассуждения о
слабости, которую позволила себе сестра короля, полюбив его первой, и о всех
преимуществах, связанных для него с этим браком. Она не подала герцогу
никаких надежд, но он вдруг вновь узнал в ней множество очаровательных черт,
некогда милых ему в мадемуазель де Мезьер. Хотя они очень давно не вели
никаких бесед друг с другом, сердца их, забившись в такт, вступили на уже
проторенный путь. Наконец они закончили разговор, наполнивший душу герцога
большой радостью. Не меньшую радость испытала и принцесса, убедившись, что
он любит ее по-настоящему. Но, когда она осталась одна в своем кабинете,
какими только упреками не осыпала она себя за то, что так постыдно легко
сдалась перед извинениями герцога! Она мысленно рисовала себе все опасности,
ожидающие ее, если она проявит слабость, которую некогда с ужасом
осуждала, и все неисчислимые беды, коим грозит ей ревность мужа. Эти мысли
заставили ее вновь принять старые решения, развеявшиеся, однако, на следующий же
день при встрече с герцогом де Гизом. Он не преминул дать ей полный отчет
о том, что происходит между ним и ее высочеством. Новый союз, недавно
заключенный между их семьями, предоставлял им немало возможностей для
бесед, но ему трудно было победить в принцессе ревность, вызываемую красотой
соперницы: перед этой ревностью любые клятвы были бессильны, и она
заставляла принцессу еще упорнее сопротивляться настойчивости герцога, уже
покорившего ее сердце более чем наполовину.
Женитьба короля на дочери императора Максимилиана наполнила жизнь
двора празднествами и увеселениями. По желанию короля был поставлен
2.3аказ№К-6559
18
Принцесса de Монпансье
балет20, где танцевали принцессы, в том числе и ее высочество. Только
принцесса де Монпансье могла сравниться с ней в красоте. Герцог Анжуйский,
герцог де Гиз и еще четыре человека танцевали мавританский танец. Все они
были, как и положено, одеты в одинаковые костюмы. Во время премьеры
герцог де Гиз перед своим выходом, будучи еще без маски, сказал мимоходом
несколько слов принцессе де Монпансье. Она заметила, что муж обратил на
это внимание, и встревожилась. Увидев через некоторое время герцога
Анжуйского в маске и в мавританском костюме, она приняла его за герцога де
Гиза и, подойдя к нему, сказала:
— Сегодня вечером смотрите только на ее высочество, прошу вас, это мой
приказ. Я не стану ревновать. Не подходите ко мне больше, за мной следят.
Едва сказав это, она сразу же отошла, а герцог Анжуйский застыл,
словно громом пораженный. Он понял, что у него есть счастливый соперник.
Поскольку речь шла об ее высочестве, он сообразил, что это герцог де Гиз и что
его сестра оказалась той самой жертвой, которой де Гиз купил расположение
принцессы де Монпансье. Досада, ревность и ярость неистово бушевали в его
душе, где уже и без того гнездилась ненависть к де Гизу, и отчаяние его
незамедлительно привело бы к какой-нибудь кровавой выходке, если бы
прирожденная скрытность не помогла ему совладать с собою и, учитывая
обстоятельства, отложить свою месть. Однако он не мог отказать себе в
удовольствии сообщить герцогу де Гизу, что знает тайну его любви, и, выходя из зала,
где они танцевали, сказал:
— Вы чересчур самонадеянны, герцог, если осмеливаетесь посягать на мою
сестру, одновременно отнимая у меня возлюбленную. Только почтение к
королю не позволяет мне дать волю гневу. Но запомните: смерть будет, возможно,
наименьшей ценой, которой вы заплатите мне за свою дерзость.
Гордый де Гиз не привык сносить подобные угрозы. Ответить он не успел,
ибо в этот момент король подозвал их обоих к себе, но слова герцога
Анжуйского заронили в его душу жажду мести, не угасавшую в нем на протяжении
всей жизни. В тот же вечер герцог Анжуйский начал настраивать против него
короля. Он сумел убедить его в том, что их сестра никогда не согласится на
предлагаемый ей брак с королем Наварры, пока вокруг нее будет вертеться
герцог де Гиз, и что это позор — позволять ему ради собственного тщеславия
препятствовать браку, который должен принести Франции мир. Король и без того
уже был раздражен против де Гиза, слова брата подлили масла в огонь, и
назавтра, когда герцог де Гиз явился на бал к королеве, блистая одеянием,
расшитым драгоценными каменьями, но еще более своей красотой, король встал
у дверей и резко спросил, куда он направляется. Герцог, не смутившись,
сказал, что пришел оказать его величеству посильные услуги. Король объявил в
ответ, что в его услугах более не нуждается, и повернулся к нему спиной.
Взбешенный герцог вошел, однако, в зал, затаив в сердце гнев и против короля, и
против герцога Анжуйского. Оскорбление разожгло его природную гордыню,
и он, словно бросая обидчикам вызов, вопреки обыкновению буквально не
отходил от ее высочества, тем более что намек герцога Анжуйского на его
отношения с принцессой де Монпансье не позволял ему теперь даже взглянуть в ее
Принцесса de Монпансье
19
сторону. Герцог Анжуйский внимательно наблюдал за ними: глаза принцессы,
против ее воли, выдавали досаду, когда де Гиз говорил с ее высочеством, и
герцог Анжуйский, уже зная из ее слов, сказанных ему по ошибке, что она
ревнует, подошел к ней в надежде их поссорить.
— Сударыня, — сказал он, — должен сообщить вам, заботясь не столько о
себе, сколько о вас, что герцог де Гиз вовсе не заслуживает того предпочтения,
которое вы оказываете ему передо мной. Прошу вас: не перебивайте меня и не
пытайтесь отрицать правду, которая, увы, мне слишком хорошо известна. Он
обманывает вас, жертвуя вами ради моей сестры, точно так же, как ею ради
вас. В этом человеке нет ничего, кроме честолюбия. Но коль скоро вы
одарили его своей благосклонностью, то не стану более соперничать с ним. Я не
намерен препятствовать счастью, которого он заслуживает, несомненно, меньше,
чем я, но я был бы недостоин вас, если бы продолжал упорствовать, стараясь
завоевать сердце, уже отданное другому. Я встретил в вас одно лишь
равнодушие, и с меня довольно. Не хочу, чтобы оно сменилось ненавистью, если я стану
и дальше докучать вам своей любовью, самой верной и преданной, какой
когда-либо была любима женщина.
Герцог Анжуйский с трудом договорил последние слова — его любовь и
обида были неподдельными, и, хотя он начинал говорить побуждаемый главным
образом досадой и жаждой мести, он постепенно расчувствовался, глядя на
красоту принцессы и понимая, как много теряет, лишаясь надежды на ее любовь.
Не ожидая ответа, он покинул бал, сделав вид, будто почувствовал себя дурно,
и отправился к себе упиваться в одиночестве своим страданием. Легко
вообразить, в каком смятении и отчаянии оставил он принцессу. Знать, что ее доброе
имя и сокровеннейшая тайна ее жизни находятся в руках человека, которого она
отвергла, и услышать от него, не имея возможности усомниться в его словах, что
она обманута своим возлюбленным, — все это отнюдь не способствовало
веселому настроению, которое надлежало изображать на празднестве. Однако
покинуть бал она не могла; к тому же ей пришлось отправиться ужинать к своей
свекрови, герцогине де Монпансье, желавшей непременно увезти ее с собой.
Герцог де Гиз, одержимый нетерпением поделиться с госпожой де Монпансье тем,
что услышал накануне от герцога Анжуйского, последовал за ней к сестре. Но
каково же было его удивление, когда, попытавшись заговорить с прекрасной
принцессой, он услышал от нее лишь ужаснейшие упреки, причем столь
запальчивые и невразумительные, что он ничего не мог понять, за исключением того,
что она обвиняет его в неверности и предательстве. Герцог был потрясен
обрушившимся на него новым несчастьем: он ждал от принцессы утешения, а не
отповеди. Но он любил ее со всей страстью и не мог жить ни минуты, не будучи
уверенным во взаимности. Он принял отчаянное решение.
— Вы будете довольны, сударыня, — сказал он. — Я сделаю ради вас то,
чего не мог добиться от меня сам король при всем своем могуществе. И пусть
на карту будет поставлено мое будущее, но это ничто для меня в сравнении
с вашим спокойствием.
Не задерживаясь более ни минуты в доме сестры, он тотчас отправился к
своим родственникам кардиналам и, сославшись на оскорбительное поведение
20
Принцесса de Монпансье
короля, убедил их отбросить мысль о его возможной женитьбе на ее
высочестве и устроить его брак с принцессой Порсьенской21, о котором уже шла речь
прежде. Это было немедленно сделано и оглашено назавтра. Все изумились, а
принцесса де Монпансье и обрадовалась, и опечалилась одновременно. Ей
приятно было сознавать свою власть над де Гизом, но досадно, что он отказался
от такой блестящей женитьбы. Проиграв в положении, герцог рассчитывал, по
крайней мере, вознаградить себя выигрышем в любви: он настоял на том,
чтобы принцесса встретилась с ним наедине и объяснилась по поводу
несправедливых упреков, которые обрушила на него после бала. Она согласилась приехать
к его сестре, герцогине де Монпансье, в такое время, когда ее не будет дома, с
тем чтобы и он приехал туда же. Как и было решено, герцог де Гиз получил
наконец счастливую возможность броситься к ее ногам и без свидетелей поведать
о своей любви и о страданиях, виной которым была ее подозрительность.
Принцесса, однако, не могла забыть все, что наговорил ей герцог Анжуйский, хотя
поступок герцога де Гиза так наглядно это опроверг. Она объяснила ему, почему
сочла его предателем — ведь, по ее убеждению, герцог Анжуйский мог говорить
только с его собственных слов. Герцог де Гиз не знал, как оправдаться, и
недоумевал не меньше, чем сама принцесса, каким образом могла открыться их
связь. Разговор продолжался, и принцесса сказала, что он напрасно так
поторопился с женитьбой на принцессе Порсьенской и отказался от столь выгодного
брака с сестрой короля, тем более что она нисколько не ревновала к ней и сама
просила его в тот день, когда был балет, чтобы он смотрел только на ее
высочество. Герцог ответил, что, видимо, таково было ее намерение, но уста ее
этого не произнесли. Принцесса стояла на своем. Наконец, после долгих споров и
разбирательств, они поняли, что она, видимо, спутала его с герцогом
Анжуйским из-за сходства костюмов, и сама невольно выдала их тайну. Герцог де Гиз,
который и без того уже почти оправдался перед принцессой своей женитьбой,
теперь был совершенно чист в ее глазах. Она не могла не отдать свое сердце
человеку, который уже владел им некогда и который всем пожертвовал ради
нее. Она благосклонно выслушала клятвы и позволила ему думать, что не
совсем равнодушна к его страсти. Возвращение герцогини де Монпансье
прервало их беседу и помешало герцогу де Гизу излить свой восторг.
Вскоре после этого двор переехал в Блуа22, куда отправилась и принцесса
де Монпансье; там был заключен брак между ее высочеством и королем
Наварры, и герцог де Гиз, не желавший иного величия и успеха, кроме счастья
быть любимым принцессой де Монпансье, встретил это событие с радостью,
хотя прежде оно повергло бы его в отчаяние. Он не настолько хорошо
скрывал свои чувства, чтобы не дать повода для беспокойства ревнивому принцу де
Монпансье, и тот, желая избавиться от терзавших его подозрений, приказал
жене ехать в Шампиньи. Для принцессы это был страшный удар, однако ей
пришлось повиноваться. Она изыскала возможность проститься наедине с
герцогом де Гизом, но не могла придумать надежный способ для переписки.
Наконец, после долгих размышлений, она решила прибегнуть к помощи графа де
Шабана, в котором по-прежнему видела своего друга, не желая считаться с тем,
что он еще и влюблен. Герцог де Гиз, зная, как предан граф принцу, пришел
Принцесса de Монпансье
21
в ужас от ее выбора, но она успокоила его, уверив, что ручается за надежность
графа; герцог расстался с ней мучительно, испытывая всю горечь, какую только
может причинить разлука со страстно любимой женщиной.
Все время, пока принцесса оставалась при дворе, граф де Шабан лежал
больной у себя дома, но, узнав, что она едет в Шампиньи, догнал ее по
дороге, чтобы ехать вместе. Он был счастлив, увидев, как рада принцесса встрече
с ним и как ей не терпится с ним поговорить. Но каково же было его
разочарование, когда он понял, что нетерпение это вызвано единственным желанием
поскорее сообщить ему, как горячо любит ее герцог де Гиз и как любит его она
сама. От горя он не мог отвечать. Но принцесса испытывала столь сильную
потребность говорить о своей любви, что не замечала его молчания, она
принялась рассказывать в мельчайших подробностях историю своих отношений с
герцогом и сказала, что они условились вести переписку через него. Для
графа это было последним ударом: его потрясло, что любимая женщина
предлагает ему оказывать услуги сопернику и говорит об этом как о чем-то само собой
разумеющемся, ни на миг не задумываясь о том, какой пытке она его подвергает.
Однако он безукоризненно владел собой и сумел скрыть свое состояние,
выразив лишь удивление произошедшей в ней переменой. В первый момент он
подумал, что эта перемена, убив в нем надежду, неминуемо убьет и страсть, но,
любуясь против воли красотой принцессы и появившейся в ней новой
утонченностью, приобретенной при дворе, почувствовал, что любит ее еще сильнее, чем
прежде. Слушая ее, он оценил всю чистоту и изысканность ее чувств к
герцогу де Гизу, все благородство ее сердца, и его охватило безумное желание это
сердце завоевать. Поскольку страсть графа была поистине необыкновенной, то
и действие она произвела необыкновенное: он согласился передавать своей
возлюбленной письма соперника. Разлука с герцогом повергла принцессу в
смертельную тоску и, не ожидая облегчения ни от чего, кроме писем, она
беспрестанно изводила графа, спрашивая, нет ли для нее письма, и чуть ли не
винила его в том, что оно запаздывает. Наконец он получил для нее письмо с
нарочным и немедля отнес ей, чтобы ни на миг не отдалять ее минутного счастья.
Принцесса была счастлива безмерно. Она даже не пыталась скрыть свою
радость от графа и заставила его до дна испить горчайший яд, читая ему вслух
это письмо и свой любезный, нежный ответ. Он отнес ответ посланцу герцога,
исполненный все той же преданности и еще большей печали. Его немного
утешала надежда, что принцесса все же поймет, чего стоит ему роль посредника,
и выкажет ему свою признательность, но она становилась день ото дня все
суровее по отношению к нему, измученная страданием, которое причинял ей
другой. Наконец он не выдержал и взмолился, прося ее хоть на миг задуматься о
том, как она терзает его. Но все помыслы принцессы были заняты только
герцогом, которого она считала единственным человеком, достойным поклоняться
ей. Обожание другого смертного показалось ей столь оскорбительным, что она
дала графу еще более резкую отповедь, чем тогда, когда он в первый раз
признался ей в любви. Граф, потеряв самообладание, вышел от нее, покинул
Шампиньи и отправился к одному из своих друзей, жившему неподалеку. Оттуда
он написал принцессе гневное, но почтительное письмо, в котором прощался
22
Принцесса de Монпансье
с ней навсегда. Принцесса пожалела, что так жестоко обошлась с человеком,
над которым имела безграничную власть, и, не желая потерять его
окончательно — ибо ценила его как друга и не могла обойтись без него в своих отношениях
с герцогом де Гизом, — написала ему, что непременно хочет поговорить с ним
в последний раз, а потом он волен поступать как ему будет угодно. Человек
слаб, когда он влюблен. Граф вернулся, и не прошло и часа, как красота
принцессы, очарование ее ума и несколько приветливых слов сделали его еще
более покорным, чем прежде, — он даже вручил ей письма от герцога де Гиза,
которые только что получил.
В это время при дворе было решено вызвать в Париж всех вождей
гугенотов с тем чудовищным умыслом, который осуществился в день святого
Варфоломея23, и король, дабы ввести их в заблуждение, удалил от себя всех принцев
дома Бурбонов и дома Гизов. Принц де Монпансье вернулся в Шампиньи,
усугубив своим приездом муки принцессы, а все де Гизы отправились к своему
дяде, кардиналу Лотарингскому. Любовь и вынужденная праздность вызвали
у герцога де Гиза столь безудержное желание увидеться с принцессой де
Монпансье, что, не думая о том, чем это может обернуться и для нее, и для него,
он под предлогом путешествия оставил всю свою свиту в небольшом городке
и, взяв с собой лишь одного дворянина, того, который уже не раз ездил в
Шампиньи, отправился туда на почтовых лошадях. Поскольку с принцессой
можно было связаться только через графа де Шабана, он велел своему
провожатому написать графу записку с просьбой прибыть в условленное место. Граф
отправился на встречу, считая, что речь идет просто о получении писем для
принцессы, но каковы же были его удивление и горе, когда он увидел там
самого герцога де Гиза! Герцог, всецело поглощенный желанием увидеть
принцессу, обратил на смятение графа не больше внимания, чем принцесса на его
молчание, когда рассказывала ему о своей любви. Герцог принялся расписывать
ему во всех красках свою страсть и объяснять, что непременно умрет, если
граф не добьется от принцессы разрешения увидеть ее. Граф де Шабан сказал
лишь, что передаст принцессе его просьбу и вернется с ответом. Он пустился
в обратный путь, страдая так, что временами почти терял рассудок.
Несколько раз он склонялся к тому, чтобы отослать герцога назад, ничего не говоря
принцессе, но потом вспоминал о данном ей обете верности и отбрасывал это
решение.
Так он добрался до Шампиньи, все еще не зная, как ему поступить, но,
услышав, что принц де Монпансье на охоте, направился прямо в покои
принцессы; та, увидев, как сильно он взволнован, немедленно отослала прочь дам
своего окружения, желая поскорее узнать, что случилось. Стараясь сохранять
хладнокровие, граф сообщил, что герцог де Гиз находится поблизости от
Шампиньи и просит позволения увидеться с ней. Принцесса громко
вскрикнула при этом известии, и ею овладело смятение, сравнимое лишь со
смятением графа. В первый момент она думала лишь о счастье, которое сулила ей
встреча с любимым. Но потом, когда она поняла, что эта встреча идет
вразрез с ее долгом, что увидеться с герцогом она сможет, лишь впустив его
ночью к себе в комнату потихоньку от мужа, она пришла в полное отчаяние.
Принцесса de Монпансье
23
Граф ждал ее ответа, как если бы для него это был вопрос жизни и смерти,
но, догадавшись по ее молчанию, что она колеблется, он решился заговорить
и принялся объяснять ей, каким опасностям она подвергнет себя, если
согласится на это свидание. Желая доказать, что его слова продиктованы лишь
заботой о ней, он добавил:
— Если после всего, что я сказал вам, сударыня, страсть возобладает над
разумом и вы все-таки решитесь встретиться с герцогом, то пусть мое мнение вас
не останавливает, раз вас не останавливает забота о собственном благополучии.
Я не хочу лишать радости женщину, которую боготворю, и не хочу вынуждать
вас искать людей менее надежных и преданных, чем я, чтобы исполнить свое
желание. Если вам будет угодно, я отправлюсь за герцогом де Гизом сегодня
же вечером, ибо слишком опасно надолго оставлять его там, где он
находится, и приведу его к вам.
— Но как вы проведете его? — перебила принцесса.
— Ах, сударыня, — воскликнул граф, — значит, все уже решено, раз вы
обсуждаете только, как это сделать! Не волнуйтесь, он придет к вам,
счастливец! Я проведу его через парк, вы лишь прикажите самой преданной из
ваших камеристок, чтобы она ровно в полночь опустила маленький подъемный
мост, который ведет из ваших покоев в цветник, и больше ни о чем не
тревожьтесь.
Не дожидаясь ответа, граф вышел, вскочил на лошадь и отправился за де
Гизом, который ждал его, сгорая от нетерпения. Принцесса была так
взволнована, что не сразу пришла в себя. Первым ее порывом было вернуть графа и
запретить ему ехать за герцогом, но у нее не хватило сил, и она решила, что
если он и поедет, то она может просто не опускать мост. Остановившись на
этом решении, она считала его непоколебимым, но, когда время подошло к
одиннадцати, почувствовала, что не может более противиться желанию увидеть
герцога, которого полагала столь достойным любви, и приказала камеристке
опустить подъемный мостик. Тем временем герцог и граф де Шабан
подъезжали к Шампиньи, испытывая прямо противоположные чувства. Герцог
упивался предвкушением встречи и сладостью надежд, граф же был охвачен
бешенством и отчаянием и тысячу раз готов был проткнуть соперника шпагой.
Наконец они добрались до парка, оставили лошадей стремянному герцога де
Гиза, пробрались через пролом в стене и направились к цветнику. Граф де
Шабан при всем своем отчаянии еще хранил крохотную надежду, что рассудок
вернется к принцессе и она откажется от встречи с герцогом. Только увидев
опущенный мостик, он понял, что надеяться больше не на что, и в этот миг он
был способен на все. Однако стоило ему подумать о том, что если он устроит
шум, то его наверняка услышит принц де Монпансье, чьи покои выходили в тот
же самый цветник, и гнев его обрушится на принцессу, ярость его мгновенно
остыла, и он благополучно доставил герцога к ногам госпожи де Монпансье. Он
не решился присутствовать при их свидании, хотя принцесса просила его и сам
он втайне желал этого. Он удалился в небольшой коридор, ведущий на
половину принца, и стоял там во власти самых горьких мыслей, когда-либо
посещавших влюбленного. Между тем, хотя они почти не шумели, принц де Монпан-
24
Принцесса de Монпансье
сье, который, на беду, не спал в этот час, услышал в парке шорох и, разбудив
лакея, велел ему посмотреть, что происходит. Лакей выглянул в окно и увидел
сквозь тьму, что мостик опущен. Он доложил об этом своему господину, и тот
приказал ему тотчас же спуститься в парк и узнать, в чем дело. Через минуту
принцу послышались шаги, он встал и направился прямо на половину жены,
ибо именно туда и вел подъемный мост. В это время принцесса де
Монпансье, смущенная тем, что осталась с герцогом наедине, несколько раз
просила графа войти в комнату. Он, извиняясь, отказывался, но она продолжала
настаивать, и он, от гнева потеряв осторожность, ответил ей так громко, что это
услышал принц, как раз подходивший к коридору, где находился граф.
Принц не разобрал слов, но до него явственно донесся мужской голос, в
котором он не узнал голоса графа. Подобная неожиданность могла бы взбесить и
человека не столь ревнивого и вспыльчивого. Принц пришел в ярость, он
неистово застучал в дверь и потребовал, чтобы ему отворили, жесточайшим
образом поразив принцессу, герцога де Гиза и графа де Шабана. Услышав
крики принца, граф сразу понял: утаить, что в комнате принцессы кто-то есть, уже
невозможно, но если принц застанет там герцога де Гиза, он убьет его на
глазах у принцессы, и еще неизвестно, оставит ли в живых ее самое, поэтому он
решил, движимый беспримерным благородством, принять гнев принца на себя
и этим спасти свою неблагодарную возлюбленную и счастливого соперника.
Пока принц колотил в дверь, он бросился к герцогу де Гизу, не знавшему, что
предпринять, и передал его камеристке, чтобы та вывела его из замка, а сам
приготовился встретить принца. Едва герцог вышел через переднюю комнату,
как принц, выломав дверь, ворвался в покои жены, ища глазами, на кого
обрушить свою ярость. Но, увидев графа де Шабана, который стоял, опершись
на стол и словно окаменев от горя, он и сам застыл, потеряв от удивления дар
речи, ибо меньше всего ожидал застать здесь этого человека, столь для него
дорогого. Принцесса лежала на полу в полуобмороке. Наверно, никогда еще
судьба не сталкивала между собой трех человек, охваченных столь бурными
чувствами. Наконец принц, не веря своим глазам и желая выяснить, что
значит весь этот хаос, обратился к графу, и в тоне его чувствовалось, что
дружеские чувства еще борются в нем с подозрениями.
— Что я вижу? — воскликнул он. — Уж не мерещится ли мне? Возможно ли,
чтобы человек, которого я так люблю, пытался соблазнить мою жену, не
найдя для этого другой женщины среди всех, какие есть в мире? А вам,
сударыня, — продолжал он, повернувшись к принцессе, — разве не довольно было
лишить меня чести и своей любви? Зачем вы отняли у меня вдобавок
единственного друга, который мог бы утешить меня в моем горе? Пусть же кто-нибудь
из вас двоих объяснит мне, что здесь происходит, ибо я не могу поверить
своим глазам.
Принцесса не в силах была отвечать, а граф де Шабан лишь беззвучно
открывал рот — голос не повиновался ему.
— Я виновен перед вами, — вымолвил он наконец, — и недостоин той
дружбы, которой вы одарили меня, но вина моя не в том, в чем вы можете меня
заподозрить. Я более несчастен, чем вы, если такое возможно, и отчаянию мое-
Принцесса de Монпансье
25
му нет предела. Я не вправе сказать вам больше. Смерть искупит мое
преступление, и, если вам угодно убить меня прямо сейчас, вы исполните тем самым
единственное мое желание.
Эти слова, произнесенные со смертельным страданием во взгляде, ясно
говорившем о полной невиновности графа, ничего не объяснили принцу и
только еще крепче убедили его в том, что в этой истории есть некая тайна,
разгадать которую он не в силах. Неопределенность сокрушила его
окончательно.
— Лучше уж вы убейте меня, — сказал он графу, — или прекратите эту
пытку. Это самое малое, к чему обязывает вас моя былая дружба, ибо только
благодаря ей вы еще живы — любой другой на моем месте уже отомстил бы вам
за оскорбление, в котором я почти не сомневаюсь.
— Видимость глубоко обманчива, — вставил граф.
— Это чересчур! — вскричал принц. — Сначала я отомщу вам, а потом уж
буду заниматься выяснениями.
С этими словами он в бешенстве бросился к графу, но принцесса,
испугавшись беды, которая, впрочем, не могла произойти, ибо у принца не было при
себе шпаги, поднялась, чтобы встать между ними. Она так обессилела, что
ноги не держали ее, и, едва приблизившись к мужу, она упала без чувств.
Сердце принца дрогнуло при виде ее слабости и того спокойствия, с которым
граф ждал его приближения. Не имея более сил смотреть на этих двух
человек, вызывавших у него столь противоречивые чувства, он отвернулся и
опустился на кровать принцессы, сраженный невыразимым горем. Граф де Ша-
бан, полный раскаяния, оттого что злоупотребил дружбой, которую принц не
раз имел случай ему доказать, и уверенный, что загладить вину ему не
удастся вовеки, стремительно вышел во двор, приказал подать лошадей и ускакал
куда глаза глядят, гонимый отчаянием. Тем временем принц де Монпансье,
видя, что принцесса никак не приходит в себя, поручил ее заботам женщин
и удалился в свою опочивальню, безмерно страдая. Герцог де Гиз
благополучно выбрался из парка, едва сознавая от волнения, что с ним происходит,
и отъехал от Шампиньи на несколько лье, однако он не мог ехать дальше, не
узнав, что сталось с принцессой. Он остановился в лесу и послал
стремянного спросить у графа де Шабана, чем закончилась эта ужасная сцена.
Стремянный графа не нашел и узнал только, что, по слухам, принцесса опасно
заболела. Услышав это, герцог встревожился еще больше, но, не имея
возможности что-либо предпринять, вынужден был отправиться восвояси, дабы не
вызвать подозрений слишком долгим отсутствием. Принесенное стремянным
известие о болезни принцессы де Монпансье оказалось верным: когда ее
уложили в постель, у нее поднялся сильный жар, всю ночь она металась в
тяжелом бреду, и уже наутро возникли опасения за ее жизнь. Принц тоже сказался
больным, чтобы никто не удивлялся, отчего он не приходит ее проведать.
Приказ явиться ко двору, разосланный всем принцам-католикам, которых
вызывали для уничтожения гугенотов, вывел его из затруднительного
положения. Он уехал в Париж, так и не зная, чем кончится болезнь жены и
какого исхода ему следует желать или опасаться. Не успел он прибыть в столи-
26
Принцесса de Монпансье
цу, как там начались убийства гугенотов: первым пострадал их вождь,
адмирал де Шатийон, а через два дня произошла ужасная резня, печально
известная по всей Европе. Несчастный граф де Шабан, укрывшийся на окраине
одного из парижских предместий, дабы в уединении предаться своему горю,
разделил участь бывших единоверцев. Хозяева дома, где он нашел приют,
узнали его и, вспомнив, что некогда его подозревали в принадлежности к
партии гугенотов, убили его в ту самую ночь, которая стала роковой для
стольких протестантов. Наутро принц де Монпансье, отправившись за город
сделать кое-какие распоряжения, проезжал по той самой улице, где лежал
труп графа. Он был поражен этим душераздирающим зрелищем, в нем
проснулись на миг былые дружеские чувства, и он опечалился, но потом,
вспомнив об оскорблении, которое якобы нанес ему граф, обрадовался, сочтя, что
за него отомстила сама судьба. Герцог де Гиз, охваченный поначалу желанием
отомстить за смерть отца, а потом и упоением этой местью, все меньше и
меньше тревожился о том, что сталось с принцессой де Монпансье: встретив
маркизу де Нуармутье24, даму весьма умную и красивую, к тому же сулившую
больше приятных надежд, нежели принцесса, он полностью отдал ей свое
сердце, полюбив ее страстной любовью, которая угасла лишь вместе с его жизнью.
Между тем недуг принцессы, после того как миновал кризис, начал отступать.
Она пришла в сознание, сообщение об отъезде принца принесло ей
облегчение, и появилась надежда на выздоровление. Силы, однако, возвращались к
ней медленно из-за тяжелых душевных переживаний; ее неотступно терзала
мысль, что за все время своей болезни она не имела никаких известий о
герцоге де Гизе. Она спросила у дам из своего окружения, не приходил ли к ней
кто-нибудь и не было ли для нее писем. Не услышав ничего утешительного,
она почувствовала себя несчастнейшим существом на свете, ибо человек, ради
которого она рисковала всем, покинул ее. Еще одним потрясением стала для
нее гибель графа де Шабана, о которой она узнала стараниями принца де
Монпансье. Неблагодарность герцога де Гиза заставила ее еще тяжелее
переживать утрату друга, чья преданность была ей так хорошо известна. Столько
тяжких потерь вскоре вновь повергли ее в то опасное состояние, от которого
она едва успела оправиться. И, поскольку маркиза де Нуармутье была из тех
женщин, которые прилагают столько же усилий к тому, чтобы об их любовных
похождениях стало известно, сколько другие к тому, чтобы их скрыть, ее связь
с герцогом де Гизом получила такую широкую огласку, что принцесса де
Монпансье, даже болея и живя вдали от Парижа, не могла остаться в неведении.
Этот последний удар стал для нее смертельным. Она потеряла все: самого
верного в мире друга, уважение мужа, сердце возлюбленного — и не смогла
пережить боль этих утрат. За несколько дней смерть унесла в расцвете лет эту
прекраснейшую принцессу25, которая могла бы стать и счастливейшей, если бы
всегда поступала так, как велят добродетель и благоразумие.
ГРАФИНЯ ТАНДСКАЯ
Дочь маршала Строцци1, близкая родственница Екатерины Медичи,
вышла замуж в первый год ее регентства за графа Тандского из Савойского дома;2
это был один из самых блистательных придворных той поры, красивый, богатый
и более способный внушать уважение, нежели любовь. Молодая супруга,
однако, поначалу страстно влюбилась в него. Она была столь юной, что он
относился к ней как к ребенку и вскоре увлекся другой. Графиня Тандская, пылкая,
темпераментная итальянка, начала ревновать, она не давала покоя ни себе, ни
мужу; он стал избегать ее и прекратил с ней супружеские отношения.
Графиня делалась день ото дня все красивее и проявляла незаурядный ум,
свет начал восхищаться ею, она же была занята только собой и незаметно
излечилась и от ревности, и от любви.
Она близко подружилась с принцессой Невшательской3, молодой, красивой
вдовой, унаследовавшей после смерти мужа его владения и титул, что делало
ее одной из самых блистательных невест при дворе.
Шевалье Наваррский4, в чьих жилах текла кровь властителей этого
королевства, тоже был молод, красив, умен и благороден, но волею судьбы не имел
иного достояния, кроме высокого рождения. Он остановил свой выбор на
принцессе Невшательской, угадав в ней женщину не только умную, но и страстную,
брак с которой мог бы принести богатство и положение такому человеку, как
он. Он начал ухаживать за ней, не будучи влюблен, и добился расположения
с ее стороны: она принимала его ухаживания, но он был еще весьма далек от
полного успеха. Никто не знал о его намерениях, он открылся лишь самому
близкому своему другу, который был одновременно другом графа Тандского.
Он уговорил шевалье Наваррского довериться графу, чтобы тот похлопотал за
него перед принцессой. Граф любил шевалье; желая ему помочь, он
обратился к жене, уже успевшей заслужить его уважение, и попросил ее поговорить с
принцессой.
Принцесса Невшательская еще прежде призналась ей в своей склонности
к шевалье, графиня постаралась углубить эту склонность. Шевалье нанес
графине визит, чтобы обо всем условиться, но с первого же взгляда полюбил ее.
Поначалу он противился этому чувству, понимая, как трудно будет ему достичь
цели, разрываясь между честолюбием и любовью. Однако, чтобы устоять, ему
надо было пореже видеться с графиней, а он видел ее чуть ли не каждый день,
добиваясь с ее помощью благосклонности принцессы Невшательской; в конце
30 Графиня Тандская
концов он влюбился без памяти. Ему плохо удавалось скрывать любовь,
графиня все поняла, это польстило ее самолюбию, и она почувствовала
непреодолимое влечение к нему.
Однажды, когда она говорила о том, каким счастьем было бы для него
жениться на принцессе Невшательской, он вдруг сказал, устремив на нее пылкий
взгляд, в котором ясно читалась страсть:
— Неужели вы думаете, сударыня, что я не предпочел бы браку с
принцессой совсем иное счастье?
Речи и взгляд шевалье поразили графиню, она посмотрела на него так же,
как смотрел на нее он, оба в смущении смолкли, и молчание их было
красноречивее всяких слов. С этого дня графиней овладела душевная смута,
лишившая ее покоя: ее терзали угрызения совести оттого, что она отняла у подруги
привязанность человека, за которого та собиралась замуж единственно ради
любви, рискуя навлечь на себя всеобщее осуждение и сознавая, что вступает в
неравный брак.
Графиню ужасало собственное предательство. Позор и опасность
недозволенной любви страшили ее, она словно видела пропасть, которая уже
разверзлась у ее ног, и решила победить в себе чувство к шевалье.
Ей не хватило твердости выполнить это решение. Принцесса уже почти
согласилась на брак, но ее смущало поведение шевалье Наваррского: как ни
любила она его и как ни старался он ее обмануть, она чувствовала его холодность.
Она пожаловалась графине, та успокоила ее, но жалобы принцессы повергли
ее в смятение. Она еще острее почувствовала всю глубину своего предательства
и испугалась, что оно может обездолить столь дорогого ей человека. Графиня
рассказала шевалье о колебаниях принцессы. Он выразил полное безразличие
ко всему, кроме одного — любит ли его графиня, однако, уступив ее
настояниям, постарался рассеять подозрения принцессы, и вскоре та сказала графине,
что вполне довольна шевалье Наваррским.
Тут графиню охватила ревность. Она испугалась, как бы шевалье и в
самом деле не полюбил принцессу, понимая, что у него есть для этого все
основания. Одна мысль об их браке, которого она так желала, теперь
вызывала у нее дрожь. Тем не менее она не хотела, чтобы шевалье отказался от него,
и пребывала в мучительнейших переживаниях. Она поделилась с шевалье
своими угрызениями совести, но сочла за лучшее утаить от него ревность и
полагала, будто это ей удалось.
Любовь восторжествовала в конце концов над всеми сомнениями
принцессы, она решилась на брак, но предпочла венчаться тайно и объявить о своем
замужестве позднее.
Графиня Тандская чуть не умерла от горя. В тот день, на который назначили
венчание, происходила какая-то официальная церемония, и муж ее должен был
на ней присутствовать. Она отправила туда всех дам своего окружения,
объявила, что никого не принимает, и, запершись у себя в кабинете, бросилась на
кушетку во власти жесточайших мук, какие только могут причинить
человеку угрызения совести, любовь и ревность.
Неожиданно она услышала, как в кабинете открывается потайная дверь, и
Графиня Тандскал 31
перед ней предстал шевалье Наваррский в парадном одеянии; таким красивым
она его не видела никогда.
— Шевалье, — воскликнула графиня, — как вы сюда попали? Что вам
нужно? Вы сошли с ума! Как же ваша женитьба? Подумали ли вы о моем добром
имени?
— Не беспокойтесь о своем добром имени, сударыня, — отвечал он. — Никто
не знает и не может знать, что я здесь. О моей женитьбе не стоит говорить. Мне
не нужно богатство, мне нужна только ваша любовь, ни о чем другом я не хочу
и слышать. Вы дали мне понять, что я вам не противен, но хотели скрыть от
меня, что я имею счастье опечалить вас своей женитьбой. Я пришел вам
сказать, что я не женюсь, этот брак будет для меня пыткой, а я хочу жить
только для вас. Меня сейчас ждут, все готово, но я откажусь от венчания, если это
будет вам приятно и послужит доказательством моей любви.
Графиня без сил опустилась на кушетку, с которой привстала при
появлении шевалье, и, глядя на него полными любви и слез глазами, произнесла:
— Вы хотите моей смерти? Неужели вы думаете, что человеческое
сердце в силах вынести все, что вы заставляете меня пережить? Отказаться из-за
меня от богатства и высокого положения! Я не могу допустить даже мысли
об этом. Идите же, не медля ни минуты, к принцессе Невшательской, идите
к уготованному вам блестящему будущему! Мое сердце вы не потеряете. С
муками совести, сомнениями, ревностью, которые я так и не сумела утаить от
вас, я справлюсь сама, как подскажет мне мой слабый рассудок, но вы
никогда больше меня не увидите, если сейчас же не пойдете и не обвенчаетесь со
своей невестой. Идите же скорее, но ради меня и ради себя самого
откажитесь от своей безрассудной любви ко мне, ибо она неминуемо принесет нам
обоим одни несчастья.
Сначала шевалье обезумел от радости, осознав, как искренне любит его
графиня, но ужас перед тем, что он должен навеки связать себя с другой, охватил
его с новой силой. Он в отчаянии залился слезами и пообещал графине все, что
она требует, но при условии, что сможет еще раз увидеться с ней в этой же
комнате. Она пожелала узнать, как он туда проник. Он сказал, что доверился ее
стремянному, который прежде служил у него, и тот провел его через
внутренний двор, куда выходит маленькое крыльцо и дверь, ведущая к этому кабинету
и в комнату стремянного.
Между тем приближался час бракосочетания, и шевалье по настоянию
графини принужден был уйти. Он шел, словно на казнь, навстречу величайшему
благополучию, когда-либо выпадавшему на долю младшего сына без титула и
состояния. Можно себе представить, в каком смятении чувств графиня
провела эту ночь. Наутро, вскоре после того, как она позвала своих дам и двери ее
спальни открылись, к ее постели подошел стремянный и незаметно подложил
ей письмо. При виде письма графиня вздрогнула, ибо сразу узнала почерк
шевалье Наваррского и ей показалось невероятным, чтобы в первую брачную
ночь у него нашлось время ей написать. Она испугалась, что, по его или не по
его вине, бракосочетание не состоялось. В большом волнении она распечатала
письмо, гласившее примерно следующее:
32 Графиня Тандская
«Я не могу думать ни о ком, кроме Вас, и вижу перед собой лишь Вас одну.
В первую же ночь законного обладания самой блистательной невестой
Франции я, едва дождавшись рассвета, покинул спальню, дабы сообщить Вам, что
уже тысячу раз раскаялся в том, что Вас послушался и не бросил все, чтобы
жить только ради Вас».
Это письмо, особенно учитывая момент, когда оно было написано, глубоко
растрогало графиню. По приглашению принцессы Невшательской она
отправилась к ней на обед. Ее замужество было оглашено. У принцессы собралось
множество гостей, но, едва увидев графиню, она покинула всех и провела ее в
свой кабинет. Не успели они сесть, как принцесса залилась слезами. Графиня
подумала, что она тяжело переживает оглашение их брака, которое оказалось
труднее выдержать, чем полагала принцесса, но вскоре выяснилось, что дело
не в этом.
— Ах, что я наделала! — воскликнула принцесса. — Я вышла замуж по
любви, вступила в неравный брак, всеми осуждаемый и унизительный дая меня, а
тот, ради кого я пожертвовала всем, любит другую!
Графиня чуть не потеряла сознание: она решила, что принцесса, догадавшись
об измене мужа, неизбежно должна была догадаться и о том, кто ее соперница.
Она не смогла ничего произнести в ответ. Принцесса Наваррская (такое имя она
стала носить после замужества) не обратила на это внимания и продолжала:
— Принц Наваррский, сударыня, весьма далекий от нетерпения, которое
должен был бы испытывать новобрачный, заставил себя ждать вчера вечером. Он
пришел понурый, смущенный, явно занятый посторонними мыслями, и вышел
из спальни с первыми проблесками рассвета под первым попавшимся
предлогом. Но он что-то писал, я заметила это, взглянув на его руки. Кому он мог
писать, как не любовнице? Почему он так медлил вчера, и чем были
поглощены его мысли?
Разговор был прерван сообщением о приезде принцессы де Конде5.
Принцесса Наваррская поспешила ей навстречу, оставив графиню, не находившую себе
места от волнения. В тот же вечер она написала принцу Наваррскому о
подозрениях его жены, призывая его к выдержке и самообладанию. Риск и препятствия
не охладили их взаимную страсть, графиня окончательно потеряла покой, и
ночной сон больше не приносил ей облегчения. Однажды утром, когда она
дозволила своим дамам войти в ее спальню, к ней подошел стремянный и тихо
сказал, что принц Наваррский ждет ее в кабинете и умоляет поговорить с ним, ибо
хочет сообщить ей нечто очень важное. Мы легко сдаемся, когда нам этого
хочется. Графиня знала, что мужа нет дома; она объявила, что собирается спать,
велела дамам уйти, закрыть двери и не возвращаться, пока она не позовет.
Принц Наваррский вышел из кабинета и бросился на колени перед ее кроватью.
— Что вы хотели мне сказать? — спросила она.
— Что я люблю вас, сударыня, обожаю и не могу жить с принцессой Наварр-
ской. Желание видеть вас овладело мною сегодня с такой силой, что я не смог
устоять. Я отважился прийти сюда, положась на волю случая и даже не
надеясь поговорить с вами.
Графиггя Тандская 33
Графиня сначала попеняла ему за то, что он так неосмотрительно
компрометирует ее, но потом они завели беседу о своей любви и так
заговорились, что граф успел вернуться домой. Он пошел к жене, но ему сказали, что
она спит. Было уже поздно, он решился войти и обнаружил в спальне
принца Наваррского, который так и стоял на коленях перед постелью графини.
Трудно вообразить удивление графа и смятение его супруги, один только
принц не утратил присутствия духа и, не смутившись и не вставая с колен,
воскликнул:
— Идите скорее сюда, граф, помогите мне добиться от вашей жены
милости, которую я вымаливаю на коленях, но пока что безрезультатно.
Тон и выражение лица принца немного успокоили графа.
— Не знаю, не знаю, — отвечал он в тон принцу, — хочу ли я, чтобы моя жена
оказала вам эту милость, о которой вы просите ее на коленях, пока она якобы
почивает, а вы пребываете с ней наедине и вашей кареты нет у ворот.
Принц Наваррский, успокоившись и собравшись с мыслями, поднялся с
колен и сел с полной непринужденностью, графиня же, дрожащая и обезумевшая
от страха, скрыла свое смятение в тени алькова. Принц Наваррский заговорил
снова:
— Вы, конечно, будете удивлены и осудите меня, граф, но вы должны мне
помочь. Я влюблен в самую красивую женщину при дворе и любим ею. Вчера
вечером я ускользнул от принцессы Наваррской и тайком от своих людей
отправился на свидание со своей возлюбленной. Моя жена, которая уже
догадывается, что мысли мои заняты другой, и внимательно следит за мною, выведала у
моих людей, что я покинул их. Ее ревность и отчаяние не знают границ. Я
солгал, что был в это время у госпожи де Сент-Андре, супруги маршала6, которая
нездорова и почти никого не принимает. Я сказал, что там была только графиня
Тандская, и она может спросить у графини, видела ли она меня там вчера
вечером. Мне пришлось довериться вашей супруге. Я отправился к Ла-Шатру,
который живет тут неподалеку, вышел от него тайком, явился сюда, и мне
сказали, что графиня уже проснулась. Я никого не встретил в приемной и
осмелился войти. Но графиня отказывается солгать ради меня, она говорит, что не
может предать подругу, и читает мне наставления, глубоко справедливые, — все это
я не раз уже говорил себе сам, но тщетно. Надо как молено скорее излечить
принцессу от ревности и избавить меня от ее мучительных упреков.
Графиня Тандская была поражена находчивостью принца не меньше, чем
возвращением мужа, она постепенно успокоилась, и граф ни о чем не
догадался. Приняв сторону жены, он начал объяснять принцу, как
облагодетельствовала его принцесса и в какую пучину бедствий грозит ввергнуть его преступная
связь. В конце концов графиня пообещала сказать принцессе все, что велит ей
муж.
Принц уже собрался уходить, но граф остановил его в дверях:
— В благодарность за услугу, которую мы, в ущерб истине, готовы вам
оказать, откройте нам, по крайней мере, кто же ваша прекрасная возлюбленная.
Должно быть, это не слишком достойная особа, если она продолжает любить
вас и поддерживать с вами нежные отношения, зная, что вы связали свою судь-
3. Заказ № К-6559
34 Графиня Тандская
бу с такой красавицей, как принцесса Наваррскал, которой вы к тому же
обязаны всем. Видимо, она неумна, малодушна и не ведает приличий и, по
правде говоря, вовсе не заслуживает того, чтобы из-за нее губить выпавшее вам
счастье и брать на душу грех лжи и неблагодарности.
Принц не знал, что ответить, и сделал вид, будто очень торопится. Граф сам
проводил его, чтобы помочь ему выйти незамеченным.
Графиня обезумела от сознания опасности, которой чудом избежала, от
горьких слов мужа и от предчувствия грядущих несчастий, уготованных ей
любовью. Однако подавить в себе любовь у нее не хватало сил. Она продолжала
видеться с принцем, прибегая к помощи Лаланда, своего стремянного. Она
считала себя несчастнейшим существом на свете и была недалека от истины.
Принцесса Наваррская каждый день поверяла ей свои горести, виновницей
коих она себя сознавала; ревность принцессы вызывала у нее муки совести, а
когда принцесса была довольна мужем, сама начинала ревновать.
Ко всем ее страданиям добавилось новое: граф Тандский пылко влюбился
в нее, словно она и не была его женой. Он теперь не отходил от нее ни на шаг
и пожелал вернуть себе права, которыми некогда пренебрег.
Графиня воспротивилась этому с решительностью и неприязнью,
граничащей с презрением: она считала лишь принца Наваррского достойным себя, и
страсть любого другого человека ее лишь раздражала и оскорбляла. Граф в
полной мере почувствовал всю унизительность столь резкого отказа.
Уязвленный до глубины души, он заверил жену, что больше никогда в жизни не
станет докучать ей, и холодно с ней распрощался.
Близилась война, принц Наваррский должен был отправляться в армию.
Графиня Тандская, заранее предчувствуя горечь разлуки и страшась за жизнь
возлюбленного, была не в силах скрыть свое удрученное состояние и, дабы
избежать необходимости притворяться, решила провести весну и лето в своем
поместье, в тридцати лье от Парижа.
Она уехала; их прощание с принцем было таким мучительным, что они оба
не могли не увидеть в этом дурное предзнаменование. Граф Тандский
остался при короле, как того требовала его должность.
Двор последовал за армией; замок графини Тандской находился
неподалеку, и муж сообщил ей, что собирается приехать на одну ночь по делу,
связанному с его незаконченными трудами. Граф не хотел давать ей повод
думать, будто едет ради нее: в душе его все еще кипела досада отвергнутого
влюбленного. Принц Наваррский был всегда так почтителен с графиней, а
она сама столь твердо полагалась на свою добродетель, что ей не приходило
в голову опасаться искушения. Однако время и представившийся случай
восторжествовали над ее добродетелью и над его почтением, и вскоре после
отъезда из Парижа графиня обнаружила, что беременна. Достаточно
вспомнить о завоеванной ею безупречной репутации и о том, в каких отношениях
она была с мужем, чтобы судить об ее отчаянии. Несколько раз она хотела
покончить с собой, но предполагаемый приезд мужа вселил в нее некоторую
надежду, и она решила дождаться результатов. В этом подавленном
состоянии она имела несчастье узнать о скоропостижной кончине Лаланда, которого
Графиня Тандская 35
оставила в Париже, чтобы вести через него переписку с принцем. С его
смертью она лишилась последней поддержки в тот самый момент, когда более
всего в ней нуждалась.
Между тем армия осадила какой-то город. Несмотря на свое отчаянное
положение, графиня день и ночь терзалась страхом за принца Наваррского.
Худшие ее опасения оправдались: получив письма из армии, она узнала о
конце осады и о том, что принц Наваррский погиб в последний день.
Графиня лишилась чувств и несколько дней пребывала в состоянии беспамятства.
Непомерность ее горя казалась ей временами своего рода утешением. Она не
боялась больше ни за свой покой, ни за свою репутацию, ни за свою жизнь —
только смерть была ей желанна. Она надеялась, что горе убьет ее или она сама
наложит на себя руки. Стараясь кое-как соблюсти приличия, графиня
объявила, что ее мучат жестокие боли, дабы оправдать свои стоны и слезы.
Страдания заставили ее задуматься о своей жизни, она поняла, что заслужила их, но
натура и христианская вера удерживали ее от самоубийства.
Горе ее было еще совсем свежим, когда внезапно приехал граф. Она
думала, что уже испытала все муки своего положения, но приезд мужа стал для
нее новым испытанием. Ему сказали, что она больна, и, поскольку граф
никогда не нарушал правил благопристойности в глазах общества и домочадцев,
он первым делом направился к ней. Он нашел графиню в ужасном состоянии,
она выглядела как помешанная и не смогла сдержать стенаний и слез при его
появлении, объяснив их мучительными болями. Граф пожалел жену,
смягчился и, желая отвлечь ее, начал рассказывать о гибели принца Наваррского и
неутешном горе его вдовы.
Графиня не выдержала, слезы хлынули из ее глаз с такой силой, что граф
поразился и заподозрил правду; растерянный и удрученный, он вышел из
комнаты жены, усомнившись в том, что ее состояние вызвано телесным
недугом. Этот бурный поток слез, усилившийся, когда он заговорил о смерти
принца, потряс графа, и в памяти его внезапно всплыл случай, когда он
застал принца на коленях у постели графини. Вспомнил он и то, как она
обошлась с ним, когда он захотел к ней вернуться, и картина для него
прояснилась, хотя у него еще оставались некоторые сомнения, порождаемые
обычно самолюбием в отношении неприятных открытий, в которые нам слишком
тяжело поверить.
Граф пришел в неистовство. Его охватила жажда мести, но он был
человеком благоразумным и потому решил, не поддаваясь первому порыву,
назавтра с утра уехать, отложив на время выяснение подробностей и принятие
решений.
Хотя графиня была вне себя от горя, она все же заметила, с каким
видом муж вышел из ее комнаты, и поняла, что выдала себя. Не страшась
более за свою жизнь, к которой она теперь питала лишь отвращение, она
решила расстаться с ней так, чтобы не лишать себя надежды на жизнь
вечную.
Во власти смертельных терзаний, горя и раскаяния, она кое-как собралась
с мыслями и решилась написать мужу следующее:
36 Графиня Тандская
«Это письмо будет стоить мне жизни, но я заслуживаю смерти и желаю её.
Я беременна. Того, кто стал причиной моей беды, нет более в живых, так же
как и единственного человека, который знал о наших отношениях, общество же
никогда о них не подозревало. Я хотела своими руками лишить себя жизни, но
теперь вверяю ее Богу и Вам во искупление своей вины. Я берегла свою честь
в глазах света, ибо моя репутация принадлежит не только мне, но и Вам —
сохраните же ее ради себя самого. Мое положение скоро будет заметно, не
открывайте никому его истинную причину и убейте меня, когда Вам будет угодно и
каким угодно способом».
За окнами уже забрезжил рассвет, когда графиня дописала это признание,
наверно, одно из самых мучительных, какие были когда-либо писаны женской
рукой. Запечатав его, она подошла к окну и увидела во дворе графа Тандско-
го, собиравшегося сесть в карету. Она послала к нему служанку с письмом,
велев сказать, что в нем нет ничего срочного, и граф может прочесть его, когда
будет время. Граф удивился письму, и, хотя он не мог полностью угадать его
содержание, у него возникло смутное предчувствие, что оно как-то связано с его
вчерашними подозрениями. Он сел в карету и от волнения не сразу решился
вскрыть письмо, хотя ему не терпелось его прочесть; наконец он прочел и узнал
о своем несчастье. Какие только мысли не посетили его в эту минуту! Если бы
кто-то увидел его в этом состоянии, то наверняка решил бы, что граф либо
сошел с ума, либо прощается с жизнью. Ревность и подозрения обыкновенно
подготавливают мужей к такого рода несчастьям, они даже догадываются иногда
о виновнике, но, как бы они ни были проницательны, у них нет той
уверенности, которую дает человеку признание.
Граф Тандский находил свою жену весьма привлекательной, хотя и не
всегда любил ее должным образом, но, главное, она казалась ему самой
достойной среди всех известных ему женщин, поэтому удивление его было не
менее сильным, чем гнев, к которому против его воли примешивалась боль
затаенной любви.
Он остановился в каком-то доме, встретившемся ему по пути, и провел там
несколько дней в душевном смятении, которое легко вообразить. Сначала им
владели чувства вполне обычные для его положения, — он хотел немедленно
убить жену, но мысль о смерти принца Наваррского и Лаланда, в котором он
без труда угадал их доверенное лицо, слегка остудила его ярость. В том, что об
этой истории больше никто не знает, граф не сомневался, уверенный, что
женитьба принца Наваррского вполне могла ввести в заблуждение всех, коль
скоро она ввела в заблуждение его самого. Это отчасти облегчало его страдания,
но, когда он вспоминал о том, каким образом и сколь ужасно был обманут,
сердце его разрывалось, и он жаждал только мести. Однако он сообразил, что,
если он убьет жену и обнаружится, что она была беременна, все сразу же
поймут, в чем дело. Поэтому, будучи человеком чрезвычайно гордым, он решил,
дабы не уронить себя, сохранить все в тайне и отправил к графине посланца
с такой запиской:
Графиня Тандская 37
«Желание скрыть свой позор вынуждает меня на время отложить месть. В
дальнейшем я решу, как поступить с Вашей недостойной жизнью. Ведите себя
так, как если бы Вы всегда исполняли свой долг».
Графиня прочла записку с радостью. Она считала ее своим смертным
приговором, но, поняв, что муж разрешает ей не скрывать своего положения,
убедилась в том, что стыд — самое сильное из человеческих чувств. Она обрела
некоторое спокойствие от сознания, что смерть ее — дело решенное, а
репутация спасена. Не интересуясь более ничем в этом мире, она стала готовить
себя к смерти и, поскольку по натуре была человеком страстным, обратилась
к благочестию и покаянию с таким же пылом, с каким прежде предавалась
любви. Душа ее, отрешась от надежд, была преисполнена печали, все земное
отвращало взор, и графиня не видела иного избавления от страданий, кроме
конца своей несчастной жизни. Она прожила так некоторое время, словно
живая покойница. На исходе шестого месяца беременности здоровье ее не
выдержало, у нее началась затяжная лихорадка, и она родила намного раньше
срока. Судьба послала ей утешение видеть своего ребенка живым, при этом
она знала, что он не выживет и она не оставит мужу незаконного
наследника. Графиня скончалась несколько дней спустя7 и встретила смерть с
радостью, доселе еще не виданной. Она поручила своему исповеднику сообщить
мужу о ее смерти, передать, что она просит его простить ее и навеки изгнать
из памяти ее образ, который не может вызывать у него ничего, кроме
ненависти.
Граф Тандский воспринял это известие без ожесточения и даже с известной
долей сострадания, но тем не менее с радостью. Несмотря на свою молодость,
он не пожелал больше вступать в брак, испытывая к женщинам одно лишь
отвращение, и дожил до весьма преклонных лет8.
ЗАИДА
ИСПАНСКАЯ ИСТОРИЯ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Испания освобождалась от засилья мавров1. Население, в свое время
бежавшее от них в земли Астурии2, основало королевство Леон3. Те, кто укрылся в
Пиренеях, создали королевство Наварра4. Возникли также Барселонское5 и
Арагонское6 графства. Потребовалось полтора века, прежде чем Испания
сумела освободить от завоевателей более половины своей территории.
Из всех тогдашних христианских правителей самым грозным считался леон-
ский король Альфонс, прозванный Великим7. Уже его предшественники
присоединили к королевству Кастилию, и первоначально различными частями этой
провинции управляли губернаторы, которые в конце концов превратили свое
губернаторство в наследственную должность. Появились опасения, как бы они не
заявили о своей самостоятельности и о создании собственных королевств. Все они
именовали себя графами Кастильскими, и самыми могущественными среди них
считались Диего Порсельос и Нуньес Фернандо8. Фернандо, прославившийся
остротой ума, владел огромными угодьями. Своей славой он был обязан не
только нажитому богатству, но и своим детям — судьба подарила ему сына и дочь
необычайной красоты. С его сыном, Консалвом9, не мог сравниться ни один
испанский юноша; он настолько выделялся среди сверстников умом и внешностью, что
казалось, будто небо наделило его тем, чего лишило остальных.
Однако немилостивая судьба понудила Консалва оставить королевский двор
в Леоне. Преследуемый напастями10, Консалв принял решение покинуть
Испанию и окончить жизнь в уединении. В тот печальный день, собравшись на
скорую руку, он оседлал коня и направился к каталонскому побережью, с тем
чтобы на первом же корабле отплыть на один из греческих островов.
Углубленный в свои мысли, юноша нередко сбивался с пути и, вместо того чтобы
пересечь Эбро у Тортосы11, спустился по берегу реки почти до самого устья.
Только тут он заметил, что сделал немалый крюк, и попытался найти лодку.
Добрые люди объяснили ему, что в этих краях лодки он не найдет, но если
продолжит путь, то вскорости попадет в небольшой порт, а оттуда морем
сможет добраться до Таррагоны12. Он так и сделал. В порту он сошел с лошади и
спросил у рыбаков, нет ли какого суденышка, готового к отплытию.
Во время его разговора с рыбаками на него обратил внимание мужчина,
печально прогуливавшийся по берегу. Пораженный красотой и благообразным
видом Консалва, мужчина подошел поближе и, услышав, о чем идет речь,
вмешался в разговор. Он сказал, что все барки ушли в Таррагону, вернутся лишь
42
Заида. Испанская история
назавтра, и что отплытие состоится не ранее, чем через два дня. Консалв, не
заметивший подошедшего, обернулся на голос, который, как ему показалось,
не принадлежал рыбаку, и также был удивлен обликом незнакомца.
Незнакомец держался благородно, с достоинством, и Консалв нашел его даже
красивым, отметив, что перед ним стоял уже вполне зрелый мужчина. Консалв был
слишком занят своим делом, чтобы отвлекаться на посторонние вещи, но тем
не менее эта неожиданная встреча в столь пустынном месте задержала его
внимание. Он поблагодарил незнакомца и вновь обратился к рыбакам, желая узнать,
где в этих краях можно остановиться на ночлег. Ответил ему незнакомец:
— Кроме этих лачуг, которые вы видите, ничего подходящего здесь нет.
Вряд ли в них вы будете чувствовать себя удобно.
— Все-таки я должен буду воспользоваться ими, чтобы отдохнуть. Вот уже
несколько дней я не слезаю с лошади, и усталость подсказывает мне, что мое
тело нуждается в отдыхе больше, чем мог бы позволить ему мой разум.
Печально произнесенные слова юноши тронули душу незнакомца, и он
почувствовал, что встретил глубоко несчастного человека. Схожесть судеб
пробудила в нем к юноше симпатию, которую мы испытываем по отношению к
тем, кого считаем собратьями по несчастью.
— В этих убогих лачугах вы не найдете достойного вас ночлега, — сказал
он. — Если вы соизволите принять мое приглашение, вы будете чувствовать
себя гораздо лучше в моем пристанище, которое расположено за этим лесом.
Испытывая непрязнь к людскому обществу, Консалв поначалу отклонил
предложение незнакомца, но затем настойчивость последнего и огромная
потребность в отдыхе заставили его согласиться.
Он последовал за ним и вскоре увидел приземистое строение
незамысловатой конструкции, но чистое и хорошо ухоженное. Двор обрамляла живая
изгородь из гранатовых деревьев. Сад также не имел глухой ограды, и от леса его
отделял лишь небольшой ручей. Консалв был не в том настроении, чтобы чем-
то восхищаться, но этот дом и окружавший его уголок природы произвели на
него приятное впечатление. Он поинтересовался у незнакомца, родные ли ему
эти края или его привел сюда какой-то непредвиденный случай.
— Я поселился здесь года четыре, а может быть и пять лет, тому назад, —
ответил его новый знакомый. — Живу я затворником и дом покидаю только
ради прогулок по берегу моря. Должен сказать вам, что вы единственный
достойный человек из всех повстречавшихся мне за это время людей. Морские
бури нередко разбивают корабли об этот опасный берег. Мне довелось
спасти жизнь нескольким несчастным и приютить их у себя. Все, с кем судьба
сводила меня, были чужестранцами, и я не мог завязать с ними разговор, даже
если бы пожелал этого. Должен признаться, что встреча с вами доставила мне
удовольствие.
— О себе могу сказать лишь то, — поддержал разговор Консалв, — что я
избегаю общения с людьми, и у меня на это есть веские причины. Если бы вы
знали о них, вы бы не удивились той сдержанности, с какой я воспринял ваше
предложение. Более того, вы бы поняли, почему я сторонюсь общества людей,
причинивших мне столько несчастий.
Часть первая
43
— Если речь идет лишь о других и сами себя вы ни в чем не можете
упрекнуть, то, уверяю вас, есть люди, которые страдают более, чем вы, и вы
гораздо менее несчастны, чем думаете. Нет большего несчастья, — голос у
собеседника дрогнул, — чем видеть причину своих горестей в самом себе,
собственными руками вырыть пропасть, чтобы угодить в нее, по своей воле совершать
неразумные и недобропорядочные поступки. Одним словом, быть
единственным виновником своих бед.
— Я могу понять ту боль, о которой вы мне говорите и которую
переживаете. Но разве может сравниться она с той, которую испытывает обманутый,
незаслуженно отвергнутый человек, лишенный всего самого дорогого!
— Насколько я могу судить, — продолжил мысль Консалва незнакомец, — вы
решили покинуть вашу родину, чтобы порвать с людьми, вас предавшими и
причинившими вам горе. Но представьте себе те страдания, которые вам пришлось
бы испытать, если бы вы по-прежнему находились среди тех, кто омрачил
своими действиями вашу жизнь. Я нахожусь именно в таком положении, так как не
в состоянии убежать от самого себя, которого ненавижу, и имею на это
множество причин — и не только потому, что сам повинен в своих страданиях, но и
потому, что своими действиями заставил страдать любимую женщину.
— Я бы не сетовал на судьбу, если бы мог укорять в чем-то только себя. Вы
считаете себя несчастным, поскольку у вас есть причина ненавидеть себя. Но
разве вы не самый счастливый на свете человек, если вас самоотверженно
любила ваша возлюбленная? Возможно, вы и потеряли ее по своей вине, но вы
можете утешаться мыслью о том, что вас любили и продолжали бы любить,
если бы вы не нанесли ей обиды. Видимо, вы не знаете, что такое любовь, раз
не находите утешения в мысли об этом. Себя вы любите больше, чем свою
возлюбленную, так как, возможно, и простили бы себе свой поступок, если бы она
не страдала и не мучилась.
— То, что вы не сами породили свои несчастья, мешает вам представить,
насколько возрастает боль, когда человек сам навлекает на себя беду. Но
поверьте пережитому мною жестокому опыту: утрата по своей вине той, которую
боготворишь, порождает ни с чем не сравнимые душевные муки.
С этими словами они вошли в дом, который показался Консалву столь же
располагающим внутри, как и снаружи. Ему пришлось провести неспокойную
ночь, так как с вечера его охватил сильный жар, который еще больше усилился
в последующие дни, поставив под угрозу его жизнь. Хозяин дома был
безмерно огорчен случившимся, тем более что ему импонировала манера юного
постояльца говорить и держаться. Он попытался выяснить через слугу,
которого приставил к больному, кто этот юноша и откуда. Слуге, однако, ничего узнать
не удалось, кроме того, что зовут его якобы Теодорихом13, но, как слуге
показалось, вряд ли это имя подлинное. Жар держался еще несколько дней, но в
конце концов отдых и молодость больного взяли над недугом верх. Хозяин дома,
видя угнетенное состояние Консалва, всячески старался отвлечь его от
грустных мыслей и почти не отходил от него. Мало зная друг друга, они вели
разговоры на отвлеченные темы, но тем не менее успели за короткое время
проникнуться взаимным уважением.
44
Заида. Испанская история
Живший отшельнической жизнью новый знакомый Консалва ни с кем в
округе отношений не поддерживал, никому о себе ничего не рассказывал, но
сейчас, повинуясь внутреннему чувству, испытал потребность открыться
молодому человеку и рассказал ему, что родом он из королевства Наварра, что
величают его Альфонсом Хименесом14 и что горестная судьба заставила его найти
приют в этих краях, где наедине с собой он мог предаться скорби по
утраченному. Консалва поразило услышанное имя — он знал, что оно принадлежит
одному из самых прославленных родов Наварры. Откровенность собрата по
несчастью глубоко тронула его, и, несмотря на неприязнь к людям, он испытал
к новому знакомому чувство дружеского расположения, на которое уже не
считал себя способным.
Здоровье его стало тем временем быстро восстанавливаться, и, когда он
почувствовал себя полным сил и наступила пора покинуть гостеприимный дом,
понял, что расстаться с Альфонсом будет ему нелегко. Он заговорил об
отъезде, сообщив, что так же намерен провести остаток своей жизни в одиночестве.
Эти слова взволновали и огорчили Альфонса — он уже настолько привык к
присутствию в доме юноши, к его мягкой манере речи, что мысль о
расставании не могла не причинить ему боли. Он сказал Консалву, что тот еще не
совсем здоров, а затем и попытался уговорить его отказаться от поиска другого
пристанища и остаться там, куда уже привела его судьба.
— Я не надеюсь, что сумею сделать ваше пребывание в этом доме менее
тоскливым, чем оно может оказаться в другом, — сказал он, — но, думается мне,
то длительное затворничество, к которому вы себя готовите, можно в какой-то
мере скрасить присутствием родственной души. Мои страдания безутешны, но
я полагаю, что испытал бы некое облегчение, если время от времени имел бы
возможность поделиться с кем-либо своими печалями. Здесь вы найдете то же
одиночество, что и в другом месте, но при этом у вас всегда, когда вы только
этого пожелаете, под рукой будет человек, сумевший оценить ваши
достоинства и воспринявший ваше горе как свое собственное.
Поначалу слова Альфонса не показались Консалву убедительными, но они
запали ему в голову, а мысль об уединении, лишенном всякого общения, и
зародившаяся привязанность к новому другу повлияли на его планы, и спустя несколько
дней он сообщил Альфонсу о своем решении остаться в его доме. Единственное,
что его беспокоило, — это боязнь быть узнанным. Альфонс успокоил его,
сославшись на свой пример: здешние места настолько удалены от людского общества,
что в течение многих лет, проведенных на этом побережье, он не встретил ни
единой знакомой души. У Консалва отлегло от сердца, и друзья высказали друг
другу самые добрые слова, на какие только способны два благородных человека,
решившие связать дружбой свои судьбы. Консалв тут же отправил часть
драгоценностей, которые взял с собой в дорогу, купцу в Таррагон, чтобы тот снабжал
его всем необходимым. Наконец-то он нашел для себя на этом заброшенном
берегу укромный уголок, где проведет остаток дней. Наконец-то он может
остаться наедине со своими горестными мыслями и уповать на то, что никаких других
бед уже не падет на его голову. Увы, судьба очень скоро доказала ему, что тот,
кого она выбрала себе в жертву, не скроется от нее и в самом пустынном месте.
Часть первая
45
Как-то в конце осени, когда под порывами ветра море уже приобрело
свойственный ему для этого времени года грозный вид, Консалв отправился на
утреннюю прогулку несколько ранее обычного. Разразившаяся ночью сильная
буря к утру не совсем затихла, и шум накатывающихся волн звучал в унисон
с его грустными мыслями. Какое-то время он стоял, созерцая игру стихии и
погрузившись в ставшее для него привычным раздумье о своей доле.
Постепенно взгляд его сместился к берегу и обнаружил разбросанные по нему обломки
лодки. Он огляделся, ища глазами, не нужна ли кому-нибудь помощь. Под
лучами восходящего солнца неподалеку что-то трудно различимое отсвечивало
яркими красками. Желая удовлетворить свое любопытство, Консалв
направился к заинтриговавшему его предмету и, приблизившись, увидел распростертую
на песке женщину в великолепном одеянии, которая, судя по всему, была
выброшена бурей на берег. Она лежала так, что лица ее разглядеть было нельзя.
Консалв приподнял ее, желая убедиться, жива ли она. Каково же было его
удивление, когда ему открылось невиданной красоты лицо девушки, над которым
уже, казалось, витала смерть! Эта красота вызвала у него еще большее
сострадание и огромное желание помочь несчастной. Он взмолился, чтобы Бог
сохранил жизнь этому прелестному созданию. Альфонс, случайно оказавшийся
поблизости, подошел к Консалву, и друзья постарались оказать хоть какую-то
помощь. Их усилия были вознаграждены — девушка проявила признаки жизни,
но ей требовалась гораздо большая помощь, чем та, которую они могли оказать
ей на пустынном берегу. Дом их находился невдалеке, и они приняли решение
перенести ее к себе. Войдя в дом, Альфонс сразу же приказал принести
снадобья и позвать сиделок. Когда женщины раздели девушку и уложили ее в
постель, Консалв тихо вернулся в комнату, чтобы внимательней разглядеть
незнакомку. Он был поражен утонченностью и пропорциональностью черт ее
лица, безупречной линией губ и удивительной белизной шеи. Он был настолько
очарован открывшейся ему красотой, что готов был принять девушку за
неземное существо. Консалв провел часть ночи в комнате, не находя в себе сил
удалиться. Его друг посоветовал ему пойти отдохнуть, но Консалв ответил, что
минуты отдыха редко посещают его, и он уже свыкся со своей долей, так что
вряд ли стоит пытать судьбу, безнадежно выпрашивая у нее покоя.
К утру незнакомке полегчало. Она приподняла веки. Поначалу яркий свет
причинил ей боль, но затем она медленно перевела свой взгляд на Консалва.
Большие, необычайно выразительные черные глаза были, казалось, созданы
для того, чтобы внушать к их обладательнице любовь и поклонение. Судя по
ее взгляду, она стала приходить в себя и различать окружающие предметы. На
ее лице можно было прочесть удивление, которое несомненно было вызвано
присутствием в комнате двух мужчин. Консалв не находил слов, чтобы
выразить свое восхищение красотой девушки, но он все-таки поделился охватившим
его чувством с Альфонсом, причем с той поспешностью, которую мы не можем
сдержать при виде того, что обвораживает нас и поражает.
Девушка, однако, молчала, и Консалв, полагая, что потребуется еще какое-
то время, прежде чем она полностью восстановит силы, удалился к себе в
комнату. Случившееся погрузило его в размышления. «Как я рад, — говорил он
46
Заида. Испанская история
себе, — что судьба свела меня с женщиной, состояние которой дает мне
право не избегать ее, а чувство сострадания позволяет проявлять о ней заботу. Да,
я восхищен ее красотой, но как только она поправится, я отнесусь к ее чарам
лишь как к орудию, которым она будет пользоваться для совершения измен
и умножения числа несчастных. И сколько их будет? Сколько их уже бродит
по свету? Но, боже мой, какие глаза! Какой взгляд! Как мне жалко тех, кто
поддастся их власти, и как в своем горе я счастлив, что мне уже пришлось
пережить жестокий опыт женского коварства и навсегда избавиться от любви!»
С этими мыслями он забылся в недолгом сне и, проснувшись, поспешил к
постели незнакомки справиться о ее самочувствии. Девушке стало много лучше,
но она продолжала молчать и не произнесла ни слова ни следующей ночью,
ни на следующий день. Удивленный Альфонс не смог не заметить Консалву,
что тот проявляет необычную заботу об их гостье. Консалв и сам начал
понимать несуразность своего поведения — красота незнакомки действительно
влекла его к себе. Ему казалось, что в его отсутствие ее состояние может
неожиданно ухудшиться. В какой-то момент, когда он находился в ее комнате, до его
слуха донеслась невнятная речь. Его охватило чувство радости и одновременно
смятения. Он подошел поближе, чтобы разобрать слова. Девушка
продолжала говорить, и Консалв был удивлен, услышав незнакомый язык, хотя уже
раньше, обратив внимание на одежду, похожую на то, что носят мавританские
женщины, понял, что в их доме чужестранка. Зная арабский, он обратился к
ней на арабском языке, но был еще больше удивлен, видя, что остается
непонятым. Он заговорил на испанском, итальянском, но все безрезультатно.
Напряженный и растерянный взгляд незнакомки красноречиво свидетельствовал,
что эти языки ей незнакомы. Тем не менее она продолжала говорить и порой
останавливалась, как бы ожидая ответа. Консалв старался вслушаться в
слова, пытаясь хоть что-то разобрать. Он пригласил в комнату всю прислугу в
надежде, что кто-то будет удачливее его. Он раскрыл перед глазами девушки
испанскую книгу. Ему показалось, что она знает буквы, но не может
изъясняться. На ее лице были написаны отчаяние и тревога, которые лишь усиливали
отчаяние и тревогу Консалва.
Он уже не знал, что делать, когда в комнату вошел Альфонс в
сопровождении красивой женщины, одетой точно в такое же платье, как и их
незнакомка. Увидев друг друга, женщины бросились в объятия. Вошедшая несколько
раз произнесла слово «Заида» с выражением, которое не оставляло у
присутствующих сомнения в том, что это имя ее подруги15. В свою очередь, Заида
неоднократно произносила слово «Фелима», из чего можно было заключить, что
так зовут вновь пришедшую. После нескольких слов, которыми обменялись
женщины, Заида разрыдалась и жестом руки попросила всех покинуть
комнату. Консалв последовал за Альфонсом, чтобы узнать, откуда появилась новая
незнакомка. Друг сообщил ему, что она была подобрана на берегу моря
рыбаками из соседних лачуг в тот же день, когда они нашли Зайду, и в таком же,
как Заида, состоянии.
— Вдвоем им будет легче перенести свалившуюся на них беду, — высказал
свое мнение Консалв. — Но что вы, Альфонс, думаете об этих женщинах? Судя
Часть первая
47
по их одеяниям, они далеко не из низшего сословия. И как очутились они в
утлом суденышке посреди моря? Обломки, выброшенные на берег, отнюдь не
принадлежат кораблю. Та, которую вы привели к Заиде, рассказала ей нечто
такое, что причинило ей невыносимую боль. Все это труднообъяснимо.
— Я вполне разделяю вашу точку зрения, Консалв, — ответил Альфонс. —
И поражен как тем, что с ними произошло, так и их красотой. Вы, возможно,
не заметили красоты Фелимы, а она действительно небычайна и наверняка
поразила бы вас, если бы вы прежде не увидели Зайду.
После этих слов друзья расстались, и Консалва охватила еще большая, чем
прежде, грусть, причину которой он усмотрел в том, что не смог быть понят
незнакомкой. «А что бы я ей сказал, — вдруг спохватился он, — и что пожелал
бы от нее услышать? Уж не намерен ли я поведать ей свою печаль и узнать, что
так сильно огорчило ее? Может ли человек столь несчастный, как я, проявлять
праздное любопытство? Вправе ли я интересоваться бедами незнакомого мне
человека? Почему ее боль отдается болью во мне? Неужели перенесенные
мною страдания не должны были сделать меня безучастным к страданиям
других? Нет, конечно же нет, — поспешил успокоить себя Консалв. — Это
несомненно всего лишь моя отшельническая жизнь понуждает меня проявлять
интерес к необычным событиям, на которые я никогда не обратил бы
внимания при других обстоятельствах».
Самоутешение не избавило его от бессонной ночи. Не видя Заиды, он
провел в беспокойстве и большую часть дня. К вечеру ему сообщили, что она
поднялась с постели и направилась к берегу моря. Консалв пошел за ней и нашел
ее сидящей у воды со слезами на глазах. Заметив молодого человека, Заида
встала и сделала в его сторону несколько шагов. Походка ее была изящна, и
лицо излучало приветливость. Она указала Консалву на затерявшуюся в море
рыбацкую лодку и несколько раз произнесла слово «Тунис», как бы прося
отвезти ее в эту далекую страну. Консалв в свою очередь показал на уже
появившуюся на небе луну и попытался знаками объяснить ей, что это вполне
можно будет сделать после двух оборотов светила. Ему показалось, что Заида
поняла его, но почти тут же девушка вновь расплакалась.
Наутро ей вновь стало хуже, и за целый день она так и не покинула своей
комнаты. Никогда еще со времени появления Консалва в этом доме время не
тянулось для него так долго и утомительно.
На следующий день, не ведая, что побудило его к этому, он решил
привести себя в порядок. Пребывая в отшельничестве, он практически перестал
следить за своим внешним видом. Консалв относился к той породе людей высшего
света, для которых простая опрятность заменяла самые изысканные наряды.
Альфонс, встретивший друга в лесу на прогулке, не смог скрыть своего
удивления его столь необычным видом. Глядя на приятеля с улыбкой, он сказал ему,
что, судя по изменившейся одежде, его горе под благотворным воздействием
жизни в пустынном крае начинает затухать.
— Я понимаю, на что вы намекаете, Альфонс, — ответил ему Консалв. — Вы
полагаете, что присутствие Заиды облегчает мои страдания. Но вы ошибаетесь.
Я испытываю к ней сострадание, которое вызывают во мне ее беда и ее красота.
48
Заида. Испанская история
— Я тоже сочувствую ей, как и вы, — возразил Альфонс, — мне жаль ее, и
я также хотел бы облегчить ее участь. Но я не ищу постоянного с ней общения,
не окружаю ее мелкими заботами, не расстраиваюсь, если не слышу ее
голоса, не испытываю неуемного желания говорить с ней. Вчера, когда она
провела целый день в своей комнате, я не чувствовал себя более печальным, а
сегодня мне так же безразлична моя внешность, как и обычно. Наконец,
поскольку мы оба сострадаем ей, но ведем себя по-разному, вы несомненно
испытываете по отношению к Заиде нечто большее, чем простое сострадание.
Консалв слушал не перебивая, как бы вдумываясь в слова друга и сверяя их
со своими чувствами. Он уже собирался ответить, как его позвали и
сообщили—в соответствии с его просьбой, — что Заида покинула комнату и
прогуливается у берега моря. Консалв хотел сказать Альфонсу, что тот не ошибся в
своих предположениях, но более важным было для него сейчас поспешить на
встречу с девушкой. Он увидел ее издалека: она сидела с Фелимой там же, где
и два дня назад. Консалв не мог удержаться от любопытства понаблюдать за
ними и остановился в надежде узнать о них хоть самую малость. Заида
плакала, а Фелима, похоже, ее утешала. Но девушка, по-видимому, не слушала
подругу и не отрываясь смотрела в даль моря. Сцена навела Консалва на мысль
о том, что она горевала о ком-то, кто потерпел кораблекрушение вместе с ней.
Он уже видел ее плачущей на этом месте, но тогда ничто не подсказало ему
причины ее скорби, и, как ему представлялось, ее слезы были вызваны тем, что
она осталась одна, далеко от родной земли. Но сейчас он был почти уверен, что
Заида оплакивала погибшего возлюбленного, что в бурном море она оказалась
ради его спасения. Он уже не сомневался — как будто узнал это от нее самой, —
что причиной ее горя была любовь.
Вряд ли можно словами описать ту тревогу, которую зародило в его душе
это открытие, ту ревность, которая заполнила смятением его сердце, еще не
признавшееся в любви. Да, он был влюблен, но никогда не испытывал чувства
ревности. И вот эта неизведанная страсть впервые дала о себе знать,
обрушившись на него с такой яростной силой, что причиненная ею боль показалась ему
невыносимой. Он считал, что прошел через все жизненные испытания, но муки,
которые терзали его сейчас, были куда более тяжкими, чем все ранее
пережитое. Консалв не мог оставаться на месте и двинулся в направлении Заиды,
твердо решив услышать от нее самой причину ее горя. Зная, что она не может ни
понять его, ни ответить ему, он тем не менее задал волнующий его вопрос.
Девушка, естественно, выразила недоумение, но вытерла слезы и пошла рядом с
ним. Наслаждение от того, что она была рядом и смотрела на него своими
прекрасными глазами, несколько успокоило Консалва, который, чувствуя, что его
лицо выдает растерянность, постарался придать ему по возможности более
спокойное выражение. Заида несколько раз с живостью повторила название
своей страны — Тунис — и знаками показала, что хочет вернуться туда. Консалв
без труда понял, что она хотела ему сказать, и мысль о ее отъезде тут же
отдалась болью в его сердце. Именно боль, порожденная любовью, убедила его,
что он влюблен, и объяснила ему, почему еще до того, как он сумел разобраться
в своих чувствах, его уже мучали ревность и страх перед неизбежной разлукой.
Часть первая
49
Еще совсем недавно, случись ему влюбиться, Консалв всего лишь горько
усмехнулся бы и посетовал на свою несчастную долю, но сейчас, когда он оказался
во власти не просто любви, но и ревности, когда он не мог ни рассказать о своих
чувствах любимому человеку, ни понять его, а значит, должен навсегда
остаться в неведении о том, кто эта прекрасная девушка, и обреченно ждать часа
расставания, ему открылась вся безысходность его положения.
Он шел погруженный в свои мысли, Заида и Фелима прогуливались
поодаль. Прогулка затянулась. Наконец Заида присела на камень и вновь
заплакала, глядя в море. Судя по ее жестам, могло показаться, что она обвиняет
Фелиму в обрушившемся на нее несчастье. Чтобы развеять горе девушки,
Консалв попытался привлечь ее внимание к находившимся поблизости рыбакам.
Несмотря на печаль и душевное смятение, присутствие возлюбленной
наполняло его возвышенным чувством, которое вернуло ему его прежний
привлекательный вид, а то, что он вновь стал следить за своей внешностью, делало
его на редкость красивым молодым человеком. Заида на него посматривала
сначала с каким-то особым вниманием, затем с нескрываемым удивлением и,
наконец, после долгого пристального изучения обернулась к подруге и кивнула
в сторону Консалва, произнеся при этом несколько слов. Фелима также
посмотрела на него и, похоже, согласилась с тем, что услышала от подруги.
Почти тут же Заида вновь бросила взгляд на Консалва, вновь что-то сказала
подруге, которая также повернула голову в его сторону. Консалву показалось,
что женщины обнаружили в нем сходство с кем-то из своих знакомых. Эта
догадка поначалу не произвела на него никакого впечатления, но, видя, что
Заида продолжает внимательно разглядывать его, он почти явственно
различил на печальном лице девушки блики благодатной умиротворенности и
тотчас же вообразил, что она нашла в нем сходство с оплакиваемым ею
возлюбленным.
На протяжении дня он неоднократно находил в поведении Заиды
подтверждение своим подозрениям. Вечером она и Фелима отправились к морю и что-
то искали среди выброшенных на берег обломков лодки. Их поиски были
настолько тщательными, а разочарование их безрезультатностью настолько
явным, что это послужило Консалву дополнительным поводом для беспокойства.
От Альфонса не укрылось угнетенное состояние друга, и, проводив вместе с
ним Зайду в ее комнату, он остался с Консалвом.
— Вы еще ничего не рассказали мне о ваших прошлых несчастьях, —
обратился Альфонс к другу, — но о своих переживаниях, связанных с Заидой, вы
обязаны мне поведать. Человеку, влюбленному, как вы, всегда приятно
поделиться с кем-нибудь своим большим чувством. Каким бы безутешным ни было
ваше горе, моя поддержка и мой совет могут оказаться вам полезными.
— Дорогой мой Альфонс, — воскликнул Консалв, — как я несчастен и как я
слаб! Я в таком отчаянии, что могу только позавидовать вашему мудрому
поведению — увидеть Зайду и не поддаться ее чарам.
— Вы не могли скрыть от меня свою любовь к ней, хотя и не пожелали
признаться мне в этом.
— Я сам был в полном неведении, пока ревность не открыла мне глаза, — пре-
4. Заказ № К-6559
50
Заида. Испанская история
рвал друга Консалв. — Заида наверняка оплакивает своего возлюбленного,
который погиб во время кораблекрушения. Именно это заставляет ее каждый день
уходить к морю, неся свою скорбь к тому месту, где, как ей сдается, он исчез в
бурных водах. Да, я люблю Зайду, но ее сердце отдано другому. И это — самое
большое из всех несчастий, которые мне довелось испытать; именно то
несчастье, от которого, казалось мне, я застрахован надежнее всего. Я тешил себя
мыслью, что, возможно, заблуждаюсь, но сила ее горя отметает любые сомнения.
Мне довелось к тому же видеть, как сосредоточенно она искала что-то на
берегу среди обломков разбитой лодки, и это несомненно была хоть какая-нибудь
вещица, принадлежавшая ее избраннику. Но самым печальным является то, что
я, судя по всему, похож на этого человека. Она обратила на это внимание,
прогуливаясь по берегу, и я заметил в ее глазах благостный блеск, вызванный
воспоминаниями. Она несколько раз указала на меня Фелиме, заставив ее
внимательно вглядеться в мои черты, и весь день присматривалась ко мне. Конечно же
видела она не мой образ. Когда она смотрит на меня, в ее голове рождаются
воспоминания о возлюбленном, тогда как я только и мечтаю о том, чтобы она
забыла о нем. Это лишает меня радости видеть ее прекрасные глаза, и любой ее
взгляд, брошенный в мою сторону, вызывает во мне прилив ревности.
Консалв говорил так проникновенно, что Альфонс не решался прервать его.
— Вы уверены, Консалв, — спросил он, дав другу выговориться, — что все
рассказанное вами соответствует действительности? Не являются ли ваши
сегодняшние переживания плодом вашего воображения, уже растревоженного
прежними несчастьями?
— О нет, мой друг, — поспешил ответить Консалв. — Я нимало не
сомневаюсь, что Заида скорбит по тому, кто ей дорог, и мое присутствие будит в ней
воспоминания. Жестокая судьба не позволяет мне выдумывать страдания
более мучительные, чем те, которые сама готовит мне. А то, что может уготовить
злой рок, превосходит любое воображение. Для меня судьба изобретает такие
беды, которые другим и не снились. Если бы я рассказал вам обо всем, мною
пережитом, вы поняли бы, что я не кривлю душой, назьюая себя самым
несчастным человеком на свете.
— Я не сомневаюсь, — заметил Альфонс, — что, если бы у вас не было
веской на то причины, вы бы не лишили меня возможности услышать от вас, кто
вы, какие на вас обрушились беды и чем они тяжелее моих. Я сознаю
неуместность своего любопытства, тем более что сам не поделился с вами своими
невзгодами, но простите это человеку, который все-таки не скрыл от вас ни
своего имени, ни происхождения и который, если это принесет вам хоть какое-то
облегчение, готов рассказать о своих горестях и печалях, даже несмотря на едва
начавшую утихать с годами боль воспоминаний.
— Я никогда не попрошу вас сделать то, что может причинить вам боль, —
заверил друга Консалв. — Более того, не могу простить себе, что ничего не
рассказал о себе. Я действительно решил никому о себе не рассказывать, но мое
огромное к вам уважение и та забота, которой вы окружили меня, побуждают
меня открыться перед вами: меня зовут Консалв, я сын Нуньеса Фернандо,
графа Кастильского, о котором вы наверняка наслышаны.
Часть первая
51
— Неужели вы тот самый Консалв, который прославился уже в своих первых
сражениях против мавров, разгромив их полчища и проявив доблесть,
восхитившую всю Испанию! — воскликнул Альфонс. — Мне хорошо известно начало
вашей блестящей карьеры. До моего затворничества я восторженно наблюдал, как
в битве, выигранной королем Леона против знаменитого мавританского
полководца Айолы, именно вы склонили чашу весов в пользу христиан16. Я помню
также, как вы первым бросились на штурм Саморы, что вы сыграли главную роль
при взятии этой крепости и вынудили мавров запросить мира. Уединение, в
котором я пребываю с тех пор, лишило меня возможности проследить за вашими
дальнейшими успехами, но не сомневаюсь, что они были не менее славными.
— Я не мог даже представить себе, что имя мое вам знакомо, и я невыразимо
рад, что вы расположены ко мне благодаря доброй, и скорее всего
незаслуженной, молве.
После этих слов Консалв начал рассказ о себе, который его друг выслушал
с неослабным вниманием.
История Консалва
Мой отец, считавшийся при дворе леонского короля первым вельможей,
представил меня свету с пышностью, достойной его сана и состояния. Мои
взгляды, возраст и положение сблизили меня со старшим сыном короля
герцогом доном Гарсией17. Герцог был молод, хорош собой и честолюбив. Его
добрые качества намного превосходили его недостатки, причем эти
недостатки относились к числу тех, которые всегда свойственны страстным натурам.
Меня вполне устраивало его покровительство, совершенно мною не
заслуженное, и я всячески старался отблагодарить его своей преданностью. Судьба
благоволила ко мне и распорядилась так, что, когда его безрассудная храбрость
обернулась для него смертельной угрозой, я оказался рядом и спас ему жизнь.
Эта услуга еще больше укрепила его доброе отношение, и он стал относиться
ко мне скорее как к брату, нежели как к своему верному подданному, ничего
не скрывал от меня и ни в чем мне не отказывал. Другим он дал понять, что
на его расположение может рассчитывать только тот, кто пользуется
расположением его друга, Консалва. Столь откровенное благоволение, а также
всеобщее уважение, которым пользовался мой отец, настолько возвысили наш род,
что король усмотрел в этом угрозу своей единоличной власти.
Среди многочисленных молодых людей, с которыми судьба свела меня при
дворе, больше других мне нравился дон Рамирес18. Он несомненно выделялся
на фоне светской молодежи, но далеко уступал мне по своему состоянию. Не
в моих силах было сделать его таким же богатым, но я всячески старался
использовать влияние отца и мое собственное, желая помочь ему занять в
обществе более высокое место, и прилагал все усилия, чтобы милость герцога
распространилась и на него. Со своей стороны, благодаря своим мягким манерам
и умению расположить к себе дон Рамирес также сделал немало для
завоевания расположения герцога, и в конце концов дон Гарсия признал его вторым
52
Заида. Испанская история
после меня фаворитом. И тот, и другой уже испытали все сладости любви и
нередко упрекали меня в моей якобы бесчувственности. Отсутствие у меня
возлюбленной они считали моим недостатком.
Я защищался, убеждая их, что подлинные чувства им просто неведомы19.
— Вам нравятся светские ухаживания, которые вошли в моду в Испании, —
как-то сказал я им, — но никакой любви к своим избранницам вы не
испытываете. Вы никогда не убедите меня, что полюбили женщину, которую, следуя
привычному для вас способу знакомства, только что увидели в окне ее дома и
которую даже не узнаете, повстречайся она вам в другом месте.
— Вы не очень преувеличиваете, говоря, что мы мало знаем наших
возлюбленных, но нам известна их красота, а в любви это главное, — возразил мне
герцог. — Об их уме мы судим по их лицам, а чуть позже по письмам. А
когда наконец мы с ними встречаемся, нас волнует та тайна, которую предстоит
раскрыть. В их голосе мы улавливаем прелесть новизны, их манеры
поражают нас, неизведанность будит и разжигает страсть. Тот же, кто хорошо знает
женщину, которой собирается объясниться в чувствах, уже настолько свыкся
с ее красотой и умом, что никогда не сможет полностью насладиться счастьем.
— Что, что, а уж это вам никак не грозит, — усмехнулся я. — Но, господи,
влюбляйтесь сколько хотите в тех, кого вы не знаете и никогда
по-настоящему не узнаете, только оставьте меня в покое и дайте мне возможность полюбить
лишь одну женщину, которую я буду достаточно хорошо знать, чтобы
проникнуться к ней уважением и быть уверенным, что, ответив на мою любовь, она
сделает меня счастливым. И сразу же хочу оговориться, что я должен быть
единственным в ее сердце.
— Я же, — вступил в разговор дон Рамирес, — испытываю гораздо больше
удовлетворения, когда завоевываю сердце той, которая охвачена страстью к
другому. Тем самым я одерживаю двойную победу и обретаю уверенность в
подлинности испытываемых ко мне чувств, так как они родились в борьбе с
чувствами к моему сопернику. Отнять любовницу у соперника льстит моему
самолюбию и еще сильнее разжигает мою страсть.
— Консалв настолько удивлен вашими словами, — заметил герцог,
обращаясь к дону Рамиресу, — и находит их настолько шокирующими, что не знает,
как вам ответить. И пожалуй, в этом я с ним согласен. Однако я не разделяю
его желания хорошо знать свою будущую возлюбленную. Я никогда бы не смог
полюбить женщину, к общению с которой давно привык. Мои чувства может
пробудить только неизведанность. Мне представляется, что естественные
чувства рождаются неожиданно, а страсть, приходящая со временем, вряд ли
может быть названа естественной.
— Ну что ж, сеньоры, можно подвести итог — вы способны лишь на любовь
с первого взгляда, — сказал я и добавил веселым голосом: — В таком случае, я
должен познакомить вас с моей сестрой, пока она не выросла и не расцвела.
Это позволит вам привыкнуть к ней и оградит ее от ваших ухаживаний.
— Вы, стало быть, боитесь этого? — спросил меня герцог.
— Вне всякого сомнения, — ответил я. — Более того, сеньор, я счел бы это за
самое большое несчастье, которое могло бы со мной приключиться.
Часть первая
53
— В чем же вы видите это несчастье? — поинтересовался дон Рамирес.
— В том, что не мог бы отнестись одобрительно к чувствам герцога. Если бы
он захотел взять в жены мою сестру, я был бы лишен возможности дать на это
согласие в интересах самого же герцога, учитывая его высокое звание. А если
бы он не захотел жениться на моей сестре, — а она несомненно полюбила бы
его всем сердцем, — мне было бы неприятно видеть ее в роли любовницы
человека, которого в таком случае я обязан возненавидеть, не имея на это
права в силу моего при нем положения.
— Прошу вас, покажите мне ее, пока она еще в невинном возрасте, —
прервал меня герцог. — Я буду очень огорчен, если совершу поступок, который вам
будет неприятен, и поэтому хочу познакомиться с ней как можно раньше, с тем
чтобы успеть привыкнуть к ней и никогда не полюбить ее.
— Теперь я понимаю, сеньор, — обратился дон Рамирес к дону Гарсии, —
почему вы никогда не влюблялись в подраставших при дворе прелестных
созданий, с которыми вы были знакомы с раннего детства. Должен признаться,
меня всегда поражало, что вы так и не воспылали страстью ни к одной из них,
тем более к Нунье Белле, дочери дона Диего Порсельоса20, которая, как мне
кажется, способна удовлетворить самым требовательным вкусам.
— Да, — согласился дон Гарсия, — Нунья Белла прелестна. У нее
восхитительные глаза, изумительные губы, утонченные манеры. Она полна благородства.
Я наверняка был бы очарован ею, если бы не знал ее почти со дня моего
рождения. А почему вы, Рамирес, видя ее красоту, не влюбились в нее?
— Только потому, что она никогда никого не любила и мне некого изгонять
из ее сердца. А без этого, как я только что вам поведал, мое сердце к любви
глухо. Скорее об этом надо спросить Консалва. Она отвечает всем его
требованиям — она красива, у нее нет возлюбленного, и он знает ее уже достаточно долго.
— А кто сказал вам, что я не испытываю к ней никаких чувств? —
проговорил я, одновременно улыбаясь и заливаясь краской.
— Быть не может, что вы влюблены! — воскликнул герцог, глядя на меня. —
Если это действительно так, то, умоляю вас, не таитесь. Вы доставите мне
огромную радость, признавшись, что и вы поражены недугом, который до сих пор
обходил вас стороной.
— Если говорить серьезно, я не влюблен в нее, — сказал я. — Но, чтобы
успокоить вас, сеньоры, могу признаться, что мог бы полюбить Нунью Беллу,
знай я ее чуть-чуть получше.
— Если все зависит только от того, чтобы узнать Нунью Беллу лучше,
считайте, что вы уже влюблены в нее, — оживился герцог. — Впредь я всегда буду
брать вас с собой, когда посещаю ее величество мою матушку. Я постараюсь
как можно чаще затевать с отцом ссоры, после которых она всегда приглашает
меня к себе, чтобы примирить нас, и у вас будет предостаточно времени для
бесед с Нуньей Беллой. Вы узнаете от нее все, что вам нужно, и окончательно
влюбитесь в фаворитку королевы. Она непременно очарует вас, и, если ее
сердце ни в чем не уступает ее уму, лучшего для себя вы ничего не найдете.
— Прошу вас, сеньор, — взмолился я, — не делайте этого, если не хотите
выставить меня в дурном свете, и, главное, не ищите новых ссор с королем: вы
54
Заида. Испанская история
знаете, что вину за вашу строптивость он нередко возлагает на меня и
считает, что мой отец и я, пользуясь нашим положением при дворе, толкаем вас на
поступки, которые идут вразрез с его волей.
— Я сделаю все, чтобы Нунья Белла вас полюбила, — возразил герцог, — и
не собираюсь осторожничать, как вы мне это предлагаете. У меня найдется
немало предлогов, чтобы представить вас королеве. И хотя сегодня у меня
такого предлога нет, мы все равно у нее появимся. Ради того, чтобы сделать вас
счастливым, я даже пожертвую сегодняшним вечером, который рассчитывал
провести под окнами особы, о которой вы даже не подозреваете.
Я не стал бы, Альфонс, пересказывать вам этот разговор, но, как вы увидите
в дальнейшем, он был как бы прологом ко всем моим будущим бедам.
Герцог тут же отправился к матушке, захватив меня с собой. У королевы
никого не было, кроме наиболее приближенных к ней дам, среди которых
присутствовала и Нунья Белла. В этот вечер она выглядела особенно
привлекательной, и, казалось, сама судьба благоволила намерениям герцога. Какое-то время
разговор был общим и, поскольку все чувствовали себя более свободно, чем на
официальных приемах, Нунья Белла также оживленно принимала в нем
участие, поразив меня своим острым умом, о чем раньше я мог только
догадываться. Герцог попросил королеву удалиться с ним в ее кабинет, даже не придумав
предлога для уединения. Пока они отсутствовали, я оставался с дамами и
спустя некоторое время ненавязчиво увлек Нунью Беллу в сторону для разговора
наедине. Мы говорили о самых обычных вещах, и все-таки наш разговор носил
скорее интимный характер. Мы критиковали затворническую жизнь, которую
вынуждены вести женщины в Испании, как бы сетуя на отсутствие
возможности нашего более открытого общения. Уже в тот момент я понял, что во мне
зарождается любовь, и, как позже призналась мне Нунья Белла, она тоже
почувствовала, что я становлюсь ей небезразличен. По своему душевному складу она
вполне могла ответить взаимностью на мои чувства. Мое положение в обществе
было настолько блистательным, что любая менее требовательная женская
натура незамедлительно согласилась бы стать моей возлюбленной. Нунья Белла
держалась со мной любезно, но нисколько не поступалась своей природной
гордостью. Попав во власть рождающегося чувства, я уже тешил себя надеждой на
взаимную любовь, и эта надежда могла в любой момент разжечь во мне пожар
любви, как, впрочем, появление удачливого соперника способно было погасить
разгорающееся пламя. Герцог ликовал, видя, что я все больше и больше
привязываюсь к Нунье Белле. Каждый день он находил возможность устроить наши
встречи. Более того, он просил меня, чтобы я рассказывал Нунье Белле о его
ссорах с королем и научил ее, как выведать через королеву планы короля на его
счет. Королева настолько дорожила мнением Нуньи Беллы, что нередко
обращалась к ней за советами, которые всегда оказывались очень кстати. Во всем, что
касалось герцога, ее величество ничего не предпринимала, не переговорив
предварительно с фавориткой, и обо все этом Нунья Белла подробно рассказывала
мне. У нас, таким образом, появился повод для долгих бесед, в ходе которых я
все больше убеждался в ее уме, рассудительности и женском обаянии. Со
своей стороны, она также нашла во мне качества, отвечавшие ее представлениям
Часть первая
55
о достоинствах человека, почувствовала мою к ней привязанность, и между нами
вспыхнула любовь, превратившаяся вскоре в неуемную страсть. Герцог захотел
во что бы то ни стало играть в наших отношениях роль покровителя и
конфидента. У меня от него не было секретов, но я опасался, что мои откровения
могут не понравиться Нунье Белле. Герцог заверил меня, что она не из тех, кто
может обидеться на подобные вещи, и сам решил поговорить с ней обо мне.
Сначала она смутилась и почувствовала неловкость, но высокое звание герцога
успокоило ее, и постепенно она привыкла к разговорам, которые он вел с ней о
наших отношениях, и даже из его рук получала мои первые письма.
Любовь открывала нам все прелести новизны, все таинства блаженства,
которые несет с собой первая страсть. Мое честолюбие было полностью
удовлетворено достигнутым мною положением в свете задолго до того, как родилась
наша любовь, и поэтому никакие другие заботы не мешали моему чувству
крепнуть и разрастаться. Я всей душой отдался ему, как чему-то еще
неизведанному и несоизмеримо более захватывающему, чем наслаждение властью и
величием. Иное происходило в душе Нуньи Беллы. Страсть и честолюбие родились
в ней одновременно и наполняли ее почти в равной мере, хотя в какой-то
степени честолюбие стояло у нее на первом месте. Но, коль скоро оба чувства
сходились на мне, ее любовь и предупредительность не давали мне никакого повода
желать чего-то большего. Порой, правда, она уделяла слишком много внимания
заботам герцога. Но не это волновало меня. Я жил исключительно охватившей
меня страстью, и меня коробило, когда я видел, что ее могут занимать иные
дела, чем наша любовь. Несколько раз я пытался обратить на это ее внимание,
но мои слова не производили никакого впечатления или же приводили к
натянутому разговору, убеждавшему меня в том, что ее мозг занят совершенно
другим. Однако, наслышавшись, что в любви, как и в жизни, абсолютного счастья
не бывает, я терпеливо переносил эти мелкие неприятности. Нунья Белла была
верна мне, и от меня не ускользало то презрение, каким она отвечала даже на
самые робкие ухаживания. Я видел, что она лишена тех слабостей, которые
пугали меня в женщинах, и чувствовал себя наверху блаженства.
Судьба дала мне имя и место в обществе, которым многие могли бы
позавидовать. Я был фаворитом герцога, к которому относился с искренним
почтением; я был любим самой прекрасной в Испании женщиной, которую
боготворил; у меня был друг, в верности которого я не сомневался. Меня, правда,
беспокоили две вещи: нетерпеливость, которую проявлял дон Гарсия в своем
стремлении взойти на королевский трон, и страстное желание моего отца,
Нуньеса Фернандо, освободиться от опеки короля, в чем король справедливо
подозревал его. Я опасался, как бы мое положение при герцоге и мой
сыновний долг перед отцом не втянули меня в дворцовые интриги. Я не исключал,
что эти мои опасения в значительной мере надуманны, и поэтому мою голову
они посещали не так уж часто. В таких случаях я шел с тревожными
мыслями к дону Рамиресу, которому полностью доверял и с которым делился всеми
своими заботами, и большими, и малыми.
Главное же, что занимало меня в этот период моей жизни, было желание
как можно скорее жениться на Нунье Белле. Уже прошло немало времени с
56
Заида. Испанская история
тех пор, как нас связала любовь, но я так и не осмелился сделать ей
предложение. Я знал, что мое решение придется не по вкусу королю. Нунья Белла была
дочерью одного из кастильских графов, который внушал двору те же опасения,
что и мой отец, и укрепление в их среде семейных уз не отвечало интересам
королевства. Я знал и то, что мой отец, не возражая в принципе против моих
планов, относился к объявлению о моей помолвке сдержанно из-за боязни
возбудить у короля еще большие подозрения. Иными словами, свадьбу пришлось
отложить до лучших времен. Я тем не менее не скрывал своих чувств к Нунье
Белле и говорил ей о своей любви при каждой встрече. Часто о наших
отношениях разговаривал с ней и герцог. Все это не осталось незамеченным при
дворе, и в чисто любовной связи его величество углядел государственное дело.
Король подозревал, что его сын благоволит моим отношениям с Нуньей Беллой
небескорыстно. Он полагал, что герцог хочет объединить двух кастильских
вельмож под своим началом и создать собственную сильную партию,
способную противостоять королевской власти. Он не сомневался, что графы
воспользуются этой партией для провозглашения своей независимости. Союз двух
знатных домов Кастилии настолько пугал его, что он открыто высказался против
моего желания жениться на Нунье Белле и запретил герцогу содействовать
моим намерениям.
Графы Кастилии, которые скорее всего действительно вынашивали какие-
то планы против короля, старались, однако, держать их в тайне и
потребовали от нас с Нуньей Беллой забыть друг о друге. Мы были несказанно
огорчены, но герцог пообещал нам уговорить отца сменить гнев на милость, а от нас
потребовал поклясться другу другу в вечной верности и даже взялся помочь
нашим тайным встречам. Королева, знавшая, что мы не только не
настраиваем герцога против отца, но и стараемся сблизить его с ним, одобрила действия
сына и также вызвалась помочь нам.
Лишившись возможности встречаться в обществе, мы попытались найти
способ видеться вдали от посторонних глаз. Я предложил Нунье Белле
переселиться с несколькими придворными дамами в дом, окна которого выходили
бы на глухую улицу на высоте, позволяющей всаднику на коне вести беседу. Я
поделился с герцогом своими соображениями, и он, заручившись поддержкой
королевы и найдя какой-то благовидный предлог, помог осуществить
задуманный нами план. Я почти каждый день наведывался к заветному окну в
ожидании появления Нуньи Беллы. Иногда я возвращался домой как на крыльях, а
иногда, покидая ее, не мог успокоиться, видя, что подчас всякого рода
поручения королевы волнуют ее куда больше, чем наша любовь. К тому времени у
меня не было случая усомниться в ее верности, но вскоре мне пришлось
убедиться, что постоянство не было ее уделом.
Мой отец, для которого подозрения короля не были секретом, задумал еще
раз подтвердить ему свои верноподданнические чувства, для чего решил
устроить мою сестру при дворе, несмотря на свое прежнее твердое намерение
держать ее около себя в Кастилии. Его поступок был продиктован
исключительно честолюбивыми соображениями. Ему импонировало показать свету
красавицу, равной которой в Испании не было. Как никто другой, он гордился
Часть первая
57
красотой своих детей, удовлетворяя этим свое тщеславие, которое в таком
человеке, как он, можно было принять не более чем за слабость. Короче говоря,
он отправил свою дочь в Леон, и она была принята ко двору.
В тот день, когда она появилась во дворце, дон Гарсия пребывал на охоте.
Вечером он отправился к королеве, не встретив никого, кто мог бы уведомить
его о появлении моей сестры. Я также находился у королевы, но стоял в
отдалении, и дон Гарсия не мог меня видеть. Ее величество представила Гермен-
сильду21 — так звали мою сестру — герцогу, и он был буквально сражен ее
красотой. Его восхищение не знало границ. Он заявил, что никогда не видел
сочетания в одной особе такого блеска, величия и изящества, никогда не видел
такого оттенка черных волос при удивительной голубизне глаз, столь
умилительной серьезности на фоне непорочной свежести первой молодости. Чем
больше он смотрел на нее, тем больше восхищался ею. Это восхищение не
осталось не замеченным доном Рамиресом. Не мог не заметить этого и я.
Увидев меня в другом конце комнаты, дон Рамирес подошел ко мне и
рассыпался в похвалах в адрес моей сестры.
— Я желал бы, чтобы восхищение, вызванное красотой моей сестры,
осталось только восхищением, — ответил я.
В это время, к тому месту, где мы разговаривали с доном Рамиресом,
подошел герцог. Увидев меня, он смутился, но тут же взял себя в руки и также
завел разговор о Герменсильде. Он сказал, что нашел ее гораздо более
красивой, чем я описал ее. Вечером, до ухода герцога ко сну, разговор о моей
сестре не прекращался. Я внимательно наблюдал за доном Гарсией и
укрепился в своих подозрениях, заметив, что в моем присутствии он был гораздо
сдержаннее других в выражении своего восхищения. Следующие дни он не
отходил от нее. По всему было видно, что страсть увлекала его как поток,
которому у него не было сил сопротивляться. Я решил поговорить с ним в
шутливом тоне, чтобы выведать его чувства. Как-то вечером, когда мы покидали
покои королевы, где он длительное время беседовал с Герменсильдой, я
спросил его:
— Смею задать вам вопрос, сеньор, не слишком ли долго я ждал, чтобы
представить вам свою сестру и не слишком ли прекрасна она, чтобы не вызвать
у вас чувств, которых я опасался?
— Я потрясен ее красотой, — ответил он. — Но если я уверен, что нельзя
увлечься, не испытав потрясения, то я не менее уверен и в том, что потрясение
необязательно ведет к увлечению.
Дон Гарсия, следуя моему примеру, также уклонился от серьезного ответа.
Но поскольку мой вопрос смутил его, и он сам почувствовал это смущение, в
его ответе прозвучало едва уловимое недовольство, которое убедило меня, что
я не ошибся. Герцог понял, что его чувства к моей сестре не являются для меня
тайной. Он все еще питал ко мне дружеское расположение и испытывал в моем
присутствии чувство неловкости, зная что его поведение причиняет мне боль,
но уже настолько был захвачен страстью к Герменсильде, что не находил сил
отказаться от попыток одержать новую победу. Я не рассчитывал на то, что его
дружеское ко мне отношение отрезвит его, и, желая уберечь сестру от ухажи-
58
Заида. Испанская история
ваний герцога, посоветовал ей во всем следовать указаниям Нуньи Беллы. Она
пообещала мне выполнить мою просьбу, и я поделился с Нуньей Беллой
своим беспокойством относительно поведения дона Гарсии. Я рассказал ей о
пугающих меня последствиях его возможных домогательств, и, согласившись со
мной, она заверила меня, что ни на минуту не оставит Герменсильду одну. И
действительно, с этого момента они всегда, как бы невзначай, появлялись
только вдвоем, лишив его возможности оставаться с моей сестрой наедине.
Оказавшись в столь необычном положении, герцог почувствовал себя оскорбленным.
Обычно он всегда делился со мной своими переживаниями, но на сей раз не
стал откровенничать и вскоре резко изменил свой образ действий.
— Вас не поражает несправедливость, на которую способны, пожалуй,
только мужчины? — как-то обратился я к дону Рамиресу. — Герцог уже не терпит
меня за то, что мне пришлись не по вкусу его ухаживания за моей сестрой, а
если она ответит ему взаимностью, он увидит во мне помеху своим
домогательствам и просто возненавидит меня. Я как в воду глядел, опасаясь его
ухаживаний за Герменсильдой. Если так будет продолжаться, я уже в ближайшее время
перестану считаться его фаворитом даже для окружающих, поскольку для него
лично я таковым уже не являюсь.
Дон Рамирес, так же как и я, не обманывался насчет намерений герцога, но,
чтобы развеять мои грустные мысли, сказал:
— Я не знаю, на чем вы основываетесь, утверждая, что дон Гарсия увлекся
Герменсильдой. Да, при первой встрече он восхищался вашей сестрой, но
впоследствии я не увидел ничего, что могло бы подтвердить ваши догадки. А если
даже это и так, что же здесь плохого? Он вполне может жениться на ней и
будет далеко не первым представителем королевского рода, женившимся на
своей подданной. Вряд ли ему удастся найти более достойную пару. А если они
поженятся, разве это не будет великой честью для вашего дома?
— Именно по этой причине король никогда не согласится на подобный союз, —
возразил я другу. — А без согласия короля я тоже буду этому противиться. Что
касается герцога, то и он не пойдет против воли отца, а если и решится на
такой шаг, то не проявит ни упорства, ни терпеливости, чтобы довести дело до
конца. Короче говоря, ничего путного из этого не выйдет, и я не хочу, чтобы
кто-то подумал, будто наш дом готов пожертвовать репутацией Герменсильды
в иллюзорной надежде породниться с королевским домом. Если дон Гарсия не
прекратит ухаживаний за моей сестрой, я буду вынужден положить конец ее
пребыванию при дворе.
Мои слова удивили и обеспокоили дона Рамиреса. Его пугала моя размолвка
с доном Гарсией, и он решил рассказать ему о моем намерении, не спрашивая у
меня согласия, так как считал, что действует в моих интересах. На самом деле
в еще большей степени он хотел услужить герцогу и войти к нему в доверие.
Дон Рамирес улучил минутку, чтобы остаться с ним наедине, и,
оговорившись, что боится показаться по отношению ко мне неверным другом, и что
толкает его на этот шаг лишь долг служения королевскому дому, рассказал о
состоявшемся между нами разговоре. Он сообщил герцогу, что я знаю о его
чувствах к Герменсильде и настолько переживаю, что готов отправить ее об-
Часть первая
59
ратно в Кастилию. Слова дона Рамиреса до такой степени поразили герцога, а
опасение потерять Герменсильду так встревожило его, что в первый момент он
не мог скрыть своего негодования, но, тут же овладев собой, постарался
удержать себя от поспешных действий. Подумав немного, дон Гарсия решил, коль
скоро дон Рамирес уже наслышан о его страсти, открыться ему, как бы вводя
его этой откровенностью в круг своих приближенных, и склонить моего
друга к тому, чтобы он сообщал ему обо всех моих намерениях. Действуя по
своему обыкновению, герцог не стал откладывать дело в долгий ящик. Он
подошел к дону Рамиресу, обнял его и рассказал о своей любви к Герменсильде,
заявив, что по-прежнему испытывает ко мне самые добрые чувства, но не
может жить без моей сестры и поэтому просит помочь ему удержать ее при дворе
и сохранить тайну его любви. Дон Рамирес был не из тех, кто мог бы устоять
перед ласками всесильных, тем более что он уже видел себя в числе
фаворитов герцога. Дружба, даже скрепленная чувством признательности, не
устояла перед честолюбием. Он пообещал герцогу тщательно оберегать его тайную
любовь от чужих глаз и содействовать в осуществлении всех его планов в
отношении Герменсильды. Дон Гарсия обнял нового фаворита еще раз, и они
принялись обсуждать пути претворения в жизнь своих замыслов.
Первым препятствием, мешавшим осуществлению их планов, была Нунья
Белла, которая ни на шаг не отходила от Герменсильды. Они решили
переманить ее на свою сторону, хотя и понимали, что это будет непросто, учитывая
мои с ней близкие отношения. За эту задачу взялся дон Рамирес, который,
однако, заявил герцогу, что прежде надо попытаться разубедить меня в его
увлечении Герменсильдой, и посоветовал ему сказать мне в дружеской
непринужденной беседе, что его обидели мои подозрения и в отместку он решил
подшутить надо мной, но, видя, как я легко поддался на уловку и принял все
слишком близко к сердцу, раскаивается и просит поверить в отсутствие у него
каких-либо чувств к моей сестре.
Такое предложение пришлось дону Гарсии по вкусу, и осуществить его ему
не составило никакого труда. Зная от дона Рамиреса причину моих подозрений,
он с наигранной веселостью заявил, что его поведение было сплошным
притворством, шуткой, и я поверил ему. Более того, ко мне не только вернулось
доброе к нему расположение, но я стал относиться к нему даже лучше, чем
прежде. Меня, правда, не оставляла мысль о том, что все-таки в его сердце что-то
произошло, в чем он не хочет до конца мне признаться, но я убедил себя, что
это было всего лишь мимолетное увлечение, которое он превозмог, и даже был
ему признателен за его благородный поступок, совершенный, как мне казалось,
во имя нашей дружбы. Дон Рамирес также был доволен, видя мое успокоение.
Мое беспечное неведение требовалось ему, чтобы легче войти в доверие к
Нунье Белле.
Продумав свои действия, дон Рамирес стал искать случая для встречи с
Нуньей Беллой. Это было не так уж сложно, поскольку временами она с ним
виделась, и, зная, что я никогда от него ничего не скрываю, свободно обсуждала
с ним все наши дела. Начал он с того, что выразил ей свое удовлетворение
нашим с герцогом примирением.
60
Заида. Испанская история
— Я, так же как и вы, очень этому рада, — ответила она, — так как, зная, с
какой заботой Консалв опекает свою сестру, боялась разрыва между ним и
герцогом.
— Я хотел бы надеяться, сеньора, — продолжал дон Рамирес, — что вы
относитесь к числу тех женщин, которые способны в интересах любимого человека
хранить от него некоторые секреты. Если это так, то мне было бы значительно
легче разговаривать с вами, лицом наиболее, пожалуй, заинтересованным в
судьбе Консалва. Мне кажется, что могут произойти события, которые пугают меня,
и вы являетесь единственной, с кем я могу поделиться своими опасениями, но
только, сеньора, при условии, что вы ничего не расскажете Консалву.
— Я обещаю вам это и сохраню любой услышанный от вас секрет. Я
прекрасно понимаю, что от друзей нельзя скрывать правды, но нельзя и говорить ту,
знание которой может обернуться для них несчастьем.
— Сейчас вы увидите, синьора, насколько важно сохранить в тайне от
Консалва то, о чем я хочу вам рассказать. На днях дон Гарсия вновь заверил
Консалва в своей дружбе и просил его больше не волноваться за сестру, но, сдается
мне, он по-прежнему от нее без ума. Зная характер герцога, я думаю, он не
сможет долго скрывать своих чувств, а Консалв тоже не из тех, кто смирится
с открывшимся обманом. Он не удержится от ссоры с герцогом и навсегда
потеряет его благоволение.
— Признаюсь вам, что у меня те же предчувствия, — ответила Нунья Белла. —
Судя по тому, что мне довелось наблюдать самой и что я слышала от Гермен-
сильды, умоляя ее при этом ничего не говорить брату, мне трудно поверить в
искренность герцога, действия которого не похожи ни на игру, ни на желание
подзадорить Консалва.
— Вы поступили совершенно правильно, проявив осмотрительность, и
надеюсь, что и впредь вы удержите Герменсильду от того, чтобы она сообщала
брату о поступках герцога. Говорить ему это не нужно и даже опасно. Если
дон Гарсия испытывает к ней лишь мимолетное влечение, он никому не
выкажет своих подлинных чувств, а с вашей помощью Герменсильда без всякого
труда вылечит его от хвори. Консалв же останется в неведении, и это избавит
его от излишних переживаний и сохранит ему милость герцога. А если вдруг
окажется, что страсть герцога поистине безмерна и безудержна, разве
можно исключить, что он попросит руки Герменсильды, и разве в этом случае мы
не сослужим добрую службу Консалву, не раскрыв ему тайны, которая
породнит его с королевским домом. Я полагаю, сеньора, что мы должны тысячу раз
подумать, прежде чем вмешаться в отношения между доном Гарсией и Гер-
менсильдой, и вы обязаны подумать об этом более чем кто-либо хотя бы уже
потому, что может наступить день, когда и вы станете родственницей будущей
королевы.
Эта мысль еще никогда не приходила в голову Нунье Белле. Перспектива
породниться с королевской семьей больше, чем что-либо другое, убедила ее в
правоте рассуждений дона Рамиреса, и она уже не могла не попасть в
расставленные сети. Они договорились ничего мне не говорить, не спускать глаз с
герцога и действовать в зависимости от его поведения.
Часть первая
61
Дон Рамирес, удовлетворенный разговором, доложил о своих успехах
герцогу. Дон Гарсия в порыве благодарности облек его всей полнотой полномочий
для описания его чувств и поступков в разговорах с Нуньей Беллой. Мой друг
вновь поспешил увидеться с Нуньей Беллой и при встрече долго рассказывал,
каких трудов ему стоило уговорить герцога признаться в своей любви к моей
сестре, добавив при этом, что никогда в жизни не видел столь страстно
влюбленного человека, что герцог самым невероятным образом переживает ту боль,
которую он мог бы мне причинить, и что вряд ли стоит пытаться его
образумить. По мнению дона Рамиреса, наиболее верным шагом было бы вселить в
герцога хотя бы самую малую долю надежды на благосклонное к нему
отношение Герменсильды. Нунья Белла согласилась с ним и пообещала повлиять
на мою сестру.
Дон Рамирес поспешил во дворец с обнадеживающей вестью и был
встречен с распростертыми объятиями. Герцог чуть ли не облобызал нового
фаворита, долго с ним беседовал и впредь больше ни с кем не пожелал
встречаться наедине. Тем не менее он счел необходимым оставить внешне все как было
и поддерживать со мной прежние дружеские отношения. Дон Рамирес также
предпочел скрыть от других свое новое положение первого фаворита, но,
сознавая низость своего поведения, жил в постоянном страхе оказаться
уличенным в предательстве.
Вскоре между доном Гарсией и Герменсильдой состоялся разговор. Герцог
уверял мою сестру в своей к ней любви с присущей ему страстью, а
поскольку он действительно был влюблен, ему не составило большого труда убедить
ее в искренности своих чувств. Она готова была тут же ответить ему взаимным
расположением, но, помня о моих наставлениях, сдержала порыв сердца и
решила сначала рассказать о случившемся Нунье Белле. Нунья Белла, следуя
уговору с доном Рамиресом, посоветовала ей ничего мне не говорить и вести
себя так, чтобы еще больше понравиться герцогу, не теряя при этом чести и
достоинства. Она сказала ей также, что, несмотря на мое недовольство
ухаживаниями дона Гарсии, я буду рад тому счастью, которое мне уготовано, но
которое в силу ряда причин я, мол, не хочу торопить. Вера Герменсильды в
добрые чувства Нуньи Беллы была настолько непоколебимой, что она полностью
доверилась ей, и ее расположение к герцогу лишь возросло при мысли о
возможности стать обладательницей короны королевы.
Герцог так ловко скрывал свою страсть, что если при первом появлении
Герменсильды ни от кого не ускользнуло восхищение, отразившееся на его
лице, то в эти дни придворные находились в полном неведении. Нунья Белла
прилагала все усилия, чтобы их встречи происходили подальше от
посторонних глаз, он никогда не встречался с моей сестрой прилюдно. Я видел, что дон
Гарсия стал проявлять ко мне меньше знаков дружеского внимания, чем
прежде, но относил это к присущей молодым людям неровности характера.
Так продолжалось до тех пор, пока Абдала, король Кордовы22, не нарушил
довольно долго соблюдавшееся перемирие с Леонским королевством и не
возобновил военные действия. Положение Нуньеса Фернандо при дворе давало ему
право на командование армией, и король скрепя сердце вынужден был поставить
62
Заида. Испанская история
его во главе войск. У него не было предлога поступить иначе, так как для этого
надо было обвинить моего отца в каком-либо преступлении и взять под стражу.
Он мог бы послать на поле сражения дона Гарсию, чтобы поставить герцога над
Нуньесом Фернандо, но доверял сыну еще меньше, чем графу Кастильскому, и
опасался их сговора, который позволил бы им сосредоточить в своих руках
огромную силу. В это же время взбунтовалась Бискайская провинция. Король
решил послать туда дона Гарсию, оставив моего отца воевать с маврами. Я был бы
рад сражаться рядом с отцом, но герцог пожелал взять меня с собой, да и король
предпочитал видеть меня в свите герцога, нежели под началом графа. Мне не
оставалось ничего иного, как подчиниться и проститься с отцом, который отбыл
в армию первым, проклиная все на свете за то, что я не был с ним. Его плохое
настроение объяснялось огромной отцовской любовью. Он всегда проявлял о
моей сестре и обо мне самую нежную заботу и взял с собой наши портреты,
чтобы иметь возможность постоянно любоваться нами, а при случае и похвалиться
перед другими красотой своих детей, чем, как я вам уже говорил, он очень
гордился. Граф Кастильский выступил против Абдалы во главе довольно
значительных сил, которые, однако, уступали силам мавров, и, вместо того чтобы
ограничиться пресечением продвижения противника в местах, служивших его армии
естественным оборонительным рубежом, решил, уступая тщеславному желанию
отличиться, вступить в бой на равнине, что лишало его всяких преимуществ. В
результате сражение он проиграл, армия была разбита и ему едва удалось
спастись самому. Мавры захватили огромные трофеи и праздновали победу, каких
еще никогда не одерживали над христианами23.
При известии о столь крупном поражении король пришел в ярость и не без
основания обвинил во всем графа. Более того, желал унизить моего отца, он,
в ответ на его оправдания, лишил его всех почестей и привилегий и приказал
убираться в свою Кастилию и не попадаться ему на глаза, если не хочет,
чтобы ему отрубили голову. Мой отец не мог не подчиниться воле короля и отбыл
в свои края в отчаянии честолюбивого человека, по репутации и состоянию
которого был нанесен тяжелый удар.
Тем временем дон Гарсия все еще оставался во дворце. Его выступление
против восставшей Бискайской провинции задержала неожиданная болезнь.
Против же мавров король решил выступить сам, собрав под своим началом все,
что осталось от разбитой армии. Я обратился к нему с просьбой взять меня с
собой, и он хотя и поморщился, но согласился. С гораздо большим
удовольствием он отправил бы меня вместе с моим отцом в Кастилию, но поскольку моей
вины в разгроме королевской армии не было, а его сын по-прежнему
благоволил ко мне, оставил меня при дворе. Таким образом, я был зачислен в его
свиту, а при герцоге остался дон Рамирес. Нунья Белла была очень огорчена
опалой, в которую попал мой отец, и моим отъездом, и я отбыл в армию,
утешаясь лишь тем, что увожу с собой любовь самого дорогого мне человека.
Поскольку герцог не смог из-за болезни возглавить армию, в Бискайю
отправился его брат, дон Ордоньо, который оказался настолько же неудачлив в
усмирении мятежников24, насколько его отец преуспел в войне против мавров:
войска дона Ордоньо были разбиты наголову, а сам военачальник мечтал лишь
Часть первая
63
о том, чтобы смертью в бою смыть с себя позор; король же сокрушил мавров
и вынудил их просить мира. Судьба благоволила ко мне и предоставила
возможность отличиться в сражениях, что, однако, не повлияло на более чем
прохладное ко мне отношение со стороны короля. Несмотря на оказанные мною
услуги, я не переставал ощущать его немилость. По возвращении в Леон мне
пришлось убедиться, что слава не дает тех преимуществ, которые дает
расположение королей.
Дон Гарсия использовал мое отсутствие для тайных свиданий с Герменсиль-
дой и делал это настолько скрытно, что их встречи ни у кого не вызывали
подозрений. Он всеми силами старался понравиться моей сестре и даже
намекнул ей, что наступит день, когда она наденет корону королевы. Его усилия не
пропали даром, и Герменсильда отдала ему свое сердце.
Руководя их тайной связью, дон Рамирес и Нунья Белла постоянно виделись
между собой. Красота Нуньи Беллы никого не оставляла равнодушным, и
восхищение дона Рамиреса росло с каждым днем. Она, в свою очередь, оценила
его незаурядный ум и обходительность. Их близкое общение и совместная
забота о делах герцога и Герменсильды помогали Нунье Белле переносить мое
отсутствие намного легче, чем она себе это представляла.
Вернувшись с победой в Леон, король распорядился передать отцу дона
Рамиреса все должности и владения моего отца, но даже в этих условиях я
остался верным нашей с ним дружбе. Конечно, после оказанных мною в двух
военных кампаниях услуг я мог рассчитывать на то, что все, чего лишался мой
отец, король передаст мне, и, тем не менее, не стал противиться королевской
воле. При встрече с доном Рамиресом я сказал ему, что, как ни горько видеть
мне потерю нашим родом огромного состояния, утешением для меня служит
то, что оно переходит в дом моего друга. Несмотря на природную сметливость,
он не нашелся что ответить — столь сильным было его смущение перед лицом
моих дружеских чувств, которых он менее всего заслуживал. Я же тогда
расценил его молчание как невыразимую словами признательность за мое доброе
к нему отношение.
Лишение моего отца огромной доли богатства было воспринято двором как
его окончательное падение. Почести, перешедшие к отцу дона Рамиреса от
моего отца, и покровительство со стороны герцога поставили моего неверного
друга почти в такое же положение, в котором до этого находился я. Их новые
отношения стали для всех очевидными, хотя оба старались не выпячивать их.
Постепенно дворцовая публика отвернулась от меня, перенеся свои
пристрастия на нового любимчика герцога. Любовь Нуньи Беллы не оказалась
достаточно прочной, чтобы выдержать столь резкие перемены в моей судьбе. Она
ценила во мне как мои личные качества, так и мое положение в свете. Но когда
я попал в немилость, только большая любовь могла сохранить наши
отношения. Для большой же любви ее сердце оказалось слишком маленьким.
Вскоре при наших встречах я заметил в ее манере держаться со мной некоторую
отчужденность и поделился своими мыслями с доном Рамиресом. Затем я
решил поговорить об этом и с Нуньей Беллой. Она заверила меня, что ничего не
изменилось, и, поскольку у меня не было конкретных оснований для сетований
64
Заида. Испанская история
и все мои переживания основывались на обрывочных впечатлениях, ей
нетрудно было убедить меня в моем заблуждении. Она действовала так ловко и так
искусно, что на какое-то время смогла успокоить меня.
Дон Рамирес рассказал ей о моих подозрениях. Ему хотелось узнать, как
она относится ко мне на самом деле, насколько в своих сомнениях я близок
к истине.
— Мое отношение к Консалву не изменилось, — ответила она ему. — Я его
люблю так же, как и любила. Но если я буду его любить меньше, то вряд ли
будет справедливым упрекать меня в этом. Разве страсть вспыхивает и затухает
по нашей воле?
Интонация, с которой Нунья Белла произнесла эти слова, не оставила у
дона Рамиреса ни малейшего сомнения в том, что я больше не любим, а
вспыхнувшая в глубине души искра надежды заставила его по-новому
взглянуть на мою неверную возлюбленную и полнее оценить ее красоту. Он был
настолько поражен своим открытием, что, потеряв над собой контроль,
воскликнул:
— Вы правы, сеньора. Мы не властны над нашими чувствами. Я хорошо
понимаю вас, так как тоже охвачен безудержной страстью, которой не в
состоянии противиться.
Смысл его слов не ускользнул от Нуньи Беллы и смутил ее. Дон Рамирес
также почувствовал себя неловко. Эти слова вырвались из его уст помимо воли, и
он был поражен ими не менее собеседницы. В его памяти вдруг промелькнуло
все, чем он был обязан моей дружбе. В замешательстве он опустил глаза и
погрузился в молчание. Смущенная Нунья Белла также не знала, что сказать, и они
расстались, не обменявшись больше ни единым словом. Он корил себя за
непроизвольно высказанные чувства, она терзалась тем, что не нашла достойного
ответа. Подавленный и недовольный собой дон Рамирес выбежал из комнаты, не
ощущая под ногами пола. Чуть позже, несколько успокоившись, он задумался о
том, что произошло, и чем больше думал, тем больше удостоверялся в
охватившей его страсти. Только теперь он понял, какую опасность таили в себе его
частые встречи с Нуньей Беллой, осознал, что удовольствие, которое он получал от
разговоров с ней, объяснялось совсем другими причинами, что он давно уже был
влюблен и слишком поздно разобрался в своих чувствах.
Убедившись, что Нунья Белла не питает ко мне прежней любви, дон
Рамирес решил не сопротивляться своей страсти. Ища самооправдания, он уверял
себя, что полюбил ее лишь после того, как она охладела ко мне. Его
самолюбию, однако, льстило, что перед ним открывается возможность завоевать
сердце, которое принадлежит пусть и не полностью, но другому. Отбив у меня
возлюбленную, он умножил бы число своих побед. Но когда он явственно
представил себе, что речь идет о Консалве, о том самом Консалве, который не
проявлял по отношению к нему ничего, кроме самой верной, самой искренней
дружбы, он вдруг устыдился своих мыслей и с такой решимостью отогнал их,
что ему показалось, будто он уже одержал над своей слабостью верх. Он тут
же поклялся не говорить больше Нунье Белле ни слова о своей любви и
избегать поводов для подобных разговоров.
Часть первая
65
Нунья Белла, которая упрекала себя лишь в том, что не нашлась, как
ответить дону Рамиресу, не предавалась столь глубоким размышлениям. Она
убеждала себя, что поступила правильно, сделав непонимающий вид, что при столь
частых встречах с мужчиной ее, несколько иное, чем просто обходительное,
отношение вполне естественно и что к тому же никакого особого смысла в свои
слова он не вкладывал, хотя на самом деле прекрасно разобралась в его
чувствах. Наконец, чтобы перестать корить себя и сохранить добрые отношения
с доном Рамиресом, она решила при последующих встречах вести себя так, как
будто ничего не произошло.
Какое-то время дон Рамирес оставался верен данному слову, хотя сдержать
ему его было нелегко. Он встречался с Нуньей Беллой каждый день, она была
красива, меня больше не любила, с ним держалась приветливо — соблазн был
слишком велик. В конце концов дон Рамирес не устоял и принял решение
отдаться велению сердца, а приняв решение, избавился и от угрызений совести.
Первое предательство повлекло за собой второе: он перестал говорить мне
правду и рассказывать о содержании своих бесед с Нуньей Беллой. Кончилось это
тем, что он признался ей в любви. Уверяя ее, что испытывает неимоверные
страдания, нарушая законы мужской дружбы, дон Рамирес ссылался на
безудержную страсть. Он говорил, что не претендует на взаимность, понимает разницу
между его и моим положением и невозможность занять в ее сердце мое место,
но просит лишь выслушать его, помочь ему преодолеть свою любовь и не
открывать его слабость мне. Опасаясь нашей ссоры, Нунья Белла пообещала ему
последнее, но отказала с нотками нежности в голосе в двух других просьбах, не
желая якобы стать соучастницей неблаговидных действий в случае, если
инцидент будет иметь продолжение. Продолжение действительно последовало:
любовь дона Рамиреса и его дружба с герцогом решили мою участь. Я стал для
Нуньи Беллы фигурой менее привлекательной, она уже не видела преимуществ,
которые могла бы дать ей наша совместная будущая жизнь. Ничего хорошего
не сулила ей и моя возможная ссылка в Кастилию. Она была осведомлена о
желании короля отправить меня к отцу, как и о том, что возражения герцога на
этот счет были продиктованы исключительно чувством долга. Она не верила,
что Герменсильда когда-нибудь станет женой дона Гарсии, так как, оставаясь его
конфиденткой и пользуясь любовью дона Рамиреса, была в курсе всех дел. Ей
было известно, что король совсем не расположен дать свое согласие на наш
брак, тогда как у него не было никаких причин возражать против ее брака с
доном Рамиресом, в котором она нашла все, что когда-то нравилось во мне.
Наконец, она пришла к выводу, что благоразумие и предусмотрительность
требуют сменить привязанность и отказаться от человека, который не может стать
ее мужем, в пользу другого, который станет им наверняка. Вряд ли нужны
более веские доводы, чтобы оправдать женское непостоянство. Нунья Белла была
готова открыто заявить о своей связи с доном Рамиресом, но от этого шага в тот
момент ее удержали прежняя любовь ко мне и прежде данные обещания —
несмотря на перемену чувств, она не нашла в себе силы признаться в этом в
тяжелые для меня дни королевской опалы. Дон Рамирес также боялся сделать
достоянием гласности свое коварное поведение. Они договорились, что Нунья
5. Заказ № К-6559
66
Заида. Испанская история
Белла будет держать себя со мной, как и раньше, рассчитывая без труда
обвести меня вокруг пальца. Их расчет был верен, поскольку я продолжал
искренне делиться с доном Рамиресом всем, в том числе и мучившими меня
сомнениями, которые он сразу же передавал своей сообщнице. Они решили также
рассказать о своих взаимных симпатиях дону Гарсии и просить его отнестись к ним
благосклонно. Разговор с герцогом взял на себя дон Рамирес, хотя стыд и
опасение быть уличенным в недобропорядочности не облегчали ему задачи. Он,
однако, подбадривал себя тем, что, владея секретом любви герцога к моей
сестре, мог в случае чего воспользоваться этим козырем. И действительно, ему
удалось добиться от герцога всего, что ему было надо, и даже больше — он
уговорил дона Гарсию замолвить перед Нуньей Беллой за него слово. Конфидент
герцога не только стал его фаворитом, но и заполучил в конфиденты своего
хозяина. Нунья Белла, также опасавшаяся осуждения со стороны герцога,
испытала облегчение и стала еще чаще встречаться с доном Рамиресом, не теряя при
этом бдительности. Герцог и дон Рамирес решили также, что, поскольку до
этого они никогда от меня ничего не скрывали и их перешептывание между
собой может показаться мне подозрительным, дон Рамирес будет приходить к
герцогу через потайной ход, когда во дворце не будет других посетителей.
Таким образом, я был предан теми, кого любил больше всего на свете, ничего не
подозревая и находясь в полном неведении.
Если при встречах с Нуньей Беллой я замечал малейшее изменение в ее
чувствах, — а ее чувства больше всего занимали в эти дни мой ум и сердце, —
я спешил к дону Рамиресу излить свою печаль. Он, в свою очередь, спешил
к Нунье Белле и советовал ей лучше играть роль притворщицы. Когда он
находил меня более умиротворенным, его охватывало волнение — он опасался,
как бы к ней не вернулось ее прежнее чувство. Тогда он требовал, чтобы она
умерила свой пыл. Она слушалась его и начинала проявлять больше
сдержанности. Дон Рамирес испытывал наслаждение, видя, как его соперник бежит к
нему со своими обидами, которые наносятся по его наущению. Особую
радость он испытывал, когда узнавал по моим сетованиям, что Нунья Белла,
несмотря на его наставления быть со мной пообходительней, не подчинялась
ему. Он тешил свое честолюбие и распалял свою страсть, наблюдая за
раздавленным соперником, и был бы полностью счастлив, если бы его не мучала
ревность.
В то время, как я был поглощен мыслями о своей возлюбленной, мой отец
полностью отдался своим честолюбивым замыслам. С помощью
всевозможных козней и интриг ему удалось собрать силы, которые, как он полагал,
позволят ему открыто выступить против короля. Но прежде он хотел, чтобы я
покинул двор из-за опасения оставить меня королю в качестве слишком
дорогого заложника. О моей сестре он так не волновался, считая, что девушке,
особенно красивой, вряд ли что-то могло угрожать. Нуньес Фернандо послал в
Леон верного ему человека, чтобы оповестить меня о готовящемся мятеже и
передать приказ незамедлительно возвращаться в Кастилию, не ставя об этом
в известность ни короля, ни герцога. Посланец был крайне удивлен моим
отказом: я просил передать отцу, что участия в мятеже принимать не намерен,
Часть первая
67
что не считаю его действия оправданными, что, хотя король и лишил его
почти всех привилегий, ему следут смириться с королевской немилостью,
которую к тому же он вполне заслужил, и что я не собираюсь покидать двор и
никогда не выступлю против его величества с оружием в руках. Посланец
отвез отцу мой ответ, который поверг его в отчаяние, так как мое
непослушание срывало все его замыслы. Он предупредил меня, что от своих планов не
откажется, а поскольку я его ослушался, пойдет до конца, даже если король
Леона отрубит мне голову. Зная отцовскую любовь, я не сомневался, что все
это пустые угрозы.
Страсть дона Рамиреса к Нунье Белле между тем росла, и он уже не желал
мириться с двусмысленностью своего положения.
— Вы, сеньора, смотрите на Консалва прежними глазами, — не выдержал он
после одной из моих продолжительных встреч с Нуньей Беллой. — Вы говорите
ему те же слова, что и раньше. Пишете те же письма. Могу ли я быть уверен,
что вы не питаете к нему прежних чувств? Когда-то он очаровал вас, и
сегодня, сеньора, вы не в состоянии избавиться от первого увлечения.
— Помилуйте, — возражала Нунья Белла, — я делаю только то, что вы от
меня требуете!
— Согласен с вами, но от этого моя боль становится еще более невыносимой:
осторожничая, я вынужден давать вам советы, которые приводят меня в
исступление. Слыханное ли дело, чтобы влюбленный просил возлюбленную ублажать
его соперника! Я дошел до предела, переступив который не смогу за себя
поручиться: в моем положении мне легче убить Консалва, чем продолжать
истязать себя. Отняв у него ваше сердце, я не остановлюсь и перед тем, чтобы
отнять у него и жизнь.
— Ваш мозг слишком воспален, и я не думаю, что вы исполните вашу
угрозу. Представьте себе, сколько неприглядного вы извлечете на свет, сделав
неверный шаг, и каким позором покроете самого себя.
— Я не слепой, сеньора, — не унимался дон Рамирес, — и я прекрасно
представляю себе, что если для исполнения моей угрозы большого ума не требуется,
то уж наверняка надо полностью его лишиться, чтобы бесстрастно наблюдать,
как чуть ли не каждый день вы мило секретничаете с интересным молодым
человеком, к которому неравнодушны. Если бы все это было от меня скрыто,
я находился бы в состоянии блаженного неведения, и только. Но все это
происходит у меня на глазах, и я испытываю невыносимые мучения — я вижу, как
вы встречаетесь с ним, я ношу вам его письма, я утешаю его, когда он жалуется
мне на ваше невнимание. Ах, сеньора, у меня нет больше сил терпеть эти муки!
Если вам дорого мое спокойствие, сделайте так, чтобы Консалв покинул двор.
Добейтесь согласия герцога на его отправку в Кастилию, как на том
настаивает король.
— Вы понимаете, на что вы меня толкаете! — воскликнула Нунья Белла.
— Прекрасно понимаю. Но после того, что вы уже ради меня сделали,
стоит ли проявлять щепетильность. Ваше нежелание расстаться с Консалвом лишь
укрепит меня в намерении разлучить вас. Где доказательства, что вы к нему
охладели? Вы с ним постоянно встречаетесь, мило беседуете, он от вас без ума.
68
Заида. Испанская история
Вы утверждаете, что не испытываете к нему прежних чувств, но ваша манера
держать себя с ним не изменилась. Я поверю вам лишь тогда, когда вы
пожелаете отдалить его от себя. Пока же буду считать, что вы не притворяетесь,
когда говорите ему о своей любви.
— Ну что же, — заговорила после некоторого молчания Нунья Белла. — Ради
вас я уже совершила немало предательств, совершу еще одно. Но вы должны
мне помочь. Герцог всячески противится воле короля и вряд ли откликнется
на мою просьбу, вразумительно объяснить которую мне будет просто
невозможно.
— Хорошо, — согласился дон Рамирес. — Я сам поговорю с герцогом, и, если
вы дадите ему понять, что не возражаете, он, я уверен, перестанет упорствовать.
Нунья Белла дала обещание продолжить коварную игру, и в тот же вечер
дон Рамирес навестил герцога и намекнул ему, что не в их, дескать, общих
интересах удерживать меня при дворе. При это он не забыл попросить
герцога обратить внимание короля на его, дона Рамиреса, рвение. Уговаривать дона
Гарсию долго не пришлось, так как помимо всего прочего он испытывал
чувство стыда за свое неблаговидное поведение, и мое присутствие служило ему
постоянным живым укором. Нунья Белла выполнила данное дону Рамиресу
обещание, и было решено, что при первой же оказии герцог уведомит короля
о своем согласии на мою ссылку, при том, однако, условии, что для всех
остальных я отправлен в Кастилию вопреки его воле.
Вскорости случай представился. Король, взбешенный очередной выходкой
сына, во всем обвинил меня, заподозрив, что тот действовал по моему
наущению. Дон Гарсия, не пожелавший предстать перед королем, сказался больным
и провел несколько дней в постели, и ее величество королева пеклась, по
своему обыкновению, об их примирении. Навестив сына, она рассказала ему о
причине отцовского гнева.
— Король, матушка, гневается по другой причине, — отвечал герцог, —
которая мне хорошо известна: он просто ненавидит Консалва. Консалв для него —
виновник всех бед. Король не желает видеть его при дворе, и я никогда не
угожу ему, пока не соглашусь на ссылку моего друга в Кастилию. Я очень люблю
Консалва, но, видимо, мне придется расстаться с ним. В противном случае на
расположение короля рассчитывать не приходится. Скажите, матушка, отцу,
что я отступаюсь, но пусть мое решение останется для всех тайной.
Слова герцога несказанно удивили ее величество.
— Мне ли не радоваться вашему послушанию воле отца, — промолвила
королева, — но я поражена вашим согласием на отъезд Консалва.
Герцог пробормотал что-то невнятное и поспешил перевести разговор на
другую тему.
Случайно при их беседе присутствовала одна из фавориток королевы —
наша с Нуньей Беллой самая близкая приятельница. Она находилась
недалеко от постели, и от ее слуха не ускользнуло ни одно слово. Услышанное
настолько поразило ее, что она предпочла бесшумно удалиться. Я застал ее в
глубоком раздумье, и она даже не заметила, как я подошел к ней и заговорил,
подтрунивая над ее мечтаниями.
Часть первая
69
— Вы должны благодарить меня, а не насмехаться надо мной, — сказала она. —
Я только что услышала такое, что никак не укладывается в моей голове.
И Эльвира — так звали девушку — поведала мне о разговоре герцога с
королевой. То, что она рассказала, потрясло меня, уж наверное, сильнее, чем ее.
Я попросил еще раз повторить рассказ слово в слово. И когда она его уже
почти закончила, королева вышла от сына, прервав наш разговор. Не находя в
себе сил встретиться с герцогом с глазу на глаз, я вышел вслед за ее
величеством и уединился в королевском саду в надежде разобраться в столь
неожиданном повороте событий.
Мне казалось невероятным, что герцог, всегда проявлявший ко мне самые
лучшие чувства, мог беспричинно согласиться с моим изгнанием, тем более
настаивать на нем. Я не понимал, что заставляло его продолжать держаться со
мной как с другом, если таковым для него я уже не был. Я не видел повода для
такой перемены и просто не мог поверить услышанному. Я искренне любил
герцога и был огорчен случившимся до глубины души. Мне ничего не
оставалось, как пойти к дону Рамиресу и поделиться своим горем.
С этими грустными мыслями я вернулся во дворец и попросил
камердинера дона Гарсии вызвать дона Рамиреса для срочного разговора, если тот еще не
ушел. Комнатный служитель, которого я когда-то рекомендовал герцогу,
ответил, что дон Рамирес пока не появлялся, так как, по обыкновению, приходит,
когда дворец пустеет. Эти слова меня удивили, мне даже показалось, что я
ослышался. И все-таки кое о чем они мне говорили и заставили меня задуматься о
некоторых странностях в поведении герцога и дона Рамиреса. До сих пор у меня
и в мыслях не было кого-нибудь подозревать, но сейчас, после открывшегося
предательства герцога, я заподозрил их в тайном сговоре. Я спросил у
камердинера, который всегда был со мной откровенен, как часто дон Рамирес
наведывается во дворец после ухода гостей и посетителей. Он в свою очередь
выразил крайнее удивление, полагая, что я-то уж наверняка должен был бы знать и
о встречах дона Рамиреса с герцогом, и о содержании их разговоров. Я ответил,
что мне ничего об этом не известно и что я озадачен молчанием дона
Рамиреса. Камердинер не поверил моим словам, решив, что я хочу проверить его
честность, и, желая доказать свою преданность, поведал мне об ухаживаниях герцога
за моей сестрой и о посреднической роли дона Рамиреса. Он сказал, что не раз
украдкой присутствовал при их разговорах, да и многое узнал от самого дона
Рамиреса, которому герцог вручал письма для передачи Герменсильде. Мне
открылась вся неприглядность действий герцога и дона Рамиреса, но осталась
сокрытой роль, которую играла в этом Нунья Белла.
— Вот почему дон Гарсия изменил ко мне свое отношение! — вырвалось у
меня. — Совершенное им предательство делает для него мое присутствие
невыносимым. Боже мой! Он влюблен в мою сестру, она любит его, и дон Рамирес
у них на побегушках!
На этих словах я замолк, не желая выказывать слуге свои чувства. Я
приказал ему держать язык за зубами и побрел к себе, где предался гневу и
отчаянию. В моей голове рождались планы мести: я готов был поразить кинжалом
сердца дона Гарсии и дона Рамиреса. Однако, несколько успокоившись, я при-
70
Заида. Испанская история
нял иное решение: я порываю отношения с доном Рамиресом, увожу Нунью
Беллу в Кастилию, добиваюсь у ее отца согласия на наш союз, а поскольку ее
отец, как и мой, питал ко двору ненависть, присоединяюсь к ним, принимаю
участие в мятеже и войне против леонского короля, который будет лишен
трона, а следовательно, будет лишен трона и его наследник, дон Гарсия. Другого
выхода я не видел.
Мне не терпелось увидеться с Нуньей Беллой. Только ее сочувствие могло
облегчить мои страдания. Я уже готов был покинуть дом, как появился ее
посыльный, который вручил мне письмо, сообщив, что госпожа весьма огорчена,
но принять меня сегодня вечером не имеет возможности по причинам,
изложенным в послании. Испытывая неотложную необходимость во встрече с Нуньей
Беллой, я попросил посыльного подождать моего ответа. Вернувшись в
кабинет, я вскрыл письмо и прочел:
Письмо
«Не знаю, благодарить мне Вас или, напротив, упрекать за разрешение,
которое Вы соизволили дать мне на то, чтобы я выразила Консалву свою боль по
случаю его отъезда. Я чувствовала бы себя гораздо лучше, если бы Вы
запретили мне встретиться с ним и тем самым избавили бы меня от неприятной
обязанности. Хотя Вам и было больно видеть мою манеру держаться с Консалвом
после его возвращения с победой над маврами, Вы все-таки страдали меньше
моего. Вы не сомневались бы в этом, если бы знали, какие муки я испытываю,
уверяя в своей любви человека, к которому давно не питаю никаких чувств. Я
кляну себя за то, что полюбила его, и готова заплатить жизнью за те слова,
которые вынуждена была говорить ему и которые должны были быть
предназначены исключительно Вам. Когда он покинет двор, Вы поймете, насколько
были несправедливы ко мне, а радость, которую Вы прочтете на моем лице,
будет самым верным тому подтверждением. Герменсильда вне себя от
негодования из-за того, что герцог слишком долго беседовал вчера с дамой, которая
уже неоднократно давала ей повод для ревности. Именно этим объясняется ее
отказ сопровождать королеву в покои герцога. Желательно, чтобы герцог не
выдавал Герменсильде своей осведомленности об этом. Она действительно от
него без ума и... Мне пришлось прервать письмо, так как произошло крайне
неприятное событие. Одна из моих подружек слышала сегодняшний разговор
герцога с ее величеством королевой о Консалве и тут же передала ему слова
дона Гарсии. Она только что побывала у меня и сообщила мне об этом, как о
чем-то, что, по ее мнению, должно возмутить и огорчить меня. Консалв
наверняка заподозрит Вас в сговоре с герцогом и попытается докопаться до истины.
Представьте себе, чем это может обернуться. Я — в полной растерянности и не
знаю, как вести себя. Я собираюсь отложить нашу намеченную на сегодняшний
вечер встречу с Консалвом, так как не смогу объяснить ему Вашу скрытность
и вообще не знаю без Вашего совета, что ему сказать. До скорого свидания.
Постарайтесь войти в мое положение».
Часть первая
71
Меня как громом поразило. Я стоял, оглушенный и ослепленный гневом.
Мое душевное равновесие было до предела нарушено уже ранее
открывшимся предательством со стороны моих лучших друзей. Но прежние переживания
были ничем по сравнению с новым ударом, обрушившимся на меня в
результате случайной ошибки. Я продолжал стоять как вкопанный, в больной
голове путались мысли.
«Вы разлюбили меня, — кричала моя душа, — но вы не удовлетворились тем,
что охладели ко мне. Вам понадобилось оскорбить меня жалким обманом и
войти в предательский сговор с человеком, которого, после вас, я любил
больше всего на свете. Сколько несчастий свалилось вдруг сразу на мою голову, —
продолжал я разговаривать сам с собой, — сколько нанесено обид, которые
заслуживают скорее презрения, чем негодования! Я отступаю перед
невиданной жестокостью судьбы. Если у меня были и желание, и воля отомстить
коварному герцогу и неблагодарному другу, я оказался бессильным перед
низостью Нуньи Беллы. В ней было все мое счастье. Она отвернулась от меня, и все
мне стало безразличным. Никакая месть не сможет послужить утешением.
Только что я был на самой вершине. Меня вознесли на нее имя моего отца, моя
доблесть, покровительство герцога. Мне казалось, что я любим самыми
дорогими мне людьми. Судьба горько посмеялась надо мной — меня обманула
сестра, предал герцог, украл мою любовь друг. О, Небо! Возможно ли, Нунья
Белла, что вы предпочли мне дона Рамиреса? Как могло статься, что дон Рамирес
мог отнять у меня человека, которого я так страстно любил и который был так
со мною нежен? Я потерял вас обоих — самых близких мне друзей — и лишен
даже слабого утешения излить свое горе хотя бы одному из вас».
Я терял рассудок. Каждое из свалившихся на меня в этот день несчастий,
даже самое незначительное, отдавалось в сердце нестерпимой болью, а все
вместе затуманивали ум. Я не знал, на чем сосредоточить внимание.
Посыльный Нуньи Беллы ждал ответа. Оторвавшись на мгновение от мрачных
мыслей, я сказал ему, что отошлю ответное письмо на следующий день, и
приказал слугам никого не принимать.
Воспаленный мозг попытался разобраться в том, что произошло со мной,
что изменилось в моей нынешней жизни по сравнению со вчерашней.
Переменчивость судьбы и человеческая недобропорядочность подтолкнули меня
к мысли навсегда оставить общество людей и закончить жизнь в
отшельничестве. Внутренний голос настоятельно твердил, что другого выбора нет. Я
мог уехать к отцу. Однако, зная, что он собирается взяться за оружие,
отбросил эту мысль, не считая возможным даже при моем отчаянном положении
поднять руку на короля, который к тому же ничем меня не обидел. Если бы
мои беды объяснялись лишь роковым стечением обстоятельств, я бы поднял
брошенную судьбой перчатку и постарался доказать ей, что она обошлась со
мной незаслуженно. Но на что еще я мог уповать после того, как был
предан самыми дорогими мне людьми, которым доверял безгранично? «Смогу
ли я быть более верным слугой, чем был для дона Гарсии? — спрашивал я
себя. — Смогу ли я быть лучшим другом, чем был дону Рамиресу? Смогу ли
любить кого-нибудь сильнее, чем Нунью Беллу? И именно они меня преда-
72
Заида. Испанская история
ли! Я должен навсегда оградить себя от мужского вероломства и женского
коварства».
Мои размышления о дальнейшем жизненном пути были прерваны
появлением молодого человека по имени Олмонд, который боготворил меня и
отличался редкой добропорядочностью и душевной чистотой. Дон Олмонд был
братом девушки, поведавшей мне о предательстве герцога, и пришел сообщить
об уже известном мне разговоре дона Гарсии с королевой, который услышал
от сестры. Он знал меня достаточно хорошо и, видя мое крайне возбужденное
состояние, должен был догадаться, что сама по себе утрата знатного
положения при дворе не могла расстроить меня до такой степени. Это, однако, ему в
голову не пришло, и, решив, что причиной моего удрученного вида является
вероломство герцога, он принялся утешать меня. Я всегда относился к нему с
самыми дружескими чувствами, не раз поддерживал в трудную минуту, но
предпочтение все-таки отдавал дону Рамиресу. Чтобы как-то загладить вину и,
возможно, желая хоть с кем-то поделиться горем, я рассказал дону Олмонду
о вероломстве самых дорогих мне людей. Выразив возмущение предательством
со стороны герцога и дона Рамиреса, он без особого удивления выслушал мои
упреки в адрес Нуньи Беллы. Как оказалось, он узнал от сестры не только о
разговоре дона Гарсии с ее величеством королевой, но и о том, что Нунья Белла
уже давно не питала ко мне прежних чувств и многое от меня скрывала.
— Взгляните на это послание, Олмонд. —Я протянул ему письмо Нуньи
Беллы. — Вы найдете здесь полное подтверждение вашим словам. Письмо попало ко
мне по ошибке. Нетрудно догадаться, что предназначалось оно дону Рамиресу.
Дон Олмонд был потрясен содержанием письма и, поняв наконец причину
моего горя, дал мне возможность закончить печальную исповедь.
— Я убеждал себя, что хорошо знаю Нунью Беллу, и считал поэтому, что
могу быть уверен в ее любви. Но это были химерические надежды. Проникнуть
в душу женщин нельзя — они и сами-то не знают себя. Их чувствами
руководит случай. Нунья Белла думала, что любила меня, но любила лишь мой сан
и мое положение. Не исключаю, что в доне Рамиресе ее привлекает то же
самое. Но как смириться с тем, что она обращалась ко мне со словами, которые
подсказывал ей дон Рамирес! Как пережить унижение человеку, который
бежал к своему сопернику, чтобы поделиться с ним своими радостями и
печалями! Разговаривая с Нуньей Беллой, дон Рамирес пекся о своих интересах, а я,
наивный, полагал, что он оказывает мне дружескую услугу. Какой наглый и
циничный обман! Разве я заслужил это? Вероломный посредник — между мной
и Нуньей Беллой, вероломный друг — между мной и доном Гарсией! Я вверил
двум самым близким людям судьбу сестры — они свели ее с герцогом. Союз
Нуньи Беллы и дона Рамиреса, которому я сам способствовал и которому
радовался, обернулся против меня. О Небо, почему ты не хочешь покарать тех,
кому не должно быть на земле места?
Выплеснув боль, я вновь вернулся в мыслях к Нунье Белле, коварство
которой затмевало все остальное. Меня вновь охватило отчаяние, и я поделился
с доном Олмондом своим решением навсегда расстаться с обществом. Он
бурно запротестовал, но, выслушав меня, убедился в твердости моих намерений и
Часть первая
73
тщетности своих возражений, по крайней мере, в тот момент. Я собрал все свои
драгоценности, и, оседлав лошадей, мы поспешили покинуть дом, не
дожидаясь королевского указа о моем изгнании.
Мы провели в седлах всю ночь и с рассветом добрались до дома одного из
друзей дона Олмонда, где, отдохнув с дороги, я предложил ему расстаться. Сам
я намеревался дождаться ночи и продолжить путь в одиночестве. Он начал,
было, протестовать, но в конце концов согласился при условии, что я не
покину этого места, пока он не съездит в Леон и не узнает, какое впечатление
произвело при дворе мое исчезновение и не произошло ли каких-либо событий,
способных побудить меня изменить свои планы. Он так скорбно умолял меня,
что мне не отставалось ничего иного, как пойти ему навстречу, но при этом я
также выставил условие: он умолчит о встрече со мной и о месте моего
пребывания. Я внял его просьбе не потому, что надеялся на какое-то чудо, а просто
уступил невольно проснувшемуся любопытству — мне захотелось узнать, как
восприняла мой отъезд Нунья Белла.
— Поезжайте, мой дорогой Олмонд, — напутствовал я его, — повидайте Ну-
нью Беллу и попытайтесь выведать, что она думает о моем бегстве. Попробуйте
также узнать через вашу сестру, когда именно Нунья Белла охладела ко мне
и не связано ли это с моей опалой.
Дон Олмонд заверил меня, что выполнит все мои поручения. Спустя два дня
он вернулся с печальной миной на лице, и я понял, что никаких утешительных
вестей ждать не приходится.
Он сообщил мне, что никто даже не догадывается о причинах моего
исчезновения, что герцог и дон Рамирес изображают огорчение, а король видит во всем
этом результат моего сговора с его сыном. Дон Олмонд сказал также, что
виделся с сестрой, и она лишь подтверждает мои догадки. Он отказался вдаваться в
подробности, которые, по его мнению, способны причинить мне дополнительную
боль, и просил уволить его от их пересказа. Терять мне было нечего, а его
молчание лишь распалило мое любопытство, и я настоял, чтобы он рассказал мне
всю правду без утайки. О многом из того, что я услышал от дона Олмонда в доме
его друга в день нашего расставания, я, как вы, Альфонс, могли заметить,
рассказывал вам по ходу повествования, желая сделать его более стройным и
удобопонятным, поэтому не буду повторяться. Скажу лишь, что вечером, в день
моего отъезда, Нунья Белла не появилась у королевы, и Эльвира, сестра дона
Олмонда, нашла ее у себя, залитую слезами с письмом в руках. Обе подруги, в
расстроенных по разным причинам чувствах, какое-то время молчали, а затем
Нунья Белла, плотно закрыв дверь, поделилась с Эльвирой тем, что назвала
тайной своей жизни. Сказав, что попала в безвыходное положение и ждет от
подруги сочувствия и понимания, она поведала ей неприглядную историю,
участниками которой были герцог, дон Рамирес, она и попавшая в их сети Герменсиль-
да, то есть то, о чем я вам только что рассказал. Закончила Нунья Белла тем, что
показала Эльвире пакет, незадолго до этого полученный от дона Рамиреса, — в
пакет было вложено письмо, которое предназначалось мне, но по ошибке
попало к нему. Письмо же дона Рамиреса оказалось у меня, открыв мне так долго и
так старательно утаиваемую от меня правду.
74
Заида. Испанская история
По словам Эльвиры, она никогда еще не видела подругу столь жалкой и
беспомощной. Нунья Белла боялась, что я извещу короля о связи его сына с
моей сестрой и добьюсь от него ее и дона Рамиреса отлучения от двора. Ее
пугала перспектива оказаться посрамленной в глазах света, а нежелание
признаться самой себе в своей же неверности разжигало ненависть ко мне.
Как вы можете судить, Альфонс, все, что я услышал от дона Олмонда, лишь
добавило масла в огонь и укрепило меня в правильности принятого решения.
Дон Олмонд, движимый искренними чувствами, умолял меня взять его с собой,
чтобы составить мне компанию в моей будущей отшельнической жизни, но я
довольно резко оборвал его, о чем до сих пор сожалею; на этом мы расстались.
Правда, он добился от меня обещания посылать ему весточки, где бы я ни
обосновался. Дон Олмонд повернул коня в сторону Леона, я направил своего в
сторону моря, где в первой же гавани рассчитывал погрузиться на первый же
корабль. Оставшись наедине с невеселыми мыслями, я задумался над будущим,
которое предстало мне долгим и полным мук и страданий, и изменил свои
планы: смерть на войне, которую король Наварры вел против мавров, показалась
мне куда более привлекательной развязкой. Я нанялся на королевскую
службу под именем Теодориха, но не только не нашел смерти, но, даже не
помышляя о славе, отличился в сражениях. Война закончилась, и мне не оставалось
ничего другого, как привести в исполнение первоначальное решение. Встреча
с вами перевернула мою судьбу, и ожидавшее меня горестное одиночество
обернулось благостным уединением.
Я вновь обрел утраченные покой и отдохновение. Не скажу, что во мне
никогда не рождались никакие желания, но непостоянство судьбы сделало меня
полностью равнодушным к ее прихотям, а обманутая любовь иссушила все чувства,
кроме разве что тихой грусти. Появление Заиды прервало мое горестное
успокоение и уготовило мне, судя по всему, новые, еще более жестокие испытания.
* * *
Консалв кончил, и Альфонс, одновременно потрясенный и завороженный
рассказом друга, долго не мог вернуться к действительности.
— Я восхищен вашим мужеством и стойкостью, — заговорил наконец он, —
и должен признаться, что услышанное намного превосходит то, что может
подсказать воображение.
— Боюсь, что я скорее испортил ваше благоприятное обо мне суждение,
наверняка удивив вас своей наивностью и доверчивостью. Но я был молод, не
подозревал о дворцовых интригах и изменах, сам был далек от них. Я любил од-
ного-единственного человека и не мог даже подумать, что любовь преходяща.
Предать друга или любимого человека мне тем более казалось немыслимым.
— Не поддаться обману вы могли бы лишь в том случае, если бы сами от
природы были человеком подозрительным и недоверчивым, — поспешил
утешить друга Альфонс, — да и ваши подозрения, даже обоснованные, вряд ли
заставили бы вас разглядеть предательство — вы полностью доверяли
обманувшим вас людям; к тому же они действовали настолько коварно и изворот-
Часть первая
75
ливо, что разум достойного человека просто не в состоянии представить себе
подобное.
— Оставим мои прошлые беды — они меня больше не трогают. Образ Заиды
вытеснил из моей головы все воспоминания о прежней жизни. Я даже
удивляюсь своему столь подробному рассказу о пережитом. Еще более удивительно, что
я мог полюбить женщину исключительно из-за ее красоты, да еще страдающую
по возлюбленному. О ней мне ничего не известно, кроме того, что она
прекрасна и ее сердце отдано другому. Я хорошо знал Нунью Беллу, но был обманут.
Чего же мне ждать от Заиды, о которой мне ровно ничего не известно? На что
надеяться, на что претендовать? Случайная волна выбросила ее на пустынный
берег, она сгорает от желания скорее отсюда выбраться. У меня нет никакого
права удерживать ее здесь — это было бы и несправедливо, и бессердечно. Да и
буду ли я счастлив, если удержу ее? Рядом со мной будет находиться женщина,
которая думает о другом, а мое присутствие будет постоянно напоминать ей о
нем. Ах, Альфонс, ревность — испепеляющее зло. Боже мой, неужели дон
Гарсия прав? Неужели подлинная страсть та, которая захватывает внезапно,
поражает с первого взгляда, а все остальное — лишь привязанности, которые мы
вынашиваем в своем разуме? Пожалуй, это так. Настоящая страсть захватывает нас
нежданно-негаданно, так и моя любовь к Заиде увлекла меня как лавина,
сопротивляться которой бесполезно. Простите, Альфонс, что я отнимаю у вас время,
вынуждая выслушивать мои невеселые откровения. Время позднее, пора
подумать и об отдыхе.
Друзья расстались. Альфонс ушел в свою комнату, Консалв — в свою,
проведя остаток ночи без сна. Наутро Заида, как обычно, отправилась на берег
моря в надежде на счастливый исход своих поисков. Консалв, сопровождавший
девушку повсюду, постоянно забывал, что она его не понимает, но,
спохватившись, он через какое-то время вновь заговаривал с ней, расспрашивая о
причинах ее горя, причем с такой чуткостью и участием, как будто боялся обидеть
ее выражением своих чувств. Не получая ответа и вспоминая, что обращается
к ней на непонятном языке, он, уже не стесняясь и не сдерживая себя, начинал
рассказывать о своей любви.
— Я люблю вас, прекрасная Заида, — чуть не кричал он, глядя ей в глаза. —
Люблю безумно и благодарю Бога, зная, что, по крайней мере, не гневаю вас,
произнося эти непонятные вам слова. Ваше поведение подсказывает мне, что,
если бы вы поняли их, они пришлись бы вам не по душе. Любите ли вы кого-
то, слышали ли от него признания, подобные моим? Вымолвите хоть слово,
развейте мои сомнения!
Заида слушала его, поворачивала удивленное лицо к Фелиме, и, как ему
казалось, обращала внимание подруги на его сходство с погибшим
возлюбленным. Сердце Консалва сжималось от боли. Он не задумываясь отказался бы
от своей привлекательной внешности, лишь бы не походить на соперника. Боль
была настолько невыносимой, что он готов был реже видеться с Заидой,
предпочтя лишать себя радости встреч, нежели представать перед ней в образе ее
возлюбленного. Если в глазах Заиды Консалву виделось больше
благожелательности, чем обычно, он впадал в уныние, полагая, что думы ее не о нем. Он
76
Заида. Испанская история
стал избегать общения с ней и после обеда уединялся в лесу. Когда же все-таки
их пути пересекались, ее взгляд казался ему еще более прохладным и
печальным, чем прежде. Он даже убедил себя в ее неровном к себе отношении, и, не
зная подлинных тому причин, отнес переменчивость ее настроения на счет
превратностей пребывания в чужой стране. От него, однако, не ускользнуло,
что по сравнению с первыми днями горе Заиды слегка пошло на убыль, тогда
как вид ее подруги выдавал неизменную и безысходную тоску. Фелима
находилась в состоянии постоянной подавленности и полной отрешенности.
Альфонс неоднократно обращал на это внимание друга, подчеркивая, что
переживания Фелимы нисколько не умаляют ее величественной красоты. Консалв же
думал только о Заиде и вновь стал искать ее общества, пытаясь развлечь
девушку прогулками, охотой, рыбной ловлей. Заида и сама придумывала себе
занятия. Она провела несколько дней за изготовлением браслета, который плела
из своих волос, и, удовлетворенная работой, тут же надела его на руку.
Судьба распорядилась так, что в тот же день она потеряла его во время прогулки
по лесу. Консалв, видевший, как Заида покинула дом, поспешил вслед на ней
и, к своей огромной радости, нашел потерю. Радость была бы намного большей,
получи он столь дорогой сувенир из рук самой Заиды, но он и без того был
несказанно рад и не только не роптал, но и благодарил Бога за счастливый
случай. Расстроившаяся Заида пошла по своим следам и, увидев Консалва, знаками
объяснила ему случившееся. Как ни тяжело было Консалву причинять ей боль,
он не нашел в себе сил расстаться с подарком судьбы и сделал вид, что
помогает ей искать браслет, а затем, также знаками, уговорил ее вернуться домой.
Дома, уединившись в комнате, он покрыл браслет поцелуями и прикрепил его
к ленте, усыпанной драгоценными камнями. По утрам, пока все еще спали, он
уходил подальше от дома и, найдя укромное место, снимал с шеи дорогую ему
вещь и не отрываясь смотрел на нее.
Однажды утром, сидя с браслетом в руках на уходящих в море скалистых
камнях, Консалв ощутил чье-то присутствие и, резко обернувшись, с
удивлением и испугом увидел Зайду. Судорожным движением он попытался спрятать
браслет, но, как ему показалось, не настолько быстро, чтобы она ничего не
заметила. Ее лицо выражало огорчение, смешанное с грустью, что убедило
Консалва в правоте его предположения: конечно же Заида рассердилась на него за
то, что он не хочет вернуть ей браслет. Он боялся, что она будет настаивать на
его возвращении, и сидел, не смея поднять на нее глаза. Вид у Заиды был
печальный и несколько смущенный. Не глядя на Консалва, она присела рядом,
устремив взгляд в морскую даль. Порыв ветра вырвал из ее рук легкую вуаль.
Консалв вскочил, чтобы подхватить ее, и выронил браслет, который не успел
повесить на шею. Заида повернула голову на шум упавших драгоценностей и,
заметив браслет, подняла его. Отбежавший за унесенной ветром вуалью
Консалв не видел этого, но когда он вернулся и разглядел в ее руках ленту, то
невероятно огорчился утратой бесценного сувенира и приготовился к
заслуженным упрекам. Однако лицо девушки не только не выражало укора, но,
напротив, просветлело и смягчилось, зародив в душе Консалва надежду и вытеснив
страх ожидаемого гнева. Заида как зачарованная смотрела на ленту с драгоцен-
Часть первая
11
ными камнями, затем сняла с нее браслет и вернула ленту Консалву.
Оставшись без браслета, расстроенный Консалв подошел к самому берегу и, как бы
невзначай, уронил ленту в воду. Заида вскрикнула, бросилась к воде, пытаясь
спасти драгоценности, но Консалв жестами объяснил ей ненадобность и
тщетность ее усилий, подал девушке руку и увлек от берега. Оба смущенные и как
бы готовые в любой момент разойтись в разные стороны, они шли молча, не
глядя друг на друга, невольно выбрав путь к дому.
Проводив Зайду до ее комнаты, Консалв ушел к себе, погруженный в
раздумье. Да, Заида не разгневалась на него, но все-таки была рада вновь
обрести браслет — печаль сразу слетела с ее лица. Эта мысль болью отдалась в его
сердце, и он с грустью подумал, что, как бы страстно он ни желал получить из
ее рук браслет, он несомненно обидит ее такой просьбой. Что может быть
мучительнее, чем любовь без надежды! Консалву не оставалось ничего иного, как
поделиться горем с Альфонсом и корить себя за слабость, не позволившую ему
устоять перед чарами Заиды.
— Вы напрасно упрекаете себя, — как всегда в таких случаях утешал его
Альфонс. — В столь пустынном месте, как наше, трудно устоять перед
необыкновенной красотой Заиды. Мы не при дворе, где стайки обольстительных
куртизанок готовы кого угодно исцелить от сердечной боли, а погоня за славой и
почестями вполне способна занять место любовных утех.
— Но как жить и любить без надежды! — продолжал Консалв. — Я даже
заикнуться не смею о своей любви, а если бы и решился рассказать о своих
чувствах, то как я смог бы сделать это на непонятном ей языке. Как доказать, что
никого, кроме нее, для меня не существует, тем более когда вокруг нет ни
одной соперницы и она даже не может проверить моих чувств! Как заставить ее
забыть того, кто дорог ей! Единственный, кто мог бы сделать это, — я сам, с
моими достоинствами и недостатками. Но она не видит меня. Мой образ
рождает в ее памяти образ моего соперника. Дорогой Альфонс, не утешайте меня.
Полюбив Зайду, я потерял рассудок, забыл обо всем, даже о том, что когда-
то любил и был обманут.
— Глядя на вас, я убеждаюсь в том, мой милый Консалв, что до Заиды вы
никого никогда не любили, так как впервые познали, что такое ревность.
— У меня не было повода ревновать Нунью Беллу, — возразил Консалв. —
Она слишком искусно скрывала измену.
— Подлинная любовь не нуждается в поводе для ревности. Ваши
собственные страдания должны были подсказать вам это. Вы видите плачущую Зайду,
и ревность тут же вынуждает вас думать, что оплакивает она возлюбленного,
а, скажем, не брата.
— Конечно, я люблю Зайду несравненно больше, чем любил Нунью Беллу.
Честолюбие Нуньи Беллы, ее чрезмерная забота о делах герцога нередко
раздражали и отталкивали меня. Но ничто не может умалить мою любовь к Заи-
де — ни ее привязанность к другому человеку, ни отсутствие возможности
проникнуть в ее мысли и чувства. Все это, однако, лишь подтверждает мое
безрассудство. Моя любовь к Нунье Белле обернулась горьким разочарованием.
Такое может случиться с каждым. Поразительно другое. Я не был ослеплен
78
Заида. Испанская история
неожиданно обрушившейся на меня страстью, так как долго и хорошо знал Ну-
нью Беллу, я ей нравился, у нее не было другой привязанности, и мы вполне
могли бы соединить наши судьбы. Но Заида — кто она, что я о ней знаю?
Какое имею право претендовать на взаимность? И что, кроме ее неземной
красоты, может оправдать порыв моих чувств? Все, абсолютно все против меня!
Консалв и Альфонс не раз вели такие разговоры. И после каждого
разговора страсть Консалва к Заиде не только не затихала, но разгоралась еще
сильнее. Он не мог запретить своим глазам не выдавать переполнявших его душу
чувств, и порой в ее ответном взгляде ему виделось понимание, а в ее
смущении — подтверждение своей догадки. Ему казалось, что за неимением слов она
тоже хочет что-то сказать ему своим взглядом, и от этого завораживающего
взгляда у него кружилась голова. «Милая Заида, — мысленно обращался он к
ней, — если таким взглядом вы удостаиваете безразличного вам человека,
каким же вы одаривали того счастливого избранника, которого, на мое горе, мне
суждено напоминать вам?» Консалв был убежден в своей несчастной судьбе, и
даже то, что в поведении Заиды должно было бы зародить в нем надежду,
воспринимал не иначе, как проявление безразличия.
Как-то, оставшись в одиночестве, он отправился к берегу моря и незаметно
вышел к небольшому лесному роднику, около которого частенько прогуливалась
Заида. Подходя к нему, он услышал голоса и сквозь ветви разглядел Зайду и
Фелиму. Сердце Консалва забилось от радости, как если бы он увидел ее после
долгой разлуки. Он направился к роднику, не обращая внимания на заросли.
Несмотря на производимый им шум, Заида продолжала громко говорить, ничего
не слыша и не замечая вокруг себя. Она увидела Консалва только тогда, когда
он предстал перед ней, и, забыв, что говорит на непонятном ему языке,
смутилась, как смущаются громко разговаривающие люди, застигнутые врасплох.
Смущение делало ее еще более привлекательной, и Консалв, не совладав с
чувствами, пал перед ней на колени и заговорил с такой страстью, которая обнажает
смысл слов, на каком бы языке они ни звучали. Он был почти уверен, что
Заида поняла его. Она действительно зарделась и, сделав рукой жест, как бы
отмахиваясь от него, встала, сохраняя достоинство и самообладание. Могло
показаться, что она предлагала Консалву покинуть место злосчастной встречи,
поставившей его и ее в неловкое положение. Заметив проходившего неподалеку
Альфонса, Заида направилась в его сторону, даже не взглянув на Консалва, который
так и остался стоять на коленях, не имея сил подняться.
«Вот какое обращение уготовано мне, — заговорил сам с собой Консалв, —
когда не желают видеть во мне двойника возлюбленного. Вы, Заида,
смотрите на меня благожелательно и милостиво, когда мой образ напоминает вам
моего соперника, но, когда я осмеливаюсь заявить о своей любви, вы не просто
гневаетесь, но и вообще отворачиваетесь от меня. Признаюсь, я был бы рад и
испытал облегчение, если бы смог объяснить вам, что мне известна причина
вашей скорби. Я добиваюсь этого исключительно в надежде услышать из
ваших уст, что заблуждаюсь. О Заида! Конечно я поступаю небескорыстно, но у
меня и в мыслях нет желания оскорбить вас, я лишь хочу получить от вас
заверение, которое сделало бы меня самым счастливым человеком».
Часть первая
79
Консалв поднялся с земли и направился к дому, спеша покинуть
злополучный родник. По дороге он заглянул в домашнюю галерею Альфонса,
служившую одновременно мастерской для приглашенного художника. Консалв иногда
заходил сюда, ища уединения среди картин и набросков. Сейчас его мозг был
занят единственной мыслью — как объяснить Заиде, что ему ведома ее
потаенная любовь, как сделать это, не зная языка. Не находя ответа, он уже
собрался покинуть мастерскую, как к нему обратился художник с просьбой высказать
мнение о новой картине, которую он создавал по заказу хозяина дома. Консалву
было не до картин, но, не желая показаться неучтивым, он задержался.
Огромных размеров полотно должно было изображать вид на разбушевавшееся море,
который открывался из окон дома. В морской дали корабли боролись со
стихией, некоторые разбивались о прибрежные скалы. Люди спасались вплавь; то
тут, то там лежали выброшенные на берег тела несчастных. Консалв не мог не
вспомнить свою первую встречу с Заидой, и его вдруг осенила дерзкая мысль —
поведать ей свои чувства с помощью кисти художника. Он посоветовал ему
дополнить картину несколькими человеческими фигурами, в том числе
фигурой плачущей девушки, склонившейся над распростертым на песке телом;
рядом должен находиться молодой человек, уговаривающий девушку покинуть
место трагедии; девушка, не глядя на молодого человека, одной рукой
отстраняет его от себя, другой прижимает платок к мокрому от слез лицу. Идея
заинтересовала художника, и он тут же принялся за работу. Консалв попросил
его закончить картину как можно скорее и оставил галерею. Несмотря на
испытанное у родника потрясение, ему вновь захотелось повидать Зайду. Заида,
однако, закрылась в своей комнате, и остаток дня он провел в муках и
терзаниях, усмотрев в ее действиях наказание за свое безрассудное поведение.
Наутро она вела себя сдержаннее, чем обычно, но уже в последующие два-три дня
поведение ее стало прежним.
Тем временем художник усердно трудился, а Консалв с нетерпением ждал
завершения работы. Когда картина была почти готова, он пригласил Зайду на
прогулку, предложив ей для разнообразия посетить домашнюю галерею
Альфонса и понаблюдать за работой художника. Они обошли всю галерею и
оказались у картины, над которой трудился художник. Консалв обратил внимание
Заиды на фигурку девушки, оплакивающей погибшего. Заида смотрела на
полотно, не отрывая глаз, как будто узнала скалу, к которой часто приходила
посидеть у моря. Консалв взял карандаш и вывел под фигуркой девушки
«Заида», а под стоявшим рядом с ней человеком — «Теодорих». Заида, следившая
за карандашом, покраснела, выхватила с недовольным видом кисть из рук
художника и замазала распростертое на берегу тело — она поняла, о чем
думает Консалв. Консалв же, видя, как Заида закрашивает того, кого считал
причиной своих страданий, ощущал себя наверху блаженства, хотя и сознавал, что
прогневал ее. Конечно, ее жест можно было расценить как проявление
оскорбленного самолюбия, а не как доказательство ошибочности его
скоропалительных вьюодов, но после неудачной попытки объясниться в любви у лесного
родника он не мог не испытать радостного чувства — разве Заида не оставила ему
пусть маленькую, но все-таки надежду думать, что сердце ее никем не занято.
80
Заида. Испанская история
К сожалению, у него, как ему казалось, было немало других поводов для
сомнений и переживаний.
Рассудительный и бесстрастный Альфонс совершенно иначе оценивал
чувства прекрасной чужестранки.
— По-моему, — говорил он Консалву, — вы напрасно жалуетесь на судьбу.
Конечно, вы имеете право считать себя несчастным, так как полюбили
девушку, с которой, вероятно, не сможете связать свою жизнь. Но вы были бы в
тысячу раз более несчастным, если бы твердо знали, что она вас не любит.
Внешнее проявление чувств всегда обманчиво.
— Если бы я судил об отношении Заиды ко мне только по выражению ее
глаз, — отвечал Консалв, — я мог бы тешить себя надеждами. Но, как я вам уже
говорил, мне все время кажется, что она видит во мне того, кто вызывает у
меня чувство безудержной ревности.
— Не знаю, так ли это на самом деле, но если бы мне пришлось оказаться
на месте того, кого она оплакивает, вряд ли я был бы доволен тем, что мое
сходство с вами побуждает ее смотреть на вас столь благожелательным взглядом.
Никак не могу согласиться, что воспоминания о ком-то другом способны
породить в Заиде чувства, которые она питает к вам.
Надежда — лучшее успокоение для влюбленных. Благожелательные
взгляды, которыми Заида одаривала время от времени Консалва, уже давали ему
повод надеяться на лучшее, а после слов Альфонса слабая надежда
переросла чуть ли не в уверенность — как он мог подумать, что Заида относится к нему
с неприязнью! Сердце Консалва радостно забилось, но радость тут же
уступила место новым сомнениям — нет, она видит в нем своего возлюбленного, и
именно ему предназначены благожелательные взгляды, она не может забыть
его и думает только о нем. Страсть Консалва, его ревность, его достоинство —
все протестовало в нем. Он пришел к горькому выводу, что, даже если Заида
когда-нибудь и полюбит его, в мыслях она будет с другим, а его участь — муки
и страдания. Слабое утешение он видел лишь в том, что по сравнению с
первыми днями их знакомства Заида проявляла к нему больше внимания, и
какими бы причинами эта перемена ни объяснялась, его страстная любовь
принимала ее с благодарностью.
Одним погожим днем, видя, что Заида не покидает своей комнаты,
Консалв зашел к ней, желая пригласить на прогулку. Девушка писала, склонив
голову над столом, и не обратила внимания на его приход. Консалв
остановился, молча наблюдая за ней. Случайно подняв голову и увидев Консалва,
Заида смутилась и поспешила спрятать листок бумаги в стол. Сердце у
Консалва дрогнуло — какую тайну может скрывать письмо, чтобы так поспешно
спрятать его? Расстроенный, он вышел из комнаты, горя желанием как можно
скорее повидать Альфонса и поделиться с ним возникшими подозрениями.
Не найдя друга и все более снедаемый ревностью, он вернулся в комнату
Заиды. Комната была пуста — девушка, видимо, ушла к Фелиме. На столе
белел сложенный вдвое лист бумаги. Не совладав с любопытством, Консалв
развернул его и без труда убедился, что это было письмо, которое только что
писала Заида, — в письме лежал сплетенный из волос браслет. В этот момент
Часть первая
81
в комнату вошла Заида и, увидев в руках Консалва письмо и браслет,
бросилась к нему с явным желанием вернуть свои вещи. Консалв сделал шаг назад,
как бы моля оставить их ему, но решительный вид девушки и уважение к ней
вынудили его повиноваться. Он покорно протянул ей письмо и браслет,
твердо уверенный, что они предназначены другому, и, не имея сил скрыть свою
боль, выбежал из комнаты. У себя он застал Альфонса, которому передали,
что его искал друг.
— Я полагал себя несчастным, — тут же заговорил Консалв, — но настоящее
несчастье пришло ко мне только сейчас. Я считал моего соперника погибшим
в кораблекрушении, а он, как оказалось, здравствует и поныне. Мне только что
довелось видеть, как Заида писала ему письмо и собиралась отправить браслет,
которого я по своей оплошности лишился. Судя по всему, она каким-то
образом получает от него вести, и кто-то из здешних передает ему ее послания. Все
мои надежды на счастье — не более чем плод моего воображения и
непонимания ее поведения. Конечно, у нее были причины закрасить на картине
бездыханное тело — она прекрасно знала, что человек, которого, как мне
представлялось, она оплакивала, жив и невредим. Именно этим и объясняется
вспышка ее гнева при виде в моих руках браслета, который она сплела из своих волос
для возлюбленного. Ах, Заида, Заида! Зачем вы так жестоко обошлись со мной,
вселив в меня надежду благосклонным отношением и доброжелательным
взглядом ваших прекрасных глаз?
От боли и волнения голос Консалва осекся. Дав ему время прийти в себя,
Альфонс поинтересовался, как его другу удалось узнать то, что он поведал в
своем рассказе, и пыталась ли Заида что-либо объяснить ему. Консалв подробно
изложил, как он пришел к ней в комнату, как она смутилась, увидев его за
своей спиной, и как он нашел в письме браслет, который был вынужден в конце
концов вернуть ей вместе с письмом.
— Ничего не значащее письмо, дорогой Альфонс, не может заставить
девушку покраснеть и смутиться. Кроме нас с вами, Заиде здесь не с кем общаться,
у нее здесь нет никаких дел. Так сосредоточенно она могла писать только о том,
что у нее на сердце, и писала она это не мне. Как, по-вашему, я должен ко всему
этому отнестись? — с горечью закончил Консалв свой рассказ.
— Я бы очень хотел, чтобы вы, Консалв, не забивали себе голову
подобными несуразностями, которые ничего, кроме мук, вам не доставляют, — ответил
на вопрос друга Альфонс. — Заида краснеет, когда вы застаете ее за письмом,
и вам тут же приходит в голову мысль, что она пишет его вашему сопернику.
А мне кажется, что она настолько влюблена в вас, что покрывается румянцем
всякий раз, когда вы неожиданно оказываетесь с ней рядом. Разве она не
могла писать просто для того, чтобы скоротать время? Она не оставила вам
письма скорее всего потому, что оно вам ни к чему — все равно вы не знаете ее
языка. То, что она отобрала у вас браслет, меня не удивляет. Ни одна умная и
уважающая себя девушка не подарит браслет из своих волос человеку, которого
любит, но о котором ничего не знает. А то, что Заида вас любит, я в этом
уверен. И уж совсем непонятно, откуда вы взяли, что она кому-то пишет письмо
и хочет послать браслет. С тех пор как Заида появилась здесь, она все время
6. Заказ №К-6559
82
Заида. Испанская история
у нас на глазах, ни с кем, кроме Фелимы, не перемолвилась ни словом, а те,
кому пожелала бы что-то сказать, говорят на другом языке. Ума не приложу,
каким путем до нее доходят письма от доставляющего вам столько хлопот
мифического возлюбленного и как она дает ему о себе знать?
— Возможно, я и впадаю в крайность, но неведение, в котором я пребываю,
невыносимо. Другие рвут на себе волосы, хотя бы уже потому, что
сомневаются, так ли сильно их любят, как этого бы им хотелось. А мне вообще ничего не
известно. Слабая надежда сменяется во мне полным отчаянием. Я даже не
знаю, радоваться мне или печалиться, ловя благожелательные взгляды Заиды.
Вы стараетесь утешить меня, Альфонс, но ваши добрые слова не могут
заставить меня поверить, что письмо она писала не возлюбленному. Увы, как бы я
ни хотел этого, я не могу усомниться в том, чему только что был свидетелем!
Альфонс тем не менее настойчиво продолжал убеждать Консалва в
беспочвенности его беспокойства, и в какой-то степени ему это удалось, а вид
Заиды, которую они встретили, отправляясь на прогулку, окончательно
успокоил влюбленного: она увидела их издалека и пошла к ним навстречу, излучая
столько доброты и нежности, что Консалв тут же забыл о всех своих
невзгодах.
Однако время отплытия корабля из Таррагона в Африку неумолимо
приближалось, порождая в сердце Консалва новую, еще более мучительную боль.
Мысль о неизбежной разлуке была ему невыносима. Понимая, что любая
попытка удержать Зайду была бы жестокой несправедливостью, он тем не менее
направил весь свой ум и волю на то, чтобы помешать ее отъезду.
— Что же мне делать? — обращался он к Альфонсу, ища у него поддержки
и сочувствия. — Я потеряю Зайду навсегда. Меня ждет разлука без всякой
надежды вновь увидеть ее. В какой части света мне ее искать? Она собирается
плыть в Африку, но она не африканка, и я даже не знаю, под каким небом она
родилась. Я последую за ней, хотя и знаю, что никогда больше не смогу быть
с ней рядом. Если она из Африки, то обычаи африканских стран и ее
целомудрие не позволят ей даже приблизиться ко мне. Но, по крайней мере, я
закончу опостылевшую мне жизнь на одной с ней земле, буду дышать одним с ней
воздухом. Все равно у меня нет родины — случай привел меня сюда, любовь
уведет в другие края.
Делясь с Альфонсом душевной болью, Консалв распалял себя и
укреплялся в своем решении, оставаясь глухим к увещеваниям друга. В создавшемся
положении он особенно остро чувствовал свою беспомощность, невозможность
объясниться с Заидой на родном ей языке. В его памяти вдруг всплыло
письмо, которое она писала, и он припомнил, что буквы походили на греческие. Он
не был полностью в этом уверен, и желание убедиться навело его на мысль
отправиться в Таррагону и поискать человека, говорящего по-гречески. Консалв
и раньше неоднократно посылал туда слуг Альфонса, но выбранные наугад
толмачи не смогли помочь делу. На этот раз он решил ехать сам, несмотря на
опасения быть узнанным в большом городе. Не хотелось ему и покидать
Зайду. Но надежда на то, что он сможет наконец-то понять ее, пересилила все
страхи и сомнения. Объяснив ей знаками причину отъезда и по возможности изме-
Часть первая
83
нив внешность, Консалв отправился в Таррагону. Бродя по улицам, куда чаще
всего наведывались иностранцы, он затратил немало сил и времени, прежде
чем нашел то, что искал. Один из многих опрошенных им иностранцев сказал
ему на ломаном испанском языке, что приехал с Ионических островов. Консалв
попросил его произнести несколько греческих слов и, к неописуемой радости,
понял, что это тот самый язык, на котором Заида говорила с Фелимой. На
счастье, особых дел у грека в Таррагоне не было, и он принял приглашение взять
на себя роль переводчика, поразившись размерами полученного за свое
согласие вознаграждения. Они покинули город на рассвете следующего дня, и
Консалв был рад своей удаче больше, чем если бы его голову украсили
королевской короной.
В пути Консалв выучил несколько греческих слов, и прежде всего: «Я вас
люблю». Уже сама мысль о том, что он скажет эти слова Заиде и она поймет
их смысл, убеждали его в близости конца всех его несчастий. Добравшись до
дома и увидев Альфонса, Консалв не замедлил поделиться с ним своей
радостью и тут же спросил, где Заида. Альфонс ответил, что она ушла к морю и он
давно ее не видел. Увлекая за собой грека, Консалв бросился к скалам, где
Заида чаще всего проводила время, и, не найдя ее там, был крайне удивлен. Он
стал искать повсюду и даже сходил на пристань, куда она также порой
наведывалась. Не обнаружив ее, он вернулся к дому и пробежался по лесу —
девушки нигде не было. Он послал на ее поиски слуг, которые также вернулись ни
с чем. Его охватило недоброе предчувствие. Наступила ночь — поиски не
прекращались. Консалв был в отчаянии. Ему казалось, что с ней случилось что-то
ужасное, и он проклинал себя за то, что оставил ее одну. Всю ночь с
факелами в руках Консалв, Альфонс, вся прислуга осматривали окрестности,
заходили в рыбацкие хижины, расспрашивая, не видел ли кто Зайду. Все было
тщетно. Наконец под утро две женщины, возвращавшиеся с места ночевки,
сообщили им, что издалека видели Зайду и Фелиму на берегу моря, и рассказали, как
к берегу причалила большая лодка, из которой высадилось несколько человек,
как девушки сначала хотели удалиться, но потом, когда их окликнули,
вернулись и после долгой и оживленной беседы сели в лодку и отплыли, причем,
судя по их жестам и восклицаниям, вполне довольные.
Лицо Консалва покрылось смертельной бледностью. Глядя на него,
Альфонс не решился произнести ни слова в утешение. Когда остальные
участники поисков удалились, Консалв заговорил первым.
— Это конец, — голос его дрожал, — я окончательно потерял Зайду. Я
потерял ее в тот самый момент, когда появилась надежда объясниться с ней. Ее
отнял у меня тот, кого она оплакивала. Это подтверждается рассказом
женщин. Судьба и здесь оказалась ко мне безжалостной, открыв мне тайну,
которая лишь усугубляет мои страдания. Я потерял ее навсегда — она вернулась
к своему возлюбленному. Теперь уже нет никаких сомнений, что письмо, за
которым я застал ее, она писала ему, сообщая о месте своего пребывания. Это
выше моих сил! — Консалв почти перешел на крик. — Мне одному выпало
столько несчастий, сколько хватило бы на дюжину страдальцев. Это
невыносимо! Неужели я от всего отказался только ради того, чтобы в этой глуши
84
Заида. Испанская история
взвалить на себя еще больше мук и страданий, чем при дворе? Поверьте,
Альфонс, потеря Заиды причиняет мне в тысячу раз больше горя, чем все мои
прежние невзгоды, вместе взятые. Я не могу смириться с мыслью, что
больше никогда ее не увижу. Если бы мне было известно, нравлюсь я ей или
безразличен, я бы легче перенес свою боль, так как знал бы, как поступить. Если
Заида неравнодушна ко мне, я не имею права ее забыть и должен посвятить
остаток своих дней тому, чтобы избороздить весь мир и найти ее. Если она
любит другого, мне не остается ничего, как пожелать ей счастья. Сжальтесь
надо мной, дорогой Альфонс! Скажите мне, что Заида любит меня, или,
наоборот, что я ничего для нее не значу. Быть любимым и жить в разлуке — это
несчастье пострашнее, чем быть нелюбимым. Но, Боже мой, о каком
несчастье я говорю, если она меня любит! Увы, я потерял ее именно тогда, когда
должен был узнать свою участь. Даже если бы она захотела скрыть свои
чувства, я выведал бы у нее все — причину ее слез, из какой страны она родом,
кто она, что с ней случилось, и сейчас бы знал, должен ли я поспешить вслед
за ней и если да, то где ее искать.
Альфонс хранил молчание, не находя, что сказать другу в утешение.
Наконец он решился посоветовать ему не принимать поспешных решений,
противопоставить несчастью благоразумие и прежде всего отдохнуть и
успокоиться. Уйдя к себе, Консалв тут же пригласил толмача и попросил его объяснить
смысл слов, которые он слышал от Заиды и запомнил. Грек перевел несколько
слов, в том числе те, которые Заида часто произносила в разговоре с Фелимой,
глядя при этом на Консалва. Из объяснений толмача Консалв понял, что не
ошибся: Заида действительно говорила о сходстве, и он ни на минуту не
усомнился, что речь шла о его сходстве с ее возлюбленным. Уже не думая ни о чем
другом, он послал за женщинами, которые были свидетельницами отплытия
прекрасной чужестранки, желая расспросить их, не было ли среди
высадившихся на берег мужчин кого-нибудь, кто походил бы на него. Женщины не
смогли удовлетворить любопытство Консалва, сказав, что находились
слишком далеко, но видели, как Заида обняла одного из них. Услышав это,
Консалв испытал такое отчаяние, что поклялся найти Зайду и на ее глазах убить
счастливого соперника. Узнав о решении друга, Альфонс постарался
объяснить ему, что это и невозможно, и несправедливо, так как у него нет на
Зайду никаких прав, что она была обручена еще до того, как повстречалась с ним,
а возможно даже, это ее муж, и что ему неизвестно, где искать Зайду, но если
бы он и нашел ее, то наверняка в стране, где его соперник обладает и силой,
и властью, достаточными, чтобы помешать ему осуществить свои гневные
замыслы.
— Что же мне остается делать? — вскипел Консалв. — Неужели вы
полагаете, что я должен сидеть сложа руки!
— Я полагаю, — спокойно ответил Альфонс, — что вы должны найти в себе
силы пережить удар, который судьба нанесла вашей любви к Заиде, как вы
перенесли измену и коварство друзей.
— Мне столько довелось пережить, что на новые страдания у меня просто нет
сил. Я должен найти Зайду, увидеть ее, убедиться, что она любит другого, и
Часть первая
85
умереть у ее ног. — На какой-то миг Консалв замолк и вдруг резко изменил свое
решение. — Нет, я не должен ее искать после того, как она со мной обошлась.
Мое к ней уважение и моя любовь обязывали ее хотя бы предупредить меня о
своем отъезде — простая признательность за мое доброе отношение должна
была подсказать ей это. Но она покинула меня, даже не попрощавшись. Я не
только был ей безразличен — она презирала меня. Я был слепцом и не видел,
что мое присутствие ей в тягость. Я должен выбросить из головы безумные
мысли. Альфонс, вы были правы. Нет, Заида, я не буду искать вас. Я оставляю
вас в покое. Мне не на что больше надеяться и остается покорно ждать конца
моей постылой жизни.
Излив другу свое отчаяние, Консалв несколько успокоился, но его
опечаленный вид вызывал жалость. Последующие дни он провел, бродя по тем
местам, где гулял с прекрасной незнакомкой, постоянно ощущая рядом ее
присутствие. Толмача он попросил остаться и принялся за изучение греческого
языка, но не потому, что надеялся когда-нибудь вновь повстречать Зайду, а
потому, что испытывал легкую щемящую грусть, мысленно разговаривая с
ней на понятном ей языке. За короткое время он выучил то, на что другим
понадобились бы годы, и, когда занятия прекратились, оборвалась последняя
ниточка, которая связывала его с Заидой. Образовавшуюся пустоту вновь
заполнили тягостные раздумья.
Консалв скорбел о жестокости судьбы, обрушившей на него столько горя
в Леоне и пожелавшей подвергнуть еще более тягостным испытаниям, отняв
самого дорогого человека, ради которого он не раздумывая пожертвовал бы
всем, что у него когда-то имелось, — славой, состоянием, друзьями. Сравнивая
свое настоящее с прошлым, он вспомнил об обещании, которое дал дону Ол-
монду, писать ему о своем житии. И хотя все его помыслы были обращены к
Заиде, Консалв счел своей обязанностью уделить время человеку, который с
дружеским бескорыстием откликнулся на его беду. Опасаясь, как бы их
переписка не попала в чужие руки, он просил дона Олмонда писать ему на Тар-
рагону, которая находится недалеко от его убежища, и сообщал, что в жизни
довольствуется малым, не таит злобы против дона Гарсии, не питает
ненависти к дону Рамиресу, не испытывает ничего, кроме равнодушия, к Нунье
Белле, но чувствует себя еще более несчастным и одиноким, чем до отъезда из
Леона.
Альфонс, видя состояние Консалва, всячески заботился о нем, не спускал
с него глаз и старался, как только мог, облегчить страдания друга.
— Заида покинула вас, — как-то обратился к нему Альфонс, — но в этом нет
ни доли вашей вины, и, как бы вы себя ни истязали, судьба избавила вас от еще
больших мук. Вы не знаете, что такое нести крест своей собственной вины. Я
обречен нести этот крест вечно. Если вас хоть немного утешит сознание того,
что на вас могло обрушиться еще большее горе, я могу рассказать вам историю
своей жизни, как бы ни тяжелы были для меня воспоминания.
Консалв не смог скрыть желания узнать причину, которая вынудила его
друга уединиться в этом пустынном краю, и Альфонс, оценив искренний
интерес Консалва к его судьбе, поведал ему свою, не менее грустную, историю.
86
Заида. Испанская история
История Альфонса и Белазиры
Как вы уже знаете, мой друг, зовусь я Альфонсом Хименесом и
принадлежу к довольно знатному испанскому роду, восходящему к первым королям
Наварры. Я не буду утомлять вас историей всей моей жизни и остановлюсь
лишь на моих последних злоключениях. К тому времени, о котором я хочу
рассказать вам, судьба уже не раз подвергала меня испытаниям, но все мои
несчастья были результатом поступков других людей, и я умолчу о них.
Скажу лишь, что мне уже довелось пережить и женское непостоянство, и женскую
неверность. Тогда я и дал себе зарок никогда и никому не дарить своего
сердца. Любовь представлялась мне мукой, и хотя при дворе было немало
прелестных созданий, готовых ответить взаимностью, я относился к ним не более чем
с уважением, которое мужчина должен свидетельствовать женщине. Мой
здравствующий в ту пору отец, обуреваемый, как и все люди его круга,
навязчивой идеей продолжения рода, желал поскорее женить меня. Я не имел
ничего против, но, наученный горьким опытом, решил для себя никогда не
жениться на красивой женщине. Зная ветреность прекрасного пола, я боялся
оказаться во власти ревности не просто страстно влюбленного человека, но вдобавок
еще и мужа. Именно в этот период моей жизни отец как-то завел со мной
разговор о Белазире, дочери графа де Геварры25, которая только что появилась
при дворе и считалась выгодной партией как по состоянию, так и по
родовитому имени. Отцу очень хотелось заполучить ее в качестве невестки. Я ответил
ему, что меня это мало интересует, что я уже наслышан о ее красоте и
разборчивости в выборе женихов и что уже одно это отбивает у меня всякую охоту
стать ее мужем. Удивленный, он спросил, доводилось ли мне хотя бы видеть
ее. Я сказал, что всякий раз, когда она приезжала в столицу, я находился при
войске и поэтому знаю о ней только понаслышке.
— Повидайся с ней, — взмолился отец. — Я уверен, что она заставит тебя
забыть о клятве не выбирать в жены красивую женщину. Ты наверняка
понравишься ей, и мы не замедлим сыграть свадьбу.
Прошло несколько дней, и я повстречал Белазиру на приеме у королевы26.
Я спросил, как ее зовут, хотя был уверен, что имею честь разговаривать именно
с ней. Она также поинтересовалась моим именем и также не сомневалась, что
перед ней не кто иной, как Альфонс Хименес. Мы оба знали то, о чем
спрашивали друг друга, и тут же признались в своих маленьких хитростях, после чего
наш разговор стал гораздо более непринужденным, чем это бывает при первом
знакомстве. Я нашел Белазиру очаровательной и намного более умной, чем
предполагал. Я сказал ей, что допустил оплошность, не познакомившись с ней
раньше, что тем не менее не ищу более близкого знакомства, так как знаю, как
трудно добиться ее расположения и тем более удержаться от желания
понравиться ей. Я сказал также, что несомненно пошел бы на любые жертвы ради
счастья завладеть ее сердцем, если бы красота ее не была такой упоительной,
но, поскольку красота дана Богом раз и навсегда, я никогда себе этого не
позволю. Я даже попросил ее пресечь, в случае чего, мои попытки понравиться
ей, сославшись на данный самому себе обет никогда не связывать судьбу с кра-
Часть первая
87
сивыми женщинами. Эти необычные признания восхитили Белазиру, и в
окружении друзей она отзывалась обо мне с исключительной доброжелательностью.
Я также отзывался о ней как о женщине, выгодно отличающейся от других
незаурядными качествами и редким обаянием, и захотел, к своему собственному
удивлению, узнать, кто входит в круг ее почитателей. Мне рассказали, что к ней
долго и безнадежно пылал страстью граф де Лара27, трагически погибший в
пекле сражения, куда толкнула его безответная любовь. Также безуспешно руки
Белазиры добивалось немало других молодых людей. Но в конце концов,
разуверившись в успехе, неженатая молодежь перестала ее тревожить. На какой-
то миг эта неприступность задела мое самолюбие, но только на какой-то миг.
И все-таки я стал видеться с Белазирой чаще, чем это позволяли
обстоятельства. Обычаи королевского двора Наварры не так строги, как в Леоне, и нашим
встречам ничто не препятствовало. Ничего серьезного в наших отношениях не
было, и я шутил, говоря ей, как далеки мы друг от друга и как я был бы рад,
если бы она смогла избавиться от красоты и изменить взгляды на мужчин. Мне
казалось, что мои слова доставляли ей удовольствие, как и ход моих мыслей,
в которых она угадывала родство душ. Белазира выказывала мне доверие, и это
подталкивало меня на откровенность; я даже позволил себе поинтересоваться,
почему она с таким упорством отвергает ухаживания поклонников.
— Отвечу вам с той же откровенностью, — сказала она. — Похоже, я с
рождения питаю отвращение к замужеству. Брачные узы всегда представлялись
мне чем-то вроде цепей, и я думала, что только неуемная страсть способна
затмить разум и толкнуть на подобный шаг. Вы не хотите жениться по любви, а
я не понимаю, как можно выйти замуж без любви, причем без любви
неистовой. У меня такой любви не было и поэтому не было и привязанностей. Я,
Альфонс, не замужем, так как никого никогда не любила.
— Позвольте, — воскликнул я, — неужели вам никто никогда не нравился?
Неужели ваше сердце ни разу не замерло при имени или виде хотя бы
одного из ваших почитателей?
— Нет. Любовные переживания мне абсолютно неизвестны.
— Даже ревность? — не переставал я удивляться.
— Даже ревность.
— В таком случае, сеньора, вы действительно не знаете, что такое любовь.
— Да, — согласилась Белазира, — я не только ни к кому не испытывала
никаких чувств, но и не нашла никого, кто был бы мне приятен и близок по духу.
Я затрудняюсь сказать, какое впечатление произвели на меня слова
Белазиры. Возможно, я уже был влюблен в нее. Но мысль о том, что рядом бьется
сердце, не знавшее трепетных чувств, поразила меня. Это было настолько
необычным, что мне вдруг захотелось завладеть этим сердцем, которое
другим казалось неприступным, и удовлетворить свое тщеславие. Постоянно
размышляя над ее словами, я уже не был просто учтивым собеседником,
который старается поддержать светскую беседу. Мне показалось, что, говоря о не-
прязни к своим поклонникам, она исключала меня из их числа. Короче
говоря, я оказался во власти радужных надежд, и уже ничто не могло
удержать меня от вспыхнувшей страсти — я полюбил Белазиру так, как никогда
88
Заида. Испанская история
еще никого не любил. Не буду долго распространяться о том, как я признался
ей в своих чувствах. Для этого я избрал шутливый тон — серьезно говорить
с ней о своей любви я бы никогда не решился, а шутки помогли мне очень
скоро высказать все, что я, наверное, еще очень долго не посмел бы сказать.
Итак, я полюбил Белазиру и был счастлив, что завоевал ее расположение, но
мне оставалось сделать главное — убедить ее в моей любви. Она питала
врожденную неприязнь к лицам мужского пола. Хотя она и относилась ко мне
намного лучше, чем к остальным, а следовательно, и лучше, чем я того
заслуживал, она не очень верила моим словам. Белазира держалась со мной
совсем не так, как другие женщины, и ее манера поведения подкупала меня
благородством и естественностью. Прошло еще немного времени, и она
призналась мне в своей приязни, а затем и поведала, что я занимаю в ее сердце
все больше и больше места. Она была со мной откровенна во всем и не
скрывала, что ей во мне нравится, а что говорит не в мою пользу, и даже
заявила, что не верит в подлинность моей любви и не выйдет за меня замуж, пока
не удостоверится в обратном. Я не могу передать вам радость, которая
охватывала меня при мысли о том, что я разбудил так долго спящее сердце. Я
умилялся, видя, как ее лицо отражало смущение и замешательство,
порождаемые незнакомым ей чувством. До глубины души меня трогало ее
удивление, когда она вдруг обнаруживала, что теряет самообладание и не может
сдержать вспыхнувшую страсть. Я испытывал ни с чем не сравнимое
наслаждение, наблюдая за пробуждением любви. Тот, кто не вкусил счастья
пробудить в женщине ранее не изведанное ею чувство, не может похвастаться
знанием истинного блаженства, которое таит в себе любовь. Я был безумно рад,
что Белазира полюбила меня, но при этом терзался муками, не зная, верит
ли она в мою любовь, и сомневаясь в возможности убедить ее. Эти муки и
сомнения возвращали меня к моему прежнему решению — мне казалось, что
я сам себя обрекаю на страдания, которых всеми силами старался избежать.
С одной стороны, меня тревожило, что я не смогу убедить Белазиру в своей
искренней любви к ней, а с другой — я приходил в ужас при мысли, что если
мне удастся ее убедить, если она ответит мне взаимностью и мы поженимся,
то я подвергну себя страшной опасности: разве не может случиться так, что
со временем ее любовь ко мне угаснет. Я говорил себе, что супружеская
жизнь охладит ее чувства, любовь превратится в обязанность, ей может
понравиться кто-либо другой. Я представил себе весь ужас положения
человека, оказавшегося во власти ревности, и, несмотря на мое к Белазире
уважение и на мою к ней привязанность, готов был уже от всего отступиться,
предпочтя несчастье остаться без нее несчастью быть с ней и не быть любимым.
Белазира предавалась примерно таким же мыслям. Она не скрывала своих
сомнений, а я делился с ней своими. Мы обсуждали причины, которые
мешают нам соединить наши судьбы, и не раз принимали решение прекратить
ненужные встречи. Мы расставались, но наши прощания были такими
трогательными, а взаимное влечение столь сильным, что мы тут же начинали
искать новых встреч. Наконец, после долгих колебаний и размышлений, мы
отбросили все сомнения, и Белазира согласилась назвать день свадьбы, как
Часть первая
89
только наши родители уладят все положенные случаю дела. Однако отец
Белазиры, посланный королем28 на границы с поручением подписать мир с
маврами, отбыл, даже не успев приступить к выполнению своих родительских
обязанностей, и нам пришлось ждать его возвращения. Я тем не менее
чувствовал себя самым счастливым человеком на свете — я услаждался своей
любовью, был страстно любим и с нетерпением ждал часа, когда Белазира
станет моей женой.
Как суженому, мне было дано позволение встречаться с Белазирой в любое
время по моему желанию. В одну из встреч нелегкая дернула меня
поинтересоваться ухаживаниями ее поклонников. Мне хотелось знать, как она
держалась с ними, и сравнить ее отношение к ним с отношением ко мне. Белазира
перечислила всех своих воздыхателей и подробно рассказала об их
ухаживаниях. Она сказала мне, что те, кто проявлял особую настойчивость, вызывали
у нее наибольшую антипатию, и в числе их назвала графа де Лару, который
был верен своей любви до самой смерти и к которому, по ее словам, она
никогда не питала расположения. Не знаю, чем объяснить это, но после такого
заверения личность графа заинтересовала меня больше других. Я был поражен
его стойкой верностью и попросил Белазиру рассказать мне подробнее об их
отношениях. Она согласилась, и, хотя я не услышал ничего, что могло бы
задеть мои чувства, я ощутил в себе зарождающуюся ревность. Мне показалось,
что, если Белазира и не питала к графу де Ларе особого расположения,
относилась она к нему с явным уважением. В мою голову закралось подозрение, что
она не до конца откровенна. Я решил не выдавать своих сомнений и,
расстроенный, удалился к себе. Я провел беспокойную ночь в ожидании новой
встречи и новых подробностей — несомненно она не могла рассказать в один
присест историю многолетней любви ее поклонника. На следующий день я узнал
кое-что новое и почти не сомневался, что у нее еще есть о чем мне поведать.
Задавая один вопрос за другим, я чуть ли не на коленях умолял ее рассказать
все без утайки. Если она говорила что-то льстившее моему самолюбию, я
считал, что она хочет угодить мне; если я улавливал в ее голосе хотя бы
малейшую нотку доброжелательного отношения к графу, я считал, что она скрывает
от меня правду. Одним словом, меня охватила отталкивающая своей
неприглядностью ревность. Я замучил Белазиру, стал бесчувственным и жестоким,
досаждал ей своими назойливыми расспросами. Я ругал себя за то, что
возродил в ее памяти образ графа де Лары. Я клялся никогда не заводить о нем
разговора, но всегда находил повод для новых вопросов и попадал в лабиринт,
из которого не находил выхода. Мне было одинаково мучительно и
спрашивать, и молчать.
Сон покинул меня. Белазира виделась мне уже в другом свете. «Я уверил
себя, что Белазира никого до меня не любила и даже никем не увлекалась, —
пытался я разобраться в своих чувствах. — Именно это влекло меня к ней. Но,
судя по тому, что я от нее услышал, граф де Лара не был ей безразличен. Она
уважала и почитала его. Его бесконечные ухаживания и притязания его
родителей должны были оттолкнуть ее от него, вызвать к нему отвращение. Но
этого не произошло, потому что она любила его. Вы обманули меня, Белазира! — все
90
Заида. Испанская история
во мне кричало. — Вы оказались не той, за кого себя выдавали. Я боготворил
вас за то, что другим вы были недоступны, именно это я ценил в вас превыше
всего. Но я заблуждался. Я ухожу и уношу свою любовь. А если она говорит
правду? — вопрошал во мне другой голос. — Какую страшную обиду нанесу я
ей, какого счастья лишусь сам!»
Я решил поговорить с Белазирой еще раз. Я полагал, что после ночных
раздумий я смогу лучше изложить ей причины своих терзаний и избавиться с ее
помощью от подозрений. Мы встретились, но нам не хватило времени, чтобы
до конца во всем разобраться. На следующий день я принялся за свое, все
более горячась и распаляясь. Белазира, слушавшая меня с удивительной
терпеливостью и сердечностью, всячески старалась развеять мои сомнения. Наконец
и ее утомила моя неугомонная и беспочвенная ревность.
— Альфонс, — обратилась она ко мне во время одной из наших встреч, —
вздор, который вы вбили себе в голову, одержит в конце концов верх над
вашими ко мне чувствами. Но вы должны иметь в виду, что ваше безрассудство
загубит и мою любовь. Подумайте только, к кому вы меня ревнуете — к
мертвому человеку, которого я не любила, о чем вы можете судить хотя бы уже по
тому, что не вышла за него замуж, хотя для этого не было никаких преград.
Мои родители только и мечтали о нашей свадьбе.
— Да, вы правы, сеньора, — отвечал я, — я ревную к мертвому человеку, но
ничего не могу с собой поделать. Если бы граф де Лара был жив, я бы
присутствовал при ваших встречах и имел бы возможность сравнить ваше отношение
к нему и ко мне. Я мог бы убедиться, что вы его не любите. Женившись на вас,
я испытал бы радость победы над соперником, я лишил бы его надежд,
которые вы поддерживали в нем, несмотря на все ваши уверения. Но он погиб,
унося с собой любовь к вам. О сеньора! Я всегда буду чувствовать себя
обделенным при мысли о том, что кто-то другой мог льстить себя надеждой на вашу
любовь.
— Альфонс, я еще раз спрашиваю вас: если я его любила, почему же не
вышла за него замуж?
— Ваша любовь не была достаточно сильной, чтобы превозмочь ваше
отвращение к брачным узам. Я не сомневаюсь, что вы любите меня больше, чем
графа де Лару. Но вы его любили, и моя любовь разбита. Я уже не
единственный, кто вам нравился, не я первый разбудил в вас чувства, не я первый
завладел вашим сердцем. Прошу прощения, сеньора, но я рассчитывал не на это —
вы упали в моих глазах.
— Ответьте мне в таком случае, Альфонс, как же вы могли любить других
женщин и не терзаться при этом муками ревности? Была ли среди них хоть
одна, которая до вас никогда никого не любила?
— Таких женщин я не искал, сеньора, — ответил я, — и не надеялся найти.
Меня не интересовало, любили они кого-нибудь до меня или не любили. Мне
было достаточно знать, что они любят меня больше своих прежних
возлюбленных. Вы — другое дело. Мне казалось, что до меня вы не снисходили до
любви, и я был первым, кому вы открыли свое сердце. Я был счастлив и
гордился тем, что совершил столь необыкновенный подвиг. Умоляю вас — развей-
Часть первая
91
те мои сомнения, не скрывайте от меня ничего о ваших отношениях с графом
де Ларой. Что бы я ни услышал от вас, ваше признание и ваша искренность
облегчат мои страдания. Освободите меня от подозрений, дайте мне
возможность увидеть вас такой, какая вы есть, — ни умалить, ни переоценить ваши
достоинства.
— Будьте рассудительны, Альфонс. Если до сих пор мне не удалось убедить
вас, то чго еще я могу сделать? К тому, что я говорила вам, могу добавить лишь
следующее, и пусть это послужит вам неопровержимым доказательством моей
искренности: я никогда не любила графа де Лару, но если бы я его любила, то
никогда бы не отреклась от своего чувства; я бы сочла позором отречься от
любви к человеку, смертью доказавшему мне свою верность.
— Ваши слова — бальзам на мои раны, — вырвалось у меня. — Я готов их
слушать бесконечно. Напишите мне об этом в письме. Воскресите мою любовь
к вам и простите за то, что я терзаю вас своими безумными речами, но я еще
больше терзаю самого себя. Если я могу чем-то искупить свое поведение, я
готов пожертвовать жизнью.
Мои слова произвели на Белазиру большое впечатление. Она поняла, что
я действительно схожу от любви с ума, и дала обещание подробно написать в
письме о своем отношении к графу де Ларе. И хотя я не сомневался, что
прочту в нем уже много раз слышанное из ее уст, но возможность увидеть на
бумаге ее собственноручно изложенные заверения наполняла меня радостью. На
следующий день мне принесли обещанное письмо, в котором Белазира во всех
подробностях рассказывала об ухаживаниях графа де Лары, о том, как она
уговаривала его не мучить себя безнадежной любовью. Письмо дышало
искренностью и откровенностью и должно было развеять мои сумасбродные идеи,
но эффект оказался обратным. Прежде всего я проклял самого себя за то, что
дал повод Белазире погрузиться в воспоминания о графе. Обстоятельность ее
повествования выводила меня из себя. Можно ли так хорошо помнить самые
незначительные поступки человека, не испытывая к нему никаких чувств? —
задавался я вопросами. — События, о которых она упоминала вскользь, наводили
меня на мысль, что она чего-то недоговаривает. В конце концов я довел себя до
такого состояния, что в полном отчаянии решил тут же отправиться к Белазире.
Белазира, полагая, что письмо должно было меня успокоить, поразилась моей
несправедливости и, оскорбленная, выговорила мне с решимостью, которой я
раньше у нее не замечал. Я принес ей свои извинения, но успокоиться не мог.
Я понимал, что поступаю неправильно, но собою уже не владел. Я пытался
объяснить ей, что мое болезненное отношение к чувствам графа де Лары
продиктовано моей к ней любовью и уважением и что даже в мыслях я не могу
уступить другому хотя бы частичку ее сердца. Я всячески хотел оправдать
свою неуемную ревность. Белазира отвергла все мои доводы и сказала, что
если мои объяснения могут оправдать вполне понятное для влюбленного
человека беспокойство, то мое безрассудное самоистязание есть результат
болезненного состояния. Она добавила, что опасается за мою дальнейшую судьбу и,
если я не возьму себя в руки, не ручается за свою любовь. Эта угроза
привела меня в чувство. Я бросился на колени и стал горячо уверять ее, что впредь
92
Заида. Испанская история
она не услышит моих ламентаций, и даже сам уверовал в свои обещания.
Хватило меня, однако, ненадолго, и я принялся за старое: я вновь стал мучить
ее расспросами, вновь просил прощения и давал клятвы образумиться и,
несмотря ни на что, продолжал упрекать ее в любви к графу де Ларе —
причине всех моих несчастий.
Должен сказать вам, что задолго до этого я подружился с прекрасным
человеком, на редкость приятным и обходительным, по имени дон Манрикес29.
Наша дружба породила большую дружбу между ним и Белазирой. Я не только
не противился их добрым отношениям, но и всячески поощрял их. Видя, что
со мной происходит что-то неладное, дон Манрикес неоднократно справлялся
о моем самочувствии. Я никогда ничего от него не утаивал, но признаться ему
в своих капризах мне было стыдно. Однажды он пришел навестить Белазиру
и застал меня у нее в один из тех моментов, когда я предавался своему
очередному безрассудству. Белазира также выглядела измученной приступами моей
ревности. По выражению наших лиц дон Манрикес понял, что между нами
пробежала кошка. Я не раз просил Белазиру не рассказывать ему о моей
слабости и при его появлении вновь напомнил о моей просьбе. Но она решила
пристыдить меня и открыла дону Манрикесу причину нашей размолвки. Он был
крайне удивлен услышанным и, найдя мои подозрения безосновательными,
встал на защиту Белазиры, чем окончательно вверг меня в исступление.
Посудите сами, Консалв, до какого безумия довела меня ревность: упреки дона
Манрикеса я истолковал ни больше, ни меньше как проявление его любви к
Белазире. Я понимал, что перехожу все границы, но мне казалось, что так
укорять меня может только влюбленный человек. Я сразу же убедил себя, что дон
Манрикес давно влюблен в Белазиру. Он решил, подумалось мне, что я,
ослепленный страстью, не замечу ее других увлечений. Мой воспаленный ум пошел
еще дальше: я уверил себя, что Белазира несомненно знает о более чем
дружеском к ней расположении дона Манрикеса, и это льстит ей как женщине.
Я не подозревал ее в неверности, но возревновал даже к дружбе человека, в
котором, как мне уже казалось, она видела своего поклонника. Белазира и дон
Манрикес, поражаясь моему крайнему возбуждению и не догадываясь о его
причинах, тщетно пытались успокоить меня. Их увещевания раздражали меня
еще больше. Чувствуя, что теряю рассудок, я покинул их. Оставшись наедине
со своими мыслями, я понял, насколько был смешон, ревнуя Белазиру к
мертвому графу де Ларе, который не мог причинить мне никакого вреда. Куда
больше мне надо было опасаться дона Манрикеса — с Белазирой он был учтив
и галантен, она отвечала ему дружеским расположением, часто виделась с ним.
Я не сомневался, что, устав от моих капризов и придирок, Белазира
неизбежно будет искать его сочувствия и постепенно он займет в ее сердце мое место.
Родившаяся ревность к дону Манрикесу полностью вытеснила из моей головы
образ графа. Я знал из его рассказов, что он давно уже влюблен в другую
женщину. Но это никак не могло служить мне успокоением, так как его
возлюбленная не шла ни в какое сравнение с Белазирой. У меня, видимо, еще
сохранились крохи здравого смысла, и я не считал действия дона Рамиреса
преднамеренными. Я подумал, что он стал жертвой невольной страсти и пытается
Часть первая
93
превозмочь ее во имя нашей дружбы, боясь проговориться Белазире о своих
чувствах, но выдавая их всем своим видом. У меня, следовательно, не было
оснований подозревать дона Манрикеса в коварных замыслах, тем более что
уже хотя бы в знак уважения ко мне он несомненно попытается сохранить
свою безответную любовь в тайне. Мне удалось окончательно убедить себя, что
моя ревность к нему столь же нелепа, как и ревность к погибшему графу. Нет
надобности рассказывать вам, Консалв, насколько мучительны были для меня
эти безрассудные мысли. Представить себе это нетрудно. При первой же
встрече с доном Манрикесом я извинился перед ним за то, что умолчал о своей
болезненной ревности к графу де Ларе, но ничего не сказал ему о своих новых
переживаниях. Ничего не сказал я и Белазире, боясь, как бы это не
повредило нашим отношениям. Я по-прежнему верил в ее любовь и полагал, что если
перестану выставлять себя в смешном виде, то не дам ей никакого повода
разочароваться во мне и искать утешения в любви к дону Манрикесу. Страх
перед последствиями, к которым могла привести моя ревность, обязывал меня
скрывать ее. В который раз я извинился перед Белазирой и постарался убедить
ее, что окончательно избавился от своего недуга. Она с радостью выслушала
мои заверения, но, зная меня, не обольщалась моим напускным спокойствием.
Дон Манрикес продолжал как обычно навещать Белазиру. Более того,
теперь же, когда они оба знали о моей ревности к графу де Ларе, у них появился
повод встречаться чаще. Белазира, уловив мое неудовольствие тем, что она не
сдержалась и рассказала дону Манрикесу о причине моей вспыльчивости,
стала более осмотрительной и никогда в моем присутствии не заводила с ним
неприятных для меня разговоров. Но когда она замечала малейшую
перемену в моем настроении, она обращалась к нему за советом, как помочь мне
освободиться от безрассудных мыслей. Несколько раз, на свое несчастье, я
был свидетелем, как при моем появлении их беседа прерывалась на
полуслове. Нетрудно вообразить, что происходило в подобных случаях в моем
ревнивом сердце. Однако Белазира проявляла ко мне столько нежности и была так
счастлива, когда я представал перед ней прежним уравновешенным
Альфонсом, что мои мысли об их тайном сговоре улетучивались на время сами собой.
Мне трудно было также поверить, чтобы дон Манрикес, который так
заботливо оберегал наши добрые с Белазирой отношения, мог домогаться ее
любви. Я настолько запутался, что уже не только не знал, как он относится к ней
или она к нему, но и не понимал, чего хочу сам. Как-то я зашел к Белазире и
застал ее тихо беседующей с доном Манрикесом. Она как бы не замечала
меня. Я вспомнил, что она, выслушивая мои стенания по поводу графа де
Лары, неоднократно грозилась проучить меня, дав мне настоящий повод для
ревности. Мне тут же пришло в голову, что она решила привести свою
угрозу в исполнение и разыгрывает перед моими глазами сцену любовного
шушуканья с доном Манрикесом. Мое настроение улучшилось. Несколько дней я
ничего не говорил Белазире о своей догадке, но в конце концов не выдержал
и отважился на разговор.
— Должен признаться, сеньора, — обратился я к ней, упав на колени, — вам
прекрасно удалась ваша задумка поиграть на моих нервах. Я все-таки познал
94
Заида. Испанская история
ревность к реальному сопернику, как вы мне неоднократно это обещали. Она
действительно намного превосходит ревность к умершему. Да, я получил по
заслугам. Но, даже знал, что вы разыгрываете меня, я претерпел страшные
муки, и впредь вы легко можете наказать меня, когда вам только это
заблагорассудится.
— Что вы еще придумали, Альфонс? — В ее голосе слышалось
раздражение. — Вы полагаете, что я нуждаюсь в каких-то уловках, чтобы вызвать вашу
ревность? Мне вполне достаточно той, которая терзает вас без посторонней
помощи.
— Сеньора, не давайте мне повода для новых сомнений, — вырвалось у меня. —
Я повторяю еще раз: я испытал невероятные мучения, даже зная, что вы
всего лишь договорились с доном Манрикесом проучить меня.
— Вы сошли с ума, Альфонс, или сознательно мучаете меня тем же
способом, какой приписываете мне. Вы никогда не убедите меня, что
действительно поверили в мои угрозы пробудить в вас ревность и якобы поддались на мою
уловку. Боже мой! Могла ли я пожелать, — продолжала она, глядя мне прямо
в глаза, — чтобы после вашей безумной ревности к погибшему человеку,
которого я никогда не любила, вы возревновали меня к живому человеку, у
которого и в мыслях нет ухаживать за мной.
— Значит, вы не хотели возбудить во мне ревность? Чем в таком случае, как
не желанием скрыть свои чувства к дону Манрикесу, вызвано ваше
замешательство, когда, увидев меня, вы тут же прекратили с ним шептаться и
заговорили о другом? Если это так, сеньора, то я самый несчастный на свете
человек!
— Вы, мой дорогой Альфонс, не самый несчастный человек, а просто
безумец. Если бы я вас не любила, я давно порвала бы с вами и никогда на вас даже
не взглянула. Как только вам в голову могло прийти воспылать ревностью к
дону Манрикесу!
— А как могло быть иначе, если я вижу, что вы скрываете от меня секреты!
— Да, скрываю, — заявила она твердым голосом. — Скрываю, потому что вы
обиделись, когда я рассказала дону Манрикесу о ваших чудачествах. Скрываю,
потому что переживаю за вас и делюсь с ним своими переживаниями, но не
хочу этим доставлять вам неприятности.
— Вот видите, сеньора, вы судачите обо мне с моим соперником и считаете,
что у меня нет оснований ревновать его к вам!
— Я, как вы изволили выразиться, судачу с вашим другом, а не с вашим
соперником.
— Дон Манрикес — мой соперник, и вы не можете отрицать этого.
— А вы не смеете называть его вашим соперником, зная, что, находясь у
меня, он только и думает о вашем благе.
— Я, конечно, не считаю, что дон Манрикес желает мне зла, но в том, что
он любит вас, не сомневаюсь. Надеюсь, что он вам в этом еще не признался, но
при вашей манере обращения с ним за этим дело не станет. Надежды,
которыми вы его одариваете, быстро помогут ему справиться с угрызениями совести,
если он уже не отрекся от нашей дружбы.
Чаешь первая
95
— Альфонс, у вас действительно помутился разум. Вы говорите невероятные
вещи. Я начинаю сомневаться, действительно ли вы верите в мою к вам любовь
и в любовь к вам дона Манрикеса.
— Верю и в то, и в другое. — Я был искренним.
— Но если верите, — воскликнула Белазира, — то как вы себе
представляете мою одновременную любовь к вам и к дону Манрикесу, как понять, что дон
Манрикес влюблен в меня и продолжает боготворить вас? Альфонс, ваше
безумие причиняет мне нестерпимую боль. Вы неизлечимо больны. Выйдя за вас
замуж, я обреку себя на участь самой несчастной супруги. Я вас очень люблю,
но вы запрашиваете непомерную цену. Ревность любовника несносна, но
ревность мужа не просто несносна, но и оскорбительна. Вы так явственно
изобразили мне картину моих будущих страданий, что вряд ли я соглашусь когда-
нибудь стать вашей женой. Да, я вас очень люблю, и наша разлука будет
страшным ударом по моим надеждам провести рядом с вами всю жизнь. Умоляю вас,
оставьте меня — ваши слова и ваш вид лишь усугубляют мою боль.
Белазира встала и удалилась в свою комнату, закрыв за собой дверь на ключ.
Мои отчаянные просьбы вернуться и продолжить разговор остались без
ответа. Подавленный, я ушел к себе в полном смятении чувств. Мне казалось, что
я утратил остатки разума. На следующий день я опять был у Белазиры. Она
выглядела грустной и печальной, но говорила со мной беззлобно, даже
доброжелательно и ни словом не обмолвилась о своем вчерашнем намерении
расстаться. Она как бы раздумывала о нашей дальнейшей судьбе. Человек легко
прощает собственные ошибки, и я надеялся, что и она простит мне мои выходки
и ее настроение изменится к лучшему. Я извинился уже, наверное, в сотый раз
и попросил ее ничего не говорить о нашей размолвке дону Манрикесу, умоляя
ее изменить к нему свое отношение и не давать мне повода для переживаний.
— Я ничего не скажу дону Манрикесу о вашем безумии, — ответила она, —
но не собираюсь потакать вашим капризам и рвать с ним отношения. Если бы
он был влюблен в меня, я навсегда порвала бы с ним независимо от ваших
тревог и волнений. Но в его ко мне чувствах нет ничего, кроме дружбы. Вам
прекрасно известно, что он влюблен в другую женщину. Я отношусь к нему с
большим уважением, он мне очень нравится, и вы никогда против этого не
возражали, так что ваша ревность — чистая фантазия. Если я уступлю вам, вы с
вашим скверным характером не замедлите найти новый объект для нападок.
Не понуждайте меня изменить мое поведение — это абсолютно бесполезно.
— Я очень хочу верить в вашу искренность. Вы не желаете замечать любви
дона Манрикеса, но я ее вижу, и этого мне достаточно. Я знаю, что никаких
других чувств, кроме дружеских, вы к нему не питаете, но в вашей дружбе
столько нежности и обходительности, столько уважения и учтивости, что, даже
если ей не суждено перерасти в любовь, она все равно пробуждает во мне
ревность. Я боюсь, что эта дружба занимает в вашем сердце слишком много
места. Ваш отказ изменить отношение к дону Манрикесу лишь усиливает мои
опасения.
— Не знаю, как убедить вас, что мой отказ связан не с моими чувствами к
дону Манрикесу, а исключительно с вашими капризами, — продолжала стоять
96
Заида. Испанская история
на своем Белазира. — Могу лишь сказать, что если бы вы попросили меня не
встречаться в свете с самым неприятным мне человеком, вы получили бы точно
такой же отказ.
— Но я говорю не о неприятном для вас человеке, а о том, к кому вы
настолько привязаны, что не желаете поступиться им ради моего спокойствия. Я ни в
чем не упрекаю вас, но мне невыносимо видеть, что в вашем сердце помимо
меня есть место для кого-то еще. Я страдаю от того, что вы не отталкиваете
дона Манрикеса, хотя и знаете о его любви. Я полагал, что один имею право
любить вас и быть любимым — все остальные поклонники должны вызывать
у вас неприязнь и отвращение. Сжальтесь надо мной и пойдите мне навстречу,
сеньора. В моей ревности нет ничего для вас оскорбительного.
Я приводил все новые и новые доводы в надежде добиться желаемого
ответа — Белазира была непреклонна.
Время шло. Моя ревность к дону Манрикесу превращалась в кошмар. Мне
удавалось скрыть от него свои чувства. Ничего не говорила ему и Белазира,
поддерживая в нем убеждение, что причиной моего расстройства все еще
служит ревность к графу де Ларе. Она не изменила своего отношения к дону
Манрикесу, и он, не подозревая о моих мыслях, также держался с ней
по-прежнему. Это еще больше распаляло мою ревность, расплачиваться за которую
приходилось Белазире.
Я донимал ее мелочными придирками, а она терпеливо и безуспешно
пыталась излечить меня от моего безрассудства. Наконец, мне сказали, что
Белазира занемогла. Мы не виделись два дня, на третий за мной послали. Выглядела
Белазира подавленной — я решил, что она еще не оправилась от болезни. Она
предложила мне присесть на край постели и, немного помолчав, заговорила.
— Вы наверняка не могли не заметить, Альфонс, — сказала она ровным
тихим голосом, — что последнее время меня неотступно преследует мысль о том,
чтобы прервать наши отношения. Я бы никогда не решилась на такой шаг, если
бы вы не вынудили меня к этому своими сумасбродными капризами. Если бы
эти капризы были простым чудачеством и у меня была бы надежда излечить
вас от вашего безумия, уступив вашим требованиям, я с радостью удовлетворила
бы их во имя нашей любви, каким бы ограничениям мне ни пришлось
подвергнуть свою свободу. Но я вижу, что ваше безумие неизлечимо и что, если у вас
нет поводов для самоистязания, вы выдумываете истории, которые никогда не
могли иметь места в прошлом и невозможны в будущем. Поэтому ради
вашего и моего успокоения я твердо решила расстаться с вами и не выходить за вас
замуж. Это наш последний разговор, и я хочу еще раз повторить вам, что, кроме
вас, никого никогда не любила, и вы были первым и единственным, кто
пробудил во мне такое чувство, как любовь. Я была убеждена, что счастья в любви
нет, и вы еще больше укрепили меня в моем мнении, и знайте, что, поскольку
вы были единственным человеком, которого я считала достойным любви,
впредь я никому не открою своего сердца — вы открыли его для любви, вы
навсегда и захлопнули его. Вы не должны также думать, что я питала какие-то
особые чувства к дону Манрикесу. Если я отказалась изменить к нему свое
отношение, то лишь в надежде, что это вас облагоразумит и я смогу быть рядом
Часть первая
97
с вами. Я хотела счастья и терпеливо ждала вашего выздоровления. Это была
единственная причина моего желания не уступать вашим капризам. Теперь меня
ничто не удерживает. Я отказываюсь от всего, даже от дружбы с доном Ман-
рикесом, как вы того хотели. Я только что говорила с ним и просила его со мной
не встречаться. Я должна извиниться перед вами за то, что рассказала ему о
вашей к нему ревности, но я не могла поступить иначе, да и наш разрыв все
равно открыл бы ему глаза. Вчера приехал мой отец. Он согласился сообщить
о моем решении вашему отцу. Не пытайтесь, Альфонс, переубедить меня. Я
тысячу раз все взвесила, прежде чем пойти на этот разговор, отдаляла его, как
только могла, скорее даже ради своей любви, чем вашей. Вы так и не поняли,
что вас любила женщина, которой любовь была дана один раз и на всю жизнь.
Не помню, кончила Белазира на этом или продолжала говорить. Уже
первые ее слова отняли у меня дар речи, но если бы я даже и попытался, то не смог
бы ей возразить. Я перестал улавливать смысл долетающих до моего сознания
слов, силы меня оставили, и я лишился чувств. Не знаю ни что произошло
дальше, ни как отреагировала на мой обморок Белазира. Очнулся я в своей
постели, около меня хлопотал дон Манрикес и еще какие-то люди.
Когда мы остались одни, дон Манрикес принялся горячо разубеждать меня
в моих подозрениях относительно его чувств к Белазире и просил извинить его
за то, что стал невольной причиной потрясения, которое привело меня в
постель. Он любил меня беззаветно и был искренне обеспокоен моим
состоянием. Я слег надолго, и болезнь помогла мне понять, насколько я был
несправедлив к другу, и я умолял его простить меня. Почувствовав себя лучше, я
попросил дона Манрикеса навестить Белазиру от моего имени и постараться
испросить у нее для меня прощение. Он отправился к ней, но принят не был. Он
наведывался к ней ежедневно в течение всей моей болезни — все было
напрасно. Едва встав на ноги, я попытался увидеть Белазиру лично, но также получил
отказ. Я предпринял еще одну попытку, но ее компаньонка передала мне, что
мое присутствие в доме нежелательно и нет необходимости настаивать. Жизнь
теряла для меня всякий смысл — я готов был с собой покончить. Мне казалось,
что, если она увидит и услышит меня, огромная ко мне любовь заставит ее
изменить свое решение. Ее отказ встретиться со мной приводил меня в
отчаяние. Могла ли судьба обойтись со мной более жестоко? Я был влюблен, любим,
держал свое счастье в руках, и вдруг все рухнуло. Я искал случайной встречи,
но Белазира всячески избегала меня и вела настолько затворнический образ
жизни, что все мои усилия были тщетны.
В поисках утешения я ночами стоял под ее окнами, но они были закрыты
наглухо. Однажды, когда я покидал место ночных бдений, мне послышалось, как
кто-то открывает окно. То же самое повторилось следующей ночью. Льстя себя
надеждой, я подумал, что Белазира, оплакивая нашу любовь, тайком
поглядывает мне вслед. Мне захотелось проверить мое предположение. Придя в
очередной раз к ее дому и постояв как обычно под окнами, я сделал вид, что ухожу, с
тем чтобы в нужный момент, оставаясь незамеченным, быстро вернуться назад.
Я уже поворачивал за угол, когда услышал шум, похожий на скрип
открывающегося окна. Я поспешил к ее дому, и мне даже показалось, что я различаю в
7. Заказ № К-6559
98
Заида. Испанская история
окне силуэт Белазиры. Каково же было мое удивление, когда я заметил фигуру
мужчины, прижавшегося к стене дома в том самом месте, где находилась ее
спальня. Мои привыкшие к ночной тьме глаза безошибочно определили:
передо мной дон Манрикес. Мой разум помутился — она все-таки его любит, он
пришел к ней на свидание, окно открыто для него. Лучшего доказательства
коварства дона Манрикеса быть не могло. В пылу гнева я выхватил шпагу и
бросился на соперника. Мы скрестили клинки, и я нанес ему два неотразимых удара,
но он продолжал сопротивляться. На звон металла или по приказанию
Белазиры из дома выбежали люди. При свете факелов дон Манрикес узнал меня и
отступил на шаг. Я хотел выбить у него шпагу, но он опустил ее.
— Боже мой! Это вы, Альфонс, — проговорил он слабым голосом. — Какое
проклятие свело меня с вами в бою!
— Молчите, предатель. — Я продолжал кипеть от злобы. — Вы заплатите мне
жизнью за то, что отняли у меня Белазиру. Она открывает вам окна, которые
для меня закрыты.
Дон Манрикес, опираясь о стену, едва держался на ногах. Совершенно
обессиленного, его поддерживали выбежавшие из дома Белазиры слуги. Он
смотрел на меня глазами, полными слез.
— Я опять доставляю вам неприятности, Альфонс, — обратился он ко мне. —
Жестокая судьба утешает меня тем, что незаслуженное наказание я принимаю
от вашей руки. Я умираю, и пусть моя смерть явится доказательством моей
честности. Клянусь вам, в моем отношении к Белазире не было ничего, что
могло бы хоть как-то оскорбить ваши чувства. Сегодня на улицы ночного
города меня привела любовь к другой женщине, имя которой я не скрывал от вас.
Мне казалось, что за мной следят. Я все время ускорял шаг, выбирая
незнакомые улицы, чтобы избавиться от преследования, пока не остановился там, где
вы меня застали. Я не подозревал, что нахожусь у дома Белазиры. Это
правда, мой дорогой Альфонс. Умоляю вас, не корите себя моей смертью — я вам
все прощаю.
Это были его последние слова. Он протянул руки, чтобы обнять меня, но
силы оставили его.
Вы не можете, Консалв, представить себе моего состояния. Я ненавидел себя
и, глядя на умирающего друга, готов был вонзить шпагу в собственное сердце.
Меня силой оторвали от бездыханного тела дона Манрикеса. Граф де Геварра,
отец Белазиры, услышав, что за окнами произносят наши имена, вышел на
улицу и, узнав о случившемся, отвел меня домой. Мой отец, видя мое отчаяние,
приказал не сводить с меня глаз, но вряд ли кому-нибудь удалось бы удержать
меня, если бы моя религия позволила мне свести счеты с жизнью. Мне
сообщили, с какой болью Белазира восприняла гибель дона Манрикеса.
Рассказали мне и об откликах, которыми был встречен при дворе мой чудовищный
поступок. Все это ставило меня на грань помешательства. Мысль о том, что в
совершившемся зле повинен только я, приводила меня в исступление. Я презирал
и проклинал себя. Отец Белазиры, по-прежнему относившийся ко мне с
добрыми чувствами, не забывал навещать меня и, не оправдывая самого поступка,
видел в нем результат моей безудержной страсти к своей дочери. Он рассказал
Часть первая
99
мне, что горе Белазиры безутешно и состояние ее вызывает опасения. Зная ее
характер и щепетильность во всем, что касается чести и достоинства, я мог
легко представить себе ее муки. Несколько дней спустя от нее прибыл
верховой с поручением. При упоминании дорогого мне имени сердце мое
заколотилось и готово было вырваться из груди. Я просил впустить посланца, и он
передал мне письмо, которое я приведу вам, Консалв, полностью.
Письмо Белазиры Альфонсу
«Наша разлука сделала для меня окружающий мир настолько
невыносимым, что у меня нет никакого желания пребывать в нем, а недавний
трагический случай нанес моей чести удар, который делает это пребывание
невозможным. Я решила покинуть двор и найти место, где мне было бы не стыдно
смотреть людям в глаза. Все мои несчастья исходят от Вас, но я не могу отбыть,
не попрощавшись с Вами. Я должна также признаться, что продолжаю любить
Вас, несмотря на все ваше безумство. Моя любовь к Вам и память о Вашей
любви ко мне — самое дорогое, что я могу отдать в жертву Богу, с которым
впредь будет связана моя жизнь. Суровые условия моего дальнейшего
существования должны показаться мне благостью. Нет страшнее боли, чем
оторвать себя от того, кто любит тебя и кого ты любишь больше всего на свете.
Скажу Вам также, что мое решение служит единственным средством,
способным отвратить меня от рокового шага — если бы, после того как мы
расстались, Вы бы вдруг вновь появились в доме, где наделали столько бед, я
скорее всего простила бы Вас и согласилась стать Вашей женой. Я не помню,
возможно, я даже сказала Вам об этом в тот вечер, когда Вы обрушились на дона
Манрикеса, а потом вновь мучили меня своими подозрениями, которые
явились причиной всех наших несчастий. Прощайте, Альфонс. Вспоминайте
иногда обо мне и пожелайте мне, ради моего успокоения, никогда не вспоминать
о Вас».
Судьба решила, что недостаточно наказала меня, и нанесла завершающий
удар, дав мне знать, что Белазира по-прежнему любит меня, что, не соверши
я последнего безрассудного поступка, она, возможно, вернулась бы ко мне, что
убийством своего лучшего друга я лишил себя всяких надежд и сделал ее
несчастной на всю жизнь.
Я спросил посланца, где в данное время находится Белазира. Он ответил,
что отвез ее в монастырь с очень строгими правилами, недавно основанный
французскими монашками, и получил от нее два письма. Одно письмо она
посылала своему отцу, другое — мне. Я отправился в монастырь, но меня не
пустили даже на порог. В это время в монастыре у Белазиры находился ее отец,
граф де Геварра. Когда он вышел, уже по его виду я понял, что она не
изменила своего решения — ни отцовская воля, ни его слезные увещания не
возымели никакого действия. Пока она была послушницей и могла покидать
монастырь, и ее отец, и я не щадили усилий, чтобы вернуть ее к мирской жизни. Все
100
Заида. Испанская история
было тщетно. Не потеряв надежды увидеть Белазиру, я отказался от своего
решения покинуть Наварру. Но когда через год она дала монашеский обет и
навсегда заточила себя в монастырь, я уехал, не сказав никому ни слова. Мой
отец к тому времени умер, и некому было хотя бы попытаться удержать меня.
Я отбыл в Каталонию, с тем чтобы морем добраться до Африки и провести в
ее пустынях остаток дней. В этот дом я попал случайно, остановившись на
ночлег. Он мне приглянулся, и хозяин согласился его продать. Живу я здесь
пятый год горестной жизнью, которую заслужил, погубив своего друга и
сделав несчастной достойнейшую из женщин. Я сам лишил себя счастья навечно
связать с ней свою судьбу. Можете ли вы, Консалв, считать себя после этого
самым несчастным на земле человеком?
* * *
Альфонс умолк. Его лицо отражало боль, вызванную заново пережитыми
событиями прошлого. Консалву, который был поражен услышанным,
показалось, что его друг вот-вот лишится чувств, и он постарался найти для него
самые добрые и теплые слова. Про себя же подумал, что они действительно два
самых несчастных человека на всем белом свете.
Разлука с Заидой становилась для Консалва все более тягостной. Он
поделился с Альфонсом своим намерением покинуть испанскую землю и наняться
на службу к королю Астурии30, начавшему войну против сарацинов, которые
захватили Сицилию и совершали опустошительные набеги на Италию.
Альфонса это решение глубоко огорчило. Он попытался отговорить друга, но его
усилия ни к чему не привели.
Консалв не мог оставаться в бездействии. Вопреки рассудку в нем теплилась
надежда найти Зайду, и эта надежда гнала его из рокового места. Даже мысль о
том, что ему навсегда придется расстаться с Альфонсом не останавливала его.
Прощание было грустным. Друзья посетовали на свою судьбу, с трудом
сдержали слезы разлуки, пообещали давать о себе знать, и Консалв, оставив у дома
одинокую фигуру Альс]эонса, направился в Тортосу, где ему предстояло провести ночь.
Он нашел ночлег недалеко от дома, окруженного великолепным садом,
террасами спускавшимся к Эбро. Это место считалось самым красивым в городе,
и Консалв весь вечер и часть ночи провел, прогуливаясь по берегу реки.
Утомившись, он присел у подножия одной из террас, настолько невысокой, что мог
отчетливо различать голоса прогуливающихся. Людской говор не мешал ему
предаваться размышлениям, и он не обращал на него внимания, пока его
слуха не коснулся голос, напоминавший голос Заиды. Удивление и любопытство
заставили его вслушаться в разговор. Консалв даже встал, чтобы быть ближе
к краю террасы, оставаясь при этом невидимым для разговаривающих.
Голоса удалились — люди на террасе дошли до края и повернули обратно. Консалв
решил подождать. Вскоре, как он и рассчитывал, голоса вновь приблизились,
и он услышал поразивший его голос.
— Слишком многое воспротивилось моему счастью, — услышал он. —
Конечно, мне не суждено быть счастливой, но на душе у меня было бы гораздо спо-
Часть первая
101
койнее, если бы я смогла рассказать ему о своих чувствах и узнать, как он ко
мне относится.
Прогуливающиеся вновь удалились, а когда вернулись, тот же голос
продолжал:
— Возможно, меня извиняет то, что это было мое первое увлечение, и я не
смогла сдержать душевного порыва. Но вдруг случится так, что это первое
чувство, в котором я увидела предначертание судьбы, будет всю жизнь болью
отдаваться в моем сердце.
Это были последние слова, которые донеслись до Консалва. Голос, похожий
на голос Заиды, взволновал его до глубины души. Возможно, он даже поверил
бы, что слышит именно ее, если бы разговор велся не на испанском языке. Его
слух уловил, правда, легкий акцент, но он не обратил на это внимания — в этих
краях говорят совсем не так, как в Кастилии. Консалв подумал лишь, что ему
жаль эту девушку и что в ее судьбе есть что-то необычное и загадочное.
На следующий день он отправился из Тортосы в ближайший порт, с тем
чтобы погрузиться на корабль и отплыть в Африку. Его путь лежал вдоль Эбро.
Любуясь рекой, он заметил большую, богато убранную лодку, посреди которой
возвышался шатер с поднятыми краями. Под красивой тканью шатра
расположились несколько женщин, и среди них Консалв узнал Зайду — она стояла,
задумчиво глядя на пробегающую мимо лодки воду. Только тот, кто, как
Консалв, навсегда потерял возлюбленную и вдруг нежданно-негаданно нашел ее,
мог бы понять, что происходило в его душе. Он был настолько поражен, что
забыл, где находится и что привело его в эти неведомые места. Чем
пристальнее он вглядывался, тем отчетливее различал знакомые черты лица, все еще
не веря своим глазам. Ему представлялось невероятным, что Зайду от него
отделяет всего-навсего река, а не бескрайние, как он думал, просторы морей.
Он хотел закричать, чтобы она обернулась на его голос, броситься к ней,
заговорить с ней, но побоялся показаться назойливым и не осмелился привлечь ее
внимание, тем более выказать свою радость при посторонних. Неожиданное
счастье и захлестнувшие воспоминания сковывали его мысли. Наконец,
несколько оправившись от потрясения и полностью убедившись в реальности
происходящего, Консалв решил остаться незамеченным и добраться до порта,
не теряя лодку из виду. Он не сомневался, что в порту найдет способ
увидеться с ней наедине и наконец-то узнает, где ее родина и куда она направляется.
Он даже подумал, что вместе с ней в лодке может находиться его соперник-
двойник, и ему удастся разрешить все сомнения и, кто знает, возможно,
открыть Заиде свое сердце. И все-таки он страстно желал, чтобы Заида
посмотрела в его сторону, но она продолжала стоять в глубокой задумчивости и не
отрывала глаз от воды. Он вдруг вспомнил девушку, чей голос слышал в саду
тортосского сада. Она говорила по-испански, но иностранный акцент ее речи
и присутствие Заиды здесь, совсем рядом, посреди реки, не могли не навести
его на мысль, что и там он слышал ее голос. Эта догадка омрачила радость
Консалва — ему вспомнились слова той девушки о первом увлечении. Любой
на его месте принял бы эти слова на свой счет, но не Консалв, по-прежнему
уверенный, что на пустынном берегу моря около дома Альфонса Заида оплакива-
102
Заида. Испанская история
ла погибшего, как ей тогда казалось, возлюбленного. Но он вспомнил и другие,
сказанные девушкой слова, и в нем вновь зародилась надежда, — в конце концов
в жизни нет ничего невозможного. Размышляя, Консалв бросался из одной
крайности в другую, не переставая выискивать поводы для сомнений; в частности,
подумалось ему, могла ли Заида выучить испанский язык за такой короткий срок.
Он продолжал свой путь. Сомнения постепенно рассеялись, уступив место
радостным мыслям о скорой встрече с Заидой, о том, что он вновь может
почувствовать на себе взгляд ее прекрасных глаз. Консалв ехал довольно
медленно, стараясь не опережать лодку, и его обогнала уже скакавшая какое-то
время сзади группа всадников. Не желая, чтобы его узнали, он
предусмотрительно повернул лошадь в сторону, но, увидев, что один из всадников задержался,
решил, забыв всякую осторожность, расспросить его о людях, едущих в
лодке, — ему не терпелось хоть что-то разузнать о Заиде.
— О, это мавританские вельможи, — ответил всадник. — Они провели в Тор-
тосе несколько дней и теперь возвращаются на родину. В порту их ждет
огромный корабль.
Отвечая Консалву, он пристально вглядывался в его лицо, затем пришпорил
коня и пустился вдогонку за отрядом. То, что Заида ночевала в Тортосе,
окончательно убедило его, что ночью в саду он слышал ее голос. Лодка в это время,
следуя изгибу реки, скрылась в месте поворота за небольшим пригорком, и в тот
же самый момент из-за пригорка выехали обогнавшие его несколькими
минутами раньше всадники. Консалв понял, что его узнали, и решил повернуть назад,
но было поздно — он был окружен со всех сторон. Отрядом командовал Олибан,
один из хорошо известных Консалву старших офицеров гвардии дона Гарсии.
Сердце Консалва сжалось до боли, когда он увидел, что Олибан узнал его, а
услышав от офицера, что тот разыскивает его уже несколько дней, имея на
руках приказ герцога доставить его во дворец, взорвался от гнева.
— Вот как! Герцог не удовлетворился тем, как он обошелся со мной, и теперь
хочет отнять у меня свободу! Это все, что у меня осталось, и за нее я готов
положить голову.
Консалв выхватил шпагу и, не обращая внимания на численное
превосходство противника, с таким остервенением ринулся в бой, что трое всадников тут
же рухнули с коней на землю. Олибан приказал гвардейцам взять его живым
и ни в коем случае не причинить вреда. Гвардейцы нехотя, но повиновались
приказу. Однако под ударами Консалва им пришлось думать не столько о том,
чтобы захватить его живым, сколько о сохранении собственной жизни. Олибан,
видя столь мужественное сопротивление и опасаясь потерять свою должность
из-за невыполнения приказа, соскочил на землю и, изловчившись, поразил коня
Консалва. Смертельно раненный конь, падая, придавил Консалва. Его шпага
сломалась, и, безоружный, лежа на земле, он оказался в окружении
гвардейцев. Олибан с учтивым поклоном показал ему на сгрудившихся вокруг
всадников, как бы давая понять, что всякое сопротивление бесполезно и что
придется подчиниться приказу герцога. Консалв понимал безвыходность своего
положения, но возвращение в Леон казалось ему верхом всех его несчастий. Найти
Зайду и тут же потерять — было от чего сойти с ума. Увидев подавленный вид
Часть первая
103
Консалва, гвадейский офицер подумал, что его пленник страшится сурового
обращения со стороны герцога, и решил успокоить его:
— Вам, сеньор, видимо, неизвестно, что произошло в Леоне за время
вашего отсутствия, иначе вы бы так не противились возвращению.
— Я не знаю, что произошло в Леоне, и меня это совершенно не
интересует. Я знаю одно: вы доставите мне гораздо больше удовольствия, если здесь же
убьете меня, чем приволочете в Леон.
— Я мог бы вам сказать большее, — невозмутимо продолжал офицер, — если
бы не получил от герцога приказа не сообщать вам о причинах его действий.
Могу лишь заверить вас, сеньор, что вам нечего опасаться.
— Думаю, — сказал Консалв, — что то состояние, в котором вы доставите
меня в Леон, лишит его удовольствия проявить свои звериные инстинкты.
Во время их разговора лодка вынырнула из-за поворота. Консалв увидел
Зайду — она сидела у борта и смотрела в противоположную сторону, лица ее
не было видно. «Проклятье, — выругался он про себя. — Судьба вернула мне
Зайду и тут же отняла ее. В доме Альфонса она была рядом, я мог разговаривать
с ней, но незнание языка мешало мне понять ее. В Тортосе я слышал ее голос,
понимал, о чем она говорит, но не узнал ее. Теперь я ее вижу, я узнал ее, мы
можем понять друг друга, и я опять теряю ее, и на этот раз навсегда». Консалв
поднял глаза на всадников и промолвил:
— Вы, как и я, понимаете, что мне не вырваться из ваших рук. Милостиво
прошу вас, позвольте мне подойти к берегу и сказать несколько слов людям,
сидящим вон в той лодке.
— Должен вас огорчить, — ответил Олибан, — но полученные мной указания
не позволяют мне исполнить ваше желание. Вам запрещено разговаривать с
кем бы то ни было.
Офицер прочитал на лице Консалва такое отчаяние, что, испугавшись, как
бы пленник не позвал на помощь сидящих в лодке людей, приказал солдатам
отвести его подальше от берега и располагаться на ночлег. Утром Олибан
распорядился седлать коней, и, проделав почти без отдыха немалый путь, уже
через несколько дней отряд спешился в двухстах шагах от города. Посланный
в Леон нарочный вернулся с приказом доставить окольными путями
пленника во дворец, в кабинет герцога. Убитого горем Консалва уже не
интересовало ни куда его ведут, ни чего от него хотят.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Оказавшись во дворце в знакомой обстановке, где когда-то он чувствовал
себя самым счастливым человеком на земле, Консалв еще острее ощутил
трагичность своей участи. В нем вновь проснулась ненависть к дону Гарсии. Боль,
причиненная утратой Заиды, на какой-то миг уступила место неистовому
гневу и желанию высказать герцогу все, что накопилось у него в душе.
Отрешенный от действительности, Консалв вздрогнул при виде Герменсильды,
направлявшейся к нему в сопровождении дона Гарсии. Их появление вдвоем в
ночное время в месте, которое ничего, кроме неприятных воспоминаний, у него не
вызывало, настолько поразило его воображение, что он не мог скрыть своих чувств
и невольно отшатнулся. Уловив его замешательство, герцог заговорил первым.
— Наконец-то вы вновь с нами, мой дорогой друг! — обратился он к Консал-
ву. — Неужели до вас не дошли слухи о тех событиях, которые произошли в
королевстве? Позвольте представить вам мою жену. Да, я ее муж, и для
полного счастья нам не хватает лишь вашего благословения.
Герцог нежно поцеловал Герменсильду, и она так же нежно ответила ему
своим поцелуем. Затем оба стали умолять Консалва простить их за те
страдания, которые по их вине ему пришлось пережить.
— Это мне надлежит просить у вас прощения за то, что я не мог совладать со
своими подозрениями. Я надеюсь, вы простите мне мой первый недобрый взгляд,
вызванный вашим совместным и столь неожиданным для меня появлением, и мою
слепоту, помешавшую мне оценить милость, которой вы одарили мою сестру.
— Можете не сомневаться, ее красота и мое счастье простят вам еще
большие грехи. Я же, со своей стороны, прошу вас забыть о том, что Герменсиль-
да скрыла от вас свою любовь к хорошо известному вам герцогу, в чувства
которого поверила.
— Счастливый конец уже оправдал ее поведение, — отвечал Консалв. —
Скорее она имеет право предъявлять мне претензии за то, что я пытался
воспротивиться ее счастью.
Дон Гарсия заботливо поинтересовался у Герменсильды, не устала ли она
и не желает ли ввиду позднего часа удалиться к себе, попросив у нее
позволения недолго побыть наедине с Консалвом.
Когда они остались вдвоем, герцог по-дружески обнял Консалва и сказал:
— Я бы очень желал, мой дорогой друг, чтобы вы забыли нанесенные вам
мною обиды. Сделайте это хотя бы во имя наших прежних добрых отношений.
Часть вторая
105
Поверьте, я нарушил законы мужской дружбы, движимый страстью, которая
лишает человека разума.
— Сеньор, я настолько поражен всем случившимся, что не знаю, как
выразить свою признательность. Мне кажется, я вижу сон и не могу поверить в
счастье вновь обрести ваше расположение. Но скажите мне, ради Бога, чему я
обязан своим возвращением.
— Вы, Консалв, задаете вопрос, ответ на который потребует долгого
разговора, Но я, желая как можно скорее оправдаться перед вами, не хочу упустить
случая и попробую в двух словах изложить суть того, что произошло.
Дон Гарсия хотел рассказать, как он воспылал страстью к Герменсильде,
какую роль сыграл дон Рамирес, но Консалв, жалея время герцога, попросил
его сразу перейти к событиям, случившимся после его отъезда из Леона,
сказав, что до этого момента ему многое известно. Герцог согласился и продолжил
свое повествование.
История дона Гарсии и Герменсильды
— Не сомневаюсь, что вы покинули Леон, прослышав о не извиняющем меня
согласии на вашу ссылку в Кастилию и получив по ошибке отправленное вам
письмо Нуньи Беллы к дону Рамиресу, из которого узнали все, что так
тщательно от вас утаивалось. Дон Рамирес, в свою очередь, получил письмо,
предназначенное вам, и, не сомневаясь, что вы стали обладателем его письма,
невероятно забеспокоился. Меня это тоже привело в замешательство. Наша вина была
общей, хотя цели мы преследовали разные. Он вашему отъезду несказанно
обрадовался, я поначалу также вздохнул с облегчением. Но, поразмыслив над
тем, что произошло, и поняв, какие по моей вине вам приходится переносить
мучения, я готов был наложить на себя руки. Я, видимо, действительно
лишился рассудка, коли так тщательно скрывал от вас свою любовь к Герменсильде.
В моих чувствах к ней не было ничего, что надо было держать в тайне.
Неоднократно я порывался послать за вами погоню и сделал бы это, если бы вина
лежала только на мне. Но это касалось уже не одного меня — отношения между
Нуньей Беллой и доном Рамиресом встали на пути вашего возвращения
непреодолимой преградой. Я ничего не говорил им о своих переживаниях и надеялся,
что со временем смогу забыть вас. Ваше бегство вызвало большой переполох,
и каждый комментировал его на свой лад. Лишившись ваших советов и
действуя по подсказке дона Рамиреса, который в своих интересах всячески
старался восстановить меня против короля, я вконец разругался с отцом, и он понял,
что заблуждался, считая вас причиной моего непокорного поведения. Мой
разрыв с королем стал неизбежен. Усилия моей матушки-королевы по
восстановлению семейного мира не дали ровно ничего, и дела зашли так далеко, что уже
никто не сомневался в моем намерении создать при дворе собственную партию.
Я бы никогда не пошел на это, если бы не ваш отец, который от своих людей
из окружения Герменсильды узнал о моей к ней любви. Через тех же людей
он передал мне, что если я хочу получить руку его дочери, то должен принять
106
Заида. Испанская история
его условия: он передаст под мое командование огромную армию и
неприступные крепости, не пожалеет денег, а я должен заставить отца поделиться со
мной королевской властью и отдать мне часть владений. Вы знаете, Консалв,
насколько я поддаюсь страстям, знаете мое честолюбие и неспособность
сопротивляться порывам души. В ответ на сделанные мне предложения я получал
корону и руку Герменсильды! Я проявил слабость, а вы были далеко и не могли
помочь советом. Короче говоря, я принял эти предложения с радостью, но все-
таки поинтересовался, кто войдет в партию, которую мне предстояло
возглавить. Мне назвали имена важных особ, в том числе отца Нуньи Беллы Диего
Порсельоса, одного из самых влиятельных графов Кастилии. Он и Нуньес
Фернандо потребовали также, чтобы я признал их суверенитет. Это требование
насторожило меня, и я, почувствовав, что иду против интересов
королевства, устыдился той поспешности, с которой пожелал стать обладателем
короны. Однако дон Рамирес, преследуя свои корыстные цели, сумел уговорить
меня. Он пообещал ходатаям кастильских графов добиться от меня уступок в
обмен на руку Нуньи Беллы. Вести переговоры с Диего Порсельосом о своем
намерении просить руки его дочери он поручил мне. Я успешно справился с
поручением дона Рамиреса, после чего договор между мной и кастильскими
вассалами моего отца был незамедлительно подписан. Не желая дожидаться
окончания открывшихся военных действий, чтобы обвенчаться с Герменсильдой, я
предупредил Нуньеса Фернандо о своем намерении изобразить похищение его
дочери и покинуть с ней королевский двор. Отец Герменсильды не возражал,
и мне оставалось лишь привести свой план в действие. У дона Рамиреса были
те же заботы, и отец Нуньи Беллы был даже рад, что его дочь будет
похищена вместе с дочерью Нуньеса Фернандо. Мы выбрали для похищения день
загородной прогулки королевы и уговорили возницу кареты, в которой ехали
наши возлюбленные, немного отстать, чтобы дать нам возможность пересадить
их в наш экипаж и отправиться в Валенсию, где я был полным хозяином. Там
нас должен был ждать Нуньес Фернандо.
Все вышло как нельзя лучше. Вечером того же дня была сыграна
свадьба. На стороне нашей любви была Божья воля. Она же помогла мне вынудить
Нуньеса Фернандо безоговорочно подчиниться моим интересам. Мы с
Герменсильдой были переполнены счастьем и огорчало нас лишь ваше
отсутствие. Я поведал ей причину вашего отъезда, и вдвоем мы часто с грустью
вспоминали о вас, не зная, где вы и что с вами. Я не мог простить себе того,
как обошелся с вами, и, считая дона Рамиреса виновником своего
неблаговидного поступка, возненавидел его. Их свадьба была отложена, так как Нунья
Белла решила ждать возвращения Диего Порсельоса, собиравшего в
Кастилии войско.
Между тем меня поддержало большинство провинций, и королю не удалось
собрать силы, способные противостоять моей армии. Начались сражения, и в
первом же из них погиб дон Рамирес. Нунья Белла тяжело переживала его
гибель, и ваша сестра постоянно находилась при ней, помогая перенести утрату.
За два месяца я одержал несколько важных побед, и моя матушка в конце
концов убедила короля пойти на уступки. Она прибыла в мой лагерь и заявила, что
Часть вторая
107
отец решил отойти от дел и готов отказаться от короны в мою пользу, но
просит оставить в его руках Самору, где хотел бы провести остаток дней, а также
Овьедо, чтобы после своей смерти передать эту провинцию моему брату. Я с
радостью согласился на эти выгодные условия и, когда договор был готов к
подписанию, отбыл в Леон, где король торжественно вручил мне корону31. В тот
же день он уехал в Самору.
— Вы, сеньор, — не удержался Консалв, — рассказываете невероятные вещи...
— Потерпите минутку, — прервал его дон Гарсия, — я должен еще посвятить
несколько слов Нунье Белле. Я не знаю, доставит вам то, что вы услышите,
боль или радость, так как мне неизвестно, какие чувства вы сохранили к ней.
— Никаких.
— В таком случае я могу продолжить свой рассказ с легким сердцем.
Сразу же после подписания мира Нунья Белла вместе с Герменсильдой,
теперь уже королевой, вернулась в Леон. Мне показалось, что она очень ждет
вашего возвращения. Из разговора с ней я понял, что она искренне
раскаивается в содеянном. Мы договорились попытаться найти вас, хотя и понимали,
что, не зная, в какой части света вы нашли себе прибежище, сделать это
будет весьма непросто. Нунья Белла предположила, что если кто-то и может
подсказать, где вас искать, так это дон Олмонд. Я тотчас послал за ним и
попросил его сообщить мне все, что ему о вас известно. Дон Олмонд сказал мне, что
после моей свадьбы и гибели дона Рамиреса он неоднократно порывался
поговорить со мной, поскольку причины, побудившие вас покинуть Леон,
отпали сами по себе, но так и не решился на это, не зная места вашего пребывания
и полагая, что каких-либо серьезных шансов найти вас у него нет. Он сообщил
мне также, что на днях получил от вас письмо, в котором вы просите его
писать вам на Таррагону, и высказал мысль, что вы не покинули пределы
Испании. Я не замедлил отправить на ваши розыски нескольких офицеров своей
гвардии. Из вашего письма к дону Олмонду я понял, что вы ничего не знаете
о переменах в королевстве, и приказал им в случае вашего задержания
ничего вам не говорить, желая быть первым, кто расскажет вам все новости.
Несколько дней спустя дон Олмонд также отправился на ваши розыски, считая,
что он лучше других справится с нелегкой задачей. Надеясь вас вновь увидеть,
Нунья Белла почти не скрывала своей радости. Однако ее отец, который, как
и ваш тоже, получил от меня суверенную власть над своей провинцией,
обратился к королеве с просьбой отправить его дочь к нему. Герменсильда и
Нунья Белла тяжело переживали разлуку, но воспротивиться воле Диего Порсе-
льоса не посмели. Сразу же по прибытии Нуньи Беллы в Кастилию отец
выдал ее, против ее воли, замуж за немецкого князя, которого привела в Испанию
набожность. Он принял этого иностранца за личность исключительных
достоинств и поспешил сыграть свадьбу. Возможно, этот немец и отличается
какими-то особыми качествами и незаурядным умом, но ни в его натуре, ни в его
внешности нет ничего привлекательного, и вряд ли судьбу Нуньи Беллы можно
назвать счастливой.
— Таковы, мой дорогой Консалв, огромные перемены, случившиеся после
вашего отъезда, — заключил свое повествование король. — Если вы освободи-
108
Заида. Испанская история
лись от прежних чувств к Нунье Белле и сохранили ко мне хоть толику
прежней привязанности, вы наверняка сможете почувствовать себя здесь таким же
счастливым, каким были раньше, а я буду несказанно рад вновь обрести столь
верного друга.
— Вы слишком добры ко мне, ваше величество, — ответил Консалв, — и я не
нахожу слов, чтобы выразить вам свою признательность. Но мое сердце еще
не излечилось от тоски, к которой приучили его несчастья и одиночество.
Дон Гарсия удалился, пожелав другу покойной ночи, а Консалва
препроводили в приготовленные для него во дворце покои. Оставшись наедине с собой,
он с горечью отметил, что почти не испытывает радости по поводу столь
благоприятных для него перемен, объяснив себе это тем, что все его чувства
вытеснены страстью к Заиде.
«О Заида, — мысленно обратился он к ней, — вы одна могли лишить меня
радости, которую другой испытал бы при виде столь благосклонного
поворота в своей судьбе. Я обрел несоизмеримо больше, чем когда-то потерял: мой
отец получил над своими владениями суверенную власть, моя сестра стала
королевой, все, кто меня предал, сурово наказаны. Но счастье меня обошло. Я
готов пожертвовать всем, чем одарила меня судьба, только ради того, чтобы
вновь вернуть тот блаженный миг, когда я увидел вас в лодке посреди реки».
Утром весть о возвращении Консалва тотчас облетела дворец. Король
усердствовал в проявлении к нему самых теплых чувств и, как бы стараясь загладить
свою вину, делал это на глазах у всех. Но эти очевидные знаки внимания не
могли вернуть Консалву душевного покоя. Как он ни старался, ему не удалось
скрыть своей печали от короля, который, заметив переживания друга, заставил
его открыться. Консалв, уступая королевской воле, рассказал о своей любви к
Заиде и о всем, что произошло с ним после его поспешного отъезда из Леона.
— Вы были правы, сеньор, — признался в конце своего повествования
Консалв, — когда не соглашались с моими уверениями, будто полюбить человека
можно, лишь хорошо узнав его, и я жестоко наказан за свое неверие — меня
обманула женщина, о которой, как мне казалось, я знаю все. Со мной
случилось то, что шло вразрез с моими убеждениями — я полюбил Зайду, не зная о
ней ровно ничего, как, впрочем, не знаю ничего и сейчас. Завидное положение,
которое я занимаю сегодня при дворе благодаря вашему ко мне расположению,
не может вернуть мне радость жизни.
Знаток сердечных дел, король не мог не оценить глубины переживаний
друга и не предложить ему своей помощи. Он принял горе Консалва близко к
сердцу и пообещал ему сделать все, чтобы получить о Заиде хоть какие-то
сведения. Было решено послать в Тортосу людей, чтобы разузнать у владельца дома,
в котором ночевала Заида, кто она, откуда родом и куда держала путь.
Консалв, давно уже желавший дать о себе весточку Альфонсу, решил
воспользоваться случаем, чтобы написать ему о своих приключениях и заверить в
верности дружбе.
Тем временем мавры, пользуясь неурядицами в Леонском королевстве,
захватили без объявления войны ряд городов и продвигались все дальше на се-
Часть вторая
109
вер. Дон Гарсия, уязвленный в своем самолюбии и наслышанный о воинской
доблести Консалва, решил двинуть войско против узурпаторов и вернуть
потерянные территории. Вместе со своим братом, доном Ордоньо, он собрал
большую армию и поставил во главе ее своего друга. Одержав ряд громких побед,
Консалв за короткое время добился значительных успехов, вернул захваченные
маврами города и осадил Талаверу32, крупный город и почти неприступную
крепость. Король Кордовы Абдерам33, сменивший на престоле Абдалу, решил
лично возглавить войска, собранные для борьбы против леонского короля, и
двинул их на помощь осажденной Талавере. Дон Гарсия и его брат взяли под
свое начало большую часть королевской армии и направили ее против Абде-
рама, оставив Консалва у стен осажденного города. Консалв с легким сердцем
подчинился приказу — его не волновала ни смерть на поле брани, ни слава
победы. О Заиде так ничего узнать и не удалось, и все его мысли были
посвящены только ей. Он мечтал о встрече, и никакое положение при дворе,
никакие почести не могли скрасить его безотрадную долю, которая толкала его в
пекло самых яростных сражений. Король двинулся навстречу Абдераму и к
концу дня вышел к хорошо укрепленным позициям врага. Несколько дней
соперники стояли друг против друга, не решаясь завязать сражение: Абдерам
не хотел покидать своих укреплений, дон Гарсия не располагал достаточными
силами для нападения. Консалв, со своей стороны, убедился, что с оставленным
ему войском осаду продолжать не только бессмысленно, но и опасно.
Полностью окружить город он не мог, и каждую ночь к маврам просачивалось
подкрепление. Сдерживать их вылазки становилось все труднее и труднее, и
Консалв отважился на отчаянный шаг. Он решил воспользоваться небольшой
брешью, которую уже проделал в обороне мавров, и бросить свое небольшое
войско на штурм крепости, надеясь неожиданными действиями совершить
невозможное. Хорошо все продумав и отдав нужные распоряжения, перед самым
рассветом он первым бросился на врага, увлекая за собой солдат отчаянной
храбростью и безудержным желанием победить. Чудо свершилось, и через два
часа Консалв овладел городом. Он предпринял все меры, чтобы не допустить
грабежей, но удержать от бесчинств жаждавших военной добычи победителей
не смог.
Наводя порядок на улицах города, Консалв натолкнулся на группу солдат,
наседавших на мужественно отбивающегося мавра. Высокий немолодой воин,
отражая удары, пытался пробиться к расположенному поблизости замку,
защитники которого продолжали обороняться. Бой был неравным, и жизнь мавра
висела на волоске. Консалв со шпагой в руке бросился между сражающимися
и остановил схватку, пристыдив солдат за недостойное поведение и приказав
им удалиться. Солдаты, узнав своего командира, извинились, но
предупредили его, что перед ним знаменитый Зулема34, положивший немало их товарищей
и пытающийся укрыться в замке. Консалву было хорошо известно имя
прославленного полководца, командовавшего войсками мавров. Он подошел к нему,
и Зулема, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, с достоинством
отдал испанцу саблю. Консалв передал пленника сопровождавшим его
офицерам, потребовав от него распорядиться о сдаче замка и пообещав взамен сохра-
по
Заида. Испанская история
нить жизнь его защитникам. Двери распахнулись, и Консалв, взяв с собой часть
свиты, вошел внутрь. Ему сообщили, что в замке находится много арабских
женщин, и он попросил провести его к ним. В большой, изысканно убранной
в мавританском стиле комнате на коврах полулежали несколько женщин.
Понимал свое положение пленниц, они встретили вошедшего молча, с затаенным
страхом. Несколько поодаль на диване сидела еще одна женщина, в богатом
одеянии, подперев одной рукой голову и смахивая другой слезы. Она
смотрела в сторону, как бы не желая видеть своих врагов. При шуме шагов
подошедшей к Консалву свиты женщина повернула голову, и он увидел Зайду, свою
Заиду, только еще более красивую и великолепную, чем раньше, несмотря на
ее печально-отрешенный вид. Консалв был настолько поражен увиденным, что
пришел в полное замешательство; Заида была удивлена не меньше, но ее
глаза оживились и засветились надеждой на спасение. Придя в себя, они кинулись
друг другу навстречу и оба одновременно заговорили. Сбиваясь, Консалв на
греческом языке пытался извиниться за то, что предстал пред ней в роли
врага, Заида на испанском уверяла его, что все ее страхи прошли, и благодарила
за то, что он вторично спас ей жизнь. Они вдруг замолчали, удивившись, что
понимают друг друга, и оба покраснели, вспомнив причины, побудившие их
взяться за изучение языков. Первым прервал молчание Консалв, вновь
заговорив на греческом языке:
— Не знаю, сеньора, правильно ли я поступил, проведя столько дней и
ночей над учебниками только для того, чтобы иметь возможность разговаривать
с вами. Не услышу ли я такое, что заставит пройти меня через новые
испытания? Но как бы то ни было, я благодарю судьбу за то, что после всех неудач
вновь вижу вас.
Услышав слова Консалва, Заида смутилась и посмотрела на него своими
прекрасными глазами, в которых не было ничего, кроме грусти.
— Позвольте мне ответить вам вопросом, который волнует меня больше
всего, — сказала она, перейдя на родной язык. — Я ничего не знаю о судьбе
своего отца, который весь день подвергал себя смертельной опасности. Не могли
бы вы хоть как-то успокоить меня?
Консалв подозвал стоявших поблизости офицеров и приказал им сделать
все, чтобы найти отца Заиды. К его великой радости, ему сообщили, что отцом
девушки является принц, которому он только что спас жизнь. Услышав об
этом, Заида, восхищенная благородным поступком Консалва, искренне, со
слезами радости на глазах, поблагодарила его. Консалв смутился и, сославшись на
свои обязанности военачальника, учтиво попрощался с дамами и занялся
осмотром замка. Каково же было его удивление, когда среди его обитателей он
увидел дона Олмонда, след которого пропал с тех пор, как тот отправился на
поиски Консалва. Выразив самые лучшие чувства и признательность своему
юному другу за заботу о нем, Консалв поспешил вернуться к Заиде, но их
разговор тут же был прерван появлением вестового, сообщившего о новых
беспорядках в городе — солдаты продолжали бесчинствовать, грабя жителей и сея
панику. Утихомирив солдат, Консалв отослал к королю курьера с
сообщением о взятии им Талаверы и вновь отправился в замок. Он нашел Заиду одну и
Часть вторая
111
решил наконец-то открыть ей свою страсть, но настолько оробел, что
лишился дара речи — куда как легче оказалось овладеть понятным для возлюбленной
языком, чем выразить ей свои чувства. Однако, не желая упускать случая и
вспомнив все их злоключения, так долго не дававшие им возможности
поговорить и узнать друг друга, он поборол робость и уже был готов произнести
первые слова, как его опередила Заида:
— Я очень рада, что теперь, когда вы знаете мой язык, а я ваш, нам не надо
прибегать к жестам, чтобы понять друг друга.
— Я был настолько несчастен, не имея возможности разговаривать с вами
на понятном вам языке, — сказал Консалв, — что выучил его, даже не надеясь,
что смогу когда-нибудь воспользоваться им и рассказать вам обо всем, что
накопилось у меня на душе.
— Я выучила ваш язык, — ответила, слегка запнувшись, Заида, — потому что
нельзя жить в чужой стране, не зная ее языка. Очень трудно, когда тебя
никто не понимает и ты никого не понимаешь.
— Мы провели вместе немало часов, сеньора, и порой мне казалось, что, не
понимая смысла слов, я хорошо понимаю ваши мысли и чувства. Думаю, что
и вы хорошо понимали мое состояние.
— Уверяю вас, я не столь проницательна, как вам это кажется. Могу лишь
сказать, что нередко в ваших глазах мне виделась глубокая печаль.
— Я пытался на своем языке объяснить вам причины этой печали и уверен,
что вы, не имея возможности проникнуть в смысл моих слов, сумели тем не
менее проникнуть в мои мысли. Нет, сеньора, не возражайте. Вы не только
поняли меня, но и ответили мне вашим подчеркнуто сдержанным
отношением. Но, узнав, что я вам безразличен, я не мог не узнать и о других ваших
чувствах, которые трудно скрыть, как бы нам порой того не хотелось. Признаюсь
вам, иногда я ловил на себе такой взгляд ваших прекрасных глаз, который мог
бы сделать меня самым счастливым человеком, если бы я не знал, что он
предназначен не мне, а кому-то другому, и я лишь напоминаю вам о нем.
— Не смею убеждать вас в обратном, — ответила Заида. — Вы
действительно напоминали мне кое-кого. Но у вас не должно быть причин для
беспокойства, даже если я скажу вам, что нередко желала, чтобы вы были тем, кому
завидуете.
— Не знаю, сеньора, радоваться мне вашим словам или печалиться, но я
готов ко всему и прошу вас объяснить их смысл.
— Я и так уже очень многое сказала вам, а мои последние слова просто
вырвались у меня, и, прошу вас, ни о чем меня больше не расспрашивайте.
— Я поистине обречен не понимать вас, даже когда вы говорите на
прекрасном испанском языке. Неужели вы столь жестокосердны, чтобы своим
умолчанием посеять в моей и без того растерзанной душе зерна новых сомнений?
Или я умру у ваших ног, или вы расскажете мне, кого вы оплакивали во
время нашего пребывания в доме Альфонса и кто, на мое горе или мое счастье,
так похож на меня. У меня есть немало других вопросов, но в знак моего к вам
уважения я не смею докучать вам своей назойливостью. Не сомневаюсь,
однако, что со временем ваше доброе сердце само откроет мне все тайны.
112
Заида. Испанская история
Заида хотела что-то ответить, но в комнате появились арабские дамы,
засыпавшие Консалва вопросами, а затем и другие люди из замка, и она с явным
облегчением прервала разговор.
Консалв покинул замок и удалился в свои апартаменты в хорошем
расположении духа, довольный тем, что наконец-то нашел Зайду, и нашел в
отвоеванном им у мавров городе, где был полновластным хозяином. Ему даже
показалось, что его появление обрадовало ее, а в том, что она выучила
испанский язык и при первой же встрече заговорила на нем, он увидел добрый знак.
Он был счастлив, насколько может быть счастлив влюбленный, еще не
уверенный во взаимности, но уже не сомневающийся в благосклонном к себе
отношении.
Приятные мысли Консалва были прерваны приходом дона Олмонда,
которого он оставил руководить размещением в стенах замка части гарнизона.
Полагая, что дон Олмонд, проведший вместе с Заидой в замке длительное
время, может что-то знать о ней, Консалв решил расспросить его, опасаясь при
этом встретить в лице юного друга нового соперника. Однако желание узнать
о возлюбленной как можно больше взяло верх, и, поинтересовавшись сначала
о том, какими судьбами дон Олмонд оказался в Талавере, и, выслушав рассказ
друга о его пленении во время поисков Консалва в Таррагоне, он перевел
разговор на Зулему, с тем чтобы, как бы невзначай, перейти к той, кто
интересовал его больше всего остального.
— Видите ли, — отвечал дон Олмонд, — Зулема приходится племянником
халифу Осману35, и, если бы судьба была к нему более благосклонной, он, вне
всякого сомнения, уже давно был бы на месте сегодняшнего каимакана36. Но
и сейчас он высокочтимая среди арабов особа. Король Кордовы поставил его
во главе своих войск, воюющих с испанцами. Я был поражен роскошью и
великолепием здешнего двора, как и благородством царящих здесь нравов. Мне
довелось застать Белению, жену принца Осмина — брата Зулемы, даму, всеми
почитаемую как за ее достоинства, так и за высокое происхождение. При ней
постоянно находилась ее дочь — принцесса Фелима, всех поражавшая своей
красотой и умом. Вы наверняка обратили внимание на необычайную красоту
Заиды и можете легко представить мое удивление, когда я впервые увидел
здесь сонм красавиц, достойных самого большого восхищения.
— Да, я не могу не согласиться с вами, — ответил Консалв. — Такой
совершенной красоты, какую являет собою Заида, мне не доводилось видеть. У нее,
должно быть, нет отбою от поклонников?
— В нее безумно влюблен Аламир, принц Тарский37. Впервые он увидел ее
на Кипре и с тех пор очарован ею. Потерпев кораблекрушение у берегов
Каталонии, Зулема с дочерью остался в Испании. Аламир вслед за Заидой
поспешил в Талаверу.
Услышав от дона Олмонда эти слова, Консалв побледнел. Разве не
подтверждали они его подозрений? Он понял, что сбылись его худшие предчувствия,
и надежды, которыми он так часто себя убаюкивал, на ошибочность своих
предположений окончательно улетучились вместе с радостью от встречи с Заидой,
уступив место новой, еще более острой боли. У него не было ни малейших со-
Часть вторая
113
мнений, что именно Аламира Заида оплакивала во время их пребывания в
обители Альфонса, что похож он именно на этого принца, разыскавшего ее у
берегов Каталонии. Вид Консалва испугал дона Олмонда, и он поспешил
предложить ему помощь. Но Консалв не мог объяснить причин своего расстройства —
ему было стыдно признаться, что он вновь охвачен страстью после несчастной
любви и бегства из Леона, свидетелем которого был его юный друг. Он
сослался на временное недомогание и не удержался, чтобы не спросить, не видел ли
дон Олмонд Аламира, достоин ли он красоты Заиды и любит ли она его.
— Мне не довелось с ним встречаться — он отправился вслед за Абдерамом
еще до того, как пленником меня доставили в этот город, — ответил дон
Олмонд. — Знаю лишь, что он пользуется большим уважением. Любит ли его
Заида, мне неизвестно. Но насколько я наслышан о его галантности и
обходительности, думаю, что женщине трудно не обратить на него внимания, тем более
что Аламир — ее страстный поклонник. Принцесса Фелима, с которой меня
связывают дружеские отношения несмотря на затворнический образ жизни
арабских женщин ее круга, часто рассказывала мне о нем, и, судя по ее словам, его
достоинства под стать его беззаветной любви.
Консалву хотелось услышать от дона Олмонда все, что тому известно о За-
иде и ее отношениях с Аламиром, но, боясь проговориться о своих чувствах, он
осведомился лишь о судьбе Фелимы. Дон Олмонд ответил ему, что Фелима
последовала за своей матерью в Оропесу38, где ее отец, принц Осмин,
возглавил войско.
Консалв удалился к себе, сославшись на усталость. На самом же деле ему
не терпелось остаться одному, наедине со своим горем. «Почему я встретил
Зайду раньше, чем узнал о ее любви к Аламиру? — вопрошал он. — Знай я об
этом, я никогда бы так не страдал от разлуки с ней и никогда бы не
радовался так, найдя ее. Надежды вспыхивают во мне лишь для того, чтобы тут же
угаснуть. Почему даже доброжелательный взгляд Заиды должен причинять
мне страдания? Зачем ей надо утешать меня, если сердце ее принадлежит
Аламиру? И что означает ее желание видеть меня на месте того, кто похож на
меня?»
Эти грустные размышления лишь усугубляли его горе. Подавленный, он
ждал наступления следующего дня, который мог бы подарить ему радость
встречи и беседы с Заидой, если бы его не угнетала мысль, что продолжение
прерванного накануне разговора лишь полностью откроет ему глаза на
несбыточность его мечтаний.
В середине ночи Консалва разбудил гонец, посланный им к королю с
победной реляцией, и передал приказ его величества срочно идти на соединение с
королевской армией. Дону Гарсии донесли, что к маврам подтягивается
подкрепление, и, узнав о взятии Консалвом Талаверы, он решил собрать в один
кулак все свое войско и нанести удар до подхода свежих сил противника.
Консалву было непросто выполнить королевский приказ — его солдаты еще не
отдохнули от тяжелого боя предыдущей ночи. Но желание вновь ринуться в
пекло сражения было столь огромным, что уже к рассвету ему удалось подготовить
солдат к выступлению. Как ни тяжело ему было, он решил покинуть город, не
8. Заказ № К-6559
114
Заида. Испанская история
попрощавшись с Заидой, но приказав отвести Зулему в замок к дочери и
сообщить ей после ухода войск о причинах его внезапного исчезновения.
Двигаясь во главе кавалерийской колонны, Консалв, погруженный в
печальные размышления, вновь и вновь перебирал в памяти удары, нанесенные
безжалостной судьбой. На подходе к лагерю его встретил король, и Консалв,
спешившись, в подробностях рассказал ему о взятии Талаверы. Доложив о делах
военных, он поведал о делах сердечных, рассказав, при каких необычных
обстоятельствах он нашел Зайду и что наконец-то узнал, кто его счастливый и
причинивший ему столько страданий соперник. Король поблагодарил его за
ратные подвиги и близко к сердцу принял его личное горе. Ответив поклоном,
Консалв ушел к солдатам, думая, как лучше разместить их на отдых перед
новыми боями. Король, однако, все еще колебался начинать сражение. Его
смущали хорошо укрепленные позиции врага, его численность и открытая
местность, которую предстояло преодолеть войскам перед решающей схваткой.
Консалв, подогреваемый надеждой сойтись с поклонником Заиды в открытом
бою, с таким рвением доказывал необходимость немедленного выступления,
что король не устоял и назначил сражение назавтра.
Армия арабов расположилась на равнине перед городом Альмаразом. К их
лагерю, окруженному большим лесом, вела пролегающая через него теснина —
единственный путь, позволяющий незаметно вывести войска на равнину, но и
представляющий немалую опасность. Консалв, однако, выбрал именно этот путь, и во
главе кавалерии первым углубился в лес. Появление его эскадронов на равнине,
перед самым носом противника, застало арабскую армию врасплох, и, пока они
перестраивали свои порядки, батальоны Консалва заняли на левом фланге
выгодные для атаки позиции, вслед за чем его конница обрушилась на врага, смяла его
и обратила в бегство. Преследуя отступающих, Консалв не столько думал о
победе, сколько искал встречи с принцем Тарским. В это время на правом фланге
королевских войск дела шли намного хуже. Арабам удалось прорвать испанские
линии и выйти к позициям резервных войск, командовал которыми сам король. В
ожесточенной схватке ему в конце концов удалось не только остановить врага, но
и, переломив ход событий, отбросить его к воротам Альмараза. У арабов
оставалась еще пехота, возглавляемая Абдерамом. Консалв бросил против нее свою
кавалерию, но вооруженные луками и копьями пехотинцы, не дрогнув, подпустили
всадников поближе и остановили их градом копий и стрел. Трижды Консалв
безуспешно бросал против них свою кавалерию, пока не взял их в кольцо и,
восхищенный их мужеством, не предложил сложить оружие. Пехотинцы сдались Кон-
салву и, в свою очередь, оценили как его доблесть, так и великодушие.
Подъехавший к нему король рассыпался перед ним в похвалах, благодаря за решающий
вклад в победу испанских войск. Король Абдерам почувствовал, что сражение
проиграно, и поспешил укрыться за стенами Альмараза. Овеянному славой Кон-
салву одержанная победа не принесла, однако, никакой радости — он не нашел
желанной смерти в бою и не скрестил оружия со своим счастливым соперником.
От пленных Консалв узнал, что принца Аламира в войсках Абдерама не
было — он возглавлял спешившие на подмогу войска, на которые арабы
возлагали все свои надежды.
Часть вторая
115
Между тем арабы, собрав остатки разбитой армии и получив долгожданное
подкрепление, укрепили город, и леонскому королю пришлось отказаться от
его штурма и довольствоваться празднованием победы, одержанной на
равнине. Абдерам к тому же предложил заключить перемирие, чтобы похоронить
погибших, и дал понять, что не возражает против мирных переговоров.
Перемирие было заключено, и как-то, объезжая войска, Консалв увидел на
одном из холмов двух вражеских всадников, отбивающихся от наседавших на
них испанцев. Храбрецы отчаянно сопротивлялись, но силы были неравные.
Консалв, пораженный недопустимой во время перемирия стычкой и
возмущенный действиями испанских всадников, явно пытающихся воспользоваться
вопреки законам воинской чести своим численным преимуществом, послал
вестового с приказом немедленно прекратить схватку и должить ему о ее причинах.
Вернувшийся гонец сообщил, что два арабских всадника, покидавших город,
были без всяких на то оснований задержаны передовым охранением недалеко
от испанских позиций, но оказали сопротивление, и подоспевший
кавалерийский отряд решил взять их в плен. Консалв отправил одного из офицеров своей
свиты с приказом извиниться от его имени перед арабами и обеспечить им
безопасный проезд. Продолжив осмотр войск и побывав в ставке короля, он
вернулся на свой бивак далеко за полночь и тут же уснул. Утром офицер,
посланный обеспечить безопасность двух арабских всадников, пришел к нему с
докладом.
— Сеньор, — обратился он к Консалву, — один из арабов, которых мы по
вашему приказанию сопровождали вдоль наших позиций, просил передать вам,
что только неотложное дело, которое не имеет никакого касательства к
военным действиям, не позволило ему, принцу Аламиру, лично отблагодарить вас
за спасение его жизни.
Консалв обомлел, услышав имя принца, которого готов был идти искать
на краю света, не зная ни рода его, ни племени, и который на его глазах
проследовал в двух шагах от позиций испанских войск. Он не сомневался, что Ала-
мир отправился на свидание с Заидой. С трудом выдавив из себя слова, он
спросил офицера, какой дорогой поехали арабские всадники, и узнав, что они
взяли путь на Талаверу, попросил всех, кто находился в его палатке, оставить
его одного. Нервы Консалва напряглись до предела — что он мог предпринять,
если даже в лицо не знал принца Тарского? «Он не только избежал моей
мести, — с горечью думал Консалв, — но я еще и расчистил ему путь в Талаверу.
Я здесь терзаюсь мыслями, а он там беседует с Заидой, рассказывает ей, как
обвел меня вокруг пальца. Да и имя свое он открыл офицеру, с тем чтобы
посмеяться надо мной. Но радость его будет недолгой — я найду его, и шпаги
нас рассудят».
Консалв решил тут же оставить армию и отправиться в Талаверу, чтобы
помешать встрече Аламира с Заидой, пронзить шпагой сердце соперника или
погибнуть на глазах у возлюбленной. Однако его решению не суждено было
сбыться. Ему доложили, что в нескольких лье от лагеря обнаружено арабское
войско и король приказал ему выяснить замыслы противника. Консалву
пришлось подчиниться. Он оседлал коня и отправился во главе кавалерийского
116
Заида. Испанская история
отряда в сторону леса. Войско оказалось всего лишь обозом, охраняемым
несколькими всадниками. Консалв отослал отряд в лагерь, оставив при себе
нескольких офицеров, и не спеша последовал за обозом. Подождав, когда отряд
скроется из виду, он прибавил шагу и поскакал в сторону Талаверы. Не проехал
Консалв и полпути, как ему повстречался богато одетый арабский всадник с
печальной миной на лице. Кто-то из офицеров обратился к Консалву по
имени. Всадник, услышав имя Консалва, встрепенулся и, подъехав,
поинтересовался, кому принадлежит это имя. Когда ему указали на Консалва, всадник
остановил коня и вежливо обратился к нему:
— Я очень рад увидеть человека, о доблести и великодушии которого ходит
молва, и поблагодарить его за оказанную мне услугу.
Произнеся эти слова, молодой араб поднес в знак приветствия руку к
головному убору, но, всмотревшись в лицо своего визави, воскликнул:
— Велик Аллах! Так это вы — Консалв?
Глядя в глаза Консалва, он замер на месте. Лицо его преобразилось, и
голос зазвучал по-иному:
— Имею честь назвать себя — я Аламир, и Аламир обязан убрать со своего
пути человека, которого судьба предназначила Заиде, если не само ее сердце
остановило на нем свой выбор.
Консалв, спокойно внимавший первым словам всадника, услышав имена
Аламира и Заиды, не сразу даже осознал, что перед ним его соперник, на
встречу с которым он ехал в Талаверу, полный гнева и жажды мести.
— Я не знаю, — ответил он на выпад Аламира, — предназначена ли мне
Заида судьбой, но если вы — как я понял из ваших слов — принц Тарский, то
овладеть ею вы сможете, только лишив меня жизни.
— Теперь я не сомневаюсь, что вижу перед собой того, кому обязан своим
несчастьем, и могу ответить вам вашими же словами.
Консалв почти не слышал последних слов Аламира и, сдерживая себя,
чтобы тут же не броситься на соперника, отступил на несколько шагов. Не желая,
чтобы свита вдруг вздумала вмешаться в их поединок, он приказал ей
удалиться. В его голосе звучала такая решимость, что сопровождавшие его офицеры
не посмели ослушаться. Они поскакали во весь опор в лагерь в надежде
найти более высокое начальство, способное прекратить смертельную схватку.
Консалв и Аламир не замедлили скрестить шпаги. Это был бой равных
соперников, не желавших уступать друг другу ни в отваге, ни в мастерстве владения
шпагой. Несколько раз клинок Консалва достигал цели. Сам он также был
ранен, но, чувствуя, что одолевает противника, готовился нанести последний и
решающий удар. Этим бы, наверное, поединок и закончился, если бы
неподалеку от леса не оказался король со своей свитой. Привлеченный криками
отосланных Консалвом офицеров, королевский отряд поспешил к месту
поединка и разнял сражавшихся. Оруженосец Аламира назвал королю имя своего
хозяина, и если бы не Консалв, приказавший своим людям оказать помощь
истекающему кровью сопернику, участь принца была бы иной.
Преклоняясь перед великодушием друга, король приказал сделать все для
спасения жизни раненого, но все-таки его больше волновала жизнь Консалва,
Часть вторая
117
которого, по его указанию, бережно доставили в лагерь. Путь до лагеря
израненный Аламир вынести бы не смог, и его отнесли в ближайший замок. В
лагере врачи успокоили короля, заверив его, что жизнь Консалва вне опасности,
и дон Гарсия решил узнать из его уст причины кровавой схватки. Как всегда,
Консалв был откровенен и поведал королю о своих злоключениях, и дон
Гарсия, не желая долгим разговором утомлять раненого друга, решил оставить его
в покое. Одиночество пугало Консалва, и он взмолился:
— Ваше величество, не оставляйте меня. Помогите мне освободиться от
гнетущих мыслей. Я не понимаю ни слов, ни поведения Аламира. Я встречаю его,
но вижу, что он не искал этой встречи. Он искренне благодарит меня и вдруг
преображается, хватаясь за шпагу. Что заставило его так измениться, узнав мое
имя? Кто внушил ему, что Заида предназначена мне судьбой и, как он говорит,
возможно, даже сама или по воле Зулемы остановила на мне свой выбор? Что
все это означает? Если он услышал обо мне как о сопернике из ее уст, ему
нечего было меня опасаться. Он не может не знать, что ее отец даже не
подозревает о моем существовании и о моей любви к его дочери, что моя религия уже
лишает меня каких-либо надежд. Какой смысл таится в его словах? Почему мое
лицо сказало ему больше, чем мое имя?
— Да, мой дорогой Консалв, — сочувственно проговорил король, — распутать
этот клубок непросто. Чем больше думаешь, тем больше возникает вопросов.
А не могло случиться так, — вдруг оживился дон Гарсия, — что Аламир видел
вас, когда вы скрывались у Альфонса под именем Теодориха, и сейчас,
столкнувшись с вами лицом к лицу, признал в вас своего соперника?
— Да, сеньор, я тоже думал об этом. Но эта мысль показалась мне настолько
чудовищной, что я тут же отогнал ее. Возможно ли, чтобы Аламир прятался
где-то в этом пустынном крае и тайком встречался с Заидой? Возможно ли,
чтобы радостный блеск, который мне доводилось иногда видеть в ее глазах и
который служил мне единственным утешением, был всего лишь отблеском
счастья, испытанного от свиданий с Аламиром? Но я не покидал Зайду ни на
минуту, был всегда с ней рядом, и, если бы Аламир находился там, я не мог бы
его не увидеть. Теперь же она знает, кто я. Аламир только что виделся с ней,
и она наверняка рассказала ему обо мне — значит, он знал, что я его соперник.
Почему же тогда, учтиво обратившись ко мне со словами благодарности, он
вдруг резко изменился? Когда я начинаю строить догадки, мой мозг, не
находя вразумительных ответов, заходит в тупик.
— Уверены ли вы, Консалв, что Аламир виделся с Заидой? Вчера он
довольно поздно покинул город, а сегодня утром вы встречаете его в лесу. Мне
сдается, что добраться до Талаверы за столь короткое время вряд ли возможно.
Впрочем, это нетрудно выяснить. Два моих офицера сообщили, что провели
прошлую ночь в лесу и там же находился арабский принц. Сейчас они
расскажут нам, где он им повстречался.
Король послал за офицерами и приказал им рассказать, где и в каком часу
они видели Аламира.
— Сеньор, — ответил один из офицеров, — вчера мы возвращались из Ариобиз-
6а, куда были посланы с поручением, и к вечеру очутились в большом лесу, в трех-
118
Заида. Испанская история
четырех лье от лагеря, где и решили заночевать. Вскоре меня разбудил шум
голосов. Еще было светло, и в отдалении я увидел арабского принца, который
разговаривал с благородной, судя по одежде, дамой. После продолжительного разговора
собеседница принца оставила его в одиночестве и присоединилась к другой даме,
расположившейся на траве недалеко от нас. Они разговаривали довольно громко,
но на непонятном мне языке, не похожем на арабский. Несколько раз до моего
слуха долетало имя Аламира. Я не мог различить их лица, так как видел их со
спины, но мне показалось, что та, которая разговаривала перед этим с принцем,
горько плакала. Затем они удалились и, судя по скрипу колес и топоту копыт,
отбыли в сторону Талаверы. Я разбудил напарника, и мы двинулись в путь. Под
одним из деревьев то ли в задумчивости, то ли в расстроенных чувствах лежал принц.
Его оруженосец спросил нас, смогут ли они засветло добраться до арабского лагеря.
Я ответил, что нет, и ночь и мы, и они провели в одной деревне.
Выслушав рассказ офицера, король мысленно отругал себя, почувствовав,
что услышанное расстроило Консалва еще больше.
— Как видите, сеньор, — сказал Консалв, когда офицеры оставили их, — я
был прав, утверждая, что Заида виделась с Аламиром.
— Но как это могло случиться, — удивился король, — если она содержалась
в замке как пленница?
— Мой злой гений не упускает случая, чтобы обратить мне во вред любое
мое действие. Уезжая из Талаверы, я приказал стражникам не ограничивать
свободы Заиды и разрешать выходить из замка, когда ей заблагорассудится.
Вот и расплата — она встречается с Аламиром в лесу. Недаром он сказал моим
людям, что едет по своим личным делам. Вчера он встретился с Заидой.
Расставшись с ним, она плакала. Разве нужны какие-либо еще доказательства ее
любви к принцу? Дайте, сеньор, мне возможность спокойно умереть от
полученных ран и не тратьте ваше драгоценное время и ваши душевные силы на
уход за не угодным Богу пасынком фортуны. Зачем вы так добры к жалкому
неудачнику — мне стыдно за самого себя.
Наутро принцу Тарскому стало намного хуже, он лежал весь в жару, и,
казалось, часы его сочтены. Консалв вообразил, что Заида, узнав о состоянии
Аламира, пришлет кого-нибудь за известиями, и отправил верного человека в замок,
где находился принц, с приказом ежедневно доносить ему о появлении
возможного гонца. Он даже думал поручить своему человеку узнать, действительно ли
арабский принц похож на него, но этому мешало израненное лицо соперника.
Посланец Консалва добросовестно выполнил поручение и доложил, что
никто не искал встречи или разговора с раненым принцем, но каждый день в
замок наведываются неизвестные люди, которые справляются о его здоровье, но
не желают назвать тех, кто их послал. Консалв перестал сомневаться, что
Заида любит Аламира, но каждое новое тому подтверждение причиняло ему
острую боль. В палатку вошел король и, увидев на лице друга следы душевных
мук, запретил кому бы то ни было вести с ним разговоры о Заиде и Аламире,
опасаясь ухудшения его здоровья.
Тем временем перемирие закончилось, и оба лагеря были готовы вновь
сойтись в битве. Абдерам осадил небольшую крепость, которую защищал крохот-
Часть вторая
119
ный испанский гарнизон. По воле судьбы в этой крепости находился на
излечении близкий родственник дона Гарсии герцог Галисийский39, получивший
ранения в недавних сражениях. Герцог возглавил горстку храбрецов и оборонялся
с такой дерзкой самоотверженностью, что привел Абдерама в бешенство. Взяв
крепость, Абдерам тут же приказал отрубить герцогу голову. Это был далеко
не первый случай, когда мавры в победном раже проявляли бессмысленную
жестокость по отношению к испанским пленникам. Узнав о гибели герцога
Галисийского, король пришел в ярость. В войсках весть об убийстве
любимого военачальника вызвала бурное негодование, и они, охваченные жаждой
мести, потребовали от короля поступить с принцем Тарским так же, как Абдерам
поступил со своим пленником. Король, опасаясь беспорядков среди солдат, дал
на казнь свое согласие, но, не желая прослыть убийцей едва живого пленника,
отложил ее до его выздоровления. Королю Кордовы он отправил послание, в
котором известил его, что, как только принц Аламир оправится от ран, ему
будет публично отсечена голова.
Консалв, которому по воле короля никто не смел даже заикнуться о Заиде
и Аламире, находился в полном неведении об уготованной принцу Тарскому
участи. Несколько дней спустя после этих событий ему доложили, что его
желает видеть слуга дона Олмонда. Консалв принял посыльного и получил от него
пачку писем. На словах слуга добавил, что его господин не понимает, чем
вызван королевский приказ задержать его в Барагеле и почему он не может
добиться никаких известий о состоянии здоровья своего друга и покровителя.
Консалв взял письмо, на котором значилось его имя, и распечатал его.
Письмо дона Олмонда Консалву
«Если бы я знал о Вашем великодушии только понаслышке, я ни за что не
решился бы обратиться к Вам с этим письмом и счел бы бессмысленным
просить Вас встать на защиту Вашего врага. Но я знаю Вас достаточно и не
сомневаюсь поэтому, что Вы с радостью откликнетесь на просьбу, которую мне
велено передать Вам. Как бы ни был справедлив приказ короля поступить с
принцем Тарским так же, как мавры обошлись с герцогом Галисийским, спасение
жизни столь доблестной и достойной личности, как Аламир, несомненно
явилось бы с Вашей стороны еще одним благороднейшим жестом. Мне кажется
также, что Вы не можете не проявить сострадания к небезызвестной Вам
сгорающей от страсти душе».
Имя Аламира и последняя строчка письма заставили Консалва вздрогнуть.
Что произошло с герцогом Галисийским, он не знал и попросил слугу дона
Олмонда рассказать ему о случившемся. Слуга, которому показалось
странным, что такая важная персона может не ведать об известных последнему
солдату вещах, в двух словах изложил историю гибели герцога. Выслушав
печальное известие, Консалв открыл пакет с небольшим письмом, которое пересылал
ему дон Олмонд.
120
Заида. Испанская история
Письмо Фелимы дону Олмонду
«Используйте свое влияние на Консалва и уговорите его спасти Аламира от
гнева леонского короля. Оградив Аламира от смерти, он не спасет ему жизнь —
его раны смертельны. Консалв уже достаточно отмщен, и эта обращенная к
нему просьба служит тому лишь подтверждением. Умоляю Вас, добейтесь
отмены казни, которая унесет жизнь не только Аламира».
«Ах, Заида, Заида! — воскликнул Консалв. — Слова Фелимы — это ваши
слова, и вы умоляете меня спасти жизнь Аламиру. Зачем вы так жестоки ко мне,
и на что вы меня толкаете? Неужели мне мало своих несчастий? Почему я
должен спасать жизнь тому, кто причинил мне столько горя? Могу ли я
воспротивиться воле короля? Разве его решение несправедливо? Он был вынужден
принять его, и я совершенно к этому не причастен. Я ничего не понимаю — если бы
Аламир не был моим удачливым соперником, меня никто не попросил бы
побеспокоиться об его участи, но он мой соперник — и меня просят спасти ему
жизнь. Не жестоко ли это? Могу ли я побороть свою ненависть? Хватит ли у
меня великодушия пощадить того, кто отнимает у меня Зайду? Уступит ли
король моим настояниям? Рискнет ли он ради меня бунтом негодующих солдат?
Разве я не должен печься об интересах короны? Смерть Аламира дает мне пусть
слабую, но все-таки надежду. Он, и только он, лишает меня Заиды. Но буду ли
я счастлив, если мой враг погибнет и я буду причиной ее безутешного горя?»
Внутренний голос Консалва умолк. Ни на один из заданных себе вопросов
ответа он не нашел. Вдруг его как будто обожгло. Он решительно поднялся с
постели и, несмотря на слабость и ноющие раны, приказал доставить его к
королю. Увидев Консалва, дон Гарсия удивился, но еще большим было его
удивление, когда он узнал, зачем его друг пожаловал.
— Сеньор, — обратился Консалв к королю, — если вы по-прежнему добры ко
мне, отмените казнь Аламира. От его жизни зависит моя жизнь.
— Консалв, о чем вы говорите? — Король отказывался понимать. — И как
может статься, что сохранение жизни человеку, который причинил вам столько
страданий, может успокоить вашу душу?
— Я выполняю просьбу Заиды, сеньор. Я не могу уронить себя в ее глазах.
Она знает, что я люблю ее и ненавижу принца Тарского, и тем не менее верит
в меня и умоляет сделать все, чтобы спасти ее возлюбленного от неминуемой
гибели. Заида обращается ко мне за помощью, и моя честь не позволяет
отказать ей. Помогите мне выполнить ее просьбу.
— Я отказываюсь внимать чувствам, рожденным вашим слепым
великодушием и любовью, которая лишает вас здравого смысла. Я не имею права
поступиться своими и вашими интересами. Принц Тарский должен умереть в
назидание королю Кордовы. Это научит его уважать противника и в то же время
успокоит мои войска, готовые выйти из повиновения. Смерть Аламира к тому
же отдаст в ваши руки Зайду и вернет вам душевный покой.
— О каком покое может идти речь, сеньор, если я буду знать, что смерть
принца Тарского повергла Зайду в отчаяние, а на меня обрушила ее гнев, — с
Часть вторая
121
болью в голосе возразил Консалв. — Мне не отнять Зайду ни у живого, ни у
мертвого соперника. Стоит ли пытать судьбу бездумным упрямством? Пусть
лучше Заида по-женски посочувствует мне как неудачливому влюбленному,
чем станет относиться с ненавистью и презрением.
— Не торопитесь, Консалв, с вашим требованием ко мне и подумайте
хорошенько, так ли уж вы желаете того, чего у меня просите.
— Нет, сеньор, мне не о чем думать — своего решения я не изменю. Меня уже
посетила недостойная мысль о том, что смерть Аламира сулит мне какие-то
надежды, и не стоит к этому возвращаться. Я не хочу, чтобы Заида могла
заподозрить меня в непорядочности. Умоляю вас, ваше величество, не отказать
мне в моей дерзкой просьбе и сегодня же объявить в войсках о вашей
королевской воле помиловать принца Тарского.
— Хорошо, — сказал после некоторого раздумья дон Гарсия, — я отступаю
перед вашим благородством, но с обнародованием моей воли придется
подождать. Вам известно о наших планах относительно Оропесы. Ее жители
обещали нам открыть сегодняшней ночью ворота крепости. Если атака будет
успешной, солдаты на радостях станут уступчивее и нам удастся избежать
волнений. В крепости находится Фелима. Она попадет в наши руки, и от нее вы
сможете узнать, любит ли Заида Аламира. Задумайтесь о своей судьбе,
прежде чем решать судьбу принца, и постарайтесь принять верное решение, чтобы
потом не раскаиваться.
— Благодарю вас, сеньор, за вашу доброту. Но захочет ли Фелима открыть
мне тайну Заиды?
— Командовать штурмом Оропесы будет дон Олмонд. Скажите ему, что вы
выполните просьбу Фелимы лишь в том случае, если будете знать причины,
заставившие ее принять так близко к сердцу судьбу Аламира, и дон Олмонд
доставит вам ответ на вопрос, который вас мучает.
— Я последую вашему совету, сеньор, но будьте великодушны до конца и
уважьте еще одну мою просьбу. Позвольте мне лично уговорить солдат,
чтобы они сами обратились к вам с прошением о помиловании Аламира сразу же
после взятия Оропесы. Захватив крепость, дон Олмонд узнает от Фелимы все
о чувствах Заиды к Аламиру, но умолчит о данном мне вашим величеством
обещании. Заида, прослышав о том, как вы объявили появившимся во главе со
мной у вашего шатра солдатам о своем решении помиловать принца
Тарского, уверится, что я при первой же возможности откликнулся на ее просьбу. Мое
беспрекословное повиновение ее желаниям докажет ей, что, потеряв надежду
на ее сердце, я не потерял чести и сохранил право на ее уважение.
Король не только оценил величие души Консалва, но и посоветовал ему
немедленно отписать дону Олмонду и сообщить, как ему поступать дальше.
Более того, он провел с ним остаток ночи, видя, сколько душевных мук
пришлось пережить за прошедший день его любимцу, который предпочел
похоронить остатки надежды стать обладателем сердца любимой женщины, чем
поступиться достоинством, не сулившим ему никаких выгод.
Утром короля оповестили о взятии Оропесы, и он поспешил с радостной
вестью к Консалву, предоставив ему право самому распорядиться судьбой Аламира.
122
Заида. Испанская история
Консалв встретил слова короля с такой радостью, будто речь шла не о спасении
жизни его соперника, а о его собственном счастье. Он приказал отнести себя в
лагерь и обратился к солдатам с горящими глазами и голосом, каким обычно
звал их на бой, вселяя в их сердца мужество и отвагу. Он сказал им, что они, его
верные соратники, навлекут на него позор, если будут требовать от короля
смерти несчастного принца Тарского, вся вина которого заключается лишь в том, что
тот поднял руку на их начальника. Он призывал их подумать о том, что эта
смерть запятнает его честь, добытую благодаря им в боях, и вынудит его
оставить армию и покинуть Испанию. Консалв предложил им выбор: или он сейчас
же идет к королю и просит его величество с Богом отпустить его на все четыре
стороны, или они идут вместе с ним к королю с просьбой сохранить жизнь
принцу Тарскому. Солдаты, не дав договорить Консалву, бросились к нему, умоляя
не покидать их. Подхватив носилки с раненым военачальником, они понесли его
к шатру короля, выкрикивая требования отменить казнь с той же решимостью,
с какой несколько дней назад требовали отсечь арабскому принцу голову.
Дон Олмонд тем временем при всех заботах, которые свалились на него во
взятой крепости, ни на минуту не забывал о просьбе Консалва. Улучив минутку
для встречи с Фелимой, он попросил разрешения увидеться с ней, причем
сделал это с такой учтивостью, которая, при его положении победителя, не
могла не удивить окружающих. Фелима пребывала в глубокой печали, вызванной
как тяжелыми событиями дня, так и болезнью матери. Как только они остались
вдвоем, она заговорила первой:
— Какую весть вы принесли мне, дон Олмонд? Что вам удалось сделать?
Добились ли вы у Консалва согласия помочь Аламиру?
— Сеньора, судьба принца Тарского — в ваших руках, — ответил дон Олмонд.
— В моих? — удивилась Фелима. — Чем же я могу помочь ему в моем
положении пленницы?
— Я могу обещать вам, что с Аламиром ничего не случится, но для этого вы
должны рассказать мне все, что знаете о нем и по каким причинам так
печетесь о его судьбе.
— Ах, дон Олмонд, — воскликнула Фелима, — неужели это так важно!
Затем, немного помолчав, гордо выпрямилась и сказала:
— Разве вам не известно, что принц Тарский родственник Осмина и Зулемы?
Я знаю его уже много лет, и это весьма достойный человек. Этого более чем
достаточно, чтобы принять участие в его судьбе.
— У вас должны быть для этого и другие, более веские, причины. Если вы
не считаете возможным открыть их, вы вольны это сделать, но в таком случае
и я беру назад свое обещание.
— Я просто поражена, дон Олмонд, как низко вы оцениваете жизнь принца
Тарского! И что только могло побудить вас обратиться ко мне с этой просьбой?
— Этого, сеньора, я вам сказать не могу, — ответил дон Олмонд. — Но,
простите мне мою настойчивость, могу лишь повторить: от этого зависит его жизнь.
Фелима опустила глаза и погрузилась в раздумье. На этот раз ее молчание
было настолько долгим, что заставило дона Олмонда заволноваться. Наконец,
как бы очнувшись, она заговорила твердым голосом:
Часть вторая
123
— В таком случае, дон Олмонд, я должна вам рассказать то, о чем по
своей воле никогда бы никому не поведала. Но о вас я всегда была самого лучшего
мнения, и вера в вас и мое желание спасти жизнь Аламира помогают мне
решиться на этот шаг. Обещайте мне не разглашать мою тайну и наберитесь
терпения выслушать меня — моя исповедь перед вами будет долгой.
История Заиды и Фелимы
— У халифа Османа, о котором вы, несомненно, немало наслышаны, был
брат Сид Рахис40, который мог, по праву первородства, потребовать у брата
трон, но оказался всеми покинутым, даже теми, кто подбивал его к захвату
власти. Он смирился со своей горькой участью, и халиф отправил его
наместником на остров Кипр. Зулема и Осмин, имена которых вам также известны,
были его детьми. Маленькие красивые мальчики выросли в мужественных
воинов и влюбились в очаровательные создания — в двух сестер
благороднейшего княжеского рода, который правил на острове до прихода арабов. Одну
из сестер звали Аласинтия, другую — Беления. Осмин и Зулема, прекрасно
знавшие греческий язык, без труда объяснились им в своих чувствах, и их
объяснения были встречены более чем благожелательно. Очаровательные
девицы были христианками, но это не помешало им ответить на чувства
братьев взаимностью. Как только Сид Рахис скончался и братья освободились от
опеки отца, Зулема женился на Аласинтии, а Осмин — на Белинии. Мужья не
только не возражали против христианского воспитания своих детей, но и сами
подумывали о том, чтобы обратиться в христианство. Заида была дочерью Зу-
лемы и Аласинтии, я — Осмина и Белении. Несколько лет влюбленные мужья
прожили при своих женах на Кипре, но затем, следуя заветам честолюбивого
отца и повинуясь собственному желанию прославиться и занять более высокое
положение, уехали в Африку. Надежды их быстро оправдались, и при дворе
нового халифа, сменившего Османа, они завоевали почет и уважение, что
сказалось и на положении Аласинтии и Белении, которых мужья оставили на
Кипре. Прошло пять или шесть лет, Зулема и Осмин не возвращались, и наши
матери загрустили. До них доходила молва, что их мужей удерживают в
Африке не только военные приключения, и они почувствовали себя
одинокими и покинутыми. Аласинтия всю себя отдала Заиде, которая подрастала и
требовала все больше внимания, Беления занялась моим воспитанием и
образованием, желая сделать из меня даму света.
Как только мы с Заидой вышли из детства, наши матери уединились в замке
на берегу моря, отказавшись от радостей жизни, и лишь заботы о нашем
воспитании заставляли их вести совершенно ненужную им роскошную светскую
жизнь. Нас окружали благовоспитанные молодые люди, и наше время
протекало в занятиях и развлечениях, которые должны были помочь нам занять
достойное место в свете. Нас с Заидой связывали не только родственные узы, но
и большая дружба, которая только и может возникнуть с ранних лет. Я была
старше Заиды на два года. Разница между нами была не только в возрасте, но
124
Заида. Испанская история
и в характере. Заида отличалась веселым нравом, я же в своих чувствах была
много сдержаннее. Это бросалось в глаза, как и не сравнимая с моей красота
Заиды.
Как-то, незадолго до того, как император Лев послал войска для захвата
Кипра41, мы прогуливались по берегу моря. Море было удивительно
спокойным, и мы упросили Аласинтию и Белению разрешить нам покататься на
лодках. Мы взяли с собой наших подруг и поплыли в гавань любоваться
большими заморскими кораблями. Приблизившись к кораблям, мы увидели, как от
одного из них навстречу нам отошли шлюпки, и решили, что это арабские
матросы, которых отпустили на берег. В первой шлюпке наше внимание
привлек статный молодой вельможа, окруженный изысканно одетыми людьми. Их
лодка повернула в нашу сторону, и мы, подумав, как бы они не решили, что мы
украдкой наблюдаем за ними, смутились и изменили направление. Но они
поплыли за нами, в то время как остальные шлюпки продолжали свой путь к
берегу. Незнакомцы подплыли к нам совсем близко, и мы отчетливо видели,
что тот, на которого мы сразу обратили внимание, откровенно разглядывает нас
и что погоня за нами доставляет ему удовольствие. Заида восприняла все это
как забавную игру и приказала еще раз развернуть нашу лодку так, чтобы не
терять преследователей из виду. Меня же эта игра, если это можно было
назвать игрой, страшно взволновала — я всмотрелась в того, кто верховодил
погоней, и была поражена тонкостью черт его лица и его привлекательной
внешностью. Я даже возвысила на Зайду голос, потребовав немедленно вернуться
в замок, уверенная, что ни Аласинтия, ни моя матушка не одобрят наших
заигрываний. Заида не стала возражать, и мы повернули к дому, но шлюпка
преследователей обогнала нас и причалила рядом с другими нашими лодками,
которые добрались до берега раньше нас.
Когда наша лодка уткнулась носом в песок, тот, кто привлек наше
внимание, подошел к нам в сопровождении других молодых людей и подал руку,
чтобы мы смогли спуститься на берег. Мы поняли, что он уже узнал у наших
подруг, с кем имеет дело. Нас с Заидой поразили его светские манеры, тем
более что перед нами были арабы, к которым нам всегда внушали неприязнь.
Мы ожидали увидеть на лице молодого красивого араба удивление, когда он
узнает, что мы не говорим по-арабски, но были сами весьма удивлены, когда
он обратился к нам с греческой учтивостью на нашем языке.
— Я отдаю себе отчет в том, сударыня, — обратился он к Заиде, которая шла
впереди меня, — что арабу не дозволено вести себя так вольно, но то, что для
другого подобное поведение было бы равносильно преступлению, может быть
прощено человеку, который имеет честь быть соратником таких выдающихся
особ, как Зулема и Осмин. Уступая любопытству познакомиться с красотами
Греции, первым делом я решил побывать на Кипре, и судьба оказалась ко мне
настолько благосклонной, что на вашем острове я сразу же нашел то, чего не
мог найти ни в одной другой стране.
Говоря, он смотрел то на Зайду, то на меня с таким восхищением, что нам
даже в голову не пришла мысль усомниться в искренности его слов. То ли у
меня уже зародилось какое-то чувство, то ли свою роль сыграла наша отрешен-
Часть вторая
125
ная от мира жизнь, но, признаюсь, эта неожиданная встреча взволновала меня.
Аласинтия и Беления, находившиеся в отдалении, направились в нашу
сторону, послав слугу узнать, что за люди пожаловали в наши не часто посещаемые
края. Вернувшийся слуга сообщил им, что с нами разговаривает Аламир, принц
Тарский, сын того самого Аламира, который, объявив себя халифом, наводил
ужас на христиан. Наши матери слышали, что принц Тарский был в союзе с
Зулемой и Осмином, и желание услышать новости о своих мужьях, а также
уважение к имени столь родовитого гостя умерили их неприязнь к арабам и
заставили проявить больше терпимости и любезности. Аламир рассказал им о
Зулеме и Осмине, с которыми виделся перед отъездом, и даже пожурил
непочтительных мужей, бросивших на произвол судьбы столь приятных дам, чем
окончательно расположил к себе наших родительниц. Разговор на берегу моря
продолжался довольно долго, а когда закончился, Аласинтия и Беления, по
обыкновению избегавшие общества, настолько расчувствовались, что
предложили гостю кров и ночлег. Аламир сказал, что правила приличия должны
были бы заставить его отклонить любезное приглашение, но он его
принимает, так как не может отказать себе в удовольствии провести время в столь
приятном обществе. Он отправился вместе с нами в замок, попросив разрешения
не разлучать его со своим другом Мульзиманом, которого представил как
достойнейшего и весьма почитаемого человека. Вечером Аламир продолжал
очаровывать нас. Я не переставала поражаться его уму, обаянию и
обходительности и наконец заподозрила появление в себе чувства большего, чем простое
восхищение. Мне показалось, что на меня он смотрит с особым вниманием, и
я уже льстила себя мыслью, что нравлюсь ему, по крайней мере, не меньше,
чем Заида.
Утром Аламир не только не покинул, как предполагалось, замок, но еще
больше обворожил Аласинтию и Белинию, которые уговорили его остаться.
Ему доставили с корабля великолепных арабских скакунов. Сопровождавшие
его люди оседлали их, и сам он, с грацией, присущей людям его нации,
вскочил в седло, восхитив всех своими качествами наездника. Он пробыл с нами
три-четыре дня и настолько завладел умом и сердцем Аласинтии и Белинии,
что получил от них приглашение навещать нас во время своего пребывания на
острове. Покидая замок, Аламир сказал мне, что если он докучает мне своим
присутствием и будет докучать в будущем, то вся вина за это лежит на мне.
И все-таки я заметила, что порой его глаза внимательно рассматривали
Зайду. Однако взгляды, которые я улавливала на себе, и сказанные им слова
убедили меня, что я ему небезразлична. О, боже мой! Если бы это было так! Он
ускакал, и как только скрылся из виду, в мое сердце закралась неведомая
ранее грусть. Я ушла к себе в смятенных чувствах. Мне не сиделось на месте, и
я пошла к Заиде, видимо ощущая потребность поговорить об Аламире. Она
с подружками плела из цветов гирлянды, и, глядя на нее, можно было
подумать, что никакого принца не было и она в глаза его не видела. Она с таким
увлечением занималась цветами, что внутренне я даже разозлилась на нее и,
почти насильно оторвав от дела, увлекла с собой на прогулку. Я завела речь об
Аламире и сказала ей, что он не спускал с нее глаз. Заида ответила, что ничего
126
Заида. Испанская история
подобного не заметила, и я поинтересовалась у нее, какое, по ее мнению,
впечатление на Аламира произвела я. Она удивилась моему вопросу, сказав, что
все это ее мало волнует. Я не понимала, как могло случиться, что если Зайду
появление Аламира оставило равнодушной, то почему во мне встреча с ним
оставила такой глубокий след. Теперь я уже рассердилась на себя и, как
впоследствии оказалось, была права.
Несколькими днями позже Аламир вновь появился в замке. Аласинтия и
Заида куда-то ушли и вернуться должны были лишь к вечеру. Аламир предстал
передо мной еще более любезным и обаятельным. Моя печальная судьба
распорядилась так, что в отсутствие Заиды все его внимание невольно было
обращено на меня. Его безупречную обходительность я приняла за ответное чувство
и убедила себя в том, что мы нравимся друг другу. Нас с Беленией Аламир
покинул задолго до прихода Заиды, и я увидела в этом знак того, что он не
ищет с ней встречи. Заида и Аласинтия вернулись довольно поздно, и каково
же было мое удивление, когда я узнала от них, что Аламир встретился им
недалеко от замка и проводил их до ворот. Поскольку он ушел задолго до их
прихода, я с тревогой подумала, что он ждал их возвращения. Мне стало не по
себе, но я старалась успокоить себя, объясняя все волей случая, и с нетерпением
продолжала ждать новых встреч. Он пришел спустя несколько дней и сообщил
Аласинтии, что император Лев готовится к захвату Кипра. Близость войны
послужила ему поводом еще для нескольких посещений замка, и всякий раз он
держался со мной с прежней галантностью и обходительностью. Мне
приходилось напрягать всю волю, чтобы не высказать ему мои сомнения. Возможно, я
так бы и сделала, если бы его пристальные взгляды, которые он порой
устремлял на Зайду, не удерживали меня от опрометчивого поступка.
Предназначенные ей знаки внимания я относила на счет его природной вежливости, а его
умение владеть своими чувствами мешало мне разглядеть то, что я была
обязана разглядеть.
До нас дошли слухи, что императорская армада приближается к острову,
и Аламир уговорил Аласинтию и Белинию покинуть наши места.
Христианская религия служила нам залогом безопасности, но союз наших отцов с
арабами и бесчинства, которые всегда несет с собой война, побудили нас последовать
совету Аламира и перебраться в Фамагусту42. Я с трудом скрывала свою
радость в надежде, что Аламир будет рядом со мной, поблизости, а Заида с
матерью разместятся где-нибудь в другом месте. Я мучилась сознанием ее
красоты и по-женски опасалась ее присутствия. Мне казалось, что без нее мне
легче будет распознать его чувства и, убедившись в их искренности, не сдерживать
своих. На самом же деле я давно потеряла над собою власть. И все-таки я
уверена, что, если бы тогда я знала его истинное ко мне отношение, как знаю
теперь, я сумела бы обуздать себя.
В день нашего прибытия в Фамагусту Аламир выехал нам навстречу.
Заида в этот день выглядела необыкновенно красивой и предстала перед глазами
Аламира тем, чем он представлялся мне — человеком, которого нельзя не
полюбить. От меня не укрылось то внимание, которым он сразу же окружил мою
подругу. Когда мы подъехали к городу, наши матери расстались, и Аламир по-
Часть вторая
127
следовал за Заидой, далее не позаботившись подыскать повод, чтобы объяснить,
почему он едет с ней и оставляет меня. Никогда еще мое сердце не
испытывало такой боли, и я поняла, насколько сильна моя любовь. Эта мысль сделала
мою боль еще нестерпимей. Я увидела, какое несчастье я навлекла на себя по
своей собственной вине. Но, как все влюбленные, я на что-то еще надеялась и
даже стала убеждать себя, что поступок принца объясняется какими-то
неизвестными мне причинами. И действительно, вскоре эта слабая надежда
засверкала ярче — Аламир дал понять нам, Заиде и мне, что любит нас обеих, и в
дальнейшем все будет зависеть от нас самих. Но красота Заиды была
неотразима и сделала свое дело. Он даже забыл, что и мне обещал свою
привязанность. Я его почти не видела. Если он и навещал меня, то только в поисках
Заиды. Страсть захватила его полностью. Он относился к ней так, как могла
бы к нему относиться я, если бы судьба была на моей стороне и меня не
сдерживали правила приличия.
Вряд ли мне стоит рассказывать вам, что я пережила и какие мысли
обуревали меня. Я страдала, когда видела его, ослепленного страстью, рядом с
Заидой, но в то же время не могла жить без него. Я предпочитала видеть их
вместе, чем не видеть его вообще. Его ухаживания за ней не только не
охлаждали мою страсть, но еще больше распаляли ее. Все его слова, все его жесты,
предназначенные Заиде, восторгали меня до такой степени, что, если бы кто-
то другой полюбил меня, я бы посоветовала ему взять поведение Аламира в
качестве примера для подражания. Любовь настолько коварна, что разжигает
ваши чувства, даже если предназначена не вам. Заида рассказывала мне о
сердечных излияниях Аламира и о своем полном к нему равнодушии. Когда она
мне об этом говорила, я готова была признаться ей в своей любви к принцу и
этим признанием побудить ее оттолкнуть его от себя раз и навсегда. Но я
боялась, что, если Заида узнает о моих чувствах к Аламиру, ее отношение к нему
может измениться в лучшую сторону. Во всяком случае, я твердо для себя
решила не мешать его любви к Заиде. Зная по своему горькому опыту, что
значит любить безответной любовью, я не могла пожелать того же самому
дорогому для меня человеку. Возможно, все дальнейшие испытания мне
помогла перенести Заида своим безразличным отношением к Аламиру.
Император послал на Кипр такую огромную армию, что мало кто
сомневался в его победе. С приближением императорских войск дали наконец-то о себе
знать и Зулема с Осмином. Халиф, побаивавшийся своих грозных союзников,
стал подумывать, как бы ему от них избавиться. Но они опередили его и сами
попросили поставить их во главе армии, готовящейся выступить на помощь
защитникам Кипра. К великой радости Аласинтии и Белинии, они появились
на острове, когда их никто уже не ждал. Занятая собственными
переживаниями, я не только не испытала особой радости по случаю приезда моего отца, но
на меня свалилась новая беда с приездом отца Заиды. Меня сразу же
охватило предчувствие, что Зулема поддержит Аламира в его домогательствах руки
Заиды, и предчувствие меня не обмануло. Пребывание Зулемы в Африке
накрепко связало его с прежней религией, и он прибыл на Кипр с твердым
намерением обратить Зайду в свою веру, увезти ее в Тунис и выдать замуж за прин-
128
Заида. Испанская история
ца Фесского, выходца из знатного дома Идрисов. Но, познакомившись с
принцем Тарским, он счел его вполне достойным руки своей дочери. Я не делала
ничего, чтобы помешать Заиде полюбить Аламира, но то, что могло
произойти с приездом Зулемы, испугало меня.
Любовь Аламира к Заиде становилась все сильнее и сильнее. Те, кто знал
его, были поражены его страстью. Мульзиман, о котором я вам говорила и
которого приглашала к себе, так как он был близким другом Аламира, не
переставал удивляться, и я поняла из его слов, что ничего подобного до сих пор с
его другом не случалось. Аламир поведал Зулеме о своих чувствах к его
дочери, и Зулема объявил ей о своей воле выдать ее за принца Тарского. Заида,
которая догадывалась, что ее отец готов пойти на такой шаг, тут же, весьма
обеспокоенная, поспешила с этой новостью ко мне. Должна признаться, что я
не понимала причин расстройства подруги — мне отнюдь не представлялось
несчастьем стать женой столь достойной особы. Узнав от отца Заиды о ее
решительном отказе выйти за него замуж, Аламир полностью забыл о своих
чувствах, которыми когда-то одаривал и меня, и тут же прибежал ко мне, умоляя
помочь ему и замолвить за него перед Заидой словечко. Мысли мои
помутились, и выдержка едва не оставила меня. Меня охватило такое волнение,
которое он несомненно бы заметил, если бы не был, как и я, ослеплен страстью.
Какое-то время мы молчали, и это молчание говорило о многом. Наконец я ему
сказала:
— Я более других удивлена противлению Заиды воле отца, но менее других
способна повлиять на нее. Я бы покривила душой, если бы стала уговаривать
ее изменить свое решение. Несчастье полюбить человека другой веры мне
хорошо известно, и я не могу посоветовать Заиде пройти через это испытание.
Моя мать с пеленок предупреждала меня об этом, и думаю, что Аласинтия
также приложила все усилия, чтобы ее дочь никогда не повторила ее ошибку.
Уверяю вас, я менее чем кто-либо способна выполнить вашу просьбу.
Мой отказ повлиять на подругу очень расстроил Аламира. Он попытался
разжалобить меня, заговорив о своем горе, о своей любви к Заиде. Его слова
были для меня как соль на рану, но, находясь в том же положении
отвергнутой, я понимала и жалела его. Несговорчивость Заиды доставляла мне
маленькую радость мести, но в то же время мое честолюбие страдало от того, что она
не хотела оценить человека, которого я боготворила.
Я решила открыть Заиде душу, но прежде посоветовать ей еще раз
хорошенько подумать, способна ли она устоять перед волей отца. Она ответила мне,
что пойдет на любую крайность, но никогда не согласится выйти замуж за
человека другой веры, которая позволяет мужьям иметь сколько угодно жен. Она
сказала также, что вряд ли Зулема будет упорствовать в своем решении, а если
заупрямится, то Аласинтия найдет на него управу. Слова Заиды окрылили
меня, и я решила, что наступил момент рассказать ей о своих чувствах к Ала-
миру. Сделать это оказалось для меня гораздо труднее, чем я полагала. И все-
таки, преодолев гордыню и стыд, я, вся в слезах, поведала ей о своей
несчастной любви. Для нее это было полным откровением, но, как я заметила и как
того желала, она приняла мое горе близко к сердцу.
Часть вторая
129
— Зачем же вы так долго скрывали свои чувства от того, кто заронил искру
любви в ваше сердце? Я уверена, что, если бы он знал о них с самого начала,
он несомненно полюбил бы вас. При малейшем намеке с вашей стороны, честь,
которую вы оказываете ему своею любовью, и мое к нему прохладное
отношение заставили бы его забыть обо мне. Если вы хотите, — добавила она, обняв
меня, — я могу попытаться дать Аламиру понять, что ему следует обратить свой
взор не на меня, а на вас.
— Дорогая Заида, не отнимайте у меня того единственного, что не
позволяет мне умереть от моих страданий. Я не переживу, если Аламир узнает о моих
к нему чувствах. И дело не только в моей гордости или женском самолюбии.
Я была бы на седьмом небе, если бы он полюбил меня только потому, что я
люблю его. Но любовью за любовь не платят. И, убегая от горькой правды, я
сохраняю маленькую надежду, с которой не хочу расстаться. Это —
единственное, что мне остается.
Я привела много других доводов, доказывая, что не должна открывать своих
чувств Аламиру, и Заида согласилась со мной. Как бы то ни было, разговор с
подругой и пролитые слезы облегчили мою душу.
Война тем временем продолжалась, и близость поражения ни у кого не
вызывала сомнений. Вся равнинная часть острова была уже занята войском
императора, и только Фамагуста продолжала оказывать сопротивление. Аламир
каждый день подвергал себя смертельной опасности, и в его неистовстве было
столько же мужества, сколько и отчаяния, что очень беспокоило Мульзимана.
Он часто навещал меня, и его не переставала удивлять страсть, коей его друг
воспылал к Заиде. Он настолько поражался его поведению, что я не
удержалась и спросила его, был ли Аламир влюбен в кого-нибудь до знакомства с
Заидой. Мульзиман не сразу удовлетворил мое любопытство, но, уступив моей
настойчивости, согласился в конце концов рассказать о жизни и
приключениях принца Тарского. Не буду вдаваться в подробности — это заняло бы
слишком много времени. Расскажу лишь о самом главном — о том, что даст вам
представление о персоне Аламира и глубине моего горя.
История Аламира, принца Тарского
— Я уже рассказывала вам о происхождении принца, о его достоинствах и
моих к нему чувствах, и вы должны были убедиться в его учтивости и
обходительности. Зная о своем обаянии, уже в юные годы он посвятил себя покорению
женских сердец. И хотя образ жизни арабских женщин не располагал к
амурным приключениям, галантность Аламира и настойчивость его ухаживаний
позволяли ему добиваться побед там, где спасовал бы любой другой. Поскольку
он был холост, а мусульманская религия разрешала иметь много жен, в Тар-
се не было ни одной красавицы, которая не желала бы связать с ним свою
жизнь. Такое отношение к нему со стороны женского пола могло бы без
труда положить конец его холостяцкой жизни, но не в его характере было
связывать себя узами, порвать которые было потом невозможно. Его привлекала
9.3аказ№К-6559
130
Заида. Испанская история
роль покорителя сердец, но не любящего мужа. По-настоящему он никогда
никого не любил, но настолько хорошо овладел всеми тонкостями любовной
игры, что с необыкновенной легкостью убеждал в своей страсти всех, кого
удостаивал своим вниманием. И надо сказать, что, когда он расставлял свои
сети, желание понравиться разжигало в нем огонь, который вполне можно
было принять за истинную страсть. Но как только он добивался своего, его
увлечение угасало, а поскольку сама по себе любовь, не требовавшая
преодоления преград и лишенная налета таинственности, ему была чужда, он искал
повода к разрыву и начинал готовиться к новым победам.
Один из приближенных Аламира, некто по имени Селемин, был
конфидентом принца и его напарником по любовным похождениям. У арабов, как вы,
наверное, знаете, есть в году несколько праздников, во время которых
женщины пользуются большей, чем в обычные дни, свободой. Им позволено, не
снимая, правда, чадры, выходить из дому, прогуливаться в городских садах,
посещать представления. Эти праздники длятся днями, и Аламир с Селемином
всегда с нетерпением ожидали их наступления. Они искали встреч с неизвестными
им прелестницами, заводили с ними разговоры и завязывали знакомства.
Во время одного из таких праздников Аламиру встретилась молодая вдова,
по имени Нария. Она была не только необыкновенно красива, но и обладала
огромным состоянием и принадлежала к известному роду. Разговаривая с
рабыней, она подняла вуаль, и Аламир, находившийся поблизости, был поражен
чертами ее лица. Нария, заметившая взгляд молодого человека, хотя и
смутилась, но не опустила глаз и внимательно на него посмотрела. От Аламира ее
взгляд не ускользнул, он пошел за ней по пятам и даже не скрывал, что
преследует ее. Праздник удался — он встретил прелестное создание и
удосужился благосклонного взгляда. Этого было достаточно для нового увлечения и
новых надежд. Он приказал своим людям разузнать о прекрасной незнакомке
побольше, и слухи о ее добропорядочности и незаурядном уме лишь разожгли его
желания. Аламир стал искать с ней встреч, часами ходил вокруг ее дома,
тщетно пытаясь увидеть ее, не подозревая, что Нария наблюдает за всеми его
ухищрениями. Он старался оказаться на ее пути, когда она ходила в городские бани.
Два или три раза ему удалось увидеть ее лицо, и, все более поражаясь ее
красоте, он начал подумывать, не та ли Нария женщина, которой суждено
положить конец его непостоянству.
Прошло несколько дней, но со стороны его новой пассии не последовало
никаких обнадеживающих знаков, и его, по обыкновению, радужное
расположение духа сменилось беспокойством, которое, однако, не помешало ему
завести две-три интрижки, в том числе с Зоромадой, красивой девушкой из
богатой и знатной семьи. Увидеть Зоромаду было еще труднее, чем Нарию, так как
эту девушку оберегало зоркое око строгой матушки. Но эта помеха не так
разжигала азарт Аламира, как неприступность самой Нарии, встречи с которой он
решил добиться во что бы то ни стало. Аламир попытался подкупить
кого-нибудь из рабов Нарии, с тем чтобы узнать, когда она покидает дом и где
проводит время. Удалось это ему не сразу, но через два дня слуга, больше других
кичившийся своей неподкупностью, сообщил ему, что уже сегодня его госпожа
Часть вторая
131
отправится в свой загородный дом, и если принц желает увидеть ее, он легко
найдет у ограды возвышенное место, с которого хорошо видно все
происходящее в саду. Аламир тут же воспользовался добытыми сведениями и, изменив
внешность, выехал из Тарса.
Он провел у садовой ограды всю вторую половину дня, но так ничего и не
увидел и, когда наступил вечер, уже решил отправиться в обратный путь, как
вдруг заметил подкупленного раба, который открывал ворота и знаками
подзывал его к себе. Аламир подумал, что раб предлагает ему полюбоваться на
Нарию через открытые ворота, но тот провел его в дом, в богато убранную,
украшенную восточными орнаментами комнату, великолепием которой он не
успел насладиться, так как его взор сразу привлекла Нария, полулежавшая на
роскошных коврах в окружении нескольких девушек, словно богиня среди
ангелов. Восхищенный и пораженный увиденным, Аламир бросился к ногам
слегка смутившейся красавицы.
— Я не знаю, — обратилась она к Аламиру, понуждая его встать с колен, —
следует ли мне начинать знакомство с вами признанием в чувствах, которые
я так долго скрывала от вас? Я, возможно, никогда бы не открыла их вам,
если бы вы не были столь настойчивы в проявлении ко мне своих чувств. Как
видите, несмотря на призрачность надежд, я не смогла не увлечься вами. Вы
сразу же обратили на себя мой взор, и я стала внимательно наблюдать за
вами. И, надо сказать, преуспела в своем скрытном наблюдении больше, чем
вы в своем. Сейчас же я пригласила вас для того, чтобы лучше узнать ваши
чувства и чтобы вы выразили мне словами то, что уже доказали вашим
поведением.
Несчастная Нария! Каких доказательств искала она в словах Аламира?
Конечно же она была в полном неведении относительно его обманчивого и
неотразимого шарма. Любовь Аламира в преподнесенном им описании
превзошла все ожидания прелестной вдовушки, и он без труда завладел ее сердцем.
Нария отпустила его, одарив приглашением навещать ее в этом великолепном
доме. Аламир вернулся в Таре, полагая себя самым влюбленным человеком
на свете, и едва не убедил в этом Мульзимана и Селемина. Он неоднократно
встречался с Нарией и получал от нее самые искренние заверения в
безграничности и неизбывности ее любви. Но при этом она сказала ему, что знает его
пылкий, но ветреный нрав, и заявила, что никогда не согласится делить с кем-
нибудь его сердце и, если он дорожит ее чувствами, все его помыслы должны
быть только о ней — первый же повод для ревности прервет все их отношения.
Аламир с присущим ему мастерством искусителя ответил клятвами и
заверениями в вечной и неделимой любви, развеяв все сомнения Нарии. Но уже сама
мысль о каких-то обязательствах охладила его пыл, тем более что все
трудности и преграды для встреч были уже преодолены. Свидания в загородном
доме, однако, продолжались. Нария думала только о том, как бы его женить
на себе. Полагая, что никаких препятствий для этого нет — он ее любит, она
его тоже, — вдова завела разговоры о свадьбе. Услышав это, Аламир сник, но,
по обыкновению, не подал виду, и Нария уверилась, что через день-другой она
станет женой принца.
132
Заида. Испанская история
Почувствовав, что любовь начинает затухать, Аламир удвоил усилия по
завоеванию сердца Зоромады. Он воспользовался услугами тетушки Селемина,
которая в знак доброго к ней отношения со стороны племянника относилась с
благосклонным снисхождением к любовным делам его друга, и передал через
нее Зоромаде письмо. Час свиданий, однако, никак не наступал, и
соответственно возрастал любовный азарт Аламира.
События приняли благоприятный оборот во время одного из праздников в
начале года. По обычаю, в этот праздник знатные люди одаривают друг
друга богатыми подарками, и улицы переполнены рабами, нагруженными
дорогостоящими покупками. Аламир также послал подарки своим друзьям и
знакомым. Нарии, учитывая ее гордость и положение, он подарил редкие духи из
Аравии, со вкусом уснастив свой подарок вычурными безделушками.
Нария была глубоко тронута вниманием Аламира. Сердце подсказывало ей,
что надо остаться у себя наедине со сладостными мечтами о скорой свадьбе, но
она предпочла принять участие в праздничных увеселениях и, приняв
приглашение матери Зоромады, отправилась в знакомую семью с надеждой на
веселое и приятное времяпрепровождение. Пройдя в большую залу, она
почувствовала запах тех же духов, какие подарил ей Аламир, и не удержалась, чтобы не
поинтересоваться, откуда исходит столь удивительное благовоние. Юная и
застенчивая Зоромада покраснела и смущенно замолчала. На помощь ей пришла
мать, которая поспешила с гордостью сообщить, что это запах духов,
посланных ее дочери тетушкой Селемина, друга принца Тарского. Ответ сразу
насторожил Нарию, а когда она увидела коробку из-под духов, украшенную теми же
и даже еще более дорогими вещицами, ей стало не по себе. Ее тело пронзила
острая боль, и, сославшись на недомогание, разбитая и опустошенная, она
вернулась к себе. Нария отличалась болезненной гордостью и ранимой душой, и
мысль оказаться обманутой любимым человеком повергла ее в удрученное
состояние, но, несмотря на свою беспомощность и отчаяние, она твердо
решила выяснить все о коварном поведении принца.
Нария отправила ему послание, в котором сообщала, что заболела и не в
состоянии выходить из дому и посещать праздничные гуляния. Аламир тут же
появился у нее и заверил, что также отказывается от праздничных забав, так
как без нее ничто не может доставить ему удовольствие. Он был так
красноречив, что Нария почти поверила ему и готова была даже испытать угрызения
совести за свои подозрения. Однако, как только Аламир распрощался с ней, она
поднялась и, переодевшись так, чтобы он не мог узнать ее, отправилась в
городские сады и парки, где скорее всего надеялась его увидеть. Она почти сразу
нашла его, также изменившего внешность, но эта смена одеяний явно
предназначалась не для тайной встречи с ней — Аламир неотступно следовал за Зоро-
мадой и не покидал ее в течение всего гулянья. На следующий день Нария
вновь обнаружила его в праздничной толпе, но на сей раз, вновь изменив
внешность, объектом своих ухаживаний он выбрал не Зоромаду, а новую, не
менее привлекательную девушку. Поначалу Нария даже обрадовалась, решив, что
встреча с Зоромадой, как и с этой девушкой, — простая случайность. Она
незаметно смешалась со стайкой юных прелестниц, сопровождавших ту, за кото-
Часть вторая
133
рой следовал Аламир, и на углу одной из площадей настолько приблизилась
к нему, что услышала, как он заговорил со своей новой избранницей,
обратившись к ней с хорошо известными Нарии словами. Посудите сами, какое это
произвело впечатление на Нарию! В этот момент она была бы счастлива узнать,
что Зоромада — единственная любовь Аламира, которая могла внезапно прийти
после пламенной любви к ней, Нарии. Она могла утешать себя тем, что все-таки
была любима, но, увидев, что ее возлюбленный способен расточать обещания
двум, трем и неизвесто скольким еще молодым особам, поняла, что угождала
лишь его тщеславию, а не любящему сердцу, удовлетворяла его прихоть, не
получая взамен счастья.
Для Нарии — женщины, высоко ценившей свое достоинство, — это был удар,
который она не могла перенести. Она вернулась к себе, полная горечи и
обиды. Дома ей передали письмо от Аламира, который уверял ее, что пребывает
в одиночестве, не желая никого и ничего видеть, так как без нее его жизнь
утратила всякий смысл. Этот обман показал ей, чего стоили все его прежние
слова, и ею овладело чувство жгучего стыда за саму себя, наивно принявшую за
глубокое чувство пустое увлечение сладострастного ветреника. Она тут же
написала Аламиру прощальное письмо, изложив на бумаге в идущих от сердца
словах боль и отчаяние нежно любившей и обманутой женщины, но не
соблаговолила уведомить его о своей дальнейшей судьбе. Получив послание, Аламир
был поражен и даже огорчен — ум и красота Нарии были настолько
необычайны, что потеря такой удивительной женщины горечью отозвалась даже в его
изменчивом сердце.
Он рассказал о печально закончившейся любовной авантюре Мульзиману,
который не постеснялся пристыдить своего друга.
— Вы глубоко ошибаетесь, — сказал ему Мульзиман, — если думаете, что
ваше отношение к женщинам укладывается в рамки мужской порядочности.
Упрек друга пришелся Аламиру не по вкусу.
— Хочу перед вами оправдаться, — ответил он. — Я слишком дорожу вашей
дружбой, и мне больно, что вы столь низкого обо мне мнения. Неужели вы
считаете, что я не способен искренне полюбить ту, которая так же искренне
полюбит меня?
— Вы пытаетесь оправдаться, — прервал его Мульзиман, — сваливая вину на
любивших вас женщин. Хоть одна из них изменила вам? Или, может быть,
Нария не любила вас искренне и преданно?
— Нария лишь думала, что любит меня. На самом же деле она любила мое
положение и мое звание, которые прельщали ее. Всеми женщинами, которых
мне довелось познать, руководило тщеславие и честолюбие — они любили принца
Тарского, а не Аламира. Желание сделать блестящую партию и вырваться из
написанного им на роду прозябания — вот что такое их любовь, точно так же, как
мои увлечения и радость побед они принимают за мою истинную страсть.
— И все-таки я думаю, что к Нарии вы несправедливы, — отвечал
Мульзиман, — она любила вас искренне; и именно вас, Аламира, а не принца.
— Нария завела разговор о свадьбе, как, впрочем, и все остальные. А коли
так, то я перестаю верить в подлинность чувств.
134
Заида. Испанская история
— А вы полагаете, что женщины могут любить вас и не мечтать выйти за вас
замуж?
— Я не хочу, — ответил Аламир, — чтобы те, кто стоят ниже меня,
претендовали на замужество. Я мог бы согласиться на это, если бы влюбленная в меня
женщина не знала, кто я, и, возможно, даже считала бы ошибкой связать со
мной свою судьбу. Но пока во мне видят только принца и рассчитывают
получить какие-то выгоды, никто не может побудить меня к женитьбе и заставить
поверить в искреннюю любовь. Вот увидите, мой друг, — добавил он, —
наступит день и я полюблю искренней и преданной любовью ту, которая полюбит
меня и не будет знать, что перед ней принц Тарский.
— Скорее всего, вы желаете неисполнимого, — возразил Мульзиман. — К
тому же, если бы вы были способны на постоянство, вы без труда нашли бы то,
что ищете, и вам не надо было бы так долго ждать чуда.
Аламиру не терпелось узнать, что сталось с Нарией, и, прервав разговор, он
поспешил к ней. Ему сообщили, что Нария отбыла в Мекку, не сказав ни
какой выбрала путь, ни когда вернется. Для Аламира этого было более чем
достаточно, чтобы забыть о ее существовании, и все его мысли тут же обратились
к Зоромаде, целомудрие которой по-прежнему блюло неусыпное око матери.
Эта преграда была настолько труднопреодолимой, что Аламир отважился на
крайнюю меру — спрятаться в одном из женских банных домов.
Банные дома, являющие собой образцы великолепия, женщины посещают
три-четыре раза в неделю, где с удовольствием демонстрируют друг дружке
свои прелести, важно расхаживая в окружении бесчисленных рабынь, несущих
все необходимые для туалета предметы. Вход в эти дома мужчинам запрещен
под страхом смертной казни, от которой не могут спасти их ни деньги, ни
звания. Даже Аламир, которому его высокое положение позволяло не подчиняться
обычным законам, вызвал бы нарушением этого запрета бурю негодования и
возмущения и расстался бы не только со всеми почестями, но и с самой
жизнью.
Но ничто не могло удержать его от принятого решения. Он передал
Зоромаде записку, в которой сообщал о своем намерении увидеться с ней в банях,
и просил подсказать ему, как и где ее найти. Зоромаду испугали последствия
безрассудного поступка Аламира, но пылающая в ней страсть и желание
освободиться от тоскливой затворнической жизни помогли ей преодолеть все
страхи. Она описала ему банное помещение, в котором, по обыкновению, моются
женщины их семьи и где при предбаннике есть что-то вроде кладовой, вполне
пригодной, чтобы укрыться от посторонних глаз. Зоромада сообщала также,
что сама мыться не будет, а когда ее мать оставит предбанник и займется
мытьем, они могут встретиться в этой довольно просторной кладовке. Аламир был
вне себя от счастья в предвкушении столь опасной авантюры. Одарив
главного банщика дорогими подарками, он проник в ночь перед встречей в бани,
пробрался в кладовку и, сгорая от нетерпения, просидел там до утра.
Приблизительно в то время, когда должна была появиться Зоромада, он
услышал в предбаннике шум, а когда шум стих, дверь в кладовку открылась,
и вместо Зоромады он увидел незнакомое ему, в богатых одеяниях юное созда-
Часть вторая
135
ние, которое сразу же покорило его необыкновенной красотой лица,
отражавшего наивную невинность первой молодости. Удивление девушки было не
меньшим, чем удивление Аламира. Ее также поразили его приятная внешность и
изысканная одежда. При виде мужчины в столь неподобающем месте
девушка несомненно закричала бы и позвала на помощь, если бы Аламир, несказанно
обрадованный новому приключению, не приложил палец к губам. Она подошла
к нему и осведомилась, каким чудом он здесь оказался. Аламир, сказав, что
история эта слишком долгая, попросил не выдавать его и не губить человека,
который, правда, нисколько не боится смерти, поскольку своей гибелью будет
обязан самому прелестному на земле созданию. Лицо девушки покрылось
краской застенчивости, и ее вид мог бы тронуть гораздо менее чувствительное, чем
у Аламира, сердце.
— Я отнюдь не желаю навлечь на вас хотя бы малейшую беду, — ответила
она, — но, находясь здесь, вы рискуете многим, и я не уверена, что вы отдаете
себе отчет в той опасности, которой себя подвергаете.
— Я, сударыня, прекрасно сознаю, чем рискую, но, поверьте мне, это не
самая страшная из опасностей, которая сегодня угрожает мне.
После этих слов, смысл которых, как он надеялся, не должен был
ускользнуть от девушки, он поинтересовался ее именем и тем, каким образом она
оказалась в этот час в банях.
— Меня зовут Эльсиберия. Мой отец — наместник Лемноса. Моя мать, как
и я, в Тарсе всего второй день, и мы никогда здесь не бывали раньше.
Матушка решила помыться, я не захотела и, оставшись в предбаннике, совершенно
случайно открыла эту дверь. Позвольте, сударь, узнать ваше имя?
Аламир испытал огромную радость, повстречав юное прелестное создание,
не знавшее ни его имени, ни сана, и назвался Селемином, первым пришедшим
ему в голову именем друга. В этот момент послышался шум, и Эльсиберия
поспешила к двери с явным намерением никого не пускать. Забыв о всякой
опасности, Аламир двинулся за ней.
— Могу ли я рассчитывать на новую встречу? — с мольбой в голосе
проговорил он.
— Не знаю, что сказать вам, — ответила она, смутившись, — но не думаю, что
это невозможно.
С этими словами она вышла из кладовой и плотно закрыла за собой дверь.
Аламир остался один, несказанно довольный случившимся — никогда в
жизни ему не доводилось видеть такой очаровательной юной особы. Ему
показалось, что и она проявила к нему интерес. К тому же она не знала, что он
принц Тарский. Короче говоря, все складывалось как нельзя лучше.
Переполненный счастьем и волнующими надеждами, Аламир до вечера просидел в
маленькой комнатке, забыв, что пришел на свидание с Зоромадой.
Зоромада же, искренне любившая Аламира, весь день провела в
невероятном волнении. Ее мать, почувствовав себя неважно, отказалась идти в бани и
уступила банное помещение, которым обычно пользовалась, матери Эльсибе-
рии. Расстроенная несостоявшимся свиданием, Зоромада, зная к тому же, какой
опасности подвергает себя ее возлюбленный, не находила места. Вернувшись
136
Заида. Испанская история
к себе, Аламир нашел ее письмо, в котором она изложила то, что я вам
только что рассказала, и сообщала также о намерении ее отца выдать ее замуж, но
она-де не очень волнуется, так как, узнав от Аламира о его намерении жениться
на ней, отец несомненно примет его сторону. Аламир показал письмо Мульзи-
ману, желая убедить его, что все женщины только и думают, как бы женить его
на себе. Он рассказал также другу о своем приключении в банном доме,
расписав прелести Эльсиберии и отметив при этом, что юное создание не знает, кто
такой принц Тарский, и, стало быть, покорено исключительно его личными
достоинствами. Аламир заверил Мульзимана, что наконец-то нашел ту,
которой может отдать свое сердце, и готов доказать свою способность к
искреннему и неизменному чувству. Про себя он решил забыть о всех своих прежних
галантных похождениях и не думать ни о чем другом, кроме как о завоевании
расположения несравненной Эльсиберии. Первым делом надо было добиться
с ней свидания, чему, как всегда, сопутствовали трудности, которые в данном
случае были тем более значительными, что он не назвался своим подлинным
именем. Ему пришло в голову вновь устроить встречу в банях, но
осуществлению смелой мысли помешала болезнь матери Эльсиберии, без которой его
избранница нигде не появлялась.
Между тем свадебные дела Зоромады шли своим чередом, и нареченная,
разуверившись в чувствах Аламира, покорилась воле отца. Поскольку ее отец,
как и жених, принадлежал к знатному и богатому роду, свадьбу было решено
сыграть с невиданной пышностью и великолепием. Эльсиберия была в числе
приглашенных, но увидеть ее Аламиру в ходе брачной церемонии не
представлялось никакой возможности, так как на арабских свадьбах женщины
полностью отделены от мужчин как в мечети, так и во время домашних торжеств.
Аламир, однако, решился на еще более опасный поступок, чем его посещение
женских бань ради встречи с Зоромадой. В день свадьбы он прикинулся
больным, с тем чтобы избавить себя от принародного появления на брачной
церемонии, и, переодевшись в женское платье, отправился в сопровождении тетки
Селемина в мечеть. На голову он накинул большое покрывало, как это
делают, выходя из дома, арабские женщины. Он сразу заметил Эльсиберию, узнав
ее, несмотря на закрытое чадрой лицо, по запомнившемуся ему тонкому
стану девушки и по одеяниям, не похожим на те, которые носят обитательницы
Тарса. Подходя к месту церемонии, он оказался рядом с Зоромадой и тут же
забыл о данном себе обещании. Уступая еще до конца не изжитой природной
ветрености, он обратил на себя ее внимание и заговорил с прежней
избранницей, как если бы переоделся для встречи именно с ней. Потрясенная Зорома-
да отшатнулась, но, тут же овладев собой, прошептала:
— Вы поступаете бесчеловечно, пытаясь убедить меня, что остались верны
мне. К счастью или несчастью, но я знаю, что это не так, и постараюсь как
можно скорее забыть о муках, которые вы мне причинили.
Больше она ничего не сказала, и Аламир не успел, да и не нашелся, что
ответить. Церемония закончилась, и женщины заняли свои обычные места.
Он тут же забыл о Зоромаде, и его мысли вновь устремились к Эльсиберии.
Он занял место рядом с ней, преклонил колени и принялся подобно другим
Часть вторая
137
громко молиться. Невнятный гул голосов позволял расслышать слова только
тех, кто находился совсем рядом, и Аламир, не поворачивая головы и не меняя
молитвенного тона, несколько раз произнес имя Эльсиберии. Она повернула
голову в его сторону. Увидев, что девушка смотрит на него, он как бы
невзначай уронил молитвенник, а нагнувшись за ним, слегка приоткрыл покрывало,
так чтобы она узнала его лицо, которое благодаря красоте и молодости и в
обрамлении женского одеяния могло кого угодно ввести в заблуждение
относительно пола его владельца. По взгляду девушки Аламир догадался, что она
узнала его, и, не скрывая радости, попросил ее подтвердить свою догадку. Эль-
сиберия, чадра которой не была полностью опущена, не поворачивая головы,
но не спуская при этом с него глаз, проговорила:
— Да, я сразу узнала вас, но я дрожу от страха при мысли о той опасности,
которой вы подвергаете себя.
— Я готов на все, лишь бы видеть вас, — ответил Аламир.
— Однако в банях вы подвергали себя опасности не ради меня, —
возразила Эльсиберия. — Возможно, и здесь вы ищете свидания с другой.
— Я здесь — только ради вас и буду продолжать подвергать себя опасностям,
если вы не назначите мне места встречи.
— Завтра мы с матерью идем во дворец халифа. Будьте там вместе с принцем.
Лицо у меня будет открыто, как это положено при первом появлении во дворце.
На этом Эльсиберия прекратила разговор, опасаясь быть услышанной
соседками.
Место назначенной встречи весьма озадачило Аламира. Ему было
известно, что когда знатные дамы впервые посещают дворец халифа, они при его
появлении, а также при появлении его высокочтимых сыновей не опускают
чадру; в дальнейшем же их лица всегда должны быть закрыты. Придя во
дворец, Аламир мог бы вдоволь насладиться красотой Эльсиберии. Но чтобы
попасть туда, ему надо назваться принцем Тарским, чего он никак не желал. Он
хотел завоевать женское сердце как обаятельный и неотразимый Аламир, а
не как всеми почитаемый и известный своим богатством принц. Но он не
желал и отказываться от свидания, которое назначила ему сама Эльсиберия.
Нотки ревности, которые он уловил в ее голосе, когда она напомнила ему о
встрече в банях, заставляли его к тому же найти возможность, чтобы
доказать ей искренность своих побуждений. Положение казалось ему
безвыходным. Он вновь рискнул заговорить с ней и попросил разрешения написать ей
письмо.
— Вокруг меня нет никого, кому бы я могла довериться, — ответила
Эльсиберия, — но попытайтесь расположить к себе раба по имени Забелек.
Эти слова обнадежили Аламира. Вместе со всеми он покинул мечеть и
отправился к себе сменить женское одеяние и поразмыслить над тем, что ему
делать дальше. Как бы ему трудно ни было скрывать свое подлинное имя и как
бы это ни мешало его встречам с юной красавицей, он решил не
отказываться от намерения выяснить раз и навсегда, может ли кто-нибудь полюбить его,
не зная его высокого сана. Аламир дал себе зарок добиться этого во что бы то
ни стало и сел за письмо.
138
Заида. Испанская история
Письмо Аламира Эльсиберии
«Если бы ко времени написания этого письма я уже заслужил хотя бы
маленькую долю Вашего внимания или Вы сами бы подали мне хоть какую-то
надежду, я скорее всего не обратился бы к Вам с просьбой, которую излагаю
ниже. Мне думается, однако, что некоторые основания у меня для этого
имеются. Наше мимолетное знакомство, сударыня, не дает мне права
рассчитывать, что оно оставило в Вашем сердце хоть какой-то след. Вы свободны от
всяких чувств и всяких обещаний, и завтра Вам предстоит посетить дом, где Вы
встретите принца, который никогда еще не отказывал себе в удовольствии
завоевать любовь таких прелестных созданий, как Вы. Я не могу, сударыня, не
опасаться этой встречи. Я не сомневаюсь, что Аламир будет покорен Вашей
красотой и наверняка сделает все, чтобы очаровать Вас, — поэтому я
обращаюсь к Вам с нижайшей просьбой не встречаться с ним. Вряд ли эта просьба
может затруднить Вас — я не прошу чего-то немыслимого и являюсь, наверное,
единственным человеком на свете, который способен додуматься до чего-либо
подобного. Возможно, моя просьба выглядит как чудачество, но я прошу Вас
смилостивиться над чудаком, только что доказавшим Вам в мечети свою
любовь поступком, который мог стоить ему жизни».
Подписав письмо именем Селемина, Аламир вновь переоделся, чтобы
изменить внешность, и, окружив себя верными людьми, отправился выяснить, кто
тот раб, о котором говорила Эльсиберия. Он несколько раз обошел дом
наместника Лемноса, пока не наткнулся на старого раба, согласившегося за мзду
поискать Забелека. Появившийся вдалеке молодой раб поразил Аламира,
укрывшегося за колонной галереи парадного входа, стройностью фигуры и
утонченностью черт. Приблизившись, молодой раб внимательно вгляделся в
державшегося в тени Аламира, как бы надеясь увидеть знакомого, но когда незваный
гость заговорил о Эльсиберии, изменился в лице и с тяжелым вздохом опустил
глаза. На его лице отразилась такая печаль, что Аламир не мог не спросить,
чем вызвана эта перемена.
— Я предположил, что мне будет известна личность посетителя, и никак не
ожидал, что речь зайдет о Эльсиберии. Во всяком случае, продолжайте — все,
что касается моей госпожи, близко моему сердцу.
Манера молодого раба изъясняться крайне удивила Аламира.
Представившись Селемином, он передал письмо для Эльсиберии и удалился, но,
оставаясь под впечатлением печальной красоты юного раба, вдруг подумал: уж не
переодевшийся ли это в раба любовник Эльсиберии, который даже не смог
скрыть своей тревоги при виде письма, адресованного его якобы госпоже. Он
тут же поспешил успокоить себя, усомнившись, что вряд ли в таком случае
Эльсиберия послала бы его за письмом соперника. Как бы то ни было, изысканные
манеры юноши никак не соответствовали его положению раба, и это не могло
не отдаться неясной тревогой в сердце Аламира.
Весь следующий день он провел в беспокойном ожидании и, чтобы убить
время, даже нанес ранним утром визит матери. Никогда еще ни один влюбленный так
Часть вторая
139
страстно не желал встречи с возлюбленной, как Аламир желал, чтобы такая
встреча не состоялась — если Эльсиберия не появится во дворце, значит, она ответила
милостью на его просьбу. Более того, это означало бы, что она получила письмо
из рук Забелека и, следовательно, молодой раб не мог быть переодетым
любовником. Он пришел во дворец и стал ждать, и, когда наконец ему сообщили, что мать
Эльсиберии появилась во дворце одна, без дочери, радости его не было границ:
Эльсиберия откликнулась на его просьбу, его соперник — не более чем плод его
воображения, ничто не может помешать его любви. Окрыленный, он покинул
дворец, даже не пожелав представиться матери своей возлюбленной, и отправился к
себе в ожидании часа, назначенного для встречи с Забелеком.
Как и накануне, молодой раб появился с печалью на красивом лице и
передал от Эльсиберии письмо, которое привело Аламира в восторг. В сдержанных,
но глубоко прочувствованных выражениях Эльсиберия сообщала ему, что с
готовностью удовлетворила его просьбу и воздержалась от посещения дворца
халифа, где могла бы повстречать принца Тарского, и в дальнейшем готова
благожелательно отнестись к его просьбам. Она просила также не предпринимать
необдуманных шагов для встречи с ней, так как это ставит ее в неловкое
положение, а нарушение строгих домашних порядков может лишь усугубить
положение. Несмотря на обнадеживающий тон письма, красота и печальный вид
Забелека продолжали беспокоить Аламира. На все его вопросы о
возможностях встречи с Эльсиберией раб отвечал с явным нежеланием поддерживать
разговор. Это еще более насторожило Аламира. Он никогда еще ни к кому не
испытывал таких чувств, как к Эльсиберии, и боялся оказаться в положении
тех несчастных, которые были в него влюблены и были оставлены им, и тем
более в положении поклонника неверной возлюбленной. Аламир отдался
эпистолярному творчеству, каждый день он исправно посылал Эльсиберии
письма, осведомляясь, чем она занята и, главное, где бывает. Он тщательно
избегал с ней прилюдных встреч, опасаясь, как бы, по какой-нибудь глупой
случайности, ей не открылось, что рядом с ней принц Тарский. Одновременно он
искал с ней тайных встреч и ради этого досконально изучил все подступы к
дому лемносского наместника. Ему посчастливилось обнаружить в саду
возлюбленной расположенную на пригорке беседку с пристройкой, напоминающей
балкон. Балкон почти нависал над узким проулком, по другую сторону
которого стоял полузабытый дом. Расстояние между двумя строениями было
настолько мало, что два человека — один на балконе, другой в доме — вполне могли
переговариваться, не повышая голоса. За небольшую плату Аламир приобрел
дом и в очередном письме поведал Эльсиберии о своем открытии, уговорив ее
прийти ночью в беседку. Свидание, состоявшееся при ярком свете луны,
позволило ему не только слышать голос возлюбленной, но и наслаждаться
необычайной красотой ее лица.
Беседа длилась долго, молодые люди говорили о своих чувствах, и
Эльсиберия полюбопытствовала, чем было вызвано загадочное появление Аламира
в банях. Аламир не стал лукавить и честно признался в своих бесславных, но
так счастливо для него закончившихся ухаживаниях за Зоромадой.
Эльсиберия, как и любая другая юная и возвышенная особа на ее месте, по достоинству
140
Заида. Испанская история
оценила отважный поступок Аламира, хотя и испытала легкое чувство
ревности. Ее поклонник нравился ей все больше и больше. Время, однако, шло, и
наступил час расставания. Поскольку сказано было далеко не все, было
уговорено продолжить разговор следующей ночью. Аламир уже собирался покинуть
свое укрытие, но, обведя напоследок благодатное место взглядом, вдруг
заметил в углу беседки юного раба, причинившего ему столько волнений.
Не в состоянии сдержать своего удивления, он обратился к Эльсиберии
голосом, в котором звучала явная тревога:
— В своем первом к вам, сударыня, письме я не смог скрыть от вас
мучившую меня ревность. Не знаю, смею ли и при нашем первом свидании докучать
вам своей назойливостью? Мне небезызвестно, что именитые особы всегда
окружают себя преданными рабами, но мне никогда не доводилось видеть в их
окружении раба в столь юном возрасте и столь благовидной внешности, как
тот, который находится при вас. Не скрою — все, что мне уже сегодня
известно о благородных манерах Забелека и о его незаурядном уме, пугает меня не
меньше, чем если бы на его месте находился принц Тарский.
Неожиданно для Аламира Эльсиберия улыбнулась.
— Подойдите поближе, Забелек, — обратилась она к юному прекрасному
рабу. — Постарайтесь излечить любезного Селемина от ревности. Я не
осмеливаюсь сделать это сама без вашего согласия.
— По мне, моя госпожа, вам следовало бы оставить его в положении
ревнивого поклонника. Это не в моих, а в ваших интересах. Меня страшат несчастья,
которые вы сами на себя навлекаете. А вы, сударь, — обратился Забелек к Ала-
миру, которого знал как Селемина, а не как принца Тарского, — не имеете
никаких оснований ставить под сомнение добропорядочность моей госпожи. А
теперь, если вам будет угодно, выслушайте мою историю. Перед вами несчастная
девушка, которую судьба привела в услужение к Эльсиберии. Я — гречанка
христианского вероисповедания и происхождения несравненно более высокого, чем
можно судить по моему сегодняшнему положению. Считалось, что я была
красива, — сейчас, возможно, этого уже не видно, — и когда я была совсем юной,
меня окружала толпа поклонников. Все они отличались неверностью и
коварством, и, кроме презрения, я не испытывала к ним никаких чувств. Один из
них, еще более непостоянный, чем другие, но лучше других умевший
притворяться, завоевал мое сердце. Ради него я отказалась выйти замуж за достойного
и весьма состоятельного человека. Мои родители были против моего
увлечения, и моему возлюбленному пришлось от них скрываться. Но мы все-таки
поженились, и я, переодевшись в мужскую одежду, последовала за ним в
дальние края, чтобы избежать родительского гнева. На корабле оказалась
миловидная девушка, которую, как и меня, необычная страсть погнала в Азию. Мой
муж воспылал к ней любовью. В море на нас напали арабы, и все мы оказались
в плену. Моему мужу предложили выбор: стать рабом капитана или рабом его
помощника. Я, по жребию, попала в число рабов капитана, и каково же было
мое негодование, когда мой муж, чтобы не расстаться со своей новой
возлюбленной, занял рядом с ней место среди рабов помощника. Его не тронули ни
мои слезы, ни мое несчастное положение, он забыл о том, чем я поступилась
Часть вторая
141
ради него. Нетрудно представить себе мою боль! Счастье улыбнулось мне, и я
попала в рабыни к отцу Эльсиберии. Несмотря на неверность мужа, я
продолжала таить надежду на его возвращение. Именно этим объясняется перемена,
которую вы заметили на моем лице в тот день, когда я в первый раз вышла к
вам в ответ на просьбу старого раба. Я подумала, что меня хочет видеть мой
муж. Конечно, мне не на что надеяться, но я до сих пор вспоминаю о нем. Я не
могу противиться увлечению Эльсиберии, зная по собственному горькому
опыту, насколько сильна любовь. Но мне ее искренне жаль — я предвижу
несчастье, которое вы принесете ей. Вы ее первое увлечение, и она полюбит вас
чистой, искренней любовью, которой не достоин ни один уже не раз
влюблявшийся мужчина.
Когда она замолчала, Эльсиберия сказала Аламиру, что ее родители знали,
кто попал к ним в дом. Они откликнулись на просьбу пленницы не разглашать
ее знатного происхождения и положения и согласились сохранить за ней
внешность раба. Аламира восхитила сила ума и воли той, которую он принял за
своего неотразимого соперника, и он посмеялся над своей глупой ревностью. В
Эльсиберии же он с каждым днем находил все больше очарования и все
больше убеждался в чистоте ее чувств. Он даже пришел к заключению, что до нее
его никто никогда по-настоящему не любил. В ее любви была только любовь.
Ее не интересовали ни состояние Аламира, ни его звание, ни его намерения; она
шла на все опасные авантюры, которые он выдумывал, чтобы увидеться с ней,
слепо следовала любым его наставлениям. Для другой ее положение могло
оказаться в тягость, — желая по-прежнему быть в ее глазах Селемином, он
заставлял ее не появляться там, где должен был присутствовать в качестве
принца Тарского, — но она никогда не отказывала ему в его просьбах.
Какое-то время Аламир чувствовал себя на седьмом небе: наконец-то он
любим как простой смертный, а не как принц Тарский. Но это благостное
состояние длилось недолго. В его мозг вкралось сомнение: Эльсиберия любит его, не
подозревая, что он принц Тарский, а не разлюбит ли она его, если
познакомится с каким-нибудь принцем, не скрывающим своего высокого титула, и не отдаст
ли ему предпочтение. Аламир решил проверить чувства возлюбленной. Он
уговорил Селемина взять на себя роль принца Тарского, познакомиться с Эльсибе-
рией и объясниться ей в любви — ее поведение должно было развеять или
укрепить его сомнения. Все, что им предстояло сделать, друзья продумали до
мелочей. Аламир сказал Эльсиберии, что намерен совершить конную прогулку и
пригласил с собой принца Тарского и еще нескольких друзей, а чтобы хоть как-
то усладить ее затворническую жизнь, он попросит принца прогарцевать перед
ее окнами. Он предупредил ее также, что они с принцем будут ехать рядом, в
одинаковых одеяниях, и что, хотя он по-прежнему опасается его как
возможного соперника, теперь он уверен в ее верности и она несомненно не заинтересуется
личностью принца. Про себя же подумал, что ему нетрудно будет перехватить
ее взгляды. На следующий день Эльсиберия, не подозревая подвоха, увидела
настоящего Селемина в роли принца Тарского и приняла все за чистую монету.
Принц, однако, не показался ей похожим на неотразимого покорителя женских
сердец. Более того, она еще раз убедилась, что по красоте и обаянию ее возлюб-
142
Заида. Испанская история
ленному нет равных, о чем не преминула сказать Аламиру. Но и это не
развеяло его сомнений, и он решил продолжить испытание — теперь Селемин должен
был прикинуться влюбленным и предложить Эльсиберии руку и сердце.
Для нового испытания Аламир избрал один из арабских праздников, на
котором его присутствие не было обязательным. Он сказал Эльсиберии, что,
не желая быть узнанным, изменит свою внешность и будет во время
праздника находиться рядом с ней. Вместе с Аламиром на празднике появился
Селемин, и, когда друзья приблизились к Эльсиберии, Селемин дважды или
трижды позвал ее тихим голосом. Думая, что рядом с ней Аламир, она выбрала
минутку, чтобы остаться одной, и, подняв чадру, хотела заговорить с ним, но была
невероятно удивлена, увидев перед собой того, кого принимала за принца Тар-
ского. Селемин сделал вид, что поражен ее красотой, и попытался заговорить
с ней, но Эльсиберия не стала его слушать и, возмущенная, вернулась к
матери, от которой уже не отходила в течение всего праздника. Ночью Аламир,
придя в свое укрытие напротив садовой беседки, выслушал рассказ
Эльсиберии, которая изложила ему все подробности случившегося на празднике,
опасаясь, как бы ее возлюбленный не заподозрил ее в сговоре с самозваным
принцем. Ее чистосердечное повествование должно было развеять последние
сомнения Аламира, но ему и этого показалось мало. Он вновь обратился к старому
рабу, который уже привык к богатым подачкам, и передал через него
Эльсиберии письмо от принца. Эльсиберия отвергла послание и отругала раба,
рассказав Аламиру и на этот раз о домогательствах его друга. Аламир, довольный
своими выдумками, не унимался. На сей раз он пригласил Селемина в свое
укрытие, спрятавшись так, чтобы все видеть и слышать. Эльсиберия, увидев, как
ей представлялось, принца Тарского, крайне поразилась и хотела уже уйти, но,
почувствовав неладное, решила выяснить, что все это значит, и задержалась.
Воспользовавшись ее замешательством, Селемин обратился к ней:
— Пусть останется тайной, сударыня, каким образом я оказался здесь —
благодаря своей собственной смекалистости или с согласия того, кого вы
ожидали увидеть на моем месте. Я не скажу вам даже, знает ли он о моих к вам
чувствах. Вы же об их искренности можете судить по моему здесь присутствию,
право на которое мне дает мое звание. Скажу лишь, что ваш образ, случайно
открьвзшийся моему взору, сделал то, чего не могли сделать долгие и
настойчивые домогательства моих поклонниц. Я никогда не стремился связать с кем-
либо свою жизнь, но сейчас самым большим счастьем было бы для меня ваше
согласие стать обладательницей сердца человека, носящего столь громкое имя.
Только вам я предлагаю это сердце и это имя, и вы будете владеть ими всю
жизнь. Подумайте тысячу раз, прежде чем отказать принцу Тарскому — только
ему под силу вызволить вас из уготованного вам вечного плена.
Но Эльсиберия ничего этого уже не слышала, пораженная мыслью о том,
что ее возлюбленный мог отказаться от нее в угоду чьему-то честолюбию.
Оставив без внимания сделанное ей предложение, она смогла лишь промолвить:
— Я не знаю, какими судьбами вы, сударь, оказались здесь, но, как бы то ни
было, я не могу продолжить с вами беседу, и не соизвольте гневаться, если я
покину вас.
Часть вторая
143
С этими словами Эльсиберия в сопровождении переодетой в раба подруги
ушла из беседки, столь же взволнованная, сколь радостным и успокоенным был
слышавший эти слова Аламир. Если у Эльсиберии были все основания
полагать, что она обманута, Аламир торжествовал, убедившись, что она с
презрением отвергла щедрые посулы принца. На следующий день он вновь попытался
передать через подкупленного раба письмо, желая убедиться, что она не
передумала и не поддалась свойственному женщинам тщеславию. Но старый раб
вновь получил нагоняй и вернул Аламиру письмо.
Ночь Эльсиберия провела в муках. Все говорило о том, что возлюбленный ее
предал — только он мог раскрыть принцу место их встреч. Но нежные чувства,
которые она питала к Аламиру, удержали ее от немедленного разрыва и
подсказали ей необходимость встретиться с ним и поговорить. Они увиделись
следующим вечером, и Аламир придумал историю о том, что его предал один из его
слуг, что сам он не смог прийти на свидание, так как халиф задержал его у себя
по просьбе его сына, и что ему неприятны домогательства принца. Эльсиберия
всему поверила. Забелек же, наученная горьким опытом обманутой жены, не
поверила ни одному слову самозваного Селемина. Но, как она ни старалась,
переубедить Эльсиберию не могла. Однако очень скоро ей в этом помог случай.
Подлинного Селемина гораздо больше занимали собственные любовные
похождения, чем дела принца. В это время он ухаживал за особой, наперсницей
которой была^ юная рабыня, влюбленная в переодетую рабом Забелек. Эта
юная рабыня рассказала Забелек об амурных делах настоящего Селемина и ее
госпожи. Забелек, знавшая Аламира под именем Селемина, выведала у нее все,
что можно было узнать о неверности, как она думала, возлюбленного
Эльсиберии и не преминула тут же изложить ей все выведэнное. Эльсиберия конечно
же была сильно огорчена, но смиренно вынесла удар. Забелек делала все,
чтобы убедить ее немедленно порвать с Аламиром и не выслушивать его
оправданий, которые, по ее мнению, представляют собой сплошную ложь. Эльсиберия
была бы рада последовать уговорам подруги, но не видеться с возлюбленным
было выше ее сил.
Вечером Аламир появился, как обычно, у беседки и был удивлен слезами
Эльсиберии и ее упреками, высказанными с такой кроткой нежностью, что у
любого, даже не влюбленного в нее человека сердце разорвалось бы от
жалости. Не понимая, как могло случиться, что прелестная Эльсиберия, которой он
действительно не изменял, обвиняет его в неверности, Аламир стал искренне
оправдываться, но так и не смог уверить ее в своей преданности, хотя и был к
этому близок. Он заставил ее тем не менее назвать имя той, которая
обвиняет его, и Эльсиберия рассказала услышанную от Забелек историю. Аламира
очень смутило, что во всем этом замешан Селемин, и он просто не знал, что
сказать в свое оправдание и как выйти из затруднительного положения — он
лишь повторял свои обычные клятвы в любви и верности. Не ускользнувшее
от Эльсиберии замешательство возлюбленного и его маловразумительные
объяснения не оставили у нее сомнений в его нечестности.
Вернувшись к себе, Аламир нашел Селемина и долго размышлял с ним над
тем, как вызволить себя из беды и доказать свою невиновность.
144
Заида. Испанская история
— Ради дружбы с вами, — сказал ему Селемин, — я готов порвать с дамой
моего сердца, если это хоть как-то может помочь вам. Но даже если я прерву
с ней связь, Эльсиберия все равно будет считать, что вы были какое-то время
ей неверны, и никогда не простит вам этого. Я полагаю, что снять с себя
подозрения вы сможете, если честно расскажете ей, что вы — принц Тарский, а я —
ваш друг Селемин. Она полюбила вас, не зная ваших званий и титулов; она
приняла меня за принца Тарского и с презрением, ради любви к вам, отвергла все
мои домогательства. Я думаю, что вы добивались именно этого.
— Вы несомненно правы, мой дорогой Селемин, — воскликнул Аламир, — но
как я могу признаться ей, что я — принц Тарский, если в этой утайке
заключалась вся прелесть нашей взаимной привязанности. Я поставлю на карту
счастье подлинной любви, которой до этого мне еще не доводилось испьпъшать,
и не уверен, что смогу сохранить свою страсть к Эльсиберии после такого
признания.
— Но подумайте и о том, сударь, — отвечал Селемин, — что, продолжая
скрываться под моим именем, вы рискуете безвозвратно потерять сердце
Эльсиберии, а потеряв его, вы лишитесь всего, чего добились с помощью этого вполне
невинного обмана.
Селемин говорил с такой убедительностью, что Аламир внял его совету и
в тот же вечер во всем признался Эльсиберии. Он сразу же почувствовал
облегчение человека, наконец-то освободившегося от тягостных сомнений.
Эльсиберия также все поняла правильно, увидев в открывшемся обмане
проявление искренней страсти запутавшегося в чувствах влюбленного; она была рада,
что смогла убедить Аламира в своей любви — она доказала ее тем, что
полюбила его, даже не подозревая о его высоком происхождении. Эльсиберия была
переполнена счастьем и не могла, и даже не хотела скрывать его. Это
показалось Аламиру подозрительным — уж не вызвана ли эта нескрываемая радость
лишь тем, что ее возлюбленным оказался принц Тарский? Однако о своих
подозрениях он умолчал и продолжал приходить на свидания. Забелек, не
верившая до сих пор в мужскую порядочность, вынуждена была признать свое
заблуждение и даже позавидовала Эльсиберии, которой удалось-таки найти свое
счастье. Завидовать, однако, ей пришлось недолго. Эльсиберия, уверовавшая
в свою счастливую звезду, воспылала к Аламиру еще большей страстью, чем
окончательно укрепила его в подозрениях. Вместо радости, которую должна
была доставить ему ее расцветающая любовь, он испытал горечь, убедив себя,
что ее чувства к принцу Тарскому намного превосходят те, которые были у нее
к Аламиру, скрывавшемуся под именем Селемина. Его страсть стала угасать,
и он вообще потерял вкус к любовным похождениям. В первые дни знакомства
с Эльсиберией в его чувстве к ней было нечто неуловимо трепетное, чего он
уже никогда не надеялся найти. Эльсиберия заметила произошедшее в Алами-
ре изменение и какое-то время даже пыталась убедить себя, что это ей только
кажется, но уберечься от безжалостной судьбы ей было не суждено. Вскоре до
нее дошли слухи, что ее возлюбленный отправляется в странствие по Греции,
и действительно какое-то время спустя опустошенный и погрузившийся в
меланхолию Аламир покинул Таре, несмотря на мольбы и слезы Эльсиберии.
Часть вторая
145
Забелек всячески утешала госпожу, судьба которой оказалась не менее
печальной, чем ее собственная. Прошло некоторое время, и юной рабыне
сообщили о гибели ее мужа, что, несмотря на его измену, очень ее огорчило.
Поскольку с его смертью надобность скрываться отпала, она попросила отца Эльсибе-
рии дать ей волю, которую он ей не раз предлагал. Получив свободу, Забелек
решила уехать на родину и провести там остаток дней своих вдали от людской
суеты. Эльсиберия, не раз слышавшая рассказы подруги о христианстве и
надломленная несчастной любовью к Аламиру, навсегда оставшемуся в ее сердце,
перешла в новую веру и покинула вместе с подругой Таре, лишь письмом
уведомив родителей о своем отъезде.
Находящийся в странствиях Аламир узнал о последних днях пребывания
Эльсиберии в Тарсе из письма Селемина. Вряд ли до нее когда-нибудь дойдет
молва о том, как жестоко отомстила судьба Аламиру его неверность, заставив
испытать все муки безответной любви к красавице Заиде.
Он появился на Кипре и, как я уже вам говорила, после некоторых
колебаний остановил свой выбор не на мне, а на Заиде. Любовь его к Заиде не была
похожа ни на одно из его прежних увлечений. Раньше, как только кто-то
привлекал его внимание, он тут же объяснялся в любви, даже не задумываясь, что
может встретить отказ. От Заиды же он скрывал свою любовь и даже сам
удивлялся произошедшей в нем перемене. Но когда, сгорая от страсти, Аламир все-
таки открылся ей и натолкнулся на ее безразличие, то почувствовал, что
любовь его не только не затухает, а овладевает им с еще большей силой. А
когда это безразличие повергло его в безысходное отчаяние, он понял наконец, что
такое настоящая сердечная боль.
— Что со мной происходит? — говорил он Мульзиману. — Я всегда был
хозяином своих чувств. Любовь всегда была для меня лишь радостью и
наслаждением. И вот я впервые встретил отказ — и любовь превратилась в муку.
Вырваться из ее тисков нет сил. Меня все любили, но я не любил никого. Заида
меня не любит, и я ее боготворю! Неужели ее красота обладает такой силой?
Или на меня так действует ее безразличие? О Заида, не заставляйте меня
поверить, что я люблю вас только потому, что отвергнут вами.
Мульзиман впервые видел Аламира в таком удрученном состоянии, но не
знал, чем помочь ему, хотя и старался всячески утешить и успокоить его. Когда
после приезда Зулемы Заида ответила на отцовское решение твердым отказом
выйти за принца Тарского замуж, Аламир, узнав об этом, впал в такое
отчаяние, что единственный выход виделся ему в смерти на поле сражения.
— Вот, пожалуй, и все, что я узнала от Мульзимана, — сказала Фелима. —
Простите меня за то, что я отняла у вас слишком много времени, но не так-
то просто удержаться от подробностей, когда рассказываешь о людях,
которых любишь, пусть даже эти подробности и порождают тяжелые
воспоминания.
Дон Олмонд заверил Фелиму, что он даже не заметил, как пролетело
время, и, поблагодарив за рассказ об Аламире, попросил ее продолжить
повествование, на что Фелима любезно согласилась.
1Q Заказ № К-6559
146
Заида. Испанская история
— Как видите, все, что я узнала о похождениях Аламира и о нем самом, не
оставляет мне никаких надежд. Единственный способ добиться его любви — не
любить его. Но я продолжала любить. Где только мог и когда только мог, он
подвергал себя смертельной опасности, а я жила в страхе за его жизнь. Мне
казалось, что ужаснее мук, чем те, которые выпали на мою долю,
невозможно и придумать, но судьба уготовила мне еще более тяжкие испытания.
Спустя несколько дней после того, как Мульзиман описал мне похождения
Аламира, я пришла к Заиде и обо всем ей рассказала, заливаясь при этом
слезами и жалуясь на свою горькую долю. В комнату, где мы находились, зашла
одна из прислужниц Заиды и, уходя, забыла закрыть дверь.
— Какая же я несчастная, — сказала я Заиде, не обратив внимания на
оставленную открытой дверь. — Как я могла полюбить человека, который
недостоин моей любви!
Я еще не кончила говорить, как почувствовала, что в комнате кто-то есть.
Я подумала, что это все та же служанка, но каково же было мое изумление,
когда я увидела Аламира: он стоял за моей спиной и несомненно слышал мои
слова. Мое замешательство и слезы на лице могли лишь подтвердить ему, что эти
слова шли у меня от сердца. Я лишилась дара речи и готова была
провалиться сквозь землю. Состояние мое было ужасным, и в довершение всего в
комнату вошла принцесса Аласинтия в сопровождении нескольких дам и завела
разговор с Заидой, оставив меня наедине с Аламиром.
— Прошу простить меня, сударыня, за мое появление в момент, когда, как
мне представляется, вы не хотели, чтобы вас слышал кто-нибудь другой
кроме Заиды, — обратился он ко мне тоном, в котором я уловила желание не
усугублять моего замешательства. — Но уж коли так случилось, позвольте
спросить вас, сударыня, возможно ли, чтобы некто, пользующийся вашим
расположением, был бы недостоин вашей любви? Насколько я могу судить, нет ни
одного мужчины, который был бы достоин малейшей из ваших добродетелей,
но вряд ли найдется такой, который заставил бы вас усомниться в своих к вам
чувствах. Не сердитесь на меня за то, что я проник в тайну вашего сердца, —
я сумею сохранить ее, — но сейчас я не могу не поблагодарить случай, который
помог мне узнать то, что вы так тщательно скрывали от меня.
Аламир продолжал говорить, а у меня не было сил прервать его. Я была в
полном отчаянии. Меня пугало, что я не выдержу и расскажу ему, кто является
причиной моих страданий. Я не хотела, чтобы он увидел боль, которую
вызывает во мне его убежденность, будто я страдаю о ком-то другом, и молчала. Да,
я скрывала от него свою любовь, да, я видела его страсть к Заиде, и тем не
менее мне было небезразлично его непонимание моего состояния. Я так
настрадалась, скрьюая свои чувства от того, кому они были предназначены, что вряд
ли пережила бы новые муки при виде, как мой возлюбленный сочувствует мне
в моем горе. Аламир же, убежденный, что ему удалось проникнуть в мою
сердечную тайну и что именно этим и вызвано мое замешательство, продолжал:
— Я вижу, сударыня, что вы крайне раздосадованы тем, что я узнал то, чего
не должен был знать. Но вам нечего беспокоиться — вряд ли вы найдете более
преданного вам человека, думающего лишь о том, чтобы угодить вам. Я знаю,
Часть вторая
U7
что вы пользуетесь огромным влиянием на прекрасную принцессу, от которой
зависит моя судьба. Назовите мне имя вашего избранника, и, если я располагаю
над ним такой же властью, какой вы располагаете над моей избранницей, я
докажу ему, где он найдет свое счастье, и он наверняка удостоится вашей любви.
Слова Аламира делали мою боль еще более нестерпимой, но он продолжал
добиваться имени моего воображаемого возлюбленного. Чем настойчивее были
его просьбы, тем меньше было у меня желания открыть ему свою тайну.
Наконец Заида, заметив на моем лице безысходное отчаяние, подошла к нам и
прекратила мои мучения. Я же так и не смогла открыть рта. Я ушла к себе,
даже не подняв глаз на Аламира. Моя плоть не вынесла моих душевных мук,
и я надолго слегла в постель.
На острове было немало достойных людей, и многие из них были
влюблены в меня и беспокоились о моем здоровье. Мне рассказывали об их
заботливом ко мне отношении. Но их любовь мало трогала меня, и когда я думала о
том, что, знай Аламир о моей любви, она так же мало взволновала бы его, как
мало волновали меня чувства моих поклонников, его неведение насчет
подлинных причин моих страданий делало меня счастливой. Но это счастье
гнездилось в моих думах, но не в сердце. Когда я стала чувствовать себя лучше и
могла появляться на людях, я старалась как можно дольше не встречаться с Ала-
миром, а когда мы все-таки стали видеться, я заметила, что он внимательно
наблюдает за мной в надежде узнать по моему поведению, кто же мой
избранник. Чем внимательнее он следил за мной, тем прохладнее я обращалась со
своими поклонниками. Большинство из них были достойными и знатными
людьми, но никто не мог рассчитывать на место в моем сердце. Более всего я не
хотела, чтобы Аламир подумал, будто я страдаю от безответной любви к кому-
нибудь из них — мне казалось, что это могло уронить меня в его глазах.
Войска императора подступали к Фамагусте, и арабы предпочли покинуть
город. Зулема и Осмин решили отправить своих жен, принцесс Аласинтию и
Белению, и нас с Заидой морем. Аламир также вознамерился покинуть Кипр,
во-первых, чтобы быть в пути рядом с Заидой, а во-вторых, чтобы проявить
свою доблесть в новых сражениях. Он по-прежнему делал все возможное,
чтобы выяснить имя того, кого принимал за моего возлюбленного, и уже перед
самым отплытием вновь завел со мной разговор, удивившись, что я не очень
опечалена, покидая остров.
— Вы оставляете эту страну, сударыня, — обратился он ко мне, — и я не вижу
печали разлуки на вашем лице. Сделайте мне одолжение и назовите имя того,
кому принадлежит ваше сердце. В этом городе нет ни одного человека,
которого я не смог бы уговорить отбыть в Африку на вашем корабле. Вы будете
наслаждаться счастьем ежеминутно видеть его, а он даже не будет знать, что
таково было ваше желание.
— Не буду убеждать вас в ошибочности вашего мнения, которое сложилось
у вас под впечатлением обстоятельств, вполне оправдьшающих ваше
заблуждение, — ответила я ему. — Скажу лишь, что эти обстоятельства обманчивы, и
я не оставляю в Фамагусте никого, кто был бы дорог моему сердцу, и это
отнюдь не от того, что в моем сердце произошли какие-либо перемены.
148
Заида. Испанская история
— Если я правильно вас понял, сударыня, — продолжал настаивать Аламир, —
тот, кто имел счастье удостоиться вашего внимания, покинул Кипр еще до
нашего разговора.
— Ни до нашего разговора, ни вообще со времени вашего пребывания на
острове никто не испытал счастья быть удостоенным моего внимания, —
ответила я довольно резко. — Очень прошу вас: никогда больше не касайтесь этой,
неприятной для меня, темы.
От Аламира не ускользнуло мое раздражение, и он дал мне обещание
никогда больше не говорить об этом. Я с облегчением вздохнула, так как
всегда в разговоре с ним боялась случайно выдать то, что так ревностно в себе
хранила. В конце концов мы погрузились на корабль, и ничто не
предвещало, что наше весьма приятное поначалу путешествие закончится ужасным
кораблекрушением у берегов Испании, о последствиях которого я также
должна рассказать вам.
Фелима уже собиралась возобновить свой рассказ, как ей сообщили, что ее
мать почувствовала себя хуже.
— Хотя у меня есть еще многое, о чем я должна вам поведать, — сказала она,
покидая дона Олмонда, — я уже рассказала достаточно, чтобы вы поняли,
насколько моя жизнь связана с Аламиром, и сдержали слово, которое мне дали.
— Я сдержу его непременно, — отвечал дон Олмонд, — но я очень хотел бы
узнать, чем закончились ваши приключения.
На следующий день дон Олмонд отправился к королю. Дон Гарсия, при
котором находился Консалв, видя на лице друга нетерпение и беспокойство,
повелел дону Олмонду тут же рассказать, видел ли он Фелиму и что ему
удалось от нее узнать. Дон Олмонд, не показьюая виду, что ему известны
причины, по которым его величество так переживает за Консалва, изложил все до
мельчайших подробностей. Он рассказал о любви Фелимы к Аламиру, о
страсти Аламира к Заиде и обо всех перипетиях их жизни вплоть до самого
отплытия с Кипра. Закончив, он счел свое присутствие излишним, и, сославшись на
необходимость вернуться в Оропесу, оставил дона Гарсию и Консалва одних.
Как только дон Олмонд вышел, король, глядя на Консалва, с нежностью
произнес:
— Ну, так как же, мой друг? Вы все еще верите в любовь Заиды к
Аламиру? Вы все еще думаете, что это она заставила написать Фелиму письмо с
просьбой сохранить ему жизнь? Теперь, я надеюсь, вы поняли, насколько
заблуждались?
— Нет, сеньор, — с грустью в голосе ответил Консалв. — Все, что нам
поведал дон Олмонд, не избавляет меня от опасений. Возможно, Заида не сразу
полюбила Аламира, возможно, она скрыла от Фелимы свою любовь, видя
страдания подруги. Кто мне докажет, что после кораблекрушения у берегов
Испании она оплакивала не Аламира? На кого я похож, если не на него? В своем
рассказе Фелима не упоминает никого другого. Наверняка Заида не была с
подругой до конца откровенной, а может быть, и призналась ей, но уже после
того, как они оказались в пристанище Альфонса. Рассказ Фелимы меня ни в
Часть вторая
149
чем не убеждает, и то, что предстоит мне еще узнать, скорее подтвердит, чем
развеет мои подозрения.
Было уже поздно, когда Консалв покинул короля, но грустные мысли так
и не позволили ему сомкнуть глаз. Рассказ Фелимы разбередил его душу, и
сомнения обуяли его с новой силой. Наутро прибывший из Оропесы офицер
передал ему пакет от дона Олмонда. Консалв вскрыл его и прочитал:
Письмо дона Олмонда Консалву
«Фелима сдержала слово и рассказала о том, что произошло с ними во
время путешествия по морю. Только ее любовь к Аламиру является причиной
беспокойства за его жизнь — Заида здесь ни при чем. В любом случае тот, кого
Заида не оставляет равнодушным, должен ревновать ее не к Аламиру».
Письмо повергло Консалва в новые раздумья. Он пришел к заключению, что,
если он и ошибся, то только в личности избранника, но не в том, что сердце За-
иды кому-то отдано. Это подтверждалось и письмом, за которым он ее застал,
и услышанными им в Тортосе словами о ее первом увлечении, и, наконец, этой
запиской от дона Олмонда. Кто бы ни был возлюбленным Заиды, несчастья у
Консалва не убавилось. И тем не менее в глубине души, по причине ему
непонятной, он почувствовал некоторое облегчение, узнав, что это не принц Тарский.
К этому времени мавры обратились с предложениями о мире, причем
настолько выгодными, что отказа от леонского короля не последовало. С той и другой
стороны были назначены послы для подготовки договора и объявлено перемирие.
Консалву король поручил заниматься переговорами, и он был завален делами. Но
по-прежнему больше всего его занимала мысль о том, кто его соперник, о котором
он ровно ничего не знал. С беспокойством и нетерпением он ждал возвращения
дона Олмонда и наконец, не выдержав, обратился к королю с просьбой вызвать
дона Олмонда в лагерь или разрешить ему самому отправиться в Оропесу. Дон
Гарсия, которого также заинтриговала история Заиды, захотел лично
присутствовать при рассказе дона Олмонда и тотчас же распорядился послать за ним
нарочного. Когда Консалв увидел своего юного друга, он так растерялся, что уже и не
знал, готов ли он выслушать повествование, в котором, возможно, был заключен
приговор его судьбе. Стараясь не замечать волнения Консалва, дон Олмонд,
получив разрешение короля, приступил с присущей ему учтивой сдержанностью к
рассказу о том, что услышал от Фелимы во время их последнего разговора.
Продолжение истории Фелимы и Заиды
Принцы Зулема и Осмин покинули Кипр с намерением добраться до
берегов Африки и высадиться в Тунисе. С ними последовал и Аламир. Поначалу
все шло хорошо, но поднявшийся вдруг ветер погнал их корабль в сторону
Александрии. Увидев вдалеке город, Зулема решил высадиться на берег, чтобы по-
150
Заида. Испанская история
видаться со своим старым другом и известным на всю Африку астрологом
Альбумасаром43. Женщины, не привыкшие к длительным плаваниям, с
радостью приняли это решение. Южный ветер долго не позволял им пристать, но
в конце концов все обошлось и они высадились в Александрии.
Однажды Зулема, рассказывая Альбумасару о своих странствиях, разложил
перед ним всевозможные редкие вещицы, которые насобирал в разных краях.
Заида, находившаяся рядом, углядела в одном из ящичков портрет очень
красивого юноши. Юноша был одет в дорогое платье арабского покроя, и,
предаваясь воображению, Заида увидела в нем одного из сыновей халифа. В ответ
на ее любопытство Зулема сказал, что ничего об этом юноше ему не известно,
а портрет он купил у каких-то солдат и сохранил его просто как прелестную
безделушку. Заида смотрела на портрет как зачарованная. Альбумасар
заметил это и пошутил, сказав, что изображенный на портрете юноша вполне мог
бы рассчитывать на ее расположение. Греки всегда увлекались астрологией, а
греческая молодежь жаждала проникнуть с ее помощью в тайны своей
судьбы, и Заида, не нарушая традиций предков, уже несколько раз тщетно
пыталась узнать у великого астролога, что ее ждет в жизни. Но всякий раз,
заканчивая разговор с Зулемой, звездочет возвращался к своим ученым занятиям,
не раскрывая перед Заидой своих способностей провидца. Но однажды, застав
ученого у отца, она с такой трогательной настойчивостью стала умолять его
прочитать по звездам ее будущее, что ученый смягчился.
— Мне не надо обращаться к звездам, чтобы угадать вашу судьбу, — сказал
великий астролог с улыбкой. — Вы предназначены тому, кто изображен на
портрете, который вы обнаружили в коллекции вашего отца. Мало кто из
принцев Африки может с ним сравниться. Выйдя за него замуж, вы обретете свое
счастье. Для всех же остальных ваше сердце должно быть закрыто.
Заида восприняла слова Альбумасара как шутливый укор в отместку за
любопытство, которое она проявила к портрету юноши, но Зулема властным
голосом отца заявил ей, что у нее не должно быть и тени сомнения относительно
истинности предсказания великого астролога, что он лично в этом не сомневается
и, более того, никогда не позволит ей выйти замуж за кого-либо другого.
Поначалу Заида и Фелима не приняли всерьез слова Зулемы, но им пришлось
в это поверить, когда он заявил своей дочери, что не намерен выдавать ее замуж
за принца Тарского. Это известие несказанно обрадовало Фелиму, и она была
готова хоть сейчас бежать к Аламиру и передать ему слова Зулемы, теша себя
мыслью, что Аламир вернется к ней, потеряв надежду обрести руку Заиды. Ей
даже не пришлось уговаривать подругу позволить ей сообщить Аламиру о
предсказании Альбумасара и о решении Зулемы — Заида была рада любой
возможности помочь принцу Тарскому избавиться от мук безответной любви.
При встрече с Аламиром Фелима, стараясь скрыть переполнявшую ее
радость, посоветовала ему перестать думать о Заиде, так как, по предсказанию
великого астролога, она предназначена другому, и ее отец поверил в это
предсказание. В довершение она показала ему злополучный портрет. Слова Фели-
мы и портрет прекрасного юноши повергли Аламира в горестное раздумье.
Наконец он поднял на Фелиму полные печали глаза и промолвил:
Часть вторая
151
— Да, сударыня, вы правы — это тот, кому предназначена Заида. Его
красота достойна ее красоты. Но он никогда не будет обладать ею — он падет от моей
руки, как только попробует отнять ее у меня.
— Но если вы начнете убивать всех, кто похож на этого юношу, —
возразила Фелима, — вы можете убрать со своего пути немало молодых людей, так и
не встретив настоящего соперника.
— Судьба настолько немилостива ко мне, что мне трудно ошибиться —
немного найдется молодых людей с такой необычайно красивой внешностью. Но
не забывайте, сударыня, что за этими прекрасными чертами могут
скрываться низкая душа и коварный ум, которые не придутся по нраву Заиде, и,
несмотря на красоту того, кому она предназначена, она останется к нему
равнодушной. Пусть на его стороне и фортуна, и расположение Зулемы, но если она его не
полюбит, для меня это уже немалое утешение. Я предпочитаю видеть ее женой
нелюбимого человека, чем знать, что она любит того, кто перешел мне дорогу. — Ала-
мир немного помолчал и продолжил: — Хотя этот образ уже врезался в мою
память, не будете ли вы, сударыня, любезны оставить мне портрет на несколько
дней, чтобы я смог в спокойной обстановке изучить лицо своего соперника до
мельчайшей черточки?
Известие, которое Фелима сообщила Аламиру, никак не повлияло на его
страсть к Заиде, и, видя это, она так расстроилась, что невольно протянула ему
портрет, лишь потом спохватившись, что может никогда больше его не увидеть.
Через несколько дней, однако, Аламир вернул ей портрет, хотя ему и пришлось
побороть в себе тяжкий искус уничтожить его, чтобы он никогда больше не
попадался на глаза Заиде.
Проведя какое-то время в Александрии и дождавшись попутного ветра,
Зулема и Осмин со всеми попутчиками вновь пустились в плавание. Аламир
же, получивший от отца письмо с приказом вернуться в Таре, вынужден был
расстаться с Заидой, но пообещал Зулеме вскоре встретиться в Тунисе,
полагая, что отец его долго не задержит. Фелима расстроилась так, как если бы
расставалась с горячо любящим ее человеком. Она уже свыклась с болью
безответной любви, но боль разлуки была ей внове. Она поняла, что только
возможность каждодневно видеть любимого человека давала ей силы преодолевать
положение отвергнутой.
Итак, Аламир отправился в Таре, а Зулема и Осмин, каждый на сей раз на
отдельном корабле, поплыли в Тунис. Заида и Фелима пожелали быть вместе
и выбрали корабль Зулемы. Через несколько дней пути поднялся сильный
ветер, и разразившаяся буря разбросала корабли в разные стороны. На корабле,
где находились Заида и Фелима, сломалась грот-мачта, и Зулема, сочтя
положение безнадежным и зная, что берег где-то рядом, приказал перебираться в
лодку. Он помог спуститься в нее жене, дочери и Фелиме, передал им
кое-какие ценные вещи и уже почти добрался до лодки сам, как под напором ветра
лопнул канат и ему пришлось подняться на корабль. Лодку понесло, как потом
оказалось, к каталонскому берегу и разбило о прибрежные камни. Зайду,
полуживую, выбросило на песок. Уцепившуюся за остатки лодки Фелиму, на
глазах которой утонула принцесса Аласинтия, также прибило к берегу, недалеко от
152
Заида. Испанская история
Заиды. Когда Заида пришла в себя, она увидела рядом с собой двух
незнакомых ей мужчин, разговаривавших на непонятном языке.
Потерявшую сознание Зайду нашли два испанца, жившие на берегу моря.
Они распорядились перенести ее к себе в дом, куда чуть позже рыбаки привели
и Фелиму. Радость Заиды при виде подруги была бы безграничной, если бы она
не узнала от нее о гибели матери. Немного успокоившись, она заговорила о
Тунисе, желая дать спасшим ее испанцам понять, что хочет попасть в эту
страну. Там девушки надеялись найти Осмина и Белению.
Лучше разглядев более молодого из испанцев, по имени Теодорих, Заида
поразилась его сходству с понравившимся ей юношей с портрета из отцовской
коллекции. Она стала внимательнее присматриваться к нему и часто наведывалась к
морю, разыскивая ящичек с портретом, который, как ей помнилось, также был
уложен вместе с другими вещами в лодку, но все ее усилия были напрасны — к ее
большому огорчению, она так и не нашла того, что искала. Одно время ей казалось,
что Теодорих неравнодушен к ней. Она не понимала его языка; к этой мысли ее
подтолкнуло поведение молодого испанца, и ей это было приятно.
Но затем вид и настроение Теодориха изменились, и она решила, что
ошиблась. Теодорих погрустнел, стал задумчивым. Она видела, как, погруженный в
свои мысли, он часто покидал ее и уходил бродить в одиночестве. Заида
подумала, что молодой испанец о ком-то тоскует, и этим объясняется его горестный вид.
Это причинило ей боль, и она удивилась новому, непонятному ей, чувству. Ее
охватила такая же грусть, какую она видела на лице Теодориха. Фелима, занятая
своими печалями, но слишком хорошо знавшая любовные муки, сразу же
заметила, что молодой испанец влюблен в Зайду, а Заида влюблена в него. Она
несколько раз говорила об этом подруге, и в конце концов Заида, долго
боявшаяся признаться в своих чувствах самой себе, открылась Фелиме.
— Да, это правда, — сказала она ей. — Теодорих мне небезразличен, и я
ничего не могу с собой поделать. Кто знает, может быть, Альбумасар говорил
именно о нем? Может быть, и портрет, который мы видели у отца, сделан с
него?
— Как вам в голову могла прийти такая мысль, Заида! — ответила Фелима. —
Альбумасар говорил об арабском принце. О ком-либо другом он и подумать бы
не смог. Вы никогда не верили в его предсказание, а теперь вдруг признали в
Теодорихе того, кто вам предназначен судьбой. Посудите сами, о какой
любви можно говорить после этого?
— До сих пор, — возразила Заида, — я на самом деле не верила в предсказание
Альбумасара. Но, не скрою от вас, после того, как я увидела Теодориха, слова
звездочета не дают мне покоя. Это просто чудо, что я встретила человека, похожего
на того, кого видела на портрете, и полюбила его. Меня очень смущает запрет
Альбумасара отдать сердце кому-то другому. Мне кажется, что он имел в виду
именно те чувства, которые я испытываю к Теодориху, — они переполняют меня.
Но если это не так, если я предназначена другому, похожему на него, человеку, то
любовь, которая должна принести мне счастье, обернется для меня несчастьем.
Если мое сердце обмануто этим сходством и я полюбила того, кого не должна была
полюбить, это значит, что я не смогу полюбить того, кому предназначена. — Помол-
Часть вторая
153
чав, она добавила: — Есть одно средство избавиться от всех этих несчастий —
покинуть это злополучное место. Мое благонравие запрещает мне здесь находиться.
— К сожалению, от нас это не зависит, — ответила Фелима. — Мы в чужой
стране и даже не знаем языка наших спасителей. Нам остается лишь ждать
прихода кораблей. Помните, однако, что как бы вы ни стремились покинуть это
место, вам будет очень трудно забыть Теодориха. В вас происходит то же, что
испытала я, когда полюбила Аламира, но небо не пожелало, чтобы я нашла в его
сердце тот отклик, который нашли вы в сердце своего возлюбленного.
— Вы ошибаетесь, думая, что Теодорих любит меня. Его сердце
принадлежит другой, и не мое присутствие является причиной печали, которая не
сходит с его лица. Мне остается утешать себя лишь тем, что я не знаю его языка
и поэтому не боюсь в минуту слабости выдать ему свою тайну.
Через несколько дней после этого разговора Заида издалека увидела
Теодориха, который держал в руках какую-то вещь и внимательно рассматривал ее.
Поддавшись чувству ревности, она вообразила, что это портрет его
возлюбленной и, решив убедиться в этом, как можно тише подошла к нему. Но Теодорих
услышал шум за своей спиной и повернул голову. Увидев Зайду, он быстро
спрятал то, что держал в руках, и ей удалось заметить лишь блеск драгоценных
камней. Это убедило ее, что у него в руках была коробочка с портретом любимой.
Заида и раньше думала, что Теодорих в кого-то влюблен, но теперь, когда к ней
пришла уверенность, она испытала такое отчаяние, что не смогла ни скрыть от
него своего горя, ни поднять на него глаза — она поняла, что значит любить
человека, который думает о другой. Однако, по какой-то случайности, Теодорих
выронил спрятанную вещь, и она увидела усыпанную бриллиантами ленту с
привязанным к ней браслетом, который она сплела из своих волос и потеряла
несколько дней тому назад. Обрадовавшись, что все ее подозрения были
ошибочными, она даже не рассердилась, что, найдя браслет, он не вернул его ей. Она
подняла ленту, отцепила браслет и отдала драгоценности Теодориху, который,
изменившись в лице, бросил их в море, желая показать, что браслет из ее
волос для него дороже любых бриллиантов. Заида увидела в этом жесте
бескорыстную к ней любовь молодого испанца, и сердце ее забилось от счастья.
Еще несколько дней спустя Теодорих показал Заиде картину, на которой,
по его просьбе, художник, работавший в домашней галерее его друга,
изобразил красивую девушку, оплакивавшую погибшего молодого человека, и дал ей
понять, что погибший был возлюбленным этой девушки. Зайду очень
расстроило, что Теодорих считал ее влюбленной в кого-то другого, но, с другой
стороны, она уже почти не сомневалась, что он ее любит, и тоже испытывала к нему
такие нежные чувства, которые даже не пыталась побороть.
Время отъезда, однако, приближалось, и она решила, что если ей суждено
его покинуть, то пусть хотя бы он узнает о ее любви из письма. Она поведала
о своем решении Фелиме и добавила, что отдаст Теодориху письмо в момент
расставания.
— Он узнает о моей любви тогда, когда я буду уверена, что больше
никогда его не увижу, — сказала она подруге. — Мне легче будет вспоминать его, если
я скажу ему, что думала только о нем и никогда, вопреки его предположениям,
154
Заида. Испанская история
никого не любила. Я все объясню ему в самых нежных словах, но эта нежность
никогда не станет на пути моего предназначения. Ему обо мне ничего не
известно, он никогда меня больше не увидит, так пусть хоть знает, что заронил
любовь в сердце чужестранки, которой однажды спас жизнь.
— Вы забываете, — ответила Фелима, — что он не поймет ни слова из
вашего письма, и оно не достигнет цели.
— Если он любит меня, то найдет возможность прочитать его. А если не
любит, то утешением мне будет служить его неведение. Вместе с письмом я
отдам ему браслет, который я так бесцеремонно отняла у него и который
принадлежит ему по праву.
Уже на следующий день Заида села за письмо. За этим письмом Теодорих
застал ее, и она сразу поняла, что оно вызвало в нем прилив ревности. Если бы
Заида последовала велению сердца, она сразу бы сказала, кому и о чем она
пишет. Но ум подсказал другое — она не знала ни звания, ни положения
молодого испанца и воздержалась от поступка, который мог возложить на него хоть
какое-то обязательство, и сочла более благоразумным, чтобы обо всем он
узнал после того, как корабль увезет ее на родину.
Почти перед самым отъездом Заиды Теодорих уехал по своим делам,
жестами объяснив ей, что вернется на следующий день. Наутро Заида пошла с Фели-
мой прогуляться к берегу моря, с нетерпением ожидая его возвращения.
Расстроенная этой небольшой разлукой, она была погружена в свои мысли и, думая
только о нем, ничего не хотела замечать вокруг. Когда к берегу причалила большая
лодка, Заида даже не обратила внимания на приплывших и уже направилась
было к дому, как вдруг услышала, что ее зовут, и была поражена, узнав голос
своего отца. Она бросилась к отцу в объятья, и их радости не было предела. Она
рассказала ему, как оказалась на этом берегу. Он поведал ей о своих
приключениях: его корабль прибило к французскому побережью, которое он смог
покинуть лишь несколько дней тому назад и направился в Таррагону, чтобы пересесть
на корабль, идущий в Африку; но прежде он решил проплыть вдоль берега, где
разбилась лодка, в которую он посадил ее, Аласинтию и Фелиму, в надежде
найти хоть кого-нибудь в живых. При имени матери Заида залилась слезами. Зуле-
ма мужественно воспринял весть о гибели жены и, стараясь не выдавать своих
скорбных чувств, приказал молодым принцессам занять место в лодке и
распорядился плыть в Таррагону. Заида не знала, как ей объяснить отцу, что она не
может покинуть этот берег, не простившись с Теодорихом. Она попыталась
уговорить отца отложить на какое-то время отплытие, ссылаясь на необходимость
сказать на прощанье испанцам хотя бы несколько слов благодарности за
предоставленный приют, но Зулема, не желавший и слышать о каких-то испанцах, не
поддался на уговоры. Заида пришла в ужас при мысли о том, что подумает
Теодорих о ее неблаговидном поступке, но еще ужаснее было то, что она
расстается с ним без всякой надежды встретиться вновь. Она покорилась воле отца,
чувствуя, что силы покидают ее. Единственным ее утешением был спасенный
Зулемой во время кораблекрушения портрет красивого юноши, в котором она
видела теперь своего возлюбленного. Но это утешение не помогло ей перенести
разлуку — она заболела и надолго слегла в постель. Зулема был вне себя от горя,
Часть вторая
155
страшась остаться теперь и без дочери, только что вышедшей из детства и
наделенной необыкновенной красотой, и даже решил дождаться в Таррагоне ее
выздоровления. Постепенно Заида стала поправляться, но все еще была
настолько слаба, что отец не хотел подвергать ее тяготам морского путешествия. В
течение зимы, которую они провели в Каталонии, Заида, постоянно находясь в
окружении испанцев и имея под рукой толмачей, не только сама выучила
испанский язык, но и заставила выучить его Фелиму. С удовольствием разговаривая
по-испански, подруги хоть как-то отвлекали себя от грустных мыслей.
Зулема, оставаясь в неведении относительно судьбы Осмина, отправил тем не
менее с кораблями, уходящими из Таррагоны в Африку, письмо с описанием
своих морских злоключений и причин, которые заставили его задержаться в
Каталонии. Когда корабли вернулись обратно и привезли ему от брата ответ,
Заида все еще была слаба. В письме Осмин сообщал брату, что с его кораблем
ничего не случилось и что он виделся с халифом, который по-прежнему
желает держать их в отдалении; более того, поскольку Абдерам просил халифа
прислать ему в помощь военачальников, халиф приказывает им, Зулеме и Осмину,
отправляться в Испанию. Зулема не посмел ослушаться халифа и решил, наняв
небольшой корабль, добраться морем до Валенсии, чтобы оттуда перебраться в
Кордову к Абдераму. Как только дочь почувствовала себя лучше, он отплыл
вместе с ней из Таррагоны, но ему пришлось остановиться на несколько дней в
Тортосе, так как Заида окончательно еще не поправилась и ей потребовался
небольшой отдых. Она так и не обрела душевного покоя. И во время болезни,
и когда дела уже пошли на поправку, голова ее была занята одной мыслью — как
дать знать о себе Теодориху. Заида не могла простить себе, что в день встречи
с отцом, имея при себе письмо к Теодориху, она не оставила его где-нибудь на
берегу в расчете на счастливый случай, который помог бы ему найти его.
Накануне отплытия из Тортосы она решила попытать счастья и отдала письмо
одному из оруженосцев Зулемы, рассказав ему, где можно найти Теодориха и как
называется ближайший порт. Она просила оруженосца никому не говорить, чье
это письмо, беречь его от чужих глаз и остерегаться слежки. Хотя Заида и не
надеялась увидеть Теодориха, ей было грустно расставаться с краями, где он ей
повстречался, и она всю ночь провела с Фелимой в разговорах о своей
несчастной участи, расхаживая по прекрасному саду около дома, где поселил ее
Зулема. На следующий день, перед самым отплытием, оруженосец, отбывший с
письмом еще до восхода солнца, вернулся и сообщил Заиде, что тот, кому
предназначалось письмо, днем раньше навсегда покинул дом своего друга. Вновь
судьба помешала ей передать возлюбленному о себе весточку, а ему узнать о ее
любви. В плавание она отправилась полная печали. Вскоре корабль прибыл в
Валенсию, а еще через несколько дней Зулема и его окружение, пересев на лошадей,
добрались до Кордовы. Там их ждали Осмин и Беления, а также принц Тарский,
который, узнав в Тунисе, что Заида находится в Испании, поспешил туда,
сославшись на необходимость своего участия в военных действиях. Увидев Аламира,
Фелима почувствовала, что разлука не только не укротила ее страсть, но и
разожгла ее еще сильнее. Аламир же уловил в отношении Заиды еще больше
прохлады, а ее безразличие к нему сменилось неприязнью.
156
Заида. Испанская история
Король Кордовы поручил Зулеме общее командование войсками и посадил
его наместником в Талавере, а Осмину отдал Оропесу. Аламир последовал за
Зулемой, чтобы быть поближе к Заиде, но вскоре Абдерам отозвал его к себе.
Я в это время разыскивал Консалва, но оказался в плену у арабов и был
отправлен в Талаверу. Осмин и Беления направились в Оропесу, а Заида не
пожелала расстаться с отцом.
После того как Консалв взял Талаверу, начались переговоры о перемирии, и
Аламир сообщил Зулеме, что хочет воспользоваться этим перемирием и навестить
их с Заидой, а по пути к тому же заехать в Оропесу. Заида, узнав от отца о
намерении Аламира, написала Фелиме письмо, в котором сообщила ей, что встретила
Теодориха и что ее очень расстраивают его подозрения, будто на берегу около дома
Альфонса после кораблекрушения она оплакивала принца Тарского, а поэтому
просит подругу сделать все, чтобы помешать приезду принца в Талаверу.
Эта просьба как нельзя лучше устраивала Фелиму. На следующий день
после заключения перемирия Беления, которая по-прежнему чувствовала себя
неважно, решила вопользоваться предоставившейся возможностью подышать
воздухом и попросила Осмина и Фелиму сходить с ней в расположенный
неподалеку большой лес. К их большой радости, они увидели ехавшего им
навстречу Аламира, и после приветственных восклицаний Фелима улучила
минутку, чтобы поговорить с ним наедине.
— Я очень сожалею, — обратилась она к нему, — но мне надлежит сообщить
вам нечто такое, что должно помешать вашим планам: Заида просит вас не
приезжать в Талаверу, и, как я ее поняла, это даже не просьба, а скорее требование.
— Что заставляет ее быть такой жестокосердной? — воскликнул Аламир. —
Почему она отнимает у меня последнюю радость — видеть ее?
— По-моему, она хочет, чтобы вы навсегда оставили ее в покое. Вы не хуже
меня знаете ее нежелание связать свою жизнь с человеком вашей веры. Она к
тому же считает — и вам это тоже известно, — что судьба предназначила ее
другому. Впрочем, и Зулема поддерживает ее в этом.
— Как бы то ни было, — ответил Аламир, — я своего решения не изменю,
даже несмотря на ее более чем прохладное ко мне отношение. Ничто не может
заставить меня отказаться от Заиды!
Фелима никогда еще не слышала в голосе Аламира столь неукротимой
страсти и какое-то время продолжала уговаривать его забыть Зайду, но он даже
слушать ее не хотел, и это ее больно задело. Впервые она потеряла самообладание.
— Если ни воля Всевышнего, ни безразличие Заиды не могут излечить вас
от вашей страсти, — произнесла она изменившимся голосом, — то я уж и не
знаю, чем вам можно помочь.
— Надежду я потеряю только тогда, когда узнаю, что она любит другого.
— В таком случае вы можете проститься с надеждой, — сказала Фелима. —
Заида встретила такого человека, и он также ее любит.
— Кто же этот счастливчик, сударыня? — вырвалось у Аламира.
— Испанец, который похож на юношу с известного вам портрета.
Возможно, портрет сделан и не с него и не о нем говорил Альбумасар, но, поскольку
вы опасаетесь только тех, кто может понравиться Заиде, а не тех, за кого ей
Часть вторая
157
суждено выйти замуж, скажу вам, что именно нежелание давать ее
возлюбленному повода для ревности заставляет ее просить вас не приезжать в Талаверу.
— Вы говорите немыслимые вещи, — не сдавался Аламир. — Найти путь к
сердцу Заиды не так-то просто. Если бы такое случилось, вы никогда бы не
сказали мне об этом. Заида наверняка просила бы вас сохранить ее тайну, и у
вас нет никаких оснований раскрывать мне ее.
— У меня их слишком много, — почти выкрикнула Фелима, не сдержав
своих чувств, — и вам...
Фелима осеклась на полуслове, поняв, что зашла слишком далеко, и
поразилась своим собственным словам. Ощутив свой промах, она смешалась и
замолчала, не зная, как ей вести себя дальше. Наконец она подняла на Аламира
глаза, и ей показалось, что он проник в тайну ее сокровенных мыслей. Фелима
постаралась взять себя в руки и придать липу более спокойное выражение, которое
никак не соответствовало тому, что творилось у нее на душе.
— Да, вы правы, — сказала она. — Если бы Заида увлеклась кем-нибудь, я бы
вам этого никогда не сказала. Я хотела всего лишь попугать вас такой
возможностью. Но мы действительно познакомились с испанцем, влюбленным в
Зайду и похожим на того, кто изображен на портрете. Ваш взгляд сказал мне, что
я, возможно, сболтнула лишнее, и, боюсь, она на меня обидится.
Все это Фелима сказала таким естественным голосом, что ей даже показалось,
будто в какой-то степени ее слова произвели на Аламира должный эффект.
Однако она так и не избавилась от смущения, в которое ее повергли ранее
сказанные ею слова, явно выдававшие ее чувства, и если бы не замешательство
Аламира, отразившееся на его лице после этих слов, ей бы никогда не пришла
в голову мысль о том, что он мог разгадать ее тайну. Подошедший Осмин
прервал их разговор, и Фелима, готовая разрыдаться, удалилась в лес, унося с собой
свою боль и свою надежду, которыми могла поделиться только со своей
подругой. Ее позвала мать, решившая вернуться в Оропесу, и Фелима последовала за
ней, боясь поднять глаза на Аламира — она опасалась увидеть в них боль,
которую причинило ему требование Заиды не приезжать в Талаверу. Но еще
больше она боялась найти в его взгляде подтверждение тому, что он разгадал тайну
ее любви. Фелима, однако, с радостью отметила, что Аламир направился в
сторону лагеря и, стало быть, отказался от встречи с Заидой.
На этом месте король прервал дона Олмонда.
— Теперь понятно, — обратился он к Консалву, — почему Аламир
показался вам столь опечаленным. Он повстречался вам после встречи с Фелимой. Это
их мои всадники видели в лесу. То, что она рассказала Аламиру, позволило ему
узнать вас. Понятен теперь и смысл слов, с которыми он бросился на вас,
выхватив шпагу, и которые так заинтриговали нас.
Консалв ответил королю Леона кивком головы, и дон Олмонд продолжил
свой рассказ:
— Нетрудно догадаться, в каком состоянии провела Фелима ночь и какие
мысли занимали ее голову. Она думала о том, что предала Зайду, и, несмотря на
158
Заида. Испанская история
свою ревность, очень переживала, что причинила Аламиру боль. Она
по-женски жалела его. И при этом Фелима не могла не желать, чтобы он знал об
увлечении Заиды. Она даже расстроилась, подумав, что своей маленькой ложью
в конце разговора могла разубедить его в правдивости вырвавшихся у нее слов
о любви Заиды. Но больше всего ее беспокоило, не выдала ли она ему своих
чувств. Наутро, однако, новая беда затмила прежние беды: ей сообщили о
поединке Аламира с Консалвом, и все ее страхи сменились одним — за его жизнь.
Каждый день она посылала гонца в замок, где лежал Аламир, за известиями о его
здоровье. И когда, казалось, смертельная опасность прошла, она узнала о
решении короля казнить его в отместку за убийство принца Галисийского. Вы
видели письмо, которое я получил от нее на этих днях, с просьбой сделать все,
чтобы сохранить ему жизнь. Я сообщил ей о великодушии, с которым Консалв
откликнулся на ее мольбу. Это, пожалуй, все, и мне остается лишь заверить вас,
что никогда в одном человеке мне не доводилось видеть столько любви, столько
воли и столько горя, сколько судьба соединила в одной Фелиме.
На этом дон Олмонд закончил свое повествование. Рассказ друга наполнил
Консалва чувствами, выразить которые простыми словами невозможно. То, что
другие влюбленные узнавали от своих возлюбленных урывками, маленькими
долями на протяжении долгого времени, свалилось на него в одночасье — и любовь
Заиды, и ее нежное о нем беспокойство, и ее переживания, которых он не
замечал, а то и принимал за отчужденность. Консалв чувствовал себя наверху
блаженства. Королю тем временем пришли сообщить, что к нему пожаловали
участники переговоров о мире. Перед тем как оставить друзей, король, желая удивить
дона Олмонда, поведал ему, что Теодорих и Консалв — одно и то же лицо.
— Я вполне бы мог даже обидеться на то, что мне самому пришлось
доискиваться, кто же такой этот Теодорих, — обратился дон Олмонд к Консалву,
когда они остались вдвоем. — Наша дружба давала мне право рассчитывать на то,
что я мог бы это узнать и от вас. Меня удивляет, как вы могли подумать, что
подобное можно было скрыть от человека, который, выполняя ваши же поручения,
так много узнал о Заиде и обо всем вокруг нее происходящем. То, что вы ее
любите, я понял уже тогда, когда вы впервые заговорили о ней. Меня лишь
удивила ваша страсть с первого взгляда, которую, как мне помнится, вы всегда
отвергали. Все рассказанное мне Фелимой очень быстро убедило меня, что
человеком, которого она называла Теодорихом, мог быть только мой друг Консалв.
Но я уже отомстил вам за вашу любовь к тайнам, написав вам письмо с
легкими намеками, дабы подзадорить вас. Другой сатисфакции мне не требуется, а
радость, которую вы испытали, выслушав мое повествование, заставляет меня
окончательно забыть нанесенную мне обиду. Однако, — добавил дон Олмонд, —
нисколько не желая омрачить вашу радость, должен предупредить вас, что Заида
намерена превозмочь свои чувства и подчиниться воле отца, если, конечно, в ее
настроении не произошло каких-либо изменений в самое последнее время.
Переполненного счастьем Консалва предупреждение дона Олмонда не
насторожило. Извинившись перед другом за свою скрытность, он объяснил ему,
что просто постеснялся рассказать о своих чувствах, и удалился к себе, чтобы
Часть вторая
159
предаться давно не посещавшим его радостным мыслям. Восстанавливая в
памяти все свои злоключения, теперь он понимал, что означали услышанные им
в тортосском саду слова Заиды и почему она, глядя на него, искала сходство с
кем-то, ему не известным.
Окрыленному счастьем, ему не терпелось поскорее увидеть Зайду, и он
обратился к королю с просьбой отпустить его в Талаверу. Дон Гарсия, радуясь за
друга, дал согласие, и Консалв тут же отправился в путь, сгорая от желания
получить из уст Заиды подтверждение тому, что услышал от дона Олмонда. В
замке ему сообщили о болезни Зулемы, и, встретившая его у входа Заида
извинилась от имени отца за невозможность принять его. Каждый раз красота
Заиды поражала Консалва, и он смотрел на нее, не отрывая глаз и даже не
пытаясь скрыть своего восхищения. Заида заметила восторженный взгляд
Консалва, смутилась, покраснела, отчего показалась ему еще более прекрасной.
Пройдя вслед за ней в ее комнату, он не смог сдержать своих чувств и сразу
же заговорил о своей любви уже без той робости, которая сковывала его при
первой встрече. Заида, однако, отвечала на его пылкие слова с осторожной
сдержанностью, которая могла бы поставить его в тупик, если бы он не знал
о ее чувствах из рассказа дона Олмонда. Консалв решил приподнять завесу и
показать, что кое о чем ему известно.
— Не могли бы вы объяснить мне, сударыня, причин, — спросил он, — по
которым желали, чтобы я был тем, кого напоминаю вам?
— Этот секрет я не могу вам раскрыть, — ответила Заида.
— Разве моя любовь, преодолевшая столько преград, не дает мне права
получить из ваших уст хотя бы заверение в том, что вы желаете мне счастья? —
продолжал Консалв. — Почему вы так тщательно скрываете свои чувства?
Неужели так трудно сделать счастливым человека, который полюбил вас с
первого взгляда и на всю жизнь? Почему вместо этого вы предпочитаете
постоянно думать об арабском юноше, которого никогда не видели в глаза?
Заида была поражена этими словами и не нашлась, что ответить. Консалв,
однако, продолжал, с опаской подумав, не навредит ли он этими словами Фе-
лиме, которая открыла ему тайну Заиды:
— Не удивляйтесь, сударыня, тому, что вы слышите. Судьба распорядилась
так, что в ночь перед вашим отъездом из Тортосы я находился в саду и узнал
из ваших слов о том, что вы так немилосердно от меня скрываете.
— Боже мой, Консалв, — воскликнула Заида, — вы были в тортосском саду,
слышали мой голос и ничего мне не сказали!
— Ах, сударыня! — Консалв бросился к ее ногам. — Вы не представляете,
какое для меня счастье — услышать ваш упрек! Я вижу, что вы гневаетесь на
меня за то, что я умолчал о своем пребывании в Тортосе. Но не сожалейте,
сударыня, — воскликнул он, увидев растерянность на лице Заиды, невольно
выдавшей свои чувства, — только не сожалейте о том, что одарили меня
счастьем! Не отнимайте у меня возможности считать, что я вам небезразличен. В свое
оправдание могу лишь сказать, что, слыша ваш голос, я не мог знать, кому он
принадлежит — вы для меня находились где-то за морями, была ночь, вашего
лица я не видел, вдобавок вы говорили по-испански. Я и подумать не мог, что
160
Заида. Испанская история
вы совсем рядом. Я увидел вас в лодке на следующий день, но не мог
заговорить с вами, так как именно в тот момент меня схватили люди короля.
— Коли так случилось, я не буду разубеждать вас в смысле услышанных
вами слов. Но умоляю вас больше ни о чем меня не спрашивать и
постараться пережить неизбежную разлуку. Мне стыдно за те слова, которые не по моей
воле долетели до вашего слуха в Тортосе; мне стыдно, что я сейчас не смогла
сдержать перед вами своих чувств, и, если я располагаю над вами хоть какой-
то властью, прошу оставить меня.
Но уже ничто не могло омрачить радости Консалва. Ему было вполне
достаточно того, что Заида подтвердила свои невольно вырвавшиеся наружу
чувства. Он подчинился ее воле и отправился в лагерь, не теряя надежды, что
наступит день и все уладится.
Армия дона Гарсии одержала под руководством доблестных королевских
военачальников, в числе которых был и Консалв, ряд крупных побед, и мавры,
опасаясь худшего, согласились на все условия леонского короля. Мирный
договор был подписан, и к испанцам отошло несколько далеких крепостей. Чтобы
обезопасить жизнь короля, было решено до полного выполнения всех
договоренностей оставить часть пленных в качестве заложников. Король вознамерился
объехать отошедшие к его владениям города и, в частности, побывать в Альма-
разе. Королева, страстно любившая своего мужа, почти не покидала его с
самого начала войны. Во время осады Талаверы легкое недомогание разлучило ее с
королем, но она находилась недалеко от войска и вот-вот должна была вновь
появиться в лагере. Консалв, мечтавший о новой встрече с Заидой, предложил дону
Гарсии пригласить королеву в Талаверу, с тем чтобы она посмотрела на только
что отвоеванную крепость, а заодно и взяла в свою свиту знатных арабских дам,
оказавшихся в плену у испанцев. Герменсильда, зная о чувствах Консалва к За-
иде, с радостью откликнулась на его просьбу, желая хоть как-то искупить перед
братом вину, которую постоянно ощущала на себе со времени его несчастной
любви к Нунье Белле. Она отправилась в Талаверу, и пленницы с
удовольствием согласились провести при ней время вынужденного пребывания в Испании.
Зулеме, содержавшемуся в Талавере в качестве пленника, очень не хотелось
расставаться с Заидой. Более того, ему не нравилось, что его дочь-принцесса будет
находиться в окружении королевы наравне с другими арабскими дамами.
Однако скрепя сердце он отпустил Зайду, к невыразимой радости Консалва, который
ни о чем, кроме как о встрече с возлюбленной, не мог думать. В день приезда
королевы в Талаверу дон Гарсия выехал ей навстречу. Герменсильда ехала верхом
в окружении свиты, и, как только приблизилась к королю, представила ему
Зайду, которая выглядела особенно восхитительно в нарядном одеянии, специально,
видимо, подобранном, чтобы еще больше поразить своей красотой воображение
Консалва. Изысканность ее манер, тонкий ум и природная застенчивость
произвели на всех неотразимое впечатление. При дворе к ней сразу же стали
относиться, как того заслуживали ее высокое происхождение и ни с чем не сравнимая
красота. В свою очередь, ее также восхитили величие и роскошь дворцовой жизни.
Консалв не отрывал от нее глаз. Уверенный в ее любви, он не допускал даже
мысли, что на его пути к счастью могут возникнуть еще какие-то преграды. Он
Часть вторая
161
полюбил ее за красоту, но сейчас, узнав ее душевные качества, благородство ее
натуры, он просто боготворил ее. Он настойчиво искал встреч наедине, но она
с той же настойчивостью избегала их. Однажды ему все-таки удалось застать ее
одну в покоях королевы. Стараясь не обидеть ее своей назойливостью, он тем не
менее так страстно и так искренне умолял ее открыть свои чувства, что она не
выдержала и уступила его просьбе.
— Если бы я могла скрыть от вас свои чувства, — сказала она ему, — я бы
сделала это, несмотря на все мое к вам уважение. Мне бы тогда не пришлось
корить себя за то, что я вселила надежду в человека, которому не
предназначена. Но поскольку вы узнали о них сами, я готова подтвердить, что вы мне
небезразличны, и объяснить то, о чем вы скорее всего только догадываетесь.
И она поведала ему о том, что ему уже было известно из рассказа дона
Олмонда о предсказаниях Альбумасара и решении Зулемы.
— Мне остается, — закончила она свое повествование, — смириться со своей
судьбой и посочувствовать вам. Я верю в ваше благоразумие и не сомневаюсь,
что вы не будете требовать от меня нарушения воли отца.
— Позвольте мне, сударыня, хотя бы надеяться, что, если ваш отец изменит
свое решение, вы не пойдете против его воли.
— Не знаю, подчинюсь ли я его воле, если он изменит свое решение, но думаю,
что лучше мне этого не делать, так как речь идет о счастье всей моей жизни.
— Если вы полагаете, судырыня, — продолжал Консалв, — что, одарив меня
счастьем, сами останетесь несчастной, тогда вы должны поступить так, как
считаете нужным, но, осмелюсь заметить, что, если вы испытываете ко мне
чувства, которые вселяют в меня радость и надежду, то нет никаких оснований
думать, что вас ждет несчастная жизнь. В таком случае вы также ошибаетесь,
как ошибался я во время нашего пребывания у Альфонса, видя порой в ваших
глазах благосклонное ко мне отношение.
— Не стоит говорить о том, что мы оба думали в то время, — ответила Заи-
да, — и не напоминайте мне о моих заблуждениях, заставлявших меня страдать
при виде вашей грусти, которую я связывала с вашими чувствами к другой
женщине. С момента нашей встречи в Талавере я знаю причины, которые
вынудили вас покинуть королевский двор в Леоне, но я и сегодня не уверена, что вы тут
же не начинаете вздыхать по Нунье Белле, как только расстаетесь со мной.
Консалв был рад воспользоваться случаем и развеять все сомнения Заиды. Он
рассказал ей, в каком душевном состоянии находился, когда впервые увидел ее,
через какие прошел муки, не имея возможности описать ей свои переживания, и
чего он только не передумал, выискивая причины ее печали, и под конец добавил:
— И все-таки в какой-то мере я был прав, полагая, что у меня есть соперник,
которым оказался принц Тарский.
— Он действительно любит меня, — ответила Заида, — и мой отец был
согласен, чтобы я вышла за него замуж, пока я не нашла в его коллекции портрет.
Он бережно хранит его, так как убежден, что я предназначена тому, кто на нем
изображен.
— И вы, сударыня, решили выполнить волю отца и выйти замуж за того, на
кого я похож. Если моя внешность вас не отталкивает, значит, вам не будет
11. Заказ №К-6559
162
Заида. Испанская история
неприятен и тот, с кого сделан портрет, и вы с легким сердцем согласитесь
стать женой моего соперника. Такое несчастье может выпасть только на мою
долю. Неужели вас нисколько не волнует моя судьба?
— Дело не во мне, — ответила Заида, — а в том, что вы родились испанцем.
Даже если бы я была вам предназначена, как вы того желали бы, и даже если
бы мой отец ничего не имел против вас, ваше испанское происхождение
запретило бы ему занять вашу сторону.
— Позвольте мне хотя бы поговорить с ним, сударыня, — взмолился Кон-
салв. — Видя вашу неприязнь к Аламиру, Зулема не стал настаивать на том,
чтобы вы вышли замуж за человека одной с ним веры. Может быть, и словам
Альбумасара он не придает такого уж большого значения, какое вы ему
приписываете? Дайте мне возможность сделать все, чтобы обрести свое счастье.
Без вас моя жизнь не имеет никакого смысла.
— Против разговора с отцом я не возражаю, и, поверьте мне, я очень хочу,
чтобы ваши усилия не оказались тщетными.
Консалв, не мешкая, отправился к королю в надежде заручиться его
поддержкой в решении такой деликатной проблемы, как уговорить Зулему выдать свою
дочь замуж за иноверца. Дон Гарсия предложил возложить эту миссию на дона
Олмонда, как ближайшего друга Консалва и человека, умеющего, как никто
иной, вести переговоры на щекотливые темы, и продиктовал ему письмо, в
котором так настойчиво просил Зулему выдать свою дочь за Консалва, как
будто речь шла о нем самом. Однако ни письмо короля, ни дипломатические
способности дона Олмонда делу не помогли. Зулема поблагодарил за оказанную
ему высокую честь, отметил благородство дона Гарсии, который мог бы
распорядиться судьбой его дочери, находящейся у него в плену, по своему
усмотрению, но выдать ее замуж за человека чужой веры не пожелал. Расстроенный
Консалв, опасаясь, как бы этот неутешительный ответ не повлиял на чувства
Заиды, скрыл его от нее, сказав лишь, что не теряет надежды и постарается во
что бы то ни стало добиться своего счастья.
Тем временем в Оропесе скончалась долго болевшая мать Фелимы,
принцесса Беления. Осмину и Зулеме позволили по этому случаю перебраться в Талаверу
и оставаться там до тех пор, пока по условиям договора им не будет разрешено
отбыть на родину, а при дворе появилась Фелима. Выглядела она больной и
измученной, душевные страдания лишили ее прежней красоты. При встрече с Кон-
салвом, известном ей только по имени, Фелима поразилась, признав в нем Тео-
дориха, который вместе с другом приютил их с Заидой после кораблекрушения.
Она знала, что именно Консалв нанес незаживаемые раны Аламиру, и не могла
слышать это имя без содрогания. Фелима похолодела, вспомнив то, что она
говорила Аламиру в лесу под Оропесой — из сказанных ею тогда слов Аламир
узнал о Консалве, и они могли послужить причиной их поединка.
Аламира к тому времени отправили в Альмараз, и Фелима могла каждый
день справляться о его здоровье. Это небольшое утешение не умаляло ее
безмерного горя, которое она уже не скрывала и причину которого окружающие
усматривали в смерти матери. Аламиру, которому помогала бороться за жизнь
его молодость, стало тем не менее совсем плохо, и врачи потеряли всякую на-
Часть вторая
163
дежду. Фелима находилась в компании Заиды и Консалва, когда прибывший
слуга умирающего принца попросил Зайду принять его. Заида пришла на
какое-то мгновение в замешательство, покраснела, но, взяв себя в руки, приказала
впустить посланца и громко спросила, с каким поручением он прибыл.
— Мой господин, сударыня, — на пороге смерти, — ответил слуга. — Он
нижайше просит вас навестить его в последние минуты жизни и надеется, что вы
удостоите умирающего этой маленькой милости.
Слова посланца тронули Зайду. Застигнутая врасплох, она замешкалась с
ответом и посмотрела на Консалва, как бы спрашивая его, что ей делать. Кон-
салв промолчал, но по его взгляду она поняла, что он ждет ее ответа с
опасливой настороженностью.
— Я очень сожалею, — ответила она гонцу, — но мне приходится отказать
вашему господину в его просьбе. Если бы от моего присутствия зависела его
жизнь, я с радостью бы приехала к нему, но боюсь, что помочь ему может
только Господь Бог. Передайте ему, что я не смею поступить иначе и очень
опечалена его тяжелым состоянием.
Получив отказ, посланец удалился. Фелиму охватила боль, но она не
проронила ни слова. Заида также молчала, разделяя печаль подруги и думая о
горькой участи принца Тарского. Сердце Консалва разрывалось между
благодарностью Заиде за решение, которое она приняла сама, без малейшей с
его стороны подсказки, и чувством вины перед умирающим принцем,
который из-за него лишился возможности в последний раз увидеть любимую
женщину.
Все трое были еще погружены в переживания, когда посланец Аламира
вернулся и обратился с той же просьбой к Фелиме, предупредив ее, что время не
ждет, так как его господин очень плох. Фелима, у которой едва хватило сил,
чтобы подняться, оперлась о руку посланца и последовала за ним. Придя в
комнату Аламира, она села у постели и в покорном молчании приготовилась
выслушать его последние слова.
— Я очень рад, сударыня, — сказал принц Тарский, — что вы не
последовали жестокосердному примеру Заиды и удостоили меня своим появлением. Это
для меня последнее утешение после того, как Заида отвергла мою просьбу
навестить меня. Прошу вас, сударыня, передать ей, что она поступила разумно,
сочтя мою персону не заслуживающей чести, которой хотел удостоить меня
Зулема, согласившись отдать мне ее руку. Мое сердце давно сгорело в пустых
увлечениях и недостойно сердца Заиды. Но если непостоянство, от которого я
излечился сразу, как только увидел Зайду, можно искупить страстью,
сделавшей меня совершенно другим человеком, и любовью, научившей меня
относиться к женским чувствам с уважением, то я, как мне кажется, сударыня,
полной мерой заплатил за свое легкомыслие. Умоляю вас, убедите ее, что она для
меня — превыше всего и что я умираю не столько от ран, полученных от
Консалва, сколько от боли, которую причиняет мне ее любовь к нему. В оропесском
лесу вы мне сказали правду о ее чувствах, и я поверил вам, хотя поначалу и
заявил, что такого быть не может. Когда мы с вами в лесу расстались, я думал
только о Консалве, и судьба свела меня с ним. Его сходство с портретом, ко-
164
Заида. Испанская история
торый вы мне показали, и ваш рассказ о нем, сразу убедили меня, что передо
мной Консалв. Я представился ему, и между нами вспыхнул бой, в котором он
дрался с неистовством влюбленного, твердо знающего, что перед ним его
соперник. Я также понял, что не ошибся, распознав в нем избранника Заиды. Да,
он достоин ее руки. Я завидую ему и не считаю, что он незаслуженно завоевал
ее сердце. Я умираю, безропотно унося в могилу все свои беды, мне жаль лишь,
что Заида лишила меня возможности увидеть ее в последний раз.
Слова Аламира нестерпимой болью пронзили сердце Фелимы. Она
пыталась что-то сказать, но ее душили рыдания. Наконец срывающимся голосом и
преисполненная нежности она вымолвила:
— Поверьте мне, дорогой Аламир, если бы я была на месте Заиды, на всем
белом свете для меня существовал бы только принц Тарский.
Несмотря на боль, Фелима нашла в себе силы произнести эти слова, но
отвернула голову, чтобы скрыть залитое слезами лицо и не видеть глаз Аламира.
— Увы, сударыня, — сказал он, — я узнал правду слишком поздно.
Признаюсь вам, тогда, в лесу, мне показалось, что я разгадал вашу тайну, которая
полностью открылась мне только сейчас, но я был в тот момент настолько
расстроен и вы так убедительно постарались потом придать своим словам иной
смысл, что я едва обратил внимание на ваше откровение. Простите мне мою
непонятливость и не сомневайтесь, что прежде всего я наказал сам себя. Я не
заслужил права на счастье и только теперь осознал, что если бы...
Силы оставили Аламира. Он не произнес больше ни слова и лишь слегка
повернул голову в сторону Фелимы, как бы прощаясь с ней. Веки его сомкнулись,
и душа покинула его. У Фелимы уже не было слез плакать. Оцепенев от горя,
она продолжала смотреть в лицо принца, пока служанки не увели ее из
комнаты, в которой обосновалась смерть. Она молча вернулась к себе, но при виде
Заиды боль вновь пронзила ее и с горечью в голосе она обратилась к подруге:
— Вы можете быть довольны, сударыня, — Аламир умер. Аламир умер, —
повторила она и, как бы для себя, продолжала: — Больше я его не увижу и
навсегда должна расстаться с надеждой на его любовь. Моя любовь теперь
бессильна привязать его ко мне, и мои глаза никогда больше не увидят его глаз.
Только его присутствие помогало мне переносить страдания. Вернуть его никто
не в силах. Ах, сударыня, — Фелима вновь обратилась к Заиде, — как могло
случиться, что вы полюбили кого-то другого, а не Аламира? Как это было
бесчеловечно! Он боготворил вас. Что вам могло в нем не понравиться?
— Но, дорогая Фелима, — мягким голосом ответила Заида, — вы же знаете,
что это только усугубило бы ваши страдания. Прежде всего вы боялись моей
к нему любви. Разве не так?
— Да, это так, сударыня. Конечно же я не хотела, чтобы вы дали ему
счастье, но я и не хотела, чтобы он умер из-за вас. Боже мой, почему я так
тщательно скрывала от него свою любовь? Может быть, он обратил бы на меня
внимание, может быть, это отвлекло бы его от вас? Что пугало меня? Почему я не
хотела, чтобы он знал о моих чувствах? Мне остается утешать себя тем, что он
догадывался о них. Конечно, если бы я призналась, он притворился бы, что
любит меня, и тут же изменил бы мне, с чего он, собственно, и начал. Ну и что
Часть вторая
165
из этого? Все равно, те редкие моменты, когда он хотел уверить меня в своей
привязанности, останутся в моей памяти самыми дорогими минутами всей моей
жизни. Неужели после стольких страданий я должна пережить еще самое
страшное — его смерть? Надеюсь, что Бог смилостивится надо мной и не даст
мне сил вынести это горе.
В это время в дверях комнаты появился Консалв. Не зная, что в комнате
находится Фелима, он пришел осведомиться о ее состоянии. Увидев ее, он
хотел тут же удалиться, чтобы не усугублять своим присутствием ее боли, но она
успела заметить его и закричала голосом, от которого содрогнулось бы самое
бесчувственное сердце:
— Ради бога, Заида! Избавьте меня от присутствия человека, отнявшего у
Аламира не тольку ту, которую он любил больше жизни, но и саму жизнь.
Крик боли лишил ее последних сил, и она потеряла сознание. Обморок
Фелимы очень испугал окружающих, которые знали, что за последнее время
ее здоровье сильно пошатнулось. Предупрежденные о случившемся, король и
королева пришли к ней в комнату, и дон Гарсия приказал послать за
лучшими лекарями, которым понадобилось несколько часов, чтобы с помощью им
одним известных снадобий привести ее в чувство. Из всех, кто стоял у ее
постели, она узнала только залитую слезами Зайду.
— Не печальтесь обо мне, — сказала Фелима, еле шевеля губами. — Все равно
нашей дружбе пришел бы конец, так как я никогда не простила бы убийцу
Аламира.
Это были ее последние слова. Она вновь впала в забытье и больше в себя
не приходила. На следующий день в тот же час, что и Аламир накануне,
Фелима умерла.
Смерть Фелимы и Аламира оплакивал весь королевский двор. Больше всех
переживала Заида — она любила Фелиму как сестру, а причина смерти подруги
легла на ее сердце тяжелым камнем. Консалв целыми днями не отходил от нее,
пытаясь отвлечь от тягостных мыслей. Более или менее она пришла в себя лишь
тогда, когда подошло время возвращения пленных на родину. Новая боль
закралась в ее сердце — близился час расставания с Консалвом. Король уже
вернулся в Леон, и для отъезда Зулемы в Африку оставалось лишь обговорить кое-
какие мелочи, предусмотренные мирным договором. Зулема, однако, заболел, и
его отъезд был отложен. От Заиды болезнь отца скрыли, чтобы оградить ее от
новых переживаний после только что перенесенной утраты самой близкой
подруги. Консалв не находил себе места, стараясь склонить Зулему на свою
сторону, и даже уговаривал Зайду остаться вопреки воле отца в Испании — он считал,
что Заида не нарушит этим законов благочестия, так как она пока еще не
обращена в мусульманскую веру. Через несколько дней после того, как все
придворные собрались в Леоне, Консалв зашел в покои королевы и застал Зайду,
которая, склонившись над портретом из коллекции отца, рассматривала
изображение красивого юноши с таким вниманием, что даже не заметила его появления.
— Вы с таким интересом вглядываетесь в портрет, сударыня, что я готов
ревновать вас к моему собственному изображению.
— К вашему изображению? — воскликнула с удивлением Заида.
166
Заида. Испанская история
— Да, сударыня, к моему изображению, — ответил Консалв. — Я понимаю,
что в это трудно поверить — настолько, не чета мне, юный араб красив, — но,
уверяю вас, портрет, который перед вашими глазами, сделан с меня.
— Скажите, Консалв, нет ли у вас другого портрета с вашим
изображением? — осторожно спросила Заида.
— О, сударыня! — воскликнул Консалв голосом, в котором зазвучала
надежда. — Смысл ваших слов говорит о том, во что я боюсь поверить и о чем не
осмеливался сказать вам. Да, сударыня, есть и другие сделанные с меня
портреты, подобные тому, который вы держите в руках. Но я не мог не тешить себя
мыслью, которую разгадал сейчас в ваших словах и которая давно пришла мне
в голову, так как я никогда не верил предсказаниям астрологов, а вы к тому же
говорили, что юноша на портрете одет в арабскую одежду.
— Да, именно платье юноши убедило меня, что он араб, а слова Альбумасара
укрепили меня в этом убеждении. Если бы вы знали, как я желала, чтобы вы
были тем, кто изображен на портрете. Но тогдашние мои подозрения просто
мешали мне на что-либо надеяться. Как только я увидела вас в доме
Альфонса, я сразу же поделилась с Фелимой своими предположениями. А когда
увидела вас в Талавере, вновь подумала об этом, но решила, что это лишь
отражение моих желаний. — Заида немного помолчала и добавила: — Но как
убедить отца, что это ваш портрет? Когда Зулема узнает, что, по предсказаниям
Альбумасара, мой нареченный — испанец, а не человек его веры, он тут же
перестанет в них верить.
В этот момент вернулась королева, и ликующий Консалв поделился с ней
только что сделанным открытием. Королева, в свою очередь, поспешила
сообщить радостную весть королю, который тут же явился и предложил
немедленно довести дело до счастливого конца. Они долго ломали головы над тем, как
уговорить Зулему, и порешили пригласить его в Леон. Нарочный, посланный
в Талаверу, передал ему приглашение короля посетить леонский дворец, и
Зулема не замедлил отправиться в путь. Через несколько дней он уже был в
Леоне, и король, принявший отца Заиды с большими почестями, препроводил его
в свой кабинет.
— Вы отказались отдать руку вашей дочери самому уважаемому мною
человеку, — сказал дон Гарсия, — но я надеюсь, что вы не откажете тому, кто
изображен на этом портрете и кому, как мне известно, Альбумасар предрек быть
ее мужем.
Король протянул Зулеме портрет и представил ему Консалва, стоявшего
несколько поодаль. Зулема посмотрел на портрет, затем перевел взгляд на
Консалва и погрузился в глубокое раздумье. Дон Гарсия принял молчание Зу-
лемы за недобрый знак и вновь обратился к нему:
— Если вас не убеждает сходство этого молодого человека, — король указал
на Консалва, — с изображением на портрете, у нас есть другие доказательства,
которые, возможно, будут для вас более убедительными. Портрет, который
находился в вашей коллекции и который похож как две капли воды на этот
портрет, мог попасть в ваши руки только после битвы с маврами, в которой
потерпел поражение Нуньес Фернандо, отец Консалва. Дон Фернандо заказал
Часть вторая
167
портреты сына замечательному художнику, объездившему немало стран.
Арабские одеяния настолько восхитили этого художника, что он изображал в них
всех, чьи портреты ему приходилось писать.
— Да, сеньор, — ответил наконец Зулема, — это так. Портрет попал в мою
коллекцию именно после этого сражения. Верно и то, что слова вашего величества,
как и сходство Консалва с юношей на портрете, не позволяют мне усомниться в
том, кого изобразил художник. Но задумался я совсем не об этом — я чту
законы Всевышнего и верю в Провидение, но никаких предсказаний Альбумасар не
делал, и его слова о портрете, которые, как я вижу, дошли и до вас, были
сказаны с целью, Заиде неизвестной, и она приняла их за чистую монету.
Поскольку, однако, вы проявляете о ее судьбе такую заботу, позвольте мне, сеньор,
рассказать вам то, что вы можете узнать только от меня, и счастье моей дочери
будет зависеть от того, как вы решите, выслушав мое повествование. Мой отец,
имевший все основания стать во главе халифата, был отправлен его
противниками на Кипр, и я последовал за ним. На острове я встретил Аласинтию и
полюбил ее. Она была христианкой, и я решил принять ее веру. Христианство
казалось мне самой справедливой религией, но меня пугали его суровые законы, и я
все время откладывал исполнение своего замысла. Халиф позвал меня к себе в
Африку, и очень скоро легкая жизнь и свободные нравы настолько захватили
меня, что я забыл о своем прежнем решении и стал ярым защитником своей
веры. Долгие годы я даже не вспоминал об Аласинтии, но в конце концов
загрустил и пожелал увидеть и ее, и Зайду, которую оставил совсем ребенком. Мне
в голову взбрела мысль забрать дочь к себе, обратить ее в свою веру и выдать
замуж за принца Фесского из рода Идрисов, который был наслышан о красоте
Заиды. Он воспылал к ней страстью еще до того, как увидел ее, и заручился
согласием отца — одного из моих ближайших друзей. Война на Кипре
поторопила меня, я отправился на остров и встретил там принца Тарского, влюбленного
в мою дочь. Принц приглянулся мне своей внешностью, и я был уверен, что За-
ида полюбит его и не замедлит согласиться выйти за него замуж. Никаких
твердых заверений принцу Фесскому я не давал, тем более что его мать была
христианкой, и я опасался, как бы она не воспротивилась обращению Заиды в нашу
веру. Одним словом, я пообещал Аламиру отдать дочь за него. К моему
удивлению, она невзлюбила его. В течение всей осады Фамагусты я всячески
уговаривал ее подчиниться моей воле, но мои уговоры ни к чему не привели, и я
отступился, сочтя, что насильно мил не будешь и что по возвращении в Африку я
выдам ее за принца Фесского, как и было решено ранее. Он часто присылал мне
на Кипр письма, и я знал, что его мать умерла, а с ее смертью отпали и
последние препятствия, которые могли помешать моим замыслам. Нам наконец
удалось покинуть Фамагусту, и по пути мы остановились в Александрии — мне
захотелось повидать своего старого знакомого, астролога Альбумасара. Во время
одной из наших встреч, на которой присутствовала и Заида, он заметил, что она
внимательно и с нескрываемым интересом рассматривает портрет, подобный
тому, какой вы мне сейчас показали. На следующий день я рассказал ученому,
что Заида невзлюбила Аламира и поэтому-де решил выдать ее замуж за
принца Фесского, независимо от того, понравится он ей или нет.
168
Заида. Испанская история
— Я не думаю, что он будет ей неприятен, — сказал мне Альбумасар. —
Юноша, изображенный на портрете, очень похож на принца Фесского, и
вполне возможно, что это именно он.
— Не могу судить, так как никогда не видел принца, — ответил я. — К тому
же портрет попал ко мне совершенно случайно. Хочу лишь, чтобы принц Фес-
ский понравился Заиде, а если она опять закапризничает, я не пойду ни на
какие уступки, как это было с принцем Тарским.
Спустя несколько дней дочь обратилась к Альбумасару с просьбой открыть
ей ее судьбу. Зная мои намерения и полагая, что красивый арабский юноша и есть
принц Фесский, ученый сказал Заиде, что она предназначена тому, кто
изображен на портрете, но при этом не выдавал своих слов за пророчество. Я сделал
вид, что принимаю эти слова за предсказание, услышанное из уст человека,
способного заглядывать в будущее, и всегда напоминал об этом дочери. Когда мы
покидали Александрию, Альбумасар, прощаясь со мной, усомнился в том, что
наша маленькая хитрость удастся, но я не терял надежды. Во время болезни, от
которой я только что оправился, меня вновь посетила мысль принять религию,
показавшуюся мне когда-то единственно верной, и с тех пор эта мысль не дает
мне покоя. Должен признаться, что сомнения не покидали меня и по сей день.
Но сейчас я отдаюсь воле Всевышнего. Он подсказал мне, что если я хотел с
помощью обманного пророчества выдать свою дочь замуж за человека своей веры,
то, повинуясь подлинному пророчеству, я обязан выдать ее за человека ее веры.
Альбумасар ошибся насчет изображенного на портрете юноши и не вкладывал
в свои слова какого-то особого смысла, но верно передал волю Божью — Заида
предназначена тому, кого изобразила рука художника. Это истинное
предсказание воплотится в жизнь счастьем моей дочери, руку которой я отдаю самому
достойному на земле человеку. Единственное, что мне остается, — это просить
ваше величество удостоить меня чести быть в числе ваших подданных и
позволить мне провести остаток жизни в вашем королевстве.
Король и Консалв были настолько поражены и тронуты услышанным, что
смогли лишь молча обнять Зулему, не находя слов для выражения
переполнявших их чувств. Радуясь от души счастливому завершению длинной цепи
событий, порой печальных и даже трагических, они еще долго не расставались и
продолжали беседовать. Консалва не удивила ошибка Альбумасара. Он знал,
что многие совершали ее, путая его изображение на портрете с принцем Фес-
ским. Он рассказал Зулеме, что мать принца была сестрой его отца, Нуньеса
Фернандо, и во время одного из набегов мавры захватили ее в плен и увезли
в Африку, где она покорила своей красотой отца принца Фесского и стала его
женой.
Покинув кабинет дона Гарсии, Зулема поспешил сообщить обо всем
случившемся дочери, счастье которой было беспредельно — она воспылала к Консалву
еще большей страстью. А через несколько дней Зулема принародно принял
христианство, и королевский двор занялся приготовлениями к свадьбе, которая
явила собой верх испанской галантности и арабской изысканности.
ИСТОРИЯ
ГЕНРИЕТТЫ АНГЛИЙСКОЙ,
ПЕРВОЙ ЖЕНЫ
ФИЛИППА ФРАНЦУЗСКОГО,
ГЕРЦОГА ОРЛЕАНСКОГО
Генриетта Французская1, вдова Карла I2, короля Англии, в силу
обрушившихся на нее несчастий вынуждена была удалиться во Францию, выбрав
местом своего прибежища монастырь Пресвятой Девы Марии в Шайо3. Ее
влекла туда красота местности, но еще более — дружеские чувства к матери
Анжелике4, настоятельнице монастыря5. Особа эта появилась при дворе совсем юной
и стала фрейлиной Анны Австрийской, жены Людовика XIII6.
Государь, чьи увлечения отличались полнейшей невинностью, влюбился в
нее, и она отвечала на его страсть весьма нежной дружбой и такой великой
преданностью за то доверие, которым он ее почтил, что выдержала испытание,
устояв перед всеми заманчивыми предложениями кардинала Ришелье7.
Поняв, что он ничем не в силах привлечь Луизу-Анжелику, министр,
полагаясь на некую видимость, решил, будто ею управляет епископ Лиможский, ее
дядя8, связанный с королевой при помощи госпожи де Сенсей. И тогда
Ришелье задумал погубить ее, вынудив оставить двор. Он склонил на свою сторону
главного камердинера короля, которому оба они полностью доверяли, и
заставил его и с той, и с другой стороны передавать вещи, ни в коей мере не
соответствовавшие действительности. Луиза была молода и неопытна и верила
всему, что ей говорили. Она вообразила, будто король собирается покинуть ее,
и бросилась в монастырь Пресвятой Девы Марии. Король приложил все
старания, чтобы вызволить ее оттуда. Он ясно доказал ее ошибку и заблуждение
относительно того, что ей подумалось, но Луиза осталась непреклонной и
приняла монашество, как только позволило время.
Король сохранил к ней глубокие дружеские чувства и полностью доверял
ей. Даже в монашестве Луизу-Анжелику весьма почитали, и вполне
заслуженно. Я вышла замуж за ее брата. За несколько лет до свадьбы, часто бывая в
монастыре, я встретила там юную английскую принцессу, ум и достоинства
которой очаровали меня. Знакомство это подарило мне честь ее дружеского
расположения; я всегда имела свободный доступ к ней, даже после того, как она
сочеталась браком; и хотя я была на десять лет старше нее, она до самой
смерти выражала мне свою благосклонность и добрые чувства и относилась ко мне
с большим уважением.
Принцесса никогда не посвящала меня в некоторые дела. Но после того, как
они уходили в прошлое, получая довольно широкую огласку, ей доставляло
удовольствие рассказывать мне о них.
172
История Генриетты Английской...
Однажды, в 1664 году, когда граф де Гиш9 находился в изгнании, она
поведала мне о довольно необычных обстоятельствах его страсти к ней. «Вам не
кажется, — сказала она, — что если бы все случившееся со мной и все, что имело
к этому отношение, было записано, получилась бы прелестная история? У вас
хороший слог, — добавила она. — Напишите, я предоставлю вам неплохие
мемуары».
Я с удовольствием восприняла эту мысль, и мы составили план нашей
истории, той, какую вы здесь найдете.
В течение определенного времени, когда я заставала принцессу одну, она
рассказывала мне об очень личных вещах, о которых я не знала. Но вскоре эта
фантазия у нее прошла, и то, что я начала писать, так и осталось
незавершенным; четыре или пять лет она даже не вспоминала об этом.
В 1669 году король направился в Шамбор;10 принцесса же осталась в Сен-
Клу, где собиралась родить герцогиню Савойскую, ныне правящую11. Я
находилась подле нее. Народу было мало; она вспомнила о нашем плане написать
эту историю и сказала, что надо снова за нее взяться. И поведала мне о
дальнейшем развитии событий, о которых рассказывала ранее. Я снова принялась
писать. Утром я показывала ей то, что сделала по вчерашним рассказам; она
горячо одобряла написанное. Работа оказалась довольно трудной: в некоторых
местах надо было так преобразить истину, чтобы она была узнаваема и в то же
время неоскорбительна или неприятна для принцессы. Она подшучивала надо
мной в тех местах, которые представляли для меня наибольшую трудность, и
так вошла во вкус работы, что во время моего двухдневного путешествия в
Париж сама запечатлела то, что я отметила как написанное ее рукою и что
храню до сих пор.
Король вернулся; принцесса покинула Сен-Клу, и наш труд был заброшен.
На следующий год она поехала в Англию, а через несколько дней после
своего возвращения, оказавшись в Сен-Клу, принцесса непостижимым образом
рассталась с жизнью, что всегда будет вызывать удивление у тех, кто об этом
прочтет. Я имела честь находиться подле нее, когда произошло роковое
событие. Я испытала самые горькие чувства, какие только можно испытать при виде
того, как умирает прелестнейшая из принцесс, одарившая меня своею
благосклонностью. Утрата эта из числа тех, что никогда не забываются, оставляя
горечь на всю жизнь.
Смерть принцессы отняла у меня всякое желание продолжать эту историю,
и я описала лишь обстоятельства ее смерти, свидетельницей которых стала.
История
Мир между Францией и Испанией был заключен12, бракосочетание короля
после немалых трудностей состоялось, и кардиналу Мазарини,
прославленному тем, что он дал Франции мир, не оставалось, казалось бы, ничего иного, как
наслаждаться теми высотами, коих он достиг, следуя своей счастливой судьбе.
Никогда еще правящий министр не обладал столь неоспоримым могуществом
История Генриетты Английской...
173
и никогда еще министр так хорошо не пользовался своим могуществом для
укрепления собственного величия.
Во время своего регентства королева-мать отдала ему всю полноту
королевской власти — чересчур тягостного бремени для ее слишком ленивой натуры.
По достижении совершеннолетия король обнаружил эту власть в руках Маза-
рини и не имел ни сил, ни даже, может быть, потребности отобрать ее у того.
Волнения, спровоцированные скверным поведением кардинала, ему
представляли как следствие ненависти принцев к министру, пожелавшему поставить
преграды их амбициям; ему внушали, что министр — единственный человек,
державший бразды правления государства во время сотрясавшей его бури, чье
достойное поведение спасло, быть может, оное государство от гибели.
Подобное соображение, подкрепленное к тому же покорностью, впитанной
с молоком матери, давало кардиналу власть над сознанием короля, еще более
абсолютную, нежели та, которая распространялась на сознание королевы.
Звезда, наделившая Мазарини всей полнотой власти, не обошла стороной даже
любовь. И король не смог оставить свое сердце за пределами семейного
круга столь удачливого министра; с ранней юности он отдал его третьей из
племянниц кардинала, мадемуазель де Манчини13, и если по достижении более зрелого
возраста забрал его, то для того лишь, чтобы целиком вручить четвертой
племяннице, носившей то же самое имя — Манчини;14 он до такой степени
подчинился ей, что она, можно сказать, стала госпожой государя, которого с той поры
мы видели господином своей возлюбленной и ее любви.
Та же самая счастливая звезда кардинала Мазарини сумела привести к
поразительному результату. Во Франции были подавлены остатки раздоров и
заговоров. Всеобщий мир положил конец войнам за пределами страны. И
перед королевой кардинал частично выполнил свои обязательства: он в конечном
счете добился бракосочетания короля (к которому она так страстно
стремилась), хотя полагал, что это противоречит его собственным интересам.
Однако женитьба короля оказалась для него благоприятной: спокойное, мягкое
расположение духа королевы не оставляло места опасениям, что она может
попытаться отнять у него управление государством. Словом, для полноты счастья
кардиналу требовалась лишь его продолжительность во времени, которого ему
как раз и не хватило.
Смерть прервала его безмятежное блаженство спустя короткое время
после возвращения из путешествия, завершившегося подписанием мира и
бракосочетанием, Мазарини умер в Венсеннском лесу15 с твердостью духа скорее
философской, нежели христианской.
После смерти он оставил несметные богатства. В качестве наследника
своего имени и своих сокровищ Мазарини выбрал сына маршала де Ламейре;
женил его на Гортензии, самой красивой из своих племянниц16, и передал в его
пользу все предприятия, зависевшие от короля, точно так же как и свое
собственное достояние.
Король тем не менее благосклонно отнесся к его распоряжению, равно как
и к тому, которое кардинал сделал перед кончиной, — касательно
распределения в дальнейшем должностей и бенефиций. Словом, и после смерти тень кар-
174
История Генриетты Английской...
динала по-прежнему властвовала над всем, и король, казалось, собирался
руководствоваться в своих поступках чувствами, которые он внушал ему.
Смерть Мазарини породила великие надежды у тех, кто мог претендовать
на пост министра. Они, видимо, полагали, что король, который прежде
беспрекословно позволял управлять и теми вопросами, кои относились к
государственным, и теми, что касались непосредственно его особы, охотно согласится на
правление министра, который пожелает заниматься лишь общественными
делами и не станет вмешиваться в его частную жизнь.
Им и в голову не могло прийти, что человек способен до такой степени
измениться: никогда не препятствуя исполнению королевской власти первым
министром, он захочет забрать в свои руки и королевскую власть, и функции
первого министра.
Поэтому многие мужчины надеялись получить какую-то долю в делах, а
многие дамы, примерно по тем же причинам, очень надеялись приобрести
частичку благосклонности короля. Они видели, как страстно он любил
мадемуазель де Манчини и какой неоспоримой властью, казалось, пользовалась она
над ним, — ни одна любовница никогда не владела сердцем своего
возлюбленного столь безраздельно. Они надеялись, что, обладая большими чарами,
добьются, по крайней мере, такого же влияния, и многие уже брали за образец
для своего состояния богатство герцогини де Бофор17.
Однако, дабы лучше разобраться в положении дел, сложившемся при дворе
после смерти кардинала Мазарини, и в последующем развитии событий, о коих
нам предстоит рассказать, придется в нескольких словах описать особ
королевского дома18, министров, которые могли претендовать на управление
государством, и дам, которые могли надеяться на королевскую благосклонность.
По своему положению королева-мать занимала главенствующее место в
королевском доме и на первый взгляд должна была держать его своим
авторитетом. Но та же природа, которая сделала для нее королевскую власть
тягостным бременем в то время, когда она целиком находилась в ее руках,
помешала ей взять хотя бы часть этой власти, когда она уже перешла в другие
руки. Разум королевы-матери был встревожен и устремлен к делам при
жизни короля — ее супруга, но как только она получила возможность
распоряжаться и собой, и королевством, все ее помыслы обратились к жизни тихой,
заполненной благочестивыми заботами и молитвами; ко всему же остальному
она относилась с величайшим равнодушием. Зато была чувствительна к
дружескому расположению своих детей. Она растила их подле себя с
материнской нежностью, вызывавшей порою ревность тех, с кем они делили свои
удовольствия. Итак, королева-мать бывала рада, если дети проявляли к ней
внимание, зато была совершенно неспособна взять на себя труд употребить по
отношению к ним настоящую власть.
Молодая королева — особа двадцати двух лет, весьма привлекательная на
вид, ее даже можно было бы назвать красивой, но никак не приятной. Малое
время, проведенное ею во Франции, и мнения, какие о ней высказывались до
того, как она приехала, стали причиной почти полного неведения о ней; по
крайней мере, не обнаружив в ее характере честолюбивых наклонностей, о которых
История Генриетты Английской...
175
ходило столько слухов, никто не мог сказать, что знает ее. Каждому было ясно,
что она полностью сосредоточена на своей безумной страсти к королю,
полагаясь во всем остальном на королеву, свою свекровь, как в отношении людей,
так и в отношении развлечений, и зачастую горестно страдая по причине
безмерной ревности к королю.
Месье19, единственный брат короля, тоже был сильно привязан к королеве,
своей матери. Его наклонности вполне соответствовали женским, зато
наклонности короля, напротив, отличались прямой противоположностью. Месье был
красив и хорошо сложен, но красота его и рост скорее подходили принцессе,
нежели принцу. Поэтому он больше думал о том, чтобы его красотой
любовались окружающие, а вовсе не о том, чтобы пользоваться ею для привлечения
к себе женщин, хотя постоянно находился в их обществе. Казалось, самолюбие
понуждало его испытывать влечение лишь к собственной персоне.
Госпожа де Тианж20, старшая дочь герцога де Мортемара, похоже,
нравилась ему больше других, хотя их общение сводилось скорее к несдержанным
откровениям и не имело ничего общего с истинно галантными отношениями.
Принц, естественно, отличался учтивостью, благородной и нежной душой,
настолько восприимчивой и впечатлительной, что люди, вступавшие с ним в
более близкие отношения, могли, используя его слабости, почти не сомневаться
в своей власти над ним. Но главной его чертой была ревность. Хотя более всего
страданий эта ревность приносила ему, и никому другому, мягкость духа
делала его не способным к решительным, резким поступкам, на которые он мог бы
отважиться в силу своего высокого положения.
На основании всего сказанного нетрудно догадаться, что принц не принимал
никакого участия в делах; препятствием тому служили его молодость,
наклонности и безраздельная власть над ним кардинала.
Желая описать королевский дом, я, видимо, должна была начать с того, кто
является его главой, однако обрисовать государя можно лишь с помощью
деяний, но те из них, свидетелями коих мы являлись до момента, о котором
только что шла речь, слишком непохожи на все, что нам довелось увидеть
впоследствии, и посему вряд ли могут дать о нем истинное представление. Судить о
государе следует на основании того, что мы собираемся сказать далее. И
тогда он предстанет одним из величайших королей, которые когда-либо
существовали, честнейшим человеком своего королевства и, можно было бы сказать, —
совершеннейшим, если бы он не скупился на проявление ума, дарованного ему
Небом, обнаруживая его целиком, а не скрывая так ревностно за величием
своего положения.
Вот каковы были лица, из которых состоял королевский дом. Что
касается кабинета министров, то власть там распределялась между господином
Фуке21, суперинтендантом финансов, господином Летелье22, государственным
секретарем, и господином Кольбером23. В последнее время этот третий
пользовался наибольшим доверием кардинала Мазарини. Всем было известно, что
король в своих действиях продолжал опираться на суждения и памятные
записки первого министра, но никто в точности не знал, какие именно суждения и
записи оставил тот его величеству. Мало кто сомневался, что он постарался
176
История Генриетты Английской...
принизить королеву-мать в глазах короля, как, впрочем, и многих других лиц.
Зато неизвестно было, кого он возвысил.
Незадолго до смерти кардинала господин Фуке почти утратил его
расположение из-за ссоры с господином Кольбером. Суперинтенданта отличали
широта ума и беспредельность амбиций; он был учтив и чрезвычайно любезен в
отношении людей способных, пытаясь с помощью денег привлечь их на свою
сторону и втянуть в бесконечную сеть интриг, как деловых, так и любовных.
Господин Летелье казался более благоразумным и сдержанным; соблюдая
собственные интересы, он полагался на твердую выгоду, не давая, подобно
господину Фуке, ослепить себя блеском и роскошью.
Господина Кольбера, в силу разных причин, знали мало, известно было
лишь то, что он завоевал доверие кардинала своею ловкостью и
бережливостью. Король созывал на Совет только этих трех людей, и все ждали, кто из них
одержит верх над остальными, ибо каждому было ясно: они далеко не едины,
и если даже вдруг объединятся, то ненадолго.
Нам остается упомянуть о дамах, которые занимали в то время наиболее
видное положение при дворе и лелеяли надежду на благосклонность короля.
Графиня де Суассон24 могла бы рассчитывать на это: она была его первым
увлечением и сохранила давнишнюю привязанность. Особу эту нельзя было
назвать красивой, и тем не менее она обладала способностью нравиться. Она
не блистала душевными богатствами, но в обращении с людьми, которых
знала, вела себя естественно и мило. Большое состояние дяди давало ей
возможность не принуждать себя. Свобода, к которой она привыкла, в соединении с
живым умом и пылкой натурой приучила ее следовать лишь собственной воле
и делать только то, что доставляло ей удовольствие. У нее, естественно, были
амбиции, и в ту пору, когда король увлекался ею, трон вовсе не казался ей
недостижимой высотой, о которой не следовало мечтать. Дядя очень ее любил
и не отвергал для нее возможности взойти на трон, но все знатоки гороскопов
в один голос уверяли его, что ей это не удастся, и он, потеряв всякую
надежду, выдал ее замуж за графа де Суассона. Тем не менее она всегда сохраняла
определенное влияние на короля и пользовалась некоторой свободой,
разговаривая с ним более смело, чем остальные, что нередко давало повод
подозревать, будто иногда в их беседах все еще присутствовала любовь.
Меж тем казалось невероятным, чтобы король вновь отдал ей свое сердце.
Государь в какой-то мере был более чувствителен к влечению, которое
испытывали к нему, нежели к очарованию и достоинствам тех или иных особ. Он в
самом деле любил графиню де Суассон до того, как она вышла замуж; но перестал
ее любить, полагая, что ей небезразличен Вилькье25. Возможно, для таких
предположений не было оснований, и даже более того: судя по всему, король
ошибался, ибо если бы она действительно любила его, то, не имея привычки сдерживать
себя, наверняка вскоре обнаружила бы это. Но раз уж король расстался с ней на
основании пустого подозрения, решив, что ею любим другой, то вряд ли он
вернулся бы, с полной достоверностью узнав, что она любит маркиза де Варда26.
Мадемуазель де Манчини находилась еще при дворе, когда умер ее дядя.
При жизни он заключил ее брак с коннетаблем Колонна;27 ждали лишь того,
История Генриетты Английской...
177
кто должен был представлять на бракосочетании коннетабля, дабы затем
увезти ее из Франции. Трудно разобраться, каковы были ее чувства к королю и
какие чувства испытывал к ней сам король. Как мы уже говорили, он
страстно любил ее, а чтобы стало понятно, до чего довела его эта страсть, мы в
нескольких словах расскажем о том, что произошло после смерти кардинала.
Увлечение это возникло во время путешествия в Кале, и причиной тому
стала скорее признательность, чем красота. Мадемуазель де Манчини
красотой не блистала. Очарование не коснулось ни внешности ее, ни ума, хотя умна
она была необычайно. Она отличалась смелостью, решительностью,
необузданным нравом, вольнодумством — и все это при полном отсутствии каких-либо
приличий и учтивости.
Во время опасной болезни короля в Кале28 она, не скрывая, выражала такую
неистовую скорбь по поводу этой болезни, что, когда королю стало лучше, все
наперебой спешили рассказать ему о страданиях мадемуазель де Манчини;
возможно, впоследствии она и сама ему об этом говорила. Словом, она
проявила столько страсти, безоглядно нарушив запрет, установленный для нее
королевой-матерью и кардиналом, что, можно сказать, вынудила короля полюбить
себя29.
Вначале кардинал не противился этой страсти. Он полагал, что она вполне
соответствует его интересам. Но затем, увидев, что племянница не дает ему
отчета о своих беседах с королем и целиком завладела его умом, он начал
бояться, как бы она не приобрела чересчур большого влияния, и решил умерить
этот пыл. Однако вскоре понял, что спохватился слишком поздно. Король
целиком поддался своей страсти, и сопротивление, которое пытался оказать
кардинал, лишь восстановило против него племянницу, подвигнув ее на разного
рода враждебные действия против него.
Не осталась она в долгу и перед королевой, то описывая королю ее
поведение во время регентства, то пересказывая все, что наговаривали на нее злые
языки. Наконец она отлучила от короля всех, кто мог повредить ей, став такой
полновластной хозяйкой, что в тот момент, когда начались переговоры о
заключении мира и о бракосочетании, государь попросил у кардинала
разрешения жениться на ней, доказав затем своими действиями, что в самом деле
желает этого.
Зная, что королева слышать не может без ужаса о возможности такой
женитьбы и что ее осуществление чрезвычайно опасно для него самого, кардинал
пожелал отличиться перед государством, пойдя на то, что считал противным
собственным интересам.
Он заявил королю, что никогда не согласится на столь неравный брак, а
если король, воспользовавшись своей абсолютной властью, все-таки пойдет на
это, он в тот же час попросит разрешения покинуть Францию.
Сопротивление кардинала удивило короля и, быть может, навело его на
размышления, заглушившие любовь. Тем временем продолжались переговоры
о мире и о браке. И кардинал, отправляясь согласовывать статьи того и другого,
не пожелал оставить при дворе свою племянницу. Он решил отправить ее в
Бруаж. Король был сильно удручен этим, как и положено всякому любящему,
12. Заказ № К-6559
178
История Генриетты Английской...
у которого отнимают возлюбленную, однако мадемуазель де Манчини, не
довольствуясь сердечными порывами, предпочла бы, чтобы он проявил свою
любовь решительными действиями; и при виде того, как он проливал слезы,
когда она садилась в карету, упрекнула его за то, что он плачет, хотя на деле
является всемогущим господином. Но ее упреки не заставили его действительно
стать господином. Несмотря на всю свою печаль, он позволил ей уехать,
пообещав, однако, что никогда не согласится на испанский брак и не откажется от
своего намерения жениться на ней.
Через некоторое время весь двор направился в Бордо, дабы находиться
поближе к тому месту, где шли переговоры о мире.
Король увидел мадемуазель де Манчини в Сен-Жан-д'Анжели. В те редкие
минуты, которые ему удавалось провести с ней, он казался влюбленным в нее
как никогда и постоянно обещал все ту же верность. Но время, разлука и
здравый смысл заставили его в конце концов нарушить свое обещание. И после
того, как закончились переговоры о мире, он отправился подписывать договор
на остров Совещаний и получать испанскую инфанту30 из рук короля, ее отца,
дабы на следующий день сделать ее королевой Франции.
Затем королевский двор возвратился в Париж. Кардинал, которому
нечего было больше опасаться, вернул туда и своих племянниц.
Мадемуазель де Манчини была вне себя от ярости и отчаяния. Она
считала, что потеряла одновременно весьма привлекательного возлюбленного и
самую прекрасную корону в мире. И более сдержанная душа, нежели ее, вряд ли
не воспламенилась бы при подобных обстоятельствах. Понятно, что она дала
волю неистовому гневу.
Король не испытывал к ней больше прежней страсти. Обладание такой
красивой, молодой государыней, как королева, его супруга, всецело занимало
помыслы короля. Но так как привязанность к жене редко служит препятствием
для любви, которую питают к возлюбленной, король, возможно, вернулся бы
к мадемуазель де Манчини, если бы не узнал, что среди всех партий,
представившихся ей тогда для замужества, она горячо стремилась к союзу с герцогом
Карлом, племянником герцога Лотарингского31, и если бы не был уверен, что
этот принц сумел тронуть ее сердце.
Брак этот не состоялся по нескольким причинам. Кардинал заключил
другой — с коннетаблем Колонна, но умер, как мы уже говорили, до его
свершения.
Мадемуазель де Манчини испытывала столь глубокое отвращение к
предстоящему браку, что, желая избежать его, несмотря на свою досаду, изо всех
сил старалась бы вновь завоевать сердце короля, если бы имела хоть малейшую
надежду.
Окружающие не ведали о тайном неудовольствии короля по поводу не
скрываемой ею склонности к браку с племянником герцога Лотарингского, и,
поскольку короля часто видели направлявшимся во дворец Мазарини, где она
обитала вместе с госпожой Мазарини, своей сестрой, никто не знал, что же
влекло туда короля: остатки прежнего огня или же искры нового, который
вполне способны были зажечь глаза госпожи Мазарини.
История Генриетты Английской...
179
Это была, как мы уже говорили, не только самая прекрасная из племянниц
кардинала, но и одна из непревзойденных красавиц при дворе. Для полного
совершенства ей не хватало лишь ума, который придал бы ей и недостающую
живость. Хотя в глазах окружающих это вовсе не являлось изъяном, многие
полагали, что ее томный вид и небрежность способны пробудить любовь.
Таким образом, всеобщее мнение склонялось к тому, что король
испытывал к ней определенную слабость и что тень кардинала имеет все шансы по-
прежнему удерживать королевское сердце в своей семье. Надо сказать,
мнение это было небезосновательно. Вошедшее в привычку общение короля с
племянницами кардинала располагало его вести беседы скорее с ними, чем
с другими женщинами, а красота госпожи Мазарини вкупе с преимуществом,
которое дает отнюдь не привлекательный муж, напротив, весьма
привлекательному королю, вполне могла заставить короля полюбить ее, если бы
господин де Мазарини не старался всякий раз держать жену подальше от тех
мест, где бывал король.
При дворе было немало и других красивых дам, на которых король мог
остановить свой взгляд.
Госпожа д'Арманьяк, дочь маршала де Вильруа32, славилась красотой,
привлекавшей всеобщее внимание. Пока она была в девушках, всем, кто любил ее,
она подавала большие надежды на то, что охотно позволит любить себя
после замужества, которое предоставит ей большую свободу. Однако, выйдя
замуж за господина д'Арманьяка — то ли она воспылала страстью к нему, то ли
возраст сделал ее более осмотрительной, — она целиком замкнулась в кругу
семьи.
Вторая дочь герцога де Мортемара, мадемуазель де Тонне-Шарант33, тоже
была совершеннейшей красавицей, хотя и не всегда безупречно милой. Как все
в ее роду, она обладала большим умом, причем умом естественным и
приятным.
Остальные прекрасные особы, находившиеся при дворе, играют слишком
малую роль в событиях, о которых мы ведем рассказ, чтобы подробно говорить
о них, и мы упомянем лишь тех, кто окажется причастен к событиям,
описанным в последующем повествовании34.
Королевский двор возвратился в Париж сразу после смерти кардинала.
Король усердно знакомился с положением дел. Он посвящал этому занятию
большую часть времени, а оставшееся проводил с королевой, своей женой.
Тот, кто должен был сочетаться браком с мадемуазель де Манчини от
имени коннетабля Колонна, прибыл в Париж, и Мария с горечью поняла, что
король изгоняет ее из Франции, хотя ей воздавались немыслимые почести. При
заключении брака, да и во всем остальном, король обошелся с ней так, будто
ее дядя еще жив. Но в конечном счете ее выдали замуж и довольно поспешно
выпроводили.
Она выдержала свое несчастье с удивительной стойкостью и большим
достоинством, но после выезда из Парижа при первой же остановке на ночлег
ощутила столь тяжелую боль и угнетенность совершенным над нею жестоким
180
История Генриетты Английской...
насилием, что решила было остаться там. Однако затем все-таки продолжила
путь и уехала в Италию, утешая себя мыслью о том, что не является более
подданной короля, женой которого надеялась стать.
Первым значительным событием после смерти кардинала стал брак Месье
с английской принцессой. Задуманный кардиналом, союз этот, казалось,
противоречил всем правилам политики, но Мазарини в свое время полагал, что из-
за бесспорной мягкости характера Месье и его привязанности к королю
можно без всякой опаски сделать его зятем короля Англии.
История нашего века наполнена такими великими революционными
потрясениями этого королевства, что вряд ли стоит о них говорить, и несчастье, в
результате которого лучший в мире король принял смерть от рук своих
подданных на эшафоте, а королева, его супруга, вынуждена была искать
пристанище в королевстве своих предков, служит примером непостоянства судьбы,
знакомого каждому на земле.
Роковые перемены в этом королевском доме стали в какой-то мере
благотворными для английской принцессы. Она находилась еще на руках у
кормилицы и была единственным ребенком королевы, ее матери, оказавшимся подле
нее, когда та познала опалу. Королева целиком отдалась заботам о воспитании
дочери, и, ввиду того что бедственное положение обрекало ее на жизнь
частного лица, но не государыни, юная принцесса обрела знания, обхождение и
доброжелательность, свойственные людям, живущим в обычных условиях,
тогда как в сердце и во всем своем облике сохранила величие королевского
происхождения.
Как только принцесса начала выходить из младенческого возраста, все тут
же отметили ее редкостное очарование. Королева-мать выражала величайшее
расположение к ней, и, так как в ту пору не было и намека на то, что король
может жениться на инфанте35, ее племяннице, она, казалось, желала его
брака с этой принцессой. Король же, напротив, не скрывал своего отвращения не
только к возможному браку с ней, но даже и к ее особе; он находил, что она
чересчур молода для него, а кроме того, признавался, что она ему не
нравится, хотя толком и не знал, почему. Впрочем, найти таковую причину было
довольно трудно. Ибо главное, чем обладала английская принцесса, это даром
нравиться. Она была исполнена грации и очарования, сквозивших в каждом ее
движении, в каждой мысли, никогда еще ни одной принцессе не удавалось в
равной мере вызывать любовь женщин и обожание мужчин.
Она взрослела, и вместе с этим расцветала ее красота, так что после
завершения торжеств по случаю бракосочетания короля было принято решение о ее
браке с Месье.
Тем временем король, ее брат, был восстановлен на троне благодаря
революции36, столь же скорой, как и та, что отстранила его. Мать пожелала
насладиться удовольствием лицезреть его мирным владыкой своего королевства и,
прежде чем совершить бракосочетание дочери-принцессы, взяла ее с собой в
Англию37. Именно во время этого путешествия принцесса начала понимать силу
своих чар. Герцог Бекингем (сын того, которого обезглавили38) — молодой,
красивый, статный — был тогда сильно привязан к ее сестре, принцессе королев-
История Генриетты Английской...
181
ского дома39, находившейся в Лондоне. Но как ни велика была эта
привязанность, герцог не мог устоять перед английской принцессой и так страстно
влюбился в нее, что, можно сказать, потерял рассудок.
Письма Месье каждодневно торопили королеву Англии вернуться во
Францию, дабы совершить бракосочетание, к которому он стремился с
нетерпением. И посему она вынуждена была выехать, несмотря на суровую и весьма
неприятную погоду.
Король, ее сын, сопровождал королеву на расстоянии дня пути от Лондона.
Вместе с остальным двором за ней следовал и герцог Бекингем. Но вернуться
назад вместе с другими он не мог и попросил у короля разрешения поехать во
Францию, ибо не в силах был расстаться с английской принцессой, и потому без
экипажа и прочих вещей, необходимых для такого путешествия, сел в
Портсмуте на корабль вместе с королевой.
В первый день дул попутный ветер, но на следующий ветер повернул
навстречу, да с такой силой, что корабль королевы сел на мель, ему грозила
гибель. Пассажиров охватил невыразимый ужас, и герцог Бекингем, опасавшийся
не только за свою жизнь, казалось, был в неописуемом отчаянии.
Наконец корабль удалось спасти, но пришлось возвращаться в порт. У
английской принцессы начался сильный жар. Однако у нее достало смелости
изъявить желание сесть на корабль, как только подует благоприятный ветер.
Но когда она вновь очутилась на корабле, у нее обнаружили корь, поэтому
отплытие откладывалось, однако сойти на берег тоже не представлялось
возможным: страшно было подвергать риску ее жизнь ввиду неизбежной в таких
случаях суматохи.
Болезнь принцессы оказалась крайне опасной. Герцог Бекингем буквально
обезумел от страха за нее и впадал в отчаяние в те минуты, когда думал, что
ей грозит смерть. Наконец она почувствовала себя достаточно хорошо, чтобы
вынести морское путешествие и высадиться в Гавре; в это время герцог стал
испытывать такие невероятные приступы ревности по поводу забот,
расточаемых принцессе английским адмиралом, что время от времени принимался
бранить его без всяких на то причин; и королева, опасаясь беспорядка, приказала
герцогу Бекингему отправляться в Париж, пока она поживет какое-то время в
Гавре, чтобы дать возможность своей дочери набраться сил.
Окончательно выздоровев, принцесса вернулась в Париж. Месье выехал ей
навстречу и до самой свадьбы с необычайной предупредительностью
неустанно выражал свое почитание; недоставало лишь любви. Но воспламенить
сердце принца — такое чудо неподвластно было ни одной женщине в мире.
В ту пору его любимцем был граф де Гиш40, самый красивый и статный
молодой человек при дворе, приятный в обращении, галантный, решительный,
отважный, исполненный величия и благородства. Столько прекрасных качеств
делало его тщеславным, а презрение, сквозившее в каждом движении,
умаляло его неоспоримые достоинства, хотя следует признать, что ни один
мужчина при дворе не имел их столько. Месье очень любил его с детства и всегда
сохранял с ним самые тесные отношения, какие только могут существовать
между молодыми людьми.
182
История Генриетты Английской...
Граф был влюблен в то время в госпожу де Шале, дочь герцога де Нуар-
мутье41. Она была очень мила, хотя и не очень красива. Он искал ее всюду,
ходил за ней по пятам. Словом, страсть эта была столь открытой и очевидной,
что окружающие не сомневались: внушавшая ее дама относилась к ней
неодобрительно; люди полагали, что, будь между ними какая-то связь, она
заставила бы графа избрать скорее потайные пути. Между тем ясно одно: если он и
не был по-настоящему любим, то, во всяком случае, не вызывал неприязни и
дама смотрела на его любовь без гнева. Герцог Бекингем первым усомнился
в том, что у нее достанет чар, чтобы удержать мужчину, который ежедневно
будет испытывать власть обаяния английской принцессы. Однажды вечером,
придя к принцессе, он застал там госпожу де Шале. Принцесса сказала ему по-
английски, что это любовница графа де Гиша, и спросила, не находит ли он
ее в самом деле весьма привлекательной. «Нет, — отвечал он, — не думаю, что
она достаточно мила для него. Хоть мне это и досадно, но, на мой взгляд, он
самый достойный человек при дворе, и мне остается пожелать, мадам, чтобы
не все разделяли мое мнение». Принцесса не придала значения его словам,
приняв их за проявление страсти герцога, доказательства которой он так или
иначе представлял ей каждый день, не скрывая ее, впрочем, ни от кого
другого.
Месье вскоре заметил это, и по сему случаю английская принцесса впервые
обнаружила признаки свойственной ему от природы ревности, которую
впоследствии он столько раз проявлял. И так как принцесса не обращала
внимания на герцога Бекингема, который и правда был очень мил, но нередко имел
несчастье не быть любимым, но, уловив печаль Месье, она поговорила об этом
с королевой, своею матерью, и та взяла на себя заботу успокоить Месье,
внушив ему, что к страсти герцога относились как к чему-то смешному.
Месье остался доволен, однако до конца не успокоился. Он открылся
королеве, своей матери, которая снисходительно отнеслась к страсти герцога в
память о той, что когда-то его отец питал к ней самой. Она не хотела поднимать
шума, но пожелала, чтобы в следующий приезд герцога во Францию ему дали
понять о необходимости вернуться в Англию. Что впоследствии и было
исполнено.
Наконец подготовка к бракосочетанию Месье была завершена, и церемония
состоялась в часовне дворца без пышных торжеств. Весь королевский двор
выражал свое почтение английской принцессе, которую отныне мы станем
называть Мадам.
Не нашлось ни одного человека, которого не поразили бы ее очарование,
ее обходительность и ум. Королева, ее мать, постоянно держала принцессу
подле себя, в иных местах ее никто никогда не видел, а дома она почти не
разговаривала. И посему, когда у нее обнаружили ум, по своим достоинствам
не уступавший всему остальному, это стало настоящим открытием. Вокруг
говорили только о ней, каждый спешил присоединиться к хору похвал в ее
честь.
Через какое-то время после бракосочетания она поселилась у Месье в Тю-
ильри. Король с королевой отправились в Фонтенбло, а Месье и Мадам оста-
История Генриетты Английской...
183
лись пока в Париже. И тут вся Франция устремилась к ней; все мужчины
мечтали за ней поухаживать, а женщины — понравиться ей.
Госпожа де Валантинуа42, сестра графа де Гиша, которую Месье очень
любил из-за брата, а также из-за нее самой (ибо испытывал к ней влечение в меру
своих возможностей), была одной из тех, кого он выбрал для своих увеселений.
Госпожа де Креки43, госпожа де Шатийон44 и мадемуазель де Тонне-Шарант
имели честь часто встречаться с принцессой, точно так же, как другие лица,
коим она выражала свое расположение до замужества.
К их числу относились мадемуазель де Латремуй и госпожа де Лафайет45.
Первая нравилась принцессе своею добротой и тем прямодушием, с каким она
рассказывала все, что лежало у нее на сердце, с первозданной безыскусностью
далеких, канувших в вечность времен. Второй просто посчастливилось вызвать
ее приязнь, ибо хотя у госпожи де Лафайет и находили определенные
достоинства, на первый взгляд они казались столь серьезными, что вряд ли могли
привлечь такую молодую принцессу, как Мадам. Тем не менее она тоже
пользовалась ее благорасположением и при этом сама была поражена
достоинствами и умом Мадам, так что впоследствии должна была понравиться принцессе
своею привязанностью к ней.
Все эти лица проводили у Мадам послеполуденное время. Они имели честь
сопровождать ее на прогулки. По возвращении ужинали у Месье. После
ужина там собирались все придворные мужчины, вечер проходил в
удовольствиях: комедия, игры и скрипки. Словом, развлекались как могли, со всеми
мыслимыми и немыслимыми забавами, без малейшей примеси печали. Туда
часто заглядывала госпожа де Шале. Граф де Гиш тоже нередко наведывался;
близкие отношения с Месье давали ему доступ к принцу в самые необычные
часы. Он видел Мадам в любое время во всеоружии ее чар. Мало того, Месье
сам не раз обращал на Мадам его внимание, заставляя любоваться ею. Словом,
подвергал его искушению, которому невозможно было противостоять.
Спустя какое-то время, проведенное в Париже, Месье и Мадам
отправились в Фонтенбло46. Мадам привнесла туда радость и оживление.
Познакомившись с нею поближе, король понял, насколько он был несправедлив, не
посчитав ее самой прекрасной особой в мире. Он сильно привязался к ней и
проявлял необычайную любезность. В ее распоряжении оказались все возможные
развлечения, которые устраивались исключительно ради нее, мало того: судя
по всему, король получал от них удовольствие лишь в том случае, если они
доставляли радость Мадам. Это происходило в разгар лета. Мадам
ежедневно отправлялась купаться; она выезжала в карете — из-за жары — и
возвращалась верхом в сопровождении всех дам в изысканных нарядах, с
множеством перьев на голове; за ними следовали король и придворная молодежь.
После ужина садились в коляски и под звуки скрипок часть ночи
прогуливались вдоль канала.
Расположение короля к Мадам истолковывалось по-разному и вскоре
породило слухи. Поначалу королева-мать сильно огорчалась. Ей казалось, что
Мадам целиком отняла у нее короля и что он посвящал Мадам все то время,
которое обычно отводилось королеве-матери. Молодость Мадам внушала ей на-
184
История Генриетты Английской...
дежду на то, что будет нетрудно исправить положение, заставив поговорить с
ней аббата де Монтегю47 и прочих людей, которые должны иметь на нее
некоторое влияние; она обяжет ее держаться поближе к своей особе, а не вовлекать
короля в чуждые ей увеселения.
Мадам утомили скука и принуждение, которые ей довелось испытать
подле королевы, своей матери. Она решила, что королева, ее свекровь, хочет
возыметь над ней такую же точно власть, и задалась целью привлечь на свою
сторону короля, а затем узнала от него самого, что королева-мать пыталась
разъединить их. Все это настолько отвратило ее от тех мер, которые
навязывались ей, что она не приняла ни одной. Мадам тесно сошлась с графиней де
Суассон, которая была в ту пору предметом ревности королевы и неприязни
королевы-матери, и помышляла лишь о том, чтобы нравиться королю в
качестве невестки. Думаю, она нравилась ему иначе; полагаю также, что она
считала, будто он нравится ей как деверь, хотя, возможно, он нравился ей гораздо
больше. И так как оба были бесконечно любезны, оба рождены с галантными
наклонностями и виделись каждодневно средь удовольствий и развлечений,
окружающим показалось, что они чувствуют друг к другу то самое
расположение, которое обычно предшествует великим страстям.
Это вызвало немало пересудов при дворе. Королева-мать обрадовалась
столь благовидному предлогу воспрепятствовать расположению короля к
Мадам. Ссылаясь на приличия и религиозные чувства, ей нетрудно было склонить
на свою сторону Месье; ревнивый от природы, он стал еще ревнивее из-за
наклонностей Мадам, казавшейся ему не столь равнодушной к ухаживаниям, как
хотелось бы.
Отношение между королевой-матерью и Мадам с каждым днем
становились все более натянутыми. Король оказывал Мадам знаки внимания, однако
проявлял осторожность в отношении королевы-матери, поэтому когда она
пересказывала Месье то, что говорил ей король, у Месье появлялось немало
оснований, чтобы постараться убедить Мадам, будто на деле король относится к
ней не с тем уважением, какое хочет показать. Все это создавало
заколдованный круг пересказов и пересудов, не дававших ни минуты покоя ни тем, ни
другим. Меж тем король с Мадам, не выясняя чувств, которые они питают друг
к другу, продолжали вести себя таким образом, что ни у кого не оставалось
сомнений: их связывает не только дружба, а нечто большее.
Слухи все разрастались, и королева-мать с Месье так настойчиво твердили
об этом королю и Мадам, что у тех начали открываться глаза, и они
задумались о том, о чем раньше и не помышляли. В конце концов было решено
прекратить шумные толки и они, не важно по каким соображениям, договорились
между собой, что король будет изображать влюбленность в некую особу при
дворе. Перебрали тех, кто, казалось, более всего подходил для этой цели, и
среди всех прочих остановили свой выбор на мадемуазель де Пон,
родственнице маршала д'Альбера48, недавно приехавшей из провинции и еще не очень
искушенной; их выбор пал и на мадемуазель де Шемро, одну из фрейлин
королевы, причем весьма кокетливую, а также на мадемуазель де Лавальер49,
фрейлину Мадам, очень хорошенькую, очень кроткую и очень наивную. Состояние
История Генриетты Английской...
185
этой девушки было незначительным. Мать ее вторично вышла замуж за Сен-
Реми, дворецкого герцога Орлеанского;50 таким образом, она почти все время
находилась в Орлеане или в Блуа и была счастлива оказаться рядом с Мадам.
Когда Лавальер явилась ко двору, все тотчас сочли ее прехорошенькой.
Некоторые молодые люди решили добиваться ее любви. Более других ею
заинтересовался граф де Гиш; судя по всему, он целиком был поглощен ею, когда
король в числе прочих выбрал ее, дабы ввести в заблуждение свое окружение. По
договоренности с Мадам король начал ухаживать не за одной из тех, кого они
выбрали, а сразу за всеми тремя. Однако колебания были недолгими. Сердце
его сделало выбор в пользу Лавальер, и, хотя он не уставал повторять нежные
слова другим и даже установил более или менее постоянные отношения с
Шемро, все его внимание оказалось сосредоточено на Лавальер51.
Граф де Гиш, который не был настолько влюблен, чтобы бросить вызов
столь опасному сопернику, не только покинул ее, но даже поссорился с ней,
наговорив кучу довольно неприятных вещей.
Мадам не без грусти заметила, что король действительно привязался к
Лавальер. Чувство, которое она испытывала, возможно, нельзя было назвать
ревностью, и тем не менее Мадам, наверное, была бы рада, если бы, не пылая
истинной страстью, король сохранил бы определенную привязанность к ней,
пусть не обладающую силой любви, но все-таки наделенную ее прелестью и
очарованием.
Задолго до замужества Мадам предсказывали, что граф де Гиш влюбится
в нее, и в самом деле, как только он расстался с Лавальер, пошли разговоры,
будто он любит Мадам, причем заговорили об этом, быть может, даже
раньше, чем такая мысль пришла ему в голову. Подобная молва льстила его
самолюбию. И, чувствуя такое предрасположение, де Гиш не прилагал особых
стараний, чтобы помешать себе по-настоящему влюбиться, не говоря уже о том,
чтобы воспрепятствовать возникновению подозрений на сей счет.
В ту пору в Фонтенбло репетировали балет52 с участием короля и Мадам, это
было самое приятное зрелище из всех когда-либо виденных — то ли из-за
места, где оно проходило — на берегу озера, то ли из-за счастливой мысли
заставить двигаться из конца аллеи всех многочисленных участников спектакля,
которые, постепенно приближаясь, освещались фавнами, совершавшими свое
антре, танцуя перед сценой.
Во время репетиции балета граф де Гиш очень часто оказывался рядом с
Мадам, так как танцевал в той же сцене. Он еще не осмеливался говорить ей
о своих чувствах, но в силу установившихся близких отношений с ней
отваживался спрашивать, как ведет себя ее сердце и не задето ли оно. Мадам с
очаровательной снисходительностью отвечала ему, и порой он позволял себе
вольность бежать прочь, восклицая, что ему угрожает неминуемая гибель.
Мадам воспринимала это как галантное развлечение, и не более того.
Окружающие оказались проницательнее. Как уже говорилось, граф де Гиш
недвусмысленно давал понять, что у него на сердце, и вскоре на сей счет пошли
разговоры. Дружеские чувства, которые питала Мадам к герцогине де Валантинуа,
немало способствовали мнению, будто у них существует договоренность, и
186
История Генриетты Английской...
Месье, казавшегося влюбленным в госпожу де Валантинуа, считали жертвой
брата и сестры. Однако, по правде говоря, госпожа де Валантинуа почти не
вмешивалась в их галантные отношения, и, хотя брат не скрывал от нее своей
страсти к Мадам, не она стояла у истоков связей, возникших впоследствии.
Меж тем привязанность короля к Лавальер все возрастала; он очень
преуспел в своих отношениях с ней, хотя оба проявляли сдержанность. Король не
встречался с Лавальер ни у Мадам, ни во время дневных прогулок, а лишь на
вечерних, когда, выйдя из коляски Мадам, шел к коляске Лавальер,
окошечко которой было опущено, и, так как дело происходило под покровом ночи,
разговаривал с ней без всяких помех.
Но отношения королевы-матери с Мадам не стали от этого лучше. Когда все
поняли, что король вовсе не влюблен в Мадам, так как влюблен в Лавальер,
и что Мадам не возражает против того внимания, каким король окружает эту
девушку, королева-мать почувствовала досаду. Она соответствующим образом
настроила Месье, тот впал в амбицию, возмутившись тем, что король влюблен
во фрейлину Мадам. Мадам, со своей стороны, во многих вещах не
проявляла должного уважения к Месье. Таким образом, недовольство нарастало со
всех сторон.
В то же самое время широко распространились слухи о страсти графа де
Гиша. Месье, которому вскоре об этом сообщили, не преминул выразить ему
свое неудовольствие. Граф де Гиш то ли из прирожденной гордости, то ли от
огорчения, что Месье известна вещь, которой ему лучше было бы не знать,
имел с Месье довольно резкое объяснение и порвал с ним, словно был ему
ровней. Это произошло публично, и граф де Гиш покинул двор.
В тот день, когда это случилось, Мадам находилась у себя и никого не
принимала. Она приказала пускать лишь тех, кто с ней репетировал — граф де Гиш
был в их числе, — понятия не имея о том, что произошло. Когда король
пришел к ней, она рассказала ему, какое распоряжение отдала. Король с улыбкой
ответил, что ей неизвестно доподлинно, кого именно не следует допускать, а
затем рассказал о том, что произошло между Месье и графом де Гишем. Об этом
узнали все, и маршал де Грамон, отец графа де Гиша, отослал сына в Париж,
запретив ему возвращаться в Фонтенбло.
Тем временем в министерских делах спокойствия было не больше, чем в
любовных, и хотя после смерти кардинала господин Фуке попросил у короля
прощения за все прошлое и король даровал ему это прощение, так что Фуке,
казалось, восторжествовал над остальными министрами, погибель его, однако,
была предрешена.
Госпожа де Шеврёз53, по-прежнему сохранявшая какую-то долю того
огромного влияния, которое имела прежде на королеву-мать, предприняла попытку
с ее помощью погубить господина Фуке.
Господин де Лэг54, по слухам, тайно женившийся на госпоже де Шеврёз, был
недоволен суперинтендантом; он-то и руководил действиями госпожи де Шеврёз.
К ним присоединились господин Летелье и господин Кольбер. Королева-мать
совершила путешествие в Дампьер55, и там они пришли к соглашению устранить
господина Фуке, а затем добились согласия короля. Решено было арестовать
История Генриетты Английской...
187
суперинтенданта. Однако министры, опасавшиеся, правда без всяких на то
оснований, что в королевстве у него найдется достаточное число друзей,
уговорили короля поехать в Нант, дабы оказаться поближе к Бель-Илю, только что
приобретенному господином Фуке, ставшим теперь там хозяином.
Решение об этом путешествии приняли задолго до того, как было
высказано соответствующее предложение, и потом под разными предлогами начали
заводить о нем разговоры. Господин Фуке, даже не подозревая о том, что
целью сего путешествия была его гибель, ничуть не сомневался в прочности
своего положения, и король, дабы окончательно усыпить его недоверие, вместе с
остальными министрами обращался с ним с такой отменной любезностью, что
никто уже не сомневался: править будет именно он.
Король давно выражал желание посетить Во и посмотреть великолепный
дом суперинтенданта, и хотя из предосторожности господину Фуке не
следовало бы показывать королю свои владения, со всей очевидностью
свидетельствовавшие о недобросовестном употреблении финансов, а королю по
своей доброте следовало бы отказаться от посещения человека, коего он
собирался погубить, тем не менее ни тот, ни другой не выдвинули никаких
возражений.
Весь двор направился в Во56. Господин Фуке решил поразить гостей не
только великолепием своего дома, но и немыслимыми красотами всевозможных
развлечений, а также редкостной пышностью приема. По прибытии король
был крайне удивлен этим, и господин Фуке не мог не заметить его удивления.
Однако оба тут же овладели собой. Небывалое празднество удалось на славу.
Король был в упоении от обладания Лавальер. Полагали, что именно там он
в первый раз остался с нею наедине, хотя какое-то время уже встречался с
Лавальер у графа де Сент-Эньяна57, который был доверенным лицом в этой
любовной связи.
Несколько дней спустя после празднества в Во все отправились в Нант,
путешествие это, в коем не усматривалось никакой необходимости, казалось
прихотью молодого короля.
Господин Фуке, несмотря на четырехдневную перемежающуюся лихорадку,
последовал за королевским двором и был арестован в Нанте. Легко себе
представить, что столь внезапная перемена застала врасплох всех и так
ошеломила родных и друзей господина Фуке, что они и не подумали спрятать его
бумаги, хотя времени у них было предостаточно. Бумаги забрали в его домах, не
обременяя себя лишними формальностями. Самого же его отправили в Анже, а
король вернулся в Фонтенбло.
Всех друзей господина Фуке прогнали и отстранили от дел. Совет трех
других министров сформировался окончательно. Господин Кольбер получил
министерство финансов, хотя какие-то авансы на сей счет делались маршалу де
Вильруа, и со временем господин Кольбер настолько упрочил свое положение
при короле, что занял пост первого человека государства.
В шкатулках господина Фуке нашли больше галантных писем, нежели
важных документов, а так как среди них обнаружились письма нескольких
женщин, которых никак нельзя было заподозрить в связи с ним, это дало основа-
188
История Генриетты Английской...
ние утверждать, будто в связях с ним замешаны все самые честные женщины
Франции. Но единственной изобличенной оказалась госпожа де Менвиль,
фрейлина королевы58, одна из первых красавиц, на которой собирался жениться
герцог д'Анвиль. Ее прогнали, и она ушла в монастырь.
Граф де Гиш не сопровождал короля во время путешествия в Нант. Перед
тем как это путешествие состоялось, Мадам стали известны речи, которые он
вел в Париже с целью убедить окружающих в том, что они отнюдь не
заблуждались, полагая, будто он влюблен в Мадам. Это ей не понравилось, тем более
что госпожа де Валантинуа, которую он просил замолвить за него слово перед
Мадам, и не думала этого делать, напротив, она утверждала, будто ее брат и
в мыслях не держал обратить к ней свой взор, и просила не верить тому, что
станут говорить от его имени люди, пожелавшие взять на себя роль
посредников. А посему в речах графа де Гиша Мадам усмотрела лишь оскорбительное
для себя тщеславие. И хотя Мадам была очень молода, причем ее неопытность
приумножала число ошибок, свойственных молодости, она решилась просить
короля приказать графу де Гишу не сопровождать его в Нант. Однако
королева-мать уже предупредила эту просьбу, так что Мадам не пришлось выдвигать
свою.
Во время королевского путешествия в Нант госпожа де Валантинуа
отправилась в Монако. Месье по-прежнему был в нее влюблен, насколько,
разумеется, был на это способен. С детских лет ее обожал Пегилен59, младший сын
в роду Лозенов. Благодаря родственной близости между ними, в особняке де
Грамон они чувствовали себя весьма непринужденно, и когда оба достигли
возраста, позволявшего большие страсти, ничто не могло сравниться по силе с
той, которой они воспылали друг к другу. Год назад ее против воли выдали
замуж за принца де Монако, но, так как муж не был ей настолько приятен,
чтобы заставить ее порвать со своим любовником, она продолжала по-прежнему
страстно любить Пегилена. Она расставалась с ним с весьма ощутимой
печалью, а он, чтобы только видеть ее, следовал за ней переодетым то кучером,
то торговцем, словом, кем угодно, лишь бы его не узнали слуги. Перед
отъездом она хотела заставить Месье не верить тому, что станут говорить о ее брате
и Мадам, и вынудить его пообещать не удалять брата от королевского двора.
Месье, который и без того уже ревновал ее к графу де Гишу, испытывая
досаду (обычно вызываемую теми, кого сильно любят и кто, как полагают, дает
повод сетовать на них), отнюдь не был расположен сделать то, о чем она его
просила. Госпожа де Валантинуа рассердилась, и они расстались, недовольные
друг другом.
Графиня де Суассон, любимая прежде королем и любившая в ту пору
маркиза де Варда, не переставала горевать: причиной тому была все возраставшая
привязанность короля к Лавальер, тем более что эта молодая особа, всецело
полагаясь на чувства короля, ни Мадам, ни графине де Суассон не давала
отчета о том, что происходило между нею и королем. Таким образом, графиня
де Суассон, которая привыкла к тому, что король всегда искал у нее
удовольствий, прекрасно понимала: эта любовная история наверняка отдалит его, что
История Генриетты Английской...
189
отнюдь не способствовало ее благожелательному отношению к Лавальер. Та
заметила это, и ревность, которую обычно испытывают к людям, которых
прежде любили те, кто ныне любит нас, в соединении с недовольством
оказанными ею скверными услугами, вызвала у Лавальер ярую ненависть к графине
де Суассон.
Король не желал, чтобы у Лавальер была наперсница, однако молодой
особе весьма посредственных достоинств невозможно было хранить в себе такую
важную вещь, как любовь короля.
У Мадам была фрейлина по имени Монтале60. Особа, бесспорно наделенная
большим умом, но склонная к интригам и наветам; благоразумия и здравого
смысла для руководства своими поступками ей явно недоставало. С придворной
жизнью она познакомилась лишь в Блуа, став фрейлиной у вдовствующей Мадам.
Неглубокое знание света и сильное пристрастие к галантным историям делали ее
весьма подходящей для роли наперсницы. Она уже была таковой во время
пребывания в Блуа, где некто Бражелон61 влюбился в Лавальер. Они обменялись
несколькими письмами; госпожа де Сен-Реми заметила это. Словом, все
происходило совсем недавно. И король не остался безучастным, его мучила ревность.
Итак, Лавальер, встретив девушку, которой доверяла прежде, и на этот раз
доверилась ей целиком, а так как Монтале была намного умнее ее, то
сделала это с большим удовольствием и с огромным облегчением. Однако
откровений Лавальер для Монтале оказалось мало, ей хотелось добиться откровений
Мадам. Монтале почудилось, будто принцесса не питает неприязни к графу де
Гишу, и когда граф де Гиш после путешествия в Нант возвратился в
Фонтенбло, она поговорила с ним и нашла способ разными уловками заставить его
признаться, что он влюблен в Мадам. Монтале обещала посодействовать ему и
выполнила свое обещание с лихвой.
В 1661 году на праздник Всех Святых королева родила дофина. Мадам
провела возле нее весь день и, так как сама была в положении, утомившись, пошла
к себе в комнату, куда никто за ней не последовал, ибо все оставались еще у
королевы. Опустившись перед Мадам на колени, Монтале стала рассказывать
ей о страсти графа де Гиша. Такого рода речи, естественно, не вызывают у
молодых особ большого неудовольствия, которое дало бы им силу не слушать их,
к тому же Мадам отличалась робостью в разговоре и, чувствуя смущение,
снисходительно позволила Монтале возыметь надежду. На другой же день та
принесла Мадам письмо от графа де Гиша. Мадам не пожелала его читать. Монтале
открыла его и прочитала. Через несколько дней Мадам почувствовала себя
плохо. Она собралась в Париж, и перед самым отъездом Монтале бросила ей
целую пачку писем от графа де Гиша. По дороге Мадам прочитала их и потом
призналась в этом Монтале. В конце концов, из-за молодости Мадам и
привлекательности графа де Гиша, а главное, благодаря стараниям Монтале принцесса
оказалась вовлеченной в галантную историю, которая не принесла ей ничего,
кроме огромных огорчений.
Месье по-прежнему испытывал ревность к графу де Гишу, однако тот не
переставал наведываться в Тюильри, где все еще находилась Мадам. Она была
сильно больна. Де Гиш писал ей по три-четыре раза в день. Чаще всего Мадам
190
История Генриетты Английской...
не читала его писем, оставляя их у Монтале и не спрашивая, что она с ними
делает. Монтале не осмеливалась хранить их в своей комнате; она отдавала
письма своему тогдашнему любовнику, некоему Маликорну62.
Король приехал в Париж вскоре после Мадам. Он по-прежнему
встречался с Лавальер у нее: приходил вечером и вел с ней беседу в кабинете. Хотя все
двери были открыты, войти туда было так же немыслимо, как если бы они
охранялись железными засовами.
Вскоре, однако, ему наскучили подобные неудобства, и хотя королева-мать,
перед которой он все еще испытывал страх, постоянно терзала его из-за
Лавальер, та притворилась больной, и он навещал ее в собственной комнате.
Молодая королева не знала про Лавальер, но догадывалась, что король
влюблен, и, не ведая, против кого обратить свою ревность, возревновала к
Мадам.
Король подозревал, что Лавальер готова довериться Монтале. Ему не
нравилась склонность этой девушки к интригам. Он запретил Лавальер
разговаривать с ней. При людях она ему повиновалась, но зато все ночи напролет
Монтале проводила с Мадам и Лавальер, а нередко задерживалась еще и
днем.
Мадам болела и почти не спала и порой посылала за Монтале якобы для
того, чтобы та почитала ей какую-нибудь книгу. Покинув Мадам, та шла писать
графу де Гишу и делала это не реже трех раз в день, а потом еще Маликорну,
которого посвящала в дела Мадам и Лавальер. К тому же она выслушивала
откровения мадемуазель де Тонне-Шарант, которая любила маркиза де Нуар-
мутье и желала выйти за него замуж. Каждого из этих откровений хватило бы,
чтобы целиком занять любого, но Монтале была неутомима.
Она и граф де Гиш внушили себе, что ему следует увидеться с Мадам
наедине. Мадам, отличавшаяся робостью в серьезных разговорах, в такого рода
вещах, напротив, не испытывала смущения. Она не понимала последствий,
видела в этом всего лишь шутку, как в романе. Монтале находила возможности,
какие другой и в голову не пришли бы. Для графа де Гиша, молодого,
отважного, не было ничего прекраснее риска, и, не испытывая друг к другу истинной
страсти, они с Мадам подвергали себя величайшей опасности, какую только
можно себе представить. Мадам была больна, ее окружали женщины, имевшие
привычку находиться возле особ, занимавших высокое положение, и не
доверявшие никому, даже друг другу. А Монтале даже средь бела дня впускала
графа де Гиша, переодетого гадалкой, и он гадал женщинам, окружавшим Мадам,
которые видели его каждый день и не узнавали; в другой раз придумывали что-
либо еще, но всегда связанное с большим риском. Столь опасные свидания
посвящались насмешкам над Месье и иным подобным шуткам, словом, вещам,
чрезвычайно далеким от сильной страсти, которая, казалось, заставила их
пойти на такие свидания. И вот однажды в каком-то месте, где находились граф
де Гиш с Вардом, кто-то сказал, что болезнь Мадам опаснее, чем думали, и
врачи полагают, что ей не вылечиться. Граф де Гиш очень разволновался; Вард
увел его и помог скрыть волнение. Граф де Гиш доверился ему и признался в
своих отношениях с Мадам. Мадам не одобрила того, что сделал граф де Гиш;
История Генриетты Английской...
191
она хотела заставить его порвать с Бардом. Но он сказал, что готов драться с
ним, чтобы угодить ей, однако порвать отношений с другом не может.
Монтале, желая придать значительность этой галантной истории и полагая,
что, посвящая людей в эту тайну, она даст ход интриге, которая повлияет на
дела государства, решила заинтересовать Лавальер делами Мадам. Она
поведала ей все, что связано было с графом де Гишем, и взяла с нее обещание, что
та ничего не расскажет королю. И правда, Лавальер, тысячу раз обещавшая
королю никогда ничего не скрывать от него, хранила верность Монтале.
Мадам не знала, что Лавальер в курсе ее дел, зато знала от Монтале о делах
Лавальер. Окружающие проведали кое-что о галантных отношениях Мадам и
графа де Гиша. Король пытался потихоньку расспрашивать Мадам, но
доподлинно так ничего и не узнал. Мне неизвестно, в связи ли с этим или по какому-то
иному поводу он вел определенные беседы с Лавальер, из которых та поняла, что
король знает: она далеко не все говорит ему; разволновавшись, Лавальер
призналась, что скрывает от него важные вещи. Король пришел в неописуемую ярость.
Но она так и не сказала, в чем дело; король удалился в страшном гневе. Они не
раз условливались о том, что, какие бы раздоры у них ни случились, они ни за
что не заснут, не помирившись и не написав друг другу. Но миновала ночь, а
весточки от короля Лавальер так и не получила и, считая себя погибшей, совсем
потеряла голову. На рассвете она покинула Тюильри и как безумная бросилась
в маленький безвестный монастырь в Шайо.
Утром королю сообщили, что Лавальер исчезла. Страстно любивший ее
король был крайне взволнован. Он явился в Тюильри узнать у Мадам, где
Лавальер. Но Мадам ничего не знала, не ведала даже причину, заставившую
ту уйти. Монтале была вне себя, так как Лавальер сказала ей лишь, что
находится в полном отчаянии и что погибла из-за нее.
Королю, однако, удалось узнать, куда скрылась Лавальер. Он помчался туда
во весь опор с тремя спутниками. И нашел ее в приемной, вне стен
монастыря (ее не пожелали впустить внутрь). Заплаканная, она лежала на полу почти
в беспамятстве.
Король остался с ней наедине, в долгой беседе она призналась ему во всем,
рассказав то, что скрывала. Однако прощения этим признанием не добилась.
Король лишь сказал ей слова, которые требовались для ее возвращения, и
послал за каретой, чтобы увезти Лавальер.
Но тем не менее он отправился в Париж, дабы обязать Месье принять ее;
тот громогласно заявил, что рад ее уходу и ни за что не возьмет назад. Король
вошел по маленькой лестнице в Тюильри и направился в маленький кабинет,
куда пригласил Мадам, не желая, чтобы его видели в слезах. Там он попросил
Мадам взять Лавальер назад, поведав обо всем, что стало ему известно о ней
самой и ее делах. Можно себе представить удивление Мадам, но отрицать она
ничего не могла. Пообещав королю порвать с графом де Гишем, Мадам
согласилась принять Лавальер.
Король не без труда добился этого, но он со слезами на глазах так просил
Мадам, что в конце концов преуспел. Лавальер вернулась к себе в комнату,
однако прошло немало времени, прежде чем ей удалось снова вернуть себе
192
История Генриетты Английской...
расположение короля; он не мог смириться с тем, что Лавальер способна
скрывать от него некоторые вещи, а она не в силах была вынести ухудшения их
отношений. Какое-то время она чувствовала себя потерянной.
Наконец король простил ее, и Монтале удалось войти в доверие к
королю. Он несколько раз спрашивал ее о Бражелоне, зная, что она была
осведомлена об этом; и так как Монтале умела лучше лгать, чем Лавальер,
слушая ее, король успокаивался душой. Тем не менее его терзали опасения, что
он был не первым, кого любила Лавальер; мало того, король боялся, что она
все еще любит Бражелона. Словом, его одолевали тревоги и слабости
влюбленного человека, а он несомненно был сильно влюблен, хотя крепко
укоренившиеся в его сознании правила и страх, который он все еще испытывал
перед королевой-матерью, не давали ему совершать безрассудные поступки, на
которые отваживались другие. Правда и то, что отсутствие большого ума у
Лавальер мешало этой любовнице короля использовать дарованные ей
преимущества и влияние, коими столь великая страсть заставила бы
воспользоваться любую другую. Она же думала лишь о том, чтобы быть любимой
королем и любить его, причем очень ревновала к графине де Суассон, к
которой король заходил ежедневно, хотя Лавальер прилагала все старания,
чтобы помешать этому.
Графиня де Суассон не сомневалась в ненависти, которую питала к ней
Лавальер, и, с досадой понимая, что король всецело находится в ее руках,
решила вместе с маркизом де Бардом дать знать королеве, что король влюблен
в Лавальер. Они полагали, что, проведав об этой любви, королева заставит его
с помощью королевы-матери прогнать Лавальер из Тюильри и что король, не
зная, куда ее девать, пристроит Лавальер к графине де Суассон, которая будет
ее хозяйкой; они также надеялись, что огорчение, которого не станет скрывать
королева, вынудит короля порвать с Лавальер, а покинув ее, он обратит взор
на другую, кем, возможно, они сумеют управлять. Словом, такие вот химеры
и прочее, им подобное, заставили графиню де Суассон и маркиза де Барда
принять самое безумное и самое рискованное решение, какое только можно себе
вообразить. Они написали королеве письмо, в котором поведали обо всем
происходящем. В комнате королевы графиня де Суассон подобрала конверт от
письма короля, ее отца. Бард доверил секрет графу де Гишу, с тем чтобы тот,
зная испанский, перевел письмо на этот язык. Граф де Гиш, желая оказать
любезность другу и питая ненависть к Лавальер, с готовностью согласился
принять участие в осуществлении столь прекрасного плана.
Они перевели письмо на испанский язык; заставили переписать его
человека, который уезжал во Фландрию и не собирался возвращаться. Тот же самый
человек отнес письмо в Лувр и вручил привратнику, с тем чтобы его отдали
синьоре Молина63, первой горничной королевы, как письмо из Испании. Молина
сочла странным способ, каким письмо было доставлено; ей показалось, что и
сложено оно необычно. Словом, скорее по наитию, нежели по велению
рассудка, она открыла письмо, а прочитав, сразу отнесла королю.
И хотя граф де Гиш обещал Барду ничего не говорить Мадам об этом
письме, он все-таки не удержался и сказал;64 и Мадам, вопреки своему обещанию,
История Генриетты Английской...
193
тоже не устояла, рассказав обо всем Монтале. Ожидание длилось недолго.
Король пришел в такую ярость, что трудно себе представить; он переговорил
со всеми, кто, по его предположению, мог прояснить это дело, и даже
обратился к Варду, как человеку умному, которому к тому же доверял. Варда
несколько смутило данное королем поручение. Тем не менее он нашел способ бросить
тень подозрения на госпожу де Навай65, и король поверил в это, что
наверняка способствовало немилости, которая постигла ее впоследствии.
Меж тем Мадам хотела сдержать данное королю слово порвать с графом
де Гишем, и Монтале обязалась перед королем не вмешиваться более в их
отношения. Однако до того, как разрыв состоялся, она предоставила графу де
Гишу возможность встретиться с Мадам, чтобы вместе, по ее словам, найти
способ больше не видеться. Но разве люди, которые любят друг друга, могут
при встрече отыскать такого рода выход? Беседа эта, разумеется, не имела
должных последствий, хотя обмен письмами на время прекратился. Монтале
снова пообещала королю не оказывать больше услуг графу де Гишу, только бы
он не удалял ее от двора, и о том же просила короля Мадам.
Вард, который отныне пользовался абсолютным доверием Мадам и видел,
как она мила и умна, то ли из чувства любви, то ли из-за амбиций и
склонности к интригам, пожелал стать единственным властителем ее души и решил
найти способ удалить графа де Гиша. Он знал об обещании, данном Мадам
королю, но видел, что обещания не выполняются.
Вард отправился к маршалу де Грамону. Рассказав ему частично о том, что
происходит, он дал понять, какой опасности подвергается его сын, и
посоветовал удалить его, попросив короля направить графа де Гиша командовать
войсками, находившимися тогда в Нанси66.
Маршал де Грамон, страстно любивший сына, прислушался к доводам
Варда, испросив у короля таковое назначение, — оно действительно было лестно
для его сына, — а посему король ничуть не усомнился в том, что граф де Гиш
тоже этого хочет, и дал согласие.
Мадам ничего не знала. Ни ей, ни графу де Гишу Вард не сказал о содеянном,
это стало известно лишь позже. Мадам переехала в Пале-Рояль, где прошли ее
роды67. Она встречалась со многими, и городские женщины, понятия не имевшие
о той заинтересованности, с какой она относилась к графу де Гишу, сказали
однажды, не придавая этому особого значения, что он попросил назначить его
командующим войсками в Лотарингии и через несколько дней едет туда.
Мадам крайне удивило подобное известие. Вечером к ней заглянул король;
она заговорила с ним об этом, и он сказал, что маршал де Грамон
действительно обратился к нему с просьбой о таком назначении, заверив, что сын очень
того желает, и граф де Гиш в самом деле благодарил его.
Мадам была страшно оскорблена тем, что граф де Гиш без ее участия
принял решение расстаться с нею. Она сказала об этом Монтале и приказала ей
встретиться с ним. Та встретилась с графом де Гишем, и он, в полном
отчаянии от того, что ему приходится уезжать, оставляя Мадам в неудовольствии,
написал ей письмо, в котором предлагал заявить королю, что он вовсе не
просил поста в Лотарингии, и тем самым отказаться от него.
13. Заказ № К-6559
194
История Генриетты Английской...
Сначала Мадам выразила недовольство письмом. Тогда граф де Гиш,
который был сильно разгорячен, сказал, что никуда не поедет и откажется от
командования, заявив об этом королю. Вард испугался, как бы он в своем
безумстве действительно этого не сделал; не хотел губить его, хотел лишь удалить.
Оставив де Гиша под присмотром графини де Суассон, которая с этого дня
была посвящена в тайну, он направился к Мадам просить ее написать графу де
Гишу о том, что она хочет, чтобы он уехал. Ее тронули чувства графа де Гиша,
в которых действительно присутствовали и благородство и любовь. Она
выполнила то, чего добивался Вард, и граф де Гиш решил уехать, но при условии, что
увидит Мадам.
Монтале, посчитавшая себя свободной от данного королю слова, ибо он
отсылал графа де Гиша, взялась за устройство этого свидания, а так как в Лувр
собирался приехать Месье, в полдень она провела графа де Гиша через потайную
лестницу и заперла его в молельне. После обеда Мадам сделала вид, будто
хочет спать, и прошла в галерею, где граф де Гиш простился с нею. Но тут как раз
вернулся Месье. Единственное, что можно было сделать, — это спрятать графа
де Гиша в камине, где он и провел долгое время, не имея возможности выйти.
Наконец Монтале вызволила его оттуда, полагая, что все опасности,
сопряженные с этим свиданием, остались позади. Но она глубоко ошибалась.
Одна из ее подруг, некая Артиньи68, чья жизнь была далеко не безупречной,
жестоко ненавидела Монтале. Эту девушку определила на службу госпожа де
Лабазиньер69, бывшая Шемро, время не избавило ее от страсти к интриганству,
а она имела огромное влияние на Месье. Завидуя благосклонности, с какой
Мадам относилась к Монтале, Артиньи следила за ней, заподозрив, что она
затеяла какую-то интригу. Мало того, Артиньи обо всем поведала госпоже де
Лабазиньер, одобрившей ее намерения и оказавшей помощь в раскрытии тайны,
прислав для верности некую Мерло; и та, и другая оправдали доверие, заметив,
как граф де Гиш вошел в покои Мадам.
Госпожа де Лабазиньер сообщила об этом через Артиньи королеве-матери,
и королева-мать, движимая чувством, непростительным для столь достойной
и благожелательной особы, потребовала, чтобы госпожа де Лабазиньер
предупредила Месье. Таким образом принцу стало известно то, что скрыли бы от
любого другого мужа.
Вместе с королевой-матерью он принял решение прогнать Монтале,
ничего не сказав ни Мадам, ни даже королю, — из опасения, что король
воспрепятствует этому, так как у Монтале с ним были прекрасные отношения; а кроме
того, поднявшийся шум мог обнаружить вещи, мало кому известные. Заодно
они решили прогнать и другую фрейлину Мадам, чье поведение оставляло
желать лучшего.
И вот в одно прекрасное утро супруга маршала Дюплесси70 по приказанию
Месье сообщила двум фрейлинам, что Месье повелевает им удалиться. Их тут
же без промедления посадили в карету. Монтале обратилась к маршалыне
Дюплесси, заклиная отдать ей ее шкатулки, ибо, если Месье увидит их, Мадам
грозит погибель. Маршалына отправилась за разрешением к Месье, не назвав,
однако, причину. Месье, по невероятной для человека ревнивого доброте, по-
История Генриетты Английской...
195
зволил унести шкатулки, а маршалына Дюплесси и не подумала завладеть ими,
чтобы отдать Мадам. Таким образом они попали в руки Монтале, отбывшей
к своей сестре71. Когда Мадам проснулась, Месье вошел к ней в комнату и
заявил, что велел прогнать двух ее фрейлин. Мадам была очень удивлена, а он
удалился, не добавив ничего более. Король вскоре прислал сказать Мадам, что
понятия не имел о случившемся и что придет к ней, как только появится
возможность.
Месье направился со своими жалобами и горестями к английской
королеве, жившей тогда в Пале-Рояле. Та явилась к Мадам, побранила ее немного и
поведала обо всем, что доподлинно было известно Месье, с тем чтобы Мадам
призналась ему в том же самом, но не сказала большего.
Между Мадам и Месье произошло подробное объяснение. Мадам
призналась, что виделась с графом де Гишем, но впервые, а писал он ей всего лишь
три-четыре раза.
Месье почувствовал глубочайшее удовлетворение, заставив Мадам
признаться ему в вещах, которые он и сам уже знал; это смягчило его горечь, и он
поцеловал Мадам, испытывая лишь легкую грусть. У любого другого такое
чувство, безусловно, было бы гораздо острее, а он и не думал о мести графу де
Гишу, и хотя широкая огласка, какую получило в свете это дело, казалось,
обязывала его к этому по долгу чести, он не проявлял злопамятства. Все свои
старания Месье употребил на то, чтобы воспрепятствовать любым отношениям
Мадам с Монтале, а так как та была тесно связана с Лавальер, он добился от
короля, чтобы и Лавальер прекратила с ней всякие отношения. Так оно и
случилось, и Монтале поселилась в монастыре72.
Насколько можно судить, Мадам обещала порвать с графом де Гишем,
причем обещала даже королю, но слова не сдержала. И Вард остался ее
доверенным лицом именно потому, что у него произошла размолвка с королем. А
так как Вард посвятил графа де Гиша в испанское дело, это настолько крепко
связало их, что прекратить отношения было бы для них сущим безумием. К
тому же Варду стало известно, что Монтале знает об испанском письме, и это
заставило его относиться к ней с почтением, причину коего не могли разгадать
окружающие, хотя и понимали: совсем неплохо заручиться расположением
Мадам, управляя особой, принимавшей такое участие в ее делах.
Монтале не прекращала своих отношений с Лавальер и, по соглашению с
В ар дом, написала ей два длинных письма, в которых давала советы, как той
следует себя вести и что нужно говорить королю. Короля охватил неописуемый
гнев, он послал за Монтале нарочного с предписанием препроводить ее в Фон-
тевро73 и не позволять ей ни с кем разговаривать. Монтале была несказанно
счастлива, что ей снова удалось спасти свои шкатулки, и вручила их Маликор-
ну, по-прежнему остававшемуся ее любовником.
Двор прибыл в Сен-Жермен74. У Варда установились тесные
взаимоотношения с Мадам, ибо те, что связывали его с графиней де Суассон, не блиставшей
особой красотой, не могли оградить его от чар Мадам.
Сразу же по прибытии в Сен-Жермен графиня де Суассон, всеми силами
стремившаяся отнять у Лавальер место, которая та занимала, надумала поко-
196
История Генриетты Английской...
рить сердце короля с помощью Ламотт-Уданкур75, фрейлины королевы. Такая
мысль пришла ей в голову еще до того, как они покинули Париж, и, быть
может даже, надежда на то, что король придет к ней, если расстанется с Лаваль-
ер, была одной из причин, заставившей ее написать испанское письмо. Она
уверила короля, что эта девушка сгорает от необычайной страсти к нему, и король,
хоть пылко любил Лавальер, не имел ничего против отношений с Ламотт, но
потребовал от графини ничего не говорить об этом Варду. В данном случае
графиня предпочла короля своему любовнику, ни словом не обмолвившись об
этом договоре.
Шевалье де Грамон76 был влюблен в Ламотт. Заподозрив неладное, он с
великим тщанием стал следить за королем и обнаружил, что король
наведывается в комнату фрейлин.
Госпожа де Навай, бывшая тогда статс-дамой, тоже это заметила. Она
велела замуровать двери и поставить на окна решетки. Дело получило огласку.
Король изгнал шевалье де Грамона, который на несколько лет лишился
возможности возвратиться во Францию.
Огласка этого дела открыла Варду глаза на двойную игру, которую вела с
ним графиня де Суассон, его охватило такое неистовое отчаяние, что все
друзья, считавшие до тех пор, будто он не способен на страсть, не сомневались
теперь в его пылкой любви к графине. Но когда они решили порвать
отношения, граф де Суассон, не видевший за дружбой между Вардом и своей женой
ничего иного, взял на себя заботу примирить их. Лавальер мучили ревность и
безысходная тоска, но король, воодушевленный сопротивлением Ламотт, не
переставал видеться с ней. Королева-мать вывела его из заблуждения
относительно мнимой страсти этой девушки. Кто-то поведал ей о существующем
соглашении и о том, что письма, которые Ламотт писала королю, сочиняли
ближайшие друзья графини де Суассон — маркизы д'Аллюй77 и Фуйю; королева-
мать в точности знала, когда та должна была написать еще одно, о котором они
договорились между собой, чтобы попросить короля удалить Лавальер.
Королева-мать слово в слово поведала содержание письма королю, чтобы
дать ему понять, что графиня де Суассон обманывает его, и в тот же вечер,
получив письмо и обнаружив в нем то, о чем было сказано, король сжег его, порвал
с Ламотт и попросил у Лавальер прощения, признавшись ей во всем; с тех пор
у Лавальер не осталось поводов для беспокойства. А Ламотт внезапно воспылала
к королю страстью, сделавшей ее весталкой для остальных мужчин78.
История с Ламотт — самое значительное событие из того, что произошло в
Сен-Жермене. В глазах людей проницательных Вард уже тогда был влюблен
в Мадам, однако Месье не испытывал ревности, а, напротив, был очень
доволен, что Мадам доверяет Варду.
Другое дело королева-мать. Она ненавидела Варда и не хотела, чтобы Вард
завладел помыслами Мадам.
Вернулись в Париж. Лавальер по-прежнему находилась в Пале-Рояле, но при
Мадам, с которой она виделась очень редко. Артиньи, враждовавшая с Монта-
ле, заняла между тем ее место рядом с Лавальер; она пользовалась
безраздельным ее доверием и постоянно поддерживала связь между нею и королем.
История Генриетты Английской...
197
Монтале ревниво следила за процветанием своего недруга, ожидая случая
отомстить за себя, а вместе с тем и за Мадам, в дела которой осмелилась
вмешаться Артиньи.
Когда Артиньи явилась ко двору, она была беременна, причем беременность
ее была уже настолько очевидна, что король, ничего не зная, сам это заметил.
Приехала ее мать, чтобы, сославшись на болезнь, забрать Артиньи. История
эта не наделала бы много шума, но Монтале приложила все старания, дабы
найти способ заполучить письма, которые Артиньи во время беременности
писала отцу ребенка, а затем вручила эти письма Мадам, и тогда Мадам, имея
вполне оправданную причину прогнать особу, которая дала столько оснований
для недовольства ею, заявила, что хочет удалить Артиньи, и выдвинула свои
резоны. История получила широкую огласку и стала даже причиной ссоры
между нею и королем. Письма были переданы в руки госпожи де Монтозье и
госпожи де Сен-Шомон79 для сличения почерка. Но тут Вард, желая сделать
приятное королю, дабы тот не имел оснований возражать против его
отношений с Мадам, всеми силами постарался убедить Мадам оставить Артиньи, и, так
как Мадам была очень молода, а он — очень ловок, да к тому же имел на нее
огромное влияние, ему это действительно удалось.
Артиньи рассказала королю всю правду о себе. Король был тронут ее
доверием. И хотя особа эта не отличалась чрезмерными достоинствами, с тех пор,
полагаясь на ее добрые намерения, в которых она призналась, король всегда
хорошо к ней относился и устроил ее судьбу, о чем мы поведаем далее80.
Мадам помирилась с королем. Зимой танцевали премилый балет81.
Королева по-прежнему не знала, что король влюблен в Лавальер, все еще думая, что
он влюблен в Мадам.
Месье страшно ревновал к принцу де Марсийаку, старшему сыну герцога де
Ларошфуко82, тем более что несомненно имел к нему влечение, вселявшее в
него уверенность, будто того должны любить все.
Марсийак и в самом деле был влюблен в Мадам. Но выражал это лишь
глазами да несколькими словами, слышать которые могла одна она. Мадам не от
вечала на его страсть взаимностью. Ее гораздо более занимали дружеские
чувства, которые питал к ней Вард, походившие, правда, скорее на любовь, нежели
на дружбу, но, так как Варда смущал долг перед графом де Гишем да к тому
же останавливали обязательства, которые связывали его с графиней де Суас-
сон, он не знал, как быть: пойти ли до конца в своих отношениях с Мадам или
оставаться всего лишь ее другом.
Месье так сильно ревновал Мадам к Марсийаку, что заставил его уехать в
свое поместье. И как раз в это время произошло событие, наделавшее много
шума, хотя истинный смысл его был какое-то время скрыт83.
В начале весны король решил провести несколько дней в Версале84.
Тяжело заболев корью, он почувствовал себя так плохо, что отдал необходимые
государственные распоряжения и препоручил монсеньора дофина заботам
принца де Конти85, прослывшего за свою набожность одним из самых честных
людей Франции. Болезнь представляла опасность лишь в течение сорока
восьми часов, и хотя окружающие могли заразиться, это никого не остановило.
198
История Генриетты Английской...
Посетив короля, герцог86 заболел корью. Мадам тоже навестила короля,
хотя очень боялась болезни. Именно там Вард впервые достаточно ясно
признался в своей страсти к ней. Мадам не оттолкнула его бесповоротно: нелегко
обидеть любезного наперсника в отсутствие возлюбленного.
Госпожа де Шатийон, наиболее приближенная в ту пору к Мадам особа,
заметила влечение к ней Барда и, хотя в свое время сама она с ним поссорилась,
нарушив связывавшую их близость, теперь решилась на примирение, отчасти
чтобы завоевать доверие Мадам, а отчасти ради удовольствия часто видеть
человека, который ей очень нравился.
Граф Дюплесси, первый камергер Месье87, проявлявший необычайную
снисходительность к Мадам, всегда доставлял письма, которые она писала Варду,
и те, что Вард писал ей, и, наверняка понимая, что переписка касалась графа
де Гиша, а затем и самого Варда, продолжал это делать.
Тем временем Монтале по-прежнему оставалась своего рода пленницей в Фон-
тевро. Маликорн и некий Корбинелли88, весьма достойный и умный молодой
человек, оказавшийся посвященным в секреты Монтале, держали в своих руках все
письма, отданные ей на хранение. Письма эти могли иметь чрезвычайные
последствия как для графа де Гиша, так и для Мадам, ибо во время своего пребывания
в Париже (король, естественно, не жаловал его тогда, и потому у графа де Гиша
были основания сетовать) он в письмах к Мадам, не стесняясь, позволял себе
множество шуток и оскорбительных для короля насмешек. Понимая, что Монтале
не только всеми покинута, но и забыта, и опасаясь, что со временем
находившиеся в их руках письма утратят свое значение, Маликорн и Корбинелли решили
проверить, нельзя ли незамедлительно извлечь из них какую-то пользу для
Монтале, улучив момент, когда ее не смогут обвинить в соучастии.
Поговорить об этих письмах с Мадам они поручили матушке де Лафайет,
настоятельнице Шайо89, а кроме того, довели до сведения маршала де Грамо-
на, что ему следует подумать об интересах Монтале, коль скоро в ее руках
находятся столь важные секреты.
Вард хорошо знал Корбинелли. Монтале говорила о своих дружеских
чувствах к нему, и, так как в намерения Варда входило завладеть письмами, он
весьма осторожно обращался с Корбинелли, пытаясь уговорить его передать
письма только через него.
От Мадам ему стало известно, что вернуть ей письма предлагали и другие
лица; тогда он пришел к Корбинелли с видом отчаявшегося человека, и
Корбинелли, не признавшись ему, что такие предложения делались им самим,
пообещал Варду, что письма будут отданы ему в руки.
После того как прогнали Марсийака, Вард, который уже тогда собирался
окончательно поссорить графа де Гиша с Мадам, написал графу, что у нее
были галантные отношения с Марсийаком. Граф де Гиш, сопоставив то, что
сообщил ему лучший друг, который своими глазами видел Мадам при дворе, и
ходившие на сей счет слухи, ничуть не усомнился в их правдивости и написал
Варду письмо, выражавшее его мысли о неверности Мадам.
Незадолго до этого Вард, стараясь добиться благосклонности Мадам,
сказал, что следует также вернуть письма, полученные от нее графом де Гишем.
История Генриетты Английской...
199
И написал графу де Гишу, что появился способ извлечь те письма, которые
граф писал Мадам, а посему и он должен вернуть ее письма к нему. Граф де
Гиш сразу же согласился и попросил свою мать вручить Варду шкатулку,
которую перед отъездом оставил ей.
Из-за связанных с письмами переговоров у Варда с Мадам возникла
необходимость встретиться, и мать настоятельница де Лафайет, полагая, что речь идет о
возвращении писем, согласилась на то, чтобы Вард тайно пришел в приемную
Шайо поговорить с Мадам. У них состоялась долгая беседа. Вард сообщил Мадам,
что граф де Гиш уверен, будто ее с Марсийаком связывают галантные отношения.
Он даже показал ей письма от графа де Гиша, из которых, однако, не
явствовало, что он сам и подсказал ему эту мысль; воспользовавшись обстоятельствами,
Вард выложил все, что может сказать человек, который желает занять место
друга. А так как ум и молодость Варда делали его весьма обаятельным, да к тому
же влечение к нему Мадам казалось более естественным, чем к графу де Гишу,
было бы странно, если бы он не преуспел в какой-то мере в завоевании ее сердца.
Во время этой встречи решено было заполучить письма, находившиеся в
руках у Монтале. Те, у кого они хранились, действительно возвратили письма,
сохранив, однако, самые важные из них. У графини де Суассон Вард вручил
эти письма Мадам вместе с теми, которые она сама писала графу де Гишу, и
они были в тот же час сожжены.
Через несколько дней Мадам и Вард договорились снова встретиться в Шайо.
Мадам пришла, но Вард не явился, сославшись на очень серьезные причины.
Дело в том, что король узнал о первом свидании, и то ли Вард, сам сказавший
ему об этом, опасался, что король не одобрит второго, то ли он боялся графини
де Суассон, во всяком случае, Вард туда не пришел. Мадам была крайне
возмущена. Она написала ему письмо, исполненное печали и высокомерия.
Королева-мать большую часть лета болела; это стало причиной того, что
двор покинул Париж лишь в июле. Король двинулся брать Марсаль90, и все
последовали за ним. Марсийак, который получил лишь совет, а не приказание
удалиться, вернулся и отправился вослед королю.
Узнав, что король направляется в Лотарингию и, значит, встретится с
графом де Гишем, Мадам испугалась, что тот во всем признается королю и
расскажет об их отношениях, и посему известила его: если он скажет хоть слово,
она с ним никогда больше не увидится. Но письмо пришло лишь после того, как
король уже поговорил с графом де Гишем и тот поведал ему обо всем, о чем
умолчала Мадам.
Во время этого путешествия король, на удивление всем, милостиво
обласкал графа де Гиша. Вард, которому было известно, о чем Мадам написала
графу де Гишу, сделал вид, будто не знает, что тот не получал письма, и сообщил
Мадам, что новая милость настолько вскружила голову графу де Гишу, что он
во всем признался королю.
Мадам сильно разгневалась на графа де Гиша и, получив столь праведный
повод порвать с ним, а возможно, следуя своему желанию сделать это, написала
ему весьма резкое письмо, запретив когда-либо произносить ее имя, и
прекратила с ним всякие отношения.
200
История Генриетты Английской...
После взятия Марсаля граф де Гиш, которому больше нечего было делать
в Лотарингии, испросил у короля разрешения уехать в Польшу91. Он написал
Мадам все, что могло смягчить ее в связи с его провинностью, но Мадам не
пожелала принять его извинений и послала ему то самое письмо, возвещавшее
о разрыве, о котором я только что упоминала. Граф де Гиш получил его перед
самым отплытием и впал в такое безысходное отчаяние, что стал взывать к
поднимавшейся в тот момент буре, дабы она помогла ему свести счеты с
жизнью. Тем не менее путешествие его оказалось вполне удачным. Он совершил
поразительные деяния, подвергался величайшей опасности в войне против
московитов и даже получил удар в живот, наверняка бы убивший его, если бы не
портрет Мадам, который он носил в очень большой шкатулке, принявшей удар
на себя и сильно покореженной.
Вард был очень доволен тем, что граф де Гиш окончательно отдалился от
Мадам. Оставался Марсийак, единственный соперник, которого предстояло
победить, и, хотя Марсийак всегда отрицал свою страсть к Мадам, Вард так
ловко сумел подойти к нему с предложением помочь, что в конце концов
заставил того признаться. И стал таким образом доверенным лицом своего
соперника.
Однако он был близким другом господина де Ларошфуко, которому
страшно не нравилась любовь сына к Мадам, и это обязывало его не причинять зла
Марсийаку. Тем не менее по возвращении из Марсаля, когда все были в
сборе, как-то вечером он сумел пробудить у Месье сильную ревность в отношении
Марсийака. Месье пригласил Варда, чтобы поговорить об этом, и Вард, дабы
доказать свою преданность и вместе с тем избавиться от Марсийака, сказал,
будто заметил, какие взгляды Марсийак бросает на Мадам, и потому собира-
ется-де предупредить на сей счет господина де Ларошфуко.
Нетрудно догадаться, что мнение такого человека, как Вард, слывшего
другом Марсийака, немало способствовало неудовольствию Месье, и он снова
выразил желание, чтобы Марсийак удалился. Явившись к господину де
Ларошфуко, Вард слукавил, поведав о своем разговоре с Месье, который, в свою
очередь, тоже рассказал о нем господину де Ларошфуко. В результате они с
Вардом чуть было не поссорились окончательно, к тому же Ларошфуко
стало известно о том, что сын признался Варду в своей страсти к Мадам.
Марсийак покинул двор и, проезжая через Море, где находился Вард, не
захотел объясняться с ним, и с той поры они старались лишь соблюдать
приличия в отношении друг друга.
История эта наделала много шума, никто уже не сомневался в том, что Вард
влюблен в Мадам. Графиня де Суассон начала даже ревновать, однако Вард
сумел успокоить ее, и скандала не случилось.
Мы оставили Варда довольным тем, что ему удалось изгнать Марсийака, в
то время как граф де Гиш находился в Польше. Но оставались еще два
человека, которые мешали ему своею дружбой с Мадам. Одним из них был король;
другим — Гондрен, архиепископ Санский92.
От последнего Вард вскоре отделался, сказав ему, что король считает, будто
он влюблен в Мадам. Вард даже пошутил, заявив, что скоро, видно, придется
История Генриетты Английской...
201
отправить архиепископа в Нанси. Это заставило того удалиться в свою
епархию, откуда он наезжал лишь изредка.
Прибегнув все к той же шутке, Вард сказал Мадам, что король ненавидит
ее и что ей следует заручиться дружбой короля, своего брата, дабы тот мог
защитить ее от злой воли этого. Мадам ответила, что она такой дружбой
заручилась. Вард уговорил ее показать ему письма, которые писал ей брат. Она
согласилась, а он, в доказательство своей преданности королю, представил
Мадам как опасную личность, заверив, однако, короля, что воспользуется своим
влиянием на нее, дабы помешать ей причинить какой-либо вред.
Предавая таким образом Мадам, Вард в то же время не переставал
изображать неуемную страсть, какую будто бы питал к ней, и рассказывал ей все, что
узнавал от короля. Он даже просил у нее разрешения порвать с графиней де
Суассон, на что Мадам не согласилась, ибо, воспринимая, несомненно, слишком
снисходительно его страсть, она тем не менее угадывала неискренность Варда,
и эта мысль помешала Мадам до конца поверить ему. Вскоре она даже
поссорилась с ним.
Тем временем госпожа де Мекельбург93 и госпожа де Монтеспан
поддерживали, казалось, наилучшие отношения с Мадам. Вторая ревновала к первой и,
в поисках способов уничтожить ее, встретила человека, о котором я вам
сейчас расскажу. Госпожа д'Арманьяк находилась тогда в Савойе, сопровождая
туда принцессу Савойскую94. Месье просил Мадам приглашать ее по
возвращении на все увеселения, организуемые ею. Мадам согласилась, хотя, судя по
всему, госпожа д'Арманьяк стремилась уклониться от этого. Госпожа де
Мекельбург заявила Мадам, что знает причину. И рассказала, что к моменту
бракосочетания госпожи д'Арманьяк ее отношения с Вардом были завершены, но
когда госпожа д'Арманьяк пожелала забрать у него свои письма, он пообещал
вернуть их лишь в том случае, если удостоверится, что она никого не полюбит.
Перед отъездом в Савойю госпожа д'Арманьяк снова сделала попытку вернуть
письма, однако он воспротивился, сказав, что она любит Месье и потому он
опасается встречаться с ней у Мадам.
Узнав об этом, Мадам решила попросить у Варда ее письма и отдать их ей,
чтобы она ни о чем больше не тревожилась. Мадам обо всем рассказала
Монтеспан, та похвалила ее, но воспользовалась этим, чтобы сыграть с нею самую
злую шутку, какую только можно себе вообразить.
В ту пору Мадам любил господин главный шталмейстер95, и хотя выражал он
это довольно грубо и прямолинейно, ему казалось, что раз она не отвечает, то
попросту ничего не понимает. И он принял решение написать ей, но за
недостатком ума обратился с просьбой сделать это к герцогу Люксембургскому96 и
архиепископу Санскому, собираясь в Валь-де-Грас положить письмо в карман Мадам,
дабы она не сумела отказаться. Те не сочли возможным выполнить такую
просьбу и предупредили Мадам о его сумасбродстве. Мадам просила их сделать
так, чтобы он не думал больше о ней, и они действительно в этом преуспели.
Тем не менее, возвратившись из Савойи, госпожа д'Арманьяк воспылала
ревностью. Госпожа де Монтеспан заявила, что у нее есть для этого все основания, и
поехала ей навстречу, дабы предупредить, будто Мадам хочет заполучить ее пись-
202
История Генриетты Английской...
ма, чтобы употребить ей во зло, и если она не погубит госпожу де Мекельбург, то
погубят ее саму. Госпожа д'Арманьяк, охотно употреблявшая во зло ту малость
ума, которой располагала, договорилась с госпожой де Монтеспан о том, что
следует погубить госпожу де Мекельбург. Через госпожу де Бове97 они постарались
убедить в этом королеву-мать, а вместе с ней и Месье, заявив, что у госпожи де
Мекельбург слишком скверная репутация и что ее нельзя оставлять подле Мадам.
Та, со своей стороны, решилась на такие хитрости, что в конце концов сама
себя погубила, и Месье запретил ей встречаться с Мадам.
Мадам, которую повергло в отчаяние нанесенное одной из ее подруг
оскорбление, запретила госпоже де Монтеспан и госпоже д'Арманьяк являться к ней.
Она хотела даже заставить Варда пригрозить последней, сказав, что если та не
вернет госпоже де Мекельбург, то он отдаст Мадам письма, о которых шла
речь. Но он этого не сделал, ограничившись лишь предложением, что укрепило
Мадам в прежней мысли: Вард — великий лицемер.
Месье тоже его разгадал из-за пересказов того, о чем говорилось у короля
и у него. Поэтому Вард лишь изредка осмеливался появляться у Мадам, и так
как Мадам в своих письмах к нему не отчитывалась в частых беседах, которые
имела с королем, он стал думать, что король влюбился в Мадам, и это
привело его в полное уныние.
Тем временем, по сообщениям из Польши, стало известно, что граф де Гиш,
совершив поразительные подвиги, вместе с польской армией оказался в таком
положении, при котором спасения нет. Эту новость сообщили за ужином у
короля. Мадам это страшно поразило, и она была счастлива тем, что всеобщее
внимание к рассказу помешало заметить охватившее ее волнение.
Мадам вышла из-за стола. И, встретив Варда, сказала: «Я вижу, что люблю
графа де Гиша больше, чем полагала». Подобное заявление вкупе с
подозрениями, возникшими у Варда по поводу короля, заставило его принять решение
переменить манеру поведения с Мадам.
Думаю, он немедля порвал бы с ней, если бы его не удерживали слишком
серьезные соображения. У него было два повода пожаловаться ей. Мадам
шутливо возразила, что в отношении короля видит его в роли Шабана98, а что
касается графа де Гиша, то готова напомнить ему, сколько он всего сделал,
чтобы поссорить ее с ним, если, конечно, он не возражает, чтобы она посвятила его
в свои чувства к де Гишу. Затем Вард сообщил Мадам, что начинает понимать:
графиня де Суассон ему небезразлична. Мадам в ответ заметила, что вряд ли
он сможет находиться с той в одной кровати: нос ее причинит ему большие
неудобства99. С той поры отношения Мадам с Вардом складывались скорее на
основе сдержанного уважения, ибо породившие его обстоятельства ушли в
невозвратное прошлое.
Тем летом все отправились в Фонтенбло, и Месье, который не в силах был
смириться с тем, что обе его подруги — госпожа д'Арманьяк и госпожа де
Монтеспан — не имеют возможности принимать участия в увеселениях, так как
Мадам запретила им появляться в ее присутствии, согласился, чтобы госпожа де
Мекельбург вновь встретилась с Мадам, и в результате встретились все трое,
перед тем как двор покинул Париж. Однако первым двум так никогда и не уда-
История Генриетты Английской...
203
лось вернуть благосклонность Мадам; в особенности это касается госпожи де
Монтеспан.
В Фонтенбло все думали только о развлечениях, а средь бесчисленных
празднеств дамские раздоры всегда создают определенные трудности, и самая
большая возникла из-за media noche100, где король просил присутствовать Мадам.
Праздник должен был проходить на канале, на ярко освещенном судне,
сопровождавшемся другими — со скрипками и музыкой.
До сего дня беременность мешала Мадам принимать участие в прогулках,
но теперь, на девятом месяце, она бывала всюду. И потому попросила
короля исключить из числа гостей госпожу д'Арманьяк и госпожу де Монтеспан.
Тогда Месье, полагая, что его авторитету мужа нанесен урон, поскольку
удалили его приятельниц, заявил, что не будет присутствовать на празднествах,
где нет этих дам.
Королева-мать, которая по-прежнему ненавидела Мадам, укрепила его в
этом решении, рассердившись на короля, принявшего сторону Мадам. Но
Мадам все-таки одержала верх, и дамы не присутствовали на media noche, что
привело их в бешенство.
Графиня де Суассон, с давних пор безумно ревновавшая Мадам к Варду,
не переставала, однако, поддерживать с ней хорошие отношения. Однажды,
заболев, она попросила Мадам навестить ее и, желая выяснить чувства Мадам
к Варду, после бесчисленных заверений в дружбе упрекнула ее в
отношениях с В ар дом, которые в течение трех лет Мадам поддерживает без ее ведома;
если это галантные отношения, то тем самым она наносит ей весьма
чувствительный удар, а если это не более чем дружба, то непонятно, почему Мадам
хочет скрыть ее, зная приверженность графини интересам Мадам.
Мадам всегда с готовностью стремилась помочь своим подругам выйти из
затруднительного положения и потому сказала графине де Суассон, что в
сердце ее никогда не было места чувству к Варду, которое могло бы огорчить ее.
Тогда графиня попросила Мадам подтвердить в присутствии Варда, что она не
желает поддерживать с ним иных отношений, кроме как через нее. Мадам
согласилась. Тотчас послали за Вардом. Он был немного удивлен, но, когда
понял, что Мадам вместо того, чтобы поссорить его с графиней, взяла вину на
себя, пришел поблагодарить ее, заверив, что на всю жизнь сохранит
признательность за проявленное ею благородство.
Однако графиня де Суассон, по-прежнему опасаясь какого-нибудь подвоха,
так запутала Варда, что он проговорился, признавшись кое в каких вещах.
Чтобы окончательно все выяснить, графиня поведала об этом Мадам, добавив,
что Вард совершил недопустимое предательство по отношению к ней, показав
королю письма английского короля.
Мадам не отступилась от своих слов. Она по-прежнему утверждала, что за
Вардом нет вины перед графиней, и, хотя была недовольна им, не желала
показаться лгуньей (а вышло бы именно так, если бы ей пришлось открыть правду).
Графиня, однако, рассказала Варду прямо противоположное, что
окончательно сбило его с толку. Он признался во всем, поведал, что только от Мадам
зависело, чтобы он до конца дней никогда не встречался с графиней. Судите
204
История Генриетты Английской...
сами, в какое отчаяние впала графиня! Она послала за Мадам, просила зайти
к ней. Мадам застала ее в неописуемом горе из-за измены возлюбленного.
Графиня просила Мадам рассказать правду, заявив, что прекрасно понимает:
причина, помешавшая ей сделать это, — доброе отношение к Варду, но его
предательство такого не заслуживает.
Затем она сообщила Мадам то, что знала, и, сопоставив все вместе, они
обнаружили невообразимый обман. Графиня поклялась, что никогда больше не
увидит Варда. Но чего не сделаешь во имя страстной любви! Вард так ловко
разыграл комедию, что смягчил ее.
Тем временем де Гиш возвратился из Польши101. Месье позволил ему
вернуться ко двору, но потребовал от его отца, чтобы де Гиш не появлялся там, где
находится Мадам. Он часто встречал ее и, несмотря на долгое отсутствие, не
переставал любить, хотя Мадам порвала с ним всякие отношения, к тому же
было неясно, что ему следует думать об истории с Вардом.
Он не мог отыскать способа объясниться с Мадам. Доду102, единственного
человека, которому он доверял, не было в Фонтенбло, но окончательно привело
его в замешательство то, что Мадам, зная, что королю известно о ее письмах
к нему в Нанси и о подаренном ею портрете, вновь потребовала все это вернуть
через короля, и де Гиш действительно отдал и то, и другое королю с
несказанной болью и безропотным послушанием, с каким всегда относился к
приказаниям Мадам.
Между тем Вард, чувствуя свою вину перед другом, настолько все запутал,
что голова у графа де Гиша пошла кругом. Здравые рассуждения подсказывали
ему, что он был обманут, но де Гиш не знал, принимала ли Мадам участие в
обмане или виноват один Вард. Буйный нрав не позволял ему оставаться в
тревожном неведении, и он решил взять в судьи госпожу де Мекельбург,
которую Вард назвал свидетельницей его верности. Однако пойти на это граф де
Гиш готов был лишь при условии согласия Мадам.
Он написал ей при посредстве Варда, изложив свою просьбу. Мадам
произвела на свет Месье де Валуа и пока еще ни с кем не виделась, но Вард с такой
настойчивостью просил у нее аудиенции, что она приняла его. Прежде всего он
бросился перед ней на колени. Стал плакать и молить о прощении, предлагая
ей скрыть, если она согласна действовать с ним заодно, существовавшие
между ними отношения.
Мадам заявила, что не принимает подобного предложения, а, напротив,
хочет, чтобы граф де Гиш узнал всю правду; да, она была обманута и попала
в ловушку, коей никто не сумел бы избежать, и потому не желает иного
оправдания, кроме истины, только тогда все поймут, что в руках любого другого ее
добрые побуждения не были бы извращены так, как это случилось.
Затем Вард хотел вручить ей письмо от графа де Гиша, но она отказалась
взять его, и правильно сделала, ибо Вард показал уже письмо королю, сказав
при этом, что Мадам обманывает его.
Еще он просил Мадам назвать кого-нибудь, чтобы помирить их с де Гишем.
Во избежание дуэли она согласилась, чтобы примирение состоялось у мадам де
История Генриетты Английской...
205
Мекельбург, однако Мадам не желала давать повода думать, будто встреча эта
состоится по ее разрешению. Варда, ожидавшего совсем иного, охватило
беспредельное отчаяние. Он бился головой о стены, плакал, словом, делал вещи
несуразные. Но Мадам проявила твердость, не отступилась, и хорошо сделала.
Едва Вард ушел, как явился король. Мадам рассказала ему о том, что
произошло, король остался очень доволен и, выяснив все, обещал ей помочь
разобраться в плутнях Варда, настолько невероятных, что невозможно было распутать их.
Мадам выбралась из этого лабиринта, непрестанно повторяя одну лишь
правду, ее искренность помогла ей утвердить свое положение при короле.
Граф де Гиш, однако, был крайне удручен тем, что Мадам не пожелала
взять его письмо. Он думал, что она его больше не любит, и решил
встретиться с Вардом у госпожи де Мекельбург, чтобы сразиться с ним. Но та не
захотела их принять, и посему они пребывали в таком состоянии, что все вокруг
каждодневно ожидали страшного скандала.
Тем временем король вернулся в Венсенн. Граф де Гиш, не зная, какие чувства
питает к нему Мадам, и не имея более сил оставаться в подобном неведении,
решил просить графиню де Грамон103, которая была англичанкой, поговорить с
Мадам; он так настаивал, что та в конце концов согласилась, даже ее муж взялся
передать письмо, которое не пожелала принять Мадам. В ответ Мадам сказала, что
граф де Гиш был влюблен в мадемуазель де Грансей104, не сообщив ей, что это
всего лишь предлог; сказала, что счастлива не иметь с ним никаких дел, но если
бы он вел себя иначе, его любовь и признательность заставили бы ее, несмотря на
грозившую ей опасность, сохранить к нему чувства, которых он добивался.
Такая холодность с новой силой разожгла страсть графа де Гиша, и он
ежедневно являлся к графине де Грамон, умоляя ее походатайствовать за него
перед Мадам. Наконец ему самому представился случай поговорить с ней
дольше, чем он мог надеяться.
Госпожа де Вьевилль давала в своем доме бал. Мадам решила
отправиться туда в маске вместе с Месье, а чтобы не быть узнанной, велела роскошно
одеть своих фрейлин и нескольких дам из свиты. Они же вдвоем с Месье
поехали в плащах в чужой карете.
У двери им повстречалась целая группа масок. Не зная, кто они, Месье
пригласил их присоединиться к ним и взял одну из масок за руку. Мадам поступила
точно так же. Судите сами, каково было ее удивление, когда она обнаружила
искалеченную руку графа де Гиша105, тот тоже узнал аромат саше106,
которыми были надушены уборы Мадам! Оба едва не вскрикнули, настолько их
поразило это приключение. Обоих охватило такое глубокое волнение, что они
поднялись по лестнице, не вымолвив ни слова. Наконец граф де Гиш, узнав
Месье и увидев, что он сел далеко от Мадам, встал на колени и не только
успел оправдаться перед Мадам, но и услышал ее рассказ обо всем, что
произошло за время его отсутствия. Ему было горько узнать, что она поверила Вар-
ду, но он был безмерно счастлив тем, что Мадам простила ему роман с
мадемуазель де Грансей, и ничуть не жаловался.
Месье позвал Мадам, и граф де Гиш, опасаясь быть узнанным, вышел
первым. Но тот же случай, который привел его сюда, заставил графа де Гиша замеш-
206
История Генриетты Английской...
катъся внизу, у лестницы. Месье немного встревожила беседа, которую имела
Мадам. Она это заметила и, испугавшись расспросов, нарочно оступилась и,
спотыкаясь, стала спускаться по лестнице вниз, где находился граф де Гиш, который,
удержав ее, спас от гибели, так как она носила ребенка. Как видите, все
способствовало их примирению. И оно свершилось. Затем Мадам получала от него
письма и как-то вечером, когда Месье уехал на бал-маскарад, встретилась с ним у
графини де Грамон, где она дожидалась Месье на media noche.
Тем временем Мадам нашла способ отомстить Варду. Шевалье Лотаринг-
ский107 был влюблен в одну из фрейлин Мадам, ее звали Фьенн. Однажды,
когда он находился у королевы, в присутствии многих людей его спросили, кто ему
мил. «Фьенн», — ответили вместо него. Вард заметил, что ему лучше было бы
обратить свой взор к ее госпоже. Мадам узнала об этом от графа де Грамона.
Не желая называть его, она попросила рассказать ей то же самое маркиза де
Вильруа и, сумев вовлечь в это дело его, равно как и шевалье Лотарингского,
пожаловалась королю и попросила изгнать Варда. Король обещал, хотя счел
наказание чересчур суровым. Вард, в свою очередь, попросил, чтобы его
заключили в Бастилию, и все ходили туда навещать его.
Друзья Варда объявили, что король с трудом пошел на такое наказание и
что Мадам не смогла заставить изгнать его. Поняв, что это и в самом деле
пошло ему только на пользу, Мадам вновь обратилась к королю с просьбой
отправить Варда в свое поместье, на что король согласился.
Графиня де Суассон, разъяренная тем, что Мадам отнимала у нее Варда то
своею ненавистью, то дружбой, и к тому же раздосадованная высокомерием,
с каким вся придворная молодежь твердила, что Вард наказан по заслугам,
решила выместить свой гнев на графе де Гише.
Она сказала королю, что Мадам сделала это в угоду графу де Гишу и что
король пожалел бы о своем потворстве ее ненависти, если бы знал все, что де
Гиш совершил против него.
Монтале, которая в порыве ложного благородства нередко отваживалась на
опрометчивые поступки, написала Варду, что если он доверится ей, то у нее есть
три письма, которые помогут ему выпутаться из неприятного положения. Он
не принял ее предложения, зато графиня де Суассон воспользовалась
сведениями об этих письмах, дабы вынудить короля погубить графа де Гиша. Она
обвинила графа в намерении сдать Дюнкерк англичанам и выделить в
распоряжение Мадам полк гвардейцев. К тому же имела неосторожность упомянуть
об испанском письме. К счастью, король обо всем рассказал Мадам. Он был в
такой ярости против графа де Гиша, испытывая в то же время необычайную
признательность к графине де Суассон, что Мадам вынуждена была погубить
обоих, дабы не видеть торжества графини де Суассон, выдвинувшей обвинение
против графа де Гиша. И все-таки Мадам удалось добиться обещания короля
простить графа де Гиша, если она сумеет доказать, что его проступки
ничтожны по сравнению с виной Варда и графини де Суассон. Король обещал ей это,
и Мадам поведала ему все, что знала. Вместе они порешили, что графиню де
Суассон следует изгнать, а Варда заключить в тюрьму108. При посредничестве
маршала де Грамона Мадам сразу же предупредила графа де Гиша, посовето-
История Генриетты Английской...
207
вав ему откровенно во всем признаться, ибо полагала, что во всех запутанных
делах только истина может вывести людей из затруднения. Несмотря на
щекотливость положения, граф де Гиш поблагодарил Мадам, и все переговоры
касательно этого дела велись ими только через маршала де Грамона.
Правдивость и с той, и с другой стороны была столь безупречной, что они ни разу не
спутались в своих показаниях, и король не заметил их договоренности. Он
отправил человека просить Монтале сказать ему всю правду: вы узнаете
подробности от нее самой. Скажу только, что маршал, лишь чудом державший себя
в руках, не смог вытерпеть до конца, страх вынудил его послать сына в
Голландию109, хотя, если бы он устоял, того не изгнали бы.
Граф так был удручен, что заболел. Отец неустанно торопил его с отъездом.
Мадам не желала прощаться с ним, ибо знала, что за ними следят, к тому же
и возраст ее был уже не тот, когда кажется, что, чем опаснее, тем интереснее.
Но граф де Гиш не мог уехать, не увидев Мадам. Он заказал для себя платье
лакеев Лавальер и, когда Мадам несли в портшезе в Лувр, получил
возможность поговорить с ней. И вот наконец пришел день отъезда. Графа все еще
мучила лихорадка. Однако он по-прежнему находился на улице все в том же
одеянии, но, когда настал момент последнего прости, силы оставили его.
Потеряв сознание, он упал110, и Мадам с болью смотрела на него в таком состоянии,
ведь он рисковал либо быть узнанным, либо остаться без помощи. С той поры
Мадам его больше ни разу не видела.
Рассказ о смерти Мадам
Мадам вернулась из Англии, овеянная славой, окрыленная радостью,
обусловленной путешествием, в основе которого лежала дружба; следствием этой
поездки явился бесспорный успех в делах111. Король, ее брат, которого она
очень любила, выразил необычайную нежность к ней и уважение. Все знали,
хотя и смутно, что переговоры, в которых она принимала участие, были
близки к завершению. В двадцать шесть лет она стала, как ей представлялось,
связующей нитью между двумя самыми могущественными королями столетия. В
ее руках находился договор, от коего зависела судьба значительной части
Европы. Удовольствие, сопутствующее успеху, и связанное с ним всеобщее
внимание вкупе с очарованием, свойственным молодости и красоте, придавали
облику Мадам особую прелесть и мягкость, вызывавшие своего рода почитание,
тем более для нее лестное, что оно относилось скорее к ее персоне, нежели к
занимаемому ею положению.
Однако ощущение полного счастья нарушалось отдалением от нее Месье
после известного дела шевалье Лотарингского112, хотя, судя по всему,
милостивое расположение короля предоставило в ее распоряжение способ выйти из
затруднения. Словом, она, как никогда, находилась в условиях, на редкость
благоприятных, и тут смерть, словно удар грома, неожиданно положила конец
столь блистательной жизни, лишив Францию самой очаровательной
принцессы из всех, когда-либо существовавших.
208
История Генриетты Английской...
Двадцать четвертого июня 1670 года, через неделю после возвращения
Мадам из Англии, они с Месье отправились в Сен-Клу113. Приехав туда, Мадам в
первый же день пожаловалась на боль в боку и болезненные ощущения в
желудке, которым она была подвержена. Тем не менее ей захотелось
искупаться в реке, так как было очень жарко. Господин Ивлен, ее доктор, сделал все
возможное, чтобы воспрепятствовать этому, но, несмотря на его уговоры, Мадам
выкупалась в пятницу, а в субботу ей стало так плохо, что она уже не купалась.
Я приехала114 в Сен-Клу в субботу в десять часов вечера. И нашла ее в парке;
она сказала, что плохо выглядит, и я это, конечно, замечу; что чувствует она
себя неважно. Поужинала Мадам как обычно, а потом до полуночи гуляла при
луне. На другой день, в воскресенье 29 июня, она встала рано и спустилась к
Месье — он купался. Она пробыла с ним довольно долго, а выйдя из его
комнаты, зашла в мою и оказала мне честь, сообщив, что хорошо провела ночь.
Вскоре я поднялась к ней. Мадам пожаловалась на свою печаль, но плохое
настроение, о котором она говорила, у других женщин показалось бы
минутами счастья, столько в ней было природной мягкости, тогда как резкость или
негодование были совершенно ей чужды.
Во время нашего разговора Мадам пришли сказать, что начинается месса.
Она пошла послушать ее, а возвращаясь к себе в комнату, оперлась на меня и
призналась с особым, свойственным лишь ей выражением доброты, что у нее
не было бы столь скверного настроения, если бы она имела возможность
поболтать со мной, зато все остальное окружение ей до того наскучило, что она
не может больше никого выносить.
Затем Мадам пошла взглянуть на Мадемуазель115, чей портрет писал
прекрасный английский художник, и стала рассказывать нам с госпожой д'Эпер-
нон о своем путешествии в Англию и о короле, ее брате.
Беседа эта ей нравилась и потому вернула хорошее настроение. Подали
обед. Она поела как обычно и после обеда легла на пол, что делала на
свободе довольно часто. Мадам уложила меня рядом с собой, так что ее голова
покоилась почти на мне.
Тот же самый художник писал и Месье. Мы поговорили о разных вещах,
и она незаметно уснула. Во сне она так сильно изменилась, что, глядя на нее
довольно длительное время, я была удивлена и подумала, что ум немало
способствовал украшению ее лица116, ибо делал его таким приятным, когда она
бодрствовала, и столь малоприятным во сне. Однако подобная мысль была
ошибочной, так как я не раз видела ее спящей и всегда не менее приятной.
Проснувшись, она поднялась, но выглядела так плохо, что Месье был
удивлен и обратил на это мое внимание.
Потом она направилась в салон, где какое-то время прохаживалась с Буа-
франком, казначеем Месье, и, разговаривая с ним, несколько раз пожаловалась
на боль в боку.
Спустился Месье, собиравшийся ехать в Париж. Встретив на ступеньках
госпожу де Мекельбург, он поднялся вместе с ней обратно. Оставив Буафран-
ка, Мадам подошла к госпоже де Мекельбург. Во время ее разговора с ней, с
госпожой де Гамаш и со мной принесли воду с цикорием, которую она недав-
История Генриетты Английской...
209
но просила. Подала ее дама из свиты, госпожа де Гурдон. Выпив воду и
поставив одной рукой чашку на блюдце, другой она схватилась за бок и
произнесла голосом, в котором чувствовалась огромная боль: «Ах, как колет в боку! Ах,
что за мука! Я больше не могу терпеть».
При этих словах она залилась краской, а через минуту покрылась
мертвенной бледностью, поразившей всех нас. Мадам продолжала кричать, просила,
чтобы ее унесли, словно не в силах была держаться на ногах.
Мы подхватили ее под руки; согнувшись, она едва передвигалась. Ее тут же
раздели; я поддерживала Мадам, пока ее расшнуровывали. Она все еще
жаловалась, и я заметила слезы в ее глазах. Меня это удивило и растрогало, ибо я
знала ее как самую терпеливую в мире особу.
Целуя ей руки, которые держала, я сказала, что она, верно, сильно
страдает. Мадам ответила, что страдает невыносимо. Ее уложили в постель, но она
тут же закричала пуще прежнего и стала кататься с боку на бок от
нестерпимой боли. Тем временем позвали ее главного врача, господина Эспри. Тот
заявил, что это колики, и предписал обычные при таких явлениях средства. Меж
тем боли усиливались. Мадам заметила, что болезнь ее серьезнее, чем думают;
что ей суждено умереть и что следует послать за исповедником.
Месье оставался у ее постели. Поцеловав его, она сказала с нежностью и
с таким кротким видом, который способен был тронуть и самые жестокие
сердца: «Увы, сударь, вы давно уже меня не любите, но это несправедливо;
я никогда не предавала вас». Месье казался растроганным, и все, кто
находился в комнате, — тоже; не слышно было ничего, кроме плача присутствующих.
Все, о чем я рассказываю, произошло меньше чем за полчаса. Мадам по-
прежнему кричала, что ощущает ужасные боли в желудке. И вдруг
попросила проверить воду, которую она пила117, сказав, что это яд, что, возможно, одну
бутылку приняли за другую, что ее отравили, она это чувствует, пускай ей
дадут противоядие.
Я стояла в простенке рядом с Месье, и, хотя считала его неспособным на
подобное преступление, чувство, свойственное людскому
недоброжелательству, заставило меня внимательно присмотреться к нему. Он не был ни
взволнован, ни смущен словами Мадам. Сказал только, что надо дать эту воду
собаке. Так же, как и я, он согласился с тем, что следует принести раститель:
ное масло и противоядие, дабы избавить Мадам от столь прискорбной мысли.
Госпожа Деборд, главная ее камеристка, беспредельно ей преданная,
сказала, что она сама готовила воду, и попробовала ее. Но Мадам продолжала
упорствовать, требуя растительного масла и противоядия. Ей дали и то, и
другое. Сент-Фуа, главный камердинер Месье, принес ей змеиный порошок118.
Она сказала, что доверяет ему и потому берет лекарство из его рук; ее
заставили принять несколько снадобий, связанных с мыслью о яде и,
возможно, причинивших ей вред вместо пользы. Лекарства вызвали у Мадам рвоту,
но тошнота появилась у нее еще до того, как она что-либо приняла, однако
рвота не дала желаемого результата, вышло только немного слизи и часть
пищи. Лекарства и мучительные, нестерпимые боли довели ее до
изнеможения, принятого нами за успокоение, но она разуверила нас, сказав, что не сле-
14. Заказ № К-6559
210
История Генриетты Английской...
дует обманываться, боли остались прежними, только у нее нет больше сил
кричать, как нет и средства от ее недуга.
Казалось, она полностью уверилась в своей смерти и смирилась с ней, как
с чем-то, не имеющим значения. Видимо, мысль о яде укоренилась в ее
сознании и, понимая, что лекарства бесполезны, она не думала больше о жизни,
стараясь терпеливо сносить свою боль. Началось сильное удушье. Месье позвал
госпожу де Гамаш, чтобы она пощупала пульс; врачи об этом не подумали. Та
в страхе отошла от кровати, сказав, что пульс не прощупьюается и что
конечности у Мадам совсем холодные. Мы испугались. Месье, казалось, был в
ужасе. Господин Эспри заявил, что это обычное явление при коликах и что он
ручается за Мадам. Месье разгневался, заметив, что он ручался за Месье де Ва-
луа, а он умер; и теперь опять ручается за Мадам, хотя она тоже умирает.
Меж тем явился затребованный ею кюре Сен-Клу. Месье оказал мне честь,
спросив, стоит ли говорить с ним об исповеди. Мне почудилось, она очень
плоха. Думалось, ее боли никак не похожи на те, что связаны с обычными
коликами, тем не менее мысленно я была далека от того, что должно было
случиться, сосредоточив все свои помыслы на тревоге за ее жизнь.
Я ответила Месье, что исповедь в предвидении смерти может быть только
полезна, и Месье приказал мне пойти сказать Мадам, что кюре Сен-Клу
прибыл. Я умоляла его избавить меня от этого, ссылаясь на то, что раз она просила
прийти исповедника, значит, надо просто впустить того в комнату. Месье
приблизился к постели, и Мадам сама, по собственной воле, снова попросила
исповедника, однако не выглядела при этом испуганной, а походила на
человека, который думает о единственно необходимых в его положении вещах.
Одна из главных ее горничных прошла в изголовье, чтобы приподнять
Мадам. Но Мадам не пожелала ее отпускать и исповедалась в ее присутствии.
После того как исповедник удалился, Месье подошел к постели. Довольно тихо
Мадам сказала ему несколько слов, которых мы не расслышали, однако нам
показалось, что это опять нечто ласковое и правдивое.
Мадам предложили сделать кровопускание, но она пожелала, чтобы кровь
взяли из ноги. А господину Эспри хотелось, чтобы то была рука. В конце
концов он решил, что поступать следует именно так. Месье пошел сказать об этом
Мадам, как о вещи, на которую, возможно, ей трудно будет решиться, но она
ответила, что согласна на все пожелания, что ей все безразлично и что она
прекрасно сознает: ей уже не поправиться. Мы воспринимали ее слова как
следствие сильной боли, которой ей никогда не доводилось испытывать и потому
заставлявшей ее думать, что она должна умереть.
Прошло не больше трех часов с тех пор, как ей стало плохо. Ивлен119 — за
ним посылали в Париж — прибыл вместе с господином Валло120 — за ним ездили
в Версаль. Заметив Ивлена, к которому она относилась с большим доверием,
Мадам сразу сказала, что очень рада его видеть, что ее отравили и что ему
следует лечить ее, основываясь на этом. Не знаю, поверил ли он ей, решив, что
спасенья нет, или подумал, что она ошибается и болезнь ее не опасна, во
всяком случае, вел он себя как человек, у которого не осталось ни малейшей
надежды или который, напротив, вовсе не видит опасности. Он посоветовался с
История Генриетты Английской...
211
господином Валло и господином Эспри, а после довольно длительной
консультации все трое явились к Месье и поклялись, что опасности нет. Месье пришел
сказать об этом Мадам. Она ответила, что знает свою болезнь лучше врачей
и что спасенья нет, но произнесла это все так же спокойно и ласково, будто
говорила о чем-то постороннем.
Месье принц121 приехал навестить ее; она сказала, что умирает. Все, кто
находился подле нее, в один голос стали уверять ее, что это не так, однако она
выразила своего рода нетерпение умереть, дабы избавиться от терзавшей ее
боли. Тем не менее кровопускание принесло, казалось, долгожданное
облегчение; все решили, что ей стало лучше. В половине десятого господин Валло
возвратился в Версаль, а мы остались у ее постели беседовать, полагая, что она вне
опасности. Выстраданная ею боль стала для нас чуть ли не утешением, вселив
надежду, что положение, в котором она очутилась, поможет ее примирению с
Месье. Он казался растроганным, и мы с госпожой д'Эпернон, слышавшие то,
что она сказала, с удовольствием обратили ее внимание на цену тех слов.
Господин Валло предписал промывание александрийским листом;122 Мадам
приняла лекарство, и хотя мы ничего не понимали в медицине, но полагали,
однако, что выйти из того состояния, в котором она находилась, можно было
лишь путем очищения. Природа пыталась добиться своего через верх — Мадам
постоянно тошнило, но ей ничего не предлагали, чтобы помочь.
Господь ослепил докторов, не дав им прибегнуть к средствам, способным
отдалить смерть, которую он пожелал сделать ужасной. Мадам услыхала, как
мы говорили, что ей лучше и что мы с нетерпением ожидаем благотворного
действия лекарства. «Это так мало похоже на правду, — сказала нам она, — что,
не будь я христианкой, я покончила бы с собой, настолько нестерпима моя
боль. Никому не следует желать зла, — добавила она, — но мне очень хотелось
бы, чтобы кто-нибудь хоть на минуту смог почувствовать то, что терплю я, дабы
понять всю силу моих страданий».
Между тем лекарство не действовало. Мы забеспокоились. Позвали
господина Эспри и господина Ивлена. Те сказали, что надо подождать еще. Мадам
заметила, что если бы они ощущали ее муки, то не дожидались бы так
спокойно. Прошло целых два часа в ожидании действия этого средства, они были
последними, когда ей можно было еще оказать какую-то помощь. Мадам
немало всего давали, ее постель испачкали. Она пожелала сменить ее, и ей
приготовили другую, маленькую, у простенка. Мадам не переносили, она
перебралась туда сама и даже обошла кровать с другой стороны, чтобы не касаться
испачканного места. Когда она очутилась в маленькой кровати, то либо ей
действительно стало хуже, либо видно ее было лучше, потому что свет от
свечей падал ей прямо в лицо, только она показалась нам совсем плохой. Врачи
захотели взглянуть на нее поближе и принесли светильник; с той минуты, как
она заболела, все светильники велено было убрать. Месье спросил, не доставит
ли ей это неудобства. «Ах, нет, сударь! — отвечала она. — Ничто уже не может
доставить мне неудобств. Завтра утром меня не будет в живых, вот увидите».
Ей дали бульона, ведь Мадам с обеда ничего не ела. Но едва она проглотила
его, как боли усилились, став такими же невыносимыми, как после выпитой
212
История Генриетты Английской...
воды с цикорием. На лице ее проступила смерть, видно было, как жестоко она
страдает, но волнения не чувствовалось.
Король несколько раз присылал справляться о ней, и Мадам каждый раз
говорила, что умирает. Те, кто видел ее, сообщили ему, что она
действительно очень плоха, а господин де Креки, заезжавший в Сен-Клу по дороге в
Версаль, сказал королю, что считает ее в большой опасности, и тогда король
решил приехать к ней сам, в одиннадцать часов он прибыл в Сен-Клу.
Когда король приехал, у Мадам как раз усилились боли по причине
бульона. Его присутствие, казалось, просветило докторов. Он отвел их в сторону,
дабы узнать, что они думают, и те же самые врачи, которые двумя часами
раньше клятвенно ручались за ее жизнь, полагая, что холодные конечности
являлись всего лишь следствием колик, те же самые врачи теперь утверждали, что
она безнадежна, что этот холод и едва различимый пульс свидетельствуют о
гангрене и что ей следует приобщиться к Господу Богу123.
С королем приехали королева и графиня де Суассон; госпожа де Лаваль-
ер и госпожа де Монтеспан пришли вместе124. Я как раз беседовала с Мадам.
Месье позвал меня и со слезами поведал о том, что сказали врачи. Я была
удивлена и расстроена, как и следовало ожидать, и ответила Месье, что врачи
потеряли рассудок, что они не думают ни о жизни ее, ни о спасении; ведь всего
четверть часа назад она говорила с кюре Сен-Клу и теперь за ним опять надо
кого-нибудь посылать. Месье сказал, что пошлет за епископом Кондомским125.
Я сочла, что трудно сделать лучший выбор, а пока следовало пригласить
господина Фёйе, каноника, чьи заслуги общеизвестны126.
Король тем временем находился подле Мадам. Она сказала ему, что он
теряет самую верную свою служанку из всех возможных. Король ответил, что
опасность не так велика, и все-таки он удивлен ее твердостью, считает, что она
исполнена величия. Мадам отвечала, что ему прекрасно известно: она никогда
не боялась смерти, боялась лишь утратить его доброе расположение.
Король заговорил о Боге. Затем вернулся к докторам. Он застал меня в
отчаянии, ибо те вовсе не давали ей лекарств, в особенности рвотного; король
оказал мне честь, заявив, что врачи в растерянности и сами не знают, что
делают, но он попробует вразумить их. Поговорив с докторами, король подошел
к постели Мадам и сказал ей, что он хоть и не врач, но предложил сейчас
докторам тридцать разных снадобий. Те отвечали, что надо подождать. Мадам
заметила, что умирать следует по правилам.
Понимая, что надеяться, по всей видимости, не на что, король со слезами
простился с нею. Она сказала, что просит его не плакать, что он растрогал ее
и что первая весть, которую он получит завтра, будет известие о ее смерти.
К постели подошел маршал де Грамон. Мадам сказала, что он теряет в ее
лице доброго друга, что она умирает и по ошибке думала сначала, что ее
отравили.
Когда король удалился, я осталась подле нее. «Госпожа де Лафайет, —
обратилась она ко мне, — мой нос уже заострился». В ответ я только лила слезы,
ибо она говорила правду, я просто еще не успела обратить на это внимания.
Затем ее переложили обратно на большую кровать. У нее началась икота. Она
История Генриетты Английской...
213
сказала господину Эспри, что это предсмертная икота. Мадам уже несколько
раз спрашивала, когда она умрет, и опять спросила, и, хотя ей отвечали как
человеку, далекому от конца, все прекрасно видели: надежды нет никакой.
Мадам ни разу не обратила свои помыслы к жизни. Ни разу не обронила
слова о безжалостной судьбе, предвещавшей ей смерть во цвете лет; ни разу
не спросила врачей, нет ли возможности ее спасти; и никакой жажды лекарств,
кроме тех, что заставляла ее желать нестерпимая боль; полное спокойствие,
вопреки жесточайшим страданиям, вопреки уверенности в неминуемой гибели
и мыслям о яде; словом, беспримерное мужество, которое не поддается
описанию.
Король уехал, и врачи заявили, что надежды нет никакой. Пришел
господин Фёйе. Он говорил с Мадам со всей суровостью, однако ее расположение
духа ничуть не уступало его суровости. У нее возникли некоторые сомнения
относительно того, что прежние ее исповеди могут оказаться недействительны,
и она попросила господина Фёйе помочь ей исповедаться окончательно; Мадам
сделала это с чувством глубокого благочестия и величайшей решимостью жить,
как положено христианке, если Господь Бог вернет ей здоровье.
После исповеди я приблизилась к ее кровати. Подле нее находился господин
Фёйе и капуцин127, ее обычный исповедник128. Этот добрый отец хотел поговорить
с ней и пустился в рассуждения, утомлявшие ее; она обратила ко мне взор, в
котором отражалось то, что она думала, затем перевела взгляд на капуцина:
«Предоставьте слово господину Фёйе, отец мой, — сказала она с восхитительной
лаской в голосе, точно боялась рассердить его. — Потом и вы скажете свое».
В эту минуту прибыл английский посол129. Едва увидев его, Мадам сразу же
заговорила с ним о короле, своем брате, и о том горе, которое причинит ему
ее смерть; она уже несколько раз говорила об этом в самом начале своей
болезни. И теперь просила передать ему, что он теряет человека, который любил
его больше всех на свете. Затем посол спросил ее, не была ли она отравлена.
Не знаю, сказала ли она ему, что была, зато прекрасно знаю, что она просила
его ничего не говорить об этом королю, ее брату, просила прежде всего
оградить его от этой боли, а главное, просила, чтобы он не вздумал мстить, ибо
король Франции тут ни при чем и не следует его винить.
Все это она говорила по-английски, но так как слово «яд» звучит
одинаково и на французском, и на английском, услыхав его, господин Фёйе прервал
беседу, сказав, что следует обратить свои помыслы к Богу и не думать ни о чем
ином.
Мадам получила предсмертное причастие. Затем, так как Месье вышел,
спросила, увидит ли она его еще. За ним пошли; он приблизился и со слезами
поцеловал ее. Она попросила его удалиться, сказав, что он лишает ее
твердости.
Меж тем она все больше слабела, и временами начинало сдавать сердце.
Прибыл господин Брайе, превосходный доктор. Сначала он не отчаивался и
решил посоветоваться с другими врачами. Мадам велела позвать их; они
попросили оставить их ненадолго вместе. Но Мадам снова послала за ними. Они
подошли к ее постели. Речь шла о кровопускании из ноги. «Если вы собираетесь
214
История Генриетты Английской...
это делать, то нельзя терять времени; в голове у меня все путается, а желудок
полон».
Они были поражены такою небывалой твердостью и, видя, что она
по-прежнему желает кровопускания, решили сделать это. Но крови почти не было, и
при первом-то кровопускании ее вышло совсем немного. Врачи сказали, что
собираются прибегнуть еще к одному средству, однако она ответила, что хочет
получить последнее миропомазание, прежде чем что-либо принимать.
Прибыл епископ Кондомский, Мадам сразу же приняла его. Учитывая
состояние, в котором она находилась, он говорил с ней о Боге с присущими всем
его речам ораторским даром и религиозной святостью. Он заставил ее сделать
все, что считал необходимым. В сказанное им она вникала с небывалым
рвением и поразительным присутствием духа.
Пока он говорил, подошла главная камеристка, дабы подать Мадам что-то
нужное. И Мадам, до самой смерти сохранявшая привычную душевную
учтивость, сказала ей по-английски, чтобы епископ Кондомский не понял этого:
«Когда я умру, отдайте епископу изумруд, который я велела заказать для
него»130.
Пока он говорил о Боге, на нее напало что-то вроде сонливости, которая на
деле была сродни беспамятству. Мадам спросила, нельзя ли ей немного
отдохнуть; он сказал, что можно и что сам он тем временем пойдет молиться за нее
Богу.
Господин Фёйе остался в изголовье кровати, и почти в ту же минуту
Мадам попросила его вернуть епископа Кондомского, ибо почувствовала
близкий конец. Епископ подошел и протянул ей распятие; она взяла его и с жаром
поцеловала. Епископ Кондомский по-прежнему разговаривал с ней, и она
отвечала ему все так же здраво, словно не была больна, продолжая держать
распятие у губ. Только смерть заставила ее выпустить распятие из рук. Силы
оставили Мадам; выронив распятие, она потеряла дар речи почти в то же
мгновение, что и жизнь. Агония ее длилась всего минуту, и после двух или
трех еле заметных конвульсивных движений губ она скончалась в половине
третьего утра, через девять часов после того, как ей стало плохо.
ПРИНЦЕССА КЛЕВСКАЯ
КНИГОПЕЧАТНИК - ЧИТАТЕЛЮ
Хотя эта повесть и была благосклонно встречена теми, кто ее прочел, автор
не решился назвать себя; он опасался, что его имя повредит успеху книги. Он
знает из опыта, что порой сочинения отвергаются публикой из-за низкого
мнения, которое она имеет об авторе; он знает также, что добрая слава автора
нередко придает цену его сочинениям. Итак, он предпочел по-прежнему
оставаться в безвестности, чтобы суждения были свободны и беспристрастны, а тем
временем станет ясно, действительно ли эта повесть столь понравится
публике, как я на то надеюсь.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Роскошь и нежные страсти никогда не цвели во Франции столь пышно, как
в последние годы царствования Генриха П1. Этот государь был любезен, хорош
собою и пылок в любви; хотя его страсть к Диане де Пуатье2, герцогине де Ва-
лантинуа, длилась уже более двадцати лет, она не стала от того менее жаркой,
а свидетельства ее — менее очевидными.
Так как он был удивительно искусен во всех телесных упражнениях, они
составляли немалую часть его занятий. Каждый день устраивались то охота,
то игра в мяч, балеты, скачки и подобные развлечения; повсюду виднелись
цвета и вензеля госпожи де Валантинуа, а сама она появлялась в таких
блестящих нарядах, какие подошли бы и мадемуазель де Ламарк3, ее внучке,
которая была тогда на выданье.
Ее присутствие узаконивалось присутствием королевы4. Королева была
красива, хотя ее первая молодость осталась позади; она любила власть,
великолепие и удовольствия. Король женился на ней, когда был еще герцогом
Орлеанским и имел старшего брата — дофина, умершего в Турноне5, принца, который
своим рождением и редкими достоинствами был предназначен с честью занять
место короля Франциска I6, своего отца.
Благодаря честолюбивому нраву королевы, царствовать было для нее
большим наслаждением; казалось, она легко сносила увлечение короля герцогиней
де Валантинуа и вовсе не выказывала ревности; но она притворялась так
умело, что трудно было судить о ее чувствах, а соображения благоразумия
заставляли ее сближаться с герцогиней, чтобы тем самым быть ближе к королю.
218
Принцесса Клевская
Королю нравилось общество женщин, даже тех, в которых он не был влюблен:
он всякий день бывал у королевы в тот час, когда у нее собирались
приближенные, и все самые красивые и изящные особы обоих полов неизменно там
появлялись.
Никогда двор не видел такого количества прекрасных женщин и
замечательной наружности мужчин; казалось, природе доставляло удовольствие наделять
лучшими своими дарами самых высокородных принцесс и принцев. Елизавета
Французская7, ставшая затем королевой Испании, уже являла редкий ум и ту
несравненную красоту, что оказалась роковой для нее. Мария Стюарт8, королева
Шотландии, которая стала недавно супругой дофина и которую называли коро-
левой-дофиной, была особой совершенной душой и телом. Она воспитывалась
при французском дворе и переняла всю его утонченность; родившись со
склонностью ко всему прекрасному, она, несмотря на свой столь юный возраст,
любила искусства и разбиралась в них лучше кого бы то ни было. Королева, ее
свекровь, и Мадам, сестра короля, также любили стихи, театральные
представления и музыку. Пристрастие короля Франциска I к поэзии и наукам еще
царило во Франции; а так как король, его сын, любил телесные упражнения, то при
дворе можно было предаваться любым удовольствиям. Но истинное величие и
очарование этому двору придавало великое множество особ королевской
крови и вельмож, наделенных необыкновенными достоинствами. Те, кого я
назову, были каждый на свой лад украшением и славой своего времени.
Король Наваррский9 вызывал всеобщее почтение как величием своего сана,
так и величием своей души. Он отличался в военном искусстве; с ним
соперничал герцог де Гиз, и это соперничество не раз подвигало его покидать свою
ставку и сражаться рядом с ним подобно простому солдату в самых опасных
местах. Впрочем, герцог давал доказательства такой удивительной доблести и
одерживал столь блестящие победы, что не было военачальника, который мог
бы смотреть на это без зависти. С доблестью сочетались у него все другие
замечательные свойства: он обладал умом обширным и глубоким, душой
благородной и возвышенной и равными дарованиями в делах войны и заботах мира.
Его брат, кардинал Лотарингский, от рождения был наделен безмерным
честолюбием, живым умом и редкостным красноречием; он приобрел глубокие
познания, которые употреблял для собственного возвышения и для защиты
католической веры, начавшей тогда подвергаться нападкам. Шевалье де Гиз10,
которого затем стали называть великим приором, был всеми любим, хорош
собою, умен, ловок и славился храбростью по всей Европе. Принца де Конде11
природа обделила ростом, но дала ему душу великую и гордую и такой склад
ума, какой привлекал к нему даже самых красивых женщин. Герцог де Невер12,
известный своими военными подвигами и высокими должностями, которые он
занимал, восхищал собою двор, хотя и был уже в годах. Он имел троих
сыновей прекрасной наружности;13 второй, носивший титул принца Клевского, был
способен поддержать славу своего имени; он был отважен и великодушен и
притом так благоразумен, как не бывают люди благоразумны в юности. Видам де
Шартр14, происходивший из старинного рода Ванд омов, чье имя не гнушались
носить принцы крови, также отличался и на войне, и в любовных похождени-
Часть первая
219
ях. Он был красив, привлекателен, мужественен, смел, щедр; все эти
прекрасные качества были очевидны и несомненны; короче говоря, он один был
достоин сравнения с герцогом де Немуром15, если такое сравнение вообще было
возможно. Но герцог являл собою совершеннейшее творение природы; менее
всего вызывало в нем восхищение то, что он был самым стройным и красивым
мужчиной на свете. Выше всех прочих его ставили несравненная доблесть и
приятность в складе ума, чертах и поступках, свойственная только ему
одному; он обладал веселым нравом, равно любезным и мужчинам, и женщинам,
необычайной ловкостью во всех упражнениях, манерой одеваться, которую
перенимали все остальные, хотя и не могли состязаться с ним; весь облик его
был таков, что, где бы он ни появлялся, нельзя было смотреть ни на кого
другого, кроме него. Не нашлось бы такой дамы при дворе, чье самолюбие не было
бы польщено его ухаживаниями; немногие из тех, кого он добивался, могли бы
похвалиться, что устояли перед ним, и даже некоторые из тех, к кому он
вовсе и не питал страсти, продолжали питать ее к нему. Он был столь
мягкосердечен и столь влюбчив, что не мог отказывать во внимании тем, кто старался
ему понравиться; поэтому у него было много любовниц, но трудно было угадать
ту, кого он истинно любил. Он часто бывал у королевы-дофины; ее красота,
обходительность, желание нравиться всем и то особое уважение, которое она
выказывала ему, нередко давали повод думать, что он смел мечтать о ней.
Гизы, которым она приходилась племянницей, немало приумножали свое
значение и влияние благодаря ее браку; честолюбие их простиралось так далеко,
что они стремились сравняться с принцами крови и поделить власть с
коннетаблем де Монморанси16. Король полагался на него в решении большинства дел
и дарил своей особой милостью герцога де Гиза и маршала де Сент-Андре;17 но
те, кто по благорасположению или ходом дел добивались близости к королю,
не могли ее сохранить иначе, как отдавшись под покровительство герцогини де
Валантинуа; хотя она уже утратила и молодость и красоту, но обладала над
королем властью столь непререкаемой, что ее можно было назвать госпожой и
над ним самим, и надо всем королевством.
Король всегда любил коннетабля и, едва взойдя на престол, вернул его из
изгнания, куда отправил его Франциск I. Двор разделился между Гизами и
коннетаблем, которого поддерживали принцы крови. Обе партии неизменно
старались привлечь на свою сторону герцогиню де Валантинуа. Герцог д'Омаль18,
брат герцога де Гиза, женился на одной из ее дочерей; коннетабль искал такого
же союза. Он не довольствовался браком своего старшего сына с Дианой,
«■» *-' 1Q
дочерью короля и одной пьемонтскои дамы , которая ушла в монастырь
сразу же после ее рождения. Этот брак натолкнулся на множество
препятствий из-за тех обещаний, что господин де Монморанси дал мадемуазель де
Пьенн, фрейлине королевы; и хотя король эти препятствия преодолел
необыкновенным терпением и добротой, коннетабль все же не чувствовал себя
достаточно твердо, пока не заручился поддержкой госпожи де Валантинуа и
не оторвал ее от Гизов, чье возвышение начинало беспокоить герцогиню. Она
оттягивала как могла брак дофина с королевой Шотландии; красота, не по
годам зрелый ум королевы и те преимущества, которые этот брак давал Ги-
220
Принцесса Киевская
зам, были для нее непереносимы. Особенно она ненавидела кардинала Лота-
рингского — он говорил с нею насмешливо и даже презрительно. Она
видела, что он завязывает связи с королевой; так что коннетабль понял, что она
готова объединиться с ним и укрепить их союз посредством брака
мадемуазель де Ламарк, ее внучки, с господином д'Анвилем, вторым его сыном,
который позднее, при короле Карле IX, унаследовал его должность.
Коннетабль полагал, что господин д'Анвиль не будет противиться душой этому
браку, как противился господин де Монморанси; но трудностей здесь
оказалось не меньше, хотя и по скрытым от него причинам. Господин д'Анвиль
был страстно влюблен в королеву-дофину и, сколь ни безнадежна была эта
страсть, не мог решиться на союз, который отвлекал бы его помыслы.
Единственным человеком при дворе, не примыкавшим ни к какой партии, был
маршал де Сент-Андре. Он пользовался благорасположением короля и был
этим обязан лишь самому себе: король любил его еще с тех пор, когда был
дофином; впоследствии он сделал его маршалом Франции в том возрасте, в
каком обыкновенно не притязают даже на самые скромные отличия.
Королевская милость несла ему славу, которую он поддерживал своими
заслугами, своей любезностью, изысканностью своего стола и домашнего убранства
и столь пышным укладом жизни, какой только мог быть у частного лица.
Щедрость короля позволяла ему решаться на подобные расходы; король
доходил до расточительности ради тех, кого любил; он обладал не всеми
великими достоинствами, но многими из них, и прежде всего — готовностью и
умением воевать; в этом он был удачлив, и, если бы не битва при Сен-Канте-
не20, все его царствование было бы сплошной чередой побед. Он сам выиграл
сражение при Ранти21, Пьемонт был покорен, англичане изгнаны из Франции,
а император Карл V встретил закат своей фортуны у города Меца22, который
он безуспешно осаждал, собрав все силы Империи и Испании. И все же,
поскольку злополучная битва при Сен-Кантене уменьшила наши надежды
завоевать новые земли и фортуна с тех пор словно делила свои милости между
двумя государями, они оба стали незаметно склоняться к миру.
Вдовствующая герцогиня Лотарингская23 начала предлагать пути к миру со
времени женитьбы дофина, с тех пор постоянно велись тайные переговоры.
Наконец Серкан в провинции Артуа24 был выбран местом встречи. Кардинал Ло-
тарингский, коннетабль де Монморанси и маршал де Сент-Андре
представляли там короля, герцог Альба и принц Оранский — Филиппа II, а
посредниками были герцог и герцогиня Лотарингские. Главными условиями договора
были брачные союзы: принцессы Елизаветы Французской25 — с доном Карло-
сом, испанским инфантом, а Мадам, сестры короля, — с герцогом Савойским.
Тем временем король находился на границе; там он и получил весть о
смерти Марии, королевы Англии26. Он послал графа де Рандана27 к Елизавете,
чтобы поздравить ее с восшествием на престол. Ее права на корону были столь
сомнительны, что их признание королем она считала весьма важным
обстоятельством. Граф нашел, что она была хорошо осведомлена об интересах
французского двора и о достоинствах тех, кто его составлял; но более всего она была
наслышана о славе герцога де Немура; она говорила о нем столько раз и с та-
Часть первая
221
кой горячностью, что по возвращении граф де Рандан, докладывая о своей
поездке королю, сказал ему, что нет ничего такого со стороны королевы, на что
герцог не мог бы надеяться, а сам он не сомневается, что она готова выйти за
него замуж28. В тот же вечер король поговорил об этом с герцогом; он велел
господину де Рандану пересказать герцогу все свои беседы с Елизаветой29 и
посоветовал ему попытать счастья. Господин де Немур сперва счел, что король
говорил с ним не всерьез, но, когда убедился в противном, сказал:
— Сир, если я пущусь в столь несбыточное предприятие по совету и для
пользы Вашего Величества, то молю вас хотя бы сохранять это в тайне, пока
успех не оправдает меня в глазах общества; соблаговолите не выставлять меня
тщеславным настолько, чтобы надеяться, будто королева, никогда меня не
видевшая, желает выйти за меня замуж по любви.
Король пообещал ему не говорить об этом замысле никому, кроме
коннетабля, и даже счел, что завеса тайны необходима для успеха дела. Господин де
Рандан советовал господину де Немуру отправиться в Англию под предлогом
обыкновенного путешествия, но господин де Немур не мог на это решиться. Он
послал Линьроля30, своего приближенного, весьма разумного молодого
человека, разведать чувства королевы и попытаться завязать с ней сношения.
Ожидая, чем кончится эта поездка, он отправился к герцогу Савойскому31, который
был тогда в Брюсселе с королем Испании. Смерть Марии Английской
создала немалые препятствия к миру; в конце ноября переговоры прервались, и
король вернулся в Париж.
В те дни при дворе появилась красавица, которая привлекла к себе все
взгляды; следует думать, что красота ее была совершенна, коль скоро она вызвала
восхищение там, где привыкли видеть прелестных женщин. Она была из того
же дома, что и видам де Шартр, и одной из богатейших во Франции наследниц.
Отец ее умер молодым и оставил дочь на попечение своей супруги, госпожи де
Шартр, чьи добродетели и достоинства превосходили обыкновенные. Потеряв
мужа, она несколько лет провела вдали от двора. Во время этого уединения она
посвящала себя воспитанию дочери, она старалась не только взращивать ее ум
и красоту, она хотела также привить ей добродетель и любовь к добродетели.
Большинство матерей полагают, что достаточно не говорить при юных девицах
о любовных похождениях, чтобы от них отвратить. Госпожа де Шартр имела
мнение противоположное: она часто рисовала дочери картины любви и
показывала все, что есть в ней сладостного, чтобы тем вернее убедить ее в
истинности своих слов об опасностях любви. Она рассказывала девушке о
притворстве мужчин, об обманах и неверности, о семейных несчастьях, приносимых
любовными связями; а с другой стороны, она описывала, как покойна жизнь
честной женщины, как прославляет и возвышает добродетель ту, которой даны
красота и знатное происхождение; но она объясняла также, как трудно хранить
добродетель иначе, чем с помощью крайней строгости к себе самой и стараний
все свои заботы посвятить тому, что одно может составить счастье женщины:
любить мужа и быть им любимой.
Ее дочь была одной из лучших партий во Франции и, оставаясь еще в юном
возрасте, получила уже несколько предложений. Госпожа де Шартр, большая
222
Принцесса Клевская
гордячка, едва ли находила кого-либо достойным своей дочери; когда той
пошел шестнадцатый год, она пожелала привезти ее ко двору. По их приезде
видам к ней явился; он был поражен дивной красотой мадемуазель де Шартр,
и на то были причины. Белизна кожи и белокурые волосы придавали ей
неповторимую прелесть; все ее черты были правильны, а лицо и стан исполнены
изящества и очарования.
На следующий день после приезда она отправилась купить драгоценные
украшения к одному итальянцу, который торговал ими по всему миру. Он
приехал из Флоренции вместе с королевой и так разбогател на своей торговле, что
дом его, казалось, принадлежал скорее большому вельможе, чем купцу. Пока
она была там, приехал туда и принц Клевский. Он был так поражен ее
красотой, что не мог этого скрыть; а мадемуазель де Шартр не могла помешать
румянцу вспыхнуть на своих щеках, когда увидела, в какое изумление его
повергла. Но вскоре власть над собой к ней вернулась, и она стала выказывать к
поступкам принца внимания не больше, чем требовала от нее учтивость с
подобным человеком. Принц Клевский смотрел на нее с восхищением и не мог
понять, кто эта прелестная особа, которой он не знал прежде. По ее манерам,
по сопровождающим ее он видел, что она была очень знатного рода. Ее юный
возраст позволял предположить, что она не замужем; но поскольку с ней не
было матери, а итальянец, вовсе с ней не знакомый, называл ее «мадам», принц
не знал, что и подумать, и продолжал смотреть на нее с изумлением. Он
заметил, что его взгляды смущали ее, тогда как обыкновенно женщины с
удовольствием видят, какое впечатление производит их красота; ему показалось даже,
что он был причиной ее нетерпения уехать; и в самом деле, она удалилась
довольно торопливо. Потеряв ее из виду, принц утешался надеждой выведать, кто
она такая; но он был немало удивлен, обнаружив, что ее никто не знал. Он был
так очарован ее красотой и той скромностью, которую заметил в ее поступках,
что, можно сказать, с этой минуты в его сердце родились самая пылкая к ней
страсть и самое высокое о ней мнение. Вечером он отправился к Мадам,
сестре короля.
Эта принцесса была весьма влиятельна благодаря сердечному расположению
к ней короля; расположение это было столь глубоко, что король, заключая мир,
согласился отдать Пьемонт, чтобы она могла выйти замуж за герцога Савойско-
го. Хотя она всю жизнь мечтала о браке, но супругом своим желала иметь
непременно коронованную особу; по этой причине она отвергла короля Наваррского,
когда тот был еще герцогом Вандомским, и всегда охотно помышляла о
герцоге Савойском; она питала склонность к нему с тех пор, как увидела его в
Ницце при свидании короля Франциска I с Папой Павлом Ш32. Ее тонкий ум и
точные суждения о прекрасном привлекали к ней всех людей светских; в известные
часы у нее собирался весь двор.
Принц Клевский явился к ней как обыкновенно; душа его была так полна
красотой и нравом мадемуазель де Шартр, что он не мог говорить ни о чем ином. Он
поведал всем о своем приключении и был не в силах удержаться от похвал
встреченной им незнакомке. Мадам ему сказала, что такой особы, какую он
описывает, нет на свете, а если бы она была, то ее бы знали все. Госпожа де Дампьер33, ее
Часть первая
223
фрейлина и подруга госпожи де Шартр, услышав этот разговор, подошла к
принцессе и тихонько ей сказала, что принц Клевский, без сомнения, видел
мадемуазель де Шартр. Мадам, обратившись к нему, сказала, что, если он пожелает
заехать к ней завтра, она покажет ему ту красавицу, что так его поразила. В самом
деле, мадемуазель де Шартр появилась на следующий день; обе королевы
приняли ее с такой любезностью, какую только можно вообразить, и все так ею
восхищались, что она слышала вокруг одни похвалы. Она принимала похвалы с такой
благородной скромностью, что, казалось, они до нее не долетают и уж во всяком
случае ее не трогают. Затем она отправилась к Мадам, сестре короля.
Принцесса, воздав должное ее красоте, рассказала ей о том изумлении, в которое она
повергла принца Клевского. Через минуту вошел и принц.
«Идите сюда, — сказала ему Мадам, — и убедитесь, что я сдержала слово
и что мадемуазель де Шартр и есть та красавица, которую вы ищете;
поблагодарите меня хотя бы, что я открыла ей, какое восхищение ею вы
испытываете».
Принц Клевский с радостью узнал, что особа, которая показалась ему столь
пленительной, была происхождения такого же благородного, как ее красота.
Он подошел к ней и просил ее запомнить, что он восхитился ею первым и, не
зная ее, испытывал к ней должное почтение.
От Мадам он вышел вместе с шевалье де Гизом, своим другом. Поначалу
они согласно восхваляли мадемуазель де Шартр. Затем они сочли, что
слишком ее хвалили, и оба перестали высказывать свои мысли о ней вслух. Но в
последующие дни они принуждены были говорить о ней повсюду, где бы ни
встречались. Новая красавица долго составляла предмет всех разговоров.
Королева очень ее хвалила и выказывала к ней необыкновенное
благорасположение; королева-дофина сделала ее своей любимицей и просила госпожу
де Шартр почаще ее привозить. Принцессы, дочери короля, посылали за ней,
чтобы она участвовала во всех их развлечениях. Одним словом, ею
восхищался весь двор, кроме госпожи де Валантинуа. Не появление новой красавицы
ее огорчало: она слишком хорошо знала короля и понимала, что с ним ей
нечего опасаться; но она так ненавидела видама де Шартра (которого
желала бы держать при себе, выдав за него одну из своих дочерей, и который был
связан с королевой), что не могла благосклонно смотреть ни на кого, кто
носил его имя и к кому он, очевидно, питал самые добрые чувства.
Принц Клевский страстно влюбился в мадемуазель де Шартр и пылко
стремился на ней жениться; но он страшился, что госпожа де Шартр сочтет свою
гордость оскорбленной, если выдаст дочь за человека, который не был
старшим в своем роду. Но этот род стоял так высоко и старший в нем, граф д'Э34,
недавно женился на девице столь близкой к королевскому дому, что истинной
причиной опасений принца Клевского была скорее робость, порожденная
любовью, чем подлинные обстоятельства. У него оказалось множество
соперников; шевалье де Гиз представлялся ему самым грозным благодаря его
происхождению, достоинствам и тому блеску, что придавало его дому
благорасположение короля. Шевалье влюбился в мадемуазель де Шартр в тот самый день,
как ее увидел; он распознал чувства принца Клевского, равно как и принц рас-
224
Принцесса Клевская
познал его чувства. Хотя они и были друзьями, охлаждение, возникающее из
тождества притязаний, не позволяло им объясниться; дружба их слабела, а они
так и не находили сил поговорить откровенно. То, что принцу Клевскому
случилось первым увидеть мадемуазель де Шартр, давало ему, как он считал,
некое преимущество перед соперниками; но он предвидел серьезные
препятствия со стороны герцога де Невера, своего отца. Герцог был в тесных
сношениях с герцогиней де Валантинуа; она враждовала с видамом, и этого было
довольно, чтобы герцог не одобрил мечты своего сына о племяннице видама.
Госпожа де Шартр, которая приложила столько стараний, чтобы внушить
дочери добродетели, не оставила своих усилий при дворе, в том месте, где они
были особенно необходимы и где являлось столько опасных примеров.
Честолюбие и нежные страсти были душою этого двора и равно владели сердцами
мужчин и женщин. Здесь было столько различных интересов и козней, дамы
принимали во всем этом такое участие, что к делам всегда примешивалась
любовь, а к любви — дела. Никто не оставался покоен или равнодушен; все
стремились возвыситься, понравиться, услужить или навредить; никто не знал
ни скуки, ни праздности, и все были постоянно заняты удовольствиями или
интригами. Дамы образовали кружки вокруг королевы, королевы-дофины,
королевы Наваррской35, Мадам, сестры короля, и герцогини де Валантинуа. В
какой кружок войти, зависело от склонностей, соображений приличия или
сходства нравов. Те, кто были уже не первой молодости и исповедовали
добродетель более строгую, тянулись к королеве. Те, кто были помоложе и
искали радостей и любовных приключений, толпились вокруг королевы-дофины.
Своих приближенных имела и королева Наваррская; она была молода и
обладала властью над королем, своим супругом; а тот был связан с коннетаблем и
потому очень влиятелен. Мадам, сестра короля, не утратила красоты и
привлекала к себе многих дам. Герцогиня де Валантинуа заполучала всех, кого
удостаивала взглядом; но лишь немногие женщины были ей приятны, и за
исключением нескольких, пользовавшихся ее близостью и доверием и схожих с нею
нравом, она принимала женщин только в те дни, когда ей угодно было
собирать у себя такой же двор, как у королевы.
Все эти кружки соперничали и враждовали между собой; составлявшие их
дамы ревновали также друг к другу — кто повелительницу, кто любовника;
заботы о власти и почестях сплетались с заботами менее важными, но не менее
жгучими. Таким образом при дворе царило постоянное возбуждение, впрочем,
не нарушавшее порядка; это делало жизнь там весьма приятной, хотя и
весьма опасной для юной девушки. Госпожа де Шартр видела эти опасности и
помышляла лишь о том, как уберечь от них свою дочь. Она просила дочь, не как
мать, но как подруга, пересказывать все любезности, которыми осыпали
девушку, и обещала помочь ей вести себя как подобает в обстоятельствах, порой
затруднительных в молодости.
Шевалье де Гиз настолько не скрывал своих чувств к мадемуазель де
Шартр и своих намерений относительно нее, что они были всем известны.
Однако он видел, что желания его совершенно неисполнимы; он хорошо знал,
что не может быть подходящей партией для мадемуазель де Шартр, так как
Часть первая
225
имения его было недостаточно, чтобы вести жизнь, достойную его положения;
и столь же хорошо он знал, что братья будут недовольны его браком, опасаясь
того ущерба, который наносит обыкновенно знатным родам женитьба младших
сыновей. Кардинал Лотарингский вскоре доказал ему, что он не ошибся;
кардинал осудил его страсть к мадемуазель де Шартр и высказал это с
необычайной горячностью, но истинных причин не назвал. Кардинал питал к видаму
ненависть, в ту пору еще тайную, но затем вышедшую наружу. Он скорее
согласился бы на союз своего брата с кем угодно другим, чем с видамом, и
заявлял о своем неодобрении столь открыто, что это чувствительно задело
госпожу де Шартр. Она приложила большие старания, чтобы показать, что
кардиналу Лотарингскому нечего опасаться и что она и не помышляет об этом браке.
Видам сделал то же самое; он был оскорблен поведением кардинала еще
больше, чем госпожа де Шартр, ибо лучше знал его подоплеку.
Принц Клевский делал не менее очевидными свидетельства своей страсти
к мадемуазель де Шартр, чем шевалье де Гиз. Герцог де Невер огорчился,
узнав об этом; однако он думал, что ему достаточно поговорить с сыном, и тот
переменится; он очень удивился, обнаружив, что принц твердо намерен
жениться на мадемуазель де Шартр. Герцог осудил это намерение, разгневался и
настолько не таил своего гнева, что слух о его причине быстро распространился
при дворе и достиг ушей госпожи де Шартр. Она не сомневалась в том, что
герцог должен считать брак с ее дочерью честью для сына; она была крайне
удивлена тем, что и дом Клевских, и дом Гизов противились такому союзу, а
не желали его. Она была настолько раздосадована, что стала искать для дочери
такую партию, которая поставила бы ее выше тех, кто считал ее ниже себя. Все
продумав, она остановилась на принце-дофине, сыне герцога де Монпансье36.
Ему пришла пора жениться, и выше него при дворе не было никого. Так как
госпожа де Шартр была очень умна и ей помогал видам, пользовавшийся
большим влиянием, а ее дочь и вправду была прекрасной партией, то ей удалось
повести дело столь искусно и успешно, что герцог де Монпансье как будто бы
пожелал этого брака, и казалось, никаких трудностей здесь появиться не
может.
Видам, зная преданность господина д'Анвиля королеве-дофине, решил, что
следует использовать власть дофины над ним, чтобы подвигнуть его
действовать на пользу мадемуазель де Шартр при сношениях с королем и принцем де
Монпансье, который был ему близким другом. Видам поговорил об этом с
дофиной, и та с радостью вступила в дело, где речь шла о возвышении весьма
любезной ее сердцу особы; она засвидетельствовала это видаму и заверила его,
что, хотя отлично знает, сколь неприятно будет ее поведение кардиналу
Лотарингскому37, ее дяде, она охотно переступит через эти соображения, ибо у нее
есть причины сетовать на него, и он всякий раз берет сторону королевы
против собственной племянницы.
Влюбленные всегда рады предлогу поговорить с теми, кого любят. Как
только видам вышел от дофины, она велела Шатляру, любимцу господина
д'Анвиля38, знавшему о страсти, которую тот к ней питал, передать ему от ее имени,
чтобы он вечером был у королевы. Шатляр принял поручение весьма радост-
15. Заказ № К-6559
226
Принцесса Клевская
но и почтительно. Этот дворянин принадлежал к родовитому семейству из
Дофине; но достоинствами и умом он был выше своего происхождения. Все
вельможи при дворе принимали его и весьма учтиво с ним обходились, а
благорасположение дома Монморанси особо сблизило его с господином д'Анви-
лем. Он был хорош собой и искусен во всех упражнениях; он приятно пел,
сочинял стихи и имел нрав влюбчивый и пылкий, который настолько пришелся
по душе господину д'Анвилю, что тот сделал его поверенным своей любви к
королеве-дофине. Посвященность Шатляра в это чувство приблизили его к
дофине, и частые встречи с ней положили начало той злосчастной страсти,
которая лишила его разума и в конце концов стоила ему жизни.
Господин д'Анвиль поспешил вечером к королеве; он был счастлив, что
дофина избрала его в помощники, чтобы добиться того, чего желала, и обещал
неукоснительно повиноваться ее приказаниям. Но госпожа де Валантинуа,
прознав об этих брачных планах, воспротивилась им так умело и настроила короля
так неблагоприятно, что, когда господин д'Анвиль о том с ним заговорил,
король дал ему понять, что не одобряет этого замысла и даже велел известить об
этом принца де Монпансье. Судите же, что испытала госпожа де Шартр,
когда разрушилось то, чего она так горячо желала, и неудача дала такое
преимущество ее врагам и причинила такой вред ее дочери.
Королева-дофина высказала мадемуазель де Шартр, вместе с самыми
добрыми чувствами, свое огорчение оттого, что не смогла оказаться ей полезной.
«Вот видите, — говорила она, — мало что в моей власти; королева и
герцогиня де Валантинуа так меня ненавидят, что едва ли может случиться, чтобы
они, сами или с помощью тех, кто от них зависит, не расстроили все, чего я
желаю. А между тем, — продолжала она, — я всегда старалась угождать им; они
же ненавидят меня единственно из-за моей матери-королевы , которая
некогда вызывала у них тревогу и ревность. Король был в нее влюблен до того, как
началась его связь с госпожой де Валантинуа; и в первые годы своей женатой
жизни, когда у него еще не было детей, он хотя и любил герцогиню, но
казалось, готов был расторгнуть брак, чтобы жениться на моей матери. Госпожа де
Валантинуа, опасаясь женщины, которую он уже любил когда-то и которая
своей красотой и умом могла оттеснить ее, объединилась с коннетаблем,
также не желавшим, чтобы король женился на сестре господ де Гизов. Они
склонили на свою сторону покойного короля, и хотя он, любя королеву, смертельно
ненавидел герцогиню де Валантинуа, но старался вместе с ними
воспрепятствовать разводу сына. А для того, чтобы лишить его всякой надежды жениться на
моей матери, они выдали ее замуж за короля Шотландии, который остался
вдовцом после смерти принцессы Мадлены, сестры короля;40 они поступили так
потому, что этот брак можно было заключить самым быстрым образом, и
нарушили обещания, данные королю Англии, пылко ее домогавшемуся. Такой обман
едва не стал причиной разрыва между двумя государями. Генрих VTQ был
безутешен оттого, что не смог жениться на моей матери, и, какую бы другую
французскую принцессу ему ни предлагали, он неизменно отвечал, что она никогда
не заменит той, кого у него отняли. И вправду, красота моей матери была
совершенна, и примечательно, что ее, вдову герцога де Лонгвиля, хотели взять в жены
Часть первая
227
три короля; злая судьба отдала ее наименее могущественному и забросила в
страну, где ее ожидали одни невзгоды. Говорят, что я на нее похожа; боюсь, как
бы я не напоминала ее и горьким жребием, и, какое бы счастье мне ни сулили,
я не верю, что смогу им наслаждаться».
Мадемуазель де Шартр сказала королеве в ответ, что эти дурные
предчувствия имеют столь мало оснований, что она недолго будет их хранить и не
должна сомневаться в том, что для нее все упования на счастье сбудутся.
Никто более не смел и помышлять о мадемуазель де Шартр, опасаясь
прогневить короля или получить отказ от особы, притязавшей на принца крови.
Принца Клевского ни одно из этих соображений не останавливало.
Случившаяся в то время смерть герцога де Невера41, его отца, давала ему полную свободу
следовать влечению своего сердца, и, едва миновал положенный для траура
срок, он не мог думать ни о чем ином, как только о женитьбе на мадемуазель
де Шартр. По счастью для него, он сделал бы ей предложение как раз тогда,
когда обстоятельства устранили возможность других партий, и он мог быть
почти уверен, что она ему не откажет. Однако радость его омрачалась страхом,
что она не чувствует к нему склонности, и он предпочел бы счастье
нравиться ей уверенности в том, что может на ней жениться, не будучи ею любим.
Шевалье де Гиз вызывал в какой-то мере его ревность; но так как ревность
эта была основана скорее на достоинствах шевалье, чем на каком-либо
поступке мадемуазель де Шартр, то он заботился только о том, чтобы узнать,
счастлив ли он настолько, что она благосклонно взглянет на его намерения. Он
встречал ее только у королев или на званых приемах; поговорить с нею наедине
было нелегко. Однако же он нашел средство это сделать и высказал ей свои
намерения и свою любовь самым почтительным образом; он умолял ее
открыть, какие чувства она питает к нему, и прибавил, что его чувства к ней
такого свойства, что он был бы навеки несчастлив, если б она повиновалась воле
своей матери, следуя единственно лишь дочернему долгу.
Поскольку сердце у мадемуазель де Шартр было возвышенное и очень
доброе, поведение принца Клевского родило в ней живую признательность. Эта
признательность придала ее ответным словам видимость нежности, которой
человеку, влюбленному так страстно, как принц, было довольно для надежды,
и он радовался исполнению части своих желаний.
Она поведала матери об этой беседе, и госпожа де Шартр ей сказала, что
принц наделен таким благородством и замечательными достоинствами, в нем
видна столь редкая по его летам рассудительность, что если сердце склоняет
ее дочь к этому браку, то она с радостью даст свое согласие. Мадемуазель де
Шартр отвечала, что она тоже заметила в принце эти прекрасные достоинства
и что брак с ним даже был бы для нее менее неприятен, чем с кем-либо
другим, но что никакой особой склонности к нему она не чувствует.
На следующий день принц объяснился с госпожой де Шартр; она
приняла его предложение и не страшилась выдавать дочь замуж за человека,
которого та не могла любить, коль скоро человеком этим был принц Клев-
ский. Заключили брачный контракт, сообщили королю, и вскоре об этом
браке стало известно всем.
228
Принцесса Клевская
Принц Клевский был счастлив, но все же не так, как желал. Он видел с
болью, что мадемуазель де Шартр испытывала к нему всего лишь уважение и
благодарность, и не мог обманывать себя, что чувства более пылкие она
скрывает, поскольку их отношения жениха и невесты позволяли бы ей их
выказывать, не оскорбляя ее сугубой стыдливости. Не проходило дня, чтобы он не
пенял ей на это.
— Возможно ли, — говорил он ей, — чтобы я не был счастлив, женясь на вас?
А между тем это так. Вы просто добры ко мне, этого не может быть мне
довольно; в вас нет ни тревоги, ни грусти, ни нетерпения; моя страсть волнует вас
не больше, чем волновали бы вас домогательства, основанные единственно на
преимуществах вашего состояния, а не на ваших собственных чарах.
— У вас нет причин жаловаться, — отвечала она, — не знаю, чего вы
можете желать сверх того, что я делаю, и мне кажется, что правила приличия не
позволяют мне делать больше.
— Правда, — возражал он, — вы даете мне некие знаки благосклонности, и
я довольствовался бы ими, если бы за ними таилось нечто иное; но правила
приличия не сдерживают вас, напротив, они одни заставляют вас делать то, что вы
делаете. Я не тронул ни ваших чувств, ни вашего сердца, и в моем присутствии
вы не испытываете ни радости, ни волнения.
— Вы не можете сомневаться, — отвечала она, — что я рада вас видеть, и я
так часто краснею при встрече с вами, что вы не можете также сомневаться и
в том волнении, которое у меня вызываете.
— Ваш румянец не обманывает меня, — произнес принц, — причиной ему
стыдливость, а не движение сердца, и я не приписываю ему иного значения,
более мне приятного.
Мадемуазель де Шартр не знала, что на это ответить; такие тонкости были
выше ее разумения. Принц Клевский слишком ясно видел, как далека была она
от тех чувств, которые могли бы его удовлетворить, ему казалось даже, что она их
и не понимает.
Незадолго до их свадьбы вернулся из путешествия шевалье де Гиз. Он
видел столько непреодолимых преград своим намерениям жениться на
мадемуазель де Шартр, что не мог питать никаких надежд; и все же ему было
больно узнать, что она станет женой другого. Эта боль не угасила его страсти и не
умерила любви. Мадемуазель де Шартр не была в неведении относительно тех
чувств, что питал к ней шевалье. Он признался ей по возвращении, что это она
была причиной той глубокой грусти, которая омрачала его лицо. Он имел
столько достойных и приятных качеств, что трудно было, делая его
несчастным, не испытывать к нему никакой жалости. И мадемуазель де Шартр не
могла от нее удержаться; но эта жалость не рождала в ней никаких иных
чувств; она рассказала матери о том, как огорчала ее влюбленность шевалье.
Госпожа де Шартр удивлялась искренности дочери, и по справедливости,
ибо ни у кого еще это свойство не было столь велико и естественно; но не
меньше она удивлялась тому, что сердце ее так и осталось нетронутым, а еще
больше — тому, что и принц Клевский не тронул его, как и другие. Поэтому
госпожа де Шартр прилагала много усилий, чтобы внушить дочери привязанность
Часть первая
229
к мужу и дать ей понять, сколь многим она обязана той сердечной склонности,
которую он к ней питал, еще не будучи с нею знаком, и той любви, которую он
доказал, предпочтя ее всем прочим партиям в то время, когда никто другой не
осмеливался и думать о ней.
Брачная церемония состоялась в Лувре; а вечером король и королевы
пожаловали вместе со всем двором ужинать к госпоже де Шартр, где им был
оказан на удивление великолепный прием. Шевалье де Гиз не посмел
отделиться от остальных и не явиться туда, но он так плохо справлялся со своей
грустью, что ее нетрудно было заметить.
Принц Клевский видел, что мадемуазель де Шартр не изменила своих
чувств, сменив имя. Положение мужа давало ему большие права, но не дало ему
больше места в сердце жены. Итак, став ее мужем, он оставался ее
воздыхателем, поскольку ему по-прежнему было чего желать сверх того, что он имел; и
хотя она жила с ним в совершенном согласии, он не был вполне счастлив. Он
сохранил к ней страсть неистовую и беспокойную, которая омрачала его радость.
Ревность тут была ни при чем: ни один муж не бывал так мало к ней склонен,
ни одна жена не давала так мало к ней повода. Однако она подвергалась всем
опасностям придворной жизни; каждый вечер она бывала у королев и у Мадам.
Любой молодой повеса мог с ней встретиться у нее самой или у герцога де
Невера, ее деверя, чей дом был открыт для всех. Но она держалась так, что
вызывала почтение столь глубокое и казалась столь чуждой любовному кокетству,
что маршал де Сент-Андре, как ни был он дерзок и силен королевским
благорасположением, восхищаясь ее красотой, не смел этого выказать иначе, как
только заботами и готовностью услужить. Таким же образом поступали и
многие другие; а госпожа де Шартр соединяла с благоразумием дочери поведение
столь безупречное по всем законам приличия, что ей удалось в конце концов
представить принцессу Клевскую женщиной совершенно недоступной.
Герцогиня Лотарингская, добиваясь мира, заботилась также о браке герцога
Лотарингского, своего сына. Он и был заключен — с принцессой Клод
Французской, второй дочерью короля42. Свадьба была назначена на февраль.
Тем временем герцог де Немур оставался в Брюсселе, целиком поглощенный
своими английскими планами. Он постоянно принимал курьеров из Англии и
посылал их туда; с каждым днем надежды его укреплялись, и наконец Линьроль его
известил, что настало время завершить своим присутствием то, что началось столь
успешно. Он воспринял эту новость с той радостью, какую может испытывать
честолюбивый молодой мужчина, которого возносит на трон одна лишь его
добрая слава. В глубине души он незаметно свыкся с величием такой судьбы, и если
сперва он отвергал ее как нечто для него недостижимое, то теперь все трудности
улетучились из его мыслей, и он больше не видел для себя никаких препятствий.
Он спешно направил в Париж все необходимые распоряжения приготовить
великолепный экипаж, чтобы появиться в Англии во всем блеске, которого
требовали влекущие его туда намерения, а сам заторопился ко двору, чтобы
присутствовать на свадьбе герцога Лотарингского.
Он приехал за день до нее и в тот же вечер отправился к королю рассказать
о своих делах и получить от него приказания и советы относительно дальней-
230
Принцесса Клевская
ших своих шагов. Затем он побывал у королев. Принцессы Клевской там не
было, так что она его не видела и даже не знала о его приезде. Она слыхала,
что все говорили о герцоге как о самом красивом и приятном человеке при
дворе; в особенности же дофина так его описывала и так часто его поминала,
что возбудила в принцессе любопытство и даже нетерпение его увидеть.
Весь день помолвки она провела дома, наряжаясь, чтобы отправиться
вечером на бал и королевский праздник, которые устраивали в Лувре. Когда она
там появилась, все были восхищены ее красотой и ее убором. Начался бал, и
в то время как она танцевала с господином де Гизом, у дверей залы
послышался шум, словно кто-то вошел и толпа расступалась перед вошедшим. Принцесса
Клевская окончила танец, и, пока искала глазами того, кого хотела взять в
кавалеры для следующего, король велел ей взять вновь пришедшего. Она
оборотилась и увидела человека, про которого сразу подумала, что это не мог быть
никто иной, кроме господина де Немура; он пробирался через кресла к
танцорам. Наружность герцога была такова, что человеку, никогда его не
видевшему, трудно было не испытать восхищенного удивления, в особенности же в тот
вечер, когда он выглядел еще блистательней благодаря тщательной
обдуманности наряда; но и принцессу Клевскую трудно было видеть в первый раз без
глубокого изумления.
Господин де Немур был так поражен ее красотой, что, когда она подошла
к нему и склонилась в реверансе, он не мог скрыть своего восхищения. Они
начали танцевать, и в зале раздался гул похвал. Король и королевы вспомнили,
что герцог и принцесса никогда не видели друг друга, и нашли нечто странное
в том, что они танцевали вместе, не будучи знакомы. Когда танец кончился, они
их подозвали, не дав им времени перемолвиться словом с кем бы то ни было,
и спросили, не желают ли они узнать имена друг друга и не догадываются ли
о них.
— Что до меня, Мадам, — отвечал господин де Немур, — то у меня
сомнений нет; но поскольку у принцессы Клевской нет таких причин догадаться, кто
я такой, какие есть у меня, то я весьма желал бы, чтобы ваше величество
соблаговолили назвать ей мое имя.
— Я полагаю, — сказала дофина, — что ей оно известно так же хорошо, как
вам известно ее.
— Уверяю вас, Мадам, — возразила принцесса Клевская, казавшаяся немного
смущенной, — что я не так догадлива, как вы думаете.
— Вы очень догадливы, — отвечала дофина, — и, пожалуй, это даже
любезно по отношению к господину де Немуру, что вы не хотите сознаться в том, что
знаете его, никогда его не видев.
Королева прервала этот разговор, чтобы продолжить бал; господин де
Немур пригласил дофину. Дофина была совершенной красавицей, таковой
почитал ее и господин де Немур до своей поездки во Фландрию; но весь вечер он
мог восхищаться одной лишь принцессой Клевской.
Шевалье де Гиз по-прежнему ее боготворил и был у ее ног; случившееся
причинило ему острую боль. Он воспринял это как знак того, что судьба сулила
господину де Немуру полюбить принцессу Клевскую; вправду ли можно было за-
Часть первая
231
метить волнение на ее лице или ревность подсказывала шевалье де Гизу то, чего
и не было на деле, но он решил, что при виде герцога она не осталась
равнодушна, и не мог удержаться и не сказать ей, что господин де Немур имел счастье
познакомиться с ней при обстоятельствах столь приятных и необычных.
Принцесса Клевская вернулась домой; душа ее была так полна всем
происшедшим на бале, что, хотя был уже поздний час, она зашла в спальню к матери
рассказать ей об этом; и когда она расхваливала господина де Немура, на лице
ее было такое выражение, что госпожа де Шартр подумала о том же, о чем
думал шевалье де Гиз.
Назавтра совершилась свадьба. Принцесса видела там герцога де Немура;
его черты и движения были так изящны, что вызвали у нее изумление еще
большее.
В последующие дни она встречала его у королевы-дофины, видела, как он
играет в мяч с королем, состязается в скачках, слышала, как он говорит; и во
всем он далеко превосходил остальных и первенствовал в любой беседе, где бы
он ни был, благодаря природным дарам и изощренности ума, так что за
краткое время он глубоко запечатлелся в ее сердце.
К тому же, поскольку господин де Немур испытывал к ней пылкое
влечение, придававшее ему ту нежность и веселость, какие внушает новорожденное
желание нравиться, он был еще любезней, чем обыкновенно, и, видя друг в
друге самые совершенные существа из всех, кто бывал при дворе, они не
могли не понравиться друг другу бесконечно.
Герцогиня де Валантинуа участвовала во всех увеселениях, и король был с
ней столь же нежен и заботлив, как и в начале своей страсти. Принцесса
Клевская была в том возрасте, когда трудно поверить, что можно любить
женщину старше двадцати пяти лет; она с удивлением взирала на привязанность
короля к герцогине, которая была уже бабушкой и недавно выдала внучку замуж.
Она часто говорила об этом с госпожой де Шартр.
— Возможно ли, матушка, — спрашивала она, — чтобы король был влюблен
так долго? Как могло случиться, что он так привязался к особе, которая
много старше его, которая имела своим любовником его отца и сейчас еще, как я
слышала, имеет многих других?
— Это правда, — отвечала госпожа де Шартр, — что не достоинства и не
верность госпожи де Валантинуа внушили страсть королю и помогли ее сберечь; вот
почему его и нельзя извинить. Ведь если бы эта женщина соединяла со знатностью
рода молодость и красоту, если бы она никогда не любила никого другого, если бы
она любила короля с неизменной верностью, и любила бы только его самого, не
думая о его могуществе и его богатствах, и употребляла бы свою власть над ним
лишь на дела достойные короля или приятные ему самому, — то следует признать,
тогда было бы трудно не похвалить короля за великую к ней привязанность. Если
бы я не опасалась, — прибавила госпожа де Шартр, — что вы скажете про меня то,
что говорят обо всех женщинах моих лет — будто мы любим перебирать истории
времен своей молодости, — то я рассказала бы вам о том, как начиналась страсть
короля к герцогине, и о многих других делах при дворе покойного короля,
которые даже имеют немалое отношение к тому, что происходит ныне.
232
Принцесса Клевская
— Я не только не виню вас, — возразила принцесса Клевская, — за
пересказывание историй прошлого, но мне очень жаль, матушка, что вы не поведали
мне нынешних и не открыли мне различных интересов и связей, существующих
при дворе. Я настолько ничего об этом не знаю, что еще несколько дней назад
полагала, будто господин коннетабль в очень добрых отношениях с королевой.
— И ваше мнение было совершенно противоположно истине, — отвечала
госпожа де Шартр. — Королева ненавидит господина коннетабля, и, если ей
достанется когда-нибудь толика власти, он слишком хорошо в этом
убедится. Она знает, что он не раз говорил королю, будто из всех его детей только
побочные на него похожи.
— Я никогда бы не заподозрила такой ненависти, — сказала принцесса
Клевская, — видевши, как заботливо королева писала господину коннетаблю, пока
он был в неволе, какую радость выказала по его возвращении, как она,
подобно королю, неизменно называет его своим кумом.
— Если вы при дворе будете верить своим глазам, — отвечала госпожа де
Шартр, — то вам суждено часто обманываться: видимость здесь почти никогда
не совпадает с истиной. Но возвратимся к герцогине де Валантинуа. Вы знаете,
что ее зовут Диана де Пуатье; род ее очень знаменит; она происходит из
старинного дома герцогов Аквитанских, бабка ее была побочной дочерью Людовика
Одиннадцатого; одним словом, рождения она самого высокого. Сен-Валье, ее
отец, был замешан в заговоре коннетабля де Бурбона43, о котором вы слышали.
Его приговорили к отсечению головы и возвели на эшафот. Его дочери,
наделенной удивительной красотой и успевшей уже понравиться покойному королю,
удалось (не знаю, каким способом) спасти ему жизнь. Ему объявили о
помиловании в ту минуту, когда он ожидал лишь смертоносного удара; но страх уже
поразил его столь глубоко, что он так и не оправился и спустя несколько дней
умер. Дочь его появилась при дворе любовницей короля. Поход в Италию и
пленение короля прервали эту связь. Когда король возвращался из Испании и
королева-регентша отправилась ему навстречу в Байонну, она взяла с собой всех
своих фрейлин, среди которых была и мадемуазель де Пислё, впоследствии
герцогиня д'Этамп44. Король ею увлекся. Рождением, умом и красотой она
уступала госпоже де Валантинуа и имела перед ней лишь одно преимущество —
ослепительную молодость. Я много раз слышала от нее, будто она родилась в тот
день, когда Диана де Пуатье выходила замуж; эти слова внушила ей ненависть,
а не правда: либо я очень заблуждаюсь, либо герцогиня де Валантинуа вышла
замуж за господина де Брезе, великого сенешаля Нормандии, как раз тогда,
когда король влюбился в госпожу д'Этамп. Эти две женщины питали друг к
другу неслыханную ненависть. Герцогиня де Валантинуа не могла простить
госпоже д'Этамп, что та отняла у нее место королевской любовницы. Госпожа д'Этамп
неистово ревновала к госпоже де Валантинуа, так как король сохранял с ней
сношения. Он не бывал до конца верен своим любовницам; всегда была та, кому
принадлежало это звание и связанные с ним почести; но даже их с ней делили
поочередно дамы, которых всех вместе называли «стайкой». Король искренне
горевал, потеряв своего сына, дофина; принц умер в Турноне, и поговаривали, что
он был отравлен. К своему второму сыну, который царствует ныне, король не
Часть первая
233
испытывал ни той нежности, ни той приязни: он полагал, что второму его сыну
недостает смелости и живости нрава. Однажды он пожаловался на это госпоже
де Валантинуа, и она ответила, что хотела бы влюбить его в себя, чтобы сделать
его более живым и любезным. Как видите, ей это удалось; его страсть длится уже
более двадцати лет, и ни время, ни препятствия ее не угасили.
Покойный король поначалу этой связи противился; то ли он еще любил
госпожу де Валантинуа достаточно сильно, чтобы чувствовать ревность, то ли его
подталкивала герцогиня д'Этамп, которую приводила в отчаяние
привязанность дофина к ее сопернице, но несомненно, что он взирал на эту страсть с
гневом и огорчением и всякий день давал тому свидетельства. Сын его не
убоялся ни его гнева, ни его ненависти, и ничто не могло заставить его подавить
свою страсть или скрывать ее; королю пришлось свыкнуться с ней и ее терпеть.
Но такое противодействие его воле еще более отдалило короля от принца и
сильнее связало с герцогом Орлеанским45, его третьим сыном. Герцог был
отлично сложен, красив, нрава пылкого и честолюбивого; в юности ему была
свойственна горячность, которую следовало бы обуздать, но она помогла бы
ему стать великим правителем, если бы годы прибавили зрелости его уму.
Право старшинства, принадлежавшее дофину, и благосклонность короля,
отданная герцогу Орлеанскому, рождали между ними соперничество,
доходившее до ненависти. Такое соперничество началось между ними еще с детства и
никогда не прекращалось. Император во время своего пребывания во Франции
явно отдавал герцогу Орлеанскому предпочтение перед дофином, который так
живо чувствовал обиду, что, когда император находился в Шантийи, хотел
заставить господина коннетабля арестовать его, не дожидаясь приказания
короля. Господин коннетабль отказался это сделать; король позднее винил
коннетабля за то, что тот не последовал совету его сына; и это было не последней
причиной тому, что король удалил его от двора.
Распря между братьями внушила герцогине д'Этамп мысль опереться на
герцога Орлеанского, чтобы тот держал перед королем ее сторону против
госпожи де Валантинуа. Ей это удалось; не будучи в нее влюблен, принц тем не
менее принимал ее интересы столь же близко к сердцу, как дофин —
интересы госпожи де Валантинуа. Так появились при дворе два стана, и последствия
вы можете вообразить; однако интриги эти не сводились к женским ссорам.
Император, сохранивший свою приязнь к герцогу Орлеанскому, не раз
предлагал передать ему герцогство Миланское. И на переговорах о мире он внушал
надежды на то, что отдаст герцогу семнадцать провинций и женит его на
своей дочери. Дофин не желал ни этого мира, ни этого брака. С помощью
господина коннетабля, которого всегда любил, он доказывал королю, как важно не
оставлять рядом с его преемником брата столь могущественного, каким стал
бы герцог Орлеанский, войди он в свойство с императором и получи
семнадцать провинций. Господин коннетабль тем горячее разделял мнение дофина,
что оно позволяло противиться госпоже д'Этамп, которая была его заклятым
врагом и пылко желала возвышения герцога Орлеанского.
Дофин командовал тогда королевской армией в Шампани и довел армию
императора до такой крайности, что она бы вся погибла, если бы герцогиня
234
Принцесса Клевская
д'Этамп, опасаясь, что слишком большие успехи побудят нас отказаться от
мирного договора и союза герцога Орлеанского с императором, не
посоветовала бы тайно неприятелям захватить Эперне и Шато-Тьерри, где было много
припасов. Они так и поступили и тем спасли всю свою армию.
Герцогиня пользовалась плодами своего предательства недолго. Герцог
Орлеанский вскоре умер в Фармутье от какой-то заразной болезни. Он любил
одну из самых красивых дам при дворе и был ею любим. Имени ее я вам не
назову, так как с тех пор она жила столь добродетельно и столь тщательно
скрывала свою страсть к принцу, что заслужила того, чтобы мы берегли ее
добрую славу. По воле случая она получила известие о гибели своего мужа в
тот же день, когда узнала о смерти герцога Орлеанского, что дало ей
возможность скрывать истинную причину своего горя, не насилуя себя.
Король ненадолго пережил сына, он умер два года спустя. Он советовал
дофину воспользоваться услугами кардинала де Турнона46 и адмирала д'Аннбо47,
но ни слова не сказал о господине коннетабле, сосланном в то время в Шан-
тийи. Однако первое, что сделал король, его сын, было призвать коннетабля
и поручить ему управление всеми делами.
Госпожу д'Этамп отправили в изгнание, с ней обошлись так плохо, как
можно было ожидать от ее всемогущей соперницы; герцогиня де Валантинуа
отомстила за себя сполна — и госпоже д'Этамп, и всем тем, кто был ей неугоден.
Ее власть над душой короля казалась еще более беспредельной, чем в бытность
его дофином. Все двенадцать лет его царствования она — полная госпожа во
всем; она раздает должности и решает дела; она удалила кардинала де
Турнона, канцлера Оливье48 и Вильруа. Для тех, кто хотел открыть королю глаза на
ее поступки, такое желание оказалось гибельным. Граф де Тэ, командующий
артиллерией49, не любивший герцогиню, не мог умолчать о ее любовных
приключениях, в особенности с графом де Бриссаком50, к которому король ее
сильно ревновал. Но ей удалось повернуть дело так, что граф де Тэ впал в
немилость, у него отняли должность; и должность эту, что уже почти непостижимо,
отдали графу де Бриссаку, которого она затем сделала маршалом Франции.
Тем временем ревность короля настолько усилилась, что он не мог больше
терпеть присутствия маршала при дворе, но ревность, чувство горькое и
неистовое у других, у него была смягчена и умерена тем глубочайшим почтением,
которое он питал к своей любовнице; так что он осмелился удалить
соперника лишь под тем предлогом, что поручил ему управление Пьемонтом.
Протекло несколько лет, прошлой зимой он вернулся — якобы для того, чтобы
попросить солдат и прочего, что необходимо для армии, которой он командует.
Возможно, желание увидеть вновь госпожу де Валантинуа и страх быть ею забытым
были не последними причинами его путешествия. Король его принял весьма
холодно. Гизы, которые его не любят, но не смеют этого показать из-за
госпожи де Валантинуа, прибегли к господину видаму, не скрывающему своей
вражды к ней, чтобы помешать маршалу получить что бы то ни было из того, за чем
он приехал. Повредить ему было нетрудно: король его ненавидел, и его
присутствие вызывало у короля тревогу, так что он принужден был вернуться,
ничего не добившись своим путешествием, — кроме того, быть может, что снова за-
Часть первая
235
жег в сердце госпожи де Валантинуа чувства, которые разлука начала гасить.
У короля были и другие поводы для ревности, но он их либо не знал, либо не
осмеливался выказывать недовольство.
— Не знаю, дочь моя, — прибавила госпожа де Шартр, — не находите ли вы,
что я рассказываю вам больше, чем вы хотели бы знать.
— Я очень далека от таких мыслей, матушка, — отвечала принцесса Клев-
ская, — и если бы не боялась докучать вам, то расспросила бы еще о многих
вещах, которые мне неизвестны.
Страсть господина де Немура к принцессе Клевской была поначалу столь
неистова, что вытеснила из его души всякую другую склонность и даже
воспоминание обо всех женщинах, которых он любил и с которыми сохранял
сношения во время своего отсутствия. Он не озаботился хотя бы поискать
предлогов для разрыва с ними; он чувствовал себя не в силах выслушивать их
жалобы и отвечать на их упреки. Дофина, к которой он питал чувства
достаточно пылкие, не могла соперничать в его сердце с принцессой Клевской.
Даже его нетерпение поскорее отправиться в Англию стало ослабевать, и он
уже не торопил с прежней настойчивостью необходимые для отъезда
приготовления. Он часто бывал у дофины, потому что принцесса Клевская там
часто бывала, и с готовностью позволял думать что угодно о его чувствах к
дофине. Он столь высоко ценил принцессу Клевскую, что решился скорее не '
давать ей свидетельств своей страсти, чем идти на риск сделать эту страсть >
всем известной. Он не говорил о ней даже с видамом де Шартром, который
был его близким другом и от которого он не скрывал ничего. Он вел себя так
осторожно и так строго за собой следил, что никто не заподозрил его любви
к принцессе Клевской, кроме шевалье де Гиза; и она сама едва ли заметила бы
это чувство, если бы ее собственная склонность к нему не заставила ее с
особым вниманием наблюдать за его поступками, благодаря чему она в этом
чувстве не сомневалась.
Она не находила в себе прежнего желания рассказать матери о том, что
думала об отношении герцога к себе, как она это делала с другими своими
поклонниками; не имея осознанного намерения таиться, она не говорила с
матерью об этом. Но госпожа де Шартр слишком ясно это видела, равно как и
склонность своей дочери к герцогу. Такая мысль глубоко ее огорчала; она
могла судить о той опасности, которой подвергалась молодая женщина,
будучи любима таким человеком, как господин де Немур, и сама питая к нему
склонность. Событие, случившееся несколько дней спустя, совершенно
подтвердило ее опасения.
Маршал де Сент-Андре, искавший любого повода выставить напоказ свою
роскошь, под предлогом окончания отделки своего дома умолил короля оказать ему
честь отужинать у него вместе с королевами. Заодно маршал радовался
возможности показать принцессе Клевской всю щедрость своих трат, доходившую до
расточительности.
За несколько дней до того, на который был назначен этот ужин, дофин,
отличавшийся слабым здоровьем, заболел и никого не принимал. Дофина, его
супруга, была при нем неотлучно. К вечеру ему стало лучше, и он попросил
236
Принцесса Клевская
войти всех знатных особ, собравшихся у дверей его спальни. Дофина
удалилась к себе; там были принцесса Клевская и еще несколько дам, наиболее к
ней приближенных.
Так как был уже поздний час, а дофина не была должным образом одета,
она не пошла к королеве; распорядившись, чтобы к ней никого не пускали, она
велела принести ее драгоценности, чтобы отобрать те, которые наденет на бал
у маршала де Сент-Андре, и те, что обещала дать принцессе Клевской. За этим
занятием и застал их принц де Конде. Его высокое рождение открывало ему
свободный вход повсюду. Дофина сказала, что, без сомнения, он идет от ее
мужа, и спросила, что там происходит.
— Там спорят с господином де Немуром, Мадам, — отвечал он. — Герцог с
таким пылом отстаивает свои доводы, что, очевидно, дело касается его
самого. Я думаю, у него есть возлюбленная, которая заставляет его тревожиться,
появляясь на бале, потому что он утверждает, что для влюбленного
огорчительно видеть на бале любимую им особу.
— Как! — удивилась дофина. — Господин де Немур не хочет, чтобы его
возлюбленная ездила на балы? Я полагала, что мужья могут не хотеть, чтобы их
жены появлялись на балах, но никогда не думала, что такие чувства могут
испытывать влюбленные.
— Господин де Немур находит, — продолжал принц де Конде, — что балы —
самая непереносимая вещь для влюбленных — и для тех, кого любят, и для тех,
кто нелюбим. Он говорит, что, если их любят, они огорчаются оттого, что в
течение нескольких дней их любят меньше; что нет такой женщины, которой
забота о своем наряде не помешала бы думать о любимом; что они стараются
украшать себя столько же для прочих, сколько для тех, кого любят; что, оказавшись
на бале, они желают нравиться всем, кто на них смотрит; что когда они
довольны своей красотой, то испытьшают радость, и любимый в этой радости ни при
чем. Он говорит также, что тот, кого не любят, страдает еще больше, видя свою
возлюбленную в таком собрании; что чем больше ею восхищаются другие, тем
несчастней он оттого, что его не любят; что он постоянно боится, как бы ее
красота не пробудила в ком-нибудь любовь более счастливую, чем его собственная.
Одним словом, он полагает, что нет большего страдания, чем видеть свою
возлюбленную на бале, — разве что знать, что она там, а самому там не быть.
Принцесса Клевская, казалось, не слышала, что говорил принц де Конде; но
она слушала его внимательно. Ей нетрудно было догадаться о своей роли в
суждениях господина де Немура, в особенности же в том, что он говорил о
страдании не быть на том бале, где была его возлюбленная: он не должен был
присутствовать на бале у маршала де Сент-Андре, так как король посылал его
навстречу герцогу Феррарскому51.
Дофина смеялась вместе с принцем де Конде и не одобряла мнения
господина де Немура.
— Есть только одно условие, Мадам, — сказал принц, — при котором
господин де Немур согласился бы, чтобы его возлюбленная отправилась на бал, —
это если он сам его дает; он добавляет, что в прошлом году, когда он давал бал
вашему величеству, он счел, что его возлюбленная оказала ему милость, при-
Часть первая
237
ехав к нему, хотя выглядело это так, будто она просто вас сопровождала; что
это всегда драгоценный дар для влюбленного — принять участие в увеселении,
которое он устраивает, и что влюбленному приятно также, когда
возлюбленная видит его господином в том доме, куда съезжается весь двор, и видит, что
он хорошо справляется с обязанностями радушного хозяина.
— Господин де Немур поступил правильно, — сказала дофина, улыбаясь, —
позволив своей возлюбленной явиться на бал. Тогда было так много женщин,
которым он давал право на это звание, что, если бы они все не приехали,
гостей там было бы немного.
Как только принц де Конде начал рассказывать о том, что господин де
Немур думает о балах, принцесса Клевская испытала сильное желание не ехать
к маршалу де Сент-Андре. Она с легкостью присоединилась к тому мнению,
что женщине не следует ездить к мужчине, который в нее влюблен, и была
рада иметь столь добродетельную причину сделать приятное господину де
Немуру. Все же она забрала с собой убор, который дала ей дофина; но вечером,
показывая его матери, она сказала, что не имеет намерения его надевать, что
маршал де Сент-Андре так старательно выставляет напоказ свои чувства к ней,
что она не сомневается в его желании внушить всем, будто те развлечения,
которые он устраивает для короля, связаны с ней, и что он под предлогом
гостеприимства будет оказывать ей знаки внимания, которые могут поставить ее
в неловкое положение.
Госпожа де Шартр какое-то время спорила с дочерью, находя ее доводы
странными, но, видя, что та заупрямилась, сдалась, заметив только, что тогда уж
следует притвориться больной, чтобы объяснить свое отсутствие, поскольку тех
причин, которые ее удерживают, никто не поймет, и надо даже сделать так,
чтобы о них и не заподозрили. Принцесса Клевская охотно согласилась провести
несколько дней не выходя из дому, чтобы не ехать туда, где не будет господина де
Немура; а он уехал, так и не испытав радости узнать, что ее там не будет.
Он вернулся назавтра после бала и узнал, что ее на бале не было; но, так как
ему было неизвестно, что ей пересказали ту беседу у дофина, он был далек от
мысли, что имел счастье стать причиной ее отсутствия.
На следующий день, когда он был у королевы и разговаривал с дофиной,
госпожа де Шартр и принцесса Клевская появились там и подошли к дофине.
Принцесса Клевская была одета несколько небрежно, словно ей нездоровилось;
но лицо ее не соответствовало ее убранству.
— Вы так хороши сегодня, — сказала ей дофина, — что я не могу поверить
в вашу болезнь. Я думаю, что принц де Конде, пересказав вам суждения
господина де Немура о бале, убедил вас, что поехать к маршалу де Сент-Андре
означает выказать ему свою благосклонность, и это и удержало вас от
поездки туда.
Принцесса Клевская покраснела оттого, что дофина угадала так верно, и
оттого, что она высказывала свою догадку перед господином де Немуром.
В эту минуту госпожа де Шартр поняла, почему ее дочь не хотела ехать на
бал; и чтобы не дать господину де Немуру понять это так же ясно, она
заговорила с самым правдивым видом.
238
Принцесса Клевская
— Уверяю вас, Мадам, — сказала она дофине, — что ваше величество
делает моей дочери больше чести, чем она заслуживает. Она действительно была
больна; и думаю, что, если бы я не помешала, она непременно решилась бы вас
сопровождать и показаться на людях в том дурном виде, в каком была тогда,
чтобы не упустить удовольствия увидеть все, что было замечательного во
вчерашних развлечениях.
Дофина поверила словам госпожи де Шартр; господин де Немур был
раздосадован их правдоподобностью, но румянец принцессы Клевской внушил ему
подозрение, что догадка дофины была не столь уж далека от истины.
Принцесса Клевская сначала огорчилась, что господин де Немур мог подумать, будто
это из-за него она не поехала к маршалу де Сент-Андре, но потом ей стало
немного грустно, что ее мать лишила его всякой возможности так думать.
Хотя встречи в Серкане были прерваны, переговоры о мире неизменно
продолжались, и дела обстояли так, что к концу февраля можно было
собраться в Като-Камбрези52. Туда съехались все прежние посланцы, и
отсутствие маршала де Сент-Андре избавило господина де Немура от соперника,
который был ему опасен и тем вниманием, которое он проявлял ко всем, кто
приближался к принцессе Клевской, и теми успехами, которых он мог
добиться в ее сердце.
Госпожа де Шартр не хотела показывать дочери, что знает о ее чувствах к
герцогу, чтобы те слова, которые она собиралась ей сказать, не вызвали у нее
подозрений. Однажды она завела с дочерью разговор; она сказала о герцоге
много хорошего, примешав к этому отравленные похвалы тому благоразумию,
благодаря которому он был не способен влюбиться, и тому, что в отношениях
с женщинами он искал лишь удовольствия, но не привязанности.
— Это не значит, — продолжала она, — что его не подозревали в настоящей
большой страсти к дофине; я тоже вижу, что он бывает у нее очень часто, и
советую вам насколько возможно избегать разговоров с ним, в особенности
наедине; ведь при том благорасположении дофины, каким вы пользуетесь, скоро
начнут говорить, что вы стали посредницей между ними, а вы знаете, как
неприятна такая молва. Если эти слухи будут продолжаться, я предпочла бы, чтобы вы
пореже бывали у дофины и не оказались бы втянуты в чужие любовные дела.
Принцесса Клевская никогда не слышала пересудов о господине де
Немуре и дофине; слова матери так ее поразили, ей показалось, что она так ясно
видит, как обманывалась в своих мыслях о чувствах герцога, что она
переменилась в лице. Госпожа де Шартр это заметила; но тут вошли люди,
принцесса Клевская удалилась к себе и заперлась в своем кабинете.
Нельзя выразить, какую она испытала боль, поняв через сказанные матерью
слова, сколь сильно занимал ее господин де Немур: до тех пор она не смела
признаться в этом себе самой. Она ясно увидела, что питала к герцогу те самые
чувства, каких добивался от нее принц Клевский, и рассудила, сколь постыдно
было питать их к другому, а не к мужу, их заслуживавшему. Ее ранил и
тревожил страх, что господин де Немур хотел воспользоваться ею как ширмой для
дофины, и эта мысль заставила ее решиться рассказать госпоже де Шартр то,
чего она ей еще не говорила.
Часть первая
239
На следующее утро она вошла в спальню матери, чтобы исполнить
задуманное; но оказалось, что у госпожи де Шартр небольшой жар, и принцесса Клев-
ская не стала заводить этот разговор. Нездоровье это, однако, казалось столь
пустячным, что оно не помешало принцессе Клевской вечером отправиться к
дофине. Дофина сидела в своем кабинете с двумя или тремя самыми
приближенными дамами.
— Мы говорили о господине де Немуре, — сказала дофина, завидев
принцессу Клевскую, — и удивлялись, как он переменился после возвращения из
Брюсселя. До отъезда туда у него было бесчисленное множество любовных связей,
и это даже можно было счесть его недостатком, потому что он вступал в них
и с достойными, и с недостойными. Но после возвращения он не знается ни с
теми, ни с другими; таких решительных перемен не бывало ни с кем; я даже
нахожу, что и нрав у него изменился, и он не так весел, как прежде.
Принцесса Клевская не отвечала; она со стыдом подумала, что приняла бы
все разговоры о переменах в герцоге за свидетельства его страсти к ней, если
бы ей не открыли глаза. Ей было горько видеть, что дофина ищет причин и
удивляется тому, о чем знает правду, очевидно, лучше всех прочих. Она не
могла сдержаться и вовсе не показать этого дофине; когда другие дамы
удалились, она подошла к дофине и негромко сказала:
— Мадам, это для меня вы говорили, вы хотели бы скрыть от меня, что вы
и есть та, из-за кого так изменилось поведение господина де Немура?
— Вы несправедливы, — отвечала дофина, — вы знаете, что я ничего от вас не
скрываю. Верно, до отъезда в Брюссель господин де Немур имел, мне кажется,
намерение показать мне, что я ему не вовсе ненавистна; но с тех пор, как он
вернулся, у меня нет причин считать, что он помнит свои тогдашние поступки, и
признаюсь, мне очень любопытно узнать, что же его так изменило. Но мне будет
нетрудно проникнуть в эту тайну, — продолжала она, — видам де Шартр — его
ближайший друг, он влюблен в особу, над которой я имею кое-какую власть, и с ее
помощью я узнаю, что заставило его так перемениться.
Дофина говорила так, что убедила принцессу Клевскую, и та невольно
почувствовала себя более спокойной и умиротворенной, чем до того.
Вернувшись к матери, она нашла ее в состоянии много худшем, чем то, в
котором ее оставила. Жар усилился, и в последующие дни горячка дошла до того,
что стало ясно: это серьезная болезнь. Принцесса была до крайности
удручена и не выходила из спальни матери. Принц Клевский также проводил там
почти все дни — и потому, что питал добрые чувства к госпоже де Шартр, и для
того, чтобы помешать жене совершенно предаться печали, но еще и ради
удовольствия ее видеть; страсть его к ней отнюдь не ослабла.
Господин де Немур, который всегда испытывал к нему большую приязнь,
после возвращения из Брюсселя неизменно ее свидетельствовал. Во время
болезни госпожи де Шартр герцог нашел способ часто видеться с принцессой
Клевской под тем предлогом, что искал ее мужа или заезжал за ним, чтобы
увезти на прогулку. Он искал принца даже в те часы, когда знал наверное, что
его нет дома, и, как бы поджидая его, оставался в приемной госпожи де Шартр,
где всегда собиралось несколько знатных особ. Принцесса Клевская часто
240
Принцесса Клевская
выходила туда, и, как бы ни была она удручена, она не казалась оттого менее
прекрасной господину де Немуру. Он показывал ей, как близко принимает к
сердцу ее горе, и разговаривал с ней так нежно и почтительно, что легко
уверил ее в том, что не в дофину он был влюблен.
Она не могла удержаться одновременно от волнения и от радости при виде
его; но когда он уходил и она думала, что те чары, которые она ощущала в его
присутствии, были началом страсти, то едва не была готова его ненавидеть за
ту боль, какую причиняла ей эта мысль.
Госпоже де Шартр стало настолько хуже, что надежды на ее
выздоровление исчезали; она приняла слова лекарей об опасности, ей грозившей, с
мужеством, достойным ее добродетели и ее благочестия. Когда они вышли, она
попросила всех удалиться и призвала принцессу Клевскую.
— Мы расстаемся, дочь моя, — сказала она, протягивая руку принцессе. — Та
опасность и нужда во мне, в которых я вас оставляю, усиливают мою скорбь
оттого, что я должна вас покинуть. Вы питаете склонность к господину де Немуру;
я не требую, чтобы вы мне в этом признались — я уже не в том состоянии, чтобы
воспользоваться вашей искренностью и наставлять вас. Я давно заметила эту
склонность, но сначала не хотела вам о ней говорить, чтобы вы не заметили ее
сами. Теперь она вам слишком хорошо известна, вы на краю пропасти; нужны
большие усилия и жестокие меры, чтобы вас удержать. Подумайте о своем
долге перед мужем, подумайте о своем долге перед самою собой, вообразите, что вы
можете потерять добрую славу, которую обрели и которой так желали.
Наберитесь сил и мужества, дочь моя, покиньте двор, заставьте мужа увезти вас; не
бойтесь принимать слишком суровые и слишком трудные решения, как бы ужасны
они вам ни казались поначалу — впоследствии они будут легче, чем беды
запретной любви. Если бы другие доводы, кроме доводов добродетели и долга, могли вас
подвигнуть на то, чего я желаю, то я сказала бы, что будь на свете что-то,
способное омрачить то блаженство, на которое я уповаю, покидая сей мир, то это было
бы зрелище вашего падения подобно другим женщинам, но если вам суждено
такое несчастье, я встречу смерть с радостью, чтобы не быть ему свидетельницей.
Принцесса Клевская орошала слезами руку матери, которую сжимала в
своих, и госпожа де Шартр, также растроганная, произнесла:
— Прощайте, дочь моя, закончим разговор, который слишком волнует нас
обеих, и помните, если можете, все, что я вам сказала.
Выговорив эти слова, она повернулась на другую сторону и велела дочери
позвать служанок, не желая больше ни слушать, ни говорить. Нетрудно
вообразить, в каком состоянии вышла принцесса Клевская из спальни матери, а
госпожа де Шартр отныне заботилась лишь о приуготовлениях к смерти. Она
прожила еще два дня, и во все это время не пожелала снова увидеть дочь —
единственное существо на земле, к которому была привязана.
Принцесса Клевская была в самом глубоком горе; муж не расставался с ней
и, как только госпожа де Шартр испустила последний вздох, увез ее в
деревню, чтобы она была подальше от того места, которое только растравляло ее
скорбь. Скорбь эта была необычайна: хотя больше всего в ней было
нежности и благодарности, но и для нужды в матери, чтобы обороняться от господина
Часть первая
241
де Немура, в ней находилось место. Принцесса Клевская ощущала себя
несчастной оттого, что осталась наедине с собой в ту минуту, когда так плохо
владела своими чувствами, и так желала бы, чтобы рядом был кто-то, кто мог бы
пожалеть ее и придать ей сил. Принц Клевский обходился с ней так, что она
сильнее чем когда бы то ни было хотела ни в чем не нарушать своего долга
перед ним. Она выказывала ему больше приязни и нежности, чем прежде; она
не отпускала его от себя, и ей казалось, что если она привяжется к нему, то он
защитит ее от господина де Немура.
Герцог навестил принца Клевского в деревне. Он сделал все, что мог, чтобы
нанести визит принцессе; но она не пожелала его принять и, видя, что не может
запретить себе чувствовать его привлекательность, твердо решилась запретить
себе с ним видеться и избегать всех подобных случаев, насколько это будет
зависеть от нее.
Принц Клевский отправился в Париж засвидетельствовать почтение королю
и обещал жене вернуться назавтра, однако он вернулся только день спустя.
— Я прождала вас весь вчерашний день, — сказала принцесса Клевская,
когда он появился, — и я должна попенять вам, что вы не вернулись, как
обещали. Вы знаете, что если бы в моем нынешнем состоянии я могла ощущать
новое горе, то это была бы кончина госпожи де Турнон, о которой меня
известили утром. Я была бы этим тронута, даже не будучи знакома с нею — всегда
достойно жалости, когда молодая и прекрасная женщина умирает в два дня; но
кроме того, она была одной из тех, кто мне всех приятней, и казалась особой
столь же благонравной, сколь достойной.
— Я очень раздосадован, что не мог вернуться вчера, — отвечал принц
Клевский, — но я оказался так нужен, чтобы утешить одного несчастного, что не мог
его оставить. Что до госпожи де Турнон, то я не советовал бы вам так сильно
огорчаться, если вы жалеете ее как женщину добродетельную и достойную
вашего уважения.
— Вы удивляете меня, — возразила принцесса Клевская, — я не раз
слышала от вас, что при дворе нет женщины, которую бы вы больше ценили.
— Это правда, — сказал он, — но женщин невозможно понять, и когда я
гляжу на них всех, то счастлив, что у меня есть вы, и не перестаю удивляться
своему счастью.
— Вы цените меня выше, чем я того заслуживаю, — вздохнула принцесса
Клевская, — еще не пришла пора считать меня достойной вас. Но умоляю вас,
расскажите, отчего вы переменили свое мнение о госпоже де Турнон.
— Это случилось давно, — отвечал он, — и я давно знаю, что она любила
графа де Сансера53, которому подавала надежды на брак.
— Не могу поверить, — прервала его принцесса Клевская, — что госпожа де
Турнон, после того необычайного отвращения к браку, которое она стала
выказывать, овдовев, и после всех ее прилюдных заверений, что она никогда
больше не выйдет замуж, могла подавать надежды Сансеру.
— Если бы она давала их только ему, — сказал принц Клевский, — то
удивляться не следовало бы, но поразительно то, что она одновременно подавала
их и Этутвилю тоже54, и я расскажу вам всю эту историю.
16. Заказ №К-6559
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
— Вы знаете, какая дружба связывает меня с Сансером; и все же, когда
около двух лет назад он влюбился в госпожу де Турнон, то тщательно скрывал
это от меня, равно как и от всех прочих. Я совершенно о том не догадывался.
Госпожа де Турнон, казалось, была еще безутешна после смерти мужа и жила
в самом строгом уединении. Сестра Сансера была едва ли не единственная, с
кем она виделась; в доме сестры он и влюбился в нее.
Однажды вечером, когда в Лувре собирались давать представление и
ждали только короля и госпожу де Валантинуа, чтобы его начать, пришло
известие, что герцогине нездоровится и что король не придет. Все тут же
поняли, что нездоровьем герцогини была какая-то ссора с королем. Мы
знали, как он ревновал к маршалу де Бриссаку, пока тот оставался при дворе;
но маршал уже несколько дней как вернулся в Пьемонт, и мы не могли
вообразить себе повода для новой размолвки.
Пока я говорил об этом с Сансером, господин д'Анвиль появился в зале и
шепнул мне, что огорчение и гнев короля способны вызвать жалость к нему;
что, примирившись несколько дней назад с госпожой де Валантинуа после
ссоры из-за маршала де Бриссака, король подарил ей кольцо и просил его носить;
что, когда она одевалась, собираясь на представление, король заметил
отсутствие кольца и спросил о причине этого; что она притворилась удивленной и
стала допрашивать своих прислужниц, которые по злому случаю либо не
получив должных наставлений отвечали, что не видели кольца уже четыре или
пять дней.
Как раз столько времени и прошло после отъезда маршала де Бриссака, —
продолжал господин д'Анвиль. — Король не сомневался более, что она отдала
кольцо маршалу при расставании. Эта мысль так живо пробудила в нем еще
не вовсе угасшую ревность, что вопреки обыкновению он не сдержался и
высказал ей множество упреков. Он вернулся к себе в крайнем огорчении, но не
знаю, что огорчает его больше — подозрение, что госпожа де Валантинуа отдала
другому его кольцо, или страх, что, не сдержав досады, он прогневил ее.
Как только господин д'Анвиль закончил свой рассказ, я подошел к Сансе-
ру и пересказал все ему; я поведал ему все это как тайну, которую мне доверили
и о которой я ему не велел говорить.
На следующее утро я в ранний час отправился к моей невестке; в ее
спальне я застал госпожу де Турнон. Она не любила госпожу де Валантинуа, и ей
Часть вторая
243
было отлично известно, что и невестка моя не могла похвалиться любовью
к герцогине. Сансер побывал у нее после представления. Он рассказал ей о
ссоре короля с герцогиней, и госпожа де Турнон приехала поведать о ней
моей невестке, не зная или не подумав о том, что это я все рассказал ее
поклоннику.
Едва завидев меня, моя невестка сказала госпоже де Турнон, что мне
можно доверить ту новость, которую она рассказала, и, не дожидаясь разрешения
госпожи де Турнон, повторила слово в слово все, что я говорил Сансеру
накануне вечером. Судите же, как я был изумлен. Я взглянул на госпожу де
Турнон — мне показалось, что она в замешательстве. Ее замешательство навело
меня на подозрения; я говорил об этом только с Сансером, он расстался со мной
после представления, не сказав, почему; я вспомнил, какие пылкие хвалы
госпоже де Турнон от него слышал. Все это вместе открыло мне глаза, и мне
нетрудно было догадаться, что он в нее влюблен и что он виделся с нею,
расставшись со мной.
Меня очень задело, что он скрыл от меня это свое приключение, и я сказал
многое такое, из чего госпожа де Турнон поняла, какую неосторожность
совершила; я проводил ее до кареты и на прощанье уверил ее, что желаю счастья
тому, кто рассказал ей о размолвке короля с госпожой де Валантинуа.
Затем я не мешкая отправился к Сансеру, осыпал его упреками и объявил,
что знаю о его страсти к госпоже де Турнон, но не сказал, каким образом я это
обнаружил. Он был принужден сознаться; тогда я рассказал ему, что мне
помогло догадаться, а он открыл мне подробности этой истории; он сказал, что,
хотя был младшим в семье и вовсе не мог надеяться на хорошую партию,
госпожа де Турнон, невзирая на это, все же решилась выйти за него замуж. Я был
удивлен до крайности. Я посоветовал Сансеру поторопиться со свадьбой,
поскольку можно ожидать всего от женщины, способной создать в глазах света
представление о себе, столь далекое от истины. Он отвечал, что она и
вправду горюет, но что та склонность, которую она питает к нему, взяла верх над
горем и что она не может сразу показать всем такую перемену. Он привел мне
и множество других оправданий для нее, из чего мне стало ясно, как сильно он
в нее влюблен; он уверял меня, что добьется ее согласия посвятить меня в его
страсть к ней, коль скоро это она сама мне ее открыла. Он действительно этого
добился, хотя и с великим трудом, и с тех пор они многое мне поверяли.
Я никогда не видел, чтобы женщина так достойно и мило вела себя со
своим возлюбленным; и все же я так и не мог смириться с тем, что она
притворялась, будто все еще в глубокой скорби. Сансер был так влюблен и так
счастлив ее обхождением с ним, что почти не смел торопить ее со свадьбой,
опасаясь, как бы она не подумала, что он этого желает больше из корысти, чем
по истинной страсти. Все же он поговорил с ней об этом, и ему показалось, что
она готова выйти за него; она даже стала понемногу нарушать свое уединение
и снова показываться в свете. Она приезжала к моей невестке в те часы,
когда там собирались придворные. Сансер бывал там лишь изредка, но
завсегдатаи этих вечеров, часто ее там встречавшие, находили ее весьма
привлекательной.
244
Принцесса Клевская
Вскоре после того, как она начала выходить из затворничества, Сансеру
стало казаться, что ее страсть к нему ослабевает. Он не раз мне о том говорил,
хотя я не видел никаких оснований для его жалоб; но в конце концов, когда он
сказал мне, что, вместо того чтобы заключить брак, она его как будто
отодвигает, я стал думать, что он был не совсем неправ в своей тревоге. Я отвечал, что
если страсть госпожи де Турнон и ослабела спустя два года, этому не следует
удивляться; что даже если она не ослабела, но не настолько сильна, чтобы
подвигнуть ее выйти за него замуж, он не вправе на это сетовать; что в мнении
света такой брак ему бы крайне повредил, не только потому, что он —
недостаточно хорошая партия для нее, но и из-за того ущерба, который он нанес бы ее
доброй славе; и что поэтому все, чего он может желать, — это чтобы она не
обманывала его и не подавала ему ложных надежд. Я добавил, что, если ей не
хватит сил выйти за него или если она признается, что любит другого, он не
должен ни сердиться, ни жаловаться; ему следует сохранить к ней уважение и
благодарность.
— Я даю вам, — сказал я ему, — тот совет, которому сам бы последовал;
искренность для меня так важна, что я думаю, если моя возлюбленная или даже
моя жена мне признается, что ей нравится кто-то другой, я огорчусь, но не
рассержусь. Я откажусь от роли любовника или мужа, чтобы стать ей
советчиком и утешителем.
Эти слова вызвали краску на щеках принцессы Клевской; она увидела в них
некую связь с тем состоянием, в котором пребывала, и это так удивило и
взволновало ее, что она долго не могла прийти в себя.
— Сансер поговорил с госпожой де Турнон, — продолжал принц Клевский, —
он сказал ей все, что я ему советовал; но она столь пылко его разуверяла и
казалась столь оскорбленной его подозрениями, что он полностью от них
отказался. Тем не менее она отложила свадьбу до его возвращения из путешествия,
в которое он собирался и которое обещало быть долгим; но до самого его
отъезда она так безупречно себя вела и, казалось, так горевала, что я, как и он,
поверил в искренность ее любви. Он уехал около трех месяцев назад; за время
его отсутствия я мало виделся с госпожой де Турнон: я был совершенно
поглощен вами и знал только, что он скоро должен вернуться.
Позавчера, приехав в Париж, я узнал, что она умерла; я послал к нему
справиться, нет ли от него вестей. Мне сказали, что он вернулся накануне, то есть как
раз в день смерти госпожи де Турнон. Я тотчас же отправился к нему,
догадываясь, в каком его найду состоянии; но его горе далеко превосходило все, что я
мог вообразить.
Я никогда не видел скорби столь глубокой и столь сердечной; завидев меня,
он бросился мне на шею и залился слезами. «Я не увижу ее больше! — повторял
он. — Я не увижу ее, она мертва! Я не был ее достоин; но я вскоре за ней
последую!»
После чего он умолк; а затем, время от времени повторяя снова: «Она
мертва, я больше не увижу ее!» — он разражался слезами и воплями и, казалось,
потерял рассудок. Он сказал, что не часто получал от нее письма во время
своего отсутствия, но не удивлялся этому, потому что знал ее и знал, как трудно
Часть вторая
245
ей было решиться писать. Он не сомневался, что женился бы на ней по
возвращении; он считал ее самой прелестной и самой верной из всех женщин на
свете, он верил, что был нежно любим, он потерял ее в тот миг, когда надеялся
соединиться с нею навеки. Все эти мысли причиняли ему жгучую боль,
совершенно его сломившую; и признаюсь, что и я был невольно тронут.
Однако я вынужден был покинуть его и отправиться к королю, я пообещал,
что скоро вернусь. Я и в самом деле вернулся и был несказанно изумлен,
найдя его совсем не таким, каким оставил. Он стоял в своей спальне с
выражением ярости на лице, то делая несколько шагов, то останавливаясь, словно был
вне себя. «Входите, входите, — сказал мне он, — смотрите на самого
злополучного человека на свете, я в тысячу раз несчастнее, чем был до сих пор: то, что
я сейчас узнал о госпоже де Турнон, хуже смерти».
Я подумал, что рассудок его совершенно помутился от горя; я не мог
вообразить, что есть нечто худшее, чем смерть женщины, которую любишь и
которой любим. Я сказал ему, что, пока его скорбь имела какие-то границы, я не
осуждал ее и сочувствовал ей, но что я перестану его жалеть, если он впадет
в отчаянье и потеряет разум.
«Это было бы слишком большим счастьем для меня — лишиться разума, а
вместе с ним и жизни, — воскликнул он. — Госпожа де Турнон была мне
неверна, и я узнаю о ее неверности и измене на следующий день после известия о ее
смерти, когда душа моя до краев наполнена самой жгучей скорбью и самой
нежной любовью, какие только жили в человеческом сердце; в ту минуту, когда
образ ее и ее чувства ко мне представляются мне самим совершенством,
оказывается, что я был обманут и что она не заслуживает моих слез; и я так
же горюю о ее смерти, как если б она была мне верна, и так же оскорблен ее
неверностью, как если 6 она не была мертва. Если бы я узнал об измене до ее
кончины, то ревность, негодование, гнев охватили бы меня и словно сделали
нечувствительным к боли утраты; а теперь я в таком состоянии, что не могу ни
утешиться, ни возненавидеть ее».
Судите же, как я был изумлен словами Сансера; я спросил его, как он узнал
то, что мне рассказал. Он поведал мне, что, как только я вышел из его дома,
Этутвиль, его близкий друг, не посвященный, однако, в тайну его любви к
госпоже де Турнон, явился с ним повидаться. Не успев сесть, он разразился
слезами и стал просить у Сансера прощения, что скрывал от него то, что собирался
сказать теперь; он умолял пожалеть его, он хотел открыть Сансеру свое
сердце, ведь тот видел перед собой человека, более всех на свете опечаленного
кончиной госпожи де Турнон.
«Это имя, — продолжал Сансер, — так меня поразило, что хотя первым
моим побуждением было сказать ему, что я опечален больше, чем он, у меня
не хватило сил говорить. Затем он рассказал мне, что был влюблен в нее уже
полгода; что он все хотел мне об этом рассказать, но она прямо ему
запретила, и так строго, что он не посмел ослушаться; что он понравился ей почти сразу
же, как только в нее влюбился; что они скрывали свою страсть ото всех; что
он никогда не бывал у нее открыто; что он был счастлив утешить ее после
смерти мужа; и что, наконец, он собирался жениться на ней, как раз когда она умер-
246
Принцесса Киевская
ла; но что этот брак, основанный на страсти, казался бы заключенным из долга
и послушания: она сумела сделать так, что отец приказал ей выйти за него
замуж, чтобы не было слишком разительной перемены в ее поведении,
показывавшем, что она и не помышляет о вторичном замужестве.
Чем больше Этутвиль говорил, — сказал мне Сансер, — тем больше я верил
его словам; они казались мне правдоподобны; время, когда, как он утверждал,
началась его любовь к госпоже де Турнон, совпадало с тем, когда я стал
замечать в ней перемену; но спустя минуту я уже думал, что он лжет или по
меньшей мере бредит. Я был готов ему это сказать, затем мне захотелось все
выяснить, я начал его расспрашивать и сделал вид, что сомневаюсь в его словах; в
конце концов я приложил столько усилий, чтобы увериться в своем несчастье,
что он спросил, знаком ли мне почерк госпожи де Турнон. Он положил мне на
постель четыре письма от нее и ее портрет, в эту минуту вошел мой брат; у
Этутвиля лицо было так залито слезами, что он принужден был удалиться,
чтобы это скрыть, он сказал мне, что вернется вечером забрать то, что мне
оставил, а я поторопил брата уйти, под тем предлогом, что мне нездоровится —
мне не терпелось взглянуть на те письма, что Этутвиль у меня оставил, в
надежде найти там что-нибудь, что дало бы мне возможность не верить всему
сказанному Этутвилем. Но увы! Что же я там нашел? Какую нежность! Какие
клятвы! Какие твердые обещания выйти за него! Какие письма! Мне она никогда не
писала подобных. И вот, — продолжал он, — я страдаю одновременно и из-за ее
смерти, и из-за ее неверности; эти два горя часто сравнивают, но никогда один
и тот же человек не мучился тем и другим сразу. Признаюсь, к стыду своему,
что утрата ее мне все еще больнее, чем ее измена; я не могу счесть ее
настолько виновной, чтобы смириться с ее смертью. Если бы она была жива, я мог бы
утешиться тем, что высказал бы ей свои упреки и отомстил за себя, заставив ее
понять, как дурно она поступила. Но я не увижу ее больше, — повторял он, — я
не увижу ее; это несчастье — величайшее из всех. Я желал бы вернуть ей жизнь
ценою своей. Что за мечты! Воскреснув, она жила бы для Этутвиля. Как я был
счастлив вчера, — воскликнул он, — как счастлив! Я скорбел больше всех на
свете, но моя скорбь была естественна, и мне было сладко думать, что я не
утешусь никогда. Сегодня все мои чувства извращены. Ее притворной страсти ко
мне я плачу ту же дань скорби, какую был бы должен платить страсти
искренней. Я не могу ни ненавидеть, ни любить память о ней; я не могу ни
утешиться, ни страдать. Но сделайте хотя бы так, — сказал он, вдруг оборотившись ко
мне, — чтобы я никогда не видел Этутвиля; одно имя его наводит на меня ужас.
Я отлично знаю, что не имею никаких причин быть на него в обиде: это я
виноват, что скрывал от него свою любовь к госпоже де Турнон; если бы он знал об
этом, то, быть может, не увлекся бы ею и она не была бы мне неверна, но он
приехал ко мне рассказать о своем горе; мне его жаль. Да! Он вправе горевать, —
воскликнул Сансер, — он любил госпожу де Турнон, был ею любим и больше
никогда ее не увидит; и все же я чувствую, что не сумею победить свою
ненависть к нему. Еще раз умоляю вас сделать так, чтобы я с ним не встречался».
Затем Сансер снова стал плакать, горевать о госпоже де Турнон, говорить
с ней и обращаться к ней с самыми нежными словами; после чего он перешел
Часть вторая
247
к ненависти, жалобам, упрекам и проклятиям. Видя, в какое он впал
неистовство, я понял, что мне понадобится помощь, чтобы его успокоить. Я послал за
его братом, с которым расстался у короля; я поговорил с ним за порогом
спальни, до того как он туда вошел, и рассказал, в каком состоянии Сансер. Мы
отдали распоряжения, чтобы уберечь его от встречи с Этутвилем, и употребили
часть ночи на то, чтобы постараться вернуть ему способность рассуждать
здраво. Сегодня утром я застал его в еще большем горе; брат его остался с ним, а
я вернулся к вам.
— Не могу и передать своего удивления, — промолвила принцесса Клев-
ская, — я полагала госпожу де Турнон неспособной на любовь и обман.
— Нельзя быть искуснее ее в ловкости и притворстве, — отвечал принц Клев-
ский. — Заметьте, что когда Сансеру показалось, будто она переменилась к
нему, это и вправду произошло — она увлеклась Этутвилем. Этутвилю она
говорила, что он утешает ее в потере мужа и что это из-за него она выходит из
затворничества; а Сансер думал, будто причиной тому наше решение, что ей
не стоит больше выказывать столь глубокую скорбь. Она уверяла Этутвиля,
что скрывает их связь и притворяется, будто выходит за него по воле отца,
потому что печется о своем добром имени; на самом же деле она так поступала,
чтобы бросить Сансера, не дав ему оснований для обиды. Я должен
вернуться, — продолжал принц Клевский, — чтобы навестить этого несчастного, и
думаю, что вам также следует возвращаться в Париж. Вам пора встречаться с
людьми и принимать множество визитов, избежать которых вам все равно не
удастся.
Принцесса Клевская с ним согласилась и на следующий день вернулась в
Париж. В отношении господина де Немура она ощущала себя спокойнее, чем
раньше; все, что сказала ей госпожа де Шартр на смертном одре, и боль от
ее утраты притупили в ней те чувства, которые казались ей исчезнувшими
навсегда.
В тот же вечер дофина приехала с ней повидаться и, засвидетельствовав
свое участие в ее горе, сказала, что хочет отвлечь ее от грустных мыслей и для
того расскажет все, что произошло при дворе в ее отсутствие; она поведала
принцессе Клевской множество удивительных вещей.
— Но что мне более всего хотелось вам рассказать, — продолжала она, — так
это доподлинную новость, что господин де Немур страстно влюблен, но даже
самые близкие его друзья не только не получают от него признаний, но даже
не догадываются, кто эта любимая им особа. А ведь любовь эта настолько
сильна, что ради нее он пренебрег надеждами на корону, вернее сказать,
отказался от них.
Затем дофина рассказала все о перипетиях в английских делах.
— Все, что я вам говорила, — продолжала она, — я узнала от господина д'Ан-
виля; он мне сказал утром, что король вчера вечером послал за господином де
Немуром, получив письмо от Линьроля, который просит разрешения вернуться
и пишет королю, что не может более находить для королевы Англии
убедительных объяснений задержки с приездом господина де Немура; что эта
задержка начинает ее оскорблять и что, хотя она и не дала еще решающего поло-
248
Принцесса Киевская
жительного ответа, но сказала достаточно, чтобы он поторопился с
путешествием. Король прочел это письмо господину де Немуру, а тот, вместо того
чтобы говорить серьезно, как он это делал вначале, стал смеяться, шутить и
издеваться над надеждами Линьроля. Он сказал, что вся Европа осудила бы его
безрассудство, если бы он отважился ехать в Англию с упованиями стать
мужем королевы, не будучи уверенным в успехе. «Кроме того, я полагаю, —
прибавил он, — что потрачу время напрасно, отправившись в путешествие как раз
тогда, когда король Испании прилагает такие усилия, чтобы жениться на
английской королеве. Возможно, он был бы не слишком опасным соперником в
любовном состязании, но что до брака, то тут, я думаю, Ваше Величество едва
ли посоветует мне что-либо у него оспаривать».
«В этом случае я дал бы вам такой совет, — отвечал король, — но вы
ничего у него не оспариваете; я знаю, что у него иные помыслы, и, даже если бы их
у него не было, королева Мария слишком плохо сносила испанское ярмо, чтобы
можно было поверить, что ее сестра пожелает его на себя надеть и что она даст
себя ослепить блеском такого количества корон, соединенных вместе».
«Если она не даст себя ослепить, — возразил господин де Немур, — то,
возможно, пожелает счастья в любви. Несколько лет назад она любила милорда
Кортни;55 его любила также и королева Мария, и она вышла бы за него замуж
с одобрения всей Англии, если бы не знала, что молодость и красота ее
сестры Елизаветы волнуют его больше, чем надежды на трон. Вашему Величеству
известно, что неистовая ревность заставила ее бросить их обоих в тюрьму,
затем изгнать милорда Кортни и, наконец, выйти замуж за испанского короля.
Я думаю, что Елизавета, оказавшись теперь на престоле, вскоре вспомнит о
милорде и что она скорее изберет этого человека, которого она любила и
который достоин любви и столько выстрадал ради нее, чем кого-то другого, кого
она и не видела никогда».
«Я согласился бы с вами, — отвечал король, — если бы Кортни был еще жив;
но несколько дней назад я узнал, что он умер в Падуе, куда был сослан. Мне
ясно видно, — прибавил он, прощаясь с господином де Немуром, — что вас
следовало бы женить так, как женили дофина, и заключить ваш брак с
королевой Англии через послов».
Господин д'Анвиль и господин видам, бывшие у короля вместе с господином
де Немуром, были убеждены, что именно поглощающая его страсть и
отвращает герцога от столь великого замысла. Видам, который виделся с ним чаще
всех, сказал госпоже де Мартиг56, что герцога нельзя узнать — так он
переменился; и еще более его удивляет то, что незаметно, чтобы герцог поддерживал
с кем-то сношения или скрывался в известные часы, так что можно
предположить, что он не пользуется взаимностью особы, которую любит, трудно узнать
господина де Немура в человеке, который любит женщину, а та не отвечает на
его чувство.
Каким ядом были для принцессы Клевской речи дофины! Как ей было не
узнать себя в этой особе, имени которой никто не знал? Как не
проникнуться благодарностью и нежностью, услышав от той, в ком она не могла
сомневаться, что герцог, задевший уже ее сердце, скрывал свою страсть ото всех
Часть вторая
249
и ради любви к ней пренебрег надеждами на трон? Нельзя и передать, что она
почувствовала и какое волнение поднялось в ее душе. Если бы дофина
взглянула на нее повнимательней, то без труда заметила бы, что ее слова не были
принцессе безразличны; но так как дофина не подозревала истины, то
продолжала говорить, вовсе не подумав о том.
— Господин д'Анвиль, — прибавила она, — который, как я вам уже сказала,
поведал мне все это подробно, полагает, что я осведомлена лучше, чем он; он
столь высоко ценит мои чары, что убежден, будто я — единственная, кто мог
бы произвести такие перемены в господине де Немуре.
Последние слова дофины повергли принцессу Клевскую в смятение иного
рода, чем то, которое она испытывала несколькими мгновениями ранее.
— Я присоединилась бы к мнению господина д'Анвиля, — отвечала она, —
весьма правдоподобно, Мадам, что пренебречь королевой Англии можно
только из-за венценосной особы, подобной вам.
— Я не утаила бы от вас, если бы это знала, — возразила дофина, — и я бы
это знала, если б это была правда. Такую страсть не скроешь от взгляда той,
кто ее вызывает; она замечает ее первой. Господин де Немур всегда выказывал
ко мне не более чем простую любезность; и все же между тем, как он держал
себя со мной раньше, и тем, как держится теперь, такая разница, что могу вас
уверить — не я причина его равнодушия к английской короне.
Я заговорилась с вами, — продолжала дофина, — и забыла, что должна ехать
к Мадам. Вы знаете, что мир почти уже заключен, но не знаете, что король
испанский условием каждой статьи ставил возможность самому жениться на
принцессе57 вместо дона Карлоса, своего сына. Королю было очень нелегко на
это решиться; наконец он дал свое согласие и собирается вскоре объявить эту
новость Мадам. Полагаю, она будет безутешна; едва ли может быть приятен
брак с человеком таких лет и такого нрава, как король Испании, в
особенности для той, кто наслаждается всеми дарами молодости и красоты и
готовится выйти замуж за юного принца, к которому чувствует склонность, еще не
видев его. Не знаю, найдет ли в ней король то послушание, на какое надеется;
он поручил мне переговорить с ней, поскольку ему известно, что она меня
любит, и он полагает, что у меня есть какая-то власть над ее душой. А затем
мне предстоит совсем иной визит: я зайду порадоваться с Мадам, сестрой
короля. Все готово для ее свадьбы с герцогом Савойским, и вскоре она состоится.
Ни одна особа в ее летах не радовалась так своему замужеству. Двор будет
блистательнее и многолюднее, чем когда-либо; и невзирая на ваше горе, вы
должны помочь нам показать иностранцам, что наши красавицы — не из
последних.
Вымолвив эти слова, дофина рассталась с принцессой Клевской; а
назавтра о браке Мадам стало известно всем. В последующие дни король и
королевы навестили принцессу Клевскую. Господин де Немур, который нетерпеливо
ждал ее возвращения и пылко желал поговорить с нею без свидетелей,
отложил свой визит до того часа, когда все от нее уедут и больше уже никто не
должен будет появиться. Замысел его удался, и он пришел тогда, когда
удалились последние посетители.
250
Принцесса Клевская
Принцесса лежала на постели, было жарко, и присутствие господина де
Немура еще добавило румянца на ее щеках, что вовсе не портило ее красоты. Он
поместился против нее с той опаской и робостью, какие рождает подлинная
страсть. Какое-то время он не мог вымолвить ни слова. Принцесса Клевская
была в не меньшем замешательстве, так что они хранили молчание
достаточно долго. Наконец господин де Немур заговорил и высказал свое сочувствие ее
горю. Принцессе Клевской нетрудно было продолжать беседу об этом
предмете; она долго говорила о своей утрате и наконец сказала, что, когда время
притупит боль, последствия все равно останутся столь велики, что самый нрав ее
изменится.
— Глубокое горе и сильные страсти, — отвечал господин де Немур, —
производят большие перемены в наших душах; и я не узнаю себя с тех пор, как
вернулся из Фландрии. Многие заметили эту перемену, и даже дофина говорила
мне о ней еще вчера.
— Она и вправду это заметила, — промолвила принцесса Клевская, — и я от
нее как будто что-то об этом слышала.
— Я не огорчен тем, сударыня, — возразил господин де Немур, — что она
это заметила, но я хотел бы, чтобы она была не единственной, кто это
заметил. Есть особы, которым мы не смеем давать свидетельства нашей страсти
к ним иначе, как через вещи, прямо до них не касающиеся; и, не решаясь
показать им, что мы их любим, мы хотели бы по крайности, чтобы они знали,
что нам не нужно ничьей иной любви. Мы хотели бы, чтобы они знали, что
нет такой красавицы, как высоко бы она ни была вознесена, к которой мы не
были бы равнодушны, и нет короны, которую мы готовы были бы купить
ценой вечной разлуки с ними. Женщины обыкновенно судят о страсти,
которую к ним питают, — продолжал он, — по стараниям им понравиться и по
тому, как их домогаются; но это нетрудно делать, если они хоть немного
привлекательны; трудно не позволять себе удовольствия за ними следовать,
избегать их из страха выдать людям, и даже им самим, те чувства, которые мы
к ним питаем. А еще более верный знак истинной привязанности — это
когда мы становимся совершенно непохожи на самих себя, какими были
прежде, и утрачиваем честолюбие и жажду наслаждений, хотя всю жизнь были
поглощены и тем, и другим.
Принцесса Клевская тотчас догадалась, какое отношение к ней имели эти
слова. Ей казалось, что она должна отвечать и прервать их. Ей казалось
также, что она не должна ни выслушивать их, ни показывать, что приняла их на
свой счет. Она видела свой долг в том, чтобы заговорить, и в том, чтобы
промолчать. Речи господина де Немура почти в равной мере доставляли ей
удовольствие и задевали ее; она видела в них подтверждение всего, о чем заставила
ее задуматься дофина; она находила их любезными и почтительными, но
одновременно дерзкими и слишком откровенными. Та склонность, что она
питала к герцогу, рождала в ее сердце волнение, с которым она не могла
совладать. Самые темные слова мужчины, который нам нравится, трогают нас
больше, чем прямые признания того, кто нам безразличен. Итак, она оставалась
безмолвна, и господин де Немур заметил ее молчание, которое, возможно, счел
Часть вторая
251
бы неплохим знаком, если бы появление принца Клевского не положило конец
их беседе и его визиту.
Принц стал рассказывать жене новости о Сансере; но ее не слишком
занимало то, чем закончилась эта история. Она была так поглощена происшедшим,
что едва сумела скрыть свою рассеянность. Когда она смогла предаться своим
мыслям, то поняла, что обманывалась, полагая, будто стала равнодушна к
господину де Немуру. Его слова произвели на нее то впечатление, какого он и
добивался, и совершенно убедили ее в его страсти. Поступки герцога слишком
сообразовывались с его речами, чтобы у принцессы осталось хоть малейшее
сомнение. Она не утешала себя надеждой, что не любит его, она думала лишь
о том, чтобы никак ему этого не показать. То был непростой замысел, и она
уже знала, как трудно будет его исполнить; она понимала, что достичь успеха
можно только одним способом — избегая встреч с герцогом, и поскольку
траур позволял ей вести жизнь более уединенную, чем обыкновенно, она
воспользовалась этим предлогом, чтобы не ездить больше туда, где могла его
встретить. Она была погружена в глубокую печаль, причиной тому, казалось, была
смерть ее матери, и другой никто не искал.
Господин де Немур был в отчаянии от того, что почти перестал с ней
видеться, и зная, что не найдет ее ни на одном приеме, ни на одном увеселении, где
бывал весь двор, он не мог себя заставить появляться там; он сделал вид, что
в нем вспыхнула страсть к охоте, и отправлялся охотиться как раз в те дни,
когда королевы принимали. Легкое недомогание долго служило ему предлогом
для того, чтобы оставаться дома и не ездить в те места, где, как он знал, не
будет принцессы Клевской.
Почти тогда же занемог принц Клевский. Во все время его болезни
принцесса Клевская не покидала его спальни, но когда ему стало лучше и он начал
принимать гостей (и среди прочих господина де Немура, который, ссылаясь на то,
что все еще слаб, проводил у принца большую часть дня), она сочла, что не
может больше там оставаться; однако при первых его посещениях у нее не
хватало сил выходить из комнаты. Она слишком долго его не видела, чтобы
решиться и далее его не видеть. Герцог нашел способ дать ей понять (в
выражениях как будто самых общих, но которые она разгадала, поскольку они были
связаны с тем, что он ей говорил), что он ездил на охоту, чтобы мечтать о ней,
и что он не бывал на вечерах при дворе, потому что она там не бывала.
Наконец она исполнила свое решение уходить из спальни мужа, когда
герцог был там; однако она могла это делать лишь ценой большого насилия над
собой. Герцог заметил, что она избегает его, и был до крайности этим огорчен.
Принц Клевский поначалу не обращал внимания на поведение жены, но
затем он заметил, что она не хотела оставаться в его спальне, когда там были
посторонние. Он заговорил с ней об этом, и она ответила, что не думает, будто
приличия требуют, чтобы она проводила каждый вечер в обществе самых
молодых мужчин при дворе; что она просит его разрешить ей вести жизнь
более уединенную, чем обыкновенно; что добродетели и постоянное
присутствие матери позволяли ей делать многое такое, что не пристало женщине ее
лет.
252
Принцесса Клевская
Принц Клевский в этом случае не выказал своей обычной доброты и
снисходительности к жене и сказал, что решительно не желает, чтобы она меняла
свое поведение. Она была готова возразить, что в свете поговаривают о том, что
господин де Немур в нее влюблен, но была не в силах вымолвить его имя. К
тому же она устыдилась своего желания назвать ложную причину и скрыть
истину от человека, столь высоко ее ценившего.
Несколько дней спустя король был у королевы в час, когда у нее
собирались гости; говорили о гороскопах и предсказаниях. Относительно того,
насколько следует им верить, мнения разошлись. Королева им весьма доверяла;
она утверждала, что после того, как столь многое из предсказанного
действительно произошло, нельзя сомневаться, что в этой науке заключена доля
истины. Другие возражали, что ничтожное число сбывающихся из бесчисленного
множества предсказаний доказывает, что это всего лишь дело случая.
— Когда-то я очень любопытствовал заглядывать в будущее, — сказал
король. — Но мне наговорили столько ложных и невероятных вещей, что я убедился
в невозможности узнать истину. Несколько лет назад здесь появился человек,
имевший славу великого астролога. Все бросились к нему; я также к нему поехал,
но не говоря, кто я такой, и взял с собой господ де Гиза и д'Эскара;58 я пропустил
их впереди себя. Однако астролог обратился сначала ко мне, словно счел меня
властелином над другими. Возможно, он знал меня; однако он сказал мне то, что
вовсе ко мне не подходило, если б он меня знал. Он предсказал, что я буду убит
на поединке. Господину де Гизу он сказал, что его убьют ударом сзади, а д'Эс-
кару — что ему размозжит голову конское копыто. Господин де Гиз был почти
оскорблен таким пророчеством, словно его обвинили в готовности бежать. Д'Эс-
кар также был огорчен, узнав, что кончит свои дни таким несчастливым образом.
Одним словом, мы все трое ушли очень недовольные астрологом. Не знаю, что
станется с господами де Гизом и с д'Эскаром, но вовсе невероятно, чтобы я был
убит на поединке. Мы с королем Испании только что заключили мир; и даже
если б мы этого не сделали, не думаю, чтобы мы с ним решили сразиться и
чтобы я вызвал его на поединок, как вызвал король, мой отец, Карла Пятого.
После того как король рассказал, какое ему предрекли несчастье, те, кто
защищал астрологию, отказались от своего мнения и согласились, что она вовсе
не заслуживает веры.
— А меньше всех на свете, — громко произнес господин де Немур, — должен
иметь такую веру я.
И, обратившись к принцессе Клевской, сидевшей рядом, тихонько добавил:
— Мне предсказали, что я буду счастлив милостями особы, к которой питаю
самую пылкую и самую почтительную страсть. Судите же, сударыня, могу ли
я верить предсказаниям.
Дофина, заключив из сказанных громко господином де Немуром слов, что
своей соседке он поведал какое-то ложное предсказание, спросила герцога, о
чем он говорил принцессе Клевской. Если бы он обладал меньшим
присутствием духа, то смутился бы от такого вопроса. Но он отвечал не замешкавшись:
— Я говорил ей, Мадам, что мне предсказывали, будто мне выпадет такое
счастье, о каком я не смел и мечтать.
Часть вторая
253
— Если бы вам предсказали только это, — возразила дофина, улыбаясь и
думая о деле с Елизаветой Английской, — то я не советовала бы вам презирать
астрологию; у вас могут появиться причины ее защищать.
Принцесса Клевская поняла, что имела в виду дофина, но она понимала
также, что счастье, о котором говорил господин де Немур, заключалось для него
вовсе не в том, чтобы стать королем Англии.
Так как со смерти ее матери прошло уже достаточно много времени, ей
нужно было начать появляться в свете и при дворе, как обыкновенно. Она
встречала господина де Немура у дофины, она встречала его у принца Клевс-
кого, где он часто бывал в обществе других знатных молодых людей, чтобы не
привлекать к себе внимания; но она не могла больше смотреть на него без
волнения, которое он не преминул заметить.
Как ни старалась она избегать его взглядов и говорить с ним меньше, чем
с другими, ей не всегда удавалось скрыть какое-то первое движение, по
которому герцог мог заключить, что он ей небезразличен. Мужчина менее
проницательный, чем он, быть может, этого бы и не заметил; но герцога уже
любили столь многие, что ему трудно было не распознать, когда он был любим. Он
отлично видел, что шевалье де Гиз был его соперником, а шевалье понимал то
же самое про него. Шевалье был единственным человеком при дворе,
разгадавшим эту тайну, — собственный интерес помог ему видеть яснее прочих; это
знание о чувствах друг друга рождало в них неприязнь, которая сказывалась
во всем, не доходя, однако, до открытых ссор, но они неизменно
противостояли друг другу во всем. Они всегда были по разные стороны в состязаниях, боях,
играх и во всех королевских увеселениях, и соперничество их было таким
острым, что его нельзя было скрыть.
Принцесса Клевская часто думала об английских делах; ей казалось, что
господин де Немур не сможет противиться советам короля и настояниям Линьро-
ля. Она с грустью видела, что этот последний все не возвращается, и с
нетерпением его ждала. Если бы она следила за его поступками, то была бы лучше
осведомлена о состоянии дел, но то самое чувство, которое разжигало в ней
любопытство, заставляло его скрывать, и она расспрашивала только о
красоте, уме и нраве королевы Елизаветы. Один из портретов Елизаветы привезли
к королю; принцесса нашла изображение более красивым, чем ей бы хотелось,
и она не могла удержаться и не сказать, что портрет льстит.
— Я так не думаю, — возразила дофина, присутствовавшая при этом. —
Королева славится красотой и умом, далеко превосходящими обыкновенные, и
я хорошо помню, как мне всю жизнь ставили ее в пример. Она должна быть
очень привлекательна, если похожа на свою мать, Анну Болейн. Ни одна
женщина не была так мила и приятна наружностью и нравом. Я слышала,
что в лице ее было нечто живое и особенное и что она вовсе не походила на
прочих английских красавиц.
— Я как будто слышала также, — сказала принцесса Клевская, — что она
родилась во Франции.
— Те, кто так думает, ошибаются, — отвечала дофина, — я расскажу вам
кратко ее историю. Она происходила из знатного английского рода. Генрих
254
Принцесса Клевская
Восьмой был влюблен и в ее сестру, и в ее мать, и поговаривали даже, что она —
его дочь. Сюда она приехала вместе с сестрой Генриха Седьмого, которая
вышла замуж за короля Людовика Двенадцатого. Королева была молода и
ветрена, ей очень не хотелось покидать французский двор после смерти мужа;
а Анна Болейн, имевшая те же наклонности, что и ее госпожа, так и не
решилась уехать. Покойный король в нее влюбился, и она стала фрейлиной
королевы Клод59. Королева умерла, и ее взяла к себе принцесса Маргарита, сестра
короля, герцогиня Алансонская60, а затем королева Наваррская, чьи повести вы
читали. От нее Анна Болейн переняла зачатки новой религии. Затем она
вернулась в Англию, где очаровала всех: она усвоила французские манеры,
которые нравятся всем народам; она хорошо пела, восхитительно танцевала — ее
сделали фрейлиной королевы Екатерины Арагонской61, и король Генрих
Восьмой влюбился в нее без памяти.
Кардинал Вулси62, его фаворит и первый министр, лелеял надежды
взойти на папский престол, и, разгневавшись на императора, который его
притязаний не поддержал, задумал отомстить и устроить союз короля, своего
повелителя, с Францией. Он внушил Генриху Восьмому, что его брак с теткой
императора недействителен, и предложил жениться на герцогине Алансон-
ской, которая тогда овдовела. Анна Болейн, будучи не лишена честолюбия,
решила, что этот развод — тот путь, который может привести ее к трону. Она
стала склонять короля Англии к Лютеровой религии, а нашего покойного
короля уговаривала способствовать в Риме разводу Генриха с надеждой на его
брак с герцогиней Алансонской. Кардинал Вулси добился того, чтобы его под
другим предлогом послали во Францию заняться этим делом; однако господин
его не решился допустить, чтобы само предложение об этом было произнесено
вслух, и отправил ему в Кале повеление даже не заговаривать о браке.
По возвращении из Франции кардинал был встречен с такими почестями,
какие воздают самому королю; ни один фаворит не выказывал подобной
гордыни и тщеславия. Он устроил встречу двух королей в Булони. Франциск
Первый подал руку Генриху Восьмому63, который не пожелал рукопожатия.
Они принимали друг друга по очереди с невиданным великолепием и
обменялись нарядами, подобными тем, что были сшиты для них самих. Я вспоминаю
рассказы о том, что покойный король послал английскому королю камзол
малинового узорчатого атласа, изукрашенный жемчугами и бриллиантами, и
мантию белого бархата, расшитую золотом. Пробыв несколько дней в Булони, они
переехали в Кале. Анна Болейн помещалась вместе с Генрихом Восьмым как
королева, и Франциск Первый делал ей подарки и воздавал почести как
королеве. Наконец, после длившейся девять лет страсти, Генрих женился на ней, не
дожидаясь расторжения своего первого брака, о чем он давно просил в Риме.
Папа немедля отлучил его от Церкви, чем Генрих был так разгневан, что
объявил себя главой Церкви и вверг всю Англию в те злосчастные перемены,
которые вы теперь видите64.
Анна Болейн недолго наслаждалась своим величием; однажды, когда она
уже видела свое положение упрочившимся после смерти Екатерины
Арагонской, вместе со всем двором она присутствовала на состязаниях, в которых уча-
Часть вторая
255
ствовал ее брат, виконт Рокфорт, и король воспылал такой ревностью к нему,
что внезапно покинул это зрелище, вернулся в Лондон и велел арестовать
королеву, виконта Рокфорта и многих других, кого считал ее любовниками или
наперсниками. Хотя казалось, что ревность эта вспыхнула лишь в ту самую
минуту, ее уже давно подсказывала королю виконтесса Рокфорт, которая не
могла выносить близости своего мужа с королевой, и представила ее королю
как преступную связь; так что король, впрочем уже влюбленный в Джейн
Сеймур65, помышлял лишь о том, как избавиться от Анны Болейн. Менее чем
в три недели он провел суд над Анной Болейн и ее братом, велел отрубить им
головы и женился на Джейн Сеймур. Потом у него было еще несколько жен,
которых он прогонял или казнил, и среди прочих Екатерина Говард66, чьей
наперсницей была виконтесса Рокфорт; виконтессе отрубили голову вместе с ней.
Так она была наказана за те же грехи, что приписывала Анне Болейн, а
Генрих Восьмой умер, страдая от чудовищной тучности.
Все дамы, присутствовавшие при рассказе дофины, поблагодарили ее за
столь верные сведения об английском дворе; принцесса Клевская к ним
присоединилась, но была не в силах сдержаться и задала еще несколько вопросов о
королеве Елизавете.
Дофина велела сделать маленькие портреты всех придворных красавиц,
чтобы послать их своей матери, королеве. В тот день, когда художник
заканчивал портрет принцессы Клевской, дофина пожелала провести вечер у нее.
Там конечно же был и господин де Немур; он не упускал случая увидеть
принцессу Клевскую, не давая, однако, повода догадываться, что он этих случаев
искал. В тот день она была так прекрасна, что он влюбился бы в нее, если б
этого уже не произошло. Все же он не смел не сводить с нее глаз, пока ее
рисовали, и боялся, как бы то наслаждение, которое он испытывал при взгляде на
нее, не было слишком заметно.
Дофина попросила у принца Клевского маленький портрет его жены,
который у него уже был, чтобы сравнить с тем, что был близок к завершению; все
высказали свои мнения о них, и принцесса Клевская велела художнику что-то
поправить в прическе на том портрете, который принесли от принца.
Художник, повинуясь, вынул портрет из рамки и, сделав что было нужно, положил
его обратно на стол.
Господин де Немур давно желал иметь портрет принцессы Клевской.
Когда он увидел тот, что принадлежал принцу, то не мог удержаться от желания
украсть его у нежно любимого, как он полагал, мужа, и подумал, что среди
стольких людей, находившихся в той комнате, его заподозрят не больше, чем
других.
Дофина сидела на постели и негромко разговаривала с принцессой
Клевской, стоявшей перед ней. Принцесса заметила за полузадернутой занавесью
господина де Немура спиной к столу, стоявшему у изножья кровати, и увидела, как
он, не поворачивая головы, ловко взял что-то со стола. Ей нетрудно было
догадаться, что то был ее портрет; это привело ее в сильное смятение, дофина
поняла, что принцесса ее не слушает, и громко спросила, на что это она так
смотрит. При этих словах господин де Немур оборотился, он встретил взгляд
256
Принцесса Клевская
принцессы Клевской, еще устремленный на него, и подумал, что она могла
видеть его поступок.
Принцесса Клевская была в немалом замешательстве. Разумно было бы
потребовать свой портрет; но, если бы она его потребовала прилюдно, это значило
бы оповестить всех, какие чувства питает к ней герцог, а потребовать его
наедине значило бы едва ли не пригласить его высказать свою страсть. Наконец
она рассудила, что лучше будет это ему позволить, и была рада оказать ему
такую милость, о которой он даже не узнает. Господин де Немур, заметивший
ее замешательство и почти догадавшийся о его причине, подошел к ней и тихо
сказал:
— Если вы видели, что я сделал, садарыня, соблаговолите позволить мне
думать, что вы этого не знаете; большего я не смею у вас просить.
И с этими словами он удалился, не дожидаясь ее ответа.
Дофина уехала на прогулку вместе со всеми дамами, а господин де Немур
заперся у себя дома, не в силах сдерживать на людях свою радость от того, что
заимел портрет принцессы Клевской. Он испытывал все самые приятные чувства,
какие только может подарить страсть; он любил прекраснейшую женщину при
дворе, он заставлял ее против воли отвечать на эту любовь и во всех ее
поступках замечал то смятение и замешательство, какие рождает любовь в невинных
юных душах.
Вечером стали со всем усердием искать портрет; так как рамка его была на
месте, никто не заподозрил, что его украли, а подумали, что он случайно куда-
то запропастился. Принц Клевский был очень огорчен пропажей и после
долгих тщетных поисков сказал жене — но тоном, показывавшим, что он так не
думает, — что без сомнения у нее есть какой-то тайный поклонник, которому она
подарила портрет или который его украл, и что никто кроме влюбленного не
довольствовался бы портретом без рамки.
Слова эти, хотя и сказанные в шутку, произвели глубокое впечатление на
принцессу Клевскую. Они вызвали у нее угрызения совести; она задумалась о
силе чувства, которое влекло ее к господину де Немуру; она поняла, что не
властна больше над своими речами и своим лицом; она вспомнила, что Линь-
роль вернулся; что она не опасалась уже английских дел; что ее подозрения
относительно дофины исчезли; что, наконец, отныне не было ничего, что могло
бы ее уберечь, и что только отъезд мог бы дать ей безопасность. Но
поскольку отъезд был не в ее власти, она чувствовала себя в последней крайности и
готовой навлечь на себя то, что казалось ей худшей из бед, — открыть
господину де Немуру склонность, которую она к нему питала. Она припоминала все,
что говорила ей госпожа де Шартр перед смертью, и как она советовала ей
предпринять любые шаги, как бы трудны они ни казались, только бы не
поддаться любовному увлечению. Ей пришло на ум то, что говорил принц
Клевский об искренности, когда рассказывал о госпоже де Турнон, и она подумала,
что должна признаться ему в своей склонности к господину де Немуру. Эта
мысль долго ее занимала; затем она стала удивляться, как такая мысль могла
к ней прийти, сочла ее безумной и снова впала в замешательство, не зная, что
предпринять.
Ил. 1. Король Франциск I Ил. 2. Маргарита Наваррская,
сестра Франциска I
Ил. 3. Король Генрих II Ил. 4. Королева Екатерина Медичи
Им 5. Король Карл IX Им 6. Королева Елизавета Австрийская,
супруга Карла IX
Им 7. Король Генрих Ш Им 8. Королева Луиза,
супруга Генриха III
Ил. 9. Елизавета Французская, Ил. 10. Маргарита де Валуа
королева Испании (королева Марго)
Ил. 11. Король Франциск II Ил. 12. Королева Мария Стюарт
Ил. 13. Генрих Лотарингский,
герцог де Гиз, в молодости
Ил. 15. Екатерина Клевская,
супруга герцога де Гиза
Ил. 14. Генрих Лотарингский,
герцог де Гиз
Ил. 16. Карл Лотарингский,
герцог Майенский
Ил. 17. Коннетабль Анн де Монморанси Ил. 18. Маршал де Бриссак
Ил. 19. Франциск I Лотарингский, Ил. 20. Коннетабль де Бурбон
герцог де Гиз
Ил. 21. Диана де Пуатье Ил. 22. Мари Туше,
возлюбленная Карла IX
Ил. 23. Герцогиня д'Этамп Ил. 24. Джейн Сеймур, супруга
английского короля Генриха УШ
Ил. 25. Король Людовик XIV Ил. 26. Мария Манчини
Ил. 2 7. Генриетта Английская, Ил. 28. Анна-Мария-Луиза Орлеанская,
герцогиня Орлеанская Великая Мадемуазель
Ил. 29. Жан Реньо де Сегре
Ил. 30. Пьер-Даниэль Юэ
Ил. 31. Герцог де Ларошфуко Ил. 32. Великий Конде
Часть вторая
257
Мир был заключен;67 принцесса Елизавета после долгой борьбы с собой
решилась повиноваться королю, своему отцу. Приехать и взять ее в жены от
имени католического короля был назначен герцог Альба, и его прибытия
ожидали вскорости. Прибывал и герцог Савойский, чтобы обвенчаться с Мадам,
сестрой короля; эти две свадьбы должны были состояться одновременно.
Король был погружен в заботы о том, как придать этим свадьбам больше
блеска с помощью празднеств, которые явили бы миру достоинства и великолепие
его двора. Были придуманы самые пышные балеты и представления, но король
счел эти развлечения недостаточно заметными, ибо он хотел более громкой
молвы. Он решил устроить турнир, пригласить на него иноземцев, и чтобы
народ мог на это зрелище посмотреть. Все коронованные особы и знатные
вельможи радовались такому замыслу короля, а более всех — герцог Феррарский,
господин де Гиз и господин де Немур, превосходившие прочих в подобных
упражнениях. Король выбрал их стать вместе с ним самим теми четырьмя
рыцарями, кто будет принимать вызов любого участника турнира.
Было объявлено по всему королевству, что в городе Париже июня
пятнадцатого числа его христианнейшее величество, Альфонсо д'Эсте, герцог
Феррарский, Франсуа Лотарингский, герцог де Гиз, и Жак Савойский, герцог де
Немур, выйдут навстречу всем желающим померяться с ними силами; что первое
сражение будет конное, по двое, четыре удара копьем и один в честь дам;
второе — на мечах, один на один или двое против двоих, по желанию
распорядителей; третье сражение пешее, три удара пикой и три — мечом; что рыцари,
принимающие вызов, предоставят копья, мечи и пики по выбору нападающих;
что если кто во время боя нанесет удар коню, то будет выведен из числа
участников; что приказы будут отдавать четверо распорядителей, а те из
нападающих, что окажутся самыми искусными и ловкими, получат награды, ценность
которых определят судьи; что все нападающие, как французы, так и
иноземцы, должны будут коснуться одного или нескольких, по их выбору, из гербовых
щитов, вывешенных на воротах ристалища; что у ворот их будет ждать особо
для того назначенный дворянин, который расставит их согласно их титулам и
тем щитам, которых они коснутся; что нападающий должен будет послать
дворянина принести щит с его гербом и вывесить его на воротах за три дня до
начала турнира, а иначе он не будет допущен без разрешения на то рыцарей,
принимающих вызов.
Близ Бастилии огородили обширное ристалище, оно начиналось от замка
Турнель, пересекало улицу Сент-Антуан и заканчивалось у королевских
конюшен. С двух сторон его поставили помосты и скамьи, с крытыми ложами,
наподобие галерей; они были очень красивы и могли вместить бесчисленное
множество зрителей. Все князья и вельможи были отныне заняты лишь тем,
чтобы заказать все им необходимое и появиться во всем блеске, а также
дополнить свои шифры и девизы знаками учтивости, намекающими на любимых
ими дам.
За несколько дней до прибытия герцога Альбы король играл в мяч с
господином де Немуром, шевалье де Гизом и видамом де Шартром. Королевы пришли на
них посмотреть в сопровождении всех своих дам, среди которых была и принцесса
17. Заказ № К-6559
258
Принцесса Киевская
Клевская. Когда партия закончилась и все выходили из залы, Шатляр подошел к
дофине и сказал, что к нему случайно попало любовное письмо, выпавшее из
кармана господина де Немура. Дофина, которой по-прежнему было любопытно все,
что касалось герцога, велела Шатляру отдать ей это письмо; и, взяв его, она пошла
за королевой, своей свекровью, направлявшейся вместе с королем посмотреть, как
готовят ристалище. Они пробыли там какое-то время, и король приказал
привести лошадей, недавно ему присланных. Хотя они еще не были объезжены, король
пожелал их испытать и распределил их между всеми, кто был в его свите.
Королю и господину де Немуру достались самые норовистые, и эти кони рванулись
навстречу друг другу. Господин де Немур, опасаясь причинить вред королю, резко
осадил своего коня и направил его на колонну манежа; удар был такой силы, что
господин де Немур пошатнулся в седле. Все бросились к нему, думая, что он
серьезно ранен. Принцессе Клевской его ранение показалось опаснее, чем другим.
Особое чувство к нему вызвало в ней тревогу и смятение, которых она не
озаботилась скрыть; она подбежала к нему вместе с королевами, и лицо ее так
переменилось, что это заметил бы и человек менее занятый ею, чем шевалье де Гиз, но
шевалье это заметил без труда и состоянию принцессы Клевской уделил внимания
больше, чем состоянию господина де Немура. Полученный герцогом удар так его
оглушил, что какое-то время он, свесив голову, опирался на тех, кто его
поддерживал. Первой, кого он увидел, подняв глаза, была принцесса Клевская; он прочитал
сострадание на ее лице и посмотрел на нее таким взглядом, который дал ей понять,
как он тронут. Затем он поблагодарил королев за доброту, которую они к нему
выказали, и попросил извинить его за то, что оказался в таком состоянии перед
ними. Король велел ему отправляться домой и побыть в покое.
Принцесса Клевская, оправившись от пережитого волнения, сразу же
подумала о том, какие внешние свидетельства его она дала. Шевалье де Гиз
недолго оставлял ей надежду, что этого никто не заметил; он подал ей руку, чтобы
проводить с ристалища.
— Я заслуживаю большей жалости, чем господин де Немур, сударыня, —
сказал он ей. — Простите мне, если я погрешу против того глубокого почтения,
которое всегда к вам питал, и не скрою от вас жгучей боли, причиненной мне тем,
что я сейчас видел: первый раз я осмеливаюсь говорить с вами об этом, он будет
и последним. Смерть или хотя бы отъезд навсегда удалит меня от этого
места, где я не могу больше жить, потому что утратил грустное утешение верить,
что все те, кто смеют на вас взирать, несчастны так же, как и я.
Принцесса Клевская отвечала лишь несколькими бессвязными словами,
будто не понимала смысла сказанного шевалье де Гизом. В другое время она была
бы оскорблена тем, что он заговорил о своих чувствах к ней; но в ту минуту она
была только огорчена тем, что он заметил ее чувства к господину де Немуру.
Шевалье де Гиз настолько в них не сомневался и был настолько полон
скорби, что в тот же день принял решение не помышлять больше о любви
принцессы Клевской. Но чтобы оставить эти мечты, исполнение которых казалось ему
столь трудным и почетным, ему нужны были другие, которые величием
своим могли бы занять его душу. Он решил взять Родос, о чем уже подумывал
раньше; и когда смерть унесла его из этого мира во цвете молодости, вознесен-
Часть вторая
259
ным молвою в ряду славнейших рыцарей своего века, он жалел расставаться
с жизнью единственно потому, что не смог исполнить столь прекрасного
замысла, в успехе которого был совершенно уверен благодаря предпринятым им
тщательным приготовлениям.
Принцесса Клевская, покинув ристалище, отправилась к королеве; мысли ее
были заняты тем, что произошло. Вскоре там появился и господин де Немур,
роскошно одетый и словно забывший о случившейся с ним неприятности. Он
казался даже веселее, чем обыкновенно; и радость от того, что он увидел, придавала
ему выражение, весьма его красившее. Все удивились, когда он вошел, и не было
человека, который не осведомился бы о его здоровье, за исключением
принцессы Клевской; она стояла у камина и будто не видела его. Король вышел из
своего кабинета и, заметив господина де Немура среди других, подозвал его, чтобы
поговорить о его приключении. Проходя мимо принцессы Клевской, господин де
Немур ей тихо сказал:
— Я имел сегодня свидетельства вашей жалости, сударыня; но это не те,
которых я более всего заслуживаю.
Принцесса Клевская догадывалась, что герцог заметил ее тревогу за него,
и его слова доказали ей, что она не ошиблась. Ей было больно узнать, что она
не властна больше над своими чувствами и не сумела их скрыть от шевалье де
Гиза. Еще больнее ей было, что они стали известны господину де Немуру; но
эта боль не владела ею безраздельно, к ней примешивалась какая-то неведомая
сладость.
Дофина, сгоравшая от нетерпения узнать, что же было в письме, которое
отдал ей Шатляр, подошла к принцессе Клевской и сказала ей:
— Прочтите это письмо; оно адресовано господину де Немуру, по всей
видимости, той дамой, ради которой он бросил всех остальных. Если вы не
можете прочесть его сейчас, оставьте его у себя; вечером приходите к моему
отходу ко сну, вы отдадите его мне и скажете, знаком ли вам этот почерк.
Дофина рассталась с принцессой Клевской после этих слов, оставив ее в
таком удивлении и замешательстве, что та долго не могла двинуться с
места. Нетерпеливое любопытство и смятение, завладевшие ее душой, не
позволили ей остаться у королевы; она отправилась домой, хотя еще не наступил
час, когда она обыкновенно уезжала из дворца. Она держала письмо
дрожащей рукой; мысли ее путались так, что не было среди них ни одной
определенной; она испытывала невыносимую муку, причин которой не могла понять
и которой не знала никогда прежде. Едва оказавшись у себя в кабинете, она
вскрыла письмо, и вот что она прочла:
Письмо
«Я Вас слишком любила, чтобы позволять Вам думать, будто перемена,
которую Вы во мне замечаете, произошла от моей ветрености; узнайте, что
причиной ей — Ваша неверность. Вы немало удивлены, что я говорю о Вашей
неверности; Вы так искусно ее скрывали, а я так старалась скрыть от Вас, что
260
Принцесса Клевскал
знаю о ней, что Вы вправе удивляться моей осведомленности. Я и сама
удивлена, что мне удавалось Вам ее не показывать. Мне на долю выпала небывалая
мука. Я верила, что Вы питаете ко мне пылкую страсть; я не скрывала от Вас
той, что питала к Вам, и как раз тогда, когда я раскрыла ее Вам до конца, я
узнаю, что Вы меня обманывали, что Вы любили другую и, по всей видимости,
приносили меня в жертву этой новой возлюбленной. Я узнала об этом в день
состязаний; потому я там и не была. Я сказалась больной, чтобы скрыть
расстройство моих чувств; но они действительно расстроены, и плоть моя не снесла
такого сильного потрясения. Когда мне стало лучше, я продолжала
притворяться тяжелобольной, чтобы иметь предлог Вас не видеть и не писать Вам. Мне
нужно было время, чтобы решить, как вести себя с Вами; я по двадцать раз
принимала и отбрасывала одни и те же решения; наконец я сочла вас недостойным
видеть мои страдания и положила никак Вам их не показывать. Я хотела
ранить вашу гордость, дав Вам понять, что моя страсть угасает сама собой. Я
думала этим уменьшить цену жертвы, приносимой Вами; я не желала доставлять
Вам удовольствие хвалиться, как я Вас люблю, и тем делать себя желаннее. Я
решила писать Вам письма холодные и вялые, чтобы та, кому Вы даете их
читать, подумала, будто я Вас разлюбила. Я не хотела, чтобы она радовалась
мысли, что я знаю о ее победе надо мной, не хотела увеличивать ее торжество
моим отчаянием и моими упреками. Я сочла, что накажу Вас недостаточно,
порвав с Вами, и причиню Вам лишь едва заметную боль, перестав Вас любить
тогда, когда Вы меня разлюбили. Я поняла, что Вы должны любить меня,
чтобы испытать те муки неразделенной любви, которые я испытала так жестоко. Я
подумала, что если что-то может вновь разжечь Ваши чувства ко мне, то это —
показать Вам, что мои переменились; но показать так, будто я стараюсь это
скрыть и словно не в силах Вам в этом признаться. Я остановилась на таком
решении, но как трудно было мне его принять и как при встрече с Вами
показалось трудно его исполнить! Сотню раз я была готова разразиться упреками
и слезами; мое все еще слабое здоровье помогло мне скрыть от Вас истинную
причину моего волнения и моей печали. Затем меня поддерживало
удовольствие притворяться с Вами, как Вы притворялись со мной; и все же мне
приходилось совершать над собой такое насилие, чтобы говорить и писать Вам о
своей любви, что Вы заметили перемену в моих чувствах раньше, чем я того
хотела. Это Вас ранило; Вы мне попеняли. Я постаралась Вас успокоить, но
делала это так натужно, что Вы только прочнее уверились в том, что я Вас
больше не люблю. Наконец я исполнила все, что намеревалась сделать.
Повинуясь своим сердечным прихотям, Вы стали возвращаться ко мне, завидев, что
я от Вас удаляюсь. Я испытала все наслаждение, какое только может дать
месть; мне казалось, что Вы любили меня сильнее, чем когда-либо, а я показала
Вам, что больше Вас не люблю. У меня есть причины полагать, что Вы
совершенно оставили ту, ради которой бросили меня. Я могу также быть уверена,
что Вы никогда не говорили ей обо мне; но Ваше возвращение и Ваша
скромность не могут искупить Вашей ветрености. Ваше сердце было поделено
между мной и другою, Вы обманули меня; этого достаточно, чтобы мне больше не
доставляло удовольствия быть любимой Вами так, как, мне казалось, я заслу-
Часть вторая
261
живаю, и чтобы я не меняла своего решения никогда больше Вас не видеть, чем
Вы были так удивлены».
Принцесса Клевская читала и перечитывала это письмо несколько раз, но
так и не поняла его. Она видела только, что господин де Немур не любил ее
так, как она думала, и что он любил других, которых обманывал так же, как
ее. Какая картина, какое открытие для женщины ее нрава, питавшей пылкую
страсть и только что давшей ее свидетельства одному мужчине, которого
считала их недостойным, и другому, с которым дурно обошлась из-за его
любви к ней! Никто еще не испытывал разочарования столь мучительного и
жгучего; ей казалось, что горечи этому разочарованию придает то, что
произошло в тот день, и что если бы господин де Немур не получил оснований
думать, что она его любит, то ей было бы безразлично, что он любит другую.
Но она обманывала себя; и та боль, которая казалась ей непереносимой, была
не что иное, как ревность со всеми муками, ей сопутствующими. Она узнала
из письма, что у господина де Немура было давнее увлечение. Она находила
ту, что написала это письмо, исполненной ума и достоинств; она считала ее
заслуживающей любви; она видела в ней такую смелость, какой не ощущала
в себе самой, и завидовала силе духа, с которой той удавалось скрывать свои
чувства от господина де Немура. Из последних слов письма она заключила,
что та женщина полагала себя любимой; она подумала, что скромность,
которую выказывал с ней герцог и которая так ее трогала, была, быть может,
всего лишь следствием его страсти к той женщине и боязни ее огорчить.
Одним словом, она передумала все, что могло отягчить ее горе и ее отчаяние.
Как перебирала она в уме собственные поступки! Как вспоминала советы
матери! Как раскаивалась в том, что не была достаточно тверда и не
порвала сношения со светом против воли принца Клевского или не исполнила
своего намерения признаться ему в своей склонности к господину де Немуру! Она
находила, что лучше было бы открыть ее мужу, чья доброта была ей
известна и кто постарался бы ее скрыть, чем показать ее мужчине, который был
этого чувства недостоин, который ее обманывал, быть может, приносил ее в
жертву и добивался ее любви единственно из гордости и тщеславия. Наконец
она сочла, что все несчастья, которые с ней могли случиться, и все
крайности, до которых она могла дойти, меркли перед тем, что она позволила
господину де Немуру догадаться о ее любви и узнала, что он любит другую.
Единственным утешением ей была мысль, что хотя бы теперь, когда ей все
известно, она может больше не опасаться самой себя и совершенно излечиться от
своего чувства к герцогу.
Она и не подумала о том, что дофина велела явиться к ее отходу ко сну; она
легла в постель и притворилась, что ей нездоровится, так что когда принц Клев-
ский вернулся от короля, ему сказали, что она спит; но она была далека от той
безмятежности, которая навевает сон. Всю ночь она провела, беспрестанно
терзая себя и перечитывая это попавшее к ней письмо.
Принцесса Клевская была не единственной особой, чей покой смутило это
письмо. Обронивший его видам де Шартр (а не господин де Немур) был в край-
262
Принцесса Клевская
ней тревоге из-за него; он провел весь вечер у господина де Гиза, который давал
званый ужин в честь герцога Феррарского, своего шурина; там собралась вся
придворная молодежь. По воле случая разговор за ужином зашел об искусстве
писать письма. Видам де Шартр сказал, что имеет при себе лучшее письмо, какое
когда-либо было написано. Господин де Немур утверждал, что такого письма у
него нет и что он говорит из чистого тщеславия. Видам отвечал, что герцог
испытывает его скромность, но что он тем не менее не покажет письмо, а прочтет
из него несколько строк, по которым будет видно, что немногие из мужчин
получали такие письма. Он тут же решил вынуть письмо, но не нашел его;
тщетно он его искал, над ним стали подшучивать; но лицо его выражало такую
тревогу, что все прекратили этот разговор. Он ушел раньше прочих и помчался к
себе; ему не терпелось взглянуть, не оставил ли он это исчезнувшее письмо дома.
Он все еще его искал, когда к нему явился старший камердинер королевы и
сказал, что виконтесса д'Юзес сочла необходимым спешно его предупредить, что
у королевы говорили, будто у него из кармана во время игры в мяч выпало
.любовное письмо; что собравшиеся пересказывали немалую часть того, что там
было написано; что королева выказала изрядное любопытство взглянуть на это
письмо; что она послала за ним к одному состоящему при ней дворянину, но тот
ответил, что оставил его Шатляру.
Старший камердинер сказал видаму де Шартру еще много такого, что
усугубило его тревогу. Он тотчас же отправился к одному дворянину, близкому
другу Шатляра, и поднял его с постели, хотя время было очень позднее,
чтобы тот поехал за письмом, не говоря, однако, кто его требует и кто его
потерял. Шатляр, уверенный, что письмо было адресовано господину де Немуру и
что герцог влюблен в дофину, нисколько не сомневался, что это господин де
Немур просит его вернуть. Он отвечал со злорадством, что отдал письмо
королеве-дофине. Дворянин принес этот ответ видаму де Шартру. Его тревога от
этого еще возросла, и к ней прибавились новые; пробыв долгое время в
нерешительности, что же ему следует делать, он счел, что только господин де
Немур может помочь ему выйти из того затруднительного положения, в котором
он оказался.
Он отправился к герцогу и вошел в его спальню, когда заря только
занималась. Герцог спал покойным сном; то, что он заметил в поведении принцессы
Клевской минувшим днем, рождало в нем только приятные мысли. Он был
немало удивлен, когда видам де Шартр его разбудил; он спросил, не для того ли
видам нарушает его покой, чтобы отомстить за слова, сказанные им за ужином.
Но по лицу видама он мог понять, что его привело дело отнюдь не шуточное.
— Я доверю вам самую важную вещь в моей жизни, — сказал видам. — Я
знаю, что вы не будете мне благодарны за такое признание, потому что я
делаю его тогда, когда нуждаюсь в вашей помощи; но я знаю также, что утратил
бы ваше уважение, если бы сделал его, не принуждаемый к тому крайней
необходимостью. Я обронил то письмо, о котором говорил вчера вечером; мне
чрезвычайно важно, чтобы никто не узнал, что оно адресовано мне. Его
видели многие из тех, кто был вчера на игре в мяч, где оно и выпало; вы тоже были
там, и я ради всего святого молю вас сказать, что это вы его потеряли.
Часть вторая
263
— Должно быть, вы полагаете, что у меня нет возлюбленной, — отвечал
господин де Немур улыбаясь, — коль скоро делаете мне такое предложение и
воображаете, будто мне не с кем ссориться, если я дам повод думать, что получаю
подобные письма.
— Прошу вас, — возразил видам, — выслушайте меня со всей серьезностью.
Если у вас есть возлюбленная, в чем я не сомневаюсь, хотя и не знаю, кто она
такая, вам нетрудно будет оправдаться перед ней, и я дам вам верные средства
для этого; если же вы не сможете оправдаться, мимолетная размолвка вам
недорого обойдется. А я из-за этой истории могу лишить доброго имени особу,
страстно меня любившую и одну из достойнейших женщин на свете; а с
другой стороны, я навлекаю на себя неумолимую ненависть, которая будет мне
стоить моего положения, а может быть, и чего-то большего.
— Я не могу понять всего, что вы говорите, — отвечал господин де Немур, —
но вы позволяете мне предположить, что слухи о внимании к вам некой
весьма высокопоставленной особы не вовсе ложны.
— Они и впрямь не таковы, — сказал видам де Шартр, — а если бы Господу
было угодно, чтобы они были ложны, меня не постигли бы нынешние мои
затруднения. Но я должен рассказать вам все, что со мной случилось, чтобы вы
увидели, чего мне следует опасаться.
С тех пор, как я появился при дворе, королева всегда отличала и
привечала меня, и я имел основания думать, что она ко мне благоволит; впрочем, в
этом не было ничего особо примечательного, и я никогда и в мыслях не имел
питать к ней иные чувства, кроме почтения. К тому же я был страстно
влюблен в госпожу де Темин;68 при одном взгляде на нее нетрудно понять, как
сильно может ее любить тот, кого она любит, а я был ею любим. Года два назад,
когда двор был в Фонтенбло, я имел случай дважды или трижды побеседовать
с королевой в те часы, когда вокруг было очень мало людей. Мне показалось,
что мой склад ума ей нравится и что она вникает во все, что я говорю.
Однажды разговор у нас зашел о доверии. Я сказал, что совершенного доверия не
испытываю ни к кому; что в таком доверии всегда приходится раскаиваться и
что мне известно множество вещей, о которых я никогда не говорил.
Королева отвечала, что за это она ценит меня еще больше; что во Франции она не
нашла никого, кто умел бы хранить тайну, и что это ей было огорчительнее
всего, поскольку лишало ее удовольствия вступать в отношения доверительные;
что в жизни необходимо иметь кого-то, с кем можно говорить, тем более для
особ ее сана. В последующие дни она несколько раз заговаривала о том же; она
даже поведала мне о кое-каких скрытых от глаз тогдашних происшествиях.
Одним словом, мне показалось, что она хотела бы стать хранительницей моей
тайны и готова доверить мне свои. Эта мысль привлекала меня к ней, я был
тронут таким отличием и выказывал ей почтение более усердно, чем
обыкновенно. Однажды вечером, когда король и все дамы отправились верхом на
прогулку в лес, а она не пожелала ехать, поскольку ей нездоровилось, я остался при
ней; она прошла к берегу озера и не стала опираться на руки своих людей,
чтобы свободней было ходить. Сделав несколько кругов, она подошла ко мне
и велела следовать за ней. «Я хочу поговорить с вами, — сказала она, — и вы уви-
264
Принцесса Киевская
дите из моих слов, что я вам друг». Тут она остановилась и, пристально
поглядев на меня, прибавила: «Вы влюблены, и поскольку вы никому в том не
признаетесь, то полагаете, что о вашей любви никто не знает; но о ней известно,
и даже тем, кого это касается. За вами наблюдают, обнаружены места, где вы
встречаетесь с вашей возлюбленной, и есть план вас там схватить. Я не знаю,
кто она; я не спрашиваю вас об этом, я только хочу оберечь вас от несчастий,
которые могут с вами случиться». Судите же, какую ловушку расставила мне
королева и как трудно было в нее не попасть. Она хотела знать, влюблен ли
я; и не спрашивая, в кого, доказывая, что единственное ее намерение — быть
мне полезной, она не позволяла мне предположить, что говорит из
любопытства или из умысла.
И все же сквозь эту обманчивую видимость я разгадал истину. Я был
влюблен в госпожу де Темин; но, хотя она и любила меня, я не был настолько
счастлив, чтобы иметь особые места для встреч с нею и бояться, что меня там
застигнут; к тому же я ясно видел, что не ее королева имела в виду. Я знал
также, что у меня была связь с другой женщиной, не столь красивой и не столь
неприступной, как госпожа де Темин, и, возможно, открылось то место, где я
с ней виделся; но поскольку я не слишком этим дорожил, мне было бы
нетрудно уберечься от подобной опасности, перестав с нею встречаться. Потому я и
решил ни в чем не признаваться королеве, а, напротив, уверить ее, что я
давно уже оставил желание добиваться любви женщин, на чью взаимность мог
надеяться, так как считал их почти всех недостойными привязанности
порядочного человека, и только та, что была бы много выше их всех, могла бы меня
привлечь. «Вы мне отвечаете неискренне, — возразила королева, — я знаю, что
правда совсем не такова, как вы говорите. Мои слова должны были побудить
вас не скрывать от меня ничего. Я хотела бы иметь вас среди своих друзей, —
продолжала она. — Но, даруя вам это место, я желала бы знать о ваших
привязанностях. Решайте же, хотите ли вы получить его, заплатив своей
откровенностью. Даю вам на размышление два дня; но по истечении этого срока думайте
хорошенько о том, что говорите, и помните, что если я обнаружу ваш обман,
то не прощу вам его до конца моей жизни».
Произнеся эти слова, королева удалилась, не ожидая моего ответа. Вы
можете вообразить, как заняты были мои мысли тем, что она сказала. Два дня,
которые она мне дала, не показались мне слишком долгими, чтобы принять
решение. Я видел, что она хотела знать, влюблен ли я, и не желала, чтобы это
было так. Я видел все последствия своего решения. Самолюбие мое было
немало польщено особыми отношениями с королевой, которая к тому же
обворожительная женщина. С другой стороны, я любил госпожу де Темин и, хотя
в каком-то смысле и изменял ей с той, другой, дамой, о которой вам говорил,
я не мог решиться порвать с нею. Я видел также, каким подвергаюсь
опасностям, обманывая королеву, и как трудно ее обмануть; и все же я не мог
отказаться от того, что предлагала мне судьба, и был готов на все, что может
навлечь на меня мое дурное поведение. Я порвал с той женщиной, связь с
которой могла открыться, и надеялся, что мне удастся скрывать свои отношения
с госпожой де Темин.
Часть вторая
265
Когда по прошествии двух дней, данных мне королевой, я вошел в
комнату, где сидели в кружок все дамы, она сказала мне громко и с серьезностью,
удивившей меня: «Вы подумали о том деле, что я вам поручила, и узнали
истину?» — «Да, Мадам, — отвечал я, — она такова, как я и говорил вашему
величеству». — «Приходите вечером, когда я буду заниматься бумагами, — сказала
она. — Я дам вам последние приказания». Я низко поклонился, ничего не
ответив, и в назначенный ею час был на месте. Завидев меня, она подошла ко мне
и увела на другой конец галереи. «Итак, — сказала она, — вы хорошо
подумали, прежде чем заявить, что вам нечего мне сказать, и не заслуживает ли
вашей откровенности мое обращение с вами?» — «Мне потому и нечего вам
сказать, Мадам, — отвечал я, — что я говорю с вами откровенно. Клянусь вашему
величеству со всей должной почтительностью, что я не связан ни с одной из дам
при дворе». — «Я хочу в это верить, — проговорила королева, — потому что
желала бы, чтобы это было так; а желаю я этого потому, что хочу, чтобы вы
были преданы мне всей душой, а ваша дружба не могла бы дать мне того, что
мне нужно, если б вы были влюблены. Влюбленным нельзя доверяться; они не
умеют хранить тайну. Они слишком рассеянны и слишком заняты другим,
главная забота для них — их возлюбленные, а это несовместимо с той
преданностью, какой я жду от вас. Помните же, я готова дарить вас своим
совершенным доверием потому, что вы дали мне слово, что у вас нет иных
привязанностей. Помните, что вы нужны мне безраздельно; что я хочу, чтобы у вас не
было ни друга, ни подруги, кроме тех, кто мне приятен, и что у вас не
должно быть иных забот, кроме как угождать мне. Я не заставлю вас жертвовать
вашим положением; я буду заботиться о нем ревностней, чем вы сами, и что
бы я для вас ни сделала, я буду считать себя вознагражденной более чем
щедро, если вы окажетесь для меня тем, кем я надеюсь вас видеть. Я избираю вас
для того, чтобы поведать вам все мои горести и чтобы вы помогли их смягчить.
Вы увидите, что они нешуточны. Всем кажется, что я легко мирюсь с
привязанностью короля к герцогине де Валантинуа; но она для меня непереносима.
Герцогиня властвует над королем, она его обманывает, а меня презирает; все
мои люди переметнулись к ней. Королева, моя невестка, гордясь своей
красотой и могуществом своих дядьев, не питает ко мне никакого уважения.
Коннетабль де Монморанси правит королем и королевством; он меня ненавидит и дал
мне такие свидетельства своей ненависти, которых я не могу забыть. Маршал
де Сент-Андре — дерзкий молодой фаворит, он обходится со мной не лучше,
чем другие. Вы пожалели бы меня, если б знали все подробности моих
несчастий; до сих пор я не решалась их доверить никому, я доверяюсь вам;
сделайте так, чтобы я в этом не раскаивалась, будьте единственным моим
утешением». Глаза королевы наполнились слезами, когда она произнесла эти
слова; я был готов броситься к ее ногам, так искренне я был тронут добротой,
которую она ко мне выказала. С того дня она питает ко мне совершенное
доверие; отныне она ничего не делает, не поговорив со мной, и наша связь с ней
длится по сю пору.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
— Однако, как ни был я занят и поглощен этими новыми отношениями с
королевой, меня влекла к госпоже де Темин естественная склонность, которой я
не мог побороть. Мне казалось, что она раздробила меня; будь я благоразумен,
я воспользовался бы этой переменой как средством для исцеления, а вместо
этого любовь моя только возросла, и я вел себя так неосмотрительно, что
королева прослышала о моей привязанности. Ревность свойственна дочерям ее
народа, и, быть может, чувства королевы ко мне были более пылкими, чем она
сама полагала. Но как бы то ни было, слухи о моей влюбленности вызывали
у нее такое беспокойство и причиняли ей такую боль, что я счел себя
невозвратно погибшим в ее глазах. Все же мне удалось разуверить ее своими
заботами, услугами и ложными клятвами, но я не мог бы обманывать ее долго, если
бы перемены в госпоже де Темин не разлучили меня с ней против моей воли.
Она дала мне понять, что больше меня не любит; я так в это поверил, что
принужден был не докучать ей более и оставить ее в покое. Спустя какое-то
время она написала мне то письмо, что я потерял. Из него я узнал, что ей были
известны мои сношения с той женщиной, о которой я вам говорил, и что в этом
и крылась причина ее охлаждения. Поскольку тогда не было ничего, что меня
бы отвлекало, королева была мною довольна, но, так как чувства, которые я
к ней питаю, не того свойства, чтобы сделать меня не способным на какие-то
иные привязанности, и так как влюбляемся мы не по своей воле, то я
влюбился во фрейлину дофины, госпожу де Мартиг, к которой имел уже немалую
склонность, когда она носила имя Вильмонте. У меня были основания полагать,
что и она не испытывала ко мне ненависти; умение молчать, которое я
выказывал по отношению к ней и всех причин которого она не знала, ей нравилось.
По этому поводу у королевы не было подозрений; они появились по другому
поводу, не менее для меня опасному. Поскольку госпожа де Мартиг
постоянно находилась при дофине, я стал бывать там чаще, чем обыкновенно.
Королева вообразила, что в дофину я и влюблен. Положение дофины, равное ее
собственному, красота и молодость, которыми дофина ее превосходила,
рождали в королеве ревность к невестке, доходящую до неистовства, ненависть,
которую она не могла больше скрывать. Кардинал Лотарингский, который, как
мне кажется, давно уже добивается благосклонности королевы и видит, что я
занимаю желанное ему место, стараясь якобы примирить королеву с дофиной,
стал вникать в их распри. Не сомневаюсь, что он догадался об истинных при-
Часть третья
267
чинах досады королевы, и думаю, что он всеми средствами оказывает мне
дурные услуги, не давая ей повода понять, что он это делает с умыслом. Вот
каково положение дел на нынешний час. Судите же, какое действие может
произвести письмо, которое я обронил и которое, на свою беду, положил в карман,
чтобы вернуть госпоже де Темин. Если королева прочтет это письмо, то
узнает, что я ее обманывал и что почти в то же самое время, когда я обманывал ее
с госпожой де Темин, я обманывал госпожу де Темин с другой; подумайте,
какое представление она составит обо мне и сможет ли она впредь верить моим
словам. Если письмо к ней не попадет, что я ей скажу? Она знает, что его
отдали дофине; она подумает, что Шатляр узнал руку дофины и что письмо
написано ею; она вообразит, что та особа, о ревности к которой там идет речь, — она
сама; одним словом, нет такой мысли, которая не могла бы ей прийти в
голову и которой я не должен страшиться. Добавьте к этому, что я живо увлечен
госпожой де Мартиг, что, без сомнения, дофина покажет ей это письмо, и она
сочтет, что оно написано недавно; так я окажусь в ссоре и с той женщиной,
которую люблю более всех на свете, и с той, которой должен более всех на
свете опасаться. Судите же теперь, есть ли у меня причины заклинать вас
сказать, что письмо ваше, и молить вас ради всего святого забрать его у дофины.
— Я вижу, — сказал господин де Немур, — что нельзя попасть в более
затруднительное положение, чем вы сейчас, и надо признать, что вы его
заслуживаете. Меня обвиняли в том, что я не был верным любовником и имел
несколько связей одновременно; но вы так далеко меня опередили, что я и
вообразить бы не мог таких проделок, как ваши. Неужто вы полагали, что
сможете сохранить госпожу де Темин, связав себя с королевой, и надеялись, что,
будучи связаны с королевой, сможете ее обманывать? Она итальянка и
королева, стало быть, исполнена подозрительности, ревности и гордости; когда
добрый случай, скорее чем ваше доброе поведение, разрывает ваши прежние
связи, вы завязываете новые и воображаете, что можете на виду у двора любить
госпожу де Мартиг, а королева этого не заметит. Никакие ваши старания
загладить ее унижение от того, что она сделала первые шаги, не были бы
излишни. Она питает к вам пылкую страсть; ваша скромность запрещает вам об этом
говорить, а моя — об этом спрашивать; но как бы то ни было, она вас любит,
она вас подозревает, и истина против вас.
— Вам ли осыпать меня упреками, — прервал его видам, — и разве ваш опыт
не должен был внушить вам снисхождение к моим поступкам? Однако я с
готовностью признаю свою вину; но, умоляю вас, подумайте о том, как вытащить
меня из той пропасти, где я очутился. Мне кажется, было бы хорошо, если б
вы повидались с дофиной, как только она проснется, и попросили ее вернуть
письмо, словно бы это вы его потеряли.
— Я уже сказал вам, — отвечал господин де Немур, — что нахожу ваше
предложение весьма странным и что оно может нанести вред моим собственным
делам; но к тому же, если кто-то видел, что письмо выпало из вашего кармана,
то полагаю, непросто будет доказать, что оно выпало из моего.
— Разве я не говорил вам, — возразил видам, — что дофине сказали, будто
оно выпало из вашего?
268
Принцесса Клевская
— Как! — воскликнул господин де Немур, поняв в эту минуту, какую дурную
службу в отношении принцессы Клевской может сослужить ему такая
ошибка. — Дофине сказали, что это я потерял письмо?
— Да, — отвечал видам, — ей так сказали. Ошибка эта случилась потому, что
в той комнате, где лежала наша одежда во время игры в мяч и куда ваши и мои
люди за ней пошли, было много дворян из свиты обеих королев. Тут падает
письмо; его подбирают и читают вслух. Одни решили, что оно ваше, другие — что оно
мое. Шатляр, который взял его себе и у которого я его просил, сказал, что отдал
его дофине как письмо, написанное вам; а те, кто говорили о нем королеве, к
несчастью, сказали, что оно мое; стало быть, вам нетрудно будет сделать то, о чем
я вас прошу, и помочь мне выпутаться из этого затруднительного положения.
Господин де Немур всегда очень любил видама де Шартра, а его родство с
принцессой Клевской делало видама еще дороже герцогу. И все же он не мог
решиться на такой риск, что до нее дойдут слухи, будто эта история с письмом
касается его. Он погрузился в глубокое раздумье, а видам, почти угадав
предмет его раздумий, сказал:
— Я вижу, вы боитесь поссориться с вашей возлюбленной, и вы даже дали
бы мне повод думать, что это дофина, если бы отсутствие у вас ревности к
господину д'Анвилю не опровергало такого моего предположения; но, как бы то
ни было, вы вправе не жертвовать своим покоем ради моего, и я дам вам
средство доказать той, кого вы любите, что это письмо адресовано мне, а не вам;
вот записка от госпожи д'Амбуаз; она подруга госпожи де Темин, которая
поведала ей обо всех своих чувствах ко мне. Этой запиской она просит вернуть
то письмо своей подруги, что я потерял; на записке стоит мое имя; из нее без
всякого сомнения следует, что письмо, которое меня просят вернуть, — то
самое, о каком идет речь. Отдаю вам эту записку и позволяю показать ее вашей
возлюбленной, чтобы оправдаться перед ней. Умоляю вас не терять ни
минуты и сегодня же утром отправиться к дофине.
Господин де Немур пообещал видаму сделать это и взял записку госпожи
д'Амбуаз; однако же он не собирался ехать к дофине и полагал, что у него есть
дело более спешное. Он был уверен, что дофина уже поговорила с принцессой
Клевской о письме, и не мог вынести мысли, что та, кого он так пылко любил,
имела основания подозревать его в привязанности к другой.
Он отправился к ней тогда, когда, как ему казалось, она могла уже
проснуться, и велел сказать ей, что не стал бы в столь ранний час просить чести увидеться
с ней, если бы его не понуждало к тому важное дело. Принцесса Клевская была
еще в постели; горькие ночные мысли еще печалили и волновали ее. Она была
чрезвычайно удивлена, когда ей сказали, что ее спрашивает господин де Немур,
и в гневе своем не колеблясь ответила, что нездорова и не может с ним говорить.
Герцог не огорчился таким отказом; знак холодности в минуту, когда она
могла испытьшать ревность, не был дурным предзнаменованием. Он
отправился в покои принца Клевского и сказал, что идет от его жены, с которой не мог
переговорить, к великому своему сожалению, поскольку речь идет о деле,
весьма важном для видама де Шартра. Он в немногих словах объяснил принцу,
какие последствия могут быть у этой истории, и принц тотчас же повел его в
Часть третья
269
спальню жены. Если бы спальня не была в полумраке, принцессе трудно было
бы скрыть свое смятение и удивление при виде господина де Немура,
входящего в сопровождении ее мужа. Принц Клевский сказал ей, что речь идет об
одном письме и в этом деле требуется ее помощь ради видама, что она
должна подумать вместе с господином де Немуром, что можно предпринять, а он
отправляется к королю, который за ним посылал.
Господин де Немур остался наедине с принцессой Клевской, как ему и
хотелось.
— Я хотел бы спросить вас, сударыня, — начал он, — не говорила ли вам
дофина о некоем письме, которое вчера передал ей Шатляр.
— Она мне что-то говорила, — отвечала принцесса Клевская, — но я не вижу,
что общего между этим письмом и интересами моего дяди, и могу вас уверить,
что его имя там не упоминается.
— Это правда, сударыня, — возразил господин де Немур, — что его имя там
не упоминается; однако же письмо адресовано ему, и для него очень важно,
чтобы вы взяли его у дофины.
— Мне трудно понять, — вымолвила принцесса Клевская, — отчего ему так
важно, станет ли известно это письмо, и почему нужно просить вернуть
письмо от его имени.
— Если вы соблаговолите выслушать меня, сударыня, — сказал господин де
Немур, — я открою вам истину и поведаю о вещах столь важных для видама,
что я не доверил бы их даже принцу Клевскому, если б мне не понадобилась
его помощь, чтобы добиться чести увидеться с вами.
— Я думаю, все, что вы постараетесь мне сказать, будет бесполезно, —
отвечала принцесса Клевская сухо, — вам лучше бы отправиться к дофине и
чистосердечно объяснить ей, что вам нужно с этим письмом, поскольку ей ведь
сказали, что оно ваше.
Досада, которую господин де Немур заметил в голосе принцессы Клевской,
доставила ему самое живое удовольствие за всю его жизнь и смягчила его
нетерпение оправдаться.
— Не знаю, сударыня, — возразил он, — что могли сказать дофине, но мне
с этим письмом ничего не нужно, и адресовано оно господину видаму.
— Быть может, — промолвила принцесса Клевская. — Но дофине сказали
обратное, и ей едва ли покажется вероятным, что письма господина видама
падают из ваших карманов. Вот почему, если только у вас нет каких-то
неизвестных мне причин скрывать истину от дофины, я посоветовала бы вам в ней
признаться.
— Мне не в чем признаваться, — отвечал он, — письмо адресовано не мне, и
если есть кто-то, кого я желал бы в этом убедить, то это не дофина. Но,
сударыня, поскольку речь идет о судьбе господина видама, соблаговолите позволить мне
рассказать вам такие вещи, которые даже достойны вызвать ваше любопытство.
Молчание принцессы Клевской было знаком того, что она готова слушать,
и господин де Немур поведал, насколько мог кратко, все, что он узнал от
видама. Хотя эта история заслуживала удивления и интереса, принцесса
Клевская слушала ее с такой холодностью, что казалось, будто она в нее не верит
270
Принцесса Клевская
или ей все это безразлично. Она оставалась в таком расположении духа до тех
пор, пока господин де Немур не заговорил о записке госпожи д'Амбуаз,
адресованной видаму де Шартру и подтверждавшей все, что он ей сказал. Так как
принцесса Клевская знала, что эта дама была подругой госпожи де Темин, она
нашла видимость правдоподобия в словах господина де Немура, и это дало ей
возможность предположить, что письмо адресовано не ему. Эта мысль тотчас
же, и против ее воли, растопила всю ее холодность. Герцог, прочитав ей эту
оправдывавшую его записку, отдал ее принцессе и сказал, что она может узнать
почерк; она не могла удержаться от того, чтобы взять ее, взглянуть, написано
ли на обороте имя видама де Шартра, и прочесть ее всю, чтобы судить,
действительно ли письмо, которое в ней просили вернуть, было то самое, что
находилось в ее руках. Господин де Немур прибавил все, что считал нужным сказать,
чтобы убедить ее; и поскольку в приятных истинах убеждать легко, он уверил
принцессу Клевскую, что не имел касательства к этому письму.
Тогда она принялась обсуждать с ним положение видама и грозившие ему
опасности, бранить его за дурное поведение, искать средства ему помочь, она
удивлялась поступкам королевы, призналась господину де Немуру, что
письмо у нее; одним словом, как только она поверила в его невиновность, то с
открытой и спокойной душой стала вникать в те вещи, о которых поначалу,
казалось, и слушать не хотела. Они решили, что не следует возвращать письмо
дофине, — опасаясь, что она покажет его госпоже де Мартиг, которая знала
почерк госпожи де Темин и благодаря своим живым чувствам к видаму
легко могла догадаться, что письмо адресовано ему. Они сочли также, что не
следует рассказывать дофине все то, что касается королевы, ее свекрови.
Принцесса Клевская под предлогом интересов своего дяди с радостью была
готова хранить все тайны, которые господин де Немур ей доверял.
Герцог не вечно говорил бы ей только о делах видама, и обретенная им
свобода беседовать с ней придала бы ему смелости, на которую он до той поры не
решался, если бы принцессе Клевской не пришли сказать, что дофина велит
ей явиться. Господин де Немур был принужден удалиться; он отправился к
видаму рассказать, что, расставшись с ним, подумал, что лучше будет
обратиться к принцессе Клевской, его племяннице, чем сразу ехать к дофине. Он не
скупился на доводы, чтобы видам одобрил его действия и чтобы у него
появилась надежда на их успех.
Тем временем принцесса Клевская спешно одевалась, чтобы ехать к
дофине. Как только она появилась в ее спальне, дофина велела ей приблизиться и
негромко сказала:
— Я жду вас уже два часа, и никогда еще мне не было так трудно сказать
правду, как сегодня утром. Королева прослышала о том письме, что я вам дала
вчера; она думает, что это видам де Шартр его обронил. Вы знаете, что он не
вовсе ей безразличен; она велела отыскать это письмо, потребовать его у Шат-
ляра; Шатляр сказал, что отдал его мне; ко мне пришли за ним под тем
предлогом, что это письмо хорошо написано и королеве любопытно на него
взглянуть. Я не посмела сказать, что оно у вас; я подумала, что она вообразила бы,
будто я отдала его вам потому, что видам — ваш дядя и что мы с ним в сгово-
Часть третья
271
ре. Мне и так уже кажется, что она с трудом терпит наши частые с ним
встречи; я сказала, что письмо это у меня в том платье, что было на мне вчера, а тех,
у кого ключи от гардеробной, где оно заперто, нет на месте. Дайте же мне
скорее это письмо, — прибавила она, — чтобы я его отослала и чтобы я могла
прежде его прочесть и посмотреть, знаком ли мне почерк.
Принцесса Клевская оказалась в еще более затруднительном положении,
чем она думала.
— Не знаю, как вы это сделаете, Мадам, — отвечала она. — Я дала его
почитать принцу Клевскому, а он его отдал господину де Немуру, который
приехал утром, с просьбой забрать его у вас. Принц Клевский по
неосторожности сказал, что письмо у него, и по слабости уступил просьбам господина де
Немура отдать письмо ему.
— Вы ставите меня в самое затруднительное положение в моей жизни, —
воскликнула дофина, — вам не следовало возвращать письмо господину де
Немуру; коль скоро это письмо дала вам я, вы не должны были распоряжаться им
без моего позволения. Что я, по-вашему, скажу королеве, и что она может
вообразить? Она получит основания думать, что письмо касается меня и что
между мной и видамом что-то есть. Никто ее не убедит, что письмо написано
господину де Немуру.
— Я крайне огорчена, — промолвила принцесса Клевская, — что причиняю
вам такие неприятности. Я вижу, они действительно велики; но это вина принца
Клевского, а не моя.
— Ваша вина в том, — возразила дофина, — что вы дали ему письмо. Вы
единственная на свете жена, которая делится с мужем всем, что ей известно.
— Признаю, что я виновата, Мадам, — отвечала принцесса Клевская. — Но
подумайте о том, как исправить мою вину, а не о том, как ее определить.
— Не помните ли вы с точностью, что было в этом письме? — спросила
дофина.
— Да, Мадам, — проговорила принцесса Клевская, — помню, я прочитала его
не один раз.
— Коль так, — сказала дофина, — то вам следует отправиться тотчас же и
устроить, чтобы оно было написано какой-нибудь неизвестной рукой. Я пошлю
его королеве; она не покажет его тем, кто его видел. А если она это сделает, я
буду стоять на том, что это и есть то письмо, которое дал мне Шатляр, а он не
осмелится мне перечить.
Принцесса Клевская взялась за это поручение с тем большей готовностью, что
решила послать за господином де Немуром, чтобы вернуть себе письмо, дать его
переписать слово в слово, подражая при этом почерку как можно точнее; она
думала, что королева непременно попадется на этот обман. Едва оказавшись дома,
она рассказала мужу о затруднениях дофины и попросила его послать за
господином де Немуром. Его нашли; он спешно приехал. Принцесса Клевская
рассказала ему все то же, что и своему мужу, и попросила вернуть письмо; но
господин де Немур отвечал, что уже отдал его видаму де Шартру, который так
обрадовался письму и избавлению от грозившей ему опасности, что тотчас же
отослал письмо подруге госпожи де Темин. Принцесса Клевская оказалась перед
272
Принцесса Клевская
новым препятствием; посовещавшись, они решили написать письмо по памяти.
Они заперлись для работы; было велено никого не впускать, людей господина де
Немура отослали. Такой дух таинственности и сообщничества был немалым
очарованием для герцога и даже для принцессы Клевской. Присутствие мужа и
забота о судьбе видама де Шартра словно развеивали ее опасения. Она
испытывала лишь удовольствие видеть господина де Немура и от этого такую чистую,
неомраченную радость, какой никогда не знала; эта радость придавала ей свободу
и веселость, которых господин де Немур никогда в ней не видел и которые еще
усиливали его любовь. Так как у него не было еще столь приятных минут,
оживление его возрастало; и когда принцесса Клевская пожелала начать наконец
припоминать письмо и писать его, герцог, вместо того чтобы помогать ей всерьез,
только прерывал ее и говорил всякие забавные вещи. Принцесса Клевская тоже
прониклась этой веселостью, так что они оставались взаперти уже долгое время
и от дофины уже дважды приходили к принцессе Клевской с просьбой
поторопиться, а они не дошли еще и до середины письма.
Господин де Немур был рад продлить столь приятное для него
времяпрепровождение и забыл о делах своего друга. Принцесса Клевская не скучала
и также забыла о делах своего дяди. Наконец к четырем часам письмо было
едва закончено, и оно было написано так плохо, почерк так мало был похож
на тот, которому пытались подражать, что королева должна была бы вовсе
ничего не предпринимать для прояснения истины, чтобы ее не узнать. Так что
она не была обманута, как ни пытались ее уверить, что письмо адресовано
господину де Немуру. Она оставалась убеждена не только в том, что письмо
обращено к видаму де Шартру, но и в том, что дофина к нему имеет
отношение и что между ними существует сговор. Эта мысль настолько разожгла в
ней ненависть к дофине, что она никогда ее не простила и преследовала до
тех пор, пока не вынудила покинуть Францию.
Что до видама де Шартра, то он в глазах королевы был погублен.
Кардинал ли Лотарингский завладел уже ее душой, или эта история с письмом,
показавшая ей, что ее обманывают, помогла ей разгадать и все прежние
хитрости видама, но он так больше и не сумел по-настоящему помириться с ней. Их
связь была разорвана, и впоследствии королева погубила его во время
заговора в замке Амбуаз69, в котором он был замешан.
После того как письмо отослали к дофине, принц Клевский и господин де
Немур уехали. Принцесса Клевская осталась одна, и, как только ее перестала
наполнять та радость, которую рождает присутствие любимого человека, она
словно очнулась от сна. Она с изумлением наблюдала чудесную разницу между тем
состоянием, в котором была накануне вечером, и тем, в котором оказалась
нынче; она вспоминала, какую неприязнь и холодность выказывала господину де
Немуру, пока думала, что письмо госпожи де Темин адресовано ему, и каким
спокойствием, какой мягкостью сменилась эта неприязнь, как только он уверил ее,
что письмо не имеет к нему касательства. Когда она думала, что вчерашним днем
упрекала себя за те свидетельства неравнодушия к нему, которые могли родиться
из чистого сострадания, а потом знаками неприязни дала ему убедиться в своей
ревности, которая служит непреложным доказательством страсти, то не узнавала
Часть третья
273
саму себя. Когда же она подумала, что господин де Немур ясно видел, что она
знает о его любви, что, несмотря на это, она обходится с ним не более сурово
даже в присутствии мужа, что, напротив, никогда еще она не смотрела на него
так милостиво, что она побудила принца Клевского послать за ним и что они
провели весь день вдвоем, наедине, то решила, что она вошла в сговор с
господином де Немуром, что она обманьшает мужа, менее всех мужей на свете того
заслуживающего, и что, к стыду своему, она оказалась недостойна уважения даже
того, кто ее любил. Но что было самым для нее непереносимым — это
воспоминание о том, как она провела ночь и какую жгучую боль причиняла ей мысль,
что господин де Немур любит другую и что она обманута.
До той поры она не знала мучительных тревог подозрения и ревности; она
помышляла лишь о том, как запретить себе любить господина де Немура, и не
испытывала опасений, что он любит другую. Хотя сомнения, вызванные этим
письмом, и рассеялись, они все же открыли ей глаза на то, что у нее есть риск быть
обманутой, и породили неведомые ей доселе чувства недоверия и ревности. Она
удивлялась, как это не подумала прежде, сколь маловероятно, чтобы такой
человек, как господин де Немур, который всегда вел себя так ветрено с
женщинами, оказался способен на искреннюю и прочную привязанность. Она видела, что
почти невозможно, чтобы она была довольна его страстью. Но как я могу быть
довольна, спрашивала она себя, и как я хочу поступить с этой страстью?
Дозволять ее? На нее отвечать? Завязать любовное приключение? Оказаться
недостойной принца Клевского? Оказаться недостойной самой себя? Наконец,
испытать то жгучее раскаяние и ту мучительную боль, какие несет с собой любовь?
Я побеждена, повергнута ниц склонностью, которая влечет меня против воли. Все
мои решения тщетны; вчера я думала все то же, что думаю и сегодня, но
сегодня я делаю все противоположное тому, что решила вчера. Мне нужно
отказаться от общества господина де Немура; нужно уехать в деревню, каким бы
странным ни показался мой отъезд; и если принц Клевский будет упорствовать,
препятствуя ему или желая узнать его причины, быть может, я причиню боль ему
и себе, но открою их. Она остановилась на этом решении и провела весь вечер
у себя, не поехав к дофине узнать, что сталось с поддельным письмом к видаму.
Когда вернулся принц Клевский, она сказала ему, что хочет отправиться в
деревню, что чувствует себя нездоровой и что ей нужно подышать свежим
воздухом. Принц Клевский, которого ее цветущая красота разубеждала в
серьезности ее недугов, сначала посмеялся над мыслью о таком путешествии и
ответил, что она забыла о приближающихся свадьбах двух принцесс и турнире
и что у нее не так уж много времени, чтобы подготовиться и появиться там
убранной столь же великолепно, как другие дамы. Доводы мужа не
переменили ее намерения; она просила его позволить, чтобы, пока он будет в Компье-
не с королем, она поехала бы в Куломье, прелестный загородный дом в одном
дне пути от Парижа, на постройку которого они положили много забот. Принц
Клевский согласился; она отправилась туда, не собираясь скоро возвращаться,
а король уехал в Компьень, где должен был пробыть всего несколько дней.
Господин де Немур был очень огорчен, что не видел принцессу Клевскую с
того дня, который так приятно провел с нею и который укрепил его надежды. Не-
18. Заказ № К-6559
274
Принцесса Клевская
терпеливое желание снова ее увидеть не давало ему покоя, так что, когда король
вернулся в Париж, он решил поехать к своей сестре, герцогине де Меркёр70,
жившей в деревне недалеко от Куломье. Он предложил видаму отправиться
вместе с ним; видам охотно принял предложение, которое господин де Немур
сделал в надежде повидать принцессу Клевскую и навестить ее вместе с видамом.
Госпожа де Меркёр очень обрадовалась их приезду и думала только о том,
как их развлечь и доставить им все удовольствия сельской жизни. Во время
охоты на оленя господин де Немур заблудился в лесу. Расспрашивая дорогу
назад, он узнал, что оказался неподалеку от Куломье. Заслышав это название,
Куломье, он не раздумывая и без всякой цели поскакал во весь опор в ту
сторону, какую ему указали. Он очутился в лесу и выбирал наугад тщательно
расчищенные тропинки, полагая, что они приведут его к замку. Тропинки шли
к небольшому домику, на первом этаже которого помещались зала и две
примыкавшие к ней комнаты; одна выходила в цветник, отделенный от леса лишь
изгородью, а другая — в аллею парка. Он вошел внутрь и стал бы разглядывать
красоту убранства, если б не заметил, что по этой аллее к домику идут принц
и принцесса Клевские в сопровождении многочисленной челяди. Он не ожидал
найти здесь принца, с которым расстался у короля, и потому первым его
побуждением было спрятаться; он вошел в комнату, выходившую в цветник, в
надежде выбраться из нее через дверь, ведущую к лесу. Но, увидев, что принцесса
Клевская и ее муж сели у стены домика, что их слуги остались в парке и не
могли приблизиться к нему иначе, как пройдя мимо принца и принцессы Клев-
ских, он не смог отказать себе в удовольствии поглядеть на принцессу и
удовлетворить свое любопытство, послушав ее беседу с мужем, который вызывал
у него ревности больше, чем любой из соперников.
До него донеслись слова принца Клевского:
— Но почему же вы не хотите вернуться в Париж? Что удерживает вас в
деревне? С некоторых пор у вас появилась склонность к уединению, которая
удивляет и огорчает меня, потому что она нас разлучает. Мне кажется даже,
что вы печальнее, чем обыкновенно, и боюсь, что у вас есть какой-то повод
печалиться.
— У меня нет ничего тягостного на душе, — отвечала она в замешательстве, —
но при дворе так много суеты, вокруг вас так много людей, что тело и душа не
могут не утомляться и не искать отдыха.
— Женщинам ваших лет, — возразил он, — не свойственно искать отдыха.
Ваша жизнь дома и при дворе не слишком утомительна, и я скорее готов
опасаться, что это мое общество вам докучает.
— Вы были бы весьма несправедливы ко мне, если б так думали, —
промолвила принцесса Клевская, смутившись еще больше. — Но молю вас позволить
мне не уезжать отсюда. Я была бы несказанно рада, если б вы могли здесь
остаться, только бы вы были одни, без этой толпы людей, которые никогда вас
не покидают.
— Ах, сударыня! — воскликнул принц Клевский. — По выражению вашего
лица и по вашим словам я вижу, что у вас есть причины желать уединения,
которых я не знаю и которые молю вас мне открыть.
Часть третья
275
Он долго уговаривал ее открыться, но так и не смог добиться этого;
попытавшись защищаться такими способами, которые лишь разжигали его
любопытство, она потупила взгляд и погрузилась в глубокое молчание; а затем,
подняв на него глаза, проговорила:
— Не принуждайте меня признаваться вам в том, в чем я не в силах
признаться, хотя не раз имела такое намерение. Согласитесь только, что
благоразумие требует не подвергать женщину моих лет, вольную распоряжаться
своими поступками, всем опасностям жизни при дворе.
— На какие подозрения вы меня наводите, сударыня, — воскликнул принц Клев-
ский, — я не смею их высказать из страха вас оскорбить.
Принцесса Клевская не отвечала; ее молчание утвердило принца в его
предположениях.
— Вы не говорите ни слова, — сказал он, — это значит, что я не обманываюсь.
— Коль так, — отвечала она, бросаясь к его ногам, — я сделаю вам
признание, какого никогда не делали мужьям; но чистота моих поступков и
намерений придает мне сил. Да, у меня есть причины держаться вдали от двора и
остерегаться опасностей, которым подвергаются порой женщины моего
возраста. Я ни разу не выказала слабости и не страшилась бы ее выказать, если бы
вы позволили мне удалиться от двора или если бы госпожа де Шартр была по-
прежнему рядом и руководила бы мною. Как ни трудно мое решение, я
принимаю его с радостью, чтобы оставаться достойной вас. Заклинаю вас простить
меня, если чувства мои вас огорчают, но я никогда не огорчу вас своим
поведением. Подумайте, ведь, чтобы сделать то, что я делаю, нужно питать к мужу
привязанности и уважения больше, чем кто-либо на свете; руководите мною,
сжальтесь надо мной и не лишайте меня своей любви, если можете.
Во все время этой речи принц Клевский сидел, опустив голову на руки,
утратив всякую власть над собой и не догадавшись поднять жену с колен. Когда же
она умолкла и он взглянул на нее, увидел ее у своих ног, такую прекрасную, с
лицом, залитым слезами, то ему показалось, что он умирает от боли. Он
заключил ее в объятья, поднимая, и сказал:
— Сжальтесь и вы надо мною, сударыня, я заслуживаю жалости; и
простите меня, если в первые минуты такого жестокого горя, что мне выпало, я не
ответил как должно на ваш поступок. Вы представляетесь мне более достойной
уважения и восхищения, чем все женщины, когда-либо жившие на свете; но я —
самый несчастный из людей. В первый же миг, как я вас увидел, вы внушили
мне глубокую страсть; ни ваша холодность, ни обладание вами не могли ее
угасить; она еще жива; я так и не сумел вызвать вашу любовь, а теперь вижу,
что вы боитесь питать ее к другому. Кто же тот счастливец, сударыня, что
внушает вам такой страх? Давно ли он вам нравится? Что он сделал, чтобы
понравиться вам? Какой путь он нашел к вашему сердцу? В том, что я вашего
сердца не тронул, мне до какой-то степени служила утешением мысль, что это и
невозможно. И вот другой делает то, чего я сделать не сумел. Я ревную и как
муж, и как влюбленный; но мужу нельзя ревновать после вашего поступка. Он i
слишком благороден, чтобы не придать мне совершенного спокойствия; он /
даже утешает меня как влюбленного. Доверие и искренность, которыми вы
276
Принцесса Киевская
меня дарите, бесценны; вы уважаете меня настолько, что полагаете
неспособным злоупотребить вашим признанием. Вы не ошиблись, сударыня, я не
стану им злоупотреблять и не стану вас меньше любить. Вы делаете меня
несчастным, давая величайшее свидетельство верности, какое только давала
женщина своему мужу. Не довершите его, сударыня, и откройте мне, кто же тот, кого
вы хотите избегать.
— Умоляю вас не спрашивать меня об этом, — отвечала она. — Я решилась
вам этого не говорить, и мне кажется, благоразумие требует, чтобы я его вам
не называла.
— Не бойтесь, сударыня, — возразил принц Клевский, — я слишком хорошо
знаю свет, и мне известно, что уважение к мужу не мешает влюбляться в жену.
Таких людей следует ненавидеть, но не обижаться на них; и я еще раз прошу
вас, мадам, открыть мне то, что я хочу знать.
— Вы настаиваете напрасно, — проговорила она, — у меня хватит сил молчать
о том, что я не считаю нужным говорить. Мое признание вам было сделано не
из слабости, и для того, чтобы высказать такую истину, требуется мужества
больше, чем для попыток ее скрывать.
Господин де Немур не упустил ни слова из этой беседы; и то, что сказала
принцесса Клевская, вызывало у него ревность не меньшую, чем у мужа. Он
был так безоглядно в нее влюблен, что полагал, будто все испытывают к ней
те же чувства. У него и в самом деле было много соперников; но он воображал,
что их еще больше, и, мысленно искал того, о ком говорила принцесса
Клевская. Он не раз предполагал, что не был ей противен, но его суждение
основывалось на вещах, казавшихся ему в эту минуту столь незначительными, что он
не мог вообразить, будто внушил страсть столь пылкую, что она требовала
прибегнуть к такому необычному средству. Он был в таком смятении, что
словно утратил способность понимать происходившее у него перед глазами, и не
мог простить принцу Клевскому, что тот недостаточно настойчив и не заставил
жену назвать имя, которое она скрывала.
Между тем принц Клевский употреблял все усилия, чтобы это имя узнать;
и после его тщетных настояний она сказала:
— Мне кажется, вы должны быть довольны моей откровенностью; не
требуйте большего и не давайте мне повода раскаяться в том, что я сделала.
Довольствуйтесь моими заверениями, что ни один мой поступок не выдал моих
чувств и что мне ни разу не сказали того, что могло бы меня оскорбить.
— Ах, сударыня, — вдруг воскликнул принц Клевский, — я не могу вам верить.
Я помню, в каком вы были смущении в тот день, когда исчез ваш портрет. Вы
подарили его, сударыня, вы подарили этот портрет, который был мне так дорог
и принадлежал мне по такому неоспоримому праву. Вы не смогли скрыть своих
чувств, вы любите, он это знает; ваша добродетель уберегала вас до сих пор от
остального.
— Возможно ли, — отвечала принцесса, — чтобы вы думали, будто есть
толика притворства в моем признании, которого ничто не вынуждало меня вам
делать? Положитесь на мои слова; я дорогой ценой покупаю то доверие,
которого у вас прошу. Умоляю вас, поверьте, что я не дарила своего портрета; я и
Часть третья
277
вправду видела, как его взяли, но я не хотела показывать, что это вижу,
опасаясь, что мне придется выслушать такие слова, каких мне еще никто не
осмеливался говорить.
— Как же вы узнали, что он вас любит, — спросил принц Клевский, — какие
свидетельства своей страсти он вам дал?
— Избавьте меня от муки, — отвечала она, — пересказывать вам те мелочи,
которые я сама стыжусь замечать и которые слишком убедили меня в
собственной слабости.
— Вы правы, сударыня, — сказал он, — я несправедлив. Отказывайтесь
отвечать всякий раз, когда я буду спрашивать о таких вещах, но все же не
считайте за оскорбление, если я о них спрашиваю.
В эту минуту несколько человек из домочадцев, остававшихся в аллее,
пришли сказать принцу Клевскому, что к нему приехал гонец от короля с
повелением быть вечером в Париже. Принц Клевский принужден был отправиться
тотчас, успев лишь сказать жене, что просит ее приехать завтра и заклинает
верить, что, как бы ему ни было больно, он питает к ней такую нежность и
такое уважение, какими она может быть довольна.
Когда принц уехал и принцесса Клевская осталась одна, когда она стала
думать о том, что сделала, то испытала такой страх, что едва могла поверить в
истинность произошедшего. Ей казалось, что она сама лишила себя
привязанности и уважения мужа, сама разверзла перед собой пропасть, из которой ей
никогда не выбраться. Она спрашивала себя, как это она отважилась на такой
рискованный поступок, и понимала, что пошла на него почти не рассуждая.
Необычность подобного признания, схожих примеров с которым она не
находила, показывала ей всю его опасность.
Но когда она подумала, что это средство, каким бы оно ни было суровым, —
единственное, которое могло спасти ее от господина де Немура, то сочла, что
ей не следует раскаиваться и что риск был не так уж велик. Всю ночь она
провела в сомнениях, тревоге и страхе, но затем в душе ее вновь воцарился покой.
Она даже радовалась тому, что дала это свидетельство верности мужу,
который так очевидно его заслуживал, который питал к ней такое уважение и
такие добрые чувства и что еще подтвердил их тем, как он принял ее признание.
Тем временем господин де Немур покинул то место, где слушал беседу,
столь живо его взволновавшую, и углубился в лес. То, что принцесса Клевская
сказала о своем портрете, вернуло его к жизни, открыв ему, что он и есть тот
человек, который ей не противен. Поначалу он предался радости, но она
длилась недолго; он подумал, что те самые слова, которые дали ему понять, что
он тронул сердце принцессы Клевской, должны также его убедить, что он
никогда не получит свидетельств этому и что невозможно победить женщину,
которая прибегает к столь необычным средствам. И все же он чувствовал
истинное удовольствие от того, что довел ее до такой крайности. Он был горд
тем, что заставил полюбить себя женщину столь непохожую на других особ ее
пола. Одним словом, он ощущал себя стократ счастливым и несчастным
одновременно. Ночь застала его в лесу, и он с большим трудом отыскал дорогу к
замку госпожи де Меркёр. Он добрался туда на заре. Ему непросто было объяс-
278
Принцесса Киевская
нить, что его так задержало; он справился с этим как мог и в тот же день
вернулся в Париж вместе с видамом.
Герцог был так полон своей страстью и так поражен тем, что услышал, что
совершил обычную неосторожность: говорить в общих выражениях о своих
особых чувствах и рассказывать о собственных приключениях под заемными
именами. На обратном пути он перевел разговор на любовь, стал восхвалять
счастье любить женщину, достойную любви. Он говорил об удивительном
воздействии этой страсти и наконец, не в силах хранить в себе изумление от поступка
принцессы Клевской, описал его видаму, не называя имен и не упоминая, что
имел к нему какое-то отношение; но он рассказывал об этом поступке с такой
горячностью и с таким восхищением, что видам тут же заподозрил, что герцог
играл в этой истории какую-то роль. Он стал со всей настойчивостью
уговаривать герцога ему в том признаться. Он сказал, будто давно понял, что герцог
питает какую-то сильную страсть и что несправедливо с его стороны таиться от
человека, который доверил ему тайну своей жизни. Господин де Немур был
слишком влюблен, чтобы признаться в своей любви; он всегда скрывал ее от
видама, хотя и любил его больше всех при дворе. Он отвечал, что один из его
друзей рассказал ему эту историю и взял с него слово молчать и что он тоже
просит видама хранить эту тайну. Видам уверил его, что не будет о ней
говорить; и все же господин де Немур раскаивался, что сказал ему так много.
Тем временем принц Клевский явился к королю; сердце его терзала
мучительная боль. Ни один муж не питал к жене столь пылкой страсти и столь
глубокого уважения. То, что он узнал, не лишило принцессу этого уважения,
но оно стало иным, чем прежде. Более всего занимало принца желание угадать
того, кто сумел ей понравиться. Господин де Немур пришел ему на ум первым,
так как был самым привлекательным мужчиной при дворе, а затем шевалье
де Гиз и маршал де Сент-Андре, двое мужчин, которые старались ей
понравиться и все еще оказывали ей много внимания; так он остановился на мысли, что
это должен быть кто-то из них троих. Он появился в Лувре; король увел его в
свой кабинет и сказал, что выбрал его сопровождать Мадам в Испанию, что,
по его мнению, никто не справится с этим поручением лучше принца и никто
также не принесет Франции больше чести, чем принцесса Клевская. Принц
отнесся к столь почетному выбору как должно и к тому же решил, что это
обстоятельство позволит его жене удалиться от двора без видимых перемен в
ее поведении. Однако до отъезда оставалось слишком много времени, чтобы
это могло вывести принца из его нынешнего затруднительного положения. Он
тотчас же написал жене, извещая ее о том, что сказал король, и напоминая
снова о своем непременном желании, чтобы она вернулась в Париж. Она
вернулась, как он велел, и когда они встретились, то оба были в глубокой грусти.
Принц Клевский заговорил с ней как самый благородный и самый
достойный ее поступка человек на свете.
— Я вовсе не тревожусь о вашем поведении, — сказал он, — у вас больше сил
и добродетели, чем вы сами думаете. И не страх за будущее меня печалит.
Меня печалит лишь то, что вы питаете к другому чувства, которых я вам
внушить не сумел.
Часть третья
279
— Не знаю, что вам ответить, — промолвила она,— я умираю от стыда, говоря
с вами об этом. Молю вас, избавьте меня от столь мучительных бесед,
руководите мною, устройте так, чтобы я ни с кем не виделась. Это все, о чем я вас
прошу. Но позвольте мне не говорить больше с вами о том, что делает меня
недостойной вас и что я считаю недостойным меня.
— Вы правы, сударыня, — отвечал он, — я злоупотребляю вашей кротостью
и вашим доверием; но имейте и вы сострадание к тем чувствам, в которые меня
повергли, — подумайте, ведь, как бы много вы мне ни сказали, вы таите от меня
имя, возбуждающее у меня такое желание его узнать, что я не смогу с этим
желанием жить. Я не прошу вас удовлетворить его, но не могу и не сказать вам,
что вижу того, кому должен завидовать, либо в маршале де Сент-Андре, либо
в герцоге де Немуре, либо в шевалье де Гизе.
— Я ничего вам не скажу, — проговорила она краснея, — и не дам вам
своими словами повода ни уменьшать, ни усиливать ваши подозрения; но если вы
попытаетесь их разрешить, наблюдая за мной, то приведете меня в такое
смятение, что оно всем бросится в глаза. Бога ради, — продолжала она, — позвольте
мне не встречаться ни с кем, под предлогом какой-нибудь болезни.
— Нет, сударыня, — возразил он, — все скоро догадаются, что это обман, к
тому же я хочу полагаться только на вас саму; выбрать такой путь
подсказывает мне сердце, и разум советует мне то же самое. Ваш нрав таков, что,
оставляя вам полную свободу, я заключаю вас в границы более тесные, чем если
бы я сам их определил.
Принц Клевский не ошибался: доверие, которое он выказывал жене, еще
больше укрепляло ее против господина де Немура и заставляло принимать
решения более суровые, чем могло бы сделать любое принуждение. Итак, она
ездила в Лувр и к дофине, как обыкновенно, но избегала присутствия и взглядов
господина де Немура так тщательно, что едва ли не вовсе лишила его счастья
верить, что он любим. Он не видел в ее поведении ничего, что не убеждало бы
его в обратном. И только одно подтверждало, что он не ошибался: глубокая
грусть принцессы Клевской, которой она не могла скрыть, как ни старалась.
Быть может, любезные взгляды и речи не разожгли бы его любовь так, как эта
строгость в поведении.
Однажды вечером, когда принц и принцесса Клевские были у королевы,
кто-то сказал, что ходят слухи, будто король назначит еще одного из
придворных вельмож сопровождать Мадам в Испанию. Принц Клевский не сводил глаз
с жены, пока говоривший продолжал, прибавив, что это, возможно, будет
шевалье де Гиз или маршал де Сент-Андре. Он заметил, что ни эти два
имени, ни предположение, что они проделают это путешествие вместе с ней, не
нарушили ее спокойствия. Это привело его к догадке, что ни один из них
двоих не был тем, чьего общества она страшилась, и, желая проверить свои
подозрения, он вошел в кабинет к королеве, где находился и король. Пробыв там
какое-то время, он вернулся к жене и негромко сказал ей, что узнал, кто поедет
с ними в Испанию: это господин де Немур.
Имя господина де Немура и мысль о том, что ей придется видеть его
всякий день во все время долгого путешествия, в присутствии мужа, привели прин-
280
Принцесса Клевская
цессу Клевскую в смятение, которого она не сумела скрыть; и, желая объяснить
его другими причинами, она сказала:
— Для вас очень досадно, что выбор пал на герцога. Ему достанется
половина всех почестей, и мне кажется, вам следует попытаться устроить так,
чтобы король избрал кого-то другого.
— Нет, не тщеславие, сударыня, — отвечал принц Клевский, — заставляет вас
бояться того, что господин де Немур поедет со мной. У вашего огорчения иная
причина. Это огорчение открывает мне то, что о другой женщине я узнал бы
по той радости, которую она бы испытала. Но вам нечего бояться: то, что я вам
сказал сейчас, — неправда, я придумал это для того, чтобы подкрепить
догадку, в которой, впрочем, и так был слишком уверен.
После этих слов он вышел, не желая своим присутствием усиливать и без
того глубочайшее, как он видел, смятение своей жены.
В эту минуту появился господин де Немур и тотчас же заметил состояние
принцессы Клевской. Он подошел к ней и тихо сказал, что из почтения не
смеет спросить, отчего она более задумчива, чем обыкновенно. Голос господина
де Немура заставил ее прийти в себя, и, глядя на него, но не слушая, что он
говорит, волнуемая собственными мыслями и страхом, что муж увидит его
рядом с ней, она сказала:
— Бога ради, оставьте меня!
— Увы, сударыня, — отвечал он, — я и так слишком стараюсь вам не докучать,
на что вы можете пожаловаться? Я не смею заговорить с вами, не смею даже на
вас взглянуть; я всегда приближаюсь к вам с трепетом. Чем я навлек на себя эти
ваши слова и почему вы даете мне понять, что я как-то причастен к вашей
теперешней печали?
Принцесса Клевская была очень недовольна собою, что позволила
господину де Немуру объясниться прямее, чем во всю его жизнь. Она покинула его, не
ответив, и вернулась домой в большем волнении, чем когда бы то ни было.
Муж тотчас заметил, что ее смятение еще усилилось. Он видел, что она
боится, как бы он не заговорил о случившемся. Он прошел вслед за ней в ее
кабинет и сказал:
— Не избегайте меня, сударыня, я не скажу вам ничего, что могло бы вам
быть неприятно; я прошу вас простить меня за неожиданное потрясение,
которому я был причиной. Из всех людей на свете господин де Немур — тот, кого
я более всех страшился. Я вижу, какой вы подвергаетесь опасности; храните
власть над собой из любви к себе самой и, если возможно, из любви ко мне.
Прошу вас об этом не как муж, но как человек, все счастье которого вы
составляли и который питает к вам страсть более нежную и пылкую, чем тот, кого
ваше сердце ему предпочло.
Принц Клевский был очень взволнован, произнося эти последние слова, и
едва мог их закончить. Жену его это потрясло и, разразившись слезами, она
бросилась ему на шею с такой нежностью и мукой, что повергла его в
состояние, немногим разнившееся с ее собственным. Какое-то время они провели в
молчании и расстались, не в силах говорить друг с другом.
Приготовления к свадьбе Мадам завершились. Герцог Альба прибыл взять
Часть третья
281
ее в жены от имени Филиппа П. Он был встречен со всей пышностью и всеми
церемониями, каких только можно ожидать в подобных случаях. Король
выслал ему навстречу принца де Конде, кардинала Лотарингского и кардинала
де Гиза, герцогов Лотарингского, Феррарского, Бульонского, д'Омаля, де Гиза
и де Немура. Их сопровождало немало дворян и множество пажей, одетых в
их ливреи. Сам король ждал герцога Альбу у первых ворот Лувра с двумя
сотнями своих дворян во главе с коннетаблем. Приблизившись к королю, герцог
хотел обнять его колени, но король не дал ему этого сделать и повел рядом с
собой в покои к королеве и к Мадам, которой герцог Альба привез
великолепный подарок от своего повелителя. Затем он прошел к принцессе Маргарите,
сестре короля, засвидетельствовать ей почтение герцога Савойского и
подтвердить, что он прибудет через несколько дней. В Лувре устраивали многолюдные
вечера, чтобы показать герцогу Альбе и принцу Оранскому, его
сопровождавшему, придворных красавиц.
Принцесса Клевская не осмелилась избавить себя от необходимости
появляться там, как бы ей того ни хотелось, из страха огорчить мужа, велевшего
ей непременно туда ездить. К тому же ее подвигало решиться на это отсутствие
господина де Немура. Он выехал навстречу герцогу Савойскому, а когда тот
приехал, обязан был почти постоянно находиться при нем и помогать во всем,
что касалось свадебных церемоний. Из-за этого принцесса Клевская видела
господина де Немура не столь часто, как обыкновенно, что приносило ей некое
успокоение.
Видам де Шартр не забыл своей беседы с господином де Немуром. Он
оставался в убеждении, что история, рассказанная ему герцогом, была его
собственная история, и видам наблюдал за ним так внимательно, что непременно
угадал бы истину, если бы прибытие герцога Альбы и герцога Савойского не
внесло перемен и новых забот в жизнь двора и не помешало бы видеть то, что
могло открыть ему глаза. Желание узнать истину или скорее естественная
склонность человека рассказывать все, что ему известно, тем, кого он любит,
подвигли его сообщить госпоже де Мартиг о необычайном поступке особы,
признавшейся мужу в страсти, которую она питала к другому. Он уверил госпожу
де Мартиг, что господин де Немур и был тем, кто внушил эту пылкую страсть,
и просил помочь ему наблюдать за герцогом. Госпожа де Мартиг была очень
довольна, что узнала это от видама; и то любопытство, которое, как она
видела, дофина выказывала к тому, что касалось господина де Немура,
возбуждало в ней еще большее желание разгадать эту историю.
За несколько дней до того, что был выбран для свадебной церемонии,
дофина давала ужин королю, своему свекру, и герцогине де Валантинуа.
Принцесса Клевская, замешкавшись с одеванием, отправилась в Лувр позднее, чем
обыкновенно. Уезжая туда, она столкнулась с дворянином, которого послала
за ней дофина. Когда она вошла в спальню дофины, та крикнула ей с постели,
что ждала ее с большим нетерпением.
— Полагаю, Мадам, — отвечала принцесса, — что не должна вас благодарить
за такое нетерпение и что причиной тому нечто иное, нежели желание меня
видеть.
282
Принцесса Клевская
— Вы правы, — согласилась дофина, — и все же вы должны быть мне
благодарны, потому что я хочу сообщить вам одну историю, которая, я уверена,
доставит вам удовольствие.
Принцесса Клевская опустилась на колени у постели, и, к счастью для нее,
лицо ее оказалось в тени.
— Вы помните, — продолжала дофина, — как мы хотели разгадать причину
перемен, творившихся с герцогом де Немуром; мне кажется, я их узнала, и это
нечто такое, что вас удивит. Он безумно влюблен в одну из самых красивых
женщин при дворе и очень ею любим.
Эти слова, которые принцесса Клевская не могла отнести к себе, так как не
предполагала, что кто-либо знает о ее любви к герцогу, причинили ей боль,
которую нетрудно вообразить.
— Я не вижу в этом ничего, — проговорила она, — что могло бы вызвать
удивление, когда речь идет о человеке таких лет и такой наружности, как господин
де Немур.
— Вас и должно удивить не это, — возразила дофина, — но то обстоятельство,
что женщина, любящая господина де Немура, ни разу ему этого не показала
и, опасаясь, что не всегда сумеет быть госпожой своей страсти, призналась в ней
мужу, чтобы он удалил ее от двора. И это сам господин де Немур рассказал то,
что я вам говорю.
Если поначалу принцессе Клевской была мучительна мысль, что речь в этой
истории идет не о ней, то последние слова дофины привели ее в отчаяние,
доказав, что речи о ней здесь слишком много. Она не могла отвечать и стояла,
опустив голову на постель, пока дофина продолжала говорить и была слишком
увлечена своим рассказом, чтобы заметить ее смятение. Когда принцесса
Клевская немного пришла в себя, то сказала:
— Эта история не кажется мне правдоподобной, Мадам, и я хотела бы знать,
кто вам ее поведал.
— Это госпожа де Мартиг, — отвечала дофина, — которая узнала ее от ви-
дама де Шартра. Вам известно, что видам в нее влюблен; он доверил ей эту
историю как тайну, а ему ее рассказал сам господин де Немур. Правда, герцог
де Немур не назвал ему имени дамы и даже не сознался, что он и есть тот, кого
она любит, но видам де Шартр в этом не сомневается.
Под конец этих слов дофины кто-то подошел к ее постели. Принцесса
Клевская стояла так, что не могла видеть, кто это был; но недоумение ее развеялось,
когда принцесса удивленно и радостно воскликнула:
— А вот и он сам, и я его обо всем расспрошу.
Принцесса Клевская, не оборачиваясь в его сторону, поняла, что это герцог
де Немур; так оно и было. Она торопливо наклонилась к дофине и совсем тихо
сказала ей, что надо остерегаться говорить с ним об этой истории, что он
доверил ее видаму де Шартру и что так можно их поссорить. Дофина ей
отвечала, смеясь, что она слишком осмотрительна, и обернулась к господину де
Немуру. Он был одет для вечера во дворце и заговорил с той обходительностью,
что была ему так свойственна:
— Мадам, думаю, я буду не слишком дерзок, если предположу, что вы го-
Часть третья
283
ворили обо мне, когда я вошел, что вы намеревались меня о чем-то спросить,
а принцесса Клевская этому противится.
— Это правда, — отвечала дофина, — но на сей раз я не буду с ней так
уступчива, как обыкновенно. Я хочу услышать от вас, правдива ли та история, что
мне рассказали, и не вы ли тот человек, который влюблен в одну придворную
даму и любим ею, но она тщательно скрывает от вас свою страсть, а мужу в ней
призналась.
Тревога и смятение принцессы Клевской превосходили все, что доступно
человеческому воображению, и если бы сама смерть явилась избавить ее от
такого состояния, то была бы встречена ею с радостью. Но господин де Немур
был в еще большем смятении, если только такое возможно. Слова дофины,
которая, как он имел основания полагать, не питала к нему ненависти, в
присутствии принцессы Клевской, той из придворных дам, кому она более всех
доверяла и кто в свой черед более всех доверяла ей, рождали в его уме такую
путаницу диковинных мыслей, что он был не властен над своим лицом.
Затруднительное положение, в которое принцесса Клевская попала по его вине,
мысль о том, что он дал ей справедливый повод его ненавидеть, столь сильно
его поразили, что он не мог отвечать. Дофина, видя, в каком он
замешательстве, воскликнула, обращаясь к принцессе Клевской:
— Взгляните, взгляните же на него и судите, о нем ли идет речь в этой
истории.
Тут господин де Немур, оправившись от первого потрясения и понимая, как
важно избежать столь великой опасности, разом овладел и своими мыслями,
и своим лицом.
— Признаюсь, Мадам, — сказал он, — что я как нельзя более удивлен и
огорчен, что видам де Шартр не сдержал данного мне слова и рассказал историю,
которую доверил мне один из моих друзей. Я мог бы отомстить за это, —
продолжал он, улыбаясь с самым невозмутимым видом, что почти разрушило
явившиеся у дофины подозрения. — Он поведал мне весьма важные вещи. Но
мне неведомо, Мадам, — прибавил он, — почему вы делаете мне честь
примешивать меня к этой истории. Видам не мог сказать, что она касается меня, так
как я ему говорил обратное. Роль влюбленного может мне подойти; что же до
роли любимого, то не думаю, Мадам, чтобы вы могли меня ею наградить.
Герцогу нетрудно было сказать дофине какие-то слова, напоминающие ей
о том, в чем он старался ее уверить когда-то. Ей показалось, что она их
поняла; но, оставив их без ответа, она продолжала выспрашивать причины его
замешательства.
— Мадам, я был обеспокоен положением моего друга, — отвечал он, — и
справедливыми упреками, которыми он может меня осыпать за то, что я разгласил
ту тайну, что для него дороже жизни. Впрочем, он доверил мне ее лишь
наполовину и не назвал имени дамы, которую любит. Я знаю только, что этот
человек любит сильнее всех на свете и более всех заслуживает жалости.
— Почему вы полагаете, что его нужно жалеть, — спросила дофина, — ведь
он любим?
— Вы думаете, что он любим, Мадам, — возразил герцог, — и что женщина,
284
Принцесса Клевская
питающая истинную страсть, может открыть ее мужу? Без сомнения, эта
женщина не знает любви и приняла за нее мимолетное чувство благодарности,
вызванное привязанностью к ней. Мой друг не может льстить себя никакими
надеждами; но при всем своем злополучии он полагает себя счастливым уже
потому, что внушил страх полюбить его, и не променял бы своей судьбы на
судьбу самого счастливого любовника на свете.
— Страсть вашего друга нетрудно утолить, — сказала дофина, — и я начинаю
думать, что вы говорите не о себе самом. Еще немного, — продолжала она, —
и я соглашусь с принцессой Клевской, которая полагает, что история эта
неправдоподобна.
— Я действительно в нее не верю, — промолвила принцесса Клевская, до тех
пор не проронившая ни слова. — А если бы она и вправду случилась, как
могло бы о ней стать известно? Невероятно, чтобы женщина, способная на такой
необычайный поступок, имела слабость о нем рассказать; очевидно, что муж
также не стал бы о нем рассказывать, иначе он оказался бы вовсе недостоин
того, как с ним обошлись.
Господин де Немур, заметив подозрения принцессы Клевской относительно
ее мужа, был только рад их укрепить. Он знал, что это самый грозный
соперник из всех, кого ему нужно было одолеть.
— Ревность, — отвечал он, — и, быть может, желание узнать больше, чем ему
было сказано, могли заставить мужа совершить весьма неосторожные шаги.
Стойкость и мужество принцессы Клевской подвергались жесточайшему
испытанию, и, не в силах больше поддерживать беседу, она собиралась уже
сказать, что ей нездоровится, когда, к счастью для нее, вошла герцогиня де Валан-
тинуа и сказала дофине, что король сейчас прибудет. Дофина отправилась
одеваться. Господин де Немур подошел к принцессе Клевской, которая
хотела последовать за ней.
— Я отдал бы жизнь, сударыня, — сказал он ей, — за минуту разговора с вами;
но из всех важных вещей, которые я хотел бы вам сказать, самой важной для
меня было бы молить вас верить, что если я и сказал что-то, к чему дофина
может иметь отношение, то сделал я это по причинам, никак с нею не связанным.
Принцесса Клевская, казалось, не слышала господина де Немура; она
отошла прочь, не взглянув на него, и присоединилась к свите короля, который как
раз вошел. Так как в спальне стало очень многолюдно, она запуталась в
складках платья и оступилась; она воспользовалась этим предлогом, чтобы покинуть
место, где у нее не было больше сил оставаться, и, притворившись, что не
может держаться на ногах, уехала домой.
Принц Клевский приехал в Лувр и был удивлен, не застав там своей жены;
ему рассказали, что с ней случилось. Он тотчас же вернулся домой узнать, что
с ней; он нашел ее в постели и убедился, что нездоровье ее не опасно. Пробыв с
ней какое-то время, он заметил ее грусть, столь глубокую, что это его поразило.
— Что с вами, сударыня? — спросил он. — Мне кажется, вас мучит что-то еще,
кроме того, на что вы жалуетесь.
— У меня самое большое огорчение, какое только могло случиться, —
отвечала она. — Как вы употребили то необычайное, или, вернее сказать, безрассуд-
Часть третья
285
ное доверие, которое я вам оказала? Разве не заслужила я сохранения тайны,
а если я этого не заслуживаю, то разве не в ваших собственных интересах ее
хранить? Неужто любопытство узнать имя, которого я не должна вам называть,
толкнуло вас довериться кому-то в попытках его обнаружить? Одно лишь это
любопытство могло вас заставить совершить такую неосторожность, и
последствия ее так дурны, как только возможно. Наша история стала известна, мне
ее рассказали, не зная, что она касается меня первой.
— Что я слышу, сударыня? — воскликнул принц. — Вы обвиняете меня в том,
что я рассказал о случившемся между вами и мною, и сообщаете мне, что это
стало известно? Не буду оправдываться, что проговорился; вы не можете этому
верить и без сомнения приняли на свой счет то, что вам сказали о ком-то другом.
— О, на свете нет другой такой истории, — возразила она, — нет другой
женщины, способной на подобный поступок. Такую вещь нельзя придумать
случайно, ее нельзя вообразить, такая мысль никому не приходила на ум, кроме меня.
Дофина рассказала мне всю эту историю; она узнала ее от видама де Шартра,
а тот — от господина де Немура.
— Господин де Немур! — воскликнул принц Клевский, не удержавшись от
жеста, выражавшего волнение и отчаяние. — Как! Господин де Немур знает, что
вы его любите и что я это знаю?
— Вам по-прежнему угодно остановить свой выбор скорее на господине де
Немуре, чем на ком-нибудь другом, — отвечала она. — Я сказала вам, что
никогда не стану подтверждать или развеивать ваши подозрения. Мне
неизвестно, знает ли господин де Немур, какую роль я играю в этой истории и какую
вы ему приписываете; но он рассказал ее видаму де Шартру и прибавил, что
узнал ее от одного из своих друзей, который никого не назвал. Должно быть,
этот друг господина де Немура — один из ваших друзей, и вы доверились ему
в надежде прояснить свои сомнения.
— Есть ли на свете друг, которому хотелось бы сделать такое признание, —
возразил принц Клевский, — и кто был бы готов прояснять свои сомнения ценой
рассказа другому о том, что хотелось бы скрыть от самого себя? Подумайте лучше,
мадам, с кем вы говорили. Более вероятно, что это вы, а не я, проговорились о
нашей тайне. Вы не смогли совсем одна справляться со своим смятением и искали
утешения, жалуясь какой-нибудь наперснице, которая вас и предала.
— Не довершайте удара, — воскликнула она, — не будьте столь жестоки,
чтобы обвинять меня в вашем собственном проступке. Неужто вы можете меня в
нем подозревать, и, коль скоро я оказалась способна рассказать обо всем вам,
способна ли я рассказывать об этом кому-то другому?
Признание, которое принцесса Клевская сделала мужу, было столь
неоспоримым свидетельством ее искренности, и она столь убедительно отрицала,
будто доверилась кому бы то ни было, что принц Клевский не знал, что и
думать. С другой стороны, он был уверен, что сам не рассказывал ничего; такой
случай нельзя угадать извне, о нем можно только узнать; следовательно, он
должен был стать известен от одного из них двоих; но самую жгучую боль ему
причиняла мысль о том, что кто-то овладел этой тайной и что слухи о ней,
очевидно, скоро распространятся.
286
Принцесса Киевская
Принцесса Клевская рассуждала почти так же, ей казалось равно
невозможным и чтобы муж ее проговорился, и чтобы он промолчал. Слова господина де
Немура о том, что любопытство могло толкнуть мужа на неосторожные шаги,
казались ей столь точно подходящими к состоянию принца Клевского, что она
не могла поверить, будто такую вещь можно сказать наугад; и их
правдоподобие заставляло ее думать, что принц Клевский злоупотребил ее доверием. Они
оба были так погружены в свои размышления, что долго оставались
безмолвны и нарушили молчание лишь затем, чтобы снова повторить все то, что уже
много раз сказали, и оставались умом и сердцем холоднее и дальше друг от
друга, чем когда-либо прежде.
Нетрудно вообразить, в каком состоянии провели они ночь. Принцу Клевс-
кому потребовалась вся его стойкость, чтобы сносить несчастье видеть женщину,
которую он боготворил, питающей страсть к другому. Мужество его покидало;
ему даже казалось, что он и не должен хранить мужество в обстоятельствах,
когда его гордость и честь оскорблены столь глубоко. Он уже не знал, что
думать о своей жене; не мог решить, какое поведение должен указать ей и как
должен вести себя сам; со всех сторон ему виделись только бездны и пропасти.
Наконец, после долгих часов тревог и сомнений, помня, что вскоре ему
предстоит отправиться в Испанию, он принял решение не делать ничего такого, что
могло бы подтвердить догадки или знание о его несчастье. Он пошел к
принцессе Клевской и сказал ей, что нужно не выяснять, кто из них выдал тайну, а
внушить всем мысль, что история эта — небылица, к которой она не имеет
отношения; что от нее зависит убедить в том господина де Немура и других; что ей
нужно всего лишь обходиться с ним так сурово и холодно, как заслуживает того
мужчина, выказавший свою любовь к ней; что таким поведением она без
труда разрушит его веру, будто она питает склонность к нему; что при этом она не
должна заботиться о том, что он может подумать, ибо если впоследствии она
не проявит ни малейшей слабости, то все его мысли развеются сами; и что
прежде всего ей следует ездить в Лувр и на все вечера, как обыкновенно.
Произнеся эти слова, принц Клевский покинул жену, не ожидая ответа. Она
сочла весьма разумным все, что он сказал, а ее гнев на господина де Немура
позволял ей думать, что ей нетрудно будет все это исполнить; но ей казалось
тяжело присутствовать на всех свадебных церемониях и появляться там со
спокойным лицом и нестесненным сердцем; однако поскольку она была
назначена нести шлейф дофины и в этом ей было оказано предпочтение перед
многими другими знатными дамами, то она не могла отвергнуть такую честь, не
наделав много шума и не заставив искать тому причины. Итак, она решилась
сделать над собой усилие; но весь остаток дня она провела, готовясь к этому и
предаваясь волновавшим ее чувствам. Она заперлась одна в своем кабинете. Из
всех ее зол более всего терзало ее то, что она имела повод негодовать на
господина де Немура и никаких оснований его оправдывать. Она не могла
сомневаться в том, что это он рассказал всю историю видаму де Шартру; он сам в том
признался; а то, как он об этом говорил, также не оставляло сомнений, знает
ли он, что речь идет о ней. Как объяснить такую неосторожность и что сталось
с особенной скромностью герцога, которая так ее трогала?
Часть третья
287
Он молчал, думала она, пока считал себя несчастным; но надежда на
блаженство, даже самая хрупкая, положила конец его скромности. Он не мог
воображать себя любимым, не испытывая желания, чтобы об этом знали. Он
сказал все, что мог сказать; я не говорила, что это его я люблю, он это
предположил и разгласил свои предположения. Будь он в том несомненно уверен,
он поступил бы так же. Я ошибалась, веря, что мужчина может быть способен
скрывать то, что льстит его тщеславию. И вот из-за этого мужчины, которого
я считала столь непохожим на всех остальных, я оказалась в том же
положении, что и другие женщины, от которых столь сильно отличаюсь. Я
утратила нежность и уважение мужа, который мог составить мое счастье. Скоро все
будут смотреть на меня как на женщину, питающую безрассудную и пылкую
страсть. Тому, кто ее внушил, она уже стала известна; а ведь для того, чтобы
избежать этих несчастий, я рискнула своим покоем и самой своей жизнью.
Эти грустные размышления сменились потоком слез; но как ни тяжка была
ее боль, она чувствовала, что имела бы силы ее снести, если бы ей не в чем
было упрекнуть господина де Немура.
Герцог был в не меньшем волнении. Неосторожность, которую он совершил,
проговорившись видаму де Шартру, и ужасные последствия этой
неосторожности жестоко его терзали. Он не мог без отчаяния представлять себе
смятение, тревогу и боль, которые прочел на лице принцессы Клевской. Он был
безутешен, что сказал ей об этой истории слова, которые хотя и были сами по
себе любезны, но, произнесенные в ту минуту, казались ему неучтивыми и
грубыми, поскольку показывали принцессе Клевской его осведомленность в том,
что она и есть та, кто питает пылкую страсть, а он — тот, кто ее внушил.
Единственное, о чем он мечтал, была возможность поговорить с нею; но он полагал,
что она должна скорее страшиться такой беседы, чем желать ее.
«Что мне ей сказать? — восклицал он. — По-прежнему изъясняться в том, что
ей и так слишком хорошо известно? Показывать ей, что я знаю о ее любви ко
мне, я, ни разу не осмелившийся даже сказать ей о своей любви? Начать
говорить с ней открыто о моей страсти и показаться ей человеком, которому
надежда придает дерзости? Могу ли я даже думать о том, чтобы подойти к ней, и
смею ли я смущать ее своим видом? Чем я могу оправдаться? Мне нет
извинения, я недостоин взгляда принцессы Клевской и не надеюсь, что она
когда-нибудь на меня взглянет. Своей оплошностью я сам дал ей лучшее средство
зашиты от меня, чем все те, которых она искала, и, быть может, искала
напрасно. Своей неосторожностью я утратил счастье и честь быть любимым самой
прелестной и самой достойной женщиной на свете; но если бы я утратил такое
счастье, не причинив страданий и мучительной боли ей, это было бы мне
утешением; а теперь мне тяжелее думать о том зле, которое я сделал ей, чем о том,
что уготовил себе самому».
Господин де Немур продолжал терзаться, возвращаясь мыслями к одним и
тем же предметам. Желание поговорить с принцессой Клевской не покидало
его. Он стал искать к тому способы, подумал, не написать ли ей, но затем счел,
что после совершенного им поступка и при том состоянии, в каком она была,
лучшее, что он может сделать, — это свидетельствовать ей глубочайшее уваже-
288
Принцесса Киевская
ние своей удрученностью и своим молчанием, показать ей, что он не смеет даже
предстать перед ней, и ждать того, что время, случай и склонность, которую
она питала к нему, могли для него совершить. Он решил также не делать
никаких упреков за нескромность видаму де Шартру, опасаясь укрепить его
подозрения.
Обручение Мадам, назначенное на завтра, и ее свадьба на следующий день
так занимали весь двор, что принцессе Клевской и господину де Немуру
нетрудно было скрывать на людях свою грусть и свое волнение. Даже дофина лишь
мимоходом напомнила принцессе Клевской об их беседе с господином де Не-
муром, а принц Клевский старался вовсе не говорить с женой обо всем
произошедшем, так что положение ее оказалось не столь затруднительно, как она
воображала.
Обручение было отпраздновано в Лувре, и после пиршества и бала все
королевское семейство отправилось ночевать в резиденцию епископа; таков был
обычай. Наутро герцог Альба, который всегда одевался очень просто,
облачился в наряд из золотой парчи с полосами огненного, желтого и черного цветов,
весь покрытый драгоценными камнями; на голове у него была закрытая корона.
Принц Оранский, также роскошно одетый, с людьми в его ливрее, и все
испанцы со своими людьми явились за герцогом Альбой во дворец Вильруа, где
помещался герцог, и процессией по четыре человека в ряд двинулись к
резиденции епископа. Как только они прибыли туда, все отправились в церковь;
впереди король вел Мадам, на которой также была закрытая корона, а шлейф
ее несли мадемуазель де Монпансье и мадемуазель де Лонгвиль. Затем шла
королева, но без короны. За нею — дофина, Мадам, сестра короля, герцогиня
Лотарингская и королева Наваррская; их шлейфы несли принцессы. Все
девицы из свит королев и принцесс были одеты в нарядные платья тех же цветов,
что носили их повелительницы, так что по цвету одежды можно было
распознать, кому они прислуживают. Все взошли на устроенный в церкви помост, и
брачный обряд совершился. Затем все вернулись обедать в резиденцию
епископа, a jc пяти часам отправились во дворец, где давалось пиршество и куда
были приглашены члены парламента, верховных судов и городской ратуши.
Король, королевы, принцы и принцессы разместились за мраморным столом
в большой зале дворца; герцог Альба сидел рядом с новой королевой Испании.
Ниже возвышения, на котором стоял мраморный стол, и по правую руку от
короля был стол для послов, архиепископов и рыцарей ордена, а по другую
руку — стол для господ членов парламента.
Герцог де Гиз, в наряде из узорчатой золотой парчи, был у короля
церемониймейстером, принц де Конде — кравчим, а герцог де Немур — виночерпием.
Когда убрали столы, начался бал; его прервали балеты и представления с
удивительными машинами. Затем бал продолжился, и наконец после полуночи
король со всем двором вернулся в Лувр. Как ни печальна была принцесса
Клевская, красота ее по-прежнему казалась несравненной всем, а в
особенности господину де Немуру. Он не осмелился с нею заговорить, хотя суета во
время церемонии не раз давала ему случай; но она увидела его исполненным
такой грусти и такой почтительной робости к ней приближаться, что уже ста-
Часть третья
289
ла считать его не столь виновным, хотя он не сказал ей ни слова в свое
оправдание. Так же он вел себя и в последующие дни, и это поведение таким же
образом воздействовало на сердце принцессы Клевской.
Наконец настал день турнира71. Королевы поместились на галереях и
помостах, возведенных для них. Четверо рыцарей, принимавших все вызовы,
появились на краю ристалища со множеством лошадей и свитой в их ливреях; они
представляли собою самое великолепное зрелище, какое только видела Франция.
Наряд короля состоял только из белого и черного; он всегда носил эти цвета
ради герцогини де Валантинуа, которая была вдовой. Герцог Феррарский и все
его люди были в желтом и красном; герцог де Гиз появился в алом и белом —
поначалу никто не мог догадаться, почему он выбрал эти цвета, а потом
вспомнили, что это были цвета одной красавицы, которую он любил, когда она была
еще девицей, и продолжал любить, хотя и не осмеливался больше ей этого
показывать. Господин де Немур был в желтом и черном, и напрасно все
искали тому объяснения. Принцесса Клевская догадалась без труда: она
вспомнила, как говорила при нем, что любит желтое и досадует, что белокура и не
может поэтому такой цвет носить. Герцог счел, что не будет нескромностью
появиться в наряде этого цвета, так как принцесса Клевская никогда его не
носила и никто не заподозрит, что это ее цвет.
Четверо рыцарей, принимавших вызовы, выказали невиданную искусность.
Хотя король был лучшим наездником в своем королевстве, зрители не знали,
кому отдать предпочтение. У господина де Немура в каждом движении было
столько изящества, что он мог склонить на свою сторону особ и менее им
занятых, чем принцесса Клевская. Завидев его на краю ристалища, она
почувствовала сильное волнение, и во время всех поединков герцога ей трудно было
скрывать свою радость, когда он счастливо завершал состязание.
Вечером, когда все уже почти закончилось и зрители собирались
расходиться, король, к несчастью для государства, пожелал еще раз сразиться на
копьях. Он послал к графу Монтгомери72, славившемуся своей ловкостью,
чтобы тот вышел на ристалище. Граф упрашивал короля не заставлять его это
делать и приводил все отговорки, какие только мог придумать, но король,
почти разгневавшись, велел ему передать, что непременно этого желает.
Королева послала к королю сказать, что умоляет его не состязаться больше, что
он сражался блистательно и может быть доволен, и что она заклинает его
вернуться к ней. Король отвечал, что это ради любви к ней он желает сразиться
вновь, и вошел внутрь ограды. Королева послала герцога Савойского, чтобы
еще раз попросить его вернуться; все было тщетно. Они сразились; копья
сломались, и кусочек от копья графа Монтгомери попал королю в глаз и там
застрял. Он упал, оруженосцы его и графа Монтгомери, который был одним
из распорядителей турнира, бросились к нему. Они были поражены, увидев,
что он ранен, но король не потерял присутствия духа. Он сказал, что это
пустяк и что он прощает графа Монтгомери. Нетрудно вообразить, какую
тревогу и огорчение вызвал этот зловещий случай в день, отведенный для
радости. Короля перенесли в постель, хирурги тотчас осмотрели рану и нашли ее
весьма опасной. Господин коннетабль вспомнил тогда сделанное королю пред-
19. Заказ № К-6559
290
Принцесса Клевская
сказание, что он будет убит на поединке; он не сомневался, что предсказание
исполнится.
Король Испании был тогда в Брюсселе; узнав о несчастье, он послал своего
лекаря, прослывшего весьма сведущим во врачевании, но тот счел, что король
безнадежен.
Двор, разделенный на партии и кипящий таким множеством
противоречивых интересов, пришел в немалое волнение накануне столь важного события;
тем не менее подобные заботы скрывались, и, казалось, все были поглощены
единственно тревогой о здоровье короля. Королевы, принцы и принцессы
почти не покидали его покоев.
Принцесса Клевская, понимая, что обязана там быть, что встретит там
господина де Немура, что не сможет скрыть от мужа своего смятения при виде его,
и зная также, что одно присутствие герцога уже оправдывает его в ее глазах и
развеивает всю ее решимость, надумала сказаться больной. Двор был слишком
занят, чтобы обращать внимание на ее поведение и гадать, была ли ее болезнь
настоящей или притворной. Только муж ее мог распознать истину, но ее и не
огорчило бы, если б он это сделал. Итак, она оставалась дома, не слишком
заботясь о готовящихся великих переменах; погруженная в собственные
размышления, она могла без помех им предаться. Все были при короле. Принц Клевский
время от времени приходил к ней рассказать новости. Он вел себя с ней как
обыкновенно, и только когда они оставались одни, он был чуть более холоден и
чуть менее свободен. Он не заговаривал с ней больше о том, что произошло; и
у нее не было сил возобновлять такие беседы, да она и не считала это уместным.
Господин де Немур, который надеялся улучить минуту и поговорить с
принцессой Клевской, был весьма удивлен и раздосадован, что не имел даже
удовольствия ее видеть. Рана короля оказалась столь опасной, что на седьмой день
лекари объявили ему, что надежды нет. Он принял весть о своей неминуемой
кончине с необычайной твердостью, тем более поразительной, что
расставался с жизнью по столь злосчастной случайности, что умирал во цвете лет,
счастливый, боготворимый своим народом и любимый женщиной, которую сам
безумно любил. Накануне смерти он велел обвенчать Мадам, свою сестру, с
герцогом Савойским, безо всяких пышных церемоний. Нетрудно вообразить,
в каком состоянии была герцогиня де Валантинуа. Королева не позволила ей
увидеться с королем и послала к ней потребовать королевские печати и
драгоценности, которые у нее хранились. Герцогиня осведомилась, умер ли король;
и когда ей сказали, что нет, ответила:
— Стало быть, у меня еще нет повелителя, и никто не может заставить меня
отдать то, что он доверил мне хранить.
Как только он испустил дух в замке Турнель, герцог Феррарский, герцог
де Гиз и герцог де Немур сопроводили в Лувр королеву-мать, короля и
королеву, его супругу. Господин де Немур вел королеву-мать. Когда они
двинулись с места, она отступила на несколько шагов и сказала королеве,
своей невестке, что та должна пройти первой; но нетрудно было заметить, что
в этой учтивости заключалось больше горечи, чем заботы о соблюдении
приличий.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Кардинал Лотарингский получил безраздельную власть над помыслами
королевы-матери; видам де Шартр вовсе лишился ее милости, а любовь к госпоже
де Мартиг и к свободе мешала ему даже почувствовать эту потерю так живо,
как она того заслуживала. Кардинал за десять дней болезни короля имел
время определиться в своих замыслах и убедить королеву принять решения,
которые с этими замыслами согласовались; так что сразу по смерти короля
королева велела коннетаблю оставаться в Турнеле при теле покойного и
заняться обыкновенными в таких случаях церемониями. Это поручение оторвало его
от всего происходившего и лишило свободы действий. Он послал к королю
Наваррскому с просьбой спешно приехать, чтобы они могли совместно
противостоять небывалому возвышению Гизов, которое, как он видел, готовилось.
Командование армией было отдано герцогу де Гизу, а распоряжение
финансами — кардиналу Лотарингскому. Герцогиня де Валантинуа была отлучена от
двора; вернули кардинала де Турнона, заклятого врага коннетабля, и канцлера
Оливье, заклятого врага герцогини де Валантинуа. Одним словом, лицо двора
совершенно переменилось. Герцог де Гиз наравне с принцами крови нес
королевскую мантию во время погребальных церемоний; он и его братья стали
полновластными хозяевами в королевстве не только благодаря влиянию кардинала на
королеву, но и потому, что королева полагала, будто всегда сможет их удалить,
если они вызовут ее неудовольствие, тогда как с коннетаблем она бы так
поступить не могла, ибо он пользовался поддержкой принцев крови.
По завершении траурных церемоний коннетабль явился в Лувр; король
принял его весьма холодно. Он хотел поговорить наедине, но король позвал
господ де Гизов и при них сказал коннетаблю, что советует ему уйти на
покой; что есть кому распоряжаться финансами и начальствовать над армией,
и что если ему понадобятся советы коннетабля, то он призовет его к себе.
Затем коннетабль был принят королевой-матерью — еще более холодно, чем
королем; она даже попрекнула его тем, что он говорил королю, будто его дети
на него не похожи. Прибыл король Наваррский; его приняли не лучше.
Принц де Конде, менее терпеливый, чем его брат, громко возмущался;
возмущение его было напрасно, его удалили от двора, послав во Фландрию
подписывать ратификацию мирного договора. Королю Наваррскому показали
подложное письмо от короля Испании с обвинениями в том, что он
нападает на испанские города; ему внушили опасения за его земли и наконец убеди-
292
Принцесса Клевская
ли в необходимости возвращаться в Беарн. Королева дала ему и предлог для
этого, поручив сопровождать принцессу Елизавету и даже обязав его поехать
вперед; так при дворе не осталось никого, кто мог бы уравновешивать
могущество дома Гизов.
Хотя для принца Клевского было огорчительно, что не он повезет принцессу
Елизавету, но сан того, кого ему предпочли, лишал его оснований для обиды;
однако он жалел об этой поездке не столько из-за почестей, с ней сопряженных,
сколько из-за того, что это была возможность удалить его жену от двора так,
чтобы не было заметно желание ее удалить.
Вскоре после смерти короля было решено ехать в Реймс для коронации. Как
только начались разговоры об этом путешествии, принцесса Клевская, которая
оставалась дома, притворяясь больной, стала просить мужа позволить ей не
следовать за двором и уехать в Куломье подышать воздухом и позаботиться о
своем здоровье. Он отвечал, что не хочет вникать, действительно ли слабое
здоровье мешает ей проделать путешествие в Реймс, но согласен, чтобы она его не
совершала. Он охотно согласился с принятым ею решением: сколь бы высоко он
ни ценил добродетель своей жены, он отлично видел, что благоразумие
требует не подвергать ее более опасности встречаться с мужчиной, которого она
любит. Господин де Немур вскоре узнал, что принцесса Клевская не будет
следовать за двором; он не мог уехать, не повидав ее, и накануне отъезда отправился
к ней так поздно, как только позволяли приличия, в надежде застать ее одну. Во
дворе ее дома он встретил госпожу де Невер и госпожу де Мартиг, выходивших
от нее; они сказали, что оставили ее в одиночестве. Он вошел в дом с таким
волнением, какое могло сравниться только с волнением принцессы Клевской,
когда ей сказали, что ее хочет видеть господин де Немур. Страх, что он заговорит
с нею о своей страсти, опасение ответить ему слишком благосклонно, тревога,
которую этот визит может внушить ее мужу, мысль о том, как трудно будет все
ему рассказать или все от него скрыть, мгновенно промелькнули в ее уме и
привели ее в такое смятение, что она решилась избежать того, чего, быть может,
более всего желала. Она послала одну из своих прислужниц к господину де
Немуру, ожидавшему в передней комнате, сказать, что внезапно почувствовала
себя дурно и весьма огорчена, что не может принять чести, которую он пожелал
ей оказать. Как горько было герцогу не увидеться с принцессой Клевской, и не
увидеться потому, что она этого не хотела! Он уезжал на следующий день;
никаких надежд на счастливый случай у него не оставалось. Он не говорил с нею
после той беседы у дофины и имел основания полагать, что неосторожность
проговориться видаму разрушила все его упования; итак, он уезжал, испытывая все,
что только могло сделать его боль еще острее.
Как только принцесса Клевская немного оправилась от смятения, в которое
поверг ее визит герцога, все доводы, заставившие ее отказать ему, исчезли; она
даже сочла, что совершила ошибку, и если бы осмелилась или если бы на то
было еще время, то велела бы его вернуть.
Госпожа де Невер и госпожа де Мартиг, выйдя от нее, отправились к
дофине; там был и принц Клевский. Дофина спросила, откуда они сейчас; они
отвечали, что были у принцессы Клевской, где провели часть вечера в многолюд-
Часть четвертая
293
ном обществе и что остался там только господин де Немур. Эти слова,
которые им казались ничего не значащими, не были таковы для принца Клевско-
го. Хотя он отлично понимал, что господин де Немур мог иметь множество
случаев поговорить с его женой, мысль о том, что он был у нее, что он был там
один и мог говорить о своей любви, показалась ему в тот миг столь
неожиданной и невыносимой, что ревность разгорелась в его сердце жарче, чем когда бы
то ни было. Он не мог оставаться у королевы; он вернулся, не зная сам, зачем
это делает и собирается ли прервать беседу господина де Немура с принцессой.
Подъехав к дому, он стал высматривать, нет ли каких-либо признаков,
позволяющих понять, там ли еще герцог; он почувствовал облегчение, увидев, что его
уже нет; ему приятно было думать, что герцог не мог пробыть там долго. Он
предположил, что, быть может, вовсе и не к господину де Немуру ему
следует ревновать жену, и хотя он в том не сомневался, но искал повода
усомниться; однако его убеждало в том такое множество доказательств, что он недолго
пребывал в столь желанной неопределенности. Он сразу же прошел в
спальню жены и, поговорив с ней какое-то время о вещах посторонних, не смог
удержаться и спросил, что она делала и кого видела; она ему рассказала. Заметив,
что она не упомянула господина де Немура, он спросил, трепеща,
перечислила ли она всех, кого видела, чтобы дать ей возможность назвать герцога и не
страдать от того, что она с ним хитрит. Но поскольку она не видела герцога,
то и не назвала его, и принц Клевский продолжал, тоном голоса выдавая свое
волнение:
— А господин де Немур, — сказал он, — вы его не видели или забыли назвать?
— Я и вправду его не видела, — отвечала она, — я почувствовала себя дурно
и послала извиниться перед ним.
— Вы почувствовали себя дурно только для него, — возразил принц
Клевский. — Коль скоро вы приняли всех, отчего такое отличие для господина де
Немура? Отчего он для вас не такой, как другие? Отчего вы должны бояться
встречи с ним? Отчего вы позволяете ему увидеть, что ее боитесь? Отчего вы
даете ему понять, что пользуетесь той властью, которую его страсть дает вам
над ним? Отважились ли бы вы отказаться его принять, если бы не были
уверены, что он не сочтет вашу суровость неучтивостью? И отчего вы должны
быть с ним суровы? У такой женщины, как вы, сударыня, знаком особой
благосклонности становится все, кроме безразличия.
— Какие бы подозрения вы ни питали относительно господина де Немура, —
проговорила принцесса Клевская, — я не предполагала, что вы будете упрекать
меня за то, что я с ним не виделась.
— И все же я это делаю, сударыня, — отвечал он, — и у меня есть для того
основания. Отчего не видеться с ним, если он ничего вам не сказал? Но он
говорил с вами, мадам; если бы о его страсти свидетельствовало только его
молчание, оно не произвело бы на вас столь сильного впечатления. Вы не смогли
мне сказать всю правду, вы скрыли от меня большую ее часть; вы
раскаиваетесь даже в том немногом, в чем мне признались, и не в силах продолжить. Я
несчастней, чем я думал, я несчастнейший из людей. Вы моя жена, я люблю вас,
как возлюбленную, и вижу, что вы любите другого. Этот другой — самый при-
294
Принцесса Клевская
влекательный мужчина при дворе, он видит вас каждый день, он знает, что вы
его любите. Ах! — воскликнул он. — Я мог подумать, что вы совладаете со своей
страстью к нему. Должно быть, я потерял рассудок, если поверил, что такое
возможно.
— Не знаю, — печально отвечала принцесса Клевская, — были ли вы
неправы, истолковав благосклонно мой столь необычный поступок; но ошибалась ли
я, поверив, что вы будете ко мне справедливы?
— Не сомневайтесь в том, сударыня, — сказал принц Клевский, — вы
ошиблись; вы ожидали от меня вещей столь же невозможных, как я ожидал от вас.
Как могли вы надеяться, что я сохраню рассудительность? Стало быть, вы
забыли, что я безумно вас люблю и что я ваш муж? Одного из этих обстоятельств
довольно, чтобы довести до крайности; что же могут наделать оба вместе? Ах!
Чего они уже не наделали? — продолжал он. — Я испытываю чувства
неистовые и смутные и не властен над ними. Я вижу, что уже не достоин вас; мне
кажется, что вы более недостойны меня. Я боготворю вас, я вас ненавижу; я
оскорбляю вас и прошу у вас прощения; я восхищаюсь вами и стыжусь своего
восхищения. Не знаю, как я мог жить после нашего разговора в Куломье,
после того дня, когда узнал от дофины, что ваша история стала известна. Не
стану допытываться, как она стала известна и что произошло по этому поводу
между господином де Немуром и вами; вы никогда мне этого не объясните, и
я не требую от вас объяснений. Я только прошу вас помнить, что вы сделали
меня несчастнейшим человеком на свете.
Произнеся эти слова, принц Клевский вышел из спальни жены и на
следующий день уехал, не повидавшись с нею; но он написал ей письмо, полное
печали, благородства и нежности. В ответ она послала ему письмо столь
трогательное, заключавшее в себе такие уверения в невинности ее поведения в
прошлом и того, какое изберет она для себя в будущем, что, поскольку заверения
эти были правдивы и чувства ее действительно были таковы, письмо это
произвело большое впечатление на принца Клевского и немного его успокоило. К
тому же господин де Немур был, как и он, при короле, и он мог быть уверен,
что герцога нет там, где находится принцесса Клевская. Всякий раз, когда
принцесса говорила с мужем, его страсть к ней, благородство его обхождения
с нею, добрые чувства, которые она к нему питала, и ее долг перед ним
производили такое действие в ее душе, что мысль о господине де Немуре слабела;
но это длилось недолго, и вскоре мысль о герцоге возвращалась еще более
живой и настойчивой, чем прежде.
В первые дни после отъезда она почти не чувствовала его отсутствия; затем
разлука показалась ей жестокой. С тех пор, как она его полюбила, не было ни
дня, когда бы она не боялась или не надеялась его встретить, и ей было
тяжело думать, что случай не властен более устроить их встречу.
Она уехала в Куломье и, отправляясь, позаботилась о том, чтобы туда
перевезли большие картины, которые она велела скопировать с тех, что
герцогиня де Валантинуа заказала для своего дворца в Ане. На этих картинах были
изображены все замечательные события, случившиеся в царствование короля
Генриха. Среди прочих была там и осада Меца, и все, кто в ней отличился,
Часть четвертая
295
были нарисованы очень похоже. Господин де Немур был из их числа, и,
возможно, поэтому принцесса Клевская пожелала иметь эти картины.
Госпожа де Мартиг, которая не могла поехать со всем двором, обещала ей
провести несколько дней в Куломье. Благорасположение королевы, которое
они делили, не рождало в них зависти и не отдаляло их друг от друга; они были
дружны, хотя и не поверяли одна другой своих чувств. Принцесса Клевская
знала, что госпожа де Мартиг любит видама; но госпожа де Мартиг не знала
ни что принцесса Клевская любит господина де Немура, ни что он ее любит.
Принцесса Клевская была племянницей видама, и это делало ее еще дороже
госпоже де Мартиг; а принцесса Клевская любила ее как женщину, питавшую
такую же страсть, как и она, и притом к близкому другу ее возлюбленного.
Госпожа де Мартиг приехала в Куломье, как и обещала принцессе Клев-
ской, и увидела, что та ведет жизнь весьма уединенную. Принцесса даже искала
способов оставаться в полном одиночестве и проводила вечера в саду без
своих домочадцев. Она приходила в тот домик, где господин де Немур ее
подслушал, садилась в комнате, выходившей в сад. Ее камеристки и слуги оставались
в другой комнате или снаружи и не входили к ней, пока она их не звала.
Госпожа де Мартиг никогда не видела Куломье; она была поражена всеми его
красотами, в особенности же очарованием этого домика. Они с принцессой
Клевской проводили там все вечера. Они были там одни; эта свобода и ночь
в прекраснейшем месте на свете рождали нескончаемые беседы двух молодых
женщин, таивших пылкие страсти в своих сердцах; и хотя они не делали друг
другу признаний, но находили великое удовольствие в разговорах между собой.
Госпоже де Мартиг было бы грустно покидать Куломье, если бы, покидая его,
она не отправлялась туда, где был видам. Она ехала в Шамбор, где
находился двор в то время.
В Реймсе кардинал Лотарингский совершил обряд коронации, а остаток
лета двор собирался провести в недавно построенном замке Шамбор. Королева
очень обрадовалась, увидев снова госпожу де Мартиг; и, дав ей множество
свидетельств своей радости, стала расспрашивать о принцессе Клевской и о том,
что та делала в деревне. Господин де Немур и принц Клевский также были в
то время у королевы. Госпожа де Мартиг, которая находила Куломье
восхитительным, описывала все его красоты и особенно подробно рассказывала о
лесном домике и о том, как принцесса Клевская любит проводить в нем одна часть
ночи. Господин де Немур достаточно знал это место, чтобы понимать, о чем
говорила госпожа де Мартиг; он подумал, что для него было бы не совсем
невозможно увидеть там принцессу Клевскую так, чтобы его видела только она.
Он задал госпоже де Мартиг несколько вопросов, с тем чтобы получить
сведения более точные; и принц Клевский, не сводивший с него глаз, пока
говорила госпожа де Мартиг, словно увидел, что происходило в тот миг в его уме.
Вопросы, заданные герцогом, еще укрепили его в этой мысли, так что он не
сомневался более, что у герцога явилось намерение повидаться с его женой.
Намерение это так овладело душой господина де Немура, что, проведя ночь в
размышлениях о способах его исполнить, он наутро попросил короля отпустить его
в Париж, придумав для того какой-то предлог.
296
Принцесса Клевская
Принц Клевский не сомневался в цели этого путешествия, но решился
удостовериться в поведении своей жены и не оставаться более в мучительной
неопределенности. Он хотел было отправиться одновременно с господином де
Немуром, чтобы самому тайком убедиться, каким успехом увенчается это
путешествие; но, опасаясь, что отъезд его может вызвать подозрения и господин
де Немур, будучи предупрежден, примет иные меры, он решился довериться
одному из своих дворян, чья преданность и сообразительность были ему
известны. Он поведал этому дворянину, в каком затруднительном положении
оказался. Он рассказал, сколь добродетельно было до той поры поведение
принцессы Клевской, и велел ему ехать по пятам за господином де Немуром,
тщательно за ним наблюдать и узнать, поедет ли он в Куломье и проникнет ли ночью
в сад.
Дворянин, который был весьма пригоден для такого поручения, исполнил его
со всей возможной точностью. Он следовал за господином де Немуром до
деревушки в полулье от Куломье, где герцог остановился для того (как легко
догадался этот дворянин), чтобы там дождаться ночи. Он не счел разумным
дожидаться там и самому; он миновал деревню и остался в лесу, в том месте,
через которое, как он рассудил, господин де Немур должен будет проходить; и он
не ошибся в своих расчетах. Как только наступила ночь, он услышал звук
шагов и, хотя было темно, без труда узнал господина де Немура. Он увидел, что
тот обходит сад, словно вслушиваясь, нет ли там кого, и выбирая место, где
легче всего туда проникнуть. Изгородь была высока, а за ней была сделана и
другая, чтобы никто не мог пробраться, так что попасть туда было весьма
трудно. Но господину де Немуру это удалось; оказавшись в саду, он тотчас догадался,
где была принцесса Клевская. Он увидел яркий свет в кабинете; все окна там
были открыты, и, пробираясь вдоль изгороди, он приблизился к домику с таким
трепетом и волнением, какие легко вообразить. Он поместился у одного из окон,
служившего дверью, и стал смотреть, что делает принцесса Клевская. Он
увидел, что она одна; и красота ее показалась ему столь восхитительной, что он едва
мог обуздать свой восторг, рожденный этим зрелищем. Ночь была теплая, и ее
голова и плечи были покрыты лишь небрежно убранными волосами. Она сидела
на кушетке за столиком, на котором помещалось много корзинок с лентами; она
выбрала несколько лент, и господин де Немур заметил, что они были тех же
цветов, в какие он был одет на турнире. Он увидел, что она повязала из них
банты на весьма необычную индийскую трость, которую он носил какое-то
время, а потом отдал сестре; у нее принцесса Клевская и взяла эту трость, не
показывая виду, что знает, кому она принадлежала. Покончив с этим делом, с тем
прелестным и нежным выражением, которое придавали ее лицу таившиеся в ее
сердце чувства, она взяла факел и подошла к большому столу перед картиной,
изображавшей осаду Меца, где был и портрет господина де Немура; она села
и принялась разглядывать этот портрет с таким вниманием и погруженностью
в свои грезы, какие может внушить только страсть.
Нельзя передать, что чувствовал господин де Немур в ту минуту. Увидеть
среди ночи в прекраснейшем месте на свете обожаемую женщину; увидеть,
оставаясь невидимым для нее; увидеть ее поглощенной тем, что было с ним связано,
Часть четвертая
297
и той страстью, которую она от него скрывала, — этого никогда не испытывал и
не мог вообразить ни один другой влюбленный.
Герцог настолько не владел собою, что стоял неподвижно, глядя на принцессу
Клевскую и забыв, что мгновения для него драгоценны. Когда он немного
пришел в себя, то подумал, что ему следует подождать, когда она выйдет в сад,
чтобы поговорить с нею; он полагал, что так будет безопаснее, потому что она
будет дальше от своих прислужниц; но, видя, что она остается одна в комнате,
принял решение туда войти. Какой трепет его охватил, когда он попытался это
решение исполнить! Какой страх ее рассердить! Какая боязнь изменить
выражение этого лица, в котором было столько нежности, и увидеть, как оно
становится суровым и гневным!
Он счел себя безумцем, не потому, что пришел увидеть принцессу
Клевскую, будучи невидимым для нее, но потому, что захотел ей показаться на
глаза; он понял все, о чем не подумал раньше. Ему показалось неприличной
дерзостью намерение застать врасплох, среди ночи, женщину, которой он еще
никогда не говорил о своей любви. Он решил, что не должен надеяться на то,
что она пожелает его выслушать, и что она будет вправе гневаться на него за
ту опасность встретиться со всякими неприятными случайностями, которую он
на нее навлекает. Все мужество его покинуло, и он несколько раз был готов
уйти без того, чтобы она его увидела. И все же, движимый желанием
поговорить с нею и ободренный надеждами, которые внушало ему все, что он увидел,
он сделал вперед несколько шагов, но таких неверных, что его перевязь
зацепилась за окно, и оно скрипнуло. Принцесса Клевская повернула голову, и
оттого ли, что мысли ее были полны герцогом, или оттого, что он оказался в том
месте, где на него падал свет и она могла его разглядеть, но ей показалось, что
она узнала его, и, не раздумывая и не оборачиваясь в его сторону, она вошла
в ту комнату, где были ее прислужницы. Она была в таком волнении, что
принуждена была, чтобы его скрыть, сказать, что почувствовала себя дурно; она
сказала это также и для того, чтобы занять всех своих людей и дать
господину де Немуру время уйти. Поразмыслив немного, она сочла, что ошиблась и что
только обман воображения заставил ее поверить, будто она видела господина
де Немура. Она знала, что он в Шамборе, ей казалось совершенно
невероятным, чтобы он решился на такую опасную затею; несколько раз она хотела
было вернуться в кабинет и посмотреть, есть ли кто-нибудь в саду. Быть может,
она столь же хотела увидеть там господина де Немура, сколько боялась этого;
но наконец благоразумие и осторожность взяли верх над всеми прочими ее
чувствами, и она сочла, что лучше по-прежнему оставаться в сомнениях, чем
отважиться их развеять. Ей понадобилось много времени, чтобы решиться уйти
из того места, вблизи которого, как она думала, мог быть герцог, и, когда она
вернулась в замок, уже почти рассвело.
Господин де Немур оставался в саду до тех пор, пока видел свет; он не
терял надежды увидеть принцессу Клевскую еще раз, хотя был уверен, что она
его узнала и ушла только для того, чтобы избежать встречи с ним; но, увидев,
что запирались двери, он рассудил, что надеяться больше не на что. Он
вернулся за своим конем, неподалеку от того места, где поджидал дворянин принца
298
Принцесса Клевская
Клевского. Дворянин последовал за ним до той самой деревни, откуда он
выехал вечером. Господин де Немур решил пробыть там весь день, а ночью
вернуться в Куломье и узнать, будет ли принцесса Клевская снова так жестока,
чтобы бежать от него или скрываться от его глаз; и хотя он испытывал живую
радость оттого, что увидел, как она полна мыслями о нем, все же его весьма
печалил ее столь естественный порыв от него бежать.
Никогда еще страсть не была столь нежной и пылкой, как у герцога в то
время. Он удалился под сень ив, что росли вдоль ручья, протекавшего позади
дома, где он скрывался. Он искал уединения, насколько возможно, чтобы никто
не видел и не слышал его; он предавался восторгам своей любви, и сердце его
так сжималось, что он не мог удержаться от слез; но это были не те слезы, что
проливаются от одной только скорби, к ним примешивались сладость и
очарование, которые дарит лишь любовь.
Он стал перебирать в памяти все поступки принцессы Клевской с тех пор,
как он ее любил; с какой добродетельной и стыдливой суровостью всегда
обходилась она с ним, хотя и любила его! «Да, она любит меня, — говорил он себе, —
она любит меня, в том нет сомнений; самые щедрые обещания и самые
великие милости были бы не столь непреложными доказательствами любви, как те,
что я получил. И все же она держится со мной столь же строго, как если бы я
был ей ненавистен; я уповал на время, мне нечего больше ждать от него; я
вижу, что она по-прежнему обороняется от меня и от себя самой. Если бы она
меня не любила, я думал бы о том, как ей понравиться; но я ей нравлюсь, она
меня любит и скрывает это от меня. На что же я могу надеяться, каких
перемен в моей судьбе мне ожидать? Как! Неужто я любим прелестнейшей
женщиной на свете и питаю страсть такой силы, какую рождают лишь первые
свидетельства взаимности, для того только, чтобы острее чувствовать боль от ее
холодности? Не таите от меня, что вы меня любите, прекрасная принцесса, —
восклицал он, — не таите от меня своих чувств; ради того, чтобы узнать о них
от вас однажды в жизни, я примирился бы с тем, чтобы вы впредь всегда
обходились со мной с той же строгостью, какой удручаете меня теперь. Взгляните
на меня хотя бы теми же глазами, какими вы сегодня ночью глядели на мой
портрет; как вы можете смотреть на него с такой нежностью и убегать от меня
так жестоко? Чего вы боитесь? Почему моя любовь так страшна для вас? Вы
любите меня, вы скрываете это от меня напрасно; вы сами невольно дали мне
свидетельства своей любви. Я знаю о своем счастье; позвольте мне
насладиться им, не делайте меня больше несчастным. Возможно ли, — продолжал он, —
чтобы принцесса Клевская меня любила, а я был несчастлив? Как прекрасна
она была этой ночью! Как мог я побороть желание броситься к ее ногам? Если
бы я это сделал, быть может, я не дал бы ей бежать от меня, почтение,
которое я ей бы выказал, ее бы успокоило; но, возможно, она меня и не узнала; я
терзаюсь больше, чем следует, и она просто испугалась, увидев какого-то
мужчину в столь необычный час».
Такие мысли занимали господина де Немура весь день; он дожидался ночи
с нетерпением и, когда она настала, снова отправился в Куломье. Дворянин
принца Клевского, переодевшись, чтобы быть менее заметным, последовал за ним до
Часть четвертая
299
того же места, что и накануне вечером, и видел, как он проник в тот же сад.
Герцог вскоре понял, что принцесса Клевская не хотела подвергаться
опасности его новых попыток ее увидеть; все двери были заперты. Он обошел сад со
всех сторон в надежде увидеть, что где-нибудь горит свет, — все было тщетно.
Принцесса Клевская, предполагая, что господин де Немур может
вернуться, оставалась у себя в спальне; она боялась, что не найдет в себе больше сил
бежать от него, и не хотела навлекать на себя риск говорить с ним таким
тоном, который плохо согласовался бы с ее обхождением с ним до сих пор.
Хотя у господина де Немура и не было никакой надежды ее увидеть, он не
мог решиться так быстро покинуть место, где она так часто бывала. Он провел
в саду всю ночь и нашел немного утешения в том, что хотя бы видел те
предметы, на которые она глядит всякий день. Солнце взошло прежде, чем он
собрался уходить, наконец страх, что его обнаружат, заставил его удалиться.
Он не мог уехать, не повидав принцессу Клевскую; он отправился к
госпоже де Меркёр, которая жила тогда в своем доме, что был неподалеку от Ку-
ломье. Она до крайности удивилась приезду брата. Он придумал какую-то
причину своего путешествия, достаточно правдоподобную, чтобы ее обмануть;
он исполнял свой замысел весьма искусно и добился того, что она сама
предложила ему навестить принцессу Клевскую. Они сделали это в тот же день, и
господин де Немур сказал сестре, что расстанется с нею в Куломье и спешно
вернется к королю. Он задумал расстаться с ней в Куломье для того, чтобы она
уехала оттуда первой; ему казалось, что он нашел верный способ поговорить
с принцессой Клевской.
Когда они приехали, она прогуливалась по широкой аллее, окаймлявшей
лужайку. Увидев господина де Немура, она пришла в немалое волнение; она не
могла больше сомневаться, что это его она видела прошлой ночью. Такая
уверенность вызвала у нее гнев на его затею, которую она сочла дерзкой и
неосторожной. Герцог заметил выражение холодности на ее лице, и это причинило ему
сильную боль. Беседа шла о вещах посторонних; и все же он сумел выказать в
ней столько остроумия, любезности и восхищения принцессой Клевской, что
против ее воли отчасти растопил ту холодность, с какой она его встретила.
Почувствовав, что первые его опасения не оправдались, он стал говорить о
своем великом желании пройтись и посмотреть на лесной домик. Он говорил
о нем как о самом приятном месте на свете и описывал его с такими
подробностями, что госпожа де Меркёр сказала, что он, должно быть, не раз там
побывал, коль скоро так хорошо знает все его красоты.
— Я, напротив, не думаю, — возразила принцесса Клевская, — что господин
де Немур когда-либо туда входил; домик этот лишь недавно достроен.
— Я и был там недавно, — отвечал господин де Немур, глядя на нее, — и не
знаю, должен ли я радоваться тому, что вы забыли, что меня там видели.
Госпожа де Меркёр любовалась садом и не обратила внимания на слова
брата. Принцесса Клевская покраснела и, потупив глаза и не глядя на господина
де Немура, сказала:
— Я не помню, чтобы вас там видела; а если вы там и были, то я об этом не
знала.
300
Принцесса Клевская
— Это правда, сударыня, — произнес господин де Немур, — я был там без
вашего позволения и провел самые сладостные и самые мучительные мгновения
в моей жизни.
Принцесса Клевская отлично понимала все, о чем говорил герцог, но ничего
не сказала в ответ; она думала, как помешать госпоже де Меркёр войти в ту
комнату, потому что там был портрет господина де Немура, и она не хотела,
чтобы госпожа де Меркёр его видела. Ей удалось устроить так, что время
незаметно протекло, и госпожа де Меркёр заговорила об отъезде. Но когда
принцесса Клевская увидела, что господин де Немур и его сестра не собирались
ехать вместе, она поняла, какой опасности подвергалась; она очутилась в таком
же затруднительном положении, как в Париже, и приняла такое же решение.
Страх, что этот визит еще укрепит ее мужа в его подозрениях, немало помог
ей собраться с мыслями; и чтобы господин де Немур не оставался с ней
наедине, она сказала госпоже де Меркёр, что проводит ее до опушки леса, и велела,
чтобы ее карета ехала за ними. Увидев, что принцесса Клевская не отступает
от своей неизменной суровости, герцог испытал такую боль, что внезапно
побледнел. Госпожа де Меркёр спросила, не стало ли ему плохо; но он взглянул
украдкой на принцессу Клевскую и дал ей понять, что у него нет иного
недуга, кроме отчаяния. Однако он принужден был расстаться с дамами, не смея
за ними следовать; после того, что он сказал, он не мог ехать вместе с сестрой;
итак, он вернулся в Париж и выехал оттуда на следующий день.
Дворянин принца Клевского все время за ним следил; он также вернулся в
Париж и, увидев, что господин де Немур поехал в Шамбор, помчался туда на
перекладных, чтобы его опередить. Его господин дожидался его возвращения,
словно оно должно было решить его участь.
Увидев его, принц сразу понял по его лицу и по его молчанию, что может
узнать от него только дурные вести. Какое-то время он предавался горю,
опустив голову и не чувствуя себя в состоянии говорить; наконец он сделал
дворянину знак удалиться.
— Ступайте, — сказал он, — я понял, что вы хотите мне сказать; но я не в
силах это выслушивать.
— Мне нечего вам сообщить такого, — отвечал дворянин, — на чем можно
было бы основать непреложное суждение. Верно то, что господин де Немур две
ночи подряд проникал в ближний к лесу сад и что на следующий день он был
в Куломье с госпожой де Меркёр.
— Довольно, довольно, — прервал его принц Клевский, снова делая ему знак
удалиться, — мне не нужно знать что-либо сверх этого.
Дворянин был принужден оставить своего господина погруженным в
отчаяние. Более горького отчаяния, быть может, еще не бывало на свете, и
немногие из людей, наделенные таким чувством чести и такой пылкой душой, как
принц Клевский, испытали одновременно и боль от неверности возлюбленной,
и стыд быть обманутым женой.
Принц Клевский не мог противиться обрушившемуся на него горю. Той же
ночью у него началась горячка, и с такими тяжелыми последствиями, что
болезнь сразу же показалась весьма опасной. Известили принцессу Клевскую, она
Часть четвертая
301
спешно приехала. К ее приезду принцу стало еще хуже, а она встретила
обхождение столь холодное, столь ледяное, что была этим до крайности удивлена и
опечалена. Ей казалось даже, что он с трудом принимает ее заботы; но затем
она сочла, что то было, возможно, действие болезни.
Когда она появилась в Блуа, где находился в то время двор, господин де Не-
мур не мог сдержать радости при мысли, что она пребывает там же, где и он.
Он пытался ее увидеть и всякий день являлся к принцу Клевскому, якобы для
того, чтобы справиться о его здоровье; все тщетно. Она не выходила из спальни
мужа и жестоко страдала, видя, в каком он состоянии. Господин де Немур был
в отчаянии от того, что она так горюет; он мог судить, как усиливает такое горе
те добрые чувства, которые она питала к принцу Клевскому, и каким опасным
отвлечением эти чувства служат для страсти, таившейся в ее сердце. Какое-то
время подобные размышления жестоко его печалили; но болезнь принца Клев-
ского была столь тяжела, что это рождало в нем новые надежды. Он видел, что
принцесса Клевская может обрести свободу следовать своим чувствам, и
будущее может стать для него чередой наслаждений и долгим блаженством. Эта
мысль приводила его в такое волнение, в такой восторг, что он был не в силах
ее сносить и гнал ее от себя из страха оказаться слишком несчастным, если
утратит свои надежды.
Тем временем лекари почти отказались от принца Клевского. В один из
последних дней болезни, проведя очень тяжелую ночь, он сказал утром, что ему
нужен покой. Принцесса Клевская была одна в его спальне; ей показалось, что
он погрузился не в покой, а в волнение. Она подошла к нему и опустилась на
колени у постели; лицо ее было залито слезами. Принц Клевский решился не
давать ей понять, какое жестокое горе она ему причинила; но заботы, которыми
она его окружала, и ее печаль, которая порой казалась ему искренней, а порой —
свидетельством притворства и измены, вызывали в нем чувства столь
различные между собой и столь мучительные, что он не смог таить их в себе.
— Вы проливаете много слез, сударыня, — сказал он ей, — из-за смерти,
которой вы причиной и которая не может рождать в вас такую скорбь, какую вы
выказываете. Я более не в силах делать вам упреки, — продолжал он голосом,
ослабевшим от болезни и скорби, — но я умираю от жестокого огорчения,
которое вы мне принесли. Возможно ли, чтобы поступок столь необычный, как
тот, что совершили вы, признавшись мне в Куломье, имел столь малые
последствия? Для чего вы рассказали мне о вашей страсти к господину де Немуру,
если ваша добродетель была уже бессильна ей противиться? Я любил вас так,
что меня было нетрудно обмануть, признаю это к своему стыду; я жалею о той
ложной безмятежности, из которой вы меня извлекли. Зачем вы не оставили
меня в том покойном неведении, в каком пребывает множество мужей? Быть
может, я так и не знал бы всю жизнь, что вы любите господина де Немура. Я
умру, — прибавил он, — но знайте, что вы делаете смерть любезной для меня,
а жизнь, лишившая меня уважения и нежности, которые я к вам питал,
внушала бы мне ужас. К чему мне жизнь, — продолжал он, — если я буду проводить
ее с женщиной, которую так любил и которой был так жестоко обманут, или
буду жить в разлуке с этой женщиной и дойду до ссор и насилия, столь против-
302
Принцесса Клевская
ных моему нраву и моей былой страсти к вам? Она простиралась дальше тех
пределов, что вы видели, сударыня; я таил от вас большую ее часть из страха
докучать вам или утратить немного вашего уважения, если бы обходился с
вами не так, как подобает мужу. Я заслуживал вашей любви; повторю снова:
я умираю без сожаления, потому что не смог ее добиться и не могу больше ее
желать. Прощайте, сударыня; когда-нибудь вы пожалеете о человеке, чья
страсть к вам была искрения и праведна. Вы испытаете страдания, которые
ждут разумных женщин в таких связях, и узнаете разницу между той
любовью, какой любил вас я, и той, какую вы получите от тех людей, что будут вам
клясться в любви, но искать будут лишь тщеславного удовольствия соблазнить
вас. Но моя смерть дает вам свободу, — прибавил он, — и вы сможете сделать
господина де Немура счастливым, не впадая в грех. Но какая важность, —
продолжал он, — что случится, когда меня уже не будет, и для чего мне иметь
слабость заглядывать туда!
Принцесса Клевская была так далека от мысли, что муж может иметь
какие-то подозрения на ее счет, что слушала эти слова, не понимая их, и
уразумев только то, что он упрекает ее за склонности к господину де Немуру;
наконец, внезапно исцелившись от своей слепоты, она воскликнула:
— Я и грех! Сама мысль о нем мне неведома. Самая строгая добродетель не
может подсказать иного поведения, чем то, что избрала я; и я не совершила ни
одного поступка, которому не желала бы иметь вас свидетелем.
— Вы желали бы, — возразил принц Клевский, глядя на нее с презрением, —
чтобы я был свидетелем ночей, которые вы провели с господином де Нему-
ром? Сударыня, о вас ли я говорю, говоря о женщине, проводящей ночи с
мужчиной?
— Нет, — отвечала она, — нет, не обо мне вы говорите. Я никогда не
проводила ни ночей, ни мгновений с господином де Немуром. Он никогда не
виделся со мной наедине; я никогда его не допускала, не слушала и могу в том
поклясться чем угодно...
— Не говорите больше ничего, — прервал ее принц Клевский. — Ложные
клятвы, быть может, причинили бы мне боли не меньше, чем признание.
Принцесса Клевская не могла отвечать: слезы и страдания лишили ее дара
речи; наконец, сделав над собою усилие, она сказала:
— Взгляните на меня хотя бы; выслушайте меня. Если бы речь шла только обо
мне, я снесла бы эти упреки; но речь идет о вашей жизни. Выслушайте меня ради
себя самого; не может быть, чтобы вся моя правда не убедила вас в моей
невинности.
— Дай Бог, чтобы вы смогли меня убедить! — воскликнул он. — Но что вы
можете мне сказать? Разве господин де Немур не приезжал в Куломье со
своей сестрой? И разве не провел он две предыдущие ночи с вами в ближнем к
лесу саду?
— Если в этом мой грех, — отвечала она, — то мне легко оправдаться. Я не
прошу вас верить мне; но поверьте всем вашим слугам, узнайте, выходила ли я в этот
сад накануне того дня, когда господин де Немур приезжал в Куломье, и не ушла
ли я оттуда в предыдущий вечер двумя часами раньше обыкновенного.
Часть четвертая
303
И она рассказала, как ей почудилось, что она видит кого-то в саду. Она
призналась, что подумала, будто это господин де Немур. Она говорила так
твердо, а истина убеждает так легко, даже когда она неправдоподобна, что принц
Клевский почти уверился в ее невинности.
— Не знаю, — сказал он ей, — должен ли я позволять себе вам верить. Я
чувствую, смерть моя так близко, что я не хочу видеть ничего такого, что могло
бы заставить меня сожалеть о жизни. Вы объяснили мне все слишком поздно;
но все равно мне будет облегчением унести с собой мысль, что вы были
достойны моего уважения к вам. Прошу вас дать мне еще утешение верить, что
память обо мне будет вам дорога и что, если б то было в вашей власти, вы
питали бы ко мне те чувства, которые питаете к другому.
Он хотел продолжать, но слабость помешала ему говорить. Принцесса Клев-
ская позвала лекарей; они нашли его почти бездыханным. Однако он
протомился еще несколько дней и наконец умер с удивительной твердостью духа.
Принцесса Клевская испытывала такую жгучую скорбь, словно лишилась
рассудка. Королева заботливо навестила ее и увезла в монастырь; она не
знала, куда ее везут. Ее невестки привезли ее обратно в Париж, когда она была
еще не в состоянии ясно сознавать свое горе. Когда же она стала обретать силы
думать о нем, когда она поняла, какого мужа потеряла, когда рассудила, что
сама была причиной его смерти и стала ею из-за страсти, которую питала к
другому, то почувствовала к себе самой и к господину де Немуру такое
отвращение, какое невозможно описать.
Поначалу герцог не смел выказывать ей иных знаков внимания, кроме тех,
что требовали приличия. Он достаточно хорошо знал принцессу Клевскую и
понимал, что большее участие было бы ей неприятно; но то, что он узнал
затем, открыло ему, что он еще долго будет принужден вести себя подобным
образом.
Состоявший при нем дворянин рассказал ему, что доверенный принца Клев-
ского, бывший с ним в близкой дружбе, поведал ему в порыве горя от утраты
своего господина, что поездка герцога в Куломье и была причиной его смерти.
Господин де Немур был до крайности удивлен этим рассказом; но,
поразмыслив, он отчасти угадал истину и понял, что должна была поначалу испытывать
принцесса Клевская и как она должна была чуждаться его, если полагала, что
болезнь ее мужа была вызвана ревностью. Он счел, что не следует даже
напоминать ей свое имя; так он и поступал, как ни тяжело ему это казалось.
Он приехал в Париж и все же, не удержавшись, отправился в ее дом
справиться о ней. Ему сказали, что она никого не принимает и запретила даже
докладывать, кто к ней являлся. Быть может, столь подробные приказания она
отдала, имея в виду герцога, чтобы не слышать упоминаний о нем. Господин
де Немур был влюблен слишком сильно, чтобы жить, вовсе не видя
принцессу Клевскую. Он решился найти средство переменить столь невыносимое для
него положение, как бы ни было это трудно.
Горе принцессы превосходило пределы, назначенные разумом. Мысль об
умершем муже, умершем из-за нее и с такой нежностью к ней, не покидала ее.
Она бесконечно вспоминала все, чем была ему обязана, и винила себя за то, что
304
Принцесса Клевская
не питала к нему любви, словно это было в ее власти. Утешение она
находила только в мысли о том, что оплакивает его, как он того заслуживает, и что
весь остаток жизни она будет делать только то, что радовало бы его, если б он
был жив.
Много раз она задумывалась о том, как он узнал, что господин де Немур
ездил в Куломье; она не предполагала, что сам герцог ему рассказал, и ей даже
казалось безразличным, сделал ли он это, настолько она считала себя
исцеленной и далекой от той страсти, что питала к нему. И все же она ощущала
живую боль при мысли, что он был причиной смерти ее мужа, и ей тяжело было
вспоминать, что принц Клевский, умирая, боялся, что она выйдет за него
замуж; но все эти чувства смешивались со скорбью от утраты мужа, и ей
казалось, что ничего иного, кроме этой скорби, она и не испытывала.
Когда прошло несколько месяцев, жгучее страдание отпустило ее, и она
погрузилась в печаль и тоску. Госпожа де Мартиг приехала в Париж и
участливо навещала ее, пока оставалась там. Она занимала принцессу рассказами о
дворе и обо всем, что там происходило; и хотя принцесса как будто не
выказывала никакого интереса к ее словам, госпожа де Мартиг продолжала
говорить, чтобы ее развлечь.
Она сообщила новости о видаме, о господине де Гизе и обо всех прочих, кто
отличался наружностью или достоинствами.
— Что до господина де Немура, — сказала она, — то не знаю, серьезные ли
дела заняли в его сердце место любовных увлечений; но он стал не так весел,
как прежде, и словно избегает сношений с женщинами. Он часто приезжает в
Париж; кажется, он и сейчас здесь.
Имя господина де Немура застало принцессу Клевскую врасплох и
вызвало краску на ее щеках. Она переменила предмет беседы, и госпожа де Мартиг
не заметила ее волнения.
На следующий день принцесса, которая искала занятий, подобающих ее
положению, отправилась к жившему поблизости человеку, известному тем, что
он работал по шелку особенным образом; принцесса хотела делать нечто
подобное. После того как он показал ей свои работы, она увидела дверь в другую
комнату, где, как она думала, были и прочие его изделия; она попросила
открыть эту дверь. Хозяин ответил, что у него нет ключа от нее и что эта
комната занята неким человеком, иногда приходящим туда днем, чтобы рисовать
красивые дома и сады, которые видны из этих комнат.
— Это человек прекраснейшей наружности на свете, — прибавил он, — и не
похоже, чтобы он принужден был зарабатывать себе на жизнь. Всякий раз,
когда он сюда приходит, я вижу, что он смотрит на дома и сады; но я никогда не
видел, чтобы он работал.
Принцесса Клевская слушала его рассказ с великим вниманием.
Она вспомнила, как госпожа де Мартиг говорила, что господин де Немур
бывает иногда в Париже, и эти слова соединились в ее воображении с тем
человеком прекрасной наружности, что приходил в дом поблизости от нее, и
внушили ей мысль о господине де Немуре, и притом о господине де Немуре,
пытающемся ее увидеть; это вызвало в ней смутную тревогу, причины которой
Часть четвертая
305
были ей непонятны. Она подошла к окнам взглянуть, куда они выходили;
оказалось, что из них был виден весь ее сад и ее покои. Вернувшись к себе в
комнату, она легко разглядела то самое окно, из которого, как ей сказали, смотрел
тот человек. Мысль, что это был господин де Немур, мгновенно изменила
расположение ее души; она не находила в себе больше того печального
спокойствия, к которому начинала привыкать, а чувствовала тревогу и волнение.
Наконец, не в силах оставаться наедине с собой, она отправилась подышать
воздухом в сад за предместьем, где надеялась никого не встретить. Приехав
туда, она сочла, что не ошиблась; она не заметила никаких признаков
присутствия других людей и прогуливалась довольно долго.
Выйдя из рощицы, она заметила в конце аллеи, в самом отдаленном месте
сада, нечто вроде открытой беседки и направилась туда. Приблизившись, она
увидела человека, который лежал на скамье и, казалось, был погружен в
глубокую задумчивость: она узнала в нем господина де Немура. Но тут
послышались шаги ее людей, шедших за нею, и это пробудило господина де Немура от
его грез. Не взглянув, кто был виной такого шума, он поднялся с места, чтобы
не встречаться с идущими к нему людьми, и свернул в другую аллею, отвесив
поклон столь низкий, что не мог даже видеть, кому кланялся.
Если бы он знал, от кого бежал, как стремительно бросился бы он назад; но
он все удалялся по аллее, и принцесса Клевская видела, как он вышел через
заднюю калитку, где его ожидала карета. Какие чувства вызвало в душе
принцессы Клевской это мимолетное зрелище! Как вспыхнула дремавшая в ее
сердце страсть и как жарко разгорелась! Она села в том уголке, который только
что покинул господин де Немур; силы словно оставили ее. Мыслям ее явился
герцог, прекраснейший из людей, давно ее любящий со страстью, исполненной
уважения и преданности, презревший для нее все, уважающий даже ее горе,
пытающийся ее увидеть, не стараясь, чтобы она видела его, покидающий двор,
украшением которого он был, чтобы поглядеть на скрывающие ее стены,
чтобы предаваться мечтам в таких уголках, где он не мог надеяться ее встретить;
человек, достойный любви уже за одну такую привязанность, и к которому она
питала склонность столь пылкую, что любила бы его, даже если бы он ее не
любил; наконец, человек самого высокого и равного ей происхождения. Ни долг, ни
добродетель не противились более ее чувствам; все препятствия были
устранены, и из их прошлого осталась только страсть господина де Немура к ней и ее
страсть к нему.
Все эти мысли были внове для принцессы. Она была слишком поглощена
своим горем о смерти принца Клевского, чтобы они приходили ей на ум.
Появление господина де Немура привело их толпой, но когда они заполонили ее
и она вспомнила, что этот человек, на которого она смотрела как на
возможного супруга, был также тот, кто любил ее при жизни ее мужа и был
причиной его смерти, что, даже умирая, супруг не скрыл от нее своего страха, что она
выйдет замуж за этого человека, — то подобные мечты стали так
оскорбительны для ее суровой добродетели, что брак с господином де Немуром показался
ей грехом не меньшим, чем казалась любовь к нему при жизни мужа. Она
предалась этим размышлениям, столь враждебным ее счастью; она еще под-
20. Заказ № К-6559
306
Принцесса Клевская
крепила их многими доводами касательно ее покоя и тех бед, которые она
предвидела для себя в браке с герцогом. Наконец, проведя в том месте два
часа, она вернулась к себе в убеждении, что должна избегать встреч с ним как
вещи совершенно противной ее долгу.
Но это убеждение, рожденное ее разумом и добродетелью, не затронуло ее
сердца. Оно по-прежнему влеклось к господину де Немуру с такой пылкостью,
которая делала ее достойной сострадания и не давала ей больше покоя; она
провела одну из самых ужасных ночей за всю свою жизнь. Наутро первым ее
движением было взглянуть, есть ли кто-нибудь в окне напротив; она вышла и
увидела в нем господина де Немура. Это было для нее неожиданно, и она
скрылась с поспешностью, по которой господин де Немур понял, что она его узнала.
Он часто желал, чтобы это случилось, с тех пор как страсть заставила его
искать способов увидеть принцессу Клевскую; а когда он не надеялся на такое
счастье, то отправлялся помечтать в тот сад, где она его и встретила.
Наконец столь печальное и неопределенное положение стало ему
невыносимо, и он решился испробовать какие-то пути, чтобы выяснить свою участь.
«Чего я жду? — говорил он себе. — Я давно знаю, что она меня любит; она
свободна, у нее нет больше долга противиться мне. Для чего мне сдерживать себя
и только смотреть на нее издали, не попадаясь ей на глаза и не заговаривая с
ней? Возможно ли, чтобы любовь настолько лишила меня разума и смелости
и сделала меня столь непохожим на того, каким я был в других моих страстях?
Я должен уважать скорбь принцессы Клевской; но я уважаю ее слишком
долго и тем даю принцессе время загасить ее склонность ко мне».
После таких размышлений он стал думать о средствах, которые ему
следовало употребить, чтобы увидеться с нею. Он счел, что у него нет больше
причин скрывать свою страсть от видама де Шартра. Он решился поговорить с
видамом и объявить ему свои намерения относительно его племянницы.
Видам был тогда в Париже; все съехались туда готовить себе экипажи и
наряды, чтобы сопровождать короля, который должен был везти королеву
Испании. Господин де Немур отправился к видаму и искренне признался ему во
всем, что до той поры от него скрывал, за исключением чувств к нему
принцессы Клевской; он не хотел показывать, что их знает.
Видам выслушал его рассказ с великой радостью и уверил его, что, даже не
зная о его чувствах, он часто думал с тех пор, как принцесса Клевская овдовела,
что она единственная женщина, достойная его. Господин де Немур просил его
устроить так, чтобы он мог поговорить с ней и узнать, в каком она
расположении.
Видам предложил свезти его к ней; но господин де Немур рассудил, что она
сочтет это неуместным, поскольку никого еще не принимала. Они сошлись на
том, что видам под каким-нибудь предлогом попросит ее приехать к нему, а
господин де Немур поднимется туда по потайной лестнице, чтобы его никто не
увидел. Все произошло так, как они задумали: принцесса Клевская приехала,
видам вышел ее встречать и провел в большую комнату в глубине своих покоев.
Спустя какое-то время там появился господин де Немур, словно бы заехал
случайно. Принцесса Клевская была до крайности поражена, увидев его; она
Часть четвертая
307
зарделась и постаралась скрыть свой румянец. Видам поговорил сначала о
посторонних предметах, а затем вышел, сославшись на то, что должен отдать кой-
какие распоряжения. Принцессе Клевской он сказал, что просит ее оказать
честь его дому и что он скоро вернется.
Трудно выразить, что почувствовали господин де Немур и принцесса Клев-
ская, впервые оказавшись наедине и получив возможность поговорить. Какое-
то время они оставались безмолвны; наконец господин де Немур нарушил
молчание, сказав:
— Простите ли вы господину де Шартру, сударыня, что он дал мне случай
увидеть вас и поговорить с вами, чего вы всегда так жестоко меня лишали?
— Я не должна ему прощать, — отвечала она, — что он забыл, в каком я
положении и какой опасности он подвергает мое доброе имя.
Произнеся эти слова, она хотела уйти; но господин де Немур удержал ее,
возразив:
— Не бойтесь ничего, сударыня; никто не знает, что я здесь, и никакие
опасности вас не подстерегают. Выслушайте меня, сударыня, выслушайте меня если
не по доброте, то хотя бы ради себя самой, чтобы избавить себя от тех
крайностей, куда неизбежно завлечет меня страсть, над которой я более не властен.
Принцесса Клевская в последний раз уступила своему чувству к господину
де Немуру и, устремив на него нежный и пленительный взгляд, сказала:
— Но чего вы ждете от той милости, которой у меня просите? Вы, быть
может, раскаетесь в том, что добились ее, а я непременно буду раскаиваться, что
ее вам оказала. Вы заслуживаете участи более счастливой, чем та, что
выпадала вам до сих пор и может поджидать вас в будущем, если только вы не
поищете ее в другом месте!
— Мне искать счастья в другом месте, сударыня! — воскликнул он. — Да есть
ли другое счастье, кроме как быть любимым вами? Хотя я ни разу не говорил
с вами, я не могу поверить, что вы не знаете о моей страсти и не знаете, что это
страсть самая искренняя и пылкая, какая только может быть. Какому она
подвергалась испытанию из тех, что вам неведомы! И какому испытанию вы
подвергаете ее вашей суровостью!
— Коль скоро вы хотите, чтобы я объяснилась с вами и я на это решилась, —
отвечала принцесса Клевская, садясь, — я буду говорить с такой откровенностью,
какая не свойственна обыкновенно особам моего пола. Не стану вам говорить, что
я не замечала ваших чувств ко мне; быть может, вы мне и не поверили бы, если
б я это сказала. И вот я признаюсь вам не только в том, что их видела, но и что
я видела их такими, какими вы желали бы мне их представить.
— Но если вы их видели, сударыня, — прервал он ее, — возможно ли, чтобы
они вас не тронули? И смею ли я вас спросить: неужто они вовсе не оставили
впечатления в вашем сердце?
— Вы можете судить о том по моему поведению, — сказала принцесса, — но
я хотела бы знать, что вы об этом думаете.
— Я должен быть счастливее, чтобы осмелиться вам это сказать, — отвечал
он, — и мой удел никак не соотносится с тем, что я бы вам сказал.
Единственное, что я могу поведать вам, сударыня, — это страстное желание, чтобы вы не
308
Принцесса Клевская
признавались принцу Клевскому в том, что скрывали от меня, и чтобы вы
скрывали от него то, что дали мне увидеть.
— Как вы могли узнать, — спросила она, покраснев, — что я в чем-то
призналась принцу Клевскому?
— Я узнал это от вас самой, сударыня, — сказал он, — но чтобы простить мне
дерзость вас подслушивать, вспомните, злоупотребил ли я тем, что услышал,
пошел ли я дальше в своих надеждах и стал ли более настойчив в попытках
поговорить с вами?
Он начал ей рассказывать, как случилось, что он слышал ее беседу с
принцем Клевским; но она прервала его, не дав ему закончить.
— Не говорите мне больше ничего, — сказала она, — теперь я вижу, откуда
вы так хорошо осведомлены. Вы уже показались мне слишком сведущим у
дофины, которая узнала эту историю от тех, кому вы ее поведали.
Тут господин де Немур рассказал ей, как все это произошло.
— Не надо оправдываться, — возразила она, — я давно вас простила, даже без
ваших объяснений. Но коль скоро вы узнали от меня самой то, что я
намеревалась скрывать от вас всю свою жизнь, я признаюсь вам, что вы внушили мне
чувства, которые были мне неведомы до встречи с вами и о которых я имела так
мало понятия, что поначалу они были мне удивительны, и это еще усилило то
смятение, какое обыкновенно их сопровождает. Я делаю вам это признание с
меньшим стыдом, так как делаю его тогда, когда могу при этом не совершать
греха и когда вы видели, что поведением моим руководили не мои чувства.
— Думаете ли вы, сударыня, — воскликнул господин де Немур, бросаясь
перед ней на колени, — что я не умру у ваших ног от радости и восторга?
— Я сказала вам только то, — отвечала она с улыбкой, — что вам и так
слишком хорошо известно.
— Ах, сударыня, — возразил он, — это вовсе не одно и то же — знать о том
волею случая или услышать от вас самой и убедиться, что вы хотите, чтобы я
это знал!
— Это правда, — сказала она, — я хочу, чтобы вы это знали, и мне приятно
вам это говорить. Я даже не знаю, не говорю ли я это скорее ради себя самой,
чем ради вас. Ведь это признание не будет иметь продолжения, и я буду
следовать тем строгим правилам, какие налагает на меня мой долг.
— Вы так не думаете, сударыня, — отвечал господин де Немур, — никакой
долг вас не связывает более, вы свободны; и если бы я смел, то сказал бы вам,
что в вашей воле сделать так, чтобы однажды долг потребовал от вас хранить
те чувства, что вы питаете ко мне.
— Мой долг, — возразила она, — навеки запрещает мне думать о ком-либо,
и о вас больше, чем обо всех прочих, по причинам, которые вам неизвестны.
— Быть может, они мне и неизвестны, сударыня, — отвечал он, — но это
ложные причины. Я знаю, что принц Клевский считал меня более счастливым, чем
я был на самом деле, и что он вообразил, будто вы одобряли те неразумные
поступки, которые страсть заставляла меня совершать без вашего ведома.
— Не будем больше говорить об этой истории, — сказала она, — сама мысль
о ней мне непереносима; она вызывает во мне стыд и слишком мучительна сво-
Часть четвертая
309
ими последствиями. Нет сомнений, что вы были причиной смерти принца Клев-
ского: подозрения, которые внушало ему вахне неразумное поведение, стоили ему
жизни, как если бы вы отняли ее собственными руками. Подумайте, что я
должна была бы делать, если б вы оба дошли до этой крайности и случилось бы
такое несчастье. Я знаю, что в мнении света это не одно и то же; но для меня здесь
нет различий, коль скоро я знаю, что вы являетесь причиной его смерти и что
это случилось из-за меня.
— Ах, сударыня, — воскликнул господин де Немур, — какой призрачный долг
вы противопоставляете моему счастью! Как! Пустая, безосновательная мысль
помешает вам сделать счастливым человека, который вам не совсем ненавистен? Как!
Казалось, я могу питать надежды провести с вами всю мою жизнь; судьба повелела
мне любить достойнейшую особу на свете; я нашел в ней все, что делает
женщину обожаемой возлюбленной; она не чувствует ненависти ко мне, и поведение ее
такое, какого только можно желать от женщины. Ведь вы единственная, сударыня,
в ком эти две вещи сочетаются в такой степени. Все, кто женятся на
возлюбленных, отвечающих им взаимностью, трепещут от страха, что те будут вести себя с
другими так же, как вели себя с ними; но с вами, сударыня, страшиться нечего, вы
даете лишь поводы для восхищения. И вот, говорю я себе, неужели передо мной
мелькнуло такое блаженство лишь для того, чтобы я увидел, как вы сами
воздвигаете к нему преграды? Ах, сударыня, вы забываете, что предпочли меня всем
прочим, или, вернее, вы никогда и не дарили меня таким предпочтением: вы ошиблись,
а я обманывал себя пустыми надеждами.
— Вы не обманывались, — отвечала она, — голос долга, может быть, звучал
бы для меня не столь громко, если б не то предпочтение, о котором вы
говорите, и оно-то и заставляет меня предвидеть беду, если я свяжу себя с вами.
— Мне нечего возразить вам, сударыня, — сказал он, — когда вы говорите,
что страшитесь беды; но признаюсь, после всего, что вы соблаговолили мне
сказать, я не ждал довода столь жестокого.
— Это довод настолько лестный для вас, — проговорила принцесса Клев-
ская, — что мне даже было нелегко его вам привести.
— Увы, сударыня, — отвечал он, — каких слишком лестных для меня слов
вы можете бояться после того, что сейчас мне сказали?
— Я хочу еще вам кое-что сказать, с той же искренностью, с какой и
начала, — продолжала она, — я отброшу веления сдержанности и осторожности,
которым должна бы следовать в первой беседе; но молю вас выслушать меня
не прерывая. Полагаю, что ваша преданность заслужила от меня слабого
вознаграждения — не скрывать от вас моих чувств и представить их вам такими,
какие они есть. Очевидно, это будет единственный раз в моей жизни, когда я
позволю себе вам их показать; и все же мне трудно вам признаться, не стыдясь,
что если вы не будете любить меня так, как сейчас, то узнать об этом
наверное покажется мне таким ужасным несчастьем, что, и не будь у меня столь
неопровержимых доводов долга, сомневаюсь, решилась бы я подвергнуть себя
опасности такого несчастья. Я знаю, что вы свободны, что я свободна тоже и
что дела обстоят так, что людям, быть может, и не в чем будет упрекнуть ни
вас, ни меня, если мы свяжем свои судьбы навеки. Но сохраняют ли мужчины
310
Принцесса Клевская
свою страсть в таких вечных союзах? Следует ли мне надеяться на чудо, и могу
ли я пойти на то, чтобы ясно видеть, как угасает эта страсть, составлявшая все
мое блаженство? Принц Клевский был, может быть, единственным мужчиной
на свете, способным хранить любовь в браке. Судьба не пожелала, чтобы я
смогла воспользоваться этим счастьем; но, быть может, и его страсть длилась
лишь потому, что он не встретил ответной страсти во мне. Но подобного
средства сохранить вашу у меня не будет; я думаю даже, что преграды и были
причиной вашего постоянства. Их было достаточно, чтобы разжечь в вас желание
их преодолеть, а мои невольные поступки и то, что вы узнали по воле случая,
внушили вам достаточно надежд, чтобы вы не готовы были отступить.
— Ах, сударыня, — прервал ее господин де Немур, — я не могу хранить
молчание, как вы велели; вы слишком несправедливы ко мне и слишком ясно
даете мне понять, насколько вы далеки от благосклонного мнения обо мне.
— Признаю, — отвечала она, — что страсти могут двигать мною; но они не
могут меня ослепить. Мне ничто не препятствует понять, что вы родились с
предрасположением к ветрености и всеми качествами, нужными для успеха в
любовных делах. У вас уже было много увлечений, будут и еще; я перестану
составлять ваше счастье; я увижу, как вы питаете к другим те чувства, какие
питали ко мне. Это будет для меня жгучей болью, и я не могу даже быть
уверена, что не познаю мук ревности. Я сказала вам слишком много, чтобы
скрывать, что вы мне их уже доставляли; и я так жестоко страдала в тот вечер,
когда королева дала мне письмо госпожи де Темин, якобы адресованное вам,
что воспоминания об этом приводят меня к мысли, будто большего несчастья
нет на свете. Все женщины, из тщеславия или по склонности, желают привлечь
вас к себе. Мало найдется таких, кому бы вы не нравились; мой опыт велит мне
полагать, что нет таких, кому вы не могли бы понравиться. Я всегда буду
думать, что вы влюблены и любимы, и нечасто буду обманываться. В таком
положении мне останется только страдать; не знаю даже, посмею ли я вам пенять.
Упреки делают поклоннику, но делают ли их мужу, который виноват лишь в
том, что он вас больше не любит? И если я и сумею привыкнуть к такому
несчастью, сумею ли я привыкнуть к тому, что мне всегда будет казаться, будто
принц Клевский обвиняет вас в своей смерти, упрекает меня за мою любовь к
вам, за мой брак с вами, и заставляет меня почувствовать различие между его
привязанностью и вашей? Невозможно, — прибавила она, — переступить через
доводы столь убедительные; я должна оставаться в нынешнем моем
положении и при своей решимости никогда его не менять.
— Неужели вы думаете, что это в ваших силах, сударыня? — воскликнул
господин де Немур. — Вы полагаете, что ваша решимость способна противиться
человеку, который вас обожает и имеет счастье вам нравиться? Мадам,
устоять перед тем, кто нам нравится и кто нас любит, много труднее, чем вы
думаете. Вы поступали так из суровой, едва ли не беспримерной добродетели, но эта
добродетель не препятствует более вашим чувствам, и я надеюсь, что вы
подчинитесь им против воли.
— Я знаю, что нет ничего труднее того, что я хочу сделать, — отвечала
принцесса Клевская, — и сомневаюсь в своих силах в то самое время, как привожу
Часть четвертая
311
свои доводы. То, что я считаю своим долгом перед памятью принца Клевско-
го, не устояло бы, не будь оно поддержано соображениями моего покоя; а
доводы о покое нуждаются в поддержке соображений долга. Но хотя я и
сомневаюсь в самой себе, я верю, что никогда не переступлю через поставленные себе
запреты, но и не надеюсь, что смогу победить свою склонность к вам. Она
сделает меня несчастной, и я откажусь от встреч с вами, какого бы насилия над
собой мне это ни стоило. Заклинаю вас всей той властью, что я имею над вами,
не искать случая увидеться со мною. Я в таком положении, которое делает
преступным все, что было бы позволительно в другое время, и простые
приличия запрещают всякие отношения между нами.
Господин де Немур бросился к ее ногам и дал волю всем разнообразным
чувствам, волновавшим его. Его речи и рыдания свидетельствовали о самой
пылкой и самой нежной страсти, когда-либо жившей в человеческом сердце.
Сердце принцессы Клевской не было бесчувственным, и, глядя на герцога
глазами, немного опухшими от слез, она сказала:
— Для чего случилось так, что я могу винить вас в смерти принца Клевско-
го? Для чего я не узнала вас лишь после того, как стала свободна, или до того,
как связала себя узами брака? Для чего судьба воздвигла между нами преграду
столь непреодолимую?
— Нет этой преграды, сударыня, — возразил господин де Немур. — Лишь вы
сами противитесь моему счастью; лишь вы сами налагаете на себя запрет,
который не мог быть наложен ни добродетелью, ни разумом.
— Это правда, — отвечала она, — я многое приношу в жертву долгу,
существующему лишь в моем воображении. Подождите, пока время сделает свое
дело. Принц Клевский едва испустил дух, и это мрачное зрелище слишком
близко, чтобы мой взгляд мог быть ясен и здрав. А пока радуйтесь тому, что
заставили полюбить себя женщину, которая не любила бы никого, если бы так
и не встретила вас; верьте, что чувства мои к вам будут неизменны и продлятся
вечно, как бы я ни поступила. Прощайте, — прибавила она, — вот беседа,
которой я буду стыдиться. Перескажите ее видаму; я позволяю и даже прошу вас
о том.
Произнеся эти слова, она вышла, и господин де Немур не мог ее удержать.
Видама она нашла в соседней комнате. Видя, в каком она смятении, он не
осмелился заговорить с нею и проводил ее до кареты, не вымолвив ни слова. Затем
он вернулся к господину де Немуру, которого так сильно волновали радость,
печаль, изумление и восхищение — все чувства, внушаемые страстью,
исполненной страхов и надежд, что он потерял всякую рассудительность. Видам
потратил много времени, прежде чем добился от него рассказа об их беседе.
Наконец герцог ее передал; и господин де Шартр, хотя и не был влюблен, испытал
такое же восхищение добродетелью, умом и достоинствами принцессы
Клевской, как и сам господин де Немур. Они обсудили, чего мог герцог ждать от
судьбы; и хотя любовь рождала в нем всякие опасения, он согласился с вида-
мом, что невозможно, чтобы принцесса Клевская оставалась при нынешнем
своем решении. Они сошлись все же на том, что следует исполнять ее веления
из страха, что, если его преданность ей станет известна, она может произнес-
312
Принцесса Клевская
ти прилюдно такие слова и избрать такое поведение, которых впоследствии
принуждена будет придерживаться, боясь, как бы свет не подумал, что она
любила его при жизни мужа.
Господин де Немур решился сопровождать короля. Впрочем, он не мог
отказаться от этого путешествия и счел за благо уехать, не пытаясь даже увидеть
снова принцессу Клевскую с того места, откуда видел ее однажды. Он
попросил видама поговорить с ней. Чего только он не поручил ей сказать! Какое
бесконечное количество доводов, чтобы убедить ее отбросить сомнения!
Прошла часть ночи, прежде чем господин де Немур подумал, что надо дать вида-
му покой.
Принцесса Клевская же не могла обрести покоя. Ей было настолько
внове выйти за те пределы, которые она сама себе очертила, позволить, впервые
в жизни, чтобы ей говорили о любви, и самой о своей любви сказать, что она
не узнавала себя. Она была поражена тем, что сделала, она в этом
раскаивалась, она этому радовалась, душа ее была полна волнений и страстей. Она
снова перебирала доводы, которые ее долг выставлял против ее счастья; ей
было больно видеть, что они столь убедительны, и она жалела, что так
хорошо изложила их господину де Немуру. Хотя мысль о браке с ним пришла ей
на ум тотчас же, как только она увидела его в саду, мысль эта не произвела
того впечатления, какое произвела беседа с ним; были минуты, когда она с
трудом понимала, как это она сможет быть несчастна, выйдя за него замуж.
Ей так хотелось бы сказать себе, что она была неправа и в своих угрызениях
за прошлое, и в своих опасениях за будущее. А в иные часы разум и долг
представляли ей соображения противоположные, которые быстро влекли ее к
решимости не вступать во второй брак и не видеться больше с гоподином де Не-
муром. Но такую решимость нелегко поддерживать в сердце, столь тронутом
страстью и столь недавно изведавшем сладость любви. Наконец, чтобы
успокоиться немного, она подумала, что ей еще нет необходимости совершать над
собою насилие и принимать решение; приличия давали ей немало времени на
раздумья, но она сочла за благо оставаться твердой в намерении не иметь
никаких сношений с господином де Немуром. Видам навестил ее и старался
помочь герцогу с такой изобретательностью и с таким рвением, какие только
можно вообразить; но не сумел ее поколебать ни относительно ее собственного
поведения, ни относительно запретов, наложенных ею на поведение
господина де Немура. Она сказала, что намеревается остаться в нынешнем ее
положении, что знает, как трудно такое намерение исполнить, но надеется, что у
нее хватит на то сил. Она так ясно показала ему, насколько сильно в ней
убеждение, что господин де Немур был причиной смерти ее мужа, и насколько она
была уверена, что нарушит свой долг, если выйдет за него замуж, что видам
стал сомневаться, возможно ли будет ее переубедить. Он не высказал своих
сомнений герцогу и, передавая ему их беседу, оставил ему все надежды,
которые разум дает право питать мужчине, если его любят.
Они отправились в путь на следующий день и присоединились к королю.
Видам по просьбе господина де Немура написал принцессе Клевской, чтобы
напомнить ей о герцоге; а ко второму его письму, последовавшему вскоре за пер-
Часть четвертая
313
вым, господин де Немур своей рукой приписал несколько строк. Но
принцесса Клевская, не желая переступать правила, ею для себя установленные, и
опасаясь всяких неприятностей, какие случаются из-за писем, известила видама,
что не примет больше писем от него, если он будет и впредь говорить о
господине де Немуре; и наказ этот был столь строг, что герцог сам попросил
видама не упоминать больше о нем.
Двор провожал королеву Испании до Пуату. Все это время принцесса
Клевская оставалась наедине с собою, и, чем более удалялись от нее господин де
Немур и все, что могло о нем напомнить, тем чаще обращалась она к памяти
принца Клевского, хранить которую почитала для себя честью. Доводы против ее брака
с господином де Немуром казались ей убедительными в том, что касалось ее долга,
и неопровержимыми в том, что касалось ее покоя. Угасание любви герцога и муки
ревности, которые она полагала неизбежными в браке, показывали ей, какое
несчастье она непременно на себя навлечет; но она понимала также, что бралась за
невозможное, пытаясь сопротивляться самому привлекательному мужчине на
свете, которого любила и который любил ее, в его присутствии, и сопротивляться
во имя того, что не оскорбляло ни добродетели, ни приличий. Она сочла, что
только разлука и расстояние могут придать ей сил, а она в них нуждалась не только
для того, чтобы следовать своему решению не вступать в новый брак, но и для того
даже, чтобы запретить себе видеться с господином де Немуром. Она
вознамерилась отправиться в долгое путешествие и провести в нем все время, которое
приличия обязывали ее жить в уединении. Ее обширные владения близ Пиренеев
показались ей наиболее подходящим для этого местом. Она уехала спустя
несколько дней после возвращения двора; перед отъездом она написала видаму, прося,
чтобы он не ожидал от нее вестей и не писал ей сам.
Господин де Немур горевал о ее отъезде так, как другой горевал бы о смерти
возлюбленной. Мысль о том, что он надолго лишен возможности видеться с
принцессой Клевской, была для него мучительна, особенно в то время, когда
он испытал радость ее видеть и видеть, что его страсть трогает ее сердце.
Однако ему не оставалось ничего иного, кроме как горевать; но горе его стало
много сильнее. Принцесса Клевская, чья душа была в большом смятения,
опасно захворала, едва добравшись до своих владений; эта новость достигла двора.
Господин де Немур был безутешен; скорбь его доходила до отчаяния и
безумств. Видам с трудом удерживал его от прилюдных изъявлений страсти, и
столь же нелегко было его остановить и уговорить не ехать самому справляться
о ее здоровье. Родство и дружба с ней видама позволяли посылать туда
множество гонцов; наконец пришло известие, что крайняя опасность миновала, но
принцесса по-прежнему так слаба, что надежд на исцеление мало.
Так долго и так близко видя смерть перед собою, принцесса Клевская стала
смотреть на треволнения земной жизни взглядом, весьма отличным от взгляда
людей здоровых, неизбежность смерти, которая была совсем рядом, приучила
ее отрешаться от всего, а изнеможение от болезни сделало эту отрешенность
привычной. Когда же она немного вышла из этого состояния, то обнаружила,
однако, что память о господине де Немуре не исчезла из ее сердца; чтобы защититься
от него, она призвала себе на помощь все доводы против брака с ним, какими
314
Принцесса Клевская
только располагала. В ее душе шла жестокая битва. Наконец она справилась с
остатками страсти, ослабленной теми чувствами, что внушила ей болезнь. Мысли
о смерти усиливали память о принце Клевском. Это воспоминание,
согласовывавшееся с ее долгом, глубоко проникло в ее сердце. Страсти и заботы света
предстали перед ней такими, какими видят их люди с воззрениями более
возвышенными и отрешенными. Весьма ухудшившееся здоровье способствовало
сохранению таких чувств; но она знала, как могут обстоятельства изменять
самые мудрые решения, и не хотела ни подвергать такой опасности свои, ни
возвращаться в места, где был тот, кого она любила.
Под тем предлогом, что ей нужен другой воздух, она удалилась в
монашескую обитель, не выказывая, однако, твердого намерения покинуть двор.
Как только эта новость достигла господина де Немура, он понял, что она
означает и как она важна. В ту минуту он счел, что ему больше не на что
надеяться; но эта утрата надежд не помешала ему пустить в ход все, что можно,
чтобы побудить принцессу Клевскую вернуться. Он уговорил королеву
написать ей, упросил видама сделать то же, заставил его поехать к ней; все было
напрасно. Видам с ней повидался; она не сказала ему, что приняла решение.
Тем не менее он счел, что она никогда не вернется. Наконец господин де Не-
мур отправился туда сам, под тем предлогом, что едет на воды. Она была
крайне взволнована и изумлена, узнав о его приезде. Она послала одну достойную
женщину, которую любила и которая была тогда при ней, передать ему, что
просит его не удивляться, если она не хочет подвергать себя опасности
увидеться с ним и разрушить этой встречей те чувства, которые должна хранить; она
хотела бы, чтобы он знал, что коль скоро ее долг и ее спокойствие
несовместимы с ее желанием принадлежать ему, то все остальные вещи в этом мире ей
стали так безразличны, что она отказалась от них навсегда; что она помышляет
только о мире ином и не испытывает иных чувств, кроме желания видеть его
в таком же расположении духа.
Господин де Немур думал, что умрет от горя в присутствии той, которая ему
это говорила. Он двадцать раз просил ее вернуться к принцессе Клевской и
устроить так, чтобы он с ней повидался; но эта женщина сказала, что принцесса
Клевская запретила ей не только передавать что-либо от него, но даже
пересказывать их беседу. Наконец герцогу пришлось уехать; он был удручен горем
настолько, насколько может быть удручен мужчина, утративший всякую
надежду когда-либо снова увидеть женщину, к которой питал самую пылкую,
самую искреннюю страсть и которая была более всех такой страсти достойна.
И все же он не мог еще с этим смириться и сделал все, что только сумел
придумать, чтобы заставить ее переменить решение. Наконец, когда прошли
целые годы, время и разлука умерили его скорбь и загасили страсть. Принцесса
Клевская жила, не давая признаков того, что может когда-либо вернуться.
Часть года она проводила в той монашеской обители, а часть в своем поместье,
но в уединении и в занятиях более благочестивых, чем те, которым предаются
в монастырях с самым строгим уставом; жизнь ее была недолга и оставила
несравненные примеры добродетели.
ПОРТРЕТЫ
ПОРТРЕТ ГОСПОЖИ ДЕ СЕВИНЬЕ,
НАПИСАННЫЙ ГРАФИНЕЙ ДЕ ЛАФАЙЕТ
ПОД ПСЕВДОНИМОМ НЕИЗВЕСТНЫЙ
Всякий, кто берется написать портреты красавиц, изо всех сил старается
приукрасить свои модели, дабы не потерять их благосклонности. Он никогда
не решится показать хотя бы единственный из их недостатков. Но что же
касается меня, сударыня, то благодаря привилегии быть Неизвестным, я готов
смело взяться за дело и сказать всю правду, какую сочту нужной, не боясь
навлечь на себя ваш гнев. Тем не менее я в отчаянии, поскольку не в состоянии
выискать ничего неприятного и посему не могу оказаться на месте
Неизвестного, умудрившегося-таки найти в вас тысячу недостатков, но при этом
встреченного вами так, словно он всю жизнь расточал вам одни лишь комплименты.
Я вовсе не хочу оскорблять вас похвалой, с удовольствием утверждая, что вы
восхитительно сложены, а цвет вашего лица настолько хорош и свеж, что дать
вам более 20 лет просто невозможно, что природа наделила вас дивными
губами, зубами и волосами. Я вовсе не собираюсь говорить вам обо всем этом,
ведь в вашем распоряжении имеется зеркало, но, поскольку вам не нравится
вести с ним беседы, оно не в состоянии сказать вам, какой любезной и
очаровательной вы становитесь, когда начинаете говорить. Именно это хочу вам
сообщить я.
Знайте же, сударыня, если вдруг по каким-либо причинам вы этого еще не
знаете, что ум венчает и украшает вас, как никого другого. Когда вы живо и
непринужденно ведете беседу, все сказанное вами обретает такое очарование, так
идет вам, что ваши слова заставляют улыбаться и проливают вокруг благодать,
а искрометный ум очень вас красит и придает блеск глазам. И хотя, согласно
расхожему представлению, умные высказывания заставляют навострить уши,
ум ваш еще и ослепляет, да так, что слушатели, внимая вам, более не
замечают некоторой неправильности ваших черт и считают вас непревзойденным
эталоном красоты. Из сказанного мною явствует, что, пусть вы и не догадываетесь,
кто я такой, я-то хорошо вас знаю. Я неоднократно удостаивался чести видеть
вас и вести с вами беседы, доискиваясь в них, в чем заключается ваше
неотразимое очарование. Однако мне также хочется дать вам понять, сударыня, что
ничуть не хуже знаком я и с качествами вашего характера, с коими, по моему
убеждению, весьма приятно сталкиваться. Природа наделила вас
благородством и великодушием, и вы щедро раздариваете эти богатства, не унижаясь
до того, чтобы их копить. Вы честолюбивы и неравнодушны не только к
славе, но и к удовольствиям. Вы словно рождены для них, а они словно бы созда-
318
Портреты
ны для вас. Ваше присутствие умножает веселье, а веселье, окружая вас,
умножает вашу красоту. Радость — вот подлинное состояние вашей души, печаль же
противна вам, как никому другому на свете.
Природа создала вас нежной и страстной. Однако, к стыду нашего пола1, эта
нежность не была, увы, в полной мере оценена, вы сполна одарили ею только
женщин в лице госпожи де Лафайет. Да, сударыня, если бы только нашелся
счастливец, коего вы сочли бы достойным сокровища, доставшегося госпоже
де Лафайет! Если бы ради обладания им он пожалел хоть что-нибудь, он был
бы достоин самого сурового наказания, которому любовь может подвергнуть
живущих под ее властью. Какое счастье завоевать сердце, подобное вашему,
где чувства возникают под влиянием утонченного и приятного ума, коим
наделили вас боги! А ваше сердце, сударыня, несомненно, бесценное сокровище.
Никогда ранее не существовало столь благородного, столь прекрасного и столь
верного сердца. Находятся, однако, люди, которые подозревают, что вы
держите его взаперти. Доказывая обратное, вам было бы незазорно показать, что у
вас порой непроизвольно прорывается то, что из благоразумия казалось бы
следовало скрывать.
Вы самая воспитанная и самая учтивая особа из всех когда-либо родившихся
на земле. Благодаря мягкости и непринужденности, которые сквозят во всем,
что бы вы ни делали, наипростейшие формулы вежливости, слетающие с
ваших уст, кажутся клятвами в дружбе, а все те, кому довелось побыть подле вас,
проникаются уверенностью в том, что вы проявили к ним уважение и
благожелательность, хотя даже самим себе не могут объяснить, какие вы
предоставили им свидетельства первого или второго.
Наконец, вы снискали милость Небес, ниспосланную только вам. Весь мир
в долгу перед вами, ведь вы явили множество приятных качеств, до сих пор не
виданных. Не хочу утруждать себя описанием их всех, поскольку иначе
нарушу свое намерение не обременять вас похвалами; ограничусь лишь теми из них,
сударыня, что воистину достойны вас и заслуживают быть сказанными:
Следовало бы быть вашим возлюбленным,
Но я не имею чести им быть2.
ПОРТРЕТ МАДЕМУАЗЕЛЬ ***,
НАПИСАННЫЙ ЕЮ САМОЙ
Я знаю, что в мире нет ничего менее совпадающего, чем мнения; то, что
одни уважают, другие презирают. Было бы смешно претендовать на всеобщее
одобрение. И пишу я свой портрет вовсе не для того, чтобы оказаться в
центре всеобщего внимания; просто хочу доставить удовольствие людям, к которым
испытываю уважение. Если случится так, что мой портрет прочтут другие, то,
какое бы суждение они ни вынесли, я совершенно не стану волноваться.
Постараюсь тем не менее сделать так, чтобы меня не смогли упрекнуть в
недостатке искренности. Для начала с невинным видом скажу: не знаю, красива ли я,
Портрет мадемуазель ***, написанный ею самой 319
но полагаю, что сложена неплохо. Я среднего роста, достаточно
пропорциональна, вполне раскованна, я даже немного жестикулирую, когда говорю. В моем
облике нет ничего особенного, однако в нем находят и нечто (не знаю, право,
что именно) горделивое. Полагаю, что с первого взгляда я не нравлюсь.
Волосы у меня темно-каштановые, почти черные, овальное лицо, высокий лоб, брови
несколько более светлые, чем волосы. Если верить молве, то я наделена
красивыми глазами. Они голубые и довольно большие. От собственного носа я не
в восторге, и на то есть весомые причины: он действительно чересчур велик,
хотя и говорят (конечно, для того, чтобы меня утешить), что он совсем не
портит лицо. Мой рот ни большой, ни маленький; если бы губы всегда были ярко-
красными, то он не был бы чрезмерно уродлив. Зато у меня довольно ровные
белые зубы, правда, излишне большие, чтобы быть красивыми. Для человека
не слишком полного нижняя часть моего лица довольно округла, а подбородок,
что называется, приятный. У меня нежная белая кожа, однако бледному лицу
недостает красок. Преображаюсь я, когда волнуюсь, и тогда, краснея,
становлюсь, по общему мнению, очень милой. Сейчас, когда настал черед сказать о
шее, мне как раз придется покраснеть. Упомяну мимоходом, что она белая, вот
и все. Руки тоже ничем не примечательны.
О своем уме, пожалуй, могу говорить не стыдясь и не краснея. Вполне зная
ему цену, я всегда следила за ним куда тщательнее, чем за лицом. У меня
природная тяга к знаниям; возможно, я довольно удачно воспользовалась ею в
некоторых случаях. В свое время я проявляла любопытство к большинству
вещей, которые обычаи позволяют барышням знать. Однако у меня есть
недостаток — пренебрегать своими знаниями, поэтому из того, что я учила прилежнее
всего, я более ничего не знаю в совершенстве. Если бы не лень, я бы
посягнула на права, присвоенные мужчинами. Мне бы хотелось изучить все серьезно,
однако я очень поверхностна, и страсть к знаниям не в состоянии победить
удовольствие, получаемое мной от безделья. Тем не менее я весьма охотно
читаю, и все глубокие произведения мне по нраву. Книга служит мне
утешением и помогает забыть о потере приятного общества. Мне никогда не скучно
одной; мечты заменяют мне шумные развлечения. Мысли мои степенны и
достойны, никаких дурных наклонностей у меня нет. Добродетель привораживает
меня, и я получаю огромное наслаждение, совершив доброе деяние. Что
касается следующей за этим славой, то к ней я почти равнодушна. Тщеславия во
мне мало, а честолюбия и вовсе нет. Я щедра: испытываю удовольствие,
отдавая, и проникаюсь печалью, принимая. Необходимо, чтобы те, кому я позволяю
делать мне подарки, входили в число моих ближайших друзей. По своей натуре
не люблю ничего, что хотя бы отдаленно походит на низость — вот почему
порой бываю нелюбезной. Я твердо придерживаюсь ошибочного убеждения, что
невозможно одновременно проявлять и любезность, и щедрость. Притворство
абсолютно мне чуждо. Я говорю то, что думаю, или вовсе молчу. С тех пор как
я приняла для себя решение, меня невозможно заставить от него отказаться;
это называется либо непреклонностью, либо упрямством, как вам будет
угодно. Я горячо люблю своих подруг, однако ласковостью не отличаюсь. Не
существует таких преград, которые я не захотела бы преодолеть ради них, однако
320
Портреты
комплиментов делаю им очень мало. Подруг я подбираю себе очень
тщательно, и войти в их число может не всякая, кто пожелает. Чтобы мне
понравиться, недостаточно обладать умом; следует еще быть покладистой, ибо я не
люблю тех, кто все время вставляет замечания по поводу сказанного. Будучи ярой
противницей принуждения, я не одобряю его в беседе. Стоит мне в ходе
разговора почувствовать себя свободно, я становлюсь приятной — лишь бы
только надо мной не насмехались и не говорили галантных слов, заставляющих
терять самообладание. Я вполне добра. Впрочем, если меня рассердить, могу
проникнуться к людям странной неприязнью; но меня следует за это простить,
ведь только так я могу расквитаться за наносимые мне обиды.
ПОРТРЕТ ГОСПОЖИ ДЕ ***,
НАПИСАННЫЙ ЕЮ САМОЙ
Если я вам скажу, что вовсе не расположена писать свой портрет, то это все
равно ни к чему не приведет. Вы хотите, чтобы я его написала; следовательно,
мне придется подчиниться вам. Начну с описания внешности. Я довольно
высокого роста, у меня непринужденные и свободные манеры, выгляжу
довольно приятно. По первому впечатлению меня находят гордой, и не ошибаются.
Одни говорят, что я шатенка, другие считают меня блондинкой, но на самом
деле я ни то, ни другое. Мои волосы каштановые, правда, скорее темного
оттенка. У меня высокий лоб, наводящий на мысль, что я наделена умом. Брови
мои светлее, чем волосы, не слишком густые, но, по моему мнению, изящно
изогнуты. Глаза у меня красивой формы, не очень большие, взгляд скорее
нежный, чем живой. Даже не надейтесь, что я скажу, какого они цвета: я
всегда полагала, что они голубые, но все взяли обыкновение спорить со мной, и
теперь не знаю, что и думать. Нос несколько крупнее, чем мне хотелось бы,
впрочем, форма его меня устраивает. Рот скорее маленький, нежели большой, губы
правильной формы, однако на свете существуют и более алые. Нисколько не
бахвалясь, скажу, что у меня весьма милый подбородок. На нем видна
маленькая родинка, которая вовсе его не портит. Вопреки клеветникам, лицо у меня
овальное; оно казалось бы еще более овальным, если бы я была чуточку
полнее. Цвет моего лица ровный и белый. Если бы речь шла о другой особе, я бы
сказала, что он красивый. Когда я краснею, то не становлюсь от этого
уродливее. Слава Богу, природа наделила меня неоспоримым достоинством: я умею
краснеть, как королевская дочь. Как утверждают, это хороший признак.
Нельзя забыть и про зубы. Пожалуй, они — одно из главных достоинств моей
внешности: зубы у меня ровные и белые, но, даже если бы я не ела четыре дня
подряд, длиннее бы они не стали. Вот я и описала свою голову во всех
подробностях. Ручаюсь этой самой головой, что она у меня и красивая, и умная.
Да, почему бы мне и не похвалиться умной головой, коль скоро у меня
хватает твердости, чтобы владеть чувствами, и рассудительности, чтобы
направлять их? Я долго размышляю, прежде чем решиться на что-нибудь важное.
Однако почти всегда я останавливаю свой выбор на том, что первым пришло мне
Портрет госпожи de ***, написанный ею самой 321
в голову. Не уверена, обладаю ли я живостью ума; но зато твердо знаю, что она
никогда не проявляется в разговоре, если я недостаточно взволнована. Говорю
я очень мало: это верное средство не нагородить глупостей. Ничего не могу
поделать с тем, что мне недостает рассудительности; больше всего на свете
хотелось бы ее иметь. У меня огромная тяга к знаниям, но и огромная лень;
однако это последнее обстоятельство не мешает мне познавать разные разности.
Чтение развлекает меня и доставляет удовольствие. Я люблю поэзию. Порой
мне случалось судить о стихах так, словно я сама умею слагать их. Не стану
говорить, хорошо или плохо я пишу; об этом можно сделать вывод, основываясь
на моем портрете. Я меланхолична и люблю одиночество. Мне по душе умные
беседы, лишь бы они были непринужденными. Меня никогда не упрекали в
невежливости, но любезности мне иной раз не хватает. Я могу беззлобно
подсмеиваться над людьми, когда на меня находит охота, но мне не нравится, когда
подсмеиваются надо мной, пусть даже чуть-чуть. Причем у меня есть и такое
свойство: я частенько полагаю, что надо мной подшучивают; невозможно ведь,
чтобы я всегда ошибалась. Я легко прощаю и довольствуюсь тем, что презираю
своих обидчиков. Подобный способ мстить представляется мне самым
простым. Я щедра, однако меня это вовсе не тяготит. Щедрое сердце доставляет
часго неприятности только тем, кто располагает незначительным состоянием.
Я совсем не честолюбива, к богатству совершенно равнодушна. Спокойствие
мне дороже всего на свете, и я стараюсь избегать всего, что способно его
смутить. Я вполне люблю жизнь и не испытываю страха перед смертью. И
вообще я мало чего боюсь; будь я мужчиной, то и вовсе бы ничего не боялась. Меня
отличает постоянство в дружбе. Люди, наделенные умом, пользуются моим
уважением; такими людьми я дорожу, хотя и не выказываю моего отношения
чрезмерной ласковостью. Если кто-нибудь хочет добиться моего расположения, ему
не следует говорить мне галантные комплименты — я их не люблю. К своему
счастью, я не обладаю нежной душой. Меня считают набожной, поскольку
часто видят в церкви, однако не хочу никого обманывать: просто стараюсь быть
хорошей христианкой, и только. Вот как я устроена. Мне бы хотелось сделать
свой портрет достаточно привлекательным, чтобы доставить вам такое же
удовольствие, какое я сама получила вчера, читая ваш: вы бы ничего не лишились,
тогда как я бы кое-что приобрела.
21. Заказ № К-6559
ДОПОЛНЕНИЯ
МЕМУАРЫ ФРАНЦУЗСКОГО ДВОРА
за 1688 и 1689 годы
Франция пребывала в безмятежном спокойствии; ее жители более не знали
иного оружия, нежели инструменты, необходимые для возделывания земли и
строительства. Для этих целей использовали войска не только в подражание
древним римлянам, считавшим праздность такой же вредной для армии, как и
чрезмерный труд, но и задавшись целью повернуть воды реки Эр в иное русло
для того, чтобы фонтаны Версаля били постоянно. Войска выполняли сию
славную задачу, дабы, к вящей радости короля, замысленное им осуществилось на
несколько лет раньше. Так тратилось меньше средств и времени, чем можно
было бы ожидать.
Болезни, которые всегда возникают там, где ведутся земляные работы,
совершенно вывели войска, расквартированные в Ментеноне, из строя. Однако,
покуда царило спокойствие, это неудобство представлялось недостойным
внимания. Перемирие, заключенное со всей Европой, длилось вот уже двадцать
лет1. Имперцы, хотя и одержавшие победу над турками2, имели достаточно
других хлопот, чтобы оставить нас в покое; мы надеялись, что завоевания,
которые, казалось бы, сами плывут им в руки, привлекут их скорее, чем
удовольствие сомнительной мести. Испания подверглась слишком глубокому
унижению и не внушала нам ни малейшего опасения; Англию раздирали
внутренние противоречия и распри двух королей3, связанных между собой тесными
узами, и поэтому ее не приходилось опасаться. Что касается принца Оранского4,
то мы были уверены в его дурных настроениях. Однако состояние Голландской
республики, высшее счастье которой заключается в мире, успокаивало нас. Мы
не сомневались в том, что, если начнется война, она принесет нам выгоду.
Все то, о чем я рассказала, доставляло королю радость и наслаждение от
своих деяний. Постройки, на которые он тратил огромные деньги, бесконечно
забавляли его. Он пользовался ими вместе с особами, которых удостаивал
своей дружбой, и теми, кого эти особы выделяли из числа всех прочих. Король
отчетливо осознавал, что, если появится возможность заключить мир с турками,
враги сразу же объединятся против него, однако это казалось слишком
отдаленной перспективой, чтобы причинять королю страдания. Тем не менее
подобная перспектива вынуждала принимать меры предосторожности при
проведении внешней политики. Самая полезная из этих мер заключалась, по общему
мнению, в том, чтобы заручиться поддержкой Кёльнского курфюршества, не
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы
323
захватывал его. Овладев Эльзасом, мы уже стали хозяевами Верхнего Рейна.
Нам не принадлежал только Филипсбург, однако в Ландау мы возвели
крепость, намереваясь сделать город недоступным для имперцев. Люксембург
отдавал в наше распоряжение Трир, а крепость Мон-Рояль, возведенная нами
на Мозеле, делала нас его полноправными хозяевами. Таким образом,
курфюрсты Трирский, Майнцский и Пфальцский оказались под защитой наших
пищалей, а враги короля не могли более свободно передвигаться по этим
территориям. Итак, нам не подчинялось только Кёльнское курфюршество. Конечно,
курфюрст Кёльнский всегда был связан с королем тесными узами, но его
здоровье с каждым днем ухудшалось, и он не мог бы прожить довольно долго.
Поскольку каноники этой Церкви были все без исключения немцами и
поскольку существовала насущная необходимость выбрать курфюрстом кого-либо из
них, король пришел к выводу, что его интересам будет отвечать только
избрание принца Гийома де Фюрстемберга5, который всегда там жил, которому
после смерти брата он даровал Страсбургское епископство, которого он сделал
кардиналом и которому он пожаловал немалые бенефиции во Франции. Принц
все время был предан королю, и именно он вместе с братом умело подготовил
войну в Голландии. Поэтому король решил, что настала пора сделать принца
курфюрстом. Все согласились, что легче всего достигнуть этого еще при
жизни господина курфюрста и не стоит дожидаться его смерти. Поэтому
курфюрста вынудили попросить себе в помощники коадъютора. Был созван сейм, и,
преодолев множество трудностей, чинимых сторонниками императора и
империи, господин де Фюрстемберг стал коадъютором. Мы посчитали, что в этом
краю дело было сделано и ничто более не в силах создать нам препятствия.
Гонцы отправились в Рим и Вену; в Рим — за буллами, а в Вену — за
инвеститурой. Но и Рим, и Вена отказали нам. Император6 отказал в силу своих
собственных интересов, а Папа7 — из-за чудовищного упрямства, к которому
примешивалась ненависть к Франции, а также под предлогом соблюдения
религиозных канонов и верности Церкви. Конечно, нельзя утверждать, что Папа был
недостойным человеком и что сначала он не имел определенных намерений,
однако он сошел с праведного и справедливого пути, которым должен
следовать добропорядочный отец, подавая пример своим чадам. Я полагаю, что не
надобно относиться плохо к тому, что он пригнел на помощь императору,
королю Польши и венецианцам в войне, которую они вели с неверными. Стоит
даже поддержать выбор, сделанный им в пользу искреннего чистосердечия. Его
следует простить за то, что он обратил против министров Франции
умонастроения, царившие на ассамблеях духовенства; ведь его власть представляла
собой именно тот предмет, которому больше всех завидовало человечество и
который всегда подвергался нападкам. Но когда человечество не в состоянии
приобщиться к власти, а Папа, взойдя на престол святого Петра, лишается ее,
то он начинает рьяно защищать Церковь и ее права. Однако Папу нельзя ни
простить, ни даже извинить за позицию, занятую в кёльнском деле. Пока
курфюрст Кёльнский был жив, Папа отказывался вручить буллы господину де
Фюрстембергу, а ведь тот был избран коадъютором в соответствии с
принципами канонического права; он собрал все необходимые голоса, хотя партия
324
Дополнения
императора, предлагавшая на этот пост брата курфюрста Нойбургского, могла
бы ему помешать. Папа знал, в каком состоянии находился курфюрст
Кёльнский. Он также знал и о том, что если он не даст булл коадъютору, то после
смерти курфюрста придется снова проводить выборы. Причина отказа Папы
вручить буллы заключалась в том, что, по его мнению, Фюрстемберг разжег
огонь во всей Европе и был зачинщиком всех прошлых войн, прямым
продолжением которых явились бы будущие войны; что человек подобного рода был
недостоин столь высокого положения и что если однажды он его займет, то с
еще большей безнаказанностью примется возмущать спокойствие
христианских народов. Папа прибег к доводу, который, казалось, исходил от общего
отца христиан, и отказал в милости кардиналу де Фюрстембергу, поскольку тот
пользовался поддержкой Франции. Это было недвусмысленной местью
королю, противившемуся желаниям Папы.
Пока король настойчиво добивался булл для коадъютора, а Папа
сопротивлялся, курфюрст Кёльнский скончался. Помимо Кёльнского архиепископства
стали вакантными Мюнстерское, Льежское и Хильдесхаймское епископства. В
планы короля входило, чтобы господин де Фюрстемберг занял как можно
больше постов, но первоочередное значение он придавал Кёльнскому и Льежско-
му епископствам, ибо они располагались по соседству с его государством, а
значит, были самыми необходимыми. Поскольку Папа упорно отказывал в буллах,
требовалось провести новые выборы, а должность коадъютора,
предоставленная кардиналу де Фюрстембергу, потеряла всякий смысл. Пока место
оставалось вакантным, де Фюрстемберг был только администратором
архиепископства, а поскольку он правил при жизни покойного курфюрста, то был
полноправным хозяином и пользовался большим доверием каноников. После
смерти курфюрста в течение довольно длительного периода не приступали к
выборам, тем не менее в соответствии с обычаями были назначены епископ Мюн-
стера и Хильдесхайма. О господине де Фюрстемберге пока никто не думал.
Однако двор предпринял определенные усилия, чтобы добиться для него двух
этих мест. Совсем иначе обстояло дело с Кёльнским курфюршеством. Для
решения вопроса был послан барон д'Асфельд8, умнейший человек, к помощи
которого господин де Лувуа9 часто прибегал при ведении переговоров. Войска
приблизились к границам. Франция прислала в Кёльнское архиепископство
деньги, чтобы их распределили между канониками и священнослужителями,
стоявшими ниже каноников и обладавшими правом голоса, но не имевшими
никакой возможности быть избранными. Император противопоставил д'Ас-
фельду графа фон Лауница, человека, как утверждали, неумного, но тем не
менее сумевшего добиться от курфюрста Баварского благосклонности к
императору. Правда, этому более способствовала супруга графа, поскольку
курфюрст влюбился в нее, а ведь трудно найти людей, способных убеждать
лучше, нежели любовники и любовницы. Господин фон Лауниц предложил
каноникам избрать архиепископом Кёльнским епископа Бреслау, сына курфюрста
Пфальцского и брата императрицы. Он встретил мало понимания, и мы
надеялись на счастливый исход для господина де Фюрстемберга. Когда император
увидел, что епископ Бреслау может потерпеть поражение, он повелел предло-
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы
325
жить кандидатуру принца Климента Баварского10, брата курфюрста. Принц не
достиг определенного возраста и, безусловно, встретил бы серьезное
противодействие. Однако этот недостаток послужил благовидным предлогом для
предоставления выборщикам разного рода привилегий: было объявлено, что принц
Климент начнет исполнять свои обязанности только по достижении
определенного возраста; что до тех пор бразды правления будут находиться в руках
каноников, а доходы пойдут на восстановление архиепископства, пришедшего в
упадок. Были предоставлены бреве Папы, в которых давалось право не
принимать во внимание возраст принца Климента. В бреве Папа размышлял об
услугах, оказанных курфюрстом христианским народам и архиепископству. Не
требовалось обладать большой проницательностью, чтобы угадать, кто стоит
за подобным почином. И Франция оценила произошедшее как должное.
Голландцы не принимали пока еще активного участия в переговорах. Принц
Оранский держался в тени и не торопил события, опасаясь, как бы ему не причинили
вреда. Но как только пришло время, он послал в Кёльн наблюдать за ходом
выборов некоего Исаака, своего дворецкого, единственного, кто пользовался его
доверием наряду с графом Бентинком11, с той лишь разницей, что один
находился там как друг, а второй — почти как первый министр и как очень
полезный ему человек. Они прибыли в Кёльн с заемными письмами на
значительные суммы, которые полностью убедили тех, кто колебался и кто отдал свой
голос кардиналу, когда речь шла о том, чтобы сделать его коадъютором. В
назначенный день каноники приступили к выборам. Как обычно, в них
принимало участие 24 каноника, обладавших обычным правом голоса и составлявших
Кёльнский капитул. Кардинал де Фюрстемберг собрал тринадцать голосов,
принц Климент — восемь, а остальные двое получили по одному голосу. Затем
один из двух последних голосов был присоединен к голосам, поданным за
кардинала; таким образом их у него стало четырнадцать. Поскольку в
соответствии с правилами победить должен был тот, кто собрал больше голосов, то
курфюрстом был объявлен кардинал. Сторонники принца Климента
выразили своего рода протест и разъехались по домам, не желая присутствовать на
церемонии провозглашения. Итак, кардинал был объявлен курфюрстом.
Однако, чтобы вступить полностью в свои права, ему не хватало булл Папы и
инвеституры императора. Кардинал де Фюрстемберг обратился к королю за
помощью и поддержкой. Король прислал войска, которые принесли присягу
кардиналу как курфюрсту. Он разместил их в крепостях архиепископства, а
командирами назначил французов. На протяжении всего этого периода
значительная часть королевской пехоты находилась в Ментеноне; королевская
кавалерия была расквартирована в различных местах; господин де Лувуа занемог
и пил воды в Форже для восстановления здоровья. Болезни в Ментеноне
вспыхнули с новой силой, причем с такой, что пришлось отправить войска на
квартиры. Полагали, что работы продлятся еще шесть недель или два месяца. Тем
не менее не создавалось впечатления, что в этом году придется принимать
жесткие меры. Господин де Лувуа возвратился из Форжа, а через два дня
маркиз д'Юксель12, командовавший лагерем, разбитом на берегу реки Эр, получил
приказ начать сборы и привести войска в боевую готовность. Тут же распро-
326
Дополнения
странился слух, что вскоре будет объявлена война. Поговаривали также об
увеличении численности войск. Почти сразу же пришли уведомления о новом
наборе рекрутов. В это самое время было получено известие о взятии
Белграда. Создавалось впечатление, что турки совершенно не могли более
продолжать войну. Для них чрезвычайно остро стоял вопрос о заключении мира с
императором. Не возникало никаких сомнений, что, если подобный мир будет
заключен, вся сила империи обрушится на нас.
Отношения с Римом продолжали ухудшаться. Никому не удавалось сломить
упрямство Папы. Папу подстрекали люди, которым он полностью доверял, а
те, кто сумел вступить с ним в беседу, чтобы попытаться переубедить, казались
ему слишком подозрительными. Король решил послать в Рим Шамле13,
человека, которому господин де Лувуа безгранично доверял и к которому охотно
обращался за помощью. Король вручил Шамле собственноручно им
написанное письмо Папе и приказал не вступать в беседы ни с господином де Лавар-
деном14, послом, ни с кардиналом д'Эстре15, улаживавшим все дела короля. Он
велел обращаться сразу к Казони16, фавориту Папы, а затем к кардиналу
Чибо17. Шамле, будучи разумным человеком, исполнил все указания, однако,
к несчастью, не добился успеха. Казони и Чибо насмехались над ним,
поочередно отсылая его друг к другу, и он вернулся домой, просто совершив
путешествие по Италии. Его поездка только еще больше расстроила кардинала
д'Эстре и господина де Лавардена, а также послужила причиной создания
манифеста, который король приказал обнародовать в момент выступления в поход.
Когда выборы в Кёльне закончились, каноники Льежа собрались, чтобы
провести собственные выборы. Мы испытывали огромнейшую потребность в
человеке, который выражал бы наши интересы, и король непременно желал,
чтобы таким человеком стал кардинал де Фюрстемберг. Однако на выборах
речь о нем почти не заходила. Королю предложили остановить свой выбор на
кардинале Буйонском, но его величество был слишком недоволен и им и его
семьей18, чтобы смириться с возвышением кардинала. Король заявил, что он не
согласен, и приказал кардиналу Буйонскому отдать свой голос за Фюрстембер-
га и попросить друзей последовать его примеру. Похоже, кардинал не
выполнил просьбу короля. Он повел себя крайне неумело, поскольку сначала обещал
всё исполнить, а затем написал письмо отцу де Лашезу19, духовнику короля, где
просил совета, утверждая, что совесть склоняла его следовать иным, нежели
предписанным королем, интересам. Наконец, спустя некоторое время стало
ясно, что поведение кардинала не внушало доверия. У господина де Круасси20
был арестован его секретарь, а немногим позже — помощник секретаря.
Епископом Льежским был избран не Фюрстемберг, а местный дворянин, весьма
благочестивый человек, не помышлявший о великих свершениях и, возможно,
в тот момент раздосадованный своим избранием. Король был возмущен, что
капитул Льежа не последовал его предписаниям, однако утешился, решив, что
непременно получит с этой страны значительную контрибуцию.
Теперь все мечтали только о том, чтобы добиться избрания кардинала де
Фюрстемберга курфюрстом Кёльнским. В район Кёльна направили гораздо
больше войск, чем там уже находилось. Командовать ими был послан госпо-
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы
327
дин де Сурди21. Курфюрст Баварский получил определенные предложения. Все
надеялись, что он их примет, поскольку полагали, что его супруга не могла
иметь детей и что принц Климент вовсе не горел желанием становиться
священнослужителем. Однако последующая беременность супруги курфюрста
развеяла последние надежды.
В тот самый момент, когда стало известно о неутешительных итогах
выборов, король получил известие, что принц Оранский наращивает мощь морского
флота, вне всякого сомнения надеясь овладеть Англией. Он имел беседы с
курфюрстом Бранденбургским и господином де Шомбергом22. Сначала мы
полагали, что эти встречи проводились лишь для того, чтобы помешать нам
стать хозяевами Кёльнского курфюршества. Однако принц Оранский всюду
покупал солдат, намереваясь погрузить их на свои корабли. В конце концов
стали поговаривать, что после Карла V не существовало более могущественной
морской армии. Король уведомил короля Англии, что все эти приготовления
касаются его самым прямым образом. Однако король Англии остался
совершенно спокоен, поскольку не поверил ни единому слову. Когда принц
Оранский увидел, что его замысел раскрыт, он заторопился и выделил огромные
суммы, чтобы выступить в поход как можно быстрее. Он придерживался
твердого убеждения, что великие замыслы никогда не осуществляются, если они
раскрыты или слишком долго претворяются в жизнь. Его величество не
преминул предложить королю Англии оказать помощь в любой момент, когда она
потребуется.
А тем временем шли приготовления к началу кампании. Многие офицеры
были произведены в генералы и получили назначения в самые различные
места. Все предчувствовали, что до конца года что-то непременно должно
произойти. Придворные не могли предугадать, отправится ли король сам или
пошлет в поход одного из маршалов Франции. Точно так же они затруднялись
ответить, в каком направлении будет нанесен удар. Король приказал передать
голландцам, что, если принц Оранский выступит против Англии, он им
объявит войну. Ту же самую угрозу он высказал маркизу де Кастанага23,
губернатору Нидерландов. Многие считали, что Намюр совершенно необходим
королю, и верили, что он будет захвачен. Конечно, все судили в силу своей
фантазии или своих знаний. Единственное, в чем не приходилось сомневаться, так это
в грандиозности замысла.
Через пять-шесть дней, когда двор должен был отправиться в Фонтенбло,
король объявил, что он не поедет на войну сам, а пошлет брать Филипсбург и
Пфальц Монсеньора;24 господин де Дюра25, недавно отправленный в провинцию
Франш-Конте, будет находиться под его началом и командовать армией. Мон-
сеньор пустился в путь через три дня после того, как было объявлено о его
отъезде, а через двенадцать дней прибыл под Филипсбург. Господин де Бус]>
флер26 стоял со значительным войсковым корпусом по ту сторону Рейна, а
маршал д'Юмьер27 продвигался с другим корпусом в сторону Клеве и
Люксембурга. Таким образом, если, как по-прежнему утверждали, войска,
соединившиеся около Кёльна, предпримут какой-либо маневр, он сумеет добраться туда, где
будет необходим. Сначала господин де Буффлер вместе со своей армией взял
328
Дополнения
носившую название Кайзерслаутерн небольшую крепость пфальцграфа в
Немецкой Лотарингии. Маркиз д'Юксель, заранее посланный в Эльзас для того,
чтобы поступить на службу в армию Монсеньора, овладел другой крепостью —
Нейштадтом, а затем пошел на штурм оборонительных сооружений на
окраине Филипсбурга. В тот же самый момент господин де Монклар28,
командовавший войсками в Эльзасе, блокировал город с другой стороны Рейна. Король
уехал из Версаля в Фонтенбло, издав манифест, где он дал объяснение своему
поведению по отношению к императору, Папе и всем соседям. Дофина29
последовала за ним только спустя три дня, поскольку плохо себя чувствовала,
причем уже давно. Монсеньор проделал в карете путь до Сарбура за одиннадцать
дней. За ним ехал немногочисленный двор: офицеры отправлялись к месту
назначения, а придворные не успевали закладывать экипажи. Король поручил
господину де Бовилье30 сдерживать горячие юношеские порывы сына. В Сарбу-
ре Монсеньор пересел на лошадь и на ней проделал огромное расстояние. В Дьё-
зе он узнал, что перед крепостью было обнаружено несколько ходов
сообщения. Одновременно с этим ему доложили о взятии Кайзерслаутерна господином
де Буффлером. От Сарбура до Филипсбурга он добрался за три дня, причем
по отвратительным дорогам. Прибыв под Филипсбург, Монсеньор, невзирая на
усталость, осмотрел диспозицию вместе с господином де Дюра, командовавшим
под его началом. Господин де Дюра приехал на встречу с Монсеньором через
мост, находившийся в полутора лье ниже Филипсбурга. Сен-Пуанж31,
представлявший господина де Лувуа в армии, прибыл вместе с господином де Дюра. Все,
и даже Монсеньор, долго были без экипажей, поскольку стояла глубокая осень,
не благоприятствовавшая затяжной осаде, и поэтому повозки в первую очередь
использовались для переброски войск и доставки самого необходимого.
Продолжалось начатое в отсутствие Монсеньора возведение крытого подступа, в
котором разместились два сторожевых батальона. Его назвали подступай Верхнего
Рейна, поскольку он располагался вдоль русла реки. Через три дня после
приезда Монсеньора напротив первого подступа возвели второй, названный
подступом Нижнего Рейна. Туда был послан один из батальонов, присоединившийся к
уже расположившемуся там. Через шесть дней после приезда Монсеньора был
открыт еще один подступ, названный великой атакой. Туда отправились
генерал-лейтенант и бригадир, а два следующих взял под свой контроль полевой
маршал. За два дня до открытия этого подступа инженер по имени Лаланд,
находившийся там с момента осады подступа имперцами, был убит пушечным
выстрелом, когда шел знакомиться с работой, которую предстояло выполнить.
Гибель инженера рассердила господина де Вобана32, поскольку только он один
хорошо знал расположение крепости, хотя в ней многое изменилось с тех пор,
как инженер ее покинул. Осажденные по-прежнему вели успешный
артиллерийский огонь. С момента возведения подступа ничего кардинального не
произошло и никто из значительных особ не был ни ранен, ни убит. Первым раненым
оказался Жарзе. Когда он шел из лагеря, где стояли его полк и полк
Монсеньора, пушечным ядром у него оторвало кисть.
Монсеньор, руководивший осадой, поручил генерал-полковнику кавалерии,
армейскому генерал-лейтенанту господину де Монклару войти в Пфальц с
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы
329
кавалерийским отрядом. Де Монклар захватил несколько городов, не имевших
фортификационных сооружений, и остановился для того, чтобы при первом же
удобном случае предпринять значительный маневр. В первые три-четыре ночи
ничто не нарушало спокойствия. Работа шла своим чередом, и постепенно наши
пушки становились батареей. Четвертой ночью мы вступили с неприятелем в
небольшое столкновение на шпагах. Овернский полк находился в траншее.
Прель, его полковник, был ранен. Утром неприятель предпринял вылазку. Он
обнаружил работников, охраняемых Овернским полком. Полк сначала
дрогнул, поскольку работники смяли его ряды, однако затем большинство
нападавших были убиты или попали в плен. Шляпу Катина33, осматривавшего в тот
день траншею, пробила пуля. Он ни минуты не оставался на месте, как, впрочем,
на протяжении всей осады. Он был вторым после господина де Вобана, кто
более всего занимался проведением осады. Господин де Лувуа питал к Катина
безграничное доверие; более ему просто нельзя было доверять. По общему мнению,
никто не обладал большим авторитетом и большими заслугами, нежели он.
Тем временем Монсеньор послал господину де Монклару приказ
попытаться взять Гейдельберг, столицу Пфальца. Захватить город на первый взгляд не
составляло особого труда: он располагался вдоль реки Неккар между двух
очень высоких холмов. С одной стороны находился довольно красивый и
довольно основательный замок — резиденция Пфальцских курфюрстов.
Господин де Монклар не имел в своем распоряжении пехоты. К тому же у него было
всего лишь несколько пушек. Поэтому ему с трудом удалось добиться успеха,
атакуя город согласно правилам ведения сражения. Там находился гроссмейстер
Тевтонского ордена, сын Пфальцского курфюрста, возможно, с 700—800
солдатами армии своего отца. Было принято решение, что лучше всего соблюсти
приличия. Шамле, находившийся вместе с господином де Монкларом, взял на
себя роль парламентера. Он сказал, что пришел от имени Монсеньора, чтобы
довести до сведения его решимость, и что тот рассердится, если с ним, с
Монкларом, случится несчастье. Наконец, Шамле, действуя от себя лично,
попросил, чтобы господин гроссмейстер, невзирая на болезнь, принял решение
покинуть замок и присоединиться к отцу, уехавшему в Нойбургское герцогство. Что
касается гарнизона, то Шамле согласился с просьбой гроссмейстера отправить
его в Мангейм, крепость Пфальца. Однако, невзирая на данное согласие,
поскольку было принято решение начать осаду Мангейма раньше, чем осаду
Филипсбурга, и поскольку для нас было неприемлемо позволить подойти туда
незначительному подкреплению, генерал-лейтенант Рюбантель вместе с
небольшим кавалерийским отрядом, значительно большим, чем требовалось для его
защиты, был послан вперед для того, чтобы окружить Мангейм. Когда уже
значительно ослабевший гарнизон Гейдельберга подошел к городу, ему было
сказано, что нет никакой возможности позволить войскам войти в окруженную
крепость. Поэтому гарнизон снова пустился в путь, намереваясь уйти обратно
в Нойбург. Когда он скрылся из виду, Рюбантель вернулся в лагерь под Филипс-
бургом. Тем временем атаки на Верхнем и Нижнем Рейне стали более
ожесточенными. Дело принимало нешуточный оборот. Было захвачено несколько
пленных, в том числе и граф Аркос34, племянник господина фон Штарембер-
330
Дополнения
га35, местного губернатора. Мы понесли незначительные потери. Из знатных
особ погиб только сын господина Куртена, сопровождавший господина де Во-
бана. Причем убит он был нашими людьми, поскольку не знал пароля.
Большое наступление развивалось очень медленно из-за того, что пришлось
преодолевать водную преграду, образовавшую своего рода передовой ров. Господин
де Вобан старался беречь людей и неукоснительно избегал чрезвычайных мер.
Были сооружены пушечные батареи и произведена бомбардировка, однако она
не нанесла особого урона осаждаемым. Напротив, их пушки, имевшиеся в
достаточном количестве и сослужившие им добрую службу, всякий раз
поражали конец подступа, из-за чего погибали наши солдаты. Однако осажденные
редко стреляли из мушкетов, и от их пуль погибло не так много наших людей.
Полевой маршал Лебордаж, совсем недавно перешедший в католичество, был
убит в голову выстрелом из мушкета. Он прожил всего лишь два часа после
ранения. Три дня спустя Нель, бывший также полевым маршалом, тоже получил
пулю в голову и через месяц умер в Шпейере. Он был глубоко порядочным
человеком, не очень умным, зато любимым всеми, довольно несчастным; однако
его несчастье казалось своего рода достоинством. Генерал-лейтенант д'Юксель
был ранен выстрелом из мушкета в спину, но ранение оказалось не слишком
серьезным. Мы преодолели водную преграду. Во время большого наступления
мы взяли редут, брошенный неприятелем в самом начале атаки, а в
последующие дни овладели несколькими углами контрэскарпа. Тем не менее все
хорошо понимали, что атака не удалась. В оборонительных кронверках
разместились батареи, а в не слишком укрепленном кронверке была пробита
довольно большая брешь. Генерал-лейтенант перенес наблюдательный пункт и
перешел в наступление на Рейн. Таким образом два наступления слились в
одно. Герцог Мэнский36, будучи волонтером, должен был следовать примеру
остальных многочисленных волонтеров, то есть ему предписывалось выбрать
полк, чтобы вместе с ним подняться в крытый подступ. Он выбрал полк
короля, состоявший из трех батальонов. Сначала герцог поступил в первый
батальон, который вместе с третьим расположился в великой атаке, в то время как
второй батальон наступал на Рейн. Затем он попросил у Монсеньора
разрешения перейти во второй батальон, полагая, что там будет чаще с ним видеться.
Герцог, чей полк не стоял в великой атаке, обратился к Монсеньору с
покорнейшей просьбой, чтобы тот перевел его в великую атаку вместо полка Грансея37,
полковник которого в то время отсутствовал и который должен был, по общему
разумению, участвовать в атаке. Монсеньор выразил согласие. Офицеры
возмутились до глубины души и хотели даже сложить с себя полномочия. В это
время прибыл Грансей и привел веские доводы. Вечером они казались
бесполезными, однако на следующее утро Монсеньор послал к герцогу Мэнскому гонца,
чтобы тот передал ему просьбу не пользоваться полученным разрешением.
Таким образом герцог не поднялся в крытый подступ. Однако даже если бы
Монсеньор не приказал герцогу поступить подобным образом, это маленькое
видимое преимущество оказалось бы напрасным, поскольку ночью ров был
засыпан и была проложена гать, чтобы иметь возможность свободно
подойти к бреши. Предыдущей ночью был произведен ее осмотр. Мы хотели убе-
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы
331
диться, в каком состоянии она находится. Граф д'Эстре38 стал единственным
из волонтёров, получивших ранение. Он был ранен в бедро в тот самый
момент, когда неприятель выстрелил в сторону двух сержантов, получивших
приказ осмотреть брешь с более близкого расстояния. Той же ночью полевой
маршал д'Аркур39, отправившийся куда-то по своим делам, упал с высоты
восьми—десяти футов и вывихнул ногу, отчего очень долго плохо себя
чувствовал.
Возвращаясь к герцогу Мэнскому, скажем, что он последовал за вторым
батальоном полка короля, однако около 10 или 11 часов утра покинул крытый
подступ, посчитав, что там ему делать нечего. Вобан, намеревавшийся
атаковать кронверк ночью, сказал, что необходимо прощупать неприятеля. Были
сформированы два или три отряда из гренадеров Анжуйского полка, который
принимал участие в так называемой атаке Верхнего Рейна. В то время как
господин де Вобан руководил атакой батальона полка короля, они поднялись на
кронверк. В укреплении, имевшем внушительные размеры, они никого не
обнаружили. Но когда они спускались вниз, к ним приблизились около 30 солдат
неприятеля. Однако за отрядами, продвигавшимися вперед, неотступно
следовали основные силы батальона, и поэтому всадники уже взобрались на вершину
бреши. Тем временем господин де Вобан направился в другую сторону и уже
приказал отрядам выступать, как вдруг услышал сильный шум,
доносившийся оттуда, откуда он только что приехал. Он сразу понял, что произошло, и
велел поторапливаться. Гренадеры полка короля взобрались на вершину
бреши, когда солдаты неприятеля начали прорываться с той стороны. Солдаты с
присущим им обычно нетерпением укрыться от огня достигли уже
ложемента, но тут раздался сигнал шамады40. Никто даже не мог предположить, что
речь идет о сложении оружия. Ведь предстояло еще захватить контрэскарп
города, переправиться через очень большой и глубокий ров; к тому же
основная часть крепости оставалась неповрежденной. Все понимали также, что
сигнал прозвучал не для того, чтобы убрать трупы, поскольку неприятель потерял
убитыми всего пять-шесть человек. Итак, все ломали голову, что это могло бы
означать. Однако неприятель заявил, что желает сдаться, чем вызвал крайнее
удивление. Добрую весть сообщили Монсеньору с той поспешностью, какую
она по праву заслуживала. Монсеньор, верный своим привычкам, находился в
крытом подступе вместе с батальонами. Он пришел в крайнее изумление,
поскольку господин де Вобан считал, что крепость продержится еще дней десять.
Однако дожди доставляли нам огромнейшие неудобства; к тому же стояла
глубокая осень, и на улучшение погоды рассчитывать не приходилось. Двору
уже сообщили, что для взятия крепости потребуются еще недели две. Теперь
пришлось отправлять другого гонца с вестью о капитуляции неприятеля. Были
освобождены заложники с той и другой стороны. Заложники, захваченные в
городе, находились у Монсеньора. Как истинные немцы, они чрезвычайно
гордились своей великолепной обороной и издевались над нами за то, что мы
не сумели одолеть их раньше. В течение 26 дней они сражались в открытых
траншеях, а первые семь-восемь дней у них вообще не было никаких укрытий.
Капитулировать мы им предложили на весьма почетных условиях. Mil остави-
332
Дополнения
ли им две пушки и дали три дня на сборы. Господин фон Штаремберг
уведомил, что он тяжело болен, и вполне серьезно попросил Монсеньора прислать
ему духовника и врача. Однако он вполне мог обойтись без первого и
совершенно не нуждался во втором, поскольку его болезнь представляла собой
обыкновенную перемежающуюся четырехдневную лихорадку. На следующий день
войска пустились в путь, чтобы окружить Мангейм. Вместе с ним шел и
кавалерийский полк Месье герцога41. Месье герцог следовал вместе со своим
полком, равно как и принц де Конти42, отправившийся в армию волонтером. Принц
де Конти находился в крытом подступе рядом с Месье герцогом, который
постоянно ходил смотреть, что происходит по ночам, и главный недостаток
которого заключался в желании сделать непомерно много. Он надеялся, что в
Мангейме неприятельские войска проявят больше храбрости, чем в Филипсбур-
ге. Ведь в Филипсбурге все произошло безупречно. Принцы довольствовались
только тем, что выстрелили несколько раз из пушек. После подписания
капитуляции Филипсбурга д'Антен43 отправился известить о произошедших
событиях короля. Однако господин де Сен-Пуанж успел послать гонца за пять-шесть
часов до его отъезда, и тот прибыл в Фонтенбло, когда там шла служба.
Господин де Лувуа, зная о том, что королю не терпелось узнать новости, сообщил
ему о полученном известии во время службы. Король приказал проповеднику
замолчать, объявил о взятии Филипсбурга и прочитал письмо, написанное ему
Монсеньором. Проповедник, а им был отец Гайар44, иезуит, ничуть не
смутился от подобного вмешательства, а, наоборот, заговорил еще более
воодушевленно и поздравил короля в связи со столь счастливым событием, чем вызвал
аплодисменты присутствующих. Что касается мадам д'Антен45, знавшей, что
сообщить его величеству новость должен был ее супруг, то, как добродетельная
жена, она упала в обморок в другом углу церкви, решив, что с мужем
случилось несчастье, поскольку известие привез другой. К моменту отъезда
господина д'Антена были оговорены все детали и сдавшиеся открыли городские ворота
Пикардийскому полку, который считался старейшим. Мы уже стали заботиться
о том, чтобы отправить все необходимое для осады Мангейма. На следующий
день батальоны снова поднялись в крытый подступ, чтобы сровнять его с
землей. Офицер из полка короля, находившийся в тот день там, заскучал. Он взял
у солдата ружье, чтобы пострелять куликов. В этот момент приехал Монсень-
ор, и все сидевшие офицеры встали, чтобы поприветствовать его. Но тот
первый офицер не видел вокруг себя ничего, кроме пролетавших мимо куликов.
Он выстрелил, и пуля, вылетевшая из ружья вместе с дробью, попала в
шевалье де Лонгвиля, бастарда покойного господина де Лонгвиля46. Трагический
инцидент, оборвавший жизнь шевалье в столь ранней юности (ему исполнилось
только 20 лет), причинил всем глубокое горе.
В праздник Всех Святых, день рождения Монсеньора, господин фон
Штаремберг выехал в карете из крепости. За ним следовал гарнизон, состоявший
из его полка, который насчитывал еще 1800 человек, способных нести службу,
и 60 конных драгун. Офицеры возлагали вину на солдат, говоря, что те не
хотели их слушаться. Солдаты же утверждали, что на протяжении всей осады
они ни разу не видели своих офицеров. Наконец все пришли к выводу, что и
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы
333
те, и другие немногого стоили. Они казались такими веселыми, что можно
было смело утверждать, что они в одинаковой мере несли ответственность за
плохую оборону крепости. Господин фон Штаремберг вышел из кареты,
чтобы приветствовать Монсеньора, наблюдавшего за тем, как гарнизон покидает
город. Гарнизону выделили эскорт, который сопровождал его до Ульма, где тот
должен был пересесть на корабли, чтобы добраться до Вены. На следующий
день после ухода гарнизона Монсеньор отправился в крепость, где приказал
пропеть благодарственную молитву «Те Deum»47.
В то время, когда мы стояли под Филипсбургом, принц Оранский
вознамерился вывести флот в море. Однако постоянно дули сильные ветры, и он был
вынужден вернуться в порт, причем одни корабли сильно потрепало, а другие
и вовсе погибли. Его армия состояла из солдат, завербованных во всех странах;
некоторые приехали даже из Швеции. Солдат поставлял ему также и принц-
регент Вюртембергский48. Однако ему пришлось заплатить вдвое больше той
выгоды, которую он получил, поскольку войска короля разграбили его страну.
Принц Оранский имел в своем распоряжении многочисленную армию и
значительное число хороших офицеров-французов, исповедовавших протестантскую
религию, из-за чего им и пришлось покинуть королевство. Господин де Шом-
берг, примкнувший к принцу, был лучшим генералом Европы. Все, что
только можно было себе вообразить — не только необходимое, но и просто
пригодное для достойной защиты, — было погружено на корабли, причем все
приготовления велись довольно долго в глубокой тайне. Остальное же зависело от
Господа. Приготовления принца Оранского вызывали зависть как во Франции,
так и в Англии. Спустя несколько дней после отправки войск в Филипсбург
король пришел к выводу, что принц Оранский проводит приготовления с
целью высадки в Нормандии. Мы хотели укрепить Шербур, город,
расположенный на берегу моря, и даже начали вести определенные работы, однако город
все же не смог бы долго сопротивляться, поскольку там не было
достаточного количества войск для его защиты. Тем не менее город сумел бы постоять за
себя. Мы хотели также отправить два батальона, расквартированные в
Версале и закончившие работы в Ментеноне, однако они пребывали в столь
плачевном состоянии, что представлялось совершенно невозможным их туда послать,
поскольку нашлось всего 100 человек, способных передвигаться. Были
вызваны провинциальные дворяне и вспомогательные войска49. Командовать ими
были назначены Артаньян, майор гвардейцев50, вместе с офицерами и
сержантами того же полка, и Жонвиль, командовавший второй ротой мушкетеров. В
Бель-Иль были посланы офицеры-гвардейцы и мушкетеры, поскольку
существовало опасение, что высадка произойдет именно там. Крупные гарнизоны
разместились также в Кале и Булони. Одним словом, мы сделали все, что
обычно делается в том случае, когда ожидается нападение.
Во время осады Филипсбурга господин де Буффлер приказал войскам войти
в Вормс, довольно большой город, расположенный на Рейне. Он овладел Майн-
цем, частично сумев убедить курфюрста, частично применив силу и ловкость.
Начались переговоры с курфюрстом Трирским с целью получить Кобленц. От
него вовсе не требовали отдать крепость Герменштейн, просто мы хотели иметь
334
Дополнения
возможность свободно переправляться через Рейн. Курфюрст Трирский
сначала склонялся к принятию подобного решения и мы надеялись на успешные
итоги переговоров, как вдруг до нас дошли вести, что в Кобленц вошли
войска курфюрста Саксонского и принцев соседних курфюршеств. Франкфурт,
пребывавший в ужасной панике, получил в свое распоряжение крупный
гарнизон, сформированный из тех же самых войск. Мы испытывали огромную
горечь от невозможности получить Кобленц. Наша досада проявилась в том, что
мы разграбили земли Трирского курфюршества и захватили в плен верховного
маршала курфюрста, поскольку подозревали, что именно он заставил своего
повелителя изменить мнение. После этого мы приняли решение о
бомбардировке Кобленца.
После того как все необходимое для осады Мангейма было отправлено из
лагеря под Филипсбургом, Монсеньор уехал во главе с оставшимися частями
своей армии, поскольку многие покинули лагерь раньше и расположились в
охотничьем замке курфюрста Пфальцского, который принадлежал
вдовствующей курфюрстине Пфальцской. На следующий день Монсеньор прибыл в
окрестности Мангейма. Стояла ужасная погода, и нам пришлось
расквартировывать войска в деревнях. Губернатором Мангейма был буржуа из
Франкфурта, торговец железом, возведенный в дворянство императором. После
прибытия Монсеньора губернатору было сказано, что его повесят, если он позволит
возвести крытый подступ, и что он вовсе не подчиняется курфюрсту Пфальц-
скому. Он ответил пустым бахвальством и изредка приказывал открывать
огонь из пушек. Мы не стали делать циркумвалационную линию: большинство
армии было прикрыто Неккаром и Рейном, где мы оставались
полноправными хозяевами. К тому же не складывалось впечатления, что неприятель
примется атаковать крепости, располагавшиеся по ту сторону Неккара. Мы возвели
понтонную переправу, а ставка Монсеньора хотя и находилась на расстоянии
пушечного выстрела от крепости, но была укрыта деревьями. Расположение
Мангейма было самым лучшим в мире после крепости Келя. Город
раскинулся при слиянии Неккара и Рейна; с одной стороны его прикрывало болото.
Рядом возвышалась большая красивая цитадель, великолепно отделанная
изнутри. Курфюрст построил там себе премиленький дворец. Город с прямыми как
стрела улицами производил приятное впечатление, хотя на всем лежала печать
бедности. Он был молодым, поскольку покойный курфюрст, то есть отец жены
Филиппа Орлеанского, принялся его строить только сорок лет тому назад.
После того как была произведена разведка, мы начали возводить крытый подступ
со стороны города. Работы шли чрезвычайно быстро. Одновременно с этим
устанавливалась батарея для бомбометания. Утром погиб господин де Морне51,
служивший у Монсеньора адъютантом и приходившийся сыном господину де Мон-
шеврёю. Его отец, сопровождавший герцога Мэнского, страшно горевал по
сыну, который был честным и порядочным юношей, но который, однако, не
слишком помогал судьбе для достижения успехов. Она сама неслышно пришла
к нему и вырвала из довольно заурядного состояния, чтобы наделить его
изобилием и богатством. Он был убит пушечным выстрелом вместе с лейтенантом
гвардии герцога Мэнского и двумя солдатами. Вечером началось возведение
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы
335
крытого подступа перед цитаделью. Для ночных работ было выделено 1400
человек. Когда от подступа до контрэскарпа оставалось тридцать туазов, началось
возведение батареи из четырнадцати орудий. На другой стороне Рейна уже
стояла батарея, возведенная до строительства крытого подступа. Она сильно
мешала батарее неприятеля, расположенной над подступом, и вскоре сделала
ее совершенно бесполезной. В тот день Монсеньор ездил осматривать Гейдель-
берг, где пил из знаменитой бочки, приводившей в восхищение всю Германию.
Возвратившись, он узнал, что Мангейм изъявил желание капитулировать. Мы
собирались некоторое время стоять на своем и хотели принять капитуляцию
только после сдачи цитадели, однако в конце концов сочли уместным
согласиться, поскольку решили атаковать цитадель со стороны города. В первую
ночь, когда перед городом и цитаделью появился крытый подступ, солдаты
неприятеля вышли на крепостные стены со скрипками и гобоями, однако их
веселье не могло длиться долго. Наконец капитуляция города была принята.
Огонь, вспыхнувший от падавших бомб, вызвал разногласия между
губернатором и горожанами. Губернатор даже грозился сжечь их, если они сдадутся.
Однако, поскольку он не имел большой власти над гарнизоном, ему пришлось
уступить желанию горожан. За ними сохранили все привилегии, и Пикардийский
полк вошел в город. Утром был произведен осмотр цитадели со стороны
города. Это место оказалось самым уязвимым. Вечером началась подготовка к
атаке, хотя губернатор и грозился поджечь весь город. Однако к четырем
часам он обуздал свою гордыню и попросил о капитуляции. Его гарнизон, изрядно
поредевший при перемещении из города в цитадель, потребовал денег. В
противном случае он отказывался стрелять. У губернатора денег не было, и он не
мог занять их у горожан. В конце концов ему пришлось капитулировать.
Губернатору разрешили выйти с развернутыми знаменами, с оказанием всех
бесполезных почестей, на которых он настаивал и которые легко достаются при
плохой обороне. Ему также оставили две пушки, которых, впрочем, не дали с
собой, и предоставили 48 часов на сборы. Он подумал, что за это время солдаты
могут его убить, и поэтому попросил приставить к нему охрану. Как и было
условлено, губернатор ушел во главе 500—600 человек, среди которых
находилось 60 драгун. Отправился же он в маленький городок Пфальца. Монсеньор
видел, как тот уходил, и дал ему эскорт из 40 молодцов под командованием
шевалье де Коменжа52. Уходя, губернатор потребовал обещанные пушки и три
повозки с зерном, однако не получил ни того, ни другого. Когда гарнизон вошел
в маленький городок, где ему предстояло переночевать, солдаты сговорились
его разграбить, утверждая, что жители должны им денег сверх того, что было
выделено на их содержание. Шевалье де Коменж был поставлен в известность.
Он оказался в сложном положении, ведь в его распоряжении имелся только
маленький отряд, однако он приказал предупредить господина де Дюра и
укрылся со своими людьми. Ночью к нему послали 300 всадников, которые подошли
к городку на рассвете и сорвали сговор. Гарнизон вынудили пуститься в
дорогу. Он отправился в Дюссельдорф. Путь предстоял долгий, и солдаты
по-прежнему ворчали на командира. В конце концов ему пришлось распустить их по
домам и выставить часовых из опасения, что солдаты его изобьют. Он дал им
336
Дополнения
свою карету, которая была весьма плохим средством передвижения. Монсень-
ор послал Сен-Мора известить короля о сдаче крепости и отдал все
необходимые распоряжения о подготовке к осаде Франкенталя, куда король попросил
его отправиться, обещав устроить после его возвращения большое
празднество при дворе. Монсеньор торжественно въехал в Мангейм и приказал
пропеть «Те Deum» в церкви цитадели, которая одна только и была
католической. Тем днем прошли еще три службы другой религии. Пикардийский полк
остался стоять гарнизоном в Мангейме, а его командующим был назначен
подполковник.
Все войска, которым предстояло зимовать по ту сторону Рейна, покинули
лагерь, разбитый около Мангейма, и отправились на квартиры. Войска же,
стоявшие по эту сторону Рейна, последовали за Монсеньором для проведения
осады Франкенталя. Переход из Мангейма во Франкенталь оказался коротким. На
следующий день после сдачи Мангейма кавалерия, находившаяся по ту сторону
Рейна, отправилась во главе с господином де Жуайёзом53 осаждать крепость.
Крепость была окружена, и шевалье де Курсель54, майор кирасирского полка,
отправился к губернатору, чтобы предложить ему сдаться и заверить, что в
противном случае он не получит пощады. Губернатор отвечал с большим
мужеством. В день приезда Монсеньора мы хотели заключить определенный
договор. Губернатор совсем уже было дал свое согласие, однако его майор
заставил переменить решение, убедив, что он потеряет всякое уважение, если не
прикажет хотя бы раз выстрелить из пушки. Губернатор преисполнился
мнимой храбрости и заявил, что сдастся, когда сочтет необходимым. За два дня мы
соорудили крытый подступ, а затем стали возводить пушечные и бомбомета-
тельные батареи. Утром третьего дня всё пришло в движение. С семи часов
утра до полудня город был охвачен пламенем. Сгорела большая колокольня.
Пожар продолжался до десяти часов вечера. В половине двенадцатого утра они
дали сигнал шамады и попросили о капитуляции. Армию охватила огромная
радость, поскольку, хотя солдаты и офицеры считали счастьем служить под
началом Монсеньора, стоял конец ноября и все опасались плохой погоды.
Во время осады Франкенталя мы бомбардировали также Кобленц. Во Фран-
кентале у неприятеля имелись оборонительные сооружения с кронверком,
откуда он очень досаждал нашим войскам. Барбезьер55 во главе со своим
драгунским полком храбро овладел им, несмотря на шквальный огонь, который велся
из города. Монсеньор предоставил губернатору Франкенталя право
капитулировать на очень почетных условиях и наблюдал за выходом гарнизона,
насчитывавшего 700—800 человек. Он задержался на три дня, чтобы проследить за
разъединением войск своей армии, отправил господина де Кейлюса известить
короля о взятии города и приказал держать для себя готовыми почтовых
лошадей от Вердена до Парижа. На следующий день после взятия крепости ее
покинули многие, в том числе и Месье герцог, которому король оказал плохой
прием, равно как и тем, кто за ним последовал.
Монсеньор скакал из Франкенталя в Верден в течение пяти дней на своих
лошадях и два дня от Вердена в Версаль — на почтовых. Король, дофина и весь
двор ждали его в Сен-Клу. В Сент-Уэне была установлена пушка, из которой
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы
337
надлежало выстрелить при появлении Монсеньора, чтобы двор выехал ему
навстречу, проделав путь до Булонского леса. Так и произошло. Король,
дофина, Филипп Орлеанский с супругой и принцессы вышли из карет. Когда Мон-
сеньор приехал, король расцеловал его, а тот поцеловал колени короля. Король
оказывал ему бесконечные знаки внимания и осыпал ласками. Король был
настолько доволен письмами Монсеньора, так много хорошего слышал о нем
с разных сторон (это было полной неожиданностью — ведь Монсеньор пока еще
мало чем успел себя зарекомендовать), что даже засомневался, а достаточно
ли он его отмечает. Принц де Конти приехал вместе с Монсеньором. Он был
единственным, вместе с необходимыми ему офицерами, кто последовал за ним.
Принц не так давно женился, и его супруга питала к нему такую любовь,
какую только может вызвать столь любезный и уважаемый мужчина в сердце
молодой особы, до сих пор никого не любившей. Она не только ни разу не
улыбнулась во время его отсутствия, но даже едва поддерживала разговор.
Господин де Бовилье, сдерживавший юношеские порывы Монсеньора, приехал
через два дня. После триумфального возвращения Монсеньора при дворе
воцарилась огромная радость. Все поэты старались изо всех сил, расточая ему
похвалы, тем самым возвеличивая и короля.
Генералы оставались на всех границах. Монклар, командовавший в
Эльзасе, имел в своем подчинении двух полевых маршалов и бригадиров.
Территория, подпадавшая под его ответственность, простиралась до Неккара. Маркиз
д'Юксель находился в Майнце вместе с подчинявшимися ему бригадирами и
двумя полевыми маршалами. Он отвечал за территорию от Неккара до
Майна и далее. Господин де Сурди командовал всем Кёльнским курфюршеством;
господин де Монталь56 — территорией, расположенной вдоль Мозеля; господин
де Буффлер — своей губернией. Господин де Дюра оставался в армии перед
Франкенталем до тех пор, пока оттуда не ушел последний солдат. Он получил
приказ оставить там свою свиту и вернуться в Париж. Однако пришло известие
о приближении войск императора, поэтому нужно было срочно получить
контрибуции, которым господин де Лувуа придавал чрезвычайно большое
значение. Покинув Филипсбург, мы отправили Фёкьера вместе с его полком в Гейль-
бронн, город империи. Курфюрст Баден-Дурлаха отдал Монсеньору небольшой
городок при въезде в Вюртембург, под названием Пфорцхайм, где и
разместился гарнизон. Большой гарнизон встал в Гейдельберге, а войска,
располагавшиеся по эту сторону Рейна, рассредоточились в других гарнизонах.
В армии никто не получал достоверных известий о принце Оранском.
Знали только о его вторичном выходе в море и о том, что буря вновь заставила его
отступить, а также о том, что он потерял много лошадей, которых был
вынужден сбросить в море. Однако с тех пор прошло уже много времени, и всем не
терпелось узнать об этой, по всей видимости, большой катастрофе. Прибыв в
Париж, они узнали, что, принц совершил весьма успешную высадку, вторгся в
страну, захватил один город, однако никто не вышел ему навстречу. Все
оценивали эту авантюру в соответствии со своими убеждениями. Король приказал
передать голландцам, что, если принц Оранский предпримет что-либо против
короля Англии, он объявит им войну. И он сдержал свое слово. Все князья Гер-
22. Заказ № К-6559
338
Дополнения
мании, исповедовавшие протестантскую религию, разделяли интересы принца
Оранского. Таким образом эта война разразилась из-за ненависти к королю и
религиозных настроений. Принц Оранский приказал посланнику голландцев
при императоре провести серьезную работу с целью заключения мира между
турками и императором для того, чтобы все силы империи оказались
направленными против Франции. По-видимому, король через своего посла
предупредил Порту57, что собирается напасть на империю для того, чтобы мир не был
заключен. И даже Тёкёли58, о котором уже очень давно велись разговоры,
начал понемногу кое-что делать.
Положение принца Оранского вскоре изменилось. Первым, кто покинул
короля, чтобы присоединиться к принцу, оказался лейтенант его гвардии с
несколькими гвардейцами. В то же самое время стало известно, что на севере
Англии вспыхнул мятеж и что милорд Деламер собирает войска. Прошло не
так уж много дней, как к принцу Оранскому присоединился почти целый полк,
однако на следующий день многие изменили свое решение. Король Англии
покинул Лондон и занял весьма удачную позицию, через которую принц
Оранский должен был непременно проехать, чтобы попасть в Лондон. Милорд
Февершем59, брат господина де Дюра, командовал многочисленной армией,
которая могла бы одолеть принца Оранского, если бы была столь же верной,
сколь и замечательной, однако многие лорды покинули ее и присоединились
к принцу Оранскому. В числе их был и некий Черчилль60, капитан гвардии
короля и его фаворит, некогда мелкопоместный дворянин, достигший благодаря
монарху высоких постов. Так вот он хотел не просто присоединиться к
принцу Оранскому, а даже выдать ему своего благодетеля. Но у короля, шедшего
к нему обедать, открылось носовое кровотечение, что и предотвратило
измену. Принц Датский, женатый на принцессе Анне61, второй дочери короля, тоже
изменил ему. Принцесса последовала примеру своего супруга, и король был
вынужден вернуться в Лондон, опасаясь, как бы там не разразился бунт и как бы
он не перестал быть хозяином города.
Эти новости привели двор Франции в огромное удивление, поскольку там
знали, что сначала очень мало особ заявили о своей приверженности принцу
Оранскому после его приезда, и даже считали, что он предпринял
неправильные шаги. Его Величество заявил в тот момент, когда меньше всего ожидали,
что намерен вручить голубые ленты62. Награждение производилось с размахом:
ордена удостоились 73 человека. В основном это были военные, поскольку все
понимали, что вскоре в их услугах появится большая необходимость и
поскольку другие награды могли бы оказаться дороже, чем эта. Представляется, что
господин де Лувуа лично решал, кому надо вручить голубую ленту. Госпожа
де Ментенон63 просила за своего брата и господина де Моншеврёя, а также,
возможно, способствовала тому, что кавалером ордена стал Вилларсо64. Наград не
удостоились три служителя дома короля: главный прево65, первый дворецкий
и Кавуа66, главный квартирмейстер. Первый из них не только обладал
должностью, но и выделялся происхождением; ту же должность занимал и его отец.
Но двое остальных имели только должность. По правде говоря, некоторых
сделали кавалерами, хотя их происхождение наносило огромный вред ордену, од-
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы
339
нако величие короля проявляется в том, чтобы уравнивать незнатных людей
с высшими аристократами королевства. Три герцога также не получили
голубых лент; ими были господа де Роан67, де Вантадур68 и де Бриссак69. Они крайне
редко появлялись при дворе70, не принимали участия в войне и были своего
рода экстраординарными людьми, хотя и совершенно разными по характеру.
Господин де Субиз71 и граф Овернский72 отказались от ордена, поскольку им,
как не владевшим герцогствами, предложили явиться вместе с
мелкопоместными дворянами. Лотарингские принцы согласились пройти после господина
де Вандома73, однако они следовали впереди всех герцогов. Граф де Суассон74,
которого король выбрал вместо одного из отказавшихся, тоже обратился к
нему за разрешением не принимать голубой ленты, поскольку когда-то отец
графа, вопреки церемониалу, не желал следовать за ныне покойным
господином де Вандомом75, а еще из опасения окончательно испортить отношения со
своей бабкой, принцессой де Кариньян76, и тем более с герцогом Савойским.
Король милостиво прислушался к приведенным доводам, однако рассердился на
графа Овернского и господина де Субиза. Слава Буйонов, которых он возвел
в достоинство принцев, хотя они были простыми дворянами, правда, из очень
хорошего Овернского дома, стала причиной их несчастья. Король приказал
занести в архивы и то, что граф Овернский отказался от голубой ленты из боязни
пройти после герцогов, хотя его предки были всего-навсего простыми
дворянами, и то, что господин де Субиз поступил так же, хотя когда-то представитель
его дома, граф де Рошфор, без всяких возражений принял предложенные
условия. Что касается имевшего то же достоинство господина де Монако77, то он
принял орден с должным смирением, как и следует, получая милости от
своего повелителя, и сказал, что будет довольствоваться местом, отведенным ему
в соответствии с церемониалом. Возможно, он так сказал, поскольку не был
обязан присутствовать и не присутствовал на награждении. Нашлось немало
наместников короля в больших провинциях, считавших, что они с полным
правом заслужили подобную награду. Однако они ее не получили. В числе
последних были и три наместника Лангедока. Но считать так они не имели никаких
оснований, поскольку уже на протяжении долгого времени им пришлось
претерпеть столько разочарований, которые они покорно сносили, что было
решено разочаровать их еще один раз. Господину де Латремую78 была оказана
высокая честь, поскольку до достижения им определенного возраста оставался
еще год. Многие не пришли на церемонию, так как одни находились на
службе короля в провинциях, а другим король позволил пропустить ее, поскольку
назвал их имена слишком поздно, и даже те, кто находился в Париже, едва
успели приготовить костюмы, а те, кто прибыл издалека, не успели и вовсе, как,
например, господин де Монако, который отправился домой только за десять
дней до объявления о награждении, или господин де Ришелье79, отправившийся
в добровольное изгнание в Ришелье, поскольку в один миг потерял более 100
тысяч франков и стал неплатежеспособным.
Король испытывал большое огорчение. Во-первых, он был очень занят. Ему
приходилось заниматься весьма неприятными вещами, ибо недавно он
приводил в порядок свои резиденции и фонтаны, а теперь предстояло изыскать сред-
340
Дополнения
ства, чтобы разрешить возникшие проблемы. Германия совсем ослабела; никто
из князей не разделял интересы короля, и он никого не щадил.
Голландцам он объявил войну. Дела в Англии шли настолько плохо, что все боялись,
как бы король и принц Оранский не заключили перемирия, что тяжелым
бременем ляжет на нас, однако находили это наименьшим злом, какое нам
можно было причинить. Шведы, издавна бывшие нашими друзьями, стали теперь
нашими заклятыми врагами. Король Испании говорил, что хотел бы сохранить
нейтралитет, однако это само по себе ни к чему не привело бы, и мы боялись,
что он будет сохранять нейтралитет только до того момента, как мы попадем
в беду. Король хотел от испанцев либо большей определенности, либо передачи
ему двух городов — Монса и Намюра — в качестве залога верности себе.
Предложение было жестоким, однако мы могли получить значительные
преимущества исключительно во Фландрии, и Намюр был нам совершенно необходим,
поскольку только через него голландцы и немцы могли попасть в нашу
страну. Наше побережье находилось в беспорядочном состоянии. Господин де
Лувуа, игравший большую роль в правительстве, считал, что подобные вопросы
не входят в круг его обязанностей. Он знал, что оба короля связаны союзом,
и считал это достаточным. Они никогда не любили строить далеко идущие
планы. Для того чтобы причинить нам зло, достаточно было, чтобы Голландия
стала союзницей Англии. Однако господин де Лувуа считал подобное
объединение невозможным, и только один Господь Бог мог предвидеть, что через две
недели Англия подчинится принцу Оранскому. И всё это произошло оттого,
что мы не обращали должного внимания на наше побережье.
Внутреннее положение королевства причиняло не меньше беспокойства
королю. Во Франции проживало много новообращенных80, которые смирились
под натиском силы, однако не имели ни мужества покинуть королевство, ни
желания стать настоящими католиками. Их пасторы, проповедовавшие в
дальних странах, вселили в них надежду, что в 1689 году они избавятся от
преследований. Они наблюдали за развитием событий в Германии, происходившими
в тот же самый год. Они ежедневно получали письма от своих изгнанных
собратьев, которые еще больше укрепляли их веру. И когда они думали, что весь
мир ополчился на короля, то не сомневались, что он не устоит, что он будет
вынужден восстановить в правах их религию. Помимо новообращенных
существовали люди недовольные своим положением в королевстве. Эти люди с
удовольствием присоединились бы к ним, если бы судьба отвернулась от нас и
повернулась к нашим врагам. Король понимал это лучше всех остальных, и его
старались как можно меньше волновать. Он должен был обладать великой
душой и могучей силой, чтобы не позволить себя огорчать. Какой избрать
способ, чтобы собрать достаточно войск для сопротивления всему этому? Мы
сначала рассчитывали на швейцарцев, но затем рассорились с ними. Они не
захотели позволить нам вербовать солдат в своей стране, а вот императору они
разрешили это сделать. С покойным герцогом Савойским у нас имелся договор на
три тысячи человек. Это было ничтожной помощью. К тому же выполнить
условия оказалось очень трудно. Раздосадованный король сказал, что ему
больше ничего не нужно. В конце концов герцог Савойский был вынужден обра-
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы
341
титься с просьбой забрать их, но это было каплей в море. Итак, следовало
находить всё в самом королевстве. Король ввел до первого января временные
должности и издал ордонанс о вербовке во всех провинциях 50 тысяч человек
во вспомогательные войска, которые были разделены на полки и направлены
туда, где существовала необходимость. Офицерами были поставлены все те,
кто когда-либо служил. По воскресеньям и праздникам эти вспомогательные
войска обучались стрелять. Однако весной королю предстояло найти более 300
тысяч человек, не считая вспомогательных войск, что было бесконечно много. На
протяжении всего декабря в Германии взималась контрибуция, в том числе и
с государств курфюрста Баварского. Фёкьер, командовавший в Гейльбронне
крупным отрядом, заставлял их трепетать от страха. В Голландии, то есть в
Голландском Брабанте, нам удалось собрать 50 тысяч франков. Бюллонд81
отправился туда и сжег принадлежавшую принцу Оранскому деревню под
названием Розендааль, расположенную около Бреды и отказавшуюся платить
контрибуцию. Контрибуцией обложили провинции Льеж и Юлих, и все собранные
деньги приносили большую пользу. По правде говоря, войска получали от них
незначительную выгоду, поскольку им их не давали, однако во Франции
существовала такая традиция, которую все считали хорошей. В конце декабря мы были
вынуждены вывести войска, стоявшие по ту сторону Рейна, однако перед этим
разграбили и снесли с лица земли крепости, такие как Гейльбронн, Штутгарт
и многие другие. Проводились работы по укреплению Пфорцхайма, крепости,
возвышавшейся при входе в Вюртемберг и занимавшей весьма удобную
позицию, поскольку она была окружена горами. Мы также укрепляли Майнц.
При дворе некоторое время ничего не знали о положении в Англии,
поскольку оттуда не приходило никаких достоверных известий. Мы только знали, что
дела короля острова шли все хуже и хуже. Наконец прибыл господин де Ло-
зен82, уехавший в Англию в самом начале этой истории, и привез новости.
Однако слухи о том, что произошло, не распространялись. Через несколько дней
мы узнали, что королева Англии вместе с принцем Уэльским приехала во
Францию в сопровождении господина де Лозена и что они находятся в Кале.
Все сочли, что этот гонец был послан для того, чтобы известить короля о плане
побега и узнать, одобряет ли он подобный план. Говорили также, что король
Англии должен приехать через сутки, однако мы напрасно ждали его приезда.
Прошло два дня. По-прежнему разговоры велись только о его предстоящем
побеге. Высказывалось предположение, что порты Англии закрыты. Наконец
пронесся слух, что короля арестовали в Рочестере при попытке спастись. О
плане своего спасения он не захотел рассказать ни королеве, ни господину де
Лозену. С точки зрения королевы дело было и тщательно спланировано, и
прекрасно исполнено. Король Англии мечтал спасти принца Уэльского и вывезти
его из Лондона, опасаясь, что может потерять над городом контроль. Он
доверил принца милорду Ормонду83, которого считал своим сторонником и
который командовал его флотом. Рассказывали, что он приказал ему спасти
принца, но милорд Ормонд не захотел этого делать и ответил, что в подобном
случае он будет нести ответственность перед всей Англией, добавив, что все, что
он может сделать, — это отправить принца к нему, а затем пусть его величество
342
Дополнения
поступает как считает нужным. Король Англии пришел в отчаяние, видя, что
все ему изменяют, поскольку сомневался, что милорд Ормонд приведет к нему
юного принца. О том, что принц выехал к нему, он узнал только на следующий
день. Король Англии предложил королеве-супруге уехать без принца
Уэльского, однако она не согласилась. Наконец им сообщили, что принц прибыл. В
течение трех дней его прятали в одном из пригородов Лондона. Королева, две
женщины, одна из которых была госпожа Фиден, воспитательница принца
Уэльского, ее супруг, господин де Лозен и Сен-Виктор пустились в дорогу с
наступлением ночи. Сначала король, как обычно, отправился спать вместе с
супругой, но через час они встали. Король, одевшись, помог королеве спуститься
по потайной лестнице и доверил ее господину де Лозену, который несколько
дней тому назад дал объявление о своем отъезде во Францию и по этому поводу
нанял карету и яхту. Когда он собирался сесть в карету, кучер отказался его
везти. Но время торопило. Господин де Лозен дал кучеру денег, послуживших
лучшим убеждением, но когда он уже сел в карету, то заметил, что толпа
пришла в возбуждение. Говорили, что это спасаются католики из-за страха быть
арестованными. Кучер хотя и боялся, но поторопился, помня о деньгах,
которые дал ему господин де Лозен. Итак, они избежали опасности и
благополучно добрались до яхты. Хозяин яхты не заметил, как на борт провели принца
Уэльского. Королева быстро спряталась и вручила свою судьбу Господу Богу.
Однако не все грозные беды остались позади — ведь Ла-Манш бороздили
военные корабли Голландии и ветер мог отнести их к берегам Англии. Когда яхта
вышла в море, дул попутный ветер, но вскоре он переменился. Ночью
разыгрался такой сильный шторм, что пришлось убрать все паруса. Капитан не знал,
в каком месте они находятся. Он услышал шум и решил, что их прибило к
какому-нибудь порту. Однако через несколько мгновений они услышали
колокола, которые звонят на кораблях, призывая на молитву. Тогда он решил, что они
попали в окружение голландских кораблей, и не ошибся. Ветер немного стих,
были подняты паруса, и яхта благополучно вошла в Кале около девяти часов
утра. Увидев яхту, охрана порта послала известить губернатора, а
губернатором там был господин де Шаро84. Согласно обычаю он отправил к яхте две
шлюпки, чтобы узнать, кто прибыл в порт.
Дело господина де Шаро и господина де Лозена произвело слишком
много шума и достойно того, чтобы здесь о нем рассказать. Когда шлюпки
причалили к берегу, господину де Шаро доложили, что на яхте прибыл господин де
Лозен. Герцог де Шаро вышел господину де Лозену навстречу и расцеловал
его. Господин де Лозен просил его предоставить убежище двум дамам,
которые спаслись из Англии вместе с ним. Герцог де Шаро ответил, что
чрезвычайно раздосадован, что не может их приютить у себя, поскольку его дом пришел
в ветхое состояние и там протекала крыша, однако он готов предоставить им
лучший дом города. Герцог де Шаро настойчиво попросил господина де Лозена
назвать все-таки имена этих женщин. Господин де Лозен пришел в
замешательство. Наконец он сказал, что одна из них королева Англии, но она хотела бы
остаться неузнанной, и поэтому ей не следует ни оказывать знаков внимания,
ни выражать почтение, иначе она расстроится. Господин де Шаро не поверил
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы
343
ни одному слову господина де Лозена и отправился к ней, чтобы
засвидетельствовать ей, как он утверждал, свое почтение. Он приставил к ней охрану,
получил распоряжения ее величества и затем удалился, чтобы послать известие
ко двору. Когда он рассказал господину де Лозену о том, что собирается делать,
тот ответил, что следует соблюдать особую осторожность и что он всё
испортит, поскольку она не хотела принимать никаких почестей. Господин де Лозен
даже рассердился на господина де Шаро, который не желал слушать разумных
доводов и утверждал, что исполняет свой долг и что он может только
предоставить ему время для того, чтобы написать письмо. Затем он приказал закрыть
городские ворота, велел никому не давать почтовых лошадей и известил о
прибытии королевы Англии и принца Уэльского. Когда капитан яхты попросил
разрешения пуститься в обратный путь, господин де Лозен сказал герцогу де
Шаро, что того совершенно необходимо задержать. Господин де Шаро ответил,
что получил приказ не применять никаких насильственных мер в отношении
англичан. Единственное, что он мог сделать, так это задобрить капитана и
посоветовать ему не спешить возвращаться; но он никогда не посмеет арестовать
его. Случилось так, что капитан не пожелал прислушаться к советам герцога.
Пока королева оставалась в Кале, господин де Шаро распорядился всегда
накрывать для нее и ее свиты три стола и оказывать почести, которые
положено оказывать королевским особам. Тем не менее после приезда господина де
Лозена распространился слух, что господин де Шаро плохо исполнил свой
долг, что служба короля бездействовала в Кале и что крепость совсем не
охранялась. Однако господин де Шаро сумел оправдаться и по возвращении был
очень хорошо принят королем. Когда от господина де Шаро прибыл гонец,
двор охватила большая радость; все с нетерпением ждали новостей от короля
Англии. Все знали, что он должен был бежать через несколько дней после
королевы, однако о его прибытии не приходило никаких известий и к тому же
все порты Англии были закрыты. Прошел слух, что переодетого короля
арестовали в Рочестере при попытке спастись. Слух этот возник неизвестно
откуда. Затем родились новые слухи, как обычно происходит в чрезвычайных
ситуациях. Наконец, были получены верные сведения: король, переодевшись
охотником, поскольку он собирался сесть на судно, которое должно было
доставить его на один из французских кораблей, рассредоточенных вдоль
побережья, прятался в скалах, когда его схватили пьяные крестьяне, говоря, что все
католики бегут, и под этим предлогом притащили в тюрьму Рочестера.
Короля узнали, и местные дворяне пришли, чтобы вызволить его оттуда. Они
целовали ему руки и оказывали все знаки внимания, которые положено оказывать
королю. Дворяне высказывали сожаление его величеству, что он собирается их
покинуть. Находясь в Рочестере, король вспомнил об одном милорде, жившем
неподалеку от города, и сообщил ему о своем местонахождении. Однако
милорд заявил, что его величество может выпутьшаться так, как сочтет нужным,
и поскольку он перестал нуждаться в короле, то не собирается приезжать к
нему. Короля препроводили в Лондон и разместили, как обычно, в
Виндзорском дворце. Туда начал стекаться народ. Все сожалели о том, что он хотел их
покинуть.
344
Дополнения
Королева Англии приехала из Кале в Булонь, где оставалась в течение
нескольких дней, ожидая новостей от супруга. Вне всякого сомнения, она
испытала смертельную горечь, узнав о происходившем. Сначала от нее хотели все
скрыть, однако она, стоя у окна, узнала одного из слуг короля, который
спасся, хотя он должен был бежать вместе с королем. Что касается французского
двора, то там жизнь шла своим чередом. Как будто бы ничего не изменилось:
те же удовольствия, те же развлечения, и по-прежнему с теми же особами.
Господин де Лозен написал из Кале письмо королю, где сообщал, что
поклялся королю Англии вручить судьбу королевы и принца Уэльского только ему
одному, что, поскольку он не испытал счастья встретиться с его величеством
королем Англии, он покорнейше просит освободить его от данной клятвы и
приказать, кому следует передать королеву и принца Уэльского. Король
прислал господину де Лозену ответ, написанный собственноручно. Он сообщал, что
тот должен прибыть ко двору, и прислал лейтенанта своей гвардии,
кавалерийского унтер-офицера, сорок гвардейцев, первого министра, дворецкого,
кареты, словом, все, в чем нуждалась беглая королева. Затем король сказал, что
написал человеку, который уже получил от него немало писем и будет рад
получить еще одно. Подобное внимание короля насторожило министров, не
любивших господина де Лозена. Они стали серьезно опасаться, как бы монарх
не начал вновь благоволить к нему. Его величество послал господина де Сенье-
ле85 к Мадемуазель86 известить, что должен непременно встретиться с
господином де Лозеном, оказавшим короне множество важных услуг. Мадемуазель
разгневалась: «Вот, значит, как меня благодарят за все то, что я сделала для
детей короля!» В припадке ярости письмо, доставленное ей другом господина де
Лозена, она, не читая, бросила в огонь. Гонец, выхватив его из пламени, стал
умолять герцогиню все-таки прочесть адресованное ей послание. Она заперлась
в соседней комнате, но минуту спустя вернулась и сказала, что сожгла письмо
не вскрывая.
Церемония вручения ордена Святого Духа происходила без особой помпы.
Король питал естественное отвращение ко всему тому, что доставляло ему
неудобства. Церемония происходила в два этапа, иначе она заняла бы очень
много времени. Первый этап состоялся во время вечерни накануне Нового года.
В первую очередь награды были вручены титулованным особам. Остальные
получили ордена на следующий день во время мессы. На церемонии ничего
значительного не произошло. Двумя днями раньше серьезно повздорили герцоги
де Ларошфуко87 и де Шеврёз88. Герцог де Люин, отец последнего, отказался от
герцогства в пользу сына89, и герцогство это было древнее герцогства де
Ларошфуко. Именно поэтому герцог де Шеврёз считал, что имеет право пройти
церемонию раньше. Господин де Ларошфуко же настаивал на том, что в
кавалеры ордена произвели не герцога де Люина, а только герцога де Шеврёза, а
следовательно, он может претендовать только на место, принадлежащее герцогам
де Шеврёз. Они отчаянно спорили. Наконец герцог де Шеврёз получил от
короля согласие на получение ордена от первого президента без созыва палат,
и орден был вручен герцогу в тот же день, когда происходила церемония.
Герцогство де Шеврёза было передано графу де Монфору. Были посланы курье-
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы
345
ры, чтобы сообщить о приказе короля дворянам, удостоенным голубых лент,
но жившим далеко. Не могу удержаться от того, чтобы не рассказать о том, как
восприняли эту новость две особы с совершенно разными характерами: один
из них был господин де Буффлер, а другой — маркиз д'Юксель. Первый
принял оказанную ему честь, покорнейше возблагодарив Господа и короля за
бесконечные милости, которыми они его осыпали. Он подыскивал слова
глубочайшей благодарности по отношению к королю и господину де Лувуа. Второй же
поблагодарил только господина де Лувуа и попросил гонца передать ему, что,
если врученный орден не позволит ему посещать увеселительные заведения, он
вернет его. Я должна добавить здесь, что эти два человека со столь разными
характерами были оба весьма почтенными людьми. Вот мое немного
сумбурное отступление.
Господин де Лозен, получив от короля разрешение поприветствовать его,
прибыл ко двору в карете, светясь необычайной радостью. Он бросил
перчатки и шляпу к ногам короля и прибег к тем приемам, которые раньше позволили
ему понравиться его величеству. Но король, похоже, смеялся над ним.
Удостоившись встречи с королем, господин де Лозен отправился к королеве Англии,
недавно прибывшей ко двору, так и не дождавшись вестей от супруга.
Вначале говорили, что она будет жить в Венсеннском замке, однако король счел
уместным разместить ее в Сен-Жерменском дворце. Пока она находилась в
дороге, пришла новость, что принц Оранский приказал арестовать короля
Англии. Воспоминание о трагической смерти Карла Г90, его отца, заставила всех
вздрогнуть. Однако в тот же вечер король, удаляясь в свои покои, объявил, что
получил известие о том, что король Англии находится в безопасности.
Камердинер-француз, служивший у его величества короля Англии с давних пор,
видел, как тот садился на корабль недалеко от Рочестера. Оттуда государь
отправился в Дувр, а затем прибыл в Амблётёз, маленький порт около Булони.
Несколькими днями ранее приехал его камердинер, сообщивший, что слышал,
как в Кале стреляли из пушек, возможно, в честь прибытия его хозяина. Вечер
подходил к концу, однако от короля Англии не было никаких новых известий,
чему все несказанно удивлялись. Однако утром, увидев, что он до сих пор еще
не приехал, все буквально впали в прострацию. Все считали, что за столь
долгую ночь гонец должен был приехать, раз уж слышали, как в Кале стреляли
из пушек. Пошли разговоры, что милорд Февершем, брат господина де Дюра,
был арестован по приказу принца Оранского, когда пришел к нему говорить
от имени короля Англии; что принц Оранский заявил королю Англии, что тот
просто должен покинуть Виндзорский дворец, и это будет лучшим, что он
может сделать для блага Англии. Король колебался, однако некоторое время
спустя принц Оранский послал к нему гонца с сообщением, что пробил час и
что он должен уехать в Хэмптон-Корт, представлявший собой резиденцию
королей Англии. Король возразил, что не может отправиться туда, поскольку там
не было никакой мебели, но, если ему позволят и сочтут необходимым, он
отправится в Рочестер. Принц Оранский согласился и предоставил для
обеспечения безопасности короля 40 гвардейцев, составлявших его свиту. Приходилось
идти тем путем, какой определил принц Оранский, и вскоре король покинул
346
Дополнения
Виндзорский замок. Его величество король Англии находился под строгой
охраной. В первый день принц Оранский предоставил королю телохранителей
и офицера католического вероисповедания; все они присутствовали на мессе
вместе с ним. Когда король прибыл в Рочестер, его охраняли меньше. В его
доме имелись задние двери. Слуга, оставшийся верным королю, нашел
лошадей, которыми тот воспользовался. Он уехал при наступлении ночи и прибыл
в место, где его ожидало суденышко, которое должно было доставить короля
на большой корабль. Около суденышка король встретил пьяных крестьян,
которые заставили его пить за здоровье принца Оранского. Его величество дал
им денег, чтобы они выпили еще. Из уст в уста передавались все детали,
которые рассказывал камердинер, но каждый трактовал их по-своему. Одни
полагали, что принц Оранский предоставил королю средства для отъезда только
для того, чтобы затем сбросить его в море; другие же считали, что он
приказал перевезти короля в Зеландию и заточить его там в тюрьму. Одним словом,
каждый принимал за правду то, что приходило ему в голову. Король грустил,
министры пребывали в растерянности.
Король, наслышавшись известий о смерти короля Англии, отправился на
мессу. Но вдруг в церковь вошел господин де Лувуа и сообщил его величеству,
что господин д'Омон91 прислал к нему гонца с известием о прибытии короля
Англии в Амблётёз. Чрезвычайная радость охватила весь двор — от
титулованных особ до простых слуг. К королеве Англии, находившейся в пути, был
немедленно отправлен гонец. Первый министр выехал ранним утром, чтобы
встретить ее в Бомоне. Что касается короля Англии, то, как рассказывал гонец,
он находился на маленьком судне вместе с несколькими вооруженными
людьми и ручными бомбами. Вдали он заметил большой корабль и приказал
защищаться в том случае, если на них нападут. Однако на более близком
расстоянии он понял, что это был французский корабль. И на том, и на другом корабле
возникла огромная радость. Король пересел на французский корабль и
благополучно добрался до берегов Франции, хотя и очень устал, поскольку провел
немало бессонных ночей.
Король выехал из Версаля в Шагу навстречу королеве Англии и принцу
Уэльскому. Там он остановился вместе с большим двором, следовавшим за
ним, в ожидании королевы, прибывшей немного позже. Ей был оказан
прекрасный прием. Ее величество королева Англии говорила с таким достоинством и
вежливостью, какие простые женщины, переживающие страдания, подобные
тем, что переживала королева, не в состоянии сохранить. Король приказал
разместить королеву в Сен-Жерменском дворце и предпринял все необходимые
меры, чтобы облегчить ее страдания, которые немного утолила радость от
доброй вести о том, что король Англии находится на территории Франции в
добром здравии. Затем король вернулся в Версаль и на следующий день послал
королеве восхитительный туалет и всё, что ей требовалось для того, чтобы
быть одетой подобающе, а также одежду для принца Уэльского, сшитую по
образцу костюмов герцога Бургундского. На следующий день после прибытия
короля Англии король отправился в Сен-Жерменский дворец, где дожидался его
в апартаментах королевы. Его величеству пришлось там провести полчаса или
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы
347
даже три четверти часа. Королю доложили, что король Англии проехал
охотничьи угодья, а затем сообщили, что тот прибыл в замок. Его величество тут
же покинул королеву Англии и направился в караульную залу навстречу
королю Англии. Оба короля нежно расцеловались. Однако король Англии
по-прежнему сохранял смиренность человека, пережившего великое несчастье, и
поэтому склонился перед королем в низком поклоне. Расцеловавшись, короли
прямо в караульной зале обоюдно выказали другие дружеские знаки внимания, а
затем король, взяв короля Англии за руку, проводил его к королеве, которая
еще не вставала с постели. Король Англии не стал целовать супругу, видимо,
из-за уважения к королю.
Их беседа продолжалась в течение четверти часа. Затем король проводил
короля Англии в апартаменты принца Уэльского. Вид короля Англии не
произвел должного впечатления на придворных, не говоря уже о его манере
вести беседу. В спальне принца Уэльского, где находилось несколько придворных,
он поведал королю о самых значительных событиях, произошедших с ним; но
рассказывал так плохо, что придворные даже не хотели считаться с тем, что
он англичанин, что он плохо говорит по-французски, что он заикается, что он
устал и что нет ничего из ряда вон выходящего в том, что столь значительное
горе совершенно выбивает из колеи и более красноречивых особ, нежели
король Англии.
Покинув апартаменты принца Уэльского, короли вернулись к королеве. Его
величество оставил там короля Англии, а сам вернулся в Версаль. Встреча двух
великих государей растрогала всех порядочных людей. Проснувшись
следующим утром, король Англии получил все необходимое и десять тысяч пистолей
для приобретения туалетов. После обеда он приехал в Версаль к королю,
который встречал его при входе в караульную залу, а затем провел в свои
личные покои. Потом король Англии встретился с дофиной, Монсеньором,
Филиппом Орлеанским и его супругой92. Монсеньор и Филипп Орлеанский нанесли
ответные визиты в Сен-Жерменский дворец. Сразу же возникли ожесточенные
споры по поводу церемониала. Король хотел, чтобы король Англии
относился к Монсеньору как к себе равному. Король Англии согласился, но при
условии, что король будет относиться к принцу Уэльскому подобным же образом.
Наконец было решено, что в присутствии короля Англии дофин будет сидеть
на складном стуле, а в присутствии королевы — в кресле. Принцы крови
также выдвинули свои требования. Они считали, что поскольку не были
подданными короля Англии, то к ним следует относиться по-иному. В конце концов
все уладилось, однако оставалось решить очень непростой вопрос об особах
женского пола. Принцессы крови не наносили визитов королю Англии три или
четыре дня, а когда они все-таки навестили его, герцогини за ними не
последовали, поскольку претендовали на две особые привилегии: французскую, то есть
обладать правом сидеть в присутствии королевы, и английскую, то есть иметь
право целовать королеве руку. Королева Англии хотя и была гордой, тем не
менее рассудительно сказала королю, что ему надобно только приказать, и она
исполнит все его пожелания и что она просит его самого установить
церемониал, которого она будет придерживаться. Наконец договорились, что герцоги-
348
Дополнения
ни будут наделены французской привилегией. Версаль поразил королеву
Англии своим великолепием. Особенное впечатление на нее произвела большая
галерея, которая, несомненно, представляет собой самое красивое сооружение
из всех себе подобных на земле. Королева Англии рассыпалась в похвалах,
подбирая подходящие слова, причем только те, которые могли доставить
королю истинное удовольствие. Она нанесла визиты тем же особам, что и ее
супруг, и вернулась в Сен-Жерменский дворец, вызвав всеобщее восхищение.
В это время войска продолжали прибывать со стороны Рейна. Размеры
контрибуции уменьшились, и нам пришлось оставить занятые города. В первую
очередь войска покидали Гейльбронн и Вюртемберг. Вюртемберг был уже
давным-давно разграблен, но когда мы выходили из него через одни ворота,
неприятель вошел через другие, напал на небольшой арьергард и перебил
раненых, которых мы оставили в городе, не успев их вывезти. Все войска,
стоявшие в той стороне, стекались в Пфорцхайм, а войска, успевшие продвинуться
вперед, собирались в Гейдельберге. Там был поставлен сильный гарнизон, а
гарнизон Мангейма получил подкрепление. Та поспешность, с какой нам
приходилось покидать Германию, не делала чести ни Франции, ни войскам, ни
генералам, возглавлявшим отступление, вина за которое возлагалась на графа де
Тессе93. Между прочим, все находили позорным, что служивый человек не
знал, что при отступлении из крепости обязательно следует запирать все
ворота, кроме тех, из которых выходят войска.
Король Англии жил в Сен-Жерменском дворце, где принимал знаки
внимания, оказываемые всей Францией. Первыми его посетили министры.
Архиепископ Реймсский94, брат господина де Лувуа, увидев, как король Англии выходит
после мессы, сказал с иронией: «Вот весьма достойный человек: ради мессы он
покинул три королевства». Хорошенькое суждение в устах архиепископа! Дому
короля Англии было выделено 600 тысяч франков. К тому же в первые месяцы
у него на службе всегда находились служители короля. Ежедневно приезжало
много английских кавалеров голубых лент. Король изъявил готовность набрать
два полка, каждый из которых насчитывал две тысячи человек, и предоставил
их в распоряжение детей короля Англии.
Несмотря на прискорбное положение своего государства, его величество
король Англии мужественно ходил на охоту вместе с Монсеньором и держался
так, как это делал бы любой двадцатилетний мужчина, у которого не было
других забот, кроме как хорошо развлекаться. Однако его положение
постоянно ухудшалось, так как население Лондона устроило восторженную
встречу принцу Оранскому. Почти все вельможи перешли на сторону принца.
Оставалось только найти способ созвать новый парламент, поскольку король,
незадолго до того как покинуть Англию, сначала созвал парламент, затем
распустил его, а печати королевства выбросил в море. Во Франции от души
смеялись, узнав о том, какой остроумный способ избрал его величество король
Англии. Конечно, в Англии возникли некоторые трудности при исполнении
законов. Однако вскоре они были преодолены. Мы узнали, что в Англии
существовали все условия для избрания принца Оранского на престол, хотя ему и
предлагали иные решения. Однако они не устраивали принца, который хотел
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы
349
быть королем и мог им стать. Ирландия по-прежнему стояла горой за своего
первоначального короля. Лишь малочисленная партия ирландских
протестантов восстала против него, однако вскоре она была разгромлена Тирконнелом95,
вице-королем Ирландии, сумевшим собрать войско ополченцев, обычно плохо
дисциплинированных, не имевших оружия и боевых запасов. Всё это
свидетельствовало исключительно об их доброй воле. Тирконнел обратился к королю с
просьбой приехать в Ирландию и уверял, что путешествие будет вполне
безопасным. Пока король раздумывал, к нему прибыл доверенный человек по
имени Пуантис, капитан корабля, чтобы доложить о том, в каком состоянии все
находится, и чтобы побудить его величество короля Англии предпринять
более разумные меры.
Чем больше французы общались с королем Англии, тем меньше они
жалели, что он потерял свое королевство. Этот монарх был одержим только
иезуитами96. Когда он приехал в Париж, то немедленно устремился в монастырь
иезуитов, долго беседовал с ними и велел представить каждого. В конце
беседы он сказал, что сам принадлежит к их ордену. Это было расценено как
проявление дурного вкуса. Затем он отправился обедать к господину де Лозену.
Каждые две недели двор уезжал в Марли на четыре-пять дней. Как известно,
Марли расположен между Сен-Жерменским дворцом и Версалем, который
король очень любил и куда он всегда ненадолго уезжал, чтобы отдохнуть от
осаждавшей его толпы придворных. Приехали туда и король с королевой
Англии. В Трианоне, другом дворце, построенном по приказу короля в конце
канала, давали небольшую оперу в честь возвращения дофина. В ней танцевали
принцесса де Конти97, Мадам герцогиня98 и Мадам де Блуа". Они, несомненно,
стали главным ее украшением, поскольку стихи были очень плохими, а
музыка — весьма посредственной. Его величество просил короля и королеву Англии
приехать туда, желая доставить им это удовольствие.
Госпожа де Ментенон, основавшая Сен-Сир100 и всегда заботившаяся о том,
чтобы развлечь короля, часто повелевала сделать что-нибудь новое для всех
юных воспитанниц, находившихся на попечении в этом заведении, о котором
можно было сказать, что оно достойно величия короля и образа мысли его
основательницы и главы. Однако порой заведения, основанные с самыми лучшими
намерениями, сильно перерождаются; и этот приют, который сейчас, когда мы
преисполнены набожности, представляет собой обитель добродетельности и
благочестия, может когда-нибудь, причем не в столь отдаленном будущем,
превратиться в место разгула пороков и разврата. Ведь полагать, что 300 юных
девиц, воспитьшающихся там до достижения ими двадцати лет и живущих по
соседству с бойкими молодыми людьми, наводнившими двор, особенно если
власть короля перестанет на них распространяться, считать, повторяю я, что
девицы и юноши, находящиеся в непосредственной близости друг к другу, не
перепрыгнут через стену, в крайней степени неразумно. Однако вернемся к
тому, о чем я рассказывала. Чтобы развлечь своих воспитанниц и короля,
госпожа де Ментенон повелела поставить комедию Расина101, лучшего поэта
своего времени, которого оторвали от поэзии, где он был неподражаем, и
превратили, к его несчастью и несчастью всех любителей театра, в историка, далеко
350
Дополнения
не оригинального. Она приказала поэту написать комедию, но на
благочестивый сюжет, поскольку в наше время без благочестия нет спасения ни при
дворе, ни где-либо еще. Расин выбрал историю Эсфири и Артаксеркса и написал
слова на музыку. Поскольку он был таким же хорошим актером, как и
автором, то лично наставлял девиц. Музыка была прелестна102. Были поставлены
милый спектакль и сценки с переодеваниями. Все это вместе взятое составило
небольшой дивертисмент, весьма приятный для юных воспитанниц госпожи де
Ментенон. Однако поскольку оценка вещей обычно зависит от особ, которые
их создают или повелевают создать, то положение, занимаемое госпожой де
Ментенон, подсказало всем, кого она пригласила на спектакль, что никогда
ранее не существовало ничего более очаровательного; что комедия
превосходила все произведения, сочиненные в данном жанре; что актрисы, даже те, кто
перевоплотился в актеров, совершенно затмили своей игрой Шанмеле103, Ларе-
зен104, Барона105 и Монфлёри106. Разве можно отыскать способ воспротивиться
таким похвалам? Госпожа де Ментенон осталась довольна и замыслом, и
исполнением. Комедия представляла собой аллегорию падения госпожи де Мон-
теспан и возвышения госпожи де Ментенон107. Вся разница заключалась в том,
что Эсфирь была моложе и не такой щепетильной в вопросах религии.
Поскольку ее наделяли чертами Эсфири, а Астинь сравнивали с госпожой де
Монтеспан, то госпожа де Ментенон не побоялась вынести на суд широкой
публики дивертисмент, предназначавшийся изначально для показа в кругу
избранного общества и самых задушевных ее подруг. Король был просто очарован
комедией. Аплодисменты его величества повлекли за собой шквал бурных
аплодисментов зрителей. В конце концов комедия вызвала совершенно
необъяснимый ажиотаж, поскольку ее хотели увидеть все от мала до велика. То, что
надо было рассматривать как монастырскую комедию, превратилось в одно из
самых серьезных дел двора. Министры, жаждавшие проявить учтивость,
бросали неотложные дела и шли смотреть комедию. На первое представление, где
присутствовал король, приглашение получили только придворные,
сопровождавшие его на охоте. Второе представление было отведено для
священнослужителей, таких как отец Лашез и 12—14 иезуитов, к которым присоединились
госпожа де Мирамьон108 и несколько других богомольцев и богомолок.
Наконец очередь дошла и до придворных. Король решил, что дивертисмент
придется по вкусу королю Англии, и пригласил его вместе с королевой. Просто
невозможно не воспеть хвалу обители Сен-Сира и ее воспитательному
заведению. Они и не жалели похвал, к которым примешивались восторженные
отзывы о комедии. Все по-прежнему считали, что комедия носила аллегоричную
форму, что в образе Артаксеркса был выведен король, а Астинь,
ниспровергнутая жена, очень похожа на госпожу де Монтеспан. Эсфирь же
напоминала госпожу де Ментенон. Аман представлял собой господина де Лувуа,
однако этот персонаж был плохо выведен. Судя по всему, Расин не захотел
обращать на него внимания.
Охота, бильярд и комедия Сен-Сира составляли безобидные развлечения
короля. Каждые две недели он ездил в Марли, где в крытых галереях, увитых
зеленью, играл в новую модную игру, требовавшую большей ловкости, неже-
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы
351
ли игра в орлянку. Король весьма поднаторел в ней. Монсеньор отдавал дань
утехам молодости, поскольку посетил три или четыре бала. Один бал устроил
он сам. Другой бал дал господин де Лафёйад109 с великолепием,
приближавшимся к расточительству. На этот бал Монсеньор пригласил принцессу де
Конти. Король не одобрил его выбор, сказав, что подобные места никогда не
посещают, если затем могут пойти неприятные слухи, и что женщины
определенного поведения не должны туда ходить. Эти слова привели к тому, что
принцесса, любившая развлечения, была вынуждена, к своему глубокому
сожалению, остаться дома.
В Версале также устраивались балы. Монсеньор дал бал для широкой
публики. Месье Герцог и принц де Конти устроили бал в честь Монсеньора. Там
не произошло ничего примечательного. На бал приехала графиня Дюрур110,
однако Монсеньор был столь неопасным любовником, что о нем даже не
говорили. Одна лишь дофина остерегалась силы его обаяния и полагала, что
замечает бросаемые украдкой взгляды. Бедная принцесса считала себя обиженной
и не принимала никакого участия в развлечениях. У нее было очень плохое
здоровье и всегда грустное настроение, которые вкупе с отсутствием здравого
смысла лишали дофину удовольствий, которыми в первую очередь
наслаждалась бы любая иная принцесса, но не принцесса Баварская. Пристрастие
Монсеньора к балам было обусловлено тем, что он любил часто менять наряды.
Ему нравилось быть неузнаваемым и вступать в разговор с ничего не
подозревавшими собеседниками. Придворные балы были скучными. Они
начинались около полуночи и всегда заканчивались до двух часов. Принцесса де
Конти появлялась в маске лишь на короткое мгновение. У принцессы были столь
выразительные глаза, что позволяли узнавать ее среди всех на свете. Но как бы
ни были красивы эти глаза и с каким бы огромным удовольствием она ни
выслушивала, как ими восхищаются, однако они отпугивали особ, готовых
расточать комплименты, поскольку те боялись, что на следующий же день их сурово
отчитает король. Поэтому бедная принцесса не получала на придворных балах
удовольствия, а Монсеньор, безусловно, очень дорожил балами и
наслаждался исключительно ими самими.
Однако развлечения не были столь грандиозными, чтобы затмить интерес
к военной кампании. В это время курфюрст Баварский прибыл на берега
Рейна — причем в тот момент, когда этого меньше всего ожидали, — чтобы
ознакомиться с местностью, где летом ему предстояло воевать, и чтобы
показаться войскам. Он приказал выстрелить из пушек по всем крепостям,
удерживаемым нами, и приблизился с большим эскадроном к воротам Гейдельберга.
Затем он отступил, оставив укрепленный пост в четверти мили от города.
Однако пост не сумел долго продержаться, поскольку Мелак, старый
кавалерийский офицер, атаковал его, ведя за собой кавалеристов, драгунов и гренадеров.
Они храбро ворвались в укрепление и убили множество солдат неприятеля.
Это была славная атака.
Маршал де Лорж111 отправился в качестве командующего в Гиень, а маршал
д'Эстре112 — на побережье Бретани. Туда со всех сторон были стянуты войска,
поскольку существовали серьезные опасения, что англичане, присоединившись
352
Дополнения
к голландцам, предпримут вылазку, если только обстановка в Англии
изменится в пользу принца Оранского.
В последние дни карнавала, когда установилась хорошая погода, король
изъявил желание показать королю Англии до его отъезда свои парки и
фонтаны, поскольку отъезд этого монарха в Ирландию становился все более
вероятным. Уже были назначены офицеры, которые должны были отправиться туда
вместе с ним, а так как своя рубашка всегда ближе к телу, то те, кто должен
был сопровождать короля Англии, отличались весьма посредственными
способностями. Многие старые офицеры, которые, как полагали, утратили из-за
возраста силу и мужество, были отозваны из крепостей и заменены более
молодыми на тот случай, если эти крепости подвергнутся нападению. Туда
доставлялось все необходимое. Самые большие опасения вызывал Кале, поэтому там
велись напряженные работы. В Кале были посланы два или три командующих,
чтобы обеспечить преемственность на случай непредвиденных обстоятельств.
Создавалось впечатление, что всем не терпелось узнать, что ожидает его в
будущем.
Но еще большее нетерпение вызывал вопрос о пенсиях, которые совсем
перестали выплачивать. А ведь большинство офицеров имели только один этот
надежный и твердый источник доходов. Все это заставляло опасаться, что
война будет продолжена, хотя сначала этого безмерно желали. Теперь же стало
ясно, что после десяти лет мира у короля, получавшего столь большие доходы,
не осталось ни единого су, а два года войны и вовсе так разладят финансы, что
придется у всех забирать имущество. Для того чтобы изыскать средства, были
созданы две должности казначеев113. Приобрести эти должности обязали Фре-
мона и Брюне, самых ловких финансистов, за весьма приличную цену: каждый
из них заплатил по 700 тысяч ливров. Затем были созданы шесть новых
должностей докладчиков, которых продали по 200 тысяч франков каждую. Шли
поиски финансистов, у которых можно было взять много денег. Чаще всего
прибегали к услугам господина Бетана: он заплатил 400 тысяч франков.
Города делали королю богатые подарки. Почин положила Тулуза, преподнеся ему
100 тысяч экю. Через некоторое время ее примеру последовал Париж,
подаривший 400 тысяч франков. Руан подарил 100 тысяч экю. Король тепло и
радушно принимал тех, кто сообщал ему об этих подарках и кто отдавал ему
собственные деньги.
Уже давно маршал де Дюра получил уведомление о том, что ему надо
готовиться к отъезду. Неприятельские войска совершали маневры в районе Рейна.
При дворе возникли большие опасения, как бы империя не заключила с
турками мир и не направила все силы против нас. Маршал сумел
воспользоваться выпавшей возможностью. Он занимал самую ответственную
государственную должность и решал столь важные вопросы, которые никогда не входили
в компетенцию Месье принца114 и господина де Тюренна115. Кроме того, он
страстно желал обеспечить благополучие своей семьи при жизни, иначе его сын
остался бы заурядным дворянином, получавшим самое большее 15 тысяч
ливров ренты. Из-за переборчивости матери мадемуазель де Ламарк116 самая
богатая невеста Франции засиделась в девицах, ей уже исполнилось тридцать лет.
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы
353
Она получала весьма заманчивые предложения. Например, год назад был почти
решен вопрос о ее браке с герцогом д'Эстре. Казалось, для свадьбы нет никаких
препятствий, и тем не менее она расстроилась. Затем мадемуазель де Ламарк
едва не вышла замуж за графа де Бриона, старшего сына господина главного
шталмейстера117. Происхождение и положение, занимаемое его отцом, делали
этого молодого человека самым завидным женихом Франции. О предстоящей
свадьбе обе стороны объявили как о деле решенном, однако, ко взаимному
огорчению, она так и не состоялась. Тогда в мужья мадемуазель де Ламарк стали
прочить сына маршала де Дюра118 — при условии, что отец жениха сумеет
подтвердить в парламенте свой герцогский титул. Тот не преминул
воспользоваться случаем и получил от короля герцогство благодаря женитьбе, а жену —
благодаря герцогству. Итак, несмотря на разницу в возрасте, ведь сыну господина
де Дюра исполнилось всего семнадцать лет, свадьба состоялась к большому
удовлетворению маршала, так хорошо пристроившего сына, и девицы, наконец
вышедшей замуж и получившей в мужья такого прелестного юношу, как младший
Дюра. Из всех молодых людей он был самым красивым и самым изящным.
В самом конце карнавала (оставалось не более трех дней, отведенных для
церемоний, в том числе день торжественного ужина в апартаментах короля и
последний день перед постом, когда должен был состояться бал-маскарад в
больших апартаментах) пришло известие о смерти королевы Испании, дочери
Филиппа Орлеанского119. Двор погрузился в глубокий траур. Все значительные
развлечения, о которых я говорила, были отменены. Известие пришло поздно
вечером. Господин де Лувуа, будучи всегда лучше информированным, чем
господин де Круасси, хотя тот и отвечал за иностранные дела, сообщил о
печальном известии королю за полчаса до того, как к господину де Круасси прибыл
гонец. Король не захотел вечером ничего говорить ни брату, ни кому-либо еще.
Однако на следующий день он объявил о случившемся во всеуслышание на
церемонии утреннего выхода. Затем он оделся, прошел в покои Филиппа
Орлеанского, приказал разбудить его и сообщил о прискорбном известии,
повергшем Филиппа Орлеанского в такое отчаяние, на какое он только был способен.
Первое время он не находил себе места от горя, но через четыре-пять дней
успокоился. Филипп Орлеанский горячо любил дочь и безмерно гордился, что
она стала королевой, к тому же королевой такого большого королевства, как
Испания. По правде говоря, то, как она умерла, добавило горя Филиппу
Орлеанскому, поскольку ее отравили. У нее всегда существовали на сей счет
подозрения, о которых она писала отцу почти в каждом письме. В конце концов,
Филипп Орлеанский послал ей противоядие, однако его привезли на
следующий день после смерти королевы. Король Испании страстно любил супругу,
однако она сохранила к родине слишком горячую для разумной особы любовь.
Совет Испании, видя, что королева оказывает сильное влияние на короля и что,
по всей видимости, даже если она и не заставляет его следовать интересам
Франции, то по меньшей мере не разрешает наносить ей вред, этот Совет,
повторяю, не мог более мириться с подобным положением дел и, применив яд,
способствовал предполагаемому заключению нового союза. Судя по всему,
королеву отравили, подмешав яд в шоколад. Когда послу сообщили о ее болез-
23. Заказ № К-6559
354
Дополнения
ни, он приехал во дворец, однако ему сказали, что не принято, чтобы послы
навещали королев, не вставших с постели. Послу пришлось уехать. На
следующий день за ним послали, когда состояние королевы резко ухудшилось.
Королева просила посла заверить Филиппа Орлеанского, что, умирая, она
думала только о нем, и несколько раз повторила, что умирает естественной
смертью. Предпринятая ею предосторожность не только не развеяла подозрения,
а, наоборот, усилила их. Она умерла, будучи старше своей матери, умершей
такой же смертью, на полгода. Королева завещала своему супругу все, что
могла ему завещать. Герцогине Савойской, своей сестре, она оставила все свои
драгоценности, а герцогу Шартрскому120 и Мадемуазель — то, что привезла из
Франции.
Когда умерла королева Испании, было подтверждено, что произойдет
обмен крупных крепостей Фландрии, в которых мы испытывали необходимость,
на крепости Каталонии, однако не навсегда. Подобный обмен послужил бы
залогом сохранения верности обоих королей друг другу. Эти демарши повлекла
за собой смерть королевы. Посол получил приказ возвращаться на родину как
можно скорее.
Король Англии подумывал об отъезде в Ирландию. Господин Тирконнел,
который был там вице-королем, сообщил, что считает его присутствие
необходимым. По этому поводу в совете возникли ожесточенные дебаты. В конце
концов решили, что его величество король Англии пустится в путь
незамедлительно. Король Англии велел герцогу Бервику121, одному из своих побочных сыновей,
вместе с проживавшими у нас англичанами, шотландцами и ирландцами ехать
в Брест, где они должны были сесть на корабль. Вместе с герцогом туда
отправились и назначенные к нему на службу генералы. Господин де Лозен изъявил
желание следовать за королем Англии, однако выдвинул непомерные
требования. Министры ничуть не возражали против его отъезда. Они по-прежнему
боялись той естественной привязанности, какую питал к нему король, и всячески
приветствовали его решение. Однако когда встал вопрос об отъезде, господин де
Лозен потребовал, чтобы его сделали герцогом, и обратился к господину де
Сеньеле с просьбой доложить об этом королю. Господин де Сеньеле
посоветовал ему еще раз хорошо подумать. Король плохо отнесся к выдвинутому
требованию. Когда господин де Лозен явился на прием к королю, его величество
разговаривал с ним очень холодно. Лозен принес свои извинения, сказав, что
поступить подобным образом ему посоветовал король Англии. Он предупредил
короля и королеву Англии, чтобы они сказали королю то же самое, что они не
преминули сделать. Получив отказ, господин де Лозен не захотел ехать в
Ирландию, посчитав, что это ему более невыгодно. Сопровождать короля Англии в
Ирландию был назначен генерал-лейтенант Розен. Вместе с ним получили
назначение капитан гвардейцев Момон в качестве полевого маршала; полковник Лан-
гедокского полка Пюзиньян в качестве пехотного бригадира; кавалерийский
бригадир Лери-Жирарден и капитан гвардейцев Буасло в качестве
генерал-майора. Все они были порядочными людьми, но весьма посредственными
офицерами войск короля. Из них всех можно было положиться только на Розена,
немца по происхождению. Вместе с ними в Ирландию отправились 100 капитанов и
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы
355
100 лейтенантов частей, не предназначенных для участия в походах, и 200
молодых дворян, готовившихся к поступлению на военную службу. Конечно,
офицеров было ничтожно мало, но они могли в короткое время навести порядок в
войсках. Вовсю кипела работа над экипажем для короля Англии. Король
приказал держать готовым для него все необходимое, причем с избытком: мебель,
седла, чехлы, — одним словом, все, что можно себе вообразить. Король даже
отдал ему свои доспехи.
Перед отъездом король Англии изъявил желание проявить к господину де
Лозену знаки внимания. Его величество король Англии приехал в Париж,
чтобы помолиться в соборе Парижской Богоматери, где и вручил господину де
Лозену Орден Подвязки. Вручая награду, он прикрепил к голубой ленте
господина де Лозена медаль Святого Георгия, украшенную бриллиантами. Это
была та самая медаль, которую при расставании отдал своему сыну,
покойному королю, обезглавленный король. Бриллианты достигали значительных
размеров. Поскольку количество награжденных Орденом Подвязки не могло
превышать двадцати пяти человек, то имелась еще только одна вакансия: эту
награду получил курфюрст Бранденбургский. Во Франции король наградил
Орденом Подвязки господина де Лозена, а в Англии принц Оранский вручил
его господину де Шомбергу, положив тому пенсию в 20 тысяч экю и присвоив
звание генерал-фельдцейхмейстера королевства. Он раздал много милостей
тем, кто стал его приверженцами. Вручив орден господину де Лозену, король
Англии поехал обедать к нему вместе с папским нунцием, жившим при его
дворе, архиепископом Парижским и многими другими. Его друзья-иезуиты
пришли проститься с ним. Затем он отправился в английский женский
монастырь, где прикасался к золотушным, чего никогда ранее не делал, поскольку
их мог вылечить только король Франции. После этого он посетил с визитом
Мадемуазель в Люксембургском дворце, которая не появлялась при дворе,
рассердившись на короля из-за того, что тот плохо обошелся с господином де
Лозеном. Поводом ей послужила смерть госпожи де Лавьёвиль122,
скончавшейся от ветрянки в Версале в своем особняке. Действительно, она заболела
после того, как навестила Мадемуазель. Король Англии также съездил в Шайо к
сестрам монастыря ордена Визитации, с которыми подружился во время
своего пребывания во Франции, поскольку его мать, королева Англии, подолгу
гостила там. Затем он отправился в Сен-Клу, чтобы выразить соболезнование
Филиппу Орлеанскому в связи со смертью его дочери-королевы и осмотреть сам
Сен-Клу, где он ни разу не был. Оттуда он поехал в Версаль, чтобы
попрощаться с королем, и вернулся в Сен-Жерменский дворец, где жил. На следующий
день к нему во дворец с ответным прощальным визитом приехал король.
Расставание было очень трогательным. Король высказал королю Англии
наилучшие пожелания и выразил надежду, что им более не придется встречаться в
подобных обстоятельствах. Он назначил господина д'Аво123 послом, а графа де
Майи124, женившегося на племяннице госпожи де Ментенон, отправил
сопровождать короля Англии до Бреста, где тот должен был пересесть на корабль.
Королева Англии осталась вместе с сыном, принцем Уэльским, в Сен-Жермен-
ском дворце и просила наносить ей визиты только по понедельникам, посколь-
356
Дополнения
ку считала неприличным показываться слишком часто в обществе, в то время
как ее супруг, по всей видимости, подвергался большой опасности.
Король Англии отправился в Брест в фаэтоне, однако в Орлеане фаэтон
сломался. Суеверные люди сочли это плохим предзнаменованием. Несчастье
случилось и с его командой, севшей уже на корабли. Один из кораблей
разбился об арку моста Се, а Лабасти, камердинер, служивший ему всегда верой и
правдой, утонул. На его место королю Англии пришлось взять одного из
камердинеров Майи. Его величество король Англии прибыл в Брест, не претерпев
более никаких злоключений. В Бресте его ожидала эскадра из тринадцати
кораблей, готовая незамедлительно пуститься в путь, однако стояла такая плохая
погода, что пришлось надолго задержаться в Бресте. Когда ветер
переменился, король взошел на корабль, однако почти сразу же ветер вновь стал
встречным, и поэтому пришлось возвращаться в порт. При входе в порт другой
корабль, летевший на всех парусах навстречу, едва не столкнулся с кораблем
короля Англии. Монарх избежал большой опасности благодаря ловкости
капитана, сумевшего вовремя совершить превосходный маневр. Таким образом,
на корабле короля Англии сломался только бушприт.
После того как закончился глубокий траур по королеве Испании, комедии
возобновились. Полагали, что возобновятся и спектакли для избранного
общества. Однако король упразднил эти развлечения, сказав, что у него много дел,
что время, отведенное для спектаклей для избранного общества, более всего
подходит ему для работы и что он предпочитает воспользоваться хорошей
погодой для того, чтобы ездить на охоту. Итак, у придворных стало одним
занятием меньше. Господин де Дюра отправился вместе с Шамле на берег Рейна,
чтобы подготовить всё необходимое для проведения кампании. Время от
времени возникали небольшие стычки между войсками короля и немецкими
войсками. Чаще всего успех нам не сопутствовал. Мы пришли к выводу, что не
сумеем удержать крепости Кёльнского курфюршества, то есть Нюис, Кайзер-
сверт, Линц и Рейнберг. Король испытывал потребность в войсках и не хотел
их задействовать, не получая при этом выгоды. К тому же крепости находились
в столь плачевном состоянии, что овладеть ими не составляло особого труда.
Отъезд короля Англии в Ирландию отнюдь не позволял королю надеяться,
что тот снова взойдет на престол. Хотя во Франции он прожил не так уж
долго, но мы сумели узнать, каков он есть: он был человеком, одержимым своей
религией, безудержно преданный иезуитам. Конечно, по мнению двора, не это
составляло самый большой его недостаток, он отличался бесхарактерностью и
сносил несчастья скорее благодаря бесчувственности, нежели мужеству, хотя
и был рожден с большим достоинством вкупе с презрением к смерти, так
свойственным англичанам. Тем не менее казалось странным, что он занимал
подобную позицию. Во Франции мы ее полностью отвергали. Судя по всему, войска,
которые принц Оранский собирался послать для высадки на побережье,
должны были вторгнуться в Ирландию. Но все-таки мы дали его величеству
королю Англии эскадру, состоявшую из десяти кораблей, и он благополучно
добрался до Ирландии вместе с французскими офицерами и всеми англичанами
и ирландцами, приехавшими к нему или жившими во Франции. Король при-
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы
357
казал отправить их в Брест за свой счет разными путями. В Бресте они
создали ужасный беспорядок. Король Англии, который в бытность герцогом
Йоркским, ходил на кораблях, остался недоволен флотом и пожаловался королю.
Это вызвало негодование господина де Сеньеле. Поступил приказ доставить в
Брест все необходимые вещи для отправки в Ирландию. Они были
доставлены туда быстро и в больших количествах, поскольку в дело вмешался
господин де Лувуа. В Брест было отправлено также все необходимое для
снаряжения кавалерийского корпуса и для вооружения пехоты. Жители Ирландии с
огромной радостью встретили армию короля Англии. Ведь они очень долго не
видели его и были в некотором роде рабами англичан. Король не только
сохранил все привилегии, но даже расширил их. Он забрал у католиков имущество,
которое раньше было отобрано у крупных сеньоров, исповедовавших
англиканскую религию. Он произвел Тирконнела в герцоги, тем самым отблагодарив его
за то, что тот сохранил ему Ирландию, и за личную преданность.
Смерть королевы Испании сразу же восстановила двор католического
короля против Франции. Страсть, которую питал этот монарх к супруге,
мешала ему объявить себя нашим противником, несмотря на происки двора
императора, державшего при католическом короле одного очень умного немца. Это
был господин Мансфельд125, женатый на мадемуазель д'Аспремон126, вдове
герцога Лотарингского127. Он сумел стать настоящим властителем дум совета
Испании. При дворе знали, чего следует ожидать от испанцев, и опередили их,
объявив Испании войну. Ребенак128, наш посол в Испании, получил приказ
немедленно возвращаться. Этим все и закончилось.
Проведение военной кампании доставляло двору немалое беспокойство. Не
хватало денег, ведь их требовалось очень много. Генеральный контролер129 не
обладал большими способностями и был совершенно не сведущ в этом деле.
Господину де Лувуа, который назначил его на эту должность, пришлось
оказывать ему поддержку и даже работать вместо него. А ведь у самого господина
де Лувуа было столько дел, что приходилось удивляться, как он со всем
справляется. Однако отступать было просто невозможно. Нам приходилось
двигаться вперед вопреки всему, поскольку наши враги активно готовились к войне.
Каждая из армий получила конкретное предписание. Одна армия, под
командованием господина де Дюра, должна была стоять в Германии; другая, под
командованием маршала д'Юмьера, — во Фландрии; третья, под командованием
губернатора провинции де Ноайя130, — в Руссильоне; а еще одна армия — в
центре Франции для предотвращения беспорядков, которые могли возникнуть по
вине людей, исповедовавших иную религию, а также для того, чтобы быть
переброшенной в любое место в том случае, если у неприятеля хватит сил
совершить вылазку. Что касается короля, то он оставался в Версале для того,
чтобы по-прежнему находиться в центре королевства и иметь возможность отдавать
распоряжения в любом направлении. Маршал де Лорж отправился командовать
в Гиень; маршал д'Эстре — в два епископства: Сен-Поль и Корнуай,
расположенный в Бретани, где неприятель мог без труда осуществить вылазку;
господин де Шон131 — в оставшуюся часть Бретани, где он был губернатором;
господин де Латрусс132 — в Пуату и Онис, хотя там уже находился Гасе133, губерна-
358
Дополнения
тор провинции, но для того, чтобы он смог спокойнее пережить эту
неприятность, его сделали полевым маршалом. Командовать в Нормандии поручили
Бёврону и Матиньону, генерал-лейтенантам провинции, достойным и
порядочным дворянам, но неспособным вести военные действия. Бёврон приходился
братом госпоже д'Арпажон134, которую госпожа де Ментенон сделала
фрейлиной дофины. Семейство Бёврон было предано госпоже де Ментенон;135 этого
обстоятельства хватило, чтобы они ни в чем не получали отказа. К тому же
нельзя было поощрять одного члена семьи, не поощрив другого. Бёврон, о
котором я рассказываю, приходился свояком господину де Сеньеле и хорошо
исполнял свои обязанности, если ничего особенного не приходилось делать. К
нему приставили Лаогетта136, офицера мушкетеров, в качестве полевого
маршала. Именно он и разрабатывал план ведения военных действий.
Командующим в Лангедоке назначили генерал-лейтенанта Брольо137, поскольку он
приходился свояком интенданту138, который был умным человеком и которому
двор безгранично доверял. В Провансе оставили королевского наместника
провинции Гриньяна139, который с честью выполнял то, что ему и положено было
выполнять. В Дофине отправили полевого маршала Лассе, происходившего из
семьи судейских, но пользовавшегося репутацией хорошего офицера. В Беарн
поехал герцог де Грамон140, однако исключительно с представительскими
функциями, поскольку все хорошо знали, что там нечего делать. Вот каким
образом распределились командные должности. Были сменены губернаторы
многих городов, поскольку они были слишком старыми, а сложившиеся
обстоятельства требовали активности, которую они не могли проявить. Господин де
Вобан получил приказ объехать королевство и посетить крепости,
расположенные на побережье. Они все находились в очень плохом состоянии, поскольку
не подчинялись ведомству господина де Лувуа, а кроме того, до тех пор пока
Франция не имела никаких неприятностей с Англией, мы не ожидали никакого
подвоха с той стороны. Но работы шли полным ходом. За очень короткое
время Ла-Рошель была приведена в полный порядок; работы велись в Бордо; а
Брест готовился к обороне, поскольку его крепость настолько неудачно
расположена, что никакие усилия не в состоянии обустроить ее. Господин де Вобан
приказал построить редуты вдоль побережья в тех местах, где ожидалась
высадка неприятельских войск, и возвести палисады в виде рогаток вдоль
морских берегов. В определенных местах были установлены пушки, чтобы бить по
кораблям, если те попытаются подойти слишком близко. Одним словом, в мае
все побережье приготовилось обороняться. Мы объявили войну принцу
Оранскому и англичанам, последовавшим за ним и способствовавшим изгнанию
законного монарха. Войска получили приказ выдвинуться в те местности
Франции, где, как полагали, в них более всего нуждались. От Беарна до Нормандии
всё пришло в движение.
Тем временем при дворе все подумывали об отъезде. Принц де Конти, все
еще не вернувший себе расположение короля, в начале зимы настойчиво
просил предоставить полк в его распоряжение. Однако принцу в этом было
отказано. Затем он стал просить сделать его бригадиром, полагая, что вслед за этим
получит полк, поскольку обычно туда назначаются свои ставленники. Однако
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы
359
и в этой просьбе ему было отказано. Наконец, он попросился волонтером в
армию, воевавшую в Германии. В этом ему никак нельзя было отказать. Он
стал готовиться к отъезду вместе с Месье герцогом, который был готов к тому,
что не станет там командовать, поскольку его пехотный и кавалерийские
полки отправили в Бонн. Когда же он на это пожаловался, ему ответили, что вина
целиком и полностью лежит на господине де Сурди, которому послали
предписание разместить там полк драгун, а он прочитал «полк Бурбона»141. Все
пришли к вьюоду, что не так-то легко будет вывести полк Бурбона из Бонна.
Тогда ему разрешили командовать полком Конде. Однако, в конце концов, его
полк вывели из Бонна, и он служил во главе своего полка. Герцог Мэнский,
который должен был служить в Германии, не получил туда назначения. Его
полк отправили во Фландрию. Но когда кампания началась, он получил под
свое командование бригаду, в то время как принцы крови с трудом добились
разрешения просто служить. Хорошо, что их хотя бы избавили от
необходимости служить в одной армии.
За это время при дворе не произошло ничего примечательного, за
исключением дуэли между графом де Брионом и Отфор-Сен-Шаманом, офицером
гвардейцев личной охраны короля, честным, всеми любимым юношей. У
принцессы де Конти, дочери короля, была очень некрасивая сестра. Тем не менее
граф де Брион в нее влюбился, причем эта страсть продолжалась очень
долго. Они неоднократно ссорились и мирились, как случается со всеми
влюбленными. В конце концов барышня, испорченная примером графини де Суассон142
(как и многие другие, полагавшие, что их любят только для того, чтобы затем
жениться), заговорила о свадьбе. Полагаю, что граф де Брион узнал об этом и
поднял ее на смех. После вечерней аудиенции у Монсеньора брат затеял с
графом де Брионом разговор. Они пошли на берег пруда, расположенного около
особняка Суассон, где всегда было малолюдно, тем более в столь поздний час,
и стали драться на шпагах. Отфор первым был ранен, но сумел нанести удар
в бедро графу де Бриону и выбить у него шпагу. Удар Отфора не помешал де
Бриону появиться тем же вечером в обществе, однако на следующий день обо
всем стало известно. Главный прево потребовал объяснений. Отфор
уклонился и был разжалован. Все пришли к выводу, что случившееся не имеет с
дуэлью ничего общего. О происшествии узнал парламент, и обоих посадили в
тюрьму; графа де Бриона — в Бастилию, а Отфора — в Консьержери.
Барышня переехала из замка, где до сих пор жила, в особняк Конти, откуда не
выходила три недели или даже целый месяц. Наконец она появилась в обществе и
захотела вести себя как прежде. Ей велели удалиться, и она нашла
пристанище в Пор-Рояле.
А в Ирландию отправилась значительная подмога. Эскадра из двадцати
двух или двадцати трех кораблей под командованием графа де Шаторено143
вышла из Бреста, ведя за собой транспортные суда, нагруженные всеми
необходимыми для армии вещами, которые смогли изыскать за три-четыре
месяца. Принц Оранский вывел свой флот в море. У него насчитывалось на два-три
корабля меньше, чем у короля. Флотом принца командовал Герберт144, намного
более способный и талантливый офицер, чем Шаторено. Наши корабли соби-
360
Дополнения
рались причалить в Кинсейле, маленьком ирландском порту, где по прибытии
в Ирландию высадился король Англии. Однако стало известно, что неприятель
выставил там посты. Состоялся военный совет. Было решено, что слишком
рискованно производить высадку на виду у неприятеля, и поэтому корабли
отправились искать другой порт на западе Ирландии. Наконец подходящий порт был
найден, и в бухте Бантри начались работы по разгрузке трюмов. Когда
оставалось разгрузить всего два брандера, появились неприятельские корабли. Наши
корабли снялись с якоря и пошли полным ходом им навстречу. Они
непрерывно стреляли из пушек, но так и не приблизились вплотную к неприятелю.
Вскоре неприятельские корабли ушли в открытое море. Этот инцидент получил
название выигранного сражения. Герберт был ранен, а наши противники
признали, что если бы мы захотели, то смогли бы вывести их флот из строя и даже
захватить несколько кораблей, несмотря на то что английские парусники
более быстроходны, чем наши. Господин де Шаторено довольствовался удачно
произведенной выгрузкой и укрепился во мнении, что выиграл сражение.
Довольный, он возвратился с попутным ветром в Брест, потеряв убитыми всего
несколько человек. Только один корабль получил повреждения: у него были
взорваны полуют и палубные ограждения. Прибыв во Францию, граф де
Шаторено отправил племянника известить двор. Сначала двор охватила великая
радость. Однако после того, как генералы и наиболее осведомленные частные
лица подали свои реляции, возникло недовольство. Они сваливали друг на
друга вину за то, что противник ушел невредимым. Всем им пришлось
выслушать недовольные замечания двора.
Тем временем в портах велись активные работы по созданию и выводу в
море крупного флота. В Тулузе шло строительство двадцати двух кораблей,
как говорили, для средиземноморского флота. В Бресте и Рошфоре должны
были построить более сорока кораблей. В Брест непрерывно прибывали гонцы
с требованием ускорить ход работ, однако они по-прежнему велись
чрезвычайно медленно. Господин де Сеньеле задействовал Бонрепо145, своего первого
министра. Недостаток ощущался во всем.
Несмотря на это, господин де Дюра получил приказ отправляться в
Германию, поскольку войска императора и курфюрста Баварского выдвинулись в
сторону Рейна. Они уже захватили укрепления, оставленные войсками короля
по ту сторону Рейна, и начали окапываться на острове, расположенном
посреди Рейна между Филипсбургом и Форт-Луи, что нарушало связь между ними.
Если бы они там закрепились, мы бы оказались в очень тяжелом положении.
Кроме того, в их распоряжении находился Хаусен, крупный, хорошо
укрепленный плацдарм, где расположился принц Евгений Савойский146 с
многочисленными войсками. Неприятельские войска стояли также в Вюртемберге и почти
на всей территории небольшого государства принца Баден-Дурлахского вплоть
до самого Гунингена. Мы очень боялись, как бы они не стали атаковать эту
крепость, расположенную в непосредственной близости от швейцарцев,
поскольку сомневались в их дружбе. Партия наших врагов занимала там очень
сильные позиции. Священнослужители полностью восстановили против нас
протестантские кантоны. Папский нунций старался убедить католиков, что проис-
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы
361
ходящее не имеет никакого отношения к религии, и использовал все способы
настроить их против нас. Помимо всего прочего, мы уже не раз злоупотребляли
их доброй волей. Одним словом, все вынуждало швейцарцев стать нашими
противниками, и хотя они поставили нам наемников зимой, как мы этого и
хотели, тем не менее мы не могли быть уверены в их дружбе. Некоторое время
тому назад мы отозвали Тамбонно147, нашего посла, поскольку он много
говорил, но мало делал. Его место занял господин Амело148. Он не был человеком,
искушенным в ведении переговоров, однако обладал рассудительностью и
хладнокровием — качествами, соответствующими настроению и природному
характеру швейцарцев. Почти сразу же после своего приезда он прислал договор,
ратифицированный всеми кантонами и скрепленный их печатями. Если бы
швейцарцы выступили против нас, нам было бы очень сложно оказывать
сопротивление, поскольку именно эта часть границ Франции наименее укреплена. В
Европе у нас оставался один-единственный союзник — Дания. Однако она
находилась слишком далеко, чтобы мы могли оказывать друг другу помощь. Все
соседи Дании ополчились против нее, поскольку она сохранила верность
Франции и, кроме того, захватила государства герцога Гольштейн-Готторпского.
Однако мы опасались потерять и этого союзника. Интересы принца Георга149,
который должен был наследовать своему брату, принцу Оранскому,
поскольку женился на второй дочери короля Англии и поскольку принц Оранский не
имел детей, могли заставить его забыть о союзе, заключенном с королем.
План ведения кампании был составлен очень мудро. Министры выдвинули
предположение, что столько не похожих друг на друга правителей не могли
слишком долго действовать сообща. Большинство князей Германии были очень
бедны и имели возможность содержать войска только на зимних квартирах,
расположенных на территории неприятеля или других князей. Король был
совершенно уверен, что противники смогут устроить зимние квартиры на его
землях лишь подвергнув себя огромной опасности. В Германии духовные князья
предоставляли свои владения для зимних квартир только
князьям-протестантам. Мы удерживали большую часть трех курфюршеств. Король владел Май-
нцем и всеми маленькими городами по ту сторону Рейна. Трирское
курфюршество было по меньшей мере разделено, поскольку Мон-Рояль, с одной
стороны, и Бонн — с другой, предоставляли в наше распоряжение значительную
территорию. Конечно, неприятель владел Кобленцем, которого мы лишились
прошлой зимой. Что касается Кёльнского курфюршества, то мы были
хозяевами четырех хорошо укрепленных крепостей — Бонна, Нюиса, Рейнберга и
Кайзерсверта. Мы покинули Нюис в начале зимы. Когда мы отступали,
неприятельские войска разгромили гарнизон при полнейшем попустительстве
командующего господина де Сурди, который сбежал. Кайзерсверт оставался под
командованием Марконье. Это была плохая крепость, откуда ушел французский
гарнизон, уступив место немецкому. Господин де Фюрстемберг оставил в Рейн-
берге немца, слугу покойного курфюрста Кёльнского, которому безгранично
доверял. Однако немец предал его и перед началом кампании принес клятву
верности принцу Клименту, сопернику господина де Фюрстемберга на выборах
курфюрста Кёльнского, к тому же получившего буллы от Престола святого
362
Дополнения
Петра. В Бонне стояли восемь полевых батальонов, один кавалерийский и один
драгунский полк. Командовал там д'Асфельд. Ему дали толковых
обер-офицеров. Майнц был надежно вооружен. Командующим туда назначили маркиза
д'Юкселя. Господин д'Юксель был офицером пехоты, входившей в моду, и
ставленником господина де Лувуа. Говорят, ему дали 400 тысяч фунтов
пороха, двенадцать батальонов, состоявших из лучших солдат Франции, полк
бомбардиров, роту саперов, кавалерийский и драгунский полки, господина де Шуази,
опытного инженера, защищавшего Маастрихт под командованием господина де
Кейлюса, и трех или четырех толковых офицеров на случай непредвиденных
обстоятельств. Крепость находилась в довольно плохом состоянии. Однако
работы велись на протяжении всей зимы, и ее почти восстановили. Мон-Рояль,
крепость, вызывавшая серьезные сомнения, поскольку ее строительство не было
завершено, также получила все необходимое. Командовал там господин де
Монталь. Филипсбург и Ландау были оснащены подобным же образом.
Кроме того, у короля имелись войска, рассредоточенные по всему Пфальцу,
курфюршеству, которое мы поклялись разрушить до основания, поскольку оно
находилось слишком близко от Эльзаса. К тому же его курфюрст принимал
самое активное участие в войне. Хотя курфюрста называли тогда германским
Нестором, однако осмотрительность его притупилась, и он вызвал недовольство
короля. Под французскими пищалями он был вынужден признать себя
слишком незначительным правителем, поскольку не сумел вовремя разобраться в
обстановке. Во всех крепостях Пфальца стояли войска короля, и в течение
зимы мы собрали с этой страны столько денег, сколько сумели. Покинуть
занятые крепости, оставив их в целости и сохранности, означало то же самое, что
пустить врагов короля во Францию. Мы начали отступление, покинув в первую
очередь Гейдельберг, столицу Пфальца. Мы взорвали часть величественного
замка, который по полному праву притягивал к себе взоры, а также сожгли
половину города, прибегнув к крайним мерам, излишним в менее мстительной
войне. Затем мы покинули Мангейм. Город и цитадель были срыты до
основания. Там не осталось ни одного дома, и даже руины были сброшены в Рейн и
Неккар. Мы сожгли Вормс, маленькую республику на берегах Рейна. Точно
таким же образом мы поступили со Шпейером, городом, принадлежавшим
курфюрсту Трирскому как епископу Шпейерскому, поскольку сочли, что этот
город оказывал дурное влияние на Эльзас. Франкенталь был только срыт,
поскольку из-за того, что мы владели Майнцем, наши враги с большим трудом
сумели бы им овладеть. Такая же участь постигла множество маленьких
замков, в которых зимой стояли войска короля и которые могли послужить
опорными пунктами нашим противникам. Господин де Дюра отправился в
Страсбург, чтобы там дожидаться начала кампании. Немцы никогда не принимаются
за дело слишком рано, однако мы ничего не могли сделать, чтобы их
опередить: необходимо было понять, куда они устремятся. Две крепости — Бельфор
и Ландау — не были укреплены должным образом. Там велись напряженные
работы. По-прежнему существовала необходимость держать войска, и в
особенности пехоту, в крепостях как можно дольше. Что касается кавалерии, то было
очень плохо, что на протяжении длительного времени она стояла лагерем, по-
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы
363
скольку прибывало многочисленное подкрепление и приходилось дополнять
старые роты новыми, недавно сформированными. Итак, все оставались в
крепостях или на квартирах до тех пор, пока со стороны Фландрии не появились
немцы. Маршал д'Юмьер, находившийся в Лилле, получил приказ
отправляться в Филипвиль, чтобы немедленно выступить вместе с армией в поход. Ему
было велено собрать все армии около Мобёжа, что он и сделал в начале мая,
когда неприятель даже и не думал собирать свои войска. Маршал вновь занял
несколько замков, которые неприятельские войска захватили зимой, и велел
их срыть. Он получил тот же самый приказ, что и все генералы Франции: не
вступать в сражения. Узнав об этом приказе, господин фон Вальдек, как ни
старался, собрал лишь очень слабую армию, неповоротливую, когда
требовалась быстрота, и дерзкую, когда нужна была осмотрительность. Маршалу д'Ю-
мьеру предоставилась прекрасная возможность разбить ее, но он, слепо
повинуясь приказу, не воспользовался ею.
Первый подвиг был совершен в Каталонии, где господин де Ноай, который
командовал армией, состоявшей из двух или трех старых пехотных полков,
нескольких новых кавалерийских, в том числе драгунских, и местного
ополчения, захватил городок Кампредон и башню в двух лье от него. Поскольку это
был первый подвиг, то ко двору отправился гонец. Об этом завоевании при
дворе говорили как о значительном событии, хотя крепость была укреплена
слабо и в ней насчитывалось мало защитников, ни одна армия не могла бы
прийти ей на помощь, а испанцы не были столь могущественными, чтобы в
своей стране собрать воедино две тысячи человек.
Во Франции по-прежнему надеялись, что англичанам надоест высокомерная
заносчивость принца Оранского, а поскольку мы всегда охотно тешим себя
пустыми надеждами, то не сомневались, что в скором времени станем
свидетелями мятежа, который вспыхнет в Англии. Однако принц Оранский был
провозглашен королем Англии под гул одобрения. Конвент Шотландии также
прислал ему корону, хотя на севере страны у короля по-прежнему имелись
влиятельные сторонники. Принц Оранский приказал созвать парламент,
который щедро предоставил ему все, о чем он просил, то есть деньги для выплаты
жалованья голландским войскам и для возмещения кредитов, данных ему в
Голландии для осуществления его замысла, деньги для личных нужд и средства
для ведения войны с Францией. Всё это было сделано с удивительным
спокойствием. Лондон, не привыкший видеть на своих улицах войска, был ими
наводнен, так и не решившись сказать ни единого слова против. А принц Оранский
за два месяца стал больше чем хозяином Англии, чего до него не удавалось ни
одному королю. На глазах у англичан, изгнавших законного короля под
предлогом защиты и сохранения своей религии, она начала претерпевать изменения,
поскольку принц Оранский, делая вид, что старается примирить обе религии,
то есть англиканскую и протестантскую, друг с другом, назначал
полновластными министрами тех, кто исповедовал последнюю, а сам публично
проповедовал кальвинизм под всеобщее одобрение англичан.
Принц Оранский неустанно заботился об оснащении английского флота,
для того чтобы присоединить его к голландскому. В этой стране никто не мог
364
Дополнения
себе вообразить, что король, и без того затративший огромные средства, сумеет
создать флот, способный противостоять голландцам. Они рассчитывали стать
полновластными хозяевами на море. В отдельных сражениях, проходивших
борт о борт, мы почти всегда имели преимущество, и в общей сложности
захватили больше кораблей, чем наши противники. Они понимали, что им не
позволят овладеть Средиземным морем, охраняемым исключительно галерами.
Они знали, что мы ведем войну с алжирскими корсарами, и считали, что она
отвлекает очень много наших кораблей. Однако в то же самое время велись
переговоры о мире, впрочем, мы их вели с той надменностью, к какой давно
привыкли. Хотя нас окружали враги, мы не хотели, чтобы алжирцы извлекли
выгоду из перемирия, поскольку на наших галерах было много жителей этой
страны, которые нам хорошо служили, а перемирие могло бы нам повредить.
К тому же алжирцы и сами не принимали условий перемирия.
Принц Оранский считал же, что морская армия не причинит никаких
препятствий его замыслу, и поэтому смотрел на высадку в Ирландии как на
пустяковое дело. Те, кто вначале его поддерживал, были разбиты, а оставшиеся
сторонники принца укрылись в довольно хорошо, по понятиям такой
провинции, как Ирландия, укрепленной крепости, где крепостей вообще не
существовало. Эту крепость под названием Дерри англичане построили для
обеспечения торговли с Ирландией. А поскольку приказали ее строить лондонские
купцы, то к названию они прибавили слово Лондон, и таким образом она стала
называться Лондондерри. Все приверженцы принца Оранского устремились
туда, передав командование англичанину, который занимал пост министра.
Король Англии, не покидавший тем не менее Дублин, отдал приказ окружить
крепость. У его величества короля Англии служили два пехотных офицера,
которых приставил к нему король. Это были Момон, капитан гвардейцев и
полевой маршал, и Пюзиньян, пехотный полковник и бригадир. Хотя они
находились на службе очень давно, тем не менее считались весьма
посредственными офицерами. Однако в Ирландии они могли сойти за хороших,
поскольку лучших там просто не существовало. Войска, которыми они командовали,
вовсе не знали, что такое дисциплина. Армия, стоявшая в Лондондерри, была
крайне неорганизованной, но англичане настолько презирали ирландцев, что
испытывали чувство превосходства. Момон был убит, когда осматривал
крепость, а несколько дней спустя Пюзиньян, увидев, что неприятельские войска
совершают хаотичную вылазку, решил атаковать их малыми силами. Однако
он не заметил расставленную ловушку. Он оказался отрезанным и потерял
много людей. Более не осталось офицеров, на которых можно было возложить
проведение осады, поскольку Розен, лучший из офицеров, посланных королем
в Ирландию, немец по происхождению, был очень хорошим кавалерийским
офицером, но не понимал ничего, связанного с пехотой. Мы довольствовались
тем, что окружили Лондондерри, в надежде, что крепость в конце концов
будет вынуждена сдаться, поскольку ее защитники не смогут долго
продержаться. Мы также надеялись, что им никто не придет на помощь. Были захвачены
два маленьких форта, которые охраняли реку и откуда могла прийти помощь.
Затем был возведен свайный мол, чтобы помешать кораблям проходить ночью.
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы
365
Охраняли мол немногочисленные пушки, имевшиеся в распоряжении короля
Англии.
Ежедневно до нас доходили ложные известия из этой страны. После
сражения в бухте Бантри английские корабли исчезли из виду. Вдруг прошел слух,
что они сдались королю. Однако выяснилось, что они направились на помощь
Лондондерри. Сначала их попытки не увенчались успехом. Затем они нашли
способ прорваться через мол и оказать городу существенную помощь, в
результате чего блокада была снята. Отныне и думать не приходилось о дальнейшей
осаде этой крепости. Более того, вспыхнул мятеж, и восставшие захватили
маленькую крепость на болотах. Король Англии направил туда Гамильтона150,
генерал-лейтенанта своей армии, долгое время служившего во Франции в чине
полковника пехоты. Гамильтону запретили появляться при дворе, поскольку он
влюбился в принцессу де Конто, дочь короля, и создавалось впечатление, что
как собеседника она предпочитает его всем остальным. Гамильтон разгромил
восставших, впрочем, весьма малочисленных.
А тем временем королева Англии пребывала в Сен-Жерменском дворце в
печали и чудовищной подавленности. Король, обладавший доброй душой и
питавший исключительную нежность к представительницам женского пола,
искренне проникся горем королевы и старался изо всех сил смягчить его. Он
преподносил ей подарки, а поскольку она была столь же набожной, сколь и
несчастной, то подарки эта носили самый благочестивый характер. Он проявлял
к ней любезность, какую она только заслуживала. Он приглашал ее в Трианон
и Марли на праздники, которые там устраивал. Наконец, он вел себя с ней
столь обходительно и галантно, что все решили, что король влюбился. Такая
ситуация представлялась вполне вероятной. Те, кто не слишком хорошо
разбирался в деталях, утверждали, что госпожа де Ментенон, хотя и
считавшаяся подругой его величества, смотрела на отношение короля к королеве Англии
с яростным негодованием. Ее настроения имели под собой разумные основания,
поскольку не существует таких любовниц, которые не могли бы одержать
победу над подругами. Однако слухи о любви короля были всего лишь
следствием пересудов, возникших из-за порядочного отношения короля к особе, чьи
достоинства были всеми признаны, хотя королева Англии и выступала как
частное лицо.
Господин де Лозен был единственным из французов, занимавших высокое
положение, кто принимал участие в деле Англии, поскольку он один находился
в той стране.
Его величество король Англии считал себя бесконечно обязанным господину
де Лозену и, уезжая, вверил его королеве. По правде говоря, господин де
Лозен был послом Англии во Франции. Он никогда не пользовался любовью
господина де Лувуа, однако делал все от него зависевшее, чтобы завоевать
расположение госпожи де Ментенон. Он хорошо понимал, что только с помощью
этих двоих можно приблизиться к королю, и, возможно, полагал, что ставка
на госпожу де Ментенон будет более верной. Он разделял общее мнение, что
госпожа де Ментенон не считала господина де Лувуа своим другом. Она
расценивала его как министра, полезного королю, министра, прекрасно ладившего
366
Дополнения
со своим повелителем без всякого ее вмешательства и отодвинувшего ее в
помыслах короля на второй план. Однако к господину де Сеньеле она относилась
как к своему ставленнику, хотя и не была с ним связана прямыми узами, а
только через его сестер — госпожу де Бовилье151 и госпожу де Шеврёз152.
Господин де Лозен решил, что извлечет для себя выгоду и завоюет
благосклонность госпожи де Ментенон, если сумеет отстранить господина де Лувуа от
ирландского дела, передав его в руки господина де Сеньеле. Ему удалось убедить
королеву Англии в необходимости подобной перестановки, к большой
радости господина де Лувуа, который не мог отвечать за все сразу.
Он не обладал могучим здоровьем, как это могло показаться на первый
взгляд. У него периодически случались приступы лихорадки, однако он даже
не помышлял о том, чтобы поберечь себя в столь сложное время. Господин де
Сеньеле руководил морским флотом; поэтому считалось, что поскольку все
поставки в Ирландию зависели от него, то король Англии получит наилучшую
поддержку. Однако в действительности именно под руководством господина
де Лувуа, правда занимавшегося этим недолго, все необходимое в изобилии
стекалось в Брест. Причем в таком изобилии, что не было никакой возможности
отправить все вместе с королем Англии и сопровождавшим его флотом.
Некоторые вещи так и остались в Бресте.
Уже на протяжении длительного периода дофина чувствовала себя очень
плохо и никого не принимала. Но в ее болезнь никто по-настоящему не верил.
Тем не менее она очень отекла и похудела. Врачи же никак ее не лечили. В
конце зимы дофина прибегла к услугам одной женщины. На некоторое время
ей стало легче, отеки спали, но потом болезнь снова дала о себе знать.
Дофина еще раз призвала врачей. В конце концов они признались, что бессильны.
Тогда дофина захотела обратиться к знахарям, поскольку ей рекомендовали
многих. Она попросила у короля разрешения довериться нормандскому
священнику, которого настойчиво рекомендовал маршал де Бельфон153 и который
выдавал себя за человека, постигшего множество тайн. Учась в Наваррском
коллеже, он перво-наперво овладел умением напиваться до чертиков. Один из
его друзей, профессиональный пьяница, открыл священнику различные
секреты, которыми тот с успехом воспользовался. Благодаря им он создал себе
репутацию. В Нормандии в окружении маршала был человек, легко попадавший
под чужое влияние. Он расхваливал священника и в конце концов создал ему
славу большого знатока, каким тот никогда не был. К услугам этого человека
и прибегла дофина. Сначала ей стало лучше, но затем все пошло
по-прежнему. Немногие придворные беспокоились о дофине, поскольку она не
способствовала счастью кого-либо и не принимала участия в развлечениях двора.
Довольно продолжительное время господин де Латремуй публично выказывал
ей знаки внимания. Он был хорошо сложен, но необычайно, можно даже
сказать, чудовищно уродлив. Утверждали, что и умом он обладал
соответствующим внешности. Все настолько привыкли видеть, как он украдкой бросает
взгляды, что совершенно не обращали на него внимания. Никому и в голову не
пришло утверждать, что дофина любит его. Тем не менее в конце концов кое-
кто отважился выдвинуть подобное предположение. Дофина беседовала с гос-
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы
367
подином де Латремуйем чаще, чем с другими, поскольку он чаще других
представлялся ей. Неизвестно, осмелился ли господин де Латремуй признаться
дофине в своих чувствах открыто, а не намеками. Однако дофина передала ему
через свою фрейлину, госпожу д'Арпажон, чтобы он больше не показывался
ей на глаза.
Об этом никто так бы и не узнал, кроме них троих и, возможно, Монсеньо-
ра, которому дофина могла обо всем рассказать, если бы господин де Латремуй
не решил пожаловаться королю. Но король ответил, что дофина очень разумная
особа и имеет весомые основания для своей защиты. Единственное, в чем она,
возможно, не права, — это в том, что не поступила подобным образом раньше.
Одновременно с этим происшествием случилась история с Мадам
герцогиней, наделавшая много шума.
Мадам герцогиня была бойкой молодой особой и собирала у себя молодых
дам во главе с госпожой де Валантинуа, дочерью господина д'Арманьяка154,
самой большой кокеткой во всем королевстве.
Зимой разразился большой скандал. Господин де Марсан155, над которым
Мадам герцогиня подшучивала, когда тот был влюблен в младшую Грамон,
отважился заигрывать с Мадам герцогиней, чтобы, как говорят, отомстить и
принести ее в жертву своей любовнице. Мадам герцогиня благосклонно
отнеслась к его заигрываниям. Господин де Марсан писал ей записки, а она отвечала
на них. Месть подобного рода, особенно если речь идет о такой красивой и
занимающей столь высокое положение особе, как Мадам герцогиня, очень
часто тяготеет над любовницами. Полагаю, что так оно и произошло. Два
лучших друга господина де Марсана — Коменж и Майи — влюбились во фрейлин
Мадам герцогини: первый — в мадемуазель де Доре, уже искушенную в
любовных играх, поскольку она флиртовала с принцем д'Аркуром прежде, чем
поступила на службу к Мадам герцогине; второй — в мадемуазель де Ларош-
Энар. Обе они были фаворитками Мадам герцогини и поддерживали ее связь
с господином де Марсаном. Однако дело получило огласку. Месье принц
пожаловался королю. Король ответил, что Месье принц вправе поступать, как
считает нужным, а сам он более не собирается следить за поведением Мадам
герцогини. Мадам герцогиню сурово отчитали. Король не захотел с ней
разговаривать и поручил это сделать госпоже де Ментенон. Госпожа де Ментенон
принялась увещевать Мадам герцогиню, однако та рассмеялась ей в лицо и
сказала, что писала записки только для того, чтобы посмеяться над
господином де Марсаном.
За этим скандалом последовал другой. Месье принц, всегда
предпринимавший немыслимые усилия, чтобы выяснить то, что хотел, распорядился узнать
обо всем происходящем у Мадам герцогини. Ему донесли, что от нее тайком
вышел мужчина. Месье принц велел спросить у госпожи де Марёй, фрейлины,
что это за человек. Госпожа де Марёй клялась, что никто не входил в покои,
что Мадам герцогиня провела весь день вместе с госпожой де Валантинуа156.
Произвели тщательный обыск. Наконец дознались, что тот мужчина был
художником, которого пригласила госпожа де Валантинуа. Художник должен
был написать ее портрет в миниатюре, который она собиралась подарить гос-
368
Дополнения
подину де Барбезьё157, своему любовнику. Мадам герцогине и госпоже де Валан-
тинуа пришлось выслушать суровую отповедь. Они обе залились горючими
слезами. Мадам герцогине запретили поддерживать отношения с госпожой де Ва-
лантинуа, однако вскоре они вновь стали встречаться, а затем об инциденте и
вовсе перестали вспоминать.
Какое-то время царило полнейшее спокойствие, однако вскоре после
отъезда Месье Герцога в армию произошел новый скандал, вернее, продолжился
старый. Месье принц вновь заговорил о случившемся с королем, однако на этот раз
более настойчиво. В конце концов барышень выгнали. Мадемуазель де Доре
и мадемуазель де Ларош-Энар отправились в монастырь, а мадемуазель де
Польми осталась жить у Мадам принцессы и некоторое время спустя вышла
замуж. Король приказал, чтобы Мадам герцогиня неотлучно находилась
вместе с Мадам принцессой, а когда та станет уезжать в Шантийи, Мадам
герцогиня не должна никого принимать в своих апартаментах. Ничего этого не было
исполнено, разве что Мадам герцогиня лишилась общества барышень.
Армии выступили в поход. Армия маршала д'Юмьера стояла во вражеской
стране. Армия господина де Дюра — в окрестностях Майнца, но только с одной
кавалерией, поскольку вся пехота осталась в крепостях, главным образом в
Ландау. Неприятельские армии расположились так, что курфюрст Баварский
шел впереди, в районе Верхнего Рейна. В той стороне кавалерийским корпусом
командовал граф де Шуазёль158. Герцог Лотарингский должен был занять
Пфальц и Майнц. Курфюрсту Саксонскому надлежало войти в Трирскую
область и при необходимости соединиться с герцогом Лотарингским, а
курфюрсту Бранденбургскому159, возглавлявшему войска Мюнстера и Голландии, —
занять Кёльнское курфюршество. Император оставил курфюрста Баденского
во главе малочисленной армии в Венгрии для оказания сопротивления туркам.
Первым перешел в наступление курфюрст Бранденбургский. Он захватил
Нюис, когда войска короля покинули эту крепость. Французские войска
оставили также Кайзерсверт, куда вошел немецкий гарнизон. Именно эту крепость,
считавшуюся плохо укрепленной, и атаковал курфюрст Бранденбургский. Он
стоял лагерем всего три дня. На четвертый день немецкий гарнизон вынудил
Марконье, губернатора-француза, сдаться. Из всех крепостей, где стояли
французские войска, у короля остался только Бонн. Туда отправился кардинал де
Фюрстемберг, когда узнал, находясь в Меце, что войска курфюрста
приближаются к Кёльну. Курфюрст Бранденбургский, не рискнув атаковать Бонн по
правилам, довольствовался тем, что окружил, а некоторое время спустя начал
бомбардировать крепость. Герцог Лотарингский приехал во Франкфурт, где
собрались все принцы, чьи войска входили в армию, которая должна была
вести военные действия в том районе. Один за другим созывались военные
советы, но окончательного решения так и не было принято. Все высказывались
исходя из собственных интересов: все хотели напасть на какую-нибудь
крепость, однако каждый хотел напасть на крепость, соседствующую с его землями
и поэтому причиняющую ему наибольшее беспокойство. Город Франкфурт
настаивал на Майнце и предлагал выделить значительную сумму и все
необходимое для проведения осады. Это предложение выглядело заманчивым, однако
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы
369
герцог Лотарингский не соглашался, боясь ударить в грязь лицом: он знал,
сколько войск находится в крепости. Маркиз д'Юксель пользовался
известностью, ибо его воспитал за очень короткий период господин де Лувуа. Господин
де Дюра стоял в Эльзасе во главе многочисленной армии. Все это заставляло
сомневаться в успешном проведении осады.
Испания безмерно желала, чтобы у короля появилось потомство. Почти
сразу же после смерти королевы католическому королю предложили вновь
жениться и показали портреты инфанты Португалии, принцессы Тосканской
и третьей дочери курфюрста Пфальцского160, младшая дочь которого вышла
замуж за императора, а средняя — за короля Португалии. Нам неизвестно,
поступил ли король в соответствии со своим вкусом, которого, впрочем, у него
никогда не было, или послушался советов министров, вторивших господину фон
Мансфельду, однако он выбрал дочь курфюрста Пфальцского, самую
некрасивую из всех. Испания обратилась к Португалии с просьбой предоставить ей
корабли для того, чтобы отправиться за невестой. Министр короля
настоятельно просил короля Португалии не давать кораблей. Для церемонии
бракосочетания король Испании выбрал своим представителем господина фон Манс-
фельда. Господин фон Мансфельд сел на португальский корабль, прибыл в
Англию, нанес визит принцу Оранскому как королю, что уже ранее сделали посол
Испании и посланник императора, получил от принца Оранского заверения, что
в Голландии ему дадут столько кораблей, сколько требуется для обеспечения
безопасности королевы, и отправился ко двору императора.
Средиземноморский флот вышел в море под командованием шевалье де
Турвиля161. Было объявлено, что флот не собирается покидать пределов
Средиземного моря. Однако когда шевалье взломал печати на секретных
предписаниях, то увидел, что флот должен был пройти в Атлантический океан и
прибыть в Брест, чтобы соединиться там с остальной морской армией, состоявшей
из 22 военных кораблей. Среди кораблей было много таких, которые не
могли выдержать сражение или жестокий шторм. Но задача заключалась в том,
чтобы продемонстрировать и спустить на воду как можно больше судов. Двор
торопился оснастить и вооружить Брест. К маршалу д'Эстре, который был
вице-адмиралом и рассчитывал командовать флотом, отправлялся гонец за
гонцом. Никогда ранее Франция не создавала столь громадный флот и никогда
ранее она не испытывала в нем такую острую потребность. Мы знали о
соединении голландских кораблей с английским флотом и о том, что голландцы
непременно выйдут в море. Двор напрасно торопил со строительством наших
кораблей. Это было бесполезно, поскольку не хватало огромного количества
материалов, доставляемых из разных мест. К тому же не существовало удобного
пути из портов Ла-Манша в порты Атлантического океана, поскольку
англичане держали нас в блокаде. Ожидалось прибытие большого корабля из
Дюнкерка, который неприятель не решился догнать. У нас осталось совсем мало
матросов. Большинство, причем лучшее, сбежали из-за религиозных убеждений,
а нам требовалось несметное множество матросов. Поэтому нам пришлось
заменить матросов лодочниками с Луары, однако сначала их следовало обучить.
Для всего этого требовалось время, которого двор не хотел давать. Господин
24. Заказ № К-6559
370
Дополнения
де Сеньеле распорядился, чтобы все необходимое хотя бы было отправлено,
и уехал из Версаля в Брест, где маршал д'Эстре оказал ему радушный прием,
несмотря на то, что в глубине души они недолюбливали друг друга. У них
прошла беседа о состоянии дел на флоте, в ходе которой господин де Сеньеле
вручил маршалу д'Эстре письмо короля, в котором его величество писал, что,
будучи информирован о замыслах неприятеля, он считает более важным
возложить на маршала командование войсками, стоявшими вдоль побережья,
нежели командование морской армией. Письмо было написано весьма учтиво,
но не существует меда, который заставил бы проглотить подобный яд. Маршал
почувствовал его горечь так явственно, как только это возможно. Ему во все
времена всегда доверяли командовать флотом. Он обладал богатым опытом,
пользовался заслуженной известностью, как вдруг у него отобрали должность,
причем в то время, когда он мог бы блестяще продемонстрировать свои
возможности, и только для того, чтобы передать ее человеку, стоявшему ниже
маршала и по достоинству, и по заслугам, и по рождению. Тот, кого
назначили на эту должность, слыл человеком послушным. Он всегда принимал
участие в развлечениях господина де Сеньеле и был единственным во флоте, к
кому тот питал доверие и дружбу. Маршал перенес удар тяжело, но без
подобострастия, и отправился исполнять обязанности туда, куда ему приказал
король. А тем временем господин де Сеньеле разыгрывал из себя хозяина
флота, как все министры короля, каждый в своем ведомстве, и рассылал приказы,
где стояли подписи: Людовик, а ниже — Кольбер. Он был вездесущим и, хотя
многого не понимал, держался уверенно. Он рассуждал о нападении на
противника в его собственных портах, немного преувеличивал значение, которое
король придавал морским сражениям, отныне находящимся в его компетенции,
и говорил, что хотел бы, чтобы эти сражения стали более решительными и
чтобы моряки не боялись сразу же идти на абордаж. Он взошел на корабль,
пробыл там некоторое время и распорядился сделать большие запасы. Одним
словом, никто не верил, что он и в самом деле будет командовать армией. Когда
эта новость дошла до придворных, они сочли ее необычайной. Все от мала до
велика проявляли неподдельный интерес и понимали, что раз уж столь
несправедливо обошлись с таким достойным человеком, как маршал д'Эстре, то
следует готовиться к худшему. Вскоре господину де Сеньеле стало на корабле
скучно. О средиземноморском флоте не поступало никаких известий. А в это время
60 неприятельских кораблей появились вблизи Уэсана, небольшого острова,
расположенного в восьми лье от Бреста, о чем сообщили наши сторожевые суда.
Маршал д'Эстре немедленно вернулся в Брест, поскольку речь шла о важном
деле. Господин де Сеньеле, не имея больше никаких других занятий, думал о
развлечениях, играл по-крупному, ухаживал за дамами Бреста, и думать забыв
о том, что он, министр, позволил неприятелю в течение восьми или десяти дней
курсировать вдоль побережья, и испугался, когда в полулье от побережья и в
четырех лье от Бреста появилась эскадра из восемнадцати или даже
двадцати кораблей. Однако, к счастью, в тот момент из портов Ла-Манша прибыл
долгожданный конвой. За ним следовали суда из Рошфора, которые везли все то,
в чем так нуждался флот, в том числе и матросов. Одним словом, флот, испы-
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы
371
тывавший за неделю до его появления жесточайшую нехватку буквально во
всем до такой степени, что офицеры отказывались всходить на корабли,
оказался обеспеченным с лихвой.
Несмотря на столь счастливое совпадение и развлечения, господин де Сень-
еле порой испытывал тревожное беспокойство. Провансальский флот все еще
не прибыл. Было известно, что он давно миновал Кадис. Неприятельскому
флоту оставался до Бреста один день пути. Господин де Сеньеле выслал
вперед корабли, которые никак не возвращались. Господина де Сеньеле также
поставили в известность, что король проявлял беспокойство. Беспокойство короля
увеличивало тревогу господина де Сеньеле, тем более что он увез с собой
вооружение короля, хотя министры придерживались на сей счет иного мнения. В
конце концов ему надоело постоянно слышать, что вражеская эскадра
приближается к Бресту. Он приказал одному из десяти кораблей сняться с рейда и
выйти навстречу вражеским, как только те появятся. Это позволило немного
приструнить наших противников. По-прежнему дул попутный для
неприятельских кораблей ветер. Однако вечером он переменился и стал таким сильным,
что они были вынуждены покинуть Уэсан и уйти в сторону Англии. Теперь
ветер перестал мешать Провансальской армии. Турвиль, вот уже два дня
стоявший в двадцати лье от Бреста и знавший от команды захваченного им
маленького английского суденышка, что армия противника находилась рядом с
Уэсаном, решил, что она более не могла оставаться там, приказал поднять все
паруса и приплыл в то место, где обычно располагалась вражеская эскадра.
Выяснилось, что накануне она его покинула. За столь счастливый ход событий
надо было возблагодарить Провидение, поскольку, если бы неприятель
оставался там еще какое-то время, Турвиль был бы вынужден повернуть назад или
направиться в Рошфор. Его прибытие вызвало огромную радость в Бресте, но
еще больше ликовал двор, начавший было отчаиваться.
Из Гиени войска уже выступили в поход на Фландрию. Маршал де Лорж
твердо полагал, что вскоре они овладеют ею. Войска стояли на квартирах
только в Бретани и Нормандии. Они получили приказ двигаться маршем на
Фландрию, как только гонец привез известие о прибытии господина де Турвиля.
Учитывая сложившиеся обстоятельства, Франция придавала огромное
значение смерти Папы, чего мы страстно желали. Мы узнали, что он был
безнадежно болен. Лаварден, которого отправили послом в Рим, поскольку не
могли найти никого другого, кто захотел бы туда ехать, хотя почти не сомневались,
что он не сумеет преуспеть в столь трудных переговорах, был отозван. Этот
посол совсем не согласовывал свои действия с кардиналом д'Эстре и принял
обязательства, противоречившие не только обязательствам кардинала, но и
всем тем, которые имела Франция. Перед тем как уехать из Парижа, он стал
устанавливать связи с аббатом Сервьеном162, которого Папа послал вручить
шапочки назначенным новым кардиналам. Аббат Сервьен считался заклятым
врагом кардинала д'Эстре. Он был французом, однако уже давно жил в Риме,
служил Папе и хотел добиться успеха независимо от Франции. Аббат дал Ла-
вардену сведения, совершенно противоположные тем, которые тот должен был
сам получить. А ведь король и господин де Круасси, государственный секретарь
372
Дополнения
по иностранным делам, рассчитывали, что посол будет действовать совместно
с кардиналом, который отличался выдающимся умом, долго жил в Риме, много
путешествовал и к тому же знал двор Ватикана гораздо лучше, чем любой
другой только что приехавший человек. Во всех неудачах, постигших Лавар-
дена при решении вопросов, возникавших за время его посольства, он винил
кардинала д'Эстре. Однако тот, будучи более мудрым и рассудительным,
наносил Лавардену ответные удары только наверняка. Посол приехал в Рим в
сопровождении множества морских офицеров и гвардейцев, поскольку
существовали опасения, что с ним может приключиться несчастье. У всех у них посол
вызвал недовольство дурным поведением, плохим столом, заурядной манерой
держаться; а вот кардинал д'Эстре завоевал сердца своим честным отношением
и щедростью. За два с половиной года своего посольства в Риме Лаварден
сумел вызвать только насмешки, растратил много денег, не смог нигде блеснуть
умом и не добился успеха ни на одних переговорах. В этом не было ничего
удивительного, если принять во внимание упрямство Папы и его ненависть к
королю и французской нации, ненависть, которая в полной мере проявилась в
том, что он настроил против нас всю Европу и не оказывал почти никакой
помощи королю Англии, терявшему свое королевство только из-за того, что был
слишком рьяным католиком. Король Англии, уезжая из Франции, послал
господина Портера, умнейшего человека, к Его Святейшеству просить о помощи.
Однако Папа дал ему лишь четки и индульгенции — вещи, необходимые
фанатичным богомольцам, но совершенно бесполезные для отвоевания королевства.
Портер вернулся, настроенный против Его Святейшества, неустанно
повторявшего, что для ведения войны с турками посылал императору деньги, которые
тот употреблял против короля.
Двор понял, что посол не в состоянии добиться успеха и бросает на ветер
деньги короля. Поэтому Лавардену было приказано возвращаться, тем более
что Франция испытывала насущную потребность в офицерах. Папа чувствовал
себя плохо. Королева Швеции163, не питавшая к нам любви, и кардинал Азоли-
ни164, откровенный враг Франции, пользовавшийся доверием Папы, скончались
практически одновременно. Говорят, что их смерть была предсказана, равно
как и смерть Папы. Его плохое здоровье и преклонный возраст, ведь Папе уже
перевалило за 80 лет, служили лучшим предсказанием. Некоторые особы
решили, что его кончина, ожидавшаяся в самом недалеком будущем, гораздо
сильнее повлияла на отзыв Лавардена, чем неутешительные итоги переговоров.
Во Фландрии ничего значительного не происходило, но войска короля, хотя
почти полностью и состоявшие из новобранцев, одерживали верх над врагами.
Однако преимущество наших врагов заключалось в том, что из их армии почти
никто не дезертировал, в то время как у нас насчитывалось бесчисленное
множество дезертиров. В самое значительное сражение пришлось вступить отряду
под командованием Сен-Желе. В Нидерландах отряд натолкнулся на конный
разъезд гвардейцев короля Испании. Французы проявили необычайное мужество
и пять раз возобновляли попытку прорваться. И все-таки они все или погибли,
или попали в плен. Поскольку кавалерия испанцев не была оснащена должным
образом, губернаторы крепостей делали все возможное, чтобы оснастить ее за
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы
373
наш счет, и посылали многочисленные отряды для захвата лошадей,
пасущихся на лугах. Среди них был один дерзкий отряд, пробиравшийся по вечерам
мимо стражи, чтобы увести лошадей с водопоя. Он даже не боялся стрелять, чем
и выдал себя. Итак, он принялся стрелять, и по шуму в генеральном штабе
поняли, что стража подверглась нападению. Все находившиеся в штабе молодые
люди вскочили в седла и бросились на выстрелы, не зная толком, что
произошло на самом деле. Принц де Роан165, сын господина де Субиза, сломал ногу в
колене. Под Ногаре была убита лошадь, а сам он получил ранение. Погиб весь
отряд, никто не сумел спастись. Таковы были великие свершения маршала д'Ю-
мьера в соответствии с полученными им приказами. Что касается армии
господина де Дюра, то она еще не встречалась с неприятелем и собрала под свои
знамена только кавалерию.
Герцог Лотарингский отправил к императору гонца узнать, хочет ли тот
непременно осаждать Майнц и причинять ему неприятности. Он получил
соответствующие распоряжения и расположился лагерем. В Версале, узнав о
подобном решении, несказанно обрадовались. Сам король и господин де Лувуа
говорили, что, если бы противник сподобился узнать их мнение, они
посоветовали бы ему поступить точно так же. При дворе заключались многочисленные
пари, перейдет ли неприятельская армия в наступление или нет. Маршал де
Бельфон, всегда занимавший крайние позиции, поспорил через три дня после
получения известия о возведении крытого подступа, что неприятель не станет
атаковать. Осада Майнца превратилась в столь великое событие, что
притягивала к себе все взоры.
Император прибыл в Нойбург на свадьбу королевы Испании. Затем он
должен был отправиться в Аутсбург, чтобы попытаться объявить своего сына,
бывшего уже королем Венгрии, королем всех подданных Римской империи.
Никогда ранее ему не предоставлялась столь прекрасная возможность. Вся
Германия — и протестанты, и католики — разделяла его интересы. Вероятно, она
впервые проявляла такое единодушие. И впервые настало время, когда король
не смог ничего поделать.
Курфюрст Баварский отправился в Майнц. Герцог Лотарингский
расположил вокруг города три войска — войско империи, Саксонское и Баварское
войска. Его армия насчитывала всего лишь 40 тысяч человек. В Майнце же стояли
намного превосходящие ее войска, и поэтому наши противники были
вынуждены возводить мощный крытый подступ, хотя их солдаты очень устали от
этого. Когда господин де Дюра увидел, что ведутся приготовления к осаде, он
собрал свою армию, соединился с кавалерией и пехотой, переправился через Рейн
около Филипсбурга, вошел в Пфальц, намереваясь занять крепости, где стояли
войска курфюрста Баварского, которыми командовал господин фон Серени,
служивший у курфюрста генералом. Сначала нам удалось отбить несколько
крепостей и подойти к Гейдельбергу, окруженному многочисленными рядами
укреплений. Мы не сомневались в победе, однако нашим надеждам не
суждено было сбыться. Господин фон Серени оставил большую часть армии внутри,
а сам с остальными войсками укрылся в лесах. Мы хотели атаковать Гейдель-
берг, но встретили отчаянное сопротивление. Господин де Дюра возложил вину
374
Дополнения
на полевого маршала Тессе, получившего приказ очистить крепость от
неприятеля и сровнять ее с землей. Он говорил, что маршал уверял его, что крепость
совершенно не способна обороняться. Пришлось нам возвращаться с повинной
головой. Мы захватили и сожгли довольно большой город, где стояли войска,
и все замки, способные зимой доставить беспокойство Эльзасу. Во всех
крепостях мы захватили четыре тысячи пленных, которых отправили во Францию,
где их рассредоточили по разным городам.
Когда начались разговоры об осаде Майнца германской армией, сразу же
появились опасения, как бы армия Фландрии не атаковала Динан, последнюю
крепость, имевшую важное значение для короля. Гискар, полковник
Нормандского полка и бригадир, получил приказ прорваться туда с двумя батальонами.
Он был очень храбрым и достойным молодым человеком, однако всего лишь
полгода тому назад все не только считали, что он не заслуживает звания
полковника Нормандского полка, но и презирали его. Создавалось впечатление,
что при дворе хотели оказать Майнцу помощь. Об этом ходило много
разговоров. Говорили также, что король позволил маршалу д'Юмьеру дать
сражение. Таким образом, все находились в курсе событий. Никто также не
сомневался, что произойдет морское сражение, поскольку все свидетельствовало об
этом. В течение нескольких дней шел ремонт кораблей. Корабли
Провансальского флота были спущены на воду и ожидали попутного ветра, чтобы
покинуть Брест. Некоторым офицерам предстояло отправиться в Ирландию. Гасе,
губернатору Ониса и Ла-Рошели, пришлось не по нраву, что в конце зимы туда
назначили командующим Латрусса. Латрусс чувствовал себя очень плохо и не
мог нести службу. Тогда вместо него назначили Сен-Рюта, что принесло Гасе
еще больше огорчений. Он обратился с просьбой послать его в Ирландию и был
назначен генерал-лейтенантом при короле Англии. Помимо него король
снарядил туда маркиза д'Эско, старого бригадира, а также д'Окенкура166, д'Аманзе
и Сен-Патера, молодых полковников. Они сели на специально
предназначенный корабль, и, когда ветер стал попутным, флот поднял паруса. Корабль и
транспортная флейта, плывшие в Ирландию, отделились от морской армии, а
остальной флот, где находился и господин де Сеньеле, взял курс на Бель-Иль.
Корабль, направившийся в Ирландию, о котором я только что говорила,
подвергся нападению англичан, когда возвращался в Бель-Иль. Его капитан был
убит. Вот как закончился подвиг самой великолепной армии, которую король
когда-либо приказывал спустить на воду.
ПИСЬМО-ТРАКТАТ ПЬЕР-ДАНИЭЛЯ ЮЭ
О ПРОИСХОЖДЕНИИ РОМАНОВ
Ваша любознательность вполне оправданна: тому, кто так хорошо
разбирается в искусстве написания романов, несомненно следует знать об их
происхождении. Но я не уверен, сударь, что смогу удовлетворить Ваше желание — под
рукой нет нужных книг, голова забита совсем другими делами, к тому же я
отдаю себе отчет, как непросты подобные исследования. Истоки столь
приятного времяпрепровождения добросовестных лентяев надо искать в стародавних
временах и не в Провансе и Испании, как многие думают, а в куда более
далеких странах. Постараюсь, однако, исполнить Ваше желание, ибо, если старая
добрая дружба дает Вам право обращаться ко мне с любой просьбой, она же
не позволяет мне в чем-либо отказать Вам.
Некогда романами называлось не только то, что писалось в прозе, но и то —
и пожалуй, даже чаще, — что излагалось в стихах. Джиральди и Пинья, его
ученик, в трактатах, посвященных романам1, практически не признают иных форм
и приводят произведения Боярдо и Ариосто как пример для подражания2.
Сегодня возобладал противоположный взгляд, и под романами понимаются
искусно описанные в прозе ради удовольствия и поучения читателя
вымышленные любовные приключения. Говорю «вымышленные», чтобы отличить их от
подлинных исторических событий, и добавляю «любовные», так как главной
темой романов должна быть любовь. Время повелевает, чтобы романы
создавались в прозе3. Необходимо также, чтобы они отличались большим
мастерством и подчинялись определенным правилам;4 в противном случае
получится путаное, беспорядочное и непривлекательное нагромождение небылиц.
Главная цель романов или, по крайней мере, то, что должно быть ею и к чему
надлежит стремиться их создателям, состоит в поучении читателя и постоянном
напоминании, что добродетель неизбежно восторжествует, а порок непременно
будет наказан. Но поскольку наш ум по природе своей обычно противится
наставлениям, а самолюбие отвергает всякие назидания, читающего необходимо
поймать на приманку предвкушаемого удовольствия и смягчить
нравоучительный тон приятностью изложения, чтобы недостатки одного человека исправить
через их осуждение в других людях. Итак, развлечение читателя, которое
умелый романист, казалось бы, определяет своей задачей, на поверку
оказывается второстепенной заботой, тогда как главной становится просвещение разума
и исправление нравов;5 романы поэтому отвечают своему назначению в той
376
Дополнения
мере, в какой удаляются или приближаются к такому их пониманию и такой
их цели. Далее я буду говорить лишь о романах, соответствующих своему
назначению, и, полагаю, ими ограничивается и Ваша любознательность.
Следовательно, здесь нет нужды касаться романов в стихах и тем более
эпических поэм6, которые, мало того что написаны стихами, имеют
существенные отличия от романов, хотя между теми и другими, наряду с различиями,
несомненно и большое сходство; надо помнить также изречение Аристотеля7,
которое, впрочем, задолго до него сформулировал Платон8 и которого
придерживались Гораций, Плутарх и Квинтилиан9, гласящее, что поэт больше поэт
в силу воображения, а не умения складывать стихи: это позволяет отнести
творцов романов к поэтам. Петроний говорил, что поэмы должны вести к цели
окольными путями10, воплощать волю богов, содержать дерзновенные и
свободолюбивые мысли и восприниматься скорее как пророчества исступленной
души, чем как точные и достоверные повествования. Романам же
свойственна большая простота, они не столь возвышенны, в них меньше образности и
экспрессии. В поэмах, не лишая их правдоподобия, все же преобладает
чудесное. В романах правдоподобие главенствует, хотя порой случаются и чудеса.
Поэмы более упорядочены и стройны, не перегружены материалом,
событиями, эпизодами. В романах всего этого изрядно: отличаясь меньшей
возвышенностью и образностью, они не требуют особого напряжения мысли и потому
позволяют удерживать в голове вереницу самых разнообразных
обстоятельств. Наконец, в поэмах описываются ратные подвиги и государственные
деяния, тогда как о любви говорится лишь по случаю. В романах, напротив,
любовь — основная тема, а война и политика играют вспомогательную роль.
Я говорю сейчас о романах, отвечающих правилам жанра, так как в
большинстве старинных французских, итальянских и испанских романов речь идет в
основном не о любовных похождениях, а о военных приключениях сильных
и доблестных странствующих рыцарей. Именно это обстоятельство побудило
Джиральди утверждать, что само название «роман» происходит от
греческого слова, обозначающего силу и доблесть. Но Джиральди, как увидим в
дальнейшем, заблуждался.
Я не касаюсь здесь и исторических описаний, изобилующих, как
утверждают, различного рода вымыслами, например, сочинений Геродота, Ктесия11,
«Мореплавания» Ганнона12, «Жизнеописания Аполлония», созданного Филост-
ратом13, житий святых, правду о которых, стремясь ее приукрасить, исказил
Симеон Метафраст14, и многих других, им подобных. В целом эти
произведения правдивы, ложь проскальзывает разве что в отдельных местах. Романы
же, напротив, правдивы лишь отчасти, но в целом лгут. Первые
представляют собой истину, приправленную ложью, вторые — ложь, разбавленную
некоторой правдивостью. Я хочу сказать, что в исторических повествованиях
берет верх истина, тогда как в романах господствует фантазия, причем в такой
степени, что они могут быть выдумкой как в целом, так и в частностях.
Аристотель учит, что трагедия, событийная канва которой всем известна и
заимствована из истории, наиболее совершенна15, поскольку она правдоподобнее
трагедии, события которой для всех внове и от начала до конца вымышлены.
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 377
Впрочем, отвергать последнюю окончательно он не намерен, поскольку даже
взятые из истории события могут быть знакомы далеко не всем, но при этом
увлекать каждого. То же самое следует сказать о романах, с той только
разницей, что полностью выдуманный сюжет более приемлем тогда, когда
героями выступает мелкий люд, например, в комических романах, но вовсе не в
великосветских, где фигурируют государи и военачальники и где
рассказывается о примечательных и памятных событиях, ибо трудно предположить,
чтобы выдающиеся события были тайной для читателей и прошли мимо
историков, ведь без правдоподобия, которым не всегда отличаются исторические
труды, в романе никак не обойтись. Таким образом, если к историкам
можно применить слова, которые у Гесиода произносят Музы16, хвастаясь, будто
бы умеют говорить правду, то романистов можно охарактеризовать другим
высказыванием тех же Муз: они умеют складно рассказывать небылицы,
похожие на правду.
Я также не причисляю к романам выдуманные целиком и полностью
исторические повествования, в которых прибегают к вымыслу исключительно по
причине отсутствия истинного знания — таковы, в частности, фантастические
истории о происхождении большинства народов, как цивилизованных, так и
варварских, таковы и явно подложные исторические сочинения,
опубликованные монахом Аннием из Витербо17, вызвавшие негодование и презрение всех
ученых. Между романами и этими, с позволения сказать, трудами такое же
различие, какое существует между теми, кто, используя невинные ухищрения,
переодевается и скрывает лицо под маской, чтобы развлечь себя и других, и теми,
кто подло заимствует имя и платье умерших или отсутствующих и, используя
приблизительное сходство, присваивает их имущество.
Наконец, нужно отбросить в сторону и всякого рода сказки, так как
романы — это созданные воображением события и похождения, которые могли
случиться, но никогда не случались, а сказки — это то, чего никогда не было и быть
не могло.
Итак, установив какие сочинения заслуживают наименования романов, я
утверждаю, что их начало необходимо искать в самой природе
любознательного и изобретательного человека, жаждущего познать и сообщить об
узнанном или придуманном, — эта склонность была присуща всем людям во все
времена, где бы они ни жили. Впрочем, восточные народы, охваченные,
по-видимому, данной страстью сильнее остальных, оказали такое мощное воздействие
на народы Запада, в том числе на самые талантливые и самые культурные, что
изобретение романов можно по праву приписать именно людям Востока — я
имею в виде египтян, арабов, персов, индийцев и сирийцев. Вы наверняка
согласитесь с моим утверждением, когда я покажу вам, что большинство
великих романистов древности принадлежали именно к этим народам. Клеарх18,
создававший любовные романы, был родом из Киликии, соседней с Сирией
провинции; Ямвлих19, рассказавший любовную историю Родана и Синониды,
родился в семье уроженцев Сирии и воспитывался в Вавилоне; Гелиодор20,
автор романа о Феагене и Хариклее, происходил из финикийского города Эме-
са; Лукиан21, написавший «Превращение Лукия в осла», — выходец из Самоса-
378
Дополнения
ты, столицы сирийской провинции Коммагены; Ахилл Татий22, поведавший нам
о любви Левкиппы и Клитофонта, рожден в египетской Александрии.
Сказочная история Варлаама и Иосафата сочинена святым Иоанном Дамаскином23,
жителем столицы Сирии. Диадох Дамаский24, автор четырех книг о
выдуманных событиях — не только невероятных, как он сам их назвал, но даже грубых
и лишенных всякого правдоподобия, — также, как утверждает Фотий25,
уроженец Дамаска. Из трех Ксенофонтов-романистов26, о которых сказано в Суде27,
один появился на свет в сирийской Антиохии, второй — на Кипре, острове,
соседствующем с теми краями. Амелий28, создавший любовные сказки,
происходил из сирийского города Апамея. Как видим, те места куда больше, чем
Греция, заслуживают называться родиной сказок, ведь в Грецию их завезли из
других стран. Впрочем, сказки нашли там столь благодатную почву, что пустили
весьма глубокие корни.
Просто удивительно, до какой степени все эти народы наделены
поэтическим даром, гораздым на всякие выдумки и сказки: речи на Востоке
иносказательны, мысли выражаются исключительно аллегориями; восточная теология,
философия, а главным образом политика и мораль, пронизаны намеками и
иносказаниями. Иероглифы древних египтян свидетельствуют, сколь загадочен
этот народ. У египтян практически всё представало в ином свете; свою
привычку выражать мысли и чувства образами они довели до уровня искусства. Их
верования были покрыты пеленой тайны. Несведущим людям религия
преподносилась под видом сказок; занавес поднимали только перед теми, кто считался
достойным приобщения к таинствам. Принято считать, что сфинксов перед
храмами ставили как раз для того, чтобы обо всем этом предупреждать. Гомер
проникся в Египте сказочным духом, который не только подвиг его на
создание дошедших до нас восхитительных поэм, но и заставил внести
многочисленные изменения в генеалогию, иерархию и занятия греческих божеств. Более
того, именно в Египте Гомер усовершенствовал свой поэтический талант,
поскольку поэзией там занимались с незапамятных времен. Геродот утверждал,
что мифологическую теологию греки позаимствовали у египтян, и пересказал
легенды, услышанные от египетских жрецов. Причем он, человек легковерный
и большой любитель выдавать фантазии за реальность, называл египетские
легенды чепухой29. Однако подобная чепуха быстро приглянулась грекам и
завладела их пытливыми умами, готовыми, если взять, к примеру, Гелиодора, к
жадному познанию нового. Нет никаких сомнений в том, что, путешествуя по
Египту, Пифагор и Платон именно от тамошних жрецов научились
иносказательно выражать свои философские принципы и скрывать их под покровом
тайн и аллегорий. Египтяне и сегодня проникнуты тем же духом. Если спросить
их о причинах разлива Нила, о древних пирамидах и других диковинах тех
мест, эти люди примутся в ответ рассказывать вам сказки. В Каире есть
Фонтан влюбленных, о котором слагают легенды. На всех перекрестках великого
города египетские бродячие артисты, испокон веков
совершенствовавшиеся в своем лицедействе, воспевают и изображают битвы арабов и египтян,
искажая однако, при этом правду до такой степени, что ее с трудом можно
распознать.
Письмо трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 379
Что касается арабов, то, если внимательно прочитать их произведения, там
нет ничего, кроме притянутых за уши метафор, уподоблений и вымыслов. Не
составляет исключения и Коран. Мухаммед утверждает, что создал Коран
таким, чтобы людям было легко его выучить30 и трудно забыть. А поскольку Бог,
чьим посланником он с гордостью себя именовал, говорит с людьми, как
представляется Пророку, только намеками31, то и сам Мухаммед, судя по всему,
стремился в этом Ему подражать. Любовью к сказкам арабы прониклись так
давно, что об этом счел нужным упомянуть и один из пророков Ветхого
Завета32. Они перевели на свой язык басни Эзопа, а некоторые из арабов сочинили
свои, похожие на те. Лукман33, столь почитаемый на Востоке, есть не кто иной,
как Эзоп, басни которого арабы собрали в увесистый том, дополнив немалым
количеством собственных сочинений. Уважение к баснописцу было среди
арабов столь велико, что даже Коран прославил его ученость в одной из сур,
названной именем Лукмана. Не могу разделить мнение Шикарда34, весьма
знающего, впрочем, человека, полагавшего на основании суры Корана, где Лукман
наказывает сыну остерегаться придавать кого бы то ни было Богу в
сотоварищи35, будто Лукман появился на свет после Иисуса Христа. В
действительности, вкладывая в его уста эти речи, Мухаммед мог иметь в виду как
идолопоклонников, так и христиан. Но если даже допустить, что сказанное относится
все-таки к христианам, то вполне вероятно, что Мухаммед, дабы подкрепить
свои наставления авторитетом Лукмана, намеренно приписал мудрецу слова,
которые тот никогда не говорил. И к тому же особенности, которыми
восточные народы наделяют Лукмана, и его отождествление с Эзопом не могут
относиться к человеку, родившемуся после Иисуса Христа.
Жития восточных патриархов, пророков и апостолов все полны вымысла.
На Востоке существует секта философов, которые стремятся сделать свои
догматы более доступными и поэтому проповедуют их в виде простых и понятных
для простонародья притч36. Создание этой секты возводят к некоторым
древним пророкам. Другие философы Востока, намереваясь объяснить самые
сокровенные тайны своих учений, придавали им форму романов, к числу
которых относится, например, история Хайя, сына Якзана37. Авиценна,
считающийся ее создателем, хотел показать, каких успехов можно добиться в философии,
пользуясь только врожденными, «природными» знаниями, не прибегая к
наставлениям, наукам и искусствам. Авиценна придумал, что Хай родился без отца
и матери из земных недр пустынного острова, расположенного за экватором
и населенного исключительно животными (многие древние и современные
Авиценне философы считали такое рождение вполне возможным); что
вскормила его своим молоком коза; что благодаря здравому смыслу, наблюдениям
и размышлениям он мало-помалу приобрел знания, которые даются
благодаря изучению философии, и в конце концов приблизился к пониманию Бога и
высшего блага, научился благороднейшему искусству созерцания.
Повествование оживляют разнообразные романтические приключения, касаться которых
я не стану. Весьма достойное произведение Авиценны было бы еще более
достойным, если бы не страдало чрезмерной фантастичностью, а рассуждения
Хайя не выходили за пределы правдоподобия.
380
Дополнения
Арабы наслаждаются поэзией. У них изучение ее — это самое обычное
времяпрепровождение прекраснейших умов. Они полагают, что именно поэзия
сохранила и обогатила их язык. И это увлечение возникло задолго до Мухаммеда.
Существуют поэмы, написанные гораздо раньше рождения Пророка. В те
времена на Востоке все научные достижения излагались в стихах, искусство
сочинять которые считалось высшим проявлением учености. Правители хранили
эти произведения среди самых драгоценных сокровищ, все заучивали их
наизусть, а способность слагать стихи рассматривалась как почти бесспорный
признак благородства. Если одному из племен выпадало счастье иметь среди
своих представителей поэта, все прочие племена приходили их с этим
поздравлять. Войны, что велись во времена установления магометанства, немного
охладили этот пыл, однако после окончания завоевательных походов пламень
поэзии разгорелся еще ярче. Эрпений38 уверяет, что в одной Аравии было
больше стихотворцев, чем во всех других странах вместе взятых. Их насчитывалось
шесть десятков. Среди прочих они — словно короли, возглавляющие великую
армию поэтов и даже поэтесс. Наиболее талантливые из арабских поэтов
воспевали в эклогах любовь; несколько подобных книг было привезено на Запад.
Многие из арабских халифов не считали поэзию недостойным для себя
занятием. До наших дней дошло несколько томов сочиненных ими стихов. К
числу халифов-поэтов принадлежал, как сообщает Эльмачин39, и Аббас40,
написавший книгу «Уподобления». Другой халиф сделал стихотворное переложение
Корана, и без того полного созвучий и рифм, — не зря сам Мухаммед
причислял себя к поэтам41. В большинстве арабских пословиц и изречений
определенные слоги ритмически организованных слов имеют одинаковые созвучия.
Вознаграждались поэты с удивительной щедростью. Так, одному из них было
подарено 70 тысяч драхм за 70 понравившихся халифу стихотворных строк. На
мой взгляд, именно от арабов пришло к нам искусство рифмы. Проникнув в
Африку, они столкнулись там с племенами, почти столь же одержимыми
рифмами. У всех африканских авторов заметно постоянное и утомительное
повторение одних и тех же созвучий и одинаковых размеров. Блаженный Августин
практически никогда не нарушал этого правила. Среди его произведений есть
псалом против донатистов42, представляющий собой рифмованную прозу с
одинаковым размером и одним и тем же видом рифм. Есть достаточно внешних
оснований полагать, что леонинские стихи43 создавались по образу и подобию
стихов этих народов, приверженцев рифм, поскольку не похоже, чтобы
рифмованные произведения бытовали в Европе до вторжения Тарика и Мусы в
Испанию;44 в последующие же столетия их появилось великое множество. И
все-таки я мог бы легко доказать, что древние римляне тоже были знакомы с
рифмованными стихами45 и что звуковая перекличка слов не всегда вызывала
у них неприятие.
Персы ничуть не уступали арабам в искусстве приятно лгать; несмотря на
то, что раньше в повседневной жизни они считали ложь отвратительной и
строго-настрого запрещали детям говорить неправду, тем не менее ложь в книгах
и письмах, если только можно назвать вымысел ложью, персам весьма и весьма
нравилась. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать о сказочных похож-
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 381
дениях их законодателя Заратуштры. Страбон утверждает, что учителя в
Персии, внушая своим ученикам нравственные заповеди, облекали их в мифы46. У
Геродота Кир, основатель их монархии, отвечает послам ионийцев и эолийцев
в форме басни47. А другой персидский царь, желая перед смертью призвать
своих сыновей держаться друг друга и жить в мире и согласии, прибег к такой
аллегории: вручил им пучок стрел, которые можно было сломать только по
отдельности48. В другом месте Страбон говорит, что никто не питает большого
доверия к древним историям персов, мидян и сирийцев49, так как их авторы
склонны рассказывать сказки: видя, каким большим уважением пользуются
профессиональные сказочники, они решили, что читатели получат удовольствие от
вымышленных и далеких от правды описаний, если таковые будут
преподнесены в форме исторических повествований.
Басни Эзопа настолько пришлись персам по душе, что они присвоили себе
их создателя50. Это тот самый Лукман из Корана, о котором я рассказывал
выше. Лукман пользуется таким уважением у всех народов Востока, что там
вознамерились отнять у Фригии честь считаться местом его рождения. Арабы
утверждают, что он по происхождению иудей. Персы не соглашаются и
уверяют, будто он эфиоп (что, похоже, подтверждается самой этимологией имени
Эзоп), будто жил он в Казвине51, городе, который многие считают Арсакией
древних, и даже именно в нем (по мнению некоторых) и родился. И на этом
основании, видя, что его биография, изложенная Мирхондом52, имеет много
общего с жизнеописанием Эзопа, которое оставил Максим Плануд53, и отметив
то обстоятельство, что у Мирхонда Лукмана наделяют мудростью ангелы, а у
Филострата басни Эзопу дарит Меркурий54, иные из тамошних мудрецов
твердо убеждены, что греки украли Лукмана у восточных народов и превратили его
в Эзопа. Однако тут не место углубляться в этот вопрос. Скажу мимоходом
только одно: нужно помнить о том, что истории народов Востока, по
свидетельству Страбона, полны вымысла, неточны и недостоверны и, вполне вероятно,
далеки от истины также и в том, что касается происхождения как баснописца,
так и самих басен. Греки более ревностно и добросовестно относились к
хронологии и истории, и сходство Лукмана у Мирхонда с Эзопом у Плануда и
Филострата не доказывает ни то, что Эзоп — это Лукман, ни то, что Лукман есть
Эзоп. Персы прозвали Лукмана Мудрым, поскольку Эзоп действительно был
причислен к сонму Мудрецов. Они говорят, что глубоко сведущий в
медицине Лукман раскрыл поразительные тайны, в том числе тайну возвращения к
жизни умерших. Они прокомментировали, пересказали и приумножили басни,
объединив их, как и арабы, в большой сборник, один экземпляр которого
хранится в Библиотеке Ватикана. Слава о Лукмане докатилась до Египта и Нубии,
где его имя и знания пользуются столь глубоким уважением, что персы
искренне верят, будто бы он там и родился.
В наши дни его не меньше почитают турки. Вслед за Мирхондом и
арабами они верят, что Лукман жил во времена Давида. Но коль скоро он и в самом
деле есть Эзоп, они ошибаются приблизительно на 450 лет, если верить
греческой хронологии. Однако турки не обращают на подобное несоответствие ни
малейшего внимания. Под их предположение подошел бы скорее Гесиод, ко-
382
Дополнения
торый был современником Соломона и которому, по словам Квинтилиана и
Плутарха, мы обязаны первым появлением басен, приписываемых Эзопу.
Не существует поэтов, равных персам последних столетий в вольном
обращении с истиной при написании исторических сочинений, главным образом
тех, в которых говорится о происхождении их религии и жизни святых. Эти
авторы исказили до неузнаваемости повествования, истинность которых мы
знаем благодаря пересказам греков и римлян. Персы даже отреклись от
похвального отвращения, которое раньше питали к тем, кто прибегает ко лжи
в корыстных интересах, и теперь даже гордятся ею. У них, как и у нас, есть
собственные романы и собственные сказочные герои. Рассказы о любовных
похождениях и великих ратных подвигах знаменитого Рустама55 и история
Искандера56 известны у них куда лучше, чем у нас сказания о Геракле, Роланде
и Амадисе57.
В Коране содержится намек и порицание в адрес Назара, сына Хариса58, за
то, что он, явившись из Персии, стал вещать арабам о ней, уснащая свои
рассказы всякими преувеличениями. По мнению персов, гора Тавр59, которую
древние называли Каспийскими воротами, расступилась, после того как Мортис-
Али60 ударил по ней мечом, чтобы проложить путешественникам путь к
Каспийскому морю. Точно так же местные жители, столь же склонные к небылицам,
как и персы, утверждают, что скалистая гора Мимас, через которые проходит
дорога из Смирны в Эфес, разверзлась от удара меча святого Павла. А
расщелина, которая издалека видна тем, кто плывет на корабле по морю, и которая
находится на самой высокой горе в испанской Валенсии, недалеко от города
Аликанте, носит имя Роланда и, согласно местным преданиям, появилась
будто бы от удара его меча.
Надо быть уж совсем несведущим в персидских историях человеком,
чтобы не знать о великане Арнеосте и его великанше жене61, а также о чудесах
царевича Пискитона62, который жил, как тут считают, около 3500 лет тому
назад. Говорят, что главная площадь Исфахана всегда заполнена бродячими
артистами, которые развлекают собравшуюся толпу сказками и романтичными
повестями. Галантные сочинения и любовные истории древних персов были
ничуть не менее знамениты, чем персов современных. И в наши дни здесь
страстно любят поэзию: это развлечение и аристократов, и простолюдинов. Без
поэзии пиры утратили бы свой блеск. Поэтому там повсюду много поэтов,
которые выделяются своими вычурными одеяниями. Именно на персидских книгах
турки учатся добродетелям, галантности и учтивости. Некоторые из дервишей,
бродя по свету, непременно возят с собой персидские книги, полные
сладострастных стихов. Подобные стихи в обязательном порядке читают в серале
молодым людям, которых готовят к высоким должностям. Впоследствии эти
молодые люди будут любить и воевать в соответствии с примерами и
образцами, почерпнутыми из поэзии, хотя у них есть байки и собственного
сочинения, а в кофейнях наилучшей приправой к безудержному веселью служит
чтение романов.
Турки утверждают, будто бы Роланд был их соплеменником. Они в
мельчайших подробностях рассказывают о его жизни и величайших подвигах, со-
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 383
вершенных на Востоке, и как святыню хранят в Бурсе63 меч героя. Молва о
Роланде и о его многочисленных сказочных приключениях докатилась даже до
Колхиды, где о нем знают лучше, чем о Ясоне и аргонавтах.
Индийцы, соседи персов, тоже имеют склонность к поэтическим и
романическим выдумкам. Путешественники часто рассказывают нам об их поэмах,
песнях и любовных историях. Известно индийцам и о знаменитом Лукмане,
который, как и у персов и арабов, стал главным героем многих притч и сказок.
Индийцы превратили его в брата Рамы64, одного из своих самых
прославленных законодателей, канонизированного и обожествленного. Они сделали его
святым, воином и царем амазонок, обитающих якобы на севере Индии.
Индийские христиане Малабара уже давно воспевают в стихах жизнь и достохваль-
ные деяния святого Фомы, своего апостола, не имеющие ничего общего с тем,
о чем повествуется в Священной Истории. Нечто похожее по духу мы замечаем
у китайцев, тонкинцев65, японцев и всех прочих народов, живущих в тех
краях. Здесь тоже множество поэтов, поэм и сказок, есть собственные комедии и
собственные актеры. Китайцы настолько привыкли использовать в разговорах
басни, что иную манеру выражаться считают грубой и невежливой.
Диоген Лаэртский66 утверждает, что гимнософисты67 облекали свои
философские принципы в загадки. Вплоть до наших дней в Индии находят очень
древние книги по метафизике, написанные в стихах. В таких книгах
рассуждения о наиболее важных политических и нравственных проблемах68 приведены
в форме притч. Сандабер написал об этом книгу69, которую перевели иудеи и
греки и которая есть в библиотеках всех любознательных читателей. Господин
Гольмен70 обещал познакомить широкую публику с индийскими, эфиопскими
и иудейскими притчами некоего Аарона. Слова своего он не сдержал, однако
есть некоторые основания полагать, что эта книга попала вместе с другими
томами его библиотеки в библиотеку короля. Пословицы брамина Бартрухерри71,
которые мы читаем на нашем родном языке, представляют собой
нравоучительные сентенции, в большинстве случаев содержащие образные, вычурные
и фигуральные выражения. Иезуит отец Пуссин72 снабдил свое жизнеописание
Пахимера73, недавно изданное в Риме, диалогом между Абсалоном, царем
Индии, и гимнософистом, в котором они обсуждают разнообразные нравственные
проблемы, причем философ преподносит свои мысли в виде притч и басен на
манер Эзопа. В предисловии говорится, что книга написана самыми мудрыми
и учеными представителями нации74, что она бережно хранилась в царской
Сокровищнице грамот и что Перзой, лекарь царя Персии Хосрова75, перевел ее
с индийского языка на персидский, затем кто-то еще — с персидского на
арабский, а Симеон Сиф76 — с арабского на греческий.
Один из моих друзей привез из Греции эту книгу в переводе на греческий
и мне о ней сообщил. Хосров, прозванный греческими и арабскими авторами
Ануширваном77, жил во времена правления императора Юстиниана, любил
изящную словесность, слыл очень образованным человеком и приказал
перевести на персидский многие иностранные книги. Эта же столь незначительно
отличается от другой, автором которой считается индиец Пильпай78 и которая
появилась на французском языке несколько лет тому назад, что, вне всякого
384
Дополнения
сомнения, является либо самим оригиналом, либо копией. Ведь говорят, что
Пильпай был брамином, принимавшим участие в управлении индийским
государством при царе Дабшелиме79 и решавшим важные дела. Свои
политические и нравственные воззрения он и выразил в этой книге. Цари Индии
хранили ее как сокровищницу мудрости и учености. Молва о ней дошла до Ану-
ширвана, царя Персии. Ануширван сумел раздобыть копию при помощи
своего лекаря, который перевел ее на персидский язык, халиф Абу Джафар аль-
Мансур80 приказал перевести ее с персидского на арабский, а затем еще один
халиф повелел сделать обратный перевод с арабского языка на персидский.
В результате получилась новая книга, отличная от предыдущих, которую и
перевели на французский. Такое количество переводов — свидетельство
высочайших достоинств произведения, которое, как считают персы, не имеет себе
равных, хотя при переводах оно и претерпело значительные изменения. Отец
Пуссин признает, что, переводя эту книгу на латинский язык, он убрал
оттуда некоторые притчи, а во французском переводе, появившемся под именем
Пильпая, есть немало тех, что отсутствуют в греческом варианте Симеона
Сифа. Безусловно, тот, кто будет читать историю так называемых индийских
патриархов Браммона и Бремава, их потомков и их племен, не станет искать
других доказательств любви этого народа к сказкам и притчам. Я охотно верю
поэтому, что, когда Гораций назвал сказочной реку Гидасп81, исток которой
находится в Персии, а устье — в Индии, он хотел подчеркнуть, что она
начинает и заканчивает свой бег среди народов, весьма склонных к притворству и
хитрости.
Эти притчи, носящие светский характер у народов, о которых я рассказал
выше, в той же Сирии освящены и узаконены именем самого Бога. В
Священном Писании Господь говорит, что изъявляет свою волю пророкам намеками
и иносказаниями82, а в другом — что будет давать законы в форме притч.
Соломон считал, что один из главных плодов мудрости и учености заключен в
понимании загадок и притч. До нас дошла лишь малая часть созданных им притч,
хотя в Священной Истории говорится, что их было около трех тысяч, и,
кроме того, сообщается, что он сочинил более тысячи поэм. Согласно Писанию,
царица Савская, наслышанная о мудрости Соломона, решила сама испытать его
и загадать ему разные загадки83. Она пришла в восторг от того, что Соломон
без труда разгадал их, и нашла, что он наделен гораздо более глубоким умом,
чем приписывает ему молва. Иосиф Флавий84 утверждает на основании
рассказа Дня85, который написал «Историю финикийцев», и рассказа Менандра Эфес-
ского86, который перевел на греческий язык тирские летописи, будто бы
Соломон и Хирам, царь Тирский, загадывали друг другу загадки87, причем тот, кто
не разгадывал их, должен был заплатить огромную сумму. Это очень древний
обычай, утвердившийся у иудеев задолго до Соломона. Он существовал и у
египтян, и у эфиопов, был широко распространен в Греции со времен
Троянской войны. Впоследствии в подобном состязании участвовали также Гомер и
Гесиод88. Священное Писание полно мистических откровений, аллегорий, тайн.
Пророки часто предсказывали будущее через знаки и образы, а когда
прибегали к словам, то слова эти были невнятны и загадочны. Наиболее искусные из
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 385
иудеев, например аскеты, о которых говорит Филон89, или второзаконники, о
которых рассказывает Евсевий90, превратили изучение этих тайн в смысл
своей жизни. Тот же Филон и Аристобул91, оба иудеи, а также талмудисты и
наиболее известные из раввинов, предлагают в своих произведениях различные
толкования этих тайн. Сам святой Павел в Посланиях раскрывает попутно
великие истины, скрытые в образах Ветхого Завета92.
Талмудисты считали, хотя и безосновательно, что Книга Иова
представляет собой притчу, которую придумали иудеи. Их последователями стали
анабаптисты и Лютер, которые придерживались такого же мнения об истории
Есфири. Они и многие другие протестанты полагают, что и историю Юдифи
придумали иудеи. Гроций93, утверждавший, что постиг ее аллегорическое значение,
излагает свою точку зрения в «Комментариях». Его взгляд оригинален,
однако он, полагая, будто бы докопался до подлинного смысла выдуманной
истории, на самом деле извращает подлинную историю ложным толкованием.
Псалтирь, Книга Притчей Соломоновых, Книга Екклесиаста, Книга Песни Песней
Соломона и все прочие священные гимны, а также сама Книга Иова
представляют собой поэтические произведения, полные образов, которые показались бы
слишком смелыми и грубыми в наших с вами книгах, но вполне обычных для
произведений этого народа. Замечено даже, что в псалмах имеется много
нарочитых созвучий, поскольку многие фрагменты Священного Писания
убеждают нас в том, что поэзия древних иудеев обладала собственным размером,
а порой и собственными рифмами, вопреки широко распространенному
ошибочному мнению, отрицающему это. Доказательством служит песнь, которую
пели женщины во славу Саула и Давида после победы над Голиафом и
филистимлянами. Эта песнь представляет собой настоящие хореические стихи.
Книга Притч называется по-другому Книгой Пословиц, поскольку подобного рода
пословицы, согласно определению Квинтилиана, есть не что иное, как краткие
истории или притчи; и святой Иоанн в своем Евангелии называет пословицы
притчами. Песнь Песней представляет собой драматическую пьесу в форме
пасторали, в которой страстные чувства Супруга и Супруги выражены столь
нежно и столь трогательно, что мы непременно подпали бы под их очарование,
если бы эти образы и выражения были более близки нашему духу или если бы
мы смогли отделаться от несправедливых предубеждений, которые мешают
нам полюбить то, что хоть немного не соответствует нашим нравам. В этом
виноваты, пусть даже неосознанно, мы сами, поскольку легкомыслие слишком
часто заставляет нас менять вкусы и обычаи. Наш Спаситель сам тоже поучает
иудеев не иначе, как рассказывая притчи. Наконец, святой Иероним
свидетельствует, что склонность к метафоричности — характерная черта народов Сирии
и Палестины, среди которых он долго жил. Он утверждает, что уподобления
и примеры гораздо понятнее обычных наставлений и простых изложений.
Талмуд содержит в себе миллион притч одна смелее другой. С тех времен
многие раввины разъясняли, сочетали и собирали их в особые сборники и сами
сочиняли притчи, басни и стихи. Среди этих произведений были и лишенные
размеров и ритмов, но тем не менее они прекрасны благодаря поэтичным
аллегориям, гиперболам и велеречивости. Киприоты и киликийцы, соседи сирий-
25. Заказ № К-6559
386
Дополнения
цев, придумали такие притчи, которые называются по имени этих народов, а
в Греции издавна бытовала поговорка о пристрастии киликийцев ко лжи.
Словом, сказки были настолько широко распространены повсюду в тех краях, что,
по свидетельству Лукиана, у ассирийцев и арабов существовали даже их
профессиональные толкователи. Эти люди вели размеренный образ жизни,
благодаря чему жили гораздо дольше всех остальных.
Но недостаточно выяснить место происхождения романов. Необходимо
проследить, как они попали в Грецию и Италию и пришли ли они к нам из этих
двух стран или откуда-либо еще. Ионийцы, населявшие Малую Азию, создали
могучее царство и, заполучив несметные богатства, предались роскоши и
сладострастию, вечным спутникам изобилия. Захватив в плен Креза, Кир
подчинил себе ионийцев94, а затем во власти персов оказалась и вся Малая Азия.
Переняв вместе с законами победителей их вольные нравы, ионийцы, и сами
склонные к разгульной жизни, очень скоро превратились в самый
любвеобильный народ на свете. Они до тонкостей познали кулинарные изыски,
повседневно пользовались цветами и благовониями, придумали новые украшения для
зданий, торговали тончайшей шерстью, прозрачными тканями, самыми
удобными нарядами, прекраснейшими дорогими коврами, стали
родоначальниками эротического танца, получившего название ионического, и отличались
изнеженностью, вошедшей в поговорку. Чтобы предотвратить восстания и
охладить воинственный пыл живших по соседству с ионийцами лидийцев, мятежный
и неугомонный дух которых вызывал большое беспокойство, сам Кир
приказал им, действуя по совету Креза95, воспитывать детей в неге и удовольствиях,
приучать вести распутный образ жизни и делать из них танцовщиков,
музыкантов и акробатов. Лидийцы подчинились приказу своего повелителя, а изменив
образ жизни, изменили и свое умонастроение. С тех пор некоторые племена,
образующие этот народ, переселились в Тоскану, а затем обосновались в Риме.
Там понравились их танцы. К услугам лидийцев прибегали во время
проведения общественных игр и зрелищ. Более того, от названия лидийцев римляне
придумали расхожее слово, которым обозначали игру96. Но больше всех
ионийцев в удовольствиях и изысканных наслаждениях преуспели жители Милета.
Именно они первыми научились у персов искусству писать романы; на этом
поприще милетцы прославились благодаря так называемым «милетским
сказкам», то есть романам, насыщенным любовными похождениями и
пикантными сценами. Как мне представляется, до тех пор романы были вполне
нравственными, редко и причем с большим целомудрием повествовали о галантных
приключениях, и именно милетцы испортили их, наполнив весьма фривольным
и даже непристойным содержанием. Время не пощадило этих творений и
сохранило разве что имя Аристида97, самого знаменитого из романистов
Милета, перу которого принадлежит несколько сборников этих сказок, получивших
название «милетских». Я полагаю, что и Дионисий Милетский98, живший в
эпоху правления Дария I, писал фантастические истории, однако, поскольку не
уверен, что эти истории не были компиляцией древних сказок, и поскольку не
нахожу достаточно веских оснований считать эти сказки собственно
«милетскими», я не отношу их автора к числу сочинителей романов. Не считаю таковым
Письмо трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 387
и Гегесиппа", и других авторов так называемых «милетских историй», о
которых упоминает Парфений100, поскольку из приведенных им отрывков видно,
что они писали древнюю историю Милета, а вовсе не сказки, именуемые
«милетскими».
Ионийцы, выходцы из Аттики и Пелопоннеса, не забывали о своем
происхождении и вели оживленную торговлю с народами Греции. Они обменивались
детьми, чтобы те перенимали чужой образ жизни, незнакомые нравы и обычаи.
В этом тесном общении Греция, сама умевшая и любившая сочинять сказки,
быстро научилась у ионийцев искусству создания романов и успешно его
культивировала. Но, чтобы избежать путаницы, постараюсь рассказать о наиболее
отличившихся в этом виде искусства греческих писателях в хронологическом
порядке.
Я не знаю ни одного имени греческих романистов, живших до правления
Александра Македонского. Данное обстоятельство убеждает меня в том, что
искусство создания романов находилось у греков в зачаточном состоянии, пока
они не переняли его, припав к первоисточнику, у покоренных ими персов. Кле-
арха из киликийского города Соли, который жил во времена Александра и
был, как и он, учеником Аристотеля, можно назвать, полагаю, первым
автором любовных произведений. Впрочем, не могу быть твердо уверен, что в этой
книге не были собраны любовные приключения, почерпнутые в истории или
в народных преданиях, похожие на те, которые позднее создавал при
Августе Парфений и которые дошли до наших дней. Это подозрение зародилось у
меня из-за небольшого, заимствованного Афинеем101, рассказа о знаках
внимания и страсти, проявляемой царем Лидии Гигесом102 к любимой куртизанке. Те-
офраст103, который также был учеником Аристотеля, и сам Аристотель
создали, как и Клеарх, «Эротики». Однако, как легко судить по другим
произведениям этих великих мужей, они трактовали любовь скорее как философы, чем
как мифологи или историки. Хотя, как кое-кто полагает, «Беседы о любви»
Аристона104, о которых говорит Диоген Лаэртский, — это ровно то же самое,
что и принадлежащие одноименному автору «Подобия в любви», на которые
ссылается Афиней, название последнего произведения дает повод утверждать,
что оно представляет собой нечто похожее на компиляцию Парфения. Не
знаю, к какому жанру необходимо отнести любовные выдумки Филиппа Ам-
фиполийского105, Геродиана106 и Амелия Сирийского107. Их произведения
известны мне только по названиям, приведеннным у одного древнего лекаря,
советовавшего их читать, чтобы излечиться от некоторых болезней. В целом
античные «Эротики», довольно часто упоминающиеся в произведениях более
поздних авторов, были философскими или мифологическими книгами,
имевшими очень мало общего с историческими повествованиями и еще меньше с
романами.
Антоний Диоген108, который, по предположению Фотия, жил немного
позднее Александра, написал настоящий любовный роман о Динии и Деркиллиде,
подражая Гомеру и авантюрным приключениям Одиссея. Этот роман, хотя во
многом и далекий от совершенства, полный несусветного вздора и
неправдоподобных событий, едва ли простительных даже для поэмы, может тем не менее
388
Дополнения
считаться соответствующим правилам жанра. Один из отрывков романа Фотий
включил в свою «Библиотеку» и утверждал, что считает его источником всех
произведений подобного жанра, созданных Лукианом, Лукием, Ямвлихом,
Ахиллом Татием и диадохом Дамаскием. Тем не менее он добавляет там же,
что сам Антоний Диоген упоминал о некоем своем предшественнике по
имени Антифан109, который писал невероятные истории, похожие на собственные
произведения Диогена. Таким образом, Антифан также мог предоставить идеи
и материал названным романистам, как и сам Антоний Диоген. Полагаю, речь
идет о комическом поэте Антифане, который, по сообщению географа
Стефана Византийского110 и других, написал книгу о необычайных и даже забавных
ситуациях. Этот автор происходил из фракийского города Берге, а его вранье дало
повод грекам утверждать, что, когда человек говорит неправду, он «бергает» —
выражение даже вошло в пословицу. Однако, где родился Антоний Диоген, мы
не знаем.
Я не в состоянии точно указать, в какие годы жил Аристид Милетский, о
котором уже рассказывал. Достоверно известно только, что было это до войн
Мария111 и Суллы112, поскольку их современник, римский историк Сисенна113,
перевел на латинский язык его «Милетские повести» — «Милесиаку». Это
произведение, полное скабрезностей, тем не менее доставляло римлянам истинное
наслаждение. Сурена114, военачальник Парфянского царства, разгромивший
римскую армию под командованием Красса, нашел эту книгу в поклаже Рус-
тия115, что дало ему повод, выступая в сенате Селевкии116, заклеймить позором
развращенность римлян, которые даже во время войны не могли обходиться
без подобных развлечений.
Лукий из Патр, Лукиан из Самосаты и Ямвлих были почти современниками
и жили в эпоху правления Антонина117 и Марка Аврелия. Первый из
перечисленных авторов написал только один сборник — «Метаморфозы», повествующий о
магических превращениях людей, причем сам повествователь искренне верит
в то, о чем пишет. Однако более остроумный Лукиан шутки ради включил
отрывок из Лукия в свою книгу под названием «Осел, или Лукий», показав, что
именно тот был автором такого уподобления. Это сочинение представляет
собой краткое изложение двух первых книг «Метаморфоз» Лукия, которые
напоминают по форме настоящие «милетские сказки». Вставленный отрывок
свидетельствует о правоте Фотия, который жаловался на его непристойный
характер. Умный и хорошо выдрессированный осел, чью историю поведали нам
авторы, имеет некоторое отношение к другому столь же достойному ослу, о
котором в ином месте говорит тот же Фотий вслед за диадохом Дамаскием и
который некогда принадлежал грамматику по имени Аммоний118. Это животное,
наделенное тонким умом и вкусом к красивым вещам, перестало есть и пить, для
того чтобы слушать стихи и наслаждаться красотами поэзии. Вне всякого
сомнения, «Бранкалеоне»119 — подражание «Ослу» Лукия или Апулея. Сия
остроумная и весьма занимательная повесть написана в Италии. И, по-видимому,
отталкиваясь именно от этой модели, Мигель де Сервантес придумал похождения,
включенные в «Беседу Сципиона и Бергансы, собак из госпиталя Вальядоли-
да»120. Лукиан же, помимо «Лукия», написал еще восхитительную притчу «Суж-
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 389
дение о гласных», заимствовав сюжет у некоего иудея, жившего до него. Он
также сочинил две книги гротескных и нелепых историй, которые выдавал за
подлинные, хотя вначале заявил, что они никогда не происходили, да и не
могли произойти. Некоторые, увидев, что эти книги приложены к той, в которой
он давал рекомендации, как следует писать историю, прониклись убеждением,
будто бы автор хотел преподать пример того, чему учил. Однако во
вступлении Лукиан заявил, что у него не было других намерений, кроме как
посмеяться над поэтами, историками и даже философами, которые безнаказанно
выдавали сказки за истину и описывали мнимые обычаи чужеземцев, как, например,
это делали Ктесий и Ямбул. Если правда, как уверяет Фотий, что источником
двух книг Лукиана послужил роман Антония Диогена, это следует понимать
так: первоначальным материалом для сочинений Лукиана стали
фантастические истории Ктесия и Ямбула; желая убедительнее показать нахальство и
тщеславие этих авторов, он написал нечто в их духе, взяв за образец роман
Антония Диогена121.
В это же самое время Ямвлих создал «Вавилонскую повесть». Именно так
называется роман, в котором он прошел значительно дальше своих
предшественников, поскольку, если судить по отрывку, дошедшему до нас благодаря Фо-
тию, замысел автора состоял в том, чтобы провести одну сюжетную линию,
расцветив ее подходящими стилистическими украшениями и сопроводив
событиями и коллизиями, которые напрашиваются по ходу действия сами собой. В
романе достаточно правдиво показана действительность, а весьма разнообразные
приключения не оставляют впечатления хаотического нагромождения.
Однако, несмотря на стройность замысла, автору не хватило мастерства, чтобы
искусно его воплотить: он банально следовал хронологическому порядку, а не
бросил читателей сразу в гущу событий, как это делал Гомер. Время
пощадило этот роман. Сейчас он хранится в библиотеке Флоренции. Еще совсем
недавно один экземпляр находился в Эскориале, однако потом исчез оттуда. Я
где-то читал, что Юнгерманн122, работавший над пасторалями Лонга, также
располагал экземпляром этого романа. Господин Гольмен, упоминающий роман
в своих трудах, обещал издать его полностью, а некоторое время назад
небольшой отрывок увидел свет благодаря Аллацию123. Впрочем, не надо путать
писателя Ямвлиха с биографом Пифагора и автором многих сочинений
философом Ямвлихом, учеником Порфирия, жизнь которого описал Евнапий124.
Философ жил при императоре Юлиане, а романист — при Антонине.
По искусству создания композиции, как и во всем остальном, Ямвлиха
превзошел Гелиодор. До тех пор не было более продуманного и более
законченного произведения в жанре романа, чем книга о приключениях Феагена и Ха-
риклеи. Нет ничего целомудреннее их любви. Похоже, что, помимо
христианской религии, которую исповедовал автор125, врожденная добродетель внушила
ему внешнюю благопристойность, пронизывающую все произведение. Вот
почему не только Ямвлих, но и почти все античные авторы, романы которых
дошли до нас, не идут в этом отношении ни в какое сравнение с Гелиодором.
Говорят, за заслуги ему пожаловали сан епископа. Он был епископом Трик-
ки, города, расположенного в Фессалии. Сократ126 сообщает, что он ввел в этой
390
Дополнения
провинции обычаи низлагать священнослужителей, не отрекавшихся от жен,
с которыми они вступили в брак до принятия сана. Всё это заставляет меня
сомневаться в словах Никифора127, легковерного, неглубокого и ненадежного
историка, утверждавшего, что провинциальный синод, видя, какую опасность
представляет для молодых людей чтение этого произведения, освященного
саном автора, предложил ему выбрать одно из двух возможных решений: либо
дать согласие на сожжение романа, либо отказаться от епископства. Гелиодор
якобы выбрал последнее. Возвращаясь к книге, отметим, что она отличается
богатством и разнообразием идей. Событий в ней много, они необычны,
правдоподобны, хорошо сочетаются друг с другом, имеют логический исход. У
романа восхитительная естественная развязка, порожденная самим сюжетом.
Невозможно представить себе ничего более трогательного и более патетичного.
Страх от того, что Феагена и Хариклею, красота и достоинства которых
никого не оставляли равнодушными, должны принести в жертву, сменяется
ликованием, поскольку девушка избежала нависшей опасности благодаря
признанию своими родителями. Пришел конец ее продолжительным мытарствам,
и она вступила в счастливый брак со своим возлюбленным, которому принесла
в приданое корону Эфиопии. Гварини128, а затем и господин д'Юрфе129
сумели воспроизвести это прекрасное место, когда описали признание Миртила и
Сильвандра130. Хотелось бы, чтобы Гелиодор, который сочинил отличную
развязку, не прибегая к помощи бога из машины131, обходился без него и на
протяжении всего произведения, однако несколько раз он без особой надобности
идет на это. Фотий хвалит его изящный стиль, по мне слишком нарочитый,
слишком образный и слишком поэтичный. Автор любит описания, играет ими
и не может с ними расстаться. Мне представляется, что он подражал в этом
Филострату132. Этим модным поветрием увлекались все блестящие умы
эпохи, которая длилась от Антонинов, то есть с момента упадка хорошего вкуса
до крушения Римской империи. Гелиодор, каков он есть, служил образцом для
всех последующих создателей романов. И действительно, можно сказать, что
они черпали из его источника, подобно тому, как о поэтах говорят, что все они
черпали из источника Гомера. Один ученый муж в наши дни выразил
сомнение, что эта книга принадлежит перу Гелиодора, епископа Трикки. Однако
представляется, что мы вправе доверять свидетельствам Сократа и Фотия,
которые доносили эту точку зрения как общепризнанную и не опровергали ее.
Они дали понять, что и сами ее придерживаются. Тем же, кто уверял, будто
это тот самый Гелиодор, которому святой Иероним писал послания133,
включенные в сборники его произведений, трудно это доказать, поскольку
совпадение имен, времени и епископского сана не могут служить убедительными
аргументами. Однако те, кто захотел бы это утверждение опровергнуть,
испытали бы еще большие затруднения. Есть и такие, которые считали, будто он
жил в конце II века, путая его с Гелиодором Арабским134. Известно, однако,
что он был современником Феодосия Великого и его сыновей Аркадия и Го-
нория135. Кроме того, мы видим, что Фотий, перечисляя романистов, которые,
по его мнению, подражали Антонию Диогену, поставил Гелиодора после Ям-
влиха и перед диадохом Дамаскием, жившим во времена императора Юсти-
Письмо трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 391
ниана. Поэтому Ахилл Татий, написавший «правильный» любовный роман
«Левкиппа и Клитофонт», должен был бы творить раньше, поскольку Фотий
называет его перед Гелиодором. Однако это недостаточно веское основание
для того, чтобы строить догадки о годах его жизни. Ведь и сам Фотий
недвусмысленно признался, что Татий подражал Гелиодору и, следовательно, жил
позже, что, похоже, подтверждается и различиями в стилях. Но, несмотря на
то, что он открыто ему подражал и лучшие эпизоды сочинения Татия
заимствованы у Гелиодора, все же его произведение не может сравниться с
романом Гелиодора ни в описании высоконравственных героев, ни в разнообразии
и правдоподобности событий, ни в искусстве развязки. Кроме того, кое-что
Татий взял у Лукиана и еще больше у Филострата. Такому
малоизобретательному автору можно было бы простить лукавое и завуалированное
подражательство, а также мелкий плагиат, если бы он сумел скрыть его. Однако на то ему
не хватило ни мастерства, ни выдумки. На мой вкус, его стиль порою
лаконичнее, прозрачнее, а также проще и естественнее стиля Гелиодора, к тому же он
отмечен большей новизной. Но иногда стиль этот лишается перечисленных
качеств, приобретает нарочитый характер и строится на замшелых
противопоставлениях из школьных учебников. Все речи, произнесенные на процессе Фер-
сандра, и включенные в седьмую и восьмую книги скучные выступления
защиты проникнуты напыщенной риторикой. Однако, желая продемонстрировать
красноречие, Татий выставил себя скверным, холодным, беспомощным,
неубедительным оратором, начисто лишенным какого-либо очарования. Страсть к
позерству обусловила появление длинных, не вписьюающихся в сюжет
сентенций, вставленных там и сям. Они коренным образом отличаются от тех
здравых рассуждений, которыми уснащали свои повествования добросовестные
историки. Автор не заметил, что у тех речи настолько изящно вплетены в сюжет,
что составляют практически существенную часть рассказа, и тем более даже
не догадывался, что речи украшают историю только тогда, когда к ним
прибегают вовсе не с назидательными целями — иначе они превращаются в
доктринерские проповеди, вызывающие у читателей отвращение. Вставные
эпизоды, которые следовало ладно подогнать к сюжету, чтобы создавалось
целостное впечатление, шиты белыми нитками и выглядят как заплатки, а не как
украшения. Но нет у Татия ничего более порочного, чем частые, бесполезные,
не соответствующие поставленным целям описания. Именно в них автор
развернулся во всю ширь, презрев правила и меру. Описания — его излюбленный
прием, прием, свойственный посредственным умам, которые, найдя в том, что
они собираются описывать, уже готовый материал, просто вставляют в него
собственные слова и, самое большее, несколько мыслей, часто плоских и
худосочных, почти всегда заимствованных среди риторических банальностей.
Впрочем, заблуждаясь на собственный счет, подобные авторы полагают, что
красотой и плодовитостью они обязаны своему уму, между тем на деле они
обязаны красоте природы, которая подготовила и подарила им сюжет. Тассо136
и вслед за ним господин д'Юрфе тем не менее отыскали жемчужное зерно в
этой навозной куче и украсили им свои пасторали, в коих повествуется,
среди прочего, об укусе пчелы и ложном заклятии, призванном его излечить. Го-
392
Дополнения
ворят, будто в конце концов Ахилл Татий сделался христианином и даже
епископом. Я удивляюсь, как можно было столь легко забыть о непристойном
характере его книги. Он не наделил своего героя ни порядочностью,
предписываемой моралью, ни верностью своей любовнице, обязательной по законам
галантной любви. Он сделал его даже немного грубым по образу и подобию
героев почтенной античности. Однако еще больше удивления у меня вызывает
тот факт, что император Лев по прозвищу Философ137 расхвалил скромность
этого произведения в эпиграмме, которая дошла до наших дней и позволила
и даже посоветовала тем, кто проповедует целомудрие, прочитать это
произведение от корки до корки.
Возьму на себя смелость упомянуть здесь об Афинагоре138, именем
которого подписан роман под названием «О подлинной и совершенной любви». Эта
книга издавалась только на французском языке в переводе Фюме139, который
в предисловии сообщил, что держал в руках греческий оригинал господина де
Ламане, протонотария кардинала д'Арманьяка140, а других экземпляров
никогда не видел. Осмелюсь добавить, что их никто никогда не видел, поскольку
название произведения, как мне известно, никогда не приводилось в
библиотечных списках, и если даже предположить, что такие экземпляры все-таки
существуют, то они наверняка спрятаны под толстым слоем пыли в кабинете
какого-нибудь невежды, который владеет оригиналом, даже не догадываясь об
этом, или какого-нибудь зловредного библиофила, который мог бы
представить его широкой публике, но не собирается этого делать. Затем переводчик,
якобы когда-то имевший в своем распоряжении оригинал, заявляет, на
основании схожести стилей, что считает автором этого произведения
знаменитого Афинагора, написавшего апологию христианской религии в форме
послания императорам Марку Аврелию141 и Коммоду142, а также «Трактат о
воскресении». Более того, он полагает, что переведенное им сочинение подлинно
историческое, ибо мало сведущ в искусстве романов. Что касается меня, то я,
не будучи в том твердо уверен, поскольку никогда не видел греческого
оригинала, все ж хочу сказать, что сам перевод свидетельствует, что Фюме
приписывает произведение Афинагору, автору «Апологии», имея на то определенные
основания. Приведу следующие доводы: апологет был христианином; автор
данного произведения говорит о божестве так, как это свойственно
исключительно христианину, например тогда, когда вкладывает в уста жрецов Амона
слова о существовании одного-единственного Бога, для которого каждый народ,
стремящийся донести до простых людей саму Его суть, придумал
разнообразные обличья, выражающие одну и ту же сущность; что, поскольку о значении
этих обличий со временем забыли, простые люди поверили, будто есть столько
богов, сколько обличий они видят; что именно в этом кроется истинная
причина идолопоклонства; что Вакх, построивший храм Амона, поместил туда
изображение лишь этого верховного и единственного Бога, поскольку, подобно
тому как существует только одно небо, простирающееся над одним миром,
этот мир знает только одного Бога, который познается через дух. Подобные
мысли автор приписывает и некоторым египетским купцам, а именно: что боги
из легенд олицетворяют различными деяниями верховное и единственное бо-
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 393
жество, которое не имеет ни начала, ни конца, непонятное и таинственное,
поскольку его невозможно увидеть и постичь. Более того, рассуждения жрецов
и купцов о божественной сущности напоминают в определенной степени
рассуждения Афинагора, высказанные в послании императорам. Апологет был
священником из Афин, а этот автор — философом из Афин. И тот, и другой,
как представляется, были здравомыслящими, образованными и учеными
мужами, основательно знакомыми с античной традицией. Однако, с другой
стороны, один фрагмент предисловия к роману доказывает, что апологет не
может иметь ни малейшего отношения к данному произведению. Автор горько
сокрушается, что Афинам, его родному городу, была нанесена кровавая рана,
а вся Греция подверглась опустошению и разорению. Здесь речь может идти
только о нашествии скифов при императоре Галлиене143 или о вторжении Ала-
риха144, короля вестготов, во времена Аркадия и Генория, поскольку Афины не
подвергались грабежам с момента правления Суллы, то есть на протяжении 350
лет до набега скифов и приблизительно 700 лет после нападения вестготов. Как
мне представляется, есть больше оснований отнести слова автора к завоеванию
Афин Аларихом, поскольку скифы были быстро изгнаны из города, не успев
причинить ему вреда, который мог бы вызвать подобные сетования, тогда как
вестготы обошлись с Афинами очень жестоко и оставили там прискорбные
свидетельства своего варварства. Синезий145, живший именно в те времена, говорит
о разрушениях в тех же выражениях, что и наш автор, и, как и тот,
оплакивает уничтожение варварами образованности в месте ее рождения и столице ее
империи. Святой Иероним146, современник Синезия, сетует на то, что
культура Греции погибла из-за неистового натиска диких племен Севера. Стало быть,
нет никаких сомнений в том, что эта эпоха — та же самая, что обозначена в
предисловии нашего романа, а следовательно^ та, когда, как дали понять
читателям, жил Афинагор-романист. От эпохи апологета эту эпоху отделяет
приблизительно 250 лет. Однако я слишком увлекся, устанавливая, в какое
время жил романист, не будучи при этом уверен, что он на самом деле жил и что
это произведение, подписанное его именем, не было подложным. По правде
говоря, его глубокие познания в античных науках о природе и искусстве,
обширные знания о прошедших столетиях, старинные заблуждения, которые
разделяет автор и которые не повторил бы современный человек, например,
уверенность в том, что Борисфен и Ра сообщаются между собой147, греческие
выражения, которые видны даже в переводе, и, сверх всего, некий налет
античности, который трудно подделать и которым наполнено всё произведение,
казалось бы, должны избавить нас от любого подозрения в подделке. Тем не
менее можно ли поверить, что Фотий, весьма скрупулезно рассказавший о
сочинителях романов, живших до него, забыл упомянуть об этом авторе? Что во
всех других дошедших до нас книгах нет ни единого намека на это
произведение и его автора? Что в библиотеках не сохранилось ни одного экземпляра?
Что тот, которым пользовался переводчик, так и не был опубликован? Если
среди стольких причин для сомнений Вы заставите меня сделать выбор, я
честно признаюсь, что уважение к данному произведению однажды перевесило
все доводы и, поскольку мы легко верим в то, во что хотим верить, я посчи-
394
Дополнения
тал его подлинным и древним, поскольку мне хотелось, чтобы это было так.
Мне казалось, что я нашел ответы на возражения, выдвинутые самому себе.
Пусть, твердил я, Фотий ни словом не обмолвился об этом писателе, но ведь
известно, что в своей «Библиотеке» он рассказал не обо всех авторах, живших
до него, а только о тех, чьи произведения прочитал, будучи с посольством в
Ассирии. Если имя Афинагора-романиста не упоминается у более поздних
писателей, если они ничего не говорят о его романе, то какой вывод
напрашивается из отрицательного аргумента? И если в наши дни обнаружился только
один-единственный экземпляр романа, который, возможно, с тех пор уже был
утрачен, то сколько других великолепных сочинений постигла такая же
участь? Вот так я старался ввести в заблуждение самого себя. Однако в
конце концов следует вернуться к действительности и чистосердечно признаться,
что во второй раз я прочитал произведение внимательнее, чем в первый, и
пришел к твердому выводу, что это фальшивка и подлог. Я обнаружил
многочисленные описания современных нравов и манер, не известных древним и
свидетельствующих своей новизной о ловком мошенничестве. Жилища, образ
жизни и поведение жрецов и жриц Амона, столь похожие на монастыри и
поведение наших монахов и монахинь, не соответствуют тому, чему нас учит
история о временах, когда монастырская жизнь только зарождалась и
совершенствовалась. То обстоятельство, что автор слишком подробно объясняет
некоторые древние обычаи, отличающиеся от нынешних, может свидетельствовать
лишь о том, что роман писал наш современник. В противном случае, кому
вздумалось бы описывать бытовые детали, известные всем и каждому?
Безусловно, с эпохи Павла Эмилия148, в которую происходит действие романа Псев-
до-Афинагора, до времени Аркадия и Гонория, в которое жил сам романист,
древние нравы претерпели изменения, но все-таки не настолько, чтобы
возникла необходимость давать подробные пояснения. Наш автор сделал несколько
любопытных разъяснительных замечаний по поводу дошедших до нас
древних авторов, в частности относительно Геродота, Плутарха, Квинта Курция149,
Ямвлиха-философа и Гелиодора, из оригинальных произведений которых
почерпнул материал для своего романа. Однако он вставил и несколько других
замечаний, которые противоречат первым и которые никогда не мог бы
сделать человек, живший во времена античности и прекрасно знавший ее.
Например, он допускает оплошность, когда утверждает, что теология эфиопов
совпадала с теологией греков; когда приписывает язычникам обряды и обороты
речи, свойственные христианам; когда путает нравы римлян, греков,
африканцев и других народов; когда заявляет, вопреки свидетельствам нашего
времени, не противоречащим свидетельствам прошлых веков, что никаких
брахманов не существует; когда говорит, что в Африке нет изумрудов, а завозятся они
туда из страны Саба150, или, вернее, из страны сабеев, народа Счастливой
Аравии151, противореча тем самым Плинию, который сообщал, что изумруды
находили в Эфиопии в трех днях пути от Копта152 и в самом Копте, городе
Верхнего Египта, расположенном на берегах Нила, Птолемею, который указал на
своей третьей карте Африки гору Смарагд153, получившую название благодаря
изумрудам или скорее давшую им название, и Гелиодору, который многократ-
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 395
но повторяет, что Гидасп154 воевал с Ороондатом, сатрапом Персии, за
месторождения изумрудов на границе Египта и Эфиопии; ошибается он и тогда,
когда заставляет Мелангению утверждать, что римляне украсили Мемфис,
подразумевая тем самым, что римляне владели этим городом в то время,
когда жила Мелангения. В самом сердце Греции он устраивает судебный процесс
в той форме, в какой он проходил бы в парижском суде. Он утверждает, что
скифы казнили преступников, сажая их на кол, поскольку в наши дни этот вид
казни распространен у турок, выходцев из Скифии. Впрочем, из Сенеки,
Прокопия155 и Гесихия156 можно понять, что это очень древний вид казни. Имя
Бригитсрия, которое он дал скифской рабыне, образовано, вне всякого
сомнения, или от имени святой Бригиды, шотландской девы157, которая жила
приблизительно на сто лет позже так называемого Афинагора, или, скорее, от
имени святой Бригитты158, жившей в эти последние столетия и являвшейся
уроженкой Швеции, страны, расположенной по соседству со Скифией. По
моему убеждению, это замечание рассеивает флер античности, которым окутал
себя автор подделки. В этом мошенничестве я отнюдь не обвиняю переводчика
Фюме. Данное произведение вышло из-под пера более изощренного ловкача,
хотя Фюме и не откажешь в образованности. Я бы охотнее заподозрил, что
ученые мужи, находившиеся в окружении кардинала д'Арманьяка, заманили
бедного Фюме в хитроумную ловушку и воспользовались, чтобы ввести его в
заблуждение, именем протонотария Ламане, человека, не известного среди
литераторов, которого нельзя было заподозрить в столь искусном обмане. Как
бы там ни было, это вполне стройное и толковое произведение. Оно
поучительно, наполнено прекрасными нравственными заповедями и богато украшено
вереницей приятных, умело использованных образов. Все события
правдоподобны, приключения увязаны с сюжетной линией, характеры выписаны
отчетливо, повсюду соблюдена благопристойность; никакой низости, ничего
вымученного или напоминающего беспомощный стиль софистов. Сюжет
развивается с участием двух пар героев, что в значительной мере придавало красоту
и прелесть древней комедии, так как кроме приключений Феогена и Хариды
Псевдо-Афинагор рассказывает нам и историю Ферекида и Мелангении. Джи-
ральди заблуждается, считая многоплановость действия изобретением
итальянцев: у них она появилась позже, чем у греков и наших древних французов.
В соответствии с правилами героической поэмы многоплановость действия
греки подчиняли основной сюжетной линии, как мы это наблюдаем у нашего
мнимого Афинагора, превзошедшего в данном отношении Гелиодора и Ахилла Та-
тия, которые не гнушались вводить параллельное повествование по двум
линиям, но не слишком удачно распутывали интригу. Наши древние французы
также прибегали к многоплановости, но делали это беспорядочно, бессвязно
и неизящно. Им-то и стали подражать итальянцы, у них они заимствовали
романическое искусство вместе с его недостатками. И здесь Джиральди
допустил новую, еще более серьезную ошибку, приняв недостатки за достоинства
и возвеличив их. Он сам признает, что роман обязан походить на идеально
сложенное тело, состоящее из различных пропорционально расположенных
частей при одной голове. А если это так, то главное действие романа, как бы его
396
Дополнения
голова, должно быть единственным и выделяться на фоне других действий, а
вспомогательные эпизоды романа, как бы его конечности, должны
соотноситься с головой, уступать ей в красоте и величии, украшать ее, служить ей,
следовать за ней, оставаясь у нее в подчинении; в противном случае тело окажется
многоголовым и чудовищно бесформенным. Пример Овидия, на которого
ссылается Джиральди в подкрепление своего мнения, как и пример других поэтов-
кикликов, на которых он также мог бы сослаться, его не оправдывает, ибо
метаморфозы в древних мифах, которые Овидий поставил себе задачу
объединить в одной поэме, и метаморфозы в киклических поэмах159, являясь очень
схожими и почти одинаково прекрасными, но разрозненными сюжетами, не
в состоянии создать совершенное тело, как нельзя возвести идеальное здание
из одного песка. Джиральди придает огромное значение одобрению, которое
получили эти ущербные романы итальянцев, но это еще менее оправдывает
его. Судить о книге надо не по числу ее почитателей, а по тому, насколько они
разбираются в литературе. Каждый присваивает себе право судить о поэзии и
о романах. Все закоулки большого зала Дворца и все салоны превратились в
судебные инстанции, готовые выносить безапелляционные решения о
достоинствах великих произведений. Они смело оценивают эпическую поэму по
отдельным метафорам или эпитетам, а немного грубоватый стих, пусть и
соответствующий требованиям сюжета и места действия, способен в их глазах
перечеркнуть все прочие достоинства сочинения. Трогательное чувство, оставленное в
душе романом, может создать ему имя, а какая-нибудь натянутость слога или
вышедшее из употребления слово — обесславить его. Но те, кто пишет
романы, не обращают внимание на эти вердикты. Они знают, что рассудительность
и вкус к такого рода произведениям, как писал Лонгин160 о трудах по
риторике, приобретаются, в конце концов, лишь в результате продолжительной
практики. Они помнят высказывание Цицерона о том, что признание поэм зависит
от мнения узкого круга лиц161, а также утверждение Горация, что не всем дан
талант замечать недостатки поэтических произведений162. И, уподобившись той
актрисе, о которой Гораций говорит, что она, будучи изгнана народом из театра,
нашла признание у знатного сословия всадников, они удовлетворяются
одобрением самых тонких знатоков, придерживающихся собственных правил
оценки. А эти правила известны столь ограниченному числу людей, что хорошие
судьи встречаются, может быть, еще реже, чем хорошие романисты или хорошие
поэты, и что среди кучки тех, кто разбирается в стихах, едва отыщется один,
разбирающийся в поэзии или хотя бы понимающий, что стихи и поэзия суть
вещи совершенно разные. Эти судьи, чье мнение и есть безошибочное мерило
ценности поэм и романов, согласятся с Джиральди, что в итальянских романах
есть много прекрасного и что они заслуживают немало других похвал, но
только не за четкое следование правилам жанра, не за упорядоченность изложения
и не за оправданность замысла.
Возвращаюсь к роману Афинагора, завязка которого несравненна: это
описание великолепного триумфа Павла Эмилия. Среди необычных и
незабываемых вещей, которые подчеркивают красоту этого зрелища, мы видим
закованного в цепи великого царя163, бредущего со своими детьми перед колесницей
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 397
победителя, а также Хариду, охваченную любовью и страдающую оттого, что
римляне захватили ее в плен и разлучили с возлюбленным. Она удивилась и
обрадовалась, когда вновь увидела его, однако сердце ее заныло от боли, ведь
он был среди пленников. Однако развязку, хотя и без бога из машины, и
рядом невозможно поставить с этим изумительным вступлением. Ее нельзя
назвать достаточно интригующей: она наступает прежде, чем любопытство и
нетерпение читателя достигнут своего апогея, и совершенно лишена
последовательности. Все предшествующие ей приключения, хотя и изобретательно
придуманные, не увязаны как следует не только между собой, но и с главным
действием. Они, конечно, до известной степени потрясают ум, но это
происходит как бы урывками, а потому воображения они не распаляют; развязка же,
которая должна была бы снять возбуждение, ловко спровоцированное и
подогреваемое искусным хитросплетением новых приключений, талантливо
расставленных по книге, оставляет разум холодным и расслабленным,
бесстрастным и равнодушным. Сам автор к концу произведения настолько устал от
первоначальной упорядоченности, что во многих местах принялся нарушать закон
единства действия, к которому вся десятая книга не имеет ни малейшего
отношения. Он совершил ошибку, похожую на ту, что допустил один нынешний
поэт, который, не зная правил эпопеи, считал, что замысел «Энеиды»
несовершенен, и сочинил продолжение, чтобы включить в нее повествование о свадьбе
и смерти Энея. Впрочем, я не могу одобрительно относиться к тому, что Фе-
оген изменил слову, данному царю скифов, над которым он откровенно
насмехается. Это недостойно не только героя, но и просто порядочного человека. Ха-
рида также недостойна звания героини, особенно когда пишет Октавии
письмо, полное притворства и двуличия. Представляется даже, что она умалчивает
в нем о своем бракосочетании именно потому, что чувствует угрызения
совести из-за нарушения некоторых правил приличия. Более того, я замечаю, что
комментарии и само повествование автора, а также поступки персонажей,
выведенных в этой истории, проникнуты мещанским духом, совершенно не
свойственным занимаемому ими положению и той эпохе. Однако самый большой
недостаток заключается в докучливом выставлении напоказ автором своих
знаний в области архитектуры. То, что он написал о ней, было бы
восхитительным в другом месте, но в романе это выглядит нарочитым и неуместным.
Полагаю, причина его ошибки кроется в том, что в некоторых романах он видел
прекрасные и стройные описания дворцов и храмов. Но одно дело, будучи
романистом, использовать описания в соответствии с сюжетом, не теряя при этом
из виду главное действие, так, как Монтемайор164 описал дворец Фелиции, и
совсем другое — забыв о замысле, уподобляться архитектору, глубоко
вникающему во всякие мелочи и уделяющему пристальное внимание деталям строений,
как это сделал наш мнимый Афинагор. Это куда более страшный порок,
нежели допустить некоторые ошибки в искусствах, коими поэт или романист не
владеет. Поэт может безнаказанно нарушать хронологию и перевирать
историю, лишь бы ошибки его не были чересчур грубыми, а придираться к
Вергилию за анахронизмы — значит не понимать его. И напротив, это выглядело бы
смехотворным позерством и настоящим педантством, если бы поэт уснащал
398
Дополнения
свои стихи охотничьими, морскими и прочими терминами, не
употребляемыми широкой публикой, поскольку поэт обязан следовать распространенным
представлениям, пользоваться обычными словами и говорить об искусствах
ровно столько, сколько требуется для понимания или для украшения его
повествования, и не выходить за пределы того, о чем известно всем. Эти
обстоятельства также вынуждают меня заподозрить в романе подделку. Известно,
что кардинал д'Арманьяк страстно увлекался архитектурой. У него жил
комментатор Витрувия165 Филандер166 — самый сведущий в этом искусстве человек
того времени, великолепно разбиравшийся к тому же в искусстве изящной
словесности. Как мы можем заметить, архитектура у так называемого Афинагора
очень похожа на архитектуру Витрувия. И поэтому разве нельзя допустить,
что Филандер, желая подтвердить свое мнение каким-нибудь древним
источником, отважился на подобное мошенничество? Грубый обман мог бы быть
вскоре разоблачен, если бы он или кардинал, его покровитель, заявили о том,
что обнаружили трактат по архитектуре. Однако, чтобы отвести от себя
подозрения и сбить с толку читателей, он написал галантный роман, где
рассказывает о своих теориях лишь от случая к случаю. К тому же он воспользовался
услугами протонотария Ламане, который объявил о романе, и услугами Фюме,
который перевел его. Имя же самого Филандера нигде не было упомянуто. Я
уже называл основных авторов, откуда он заимствовал материал. Главным
образом он обращался к произведению Гелиодора как к лучшему роману,
который сумел отыскать. Имена и характеры Феогена и Хариды похожи на
имена и характеры Феагена и Хариклеи. Феоген и Харида встретились и
полюбили друг друга на празднике, посвященном Минерве, как Феаген и Хариклея —
на празднике Аполлона, и как Леандр и Геро и как Селадон и Астрея — на
празднике Венеры, и как Сельвагий и Исмения в «Диане» Монтемайора также
воспылали любовью на празднике Минервы. Афинагор делает правителем
Нижнего Египта Харондата, а Гелиодор делает правителем Египта Ороондата.
Харида притворяется сестрой Феогена, а Хариклея утверждает, будто она сестра
Феагена. Скифы у Афинагора используют небычайный, сверхъестественный
метод, чтобы узнать, хранят ли девственность молодые девушки. Они
подвергли этому испытанию Хариду, а у Гелиодора сходному испытанию эфиопы
подвергали Хариклею. Этот эпизод заимствовал Ахилл Татий, равно как и
большинство других древних и новых романистов, и даже господин д'Юрфе,
причем неоднократно. Подсказали эту идею Гелиодору, несомненно, горькие
настойки, которые иудеи давали по приказу Бога женщинам, заподозренным в
измене мужьям. Афинагор счел необходимым рассказать об изумрудах
Скифии, как Гелиодор — об изумрудах Эфиопии. Афинагор пишет, что скифы
собирались принести в жертву Феогена, а Гелиодор — что эфиопы собирались
принести в жертву Феагена. Наконец, Афинагор разделил, как и Гелиодор, свое
произведение на десять книг. Тот, кто подсунул нам этого автора, не
довольствовался тем, что сделал его похожим на Гелиодора. Он, ко всему прочему,
как я уже отмечал, сделал их современниками. И неспроста — изучение
романов тогда достигло своего апогея. Святой Иероним, живший в ту пору, даже
жаловался, что ради романов все забросили изучение серьезных и полезных наук.
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 399
Я не причисляю к романам книги под названием «Парадоксы»,
принадлежащие перу диадоха Дамаския, языческого философа, который жил в эпоху
правления Юстиниана, поскольку, когда Фотий утверждает, что тот подражал
Антонию Диогену, служившему примером для большинства греческих
романистов, это следует понимать в том смысле, что Дамаский, подобно Диогену,
создавал невероятные, фантастические истории, а вовсе не романтические или
имеющие форму романа произведения. В этих историях появлялись
привидения и домовые, а сверхъестественное или представлялось как нечто само собой
разумеющееся, или оказывалось неискусно придумано, что было достойно
нечестивого духа автора-идолопоклонника.
Через двести лет после диадоха Дамаския святой Иоанн Дамаскин придумал
историю Варлаама и Иосафата. Многие древние рукописи приписывают ее
Иоанну Синайскому167, жившему во времена императора Феодосия. Однако Бил-
лий168 доказал, что подобное мнение безосновательно, поскольку включенные в
это произведение споры с иконоборцами в ту пору еще не велись. Через много
лет начало таким спорам положил император Лев Исаврянин169, современник
святого Иоанна Дамаскина. Это роман, но роман духовный. В нем говорится о
любви, но о любви к Богу. Там проливается много крови, но это кровь
мучеников. Написанное как историческое повествование, игнорирующее правила
романа, сие произведение — несмотря на то, что отраженные в нем события
довольно правдоподобны, — полно вымысла. Достаточно хоть сколько-нибудь
вдумчиво его прочитать, чтобы с этим согласиться. Автор утверждает, что Иосафат
был сыном индийского царя, что его приключения происходили в Индии, что
о них ему рассказали некие эфиопы, люди благочестивые и добросовестные,
узнавшие об этой истории из достоверных источников. Он называет индийцев
эфиопами, путает Эфиопию с Индией, по обыкновению многих античных
авторов, и тем не менее большинству персонажей дает сирийские имена, то есть
имена, бытовавшие в его стране. Я вовсе не собираюсь утверждать, что здесь всё
вымышлено. Было бы слишком дерзко отрицать, что Варлаам и Иосафат
действительно существовали. Заступничество автора за своих героев в конце
книги, а также «Мартиролог», который причисляет их к святым, не позволяют
подвергать сомнению сам факт их существования. Возможно, вовсе не Иоанн
Дамаскин придумал эту историю. Его наивность служит вполне убедительным
доказательством того, что он сам верил в то, что хотел внушить читателям, и
действительно слышал часть того, о чем написал. Впрочем, многочисленные
аллегории, сравнения и уподобления свидетельствуют о романическом духе
народа, к которому он принадлежал. Это произведение благодаря то ли манере
изложения, то ли приятному сюжету, то ли благочестию так понравилось
христианам Египта, что они перевели его на коптский язык и до сих пор хранят в своих
библиотеках, если, конечно, речь идет о переводе, ведь, возможно, это просто
какой-то другой оригинал, повествующий о жизни двух святых. Я даже
подозреваю, что ибн Туфайль170, описывая в своем арабском романе, о котором я
рассказывал, детство, прошедшее в полном уединении, воспитание вдали от мира
и обретенные свыше знания главного героя, взял за образец жизнь Иосафата,
хотя в остальном между ними есть и принципиальные различия.
400
Дополнения
Роман Феодора Продрома171 и роман, приписываемый Евстафию172,
епископу Солунскому, который жил во время правления Мануила Комнина173, то есть
в середине ХП века, обладают примерно одинаковыми достоинствами. В
первом говорится о любви Досикла и Роданфы, а во втором — о любви Исминия и
Исмины174, имя которой Монтемайор позаимствовал для своей Исмении.
Широкую публику с этими романами познакомил господин Гольмен: он перевел
и прокомментировал их. В предисловии к книге, подписанной именем Евста-
фия, ничего о нем самом не говорится. На мой взгляд, подобное молчание
весьма красноречиво свидетельствует в пользу Гольмена. Хочу верить, что,
будучи человеком грамотным и образованным, он не повторил ошибок тех ученых,
которые почему-то убеждены, что сведущий комментатор Гомера вдруг
написал столь посредственное произведение. Действительно, в некоторых
рукописях автор назван Евмафием, а вовсе не Евсгафием. Как бы то ни было, нет
ничего более холодного, более пошлого, более скучного: ни капли
благопристойности, ни капли правдоподобия, ни капли воображения, ни капли тактичности.
На протяжении всего произведения говорит только один герой. Он
рассказывает о своих приключениях неизвестно кому и неизвестно при каких
обстоятельствах, причем именно в том порядке, в каком они происходили, пренебрегая
правилами, установленными для этого жанра искусства. Первой полюбила Исмина.
И она первой делает неловкие шаги навстречу безо всякого стыда и удержу, а
Исминий выслушивает ее, но не отвечает на призывы, не понимая даже, о чем
идет речь. Это похвально с точки зрения нравственных законов, но
противоречит правилам романа. Нам неизвестно о том, что случилось с Кратисфеном,
верным другом Исминия и спутником его благополучия. Автор поместил Кра-
тисфена на борт корабля, а затем забыл о нем. Наконец, мы должны признать,
что это произведение напоминает ученическую работу или записки
какого-нибудь жалкого софиста, который заслуживал того, чтобы всю жизнь ходить в
учениках.
Однако мы не можем отдать предпочтение и Феодору Продрому. Пусть он
несколько более искусен, но в целом дарованием отнюдь не блещет. Он
выкручивается из сюжетных затруднений только благодаря богу из машины и
вовсе не собирается соблюдать благопристойность в поступках основных
действующих лиц и логику развития их характеров. Длинное обращение Бриаксиса к
своей армии и занудные сетования Роданфы на отсутствие возлюбленного
представляют собой образцы самого холодного и самого пустозвонного витийства,
которым краснобай когда-либо изнурял слушателей, готовых упасть замертво
от подобной тягомотины. Автор намеревался превзойти Гомера в построении
сюжета. Он не довольствовался тем, что начал повествование с середины и
просто пересказал все, что этому предшествовало, устами одного из главных
героев. Только в последней части он повел повествование от имени Досикла,
который окольными путями вернулся к началу, повторив то, что уже говорил другой.
Однако, сделав стиль более изысканным, автор только усугубил искусственность
конструкции и запутал первоначальный замысел, включив рассказ в рассказ. И
Феодор, и Евсгафий не только подражали Ахиллу Татию, они скорее просто
слепо копировали его, даже не потрудясь изменить заимствованные у него имена
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 401
Панфии и Сосфена. О достоинствах этих произведений можно судить по
достоинствам оригинала. Следовали наши авторы и Гелидору и, пусть довольно
далеко отошли от него, все-таки не потеряли окончательно из виду. Порой им
служили образцом пасторали Лонга175, если, конечно, он жил раньше них, так
как время его жизни точно не известно. Как представляется, Евстафий
заимствовал у него утонченную галантность, которой проникнуто описание того, как Ис-
мина прислуживает за столом и подает Йсминию бокал, отпив из него, причем
подает именно той стороной, которой только что касались ее уста. Феодор Про-
дром, похоже, обязан Лонгу именем и должностью Бриаксиса. Трактат Лукиа-
на, озаглавленный «Лапифы», подарил Феодору имя и облик одного из
главных персонажей — шута Сатириона176, поющего и танцующего на пиру.
Однако я не стану обвинять Феодора Продрома в том, что он украл у Петрония
бутафорский нож, которым будто бы заколол себя Сатирион. Не стану обвинять
в этом и Ахилла Татия, у которого Феодор его заимствовал. Греки не
проявляли должного почтения к латыни, не стремились выучить ее, чтобы читать
написанные на этом языке произведения. Впрочем, несмотря на все указанные
мною недостатки романа Ёвстафия, он удостоился того, чтобы стать образцом
для подражания для более искусного автора: я имею в виду господина д'Юр-
фе, которого чудесный фонтан Дианы Артикомийской, несомненно, навел на
мысль о фонтане Любовной истины177.
Произведение Продрома представляет собой скорее поэму, нежели роман,
поскольку написано стихами, что может служить оправданием для слишком
образного и слишком вольного стиля. Тем не менее ямбические стихи сродни
ритмизованной прозе, и поэтому данная поэма может быть отнесена к романам.
Господин Гольмен утверждает, что Продром русский по рождению,
священнослужитель, врач и философ. С тем, что Продром философ, я согласен,
поскольку в другом произведении он этим хвастается. На чем основаны другие
утверждения, сказать трудно. Мне известно только то, что он родился в
христианской семье, воспитан в духе христианства и приходился племянником
русскому епископу. Я не в состоянии предположить, кто написал свое
произведение раньше — Евстафий или Продром, и, следовательно, не могу сказать, кто
первым сочинил, а кто скопировал похожие в них детали и эпизоды.
О «Пасторалях» Лонга я совершенно иного мнения, нежели о двух
предыдущих романах. Хотя в этом произведении и можно распознать
автора-софиста, каким он и был на самом деле, — по нарочитым сочетаниям слов, по игре
и созвучию слогов и по ненужным описаниям, взятым из набора общих мест,
тем не менее стиль «Пасторалей» более отточен, чем в большинстве древних
романов, полных метафор, антитез и блистательных фигур, которые
поражают простодушных и услаждают слух, не давая пищи уму; стиль,
приписываемый ораторам и историкам, но не годящийся ни тем, ни другим. Вместо того
чтобы пробудить интерес новизной событий, расстановкой и разнообразием
коллизий, ясным и сжатым слогом, обладающим собственным ритмом и
своеобразием, вместо того чтобы непрерывно развивать сюжет, древние
романисты, сворачивая с главного пути, пытаются завоевать благосклонность
читателя приятными пустячками и помпезными, многословными, но пустопорожни-
2а Заказ № К-6559
402
Дополнения
ми описаниями, слепо подражая Горацию. Они рассказывают о странах, до
которых читателю нет дела, злоупотребляют его вниманием и долготерпением —
и все ради того, чтобы подвести его к подготовленной ими долгожданной
развязке. Лонгу также в известной степени присущ подобный недостаток, однако,
словно чувствуя его, он сдерживается и быстро возвращается к основной идее
повествования. К тому же стиль у него простой, легкий, естественный, сжатый
и ясный, высказывания полны живости и огня. Этот автор остроумен, пишет
приятно и образно. Характеры точно выдержаны, сопутствующие эпизоды
рождаются из содержания, а страсти и чувства описаны с деликатностью,
подобающей пастушкам с их простодушием, но не всегда — правилам романа, —
например, в том месте, когда Лонг заставляет Дафниса совершить измену по
неведению. Против правдоподобия он грешит только в тех эпизодах, где
появляются боги из машины, коих он наплодил без меры, что несколько
подпортило развязку произведения, в общем, весьма достойную и приятную. Еще
более существенный недостаток — непродуманный порядок повествования: оно
начинается пошлым образом — с рождения пастухов — и не заканчивается
даже с их вступлением в брак. Автор доводит рассказ до появления у них
детей и наступления старости. Впрочем, роман настолько непристойный, что надо
быть хотя бы чуть-чуть циником, чтобы читать его не краснея. Можно отметить
несколько черт, перенятых нашим автором у других, уже упоминавшихся, или,
напротив, перенятых ими у него, поскольку точно не известно, когда жил Лонг
и когда жили они. Никто из древних писателей не упоминает о нем, а у него нет
ни единого намека, который бы позволил строить догадки; и только
безупречность стиля подталкивает к мысли, что он творил раньше двух предьщущих
авторов. В детстве я пытался переводить этого писателя, хотя, разумеется, тогда
еще не мог отличить достоинств от недостатков и даже не предполагал,
насколько чтение таких произведений опасно для юношества и недостойно
людей и более взрослых. Представляется вполне вероятным, что именно у него
господин д'Юрфе заимствовал идею своих пасторалей, а если даже он взял ее
(как и много чего другого, да и сам сюжет «Сирена»178) из «Дианы» Монтемай-
ора, или «Аминты» Тассо, или «Верного пастуха» Гварини, которого он также
беззастенчиво обобрал, или же из какой-то другой итальянской пасторали, коих
так много, что Бартоли из Урбино179 собрал их восемь десятков, все равно Лонг,
которому все они, по-видимому, подражали, служил образцом и тем, и другим.
Впрочем, «Идиллии» Феокрита180, «Эклоги» Вергилия181 и другие
произведения греческих, латинских и даже провансальских поэтов (а если посмотреть в
глубь веков, то еще и древних евреев, достоинствам которых можно пытаться
подражать, никогда не достигая их уровня) тоже, вероятно, служили
источником для всех пасторалей. Удивительно, что итальянцы этого не заметили, иначе
им бы и в голову не пришло приписывать создание пасторалей или Тассо, как
это сделал Мансо182, или Беккари183, как это сделал автор обоих Верати184.
Говоря по правде, появление в романах главных героев-пастухов не кажется мне
таким уж удачным нововведением, достойным столь оживленного обсуждения
(ведь в комедиях древних было предостаточно персонажей, принадлежавших
к самым разным слоям общества, а в романах частенько выводили пастухов,
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 403
вмешивавшихся в интригу). Выбор в качестве действующих лиц романа
бродячих актеров или горожан представляется не менее остроумным. А образ
живущего в деревне дворянина, которому чтение романов затуманило мозги185 и
который, став странствующим рыцарем, превратился в насмешку над
романными рыцарями, является, по моему мнению, несравненно более оригинальным
и новым.
Возвращаюсь к главной теме. Что касается трех Ксенофонтов-романистов,
о которых говорится в Суде, я не могу ничего добавить. Один был из Антиохии,
другой — из Эфеса, а последний — с Кипра. Все трое писали любовные истории.
Первый озаглавил свою книгу «Вавилонская повесть», как и Ямвлих.
Произведение второго вошло в историю как «Эфесские рассказы»; в десяти его книгах
повествуется о любви Габрокома и Антии. Третий же назвал свой опус
«Кипрскими рассказами». В них говорится о любви Кинира, Мирры и Адониса. Роман
Харитона186, хранящийся в Ватикане, известен мне только по названию.
Однако нам неведомо имя автора, который написал о любви Каллимаха и Хрисо-
рои187, а также того, кто воспел любовную страсть Ливистра и Родамны188. Тем
не менее, насколько можно судить по варварскому языку фрагментов этих
произведений, приводимых Мерсом189, они были созданы относительно
недавно, хотя язык первого из не известных мне авторов сохранил больше античной
чистоты и содержит в себе меньше от вульгарного греческого. И первый, и
второй писали стихи, отличные от прозы только ритмом и размером. Стихи
подобного рода пользовались большой популярностью у греков периода Поздней
империи.
Считаю своим долгом не забыть о Парфении из Никеи190, который посвятил
дошедшую до нас книгу «О любовных страстях» поэту Корнелию Галлу191,
жившему во времена Августа. Многие из рассказанных им историй имеют
источником более древние легенды и произведения античных авторов. Некоторые
из них представляются мне романическими и взятыми из «милетских сказок»,
как история Эрипеи и Ксанфа в восьмой главе, история Поликриты и Диогне-
та192 — в девятой, история Левконы и Кианиппа — в десятой, история Неэры,
Гипсикреонта и Промедонта193 — в восемнадцатой. Отмечу одну существенную
деталь: хотя эти приключения приписьшаются уроженцам Милета, не похоже,
чтобы они были заимствованы из древних легенд или из античной истории.
Возможно даже, что любовь Кавна и Библиды194, детей основателя Милета195, о
которой говорится в одиннадцатой главе, — всего лишь местная легенда,
получившая широкое распространение и вошедшая в мифологический цикл. Однако это
только мое легковесное предположение. Впрочем, не стоит принимать за
романистов всех, кто, по свидетельству разных авторов, воспевал в своих
произведениях любовь, иначе в подобный перечень вошли бы абсолютно все античные
философы. Тем не менее, хотя и писатели, и философы разъясняют причины,
природу и последствия любви, а также предлагают лекарства от нее, они идут
к своей цели столь разными путями, что их невозможно спутать. «Эротики»
античных поэтов, а также произведения с этим названием, принадлежащие Вак-
хилиду196 и Капитону197, столь же мало подпадают под определение романа, как
и любовные книги Овидия.
404
Дополнения
В приведенном мною перечне проводится различие между правильными
романами и теми, которые таковыми считать нельзя. К правильным я отношу
романы, отвечающие правилам героических поэм198. Греки, столь успешно
развившие большинство наук и искусств, что даже были приняты за их
создателей, отличились и в искусстве написания романов. Они придали
восточному роману, грубому и примитивному, добротную форму, подчинив его
правилам эпических поэм и соединив в единое совершенное тело различные, не
связанные между собой части, которые в своем беспорядочном нагромождении
образовывали прежний роман. На самом деле далеко не все греческие
авторы подчинялись установленным правилам. Им следовали только Антоний
Диоген, Лукиан, Ямвлих, Гелиодор, Ахилл Татий, Евстафий и Феодор Про-
дром. Я не собираюсь говорить ни о Лукии из Патр, ни о диадохе Дамаскии,
которых не помещаю в разряд создателей романов. Что касается святого
Иоанна Дамаскина и Лонга, то они без особого труда могли бы соблюсти законы
жанра, но намеренно или нет пренебрегли ими. Мне неведомо, как к этим
правилам относились три Ксенофонта и другие авторы, произведения которых
давно утрачены, а также Аристид и те, кто, как и он, создавал «милетские
сказки». Полагаю, однако, что последние соблюдали известную меру, судя по
дошедшим до нас произведениям, созданным им в подражание, например, по
«Метаморфозам» Апулея, которые представляют собой относительно
правильный роман.
Задолго до того, как «милетские сказки» получили широкое
распространение в Греции, они проникли в Италию и были сперва приняты сибаритами199,
такими изнеженными и сладострастными людьми, что даже трудно себе
представить. Сходство умонастроений сибаритов и милетцев способствовало
установлению между ними обмена предметами роскоши и удовольствиями и
настолько сплотило их, что Геродот уверяет, будто не знает других союзников,
связанных столь тесными узами200. Так, милетцы объявили государственный траур,
узнав, что город Сибарис разрушен кротонцами, хотя сибариты не выказали
столько же сочувствия к трагедии милетцев, когда персы разграбили их
страну и захватили столицу. Именно у милетцев сибариты научились искусству
вымышленных историй, и «сибаритские сказки» появились в Италии подобно
тому, как в Азии существовали «милетские». Трудно сказать, какая была у них
форма. В одном из фрагментов, дошедших до нас в довольно поврежденном
виде, Гесихий дает понять, что во времена, когда Эзоп жил в Италии, его басни
пришлись весьма по вкусу местным жителям, которые изменили их, придав
им другой поворот, прозвали сибаритскими и превратили в самые настоящие
народные сказания, однако он ни словом не обмолвился о том, какие именно
были внесены изменения. В Суде высказано мнение, что эти «сказки»
оставались похожими на басни Эзопа, но здесь, как и во многом другом, в словаре
допущена ошибка. Стародавний комментатор Аристофана говорит, что
сибариты использовали в своих баснях образы животных, а Эзоп — людей. Этот
фрагмент, вне всякого сомнения, испорчен, ведь, как мы знаем, в баснях Эзопа
главные персонажи — как раз животные, а стало быть, в «сибаритских
сказках» действовали люди. В другом отрывке комментатор совершенно недву-
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 405
смысленно настаивает на этом. Сие полностью подтверждается и тем
обстоятельством, что, когда Аристофан в той же самой комедии заставляет
простодушного Филоклеонта сочинять эзоповы басни и «сибаритские сказки», тот
делает животных, а отнюдь не людей главными действующими лицами первых.
«Сибаритские сказки» были занимательны и вызывали смех. Я нашел их
образец у Элиана201. Это небольшой рассказ, заимствованный, по его словам, из
историй сибаритов, то есть, по моему убеждению, из их «сказок». Вы можете
судить об этом по самому содержанию: маленький сибарит, сопровождаемый
педагогом, встретил на улице продавца сушеных фиг202 и украл одну фигу.
Педагог, строго отчитав ребенка, отнял и съел плод. Однако эти басни не
только забавляли, но и пробуждали похоть. Овидий причисляет «Сибаритские
истории», написанные незадолго до него, к самым фривольным произведениям203.
Многие ученые полагают, что он имеет в виду произведение Гемифеона
Сибаритского204, которое Лукиан называет скопищем сальностей. Мне
представляется это недостаточно обоснованным, поскольку не существует каких-либо
доказательств, что «Сибаритские истории» связаны тем или иным образом с
книгой Гемифеона. Упомянутые книги роднит только то, что в них обоих
описываются распутные нравы, однако это свойственно всем «сибаритским
сказкам». Кроме того, «Сибаритские истории» появились незадолго до Овидия, а
город Сибарис, родину Гемифеона, кротонцы разрушили до основания за пять
столетий до его рождения; разве только этот автор прозван Сибаритским
лишь потому, что родился в Фурии, построенном афинянами вблизи того
места, где когда-то находился Сибарис. Однако, как мне думается, тогда его
скорее, как это водится, прозвали бы Фурийским, нежели Сибаритским. Судить
об этом я предоставляю читателям. Более правдоподобна версия, что
«Сибаритские истории» написаны неким развращенным римлянином, а свое
название получили в подражание старинным «сибаритским сказкам». Так при
императорах назывались многие подобные книги. Один древний автор, о котором,
как я полагаю, Вам вряд ли будет интересно узнать, говорит, что стиль тех
произведений был сжатым и лаконичным, однако подобное обстоятельство отнюдь
не доказывает, что эти басни и «сказки» хоть сколько-нибудь походили на
романы.
Отрывок из Овидия свидетельствует о том, что в те времена римляне уже
знали басни сибаритов. Из той же книги мы узнаем, что известный историк
Сисенна несколько ранее перевел на латинский язык «Милетские повести»
Аристида. Сисенна жил во времена Суллы и, как и Сулла, происходил из
знаменитого разветвленного рода Корнелиев. Он занимал должность претора Сицилии
и Ахайи и написал историю Рима. Из всех римских историков, живших до него,
он был наиболее уважаем. Басня, которой воспользовался Менений Агриппа,
чтобы утихомирить взбунтовавшихся римских плебеев и заставить сойти со
Священной горы205, басня, прикрывающая постыдную и непристойную просьбу
старого Антифонта к зятю в «Стихе» Плавта206, и басня Эзопа, приведенная Ав-
лом Геллием207 и переведенная Эннием208 в «Сатирах» эпическим гекзаметром,
убедительно доказывают, что в Римской республике вымышленные истории
были весьма широко распространены. Сенека также сообщает, что древние
406
Дополнения
римляне часто прибегали к сравнениям, аллегориям и притчам в обычных
разговорах. Если римляне не гнушались чтением и пересказом «сибаритских
сказок» в эпоху Республики, когда у них господствовали суровые нравы и строгая
дисциплина, то не следует удивляться, что и в эпоху Империи они, предаваясь
по примеру императоров роскошеству и удовольствиям, не потеряли вкуса к
романам, дающим усладу для ума. Вергилий, живший в период становления
Империи, избрал в качестве излюбленного занятия для наяд, дочерей божества
речных потоков Пенея, посиделки в глубине вод их отца, где они
рассказывали друг другу любовные истории о богах — эти античные романы209.
Современник Вергилия Овидий вкладывает в уста дочерей Миния романтические
истории210, которыми они обменивались во время занятий рукоделием, давая
полную свободу языку и воображению: о любви Пирама и Фисбы, Марса и Венеры,
Салмакиды к Гермафродиту.
Всё это свидетельствует об уважительном отношении римлян к романам. Но
подобное отношение еще ярче проявляется в самих романах, особенно в романе
Петрония, одного из римских консулов и наиболее утонченного человека
своего времени. Он создал роман в форме сатиры211, в духе сатир Варрона212,
непринужденно объединявшего стихи и прозу, серьезность и игривость и
называвшего их менипповыми — в честь киника Мениппа, который до него рассуждал
на серьезные темы в шутливом и насмешливом тоне. Мениппова сатира тем не
менее не перестает быть подлинным романом, и это показывает, что римская
сатира была самым тесным образом связана с романическими
произведениями, что роднило ее с сатирической поэзией греков, наполненной, по убеждению
Платона, всякими байками, скрытый смысл которых разительно отличается от
поверхностного значения слов. Не стоит поэтому удивляться тому, что Макро-
бий213, проводя различие между историями, созданными исключительно для
удовольствия, и теми, которые, доставляя наслаждение, одновременно и
поучают, относил к этой последней категории вымышленные любовные
приключения, то есть романы, и приводил в качестве примера произведения Петрония
и Апулея, однако не отделял первые, всегда представлявшие собой сатиру, от
вторых, которые, по признанию их автора, есть не что иное, как «милетские
сказки». «Сатирикон» Петрония — это подлинный роман, составленный из
ловко придуманных увлекательных историй, нередко пошлых и непристойных,
служивших ему для тонкого и едкого высмеивания пороков, процветавших при
дворе Нерона. Поскольку до нас дошли только разрозненные фрагменты,
собранные старательными коллекционерами, трудно составить отчетливое
представление о форме и ткани романа в целом. Впрочем, похоже, всё было
добротно скроено и ладно пригнано, и сохранившиеся части составляли вместе с
утраченными безупречное целостное произведение. Хотя Петроний,
по-видимому, был выдающимся критиком и обладал изысканным литературным вкусом,
его стиль тем не менее уступает тонкости его ума. В нем заметна некоторая
искусственность, излишняя вычурность и манерность, он уже утратил
естественную благородную простоту, присущую счастливым временам Августа. Недаром
говорят, что повествовательное искусство, которым промышляют все, но
которое мало кто по-настоящему постигает, гораздо легче изучить, чем применить
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 407
на практике. Сами мысли Петрония, порой утонченные и благородные, не
трогают душу, и тот, кто попробует дать им беспристрастную оценку, найдет, что
они не всегда справедливы; однако никто и никогда не рассматривал их
подобным образом. Этот автор нравится всем, поскольку все заранее убедили себя,
что всё созданное им просто не может не нравиться. С позволения
почитателей Петрония осмелюсь сказать, что, если бы он был более целомудренным,
его бы меньше читали и меньше уважали и что непристойность, по мнению
многих, — лучшее из достоинств этого писателя.
Говорят, что поэт Лукан214, живший также при Нероне, оставил после себя
сальтические басни215, то есть, как считают некоторые, басни, повествующие о
любви сатиров и нимф. Это вполне похоже на роман, и сам романический дух
того времени подтверждает мою догадку. Но разве нельзя предположить, что,
как Тертуллиан охарактеризовал Иродиаду словом «saltica», то есть
«плясунья»216, точно так же и Лукан мог назвать свои басни, поскольку те писались
для танцев, как ныне пишутся сюжеты для балетов? Впрочем, разве нам что-
то известно наверняка? Ведь может статься, что слово «сальтический» (saltique)
испорчено и на самом деле подобные басни следует называть баснями «псало-
мическими» (psaltique), то есть пригодными для пения, на манер современных
опер. Я не хочу ничего утверждать определенно, поскольку было бы дерзко
делать однозначные выводы на столь шатком основании.
«Метаморфозы» Апулея, снискавшие большую известность под названием
«Золотой осел», были созданы во времена Антонинов. В их основе лежит то же
самое произведение, что и в основе «Осла» Лукиана, а именно две первые книги
«Метаморфоз» Лукия из Патр; только Лукиан сократил повествование, а
Апулей дополнил его. Произведение Апулея написано по всем правилам,
поскольку, хотя и начинается, казалось бы, с рассказа о детстве героя, тем не менее он
говорит о нем лишь в порядке предисловия и чтобы оправдать грубость стиля.
История по-настоящему разворачивается с момента путешествия в Фессалию.
Одним из фрагментов, сочиненным, по словам автора, в том же жанре, что и
«милетские сказки», он дал нам представление о последних. Более того, он
обогатил этот жанр, вставив прекрасные эпизоды, например, известный всем
эпизод с Психеей, и не убрал ни одной из непристойностей, встретившихся в
оригиналах, которым он следовал. Его стиль — это стиль софиста, полный
аффектации и жестоких образов, грубый, варварский, достойный африканца217.
Утверждают, что император Клодий Альбин218, один из соперников Севера,
не чурался литературного труда. Биограф Клодия Юлий Капитолии219 пишет,
что некоторые «милетские сказки» появлялись под именем императора и
пользовались успехом, несмотря на всю свою посредственность; Север,
победивший Клодия и поспособствовавший его гибели, упрекал Сенат за то, что тот
хвалил низложенного императора и считал ученым мужем, хотя Клодий читал
только «Милетские истории» Апулея, а учился по рассказам стариков,
предпочитая эти и подобные безделицы серьезным занятиям.
Марциан Капелла220, как и Петроний, назвал свое произведение сатирой,
поскольку оно также написано в стихах и прозе и соединяет полезное и приятное.
Поставив перед собой цель рассказать обо всех искусствах, которые называют-
408
Дополнения
ся свободными, Марциан Капелла придумал такую уловку: он представляет их
в аллегорических образах юных девушек и воображает, что Меркурий, в чью
свиту они входят, в конце концов женится на Филологии, то есть на Любви к
изящной словесности, и преподнесет ей в качестве свадебного подарка все
самое прекрасное и самое ценное, что есть в семи свободных искусствах. Таким
образом, эта пространная аллегория не может в сущности называться романом.
Речь идет скорее о сказке, поскольку, как уже отмечалось, в сказках
повествуется о том, что никогда не существовало и не могло существовать, а роман
описывает события, которые могли происходить, но не происходили.
Аллегорическая уловка Марциана не слишком тонка. Стиль же его, запутанный и крайне
трудный для понимания, такой вычурный и неумеренный в использовании
фигур, что его нельзя простить даже самому отважному поэту, — это
воплощенное варварство. Впрочем, этот стиль отражает ученость и неординарную
эрудицию автора, который, как полагают, родился в Африке. Но даже если это и
не так, он заслуживает того, чтобы называться африканцем, настолько
манера его письма груба и вымученна. Неизвестно, на какую эпоху пришлась его
жизнь. Мы знаем только, что жил он раньше Юстиниана и занимал должность
проконсула.
Искусство романов к тому времени еще не утратило блеска, но затем, с
вырождением изящной словесности и крахом Империи, под напором невежества
и варварства, которое сеяли повсюду вторгшиеся с Севера дикие народы,
пришло в упадок. Если раньше для услады читателя писались романы, то теперь
их место заняли псевдоисторические повествования, полностью вымышленные,
так как составление подлинной истории требовало знаний, которых не
хватало. Например, Телезин221, живший предположительно в середине VI века, при
прославленном в романах короле Артуре и часто причисляемый к бардам,
поскольку сочинял пророчества в стихах, а также Мелкин222, живший чуть
позднее, тысячью небылиц исказили историю родной Великобритании, а
вместе с ней и историю короля Артура и рыцарей Круглого стола, на что
указывает Бейль223 в своем «Каталоге». То же самое следует сказать о франке Гуни-
бальде224, якобы современнике Хлодвига225, но на самом деле жившем гораздо
позже, авторе истории, которая представляет собой не что иное, как
нагромождение грубых выдумок.
Наконец, сударь, мы подошли к знаменитой книге о деяниях Карла
Великого, которую почему-то приписывают архиепископу Турпину226, хотя он жил
на два столетия раньше. Пинья и некоторые другие вбили себе в голову
нелепую мысль, будто романы получили свое название от города Реймса,
архиепископом которого был Турпин. Они объясняют свою версию так: в минувшие
века кельты любили воспевать ратные подвиги своих доблестных героев, а
поскольку самые воинственные из кельтов, белги, на чьих землях и находился
Реймс, больше других имели основания воспевать собственные деяния, у них
поэтому появилось больше бардов, то есть сказителей, и, стало быть, слово
«роман» происходит от названия города Реймса. Книга Турпина, по мнению
вышеупомянутых авторов, послужила основным источником для провансальских
романистов, а сам архиепископ выступал среди создателей романов подлинным
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 409
королем. Как бы то ни было, существовало много и других псевдобиографий
Карла Великого, также под завязку напичканных побасенками и похожих на
творение, появившееся под именем Турпина, ибо глубочайшее невежество,
царившее в те времена, весьма способствовало распространению подобных
подделок. К ним относятся истории, приписываемые Ганкону, Солкону Фортема-
ну, Сиварду Мудрому, Жану, сыну короля Фрисландии, и Аделю Аделингу227,
фрисландскому принцу королевской крови; все пятеро — фризы, также якобы
жившие во времена Карла Великого. Упомянем еще из числа подделок
историю, появившуюся под именем Гильдаса228, монаха из Уэльса, который
немало порассказал о чудесах короля Артура, Персеваля и Ланселота, историю,
приписываемую Оккону, по общему мнению, современнику императора Отгона
Великого229 и внучатому племяннику упомянутого выше Солкона, и историю
Гальфрида Монмутского230, где повествуется о деяниях короля Артура и
Мерлина; сведения о последних почерпнуты из вымышленных старинных
мемуаров, попавших в руки автора, и переведены даже излишне добросовестно. Эти
истории писались исключительно для развлечения и пришлись по вкусу
простолюдинам, еще более невежественным, чем сами авторы. Стало быть, уже
не приходилось, как это необходимо для написания исторического труда,
выискивать добротные мемуары и познавать истину — всё бралось из собственной
головы и зависело от силы воображения. В результате историки выродились в
романистов. Латинский язык в эти века варварства впал, вслед за истиной, в
забвение. Трубадуры, комедианты и потешники Прованса, создававшие
произведения, певцы-сказители, странствующие актеры, музыканты, игравшие на ви-
еллах и волынках и распевавшие стихотворные творения, и, наконец,
уроженцы этого края, предававшиеся тому, что еще в наши дни в отдельных областях
Южной Франции называется «guay saber», то есть веселой наукой231, которая
зародилась еще при Людовике Благочестивом232, начали всерьез заниматься
сочинительством во времена Гуго Капета233. Они колесили по всей Франции,
распространяя свои романы и фаблио, трагедии, комедии и пасторали, эпические
сказания, песни и кантилены, любовные песни и сонеты, лэ и вирелэ, гимны и
мотеты вместе с глоссами, плачи, секстины, сирвенты, депорты, морали, тенсо-
ны, баллады, утренние серенады, мартегалы234, которые нелепым образом
переименовали в мартингалы и от которых, по моему мнению, образовалось слово
«мадригал», слово, истинное происхождение которого было до сих пор еще
менее известно235, чем исток Нила. А ведь эти мартегалы и мадригалы
получили название от мартегаллов, народа, живущего в горах Прованса, подобно тому
как гавоты, горцы края Гап, дали название танцу, который мы зовем гавотом.
Все перечисленные произведения, а также многие другие написаны на
романском языке, который римляне принесли с собой в Галлию. Этот язык,
испортившийся из-за смешения с существовавшим до него галльским, а также
появившимся позже франкским, или древнегерманским, не был собственно ни
латинским, ни галльским, ни франкским, а некой смесью, в которой тем не менее
латынь занимала самые прочные позиции. Именно по этой причине его стали
называть романским, чтобы отличить от местных языков различных областей,
то есть от франкского, кельтского, аквитанского и бельгийского, поскольку
410
Дополнения
Цезарь пишет, что эти три языка различались между собой236, то есть
представляли собой, согласно Страбону, диалекты одного и того же языка237. Испанцы
пользуются словом «романский» в том же значении, что и мы, и называют свою
разговорную речь «романской». Поскольку романский был наиболее
утонченным языком и к тому же наиболее распространенным, провансальские
сказители, то есть сочинители прозы, и поэты, которых именовали труверами (это
слово заимствовали итальянцы, поскольку они называют поэтов «trovatori»,
подобно тому как греки называли их «сочинителями»; «trouver» на провансальском
языке означает «сочинять стихи», «conter» и «composer» — «писать прозой», а
«romanser» — и то, и другое), начали слагать на нем свои повествования и
поэмы, получившие название романов. Однако сам романский язык стал
называться провансальским, поскольку в Провансе, в отличие от других районов
Франции, претерпел наименьшие изменения, а также еще и потому, что
провансальцы обычно сочиняли именно на нем, или даже потому, что Прованс
всегда считался римской провинцией и поэтому никто не проводил различий между
провансальским и романским языками. Трубадуры в сопровождении
деревенских музыкантов, а иногда и жен, которые также занимались этим ремеслом,
бродили по всей стране, неплохо зарабатывая своим искусством. Их
привечали сеньоры, порой приходившие в такой восторг от песен, что одаривали
исполнителей одеяниями со своего плеча. Практически все провинции Франции, как
и Прованс, обладали собственными сочинителями, вплоть до Пикардии,
которой странным образом полюбились сирвенты, эти сатирические и подчас
любовные стихотворные произведения; от них, как я предполагаю, произошло
название танца, называемого нами сарабандой. К чести трубадуров замечу, что
и Гомера можно с полным правом к ним причислить, ведь он тоже бродил из
одного города в другой, распевая свои поэмы. Другие знаменитые поэты
Греции подражали Гомеру в этом, как, впрочем, и во всем остальном, делая из
тщеславия то, что поэт был вынужден делать из-за бедности, и, возможно,
также подражая более древним предшественникам. Прекрасные стихи, которые
распевали в домах Пенелопы и Алкиноя Фемий и Демодох238, а также песни,
которые по воле Вергилия исполнял Иопад при дворе Дидоны239,
свидетельствуют об очень древнем происхождении «веселой науки». Симонид240, живший после
Гомера, был трувером и сказителем при дворе Скопада, одного из владык
Фессалии, когда Кастор и Полидевк241 пришли вызволять его из беды, в которую он
мог попасть. Арион пел при дворах правителей Италии242 и стал очень богатым
человеком. Приключение, случившееся с ним при возвращении в Грецию,
очень похоже на приключение Пьера де Шатонёфа243, дворянина из Прованса
и сочинителя, жизнь которого описал Жан де Нотрдам244. Из древнегреческих
трубадуров одни пели только стихи Гомера, князя поэтов, и назывались аэда-
ми или рапсодами. Другие же сами сочиняли песни, в основном веселые и даже
жизнерадостные, отчего и назывались илародами, то есть исполнителями
приятных песенок, проводниками «веселой науки»; они всегда были желанными
гостями в каждом доме. На пиру у феаков Одиссей послал в знак
благодарности блюдо со снедью илароду Демодоху, сказав, что певцы всюду заслуживают
почитания, и именно ремесло певца-сказителя спасло жизнь Фемию: ведь, же-
Письмо трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 411
стоко расправившись с женихами Пенелопы, Одиссей пощадил только его
одного. У наших предков — галлов были свои труверы, с которыми они
обращались просто великолепно. Как сообщает Посидоний245, на которого
ссылался Афиней, Луэрн, вождь арвернов246, отец Битута, воевавшего с римлянами и
державшего двери открытыми и накрытый стол для всех поэтов, одарил
полным мешком золота чужеземного сказителя, почтившего устроенный им
праздник и развлекавшего пировавших гостей. Эти многочисленные сочинители,
расплодившиеся во Франции в начале правления третьей династии наших
королей247, оставили после себя великое множество романов, часть которых была
напечатана, часть гниет в библиотеках, а остальные канули в Лету. Именно от
нас пришло в Италию (и в Испанию), столь плодовитую на романы, искусство
их сочинять. Свидетельство одного итальянца (Джиральди, рассказывающего
о романах) против своей нации не может вызывать сомнений и заставляет
умолкнуть всех тех, кто попытался бы отнять у Франции славу данного изобретения
в пользу Италии или Испании. Кавальканти, Бембо, Эквикола, Сперони,
Дольче248 и бесконечное число других итальянцев, как правило, не менее
добросовестно судят о происхождении родной поэзии в целом, как Джиральди — о
происхождении итальянской романтической поэзии. Они признают, что она
появилась куда позднее провансальской и обогатилась благодаря ее наследию. Они
даже уверены, что именно Провансу частично обязаны богатством своего
языка. Подобное мнение настолько укоренилось в их сознании, что они считают
себя обязанными этому краю и многими словами, непосредственно
заимствованными из латыни, утешаясь другой, льстящей их гордости неправильной
мыслью, что провансальцы заимствовали данные слова у тосканцев, хотя и к тем,
и к другим они пришли из одного и того же источника.
Покойный господин де Сомез249, к памяти которого я отношусь с большим
почтением как ввиду его обширных познаний, так и в знак нашей дружбы,
полагал, что именно Испания, научившись у арабов искусству создавать романы,
передала его на своем примере всей остальной Европе. Тому, кто станет
отстаивать это мнение, придется заявить, что Телезин и Мелкий, оба из
Великобритании, и франк Гунибальд, которые, как говорят, сочиняли романические
истории около 550 года, жили по меньшей мере на 200 лет позже, чем считается,
поскольку восстание графа Юлиана250 и вторжение арабов в Испанию
произошли на 91 году хиджры251, то есть в 712 году от Рождества Христова, а ведь еще
требовалось время, чтобы арабские романы распространились в Испании, а те,
что будто были созданы испанцами в подражание арабам, — по всей остальной
Европе. Мне не хотелось бы особо рьяно настаивать на древности этих
авторов, хотя, опираясь на общее мнение, имею к тому некоторые основания. Как
я уже говорил, арабы действительно очень увлекались «веселой наукой», то есть
поэзией, легендами, сказаниями. Однако эта наука, не проникнувшись
греческой культурой, осталась у них в грубой форме, в какой они и принесли ее в
завоеванную Африку вместе со своими войсками. Надо, правда, отметить, что в
Африке эта наука была уже известна, поскольку Аристотель, а вслед за ним
Корнут252 и Присциан253 упоминают ливийские басни, и мы находим их в тех
отрывках из поэта Эсхила и у древнего толкователя Аристофана, которые напо-
412
Дополнения
минают басни Эзопа. Их произведения полны рифм и звуковых перекличек,
а романы уже упоминавшихся африканцев — Апулея и Марциана Капеллы —
еще и показывают, каков был дух африканских народов. У всех у них, вплоть
до троглодитов в прежние времена и негров в нынешние, имелись и имеются
свои басни. Подобное обстоятельство укрепило сочинительские наклонности
арабских победителей, и мы узнаем от Льва Африканского254 и Мармоля255, что
африканские арабы по-прежнему страстно любят романическую поэзию, что
в стихах и прозе они воспевают деяния Бухалула, подобно тому как мы
превозносили подвиги Рено256 и Роланда; что их марабуты257 складывают любовные
песни, а в Фесе поэты ежегодно в день рождения Мухаммеда собираются на
праздники и состязания и читают свои стихи перед народом, который
провозглашает самого талантливого князем поэтов; что правители из династии Ма-
ринидов258, которые царствовали три века тому назад, созывали каждый год
в определенный день лучших ученых мужей города Феса и устраивали для них
роскошный пир, после чего поэты читали стихи в честь Мухаммеда, а
верховный правитель одаривал лучшего деньгами, конем, рабом и одеяниями с
собственного плеча; впрочем, и все остальные не уходили без вознаграждения. В
этом Мариниды следовали примеру своего законодателя Мухаммеда, который
одарил накидкой с собственного плеча поэта Кааба259, пропевшего хвалу одной
из любовниц Пророка260. Завоеванная Испания переняла у арабов нравы и
обычай слагать любовные стихи и прославлять подвиги выдающихся мужей, как это
делали барды у галлов, хотя, по свидетельству Саллюсгия261, еще задолго до того
у испанцев существовала традиция, когда юноши, отправлявшиеся на войну,
узнавали о героических поступках предков из рассказов матерей. Но песни,
именуемые рожансеро, не имели ничего общего с тем, что называется романами. Это
были поэмы, создаваемые для пения, и поэтому очень короткие. Их собрано
немало, и частью они настолько древние, что весьма трудны для понимания.
Иногда с их помощью воссоздавали канву и проясняли хронологическую
последовательность исторических событий. Испанские романы появились на свет
значительно позже. Самые старые из них написаны через несколько столетий после
наших романов о Тристанах и Ланселотах. Мигель де Сервантес, один из самых
блестящих умов, когда-либо рожденных Испанией, подверг их тонкой и здравой
критике в своем «Дон-Кихоте», которого он выдает за перевод с арабского языка
сочинения Сида Ахмеда ибн Анжели, что свидетельствует об ошибочных
взглядах писателя на происхождение испанских романов. Из их бесчисленного
множества священник Перо Перес и цирюльник маэсе Николас из ламанчского села
с трудом выбрали полдюжины, достойных внимания. Остальные были
«преданы в руки светской власти, сиречь ключницы» для сожжения. Священник и
цирюльник посчитали достойными для сохранения «Амадиса Галльского» в
четырех частях, который, по их мнению, был первым, образцовым и самым лучшим
рыцарским романом, изданным в Испании, и от которого взяли начало все
остальные; «Пальмерина Английского»262, который, если верить преданию,
написан неким мудрым португальским королем и поэтому, по мнению Переса и
Николаса, должен лежать в особом ларце, вроде ларца Дария, где Александр
Македонский хранил творения Гомера, а также «Дона Бельяниса»263, «Зерцало
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 413
рыцарства»264, «Тиранта Белого и Кириэлейсона Монтальванского»265 (ибо в
старые добрые времена Кириэлейсон266 и Паралипоменон267 принимались за каких-
то святых). Но все эти романы недавнего происхождения по сравнению с
нашими старыми, вероятно, послужившими образцами для испанских, в пользу чего
говорит и их определенное сходство и близкое соседство двух народов.
Сервантес также критикует романы в стихах и другие поэтические труды из
библиотеки Дон-Кихота, но это выходит за рамки нашей темы.
Мне могут возразить: поскольку мы переняли у арабов искусство
рифмовать, то, вполне вероятно, позаимствовали еще и романическое искусство, так
как большинство наших древних романов имели стихотворную форму, а
обычай французских сеньоров одаривать лучших труверов одеяниями со своего
плеча, который, согласно Мармолю, практиковался ранее королями Феса, еще
больше подкрепляет подобное подозрение. На это отвечу: считаю вполне
возможным, что французы, научившись у арабов рифме, переняли у них и
обычай применять ее в романах. Допускаю даже, что их пример мог укрепить
нашу, уже существовавшую, любовь к сочинительству и что наше
романическое искусство, возможно, обогатилось общением с ними благодаря близости
к Испании и войнам. Но никогда не соглашусь с тем, что мы обязаны им этой
склонностью, которая проявилась во Франции задолго до того, как была
замечена в Испании. Не верю также и в то, что наши владетельные сеньоры
научились у арабских государей обычаю одаривать труверов одеяниями со своего
плеча. Подобная щедрость была присуща многим другим народам, и поэтому
мы могли заимствовать ее у кого угодно, а не обязательно у арабов; я уж не
говорю о подарках в виде одеяний, многочисленные упоминания о которых мы
находим в Священной и светской истории и которые до сих пор
распространены среди персов, турок и индийцев. Сошлюсь на примеры, более близко
касающиеся нашей темы, в частности, на пример Самсона, который одарил
одеяниями филистимлян268, отгадавших хитроумную загадку, или на пример Писфете-
ра (из «Птиц» Аристофана), посоветовавшего другому персонажу раздеться до
туники, дабы вознаградить поэта, пришедшего воспеть хвалу новому городу
Нефелококкигия*, и, наконец, на пример Гелиогабала269, который одаривал
шелковыми нарядами добродетель тех, кто обнаруживал новые случаи
обмана, в подражание Ксерксу, установившему аналогичную плату для тех, кто
придумывал новые развлечения270. От Петрония и Марциала нам известно, что в
Риме поэтов всегда вознаграждали новыми одеяниями. Следовательно,
французские сеньоры могли перенять этот обычай не от обитателей Африки или
Аравии, а из других мест. Вполне возможно, что и те и другие делали это
скорее в порыве благодарности, нежели подражая кому-либо. Растрогавшись до
глубины души красотой услышанных произведений, они желали немедленно
проявить щедрость и, не находя под рукой ничего более ценного, чем свои
одеяния, отдавали их поэтам, как поступали по отношению к бедным известные нам
по книгам святые, или доблестный сын Мильтиада Кимон Афинский271, или,
если верить арабам, некоторые халифы. То, что во Франции происходило от
* В переводе на русский — Тучекукуйщина (см.: Аристофан. Птицы. Ш. 819 и ел. Пер. А.
Пиотровского).
414
Дополнения
случая к случаю, в Фесе совершалось ежегодно в форме обычая, вероятно,
также порожденного случаем.
Мы вправе предположить, что итальянцев на написание романов подвигнул
пример провансальцев в эпоху пребывания Пап в Авиньоне272, и в не меньшей
степени этому способствовал пример французов из других провинций, когда
норманны, а затем и граф Карл I Анжуйский273, брат Людовика Святого,
доблестный рыцарь, любитель поэзии и сам стихотворец, вели войны в Италии.
Норманны ведь тоже увлекались «веселой наукой» и, как сообщает история,
воспевали прекрасные подвиги Роланда еще до знаменитой битвы,
закончившейся провозглашением Вильгельма Завоевателя королем Англии274.
Возможно, они переняли этот обычай у французов, как уверяет славный Фоше275. У нас
есть основания верить этому, опираясь на древних авторов, утверждавших, что
такой же обычай был широко распространен среди бардов в Галлии до
вторжения римлян, и даже испанцы не пренебрегали им, поскольку, как я уже
говорил вслед за Саллюстием, у них матери, отправляя сыновей на битву с
врагом, рассказывали о ратных свершениях их отцов. Напомню, что и у Гомера
Ахилл воспевал, аккомпанируя себе на лире, подвиги великих мужей прошлых
столетий. Возможно, норманны стали подражать обычаям германских народов
Севера, откуда сами были родом. Ведь, если верить Тациту, германцы,
отправляясь на битву, воспевали доблесть и мужество Геракла276, предводителя
странствующих рыцарей, поскольку, как известно, этот герой занимался тем, что
бродил по миру, чтобы восстанавливать справедливость и ниспровергать
тиранов. Дабы прославить доблесть своих отцов, германцы даже выбили на скалах
дошедшие до наших дней знаки. Более того — сохранили память о ратных
подвигах предков в стихах и песнях, которые лучше защищены от действия
времени, чем скалы. Готы также поднимали боевой дух накануне сражений,
слушая рассказы о славных подвигах пращуров. В то время, когда в
Провансе процветала поэзия, Европу покрывал беспросветный мрак невежества.
Однако Франция, Англия и Германия были более просвещенными, чем Италия,
где насчитывалось очень мало писателей, не говоря уже о сочинителях
романов, хотя и она, по примеру соседей, начинала оживать. Итальянцы, желавшие
чему-нибудь научиться, приезжали за знаниями в Парижский университет,
считавшийся матерью наук и питомником учености в Европе. Здесь получали
знания святой Фома Аквинский, святой Бонавентура277, поэт Данте, Боккаччо;
последний по словам Фоше, заимствовал большинство собственных новелл из
французских романов, а Петрарка и другие итальянские поэты взяли самое
лучшее из песен Тибо, короля Наварры278, Гаса Брюле279 и кастеляна де Куси280,
а также изрядно почерпнули у старинных французских романистов. Жан де
Нотрдам называет имена многих провансальских поэтов, которым подражал
Петрарка. В свой сборник он включил произведения целого ряда итальянских
поэтов, которые предпочитали провансальский язык и провансальскую
поэзию языку и поэзии родной страны. Вне всякого сомнения, их выбор
объясняется тем, что они считали провансальский язык более богатым, более
изысканным и более подходящим для утонченного ума, чем итальянский — в ту
пору недостаточно развитый, несовершенный и непривычный для поэзии. На
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 415
мой взгляд, именно в ходе подобного общения двух народов итальянцы, чего
они не отрицают, переняли у французов науку писать романы и складывать
стихи, как я уже отмечал.
Таким образом, Испания и Италия научились у нас искусству, которое, с
одной стороны, стало плодом нашего невежества и неотесанности, а с другой —
плодом утонченной культуры, заимствованной у персов, ионийцев и греков. Как
в нужде мы за отсутствием хлеба питаемся для поддержания жизни травами
и кореньями, так и при недостатке подлинных знаний, то есть самой
подходящей и естественной пищи для ума, мы кормим его ложью, имитирующей
правду. И точно так же, как при изобилии, желая угодить собственным прихотям,
мы нередко отказываемся от простого хлеба и пищи и сдабриваем их соусами
и приправами, так и при накоплении нашим разумом истинных знаний порой
забрасываем учебу и серьезные размышления и услаждаемся подобием
правды, то есть ложью, — еще Аристотель заметил, что изображение и подражание
часто бывают приятнее самой правды, да и наш опыт говорит об этом. Словом,
два совершенно разных пути, в нашем случае путь невежества и путь знания, путь
грубости и путь утонченности, нередко ведут к одной цели — к созданию мифов,
легенд, романов. Поэтому и самые варварские, и самые культурные народы
одинаково любят выдумки, которыми полны романы. Вся Америка
наслаждается этими фантазиями. Гуроны и ирокезы наших заокеанских владений
разговаривают не иначе, как символами и образами. Пиршества в праздничные
дни чередуются у них с повествованиями, то есть пищу для тела сменяет пища
для ума. Самый старый или самый умный представитель племени придумывает
и начинает вести рассказ. Главными действующими лицами сказок и басен
становятся бобры, американские лоси, лисицы и другие животные.
Присутствующие очень внимательно слушают рассказчика и прерывают его только смехом
или подбадривают аплодисментами. День и ночь проходят незаметно и
беззаботно как для тех, кто рассказывает, так и для тех, кто слушает. Народы
Флориды, Куманы, Перу и Марианских островов подбадривают себя в трудах и
сражениях песнями, торжественными речами и повествованиями о прекрасных
деяниях легендарных предков281. Всё, что эти дикари рассказывают о своем
происхождении, полно вымысла. Но всех превзошли в этом перуанцы. У них есть
поэты, которых они называют словом, имеющим то же значение, что и слово
«труверы». У народов Мадагаскара тоже есть поэты, которые декламируют
сочиненные ими произведения, переходя из дома в дом. Сказители живут и в
Гвинее, и в Канаде.
Древние обитатели Дании, Швеции и Норвегии рассказывали о своем
происхождении такие же невероятные легенды, как греки, и высекли истории,
сочиненные ради удовольствия, старинным руническим письмом на огромных
валунах, остатки которых мне довелось видеть в Дании282. Как правило, на
пирах развлекались, распевая рифмованные стихи о великих подвигах древних
гигантов. Глаза гостей, слушавших повествования, наполнялись слезами, однако
обильная еда и напитки делали свое дело: скорбный плач сменялся
радостными криками и воплями, и в конце концов все, захмелев, падали под стол. При
дворах датских королей всегда находились скальды, то есть поэты и поэтессы,
416
Дополнения
единственным занятием которых было сочинение стихов на все памятные
события. Такие стихи, хотя и были рифмованными и приукрашивались вымыслом
и аллегориями, писались впопыхах и необдуманно. Народ тут же подхватывал
их и начинал распевать. Распространяясь по белу свету, эти стихи прославляли
в дальних странах королей, народ и поэтов, их сочинивших. Норвежцы,
образовавшие целые колонии в Исландии, привезли с собой дух и легенды своего
народа. Наиболее талантливые из жителей острова все время сочиняли новые
легенды, а последующие поколения поселенцев объединили их в сборники.
Этим собраниям легенд и мифов, существующим уже почти 600 лет, они дали
названия «Эдда»283 и «Волюспа»284. Датчане даже утверждают, будто бы
имелась более древняя «Эдда», нежели «Эдды» Сэмунда и Снорри Стурлусона285,
которые представляют собой лишь ее краткое изложение, и из нее Саксон
Грамматик286 будто бы почерпнул все, что есть у него наиболее
фантастического. И если бы у нас сохранилось что-то из произведений, которые
сочиняли барды древних галлов, стремившиеся увековечить память о своем народе,
но тем не менее не постаравшиеся сделать это в письменной форме, то мы,
безусловно, смогли бы найти в этих историях не больше правды, чем в их
теологии, которая, если верить мифологу Фурнуту287, вся окутана легендами так же,
как их философия — тайной.
Эта склонность к выдумкам, общая для всех людей, не является результатом
работы рассудка, следствием подражания или следованием традиции — она дана
от природы и коренится в самом складе ума и души, ибо стремление познавать
новое, проникать в суть вещей изначально присуще человеку и в не меньшей
степени отличает его от животных, чем обладание разумом. Некоторые даже у
животных находят зачаточные проблески несовершенного ума, хотя жажда
познания, то есть, я хочу сказать, стремление расширить свои знания за пределы
известного, свойственно исключительно роду людскому. По моему разумению, это
происходит из-за того, что наша душа, наделенная слишком широкими и
богатыми возможностями, чтобы удовлетвориться тем, чем она уже обладает, ищет
в прошлом и в будущем, в правде и во лжи, в воображаемых сферах и даже в
самом невероятном то, что способно ее занять и увлечь. Животные,
побуждаемые собственными органами чувств, находят, чем занять и удовлетворить себя,
и дальше этого никогда не идут, следовательно, они вовсе лишены той
волнующей жажды, которая вечно будоражит наш ум и толкает его на поиски новых
знаний, на то, чтобы найти, если возможно, такой предмет для изучения,
который был бы соразмерен способностям человека, и испытать при этом
удовольствие, похожее на то, что охватывает нас, когда удается утолить острый голод
или вдоволь напиться после изнуряюще долгой жажды. Именно эту идею хотел
выразить Платон в притче о браке Пороса и Пении288, то есть богатства и
бедности, браке, результатом которого стало рождение любви. Мужское начало
воплощено в богатстве, которое является богатством лишь при пользовании им. В
противном случае оно бесплодно и не может породить любовь. Женское
начало представлено бедностью, которая сама по себе бесплодна и всегда
сопровождается беспокойством, когда отделена от богатства, но, когда они соединяются,
от их союза рождается любовь. Эта встреча происходит и в нашей душе: бед-
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 417
ность, то есть незнание, присущее нам от природы, испытывает постоянную
тоску по учености, каковая и есть для него богатство. Когда знание овладевает
незнанием, рождается любовь, которая наследует качества отца и матери,
породивших ее. От своего отца любовь приобрела способность постигать
восхитительное разнообразие вещей, коими она старается наполнить пустоту своего
незнания. От матери же — способность забывать то, что познано с величайшим
трудом, а также ту смесь неуверенности и невежества, пелена которой покрывает
ее знания. Таким образом, утверждает Платон, о человеке нельзя сказать, что
он богат, беден, учен или несведущ. От этой смешанности и двойственности
человеческой натуры проистекает желание обогатиться знаниями, не присущее
лишь богам, уже обладающим ими, и глупцам, которым такое стремление
неведомо. Желание это охватывает только благородные, великие и возвышенные
души. Волнение и беспокойство, порождаемые желанием, вознаграждаются
следующим за ним удовольствием, если его можно удовлетворить. Однако
подобное удовольствие не всегда одинаково. Порой мы вынуждены платить за него
трудами и заботами, особенно в тех случаях, когда увлекаемся
умозрительными построениями и изучением тайных наук, предмет которых скрыт от наших
чувств, а легко разыгрывающееся воображение принимает в этом меньше
участия, чем рассудок, совершающий более утомительные действия. А поскольку
от природы труд вызывает у нас неприятие, душа проделывает тернистый путь
к знаниям лишь в предвкушении результата, в надежде когда-нибудь получить
наслаждение или же в силу необходимости. Больше всего человека привлекают
и прельщают знания, которые даются без труда или легко заменяются
воображением, и в первую очередь — знания о вещах, повседневно воздействующих на
наши чувства, особенно если эти знания возбуждают страсти, являющиеся
главным стимулом всех желаний, всех поступков и всех удовольствий в нашей
жизни. Эту роль как раз и играют романы. Чтобы их понять, не требуется ни
усиленной работы мысли, ни сложных умопостроений, ни напряжения памяти — всё
заменяется воображением. Романы будоражат страсти лишь для того, чтобы
успокоить их; они пробуждают страх или вызывают сочувствие лишь для того,
чтобы затем показать, что тот, за кого мы боялись или кого жалели, избежал
опасности или беды; они рождают чувство умиротворенности, когда любимый
герой обретает счастье, или ненависть, когда злодей избегает наказания.
Короче говоря, романы приятно щекочут чувства, то возбуждая их, то успокаивая.
Поэтому те, кто руководствуется в своих поступках скорее чувствами, чем разумом,
и развивает больше фантазию, чем рассудок, воспринимают романы наиболее
эмоционально. Тот же, кто, будучи не лишен эмоций, все-таки подчиняет свои
действия рассудку, воспринимает романы иначе — его интересует красота
произведения, осмысленность сюжета. Первых же, а к ним относятся дети и
недалекого ума взрослые, захватывает лишь то, что поражает воображение и
воздействует на чувства; они любят вымышленные истории сами по себе, и ничего
более. Но поскольку те правдивы только внешне, а по существу лживы, простаки,
которые замечают лишь то, что находится на поверхности, обходятся подобной
видимостью правды и получают от нее удовольствие. Тем же, кто смотрит
глубже и пытается докопаться до сути, ложь очень скоро приедается. Поэтому пер-
27 Заказ № К-6559
418
Дополнения
вые любят выдумки, прикрытые подобием истинности, а вторых именно это
подобие истинности и отталкивает, так как на самом деле под ним таится ложь;
и им никогда не понравится полностью вымышленная история, если она
абсолютна лишена оригинальности, загадочности и познавательности и к тому же не
подкреплена отменной изобретательностью и писательским даром. Блаженный
Августин говорил где-то, что исполненные значения выдумки, несущие в себе
скрытый смысл, не являются ложью, они суть фигуры истины, которыми не
пренебрегали ни самые мудрые, ни самые святые. Если кто-нибудь захочет назвать
ложью всё то, что не соответствует истине, ему следует обратиться к философу
Сексту Эмпирику289, утверждавшему, что существует коренное различие
между понятиями «лгать» и «говорить неправду» и что мудрец может говорить
неправду, то есть пользоваться вымыслом ради установления истины, однако не
может лгать, то есть утверждать вымысел во имя ниспровержения правды.
Вымысел в сжатом виде, то есть аллегории, сравнения и даже метафоры, также
имеет право на существование, ибо являет нашему взору одновременно два
образа; живое, непосредственное и мгновенное порождение этих образов есть,
согласно Аристотелю, проявление острого ума и признак умения их понимать.
Поскольку невежество и отсутствие культуры служат благодатной почвой
для лжи, а нахлынувшее с Севера варварство погрузило Европу в столь
глубокий мрак, что она смогла выбраться из него всего лишь два столетия тому
назад, не будет ли верным предположить, что это невежество привело в Европе
к тем же последствиям, к каким приводило повсюду, и не тщетно ли искать в
проявлении случайности то, что таится в самой природе вещей? Стало быть,
следует признать, что французские, немецкие, английские романы и все мифы
и легенды Севера — плод местных условий, что родились они на собственной
почве, а не были завезены извне; что у них нет другого источника, кроме
полных небылиц преданий, сложенных в темные времена, когда не хватало ни
учености, ни любознательности, ни умения проникнуть в суть вещей, ни
искусства описать их; что, поскольку полуварварским народам полюбились эти
предания, где быль смешивалась с небылью, историки взяли на себя смелость
сочинять на их основе чисто вымышленные повествования — романы.
Широкое распространение получило мнение, что романами некогда назывались
исторические сказания, а затем это название перешло на произведения,
созданные воображением, — вот едва ли не лучшее доказательство того, что романы
в нашем понимании произошли именно от исторических сказаний. Страбон, во
фрагменте, на который я уже ссылался, говорит, что исторические
повествования персов, мидян и сирийцев не заслуживают большого доверия,
поскольку те, кто писал их, видя, в каком почете находятся баснописцы и сказочники,
решили пойти по проторенному пути, создавая в форме историй рассказы о
событиях, свидетелями которых никогда не были и о которых никогда не
слышали от очевидцев. Эти авторы стремились только нравиться, а вовсе не
просвещать, и также надеялись, как вполне справедливо отметил Геродиан в
предисловии к своей истории, что читатель не станет жаловаться на их
самозванство, когда обнаружит, что утрата истины была возмещена приятностью
вымысла и повествования. Приблизительно то же самое случилось и с нами, но
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 419
прямо противоположным образом. Среди народов Востока сказки породили
фантастические истории, а у нас и у всех прочих народов Севера
фантастические истории породили сказки и романы.
Но вернемся к нашим провансальским труверам, которые с конца X века
считались во Франции королями романического искусства. Их творчество так
нравилось публике, что все французские провинции обзавелись собственными
сочинителями. В XI и последующих веках было создано невиданное прежде
множество романов в прозе и стихах; иные из них, наперекор времени, дошли
до нас. Сюда относятся романы о Гарене Лотарингском, Тристане, Ланселоте
Озерном, Андрее Французском, который умер из-за слишком сильной любви
к той, которую никогда не видел, о Берте, Святом Граале, Мерлине, Артуре,
Персевале, Персефоресте290. Речь идет также о большинстве из 127 поэтов,
живших до 1300 года, творчеством которых занимался президент Фоше, а
также тех поэтов из Прованса, жизнеописания которых составил Жан де Нотрдам.
Не буду вам ни перечислять их имена, ни обсуждать, откуда родом книга
«Амадис Галльский», которую те, кто разбирал библиотеку Гесснера291,
беспардонно приписали автору по имени Акуердо Ольвидо (не ведая, что это так
называемое имя, открывающее издание на французском языке, на самом деле —
девиз переводчика «Воспоминание, забвение»), — из Испании ли, Фландрии или
Франции; действительно ли роман «Тиль Уленшпигель»292 переведен с
немецкого и на каком языке изначально написан «Роман о семи мудрецах Рима, или
О Долопате»293, заимствован ли из притч индийца Сандабера, напечатанных на
древнееврейском, переведенных на арабский и древнесирийский, а с древнеси-
рийского — на греческий, как указано на титульном листе виденного мною
рукописного экземпляра, в котором описываются приключения Синтипада294,
сына одного персидского царя, а автором назван некий христианин по имени
Моисей; действительно ли из этого самого романа взят материал для
итальянской книги под названием «Эрасто»295 и, как заметил тот же Фоше, для
многочисленных новелл Боккаччо; действительно ли роман переводился на
латинский Жаном, монахом аббатства Отсельв296 (древние манускрипты этого
перевода сохранились); был ли роман сначала переведен стихами с латинского на
французский священнослужителем Эрбером в конце XII века и посвящен
Людовику VIII, затем, спустя почти два столетия, — на немецкий, а еще через
двести лет — с немецкого обратно на латынь одним ученым мужем, который,
не подозревая, что немецкий текст и есть перевод с латыни, изменил имена
персонажей. Скажу лишь, что все эти писания, порожденные невежеством,
несли на себе печать своего происхождения и представляли собой
нагромождение грубых вымыслов, не имеющих ничего общего с тем высочайшим уровнем
мастерства и изящества, на который с тех пор поднялся французский роман.
В самом деле, удивляет, что, уступив пальму первенства в эпической поэзии
и истории другим, мы завоевали столь неоспоримое превосходство в романах,
что самые лучшие «чужие» романы едва сравнимы с наиболее слабыми
нашими. Думаю, мы обязаны этим утонченной галантности, проистекающей, на мой
взгляд, из той свободы отношений между мужчиной и женщиной, которая
господствует во Франции. В Италии и Испании женщины живут чуть ли не в
420
Дополнения
заточении и настолько отгорожены от мужчин, что их почти не видно и с ними
почти никогда не ведут приятных бесед. В итоге, случаи для ухаживания за
дамой подворачивались там крайне редко, и галантное искусство оказалось в
загоне — главное для мужчин заключалось в том, чтобы преодолеть преграды,
воздвигнутые на пути к женщине, а потом просто не оставалось времени для
разного рода любезностей. Во Франции же женщина пользуется доверием,
защитой ей служит только добродетель и ее собственное сердце, которое она
превратила в бастион более неприступный и надежный, чем любой засов, любая
ограда или бдительные глаза дуэньи. Мужчины, таким образом, оказались
вынуждены вести осаду этого бастиона с помощью любезных ухаживаний и
проявляли столько усердия и изобретательности, чтобы его взять, что в конце
концов дали жизнь особому искусству, практически не известному у прочих
народов. Именно это искусство галантности отличает французские романы от
других, и именно оно сделало их чтение настолько увлекательным, что заменило
собой куда более полезные занятия. Первыми, кто попался на эту приманку,
оказались дамы. Они настолько увлеклись романами, ставшими для них основным
источником знаний, что совершенно забросили мифологические и исторические
книги, в которых ранее находили немало занимательного и поучительного.
Дабы не краснеть более за свое невежество, выказать которое им столь часто
предоставлялся случай, они предпочли с презрением отнестись к тому, чего не
постигли, вместо того чтобы восполнить этот пробел, вспомнив о трех
знаменитых Маргаритах297 и других многочисленных благородных дамах,
прославивших Францию и Италию разносторонними познаниями. Чтобы понравиться
дамам, мужчины последовали их примеру; они осудили и окрестили педантством
то, что не нравилось женщинам и что совсем еще недавно, во времена Малер-
ба298, отличало всякого утонченно-галантного человека. Новое поколение
французских поэтов и писателей было вынуждено подчиниться этому веянию; и
многие из них, видя, что без знания античности вполне можно обойтись,
перестали изучать то, что более не было в ходу. В результате благое дело привело
к весьма неблаговидным последствиям — красота наших романов сначала
обернулась пренебрежением к словесности, и, как ранее она явилась порождением
невежества, так и сама теперь стала воспроизводить невежество.
Я, однако, не призываю безоговорочно осудить чтение романов, особенно
такое, которым не злоупотребляют. Даже самые лучшие вещи на свете имеют
некоторые досадные недостатки. Последствия увлечения романами могут быть
более печальными, чем те, к которым ведет невежество. Мне известно, в чем
упрекают романы: они-де иссушают благочестие, пробуждают необузданные
страсти, портят нравы. Такое может случиться и порой действительно
случается. Однако чего только не используют в дурных целях извращенные умы?
Слабые души портят жизнь сами себе и в состоянии испортить ее кому
угодно. Если на них равняться, то надо запретить историю, которая дает столько
дурных примеров, и мифологию, где даже боги совершают преступления.
Каменный идол, которому поклонялись язычники, вызывает у юнца страсть и
отчаяние. Херей299 у Теренция и Энколпий300 у Петрония утверждаются в
мысли совершить злодейство, увидев картины с изображением любовных утех бо-
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 421
гов, картины, которые у других зрителей, возможно, вызывали почтение.
Большинство древнегреческих и старофранцузских романов, следуя порокам
своего времени, мало пеклись о нравственности. Еще менее разборчивы
итальянцы, и мне трудно понять, как Тассо и Гварини, с их утонченным умом,
не ощутили низости двусмысленных и даже непристойных выражений,
заставивших померкнуть красоту их пасторалей. Даже в «Астрее» и некоторых
других появившихся после нее французских романах еще встречаются некоторые
вольности, но сегодняшние — я говорю о хороших сочинениях — совершенно
освободились от этого недостатка, в них нет ни единого слова или выражения,
оскорбительного для целомудренного слуха, ни единого поступка, который мог
бы обидеть стыдливость. Здесь налицо два преимущества, в которых, как
считал Фотий, заключается основная польза от чтения романов: разнузданное и
порочное поведение неизменно заставляет в конце концов сгорать от стыда и
приводит, после долговременного, но тщетного ликования, к краху. А вот
порядочность и добродетель, напротив, торжествуют после долгих гонений. Душа,
подготовленная ко злу, увлекается превратно понятыми и не применимыми к
ней примерами. Она полагается на приятное начало преступления и
совершенно не желает думать о последствиях. Зарождение и развитие греховной
страсти представляются ей в виде истории, достойной подражания, а гнусность,
следующая за ними, — в виде сказки. Причины подобной испорченности
заключены не в произведении, а в дурных наклонностях читателей. О любви, уверяют
некоторые, в романах рассказывается так вкрадчиво и так завлекательно, что
эта опасная страсть легко овладевает юными сердцами. На это я отвечаю, что
любовь нисколько не опасна, более того, молодые люди, вращающиеся в
свете, должны знать об этой страсти как можно больше, чтобы не поддаваться
другим, преступным страстям, чтобы уметь выпутываться из их тенет и
правильно вести себя по отношению к любви, преследующей честные и святые
цели. Верность этого подтверждает сама жизнь: чем меньше женщины знают
о любви, тем в большей степени они уязвимы, а те из них, которые не знают
о ней ничего, чаще других оказываются обманутыми. Ведь ничто так хорошо
не закаляет неокрепшие умы, пришедшие из университетов, не оттачивает и не
делает их пригодными для жизни, как чтение хороших романов. Романы — это
молчаливые наставники, которые приходят на смену школьным
преподавателям и более наглядно и убедительно учат молодых людей правильно говорить
и жить, выбивая из них пыль школярства. Я говорю только о тех молодых
людях, кому предназначено жить в светском обществе, вращаясь в котором они
не должны выглядеть смешно. Если же они не будут ничего смыслить в
языке галантности и учтивости, то станут мишенью для острословов; тем же, кто
призван вести жизнь вдали от света, в уединении, нет ни малейшего смысла
знать о любви и ее интригах. Гораций утверждает, что «Илиада» Гомера
лучше и ярче учит нравственности, нежели самые знаменитые философы301. И
пусть нельзя сказать то же самое о романах, все же, полагаю, к ним можно, по
крайней мере, отнести слова Плутарха о поэзии: когда суровые философские
заповеди облечены в прекрасную поэтическую форму, они легче проникают в
души молодых людей, нежели когда предстают во всей своей суровости. Да и
422
Дополнения
большинство философов прибегали к помощи басен, дабы доказать свои
воззрения, и горячо расхваливали пользу подобного надувательства,
обманывающего нас во имя нашего же блага. И даже Саллюстий, этот циничный
философ, наделил мифы божественным характером, не только потому, что к ним
прибегают поэты, вдохновляемые богами, философы, просвещаемые богами,
священнослужители, отправляющие ради возвеличения божественного культа
религиозные ритуалы, и даже сами боги, говорящие устами оракулов; как боги
наделяют обычных людей лишь вполне осязаемыми благами и только
мудрецов — благами невещественными, умозрительными, так и мифы и сказки,
объясняя всем и каждому существование богов, только настоящим мыслителям
открывают подлинную природу божественного. Мир, управляемый богами,
похож на сказку, ибо в нем явлено внешнее, очевидное, но сокрыто внутреннее,
связанное с жизнью духа. Наконец Саллюстий добавляет, что чем более
абсурдными на первый взгляд кажутся мифы, тем тверже надлежит веровать, что они
скрывают некие тайны, и тем больше труда необходимо приложить, чтобы эти
тайны постичь. Медики, которых следует отнести к разряду философов,
поскольку они культивируют физику — основу всей античной философии,
помещали мифы в свои рецепты, ибо считали их лекарствами, способными лечить
тело благодаря тому, что доставляют усладу душе. Один знаменитый лекарь
античных времен302, то ли в силу этих причин, то ли исходя из собственного
опыта, совершенно серьезно прописывал чтение мифов некоторым больным.
Даже политика, представляющая собой часть философии и перенявшая у нее
свои принципы, почитает мифы выше, чем поэтическое искусство. Страбон
писал, что вся античная теология зиждется на мифах и что законодатели, даже
больше, нежели поэты, используют их, памятуя, что желание познавать и
воспринимать новое проявляется у людей с детства — отсюда наше пристрастие к
сказкам. В случае, когда чудесное сочетается с новым, возрастает удовольствие,
составляющее главное очарование обучения; очень важно воспользоваться
подобной приманкой и намазать медом края стакана, чтобы заставить детей
проглотить горькое снадобье учения, призванное очистить организм от вредных
веществ. Было бы чрезмерным требовать от властей вменять изучение романов
в обязанность, следуя примеру Платона, ратовавшего за непременное чтение
мифов303. Он настаивал, чтобы матери и кормилицы учили мифы наизусть, а
затем рассказывали детям, воспитывая их в неправде, чтобы впоследствии
разъяснить истину и, прибегнув к помощи школьных выдумок, сформировать
ум еще лучше, чем тело — физическими упражнениями; чтобы матерей
сменили наставники, под руководством которых молодые люди пройдут курс
мифологии, то есть постигнут суть мифов. Мы бы выдвинули еще более чрезмерные
требования, если бы захотели, чтобы романы читали вслух в школах, как в
наши дни читают древние поэмы, которые, хотя и наполнены мирскими,
нечестивыми и противными святости, а порой и благопристойности,
изречениями и примерами, тем не менее совершенно не опасны и даже, напротив, явно
полезны для юных душ. Но еще не слишком поздно требовать, чтобы по
меньшей мере к романам, отвечающим законам скромности и целомудрия,
строгие критики проявляли терпимость и относились как к комедиям и балам, ко-
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 423
торые один великий святой епископ последних лет304 назвал в своих правилах
благочестия развлечениями, становящимися хорошими или плохими в
зависимости от того, как их устраивают. Если он судит таким образом об
ассамблеях, где принято не стесняясь обмениваться галантными любезностями, где глаза
и уши как проводники душ открыты всему самому суетному, что только
существует в нашем мире, и где присутствие предметов воздыхания столь сильно
смущает сердце, то я не могу поверить, что он нашел бы гораздо более
опасным чтение благопристойных романов, способных воздействовать лишь на
воображение; такие романы если и заставляют чье-нибудь слабое и плохо
защищенное сердце трепетать и пылать любовью, то любовь эта в лучшем случае
оказывается безответной. И поэтому я готов разделить мнение Платона,
который ратовал за введение должности оценщиков, призванных отбирать лучшие
и отвергать худшие из мифов305.
Оноре д'Юрфе первым очистил романы от варварства и своей
непревзойденной «Астреей», самым искусным и утонченным произведением из всех,
созданных в этом жанре, подчинил их определенным правилам. Этим романом
он затмил славу, завоеванную в искусстве сочинения романов греками,
итальянцами и испанцами. Другой епископ, ученик и близкий друг того, первого, о
котором уже шла речь выше, прославившийся широтой ума и многими
сочинениями306, уважаемый за праведный образ жизни, воспел хвалу и «Астрее», и
ее автору, причем от чистого сердца, с глубоким почтением к господину
д'Юрфе. Он не скрывал тесных отношений, которые и он, и тот, другой прелат, его
духовный отец и учитель, поддерживали с господином д'Юрфе. Но какой бы
чудесной ни была «Астрея», она не лишила смелости последующие поколения
авторов ступить на тот же путь и не вызвала в обществе столь уж бурного
восхищения, которое не оставило бы места для множества других прекрасных
романов, появившихся затем во Франции. И вдруг мы не без удивления
узнали, что молодая женщина, заслуживающая своей скромностью не меньше
уважения, чем достоинствами, выпустила в свет под чужим именем несколько
произведений, великодушно подарив другому славу, по праву принадлежащую
ей, и вознаградив себя лишь собственной добродетелью. Трудясь во славу
французского народа, она как бы желала избавить мужской пол от укоров
самолюбия. Но, несмотря на добровольное самоотречение, время воздало ей
должное, и мы узнали, что «Великий паша», «Великий Кир» и «Клелия»307
принадлежат перу мадемуазель де Скюдери. Отныне искусство создания романов,
которое оборонялось от придирчивых критиков, не только приводя похвалы,
пропетые ему патриархом Фотием, но и ссылаясь на великие примеры тех, кто
внес в литературу собственный весомый вклад, вправе приводить в свое
оправдание имя мадемуазель де Скюдери. Теперь можно с гордостью говорить, что
этому жанру посвятила себя мудрая и добродетельная молодая женщина,
принадлежащая к когорте романистов, какими были философы (Апулей),
римские преторы (Сисенна), проконсулы (Марциан Капелла), консулы (Петроний),
императоры (Клодий Альбин), священники (Феодор Продром), епископы (Ге-
лиодор и Ахилл Татий), Папы (Пий П, написавший новеллу о любви Эвриала
и Лукреции308) и святые (Иоанн Дамаскин). Поскольку, как я показал выше и
424
Дополнения
как нас убеждают Пиндар и Плутарх, одним из самых замечательных качеств
человеческого ума является умение придумать великолепную фабулу и
мастерски ее изложить, смею заверить Вас, сударь, что уготованный «Заиде» успех
превзойдет все Ваши ожидания, настолько приключения в ней свежи и
трогательны, а повествование безупречно и изысканно. Будучи заинтересован в
прославлении великого короля309, которого небеса поставили над нами, я горячо
желаю, чтобы у нас появилась история его чудесного царствования, написанная
таким же благородным стилем, с такой же точностью и такой же
рассудительностью. Добродетель, направляющая его прекрасные деяния, столь героична,
а удача, сопровождающая их, столь удивительна, что потомки будут теряться
в догадках: история это или роман?
ПРИЛОЖЕНИЯ
К. А. Чекалов
МАРИ-МАДЛЕН ДЕ ЛАФАЙЕТ
И ЕЕ ТВОРЧЕСТВО
Произведения Мари-Мадлен де Лафайет (1634—1693) принадлежат к вершинам
французской прозы, и не только XVII века. Иногда сделанные ею жанровые
открытия именуют даже «изобретением французского романа»1. К изучению ее наследия
обращались не только многие известные литературоведы, но и писатели и философы,
включая Руссо и Стендаля, Кроче и Анатоля Франса, Камю и Фуко.
Несмотря на кажущуюся прозрачность и ясность ее прозы и незамысловатость
биографии, госпожа де Лафайет продолжает хранить свои тайны. Не случайно же
друзья прозвали ее le Brouillard (Туман). Вплоть до конца XX века вопрос об
авторстве «Принцессы де Монпансье», «Принцессы Клевской» и «Заиды» оставался
дискуссионным. Примечательно, что в монографии бельгийской исследовательницы
Ж. Мулиньо, изданной в 1980 году, все эти книги вполне определенно приписаны
Жану Реньо де Сегре2. Не вполне ясны и некоторые особенности личности
писательницы. Была ли она сентиментальна? «Ничуть», — полагал классик французского
литературоведения Г. Лансон3. «Да, и в высшей степени», — считали другие ученые (А. Виал-
лис)4. Случалось, что факты биографии Лафайет произвольно сближали с
происходящим в ее романах — этим грешил, например, Сент-Бёв. Но едва ли такой подход
может способствовать рассеиванию «тумана».
Мари-Мадлен де Лафайет, урожденная Пьош де Лавернь, — представительница
славной плеяды французских женщин-писательниц XVII века. Их было немало, но
они старались скрыть свои имена и часто выступали под масками; в этом следует
видеть не только дань барочной традиции, но и веление социальной этики —
профессиональное писательство среди женщин даже в XVTH веке казалось чем-то из ряда
вон выходящим, и специфически «женскими» жанрами считались разве что
письма и мемуары. Но все-таки госпожа де Жанлис в очерке о писательнице выражает
удивление — как это Лафайет могла скрывать авторство своих произведений?! И
полагает, что причиной тому послужила ее редкая скромность5. О той же
скромности и даже нетерпимости к похвалам писали и другие исследователи творчества
Лафайет. Но проблема анонимности на самом деле гораздо сложнее, иногда отсут-
1 Michel N.y Rougemont M. de. Le Rameau subtil: Prosatrices françaises entre 1364 et 1954. P., 1993. P. 126.
2 См.: Mouligneau G. Madame de La Fayette, romancière? Bruxelles, 1980.
3 Lanson G. Histoire de la littérature française. P., 1912. P. 489.
4 ViallisA. La vraie Mme de La Fayette. P.: Bloud et Gay, 1926. P. 10.
5 См.: Genlis, mme de. Madame de La Fayette // De l'influence des femmes sur la littérature française:
En 2 vol. P., 1811. T. l.P. 152.
428
K.A. Чекалов
ствие имени на обложке увеличивало степень свободы автора, сообщало его стилю
оригинальность и новизну.
Госпожа де Лафайет — безусловно, наиболее яркая и талантливая среди
писательниц XVII века. Хотя это мнение наверняка не разделили бы читатели ее эпохи,
подчас отдававшие предпочтение легкой и изящной прозе госпожи де Вильдье. Но
вот что касается внешности, то здесь ее несомненно затмевали и госпожа де Севи-
нье, и Мадлен де Скюдери. Правда, кардинал де Рец именует ее «хорошенькой»6.
Описание внешности Мари-Мадлен, составленное беззаветно влюбленным в нее
Жилем Менажем, вряд ли можно считать достоверным. Сама она не без кокетства
подчеркивает в письме Менажу от 15 ноября 1657 года: «В то время (то есть год тому
назад. — К. Ч.) я была довольно недурна собой, и этого вполне достаточно, чтобы
прослыть красавицей; ведь, в конце концов, красота не вечна, не в пример похвалам
в ее адрес»7. Что же касается немногочисленных портретных изображений, то они
противоречат одно другому. На одних облик Мари-Мадлен несколько комичен: длинный,
с горбинкой — совсем как у другой известной французской писательницы,
Маргариты Наваррской, — нос спускается прямо к чересчур крупной верхней губе, да и
массивный подбородок вкупе с вьшученными глазами не украшают ее облик. И
наоборот, на других изображениях (анонимный портрет из замка Шамбор) она выглядит
весьма привлекательной: изящный овал лица, красиво очерченные дуги бровей,
крупный лоб, свидетельствующий о незаурядном уме, а самое главное — живой,
ироничный, выразительный взгляд синих глаз. Менаж в соответствии с
традиционными поэтическими клише нахваливает белизну кожи Мари-Мадлен. В данном случае
топос совпадает с реальностью — природная белизна эта усилилась, когда госпожа
де Лафайет села на молочную диету.
Жизненный путь
Госпожа де Лафайет не принадлежала к особо знатному роду. Она родилась
18 марта 1634 года в Париже. Отец ее, Марк Пьош де Лавернь, носил титул
конюшего (Ecuyer), самый мелкий из дворянских чинов. Правда, участие в его судьбе
Ришелье помогло ему продвинуться по военной службе (он командовал полком в
Пикардии), а после выхода в отставку стать гувернером племянника кардинала. Мать,
Элизабет (Изабель) Пена, также не могла похвастаться знатностью. Она была
родом из провансальской семьи, откуда вышли и ученые, и поэты. Весьма
нелицеприятную ее характеристику мы находим в мемуарах того же де Реца: она «в глубине
души была женщина порядочная, но притом в высшей степени корыстная и до
крайности падкая на любую интригу»8. Зато крестные родители Мари-Мадлен по праву
гордились благородством крови: крестный отец, маркиз де Брезе, приходился
родственником Ришелье; любимой племянницей кардинала являлась и крестная мать,
госпожа де Комбале, будущая герцогиня д'Эгийон, — восемь лет спустя она будет
неотлучно находиться у смертного одра Ришелье. Отец, библиофил и любитель искусств,
человек чрезвычайно деятельный, отличался страстью к строительству. Де Лавернь
6 Рец, кардинал де. Мемуары. М.: Ладомир: Наука, 1997. С. 576. (Лит. памятники)
7 La Fayette M.-M. de. Œuvres complètes. P.: François Bourin, 1990. P. 561.
8 Рец, кардинал de. Указ. соч. С. 469.
Мари-Мадлен de Лафайет и ее творчество
429
отстроил один за другим два особняка в квартале Сен-Жермен, в то время
предместья парижской столицы, на пересечении улиц Вожирар и Феру. Именно здесь,
собственно, и провела большую часть жизни писательница, по натуре своей
домоседка. Среди излюбленных ею маршрутов — прогулки по Люксембургскому саду. В
этом квартале она родилась, здесь же и скончалась; ее крестины и похороны
прошли в одном и том же храме — позднеготической церкви Сен-Сюлышс. Совсем
рядом возвышались монастырь бенедиктинок и импозантный Малый Люксембургский
дворец, ранее подаренный Марией Медичи Ришелье; позднее в нем поселилась уже
упоминавшаяся герцогиня д'Эгийон.
О детстве и отрочестве Мари-Мадлен нет почти никаких сведений. Отец умер,
когда ей едва исполнилось пятнадцать лет. Через год мать вторично вышла замуж
за шевалье Рене-Рено де Севинье, родственника знаменитой писательницы,
принимавшего непосредственное участие в Фронде (в мемуарах Реца он упомянут как
одна из ключевых фигур восстания, а после поражения Фронды именно он помог
кардиналу бежать из Нантского замка). Но как раз благодаря этому браку, без
энтузиазма встреченному юной де Лавернь, ей удалось впервые встретиться с
госпожой де Севинье, молодой вдовой, красотой и обаянием которой Мари-Мадлен была
очарована. Так началась их многолетняя дружба, которой не помешали ни
восьмилетняя разница в возрасте, ни несходство темпераментов: жизнерадостная и
сильная Севинье контрастировала с хрупкой и меланхоличной Лафайет. Литературный
портрет госпожи де Севинье стал первым дошедшим до нас сочинением госпожи
де Лафайет. Но справедливости ради надо отметить, что со стороны Мари-Мадлен
эта дружба (как и дружба с Менажем, о которой будет сказано ниже) иногда
принимала характер диктата.
Мари-Мадлен училась дома, как это было принято в то время. Сегре
сообщает: «<...> приступив к изучению латыни, она уже через три месяца знала ее лучше
своих учителей, Менажа и Рапена»9. Не следует воспринимать эту информацию
слишком буквально: биография Сегре — из разряда апологетических. К тому же
из писем Мари-Мадлен следует, что у нее имелся еще и другой преподаватель
латыни. Что до Менажа, то этот незадачливый Сен-Пре едва ли мог успешно
справиться со своими обязанностями. Жилю Менажу, тогда еще начинающему, а
впоследствии знаменитому литератору, суждено было сыграть важную роль в судьбе
Мари-Мадлен. В какой-то мере именно ему она обязана приобщением к
литературному творчеству. Кроме того, по рекомендации Менажа она прочитала
французский перевод книги итальянского эрудита Давила «История гражданских войн во
Франции» (1630; французский перевод — 1642), которая послужила сюжетным
источником «Принцессы де Монпансье» и «Принцессы Клевской». По образованию
юрист, Менаж вскоре полностью отказался от профессиональной карьеры и стал
организатором так называемых «сред» — в его доме собирались известные
писатели. Среди них были почтенный Жан Шаплен, сыгравший большую роль в
выработке теории классицизма; будущий автор «Городского романа» (1662) и «Всеобщего
словаря» (1690) Антуан Фюретьер; историограф Поль Пелиссон, после подавления
Фронды поплатившийся за близость к опальному Фуке четырьмя годами
заключения (Мари-Мадлен и Менаж навещали его в Бастилии); приятель Пелиссона, рано
ушедший из жизни поэт Жан-Франсуа Сарразен...
9 Segrais J.-R. de. Segraisiana, ou Mélanges d'histoire et de littérature. P., 1721. P. 28.
430
K.A. Чекалов
Менажу покровительствовали сильные мира сего — Мазарини, к примеру,
назначил ему пенсию как большому знатоку итальянской культуры. К моменту
знакомства с Мари-Мадлен он уже составил и опубликовал «Этимологический словарь»
(1650), не лишенный, впрочем, ошибок. Но все-таки даже Таллеман де Рео, автор
язвительнейшего очерка о Менаже, вынужден был признать, что этот словарь — одно
из лучших сочинений не слишком почитаемого им автора10. Менаж был страстным,
непримиримым полемистом своего времени, и даже строгий блюститель
литературной правильности, теоретик классицизма Буало не осмеливался ему перечить.
Внешне привлекательный, но не отличавшийся блестящими манерами, Менаж
сначала влюбился в Севинье — старшую из двух подруг (но не вызвал никакого
ответного чувства), а затем обратил взоры к шестнадцатилетней Мари-Мадлен
(самому Менажу в тот момент уже минуло тридцать восемь). Эту несколько комичную
двойную любовь он затем отразил в собственных виршах, а в одном из позднейших
писем замечал: «Я любил госпожу де Севинье в прозе и госпожу де Лавернь в
стихах». Именно юной Мари-Мадлен он посвятил свой комментарий к «Аминте» Тас-
со. Лавернь наслаждается сочиненными Менажем (и нередко посвященными ей)
французскими, латинскими, итальянскими стихами и шутливо именует себя
«Госпожой Лаурой». Их совместные прогулки сопровождались чтением Тассо и Гвари-
ни. Мари-Мадлен училась успешно (хотя и ленилась). Легенда гласит, что она
овладела не только итальянским и латынью, но также испанским, греческим и немного
ивритом (под руководством Юэ; см. о нем ниже). На самом деле, по-видимому, дело
ограничилось итальянским и не слишком совершенной латынью.
Годы учения Мари-Мадлен совпали с вынужденным пребыванием в провинции.
Вторая Фронда внесла коррективы в жизнь ее семьи. Несомненно, события вокруг
парижской ратуши (кульминация восстания) коснулись будущей писательницы.
После того как восстание было подавлено и король вновь взял власть в Париже
(это произошло в октябре 1652 года), Рене-Рено де Севинье пришлось покинуть
Париж и поселиться в мрачном замке Шампир в окрестностях Анже. Визиты Мена-
жа и чтение книг скрашивали «пасторальную» жизнь Мари-Мадлен. Возвращение
в столицу произошло лишь в 1655 году. Считается, что именно в период ссылки
будущая писательница впала в меланхолию, которая так и не отступит от нее до
конца жизни.
В свои восемнадцать лет Мари-Мадлен выглядела в глазах света «несравненной
прециозницей»11. Она вошла в салон Рамбуйе следом за своей подругой госпожой
де Севинье в момент, когда он уже клонился к закату (периодом расцвета салона
считаются 1624—1648 годы). Маркизе де Рамбуйе уже за семьдесят, ее супруг умер,
а дочь Жюли вышла в 1645 году замуж и перебралась в провинцию; многие
завсегдатаи покинули салон. Но все-таки поэты продолжали захаживать сюда и
почитывать стихи, а философы — рассуждать на ученые темы. Госпожа де Севинье внесла
оживление в последние годы деятельности салона. Мари-Мадлен де Лавернь
присутствовала на этих собраниях под именем Фелисианы, о чем свидетельствует в
«Словаре прециозниц» Сомез. «Фелисиана — обходительная, молодая и остроумная
прециозница, веселого нрава, приятна в общении, прекрасно обучена манерам,
обязательна и немного насмешлива; но высмеивает она вас с таким отменным изяще-
10 См.: Tallemant des Réaux G. Historiettes: En 2 vol. P.: Gallimard, 1961. T. 2. P. 327.
11 Duchêne R. Madame de La Fayette, la romancière aux cent bras. P.: Fayard, 1988. P. 56.
Мари-Мадлен de Лафайет и ее творчество
431
ством, что те, с кем она суровее всего обходится, только крепче любят ее <...>»12. У
Мари-Мадлен здравого смысла было даже больше, чем у Рамбуйе, а нелюбовь к ас]>
фектации и напыщенности заставляла ее соблюдать дистанцию по отношению к
происходящему. Когда тяжеловесный Шаплен или галантный Демаре де Сен-Сорлен
подолгу рассуждали о любви, ей с трудом удавалось скрыть усмешку. В лучшем
случае она лукаво переглядывалась с госпожой де Севинье. Как бы то ни было, от
прециозности она вскоре отошла.
В своей чрезвычайно желчной и не во всем точной книге «Истинная госпожа де
Лафайет» А. Виаллис утверждает, что брак Мари-Мадлен не был столь уж
элементарным делом, учитывая скромность ее достатка13. На самом же деле она
обладала немалым состоянием в 150 000 ливров (к тому же две ее сестры ушли в
монастырь и тем самым утратили права на наследство), и если брак был заключен с
необычной поспешностью, то это, возможно, следует связывать с необходимостью
замаскировать грехи молодости14. Кстати, дело не обошлось без злых эпиграмм, где
ставилась под сомнение девственность новобрачной.
Жених не заставил себя слишком долго ждать. Им оказался Жан-Франсуа Мо-
тье, граф де Лафайет, выходец из почтенного овернского рода, на восемнадцать
лет старше своей избранницы. Довольно приятный на вид, умом он не блистал и,
конечно, не мог соответствовать интеллектуальным притязаниям супруги. Любви
между ними не было, ее заменяла привязанность. Брак заключили в 1655 году,
молодожены переехали в замок Надд в Оверни (близ Клермон-Феррана), но жизнь
в провинции явно тяготила молодую супругу. Она была в душе горожанкой. «Когда
приезжаешь в Париж, всегда чувствуешь себя лучше», — заметила она как-то
Менажу. Правда, финансовые неудачи мужа заставили ее встрепенуться —
сказалась унаследованная от матери деловая жилка. Мари-Мадлен с явным
удовольствием отдалась тяжбам. Муж оказался перед необходимостью выплатить
унаследованные от отца долги, и на один из его замков едва не был наложен арест. Процесс
тянулся вплоть до 1666 года. Между тем состояние здоровья Мари-Мадлен
оставляло желать лучшего — начиная с двадцатитрехлетнего возраста она страдала от
подагры, и ей то и дело приходилось ездить на воды в расположенный
неподалеку курорт Виши. Среди используемых ею снадобий — отвар из гадюки, коему в
XVII веке приписывались целебные свойства. В письмах ее подруги, госпожи де
Севинье, сетования на «ужасающее здоровье» Мари-Мадлен звучат постоянно.
Лишь литературные новости немного развлекали больную; среди
немногочисленных радостей — чтение присылаемых Менажем, по мере их выхода в свет, томов
романа Мадлен де Скюдери «Клелия». Она высоко оценила стиль книги, который
представлялся ей простым и ясным; нам трудно понять эту оценку, ведь
стилистическая модель, которую избрала для самого известного из своих романов сама
Мари-Мадлен, совершенно иная. Так или иначе, имя Скюдери чаще любых других
имен писателей того времени встречается в ее письмах — одиннадцать раз. С
удовольствием, подчас прибегая к помощи друзей, разгадывала Мари-Мадлен
заключенные в книге портреты современников, анализировала приложенную к первому
тому романа Карту Страны нежности.
12 Somaize А.В. Le grand dictionnaire des Prétieuses: En 2 vol. P., 1661. T. 1. P. 177—178.
13 См.: ViallisA. Op. cit. P. 28.
14 См.: Duchêne R. Op. cit. P. 12, 83.
432
K.A. Чекалов
Уже в конце 1657 года Мари-Мадлен снова оказалась в Париже и, несмотря на
беременность, с головой окунулась в светскую жизнь. Что же касается ее супруга, то он
продолжал предаваться любимому занятию — охоте в живописных овернских полях.
В дальнейшем муж стал ей совершенно неинтересен (в письмах госпожи де Лафайет
его имя практически не упоминается), хотя порой он и наведывался в Париж. В марте
1658 года у госпожи де Лафайет рождается первенец, Луи, год спустя — второй сын,
Арман. Но и двое детей не слишком занимали госпожу де Лафайет — вплоть до их
взросления, когда мать приняла самое деятельное участие в устройстве их судьбы.
(Старший сын стал аббатом; Сен-Симон отзывался о нем как о человеке большого
ума, но ироничный Сент-Бёв замечает: «<...> о нем известно главным образом то, что
он беспечно одалживал окружающим рукописи матери и в конце концов терял их»15.
Младший же сделался офицером, в год кончины матери дослужился до
бригадного генерала, но вскоре и сам ушел из жизни.)
В 1659 году у Мари-Мадлен появились новые друзья, Жан Реньо де Сегре и
Пьер-Даниэль Юэ. Последний в своих мемуарах сообщает, что познакомился с
писательницей благодаря Менажу. Юэ сочетал в себе ученого-латиниста,
математика, физика, юриста, теолога и философа и в то же время человека вполне
светского. О его стихах Лафайет отзывалась одобрительно. Но самым значительным
памятником дружбы стало «Письмо-трактат о происхождении романов». В
дальнейшем Юэ семь лет занимал пост епископа Суассонского, получил титул
академика и прожил дольше всех предполагаемых участников работы над
сочинениями Мари-Мадлен. Он умер в 1721 году в возрасте 91 года и пользовался большим
авторитетом у современников.
С 1672 года главным литературным советником и доверенным лицом
Мари-Мадлен становится поэт, прозаик и переводчик Сегре (1624—1701). Вольтер был весьма
низкого мнения о его стихах и куда более снисходителен к его прозе. После
беззаветного двадцатичетырехлетнего служения госпоже де Монпансье (он даже
разделил с ней ссылку в годы Фронды) Сегре впал в немилость. Он все чаще бывает у
Лафайет, и в конце концов писательница предоставила ему жилье в собственном доме.
Наиболее значительным произведением Сегре следует считать вьшущенные в 1656
году «Французские новеллы, или Увеселения принцессы Аврелии». Книга была
написана для развлечения мадемуазель де Монпансье и недвусмысленно отсылала к
жанровой структуре «Декамерона». Однако в 1676 году писатель расстался с Мари-
Мадлен и уехал на родину, в город Кан (Бретань).
1660 год оказался для обоих супругов Лафайет чрезвычайно ответственным. Едва
не были ликвидированы их владения. Пришлось срочно продать один из особняков
на улице Феру. Но этот год также принес и приятные перемены: стараниями
Генриетты Английской госпожа де Лафайет была принята при дворе. Ее знакомство с
английской принцессой состоялось в монастыре Шайо, когда Генриетте было всего семь
лет (в ту пору обязанности настоятельницы монастыря исполняла родственница отца
Мари-Мадлен, Анжелика де Лафайет; Жан Расин в «Краткой истории Пор-Рояля»
отзывается о ней весьма положительно). После казни Кромвелем ее отца,
английского короля Карла I, Генриетта с матерью — дочерью короля Франции Генриха IV —
оказались в изгнании и влачили жалкое существование. Голод и холод заставили их
укрыться в недавно созданном монастыре. Но вот с 1660 года положение изменилось.
Sainte-Beuve Ch.A. Portraits de femmes. P., 1998. P. 39.
Мари-Мадлен de Лафайет и ее творчество
433
Брат Генриетты стал новым королем Англии, а год спустя она вышла замуж за
брата Людовика XIV, Филиппа Французского (во Франции брат короля носил титул
Месье, а его жена — Мадам). Это позволило Мари-Мадлен — отныне фаворитке
Мадам — оказаться в высшем свете. Там она могла наблюдать за развитием чувства
кокетливой и обворожительной Мадам к графу де Гишу (оно окончилось скандальным
изгнанием графа). Если раньше госпожа де Лафайет в основном вращалась в
кругах литераторов, то теперь Людовик XTV демонстрировал ей свое расположение и
даже самолично, в коляске, показал ей сады Версаля. При дворе все были
чрезвычайно молоды — королю 24 года, его брату 22, Мадам — 17. На этом фоне
двадцатисемилетняя госпожа де Лафайет выглядела умудренной опытом. Раннюю и не вполне
объяснимую кончину Мадам в 1670 году она оплакивала безутешно.
В 1663 году отношения Мари-Мадлен и Менажа стали напряженными: она
безуспешно атакует его письмами. Вскоре происходит окончательный разрыв.
Издевательски об этом периоде жизни Менажа пишет Таллеман де Рео: «Когда Менажу стукнуло
пятьдесят, он отправился ко всем своим знакомым красавицам, с тем чтобы
распрощаться с ними»16. Несомненно, здесь сыграла свою роль и ревность к новому
увлечению Мари-Мадлен — речь идет о знаменитом авторе «Максим». Как начало, так и
развитие ее отношений с Ларошфуко разными биографами оцениваются по-разному.
Встреча их произошла в особняке Невера (примечательно, что в этом кругу
вращались и янсенисты). СЬрокапятилетний герцог де Ларошфуко в то время уже перестал
быть завзятым сердцеедом. Глаза его видели очень плохо, к тому же он страдал ярко
выраженной неврастенией. Тем не менее Ларошфуко сразу же привлек к себе
пристальное внимание госпожи де Лафайет, и она старалась бывать там же, где и он. Ей
пришлось приложить немало усилий, чтобы проникнуть в отнюдь не для всех
открытый — в отличие от салона Рамбуйе — дом маркизы де Сабле, который регулярно
посещал Паскаль, а также и Ларошфуко. Возможно, причиной тому был не только
присущий салону де Сабле «пьянящий аромат ереси и вольнодумства»17,
привлекавший недавнего участника Фронды (маркиза же с 1640 года придерживалась янсенист-
ских убеждений), не только близкие отношения с самой маркизой, но и
гастрономические увлечения писателя (в одном из писем он просит в качестве награды за чтение
«Максим» угостить его морковным супом и рагу из барашка). В конце концов, не без
унижений, госпоже де Лафайет удается достичь своей цели. Как и многие другие, она
присутствовала на публичных чтениях пока что не напечатанных «Максим».
Известен ее отзыв, адресованный маркизе де Сабле: «Ах, сударыня, каким же испорченным
умом и сердцем надо обладать, чтобы суметь выдумать все это!»18 Иногда в этих
строках усматривают обыкновенное кокетство, верный признак зарождающегося романа.
Как бы то ни было, стремление Мари-Мадлен как-то повлиять на моральный облик
Ларошфуко, усовершенствовать его, изменить в лучшую сторону его представления
о женщине не подлежит сомнению, и версия об ее участии в редактуре «Максим» (о
чем писал, в частности, Юэ и о чем уже в XVII веке ходили упорные слухи), видимо,
имеет право на существование.
Е^два ли стоит задаваться вопросом, как далеко зашли их отношения; на этот счет
существуют различные мнения, имели место и вульгарные куплеты, едко вы-
Tallemant des Réaux G. Op. cit. P. 327.
Magne E. Le Cœur et l'esprit de Madame de La Fayette. P., 1927. P. 43.
La Fayette M.-M. de. Œuvres complètes. P.: François Bourin, 1990. P. 582.
28. Заказ № K-6559
434
К.А. Чекалов
смеивающие «la prude Lafayette / Et son Rochefoucauld» (то есть «недотрогу Лафайет
и ее Ларошфуко»). Сама писательница с негодованием отвергала возможность какой
бы то ни было близости. Не исключено, что их дружба носила чисто платонический
характер, в духе прославленной еще романом «Астрея» «благопристойной приязни»
(«honneste amitié»), тем более что в качестве третьего лица при их встречах нередко
присутствовала госпожа де Севинье, да и маркиза де Сабле была хорошо осведомлена
об их взаимоотношениях. Мари-Мадлен не принадлежала к страстным натурам, что
не преминул отметить в «Словаре прециозниц» Сомез, занеся Лафайет в разряд
«бесчеловечных» дам. Не только в повседневной жизни, но и в лучшем из своих
сочинений писательница осуждает страсть как худшее из бедствий. Будучи расчетливой, она
могла воспринимать Ларошфуко не столько как кавалера, сколько как знатного
вельможу, способного открыть ей новые двери. Поначалу писатель сопротивлялся, затем,
к 1667 году, оказался полностью «приручен»19 Мари-Мадлен. После кончины автора
«Максим» госпожа де Севинье размышляет в одном из писем о причинах их дружбы:
оба были домоседы; оба страдали от одной и той же болезни. Впрочем, суть вопроса
этим не исчерпывается; имела место и духовная, и творческая близость. Кроме того,
и Ларошфуко не назовешь страстной натурой, и в его поведении нередко
просматривалась расчетливость (хотя он храбро сражался в годы Фронды на стороне принца
де Конде). Не исключено, что Мари-Мадлен помогала ему в делах, например, в
восстановлении доброго отношения короля к сыну писателя, принцу Марсийаку (сделать
это удалось благодаря связям с Мадам).
К 1675 году Мари-Мадлен считалась одним из самых светлых умов своего
времени. Хотя она так и не создала собственный салон (а намерения такого рода у нее
когда-то были), но слыла покровительницей словесности. К ней приезжали с
визитами такие известные писатели, как Расин, Буало и Лафонтен (последний как-то
подарил ей новомодную игру — бильярд, вещь, учитывая состояние здоровья Мари-
Мадлен, совершенно неуместную). Корнель прочел в ее доме на улице Вожирар не
слишком удачную из своих пьес, «героическую комедию» «Пульхерия» (весной 1672
года он читал ее в разных домах Парижа, а в ноябре состоялась премьера), и имел
успех. Видимо, судьба вверившей себя Христу и осудившей «безумную страсть»
византийской царевны привлекла внимание госпожи де Лафайет и ее
единомышленников. В том же году с чтением гораздо более знаменитых «Ученых женщин»
выступил здесь Мольер — и вызвал весьма враждебную реакцию (это и понятно, учитывая,
что в комедии явно высмеивался круг самой же госпожи де Лафайет, а в образе
педанта Вадиуса совершенно недвусмысленно запечатлен Менаж).
Творческие достижения не мешали писательнице вести активную светскую жизнь.
А начиная с 1678 года она вступила в переписку с Жанной-Батистой Савойской-Немур,
вышедшей замуж за савойского герцога Карла Эммануила П и после его кончины
принявшей регентство. (Знакомство их состоялось ранее в Париже, в том же монастыре
Шайо.) Ближайшая подруга графини, госпожа де Севинье, никогда не удостаивалась
от графини столь большого количества писем и даже нередко жаловалась на
затянувшееся молчание. Правда, писательница не была достаточно искушена в политике,
чтобы давать советы герцогине. Она не могла понять всех тонкостей взаимоотношений
Савойи и Франции и иногда сообщала такие подробности французской политики,
которые не стоило выдавать главе иностранного государства. Но, несомненно, Мари-
См.: Dédéyan С h. Madame de La Fayette. P., 1965. P. 24.
Мари-Мадлен de Лафайет и ее творчество
435
Мадлен не отдавала себе в этом отчета. Для нее Жанна-Батиста — прежде всего
близкая подруга, которой она шлет модные парижские наряды и безделушки.
Переписка велась при посредничестве Лешрена, личного секретаря герцогини (в XIX веке
двадцать восемь писем были обнаружены в туринском архиве).
Писательница чрезвычайно болезненно пережила кончину Ларошфуко в 1680
году. Госпожа де Севинье написала в связи с этим следующее: «Где отыскать
госпоже де Лафайет другого такого же друга, составлявшего ей столь изысканное,
приятное и очаровательное общество, преисполненного уважения к ней и ее сыну? <...>
Она перестала быть собой. <...> Все утешатся, но только не она»20. Однако в
действительности все получилось несколько иначе, практический склад ума все же
возобладал. Писательница вновь стала появляться при дворе, не испытывала недостатка
в друзьях и деловых знакомствах; как образно выразилась все та же госпожа де
Севинье: «<...> у нее сотня рук, которые достанут повсюду»21. Но графине
недоставало близкого друга, которому она могла бы излить душу. Ни дети, ни госпожа де
Севинье не способны были сыграть эту роль.
Сведений о последних годах жизни писательницы мало. Здоровье ее продолжало
неуклонно ухудшаться, подагра сочеталась с сильнейшей депрессией, но она
мужественно боролась с недугом. Мари-Мадлен увлеклась коллекционированием
живописи (в том числе копий полотен из Савойской пинакотеки), а среди ее приятелей
появился известный художник Пьер Миньяр; она давала ему творческие советы, и
тот, даже став в 1685 году придворным живописцем Короля-Солнца, продолжал
выставлять свои полотна в особняке на улице Вожирар.
От Юэ она узнает о злоключениях своего прежнего кавалера, Менажа, сначала
сломавшего себе ключицу, затем бедро, а с 1690 года вообще не встававшего с
кровати. Она не испытывала зла к нему и в коротком письме просила сообщить о
своих новостях. «Поверьте, заклинаю, что Ваше состояние будет интересовать меня до
гробовой доски, а моя неблагодарность к Вам — кажущаяся»22. Тонкий психолог,
госпожа де Лафайет подписала письмо девичьей фамилией: Лавернь, чего не делала
уже много лет. Менаж, окрыленный, не замедлил с ответом: «Оказанная милость,
когда Вы написали мне собственной рукой, <...> стала огромным утешением для
меня. <...> Не могу передать, какой восторг испытала душа моя по прочтении Вашего
письма. Стыдно сказать, я тысячу раз перечитывал его, тысячу раз целовал, не раз
омывал слезами, а теперь держу его в любимой шкатулке, как дорогое сокровище»23.
Но примечательно, что графиня не делала никаких попыток встретиться с бывшим
возлюбленным — ни у себя дома, ни где-либо еще.
В 1689 году госпожа де Лафайет женила сына Армана на Анне-Мадлен де Ма-
рийак (партия во всех отношениях выгодная — приданое оценивалось в двести
тысяч франков). Устроив его судьбу и чувствуя приближение смерти, она сделала
попытку обратиться к религии, стала читать теологические сочинения. Здесь сыграло
немаловажную роль и влияние подруги — госпожа де Севинье всегда была очень
набожна; «быть может, это и есть тот путь, который поможет госпоже де Лафайет
почувствовать, что боль ее излечима», замечает она, подразумевая под «болью» не
20 Sévigné, mme de. Correspondance: En 3 vol. P.: Gallimard, 1978. Т. П. P. 876.
21 Ibid. Т. Ш. P. 847.
22 La Fayette M.-M. de. Op. cit. P. 642.
23 Цит. по: Magne E. Op. cit. P. 268.
436
K.A. Чекалов
столько недуги, сколько уход из жизни Ларошфуко24. Мари-Мадлен не была напрямую
связана с Пор-Роялем, но идеи янсенистов привлекали ее внимание — еще в 1656 году
она просит Менажа прислать «Письма к провинциалу» Паскаля. Ее духовником
становится аббат Ранее, автор книги «Трактат о святости и обязанностях
монашества», основатель ордена траппистов. Сто сорок лет спустя Шатобриан сделает его
героем своей последней книги. Мари-Мадлен доверяет Ранее свои тревоги, сообщает
о стремлении прийти к душевному спокойствию через веру. Чтение
рекомендованных аббатом книг все же не решает проблем, к тому же графиня не одобряет
чрезмерную аскезу безжалостно умерщлявшего свою плоть аббата. Встречалась она и
с янсенистом Дюге, правда, его суровый ригоризм ей трудно было разделить. Он
рекомендовал читать псалмы, но госпожа де Лафайет быстро отказалась от этого.
Между тем письмо, адресованное Дюге писательнице, не лишено интереса. Дюге
строго отчитывает корреспондентку за индифферентность в вопросах веры и при
этом оперирует такими категориями, как «иллюзия», «покров», «переодевание», —
все они имеют прямое отношение к одной из наиболее существенных для
писательницы, как мы увидим далее, проблем — «быть» и «казаться»25.
Рождение внучки придало госпоже де Лафайет жизненные силы, но участие Ар-
мана в военных операциях в Германии ее крайне тревожило. Возвращение сына с
войны несколько утешило писательницу в ее новом горе — летом 1692 года умер Ме-
наж. Но силы госпожи де Лафайет были на исходе. Она уже не могла
самостоятельно передвигаться. Весной 1693 года, поддерживаемая госпожой де Севинье и Пер-
рье, она отправилась причаститься в Сен-Сюлышс; 25 мая писательницы не стало.
Было сделано вскрытие, выявившее скверное состояние внутренних органов
(опустим натуралистические подробности, содержащиеся в одном из писем госпожи де
Севинье). Двадцать седьмого мая Мари-Мадлен де Лафайет похоронили на
кладбище при церкви Сен-Сюлышс. В некрологе, опубликованном на страницах «Меркюр
Галан», графиня охарактеризована в самых лестных выражениях: «<...> она столь
блистала умом и заслугами, что завоевала уважение самых именитых французов».
На пути к психологической прозе:
«Принцесса де Монпансье»
Как уже говорилось, первым произведением госпожи де Лафайет стал небольшой
словесный портрет госпожи де Севинье, опубликованный стараниями Сегре и Юэ в
коллективном сборнике «Разные портреты» («Divers portraits»), изданном в 1659
году и посвященном герцогине де Монпансье, внучке короля Генриха ГУ, которую
именовали Великая Мадемуазель. Это вместе с тем единственное произведение
писательницы, авторство которого она безусловно признавала. Жанр портрета вошел в моду
с той поры, когда М. де Скюдери наполнила подобными описаниями заключительный
том «Клелии». Парадокс, однако, заключается в том, что именно это сочинение
госпожи де Лафайет лишь в слабой степени несет на себе печать авторской
индивидуальности: оно выдержано в русле прециозной эстетики. Гораздо больший литератур-
24 См.: Sévigné, mme de. Op. cit. Т. Ш. P. 982.
25 Этой проблеме посвящена специальная монография (см.: Kreiter A. Le problème de paraître
dans l'œuvre de Mme de La Fayette. P., 1977).
Мари-Мадлен де Лафайет и ее творчество
437
ный интерес представляет написанный примерно в то же время автопортрет
Ларошфуко; между тем, как и в случае с госпожой де Лафайет, речь идет о дебюте
будущего автора «Максим».
Что же касается «Принцессы де Монпансье», впервые опубликованной
анонимно в 1662 году, то здесь авторский стиль проявляется в полной мере (хотя не
исключено участие в стилистической правке текста Менажа). В новелле нет ничего
ученического, это образец вполне зрелой, мастерски написанной прозы. Автор никак
не определяет жанр «Принцессы де Монпансье». На первый взгляд это
произведение во многом укладывается в жанровую разновидность «романической новеллы»,
популярной во Франции со времен Маргариты Наваррской, а незадолго до
«Принцессы де Монпансье» «обновленной» Сегре в уже упоминавшихся «Французских
новеллах». Читатель погружается в дворцовые интриги XVI века; фоном для
происходящего становятся события, связанные с религиозными войнами, гибелью принца
де Конде, Варфоломеевской ночью... В данном случае выбор эпохи имеет и четкий
нарративный смысл: игра страстей соотносится с передышками в военных
действиях. Особенность новеллы в исключительно высоком статусе главной героини — она
принцесса крови, Мадемуазель (титул племянниц короля); как правило,
новеллисты не искали своих героев в столь высоких кругах (хотя
аристократическая среда — место действия всех новелл Сегре из указанного сборника). И
напротив, короли и королевы как бы оказываются в «Принцессе де Монпансье» на
вторых ролях. Новелла в целом отличается высоким лаконизмом и собранностью
формы, сужением места и времени действия (в данном случае новеллистическая
традиция подкреплена классицистичностью мышления автора), а историческое
измерение практически отсутствует. Источники, которыми пользовалась
писательница, — уже упоминавшаяся «История гражданских войн во Франции» Давила,
«История Франции» Ф.-Э. де Мезре (1643—1651), а также, вероятно, «Жизнь
Людовика де Бурбона, герцога де Монпансье» Н. Кустуро (1642). Писательница по-своему
интерпретирует реальные факты в свете литературных задач, смысл исторических
событий она не стремится постичь26. Так, объясняя взаимную ненависть де Гиза и
короля сугубо личными причинами (соперничество в любви), госпожа де Лафайет
пренебрегает исторической истиной. Собственно, жанр «исторической новеллы» в
момент написания произведения еще не оформился — это случится лишь
двенадцать лет спустя, когда выйдет в свет «Дон Карлос» Сен-Реаля. В «Дон Карлосе»,
послужившем основой для трагедии Шиллера, исторический фон проработан
гораздо обстоятельнее, чем в произведениях госпожи де Лафайет, зато
психологическая достоверность уступает хорошо продуманной интриге. Иное дело «Принцесса
де Монпансье» и «Графиня Тандская», где писательница прибегает к жанру
«истинной истории», histoire véritable, к тому времени уже завоевавшему популярность во
французской литературе. Для «истинной истории» характерно сочетание реальных
фактов с вымыслом; «истинность» усматривается в большей степени в передаче
человеческих чувств, чем в историографической достоверности.
Историческое время взаимодействует в «Принцессе де Монпансье» с условно-
романическим. Возможно, именно поэтому в ней нарочито затушевана
географическая и хронологическая локализация событий. Любовь предстает как роковое,
чреватое опасностями приключение, семейная тема еще не приобретает для автора
6 См.: Francillon R. L'œuvre romanesque de madame de La Fayette. P., 1973. P. 23.
438
K.A. Чекалов
такого значения, как в «Принцессе Клевской». В данном контексте
примечательна, но и достаточно традиционна метафорическая трактовка встречи на воде:
герцог де Гиз думает, что «и сам может оказаться в ее (принцессы. — К. Ч.) сетях,
словно лосось в неводе рыбаков» (с. 13—14 наст. изд.). Налет романической
традиции заметен в облике главной героини — ее красота отличается таким
совершенством, что перед принцессой не в силах устоять никто из мужских персонажей
новеллы; в использовании мотива переодевания и связанном с ним недоразумении;
в искусном взаимодействии военного и любовного дискурсов, заявленном уже в
первой фразе новеллы: «Несмотря на гражданскую войну, раздиравшую Францию
при Карле IX, любовь среди всеобщего смятения не позволяла о себе забыть и
сеяла не меньшее смятение на своем фронте». В новелле есть несколько блестяще
разработанных с психологической точки зрения эпизодов и ситуаций; таково,
например, поведение герцога Анжуйского по отношению к своему сопернику. В
наиболее ответственный, кульминационный момент развития повествования граф де
Шабан изрекает: «Видимость глубоко обманчива» (с. 25 наст. изд.). Эта максима
чрезвычайно симптоматична для автора, поставившего себе одной из творческих
задач анализ соотношения «видимости» и «сущности». Коллизия вполне барочного
свойства, подробнейшим образом рассмотренная итальянцем Т. Ачетто в его
нашумевшем трактате «О благопристойном утаивании» (1641). Финал новеллы
отнюдь не сводится к традиционным романическим развязкам. А.П. Бондарев не без
оснований связывает его с влиянием янсенизма27.
«Графиня Тандская»
Эта небольшая новелла, напечатанная в 1718 году, шесть лет спустя вновь
появилась на страницах журнала «Меркюр де Франс», где впервые была
атрибутирована госпоже де Лафайет. «Графиню Тандскую» нередко относили к
заключительному периоду творчества Мари-Мадлен и рассматривали как последнюю часть единого
триптиха (вместе с «Принцессой де Монпансье» и «Принцессой Клевской»).
Однако не слишком зрелая стилистика и особенности трактовки новеллистического
жанра ясно свидетельствуют о том, что перед нами произведение, несомненно
предшествующее «Принцессе Клевской». Действие новеллы разворачивается при дворе
Валуа. Ко всему здесь добавляется итальянский колорит: героиня, в девичестве
мадемуазель де Строцци, — «пылкая, темпераментная итальянка»; тема мести также
соотносится с Италией. Главный персонаж — реальное историческое лицо, дочь
Пьеро Строцци и Леодамии Медичи, двоюродной сестры Екатерины Медичи. Но
автор вносит серьезные коррективы в образ реальной графини Тандской, которую
весьма лестно характеризует в «Жизнеописаниях знаменитых иностранных
полководцев» Брантом, отмечая в ее облике нечто инфернальное. В противоречии с
реальными фактами трактуется и образ графа Тандского, Онора Савойского. Что же
касается исторических подробностей, то они вообще сведены к минимуму. И в этом
видится дистанцирование автора от рецептов Сегре, настаивавшего на большей
историчности новеллы по сравнению с романом.
27 См.: Бондарев А.П. Стендаль и «Принцесса Клевская» // Проблемы метода и жанра в
зарубежной литературе. М., 1986. С. 33.
Мари-Мадлен de Аафайет и ее творчество 439
В произведении отдана дань одной из традиционных ренессансных
новеллистических структур, часто встречающейся у Боккаччо — все происходящее может
быть интерпретировано как очередное проявление человеческой находчивости и
изобретательности. Но это не более чем внешний декорум, за которым
проступает глубокий психологический этюд с четко выраженным нравственным
содержанием. Смысл этого моралите тот же, что и в двух других частях «триптиха»:
замужней женщине надлежит решительным образом отказаться от страстей, даже если
она не чувствует себя счастливой в браке. По поводу происходящего в новелле
А.П. Бондарев пишет: «Трагизм и высокое напряжение чувств в значительной мере
нейтрализуется здесь откровенным прозаизмом жизненной ситуации»28. Графиня
страстно любит своего мужа (в этом отличие от других произведений Лафайет).
Шевалье Наваррский влюбляется в графиню сам того не желая (первоначально
объектом его ухаживаний была принцесса Невшательская, но шевалье в
последний момент ускользает из-под венца). К новациям Лафайет следует отнести и
историю мужа, словно бы трансформирующегося в любовника. Но самое
оригинальное, необычное как для жанра новеллы, так и для творчества госпожи де
Лафайет, — это использование христианских мотивов. Правда, есть некоторое сходство
соответствующей конструкции в «Графине Тандской» с линией госпожи де Шартр
в «Принцессе Клевской». Письма, любовный треугольник и прочие атрибуты жанра
спадают, как кожура, и проступают метания души, глубоко переживающей
собственную слабость и в конце концов вверяющей себя Всевышнему (как
христианка, госпожа де Лафайет не приемлет самоубийство, но символическое
самоубийство героини в новелле все же совершается — графиня теряет зачатого в грехе
ребенка и умирает сама). Иногда говорят о предвосхищении Стендаля и Мериме в
этой новелле .
«Заида»
Роман «Заида. Испанская история» был опубликован под именем Сегре в 1670 году
и вплоть до 1780 года переиздавался с тем же указанием авторства. На самом деле
есть все основания считать это сочинение плодом совместного творчества госпожи
де Лафайет, Сегре, Юэ и Ларошфуко. «Заиде» было предпослано ранее уже
выпускавшееся отдельной книжкой «Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении
романов» (см. раздел «Дополнения» наст. изд.). В оригинальном издании трактат,
построенный как воображаемое письмо к Сегре, занимал 99 страниц, а собственно
роман — 440. Источники жанра в «Трактате...» прослежены с античных времен,
причем Юэ полемизирует с его итальянскими теоретиками. К наиболее важным
идеям трактата следует отнести параллель между поэмой и романом: последний
содержит в себе преимущественно правдоподобные элементы, а поэма —
преимущественно «чудесные». Это мнение в целом соответствует своей эпохе. Но интересно,
что Юэ в большей степени, чем Валенкур (см. о нем ниже), оправдывает
существование «Астреи» д'Юрфе и романов подобного типа. Юэ допускает наибольшую
свободу вымысла в комической разновидности романа, что же касается высокого, арис-
28 Там же. С. 30.
29 См.: Dédéyan Ch. Op. cit. P. 82.
440
K.A. Чекалов
тократического романа, то здесь полная фикция недопустима. И вообще, в
конечном счете увлечение романами пагубно, но не потому, что они дурно влияют на
нравы молодежи — здесь как раз Юэ мыслит гораздо более здраво и взвешенно,
чем многие хулители романного жанра XVII—XVIII веков (включая Буало), — но
потому, что они заставляют читателей погрузиться в мир вымысла и пренебречь
истинной ученостью. Что же касается собственно «Заиды», то она упоминается
лишь в заключительных строках трактата и, естественно, в апологетическом
ключе («<...> настолько приключения в ней свежи и трогательны, а повествование
безупречно и изысканно»; см. с. 424 наст. изд.). Таким образом, идеалом Юэ
является увлекательный, нравственно полезный, историчный, правдоподобный и пра-
вильныи роман .
Роман «Заида» обычно не причисляют к крупным достижениям французской
прозы, хотя, например, госпожа де Жанлис считает его «более интересным, чем
написанные примерно в том же роде романы Скюдери»31. Более того, в нем
нередко усматривается шаг назад по сравнению с «Принцессой де Монпансье». Спору
нет, в «Заиде» действительно отдана дань жанровым требованиям барочного
романа, с его квазиисторизмом, значительными пространственными
перемещениями, кораблекрушениями, имеющими решающее влияние на судьбу героев.
Многие элементы «Заиды» заставляют вспомнить об «Астрее» и все тех же романах
М. де Скюдери. Это и соблюдение правила, согласно которому основное действие
не должно выходить за пределы одного года. Это и начало in médias res (с
самого главного), с последующим изложением судьбы героя во вставной новелле. Это
и поединок Консалва с Аламиром, в ходе которого второй из соперников
смертельно ранен. Это и браслет из волос прекрасной Заиды, который Консалв
превращает в своего рода фетиш — именно так Селадон в «Астрее» поступает с лентой с
одеяния Астреи. Это и переодевания героев, включая и «смену пола». Это, наконец,
присущее барочному роману «искусство повествования», с непременными
вставными новеллами (книга структурируется как пять историй, вставленных одна в
другую), письмами героев, ламентациями влюбленных; счастливым и достаточно
искусственным финалом, в котором доселе грозная Судьба вдруг
поворачивается к героям светлым ликом. Таким образом, роман на первый взгляд может
показаться даже некоторым анахронизмом, ведь барочная стилевая модель к 1670
году уже преодолевается.
Известно, что Сегре именовал роман «моей Заидой» и вплоть до 1702 года
никаких сомнений в его авторстве не возникало. С жанровой точки зрения «Заида»
действительно сопоставима с новеллами Сегре. Но, как справедливо заметил Сент-
Бёв, «моей Заидой» вполне мог быть назван и продукт коллективного творчества.
Несомненно, Сегре сыграл весьма значительную роль в разработке испанской
тематики, поскольку госпожа де Лафайет плохо владела ею и вообще не проявляла
интереса ни к какой иностранной литературе, кроме итальянской. Между тем
вымышленная любовная интрига романа разворачивается на фоне реальных
исторических событий, а именно борьбы Леонского и Кастильского королевств против
мавританского ига. Автор романа подстраивается к широко распространившейся
во Франции XVII века — в особенности после женитьбы Людовика XIV на Марии-
30 См.: Dédéyan Ch. Op. cit. P. 63.
31 Genlis, mme de. Op. cit. P. 154.
Мари-Мадлен de Лафайет и ее творчество
441
Терезии — испанской моде, к которой ранее примкнул и Корнель в «Сиде».
События «Заиды» происходят 150 лет спустя после начала реконкисты, то есть в 866 году
(у Корнеля — еще на два века позже). При этом фактические сведения
позаимствованы из «Всеобщей истории Испании» (1587) Луи де Майерн-Тюрке, «Гражданских
войн в Гранаде» (1595—1604, французский перевод — 1608) Хуана Переса де Ита и
нескольких других источников. Как и в прециозном романе, налицо несколько
вольное обращение автора с историей. Разумеется, в IX веке нравы были совершенно не
такими, как они представлены в «Заиде». Персонажи проявляют не свойственную
эпохе галантность, и здесь «Заида» в который раз сближается с романами М. де Скю-
дери.
И все-таки присутствие «лафайетовского» начала в «Заиде» очевидно, а уроки
романов «астреевского» и прециозного типа не абсолютизированы. Роман
несравненно короче, чем сочинения д'Юрфе, Ла Кальпренеда и Скюдери, где сюжет, по
меткому замечанию Фонтенеля, движется «черепашьим шагом». Кроме того,
достаточно обратить внимание на саму трактовку автором «Заиды» барочных
повествовательных структур, чтобы понять: время «романического» неуклонно отходит в
прошлое; его место должно занять «романное» измерение, то есть
социально-психологический роман новоевропейского типа. Письма в романе не только отличаются
чрезвычайной лаконичностью (подобно подлинным письмам самой госпожи де Лафайет);
в ряде случаев они едва упомянуты и текст их не приводится. Тема портрета из
галереи Альфонса («История Консалва») раскрыта весьма поверхностно, точно так же
как и упоминавшийся выше поединок описан очень сжато, без каких бы то ни было
кровавых подробностей. И наоборот, барочная схематичность, самоценность
сюжетных перипетий уступает место попытке интериоризации конфликта, а на первый
план несомненно выносится — и здесь нельзя не согласиться с исследователем Де-
лией Гамбелли32 — проблема коммуникации. В самом деле, один из ключевых
мотивов книги — незнание влюбленными героями языков друг друга; когда они
встречаются после не столь уж продолжительной разлуки, выясняется, что он овладел ее
родным греческим, а она — испанским (этот эпизод смущал автора «Любовной
истории галлов» (1665) Бюсси-Рабютена как не вполне правдоподобный, зато его
высоко ценил энциклопедист XVIII века Д'Аламбер). Теперь между ними нет
языкового барьера. Но, как выясняется, это обстоятельство не всегда становится залогом
успешного общения.
В тему взаимных отношений вовлечен и характерный для прозы барокко мотив
портрета, ведь именно с его помощью Консалв косвенно указывает Заиде на свои
чувства к ней. Вообще психологический анализ в книге проведен очень тонко, здесь
нет свойственных прециозному роману пространных и весьма отвлеченных
рассуждений о любви и, наоборот, много конкретных ситуаций, подчас перекликающихся с
шедевром писательницы — «Принцессой Клевской». Так, эпизод, в котором Белази-
ра из лучших побуждений неосторожно рассказывает жениху о своей любви к Аль-
фонсо (вставная новелла «История Альфонсо и Белазиры»), может напомнить о
знаменитой сцене признания в «Принцессе Клевской». Заметно также влияние если не
буквы, то духа «Трактата о страстях» Декарта. Стиль и язык «Заиды» уже лишены
той специфической затемненности, которая характеризовала барочный роман. Здесь
32 См.: Gambelli D. Progetto е disdetta (per una lettura di «Zaide») // D Romanzo barocco tra Italia
e Francia. Roma, 1980. P. 241.
442
К.А. Чекалов
скорее актуализированы отдельные компоненты «Астреи» д'Юрфе, которые
оказались невостребованными барочной нарративной традицией, а именно стремление к
обстоятельному, озаренному светом логического познания анализу человеческих
переживаний, но уже за пределами традиционной риторики (которая все еще сильна в «Ас-
трее»).
Отметим, что госпожа де Лафайет совершенно обходит вниманием столь
распространенный в барочном романе топос (который мог бы оказаться вполне
уместным в разворачивающемся в средиземноморском ареале сюжете), как встреча с
морскими пиратами. Точно так же скупо описана ею и экзотика заморских стран.
Чувственные эпизоды, естественно напрашивающиеся по ходу развития сюжета
(сцена в женских банях), полностью свернуты. Это вполне соответствует прециоз-
ному представлению о правилах приличия, bienséance. Зато тема ревности
приобретает в «Заиде» всеобъемлющий характер. Но частое присутствие этой темы в
барочной литературе еще не делает ее барочной; госпожой де Лафайет она
раскрывается с уже упоминавшейся присущей ей классицистической прозрачностью.
Классицистические веяния дают о себе знать и в противостоянии государственного
и личного интересов, и в обилии обобщающих сентенций и «сердца горестных
замет», выдающих манеру возможного соавтора «Максим». Хитроумный материал
сплавлен воедино с отменным чувством меры, интриги совсем не так лихо
закручены, как в «Астрее». Итак, нет никакого сомнения в том, что «реформа», о которой
так настойчиво пишет применительно к творчеству писательницы Сент-Бёв, дает о
себе знать и в «Заиде». Вот почему суровая критика в адрес романа со стороны
такого авторитетного ученого, как Р. Франсийон33, представляется нам чрезмерной.
Интересно, что именно «Заида» оказалась первым произведением госпожи де
Лафайет, переведенным на русский язык. В 1765 году в Москве был опубликован
анонимный перевод романа под названием «Заида, гишпанская повесть, сочиненная
г. Дезегре». Очевидно, роман соответствовал тогдашним вкусам российского
читателя в большей мере, чем «Принцесса Клевская».
«История Генриетты Английской»
Произведение это было опубликовано только в 1720 году и является
единственным сочинением писательницы, где она говорит о себе в первом лице. Более того,
в коротком предисловии раскрываются обстоятельства работы над текстом, по
прямой просьбе самой же Генриетты Английской. Мемуары, без всякого сомнения, не
подлежали публикации при жизни принцессы, ведь в них содержались
нежелательные подробности ее связи с де Гишем. В этом отношении Мари-Мадлен в какой-то
мере взяла за образец «Любовные истории галлов» Бюсси-Рабютена, наполненные
пикантными подробностями из жизни высшей знати.
Литературные достоинства «Истории...» оцениваются исследователями
неоднозначно. Так, Н. Забабурова не склонна считать ее удачей: книга «повествует о жизни
английской принцессы в безлично-облагороженном тоне, исключая всякие интонации
фамильярности и нескромные подробности»34. Исследователь сожалеет о том, что в
См.: Francillon R. Op. cit. P. 66-80.
Забабурова H.В. Творчество Мари-Мадлен де Лафайет. Ростов-на-Дону, 1985. С. 55.
Мари-Мадлен de Лафайет и ее творчество
443
«Генриетте Английской» нет места глубокому психологическому осмыслению
действительности, которое явлено в анонимных произведениях писательницы. Подобная
оценка, имеющая прецедент в старых исследованиях35, представляется чересчур
категоричной. Книга несомненно имеет как мемуарно-историческую, так и собственно
литературную ценность. Здесь явно просматривается воздействие общих эстетических
установок автора «Принцессы Клевской», общее стремление развлечь читателей
«хорошенькой историей». Мы встречаем в тексте и морские приключения, и
переодевания, и многие другие «романические» элементы. Но вот строится книга по
образу и подобию прочих мемуаров своего времени, то есть линейно, начиная с
бракосочетания героини и до окончательного отбытия графа де Гиша. Интересно, что
рассказ о жизни Генриетты Английской начинается только на трети повествования, до
этого излагается исторический контекст и рассматриваются особенности личности
героини. Вполне естественно, что в центре повествования находится любовная тема,
причем любовь неизбежно оказывается втянутой в дворцовые интриги, она неотделима
от игры самолюбия и имущественных интересов. События, не имеющие отношения
к этой теме, аккуратно исключены (например, дипломатические успехи Генриетты).
Мари-Мадлен не склонна как-то приукрашивать события и беспристрастно рисует
моральную обстановку двора. Перед читателем возникает настоящая паутина, где
христианская мораль оказывается основательно скорректирована «галантной» логикой.
(Употребляя по отношению к описываемым событиям термин «галантные истории»,
Мари-Мадлен выдает себя как гипотетический автор «Бесед касательно критики
"Принцессы Клевской"» (см. о них ниже), где также употребляется данное понятие,
но уже применительно к «Принцессе Клевской»).
К бесспорным достоинствам книги следует отнести умелое нагнетание
напряжения с патетическим финалом (он выделен в отдельную главу «Рассказ о смерти
Мадам»), написанным с исключительным мастерством. Высокая точность деталей и
бесстрастность медицинских подробностей заставляют вспомнить письмо к госпоже де
Севинье, где писательница безжалостно напоминает своей корреспондентке о ее
возрасте. С другой стороны, риторическая отшлис]юванносгь «Рассказа...» позволяет
сравнивать его с надгробными речами Боссюэ. (Кстати, Боссюэ, епископ Кондомский,
представлен в повествовании — именно он отпускает грехи умирающей Мадам.) Вот что
пишет о «Рассказе...» известный отечественный литературовед Лидия Гинзбург: «Здесь
не только меняется вся атмосфера повествования (что понятно), но возникает, в
сущности, новый персонаж, с новым подбором оценок и качеств»36.
«Принцесса Клевская» и спор вокруг нее
Более четверти века тому назад известный отечественный литературовед А.В.
Чичерин не без оснований предложил переводить название романа следующим образом:
«Княгиня де Клэв»37. Но мы все-таки предпочитаем закрепившееся в русской тради-
35 Так, один из критиков XVTH в. считает портретные зарисовки в «Мемуарах» «дурным
подражанием» тем, что содержатся в «Принцессе Клевской» (см.: Mouligneau G. Op. cit. P. 87).
36 Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л., 1971. С. 165.
37 Чичерин А.В. У истоков французского романа: К 300-летию выхода в свет романа
Мари-Мадлен де Лафайет «Princesse de Clèves» //Контекст-78. M., 1978. С. 136.
444
К.А. Чекалов
ции и более благозвучное название — «Принцесса Клевская». Есть и другой аргумент
в пользу сохранения традиционного перевода. Так лучше передается связь со
сказочными структурами, которые, как мы увидим далее, в превращенном виде
присутствуют в романе.
«Принцесса Клевская» — безусловно, лучшее, наиболее цельное и глубокое
произведение писательницы. Именно эта книга, вызвавшая после опубликования
бурную дискуссию, по праву считается этапной вехой в истории французской прозы.
Не всем исследователям Новейшего времени удавалось удержаться от соблазна
интерпретировать ее сквозь призму выработанных в процессе дальнейшего развития
литературы схем — случалось, принцессу Клевскую чуть ли не превращали в
героиню Сартра или Бретона. Высказывались и замечания по поводу недостаточно
удачной композиции романа, распадающегося на несколько самостоятельных
повествовательных блоков (это замечание сделал не кто иной, как Альбер Камю),
говорилось и о его поверхностности (итальянский мыслитель и литературовед Бенедетто
Кроче). Но все это, несомненно, образцы модернизации, подхода к роману с
позиций XX века.
Роман вышел в свет анонимно в марте 1678 года (под именем госпожи де Лафай-
ет впервые напечатан лишь в 1780 году). Ему предшествовала большая
подготовительная работа, которая длилась, вероятно, на протяжении пяти лет (план романа
был составлен совместно Лафайет, Ларошфуко и Сегре в начале 1672 года)38.
Основными источниками явились восьмитомное собрание произведений Брантома,
опубликованное в 1665—1666 годах, «История Франции» Пьера Матье (1631),
«Французский церемониал» Годфруа (1649). Работа над «Принцессой Клевской»
затягивалась по разным причинам, в том числе и житейского характера — приезд в Париж
супруга госпожи де Лафайет, кончина Ларошфуко, отъезд Сегре.
«Принцесса Клевская» стала первым французским романом, появление
которого было подготовлено своего рода рекламной кампанией на страницах журнала
«Меркюр Галан». Еще до публикации он стал известен публике в списках
(подтверждением тому может служить следующий факт: на страницах «Меркюр Галан»
уже в январе 1678 года была опубликована небольшая анонимная новелла, чей
сюжет удивительным образом напоминает «Принцессу Клевскую»). А сразу же по
опубликовании романа на страницах того же журнала развернулось его бурное
обсуждение. Среди писем читателей преобладали негативные отзывы, один из них
пришел даже из Италии. Спор не замедлил перейти с бытового на теоретический
уровень; не будет преувеличением сказать, что «страсти вокруг "Принцессы Клевской"
стали одной из двух "великих дискуссий о правдоподобии в литературе",
развернувшихся во Франции XVII века (вторая — знаменитый спор о "Сиде")»39. Очень скоро,
в конце 1678 года, вышел в свет анонимный труд «Письма госпоже маркизе *** по
поводу "Принцессы Клевской"». Автор писем — как потом было установлено, им
стал молодой литератор, друг Расина и Буало Жан де Труссе де Валенкур —
довольно искусно чередует похвалы в адрес создателя романа с жесткой критикой. Он
отдает дань мастерству автора и уверенному владению человеческой психологией, но
в целом чтение этих трех чрезвычайно пространных писем несомненно доставило
38 См.: Dédéyan CL Op. cit. P. 86.
39 Женетт Ж. Правдоподобие и мотивация//Фигуры: В 2 т. М.: Изд-во Сабашниковых, 1998.
Т. 1. С. 299.
Мари-Мадлен de Лафайет и ее творчество
445
госпоже де Лафайет немало неприятных минут. В подробном, если не сказать
дотошном, разборе сочинения вскрывались многочисленные изъяны романа,
относящиеся к его композиции, стилю, а самое главное — к изображению переживаний
героев. Кроме того, ключевая сцена романа — неправдоподобное и неестественное,
с точки зрения Валенкура, признание принцессы Клевской супругу в своей любви
к Немуру — была якобы заимствована из опубликованного в 1675 году романа
госпожи де Вильдье «Любовное смятение» (правда, Валенкур признает, что в
«Принцессе Клевской» соответствующий эпизод разработан более удачно).
Во многих отношениях позиция Валенкура близка к классицистической: он
осуждает роман прежде всего за «неправильность», а именно этот упрек чаще всего
адресовали приверженцы классицизма в искусстве произведениям барокко. Главным
для него является критерий пользы (и здесь он цитирует Лодовико Кастельветро,
итальянского аристотелика XVI века, чьи воззрения вообще были чрезвычайно
важны для теории французского классицизма). В то же время он гораздо более толе-
рантен, чем Буало, по отношению к романному жанру. Более того, Валенкур отчасти
принадлежит к приверженцам новой концепции романа. А именно в 1660—1670-е годы
происходит некий сдвиг в общественном сознании по поводу того, каким должен
быть этот жанр. Не только «Астрея» (которую, кстати, с удовольствием читали
после обеда Ларошфуко с Сегре и госпожой де Лафайет), но даже и произведения
Мадлен де Скюдери постепенно выходят из моды, и не случайно писательница
прерывает работу над своей «Альмахидой» (1663). В произведениях Эдма Бурсо можно
проследить отчетливый перелом, связанный с переосмыслением жанровой модели:
если роман «Маркиз де Шавиньи» (1670) хотя и повествует о жизни французской
знати, но все еще изобилует условными романическими именами, идущей от «Аст-
реи» любовной риторикой, стихотворными и новеллистическими вставками, то уже
в «Принцессе де Конде» (1675) прослеживается стремление к историзму и
психологической проработке характеров. Валенкур с пренебрежением говорит об «Амади-
сах» как об уходящей в прошлое нарративной модели (сама госпожа де Лафайет в
одном из писем замечает, что никогда не читала «старые романы»). Но в то же
время примененный в «Принцессе Клевской» тип проецирования фиктивного героя на
узнаваемый, отнесенный в недавнее прошлое Франции исторический фон
представляется ему неприемлемым. Валенкур не в состоянии разместить роман госпожи де
Лафайет в привычной для него жанровой парадигме: либо откровенная фикция (к
таковой он относит комедию и новеллу), либо полуправда, но не простая, а такая,
где «автор берет сюжет из истории, дабы украсить его и сделать приятным своими
изобретениями» (таковы трагедия, эпос и роман XVII века). Проступание же
современности под покровом истории в исполнении госпожи де Лафайет, то есть не
назойливое (как у Скюдери), а деликатное и к тому же размещенное в рамках
сравнительно небольшого по объему (а не раздутого, подобно сочинениям Скюдери)
текста, ему чуждо. Мадемуазель де Шартр (будущая принцесса Клевская),
«которой никогда на свете не существовало» (Валенкур) — действительно персонаж,
выдуманный госпожой де Лафайет, равно как и мать героини госпожа де Шартр. Но
все остальные персонажи романа, включая и первую супругу герцога Клевского,
племянницу Дианы де Пуатье (Валенкур же утверждает, что «герцог Клевский
никогда не был женат»), — реальные исторические лица. Иное дело, что, например,
принцу Жану Клевскому к моменту, когда начинается действие романа, было всего
четырнадцать лет.
446
K.A. Чекалов
«Письма...» наделали немало шума. Не исключено, что госпожа де Лафайет
приложила руку к ответному сочинению — четырем «Беседам касательно критики
"Принцессы Клевской"» (1679). Книга вышла в свет анонимно, но принято считать
ее автором аббата де Шарна. В аргументации де Шарна парируются, в частности,
обвинения в плагиате по отношению к госпоже де Вильдье, и между делом
утверждается, что «Принцесса Клевская» была фактически написана еще до появления
«Любовного смятения». (Это, как уже отмечалось, вполне вероятно; по-видимому,
королевскую привилегию на печатание «Принцессы Клевской» издатель Клод Бар-
бен получил еще в 1671 году.) Существенным, как мы увидим далее, представляется
неоднократно возникающее в «Беседах...» определение жанра «Принцессы
Клевской» как «галантной истории». Но в целом ответный удар получился весьма
слабым, кем бы он ни был нанесен. Симптоматично, что нередко автор «Бесед»
подменяет защиту нападением и выявляет теперь уже стилистические изъяны «Писем
госпоже маркизе ***...» (этому полностью посвящена четвертая «Беседа»). Все эти
распри не могли поколебать успех романа. Показательно, что очень скоро (в 1681
году) он был переведен на английский язык и инсценирован. Затем произведение
переиздавалось в Амстердаме, Лионе; в XVÏÏI веке вышло в общей сложности 20
изданий. Что же касается более поздних переизданий, то их число не поддается
никакому учету.
В чем заключалось новаторство «Принцессы Клевской» с точки зрения сюжета?
На первом плане оказываются отношения между героями уже после вступления в
брак, тогда как традиционная романическая структура предусматривала
счастливый брак в финале (об этом рассуждает, например, Магделона, пародийное
воплощение типа прециозницы в комедии Мольера «Смешные жеманницы»). Кроме того,
писательнице удается нестандартно трактовать весьма традиционную, чтобы не
сказать банальную, ситуацию «любовного треугольника». Это решение совершенно не
вписывается ни в привычные новеллистические финалы (муж оказывается
рогоносцем), ни в классицистические (корнелевского типа: героический императив
доминирует над чувством). Налицо сложная диалектика чувства и семейного долга, на
первый взгляд чреватая вовлечением героев если еще не в «опасные связи» на манер
XVTQ века, то уже на опасный путь, к подобным связям ведущий, о чем с тревогой
писал в «Опыте о романах» Мармонтель40. Однако тревога эта неоправданна — в
конечном итоге все происходящее в «Принцессе Клевской» погружается в
трансцендентную перспективу.
Некоторая часть читателей по прочтении романа пришла в замешательство
именно потому, что книга не укладывалась ни в какие жанровые рамки. Она не
была и не могла быть барочным романом хотя бы в силу небольшого объема и
линейной повествовательной структуры. Правда, «Принцесса Клевская» вбирает в
себя, подобно барочному роману, три вставные новеллы, а именно истории Дианы
де Пуатье, одной из жен английского короля Генриха VIII Анны Болейн и
госпожи де Турнон. Все они весьма лаконичны и не утяжеляют повествование, а
становятся своеобразным комментарием к главной интриге. Сплавляя воедино
элементы различных жанров, «Принцесса Клевская» превращается в интереснейшую
риторическую лабораторию, где преодолевается традиционная жанровая иерархия и
кристаллизуется новый тип среднего по объему повествования, которому было уго-
См.: Marmontel I.F. Essai sur les romans // Œuvres complètes: En 19 vol., 1819. T. X. P. 311.
Мари-Мадлен де Лафайет и ее творчество
447
товано большое будущее во французской прозе. С другой стороны, автору
удается искусно вывести сюжет за рамки житейской обыденности. Характерная для
«Принцессы Клевской» соотнесенность происходящего с вполне конкретными
событиями из жизни двора и Франции в целом не исключает того обстоятельства, что
все эпизоды романа обретают высокий символический смысл. Именно поэтому
одни исследователи (М.-Т. Ипп, К. Вейнберг) усматривают в действиях героев
отзвуки средневековых мифологем (будь то легенда о Тристане и Изольде или даже
история дамы с единорогом)41, а другой (Ж. Фрёлих) находит в романе сказочное
начало, дающее основание анализировать функции персонажей и ситуаций по
методу В.Я. Проппа42.
Отличным комментарием к трактовке жанра «Принцессы Клевской» мог бы
служить вьшущенный в 1683 году небольшой трактат Дюплезира — личность
этого литератора до конца не установлена — «Мнение по поводу писем и истории», где
четко высказана поддержка роману нового типа. Правда, Дюплезир избегает
называть «Принцессу Клевскую», но ее образ незримо присутствует между строк.
Позиция Дюплезира, в противовес позиции Валенкура, отмечена исключительной
ясностью и последовательностью: роман не должен быть многотомным, начинаться
с самого главного; прерываться многочисленными вставными новеллами; ему
надлежит носить цельный, динамичный характер; сюжеты следует черпать из
недавней истории, а не разворачивать их в отдаленном прошлом. Персонажам,
наделенным сверхъестественной добродетелью, следует уступить место четко
охарактеризованным и естественным героям с приближенной к повседневности
речью. Место действия и обстоятельства нужно обозначить уже в самом начале
книги, а из ряда вон выходящие события наподобие кораблекрушений и
похищений напрочь исключить. Необходимо непременно исключить и типичную для
прозы барокко стилевую избыточность. Одним словом, трактат Дюплезира
предстает как манифест новоевропейской прозы. И надо сказать, что все его требования
соблюдены в «Принцессе Клевской».
В весьма интересном письме, адресованном Лешрену и датированном 13 апреля
1678 года, госпожа де Лафайет категорически отрицает факт своего (а заодно и
Ларошфуко) участия в написании «Принцессы Клевской», но подчеркивает при
этом, что ей льстит сам факт подобной атрибуции. Далее Мари-Мадлен дает
положительную характеристику книги: «<...>я нахожу ее очень приятной, хорошо
написанной, полной вещей замечательных по своей деликатности, так что надлежит
даже не раз перечитывать ее»43. Чем дальше, тем больше автор письма
противоречит собственному утверждению и выдает свою несомненную причастность к
работе над романом. В конечном счете госпожа де Лафайет замечает, что книга не
содержит в себе ничего «романического» и вообще представляет собой не роман,
а мемуары: «<...>как мне говорили, именно так должна была называться книга, но
потом название заменили». Интересная мистификация, находящаяся в русле того
представления о жанровой иерархии, которое все еще имело место не только во
41 См.: Weinberg К. The Lady and the Unicorn, or Monsieur de Nemours à Cbulommiers. Enigma, Device,
Blazon and Emblem in «La Princesse de Clèves»/Œuphorion. 1977. № LXXE; Hipp M.-T. Le mythe de Tristan
et Yseut et «La Princesse de Clèves» // Revue d'histoire littéraire de la France. 1965. № 2. P. 398—414.
42 См.: FrolichJ. La Princesse de Clèves ou la magie du conte //Orbis litterarum. 1979. № 3. P. 208-226.
43 La Fayette M.-M. de. Op. cit. P. 622.
448
К.А. Чекалов
времена «Принцессы Клевской», но и позднее. Не случайно один из критиков
замечал, что «это второе сочинение госпожи графини де Лафайет представляется
тем более достойным ее пера, что написано в жанре, превосходящем роман»44.
Речь идет о критике XVIII века аббате Дювале, выпустившем в 1725 году
«Занимательные письма на разные темы». Таким образом, привязка «Принцессы
Клевской» к жанру мемуаров имела целью, в числе прочего, возвысить книгу в глазах
читателей.
Среди персонажей романа немало известных исторических лиц (Екатерина
Медичи, Диана де Валантинуа, Мария Стюарт, немощный Франциск II, герцог де
Гиз...), а в ряде эпизодов соблюдена историческая достоверность (смертельное
ранение Генриха II во время турнира 30 июня 1559 года). Вместе с тем «за кадром»
остаются Реформация и религиозные войны, а также развернувшееся при
Франциске I и Генрихе П строительство Лувра. Отклонения от достоверности в
«Принцессе Клевской» начинаются в первой же фразе романа, на что не преминул
обратить внимание Валенкур: дело преподносится таким образом, будто двор короля
Генриха II был самым великолепным из французских дворов. Это, разумеется, не
соответствует исторической правде; перед нами явное проецирование эпохи
написания романа (правление Людовика XTV) на эпоху, когда происходит действие.
Интересно, что первая фраза «Принцессы Клевской» несколько позднее почти
повторена в новелле все того же Дюплезира «Герцогиня Эстраменская»(1682), но уже
применительно к правлению Людовика XIV: «Никогда еще Франция не
представала в таком величии, как во время последних войн» (имеется в виду конфликт
с Голландией 1672—1678 годов. — К. Ч.)45. И все-таки не следует воспринимать
зачин «Принцессы Клевской» слишком буквально: на поверку никакой идеализации
эпохи Генриха II в романе нет. И это хорошо почувствовали первые же читатели
книги.
Часть аудитории отнеслась к ней весьма настороженно еще и потому, что
усмотрела в романе неуважительное отношение автора к королевской власти в целом и
династии Валуа в частности. Ведь при дворе вместо пресловутого величия царят
легкомысленные интрижки, а реальные подвиги монархов совершенно забыты. Все
так или иначе вовлечены в противостояние двух придворных «кланов»,
сторонников коннетабля и сторонников де Гиза. Амбиции разлагают даже вполне достойных
людей. Картина получается пессимистическая: в романе невозможно уловить
никакой надежды на улучшение. В сущности, обращение к истории в данном случае
демонстрирует абсолютную вневременность подобного положения дел,
перманентность зла. И в этом ощущается влияние классицизма.
В романе немало и других особенностей, позволяющих говорить о пристрастии
госпожи де Лафайет к классицистическому стилю: «<...> сжатая простота и скупость
внешнего действия, рационалистический анализ сложных душевных движений,
цельность и последовательность характеров, стройная гармоничная композиция,
ясный и гибкий язык»46. Что касается языка, то автор «Принцессы Клевской»
стремится исключить патетику и эмфазу, а для этого насыщает повествование нейтральны-
44 Цит. по: Mouligneau G. Op. cit. P. 76.
45 Nouvelles du XVTT siècle. P., 1997. P. 779.
46 Сигая H. Роман мадам де Лафайет «Принцесса Клевская» // М.-М. де Лафайет. Принцесса
Клевская. М., 1959. С. ХШ.
Мари-Мадлен де Лафайет и ее творчество
449
ми абстрактными понятиями. Это особенно хорошо заметно на примере все того же
описания двора Генриха П в начале романа — оно включает целый ряд
существительных и прилагательных отвлеченного, лишенного конкретности значения
(«прекрасный», «замечательной наружности», «изящный», «необыкновенные достоинства»,
«несравненный», «совершеннейший» и т. д.). В этих же целях госпожа де Лафайет
избегает прямой речи — кроме наиболее «ответственных» ситуаций в судьбе
героев—и передает беседы персонажей при помощи речи косвенной, что, с одной
стороны, несколько утяжеляет повествование, а с другой — выгодно отличает его от
барочного романа с присущей ему «мелодекламацией».
Кроме того, в «Принцессе Клевской» соблюдено классицистическое требование
единства времени и места действия. Действие разворачивается главным образом в
королевском дворце — Лувре и в апартаментах дофины (шотландская королева
Мария Стюарт); лишь в отдельных случаях оно переносится в поместье Куломье.
Ни каких бы то ни было иных кварталов Парижа, ни других городов не
представлено. Время действия также сконцентрированно (хотя неспешная манера
изложения может создать у читателя впечатление о затянутости повествования). Правда,
писательница явно равнодушна к детальному хронометражу. Но нетрудно заметить,
что в общей сложности события романа, начиная с появления мадемуазель де
Шартр при дворе и заканчивая последней попыткой де Немура добиться
благосклонности принцессы Клевской, охватывают собой период около полутора лет.
Автор искусно чередует убыстренные по ритму эпизоды с «разрядкой», заставляя
читателя почти физически ощутить груз нравственных проблем, навалившихся на
принцессу Клевскую. Одним из видов подобной разрядки можно считать максимы,
краткие нравственные обобщения. Как и Ларошфуко, и госпожа де Сабле,
госпожа де Лафайет явно испытывала интерес к этому жанру. В «Принцессе Клевской»
они то и дело вставляются в текст. Исходя из общей направленности романа, вполне
естественно, что касаются они в первую очередь любви и ее нюансов, а также темы
обманчивой видимости. Вот лишь одна из таких максим, и звучит она из уст де
Немура: «Женщины обыкновенно судят о страсти, которую к ним питают, по
стараниям им понравиться, по тому, как их домогаются; но это нетрудно делать, если они
хоть немного привлекательны; трудно не позволить себе удовольствия за ними
следовать, избегать их из страха выдать людям, и даже им самим, те чувства, которые
мы к ним питаем» (с. 250 наст. изд.). Польская исследовательница М. Павловска
насчитала в тексте романа в общей сложности 58 максим47. Цифра эта, разумеется,
условна.
Мир для персонажей госпожи де Лафайет преисполнен сердечных опасностей.
В этом они сродни барочным героям. Как избавиться от напасти страстей? Ведь
столь глубокий мыслитель, как Паскаль, чья рефлексия во многих отношениях
созвучна писательнице, считал их самой естественной склонностью человека (см.
«Рассуждение о любовных страстях»). Retraite, временный отдых — единственный
путь преодолеть тиранию чувств. Тем более что распознать истинное внутреннее
чувство под внешним покровом не всегда возможно. И здесь перед нами другая
ключевая особенность универсума госпожи де Лафайет: мир полон обмана,
притворства, иллюзий, декораций. Не случайно одно из ключевых понятий романа — paraître
47 См.: Pawlowska M. Les maximes dans «La Princesse de Clèves» // Mélanges de langue et de
littérature offerts au professeur J. Heistein. Wroclaw, 1996. P. 297-307.
29. Заказ № K-6559
450
K.A. Чекалов
(казаться), которое вообще существенно для культуры XVII века. Собственно, оно
возникает уже в первой фразе романа. Такие формулы, как «казалось, что...»,
встречаются очень часто. И только мудрая госпожа де Шартр внятно произносит свой
приговор: «<...> видимость здесь почти никогда не совпадает с истиной» (с. 232 наст.
изд.). Все это близко тому видению мира, которое представлено в «Максимах»
Ларошфуко, приверженца представлений об обманчивой видимости, характерных еще
для святого Августина.
Страсти вносят смятение в души героев, ходящих по краю пропасти. Так
рождается необходимость обдумывания чувства при помощи внутренних монологов.
«Принцесса Клевская» считается одним из этапов на пути формирования
структуры этого приема, столь важного для литературы XX века. В то же время смятение
героев госпожи де Лафайет не ведет к дисгармонии, прозрачность языка
сохранена, хотя на их поступки падает тень неуверенности. Искусство повествования в
«Принцессе Клевской» настолько заразительно, что мы нередко отождествляем себя
с главной героиней.
Не исключено, что при описании неодолимой страсти принцессы Клевской
госпожа де Лафайет вспоминала опубликованный в 1669 году роман хорошо знакомого
ей писателя Г.-Ж. де Гийерага «Португальские письма». Автор романа, имевшего в
XVII веке огромный успех и вызвавшего к жизни множество продолжений,
выдает себя за переводчика пяти пространных писем, адресованных португальской
монахиней Марианной своему возлюбленному, французскому дворянину графу де Ша-
мильи. Марианна тоже поначалу борется со своим чувством, а затем капитулирует
перед ним. Страсть изолирует обеих героинь от социума, однако, в отличие от
Гийерага, госпожа де Лафайет позволяет принцессе Клевской найти выход из
«адского круга страсти»48.
Интересно, что излечение от страсти совпадает у принцессы Клевской с недугом.
Тут можно снова вспомнить Паскаля, его «Молитву об использовании во благо
болезней», где путь к Богу пролегает через физическую неспособность наслаждаться
прелестями мирского. Только так душа видит, «что в своем ослеплении ставила
превыше всего любовь к миру»49. Правда, Бог почти не упоминается в романе (точнее,
упоминается лишь единожды), но это вовсе не значит, что соответствующее
трансцендентное измерение для госпожи де Лафайет не важно. Просто она пишет
«галантную историю», и потому спиритуальное начало прячется между строк. Сакральное и
светское не должны смешиваться — это и веление жанра, и требование христианской
доктрины эпохи госпожи де Лафайет. Так или иначе, в финале принцесса Клевская
уходит в монастырь. И это уже явный протест против светской системы ценностей.
Видимо, он произвел эффект в клерикальной среде. Не случайно в одном из писем
госпожа де Севинье указывает: «Я читаю "Принцессу Клевскую" священникам, и она
приводит их в восторг»50. Вот почему трудно согласиться с мнением отечественного
исследователя: «Этический идеал героини (и тем самым автора) не обнаруживает
никакой религиозной окраски»51.
48 Francillon R. Op. cit. P. 292.
49 Паскаль Б. Об обращении грешника // Г. Я. Стрельцова. Паскаль и европейская культура.
М.: Мысль, 1994. С. 471.
50 Sévigné, mme. de. Op. cit. Т. П. P. 860.
51 Сигал H. Указ. соч. С. УШ.
Мари-Мадлен de Лафайет и ее творчество
451
Сцена признания героини мужу в своей любви к де Немуру — одна из ключевых в
романе и вместе с тем часто привлекающая внимание критики (включая М. Фуко) —
происходит в павильоне в Куломье, причем де Немур становится тайным
свидетелем. В признании многое не договорено, а самое главное — предмет страсти не
назван. Принцесса Клевская представляет себя в героическом ореоле, и тем не менее
ее порыв не достигает своей цели. Дальнейшее развитие действия во многом
разворачивается под знаком этой неудавшейся попытки. Героический персонаж приходит
в столкновение с действительностью.
Мы уже обращали внимание на значительную роль госпожи де Шартр в
системе образов романа. Есть все основания считать ее четвертым главным героем
«Принцессы Клевской» — и это несмотря на то, что уже в конце первой части она
сходит со сцены. Женщина исключительной добродетели, она внешне как будто
бы принадлежит ко двору и наделена всеми ценимыми там атрибутами —
красотой, умом, высоким положением в обществе, добродетелью. Но в конечном
итоге двор ее отвергает. Существенно, что именно по отношению к госпоже де Шартр
автор романа употребляет слово vertu, т. е. добродетель. Причем это такая
добродетель, которая в большой степени связана с долгом. Лаконичная, но
действенная этическая система госпожи де Шартр соотносится с героической этикой
первой половины XVII века. Только служит она не славе, а ценностям приватным,
спокойствию семейной жизни и возвышению в социальном плане. Настороженное
отношение к проявлениям собственного «я» — важный урок госпожи де Шартр.
Правда, ей ведомы и непрямые пути к истине: чтобы отвлечь дочь от графа де
Немура, она фактически применяет яд ложных похвал и ведет себя едва ли не как
галантная дама. Но на поверку галантность в романе развенчивается, и прежде
всего устами все той же госпожи де Шартр. Действительно, одним из важнейших
признаков подобного образа жизни является легкомысленное отношение к
любви, тогда как госпожа де Шартр и ее дочь занимают прямо противоположную
позицию. Галантность — это молчаливое узаконивание непостоянства и признание
свободы каждого из партнеров, пусть даже и связанного брачными узами; для
героинь госпожи де Лафайет эти узы священны.
Странно, что образ госпожи де Шартр полностью исчез из экранизации романа,
осуществленной в 1961 году режиссером Жаном Деланнуа. Сценарий написал Жан
Кокто, и это обстоятельство не могло не способствовать появлению в фильме уже
упоминавшихся выше мифологических структур. Тем более что на роль принца
Клевского был приглашен Жан Маре, ранее зарекомендовавший себя не только в
ролях «благородных разбойников», но также и как исполнитель роли Орфея. Принц
Клевский в фильме заметно старше и умудреннее де Немура (это противоречит
исторической истине). Что же касается де Немура, то он на экране мало напоминает
искушенного светского льва и выглядит застенчивым миловидным юношей, с
большим напряжением исполняющим свою социальную миссию (с тем же
напряжением, впрочем, играет свою роль и малоизвестный актер Жан Франсуа Порон). Вполне
естественно, подобный расклад должен был привести к смещению центра тяжести
с де Немура на принца Клевского; именно его мучительное, несовместимое с
жизнью переживание случившегося становится наиболее сильной стороной фильма.
После кончины принца фильм все больше превращается в мелодраму, чему в
немалой степени способствует статичная игра Марины Влади — принцессы Клевской,
а перекроенный по сравнению с первоисточником финал (принцесса не уходит в мо-
452
К.А. Чекалов
настырь, а картинно умирает в том самом павильоне в Куломье, где состоялось ее
объяснение с мужем) нарушает концепцию романа не меньше, чем упразднение
«четвертого персонажа». По-видимому, ценность этой экранизации определяется не
мерой верности первоисточнику, а степенью авторской свободы. Творец «Орфея»
привнес в нее мифопоэтические структуры в духе «Вечного возвращения»
(рождение истинной страсти возможно лишь вне супружества), а автор известной у нас
картины «Собор Парижской Богоматери» — не только нехитрые атрибуты фильма
«плаща и шпаги», но и блестящие, психологически убедительные постановочные
эпизоды (сцены бала и турнира).
Письма
В этой статье мы не раз ссылались на письма госпожи де Лафайет, проливающие
свет как на подробности ее биографии, так и на проблему авторства романа
«Принцесса Клевская». Однако значение этих писем не исчерпывается их документальной
ценностью, они несомненно представляют и литературный интерес. Французская
литература XVII века выработала немало вариантов эпистолярного жанра: трактаты
в эпистолярной форме на нравоучительные, философские и даже богословские
темы («Письма к провинциалу» Б. Паскаля, 1656); пародии на подобные трактаты
(Сирано де Бержерак); галантные, внешне непринужденные, но на самом деле
тщательно обработанные в стилистическом отношении письма (В. Вуатюр); переходные
формы от любовного эпистолярия к роману в письмах («Письма к Бабет» Э. Бур-
со, 1669)... В литературоведении прослеживается тенденция рассматривать образцы
этого жанра, созданные женщинами, как самостоятельную область. Считалось, что
именно в рамках эпистолярия слабый пол способен не только сравняться с сильным,
но и превзойти его. Об этом прямо пишет Лабрюйер в «Характерах». Конечно,
женские письма не претендовали на столь высокий уровень эрудиции и
риторической отделки, как письма Геза де Бальзака, впервые опубликованные в 1624 году и
долгое время задававшие тон в эпистолярном жанре (сам он иронично именовал
себя «великим эпистолографом Франции»). Зато их отличают не только
искренность, эмоциональность, но и изящество слога, остроумие. Сказанное относится как
к письмам госпожи де Севинье, так и к эпистолярию ее подруги госпожи де
Лафайет. Однако оценить по достоинству эти письма современники не могли — они были
известны только узкому кругу родных и близких. Публикация писем госпожи де
Лафайет началась в XVII веке, а наиболее фундаментальным следует считать
двухтомное издание, подготовленное Андре Бонье52.
Письма госпожи де Лафайет сохранились далеко не в полном объеме. Если в
уцелевшем эпистолярии госпожи де Севинье 1120 писем, то у госпожи де
Лафайет, включая даже незначительные записки, их не более двух с половиной сотен. Ее
основные адресаты — Менаж, Лешрен, госпожа де Севинье, госпоже де Сабле, Юэ
и некоторые другие. Ни одного письма к Ларошфуко до нас не дошло. Переписка
с герцогиней Савойской сохранилась в минимальном объеме — всего три письма; не-
52 См.: La Fayette М.-М. de. Correspondance: En 2 vol. /Ed. d'après les travaux d'André Beaunier.
P.: Gallimard, 1942.
Мари-Мадлен de Лафайет и ее творчество
453
сомненно из политических соображений часть этого раздела эпистолярия госпожи
де Лафайет была уничтожена по ее распоряжению.
Отличительная особенность писем Мари-Мадлен — относительная краткость (по
сравнению с письмами ее подруги); лаконизм, психологическая насыщенность,
сжатое изложение мысли напоминают стилистику «Принцессы Клевской».
Риторические ухищрения для автора писем — нечто второстепенное. Умолчание оказывается
несравненно более выразительным, нежели детальный анализ переживаний:
«Вспоминайте обо мне в Вашем уединении, я же обещаю вспоминать о Вас, глядя, как
распускаются цветы в моем саду», — пишет госпожа де Лафайет Менажу (13
марта 1657 года)53.
Госпожа де Севинье зачастую склонна превращать эпистолярий в подобие
газетного листка — она насыщает письма изложенными в телеграфном стиле
светскими и государственными новостями (брачные союзы, назначения на важные
должности, некрологи...). Что касается писем Мари-Мадлен, то они совсем не
похожи на хронику событий, жизнь сердца и человеческая психология интересуют
автора гораздо больше. В письмах, адресованных Менажу, находится место
кокетству, но «итальянизированный» книжный налет и исключительное чувство меры
сглаживают поверхностную галантность. Разница натур отчетливо видна при
сравнении двух эпистоляриев: госпожа де Лафайет иронизирует гораздо меньше своей
подруги. Известно, как равнодушно, а то и довольно зло говорит госпожа де
Севинье о кончине тех или иных знакомых; госпожа де Лафайет поначалу вторит ей (в
письме к Менажу от 12 марта 1657 года), но вскоре сбрасывает маску: «Говоря же
серьезно, я страшно перепугана изобилием смертей и с содроганием вскрываю каждое
новое письмо, боясь прочитать известие о кончине кого-либо из людей, к кому я
питаю расположение»54. Особенно глубоко переживает она уход из жизни Генриетты
Английской, причем патетика и в этом случае совершенно отсутствует: «Вот уже три года,
как я стала свидетельницей кончины Мадам. Вчера я перечитывала многие из ее
писем; я все еще полна ею» (письмо к госпоже де Севинье от 30 июня 1673 года)55. Эти
два письма насквозь пронизаны благочестием автора.
В некоторых письмах чувствуется саморефлексия жанра, например, в письме к
Юэ от 29 августа 1663 года (надо сказать, письма к Юэ вообще отличаются большей
содержательностью). «Обычно я не впадаю в [избыточное] красноречие», — замечает
автор письма, дистанцируясь тем самым от напыщенной учености, и тут же
замечает: «<...> мои первые письма преисполнены красноречия. Я и сама поражена этим
обстоятельством; мне подумалось даже, не прочла ли я недавно Бальзака»56. Эта тема
вновь возникает почти тридцать лет спустя, на сей раз в письме к Менажу (12
октября 1691 года), где Мари-Мадлен искренне недоумевает, как это можно именовать ее
письма «изящными и исполненными красноречия? Они никоим образом не могут
стать таковыми, хоть Вы и приложили немало труда, чтобы научить меня писать
подобным образом»57. Из других писем мы узнаем, что госпоже де Лафайет претит
сложный синтаксис, зато ей близка ясная, лишенная двусмысленности фраза, «про-
53 La Fayette M,-M. de. Œuvres complètes... P. 544.
54 Ibid. P. 545.
55 Ibid. P. 617.
56 Ibid. P. 581.
57 Ibid. P. 656.
454
К.А. Чекалов
стота и благородство» стиля. Таким образом, классицистическая тенденция, о
которой мы говорили в связи с прозой госпожи де Лафайет, прослеживается и в ее
эпистолярии.
Произведения,
приписываемые госпоже де Лафайет
К таковым относятся «Изабелла, или Испанский любовный дневник» (1675),
«Голландские мемуары» (1678), «Испанская история» (опубликована в 1909 г.),
«Мемуары французского двора за 1688—1689 годы» (1731), «Триумф равнодушия»
(1937) и «Караччо» (фрагмент опубликован в 1980 г.). Все эти сочинения по
мастерству заметно уступают «Принцессе Клевской». Наибольший интерес в этом
ряду представляют романы «Голландские мемуары» и «Изабелла». «Изабеллу»
приписывали разным авторам (мадемуазель де Ларош-Гилен, госпоже де Вильдье
и госпоже де Лафайет), но в современном издании58 авторство безоговорочно
закреплено за последней. Однако приводимые издателями аргументы слишком
уязвимы, чтобы согласиться с такой версией. Так, по мнению Б. Пенго, «Караччо»
представляет собой «наспех выполненную и весьма неуклюжую копию наброска
некоего романа, относящегося к концу XVII века <...> и написанного в духе "Заи-
ды"»59. Своеобразным наброском «Заиды» можно считать и «Испанскую историю».
В психологическом отношении роман невыразителен и даже банален. Это
любовная история красивой и веселой Изабеллы и влюбленных в нее дона Гусмана и
дона Рамиро. Сама Изабелла выходит за дона Альфонсо, сына вице-короля
Каталонии, которого пылко любит и за которым следует в его несчастьях вплоть до
Неаполя. Но еще до бегства Альфонсо убивает Гусмана на дуэли, а затем Рамиро
убивает Альфонсо. Рамиро в итоге женится на Изабелле, но угрызения совести не
позволяют ему насладиться счастьем. Единственным выходом становится смерть.
«Игра любви и смерти»60 — вообще частое явление во французском романе XVII
века. Появляются в «Изабелле» и пираты, отсутствующие в «Заиде». Но, как и в «За-
иде», в «Изабелле» барочный сюжет оказывается трактованным весьма классично,
сдержанно, круг персонажей ограничен, а отдельные коллизии напоминают о
барочной трагедии («Макбет»).
Что касается «Голландских мемуаров», то они состоят из двух достаточно
автономных частей. В первой речь идет о социально-политической истории
Нидерландов середины XVII века, осаде Амстердама Вильгельмом Оранским в 1650 году и
столкновении принца с горожанами. Затем от исторического дискурса автор
достаточно изящно переходит к «романическому», вполне в русле прециозного романа.
При этом в истории любви супруги еврейского торговца и француза можно
встретить целый ряд колоритных бытовых деталей (включая особенности
вероисповедания, как протестантского, так и иудейского). С одной стороны, в «Голландских
мемуарах» многое напоминает о стилистической модели «Принцессы Клевской». Это
58 См.: La Fayette, mme de. Isabelle ou le journal amoureux d'Espagne. P.:J.J. Pauvert, 1961.
59 Pingaud B. Mme de La Fayette. P.: Seuil, 1997. P. 32.
60 См.: Kibédi Varga A. Isabelle, roman classique // Revue des sciences humaines. 1962. № 107.
P. 328.
Мари-Мадлен de Лафайет и ее творчество
455
и искусное соединение исторического дискурса с сентиментальным, и множество
живых психологических наблюдений, и отсылки к прециозной культуре, и
благочестивый эпилог, и, наконец, вторжение в текст «максим» — современный
исследователь насчитывает их около полусотни61. В то же время госпожа де Лафайет
никогда не ездила дальше Оверни. Есть много аргументов в пользу того, что
истинным автором книги является П.-Д. Юэ, ведь ему как раз доводилось посещать
Нидерланды в 1652—1653 годах и голландская тема занимает большое место в его
сочинениях.
Публикуемые в настоящем издании «Мемуары французского двора за 1688—
1689 годы» также приписываются графине, хотя достаточно веских оснований на
то нет. Теоретически госпожа де Лафайет, занимавшая в упомянутый период
весьма выигрышное положение при дворе, вполне могла обладать необходимой для
написания подобных мемуаров информацией. К тому же в середине 1690 года ее
здоровье несколько улучшилось. Слог преамбулы к «Мемуарам» временами
напоминает «Зайду».
Книгу ценили уже в XVTQ веке: «<...> произведение, написанное с мастерством,
изяществом и даже сердечностью, усеянное сходными с оригиналами портретами
и занимательными историями»62. Собственно говоря, мемуары носят
фрагментарный характер, но содержат немало интересных сведений о той эпохе. В центре
внимания военные успехи Короля-Солнца, война за пфальцское наследство и падение
Якова П в Англии. Особо ценилась комментаторами способность автора рассуждать
на самые различные темы, включая войну и флот. Среди персонажей «Мемуаров» —
Вильгельм Оранский, Ларошфуко, Людовик XTV. Последний не удостоен никакой
моральной оценки, но между строк все же проскальзывает осуждение: в
труднейший для страны момент король предается увеселениям. Так же сдержанно в
повествовании критикуются религиозные преследования и отмена Нантского эдикта.
Правда, в упрек Мари-Мадлен ставили несколько тенденциозное изображение
госпожи де Ментенон, а также определенную хаотичность повествования: россыпь
колоритных деталей все же не выстраивается в единую общую линию. Переход от
одной сюжетной линии к другой нередко совершается вне всякой логики. Придворные
интриги, государственные дела, военные перипетии беспорядочно сменяют друг
друга. Все это скорее напоминает черновой дневник, чем отшлифованные мемуары63.
Повествование неожиданно обрывается; предполагалось, что подобные же
мемуары были составлены писательницей и за другие годы, то есть она охватила весь
период истории Франции со времен ее молодости. Но — скорее всего в силу
неосмотрительности аббата де Лафайета — рукописи были утрачены.
61 См.: Lens N. Les Mémoires de Hollande: Etude d'un ouvrage paru en 1678//Revue de littérature
comparée. 1973. № 2. P. 282.
62 Chaudon L.M. etc. Nouveau dictionnaire historique-portatif, ou Histoire abrégée de tous les hommes
qui se sont fait un nom (1766) // Mouligneau G. Op. cit P. 93.
63 См.: Mouligneau G. Op. cit. P. 80.
ПРИМЕЧАНИЯ
В состав настоящего издания вошла большая часть произведений, несомненно
принадлежащих перу М.-М. де Лафайет или с достаточно высокой степенью
определенности атрибутируемых ей (исключения составили только письма).
В качестве дополнения публикуются «Мемуары французского двора за 1688 и
1689 годы», истинный автор которых доподлинно неизвестен, а также
«Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов», — едва ли не первый во Франции
исторический очерк романного жанра, охватьшающий период со времен
античности до середины XVII века.
Все предоставленные переводы (кроме «Письма-трактата») выполнены по
единственному на сегодняшний день полному собранию сочинений госпожи де
Лафайет (в одном томе), подготовленному известным специалистом по истории
французской литературы XVII века Роже Дюшеном (см.: La Fayette, madame de. Œuvres
complètes / Textes établis, présentés et annotés par Roger Duchêne. P.: François Bourin,
1990). Это издание, однако, нельзя считать в строгом смысле академическим — в
отличие от подготовленных М. Кенен (см.: La Fayette М.-М. de. Histoire de la Princesse
de Montpensier; Histoire de la comtesse de Tende / Ed. critique par M. Cuénin. Genève:
Droz, 1979) и M.-T. Ипп (см.: La Fayette M.-M. de. Vie de la Princesse d'Angleterre /
Introduction et notes par M.-T. Hipp. Genève: Droz, 1967) фундаментальных изданий
«Принцессы де Монпансье», «Графини Тандской» и «Жизни Генриетты
Английской», выпущенных в рамках серии «Французская литература» («Textes littéraires
français»). При составлении примечаний, наряду с указанным полным собранием
сочинений госпожи де Лафайет, использовались и другие издания: La Fayette M. -M. de.
Romans et nouvelles/Éd. E. Magne. P.: Garnier, 1958; La Fayette M.-M. de. La Princesse
de Clèves et autres romans / Préface et notices de B. Pingaud. P.: Gallimard, 1967;
Nouvelles du XVIIe siècle /Ed. M. Cuénin. P.: Gallimard, 1997; Nouvelles galantes du
XVTF siècle / Présentation, notices... par M. Escola. P.: Flammarion, 2004. Чрезвычайно
полезными для этой цели оказались также мемуары Брантома, герцога де
Сен-Симона, госпожи де Монпансье, кардинала де Реца, переписка М.-М. де Севинье,
«Любовная история галлов» Бюсси-Рабютена, а также работы современных
специалистов по истории Франции XVI—XVII веков и упомянутый сайт в Интернете.
Принцесса de Монпансье
457
ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАНСЬЕ
«Принцесса де Монпансье», первая книга госпожи де Лафайет, была
опубликована 20 августа 1662 года (тремя скооперировавшимися по этому случаю
парижскими издателями). Существует письмо писательницы Жилю Менажу, где она
признается, что является автором этого произведения, вышедшего анонимно. Госпоже де
Лафайет претила мысль о том, что ее причислят к разряду литераторов, к тому же
графиня считала для себя постыдным получать скромные доходы от издания
собственных сочинений.
Исследователям известны четыре рукописные копии «Принцессы де Монпансье».
Две хранятся в Национальной библиотеке Франции, третья — в муниципальной
библиотеке Нима (датируется 1728 г. и представляет собой воспроизведение
печатного текста), четвертая — в частной коллекции и потому совершенно недоступна. Ряд
копий сделан иным почерком, что говорит о возможном участии Менажа в работе
над рукописями. Хотя госпожа де Лафайет одобряла исправления Менажа, считая,
что те улучшают книгу, тем не менее ему она адресовала упрек за одну
«ужасающую опечатку», исправленную в переизданиях.
Предпосланное новелле обращение к читателю обусловлено, вероятно, тем, что
в тексте задеты высокие имена — Анны-Марии-Луизы де Бурбон (1627—1693), так
называемой мадемуазель де Монпансье, единственной дочери Гастона Орлеанского,
брата Людовика ХШ, и Марии де Монпансье, которая приходилась дочерью Анри
де Бурбону и внучкой Франциску де Бурбон-Монпансье и Рене Анжуйской,
принцессе де Монпансье, героине описываемой истории. Надо было обладать большой
смелостью, чтобы сделать главным действующим лицом литературного произведения
склонную к любовным похождениям прабабку двоюродной сестры Людовика XTV
(см.: La Princesse de Montpensier / Ed. T. Jolly, L. Billaine, Ch. Sercy. P., 1662).
Впервые на русском языке новелла вышла в переводе Н.В. Забабуровой (см.:
Лафайет M. -M. de. Принцесса де Монпансье // М.-М. де Лафайет. Принцесса Клев-
ская; Принцесса де Монпансье; Графиня де Танд. Ростов-на-Дону, 1991. С. 163—189).
Настоящий перевод осуществлен по уже упоминавшемуся изданию Р. Дюшена,
текст в котором соответствует первому изданию.
1 Несмотря на гражданскую войну, раздиравшую Францию при Карле IX... — Речь
идет о событиях с 1560 по 1574 г. Апогеем этого этапа религиозных войн во
Франции стала Варфоломеевская ночь (см. примеч. 23).
2 Единственная дочь маркиза де Мезьера... — Имеется в виду Рене Анжуйская,
маркиза де Мезьер (1550—1590, по др. данным — ок. 1574), наследница Анжуйского дома
по линии бастардов. На самом деле была не единственной, а третьей дочерью
Никола Анжуйского, маркиза де Мезьера, и Габриэль де Марёй. В 1566 г. вышла
замуж за Франциска де Бурбона, герцога де Монпансье (1542—1592).
3 Герцог Майенский — Карл Лотарингский (1554—1611). В 1576 г. женился на
Генриетте Савойской (ум. 1611). Участник гражданских войн, один из вождей католиков.
4 Герцог де Гиз — Генрих I Лотарингский (1550—1588), брат Карла Лотарингско-
го, герцога Майенского, сын Франциска де Гиза, убитого в 1563 г., то есть до нача-
458
Примечания
ла действия романа, и Анны д'Эсте. В 1570 г. женился на Екатерине Клевской,
графине д'Э (см. примеч. 20). После ранения в 1575 г. получил, как и его отец (см.
примеч. 10 к «Принцессе Клевской»), прозвище Меченый (le Balafré). Один из
вождей Католической лиги на втором этапе религиозных войн. Убит в замке Блуа по
приказу Генриха Ш.
5 Кардинал Лотарингский — Карл де Гиз (1524—1574), младший брат Франциска
де Гиза, министр при Франциске П; дядя Генриха де Гиза (см. примеч. 4).
6 Принц де Монпансье — Франциск де Бурбон (1542—1592); стал герцогом в 1582 г.
после смерти отца, Луи де Бурбона, герцога де Монпансье.
7 Герцог Омальский — Клод Лотарингский (1526—1573), младший брат
Франциска де Гиза (см. примеч. 10 к «Принцессе Клевской») и кардинала Лотарингского (см.
примеч. 5), зять Дианы де Пуатье. Участвовал в военных действиях против
императора Священной Римской империи Карла V, в итальянском походе де Гиза; в 1553—
1554 гг. находился в плену. Погиб в ходе осады Ла-Рошели.
8 ...Париж... должен был стать центром военных действий. — Речь идет о начале
второй гражданской войны (1567 г.), когда гугеноты, возглавляемые принцем де Кон-
де, попытались выкрасть короля Карла IX в замке Mo, расположенном к востоку
от Парижа, а затем осадили столицу.
9 Граф де Шабан. — Хотя имя Шабан (его носили представители знатного оверского
рода) часто встречается в сочинениях XVI в., в данном случае, по-видимому, речь идет
о персонаже, выдуманном госпожой де Лафайет.
10 ...после двухлетнего отсутствия... в битве при Сен-Дени. — Битва произошла
10 ноября 1567 г., в ней победу одержали католики. В битве отличился принц де
Монпансье. Неточность автора: вторая гражданская война во Франции длилась
только год, а не два.
11 Мир оказался призрачным. — Мир был подписан королем 22 марта. Конде и
Колиньи подписали соглашение в Лонжюмо 23 марта 1568 г.
12 Адмирал де Шатийон — Гаспар де Колиньи, сеньор де Шатийон (1519—1572),
губернатор Пикардии с 1555 г. Племянник коннетабля Анна де Монморанси,
участник итальянских войн. Организатор колониальной экспедиции в Бразилию (1555—
1557 гг.). Отличился при защите Сен-Кантена от англичан (1557 г.). В дальнейшем
со своим братом Франциском д'Андело стал одним из вождей гугенотов. Возвращен
ко двору в 1571 г. Убит в Варфоломеевскую ночь по приказу Генриха де Гиза.
13 Вожди гугенотов засели в Ла-Рошели... — Ла-Рошель была отдана гугенотам в
1568 г. и оставалась их основным, хорошо укрепленным центром вплоть до взятия
крепости кардиналом Ришелье в 1628 г.
14 Битва при Жарнаке — крупное сражение между гугенотами под командованием
Колиньи и католиками (ими командовал герцог Анжуйский, будущий король
Франции Генрих Ш), завершившееся поражением протестантов. Именно в ходе этой
битвы 13 марта 1569 г. Конде был убит Монтескью, капитаном гвардейцев герцога
Анжуйского.
15 Битва при Монконтуре. — Произошла 3 октября 1569 г., в ней католики под
предводительством Таванна одержали победу над гугенотами, которыми
командовал Колиньи.
16 ...вскоре был заключен мир... — Имеется в виду выгодный для гугенотов Сен-
Жерменский мир, заключенный 8 августа 1570 г. Была фактически объявлена
свобода вероисповедания на тех территориях, где ранее преобладал протестантизм.
Графиня Тандская
459
Париж оставался католическим, зато города Ла-Рошель, Монтобан, Коньяк и Ла-
Шарите переходили под временную юрисдикцию гугенотов.
17 В двух рукописях и в издании 1662 г. читаем: «Ее высочество сестра короля,
которой он был любим, встречала с его стороны необычайную холодность,
способную излечить от страсти кого угодно, но только не ее».
Это именно та «ужасающая опечатка», о которой писала госпожа де Лафайет
Менажу (см. с. 457 наст. изд.). В таком виде фраза воспринималась как намек на
якобы имевшую место кровосмесительную связь будущей королевы Марго со
своим братом Карлом IX.
18 ...ее высочество, будущая королева Наварры... — Имеется в виду королева Марго,
Маргарита де Валуа (1553—1615), дочь Генриха П, ставшая в 1572 г. супругой Генриха На-
варрского, будущего короля Франции Генриха IV. Их брак был аннулирован в 1599 г.
19 ...ее свекор, господин де Монпансье... — Речь идет о Луи де Бурбоне (1513—1582),
герцоге де Монпансье, отце мужа главной героини новеллы. В 57 лет вторым
браком женился на Екатерине Лотарингской (1552—1596), которая была на два года
моложе принцессы.
20 По желанию короля был поставлен балет... — Екатерина Медичи действительно
стремилась привить французскому двору увеселения на итальянский манер. В то же
время автор новеллы склонен переносить придворные реалии, характерные для
времен Короля-Солнца, в XVI в.
21 Принцесса Порсьенская — Екатерина Клевская (1548—1633), дочь Франциска
Клевского и Маргариты де Бурбон, графиня д'Э. В 16 лет стала вдовой Антуана де
Круа, принца Порсьенского. Брак с де Гизом был заключен 1 октября 1570 г.
22 Вскоре после этого двор переехал в Блуа... — На самом деле мирный договор с
гугенотами и сопутствующий ему брачный контракт были подписаны в ходе другого
путешествия в Блуа, 11 апреля 1572 г. (в новелле же идет речь о пребывании двора
в Блуа с августа по декабрь 1571 г.).
23 ...с тем чудовищным умыслом, который осуществился в день святого
Варфоломея... — Имеется в виду Варфоломеевская ночь (с 23 на 24 августа 1572 г.), во
время которой произошла массовая резня гугенотов, съехавшихся в Париж на
свадьбу Генриха Наваррского (будущего короля Генриха IV) и Маргариты де Валуа.
24 Маркиза де Нуармутье — Шарлотта де Бон-Самблансе (1551—1617), дочь Жака
де Бона и Габриэль де Сад. В период, о котором идет речь, еще не стала супругой
Франсуа де Латремуя, маркизой де Нуармутье (брак был заключен в 1584 г.), и
именовалась баронессой де Сов, будучи супругой Симона де Физа, барона де Сова.
Галантная дама, фигурирующая в мемуарах Маргариты де Валуа и в «Королеве
Марго» Александра Дюма-отца.
25 За несколько дней смерть унесла в расцвете лет эту прекраснейшую принцессу... —
Героиня новеллы на самом деле скончалась позднее, так как 12 мая 1573 г. она
родила сына, Анри де Монпансье, деда двоюродной сестры Людовика XTV.
ГРАФИНЯ ТАНДСКАЯ
«Графиня Тандская» впервые была напечатана в сентябре 1718 года в журнале
«Нуво Меркюр» без названия и имени автора. Через шесть лет, в июне 1724 года, тот
же журнал (к тому времени переименованный в «Меркюр де Франс») опубликовал не-
460
Примечания
сколько иной вариант текста («Краткое историческое повествование, принадлежащее
перу госпожи де Лафайет»). Тематика, стиль и повествовательная техника новеллы
позволяют утверждать, что, несмотря на столь позднее опубликование, она вполне могла
принадлежать перу госпожи де Лафайет. Действие разворачивается сразу же после
смерти Франциска П, когда его мать, Екатерина Медичи, становится регентшей, таким
образом речь идет о событиях, последовавших сразу за теми, что описаны в «Принцессе
Клевской», и предваряющих те, что легли в основу «Принцессы де Монпансье». Сюжет
изложен таким образом, что вымысел трудно отличить от действительности. Новелла
проникнута той же моралью, что и два упомянутых выше произведения, —
добродетельные женщины становятся жертвами своих неконтролируемых чувств.
До наших дней дошли три рукописные копии «Графини Тандской». В рукописи,
датируемой 1728 годом и хранящейся в муниципальной библиотеке Нима, «Графиня
Тандская» (и это служит дополнительным доказательством ее принадлежности перу
госпожи де Лафайет) следует сразу же за «Принцессой де Монпансье». Вторая
рукопись находится в Государственной библиотеке Мюнхена, а третья — в
муниципальной библиотеке Санса; по всей вероятности, первая является копией второй. При
подготовке научного издания «Графини Тандской» и «Принцессы де Монпансье»
(Genève: Droz, 1979) за основу выбрана рукопись, хранящаяся в Сансе; возможно,
она была выполнена непосредственно с оригинала.
Впервые с указанием имени автора опубликовано в изд.: Lafayette Marie-Madeleine
de. La Comtesse de Tende//Mercure de France. 1724. Juin. P. 1267—1291. На русском
языке новелла впервые вышла в переводе Н.В. Забабуровой (см.: Лафайет М.-М. де.
Графиня де Танд // М.-М. де Лафайет. Принцесса Клевская; Принцесса де
Монпансье; Графиня де Танд. Ростов-на-Дону, 1991. С. 190—209). Настоящий перевод
осуществлен по изд.: La Fayette, madame de. La Comtesse de Tende // OEuvres complètes. P.:
François Bourin, 1990. P. 413-429.
1 Дочь маршала Строцци. — Имеется в виду Кларисса (Клариче) Сгроцци (?—1564),
дочь Пьеро Строцци (1500—1558), маршала Франции (1556 г.), и Леодамии Медичи,
кузины королевы. Дата ее бракосочетания с графом Тандским неизвестна.
2 Граф Тандский из Савойского дома. — Онора Савойский (1538—1572), сын Клода
Савойского (1507—1566), графа Тандского и Соммеривского, и Мари де Шабан;
губернатор и сенешаль Прованса.
3 Принцесса Невшательская — Жаклин де Роан (ок. 1520 — ок. 1587), в 1536 г.
ставшая женой Франциска Орлеанского-Лонгвиль (1513—1548), графа Невшательского.
Маргарита Наваррская сделала ее персонажем одной из новелл «Гептамерона» (№ 53).
4 Шевалье Наваррский — по-видимому, персонаж, целиком выдуманный автором. В
то же время Наварцами именовались многие незаконные отпрыски королевской семьи.
5 Принцесса де Конде — Элеонора де Руа (1535—1564), дочь Шарля де Руа, графа
де Руси. В 1551 г. вышла замуж за Луи де Бурбона, принца де Конде (1530—1569).
6 Госпожа де Сент-Андре — Маргарита де Люстрак (?— ок. 1590), дочь Антуана де
Люстрака и Франсуазы де Помпадур. Вышла замуж за Жака д'Альбон де
Сент-Андре (ок. 1505—1564), впоследствии ставшего маршалом Франции (см. также примеч. 17
к «Принцессе Клевской»). В дальнейшем питала страсть к принцу де Конде.
7 Графиня скончалась несколько дней спустя... — На самом деле графиня Тандская
погибла от последствий несчастного случая, имевшего место в 1564 г. Вместе с
супругом она сопровождала молодого Карла IX и, поднимаясь на борт королевской
Заида. Испанская история
461
галеры, оступилась и упала в море; графиню спасли, но несчастный случай
совершенно подорвал ее здоровье. Эта версия изложена в «Жизнеописаниях знаменитых
чужеземных полководцев» Брантома (гл. ХХХП).
8 ...он не пожелал больше вступать в брак... и дожил до весьма преклонных лет. — На
самом деле граф Тандский скончался в возрасте тридцати четырех лет.
ЗАИДА
Испанская история
Несмотря на огромный вклад друзей в создание «Заиды» (тщательное
редактирование — Юэ, композиционное построение, искусное соединение разрозненных частей
в единое целое — Сегре), несомненно, что идея, общий замысел, разработка
сюжетных линий романа принадлежат госпоже де Лафайет. Она сама подготовила первую
редакцию текста, внесла в нее изменения в соответствии с высказанными по ее же
просьбе замечаниями; и при этом осталась судьей в последней инстанции,
сохранившей за собой право решающего голоса. Все это позволяет считать М.-М. де
Лафайет неоспоримым автором этого произведения.
По сравнению с «Принцессой де Монпансье» тайна авторства «Заиды»
соблюдалась гораздо строже. Лишь в 1703 году, ко всеобщему удивлению, Юэ осмелился
написать, что в действительности «Заида» — творение госпожи де Лафайет.
Рукописных копий «Заиды» не сохранилось. Оригинальное издание состояло из двух томов.
Первый включал в себя «Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении
романов» (см. разд. «Дополнения» наст. изд.). Он вышел в свет 20 ноября 1669 года.
Однако в выходных данных указан 1670 год. Второй том (с текстом романа) был
отпечатан ко 2 января 1671 года. Он значительно менее отработан в силу нетерпения,
проявленного издателем.
Между пятью сохранившимися экземплярами оригинального издания, три из
которых находятся в Национальной библиотеке Франции и по одному в библиотеке
Сорбонны и во Французском институте, имеются незначительные разночтения.
Одно из них, судя по всему, носит следы авторской правки.
Вайян, врач и коллекционер, друг госпожи де Сабле, сохранил в своих бумагах
написанный рукой Ларошфуко нижеследующий вариант фрагмента из «Заиды»: «Я
перестал увлекаться теми, кто отдает мне свое сердце, и боготворю Зайду, которая меня
не замечает. Что влечет меня к ней: ее необыкновенная красота или ее безразличие?
Неужели мое сердце так устроено, что я могу полюбить только ту, которая не любит
меня? О Заида, удостоюсь ли я когда-нибудь счастья узнать, ваши ли чары или ваше
безразличие влекут меня к вам?» На обороте рукой Вайяна помечено: «Господин
Ларошфуко просит высказать свое мнение». На другом листке рукой герцога
предлагается новый вариант последней фразы этого фрагмента: «О Заида, узнаю ли я
когда-нибудь от вас, что ваши чары, а не ваша холодность влекут меня к вам?»
Впервые опубликовано: Zayde, histoire espagnole, par monsieur de Segrais, avec un
Traitté de l'Origine des Romans, par monsieur Huet. P.: Claude Barbin, 1670. Впервые
на русском языке роман появился в XVIII веке (см.: Заида, гипшанская повесть,
сочиненная г. Дезегре: В 2 ч. М.: Императорский Московский Университет, 1765).
Настоящий перевод осуществлен по упомянутому выше изданию,
подготовленному Р. Дюшеном.
462
Примечания
1 Испания освобождалась от засилья мавров. — В 711—714 гг. страны
Пиренейского полуострова были завоеваны арабами (в средние века их называли маврами).
Освободительная борьба против захватчиков (реконкиста) началась сразу, уже в
первой половине УШ в. К ХШ в. Испании удалось отвоевать у мавров более половины
своей территории. На юге страны образовался Гранадский эмират. В 1492 г. после
длительной осады Гранада пала и южные земли были присоединены к Испанскому
королевству.
2 Астурия — область на севере Испании, которая изначально сохранила свою
независимость и потому была приютом для тех, кто спасался от чужеземного гнета.
3 Леон — христианское королевство, образовавшееся на северо-западе
Пиренейского полуострова в начале X в. и включавшее в себя Астурию.
4 Наварра — графство, возникшее в области Баскония в IX в. и ставшее в начале
X в. королевством. Король Наварры Санчо Ш Великий (ок. 992—1035) сумел
объединить под своей властью земли Леона, Кастилии, Арагона, баскские территории
Испании и Франции. После смерти Санчо Великого государство, согласно
завещанию, было разделено между его сыновьями, что привело к новым феодальным
междоусобицам.
5 Барселонское графство. — Возникло на востоке полуострова в области Каталонии.
Барселона была захвачена маврами в 713 г., но уже к началу IX в. (801 г.)
отвоевана в числе прочих северных территорий франками. На завоеванных землях
франки создали Испанскую марку, в которую входило четыре графства, в том числе и
Барселонское. В 874 г. Барселонское графство обрело независимость как от Кордов-
ского эмирата, так и от франков. Граф Барселонский Вифред Мохнатый (873—898 гг.)
стал главным правителем Испанской марки.
6 Арагонское графство. — Появилось в IX в. севернее Барселонского, на реке
Арагон, сначала входило в состав королевства Наварра, а в XI в. стало
самостоятельным королевством со столицей в Сарагосе.
7 ...леонский король Альфонс, прозванный Великим. — Имеется в виду Альфонс Ш,
король Астурии-Леона (838—910, правил с 866 г.), третий из представителей этой
династии астурийских правителей, сын дона Ордоньо I и доньи Нуньи; был женат на
донье Амелине, по прозванию Химена, от которой имел четырех детей.
Способствовал укреплению королевской власти, подавлял оппозицию знати. Был смещен с
престола в результате заговора. Один из сыновей Альфонса, Гарсиа, получил леонские
земли; другой, Ордоньо, — Галисию и лузитанские владения; третий, Фруэла, —
Астурию. Король же обосновался в крепости Самора. Исходя из этого действие «За-
иды» можно датировать 910—911 гг.
8 ...Диего Порсельос и Нуньес Фернандо. — Диего Порсельос — один из графов,
управлявших Кастилией под эгидой Альфонса Великого. Отражал атаки мавров и
пытался захватить верховную власть в управляемой им провинции. Был завлечен
в ловушку доном Ордоньо, вторым сыном дона Альфонсо, ставшим королем
после смерти старшего брата Гарсиа, посажен в тюрьму и скорее всего убит. Нуньес
Фернандо (Фернандес) — один из управителей Кастилии, с точки зрения историков
наиболее могущественный и богатый.
9 Консалв — один из главных персонажей романа госпожи де Лафайет. По
сведениям историка XVTI в. Марианы, к трудам которого обращалась писательница,
Консалв (Гонзалес Нуньо) в действительности был сыном Нуньо Разуры. Он
женился на Химене, дочери Нуньеса Фернандеса.
Заида. Испанская история
463
10 Преследуемый напастями... — Налицо излюбленный прием романа барокко,
когда герой входит в повествование с некой тайной, которой предстоит разрешиться
впоследствии.
11 ...чтобы пересечь Эбро у Тортосы... — Город Тортоса находится в Каталонии на
реке Эбро.
12 Таррагона — испанский город в Каталонии; один из средиземноморских портов.
13 ...зовут его якобы Теодорихом... — Имя Теодорих в эпоху Лафайет явно имело
«романические» ассоциации. Это было имя древних вестготских правителей
Испании V в., один из которых стал персонажем романа Оноре д'Юрфе «Астрея».
14 Альфонс Хименес — явно вымышленный персонаж, хотя Хименесы упоминаются
в исторических сочинениях как один из знатных родов Наварры.
15 ...что это имя ее подруги. — Имя главной героини романа, Заида, не связано с
каким-то конкретным историческим лицом. Несомненно, оно должно было
создавать исторический и национальный колорит. Похожее имя (Сайда) встречается в
книге «Гражданская война в Гранаде» X. Переса де Иты, но нет сведений, что
госпожа де Лафайет была хорошо знакома с упомянутым сочинением.
16 ...в битве... именно вы склонили чашу весов в пользу христиан. — Данная битва, как
и штурм крепости Самора, скорее всего являются вымышленными событиями, и
упоминания о них призваны повысить статус героя.
17 Дон Гарсия — старший сын короля Альфонса Великого, занявший трон отца
после его отречения от престола. Правил в 910—913 гг. Умер, не оставив потомства.
18 Дон Рамирес — вымышленный персонаж. Однако очевидна его принадлежность
к знатному роду, так как фамилия Рамирес часто встречается в хрониках Леонского
королевства и в генеалогии его властителей.
19 ...подлинные чувства им просто неведомы. — Дискуссия о любви, которая далее
разворачивается между персонажами, восходит к традициям французского преци-
озного романа и «Астрее» д'Юрфе. Кроме того, не раз отмечалось, что
исторические декорации не заслоняют изображения в «Заиде» нравов французской
аристократии эпохи Фронды, что позволяло воспринимать это произведение, подобно
многим другим образцам галантно-героического жанра, как «роман с ключом».
20 ...тс Нунье Белле, дочери дона Диего Порсельоса... — У Диего Порсельоса
действительно была дочь, но ее звали Сулла Белла.
21 Герменсилъда — вымышленная героиня, имя которой, вероятно, возникло у
госпожи де Лафайет по аналогии с именем архиепископа Герменгильда д'Овьедо. Не
исключено, что имя сознательно искажено. Герменгильдом звали также сына
испанского короля Лиувигильда (правил с 573 г.), который участвовал в заговоре против
своего отца и был убит. Принцесса, ставшая женой герцога Гарсиа, не называется
по имени у испанских историков, с трудами которых была знакома госпожа де
Лафайет.
^Абдала, король Кордовы. — Абдаллах ибн Мухаммед I (888—912 гг.). Кордовский
эмират, основанный Абдаррахманом I (756—788 гг.), с 756 г. являлся независимым
арабским государством, которым управляли эмиры из династии Омейядов.
23 Мавры... праздновали победу, каких еще никогда не одерживали над христианами. —
Исторических сведений о подобном сражении нет.
24 ...дон Ордоньо... неудачлив в усмирении мятежников... — О поражении дона Ор-
доньо упоминается в «Истории Испании» Марианы, хотя о победе короля
Альфонса ничего не сообщается.
464
Примечания
25 Белазира, дочь графа де Геварры — вымышленный персонаж, однако род Геварра
был известным в средневековой Испании (см. примеч. 27).
26 ...на приеме у королевы. — Скорее всего речь идет о королеве, которой могла
быть либо донна Теода, дочь дона Зено, графа Бискайского, супруга дона Иниго
Аристы, короля Наварры, либо донна Урака Арагонская, жена дона Гарсии Иниго,
тоже короля Наварры.
27 Граф де Аара. — Хотя данный персонаж является вымьпнленным, род Лара, как
и род Геварра, к которому принадлежит Белазира, был известен в средневековой
Испании как один из знатных и могущественных.
28 ...отец... посланный королем... — Речь идет о доне Иниго Аристе или доне
Гарсии Иниго (см. примеч. 26).
29 Дон Манрикес — вымышленный персонаж.
30 Король Астурии. — Астурия — древняя испанская провинция, расположенная на
севере страны в Пиренеях. Основанное в 718 г. Астурийское королевство с 757 г.
стало называться королевством Овьедо, а с 913 г. получило название Леон (после того
как астурийские короли завоевали территорию на северо-востоке Испании и
расширили свои территории). Перенос столицы из Овьедо в Леон состоялся около 917 г.,
то есть в период правления Ордоньо П. В данном случае речь должна идти о
короле Альфонсе Ш Великом, отце Ордоньо, поскольку именно он правил в это время
Астурией-Леоном (см. примеч. 7).
31 ...король торжественно вручил мне корону. — У испанского историка Марианы
обстоятельства данного дворцового переворота изображаются иначе. Дон Гарсиа,
поддержанный матерью и тестем Нуньесом Фернандо, восстал против власти короля, был
захвачен в плен и посажен в тюрьму, но кастильские принцы его освободили. В
итоге дон Альс]х)нсо вынужден был в 910 г. отречься от престола в пользу сына и удалился
в Самору — испанский город в Леоне. Эта дата важна, поскольку уточняет
хронологию исторических событий, изображенных в романе.
32 ...осадил Талаверу... — Имеется в виду испанский город близ Толедо, на реке
Тахо. Точная дата осады Талаверы неизвестна, но речь идет о реальном событии,
которое произошло в царствование дона Гарсии или (что вероятнее) его брата и
преемника дона Ордоньо.
33 Король Кордовы Абдерам. — Историк Мармоль, к книге которого «Африка»
обращалась госпожа де Лафайет при работе над романом, считал, что Абдерам стал
королем (эмиром) Кордовы после Абдаллаха в 907 г. и что в 912 г. его сменил эмир
и первый халиф (с 929 г.) Абдаррахман Ш (см. примеч. 22).
34 Зулема — по всей видимости, вымышленный персонаж, как и упоминаемые
далее его родственники — принц Осмин, его жена Беления и их дочь Фелима.
35 Осман — третий халиф, правивший в Арабском халифате с 644 по 656 г. Один
из сподвижников и зять Мухаммеда Убит во время начавшегося против него в Медине
восстания. Здесь исторические даты у госпожи де Лафайет явно не согласуются.
36 Каимакан — один из высоких военных чинов в средневековой мусульманской
армии.
37 Аламиру принц Тарский — вымьппленный персонаж.
38 Оропеса — город неподалеку от Талаверы.
39 Герцог Галисийский — правитель Галисии, которая подобно Астурии и Леону в
описываемый период была христианским королевством, активно участвующим в
Реконкисте.
История Генриетты Английской...
465
40 Сид Рахис — вымышленный персонаж.
41 ...император Лев послал войска для захвата Кипра... — На протяжении VH—IX вв.
Византия вела оборонительную войну против арабов, которые захватили множество
ее территорий, в том числе острова Кипр и Крит. Во второй половине X в.
Византии удалось достигнуть значительных успехов и возвратить часть своих владений,
в том числе и упомянутые острова. Именно данные события, скорее всего, и имеет
в виду автор романа, хотя налицо явное нарушение хронологии.
42 Фамагуста — город на острове Кипр.
43 Астролог Альбумасар — Абу Машар (787—886), знаменитый арабский астролог,
известный под именем Альбумасар, автор ряда трактатов. Большая часть его
жизни прошла в Багдаде. Здесь налицо анахронизм: Альбумасар умер ранее
описываемых событий. Данное далее в романе толкование предсказания астролога отражает
характерное для второй половины XVII в. негативное отношение к оккультной
практике, особенно усилившееся во Франции после известного «дела о ядах». (Оно
относится к периоду 1670—1680 гг.; ответственность за имевшую тогда место в
Париже череду отравлений была возложена на маркизу де Бренвилье и некую Лавуазен;
не считая основных «фигурантов» дела, к смертной казни были приговорены еще
36 человек.)
ИСТОРИЯ ГЕНРИЕТТЫ АНГЛИЙСКОЙ,
ПЕРВОЙ ЖЕНЫ ФИЛИППА ФРАНЦУЗСКОГО,
ГЕРЦОГА ОРЛЕАНСКОГО
В предисловии к «Истории Генриетты Английской» госпожа де Лафайет
рассказала об обстоятельствах создания этого произведения, тем самым косвенно признав
свое авторство.
В 1664 году выслушать и описать историю любви Генриетты Английской и
графа де Гиша госпоже де Лафайет предложила сама будущая героиня повествования,
не сомневавшаяся в том, кто именно создал «Принцессу де Монпансье». Графиня
согласилась, прельщенная возможностью стать доверенным лицом Генриетты, и на
основе полученных сведений принялась за новеллу. По обстоятельствам, не
зависящим от автора, работу над ней пришлось прервать на целых пять лет и возобновить
лишь в 1669 году. Но к тому времени речь шла уже не о трогательной любовной
истории, а об оправдании Генриетты перед супругом, Филиппом Французским. В мае
1670 года в связи с отъездом Генриетты в Англию труд над рукописью вновь
оборвался и продолжился только после внезапной кончины героини. Госпожа де
Лафайет так и не дописала недостающую часть повествования, однако сохранила в
своих бумагах рукопись и даже добавила к ней после апреля 1684 года пояснительное
вступление, — быть может, в надежде заинтересовать им дочь Генриетты,
всходившую в тот момент на савойский трон. Вероятно, впоследствии госпожа де
Лафайет отказалась от этих планов, и в итоге «История» получила известность только
после ее смерти.
Ныне известно восемь рукописных копий этого произведения. Они перечислены
в уже упоминавшемся академическом издании, осуществленном М.-Т. Ипп. Почти
все они носят название «Жизнь Генриетты Английской», а не «История». Ни на од-
30. Заказ № К-6559
466
Примечания
ной нет даты, предшествующей смерти госпожи де Лафайет. Две рукописи из
библиотек Мюнхена и Санса содержат также «Графиню Тандскую»; третья (из Нима) —
«Историю смерти Генриетты Английской» (на самом же деле — полный текст
«Истории»), а также «Графиню Тандскую» и «Принцессу де Монпансье». Это
свидетельствует о том, что все перечисленные произведения считались принадлежащими перу
одного автора. Следует обратить внимание на присутствие в самом тексте
свидетеля-автора, который и в предисловии, и в рассказе о смерти Генриетты сам себя
именует «госпожа де Лафайет».
Впервые опубликовано: Histoire de Madame Henriette d'Angleterre, première
femme de Philippe de France, duc d'Orléans, par dame Marie de la Vergne, Comtesse
de La Fayette. Amsterdam: Le Cène, 1720. Издание содержало немало неточностей и
ошибок, но неоднократно переиздавалось. В опубликованном в 1853 году новом
издании А. Базен исправил текст. На русский язык переводится впервые. Перевод
осуществлен по упомянутому выше изданию Р. Дюшена.
1 Генриетта Французская (1609—1669) — Генриетта-Мария, дочь Генриха IV и
Марии Медичи, с 1625 г. — супруга Карла I Стюарта, королева Англии. После
казни короля 9 февраля 1649 г. бежала во Францию вместе с дочерью Генриеттой
Английской, а также сыновьями — принцем Уэльским и герцогом Йорком (будущие
Карл П и Яков П).
2 Карл I (1600—1649) — английский король с 1625 г. из династии Стюартов.
Низложен и казнен в ходе английской революции.
3 ...выбрав местом своего прибежища монастырь Пресвятой Девы Марии в Шайо. —
Хронологическая последовательность здесь нарушена. Генриетта Французская,
дочь Генриха IV, не сразу остановила свой выбор на Шайо по прибытии во
Францию в 1644 г. Она добилась учреждения в великолепном особняке, в предместье
Парижа, третьего монастыря Посещения Богородицей святой Елизаветы (или
Пресвятой Девы Марии), открытого в июне 1651 г. и поддерживавшего обширные
связи с миром. Произошло это уже после того, как Генриетта очутилась у
кармелиток на улице Святого Иакова.
Кармелиты — члены нищенствующего ордена, основанного во второй половине
ХП в. в Палестине. В ХШ в. переместились в Западную Европу.
4 Мать Анжелика — Луиза Мотье де Лафайет (ок. 1616-1665). Поступила в
монастырь в 1637 г. под именем сестры Анжелики; настоятельница с 1655 г. Одно время
являлась фрейлиной Анны Австрийской и — по инициативе кардинала Ришелье —
привлекла внимание Людовика ХШ. Однако, получив от короля недвусмысленное
предложение, эта ревностная католичка решила постричься в монахини (причем и здесь
не обошлось без содействия кардинала, озабоченного чересчур сильным влиянием
Луизы на монарха).
5 Настоятельница монастыря. — Настоятельницей монастыря вначале была мать
Люиллье. Луиза-Анжелика де Лафайет сменила ее лишь в марте 1655 г., спустя
месяц после бракосочетания графини, состоявшегося 15 февраля. Такие
неточности в отношении фактов, безусловно прекрасно известных госпоже де Лафайет,
могут заставить усомниться в том, что она действительно является автором
повествования. Возможно и иное объяснение: писательница была заинтересована в
искажении обстоятельств дружбы с Генриеттой и своего замужества.
6 Анна Австрийская, жена Людовика XIII. — Имеется в виду испанская инфан-
История Генриетты Английской...
467
та (1601—1666), дочь короля Филиппа III Испанского и эрцгерцогини Маргариты
Австрийской. Считалась в свое время самой красивой женщиной Европы. Брак с
Людовиком XIII был заключен в 1615 г., но на протяжении двадцати двух лет у
них не было детей. Монарх относился к жене враждебно. Примирение супругов
в декабре 1637 г. связывают с благотворным воздействием Луизы де Лафайет (см.
выше примеч. 4); именно при этих обстоятельствах был зачат будущий Король-
Солнце.
7 Кардинал Ришелье — Арман-Жан Дюплесси (1585—1642), кардинал, первый
министр Людовика ХШ. Политика Ришелье, отличавшегося железной волей и не
гнушавшегося никакими средствами во имя «государственного интереса», создала ему
немало врагов; отсюда многочисленные заговоры против него, самым известным из
которых стал заговор Сен-Мара. Ришелье внес большой вклад в укрепление
государства, утверждение абсолютизма, развитие культуры.
8 ...епископ Лиможский, ее дядя... — Имеется в виду Франсуа де Лафайет (1590—
1676), двоюродный дед мужа писательницы; в 1627 г. стал епископом Лиможским.
Активно участвовал в политической жизни вплоть до смерти Людовика ХШ.
9 Граф de Гиш — Арман де Грамон (1638—1674), правнук Дианы д'Андуэн, в 1576—
1591 гг. любовницы Генриха IV. Любимец Месье, храбрец и сердцеед, «красивый
как ангел и предельно самовлюбленный» (по словам Бюсси-Рабютена). После
попытки в 1661 г. завести интрижку с Мадам удален от двора. Участник заговора, целью
которого было открыть глаза королеве на связь Людовика XIV с Лавальер (см.
примеч. 25, 48). В результате в 1665 г. де Гишу пришлось эмигрировать в Голландию,
но через четыре года он возвратился, не упустив случая продемонстрировать свою
воинскую доблесть. Скончался в Германии.
10 Шамбор. — В описываемый госпожой де Лафайет период Версаль еще не стал
постоянной королевской резиденцией. Двор перемещался из Парижа в Фонтенбло,
Сен-Клу, Сен-Жермен-ан-Ле (все три замка находятся сравнительно близко от
столицы), Блуа и Шамбор (на Луаре). В Шамборе Людовик XIV пребывал трижды:
осенью 1668, 1669 и 1670 гг.
11 ...герцогиню Савойскую, ныне правящую. — Речь идет об Анне-Марии де Валуа-
Орлеанской (1669—1728), дочери Месье и Генриетты Английской, герцогине Савой-
ской с 1684 г. Эти подробности датируют написание второй части повествования.
12 Мир между Францией и Испанией был заключен... — Пиренейский мир был
подписан на пограничной реке Бидассоа 7 ноября 1659 г., а бракосочетание короля и
испанской инфанты Марии-Терезии состоялось в июне 1660 г.
13 Мадемуазель де Манчини — Олимпия Манчини (1639—1708), дочь Джироланы
Мазарини, сестры кардинала; графиня де Суассон, супруга (с 1657 г.) Евгения Мо-
рица Савойского, графа Суассона (1633—1673). Играла большую роль при дворе. В
юные годы недолго была фавориткой Людовика XIV. Сестры Мазарини, Джирола
и Маргарита, подарили кардиналу в общей сложности около дюжины племянниц,
«мазаринеток», которые не слишком любили своего дядю.
14 ...племяннице, носившей то же самое имя — Манчини... — Речь идет о Марии
Манчини (1639—1715), сестре Олимпии. В молодости в Марию был страстно влюблен
король Людовик XIV, который даже хотел на ней жениться. Браку воспрепятствовал
кардинал Мазарини. В апреле 1661 г. Мария вышла замуж за коннетабля Колонну (см.
примеч. 27). В письме Менажу от 26 декабря 1656 г. госпожа де Лафайет
присоединяется к общественному мнению, прочившему мадемуазель де Манчини в королевы.
468
Примечания
15 ...Мазариниумер в Венсеннском лесу... — Смерть наступила 9 марта 1661 г.;
считалось, что воздух Венсеннского леса, расположенного к юго-востоку от Парижа, для
кардинала полезнее луврского. Построенный в ХП в., замок в Венсеннском лесу был
незадолго до этого восстановлен Луи Лево.
16 ...женил его на Гортензии, самой красивой из своих плелляннщ... — Имеется в виду
Гортензия Манчини (1646—1699), герцогиня Мазарини, с 1661 г. супруга Шарля
Армана де Лапорта (1632—1713), маркиза де Ламейере, герцога Ретельского и
Мазарини, внучатого племянника Ришелье.
17 Герцогиня de Бофор — Габриэль д'Эстре (1573—1599), с 1592 г. — фаворитка
Генриха IV, маркиза де Монсо (1595 г.), герцогиня де Бофор (1597 г.) и д'Этамп (1598 г.).
Стремилась стать законной королевой Франции, но скоропостижно скончалась во
время родов (долгое время бытовала гипотеза о том, что Габриэль стала жертвой
отравления).
18 ...в нескольких словах описать особ королевского дома... — Здесь представлена та
же галерея портретов, что и в начале «Принцессы Клевской».
19 Месье — Филипп Французский (1640—1701), герцог Анжуйский, с 1660 г. —
герцог Орлеанский, брат Людовика XIV. После кончины в 1670 г. своей первой супруги,
Генриетты Английской, женился на Елизавете-Шарлотте Баварской. Однако оба
брака, заключенные по воле короля, не выражали сердечной склонности Месье. Он
отличался женственностью и нередко переодевался в женское платье.
20 Госпожа де Тианж — Габриэль де Рошешуар (1631—1693), старшая сестра
маркизы де Монтеспан, с 1655 г. — маркиза де Тианж.
21 Господин Фуке — Никола Фуке (1619—1680), с 1650 г. — генеральный прокурор,
с 1653 г. — суперинтендант (министр) финансов. Блестящий финансист и политик.
Один из душеприказчиков Мазарини. По инициативе Кольбера был отставлен от
должности и арестован сразу же после кончины кардинала (формально из-за
причастности к деятельности подпольного Общества Святых Даров, а по сути дела —
из-за того, что обладал могуществом, неприемлемым для Людовика XIV).
Первоначально осужденный на пожизненное изгнание, он затем по распоряжению
короля заключается в крепость Пиньероль, где и проводит остаток своих дней.
22 Господин Летелье — Мишель Летелье (1603—1685), государственный секретарь
по военным делам (с 1643 г.), канцлер Франции (с 1674 г.). Вместе с сыном
маркизом де Лувуа (см. примеч. 9 к «Мемуарам французского двора») много сделал для
модернизации французских вооруженных сил и системы обучения офицеров.
Известен как преследователь протестантов.
23 Господин Кольбер — Жан-Батист Кольбер (1619—1683), член Государственного
совета, генеральный контролер (министр) финансов, государственный секретарь
военно-морских сил, коммерции и королевского дома. Как в государственных
вопросах, так и в том, что касается личной жизни монарха, неизменно стоял на
страже интересов Людовика XTV и пользовался его неограниченным доверием. По
поводу отношения Кольбера к Фуке Вольтер замечает: «Можно быть хорошим
министром и при этом отличаться мстительностью» («Век Людовика XIV»),
24 Графиня де Суассон — Олимпия Манчини, племянница Мазарини (см. примеч. 13).
25 Вилькье — Антуан, маркиз де Вилькье (1601—1669), с 1665 г. — герцог д'Омон.
Капитан гвардейцев, маршал Франции, губернатор Парижа, участник войн с
Фландрией (1667 г.).
История Генриетты Английской...
469
26 Маркиз де Вард — Франсуа-Рене Дюбек-Креспен (ок. 1620—1688), капитан
швейцарских гвардейцев. Известный обольститель и интриган, любовник графини де
Суассон. Вместе с ней и де Гишем написал письмо Марии-Терезии, где сообщалось
о связи короля с Лавальер (см. примеч. 49). В результате попал в Бастилию, затем
был сослан. Лишь в 1683 г. Варду позволили вернуться ко двору, где он стал
предметом всеобщего осмеяния. Его портрет приводится в «Любовной истории Галлии»
Бюсси-Рабютена.
27 Коннетабль Колонна — Лоренцо Онофрио Колонна (1636—1689), герцог Тальякоц-
цо, принц Пальяно и Кастильоне, коннетабль (т. е. главнокомандующий армией)
Неаполитанский. Был женат на Марии Манчини. Бракосочетание состоялось в апреле 1661 г.
28 Во вреллл опасной болезни короля в Кале... — Здесь имеет место ретроспекция, так
как путешествие Людовика XTV в Кале и его болезнь (по-видимому, скарлатина,
хотя пометки на полях рукописных и печатных текстов уточняют, что это была оспа)
относятся к июню 1658 г. Красотой Мария Манчини действительно не блистала, но
зато искренне сострадала молодому монарху. Осенью того же года его нежные
чувства к ней превратились в пылкую страсть.
29 ...вынудила короля полюбить себя. — Многие свидетельства подтверждают силу
любви короля к племяннице Мазарини. Чтобы претворить в жизнь испанский брак,
Мазарини сослался на государственные интересы. Королю пришлось изменить свое
поведение.
30 Испанская инфанта. — Речь идет о Марии-Терезии Австрийской (1638—1683),
дочери Филиппа IV, королеве Франции с 1660 г. (см. примеч. 12).
31 Герцог Карл, плеллянник герцога Лотарингского. — Речь идет о Карле V
Леопольде (1643—1690), племяннике и наследнике Карла IV Лотарингского.
32 Госпожа д'Арманьяк, дочь маршала де Вильруа. — Имеется в виду Екатерина де
Невиль (1639—1707), дочь Никола де Невиля, герцога де Вильруа (1598—1685),
маршала Франции. В 1660 г. стала супругой главного шталмейстера (см. примеч. 95),
активно участвовала в его карьере.
33 Вторая дочь герцога де Мортемара, мадемуазель де Тонне-IIIарант. — Речь идет о
Франсуазе-Атенаис де Рошешуар-Мортемар (1641—1707), будущей госпоже де Монтес-
пан, с 1663 г. — супруге Луи-Анри де Пардайана (1640—1701), маркиза де Монтеспан,
одной из трех «официальных» фавориток Людовика XIV после кончины Мазарини
(наряду с Лавальер и герцогиней де Фонтанж). Отличалась умом, образованностью
и набожностью.
34 ...тех, кто окажется причастен к событиям, описанным в последующем
повествовании. — В некоторых изданиях здесь значится: «Конец первой части».
35 ...король может жениться на инфанте... — Речь идет об испанской инфанте,
племяннице Анны Австрийской (см. примеч. 30).
36 ...король, ее брат, был восстановлен на троне благодаря революции... — Карл П был
провозглашен королем 8 мая 1660 г.
37 ...взяла ее с собой в Англию. — Королева отбыла в Англию 20 октября, Лондон
она покинула 2 января 1661 г.
38 Герцог Бекингем (сын того, которого обезглавили)... — На самом деле Джордж
Вильерс, первый герцог Бекингем (1592—1628), прославившийся своей любовью к
Анне Австрийской, не был обезглавлен — он пал от руки убийцы Джона Фелтона
в Портсмуте.
470
Примечания
39 ...тс ее сестре, принцессе королевского дома... — Имеется в виду принцесса Мария,
старшая сестра Генриетты; умерла в декабре 1660 г. во время пребывания ее
матери в Англии.
40 В ту пору его любимцем был граф де Гит... — Де Гишу в это время было двадцать
три года; он очаровывал женщин и нравился многим мужчинам; последних он тоже
не отталкивал (см. примеч. 9).
41 Госпожа де Шале, дочь герцога де Нуармутъе. — Анна-Мария де Латремуй-Нуар-
мутье (1642—1722) сочеталась первым браком с Адрианом Блезом де Талейраном,
принцем де Шале, вторым — с Флавио Орсини, герцогом Браччано. Позднее стала
старшей фрейлиной испанской королевы, на которую имела большое влияние.
Известна под именем принцессы дез Юрсен. Близкая подруга госпожи де Ментенон.
Занималась политической и дипломатической деятельностью.
42 Госпожа де Валантинуа — Екатерина-Шарлотта де Грамон (1639—1678). В
марте 1660 г. вышла замуж за Луи Гримальди, герцога де Валантинуа, принца де
Монако (см. примеч. 77 к «Мемуарам французского двора...»). Часто упоминается в
переписке госпожи де Севинье; известна своими галантными похождениями.
43 Госпожа де Креки — Анна-Арманда де Сен-Желе де Ланзак, герцогиня де Кре-
ки (1637—1709), супруга герцога Шарля (Карла) III де Креки (1624—1687), посла
Людовика XIV в Испании, Риме, Англии.
44 Госпожа де Шатийон — Изабелла (Элизабет) Анжелика де Монморанси-Бугвиль
(1627—1695), герцогиня де Шатийон. Ее первый супруг, Гаспар IV де Колиньи, герцог
де Шатийон, был убит в бою (1649 г.) во время одной из гражданских войн. В 1664 г.
вышла замуж за обосновавшегося во Франции герцога Мекленбург-Шверинского
(1623—1692). Возможно, была любовницей Великого Конде. Сочувствовала Фронде.
45 Госпожа де Лафайет. — Подобно другим мемуаристам своего времени, Мари-
Мадлен говорит о себе то в первом, то в третьем лице.
46 ...Месье и Мадам отправились в Фонтенбло. — Жан Лоре (1595—1665),
французский поэт и журналист, выпускавший своеобразную еженедельную газету в стихах
«Историческая муза», называет датой отъезда 23 апреля 1661 г.
47 Аббат де Монтегю — Эдм Монтегю (ум. 1677), англичанин, духовник
Генриетты Английской и ее дочери, аббат монастыря Сен-Мартен-де-Понтуаз, участник
Фронды. Посланный во Францию устроить заговор против Ришелье, был заключен
в тюрьму. Освободившись, после короткого пребывания в Англии, возвратился на
жительство во Францию, обратился в католичество; ему пожаловали аббатство Пон-
туаз. В дальнейшем пользовался большим доверием Анны Австрийской;
находился рядом с ней в последние минуты ее жизни.
48 Мадемуазель де Пон, родственница маршала дуАльбре. — Имеются в виду Бонн де
Пон (1644—1709), будущая маркиза д'Эдикур, и маршал Франции Сезар д'Альбре,
граф Миоссанский (1614г-1676), губернатор Гиени.
49 Лавалъер Луиза Франсуаза де Лабом Леблан, герцогиня де (1644—1710) —
знаменитая фаворитка Людовика XIV; от этой связи родилось четверо детей, из
которых двое выжили и были признаны королем. Не отличалась особенной красотой,
но была стройна и обладала превосходными манерами. В момент, о котором идет
речь, ей было семнадцать лет. Тайная героиня празднеств 1664 г., официально
посвященных Анне Австрийской и Марии-Терезии.
50 Герцог Орлеанский — Гастон Жан-Батист Французский (1608—1660), брат
Людовика ХШ, герцог Анжуйский, затем Орлеанский. Участник заговоров против бра-
История Генриетты Английской...
471
та и кардинала Ришелье, а затем — Фронды; долгие годы провел в ссылке в Блуа и
Орлеане. Его вклад в историю оценивается довольно противоречиво.
51 ...все его внимание оказалось сосредоточено на Лавалъер. — Согласно другим
свидетельствам, Мадам, напротив, отвлекала внимание окружающих, дабы скрыть
любовь короля к Лавалъер.
52 ...репетировали валет... — Речь идет о балете «Времена года», исполненном в
Фонтенбло 26 июля 1661 г. (музыка Ж.-Б. Люлли, либретто И. де Бенсерада).
Мадам танцевала во втором антре, де Гиш — в пятом.
53 Госпожа де Шеврёз — Мария де Роган-Монбазон (1600—1679), во втором
браке — жена герцога де Шеврёз, участница заговоров против кардинала Ришелье, а
затем — Фронды; в молодости была подругой и доверенным лицом королевы Анны
Австрийской.
54 Господин де Аэг — Жоффруа, маркиз де Лэг (1604—1674), бывший капитан
гвардейцев Гастона Орлеанского, участник Фронды. Как и госпожа де Шеврёз,
неоднократно упоминается в «Мемуарах» кардинала де Реца.
55 Дампьер — владение семьи Шеврёз (близ Ивелин, депертамент Сена-и-Уаза).
Задуманный Кольбером арест Фуке произошел по воле короля, а не по требованию
его матери.
56 Весь двор направился в Во. — Празднество в Во, устроенное в честь короля 17
августа 1661 г., подробно описано Лафонтеном в письме к своему другу Мокруа.
Роскошный дворец в Во-ле-Виконт (им вдохновлялся Людовик XIV при создании
Версаля) был отстроен по распоряжению Никола Фуке, а после ареста опечатан и
значительно позднее, в 1705 г., продан маршалу де Виллару.
57 Граф де Сент-Эньян — Франсуа-Оноре де Бовилье (ок. 1610—1687), граф, затем
(с 1663 г.) — герцог де Сент-Эньян. Друг и приближенный короля, организатор
(вплоть до преклонного возраста) придворных увеселений, губернатор Турени.
Занимался поэтическим творчеством. Покровитель Жана Расина; великий драматург
посвятил ему первую из своих трагедий — «Фиваиду» (1664).
58 Госпожа де Менвиль, фрейлина королевы. — Имеется в виду Екатерина де Мен-
виль (или Манвиль), поразительной красоты фрейлина королевы, любовница и
осведомительница Фуке. Влюбленный в нее с 1654 г. Франсуа-Кристоф де Леви-Ван-
тадур, герцог д'Анвиль (точнее — де Данвиль) из рода Монморанси подписал в
феврале 1657 г. контракт с обещанием жениться на ней.
59 Пегилен — Антонен Нонпар де Комон, маркиз де Пюигилен, граф де Сен-Фар-
жо, затем — герцог де Лозен (1633—1723), приближенный Людовика XIV. Вследствие
интриг Лувуа и маркизы де Монтеспан попал в немилость и подвергся тюремному
заключению в замке Пиньероль (1671—1681 гг.). Около 1682 г. тайно женился на
мадемуазель де Монпансье («великой Мадемуазель»), двоюродной сестре короля.
60 Монтале — Николь-Анна де Монтале, приближенная герцогини Орлеанской.
61 Бражелон Жан шевалье, де — сын президента парламента Меца, советник
Рейнского парламента.
62 Маликорн — Жермен Тексье (1626—1694), барон де Маликорн. В 1665 г. женился
на дочери от первого брака отчима Лавалъер, Сен-Реми.
63 Молина — испанка, горничная Марии-Терезии.
64 ...он все-таки не удержался и сказал... — Та же неспособность хранить тайну, что
и в «Принцессе Клевской». В некоторых рукописях значится: «<...> и хотя Мадам
обещала графу де Гишу никому ничего не говорить, она не устояла».
472
Примечания
65 Госпожа де Навай, урожденная де Бодеан (ок. 1626—1700) — супруга Филиппа
де Монто-Бенака (1619—1684), маркиза, затем герцога де Навая, маршала Франции;
фрейлина Анны Австрийской. После того как в 1664 г. воспротивилась планам
Людовика XIV касательно Ламотт-Уданкур (см. примеч. 75), была удалена от двора
вместе с мужем. Впрочем, среди мемуаристов нет общего мнения относительно
причин опалы, постигшей супругов Навай.
66 ...попросив короля направить графа де Гиша... в Нанси. — Лоре сообщает об
отъезде де Гиша в Нанси лишь «на следующей неделе», 6 мая 1662 г. Речь шла о том,
чтобы заставить герцога Лотарингского соблюдать условия мирного договора.
67 ...где прошли ее роды. — Мария-Луиза Орлеанская, впоследствии королева
Испании, родилась 27 марта 1662 г. Таким образом между событиями и отъездом де Гиша
прошло какое-то время.
68 Артиньи. — Имеется в виду Клод-Мария Дюгаст, урожденная д'Артиньи, в
замужестве — графиня Дюрур, фрейлина герцогини Орлеанской. Пыталась стать
фавориткой короля.
69 Госпожа де Аабазиньер — тетка Шемро, в которую король был одно время
влюблен.
70 Супруга маршала Дюплесси. — Речь идет о Коломбе ле Шаррон (1603—1681),
первой фрейлине Мадам, супруге Сезара, герцога де Шауазёля, графа Дюплесси-Пра-
лена, маршала Франции, первого палатного дворянина герцога Орлеанского.
71 ...отбывшей к своей сестре. — Имеется в виду Франсуаза де Монтале, графиня
де Маран.
72 ...и Монтале поселилась в монастыре. — А именно — у английских монахинь в
предместье Сен-Марсель.
73 Фонтевро — основанное в 1099 г. аббатство, располагавшееся около г. Сомюр
и сочетавшее в себе мужской и женский монастыри, но традиционно руководимое
аббатисой (настоятельницей). В описываемый период настоятельницей была
Жанна-Батиста де Бурбон (1608—1670), дочь Генриха IV и Шарлотты дез Эссар.
74 Двор прибыл в Сен-Жермен. — Лоре сообщает о расположении двора в Сен-
Жермене на Пасху, 8 апреля 1662 г.
75 ...надумала покорить сердце короля с помощью Ламотт-Уданкур... — Анн-Люси де
Ламотт-Уданкур, герцогиня де Лавьёвиль (ум. 1689), племянница маршала Уданку-
ра, одна из фрейлин королевы. Госпожа де Мотвиль, подтверждая в своих
«Мемуарах» истинность этой истории, относит события к концу июля или началу августа.
Король влюбился в нее, когда она была фрейлиной Марии-Терезии, однако
госпожа де Навай (см. примеч. 65) воспротивилась наметившейся связи. Много лет
спустя стала супругой Рене-Франсуа де Лавьёвиля, наместника ряда областей в Пуату.
76 Шевалье де Грамон — Филибер, граф де Грамон (1621—1707), генерал-лейтенант.
Сводный брат маршала Антуана де Грамона; супруг Елизаветы Гамильтон,
фрейлины королевы. Его жизнь описана в «Мемуарах графа де Грамона» Антуана
Гамильтона (см.: Гамильтон А. Мемуары графа де Грамона/Пер. М. Архангельской.
М.: Московский рабочий, 1993).
77 Маркиза д'Аллюй — Бенинь де Mo Дюфуйу, при дворе — с 1651 г., в 1667 г.
стала супругой Поля д'Эскубло, маркиза д'Аллюя и де Сурди, губернатора Орлеанне.
О ее склонности к любовным интригам пишет в своих мемуарах Сен-Симон.
78 ...сделавшей ее весталкой для остальных мужчин. — Между тем в 1676 г. Ламотт
вышла замуж за Рене-Франсуа, маркиза де Лавьёвиля (1652—1719).
История Генриетты Английской...
473
79 Госпожа де Сен-Шомон — Сюзанна-Шарлотта, сводная сестра маршала Антуа-
на де Грамона; воспитательница детей Мадам.
80 ...король... устроил ее судьбу, о чем мы поведаем далее. — В 1666 г. король выдал
Артиньи замуж за графа Дюрура. Однако в изложении госпожи де Лафайет
никакого развития эта история так и не получила.
81 ...танцевали премилый балет. — «Королевский балет искусств» был показан
15 января 1663 г. Мадам предстала в костюме пастушки.
82 Принц де Марсийак, старший сын герцога де Ларошфуко. — Имеется в виду
Франсуа VU, герцог де Ларошфуко (1634—1714), сын писателя, автора «Максим»; один из
фаворитов короля.
83 ...хотя истинный смысл его был какое-то время скрыт. — Признак
незавершенности повествования: истории этой нет ни в печатном издании, ни в рукописях. В
некоторых из них можно лишь прочитать: «История госпожи де Субиз и графа Дюлюда»
или «Сюда надо вставить историю госпожи де Субиз и графа Дюлюда». 24 февраля
1663 г. Лоре рассказывает, что Дюлюд был ранен, безусловно, в связи с какими-то
галантными похождениями.
84 ...провести несколько дней в Версале. — Король находился в Версале начиная с
28 мая 1663 г.
85 Принц де Конти — Арман де Бурбон (1629—1666), брат Великого Конде (см.
примеч. 121), глава Фронды. Арестован в 1649 г. и признан в числе других виновным
в оскорблении величества (то есть, по сути, в государственной измене). По решению
ассамблеи духовенства освобожден как носитель духовного звания. В 1654 г.
женился на племяннице Мазарини Анне Марии Мартиноцци. Губернатор Гиени (с 1655 г.)
и Лангедока (с 1660 г.). Рец в мемуарах дает ему уничижительную характеристику.
86 Герцог — герцог Энгиенский, сын Великого Конде и племянник принца де Конти.
87 Граф Дюплесси, первый камергер Месье. — Речь идет об Александре де Шуазё-
ле (ок. 1635—1672), сыне маршала Дюплесси (см. примеч. 70).
88 Корбинелли Жан (1615—1716) — эрудит; сын секретаря Марии Медичи. Был при-
частен к интригам маркиза де Варда (см. примеч. 26), как и он, некоторое время
провел в тюрьме. Прожил долгую жизнь; сильно нуждался. Был другом госпожи де
Лафайет, которая назвала его в одном из писем «олицетворением таинственности».
89 Поговорить об этих письмах с Мадам они поручили матушке де Лафайет,
настоятельнице Шайо... — Обладание письмами являлось средством для шантажирования
тех, кто их писал.
90 Король двинулся брать Марсаль... — Лотарингский город Марсаль был
присоединен к Франции в сентябре 1663 г.
91 ...испросил у короля разрешения уехать в Польшу. — В ту пору Франция имела с
Польшей тесные связи, в особенности после того, как стараниями Мазарини
супругой польского короля Владислава IV стала в 1645 г. французская принцесса Мария-
Луиза де Гонзага, дочь герцога Неверского, много сделавшая для пропаганды
французской культуры в Польше. С приходом к власти Яна Собеского (1674 г.) был
заключен союз между двумя государствами, однако уже в 1684 г. польский монарх
разорвал отношения с Людовиком XTV. Де Гиша сопровождал младший брат, Анту-
ан де Грамон. Лоре сообщает об их отъезде 8 сентября 1663 г.
92 Гондрен, архиепископ Санский. — Имеется в виду Луи-Анри де Пардайан де
Гондрен (ум. 1674), с 1646 г. архиепископ Санский, светский прелат, сын маркиза и
маркизы де Монтеспан. Впоследствии поддерживал янсенистов.
474
Примечания
93 Госпожа де Мекельбург (правильнее: Мекленбург) — госпожа де Шатийон (см.
примеч. 44).
94 Принцесса Савойская — Франсуаза-Мадлена Орлеанская, мадемуазель де Валуа
(1648—1664), дочь Гастона Орлеанского, первая жена Карла Эммануила П, герцога
Савойского.
95 Главный шталмейстер. — В то время эту должность занимал Луи Лотаринг-
ский, граф д'Арманьяк (1641—1718), великий сенешаль Бургундии и губернатор
Анжу.
96 Герцог Люксембургский — Франсуа-Анри де Монморанси-Бутвиль (1628—1695),
брат госпожи де Мекельбург, маршал Франции.
97 Госпожа де Бове — Катрин-Анриет Белье, баронесса де Бове (1614—1690),
доверенное лицо Анны Австрийской, в 1650 г. была любовницей Варда.
98 ...видит его в роли Шабана... — Весьма примечательный случай, когда
вымышленный персонаж другого произведения госпожи де Лафайет, «Принцессы де
Монпансье», сопоставляется с реальными лицами. Новелла явно была хорошо известна
Мадам.
99 ...нос ее причинит ему большие неудобства. — Графиня де Суассон
действительно отличалась чрезвычайно длинным носом. На этом основании строились догадки
относительно незаконности ее происхождения.
100 Media noche (исп.) — ужин в полночь. Мадемуазель де Монпансье в своих
мемуарах упомянула этот media noche «с Мадам на канале, где звучала музыка,
предназначавшаяся, вернее всего, мадемуазель де Лавальер, а не прочим зрителям».
101 ...де Гиш возвратился из Польши. — Король передал де Гишу через его отца, что
«прошлые его проступки» получили «полное прощение» и что он может вернуться
ко двору. Из Меца, где граф находился 1 июня, он тотчас отправился в Фонтенбло;
король принял его радушно.
102 Доду — неустановленное лицо, возможно, слуга.
103 Графиня де Грамон — Елизавета Гамильтон, тетка де Гиша. Шевалье Филибер
де Грамон, брат маршала, женился на ней в Англии в декабре 1663 г.
104 Мадемуазель де Грансей — Элизабет де Грансей, которую Месье одно время
намеревался сделать своей любовницей.
105 ...искалеченнуюруку графа де Гиша... — Речь идет о боевом ранении, полученном
графом в 1658 г.
106 Саше — надушенная или наполненная твердыми ароматическими веществами
подушечка, которая кладется между бельем для придания ему приятного запаха.
107 Шевалье Лотарингский — Филипп Лотарингский-Арманьяк (1643—1702), брат
графа д'Арманьяка, фаворит Месье, военачальник. Арестован в 1670 г.
108 ...Варда заключить в тюрьму. — Об аресте Варда и его заключении в крепость
Монпелье Конде сообщает 19 марта. Суровость короля объясняется прежде всего
фальшивым «испанским» письмом.
109 ...страх вынудил его послать сына в Голландию... — В письме Конде от 2 апреля
1665 г. сообщалось: «Граф де Гиш едет в понедельник в Голландию; отец посылает
его туда, чтобы обстановка немного разрядилась». Голландия в то время вела
войну с Англией.
110 Потеряв сознание, он упал... — Возможно, этот вполне «романтический» эпизод
основан на реальных фактах. Де Гиш вернулся во Францию в 1668 г., графиня де
Суассон — в 1666 г., Вард — лишь в 1683 г.
История Генриетты Английской...
475
111 ...следствием этой поездки явился бесспорный успех в делах. — Мадам,
заключившая со своим братом Дуврский договор, вернулась ко двору во Францию 18 июня
1670 г.
112 ...после известного дела шевалье Лотарингского... — В угоду Мадам фаворит
Месье был арестован по приказу короля.
113 Сен-Клу — поместье, принадлежавшее лично Месье.
114 Я приехала... — В этой последней части госпожа де Лафайет говорит о себе в
первом лице. Теперь она выступает в качестве подруги, пришедшей с визитом, то
есть как частное лицо. У нее нет официальных обязанностей по отношению к
принцессе.
115 Мадемуазель. — Скорее всего, имеется в виду Мария-Луиза, восьмилетняя дочь
Мадам и Месье, будущая королева Испании.
116 ...ум немало способствовал украшению ее лица... — Замечание о влиянии
живости ума на красоту встречается также в «Портрете госпожи де Севинье...».
117 ...попросила проверить воду, которую она пила... — Одно время полагали, что
Мадам стала жертвой отравления (эта мысль выражена, в частности, в мемуарах
Сен-Симона). Но в настоящее время исследователи склоняются к версии либо о
наследственной болезни Генриетты, либо о том, что у нее прорвался аппендикс.
118 Змеиный порошок — обычное противоядие, считавшееся весьма эффективным;
например, госпожа де Сабле раздавала его своим друзьям.
119 Ивлен Пьер — личный врач Анны Австрийской.
120 Валло Антуан (1594—1671) — врач Анны Австрийской, затем Людовика XIV.
121 Месье принц. — Имеется в виду Луи П де Бурбон, герцог Энгиенский, первый
принц крови, принц де Конде (с 1646 г.), прозванный Великим (1621—1686),
губернатор Бургундии. С молодых лет зарекомендовал себя как блестящий полководец;
сражался в Испании, Германии, Фландрии; один из лидеров Фронды. Арестован в
1650 г. вместе с принцем де Конти и Лонгвилем, осужден на смерть, затем казнь
была заменена семилетней ссылкой. В 1659 г. испросил прощения у монарха и
получил его, после чего одержал еще ряд военных побед (в частности, завоевал
область Франш-Конте в 1669 г.).
122 ...промывание александрийским листом... — Речь идет об обычном в ту пору
средстве против колик.
123 ...ей следует приобщиться к Господу Богу. — То есть причаститься перед смертью.
124 ...госпожа де Аавальер и госпожа де Монтеспан пришли вместе. — По
воспоминаниям современников, с 1669 г. госпожа де Монтеспан открыто делила с Лавальер
королевские милости.
125 Епископ Кондомский — Жак Бенинь Боссюэ (1627—1704), наставник сына
Людовика XTV, епископ Кондомский (1669—1670 гг.) и Mo (с 1681 г.). Внес большой
вклад во французскую прозу XVH в., прежде всего своими проповедями, а также
теологическими и историческими сочинениями. Произнес знаменитое надгробное
слово по случаю кончины принцессы.
126 ...пригласить господина Фёйе, каноника, чьи заслуги общеизвестны. — Имеется в
виду Никола Фёйе (1622—1693), известный своими обращениями в католическую
веру. Как и госпожа де Лафайет, оставил рассказ о смерти Мадам.
127 Капуцин — член католического монашеского ордена, основанного в 1525 г. в
Италии как ветвь ордена францисканцев (во Франции — с 1573 г.) и ставшего
самостоятельным в 1619 г.
476
Примечания
128 ...ее обычный исповедник. — Имеется в виду отец Жан-Кризостом Амьенский.
129 Английский посол — Уильям Ральф Монтегю, с 1669 г. посол во Франции.
130 ...отдайте епископу изумруду который я велела заказать для него. — Епископ
сообщает об этом подарке в одном из своих писем.
ПРИНЦЕССА КЛЕВСКАЯ
Впервые «Принцесса Клевская» была опубликована анонимно (по требованию
автора) в январе 1678 года в первом номере новой серии ежемесячного журнала «Мер-
кюр Галан», издававшегося Донно де Визе. Лишь в 1780 году роман вышел из
печати под именем госпожи де Лафайет. Впоследствии литературные критики стали
утверждать, что к созданию этого произведения скорее всего причастны
Ларошфуко, Сегре, Ланглад и даже Б. Фонтенель.
Однако из дошедших до нас писем госпожи де Лафайет к Жилю Менажу
совершенно ясно, что именно она автор романа. Этого же мнения придерживалась и
просвещенная публика того времени. Известные писательницы XVII века, госпожа де
Скюдери и госпожа де Сеневиль, не сомневались, что госпожа де Лафайет
«принимала участие» в работе над «Принцессой Клевской». Госпожа де Севинье
утверждала, что обе книги — «Принцесса Клевская» и «Принцесса де Монпансье» —
написаны одной рукой.
Книга пользовалась феноменальным успехом, однако, несмотря на это,
графиня не раскрывала своего авторства (хотя для современников это не было тайной).
Ни одной рукописной копии «Принцессы Клевской» не сохранилось; не осталось
и типографских оттисков, исправленных госпожой де Лафайет. Первое издание
печаталось с 15 января по 8 марта 1678 года. В существующих экземплярах
рукописные пометки сделаны, очевидно, издателем Барбеном.
Впервые опубликовано: La Princesse de Clèves: En 4 vol. P.: Claude Barbin, 1678.
Впервые на русском языке роман был издан в переводе И. Шмелева (см.:
Лафайет Мари-Мадлен де. Принцесса Клевская. М.: Гослитиздат, 1959). Настоящий
перевод осуществлен по упомянутому выше изданию Р. Дюшена.
1 ...последние годы царствования Генриха II. — Речь идет о конце 50-х годов XVI в.
Генрих П был коронован 25 июля 1547 г., умер 10 июля 1559 г. через 10 дней после
ранения в голову на рыцарском турнире.
2 Диана де Пуатье (1499—1566) — вдова Луи де Брезе, великого сенешаля
Нормандии (умер в 1531 г.). С 1548 г. герцогиня де Валантинуа. Фаворитка Генриха П,
имевшая наряду с коннетаблем огромное влияние на короля. Отличалась чувственной
красотой; ее история в дальнейшем будет рассказана госпожой де Шартр.
3 Мадемуазель де Ламарк — дочь Робера де Ламарка, герцога Буйонского, и
Франсуазы де Ламарк, урожденной Брезе, старшей дочери Дианы де Пуатье. В 1558 г.
Антуанетта де Ламарк (1542—1591) по желанию бабки, стремившейся заключить
семейный союз с коннетаблем, вышла замуж за Анри де Монморанси-Данвиля,
второго сына коннетабля.
4 Королева — Екатерина Медичи (1519, Флоренция — 1589, Блуа), дочь герцога Урбино
Лоренцо Медичи (внука Лоренцо Великолепного) и Мадлен де Латур д'Овернь.
Родственница и подопечная Папы Климента VII. Стала супругой Генриха П в возрасте че-
Принцесса Клевская
477
тырнадцати с половиной лет; с 1547 г. — королева Франции. Инициатор массовой
резни гугенотов в Варфоломеевскую ночь. Покровительствовала искусствам.
5 ...старшего брата — дофина, умершего в Турноне... — Имеется в виду старший сын
Франциска I и королевы Клод, Франциск Французский (1517—1536), дофин Вьеннуа,
умерший в Турнонском замке, как подозревали, от отравления.
6 Франциск I (1494—1547) — король Франции с 1515 г. Внес большой вклад в
укрепление французской монархии, с успехом противостоял Габсбургам,
предпринял несколько итальянских походов. Крупный меценат, покровитель искусств и
наук. В его правление придворная жизнь во Франции отличалась особой роскошью.
7 Елизавета Французская (1545—1568) — старшая дочь Генриха П. В 1551 г.
обручилась с английским посланником лордом Нортхэмптоном (в знак
англо-французского альянса). В 1559 г. вступила в династический союз с Филиппом П Испанским.
Некоторыми историками считается, что Елизавета (именовавшаяся в Испании
Изабеллой) была отравлена супругом, ревновавшим ее к своему сыну — дону Карлосу;
другие придерживаются версии, что ее смерть во время родов была вызвана
естественными причинами.
8 Мария Стюарт (1542—1587) — дочь короля Якова V Шотландского и Марии Ло-
тарингской из рода Гизов, с трехлетнего возраста воспитывавшаяся при французском
дворе; королева Шотландии (1542—1567 гг.). В 1558 г. вступила в брак с дофином,
будущим королем Франциском П. Овдовев, уехала в Шотландию. После раскрытия
заговоров против Елизаветы I Английской, в которые Мария оказалась замешана, была
вынуждена отречься от престола (1567 г.). По решению суда провела восемнадцать
лет в заключении и окончила свои дни на эшафоте. Персонаж многих литературных
произведений (Ронсар, Монкретьен, Альфиери, Шиллер, Ст. Цвейг). Госпожа де Ла-
файет рисует ее веселой, галантной и беззаботной.
9 Король Наваррский — Антуан де Бурбон, до 1555 г. герцог Вандомский (1518—
1562), губернатор Пикардии, с 1547 г. член Королевского совета. В 1548 г. женился
на Жанне д'Альбре. Участник франко-испанских войн, в том числе битвы при Ранги
(см. примеч. 21). С 1555 г. — после присоединения королевства Наварра к Франции —
король Наварры. Отец будущего короля Франции Генриха IV, приверженец
протестантизма. Был серьезно ранен во время осады Руана и умер вскоре после того.
10 Шевалье де Гиз — герцог Франциск де Гиз (1519—1563), один из крупнейших
полководцев своего времени. Руководил обороной города Меца (Лотарингия), осажденного
войсками Карла V (1552—1553 гг.), возглавил поначалу успешный, но окончившийся
неудачей поход в Италию (1556—1557 гг.), освободил портовый город Кале от
многолетнего английского владычества (1558 г.). Один из лидеров католической партии. Убит
в 1563 г. гугенотом Польтро де Мере (возможно, по указанию адмирала Колиньи).
11 Принц де Конде — Луи де Бурбон-Ванд ом (1530—1569), младший брат Антуана
де Бурбона (см. примеч. 9), один из лидеров гугенотов. Горбатый, маленького
роста, он отличался неукротимым темпераментом. После провала Амбуазского
заговора, организованного в марте 1560 г. с целью вывести Франциска П из-под влияния
де Гизов, арестован Франциском П в Орлеане, затем освобожден Екатериной
Медичи. Два года спустя фактически призывал всех гугенотов королевства к гражданской
войне. После кампании 1567—1568 гг. укрывался в Ла-Рошели. Убит в битве при
Жарнаке 13 марта 1569 г. (см. примеч. 14 к «Принцессе де Монпансье»).
12 Герцог де Невер — Франциск I Клевский (1516—1562), граф д'Э, удостоенный в
1538 г. королем Франциском I титула герцога де Невера. В 1538 г. женился на Map-
478
Примечания
гарите де Бурбон, сестре Антуана де Бурбона и принца де Конде. При Генрихе П —
член Королевского совета, храбрый полководец. Участник осады Меца и битвы при
Сен-Кантене.
13 Он имел троих сыновей прекрасной наружности... — Речь идет о Франциске Клев-
ском, графе д'Э (1539—1562); Жаке Клевском (1544—1564), герое романа, и Анри
Клевском. Как указывает Брантом, Жак Клевский отличался исключительной
красотой и учтивостью, но плохое здоровье свело его в могилу в 20 лет.
14 Видам де Шартр — Франсуа Ванд омский, принц де Шабануа (1524—1562).
Упоминается у Брантома в «Жизнеописаниях знаменитых французских
полководцев» (см. т. 1, гл. LI) как командующий французскими войсками в Пьемонте. По
Брантому — богатый, знатный, отважный воин; по другим источникам — отличался
распутством. Участник осады Меца и фландрских войн. После смерти Генриха П
отошел от двора, был безосновательно заподозрен в причастности к Амбуазскому
заговору (см. примеч. 11, 69). По приказу Франциска П заточен в Бастилию, провел
там полгода, вышел совершенно больным и вскоре умер.
Видам (от лат. vice-dominus) — средневековый титул наместника епископа,
позднее — королевского представителя при епископате. С XV в. утратил свое
наполнение, но до конца старого режима существовал как наследственный.
15 Герцог де Немур — Жак Савойский (1531—1585), сын Филиппа Савойского и
Шарлотты Орлеанской-Лонгвиль, один из приближенных Генриха П. В 1555 и 1558 гг.
участвовал в военных действиях против испанцев, в 1556 г. — в итальянских походах
герцога де Гиза (см. примеч. 10). С его именем связана скандальная история: Немур
обольстил, а затем бросил Франсуазу де Роан, близкую семье д'Альбре. Де Гизы
намеревались женить его на Лукреции д'Эсте, но в конечном итоге в 1566 г. он взял себе
в жены ее сестру Анну д'Эсте (1531—1607), вдову герцога Франциска де Гиза.
16 Коннетабль де Монморанси. — Имеется в виду коннетабль Анн де Монморан-
си (1493—1567), один из самых влиятельных придворных Генриха П, выходец из
старинного дворянского рода, крестный сын королевы Анны Бретонской, крупный
военачальник, дипломат, меценат. Был смертельно ранен в сражении при Сен-Дени
10 ноября 1567 г. и на следующий день скончался.
17 Маршал де Сент-Андре — Жак д'Альбон де Сент-Андре (1512—1562), с юных лет
близкий друг Генриха Орлеанского (будущего короля Генриха П), в дальнейшем
сделавшего его своим приближенным. Ловкость, галантность и жизнелюбие
Сент-Андре очаровали будущего монарха. Его влияние с приходом Генриха к власти росло день
ото дня, а титулы и почести лились дождем. Сент-Андре стал маршалом и
губернатором Лионнэ, Оверни и Бурбоннэ; вместе со своим отцом вошел в Королевский
совет. Во время религиозных войн вместе с де Гизом и де Монморанси принадлежал к
лидерам католической партии. Погиб в битве при Дре (недалеко от Шартра) —
первом из больших сражений религиозных войн, где победу одержали католики.
18 Герцог д'Омалъ. — См. примеч. 7 к «Принцессе де Монпансье».
19 ...с Дианой, дочерью короля и одной пьемонтской дамы... — Имеется в виду
Диана Французская (1538—1619), которая родилась от связи Генриха П (тогда еще
дофина) с Филиппой Дучи, дочерью шталмейстера Джан Антонио Дучи. В 1547 г.
Диана была помолвлена, а в 1552 г. стала супругой воспитывавшегося при французском
дворе Горацио Фарнезе, герцога де Кастро, внука Папы Павла Ш. После кончины
герцога де Кастро в 1557 г. повторно вышла замуж за Франсуа де Монморанси,
старшего сына коннетабля, уже связанного обещанием с Жанной Холвин, мадемуазель
Принцесса Клевская
479
де Пьен. Расторжение брачного обязательства, не одобренное Папой, наделало
немало шума.
20 Битва при Сен-Кантене. — Произошла 10 августа 1557 г., в ней испанские
войска нанесли французам поражение, весьма чувствительное для французской
короны; 30 августа испанский король торжественно въехал в совершенно разграбленный
и заполненный трупами Сен-Кантен (крепость на реке Сомма). Адмирал де Коли-
ньи, несмотря на героическое сопротивление, был взят в плен. Впрочем, и
противник понес ощутимые потери.
21 Сражение при Ранти. — Произошло в районе пограничной крепости Теруанн на
северо-востоке Франции 13 августа 1554 г. Императорские войска, которыми
командовал сам Карл V, потерпели поражение; потери составили 500 человек убитыми и
300 пленными.
22 ...император Карл V встретил закат своей фортуны у города Меца... —
Неудачная попытка осады Меца Карлом V имела место в ноябре — декабре 1552 г. Город
оказался хорошо подготовленным к обороне; напротив, осаждающие были
совершенно измотаны и голодали; 2 января императорские войска отступили.
23 Вдовствующая герцогиня Лотарингская. — Кристина Лотарингская (1521—1590),
вдова Франческо Марии Сфорца, герцога Миланского (1495—1535) и герцога
Франциска Лотарингского (1517—1545), урожденная принцесса Датская, племянница
Карла V. Переговоры французов с представителями императора проходили при
посредничестве герцогини и ее сына Карла Лотарингского.
24 Серкан в провинции Артуа. — Аббатство в Камбрези, где в октябре — ноябре
1558 г. проходили упомянутые выше переговоры. По желанию герцогини Лотаринг-
ской мирный договор был подписан в более подходящем, с ее точки зрения, месте —
городке Като-Камбрези.
25 ...брачные союзы... Елизаветы Французской... — См. примеч. 7. Филипп
Испанский предлагал выдать дочь Генриха П и Екатерины Медичи за своего сына, дона
Карлоса. Но на самом деле мужем Елизаветы Французской стал не инфант, а сам
испанский монарх. Эти события отражены в исторической новелле Сен-Реаля «Дон
Карлос», а затем и в одноименной трагедии Шиллера.
26 Мария, королева Англии. — Речь идет о Марии I Тюдор (1516—1558), королеве
Англии (1553—1558 гг.), пытавшейся восстановить в стране католицизм.
27 Граф де Рандан — Шарль де Ларошфуко (1525—1562), младший сын Франсуа П
де Ларошфуко и Анны де Полиньяк де Рандан, генерал-лейтенант французской
пехоты.
28 ...а сам он не сомневается, что она готова выйти за него замуж. — В «Галантных
дамах» Брантома упомянут проект бракосочетания Елизаветы Тюдор и принца де
Немура.
29 Елизавета. — Имеется в виду Елизавета I Тюдор (1533—1603), королева Англии
с 1558 г., дочь Генриха \ТП и Анны Болейн (1500—1536), чья история изложена
госпожой де Лафайет во вставной новелле.
30 Линьроль Филибер Левуайе, сьер де — близкий друг герцога де Немура; убит
в 1571 г.
31 Герцог Савойский — Филибер-Эммануил (1528—1580), сын Карла Савойского,
известный полководец. Командовал войсками Карла V, а затем его сына
Филиппа П в войне с Францией. С 1555 г. губернатор Нидерландов. Успешно
противостоял французам в Северной Италии (1557 г.) и при Сен-Кантене (см. примеч. 20). Од-
480
Примечания
ним из пунктов договора в Като-Камбрези стал династический брак герцога и
сестры Генриха П Маргариты (1523—1574).
32 Папа Павел III — Алессандро Фарнезе (1468—1549), Папа Римский (с 1534 г.).
Известен как ожесточенный борец с Реформацией и вдохновитель Тридентского
собора.
33 Госпожа де Дампьер — урожденная Жанна де Вивонн (?—1583), супруга
Клода де Клермона (1515—1583), сьера де Дампьера; тетка Брантома.
34 Граф д'Э. — См. примеч. 13. В 1561 г. — то есть в правление Карла IX, а не
Генриха П, как у госпожи де Лафайет, — женился на Анне де Бурбон, дочери Луи П де
Бурбона, герцога де Монпансье.
35 Королева Наваррская — Жанна д'Альбре (1528—1572), супруга Антуана де
Бурбона (см. примеч. 9), мать Генриха IV.
36 Принц-дофин, сын герцога де Монпансье. — Имеется в виду Франциск де Бурбон,
сын Луи де Бурбона и Жаклин де Лонгви (см. примеч. 6 к «Принцессе де
Монпансье»). В момент действия романа ему было 17 лет. Семь лет спустя, в 1566 г., он
женился на мадемуазель де Мезьер (см. примеч. 2 к «Принцессе де Монпансье»).
Герцог де Монпансье (1513—1582) — один из активных участников Варфоломеевской
ночи и религиозных войн.
37 Кардинал Лотарингский — Карл де Гиз (1524—1574), брат Франциска де Гиза (см.
примеч. 10), один из высших прелатов королевства. В правление Франциска II —
член Королевского совета, курировал дипломатию, юстицию и финансы. При
Генрихе П — идеолог радикальной антипротестантской политики. В дальнейшем его
влияние при дворе падает. Кардинал упоминается также в «Принцессе де Монпансье»
(см. примеч. 3 к этой новелле).
38 Шатляр, любимец господина д'Анвилл. — Имеется в виду Пьер де Боскозель де
Шатляр (ок. 1540—1563), дворянин из провинции Дофинэ. Был влюблен в Марию
Стюарт и последовал за ней в Шотландию после кончины Франциска П.
Неумеренная пылкость стала причиной его смерти (Шатляр был казнен по приказу
собственной возлюбленной). Его историю поведал Брантом в «Знаменитых дамах» (I, 3).
39... из-за моей матери-королевы... — Речь идет о Марии Лотарингской (1515—1560),
сестре кардинала, супруге Людовика П Орлеанского с 1534 г.; вторым браком (1538 г.)
сочеталась с Яковом V Стюартом, королем Шотландии. После его кончины в 1542 г.
стала регентшей Шотландии, но в 1559 г. была отстранена от власти.
40 Принцесса Мадлена, сестра короля — Магдалина (Мадлена) Французская (1520—
1537), дочь Франциска I. В последний год жизни была супругой Якова V Стюарта.
41 Случившаяся в то врелля смерть герцога де Невера... — Здесь историческая
неточность: на самом деле герцог умер тремя годами позже.
42 ...с принцессой Клод Французской, второй дочерью короля. — Клод Французская
(1547—1575) — дочь Генриха П и Екатерины Медичи. В 1559 г. вышла замуж за
Карла II, герцога Лотарингского.
43 ...в заговоре коннетабля де Бурбона... — Имеется в виду переход Сен-Валье на
сторону испанцев и участие в боевых действиях против французов. История его
смерти преподнесена в «романическом» ключе. На самом деле был помилован и погиб
в 1539 г. после побега из тюрьмы.
44 ...мадемуазель де Пислё, впоследствии герцогиня д'Этамп. — Речь идет об Анне
де Пислё (1508—1580), дочери Гийома Пислё и Анны Санген. С 1526 г. —
фаворитка Франциска I, с 1536 г. — супруга Жана де Бросса, герцога д'Этампа.
Принцесса Клевская
481
45 Герцог Орлеанский — Карл Французский (1522—1545), третий сын Франциска I.
46 Кардинал де Турнон — Франциск де Турнон (1489—1562), архиепископ Амбрен-
ский, затем — Буржский; кардинал (1530 г.).
47 Адмирал д'Аннбо — Клод д'Аннбо, барон де Рец (1495—1552), маршал Франции
(1538 г.), адмирал (1543 г.).
48 Канцлер Оливье (1497—1560) — канцлер Франции в 1545 г.
49 Граф де Тэу командующий артиллерией... — Имеется в виду полковник
французской армии граф Жан де Тэ (?—1553), в 1546—1547 гг. главнокомандующий
артиллерией. Погиб при осаде Эдена войсками Карла V.
50 Граф де Бриссак — Шарль де Косее (1506—1563), главнокомандующий
артиллерией в 1547—1550 гг., маршал Франции. На заре своей карьеры отличился во франко-
итальянских войнах. Талантливый военачальник и обворожительный кавалер, под
стать герцогу де Немуру.
51 Герцог Феррарский — Альфонсо П д'Эсте (1533—1597), супруг Лукреции
Медичи. Будучи внуком французского короля Людовика ХП, прожил во Франции вплоть
до гибели своего кузена Генриха П.
52 ...к концу февраля можно было собраться в Като-Камбрези. —
Франко-испанские переговоры в Като-Камбрези действительно начались в феврале 1559 г., а
завершились подписанием мирного договора 3 апреля.
53 ...она любила графа де Сансера... — Имеется в виду, вероятно, граф Жан де Бю-
эль де Сансер, сын участника сражения при Сен-Кантене Луи де Сансера. Брантом
посвящает Жану Сансеру специальную главу («Жизнеописания знаменитых
французских полководцев», т. I, гл. LX), но не упоминает никакой госпожи де Турнон.
54 ...она одновременно подавала их и Этутвилю тоже... — Речь идет о Жане д'Этут-
виле, сеньоре де Вильбоне; он также упомянут у Брантома как благочестивый
католик и доблестный военачальник (там же, т. П, гл. XXXIV).
55 Милорд Кортни — Эдвард Кортни (1526?—1556), граф Девонский, маркиз Эк-
сетерский; был выслан за то, что вынашивал планы жениться на принцессе
Елизавете, будущей королеве.
56 Госпожа де Мартиг — Мари де Бокер (ум. 1613), супруга военачальника Себас-
тьена де Люксембурга (ум. 1569), виконта де Мартига, позднее — герцога де Пенть-
евра. По словам Брантома, одна из ближайших фавориток шотландской королевы.
57 ...король испанский условием каждой статьи ставил возможность самому
жениться на принцессе... — См. примеч. 25.
58 Д'Эскар Жан де Перюс, князь де Каранси, граф де Лавогийон (ок. 1520—1595) —
военачальник, фаворит Генриха П.
59 Королева Клод — королева Клотильда (Клод) (1499—1524), дочь Людовика ХП,
первая жена Франциска I.
60 ...принцесса Маргарита, сестра короля, герцогиня Алансонская... — Речь идет о
Маргарите Наваррской (1492—1549), сестре короля Франциска I, писательнице, вдове
герцога Алансонского (?—1525); сочеталась вторым браком с Генрихом д>Альбре,
королем Наваррским. Маргарита является автором самого знаменитого сборника
новелл из числа написанных во Франции XVI в. — «Гептамерона». Сочувствовала
протестантам.
61 Екатерина Арагонская (1485—1536) — первая из шести жен (с 1509 по 1533 г.),
английского короля Генриха VIII, мать Марии Тюдор. Бракоразводный процесс
с ней и отказ Папы признать брак недействительным явились импульсом к разры-
31. Заказ № К-6559
482
Примечания
ву Генриха VIII с Римом, то есть фактически ознаменовали собой начало
Реформации в Англии.
62 Кардинал By леи (ок. 1475—1530) — канцлер Генриха VHI в 1515—1529 гг.,
фактически сосредоточивший в своих руках управление страной. Отстранен от власти
после неудачных переговоров с Папой Климентом VII по поводу расторжения брака
короля с Екатериной Арагонской.
63 Франциск Первый подал руку Генриху Восьмому... — Встреча двух монархов в
Булони описана по книге «История Франции» Ф.-Э. де Мезре.
64 ...злосчастные перемены, которые вы теперь видите. — Имеется в виду
отлучение от Церкви и самопровозглашение Генриха VIII главой Англиканской церкви
(1534 г.).
65 Джейн Сеймур. — В 1536 г. стала третьей супругой Генриха VIII, а год
спустя умерла в родах.
66 Екатерина Говард. — В 1540 г. стала пятой женой Генриха VIII и королевой
Англии, казнена в 1542 г.
67 Мир был заключен... — Имеется в виду мир в Като-Камбрези, подписанный
2—3 апреля 1559 г. и положивший конец итальянским войнам между Францией и
Испанией.
68 Госпожа де Темин — Мадлен де Базийяк, супруга Луи де Лозьера де Темина.
69 ...во время заговора в замке Амбу аз... — См. примеч. 11. Идейным
вдохновителем заговора явился принц де Конде, непосредственным организатором — Годфруа
де Лареноди. Однако Гизам стало известно о готовящемся выступлении, заговор
окончился неудачей и был потоплен в крови.
70 Герцогиня де Меркёр — Жанна Савойская (1532—1568), дочь Филиппа Савой-
ского и Шарлотты Орлеанской-Лонгвиль, сестра герцога де Немура, с 1555 г. —
вторая супруга Никола Лотарингского (1524—1577), герцога де Меркёра.
71 Наконец настал день турнира. — Подробное описание турниров придает особый
интерес повествованию, если учитывать, что именно после трагического случая с
Генрихом П турниры во Франции были отменены.
72 Граф Монтгомери — Габриэль Монтгомери, сеньор де Лорж (ок. 1530—1574).
После гибели Генриха П был смещен с поста начальника отряда шотландских
гвардейцев. Сблизился с гугенотами и во время первой религиозной войны выступил на
стороне де Конде. В ходе обороны Руана попал в плен и был казнен.
ПОРТРЕТЫ
В начале 1659 года в Кане увидело свет первое произведение госпожи де Лафай-
ет, единственное, подписанное ею своим настоящим именем. Оно вошло в состав
изысканно изданного сборника «Разные портреты», составленного Великой Мадемуазель,
Анной-Марией Орлеанской, герцогиней де Монпансье. При помощи Жана Ренье де
Сегре, своего доверенного секретаря, которому оказывал содействие его друг Пьер-
Даниэль Юэ, герцогиня собственноручно отобрала пятьдесят девять произведений,
включенных затем в «Разные портреты», причем под шестнадцатью из них стояла ее
собственная подпись. Имена большинства авторов так и остались неизвестными.
Жанр литературных портретов в то время был чрезвычайно моден. Читатели
зачастую не знали, кто авторы портретов, как зовут портретируемых; об авторах и
Портреты
483
героях оставалось только догадываться, и это было увлекательной игрой для
галантной публики.
Вслед за сборником «Разные портреты» появился «Сборник портретов и
похвальных слов в стихах и прозе», подготовленный Барбеном и Серей, самыми
модными книготорговцами Парижа. Они решили представить на суд широкой
публики уже сто пять портретов — все, что им удалось раздобыть. Портрет госпожи де
Севинье, написанный госпожой де Лафайет, вошел в число двадцати одного
портрета, имевшихся в обоих сборниках. По воспоминаниям принцессы де Тарант,
госпожа де Севинье, обнаружив свой портрет, написанный госпожой де Лафайет под
псевдонимом Неизвестный, отметила: «<...> он значительно лучше меня самой,
однако те, кто любил меня шестнадцать лет тому назад, возможно, нашли бы его
похожим». Таким образом, первое произведение госпожи де Лафайет, чье авторство
вполне определено ею самой, идентифицировано также и моделью, что можно
считать уникальным случаем.
В настоящем издании приводится перевод первого варианта портрета госпожи
де Севинье (как наиболее интересного в литературном отношении). В период
между выходом «Разных портретов» и сборником Барбена и Серей стиль госпожи де
Лафайет был отредактирован и подправлен Юэ и Сегре (тот же метод впоследствии
будет применен ими при подготовке к изданию «Заиды»).
Что касается двух анонимных автопортретов — «Портрет мадемуазель***,
написанный ею самой» и «Портрет госпожи де***, написанный ею самой», помещенных
в «Сборнике портретов и похвальных слов...», но не вошедших в «Разные портреты»,
то, они, согласно исследованиям современных французских литературоведов,
скорее всего все-таки принадлежат перу госпожи де Лафайет (см., напр.: Plantie J. La
Rochefoucauld et Climène // Revue d'histoire littéraire de la France. 1966. № 2).
Впервые опубликовано в начале 1659 года практически одновременно в составе
двух изданий: Portrait de Mme la Marquise de Sévigné//Divers portraits. Caen, 1659;
Portrait de Mme la Marquise de Sévigné // Recueil de portraits et éloges en vers et en
prose. P.: Barbin et Sersy, 1659. На русский язык переводится впервые. Перевод
осуществлен по упомянутому выше изданию Р. Дюшена.
1 ...тс стыду нашего пола... — По авторскому замыслу подразумевается, что эти
строки писал мужчина, выступивший под псевдонимом Неизвестный.
2 Следовало бы быть вашим возлюбленным, / Но я не имею чести им быть. —
Госпожа де Севинье, родственница отчима госпожи де Лафайет и подруга графини с
юных лет, после неудачного замужества предпочитала женское общество. Об этом
прямо не говорили, но делали довольно прозрачные намеки. Эту двусмысленность
госпожа де Лафайет и положила в основу создания портрета госпожи де Севинье.
Она преобразилась в незнакомца мужского пола. Надев подобную маску, госпожа
де Лафайет смогла без утайки описать как физическое очарование своей подруги,
так и ее интеллектуальные и нравственные качества; читателю становится также
известно то весьма деликатное обстоятельство, что госпожа де Севинье ни с кем не
соперничала за обладание мужчиной, она берегла свое сердце для женщин.
Двустишие, в ту пору знаменитое, взято из «Торжественного погребения Вуатюра» (1649)
галантного поэта Саразена.
484
Примечания
ДОПОЛНЕНИЯ
МЕМУАРЫ ФРАНЦУЗСКОГО ДВОРА
за 1688 и 1689 годы
«Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы», приписываемые госпоже
де Лафайет, вышли в свет в Амстердаме в 1731 году. Первый издатель отмечал:
«Вне всякого сомнения, госпожа де Лафайет с юности вела записи обо всех
событиях, происходивших при французском дворе. Однако аббат де Лафайет, ее сын,
легкомысленно и равнодушно раздал мемуары графини совершенно посторонним
особам. И поэтому сегодня большинство из записок либо утрачены, либо
находятся в руках лиц, не испытывающих от этого никакой гордости». Издатель сетовал
на то, что ему удалось разыскать только часть мемуаров, и поэтому, по сути,
можно говорить лишь о фрагментах, он же делал вывод, что «Мемуары» позволяют
распознать автора «Принцессы Клевской» «благодаря элегантному стилю,
который до сих пор был достоянием крайне узкого круга писателей. Кроме того, там
мы встречаем своеобразные обороты, свойственные исключительно даме,
воспитанной при дворе». Эти объяснения столь же расплывчаты, сколь и категоричны.
На самом деле нет ни одного серьезного доказательства, что «Мемуары»
написаны госпожой де Лафайет. Если верить издателю, вкус к созданию мемуаров
появился у госпожи де Лафайет еще в ранней юности. Тем более удивительно, что
она ни разу не обмолвилась об этом в многочисленных письмах к Менажу.
Мемуары, опубликованные через 38 лет после смерти их предполагаемого автора,
написаны в прошедшем времени. Таким образом, речь идет не о дневнике, который
ведется по мере того, как происходят события, а о повествовании, созданном
постфактум.
Мемуары освещают весьма существенный для истории Франции период —
события, связанные с началом так называемой Десятилетней войны, которая
продолжалась с 1688 по 1697 год и завершилась подписанием Рисвикского мира. По
условиям заключенного договора Франция лишилась ряда своих владений. В мемуарах
раскрывается политическая подоплека начинающейся войны — претензии ведущих
стран на европейскую гегемонию. Против Франции выступила Аугсбургская лига,
организатором которой был Вильгельм Оранский, ставший в 1689 году королем
Великобритании. Лига объединила почти все государства Западной Европы.
Военные события не заслоняют от внимания автора жизнь французского двора, которая
представляет интерес для всех, кто интересуется культурой и историей нравов
Франции XVII века.
Издатель «Мемуаров» выражал надежду, что их публикация побудит тех, кто
владеет другими произведениями графини, «предоставить ее творения в
распоряжение публики». Никто, однако, не откликнулся на его призыв.
Впервые опубликованы: Mémoires de la cour de France. Amsterdam, 1731. На
русский язык переводятся впервые. Перевод осуществлен по уже упоминавшемуся
выше изданию Р. Дюшена.
1 Перемирие... длилось вотуме двадцать лет. — Имеется в виду заключенный в
1668 г. Ахенский мир, по условиям которого Франция получила десять захваченных
ею пограничных бельгийских городов.
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы
485
2 Имперцы, хотя и одержавшие победу над турками... — Священная Римская империя
Габсбургов с 1660-х годов вела постоянную борьбу с Османской империей. В 1683 г.
турки осадили Вену, но встретили ожесточенное сопротивление. В том же году с помощью
войск польского короля Яна Собеского турецкая армия была разбита, а империя
окончательно избавлена от угрозы турецкого нашествия.
3 ...Англию раздирали внутренние противоречия и распри двух королей^.. — В 1685 г. на
английский престол под именем Якова П вступил сын Карла I герцог Йоркский (1633—
1701). Его стремление восстановить в стране католицизм как официальную религию
вызвало резкий протест в обществе. В 1688 г. партии вигов и тори, объединившиеся в
неприятии политики Якова П, предложили английскую корону штатгальтеру
Голландии Вильгельму Оранскому, мужу дочери короля Якова П. Король Яков П вынужден
был бежать во Францию вместе с королевой и младенцем-дофином — принцем
Уэльским (1688—1766). Впоследствии принц Уэльский Яков несколько раз безуспешно
пытался вернуть себе английский престол, используя далее помощь французских войск.
4 Принц Оранский — Вильгельм Нассауский (1650—1702), с 1672 г. —
штатгальтер Голландии. Воевал против Франции в союзе с Испанией и Германией. В 1689 г.,
в результате «славной» революции, вступил на английский престол под именем
Вильгельма Ш.
5 ...избрание принца Гийома де Фюрстемберга... — Имеется в виду Гийом (Эгон) де
Фюрстемберг (1629—1704), епископ Страсбургский (с 1682 г.), кардинал (1686 г.).
Облеченный особым доверием французского короля, он получил Страсбургское
епископство после смерти в 1682 г. своего брата Франца Эгона, возглавлявшего ту
же епархию. Людовик ХГУ добивался избрания Гийома де Фюрстемберга
курфюрстом Кёльнским, однако Папа предпочел кандидата, поддержанного императором
(см. примеч. 10). Это надолго испортило отношения французского двора с Римом.
6 Император. — Имеется в виду германский император Леопольд I (1640—1705);
в 1686 г. вместе с рядом князей империи организовал Аугсбургскую лигу.
7 Папа — Бенедетто Одескальки (1611—1689), с 1676 г. Папа Римский Иннокентий
XI. Отличался моральным ригоризмом и твердой волей, вел аскетический образ
жизни. Имел серьезные разногласия с французским королем Людовиком XTV из-за
стремления последнего поддержать автономию французского духовенства
(доктрина свободы галликанской Церкви) и не скрывал своих антифранцузских настроений.
8 Д'Асфелъд Бенуа Бидаль (1658—1715) — сын торговца тканями, банкира шведской
королевы Кристины, дипломат.
9 Аувуа Франсуа-Мишель Летелье, маркиз де (1639—1691) — французский
государственный деятель, сын государственного секретаря Летелье, государственный
секретарь по военным делам (с 1677 г.). Оказывал серьезное влияние на внешнюю
политику Франции. Провел реорганизацию французской армии. Осуществлял
подготовку военных кампаний Людовика XTV и пользовался особым доверием короля.
10 Климент Баварский — Иозеф Климент, архиепископ и курфюрст Кёльнский
(1671—1723), которому оказывали покровительство император и Папа. Составил
альтернативу Гийому (Эгону) де Фюрстембергу при выборах на пост Кёльнского
архиепископа (см. примеч. 5).
11 Бентинк Ганс Вильгельм ван (1649—1709) — английский дипломат голландского
происхождения, советник Вильгельма Оранского, граф Портландский (с 1689 г.).
12 Маркиз д'Юкселъ Никола Дюбле (1652—1730) — французский дипломат и
полководец, маршал Франции (1703 г.).
486
Примечания
13 Шамле Жюль Луи Боле, маркиз де (1650—1719) — главный квартирмейстер
французской армии, правая рука Лувуа и доверенный советник короля.
14 Лаварден Анри-Шарль де Бомануар, маркиз де (1643—1701) — посол Франции
в Риме (1687-1688 гг.).
15 Кардинал д'Эстре Сезар (1628—1714) — советник французского короля в Риме,
осуществлявший непосредственный контакт с Папской курией, с 1704 г. —
настоятель аббатства Сен-Жермен-де-Пре в Париже. Его брат, Франсуа-Аннибал П, д'Эс-
тре (1624—1687), с 1672 г. и до своей смерти был французским послом в Риме.
16 Казони Лоренцо (1643—1720) — итальянский прелат, приближенный Пап
Римских Иннокентия XI и Климента XI; кардинал (1706 г.).
17 Чибо Альдерано (ум. 1700) — итальянский прелат, кардинал (1645 г.),
референдарий апостольских трибуналов.
18 ...его величество был слишком недоволен и им самим, и его семьей... — Семейство
Буйонов не раз давало королю поводы для недовольства. Его представители, —
например Фредерик-Морис де Латур д'Овернь, герцог Буйонский, — в свое время были
связаны с фрондерами. Известно, что в 1682 г. Людовик XIV наказал некоторых
придворных — приверженцев модного порока (содомии). В числе провинившихся
оказались и представители семейства Буйонов. Кардинал Буйонский, Эмманюэль-
Теодоз (1643—1715), в 1671 г. стал духовником короля. Имея чрезвычайно упрямый
и надменный характер, не раз подвергался опале.
19 Отец Аашез Франсуа д'Экс (1624—1709) — иезуит, духовник Людовика XIV,
побудил короля расторгнуть отношения с маркизом де Монтеспан и заключить брак
с мадам де Ментенон. Его именем названо кладбище Пер-Лашез, расположенное на
месте садов, когда-то принадлежавших этому духовному лицу.
20 Круасси Шарль Кольбер, маркиз де (1625—1696) — государственный секретарь
по иностранным делам при Людовике XIV, младший брат Жан-Батиста Кольбера,
одного из самых влиятельных государственных деятелей Франции. Арест секретаря
кардинала Буйонского в его доме имел место 30 августа 1688 г.
21 Сурди Франсуа д'Эскубло, называемый графом де (ум. 1707) —
генерал-лейтенант королевских войск.
22 Шомберг Фредерик-Арман, граф де (1615—1690) — маршал Франции, опытный
полководец. Будучи гугенотом, эмигрировал из Франции после отмены Нантского
эдикта (1685 г.). В период Десятилетней войны перешел на службу к Вильгельму
Оранскому. Погиб во время войны с войсками Якова П в Ирландии.
23 Кастанага. — Имеется в виду Франсиско Антонио де Агурто, маркиз де Гас-
таньяга (ум. 1702), правитель Испанских Нидерландов.
24 Монсеньор — титул старшего сына короля. Его носил единственный сын
Людовика XIV от законной супруги Марии-Терезии Людовик (1661—1711), так
называемый Великий Дофин. Пользовался большим авторитетом в армии, отличался
доблестью и личным мужеством. Вместе с тем, по отзывам современников, не
отличался государственным умом.
25 Дюра Жак Анри де Дюрфор, герцог де (1625—1704) — маршал Франции с 1675 г.
Сен-Симон в «Мемуарах» (т. П, гл. ХХШ) высоко оценивает его роль в войне с
Голландией и обращает внимание на то, с какой свободой он держался при дворе.
26 Буффлер Луи-Франсуа, герцог де (1644—1711) — маршал Франции с 1693 г. По
сведениям того же Сен-Симона, боготворил короля, отличался большим обаянием;
был блестящим военачальником.
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы
487
27 Д'Юмъер Луи де Креван, герцог (1628—1694) — маршал Франции с 1688 г.
28 Монклар Жозеф-Пон де Гимера, барон де (1625—1690) — командующий
французскими войсками в Эльзасе.
29 Дофина. — Имеется в виду Мария-Анна-Христина-Виктория Баварская (1660—
1690), дочь Баварского курфюрста, супруга Монсеньора. Отличалась хрупким
здоровьем.
30 Бовгиье Поль, герцог де (1648—1714) — французский дворянин, друг Фенелона
и герцога де Сен-Симона, автора мемуаров, неоднократно упоминаемых в этих
примечаниях. Людовик XTV поручил Бовилье воспитание своих внуков — герцогов
Бургундского, Анжуйского и Беррийского.
31 Сен-Пуанж Жильбер Кольбер, сеньор де (1642—1706) — кабинет-секретарь короля.
32 Вобан Себастьян Лепретр, сеньор де (1633—1707) — маршал Франции (1703 г.),
генеральный комиссар фортификаций. Родившись в бедной дворянской семье,
достиг высоких почестей исключительно трудом и знаниями. За свою жизнь возвел 33
новые крепости и отремонтировал еще 300, участвовал в 53 осадах.
33 Катина Никола де, сеньор де Сен-Грасьен (1637—1712) — маршал Франции,
автор «Военных мемуаров» (1819). Неоднократно и в самых похвальных выражениях
упоминается у Сен-Симона как образец мудрости, благородства и воинской доблести.
34 Граф Аркос — Иоганн Филипп, граф фон Арко (1652—1704), имперский
военачальник, заместитель фельдмаршала империи.
35 Штаремберг Максимилиан Лоренц фон (1640—1689) — генерал-фельдмаршал
империи, брат австрийского военачальника графа Эрнста Рудигера Штаремберга,
участника обороны Вены от нашествия турок в 1683 г.; комендант Филипсбурга (с
1679 г.); был тяжело ранен при штурме Майнца и вскоре скончался.
36 Герцог Мэнский Луи-Опост де Бурбон (1670—1736) — узаконенный сын
Людовика XIV и маркизы де Монтеспан, к которому и король, и госпожа де Ментенон,
занимавшаяся его воспитанием, были очень привязаны. С 1692 г. —
генерал-лейтенант, с 1694 г. — пэр Франции, с 1714 г. — главнокомандующий артиллерией.
37 Грансей — Жак-Леонор Руксель, граф де Медави и де Грансей (1655—1725),
полководец, маршал Франции (1724 г.).
38 Граф д'Эстре. — Точнее, граф де Кёвр. Так до 1723 г. именовался Виктор-Мари,
герцог д'Эстре (1660—1737), вице-адмирал и маршал Франции (1703 г.).
39 ДАркур Анри, герцог (1654—1718) — маршал Франции (1703 г.).
40 Шамада — сигнал о сдаче.
41 Месье герцог — Луи Ш, герцог де Бурбон-Конде (1668—1710), внук Великого Кон-
де, губернатор Бургундии.
42 Принц де Конти — Франсуа-Луи де Бурбон (1664—1709). После заключения
перемирия Людовик XIV намеревался сделать его королем Польши, но попытка
оказалась неудачной. Род Конти составлял младшую ветвь рода Конде. Эти
родственники короля по мужской линии именовались «принцами крови».
43 ДАнтен Луи-Антуан де Пардайан де Гондрен, герцог (1665—1736) —
управляющий строениями, законный сын маркиза и маркизы де Монтеспан. Король
оказывал ему всяческое покровительство, продвигал по службе и в конце концов
пожаловал ему титулы герцога и пэра (1711 г.).
44 Гай ар Оноре (1641—1727) — иезуит, придворный проповедник. В 1688 г.
произносил проповеди во время Рождественского поста. Король высоко его ценил и не
менее двенадцати раз приглашал читать цикл проповедей при дворе. Сообщаемый
488
Примечания
мемуаристом факт действительно имел место: в этот день проповедь отца Гайара
была прервана на четверть часа.
45 Мадам д'Антен — Жюли-Франсуаза де Крюссоль (1669—1742), дочь герцога
д'Юзеса; в 1686 г. вышла замуж за Луи-Антуана де Пардайан-Гондрена, герцога
д'Антена (см. примеч. 43).
46 ...попала в шевалье де Лонгвиля, бастарда покойного господина де Аонгвиля. —
Имеется в виду Лонгвиль Шарль-Луи Орлеанский (1670—1688), узаконенный сын Шарля-
Пари Орлеанского, графа де Сен-Поля, герцога де Лонгвиля (1649—1672). Герцог де
Лонгвиль погиб во время военной кампании при переходе Рейна, когда собирался
участвовать в качестве претендента в выборах польского короля, и в своем
завещании просил мать, герцогиню де Лонгвиль, ходатайствовать перед королем о
признании законным своего внебрачного сына, шевалье Орлеанского. Король подписал
соответствующую грамоту, но имя матери шевалье при этом не было названо. Матерью
его была Мадлен д'Анженн (1629—1714).
47 «Те Deum» — начало и название католической благодарственной молитвы
«Тебя, Бога, хвалим», авторство которой приписывают Амвросию Медиоланскому
(ок. 340-397).
48 Принц-регент Вюртембергский — Фридрих Карл, герцог Вюртембергский
(1652—1698), германский генерал.
49 Были вызваны провинциальные дворяне и вспомогательные войска. —
Вспомогательные войска рекрутировались в 1688—1780 гг. по жребию из крестьян провинций.
50 Артаньян, майор гвардейцев. — Имеется в виду Пьер де Монтескью, граф д'Арта-
ньян (1640—1725), с 1709 г. — маршал Франции (не имеет никакого отношения к
Шарлю де Бац-Кастельмору д'Артаньяну, прославленному в романах А. Дюма мушкетеру).
51 Господин де Шорне — Анри-Шарль де Морне (погиб в 1688 г.), сын Анри де Мор-
не, маркиза де Моншеврёя; полковник, адъютант дофина.
52 Шевалье де Коменж — Франсуа де Коменж (ум. ок. 1730), сын Гастона-Жана-
Батиста де Коменжа, капитана гвардии королевы Анны Австрийской; рыцарь
Мальтийского ордена, капитан кавалерии.
53 Господин де Жуайёз — Жан-Арман, маркиз де Жуайёз, барон де Сен-Жан (1631—
1710), полководец, маршал Франции (1693 г.), губернатор Нанси, Меца и Вердена.
54 Шевалье де Курсель — Камилл де Шамле, шевалье, впоследствии командор
де Курсель (ум. 1706), офицер, рыцарь Мальтийского ордена, генерал-лейтенант
(1703 г.).
55 Барбезьер Шарль-Луи де, маркиз де Шемро (1649—1709) — генерал-лейтенант.
56 Монталь Шарль де Монтазольнен, граф де (ум. 1698) — генерал-лейтенант
французской армии.
57 Порта — официальное название султанского двора и всей Турции как
государства; употреблялось преимущественно в дипломатической сфере.
58 Тёкёли (Тёкёй) Имре (1657—1705) — венгерский помещик, в 1680 г. возглавил
освободительное движение куруцев (участников крестьянского восстания) против
австрийского владычества. Для осуществления своей миссии решил обратиться
к помощи турецкого султана, что вызвало недовольство даже самых близких его
сторонников и привело к тому, что в 1686 г. войска куруцев перешли на сторону
Австрии и приняли участие в военных действиях против турок. Освобожденная
от турецкого гнета Венгрия стала наследственным владением Габсбургов, а сам
Тёкёли с 1699 г. и до конца своих дней жил в изгнании в Турции.
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы
489
59 Милорд Февершем — Луи де Дюрфор, маркиз де Бланкфор, граф Февершем
(1641—1709) — французский офицер, находившийся на службе у английских
королей Карла II и Якова П.
60 Черчилль Джон, герцог Мальборо (1650—1722) — один из величайших
английских полководцев; после свержения Якова П перешел на сторону Вильгельма
Оранского, будущего короля Вильгельма Ш; особенно отличился во время войны за
испанское наследство (1701—1713 гг.).
61 Принцесса Анна — Анна Стюарт (1665—1714), дочь английского короля
Якова П; с 1702 г. — королева Англии и Шотландии. В 1683 г. вышла замуж за
датского принца Георга.
62 ...вручить голубые ленты. — Речь идет об ордене Святого Духа, высшей
награде в дореволюционной Франции, учрежденной в 1578 г. Генрихом Ш. Орден
представлял собой большой золотой крест, покрытый белой эмалью, с золотыми
лилиями на углах. В обычные дни его носили на голубой ленте.
63 Госпожа де Ментенон — Франсуаза д'Обинье (1635—1719), внучка
французского поэта Теодора Агригшы д'Обинье (1552—1630), супруга (1652—1660 гг.) поэта Поля
Скаррона. Будучи воспитательницей детей Людовика XTV и маркизы де Монтеспан,
заняла заметное положение при дворе. После смерти в 1683 г. супруги короля Ма-
рии-Терезии вступила с Людовиком XIV в морганатический брак (в 1683 или 1697 г.).
Оказывала большое влияние на короля, особенно в религиозных вопросах; в
частности, этому влиянию приписывают отмену Нантского эдикта (1685 г.), повлекшую
за собой эмиграцию из Франции огромного числа протестантов.
64 Вилларсо Шарль де Морне, маркиз де (убит 1690) — капитан роты под
командованием Монсеньора дофина; вероятно, родственник Луи де Морне де Вилларсо
(1619—1691), капитана легкой кавалерии, оказывавшего покровительство госпоже де
Ментенон в начале ее придворной карьеры.
65 Главный прево — верховный судья, в ведении которого находились дела о
преступлениях, совершенных при дворе. В описываемую эпоху главным прево был
Луи-Франсуа Дюбуше, маркиз де Сурш (1645—1716), известный мемуарист.
Прево — в дореволюционной Франции обычно чиновник, занимавший судейскую
должность.
66 Кавуа Луи д'Оже, маркиз де (1639—1716) — главный квартирмейстер (с 1677 г.).
67 Роан Луи де Роан-Шабо, герцог де (1652—1727) — представитель одной из
знатнейших французских семей; участвовал в войне за испанское наследство.
68 Вантадур Луи-Шарль де Леви, герцог де (1647—1717) — французский аристократ.
69 Бриссак Анри-Альбер де Косее, герцог де (1645—1698) — французский
дворянин, праправнук герцога де Бриссака, маршала Франции (см. примеч. 50 к
«Принцессе Клевской»).
70 Они крайне редко появлялись при дворе... — В эпоху Людовика XIV сам этот факт уже
воспринимался как вызов и одновременно определенный знак королевской немилости.
71 Субиз Франсуа де Роан-Монбазон, принц де (1631—1712) — генерал-лейтенант.
Его вторая жена, принцесса де Субиз, принесла ему титул и покровительство короля,
так как в течение десяти лет была фавориткой Людовика XTV. Связь продолжалась
и при госпоже де Ментенон, причем принцесса де Субиз пользовалась неизменным
доверием и поддержкой последней.
72 Граф Овернский — Фредерик-Морис де Латур (1642—1707), генерал-лейтенант
(1677 г.).
490
Примечания
73 Вандом Луи-Жозеф, герцог де (1654—1712) — правнук Генриха IV и Габриэль
д'Эстре, посему приравненный и во Франции, и в Испании к рангу законного
принца; знаменитый полководец, участник многих сражений. Его карьере не мешало
даже демонстративно аморальное поведение.
74 Граф де Суассон — Луи-Тома Савойский-Кариньян (1657—1702), старший сын
принца Евгения Морица Савойского (1633—1673) и Олимпии Манчини (см. примеч. 13 к
«Истории Генриетты Английской»), брат принца Евгения Савойского (см. примеч. 146).
75 ...его отец не хотел проходить после ныне покойного господина де Вандожа... — Речь
идет о давнем соперничестве Вандомов и принцев де Конде, к которым восходил род
Суассонов.
76 Принцесса де Кариньян — Мария де Бурбон-Суассон (1602—1692), супруга принца
Тома-Франсуа Савойского, мать Евгения Морица Савойского-Кариньяна, бабка
графа де Суассона (см. примеч. 74).
77 Монако Луи Гримальди, герцог де Валантинуа, принц де (1642—1701) —
французский аристократ, дипломат.
78 Латремуй Шарль де, герцог де Туар (1655—1709). — Во время описываемых
событий ему было 33 года, а стать рыцарем можно было лишь в 35. Представитель
старинного французского рода из Пуату, отмеченного большими заслугами на
государственной и военной службе со времен крестовых походов.
79 Господин де Ришелье — Арман-Жан де Виньеро дю Плесси, герцог де Ришелье
и де Фронзак (1629—1715), двоюродный племянник кардинала Ришелье, генерал
галерного флота.
80 ...проживаломного новообращенных... — Имеются в виду гугеноты, вынужденные
принять католичество после отмены Нантского эдикта (1685 г.).
81 Бюллонд Вивьен л'Аббе, сеньор де — генерал-лейтенант королевской армии.
82 Аозен Антонен Нонпар де Комон, граф, затем герцог де (1633—1723). — См.
примеч. 59 к «Истории Генриетты Английской».
83 Милорд Ормонд - Джеймс Батлер, герцог Ормонд (1665—1745) — английский
полководец; наместник Ирландии (1710—1713 гг.).
84 Господин де Шаро — Луи-Арман де Бетюн, маркиз, затем герцог де Бетюн-Шаро
(1641—1717), наместник Пикардии, губернатор Кале.
85 Сеньеле Жан-Батист Кольбер, маркиз де (1651—1690) — министр,
государственный секретарь, сын министра Кольбера. Внес большой вклад в развитие
французского флота, сам участвовал в ряде сражений.
86 Мадемуазель. — Имеется в виду Анна-Мария-Луиза Орлеанская, герцогиня де
Монпансье (1627—1693), дочь Гастона Орлеанского (см. примеч. 50 к «Истории
Генриетты Английской»), брата Людовика ХШ; получила прозвище Великая
Мадемуазель; активно участвовала в событиях Фронды, после чего не один год провела в
опале в своем поместье, где работала над мемуарами. Ее тайный брак с Лозеном
оказался несчастливым — она так и не смогла смириться с его причудливым нравом и
бесчисленными любовными интригами. Ко времени описанных событий отношения
Мадемуазель и Лозена, по-видимому, стали враждебными, особенно с ее стороны.
Однако, как свидетельствовал Сен-Симон, Лозен неизменно отзывался о
Мадемуазель с уважением, а после ее смерти носил траур.
87 Ларошфуко Франсуа VII, принц де Марсийак, герцог де (1634—1714) — сын
известного писателя Ларошфуко, обер-егермейстер, друг короля (см. примеч. 82 к
«Истории Генриетты Английской»).
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы
491
88 Шеврёз Шарль-Оноре д'Альбер, герцог де Люин, герцог де (1646—1712) —
приближенный короля, зять Кольбера, пользовавшийся покровительством госпожи де
Ментенон.
89 Герцог де Люин... отказался от герцогства в пользу сына... — Шарль-Оноре
д'Альбер, герцог де Люин, де Шеврёз и де Шон (1645—1712), передал герцогство Шеврёз
своему сыну, Оноре-Шарль д'Альберу. Герцогство было передано в 1688 г., когда
сын возвратился после окончания осады Филипсбурга, и стало именоваться
герцогством Монфор.
90 Воспоминание о трагической смерти Карла I... — См. примеч. 2 к «Истории
Генриетты Английской».
91 Господин д'Омон — Луи-Мари-Виктор д'Омон и де Рошбарон, герцог д'Омон
(1632—1704), первый палатный дворянин короля (с 1669 г.), капитан королевской
гвардии, губернатор Булони; был женат первым браком на сестре Лувуа.
92 Филипп Орлеанский и его супруга. — См. примеч. 19 к «Истории Генриетты
Английской».
93 Гессе Рене де Фруле (1651—1725) — маршал Франции, генерал галерного флота.
94 Архиепископ Реймсский — Шарль-Морис Летелье (1642—1710), сын канцлера
Мишеля Летелье, брат военного министра Лувуа.
95 Тирконнел Ричарл Тэлбот, граф (1630—1691) — приближенный короля Якова П,
вице-король Ирландии (с 1687 г.); в 1689—1691 гг. возглавлял преданные
низложенному королю войска в войне за Ирландию против армии Вильгельма Ш.
96 Этот монарх был одержим только иезуитами. — Католический фанатизм
Якова II во многом стал причиной его политического краха.
97 Принцесса де Конти. — Имеется в виду Мария-Терезия де Бурбон-Конде (1666—
1732), жена Франсуа-Луи де Бурбона, принца де Конти (см. примеч. 34).
98 Мадам герцогиня. — Речь идет о Луизе-Франсуазе де Бурбон, мадемуазель Нант
(1673—1743), узаконенной дочери короля Людовика XIV и госпожи де Монтеспан.
В 1685 г. была выдана замуж за герцога де Бурбон-Конде (см. примеч. 41).
99 Мадам де Блуа. — Имеется в виду Мария-Анна де Бурбон, принцесса де Конти,
мадемуазель де Блуа (1666—1739), узаконенная дочь короля Людовика XIV и
Луизы де Лавальер, жена Луи-Армана де Конти (1661—1685).
100 Сен-Сир — населенный пункт близ Версаля, где находилось учебное заведение
для девочек из бедных дворянских семей, основанное Людовиком XIV и госпожой
де Ментенон в 1686 г. Школа просуществовала до 1793 г. В ней царил строгий,
почти монастырский режим.
101 Расин Жан (1639—1699) — выдающийся французский драматург, создатель
психологической трагедии классицизма. Покинув театр после постановки трагедии «Фед-
ра», Расин остался при дворе в роли придворного историографа; как очевидно из
текста мемуаров, у ценителей его таланта это вызвало чувство сожаления. Благочестивой
«комедией», заказанной госпожой де Ментенон Расину, стала «Эсфирь», пьеса на
сюжет из Ветхого Завета, имеющая, в отличие от прежних трагедий Расина, счастливую
развязку. Пьеса была исполнена воспитанницами Сен-Сира в 1689 г. в присутствии
двора. В 1691 г. Расин создал свою вторую библейскую трагедию, «Гофолия», также
исполненную в Сен-Сире, но весьма неблагосклонно принятую августейшей четой. Виной
тому послужил очевидный тираноборческий пафос спектакля (в отличие от «Эсфири»).
102 Музыка была прелестна. — Музыку к спектаклю написал композитор Ж.-Б. Моро
(1656-1733).
492
Примечания
103 Шанмеле Мари (1642—1698) — французская актриса «Комеди Франсез»,
игравшая в трагедиях Расина главные роли: Гермионы, Береники, Монимы, Ифигении,
Федры.
104 Ларезен, урожд. Франсуаза Питель де Лоншан (1662—1721) — супруга актера
Ж.-Б. Резена, известная комическая актриса XVII в.
105 Барон Мишель (1653—1729) — знаменитый французский актер, игравший на
сцене до преклонного возраста и поддерживавший во французском театре
традицию высокого классицизма; начинал как актер в труппе Мольера. ^
106 Монфлёри Закари-Жакоб (1600—1667) — знаменитый французский актер,
которого Мольер высмеивал, а Расин очень ценил и пригласил на роль Ореста в своей
трагедии «Андромаха», когда тому было уже 60 лет.
107 ...аллегорию падения госпожи де Монтеспан и возвышения госпожи де Ментенон. —
Сюжет «Эсфири» мог подсказать публике такую аллюзию. Маркиза Франсуаза-Ате-
наис де Монтеспан (1641—1707) в течение долгого времени была фавориткой короля,
и от этого внебрачного союза родилось восемь детей. Франсуаза Скаррон, будущая
госпожа де Ментенон (см. примеч. 63), сумела очаровать маркизу (не подозревавшую,
что обретет в гувернантке будущую соперницу) внешней кротостью,
образованностью и набожностью. В трагедии Расина кроткая и благородная Эсфирь
завоевывает сердце монарха своей красотой и добродетелями и при этом разоблачает и
посрамляет злодеев.
108 Госпожа де Мирамьон — Мари Бонно де Богарне де Мирамьон (1629—1696),
французская аристократка, занималась благотворительной деятельностью.
109 Лафёйад Франсуа д'Обюссон, граф де, герцог де Руанне (1625—1691) — маршал
Франции, губернатор Дофинэ.
110 Дюрур Клод Мария Дюгаст, урожденная д'Артиньи, графиня. Пользовалась
сомнительной репутацией, в 1680 г. подозревали, что она замешана в известном
«деле о ядах».
111 Лорж Ги-Альдонс де Дюрфор, герцог де (1630—1702) — маршал Франции с
1676 г. Брат маршала Дюра (см. примеч. 25). Его старшая дочь в 1695 г. вышла
замуж за герцога де Сен-Симона.
112 Д'Эстре Жан, граф (1624—1707) — маршал Франции (1681 г.), вице-адмирал,
губернатор Бретани.
113 ...были созданы две должности казначеев. — Практика продажи должностей
широко применялась во Франции при Людовике XIV и служила средством
пополнения казны.
114 Месье принц — титул главы дома Конде. После смерти в 1686 г. Великого Конде
(см. примеч. 121 к «Истории Генриетты Английской») этот титул носил его сын
Анри-Жюль де Бурбон, принц де Конде (1643—1709).
115 Тюренн Анри де Латур д'Овернь, виконт (1611—1675) — выдающийся полководец,
командующий армией во время Тридцатилетней войны, маршал Франции (1643 г.), с
1660 г. — генерал-фельдмаршал армии.
116 Мадемуазель де Ламарк — Луиза-Мадлен Эшалар де Ламарк (1659—1717); ее
брак с сыном герцога де Дюра был заключен 7 марта 1689 г.
117 ...графом де Брионом, старшим сыном господина главного шталмейстера... —
Этот титул носил Луи Лотарингский, граф д'Арманьяк (1641—1718), обер-штал-
мейстер Людовика XIV. Его старший сын — Анри Лотарингский, граф де Брион
(1661-1712).
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы
493
118
* ...сына маршала де Дюра. — Имеется в виду Жак-Анри де Дюрфор П, герцог
де Дюра (1670—1697), сын герцога де Дюра, маршала Франции (см. примеч. 25).
119 ...о смерти... дочери Филиппа Орлеанского. — Имеется в виду Мария-Луиза
Орлеанская (1662—1689), герцогиня, младшая Мадемуазель, супруга короля Испании
Карла II, дочь Филиппа, герцога Орлеанского, и его первой жены Генриетты
Английской. По слухам, была отравлена, т. е., как считали в то время, разделила
судьбу своей матери.
120 Герцог Шартрский — Филипп П, с 1701 г. герцог Орлеанский (1674—1723),
племянник Людовика XTV, сын Филиппа I Орлеанского и его второй жены Елизаветы-
Шарлотты Баварской; приходился единокровным братом Марии-Луизе Орлеанской,
королеве Испании, скончавшейся в 1689 г.; правил Францией в качестве регента при
малолетнем Людовике XV (с 1715 по 1723 г.).
212 Герцог Бервик — Джеймс Фитцджеймс (1640—1734), военачальник; после
свержения Якова II поступил на службу к французскому королю; особенно отличился
в войне за испанское наследство; маршал Франции (1706 г.).
122 Госпожа де Аавьёвиль — Анна-Люси де Ламотт-Уданкур, герцогиня де Лавьё-
виль (ум. 1689), придворная дама королевы Марии-Терезии; скончалась 22
февраля 1689 г. (см. также примеч. 75 к «Истории Генриетты Английской»).
123 Д'Аво Жан-Антуан де Мем, граф (1640—1709) — дипломат, посол в Голландии
(1678-1689 гг.), Швеции (1693-1698 гг.).
124 Майи Луи, граф де (1662—1699) — человек честолюбивый и дерзкий, добился
брака с племянницей всемогущей госпожи де Ментенон для того, чтобы упрочить
собственное положение.
125 Господин Мансфельд — Генрих Франц I, граф фон Мансфельд, князь Фонди
( 1640—1715), приближенный императора.
126 Мадемуазель д'Аспремон — Мария-Луиза д'Аспремон (1652—1692), в первом браке
супруга Карла Лотарингского, герцога Барского (1604—1675), во втором (с 1679 г.) —
графа Мансфельда.
127 Герцог Аотарингский — Карл Лотарингский, герцог Барский (1604—1675).
128 Ребенак Франсуа дю Па-Фёкьер, граф де (1649—1694) — французский
дипломат; посол в Германии (1676—1679 гг.), Испании (1688—1690 гг.), Риме (1691—1692 гг.).
129 Генеральный контролер. — С 1683 по сентябрь 1689 г. эту должность занимал
Клод Лепелетье, сеньор де Морфонтен (1631—1711), по мнению современников,
человек добросовестный и благочестивый, но слабый и безвольный.
130 Ноай Анн-Жюль, герцог де (1650—1708) — губернатор провинции Лангедок с
1682 г., маршал Франции с 1693 г.
131 Господин де Шон — Шарль д'Альбер д'Эйи, герцог де Шон (1624—1698) —
губернатор Бретани, затем Гиени; чрезвычайный посол в Риме во время избрания Пап
Римских (в 1667, 1670 и 1689 гг.).
132 Господин де Аатрусс — Филипп-Опост ле Арди, маркиз де Латрусс (ум. 1691) —
генерал-лейтенант, губернатор Ипра.
133 Г асе Шарль-Опост Гуайон де Матиньон, граф де (1647—1729) — губернатор
Ониса, Ла-Рошели и других земель; маршал Франции (1708 г.).
134 Госпожа д'Арпажон — Екатерина-Генриетта де Аркур, герцогиня д'Арпажон
(1622—1701), дочь Франсуа де Аркура II, маркиза де Бёврона, фрейлина дофины,
сводная сестра Франсуа де Аркура III, маркиза де Бёврона (см. примеч. 135).
135 Семейство Бёврон было предано госпоже де Ментенон... — После смерти мужа,
494
Примечания
Поля Скаррона, Франсуаза д'Обинье (см. примеч. 63 и 107) оказалась почти без
средств к существованию. Со своей служанкой она поселилась в жалкой комнатке
в предместье. Франсуа де Аркур, маркиз де Бёврон (1627—1705) вместе с
прежними друзьями семьи сумел составить вдове протекцию при дворе, что в конечном
счете способствовало ее блистательному взлету.
136 Лаогетт Шарль Фортен, маркиз де — генерал-лейтенант, капитан первой роты
королевских мушкетеров.
137 Бролъо — Виктор-Морис, граф де Бройль (ок. 1647—1727), французский
полководец, генерал-лейтенант (1688 г.), маршал Франции (1724 г.).
138 ...приходился свояком интенданту... — Интендантом в описываемый период был
Мишель Лепелетье де Сузи, с 1691 по 1715 г. генеральный директор фортификаций,
а с 1702 г. — советник Королевского финансового совета.
139 Гриньян Франсуа-Адемар де Монтей, граф де (1629—1714) — генеральный
наместник Прованса, зять госпожи де Севинье, автора знаменитых писем.
140 Грамон Антуан-Шарль IV, герцог де (1645—1720) — сын герцога де Грамона,
маршала Франции, дипломат, вице-король Наварры и Беарна.
141 ...а он прочитал «полк Бурбона». — Французские слова «dragon» и «Bourbon»
имеют некоторое фонетическое сходство.
142 Суассон Олимпия Манчини, графиня де (1639—1708). — См. примеч. 13 к
«Истории Генриетты Английской». В ее салон часто наведывался молодой король; позже
оказалась замешана в «деле об отравлениях», из-за чего была изгнана из Франции
и нашла убежище в Мадриде.
143 Шаторено Франсуа-Луи Русселе, граф де (1637—1716) — маршал Франции
(1703 г.), вице-адмирал.
144 Герберт Артур, граф Торрингтон (1647—1716) — лорд-верховный адмирал,
затем первый лорд Адмиралтейства (1689—1690 гг.).
145 Бонрепо Франсуа д'Юссон, маркиз де (1650—1719) — морской офицер и
дипломат, посол в Дании (1692—1697 гг.), Голландии (1697—1700 гг.); друг Ж. Расина.
146 Савойский Евгений Франсуа, принц (1663—1736) — фельдмаршал, принц Савой-
ский-Кариньян, сын графа де Суассона и Олимпии Манчини. В 1683 г. вступил в
имперскую коалицию; сражался на ее стороне против Франции.
147 Тамбонно Жан (ум. 1719) — посол в Швейцарии, председатель Счетной
палаты; Сен-Симон пишет о нем как о честном и порядочном человеке.
148 Амело Мишель-Жан, маркиз де Гурне (1655—1724) — талантливый диломат,
посол в Испании, Португалии, Венеции и Швейцарии. Несправедливо обвиненный
в янсенистских воззрениях, был удален с дипломатической службы; стал
государственным советником. Об этом сообщает Сен-Симон в своих «Мемуарах» (т. Ш, гл.
XVH).
149 Принц Георг — Георг I (1660—1727), курфюрст Ганноверский (с 1698 г.), после
смерти Анны Стюарт в 1714 г. вступил на английский престол.
150 Гамильтон Антуан (1646—1719) — полковник сначала французской, затем
английской армии. Добровольно перешел на сторону английского короля, чем вызвал
недовольство Людовика XIV. Гамильтон — автор романа «Мемуары графа де
Грамона» (1713), герой которого бежал из Франции в Англию и там женился на
сестре военачальника; см. примеч. 76 к «Истории Генриетты Английской».
151 Госпожа де Бовилье — Генриетта-Луиза Кольбер (1657—1733), дочь
могущественного министра Кольбера; с 1671 г. супруга Поля де Бовилье, герцога де Сент-Энья-
на, именовавшегося герцогом де Бовилье (1648—1714).
Письмо трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 495
152 Госпожа де Шеврёз — Жанна-Мария-Тереза Кольбер (1650—1732), старшая дочь
Кольбера; с 1667 г. супруга Шарля-Оноре д'Альбера, герцога де Люина, де Шеврё-
за и де Шона (1646-1712).
153 Белъфон Бернарден Жито, маркиз де (1630—1694) — маршал Франции (1668 г.).
154 Д'Арманъяк. — См. примеч. 90.
155 Марсан Шарль Лотарингский, граф де (1648—1708) — младший брат
главного шталмейстера, человек, имевший при дворе не слишком лестную репутацию
болтуна и дамского угодника.
156 Госпожа de Валантинуа — Мария Лотарингская (1674—1724), дочь Луи Лота-
рингского, графа д'Арманьяка; с 1688 г. супруга Антуана Гримальди, будущего
герцога де Валантинуа, принца Монакского.
157 Барбезьё Луи-Франсуа-Мари Летелье де Лувуа, маркиз де (1668—1701) —
государственный секретарь, сын маркиза де Лувуа, в 1691 г., после смерти отца, сменил
его на посту главы военного ведомства.
158 ШуазёАЪ-Ффаксье\> Клод, граф де (1632—1711) — маршал Франции (1693 г.).
159 Курфюрст Бранденбургский — Фридрих I Гогенцоллерн (1657—1713), ставший
курфюрстом в 1688 г. после смерти отца, Великого курфюрста. В 1701 г. коронован
в Кёнигсбергском соборе как первый король объединенного Бранденбургско-Прус-
ского королевства.
160 Дочь курфюрста Пфальцского — Мария-Анна Пфальц-Нойбургская (1667—1740),
с 1690 г. вторая супруга Карла П, короля Испании.
161 Турвилъ Анн-Иларьон де Котантен, граф де (1642—1701) — французский
адмирал, вице-адмирал Средиземноморского флота (1689 г.), маршал Франции (1693 г.),
выдающийся военачальник.
162 Аббат Сервьен — Опостен Сервьен (ум. 1716), сын Абеля Сервьена,
государственного министра и хранителя печати; аббат церкви Сен-Жуэн-де-Марн.
163 Королева Швеции. — Речь идет о Кристине, королеве Швеции (1626—1689),
правившей с 1644 по 1654 гг.; после отречения от престола поселилась в Риме, где
и скончалась 19 апреля 1689 г.
164 Кардинал Азолини — Дечо Аццолини (1622—1689), итальянский прелат,
кардинал (1654 г.).
165 Принц де Роан — Луи, принц де Роан (1666—1689), полковник кавалерии; умер
от раны, полученной на войне во Фландрии.
166 ДуОкенКур _ Шарль де Монши, маркиз д'Окенкур (ум. в 1690 г.), офицер,
губернатор Перонны; погиб в Ирландии.
ПИСЬМО-ТРАКТАТ ПЬЕР-ДАНИЭЛЯ ЮЭ
О ПРОИСХОЖДЕНИИ РОМАНОВ
В оригинальном издании роману «Заида» предпослано адресованное господину
Сегре пространное, на 99 страницах, письмо-трактат о происхождении романов,
написанное другом графини де Лафайет Пьер-Даниэлем Юэ. По существу, это
манифест в защиту нового жанра. Мобилизуя всю свою незаурядную эрудицию ради
«защиты и прославления романа», Юэ прослеживает его историю со времен
античности и стремится сблизить с высшим в литературной иерархии жанром —
эпической поэмой. Однако Юэ здесь не особенно оригинален; уже в XVI веке намечает-
496
Примечания
ся тенденция рассматривать роман как прозаический вариант поэмы. Об этом идет
речь в «Защите и прославлении французского языка» (1549) Жоашена Дю Белле,
предисловии Пьера Ронсара к его поэме «Франсиада» (1578). В том же духе, но
значительно обстоятельнее, анализирует жанр Мадлен де Скюдери в своих
предисловиях к «Ибрагиму» (1641) и «Алариху» (1654). Она настаивает на необходимости
гармоничного соединения в романе лжи и вымысла, естественного хода событий со
строго дозированными невероятными приключениями. При этом нравоучительная
составляющая остается для нее первостепенной (см.: Idées sur le roman: Textes
critiques sur le roman français: ХПе—XXе siècles. P.: Larousse, 1992. P. 16). Юэ, как и Скюдери,
ощущает изначальную ущербность, нравственную сомнительность «остроумных
выдумок» и потому делает упор на назидательном характере романа, указывая, что
талантливо описанные любовные приключения не только развлекают, но и
поучают читателя. Основные теоретические положения трактата сделали «Зайду»
весомым аргументом в общей дискуссии о жанре романа. Однако сама госпожа де Ла-
файет не приняла никакого участия в этом споре.
На русском языке выходил отрывок «Письма» (см.: Юэ П.-Д. Трактат о
возникновении романов/Пер. Е.П. Гречаной//Литературные манифесты западноевропейских
классицистов. М.: МГУ, 1980. С. 412—418). Настоящий перевод осуществлен по
научному изданию, подготовленному Ф. Жегу (см.: Lettre-traité de Pierre-Daniel Huet sur
l'origine des romans /Ed. F. Gégou. P.: Nizet, 1971). Отдельные, не вполне ясные
фрагменты французского текста уточнялись по одному из ранних изданий трактата (см.:
Zayde, histoire espagnole, par Monsieur de Segrais, avec un Traitté de l'Origine des
Romans, par Monsieur Huet. P., 1671). При составлении примечаний использовались
постраничные комментарии к вышеупомянутому научному изданию, а также
издания справочного характера: Словарь античности. М., 1989; Античные писатели.
СПб., 1999; Античная культура: Словарь-справочник. М., 2002 и другие печатные и
электронные документы.
1 Джиральди и Пинья... в трактатах, посвященных романам... — Дж. Джиральди
Чинцио (1504—1573) — итальянский драматург и новеллист, основоположник жанра
маньеристической «кровавой трагедии». Имеется в виду его трактат «Рассуждение
об искусстве сочинения романов» (1544). Пинья — псевдоним Дж. Николуччи (1529/
1530—1575), итальянского писателя, историка, политического деятеля, автора
полемически направленного против одноименного сочинения Н. Макиавелли трактата
«Государь» (1560) и хроники «История князей д'Эсте» (1570). Имеется в виду его
трактат «О романах» (1554). Как указывает М.Л. Андреев, именно в переписке
Джиральди с Пиньей «впервые возникает теоретически продуманная оппозиция
романа и эпоса» [Андреев М.Л., Хлодовский Р. И. Итальянская литература зрелого и
позднего Возрождения. М., 1988. С. 247).
2 ...произведения Боярдо и Ариосто как пример для подражания. — Боярдо Маттео
(1440—1494) — итальянский писатель; самое известное его сочинение — поэма
«Влюбленный Роланд» (1483—1494). Ариосто Лудовико (1474—1533) — итальянский
писатель. Имеется в виду его наиболее знаменитое сочинение, рыцарский роман
«Неистовый Роланд» (1516—1532), в сюжетном отношении гфодолжающий
«Влюбленного Роланда», а в эстетическом плане полемизирующий с ним.
3 Время повелевает, чтобы романы создавались в прозе. — Ср. у Ф. д'Обиньяка в
предисловии к «аллегорическому повествованию» «Макариза, или Королева Остро-
Письмо трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 497
вов Блаженства» (1664): «<...> не следует удивляться, что в рассуждении сием я свел
правила романа к тем, какие используются в эпических поэмах, ведь последние
отличаются от первых исключительно стихотворной формой, все же остальное у
них общее — изобретение, расположение [частей], обработка [фабулы] и украшения
[стиля]» (пер. А. А. Смирнова с моими уточнениями. — К.Ч.).
4 ...чтобыроманы... подчинялись определенным правилам... — Здесь налицо
классицистическая установка Юэ — придать жанру нормативный характер. Прямо
противоположное — у Марена де Гомбервиля (послесловие к последней части романа
«Полександр», 1637): «<...> бурный нрав мой не может смириться с докучливым и
назойливым стремлением к порядку. Мне по душе беспорядок, отклонение от
правил» (цит. по: Idées sur le roman... P. 70).
5 ...задачей... становится просвещение разума и исправление нравов... —Для
классицистов развлекательное начало неотделимо от нравственного содержания и
должно быть ему подчинено. Оригинальность взглядов Юэ состоит в том, что моральное
содержание закрепляется за романом — жанром, который подвергался резкой
критике именно за безнравственность.
6 Следовательно, здесь нет нужды касаться романов в стихах и тем более эпических
поэм... — Нельзя сказать, что Юэ полностью держит слово. Как раз наоборот, в
отличие от многих современников — достаточно назвать представителей разных
эстетических взглядов Н. Буало и Ш. Сореля — он не склонен отождествлять роман с
барочной (а еще точнее — прециозной) его модификацией и принимает в рассмотрение
античный, средневековый и ренессансный «изводы» романа. В то же время комическую
разновидность жанра (весьма успешно развивавшуюся во Франции) обходит стороной.
7 ...изречение Аристотеля... — «<...> поэту следует быть больше творцом фабул,
чем метров» (Поэтика. 9. Пер. В.Г. Аппельрота под ред. Ф.А. Петровского).
8 ...изречение... которое... сформулировал Платон... — Очевидно, имеется в виду
теория Платона относительно «поэтического исступления». Ср., напр.: «Все хорошие
эпические поэты слагают свои прекрасные поэмы не благодаря искусству, а лишь
в состоянии вдохновения и одержимости» (Ион. 533е. Пер. Я.М. Боровского).
9 ...изречение... которого придерживались Гораций, Плутарх и Квинтилиан... — Здесь,
как и в случае с Платоном, для Юэ важно упомянуть имя античного автора, чтобы
собственный тезис выглядел более внушительно. Возможно, имеется в виду трактат
Плутарха «Как юноше слушать поэтические произведения», где сказано, в
частности, следующее: «<...> сочетание правды с ложью сильнее потрясает и больше
привлекает, чем стихотворные произведения без занимательности и полета фантазии»
(пер. Л.А. Фрейберг). В «Поэтическом искусстве» («Послание к Пизонам») Гораций
указывает, что мысль поэта важнее, чем «пустые и звонкие строчки»; «художникам,
как и поэтам, издавна право дано /Дерзать на все что угодно!» (пер. М.Л. Гаспаро-
ва). Что касается Квинтилиана, то в первой книге «Наставления в ораторском
искусстве» (I. 8. 14, 21) он порицает поэтов — рабов метра и резко критикует творцов книг,
недостойных прочтения и содержащих сплошные небылицы. Однако полного
соответствия сформулированному Юэ тезису мы здесь не находим.
10 Петроний говорил, что поэмы должны вести к цели окольными путями... — Юэ
перефразирует следующий пассаж из «Сатирикона» Петрония: «<...> свободный дух
должен устремляться в потоке сказочных вымыслов по таинственным переходам,
мимо святилищ богов, чтобы [песнь] казалась скорее вдохновенным пророчеством
исступленной души, чем достоверным показанием, подтвержденным свидетелями»
32. Заказ № К-6559
498
Примечания
[пер. под ред. Б. И. Ярхо). В подтверждение этой мысли Петроний вставляет в текст
пространные, но понятные лишь знакомой с оригиналом аудитории поэтические
переложения фрагментов из «Энеиды» Вергилия и «Фарсалии» Лукана. Интересно,
что рассуждения Петрония перекликаются с тезисом Т. Тассо («Рассуждения о
героической поэме», 1594) относительно «затрудненности» изложения как
необходимой составляющей высокой поэзии.
11 Ктесий (после 440 — после 380 до н. э.) — греческий медик; попав в рабство к
персам, стал придворным лекарем персидского царя Артаксеркса II Мнемона;
автор не слишком достоверного повествования по истории Ассирии, Мидии и Персии
«Persica» и аналогичного сочинения об Индии «Indica» (оба сохранились в отрывках).
Изящество слога, использование новеллистических и романических мотивов
позволяют рассматривать творчество Ктесия как предтечу греческого романа.
12 Ганнон — карфагенский флотоводец нач. V в. до н. э., совершивший плавание
вдоль западного берега Африки. В IV в. до н. э. его отчет о путешествии был
переведен с финикийского языка на греческий.
13 Филострат — Флавий Филострат Старший (160/170—244/249), греческий
писатель, автор синтетического по жанру произведения «Жизнь Аполлония Тианского»
(о последователе пифагорейцев, странствующем философе I в.), собрания
биографий «Жизнеописание софистов» и диалога «О героях».
14 Симеон Метафраст — визаэтийский историк X в.; автор «Жизнеописаний
святых», послуживших образцом для более поздних агиографий.
15 Аристотель учит, что трагедия, событийная канва которой всем известна и
заимствована из истории, наиболее совершенна... — «<...> в трагедии <...>
придерживаются имен, взятых из прошлого» (Поэтика. 9). Неоднократно ссылаясь в начале
«Письма...» на Аристотеля, Юэ стремится продемонстрировать, что жанр романа
вполне органично вписывается в направленность «Поэтики» греческого мыслителя.
16 ...слова, которые у Гесиода произносят Музы... — По-видимому, речь идет о
следующих стихах:
Много умеем мы лжи рассказать за чистейшую правду.
Если, однако, хотим, то и правду рассказывать можем!
(Гесиод. Теогония. 27—28. Пер. В. В. Вересаева)
17 Анний из Витербо — монах-доминиканец, историк и проповедник (в миру Джован-
ни Нанни; 1432—1502), опубликовавший в 1499 г. подборку фрагментов из
произведений античных авторов, которую сочли фальсификацией и подвергли резкой критике.
18 Клеарх — скорее всего Клеарх Солейский, греческий философ-перипатетик
нач. Ш в. до н. э., автор ряда биографий. Неоднократно упоминается в
«Библиотеке» Фотия (см. примеч. 25), а также у Афинея в «Пире мудрецов» (наряду с Клеар-
хом Афинским, поэтом IV в. до н. э.).
19 Ямвлих — греческий писатель сирийского происхождения (1-я пол. П в.), автор
«Вавилонской повести», где воссоздана судьба супружеской четы Родана и Синони-
ды. Книга утрачена; известна в пересказе Фотия (см. ниже примеч. 25).
20 Гелиодор — греческий писатель (Ш или IV в.), предполагаемый автор самого
пространного из греческих романов «Эфиопика» (главные герои — прекрасный
юноша Феаген и его возлюбленная Хариклея). Во многом именно это произведение,
оказавшее затем большое влияние на структурные особенности прозы барокко,
можно считать эталоном раннего греческого романа.
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 499
21 Лукиан (ок. 120 — после 180) — греческий писатель сирийского происхождения.
Ранее пародийный диалог «Лукий, или Осел», где подвергаются критике романы,
приписывали именно ему.
22 Ахилл Татий — греческий писатель П—Ш вв., автор романа «Левкиппа и Кли-
тофонт». Пользовался большой популярностью в византийскую эпоху.
23 Сказочная история Варлаама и Иосафата сочинена святым Иоанном Дамаски-
ном... — Этот весьма распространенный на Востоке, а затем обретший огромную
популярность в средневековой Европе сюжет (буддистского происхождения) был
отнюдь не «сочинен» Иоанном Дамаскином, византийским богословом и поэтом (ок.
675 — до 753), а осмыслен им в христианском духе. На Руси повесть известна с ХП в.;
с XV в. окончательно приобрела вид агиографии.
24 ДиаЬох Дамаский (ок. 460 — после 538) — греческий философ, последний из
представителей платоновской школы. Сохранился только один его трактат —
«Сомнения и решения касательно первоначал». Вводя его в круг романистов, Юэ
следует за Фотием.
25 Фотий (ок. 820 — ок. 891) — патриарх Константинопольский, ученый,
составитель «Библиотеки» («Мириобиблион»), где излагалось содержание и приводились
суждения о 280 прозаических сочинениях греческих писателей (большей частью
утерянных). Юэ весьма часто черпает сведения именно из этого источника.
26 Из трех Ксенофонтов-романистов... — Ни один из упомянутых в Суде (см.
примеч. 27) романистов не имеет отношения к знаменитому ученику Сократа,
историку, философу и полководцу Ксенофонту Афинскому (ок. 430—355/354 до н. э.).
Первый из них, также историк, родом из сирийской Антиохии, написал любовный
роман «Вавилонская повесть»; годы его жизни неизвестны. Вторым был Ксенофонт
Эфесский (П—Ш вв.), греческий писатель, автор «Эфесских рассказов» («Повесть
о Габрокоме и Антии»). Третьим — Ксенофонт Кипрский, автор «Кипрских
рассказов», повествующих, в частности, о любви Кинира, Мирры и Адониса.
27 Суда (букв.: «лексикон») — византийский свод лексических и исторических
сведений, представляющий собой переработку более древних энциклопедических
сводов; возможно, составлен ок. 1000 г.
28 Амелий (Америй) — философ середины Ш в., уроженец Этрурии; ученик
стоика Лисимаха, затем неоплатоника Порфирия; сочинения не сохранились.
Определяя происхождение Амелия, Юэ следует за Судой.
29 Геродот... называл египетские легенды чепухой. — На самом деле «отец истории»,
в книге которого и впрямь содержится немало фантастических сведений и
интерпретаций, гораздо более сдержан: «Кто может верить этому сказанию египтян, это
его дело. Мне же в продолжение всего моего повествования приходится
ограничиваться лишь передачей того, что я слышал» (История. П. 123. Пер. Г.А. Стратанов-
ского).
30 Мухаммед утверждает, что создал Коран таким, чтобы людям бъио легко его
выучить... — Согласно представлениям мусульман, Коран — это прямая речь Бога,
Его призыв ко всему человечеству — встать на путь строгого монотеизма
(«Ниспослали...»). Мухаммед (ок. 570—632), последний Пророк единобожия (в Коране (33:
40) говорится о нем как о «печати пророков»), на протяжении более 20 лет лишь
озвучивал исламское Откровение, ниспосылавшееся ему Богом непосредственно
или через ангела Гавриила. Юэ приводит аллюзию на суру «Мария» (см.: Коран.
19: 97).
500
Примечания
31А поскольку Бог... говорит с людьми, как представляется Пророку, только
намеками... — Речь идет о языке знамений, о которых упоминается во многих сурах (см.,
напр., суры 10, 30).
32 ...об этом счел нужным упомянуть и один из пророков Ветхого Завета. — См.:
Варух 3: 23.
33 Лукман — легендарный мудрец, упомянутый в Коране (сура 31), живший в
библейские времена (предположительно ведет свое происхождение от Авраама).
Мусульманское предание связывает с Лукманом строительство Марибской плотины в
Южной Аравии, обычай побивать камнями за прелюбодеяние, отсекать руку за
воровство и пр. Встречается утверждение, что Лукман — не кто иной как царь
Соломон. По другим версиям, был чернокожим (бербером). В средние века ему
приписывали авторство басен, позднее включенных публикаторами в сборник Эзопа.
34 Шикард Вильгельм (1592—1635) — немецкий востоковед и философ, математик
и астроном.
35... Лукман... наказывает... остерегаться придавать кого бы то ни было Богу в
сотоварищи... — «Придание Богу сотоварищей» — кораническое выражение,
устойчивый фразеологический оборот в исламском богословии, означающий
приверженность идолопоклонничеству, многобожию. С точки зрения мусульман, Бог —
единственный Творец обоих миров: посюстороннего (дольнего) и потустороннего
(горнего, загробного), при том что Сам Создатель существует извечно («Он — Бог
Единый, Господь предвечный. Не родил и не был рожден, и нет никого, равного
Ему» (Коран, сура 112); «Он — Творец небес и земли. И когда решает Он, чтобы
[свершилось] нечто, то говорит: "Свершись" — и свершается оно» (Коран. 2: 117)).
Под «приданием сотоварищей» подразумевается наделение кого-либо (чего-либо)
способностью соучаствовать в процессе творения наравне с Богом. Если человек
клянется в чем-то, он ставит себя вровень с Богом, явным образом игнорируя волю
Творца, Его Промысл, и тем самым возводя себя Ему в «сотоварищи»; клятва,
поклонение могилам, умершим, мощам, камням, вера в «плохие» и «хорошие» дни,
приметы, гадание, астрологию, ношение амулетов, крестиков, образков, ладанок —
это грех. Несмотря на то, что представления у мусульман и христиан о Боге во
многом совпадают (Коран именует христиан «людьми Писания»), первые обвиняют
последних в отходе от единобожия. Считая Иисуса Христа одной из ипостасей Бога,
Его сыном, земным боговоплощением, христиане, с точки зрения мусульман,
переводят этого человека в разряд «сотоварищей» Всевышнего. Священное Писание
ислама настаивает: «Не обретал Себе Бог дитяти, и нет наряду с Ним Бога иного»
(Коран. 23: 91).
36 ...секта философов, которые... свои догматы... проповедуют... в виде... притч. —
Философы, обучавшие с помощью притч, — это древние мудрецы и пророки,
составившие и истолковавшие Талмуд.
37 ...история Хайя, сына Якзана. — Речь идет об аллегорической повести
Авиценны (Ибн Сины) «Хай ибн Якзан» («Живой сын Бодрствующего», т. е. Бога),
написанной им в период заключения в крепости Фардаджан. Юэ дает однобокую
трактовку этого произведения, как бы резюмирующего философские воззрения великого
ученого и медика. Существует и иная атрибуция повести (ее приписывают арабскому
философу Ибн Туфайлю).
38 Эрпений — Томас ван Эрпе (1584—1624), знаменитый голландский востоковед;
преподавал в Лейденском университете; автор грамматик арабского, древнееврей-
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 501
ского, халдейского и сирийского и других языков; подготовил к изданию «Историю
сарацин» (1625) Эльмачина; начал готовить издание Корана с параллельным
латинским переводом и примечаниями, но скоропостижно скончался.
39 Эяьмачин (1223—1273) — средневековый арабский историк, автор «Истории
сарацин».
40 Аббас. — Имеется в виду Абу Аль-Аббас, первый халиф из династии Аббаси-
дов (750—754 гг.) по прозвищу Кровавый.
41 ...Мухаммед причислял себя к поэтам. — Лишь недруги Мухаммеда
утверждали, будто Коран — продукт его поэтического творчества. Пророк не только сам не
был склонен к стихотворчеству, но и не питал симпатий к поэтам в целом, считая
их лицемерами, готовыми сочинять за деньги все что угодно. Нелюбовь
Мухаммеда к поэтам объяснялась также распространенностью в доисламской Аравии прори-
цателей-кахинов, в состоянии транса вещавших пророчества рифмованной прозой.
Считалось, что при этом они общались с языческим божеством или его
посланником — джинном. Усматривая поверхностное сходство в поведении такого рода
поэтов-прорицателей с Пророком в момент получения им Божественного Откровения,
многие причисляли его к кахинам.
4й ...псалом против донатистов... — Подразумевается имеющаяся в обширном
богословском наследии св. Августина подборка полемических сочинений,
направленных против донатистов (от имени епископа Доната Карфагенского (ок. 270—355)).
Донатисты, в частности, считали недействительными таинства, совершенные
впавшим в публичный грех или отлученным от Церкви священником; отрицали
мученичество; допускали покаяние в тяжких грехах и т. п. Среди сохранившихся
сочинений Августина на этот счет наибольший интерес представляет упоминаемый Юэ
«Псалом против сторонников Доната» (393), состоящий из 20 строф по 12 стихов в
каждой; каждая следующая строфа открывается очередной буквой алфавита, так
что этот псалом еще именуют «Азбучным».
43 Леонинские стихи — одна из ранних форм версификации в старофранцузской
поэзии (XIV в.), при которой рифмовались полустишия внутри одного стиха.
44 ...до вторжения Тарика и Мусы в Испанию... — Речь идет о событиях нач. VIII в.
Первым пересек Гибралтар и вступил в Испанию находившийся на службе у арабов
берберский военачальник Тарик ибн Зияд, затем в 712 г. — Муса ибн Заир.
45 ...я мог бы легко доказать, что древние рилияне тоже были знакомы с
рифмованными стихами... — Остается только сожалеть, что Юэ так и не осуществил этого
намерения. На самом деле классическая римская поэзия рифмы не знала; лишь в
христианской латиноязычной поэзии появляются ассонансы, а редкие образцы
рифмы — в ХШ в.
46 Страбон утверждает, что учителя в Персии, внушая... заповеди, облекали их в
мифы. — Речь идет о греческом географе и историке Страбоне (ок. 64 до н. э. — ок.
20), авторе монументальной «Географии» (в 17 книгах). По поводу персов он
сообщает следующее: «В учителя наук они берут мудрейших людей, которые
переплетают факты с мифическими историями, приспосабливая последние на пользу
учащихся» (XV. 3. 18. Пер. Г.А. Стратановского).
47 У Геродота Кир... отвечает... в форме басни. — См.: Геродот. I. 141 (басня о
флейтисте и рыбе).
48 ...вручил им пучок стрел, которые можно было сломать только по отдельности. —
Подобный поступок древние относили к разным людям: как правителям, так и про-
502
Примечания
стым смертным. Плутарх, например, приписывает его скифскому царю Скилуру
(П—I вв. до н. э.). См.: Плутарх. Изречения царей и полководцев. 174 F.
49 ...Страбон говорит, что никто не питает большого доверия к древним историям
персов, мидян и сирийцев... — Точного соответствия в тексте «Географии» не
обнаруживается. Скорее всего, Юэ здесь имеет в виду следующий пассаж: «Мы не
обращаем внимания на прозаических писателей, пишущих о многих предметах в
исторической форме, даже если они не признаются, что имеют дело с мифами. Ведь
сразу видно, когда они сознательно вплетают [в свое изложение] мифы не по
незнанию фактов, а придумывают невероятное, чтобы удовлетворить склонность к
чудесному и доставить удовольствие слушателям» (I. 2. 35. Пер. Г.А. Стратанов-
ского).
50 Басни Эзопа настолько пришлись персам по душе, что они присвоили себе их
создателя. — Фигура легендарного баснописца Эзопа (впервые мимоходом упомянутого
у Геродота) отождествлялась с разными лицами разных народностей (его
объявляли фракийцем, фригийцем и даже африканцем).
51 Казеин — город на северо-западе Ирана; центр миниатюры (XVI—XVII вв.);
известен двумя мечетями ХП в.
52 Мирхонд Мохаммед ибн Хавандшах (1433—1498) — персидский историк. Его
семитомный труд по «всеобщей истории» (от «начала мира» до конца XV в.) долгое
время служил для европейских ученых почти единственным источником по истории
Ирана и Центральной Азии.
53 Максим Плануд (ок. 1255—1305) — византийский гуманист, составитель
стихотворной «Антологии Плануда» (1299), куда вошли эпиграммы греческих и
латинских авторов (всего около 2400 произведений). Его перу принадлежит также
жизнеописание Эзопа.
54 ...у Филострата басни Эзопу дарит Меркурий... — В «Жизни Аполлония Тианско-
го» Филострата Старшего (V. 14—15) есть эпизод, в котором Гермес (у римлян ему
соответствует Меркурий) дарит Эзопу умение слагать басни, «последнее, что осталось
в доме мудрости», и говорит: «Держи мою первую науку!» (пер. Е.Г. Рабинович). Эзоп
упоминается и в «Картинах» Филостратов Старшего и Младшего, наиболее
знаменитом образце античной экфразы (I. 3).
55 Рустам — главный герой эпической поэмы Фирдоуси «Шахнаме».
56 ...история Искандера... — Так в восточной традиции именовали Александра
Македонского, который стал героем многих литературных произведений. Начало
им положил анонимный автор греческого «Романа об Александре» (П—I вв. до н. э.),
оригинал которого до нас не дошел. Известно более ста его переработок, в том числе
версия Низами («Искандер-наме»), А. Навои, Фирдоуси. В Византии в III в. Псевдо-
Каллисфеном была написана «Жизнь Александра Македонского».
57 ...сказания о Геракле, Роланде иАмадисе. — Здесь объединены греческий
мифологический герой (весьма популярный во Франции в эпоху Возрождения и
переосмысленный в духе того времени), главный герой средневекового французского
эпоса «Песнь о Роланде» (ок. 1100; его малоизвестный исторический прототип
принимал участие в Ронсевальском сражении с басками в 778 г.; в эпосе вместо басков —
христиан фигурируют сарацины — неверные) и персонаж не менее знаменитого
рыцарского романа эпохи Возрождения «Амадис Галльский» Родригеса де Монтальво
(наиболее старое из дошедших до нас изданий датируется 1508 г., но не исключено,
что ему предшествовала более ранняя публикация 1495 г.).
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 503
58 В Коране содержится намек и порицание в адрес Назара, сына Хариса... —
Аллюзия на кораническую суру «Лукман» (31: 5—6), где, по мнению ряда комментаторов,
действительно содержится намек на поэта Назара ибн аль-Хариса. По некоторым
сведениям, на втором году хиджры Пророк Мухаммед послал трех
новообращенных умертвить его за то, что он привлекал к себе многих арабов, которые
предпочитали слушать персидские сказки, а не внимать проповедям Посланника Божьего.
59 Тавр — протяженный горный массив, соединяющий юг Средиземноморского
побережья Малой Азии с рекой Евфрат.
60 Мортис-Али — искаженное европейцами прозвище Муртаза Али (то есть Али,
угодный Аллаху). Речь идет о халифе Али (ок. 600—661), зяте и сподвижнике
Пророка Мухаммеда.
61 ...о великане Арнеосте и его великанше жене... — Арнеост — персонаж преданий,
бытовавших среди жителей Гиркании, прикаспийской части Персии. В них
говорится, как живший на вершине высокого холма великан Арнеост — рогатое чудовище
с коровьим хвостом и лошадиными ушами и глазами — преграждал дорогу
всякому, кто проходил мимо. Так продолжалось до тех пор, пока не нашелся храбрец,
который победил великана и заковал в цепи не только самого Арнеоста, но и его
великаншу-жену и сына. Об этой легенде упоминает английский путешественник
Энтони Дженкинс в своем отчете о поездке в Персию в начале 1560-х годов (см.:
The Principal Navigations, Voyages, Trafiques: In 3 vol. 2nd ed. / Coll. R. Hakluyt, ed.
E. Goldsmid. L., 1598-1600. Vol. 3. Ch. 89).
62 ...о чудесах царевича Пискитона... — Вероятнее всего, имеется в виду Пешотан,
или Пшутан [авест. Пишишьяотна), сын царя Гуштаспа (авест. Виштаспа, греч. Ги-
стасп), покровителя и последователя Заратуштры (VQ—VI вв. до н. э.); именно при
его дворе основатель зороастризма начал впервые проповедовать свое учение. И
Пешотан, и Гуштасп фигурируют в качестве действующих лиц в эпической поэме
Фирдоуси «Шахнаме». В европейских источниках имя Пешотана имеет много
различных вариантов написания.
63 Бурса — город на северо-западе Турции; основан во II в. до н. э., первая
столица Османской империи (с 1326 г.).
64 Индийцы превратили его в брата Рамы... — Имеется в виду брат главного героя
второго по значимости памятника древнеиндийского эпоса «Рамаяны» (сложился
между Ш в. до н. э. и IV в.); носит имя Лакшмана.
65 Тонкинцы — название жителей Тонкина (прежнее наименование Северного
Вьетнама, данное этому региону европейскими колонизаторами).
66 Диоген Ааэртский — греческий писатель Ш в., автор сочинения «О жизни,
учениях и изречениях знаменитых философов» в 10-ти книгах, ценного источника по
истории греческой мысли с VI в. до н. э. до конца II в. О его личности не
сохранилось никаких сведений.
67 Гимнософисты — индийские мудрецы, ходившие нагими, жившие в лесах.
Делились на две секты — брахманов и саманеев. Упомянуты, в частности, в «Эфиопике».
68 ...рассуждения о... политических... проблемах... — Под политическими проблемами
Юэ подразумевает проблемы управления государством.
69 Сандабер написал об этом книгу... — Имеется в виду одна из версий «Романа о
семи мудрецах», а именно иудейская, которая именовалась «Мишле Сандабер».
70 Голъмен Жильбер (1585—1665) — французский политический деятель, эрудит,
переводивший греческие романы на латынь.
504
Примечания
71 Бартрухерри — индийский поэт Бхартрихари (VI—VII в.), автор поэм «Нитиша-
таки» («Сто строф о мудром поведении») и «Вайрагьяшатаки» («Ото строф об
отрешенности»). Стал знаменитым в Европе стараниями миссионера Абрахама Роге-
ра, который составил его жизнеописание и перевел указанные выше сочинения на
нидерландский язык (в 1663 г. вышел в свет немецкий перевод, в 1670 г. — то есть
одновременно с публикацией трактата Юэ — французский).
72 Пуссин Пьер (1609—1686) — французский историк, автор переводов ряда
византийских историков и агиографических сочинений, комментатор сочинений Пахиме-
ра (см. примеч. 73).
73 ...жизнеописание Пахимера... — книга, посвященная творчеству Георгия Пахимера
(1242 — ок. 1310), византийского историка и богослова, автора «Истории»,
охватывающей период примерно с 1260 по 1308 г., и других философских, юридических и
риторических сочинений.
74 ...книга написана самыми мудрыми и учеными представителями нации... — При
некоторой путаности изложения всего этого пассажа у Юэ можно прийти к
выводу, что речь идет о знаменитой народной книге «Панчатантра» (создана в Ш—IV вв.,
приписывается мудрецу Вишнушарману). В 570 г. по повелению Хосрова книга была
переведена на пехлеви (перевод не сохранился), с которого в свою очередь Ибн аль-
Мукаффа осуществил перевод на арабский язык (ок. 750 г.), получивший название
«Калила и Димна» (так звали двух шакалов, советников льва, царя зверей). Затем
«Калилу и Димну» перевели на греческий (эта версия именуется «Стефанит и Их-
нилат», то есть «Следопыт и Увенчанный»). В ХШ в. Иоанн Капуанский осуществил
(с древнееврейской версии) латинский перевод; в XVI в. появились переводы с
латыни на европейские языки. В России «Стефанит и Ихнилат» известен со второй
половины XV в. (пришел через Византию).
75 Царь Персии Хосров — правитель из династии Сасанидов (с 531 по 578 гг.); вел
войны с Византией; персонаж «Тысячи и одной ночи».
76 Симеон Сиф — византийский писатель и медик второй половины XI в., состоял
на службе у императора Алексея I Комнина. Посвятил ему свой перевод «Калилы
и Димны» на греческий язык.
77 ...прозванный греческими и арабскими авторами Ануширваном... — Ануширван
значит по-персидски «бессмертная душа».
78 Пильпай. — Авторство «Калилы и Димны» приписывалось некоему Пильпаю
(или Бидпаю, или Бейдебе). Видимо, это имя образовано от санскритского vidyâpati
(«господин знания»).
79 Дабшелим — фигура скорее всего вымышленная. В одном из вступлений к
«Калиле и Димне» рассказывается, как Александр Македонский, завершив поход
в Индию, оставил там наместника, однако народ свергнул чужеземца и страной стал
править Дабшелим. При этом он дурно обращался с подданными. Мудрец Бейде-
ба решил вернуть царя на путь истинный, применив всю силу своего красноречия,
но в итоге оказался в темнице. Однако Дабшелим все-таки раскаялся в содеянном
и поручил мудрецу написать книгу наставлений, что и было исполнено; так якобы
родилось на свет произведение «Калила и Димна».
80 Абу Джафар аль-Мансур — халиф (754—775 гг.) из рода Аббасидов, основатель
Багдада (762 г.).
81 ...Гораций назвал сказочной реку Гидасп... — Так в древности именовали реку
Джелам (правый приток реки Чинай, из бассейна Инда) в Индии, близ которой
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 505
Александр Македонский в 327 г. с большим трудом одержал победу над войском
тамошнего властителя Пора. См.: Гораций. Оды. I. 22. 7-S.
82 ...Господь говорит, что изъявляет свою волю пророкам намеками и
иносказаниями... — См.: Осия. 12: 10.
83 ...царица Савская, наслышанная о мудрости Соломона, решила сама испытать его
и загадать ему разные загадки. — См.: 3 Цар. 1—7; 2 Пар. 9: 1—6.
84 Иосиф Флавий (37—95) — римский историк иудейского происхождения, автор
«Иудейской войны» и «Иудейских древностей».
85 Дий (Диос) — греческий историк (годы жизни неизвестны), автор «Истории
финикийцев», фрагмент которой (история Соломона и Хирама) использован у
Иосифа Флавия.
86 Менандр Эфесский. — По некоторым источникам, этот Менандр происходил не
из Эфеса, а из Пергама.
87 Иосиф Флавий утверждает... будто бы Соломон и Хирам... загадывали друг другу
загадки... — См.: Иосиф Флавий. Иудейские древности. VTQ. 3. 1; 5. 3 и др.; Против
Апиона. I. 17. 18 и ел.
88 Впоследствии в подобном состязании участвовали также Гомер и Гесиод. —
История (скорее всего апокрифическая) о поэтическом состязании Гомера и Гесиода
изложена в анонимном сочинении, дошедшем в обработке II в. н. э.; однако ряд
признаков позволяет утверждать, что она была известна и ранее. Упоминается, в
частности, у Плутарха. См.: Плутарх. Пир семи мудрецов. 153Е— 154А.
89 Филон Александрийский (ок. 25 до н. э. — ок. 50) — римский философ
иудейского происхождения, автор аллегорического метода истолкования Священного Писания.
90 Евсевий Кесарийский (ок. 263—339) — византийский апологет христианства и
историк Церкви. Автор первой «Церковной истории», «Жизнеописания
императора Константина», а также «Истории палестинских мучеников», где изложены его
собственные впечатления от гонений на христиан в эпоху Диоклетиана.
91 Аристобул — александрийский философ и историк Ш в. до н. э., автор
толкования на Моисеев закон. Упомянут у Евсевия в «Церковной истории» (VII. 32. 16—
17) и у Климента Александрийского в «Строматах» (I. 21). Стремился доказать, что
греческая и иудейская мудрость не противоречат друг другу.
92 ...святой Павел в Посланиях раскрывает попутно великие истины, скрытые в
образах Ветхого Завета. — См.: 1 Кор. 10: 1—11; Гал. 4: 22—31.
93 Гроций Гуго (1583—1645) — голландский историк, философ и юрист, основатель
современного международного права. Наиболее известен его трактат «О праве
войны и мира» (1625). Юэ имеет в виду другое его сочинение — «Комментарии к
Ветхому Завету» (1644).
94 Захватив в плен Креза, Кир подчинил себе ионийцев... — Речь идет о победе Кира
(?—530 до н. э.) над лидийским царем Крезом (560—546 до н. э.), который считался
сказочно богатым; эта победа обеспечила персидскому полководцу владычество над
Малой Азией.
95 ...действуя по совету Креза... — См.: Геродот. I. 155.
96 ...от названия лидийцев римляне придумали расхожее слово, которым обозначали
игру. — Вероятно, этимология основана на сходстве латинских слов «ludus» (игра) и
«Lydus» (лидянин).
97 Аристид Милетский — греческий писатель П в., автор «Милетских повестей» (до
нас дошел только один фрагмент в латинском переводе Сисенны). Книга пользова-
506
Примечания
лась огромной популярностью в античности, что и стало причиной возникновения
особого жанра «милетских сказок».
98 Дионисий Милетский. — Личность не установлена.
99 Гегесипп — греческий писатель IV в. до н. э., комедиограф, автор эпиграмм.
100 Парфений Никейский — греческий поэт I в. до н. э., автор прозаических
«Любовных страданий» (второе название — «О любовных страстях»); наставник и друг
Вергилия.
101 Афиней из Навкратиса — греческий писатель Ш в., софист, автор книги «Пир
мудрецов», куда вошло множество цитат из утраченных ныне произведений около
800 авторов.
102 Гигес (685—652 до н. э.) — лидийский царь.
103 Теофраст (Феофраст) (322—287 до н. э.) — греческий философ-перипатетик,
ученик и друг Аристотеля, автор многочисленных работ по естествознанию
(сохранились в отрывках) и небольшого этического трактата «Характеры»; последний
послужил основой для одноименного произведения Жана де Лабрюйера.
104 Аристон Хиосский — греческий философ Ш в. до н. э. За свою риторическую
силу прозван Сиреном. Ученик стоика Зенона. См.: Диоген Лаэртский. VII. 163.
105 Филипп Амфиполийский. — Личность не установлена.
106 Геродиан (ок. 170 — ок. 240) — римский историк, грек по происхождению; его
труд «Восемь книг истории от смерти Марка» охватывают период с момента смерти
императора Марка Аврелия до вступления на трон Гордиана Ш, т. е. с 180 по 238 г.
107 Амелий Сирийский — Амелий Луций, римский эрудит II в., автор «Истории
достопамятных событий».
108 Антоний Диоген — греческий писатель I—П вв., более всего известный как
автор изобилующего чудесами романа «Невероятные приключения по ту сторону
Фулы» (известен по пересказу Фотия). Возможно, роман стал одним из объектов
пародии у Лукиана в «Правдивой истории» (1. 9; 2. 29). Утверждение о том, что он
«жил немного позднее Александра», скончавшегося в 323 г. до н. э., не соответствует
действительности.
109 Антифан — весьма плодовитый греческий комедиограф IV в. до н. э.,
представитель так называемой средней аттической комедии. Сочинения его не сохранились.
Один из наиболее часто цитируемых Афинеем авторов. Однако есть все основания
усомниться в том, что речь идет о том же Антифане, которого Фотий считает
предшественником Антония Диогена (Библиотека. 166. 112а. 5) и который, вероятнее
всего, жил во II в. до н. э.
110 Стефан Византийский — греческий грамматик VI в., автор компилятивного
географического лексикона «Описание народов». Сохранился сокращенный
вариант книги, отредактированный столетием позже.
111 Марий — Гай Марий (157—86 до н. э.), римский полководец и политический
деятель; семь раз избирался консулом. Вел войны против нумидийского царя Югур-
ты, а также кимвров и тевтонов; участвовал в Марсийской войне бывших
союзников против Рима (90—88 гг.).
112 Сулла — Луций Корнелий Сулла (138-78 до н. э.), по прозванию Счастливый,
римский полководец и государственный деятель, в 83—79 гг. до н. э. — диктатор.
В 86 г. до н. э. овладел Афинами и отдал город на разграбление легионерам. «Был
жаден до наслаждений, но еще более до славы» [Саллюстий. Югуртинская война.
95. 3).
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 507
113 Сисенна — Луций Корнелий Сисенна (119—67 до н. э.), римский историк и
политик. Около 70 г. опубликовал «Историю» в 12 книгах, где главным образом
описал события, свидетелем которых был сам (период с 90 по 82 г. до н. э.). На Сисен-
ну есть ссылки в «Истории» Тацита (напр.: Ш. 51).
114 Сурена (84^54 до н. э.) — парфянский полководец времен царства Орода П.
115 ...нашел эту книгу в поклаже Рустия... — См.: Плутарх. Красе, 32.
116 Сенат Селевкии. — Имеется в виду совет старейшин.
117 Антонин Пий (86—161) — один из выдающихся императоров Римской империи
(138—161 гг.); основатель династии Антонинов.
118 Аммоний — Сакх Аммоний (175—242), основатель неоплатонизма, учитель
Плотина и Оригена; сочинения не сохранились.
119 «Бранкалеоне» — опубликованный под псевдонимом Латробио сатирический
животный эпос (1610). Приписывался разным лицам; лишь в конце XX в. был
установлен истинный автор — миланец Джован Пьетро Джуссани (1548/1552—1623).
Главный персонаж книги — осел, который в конце концов становится царем зверей.
Упоминание «Бранкалеоне» (как и новеллы Сервантеса) в одном ряду с античными
авторами говорит о «модернистской» установке Юэ, наиболее ясно
сформулированной в заключительной части «Письма-трактата».
120 «Беседа Сципиона и Бергансы, собак из госпиталя Вальядолида». — Эта новелла
Сервантеса завершает его сборник «Назидательные новеллы».
121 ...роман Антония Диогена. — Речь идет о романе «Невероятные приключения
по ту сторону Фулы», который в европейской традиции иногда называется
«Любовные похождения Диния и Деркиллиды».
122 Юнгерманн Готфрид (2-я пол. XVI в. — 1610) — немецкий филолог,
комментатор Лонга.
123 Аллаций (1586—1669) — греческий эрудит, автор многочисленных трудов. С
1660 г. возглавлял библиотеку Ватикана.
124 ...не... путать... с философом Ямвлихом..., жизнь которого описал Евнапий. —
Ямвлих Халкидский (ок. 245 — ок. 330) — неоплатоник; среди его сочинений —
трактат «О египетских мистериях». «О Пифагоровой жизни» — первая часть его
компилятивного «Свода пифагорейских учений» (всего сохранилось пять из десяти частей).
Евнапий (ок. 346 — ок. 414) — римский историк; его главное сочинение «Всеобщая
история» о правлении Юлиана Отступника сохранилось во фрагментах. О Ямвли-
хе Евнапий пишет в «Жизни философов и софистов».
125 ...помимо христианской религии, которую исповедовал автор... — Здесь начинаются
не слишком убедительные выкладки Юэ относительно Гелиодора (Илиодора), во
многом порожденные полным отсутствием сведений об авторе «Эфиопики».
Сведения о Гелиодоре, епископе Трикки, равно как и сама атрибуция ему «Эфиопики»,
почерпнуты Юэ из «Церковной истории» Сократа (Схоластика. ХХП. 27—28).
«Говорят, в молодости он написал несколько эротических книг и назвал их
эфиопскими», — сообщает Сократ (Церковная история. М., 1996. С. 230). На самом же деле
считать этого Гелиодора автором «Эфиопики» не больше оснований, чем
приписывать этот текст другому Гелиодору, епископу Альтинскому.
126 Сократ Схоластик (ок. 380 — ок. 450) — историк и юрист родом из
Константинополя; духовный ученик и продолжатель Евсевия (см. выше); в своей «Церковной
истории» изложил события не только церковные, но и светские, относящиеся к
периоду с 306 по 439 г.
508
Примечания
127 Никифор. — Речь идет о Никифоре Каллисте Ксантопулосе (ок. 1256 — ок.
1335), византийском историке и литераторе, авторе «Церковной истории» в 23 томах.
Юэ с полным правом ставит под сомнение рассказ Никифора: позднее было
доказано, что сириец Гелиодор не мог иметь ничего общего с тем христианином, о
котором говорил Никифор.
128 Гварини Баттиста (1538—1612) — итальянский писатель, автор пасторальной
трагикомедии «Верный пастух» (1590), стихотворений в духе Петрарки и
«Компендиума трагикомической поэзии» (1601).
129 д'Юрфе Оноре (1567—1625) — французский писатель. Наиболее значительное
сочинение — монументальный пасторальный роман «Астрея» (1607—1627). Здесь в
еще большей степени, чем у Гварини в «Верном пастухе», налицо влияние
повествовательной техники Гелиодора.
130 Миргпил и Сильвандр. — Миртил — персонаж «Верного пастуха» Гварини; Силь-
вандр — действующее лицо романа «Астрея» Оноре д'Юрфе.
131 Бог из машины (лат. deus ex machina) — театральный прием в греческой и
римской драме, усиливавший неожиданный эффект (слово «машина» происходит от
греческого названия подъемного устройства, с помощью которого «бог» опускался
на сцену); эта внезапно появлявшаяся (как правило, в конце пьесы) сила решала все
проблемы героев; в художественной литературе — лицо или предмет, неожиданно
появляющийся, чтобы разрешить сюжетные затруднения и привести действие к
развязке.
132 Мне представляется, что он подражал в этом Филострату. — Речь в данном
случае идет о «Картинах» Филостратов Старшего и Младшего.
133 ...тот самый Гелиодор, которому святой Иероним писал послания... — Имеется
в виду Гелиодор, епископ Альтинский, ученик Иеронима, совершивший вместе с ним
путешествие по Ближнему Востоку. Иероним в книге «О знаменитых мужах» в
числе своих сочинений упоминает «увещевательное письмо к Гелиодору».
134 Гелиодор Арабский. — Скорее всего, имеется в виду упомянутый в Писании
(см.: 2 Макк. 3) казначей сирийского царя Селевка IV, пытавшийся во II в. до н. э.
ограбить храм Соломона в Иерусалиме (сюжет одной из ватиканских фресок
Рафаэля).
135 ...Феодосия Великого и его сыновей Аркадия и Гонория. — Феодосии Великий
Флавий (ок. 346—395) — римский император. В 381 г. на Втором Вселенском соборе в
Константинополе объявил христианство официальной религией. Перед смертью
разделил империю между сыновьями — Гонорием Флавием (384-423) и
Аркадием Флавием (377—408). Так в 395 г. возникли Западная и Восточная Римские
империи.
136 Тассо Торквато (1544—1595) — итальянский поэт позднего Возрождения. Его
крупнейшее произведение — «Освобожденный Иерусалим» (1575). Пасторальная
драма «Аминта» впервые поставлена в 1572 г.
137 ...император Лев по прозвищу Философ... — Речь идет о Льве Мудром (866—912),
византийском императоре из Македонской (Армянской) династии — поэте,
математике, философе, ученике Фотия.
138 Афинагор — представитель ранней патристики, живший во П в. Автор книги «О
воскрешении мертвых» и обширной «Христианской истории» (сохранился лишь
небольшой фрагмент). В «Апологии» («Прошении») (ок. 177) отстаивает
христианские догматы и критикует язычество.
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 509
139 Фюме Мартен (ок. 1540 — ок. 1590) — французский историк. В 1599 г. в
Париже по его инициативе была издана книга «О подлинной и совершенной любви,
творение Афинагора». Скорее всего, речь идет о мистификации, автором которой
следует считать не самого Фюме, а упомянутого в тексте Ламане; подозрения на сей
счет были и у самого Юэ.
140 Кардинал д'Арманъяк (1501—1585) — священнослужитель и дипломат,
посланник Франциска I в Венеции и Риме (1536—1539 гг.), кардинал с 1544 г., архиепископ
Тулузский (с 1562 г.) и Авиньонский (с 1576 г.). 16 марта 1554 г. крестил будущего
короля Франции Генриха IV.
141 Марк Аврелий Антонин (121—180) — римский император (161—180 гг.), знаток
риторики, представитель позднего стоицизма. Автор философского сочинения
«Размышления» («Наедине с собой»), написанного ок. 167 г., во время войны с
маркоманами и квадами на дунайской границе.
142 Колилод (161—192) — Марк Аврелий Коммод Антонин, римский император (180—
192 гг.), сын Марка Аврелия; стремился к установлению самодержавной монархии.
143 Галлиен — римский император (253—268 гг.). По словам Евтропия, «сначала
правил счастливо, затем — хорошо, в конце — пагубно». Друг и покровитель Плотина.
144 Аларих (ок. 370—410) — король вестготов. В 401 г. вторгся в пределы Италии
и поначалу потерпел поражение (битва при Полленцо, 402 г.); второй поход оказался
для него успешным — 24 августа 410 г. вестготы захватили и разграбили Рим.
145 Синезий Киренский (370/375-^13/414) — византийский писатель, неоплатоник,
обратившийся затем в христианство, с 410 г. — епископ Птолемаидский. Среди его
сочинений — своеобразный мифологический роман с политическим акцентом
«Египетские рассказы».
146 Святой Иероним (ок. 348 — ок. 420) — Иероним Евсевий Софроний, римский
писатель и богослов, один из Отцов Церкви, автор первого перевода Ветхого
Завета на латынь (Вульгаты), трактата «О знаменитых мужах», комментариев почти ко
всем библейским книгам.
147 ...Борисфен и Ра сообщаются между собой... — В древности действительно
бытовало мнение, что Борисфен (Днепр) и Ра (Волга) сливаются.
148 Павел Эмилий (ок. 230—160 до н. э.) — Луций Эмилий Павел, римский консул
в 168 г. до н. э.; в том же году разбил македонского царя Персея под Пидной и
покорил Македонию.
149 Квинт Курций Руф — римский историк I в., автор «Истории Александра
Македонского» (сохранилась частично).
150 Саба — Сабейское царство, существовавшее на территории современного
Йемена в Vin в. до н. э. — VI в. н. э. Упоминается в Библии и античных источниках как
необыкновенно богатая страна. Вела оживленную торговлю предметами роскоши
с государствами Средиземноморья и Индией.
151 Счастливая Аравия — юго-западная и южная часть Аравийского полуострова
(включающая Йемен и Асир), относительно плодородная по сравнению с
центральными и северными (Пустынная Аравия) и северо-западными регионами
(Каменистая Аравия).
152 Копт — торговый центр Верхнего Египта, вероятно давший название
коптскому языку, который возник в продолжение развития египетского и имел свой
алфавит, происходивший из греческого; постепенно вышел из употребления в XI—ХП вв.,
будучи вытеснен арабским; как культовый язык сохранился у коптов.
510
Примечания
153 Смарагд. — «Smaragdos» по-гречески означает «изумруд».
154 Гидасп. — В данном случае речь идет об эфиопском царе, отце Хариклеи,
главной героини «Эфиопики».
155 Прокопий Кесарийский (ок. 500—560) — наиболее авторитетный из ранневизан-
тийских историков, юрист и ритор, автор объемной «Истории» в восьми томах, где
описаны войны Византии с Ираном, вандалами и готами.
156 Гесихий Александрийский — неоплатоник IV—V вв., создал наиболее
обширный греческий словарь периода античности.
157 ...от имени святой Бршиды, шотландской девы... — Юэ ошибается. В
действительности св. Бригада (451/452—525) — покровительница Ирландии. Ее день
отмечается 1 февраля. Культ этой святой был рано сближен с культом Девы Марии.
158 Святая Биргитта (ок. 1303—1373) — автор мистических, как считается,
надиктованных свыше «Небесных откровений» (опубл. в 1492 г.), переведенных со
шведского на латынь ее духовниками. В 1350 г. отправилась в Рим, чтобы добиться
утверждения устава основанного ею ок. 1346 г. монастыря в Вадстене (Южная Швеция) и
способствовать возвращению Папы в Рим. Канонизирована в 1391 г. Бонифацием IX.
Ее день отмечается 23 июля.
159 Киклические поэмы. — Речь идет о создававшихся в VII — первой половине VI в.
до н. э. поэмах, которые должны были образовать вместе с «Илиадой» и
«Одиссеей» единый эпический цикл и в стилистическом отношении равнялись на Гомера.
Сохранились лишь в отрывках.
160 Лонгин Кассий (213—273) — афинский ритор, неоплатоник, ученик Аммония
(см. примеч. 118). Долгое время ему приписывалось авторство трактата «О
возвышенном».
161 ...высказывание Цицерона о том, что признание поэм зависит от мнения узкого
круга лиц... — См.: Цицерон. Брут, или О знаменитых ораторах. 191 («...трудной
поэме достаточно одобрения немногих». Пер. И.П. Стрельниковой).
162 ...утверждение Горация, что не всем дан талант замечать недостатки
поэтических произведений. — См.: Гораций. Поэтическое искусство. 385—452.
163 ...видим закованного в цепи великого царя... — то есть Персея, последнего царя
Македонии (179—168 гг. до н. э.), которого победил и взял в плен римский
полководец Эмилий Павел.
164 Монтемайор Хорхе де (ок. 1520—1561) — испанский писатель португальского
происхождения, автор пасторального романа «Диана» (1559), оказавшего большое
влияние на развитие европейской пасторали и послужившего основой для
шекспировской комедии «Два веронца».
165 Bumpyвий — Марк Витрувий Поллион (I в. до н. э.), римский архитектор,
инженер, автор знаменитого трактата «Об архитектуре» в 10 книгах.
166 Филандер — Гийом Филандер или Филандрье (1505—1565), французский
архитектор, входивший в окружение кардинала д'Арманьяка.
167 Иоанн Синайский. — Имеется в виду Иоанн Лествичник (ок. 525 — после 600),
настоятель Синайского монастыря, автор знаменитого аскетико-дидактического
трактата «Лествица». Перевод этой книги пользовался большой популярностью в
России, начиная с XI в.
168 Биллий (1535—1581) — монах-бенедиктинец Жак де Билли, переводил на
французский язык и комментировал сочинения Иоанна Златоуста и Григория Назианзи-
на. В 1577 г. издал творения Иоанна Дамаскина (на греческом и латинском языках).
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 511
169 Лев III Исаврянин (ок. 675-741) — византийский император (717—741 гг.) по
прозвищу Кумироборец, основатель Исаврийской (Сирийской) династии, происходил из
сирийской Германикеи; отразил нападение арабов, осаждавших Константинополь (в
717—718 гг.), а затем вытеснил их из Малой Азии, нанеся им тяжелое поражение при
Акроине (740 г.); осуществлял политику иконоборчества, конфискуя церковно-мона-
стырские земельные владения и передавая их под условием несения военной
службы представителям провинциальной знати и военным поселенцам (стратиотам).
170 Ибн Туфайль (ок. 1110—1185) — арабский писатель, живший в Андалусии (в
Гранаде) и в Марокко; был государственным деятелем и врачом при халифах из
династии Альморавидов и Альмохадов; создал ряд трактатов по философии,
медицине и астрологии (см. также примеч. 37).
171 Феодор Продром (ок. 1100—1159/1169) — византийский писатель, автор
«Исторических стихотворений» и огромного стихотворного романа «Роданфа и Досикл»,
сопоставимого по значимости с «Эфиопикой» Гелиодора.
172 Евстафий Солунский (ок. 1115—1195/1196) — византийский писатель, историк,
комментатор сочинений Гомера, Пиндара, Аристофана; наиболее известное
сочинение — «Взятие Солуни» (о захвате города норманнами в 1185 г.).
173 Мануил Комнин — император Византии (1143—1180 гг.).
174 ...о любви Исминия и Исмины... — Имеется в виду византийский роман ХП в.
(«Исмина и Исминий»). Его автором на самом деле является не Евстафий
Солунский, а Евмафий Макремволит (сведений о нем не сохранилось).
175 ...пасторали Лонга... — «Пасторалями» во французской традиции именовался
роман «Дафнис и Хлоя» древнегреческого писателя П—Ш вв. Лонга; первый
французский перевод вышел в 1559 г. В жанровом отношении этот любовный роман
стоит особняком в античной литературе и во многом является образцом для
пасторальной прозы XVI—XVII вв. Юэ перевел книгу в восемнадцатилетнем возрасте;
впоследствии считал данный поступок ошибкой юности.
176 Шут Сатирион. — Имеется в виду скоморох Сатирион, персонаж диалога Лу-
киана «Пир, или Лапифы» (гл. 19).
177 ...о фонтане Любовной истины. — В романе д'Юрфе «Астрея» фонтан призван
помочь героям разобраться в своих чувствах (однако он практически бездействует
вплоть до феерического финала). Нет оснований считать, что этот мотив напрямую
позаимствован из несомненно известной д'Юрфе книги Ахилла Татия; скорее здесь
прослеживаются испанская и французская пасторальные традиции, а также
влияние Кретьена де Труа («Ивен, или Рыцарь со Львом»).
178 ...сюжет «Сирена»... — Речь идет о стихотворной пасторали Оноре д'Юрфе
«Сирен» (1604), прямом подражании Монтемайору.
179 Бартоли из Урбино. — Юэ имеет в виду Клементе Бартоли, дворянина из Ур-
бино, собирателя пасторалей, которому в 1613 г. Лодовико Дзукколо посвятил
диалог «Александр, или О пасторали»; о жизни его сохранилось очень мало сведений.
180 ...«Идиллии» Феокрита... — Греческий поэт Феокрит (ок. 300—260 до н. э.),
автор «Идиллий» (греч. «небольшие стихотворения»), считается изобретателем
пасторальной поэзии.
181 ...«Эклоги» Вергилия... — Имеется в виду произведение Вергилия «Буколики»,
написанное в виде десяти эклог — диалогов пастухов.
182 Мансо Джанбаттиста (1560—1645) — неаполитанский поэт и
меценат-покровитель Т. Тассо (тот посвятил ему диалог «Мансо, или О дружбе») и Дж. Марино.
512
Примечания
183 Беккари Агостино де (ок. 1510—1590) — феррарский поэт, автор
«Жертвоприношения» (1554), первого образца сценической пасторали в Италии (затем в этом
жанре работали Т. Тассо и Б. Гварини).
184 ...автор обоих Верами. — Имеется в виду Б. Гварини. Речь идет о двух его
трактатах — «Верати» (1589) и «Верати Второй» (1593), написанных в ответ на критику
«Верного пастуха» со стороны аристотеликов (и прежде всего Дж. Денореса).
185 ...образ живущего в деревне дворянина, которому чтение романов затуманило
мозги... — Имеется в виду Дон-Кихот, герой великого романа Сервантеса.
186 Роман Харитона... — Речь идет о «Повести о любви Херея и Каллирои»
греческого писателя Харитона.
187 ...нам неведомо имя автора, который написал о любви Каллимаха и Хрисорои... —
Автором стихотворного романа «Каллимах и Хрисороя» скорее всего является
Андроник Комнин, двоюродный брат византийского императора Андроника II
(1282—1328). Указанное сочинение действительно не может быть отнесено к
античному роману, ибо написано в нач. XIV в.
188 ...неведомо... кто воспел любовную страсть Ливистра и Родамны. — Авторство
византийского романа «Ливистр и Родамна», во многом подражательного по
отношению к «Исмине и Исминию», до сих пор не установлено.
189 Мере Жан (1579—1639) — голландский филолог и историк, автор
многочисленных трудов по античной филологии.
190 Парфений из Никеи — см. примеч. 100.
191 Корнелий Галл Азиний (ок. 69—26 до н. э.) — римский поэт, государственный
деятель, наместник Египта (в правление императора Августа). Из его четырех книг
элегий сохранилось очень мало стихотворений.
192 ...история Поликриты и Диогнета... — См. об этом, в частности: Плутарх. О
доблести женской (17. Поликрита). 254C-F.
193 ...история Неэры, Гипсикреонта и Промедонта... — См.: Там же. 254В.
194 ...любовь Кавна и Библиды... — См.: Овидий. Метаморфозы. IX. 455—665.
195 ...основателя Милета... — Речь идет о Милетии; о нем существует несколько
легенд, одну из которых приводит в «Метаморфозах» Овидий.
196 Вакхилид (ок. 505—450 до н. э.) — греческий поэт, автор девяти книг
стихотворений различных жанров.
197 Капитон. — Афиней в «Пире мудрецов» (VOL 42) мимоходом упоминает об
«эпическом поэте Капитоне», авторе «Воспоминаний». Возможно, именно этому
Капитону принадлежит одна из эпиграмм «Греческой антологии» (V. 67).
198 К правильным я отношу романы, отвечающие правилам героических поэм. — В
очередной раз Юэ стремится представить роман как «правильный», нормативный
жанр.
199 Сибариты — жители Сибариса, города на берегу Тарентского залива
(территория нынешней Калабрии); считались любителями наслаждений. Эта основанная
ахейцами в Vin в. до н. э. колония процветала, но в 510 в. до н. э. была разрушена
жителями соседнего Кротона; в 444 г. до н. э. греки построили на месте Сибариса новый
город Фурий. О кухне сибаритов мимоходом упоминает Афиней, об одежде — Фотий.
200 ...Геродотуверяет, будто не знает других союзников, связанных столь тесными
узами. — См.: Геродот. VI. 21.
201 Элиан — Клавдий Элиан, римский писатель кон. II — нач. Ш в., писал
по-гречески. Сохранились его книги «О природе животных» и «Пестрые рассказы».
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 513
202 ..^маленький сибарит, сопровождаемый педагогом, встретил на улице продавца
сушеных фиг... — Сюжет Элиана (Пестрые рассказы. XIV. 20) изложен у Юэ не
совсем точно. В оригинале мальчик поднимает сушеную фигу с земли.
203 Овидий причисляет «Сибаритские истории»... к самым фривольным
произведениям. — См.: Овидий. Скорбные элегии. П. 417.
204 Гемифеон Сибаритский — предполагаемый автор «Сибаритских историй»
(другое название — «Сибарида»); сведения о нем отсутствуют.
205 Басня, которой воспользовался Менений Агриппа, чтобы утихомирить... римских
плебеев и заставить сойти со Священной горы... — Менений Агриппа — римский
патриций (кон. VI — нач. V в. до н. э.); вел переговоры с плебеями, ушедшими на
Священную гору в знак протеста против притеснений патрициев, и убедил их
вернуться в Рим якобы с помощью притчи, где сравнивал общество с человеческим телом,
в котором желудок (патриции) и руки (плебеи) не могут существовать друг без
друга. См., напр.: Тит Ливии. П. 32. 7—12.
206 «Стих» Плавта — комедия римского драматурга Тита Макция Плавта (ок.
250—184 до н. э.); впервые поставлена в 200 г. до н. э.
207 Авл Геллий (ок. 130—180) — римский писатель. Его «Аттические ночи»
представляют собой пространную (20 книг, 434 главы) и весьма ценную компиляцию из
произведений различных античных авторов; сохранилась почти полностью. Приводит
Эзопову басню о мудром жаворонке и землепашцах (П. 29), мораль которой
состоит в том, что во всяком деле следует прежде всего рассчитывать на самого себя.
208 Энний (239—169 до н. э.) — римский поэт, автор 22 трагедий (сохранились лишь
фрагменты). Главное сочинение — «Анналы», считавшиеся до «Энеиды» Вергилия
образцом латинского эпоса.
209 ..любовные истории о богах — эти античные романы. — См.: Вергилий. Георги-
kh.IV.
210 ...Овидий вкладывает в уста дочерей Миния романтические истории... — См.:
Овидий. Метаморфозы. IV.
211 Он создал роман в форме сатиры... — Имеется в виду жанр «менипповой сатиры»
(по имени Мениппа Гадарского, философа-киника Ш в. до н. э.), сочетающей
стихотворные и прозаические части и пародирующей высокие литературные жанры.
212 Варрон Марк Теренций (116—27 до н. э.) — римский ученый и писатель. Почти
все его сочинения или утрачены, или дошли до нас лишь во фрагментах (включая
и «Мениппову сатиру»). Лучше других сохранились два трактата: «О сельском
хозяйстве» и «О латинском языке».
213 Макробий — римский писатель I в. н. э., автор «Сатурналий» (по жанру близких
к «Пиру мудрецов» Афинея), «Комментария на Сон Сципиона» и других сочинений.
214 Лукан Марк Энний (39—67) — римский поэт, племянник Сенеки, автор
незавершенной поэмы «Фарсалия» («О гражданской войне»).
215 ...Лукан... оставил после себя сальтические басни... — Из произведений Лукана
сохранилась только «Фарсалия»; источник сведений Юэ касательно «сальтических
басен» не установлен; в первом издании «Трактата» он пишет, что «до нас дошло
только их название».
216 ...Тертуллиан охарактеризовал Иродиаду словом «saltica», то есть «плясунья»... —
См.: Тертуллиан. Скорпиак. VTQ. 3. Точнее, так он назвал дочь Иродиады, Саломею,
которая по наущению матери в награду за свой танец потребовала у Ирода голову
Иоанна Крестителя.
33. Заказ № К-6559
514
Примечания
217 ...стиль... достойный африканца. — Намек на то, что автор романа
«Метаморфозы» («Золотой осел») Луций Апулей (ок. 124 — после 170) родился в Мадавре,
римской колонии в Северной Африке.
218 Клодий Альбин — римский военачальник П в., в 187—188 гг. — второй консул,
в 191 г. — наместник Британии; расквартированными там легионами избран
императором (193 г.), став тем самым соперником Дидия Юлиана. Преемник Дидия, Сеп-
тимий Север (кон. 193 г.), сначала признал Клодия цезарем, но затем разбил его при
Лугдунуме (Лионе), после чего тот покончил жизнь самоубийством.
219 Юлий Капитолин — римский историк IV в., автор «Жизнеописания Марка
Антонина Философа и других Августов». По сведениям Капитолина, император
Септимий Север (193—211 гг.) осуждал Клодия за чтение Апулея.
220 Марциан Капелла — римский юрист и писатель первой половины V в., автор
аллегорического сочинения энциклопедического характера «Свадьба Филологии и
Меркурия».
221 Телезин. — Имеется в виду валлийский поэт Тальезин (VI в.), пользовавшийся
славой прорицателя; некоторые сочинения его сохранились; упоминается в «Истории
бриттов» Ненния как один из пяти наиболее известных поэтов в Уэльсе VI в.
222 Мелкин. — Мелкий, Мелхин или Мелвин Авалоний — английский поэт, живший
в середине VI в.; автор исторических произведений, полных вымыслов. Помимо
«Истории короля Артура и Круглого стола», ему приписывают «Деяния бретонцев»
и «Бретонские древности».
223 Бейль. — Джон Бейль, или Балей (1495—1563), английский священник,
перешедший в протестантство; более всего известен своими каталогами британских писателей,
представляющими собой первую попытку написать историю английской литературы.
224 Гунибальд — франкский историк; действительно являлся современником Хлод-
вига (см. ниже). Его сочинение (в восемнадцати книгах) упоминает известнейший
французский мыслитель XVI в. Жан Боден в «Методе легкого познания истории» (гл. X).
225 Хлодвиг (ок. 466—511) — основатель франкского государства и выдающийся
военачальник. Ок. 498 г. обратился в христианство.
226 Архиепископ Турпин — один из спутников Роланда; обладал недюжинной силой.
Упоминается в той же шестой главе «Дон-Кихота», что и многочисленные
рыцарские романы. В данном случае Юэ имеет в виду Псевдо-Турпина, автора «Хроники
Карла Великого» (ХШ в.).
227 ...истории, приписываемые Г анкону, Солкону Фортеману, Сиварду Мудрому, Жану,
сыну короля Фрисландии, и Аделю Аделингу... — Достоверность существования этих лиц,
якобы писавших о Карле Великом, сомнительна; никаких сведений о них не обнаружено.
228 Гильдас Бандоникус (510 или 516—570) — валлийский писатель, католический
святой, автор книги «О разорении и завоевании Британии» (после 540 г.).
229 Оттон Великий (912—973) — король (с 936 г.) и император Священной Римской
империи (с 962 г.).
230 Гальфрид Монмутский (?—1155) — средневековый английский историк, автор
«Истории бриттов» (ок. 1137) и стихотворной «Жизни Мерлина» (ок. 1148—1150).
«История бриттов» долгое время считалась надежным источником (на самом деле
содержит много вымысла). Именно в этой книге был заложен фундамент «артуров-
ской легенды» (о могущественном короле Артуре, якобы владевшем большей частью
Европы); именно в ней впервые упомянут столь важный для средневекового
романа персонаж, как Мерлин.
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 515
231 ...называется «guay saber», то есть веселой наукой... — Под «guay saber»
понимают все формы средневековой провансальской поэзии.
232 Людовик Благочестивый (778-840) — сын Карла Великого, император Запада и
король франков (814—840 гг.). Безуспешно пытался сохранить целостность
унаследованной от отца империи; разделил управление ею между сыновьями в 817 г., произвел
передел в 829 г. Погиб во время военной экспедиции против одного из своих сыновей.
233 Гуго Капет (ок. 940—996) — король Франции с 987 г., основатель династии Ка-
петингов.
234 Они колесили по всей Франции, распространяя свои романы и фаблио... мартега-
лы... — Следует пространный перечень жанров средневековой литературы, причем
к некоторым из них трубадуры прямого отношения не имели. В списке есть как
популярные у трубадуров поэтические формы (секстины, сирвенты), так и редкие
(депорт).
235 ...слово «мадригал», слово, истинное происхождение которого было до сих пор еще
менее известно... — И в настоящее время этимология слова «мадригал» (заимствовано
из итальянского в середине XVI в.) остается предметом дискуссий. Возможно, оно
образовано от вульгарнолатинского «matricalis» («исполненный на родном языке»
или же «наивный»); по другой версии — от «materialis» (ср.: «filius materialis»,
«незаконнорожденный»), то есть «грубый».
236 ...Цезарь пишет, что эти три языка различались между собой... — См.: Цезарь.
Галльская война. I. 1.
237 ...представляли собой, согласно Страбону, диалекты одного и того же языка. — См.:
Страбон. Указ. соч. IV. 1.1.
238 Прекрасные стихи, которые распевали в домах Пенелопы и Алкиноя Фемий и
Демодох... — О Фемии см.: Гомер. Одиссея. I. 150—151; ХХП. 330—353, о Демодохе:
Там же. Vin. 46-96; 266-369; 469-498.
239 ...песни, которые по воле Вергилия исполнял Иопад при дворе Дидоны... — См.:
Вергилий. Энеида. I. 740—746.
240 Симонид Кеосский (ок. 556—ок. 468 до н. э.) — греческий поэт; считается
первым в истории поэтом, слагавшим стихи на заказ. О нем существует следующая
история, аллюзию на которую приводит Юэ. Один борец заказал Симониду песню в
честь своей олимпийской победы. Обычно эти песни писались так: в начале и в
конце — хвала победителю, его городу и роду, а в середине — какой-нибудь миф.
Симонид вставил в середину миф о героях-борцах Касторе и Полидевке, сыновьях
Зевса, и на пиру в честь победы хор пропел эту песню. Но заказчику показалось, что
миф занял слишком много места, а хвала победителю — слишком мало, и он
заплатил Симониду только треть обещанной награды, сказав, что «остальное пусть
заплатят Кастор и Полидевк». Пир продолжался; вдруг вошел раб и сказал, что поэта Си-
монида хотят видеть двое юношей, явившихся неведомо откуда. Симонид вышел —
никого не было. И тут за спиной у него раздался грохот — потолок в пиршественном
зале рухнул на гостей. Погибли все, кроме Симонида, который понял, что таким
образом Кастор и Полидевк расплатились с ним за песню.
241 Кастор и Полидевк — близнецы, сыновья Зевса и Леды; участники похода
аргонавтов. Полидевк считался бессмертным, а Кастор — смертным. Убитый в
сражении Кастор был оживлен Зевсом по просьбе Полидевка и с тех пор стал жить один
день на небе, а другой — в преисподней. В римской мифологии братья именуются
Кастором и Поллуксом, или Диоскурами.
516
Примечания
242 Арион пел при дворах правителей Италии... — Имеется в виду греческий поэт
Арион (VU—VI вв. до н. э.), сделавший дифирамб литературной формой; он
действительно подвизался на Апеннинах и Сицилии.
243 Пьер де Шатонёф (Пейре де Кастельноу) — малоизвестный трубадур (до нас
дошла только одна его сирвента). По Нотрдаму (см. ниже), на него в лесу напали
разбойники и хотели убить, а поэт упросил их перед смертью исполнить песню, что
ему и было позволено. Песня, воспевавшая достоинства разбойников, так их
растрогала, что они вернули трубадуру и деньги, и коня, и одежду. С Арионом, согласно
мифу (повторенному, в частности, Геродотом; см.: Геродот. I. 23—24), было несколько
иначе. Когда пираты хотели отнять у него золото, полученное в качестве
вознаграждения за стихи, а его самого убить, Арион также умолил их позволить ему спеть
напоследок песню. Закончив петь, он бросился в морскую пучину и был
впоследствии спасен дельфином, очарованным его пением.
244 Жан де Нотрдам (1507—1579) — французский историк и эрудит, знаток поэзии
трубадуров, брат Мишеля де Нотрдама (Нострадамуса). Автор не во всем
достоверных «Жизнеописаний древних и наиславнейших провансальских поэтов» (1575).
245 Посидоний (ок. 135—51 до н. э.) — греческий историк, географ и астроном.
Наиболее знаменитое сочинение — исторический труд в 57 книгах, являющийся
продолжением «Всемирной истории» Полибия.
246 ...Луэрн, вождь арвернов... — В правление Луэрна (или Луэрия) (сер. П в. до н. э.)
доримская Галлия достигла своего расцвета. Арверны, по свидетельствам античных
историков, в Ш—П вв. до н. э. — наиболее могущественное из племен кельтской Галлии,
их столицей был Августонемет (ньшешний г. Клермон-Ферран во Франции); разбиты
конницей Гая Юлия Цезаря в сражении при Алезии (52 г. до н. э.) и подчинены Римом.
При Битуте арверны объединились с аллоброгами и другими кельтскими племенами
Галлии для борьбы с Римом, но в 121 г. до н. э. потерпели поражение, а сам Битут был
взят в плен. Луэрий и Битут (Битуит, Битит, Бисуис, Витуит) упоминаются у Сграбо-
на (см.: Страбон. Указ. соч. IV, 2, 3), который взял сведения о них у Посидония.
247 ...в начале правления третьей династии наших королей... — то есть Капетингов
(987—1328 гг.). Первая династия — это Меровинги (кон. V в. — 751 г.), вторая — Ка-
ролинги (751-987 гг.).
248 Кавальканти, Бембо, Эквикола, Сперонщ Дольче... — Кавальканти Гвидо (ок.
1255—1300) — крупнейший представитель «сладостного нового стиля» в итальянской
поэзии. Бембо Пьетро (1470—1547) — итальянский поэт и филолог, автор «Азолан-
ских бесед» (1505) и «Рассуждения о прозе на народном языке» (1525). Эквикола Ма-
рио (1470—1525) — итальянский писатель, автор трактата «О природе любви» (1495).
Сперони Спероне (1500—1588) — итальянский филолог и драматург, автор
«Диалогов». Дольче Лудовико (1508—1568) — итальянский писатель и филолог, автор
комментариев к сочинениям Боккаччо и Ариосто, эпических поэм, диалога «Аретино».
249 Покойный г-н де Сомез... — Эрудит Клод де Сомез (1588—1658).
250 ...восстание графа Юлиана... — Именно граф Юлиан, губернатор Андалусии и
Сейты, призвал в Испанию Тарика (см. также примеч. 44).
251 Хиджра. — Мусульманский календарь ведет летоисчисление с момента
переселения (араб, хиджра) Пророка Мухаммеда с единоверцами из Мекки в Медину,
когда ими были разорваны связи с соплеменниками, вплоть до ближайших
родственников, не пожелавших отказаться от поклонения идолам в пользу Единого и
Единственного Бога (араб. Аллах). При втором халифе Омаре I (ок. 585—644) хиджру
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 517
приняли за отправную точку нового летоисчисления, но исходной выбрали не дату
прибытия Пророка в Медину (наиб, вероятная — 24 сентября 622 г.), а первый день
месяца мухаррам того же лунного года (16 июля 622 г.). Летоисчисление по
хиджре основывается на лунном календаре с длиной года в 354 дня; для перевода дат по
хиджре на европейский солнечный календарь существуют специальные таблицы.
252 Корну m (или Фурнут) Луций Анней (расцвет творчества — 54—68 гг.) —
римский философкггоик, более всего известен как учитель и друг поэта-сатирика
Персия; автор сохранившегося сочинения по греческой мифологии.
253 Присциан — римский грамматик. Наиболее значительный труд —
«Грамматические наставления» (ок. 500 н. э.) в 18 книгах — исчерпывающее изложение
латинской грамматики (включая синтаксис) и словоупотребления. Работа ценна также
многочисленными цитатами из утерянных сочинений античных авторов.
254 Лев Африканский. — Иоанн Лев Африканский (наст, имя Хасан Ибн
Мухаммед аль-Ваззан аль-Зайати), арабский путешественник, географ и историк (ок. 1485 —
после 1554); автор книги «Описание Африки» (ок. 1525—1527).
255 Мармолъ-и-Карвзхал Луис де (1520 — ок. 1600) — испанский дворянин,
участвовал в походе императора Карла V в Тунис; провел 22 года в Северной Африке (из
них восемь — в качестве пленника у мавров). На основе арабских источников и
собственного опыта написал содержащий достоверные сведения трактат «Общее
описание Африки» (1573—1599, фр. пер. 1667).
256 Рено. — Имеется в виду Рено Монтобанский, главное действующее лицо
одноименной героической поэмы (жесты) конца XII в.
257 Марабуты — в средние века в Северной Африке так называли мусульманских
монахов-воинов; в настоящее время — то же, что дервиш, т. е. нищенствующий
(странствующий) монах-аскет.
258 Мариниды — берберская династия, правившая в Марокко в 1269—1465 гг.
259 ...следовали примеру... Мухаммеда, который одарил накидкой... поэта Кааба... —
В раннем исламе сохранился рассказ о том, что Пророк снял с себя полосатую
йеменскую тунику («бурду») и подарил ее в знак прощения поэту Каабу ибн Зухрей-
ну — иудею, который писал стихи, направленные против него.
260 ...следовали примеру... Мухаммеда, который одарил... поэта... пропевшего хвалу
одной из любовниц Пророка. — Сообщаемые здесь автором сведения ошибочны:
праведный от рождения Пророк никогда не имел любовниц. По преданию, у него было
одиннадцать жен. На первой, Хадидже, состоятельной 40-летней женщине, он
женился в 25 лет. В свое время Мухаммед поступил к ней на службу для организации
и сопровождения ее торговых караванов. Именно она сделала ему предложение о
браке. Пока Хадиджа, первой признавшая в Мухаммеде избранника Бога, была
жива, Пророк не брал себе других жен. Затем любимой его женой стала Айша,
младшая дочь Абу Бакра (ок. 572—634), ближайшего сподвижника Пророка и
будущего первого халифа, сговоренная на брак с Мухаммедом в 6-летнем возрасте.
Свадьбу сыграли, когда девочке исполнилось десять лет. Многоженство Мухаммеда
(мусульманам Коран разрешает иметь до четырех жен, делая исключение для
Пророка) обычно объясняется причинами политического характера и желанием иметь
наследника (рождавшиеся мальчики умирали). С появлением сына от египетской
невольницы Марии пропала необходимость пополнять гарем.
261 Саллюстий Крисп (86—ок. 35 до н. э.) — римский историк, участник
гражданских войн на стороне Юлия Цезаря; автор книг «О заговоре Каталины» и «Югур-
518
Примечания
тинская война» (сохранились полностью) и «История» (сохранились отрывки). Юэ
имеет в виду сохранившийся фрагмент из «Истории» Саллюстия (П, фр. 92).
262 «Пальмерин Английский» — своеобразная трансформация «Амадиса
Галльского» (см. примеч. 57), выпущенная в 1547—1548 гг. Неоднократно упоминается в «Дон-
Кихоте» Сервантеса, причем наряду с «Амадисом» этот роман не был брошен в
огонь. Все перечисленные далее сочинения (см. примеч. 263, 264, 265) иронически
охарактеризованы в шестой главе «Дон-Кихота».
263 «Дон Бельянис». — Имеется в виду испанский рыцарский роман «История
достославного и непобедимого принца Дона Бельяниса Греческого» Херонимо
Фернандеса (1547).
264 «Зерцало рыцарства» (1586) — испанский рыцарский роман.
265 «Тираны Белый и Кириэлейсон Монталъванский». — В действительности
знаменитый рыцарский роман каталонца Жуанота Мартуреля, дополненный и
подготовленный к изданию Марта Жуаном де Галбой, называется «Тирант Белый» (1490).
266 Кириэлейсон. — Это причудливое имя, означающее «Господи, помилуй»,
действительно носит один из героев «Тиранта Белого» (см. гл. 74 и далее). Вот что говорит по
поводу этого сочинения священник в «Дон-Кихоте»: «В нем выведены доблестный
рыцарь дон Кириэлейсон Монталъванский, брат его, Томас Монтальванский, и рыцарь
Фонсека, в нем изображается битва отважного Тиранта с догом, в нем описываются
хитрости девы Отрады, шашни и плутни вдовы Потрафиры и, наконец, сердечная
склонность императрицы к ее конюшему Ипполиту. Уверяю вас, любезный друг, что
в рассуждении слога это лучшая книга в мире» (пер. Н. Любимова). В подготовленном
для серии «Литературные памятники» издании «Тиранта Белого» (см.: Мартурелъ Ж.,
Галба М.-Ж. де. Тирант Белый: Пер. с каталанского. М.: Ладомир; Наука, 2005) имена
некоторых из вышеперечисленных персонажей даются в другом варианте: Куролес
Мунтальбанский, Томас Мунтальбанский, Услада-Моей-Жизни, Заскучавшая Вдова.
267 Паралипоменон — название (греч. «книги о пропущенном») двух исторических
книг Библии, которые в Вульгате называются «Летописью» и повествуют о том, что
осталось опущенным в предшествовавших им книгах Царств.
268 ...Самсон... одарил одеяниями филистимлян... — См.: Книга Судей 14: 12—20.
269 Гелиогабал (Элагабал) — прозвище Марка Аврелия Антонина (204—222),
римского императора (218—222 гг.), настоящее имя которого было Варий Авит Бассиан.
С 217 г. в Эмесе был верховным жрецом сирийского бога Солнца Элагабала, от него
и получил свое имя. «Жил весьма непристойно и постыдно» (Евтропий. Краткая
история от основания города. 57).
270 ...в подражание Ксерксу, установившему аналогичную плату для тех, кто
придумывал новые развлечения. — См.: Цицерон. Тускуланские беседы. V. 20.
271 ...доблестный сын Милътиада Кимон Афинский... — греческий полководец V в.
до н. э., отличившийся в войне с персами.
272 ...в эпоху пребывания Пап в Авиньоне... — Речь идет о так называемом
«авиньонском пленении Пап», т. е. о вынужденном, под давлением французских королей,
пребывании Пап Римских в Авиньоне, городе на юге Франции, в 1309—1377 гг. (с
перерывом в 1367—1370 гг.).
273 Карл I Анжуйский (1226—1285) — сын короля Франции Людовика VTQ, граф
Анжуйский и Мэнский (1232—1285 гг.), граф Прованский (с 1246 г.), король
Неаполя и Сицилии (с 1266 г.); основатель Анжуйской династии; участник седьмого и
восьмого крестового похода. После народного восстания под названием «Сицилии-
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 519
екая вечерня» (1282 г.), которому помогал король Арагона, сохранил за собой только
Неаполитанское королевство.
274 ...до знаменитой битвы, закончившейся провозглашением Вильгельма
Завоевателя королем Англии. — Битва при Гастингсе (1066 г.), в ходе которой незаконный сын
Роберта Дьявола герцог Нормандии Вильгельм (ок. 1027—1087) разбил войско
Гарольда П, после чего за четыре года подчинил себе всю Англию.
275 ...славный Фоше. — Имеется в виду французский историк и гуманист Клод
Фоше (1530—1602), автор книг «Галльские и французские древности» (1579—1589) и
«О происхождении французского языка и поэзии» (1581).
276 ...если верить Тациту, германцы, отправляясь на битву, воспевали доблесть и
мужество Геракла... — Тацит уверяет, что германцы поклонялись «своему» Гераклу
(см.: Германия. 3); на самом деле речь идет о боге Торе.
277 Святой Бонавентура (1217—1274) — Отец Церкви, причислен к лику святых
(1482), к числу величайших учителей Католической Церкви (1587). В миру — Джо-
ванни Фиданца. Наиболее знаменитое его сочинение — «Путеводитель души к Богу».
278 Тибо, король Наварры. — Тибо Шампанский (1201—1253), король Наварры с
1234 г., участник крестовых походов; поэт и музыкант; сочинял стихи, навеянные
любовью к французской королеве Бланке Кастильской.
279 Гас Брюле (ок. 1159 — после 1213) — поэт из Шампани, считавшийся наравне
с Тибо Шампанским лучшим из труверов.
280 Кастелян де Куси (?— погиб в 1203 г.) — трувер ХП в., ставший героем
«Романа о кастеляне де Куси и дамы де Файель» (ок. 1285). Автором этого произведения,
развивающего распространенный мотив «съеденного сердца», является некий Жак-
мес или Жак Саке.
281 Народы Флориды, Куманы, Перу и Марианских островов подбадривают себя...
песнями... о прекрасных деяниях предков. — Сведения об Америке почерпнуты Юэ из
современных ему источников: из «Истории Флориды» Гарсильясо де ла Вега,
«Декад об Индии, или Общей истории деяний кастильцев на океанических островах и
заокеанском континенте» Антонио де Эрреры-и-Тордесильяса, «Истории
Марианских островов» и, возможно, каких-то других.
282 Древние обитатели Дании, Швеции и Норвегии... высекли истории... на... валунах,
остатки которых мне довелось видеть в Дании. — На обратном пути из Швеции, где
Юэ встречался с королевой Кристиной, он сделал много остановок, в частности в
Дании, где на валунах сохранилось около 200 рунических надписей, сделанных
главным образом в период с DC до середины XI в.
283 «Эдда» («Старшая Эдда») — стихотворное собрание древнеисландских
мифологических песен, обнаруженное любителем древностей епископом Бриньольвом
Свейнссоном в 1643 г.
284 «Волюспа» — небольшая составная часть «Старшей Эдды», песнь под
названием «Прорицание вёльвы» (исл. Vôluspâ).
285 «Эдды» Сэмунда и Снорри Стурлусона. — Так называемая «Младшая Эдда», или
«Прозаическая Эдда», была написана в 1222—1225 гг. исландским ученым Снорри
Стурлусоном (1179—1241). Считалось, что автор основывался на сочинении
Сэмунда Сигфуссона по прозвищу Мудрый (1056—1133); впоследствии обнаружилось, что
эта атрибуция ложная.
286 Саксон Грамматик (1140—1206) — датский хронист, автор книги «Деяния
датчан», которая послужила одним из сюжетных источников шекспировского «Гамлета».
520
Примечания
287 Фурнут. — Так иногда именовали римского знатока греческой мифологии
Корнута (см. примеч. 252).
288 ...в притче о браке Пороса и Пении... — Изложена у Платона в «Пире»
(рождение Эрота от Пороса, Богатства, и Пении, Бедности). Легенда иллюстрирует тезис
о заключенном в Эроте единстве обладания красотой и благом во всей их полноте,
но и вечной потребности в красоте и благе.
289 Секст Эмпирик (кон. П—Ш вв.) — греческий медик, философ и ученый. Наряду
с Пирроном один из главных теоретиков скептицизма.
290 ...романы о Гарене Аотарингском, Тристане, Ланселоте Озерном, Андрее
Французском... Берте, Святом Граале, Мерлине, Артуре, Персевале, Персефоресте. — Здесь
перечислен целый ряд средневековых героических поэм (жест) и рыцарских романов (для
Юэ они в жанровом отношении не дифференцируются). Эпическая поэма «Гарен
Лотарингский» принадлежит к так называемому «лотарингскому» циклу жест ХШ в.;
многочисленные романы о Тристане, Ланселоте Озерном, Святом Граале, Мерлине,
Артуре, Персевале («артуровский цикл») были известны также по прозаическим
переработкам, и скорее всего Юэ имеет в виду именно их. Под «Бертой» следует
понимать тяготеющую к роману жесту «Большеногая Берта» Адене Леруа (между 1272 и
1274 гг.). Прозаический роман со стихотворными включениями «Персефорест» (ок.
1330—1340), в котором исследуется становление артуровского универсума и
используется книга Гальфрида Монмутского (см. примеч. 230), принадлежит перу некоего Эно.
Особняком в этом списке стоит упоминание об Андрее Французском. В книге
Жана де Нотрдама (см. примеч. 244), а именно в биографии Джауфре Рюделя,
проводится параллель между судьбой этого известного трубадура и жизнью некоего
Андрея Французского, «который умер от чрезмерной любви к той, которую
никогда не видел» (Жизнеописания трубадуров. М., 1993. С. 268. Пер. СВ. Петрова). Нотр-
дам уверяет, что трубадур Понс де Брюель написал трактат «О любовном безумии
Андрея Французского»; по мнению современного комментатора (М.Б. Мейлаха), и
трубадур, и его трактат вымышлены.
291 Гесснер Конрад (1516—1565) — швейцарский естествоиспытатель и филолог.
292 Тиль Уленшпигель — герой народной книги на верхненемецком языке
«Занимательная повесть о Тиле Уленшпигеле», которая стала одной из самых ранних
печатных книг (возможно, уже в кон. XV в.); сохранилось издание 1515 г.
293 «Роман о семи мудрецах Рима, или О Долопате». — Имеется в виду роман
индийского происхождения, распространившийся на Западе через его латинскую
версию; известен во многих вариантах. Одна из французских версий — стихотворный
«Роман о Долопате», действительно, как и пишет Юэ, созданный скорее всего на
рубеже ХП—ХШ вв. трувером Эрбером.
294 Синтипад, или Синдбад — главный герой «Романа о семи мудрецах» (XI в.),
давший название персидской, арабской и византийской версии этого произведения;
не путать с Синдбадом-мореходом из «Тысячи и одной ночи».
295 «Эрасто» — сокращенное название изданной Педро Уртадо де ла Верой (ок.
1545—1600) «Истории принца Эрасто, сына императора Диоклетиана» (1573), одной из
двух испанских, а не итальянских, как пишет Юэ, версий «Романа о семи мудрецах».
296 Жан, монах аббатства Отсельв. — Речь идет о Жане Капуанском,
осуществившем в 1270 г. латинский перевод «Калилы и Димны».
297 ...о трех знаменитых Маргаритах... — Имеются в виду Маргарита, королева
Наваррская (1492—1549), младшая сестра короля Франции Франциска I, писательни-
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов 521
ца (см. примеч. 60 к «Принцессе Клевской»); Маргарита Французская (1523—1574),
дочь упомянутого короля, герцогиня Савойская; Маргарита де Валуа (1553—1615),
«королева Марго», дочь короля Франции Генриха П, первая жена короля Франции
Генриха IV, поэтесса и покровительница поэтов.
298 МалербФрансуа де (1555—1628) — французский поэт; разработал собственную
литературную теорию, в соответствии с которой настоящий поэт должен трактовать
вечные темы, придерживаясь строгих форм, использовать только те рифмы,
которые служат для раскрытия образа; способствовал выработке норм национального
литературного языка.
299 Херей — персонаж комедии римского драматурга Публия Теренция (ок. 195—
159 до н. э.) «Евнух».
300 Энколпий — рассказчик и главный герой «Сатирикона» Петрония.
301 Гораций утверждает, что «Илиада» Гомера лучше и ярче учит нравственности,
нежели самые знаменитые философы. — См.: Гораций. Послания. I. 2. 1—4.
302 Один знаменитый лекарь античных времен... — Речь идет о Феодоре Присци-
ане, враче, жившем в кон. IV в., авторе трудов «О диете» и «О физике».
303 ...следуя примеру Платона, ратовавшего за непременное чтение мифов. — См.:
Платон. Государство. П. 377 и далее.
304 ...великий святой епископ последних лет... — Несомненно, имеется в виду святой
Франциск Сальский (1567—1622, канонизирован в 1665 г.), епископ Женевский,
автор трактатов «Введение в благочестивую жизнь» (1609) и «Трактат о любви к Богу»
(1616). «Кротость», к которой призывал Франциск, не вполне согласуется с «бандел-
ловской» кровавой эстетикой, которой был не чужд его последователь Камю (см.
примеч. 306).
305 ...мнение Платона... отбирать лучшие и отвергать худшие из мифов. — См.:
Платон. Указ. соч.
306 Другой епископ... прославившийся многими сочинениями... — Подразумевается
плодовитый писатель Жан-Пьер Камю (1582—1652), епископ Белле, внедривший во
французскую литературу жанровую модель религиозного романа («Агатонфил»
(1621) и многие другие сочинения в том же роде). Среди его произведений назовем
также монументальный эрудитский трактат «Пестрая смесь» («Diversitez», 1609—
1618). Своему наставнику он посвятил труд под названием «Дух блаженного
Франциска Сальского» (1631).
307 ...«Великий паша», «Великий Кир» и «Клелия»... — Речь идет об имевших
огромный успех псевдоисторических галантных романах Мадлен де Скюдери (1608—1701)
и Жоржа де Скюдери (1601—1667): «Ибрагим, или Великий паша» (в четырех томах,
1641), «Артамен, или Великий Кир» (в десяти томах, 1649—1653) и «Клелия, римская
история» (в десяти томах, 1654—1660). Они выходили под именем Жоржа де
Скюдери, однако основной вклад в создание романов несомненно внесла его сестра.
308 ...Пий II, написавший новеллу о любви Эвриала и Лукреции... — Пий П (Энеа Силь-
вио Пикколомини, 1405—1464) — гуманист, Папа Римский в 1458—1464 гг., автор ряда
литературных сочинений, в том числе «Комментария к собственной жизни» (1463)
и романа «Эвриал и Лукреция» («История двух влюбленных», 1444).
309 Будучи заинтересован в прославлении великого короля... — «Предписанная
регламентом» куртуазная лесть в адрес Людовика XIV. Жан Шаплен (1595—1674), поэт и
критик, ведавший назначением пенсий литераторам, требовал подобных формулировок.
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Ил. 1. Франсуа Дельпеш (1778—1825). Портрет Франциска I. По оригиналу
Тициана. Литография.
Ил. 2. Анонимный мастер XVI в. Портрет Маргариты Наваррской, сестры
Франциска I (ок. 1545). Бумага, итальянский карандаш, сангина. 33 х 23. Шан-
тийи, Музей Конде.
Ил. 3. Франсуа Клуэ (1510—1572). Портрет Генриха П (1559). Бумага, итальянский
карандаш, сангина. 33 х 22. Государственный Эрмитаж.
Ил. 4. Франсуа Клуэ (1510-1572). Портрет Екатерины Медичи (ок. 1540). Бумага,
итальянский карандаш, сангина. Париж, Национальная библиотека.
Ил. 5. Франсуа Клуэ (1510—1572). Портрет Карла IX (1561). Холст, масло. Вена,
Альбертина.
Ил. 6. Франсуа Клуэ (1510—1572). Портрет Елизаветы Австрийской, супруги
Карла IX.
Ил. 7. Этьен Дюмустье (работал во 2-й трети XVI в.). Портрет Генриха Ш (1570).
Бумага, итальянский карандаш, сангина. Париж, Национальная библиотека.
Ил. 8. Неизвестный мастер XVI в. Портрет королевы Луизы, супруги Генриха Ш.
Итальянский карандаш, цветные карандаши. Париж, Национальная
библиотека.
Ил. 9. Франсуа Клуэ (1510—1572). Елизавета (Изабелла) Французская, дочь
Генриха II и Екатерины Медичи, королева Испании (ок. 1559). Париж,
Национальная библиотека, Отдел эстампов.
Ил. 10. Неизвестный мастер XVI в. Портрет Маргариты де Валуа (королевы Марго).
Итальянский карандаш, цветные карандаши. Париж, Национальная
библиотека.
Ил. 11. Леонар Лимузен (1505—1577). Портрет Франциска П (ок. 1553). Лиможская
эмаль. Париж, Лувр.
Ил. 12. Жан Декур (работал во 2-й трети XVI в.). Портрет Марии Стюарт (ок. 1560).
Бумага, итальянский карандаш, сангина. 30 х 19. Париж, Национальная
библиотека.
Ил. 13. Анонимный мастер XVI в. Портрет Генриха Лотарингского, герцога де Гиза,
в молодости (ок. 1568). Версаль, Национальный музей.
Ил. 14. Анонимный мастер XVI в. Портрет Генриха Лотарингского, герцога де Гиза.
Холст, масло. Жуанвиль, Художественный музей.
Список иллюстраций
523
Ил. 15. Французский анонимный мастер кон. XVI в. Портрет Екатерины Клевской,
супруги герцога де Гиза (ок. 1578). Париж, Лувр, Кабинет рисунков.
Ил. 16. Доминик Кусто (XVII в.). Портрет Карла Лотарингского, герцога Майенско-
го (1600—1602). Гравюра резцом.
Ил. 17. Леонар Лимузен (1505—1577). Портрет коннетабля Анна де Монморанси. Ли-
можская эмаль. Париж, Лувр.
Ил. 18. Франсуа Клуэ (1510—1572). Портрет маршала де Бриссака (ок. 1531). Бумага,
итальянский карандаш, сангина. Шантийи, Музей Конде.
Ил. 19. Леонар Лимузен (1505—1577). Портрет Франциска I Лотарингского, герцога
де Гиза (1557). Лиможская эмаль. Париж, Лувр.
Ил. 20. Неизвестный мастер 1-й половины XVI в. Портрет коннетабля де Бурбона (до
1530). Бумага, итальянский карандаш, сангина, цветные карандаши. 28,3 х 19.
Государственный Эрмитаж.
Ил. 21. Франсуа Дельпеш (1778—1825). Портрет Дианы де Пуатье. Литография.
Ил. 22. Франсуа Пурбюс-старший (1545—1581). Портрет Мари Туше, возлюбленной
Карла IX. Между 1574 и 1577 г. Бумага, итальянский карандаш, сангина.
Париж, Национальная библиотека.
Ил. 23. Анонимный мастер XVI в. Портрет герцогини д'Этамп. Воспроизведен в изд.:
Singleton Е. Famous Women Described by Great Writers. N.Y.: Dodd, Mead & Co.
1907. Фотогравюра.
Ил. 24. Ганс Гольбейн-младший (1497—1543). Портрет Джейн Сеймур, супруги
английского короля Генриха VIII (1536). Холст, масло. Вена, Художественно-
исторический музей.
Ил. 25. Антуан Франсуа Луазель (?—1783). Портрет Людовика XTV. По оригиналу
Ж. Демаре. Гравюра резцом.
Ил. 26. Антуан Франсуа Луазель (?—1783). Портрет Марии Манчини. Гравюра резцом.
Ил. 2 7. Пьер Миньяр (1612—1695). Портрет Генриетты Английской, герцогини
Орлеанской. Холст, масло. Версаль, Национальный музей.
Ил. 28. Анонимный мастер XVII в. Портрет Анны-Марии-Луизы Орлеанской,
Великой Мадемуазель. Воспроизведен в изд.: Singleton Е. Famous Women
Described by Great Writers. N.Y.: Dodd, Mead & Co., 1907. Литография XIX в.
Ил. 29. Шарль Матей (работал в 1-й половине XVIII в.). Портрет Жана Реньо де Сег-
ре. По оригиналу А. Фламена (XVIII в.). Офорт, резец.
Ил. 30. Жерар Эделинк (1640—1707). Портрет Пьер-Даниэля Юэ. По оригиналу
Н. де Ларжильера. Гравюра резцом.
Ил. 31. Опостен де Сент-Обен (1736—1807). Портрет герцога де Ларошфуко. По
оригиналу Н.-А. Монсьо (ХУШ в.). Гравюра резцом.
Ил. 32. Франсуа Дельпеш (1778—1825). Портрет Великого Конде. Литография.
СОДЕРЖАНИЕ
Мари-Мадлен де Лафайет
Сочинения
Принцесса де Монпансье. Перевод И.И. Кузнецовой 7
Графиня Тандская. Перевод И.И. Кузнецовой 27
Заида. Испанская история. Перевод Д. Д. Литвинова 39
Часть первая 41
Часть вторая 104
История Генриетты Английской, первой жены Филиппа Французского,
герцога Орлеанского. Перевод НА. Световидовой 169
Принцесса Клевская. Перевод Ю.А. Гинзбург 215
Часть первая 217
Часть вторая 242
Часть третья 266
Часть четвертая 291
Портреты. Перевод О.Е. Ивановой, Л.А. Сифуровой 315
ДОПОЛНЕНИЯ
Мемуары французского двора за 1688 и 1689 годы. Перевод О.Е. Ивановой 322
Письмо-трактат Пьер-Даниэля Юэ о происхождении романов. Перевод
О.Е. Ивановой, Л.А. Сифуровой 375
ПРИЛОЖЕНИЯ
КА. Чекалов. Мари-Мадлен де Лафайет и ее творчество 427
Примечания. Составили Н. В. Забабурова, А А. Сифурова, К. А. Чекалов 456
Список иллюстраций 522
Лафайет M.-M, де
Сочинения: Пер. с фр. М.: Ладомир: Наука, 2007. — 524 с.
(Литературные памятники)
ISBN 5-8621&43&S
Мари-Мадлен де Лафайет (1634—1693) — родоначальница жанра любовно-
психологического романа, безусловно, наиболее яркая и талантливая из
славной плеяды женщин-писательниц XVH в. Ее творения, относящиеся к
вершинам французской прозы, в большинстве своем отечественному читателю
незнакомы.
В предлагаемой книге впервые в России собраны все известные
художественные произведения легендарного автора «Принцессы Клевской». Более
трех веков они восхищают любителей изящной словесности динамизмом
сюжетов, выразительностью языка, незаурядным мастерством в передаче
тончайших душевных переживаний героев.
Переводы осуществлены специально для данного издания, снабженного
обстоятельной статьей и подробными примечаниями.
Научное издание
Мари-Мадлен де Лафайет
СОЧИНЕНИЯ
Утверждено к печати
Редакционной коллегией
серии «Литературные памятники»
Редактор А. В. Дорошев
Корректор О.Г. Наренкова
Компьютерная верстка Л. И. Багма
ИД № 02944 от 03.10.2000 г. Подписано в печать 12.03.2007 г.
Формат 70x90 1/16. Бумага офсетная № 1.
Гарнитура «Баскервиль». Печать офсетная.
Печ. л. 33. Тираж 2000 экз. Зак. № К-6559
Научно-издательский центр «Ладомир»
124681, Москва, ул. Заводская, д. 6-а
Московский тел. склада: 8-499-729-96-70
E-mail: ladomir@mail.compnet.ru
lomonosowbook@mtu-net.ru
Отпечатано
в ГУП «ИПК «Чувашия»,
428019, Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 13
ISBN 5-86218-436-8
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР»
ВЫПУСТИЛ
Серия «Литературные памятники»
С. ДЕ БОВУАР
Мандарины
«Мандарины» — один из самых знаменитых романов XX в., вершина
творчества Симоны де Бовуар, известной писательницы, философа,
«исключительной женщины, наложивший отпечаток на все наше время» (Ф.
Миттеран).
События, описанные в книге, так или иначе связаны с крушением
рожденных в годы Сопротивления надежд французской интеллигенции. Чтобы
более полно представить послевоенную эпоху, автор вводит в повествование
множество персонажей, главные из которых — писатели левых взглядов Анри
Перрон и Роббер Дюбрей (их прототипами стали А. Камю и Ж.-П. Сартр).
Хотя основную интригу составляет ссора, а затем примирение этих двух
незаурядных личностей, важное место в сюжете отведено и Анне — жене Дюб-
рея. В этом образе легко угадываются черты самой Симоны де Бовуар.
Многое из того, о чем писательница поведала в своем лучшем, удостоенном
Гонкуровской премии, произведении, находит объяснение в женской судьбе как
таковой и связано с положением женщины в современном обществе.
Любые книги «Ладомира»
можно заказать наложенным платежом в издательстве
по адресу: 124365, Москва, Заводская, д. 6а, НИЦ «Ладомир».
Московский тел. склада: 8499-729-96-70.
E-mail: ladomir@mail.compnet.ru; lomonosowbook@mtu-net.ru
или купить в интернет-магазине «OZON»
www.ozon.ru
Для получения бесплатного перспективного плана изданий «Ладомира»
и бланка заказа вышлите маркированный конверт
по адресу издательства
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР»
ВЫПУСТИЛ
Серия «Литературные памятники»
Ф. СУЛЬЕ
Мемуры Дьявола
Фредерик Сулье (1800—1848) — популярнейший французский прозаик,
поэт и драматург, один из основоположников жанра романа-фельетона. На
стезе массовой беллетристики он первым в XIX в. (раньше А. Дюма и Э. Сю)
добился исключительного всеевропейского успеха. Современники порой
ставили этого автора выше О. де Бальзака. «Мемуары Дьявола» — лучшее
произведение Сулье. Оно вобрало в себя опыт «готической» литературы,
исторического и социального романа. Увлекательная интрига, выразительные
портреты героев, роковые страсти и, одновременно, назидательный пафос,
умение воссоздать вполне узнаваемые подробности реальной жизни — все
это, несомненно, по достоинству оценит и сегодняшний читатель.
На русский язык переведен впервые специально для «Литературных
памятников».
Кроме статьи о творчестве Ф. Сулье издание снабжено подробными
примечаниями, аналога которым нет даже во французских изданиях романа.
Любые книги «Ладомира»
можно заказать наложенным платежом в издательстве
по адресу: 124365, Москва, Заводская, д. 6а, НИЦ «Ладомир».
Московский тел. склада: 8499-729-96-70.
E-mail: ladomir@mail.compnet.ru; lomonosowbook@mtu-net.ru
или купить в интернет-магазине «OZON»
www.ozon.ru
Для получения бесплатного перспективного плана изданий «Ладомира»
и бланка заказа вышлите маркированный конверт
по адресу издательства