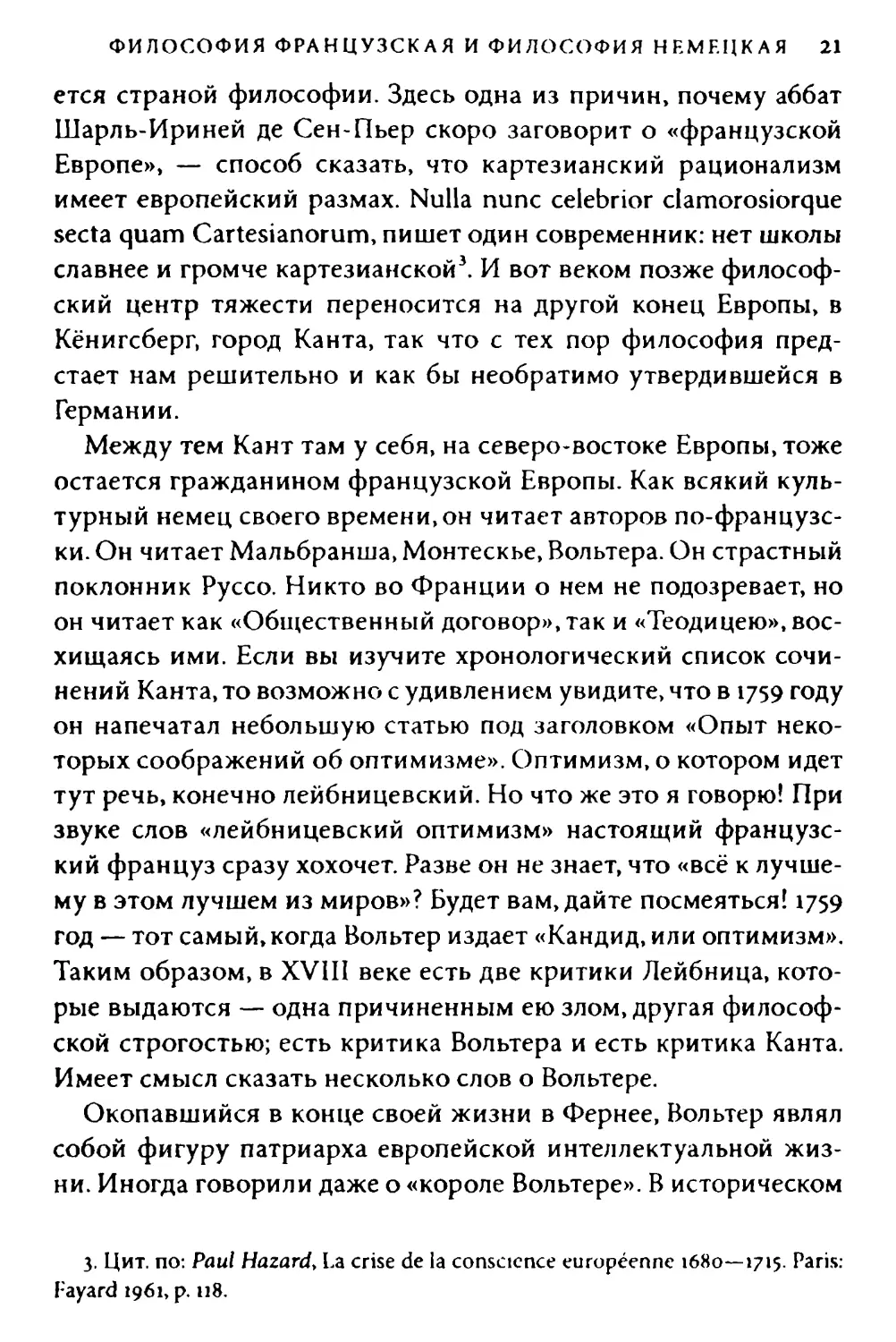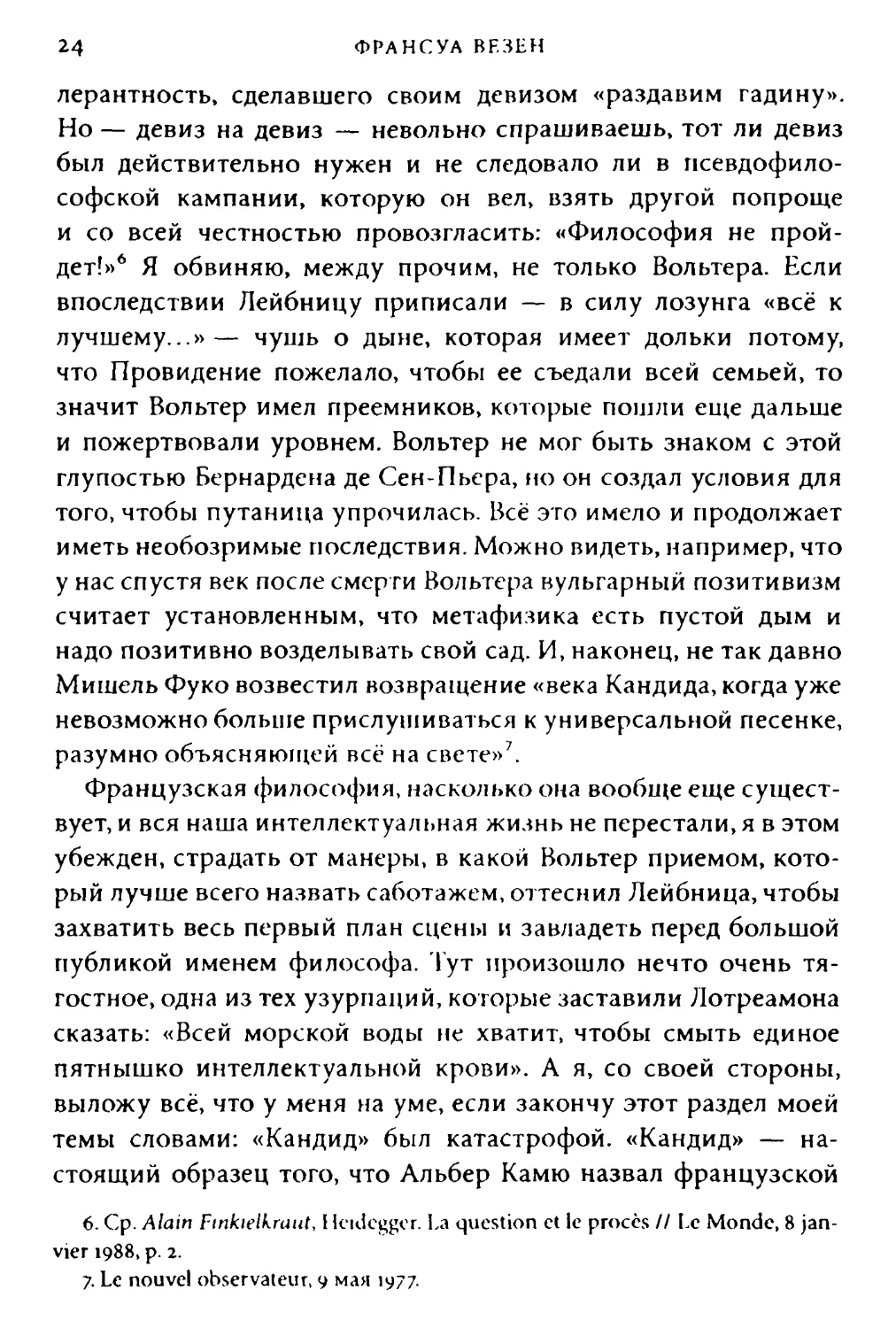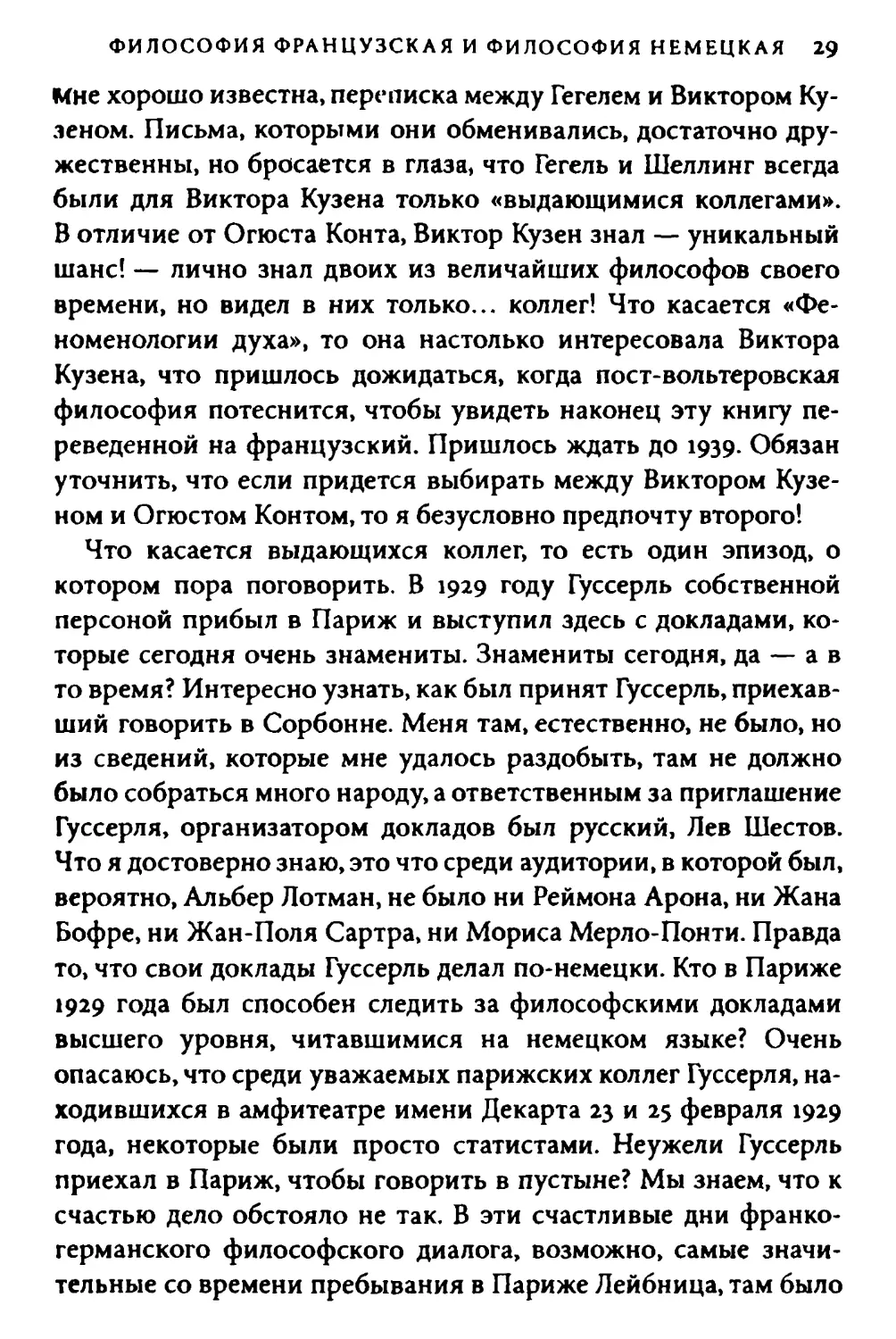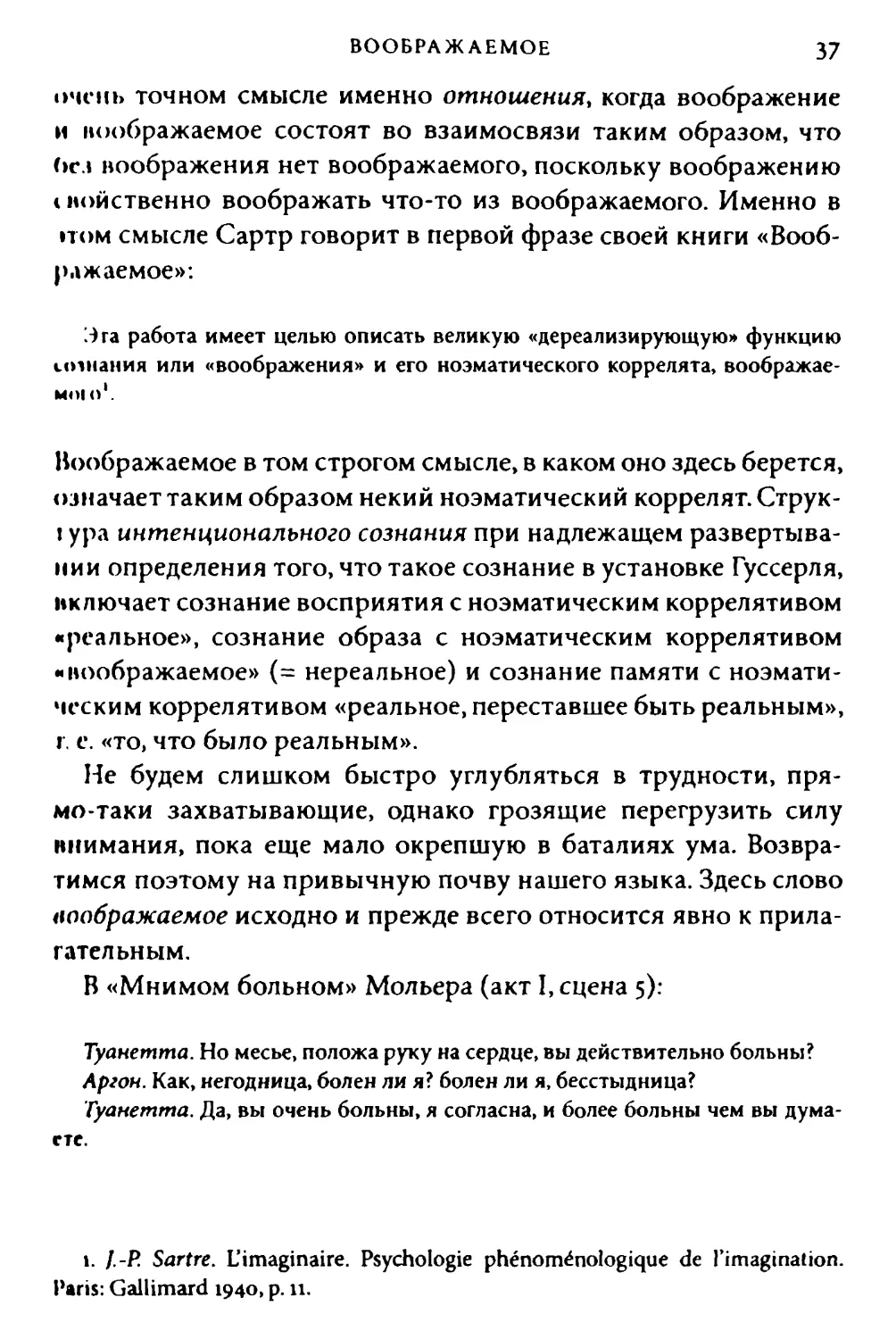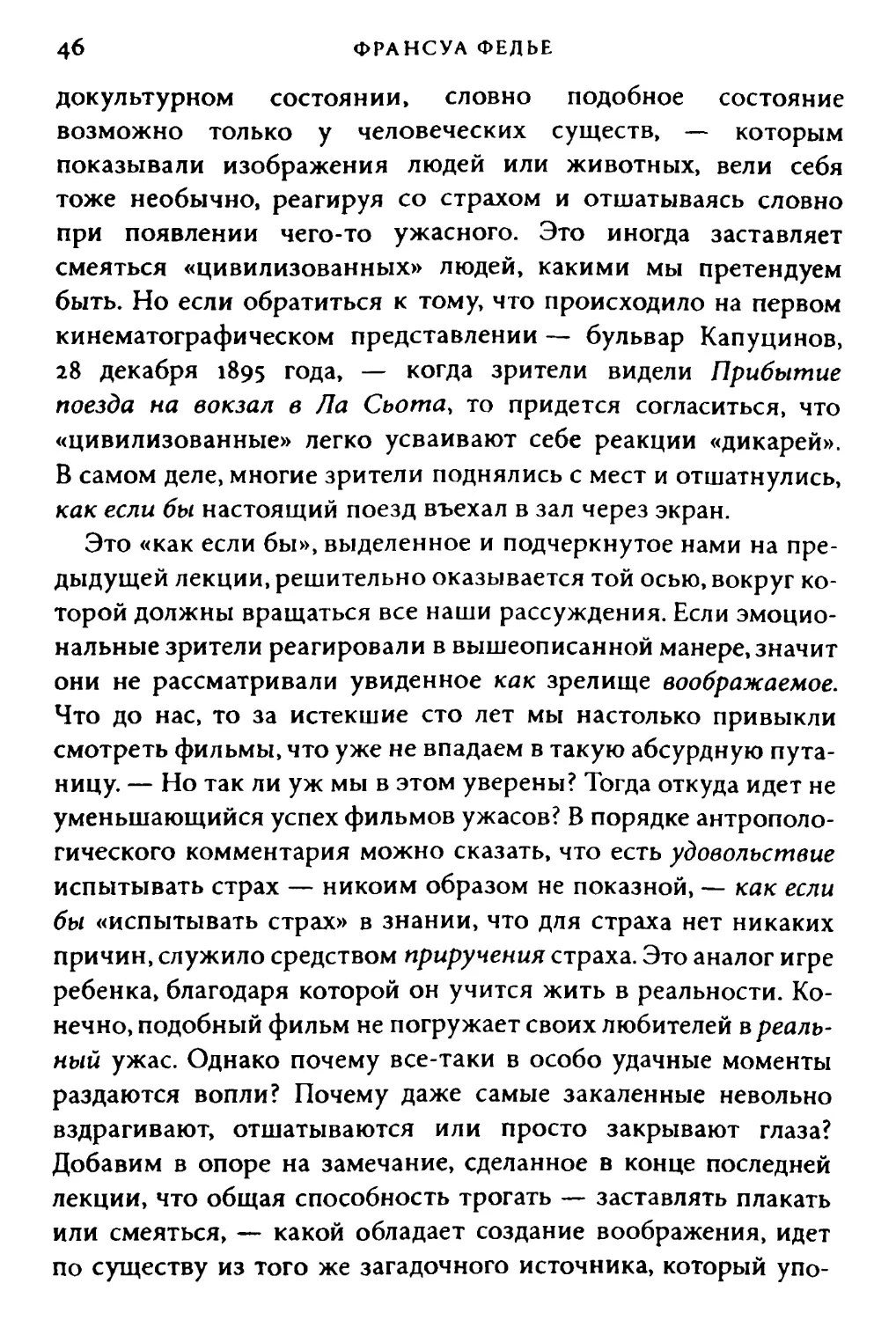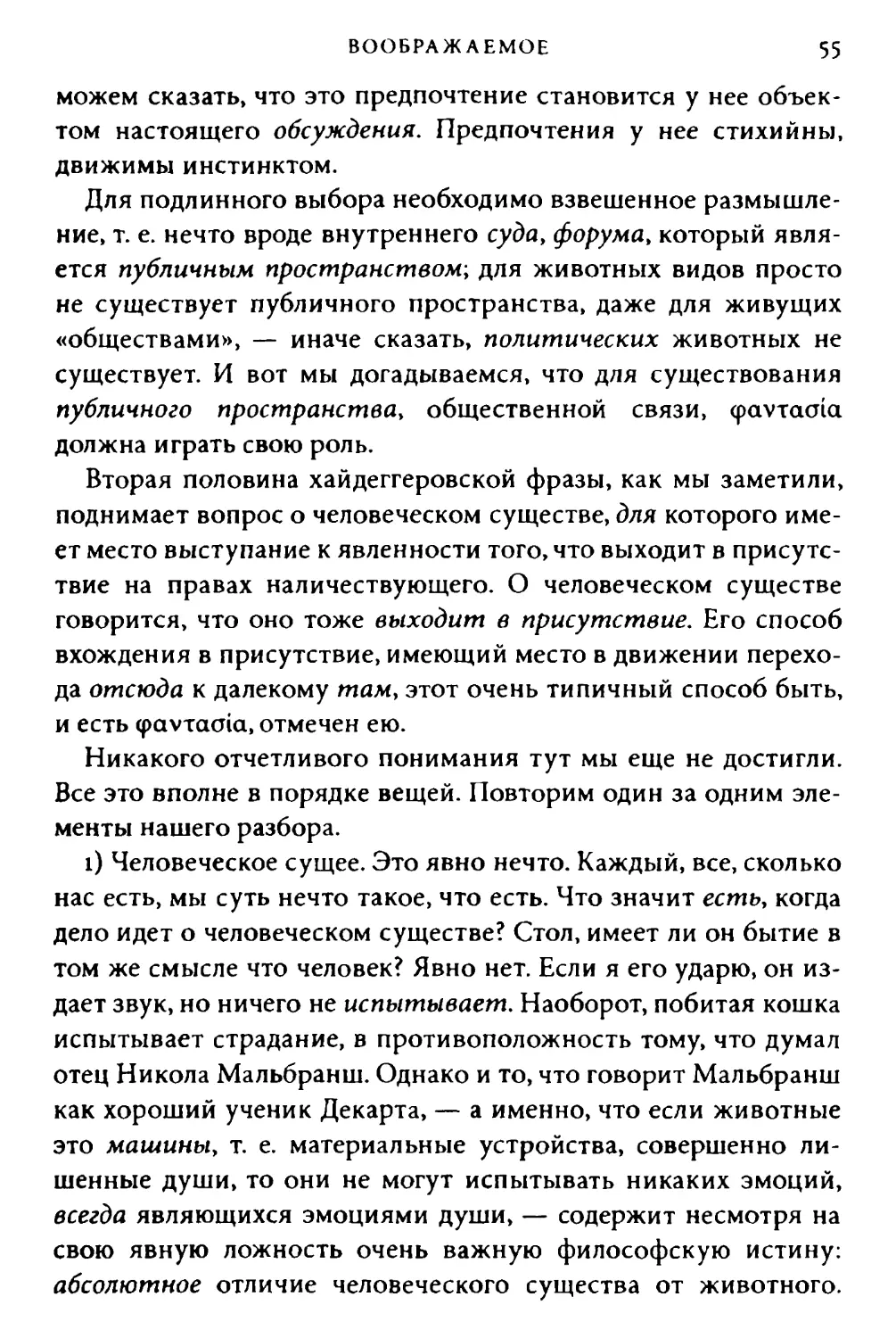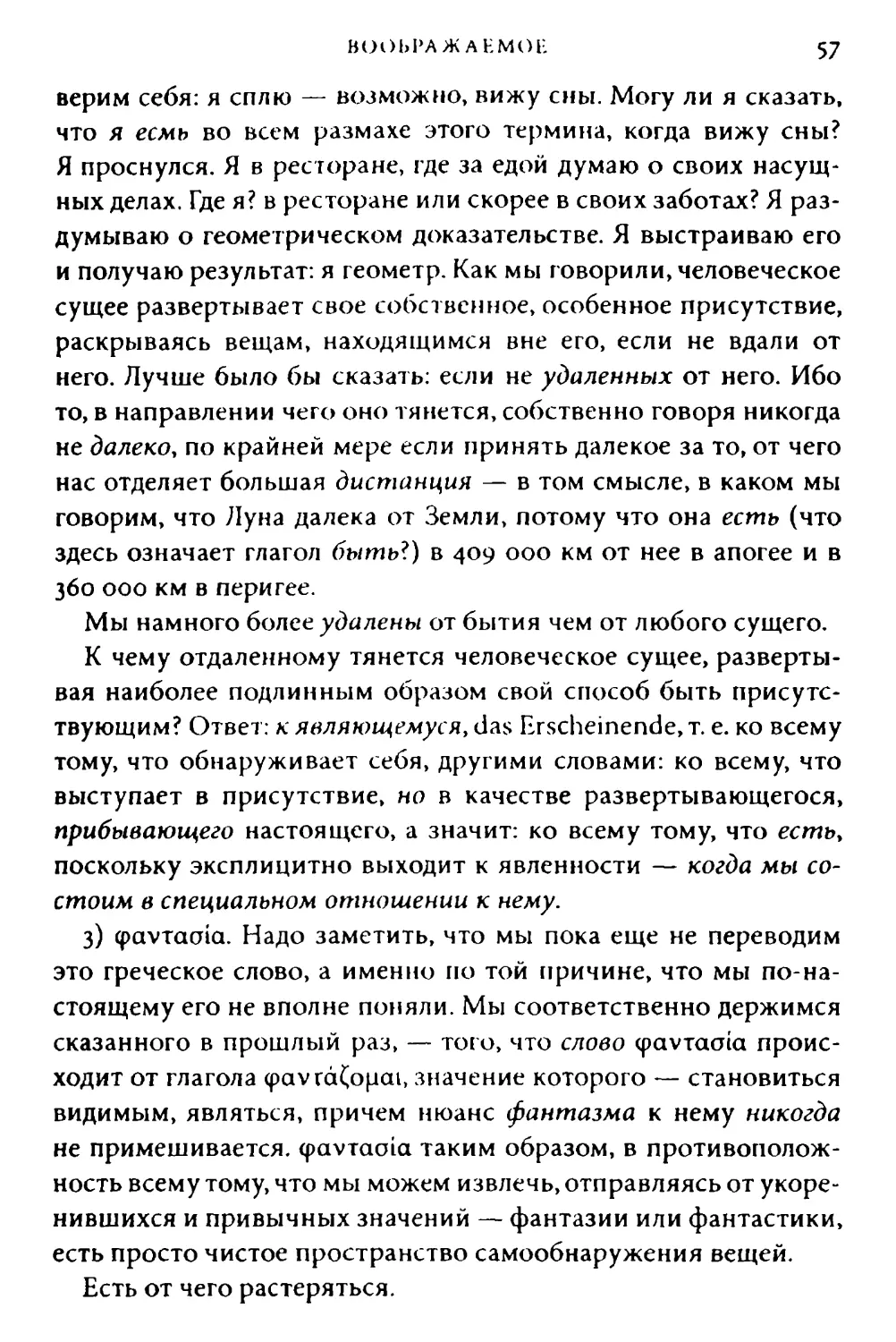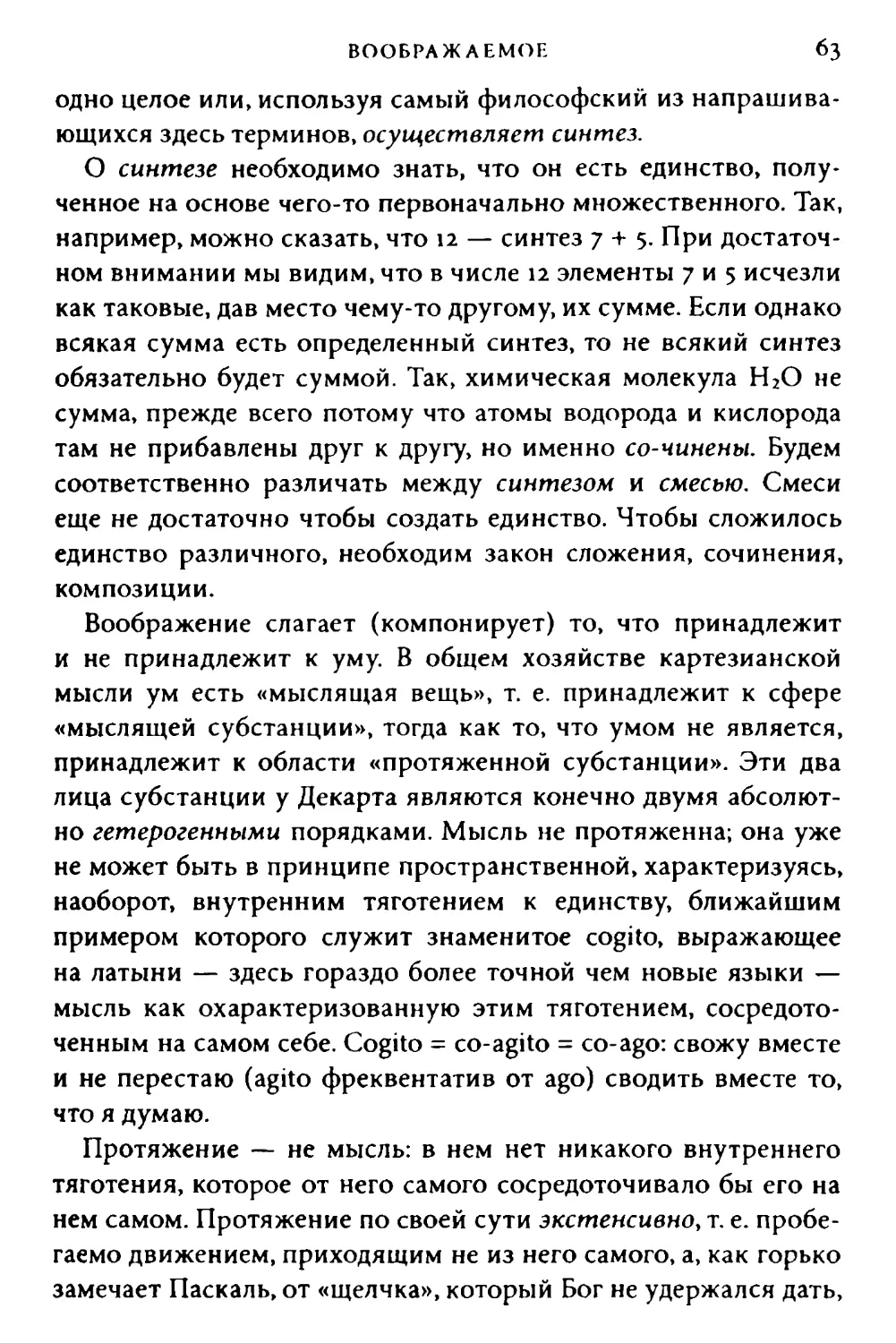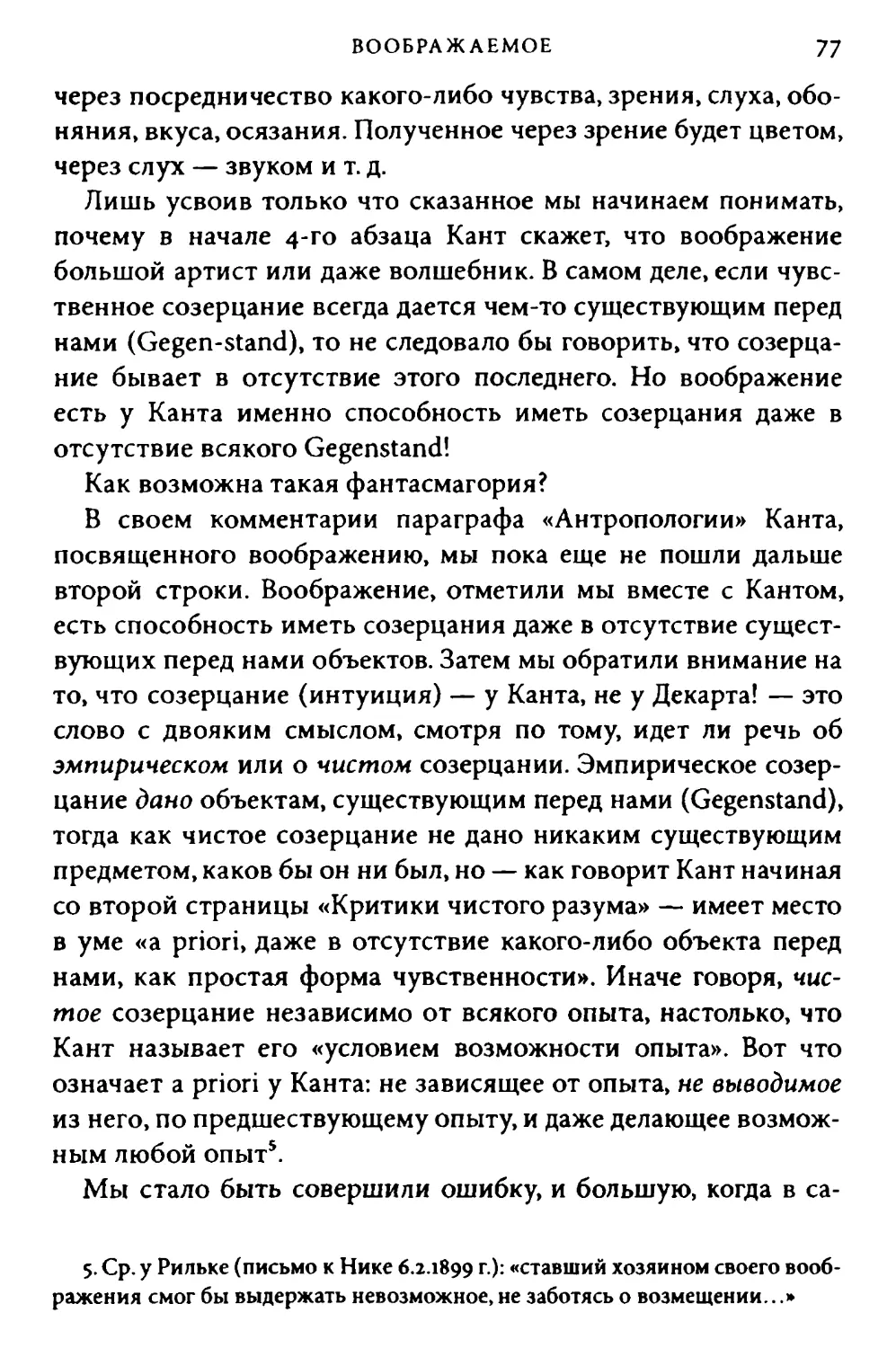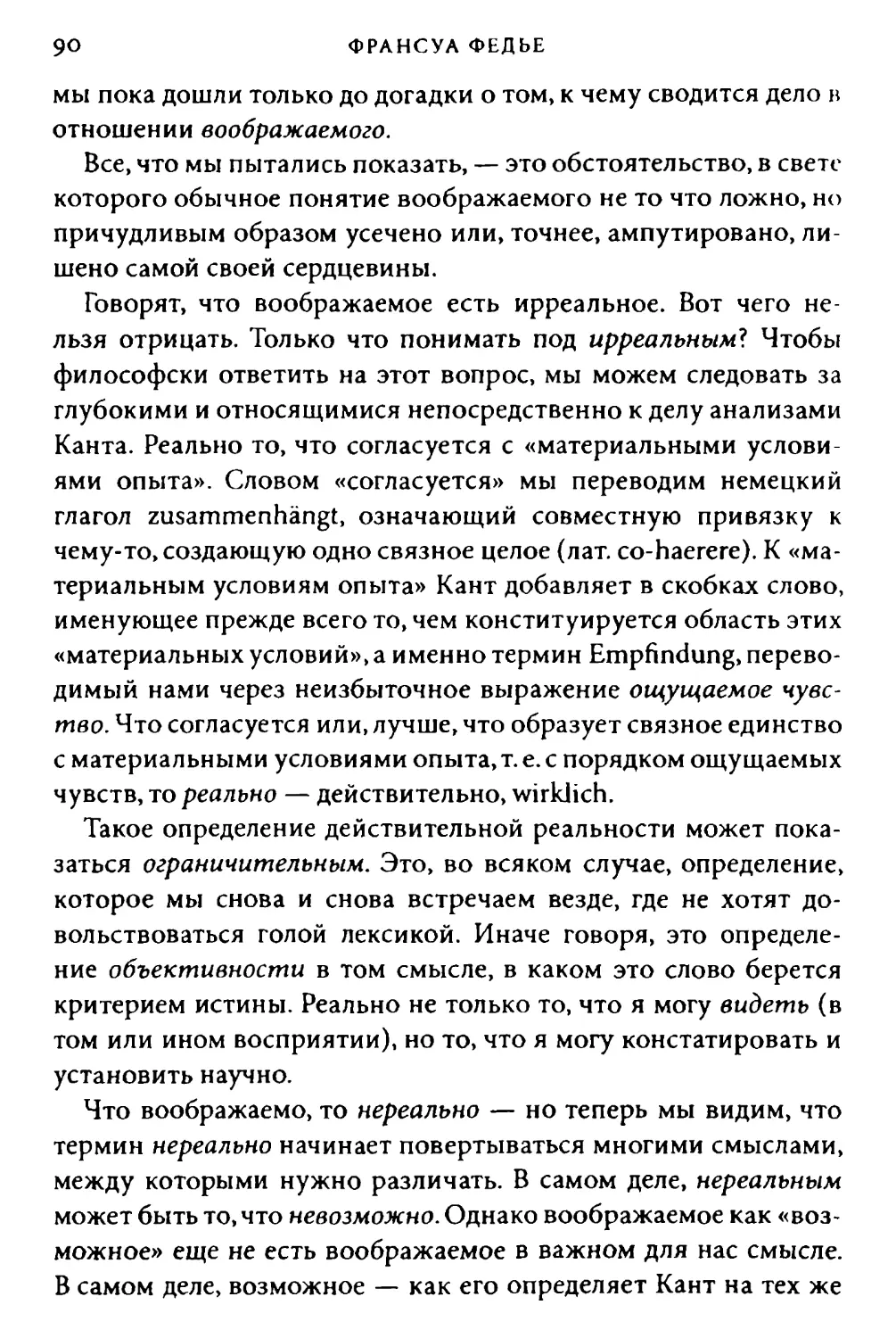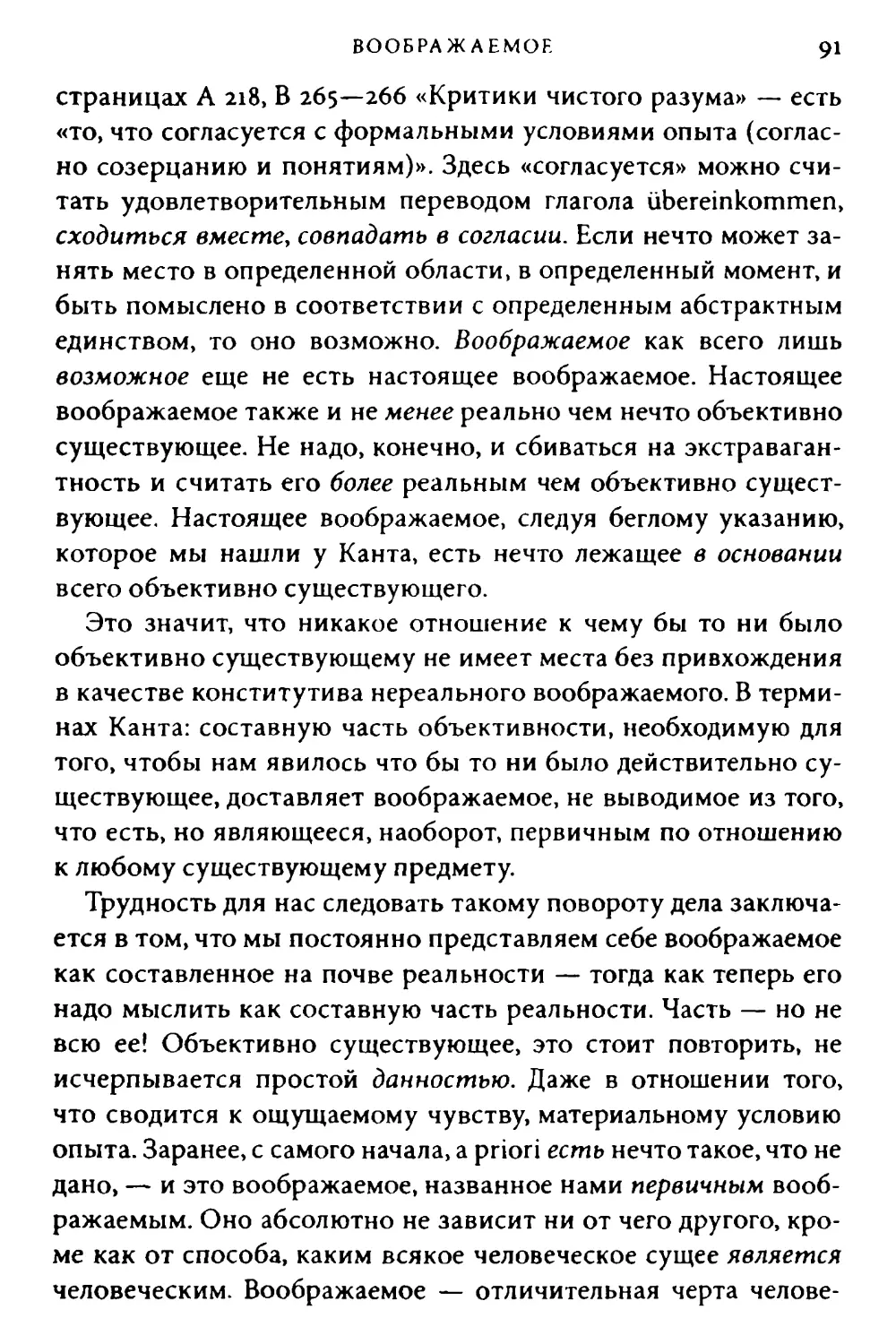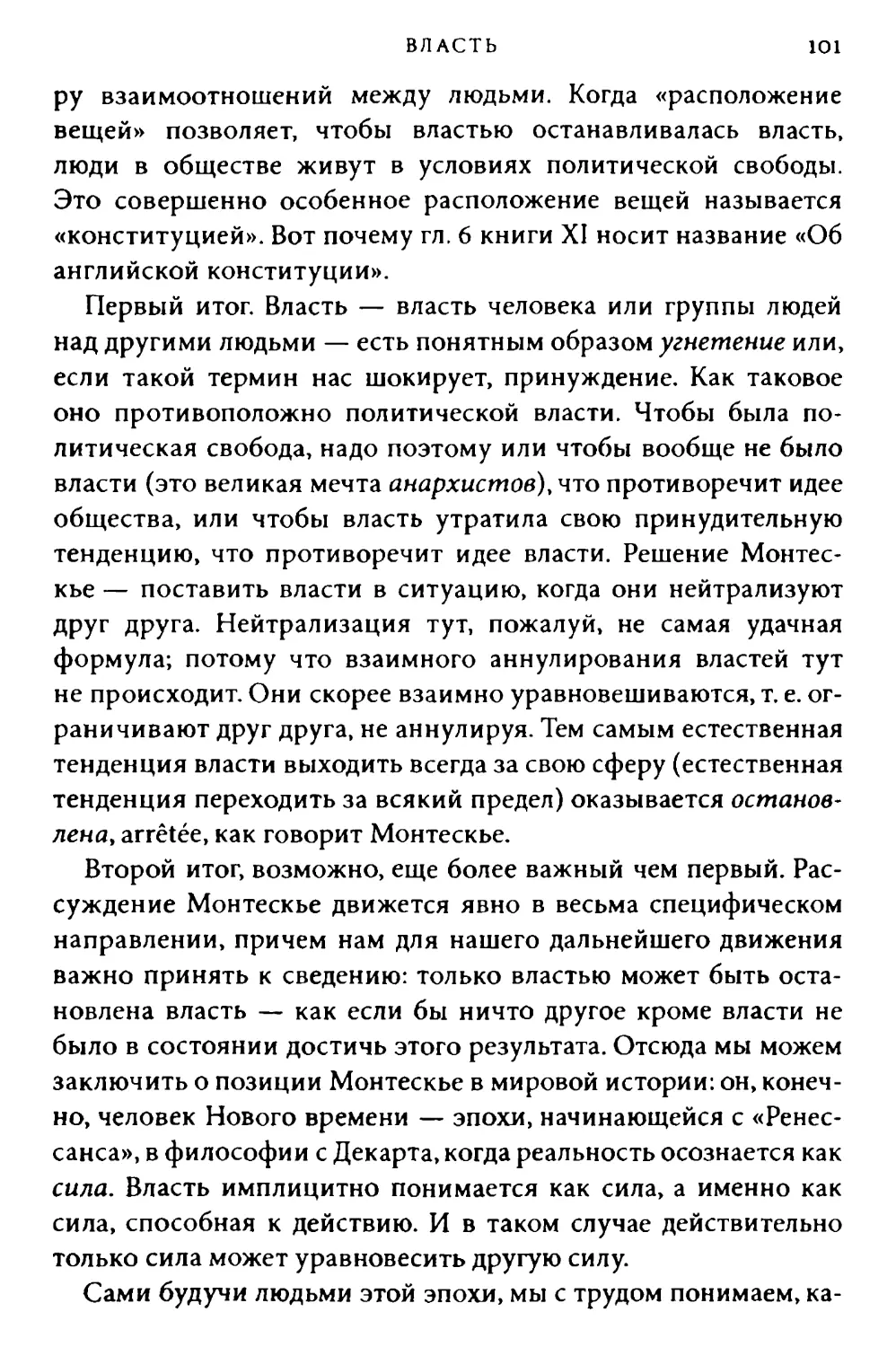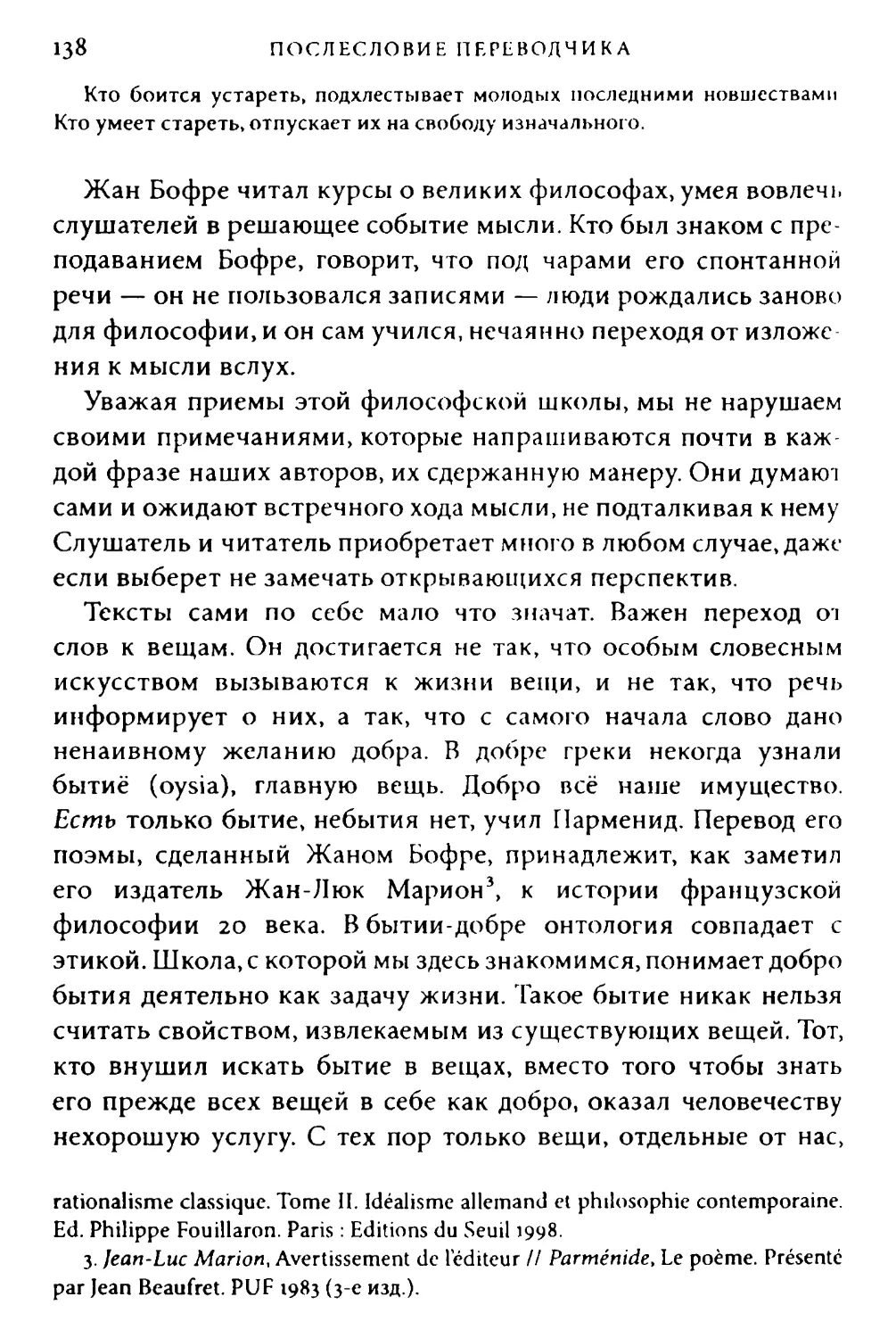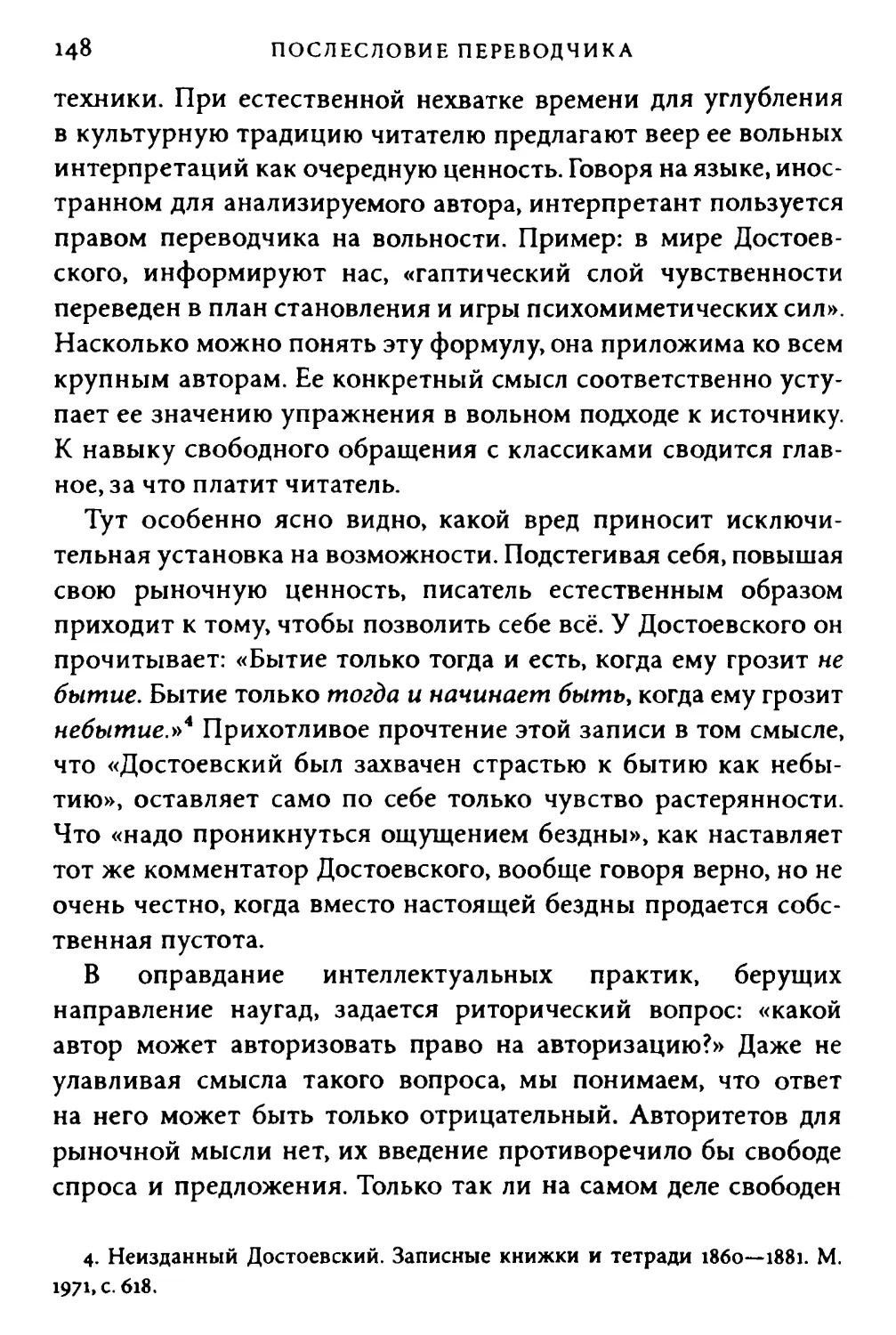Теги: философия онтология метафизика гносеология социальная философия
Год: 2002
Текст
Франсуа ВЕЗЕН
французская
немецкая
Франсуа ФЕДЬЕ
мое
Ч
ft..'
*- •....
•v / > ^
>-
Ч» * ■
Франсуа ВЕЗЕН
Философия французская
и
Философия немецкая
Франсуа ФЕДЬЕ
Воображаемое
Власть
Перевод с французского,
общая редакция и послесловие
В.В.Бибихина
УРСС
Москва « 2002
ББК 87.2, 87.6
Везен Ф. Филосо(/шя французская и филосо(/шя немецкая.
Федье Ф. Воображаемое. Власть.
Пер. с фр., обш. ред. и послссл. В. В. Бибихина. — М.: Едиториал УРСС,
2(Ю2. - 152 с.
ISBN 5-354-0O20O-I
Первое в мире издание двух лекционных курсов известного
французского философа Франсуа Федье. Воображаемое рассматривается в широте его
диапазона от воспроизведенной реальности до исходных <|юрм восприятия
действительности по Канту. В свете современного кришеа власти анализируется
се принципиальная зависимость от легитимирующего авторитета.
Предисловие Франсуа Везена, переводчика хайдеггеровского «Бытия и
времени» на французский язык, выявляет перспективы фундаментальной
филос(н|)ии во Франции.
В послесловии В. В. Бибихин говорит об особенностях рецепции западной
мысли в России. Имея обшекультурный интерес, кнша служит одновременно
введением в школу философского рассуждения.
X ч
\
I
Издание осуществлено с ioiоного оригинал-макета.
Коррскюр. О i Jlvuvrivea Mavei: Л Иттченко. Технический релакюр: С.Гурко.
Ишлюлычно «Глигорилл У1ЧС» 117312, г. Москва, ир-г 60-летия Октября, 9.
Лишммия ИД №05175 oi 25 06.2(H)! i. Подписано к печати 20.08.2002 г.
Формат 60x84/16. Тираж 20(H) >м Печ. л 4,5. Зак. № 39.
Отпечатано в типографии ООП «Рочос*. 117312, г Москва, пр-т 60-летия Октября, 9.
УРСС
ИЗДАТЕЛЬСТВО
НАУЧНОЙ И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
E-mail: urss@urss.ru
Каталог изданий
в Internet: http://urss.ru
Тел./факс: 7 (095) 135-44-23
Тел./факс: 7 (095) 135-^42-46
ISBN 5-354-00200-i
© Оригинал: Ф. Везен, 2000, 2002;
Ф. Федье, 2002
О Перевод на русский язык,
послесловие: В. В. Бибихин, 2002
© Едиториал УРСС, 2002
СОДЕРЖАНИЕ
Франсуа Везен. Философия французская
и философия немецкая
Франсуа Федье. Воображаемое
Франсуа Федье. Власть
Послесловие переводчика
ФРАНСУА ВЕЗЕН
ФИЛОСОФИЯ ФРАНЦУЗСКАЯ
И ФИЛОСОФИЯ НЕМЕЦКАЯ1
Бесспорная на первый взгляд симметричность выражений
«французская философия» и «немецкая философия» кажется
мне тем не менее, должен признаться, проблематичной, причем
до такой степени, что чем больше я задаюсь вопросом их
сопоставления, тем меньше у меня настроения заниматься чем-то
вроде «сравнительной философии», удобной для встраивания в
одну из схем, где находят себе место одна за другой такие пары,
как итальянская музыка и немецкая музыка, английский бокс
и французский бокс, немецкое кино и русское кино. Лучше
сразу объявить, что если я говорю о французской философии и
немецкой философии, то не для того чтобы выставить
отчетливый диптих, но потому что надеюсь привнести в этот предмет
свое личное свидетельство.
По сути дела тут большой вопрос. Можно ли поставить
лицом к лицу французскую и немецкую философии? В плане
организации культурного обмена все было бы нетрудно! Живи
мы в Европе начала XX века, такого рода параллель тоже
складывалась бы сама собой. Под эгидой национализма процветала
мода на классификации по национальному признаку. Великая
европейская держава имела перед самой собой долг обладать
национальной литературой, национальной живописью,
национальным театром. Она была сама перед собой обязана иметь
также и свою философию. Таким настроением была
проникнута например вышедшая в 1919 году книга Виктора Дельбоса
1. Доклад, прочитанный в лицее Камилл- Клодель (Труа) г февраля 1993 года
по приглашению Франчески Ферне.
6
ФРАНСУА ВЕЗЕН
о французской философии. Каждая страна гордилась своим
национальным философом, и у Франции был соответственно
Анри Бергсон, у Италии Бенедетто Кроме, у Испании Унамуно,
причем все достаточно хорошо исполняли свою роль.
Многое, само собой, изменилось с той эпохи, когда наци*
ональными рамками регулировалась жизнь народов на всех
уровнях и во всех аспектах. Миновала эпоха, когда достаточно
было заговорить о вечной Франции и о вечной Германии, чтобы
наблюдать целый веер национальных особенностей:
французский классицизм по левый берег Рейна, немецкий романтизм по
правый, или еще: католический мир здесь, протестантский там.
Немало воды утекло с тех пор, и прежде чем сопоставлять нашу
французскую философию с немецкой, необходимо всерьез
задуматься — даже если нам для этого понадобится порядочно
времени, — чем же мы тут все-таки занялись.
Первый же вопрос, который надо задать, уже несет в себе,
приходится согласиться, нечто вызывающее. Тем не менее
необходимо начать с проблемы, существует ли вообще
французская философия. Превосходство немецких философов на
протяжении двух веков действительно таково, что заставляет
задуматься в этом смысле. Превосходство, которое могло еще
не быть вполне очевидно во Франции начала XX века и
которое свирепствовавший тогда франко-германский антагонизм
определенно поощрял одновременно недооценивать и даже
игнорировать, все с большей явностью заявляло о себе в течение
последних пятидесяти лет. Сейчас, когда важная переводческая
работа уже осуществлена, стало совершенно очевидно, что
почти всё существенное, достигнутое в философии за
последние два века, было работой немецких философов: Кант, Фихте,
Шеллинг, Гегель, Маркс, Ницше, Гуссерль, Хайдеггер, эти восемь
имен образуют сегодня перед нашими глазами
последовательность вершин, связанных между собой в единой непрерывной
цепи, — преемство, равного которому не может предложить
ни Франция, ни какая-либо другая европейская или
американская страна. Создается впечатление, что с конца XVIII века
ФИЛОСОФИЯ ФРАНЦУЗСКАЯ И ФИЛОСОФИЯ НЕМЕЦКАЯ 7
философия избрала себе местом жительства Германию и что
для нас, занимающихся философией, стало необходимо
ориентироваться на Германию, учить немецкий язык и изучать в
первую очередь немецких философов. Во Франции, но точно
так же в Англии, в Италии или в России философии не остается
другого выбора, кроме как безоговорочно открыться немецкой
философии, пойти в ее школу, немножко тем же манером, как в
античности римляне шли в греческую школу. В такой ситуации
что остается от нашей французской философии? Похоже, не
так уж много. Я вроде бы драматизирую, рисую тенденциозную
картину, утрирую, паникую, но посмотрим немного, как все же
обстояло дело с французской философией в XX веке.
До 1914 года философией, царившей в европейских
университетах, было неокантианство. Существовало французское
неокантианство. Это оно сделало престижным изучение
философии Канта и это ему мы обязаны, среди прочего, вышедшим
в 1903 году переводом «Критики чистого разума» Тремесега и
Пако. С той эпохи кантовские штудии стали константой
французского университета и во всяком случае одной из
существенных баз для формирования будущих профессоров философии.
Успех Бергсона в начале 20 века, явившись реакцией против
этого неокантианства, невозможно понять без него (ничто,
пожалуй, не устарело в книгах Бергсона так, как его
легкомысленная и поверхностная критика в адрес философии Канта). После
войны 1914—*9l8 годов отзвуки русской революции
переместили в центр злободневности, причем более чем на пятьдесят
лет вперед, философию Маркса. Жан-Полю Сартру довелось
даже объявить, в начале бо-х годов, что марксизм составляет
«непревосходимую философию нашего времени»! Но всякий
взявшийся всерьез изучать Маркса скоро обнаруживает, что
для этого сначала надо пройти через Гегеля. Потому
приходится признать, что тот парижский семинар, на котором, в
тридцатые годы, Александр Кожев инициировал целое поколение
французских студентов в чтение Гегеля, был одним из
рассадников современной философии. Из него вышел, спустя сто
8
ФРАНСУА ВЕЗЕН
тридцать лет после появления немецкого оригинала, первый
французский перевод «Феноменологии духа». Он явился
знаменем деятельного взлета гегельянских штудий, тоже ставших
константой французского университета, — взлета, который в
порядке реакции противления принес в конечном счете пользу
Шеллингу, равно как, в более позднее время, Фихте, переводы
которого множатся. Сразу после войны 1939—1945 годов
феноменология и экзистенциализм выдвигают на передний план,
причем заметно устойчивым образом, неразделимые имена
Гуссерля и Хайдеггера. Среди нового поколения, возникающего
в этот момент во Франции, Жан Кавайес, Реймон Арон, Жан
Бофре, Жан-Поль Сартр, Морис Мерло-Понти все германисты.
Все они имеют значительный долг перед немецкой философией.
Характерно также, что когда в шестидесятые годы Поль Рикёр
организует изучение философии в университете Нантерра, то
он создает там функционирующий до сих пор курс немецкого
языка для студентов философии, С моей стороны, когда, в мои
молодые годы, я решил ориентироваться на философию, одна
из истин, представших мне с настоятельностью и
очевидностью, была та, что мне необходимо выучить немецкий. Мои
учители в те годы, М. Мерло-Понти, Жан Бофре особенно и Реймон
Арон, меня в том убедили, что было не самым
малозначительным аспектом их школы.
Картина, которую я набрасываю немного слишком
поспешно, явно нуждается в нюансах и добавлениях. Продолжая
держаться самого существенного, как не упомянуть об очень
важном месте, которое в современной интеллектуальной
жизни занимает Ницше — имею в виду, в начале XX века и вне
рамок неокантианства, таких литераторов как Андре Жид и
Поль Валери, из университетской среды Шарль Андлера, затем,
в следующем поколении, Альбер Камю, который всегда читал
Ницше с большой серьезностью и говорил о нем, смиренно
отдавая ему должное? После смерти Камю мысль Ницше
усваивается и обсуждается в тесной связи с ее интерпретацией
у Хайдеггера. Что несомненно, вот уже почти целый век инте-
ФИЛОСОФИЯ ФРАНЦУЗСКАЯ И ФИЛОСОФИЯ НЕМЕЦКАЯ 9
рес к Ницше не прекращается во Франции, он даже постоянно
возрастает.
Если прервать здесь этот исторический обзор, неизбежно
несколько схематичный, то непосредственно возникающим
из него впечатлением остается повсеместность немецкой
философии. Лет сто назад французские музыканты говорили о
вагнерианском нашествии. Глядя на современную
философскую ситуацию во Франции, смеем ли мы говорить о
немецком нашествии? Не хотелось бы ворошить слишком дурные
воспоминания, но приходится констатировать, что Германия
явно сделалась «локомотивом» современной философии и что
Франция, которая силится в течение последних десятилетий
преодолеть накопленное отставание, сочла за лучшее
прицепить туда же свои вагоны.
Теперь, надеюсь, становится немного более понятен мой
дерзкий вопрос: существует ли вообще какая-то французская
философия? Вопрос настолько задевающий, что, думаю,
небесполезно обратить внимание, что тот же вопрос, поставленный
об испанской философии, приведет к очень сходным
раздумьям, поскольку с тем же риском задеть читателя приходится
все же сказать, что как бы ни были велики поэты и художники
Испании, эта страна не имеет великих философов. Заслугой
Ортеги-и-Гассета было именно открыть в наши дни испанскую
интеллектуальную жизнь немецкой философии — ради вящей
славы Антонио Мачадо или Марии Самбрано. Известно, что
Ортега несколькими годами раньше чем наши французские
интеллектуалы поехал учиться в Германию, собственно в Мар-
бург, центр номер один неокантианства. В значительной мере
именно благодаря ему Дильтей, Шелер, Гуссерль и Хайдеггер
оказались известны и даже переведены в Испании в начале
тридцатых годов...
Я задался вопросом о том, существует ли, перед лицом
исключительного богатства немецкой философии между 1784
и 1976 годами, т. е. между выходом в свет «Критики чистого
разума» и смертью Хайдеггера, французская философия, за-
ю
ФРАНСУА ВЕЗЕН
служивающая такого названия, или, если угодно, автономная
французская философия. Думаю, в целях плодотворного
размышления на такую тему можно было бы остановиться на
одном замечании Хайдеггера, вызвавшем в самые последние годы
ожесточенные — это меньшее, что можно сказать, — дискуссии
и комментарии. В сентябре 1966 года Хайдеггер дал немецкому
еженедельнику «Шпигель» («Зеркало») интервью, поставив
условие, что текст будет опубликован только после его смерти.
В ходе этой беседы и сразу после упоминания о задаче диалога
с Гёльдерлином как предстоящего особенно немцам, Хайдеггер
заявляет:
Я думаю о специфически интимном родстве, которое существует между
немецким языком и языком греков, равно как и их мыслью. Это мне сейчас
больше всего подтверждают французы. Когда они начинают думать, то
говорят по-немецки; они уверяют, что не достигли бы того же на своем языке2.
Такова эта фраза. В 1976 году, когда публикации интервью
предшествовала кончина Хайдеггера, эта фраза не возбудила
волнения, но с десяток лет спустя она стала поводом для испускания
громких криков. Применяя немного грубоватый термин, в ней
увидели проявление ярко выраженного пангерманизма— как
если бы Хайдеггер считал, что для того чтобы «думать»,
французы должны говорить по-немецки! Всё тогда делалось вроде
бы совершенно ясно: если язык философии — немецкий и
только он, французский язык и французская философия
соответственно дисквалифицировались; в таких условиях никак
не могло даже и быть французской философии. Вот вам
брутальное и негативное решение нашего вопроса, причем на суд
самого Хайдеггера.
В самом начале я объявил, что принесу свое собственное
свидетельство. Касательно это спорного заявления Хайдеггера
у меня собственно есть немало что сказать, потому что дата
2. Martin Heidegger. Ecrits politiques, trad, de Francois Fedier. Paris: Gallimard
1995» p. 26S.
ФИЛОСОФИЯ ФРАНЦУЗСКАЯ И ФИЛОСОФИЯ НЕМЕЦКАЯ 11
сентябрь 1966 года, когда было дано то интервью, сохраняет
для меня совершенно особый интерес. Дело в том, что я
именно француз и я провел первую половину этого сентября 1966
года рядом с Хайдеггером. Стоит уточнить: когда произошло
интервью — а именно 23 сентября — Хайдеггер, перед этим
проведший две недели в Воклюзе по приглашению Рене Шара,
вернулся к себе во Фрейбург всего лишь за ю дней до того.
Я могу даже собственно восстановить его календарь
следующим образом: утром во вторник зо августа Хайдеггер
отправился во Францию, сделав первую остановку в Дижоне, вторую
в Сен-Дидье-су-Риври (Рона) у Жана Бофре, который тогда же
присоединился к путешествующим, чтобы достичь Ле Тора,
куда они прибыли в четверг i сентября после полудня. Там они
поселяются в одной и той же гостинице до утра и сентября,
после чего отправляются в обратный путь и расстаются,
позавтракав вместе в Лионе. После последней остановки в Безансоне
Хайдеггер прибывает к себе домой поздним утром. Думаю, что
не будет преувеличением сказать, что он возвращается в
восторге от своей поездки, потому что снова подобным же образом
еще будет жить у Рене Шара в 1968 и 1969 годах.
В том 1966 году день распределялся следующим образом:
утром мы оставались в отеле Шассла, где происходил
импровизированный семинар, — где бы Хайдеггер ни оказывался, он
всегда хотел работать! — а после полудня отправлялись к Рене
Шару в Иль-сюр-ля-Сорг и совершали вместе с ним прогулки,
разумеется прерывавшиеся дискуссиями разного рода. В тот год
Хайдеггер привез с собой издание Гераклита, подготовленное
Рикардо Вальтером. Бофре, со своей стороны, имея некоторое
число вопросов к Хайдеггеру, захватил свой экземпляр поэмы
Парменида. Так что семинар включал шесть сессий о Гераклите
и Пармениде и имел свое «завершение» ю сентября в большом
дневном обсуждении с Рене Шаром в Ле Бюскла.
Во время этих рабочих сессий почти всегда главным
собеседником Хайдеггера был Жан Бофре. Хайдеггер говорил
по-немецки, но понимал по-французски. Все сказанное им тут же пе-
12
ФРАНСУА ВЕЗЕН
реводилось; Хайдеггер на том настаивал, потому что хотел
чтобы все участники могли быть вполне в курсе беседы. Переводил
главным образом Франсуа Федье, Хайдеггер прислушивался и
с большим вниманием следил за переводом, присоединяясь к
нему и предлагая всякого рода критику, которая высвобождала
место для уточнений и доводок, всегда многое прояснявших.
Были моменты, когда он очень определенно отклонял
некоторые эквиваленты, казавшиеся ему неудовлетворительными, и
требовал предложить другие варианты. Речь шла о Пармениде
и Гераклите, греческий поэтому все время был в ходу. Бофре
в самом разгаре этого «диалога с Хайдеггером» (как мы были
счастливы при нем присутствовать!) применял поочередно
французский и немецкий. Со своей изобретательностью, еще
и со своим юмором, со своим незаурядным чутьем к языку он
объяснял Хайдеггеру разнообразие ресурсов французского,
потом, посреди фразы, говорил вдруг: будет яснее если я скажу
это по-немецки. Хайдеггер, могу это утверждать, не упускал ни
одной мелочи! Таким был тот диалог, где французский
приобретал новую силу, отталкиваясь от немецкого, и наоборот.
И можно было невооруженным глазом видеть, что мысль, по
слову Ницше,это праздник...
Вот, насколько я могу передать, о чем Хайдеггер по всей
видимости с живостью вспоминал, когда десять дней спустя
говорил с журналистами «Шпигеля». Потому, на мой взгляд, во
фразе, которую неумно инкриминировали ему как
самоуверенное утверждение грузной философской монополии Германии
и немецкого языка, главную роль играют самые свежие
воспоминания о жизни в Воклюзе. Когда Хайдеггер говорит
«французы», он по сути дела подразумевает: французские друзья, с
которыми я на днях работал, прежде всего Жан Бофре. «Я это
скажу по-немецки», предупреждал Бофре. Монтень, будь он
тогда там с нами, непременно бы добавил: «И пусть гасконский
пойдет в ход, если французского не хватает!»
Так что прочитанное место из интервью в «Шпигеле» надо
воспринимать как напоминание, как рассказ: Хайдеггер видел,
ФИЛОСОФИЯ ФРАНЦУЗСКАЯ И ФИЛОСОФИЯ НЕМЕЦКАЯ 13
только что видел французов, которые, чтобы дотянуться до
греческого, задействовали немецкий, и он еще удивлен, обрадован,
прежде всего — задумчив. Если я повторю сейчас его слова,
сразу станет ясно, что речь идет о только что описанной мною
семинарской работе:
Я думаю о специфически интимном родстве, которое существует между
немецким языком и языком греков» равно как и их мыслью. Это мне сейчас
больше всего подтверждают французы. Когда они начинают думать, то
говорят по-немецки; они уверяют, что не достигли бы того же на своем языке.
Когда Хайдеггер говорит «сейчас», то даю руку на отсечение,
что произносящий эти слова все еще видит себя в Ле Торе! Что
касается выражения «когда французы начинают думать...», то
чистой и откровенной клеветой будет внушать, будто по Хай-
деггеру французы, насколько они не говорят по-немецки, вовсе
не умеют думать и рычат с бессознательностью приматов, не
доросших до человека! Относясь, как я пояснил, к семинарам
в Ле Торе, слова «когда они начинают думать...» явно
означают: когда они берутся за дело мысли, вплотную принимаются
за философскую работу. Нельзя все-таки забывать, что Бофре
это человек, который в начале зо-х годов столкнулся с мыслью
Фихте, Канта, Гегеля, Маркса; кто расшифровал в сороковые
годы Гуссерля и Хайдеггера — в эпоху, когда их доступного
перевода практически не существовало. Когда человек пропитан,
как он, немецким до мозга костей, то он уже не может обойтись
без его помощи. Тут нечего спорить. В наши дни знающий свое
дело философ-профессионал, будь он француз, русский или
даже японец, испытал себя на великих текстах Канта, Гегеля
или Ницше и мог приобрести этот опыт только при
соприкосновении с оригинальными текстами. Во всем этом от
Хайдеггера никоим образом не ускользало, его в высшей степени
захватывало то, что в Бофре он имел дело с совершенно
оригинальным французским писателем, тем более мастером своего
языка, одновременно глубоким знатоком немецкого. Сведу все
H
ФРАНСУА ВЕЗЕН
к формуле: там, где Хайдеггер говорит «французы», надо читать
прежде всего «Бофре».
А теперь, если только что рассказанное мною ясно,
пожалуйста подумаем. Если новоевропейская философия так расцвела
по-немецки и в Германии, то не Хайдеггер и не Бофре так
постановили. Брешь проделал Кант, который в какой-то период
между 1770 и 1781 годами отважился перейти с латинского на
немецкий язык, сообщив тем самым решающий импульс двум
векам философии в Германии. Он был, как любил повторять
Хайдеггер, величайшим немецким философом. Я только что со
всей подробностью разъяснил, что делая свое заявление
«Шпигелю», Хайдеггер думает о Бофре: его он имеет перед глазами,
его слышит, его описывает. Правда то, что в своем порыве к
взаимопониманию Бофре иногда говорил на любопытной
смеси французского и немецкого. Но в этом отношении не следует
думать, будто Бофре тут единственный возможный пример, все
как раз наоборот. Если вы откроете на любой странице
последнюю работу Мерло-Понти, книгу незавершенную и никоим
образом не готовую к публикации, но название которой,
«Видимое и невидимое», было вполне утвердившимся, сможете легко
констатировать, что эти тексты и заметки усеяны немецкими
словами. Я легко могу представить себе Хайдеггера
перелистывающим этот том, как он был издан Клодом Лефором. Он видит
Мерло-Понти рассуждающим наедине с собой и совершенно
естественно пользующимся многими немецкими
выражениями. Книга включает также немного греческого и латыни
и несколько английских слов, но в девяти случаях из десяти
именно немецкий привлекает его внимание — легко
узнаваемый немецкий язык Канта, Гуссерля, Хайдеггера. Я воображаю
Хайдеггера закрывающим книгу через минуту со словами: эти
французы, когда идут в своих размышлениях дальше
определенной точки, обращаются к немецкому языку; это у них стало
второй природой... Разве он неправ, говоря: «Когда они берутся
думать, то говорят по-немецки»? Не будем все-таки принимать
простую констатацию за агрессию.
ФИЛОСОФИЯ ФРАНЦУЗСКАЯ И ФИЛОСОФИЯ НЕМЕЦКАЯ 15
Я так долго распространялся об этом эпизоде, потому что
считаю его очень поучительным в том, что касается
занимающего нас вопроса. Он в самом деле способен подсказать нам
некоторые соображения, совершенно простые, но по-настоящему
важные. И прежде всего: что делал Хайдеггер в Ле Торе? Если бы
он действительно думал, что философия немецкая монополия,
какой смысл браться работать с французами и заниматься
делом, не требуя, чтобы работа шла исключительно на немецком!
Мало того. Будь Хайдеггер тайно убежден, что все языки кроме
немецкого остаются ниже философии, зачем упорно
продолжать то, что он на виду у публики вел на протяжении тридцати
лет, — диалог с французом по имени Жан Бофре! В годы, о
которых я говорю, Хайдеггер уже не проводил семинаров с
немцами. Откуда эта прихоть, проводить их с французами, явно
находя в том удовольствие?
Что недоброжелательство и узость ума отравили
вышеупомянутый спор, вам уже понятно. В том же ключе можно было
бы заподозрить даже громогласные почести, оказанные Гегелем
Декарту, которого он приветствует как Христофора Колумба
новоевропейской философии: «Это герой» — и здесь тоже
вынюхивать Бог весть какой пангерманизм? Наше дело однако
размышление, а не препирательство с неутомимой глупостью.
А размышление здесь могло бы быть воспоминанием о
времени, когда французская философия поистине доминировала в
Европе и один человек, которого в глупости заподозрить никак
нельзя, ее в совершенстве понял.
В марте 1672 года, двадцать два года спустя после смерти
Декарта и немногим меньше десяти лет после смерти
Паскаля, молодой немец в возрасте двадцати пяти лет прибывает
в Париж, чтобы покинуть его только в ноябре 1676 года, т. е.
через четыре с половиной года. Этот молодой немец зовется
Лейбниц, и он извлечет огромную пользу их проведенных во
Франции лет, потому что именно в Париже проснется его
математический гений. В определенном смысле ему очень не везет,
потому что Декарта, которому в эти годы было бы между 75 и
16
ФРАНСУА ВЕЗЕН
8о годами, уже нет с 1650 года, а будь Паскалю даровано в жизни
больше здоровья, он имел бы едва 50 лет. С ними встретиться
Лейбниц уже никак не мог, но он знал в Париже людей, которые
их знали и с ним об этом говорили. Он получает возможность
изучать и переписывать разнообразные рукописи Декарта и
Паскаля. У него происходят встречи с Арно, с Мальбраншем, с
Гюйгенсом. Он видел также игру Мольера. В Париже Лейбниц
очень хорошо усвоил французский язык, на котором он будет
говорить, читать и, главное, почти в совершенстве писать до
самой своей смерти в 1716 году. Он немец. Как все ученые его
времени, он свободно владеет латынью и использует ее, когда
пишет научные трактаты, но его владение французским
поразительно. Оно позволяет ему писать по-французски, оставаясь
вполне самим собой, настолько, что он делается по-настоящему
французским писателем и выражает себя в стиле, легко
выдерживающем сравнение с прекрасным языком Мальбранша, Фе-
нелона и даже Монтеня. Всем наверное известны современные
писатели, как румын Эжен Ионеско и ирландец Сэмюэль Бек-
кет, занявшие место среди самых известных из франкоязычных
авторов. Но не мешает помнить также, что им предшествовал
Лейбниц, только с той разницей, что, в молодости связав себя
с Парижем, Ионеско и Беккет стали практически французами,
тогда как Лейбниц, со своей стороны, вернулся в Германию и
оставался там все сорок лет до своей смерти в ноябре 1716 года.
Поселившись в Ганновере, он там создал большинство своих
важнейших философских текстов, причем писал их прямо по-
французски. Это «Рассуждение о метафизике», «Новая система
природы», «Новые опыты о человеческом понимании»,
«Монадология». Единственная большая книга, которую Лейбниц
опубликовал при жизни, «Опыт теодицеи», вышла в
Амстердаме в ljxo году. Это сочинение на более чем четырехстах
страницах, где Лейбниц стремится опровергнуть некоторые тезисы
Пьера Бейля, известного писателя, образующего
промежуточное звено между Декартом и Вольтером. Как все сочинения,
предназначавшиеся Лейбницем для большой публики, «Тео-
ФИЛОСОФИЯ ФРАНЦУЗСКАЯ И ФИЛОСОФИЯ НЕМЕЦКАЯ 17
дицея» написана по-французски. Она с полным правом
принадлежит поэтому французской литературе, точно так же как и
корпусу французских философов. Я был как-то в Ганновере и
видел архивы Лейбница. По моей просьбе мне выдали для
просмотра рукопись «Монадологии», и я мог констатировать, что
немец Лейбниц размышлял по-французски, на хорошем языке
Декарта и Паскаля. Если бы они могли его видеть, им возможно
пришло бы в голову сказать: «Когда немцы начинают думать,
они говорят по-французски; они тем самым подтверждают, что
на своем языке не достигли бы того же...»
Приходится жалеть, что антологии французских авторов
XVII и XVIII веков не содержат образчиков философской
прозы Лейбница, строгой и простодушной, дерзкой и глубокой,
всегда радующей своей меткостью и удивительной живостью.
Наверное, надо быть французом, чтобы получать удовольствие
от всей ее оригинальности. Во всяком случае, никак нельзя
пренебрегать воздействием, которое она имела на нашу литературу
века Просвещения. Чтобы в том убедиться, достаточно
как-нибудь взять и прочесть последние восемь страниц «Теодицеи».
Рассказанная здесь занятная история касается французской
философии. Ибо французская философия прекрасным
образом существует. Ее основатели носят имена Декарт и Паскаль;
это философы, которых Гегель ставил никоим образом не ниже
Канта и Фихте. И кроме того было время, когда немецкий
философ первой величины выучился французскому, можно сказать,
чтобы суметь философствовать, т. е. чтобы вести осмысленный
диалог с Декартом и Паскалем, усвоив их язык в совершенстве.
Хотя Лейбницу не довелось лично знать Декарта и Паскаля,
размышление, которому он отдавался всю свою жизнь, было
письменным диалогом с ними — диалогом на их языке, на
нашем языке. Если философия есть по своей сути диалог, как
можем мы позволить себе забыть, что в один из важных
периодов своей истории она была франко-германским диалогом?
Случается однако, что прекрасно начавшиеся истории конча-
J<? довольно грустно, и то, что я собираюсь сейчас рассказать,
i8
ФРАНСУА ВЕЗЕН
способно навеять тоску, как бы несерьезно ни относиться к
философии.
Пережив целый век жестокого антагонизма между
Францией и Германией, французы, несмотря на нынешнее
франко-германское примирение, уже, кажется, не очень хорошо знают, что
на протяжении двух веков, начиная с Вестфальского договора и
вплоть до революций 1848 года, немцы были страстными
франкофилами. Тому были всякого рода причины, и среди них
влияние Лейбница было явно не самой маловажной. Всем известно,
что в XVIII веке языком, на котором говорили при дворе
прусского короля Фридриха II, был французский. Вот почему его
дворец в Потсдаме носит начертанное на его фасаде название
Sans Souci. Посетив однажды Берлин, вы наверное осмотрите
другой знаменитый дворец, Шарлоттенбург, и увидите там, что
Фридрих II жил в окружении исключительной коллекции
шедевров Ватто. Я был там прошлым летом и в одной из галерей
первого этажа, со стороны парка, набрел на три отличных
библиотеки. Через стекло я рассмотрел книги, восхитился
великолепными переплетами XVIII века и мог убедиться, что все эти
книги написаны по-французски. Гугеноты, т. е. протестанты,
изгнанные из Франции отвратительной религиозной
политикой Людовика XIV, во многом объясняют эту франкофилию.
«Все подражают французам», писал тогда Христиан Томазий,
«потому что в настоящее время эти люди действительно
обладают даром придать всем обстоятельствам жизни изысканный
и успешный ход». Нелишне сказать, что интеллектуальная и
артистическая жизнь Парижа в течение долгого времени была
обязана частью своей оригинальности и своего качества
закваске, которую в нее привнесли, каждая по-своему, две тесно
связанные между собой общины, евреи и гугеноты. Мания
французского языка дошла в Германии наконец до того, что
в середине XVIII века Юстусу Мозеру, другу Гёте и славе Ос-
набрюка, пришлось выступить в защиту немецкого! Великий
европейский рационализм с его вершиной в Лейбнице можно
пожалуй даже назвать франко-германским феноменом. Он
ФИЛОСОФИЯ ФРАНЦУЗСКАЯ И ФИЛОСОФИЯ Н1-МЕЦКАЯ 19
мог открыть путь к франко-германскому философскому
диалогу, вероятность которого имела бы в себе нечто такое, о чем
позволительно и размечтаться, — но мешает печаль, потому
что теперь, в наши дни, нам приходится вспоминать, наоборот,
какие усилия оказались необходимы, чтобы мы смогли усвоить
немецкую философию последних двух веков в попытках
подтянуться до ее уровня.
Повторю для ясности, что под немецкой философией я имею
в виду философию, развернутую и утвержденную на немецком
языке Кантом. Центральная дата, знаменующая ее рождение, —
1781 год, когда вышла в свет «Критика чистого разума», за
которой последовала в 1788 году «Критика практического разума», а
в 1790 году — «Критика способности суждения». Эти три книги
общепризнаны как шедевры, философские вершины. Но
потребовалось много, страшно много времени, чтобы французы
оценили их важность, восприняли их плодотворный импульс.
Лишь в 1849 году Жюль Барни делает первый французский
перевод «Критики чистого разума». С двумя другими
критиками запоздание перевода еще заметнее. Верно, что публикация
«Критики чистого разума» застала всех врасплох. Это очень
большая и очень трудная книга, важность которой не очевидна
с первого взгляда. Зато «Критика практического разума», в 1788
году, добыла для Канта, в странах немецкого языка,
откровенную славу, которой было бы достаточно, чтобы привлечь
внимание французов к ее автору и его философии и сделать так,
чтобы, спустя десять лет после первой критики, публикация
«Критики способности суждения» не прошла совершенно
незамеченной у нас, «в этот философский век, когда просвещение
распространяется повсюду...» (Пьер Лакло), как любила
выражаться риторика эпохи. Но знаете ли вы, что это был за
«философский» — приходится брать в кавычки — труд, которым
французская публика вдохновлялась в 1790 году? «Этюды о
природе» Бернардена де Сен-Пьера. И спустя десять лет в такой
знаменательной исторической книге, как «Гений христианства»
Шатобриана, опять нет ничего о Канте. Подобная философская
20
ФРАНСУА ВЕЗЕН
слепота нам сегодня кажется чем-то ошеломляющим. Есть от
чего вставать в тупик. В какую же летаргию, в какой
«догматический сон»— вот подходящий случай вспомнить это
выражение Канта — была погружена французская философия? И это
в исторический момент, когда Франция, культурная страна,
намеревалась указать путь всему миру. Если у нас некого
противопоставить Канту, кроме Бернардена де Сен-Пьера, то с
французской философией покончено, можно даже смело говорить,
что ее с тех пор просто нет.
Но каким образом можно было дойти до такого на родине
Декарта? Тут как раз и заключается вопрос, который я
намереваюсь поставить. Пришел момент приступить, что называется,
к жгучей теме. Вот как я мыслю себе по крайней мере попытку
объяснения, на которую хочу рискнуть.
С одной стороны, мы имеем исходный набор имен,
составляющих французскую обойму: Декарт, Паскаль и Лейбниц. С
другой стороны, перед нами, от Канта до Хайдеггера,
величественный ряд философов, составляющих немецкую обойму. И все же
заключать отсюда, что современная философия в течение своей
долгой истории бывает то «французской», то «немецкой», так
что остается только ждать, скрестив руки, обратного движения
маятника, было бы слишком примитивно! Чаша весов, если
здесь можно что-то взвесить, настолько склоняется на
немецкую сторону, что едва ли разумно надеяться на новое
равновесие. Суть дела надо поэтому искать где-то посреди между двумя,
на переходе от Лейбница к Канту. Там располагается какой-то
сдвиг, перепад, разрыв, в котором всё дело. История философии,
как всем известно, не плавное течение. Она богата
метаморфозами, неожиданно резкими поворотами. Ей известны и глухие
времена. Философия к тому же подвержена «географическим»
превратностям, нелегко поддающимся интерпретации, потому
что не всегда они случайны; философия «странствует». Она по-
своему знакома с тем «перемещением жизненности», о котором
говорил Бодлер. Так или иначе к концу XVII века именно
Франция, ставшая благодаря Декарту страной рационализма, явля-
ФИЛОСОФИЯ ФРАНЦУЗСКАЯ И ФИЛОСОФИЯ НЕМЕЦКАЯ 21
ется страной философии. Здесь одна из причин, почему аббат
Шарль-Ириней де Сен-Пьер скоро заговорит о «французской
Европе», — способ сказать, что картезианский рационализм
имеет европейский размах. Nulla nunc celebrior clamorosiorque
secta quam Cartesianorum, пишет один современник: нет школы
славнее и громче картезианской3. И вот веком позже
философский центр тяжести переносится на другой конец Европы, в
Кенигсберг, город Канта, так что с тех пор философия
предстает нам решительно и как бы необратимо утвердившейся в
Германии.
Между тем Кант там у себя, на северо-востоке Европы, тоже
остается гражданином французской Европы. Как всякий
культурный немец своего времени, он читает авторов
по-французски. Он читает Мальбранша, Монтескье, Вольтера. Он страстный
поклонник Руссо. Никто во Франции о нем не подозревает, но
он читает как «Общественный договор», так и «Теодицею»,
восхищаясь ими. Если вы изучите хронологический список
сочинений Канта, то возможно с удивлением увидите, что в 1759 году
он напечатал небольшую статью под заголовком «Опыт
некоторых соображений об оптимизме». Оптимизм, о котором идет
тут речь, конечно лейбницевский. Но что же это я говорю! При
звуке слов «лейбницевский оптимизм» настоящий
французский француз сразу хохочет. Разве он не знает, что «всё к
лучшему в этом лучшем из миров»? Будет вам, дайте посмеяться! 1759
год — тот самый, когда Вольтер издает «Кандид, или оптимизм».
Таким образом, в XVIII веке есть две критики Лейбница,
которые выдаются — одна причиненным ею злом, другая
философской строгостью; есть критика Вольтера и есть критика Канта.
Имеет смысл сказать несколько слов о Вольтере.
Окопавшийся в конце своей жизни в Фернее, Вольтер являл
собой фигуру патриарха европейской интеллектуальной
жизни. Иногда говорили даже о «короле Вольтере». В историческом
3. Цит. по: Paul Hazard* La crise de la conscience europeenne 1680—1715. Paris:
Fayard 1961, p. 118.
22
ФРАНСУА ВЕЗЕН
плане это персонаж огромного значения, у меня нет никакой
охоты утверждать противное. Но этот великий персонаж не
лишен амбивалентности, и в отношении Вольтера мне кажется
нужным провести очень четкое различение между писателем,
бесспорно гениальным, и «философом» — если уж на то пошло
и мы вправе признать за Вольтером этот титул, который он сам
себе без большой скромности присвоил. Ибо, надлежит сказать,
Вольтер никудышный философ или, самое большее, способный
вульгаризатор. «Я восторгаюсь прозой Вольтера... Я прочел
Кандида двадцать раз», пишет Флобер в одном своем
юношеском письме. Высказывая это как писатель, Флобер сто раз прав.
Что касается искусства прозы, он знаток, и его полное право
не истощаться в своих похвалах «Кандиду». «Концовка
Кандида», как еще пишет Флобер, «для меня кричащее
свидетельство гения высшего ранга. Львиные когти чувствуются в этом
безмятежном заключении, глупом как жизнь»4. Без малейшего
затруднения я улавливаю точку зрения Флобера. Но только моя
точка зрения другая: я не романист. Я профессор философии.
Каждый год я наблюдаю переходящих в заключительный класс
учеников, которые приступили к Вольтеру в первом и большей
частью изучали «Кандида»; на основании этого чтения они с
чистой совестью воображают себя знающими, что такое
философ и что такое философия. Но Вольтер, как я говорил,
никудышный философ или, если раскрыть подкладку моей мысли,
он антифилософ. Что радикально дисквалифицирует его как
философа, так это его базовые философские пристрастия. В
самом деле, предпочитать случайных философов второго сорта,
как Бейль и Локк, Паскалю и Лейбницу представляется мне
чертой человека, который не имеет никакого чутья к философии
или даже в глубине души ее ненавидит.
Не буду распространяться о вольтеровской критике
«Мыслей» Паскаля в конце «Английских писем». Она не представля-
4. Письмо Луи де Корменену 7 июня 1844 года и письмо Луизе Коле 24
апреля 1852 года.
ФИЛОСОФИЯ ФРАНЦУЗСКАЯ И ФИЛОСОФИЯ НЕМЕЦКАЯ 23
ет уже никакого интереса. В буквальном и философском
смысле это совершенно поблекший текст. Мне хотелось бы говорить
только о злобной войне, которую Вольтер вел против Лейбница,
начав с того, что заключение «Кандида», так восхищавшее
Флобера, кажется мне историческим и философским бедствием.
Непростительная вина Вольтера в том, что, присвоив себе титул
философа, он постарался оттеснить Лейбница на второй план,
выставить его на смех и окончательно убрать из французского
интеллектуального пейзажа. Для этого оказалось достаточно
броского лозунга: «Всё к лучшему в этом лучшем из миров!»
Вот какими средствами диалог Лейбница с Декартом оказался
нейтрализован на целых два века! Верный своему
излюбленному методу, Вольтер сумел привлечь насмешников на свою
сторону. С тех пор француз, с наслаждением читавший «Кандида»
в свои лицейские годы, считает себя на весь остаток своих дней
избавленным от чтения «Теодицеи». А между тем, написанная
по-французски, она совершенно особым образом
предназначена для нас, и нескольких страниц ее достанет, чтобы без труда
увидеть, что Вольтер из всей философии Лейбница сделал
только жалкую поверхностную карикатуру. Считать Лейбница
опровергнутым этим памфлетом, дьявольски остроумным, но
философски настолько пустым, значит задешево успокоить
себя. Конечно, «Теодицея» книга не такая непосредственно
притягательная как «Кандид», но это книга редкого богатства,
редкостной тонкости — книга, в которой сразу узнается то, что
Ницше назвал «сильной немецкой манерой»: «Жить без
смущения среди контрастов в полноте той гибкой силы, которая
остерегается убеждений и доктрин, использует их для их же
взаимного опровержения и оберегает свою свободу»5. И вдобавок к
тому — язык яркий и полный находок. Но как раз здесь Вольтер
знаток своего дела и, как нельзя лучше чуя опасность для себя,
он сыплет искрами из-под всех четырех подков.
В Вольтере видят моралиста. Из него делают борца за то-
5. Изд. Walter de Gruyter, 9 [180].
24
ФРАНСУА ВЕЗЕН
лерантность, сделавшего своим девизом «раздавим гадину».
Но — девиз на девиз — невольно спрашиваешь, тот ли девиз
был действительно нужен и не следовало ли в
псевдофилософской кампании, которую он вел, взять другой попроще
и со всей честностью провозгласить: «Философия не
пройдет!»6 Я обвиняю, между прочим, не только Вольтера. Если
впоследствии Лейбницу приписали — в силу лозунга «всё к
лучшему...» — чушь о дыне, которая имеет дольки потому,
что Провидение пожелало, чтобы ее съедали всей семьей, то
значит Вольтер имел преемников, которые пошли еще дальше
и пожертвовали уровнем. Вольтер не мог быть знаком с этой
глупостью Бернардена де Сен-Пьера, но он создал условия для
того, чтобы путаница упрочилась. Всё это имело и продолжает
иметь необозримые последствия. Можно видеть, например, что
у нас спустя век после смерти Вольтера вульгарный позитивизм
считает установленным, что метафизика есть пустой дым и
надо позитивно возделывать свой сад. И, наконец, не так давно
Мишель Фуко возвестил возвращение «века Кандида, когда уже
невозможно больше прислушиваться к универсальной песенке,
разумно объясняющей всё на свете»7.
Французская философия, насколько она вообще еще
существует, и вся наша интеллектуальная жизнь не перестали, я в этом
убежден, страдать от манеры, в какой Вольтер приемом,
который лучше всего назвать саботажем, оттеснил Лейбница, чтобы
захватить весь первый план сцены и завладеть перед большой
публикой именем философа. Гут произошло нечто очень
тягостное, одна из тех узурпации, которые заставили Лотреамона
сказать: «Всей морской воды не хватит, чтобы смыть единое
пятнышко интеллектуальной крови». А я, со своей стороны,
выложу всё, что у меня на уме, если закончу этот раздел моей
темы словами: «Кандид» был катастрофой. «Кандид» —
настоящий образец того, что Альбер Камю назвал французской
6. Ср. Alain Ftnkielkraut, \ leulcgger. La question ct 1c proccs // Lc Monde, 8
Janvier 1988, p. 2.
7. Le nouvel observateur, 9 мая 1977.
ФИЛОСОФИЯ ФРАНЦУЗСКАЯ И ФИЛОСОФИЯ НЕМЕЦКАЯ 25
злостью. «Кандид» подорвал на целых два века философский
диалог между Францией и Германией.
Таким путем «эффект Кандида», как сказали бы журналисты,
обеспечил немцам, конкретно Вольфу, за которым поколением
позже последовал Кант, исключительное обладание наследием
Лейбница. Когда, в 1778 году, умирает Вольтер, уже близок
момент, когда молодые философы Германии будут вдохновляться
также и Спинозой, а французская философия, настоящая —
философия Декарта и Паскаля — окажется наполовину забыта.
Вот почему я, кажется, вправе впредь резервировать название
«пост-вольтеровской философии» за всем тем, что после
Вольтера выступает во Франции в качестве философии. И если вы
следите за ходом моего изложения, то можете теперь понять,
что именно об этой «пост-вольтеровской философии» я думал,
когда в самом начале поставил вопрос, существует ли вообще
французская философия.
Бернарден де Сен-Пьер — это не французская философия.
Фихте, наоборот, это немецкая философия. Поговорим тогда
о Фихте. Нет более подходящего примера чем Фихте, чтобы
высветить ярким светом то, в чем я виню пост-вольтеровскую
философию. Фихте — это философ Великой французской
революции. Ибо существует философ Великой французской
революции и — парадокс — этот философ немец.
Французская революция — великий момент в истории, и в этот момент
философия не молчала. В самый разгар революции, в 1793 году,
Фихте выпустил в свет книгу> которая для многих молодых
немцев была ударом грома. Эта книга называется «Вклад в
исправление суждений публики о французской революции».
Она начинается такой фразой: «Французская революция,
кажется мне, касается всего человечества». Перевод, по которому
я цитирую, был опубликован в 1858 году и принадлежит Жюлю
Барни, являющемуся также первым переводчиком «Критики
чистого разума». Воздадим должное Барни, у него много заслуг
перед философией, но вы согласитесь, что нельзя считать
нормальным, когда подобная книга ожидает шестьдесят пять лет
26
ФРАНСУА ВЕЗЕН
того, чтобы стать доступной французам. Мы касаемся здесь
феномена, который Жан Бофре со своим неповторимым
юмором называл «поздним зажиганием». Мне лично кажется более
чем печальным, мне кажется невероятным, что такая книга
оставалась нам неизвестна в эпоху самой революции, в тот
исключительный момент, когда, как писал современник событий
Фихте, «мечты Руссо осуществляются перед вашими глазами».
Хуже того. Еще и сегодня, в 1993 году, спустя четыре года после
шутовского двухсотлетнего юбилея, эта книга остается очень
мало известна во Франции и в Европе, где политическая и
философская дискуссия много оттого теряет. Таковы, я бы сказал,
результаты двух веков пост-вольтеровской философии. Мы,
французы, прочтя «Кандида», узнали определенно, что у немцев
нам учиться нечему. Книга Фихте имеет большой вес в
процессе, который можно было бы начать против пост-вольтеровской
философии. Ничто не убедит меня отказаться от мысли, что в
целях учреждения эры прав человека, чем гильотинировать Ан-
дре Шенье и кармелиток Компьени, лучше было бы прочесть,
перевести и обсудить эту книгу Фихте.
Итак, французская философия существует и не существует.
Что касается немецкой философии, то ее существование не
вызывает никакого сомнения! Декарт и Паскаль существуют
навсегда, это понятно, но, мне скажут, неужели действительно
нет ничего кроме трио Декарт-Паскаль-Лейбниц? Французской
философии суждено всегда сводиться к этим трем именам?
А если потребовалось бы добавить четвертое, то кого именно
выбрать? Определенно пришлось бы колебаться между
многими именами. Можно было бы думать о Монтене, о Мальбранше,
о Руссо, об Огюсте Конте...
Поскольку я готов поставить под вопрос
пост-вольтеровскую философию, остановимся на Огюсте Конте. Это великое
имя. Говорить о нем, как то делал Ален, «это наш Гегель», значит,
пожалуй, дать наилучшую рекомендацию пост-вольтеровской
философии. Слова Алена звучат. Хотя от Канта и Хайдеггера
тянется впечатляющая цепочка немецких мыслителей, одна-
ФИЛОСОФИЯ ФРАНЦУЗСКАЯ И ФИЛОСОФИЯ НЕМЕЦКАЯ 2J
ко не все философы последних двух веков немцы. Есть один,
своего рода outsider, который стоит в стороне и вне немецкой
обоймы: есть Огюст Конт. Ницше кое-что о нем знал. Он, не
видавший ни строки Маркса, читал некоторые тексты Конта и
из сказанного им о нем явствует, что какой бы проникновенной
или едкой ни была его критика, этот мыслитель его задел. При
случае он даже может приветствовать теплым словом
«великого неподкупного француза»8. В заметках осени 1887 года Ницше
пишет: «Огюст Конт продолжает XVIII век»9. Формула простая
и сжатая, но как ее по справедливости понимать?
Продолжение Огюстом Контом XVIII века можно принять за критику:
Конт последыш прошедшего века. Но то же можно услышать
и как похвалу: Огюст Конт через XVIII век возобновляет связь
с великим рационализмом. Огюст Конт странный случай. Над
ним легко потешаться, как Вольтер потешался над Лейбницем,
и Маркс не лишил себя этого удовольствия. Конта часто
высмеивали как философа в башне из слоновой кости. Это факт, что
он полностью отрезан от богатой и мощной немецкой
философии его времени. Родившийся в 1798 году и скончавшийся в
1857* он хронологически современник Фихте, Шеллинга, Гегеля и
Маркса, но никакого контакта с ними не имел. Самое большее,
он знает имена Канта и Гегеля, но его мысль ничем им не
обязана. Формуле «Огюст Конт продолжает XVIII век», возможно,
недостает по сути добавления: «как если бы вообще ничего
не было». Огюст Конт продолжает XVIII век так, словно Кант,
Фихте, Шеллинг никогда не существовали, как если бы
философия вся остановилась на картезианском рационализме.
«Когда наконец французы поймут, что гегелевская
диалектика есть не что иное как осмысление и развитие Декарта с его
clara et distincta perceptio?» Это замечание, сделанное однажды
Хайдеггером Жану Бофре, могло бы помочь прояснению
нашего зрения. Между французской философией и немецкой фило-
8. «Аврора», § 54*.
9- Walter de Gruyter, 9 [178],
28
ФРАНСУА ВЕЗЕН
софией столько связей, подлежащих восстановлению! Мы
перед рвом шириной в два века. Чтобы его засыпать, понадобится
конечно больше времени чем требуется для переброски моста
с одного берега Рейна на другой. Французы потратили целый
век для осознания того, что Маркс некоторое время жил в
Париже в 1843—1844 годах. Верно то, что для Франции Германия
не безмятежное философское соседство. Правда, главное, что,
сделав ставку на немецкий, Кант ipso facto отказался
обращаться непосредственно к французам. Кант не Лейбниц. Называть
это рвом или запрудой, но пост-вольтеровская философия, как
я ее называю, так или иначе заглушила диалог и привела, можно
сказать, к ситуации философского паралича. Между Ницше и
Огюстом Контом интервал только в одно поколение. Для
современной философии этот ров, этот провал диалога делается
в конце концов постоянной заботой, своего рода зияющей
язвой.
Мне могут разумеется возразить, что между серединой XVIII
века и войной 1914—*9i8 годов были все же индивидуальные
контакты, какие-то небольшие обмены. Не будем углубляться
в историю, но мне небезызвестно, что Бенжамен Констан по
крайней мере однажды встречался с Шеллингом и что в
кратком полемическом обмене он даже противостоял Канту. Я не
забываю, что по Шеллингу «запальчивые наскоки журналистов,
занимающих самые заметные позиции во Франции, на
доктрину и личность Канта достаточно показывают, что они все же
далеки от равнодушия, которое они разыгрывают в отношении
могущества этого учения...»10 Я не забываю, что Виктор Кузен
поддерживал любезные отношения с Шеллингом и Гегелем, что
Маркс в Париже, не встретившись с Огюстом Контом, вел
дискуссии с Прудоном. Не забываю Жерара де Нерваля, которые
пел «старую Германию, нашу общую мать». Но это
перечисление нагоняет на меня тоску, потому что я вижу в нем только
печальный список упущенных возможностей. Существует, она
ю. Schelling, Immanuei Kant (1804). S. W. VI, 10 (ed. Beck, Bd. 3, p. 594).
ФИЛОСОФИЯ ФРАНЦУЗСКАЯ И ФИЛОСОФИЯ НЕМЕЦКАЯ 29
Мне хорошо известна, переписка между Гегелем и Виктором
Кузеном. Письма, которыми они обменивались, достаточно
дружественны, но бросается в глаза, что Гегель и Шеллинг всегда
были для Виктора Кузена только «выдающимися коллегами».
В отличие от Огюста Конта, Виктор Кузен знал — уникальный
шанс! — лично знал двоих из величайших философов своего
времени, но видел в них только... коллег! Что касается
«Феноменологии духа», то она настолько интересовала Виктора
Кузена, что пришлось дожидаться, когда пост-вольтеровская
философия потеснится, чтобы увидеть наконец эту книгу
переведенной на французский. Пришлось ждать до 1939- Обязан
уточнить, что если придется выбирать между Виктором
Кузеном и Огюстом Контом, то я безусловно предпочту второго!
Что касается выдающихся коллег, то есть один эпизод, о
котором пора поговорить. В 1929 году Гуссерль собственной
персоной прибыл в Париж и выступил здесь с докладами,
которые сегодня очень знамениты. Знамениты сегодня, да — а в
то время? Интересно узнать, как был принят Гуссерль,
приехавший говорить в Сорбонне. Меня там, естественно, не было, но
из сведений, которые мне удалось раздобыть, там не должно
было собраться много народу, а ответственным за приглашение
Гуссерля, организатором докладов был русский, Лев Шестов.
Что я достоверно знаю, это что среди аудитории, в которой был,
вероятно, Альбер Лотман, не было ни Реймона Арона, ни Жана
Бофре, ни Жан-Поля Сартра, ни Мориса Мерло-Понти. Правда
то, что свои доклады Гуссерль делал по-немецки. Кто в Париже
1929 года был способен следить за философскими докладами
высшего уровня, читавшимися на немецком языке? Очень
опасаюсь, что среди уважаемых парижских коллег Гуссерля,
находившихся в амфитеатре имени Декарта 23 и 25 февраля 1929
года, некоторые были просто статистами. Неужели Гуссерль
приехал в Париж, чтобы говорить в пустыне? Мы знаем, что к
счастью дело обстояло не так. В эти счастливые дни франко-
германского философского диалога, возможно, самые
значительные со времени пребывания в Париже Лейбница, там было
Зо
ФРАНСУА ВЕЗЕН
м НФ
по крайней мере одно ухо, способное уловить то, что приехал
сказать Гуссерль. Где-то в полупустом зале сидел студент,
молодой чех, который с замиранием сердца впервые в жизни
наблюдал и понимал Гуссерля. Послушаем рассказ Яна Паточки:
От этого доклада и от докладчика лучилось что-то, дарившее счастье уму,
вовлекавшее в ходы мысли говорившего, такие необычные, — слушающий
ощущал настоятельную необходимость заложить новое основание,
предпринять смену ориентиров эпохальной глубины, — и видел перед собой
философа, не предлагавшего ни сообщения, ни комментария, но работавшего в
своей мастерской так, словно он один в целом мире, схватившегося со своими
проблемами без малейшей заботы о присутствующих и о мире.
Паточка был прав: тогда несомненно пришла пора
«предпринять смену ориентиров эпохальной глубины»...
Когда в апреле 1980 года умер Жан-Поль Сартр, в прессе
появилось множество статей. Пару-тройку из них я прочел, и мне
попалась в них фраза, вызвавшая у меня шок: «Чтение Гуссерля»,
говорилось в ней, «было для Сартра тем, чем Сартр немногим
позже стал для своих читателей: заново обретенным вкусом
живой мысли»11. Не знаю, сработала ли ассоциация в моем уме
с песенкой Рембо:
Она вновь обретена!
Что? вечность. ~
но прочитанная фраза что-то во мне вдруг перевернула: заново
обретена, что? Философия! Ибо ее просто-напросто потеряли.
Не очевидно ли, что во весь исторический период, который я
охватываю малоприятным выражением «пост-вольтеровская
философия», мысль в сущности была чем-то имевшим место?
Захватывающую силу, драгоценность, жизненность совре-
п. Christian Delacampagne, Le Monde, 17.4.1980, p. 14.
ФИЛОСОФИЯ ФРАНЦУЗСКАЯ И ФИЛОСОФИЯ НЕМЕЦКАЯ 3*
менной философии, в которую, подобно стольким другим, я
погружен и в которой пытаюсь работать вот уже около сорока
лет, составляет этот вновь обретенный вкус настоящей
философии или, если угодно, это счастье, этот праздник —
философствовать снова в настоящем. Я был учеником Жана Бофре.
О своем преподавании сам Жан Бофре сказал, что «никогда не
включая курса о Хайдеггере, оно сохраняло прямое
соприкосновение с его живой мыслью»12. В эпоху, когда я был студентом,
в Париже можно было слушать очень полезные курсы о
Спинозе или о Гегеле, но старший курс в лицее Кондорсе, где
преподавал Жан Бофре, был единственным местом, где можно было
узнать... новости о Хайдеггере!
Жан Бофре, вот поистине тот, кто пятьдесят лет назад понес
во Франции философию на своих плечах.
Когда я думаю о том, что Лейбниц не имел никакой
возможности поговорить с Декартом или Паскалем, что Ницше знал
Маркса не больше чем Гуссерля, то удивленно спрашиваю себя,
какая небесная благодать была ко мне настолько милостива,
что сделала меня близким к Жану Бофре и через него к
Мартину Хайдеггеру. Конечно, это обстоятельство касается только
моего скромного существования. Несравненно важнее то, что
перед нашими глазами на протяжении одного или двух
поколений франко-немецкий философский диалог, утративший
непосредственность или так никогда по-настоящему и не
наладившийся, завязался заново, и здесь уже найдется достаточно
материи для захватывающего рассказа. Долго
распространяться об этом не буду, потому что подходит время закругляться, но
отметить еще несколько пунктов надо.
О докладах, прочитанных Гуссерлем в Париже в 1929 году,
я нарисовал уже безжалостную картину. В нее необходимо
однако внести ту поправку, что в том же самом 1929 году Жан
Кавайес был в Давосе на коллоквиуме о Канте, где столкнулись
п. Jean Beaufret, Dialogue avec Heidegger, t. IV. Paris: Editions de Minuit 1985,
p. 81.
32
ФРАНСУА ВЕЗЕН
друг с другом Хайдеггер и Кассирер. На следующий год Реймон
Арон отправляется в Германию; он пробудет там три года. 1930
год — это еще и год, когда Эмманюэль Левинас публикует
первую книгу по-французски о Гуссерле. Немного времени спустя
Жан Бофре в свою очередь отправляется туда и проводит семь
месяцев в берлинском Французском институте. В 1935—*936
годах там уже Анри Корбен; он готовит первые французские
переводы Хайдеггера, которому он нанес несколько визитов во
Фрейбурге. Благодаря этим и некоторым другим поездкам
устанавливаются отношения личного или просто
интеллектуального порядка. Плодотворное скрещивание немецкой и
французской мысли работает; набирает силу движение, которое
уже больше не иссякнет, даже если до войны оно остается мало
замеченным. В сентябре 1983 года в одном из своих последних
интервью Реймон Арон скажет: «Мое поколение
инициировало, в тридцатые и сороковые годы, немецкую проблематику:
Гуссерль, Хайдеггер» — чистая правда, с которой его
собеседник мог только согласиться: «Это вы инициировали Гуссерля и
Хайдеггера во Франции».
Вплоть до Бергсона пост-вольтеровской философии худо-
бедно удавалось сдерживать напор немецкой философии. Но
после двух мировых войн и с «Бытием и временем» как
тараном эта последняя заняла свое заслуженное место. Первый
французский перевод гегелевской «феноменологии духа»
восходит к символической дате 1939 год. Французский
экзистенциализм был сильным приступом лихорадки, произошедшей
оттого, что за какое-то пятнадцатилетие французы открыли
для себя Гегеля (через Кожева), Керкегора, Маркса (молодого,
1844 года), Гуссерля и Хайдеггера — для одного раза что-то
много... Запруда рухнула настолько вдруг, что возник совершенно
невиданный интеллектуальный затор! Тем более что и Фрейд
тоже ворвался в пролом, что не особенно помогло прояснению
ситуации. С Сартром как «звучным эхо» затор чуть не
превратился в оргию. Какою бы ни была мешанина того периода,
непоправимая ошибка Сартра — который написал «Бытие и
ФИЛОСОФИЯ ФРАНЦУЗСКАЯ И ФИЛОСОФИЯ НЕМЕЦКАЯ 33
ничто» вместо того чтобы перевести на французский «Бытие
и время», — стала если не началом новой эпохи, то по крайней
мере маркированным моментом в истории философии. Такая
книга, как «Бытие и сущность» (1948) Этьена Жильсона,
остается весомым свидетельством того, чем могла бы стать в те годы
философская дискуссия в Париже. Ибо что касается шедшего
следом структурализма, то, открыв дверь для Соссюра, он мог
вызвать только рябь на воде в сравнении с предшествовавшей
ему океанской волной.
Посланное Хайдеггером Жану Бофре в декабре 1946 года
«Письмо о гуманизме» до своей публикации в виде книжечки
в следующем году было личным письмом, завязывавшим и
конкретизировавшим философский диалог между Францией
и Германией — диалог, сказать правду, желанный Хайдеггеру и
намечавшийся им с 1937 г°Да в опережавшем свое время
тексте13, где диалог Лейбница с Декартом упоминался с тем, чтобы
действеннее призвать французов и немцев к «терпеливой воле
понять друг друга» и к «решительному, но также и
сдержанному осмыслению предназначения, свойственного обоим».
Спросим себя, не положило ли «Письмо о гуманизме», сразу
же переведенное на французский Жозефом Рованом, тихо, без
шума конец двум векам «пост-вольтеровской философии», —
если оно не открыло поистине новую эру для французской
философии, равно как и для философии немецкой; или, если
сказать короче, не возвещает ли оно что-то вроде «другого
начала».
Тот, кому оно было адресовано, во всяком случае никогда не
забывал, что перед самым французским поражением в июне
1940 года перипетии каких-то военный передислокаций дали
ему шанс последней встречи со своим другом Кавайесом,
который признался ему в тот день: «Тяжела необходимость воевать
против своей второй духовной родины».
13- Ср. Jean BeaufreU Dialogue avec Heidegger, 1.1. Paris: Editions de Minuit 1973,
p. 9 sqq.
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
ВООБРАЖАЕМОЕ
1
Прежде всего подчеркнем настоятельную важность умелого
письма. Во-первых, дайте себя прочесть. Слишком часто
написанное нуждается в дешифровке. Во-вторых, пишите
строго*, незамеченные сбои встречаются слишком часто. Только не
уходите в стерильность. Кроме условной правильности, у вас
тогда ничего не останется. Правила письма — относительно
недавняя история. Орфо-графия была наделена высоким
статусом только когда вся масса жителей страны прошла школы; по
сути дела в ней нашли простейший способ фиксировать
применение французского языка для населения, пользовавшегося
в основном еще просторечием. Сейчас, когда уже нет ни среды,
ни школы, язык которой был бы принятой нормой
«хорошего французского», уважение к орфографии стало последней
точкой опоры для чего-то вроде нормы. Поэтому уважение к
орфографии — императив. Тем более что связи между
правописанием и мыслью более тесны чем кажется.
Чтобы писать, надо уметь думать. А думать нельзя без
определенного порядка. Великий вопрос тогда только: порядок этот
в нашей ли власти или он нам навязан. Об этом нам
приходилось говорить, когда вставала задача не подчиняться: не
позволять, чтобы наши слова нам диктовали привычка, предвзятость,
предрассудок, ассонанс — всё, что исчезает под натиском ясной
мысли, в каждый момент способной дать себе отчет в том, что
она мыслит.
Теперь пора перейти к предмету курса, воображаемому.
Начнем с ремарки, направленной против духа времени: в
наши дни по причине несчастной склонности к педантизму
36
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
слово воображаемое, Timaginaire, легко применяется вместо
слова воображение, imagination. Так, мы повсюду слышим
разговоры о детском воображаемом, когда имеют в виду просто
детское воображение. Поставим тогда себе задачей — мы
обязаны подвергать себя такому допросу — всякий раз, применяя
слово воображаемое, спрашивать себя, действительно ли то, что
мы хотим им обозначить, воображаемое, а не просто
воображение.
Что такое воображаемое? До попытки дать «дефиницию»
термина остановимся сначала на слове. L'imaginaire происходит
от латинского imaginarius, которое может быть
прилагательным или существительным. Как прилагательное оно означает
идущее от образа, означая соответственно нечто обладающее
качеством образа. Как существительное оно обозначает
определенного человека, вполне конкретного индивида: того, кто
несет образ императора. Но оно также и прежде всего, как
можно убедиться у Тита Ливия, означает то, что существует в
воображении.
Попутно о суффиксе в -arius. Когда он служит для
образования имен, он обозначает профессию, ремесло, привычное
занятие индивида. Так, на существительном сега, воск,
образуется слово cerarius, изготовитель свечей, или человек, имеющий
привычку писать на восковых табличках. Надо добавить, что
часто одно и то же слово на -arius применяется по типу
прилагательного и существительного. Так, argentarius означает как
прилагательное «относящийся к серебру», а как
существительное — «тот, кто имеет дело с серебром», т. е. тот, кого мы сегодня
называем банкиром. Точно так же capriarius (от сарга, коза) это
в равной мере и нечто относящееся к козам, и тот, кто
занимается козами, т. е. козопас Наверное, склонность к педантизму
заставила заменить сыр от козы на козий сыр. Наконец, опять
же, librarius (от liber, книга) это нечто относящееся к книгам
и книготорговец. Какой отсюда вывод для воображаемого,
imaginarius?
Сначала всё ясно: это нечто относящееся к воображению — в
ВООБРАЖАЕМОЕ
37
очень точном смысле именно отношения, когда воображение
и воображаемое состоят во взаимосвязи таким образом, что
(км воображения нет воображаемого, поскольку воображению
с иойственно воображать что-то из воображаемого. Именно в
•том смысле Сартр говорит в первой фразе своей книги
«Воображаемое»:
Эга работа имеет целью описать великую «дереализирующую» функцию
ыинания или «воображения» и его ноэматического коррелята,
воображаемою1.
Воображаемое в том строгом смысле, в каком оно здесь берется,
означает таким образом некий ноэматический коррелят. Струк-
! ура интенционального сознания при надлежащем
развертывании определения того, что такое сознание в установке Гуссерля,
включает сознание восприятия с ноэматическим коррелятивом
«реальное», сознание образа с ноэматическим коррелятивом
«воображаемое» (= нереальное) и сознание памяти с
ноэматическим коррелятивом «реальное, переставшее быть реальным»,
г, с. «то, что было реальным».
Не будем слишком быстро углубляться в трудности,
прямо-таки захватывающие, однако грозящие перегрузить силу
внимания, пока еще мало окрепшую в баталиях ума.
Возвратимся поэтому на привычную почву нашего языка. Здесь слово
воображаемое исходно и прежде всего относится явно к
прилагательным.
В «Мнимом больном» Мольера (акт I, сцена 5)-
Туанетта. Но месье, положа руку на сердце, вы действительно больны?
Аргон. Как, негодница, болен ли я? болен ли я, бесстыдница?
Туанетта. Да, вы очень больны, я согласна, и более больны чем вы
думаете.
1. l.-P. Sartre. L'imaginaire. Psychologie phenomenologique de 1 imagination.
Paris: Gallimard 1940, p. 11.
38
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
Мнимый, т. е. воображаемый, imaginaire, имеет здесь смысл,
который ему прежде всего дает словарь Литтре:
Существующий только в воображении, никоим образом не реальный.
По поводу воображаемого больного Литтре отмечает:
Личность почти постоянно ипохондрическая, которая, испытывая
разнообразные нервические страдания, относит их к всевозможным болезням,
которых у нее нет.
В этой фразе всё вращается вокруг эпитета ипохондрический,
относящийся к соответствующему состоянию. О нем у того же
Литтре:
О медицинский термин. Род нервной болезни, которая, затемняя разум
больных, внушает им мысль, что они отягощены разнообразнейшими
болезнями, так что их считают воображаемыми больными, хотя они много
страдают и погружены в привычное уныние.
Таким образом воображаемый, или мнимый, больной тот, кто
вообразил себе болезни — стало быть, не болен. Вот почему
служанка Туанетта, олицетворяющая в пьесе Мольера сам здравый
смысл, обращается к своему хозяину Аргану со словами: «Но
месье, положа руку на сердце, вы действительно больны?»
Туанетта взывает тут к совести Аргана. Арган однако реагирует
на это взрывом ярости: «Как, негодница, болен ли я? болен ли
я, бесстыдница?» Он буквально задет за живое, и ясно почему.
Вообразите другую сцену: действительно тяжелый больной,
подавленный недугом, сотрясаемый жестоким кашлем.
Невозможно представить себе более бесстыдный вопрос, чем
осведомиться у него, болен ли он по совести. Бедняга ответил
бы просто: «Разве не видишь своими глазами». Что в таком
случае означает ярость Аргана? Что Туанетта разгадала его
игру? Допустим. Вообразим себе однако еще одну ситуацию:
кто-то притворяется больным (как Вольпоне в одноименной
ВООБРАЖАЕМОЕ
39
пьесе Бена Джонсона). Если его игра раскрыта, этот персонаж
конечно попытается втянуть лукавую бестию в свою игру, а не
рассердится на нее.
Отсюда нам понятно, что болезнь Аргана не игра. Это Туа-
нетта понимает сразу. По сути к тому сводится ее реплика: ну
да, месье, вы больны, не будем спорить... Туанетта дает задний
ход. Она задела у Аргана что-то страшно чувствительное, пусть
даже и (комический жанр обязывает) смешное. «Да, вы очень
больны, я согласна, и более больны чем вы думаете.»
Воображаемый больной — не тот больной, каким, по
знаменитому определению доктора Кнока из комедии Жюля Ромена,
является, не зная того, каждый здоровый человек. Правда,
больным Арган себя воображает, но ведь воображать себя
больным — тоже не здоровье. Во всяком случае ситуация тут
сложная, темная, запутанная. Попытаемся внести в нее немного
порядка.
Чем болен больной, вообразивший себя больным? Ведь он
действительно болен — и, как справедливо говорит Туанетта,
его болезнь хуже чем он думает. Мы в таких случаях обычно
начинаем говорить о помешательстве. Ипохондрия начиная с
самой ранней античности, у Гиппократа, считалась болезнью.
Пациент ощупывает себя, сомневается в своем добром здравии и
живет в тревоге за якобы переносимую им тяжкую болезнь. Не
больной, он воображает себя таким. «Страдания ипохондрика
реальны» (Ларусс, XX век). Ипохондрия — форма
депрессивной неврастении, седалище которой помещали в ипо-хондрах,
т. е. в печени, желудке, поджелудочной железе, селезенке и т. д., в
области симпатического узла; отсюда отчетливо
психосоматический характер ипохондрии.
Воображаемый больной, таким образом, настоящий
страдалец. Странно теперь вспомнить сказанное в начале нашего
разговора о воображаемом — что оно коррелят дереализующей
функции сознания, в том смысле, что оно служит сознанию,
когда оно «функционирует» в плане ирреального.
40
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
2
Предпримем третью попытку подойти к вопросу относительно
воображаемого. Первая имела форму догматического тезиса:
воображаемое есть «ноэматический коррелят» специфической
функции сознания, вступающей в действие, когда человек
воображает. В нашей второй попытке мы хотели уловить
расхожий смысл «воображаемого» в нашем языке. Нам помог
классический пример мнимого больного, наведя нас на мысль, что
воображающий себя больным вовсе не обязательно здоров и,
хотя по непрозрачным причинам он считает себя пораженным
не существующими у него болезнями, он страдает тем не менее
от вполне реального недуга.
Сегодня мы попытаемся подобраться к тому, что такое
образ.
Мы конечно не забыли усвоенного с самого первого
занятия — что отношение образа к воображению никоим образом
не просто и не однозначно. Мы тогда даже говорили, что хорошо
изгнать из нашего словоупотребления безрассудную легкость, с
какой мы иногда готовы определить воображение как
«способность к образам». Тем с большим вниманием мы должны
сейчас разобрать сущность образа. Прежде всего, что называется
образом в обычной речи? Всем известен стих Книги Бытия I
гб: «И он сказал затем: Сделаем человека по нашему образу и
нашему подобию» (II dit ensuite : Faisons Thomme a notre image
et a notre ressemblance, в переводе Луи-Исаака Леметра де Саси).
«Элогим сказал: Мы сделаем Адама соответственно нам (целем,
вид одинаковой оформленности), по нашему подобию (демут,
сходство, основанное на природе, передаваемое из поколения
в поколение)» (в переводе Шомаки). «Gott sprach: Machen wir
den Menschen in unserem Bild nach unserem Gleichnis!»
(перевод Мартина Бубера). Et ait: Faciamus hominem ad imaginem et
similitudinem nostram (Вульгата). А в нашем обыденном языке?
О послушных учениках говорят: sage comme une image, умный
как образ. Когда-то были в ходу грамоты, называвшиеся обра-
ВООБРАЖАЕМОЕ
41
.кзлш, images, которые раздавали, например, хорошим ученикам
в начальных классах или при катехизации в награду за их
прилежание. Лубочная картинка, image d'Epinal: условное
изображение сложной реальности, подчеркнуто схематичное, часто
чрезмерно оптимистичное. Настоящие лубочные картинки,
предшественники комиксов, изображали начиная с XVIII века
сюжет известной песенки или историческое событие,
например Бонапарта со знаменем на Аркольском мосту. Мы живем в
эпоху, когда наивность служит предметом насмешки. Комиксы,
которые уже не хотят быть наивными, — не скрыта ли здесь
форма наивности тем более крупной, что она воображает себя
всё превзошедшей?
Возьмем один очень простой пример образа. Правда, здесь
нас сразу останавливает сомнение: что следует признавать за
образ? Отражение в зеркале, фотографию, картину, рисунок,
представление в уме? Не отступаясь от нашей исходной идеи,
возьмем в пример фотографию главы государства,
украшающую во Франции каждое официальное здание. Никто из нас не
откажется назвать эту фотографию изображением, image,
президента Республики. Что сказать об этом образе в его качестве
образа?
Возьмем в пример образа известную фотографию,
изображающую художника Жоржа Брака — в год его смерти, —
сидящего перед большим полотном. После всех наших раздумий мы
понимаем, что эта фотография человеческого существа
представляет его нам иначе, чем как если бы он сам находился перед
нашими глазами, и тем не менее дело идет явно о нем.
То же самое — если бы мы взяли в пример фотографию Эй-
фелевой башни: она была бы там представлена иначе чем когда
мы находимся перед ней. В самом деле, мы запросто говорим:
перед реальной вещью; перед существом «во плоти и крови».
Мы их видим на самом деле. Держа перед собой фотографию,
мы говорим: вот Жорж Брак в одном из своих образов. Что
такое Жорж Брак — в одном из своих образов? Это конечно
Жорж Брак и никто иной как он. Поскольку фотографическое
42
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
изображение было несколько мелким, кто-то, опознав на нем
художника, вообразил себе Пабло Пикассо. Не беря в расчет
подобных сбоев, мы видим на самом деле Жоржа Брака — и
никого иного. В образе, изображении, image, нет вещи более
размытой, более ускользающей чем то, к чему можно отнести
слова «на самом деле». Жорж Брак на фотографии не в меньшей
мере Жорж Брак. Он там есть как-то иначе.
Мы должны теперь сосредоточить наши усилия на природе
этого иного способа быть. Многие пытались описать
наблюдаемый здесь феномен, говоря о фиксированном характере
фотографии. Вместе с тем, имей мы не один оттиск, а целый фильм, в
котором Брак прохаживался бы в своем ателье, готовил краски
или даже наносил мазок на полотно, ничего не изменилось
бы в сущностной черте образа: мы сказали бы уже не что он
фиксирован, а что он никогда не сможет быть иначе, чем как
мы его видим. Это бросается в глаза, когда мы располагаем
кинематографическим документом о дорогом и уже умершем
существе. Повторение сцен, которые можно видеть на экране,
невозможность, чтобы этот человек сделал что-либо другое,
делает повторный просмотр вскоре более мучительным, чем его
прерывание. Пожалуй, даже прерывание именно в этот момент
действует всего сильнее.
Возвращаясь к тому, что искало себе выражения в термине
«фиксация», заметим его неадекватность, особенно в данном
случае: Брак предстает не фиксированным, а наоборот, скорее
задумчивым и раскованным. Он не «позирует». Глядя в
направлении объектива, он смотрит не на него.
Вернемся к другому нашему примеру, Эйфелевой башне. Ее
изображение, image, представляет ту самую Эйфелеву башню,
но не в ней самой. Надо со всей ясностью уловить разницу,
разделяющую эти две формулы. Возможно даже, что, уловив
разницу между ними, мы должны будем сменить формулировку.
Пока, на данный момент, мы фиксируем эту разницу вот таким
языковым нюансом. Не дадим только ему сковать нас, пусть он
поможет нам лучше увидеть разницу.
ВООБРАЖАЕМОЙ
43
Две ситуации заслуживают самого точного описания:
О Мы на Трокадеро, прямо перед Эйфелевой башней.
2) Мы сидим за своим письменным столом, разглядываем
фотографию Эйфелевой башни.
Нетрудно назвать то, что в каждом из этих случаев нам
известно:
i) Мы знаем, что у нас перед глазами Эйфелева башня сама
по себе.
г) Мы знаем, что у нас перед глазами изображение
Эйфелевой башни.
Иметь перед собой изображение — значит знать, что мы
видим лишь один из образов. Если бы — современная
техника такого уже не исключает — у Сены со стороны Трокадеро
расположили громадную фотографию Эйфелевой башни, зоо
метров в высоту, так, чтобы обойтись без бликов,
деформаций и т. д., кто-то подумал бы, что видит башню саму по себе.
Подтверждение: если обман зрения выполнен так хорошо, что
мы не видим в нем обмана зрения, то мы не видим в нем уже и
образа, image.
К чему ведет понимание этого? К той же простой вещи :
опознанное как образ, будучи именно тем, что оно есть, не есть оно
само в себе. Жорж Брак в изображении — несомненно Жорж
Брак, но не существующий. Вот что означает термин
«дереализация», уже несколько раз нас остановивший.
Стоя перед учеником, я его воспринимаю (или возьмите
любое другое слово для обозначения типа осознания, которое я
тогда имею) в нем самом и через него самого. Если я стою перед
фотографией того же ученика, я его уже не воспринимаю: мое
отношение к нему расположилось в другой плоскости, или,
точнее, я нахожусь в отношении к нему, но уже не имея его самого
перед собой. Жорж Брак в изображении явно ирреален.
Вдумаемся однако еще раз в наше понимание «ирреального». Как
мы уже говорили, здесь — невзирая на то, что нам спонтанно
приходит на ум и что мы должны учитывать, но только
улавливая его смысл, при первом приближении ускользающий от
44 ФРАНСУА ФЕДЬЕ
нас и вводящий в заблуждение, — не меньшая степень бытия, а
другой тип бытия.
Это так. Вместе с тем, наш способ выражения пока еще
пожалуй слишком сложен, чтобы быть по-настоящему понятным.
Каким образом верно уловить сущностную черту образа — то,
что во всяком образе настолько составляет самую его суть, что
мы ее не видим.
Только что прочитанная фраза должна нас остановить — в
самом, это наиболее философичная фраза из всех до сих пор нами
записанных. Аристотель в начале трактата «Курс физики» — по
сути дела это курс философии — замечает (184а i6—18):
По природе, собственно, путь, каким мы идем, начинается с наиболее
знакомого нам и бросающегося в глаза, чтобы двигаться к тому, что более
очевидно и известно само по себе —
и сразу добавляет (184а i8):
в самом деле, не одно и то же — вещи, познаваемые нами, и вещи сами в
себе.
Перенося это замечание, абсолютно базовое, на то, что нас
занимает в настоящий момент, а именно на то, что конститутивно
для образа* мы можем сказать: если говорить о любом образе,
то в нем есть нечто сразу доступное нам, но именно поэтому
сбивающее нас с толку в том, что касается другой вещи, гораздо
более важной для образа как такового и маркирующей его для
нас. Что бросается в глаза в образе? Рассмотрим это на еще
одном примере, фотографии художника Анри Матисса,сделанной
в Ницце в 1951 году Анри Картье Бюссоном. Художник сидит за
своим рабочим столом перед большим альбомом, где он рисует
пером венок из одуванчиков, который держит левой рукой. На
большом столе видны три вазы и три бутылки из-под
шампанского с букетами самых разных цветов. Можно таким образом
продолжать описание того, что видно на изображении. Что для
ВООБРАЖАЕМОЕ
45
нас в нем прежде всего доступно — это что мы видим тут
разные вещи, все отчетливо распознаваемые, как если бы мы их
разглядывали «на самом деле». Нечто гораздо более важное для
образа как такового мы заметили, не подчеркнув это
специально. Повторимся, теперь уже акцентируя: как если бы мы видели
эти вещи на самом деле. Когда я вас вижу или когда
рассматриваю дом в окне, я ни на момент не испытываю искушения
подумать, что я вижу видимое мною словно на самом деле. Всё и есть
на самом деле. В образе — изображении, image —
изображенного нет. Изображение Матисса не есть Матисс. Перо, которое
он держит, не есть перо. Следует даже еще точнее сказать: этот
Матисс, который не есть Матисс, держит, не держа его, перо,
которое не есть перо. Фантасмагория.
3
Слово фантасмагориЯу напоминает нам словарь Le petit Robert,
зафиксировано впервые в самом конце XVIII века и означает
в своем первом значении «искусство демонстрации фантомов
посредством оптической иллюзии в темном помещении,
модное в XIX веке», откуда более общий смысл «фантастического,
сверхъестественного зрелища». Почему это слово каким-то
способом навязалось нам в ходе нашего разбора образа?
Потому что мы заметили вещь, оказавшуюся при более
пристальном рассмотрении как минимум необычной: образ, image, дает
увидеть нечто несуществующее как если бы оно существовало.
У меня на письменном столе — реальном — стоит картонный
прямоугольник, тоже вполне реальный, на который нанесен
серый пигмент различной интенсивности. Все это реально.
Но образ, скажем так, представляет благодаря этим реальным
элементам нечто уже не реальное: художника Анри Матисса в
один из дней 1951 года в Ницце, занятого рисованием в своей
рабочей тетради.
Все мы слышали рассказы о том, что «дикари» — этим
словом некогда обозначали человечество в предполагаемом до-
46
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
докультурном состоянии, словно подобное состояние
возможно только у человеческих существ, — которым
показывали изображения людей или животных, вели себя
тоже необычно, реагируя со страхом и отшатываясь словно
при появлении чего-то ужасного. Это иногда заставляет
смеяться «цивилизованных» людей, какими мы претендуем
быть. Но если обратиться к тому, что происходило на первом
кинематографическом представлении — бульвар Капуцинов,
28 декабря 1895 года, — когда зрители видели Прибытие
поезда на вокзал в Па Сьота, то придется согласиться, что
«цивилизованные» легко усваивают себе реакции «дикарей».
В самом деле, многие зрители поднялись с мест и отшатнулись,
как если бы настоящий поезд въехал в зал через экран.
Это «как если бы», выделенное и подчеркнутое нами на
предыдущей лекции, решительно оказывается той осью, вокруг
которой должны вращаться все наши рассуждения. Если
эмоциональные зрители реагировали в вышеописанной манере, значит
они не рассматривали увиденное как зрелище воображаемое.
Что до нас, то за истекшие сто лет мы настолько привыкли
смотреть фильмы, что уже не впадаем в такую абсурдную
путаницу. — Но так ли уж мы в этом уверены? Тогда откуда идет не
уменьшающийся успех фильмов ужасов? В порядке
антропологического комментария можно сказать, что есть удовольствие
испытывать страх — никоим образом не показной, — как если
бы «испытывать страх» в знании, что для страха нет никаких
причин, служило средством приручения страха. Это аналог игре
ребенка, благодаря которой он учится жить в реальности.
Конечно, подобный фильм не погружает своих любителей в
реальный ужас. Однако почему все-таки в особо удачные моменты
раздаются вопли? Почему даже самые закаленные невольно
вздрагивают, отшатываются или просто закрывают глаза?
Добавим в опоре на замечание, сделанное в конце последней
лекции, что общая способность трогать — заставлять плакать
или смеяться, — какой обладает создание воображения, идет
по существу из того же загадочного источника, который упо-
ВООБРАЖАЕМОЕ
47
минает Паскаль, когда» задумываясь о живописи, высказывает
устрашающе сложную мысль:
Какал тщета живопись, привлекающая к себе восхищение подобиями
вещей, оригиналами которых мы вовсе не восхищаемся. {Мысли, афоризм 134 в
издании Брюнсвика).
4
Отметим, что соотношение между воображаемым и реальным
не таково, что эти две вещи противоположны и всего лишь
исключают одна другую. Рассмотрим сперва нечто касающееся,
вполне специфически, фотографического образа. Этот
последний действительно демонстрирует одну особенность, сущност-
но отличающую его от образа в совершенно точном смысле,
который нам предстоит выявить позднее. Чтобы не нагромождать
трудности, скажем заранее нечто о только что обрисованных
вещах. Мы предлагаем различать два порядка образов:
i) то, что в полном смысле есть образ, и
г) то, что есть образ лишь частично.
Примером второго является образ философский. Скажем
пока, забегая вперед, об образе в полном смысле с риском не
достичь достаточной ясности, что образ в абсолютном смысле
термина есть образ воображаемый, image imaginee, т. е. целиком
созданный воображением. Двойственность, впрочем, сразу же
вспыхивает с новой силой, потому что здесь надо уметь
помыслить воображение в его самой существенной первичной черте,
а именно в существующем внутри него напряжении между
продуцированием и репродуцированием. Надо соответственно
позаботиться о том, чтобы не сводить продукцию к
репродукции или, скорее, чтобы не понимать репродукцию в наивном
смысле копии.
Чтобы приблизиться к пониманию только что сказанного,
подробнее разберем фотографический образ. Он —
фотографический в собственном смысле слова, поскольку изображение на
48
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
нем написано светом (фото-графия). Собственно, фотографии
нет без того чтобы нечто реальное было зафиксировано
посредством его светового следа. В этом смысле фотография есть
образ реального — чего никоим образом нельзя сказать о
всяком образе. Для художника
модель и не внутри, и не во внешней природе; она в самом произведении2.
Говорит образ. Ибо явно только образ способен идти в ногу с природой.
(Пастернак)
Полотно Давида «Похищение сабинянок» никоим образом
нельзя рассматривать как след реального события. Давид в
реальности не видел, как римляне захватывают сабинянок. Он это
в полном смысле вообразил, как мы только что говорили.
Фотография, наоборот, есть видимый след реального зрелища.
Только — как мы уже замечали — этот след, когда мы рассматриваем
фотографию, сразу же оставлен позади: мы уже не
воспринимаем такой след сам по себе, мы видим вместо него зрелище, хотя
сразу же в качестве ирреального.
Другими словами: реальная вещь, какою является
фотографический отпечаток, выходит мгновенно из нашего поля
зрения, и рассматриваемое мною тогда уже не реальная вещь
(покрытый эмульсией картон), но зрелище отныне и впредь
ирреальное. Подчеркнем: «отныне и впредь», чтобы не забывать о
специфике фотографии, следа реального события.
Но в отличие от воспоминания — всегда предполагающего,
что я помню о событии как таком, при котором я присутствовал
или которое я пережил, — фотография отсылает меня просто к
прошлому событию, при котором я чаще всего не
присутствовал. Так, я никогда своими глазами не видел рисующего
Матисса. Даже если я вижу фильм, где можно наблюдать художника,
рисующего свою модель, я его вижу рисующим в изображении,
не на самом деле. Отсюда возникает очень специфическая си-
2. Alain, Histoire de mes pensees. Paris: Nouvelle revue franchise 1949, p. 194.
ВООБРАЖАЕМОЕ
49
туация, а именно то самое как если бы. Я вижу разглядываемое
мною на фотографии так, как если бы я там был — чего никогда
не бывает с воспоминаниями! В обоих случаях, фотографии и
воспоминания, меня там нет. Вспоминая сцену, я в нее не
переношусь, потому что меня там уже нет. Рассматривая
фотографию Жоржа Брака, я не переношусь в нее, потому что никогда
там не был.
Тут два разных типа негативности: в случае воспоминания
негативность сводится к отличию настоящего от прошлого, в
случае фотографии — к дереализации реальности. Заметим, что
и тут тоже нет абсолютной оппозиции, где одним исключалось
бы другое. Так, фотография почти всегда выступает перед нами
датированной или,если хотите, вытесненной в прошлое.Только
это прошлое уже не обязательно наше прошлое. Какая-нибудь
фотография XIX века отбрасывает нас на 150 лет назад — во
времена задолго до нашего рождения. Благодаря фотографии
мы можем вообразить мир в эпоху, в которую мы не жили, как
если бы мы там жили. Господа в высоких цилиндрах, например,
нас там вовсе не удивляют, как это было бы, наблюдай мы
сегодня снова возрождение этого типа головного убора.
5
Мы говорили все время о том, чем характеризуется именно
фотографическое изображение, для нас сегодня представляющее
при первом приближении образ в его сути. На просьбу
показать образ скорее всего приведут этот пример с фотографией.
Но, как мы уже говорили, надо идти дальше: фотография лишь
частный случай образа, причем даже весьма ограниченный
случай, где мы рискуем упустить что-то существенное. Так, в тексте
Книги бытия («сделаем человека по нашему образу») нам было
бы очень трудно придать адекватный контексту смысл, если бы
мы исходили из спонтанной ассимиляции образа с
фотографическим изображением!
Изберем, чтобы вернее подобраться к искомому, часто быва-
50
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
ющий полезным путь анализа слова. архП oocpiac, Ttov 6vo|idTu>v
ёгпокеуи;, как говорили древние. Image, образ — копия
латинского существительного imago, — inis (ж. р.), в котором
филологи выделяют корень imitari, «пытаться воспроизвести образ»,
откуда наше имитировать. Весьма полезный словарь Les mots
latins (издательства Hachette) вскрывает латентное значение
слова imago через серию суггестивных оппозиций:
Imago — портрет в противоположность самой личности
видимость в противоположность реальности
сравнение в противоположность вещи самой по себе
Imago, образ следует отсюда понимать внутри некоего
отношения. Если окно на противоположной стене есть то, что оно
есть, так что видя его мы никоим образом не спровоцированы
им выйти за его пределы, чтобы понять его смысл; если любая
воспринимаемая реальность находит в самой себе свою
референцию и свое значение, — то с переходом к образу этот
последний отсылает к чему-то иному чем он, с чем он состоит в
первичном отношении, всегда и оставаясь в таком отношении.
Образ есть образ чего-то, как фотографический образ имеет
(имел) отвечающую ему реальность. Но человек как «образ
Божий» не есть изображение некой реальности — отношение,
стало быть, не обязательно предполагает отвечающую ему
реальность, — если учесть тот факт, что Бог, будучи
первопричиной, не реален в том же плане, что и всё принимаемое нами за
реальность.
Образа нет без отнесения к тому, чего он образ. То, образом
чего является образ, в паскалевских «Мыслях»,
цитировавшихся у нас выше, названо оригиналом. Горизонт классического
понимания образа — отношение между ним и оригиналом, или,
как говорит Боссюэ, «образ всегда отпадает, дегенерируя, от
жизненности оригинала».
Именно эту концепцию образа нам надо снова поставить под
вопрос» если мы хотим добраться до того, что составляет ере-
ВООБРАЖАЕМОЕ
51
доточие образа, а именно до воображаемого, которое присуще
всякому образу, когда он настоящий образ.
То, что мы вслед за римлянами называем image, у греков
обозначалось словом £iko)v, cikcovoc;, откуда происходит слово икона:
священное изображение греческой церкви. Немцы для той же
цели применяют слово Bild, от bilden, что значит прилаживать,
образовывать, придавать форму, формировать, воспитывать,
организовывать, составлять и т. д. — всё позитивные действия,
в которых не содержится никакого нюанса дегенерации.
Добавим кроме того, что в немецком языке, и особенно у Канта,
воображение называется, во-первых, Einbildungskraft, где слово
Bild выступает в составе Einbildung, создания фигуры, в
строгом смысле фигуративности, так что Einbildungskraft означает
буквально силу, способность фигуративного представления, а
во-вторых — Phantasie, что является просто калькой греческого
слова (pavraaia, у Аристотеля, например, обозначающего то, что
в переводах принимает форму воображения, imaginatio.
У нас во Франции слепком с (pavraaia служит fantaisie,
«старый синоним воображения, imagination», как замечает Литтре
в начале соответствующей статьи. Он сразу же добавляет: «в
этом смысле оно устарело, и некоторые с учетом этимологии
пишут phantaisie». Далее он уточняет: «фантазией сегодня
называют редкостное желание, летучее пристрастие» — близко к
тому, что именуется капризом.
Но в греческом (pavraaia составляет часть богатой семьи
глагола (paivu>, показывать, являть, и cpaivojiai, показываться,
являться. Отсюда cpaveo<;, видимый, и глагол <pavTd(o|iai, делаться
видимым, казаться.
Теперь сделаем скачок. На с. 9^ книги Holzwege («Дороги,
которые никуда не ведут») Хайдеггер дает следующее указание
относительно греческой (pavraaia:
...das zum Erscheinen-Kommen des Anwesenden als eines solchen fur den zum
Erscheinenden hin anwesenden Menschen.
52
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
6
Мы ищем верного понимания образа, что требует более
глубокого понимания воображения, чем обычно принятое,
сводящееся по сути к репродуцированию — так что образ, по
формулировке цитированного нами Боссюэ, оказывается всегда
дегенеративен по сравнению с жизненностью оригинала. Мы
направили свое внимание на два названия воображения,
греческое и немецкое, (pavxaaia и Einbildungskraft, — не намекают
ли они на искомый нами смысл. Теперь мы должны продолжить
наш скачок, начавшийся с процитированной нами трактовки
(pavraaia у Хайдеггера. Переведем выписанную по-немецки
фразу, пытаясь передать весь регистр ее нюансов. В ней
развертывается смысл феческого слова (pavraoia. За ним в тексте,
предшествующем цитате, у Хайдеггера следует аббревиатура
d. h., то есть. Ею вводится в качестве базовой дефиниции
субстантивированный (прием, гораздо более употребительный в
немецком чем в нашем языке) глагол, вернее, два глагола, das
zum Erscheinen-Kommen, приход к явленности, факт прихода
явления. Почему не просто явление? Различие между явлением
и приходом к явленности здесь существенно: акцент на выходе
к явленности целенаправленно сосредоточивает внимание на
явлении в самый момент и в самом акте являющего движения.
Вещи в каком-то смысле непрестанно являются. Классная
дверь, закрывшаяся после выхода последнего ученика, не
исчезает из класса, она продолжает быть. Но пока я не указываю
на нее, она, так сказать, ускользает из поля нашего внимания.
Выход к явленности есть поэтому основной способ
обнаружения. Можно соответственно сказать, что выйти к явленности,
выявиться значит обнаружить себя. В той мере, в какой это не
произошло, имеет место хотя и самообнаружение, но еще не
раскрывшееся вполне.
Что достигает обнаружения с выходом к явленности? Ответ
дан Хайдеггером в генитиве des Anwesenden. Это слово обычно
переводится по-французски через le present — присутствую-
ВООБРАЖАЕМОЕ
53
щее, наличное, пребывающее. Оно говорит одновременно и
слишком мало и слишком много. Слишком много, потому что
французское слово present имеет своим возможным смыслом
подарок. Слишком мало — потому что present, по крайнее мере
как сейчас говорящие по-французски слышат это слово,
всегда уже потеряло связь со своим происхождением. Немецкое
das Anwesende — то, что входит в присутствие, пребывание;
префикс an означает прибытие. Присутствующее, наличное,
пребывающее в реальности не перестает прибывать. Оно не
просто имеет место.
Итак, начало хайдеггеровской фразы — «[факт] прихода к
явленности» — подчеркивает эту черту присутствующего,
пребывающего. Вернемся к нашему простейшему примеру, двери
классной комнаты: она присутствует, налицо только в тот
момент, когда мы обращаем на нее специальное внимание. Только
тогда она приходит к явленности, является, обнаруживается,
становится — скажем так, рискуя придать простой вещи
философскую весомость, — феноменом. Когда мы фиксируем свое
внимание на двери, она, так сказать, выходит из тумана, из
размытого потока, чтобы явиться в себе тем, что она есть. Вот что
старательно развертывает первая часть фразы,
обрисовывающая облик греческой <pavraaia: факт обнаружения того, что
выходит в присутствие, наличие, пребывание как таковое.
Это лишь первая половина предложения. Здесь еще вовсе
ничего не сказано о (pavraaia, которая появится на сцене во
второй его половине. Там идет речь о человеческом существе,
принимающем то, что выходит в присутствие. Человеческое
существо само присутствует здесь как входящее в присутствие:
человеческое существо и есть то бытие, которым развернуто
некое присутствие. Оно его развертывает, само начиная
присутствовать для того, что выходит к явленности. Человеческое
существо развертывает свое собственное присутствие,
открываясь для вещей внешних ему, а то и просто далеких от него3.
3. Стефан Малларме в письме к Катуллу Мендесу от i ноября 1872: «я буду
54
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
Разбираемая фраза Хайдеггера содержит описание, а не
дефиницию греческой (pavraaia, т. е. воображения, но в смысле
совершенно другом и, собственно, непривычном,
отыскиваемом нами, — описание в феномено-логическом смысле, когда
феномен сказан, т. е. вполне показан. Первая половина фразы
говорит о том, что выходит к присутствию. Будем понимать
под этим термином все то, что есть, каким бы ни был его
способ бытия. Все, что есть, выходит в присутствие, наличие,
пребывание, прибывает. Дверь классной комнаты
расположена справа от тех, кто, со своей стороны, присутствует на
лекции. Хайдеггеровская фраза говорит о «про-явлении того,
что входит в присутствие, как такового», das zum Erscheinen-
Kommen des Anwesenden als eines solchen. Продолжение фразы
приводит это «про-явление» в связь с человеческим существом.
q>avTaaia есть этот выход к явленности, как он происходит для
человеческого существа. Можно было бы даже подумать, что
наиболее важное слово фразы в целом — наречие hin,
означающее открытие человеческого существа в его движении к
являющемуся. Это однако не совсем так. Вернее будет сказать, что
если это наречие hin — туда, вовне, наружу — всего важнее во
второй створке фразы, то в ее целом наиболее важен пожалуй
предлог fur, для: cpavTaaia есть «выход присутствующего,
наличного, пре-бывающего как такового к явленности для
(курсив наш.— Ф. Ф.) человека, выходящего в своем присутствии
вовне, к являющемуся».
cpavTaaia есть нечто специфически человеческое.
Человеческое существо и только оно эксплицитно относится к сущему.
Животное, например кошка, может быть описано в его
отношении к сущему: голодное, оно отправляется в поисках пищи, т. е.
вступает в отношение с тем, что может его напитать. Однако
это отношение не эксплицитно. Недаром мы не склонны
уверенно утверждать, что кошки «не говорят». Безусловно кошка
предпочитает одну пищу другой. Но ни в коем случае мы не
петь Видящего, который, попав в мир, его разглядел, чего люди не делают» (Je
chanterai le Voyant, qui, place dans le monde, Га regarde, ce que Ion ne fait pas).
ВООБРАЖАЕМОЕ
55
можем сказать, что это предпочтение становится у нее
объектом настоящего обсуждения. Предпочтения у нее стихийны,
движимы инстинктом.
Для подлинного выбора необходимо взвешенное
размышление, т. е. нечто вроде внутреннего суда, форума, который
является публичным пространством; для животных видов просто
не существует публичного пространства, даже для живущих
«обществами», — иначе сказать, политических животных не
существует. И вот мы догадываемся, что для существования
публичного пространства, общественной связи, (pavtaaia
должна играть свою роль.
Вторая половина хайдеггеровской фразы, как мы заметили,
поднимает вопрос о человеческом существе, для которого
имеет место выступание к явленности того, что выходит в
присутствие на правах наличествующего. О человеческом существе
говорится, что оно тоже выходит в присутствие. Его способ
вхождения в присутствие, имеющий место в движении
перехода отсюда к далекому там, этот очень типичный способ быть,
и есть cpavxaaia, отмечен ею.
Никакого отчетливого понимания тут мы еще не достигли.
Все это вполне в порядке вещей. Повторим один за одним
элементы нашего разбора.
i) Человеческое сущее. Это явно нечто. Каждый, все, сколько
нас есть, мы суть нечто такое, что есть. Что значит есть, когда
дело идет о человеческом существе? Стол, имеет ли он бытие в
том же смысле что человек? Явно нет. Если я его ударю, он
издает звук, но ничего не испытывает. Наоборот, побитая кошка
испытывает страдание, в противоположность тому, что думал
отец Никола Мальбранш. Однако и то, что говорит Мальбранш
как хороший ученик Декарта, — а именно, что если животные
это машины, т. е. материальные устройства, совершенно
лишенные души, то они не могут испытывать никаких эмоций,
всегда являющихся эмоциями души, — содержит несмотря на
свою явную ложность очень важную философскую истину:
абсолютное отличие человеческого существа от животного.
$6 ФРАНСУА ФЕДЬЕ
Нет смысла отрицать, что человеческое существо происходит
от большой ветви млекопитающих — но про-исходит, исходит
он от нее именно для того чтобы стать человеком. Пожалуй,
можно даже сказать, что человеческое существо есть
исходящее бытие, философски говоря — экзистенция, слово, которое
Хайдеггер пишет иногда как Ek-sistenz, настаивая на этой черте
исхождения.
Человеческое существо другое чем животное, что очень
просто охватить, сказав, что для человеческого существа
собственно именно бытие становится вопросом. Как быть7. Посмотрим
философски: кошка не ставит себе вопроса, как быть. Она его
не ставит, потому что не говорит, — а не говорит, потому что
этот вопрос для нее не стоит.
Бытие для человеческого существа составляет весь вопрос,
гамлетовское to be or not to be. Заметим, что Гамлет задается
вопросом смысла жизни. Скажем поэтому, что вопрос смысла,
который мы придаем жизни, вычитываем из нее или отрицаем
за ней, возвращает к человеческому существу как одна из
маркированных модальностей его бытия.
2) То, что выходит в присутствие. Быть — для человеческого
существа и для всего, что есть, — значит развертывать то или
иное присутствие. Дверь присутствует, наличествует. Деревья,
животные присутствуют, пребывают. Вместе с тем в способе
развертывания своего присутствия у человека должна конечно
обнаруживаться весьма специфическая черта его существа.
В самом деле, как гласит разбираемая нами фраза, он — zum
Erscheinenden hin anwesender Mensch, человек,
присутствующий, пребывающий в направлении являющегося. О наречии
hin мы уже говорили. Оно означает вообще движение удаления
от места, где находится говорящий. Человеческое существо
присутствует, развертывая это присутствие в направлении
являющегося. Ради большей ясности скажем: никогда
человеческое сущее не есть в большей мере чем когда оно тянется к
являющемуся. Этим сказано, что никакое другое сущее не есть
таким образом, т. е. в захваченности тем, что являет себя. Про-
ВООЬРАЖАКМОК
57
верим себя: я сплю — возможно, вижу сны. Могу ли я сказать,
что я есмь во всем размахе этого термина, когда вижу сны?
Я проснулся. Я в ресторане, где за едой думаю о своих
насущных делах. Где я? в ресторане или скорее в своих заботах? Я
раздумываю о геометрическом доказательстве. Я выстраиваю его
и получаю результат: я геометр. Как мы говорили, человеческое
сущее развертывает свое собственное, особенное присутствие,
раскрываясь вещам, находящимся вне его, если не вдали от
него. Лучше было бы сказать: если не удаленных от него. Ибо
то, в направлении чего оно тянется, собственно говоря никогда
не далеко, по крайней мере если принять далекое за то, от чего
нас отделяет большая дистанция — в том смысле, в каком мы
говорим, что Луна далека от Земли, потому что она есть (что
здесь означает глагол быть7.) в 409 ооо км от нее в апогее и в
360 ооо км в перигее.
Мы намного более удалены от бытия чем от любого сущего.
К чему отдаленному тянется человеческое сущее,
развертывая наиболее подлинным образом свой способ быть
присутствующим? Ответ: к являющемуся, das Erscheinende,T. е. ко всему
тому, что обнаруживает себя, другими словами: ко всему, что
выступает в присутствие, но в качестве развертывающегося,
прибывающего настоящего, а значит: ко всему тому, что есть,
поскольку эксплицитно выходит к явленности — когда мы
состоим в специальном отношении к нему.
з) фсгутаЫа. Надо заметить, что мы пока еще не переводим
это греческое слово, а именно по той причине, что мы
по-настоящему его не вполне поняли. Мы соответственно держимся
сказанного в прошлый раз, — того, что слово (pavxaoia
происходит от глагола <pavra(opai, значение которого — становиться
видимым, являться, причем нюанс фантазма к нему никогда
не примешивается. cpavTaoia таким образом, в
противоположность всему тому, что мы можем извлечь, отправляясь от
укоренившихся и привычных значений — фантазии или фантастики,
есть просто чистое пространство самообнаружения вещей.
Есть от чего растеряться.
58
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
7
Почему мы тут теряемся, и в каком смысле? Дело в том, что
(pavraoia оказывается тем самым, что мы называем
восприятием, т. е. отношением к реальному, тогда как воображение есть
по-видимому отношение к ирреальному. Где же все-таки
располагается (pavTaoia?
Вся наша предыдущая работа собирается теперь в один
единственный вопрос: как функционирует воображение?
Причем вся работа пропадет впустую, если мы скатимся к
наивному пониманию вопроса. А какое понимание будет не наивным?
Собственно, только одно: продуманное. Философским
антонимом к наивному служит конечно критическое в кантовском
смысле проверки, занятой выделением того, что без такой
проверки оказалось бы смутным. Наивным пониманием
«функционирования» будет просто-напросто любое, которое само
собой придет нам на ум, если мы начнем представлять себе,
например, то, как функционирует машина.
Спрашивая, как функционирует воображение, мы должны
иметь перед глазами совсем другую перспективу. Речь идет
вовсе не о механике. Мы уже подходили к сути вопроса, когда
на первой лекции намечали философское определение функции
в контексте гуссерлианской феноменологии, т. е. в
принципиальной связи с сознанием. Мы цитировали фразу Жана-Поля
Сартра из начала его книги «Воображаемое»:
Эта работа имеет целью описать великую «дереализирующуто» функцию
сознания или «воображения» и его ноэматического коррелята,
воображаемого.
Как функционирует воображение, можно отсюда узнать со
всей точностью: так же, как сознание ирреализирует, — что
отсылает к общему пониманию сознания как функции (но
не как функционирования!). Напрашивается соответственно
возвращение к сказанному ранее: сознание, схваченное со всей
ВООБРАЖАЕМОЕ
59
отчетливостью как функция, предполагает всегда уже заранее
сознание чего-то. Мы видим здесь, что термин функция имеет
совершенно определемный смысл. Учась уходить от его
наивного понимания, проникнемся ненадолго значением слова
функция в математике, где говорят, что у есть функция х, если
каждому значению х соответствует вполне определенное значение
у. Это выражается формулой у = (f) x. В каком смысле можно
говорить о функции сознания применительно к
воображаемому? Воображающее сознание состоит в таком же отношении к
воображаемому,как воображаемое к ...?
Будем отталкиваться от общего замечения: само сознание,
включая все его типы и фигуры, характеризуется как функция.
Мы уже отмечали, что функция должна пониматься в
латинском смысле термина, т. е. от глагола fungor, functus sum, fungi —
расквитаться, оплатить, выполнить. Расквитаться за что?
Философское применение термина функция появляется у
Канта в «Критике чистого разума». На странице 43 второго
издания мы можем прочесть:
Под [термином] функция я понимаю единство действия упорядочения
различных представлений иод одним общим (представлением].
Поскольку еще не пришло время сосредоточить внимание на
Канте, сделаем здесь только одно замечание: функция в
философском смысле имеет сущностно объединительный смысл.
Функция заключается в единении, т. е. в учреждении единства.
Вернемся к нашему вопросу: какова функция сознания,
когда оно есть сознание воображающее? Теперь благодаря Канту
и нашему комментарию мы можем заострить, т. е. уточнить
вопрос, спросив: какова единящая функция воображения?
В порядке подготовки ответа рассмотрим, не выходя за рамки
курса, что говорили о воображении великие философы.
Первым его тематизировал Аристотель. Его анализ находим в
трактате «О душе» (nepi tyuxnc,), начиная со страницы /\гуЬ 14 слл.
под рубрикой (pavTaaia.
60
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
Хайдеггеровскую фразу относительно cpavraoia мы уже
разбирали. Вспомним однако, что хотя она была полностью
разъяснена, полного ее перевода мы пока еще не дали. Вот он:
(paviaoia: то, что входит в присутствие, наличие, пребывание, являясь
человеческому существу, которое само выступает в присутствие в той мере, в
какой оно открывается являющемуся.
Если мы переведем здесь cpavxaaia через воображение,
говорили мы, в этой фразе будет из-за чего растеряться. В самом деле,
мы неоднократно цитировали и соглашались, что воображение
состоит в отношении к ирреальному. Можно ли называть
«ирреальным» то, что выступает в присутствие, а «отношением к
ирреальному» — акт открытия человеческого сущего тому, что
выступает в присутствие?
«То, что выступает в присутствие» — не забудем — это то,
что есть, стало быть, всё реальное; а для человеческого
существа быть значит опять же выходить в присутствие, только
вполне специфическим образом, состоящим в том, чтобы
принимать и собирать выход в присутствие всего что есть. Если
cpavxaaia есть то, что говорит Хайдеггер, то она создает
отношение к реальному, а не к ирреальному. Мы оказываемся в крайне
критический ситуации, в середине противоречия, которое нам
предстоит разрешить, между двумя крайностями
альтернативы: либо (pavxaoia есть воображение, и как в таком случае она
может быть отношением к реальному (а не к ирреальному),
либо cpavxaaia не есть воображение, и как тогда это слово могли
принять за обозначение того, что переводится через imaginatio.
Как всегда в критической ситуации, всего важнее хранить
хладнокровие и удвоить свое внимание. Обратимся к
размышлениям еще одного великого философа о сущности
воображения. Перечитаем Декарта (Медитация II, 1640):
Nihil aliud est imaginari quam rei corporeae figuram.seu imaginem,contemplari.
Воображать есть не что иное как созерцать фигуру или образ телесной вещи.
Несколько ниже в той же Медитации II Декарт отождествляет
ВООБРАЖАЕМОЕ
6l
«общее чувство», sensus communis, с «имагинативной
способностью». В Медитации VI Декарт, анализируя различие,
существующее между воображением и чистым пониманием,
замечает, что воображать значит не только intelligere, понимать
(в смысле не пассивного восприятия, а поступка постижения
всего мыслимого). Декарт тщательнейшим образом показывает,
чтб привходит в воображение сверх понимания. Когда я мыслю
(intelligo), я несомненно усматриваю нечто (intueor), т. е. вижу
мыслимое в уме. Думая о треугольнике, я вижу, что это фигура,
состоящая из трех прямых. Но, воображая треугольник, я
поп tantum intelligo illud esse figuram tribus lineis comprehensam, sed simul
etiam istas tres lineas tanquam praesentes acie mentis intueor, atque hoc est quod
imaginari appello, не только вижу усилием ума эти три линии
(ограничивающие треугольник в его понятии), как если бы они присутствовали для моих
телесных глаз, — я вижу их умом так, как если бы они были протяженными
линиями (а не просто понятиями прямых линий), и это я называю
воображать.
Далее следует знаменитый пример с хилиогоном —
многогранником, имеющим тысячу сторон. Этот хилиогон я могу
помыслить как «фигуру, состоящую из тысячи сторон», но я не могу
его вообразить, т. е. видеть с его тысячью присутствующих
сторон, никаким усилием ума. Так что вообразить хилиогон значит
получить смутное представление некой фигуры — однако не
являющейся явным хилиогоном, поскольку эта смутная фигура
не отличается от представления какой-нибудь другой фигуры,
имеющей очень большое число сторон.
В более раннем тексте Regulae ad directionem ingenii
(Правила для руководства ума, ок. 1625) Декарт определяет интуицию,
перечисляя то, что не следует считать ею. Он пишет:
Per intuitum intelligo, поп fluctuantem sensuum fidem, vel male componens
imaginationis judicium fallax; sed mentis purae et attentae facilem distinctumque
conceptum. Под интуицией я понимаю не переменчивое свидетельство чувств
или обманчивое суждение воображения, дурно слагающего (свой объект], но
доходчивое и отчетливое понятие чистого и внимательного ума.
62
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
Что здесь надо отметить, так это способ, каким Декарт
характеризует воображение. Оно дурно слагает, говорит он. Перевод,
добавляющий слова «свой объект», грозит отвлечь наше
внимание от сути дела. Что такое слагать, componere? Это буквально
значит складывать вместе, сочетать в одно. Что складывается
воображением воедино, причем таким образом, что это
сложение, со-чинение можно с полным правом называть дурным?
Ответ: воображение складывает воедино ум и то, что не является
умом, а именно телесную реальность. Иными словами: вообра
жение состоит в том, чтобы мыслить телесно4. Это дурно,
потому что ум и тело составляют два разных порядка, смешивать
которые никоим образом нельзя.
Повторим, что воображать, imaginari у Декарта значит не
только понимать, intelligere, но также и как бы видеть
воображаемое присутствующим.
8
Мысль Декарта — не одно из существующих мнений, а филоф-
ская концепция, определяюще воздействующая на то мнение,
которое мы пока еще только формируем касательно
воображения. Сосредоточим внимание на декартовской концепции
воображения как концепции классической. Будем различать
два аспекта этой концепции: во-первых, ее доктринальное
содержание, во-вторых — и это для нас окажется еще более
важным — ее далекие последствия или скорее, пожалуй, ее
метафизический размах.
Доктринальное содержание: мы уже имели случай заметить,
опираясь на знаменитый текст Правила III о том, что
воображение есть по своей сути способность сложения в смысле сопо-
лагания, объединения, cum-ponere. Воображение, каким бы ни
был его частный эффект, со-чиняету со-ставляет, т. е. собирает в
4- Ср. Alain, Propos 1,466: «Свой первый эффект воображение всегда
создает в теле».
ВООБРАЖАЕМОЕ
63
одно целое или, используя самый философский из
напрашивающихся здесь терминов, осуществляет синтез.
О синтезе необходимо знать, что он есть единство,
полученное на основе чего-то первоначально множественного. Так,
например, можно сказать, что м — синтез 7 + 5- При
достаточном внимании мы видим, что в числе 12 элементы 7 и 5 исчезли
как таковые, дав место чему-то другому, их сумме. Если однако
всякая сумма есть определенный синтез, то не всякий синтез
обязательно будет суммой. Так, химическая молекула Н20 не
сумма, прежде всего потому что атомы водорода и кислорода
там не прибавлены друг к другу, но именно со-чинены. Будем
соответственно различать между синтезом и смесью. Смеси
еще не достаточно чтобы создать единство. Чтобы сложилось
единство различного, необходим закон сложения, сочинения,
композиции.
Воображение слагает (компонирует) то, что принадлежит
и не принадлежит к уму. В общем хозяйстве картезианской
мысли ум есть «мыслящая вещь», т. е. принадлежит к сфере
«мыслящей субстанции», тогда как то, что умом не является,
принадлежит к области «протяженной субстанции». Эти два
лица субстанции у Декарта являются конечно двумя
абсолютно гетерогенными порядками. Мысль не протяженна; она уже
не может быть в принципе пространственной, характеризуясь,
наоборот, внутренним тяготением к единству, ближайшим
примером которого служит знаменитое cogito, выражающее
на латыни — здесь гораздо более точной чем новые языки —
мысль как охарактеризованную этим тяготением,
сосредоточенным на самом себе. Cogito = co-agito = co-ago: свожу вместе
и не перестаю (agito фреквентатив от ago) сводить вместе то,
что я думаю.
Протяжение — не мысль: в нем нет никакого внутреннего
тяготения, которое от него самого сосредоточивало бы его на
нем самом. Протяжение по своей сути экстенсивно, т. е.
пробегаемо движением, приходящим не из него самого, а, как горько
замечает Паскаль, от «щелчка», который Бог не удержался дать,
64
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
чтобы «привести мир в движение» (Мысли, фрагмент 77 по
Брюнсвику).
Воображение, слагающее (сочетающее) ум и телесность,
можно ли его квалифицировать у Декарта как синтез в строгом
смысле? Ответом должно быть нет. Именно поэтому в
Правиле III Декарт заботливо добавляет наречие male к причастию
componens: воображение плохо слагает ум и телесное.
Иными словами, оно смесь, не достигающая истинного единства.
Единство воображаемого есть единство, не обладающее
конститутивной стабильностью; именно потому оно по своей сути
ирреально.
Здесь снова требуется крайнее внимание. Мы не должны
спешить, отождествляя только что записанное слово «ирреально»
с его омонимом, который мы встретили в другом контексте, в
гуссерлианском определении воображаемого. У Гуссерля и у
Сартра ирреальное имеет другое значение чем здесь. И вместе с
тем простая одинаковость слова приглашает нас пойти по
определенному следу, а именно в сторону углубления банального
значения ирреальности (того, что лишено существенности), в
направлении того, что характеризует ирреальное как статус,
или как состояние: а именно ирреальное как то, что не может
полагаться в качестве существующего само собой.
Воображение, дурно сочетая ум и телесность, приводит
всегда только к псевдо-сочетаниям. Именно здесь, мы считаем,
доктринальное содержание этой картезианской концепции
предоставляет классические рамки для нашего спонтанного
понимания воображаемого.
Как воображение сочетает ум и телесное? Оно их слагает
плохо, говорит Декарт в Правиле III. Вернемся снова к тому, что
пишет Ален в своей книге «Идеи: Введение в философию», в той
главе, которую он посвящает теме «Воображение, понимание,
воля» (Hartmann 1947» Р> *56 sqq.).
Исходно ситуация человеческого духа такова» что он выражает прежде
всего и всегда изменения и превратности человеческого тела, сцепляя их
ВООБРАЖАЕМОЕ
65
прежде всего лишь в согласии с переменой настроения, что и является
воображением.
Но, во-вторых, дух человеческий выраж • т также природу вещей, при
условии отвлечения, в меру возможного, от г >мех, создаваемых аффектами
человеческого тела, и это есть понимание [... ]
Вместе с тем необходимо усвоить, и здесь третий момент, что это очищение
происходит не изолированно и как бы действием механизма, хорошо
описанного у Декарта и менее отчетливо почти у всех, но, наоборот, в познании
участвует вся мощь воли, и это есть суждение [...]
Это значит, что душа изначально и всегда представляет себе вселенную
сообразно реакциям тела.
В аспекте познания, т. е. истины всего сущего, сочетание,
создаваемое нашим воображением, может считаться дурным, т. е.
неистинным, но в аспекте жизни, того, что Ален называет
превратностями, переменами, это сочетание конечно не благое, но
вполне удовлетворительное.
9
Мы выписали три фразы Алена, раскрывающие «ситуацию
человеческого ума», как ее мыслит Декарт. В первой из них
ставится вопрос о воображении. Оно, узнаем мы, есть не что иное
как сам человеческий ум в его исходной ситуации — в обоих
смыслах, хронологическом и логическом. Человеческий ум в
той мере, в какой он человеческий, на все время жизни человека
интимно связан с телом. Человеческое сущее в самом деле не
есть ни исключительно дух, каков Бог и всякое другое
нематериальное сущее, например ангелы, ни исключительно тело,
каковы животные. Человеческое сущее характеризуется
совершенно уникальным единством души и тела, единством
настолько интимным, что тело непрестанно оказывает свое влияние на
соединенную с ним душу, в то время как опять же душа всегда
имеет власть оказать какое-то влияние на «сопряженное» с ней
тело, как говорит VI Метафизическая медитация:
Природа также учит меня своими чувствами страдания, голода, жажды и
66 ФРАНСУА ФЕДЬЕ
т. д— что я располагаюсь в своем теле не так, как рулевой на корабле, но что
я с ним очень тесно сопряжен и как бы насквозь смешан, так что составляю с
ним некое единство.
Декарт осторожно пишет unum quid, некое единство. Мы
можем опереться на quasi, стоящее в той же строке латинского
текста, и сказать, что единение души и тела, определяющее нас
как человеческих существ, составляет конечно квази-единство,
или квази-субстанцию.
Таким образом у человеческого сущего ни в какое время его
жизни нет ума, или духа, не зависимого от его собственного
тела. Вот почему Ален замечает, что человеческий ум «прежде
всего и всегда выражает изменения и превратности
человеческого тела». Усвоим это со всей отчетливостью: в первую очередь
и во все времена всякий ум выражает состояния своего
собственного тела.
Здесь в первой фразе стоит запятая, за которой следует союз
и. Сделаем еще один шаг в сравнении со сказанным выше и
поймем, что остальная часть фразы только объясняет
предыдущее. Грамматическое подлежащее всей фразы от ее начала
до конца — человеческий ум, т. е. дух, образующий вместе со
своим телом квази-субстанцию. Этот — наш и каждого из нас,
людей, — ум выражает, исходно и всегда. Об этом говорит
первая часть фразы. Согласно второй ее части он делает что-то
отличное от выражения, он сцепляет, т. е. слагает в некие строгие
последовательности, которые уже не могут быть легким
образом изменены. Например: abcdy или аЪаЬу или ahcabc —
короче, связывает звенья цепи.
Пусть стимулом для заострения нашего внимания будет
большая точность, с какой пишет Ален: человеческий ум
сцепляет — и здесь вполне общая черта, свойственная природе ума
как таковой; совершенная форма этого сцепления есть,
разумеется, логическая связь. Однако на данной стадии рассмотрения
речь о таком сцеплении еще не идет. Вот почему вторая часть
разбираемой фразы остается экспликацией первой. А если все
ВООБРАЖАЕМОЕ
6?
именно так, то сцепление оказывается комментарием (на моем
языке) к выражению.
Выражение представляет немалую проблему. Заметим для
начала, что соответствующий глагол составляет часть словаря
Алена, но не Декарта. Вместе с тем, выражение оказывается
излюбленным термином Лейбница, у которого он получает
чрезвычайно точный смысл: «Одна вещь выражает другую (на
моем языке), когда между тем, что может быть сказано о той и
другой, существует постоянное и упорядоченное отношение»
(письмо к Арно, 910.1687). Выражать изменения тела для ума
(духа) значит, следовательно, предоставлять нечто
соответствующее всякому такому изменению, так что между тем и другим
устанавливается постоянное отношение, когда для
а) изменения мы имеем Ь) выражение изменения
хуг пто
Заметим, что пто вовсе не обязательно должны быть того
же порядка что х у z\ Например, фонема п выражается как
через -gne-, так и через -nie-. Выражение может быть бесконечно
более смутным чем в выбранном нами примере. Так, телесное
изменение может быть таким, какое происходит, когда мы
приближаем руку к жгучей поверхности. Выражением этого
становится тогда... страдание, испытываемое нами. Переживаемая
боль — то «чувство страдания», о котором говорит Декарт в
Медитации VI, — выражает изменение состояния тела.
На этой первой ступени выражение пока еще ничего не
сцепляет. Сцепление начинается только если вмешивается ум, иначе
говоря, если ум неким образом изобретает то или иное
отношение в отсутствие чувства. Скажем, когда жгучая поверхность
является металлической плиткой, покрасневшей от жара,
сцепление будет иметь место, если ум отныне вообразит, что всякая
красная поверхность способна вызывать страдание. В своем
изложении Декарта Ален подчеркивает: благодаря интимной
связи у человека между душой и телом понимание всегда
начинается — и развертывается — в опоре на телесные стремления,
осуществляя при этом свою исходную функцию, т. е. продви-
68
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
гаясь шагами сцеплений. Вот что означает конец первой
выписанной нами фразы Алена: человеческий ум осуществляет свои
сцепления «лишь в согласии с переменой настроения, что и
является воображением». Воображение, конечно, акт понимания,
но такого, которое еще не достигло чистоты, еще порабощено
своей неразрешимой связью с телом.
Вторая фраза начинается вводным «во-вторых»,
указывающим на уровень второго порядка, подобно тому как говорят о
вторичном (secondaire, среднем) образовании после
первичного (начального). Вторичное образование не просто следует за
первичным, но, базируясь на нем, вводит нечто новое и,
собственно говоря, единственно достойное называться
образованием: не просто знать, но знать, чтб предполагается этим
знанием, т. е. размышлять. Эта вторая фаза определяет, следственно,
что такое понять в полном смысле термина. Понять значит
собственно выразить природу вещей, т. е. уже не перемены и
превратности тела, через посредство которого мы при всем
том состоим в отношении к вещам. Именно поэтому во второй
фразе подчеркивается тот факт, что мы не в состоянии просто
«абстрагироваться», как принято говорить, от телесных
аффектов. Эти последние не могут прекратиться: мы постоянно
относимся к вещам через посредство нашего тела; они непрерывно
аффицируют ум (дух) бесконечным множеством различных
чувств, всегда остающихся тем первичным выражением, к
которому мы неизменно чутки.
Человеческое сущее, стало быть, никогда не может избавить
себя от аффектов тела. Оно однако способно от них
освободиться «в меру возможного» для достижения подлинного
понимания, т. е. создавать сцепления в порядке вещей независимо
от порядка движений тела.
Третья фраза напоминает о том, на каком условии
достигается эта свобода, а именно на том, что предприятие понимания
одушевляется волей. Только тогда понимание может в
достаточной мере отслоиться от воображения. Резюме: дело идет о
человеческом уме. Т. е. об уме (духе), который соединен с телом.
ВООБРАЖАЕМОЕ 69
Ум, или мыслящая субстанция, по Декарту, есть понимание и
воля. Приданное телу, понимание без поддержки всей мощи
воли подчиняется настояниям тела и исполняет работу
сцепления лишь повинуясь движениям настроения; понимание в этом
случае есть не что иное как воображение. Еще раз процитируем
Алена (там же, с. 157):
Поскольку душа интимно сочетается с живым телом, которое энергично
и непрерывно реагирует на то, что его сохраняет и что ему угрожает, то не
может быть, чтобы эти движения не преобразовывались в живые аффекты
души, которые суть удовольствия, страдания, желания, страхи. Но ввиду
неделимости души эти аффекты души оказываются также и мыслями. Это
значит, что душа изначально и всегда представляет себе вселенную сообразно
реакциям тела.
Душа воображает вселенную. И это значит: помыслить
человеческую душу, которая была бы вполне свободна от
воображения, невозможно.
Так мы скачком переходим к другому заслуживающему
внимания моменту: метафизическому размаху декартовской
концепции воображения.
10
Не стоит воображать себе ничего чрезвычайного под
выражением «метафизический размах». Что должно здесь привлечь
наше внимание, так это просто то, что воображение, как его
видит Декарт, создает абсолютную уникальность существ,
какими мы являемся. Мы такое уже говорили, но походя. Сейчас
проговорим то же, отдавая себе в сказанном полный отчет:
человеческое сущее, и только оно, способно воображать. Вот
что следует понять во всей строгости метафизического смысла.
Если мы говорим, что Бог неспособен воображать, то отсюда
никоим образом не следует, будто мы указываем пальцем на
какую-то его ущербность. Сделаем усилие чуточку серьезной
мысли: сказать о ком-то, что он «неспособен лгать», может оз-
70
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
начать наше намерение выразить две вещи, различение между
которыми есть первоочередная необходимость. Прежде всего, в
расхожем смысле, мы хотим этим сказать, что данный индивид
не достиг степени интеллектуального развития, где становится
возможно «заигрывать с истиной». Это, например, случай
любого маленького ребенка, который еще не умеет скрывать, что
сделал что-то, чего не имел права делать. Однако, уже в другом
смысле, неспособность лгать есть, наоборот, характеристика
существа, в котором ложь не может иметь места, потому что
была отождествлена с абсолютно неоправданной ущербностью.
В отношении Бога констатация, что он неспособен воображать,
просто подчеркивает, что для него невозможно быть чем-то
другим чем он есть, например быть человеком, т. е. иметь тело,
привязанное к его духу: это, как сказал бы Декарт, противно его
природе, т. е. находится в противоречии с его сущностью. Бог
не может воображать, поскольку он по определению абсолютно
нематериален, или бестелесен. С другой стороны, животное не
может воображать, потому что оно лишь тело, абсолютно
лишенное духа.
Важность этого метафизического заключения бросается
в глаза. Воображение, как его осмысливает Декарт, выделяет
человеческое сущее из среды всего существующего. Мы
получаем тут в руки отчетливый критерий, позволяющий
идентифицировать человеческое сущее как таковое. Не станем однако
думать с типичной наивностью новичков, будто мы добрались
до конца наших трудов. Мало заметить с помощью Декарта
безусловную базовую важность воображения. Нам надо еще
оценить его размах.
Что такое воображение у Декарта, мы теперь знаем. Речь
здесь идет — подчеркнем еще раз, ибо предрассудки въедливы,
особенно в отношении философии, — не о мнении
определенного индивида, но о философской мысли, закрепляющей то,
чего человечество, в данную эпоху истории, достигает всем
своим интеллектом, в данном случае— в деле определения
воображения. У Декарта оно, стало быть, есть некий гибрид,
ВООБРАЖАЕМОЕ
7*
состав из двух разных природ, а именно мысль, возбужденная
телом. Одновременно, как уже отмечалось, мы пришли к
другому примечательному моменту нашего разбора, когда встает
вопрос о метафизической значимости этой декартовской
концепции воображения.
Сейчас всего важнее, собственно, хорошо понять, что
природа воображения интимно отвечает природе человеческого
сущего, поскольку лишь оно определяется как союз души и
тела. В этом смысле воображение есть абсолютно уникальное
свойство того сущего, каким являемся мы сами. Бог —
существо вполне имматериальное — не может воображать, потому
что у него нет тела. Заметим, что наш язык испытывает некое
затруднение при высказывании подобных обстоятельств.
Сказать, что Бог не способен воображать, неизбежно заставляет нас
думать о какой-то немощи, тогда как дело идет о совершенно
противоположной вещи. Бог не может воображать, потому что
его мысль с самого начала избавлена от всякого порабощения
телом. Только у Бога мысль совершенно бесконечна и свободна,
что нам, простым людям, почти невозможно понять —
именно потому, что наша мысль всегда и прежде всего привязана к
нашему телу. Наоборот, что касается животных, они не могут
воображать, поскольку не имеют души, в которой
представлялись бы превратности телесных движений.
Только сущее, в котором душа сопряжена и интимно
перемешана с телом, постоянно воображает — и это сущее есть
человеческое существо.
Метафизический размах такого распределения бросается в
глаза. Воображение, вот что отличает человеческое существо
от всех других. Ничто вне его не воображает — настолько, что
мы вправе написать: именно человеческое существо, вступая
в отношение к воображаемому, наиболее прямым и наиболее
свойственным ему образом обнаруживает себя как то, что оно
есть.
Если теперь исходя из сказанного прочесть одну знаменитую
мысль Паскаля (афоризм 35& по Брюнсвику),она начнет звучать
72
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
с какой-то гораздо большей широтой чем привычно звучала
раньше:
Человек и не ангел, и не зверь, и беда в том, что когда хотят сделать из себя
ангела, делают зверя.
Ангел: Паскаль не говорит Бог — потому что Бог есть
абсолютный предел того, чем метафизически является ангел,
бестелесное существо, состоящее исключительно из духа (без тепа).
Что касается зверя, то он лишь тело, без духа. В своем хорошем
издании Паскаля Леон Брюнсвик приводит место из Монтеня
(Опыты III13), с которым перекликается Паскаль:
Нет ничего столь прекрасного и законного, как делать из себя должным
образом человека; нет науки столь же трудной, как умение хорошо и
естественно жить этой жизнью (...) Что до меня, я люблю жизнь и возделываю ее
такой, какою Бог пожелал нас одарить (...) Я добросердечно и с
признательностью принимаю то, что природа сделала для меня; и за то себя одобряю и
хвалю. Люди неправы перед великим и всемогущим дарителем, отрекаясь от
его дара, уничтожал и искажая его [...] Они хотят переместиться вовне самих
себя и уйти от человека в себе; это безумие; вместо преображения в ангелов
они преображаются в зверей; вместо восхождения они падают.
Метафизический размах, какого достигает декартовское
понимание воображения, приоткрывается, когда мы замечаем, что
его одного достаточно для получения абсолютно строгой
дефиниции человека. В самом деле, никогда во всей истории
философии ни один мыслитель не давал воображению дефиниции,
которая могла бы одна, сама по себе, служить определением
человека. Почему же? Ответ, как мы уже не раз пытались дать
понять, заключается в том, что никогда еще о воображении не
мыслили так оригинально. Иначе говоря, между декартовским
описанием воображения и его метафизическим размахом
обнаруживается зияние, разрыв, даже пропасть. В самом деле,
почему философская мысль как раз тогда, когда она устанавливает
(у Декарта со всей очевидностью), что воображение знаменует
абсолютно уникальную черту человеческого сущего, — почему
ВООБРАЖАЕМОЕ
73
философская мысль не приходит к его выделению в качестве
уникальной человеческой способности по преимуществу?
Благодаря Декарту мы констатируем расхождение, даже
неувязку, между статусом воображения как естественного
проявления смешанной природы человеческого существа, которое
одновременно есть тело и дух, и его ролью* которая всегда
окрашена в негативные предикаты. Воображение обманчиво.
Впервые воображение развернуто тематизируется у Аристотеля.
В его трактате «О душе» (гл. з книги III) воображение
появляется характерным образом, который окажется решающим для
всей последующей философской рефлексии: в своем отличии
одновременно от сиаЭг|<ж; и от vor|aic; — в традиционном
переводе от ощущения и от мысли. Воображение помещается, стало
быть, между чувством и умом.
Иммануил Кант говорит о воображении (Einbildungskraft) в
§ 25 своей «Антропологии»:
Воображение (facultas imaginandi) как способность [иметь] интуиции
даже без присутствия объекта (реально сущего перед нами], является либо
продуктивным,т.е.способностью исходно произвести его [объект] (exhibttio
originaria), и это произведение происходит соответственно до опыта; либо
[воображение] репродуктивно (exhibitio derivative) и воспроизводит в
душе эмпирическое созерцание, полученное ранее.— Чистые созерцания
пространства и времени относятся к первому типу произведения; все
другие предполагают эмпирическое созерцание, которое, будучи привязано к
понятию объекта и становясь таким образом эмпирическим созерцанием,
называется опытом. — Воображение, насколько оно производит равным
образом непроизвольные образы, именуется фантазией. Тот, кто имеет
привычку принимать эти непроизвольные представления за опыт (внутренний
или внешний), является фантастом (мифоманом). — Становиться во сне (в
состоянии доброго здравия) невольной игрушкой этих воображаемых
представлений значит видеть сны.
Иными словами, воображение либо поэтично
(продуктивно), либо попросту воспроизводяще (репродуктивно). Однако
продуктивное воображение еще не является оттого
творческим — оно не способно произвести ощутимое представление,
74
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
которое никогда ранее не было бы данным нашей чувственной
способности; напротив, всегда возможно проследить и
обнаружить то, что доставило материю для этого чувственного
представления. Для человека, который из семи цветов никогда не
видел красного цвета, сделать впечатление от него ощутимым
невозможно, как для слепого от рождения — никакое
впечатление цвета; то же самое относительно промежуточных цветов,
создаваемых смешением двух первичных цветов, как зеленый.
Желтый и голубой, смешиваясь, дают зеленый, но воображение
не могло бы создать ни малейшего представления об этом
цвете, если бы мы не видели раньше такой смеси.
То же самое в отношении наших пяти чувств по отдельности:
впечатления, идущие от них, не могут быть произведены в их
собственной полноте воображением; они должны быть
сначала извлечены из чувственной способности. Есть люди, чье
представление о цвете сводится к тому, что они имеют в своей
зрительной способности только различение между белым и
черным; для них, несмотря на их хорошее зрение, весь видимый
мир предстает как на гравюре. Точно так же существует
больше чем мы думаем людей, у которых хороший и даже тонкий
слух, но вместе с тем они совершенно лишены музыкальности;
их слуховое чувство просто непригодно не только для
воспроизведения звуков, чтобы быть в состоянии петь, но даже
для различения шумов. Аналогично обстоит дело со вкусом и
обонянием.
Таким образом, если воображение может быть названо
великим художником и даже волшебником, в нем тем не менее
отсутствует творчество. Ему надо заимствовать у чувств материю
для своих образований (конфигураций, Bildungen). Но чувства,
как уже упоминалось, оказываются не в такой мере
универсально сообщимы, как понятия разума.
Впрочем, иногда мы, пусть и в несобственном смысле,
называем «чутьем» восприимчивость к представлениям
воображения при их передаче, и говорим: у этого человека нет никакого
чутья к той или иной вещи, хотя речь идет не о чувственной
ВООБРАЖАЕМОЕ
75
неспособности, а о частичной неспособности понять и усвоить
сообщаемые представления, в конечном счете — осмыслить их.
Такой человек не дает себе отчета в том, что говорит, а другие
его соответственно не понимают; в том, что он говорит, нет
чутья — и смысла.
То, что это слово — чутье, смысл (sens) — так часто
применяется для обозначения мысли, а иногда намекает по-видимому
на какую-то ступень выше мысли; что о высказывании мы
говорим, что оно содержит богатый смысл и полно глубокого
чувства; что мы называем нормальное понимание «здравым
смыслом» или «общим чувством» (sens commun) отводя ему
выдающееся место — тогда как «здравый смысл», «общее
чувство» есть на деле лишь низшая ступень познавательной
способности, — все это является результатом того факта, что
воображение, доставляющее материал для понимания, чтобы
доставить своим фигурам какое-то познавательное
содержание, благодаря аналогии созерцаний (интуиции),
производимых воображением, с реальными восприятиями, —
воображение кажется обеспечивающим свои воображаемые созерцания
реальностью. Между восприятием и воображением кажется
существующей аналогия; представляется, что они имеют что-
то общее, тогда как это две совершенно разные вещи.
И
Перед нами еще не прочитанный текст Канта. При его чтении
выявляется прежде всего обескураживающий феномен:
вначале мы хорошо понимаем, что в нем говорится, но под конец
чтения у нас появляется такое чувство, что мы потеряли нить.
Чтобы ее снова нащупать и достичь цельного и надежного
понимания того, что говорит философ, мы должны вернуться к
тексту в попытке прокомментировать его.
Способность воображения названа Кантом, по его
обыкновению, facultas imaginandi, где латинское imaginandi —
деепричастие, т. е. модальность глагола, в которой он неким образом
76
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
приобретает черты имени. Деепричастием заменяется
неопределенное наклонение в его именных функциях, например
подлежащего и дополнения. Здесь деепричастие imaginandi стоит в
родительном падеже и означает просто «воображение».
Воображение и есть способность воображать. В немецком Кант
называет эту способность Einbildungskraft, силой воображения.
Как мы уже не раз подчеркивали, слово Einbildungskraft
имеет такое же хождение в немецком, как воображение, imagination,
во французском. Sich etwas einbilden значит просто «что-то
вообразить себе», но с одним очень отчетливым нюансом,
который мы передаем в нашем французском языке выражением se
figurer quelque chose, «навоображать себе разные вещи». Литтре
цитирует Вольтера, начало «Века Людовика XIV»:
«Приближение эпохи меньшинства, когда всякий воображал себе успех».
Пока для себя отметим одно, что еще не было подчеркнуто
с достаточной рельефностью: воображение как способность
навоображать себе разные вещи говорит не столько о
вступлении в отношение к образам, сколько, в гораздо более
радикальном смысле, о вступлении в отношение к самой сути
воображаемого. Способность воображения, таким образом, есть
свойство вступать в отношение ко всему, что мы воображаем и
чего образ есть лишь частный случай. И вот именно о статусе
воображаемого сразу начинает говорить Кант, когда уточняет,
что сила воображения состоит в том, чтобы
иметь интуиции (созерцания) даже без присутствия объекта (реально
сущего перед нами).
Созерцание (интуиция) у Канта имеет совершенно
однозначный смысл. Созерцание есть «представление, которое может
быть дано (доставлено, предоставлено) лишь объектом,
действительно существующим перед нами» (Критика чистого
разума А з^)- Мы получаем созерцания, соответственно,
чувственным образом. Созерцание, о котором говорит здесь Кант, есть
чувственное созерцание, а именно такое, которое мы получаем
ВООБРАЖАЕМОЕ
77
через посредничество какого-либо чувства, зрения, слуха,
обоняния, вкуса, осязания. Полученное через зрение будет цветом,
через слух — звуком и т. д.
Лишь усвоив только что сказанное мы начинаем понимать,
почему в начале 4-го абзаца Кант скажет, что воображение
большой артист или даже волшебник. В самом деле, если
чувственное созерцание всегда дается чем-то существующим перед
нами (Gegen-stand), то не следовало бы говорить, что
созерцание бывает в отсутствие этого последнего. Но воображение
есть у Канта именно способность иметь созерцания даже в
отсутствие всякого Gegenstand!
Как возможна такая фантасмагория?
В своем комментарии параграфа «Антропологии» Канта,
посвященного воображению, мы пока еще не пошли дальше
второй строки. Воображение, отметили мы вместе с Кантом,
есть способность иметь созерцания даже в отсутствие
существующих перед нами объектов. Затем мы обратили внимание на
то, что созерцание (интуиция) — у Канта, не у Декарта! — это
слово с двояким смыслом, смотря по тому, идет ли речь об
эмпирическом или о чистом созерцании. Эмпирическое
созерцание дано объектам, существующим перед нами (Gegenstand),
тогда как чистое созерцание не дано никаким существующим
предметом, каков бы он ни был, но — как говорит Кант начиная
со второй страницы «Критики чистого разума» — имеет место
в уме «a priori, даже в отсутствие какого-либо объекта перед
нами, как простая форма чувственности». Иначе говоря,
чистое созерцание независимо от всякого опыта, настолько, что
Кант называет его «условием возможности опыта». Вот что
означает a priori у Канта: не зависящее от опыта, не выводимое
из него, по предшествующему опыту, и даже делающее
возможным любой опыт5.
Мы стало быть совершили ошибку, и большую, когда в са-
5. Ср. у Рильке (письмо к Нике 6.2.1899 г.): «ставший хозяином своего
воображения смог бы выдержать невозможное, не заботясь о возмещении.. >
78
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
мом конце предыдущей лекции говорили о фантасмагории!
То, что излагает Кант, требует просто нового продумывания
или более серьезного комментария. Итак, в зависимости от
того, является ли созерцание эмпирическим (опытным) или
чистым, мы, понятным образом, имеем право различать между
двумя типами воображения, которые можно было бы назвать
воображением чистым и эмпирическим, но Кант их различает
иначе, называя их «поэтическим воображением» (лучше было
бы, если мы хотим соблюдать совершенную точность, сказать
поэтизирующим, dichtend, причастие настоящего времени) и
«воображением репродуктивным», или: воображением продух-
тивныМу производящим, и воображением повторительным,
воспроизводящим.
В обоих случаях воображение обнаруживает свою
фундаментальную способность — делать наглядным без присутствия
существующего объекта перед нами. В случае
воспроизводящего воображения отсутствие объекта означает просто, что
объект был: некий существующий объект действительно был перед
нами и нам было дано его эмпирическое созерцание. Вместе с
тем, необходимо сразу отметить коренное различие между
воображением и памятью. Если память конститутивно связана
с существующим перед нами объектом как таковым —
вспоминая вещь, я вспоминаю ее как таковую, — то воображение
с самого начала свободно от исключительной привязки к тому
или иному существующему объекту. Хайдеггер может поэтому
добавить (Кант и проблема метафизики, GA з» S. 128):
Таким образом в воображении сразу же обнаруживается весьма
специфическая непривязанность к сущему. Воображение свободно от привязок
(freiziigig) тем же способом, каким оно добывает созерцания, а именно: оно
есть способность неким образом доставлять себе таковые.
По здравом размышлении понадобится признать, что в
противоположность спонтанно нами увиденному не память
вступает в непосредственно первичное отношение к воображению.
Иными словами, если мы способны вспоминать, то потому, что
ВООБРАЖАЕМОЕ
79
способность воображать в нас исходна. Но тогда это означает,
что воспроизводящее (репродуктивное) не есть собственно
говоря воображение! Что же такое продуктивное воображение?
Вернемся к тексту § г\ кантовской «Антропологии»:
Воображение (...) либо продуктивно, т. е. [оно есть) способность исходно
произвести этот последний (существующий объект перед нами]...
Фраза характерна для кантовского образа мысли. В самом деле,
это чисто формальная фраза — в том смысле, что воображение,
о котором тут идет речь, не соответствует строго говоря
ничему из данного нам на опыте. Что, в самом деле, значит исходно
произвести объект,существующий перед нами? Exhibere
по-латински значит про-из-вести в смысле вывести наружу; exhibere
documentum значит представить доказательство в виду всех.
Пожалуй, тут удобнее говорить о представлении как
предъявлении, например сертификатов, документов, тем более что exhibere
имеет и этот смысл. Кант применяет латинское слово exhibitio
для пояснения немецкого Darstellung, представление или может
быть лучше предъявление, поскольку dar-stellen значит
буквально выставить, т. е. поставить тут, перед нами, таким образом,
что выставленное становится отныне видимо всем.
Углубляясь в то, что здесь говорит Кант, мы неизбежно
приходим к мысли, что это продуктивное, исходное воображение
предъявляет объект, т. е. делает его существующим перед нами.
Стало быть, воображение, о котором идет речь, — повторим
для большей внятности, — не есть наше воображение. Наше
воображение не имеет силы производить в бытие то, что оно
себе воображает. Стоит, пожалуй, добавить, что это наверное к
лучшему. Вот почему второй строкой уточняется, что
«продуктивное воображение тем самым еще не есть творческое».
Творческим воображением оказывается божественная способность
создавать действительное бытие всего, что воображает творец.
Только вправе ли мы говорить, что Бог творит воображая7. Как
бы то ни было, пока мы занимаемся нашей задачей, точным
8o
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
определением человеческого воображения, — что вроде бы
оказывается тавтологическим выражением, как по крайней
мере приходится его понимать, если мы правильно усвоили
Декарта, — мы, строго говоря, не в состоянии помыслить такое
продуктивное воображение, которое производит объект, пока
еще просто воображаемый, как существующий.
Что же тогда должно значить продуктивное в случае
человеческого воображения? Во-первых, не просто репродуктивное,
зависимое от какого-то уже существующего объекта, но, во-
вторых, и не абсолютно творящее, т. е. ставящее перед нами
существующий объект. Этим двояким ограничением Кант
критически очерчивает самое существо воображения, за которым мы
охотимся с самого начала — задача тем более трудная, что мы
постоянно рискуем сбиться на привычную схему воображения,
а она как раз соответствует тому, что Кант называет
воображением репродуктивным.
Уточним поставленный нами вопрос. Нас не интересует,
существует ли абсолютно продуктивное воображение, способное
исходно произвести и предъявить нам существующий предмет.
Надо понять другое, к чему приглашает нас сам текст
разбираемого нами параграфа: понять, что «чистое созерцание
пространства и времени» — т. е., надо понимать, два единственных
чистых созерцания, какими мы наделены, не эмпирических, не
производных из предсуществующего перед нами предмета, —
что два этих чистых созерцания «принадлежат к первому виду
произведения (предъявления, exhibitio)».
Здесь от нас снова требуется особое внимание. Кант, когда он
пишет этот текст, вовсе не озабочен вниканием в собственно
философские сложности вопроса, потому что излагает
антропологию с прагматической точки зрения. Что чистые интуиции
пространства и времени принадлежат к тому типу
произведения, который назван первичным, не предполагает, что
воображение создает тут существующие перед нами предметы. В
самом деле, пространство и время — не предметы, предстоящие
нам! А поскольку они — не предстоящие нам предметы, вооб-
ВООБРАЖАЕМОЕ
8i
ражение не может их воспроизвести, точно так же, как не может
оно их и произвести в существование, в смысле сотворения.
Каков же тогда статус пространства и времени? В самом
конце трансцендентальной аналитики помещена (Критика
чистого разума, А 212, В 348) совершенно удивительная таблица,
где Кант подразделяет, детализирует, классифицирует, короче,
упорядочивает понятие ничто.
Ничто как
1
пустое понятие без существующего предмета
(ens rationis, голое создание ума, которому
ничто предметное не соответствует)
2 3
существующий перед нами простое созерцание без существующего
предмет, лишенный понятия перед нами предмета (ens imaginativum)
4
пустой существующий перед нами предмет,
лишенный понятия (nihil negativum)
Для нас в этой таблице всего интереснее наименование ens
imaginativum. Ens в философской традиции — это
приблизительное восстановление в латинском языке, который сам по
себе не имеет этой глагольной формы, причастия настоящего
времени глагола быть, греч. то 5v, сущее, das Seiende. Однако
здесь ens не имеет даже этого значения, потому что для Канта
дело идет о том чтобы осмыслить понятие Ничто. Будем
поэтому понимать ens как нечто в его предельном смысле, т. е.
включая и нечто несуществующее и понимая существование
на этот раз определенно как то, что может быть дано в опыте.
Ens imaginativum таким образом подразумевает нечто
воображаемое.
Воображаемое — тема всего этого нашего курса. Здесь у
Канта в настолько обобщенной форме, что в ней нельзя видеть
ничего кроме намека или указателя, направленного в ту область,
где она только и становится доступна, мы имеем идею
воображаемого. Воображаемое есть некая фигура Ничто. Удивительно
82 ФРАНСУА ФЕДЬЕ
то, что эта определенная фигура Ничто — не болтовня, а
совершенно строгое философское определение. Заметим, что Кант
говорит (А 29Ь В 347):
3) Простая форма созерцания (Anschauung, интуиции), без субстанции,
не есть какой-либо существующий перед нами предмет, но [есть), напротив,
простое формальное условие этого последнего (в качестве чего-то
являющегося), как чистое пространство и чистое время, которые суть поистине нечто
(etwas.xi] в качестве форм, внутри которых становится возможно созерцание,
но сами по себе не являются существующими перед нами объектами, которые
можно было бы созерцать.
12
То, что нас вело с самого начала курса, — а именно, желание
вникнуть в смысл, в каком воображение есть «дереализующая
функция», и отсюда попытаться понять, в каком смысле оно
«ирреально», — начинает наполняться содержанием
благодаря комментированию Канта. Как мы видим, он различает два
вида воображения. Наше спонтанное понимание воображения,
наоборот, до странности односторонне: оно соответствует
тому, что Кант называет репродуктивным, воспроизводящим
воображением, т. е. таким, которое, питаясь существующими
перед ним предметами, способно уже без привязки к их
действительному присутствию воспроизводить их составные части.
Именно таким образом мы обычно объясняем, что такое
воображать-, сочетать, сводить вместе разрозненные компоненты,
извлеченные из различных существующих предметов.
Чтобы одновременно привести пример и строго
фиксировать наш словарь, вспомним: в греческой мифологии Химерой,
Хцдсира, называется чудовищный зверь, у которого голова и
грудь льва, брюхо козы и драконья глотка, откуда извергаются
языки пламени. Бился с этим чудовищем и убил его Беллеро-
фонт. Мы соответственно вправе квалифицировать создавшее
Химеру воображение как репродуктивное, воспроизводящее.
Подчеркнем: то, что, недолго думая, мы все понимаем, когда
ВООБРАЖАЕМОЕ
83
слышим о химерическом воображении, имеет две стороны:
i) воображение фабрикует сложения из разнородных
составляющих и 2) продукты этого воображения совершенно
ирреальны. Само собой разумеется, строгий смысл этого слова
«ирреальны» еще далеко не определен, и стало быть мы вынуждены
брать его в обычном понимании «не существующего». В нашем
теперешнем языке химера значит уже почти только то, что
словарь Литтре называет «пустым воображением», ср. у Мадам де
Севинье: «Ее утешают в утрате сладкой химеры, веры в свое
бессмертие».
Перед тем как расстаться с этим первичным —
исключительно в хронологическом смысле — воображением, иначе говоря,
с воображением, каким оно нам представляется при первом
приближении, укажем на одну его совершенно замечательную
черту. Поскольку оно не привязано к действительному
присутствию существующих предметов, оно тем самым уже проявляет
вполне уникальное свойство: свойство сравнивать,
комбинировать, различать — короче, оно тем самым уже есть сила
объединения, т. е. сила синтеза. Одновременно оно имеет нечто общее
с тем, что в душе выступает собственно говоря как способность
синтеза, т. е. понимание. А это значит, что воображение не
есть всего лишь чувственность, но, как заставляя задуматься
замечает Хайдеггер (Кант и проблема метафизики, с. 129), оно
«совершенно особенным образом занимает свое место между
чувственностью и разумом».
Несколько ниже Хайдеггер цитирует другой текст Канта,
взятый из его посмертно опубликованных работ, где он
резюмирует все то, что мы должны понимать под простым
репродуктивным воображением.
Чувства предоставляют Материю (Materie) для всех наших
представлений. Поэтому представления создаются прежде всего именно способностью
строить образы независимо от присутствия существующих перед нами
предметов: силой, создающей образы (Bildungskraft), imaginatio; на втором месте
способность сравнивать: живость ума (Witz) и способность различения,
judicium discretum; на третьем месте способность относить представления не
84
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
непосредственно к существующим предметам, а к средству доставляющего их
представления, т. е. способность их маркировать.
Отметим здесь снова трехчастность: воображение, разделяющее
суждение, маркирование. Разделяющее суждение всего лучше
понимать исходя из немецкого термина Unterscheidungskraft.
Разделение здесь прежде всего сила распознания, т. е.
способность видеть различия, например отличить лист каштана от
кленового листа. Наконец, маркирование — это размещение
меток, приметливость. Так Кант именует понятия, являющиеся
собственно говоря представлениями представлений, благодаря
которым мы вступаем в опосредованные (непрямые)
отношения к вещам. Пример: черная классная доска; мы имеем о ней
непосредственное наглядное (созерцательное, у Канта)
представление, имея в виду эту вот доску, которой можно
коснуться, — но у нас о ней есть и опосредованное представление через
посредство идеи «черной доски», соотносимой, уточняет Кант,
с неограниченным числом существующих досок.
Перейдем отсюда к тому, что нас в первую очередь
интересует, к воображению уже не репродуктивному, но, в
терминологии Канта, продуктивному, производящему. Оно-то нас
касается гораздо больше чем другое, потому что мы увидим
в нем, что такое воображение в наиболее свойственном ему
действии.
Воображение, мы говорили, строит образы и, еще конкретнее,
строит себе образы. Воображение в самом собственном смысле
формирует себе чистое воображаемое в виде пространства и
времени. Пространство и время, поясняет Кант в самом начале
«Критики чистого разума», суть «чистые формы созерцания
(интуиции, наблюдения)».
(О Через посредство чувственности существующие перед нами объекты
даны нам, и только чувственность источник наших созерцаний; через
посредство рассудка, однако, они уточняются и от рассудка приходят понятия.
Всякая мысль должна — будь то непосредственно или окольным путем
(опосредованно), через посредничество определенных знаков, — соотноситься в
ВООБРАЖАЕМОЕ
85
конечном счете с созерцанием и тем самым, для нас, с чувственностью, коль
скоро никакой существующий предмет не может быть нам дан иначе.
(2) Воздействие существующего предмета, насколько мы аффицированы
им, на способность представления есть ощущаемое чувство (Empfindung).
Наблюдение, соотносящееся с существующим предметом через
ощущаемое чувство, называется эмпирическим наблюдением. Неопределенный
существующий предмет эмпирического наблюдения называется явлением
(Erscheinung), феноменом.
(3) Во всем являющемся нам таким образом я называю то, что
соответствует ощущаемому чувству, материей этого последнего, но то, благодаря чему
разнообразие являющегося нам может быть в определенных аспектах
упорядочено, я именую формой являющегося нам. Поскольку то, в чем ощущаемые
чувства только и могут быть упорядочены и введены в определенную форму,
само в свою очередь не может быть ощущаемым чувством, тогда как материя
всего являющегося дана нам по сути только a posteriori, форма являющегося
нам не может существовать иначе как a priori [в нашем распоряжении], в
душе для всего являющегося нам, и тем самым может рассматриваться как
отдельная от всех ощущаемых чувств.
(4) Я называю чистыми все представления (в трансцендентальном
смысле), в которых не может встретиться ничего принадлежащего к ощущаемому
чувству. Соответственно, чистая форма чувственных созерцаний вообще
находится a priori в душе, где все разнообразие являющегося созерцается в
определенных соотношениях. Эта чистая форма чувственности сама тоже
будет называться чистым созерцанием.
В этом важном тексте мы отметим вначале только одно слово:
глагол, каким Кант обозначает (характеризует и отмечает) роль
чистой формы созерцания или, скорее, то, что она «делает». Это
слово мы читаем в абзаце, обозначенном нами цифрой (з):
тогда как материя всего являющегося дана нам по сути только a posteriori,
форма являющегося нам не может существовать иначе как a priori (в нашем
распоряжении], в душе для всего нам являющегося — die Form (aberj mufi zu
ihnen insgesamt im Gemuthe a priori bereitliegen.
Для этого глагола bereitliegen, находиться в готовности,
быть в распоряжении характерно — и этим оправдываются
кавычки, в которые чуть выше мы взяли слово «делает» в
отношении чистой формы созерцания, — что оно не означает
никакого действия] Liegen — самый обычный глагол в немецком,
86
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
смысл которого однозначно сводится к лежать, растянуться,
как в английском to lie, быть в постели. Корень *legh II дал ла
тинское lectus, французское lit постель. В грамматике примени
тельно к глаголам, не означающим действия, говорят о глаголах
состояния. Сложное слово bereitliegen — может ли оно быть
названо глаголом состояния? Это не бесспорно, если принять
во внимание, что добавление первого элемента bereit- вносит
идею наклонности, если не прямо тенденции. Bereitsein значит
быть готовым в том смысле, что кто готов, тот расположен к...
Старый девиз скаутов «Всегда готов!» призывает всегда быть
в распоряжении, чтобы выполнить необходимое, как только
представится случай. Bereitliegen: чистая форма созерцания
(интуиции, наблюдения) залегает в душе, находится в ней, но
непрестанно готова к... Bereitliegen: находиться в
готовности к...
В предшествующем мы цитировали фразу, находящуюся в
нескольких строках от разбираемого сейчас текста. Кант
применяет там другой глагол для характеристики статуса чистой
формы чувственности, глагол stattfinden, переведенный нами
через иметь место. Оба глагола, bereitliegen и stattfinden, весь-
ма характерным образом несут значение потенциальности.
Первый говорит о готовности, расположенности к чему-то,
второй — об имении места, но в том смысле, в каком говорят,
например, что театральное представление будет иметь
место, т. е. состоится. Чистая форма созерцания располагается,
стало быть, конечно в душе, но при этом ее потенциальность
заключается в том, что она держит себя в готовности для
эмпирических созерцаний (интуиции, наблюдений), а точнее, как
говорит Кант, для того, чтобы «разнообразие всего
являющегося нам могло быть в определенных отношениях приведено в
порядок».
Без этих двух чистых форм созерцания, без пространства
и времени, нам предстает лишь хаос неупорядоченных
чувственных данных. Иначе выражаясь, чистые формы созерцания
позволяют нам воспринять данность, упорядочивая ее. Без
ВООБРАЖАЕМОЕ
87
упорядочения данности эта последняя попросту не была бы
воспринята. Чистые формы созерцания заключают в себе
таким образом абсолютно первичное условие всякой
возможности восприятия. С ними данность становится нам элементарно
доступна благодаря, если можно так сказать, кадрированию,
включению в кадр — двойной кадр пространства и времени, —
который, со своей стороны, сам по себе вовсе не
воспринимается и по этой причине именуется «чистой априорной формой
интуиции».
Кант заботливо отмечает, что эта форма, в которой
собственно происходит упорядочение всего чувственно
воспринимаемого, сама в свою очередь не может быть чувственно
воспринята. И здесь нам надо вернуться к обозначению пространства и
времени как entia imaginaria, «воображаемых сущностей»,
скажем так. Мы уже столько раз повторяли — но еще не улавливая
связи со статусом чистых форм воображения, — что настоящее
воображение по своей структуре не есть копия чего-либо уже
существующего. Сейчас нам, стало быть, надо разобрать, что
такое эти априорные формы созерцания. В каком смысле Кант
называет их воображаемыми сущностями?
Наше слово сущность удобно здесь тем, что оно обозначает
какой-то совершенно минимальный способ бытия. Мы
например никогда не назовем сущностью находящийся перед нами
предмет, скажем здание, стоящее по ту сторону двора. Назвать
пространство и время воображаемыми сущностями поэтому
все равно что дать понять, что ни то ни другое — не
существующие перед нами предметы, способные каким-то образом
действовать на нас. Снова процитируем уже недавно отмеченное
нами место (Критика чистого разума А 291/В 347):
Простая форма (blofie Form) созерцания (Anschauung, интуиции), без
субстанции [без чего-либо, что поддерживало бы само себя или сохранялось
само собой вне созерцания, будучи способно материальным образом
запечатлеться в чувственности], не есть сама по себе какой-либо существующий
перед нами предмет, но (есть], напротив, чистое и простое формальное
условие этого последнего (насколько он нам является), как чистое пространство и
88
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
чистое время, которые суть поистине нечто в качестве форм» внутри которых
становится возможно созерцание, но сами по себе не являются существую
щими перед нами объектами, какие можно было бы созерцать.
Воображаемая сущность — не существующий предмет, но
просто чистое формальное условие восприятия всякого
существующего предмета. «Формальное условие»
противопоставляется «материальному условию». Как мы видели, материальные
условия явления нам существующего предмета суть
чувственные данные, воздействующие на наши чувства. Но эти аффи-
цирующие наши чувства данные не могут сами по себе одни
образовать существующий перед нами предмет.
Существующий перед нами предмет, Gegenstand — чей способ бытия
соответствует тому, что мы можем назвать «истинным бытием»,
или «действительным бытием», каковы все вещи,
существующие в полном смысле слова, — есть, Кант на этом постоянно
настаивает, синтез* две составляющих которого всегда a priori
опознаваемы: синтез созерцаемого и понятийного.
Существующий перед нами предмет (всё являющееся нам) = созерцание +
концепт (понятие рассудка). Поэтому Кант отчетливо
формулирует (А 51, В 75)-
Мысли (Gedanken) без содержания пусты, созерцания без концептов
слепы.
Этим, в обратном порядке, предполагается, что созерцания —
то, что собственно видит, — не могут быть созерцательными,
т. е. ничего не видят, т. е. не имеют перед собой ничего
являющегося, если не сопровождаются — да что я говорю! если они
не привязаны синтетически к концептам. Почему так? Потому
что кон-цепты, по-нятия, как говорит само их название, — это
то, что со-бираегпу сводит всё во внятное единство. Без понятий
созерцания не видят ничего — просто потому что созерцания
сами по себе одни не поднимаются до формирования
единства.
ВООБРАЖАЕМОЕ
89
Теперь, если вернуться к комментируемым нами первым
страницам «Критики чистого разума«, мы узнаем, что с самого
начала в первом основании всякого эмпирического созерцания
располагается нечто, называемое у Канта «априорными
формами созерцания«, чья роль заключается в том, чтобы привести
в различных отношениях в порядок разнообразный материал
эмпирического созерцания. Это абсолютно первичное
приведение чувственного материала в порядок не имеет еще пока
в себе ничего понятийного, но безусловно подготавливает и
делает возможным синтез созерцания и понятия, единственно
дающий чему бы то ни было возможность явиться нам в
качестве существующего перед нами предмета.
Это и надо нам сейчас хорошо усвоить, не входя в сложности,
развернутые Кантом в § 14 «Критики чистого разума».
Наша задача не в описании того, как достигается синтез
созерцания и понятия, делающий возможным опыт
действительного присутствия существующего познаваемого предмета. Для
наших целей нам достаточно обнаружить, что в самой почве
чувственного созерцания с необходимостью есть нечто не
воспринимаемое в созерцании, но позволяющее воспринимать все
чувственное. Это нечто Кант квалифицирует как воображаемое.
Никоим образом не будет излишним, если мы в свою очередь
назовем это воображаемое первичным воображаемым.
Первичное однако здесь берется в самом сильном смысле. В самом деле,
первичное воображаемое первично не только в том смысле, что
воображаемое продуктивного исходного воображения
предшествует воображаемому воспроизводящего,
репродуктивного воображения. Следуя за Кантом, мы по сути дела открыли
воображаемое, которое первично по отношению ко всему, что
мы называем реальной действительностью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О том, чтобы после всего сказанного прийти к окончательному
заключению, не может быть речи по той простой причине, что
90
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
мы пока дошли только до догадки о том, к чему сводится дело и
отношении воображаемого.
Все, что мы пытались показать, — это обстоятельство, в свете
которого обычное понятие воображаемого не то что ложно, но
причудливым образом усечено или, точнее, ампутировано,
лишено самой своей сердцевины.
Говорят, что воображаемое есть ирреальное. Вот чего не
льзя отрицать. Только что понимать под ирреальным? Чтобы
философски ответить на этот вопрос, мы можем следовать за
глубокими и относящимися непосредственно к делу анализами
Канта. Реально то, что согласуется с «материальными
условиями опыта». Словом «согласуется» мы переводим немецкий
глагол zusammenhangt, означающий совместную привязку к
чему-то, создающую одно связное целое (лат. co-haerere). К
«материальным условиям опыта» Кант добавляет в скобках слово,
именующее прежде всего то, чем конституируется область этих
«материальных условий», а именно термин Empfindung,
переводимый нами через неизбыточное выражение ощущаемое
чувство. Что согласуется или, лучше, что образует связное единство
с материальными условиями опыта, т. е. с порядком ощущаемых
чувств, то реально — действительно, wirklich.
Такое определение действительной реальности может
показаться ограничительным. Это, во всяком случае, определение,
которое мы снова и снова встречаем везде, где не хотят
довольствоваться голой лексикой. Иначе говоря, это
определение объективности в том смысле, в каком это слово берется
критерием истины. Реально не только то, что я могу видеть (в
том или ином восприятии), но то, что я могу констатировать и
установить научно.
Что воображаемо, то нереально — но теперь мы видим, что
термин нереально начинает повертываться многими смыслами,
между которыми нужно различать. В самом деле, нереальным
может быть то, что невозможно. Однако воображаемое как
«возможное» еще не есть воображаемое в важном для нас смысле.
В самом деле, возможное — как его определяет Кант на тех же
ВООБРАЖАЕМОЕ
91
страницах A 2i8, В 265—266 «Критики чистого разума» — есть
«то, что согласуется с формальными условиями опыта
(согласно созерцанию и понятиям)». Здесь «согласуется» можно
считать удовлетворительным переводом глагола ubereinkommen,
сходиться вместе^ совпадать в согласии. Если нечто может
занять место в определенной области, в определенный момент, и
быть помыслено в соответствии с определенным абстрактным
единством, то оно возможно. Воображаемое как всего лишь
возможное еще не есть настоящее воображаемое. Настоящее
воображаемое также и не менее реально чем нечто объективно
существующее. Не надо, конечно, и сбиваться на
экстравагантность и считать его более реальным чем объективно
существующее. Настоящее воображаемое, следуя беглому указанию,
которое мы нашли у Канта, есть нечто лежащее в основании
всего объективно существующего.
Это значит, что никакое отношение к чему бы то ни было
объективно существующему не имеет места без привхождения
в качестве конститутива нереального воображаемого. В
терминах Канта: составную часть объективности, необходимую для
того, чтобы нам явилось что бы то ни было действительно
существующее, доставляет воображаемое, не выводимое из того,
что есть, но являющееся, наоборот, первичным по отношению
к любому существующему предмету.
Трудность для нас следовать такому повороту дела
заключается в том, что мы постоянно представляем себе воображаемое
как составленное на почве реальности — тогда как теперь его
надо мыслить как составную часть реальности. Часть — но не
всю ее! Объективно существующее, это стоит повторить, не
исчерпывается простой данностью. Даже в отношении того,
что сводится к ощущаемому чувству, материальному условию
опыта. Заранее, с самого начала, a priori есть нечто такое, что не
дано, — и это воображаемое, названное нами первичным
воображаемым. Оно абсолютно не зависит ни от чего другого,
кроме как от способа, каким всякое человеческое сущее является
человеческим. Воображаемое — отличительная черта челове-
92
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
ческого существа на том же основании, что и все, отличающее
человеческое сущее как таковое, речь, разум, совесть, смех и
прочие специфически человеческие черты.
Большой вопрос, в обозначившемся здесь горизонте, это,
конечно, в чем единство всех этих отличительных черт...
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
ВЛАСТЬ
1
Начнем с материальных замечаний касательно нашей работы.
Поскольку эти замечания никоим образом не побочны — они,
наоборот, первостепенны, — на них следует остановиться. Все
должно способствовать хорошей школе письма — которое
требует себе всех ресурсов подлинного образования и
подытоживает их. Письмо — это каллиграфия, красивое письмо. Письмо
предполагает прежде всего, что ты способен на критическую
дистанцию в отношении того, что пишешь, именно для того,
чтобы то, что пишется, было достойно записи, т. е. не было
простым следом летучего состояния, которое могло случиться
и иначе.
Только после этого можно перейти к собственно курсу.
Подумаем о двусмысленности его названия: власть. Чтобы
развернуть множественность ее значений, обратим внимание на
две употребительных словесных конструкции: власть что
делать (например, власть исцелять, как в Евангелии от Марка з»
15) и власть над кем. Мы сразу видим здесь различие, благодаря
которому вместо необозримого множества смыслов
обозначаются две области или две перспективы смысла. Они придадут
курсу с самого начала его основную ориентацию.
Собственно, власть делать что и власть над кем — разные и
трудно смешиваемые вещи. Они могут накладываться одна на
другую, но это иное дело; пока наша задача отчетливо их
различить. Власть сделать, совершить, например власть стихий, есть
власть как обладание свойством, качеством; скажем, власть
стихии огня заключается в том, что «огонь обладает свойством
обжигать» (из академического словаря). Власть здесь имеет смысл,
94
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
напрямую связанный с обладанием и волей как способностью.
Огонь обладает способностью обжигать, что имеет очень
точный технический смысл обжига, известкования, т. е. доведения
до состояния окиси того или иного металла. Власть в аспекте
обладания здесь синоним возможности, способности, а в
давние времена — даже добродетели, virtus. Итак, власть в первом
смысле означает обладание способностью к чему. Когда нечто в
состоянии совершить, исполнить то или иное действие.
Иметь, получить, захватить власть над кем значит
осуществлять господство, подчинять. Тут это слово имеет своими
синонимами, как читаем опять же у Литтре, диктатуру, империю
и начальствование, авторитет. Продолжая конкретизировать
понятия или, вернее, придавать им телесность, вспомним, что
в Средние века различались две власти: мирская (светская)
и духовная. Литтре поясняет их через а) гражданское начало
и 6) церковное начало. В XVIII веке Монтескье (18.1.1689—
ю.2.1755) подразделяет три власти, см. опубликованный в
Женеве в 1748 г. «Дух законов» и там кн. XI, гл. 6, очень длинную:
В каждом государстве есть три рода власти: власть законодательная,
исполнительная власть, направленная на вещи, относящиеся к
международному праву, и исполнительная власть, касающаяся всего, что относится к
гражданскому праву.
Очевидным образом Монтескье имеет здесь в виду
благоустроенное государство, учрежденное так,
что никто не принуждается делать вещи, к которым не обязывает закон, и
не делать вещи, разрешенные законом.
(в той же главе). Обычно различаются власти
законодательная, исполнительная и судебная. Поясним смысл второй и
третьей сил-властей, puissances, по Монтескье. Они относятся
соответственно ко всему тому, что связано с «международным
правом», или «правом народов» (droit des gens), т. е. с правом,
касающимся взаимоотношений разных стран или индивидов
ВЛАСТЬ 95
разных стран. В гл. з книги I «Духа законов» Монтескье
уточняет:
Международное право естественно основано на этом принципе: разные
страны (nations) должны делать Apyiy при мире как можно больше добра, а
при войне как можно меньше зла, без вреда для своего истинного интереса.
Наконец, судебная власть охватывает всё, что относится к
«гражданскому праву», т. е. к праву, упорядочивающему
взаимоотношения индивидов в пределах одной страны, или еще
лучше: взаимоотношения между гражданами одного
государства. Словом civilis в выражении jus civile, «гражданское право»,
передается по-латински греческое лоХпчкос;.
В следующем параграфе Монтескье говорит в отношении
всех трех властей:
В силу первой [власти] государь или чиновник (magistrat) издает законы,
на время или на все времена, и исправляет или отменяет законы уже
изданные. В силу второй он объявляет мир или войну, отправляет или принимает
посольства, укрепляет безопасность, предотвращает вторжения. В силу
третьей он карает преступления или рассуживает несогласия. Эту последнюю
следует именовать властью судебной, а вторую — просто исполнительной
властью государства.
Итак, имеются три силы, которые можно называть тремя
властями: власть законодательная, власть исполнительная,
обращенная вовне государства к взаимоотношениям между
странами, власть рассуживать внутри государства несогласия
между гражданами. Под именами законодательной,
исполнительной и судебной власти это различение Монтескье перешло
к потомству, причем, правда, точный смысл «исполнительной
власти», обращенной к «международной политике», потерялся.
Поскольку мы оказываемся наследниками Монтескье,
скажем несколько слов о его весьма важной теории разделения
властей. В самом деле, держась только словесного уровня
сказанного, мы рискуем пройти мимо его оригинальности.
В самом деле, в качестве субъекта всех трех глаголов, имену-
96
ФРАНСУА ФЕДЬП
ющих действие власти, Монтескье дает одно и то же личное
местоимение он, отсылающее к «государю», так что мы готопы
почти что думать,будто один и тот же государь — один и тот Ж(
индивид — делает все эти три вещи (издаетзаконы, ведет войну
и судит). В действительности ничего подобного.
Читая сегодня текст более чем полувековой давности, мы
уже неспособны в нашей ситуации понять нюансы, которыми
этот текст неизбежно усеян, — настолько глухи мы стали к
собственному языку, уверенные, что наши предки были гораз
до менее «развиты» чем мы. «Государь» вовсе не имеет социо
логического смысла наследственного властителя, короля, импе
ратора. Государь (prince) в данном политическом смысле есть
тот, кто отправляет властную функцию. Господин Ширак в этом
плане наш «государь» — так же как господин Жоспен. Здесь нет
никакого льстивого смысла; и еще меньше иронического.
2
Власть портит. Абсолютная власть портит абсолютно.
Чему может научить нас, размышляющих о власти, эта
знаменитая фраза? Мы читаем Монтескье с его знаменитой
концепцией, согласно которой все три власти должны быть
раздельны. Причину, по которой так должно быть, Монтескье дает в
той же гл. 6 книги XI. «Политическая свобода», говорится там,
«существует в умеренных системах правления». Политическая
свобода? Строгое понимание этого оборота речи предлагается
в гл. з, где читаем:
В государстве, т. е. в обществе, где существуют законы...
Прервем на минуту чтение, чтобы лучше понять, что
Монтескье дает здесь определение государства. Не всякое общество
будет сразу уже и государством. Общество есть, собственно
говоря, ассоциация, т. е., по Литтре, «объединение многих лич-
ВЛАСТЬ 97
ностей в целях общего блага». Упоминая личностей, Литтре
ограничивает идею объединения человеческой сферой. Если мы
захотим расширить идею объединения до более широкой сферы
живых существ, то можно будет предположить объединение
индивидов в видах общей цели, сформулировав таким образом
идею общества животных. Действительно, можно
констатировать существование «животных обществ», например роев пчел,
или муравейников, в которых по сути дела большое число
индивидов объединено в виду общей цели (жизни сообща); даже
стаи волков или стада диких бизонов образуют что-то вроде
общества. Однако в этих случаях общая цель никогда не
выходит за пределы обеспечения для каждого индивида
оптимального шанса выживаниЯу так что лучше назвать «общей целью»
таких объединений выживание, а не, как мы отмечали, жизнь
индивидов внутри ассоциации.
Когда речь идет об обществах человеческих, нам необходимо
еще одно разграничение. Дело в том, что в случае человеческих
существ объединение личностей в видах общей цели может
сложиться разными способами: возможна договорная
ассоциация (и тогда мы имеем «общество» в том смысле, как это слово
понимается на языке промышленности и торговли); или же
ассоциация человеческих существ может сформироваться,
скажем, по признаку того или иного родства. Но когда ассоциация
управляется законами, возникает государство. Отметим себе:
если социум группирует человеческие коллективы
принуждением, можно, пожалуй, еще говорить об обществе, но уже не о
государстве.
В государстве, т. е. в обществе, где существуют законы, свобода может
состоять только в возможности делать то, чего человек обязан хотеть, без
принуждения делать то, чего он хотеть не должен.
Таково определение политической свободы. «Она имеет
место», добавляет Монтескье, «только при умеренном образе
правления». Умеренность здесь тоже имеет совершенно точный
98
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
смысл: он означает противоположность неумеренности, т. с
хозяйничанья безмерности. Умеренность означает таким об
разом «удержание внутри правильной меры». Что образ прав
ления придерживается справедливой меры, означает, что в нем
должно господствовать равновесие трех властей. Вот почему
продолжение главы 4 гласит:
Она [свобода] существует только [в том образе правления], где нет зло
употребления властью.
Злоупотребление властью — оборот речи до того нам знако
мый, что не требует никакого пояснения. Монтескье замечает
по этому поводу:
Мы вечно сталкиваемся с тем, что всякий обладающий властью доходит до
злоупотребления ею.
Заметим себе походя, что это, с чем мы «вечно сталкиваемся»,
очень связано с предметом нашего разбирательства. «Вечно»
значит тут: с тех пор как существует сам человек. Мы видим,
таким образом, что Монтескье, «философ эпохи Просвещения»,
как его называют, мыслит еще в библейских понятиях. В
«Пелопоннесской войне» Фукидид сообщает (кн. V, гл. 84—пб) о
переговорах между афинянами и мелийцами. Мелос — остров,
жители которого связаны союзом со Спартой. В начале
военных действий между Афинами и Спартой мелийцы соблюдают
строгий нейтралитет. Но Афины не хотят довольствоваться
таким status quo: афиняне нападают на Мелос, вынуждая его
бороться с ними. Прежде чем предпринять завоевание, они
приглашают мелийцев на переговоры. Переговоры в видах чего?
Афиняне хотят заставить мелийцев перейти под их гегемонию.
Фукидид описывает происшедшее обсуждение как краткий и
острый обмен доводами — причем афиняне неизменно
переводят своих собеседников с точки зрения права на точку зрения
факта.
ВЛАСТЬ
99
В том, что касается справедливости, решение принимается в целях
сохранения равенства; но что касается возможного, то, наоборот, более сильные
осуществляют его, а слабые вынуждены соглашаться.
На таком основании афиняне со всей жесткостью объявляют
свою волю:
Мы хотим властвовать над вами без труда, и вашим спасением будет
служить нашим общим интересам.
Мелийцы переводят:
В чем нам выгода от того, что мы будем принижены до состояния рабов, а
вы будете господами?
На что афиняне отвечают: подчинившись, вы избежите
худшего зла, а что касается нас, мы выиграем от того, что не
уничтожим вас.
В главе 105 высказано то, ради чего мы цитируем Фукидида.
Афиняне заявляют со всей торжественностью непоколебимого
убеждения:
Мы полагаем, следуя всему вероятию со стороны божественной и всей
очевидности со стороны человеческой, что по природе совершенно
необходимо сильный должен править. И не мы учредили этот закон, как не мы
первые им пользуемся: он существовал прежде нас и будет существовать во
все времена после нас.
Заметим, что греческий текст там, где мы переводим «сильный
должен править», использует два глагола, Kpcrreiv и apxeiv.
Конец книги V: осадив мелийцев, которые не захотели
покориться, афиняне захватили Мелос, уничтожили всех мужчин в
возрасте, способном носить оружие, и захватили остальных в
рабство.
lOO
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
3
Мы рассмотрели текст кн. V Фукидида, где великий историк
излагает — при том что он сам афинянин — поведение своих
соотечественников в отношении маленького народа, не являю
щегося даже врагом. Мы прочли этот текст, чтобы оценить меру
силы-власти в ее крайней обнаженности. Мы узнали отсюда,
что власть не только может доходить до примитивной голой
жестокости, но что ее склоняет к тому ее собственная природа:
власть над чем бы то ни было есть по своей тенденции абсо
лютная власть ~ что на человеческом языке означает власть
жизни и смерти.
Вот что не следует забывать, раздумывая о власти. Монтескье
явно имеет в виду названную реальность власти, когда пишет,
что всякий человек, обладающий властью, склоняется к
злоупотреблению ею. Соответственно последний параграф главы
4 гласит: «Чтобы нельзя было злоупотреблять властью,
необходимо такое расположение вещей [в государстве], когда власть
бывает остановлена властью».
Таково по Монтескье решение проблемы. Чтобы власть не
доходила, следуя своей естественной наклонности, до
крайности, которая в точном смысле слова смертоносна, надо
чтобы «власть останавливала власть». В отношении этой
формулировки необходимо понять, как власть может остановить
власть. Она не может остановить сама себя, имея от природы
интимнейшую наклонность всегда требовать себе все больше
власти. Отсюда следует, что химерично мечтать о
самоограничении власти. Что же сможет ее остановить? Только другая
власть. И это возможно благодаря «расположению вещей».
Слово расположение, disposition, сохраняет здесь всю свою
знаменующую силу: расположение вещей — это положение, в
каком «вещи» впредь находятся, будучи расположены
относительно друг друга. Что касается вещей, речь явным образом
идет о всех тех вещах, какие бывают задействованы в делах
власти, т. е, о человеческих реалиях, образующих структу-
ВЛАСТЬ
101
ру взаимоотношений между людьми. Когда «расположение
вещей» позволяет, чтобы властью останавливалась власть,
люди в обществе живут в условиях политической свободы.
Это совершенно особенное расположение вещей называется
«конституцией». Вот почему гл. 6 книги XI носит название «Об
английской конституции».
Первый итог. Власть — власть человека или группы людей
над другими людьми — есть понятным образом угнетение или,
если такой термин нас шокирует, принуждение. Как таковое
оно противоположно политической власти. Чтобы была
политическая свобода, надо поэтому или чтобы вообще не было
власти (это великая мечта анархистов), что противоречит идее
общества, или чтобы власть утратила свою принудительную
тенденцию, что противоречит идее власти. Решение
Монтескье — поставить власти в ситуацию, когда они нейтрализуют
друг друга. Нейтрализация тут, пожалуй, не самая удачная
формула; потому что взаимного аннулирования властей тут
не происходит. Они скорее взаимно уравновешиваются, т. е.
ограничивают друг друга, не аннулируя. Тем самым естественная
тенденция власти выходить всегда за свою сферу (естественная
тенденция переходить за всякий предел) оказывается
остановлена, arretee, как говорит Монтескье.
Второй итог, возможно, еще более важный чем первый.
Рассуждение Монтескье движется явно в весьма специфическом
направлении, причем нам для нашего дальнейшего движения
важно принять к сведению: только властью может быть
остановлена власть — как если бы ничто другое кроме власти не
было в состоянии достичь этого результата. Отсюда мы можем
заключить о позиции Монтескье в мировой истории: он,
конечно, человек Нового времени — эпохи, начинающейся с
«Ренессанса», в философии с Декарта, когда реальность осознается как
сипа. Власть имплицитно понимается как сила, а именно как
сила, способная к действию. И в таком случае действительно
только сила может уравновесить другую силу.
Сами будучи людьми этой эпохи, мы с трудом понимаем, ка-
102
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
кая еще другая вещь кроме власти могла бы остановить власть.
Сталин спросил Черчилля в конце последней мировой войны,
когда британская дипломатия привлекла внимание Отца
народов к возможным претензиям Папы Римского при глобальном
урегулировании, ожидавшемся после конца войны: «Каким
количеством бронетанковых дивизий располагает папа?» Не
надо рассматривать этот вопрос как веселую шутку; он
выражение образа мысли, движущейся в тех же рамках — страшно
сказать — что и мысль Монтескье.
Нам надо соответственно попытаться усвоить нечто иное,
чем то, к чему мы привычны.
Имеется ли другой горизонт помимо силы для понимания
власти? При первом приближении этот вопрос как бы лишен
содержания, по крайней мере пока мы не обращаемся к
средневековой традиции. Тогда действительно на христианском
Западе дает о себе знать совершенно уникальная практика:
духовная власть берет верх над властью мирской. Только через
эту формулировку мы начинаем усматривать, что слово власть
нельзя понимать как просто всего лишь эквивалент силы.
Что обязывает нас к решающей констатации. Когда мы
дошли до решающего момента в рассказе Фукидида (гл. 105 в кн. V
его «Истории»), нас остановили в нем два слова: Kpat£lv и apxeiv,
два разных способа выразить в том и другом случае нечто
относящееся к власти. Чтобы лучше оттенить то, о чем идет речь,
прочтем Шарля Пеги, который в тексте одного выступления
начала 1904 года (Pleiade, Oeuvres en prose completes, 1.1, p. 1803)
объясняет смысл греческих корней архия и кратия.
Как нередко бывает у Пеги, это начало доклада о
политическом анархизме трудно читать из-за его чрезмерной заботы о
том, чтобы достичь достаточной ясности для введения
слушателей в свою настоящую мысль.
Сделав темой выступления политический анархизм, Пеги
чувствует себя обязанным отметить многозначительное дву-
деление в политической терминологии, служащей для
характеристики различных режимов, — различие между терминами,
ВЛАСТЬ 103
образованными от корня архия> и другими, происходящими от
корня кратия:
монархия монократия (термин не закрепился)
олигархия аристократия
демархия (термин не сложился) демократия
Чтобы лучше понять это различение, Пеги заглядывает в
словарь:
dpxn»т0»что впереди; начало, принцип, источник, отправной пункт...
Таким образом, продолжает Пеги, первым смыслом слова будет
смысл начала, отправной, исходной точки; смысл руководства,
командования оказывается уже вторичным. Грозящее здесь
смешение понятий, я имею в виду расширение смысла,
переходящего от значения начала к значению управления, напоминает
отчасти то смешение, которое известно прошедшим через
военную службу, когда направляющий со временем становится
командиром отделения, поскольку стоит в строю первым и все
идут за ним следом. То же самое происходит с архр: начало
следующего за ним, затем начальство:
руководство, власть, начальствование; то, что подчиняется власти;
империя, царство.
В отличие от этого исходным смыслом слова кр&тос; выступает
сила, энергия, твердость, когда речь идет о металлах, железе;
господство, мощь, когда говорят о Боге и людях,
особенно царская власть, верховная власть, державность.
Простое этимологическое разыскание показывает нам, что
в корнях этих слов кроется глубокое различие смысла,
достаточное для объяснения их разной судьбы. Отсюда
терминологическое предложение, которое Пеги делает там же. Следуя за
104
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
ним, мы приходим к различению, вообще говоря, двух властей:
власти силы, могущества, которая исходно есть мощь, краток,
и которую можно назвать властью управления, становящейся
в политике властью правления (власть правительства есть
особый случай власти управления), — и власти, которую Пеги
называет властью компетентности; в экономике она становится
административной властью, властью, происходящей от
потребности в ней, от признанной авторитетности лица, за которым
следуют, которое ведет, показывает путь.
Существуют соответственно и две свободы. Ибо если
свобода есть либо отсутствие власти, либо отвержение власти, либо
бунт против власти, либо ограничение власти, как мы увидим
ниже, то очевидно, что, коль скоро приходится под одним и тем
же именем власти различать между властью компетентности
и властью командной, перед лицом этих двух властей,
противостоя им, будет и две свободы; и так же, как общее именование
власти, общее именование свободы тоже покроет по существу
две формы жизни, два общественных движения, которые
необходимо различать. Не то что у них нет общих черт, ведь и оба
типа власти тоже имеют общие черты, но на нашей теперешней
стадии анализа необходимо, как делает Шарль Пеги, отделить
командную власть от власти компетентности и разграничить
поэтому две свободы. Мы получим тогда одну свободу перед
лицом командной власти, в политике принимающую форму
свободы перед властью правительства, а другую свободу —
перед лицом авторитета компетентности, в экономике
становящуюся свободой от административной власти. Мы увидим
со временем, что эти различения достаточно точны и что их
учреждение у Пеги служит не только целям симметрии,
упорядочения, классификации.
Назовем тогда, если вам угодно, первую из этих свобод акратией, а
систему таких свобод акратизмом, анархию же оставим для административной
власти.
Отложим на время текст Пеги. Для нашей темы здесь необ-
ВЛАСТЬ
Ю5
ходимо отметить совершенно очевидное проявление дуализма,
или раздвоения. Не будем тем не менее слишком быстро
отождествлять наше исходное различение в недрах самой власти
между властью сделать что и властью над кем с этим
раздвоением у Пеги. Не забудем, что тема нашего рассуждения трудна
и не всегда хорош подход, упрощающий сложное. Длинный
пересказ Пеги понадобился нам потому, что он обдумывает ту
же трудность, о которой говорим мы. Удвоение, на которое он
идет, многозначительно потому, что позволяет приоткрыть в
человеческой ситуации большую сложность чем мы себе
представляли.
О каком удвоении собственно идет речь? Оно отчетливо
обозначено во фразе, завершающей наше изложение Пеги: им
упомянуты две свободы, одна в политической, другая в
экономической сфере. Это дает нам уловить интенцию Пеги в его
различении двух властей, или двух авторитетов. Под именем
авторитета у него выступает та же самая власть, которую мы
признали многообразной по ее формам и трудной для
осмысления.
Власть командная есть власть «политическая», власть
распоряжаться и требовать послушания. Власть компетентности,
наоборот, есть власть «экономическая». Тут надо остановиться и
подумать. Что понимать под словом экономика7. В самом начале
XX века Шарль Пеги был один из тех, для кого занятие
экономикой стало первоочередным, сразу же радикально переменив
у него свой смысл.
Исходно экономика есть то, что Этьен де Ла Боэти, переводя
книгу Ксенофонта с таким названием, передает французским
словом menagerie, хозяйствование, домострой. Если мы
способны слышать больше чем только краем уха, то услышим в
слове menage, хозяйство {взяться за хозяйство), также и глагол
menager, хозяйствовать (одни умеют хозяйствовать лучше,
другие хуже). Французское menage происходит от латинского
manere, пребывать, обитать, так что menager значит
первоначально управлять домом. То же составляет исходный смысл
ю6
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
древнегреческой olKovo^ia, т. е. практика упорядочения расхо
дов домохозяйства, oIkoc;. Греческое о1ко<;, дом — то же слово,
что латинское vicus, общественная единица, самодостаточная в
смысле жизнеобеспечения.
4
Согласно Пеги, есть две свободы, соответствующие двум
властям. Командная власть, или авторитет, как он говорит,
развертывается в политической сфере, а власть (авторитет)
компетентности — в экономической сфере. По-видимому, отсюда надо
исходить, чтобы хорошо понять, чтб он пытается извлечь на
свет.
Под «командной властью», как мы сказали, следует понимать
умение заставить себе повиноваться. Тут нам не грозит
никакая путаница: ситуация подчиненного, какою бы она ни была, по
определению предполагает, что ты должен повиноваться
полученному приказу. Пусть нас не сбивают с толку аналогии. Читая
слова приказ, команда, мы думаем о чем-то вроде армейского
приказа и воинской дисциплины. Но в области политической,
когда полномочная законодательная ассамблея должным
образом (голосованием) выразила мнение своего большинства,
ее решение ipso facto становится законом, которому
совокупность общественного организма должна подчиниться — в силу
командного авторитета, как говорит Пеги. Командовать, читаем
мы у Литтре, значит предписывать исполнение какого-либо
дела. Самое важное в командовании то, что оно исходит от
вышестоящего в иерархии.
Совершенно другого рода власть (авторитет)
компетентности. Она осуществляется не между двумя индивидами или двумя
группами разного статуса внутри «политической»
субординации, а между двумя индивидами или двумя группами,
разделенными уже не просто иерархическим порядком на имеющих
право давать приказы и обязанных им следовать, а каким-то
более ощутимым различием.
ВЛАСТЬ
Ю7
Что такое, строго говоря, компетентность, что значит быть
компетентным7. Всё тут сводится элементарным образом к
тому, чтобы иметь в какой-то определенной области
достаточно знаний или практического опыта, чтобы действовать с
реальными шансами успеха. Компетентным музыкантом будет
тот, кто знает всё относящееся к его профессии. Компетентный
историк тот, кто умеет должным образом взяться за ту или
иную историческую проблему. Власть компетентности есть
таким образом авторитет, который дает человеку наука,
усвоенная им в его области. Такой авторитет равнозначен власти по
отношению к тому, кто просит у знающего поделиться своим
знанием. Здесь мы с особенной отчетливостью улавливаем,
что именно хочет сказать Пеги, когда говорит о социальной
коммуникации и соответственно о ее смысле. Если речь идет
о командной власти, движение социальной коммуникации
исходит от определенного источника и достигает места своего
назначения, но таким образом, что всё движение направлено
только в одну сторону, от отправителя к получателю. Наоборот,
в случае власти (авторитета) компетентности мы видим, что
направление коммуникативного движения в большой своей
части поддерживается тем, кто хочет приобщиться к
компетентности обладающего умениями или хотя бы просто просит у
компетентного лица поделиться с ним своими сведениями.
Обе власти, или оба авторитета, столь старательно
различаемые Шарлем Пеги, действительно различны, даже если они
проявляют в определенных отношениях тенденцию к
слиянию.
Совершенно ясно, что нельзя командовать, осуществляя
политическую власть, если призванный повиноваться не
получает определенного рода преимущества от следования в
направлении, указанном ему. В этом смысле командная власть
проявляет всегда известную тенденцию представить себя в виде
компетентной власти. Крайний случай: в ситуации войны
главнокомандующий должен был бы быть наиболее компетентным
стратегом. Мы говорим, конечно, должен был бы, чтобы тут же
ю8
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
подчеркнуть, что дело вполне может не пойти дальше благого
пожелания. Почему? Не потому что какой-то злой гений
регулярно мешает наиболее компетентному отправлять должность
главнокомандующего, но пожалуй потому, что — тут мы риску
ем привести в отчаяние Билланкура — идея компетентности
в такой сфере как политика может оказаться родом
гиперболической иллюзии. Компетенция распространяется всегда на
ограниченную область — на то, что издавна принято называть
профессией. Существует ли профессия настолько всеобщая,
чтобы охватить все бытие коллектива? «Призвание жизнь»,
название великолепного дневника Чезаре Павезе, подразумевает
конечно призвание не в смысле профессии, но скорее в старом
смысле миссии, того, что составляет обязанность.
Если понимать власть вообще исходя из идеи «социальной
коммуникации», то становится совершенно ясно, что в случае
власти компетентности социальная коммуникация
обнаруживает свою непосредственно понятную необходимость.
Пеги во втором своем выступлении отмечает это в следующей
форме:
Командный авторитет не основан на разуме... тогда как авторитет
компетентности основан на разуме.
Происходящее здесь совершенно удивительно, стоит нам
обратиться к областям реальности, которым соответствуют обе
власти. В самом деле, Пеги, мы видим, признает некоторую
разумность за властью в экономической области, тогда как
политическая сфера квалифицируется им как иррациональная
и неразумная. Если хорошенько вглядеться, то дело тут идет о
полном перевертывании того соотношения между экономикой
и политикой, которое господствовало в философской мысли от
самых начал нашей истории.
Экономика (oiKovo(iiKr|) — дело эконома (oiKovofioc;), того,
кто распоряжается расходами домашнего хозяйства. После
Аристотеля соотношение между экономикой и политикой
ВЛАСТЬ
Ю9
понимается исходя из различия между oiKia и лоХк;. Слово
oiKia, дом, происходит от оЬсос;, лат. vicus — клан,
объединение нескольких семей, селенье, квартал города (£. Benveniste,
Vocabulaire des institutions indo-europeennes, Paris: Editions de
Minuit 1969, t. 1, p. 294) — и означает то, что мы называем
наследственным владением, вотчиной, имением, т. е. имуществом,
передававшимся из поколения в поколение; иными словами,
это «экономическая» база семьи, то, благодаря чему семья
длится во времени. Ср. значение слова дом, когда говорят, например,
о «царствующем доме». лоХк; — совсем другое дело. Бенвенист
(там же, р. 309) говорит о «общежитейском устройстве
ахейских воинов в лоХк^е, общем городе». Единство коммуны — уже
не объединение домочадцев. Или, если угодно, можно сказать
иначе: у экономических сообществ смысл, направленность
иные чем у политического сообщества. «Экономическое»
сообщество, понятое в исходном смысле, состоит из всего того, что
объединяет домочадцев. Правда, для нас теперь уже не имеет
никакого смысла вести рассуждение, отправляясь от автаркии
или из квази-автаркии первобытной жизни. Что касается
политического сообщества, то его при первом приближении следует
понимать не от города. Наоборот, город надо понимать исходя
из политического сообщества.
Вот что трудно понять нам, потомкам римлян, у которых
отправным пунктом является civis, гражданин. Civis в
латинском языке — это базовое слово, означающее «свободного члена
города, которому человек принадлежит по происхождению или
по дарованию гражданства» (Эрну и Мейе). Гражданину (civis)
противополагается hostis гость, socius союзник, peregrinus
иногородний. От civis производно civitas, означающее достоинство
гражданина, а отсюда — собрание всех граждан (тот же
переход, что в нашем слове человечество). Немного этимологии:
civis — слово типично римское, его смысл понимается исходя
из его происхождения, очень ясно излагаемого Бенвенистом.
Всё резюмируется им в одной фразе (там же, р. 335 sqq.)*
по
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
Аутентичный смысл civis не гражданин, как принято считать, а
согражданин.
После этого Бенвенист сразу переходит к теме взаимности. Что
она означает? Для нас гражданство настолько привычное дело,
что об этой взаимности мы уже не думаем. В греческом
именование происходит в точности наоборот. Базовый термин здесь
ябХк;, связанное взаимностью сообщество, откуда происходит
лоХгсг|<;, член такого полиса, т. е. свободный человек.
5
Мы движемся к различению областей экономики и политики.
Политику мы понимаем в том широком смысле политии, каким
пользуется например Жан-Жак Руссо, говоря в
«Общественном договоре», кн. I, гл. 4> о феодальной системе:
абсурдная система, самая нелепая в мире, противная началам
естественного права и всякой доброй политии (politie).
Нашей отправной точкой было замечание Шарля Пеги,
согласно которому политическая власть — он предлагает понимать
ее как «командный авторитет» — уже не обладает разумностью
в противоположность власти экономической, или «авторитету
компетентности», в той мере, в какой здесь происходит
передача знания, явно благотворная для того, кто подчиняется.
Мы уже заметили, чем этот способ противопоставления двух
властей поражает. Традиционно, т. е. собственно начиная с
античности, области политического и экономичесского
различаются как общественная и частная сферы. Публичное правоу
частное право — латинские (римские) термины, но они
соответствуют греческим понятиям. Латинское publicus — это
греческое бгщооюс;, касающийся совокупности, собрания живущих
вместе людей, особенно в ср. роде бгщоаюу общественная
казна, т. е. не принадлежащая никому в частности, но всем вместе.
ВЛАСТЬ
111
Что касается лат. privatus, то он соответствует греческому '(бюс;,
свойственный кому-то одному, особенный, касающийся только
этого индивида. Индивид, о котором тут идет речь, называется
i6uoxr|c;, особенный в его особности, т. е. тот, кто уже не имеет
ничего общего с кем бы то ни было другим. Подумаем о том,
что такая особность, будь она полной, сделала бы из индивида
существо, не способное ни к какому общению ни с кем другим.
Только ребенок-яутист есть i6uirrr|c; в строгом смысле слова.
Даже «идиот» говорит на общем языке и в этом смысле
принимает участие в жизни общества.
Подчеркивая различие в античности и особенно у
Аристотеля между политикой и экономикой, мы имеем в виду два
способа конституирования общества, которые здесь различаются.
С первых строк Аристотелевой «Экономики» (i343^ 3—4)
различие между экономикой и политикой представлено не только
по аналогии с разницей, существующей между oucia и лоХк;, но
и кроме того в более исходном смысле, а именно в том, что
политика имеет место, когда командуют многие, [а) экономика есть
монархия.
Нашей глагольной формой «многие командуют» переводится
именной оборот речи ёк noXXtirv apxovrcov, «из многих
начальствующих». Что касается нашей монархии, то здесь просто
транскрибируется греческое (aovapxia. Различение между
экономикой и политикой строится у Аристотеля на различии
между полиархией и монархией, В полиархии полюсов власти
много, в монархии есть только один полюс власти.
Мы словно бы отброшены к нашей отправной точке. В
философии это очень хороший знак. Философия не прогрессирует,
не продвигается вперед — она снова и снова сталкивается с
грозными вопросами, перед лицом которых самое важное это
не удариться в бегство под прикрытием, как правило,
удивительных достижений.
Власть одного, власть большого числа — вот в настоящий
112
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
момент наш вопрос. Экономическая власть по Аристотелю мо-
нархична. То, что он хочет этим сказать, элементарно просто и
ставит нас перед заведомым фактом. В уже цитировавшемся у
нас исследовании о индо-европейских названиях социальных
институтов Эмиль Бенвенист говорит о глаголе potere, possum,
potui, властвовать, откуда французское pouvoir. Possum
образовано от имени прилагательного potis в предикативном
употреблении: potis sum, pote est — выражения, редуцированные к
простым формам possum, potest. Это латинское имя
прилагательное, послужившее для образования глагола potere, быть в
силе, соответствует имени существительному patih в санскрите,
где оно значит хозяин и муж, и яотк; в греческом, тоже муж.
В санскрите оно входит в словосочетание, которое есть и в
греческом: dampatih — беаяотг|с, (Klincksieck), домохозяин, где дом
уже не okoq, vicus, но, как замечает Шантрен, менее крупная
единица, жилище, латинский domus.
Характерно, что деспот в конечном счете стало значить то,
что мы обычно и понимаем под этим словом, а именно лицо,
тиранически осуществляющее свою власть. Почему так
произошло? Явно потому что патриархальный собственник обладает
властью, которую никто не может оспорить и оспаривать не
имеет права. В области «экономической», как она понималась в
античности, власть таким образом не нуждается в оправдании.
В той же экономической области Шарль Пеги ищет, наоборот,
оправданную, правовую власть.
Мы пытаемся осмыслить, что такое власть, вернее, пытаемся
что-то понять в ней. Мы исходим из простейшего различения,
допускаемого разницей смыслов двух оборотов речи: власть в
смысле способности сделать что-то и власть как право
распоряжаться кем-то. Вместе с Шарлем Пеги мы обратили внимание,
что первая власть сводится к тому, что Пеги называет
авторитетом компетентности, тогда как вторая дает о себе знать в
командной власти.
Поскольку эти две власти относятся соответственно к
экономике и к политике, мы вслед за Пеги продолжили наблюде-
ВЛАСТЬ
ИЗ
ния о том, что есть разумный смысл в подчинении власти,
обнаруживающей компетентность, т. е. когда в области
«экономики» происходит обмен между человеком, который реально
предоставляет кому-то другому нечто для него необходимое.
В случае власти командной названное отношение не
проявляется с той же отчетливостью, ведь тогда власть имущий
не обязан и не стремится ввести в действие что-либо другое
помимо принадлежащего ему права распоряжаться. Пример:
когда мастер объясняет ученику-подмастерью, как надо
обращаться с тем или иным инструментом, ученик оказывается
в ситуации, где было бы абсурдно отказывать наставнику в
осуществлении его власти. В данном случае отправление
властной функции равносильно, собственно говоря, внедрению
в ученика определенного знания. В случае командования всё
совершенно иначе. Повиноваться значит тут уже не
прислушиваться к власти в видах приобретения знания, а всего лишь
слепо следовать директивам, обоснованность которых
никакой непосредственной верификации не поддается. Подумаем
о конкретном случае, возможно, самом показательном в
разговоре о командной власти: об армейской дисциплине. В ней
главная сила армии, подчиненные должны повиноваться, как
знает каждый, «без колебаний и ропота». Но подмастерье
перед лицом компетентного учителя — разве благодаря
колебаниям и ропоту он начинает лучше усваивать то, что от него
требуется?
Не надо думать, что Пеги в своих рассуждениях всё
упрощает. Глубоко анархический по натуре, оттого подозрительный к
неудержимому стремлению командной власти без рассуждений
навязать себя, он знает, что некоторые жизненные
обстоятельства, как говорит Декарт, «не терпят никакого отлагательства».
Пеги — такой анархист, который сознает необходимость армии
для защиты страны. Поэтому в конечном счете, но не в плане
непосредственно демонстрируемой очевидности, у него все же
есть рациональное оправдание командной власти.
Наоборот, обратившись к словарю экономики, мы именно
114
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
там, где Пеги рассчитывал утвердить разумное значение власти
как компетентности, обнаруживаем опыт совершенно
противоположный, а именно опыт деспотической власти.
Здесь требуется новое усилие внимания, чтобы продолжить
наше рассуждение, не скатившись к тому весьма
распространенному рефлекторному акту, когда начинают выявлять
«противоречия» и делают вывод, что в развитии мысли кем-то была
совершена ошибка. Противоречие, конечно, признак чего-то,
но настоящее и глубокое его значение лежит обычно в чем-то
совершенно другом чем ошибка.
Всмотримся. Пеги пытается понять власть, без всякого
упрощения этого феномена. Он подчеркивает, что власть
необходимо присуща всякому человеческому сообществу, но не так,
что она либо односторонне благотворна, либо односторонне
зловредна. Вот почему он рассматривает власть в двух аспектах.
А именно, смотря по тому, будет ли власть всего лишь
однонаправленной социальной коммуникацией, как в случае
командования, или такой социальной коммуникацией, в которой
сообщается нечто большее чем простая директива, смысл власти
оказывается радикально различным. Работа Пеги разделяет эти
два лица власти, а мы — мы, наоборот, обратили внимание на
то, до какой степени власть сплетена или связана воедино из
этих двух аспектов, которые могут быть расщеплены только
анализом.
Теперь, достигнув понимания, что власть есть нечто в своей
основе двоякое и что констатация этой двойственности власти
не может быть признана изобретением Шарля Пеги,
расстанемся с ним.
На древнейшем этапе нашей европейской традиции, в
греческом мире, дает о себе знать нечто такое, что мы можем
сейчас характеризовать как эту двойственность, понимая слово не
в фигуративном, а в собственном смысле как состояние того,
что состоит из двух частей. Я имею в виду обозначение
феномена власти у греков двумя разными словами, кратия и архия.
Кратия открывает тему силы в ее убедительно негуманных чер-
ВЛАСТЬ
П5
тах, архия — тему разумного устроения, законного порядка. Об
этом мы уже достаточно говорили.
Теперь, пожалуй, уместно бросить взгляд на другую
составляющую европейского мира, а именно на его религиозную
традицию, идущую от Ветхого и Нового Завета. Прежде всего
необходимо процитировать знаменитое место из Евангелия от
св. Иоанна, гл. 19, ст. ю и ел.
[Тогда] Пилат говорит ему: Мне ли не отвечаешь? Разве не знаешь, что я
имею власть отпустить тебя и власть распять тебя? — Ты не имел бы надо
мной никакой власти, отвечал Иисус, если бы не было тебе дано свыше.
В переводе Лютера:
Du hattest keine Macht uber mich...
В Библии короля Георга:
Thou couldest have no power at aJ! against me...
Во всем этом нет ничего кроме устойчивого учения Ветхого
Завета, ср. Иеремия гл. 27, ст. 5:
Это Я совершил Моей великой властью и Моей простертой десницей,
землю, человека и зверей, которые живут на земле. И Я могу дать это кому
захочу.
Св. Павел в Послании к Римлянам просто развертывает и
расширяет то же учение.
Пусть всякий будет покорен властям, которые свыше. Ибо нет власти не
от Бога, и существующие власти установлены Богом. Посему противящийся
власти восстает против порядка, учрежденного Богом. И эти бунтовщики
сами навлекут на себя наказание. Ибо начальствующие (magistrate apxovrec.)
страшны не когда делаешь добро, а когда делаешь зло. Хочешь не бояться
власти? Делай добро, и ты получишь похвалу от нее; ибо она есть орудие Бо-
жие чтобы вести тебя к добру. Но бойся, если делаешь зло; ибо не напрасно
11б ФРАНСУА ФЕДЬЕ
она носит меч: она орудие Божие, чтобы вершить правду и чтобы наказывая
делающего злое.
Мы выписали длинную цитату, потому что перед нами текст, на
который опирается вся практика христианства в отношении к
власти. Никакой наивности!!
Сделаем несколько замечаний касательно реалий. Я не в
состоянии сказать, какое еврейское слово стоит у Иеремии
там, где речь идет о «власти», однако для библейского текста
характерно, что он сразу показывает ее источник: простертая
десница есть жест суверена. Те, в чью сторону направлен этот
жест, падают ниц (Восток!). Но в Евангелии от Иоанна, как и в
послании св. Павла к римлянам, где мы читаем власть и началь
ствОу в греческом стоит одно и то же слово e^ouoia. Этот тер
мин, означающий в канонических евангельских текстах власть,
не засвидетельствован у Гомера, но есть у афинских писателей.
£t;-d|ji, точнее говоря, в безличной форме, tori значит возможно,
есть возможность. Предлог £{;- только усиливает идею, доводя
ее до крайности. У Платона, Демосфена и других термин e^ouaia
означает собственно власть в смысле власти осуществить что-
либо. От власти смысл скользит к идее свободы, т. е. права.
Римские магистраты в греческих текстах называются efouciai,
например консульская власть, или квестура и т. д., так же как
трибунат плебса.
У Платона в «Горгии» (4i6e) идет речь об Афинах,
том месте Эллады, где nXeiaTi] eotIv e^ouaia той Xeyeiv, всего больше
свобода речи.
кХе1атг| — превосходная степень ж. р от лоХАг) многая. Слово
относится к существительному ж. p. ^ouaia. ouaia
понимается исходя из ouaia в первом смысле, означающем то, что есть,
что имеется, когда чем-то обладают. Мы сказали бы: капитал.
Вплоть до нашего времени о земельной собственности говорят
как об основном капитале, £{; в прибавлении к ovaia означает
ВЛАСТЬ
117
преизобилие. Отсюда смысл ресурсов в их наиболее конкретном
понимании: тот, кто имеет ресурсы, может позволить себе что
угодно. Здесь заключены оба значения, свобода и власть-сила, в
смысле власти и силы сделать что-то, в данном случае свобода и
власть высказываться, Xeyetv.
Ни св. Иоанн, ни св. Павел не говорят о власти в смысле кра-
тии или архии\ Не достигли ли мы той более исходной точки,
где оба смысла, различаемые нами, оказываются объединены?
В тексте св. Павла то, что переведено через начальства, сказано
по-гречески словом apxovxec;, архонты, правящие. Латинский
передает это через principes, Лютер — die Gewaltigen, имеющие
Gewalt, власть в смысле законного верховенства или даже, по
Максу Веберу, законного насилия, которое, строго говоря, уже
не насилие. В Библии короля Георга apxovrec; передается через
rulers.
Мы видим здесь целую систему порядка, очень тонко
артикулированную. Магистраты, должностные лица, наделенные
частью общественной власти, осуществляют власть, как говорит
современный язык. Осуществляя власть, они в полноте своего
права командуют, но именно потому что эта власть, e^ouaia,
эта способность делать так, чтобы то или иное имело место (в
случае Пилата — способность распять или отпустить человека,
которого он видит перед собой), сама собой не приходит.
Оттого св. Павел говорит весьма уместно: e^ouata (власть, которую
осуществляет должностное лицо) есть minister tibi in bonum,
«тебе служитель, чтобы вести тебя к благу».
Латинский перевод таким образом противопоставляет или,
вернее, заставляет взаимно прояснять друг друга два термина:
magister — minister, господин (учитель) — служитель. В наших
языках это их отчетливая полярность утрачена. Magis и minus
значит больше и меньше. Быть magisiev, осуществлять власть
магистрата, значит быть больше по сравнению с тем, в
отношении кого она осуществляется. Напротив, mmisterium — это
подчинение, служебное состояние. Министр Бога есть Его
служитель. В греческом ему соответствует 6i&kovo<; от бюисоуео),
n8
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
стараться, усердствовать. Слово в чистом виде сохранилось и
нашем диакон, диаконисса и несколько измененным — в дьякон,
первоначально служитель.
Итак, магистрат, командующий по своему полному праиу,
осуществлять власть, т, е. способность добиваться, чтобы та
кие-то вещи произошли, для каждого члена общества являю
щуюся собственно тем, что позволяет ему идти к благу. Следуя
указаниям власти,осуществляемой тем, кто командует, каждый
идет к благу. Не слишком ли оптимистичен такой взгляд на
вещи? Так покажется только если мы будем невнимательны.
Чтобы избежать этого, вдумаемся в смысл одной знаменитой
фразы Паскаля. Это афоризм, стоящий в издании Брюнсвика
под номером 298:
Большинство людей претерпевают власть с негодованием, но
осуществляют ее со спокойствием.
6
С самого начала наших размышлений о власти мы постоянно
удостоверяемся в ее двоякой природе, в ее характере амфибии
или гибрида:
власть (для) чего — архия
власть над чем — кратия.
В обоих случаях физическое принуждение законно и,
следовательно, различительным признаком служить не может.
Теперь рассмотрим пару, которую в римской политической
практике образуют potestas и auctoritas. По ходу нашего анализа
будем читать текст Ханны Арендт «Что такое власть?». В
порядке важного предварительного замечания скажем, что
авторитет не власть, а элемент того гибрида, каким является власть.
Точнее, авторитет имел в римской политической практике
обособленную и потому узнаваемую форму одной из двух сто-
ВЛАСТЬ
И9
рон того, что является в целом властью. Авторитет, auctoritas,
как его понимали и осуществляли на практике римляне, есть
тот ускользающий элемент, который дает власти ее особенный
характер законности, возвышая ее над простым грубым
применением силы.
Наша гипотеза, скажем с самого начала, заключается
собственно в том, что власть по определению предполагает
законность, легитимность, так что идея «незаконной власти» есть по
большому счету противоречие в терминах. По большому
счету — потому что мы беспрестанно сталкиваемся с ситуациями,
когда власть есть практически не что иное как способность
навязывать себя по произволу. По большому счету, опять же —
поскольку бывает достаточно не улавливать, откуда исходит
законность определенного решения, чтобы воспринимать его
как произвольное, т. е. как простую демонстрацию силы.
Чтобы придать нашей гипотезе достаточно понятную
формулировку, скажем, что власть в собственном смысле есть
сочетание силы и авторитета.
Отсюда интерес к тому, чтобы понять смысл авторитета. По
существу — так начинается текст Ханны Арендт — существа
авторитета мы сегодня уже не улавливаем. При звуке этого
слова мы спонтанно представляем себе нечто не имеющее к
авторитету никакого отношения. Чтобы в том убедиться,
достаточно открыть Тезаурус французского языка. «Авторитет»,
читаем мы там, «есть власть воздействовать на других». Таков
примерно смысл, в каком мы сегодня понимаем это слово. Так
его понимал Боссюэ в надгробном слове Генриэтте
Французской, королеве Англии:
Что-то более мощное шевелилось в основе вещей: то было тайное
отвращение ко всему, в чем есть авторитет.
Легко видеть, почему это слово для нас невыносимо.
Воздействовать на других, брать верх над другими,
манипулировать ими, принуждать их значит тем или иным образом делать
120
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
противоположное тому, что мы считает необходимым делать, а
именно оставить им свободу.
В начале своего размышления Ханна Арендт
противопоставляет авторитет двум формам принуждения, которые в свою
очередь очень различны: насилию и убеждению. Определить
авторитет, говорит она, значит противопоставить его
одновременно принуждению силой и убеждению через доводы.
Авторитет не опирается ни на силу, ни на разум. В классическом Риме
авторитет покоился на некоем основании в прошлом, которое ему служи
ло постоянным краеугольным камнем.
Чтобы должным образом осмыслить эту цитату,
первоочередно важно освежить в нашей памяти, чего именно мы
намереваемся достичь. Дело для нас идет о том, чтобы понять
что-то во власти. Под властью мы понимаем ту специфическую
структуру, которая господствует в человеческом обществе как
таковом, т. е. тот порядок, через который — каким бы ни был
его специфический облик (демократия, монархия, олигархия,
тирания и т. д.) — человеческое общество конституируется как
ассоциация объединяющихся индивидов.
Краткий экскурс в область животного мира поможет нам
лучше высветить то, о чем мы говорим. В случае, когда много
животных живут объединившись в группу, будь то в форме,
всегда глубоко интриговавшей людей, а именно в форме
пчелиного улья со своей царицей, маткой, будь то в форме, скажем,
стаи волков, мы констатируем нечто вроде порядка с
определенной субординацией, что и заставляет нас думать о власти.
Однако уподобления здесь обманчивы. Не потому что
общества животных основаны на грубой силе. Будь то волчьи стаи
или банды крыс, в них существуют уровни по рангу, причем
доминирует один единственный индивид, однако не в опоре
на насилие. Конечно, волк (волчица) или крыса не удерживает
своего господствующего положения, когда стареет или заметно
слабеет. Но господство не есть всего лишь просто верховенство
ВЛАСТЬ
121
самого сильного. В случае улья это особенно ясно, потому что
матка, или царица, вообще не господствует] Точно так же, как
все члены улья, она неотрывно привязана к функции, которой
себя посвящает с какой-то биологической фатальностью.
Вся суть разницы между «обществами» животных и союзами
людей видна в самом по себе слове общество, социум. В самом
деле, общество есть совокупность отношений, которые
поддерживают между собой общающиеся, вступившие в ассоциацию.
Socius, товарищ — тот, с кем мы делимся всем, партнер и
союзник, как уточняет Бенвенист в словаре индоевропейских
учреждений (t. I, p. 337)- Животные, даже объединившиеся в
«общество» (пчелы, волки, слоны), не делятся между собой в
строгом смысле ничем. Почему? Мы можем сформулировать
это так: потому что среди них нет равенства. Само по себе это
не совершенно очевидно, потому что их нельзя назвать и
неравными. Пчелиная матка (царица) не выше рангом чем рабочая
пчела. Но она и не ниже. Она другая, не будучи другой.
Любопытная инаковость, с трудом поддающаяся фиксации.
Пчелиная царица, можно сказать, мать всех пчел, однако такая мать,
которая и не мать вовсе, поскольку мать, конечно, та, что дает
жизнь, но еще гораздо более — та, которая заботится о своем
потомстве. С другой стороны, матка оказывается пчелой, чьи
заботы берут на себя все прочие пчелы. Это делает понятным ее
название царицы в древнегреческом и многих других языках.
Предложим тезис: «общества» животных отличаются от
обществ человеческих тем, что первым неизвестен феномен
власти как авторитета.
Это не должно внушать нам мысль, будто общества
животных представляют собой заповедник чистого насилия. Всё
скорее обстоит прямо наоборот. Будь то внутри стаи волков
или в стадах слонов, отношения чаще всего остаются
ненасильственными, со стороны волков — благодаря относительной
фиксированности отношений между индивидами, а в стадах —
благодаря соблюдению территориальных границ. Но общества
животных нельзя назвать и царством согласия. Не будучи ни
122
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
мирными по своей сути, ни радикально антагонистическими,
они не отличаются этими чертами от человеческих.
От самых начал Нового времени, т. е. после XVI—XVII векон,
политическая теория прибегала к понятию договора, чтобы дать
себе отчет в природе социального устройства. Очевидно, что
среди животных не может быть договора, который предполага
ет обсуждение, столкновение позиций, обмен точками зрения,
короче говоря, речь. Однако между животными господствую i
торможения (запреты, ингибиции), т. е. рефлексивные способы
поведения, препятствующие поступкам, которые причинили
бы слишком большой вред сородичам. Так, при встрече двух
волков, если один из двух демонстрирует свою покорность,
подставляя шею противнику, другой волк не может сделать
смертельный укус. Он неспособен к нему благодаря
торможению, которое является элементом инстинкта, записанным в его
генетическом коде. Другой пример торможения этого типа:
невозможность для птицы, например такой как ворон, выклевать
глаза своему сородичу.
Наш тезис получает таким образом расширение: власть в
человеческих обществах как-то связана с исчезновением важных
инстинктивных типов поведения, какими являются
торможения. Мы угадываем здесь определенную связь между
торможением (inhibition) и запретом (prohibition). Pro-hibere — это
*pro-habere: держать, иметь на расстоянии; in-hibere — *in-
habere: удержать внутри, остановить. Как всегда, к подобному
лексическому сближению надо подходить с бесконечной
осторожности). И все же ни в каком поведении животных мы не в
состоянии обнаружить запрет, prohibition, при том что сплошь
да рядом констатируем у них инстинктивное торможение,
inhibition.
7
Усматривая разницу между животными и человеком в
исчезновении у последнего торможения, замещаемого запретом.
ВЛАСТЬ
123
мы не теряем из виду нашу цель, понять то, что Ханна Арендт
объясняет относительно авторитета. Наша исходная
гипотеза заключается собственно в том, что авторитет в понимании
древних римлян придает власти ее характерные черты,
являясь по сути дела тем, что она есть в своей истине: инстанцией,
которая навязывает себя, потому что имеет на то право.
Добавим: инстанцией, которая не может отсутствовать, не должна
отсутствовать, если мы не хотим, чтобы власть исказилась
до простого принуждения. Без легитимации авторитетом от
власти остается только сила или только маска силы, что a priori
оправдывает любую форму сопротивления ей.
Вернемся на момент к различию между торможением и
запрещением. Важно отчетливо видеть, что это различие неким
образом абсолютно. Благодаря торможению индивиды в
определенной группе животных не могут подвергнуться
смертельной опасности от сородичей и, в частности, доминирующий
индивид не может покуситься на жизнь нижестоящего, В
человеческом обществе столь же непосредственной регуляции
поведения нет. Вышестоящий вполне может убить или
приказать убить нижестоящего, и все мы знаем примеры, когда
складывается ситуация подобного рода с тем прямым следствием,
что мы очень строго осуждаем общество, где такое случается,
называя его обществом несправедливым. Иначе говоря,
запрещение не играет роли, аналогичной торможению, а потому не
может рассматриваться как замена последнего. Запрещение
есть разновидность возбранения, что в корне отличается от
невозможностей, актуализируемых тормозящими рефлексами.
Надо постараться выявить именно отношение между запретом
(возбранением) и способностью речи вообще, отличающей
человечество. Возбранить, interdicere, значит произнести
формулу, которая кладет конец спору между истцом и ответчиком.
Нантский эдикт есть интердикт, прекращающий распрю
между католиками и протестантами. Только возбранение, запрет,
интердикт позволяет потеснить бесконечную агрессивность
человека, направленную против человека.
124
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
Авторитет принуждает людей к послушанию, но в этом
послушании люди сохраняют свою свободу. Ханна Арендт
указывает:
Источник авторитета при авторитарном образе правления есть всегда
сила внешняя и высшая для происходящей от него власти; именно из этого
источника, от этой внешней силы.трансцендирующей политическую область,
власти черпают свою «авторитетность», т. е. свою законность; а эта последняя
может ограничивать их власть.
Прежде всего надо заметить, что «авторитарный образ
правления» означает тут не повелительное и диктаторское
правительство, но правление, опирающееся на auctoritas. Характерно
для такого образа правления именно то, что оно авторизовано,
т. е. легитимировано чем-то трансцендентным по отношению
к сфере чистой силы. Это «что-то», называвшееся у римлян
auctoritas, надо попытаться осмыслить ради понимания того,
как власть — какою бы она ни была — может существовать
юридически (en droit, по праву), а не только фактически (en fait).
В процитированной фразе Ханна Арендт пользуется в
отношении авторитета термином силы (внешней силы), и это может
ввести нас в заблуждение. Будем говорить поэтому не сила, а
гораздо менее обязательно нечто. Нечто извне и свыше
привходит, придавая власти ее легитимность, иначе говоря,
авторизуя власть как истинную власть, а не просто силу. Настоящая
власть есть там, где подчиняющиеся ей делают это
добровольно или, говоря точнее, там, где подчинением не исключается
сохранение свободы.
Для римлян всё вращается вокруг идеи основания или,
вернее, основания города Рима. Ab urbe condita, начиная от
основания Города, — это, как мы помним, способ вести счет времени
у римлян. У греков время исчисляется четырехлетним ритмом
повторяющихся олимпийских игр; у христиан его отсчитывают
от рождения Искупителя, Бога, ставшего человеком; у
мусульман — от момента откровения Святой книги. У древних евреев
время начинается с сотворения мира.
ВЛАСТЬ
125
Собственно римская идея есть идея гражданская. В этом
смысле римлян действительно можно назвать учредителями
политики как дела горожан, граждан или, скажем для большей
ясности, дела гражданства, урбанизма, если не урбанности.
Греческий лбАк; в гораздо меньшей мере город чем община,
понятая как полюс всего, что люди имеют общего, поскольку
они, вот эти существа, имеют целью жить так, как следует
жить в их понимании — что никогда не значит жить по
произволу, но по всей строгости долга жить так, как подобает жить.
Римская идея, которая никоим образом не есть идея всего лишь
консервативная в том банальном смысле, какой приобрело это
слово сегодня, заключается в следующем: коль скоро чему-то
положено основание, обязанностью всех будущих поколений
становится сохранять установленное.
Auctoritas вписывается в эту связь вещей, которую ныне
живущее поколение призвано поддерживать, чтобы продолжать
жить по способу гражданствования на той основе, от какой оно
произошло.
8
Итак, функция римской auctoritas заключается в легитимации
власти. Напомним, что у римлян их potestas, т. е. инициатива
власти как силы, способной навязать свою волю, не совпадает с
тем, что мы в нашем курсе пытаемся очертить в качестве власти.
Будем теперь понимать под нею легитимную власть, т. е. власть,
признанную теми, над которыми она осуществляется. Так,
Цицерон в своем трактате о законах подробно объясняет, что если
potestas, власть, которая просто навязывает себя, принадлежит
народу, т. е. всей совокупности граждан Рима, где бедные,
плебеи очевидным образом составляют большинство, то auctoritas,
авторитет, принадлежит сенату.
В чем заключается авторитет сената и, прежде всего, что
такое сенат? Senatus — собрание старейших, которых
называют seniores, старшими, или даже patres, отцами. Это собрание
126
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
включает не всех старцев, а только глав патрицианских родов,
к которым присоединялись некоторые выходцы из плебейских
семей. Эта особенная черта, будучи сама по себе древней,
сближала — так считалось — людей текущей современности с
поколениями первого времени, эпохи основания Рима.
То, что здесь в первую очередь необходимо понять, по сути
дела очень просто. Чтобы грубая материальная сила перестала
быть простым принуждением, надо чтобы все могли ее принять.
Ради корректности в постановке нашего вопроса достаточно
спросить, каким образом человеческое существо (мы,
например) можем принять подчинение — оставаясь притом
свободным —какой-то власти. Ответ на это всегда один и тот же: если
власть действительно законна, я подчиняюсь ей добровольно.
Я принимаю ее приказы, причем вовсе не как фатум: я сужу, что
она отдает приказы по праву. Что должно на меня
подействовать, чтобы на мой суд повеления власти — и не только
повеления, но и позиции, которые она занимает, и общая атмосфера
гарантируемой ею общественной жизни, — были законными?
Тут есть две возможности ответа: прежде всего тот, который
всего ближе к каждому из нас, а затем тот, который дает
римская auctoritas. Во всяком случае, она историческая данность,
заслуживающая как таковая изучения.
Начнем с нашей ситуации. Это не самое легкое, в
противоположность тому, что может показаться.
Мы заключаем, что правительство легитимно, когда оно
создано в согласии с закономерно действующим порядком своего
назначения. Но дня нас этот постоянно действующий порядок
полностью следует из всеобщего избирательного права: когда
в ходе голосования граждан формируется большинство, то
законно, чтобы правительство опиралось на такое большинство.
Не будем однако думать, что речь тут идет о простом
арифметическом подсчете! Последние события в Австрии показывают,
что за спиной арифметики существует другой принцип
легитимности; он-то и есть истинный принцип. Иными словами:
простое численное превосходство не влечет за собой леги-
ВЛАСТЬ
127
тимности. Никто не признает, что преступное большинство
просто на основании своего большого числа может законно
властвовать. Рассмотрим поэтому то, что подразумевается
всеобщим избирательным правом: в нормальных условиях жизни
большинство избирателей выражает взгляды, которые имеют
всего больше шансов быть если не разумными, то по крайней
мере близкими к разумности. Таково истинное оправдание
демократии — а не простой вес численности.
Если мы обратимся теперь к реальности Рима, то следует
ожидать глубокого изменения картины. Легитимация власти
здесь имеет место, и она достигается только при условии, что
окажется возможно связать новое решение со всей
совокупностью прошлых решений, и больше того: если новое решение
может быть представлено как гармонирующее с первым
основанием города.
Каков римский опыт легитимации власти? Мы знаем, что он
носит имя auctoritas. Дело для нас идет о том, чтобы понять, чем
создается auctoritas. Ханна Арендт напоминает, что auctoritas
есть свойство auctor'a и что auctor, автору есть тот, кто увели-
чивает. Augeo, augere выращивать, возрастать* увеличивать*
расширять (отсюда аукцион) сродни немецкому wachsen
расти. Всего важнее для нашей задачи то, что, как поясняет Ханна
Арендт,
боги (Рима] тоже имеют авторитет среди людей, больше чем власть над
ними; они «увеличивают» и упорядочивают действия людей, но не управляют
ими.
Наблюдение, очень существенное для нас, живущих с этой
точки зрения в зоне тяготения Десяти заповедей* или команд
(commandements), и соответственно не имеющих спонтанного
понимания для выписанной нами фразы. Вот почему
необходимо подчеркнуть: римские боги — и, походя будь сказано,
греческие тоже — не командуют людям, что те должны делать; боги
оставляют людям труд угадать, ведут ли их предприятия к доб-
128
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
ру или нет. Отсюда объясняется та специфическая римская
особенность, которую называют суеверием, В отношении привычки
римлян проверять каждый свой шаг с точки зрения того, угоден
ли он богам, у нас есть только насмешка, тогда как суеверие
совпадает здесь по своей сути с римской gravitas, основательной
серьезностью. Так называемое суеверие, super-stitio, надо
понимать в смысле совершенно телесной позиции, состоящей в том,
чтобы подняться во весь свой рост, включая протянутые к небу
руки, — позиции человека, обращенного лицом к присутствию
божества (см. Walter Friedrich Otto, Das Wort der Antike, Stuttgart:
Klett-Kotta 1962, S. 366). Суеверие есть внимание, направленное
на знаки, знамения, насколько эти последние являют не столько
волю богов, сколько их спасительную способность остановить
того, кто пускается в какое-либо дело, доводя до его сознания,
ведет ли это его действие к добру или злу.
Рассмотрим теперь, как auctoritas легитимирует
политическое действие. Ханна Арендт показывает, что это достигается
связью настоящего момента с прошлым моментом основания
Города. Если нам удастся это понять, мы будем в точности знать,
что такое римская auctoritas, и тем самым получим прекрасный
пример того, как власть становится легитимной. Однако
усилие, которое нам остается сделать, чтобы достичь этой цели,
требует от нас оставления прошлых привычек и образов
мысли. Надо попытаться проникнуть в то, как мыслит и чувствует
римлянин. Его мысль и его чувственность другие по сравнению
со всеми, какие нам известны и какие мы наивно считаем
нормой человеческой мысли и чувственности. Подумаем, если это
способно нас немного успокоить, о том бесспорном факте, что
для древних римлян было бы так же трудно — почти
неодолимо трудно — попытаться вообразить себе, как мыслим и
чувствуем мы.
Римляне — люди Права, Империи и Религии, но таким
образом, что эти три инстанции непрестанно отсылают одна к
другой, так что нет никакого права, которое не вставало бы сразу в
какое-то отношение к империи и к религии, — точно так же как
ВЛАСТЬ
129
нет религии, независимой от jus и imperium, и нет imperium без
religio и jus. Imperium как власть командовать и повелевать
коренится в суверенной власти pater familias принимать все меры
для общественной пользы даже за рамками закона. Impero (in-
раго) значит подготовить все, принять меры, устроить так,
чтобы нечто было сделано; принудить к осуществлению.
Основание Рима, и это весьма любопытно, может и должно
излагаться в его трояком осуществлении (см. Pierre Grimal, La
civilisation romaine, Paris: Arthaud i960):
Ромул основывает город, обеспечивает постоянство
населения, организует функционирование государства через
учреждение сената (Patres) и народного собрания.
Легендарный Нума, преемник Ромула, придает форму
религии: постройка храма Януса, открытого во время войны и
закрытого в период мира, учреждение жреческих коллегий
фламинов, понтифексов.
Третий основатель, Сервий Туллий, шестой царь,
реорганизует римское общество, деля его на пять классов согласно
цензу — списку всех граждан, указывающему для каждого из пяти
классов его место в городе.
9
Ханна Арендт называет римской троицей единство,
образуемое религией, авторитетом и традицией. С нашей стороны
мы обратили внимание на другую типичную для Рима
троицу — право, империя и религия. Тут нет речи о
противопоставлении двух «структур», тем более что один из столпов этих двух
зданий одинаков, religio. Зато заслуживает внимания
сплоченность гражданского духа, в смысле Монтескье. Вопреки Арендт,
политика как таковая была характерна скорее для духа Греции,
предполагая существование философии. Греки занимались
политикой не потому что философствовали. Они были самым
думающим народом в истории вплоть до нынешнего времени
и потому становились политиками и философами. Уникальная
130
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
духовность Рима была волей к сохранению своей цивилизации.
Цивилизация — слово, означающее самую суть Рима. Мы
имеем все причины думать, что ключом к успеху Рима была эта его
сплоченность вокруг единой идеи.
Здесь имеется в виду феномен не только духовный, но также
и исторический. Поскольку римская auctoritas есть составная
часть названной сплоченности, важно со всей тщательностью
исследовать способ, каким auctoritas авторизует, т. е.
легитимирует власть. Именно легитимация придает власти ее верховную
силу. В этом смысле Кант в начале § 28 своей «Критики
способности суждения» говорит:
Могущество (Macht) есть способность, превозмогающая большие
препятствия. То же самое могущество называется властью (GewaJt), когда оно
превозмогает даже сопротивление того» что само обладает могуществом.
Великому историку Теодору Моммзену принадлежит та
мысль, что в Древнем Риме авторизация, исходившая от сената,
была больше чем советом и меньше чем приказом: сенат
высказывал мнение, которым нельзя было безвредно пренебречь.
Добавим сразу, чтобы уловить смысл сказанного, что вред,
навлекаемый пренебрежением к сенаторскому мнению,
происходит от нарушения религиозного порядка. Это, стало быть, вред,
проистекающий от нечестия и таким образом тяжелейший в
глазах римлян.
Почему мнение сената имеет такой странный вес? Потому
что сенат есть институт, через который Город обеспечивает
себе устойчивую длительность. Как указывает Моммзен, сенат
от самого своего основания, от Ромула, был политическим
организмом, учрежденным с тем, чтобы длиться всегда. Поэтому
когда в какой-то момент римской истории сенат запрашивают о
легитимности того или иного народного решения, то свое
мнение он изрекает в качестве надежного мерила законности.
Сенат был не просто живым воплощением идеи вечного царства; он
ВЛАСТЬ
131
функционировал кроме того как один из существенных конституционных
органов.
В частности,
его функция заключается в том, чтобы быть главным стражем
конституции ... он не создает закон, он только его хранитель; и он отменяет решение
народа только в том исключительном случае, когда оно, выходя за рамки
права, покушается на благочестие в отношении богов» на должное уважение к
другому государству или на неотъемлемые учреждения города.
Вдумываясь в эту совершенно уникальную ситуацию сената
как свидетеля и гаранта вечности — не будем только
смешивать римскую вечность, основанную отцами (насколько Рим,
каким он был основан, жив, Рим вечен), с вечностью
христианской, т. е. абсолютно сверхприродной, — мы сможем заметить,
каким образом auctoritas легитимирует решения
правительства. По сути дела, сенат дарит решениям власти auctoritas в
опоре на традицию, а еще точнее — через признание, что эти
новые решения не вступают в конфликт с традицией. Всё
происходит так, словно сенат проверяет всякое новое решение sub
specie aeternitatis, а именно в перспективе основания Города.
Поскольку основание Города есть проект венный, т. е.
превосходящий меру всякой индивидуальной жизни и учреждающий
себя на все временя, постольку утверждение решений
правительства через auctoritas сената равносильно их включению в
надежность изначального замысла основателей.
Основать по-латински — condere от корня do (и.-е. *dhe
положить, откуда греч. Ti-0r|iii) с приставкой cum, т. е.
сложишь вместе то, что ранее не было собранным. От основания
(conditio) в той мере, в какой это последнее призвано превзойти
длительностью любой чисто человеческий предел, неотделима
традиция, или передана (эстафета), благодаря которой первое
основание продолжает действовать за пределами
индивидуальной смерти как принцип единства.
Сенаторы, воплощение традиции — или, чтобы быть более
132 ФРАНСУА ФЕДЬЕ
точными, воплощение основания Рима, донесенного традицией
до них, чтобы они его продолжили, — проверяют все, что делает
и решает народная власть, с целью удостовериться, что дух
первооснователей не искажен.
Власть в ее специфически римской реальности
легитимируется, соответственно, только если может быть отчетливо
удостоверено, что она вписывается в традицию, начатую при
возникновении Рима «отцами-основателями». Это позволяет
пролить какой-то свет на то, что составляет настоящую
загадку власти, которую мы отыскиваем в нашем размышлении. Не
то что римская практика есть единственный ключ ко всякой
власти. Мы должны попытаться понять, каким образом
решение проблемы власти через auctoritas содержит действительно
момент истины, дающий власти опору за пределами всякого
индивидуального человеческого решения.
10
Делая последний шаг в нашем разыскании, мы можем теперь
сформулировать, что именно задействовано везде, где есть
власть. Мы сталкивается тут с чем-то настолько же
очевидным, как римская двоица potestas — auctoritas, власть
фактическая и легитимная власть, и дающим о себе знать всегда,
когда встает вопрос о власти. У всякой власти — выскажем
в форме тезиса — есть двоякое оправдание: через
необходимость организовать общественную жизнь и через
оптимальный характер избранной формы общественной жизни. Мы
вновь обнаруживаем здесь то, что было подчеркнуто в начале
наших размышлений благодаря изучению выступления Шарля
Пеги о политическом анархизме, однако, не упустим заметить,
в форме гораздо более акцентированной и ведущей по сути
дела к перевертыванию.
Авторитет компетентности, прочли мы у Пеги,есть власть
делать что-то потому, что делающий знает, как надо поступать:
он обладает компетенцией, достаточной для данного дела. Такая
ВЛАСТЬ 133
власть не исключает принуждения и команды. Компетентный
велит, командует, заставляет делать что-то, потому что умеет
делать это сам и в целях научения обучаемого. Мы теперь все
больше склоняемся считаль, что вопрос политической власти
должен сводиться к авторитету компетентности. В самом деле,
чисто командный авторитет, власть заставить кого-то что-то
делать, но не с целью научить его этому делу, нам кажется властью,
с большим трудом поддающейся легитимации. Мы
оказываемся тем самым в положении, когда единственная легитимация,
представляющаяся нам оправданной, является легитимацией
от полезности, т. е. легитимацией, целиком сводящейся к сфере
экономики!
Размышления о примере Рима, однако, чему-то научили нас.
Чему? Облегчим себе ответ на этот вопрос одним
предварительным замечанием. В свете того, чем на наш взгляд
исчерпывается проблематика власти, римская auctoritas остается некой
маргиналией, необязательной и посторонней. В самом деле, что
осязаемого, конкретного к решению правительства, по
определению (так по крайней мере предполагается) продиктованному
непосредственной необходимостью, может добавить
сенаторская авторизация? Мы видели, что она «дополняла» это решение
соответствием духу основателей. Вот что — измеряя мерой
насущной необходимости — бесконечно далеко от нас!
Но именно это заслуживает полноты нашего внимания.
Снова скажем в тезисной форме: двоякое оправдание власти
проистекает из внутренней двоякости самого понятия власти.
Пока мы не достигли со всей ясностью понимания, что власть
в том единственном смысле, какой она должна иметь, означает
без всяких вариантов власть заставлять делать что-то в
принципиально других видах, чем в утилитарных, — до тех пор
уловить ее, власти как уникального образования, подлинную
суть останется невозможно.
Подлинная суть власти — чему нас учит пример Рима — в
том, чтобы не быть, никогда не быть, никогда не иметь права
быть простым управлением, хозяйствованием. Современному
134
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
уху это крайне трудно расслышать. Ведь под управлением
сейчас имеется в виду вообще современный навык рассматривать
все перипетии человеческого существования как «проблемы»,
для которых надо найти осуществимые «решения».
Римский пример нас учит, что реальное оправдание власти
происходит не таким порядком и, следовательно, власть в своей
сути — и здесь происходит то перевертывание позиции Пеги,
о котором предупреждалось выше, — есть нечто подлежащее
постоянной легитимации и ре-легитимации, но не через какую
бы то ни было полезность! Для нас это опять же почти
невразумительный аргумент, потому что в нашем привычном
понимании власть, не оправданная своей полезностью, есть власть
неоправданная вообще, настолько в нас внедрилась, проникнув
до мозга костей, идея, что всякая оправданность коренится в
полезности.
Разумеется, то, что у нас тут названо примером Рима, не
может пониматься сегодня как пример, которому мы
должны были бы слепо следовать. Вместе с тем, рассматривая дух
авторизации независимо от ее содержания, т. е. от ее связи с
основанием Рима, мы можем извлечь отсюда еще несколько
драгоценных уроков. Как собственно происходит авторизация?
Ответ: через вмешательство инстанции, абсолютно другой
чем фактическая власть. Идея разделения властей достигает
здесь глубины, о которой мы еще не подозревали. Разделены
между собой власть как способность что-то делать (тем самым
и заставлять делать) и власть как впасть над теми, которыми
командуют. И вот способ, каким они разделены, в точности
противоположен тому, что обычно себе представляют: власть
командная есть фактически власть без малейших средств
принуждения, тогда как власть заставлять делать не имеет сама по
себе никакой легитимности.
Уникальный римский опыт легитимирующего авторитета
помогает прояснить наше отношение к власти. Вопрос
легитимации власти, коль скоро установлено, что ключом к ней не
может служить полезность, встает со свежей остротой. Пос-
ВЛАСТЬ 135
кольку же, кроме того — по причинам, которые не обязательно
сейчас излагать, — эта легитимация уже не может быть
получена просто в силу традиции, становится ясно, как велик риск
вообще не иметь никакого удовлетворительного оправдания
власти.
В современном мире власть оказывается странным
образом как бы никогда, собственно говоря, не легитимной. Эта
ситуация чаще всего расценивается как тревожная, тогда как
она фактически и есть новый облик всей ситуации с властью.
По какому праву какая бы то ни было власть может законно
требовать послушания? Каковы формы и процедуры,
легитимирующие власть? Поставленный таким образом, вопрос не
очень далеко ведет. Ибо сами легитимирующие процедуры
колеблются под напором чудовищной проблематизации всякой
власти. Не получается ли так, что теперь только сила — т. е.
насилие, — способна заставить людей подчиняться?
Чтобы быть в состоянии ответить, надо прежде всего
задаться вопросом в двух планах: кто те люди, относительно которых
признано, что они должны подчиняться? и что предполагается
этим подчинением, или, иначе говоря, чему они призваны
подчиняться?
Ответ на первый вопрос: обозначим как «народ» тех, кто
призван подчиняться. Ответ на второй вопрос: народ призван
подчиняться руководящим указаниям, которые по
определению превосходят потребности повседневного существования.
Пример: никакое решение власти сегодня не может обойтись
без размышления о перспективах будущего не только
отдельных обществ, но теперь уже и человеческого рода в целом.
Здесь снова происходит странное перевертывание: при том
что «власть» растрачивает себя на решение злободневных
проблем, «народу» не удается заставить правительства
повернуться лицом к отдаленным перспективам.
Мы начинаем угадывать здесь, хотя и в очень тревожной
форме его отсутствия, какое-то новое отношение между
правящими и управляемыми, — отношение, когда управляемые
i36
ФРАНСУА ФЕДЬЕ
решили бы через свое, так сказать, автоматическое
сопротивление держателям власти заставить этих последних
не ограничивать свой кругозор текущим моментом, но
открыться для настоящего будущего, т. е. будущего, которое
вобрало бы в себя наследие прошлого.
ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
Прозрачная простота этих текстов восстанавливает
атмосферу хорошей школы, терпеливой и основательной. Неспешное
изложение с возвращениями и повторами непосредственно
понятно любому читателю. На каждом шагу видно, что авторы
могли сказать больше и не сказали ничего кроме
необходимого. Следуя правилу настоящего учительства, они открывают
ходы для самостоятельной мысли, показывая, как осторожно
и отчетливо она должна их делать, если ей надо идти далеко.
Хороший научный уровень этих опытов-упражнений
обеспечен настойчивостью, с какой в них ставятся главные вопросы
человеческого существования.
В книге впервые публикуются два курса, прочитанных
французским философом Франсуа Федье перед студентами
парижского Пастеровского лицея в 1998—2000 годах. Предисловием к
ним служит лекция, которую г февраля 1993 года прочел перед
студентами Лицея Клоделя в г. Труа переводчик хайдеггеровс-
кого «Бытия и времени» Франсуа Везен. Ее текст публиковался,
мы берем его из сборника в честь профессора Везена
«Преподавание по преимуществу», изданного в 2ооо году1.
Рядом с авторами невидимо стоит Жан Бофре, их учитель в
философии, в этике, в благочестии мысли. «Я педагог»,
цитировал Бофре не раз гегелевские слова. Он преподавал с 1955 Д°
ухода на пенсию в 1972 году в парижском лицее Кондорсе. Его
многочисленные слушатели, благодарность которых к учителю
растет с годами, недавно начали издание его лекционных
курсов2. Эпиграфом к предисловию в этом издании служит цитата
из Хайдеггера, отвечающая преподавательскому стилю Бофре:
1. UEnseignement par excellence. Hommage a Francois Vezin. Textes reunis et
edites par Pascal David. Paris ; Montreal: L'Harmattan 2000, p. 347—371.
2. Jean Beaufret, Lemons de philosophie. Tome I. Philosophic grecque. Le
138
ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
Кто боится устареть, подхлестывает молодых последними новшествами
Кто умеет стареть» отпускает их на свободу изначального.
Жан Бофре читал курсы о великих философах, умея вовлечь
слушателей в решающее событие мысли. Кто был знаком с пре
подаванием Бофре, говорит, что под чарами его спонтанной
речи — он не пользовался записями — люди рождались заново
для философии, и он сам учился, нечаянно переходя от изложе
ния к мысли вслух.
Уважая приемы этой философской школы, мы не нарушаем
своими примечаниями, которые напрашиваются почти в каж
дой фразе наших авторов, их сдержанную манеру. Они думакл
сами и ожидают встречного хода мысли, не подталкивая к нему
Слушатель и читатель приобретает много в любом случае, даже
если выберет не замечать открывающихся перспектив.
Тексты сами по себе мало что значат. Важен переход о\
слов к вещам. Он достигается не так, что особым словесным
искусством вызываются к жизни вещи, и не так, что речь
информирует о них, а так, что с самого начала слово дано
ненаивному желанию добра. В добре греки некогда узнали
бытиё (oysia), главную вещь. Добро всё наше имущество.
Есть только бытие, небытия нет, учил Парменид. Перевод его
поэмы, сделанный Жаном Бофре, принадлежит, как заметил
его издатель Жан-Люк Марион3, к истории французской
философии 20 века. В бытии-добре онтология совпадает с
этикой. Школа, с которой мы здесь знакомимся, понимает добро
бытия деятельно как задачу жизни. Такое бытие никак нельзя
считать свойством, извлекаемым из существующих вещей. Тот,
кто внушил искать бытие в вещах, вместо того чтобы знать
его прежде всех вещей в себе как добро, оказал человечеству
нехорошую услугу. С тех пор только вещи, отдельные от нас,
rationalisme classique. Tome II. Idealisme allemand et philosophic contemporaine.
Ed. Philippe Fouillaron. Paris: Editions du Seuil 1998.
3. Jean-Luc Marion, Avertissement de lediteur // Parmenide, Le poeme. Presente
par Jean Beaufret. PUF 1983 (3-е изд.).
ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
139
стали нас задевать. Человек растекся по их поверхности. Он
разучился видеть прежде всего одну нерушимую, одинаково
близкую и далекую, без прироста и убыли вещь бытие. Добро
раздвоилось, добродетель отвернулась от добра-богатства.
В какой дописьменной истории это произошло? Известного
нам человека мы видим уже внутри сложной системы вещей
их разведчиком и покорителем. Он верит в их исходную
реальность. Выход из лабиринта показывают философия,
поэзия и религия, но они для нового человека только символы.
С беззастенчивостью, не принятой у наших авторов, мы
намекнули на размах их мысли. Сами они, наоборот, будут с
юмором, тоже унаследованным от Жана Бофре, извиняться за
«философичные фразы» и профессиональные приемы.
В этой книжке мы видим на примере, как французы
всерьез учат своих и сами себя, без глобальных схем, без громких
манифестов, без эпатирования простого человека, без
соревнования с немцами и американцами. В медленном приучении^
apprentissage, мастер передает молодежи то, в чем сам надежно
уверен. И прежде всего это навык терпеливой основательной
работы, начинающейся с толкового словаря и классического
текста. Мы заметим, как француз ценит свой язык, уникальный
инструмент, отточенный веками литературной работы, ничего
общего, кроме орфографии, не имеющий с усредненным
интернациональным языком ООН и ЮНЕСКО. В глубине
французской культуры все держится на вкусе и чувстве меры. Они
диктуют строгую норму, служа законом, не нуждающимся в
формулировке. Мне вспоминается, как однажды в нарофоминском
кафе, доведенный до светлого отчаяния отсутствием у нас мест,
таких привычных во Франции, где могут спокойно накормить,
я попросил хозяйку в упор: дайте чего-нибудь вкусного. Тайная
честность нашего торгового сословия, ему явно невыгодная,
давно вызывает во мне удивление и уважение. Дама за стойкой
дипломатично ответила, что я должен выбрать что-то из меню
сам: «на вкус, на цвет товарищей нет». Она и я, мы все
понимаем, что хорошее хорошо для всех всегда, как чистая вода и све-
140
ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
жий воздух. Определения, уточнения начнутся там, где нет ни
вкуса, ни вкусного. Традиция греческой и римской античности
не велит задумываться над дефиницией нормы. Metron ariston.
Формулировки «общезначимых моральных принципов» хочет
тот, кто разучился иметь с такими вещами дело. Римское право
честно работало тысячи лет и работает, обходясь без
определения права, договора, недобросовестности, преступления.
Аристотель часто пользуется выражением orthos logos, о
котором теперешние исследователи спорят и гадают, отыскивая
его дефиницию, которую мыслитель, наверное, сообщал на ухо
ученикам, и ломая голову в догадках об эзотерических
ментальных процедурах, которые скрывает здесь текст. Что речь идет о
вещи простой и прямой как отвес, нашему утонченному веку
понять нелегко.
Запад кричит о своем кризисе, но продолжает тысячелетнюю
и в сущности не перерубленную с кельтских времен и
доистории традицию. Веками, стоит только заглянуть в глубину с
туристической поверхности, длится размеренное бытие.
Основательность начинается со школы. Та конечно тоже шатается,
как и все сейчас в мире перед катастрофой, но пока, как мы
видим, устаивает. Рим, противопоставивший начало законности
скольжению, записанному в новейшей истории человечества
последних пяти или шести тысяч лет, продолжается в западной
дисциплине. В школе права, сбереженной Римом, хранятся
навыки доримских десятитысячелетий.
Заставший еще остатки нашей старой школы, знающий
новую, я встретил словно давно забытое, когда оказался
случайно в день экзаменов на втором этаже Лицея Пастера в
Париже. Казалось, в здании не было ни одного человека. Полную
тишину нарушал только я, одиноко бредущий по коридорам.
Некоторые классы были открыты, они были полны детьми,
склонившимися над своими заданиями отдельно от сумок и
вещей, которые были сложены поодаль, как оружие пленников.
Что тихо сидеть и работать нужноу ни у кого очевидно не было
сомнений. Вызов, протест на Западе взрывается, возможно,
ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
141
жесточе чем у нас, но он же и отчетливее направлен не
против собственно школы, хотя может быть и против многих
академических институтов. В сорбоннском рукописном
студенческом журнале Degueuloir, название которого я понял
сначала исходя из его содержания, не по-нашему жесткого, в
смысле перерезания глоток, одобрялось высыпание мусора на
голову Поля Рикёра, но не за его суровость к студентам, а за
то, что ради благополучия образа Эдмунда Гуссерля профессор
изъял из его текста рискованное замечание о перспективах
африканской культуры.
Короткие философские упражнения, предлагаемые здесь
нашему догадливому и критичному читателю, не нуждаются
в пояснениях. Если их ненавязчивое приглашение смотреть
на мир и думать не будет услышано, всякая расшифровка
их, отнесение к направлению, интеллектуальному течению
будет лишней тратой времени. В размеренном и неспешном
слове современных парижских авторов, маленький образчик
прозы которых мы тут даем, поднимает голову французская
философия, какой она могла стать после Декарта, Лейбница,
Огюста Конта и не стала, заглушённая публицистикой, прежде
всего вольтеровской. Большей частью блестящей. Мы ничего
не имеем против Вольтера. Мы его любим, без него — и без
пушкинского, без леонтьевского Вольтера — нам скучно. Но
нам грустно оттого, что становясь по потребностям рынка от
века к веку все громче, публицистика встала уже не в загадочно-
насмешливую, а в агрессивную позу перед вытесняемой ею
философией. Вольтеровское ироническое пренебрежение еще
оставляло ей место под солнцем поодаль от вихря вещей, но
публицистика Сартра, Фуко, Деррида, Бодрийяра и других,
серьезным тоном провозглашая преодоление метафизики,
намеренно предлагает вместо нее себя. Читатели публицистики,
их много и они не философы, имеют уже гораздо меньше шансов
142
ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
уловить разницу между текстом и мыслью, чем имели в своей
молодости современные авторитеты, чьими учителями были
все-таки Гуссерль, Гегель, Хайдеггер. И тем более эту учебную,
при том что проблемную и исследовательскую, книжку встретят
с недоумением те, кому мало остроты яростного Фуко, мало
безжалостной горячки Делеза, мало почти уже неостановимого
вращения Деррида вокруг собственной оси, пусть они еще с
восторженной завистью слушают в шестичасовых новостях
культуры, что вышла новая книга Деррида, а сам он с лекциями
в Японии, чтобы узнать из семичасовых, что он тем временем
выпустил очередной труд, читая уже не в Японии, а в Чикаго.
Нас подгоняют новостями о немыслимых достижениях,
перевертывающих весь философский ландшафт. Мы,
сообщают нам, счастливые современники «первого философа
в истории, создавшего при жизни гигантское многоголовое и
многоголосое миметически-автобиографическое тело». Под
солнцем взошедшего светила мы «не имеем права пародировать
великого философа, вообще искать и находить ошибки». Кто
дозволяет, гневно спрашивают нас, задеть гиганта, «ветер,
вырвавший все деревья и кусты», создавший сверхчеловеческое
творение, «последнюю философию, которую уже невозможно
деконструировать». Мы, грозят нам, никогда не сможем узнать,
кто по-настоящему пишет его строки.
Один из способов уйти и увести от мысли заключается в том,
чтобы нагнетать, как делает например Бодрийяр, видения конца
и распада. Эти видения не неправда, но тогда тем более нужна
крупица покоя и поступок не обличения, а умелого добра.
Можно, конечно, в порядке интеллектуального упражнения
«помыслить природу как технику», но не ясно видна польза от
сближения природы и техники рядом с решающей важностью
их различия, которое заключается в том, что природа
спонтанный автомат, а всему человеческому мастерству, как
говорил Филон Александрийский, создать автомат не дано.
Вожди интеллектуальной общественности в унисон с ее
метрами открывают, что «наша единственная возможность
ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
ИЗ
быть — мерцание». «Я прыгает и мерцает как мышь в такт
мерцанию мира», уверяют они. Какими медлительными
должны показаться в свете такого мерцания лежащие перед
нами тексты.
Что интеллектуалы, перегоняющие время, заняты не нашим
делом, становится ясно, когда понимаешь, насколько их
главная забота — текст. Они больше всего заняты приемами
его построения, приданием ему рыночной ценности и формы
объекта финансирования. «Воля к художественной власти
над текстом» у них естественным для рынка образом «глубже
и первичнее любой научной логики». Рыночная ценность в
конечном счете отождествляется с абсолютной.
Слово вообще кажется более удобным и доступным
средством получения желаемого чем деньги. Правда, инфляция
слова происходит быстрее чем денег. Зато подделка здесь почти
не карается законом в отличие от подделки денег. Новейшие
попытки российских законодателей запретить в официальном
употреблении некоторые слова — слабый жест спящего,
задавленного кошмаром фальшивой словесной монеты. Мы
сейчас редко имеем дело с чем-то другим чем ворохи слов,
обычно ничем не обеспеченных. Ценное слово теряется в
этой массе. Котируются в основном авторы и книги, которые
условлено считать ценностью. Мерой оценки слова становится
все больше и почти исключительно рыночная стоимость.
Пишущие, чтобы их прочли, создают товар, ожидаемый на
рынке. Некоторые, правда, задумываются о стратегии, которая
склонила бы рынок принять умственную продукцию. Но пока
ситуация по сути аналогична той, когда книгу оценивают на
вес, а силу слова измеряют его распространением. Некоторые
уже пожилые писатели решают, что пора создавать самим
себе рекламу; так престарелая красотка решила бы наконец
предложить себя. Другие делают принципом, прежде чем
браться за работу, спрашивать теперь о гонораре, тем самым
заранее соглашаясь, что им все равно что писать и писать ли
вообще. Даже школа приспосабливается к «капитализму».
144
ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
Преподаватели хотят уметь продавать свои «услуги», отвыкая
от бескорыстной филантропии. Студенты перестают доверять
тому, что получили даром.
Создатели текстов внушают стране, доходящей в новом
нам рыночном хозяйстве, как всегда, до крайности, что Запад,
откуда идет свободный рынок, живет в лихорадочном ритме
и в спешке, достаточно бестолковой, чтобы финансовые и
интеллектуальные состояния создавались за неделю. Чтобы
успеть уловить рушащийся книжный рынок, рекламируют
и кое-как переводят много скандального. Нервное, рваное
заставит оглянуться, а потом может быть купить. Впечатление
о Западе создается поэтому большей частью из кричащих книг
и фильмов, какие дешевле на кинорынке. В складывающемся
образе взбудораженного Запада мало подобного реальному
положению вещей. Спешка свойство скорее нашего
европейского Востока.
Модернизированный мыслитель близок к жизни и
экономической реальности, открыт широте рыночных
тем и не отстает от эпохи. Лучше продается философия,
которая обсуждает холодильник, микроволновую печь,
детскую порнографию, феминизм, аборты, интенсивную
терапию. Соберет больший зал философ, который в пример
семантических смещений приведет историю английского слова
gay. Он сообщит нам, что «философский текст эротичен». Эта
информация нас непременно заденет. Даже если мы в согласии с
Платоном никогда не думали, что философское слово бесплодно,
наша отсталость скажется в неумении шагнуть от эроса к
эротике. Нас пригласят «освободить пространство текста от
оккупирующего его сознания». Этот совет поставит любого в
тупик не меньше чем вопрос, потерял ли он рога. Мысль ведь
и началась когда человек не захотел быть оккупантом. Нас
захотят, наконец, научить «длительному майэвтическому (так)
кружению», чего не умел старый Сократ.
Именуя без должного обдумывания философские вещи,
создатель текстов естественно блуждает в тумане. От
ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
145
неопределенности он спасается, как правило, созданием личной
системы координат. Философия на европейском Востоке мало
умеет говорить об общем деле, вязнет при попытке этого в
политической и правовой недооформленности и естественно
соскальзывает в лексические упражнения. Занятия ими однако
имеют смысл только в традиции, где философия давно связана
с правом и политикой. У Франсуа Федье, например, прояснение
терминов занимает пожалуй главное место, причем связь с
политикой не прерывается. Восточноевропейской философии
трудно подняться на ноги еще из-за того, что рядом с ней
громко говорит о главном литература, поэзия. Она на переднем
крае выдерживает окопную жизнь. Уже в ближайших тылах, в
филологии, тем более у философствующих публицистов речь
становится уклончивой, иносказательной,намекающей. Намеки
неизбежно с ростом интеллектуального уровня утончаются. О
чем они, помнит по существу в конце концов один их автор.
Русские поэты и писатели котируются на западном рынке
без скидок на политику и этнографию. Тем больше мечтают о
том же наши мыслители. К сожалению, они начинают с конца
и пытаются вычислить или измыслить текст с рыночными
параметрами. Где читатель давно не верит, что обсуждение
дел что-то даст — пока одни обсуждают, другие делают, и во
всяком случае получится не так, как хотели, — там больше
надежды на мистику. Понимая, что правильной грамматики и
лексики для рыночного успеха мало, философские публицисты
начинают подозревать «дьявольскую сделку между величием
произведения и безумием его создателя». В этом ключе
пытаются, не забывая о практических целях, расшифровать
великих.
Ввиду повторяемости и типичности предлагаемых методик
создания текста упомянем лишь немногие их них с цитатной
точностью без ссылок на источники. Рецепты взяты у
теоретиков последних лет. Терминология их остается частью
непонятна. Они изучают «механику авторского письма»,
выявляют «дефисную стратегию автора». Прослеживают, каким
146
ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
образом «топологический оператор обеспечивает» у него
«циркуляцию фонации». Убеждают, что в целях понимания
философа надо «освоить артикуляцию пространства,
радикально преобразовав собственное тело утомительной и
долгой практикой произнесения». Отыскивают «прототелесное
биопсихическое эго». В нем выделяют много деталей с риском
дальнейшего размножения их. А ведь, казалось бы, выдающийся
автор обычно сосредоточен на одном, и раздроблением его
личности фиксируют как раз то, чего он прежде всего хотел
избежать.
Аналитики текста создают в свою очередь тоже текст. Они
учат, что главное при этом «найти язык, который учел бы
изначальную непредопределенность взаимодействия перцептивно-
телесного поля» и «учел бы вихри, которые не дают этому полю
быть устойчивым». Методология интерпретаторов вполне
отчуждала бы своей недостижимостью, если бы неожиданно
среди темных мест не появлялись успокаивающие проблески
знакомых схем, как например наблюдение, что «близостью
дублируется даль, а далью дублируется близость» и что «воля к
равновесию ищет неравновесного», чтобы «утвердить в нем себя».
Правда, такой диалектике свойственно в равной мере у Маркса
и у современных взвинчиваться до тупика. Можно только
надеяться, что люди имеют в виду что-то глубокое, когда развивают
«усилие думать о мысли с помощью немысли» и «читать как бы
не читая». Новейший интеллектуализм достигает здесь, как нам
сообщают, «мощи вихревого форсированного движения».
Во всем этом, как мы уже заметили, «изначальным
интерпретационным событием выступает построение речевого
произведения», т. е. опять же текст. Если произведением автора
признается только его речь, то, что оставлено им не сказанным,
принадлежит конечно толкователю. Не говорится хорошим
автором иногда или чаще всего то, что автор признает очевидным.
Определить то, что должно быть понятно само по себе, значило
бы предать. В спасении того, что нельзя выдать, большая часть
работы великих. Они сберегают вещи культуры, узнанные ими
ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
47
как главные. Аналитики текстов по определению остаются вне
этого молчаливого дела. Их труд служит другой поставленной
ими цели. Их установке на текст, его читаемость, рыночную
ценность отвечает открытие и предложение новых возможностей.
Массовый потребитель настроен на их расширение. Желанные
новости ожидаются от перебора интеллектуальной традиции.
Главной потребляемой новостью в этом плане оказывается
психология. Открытие ее глубины устраивает потребителей,
поскольку дает им иллюзию роста, даже — или особенно —
если аналитики показывают странность, чужесть, дикость
человеческой природы. О характере производимой работы
говорит стиль и терминология анализа, следовать за шагами
которого можно опять же лишь отчасти. Нам указывают
на то, что «абсолютная детерриториализация» человека
«изымает голову из страта организма, человеческого
или животного». Человеческое лицо расшифровывается
как «серия микродвижений, накладывающихся на
фиксированную нервную пластину». Оно таким образом
расслаивается, открывая перспективу многофункционального
комбинирования, ограничения и расширения по потребности.
«Лицо есть органонесущая нервная пластина, пожертвовавшая
существенной долей своей общей подвижности, которая
вольготно принимает или выражает всякого рода локальные
микродвижения». Лицо в таком понимании изготавливается
«специфической машиной лицевости, которая образует свою
рабочую часть с помощью белой стены и черной дыры. Это
лицо всех возможных лиц.»
То, что предлагается таким образом как последнее слово
западной мысли, мы видим, посвящено главным образом
развертыванию лексики разного рода, сопоставимому с
размножением товаров и упаковок на современном рынке. В методологии
основной массы публицистов, представляющих сейчас мысль
Запада на Востоке и наоборот, самой заметной предлагаемой
потребителю чертой выступает разнообразие развертываемых
возможностей. Одинаково легко применяются разнообразные
148
ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
техники. При естественной нехватке времени для углубления
в культурную традицию читателю предлагают веер ее вольных
интерпретаций как очередную ценность. Говоря на языке,
иностранном для анализируемого автора, интерпретант пользуется
правом переводчика на вольности. Пример: в мире
Достоевского, информируют нас, «гаптический слой чувственности
переведен в план становления и игры психомиметических сил».
Насколько можно понять эту формулу, она приложима ко всем
крупным авторам. Ее конкретный смысл соответственно
уступает ее значению упражнения в вольном подходе к источнику.
К навыку свободного обращения с классиками сводится
главное, за что платит читатель.
Тут особенно ясно видно, какой вред приносит
исключительная установка на возможности. Подстегивая себя, повышая
свою рыночную ценность, писатель естественным образом
приходит к тому, чтобы позволить себе всё. У Достоевского он
прочитывает: «Бытие только тогда и есть, когда ему грозит не
бытие. Бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит
небытие.»4 Прихотливое прочтение этой записи в том смысле,
что «Достоевский был захвачен страстью к бытию как
небытию», оставляет само по себе только чувство растерянности.
Что «надо проникнуться ощущением бездны», как наставляет
тот же комментатор Достоевского, вообще говоря верно, но не
очень честно, когда вместо настоящей бездны продается
собственная пустота.
В оправдание интеллектуальных практик, берущих
направление наугад, задается риторический вопрос: «какой
автор может авторизовать право на авторизацию?» Даже не
улавливая смысла такого вопроса, мы понимаем, что ответ
на него может быть только отрицательный. Авторитетов для
рыночной мысли нет, их введение противоречило бы свободе
спроса и предложения. Только так ли на самом деле свободен
4- Неизданный Достоевский. Записные книжки и тетради i860—1881. М.
1971» с. 6i8.
ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА 149
рыночный стиль от авторитарности? Всмотримся внимательнее.
Писатель будущей эпохи, говорят нам, не знает, для чего он
пишет и что хочет сказать своими книгами. Он такой автор,
который как бы не автор, и пишет так, как бы не писал. Он
хочет обеспечить своим произведениям уникальность тем, что
не прилагает к ним сколько-нибудь общезначимых критериев.
Его тексты тождественны только его неповторимой личности.
После этого прикоснуться к ним, предостерегают нас, так же
преступно и бесчеловечно, судть о них так же чудовищно,
как татуировать его живое тело. Уже просто взглянув на него
отрешенным взглядом, мы выдаем свою фаллогоцентрическую
установку. Кроме того, смысл сиюминутен, и потому всякое
говорение о нем не здесь и сейчас, не в «настоящности»
его рождения промахивается как камень мимо летящей
птицы. Иначе говоря, неэтично не только приглядываться к
«эпидермическому письму», в котором трепещет «телесный
жест, конвульсия, танец, безумие», но и смысл такого письма в
любом случае останется недоступным как живая жизнь. С ним
можно только слиться, отдавшись ему, а всякое отстранение
от него, сдвинув и исказив его смыслы, оставит нас вне
центрального события эпохи. «Текстовое тело» современного
выдающегося, высоко оцененного на интеллектуальном рынке
писателя — и, «это одно и то же», читателя — «динамично,
энергетично, экономично, политично, эротично, эстетично».
Оно «одновременно есть и не есть». Осознавать его объем и
глубину «придется еще многие десятилетия умам, желающим
быть мыслящими». Для современников остается впитывать ei <>
как лекарство или семя, которое преобразит читателя, особе mm
если приведетего в движение, все равно,экстатически-согл.и
тмили сопротивляющееся. Новое писательство, «возвращающее
философию к ее началу, мифопоэтике», обнаруживаем мким
образом черты не только рынка, но и стоящей за мим же» imim
власти.
«Слияние с новым телом, протописьмом», оОещаич мдм,
откроет неограниченные возможности. Hao<>«>|>nt. me,
150
ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
что не сделается телом, застрянет в области метафизики.
Идеалистическое воздержание от телесности выдает
скрываемый интерес к женщине. Оставшись с идеалами, мы
разоблачим в себе прозрачный объект анализа. Так в Ницше за
внешней мисогинией было выявлено подавленное влечение.
Феноменальные операции, производимые преодолевающими
метафизику публицистами, необъятны и по своему размаху,
и по своей неуловимости. Надо набраться мужества, чтобы
сметь спросить, как относятся эти эксперименты взвинченного
воображения к грозным вопросам, о которых Федье говорит
(с, 111), что перед их лицом самое важное это не удариться
в бегство. У новых фигурантов интеллектуальной сцены
необыкновенно много жестов при принципиальном неверии
в устойчивые вещи. Всё, говорят нам, есть воображение,
Einbildung, встраивание, внедрение картин. Если так, то
важнейшим делом мысли будет воображаемое как исходная
реальность. О нем зовет думать Федье. Он, скажут критики, не
приходит ни к какому результату, в чем сам и признается здесь
же на с. 89. Неважно. Главное не уйти от настоящих вопросов.
Лучше делать свое дело плохо, говорит древнеиндийская
мудрость, чем чужое хорошо.
Россия, страна простых, первичных, природных вещей,
юродствует в немыслимых интеллектуальных экспериментах.
Она травмирована столкновением — не с Западом, который
в своей настоящей сути остается Востоку мало знаком, а с
доморощенным образом Запада, который создают активные
слои, ревниво охраняющие народную свободу. Мы поэтому
рады присутствовать при том, как с Запада, из Парижа не задают
нерешаемые загадки, а показывают путь терпеливой работы
мысли. В курсе «Воображаемое» Франсуа Федье напоминает
о том, что по Канту — в России между прочим практически
ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
151
обойденному — великое пространство, которое человечество
преодолевает, и время, которое оно в своей истории догоняет,
созданы нашим творческим воображением. Загадочные время
и пространство продуцируются человеческим воображением,
так что они безусловно есть, но они не предмет, который
можно было бы научно наблюдать. Поэтому их невозможно
воспроизвести, вспомнить, подражать им. Они не предмет,
но без пространства и времени предметам было бы негде и
некогда быть. Ими впервые дана возможность всех предметов.
Встает прямая задача вернуть на свое настоящее невысокое
место воспроизводящее воображение в пользу главного,
создающего. Не очень важна комбинируемая подражательным
воображением пестрота. Она мнимое богатство; лучше
вернуться к первым образам, которые полны подступающим
отсутствием вещи самой по себе. Воображенное пространство,
воображенное время — готовые формы для бесконечных
наблюдений. Их не надо спешить заполнять. Пусть их заполнят,
только подожди, сами вещи. Нерешенная, неразрешимая
взвешенность нашего мира в воображенных нами пространстве
и времени интереснее любых манипуляций с ним.
В курсе «Власть» Федье требует понять, что власть, которую
легкомысленно представляют себе в демократии идущей от
большинства, нуждается в легитимации. В древнем Риме
ее обеспечивал авторитет Сената. Настоящий авторитет не
принуждение, не убеждение; это особая стихия, идущая не
от человека, дающая право человеку быть. Дело никогда не
в большинстве голосов. Пример большевиков должен был
бы отучить Россию от того, чтобы мерить количеством. С
другой стороны, порядок тоже не оправдание власти. Власть
большинства и торжество порядка одинаково ведут в тупик.
Позорно плестись в хвосте у большинства, но не почетнее и
соблазнять большинство порядком. Положение осложнят н
тем, что традиция уже не имеет убедительной силы. В иком
состоянии всего проще впасть в паническое принятие мер Но
этого как раз не надо делать. Настало время думать.